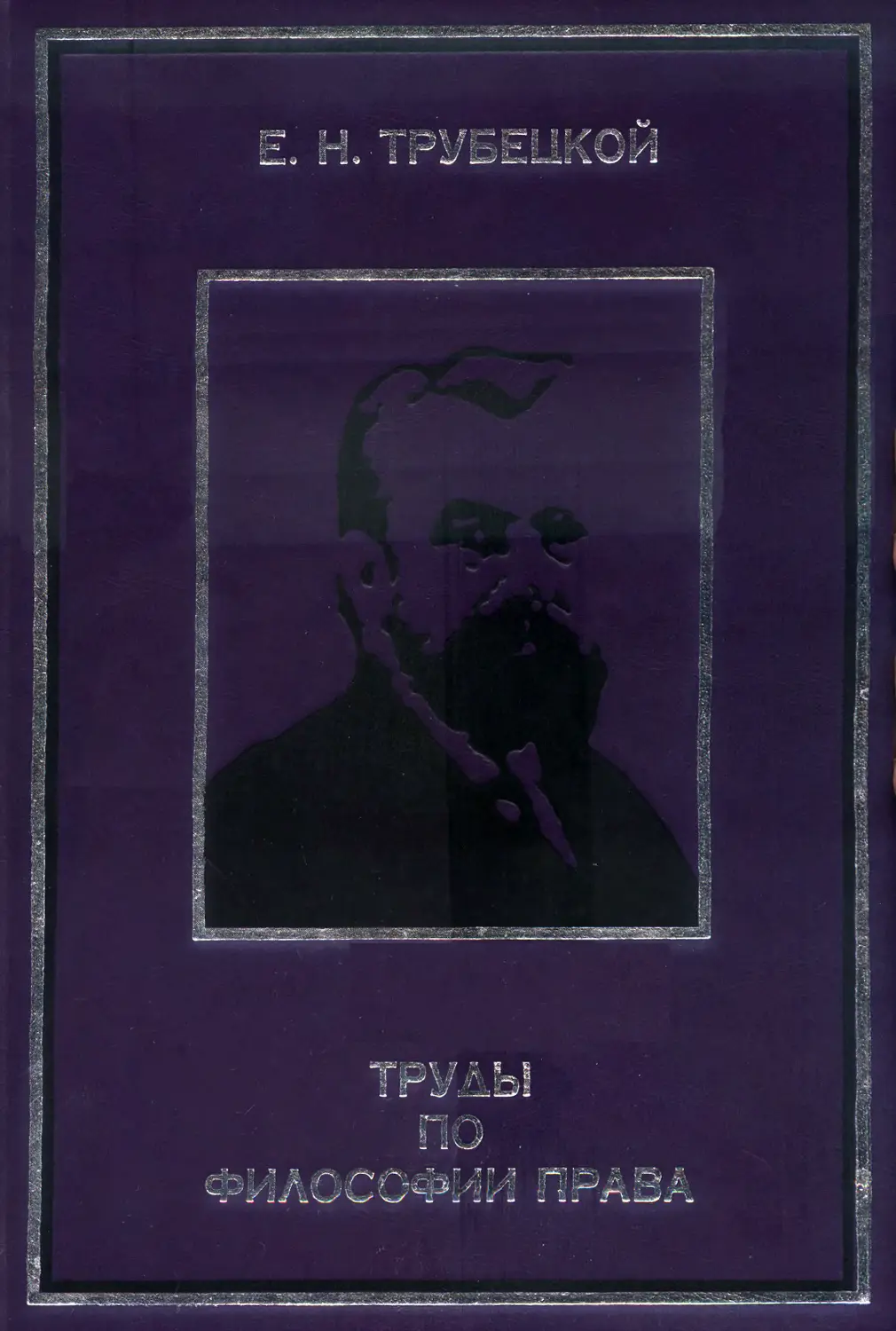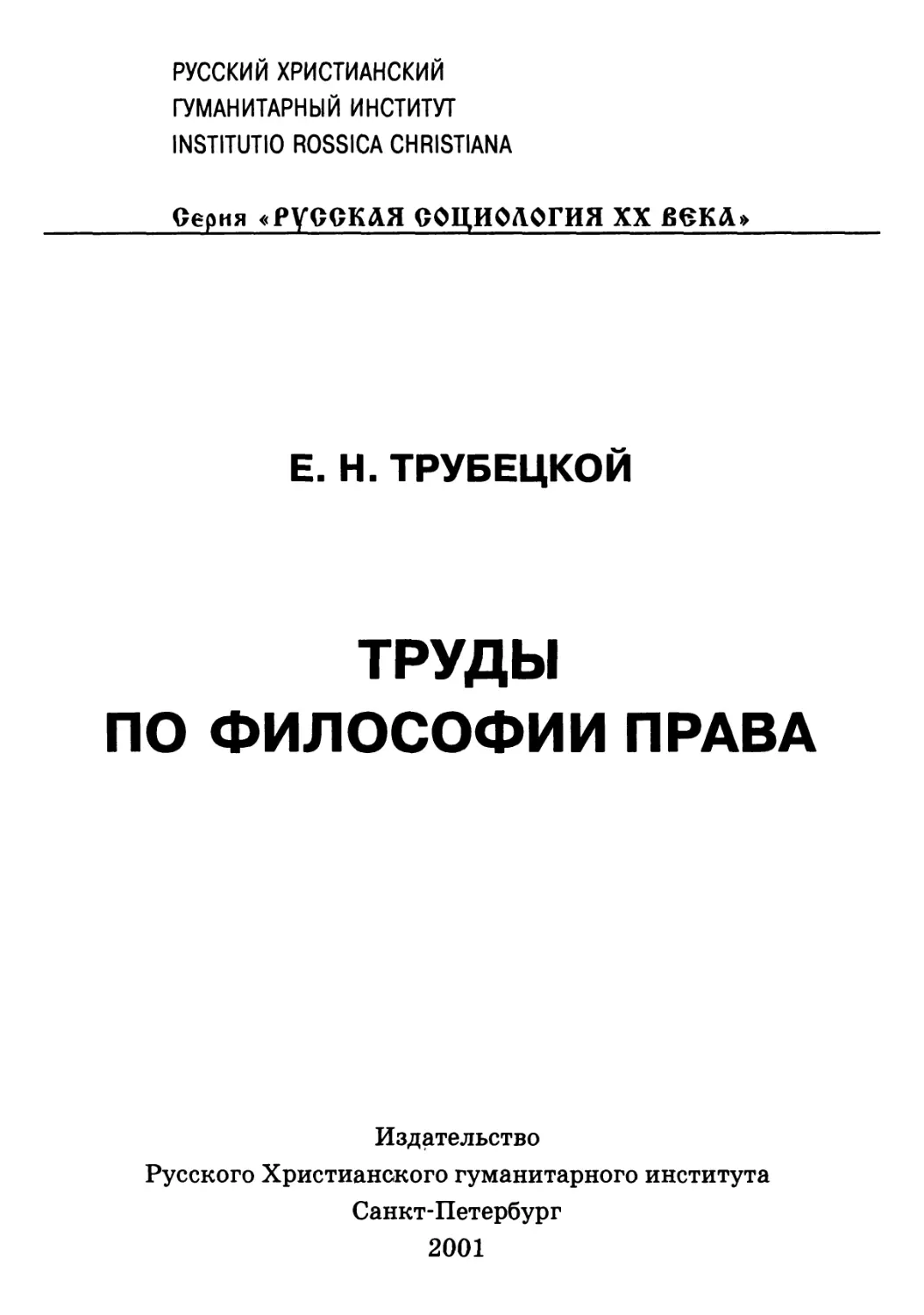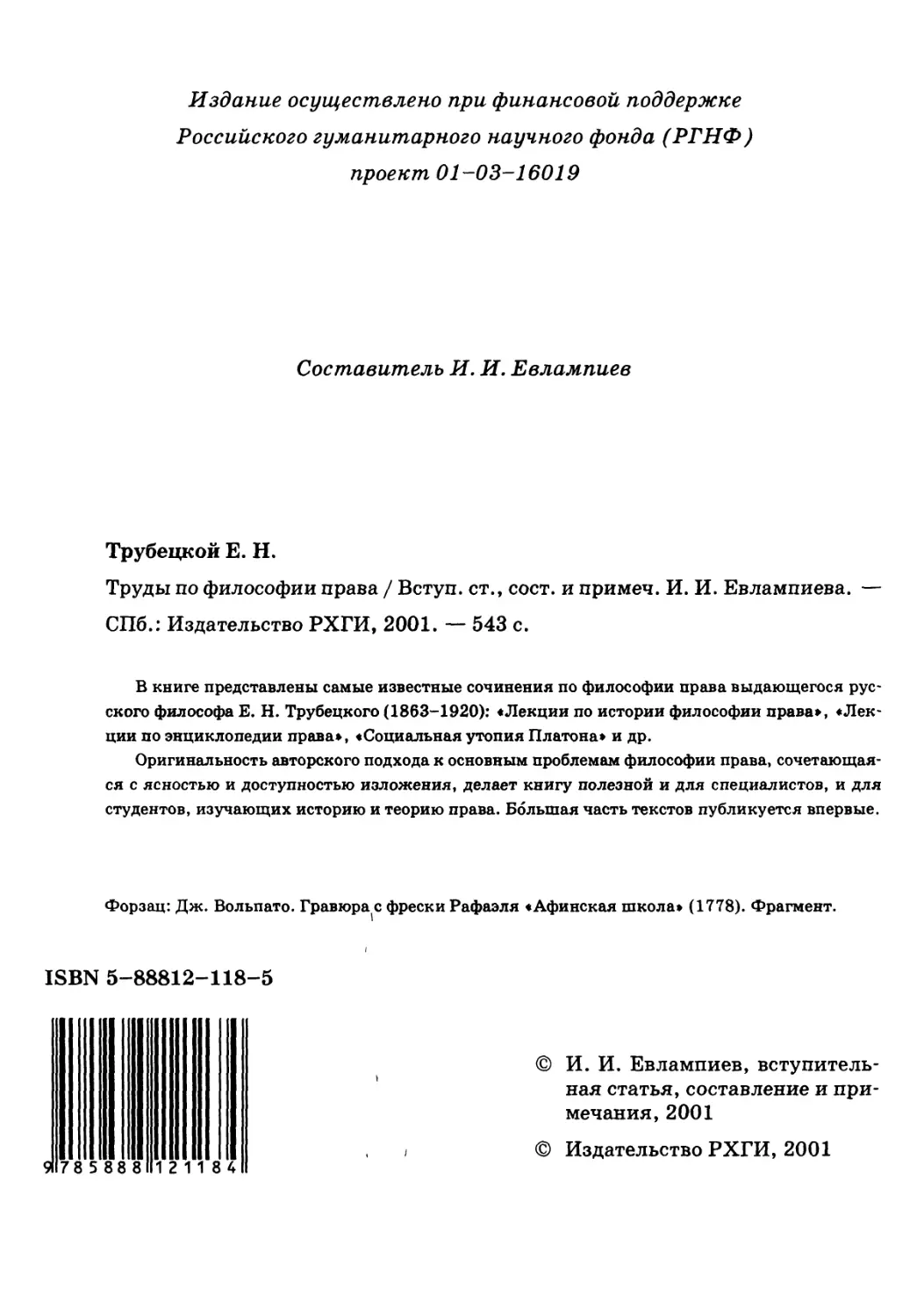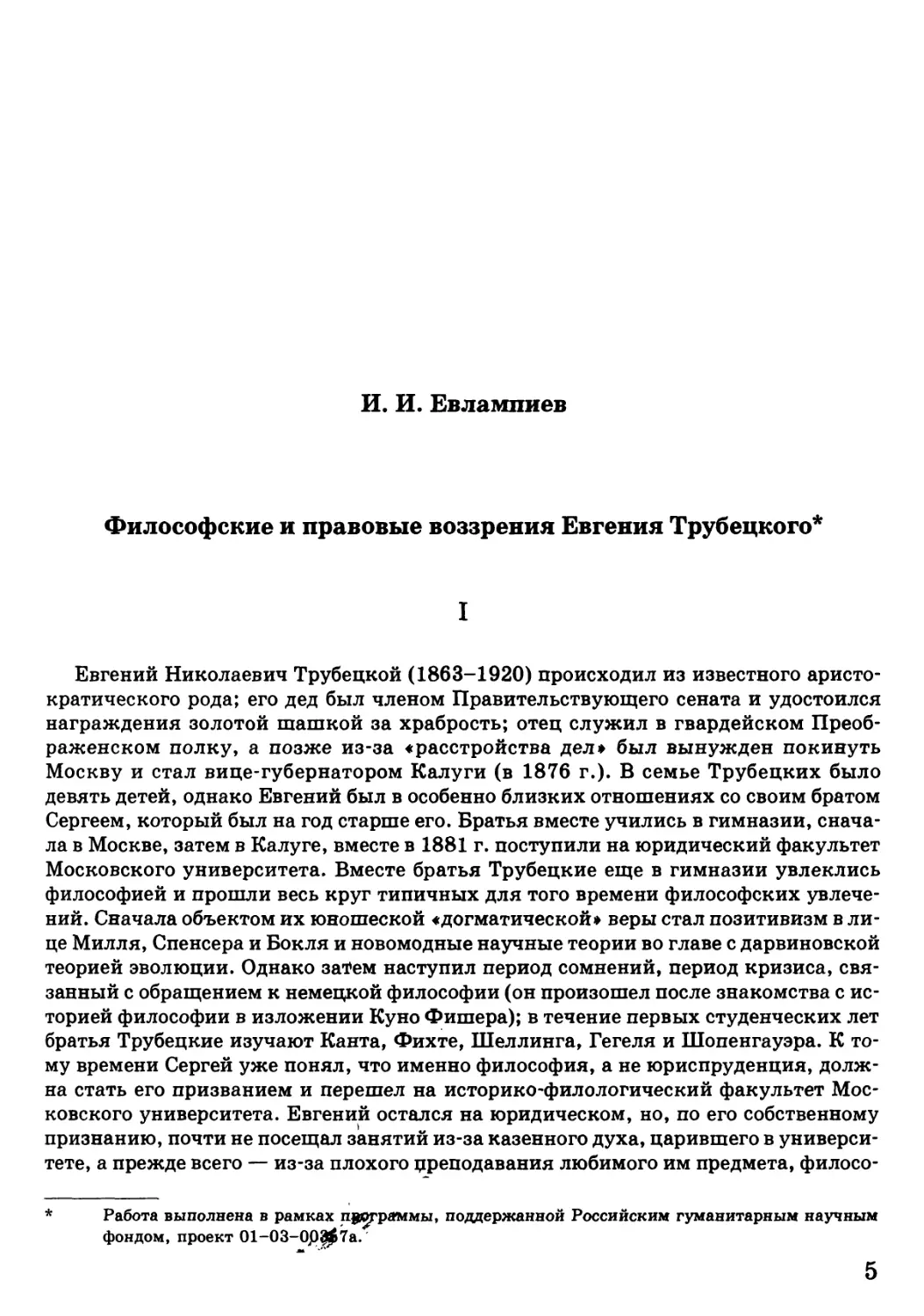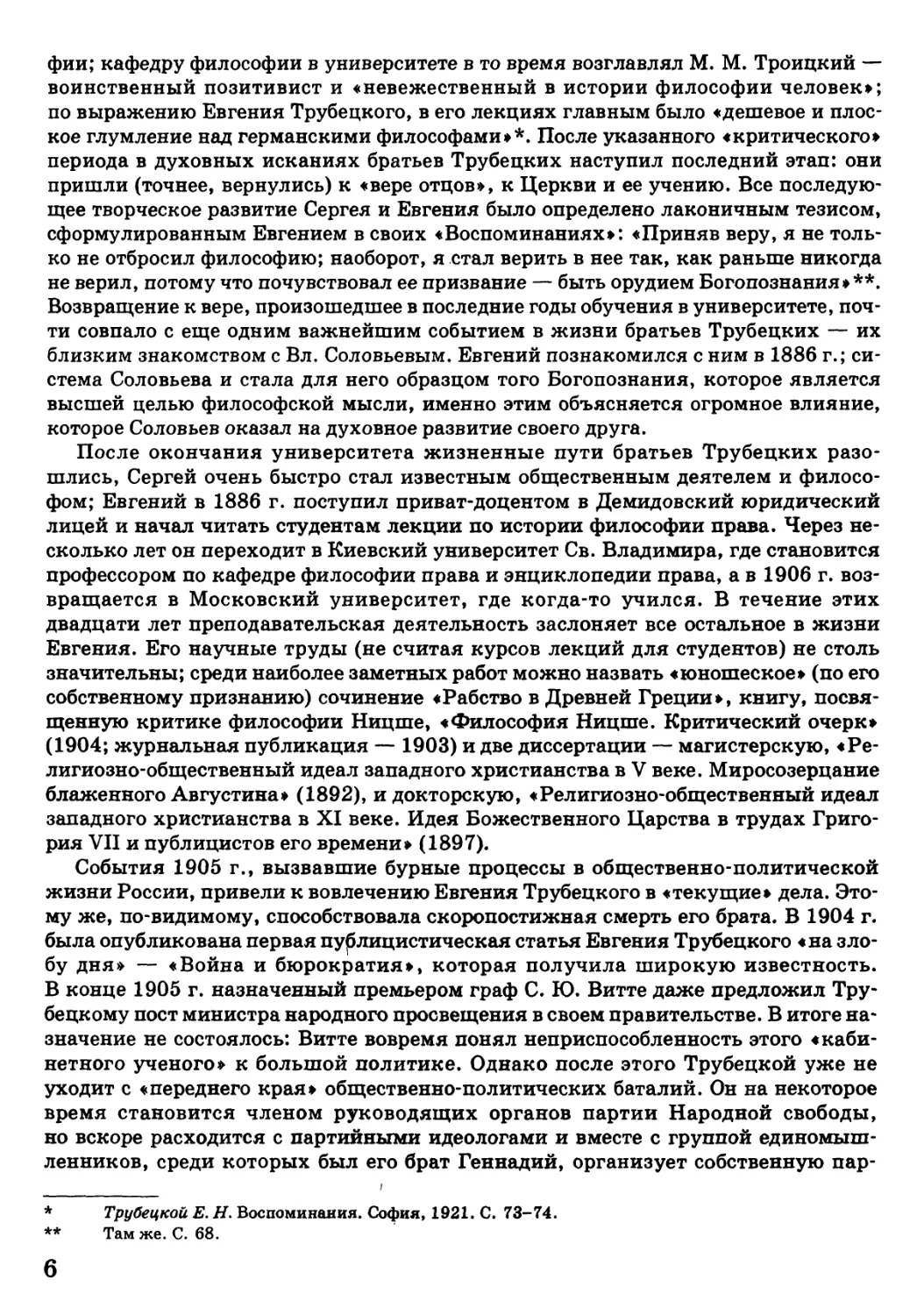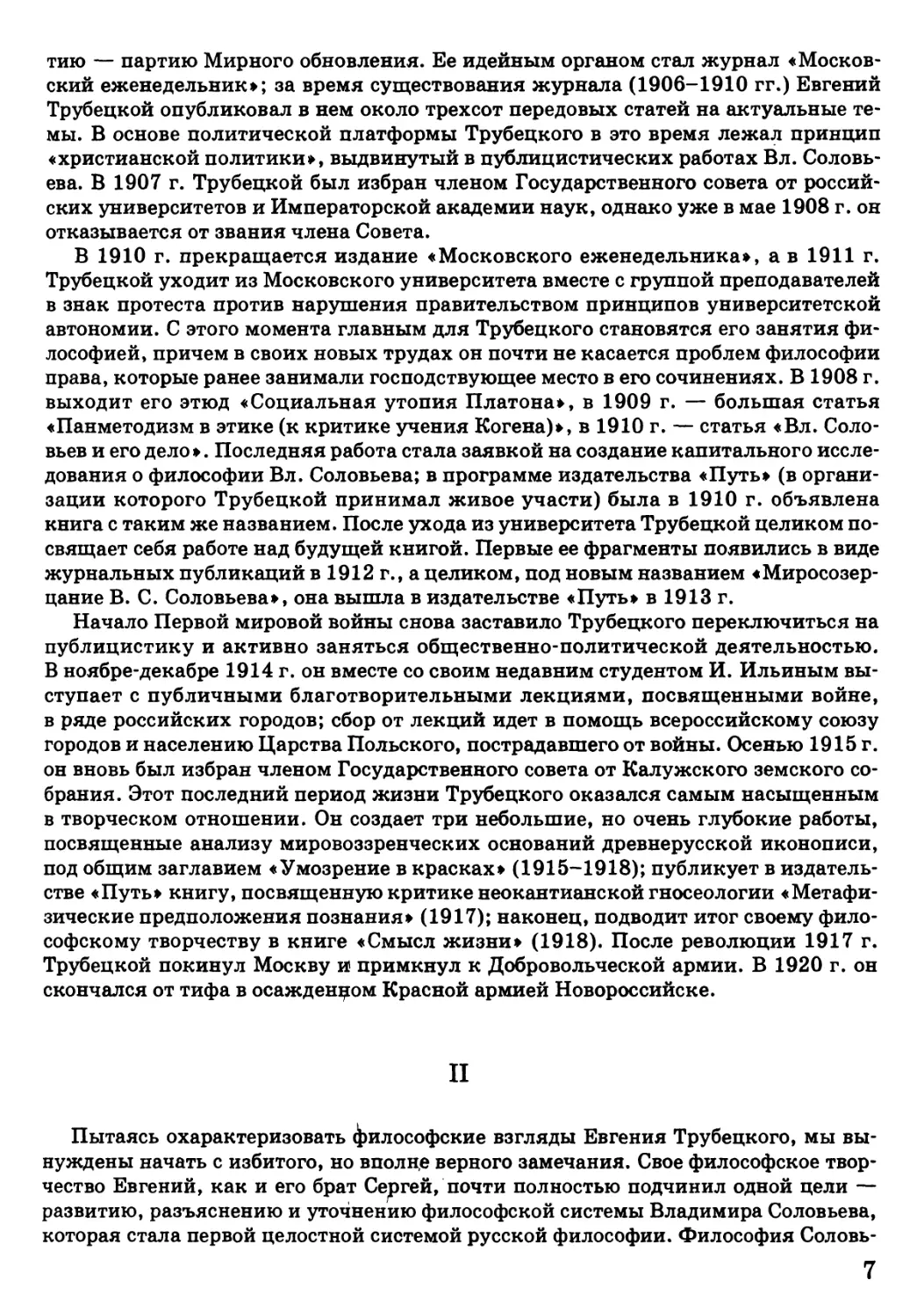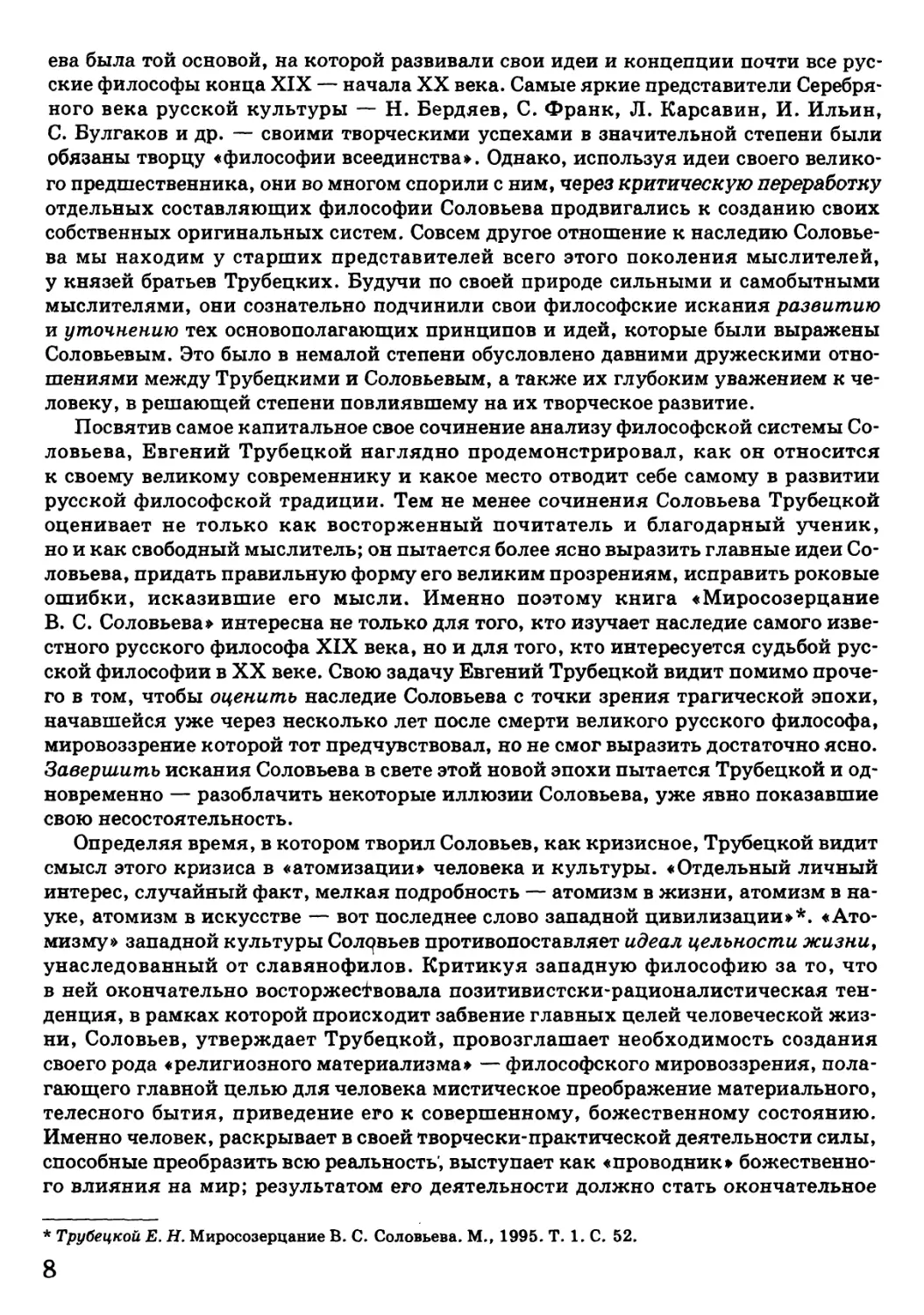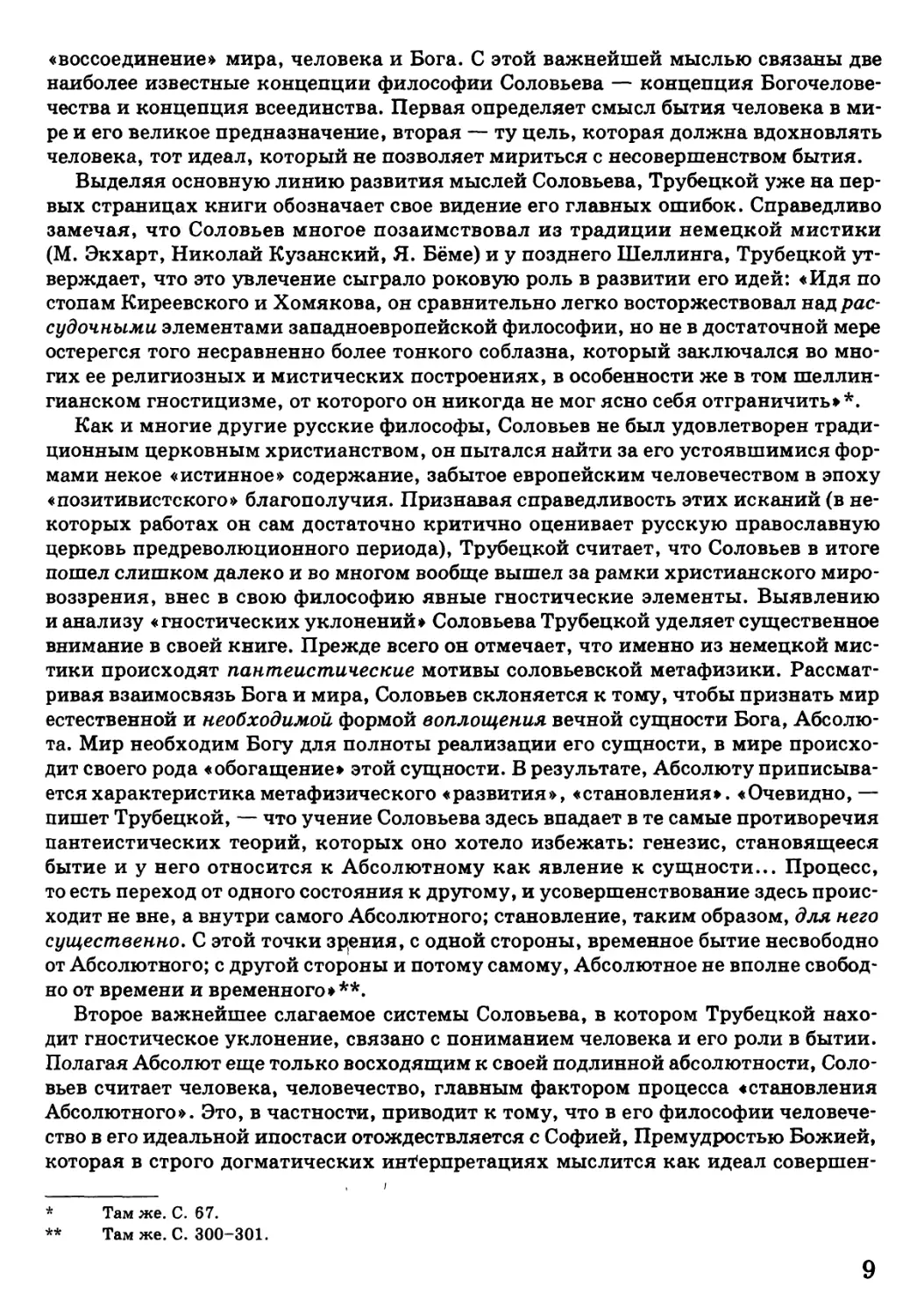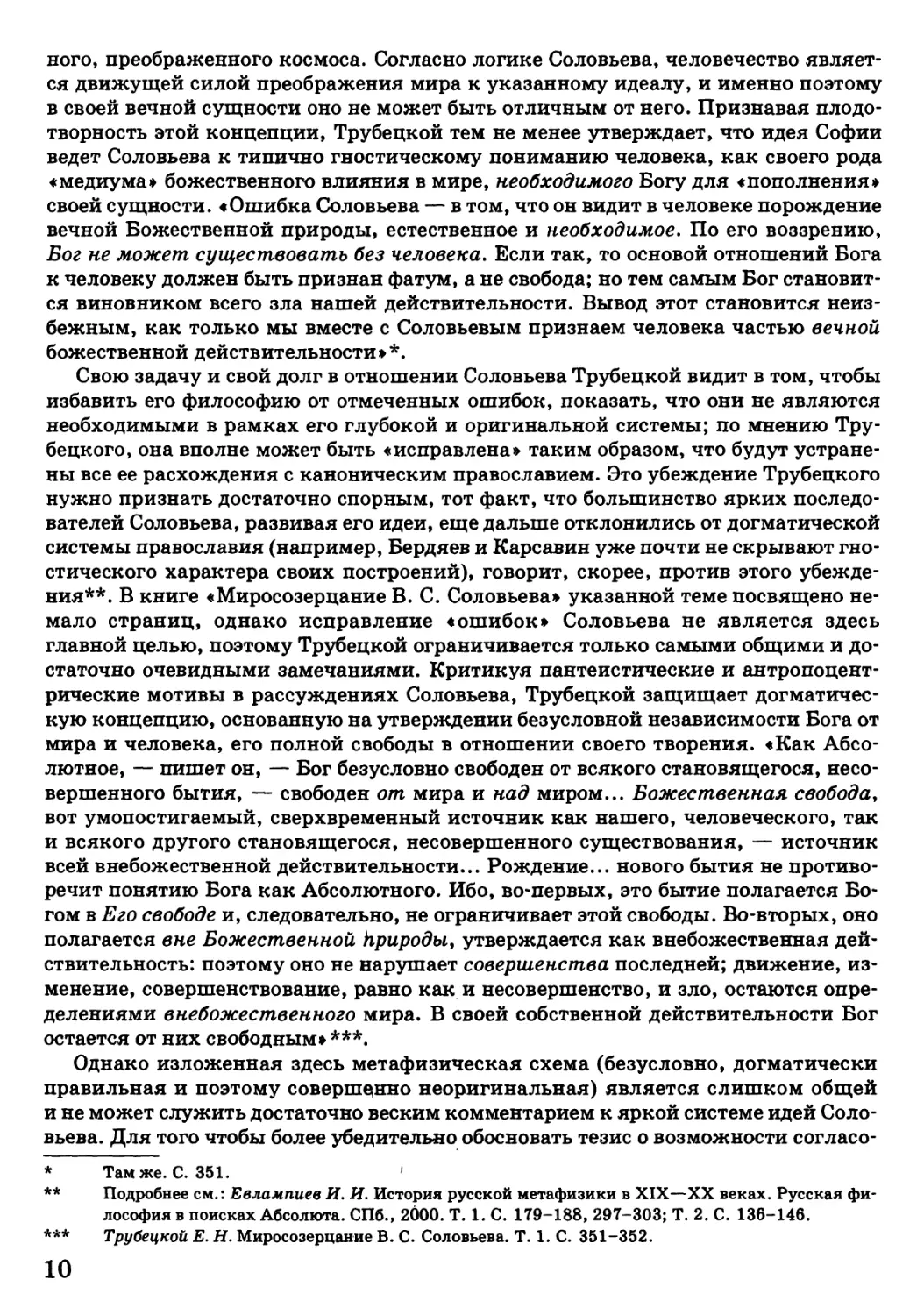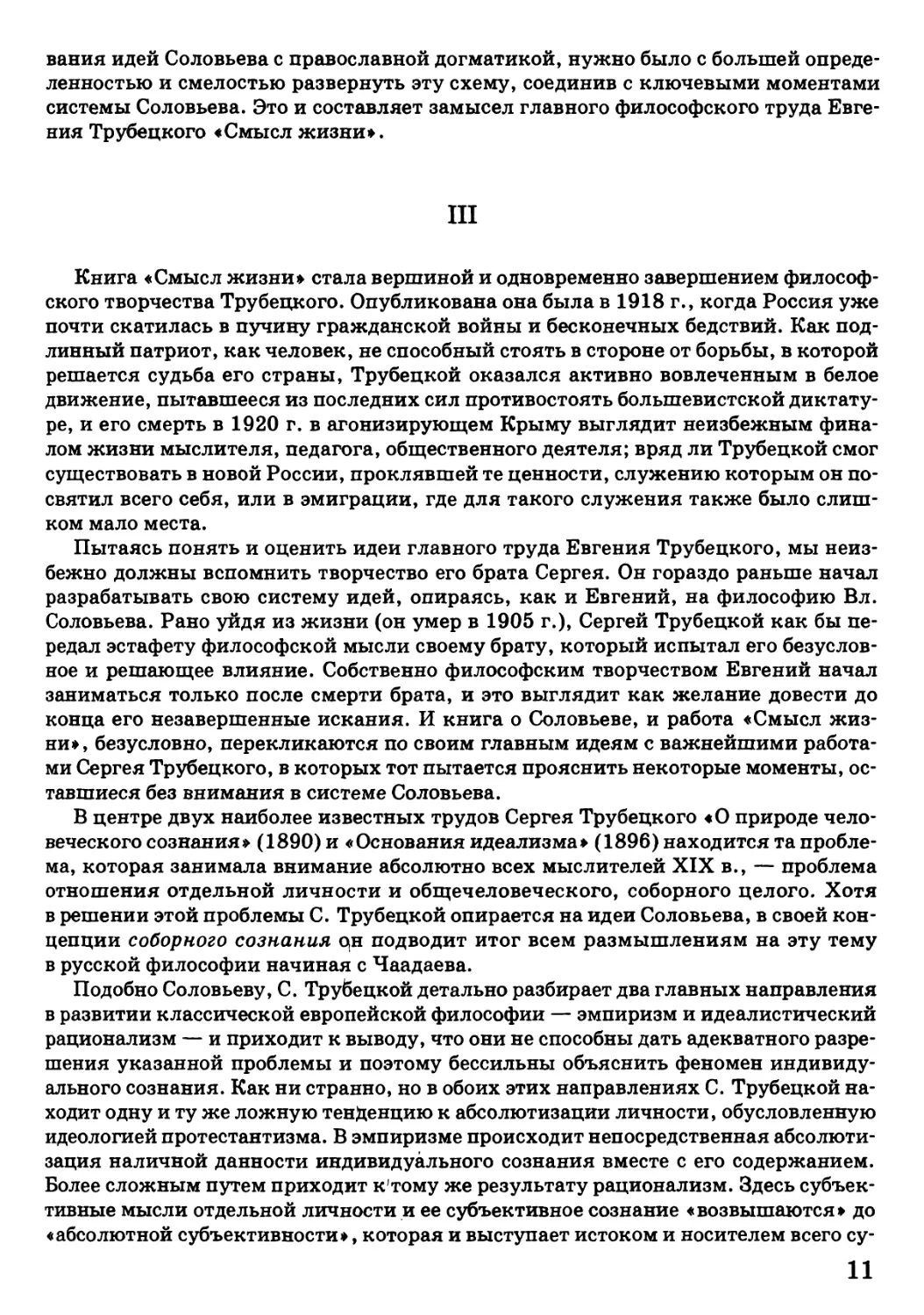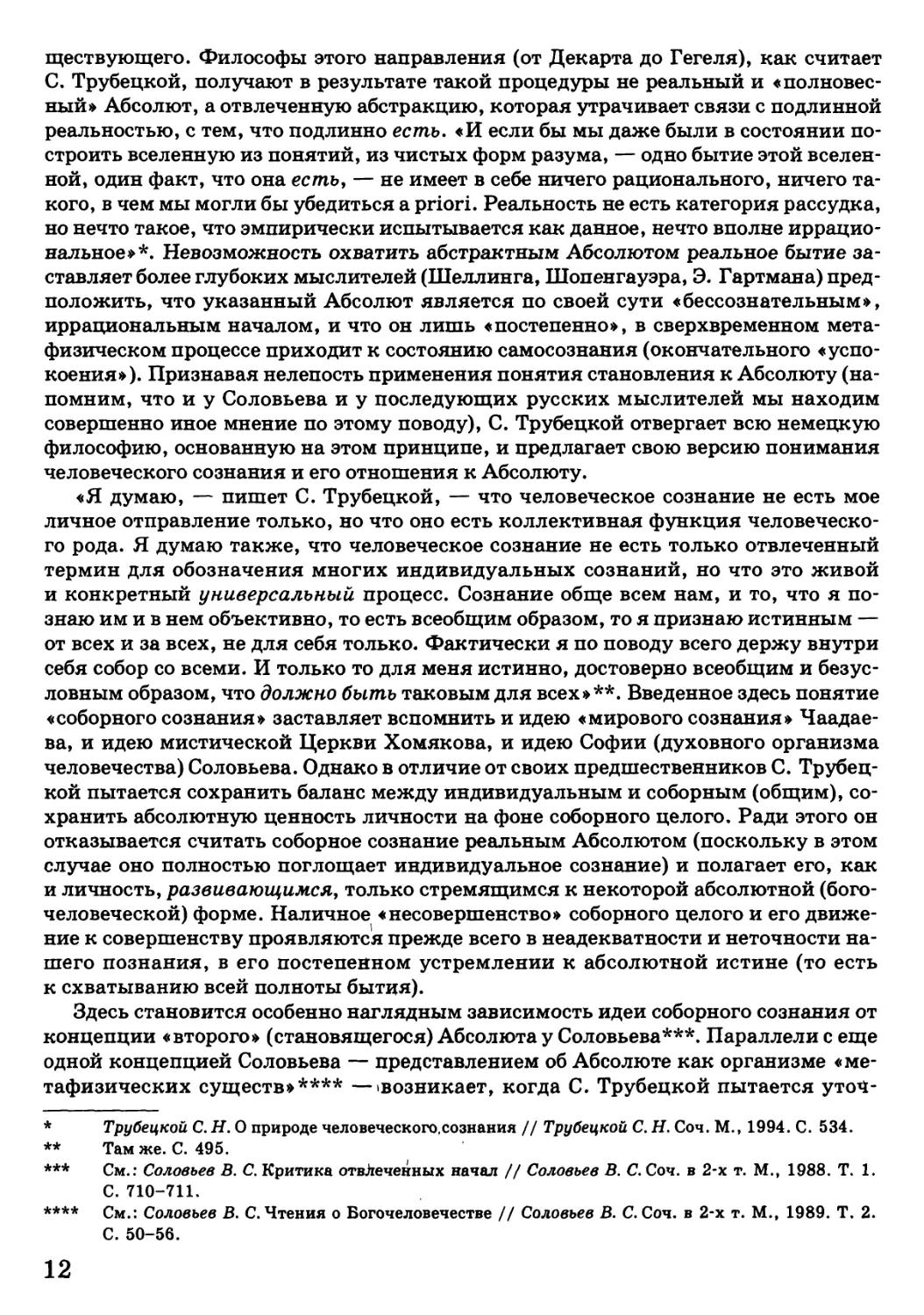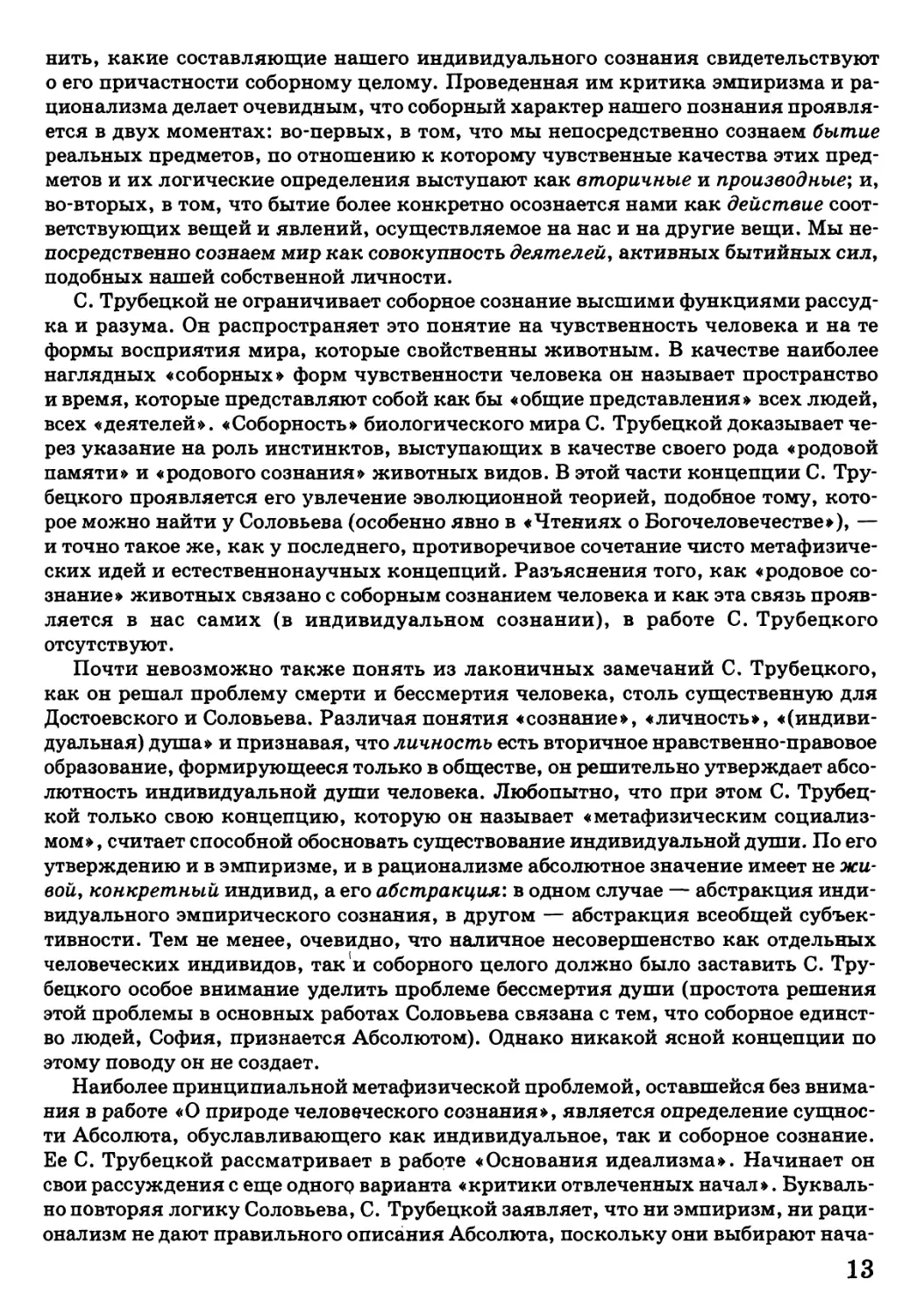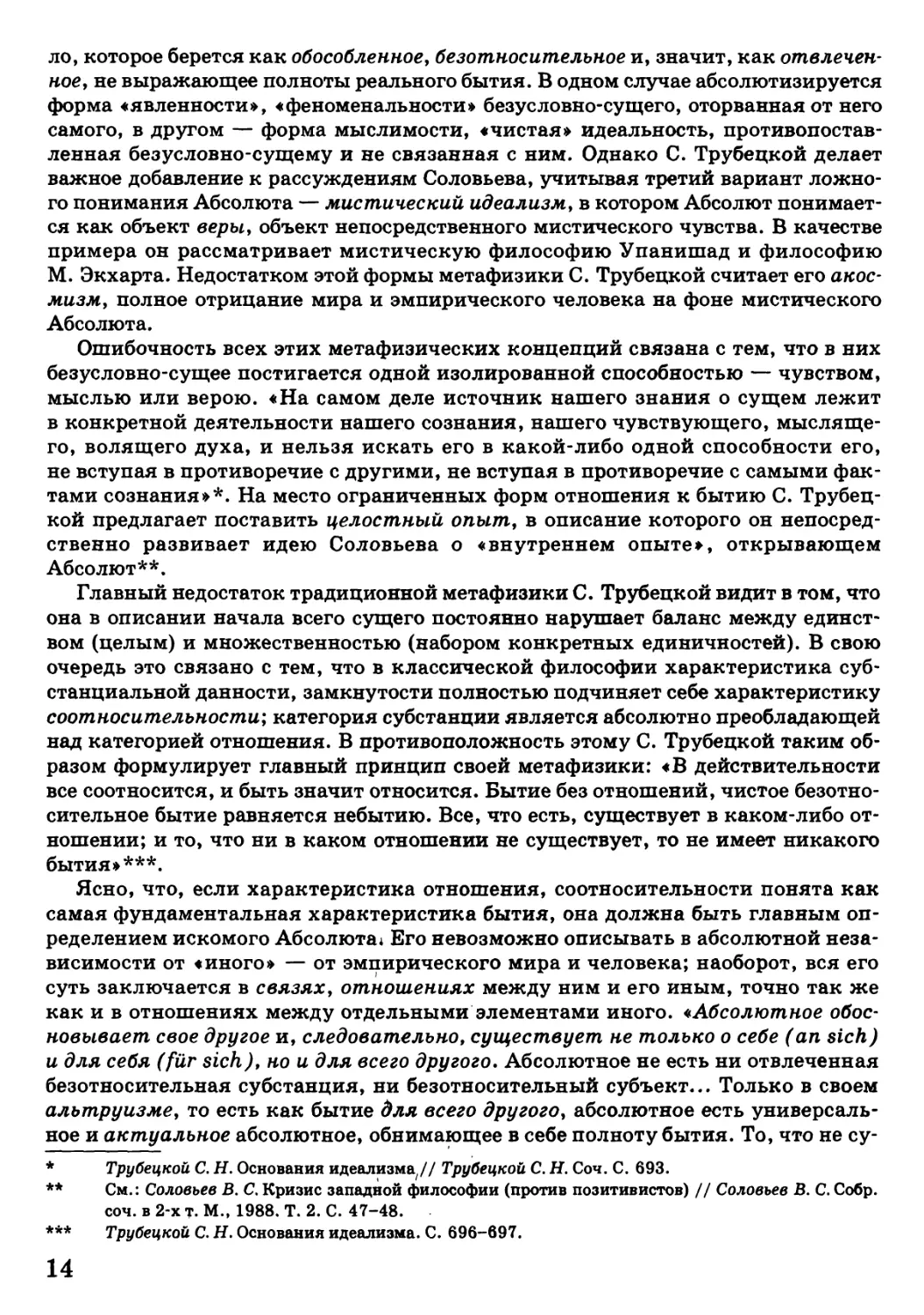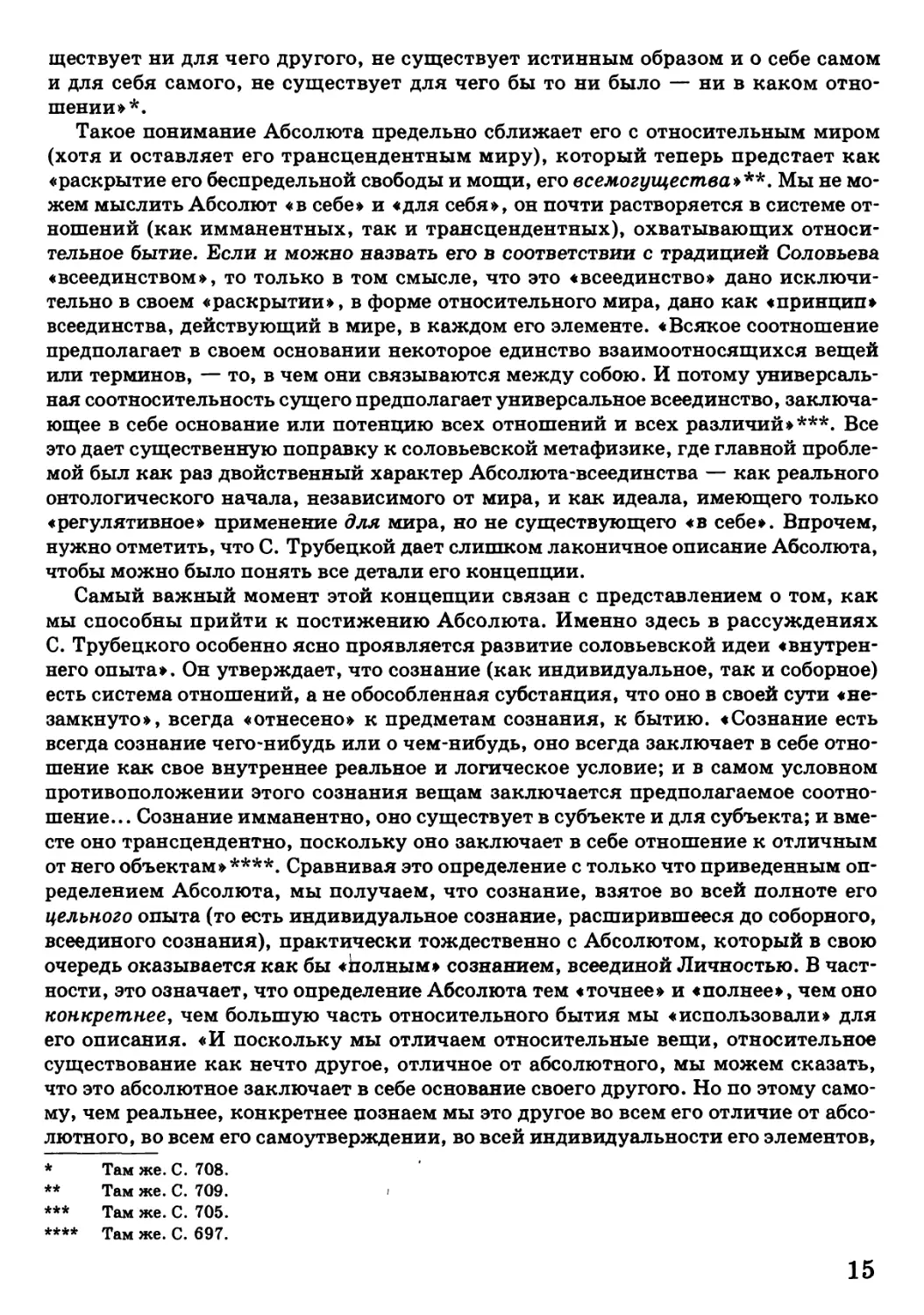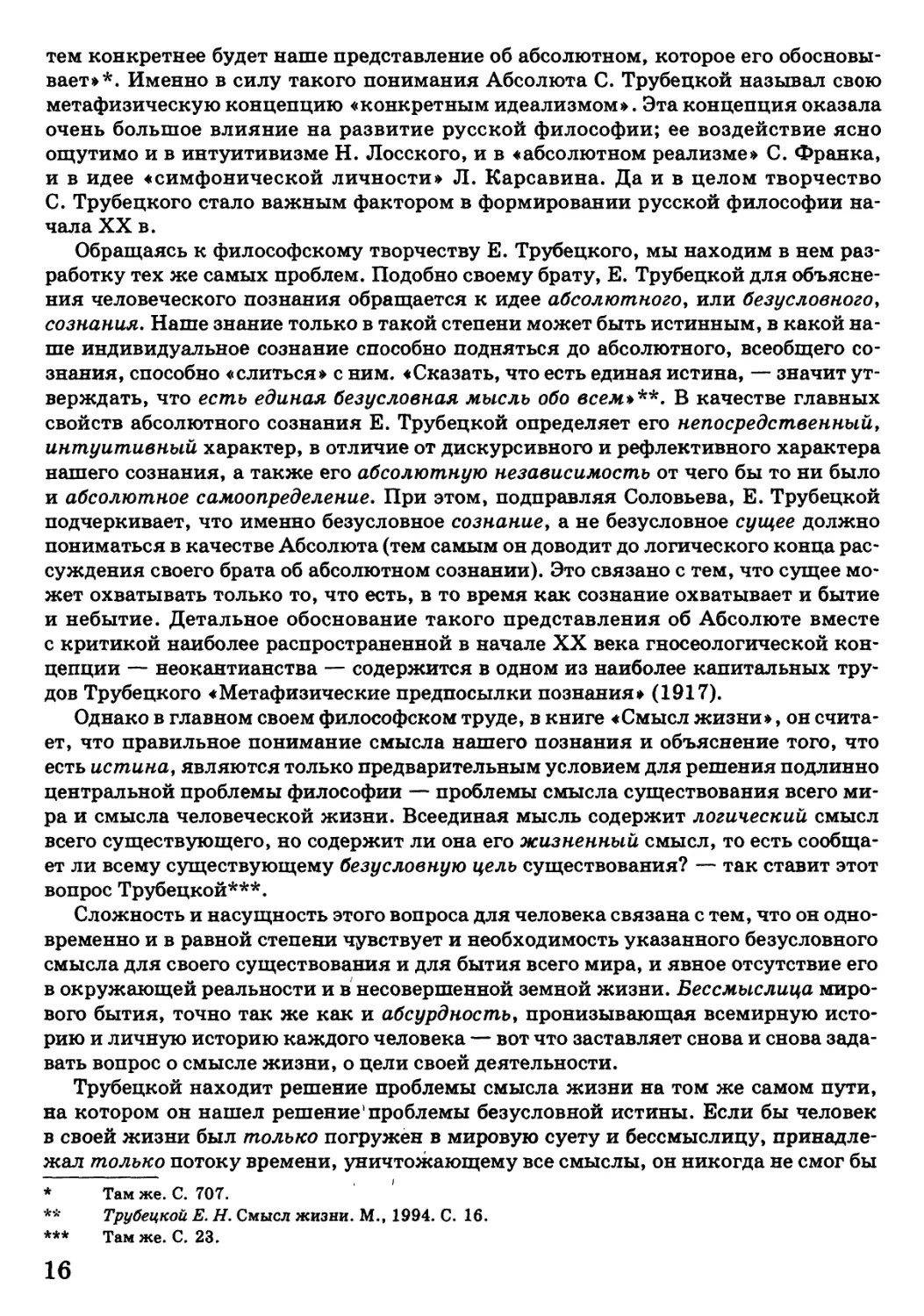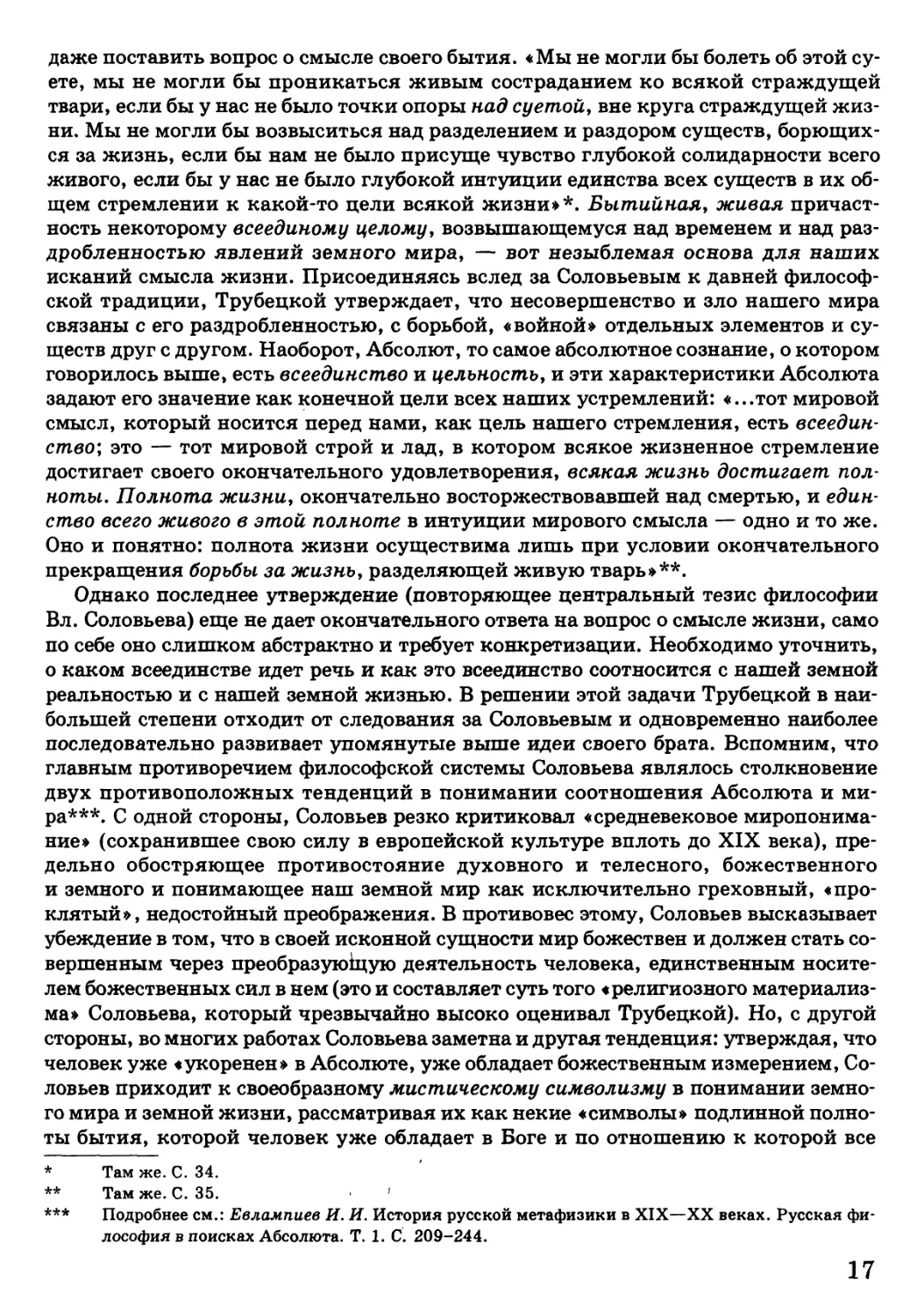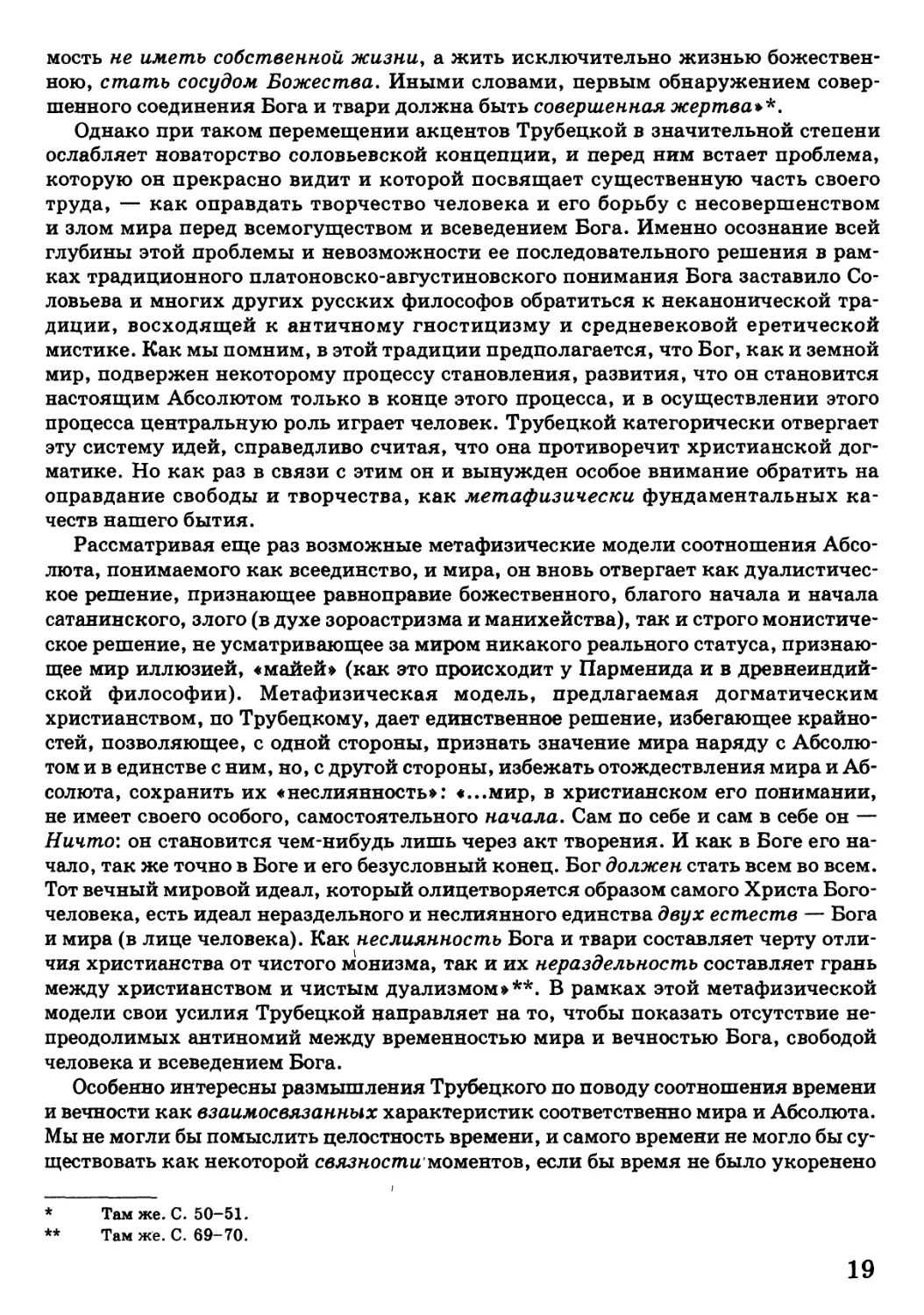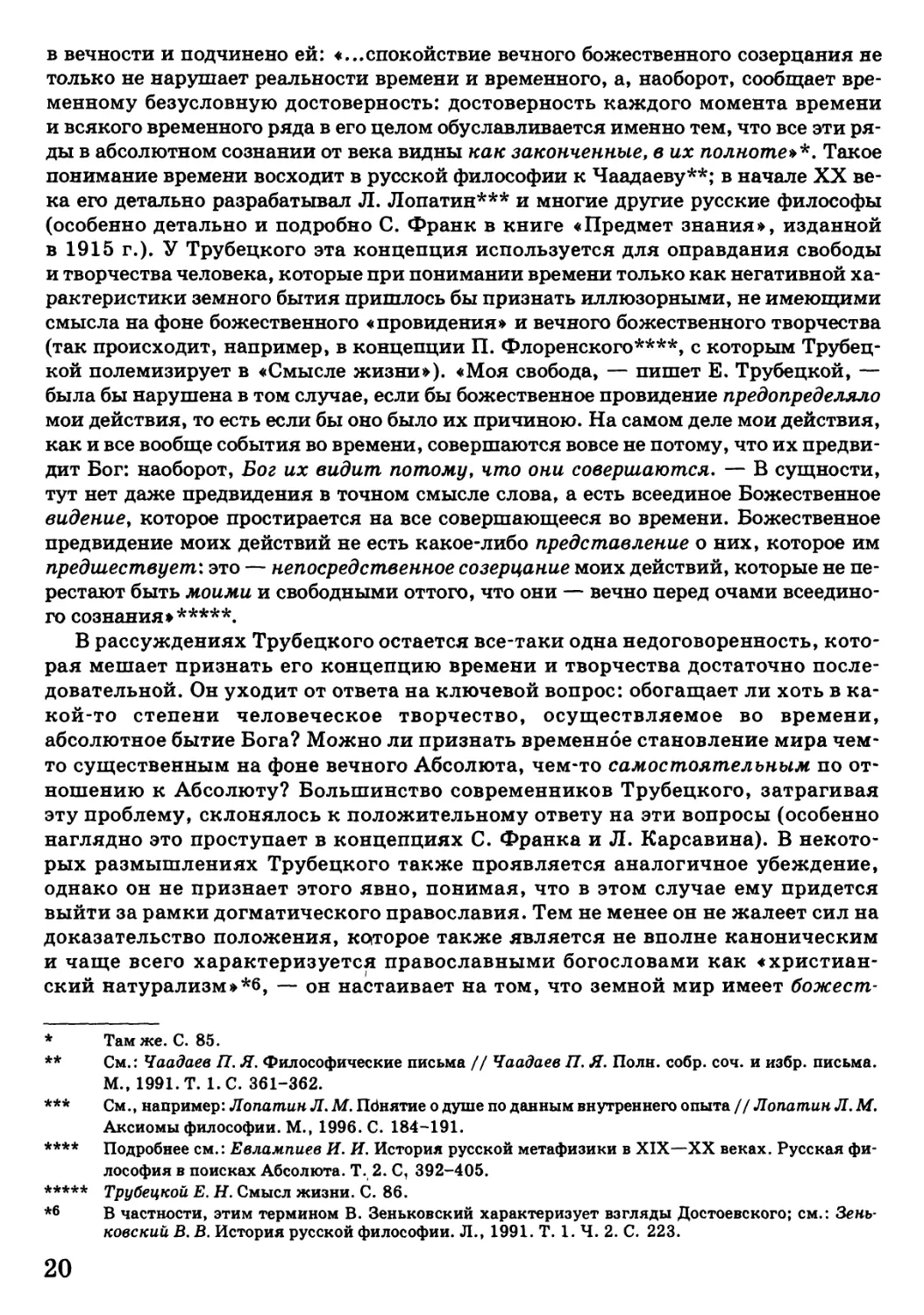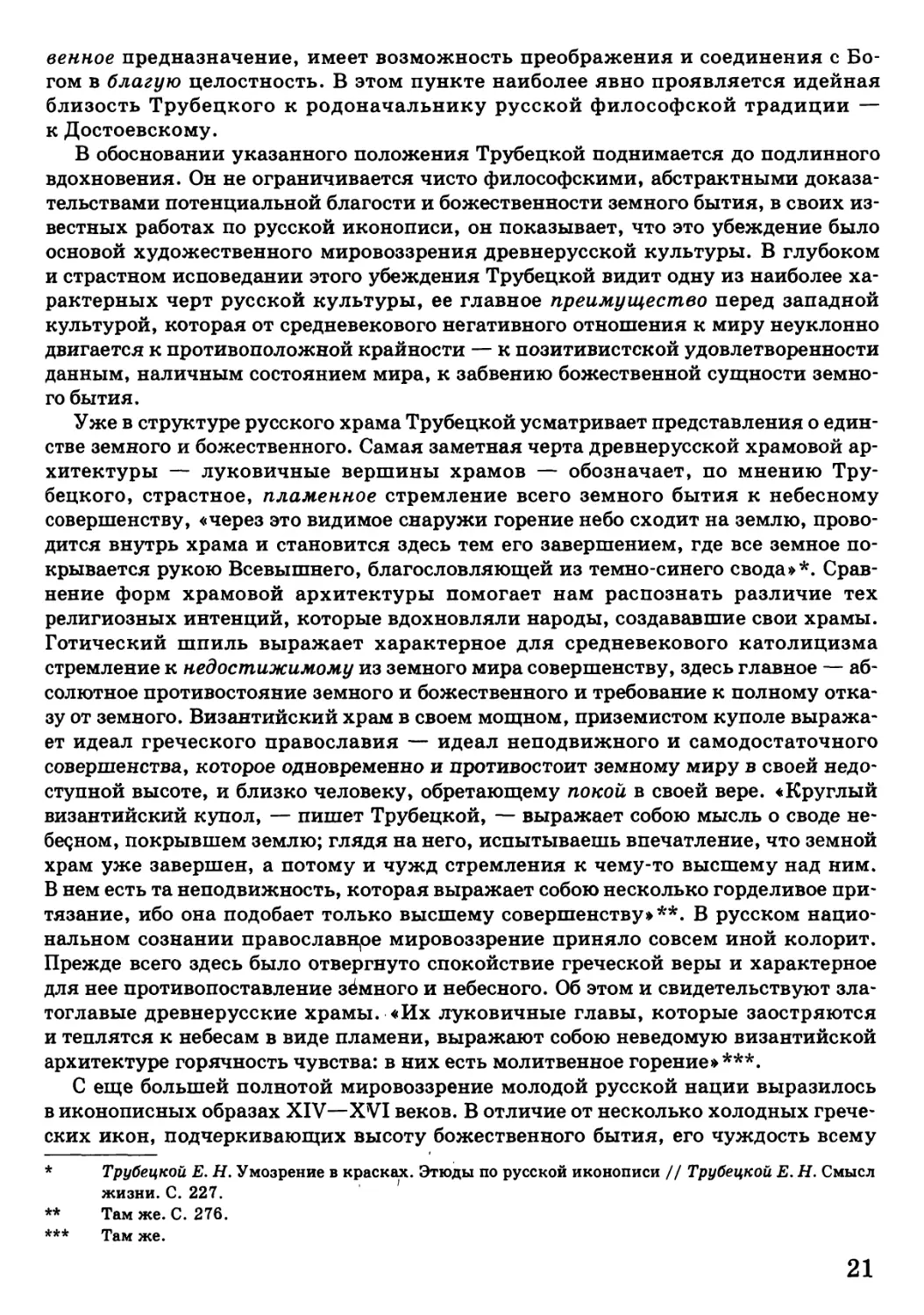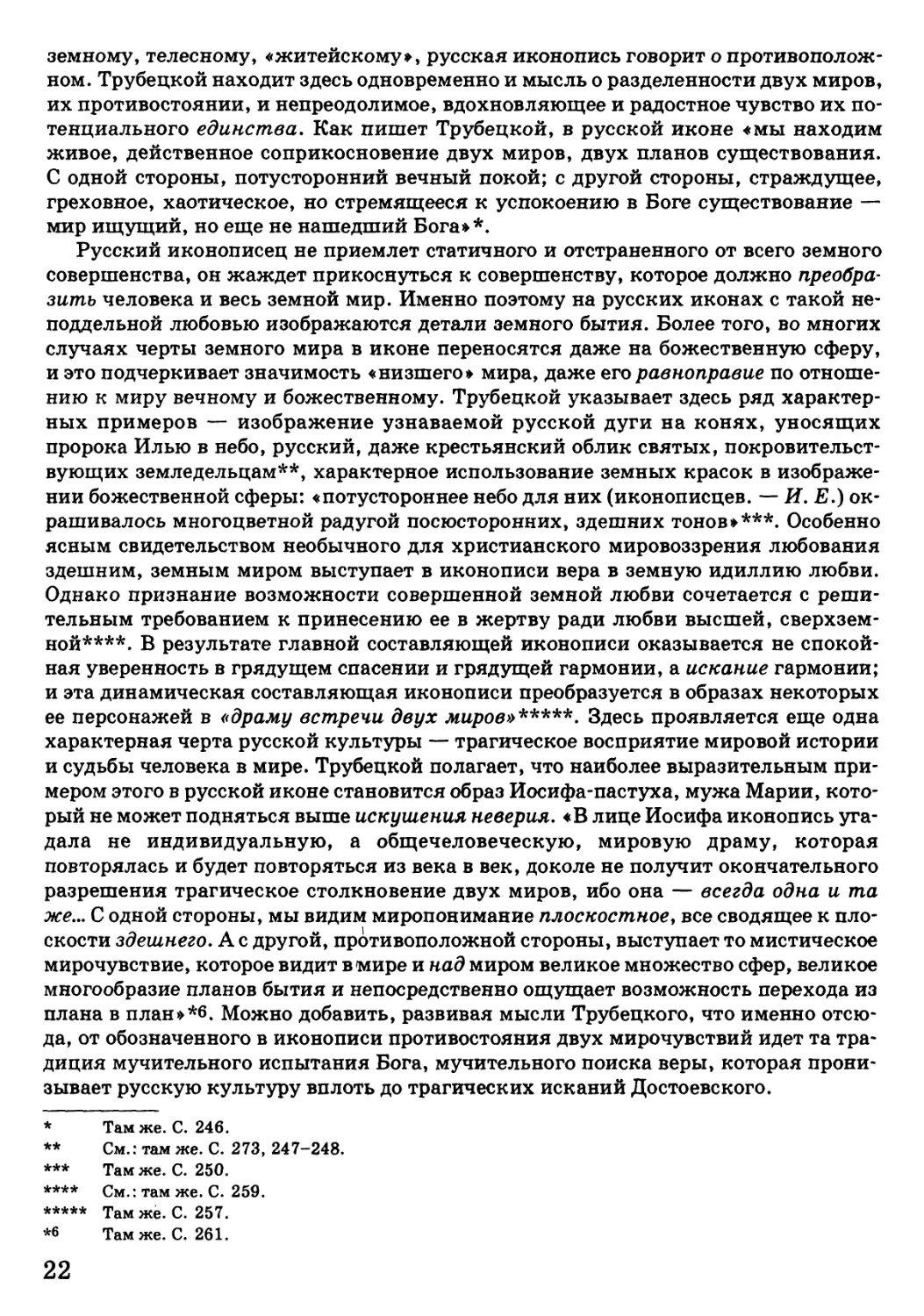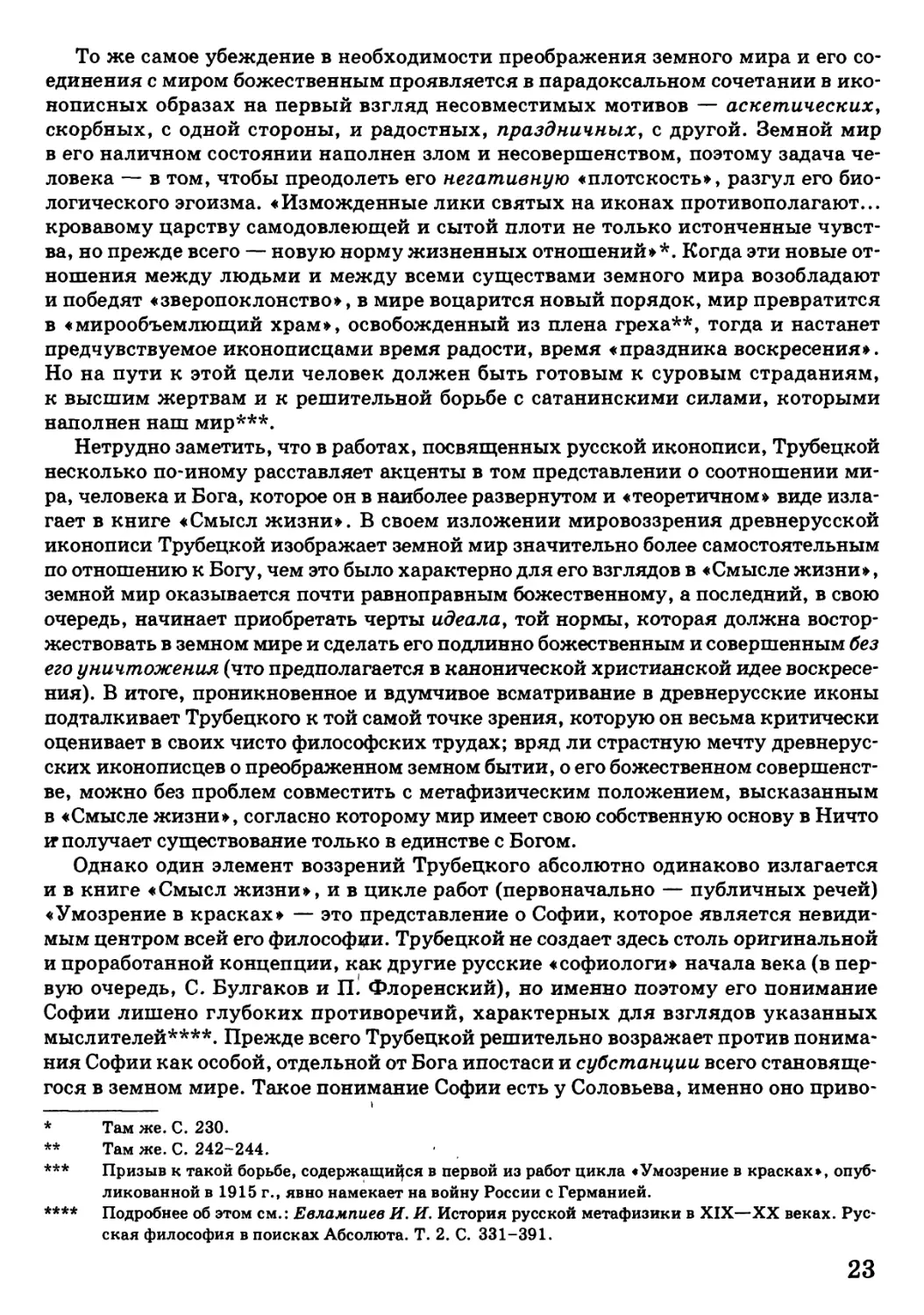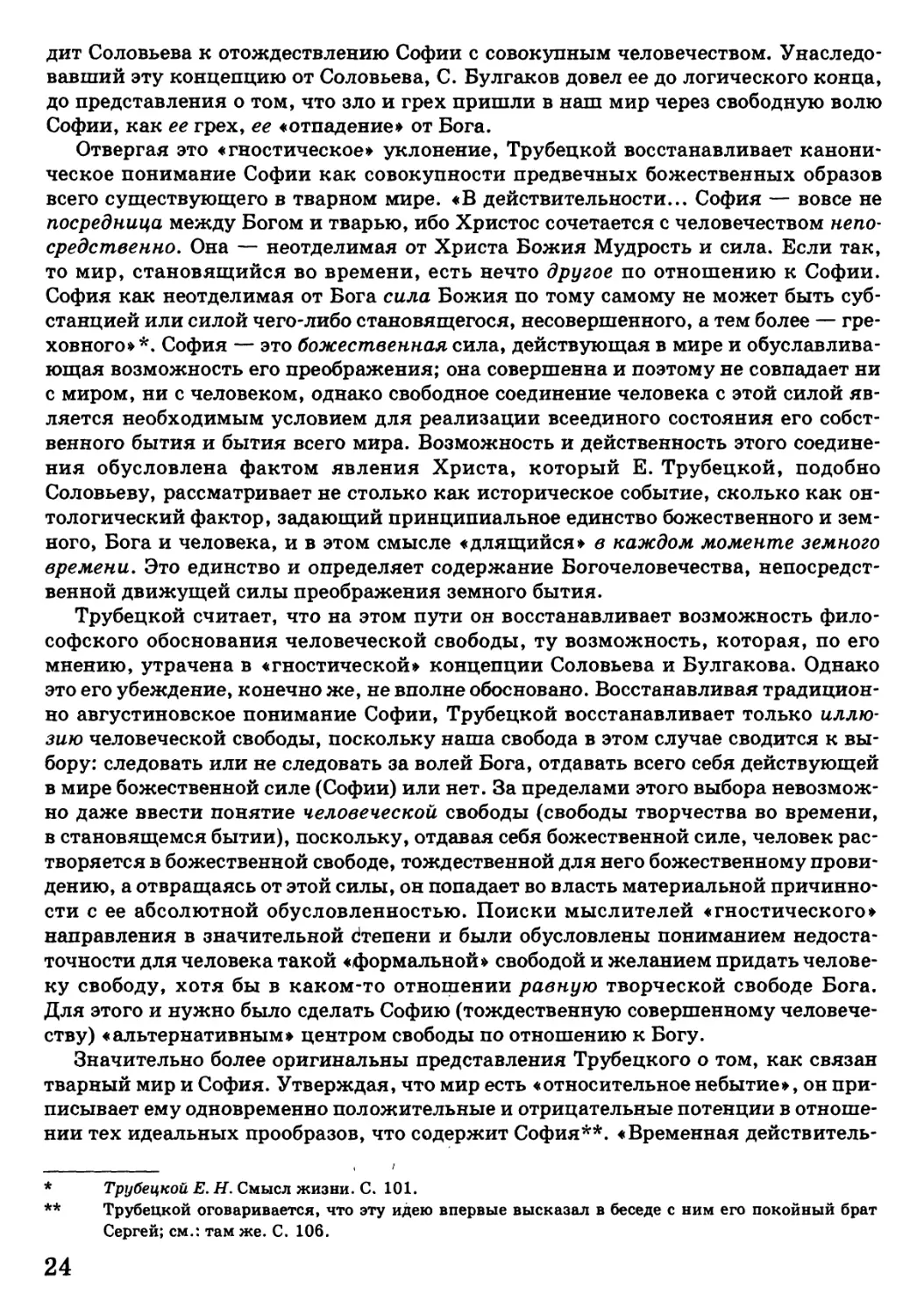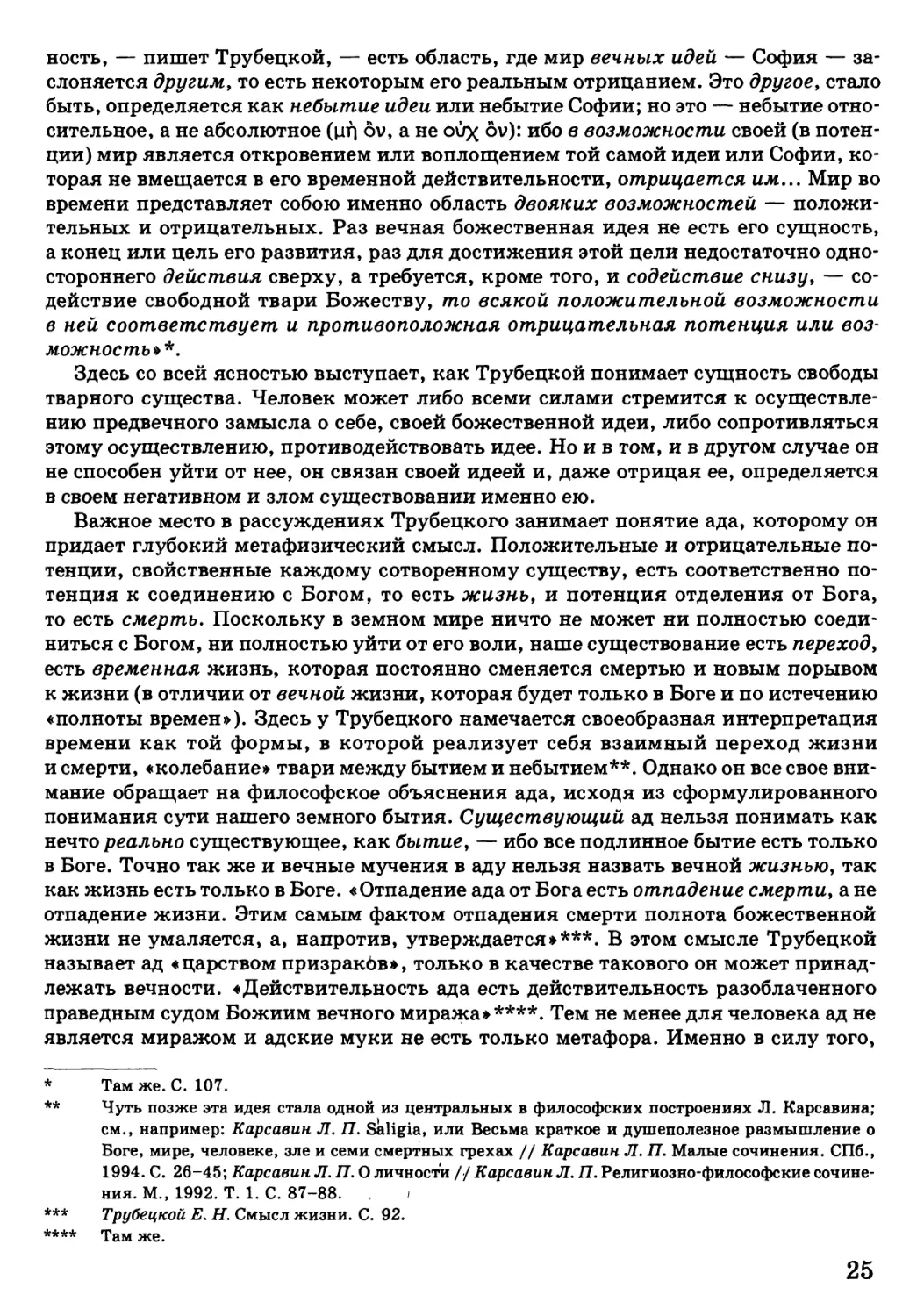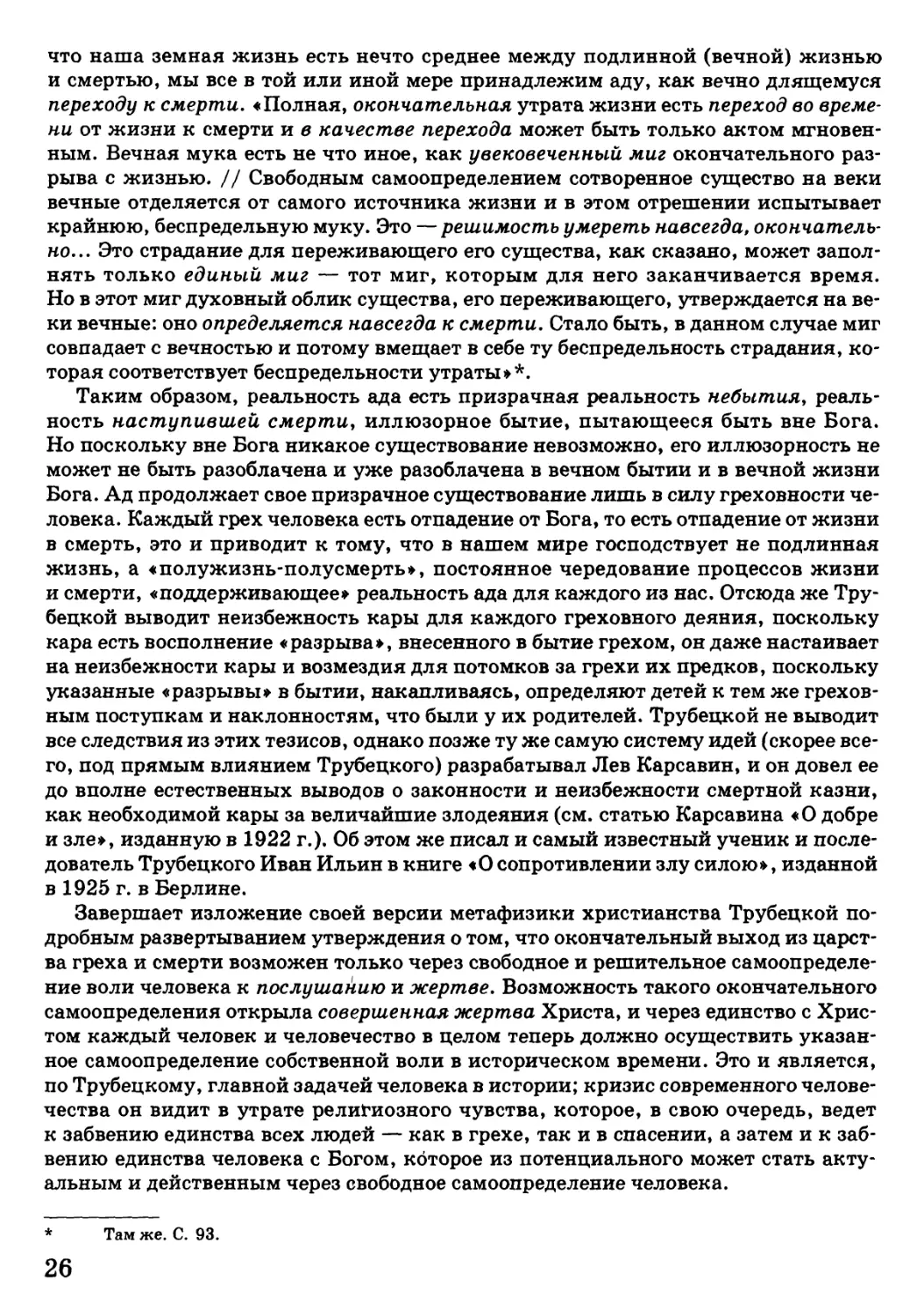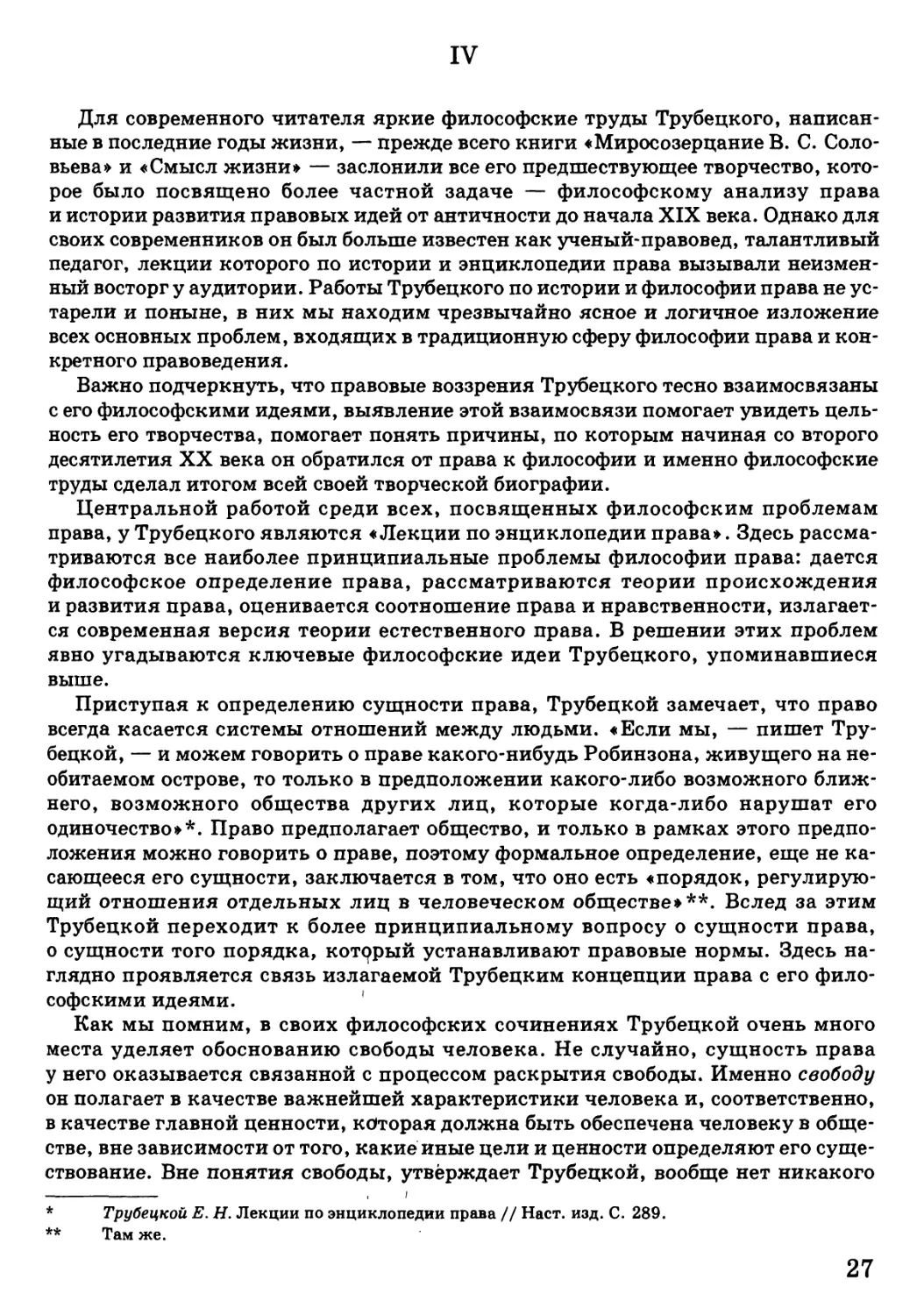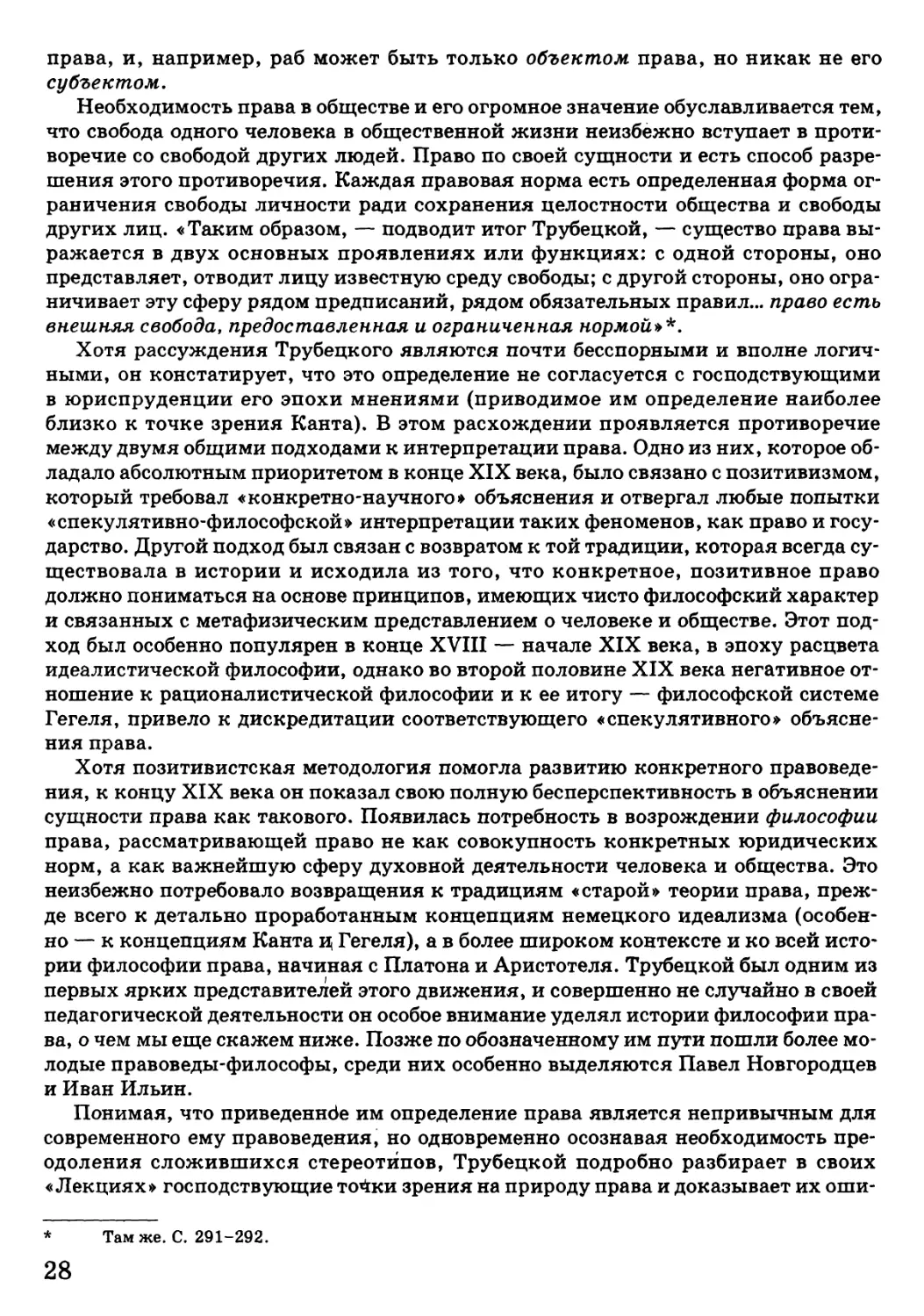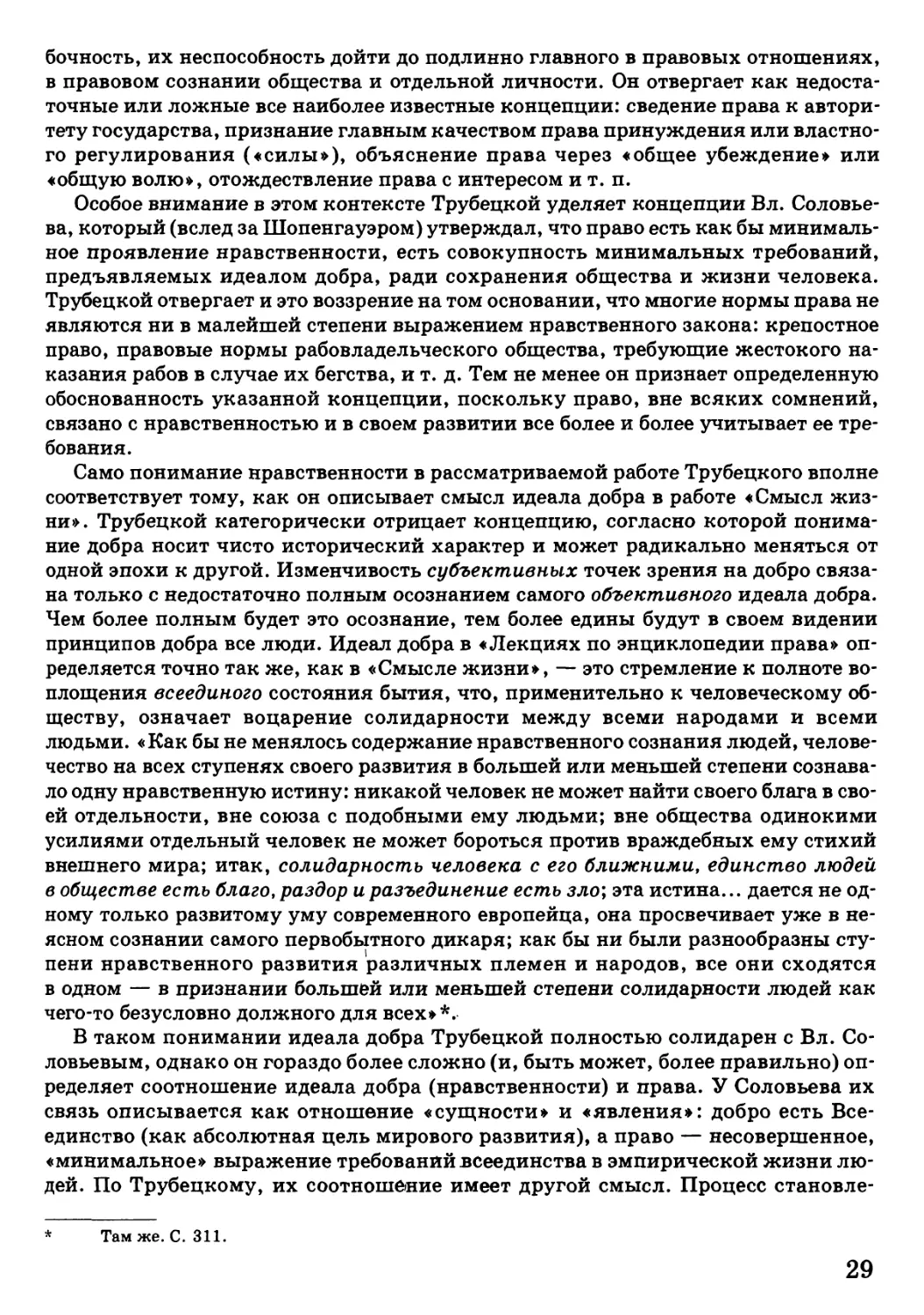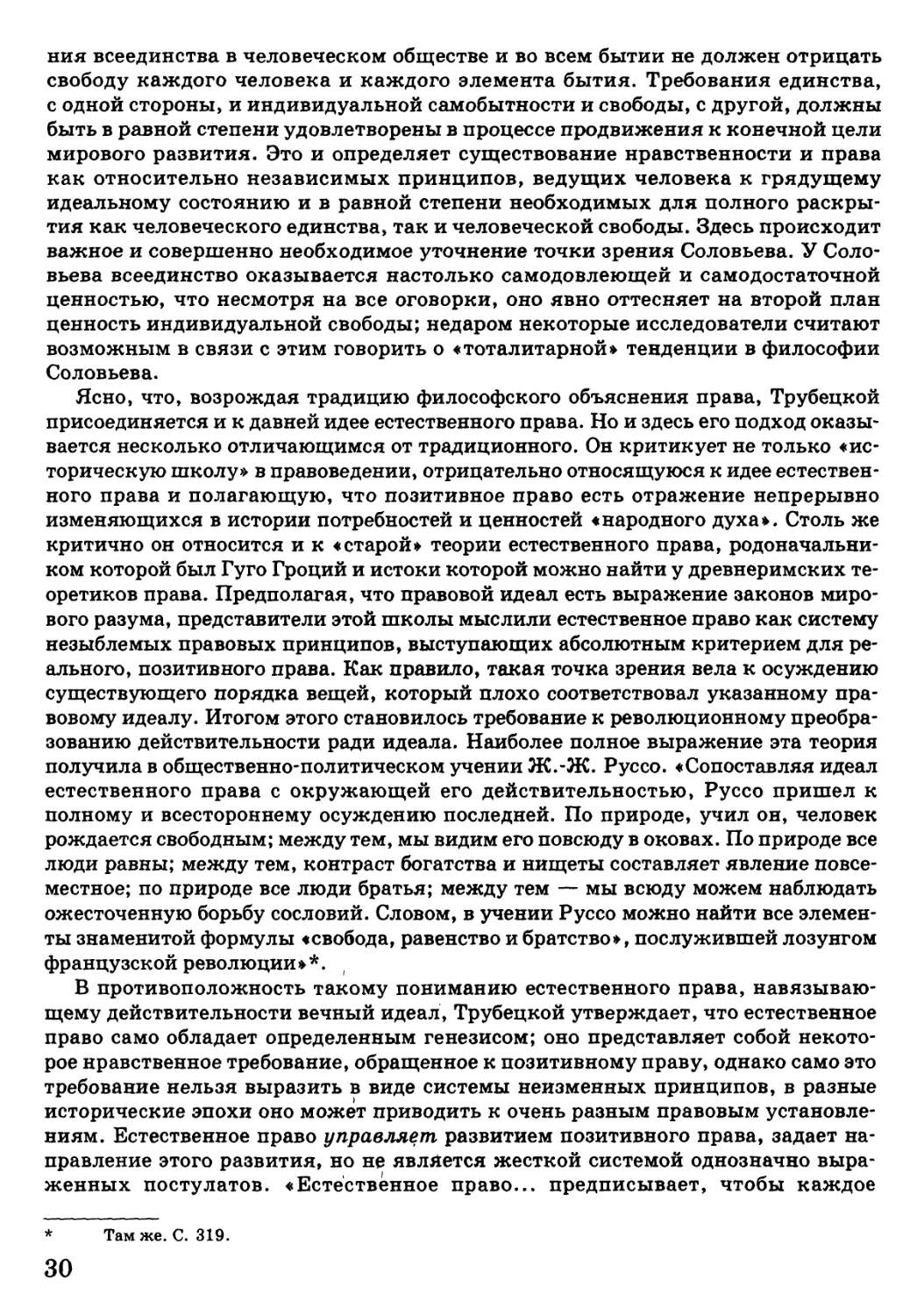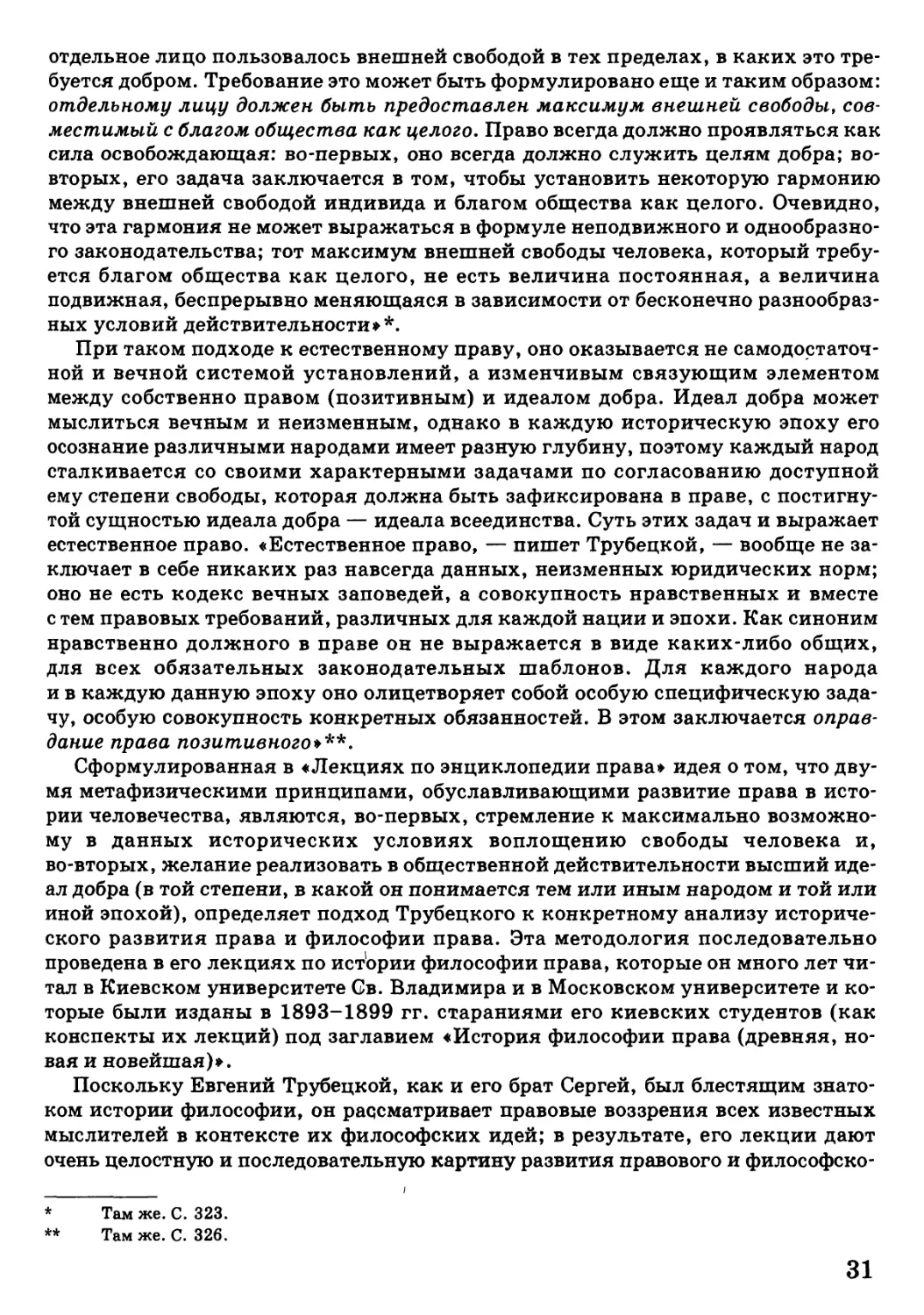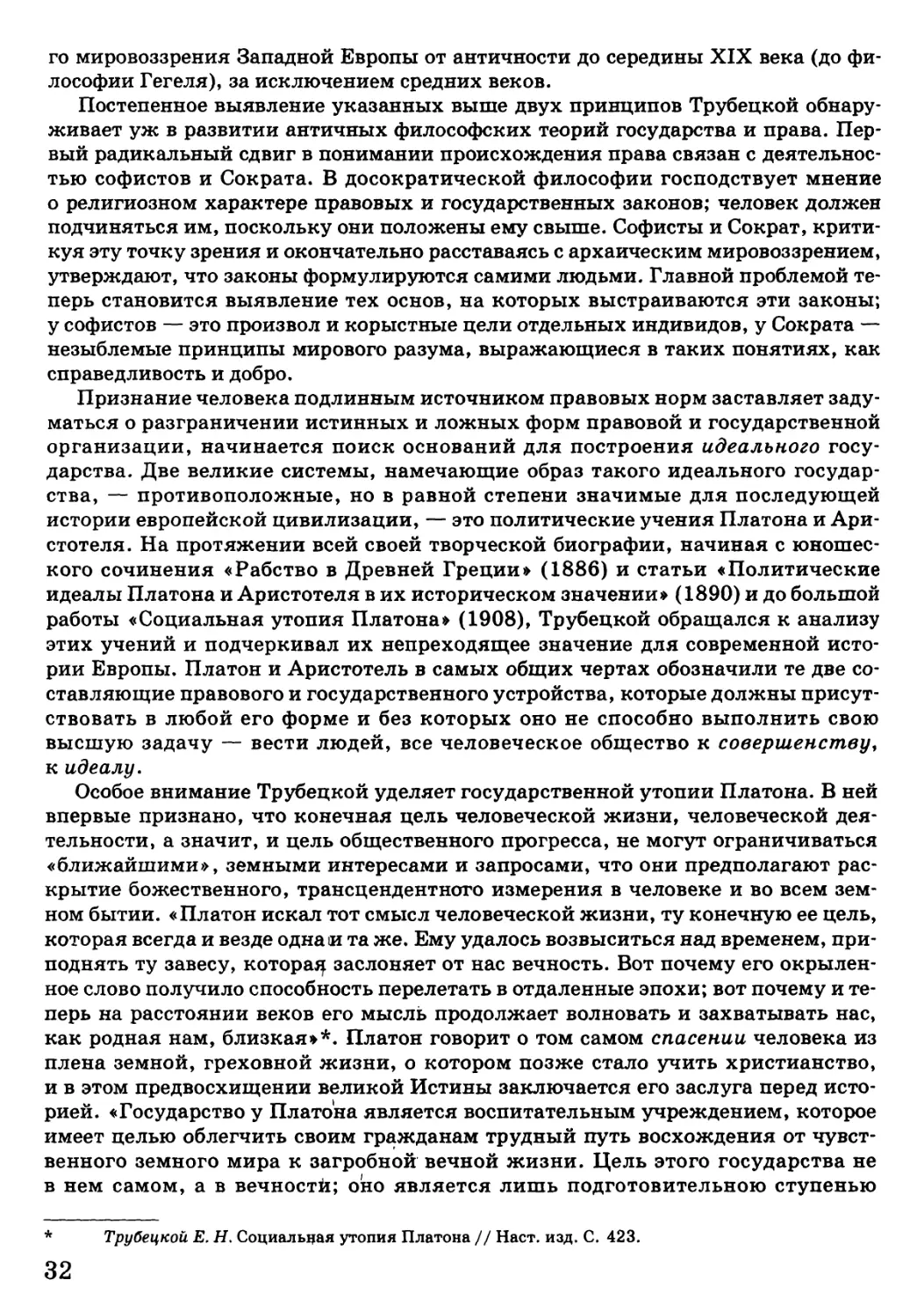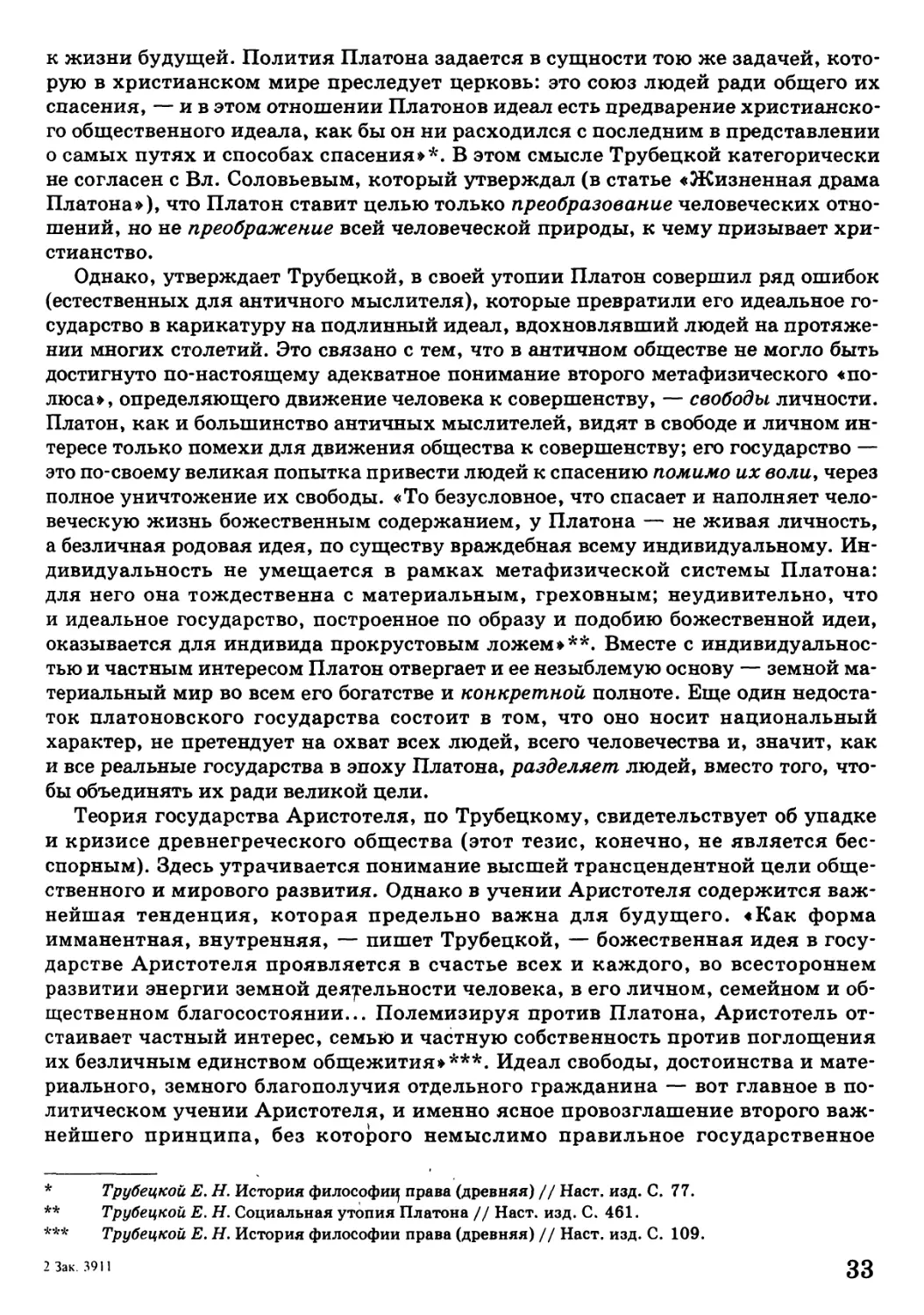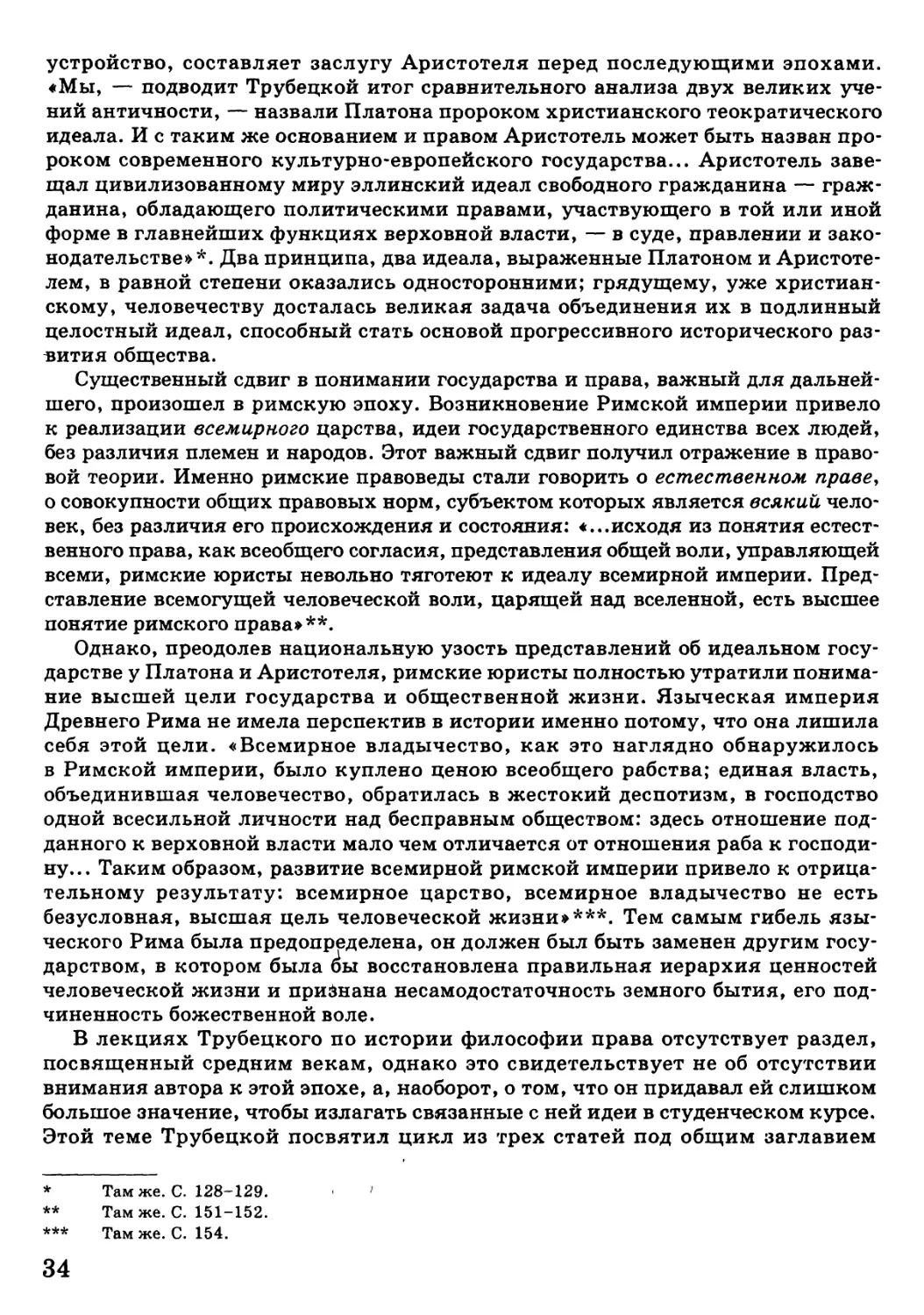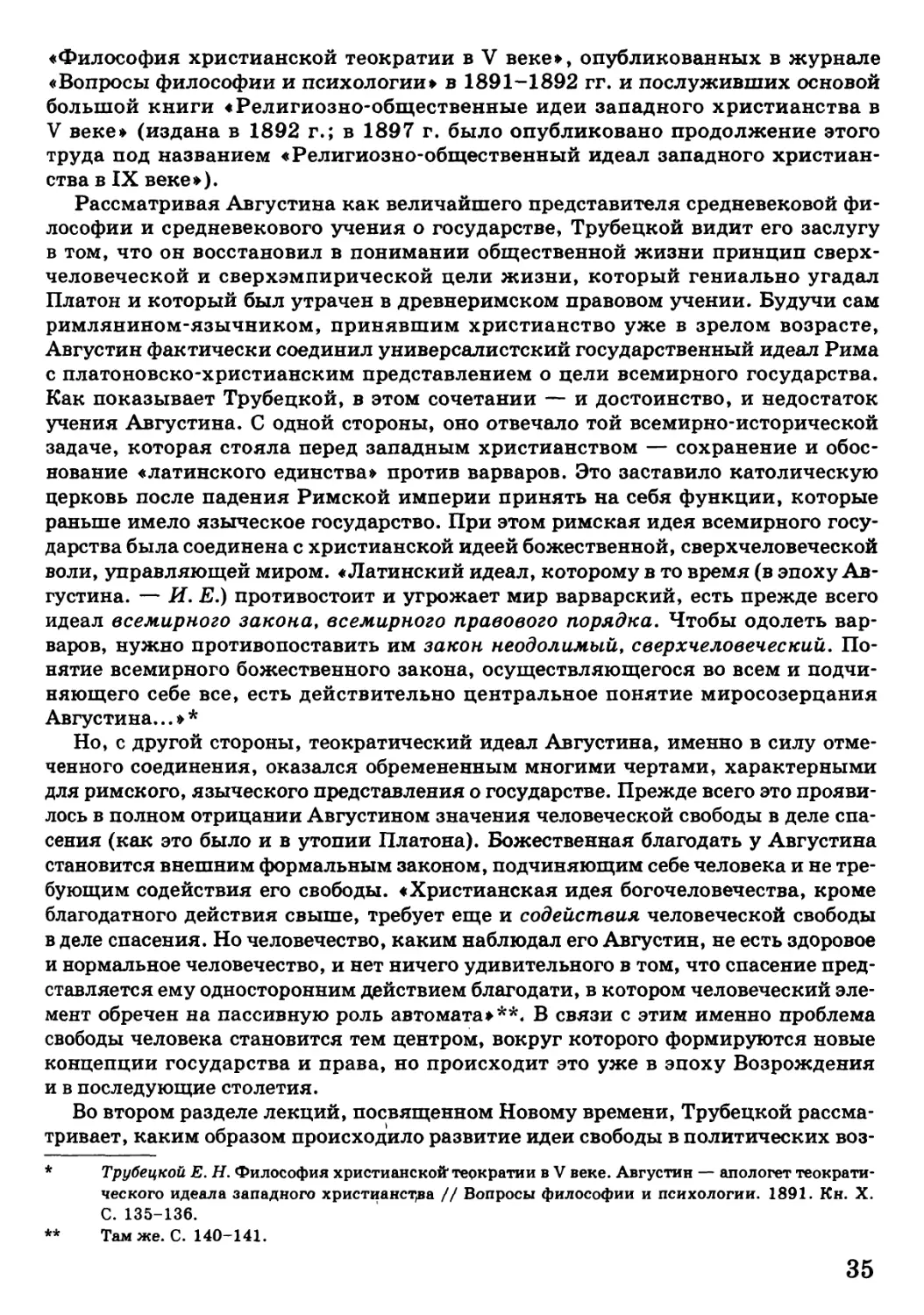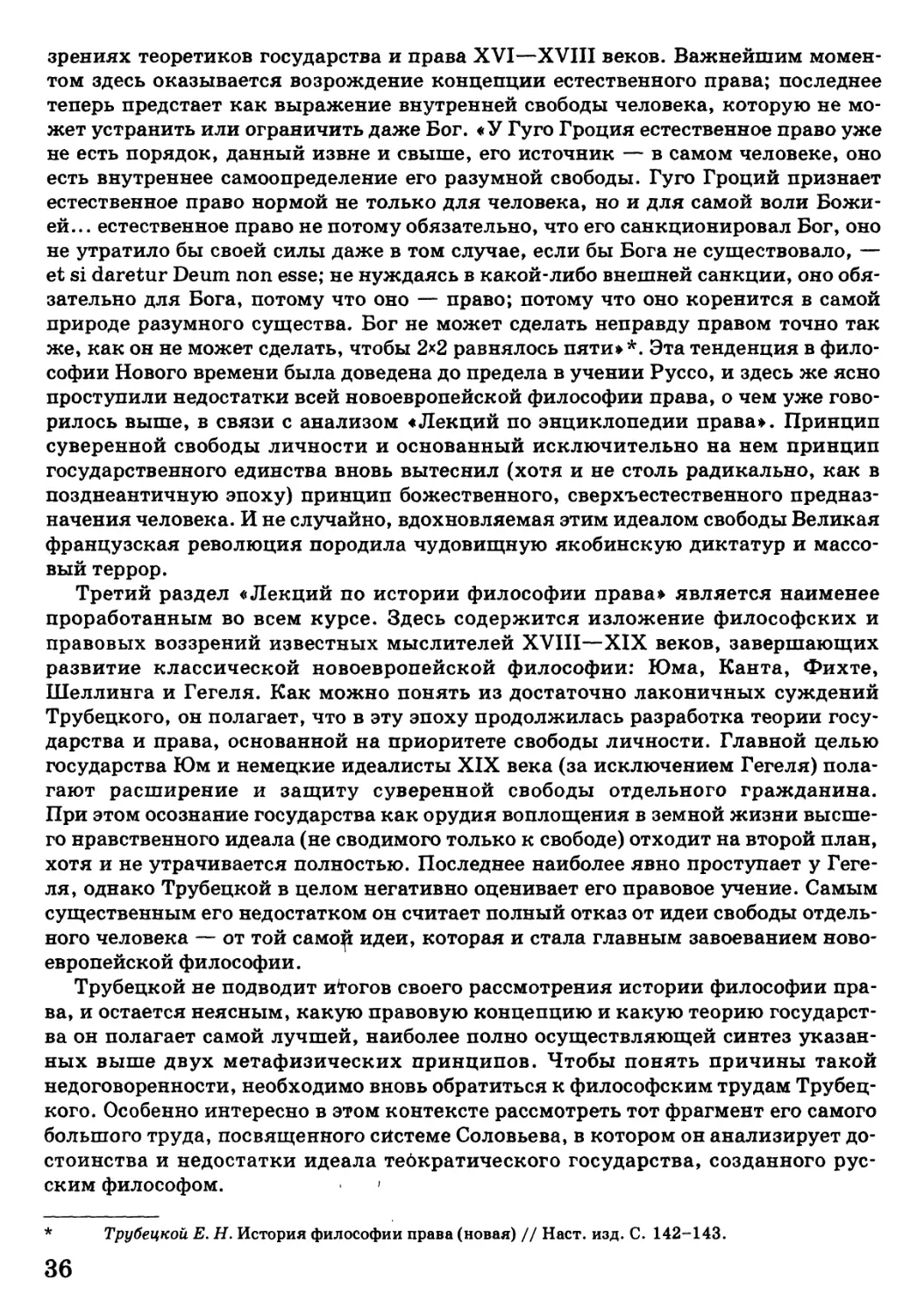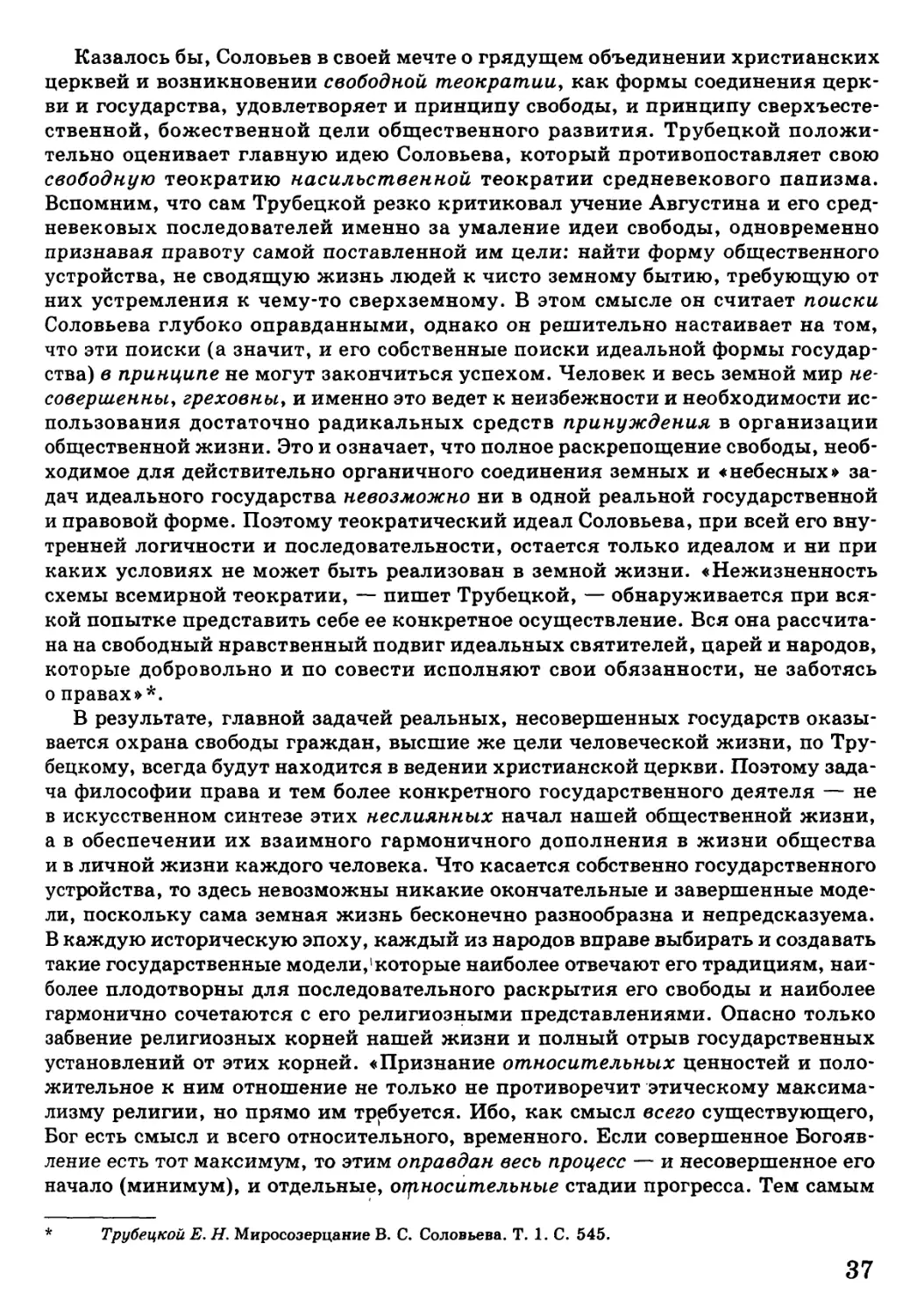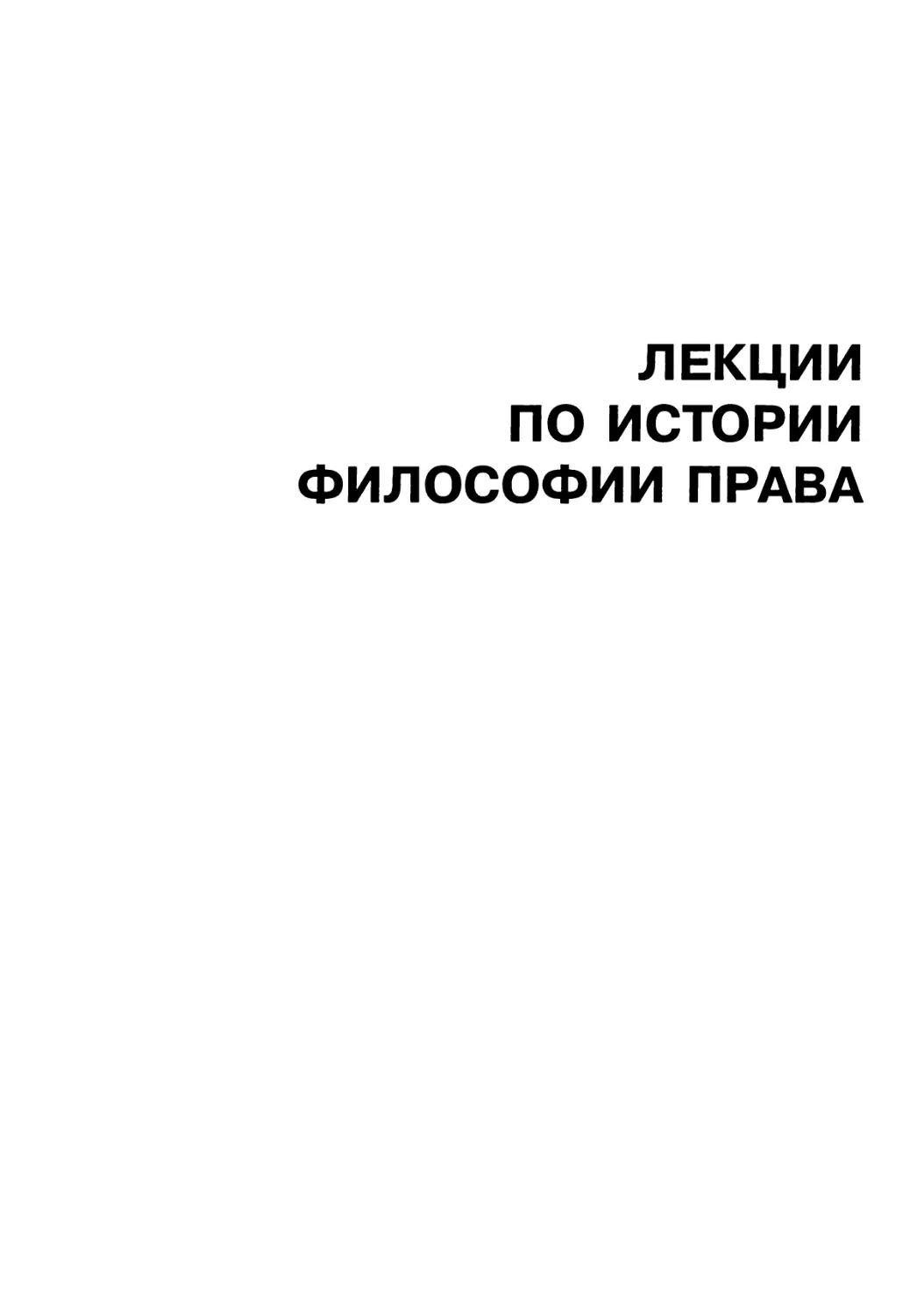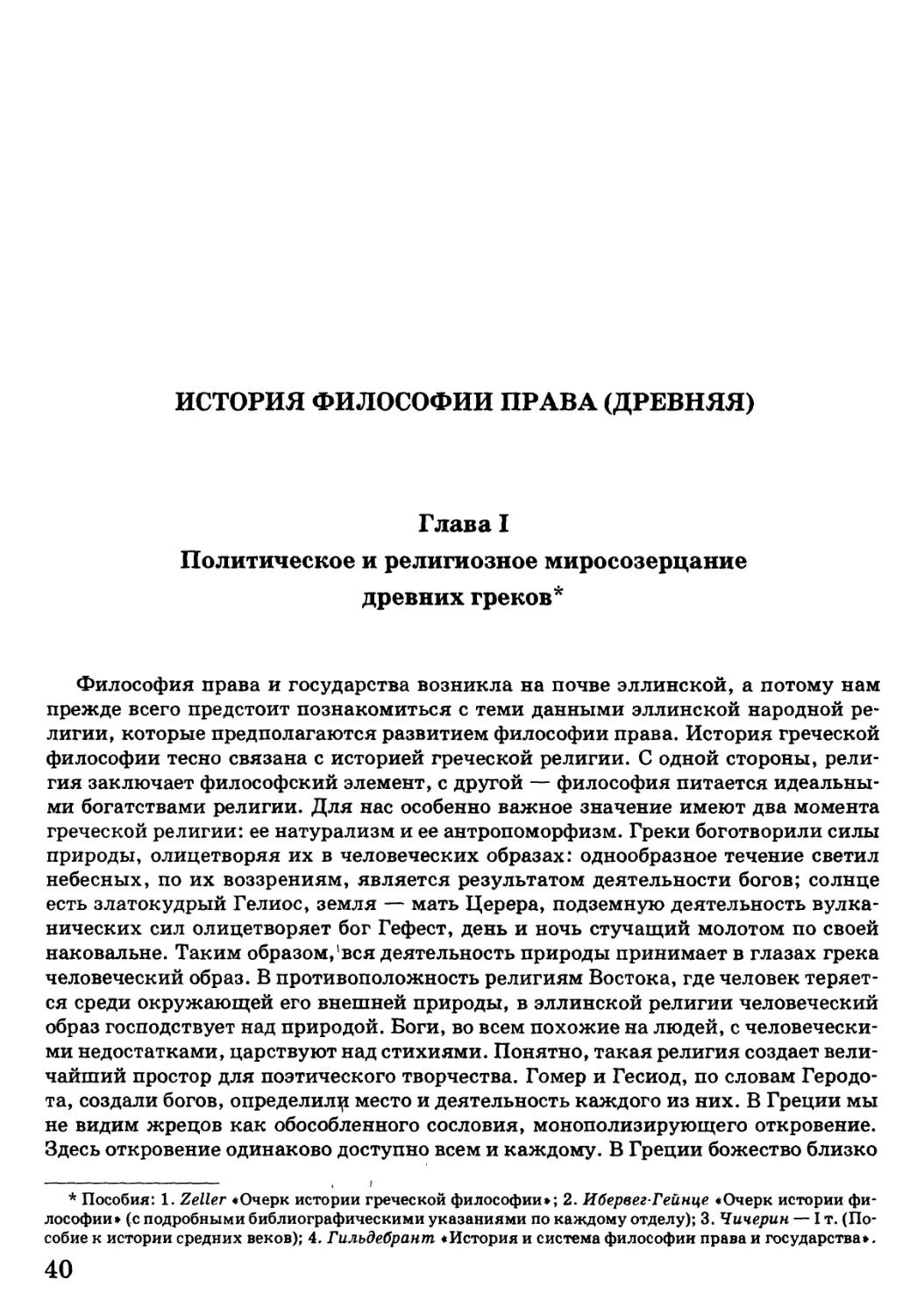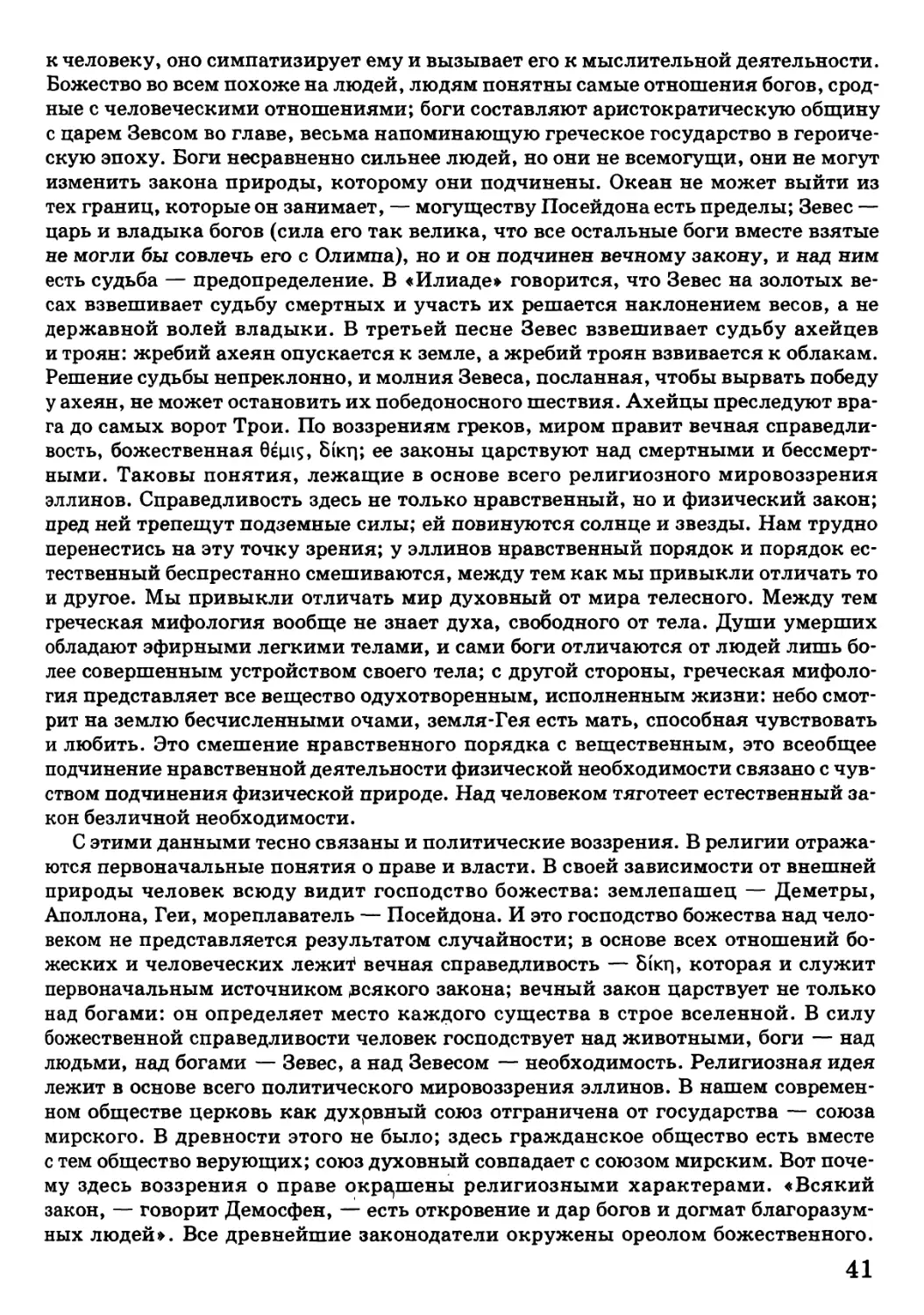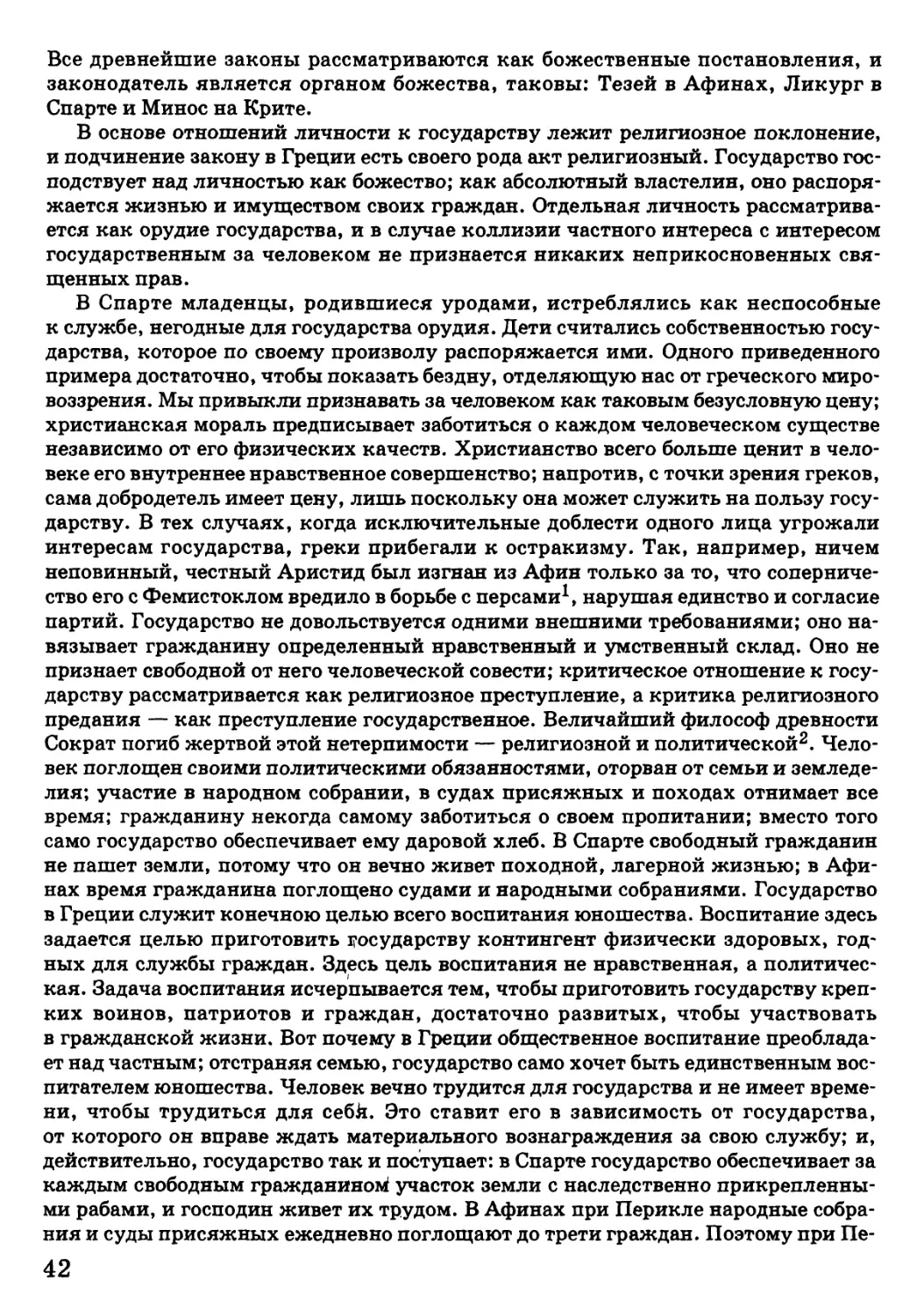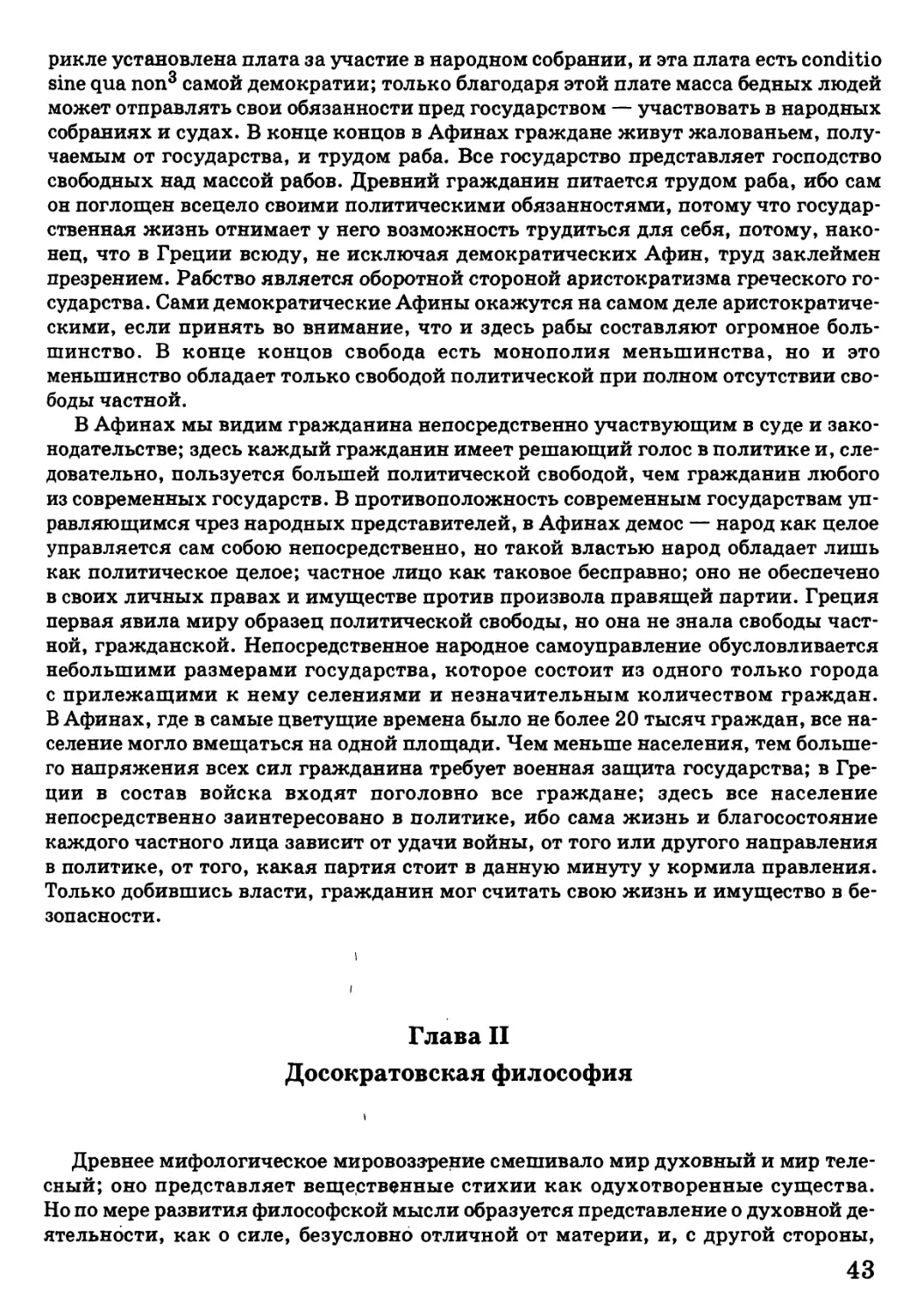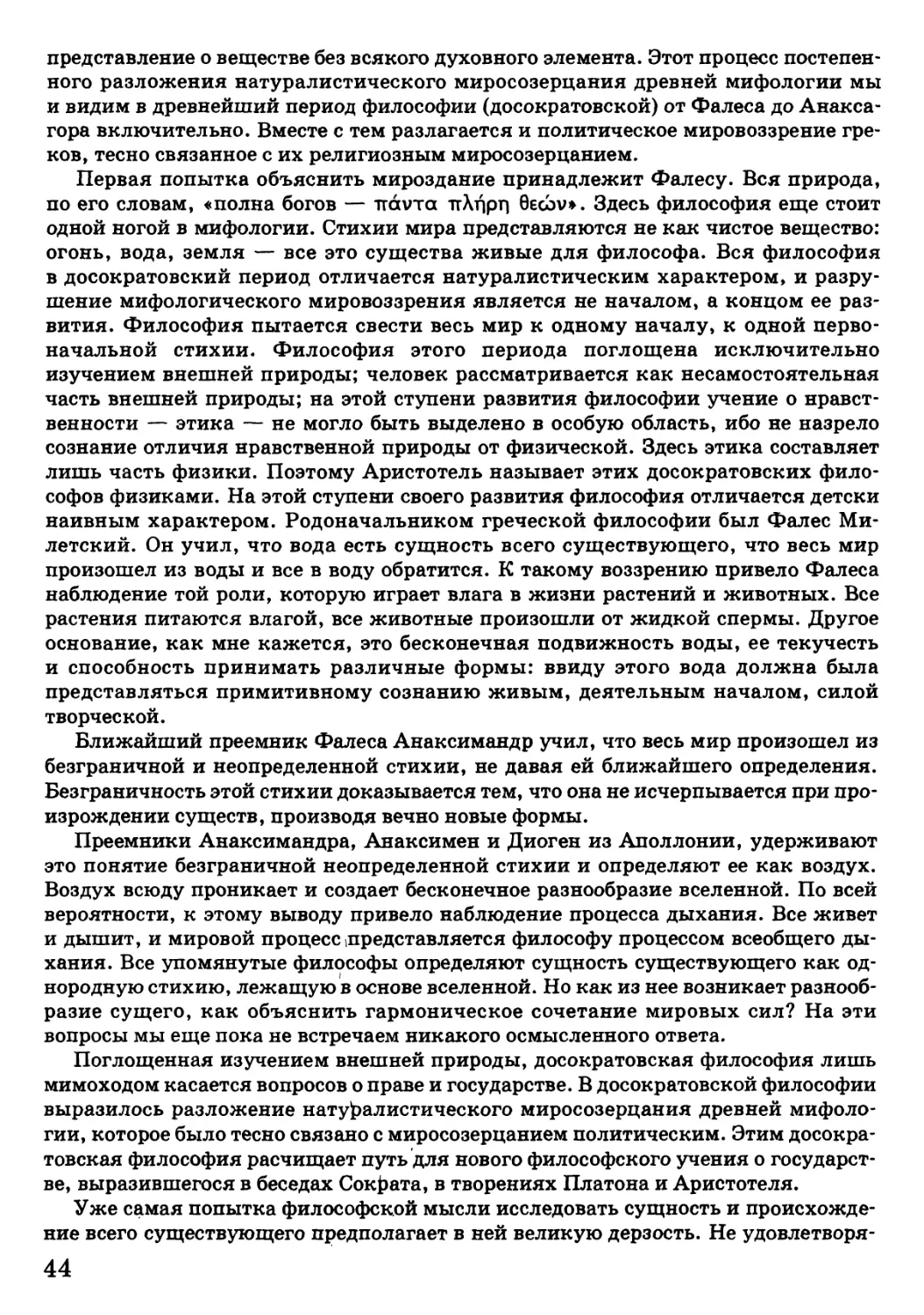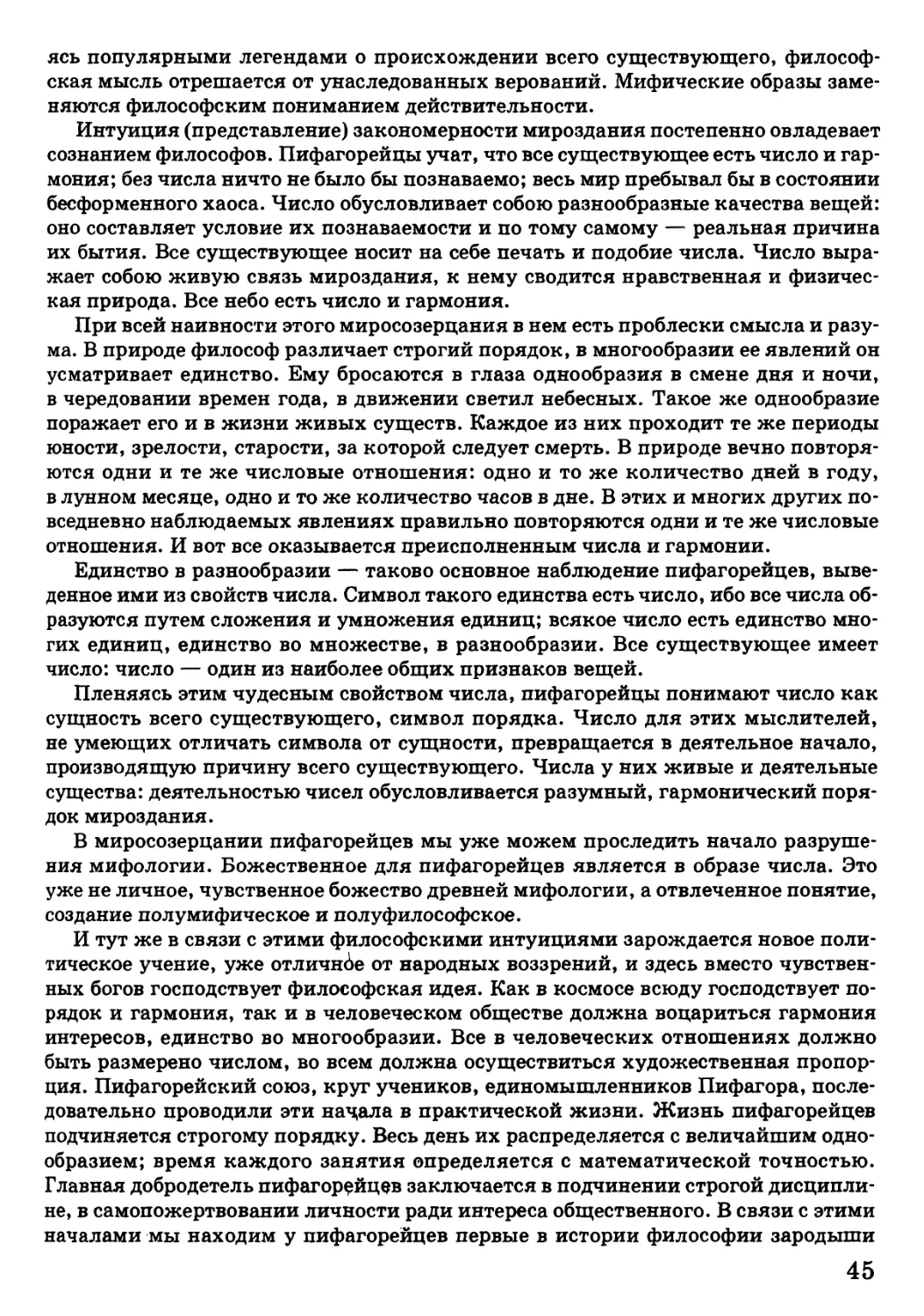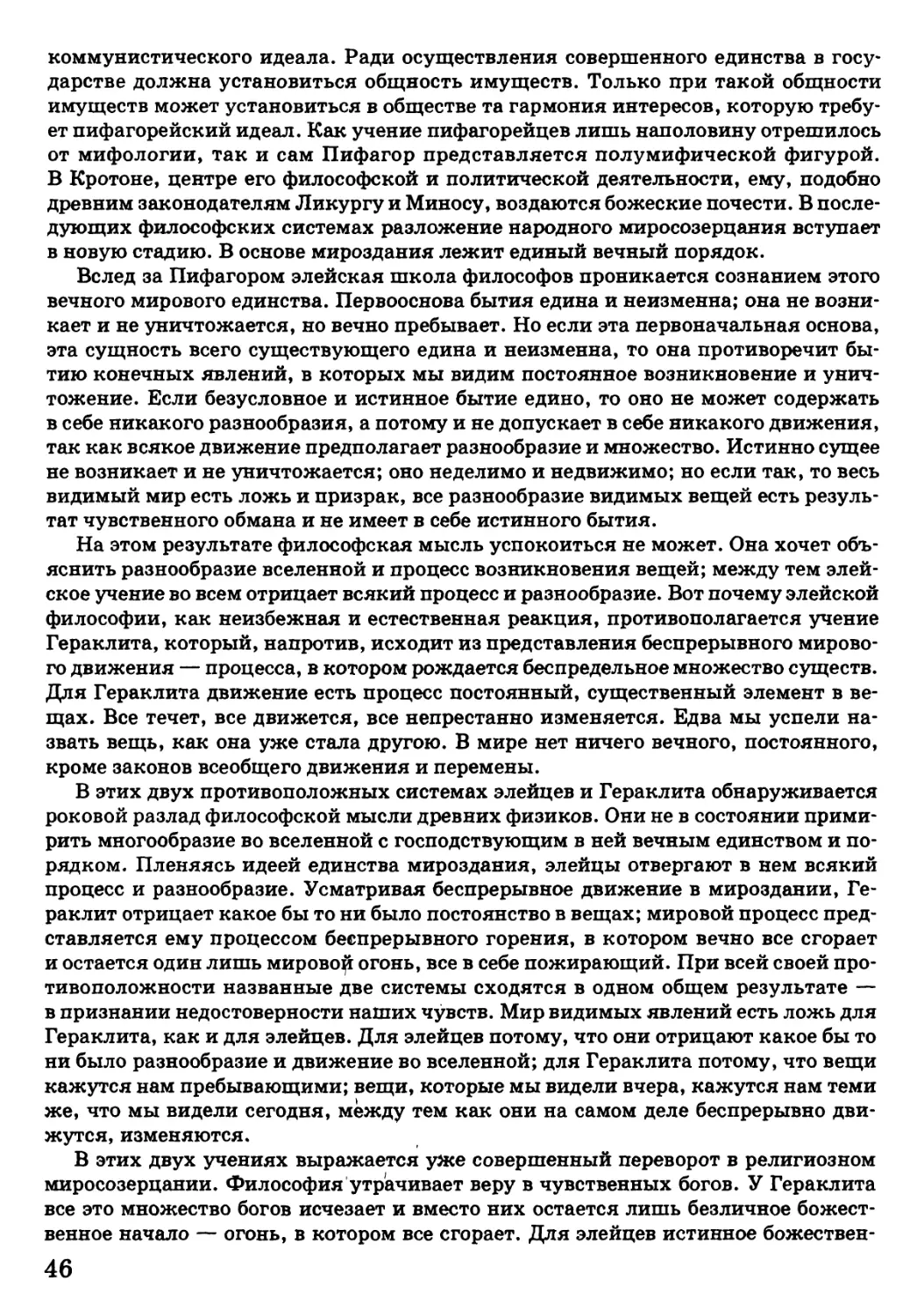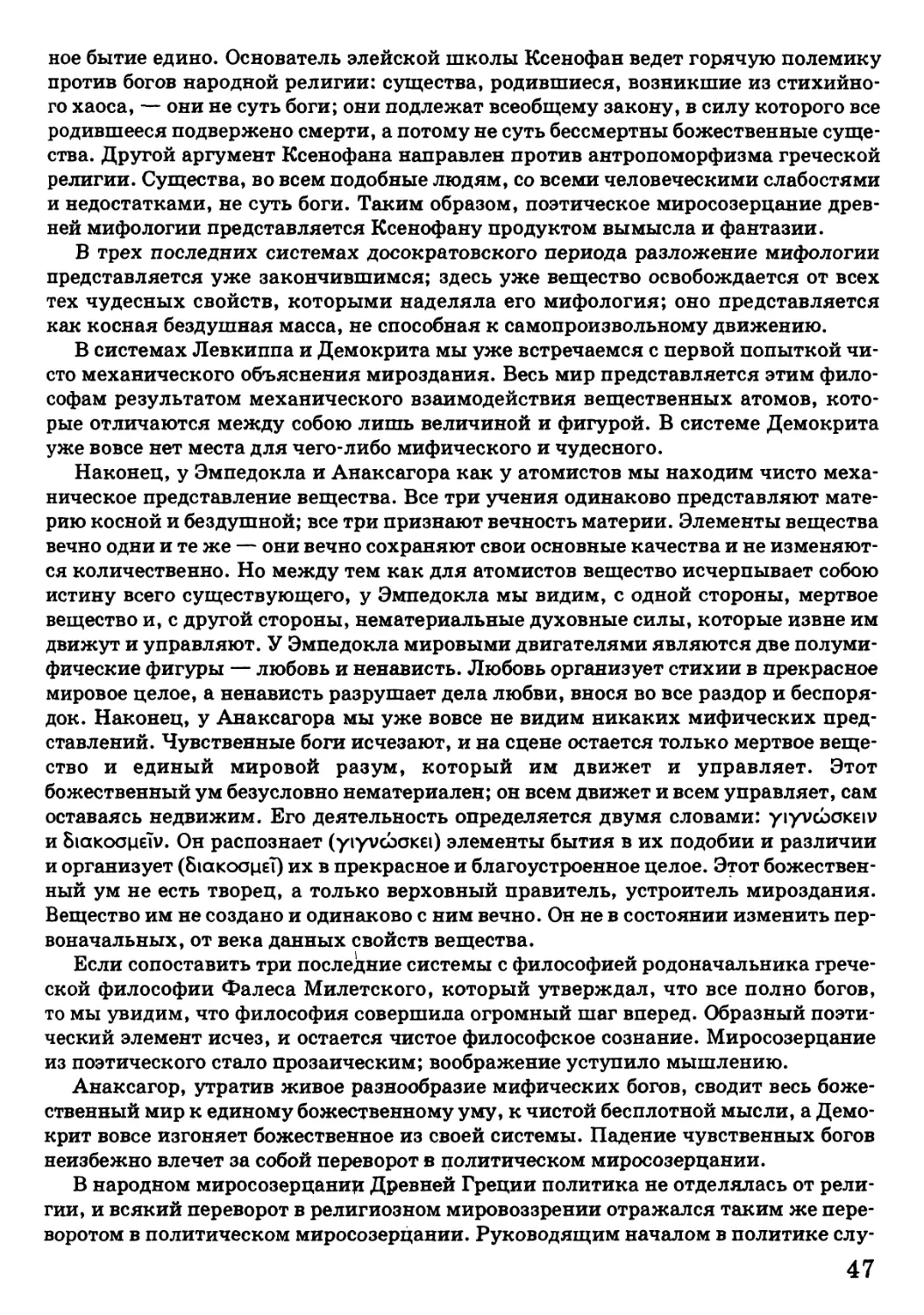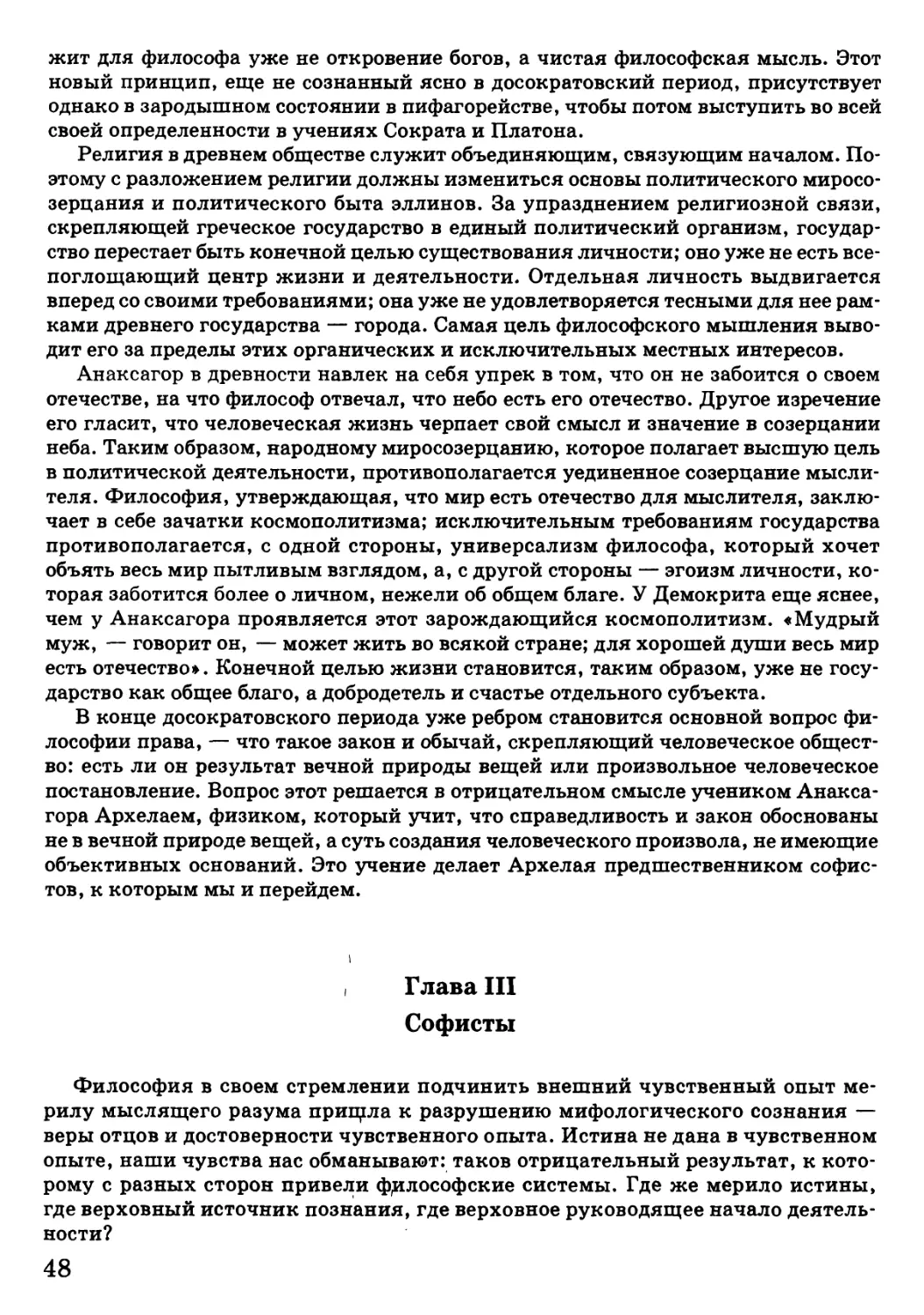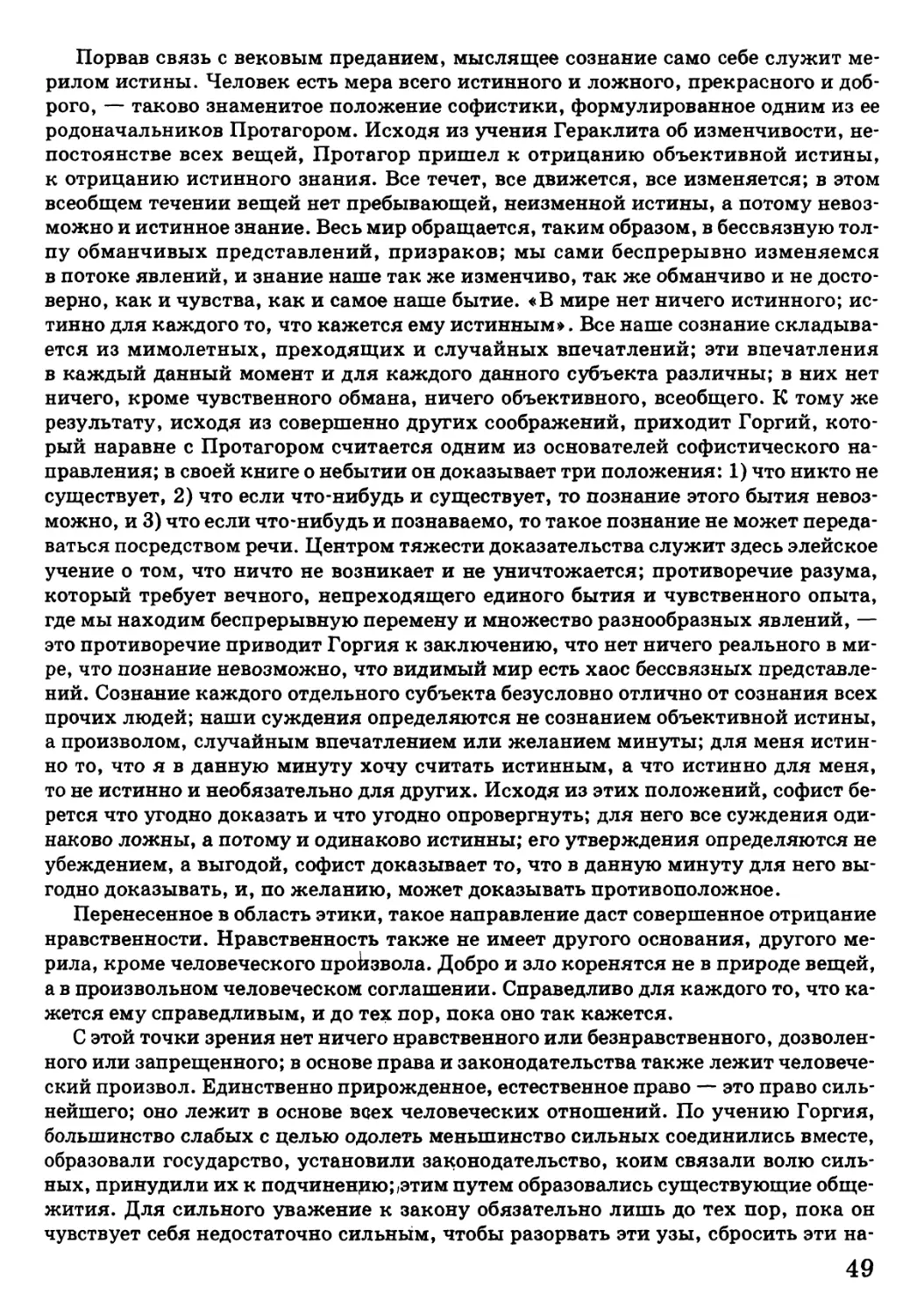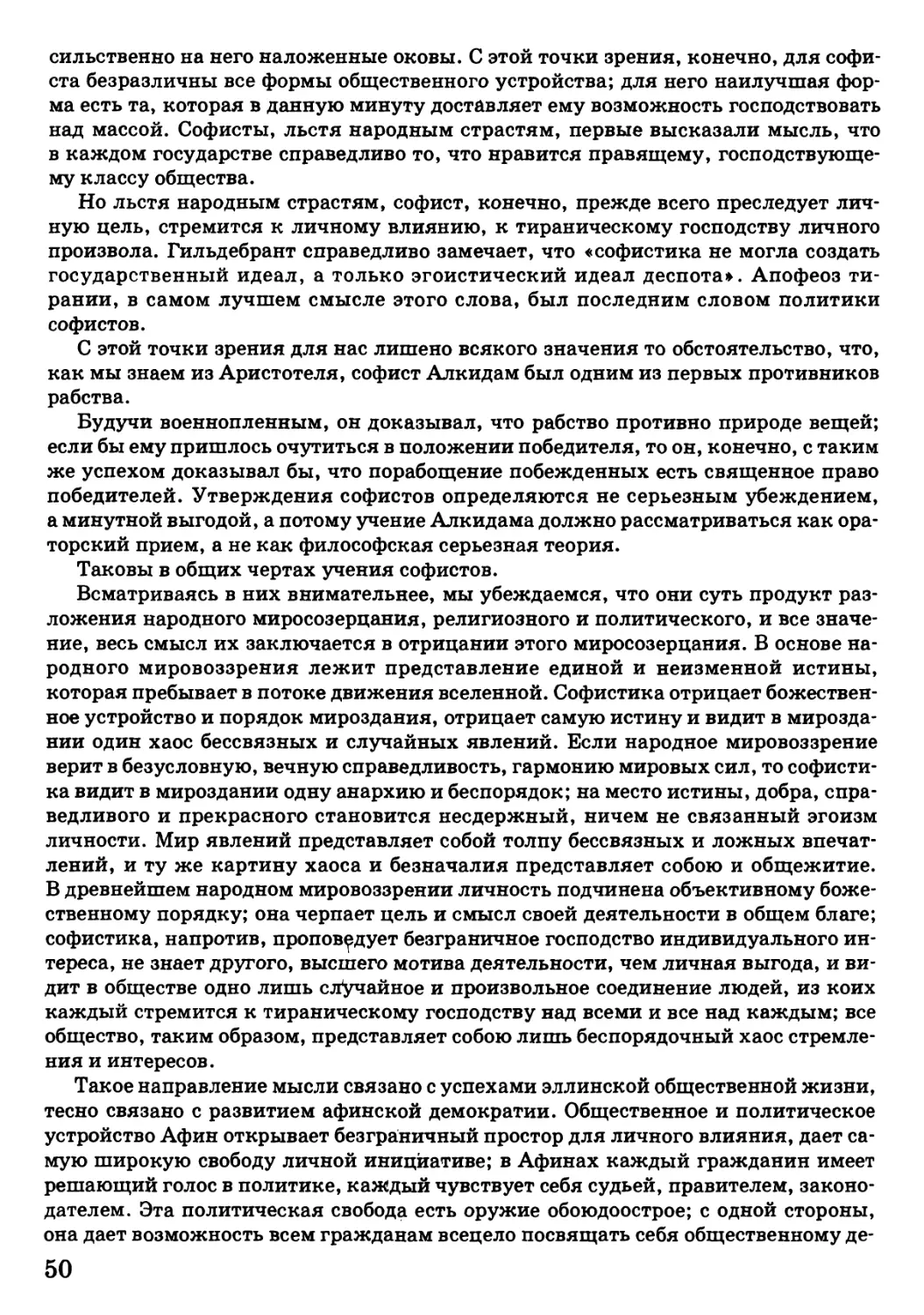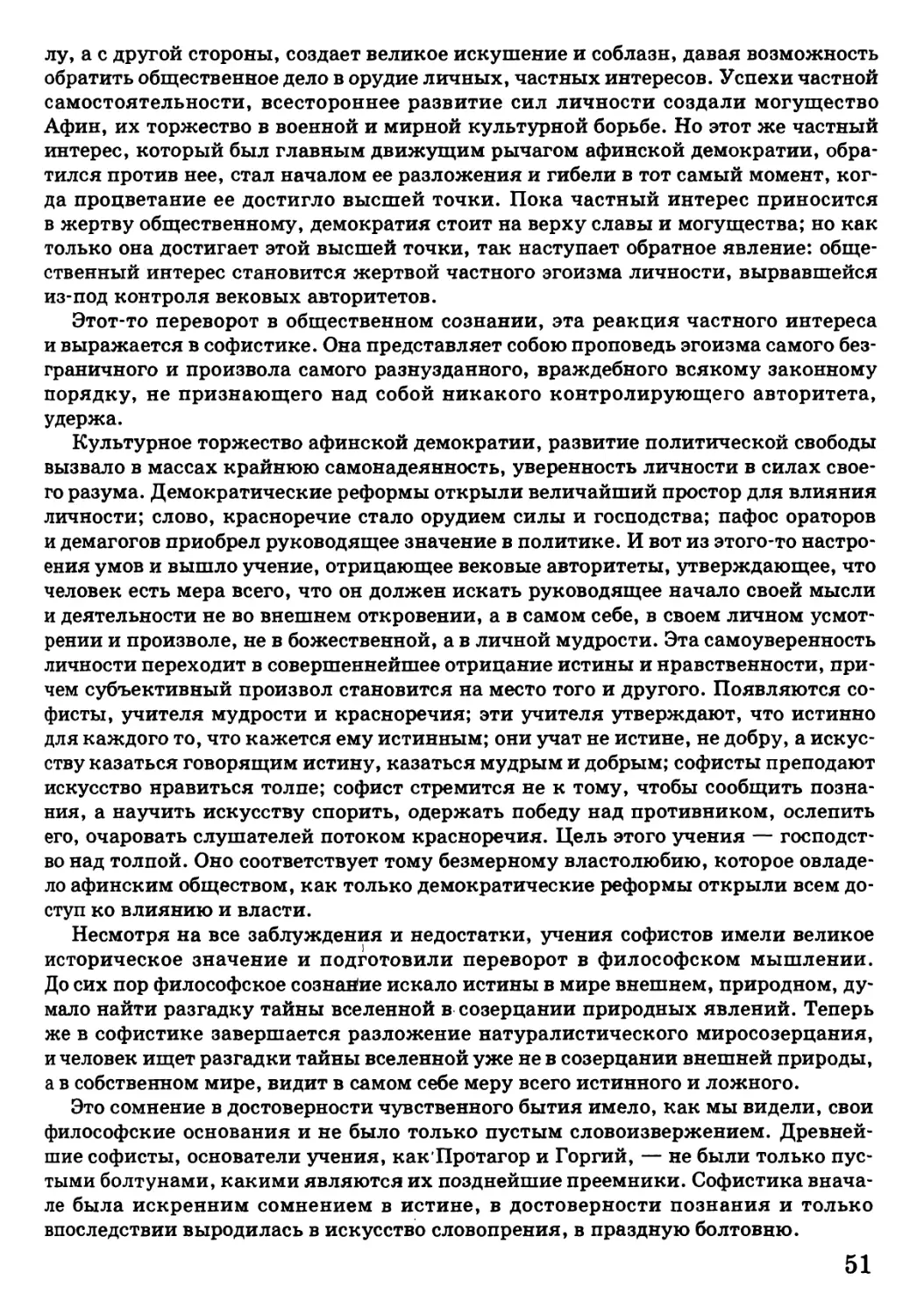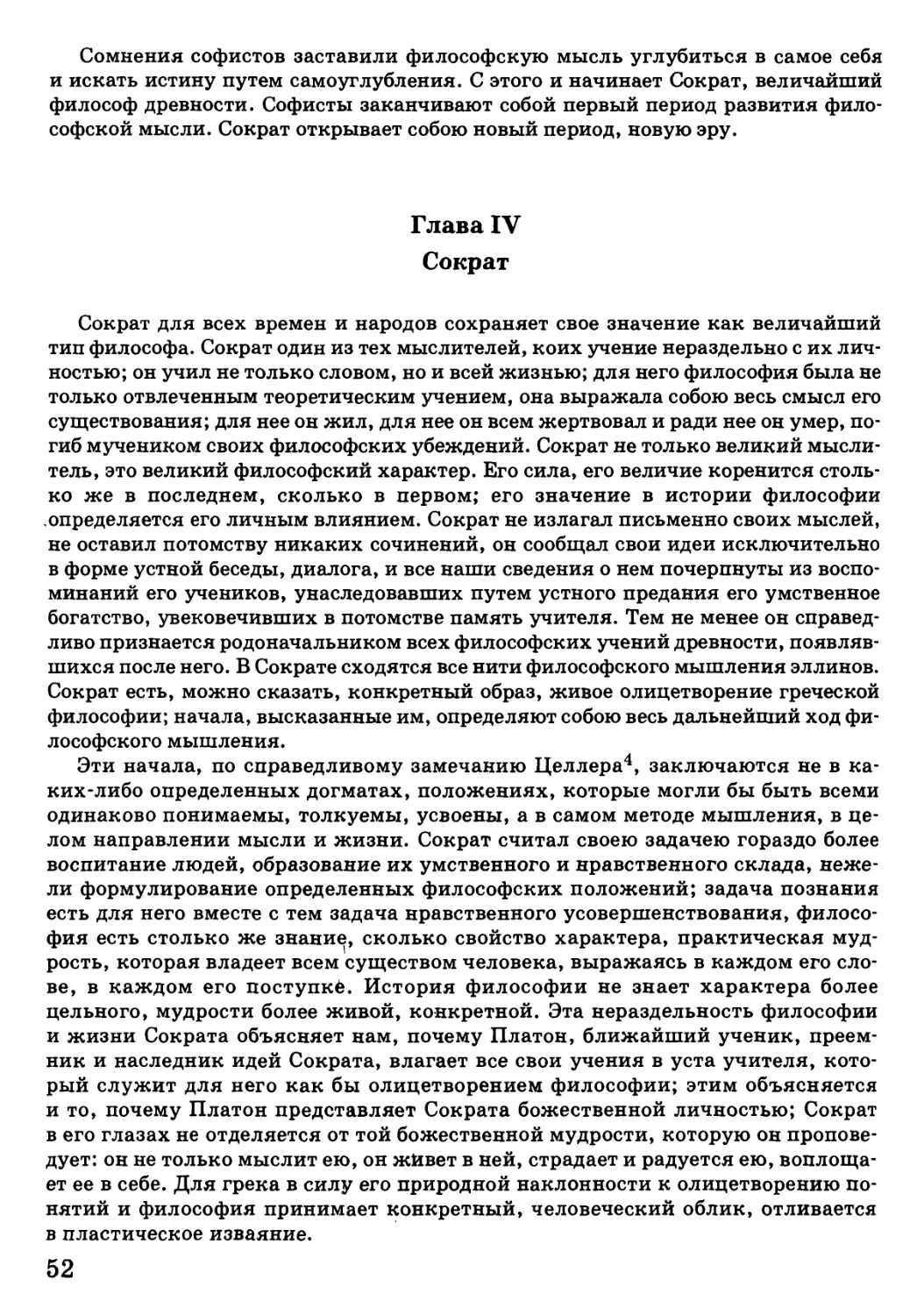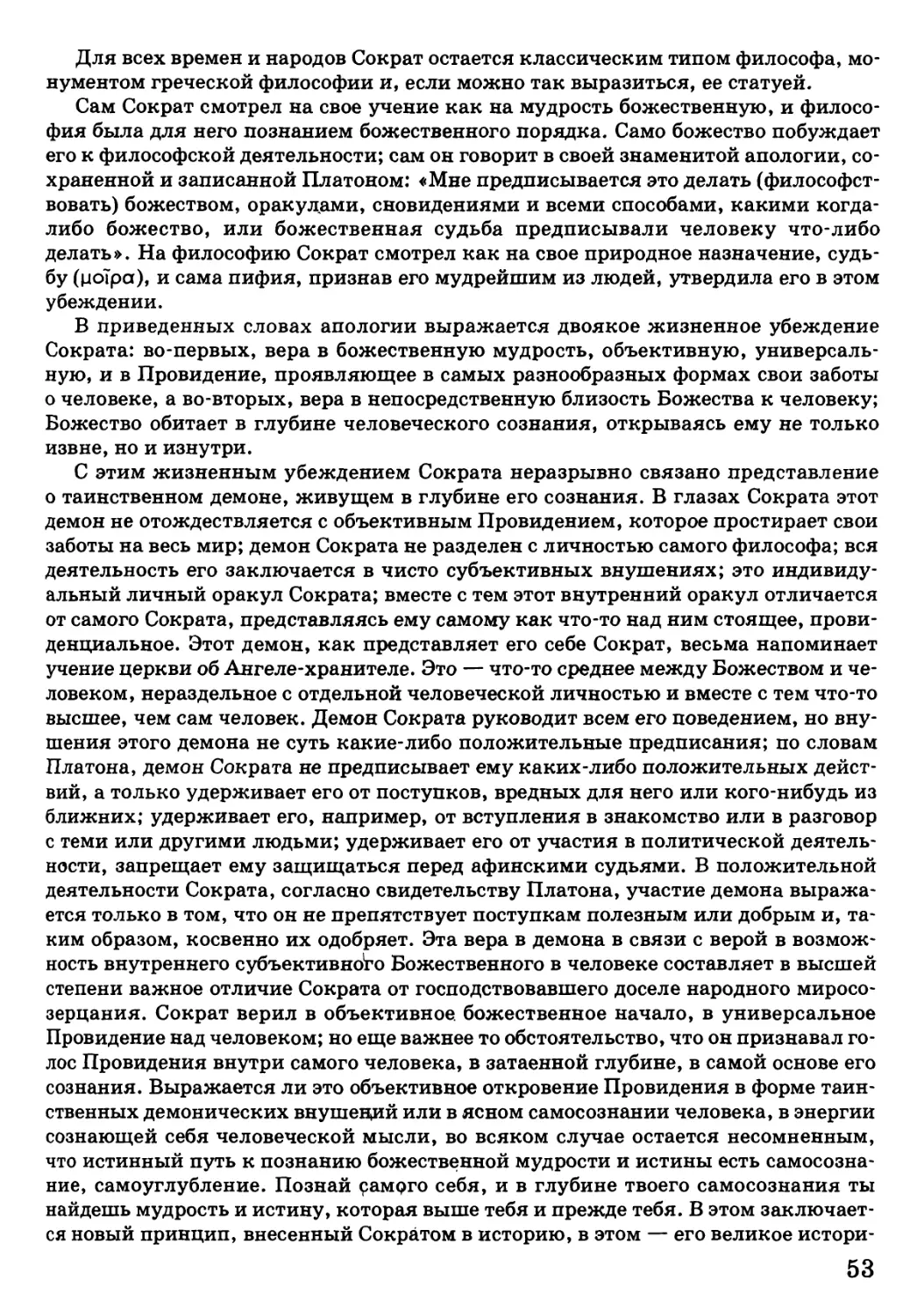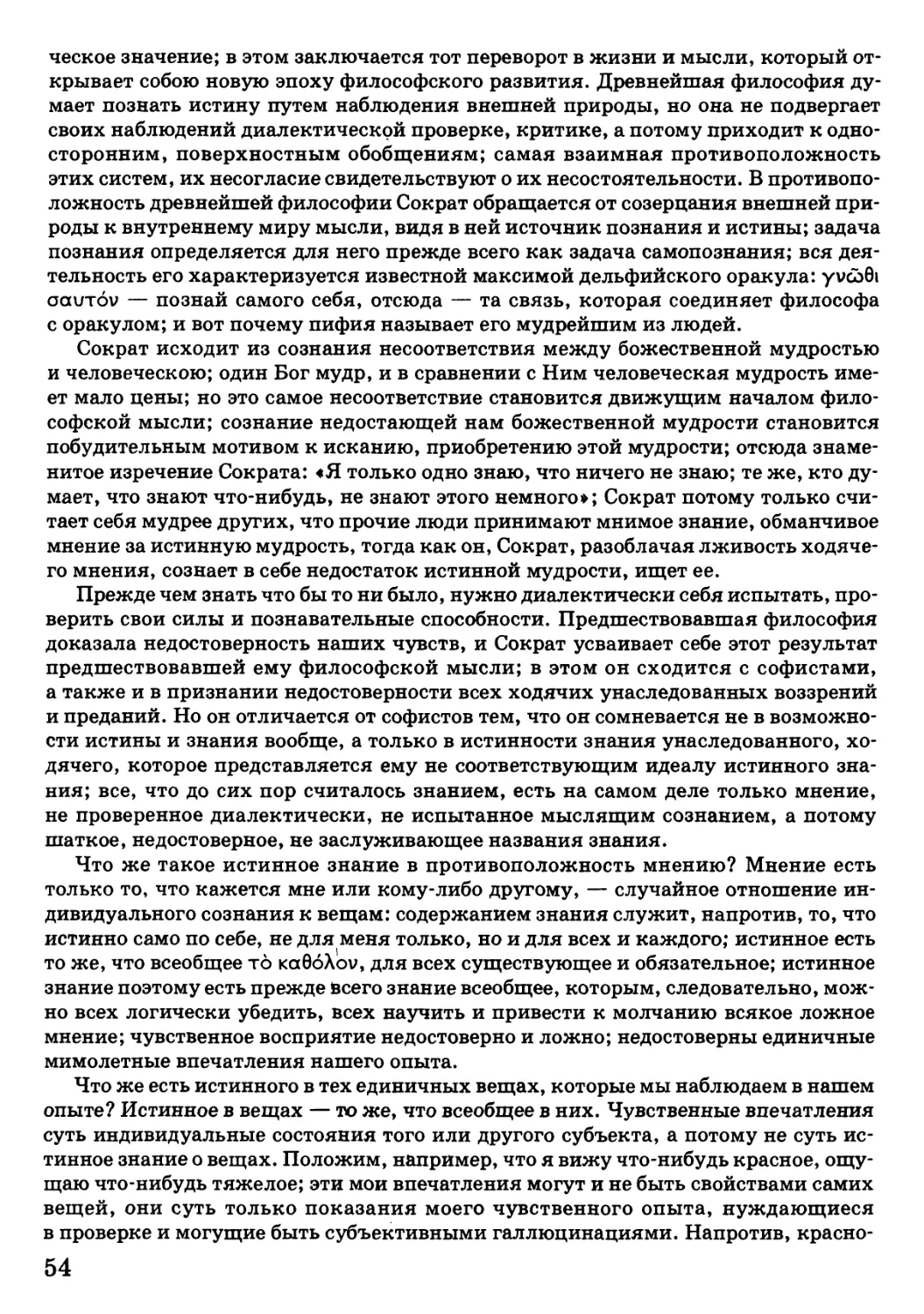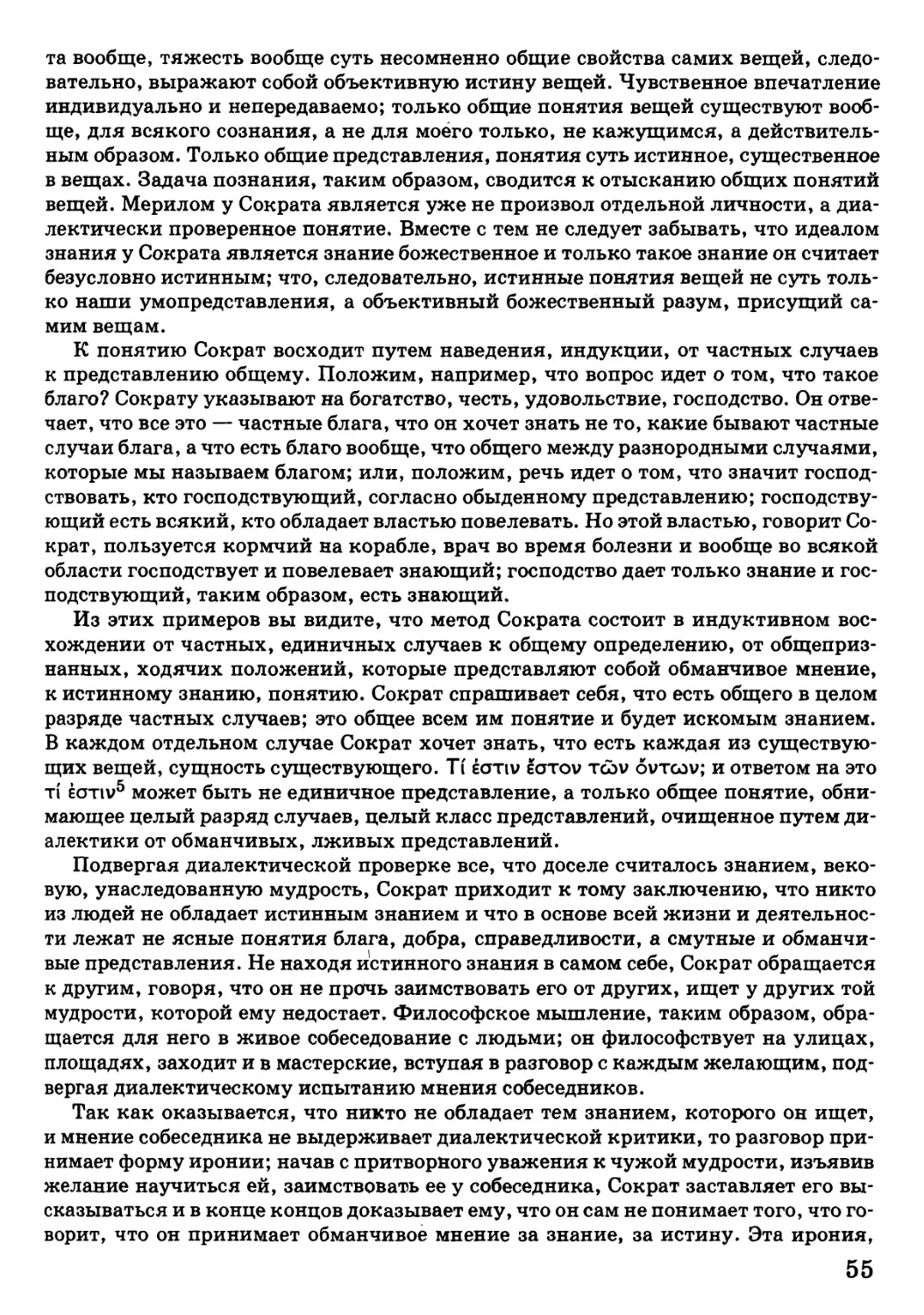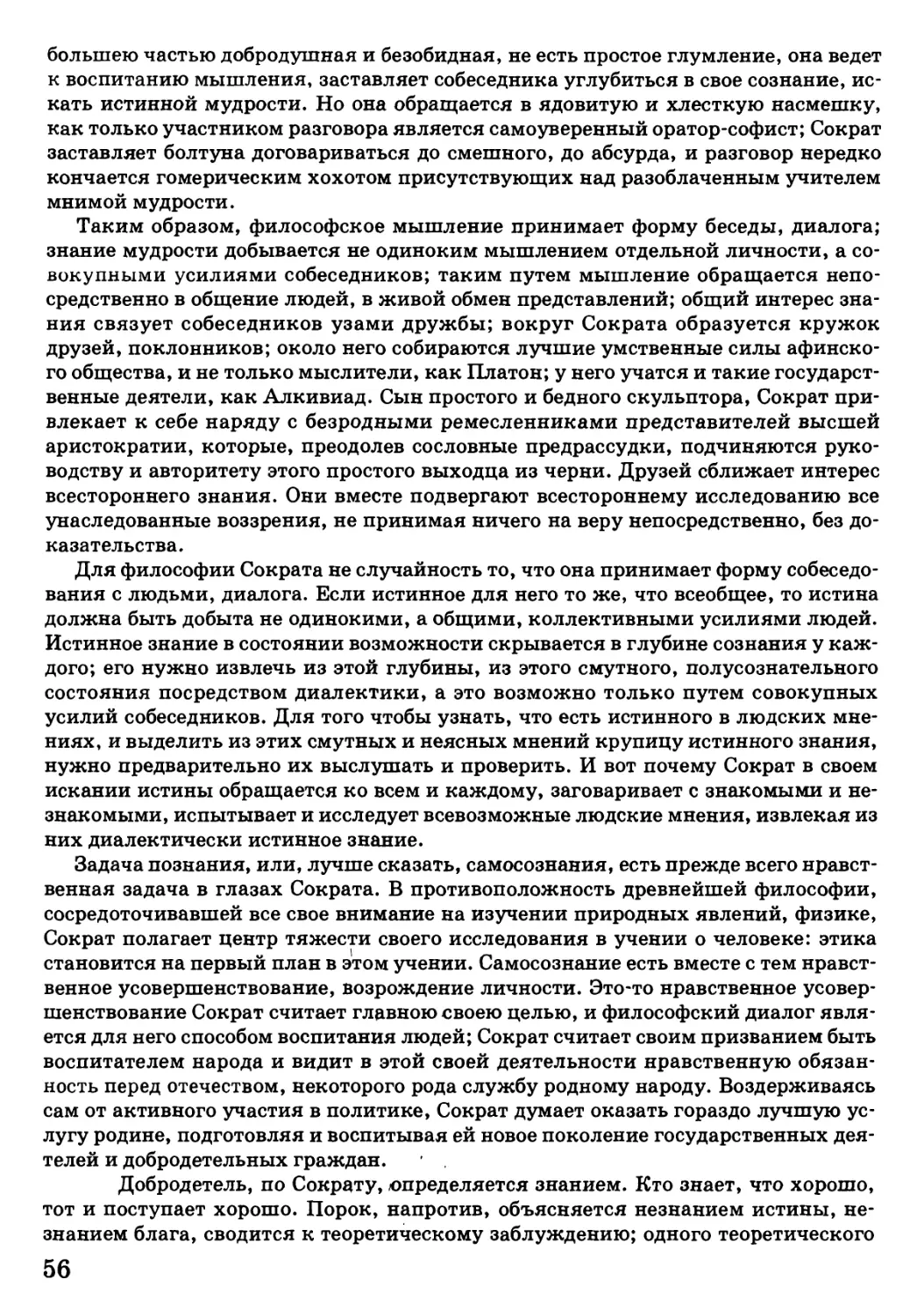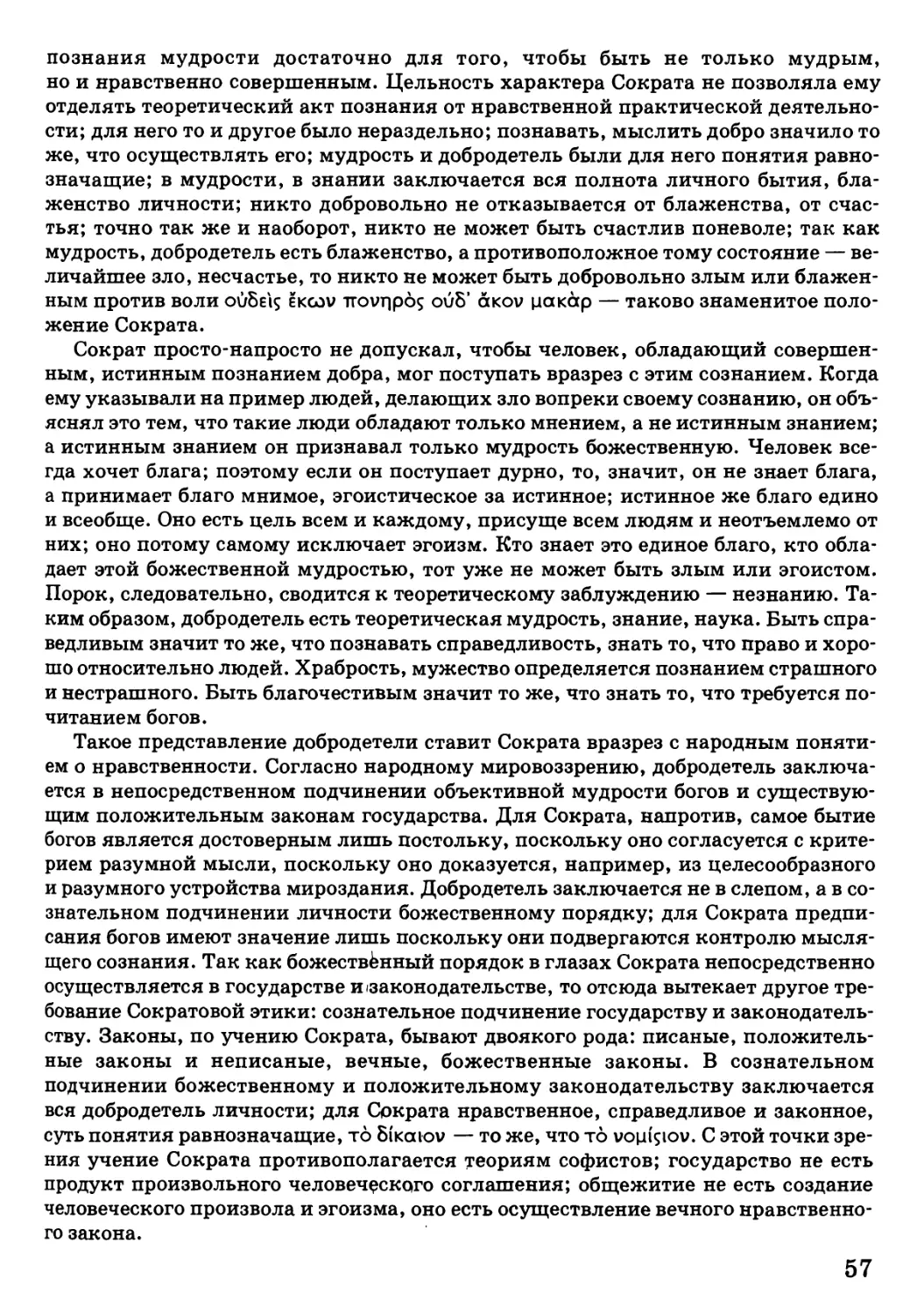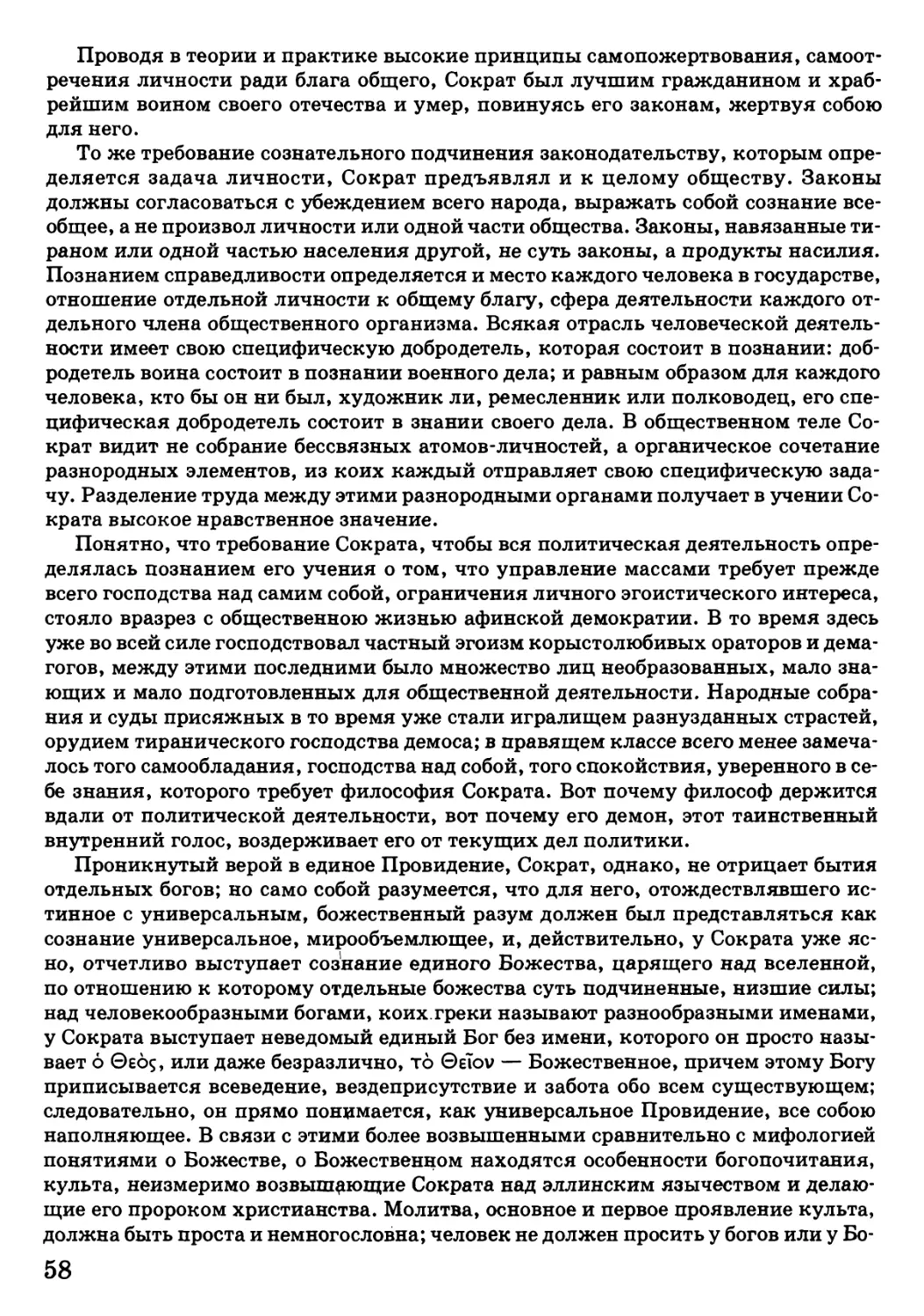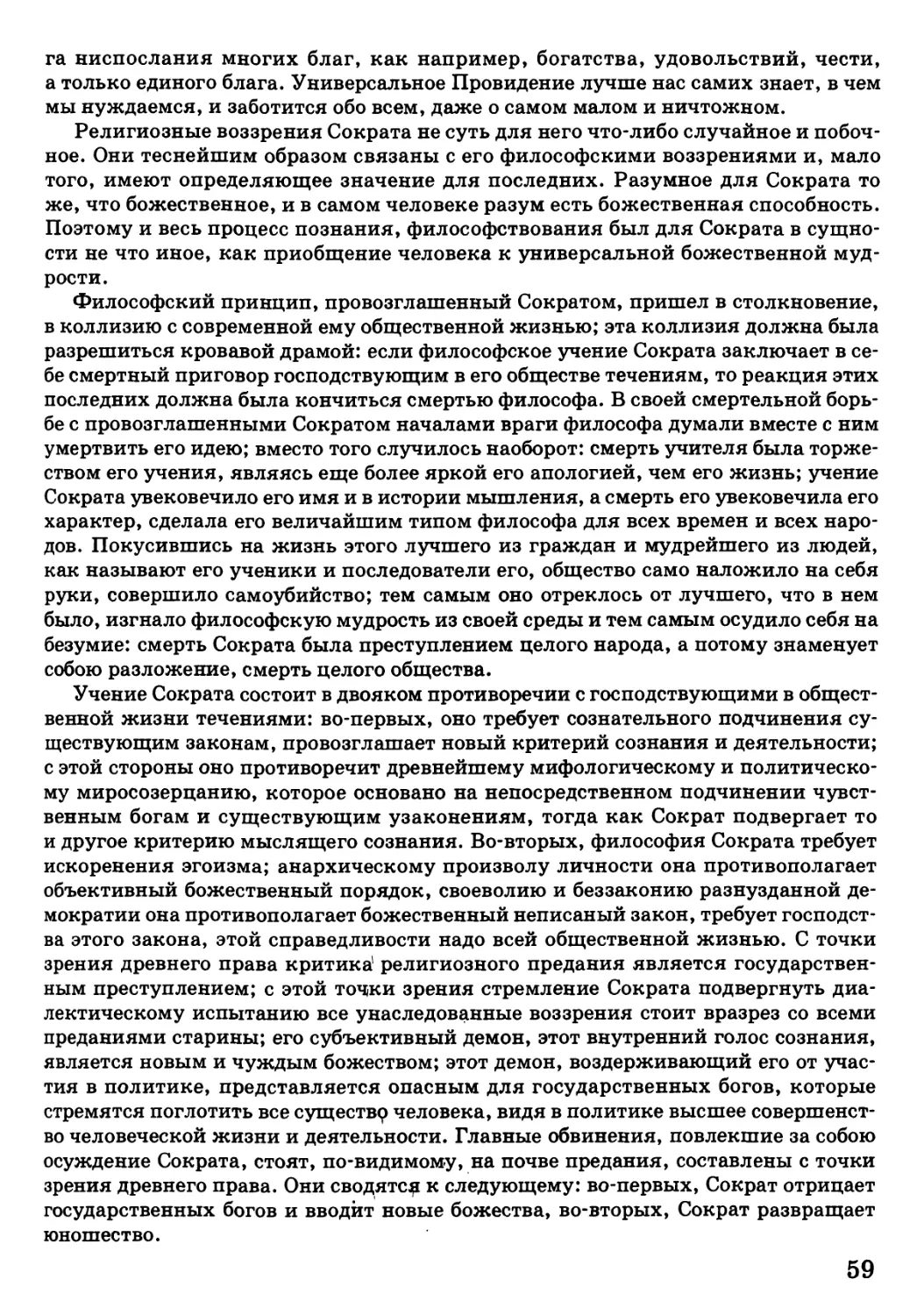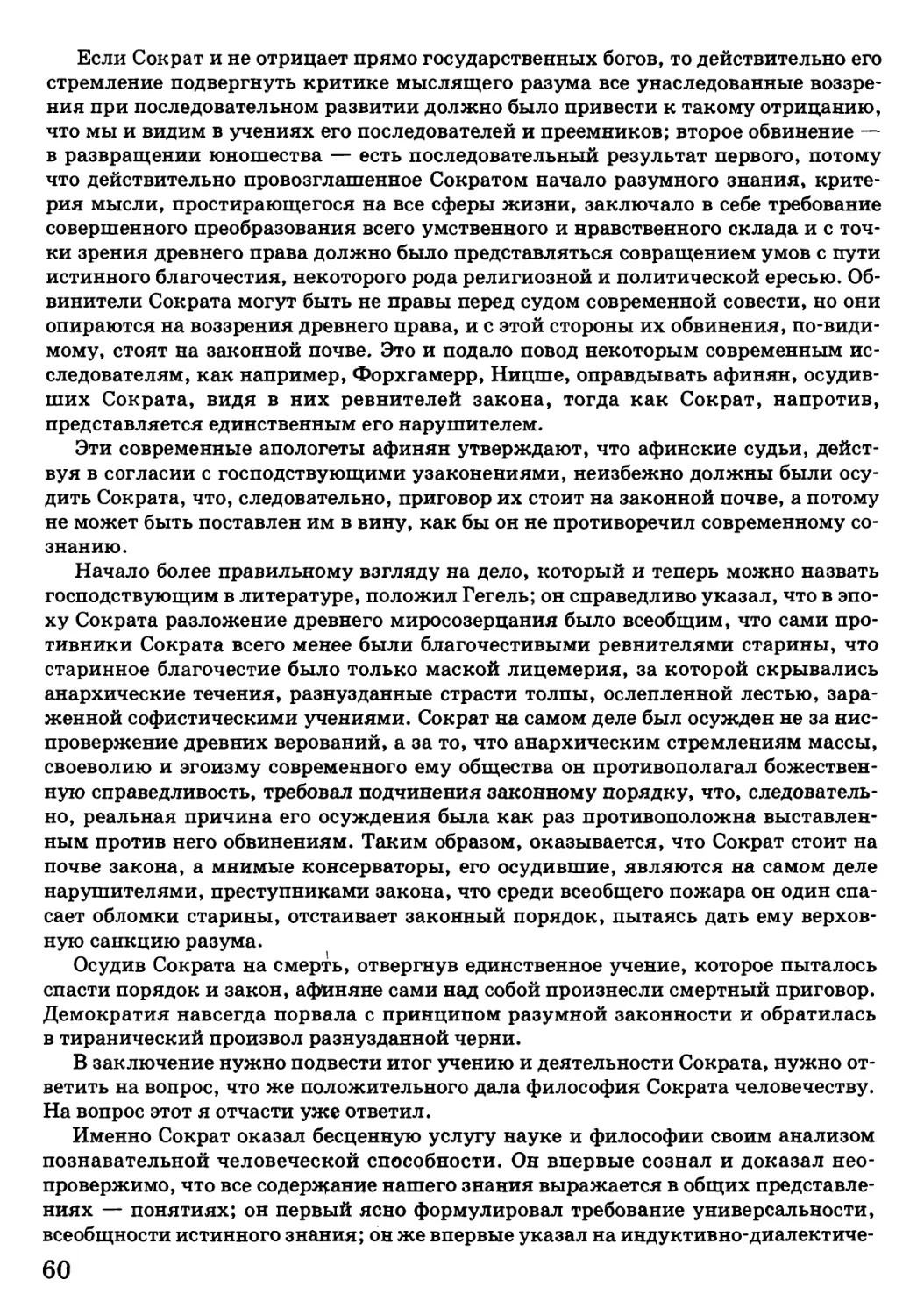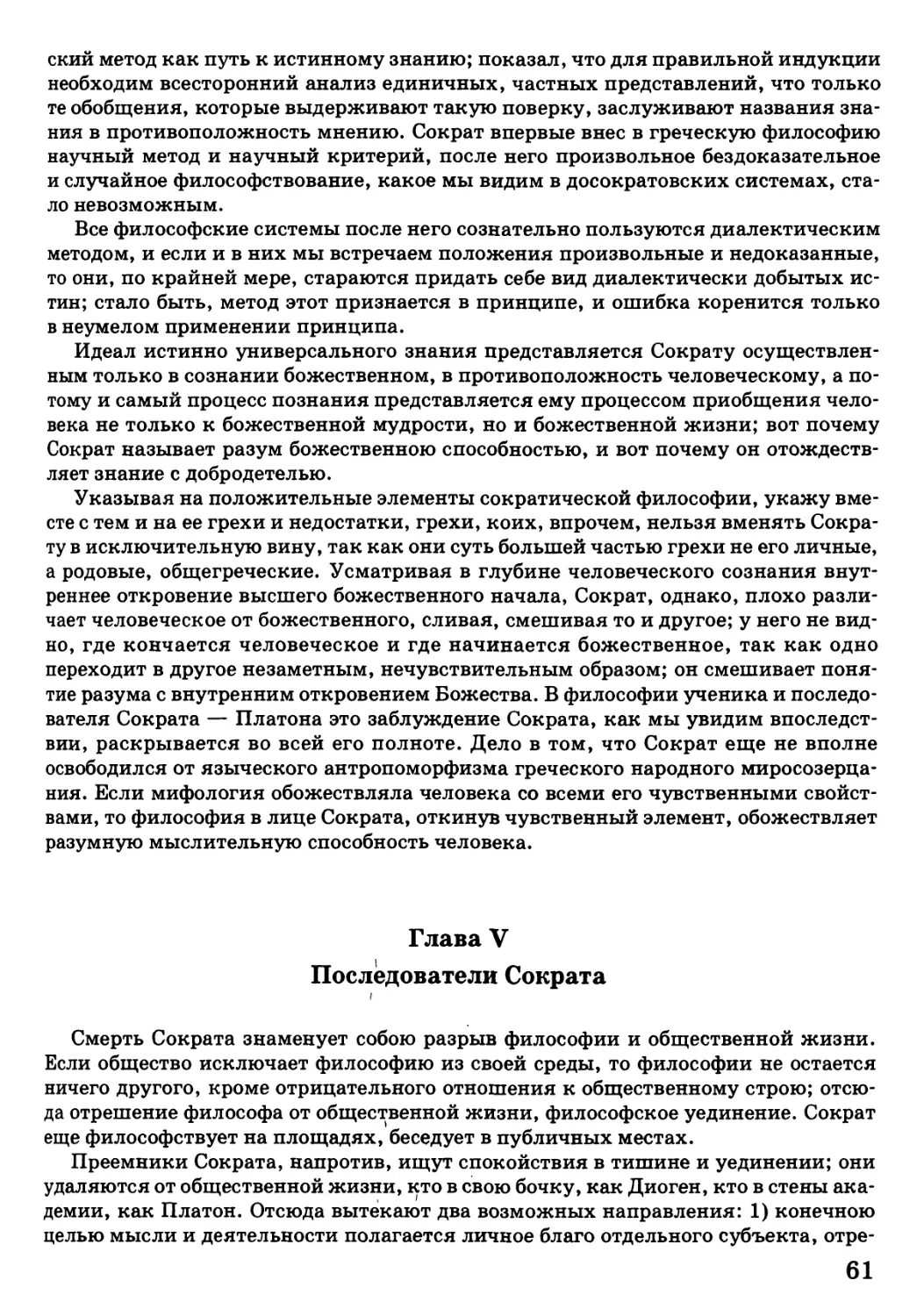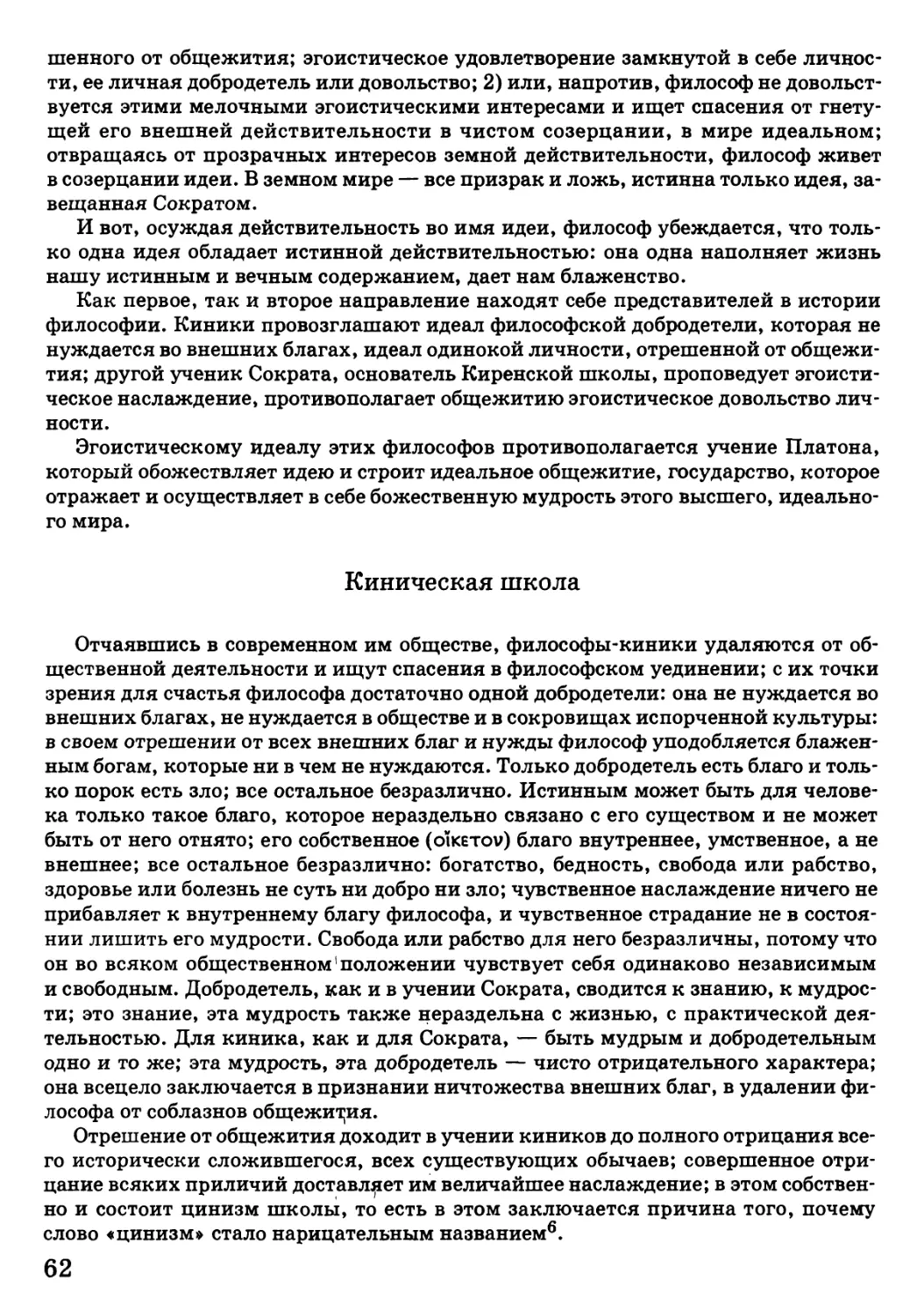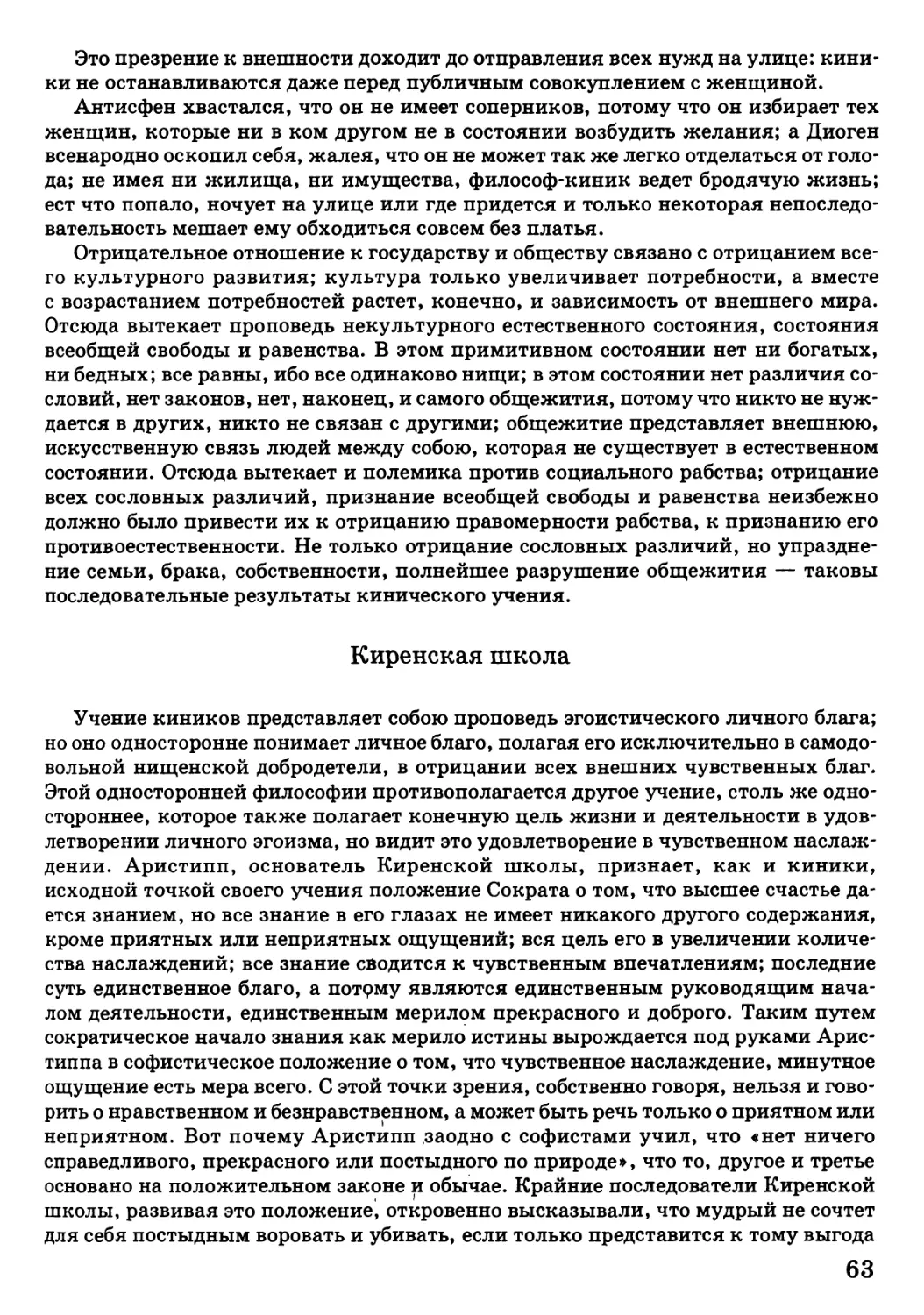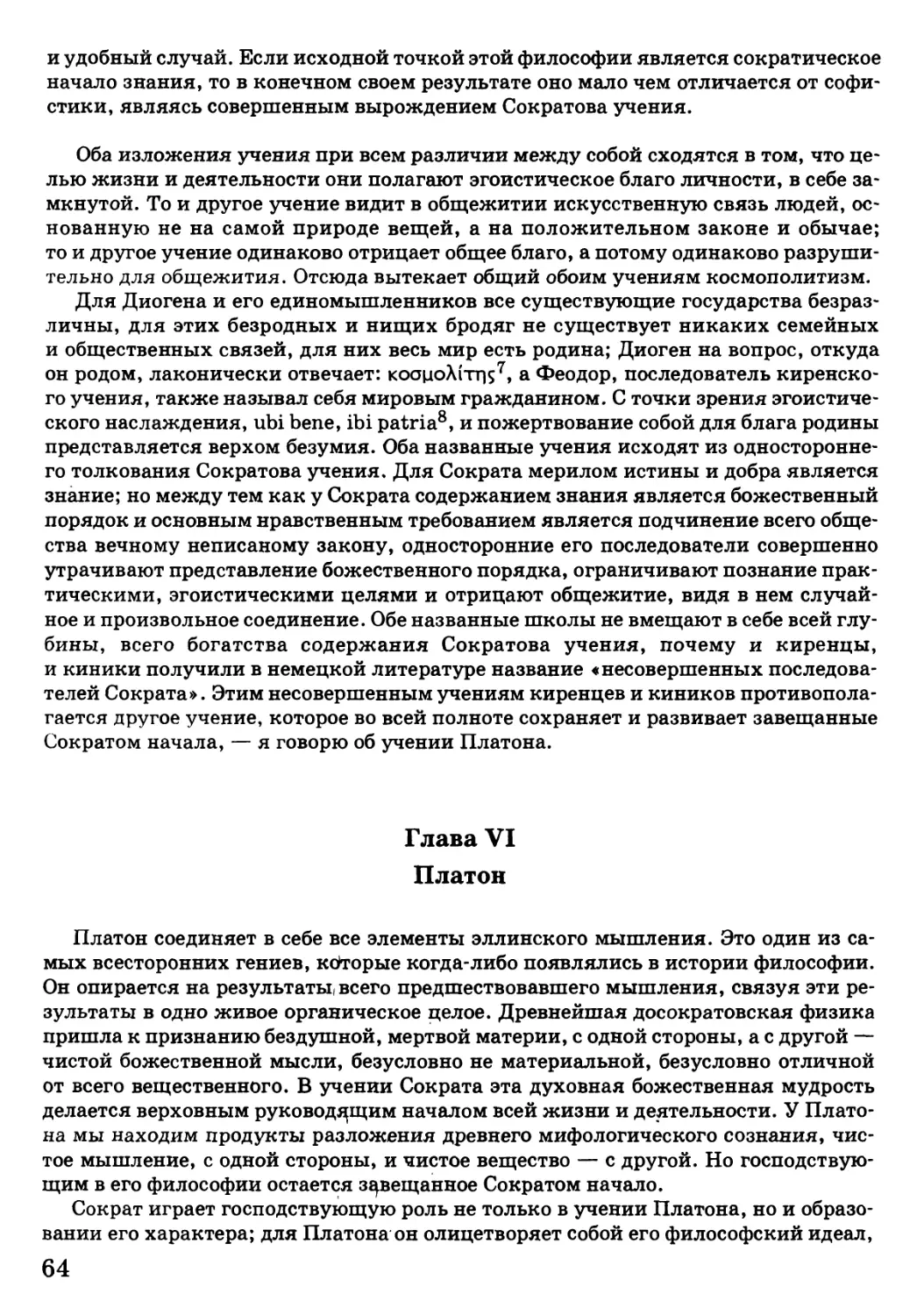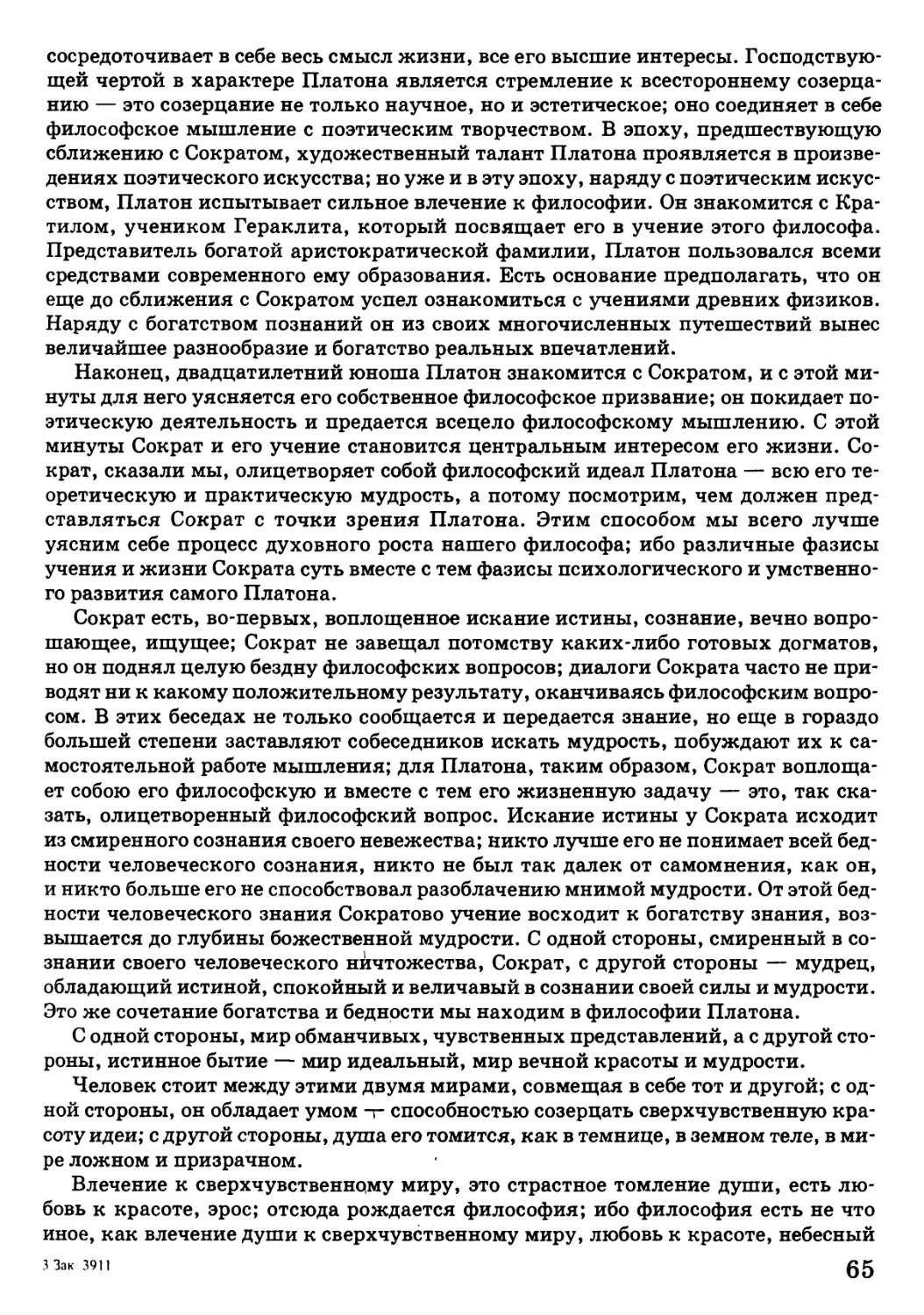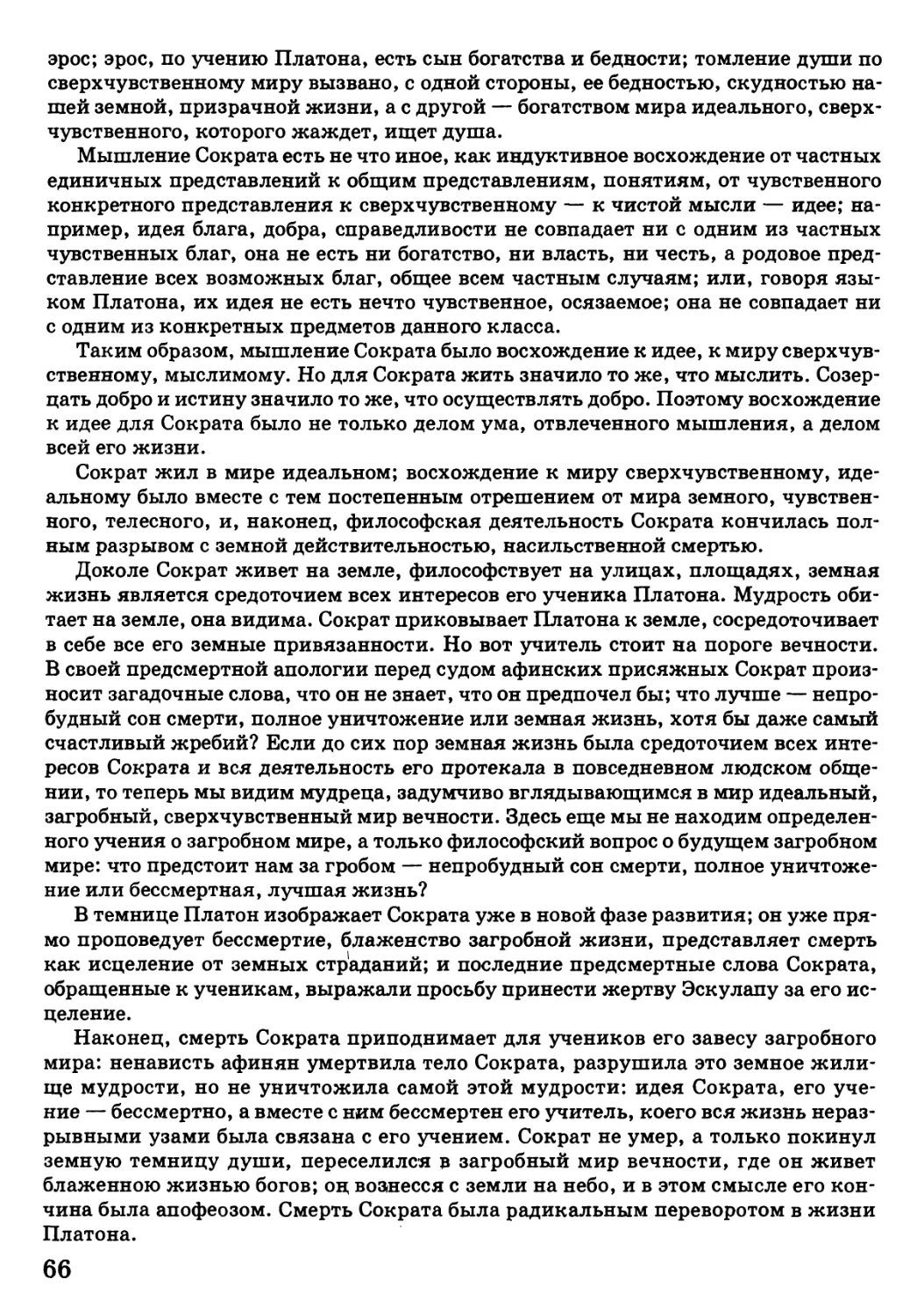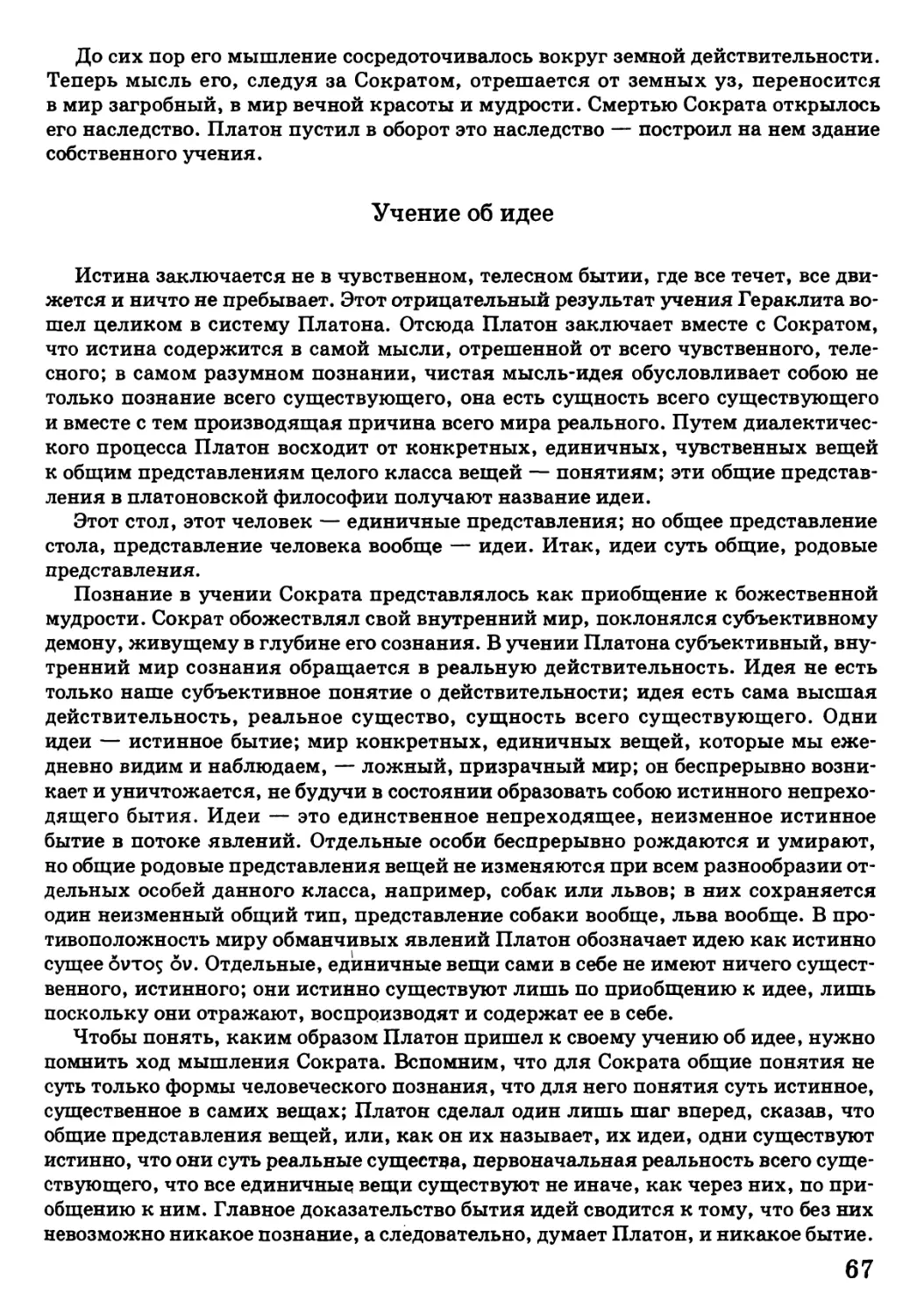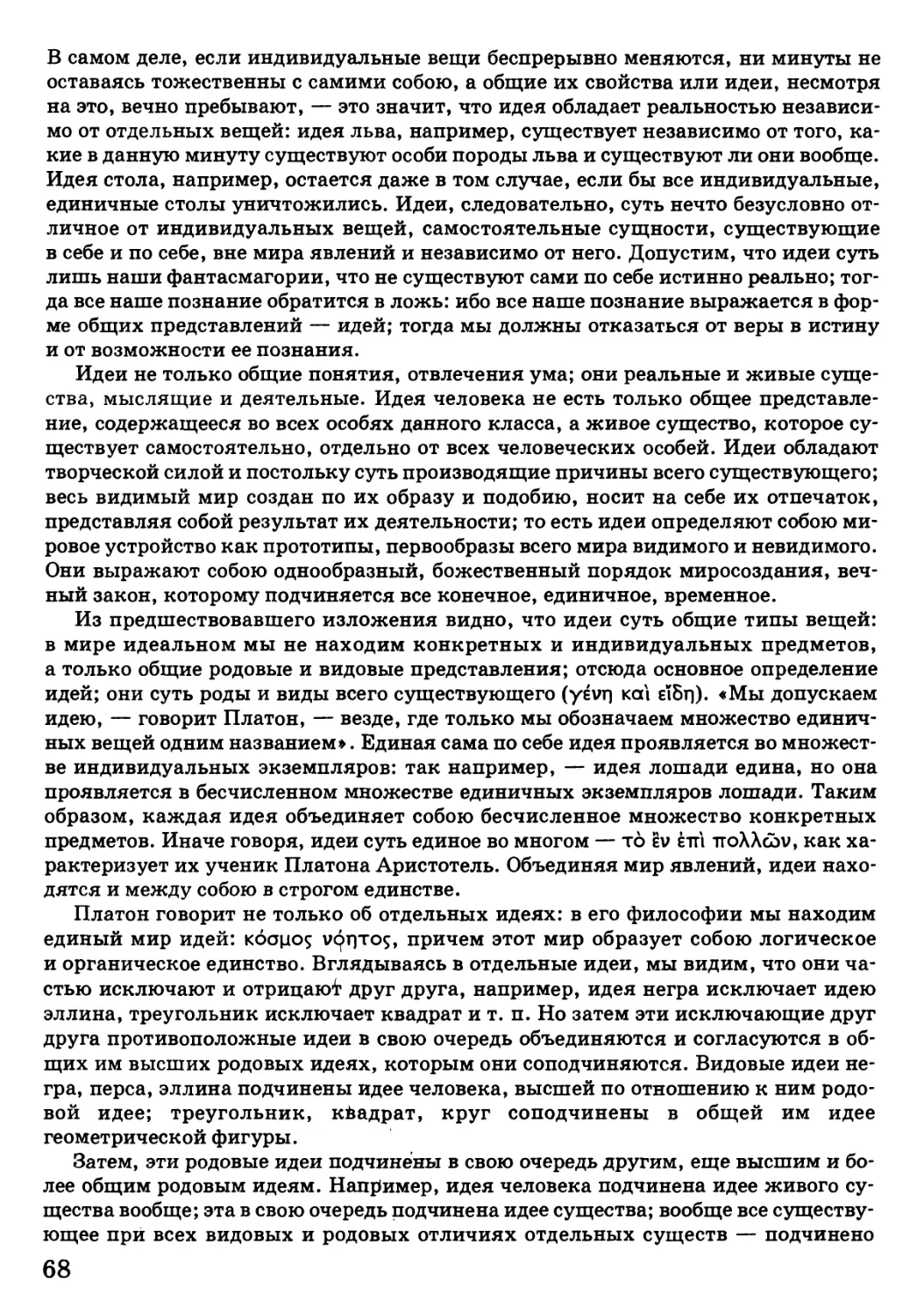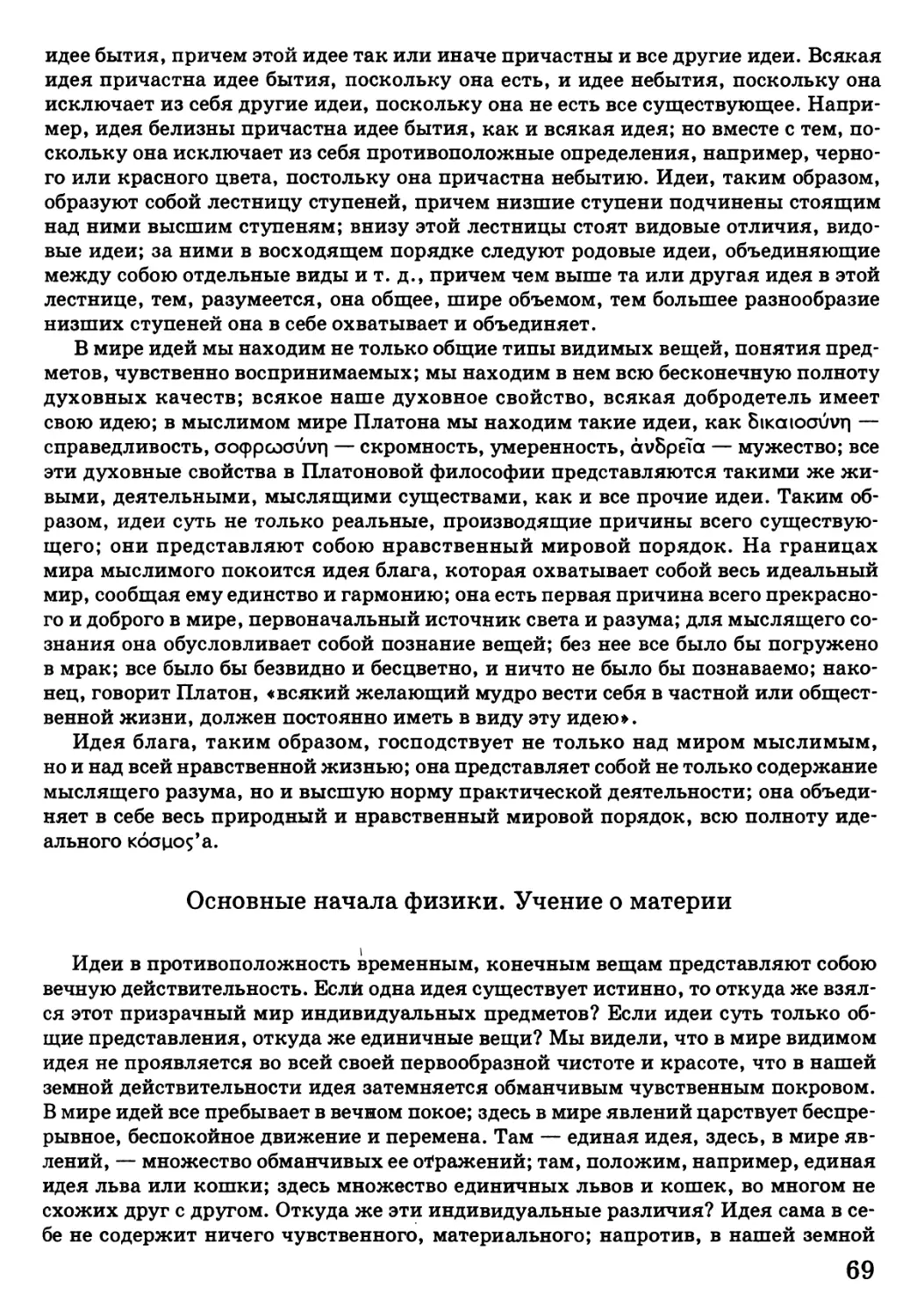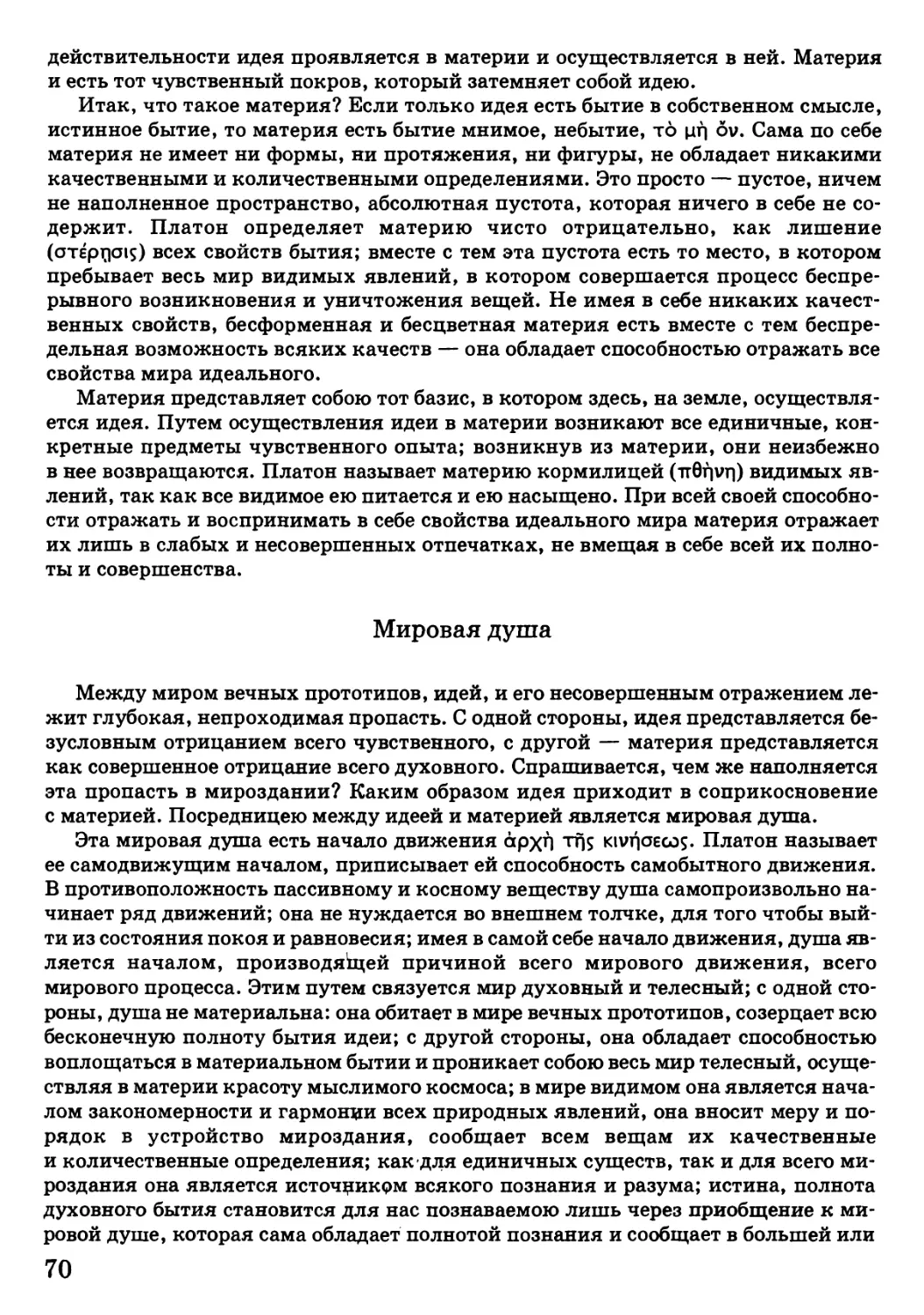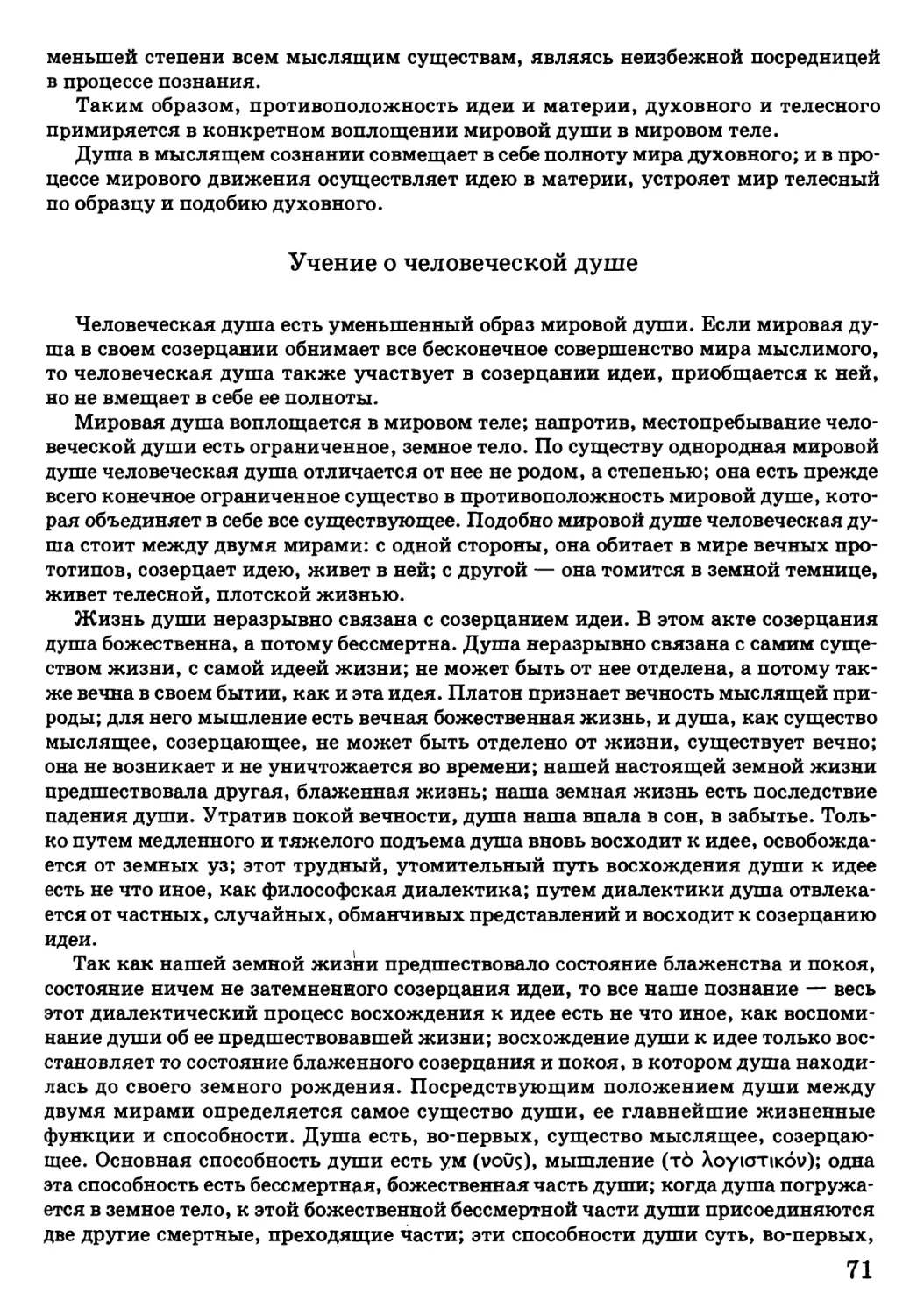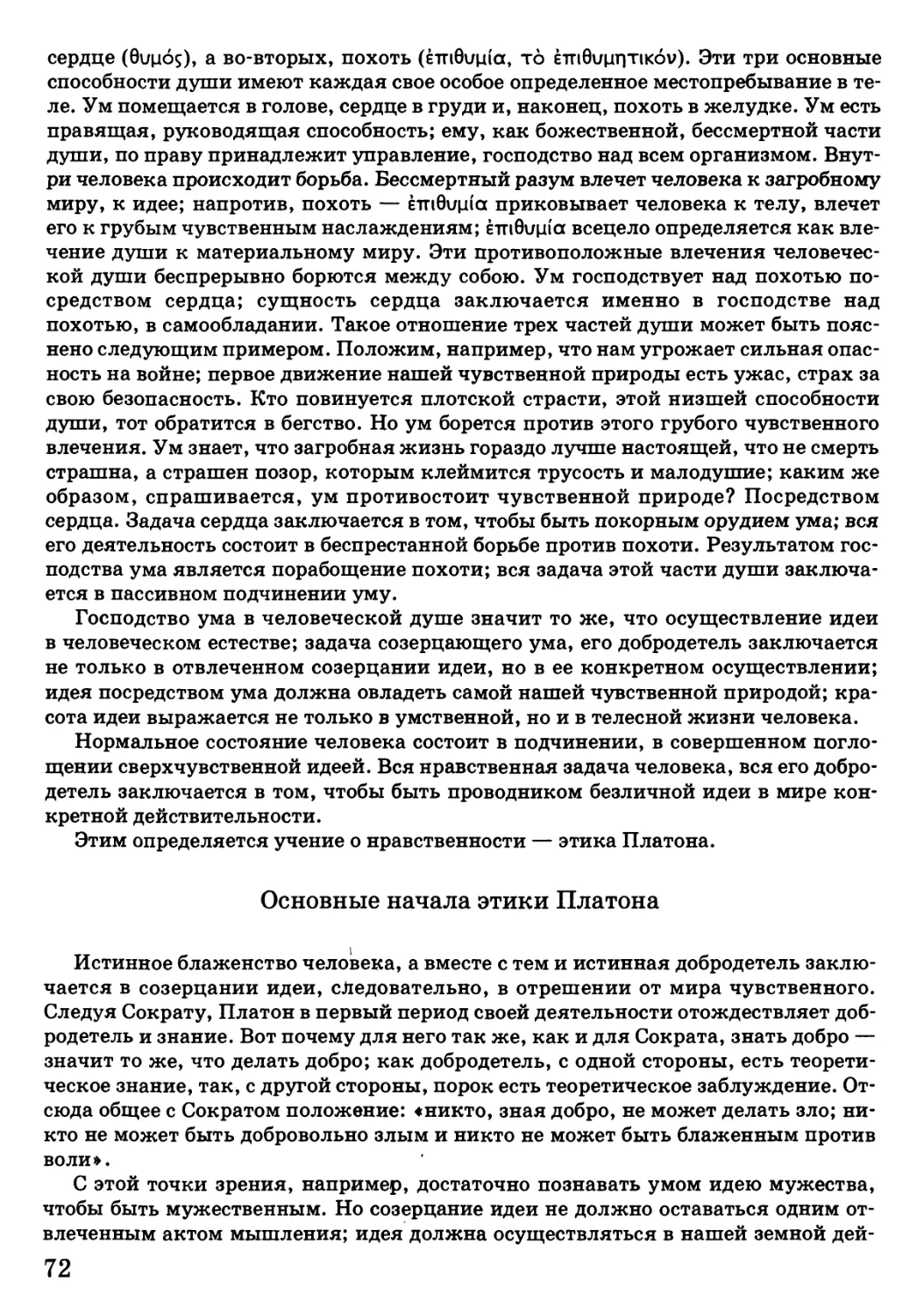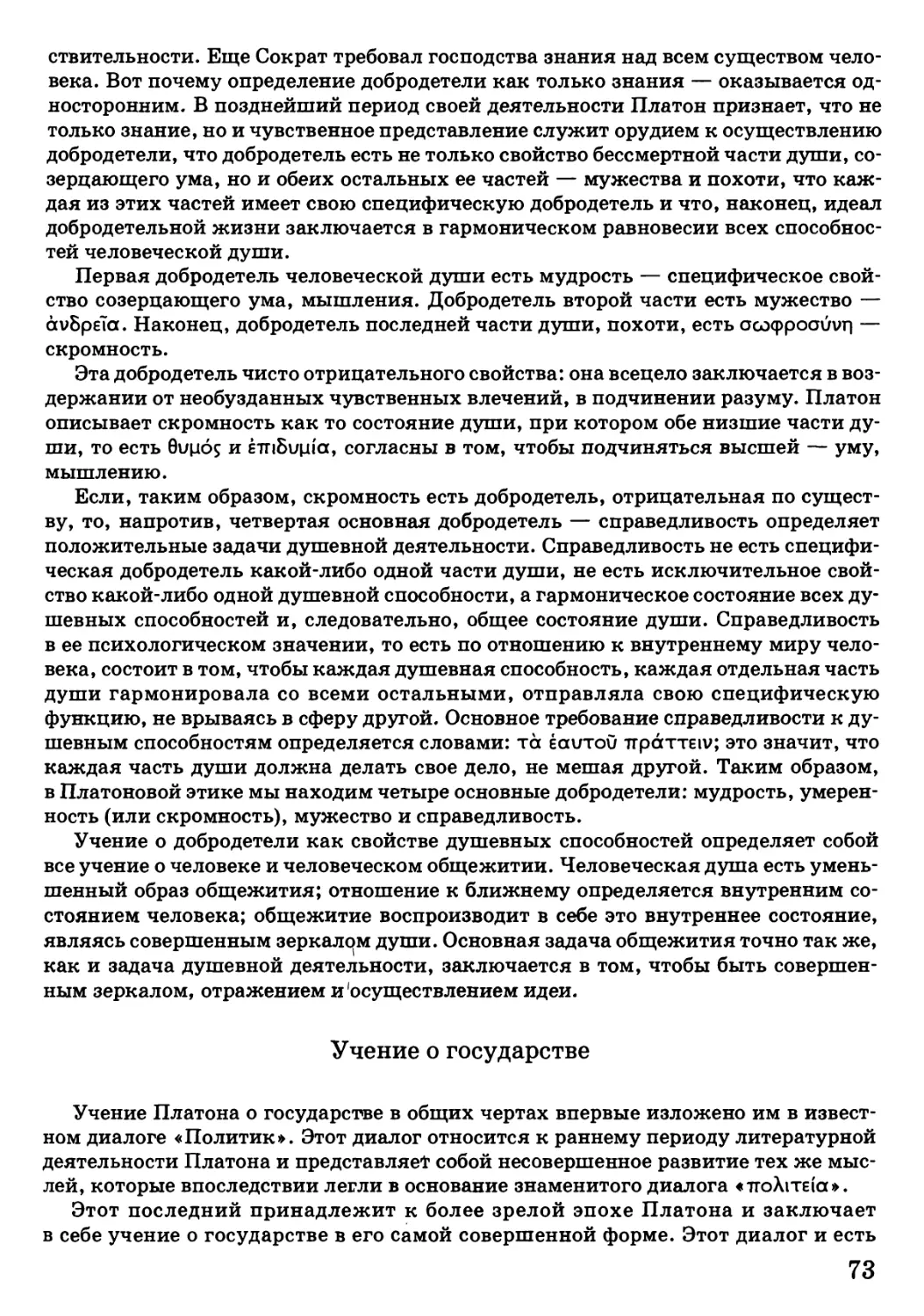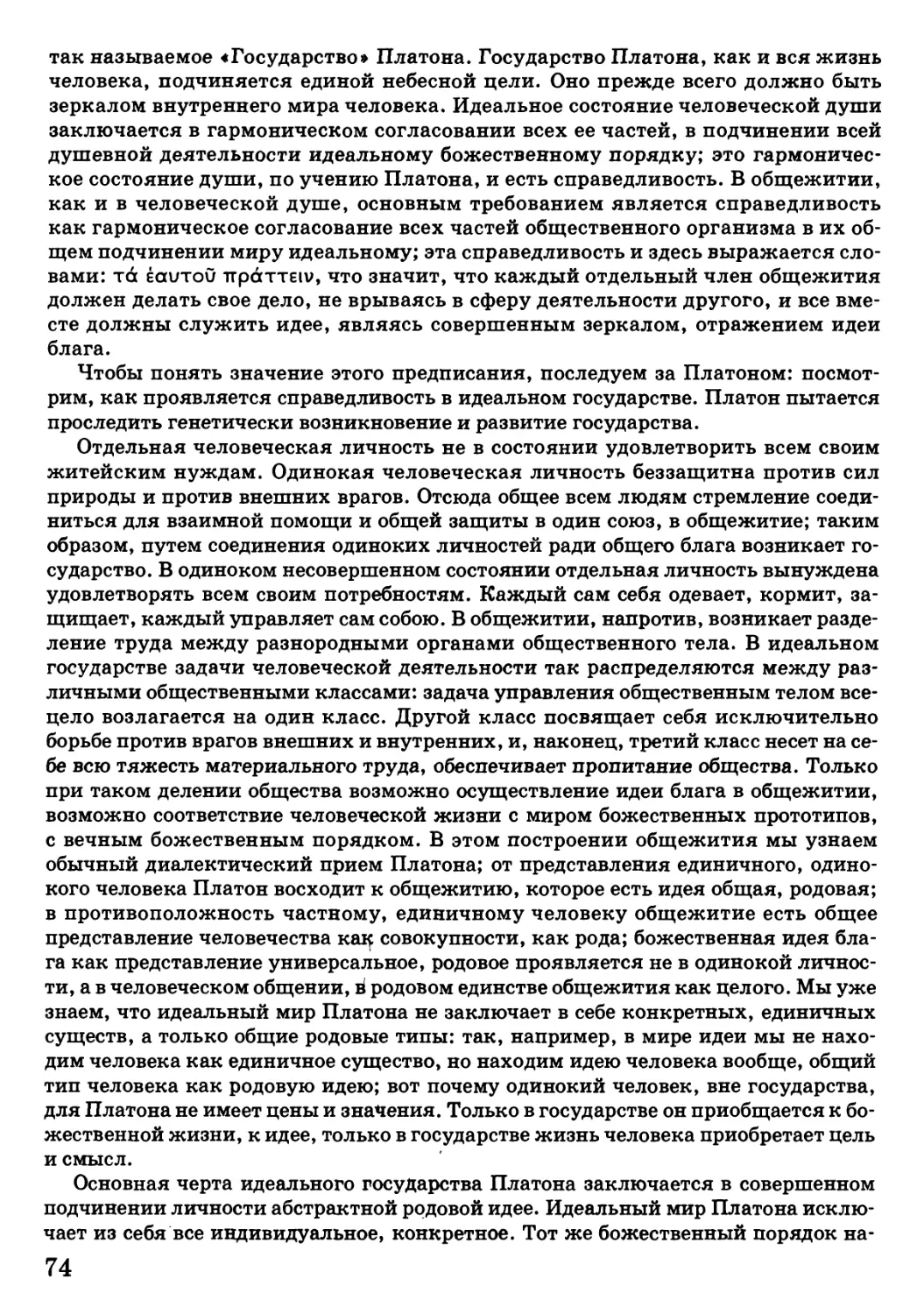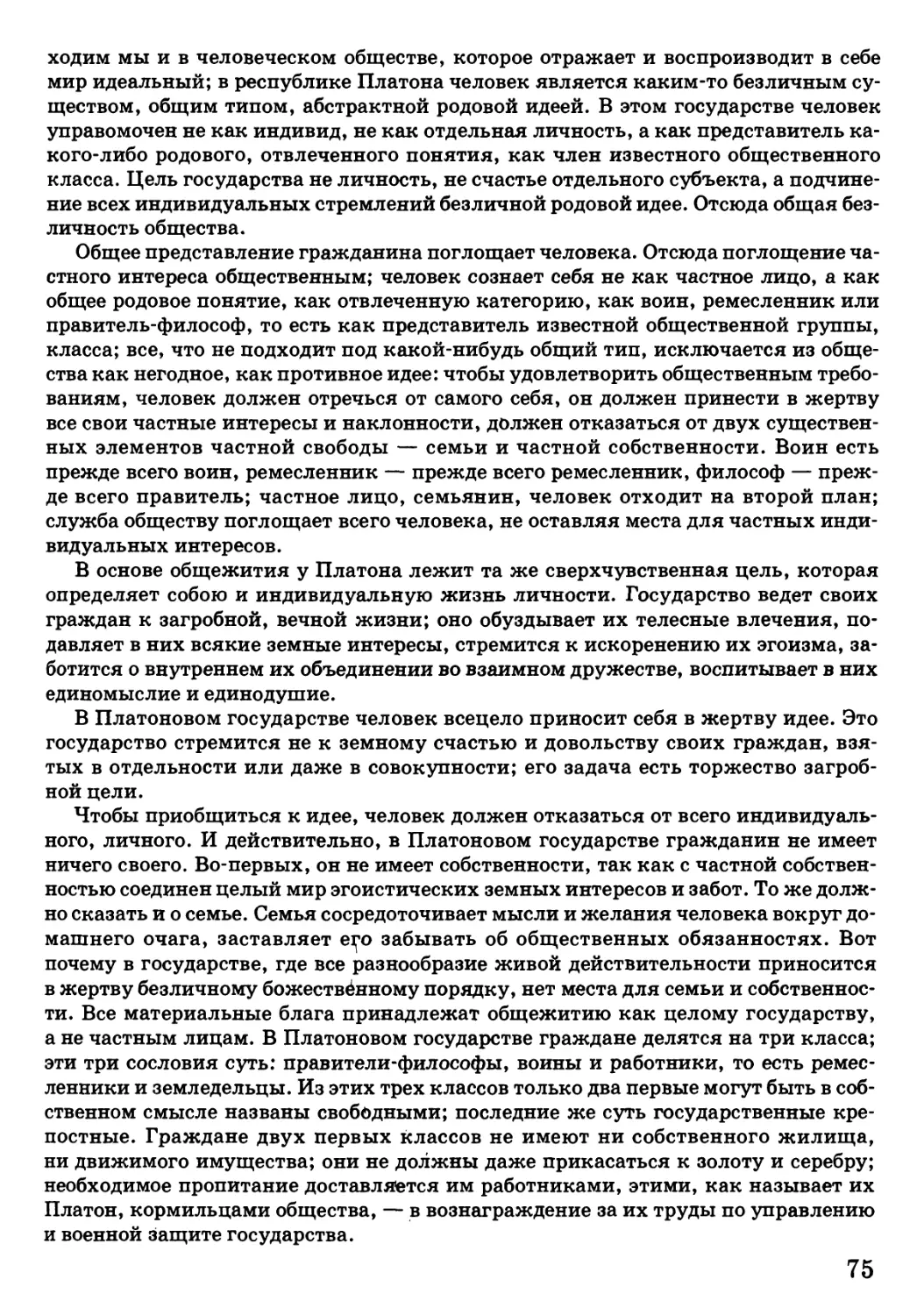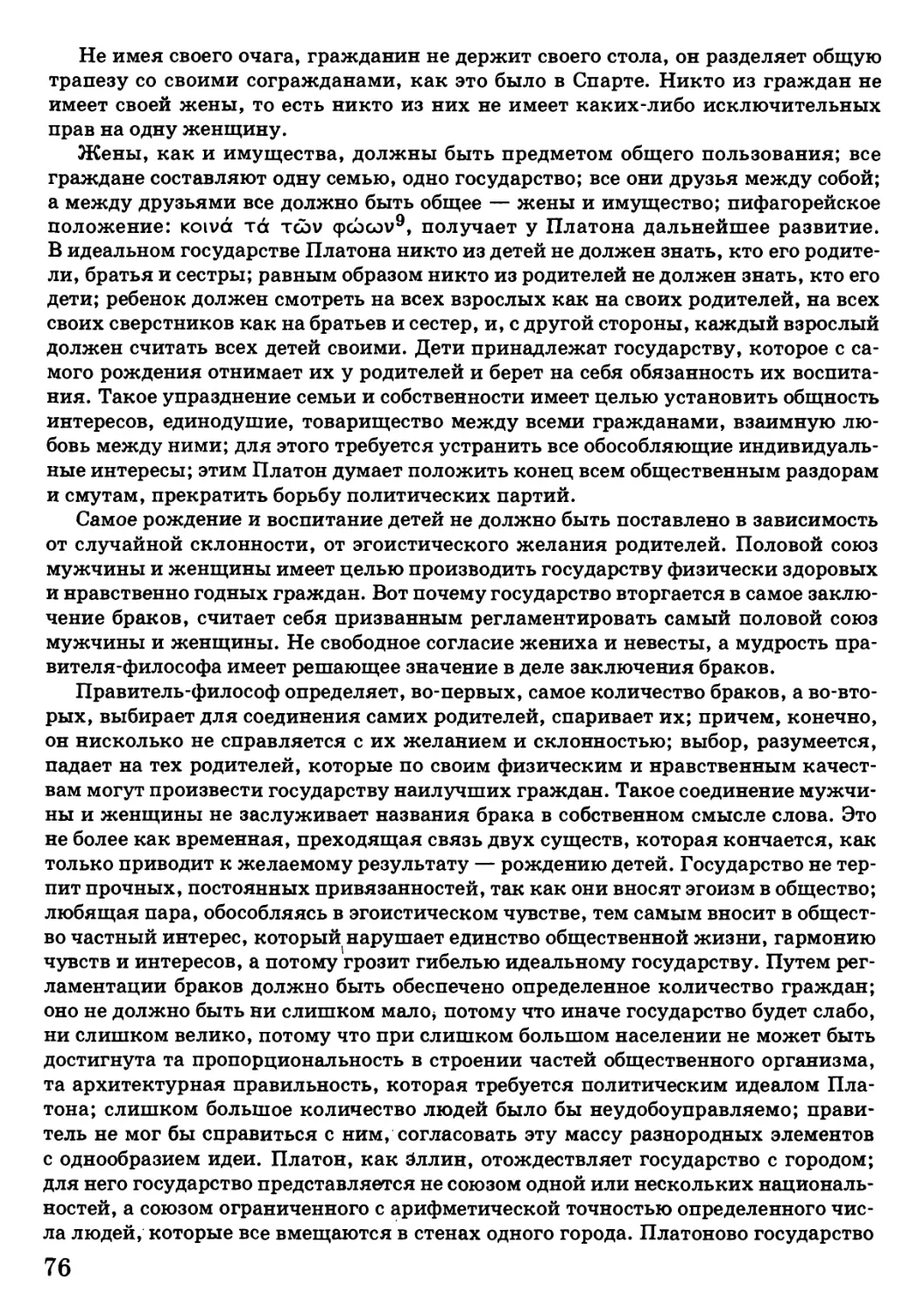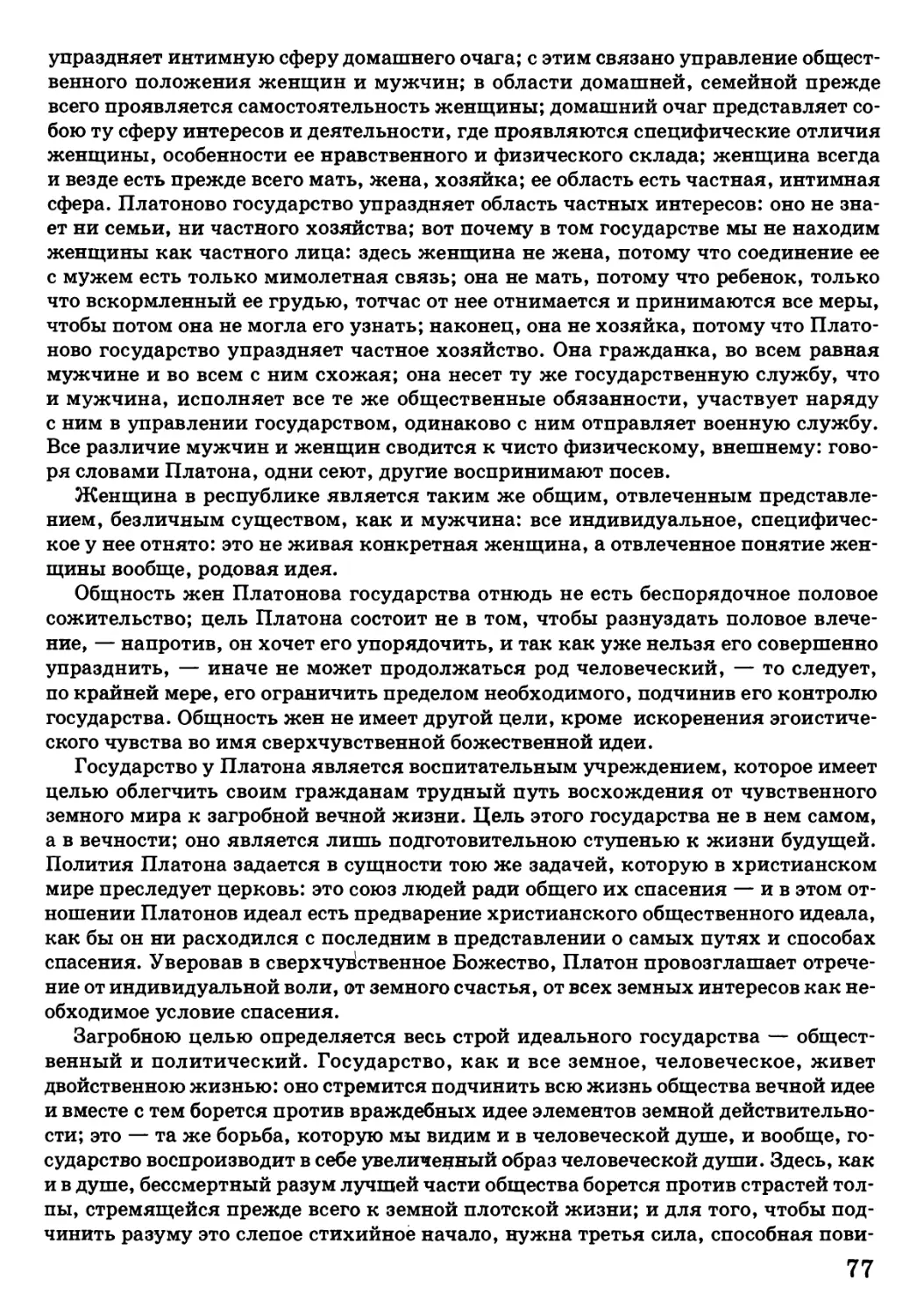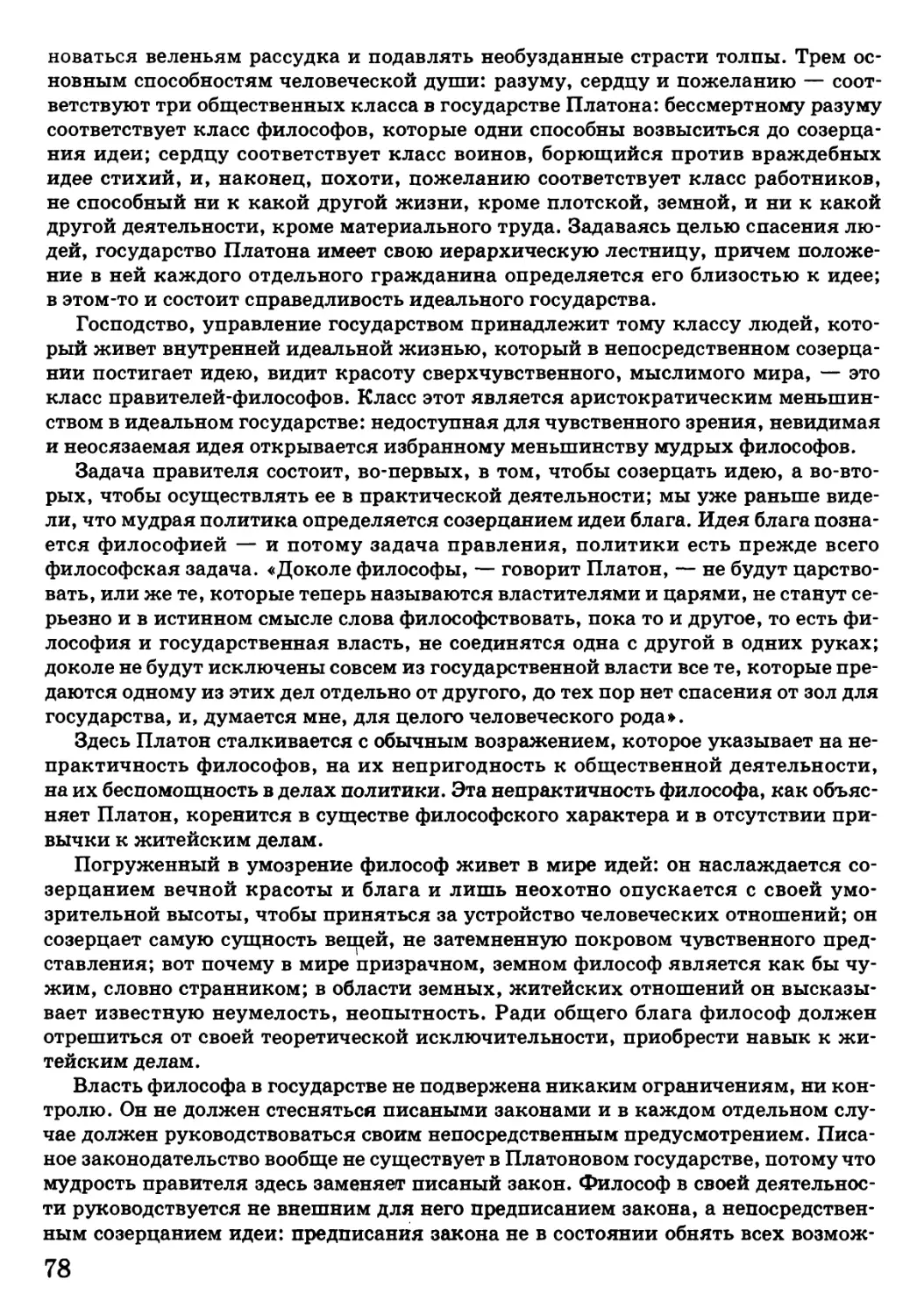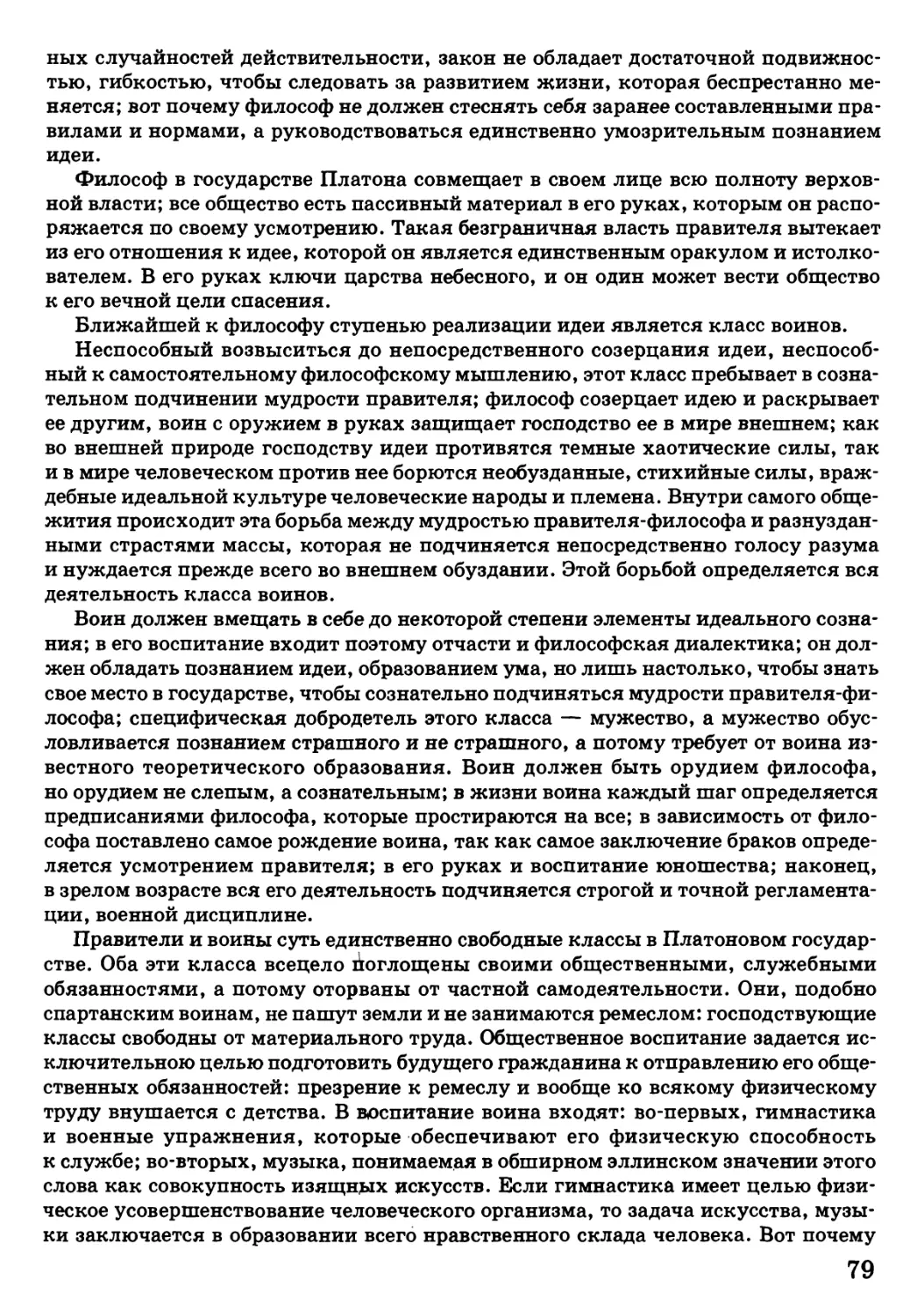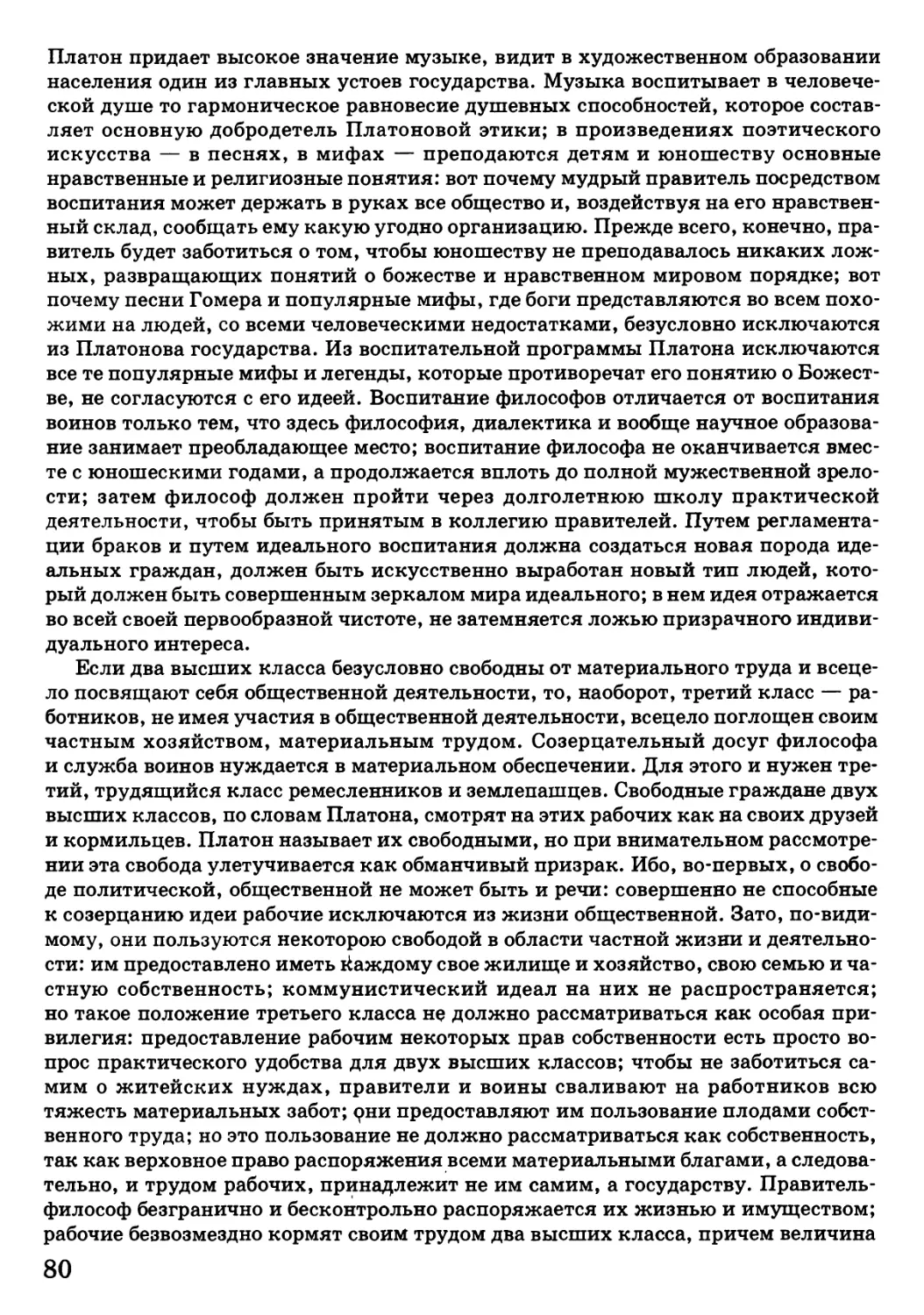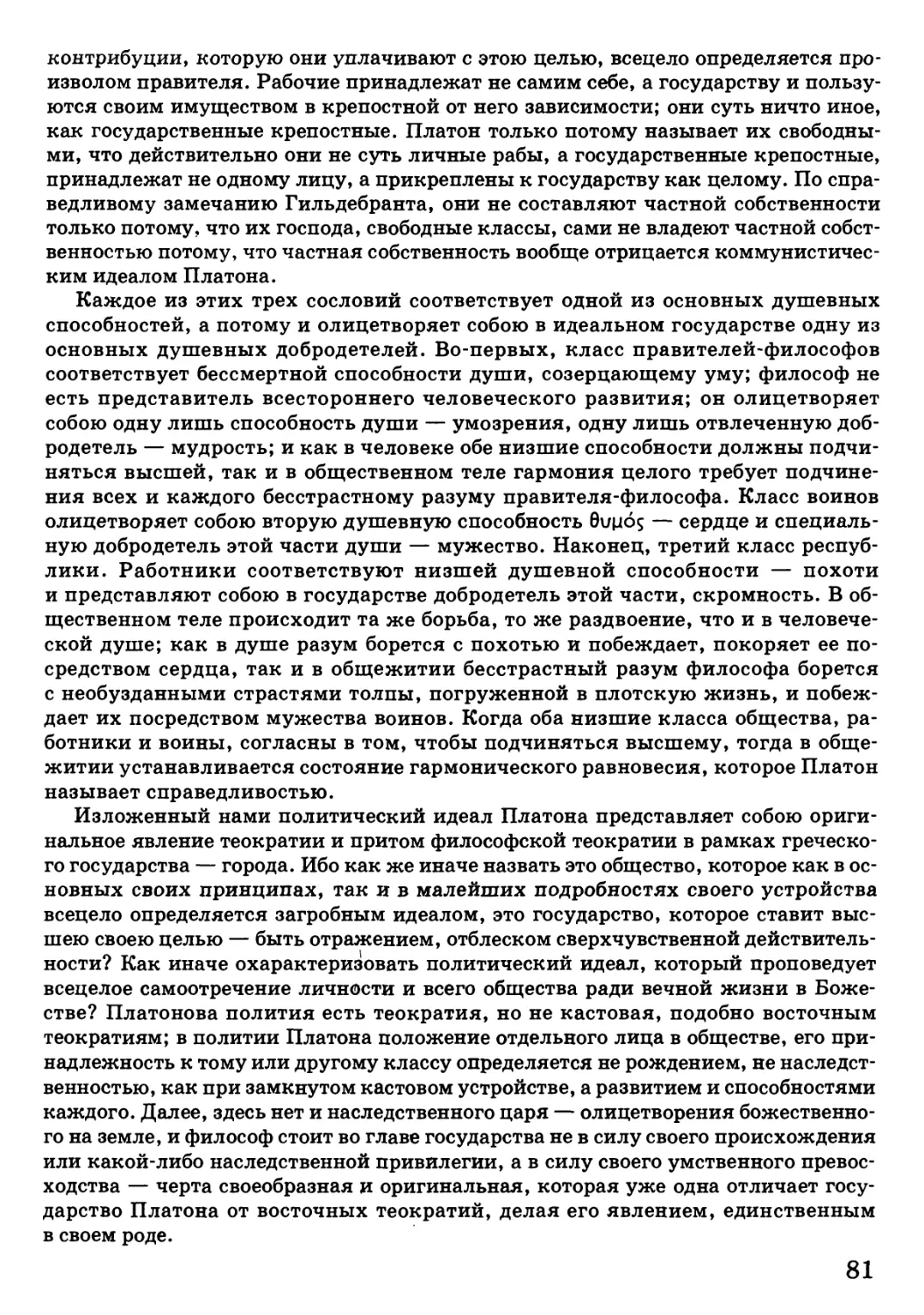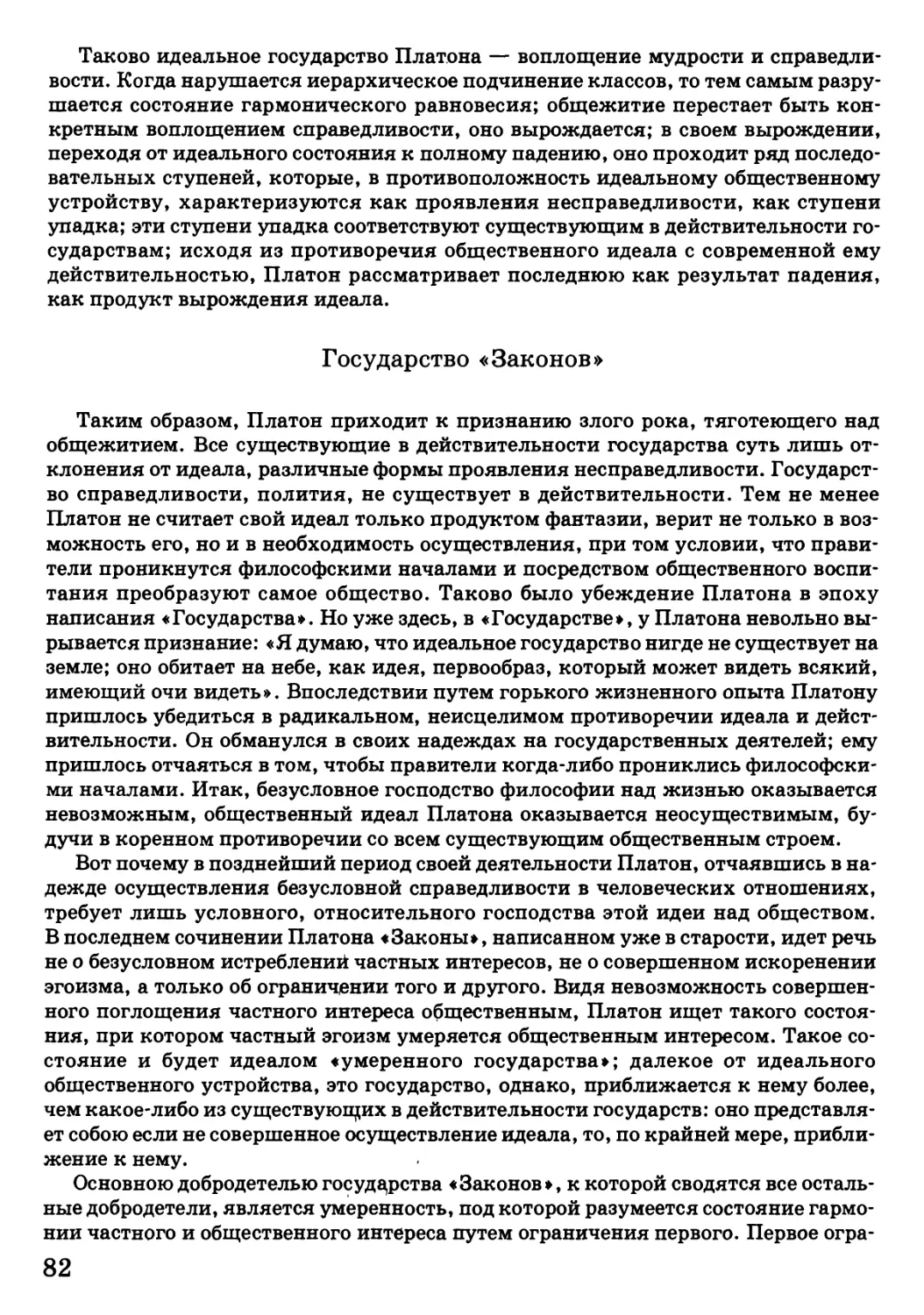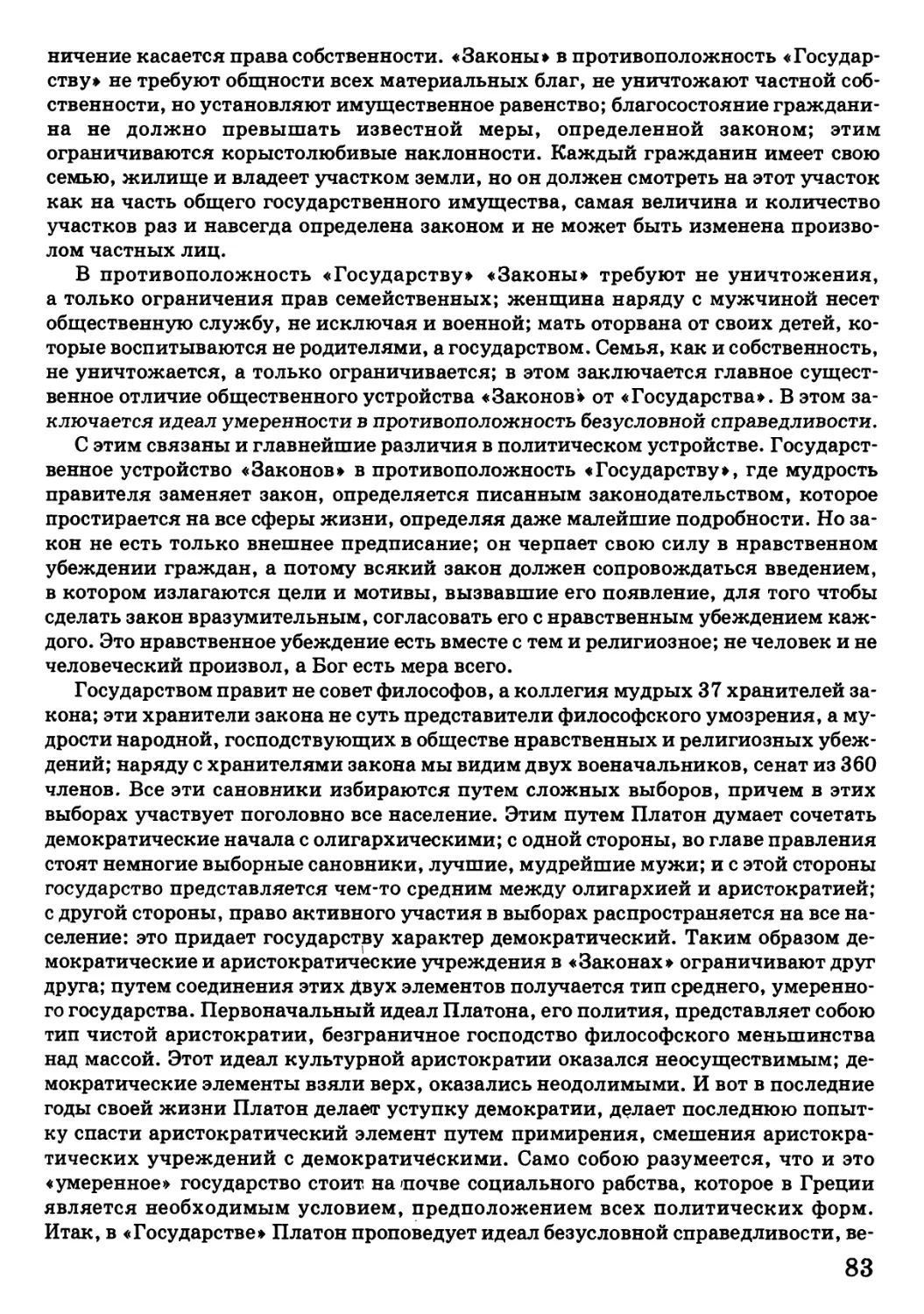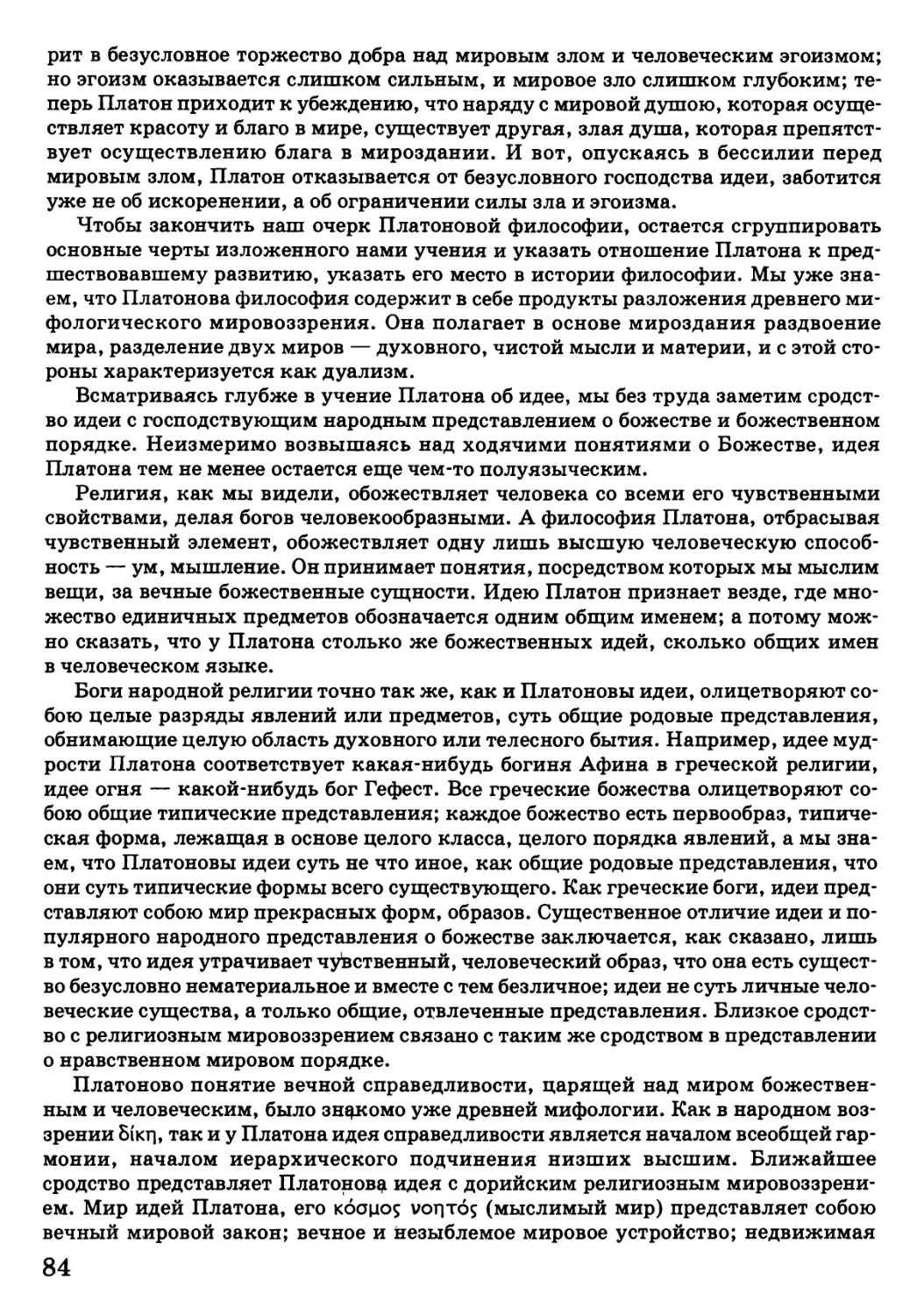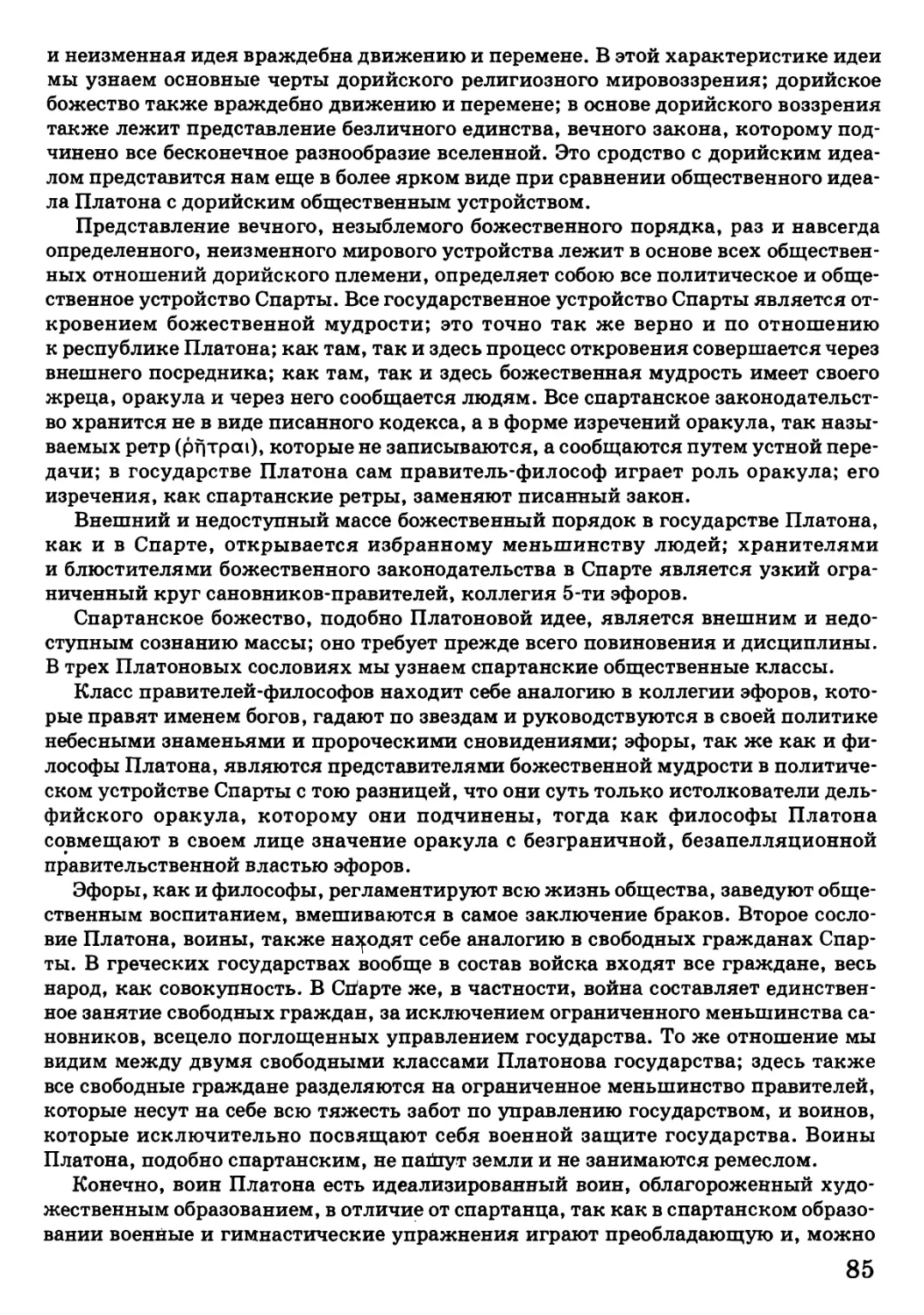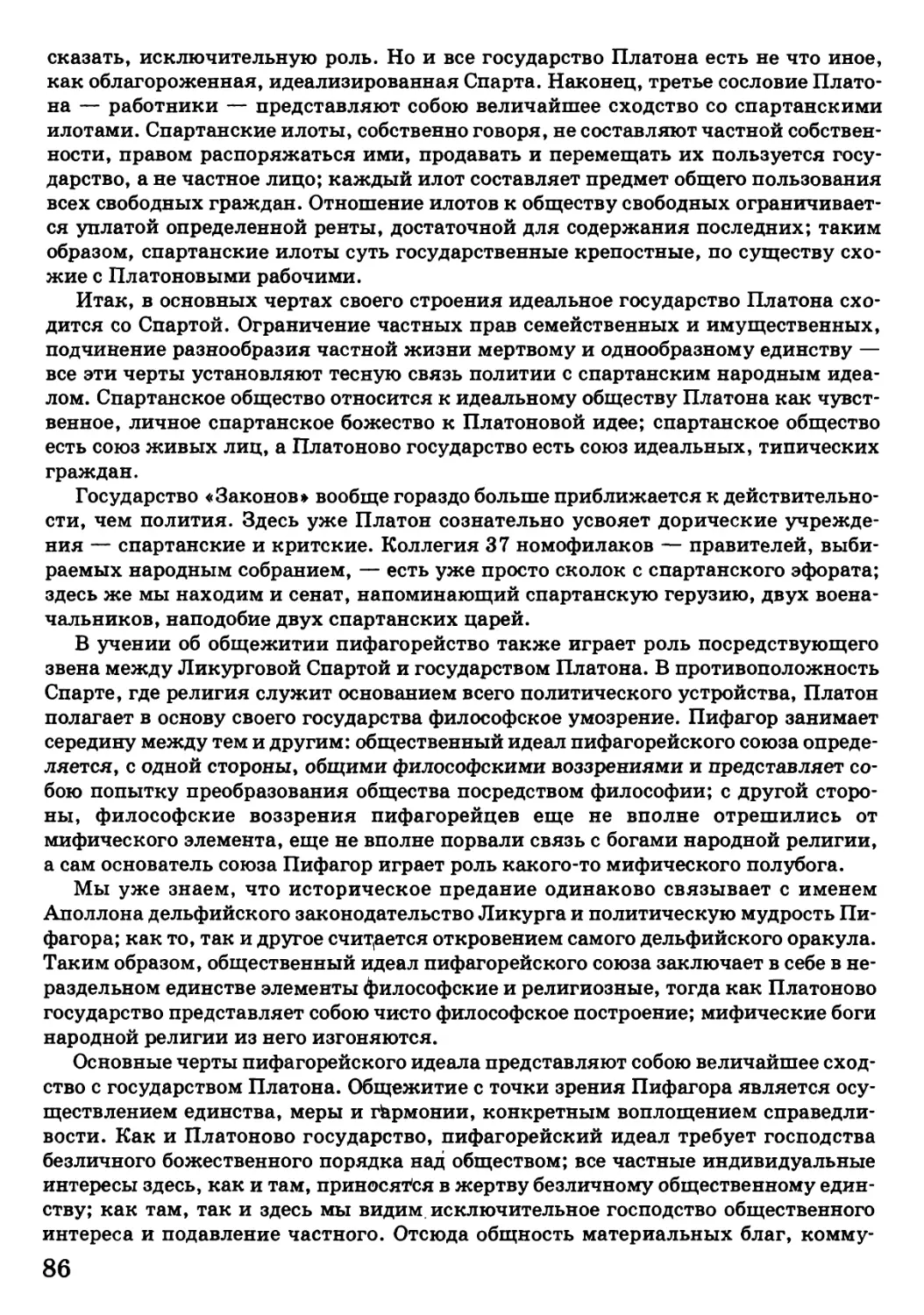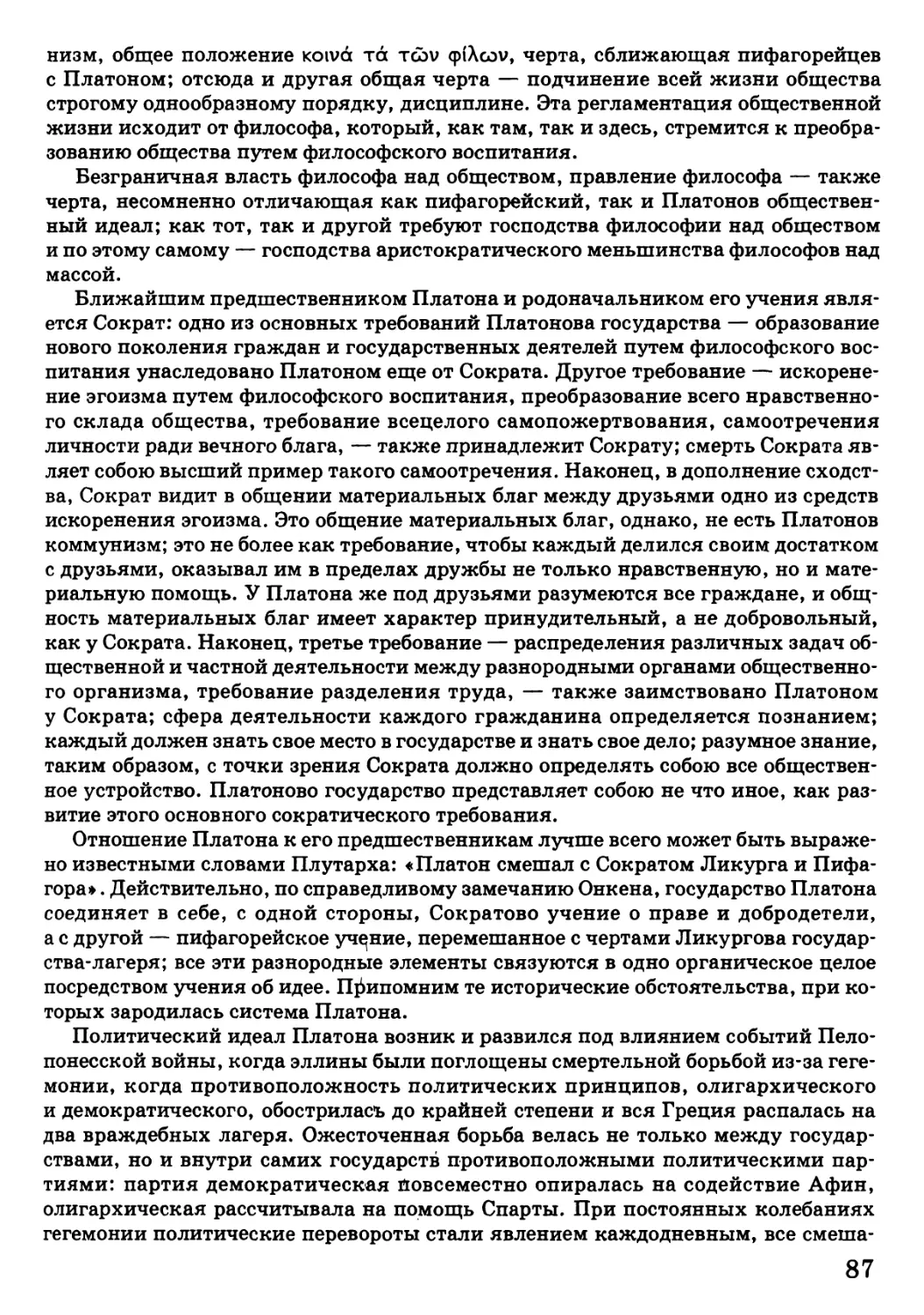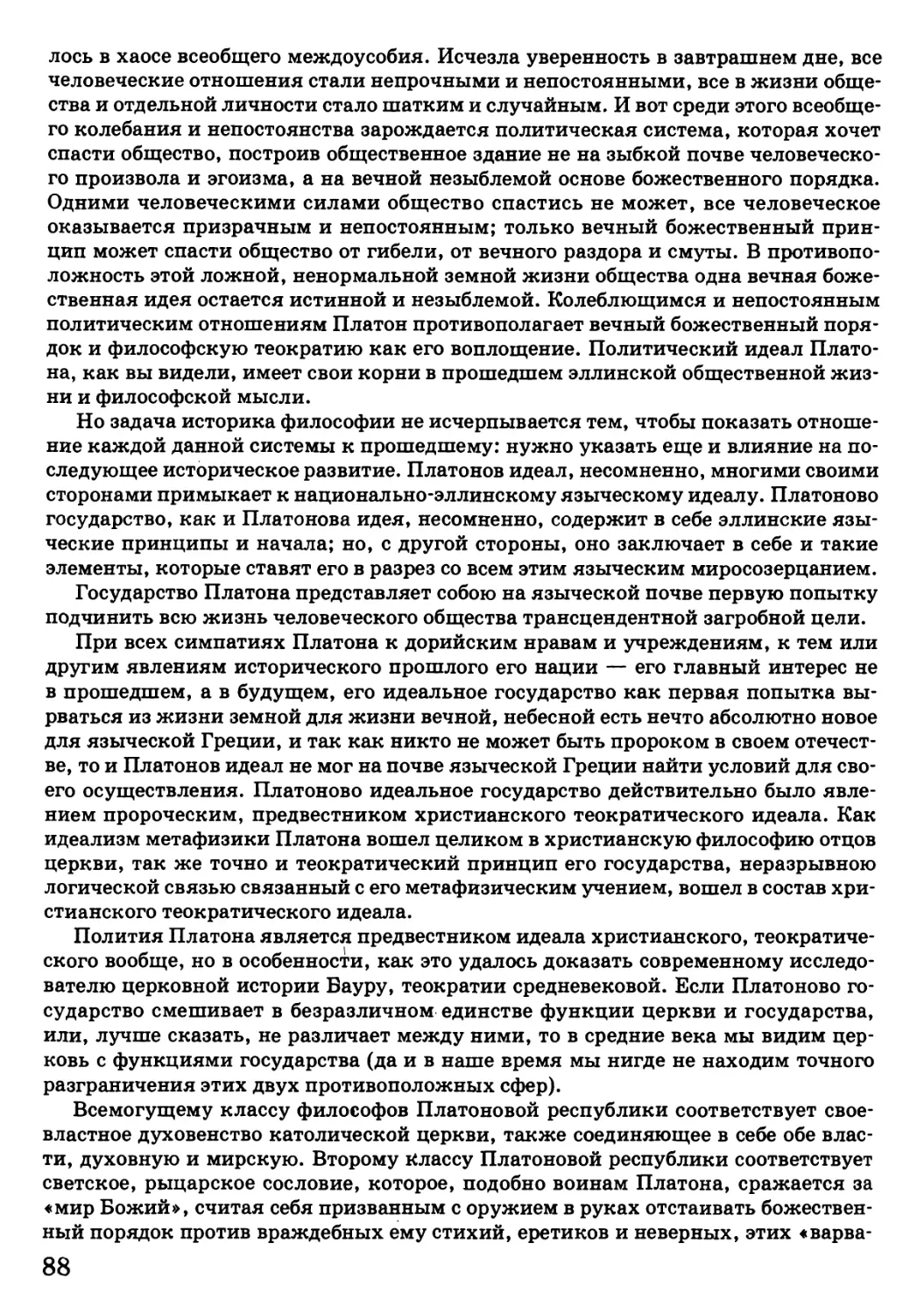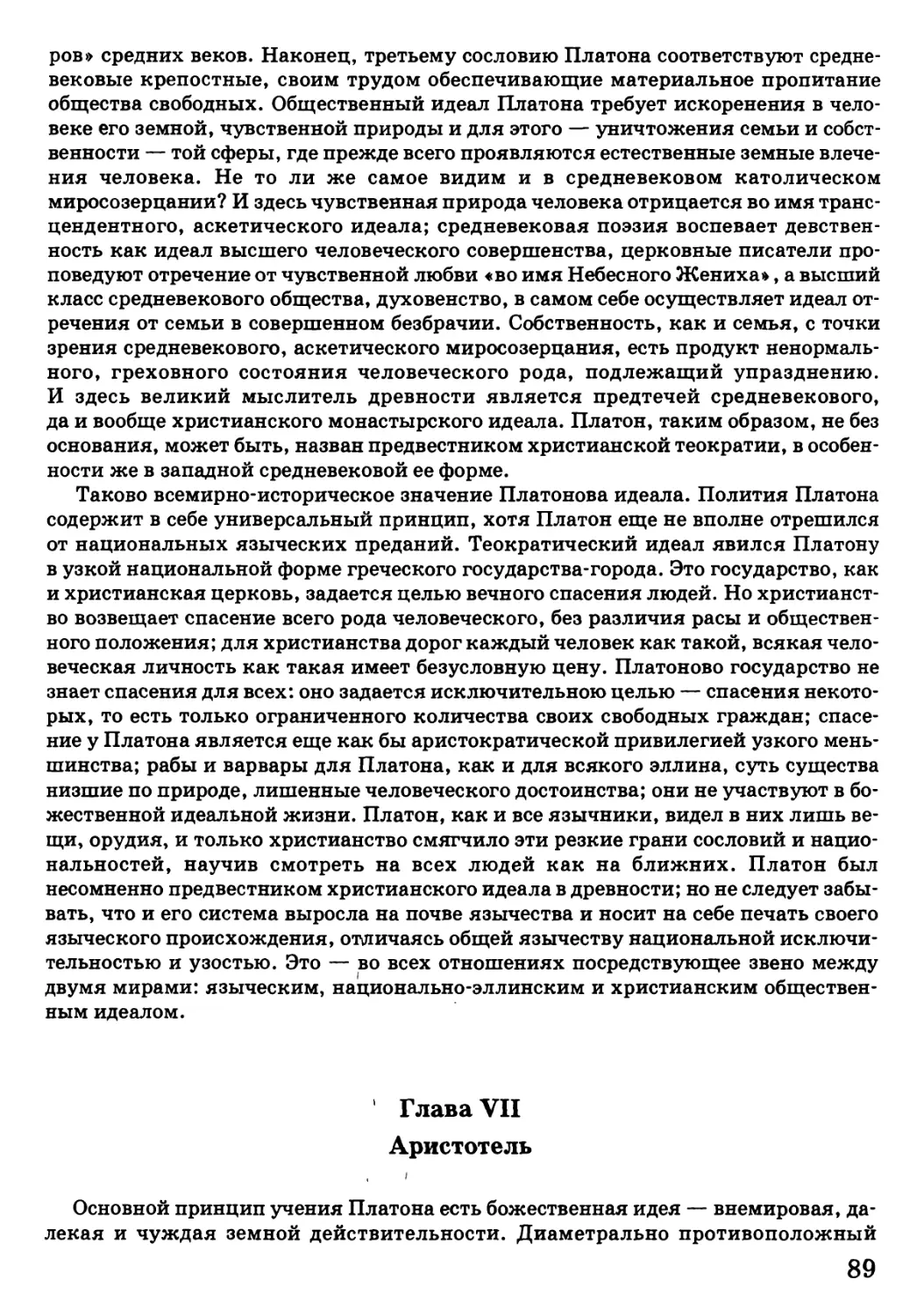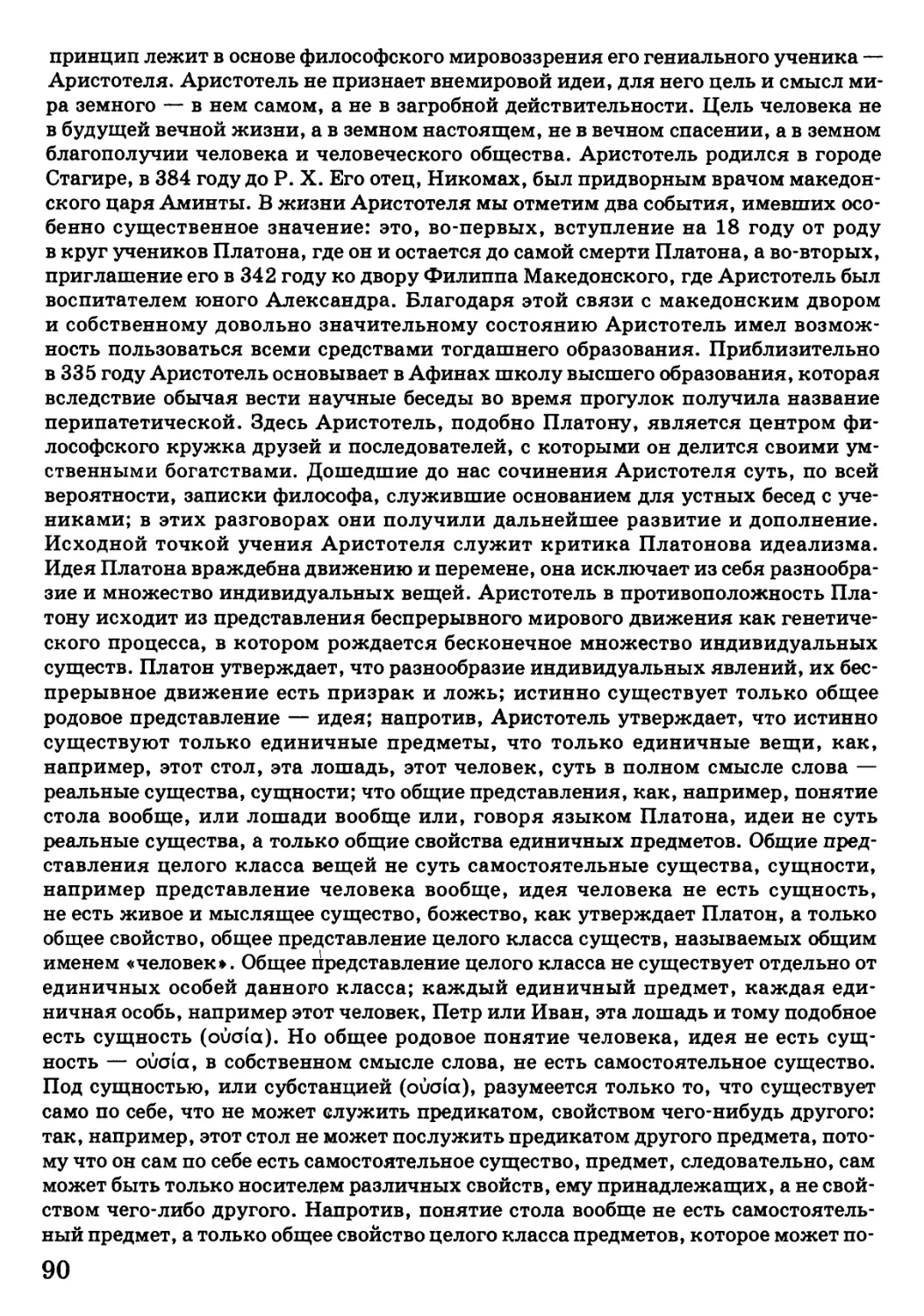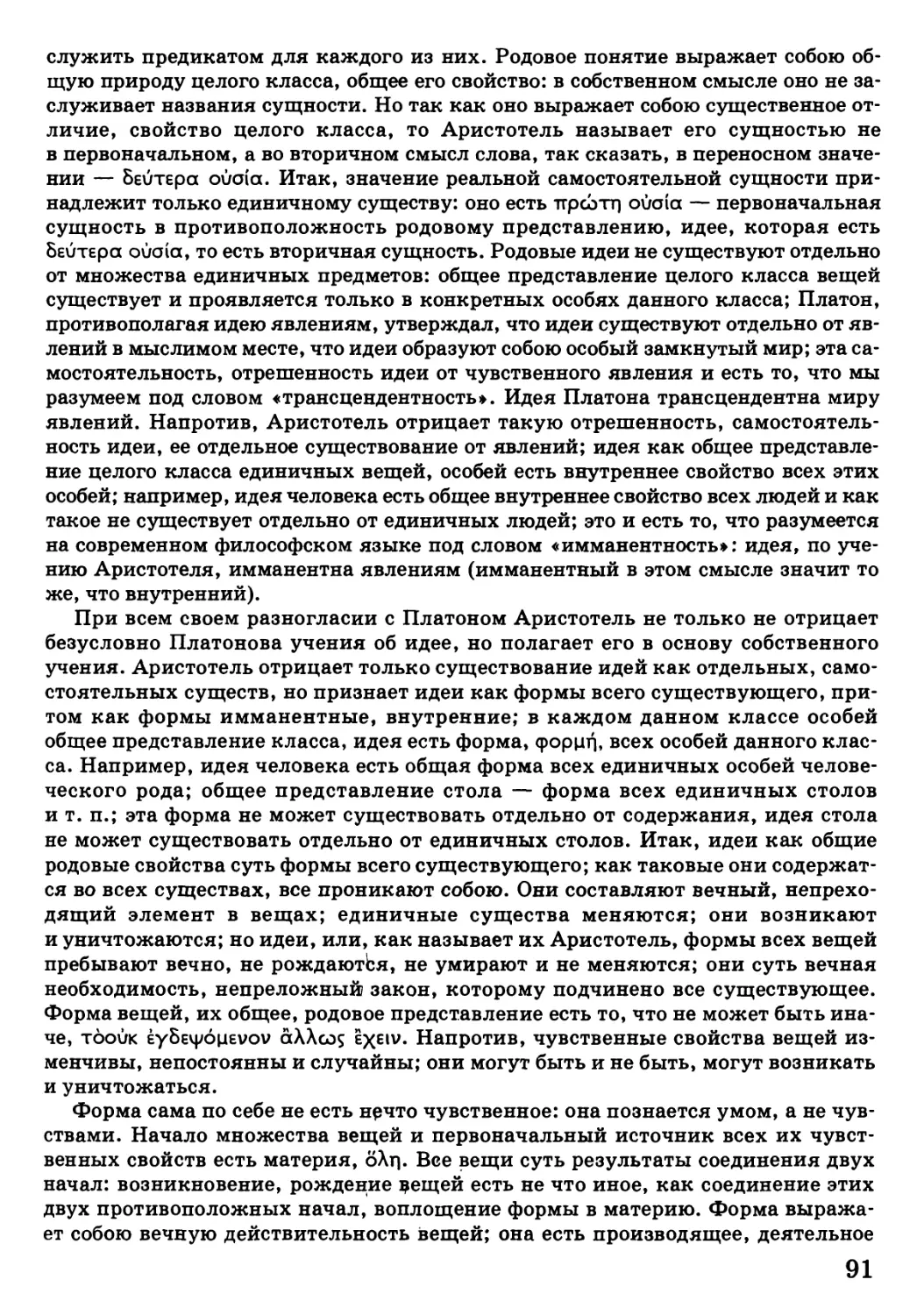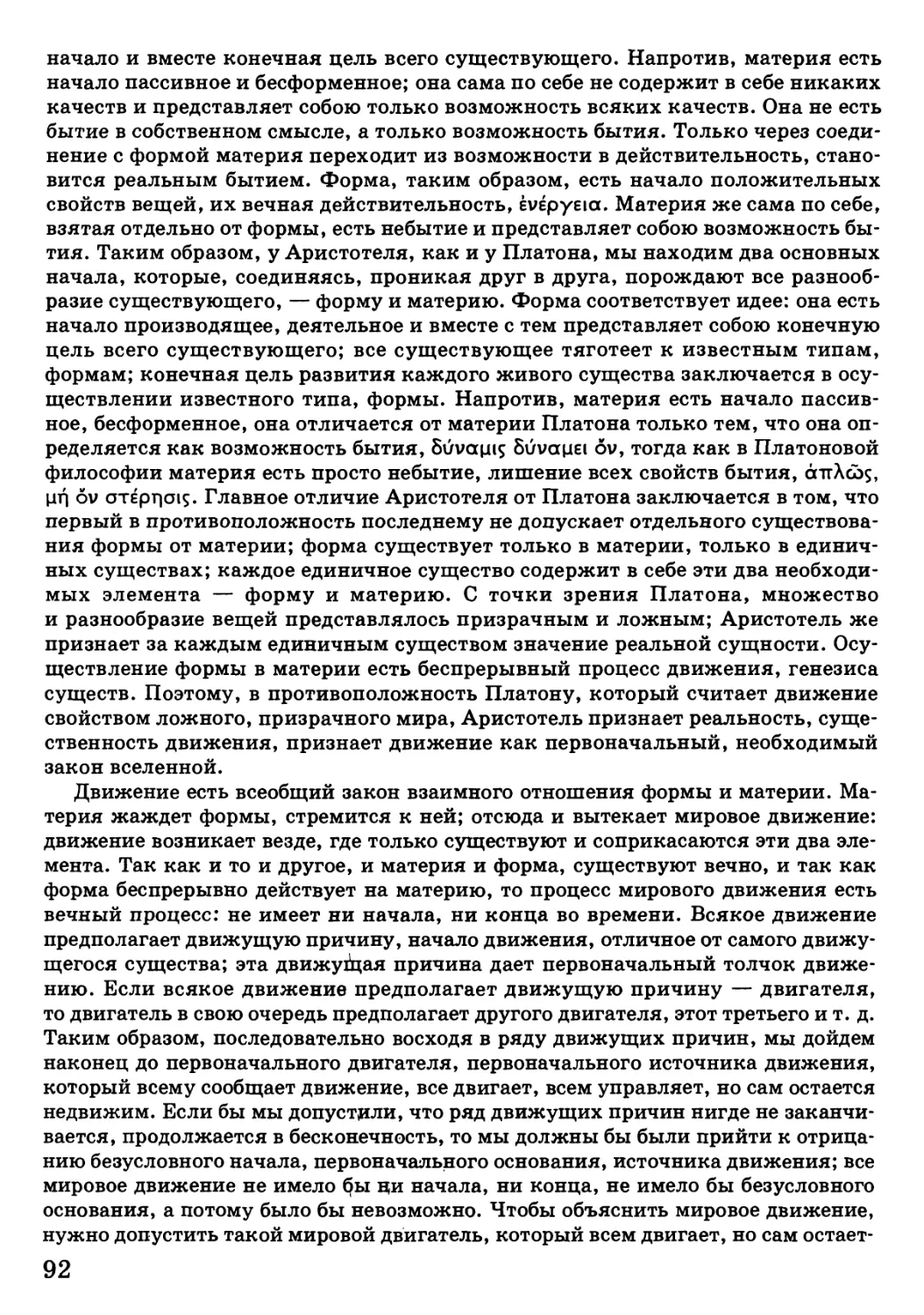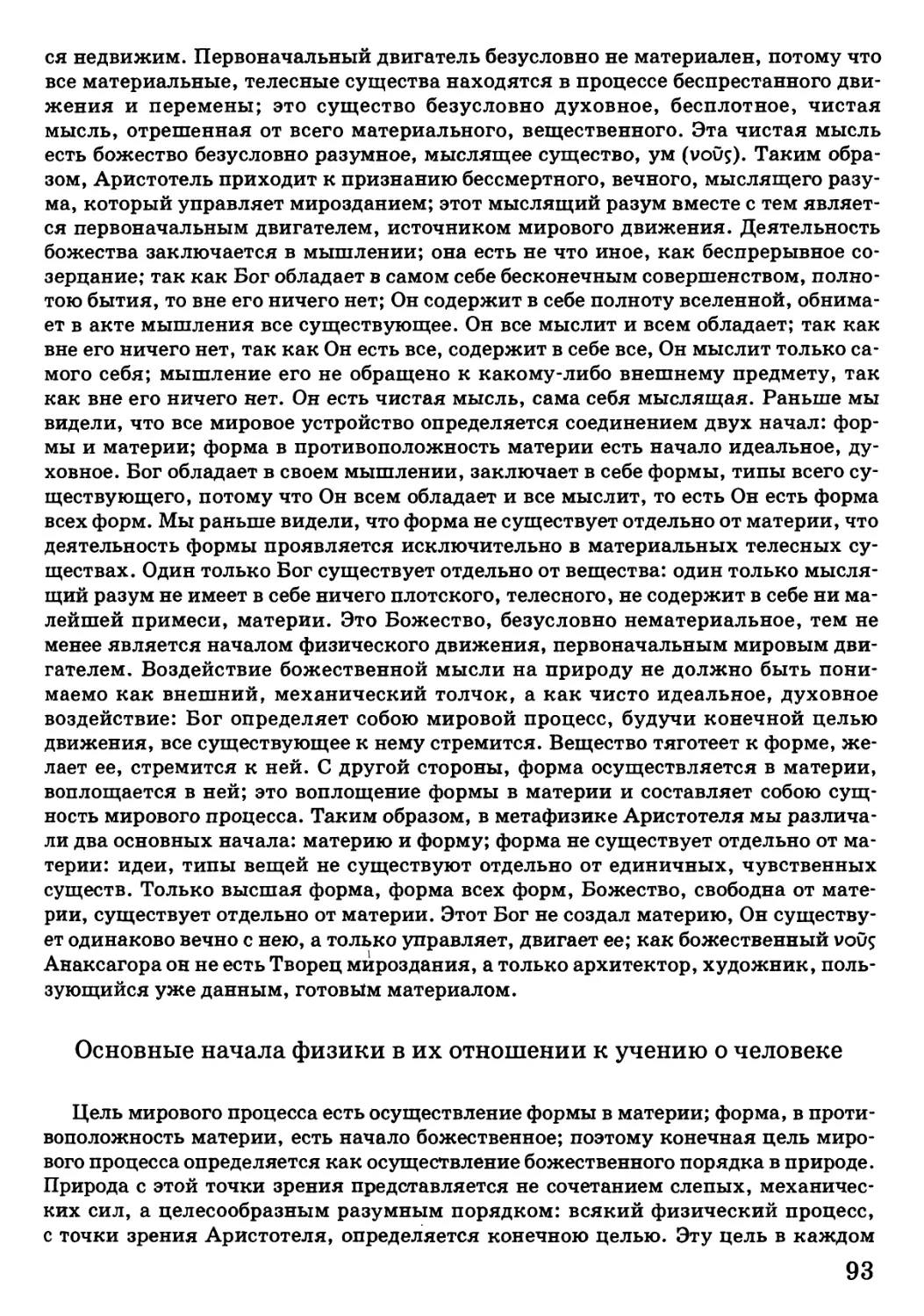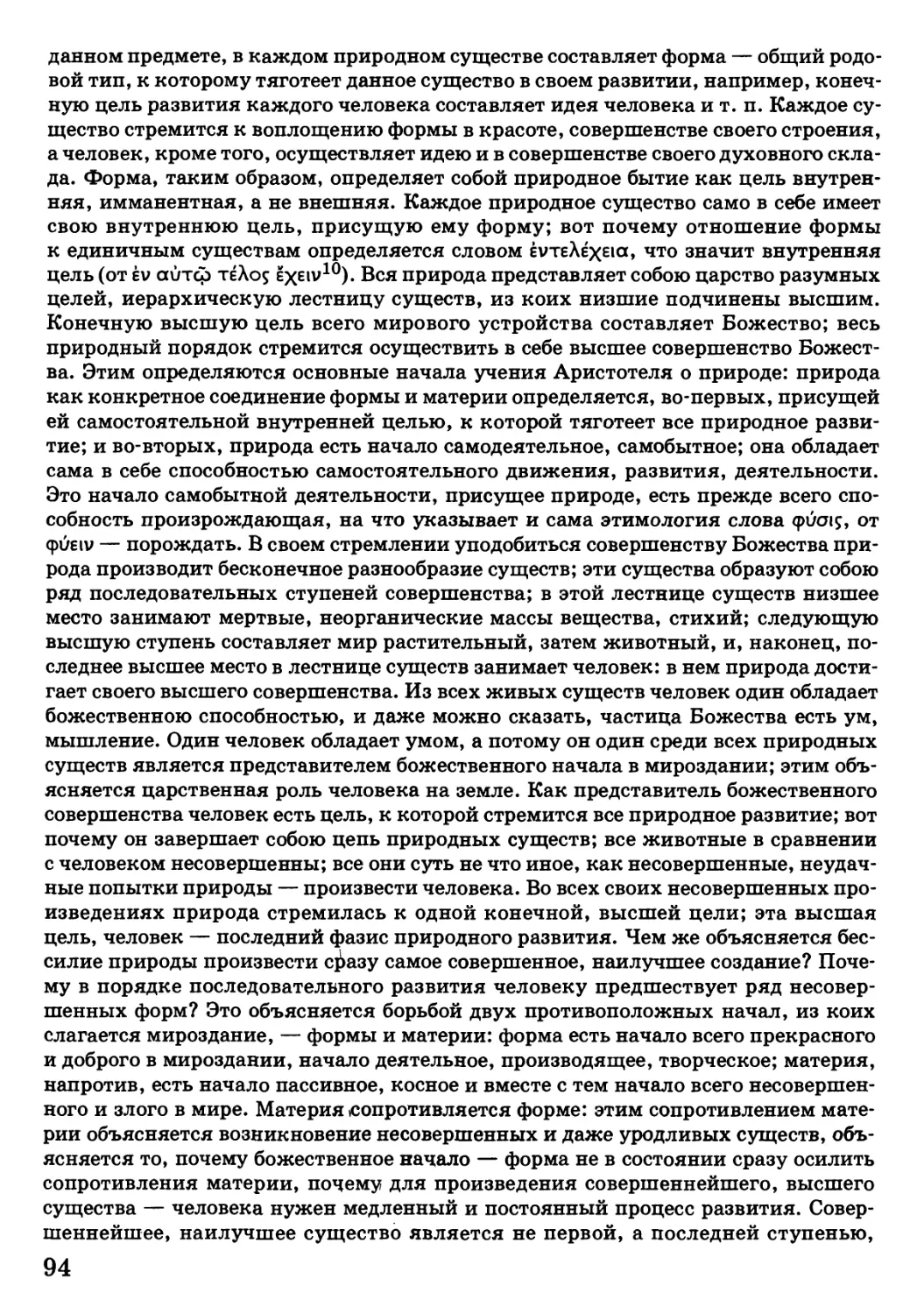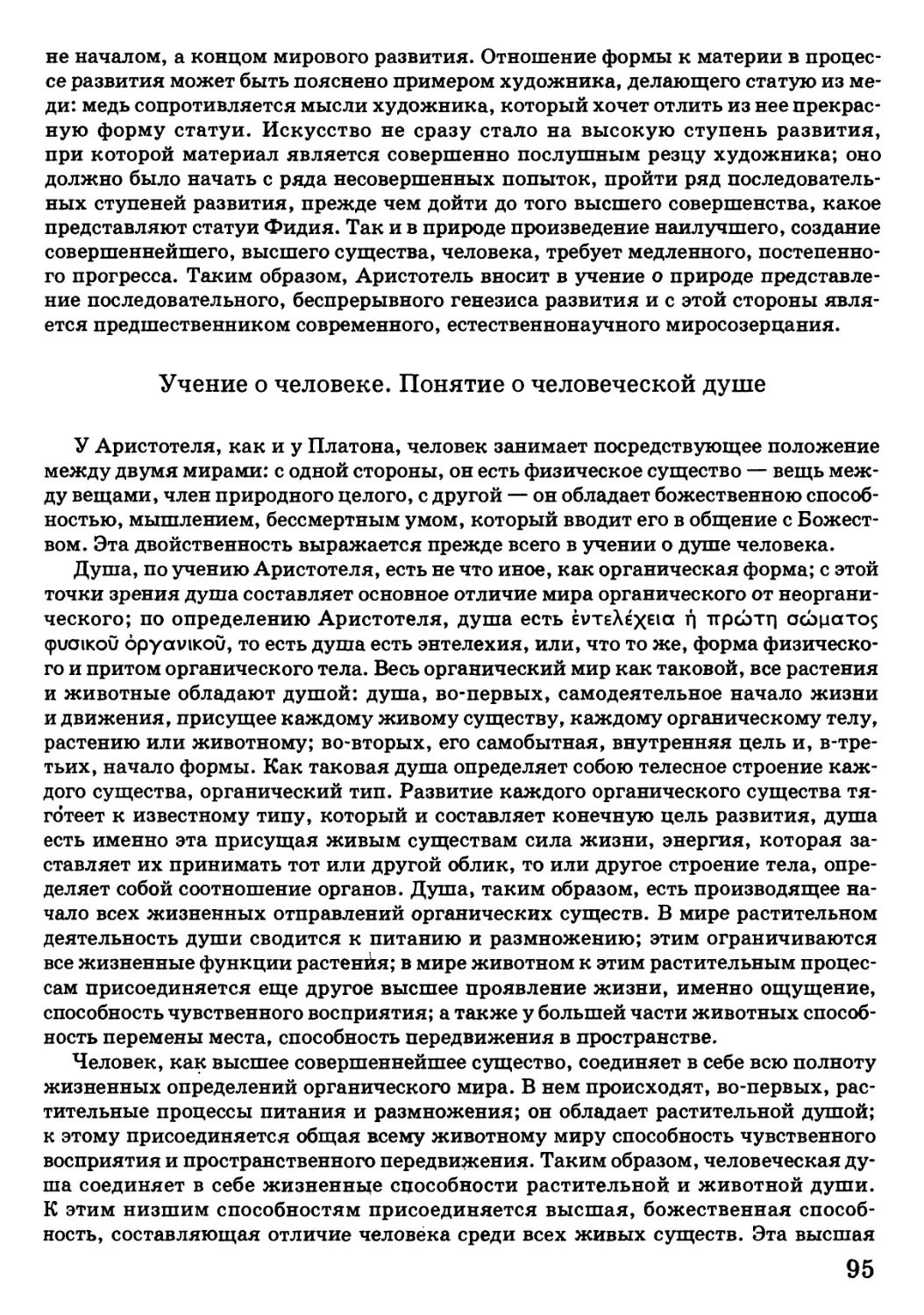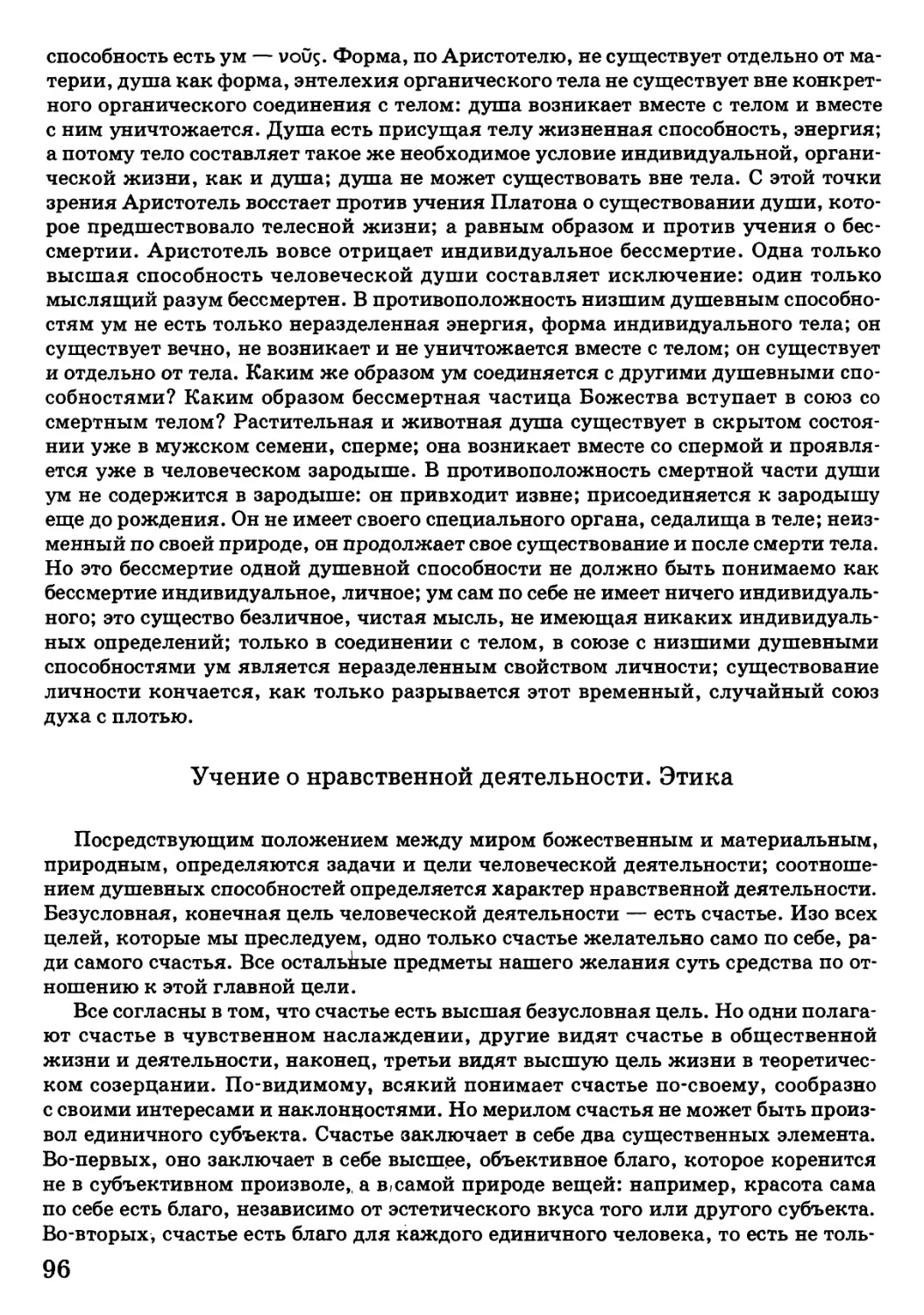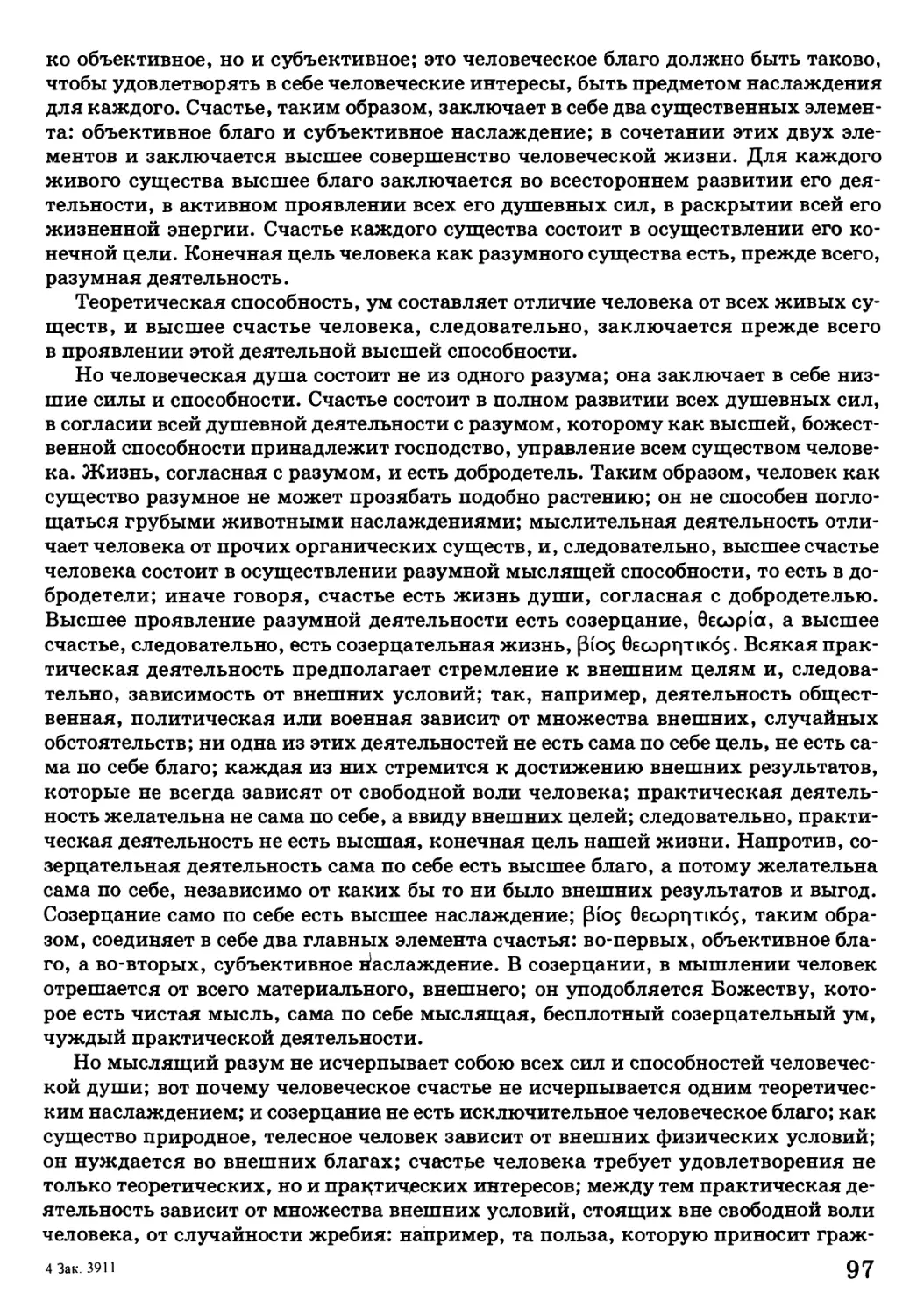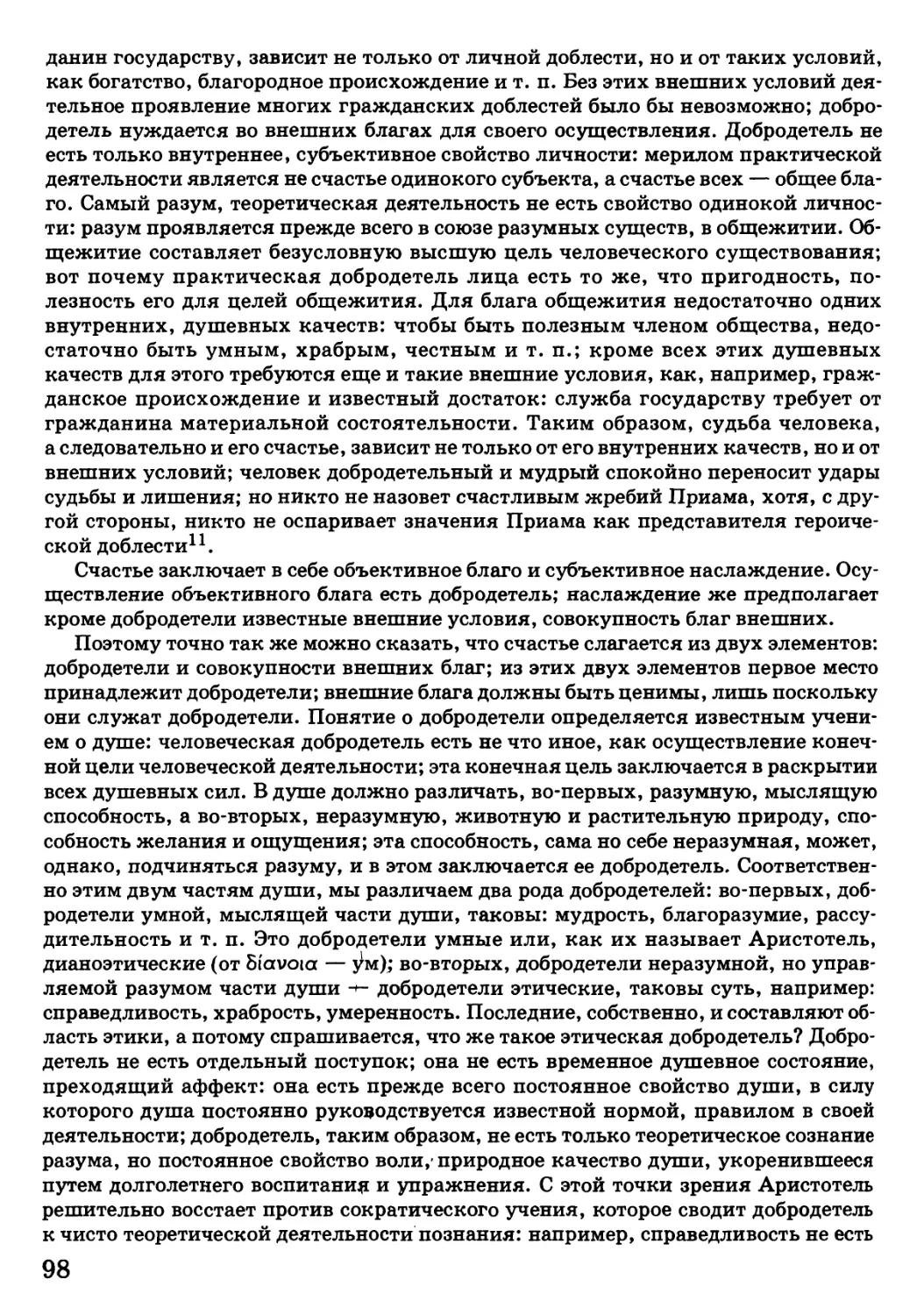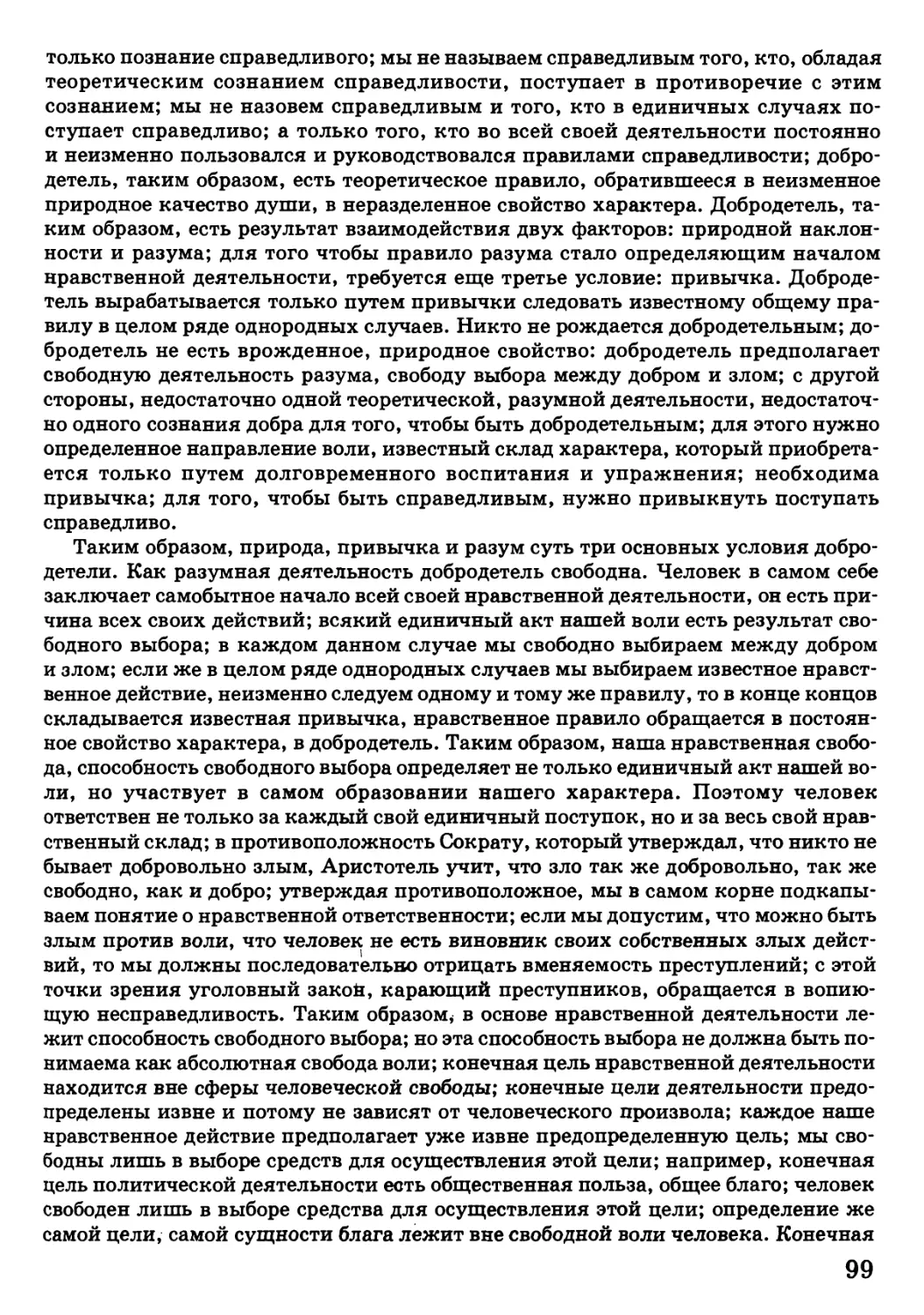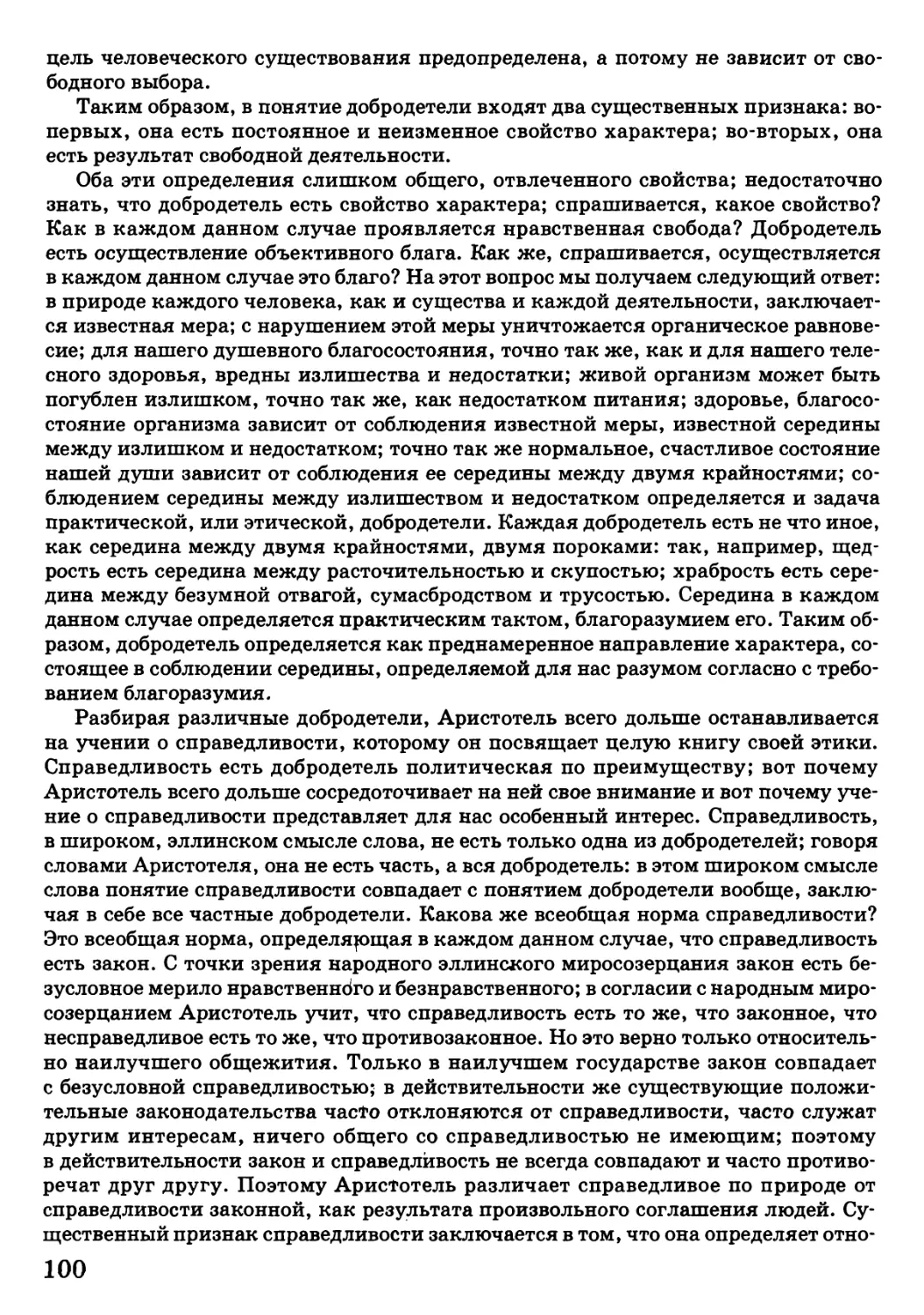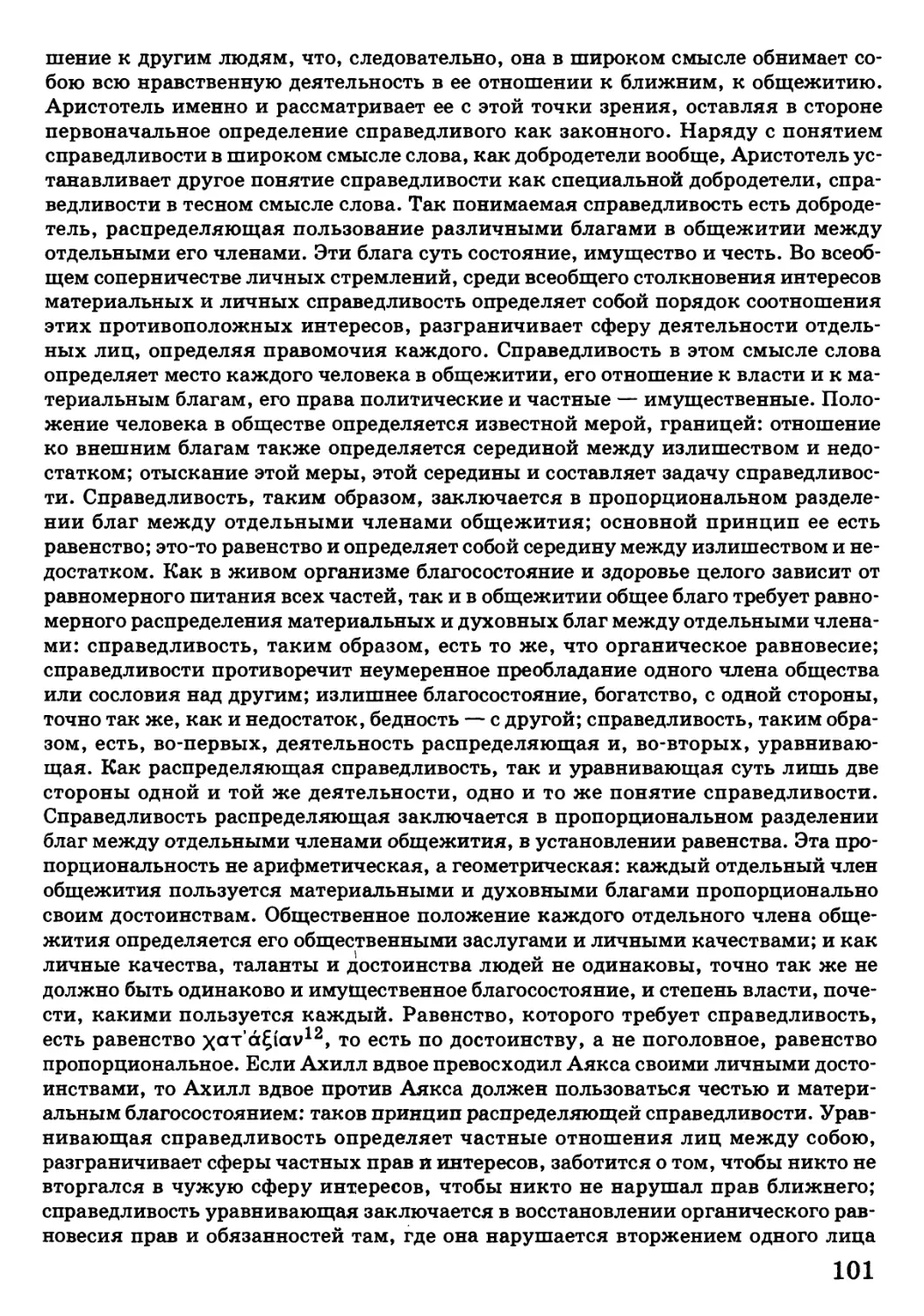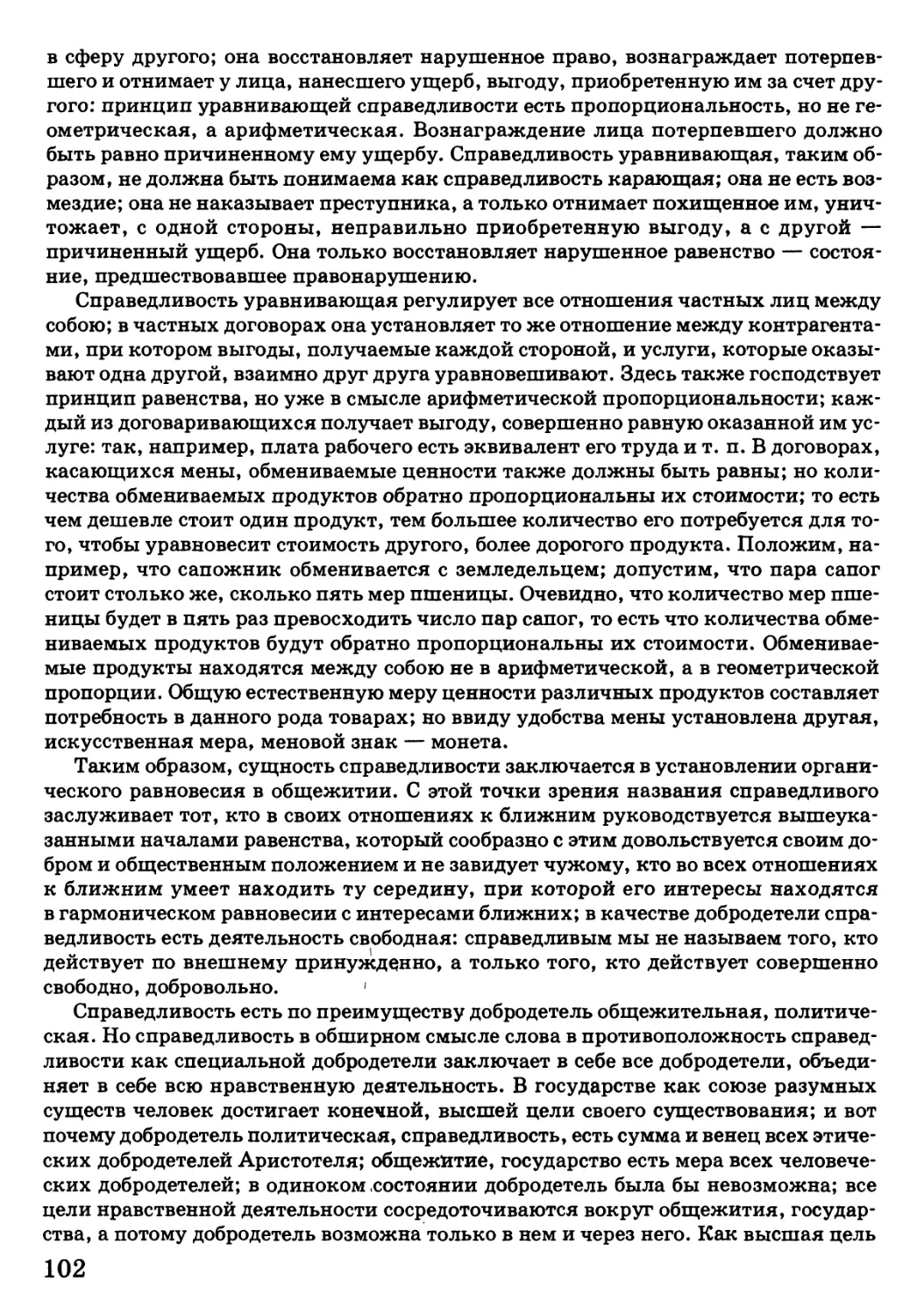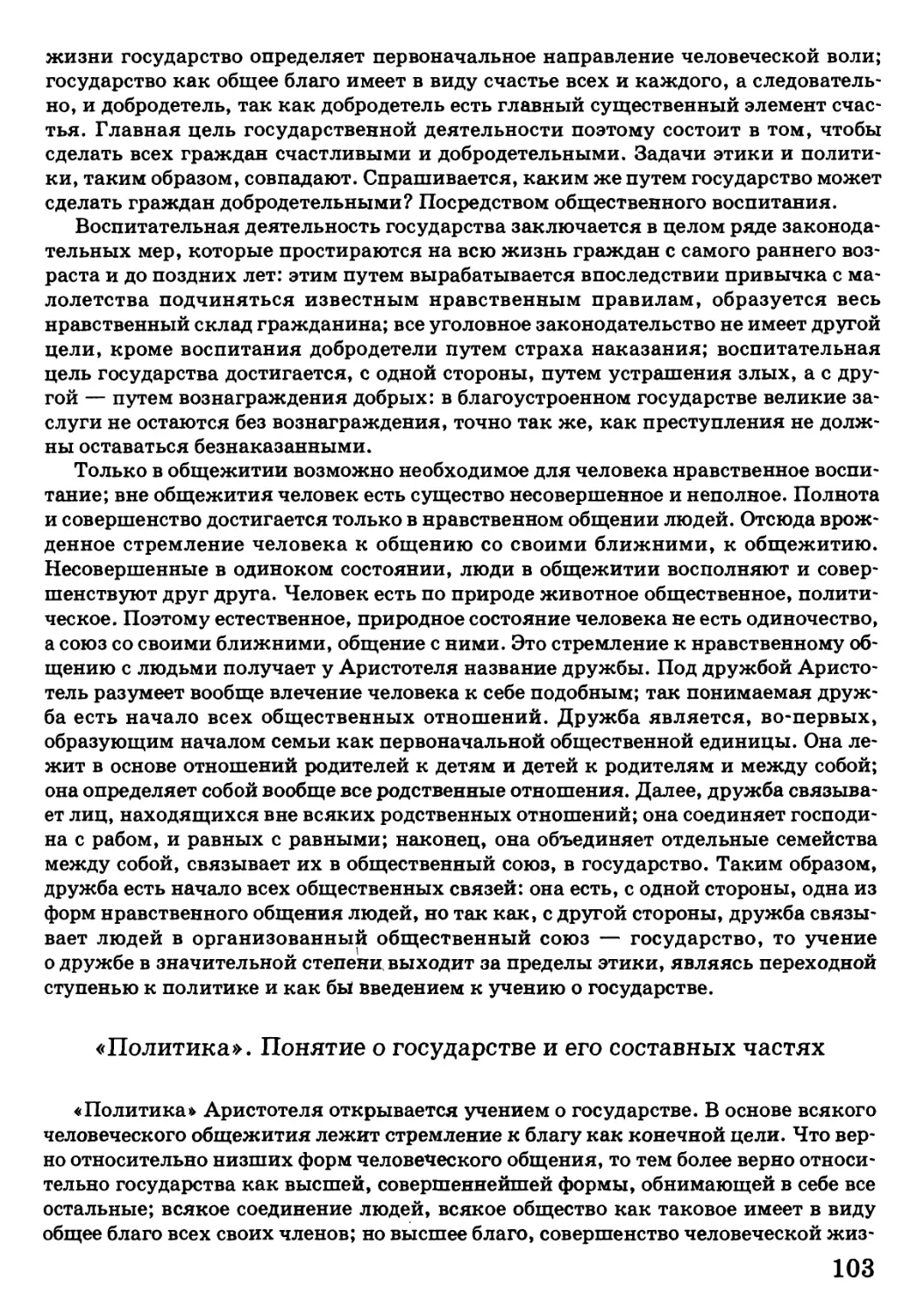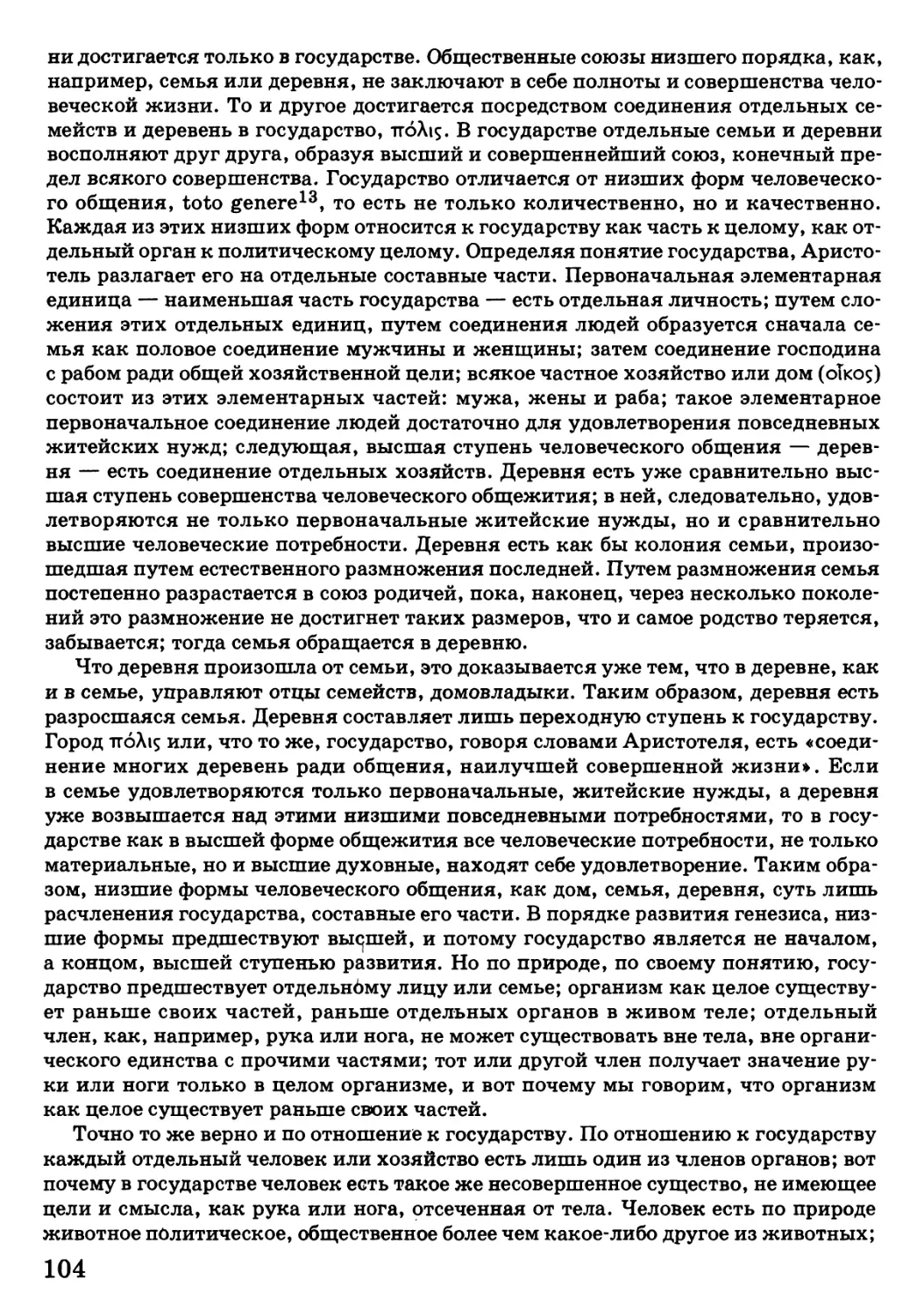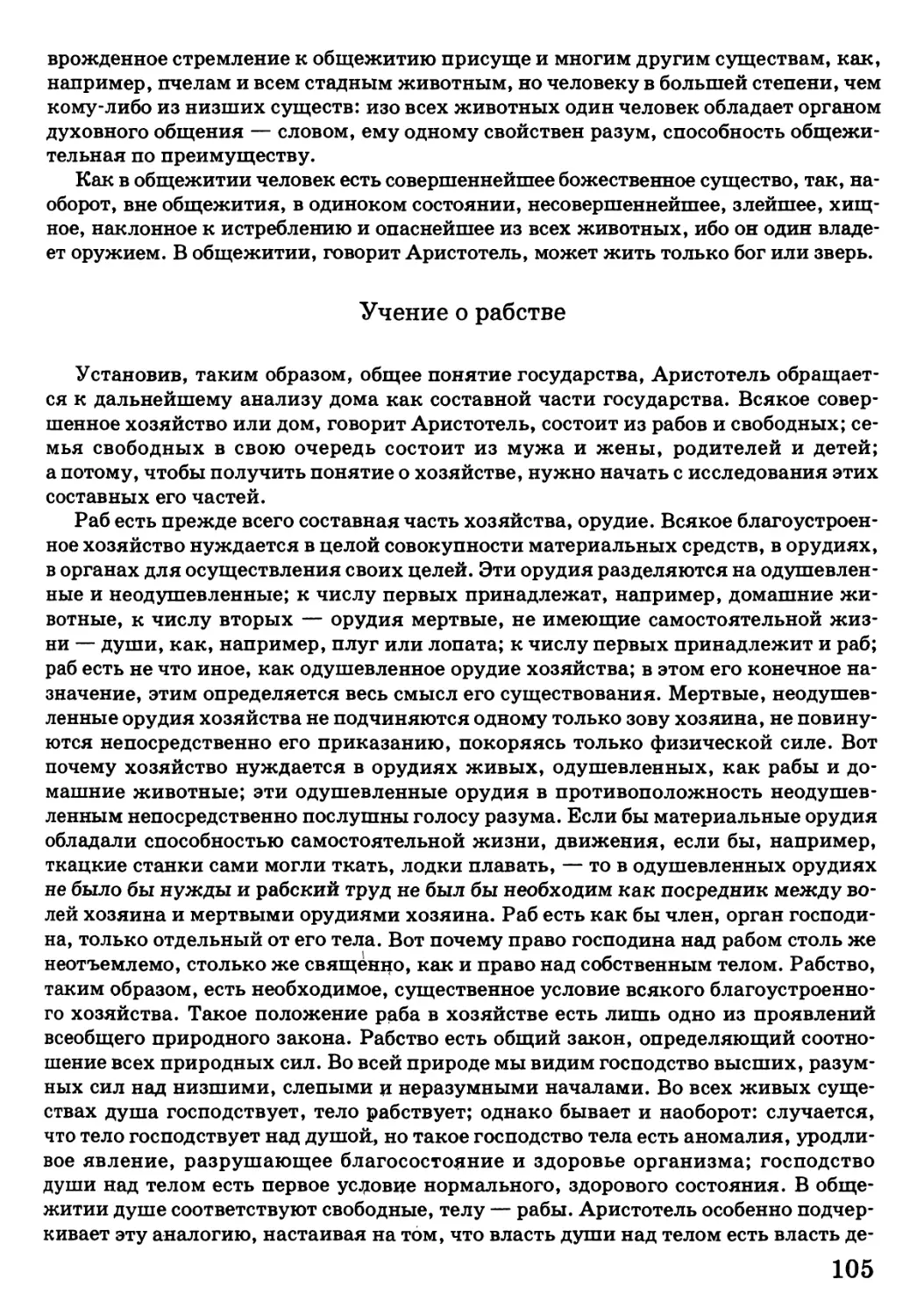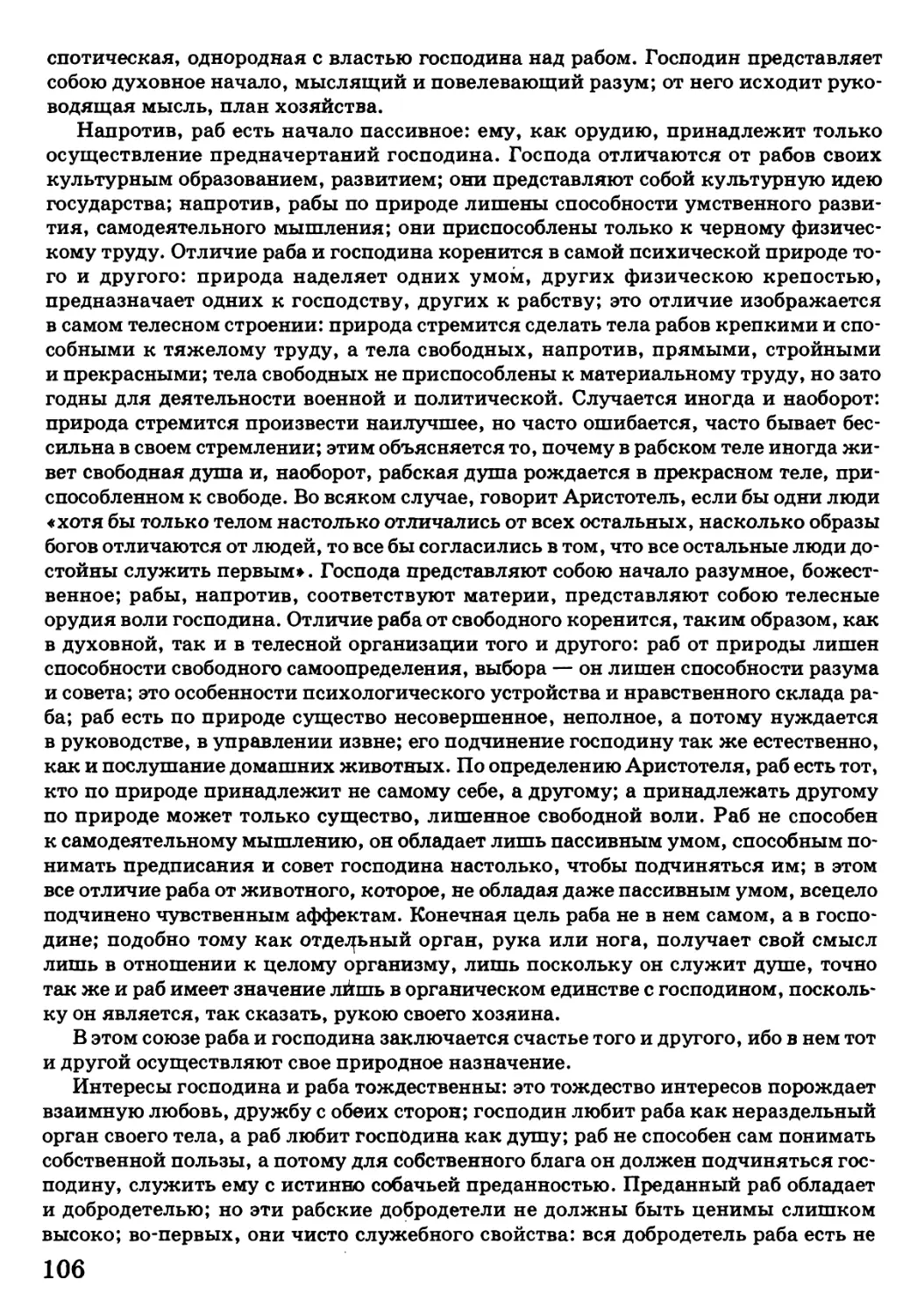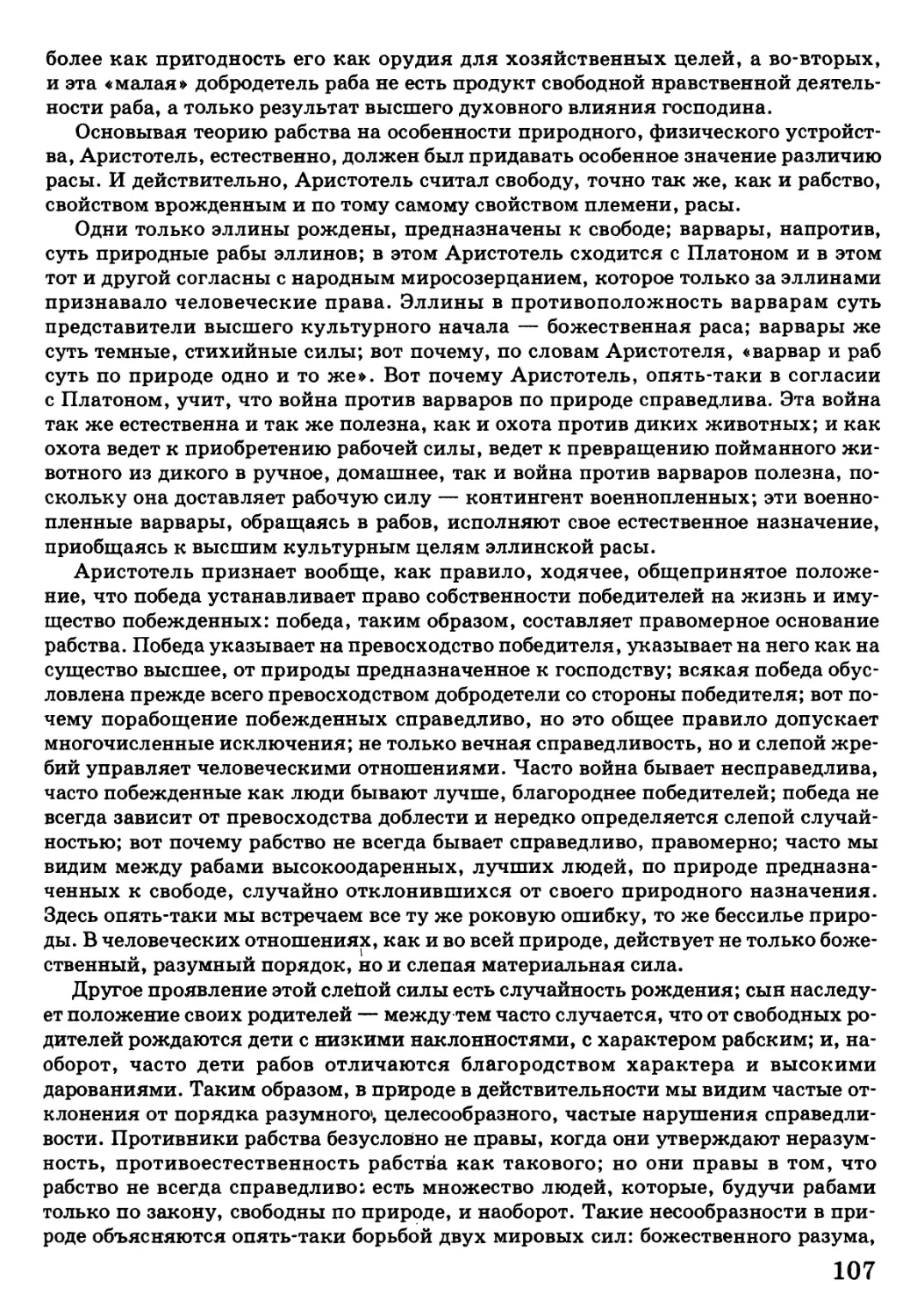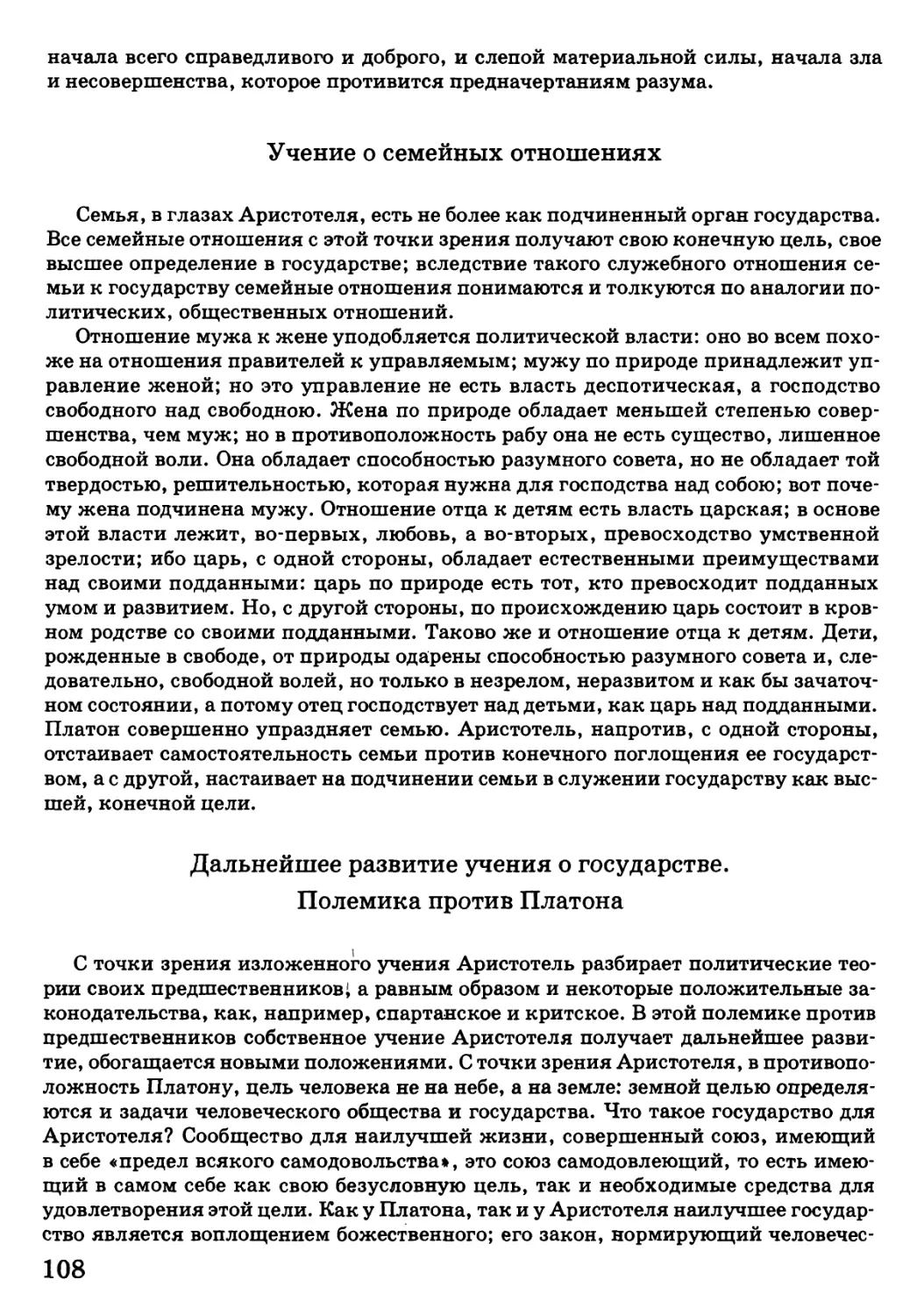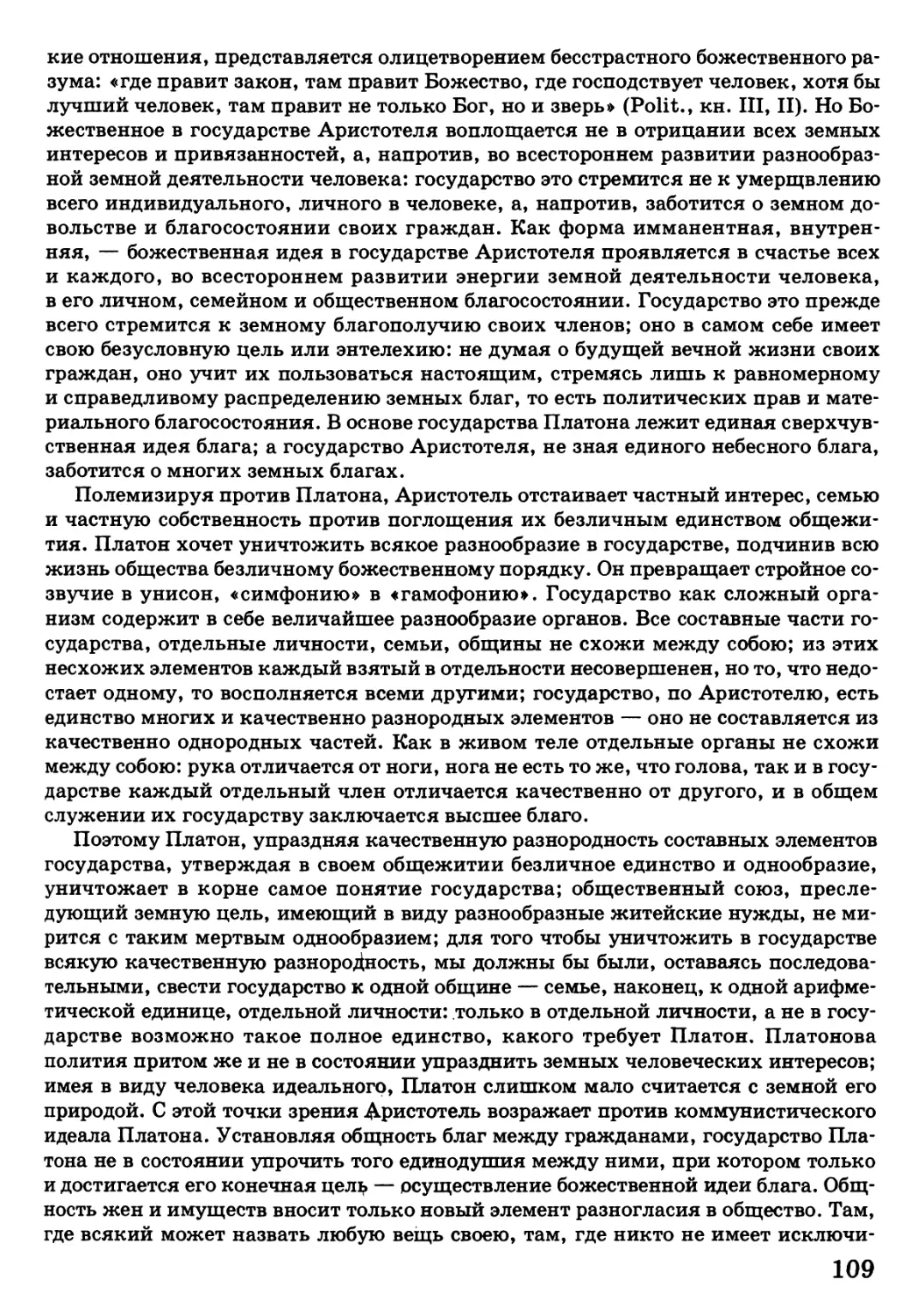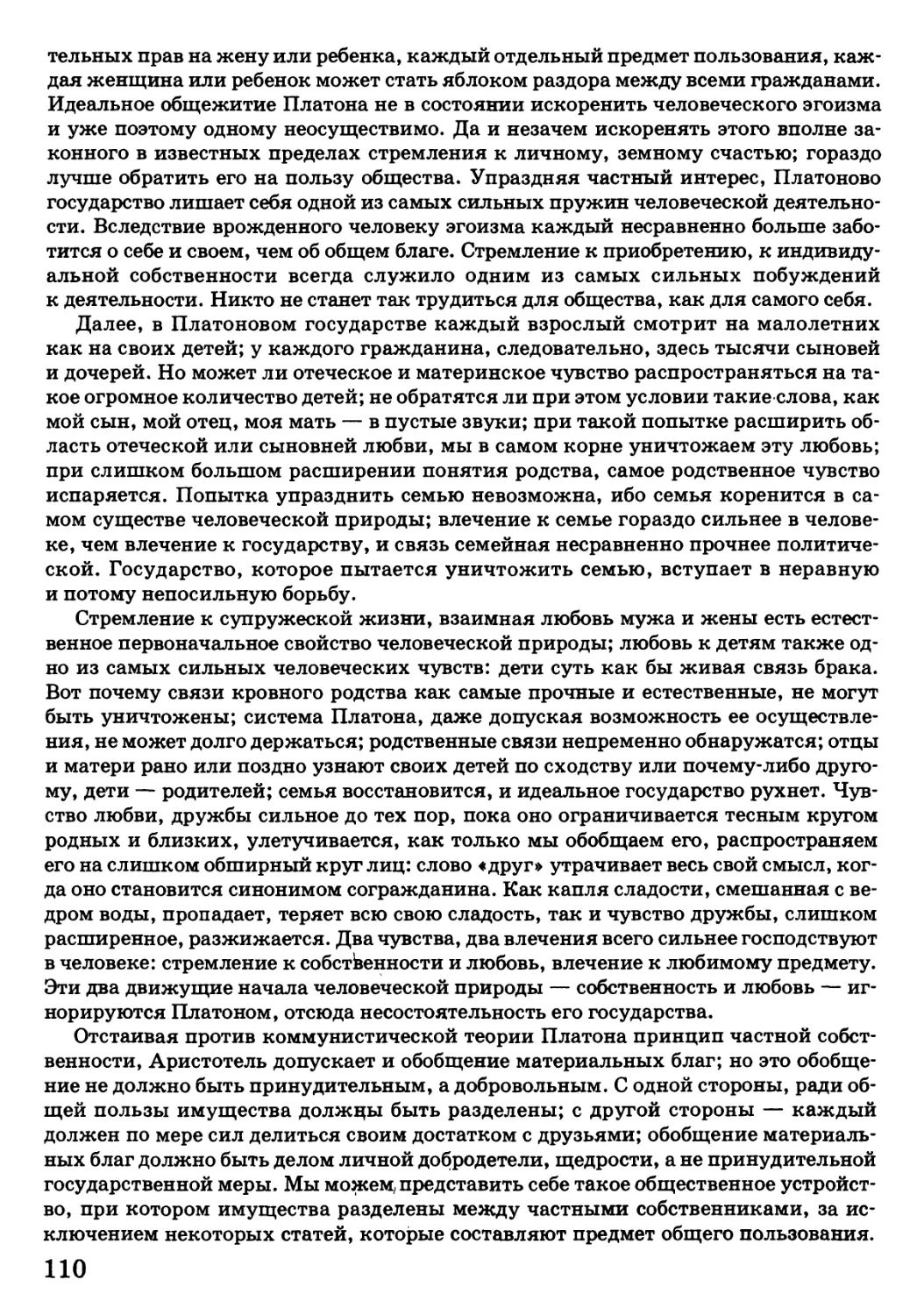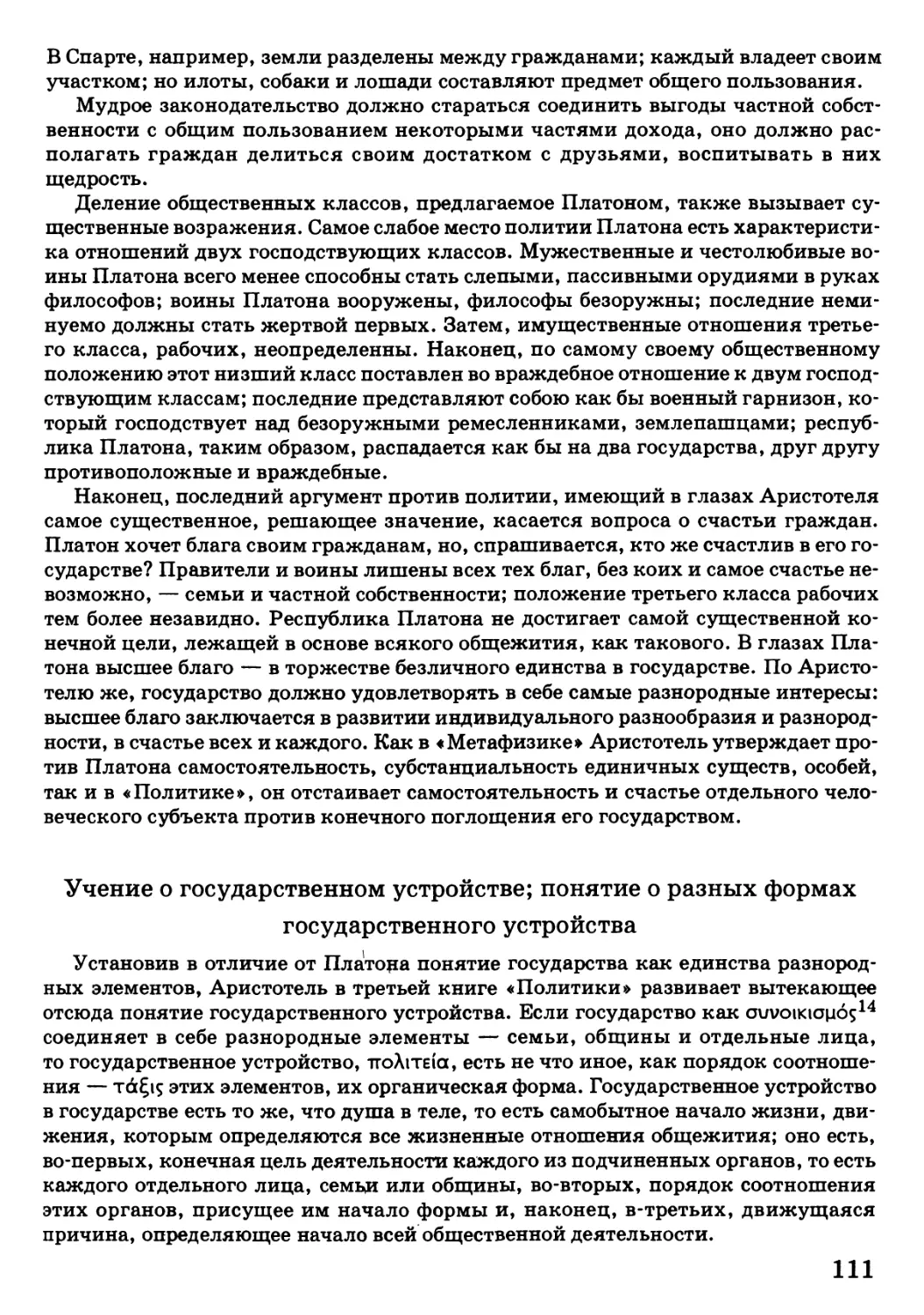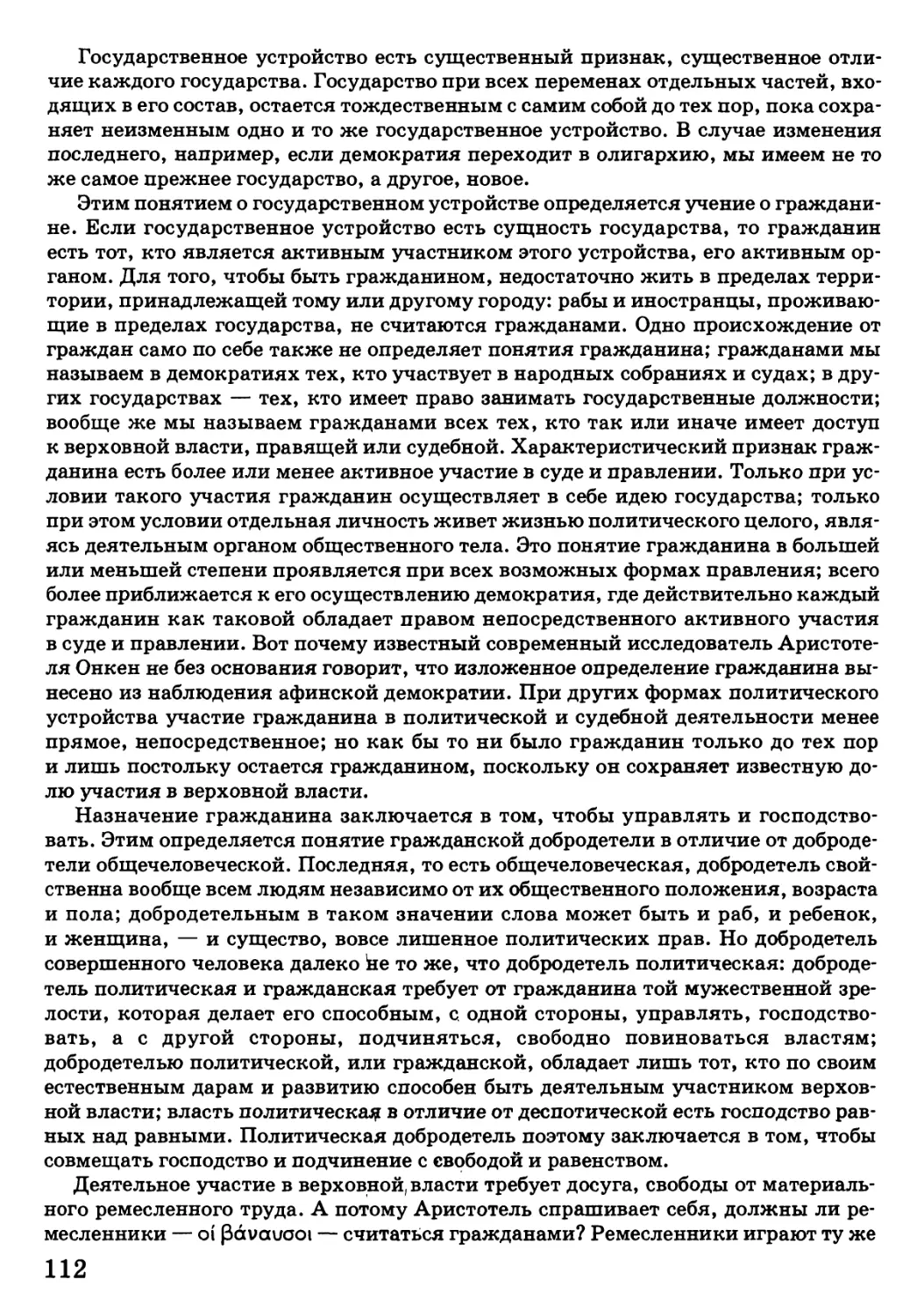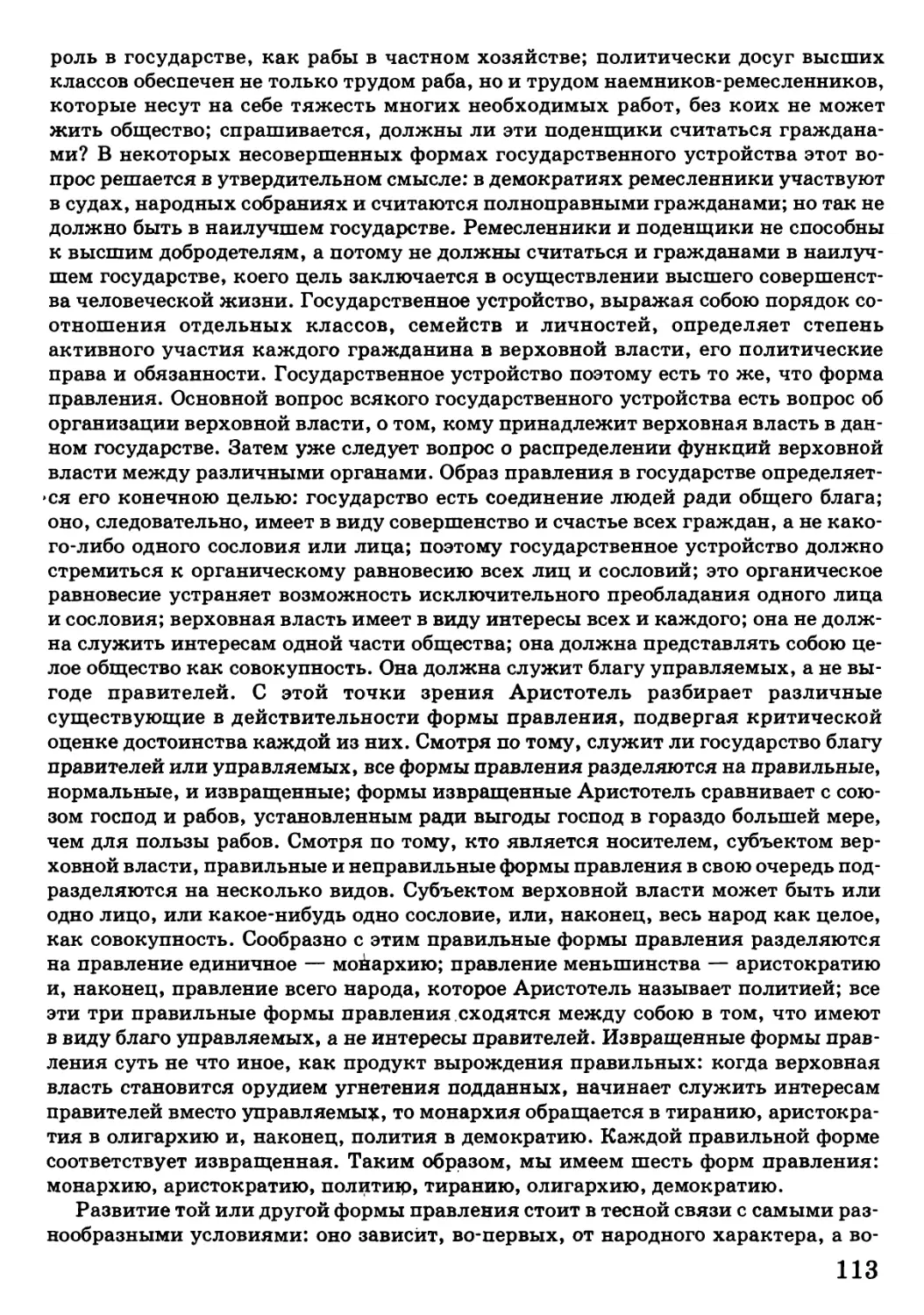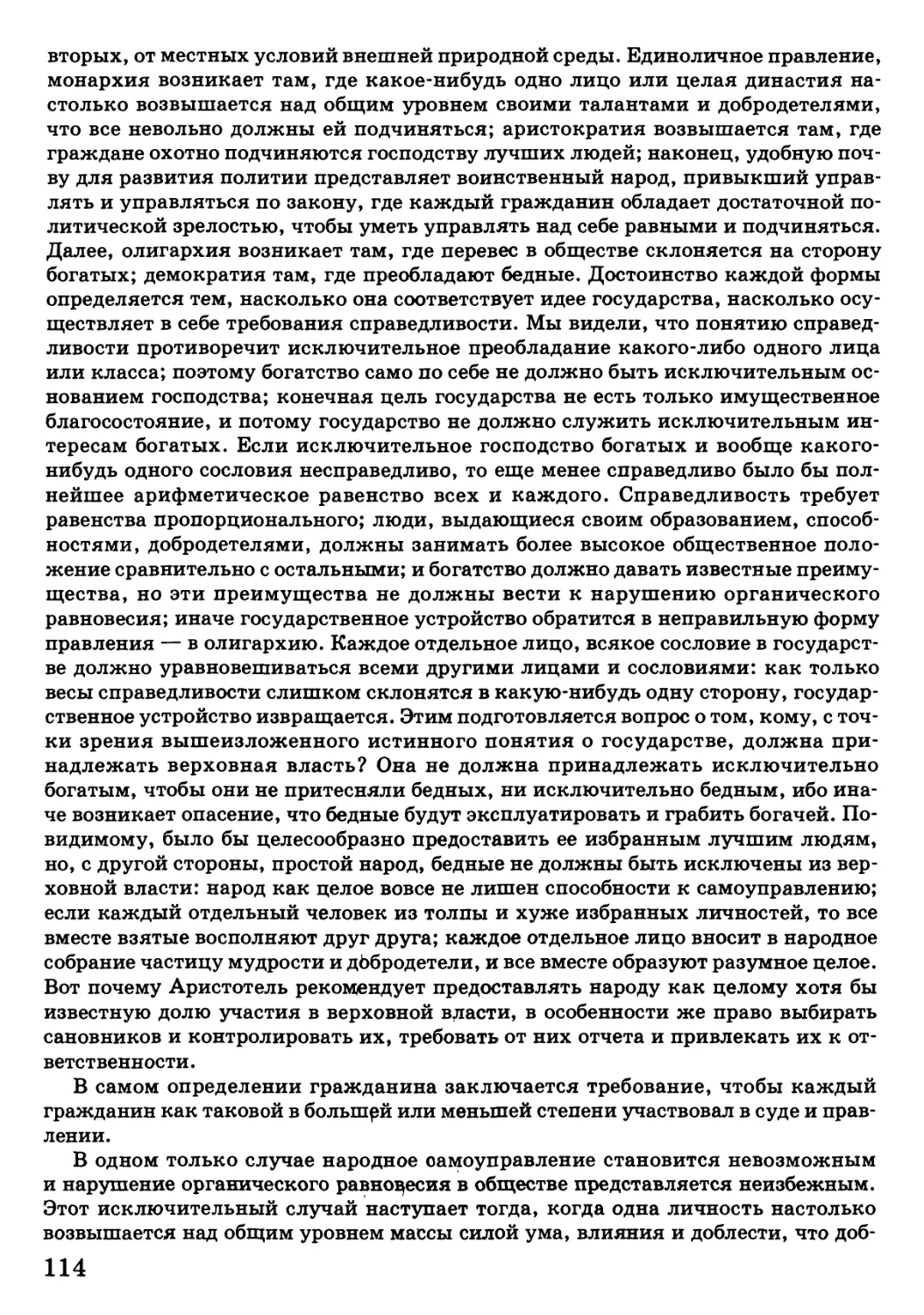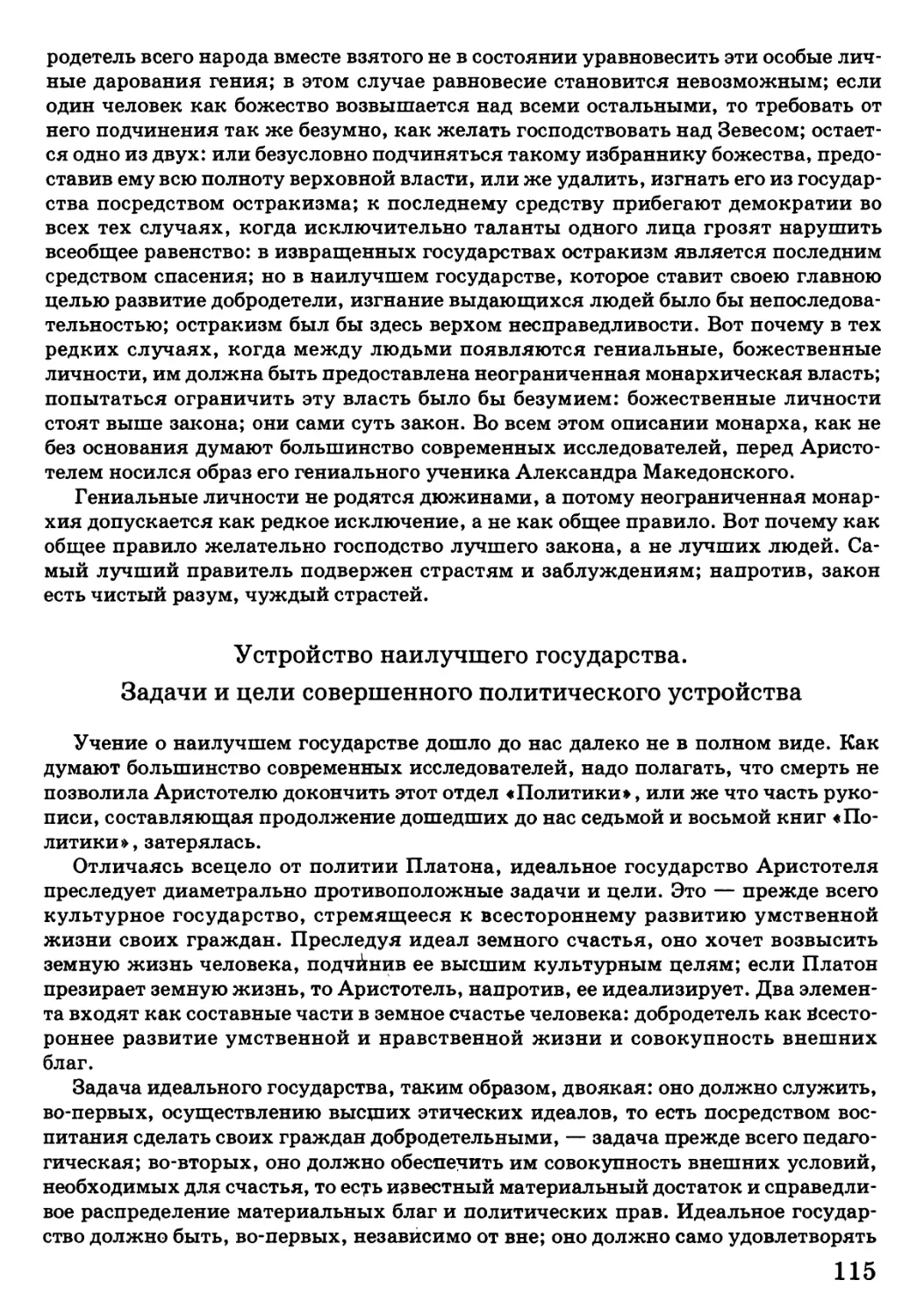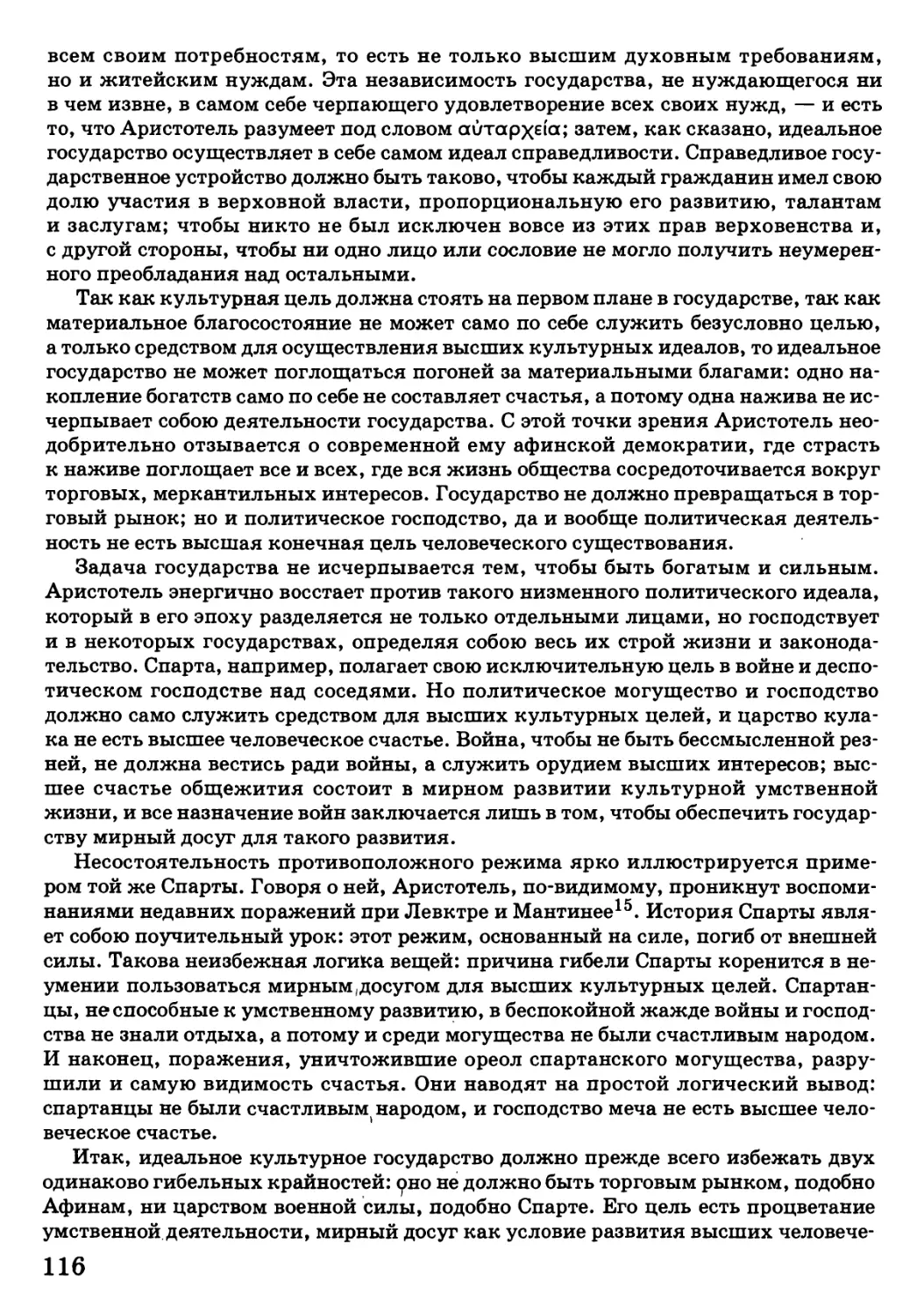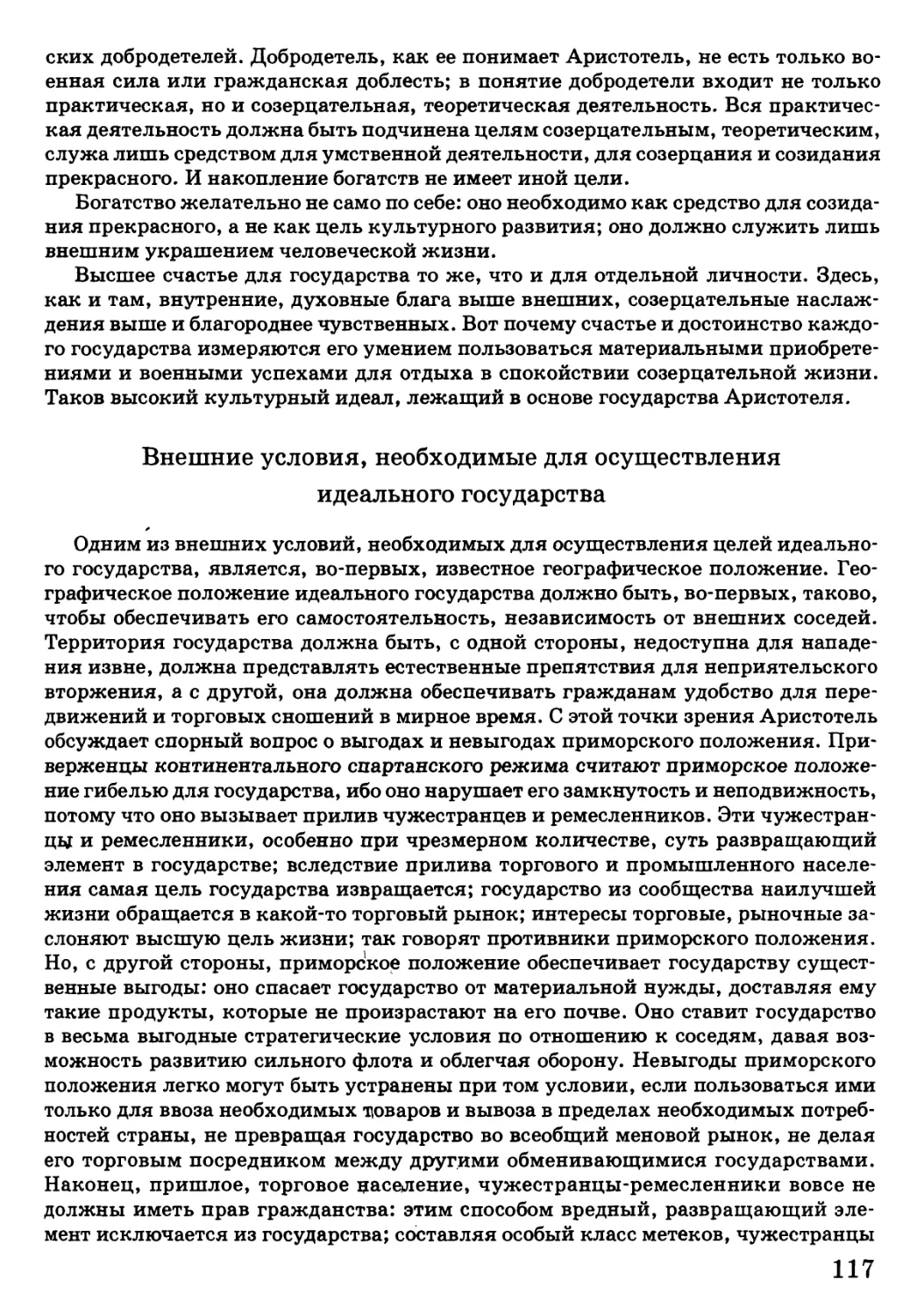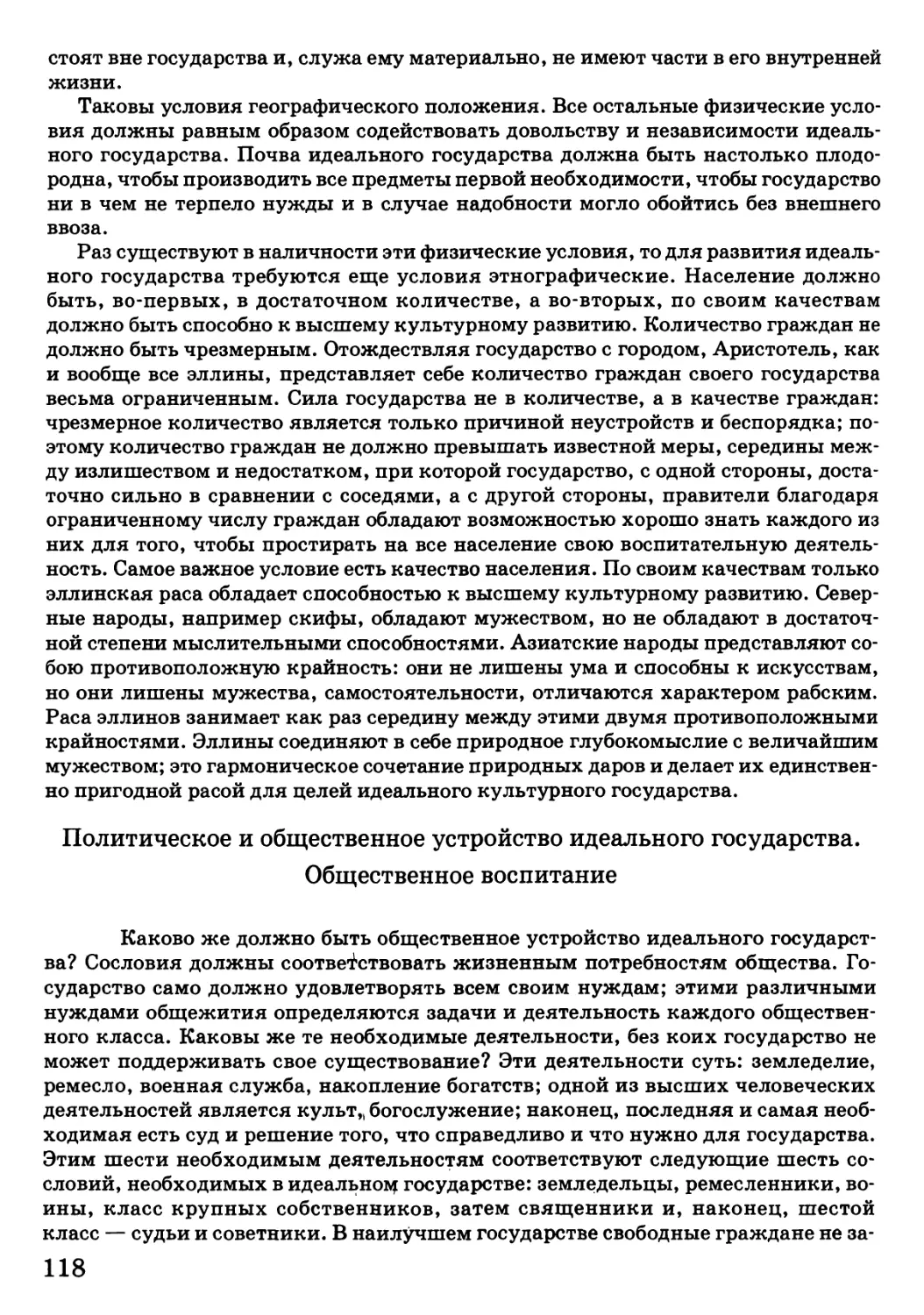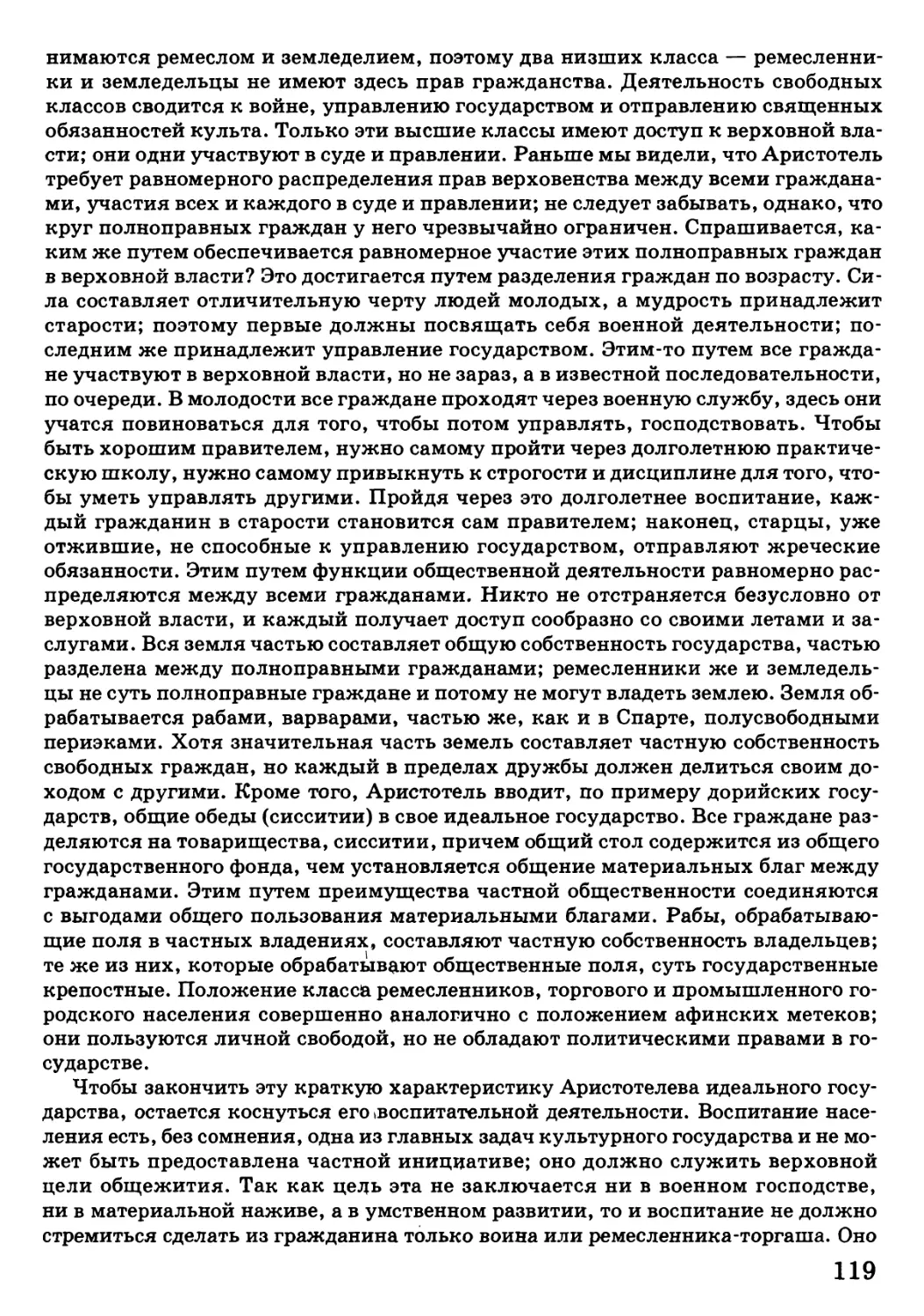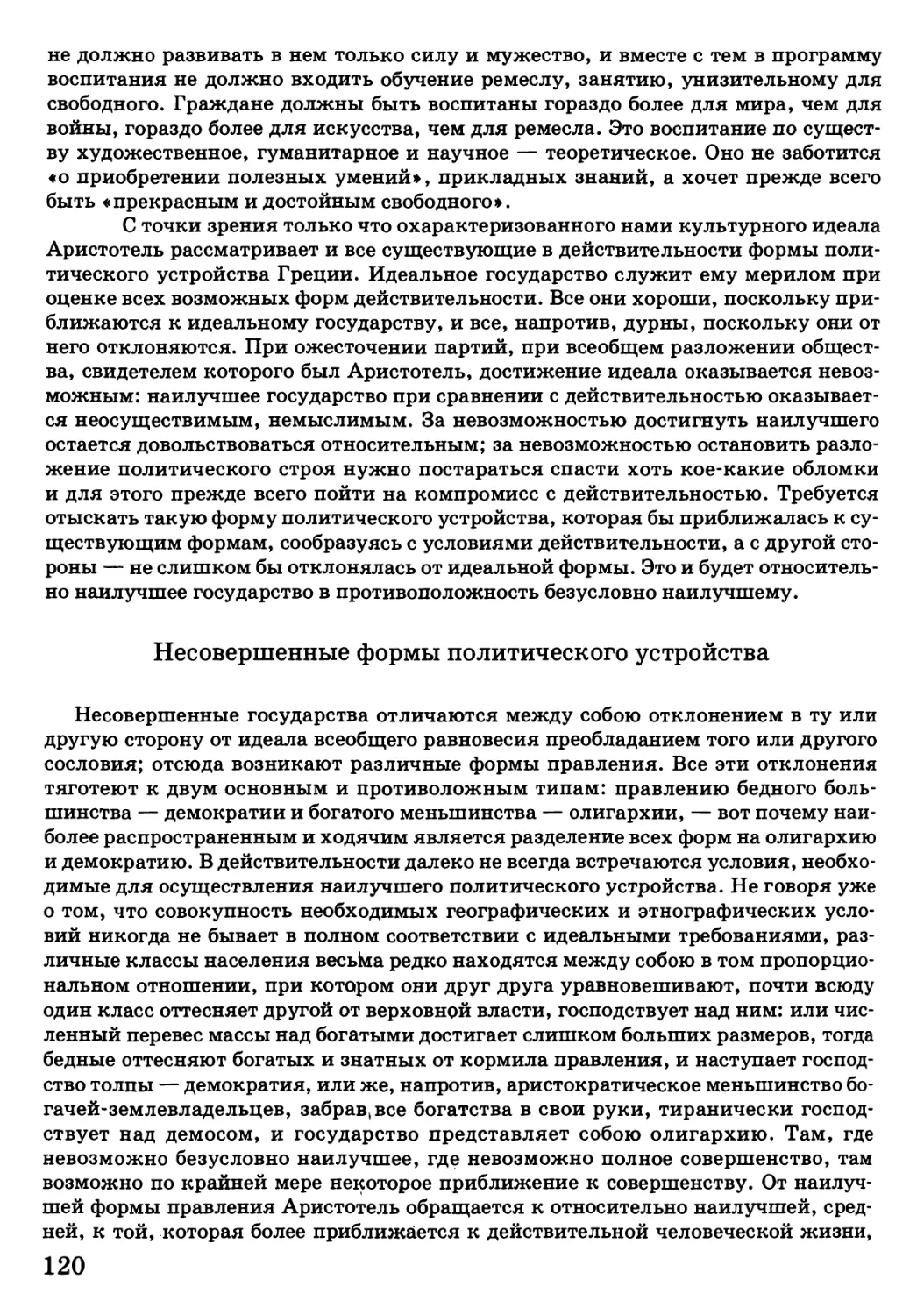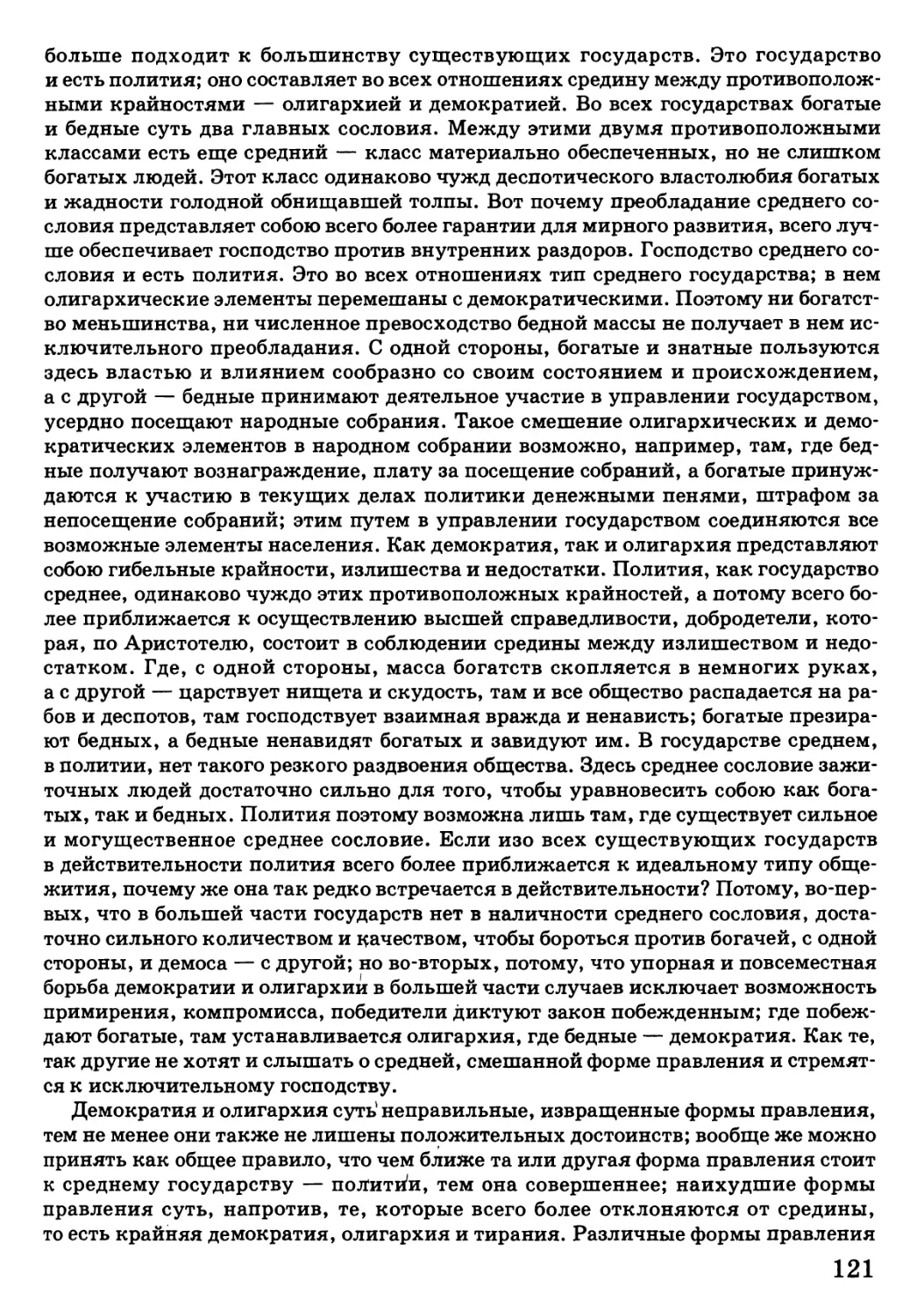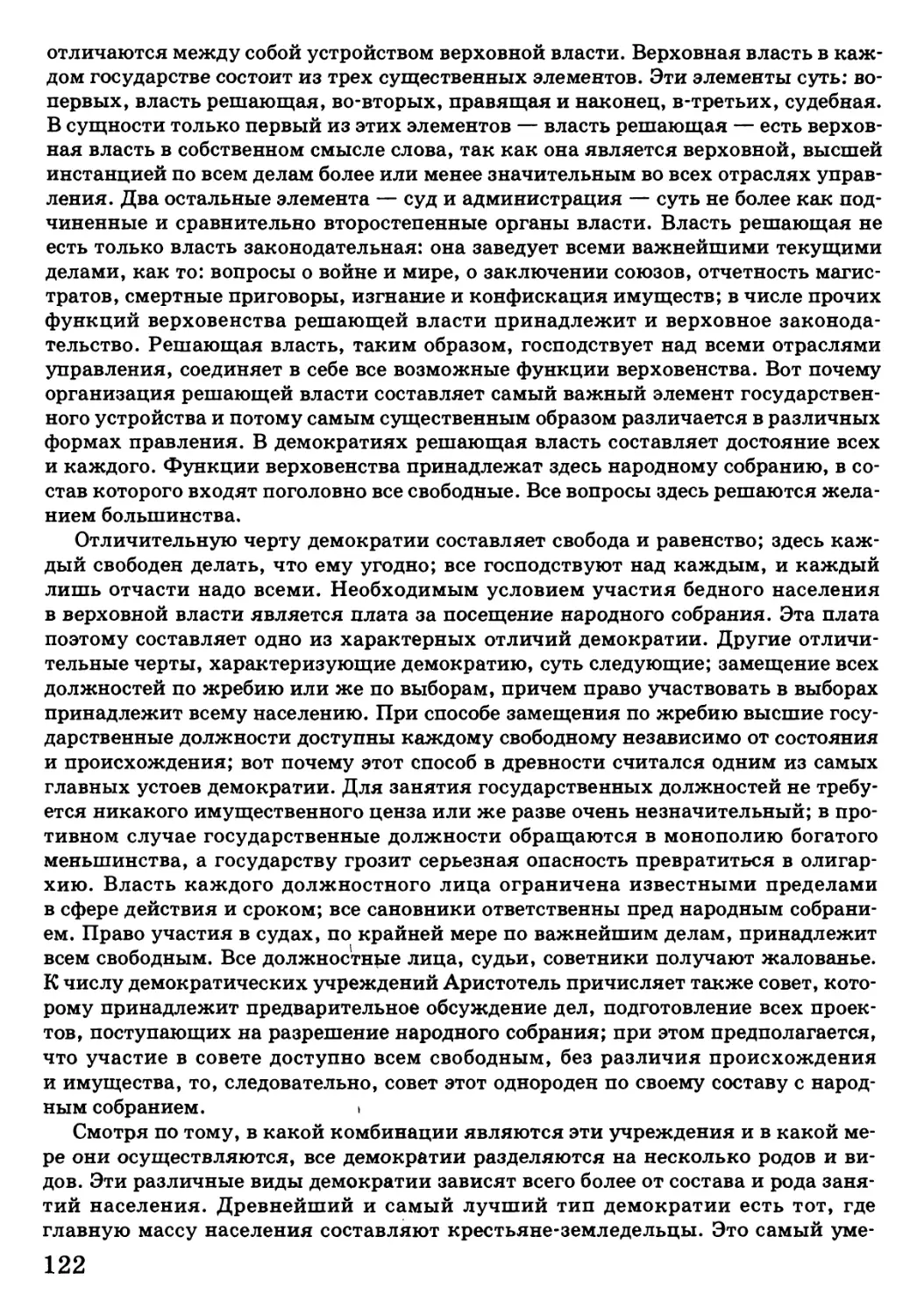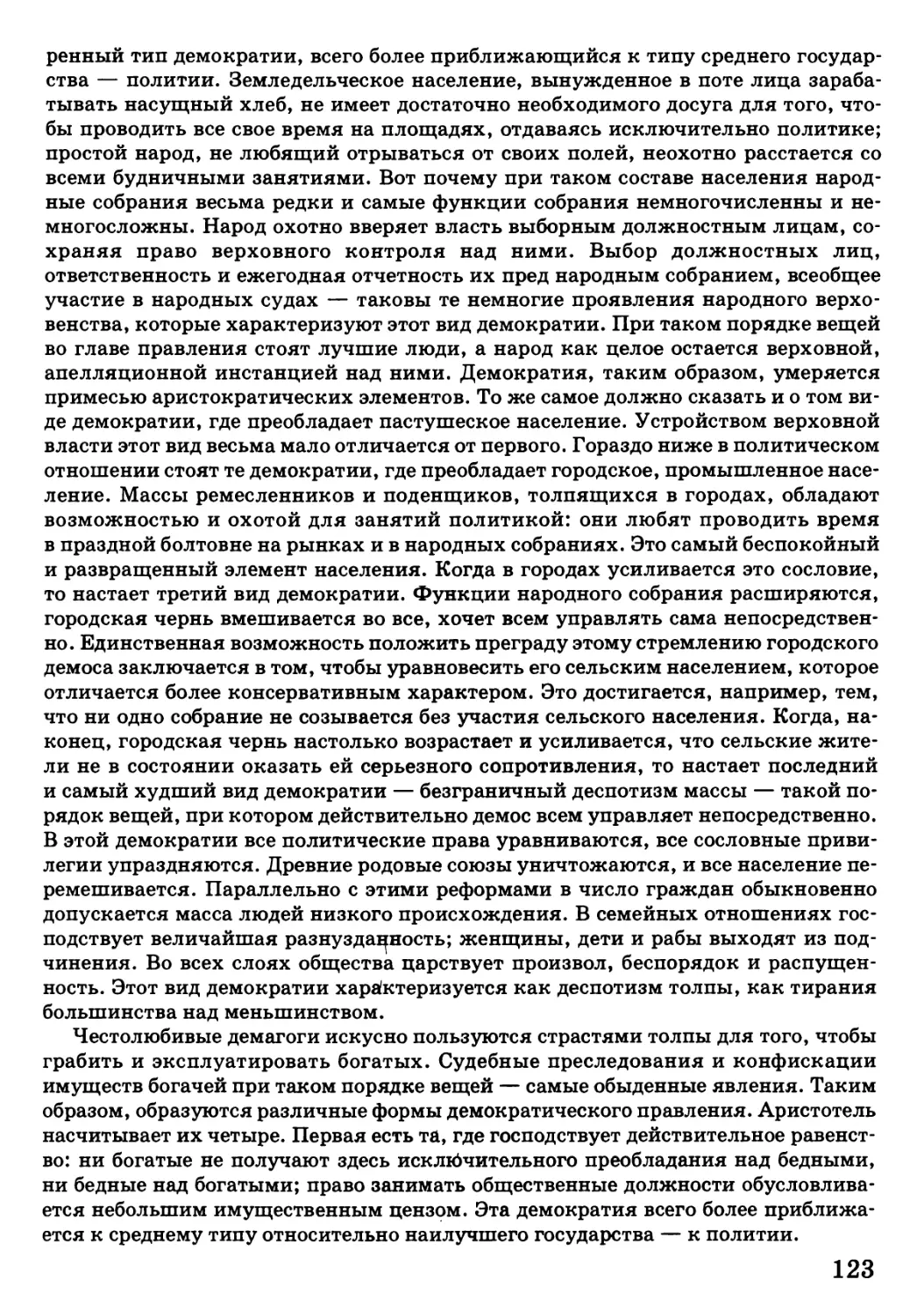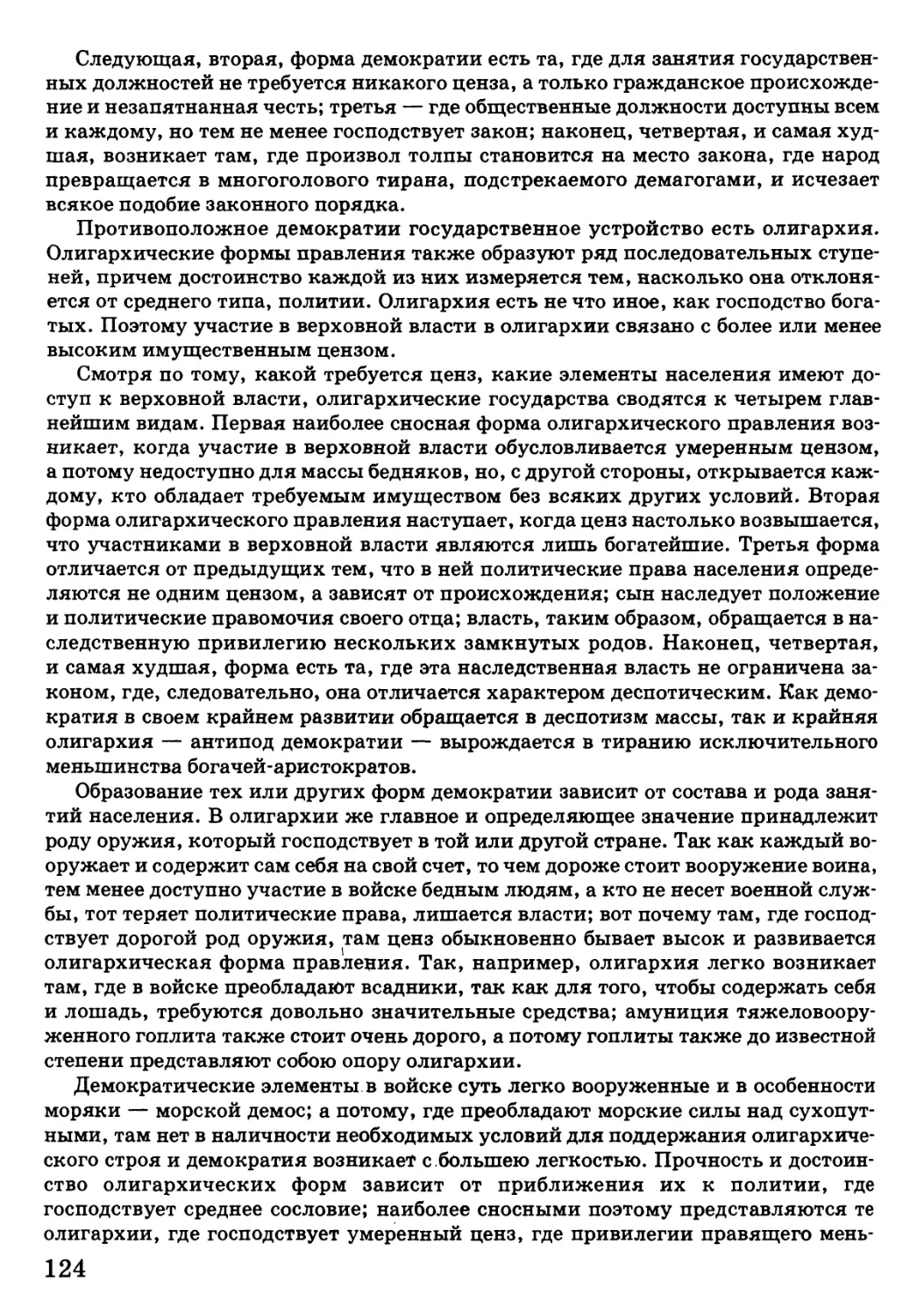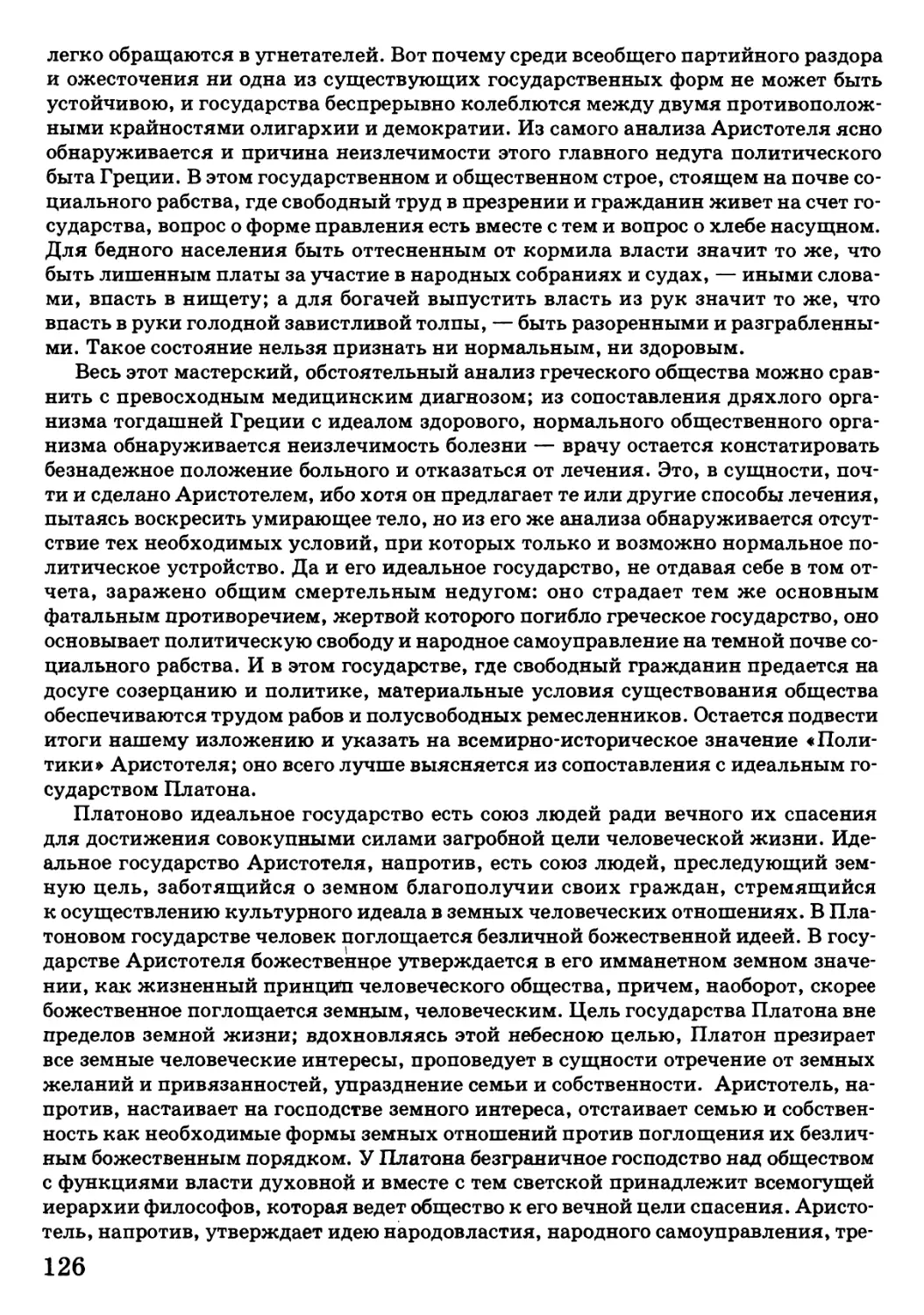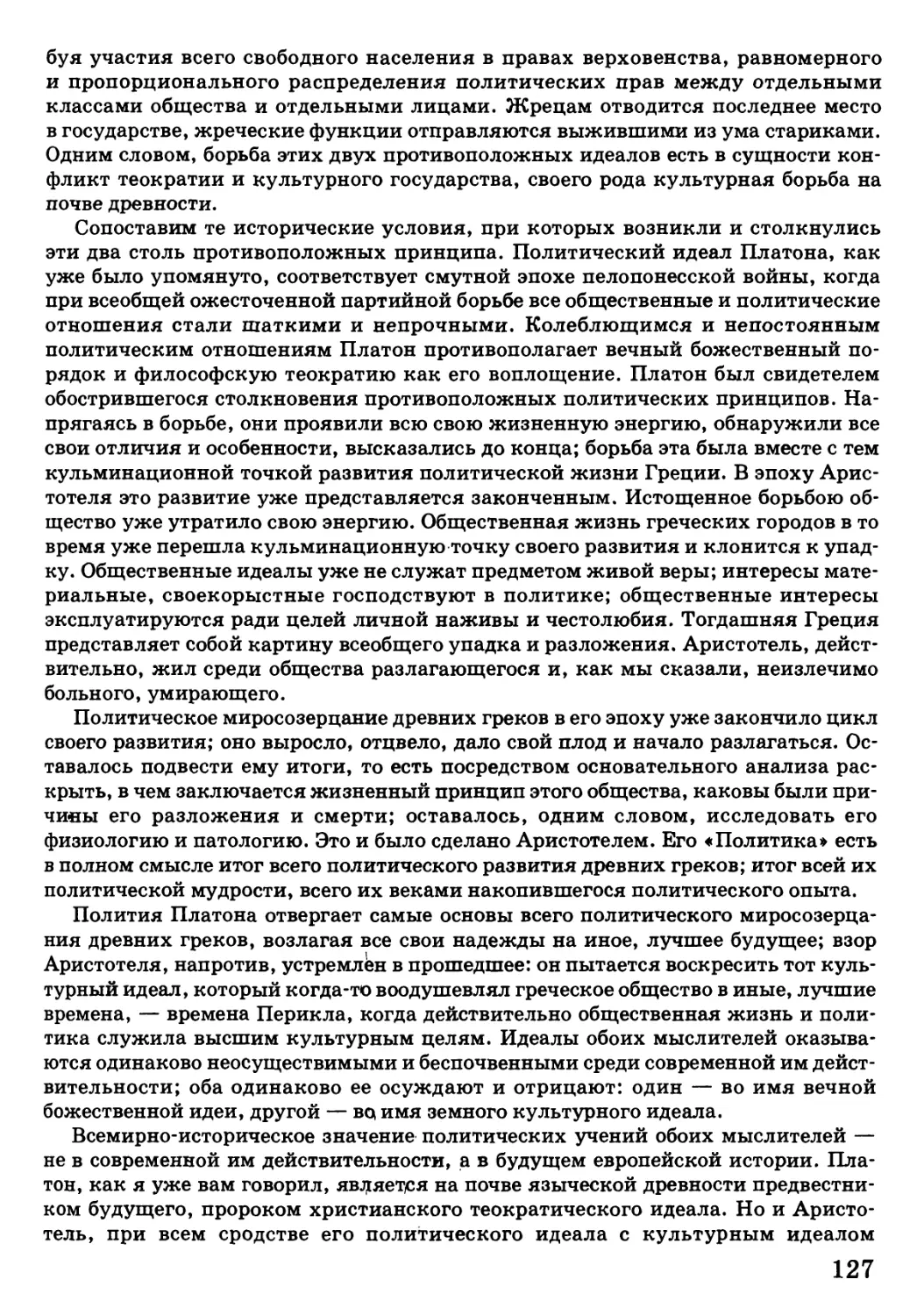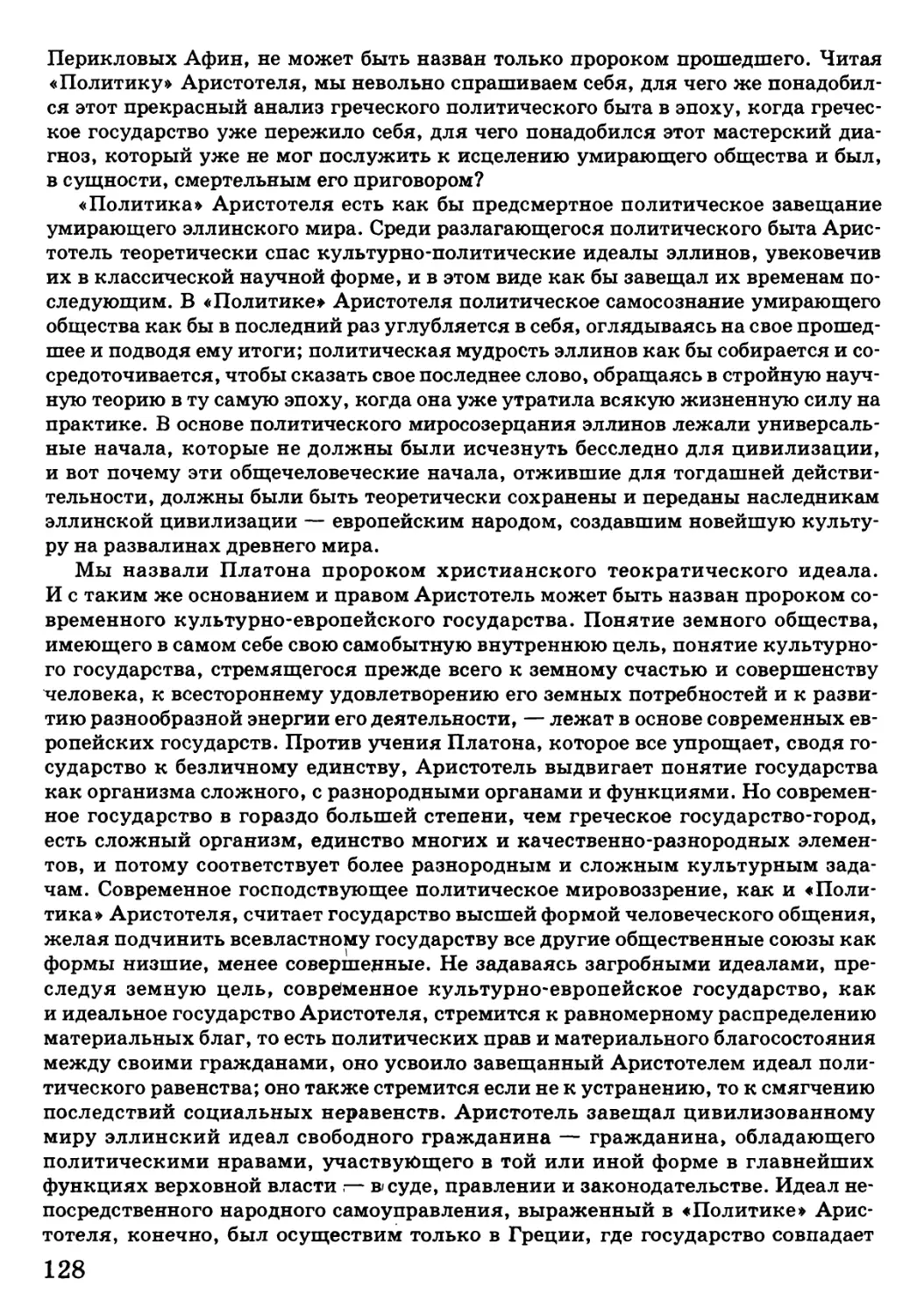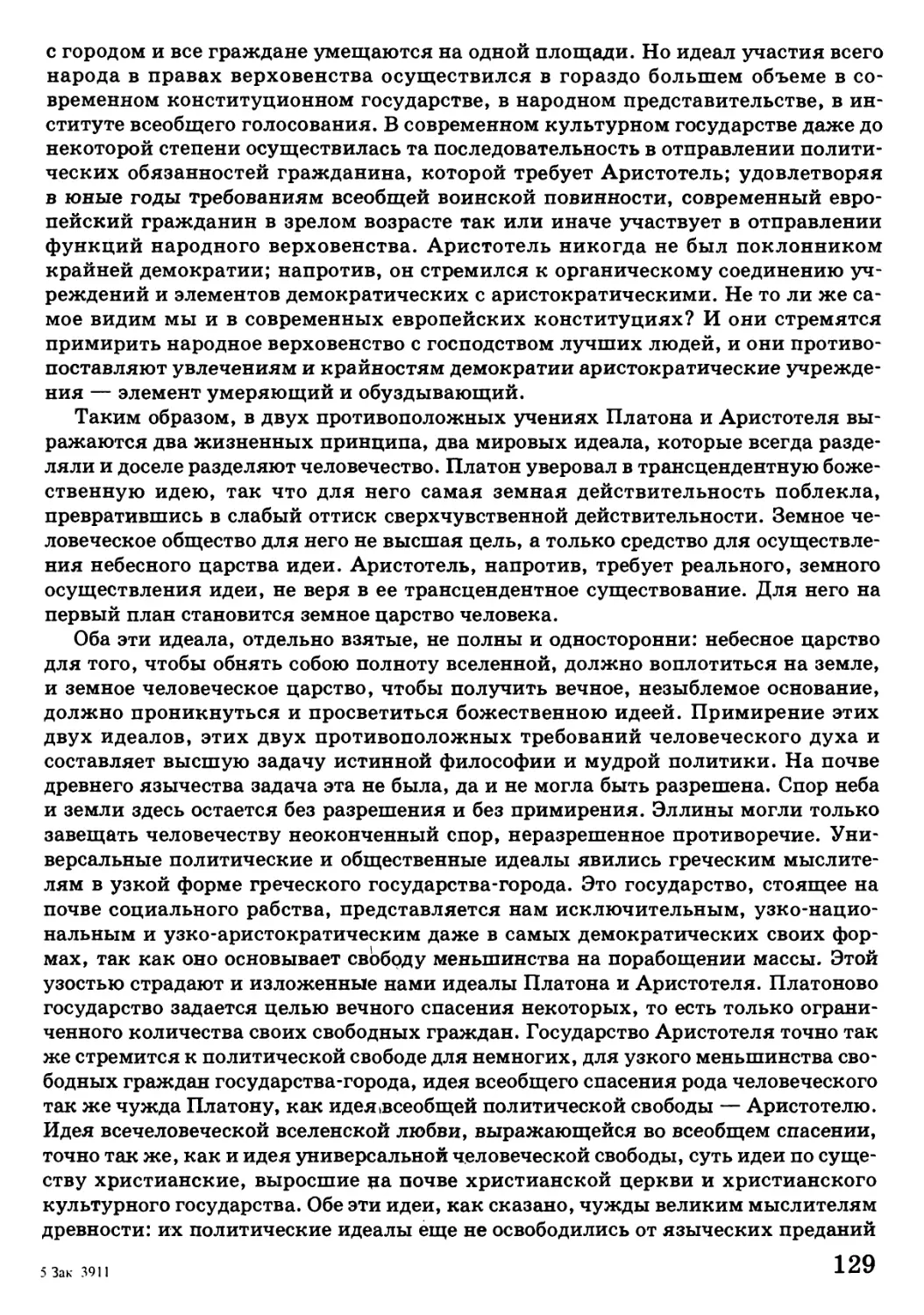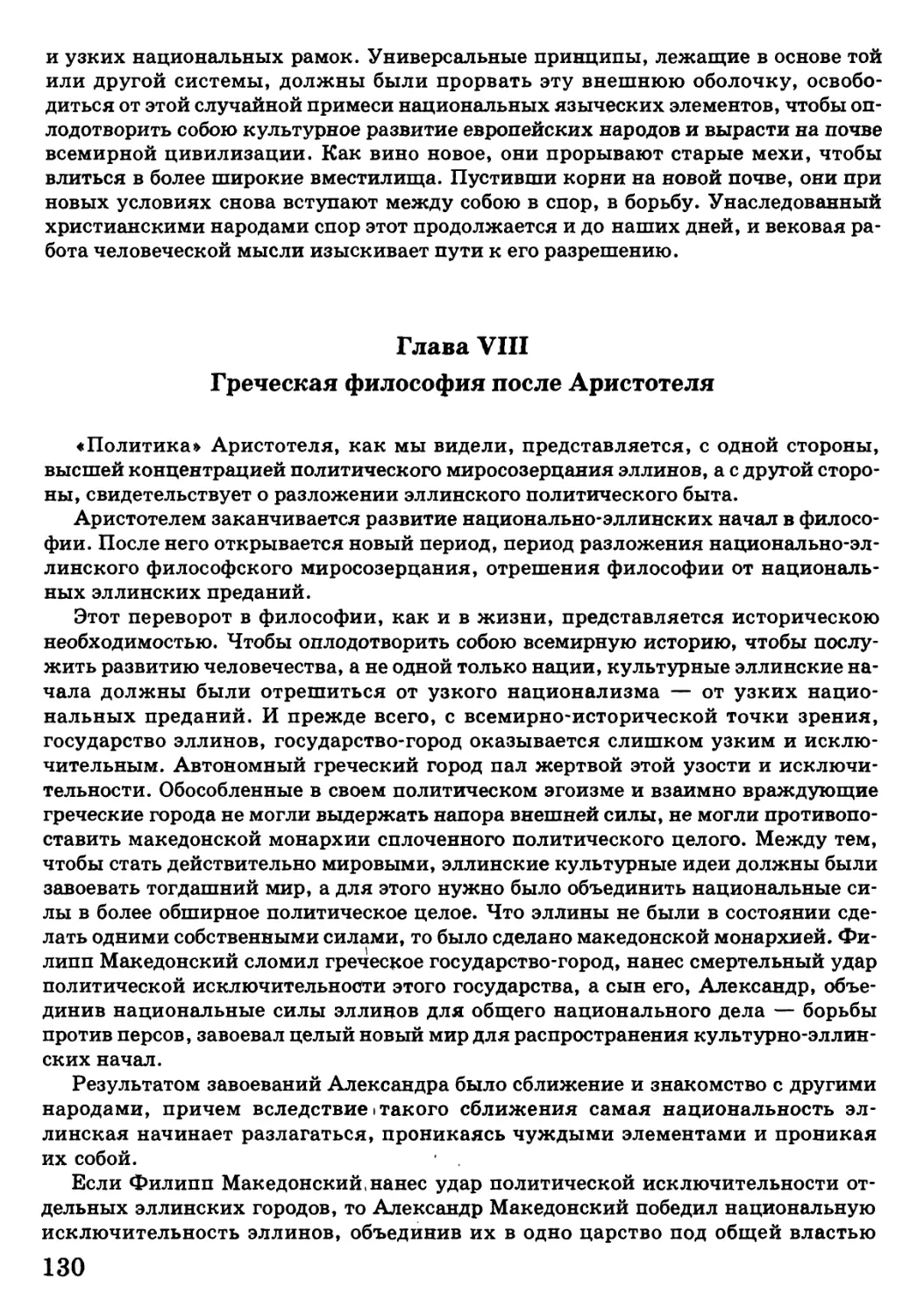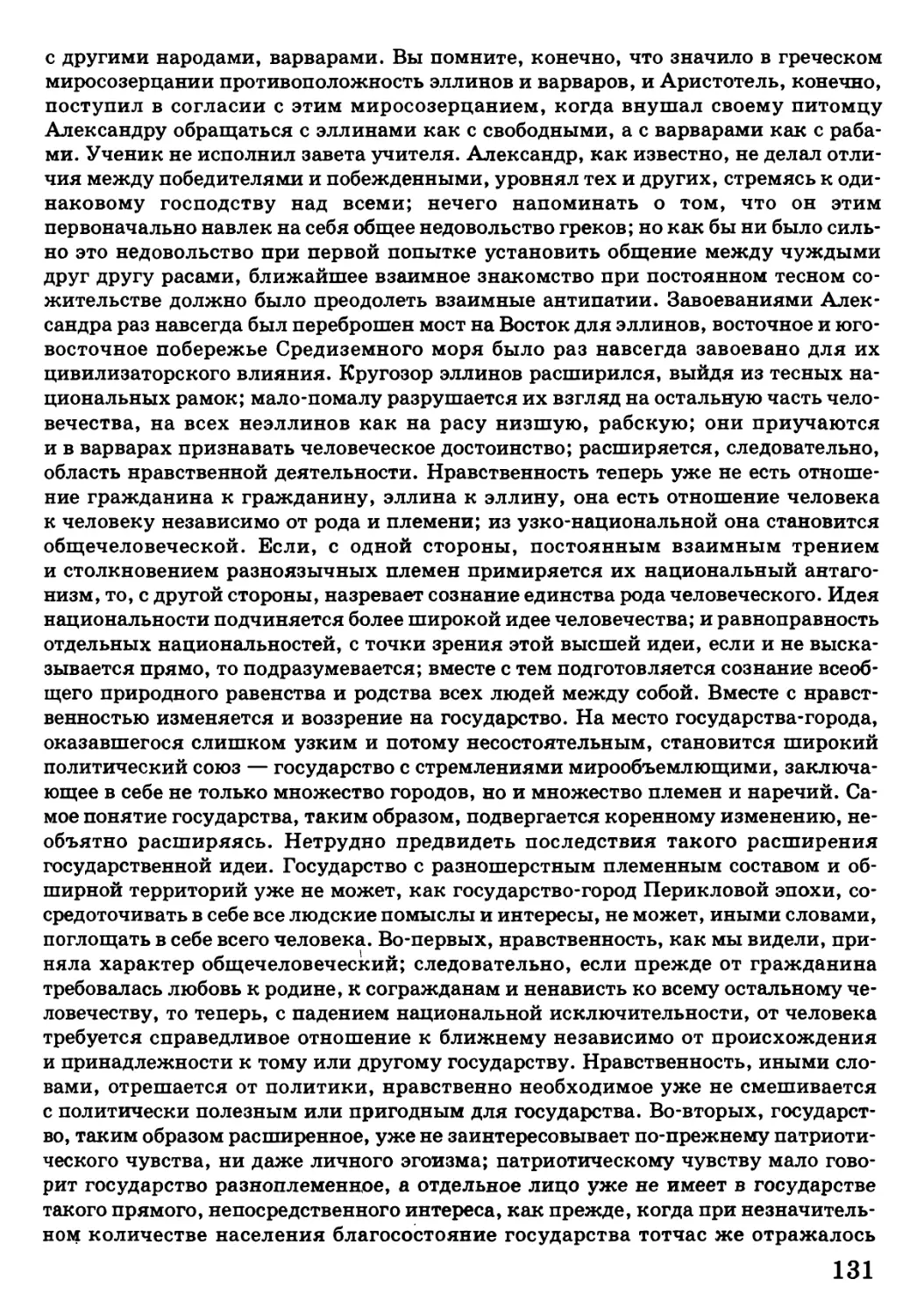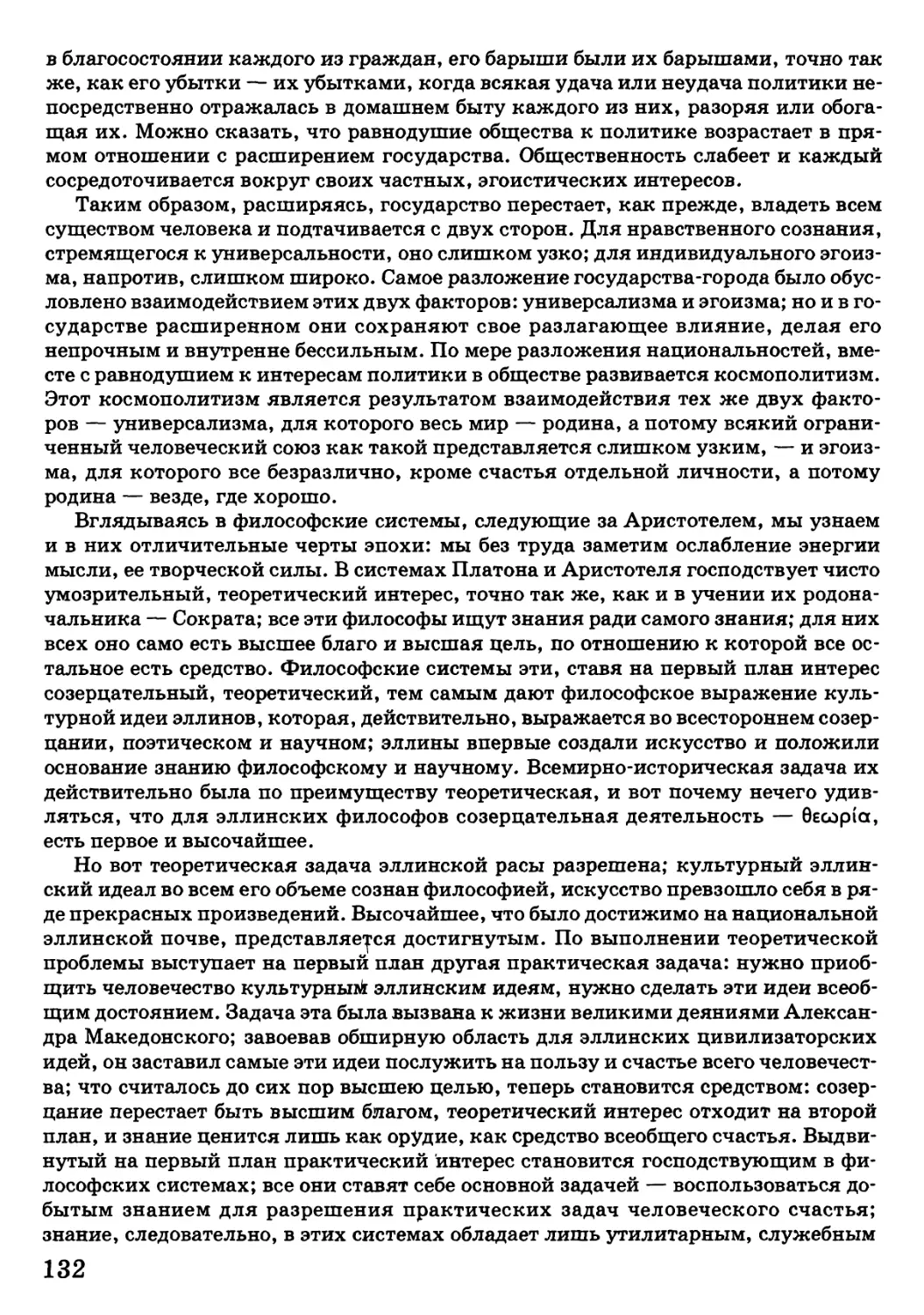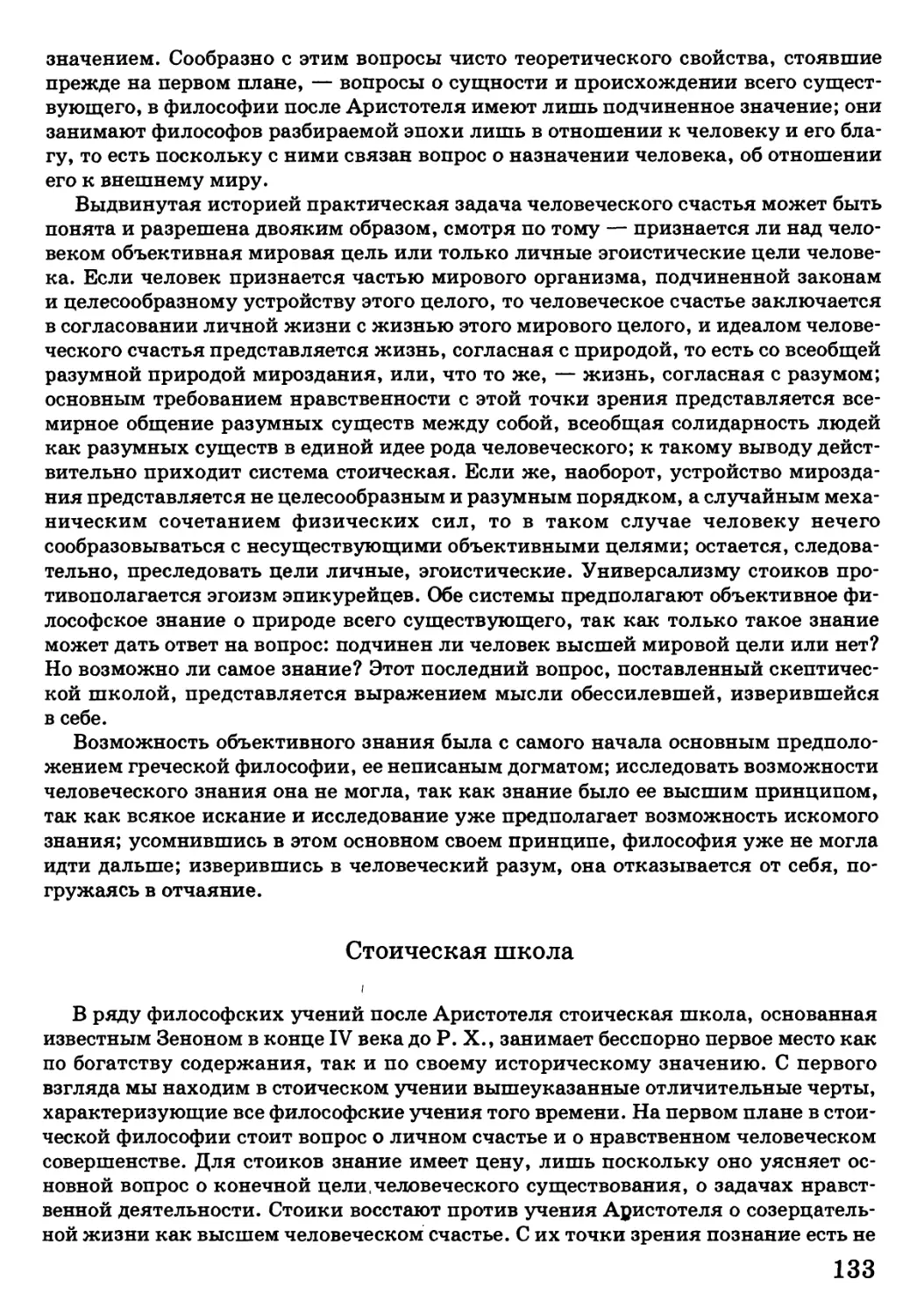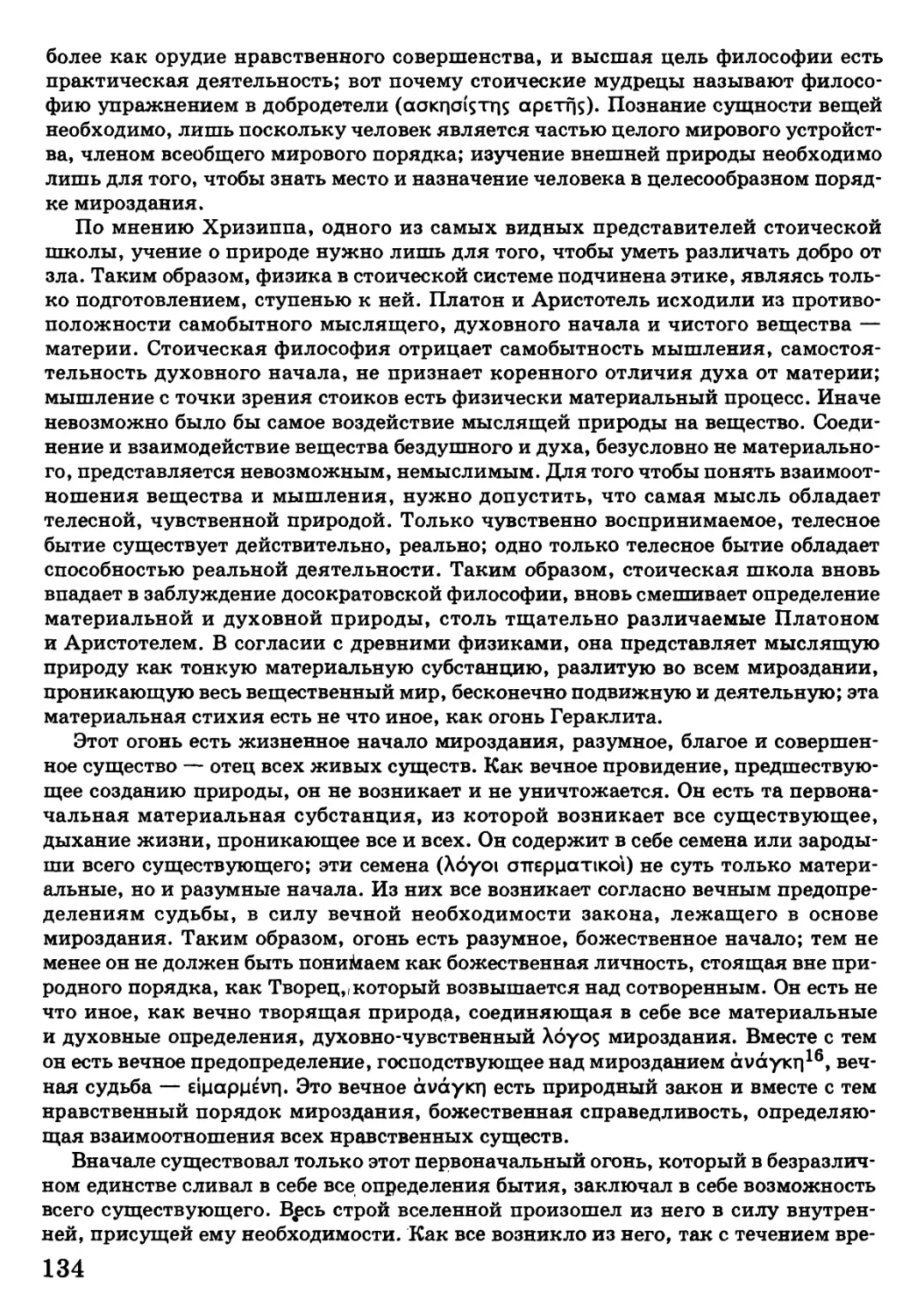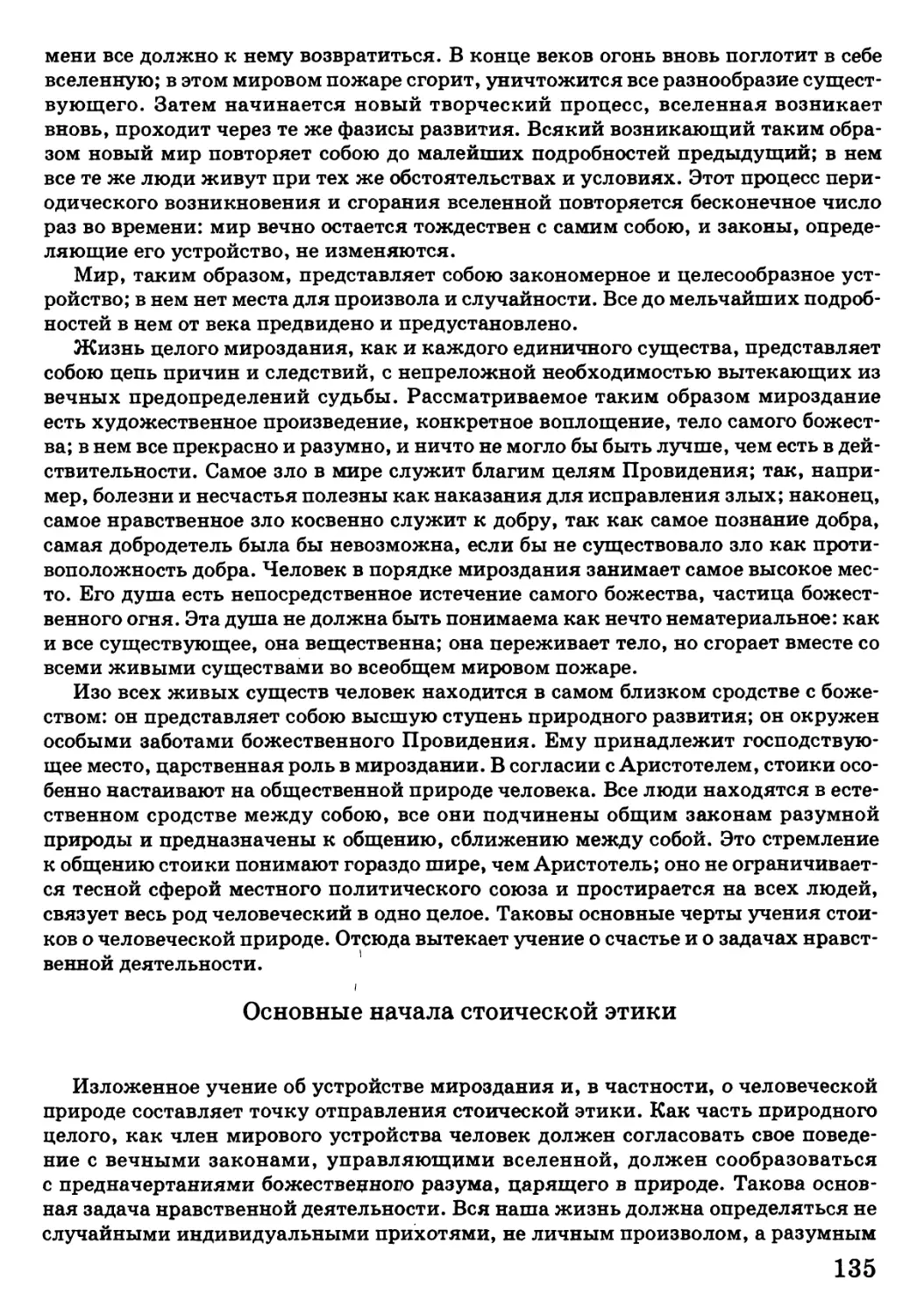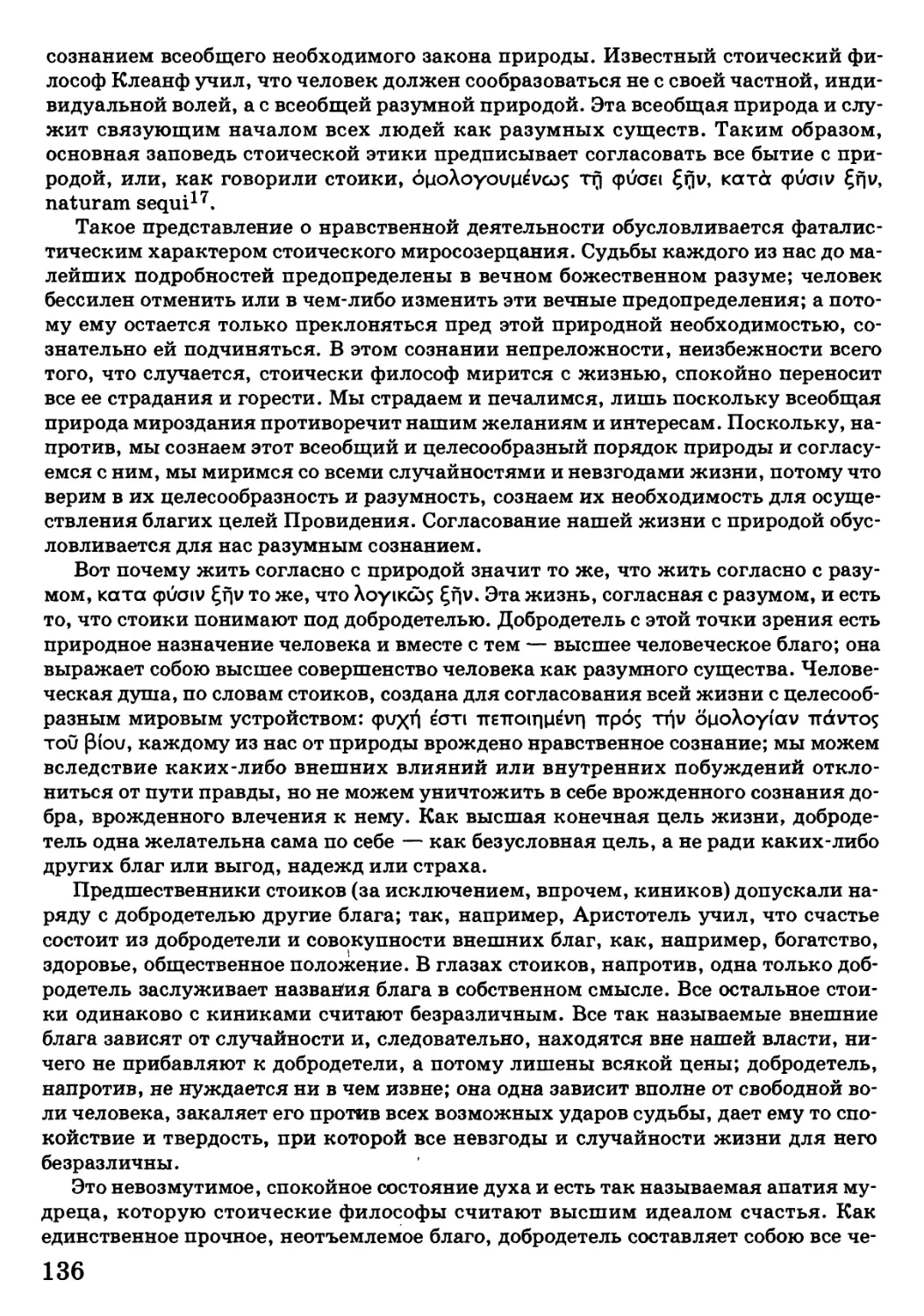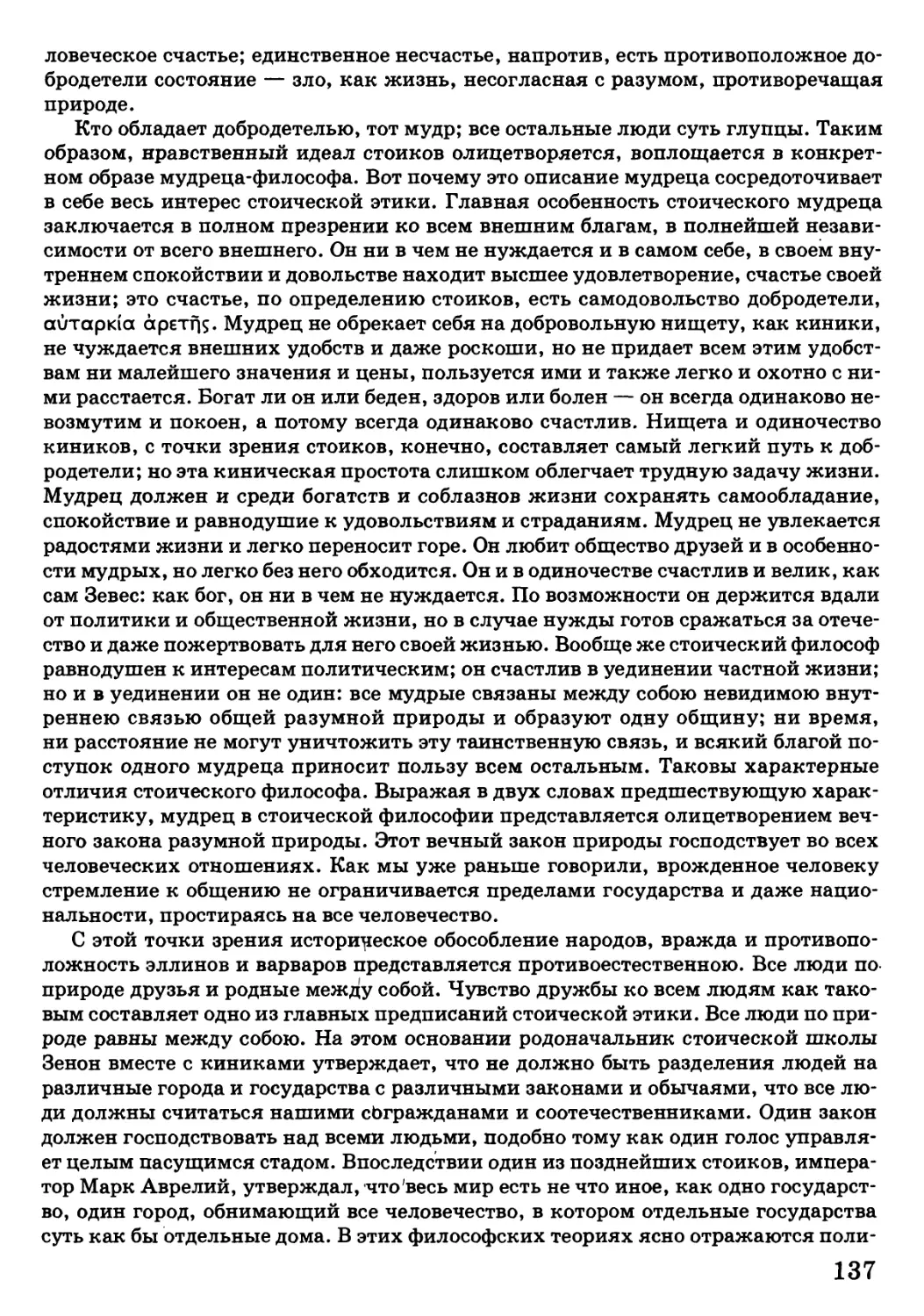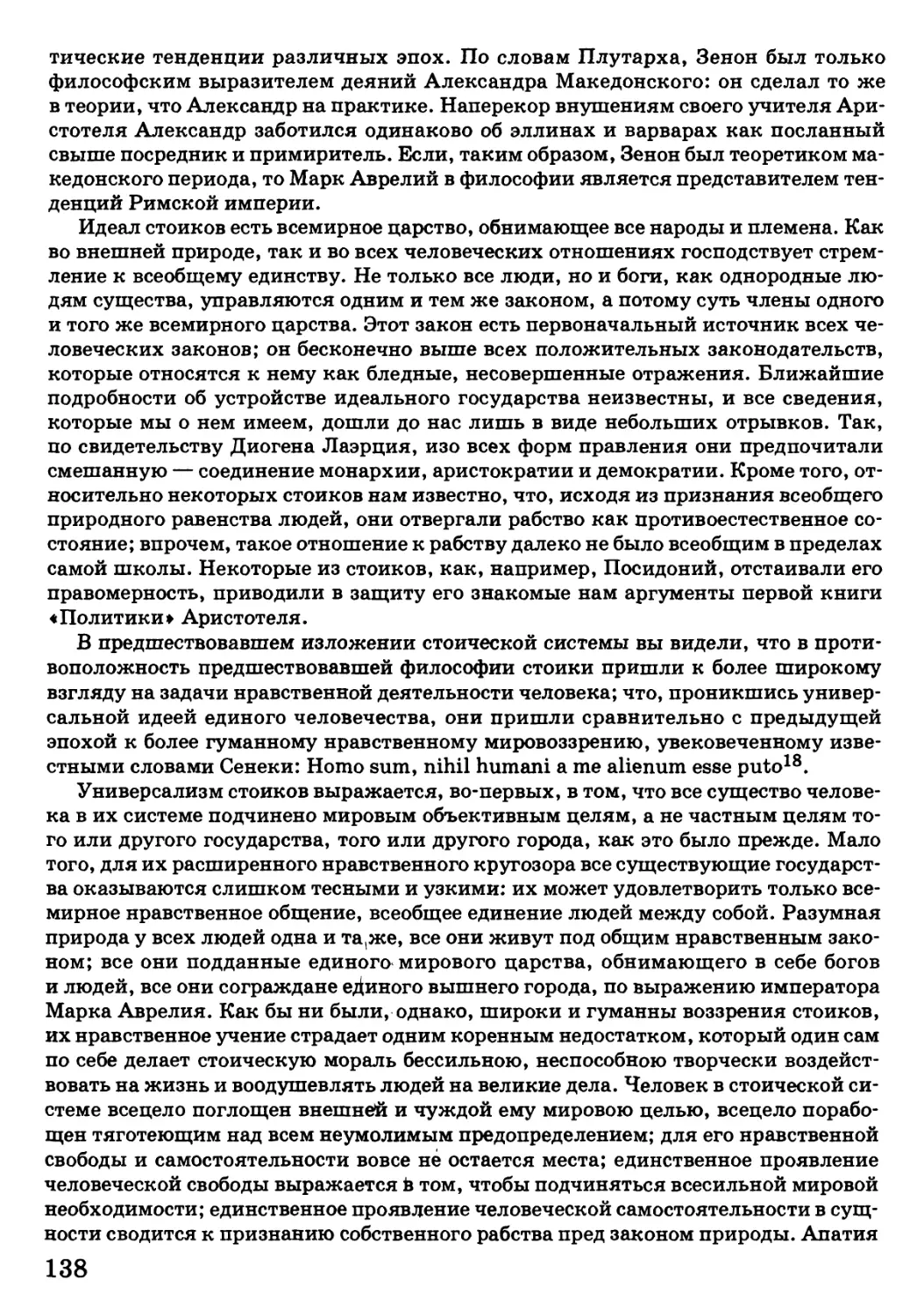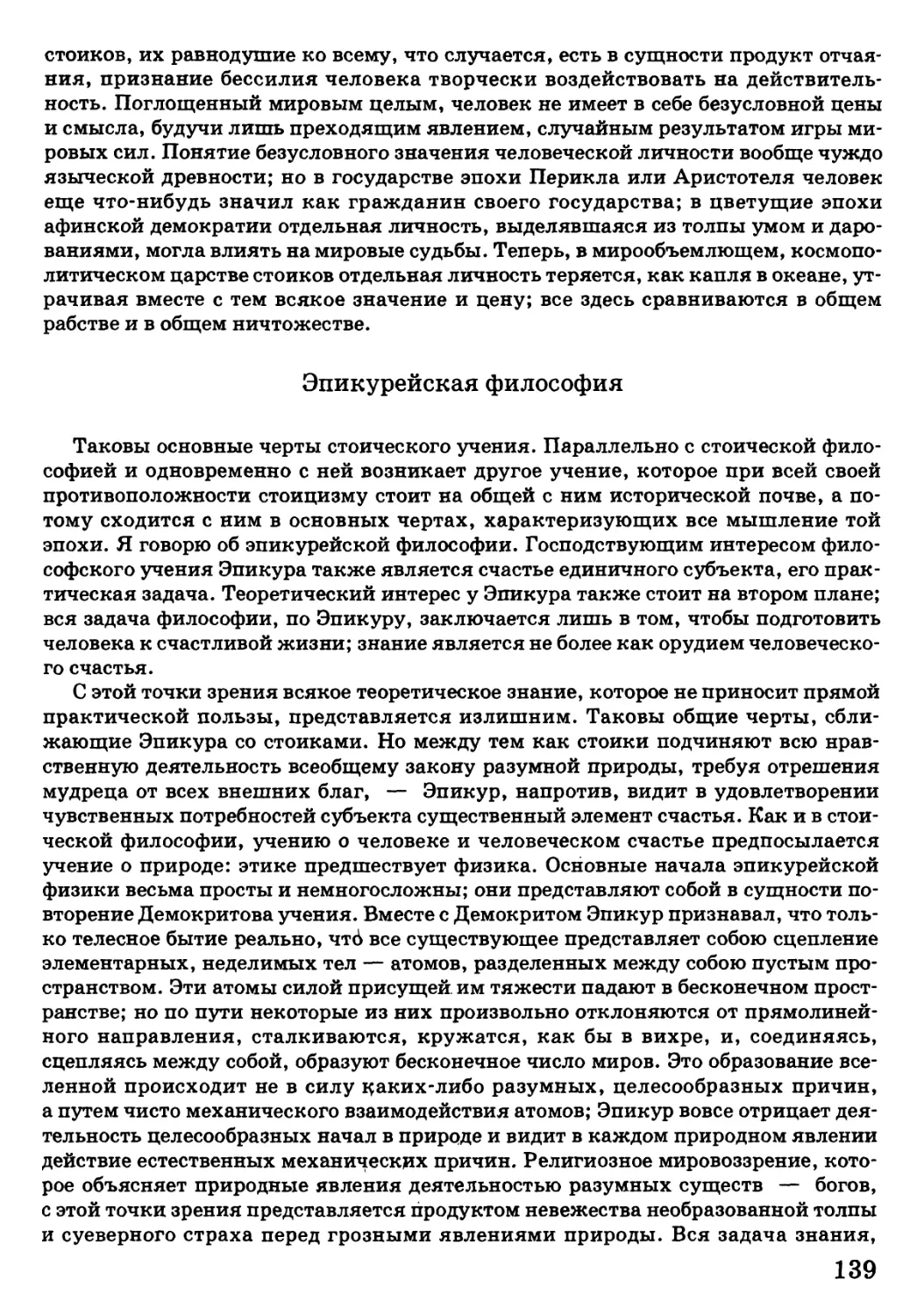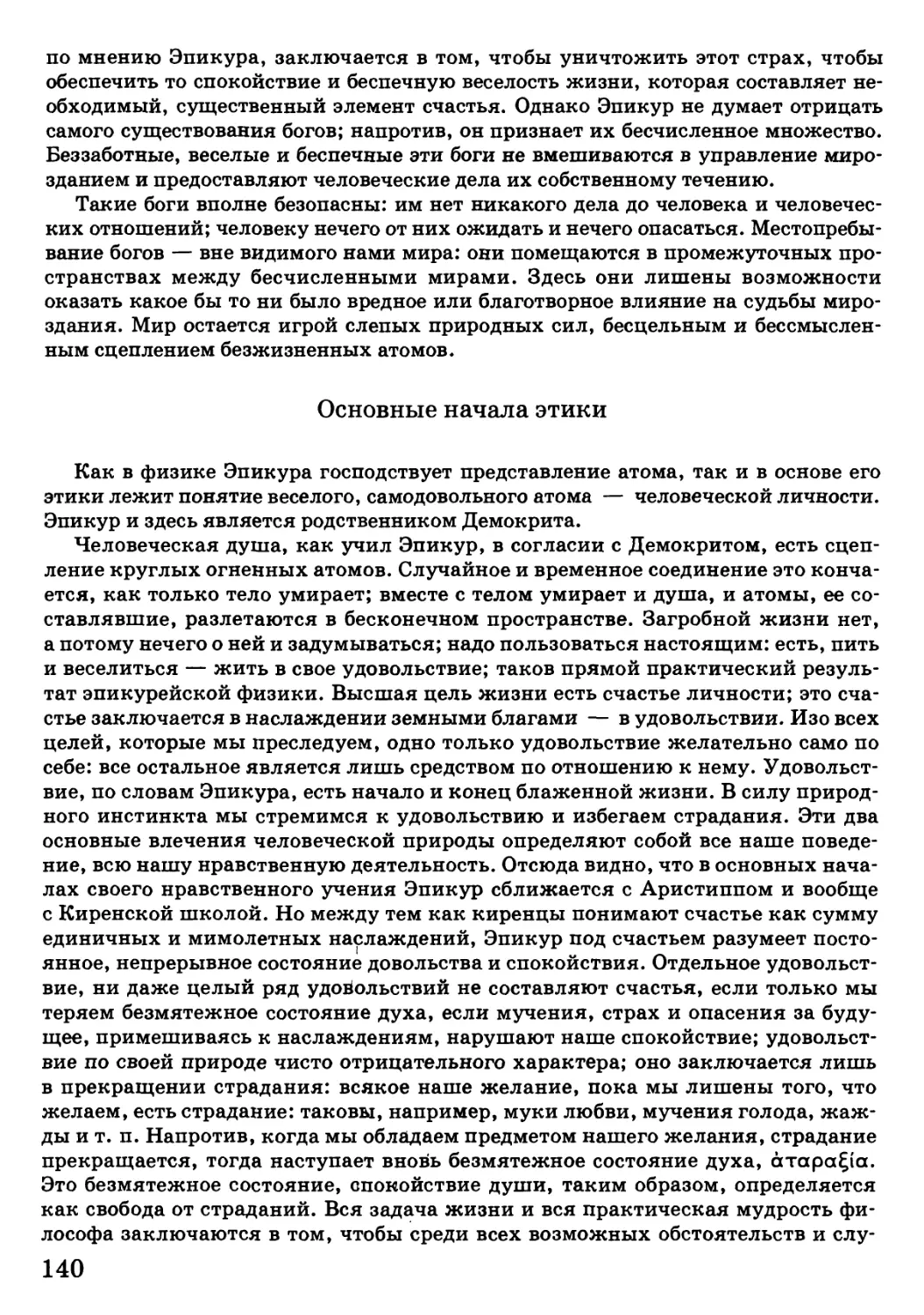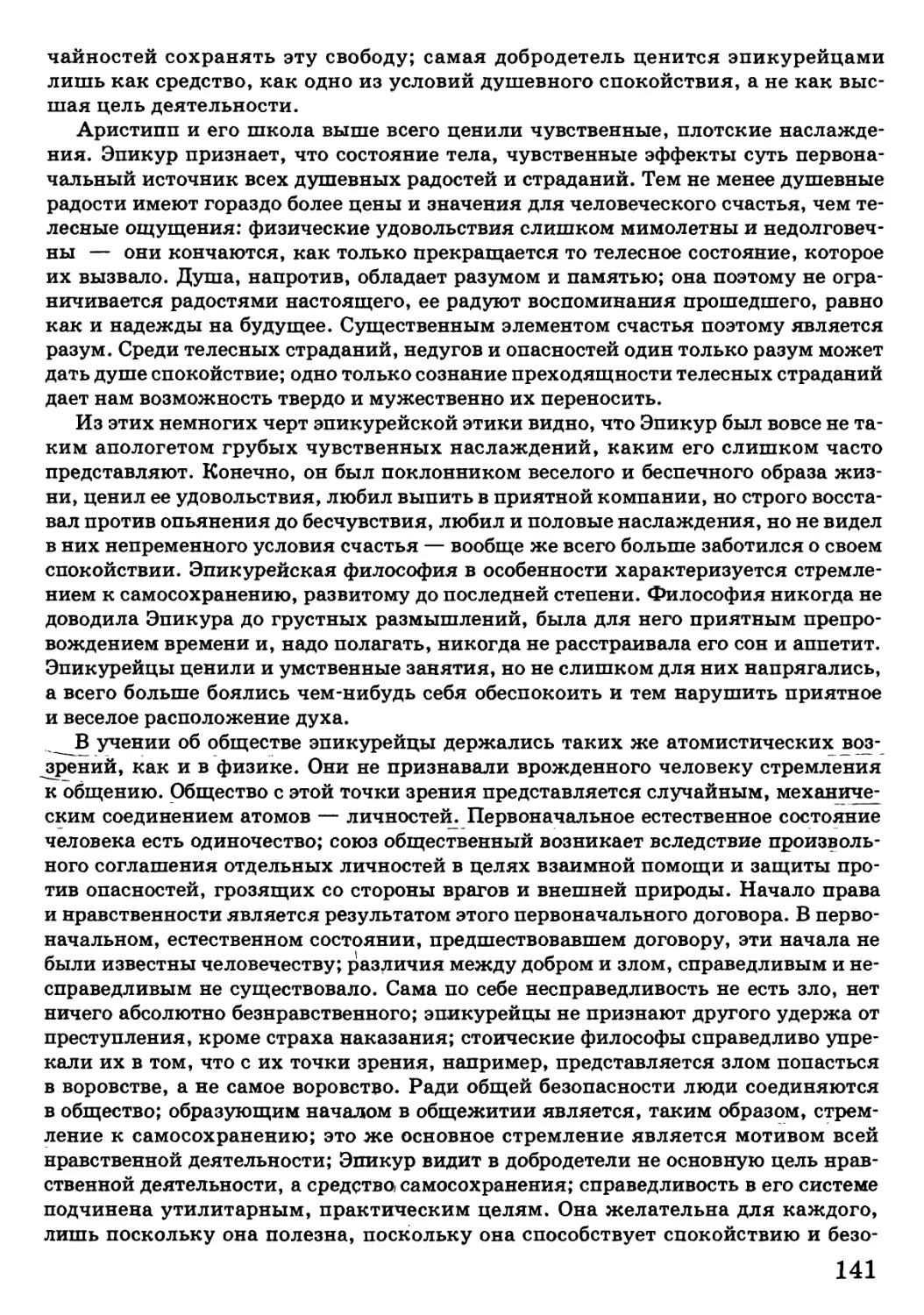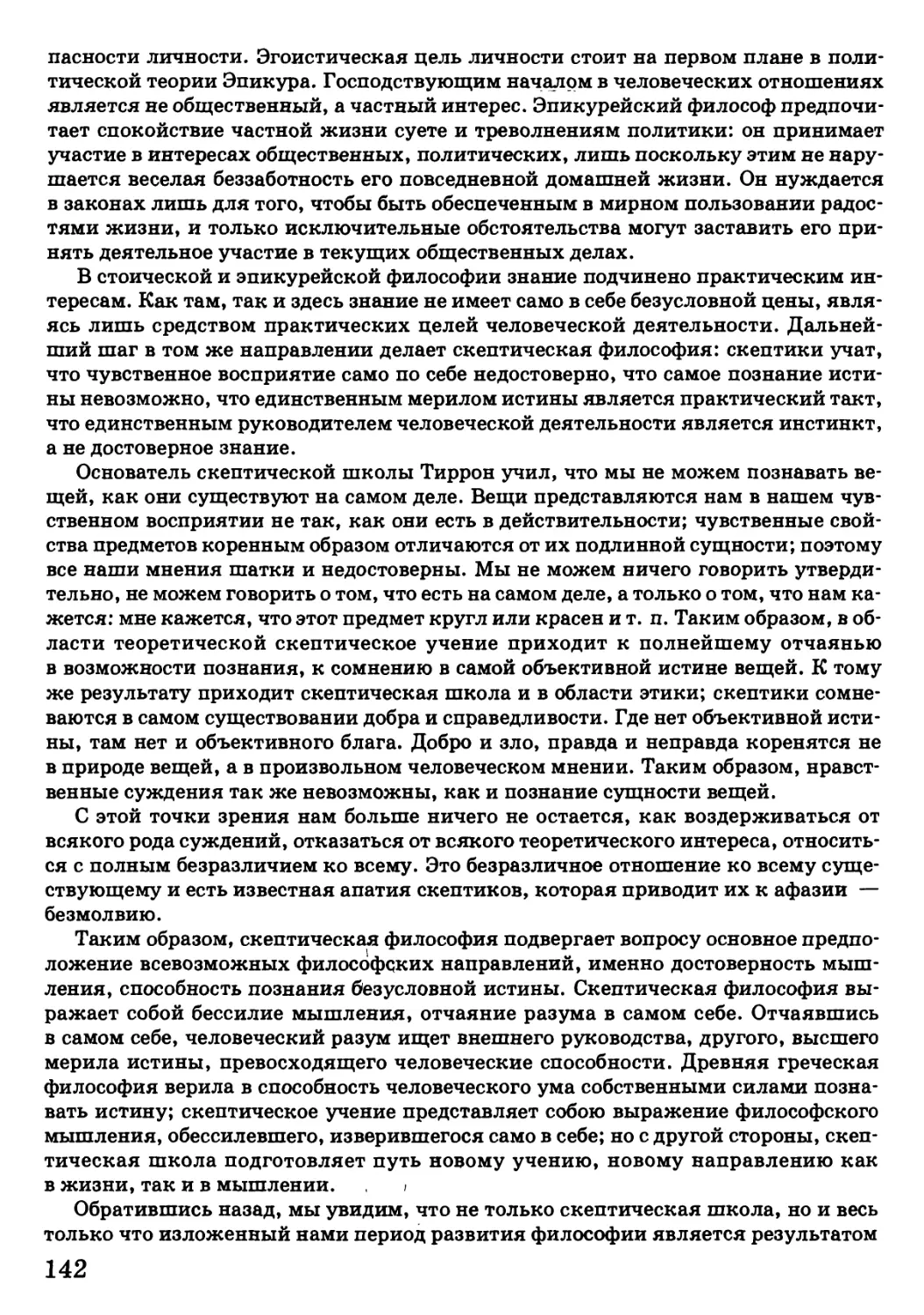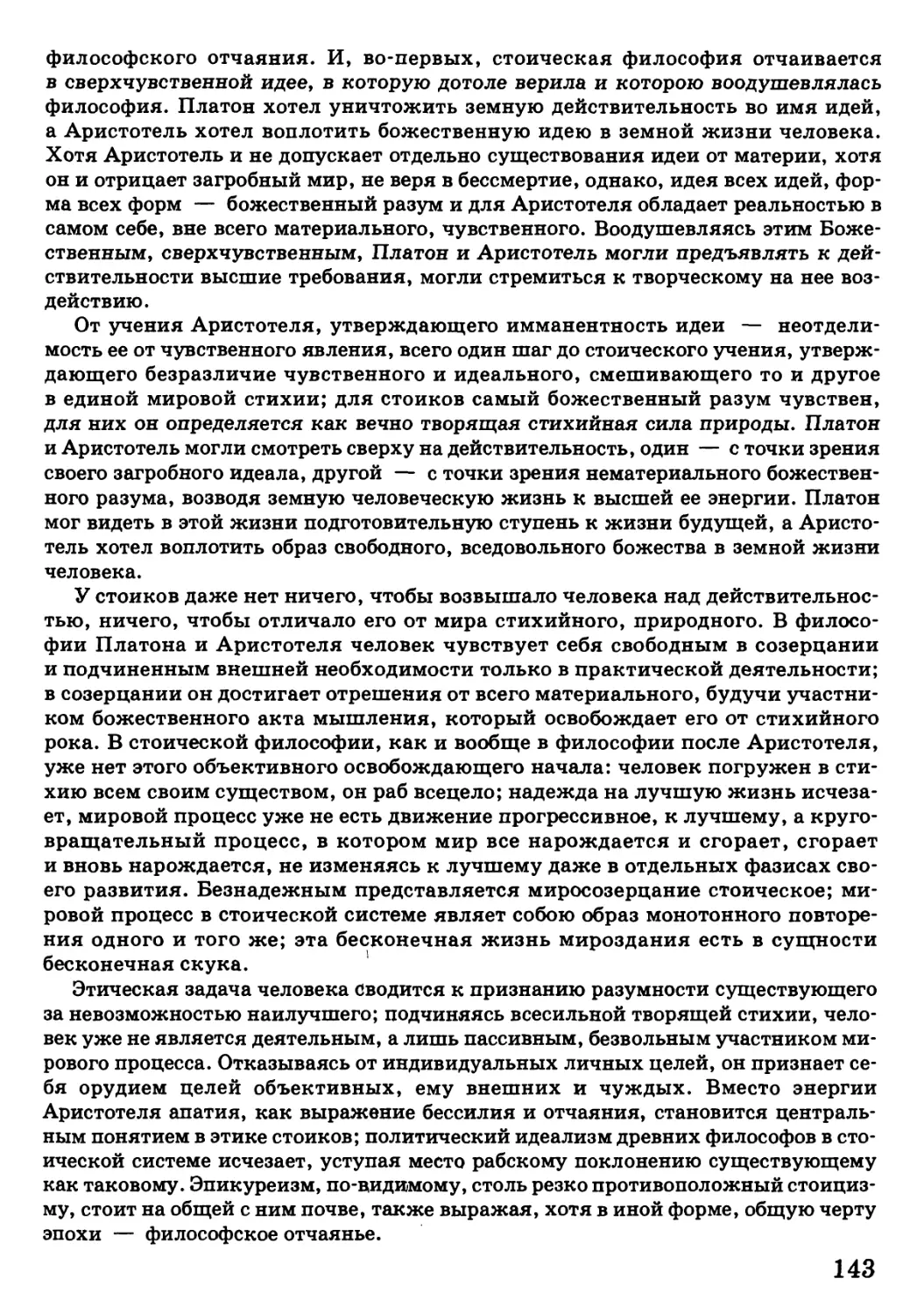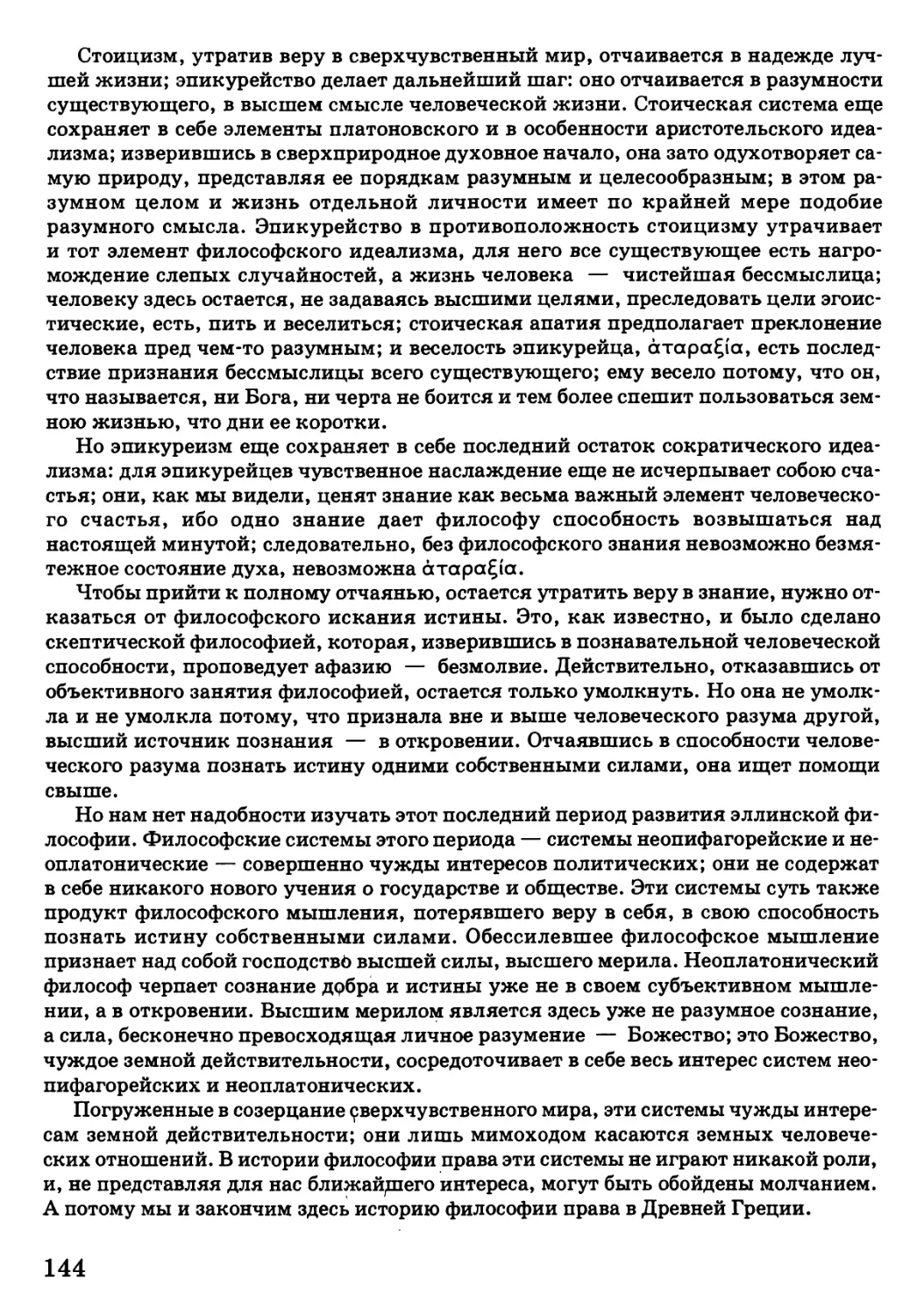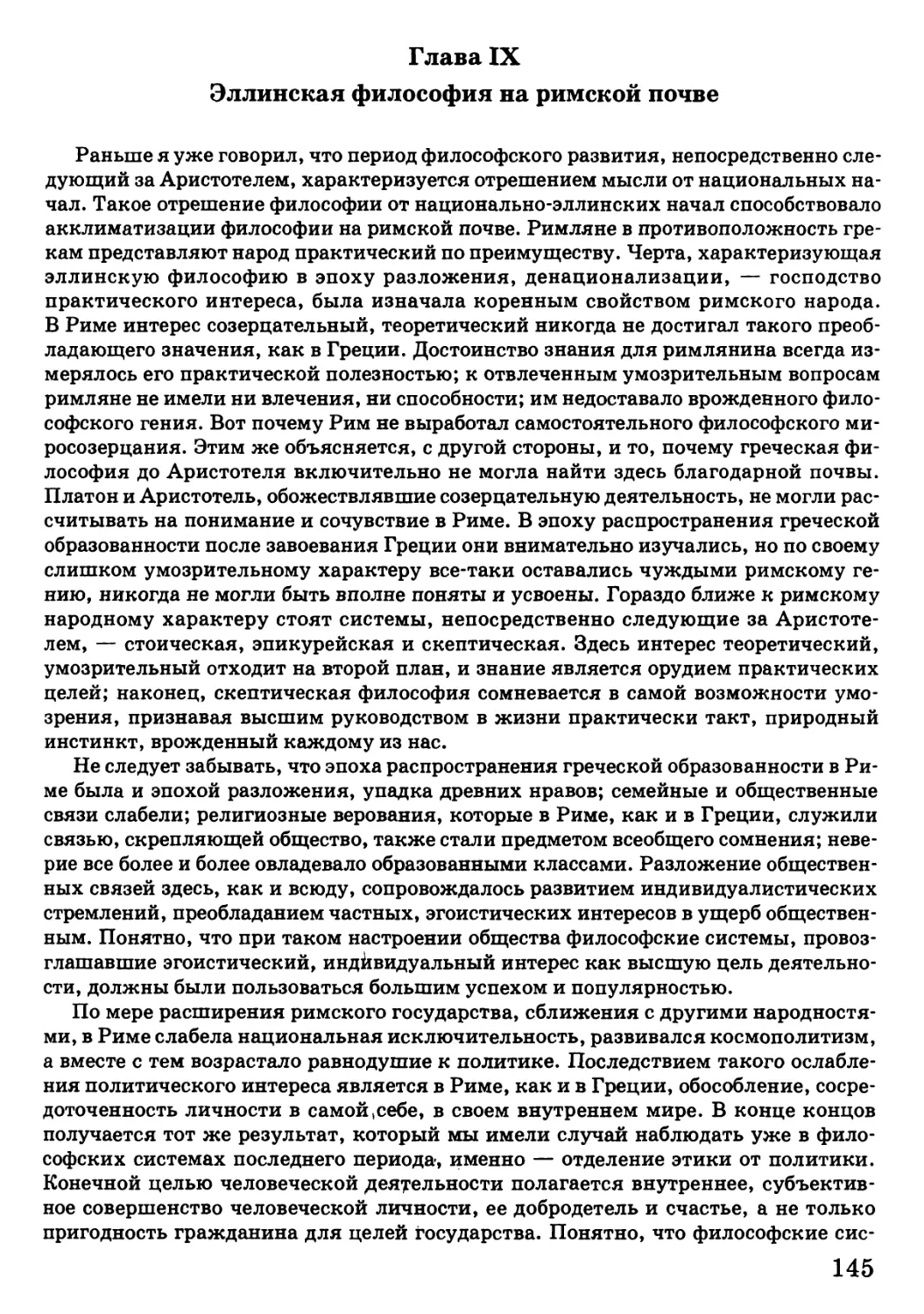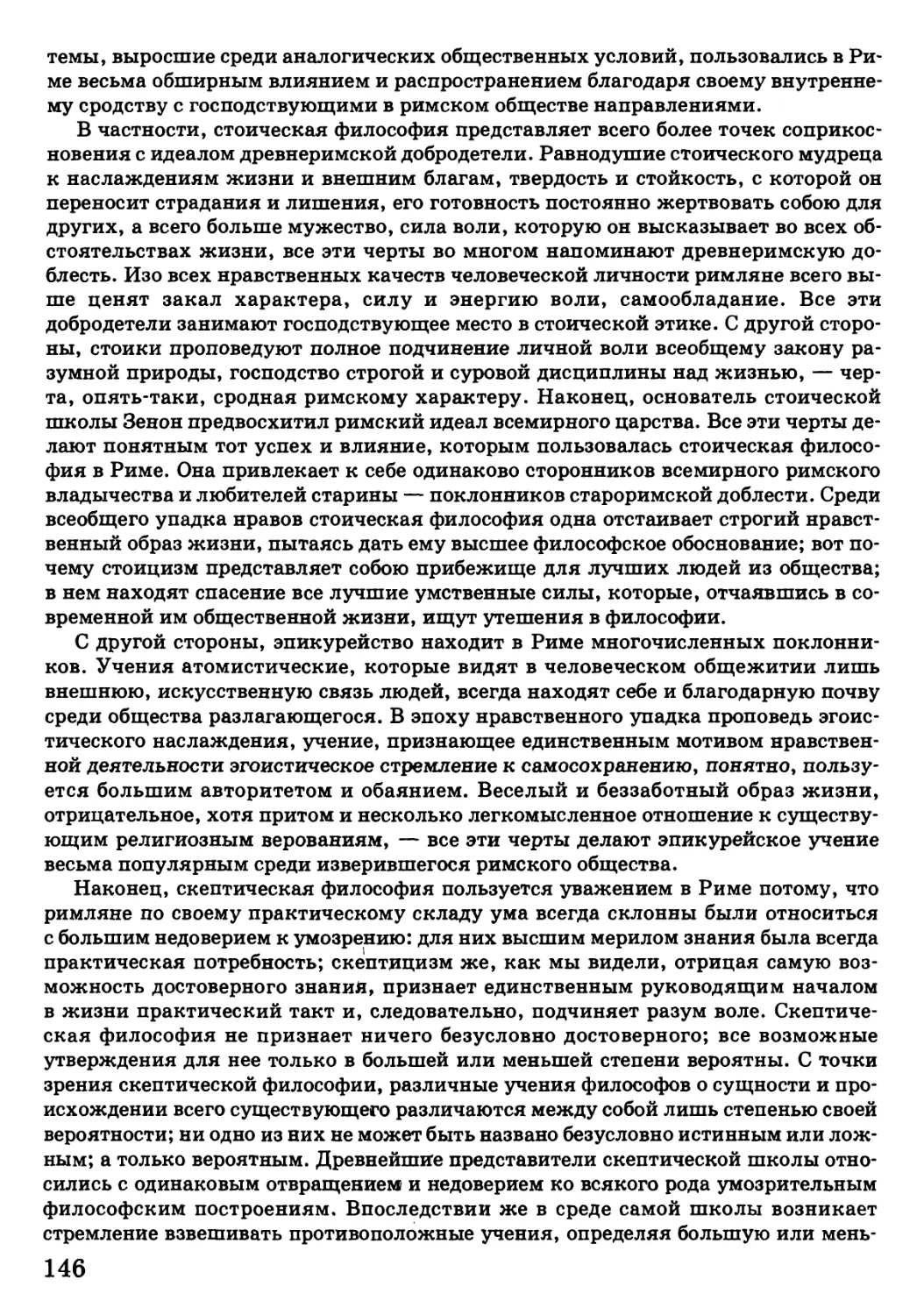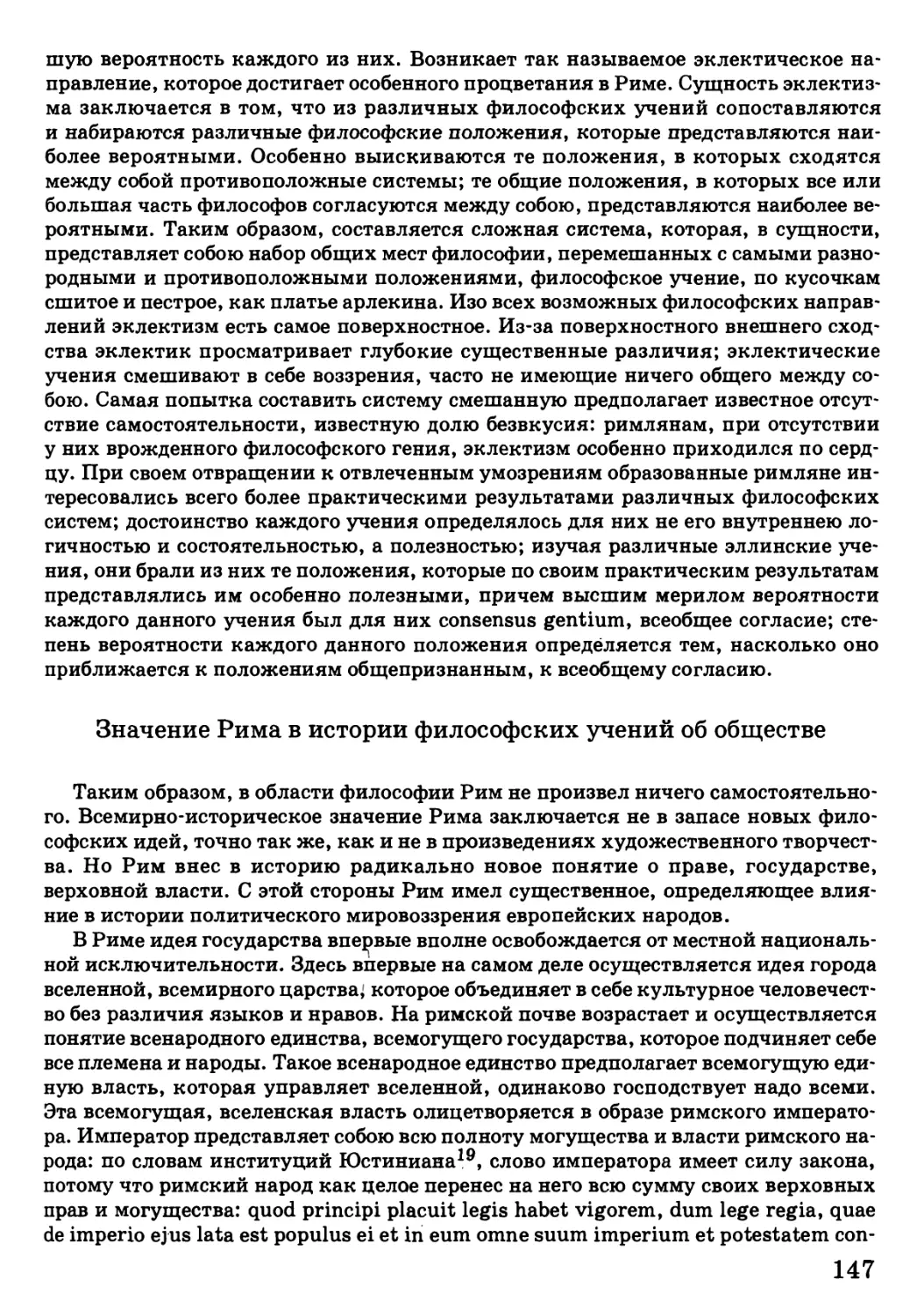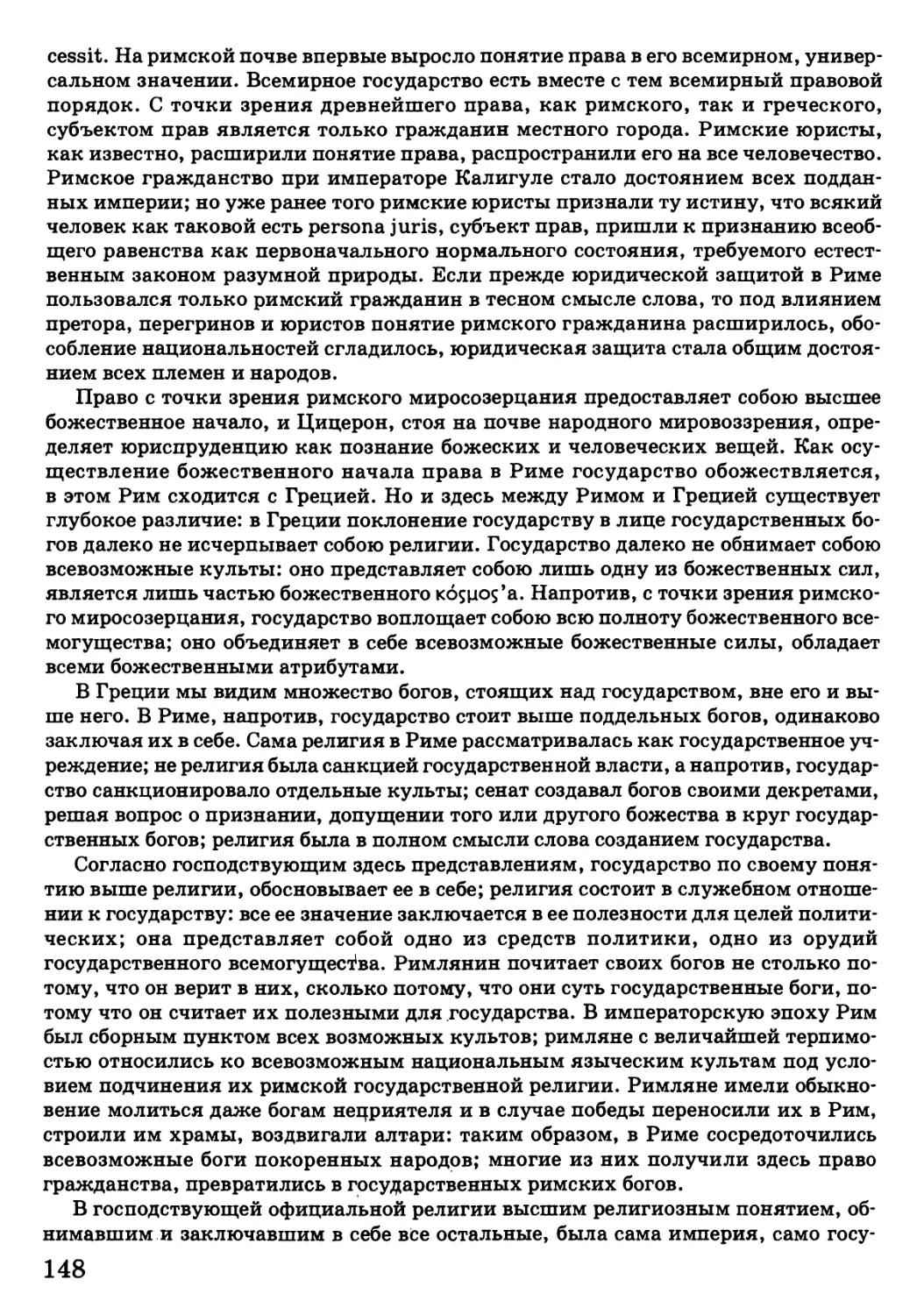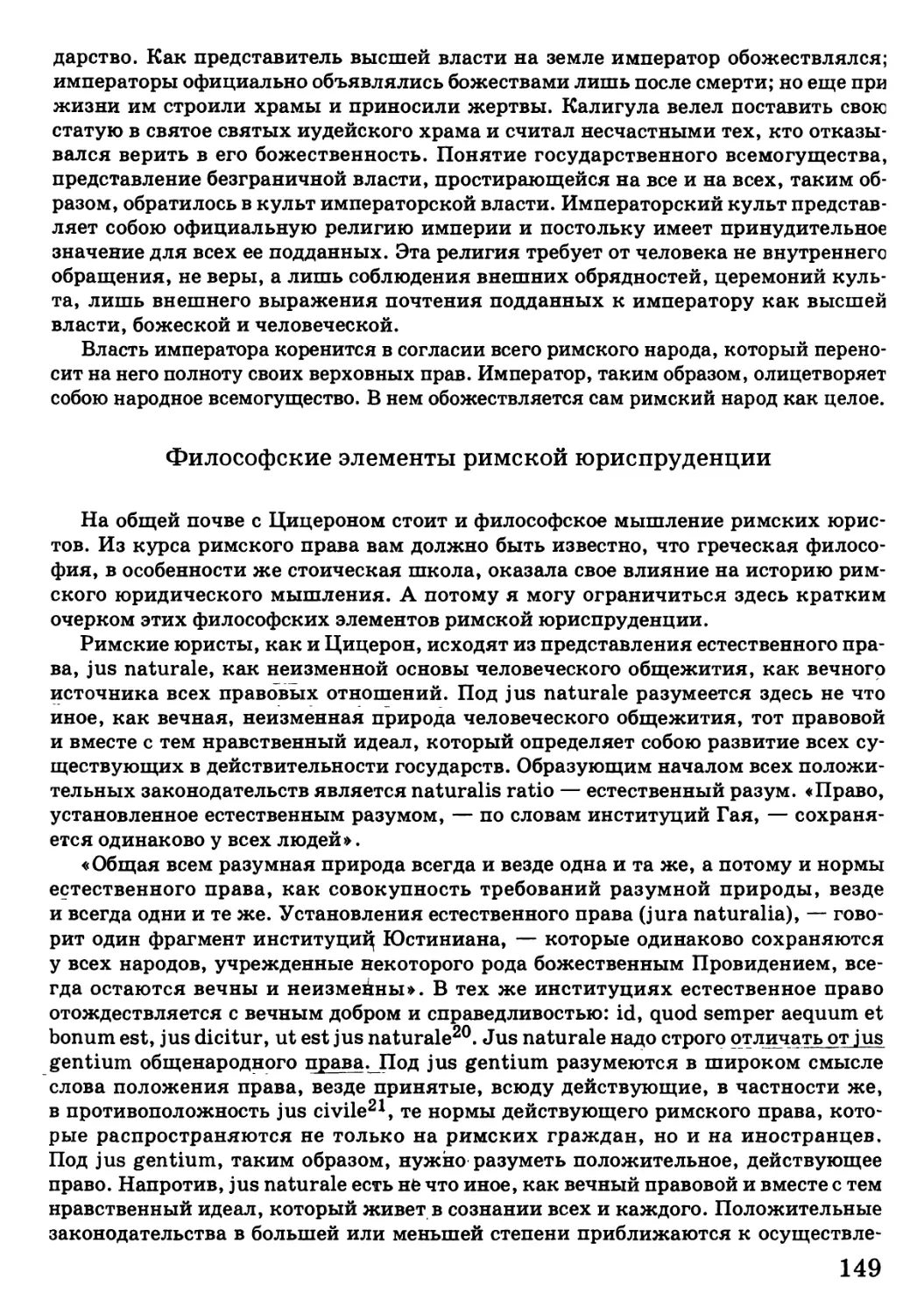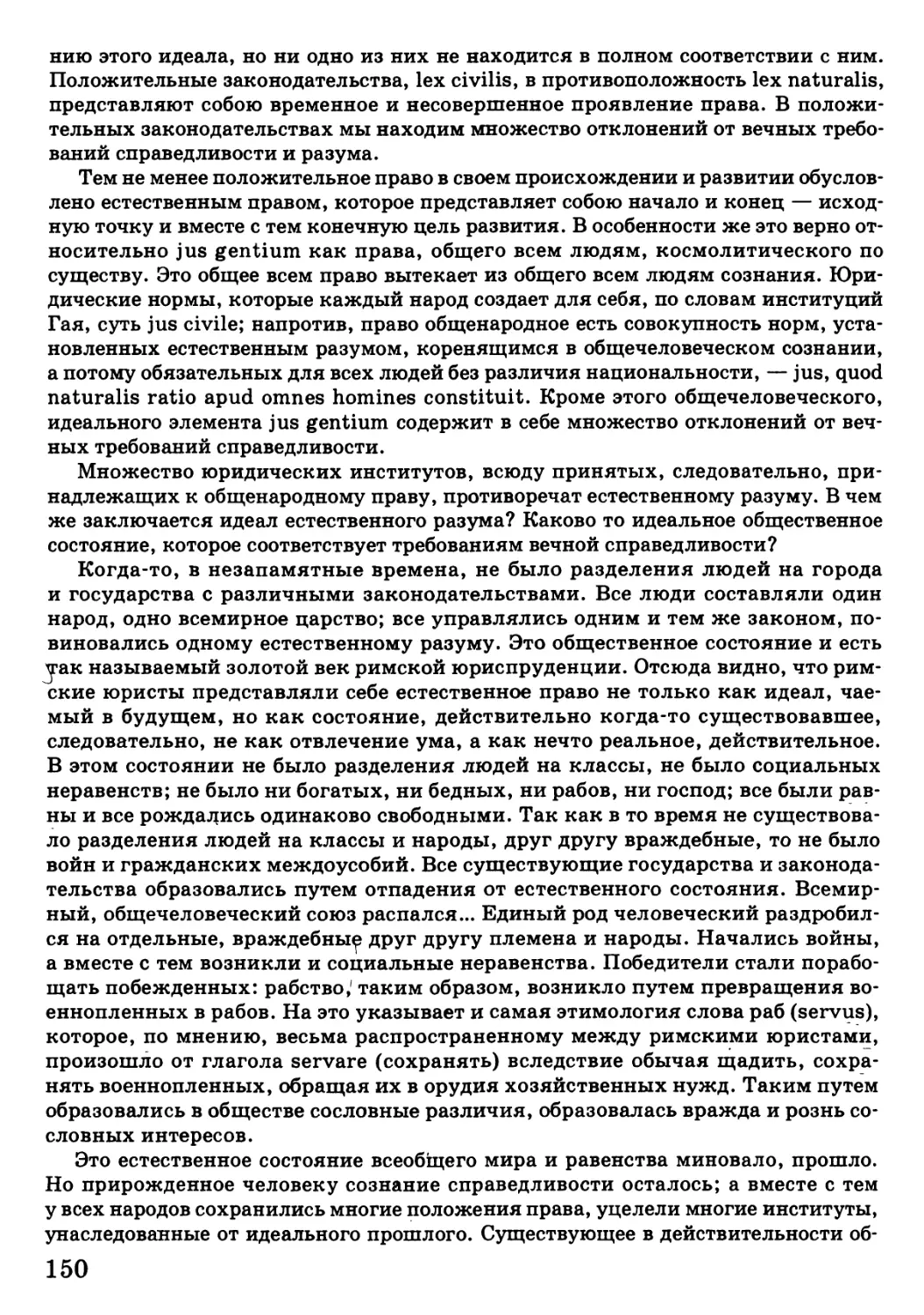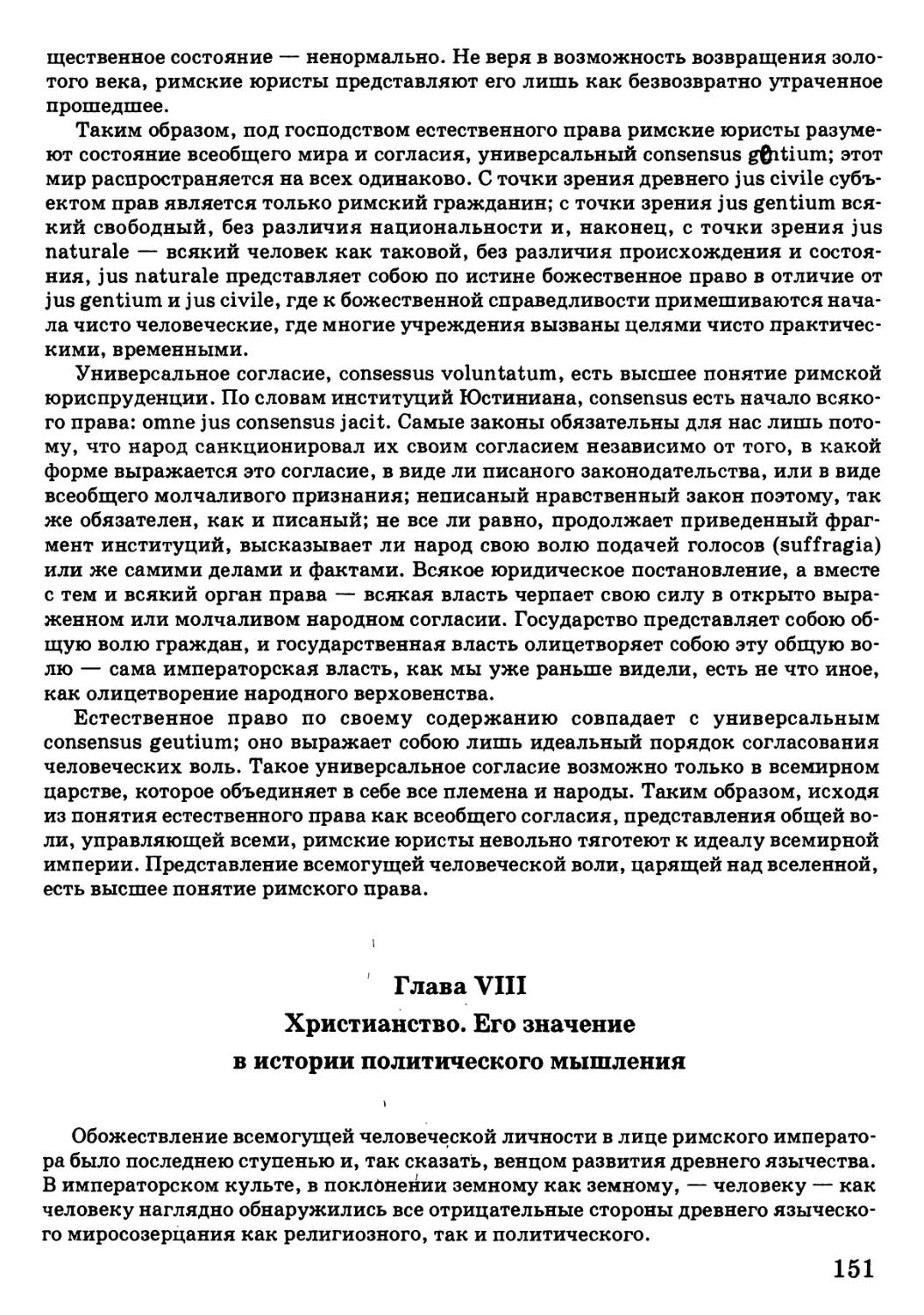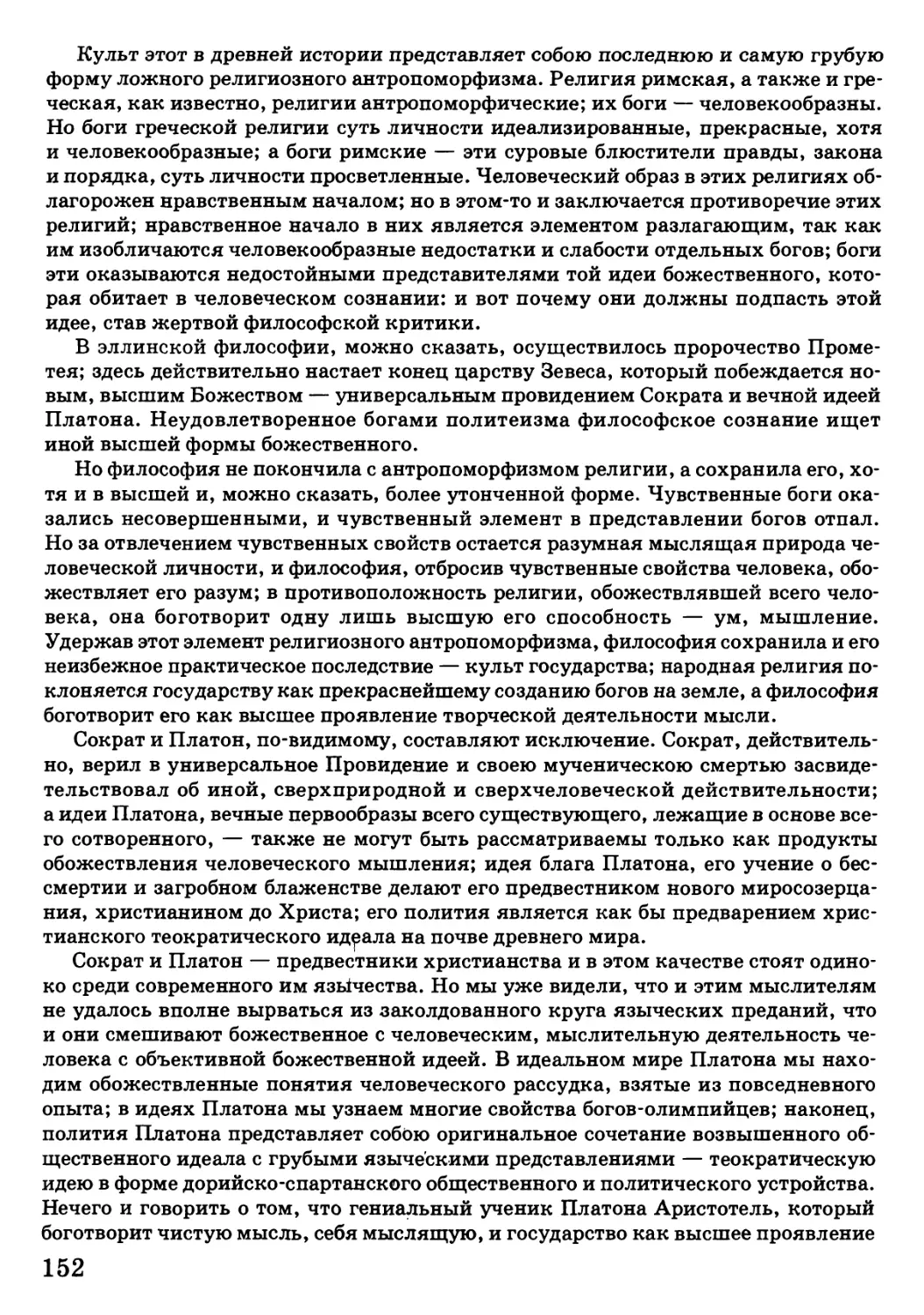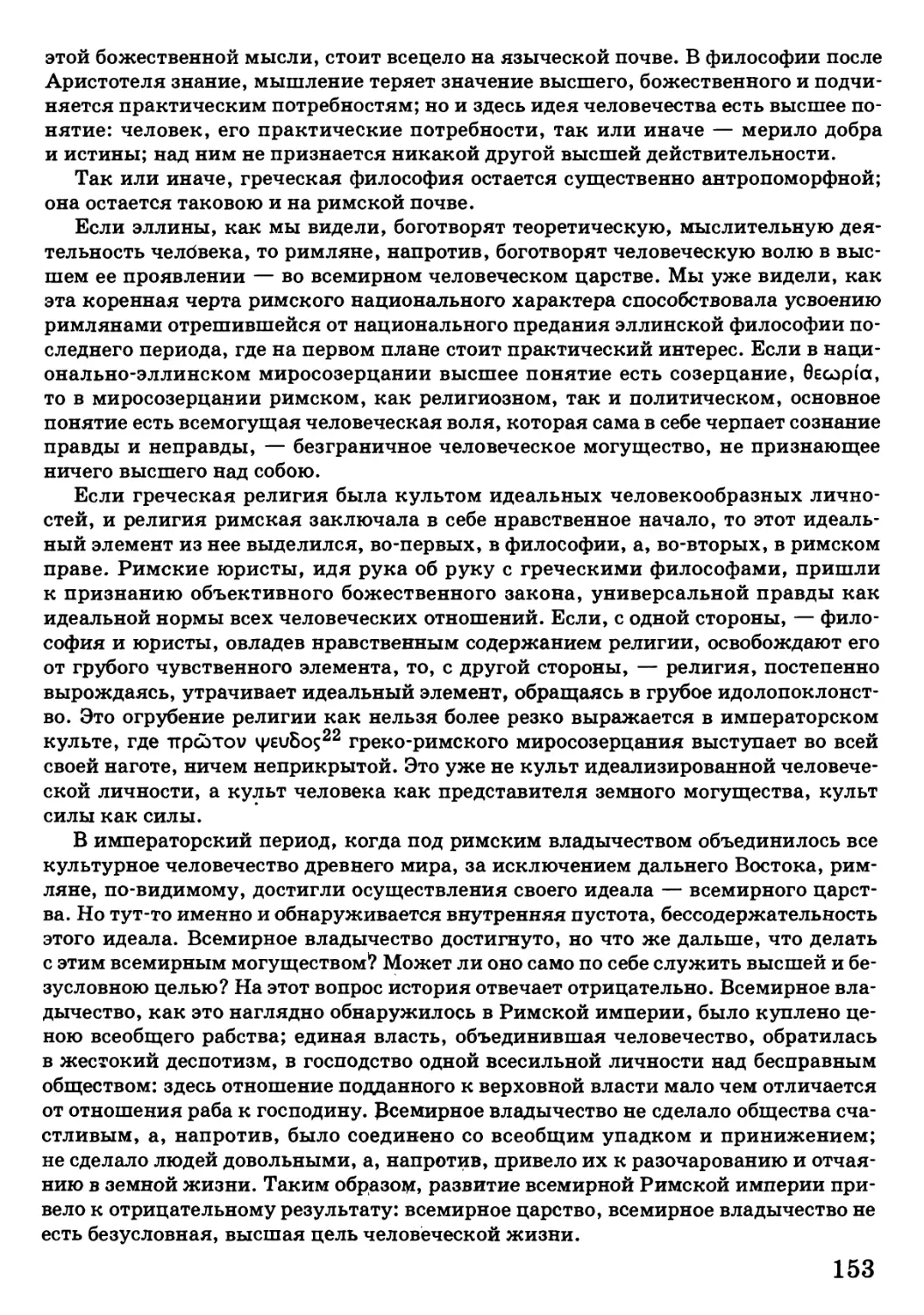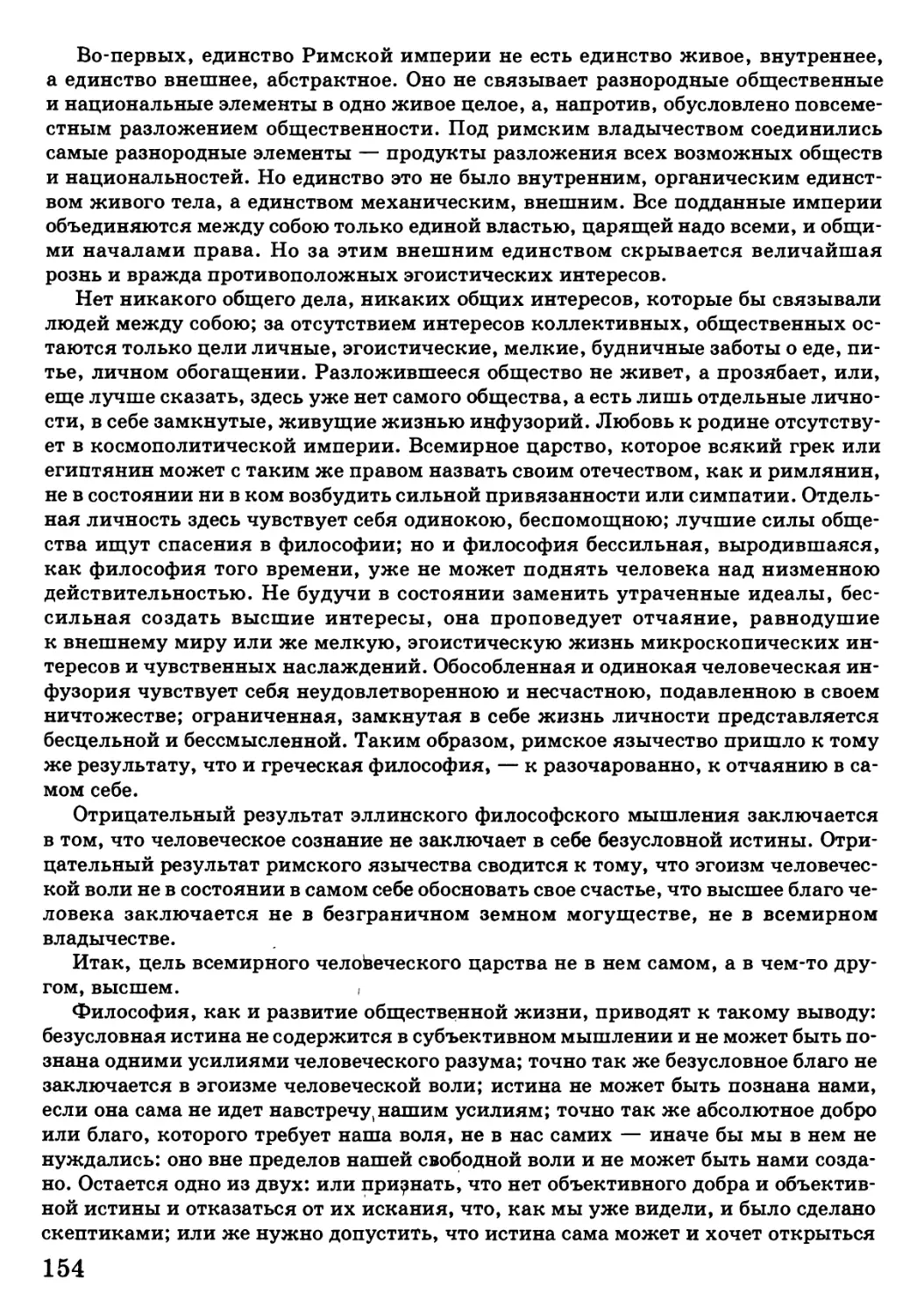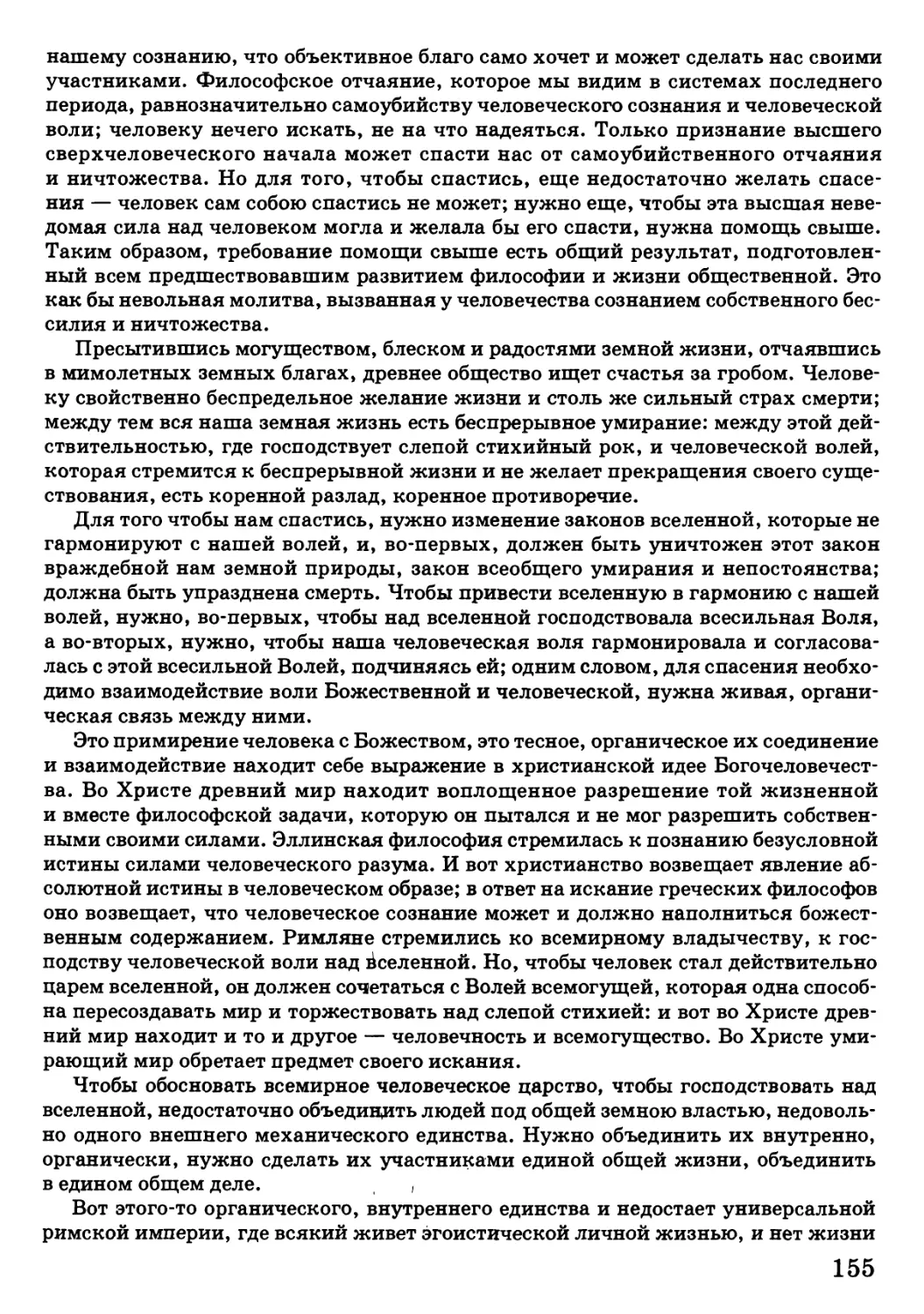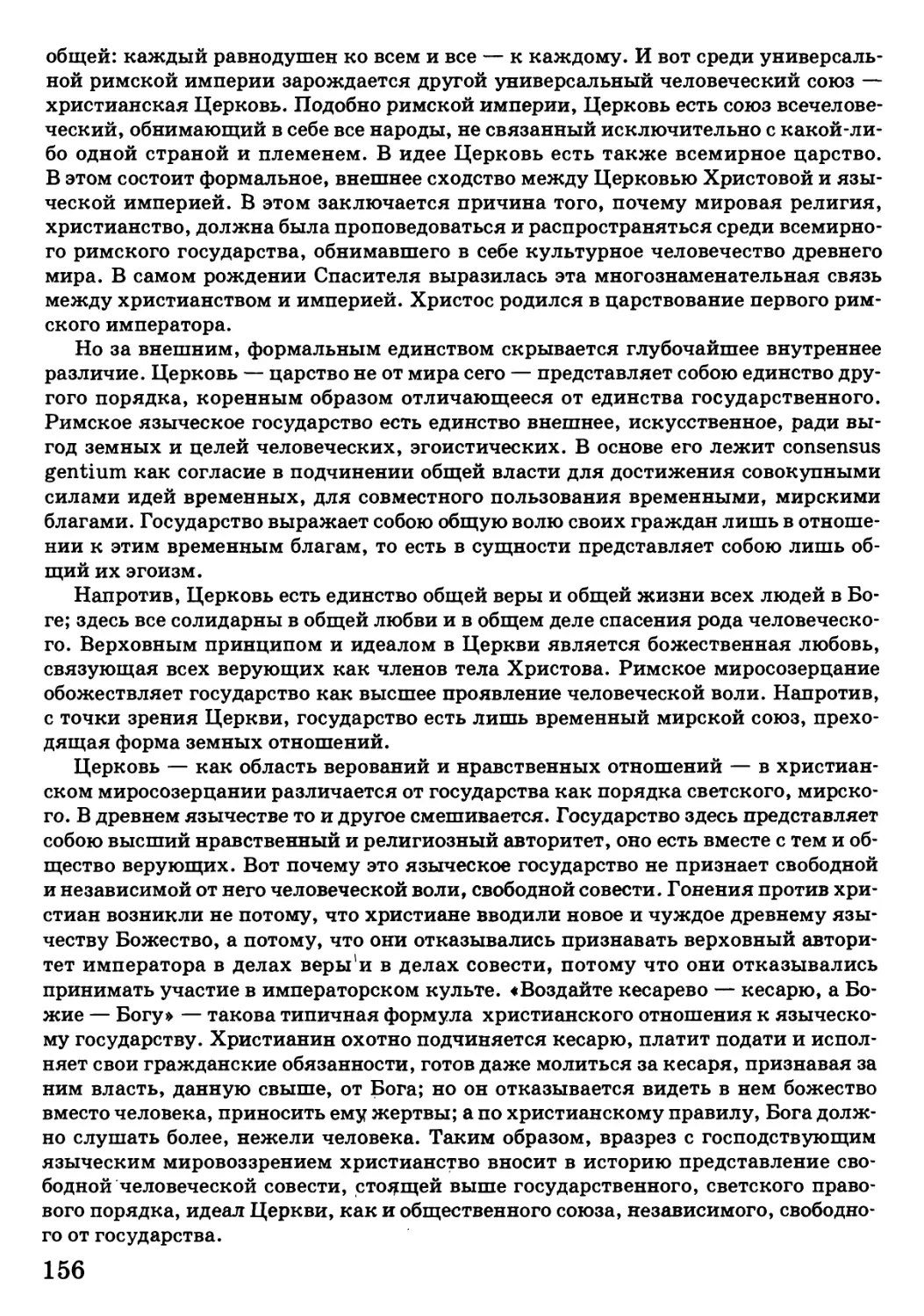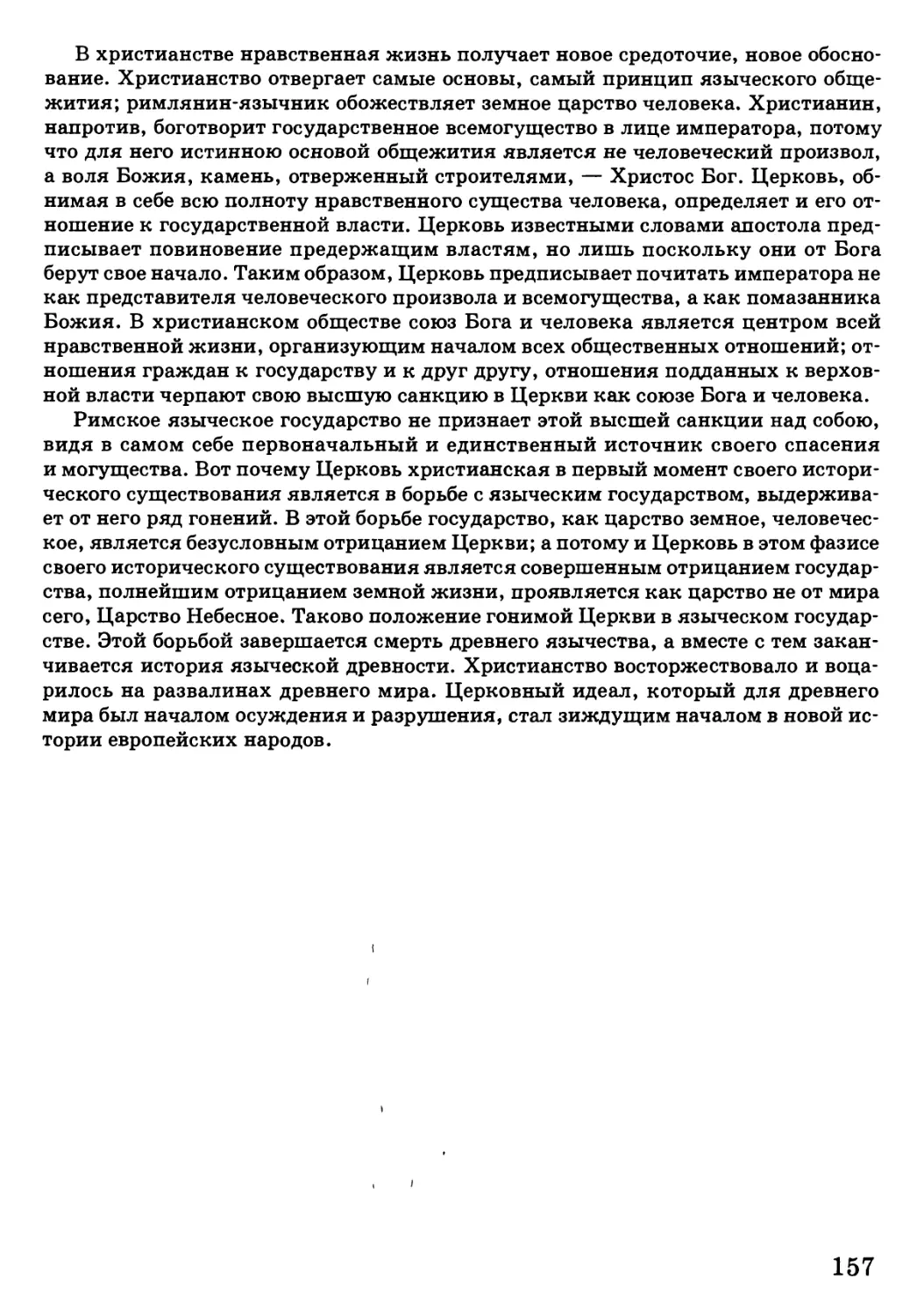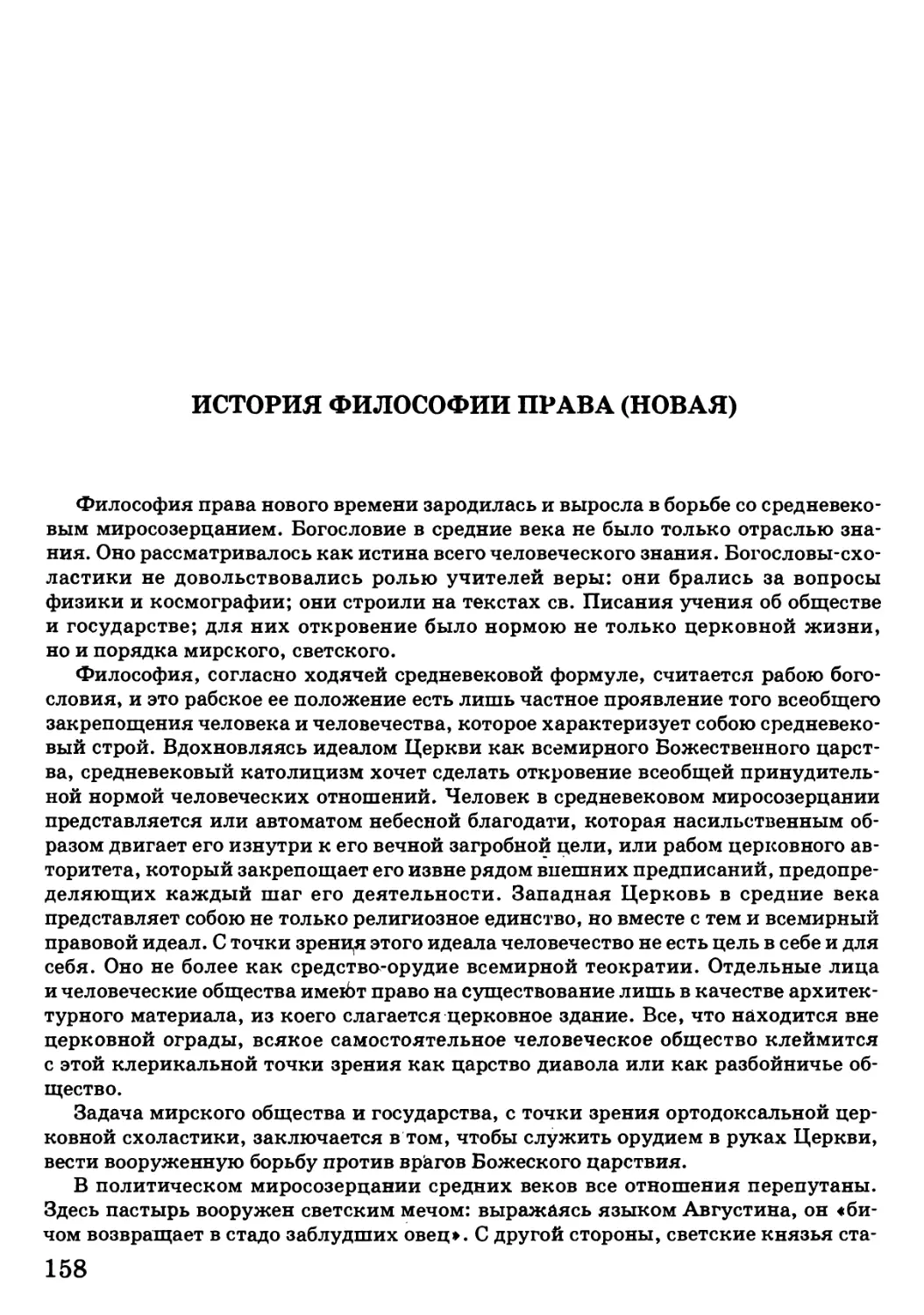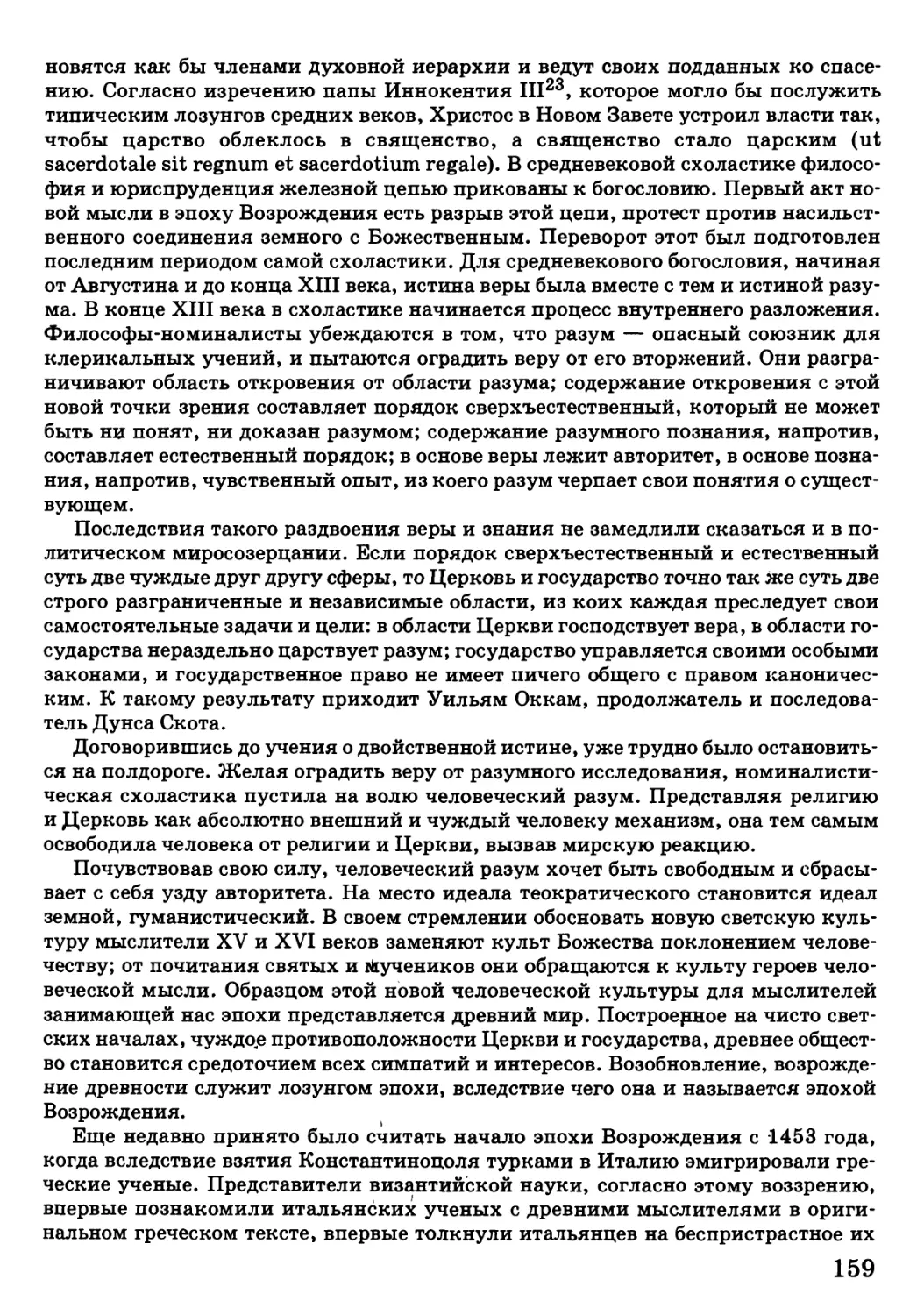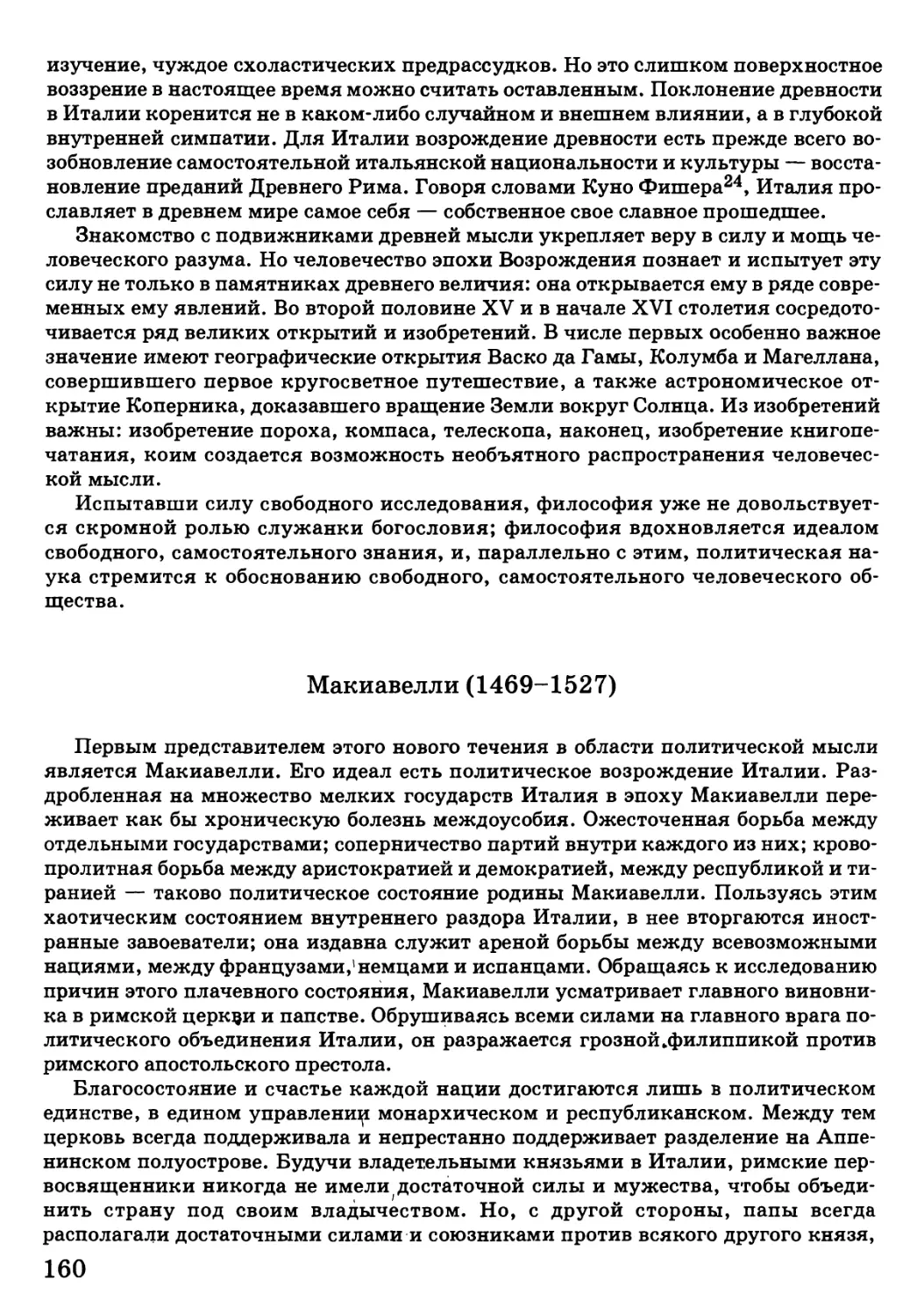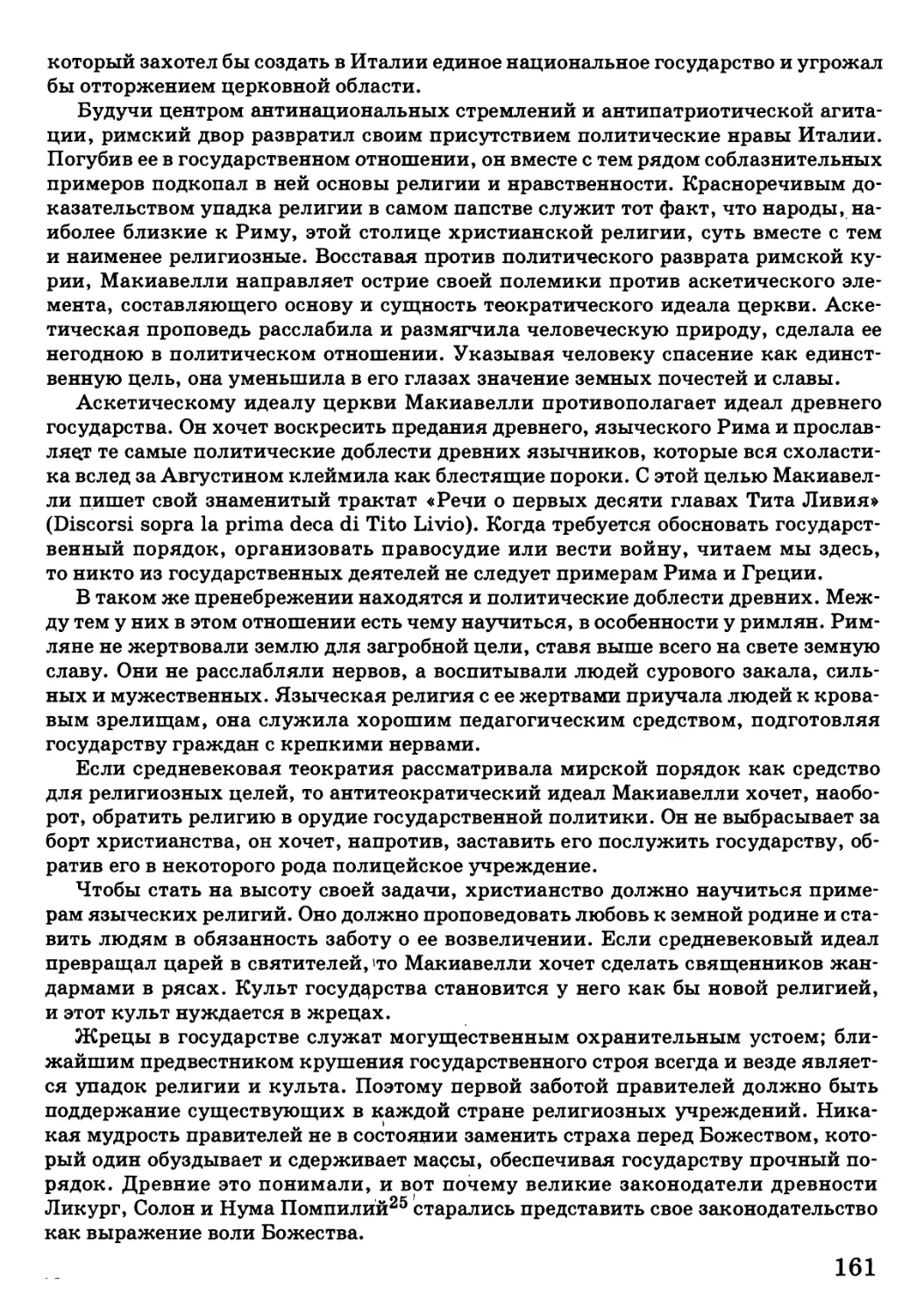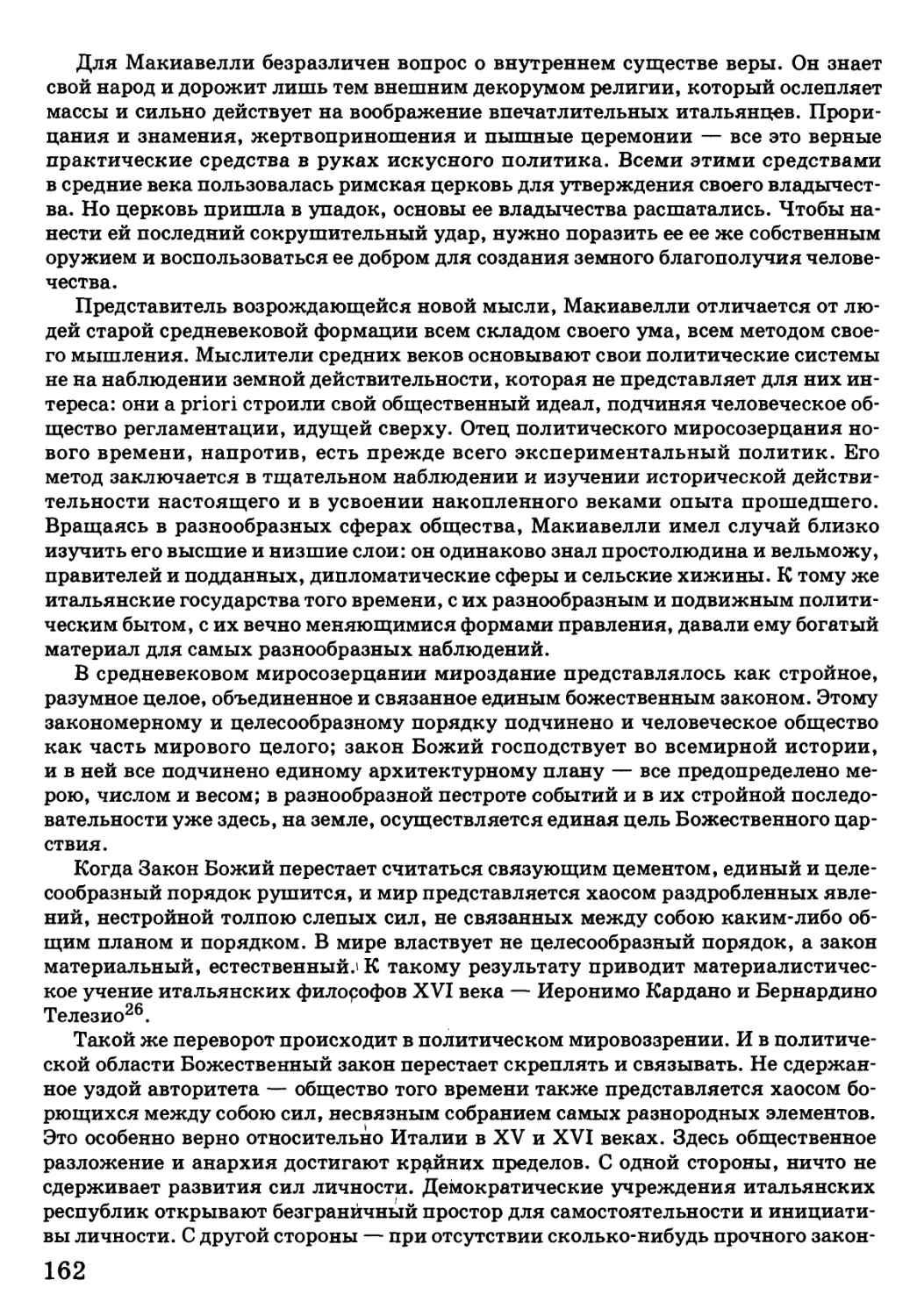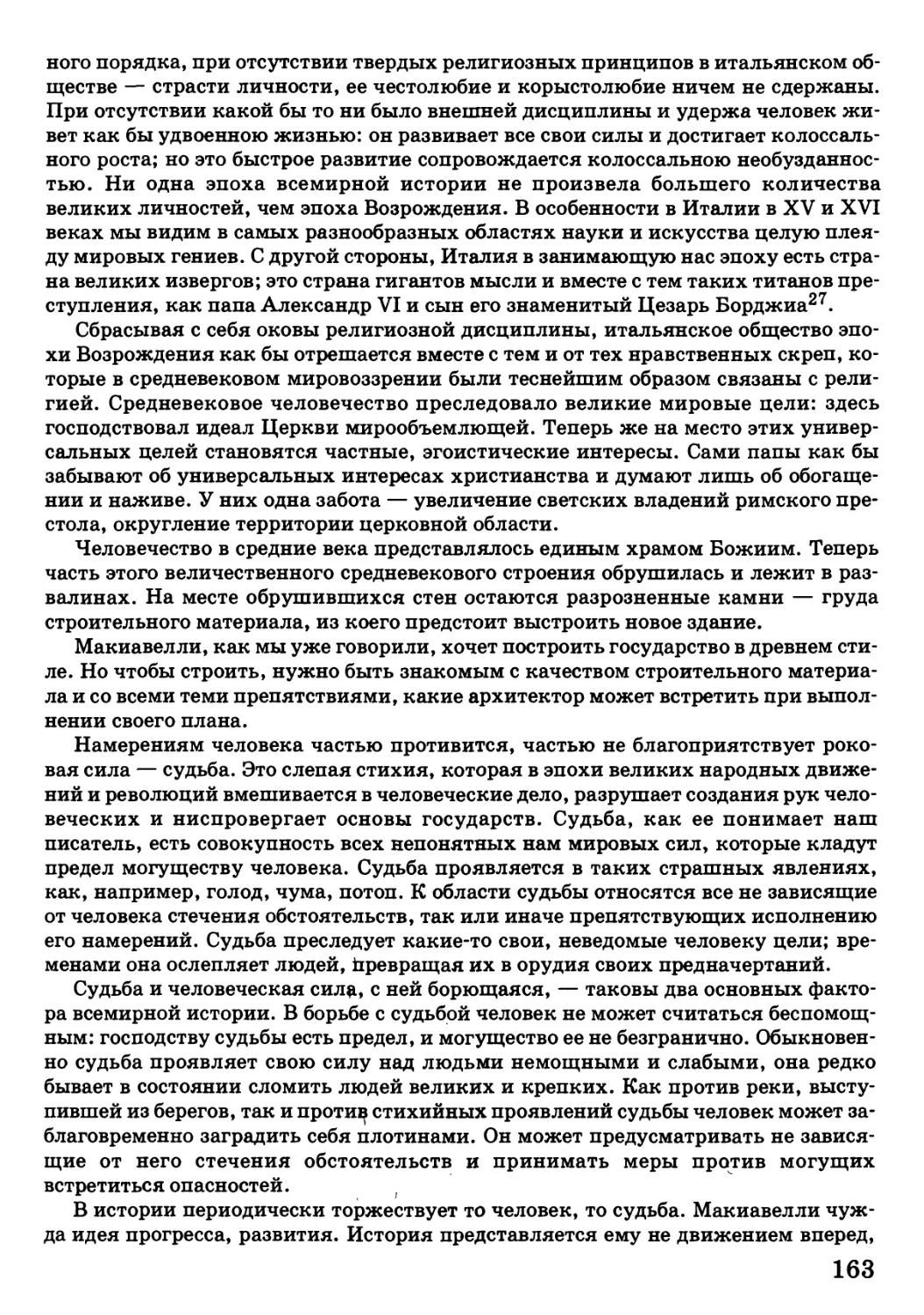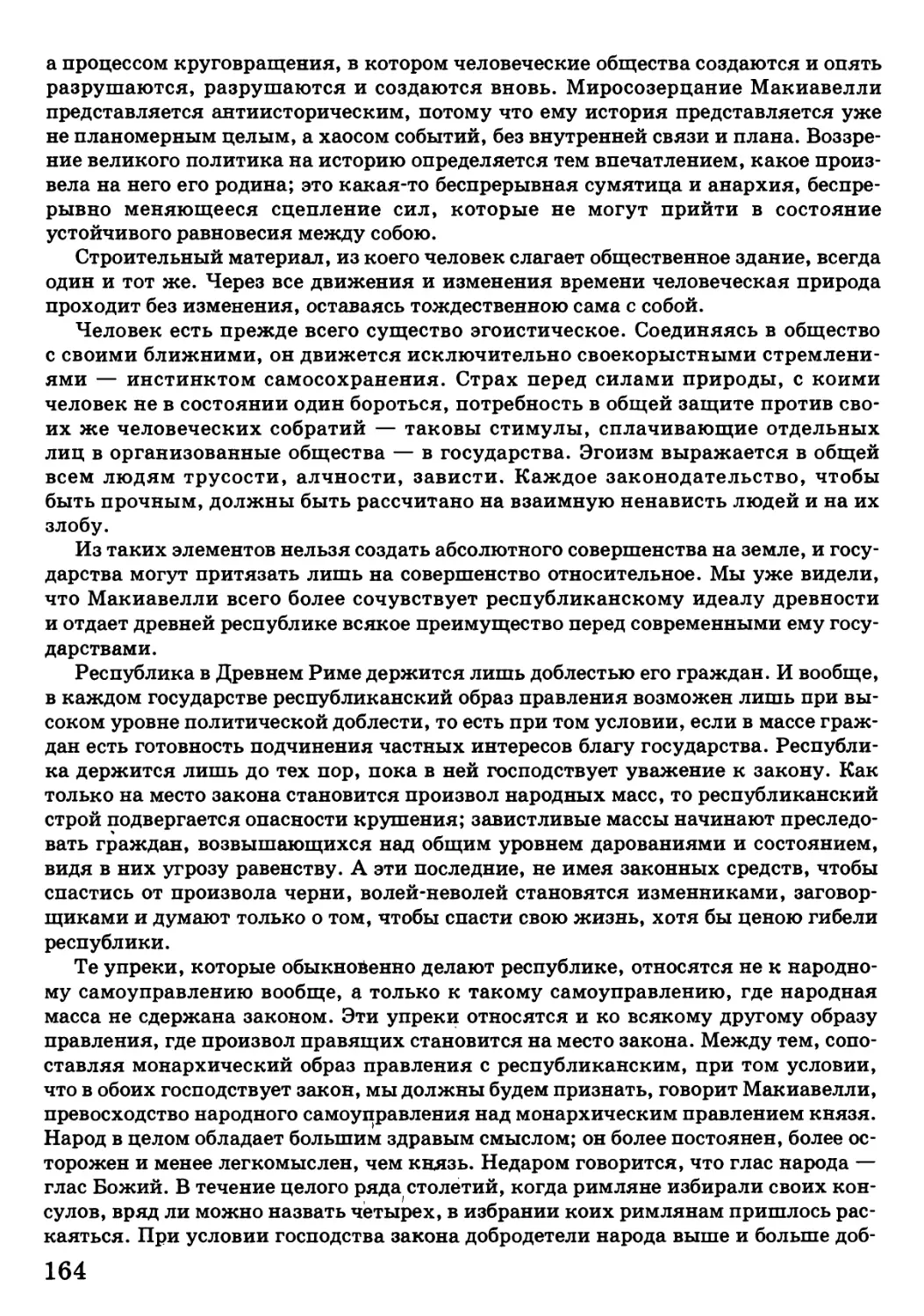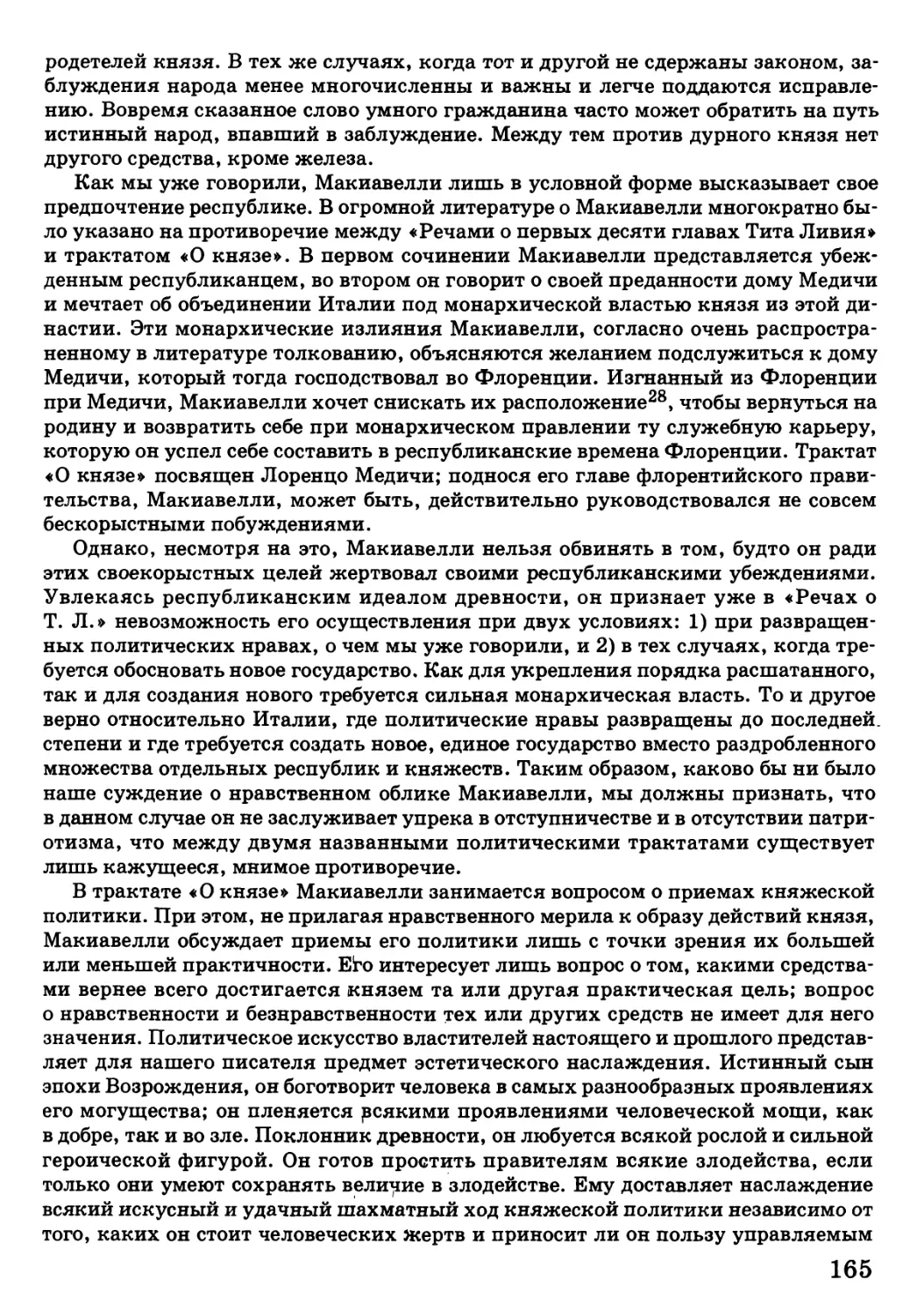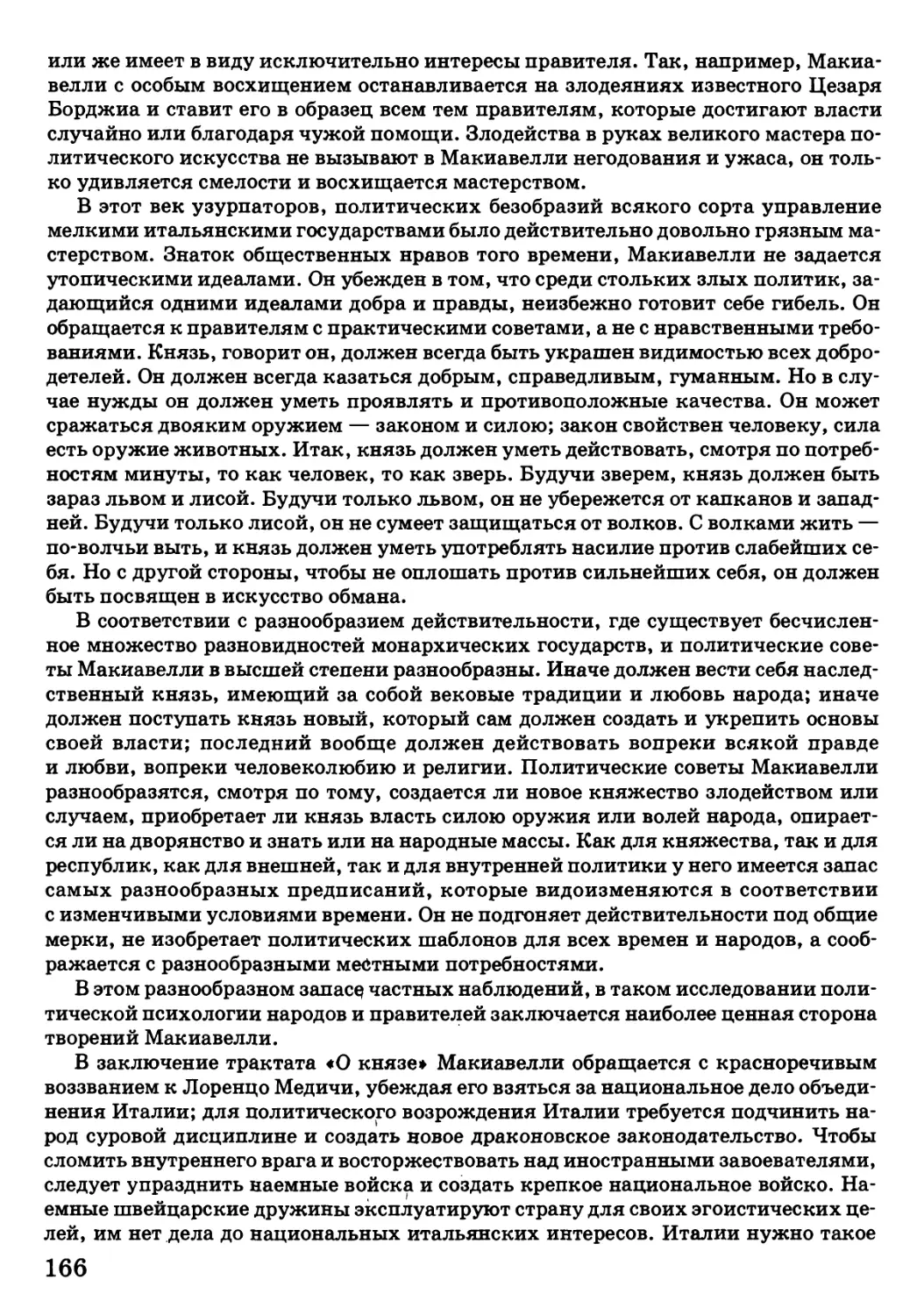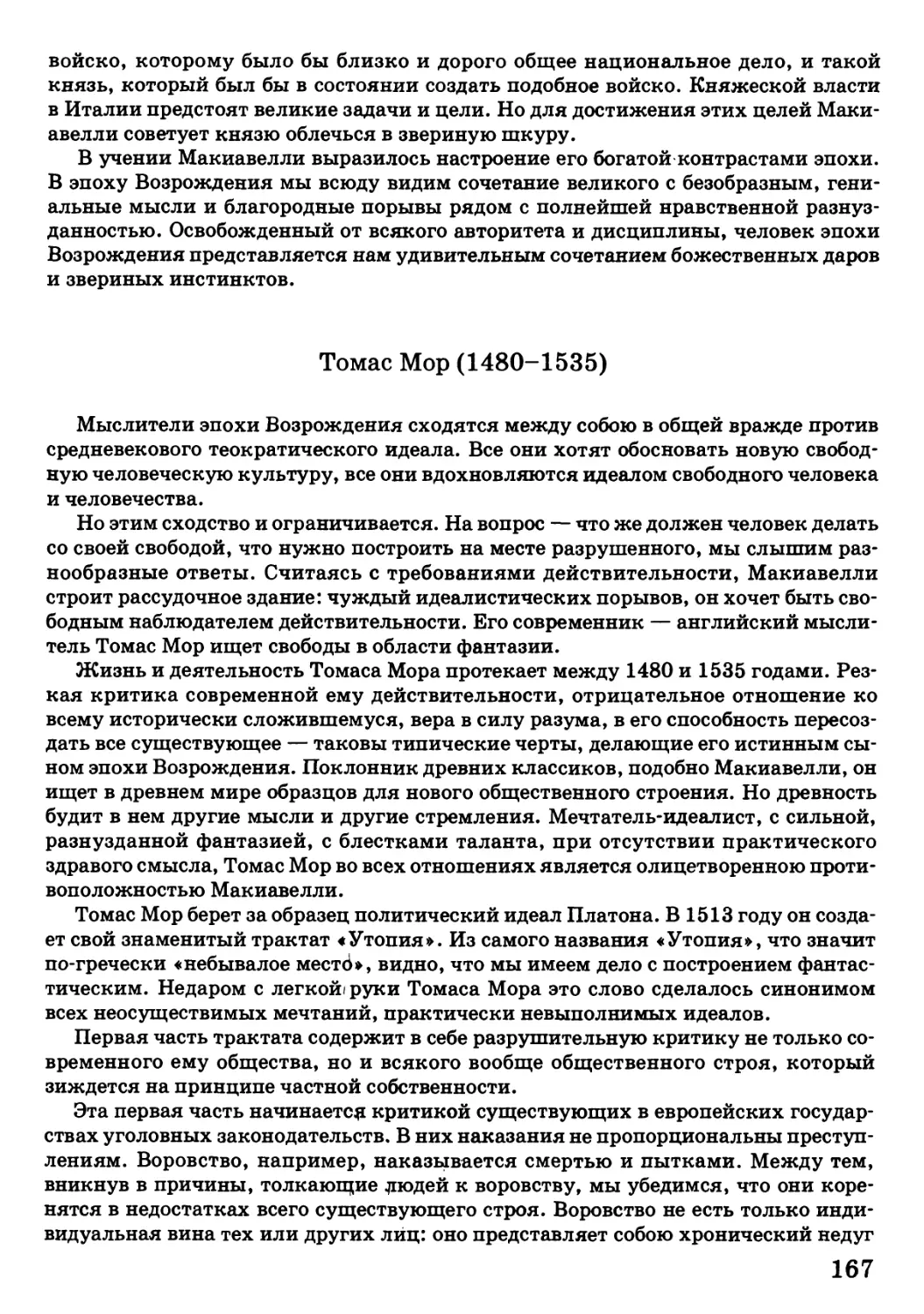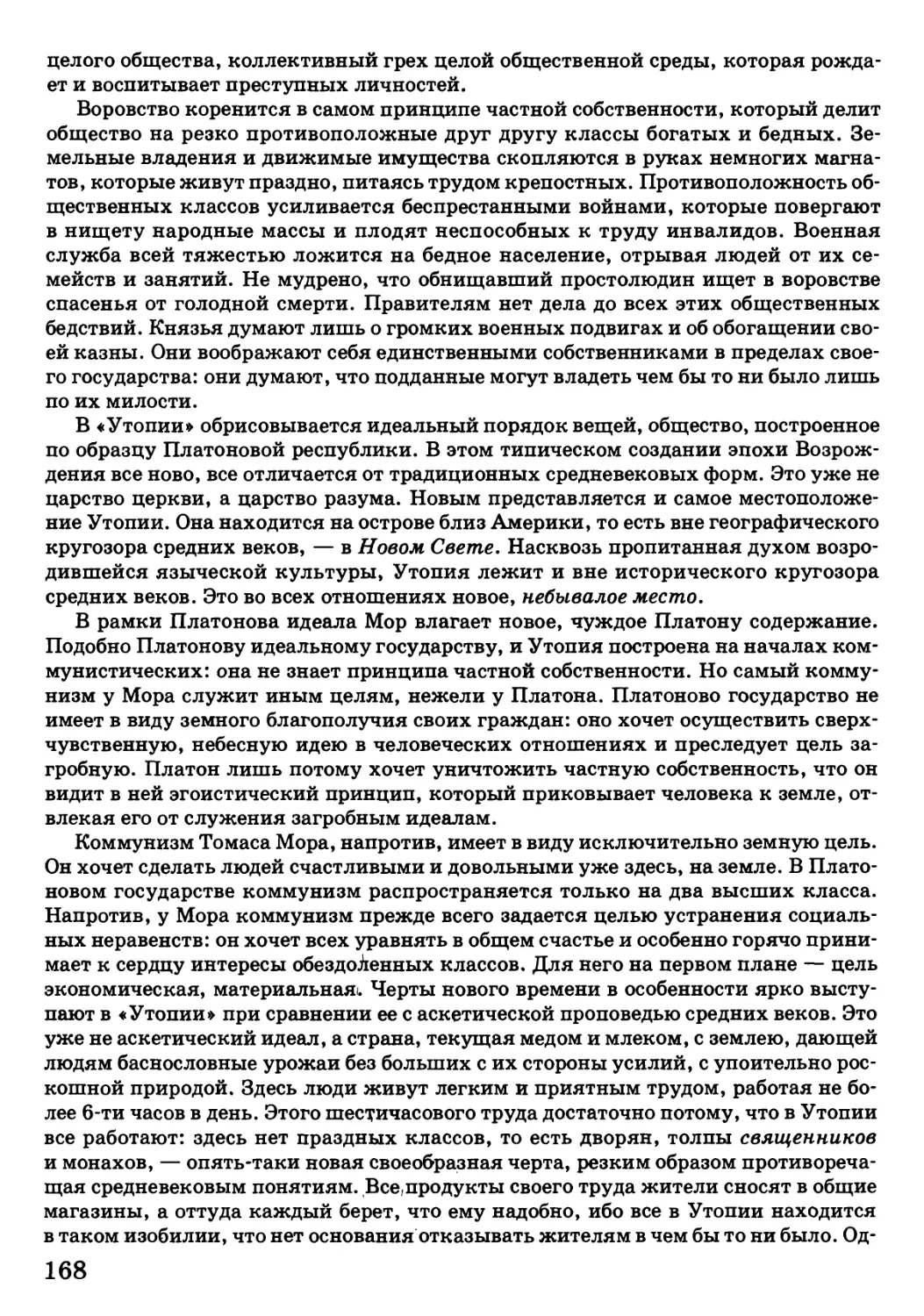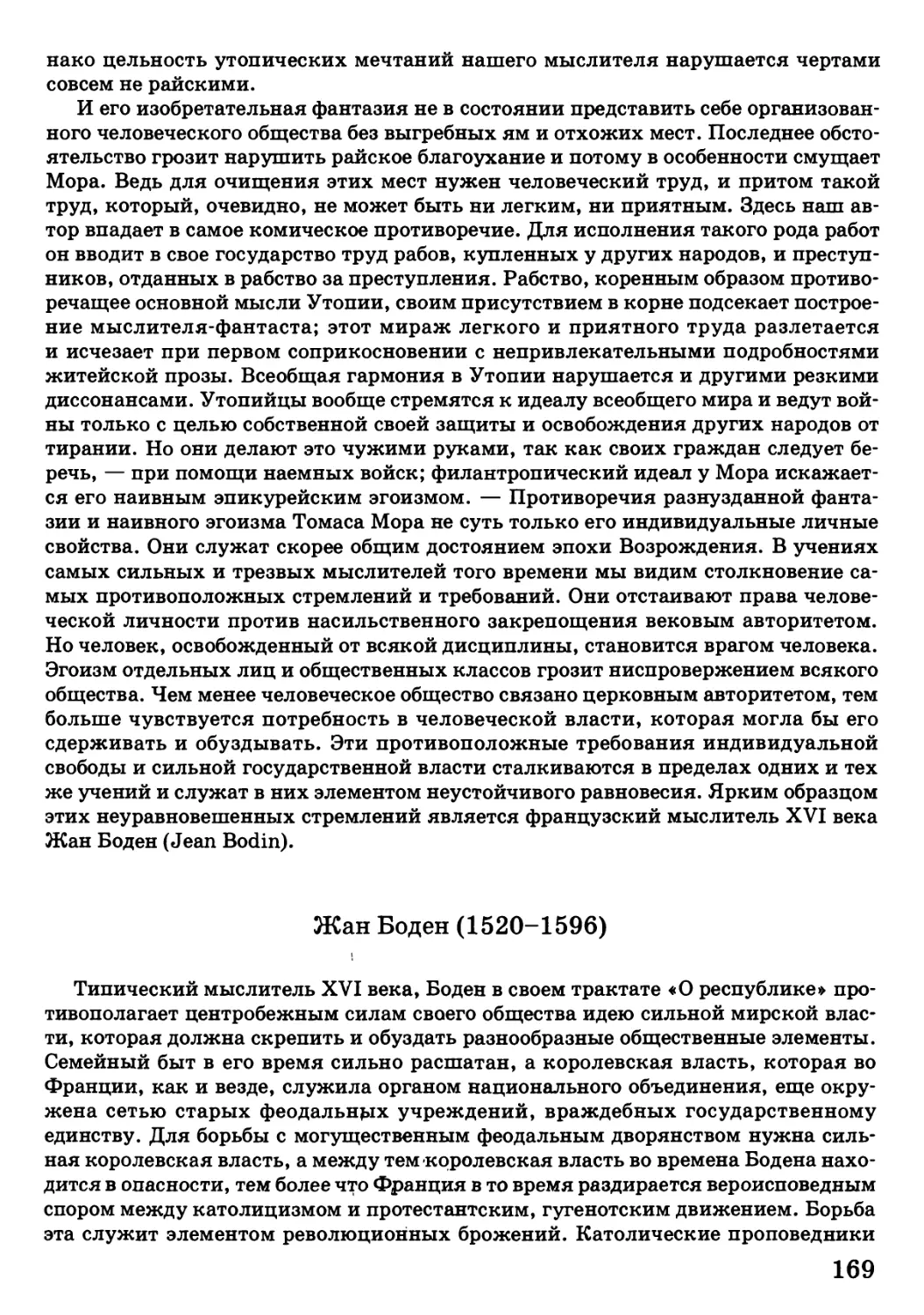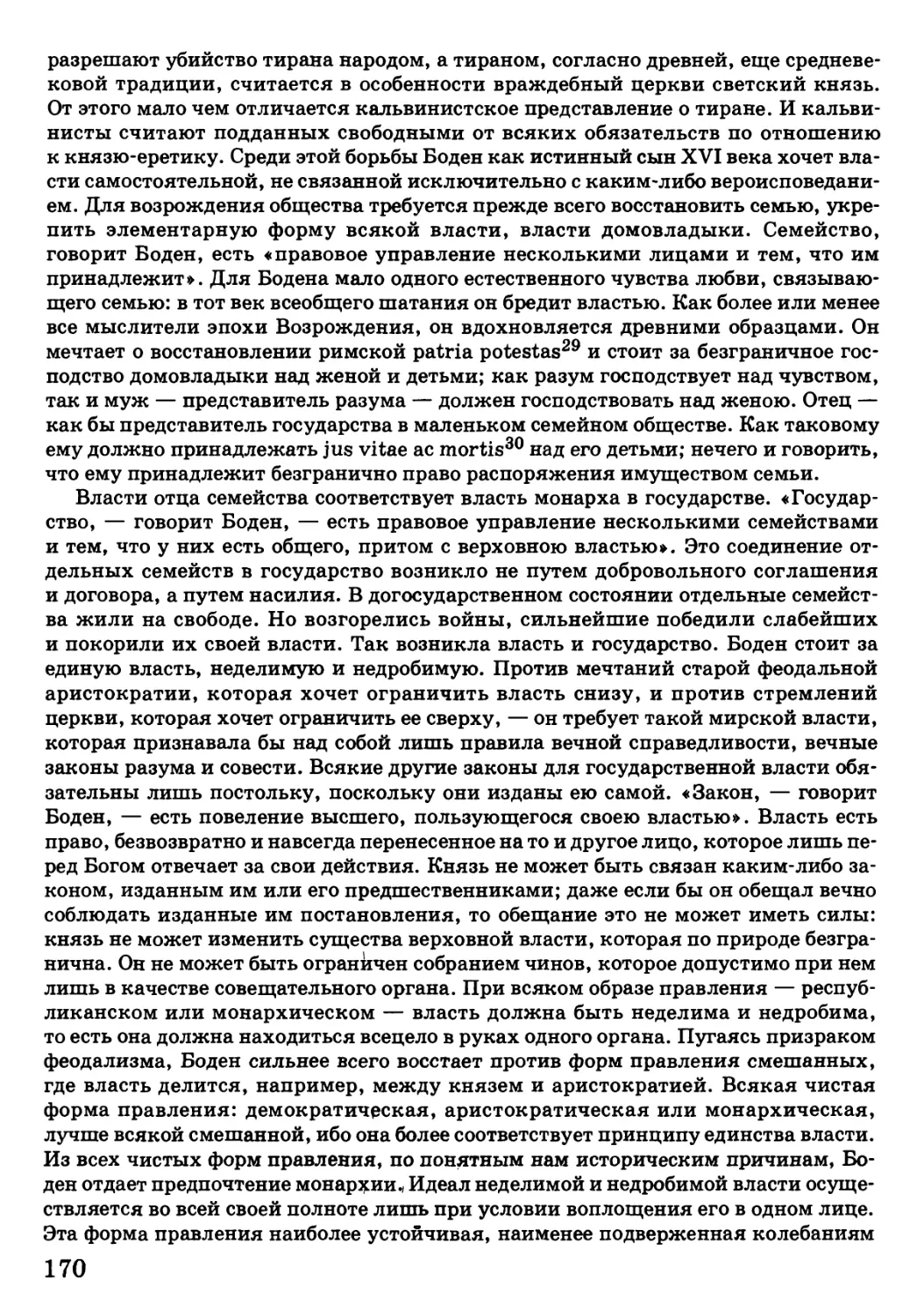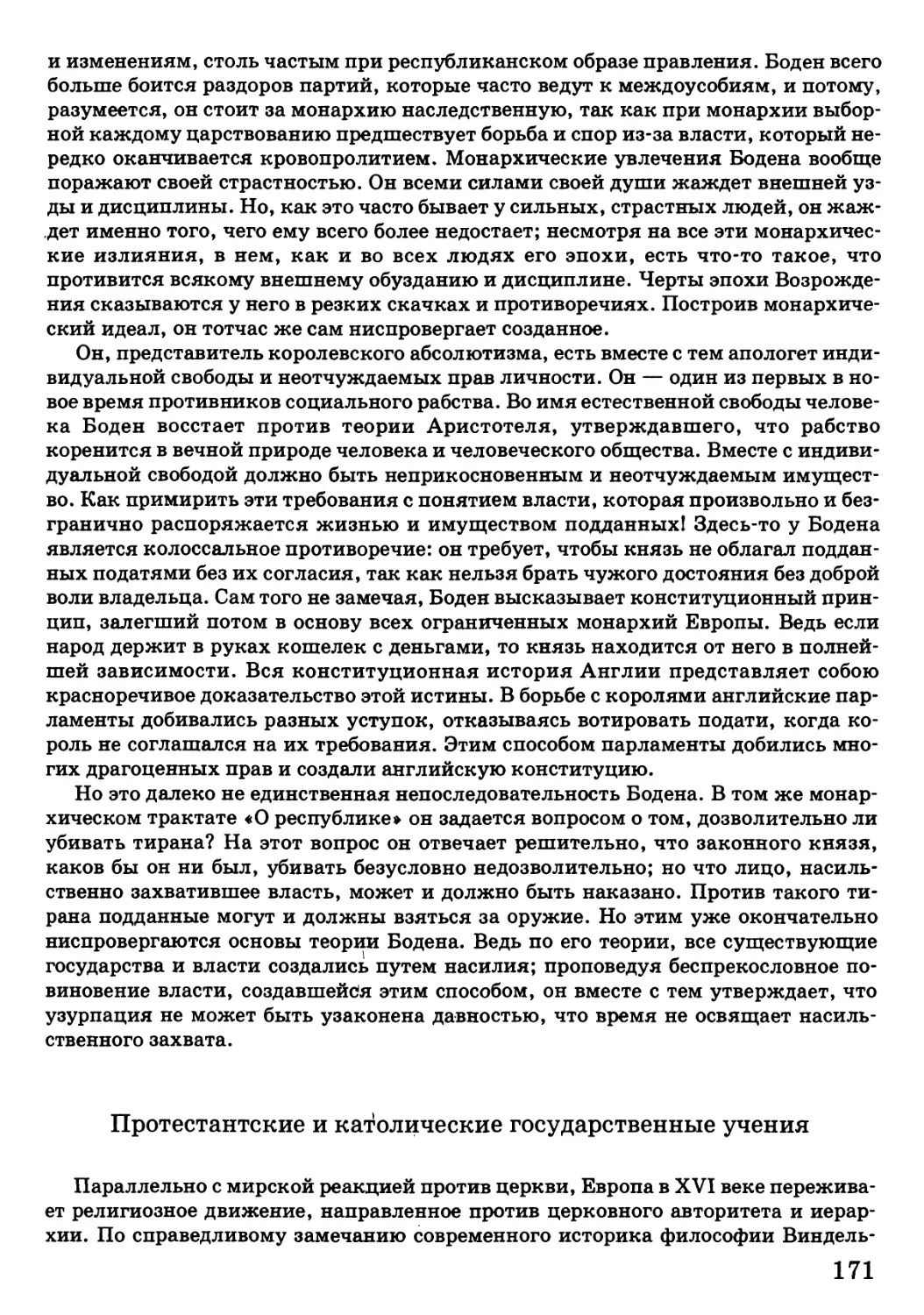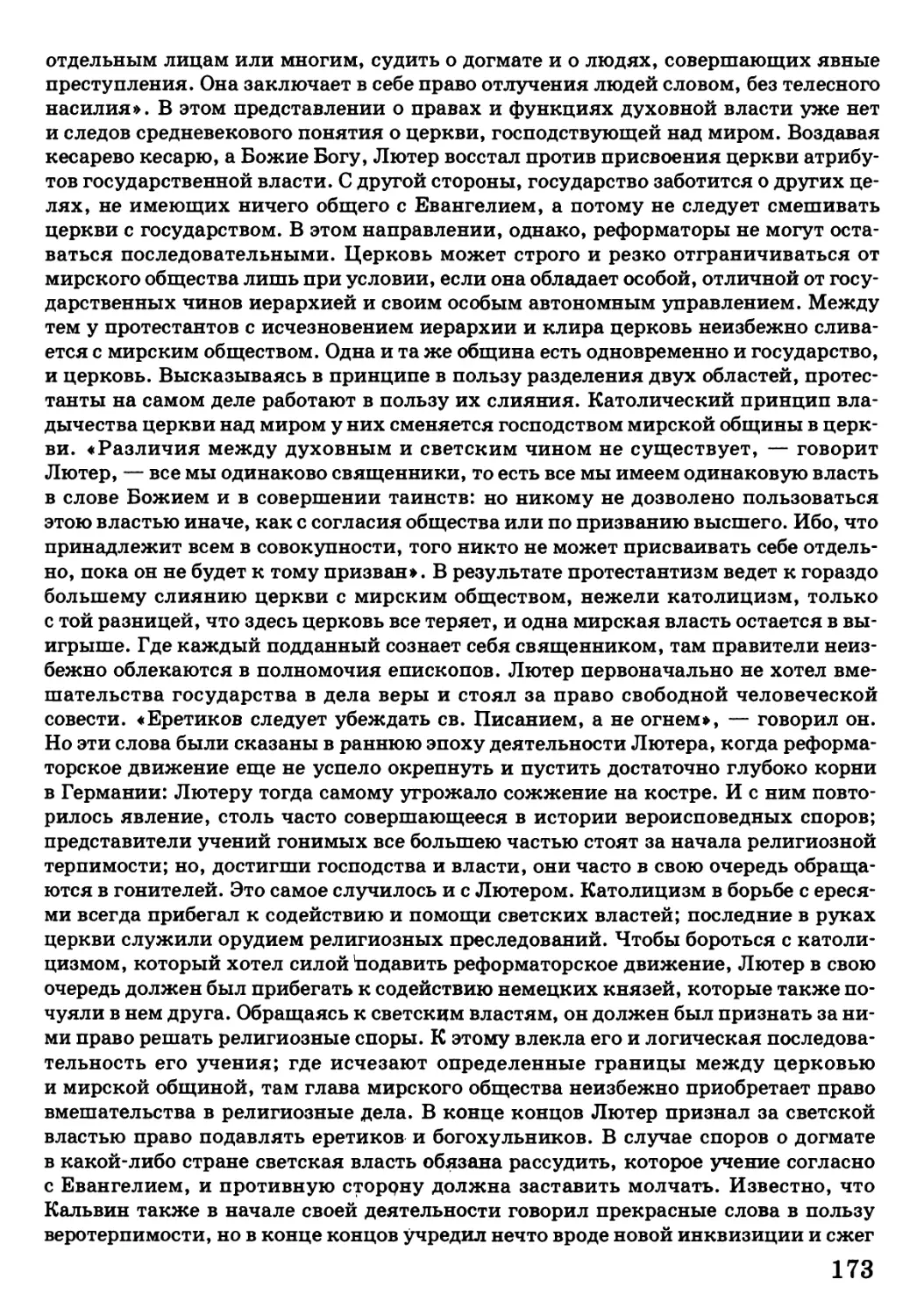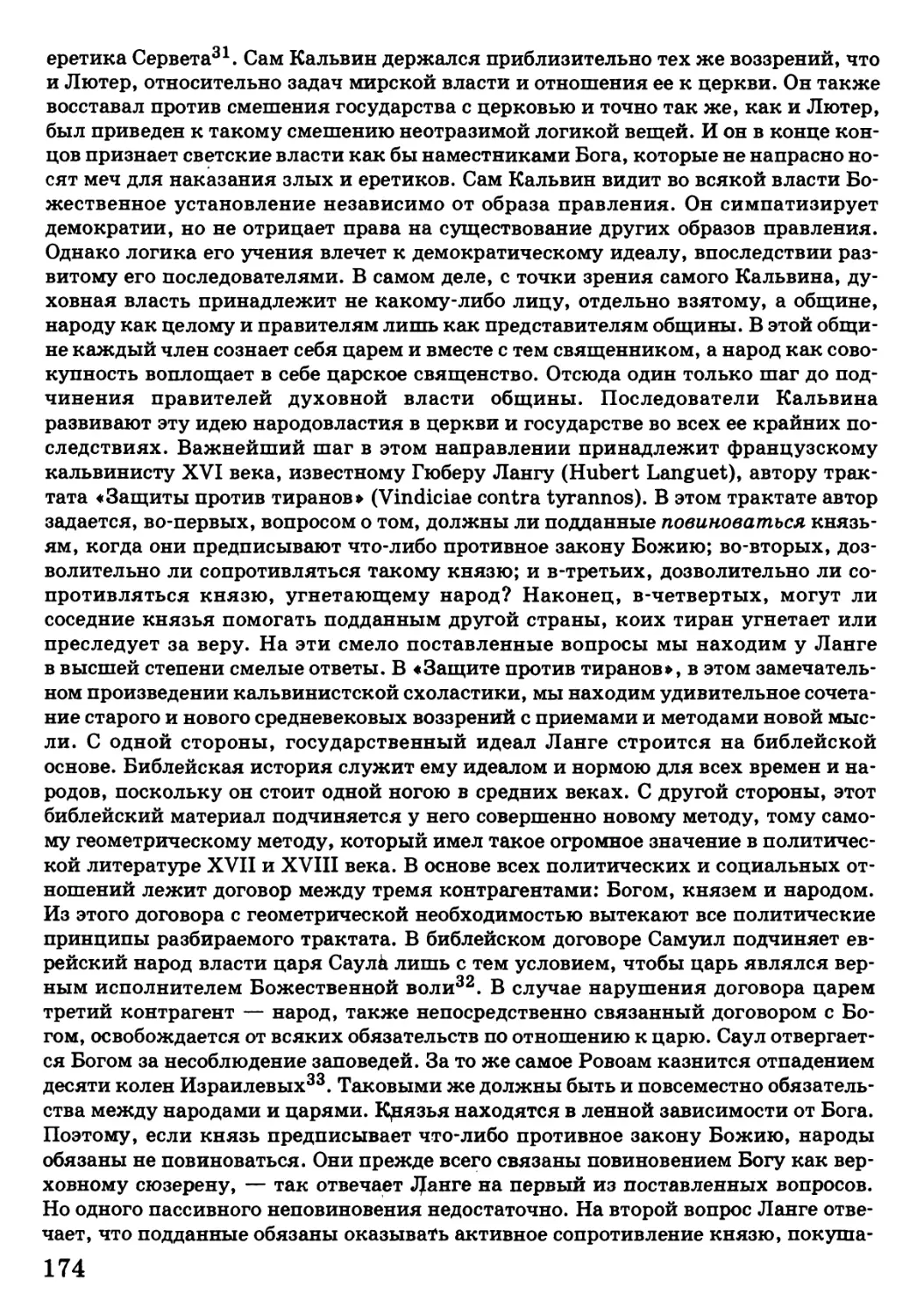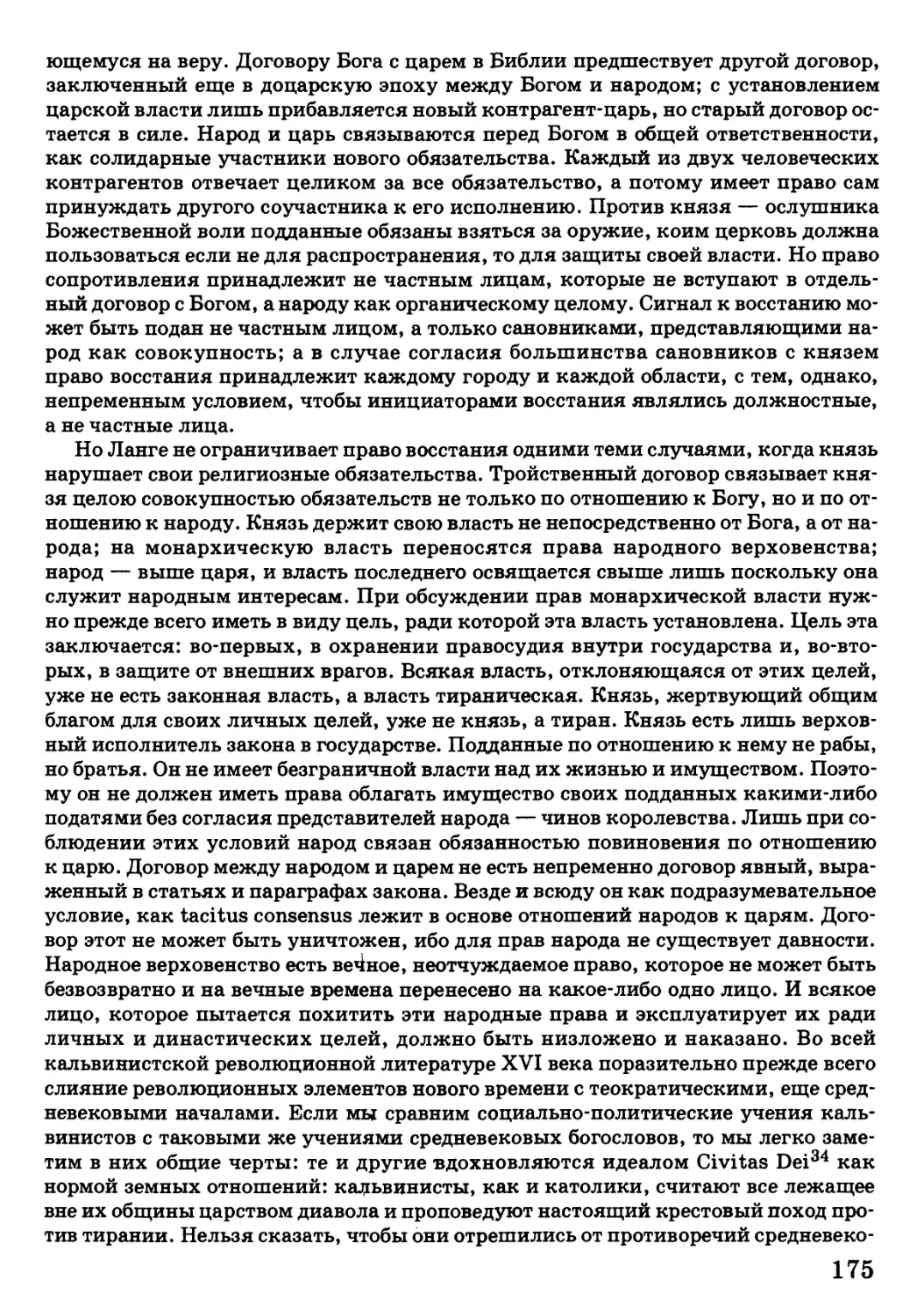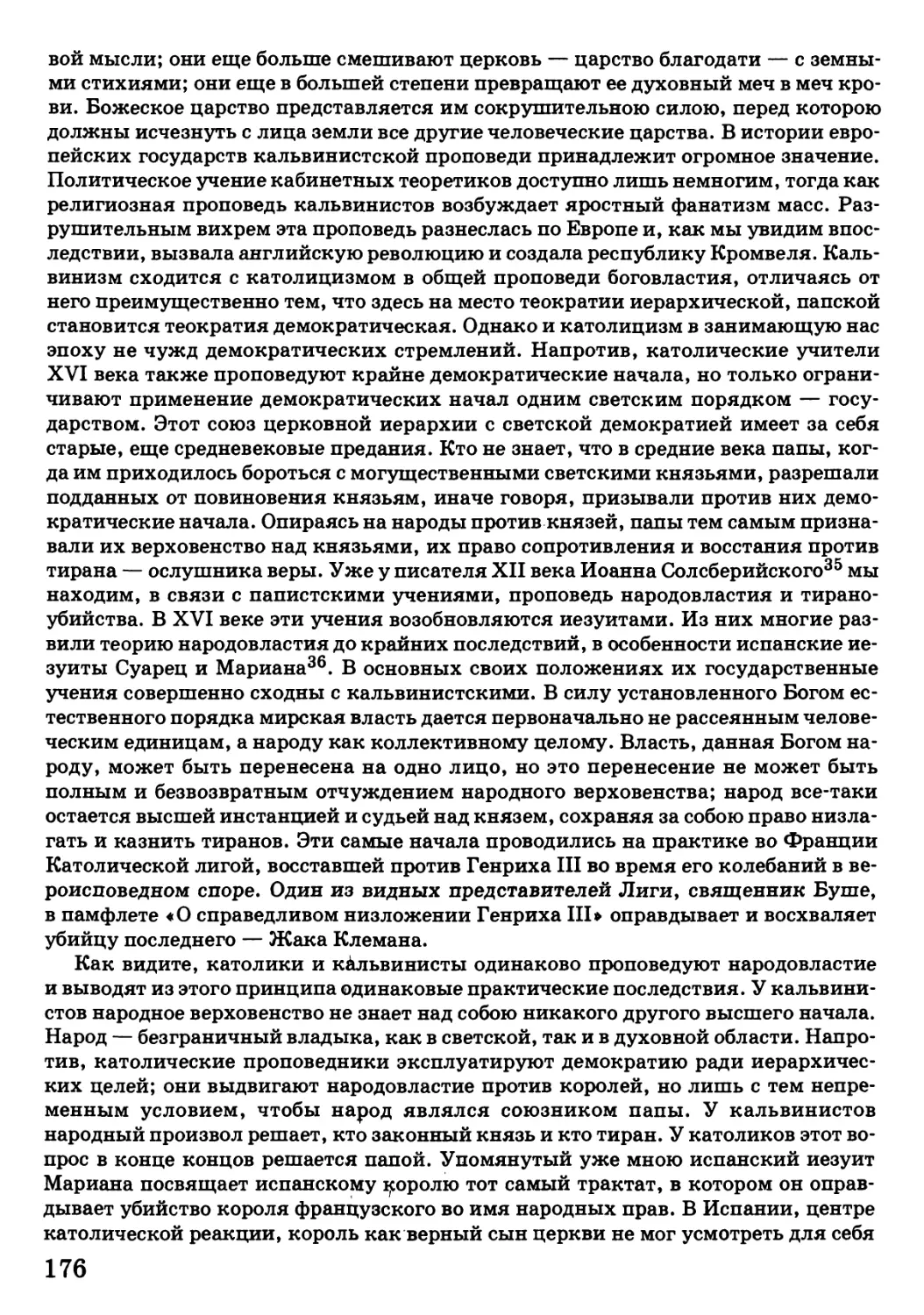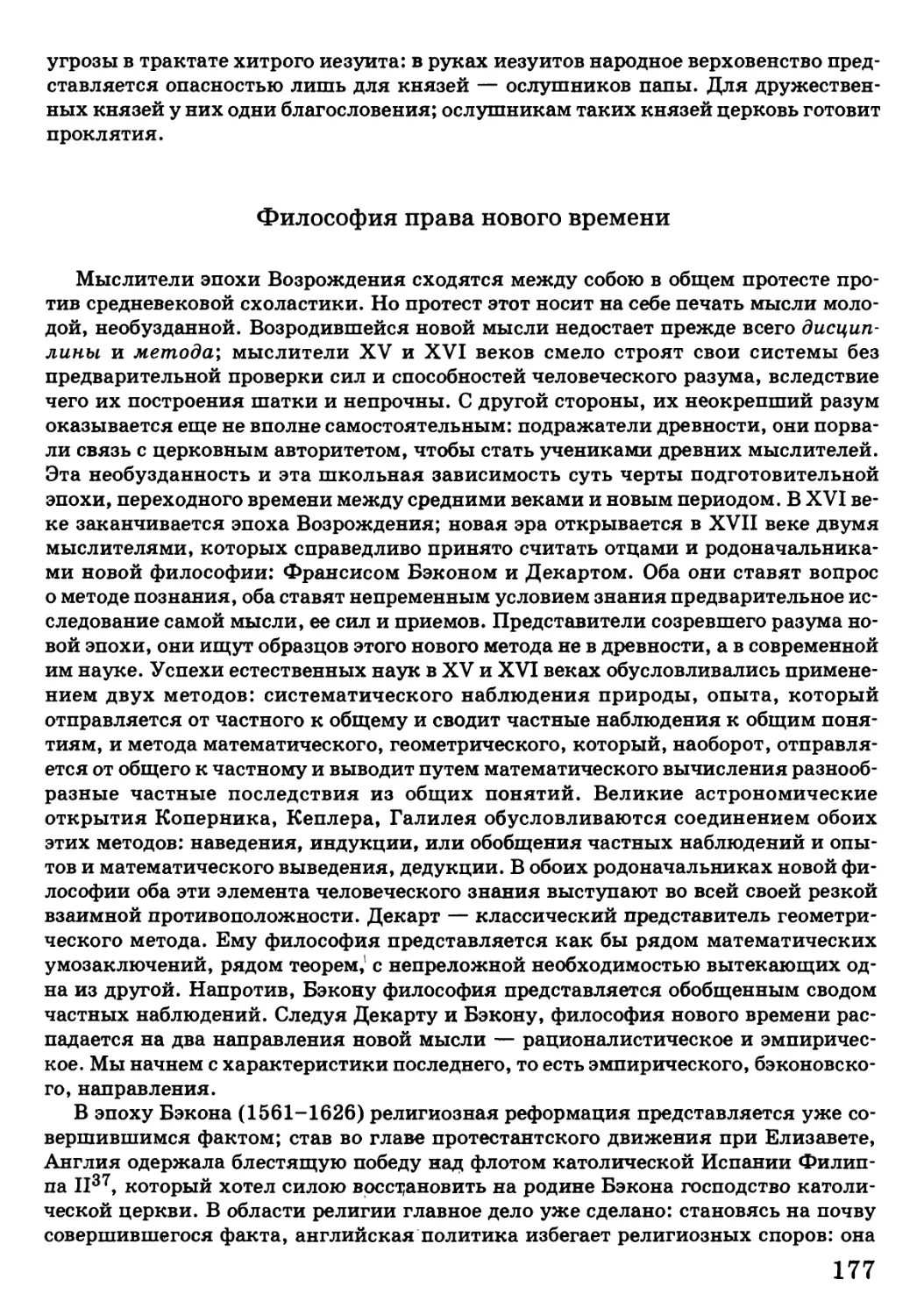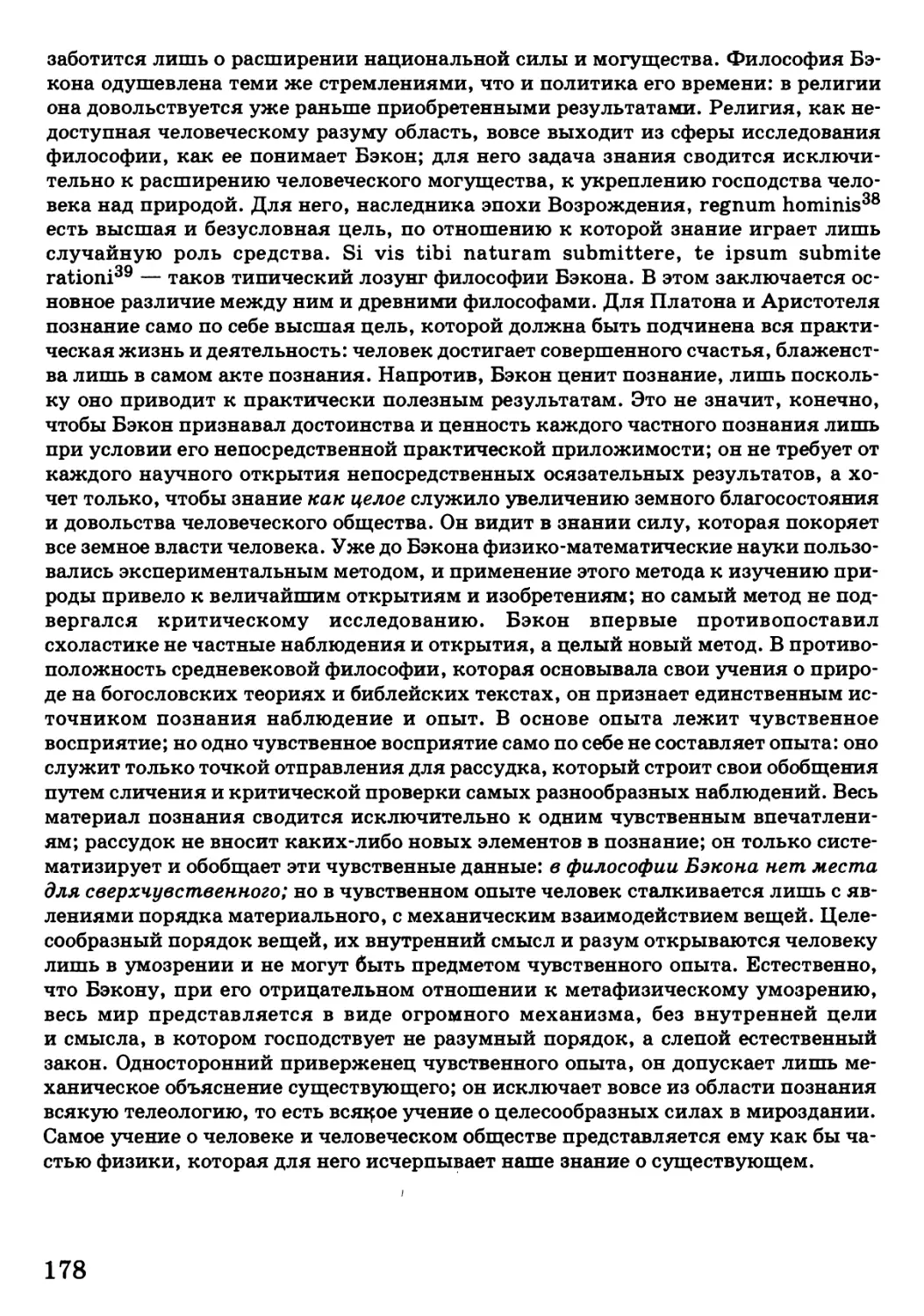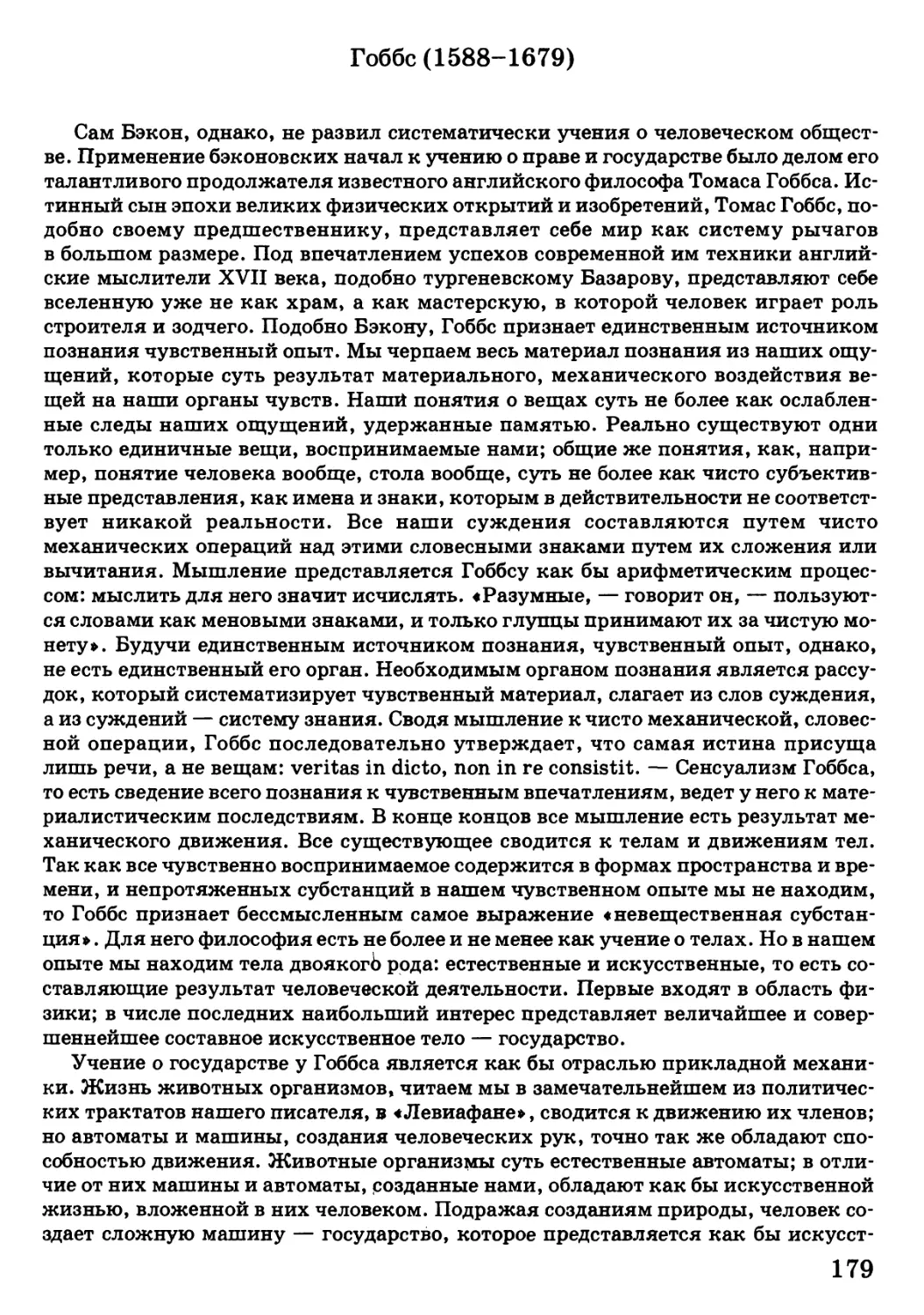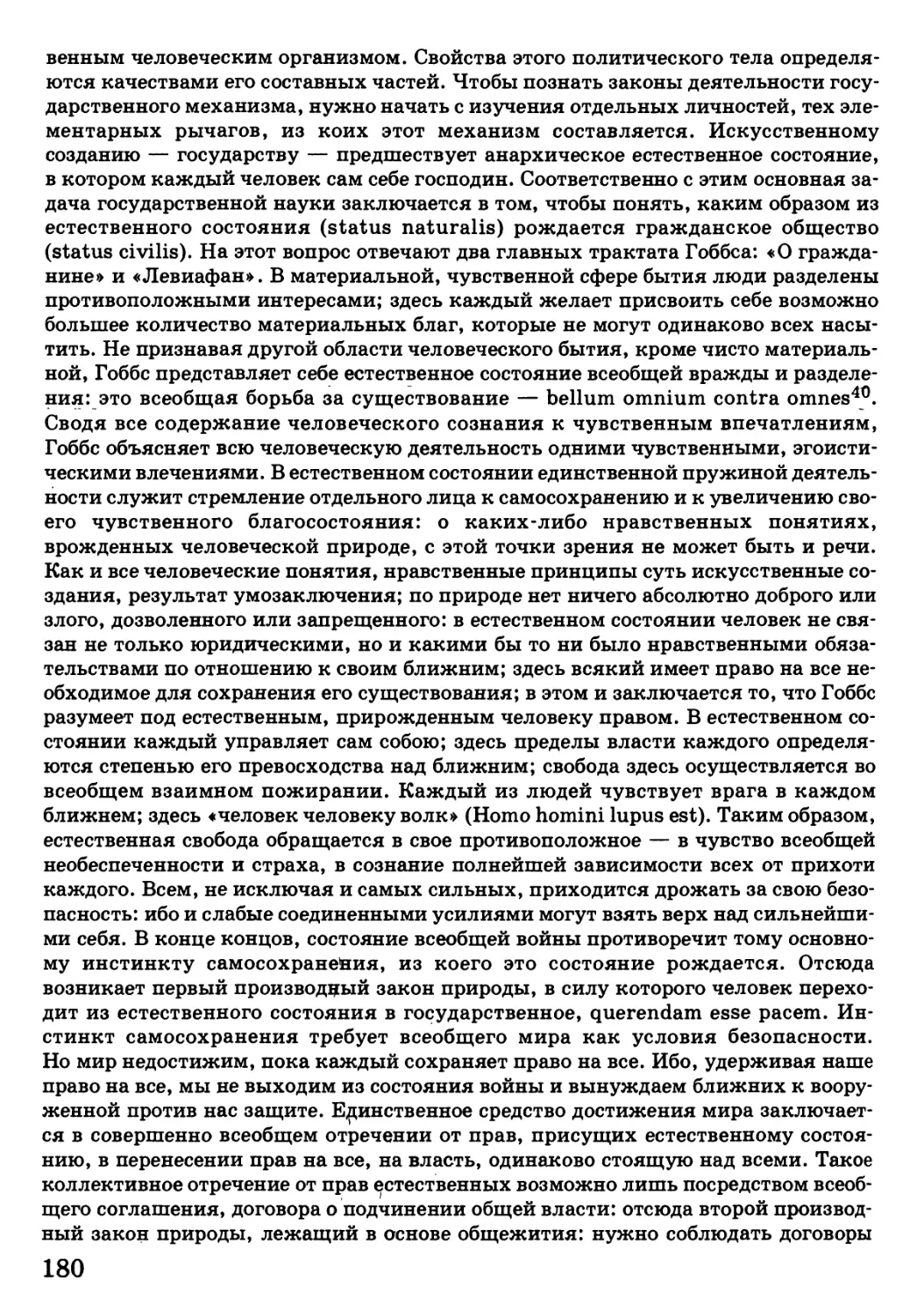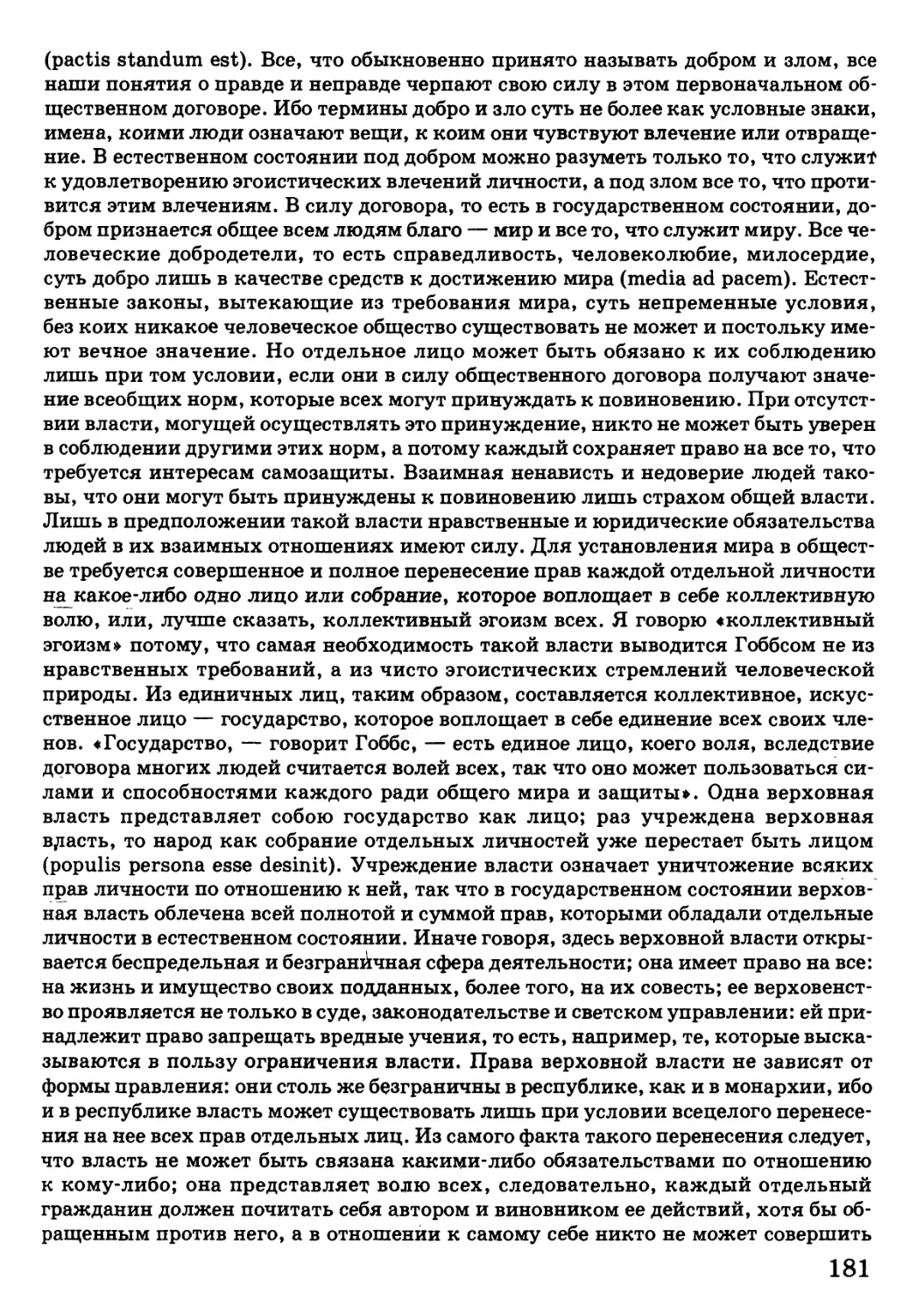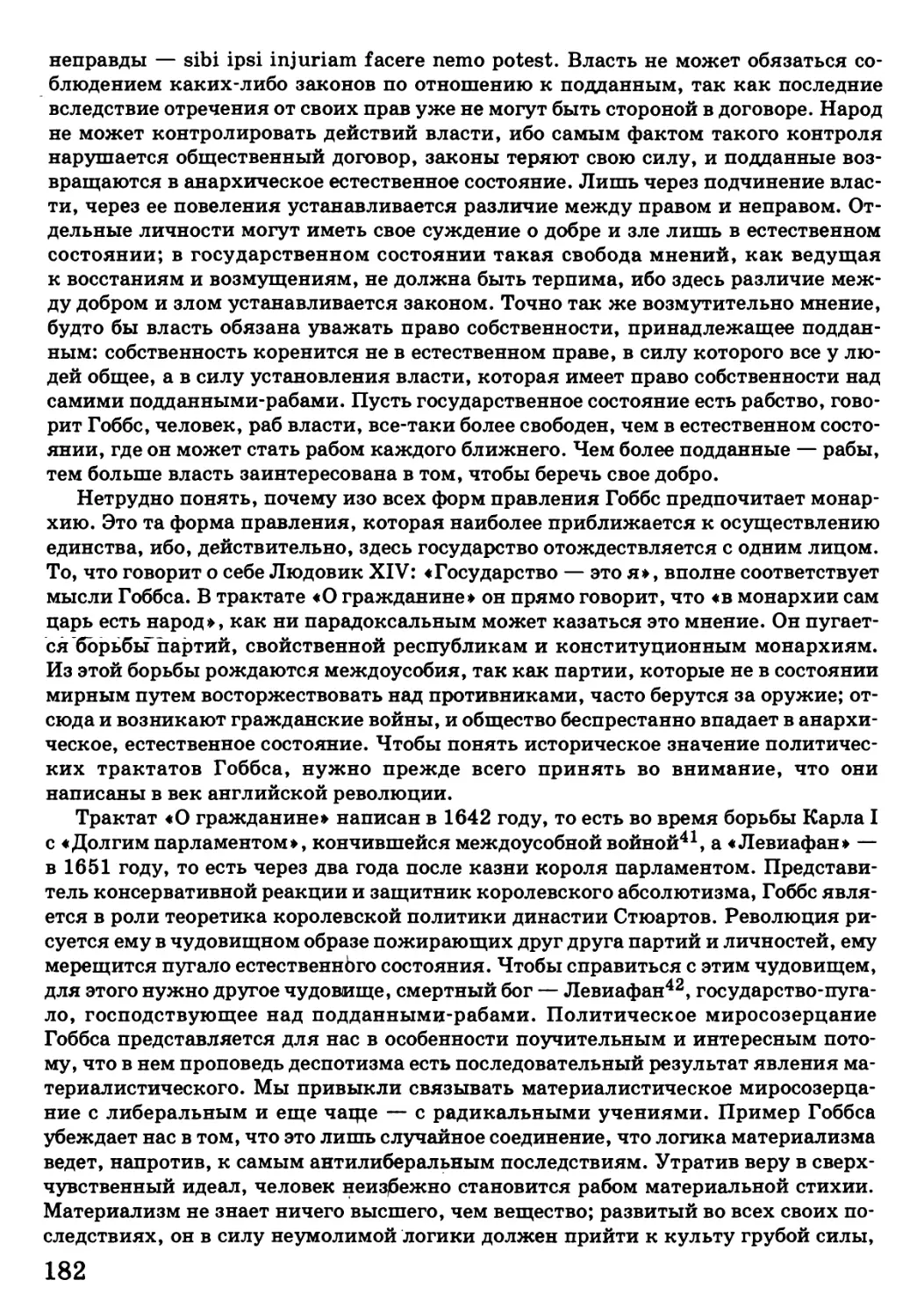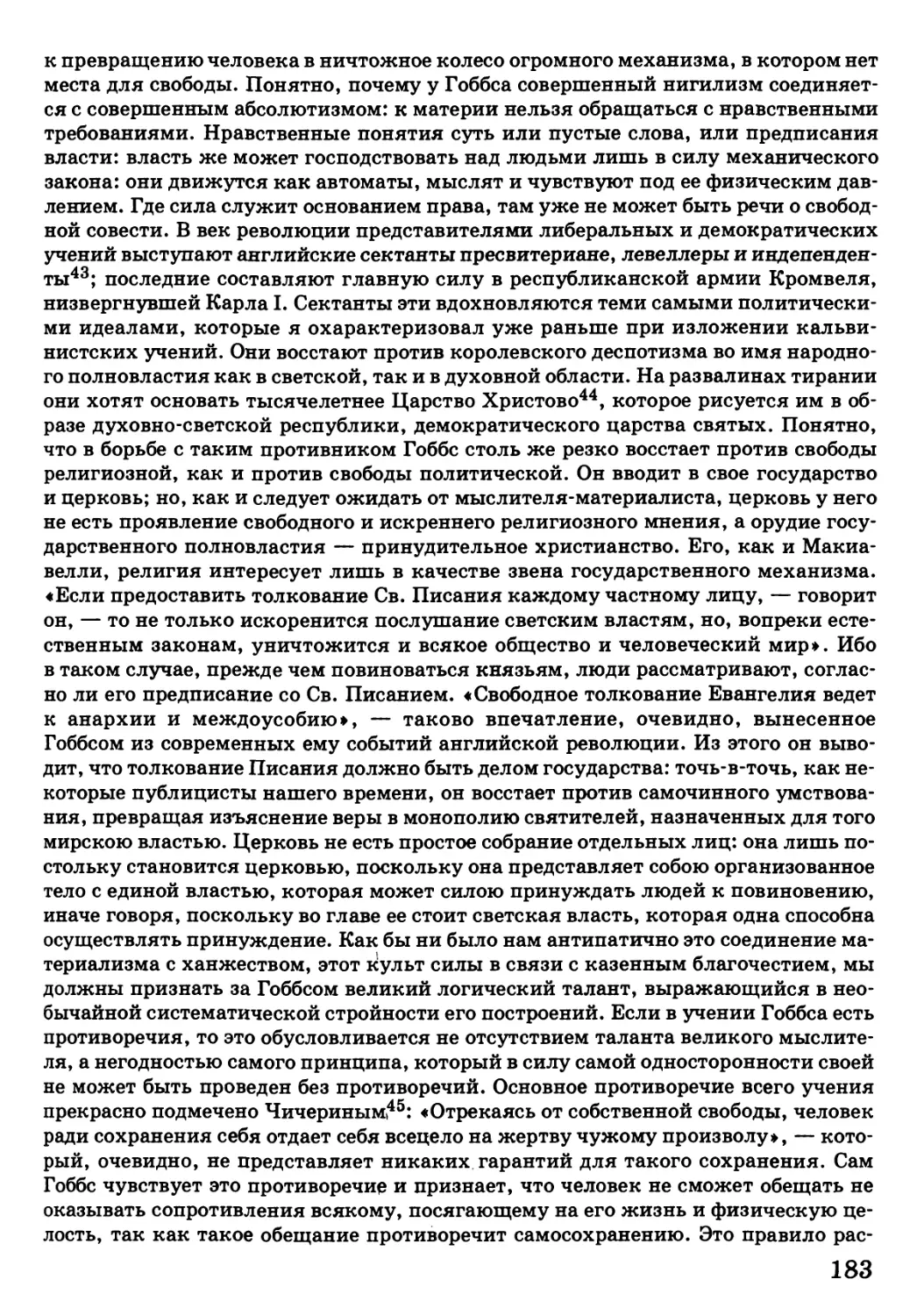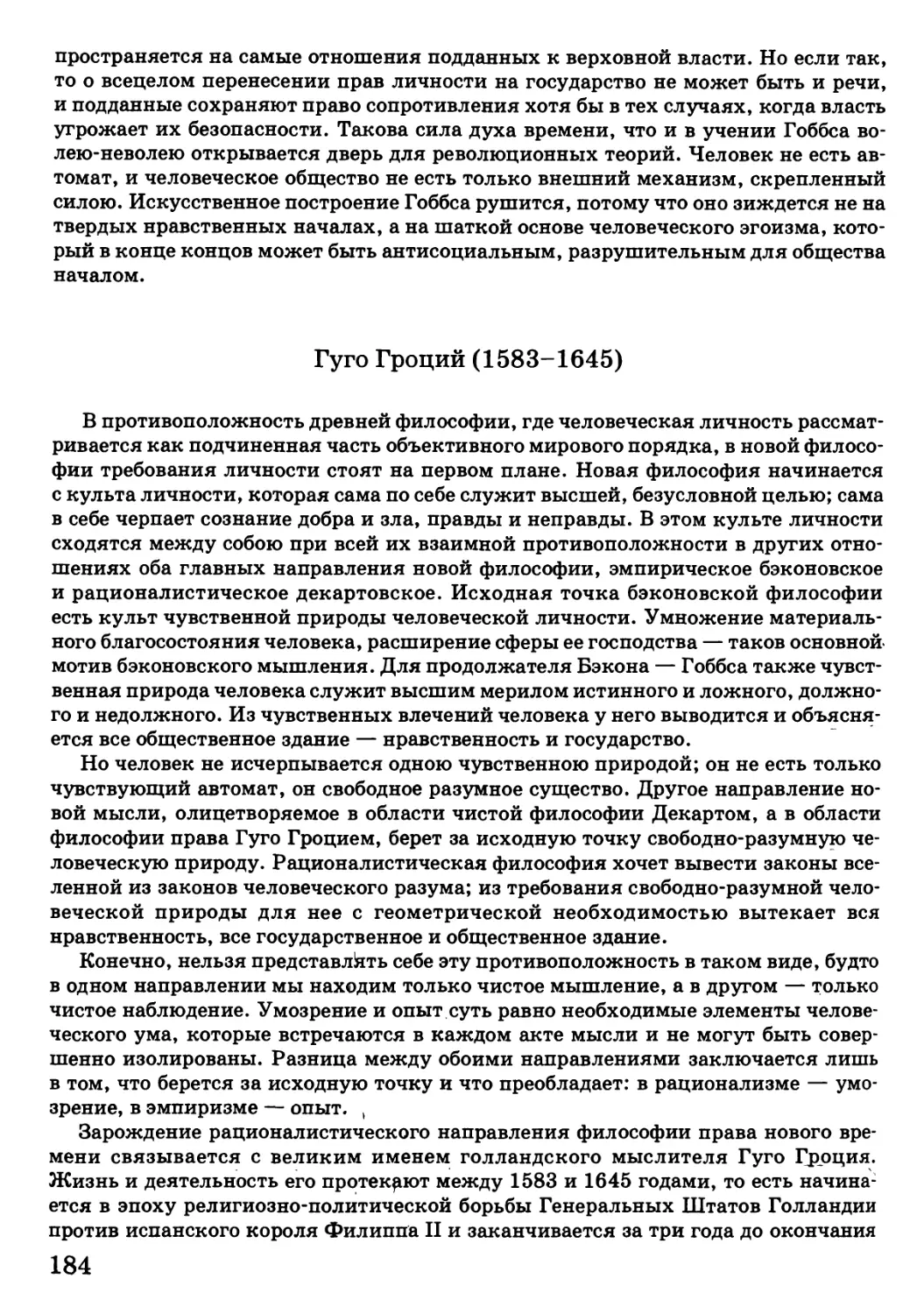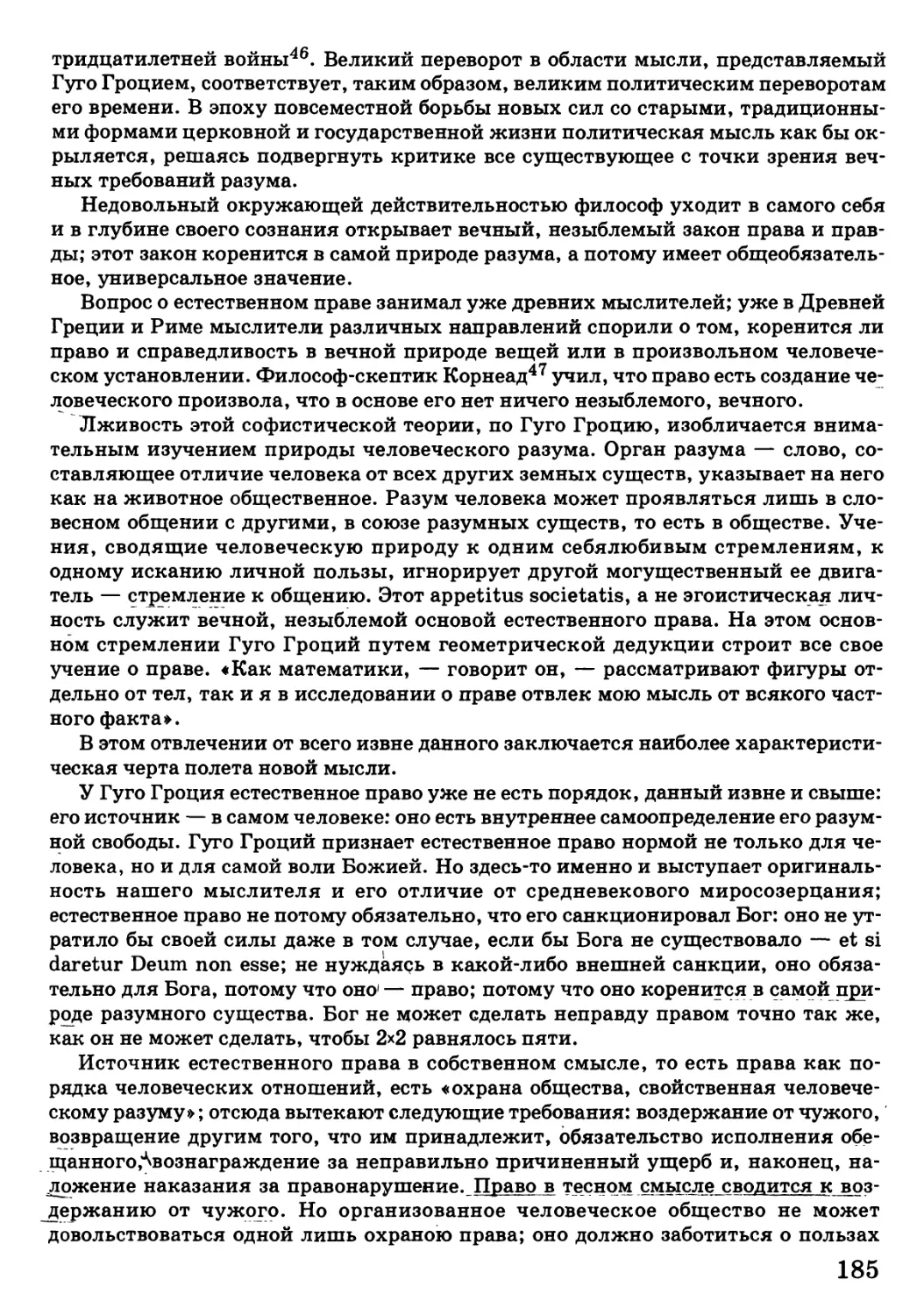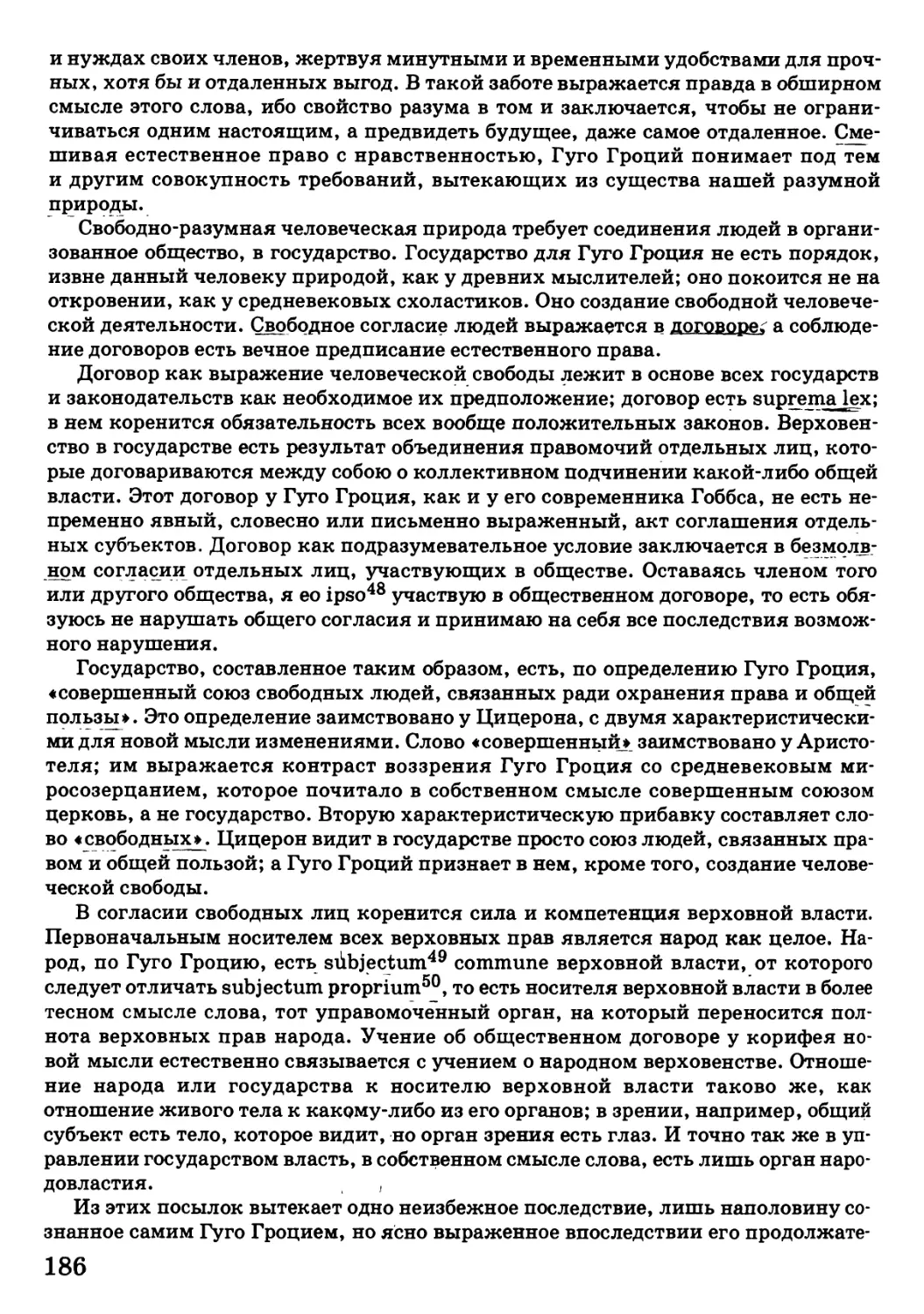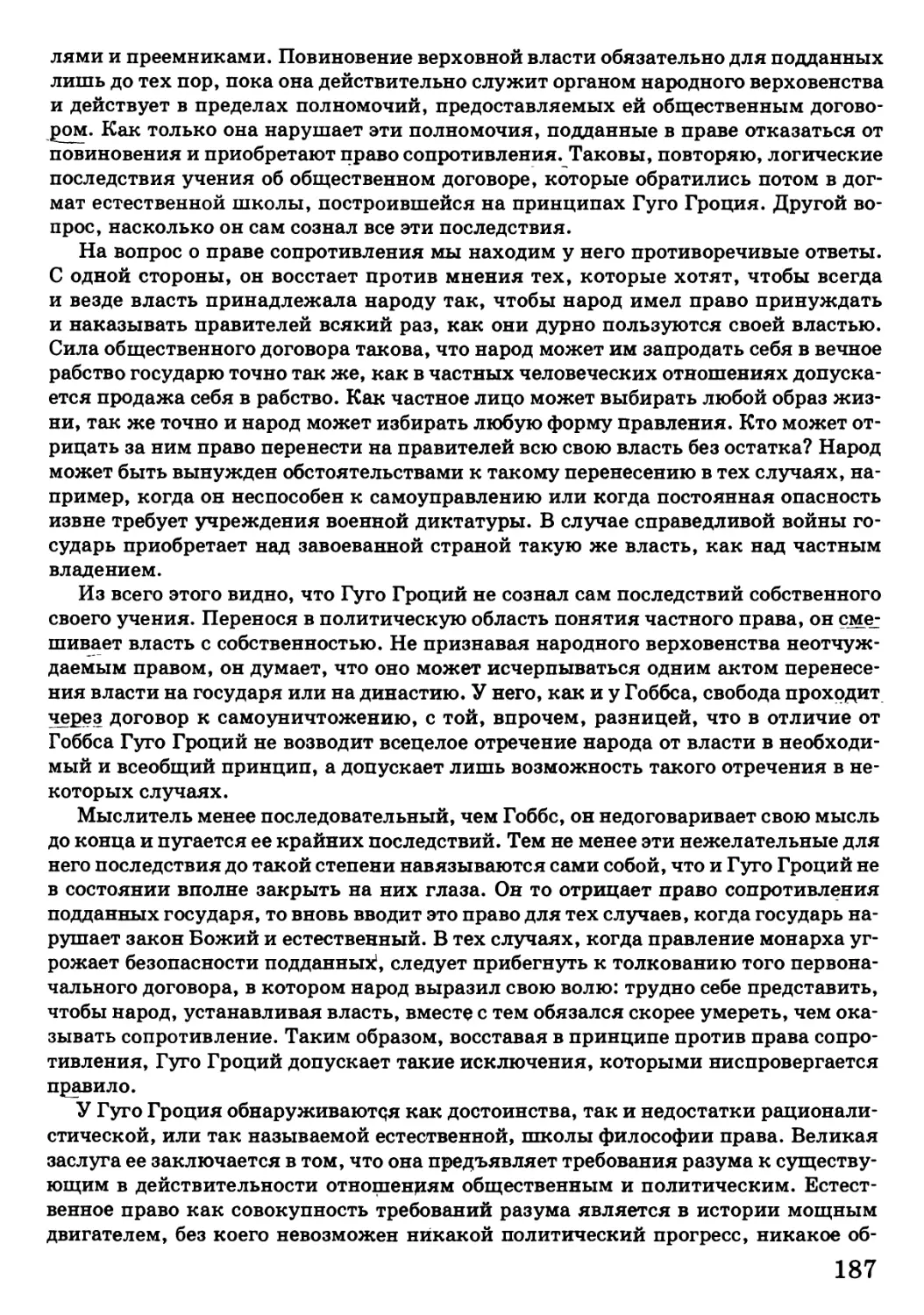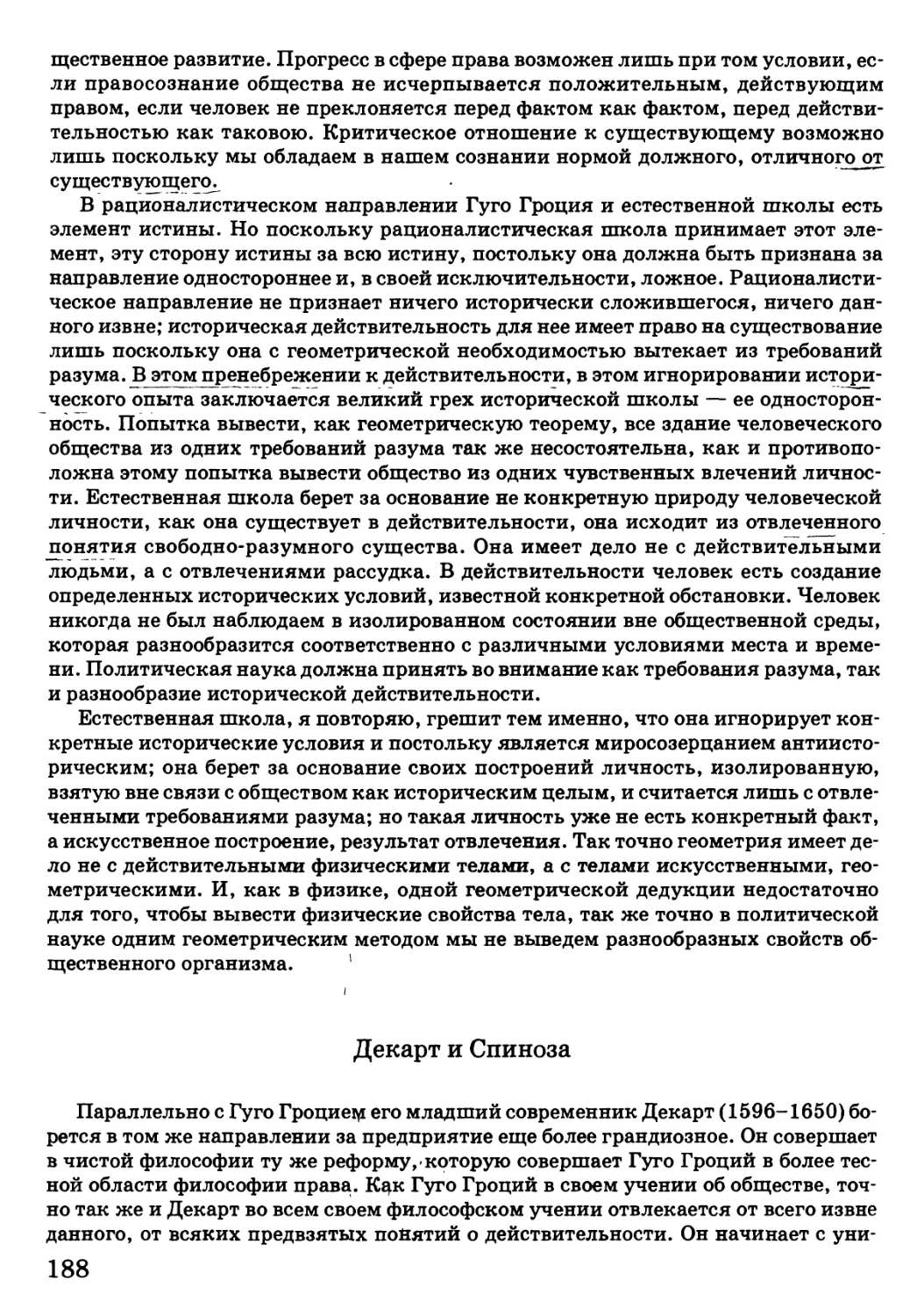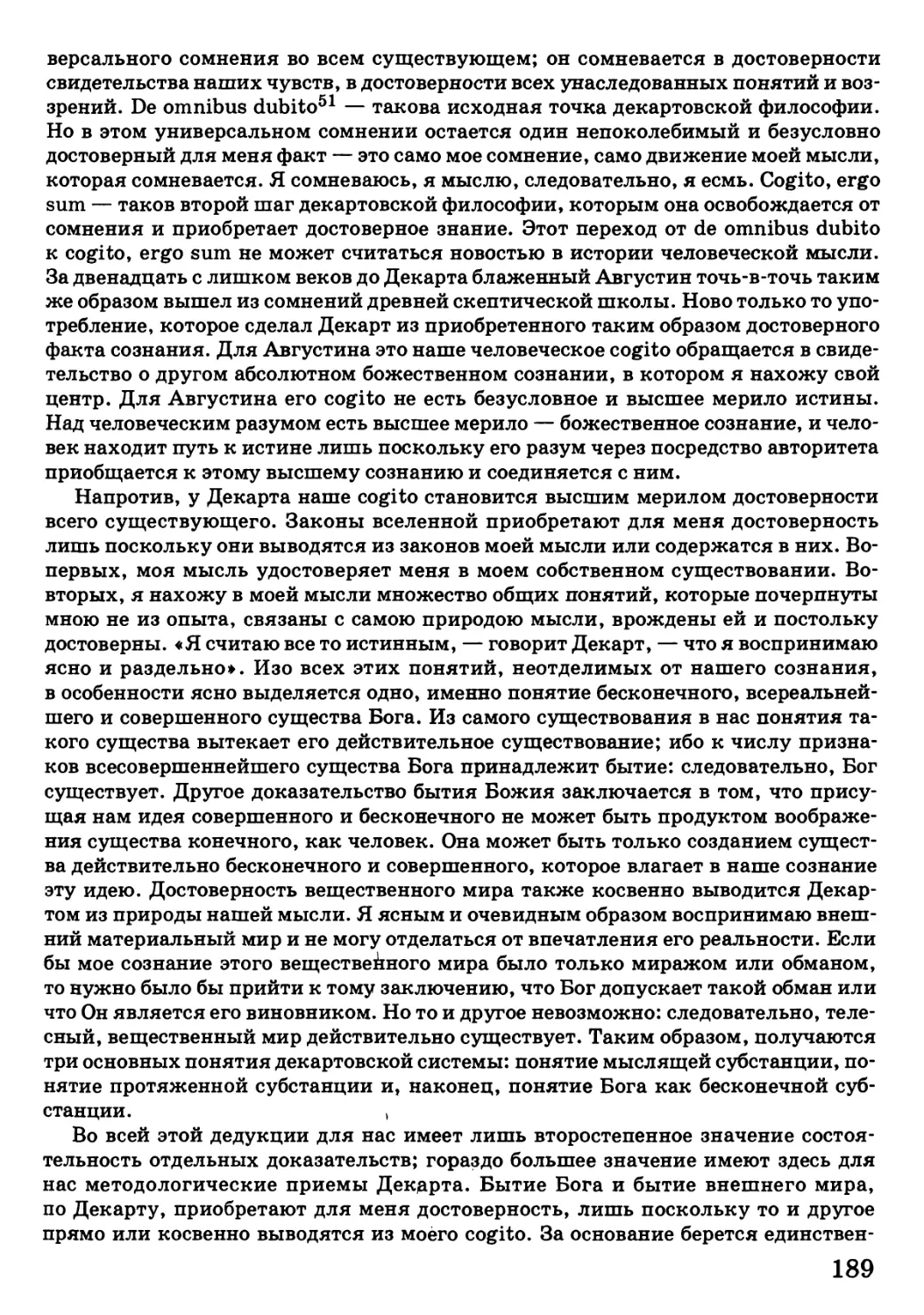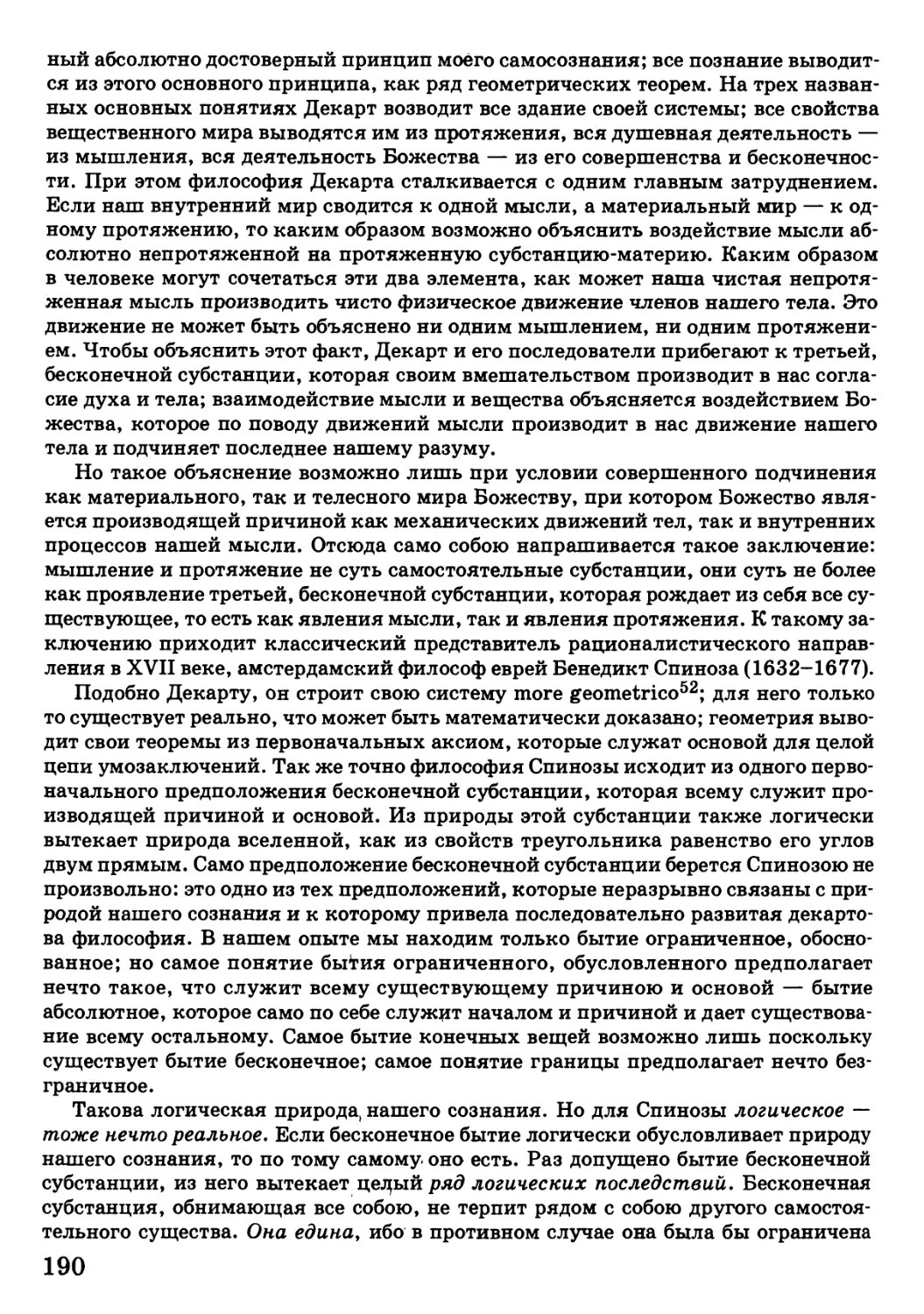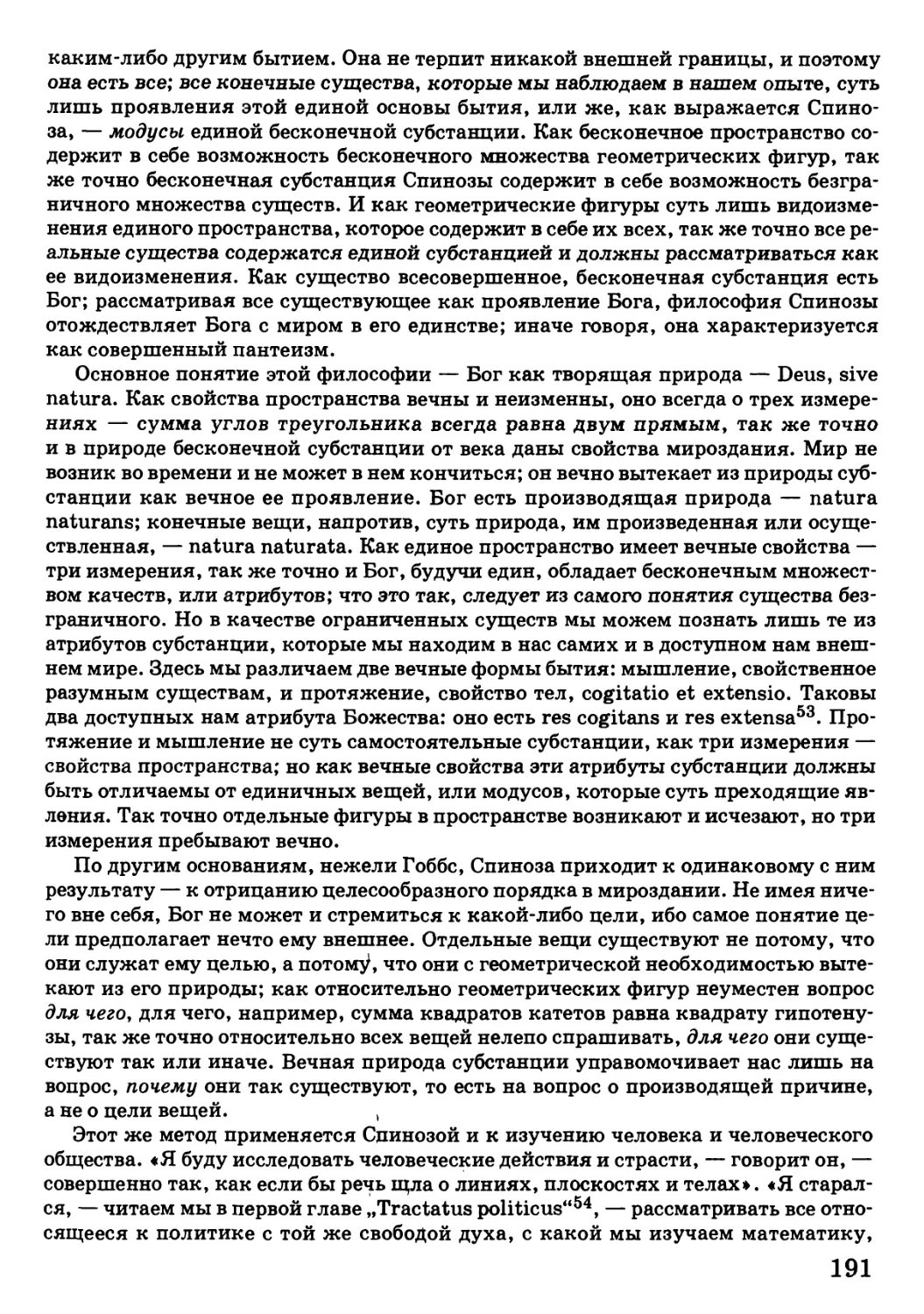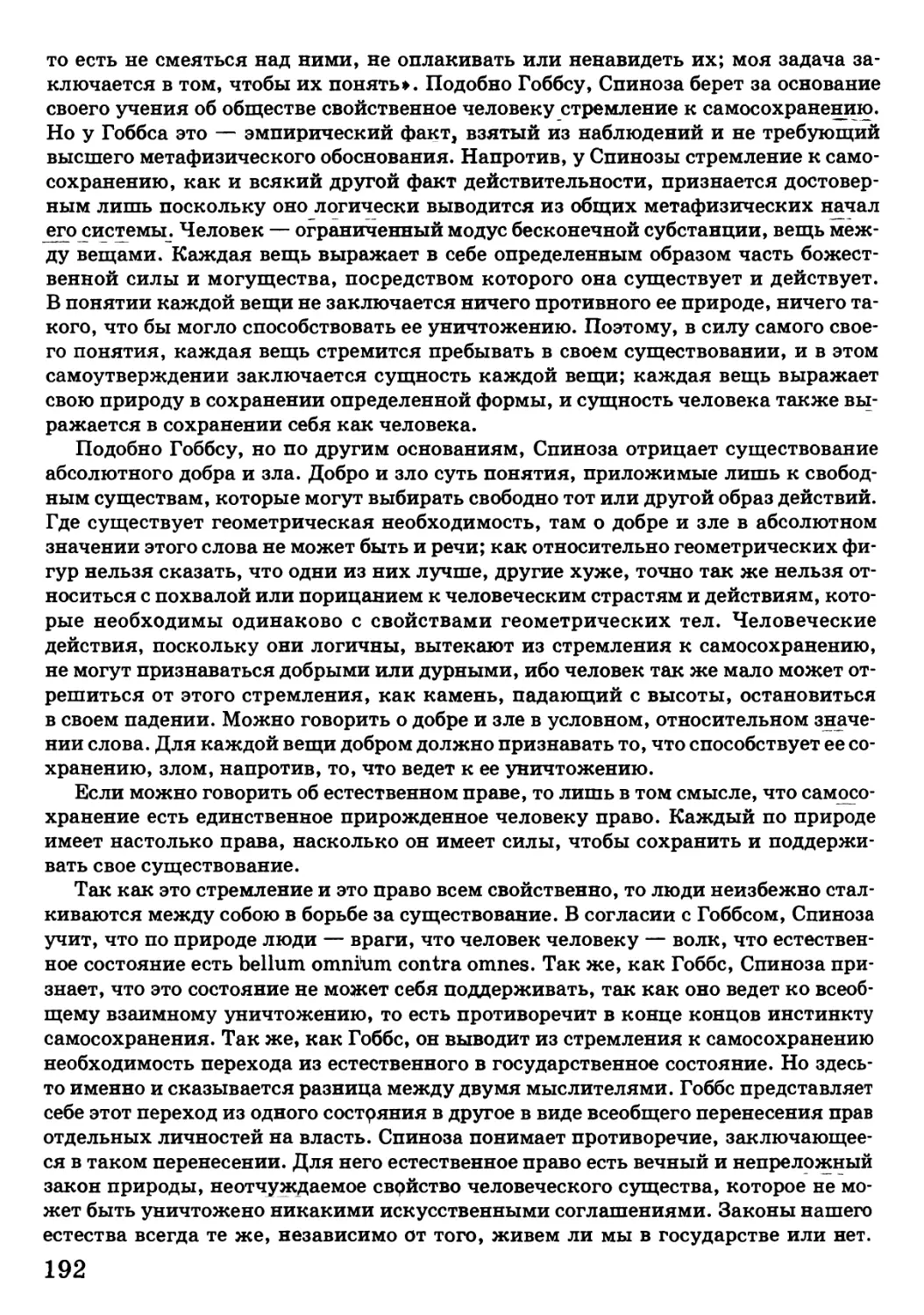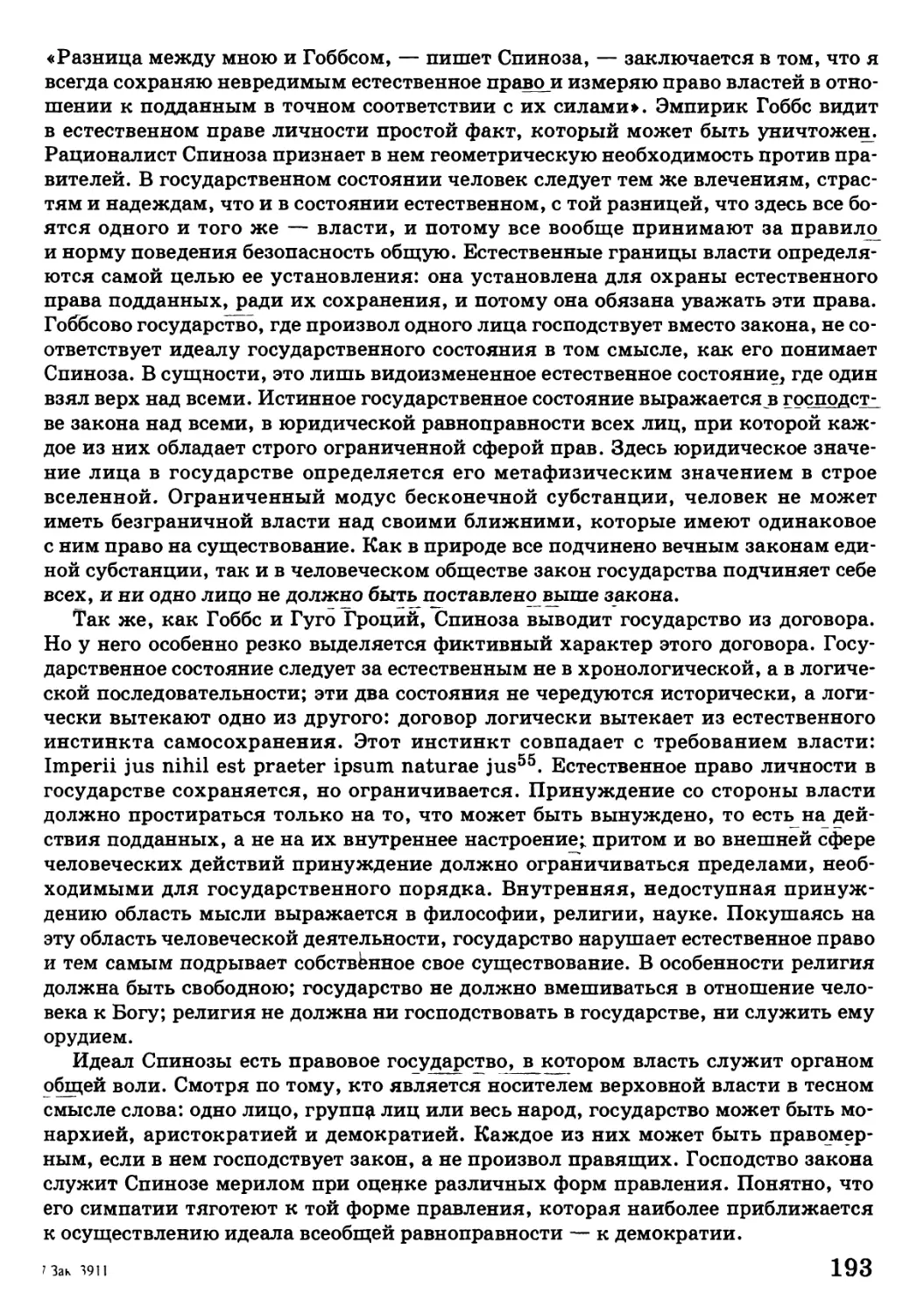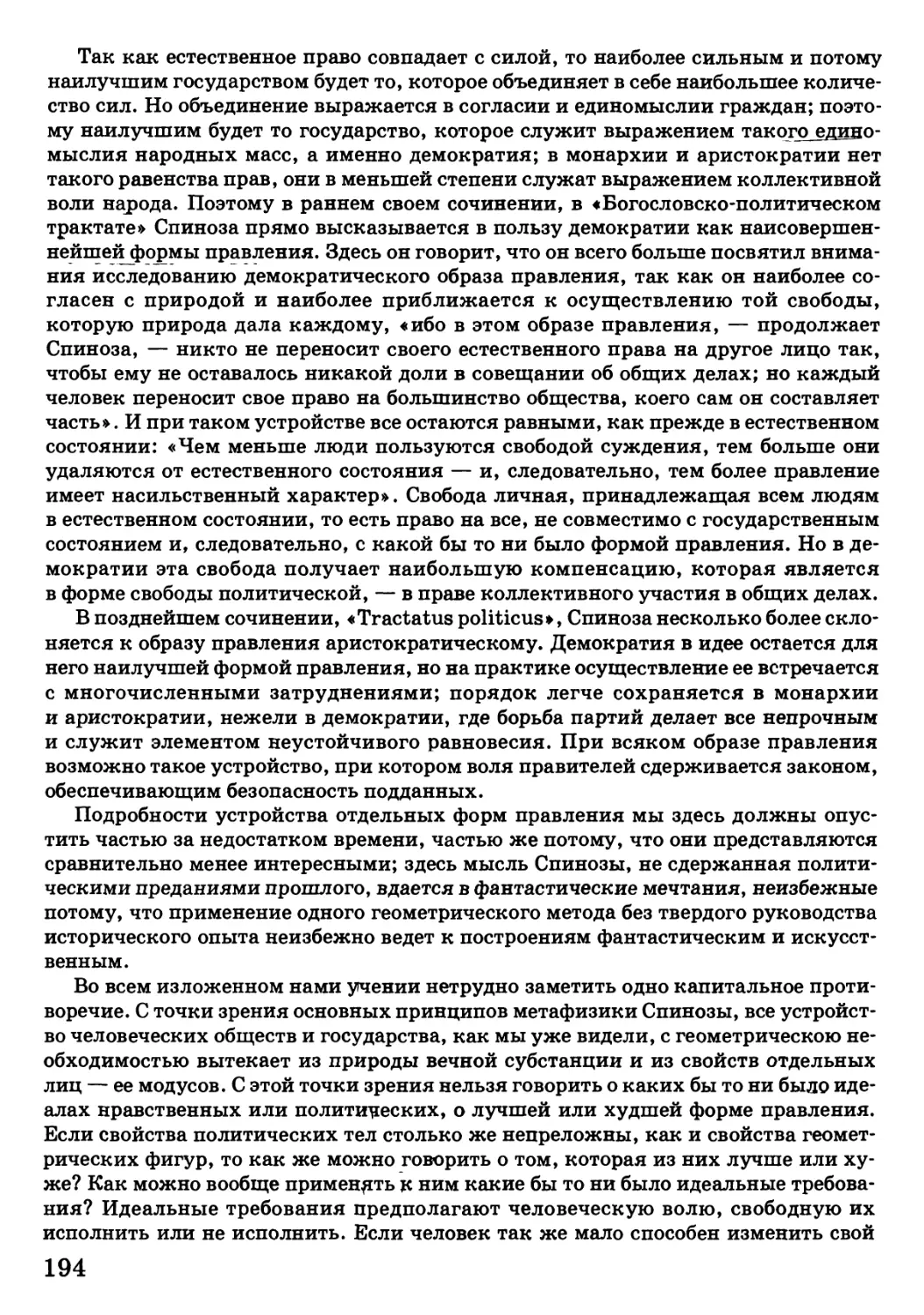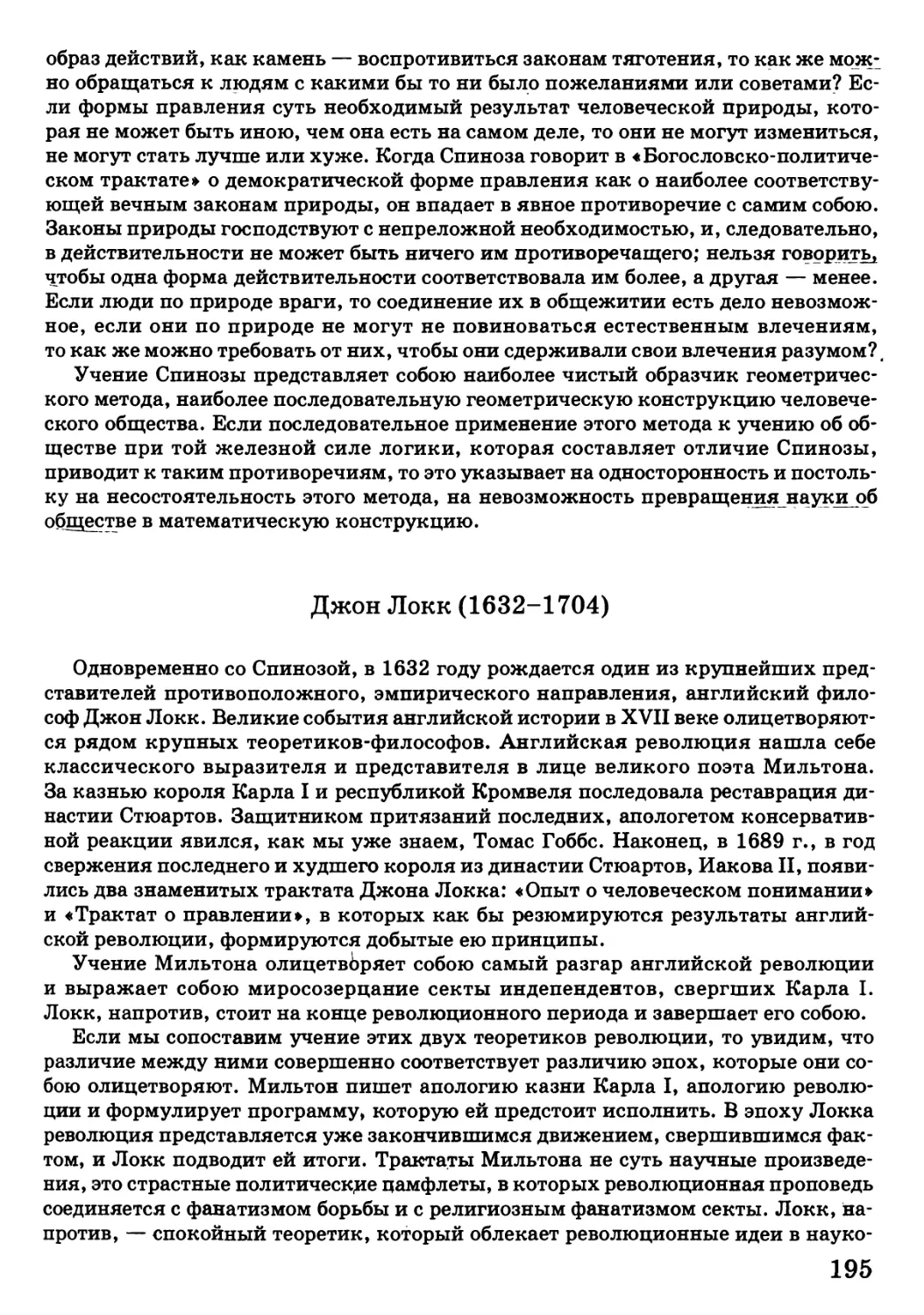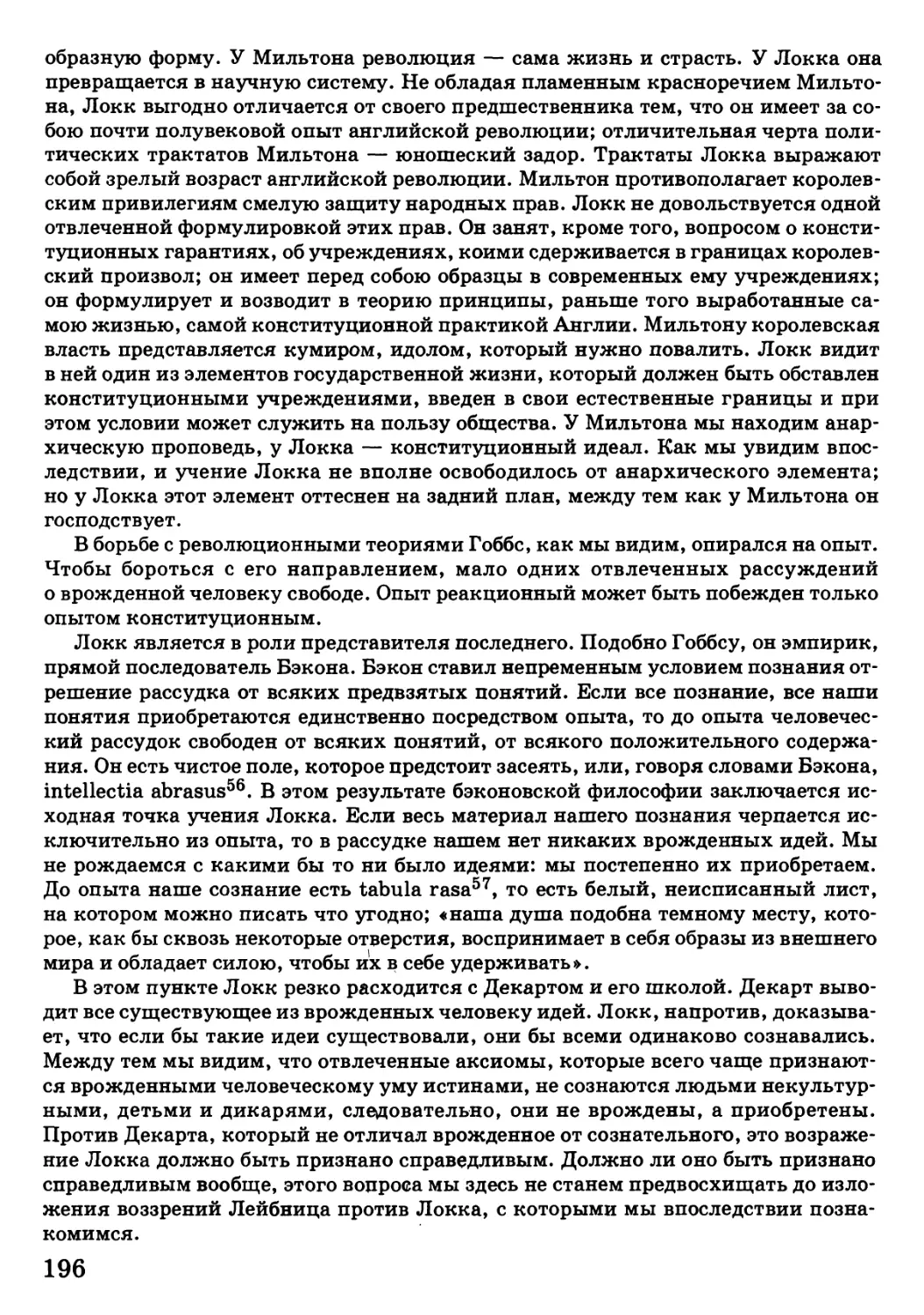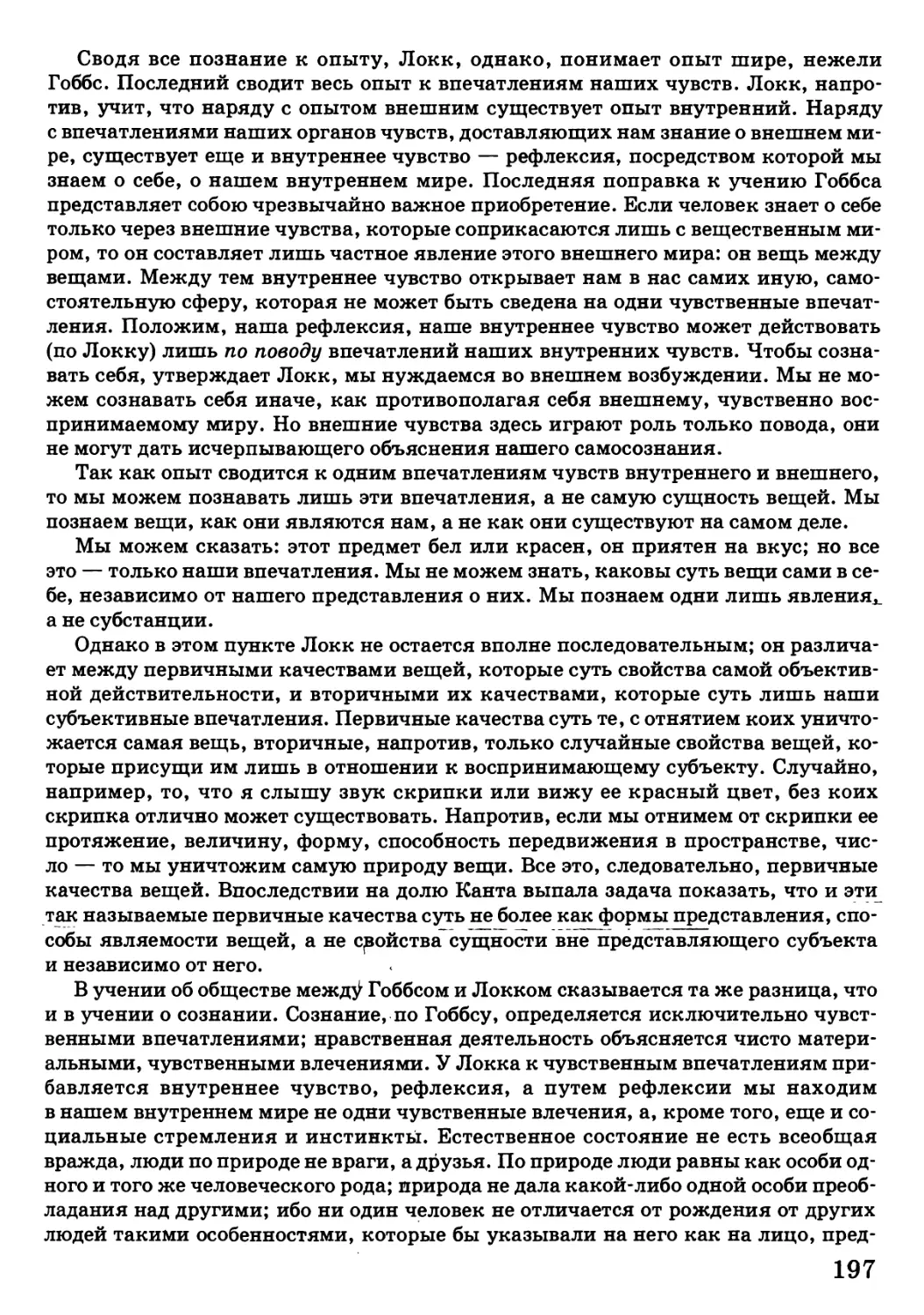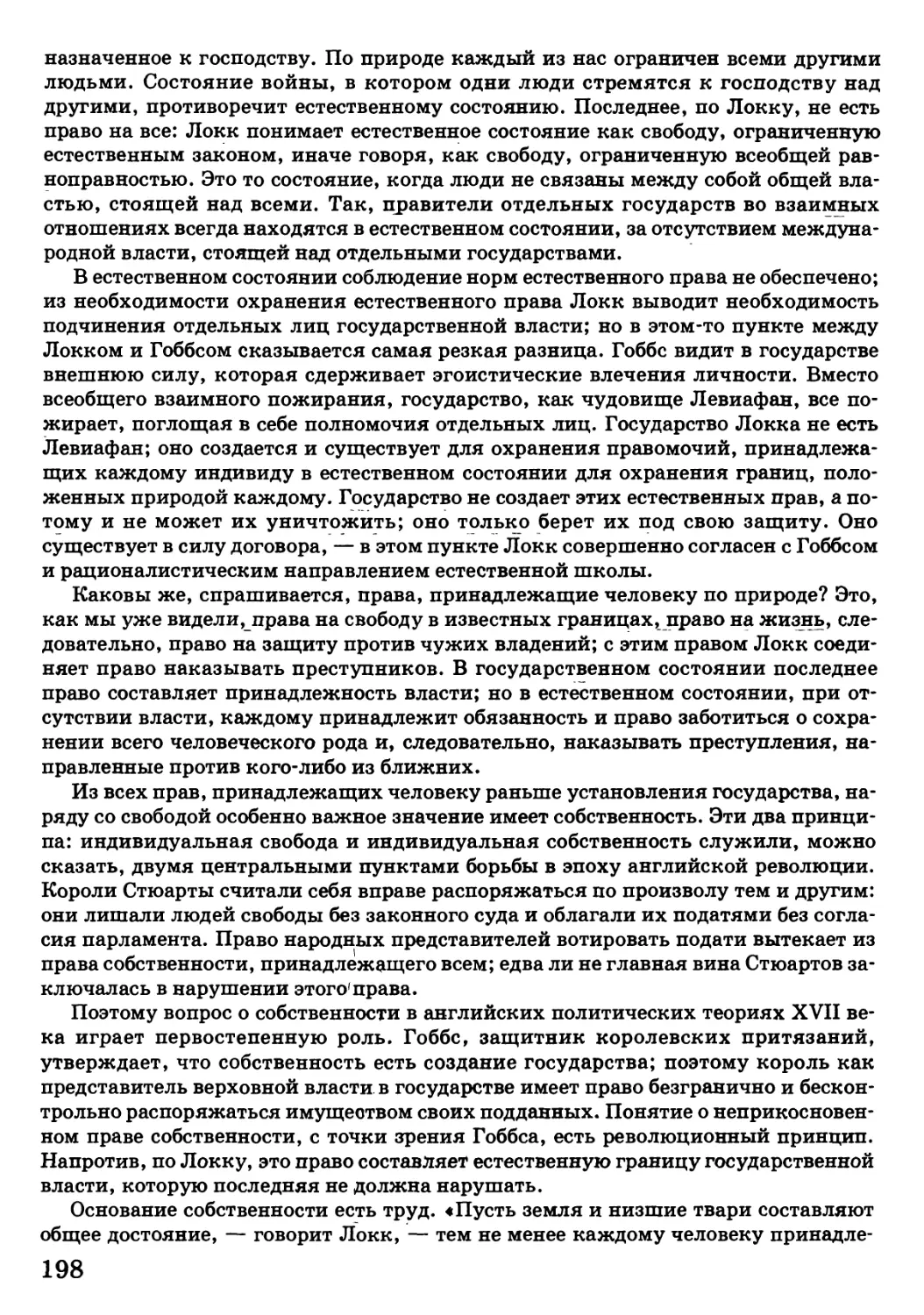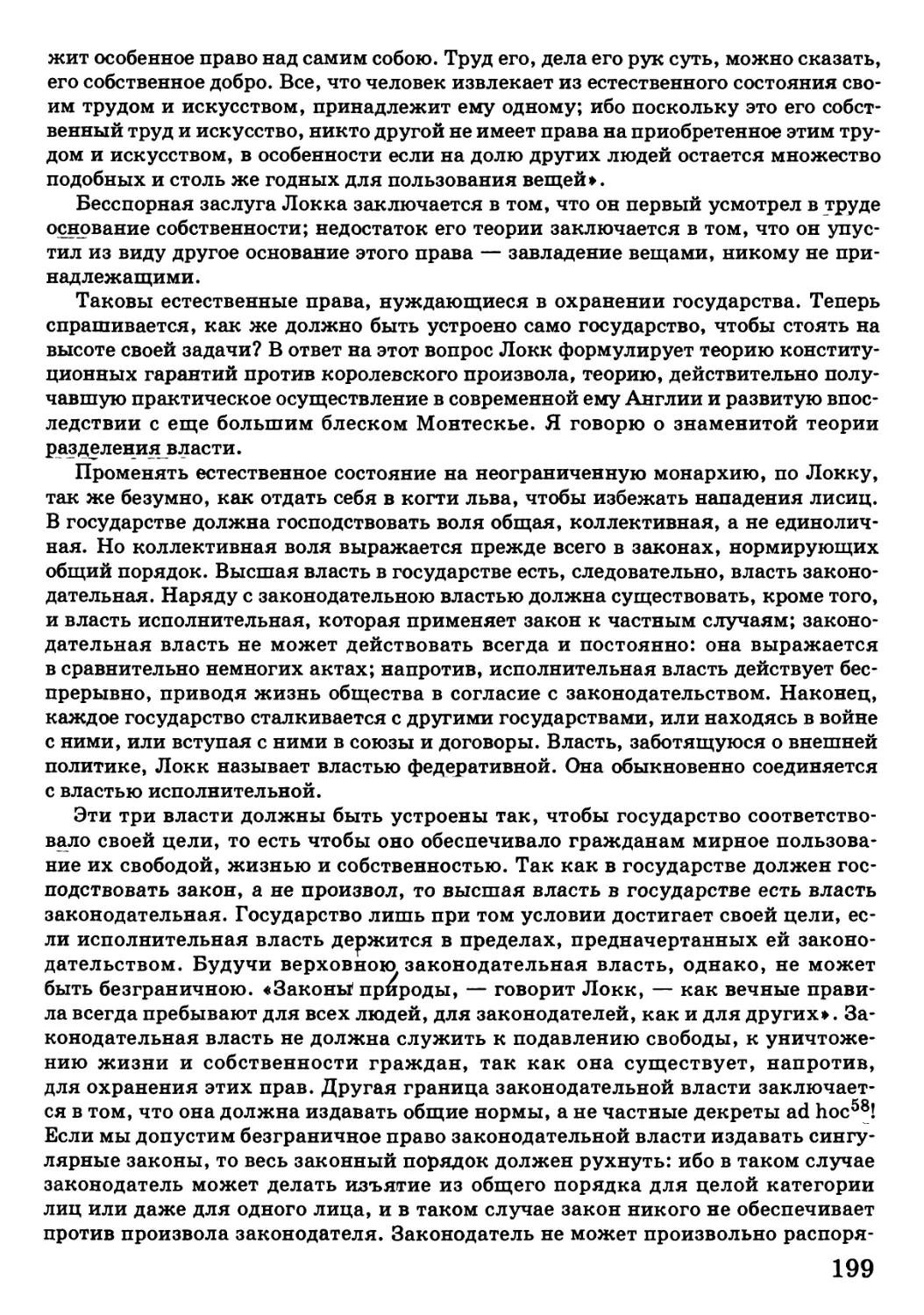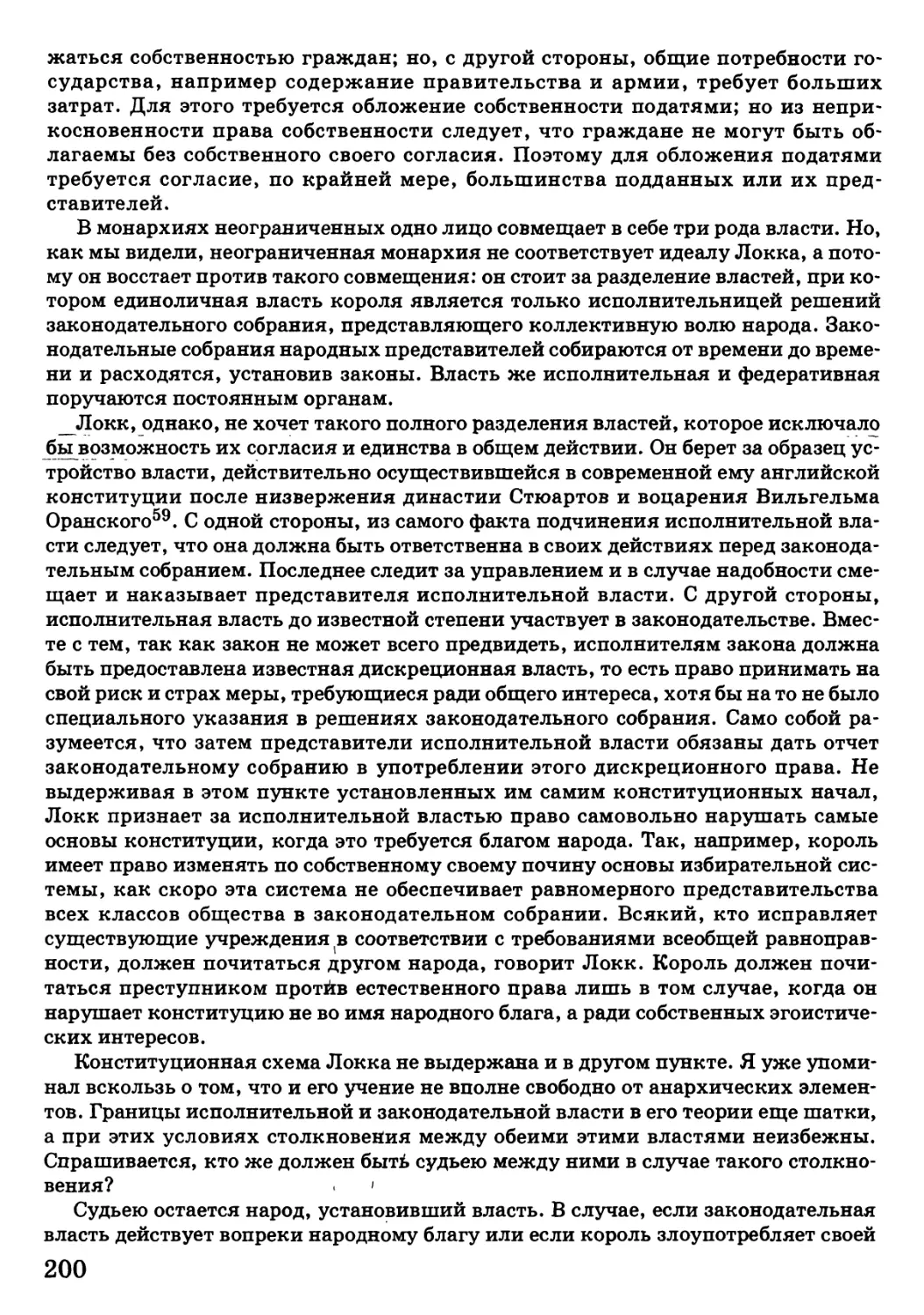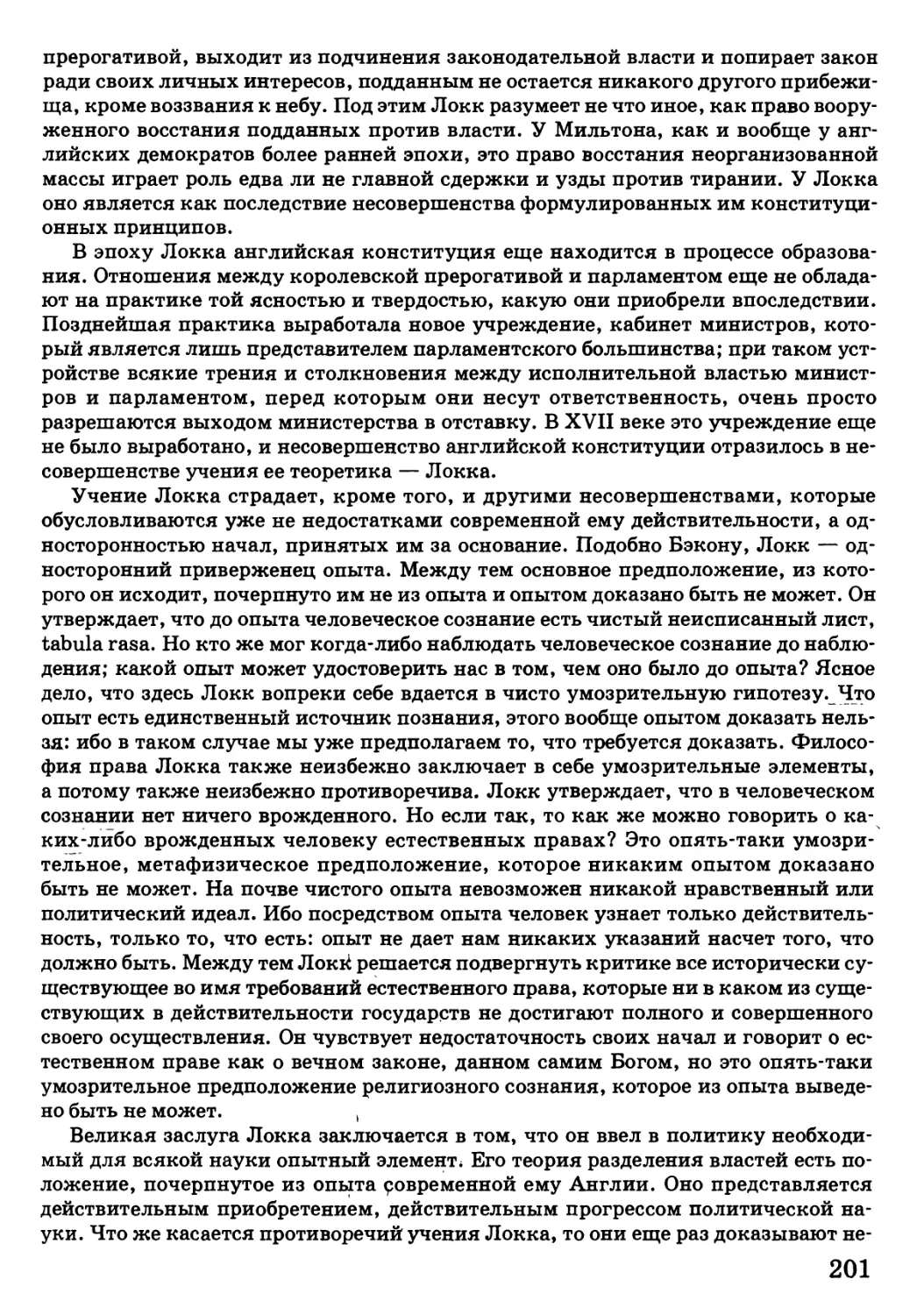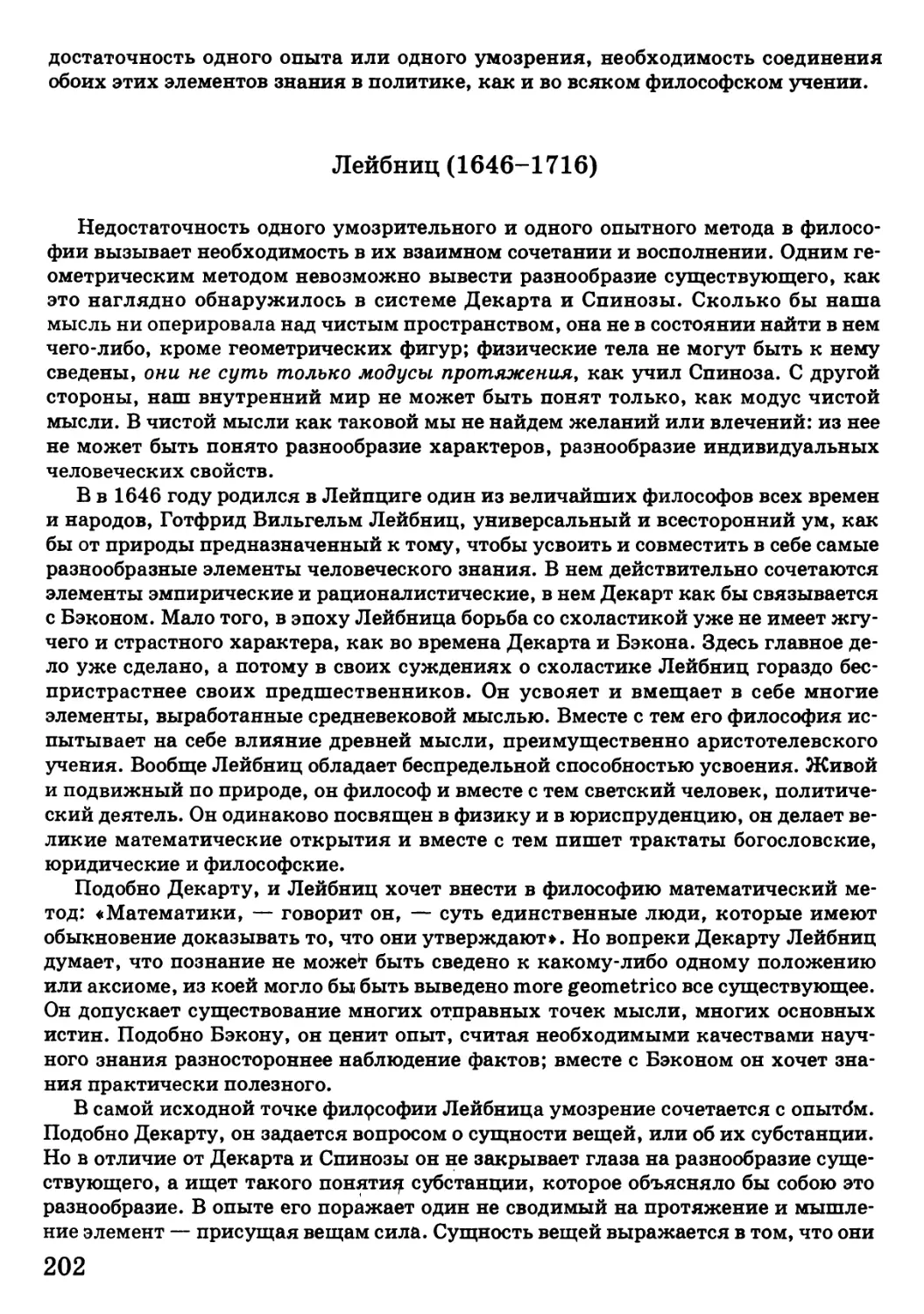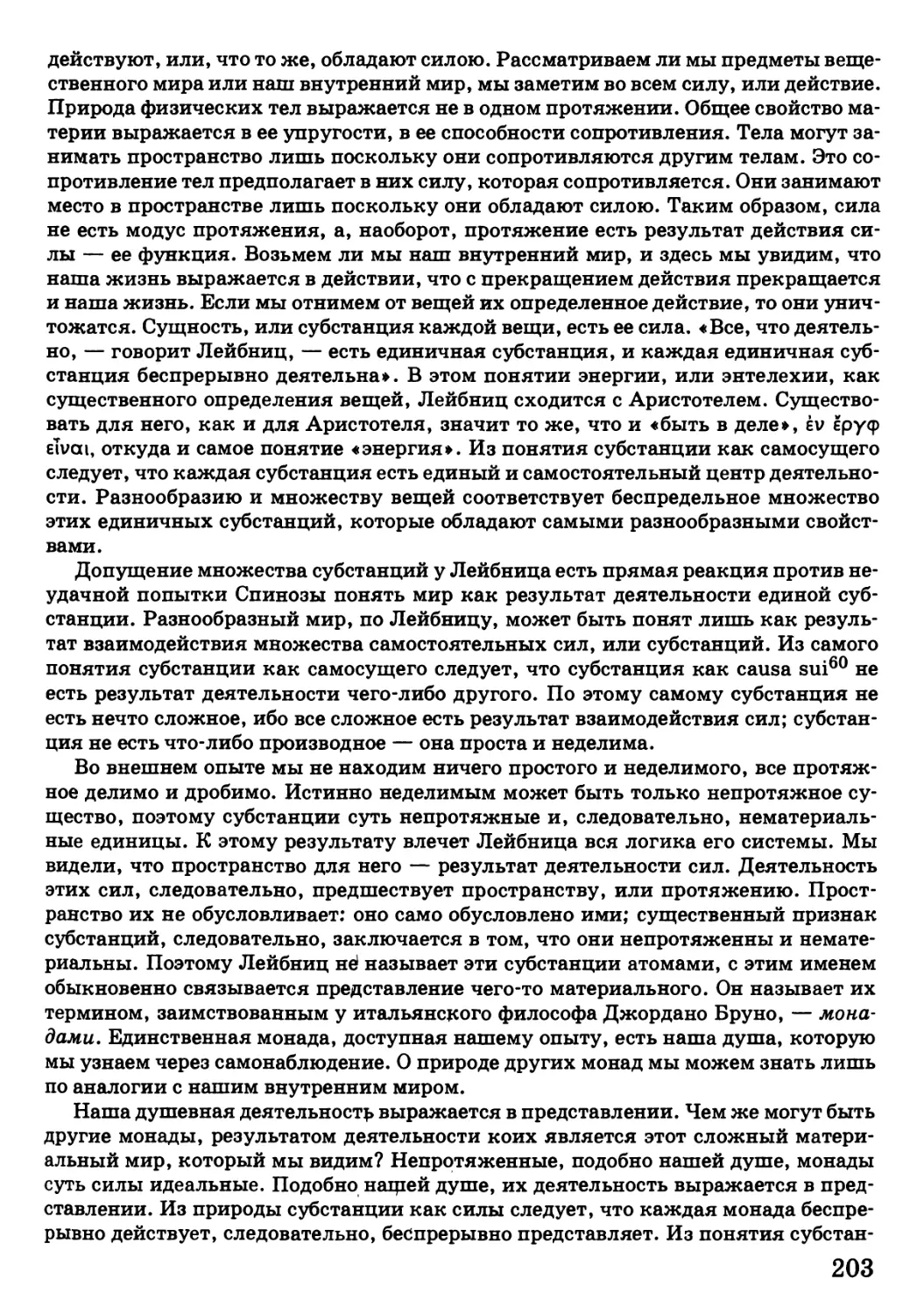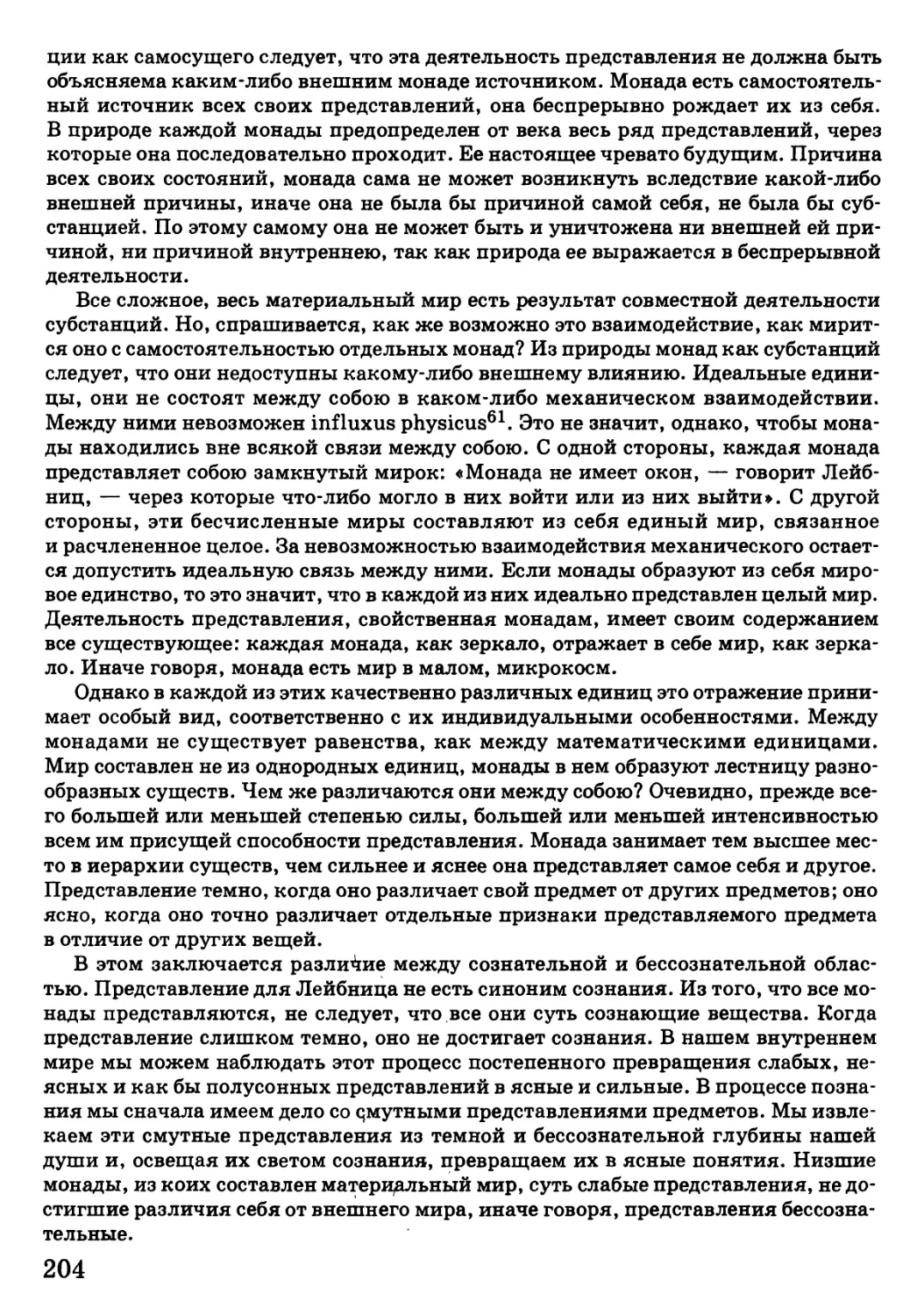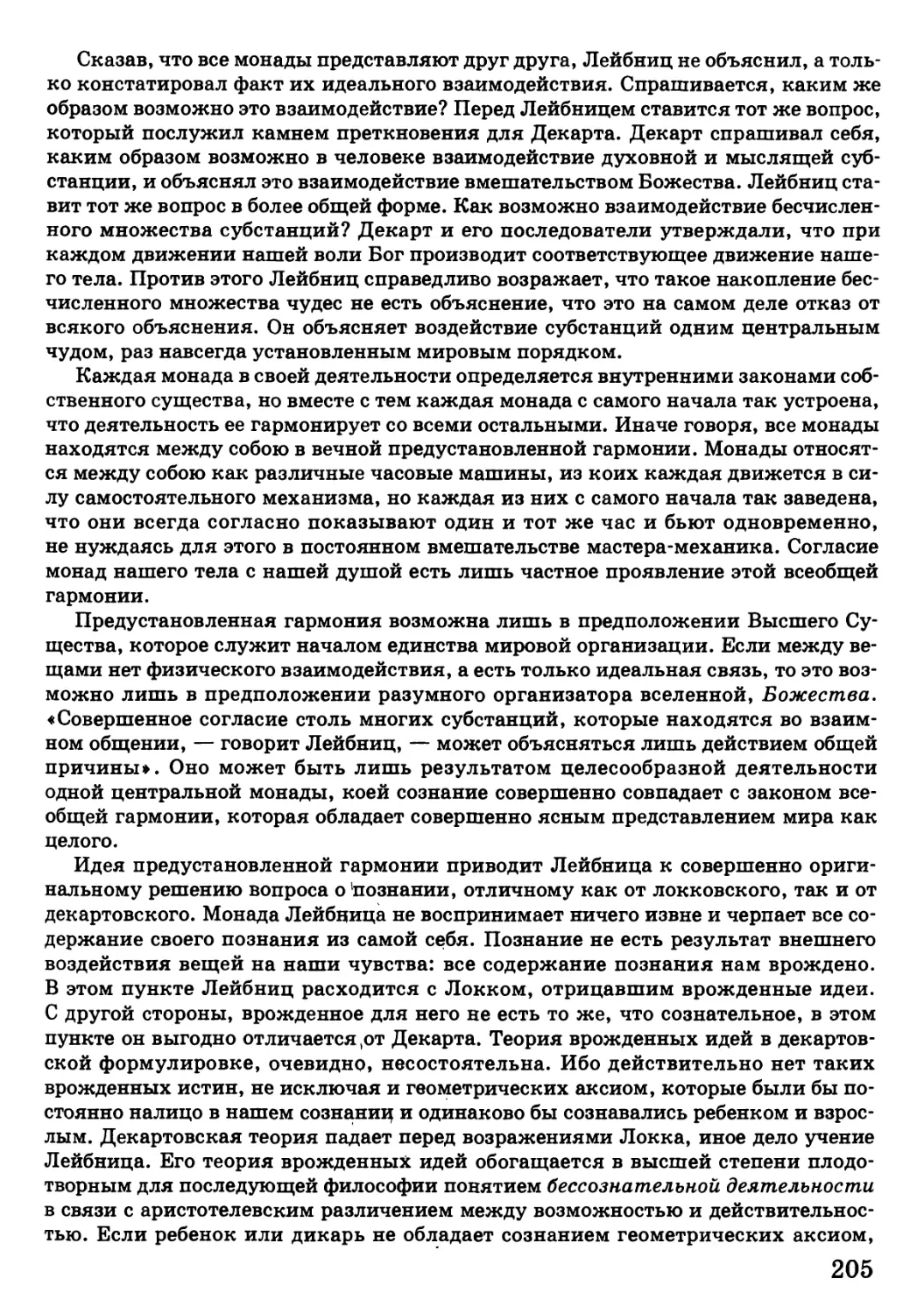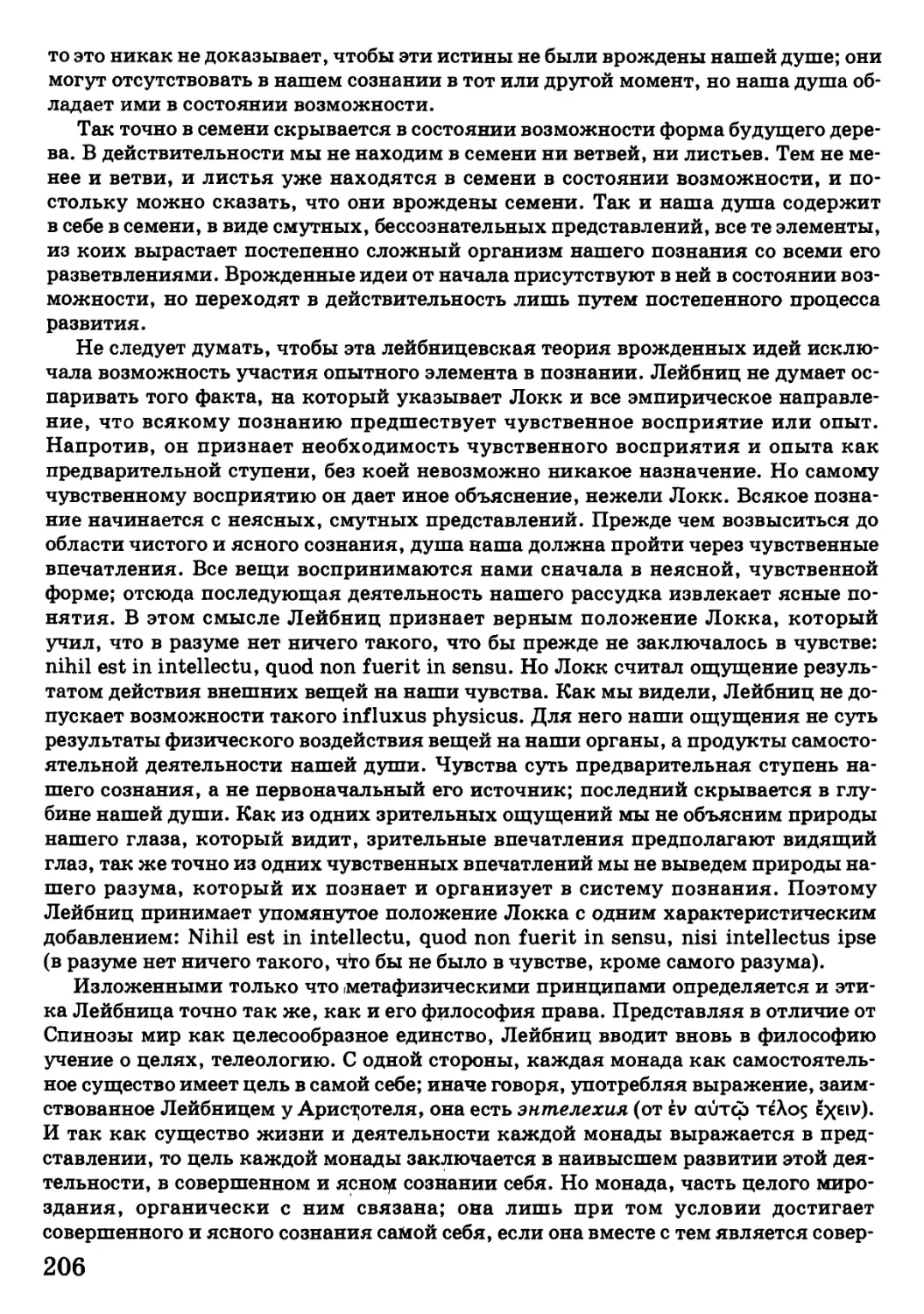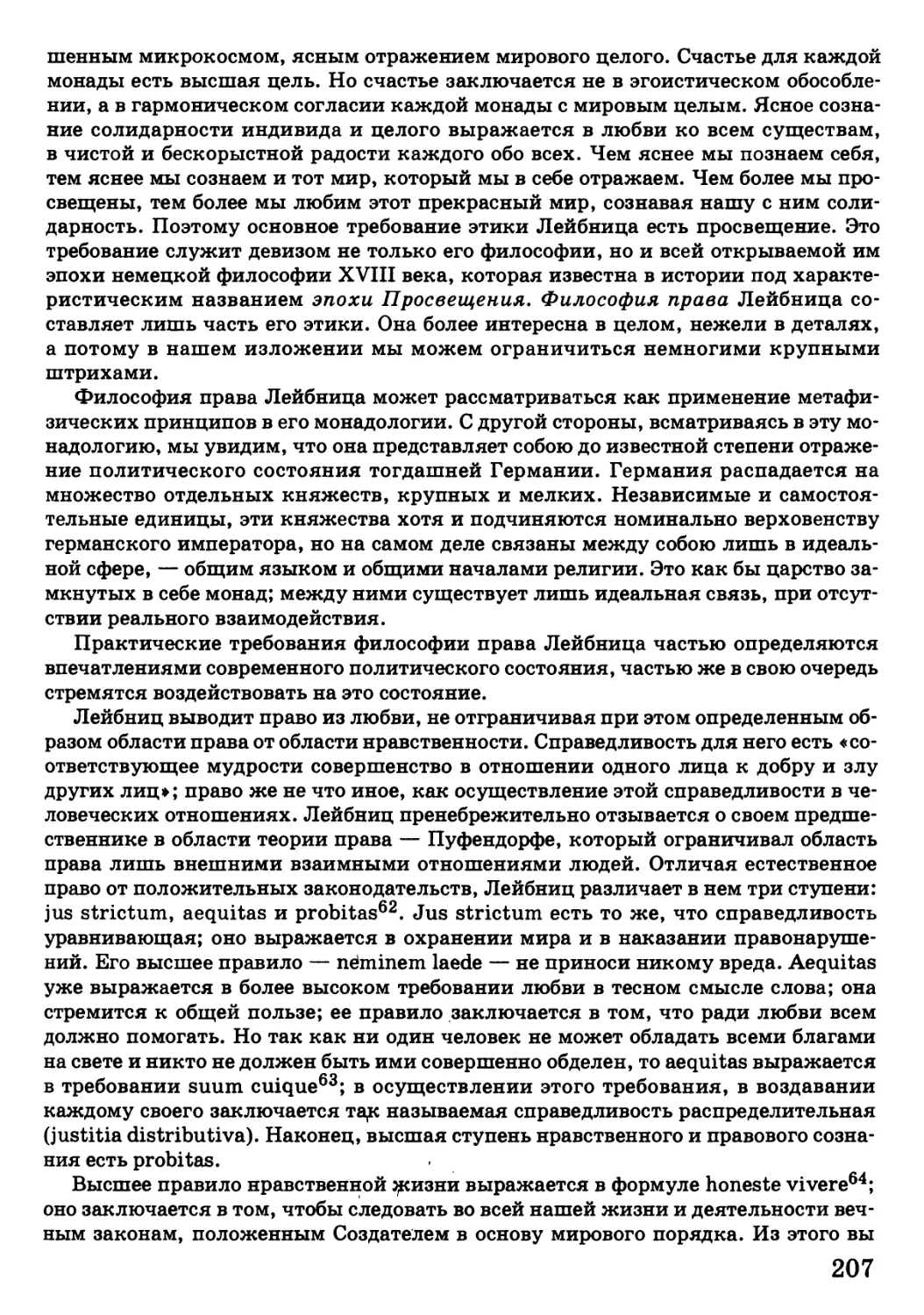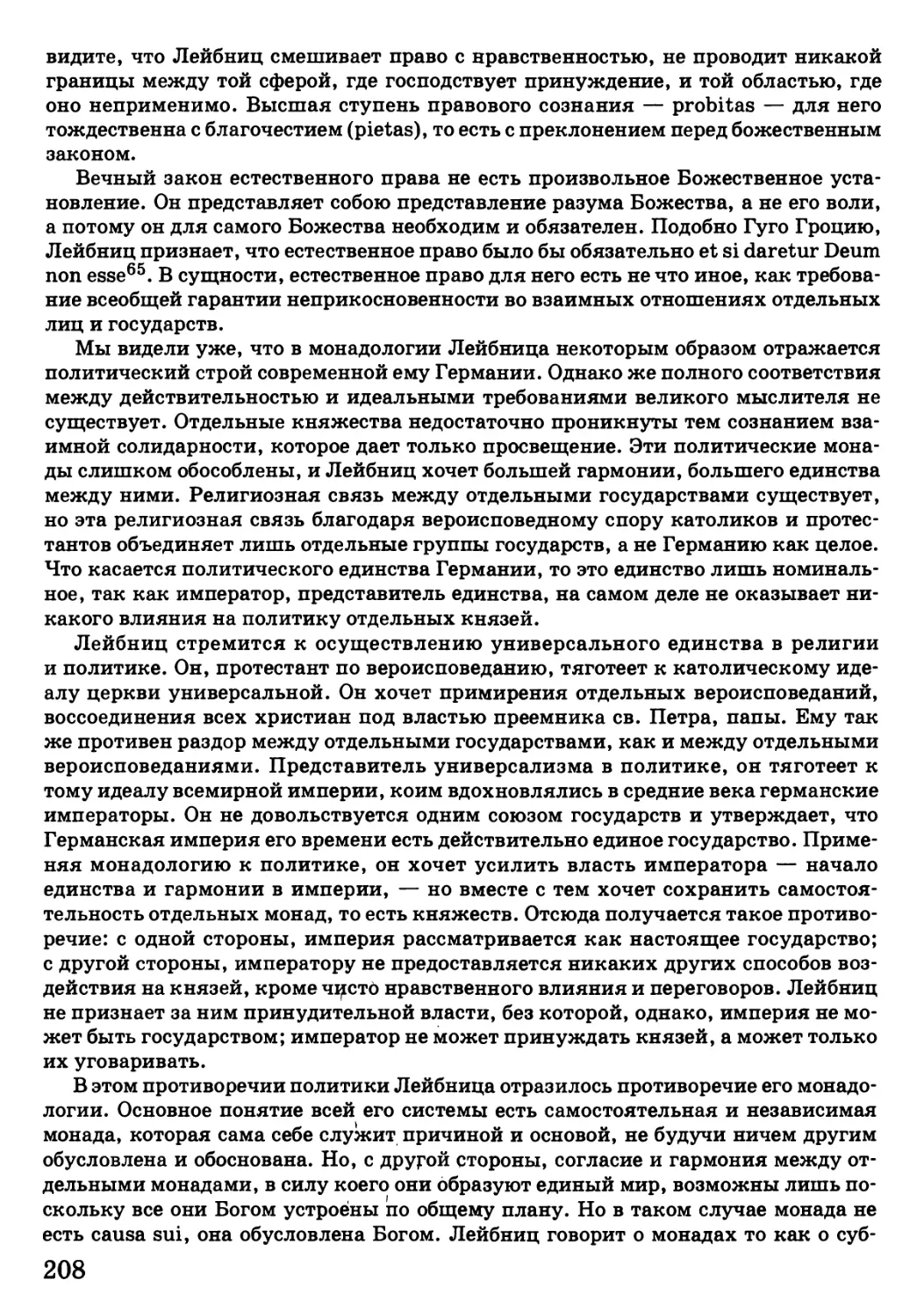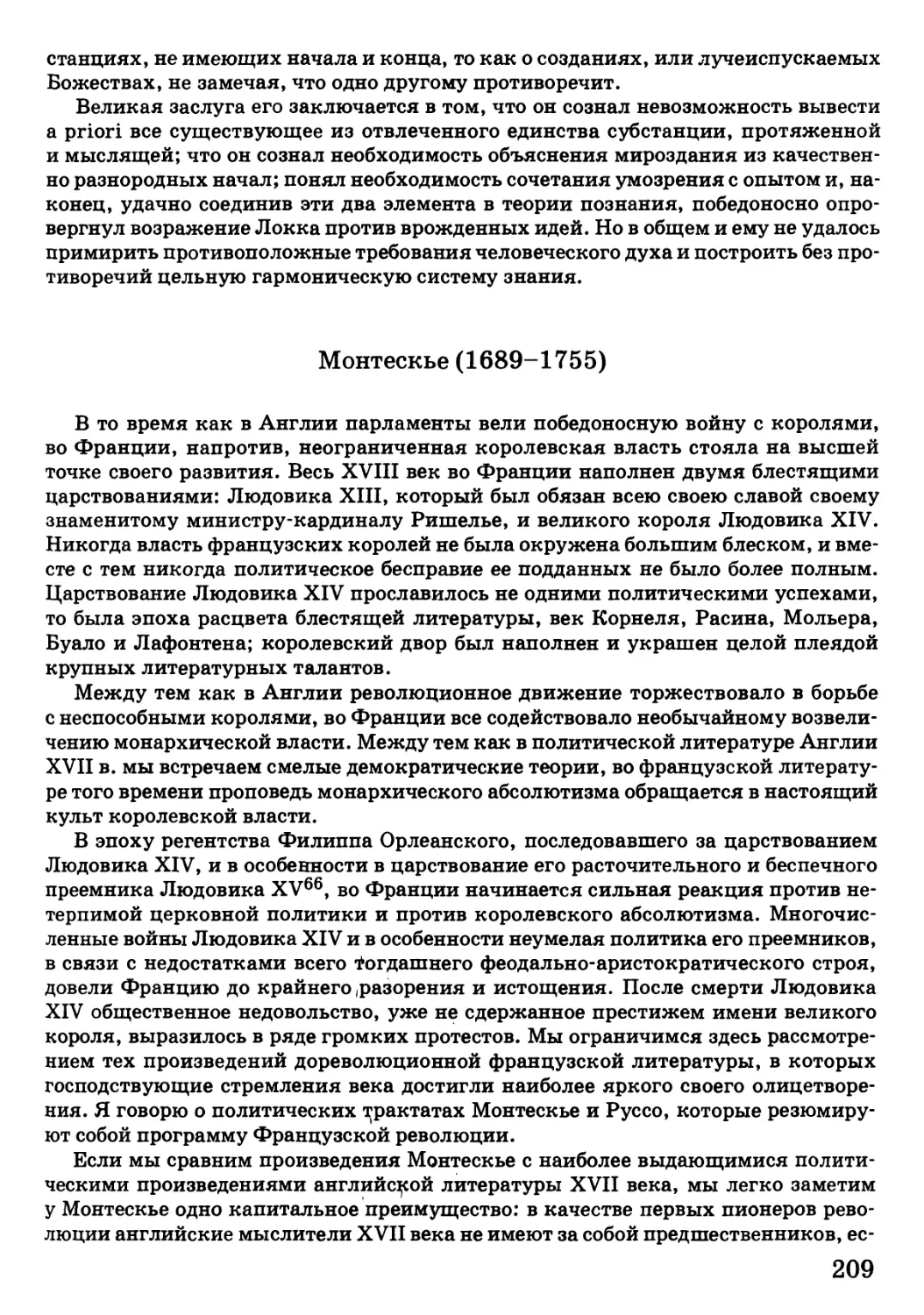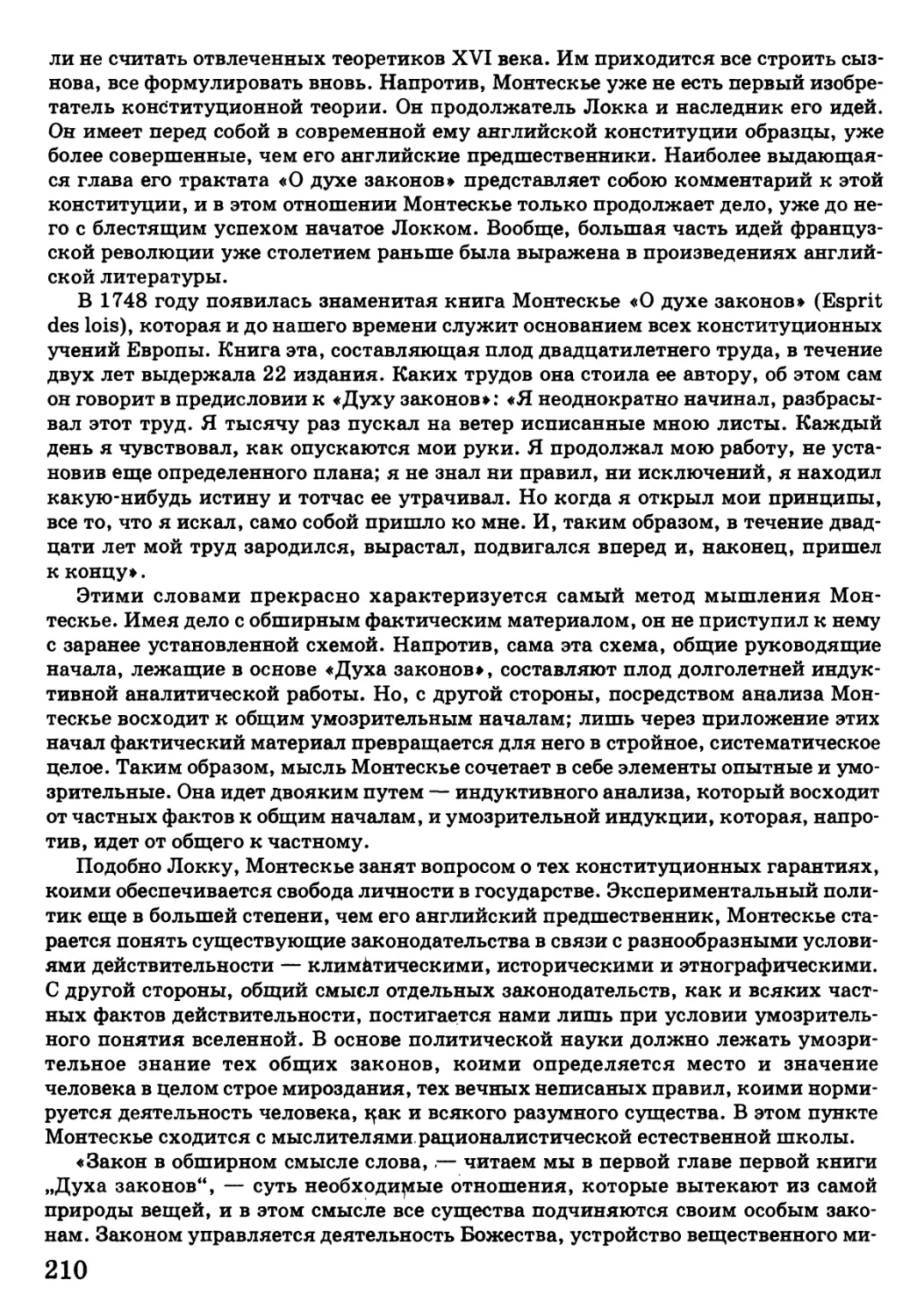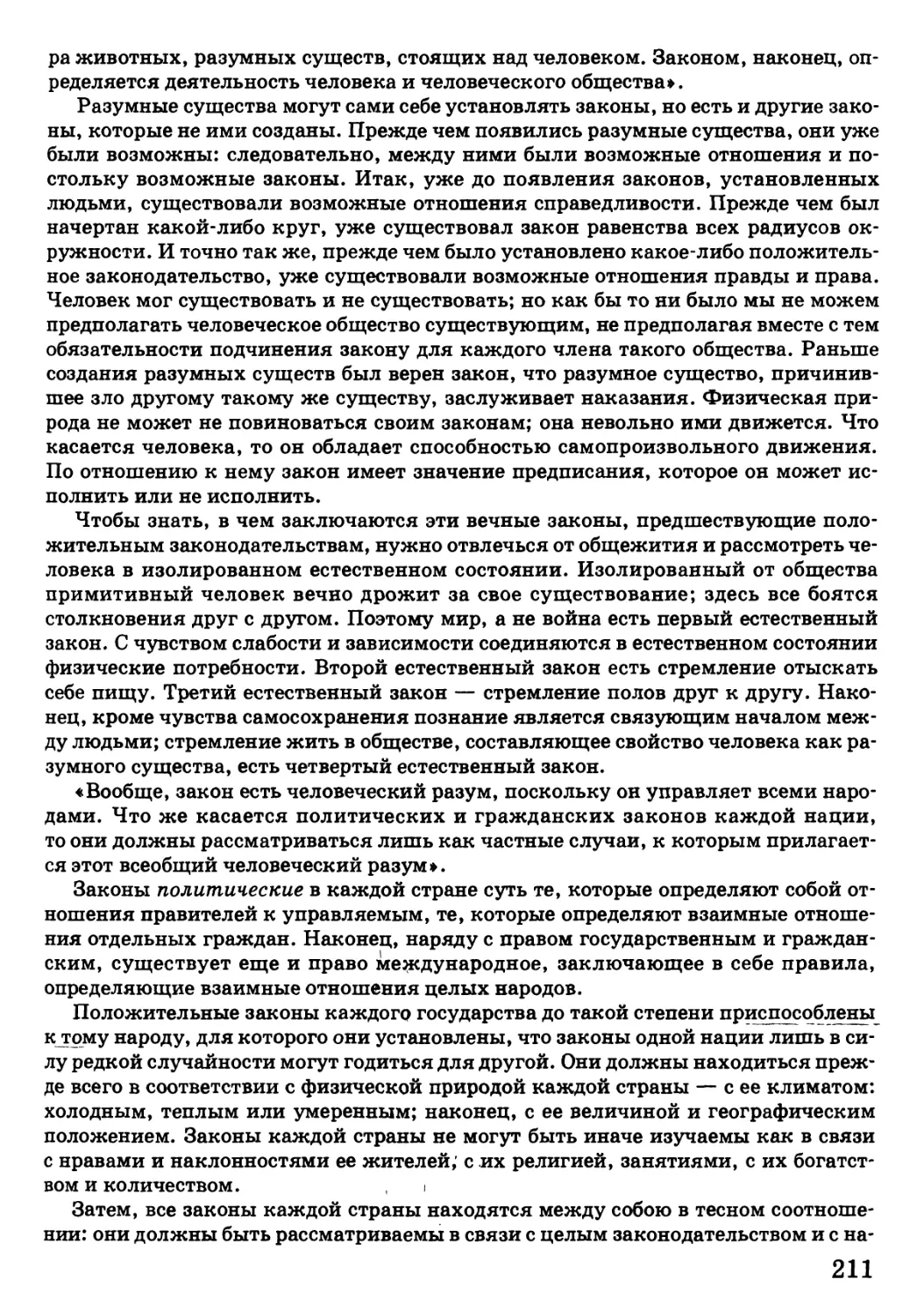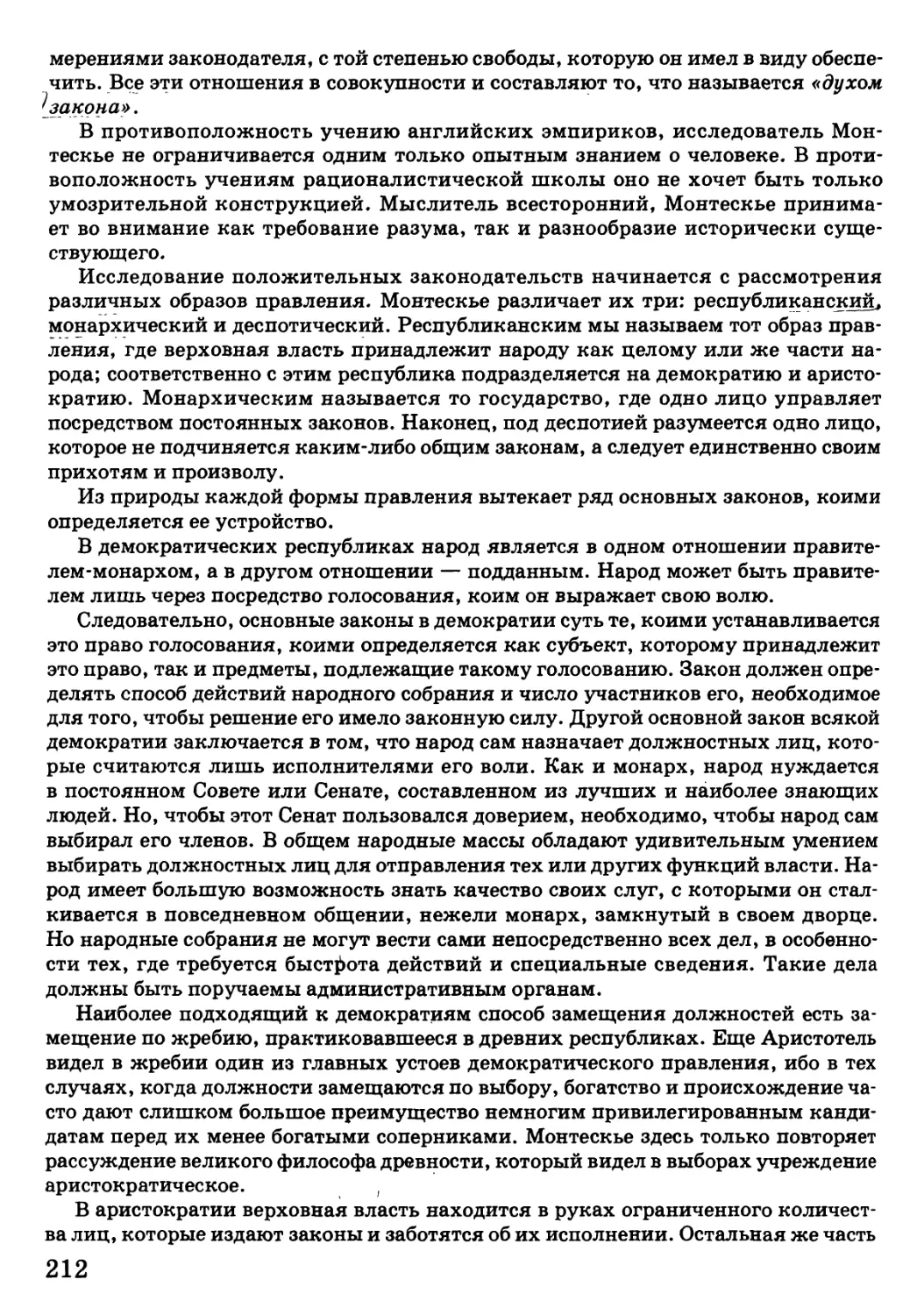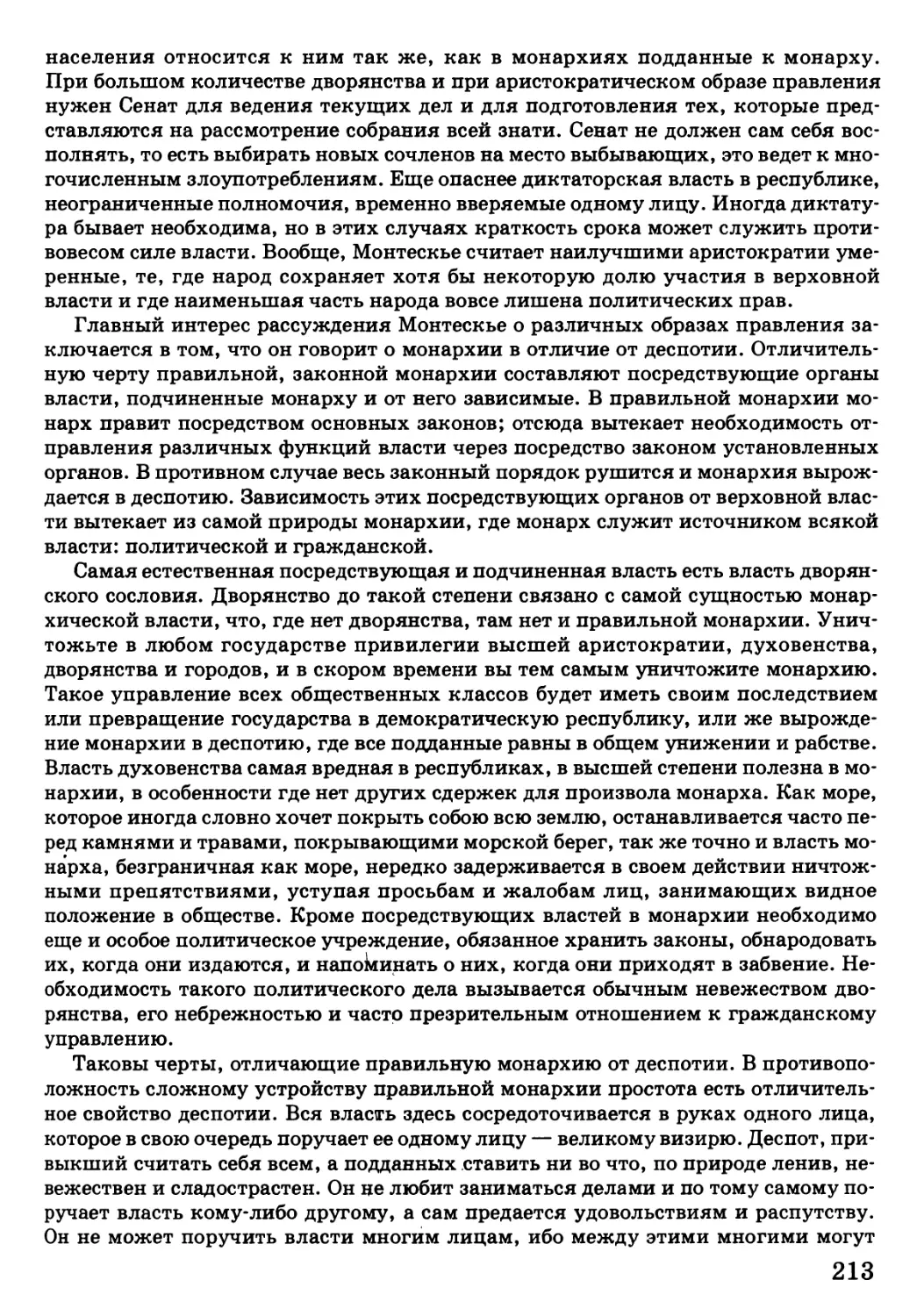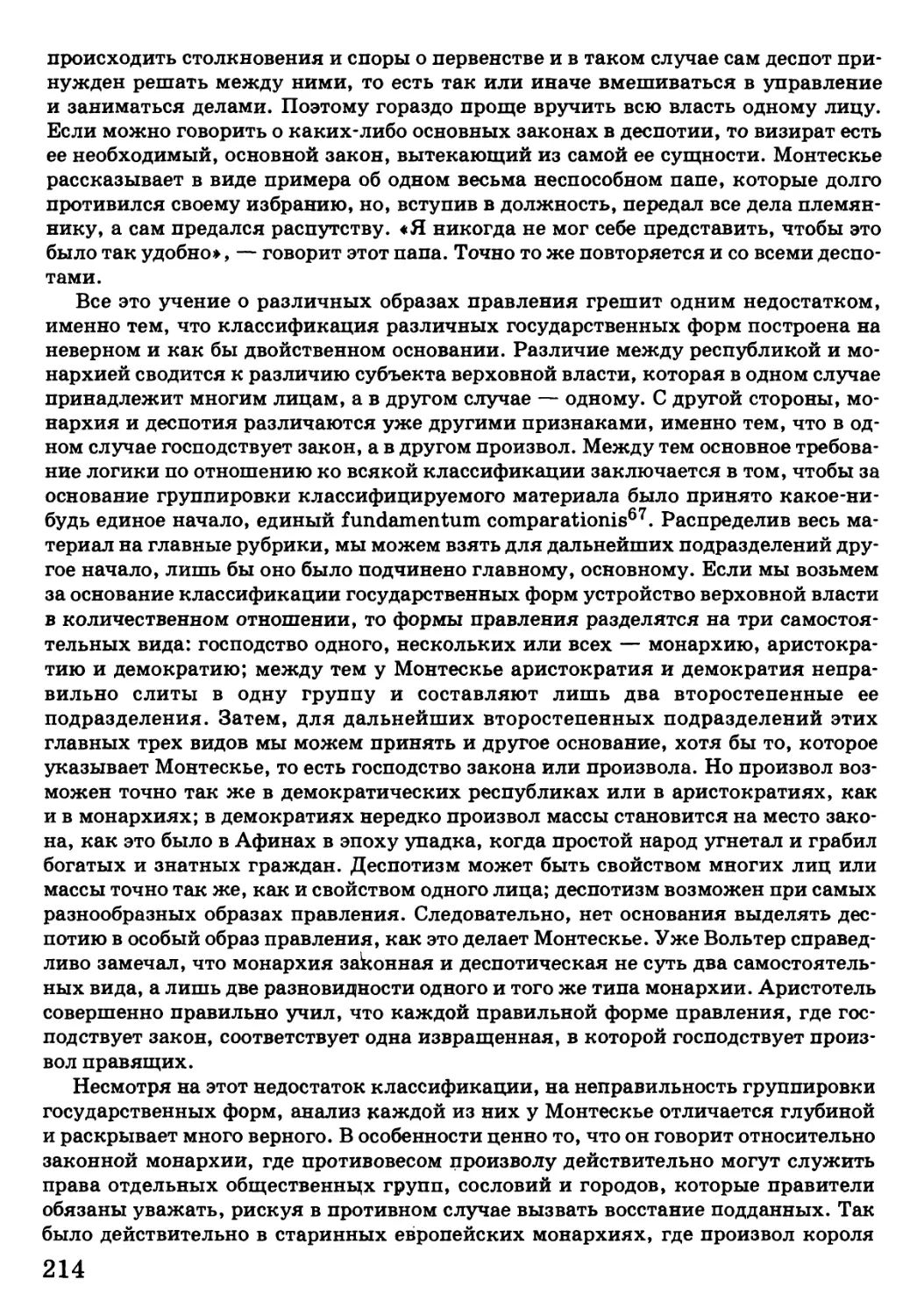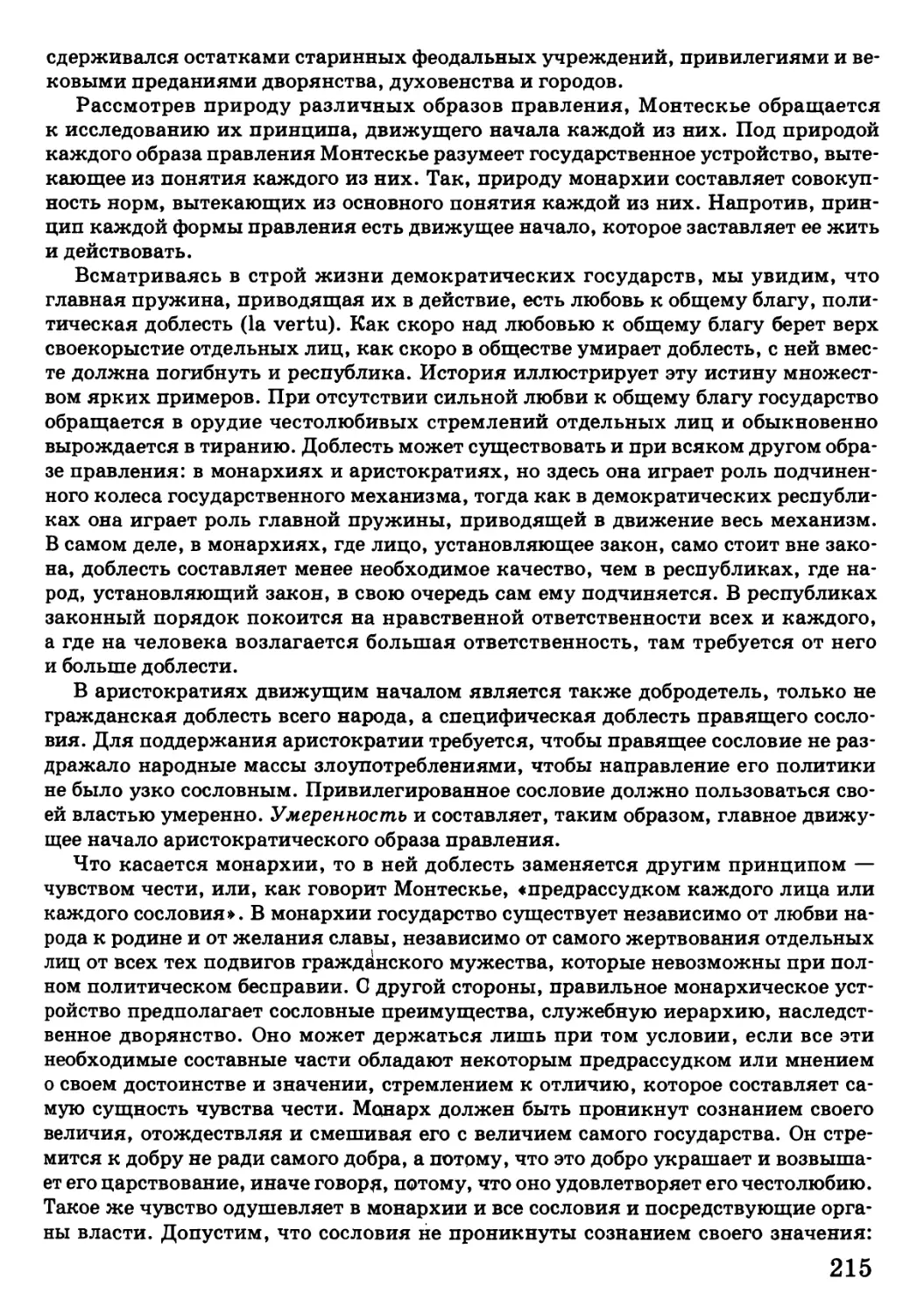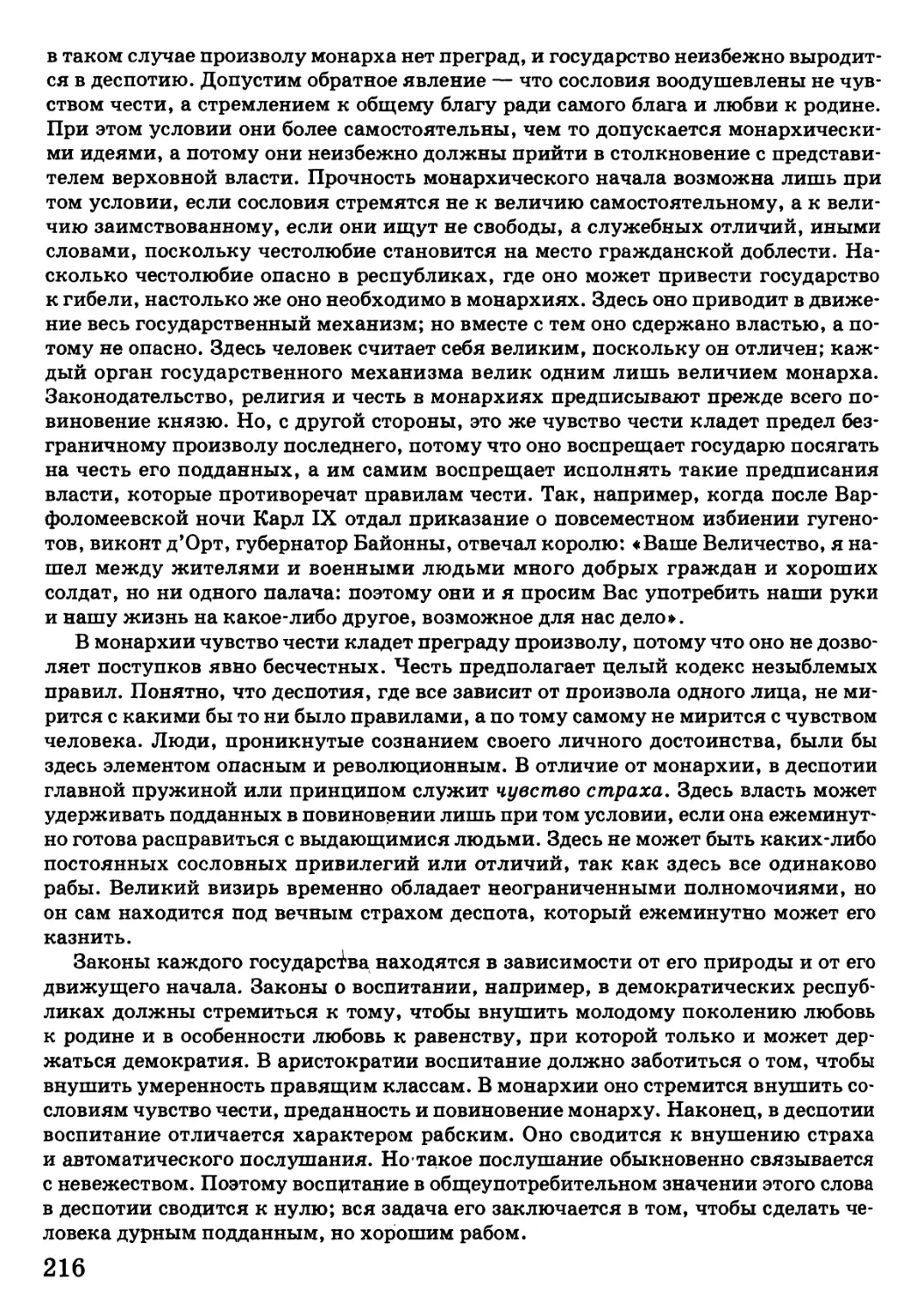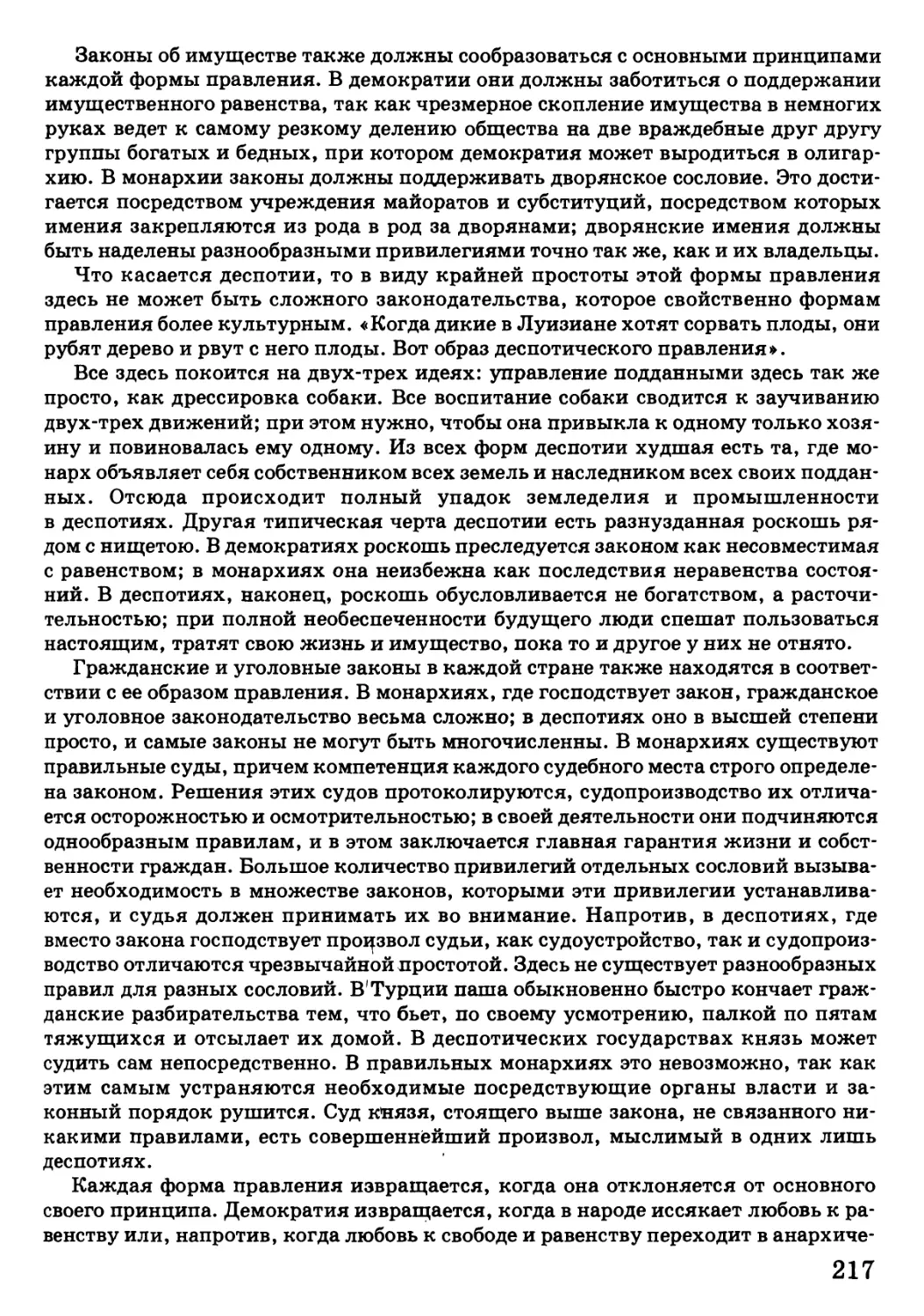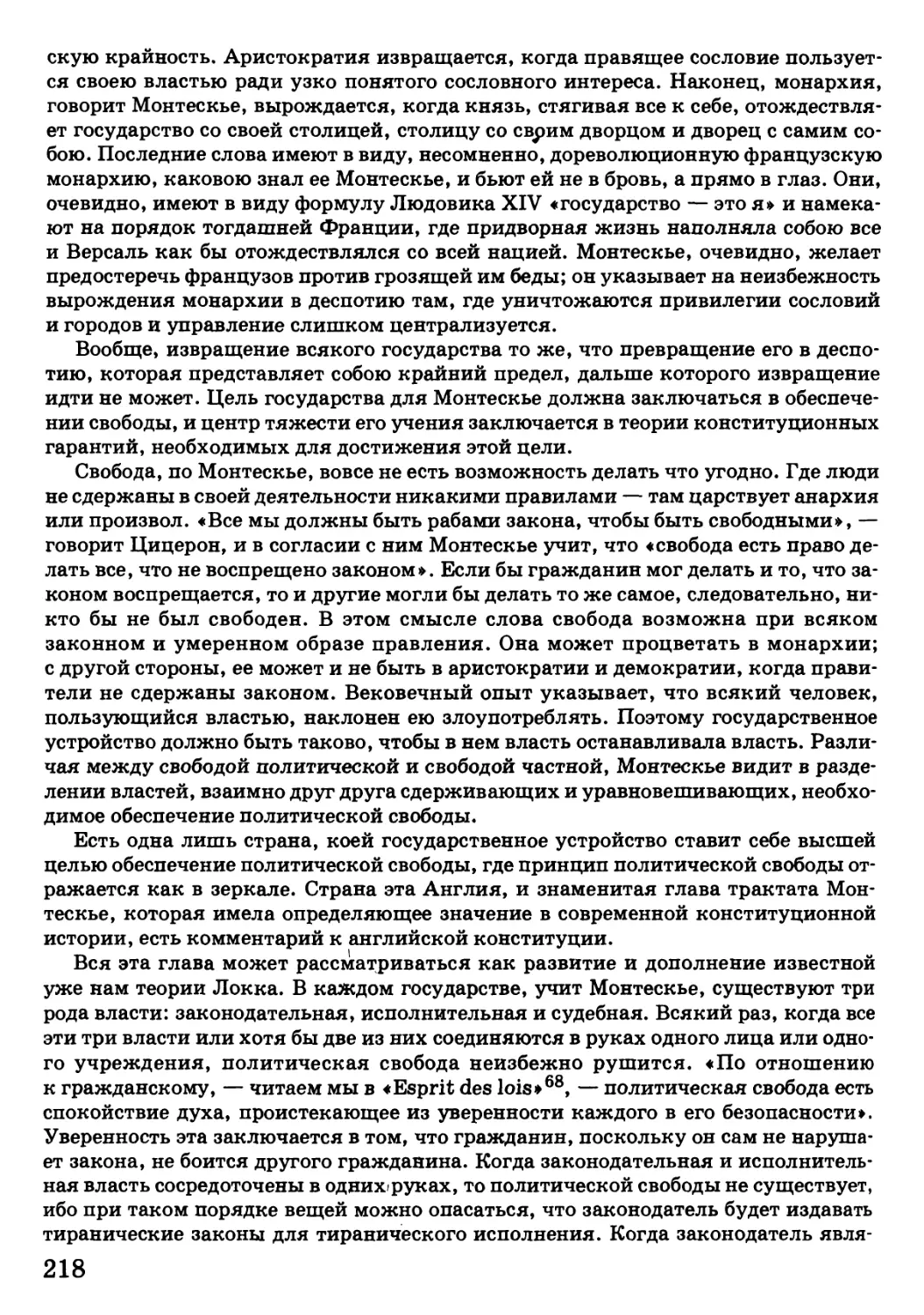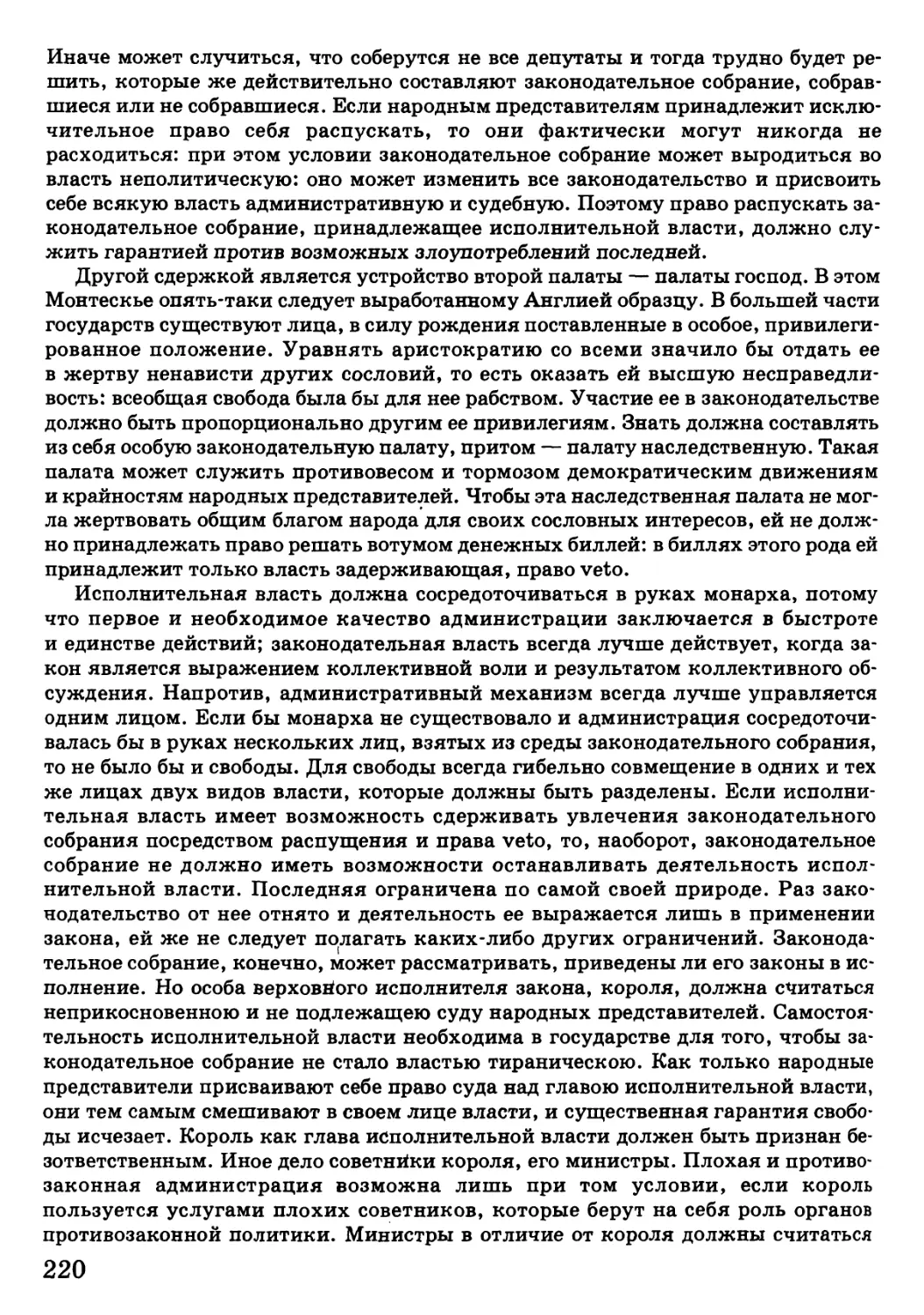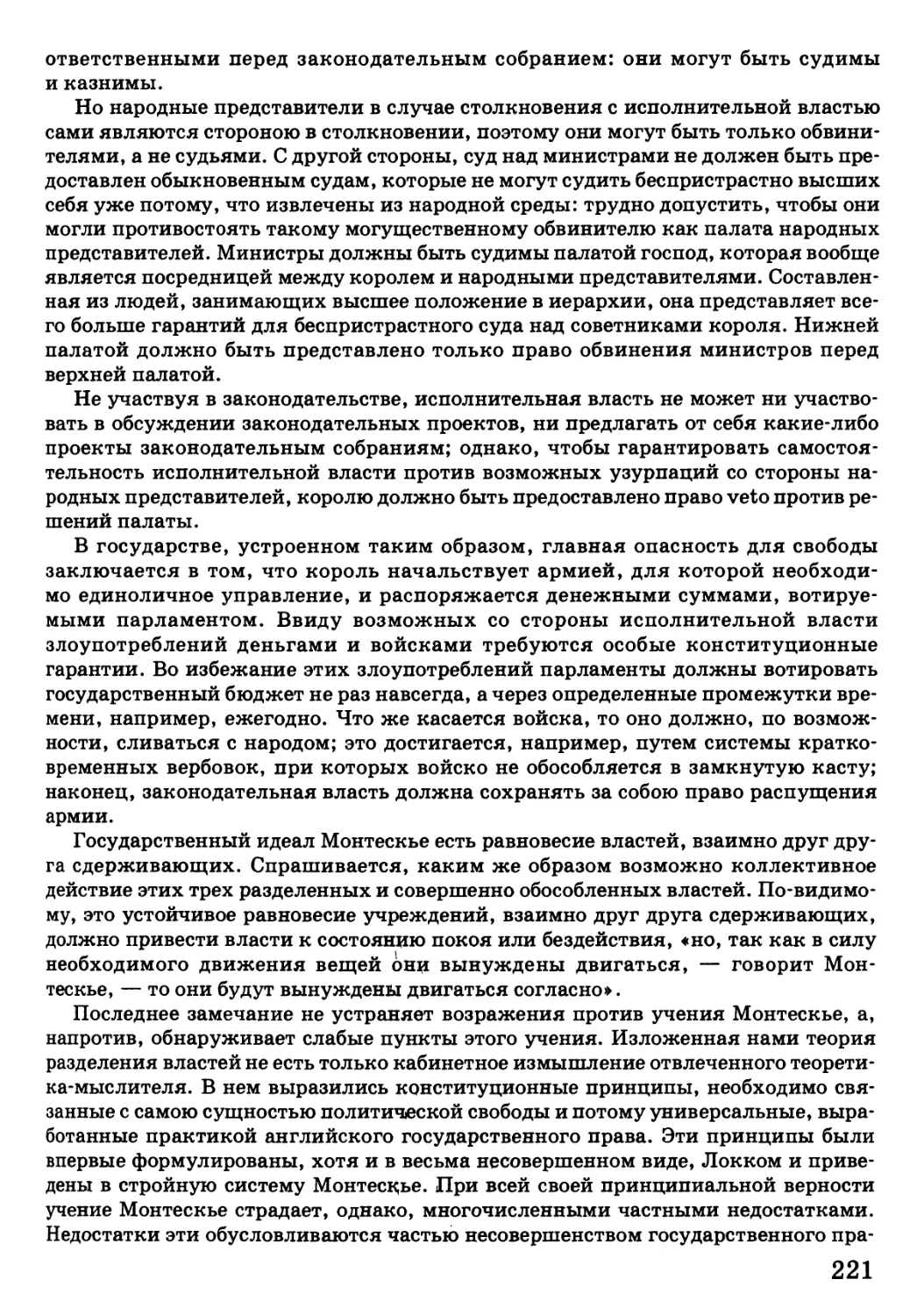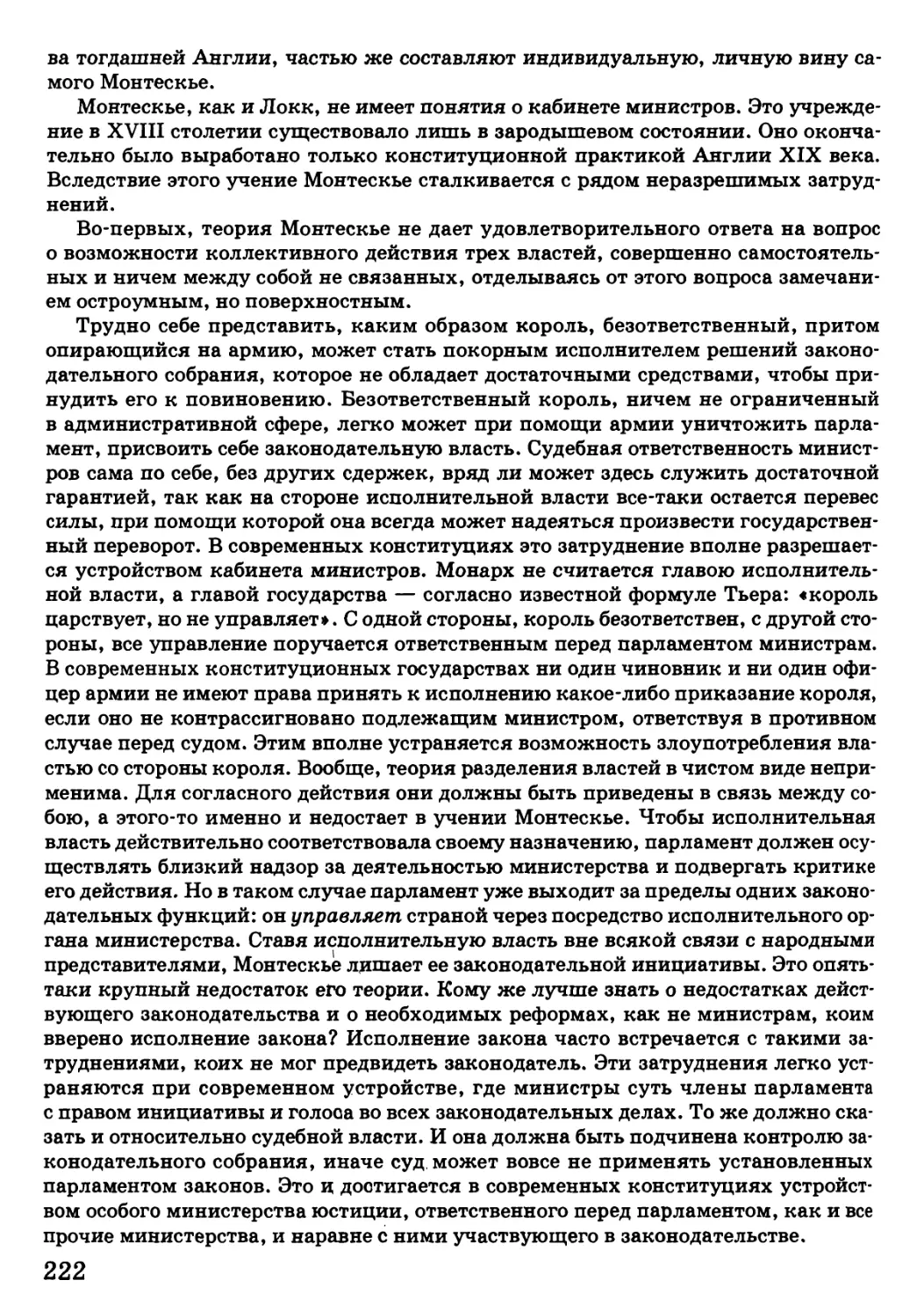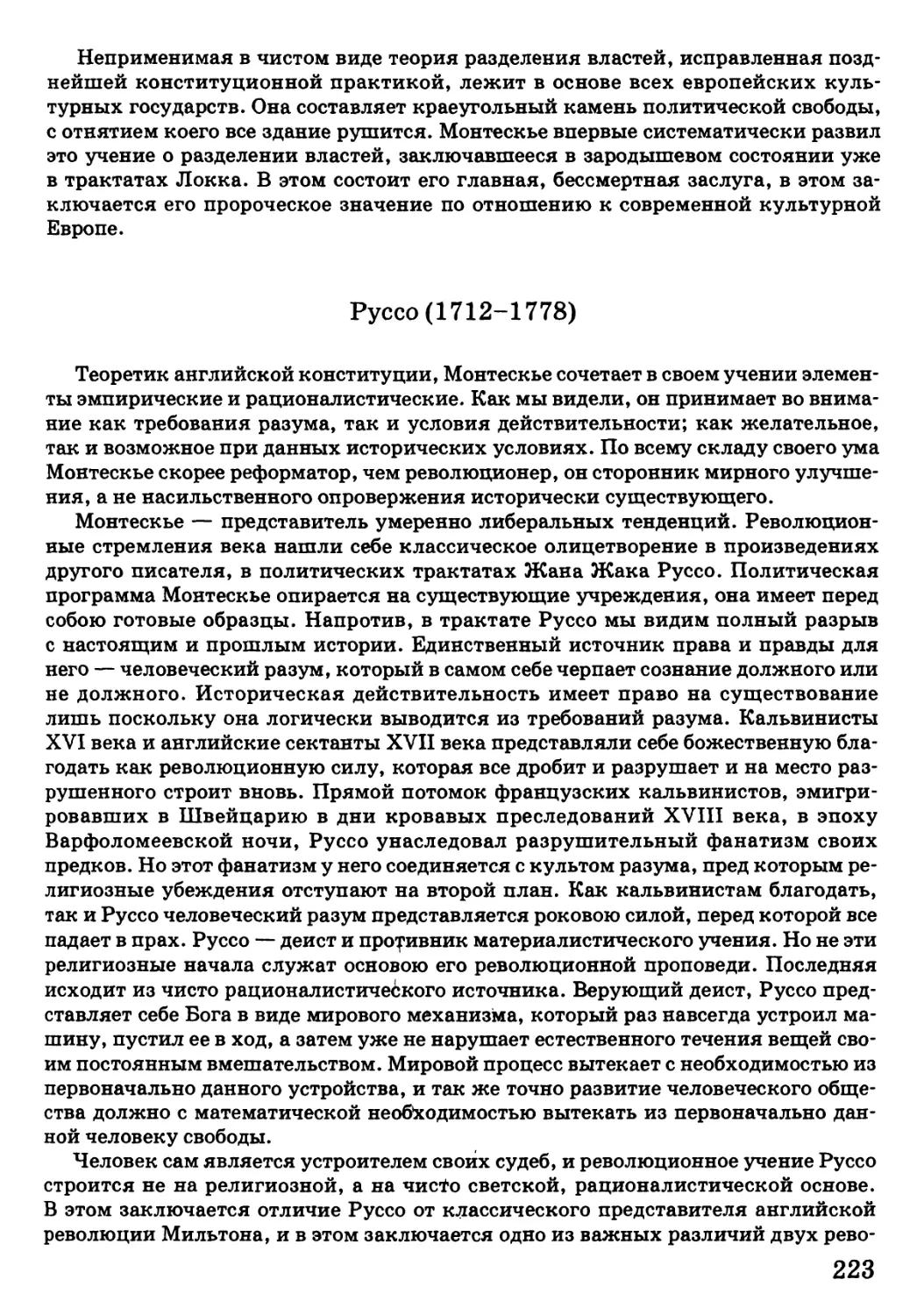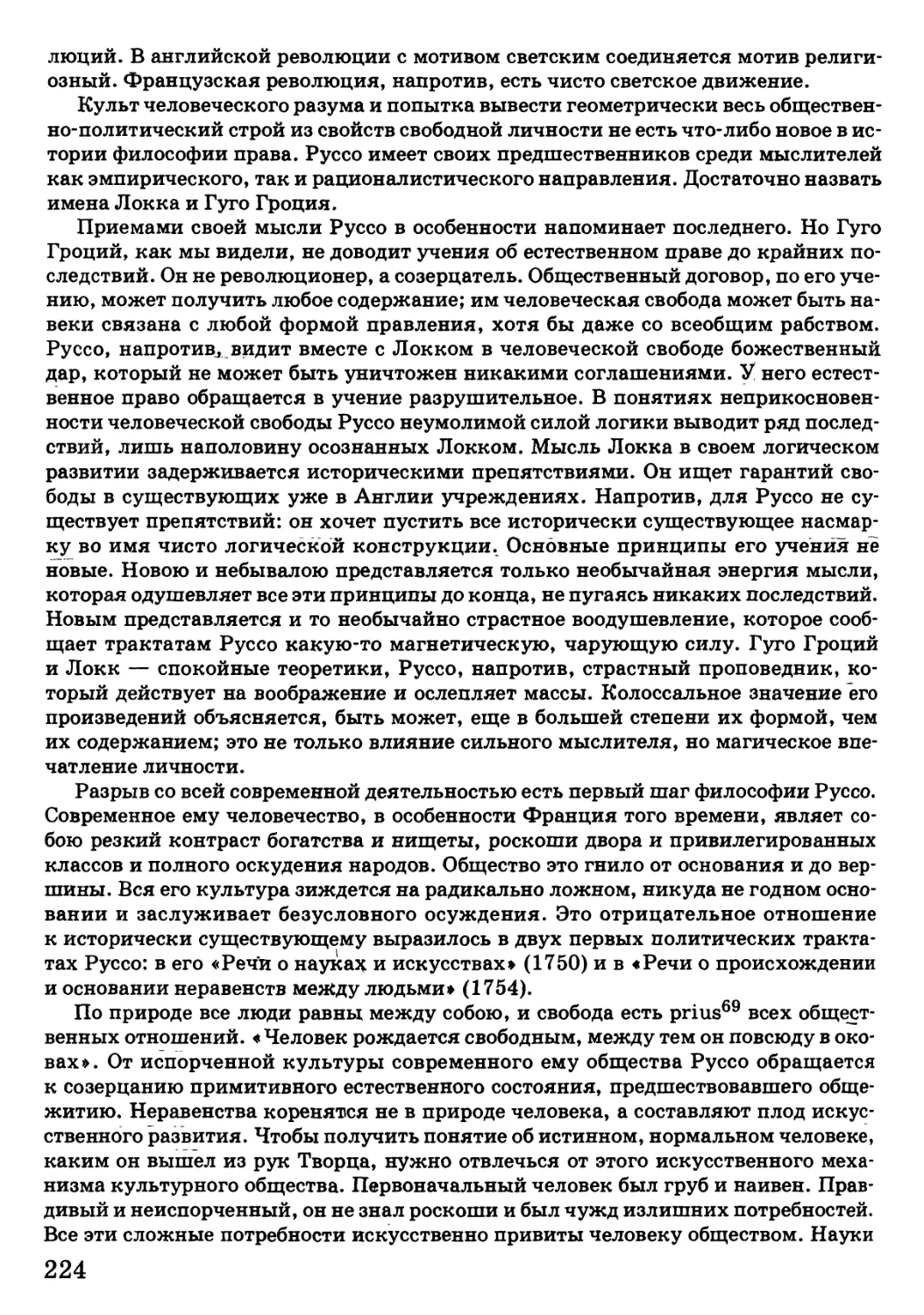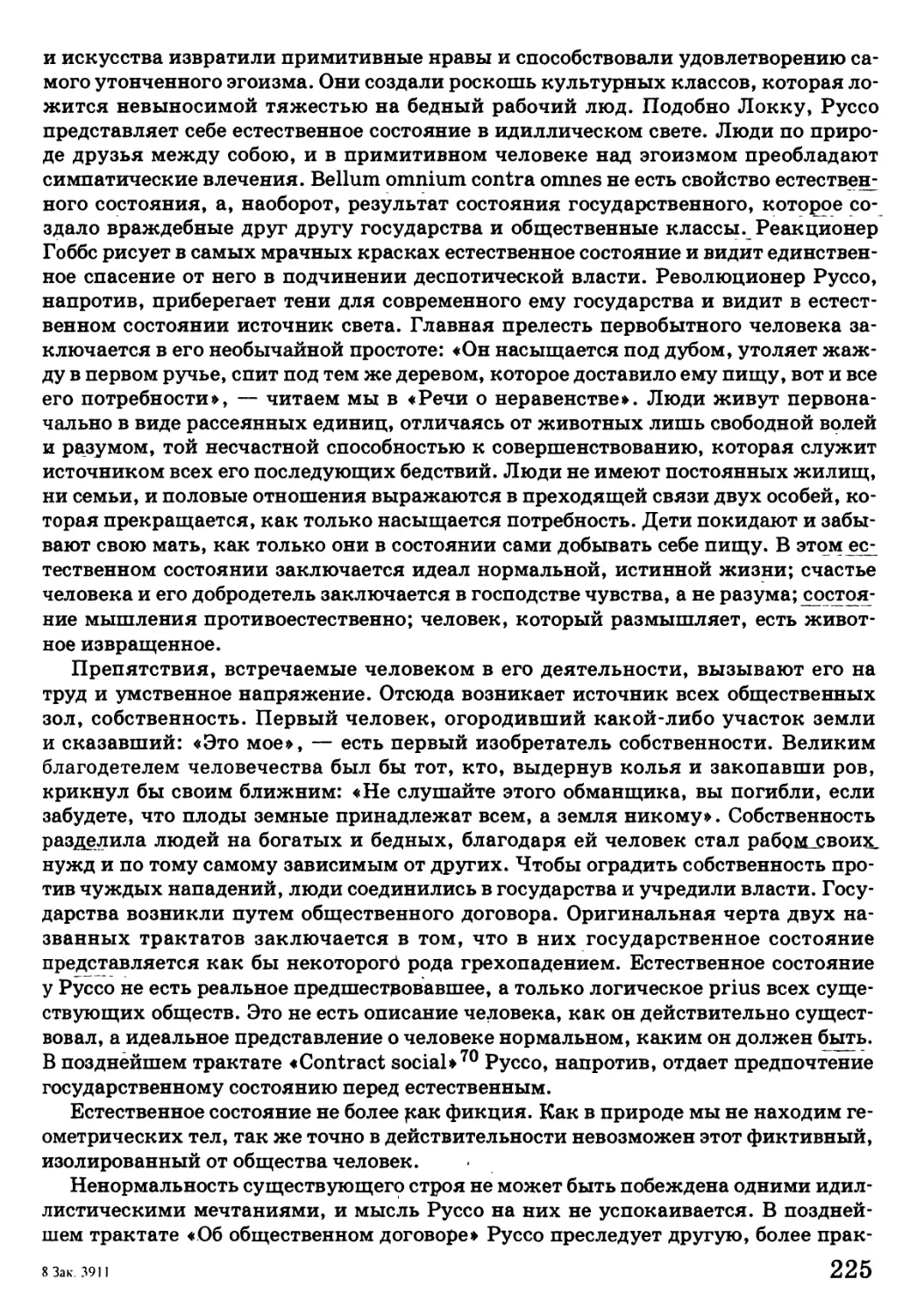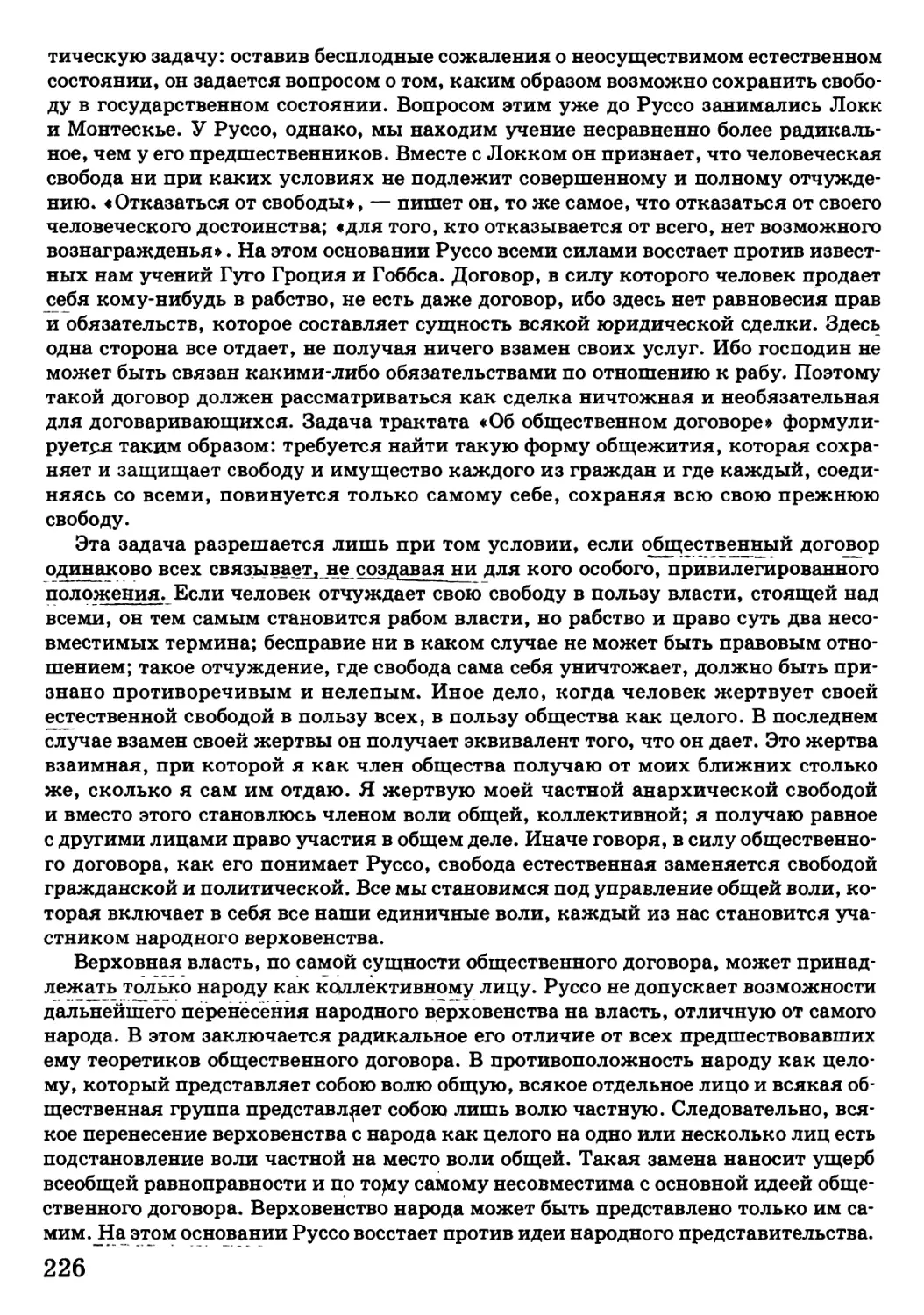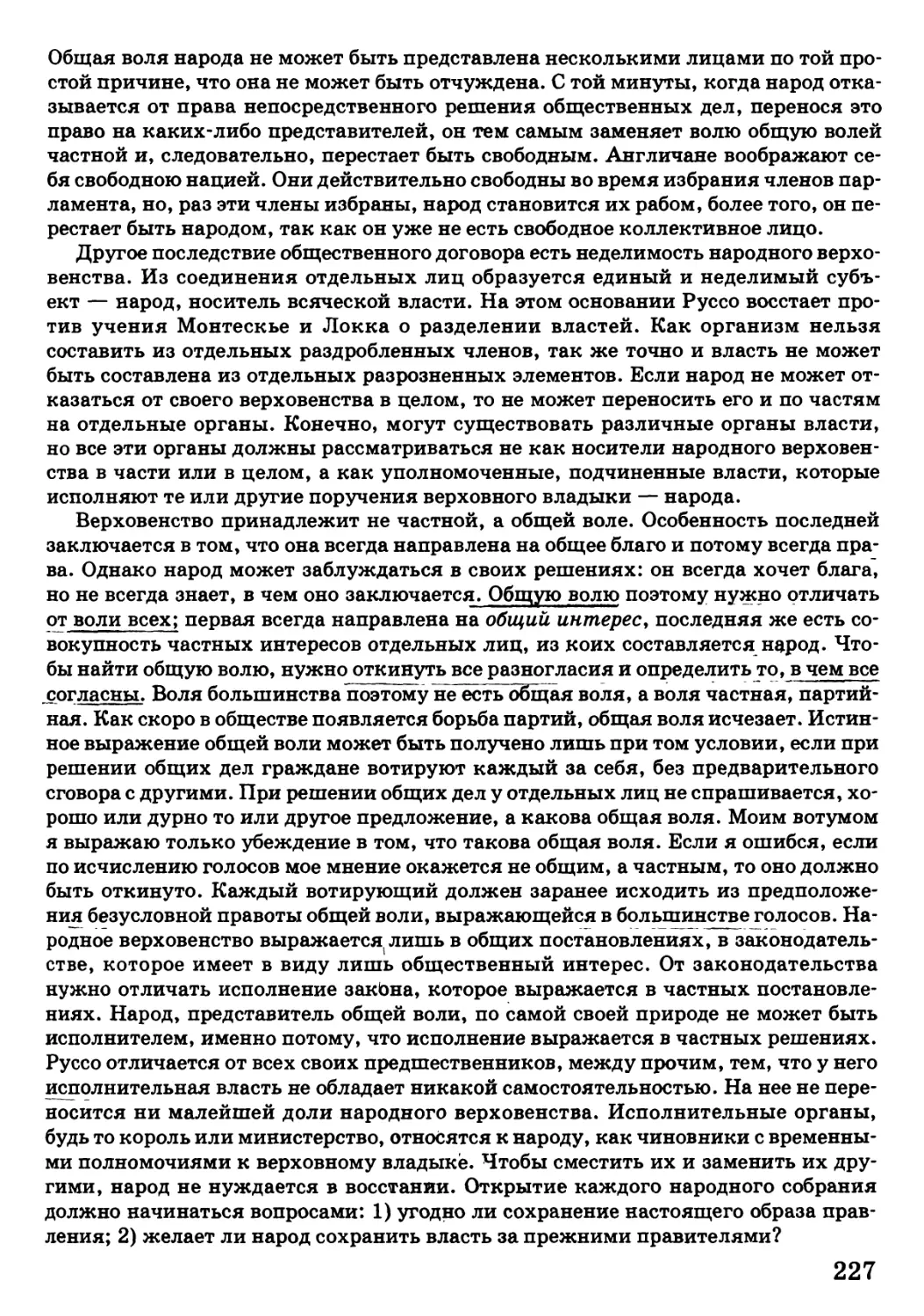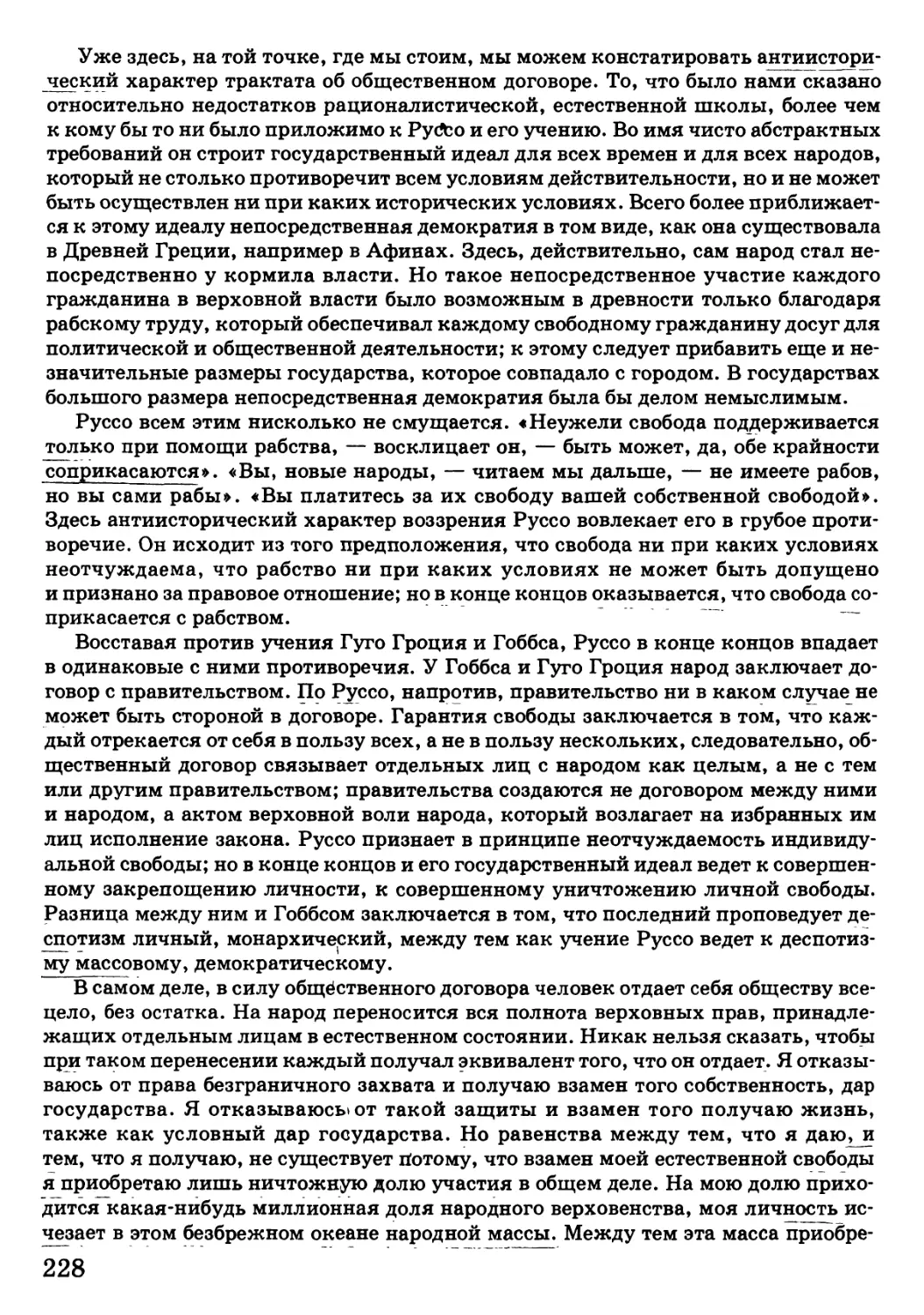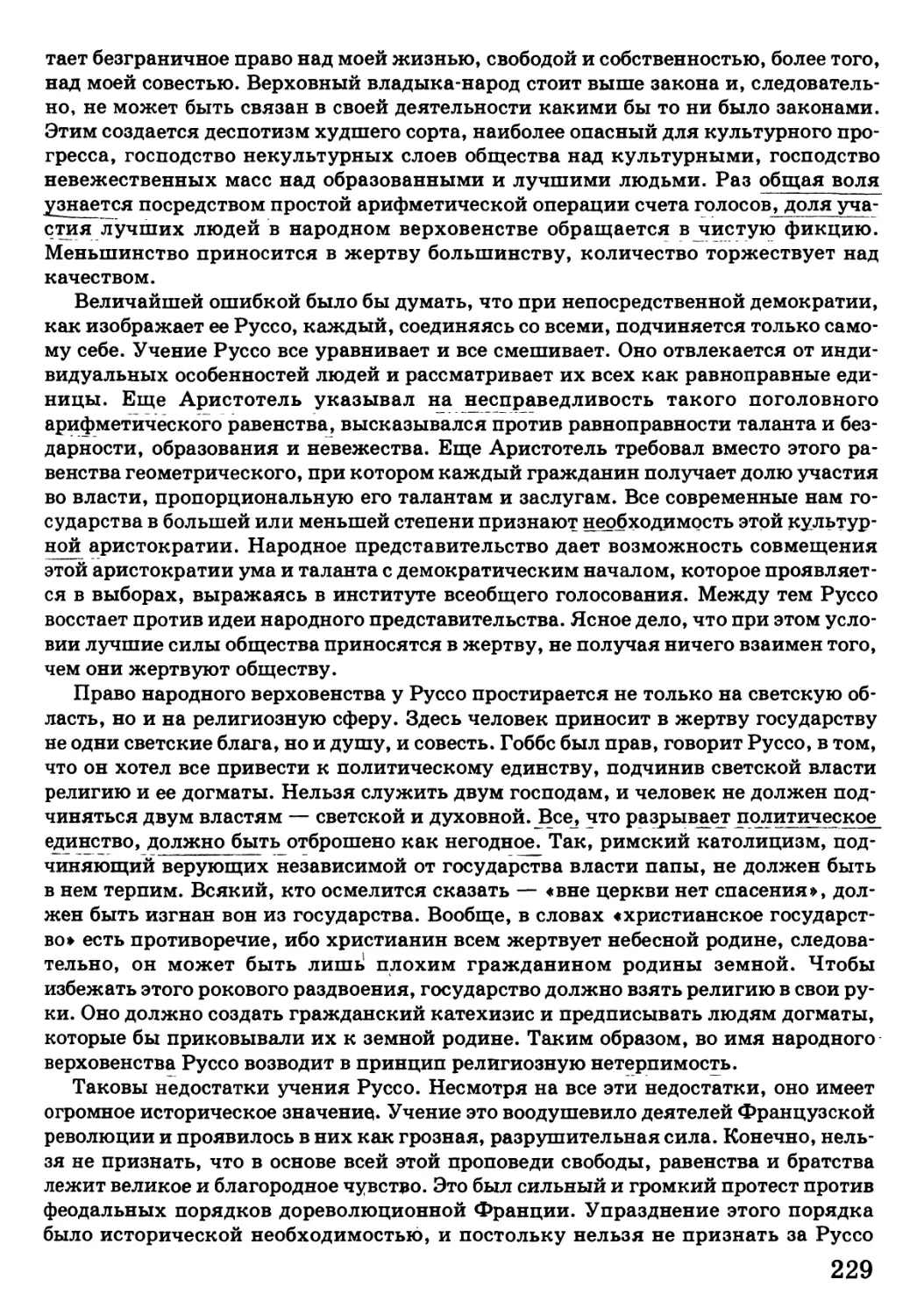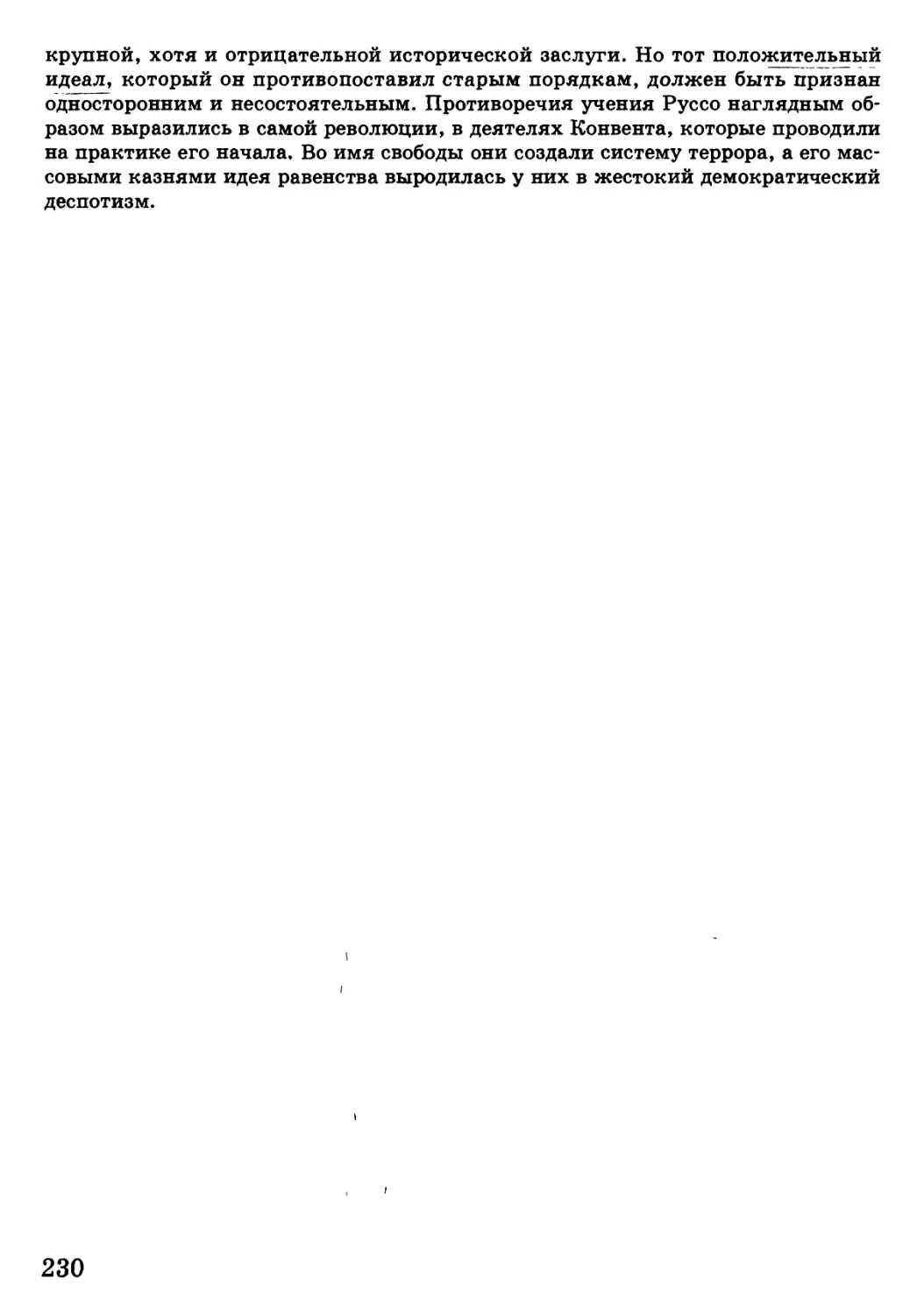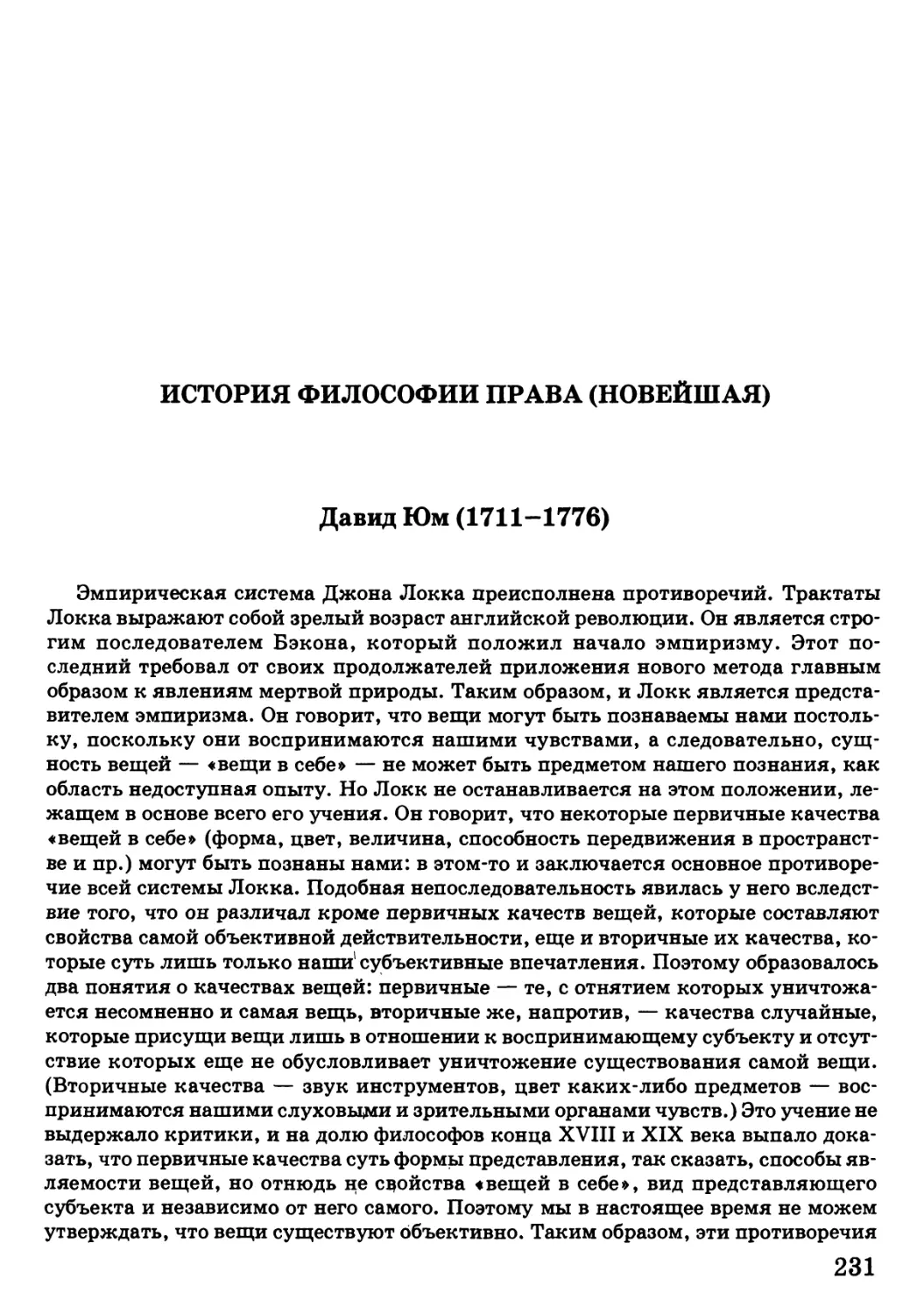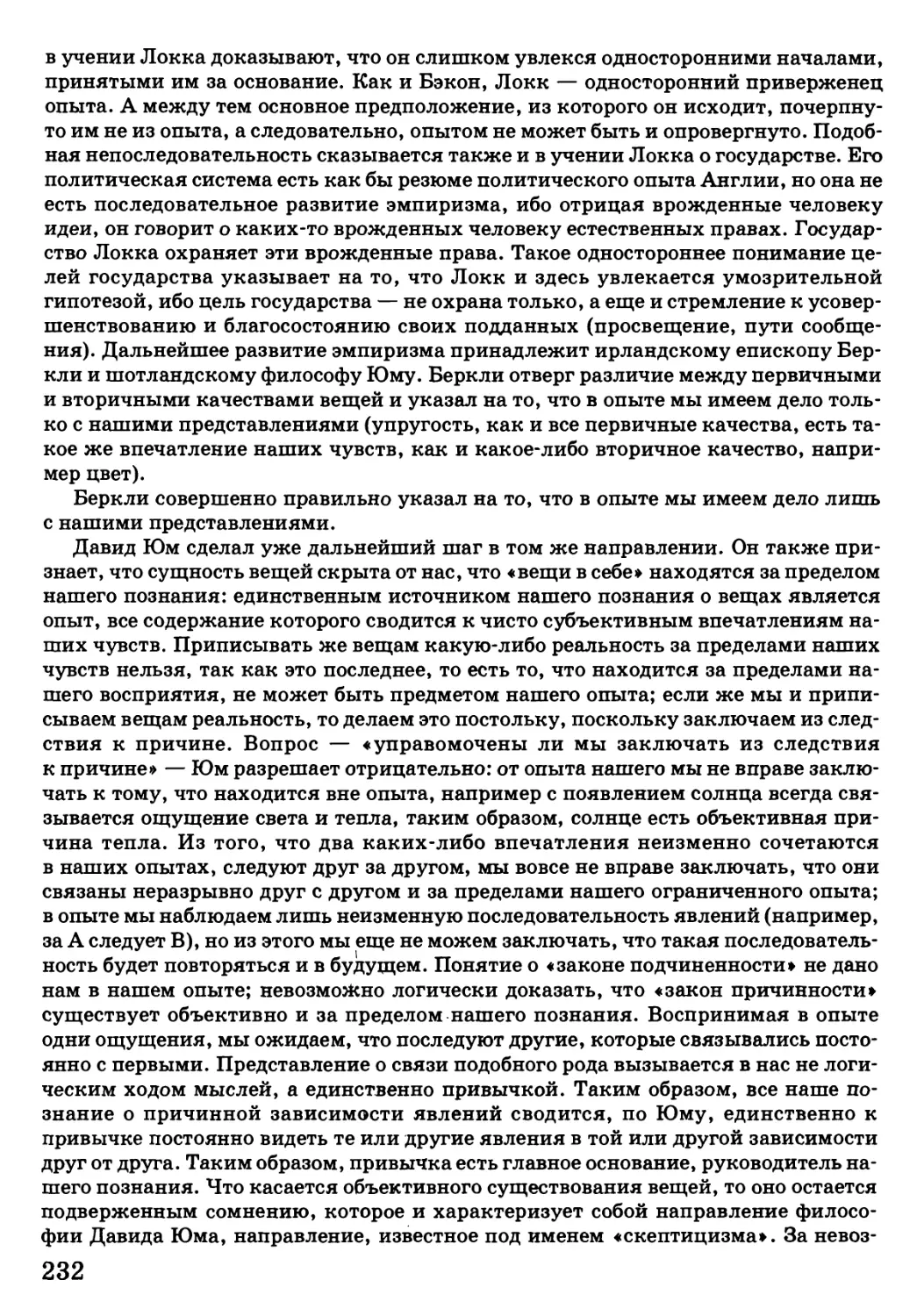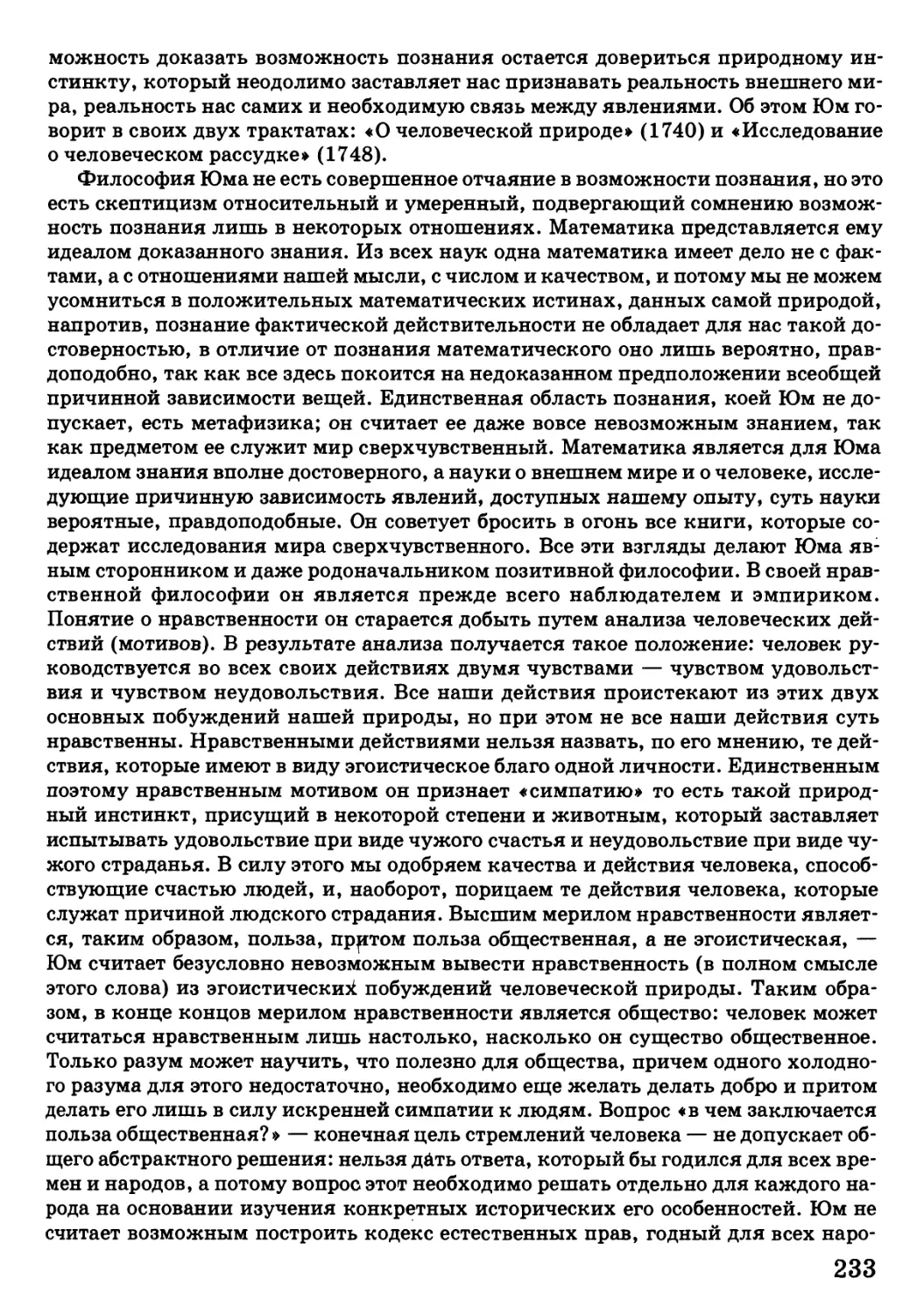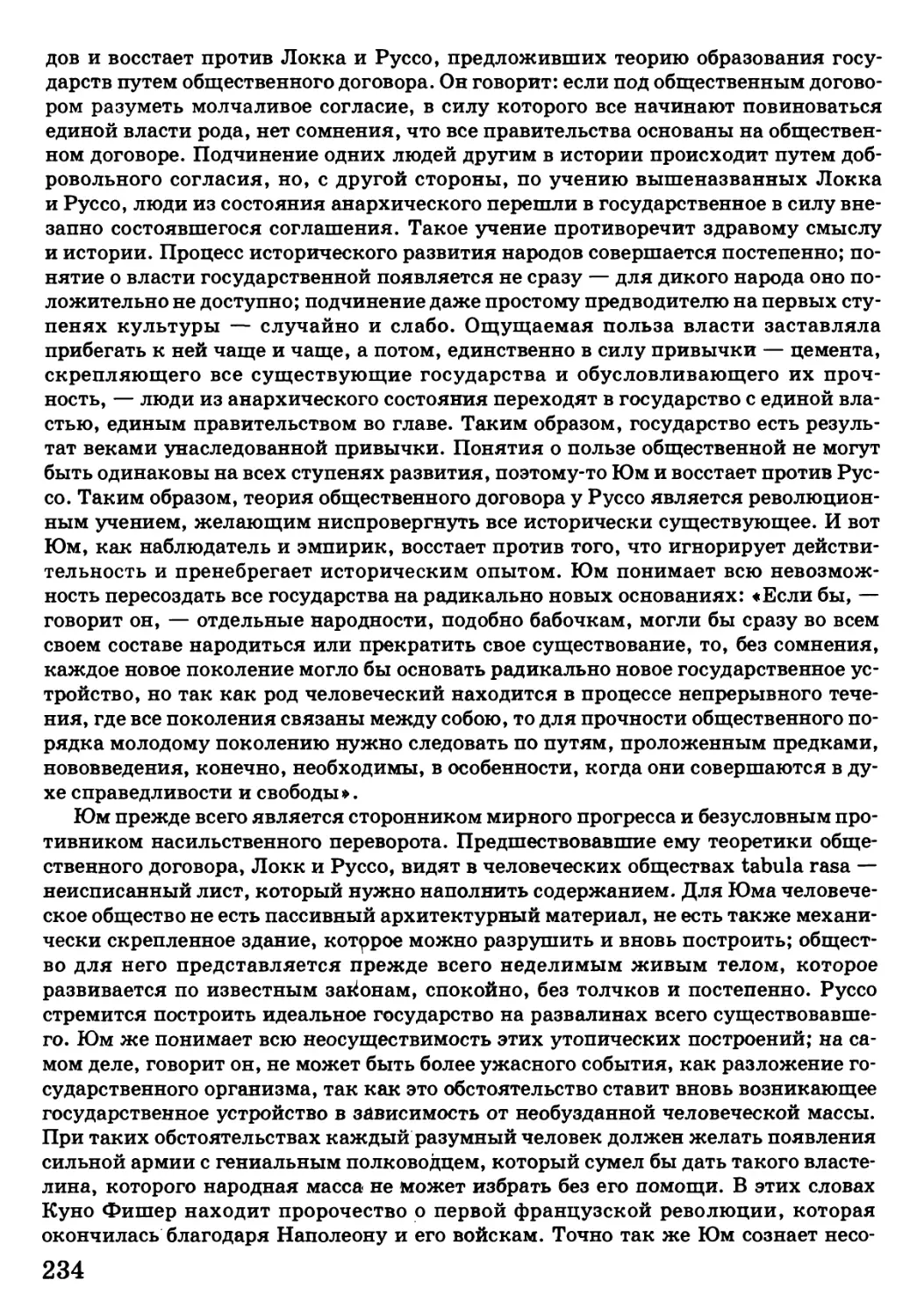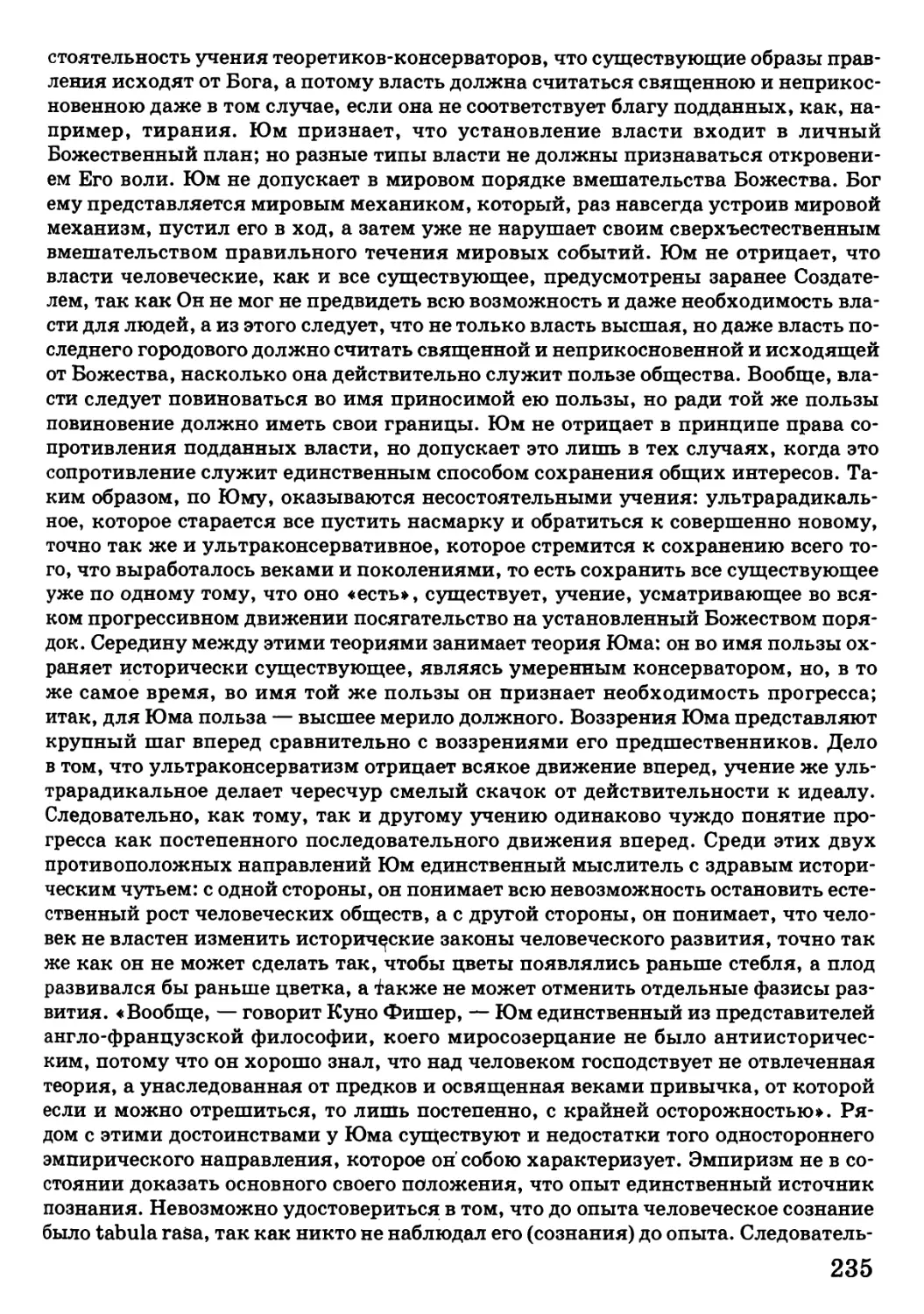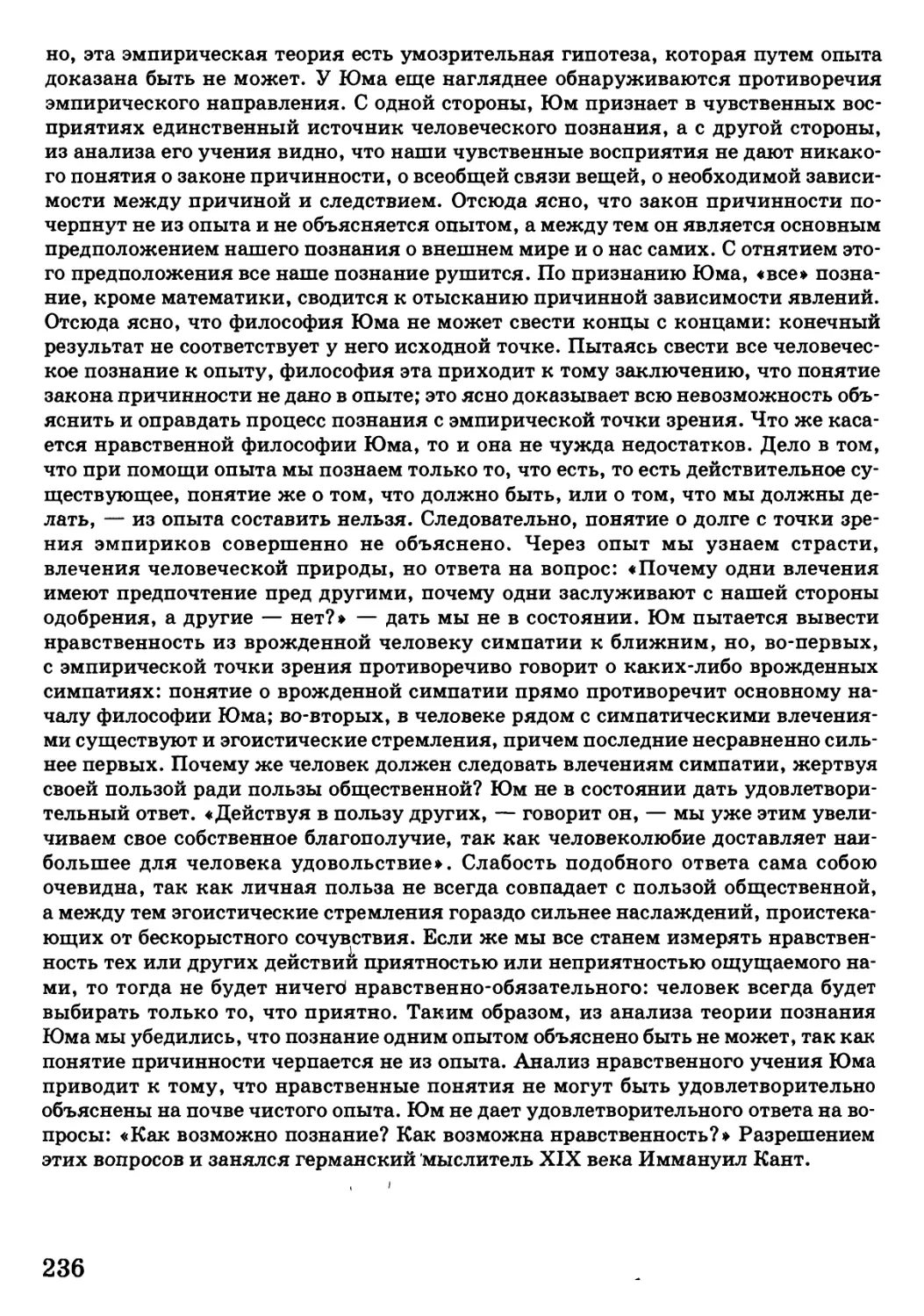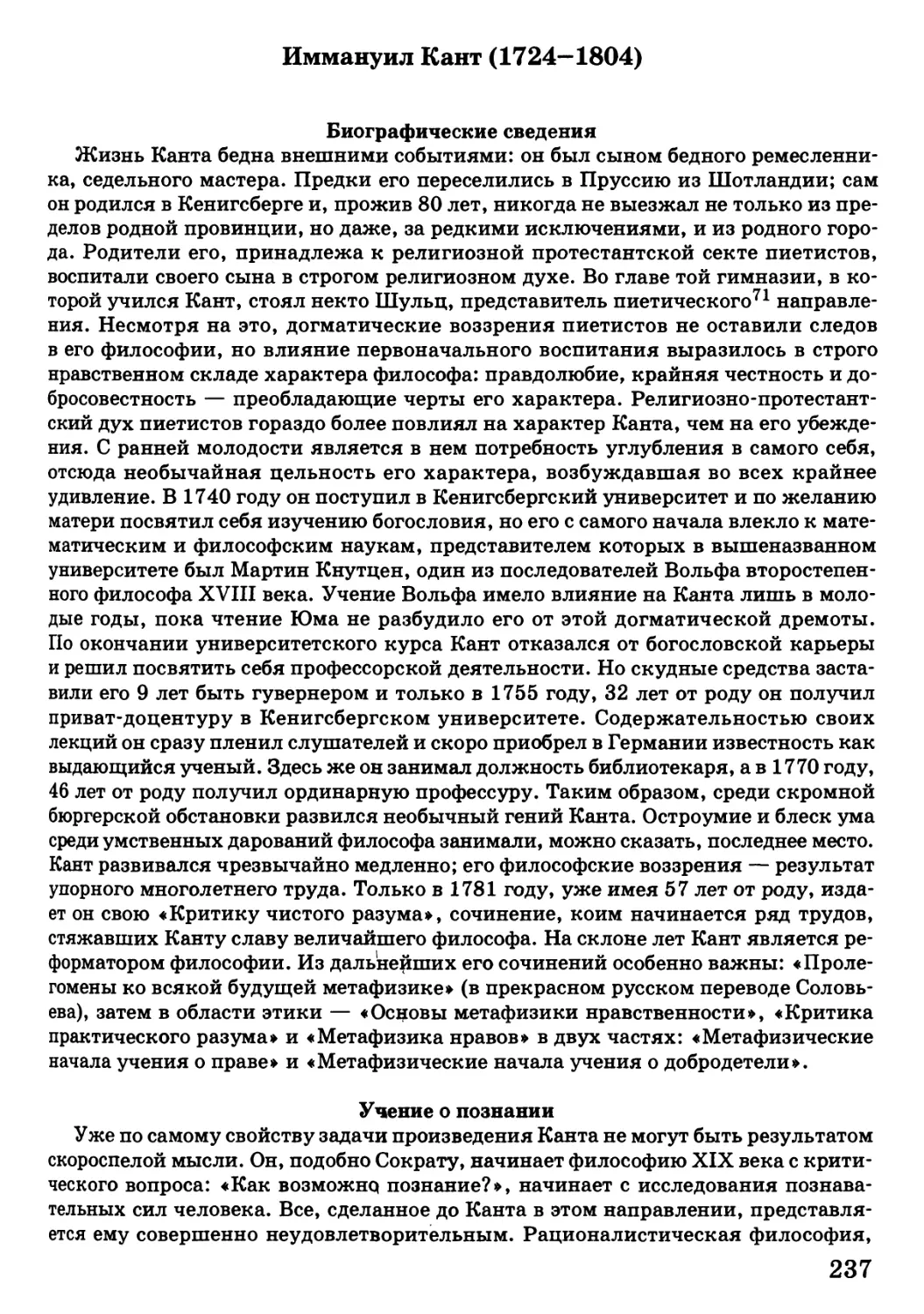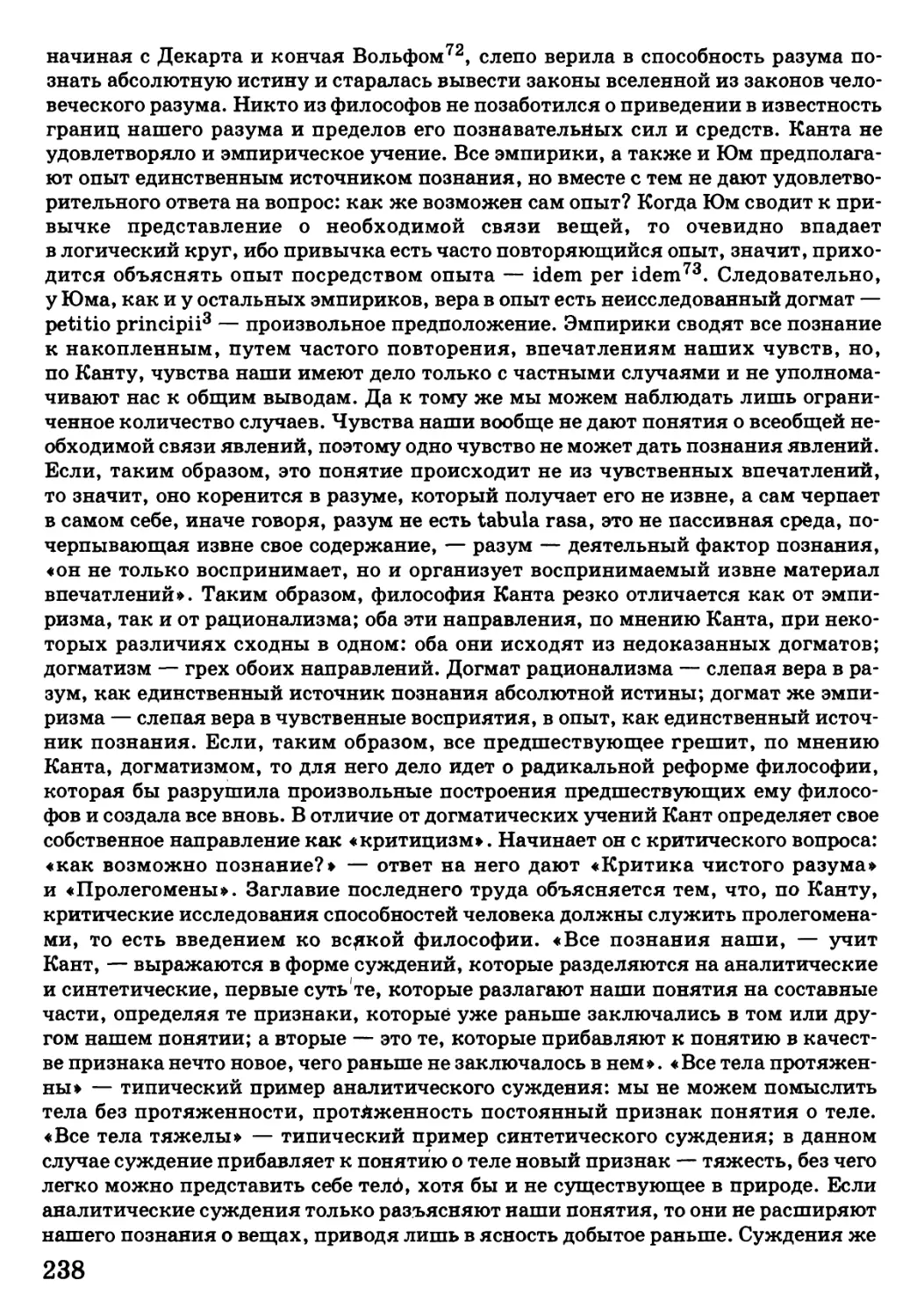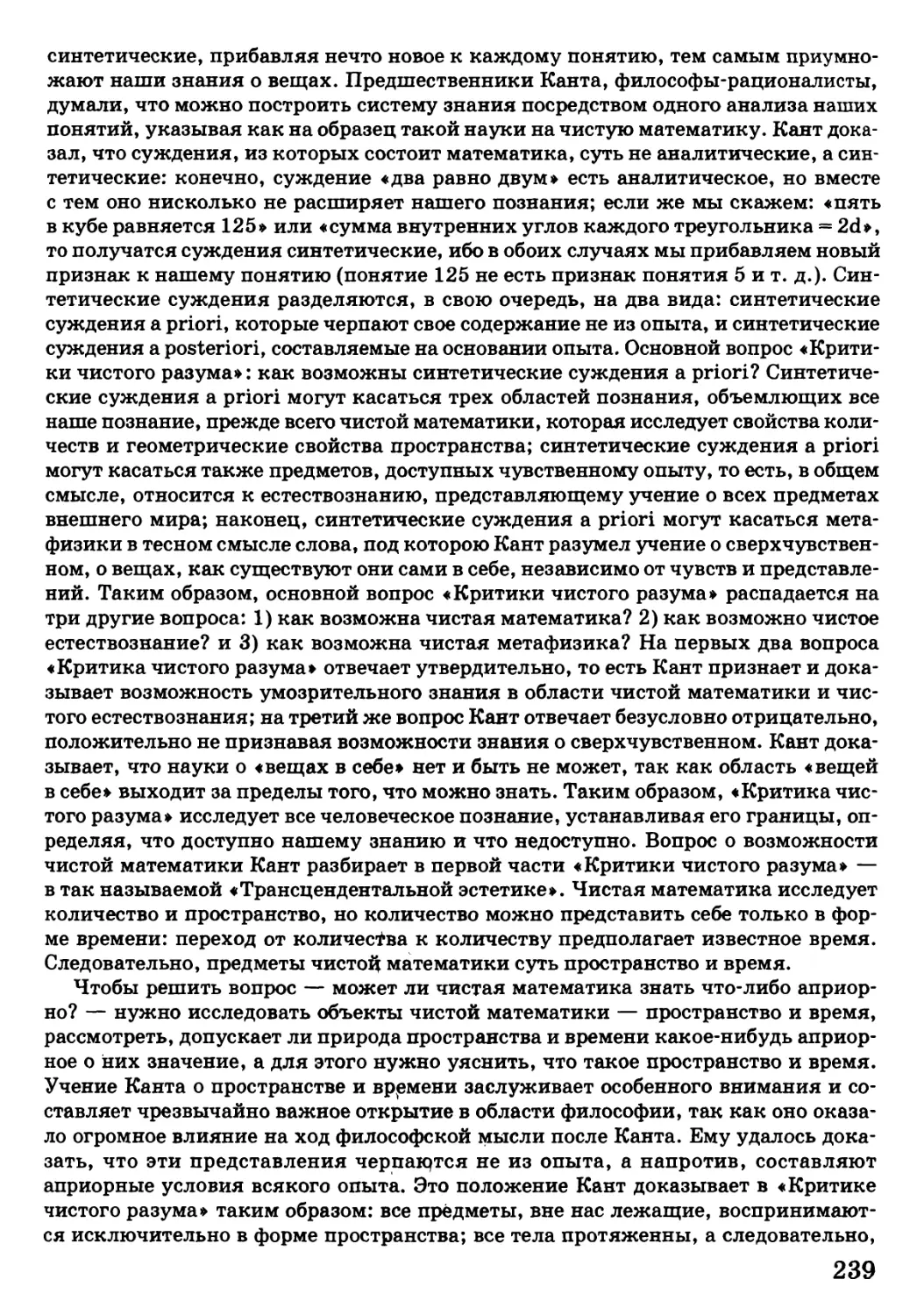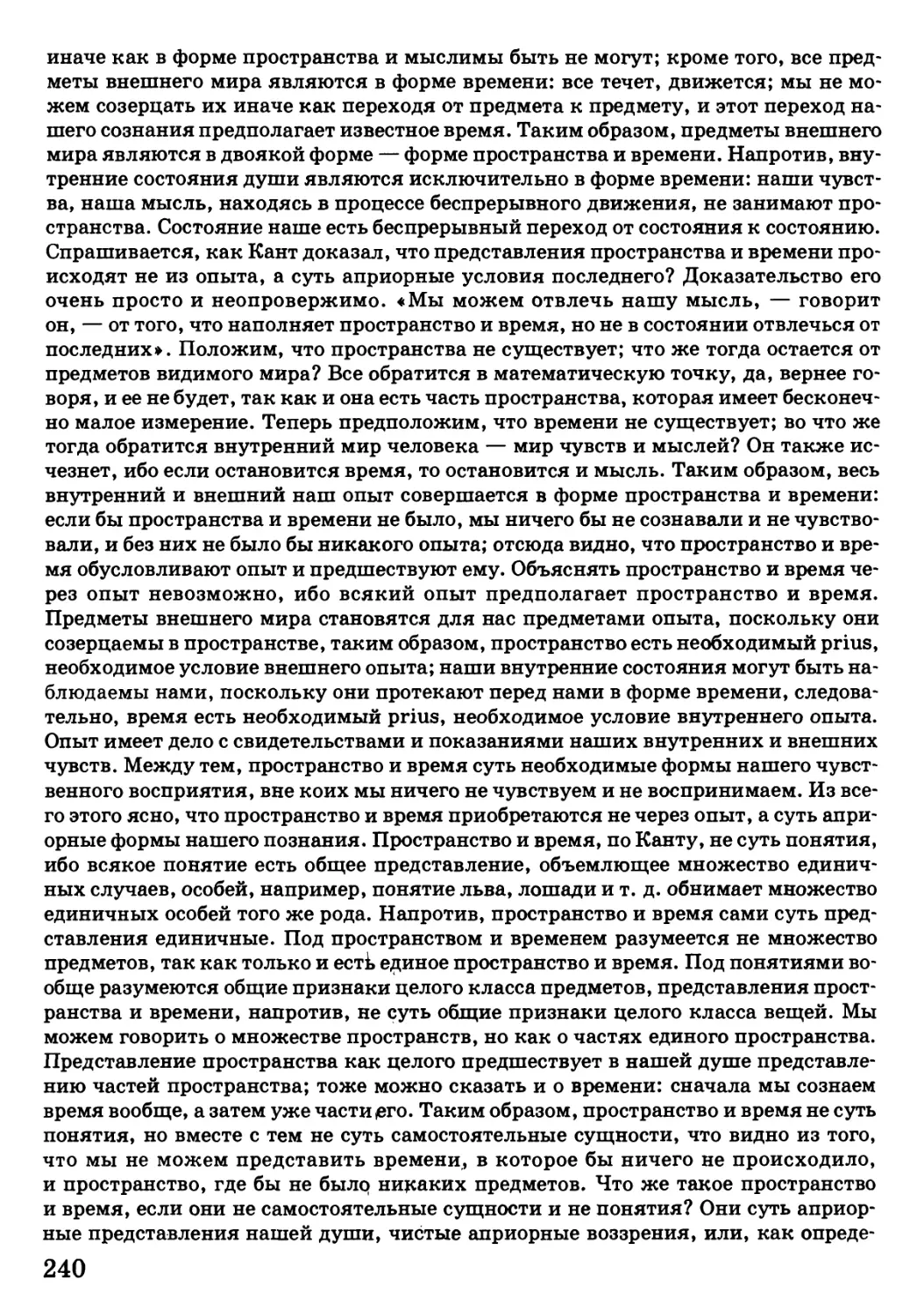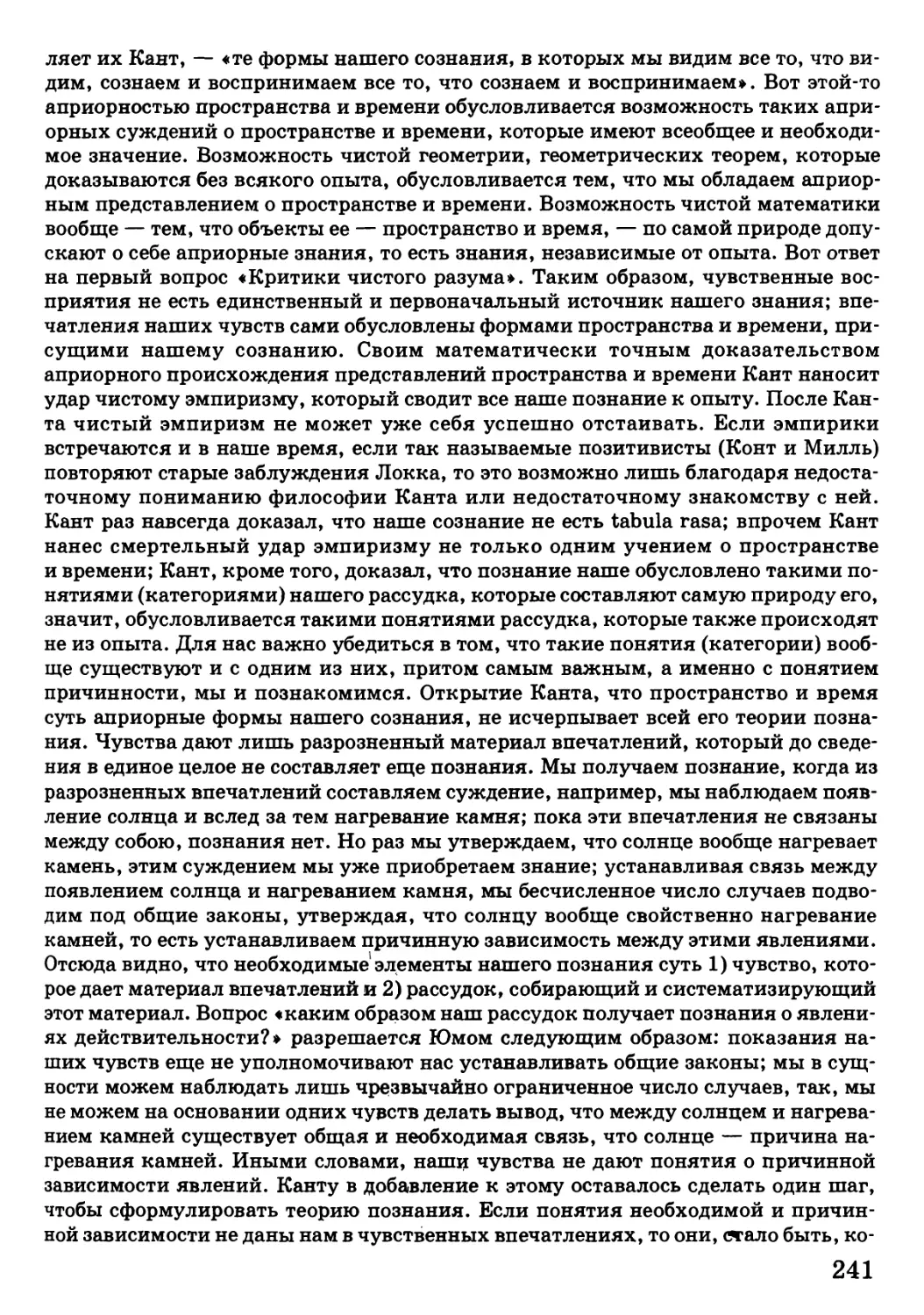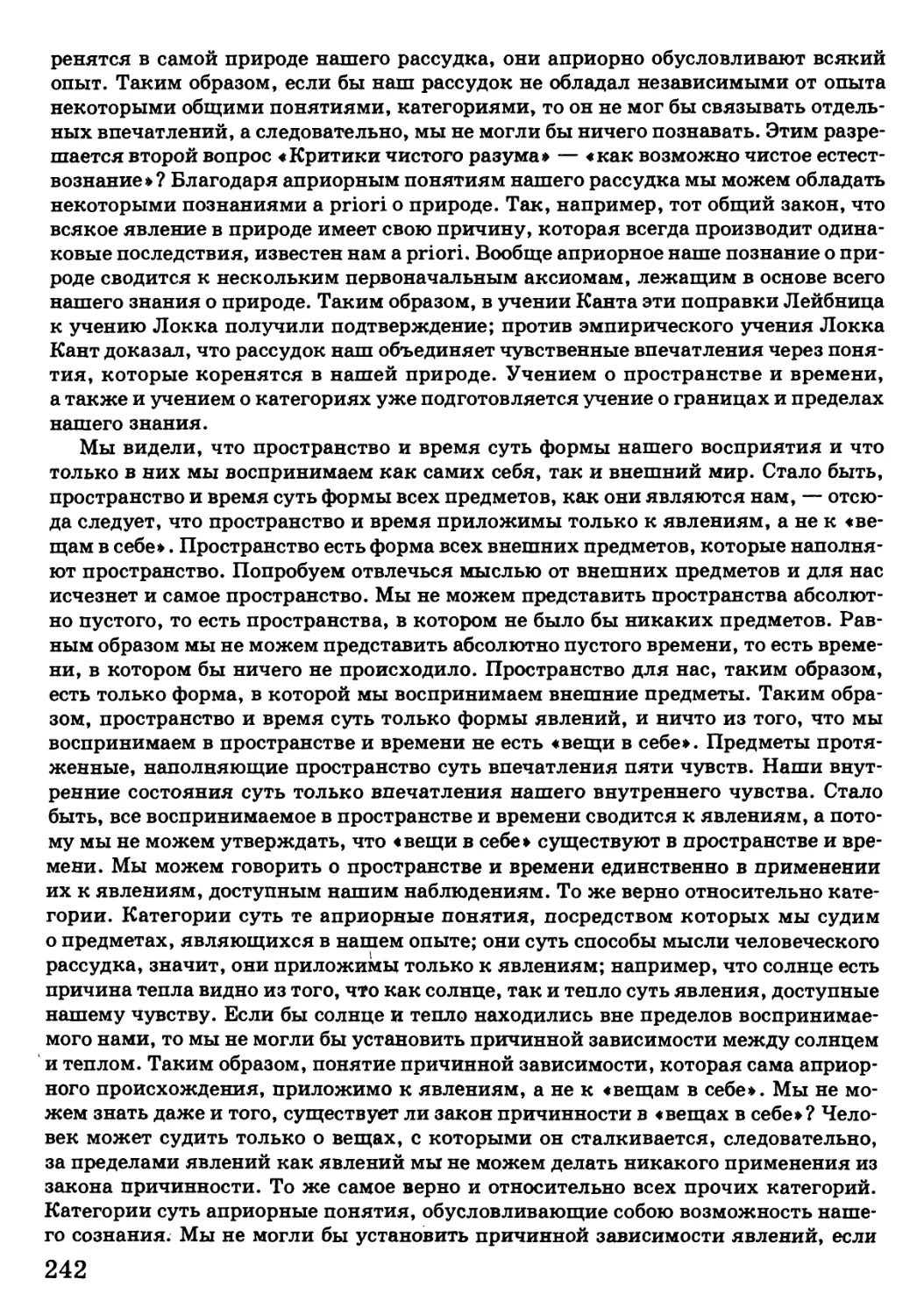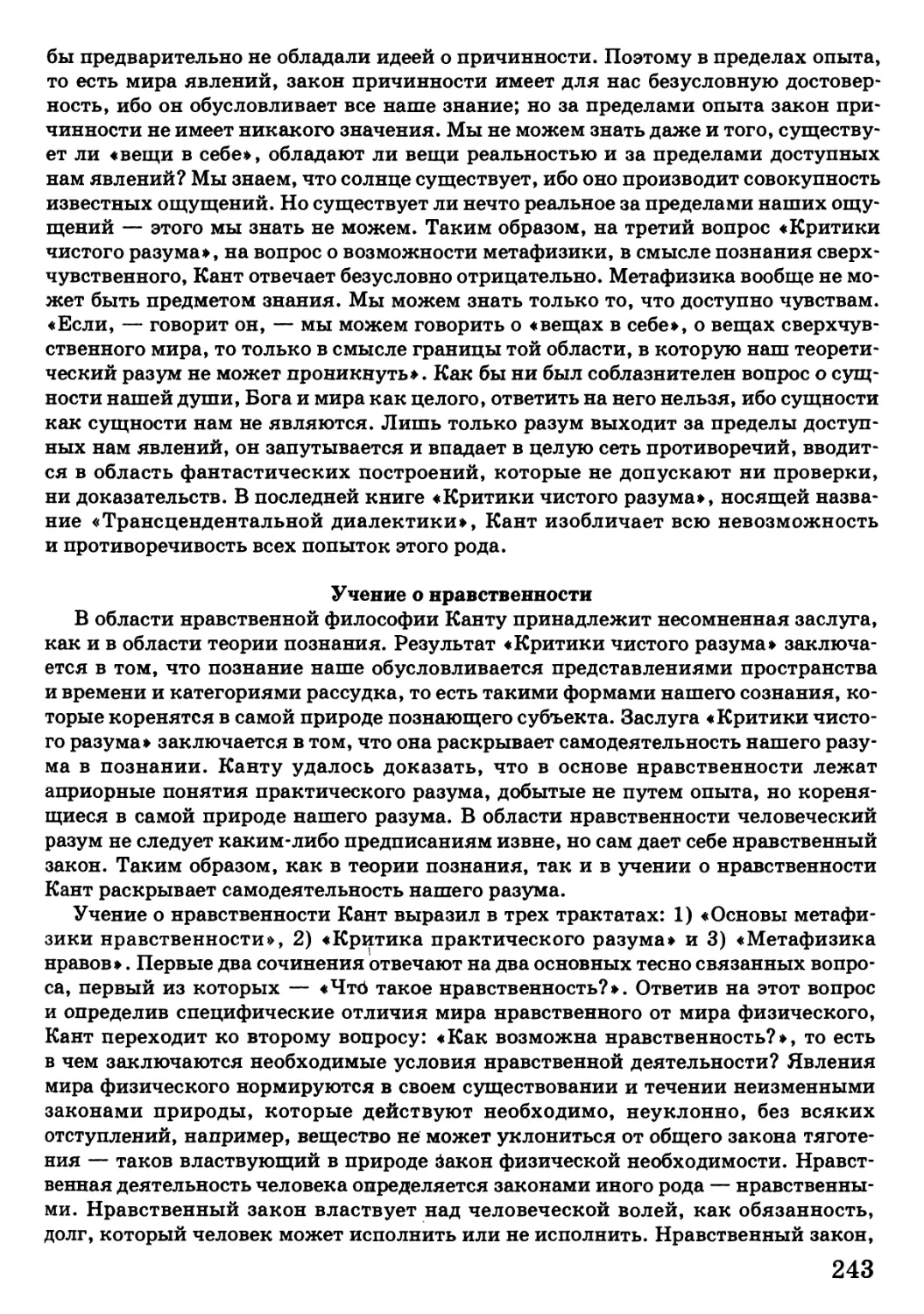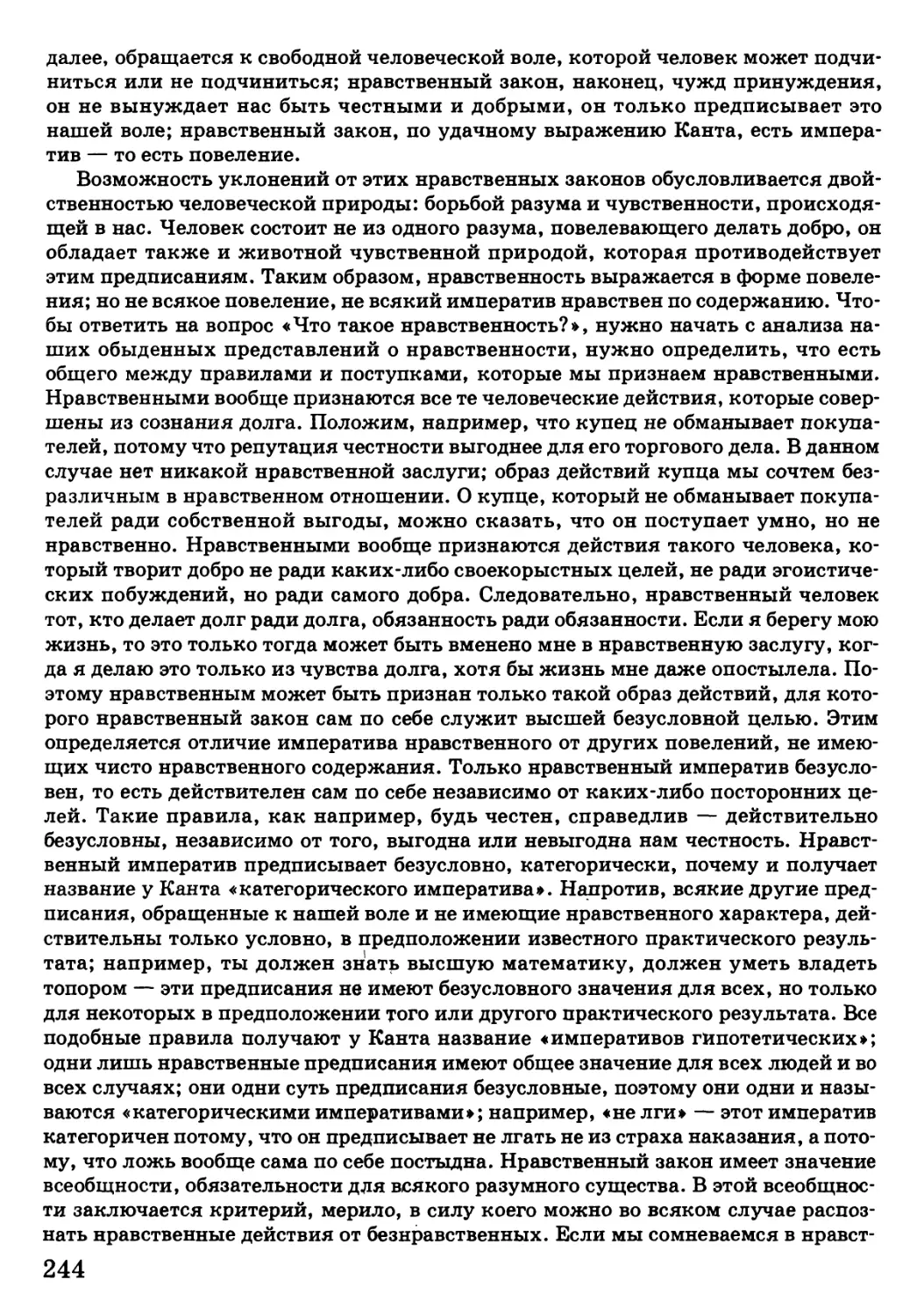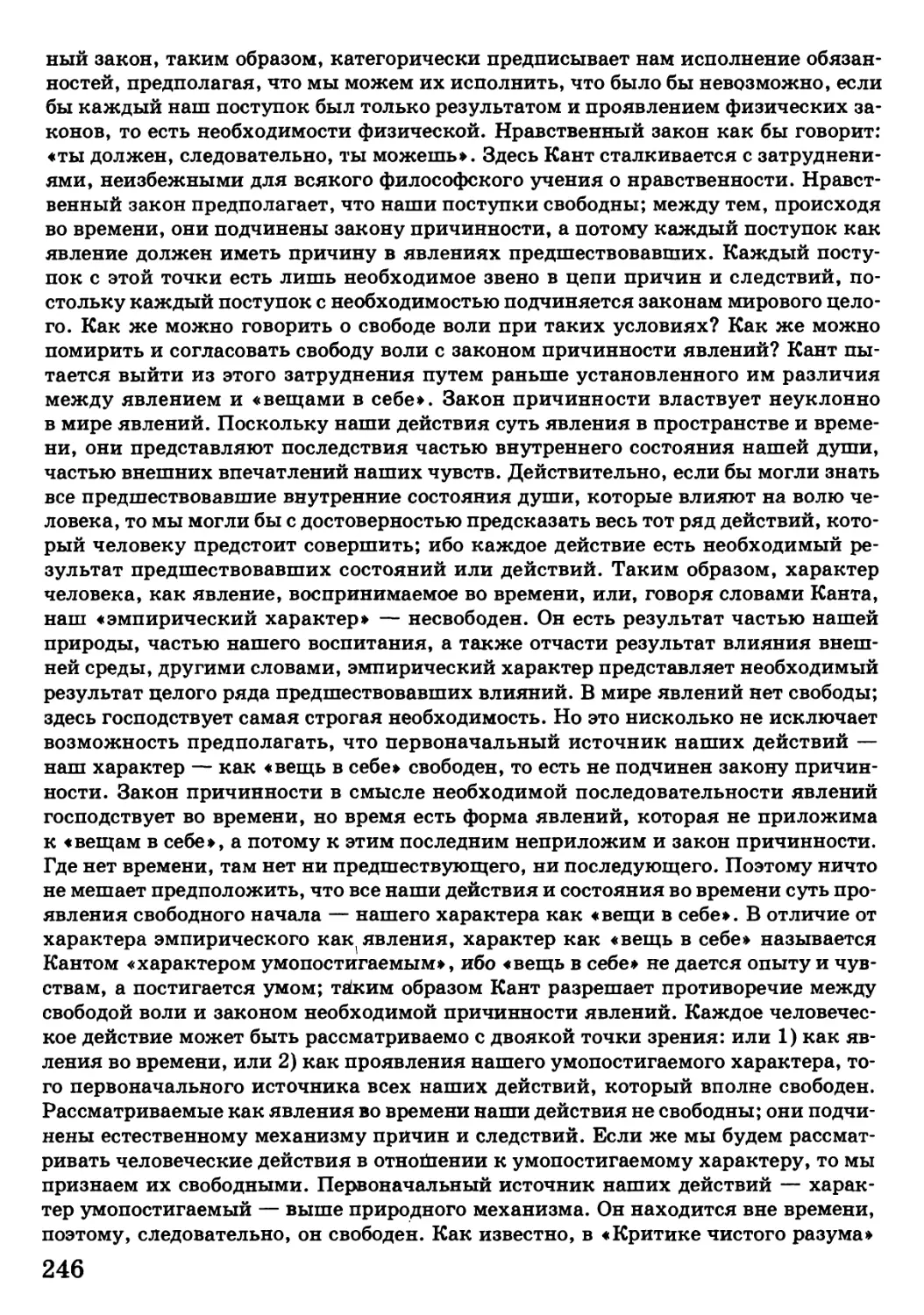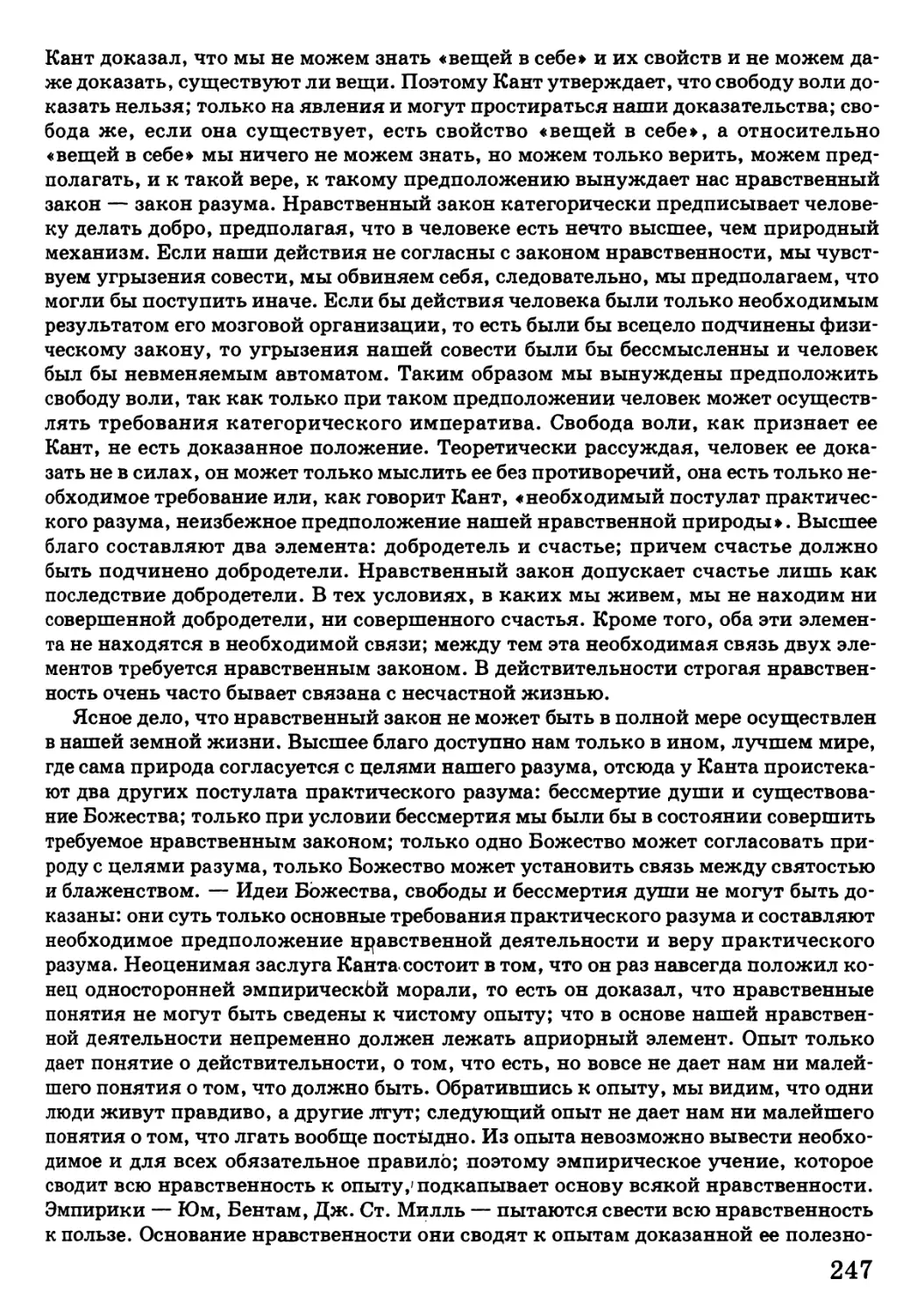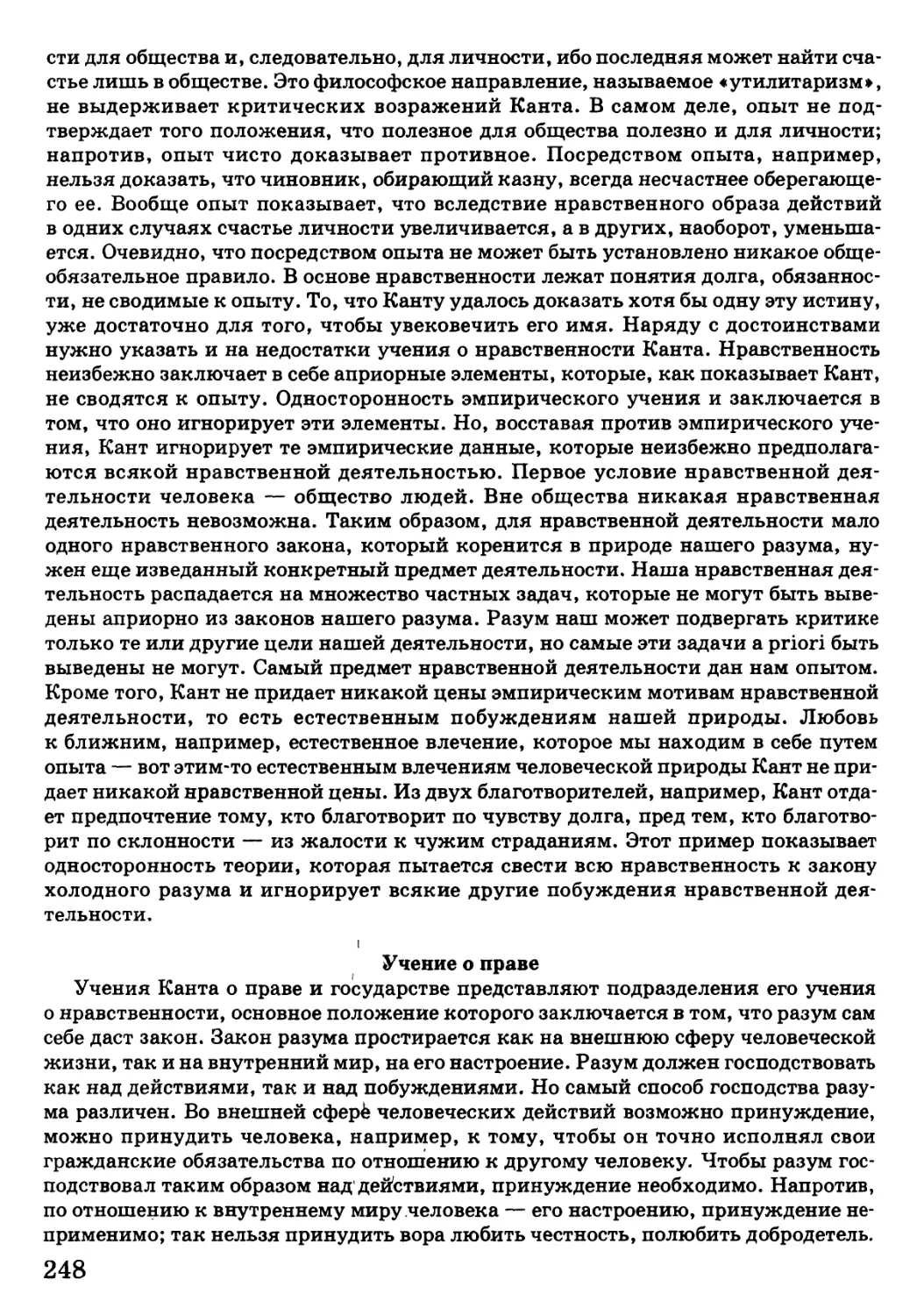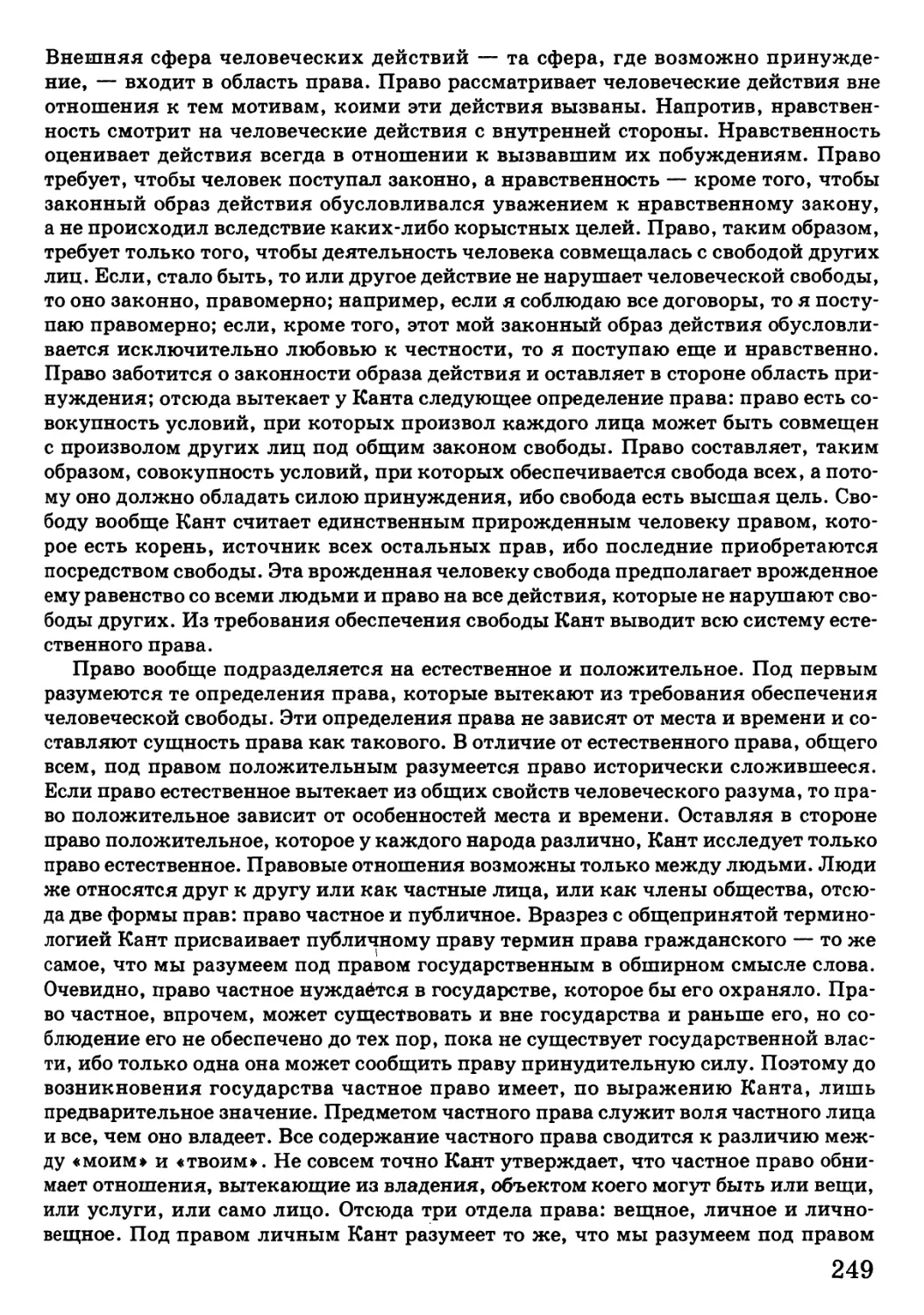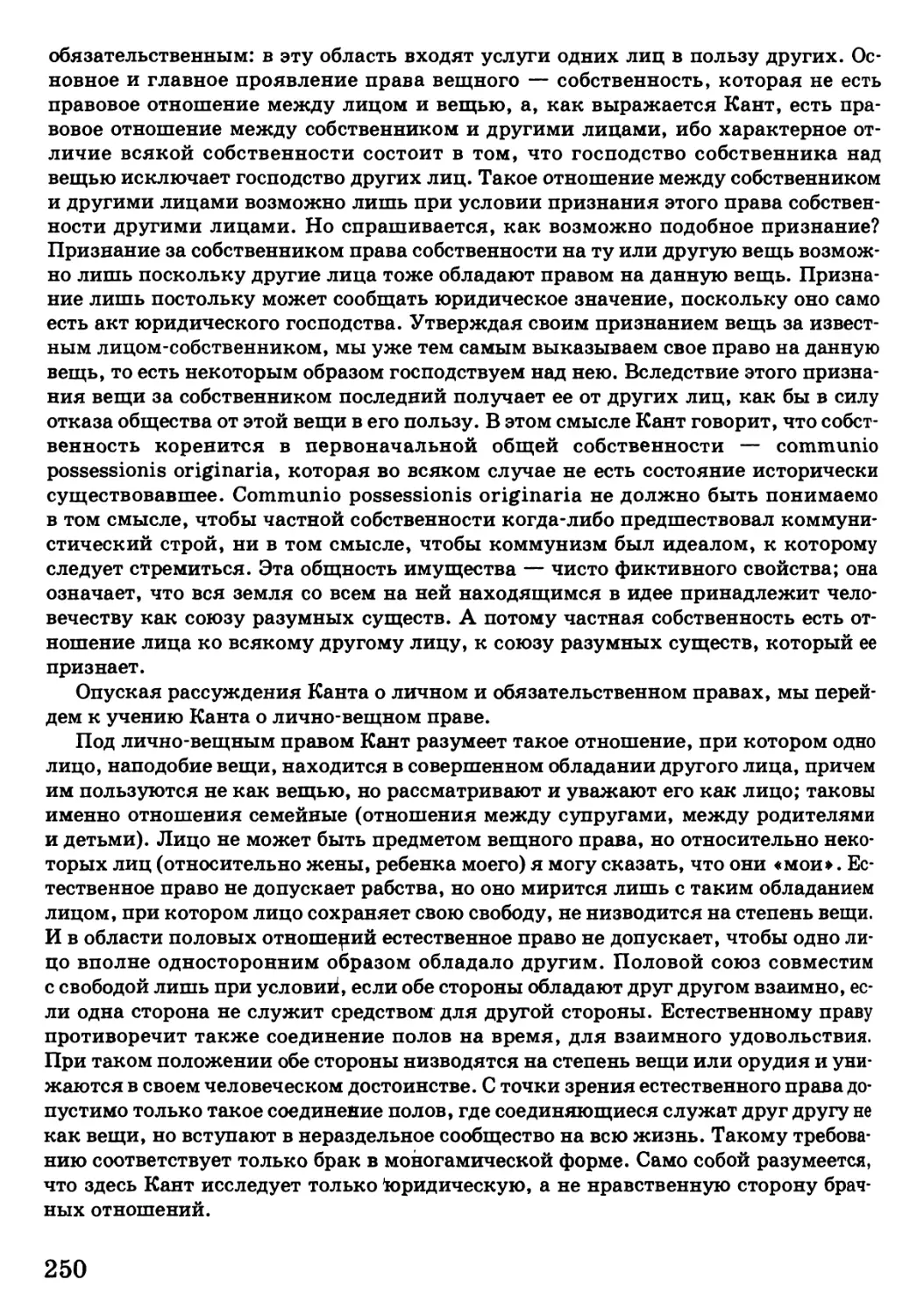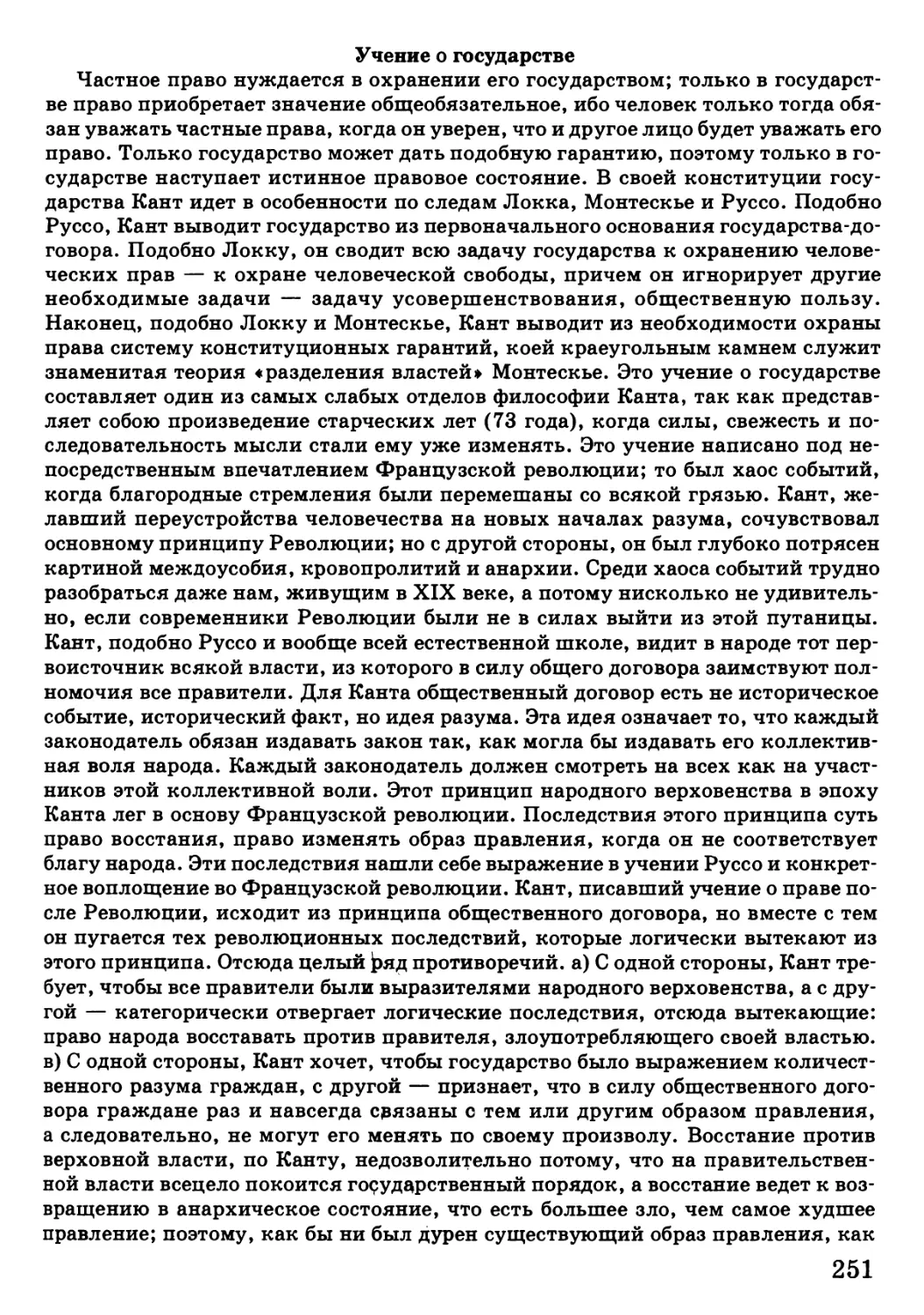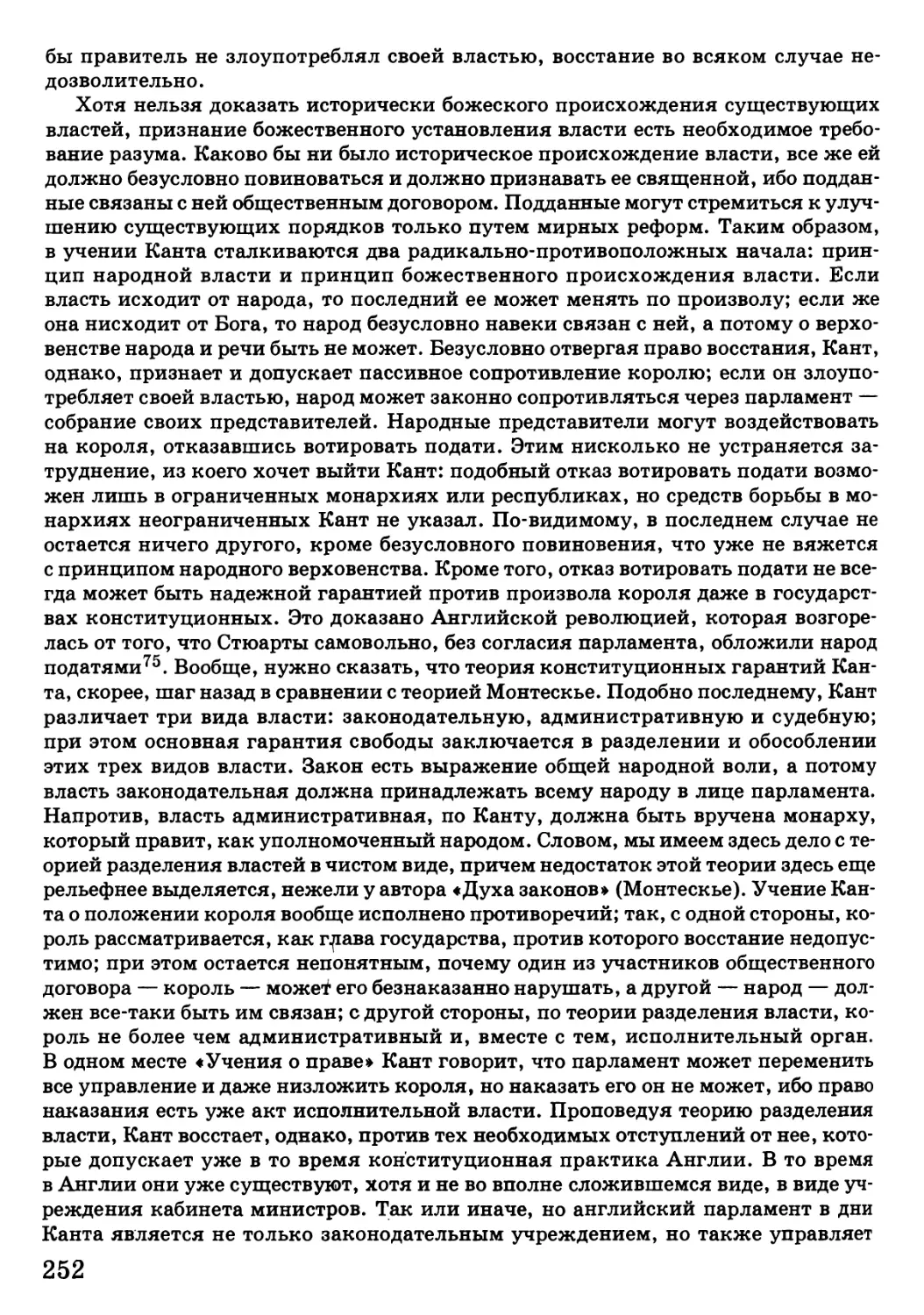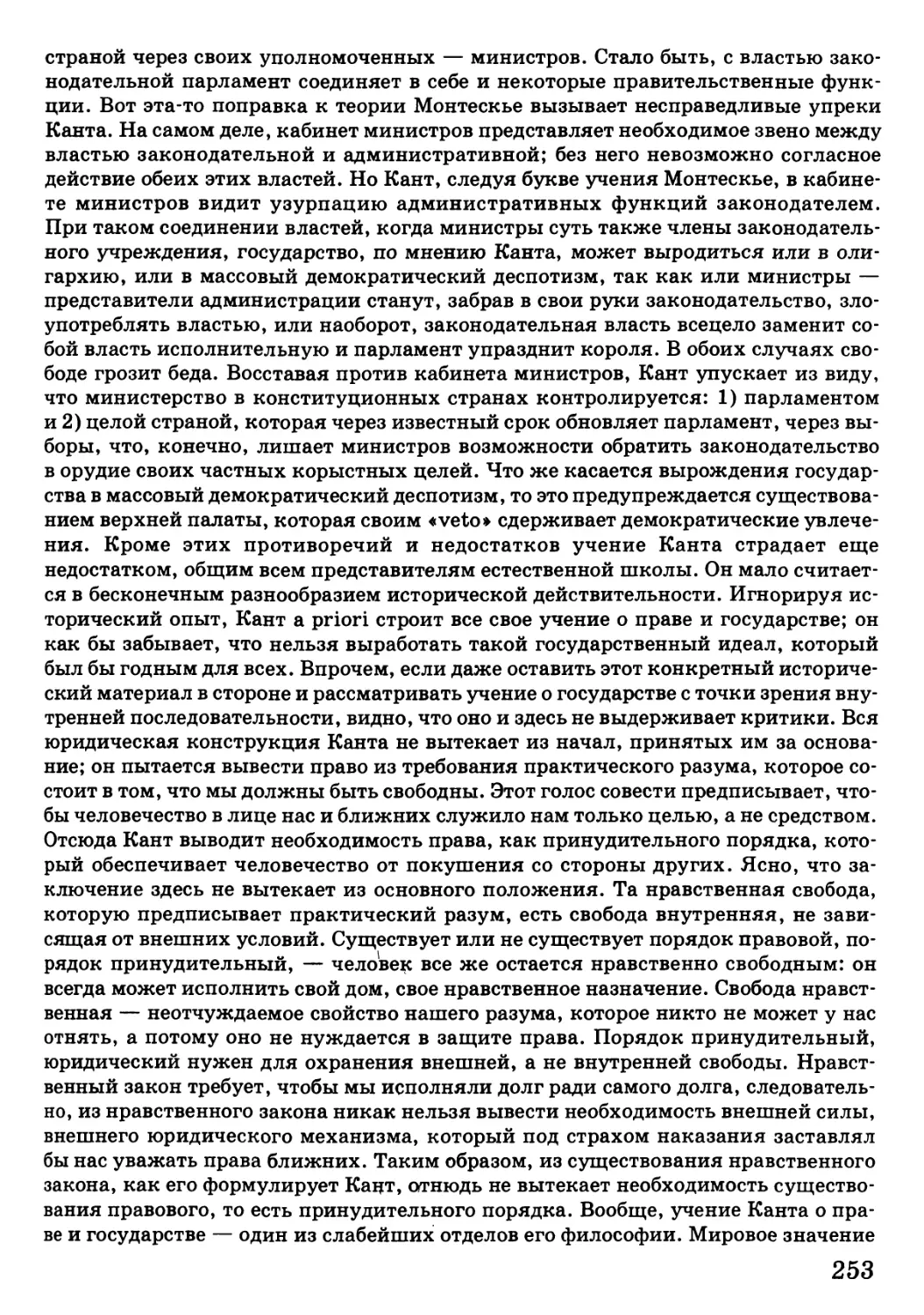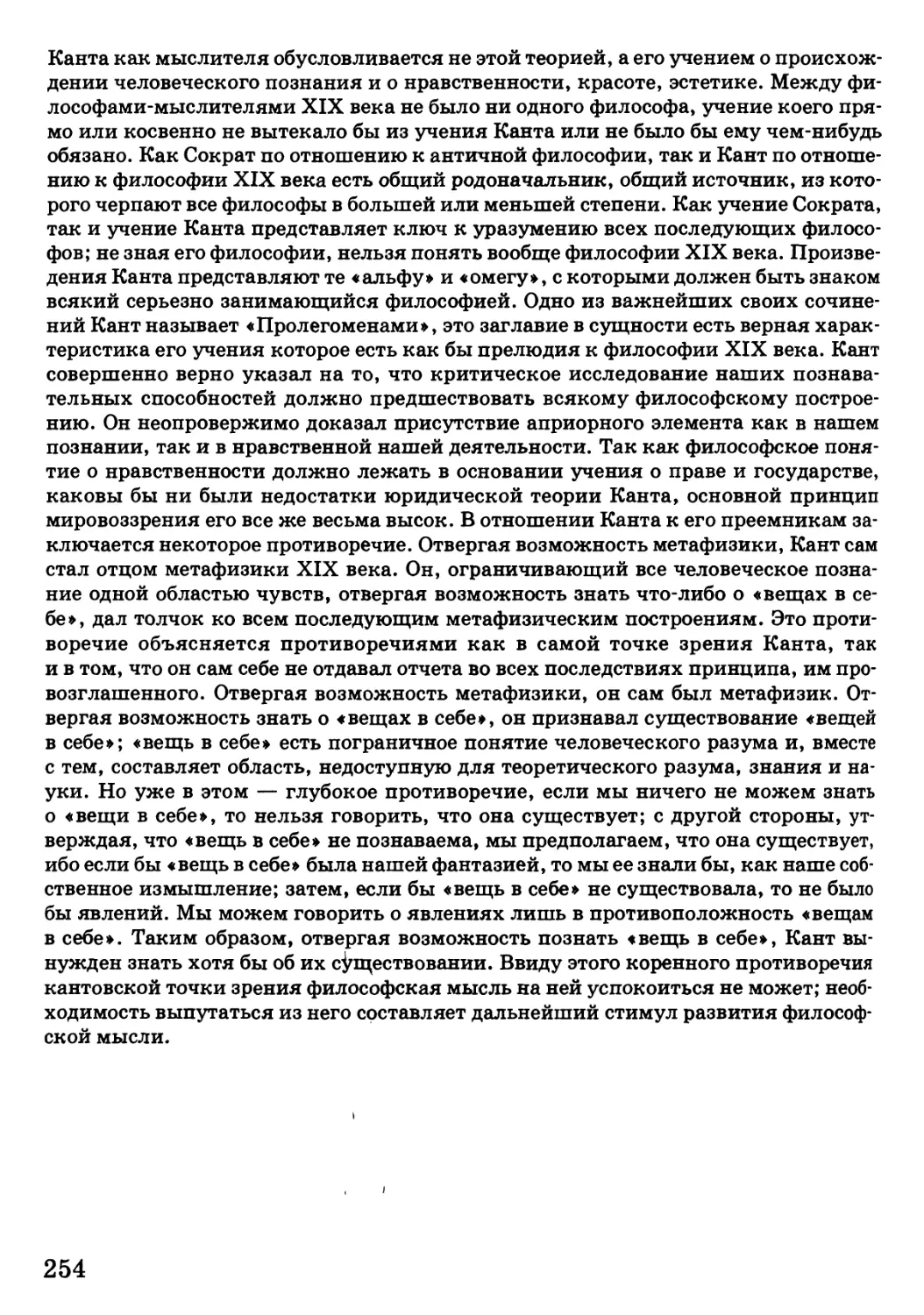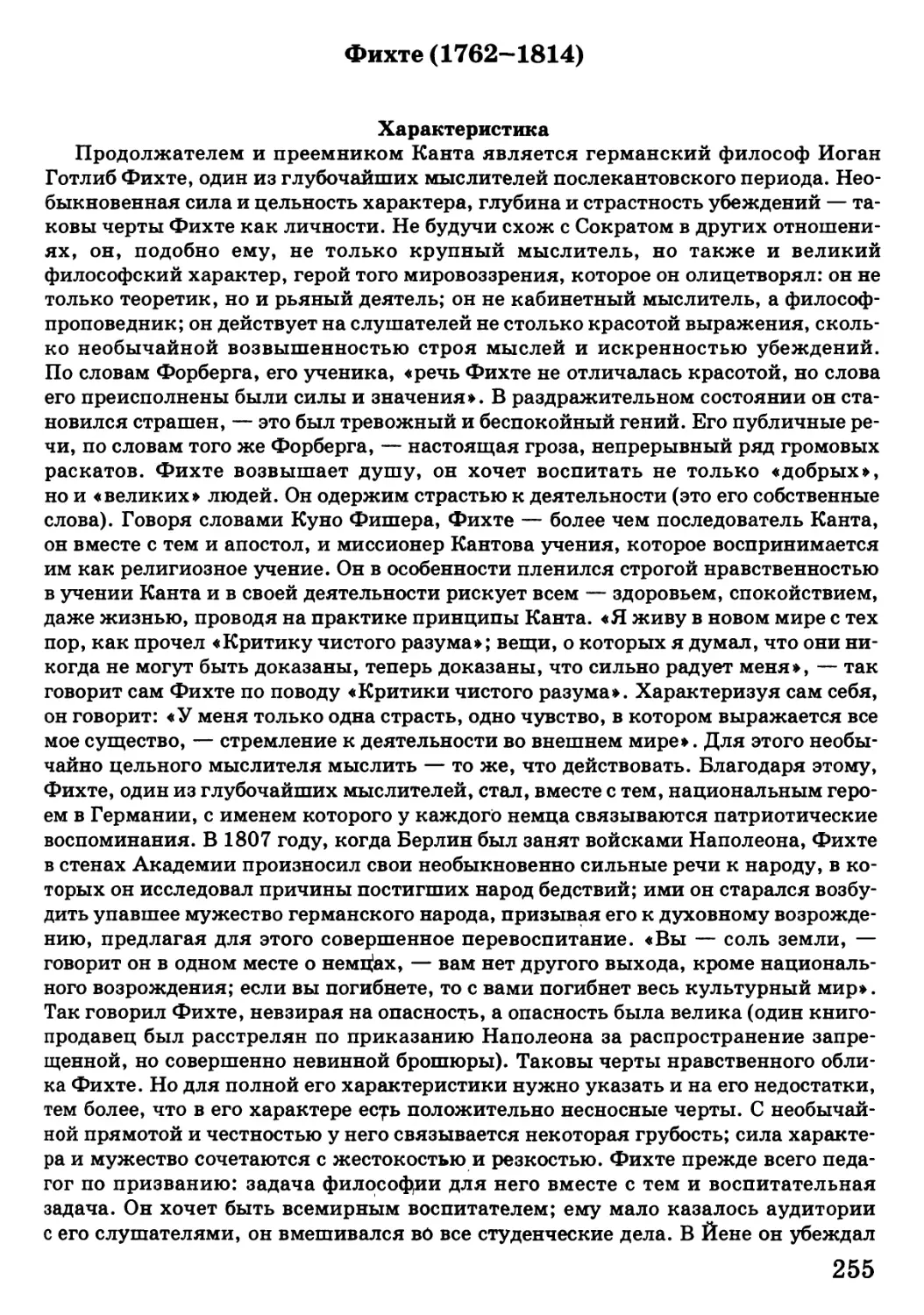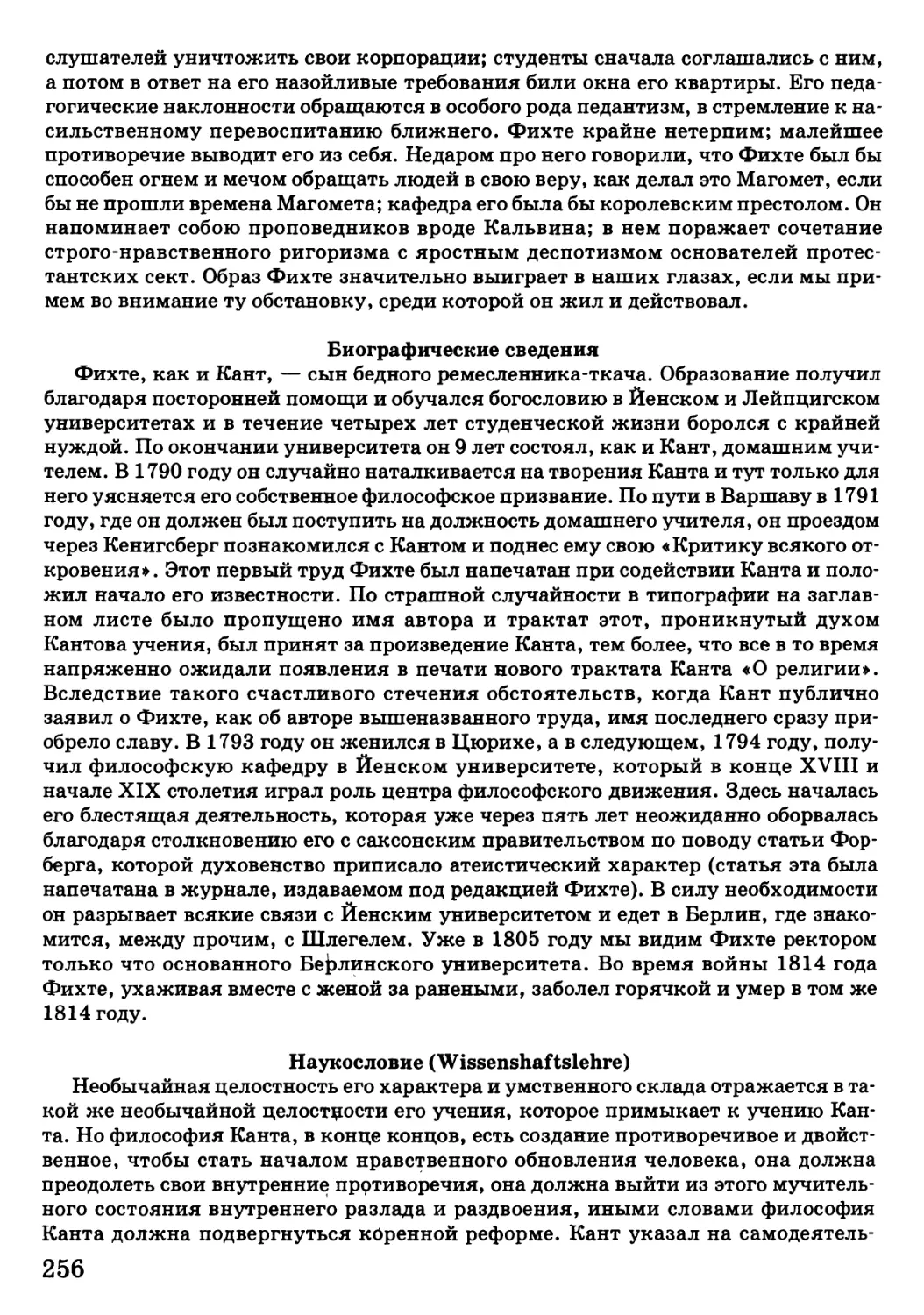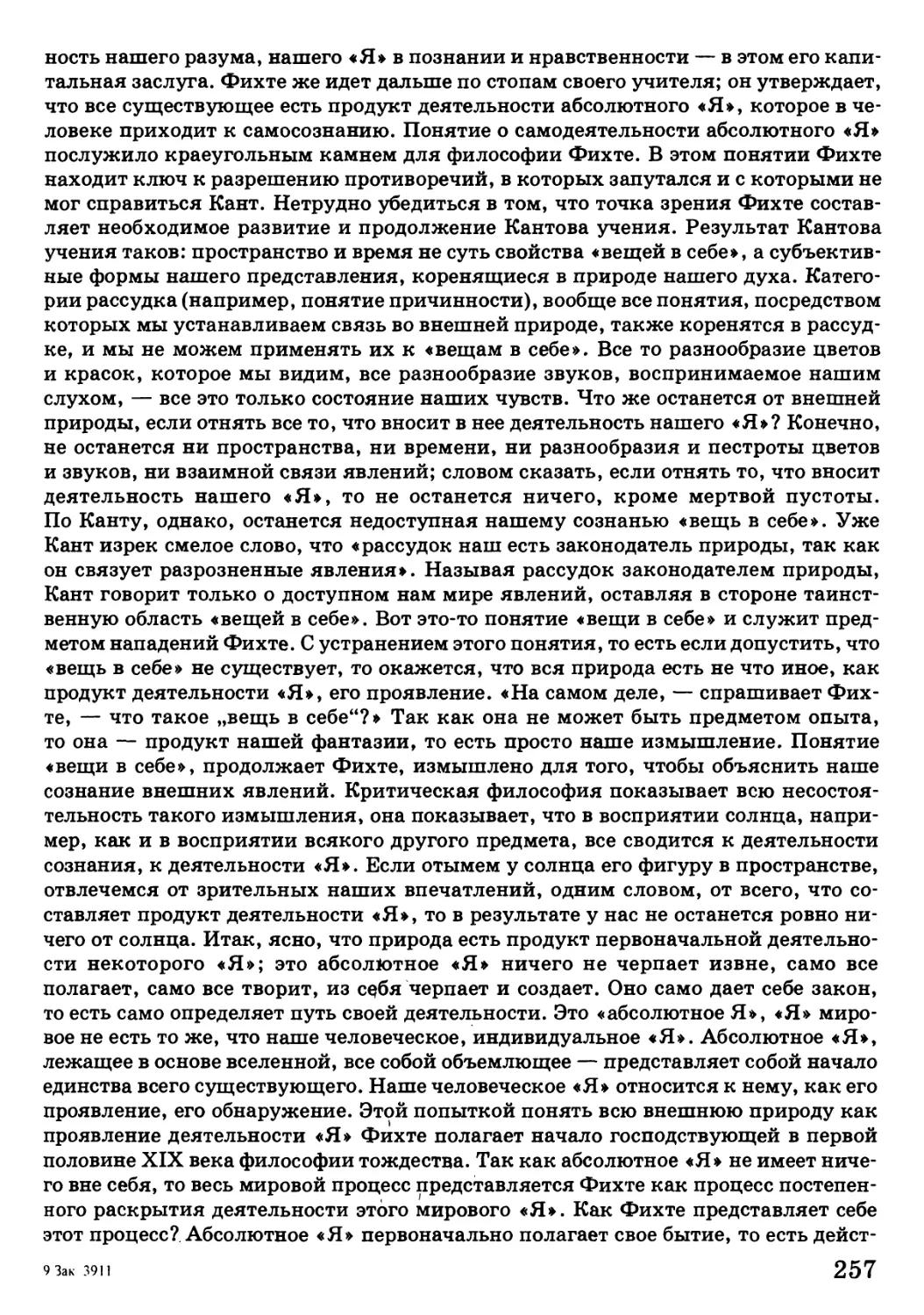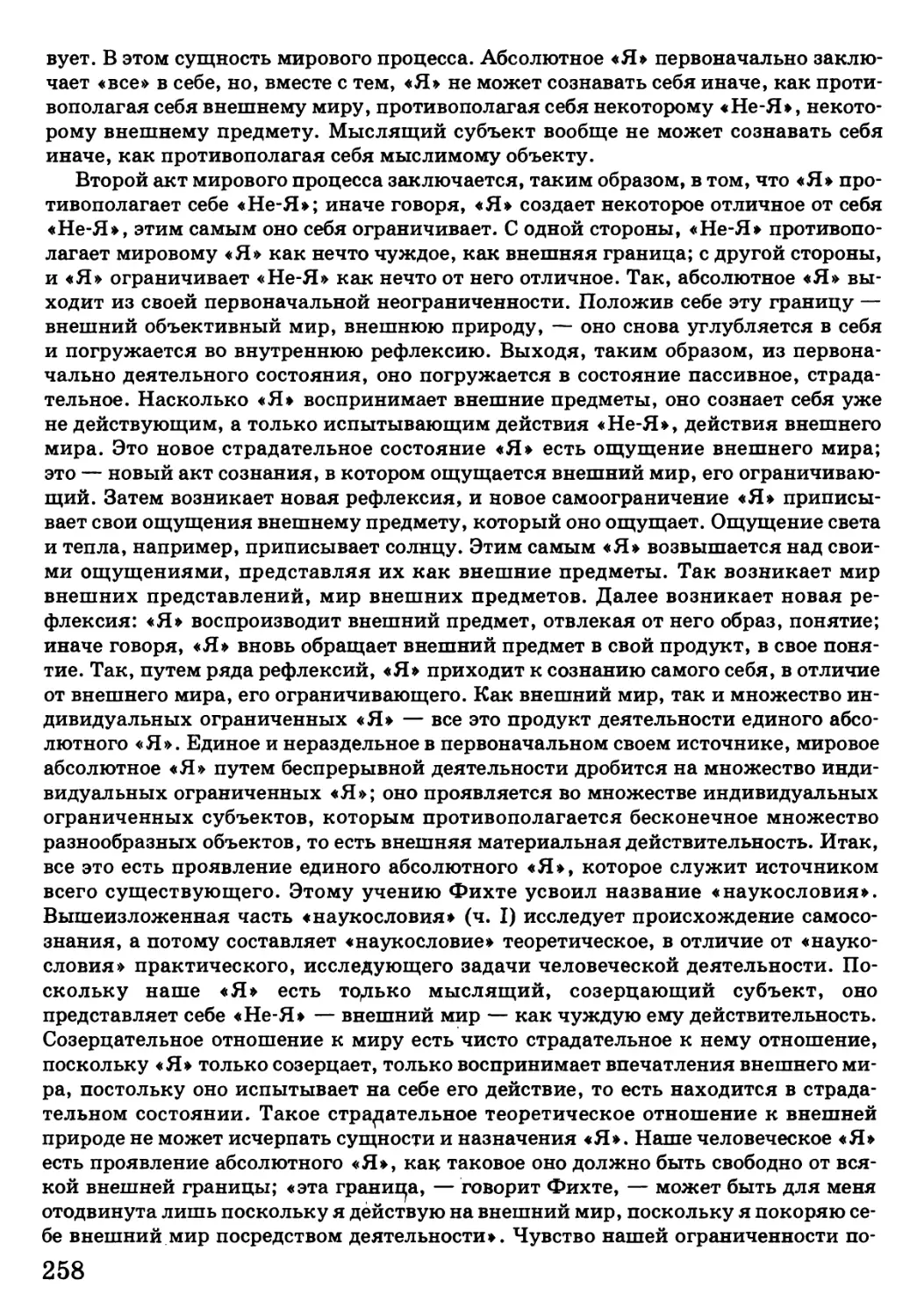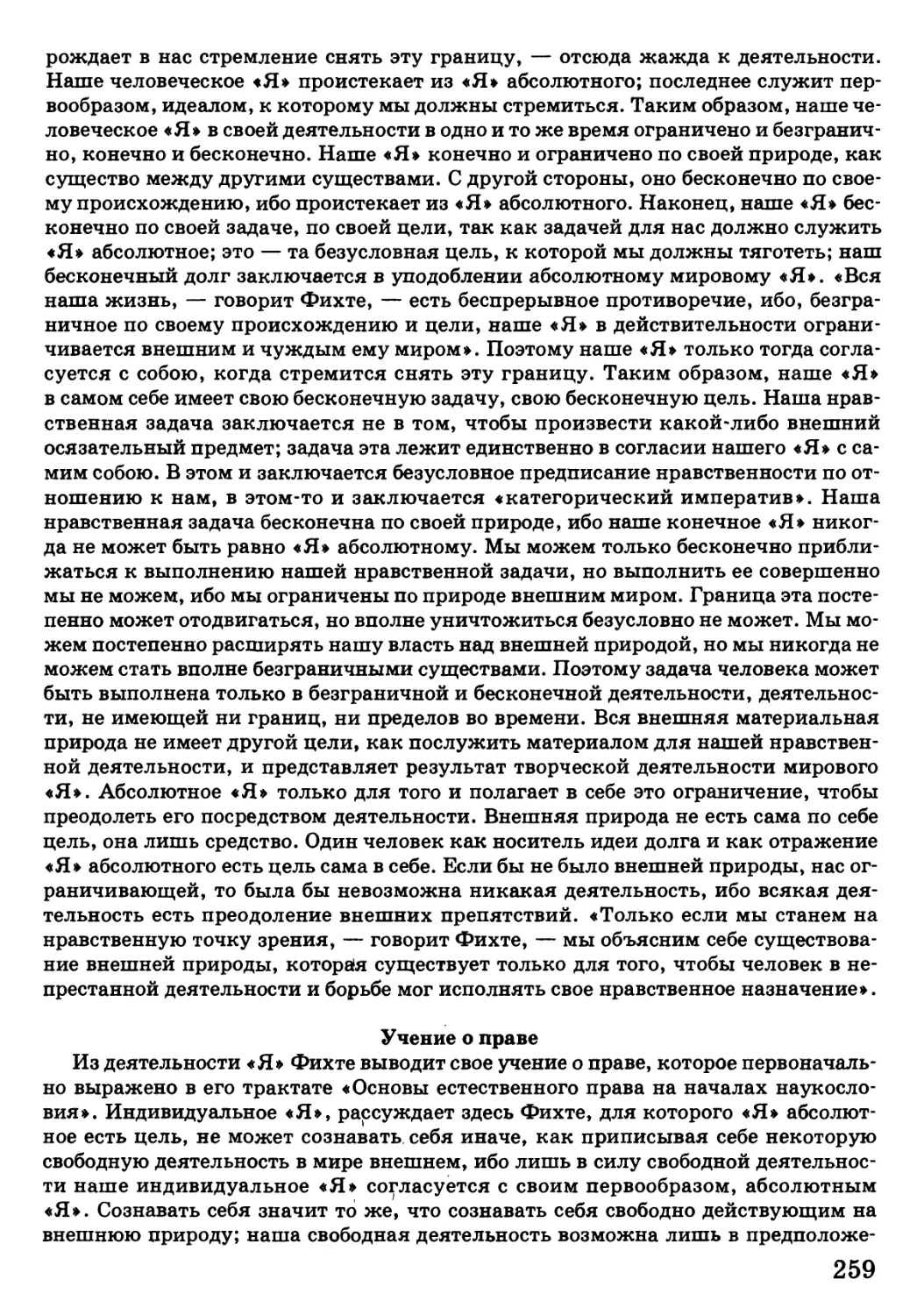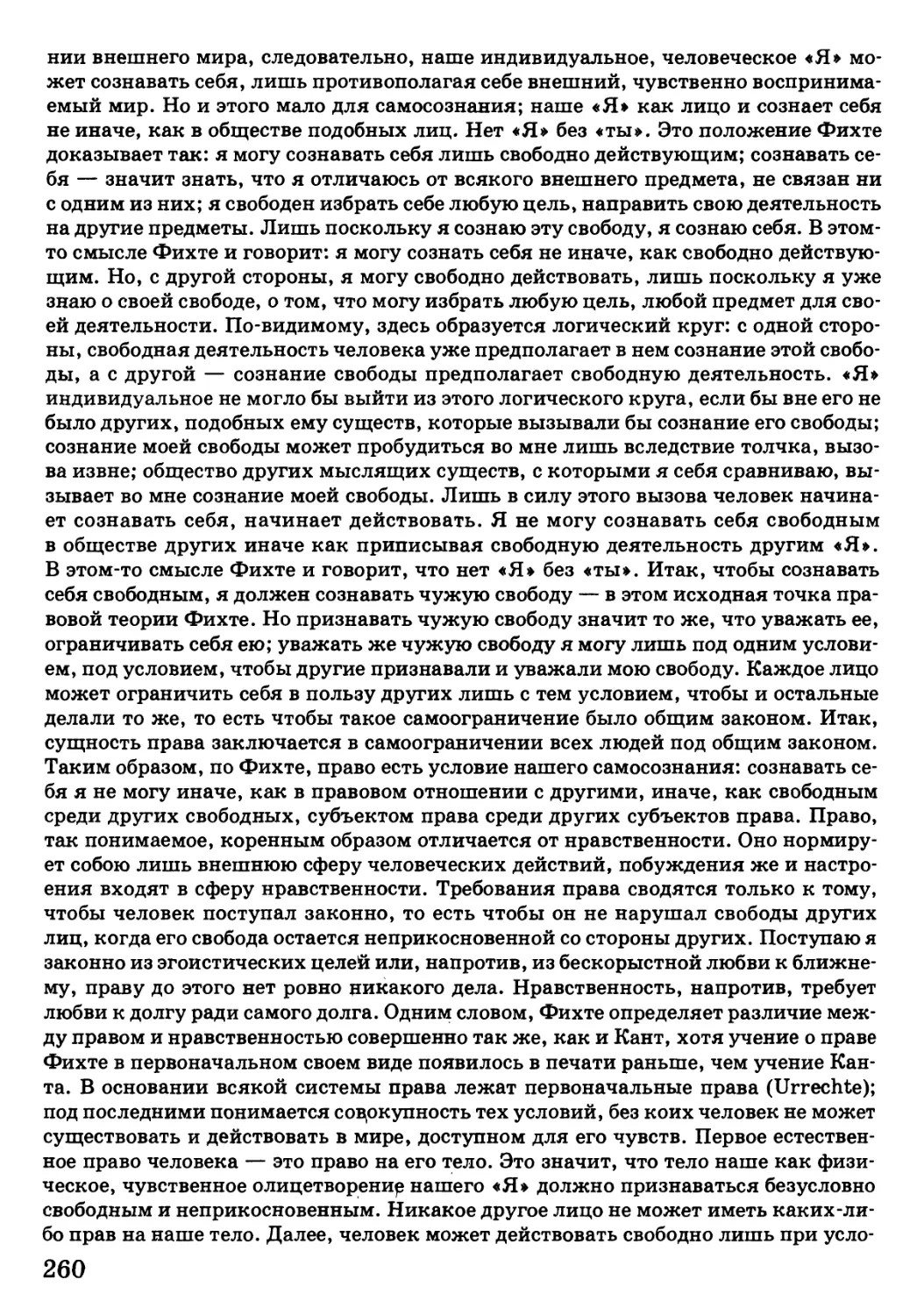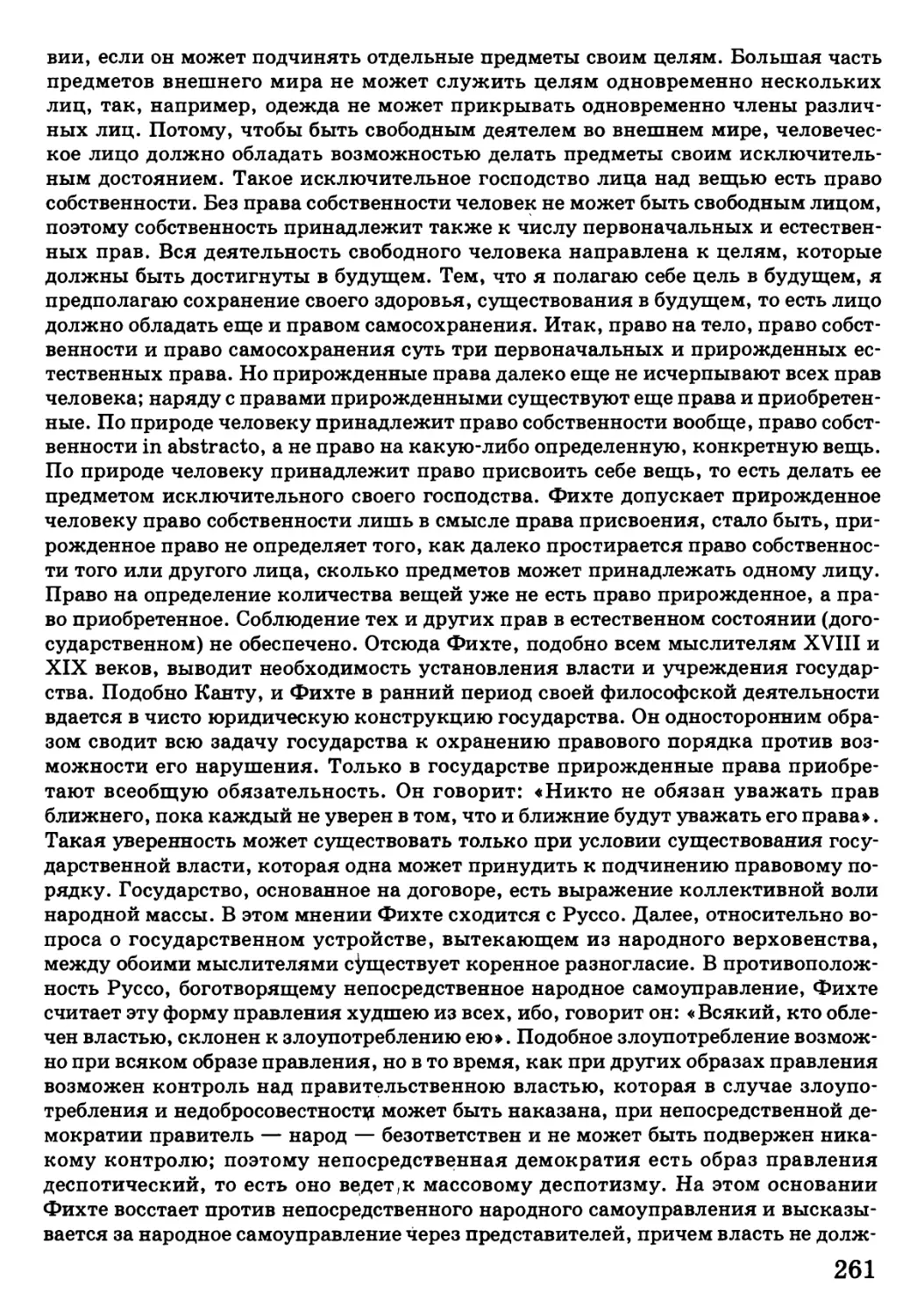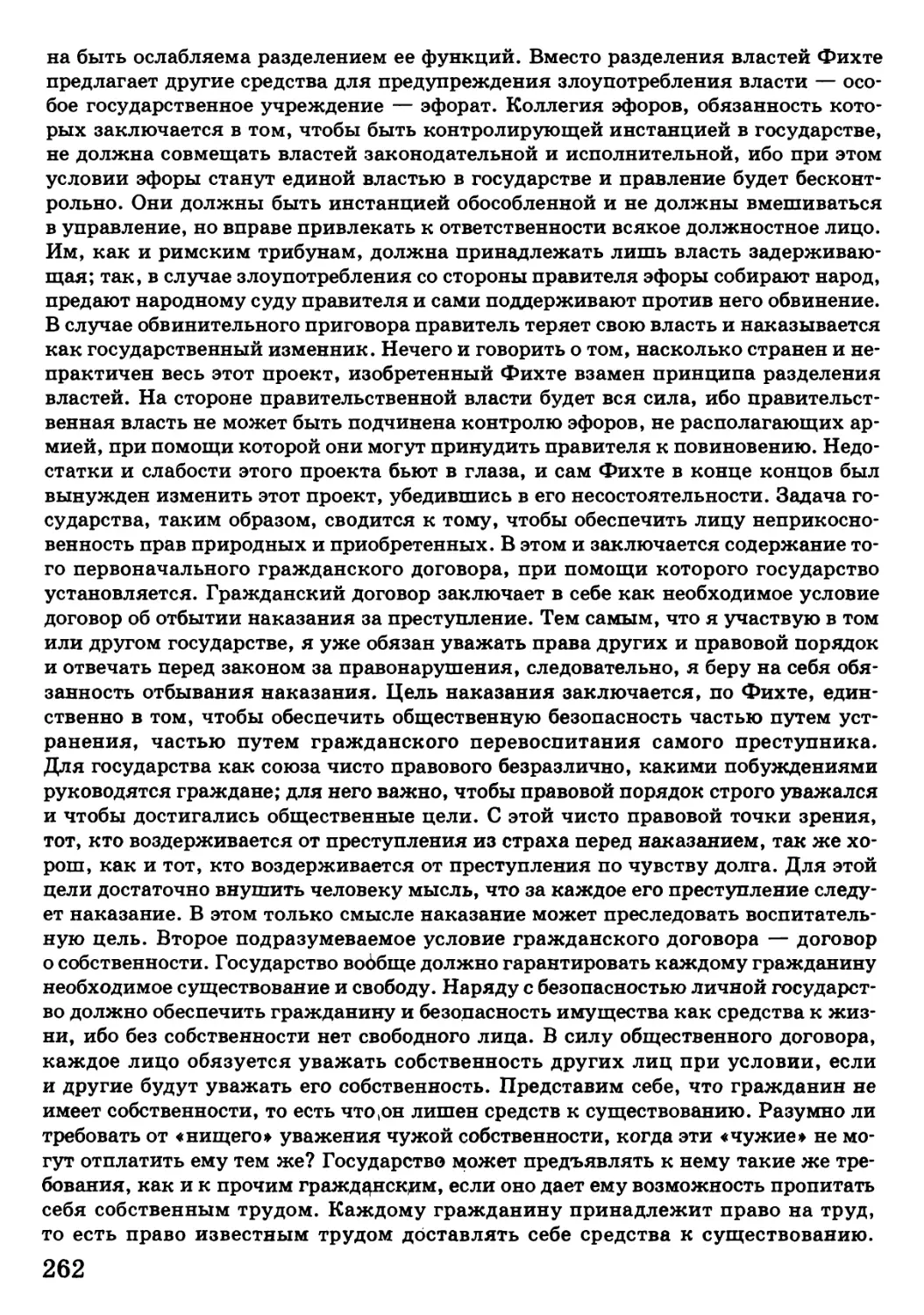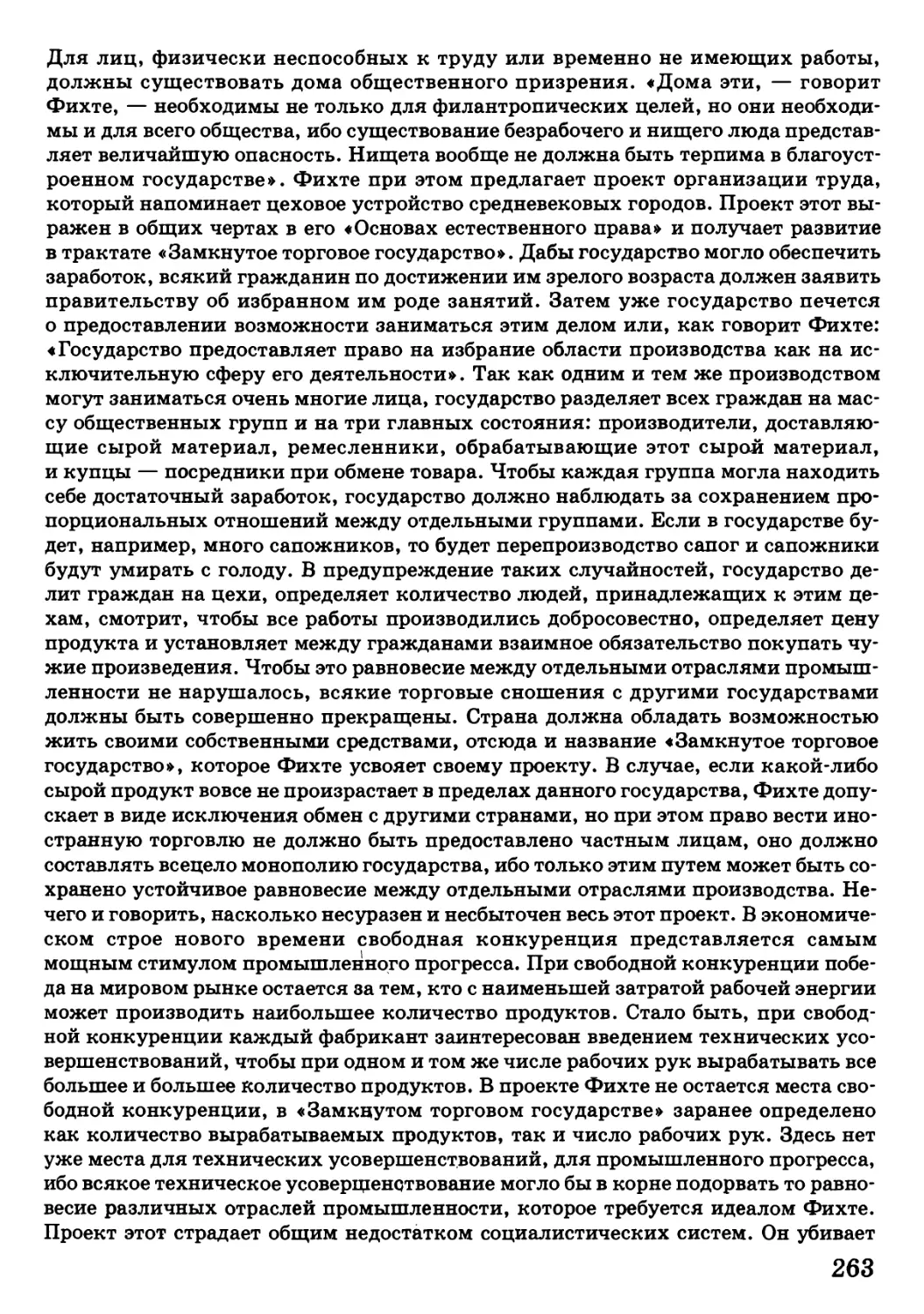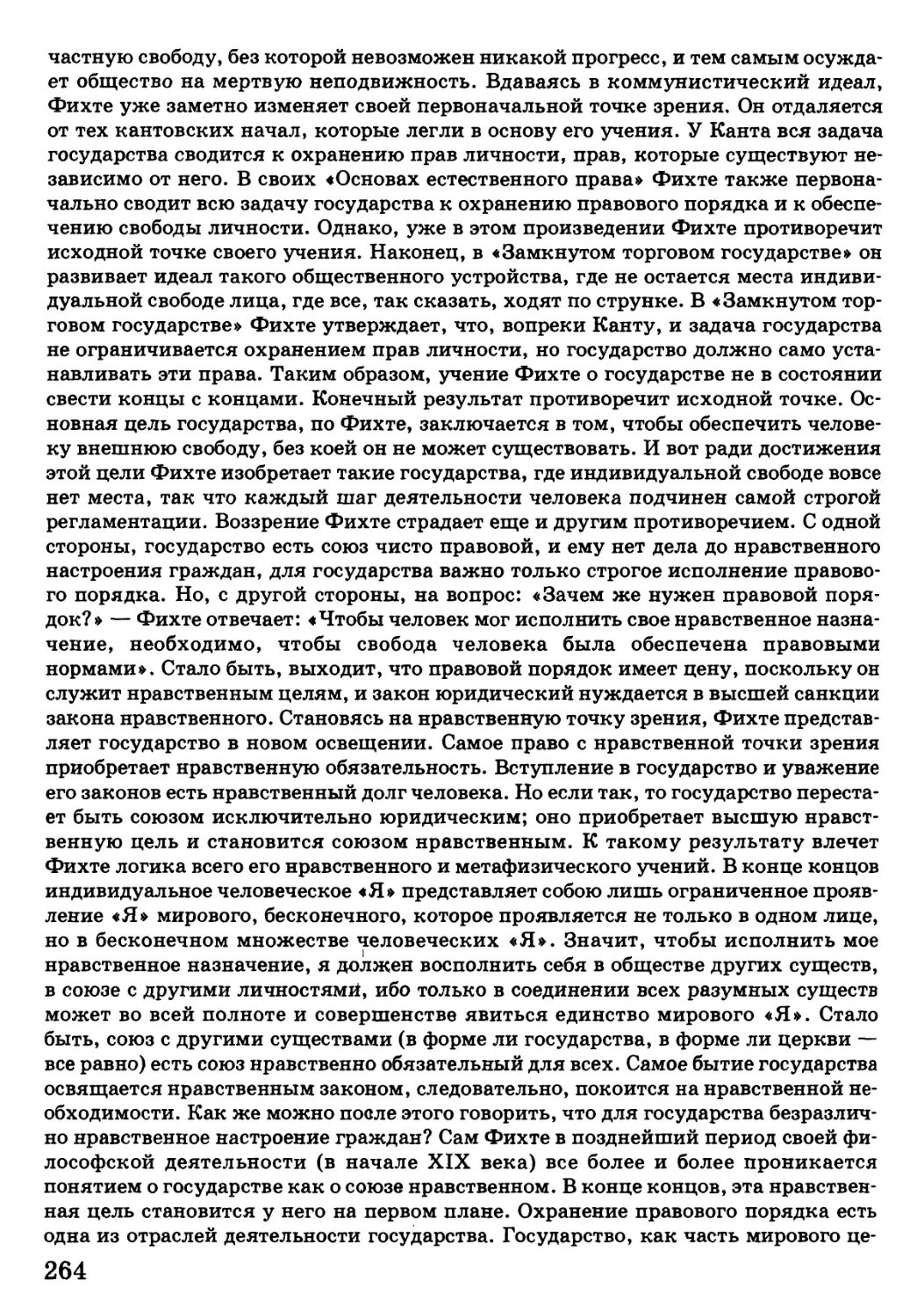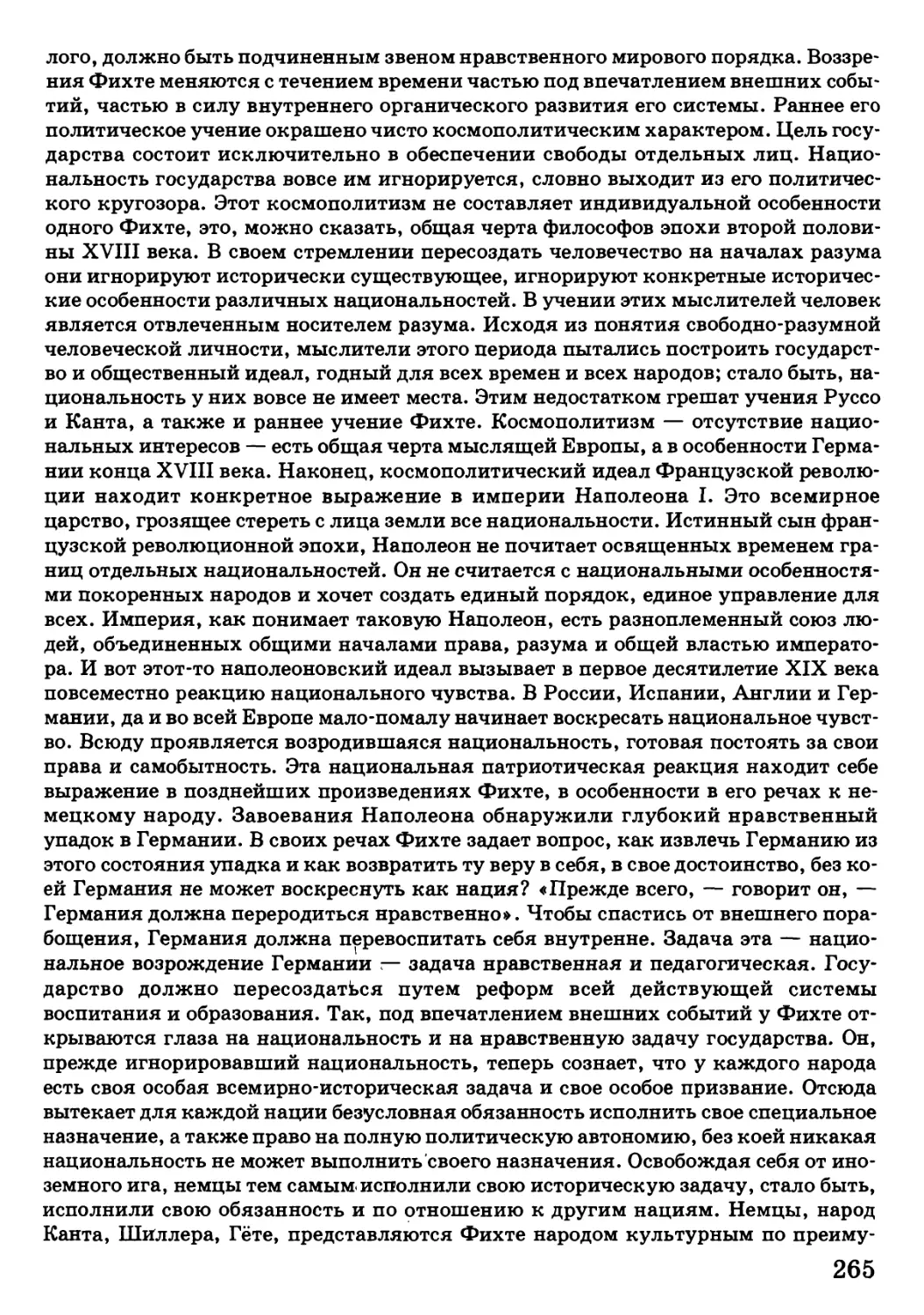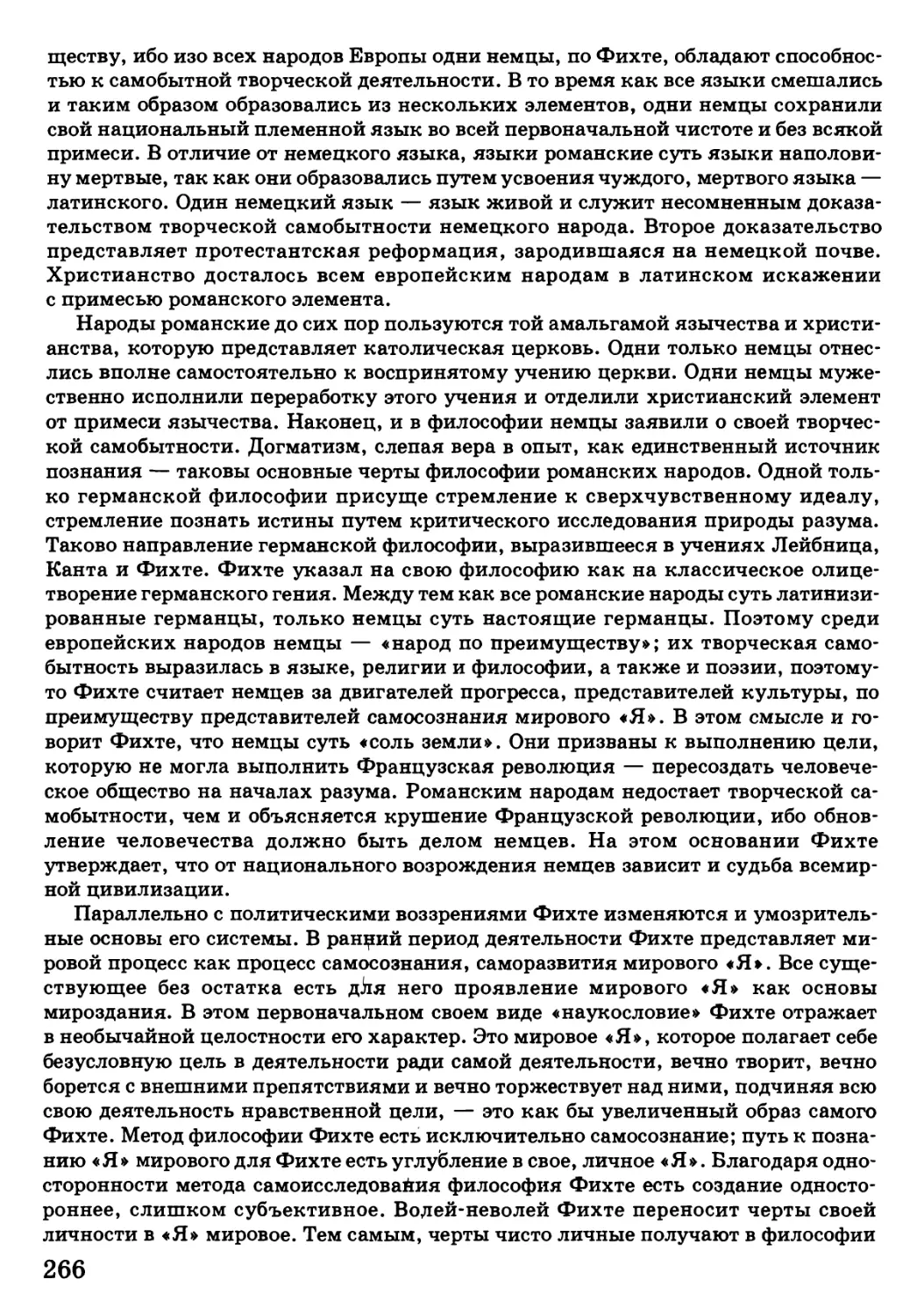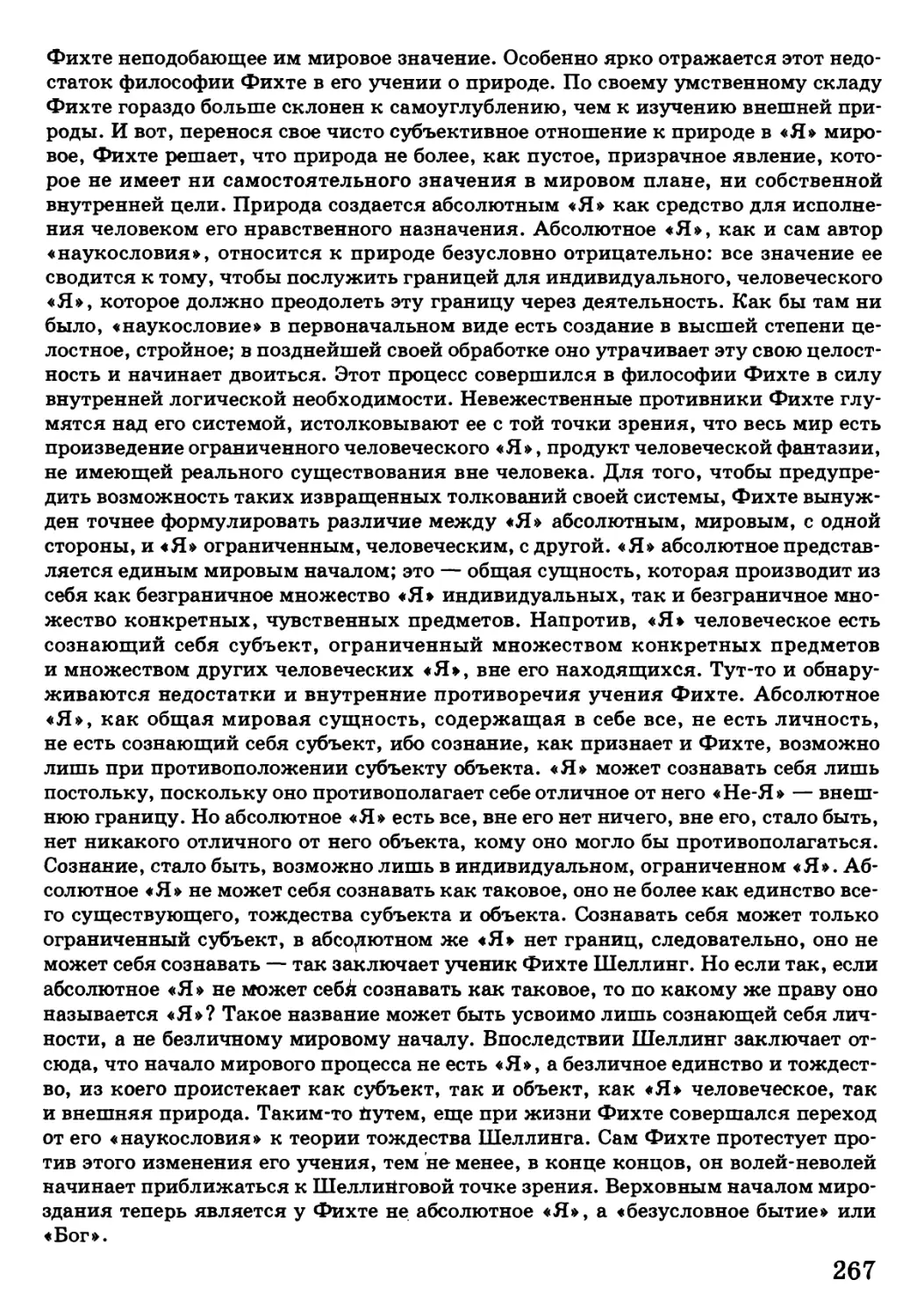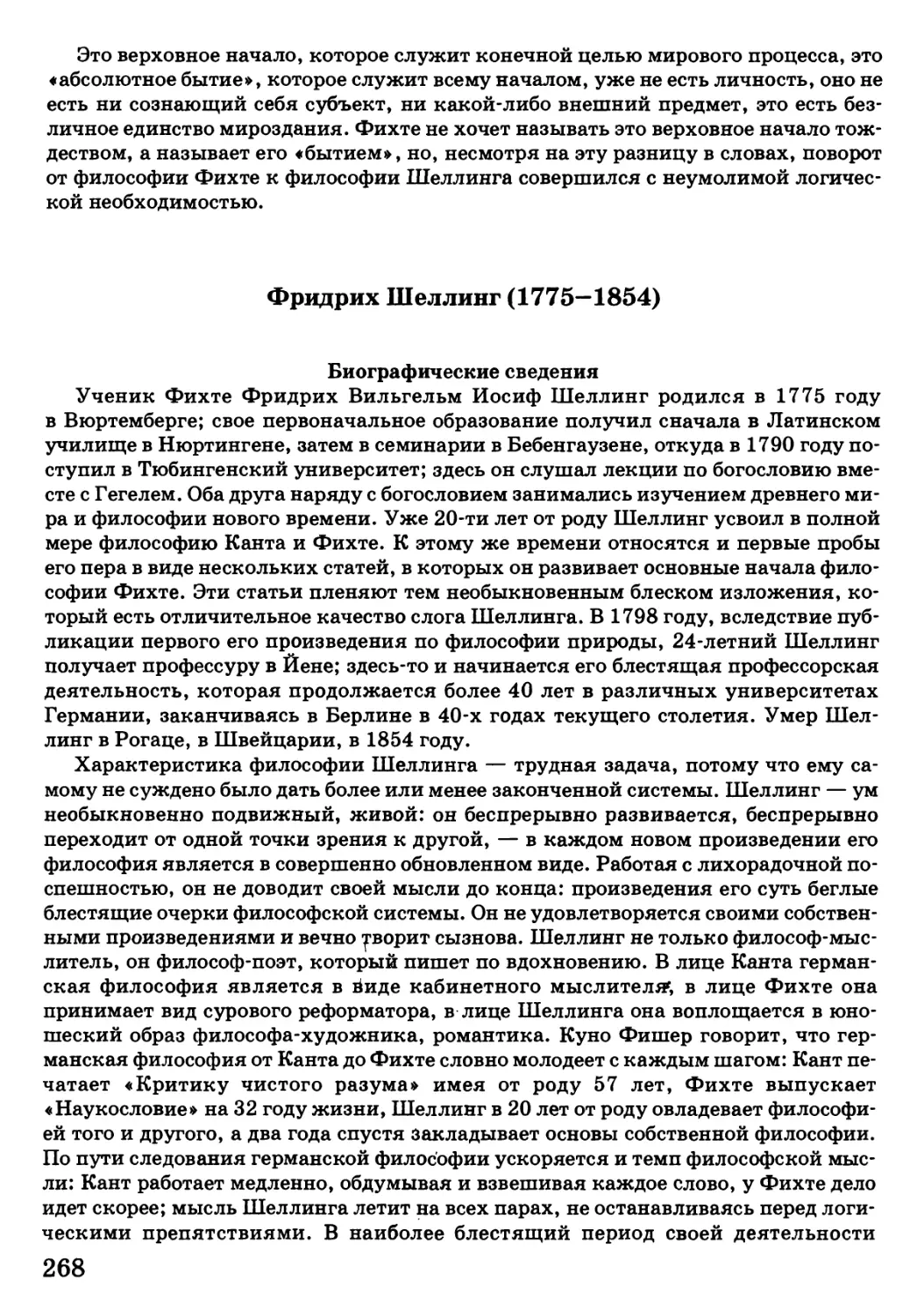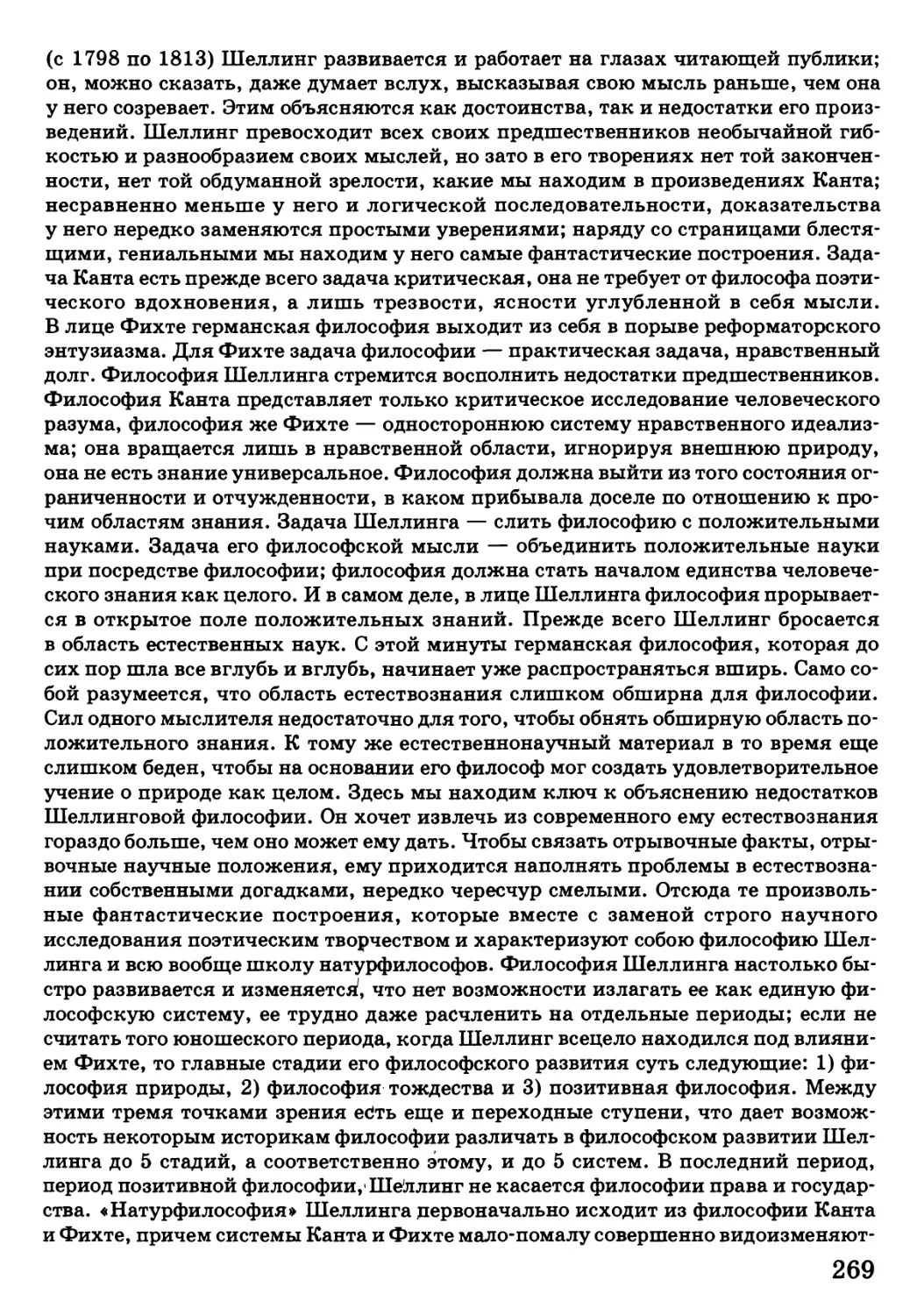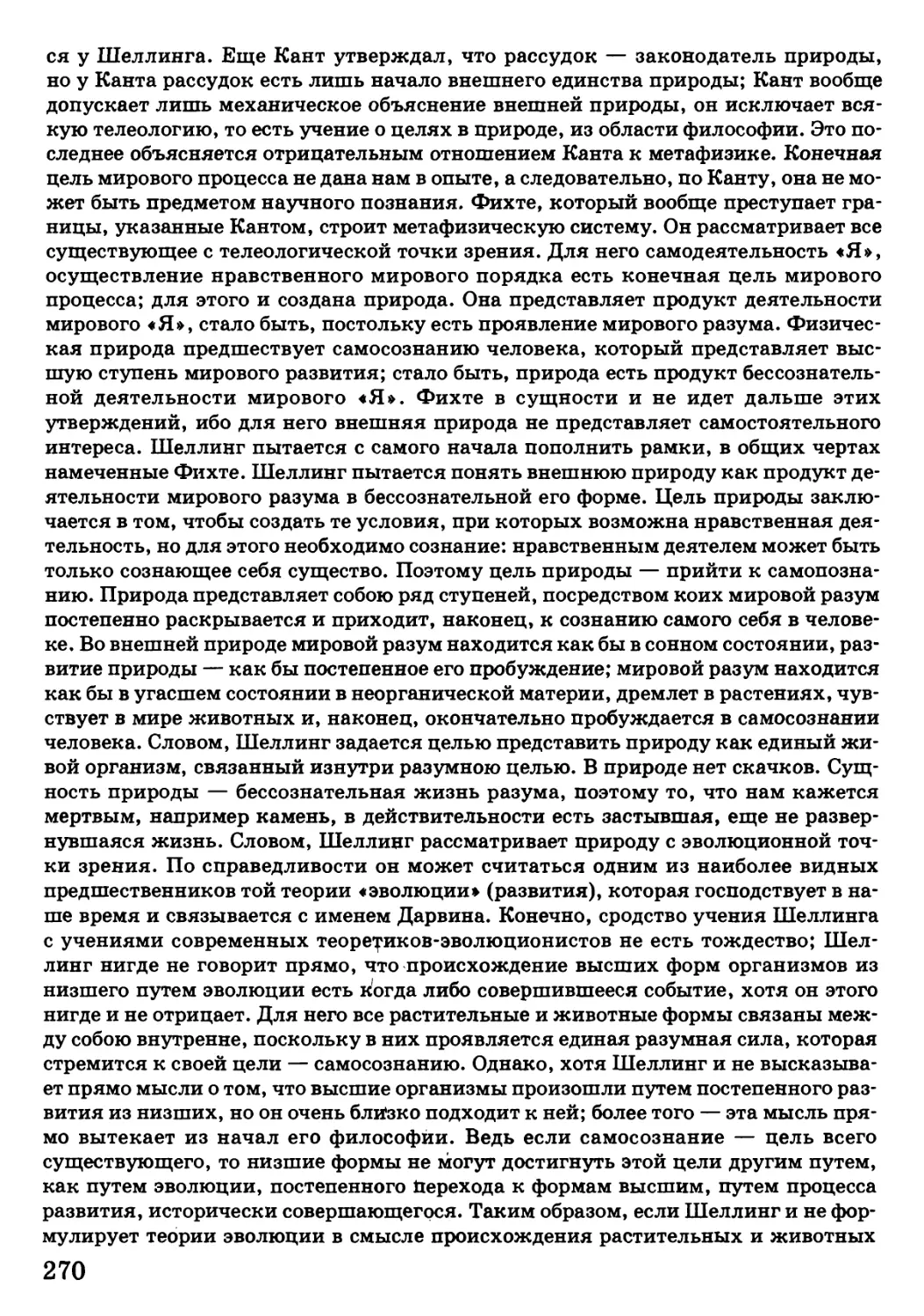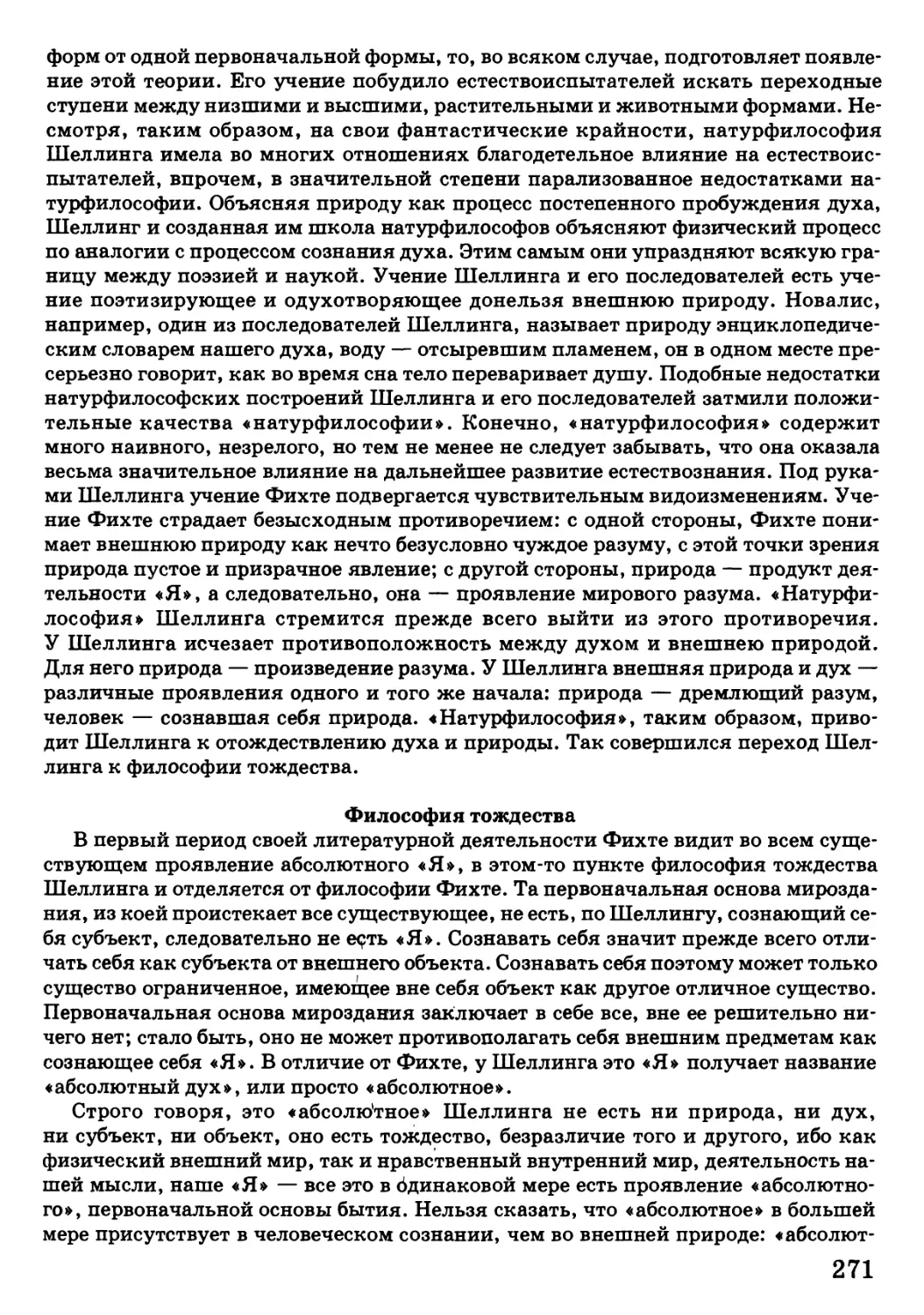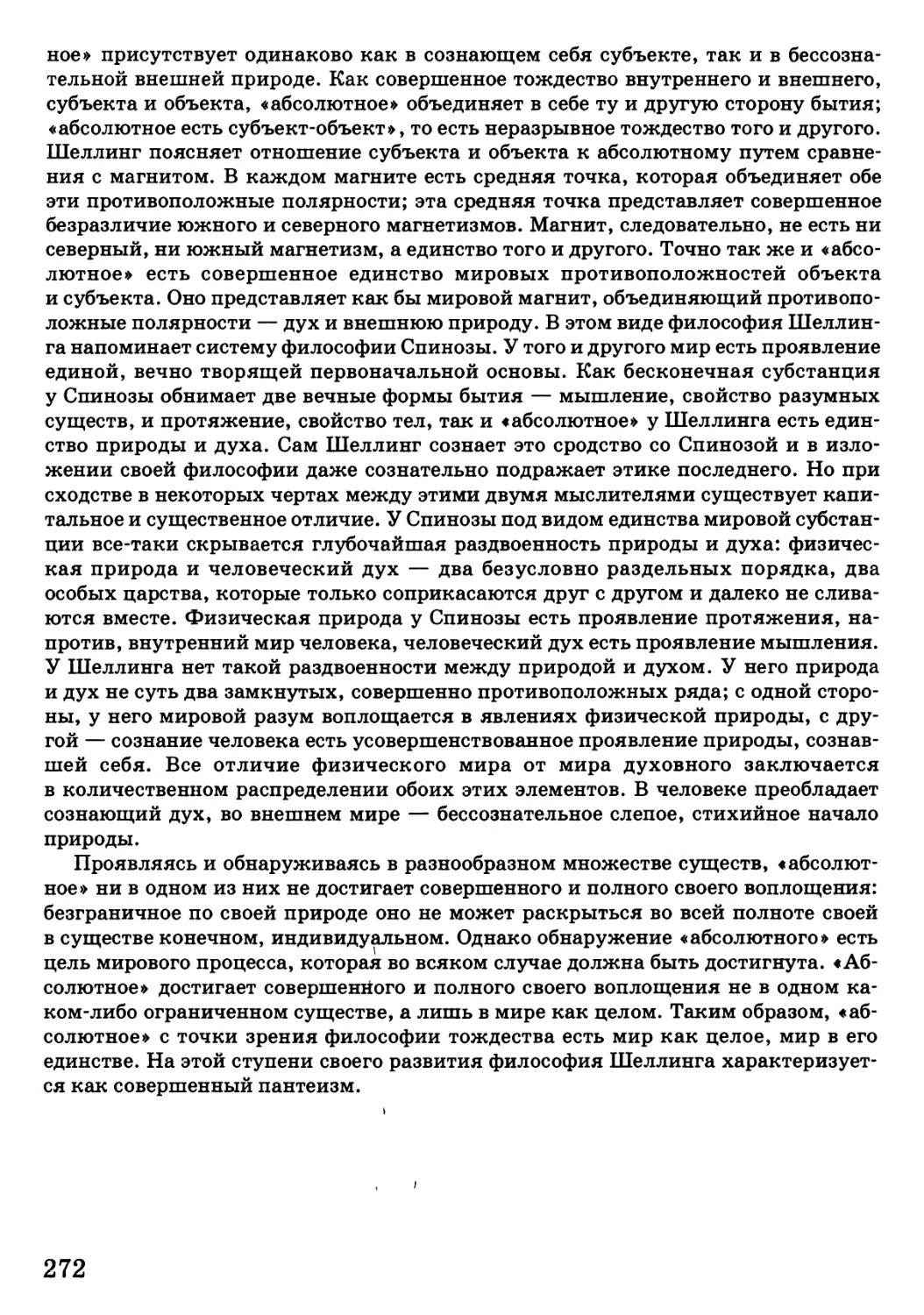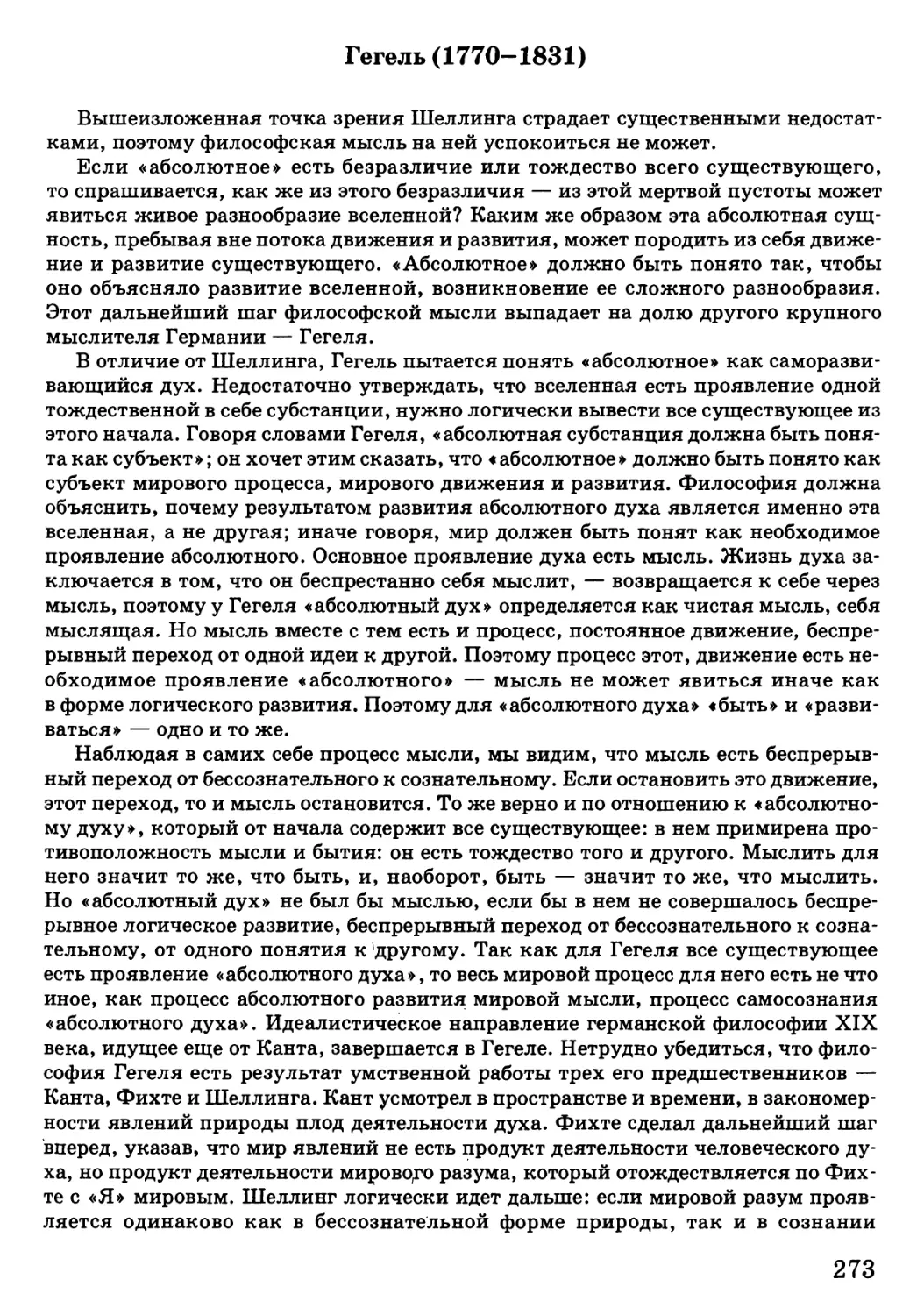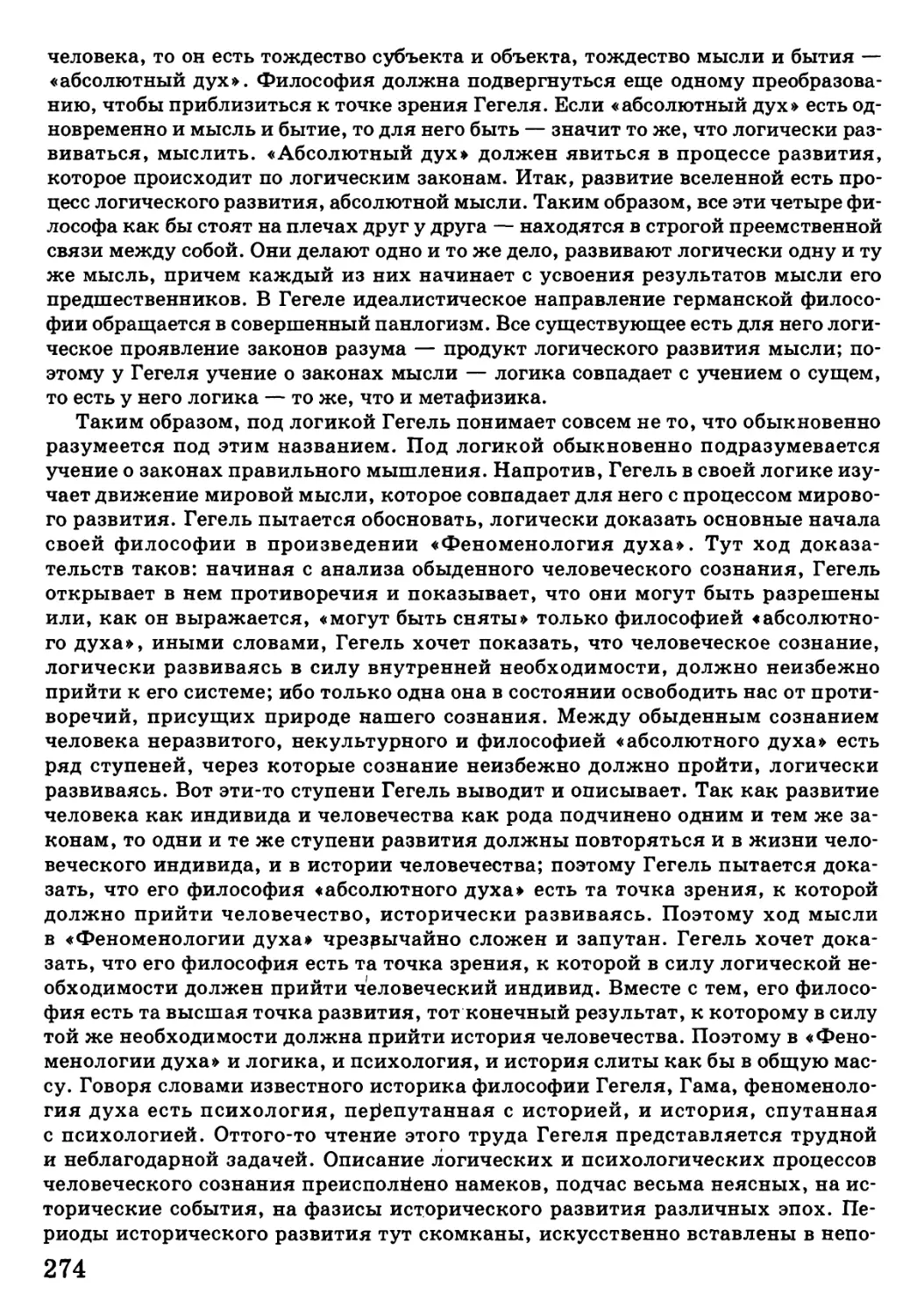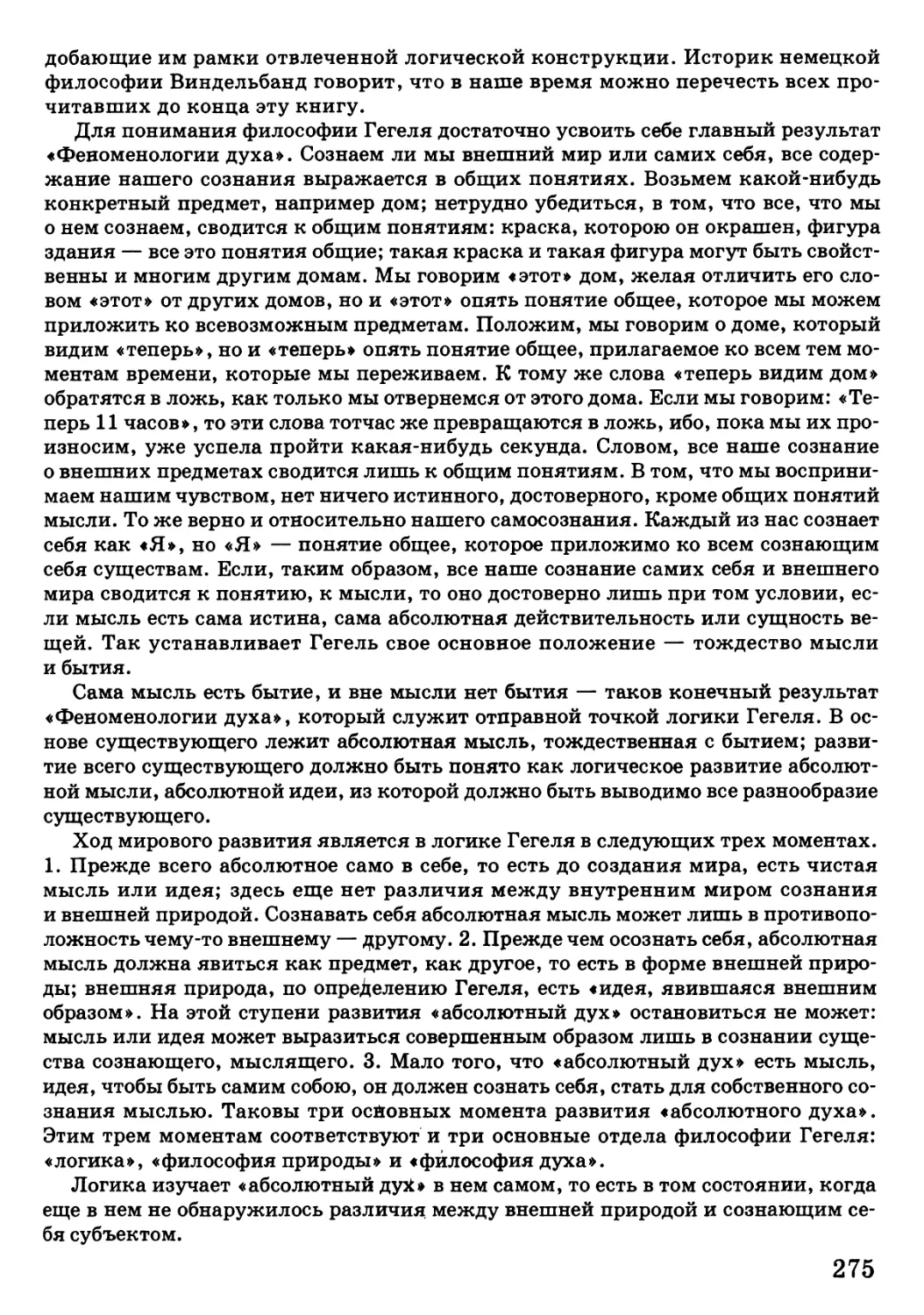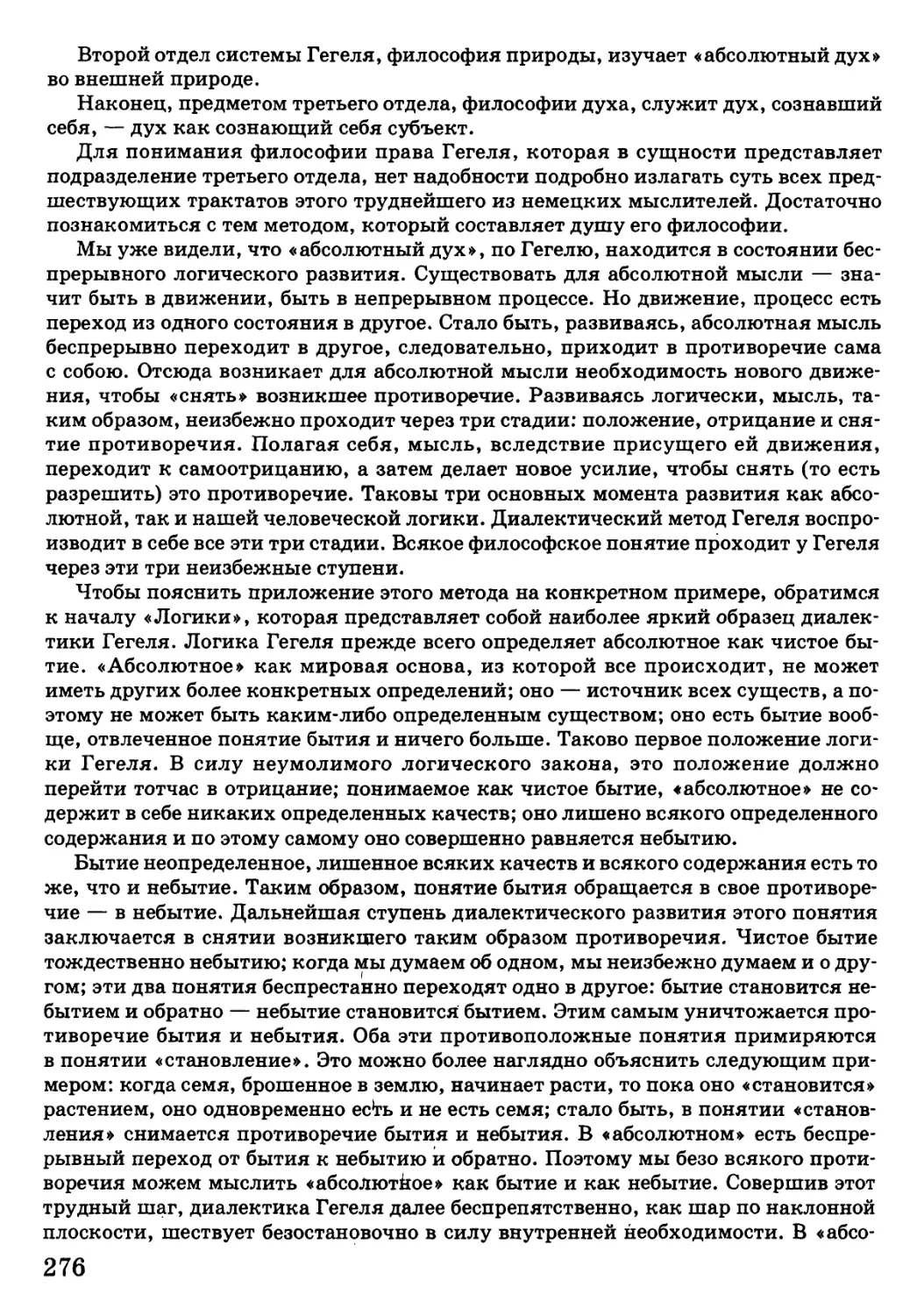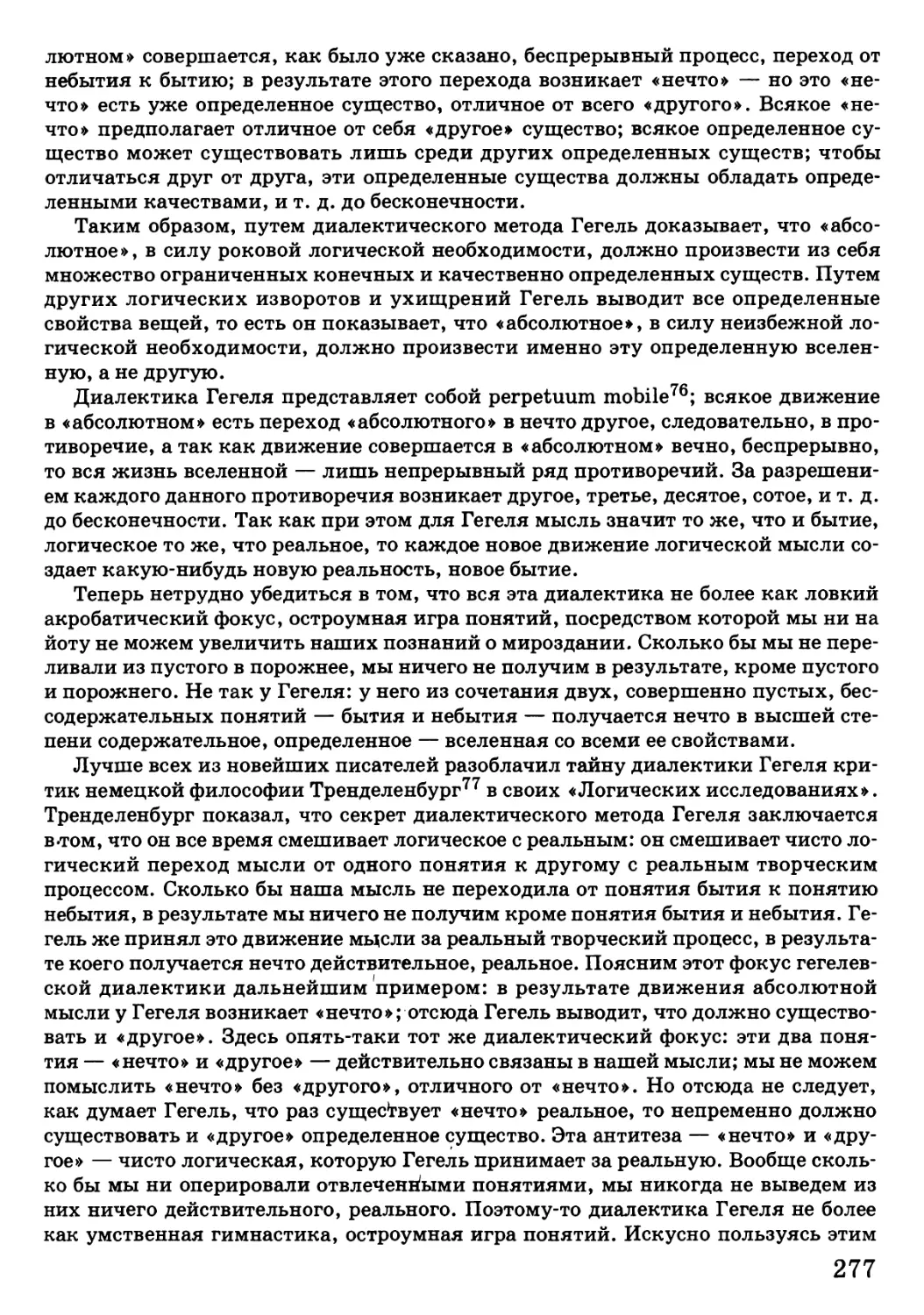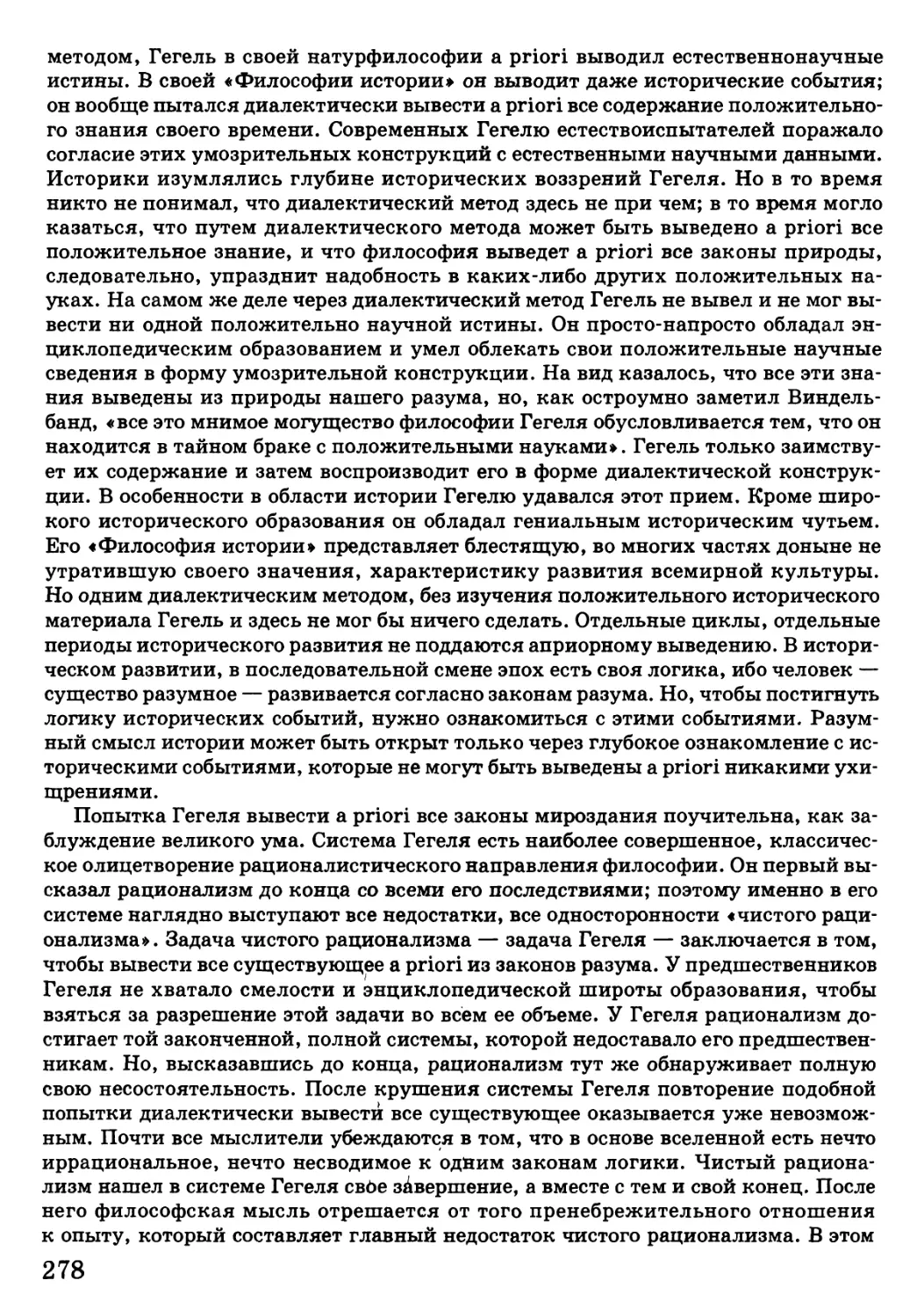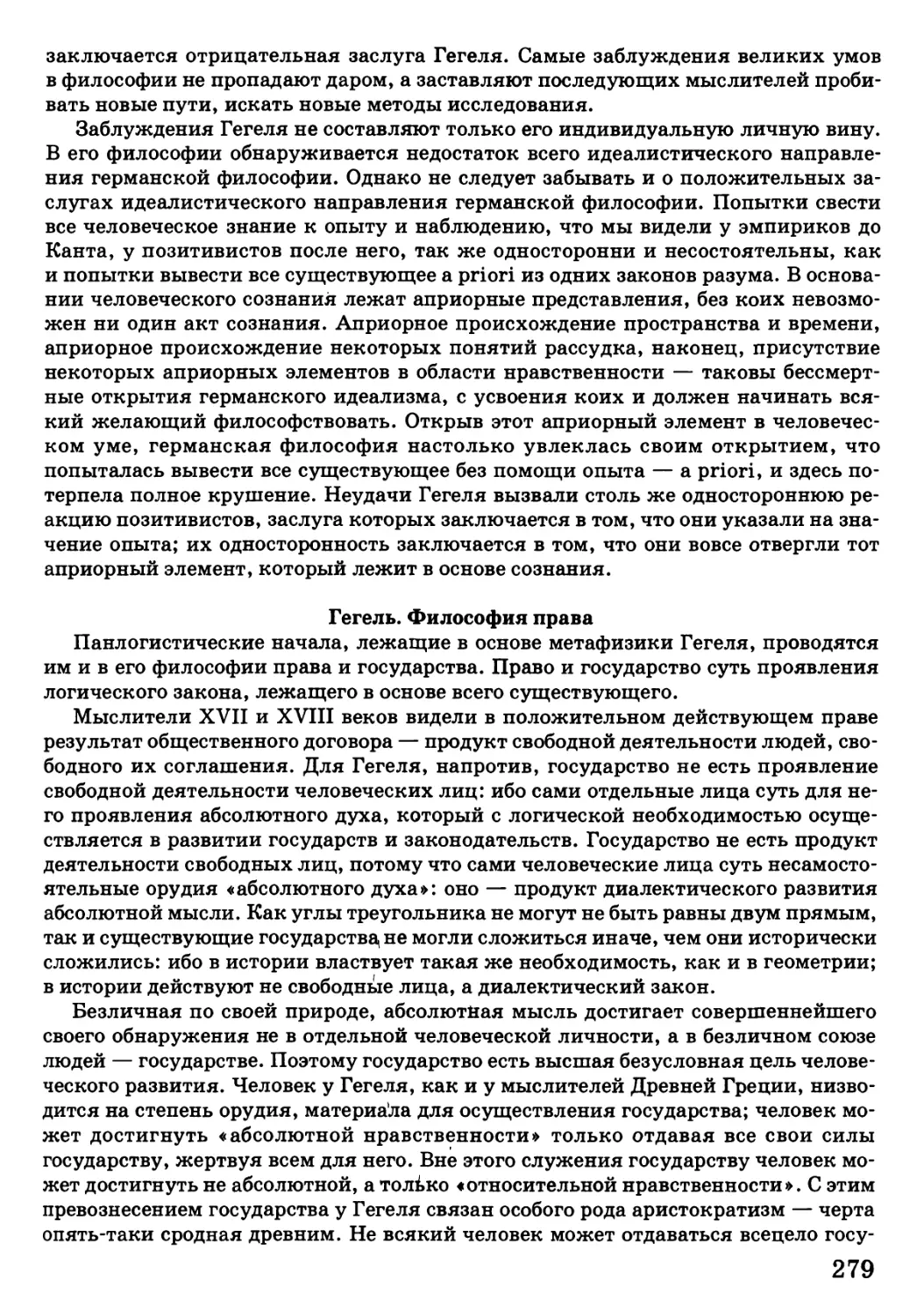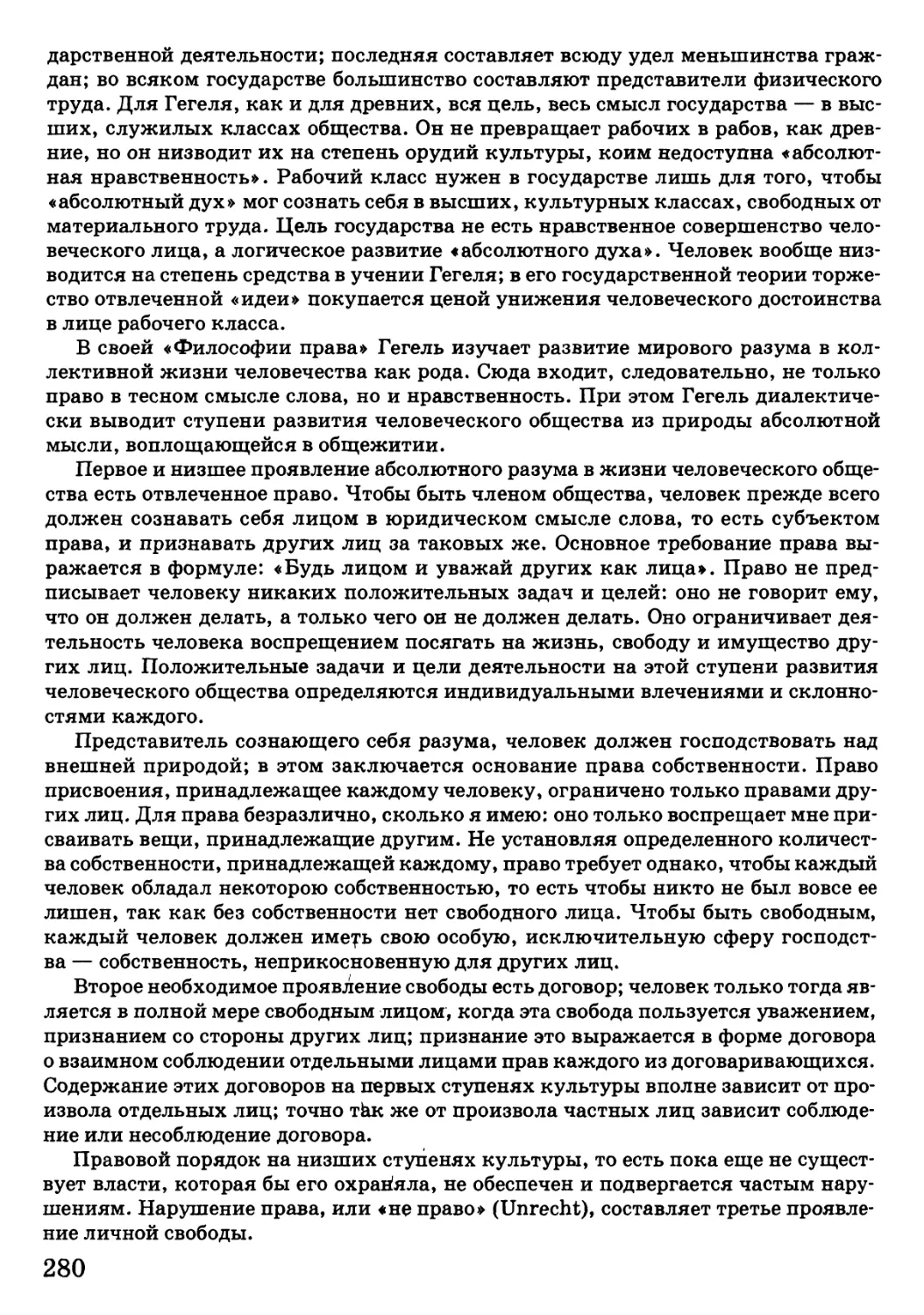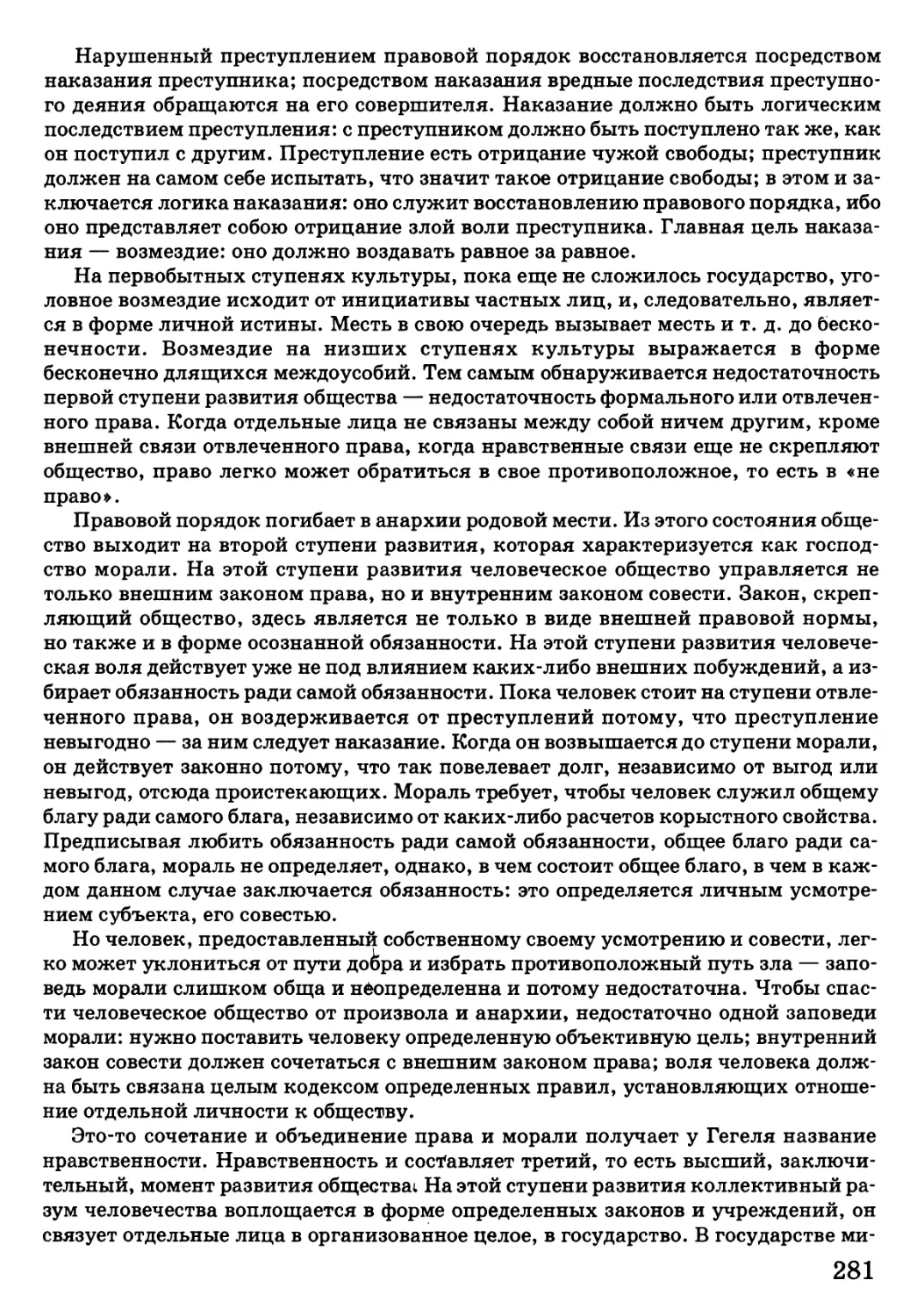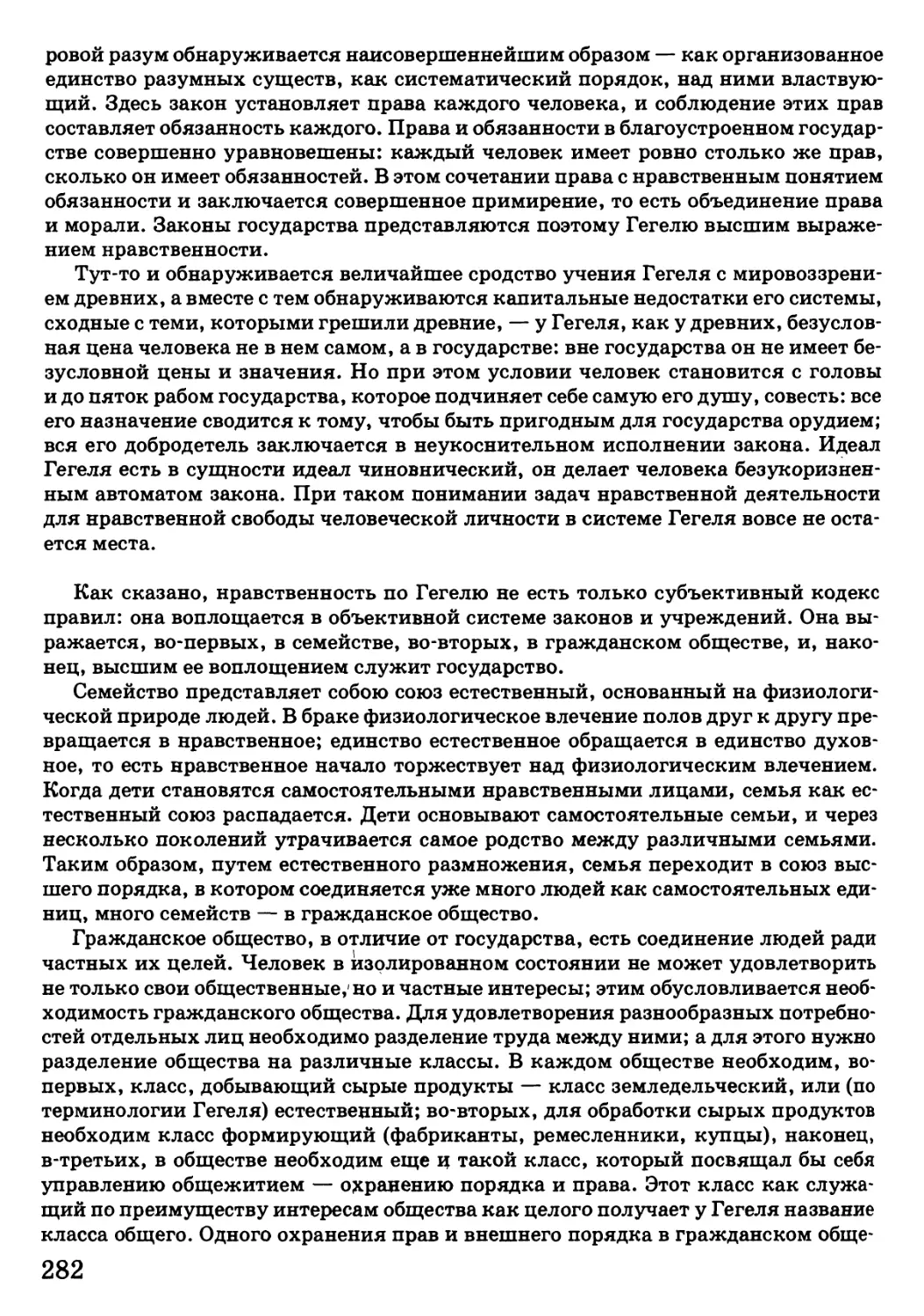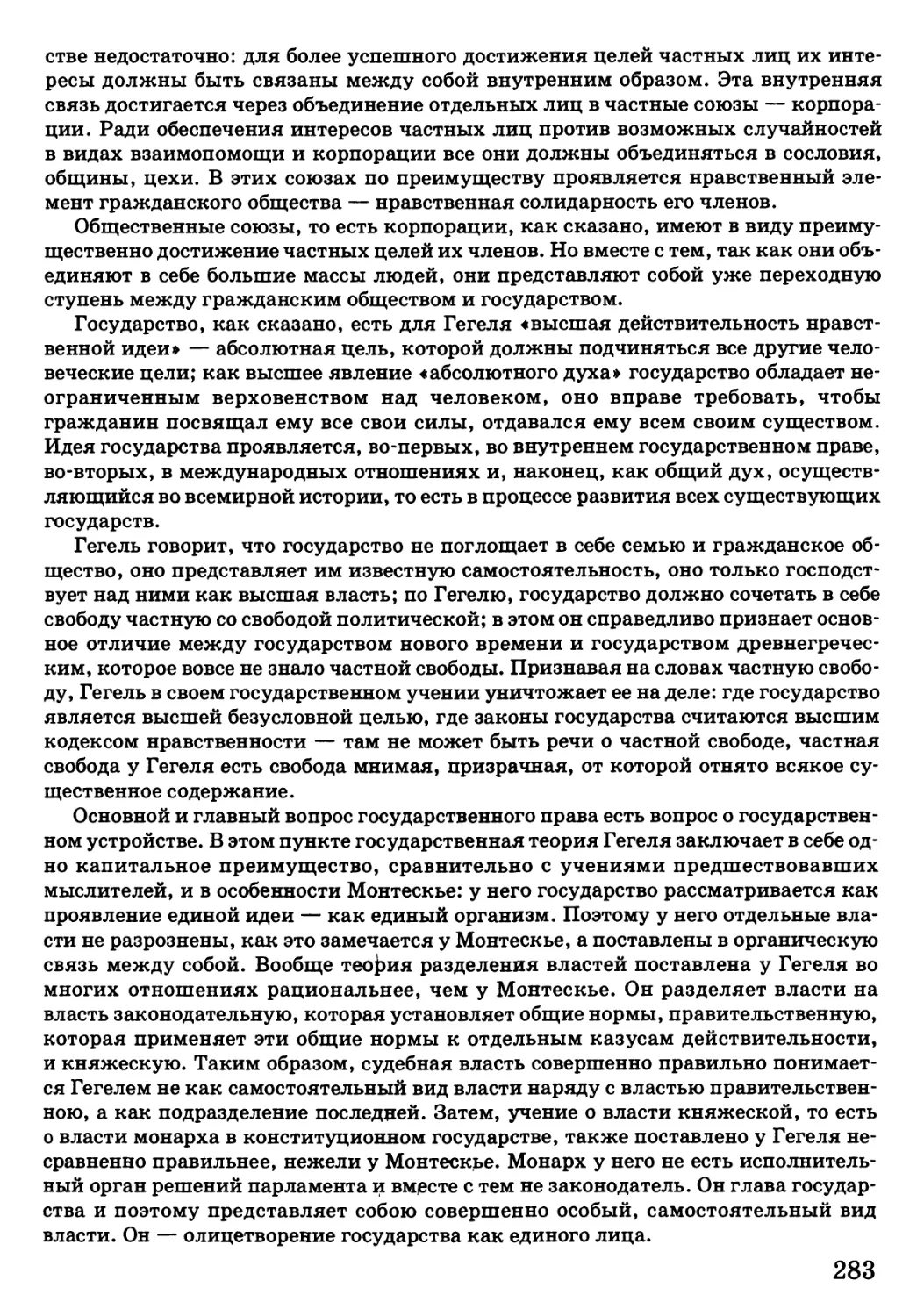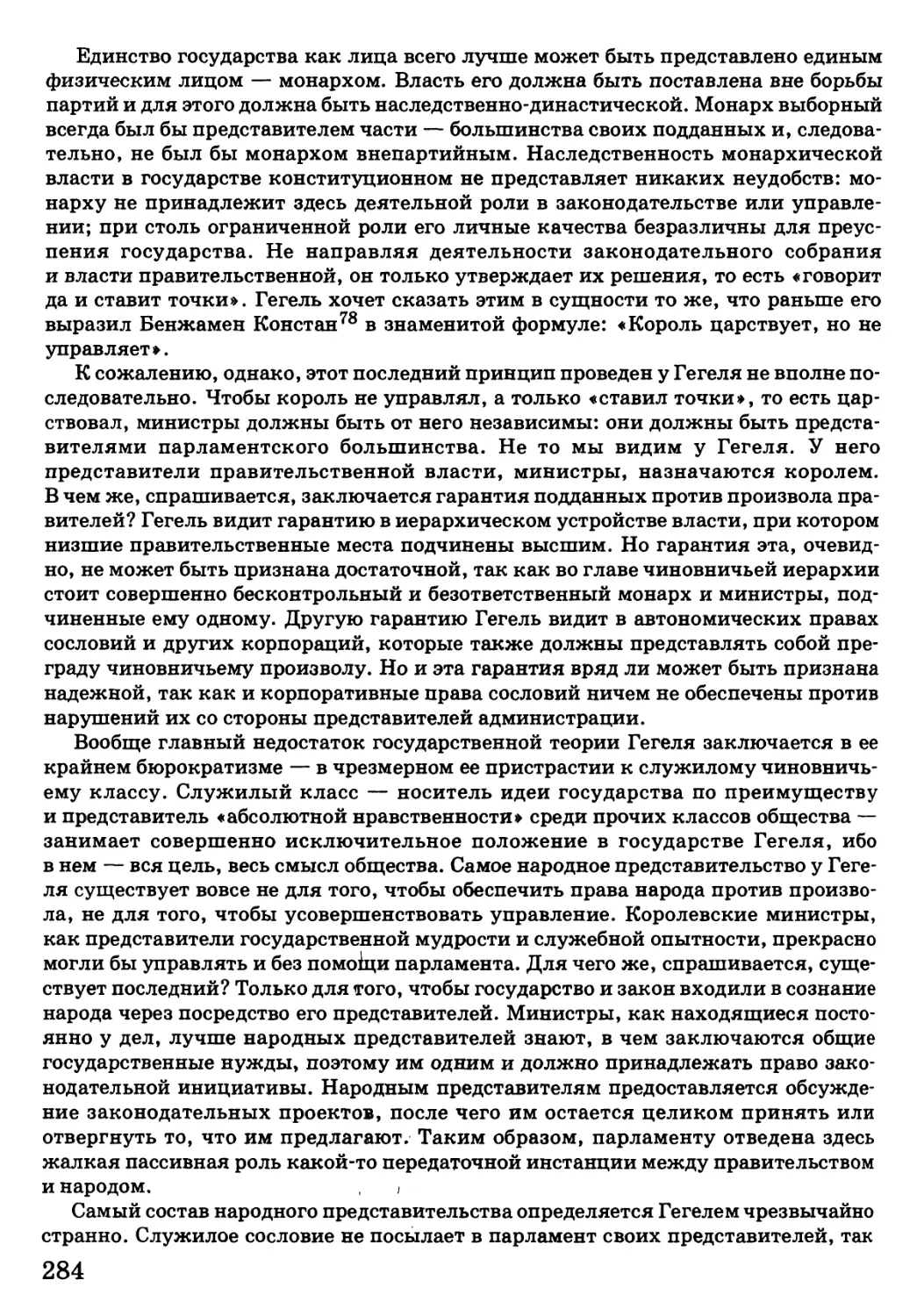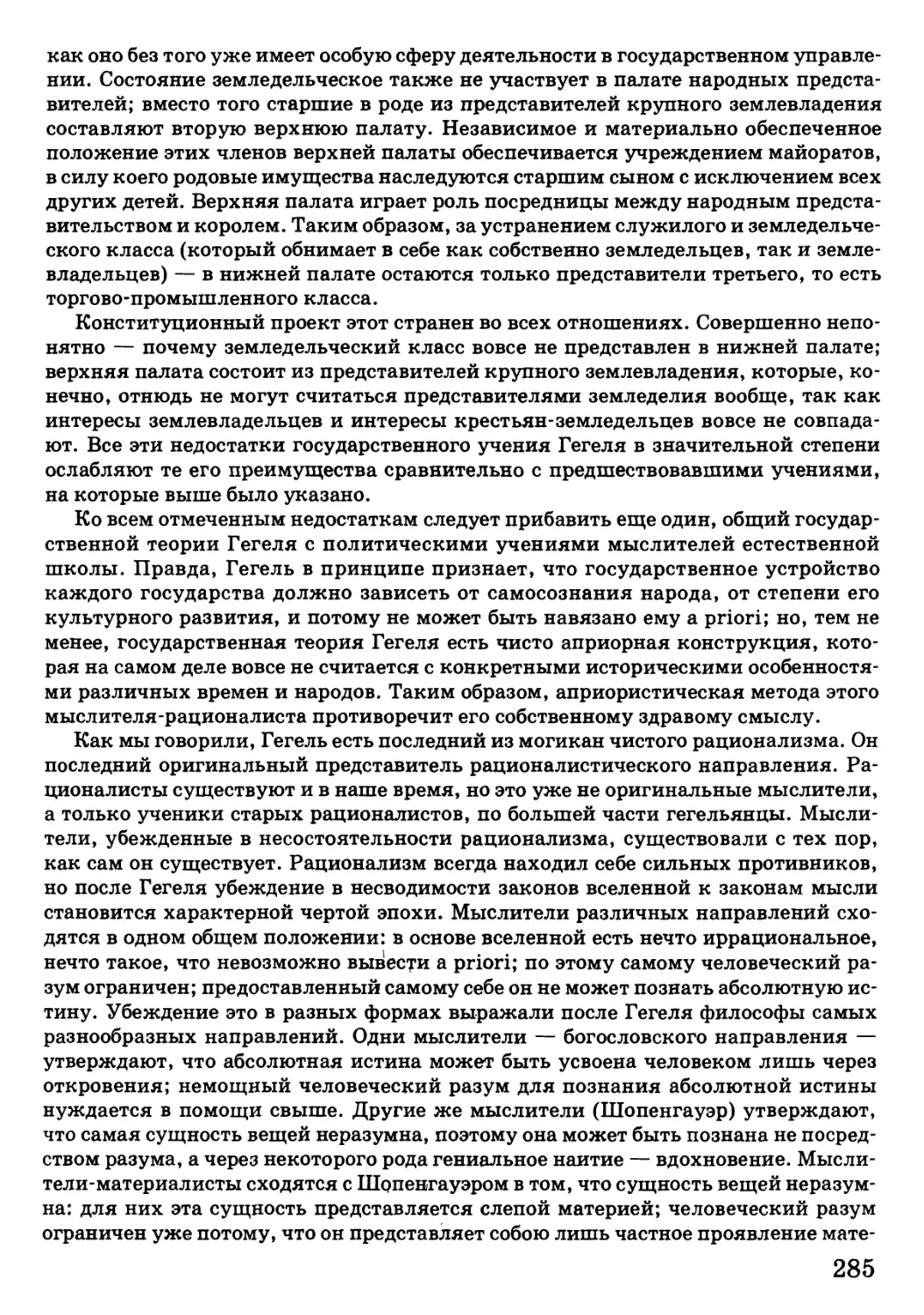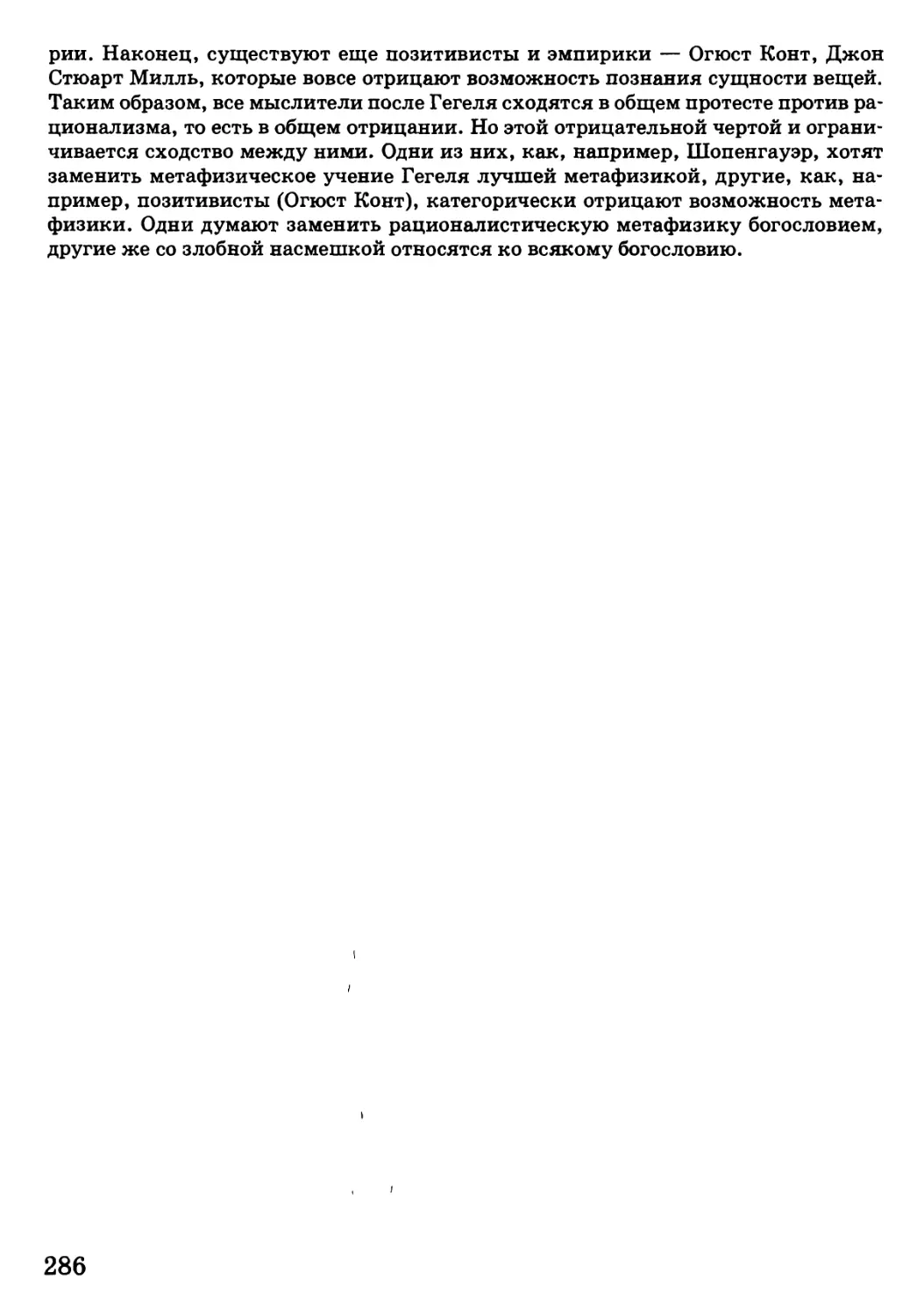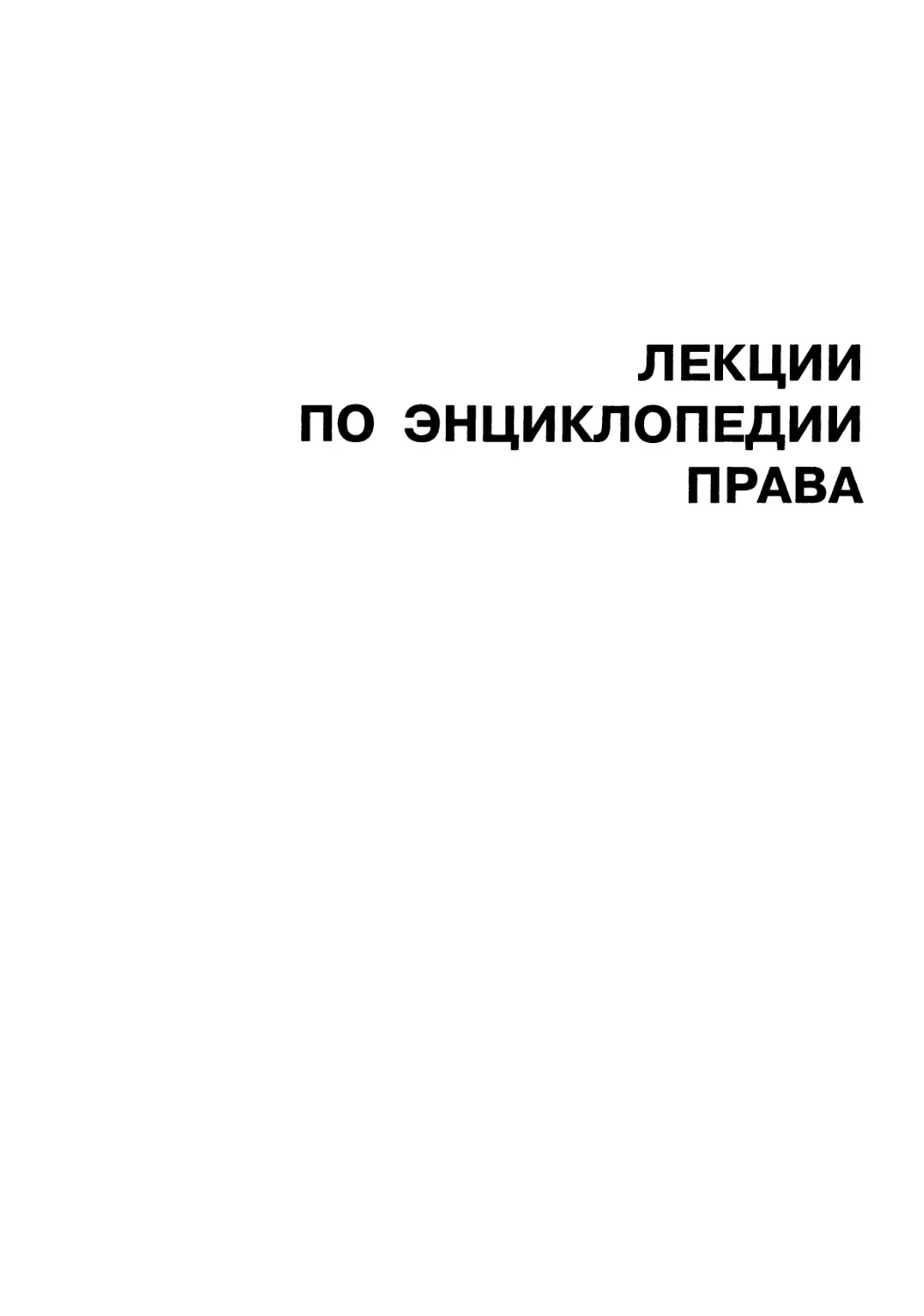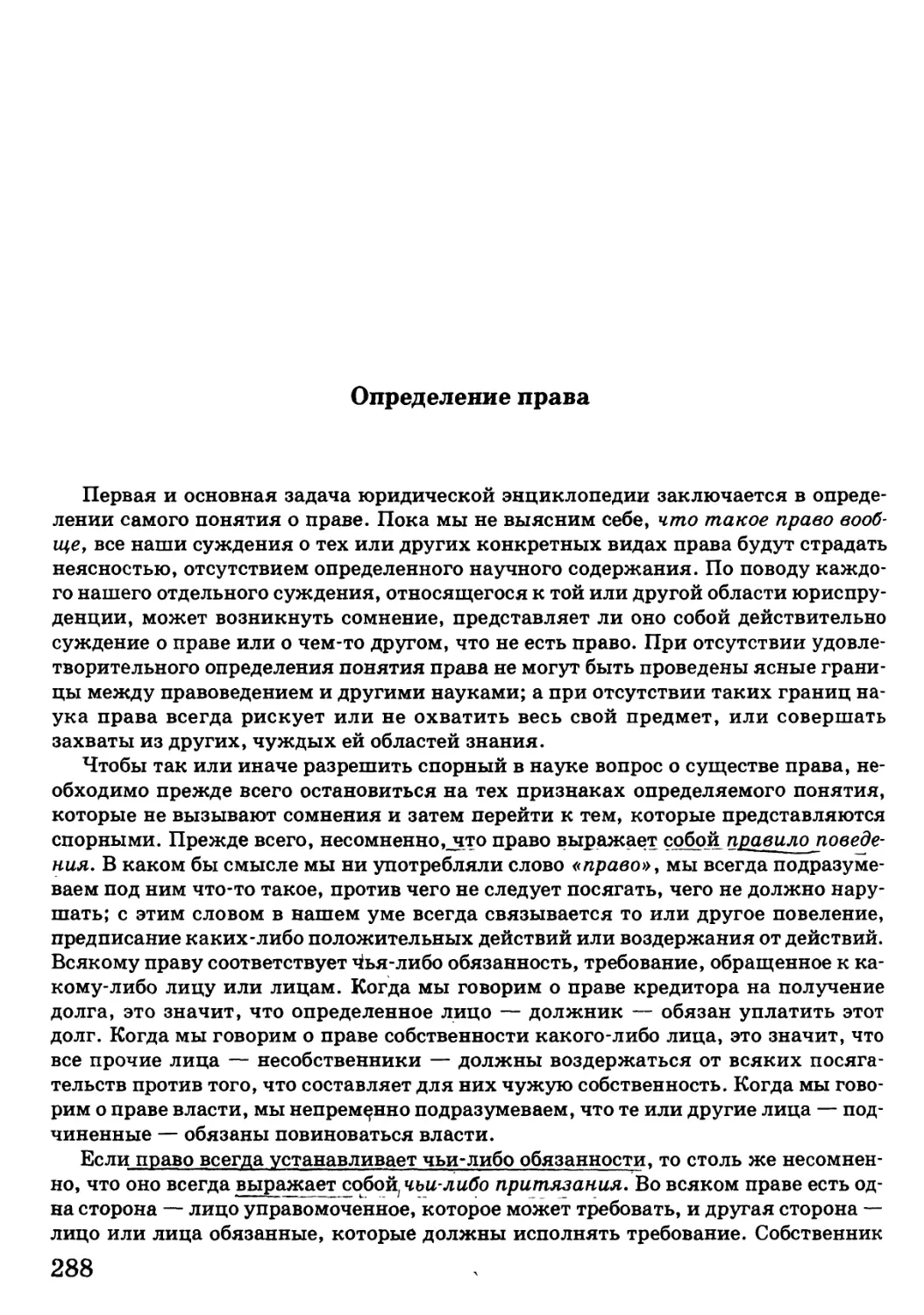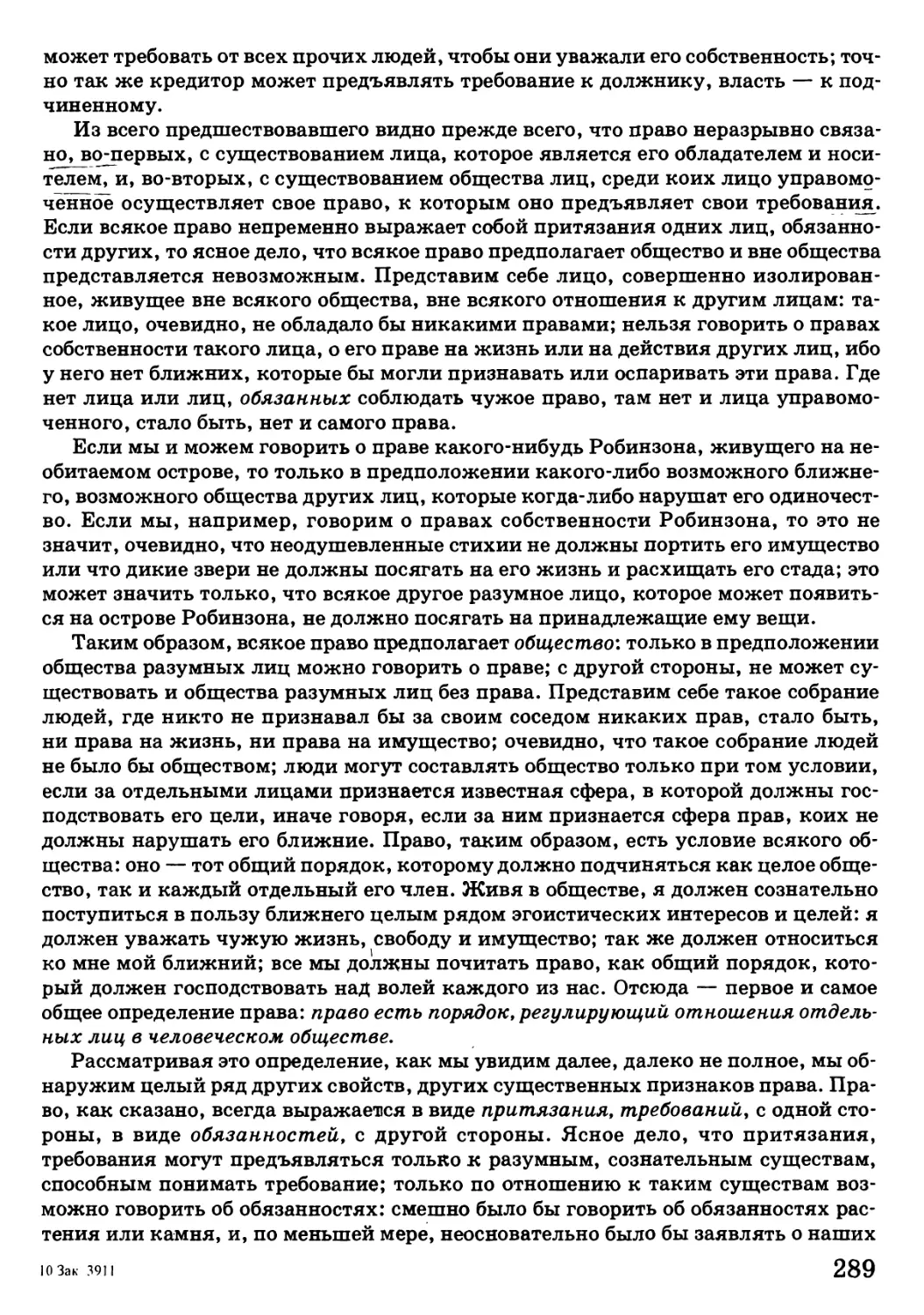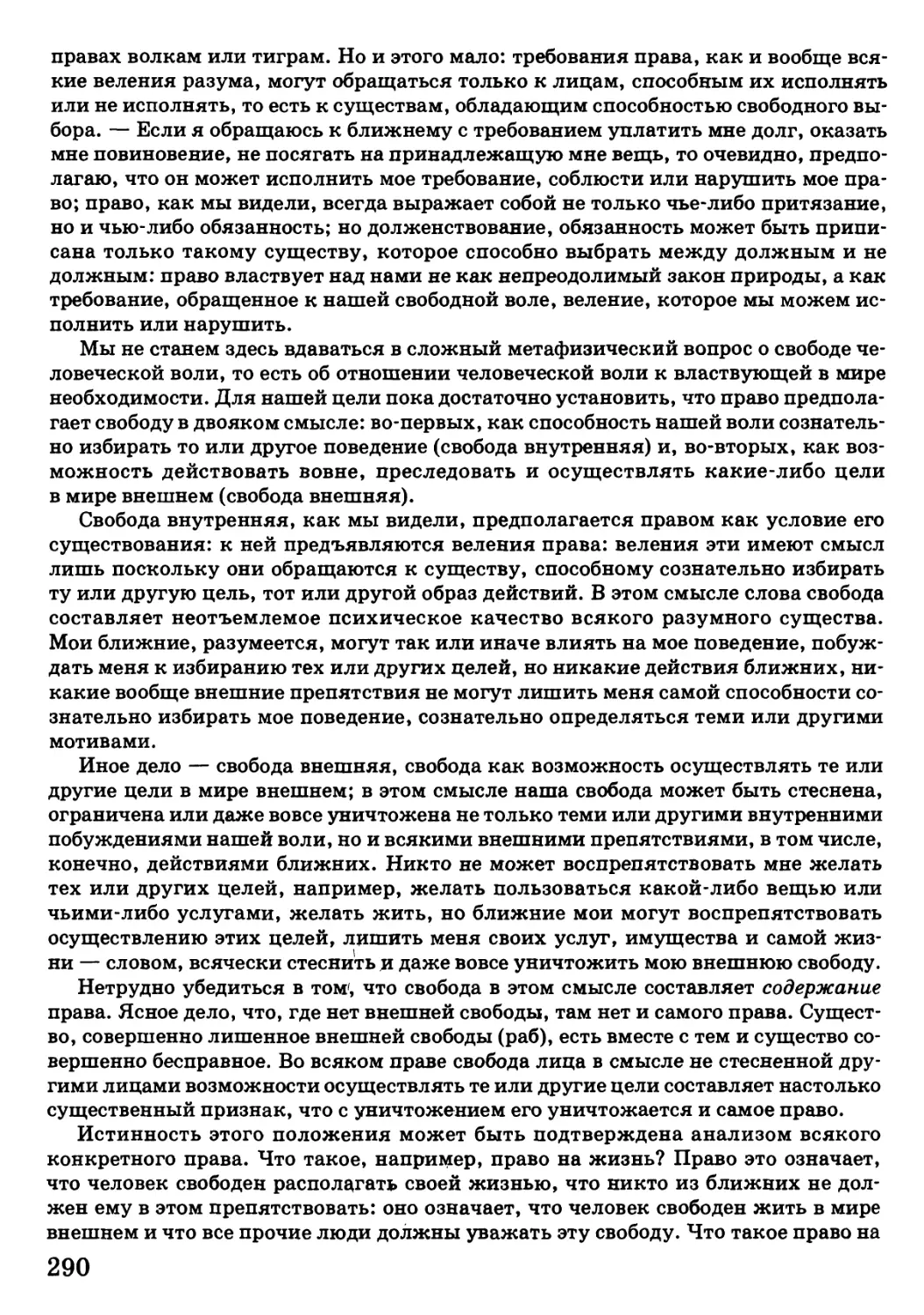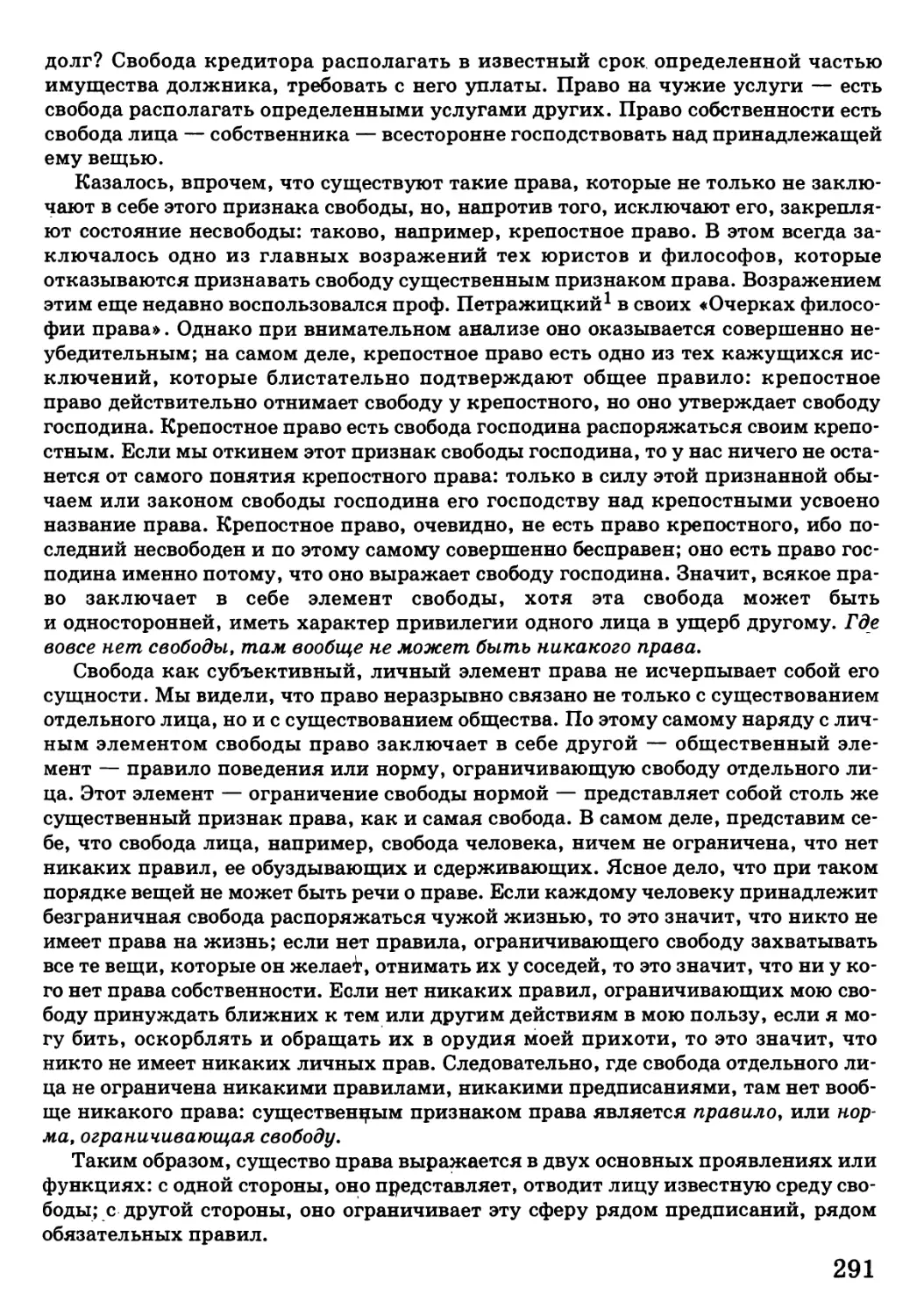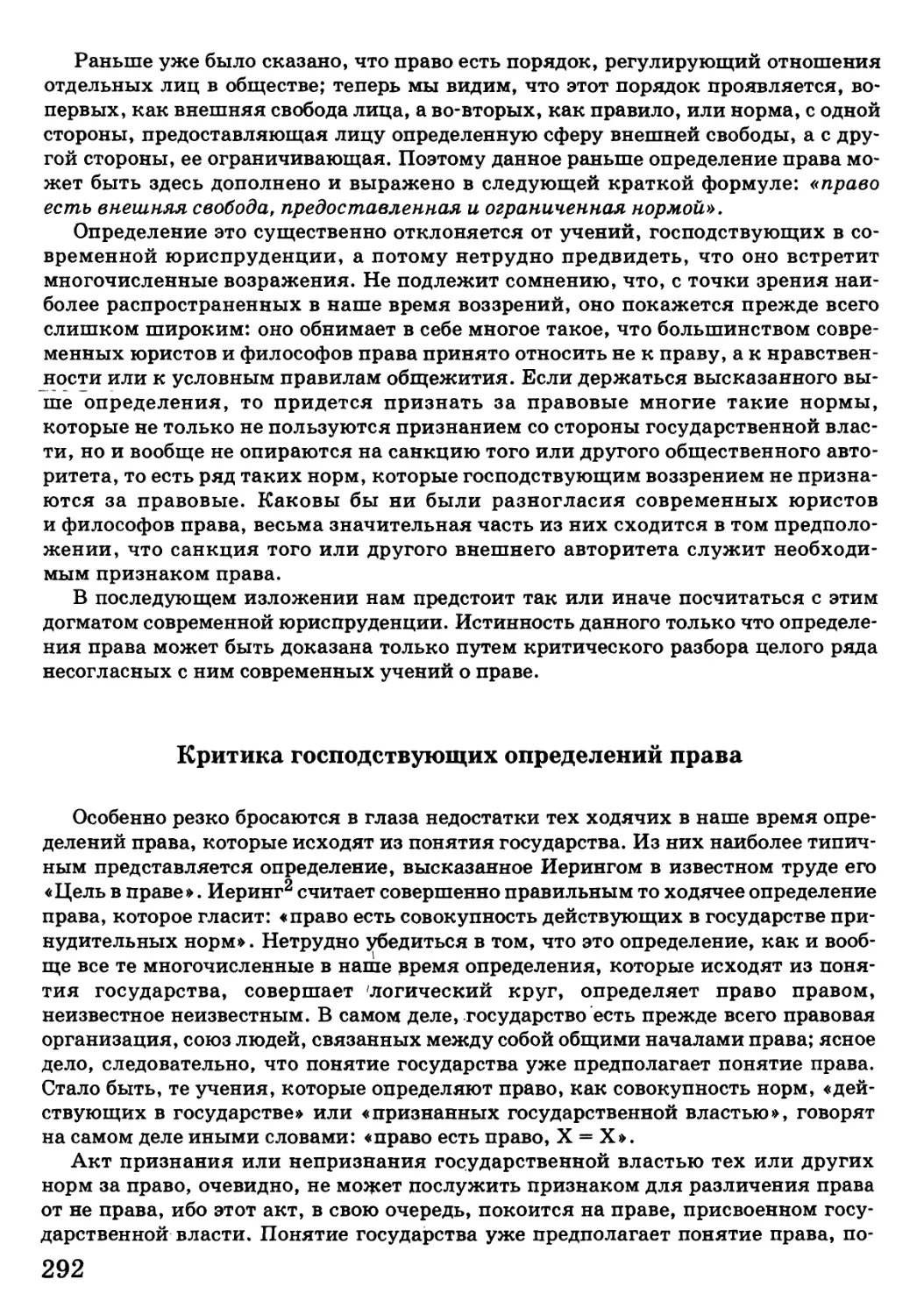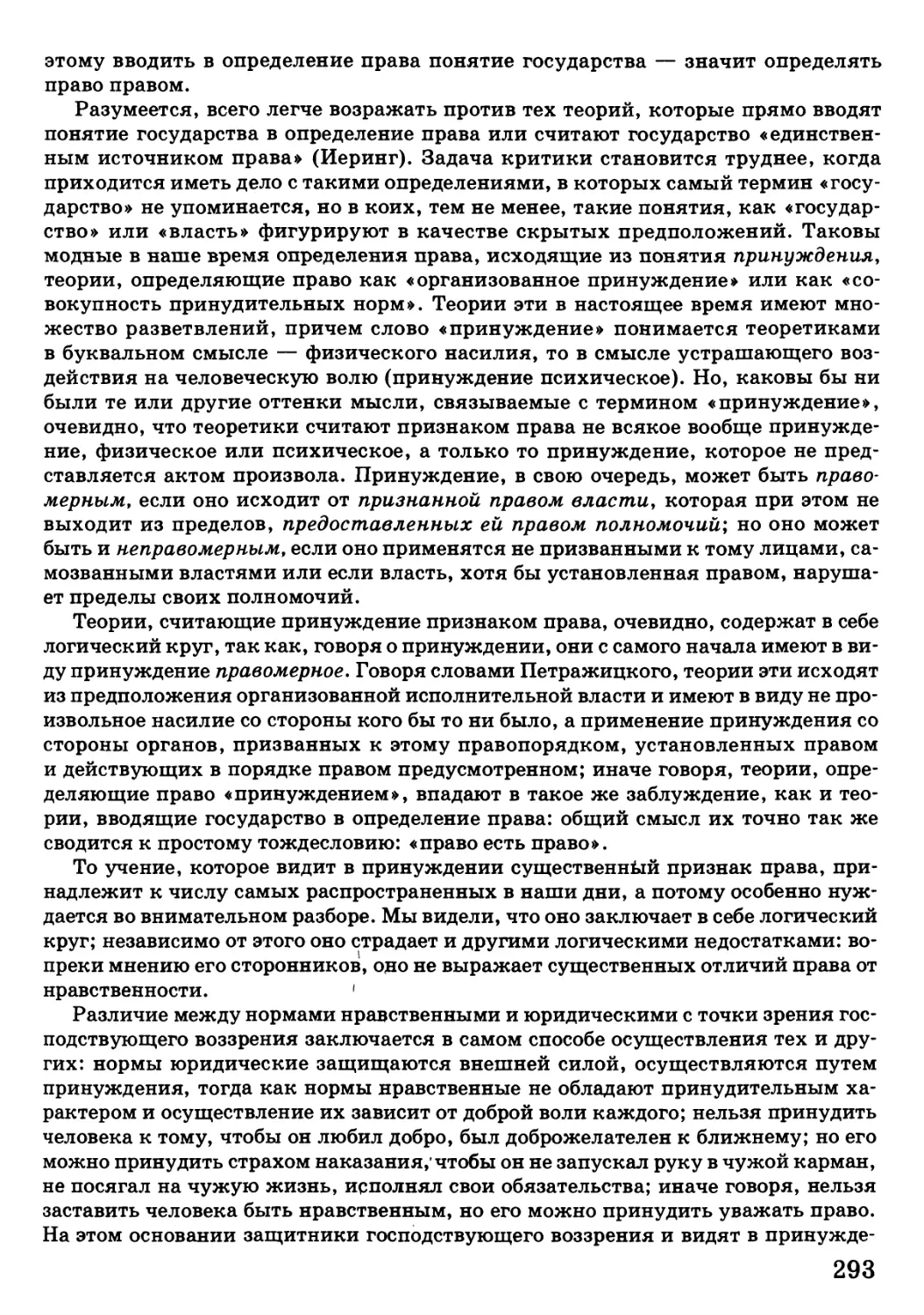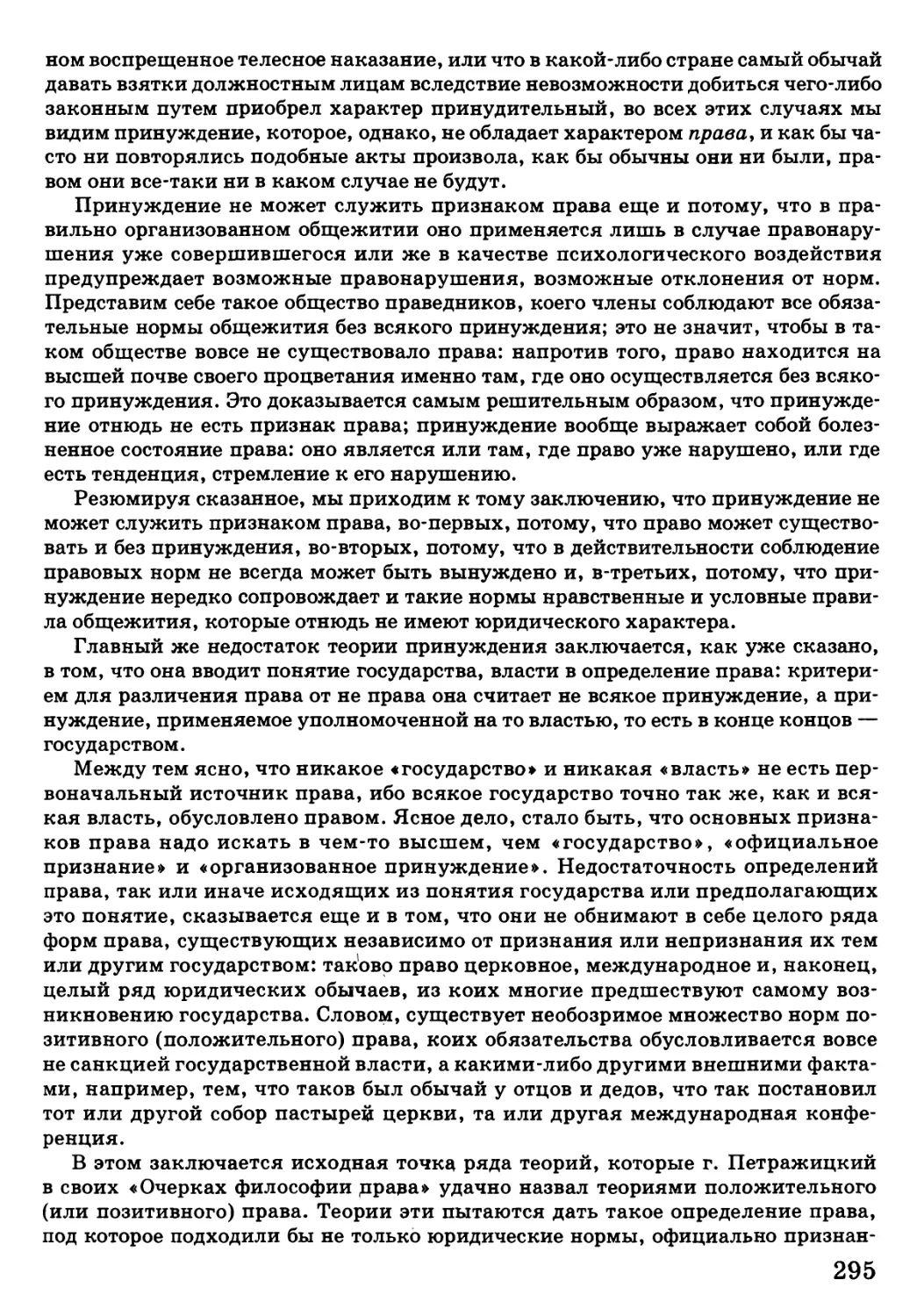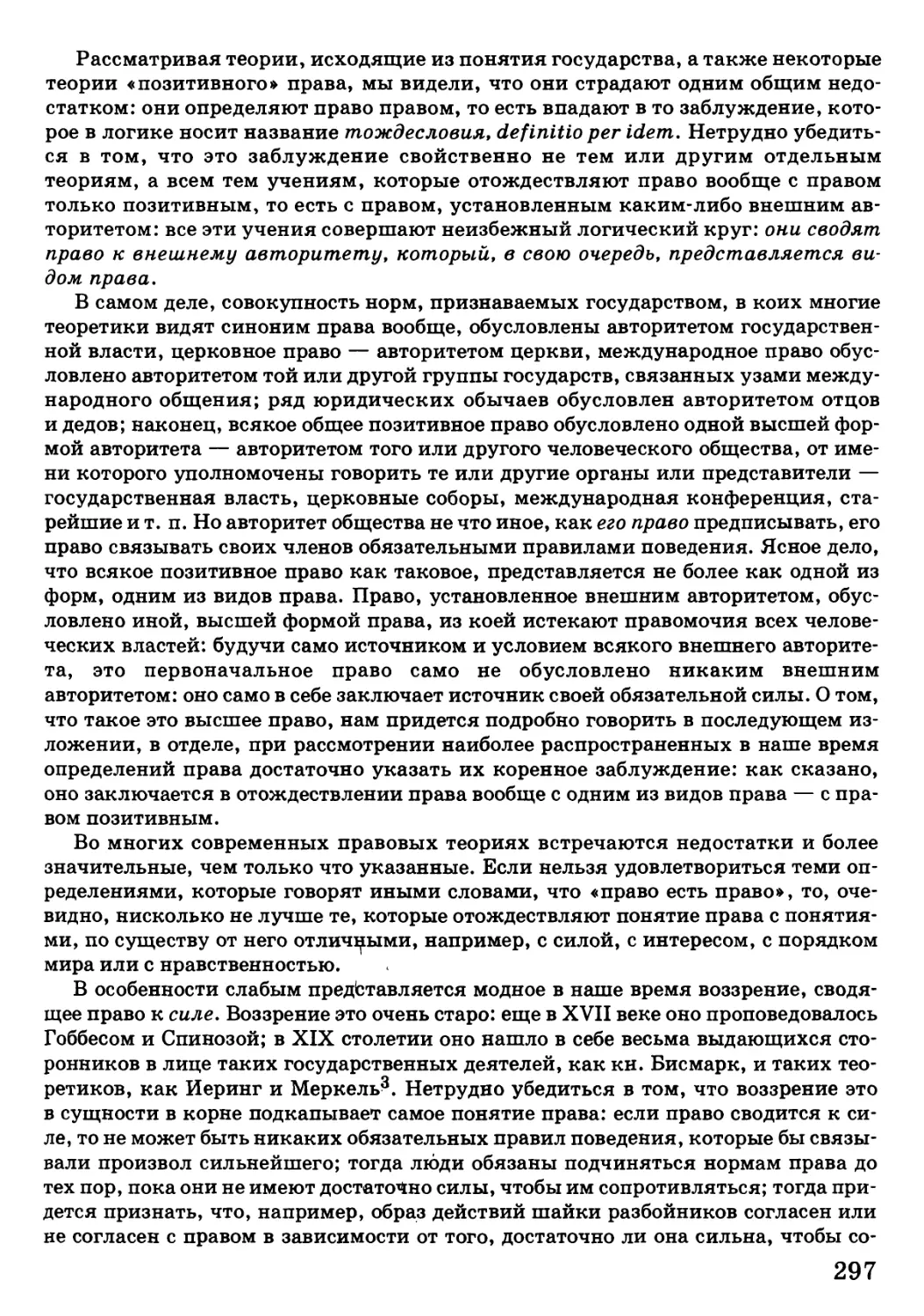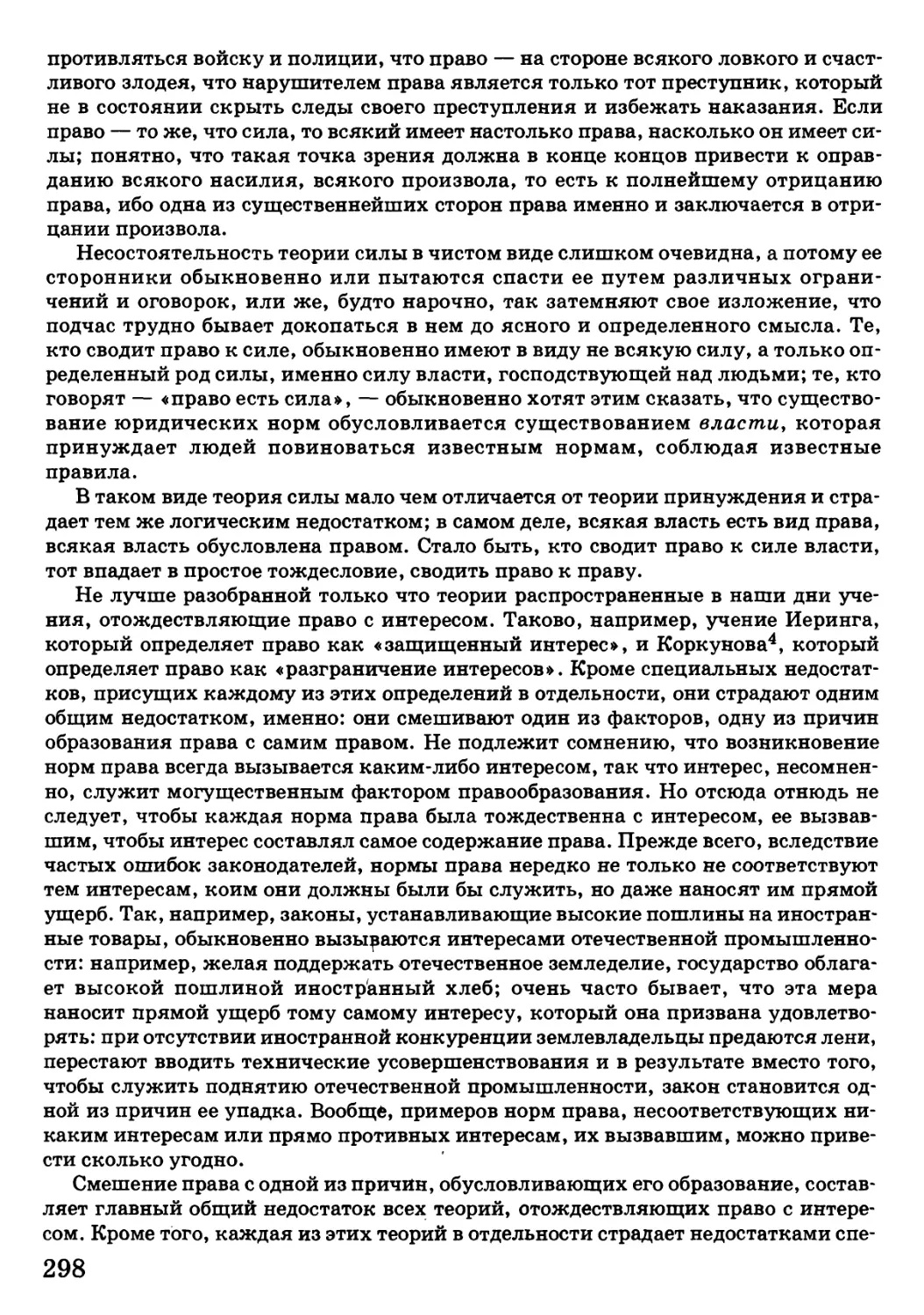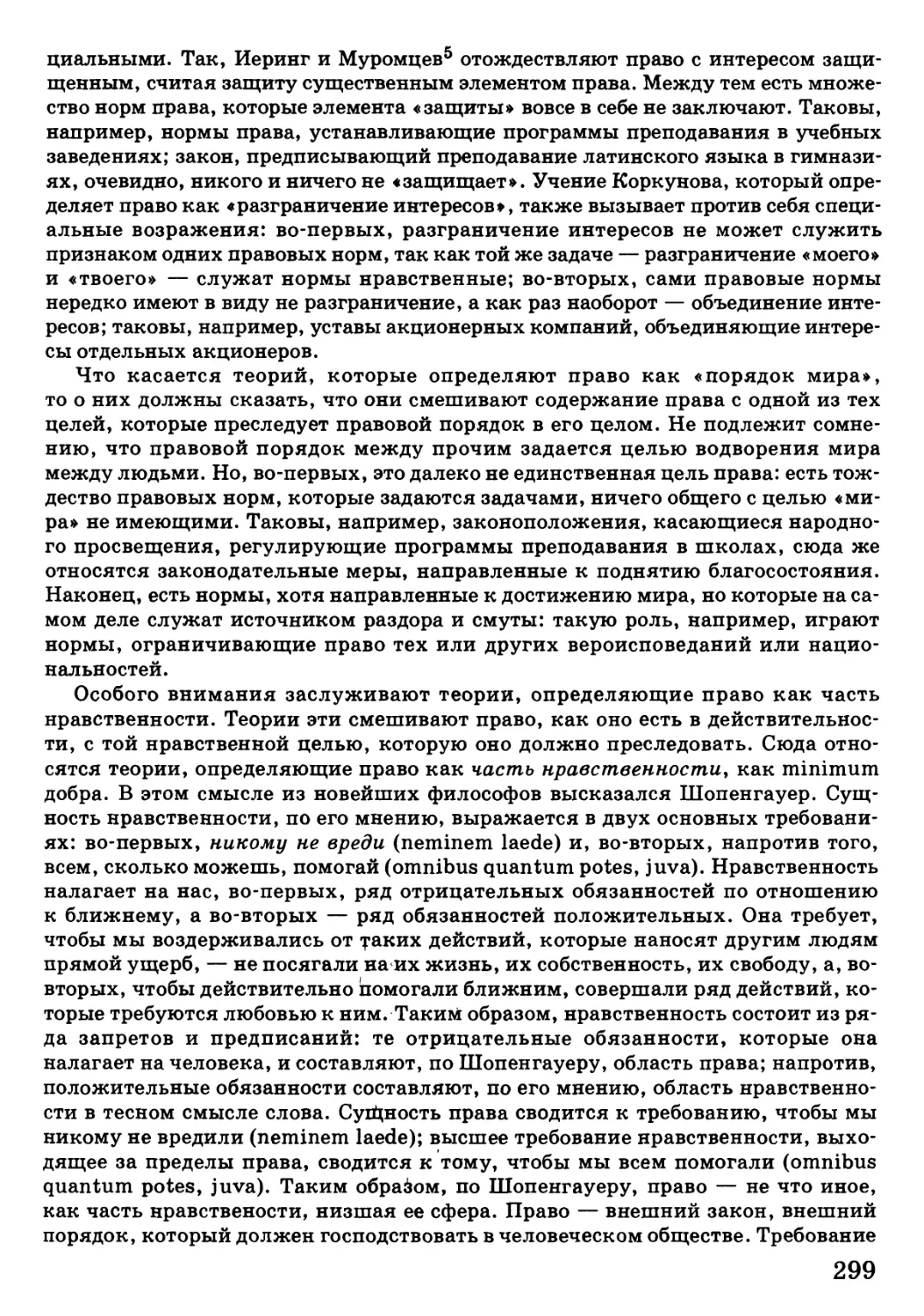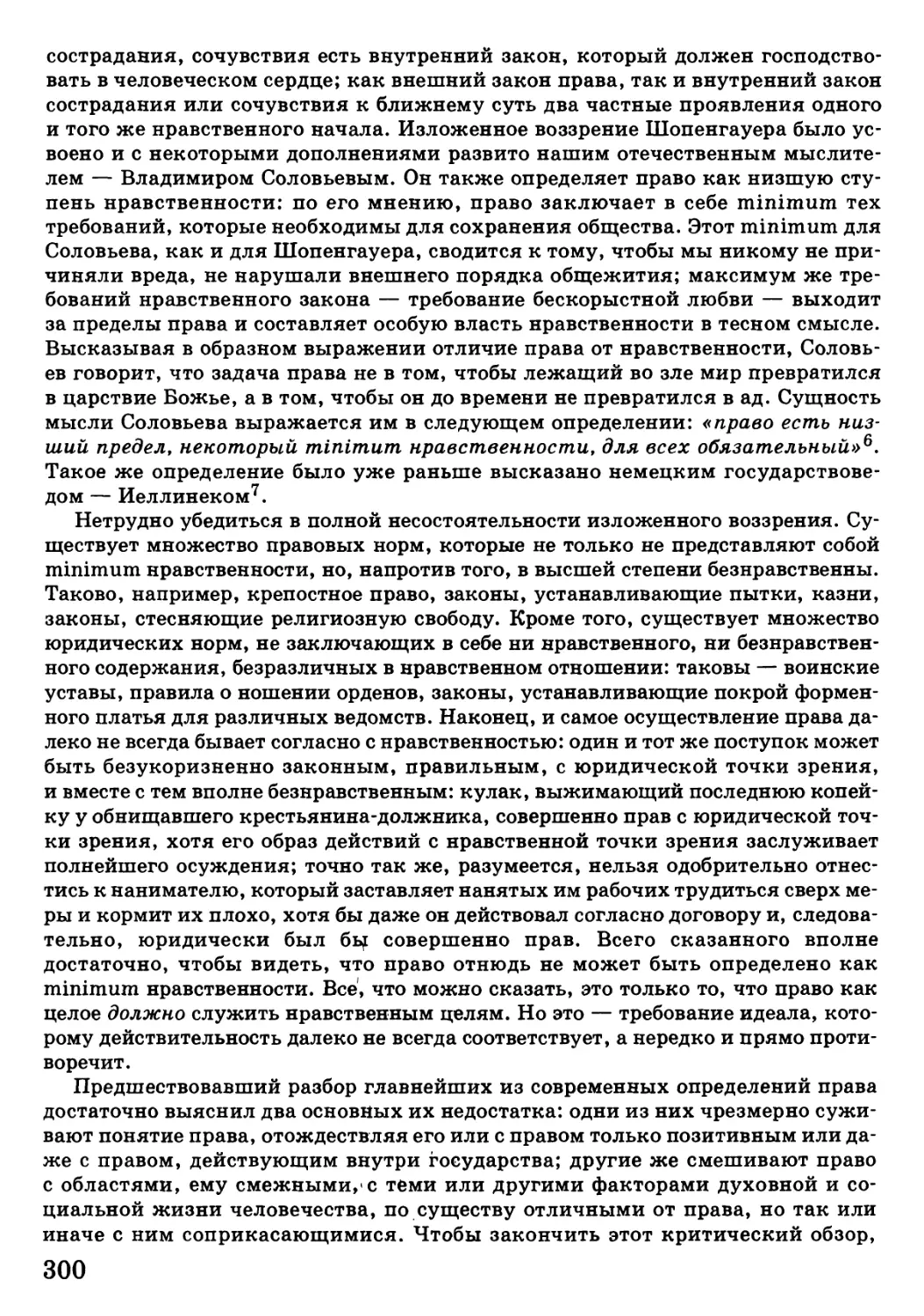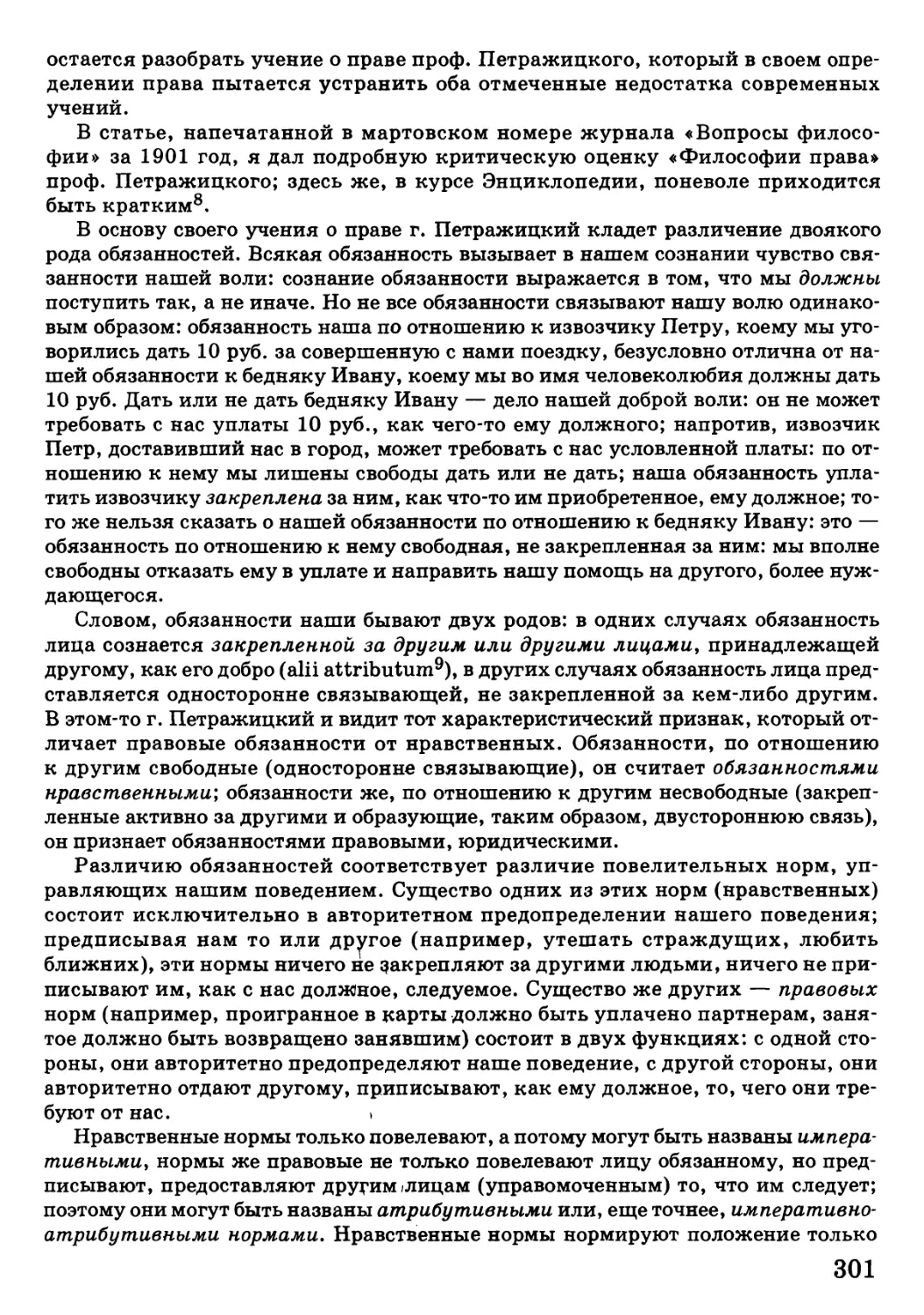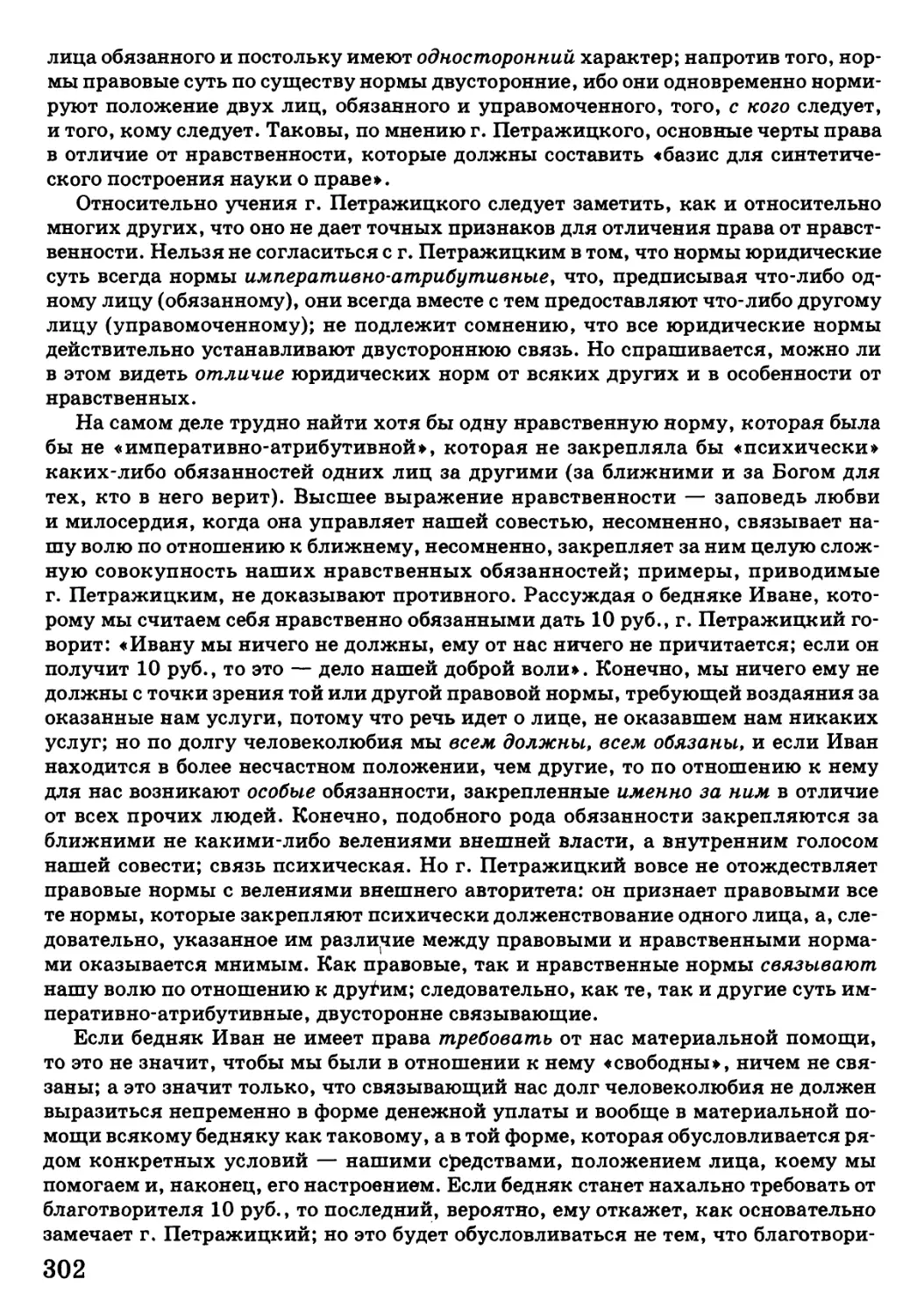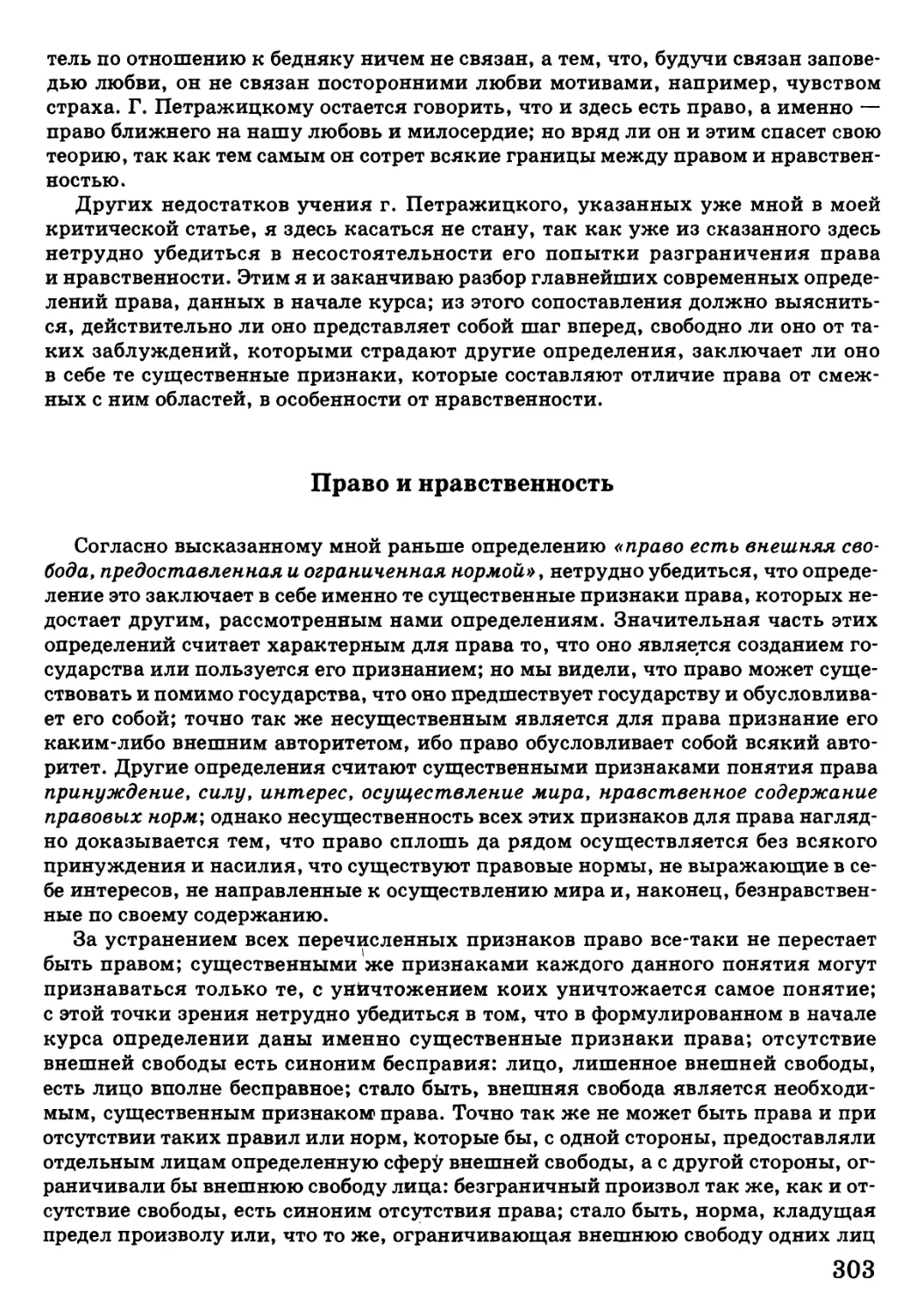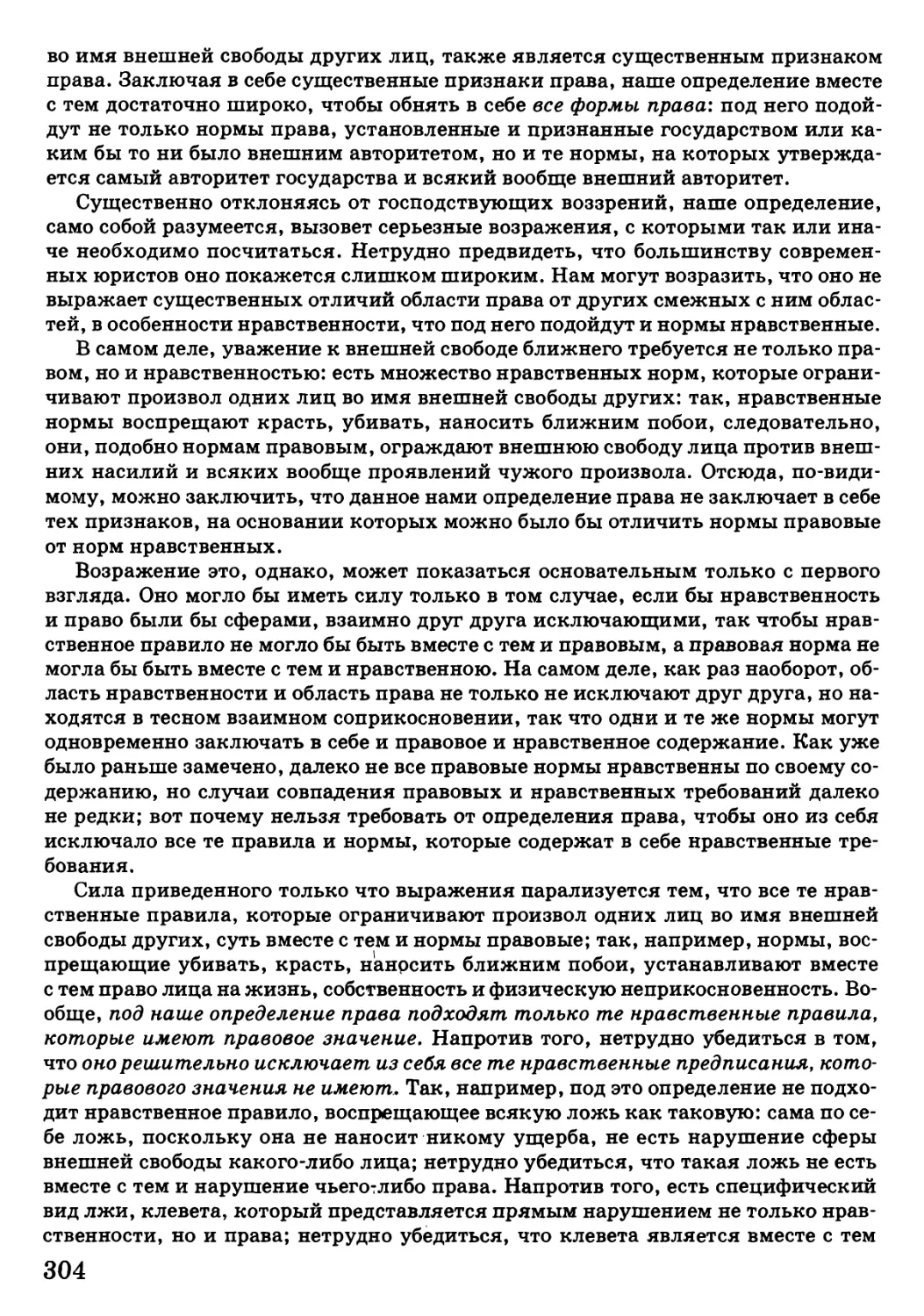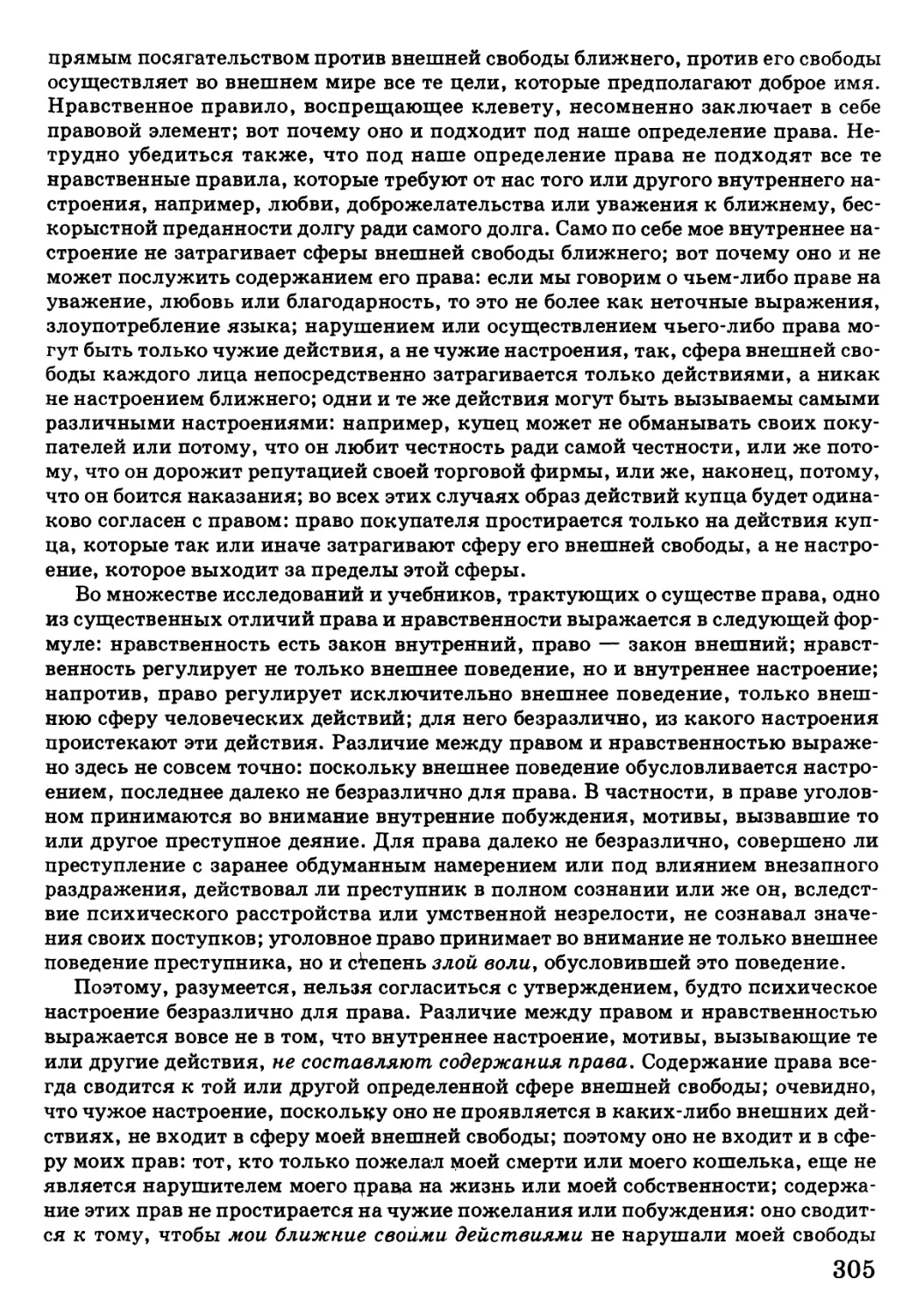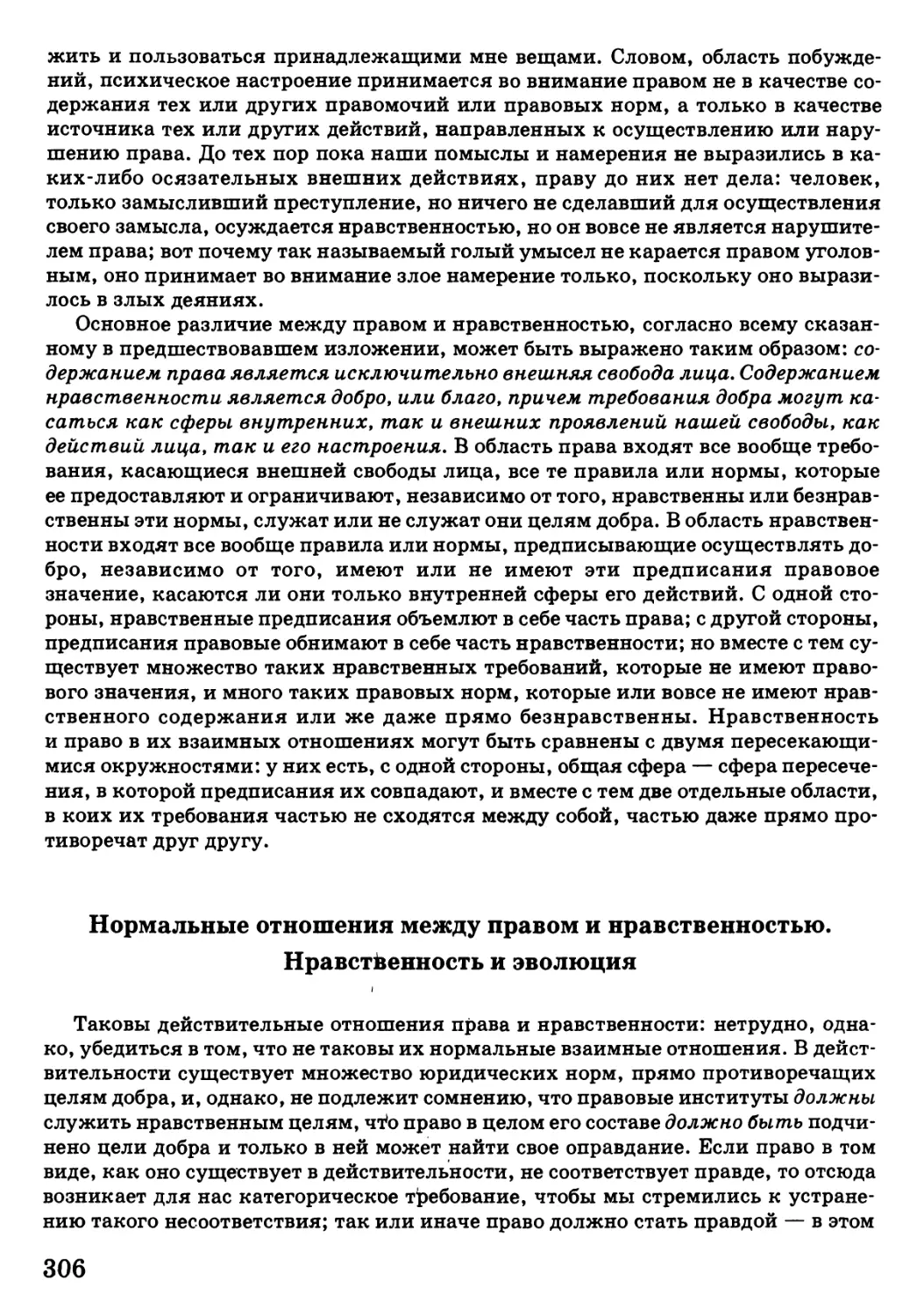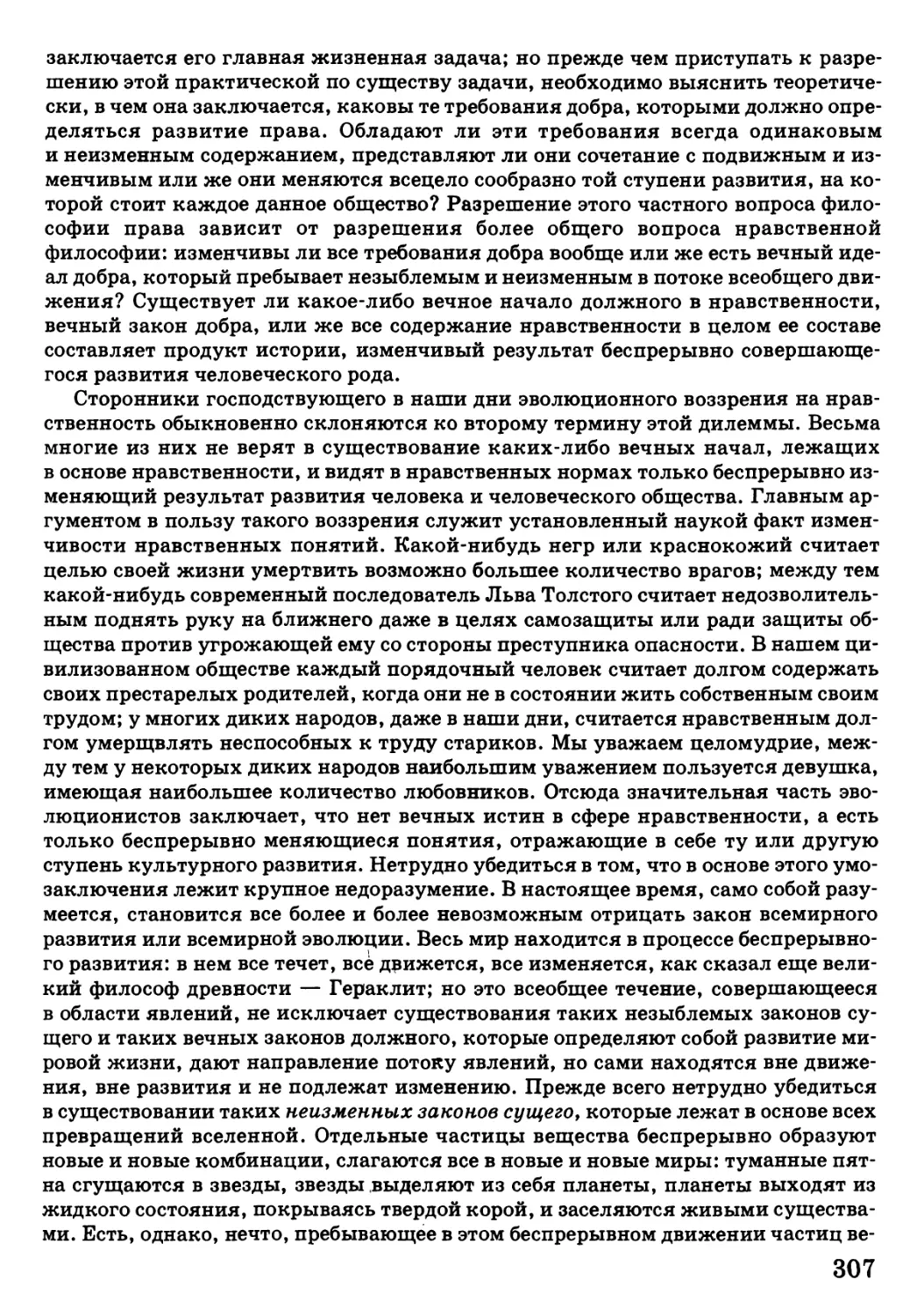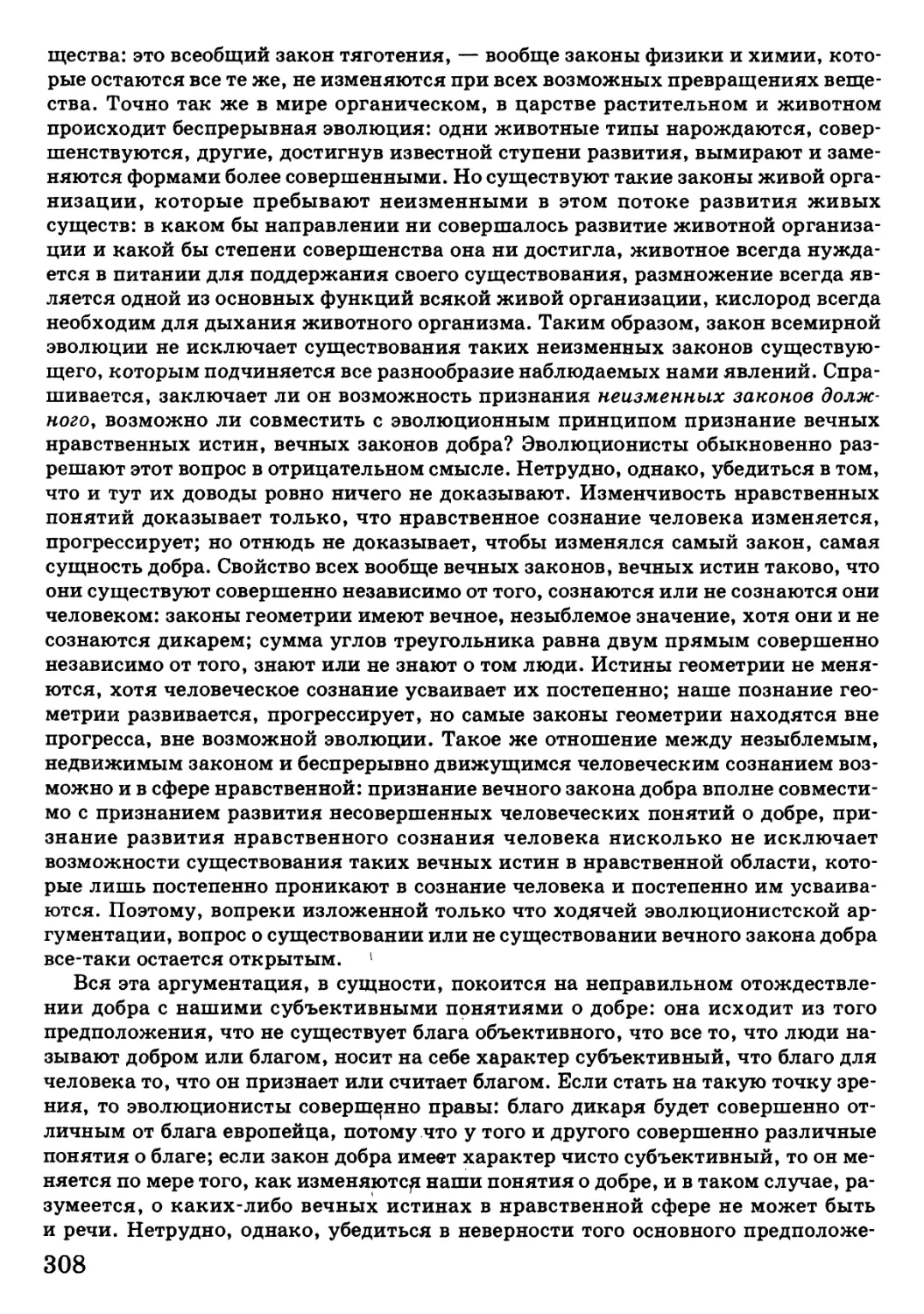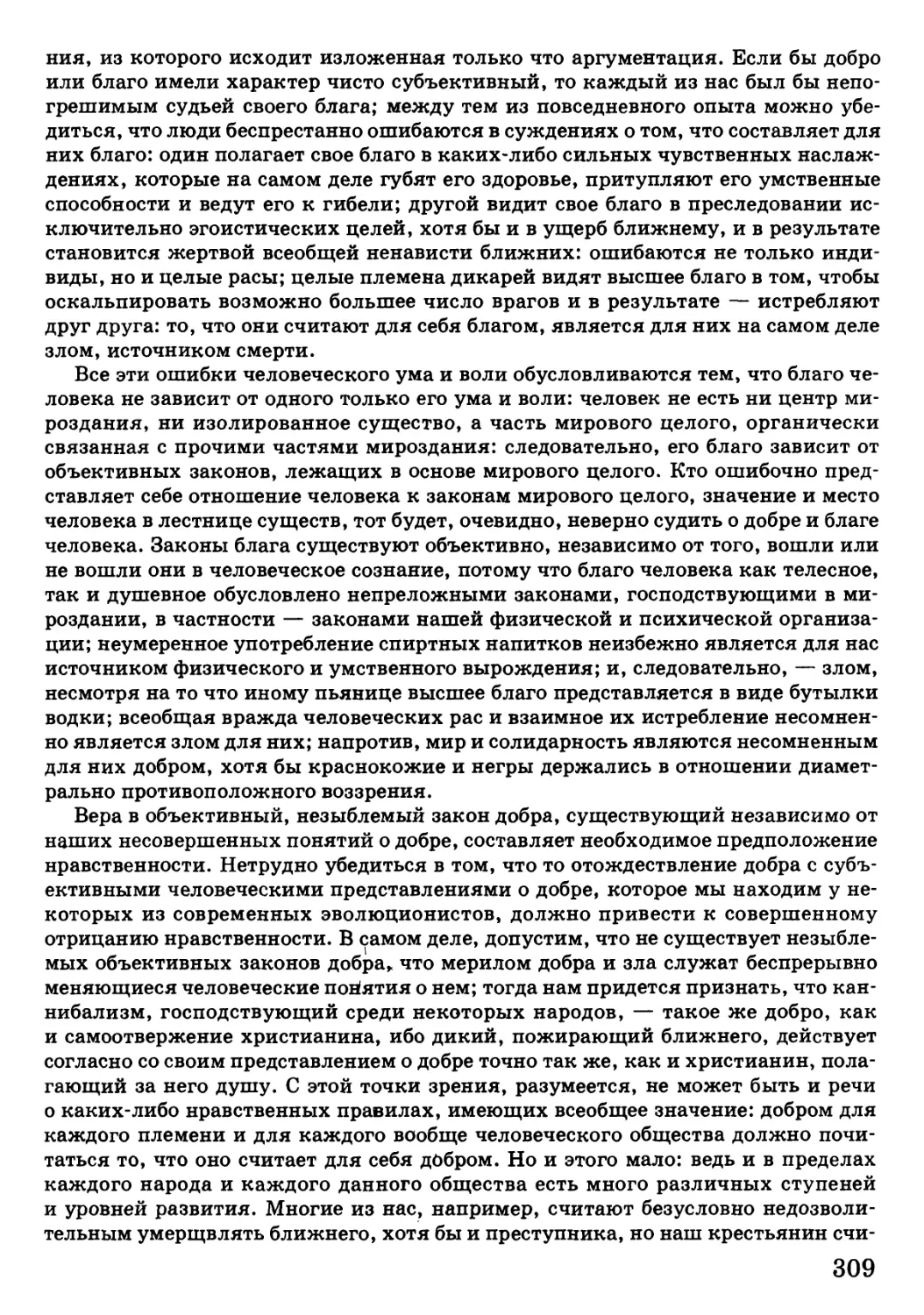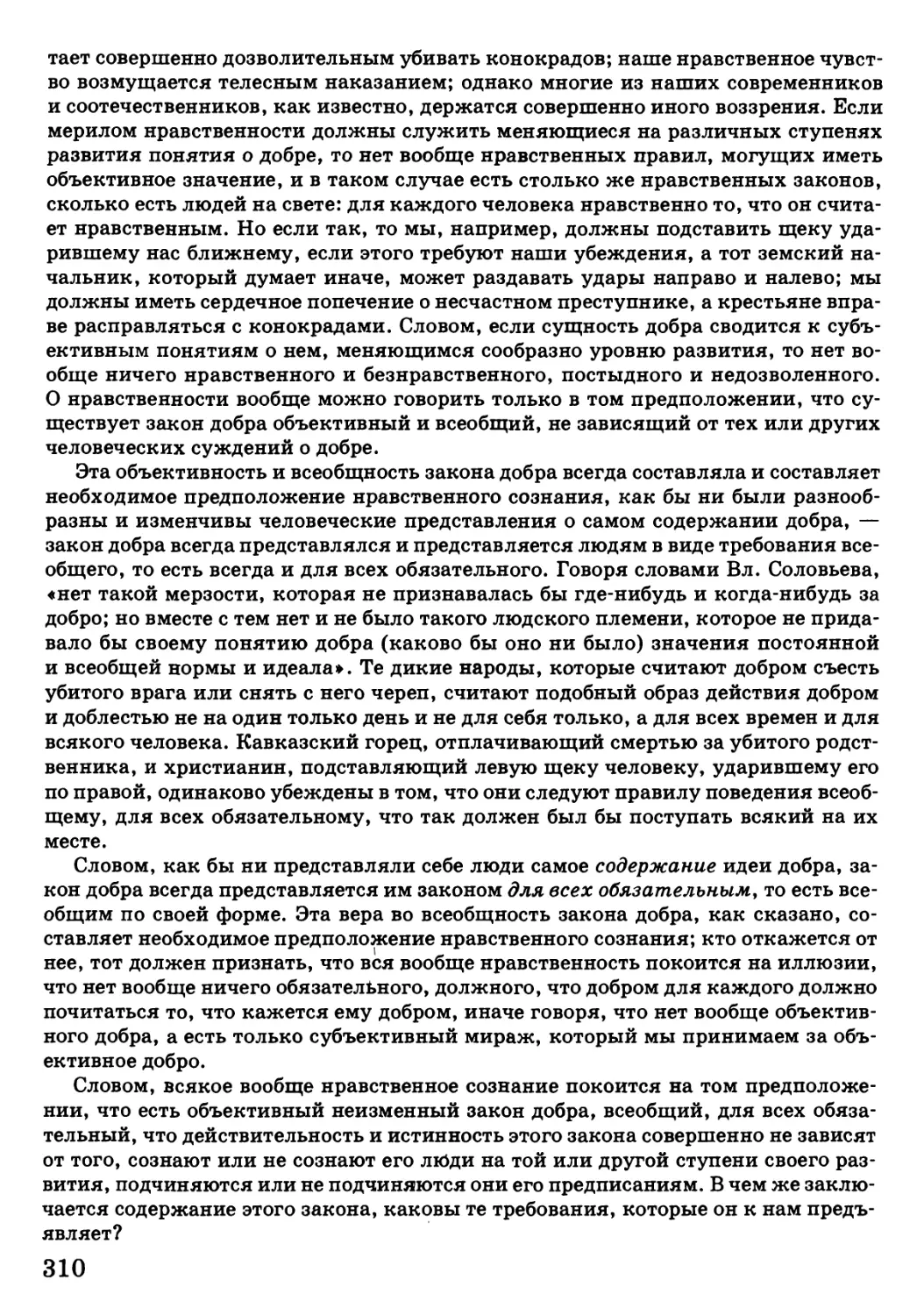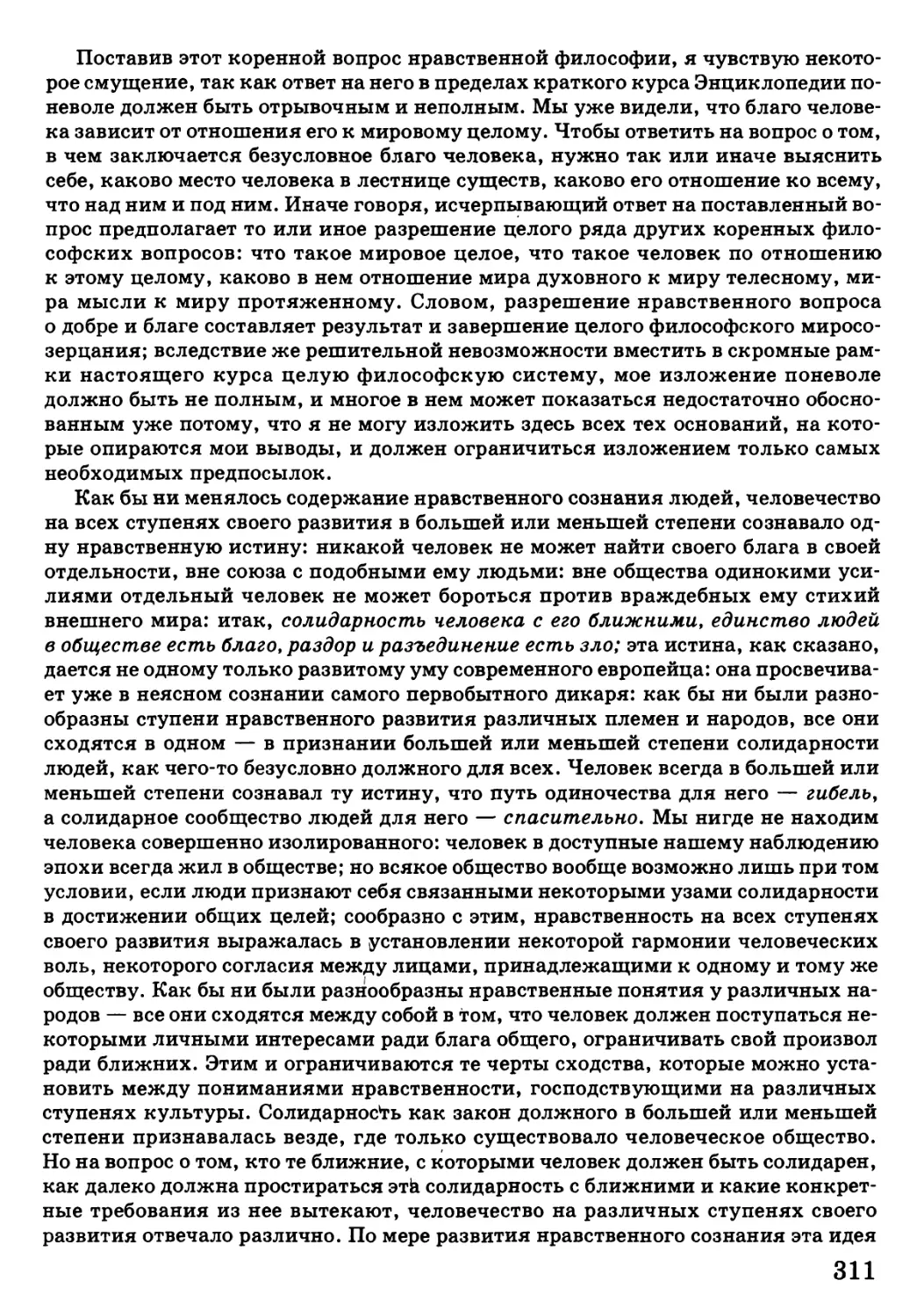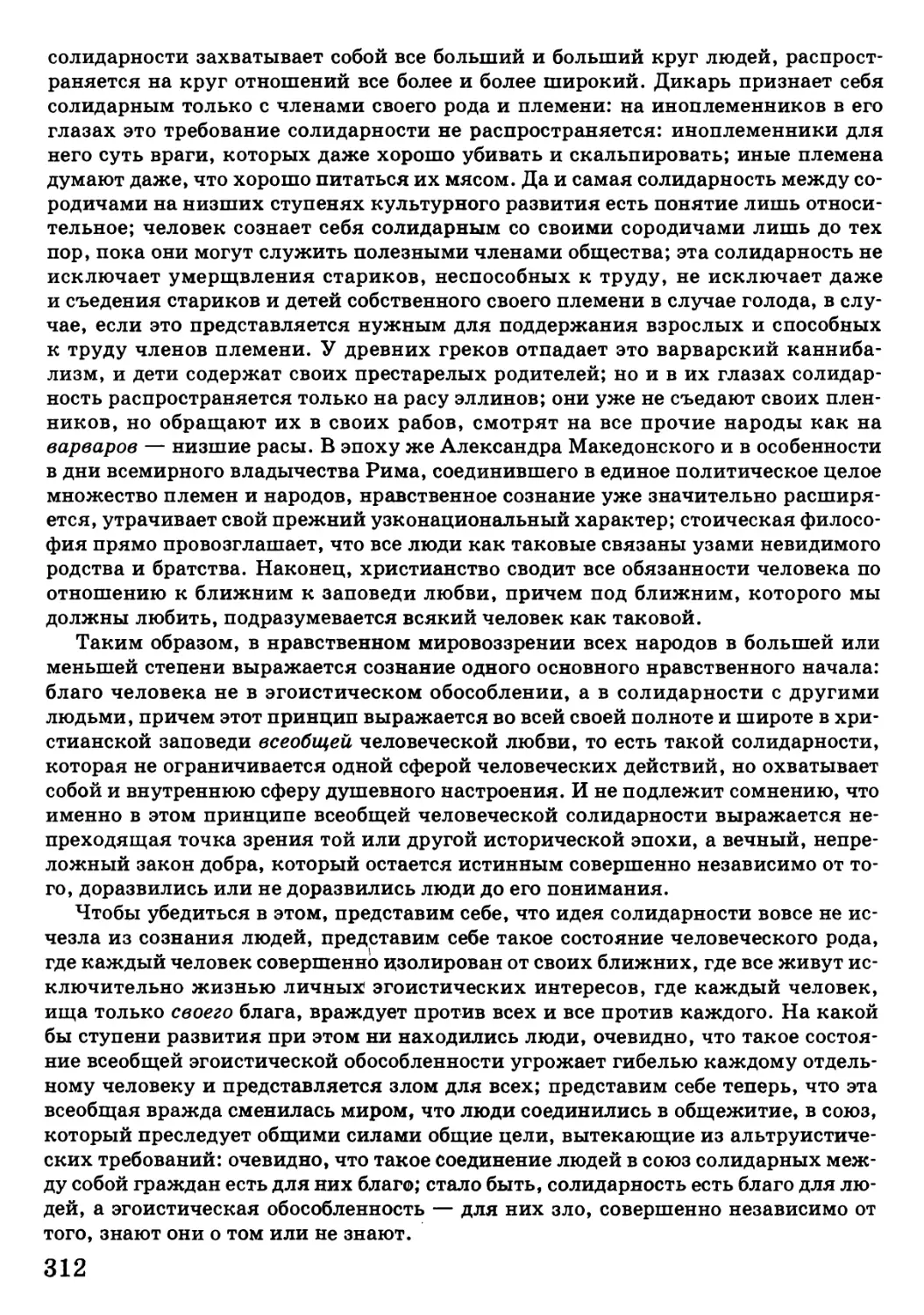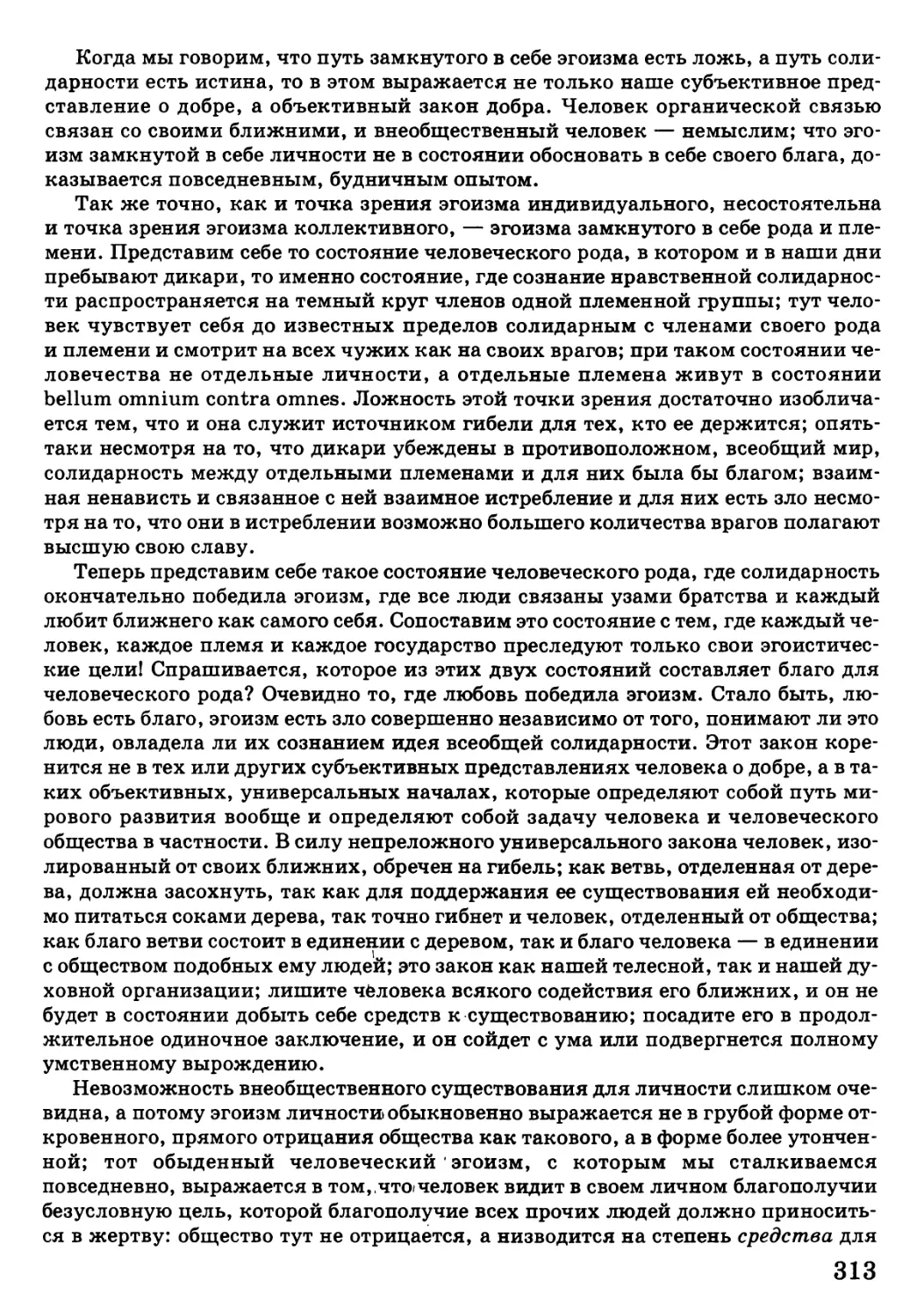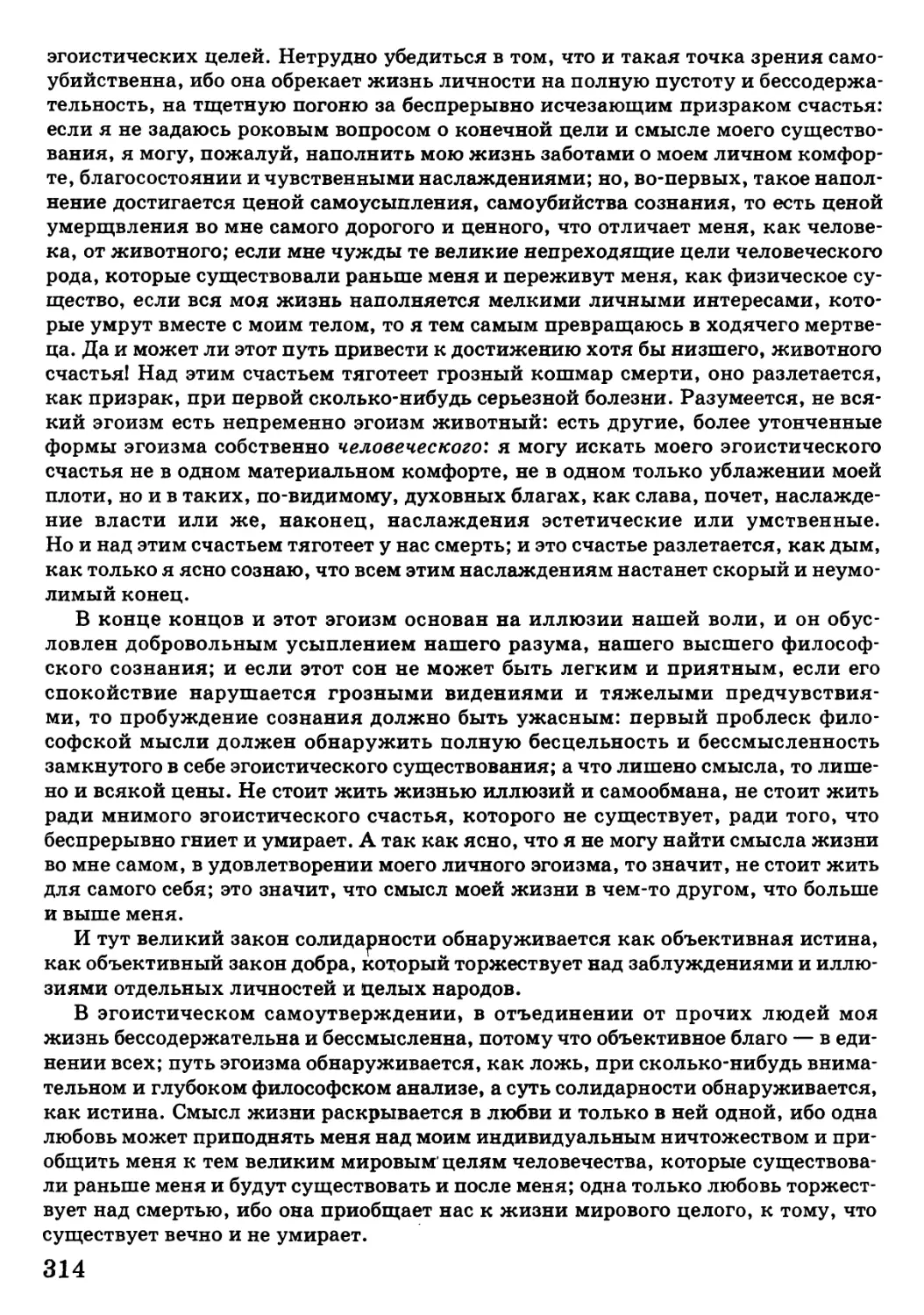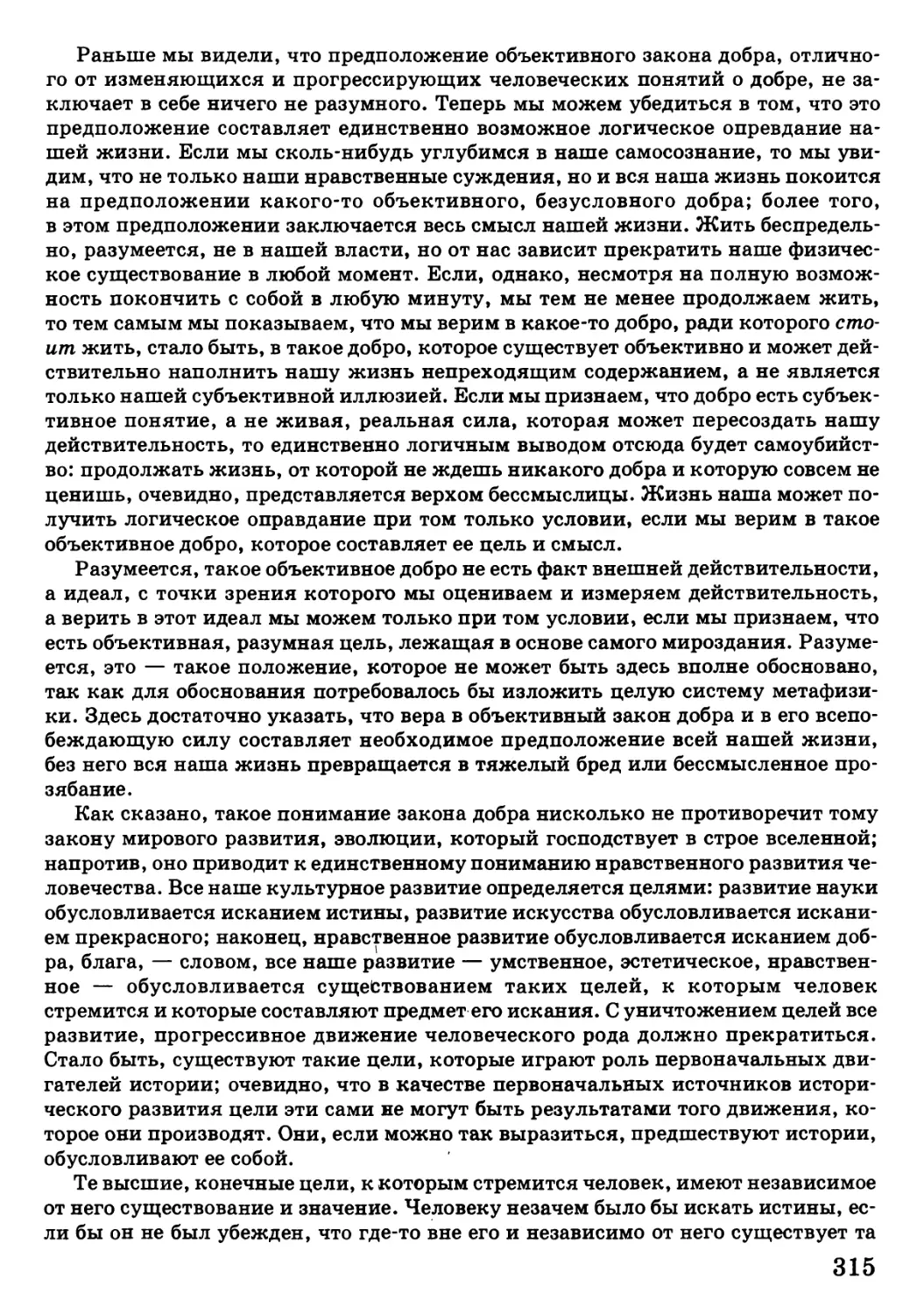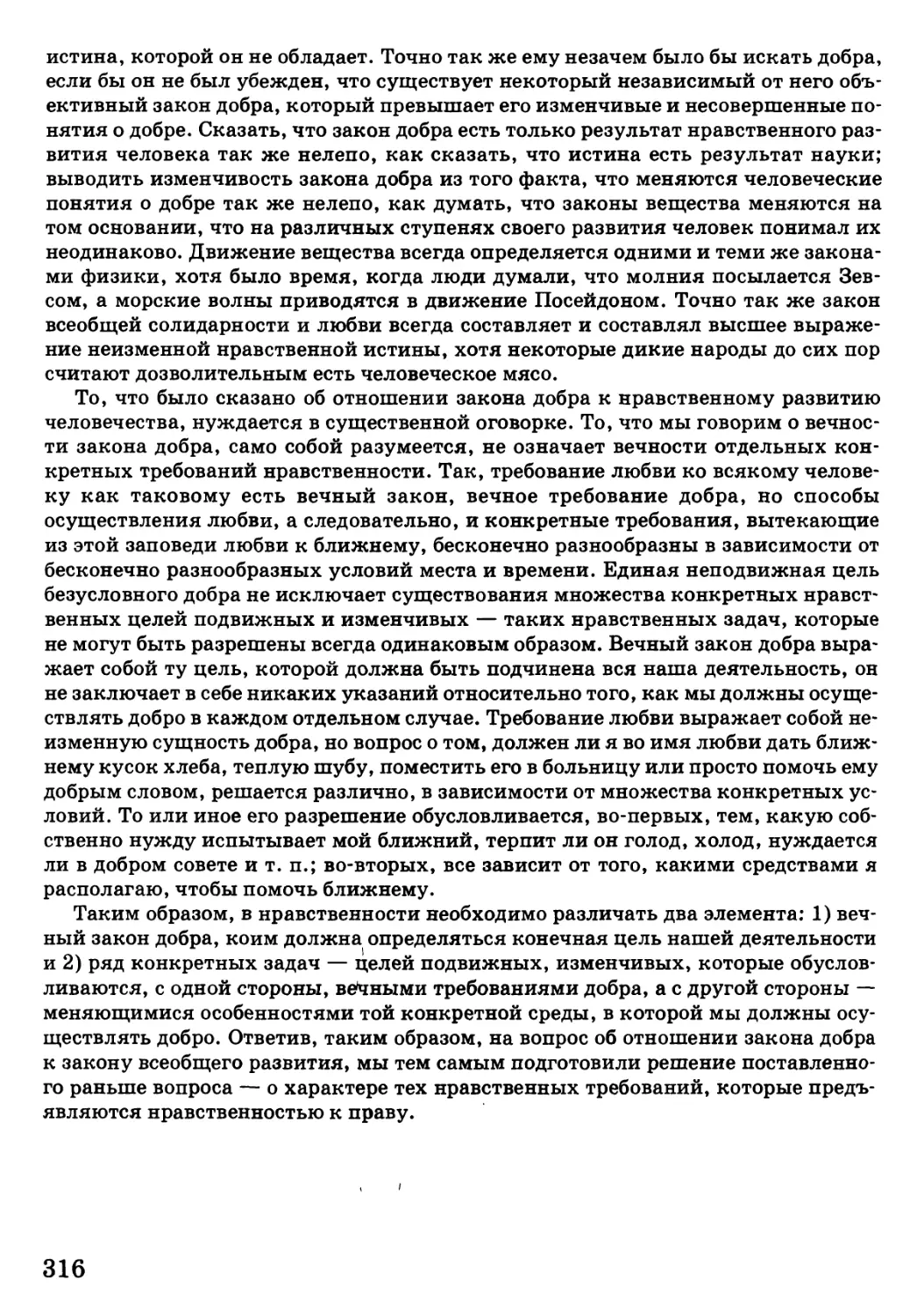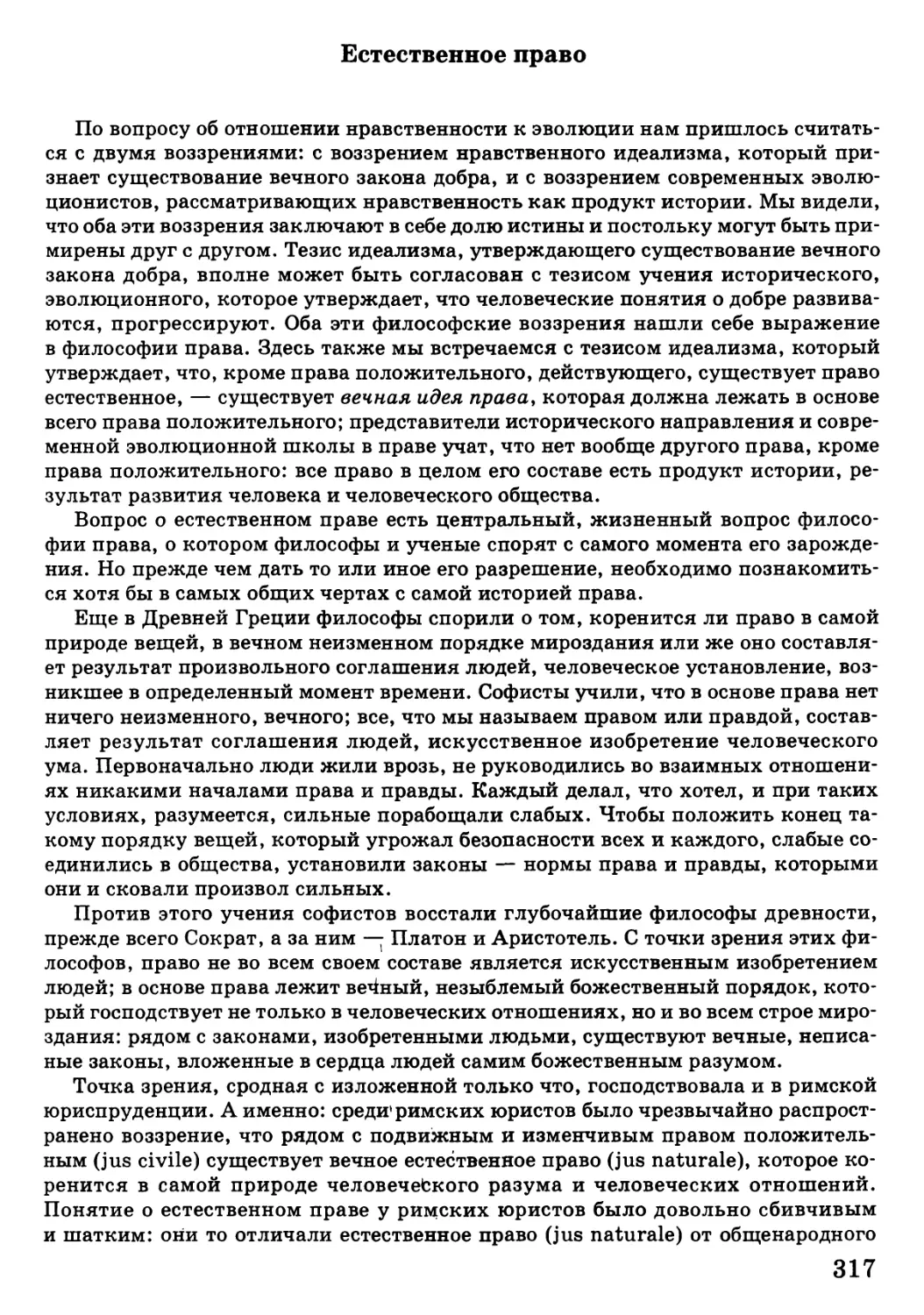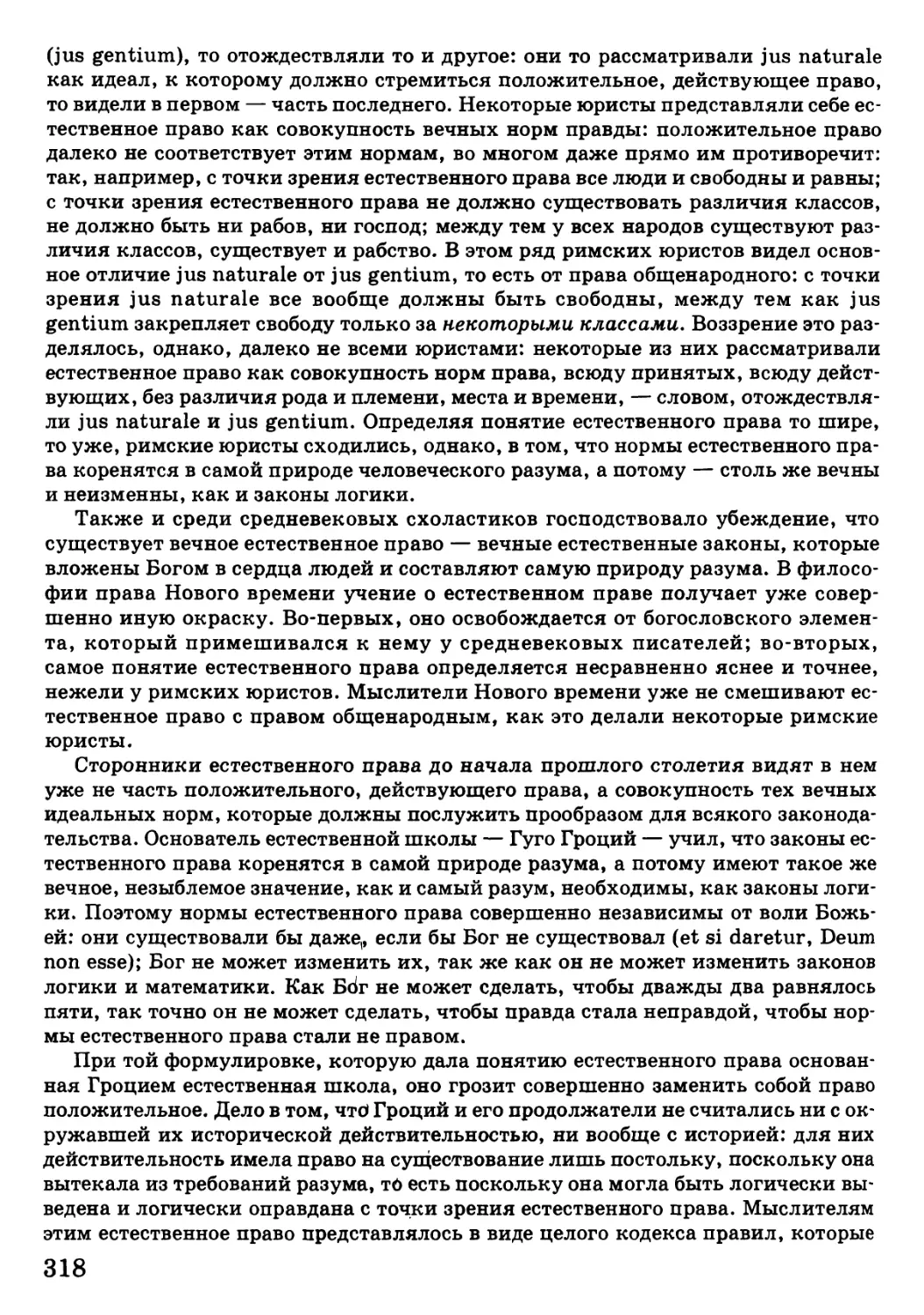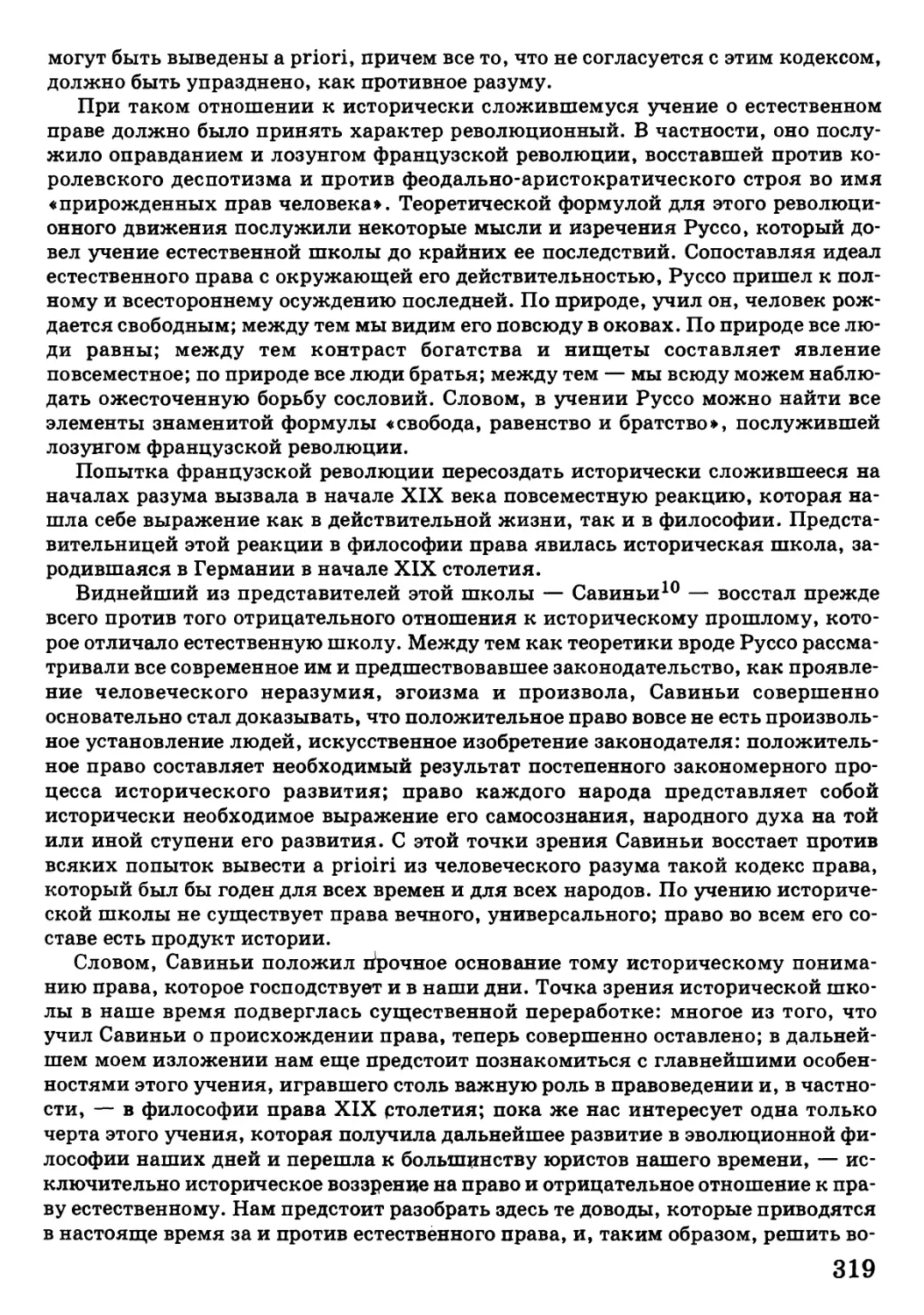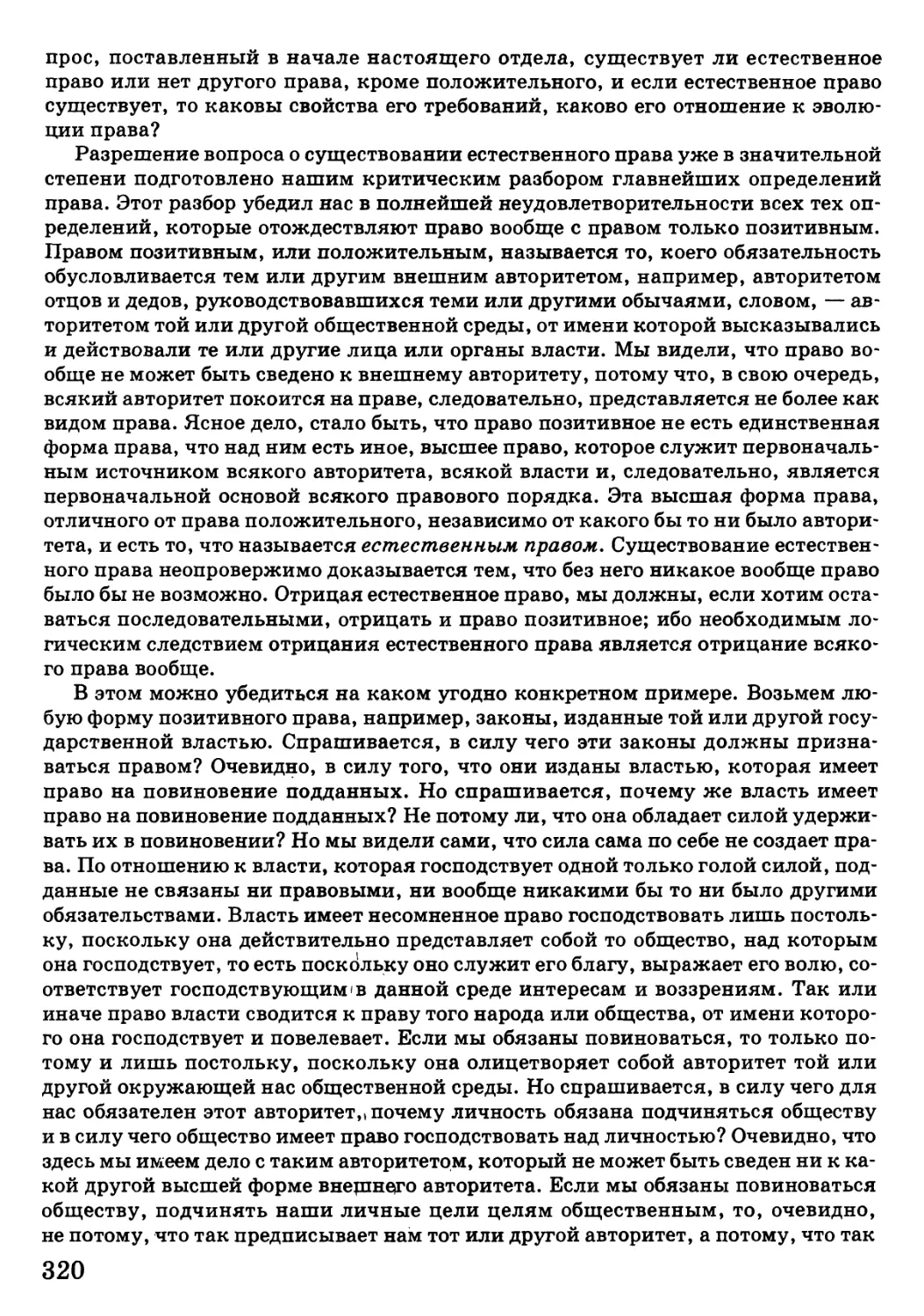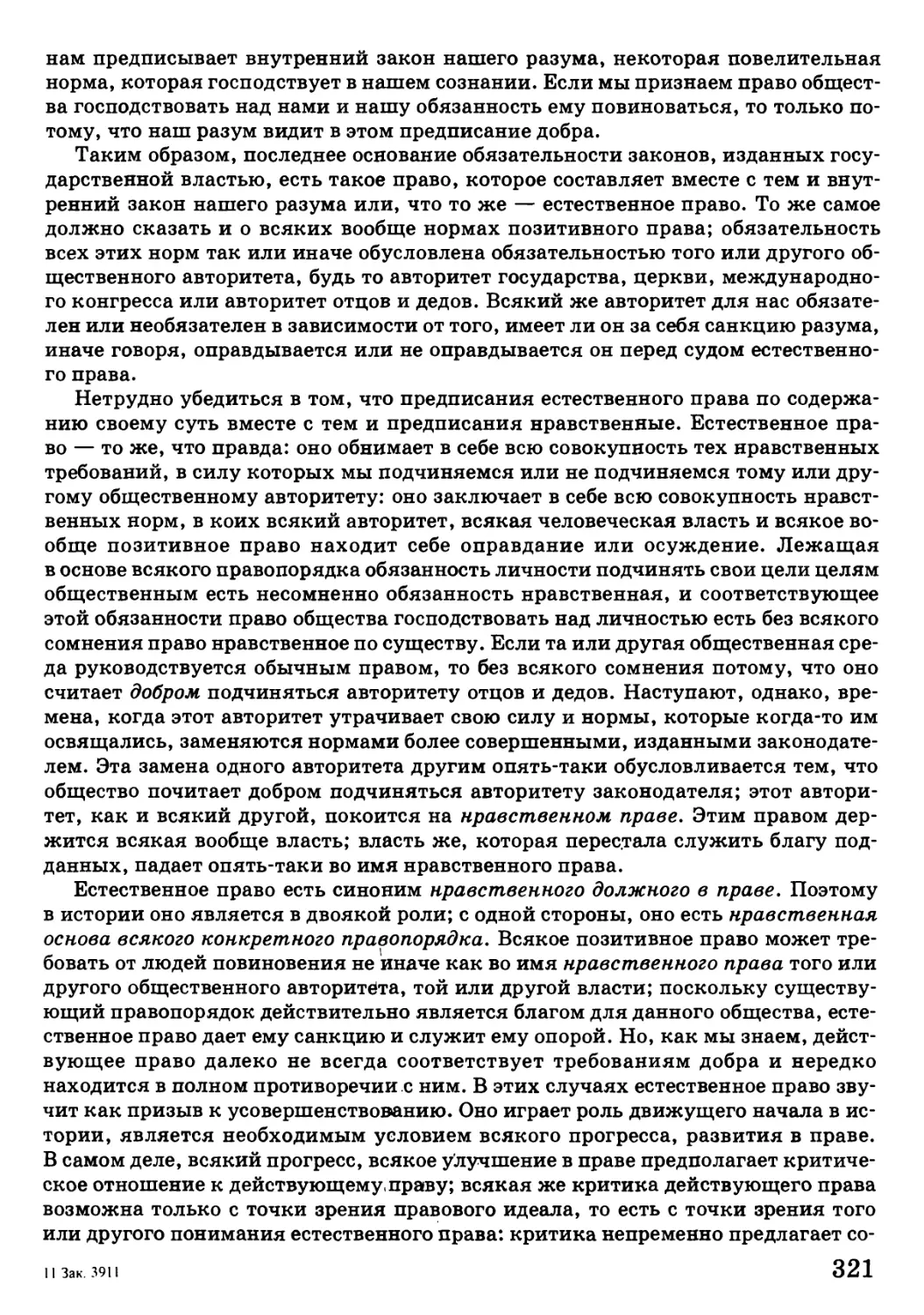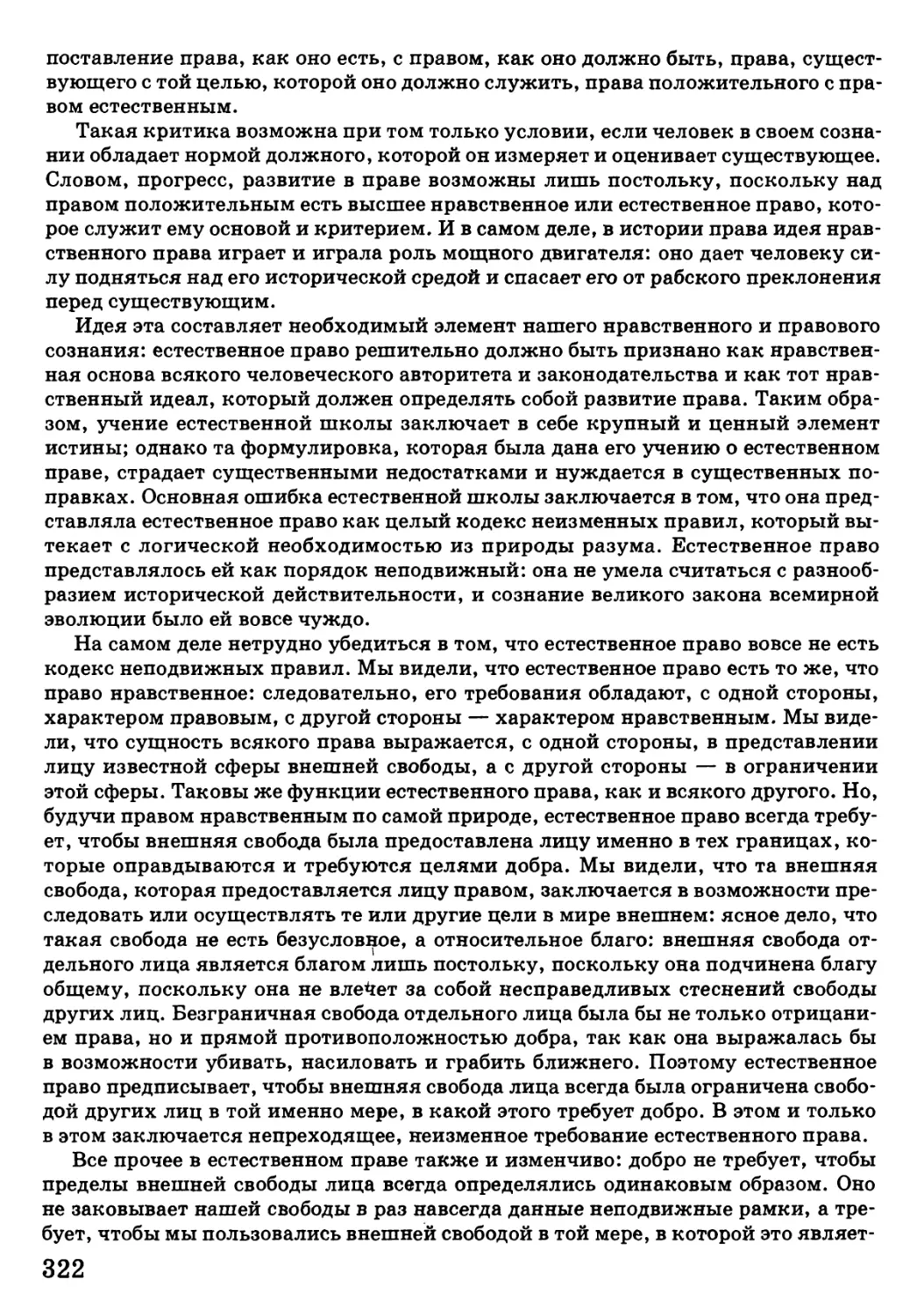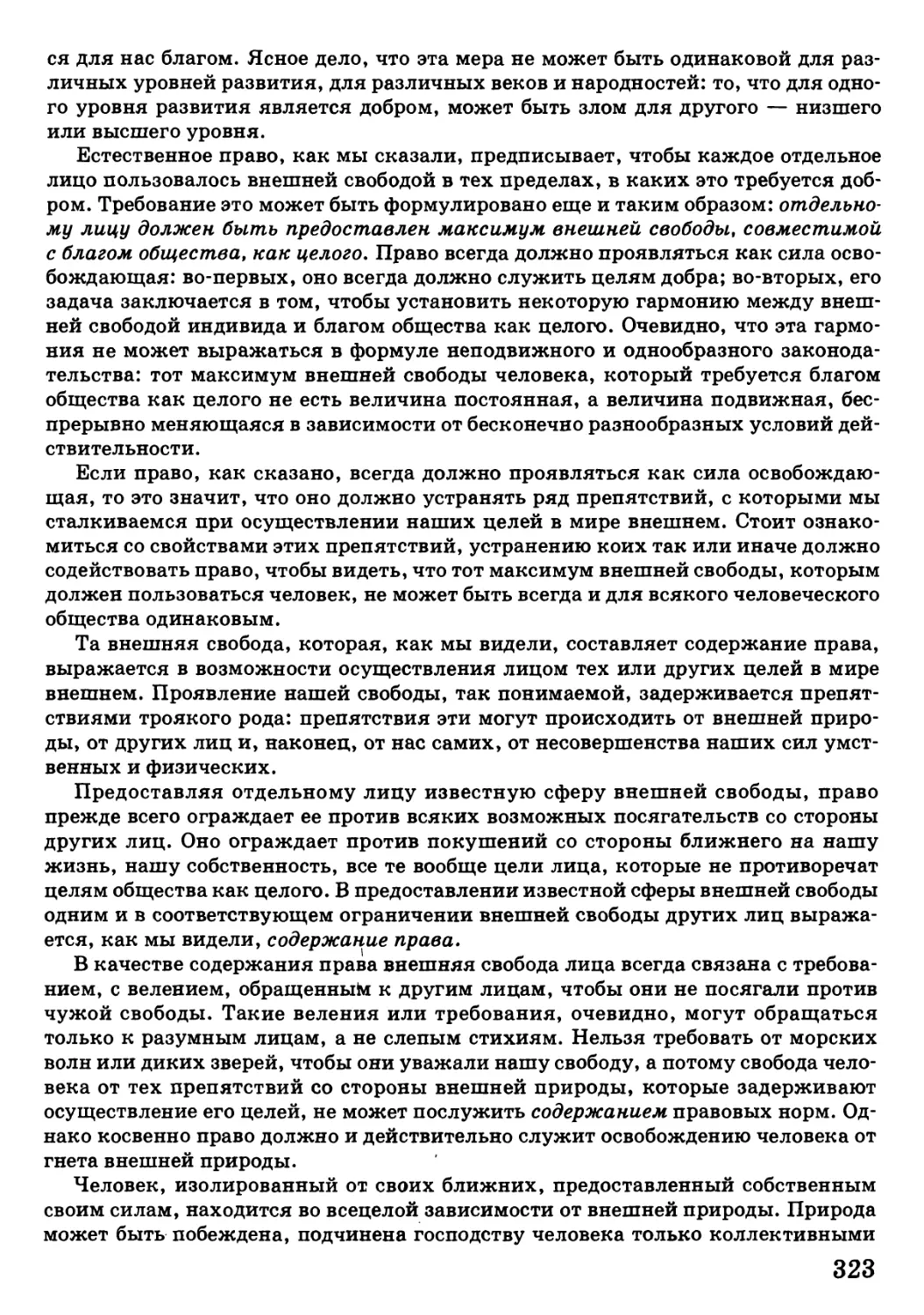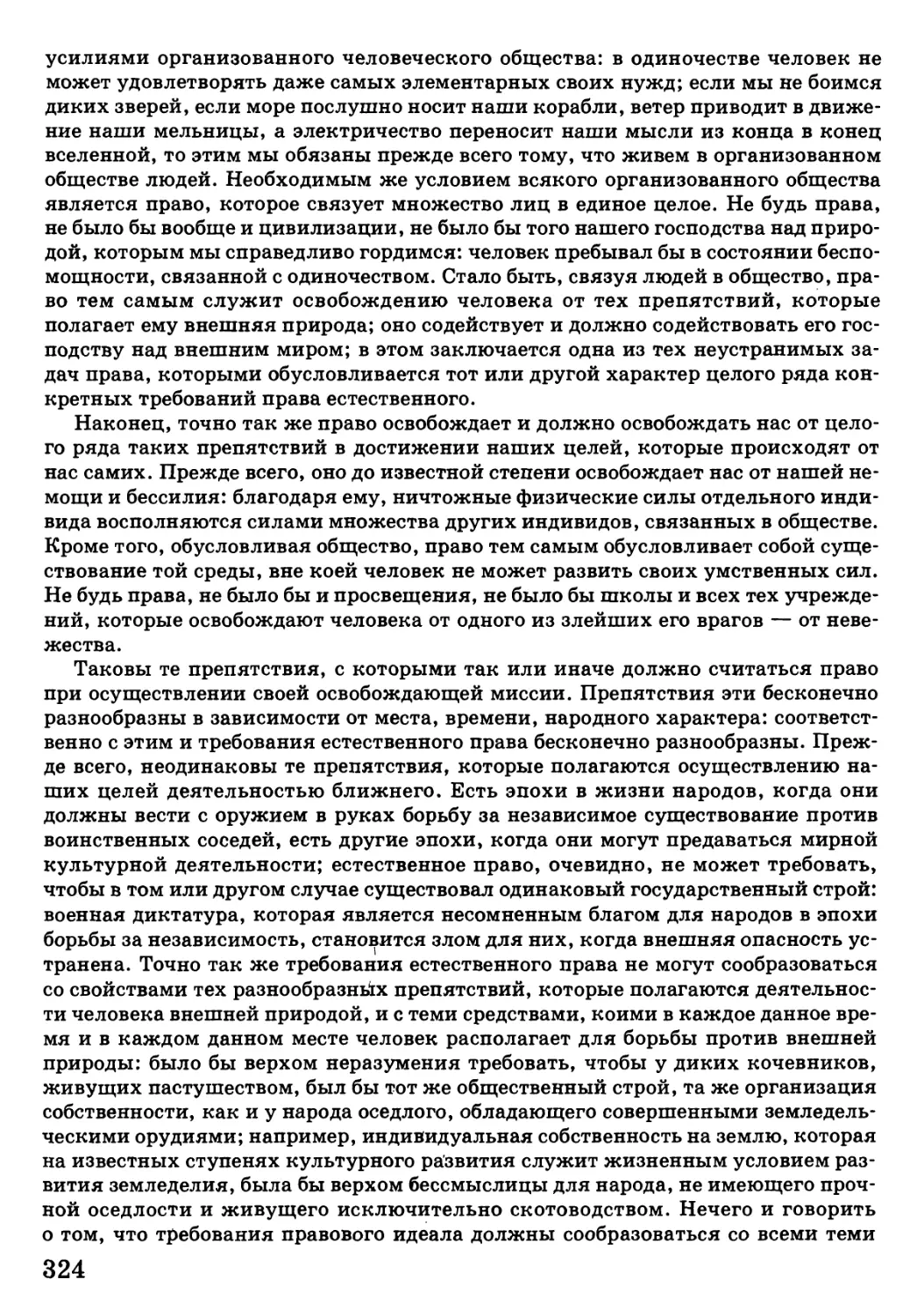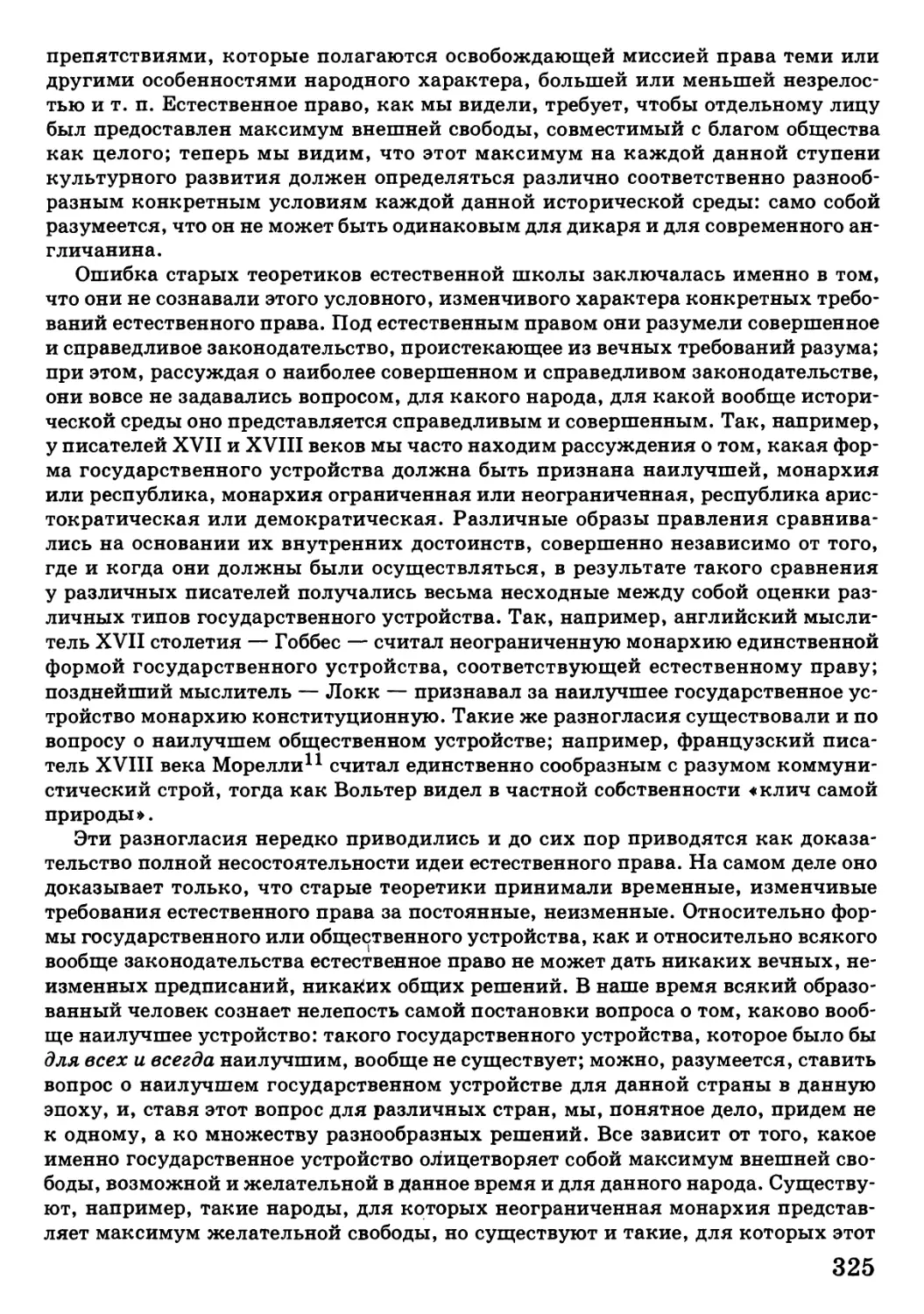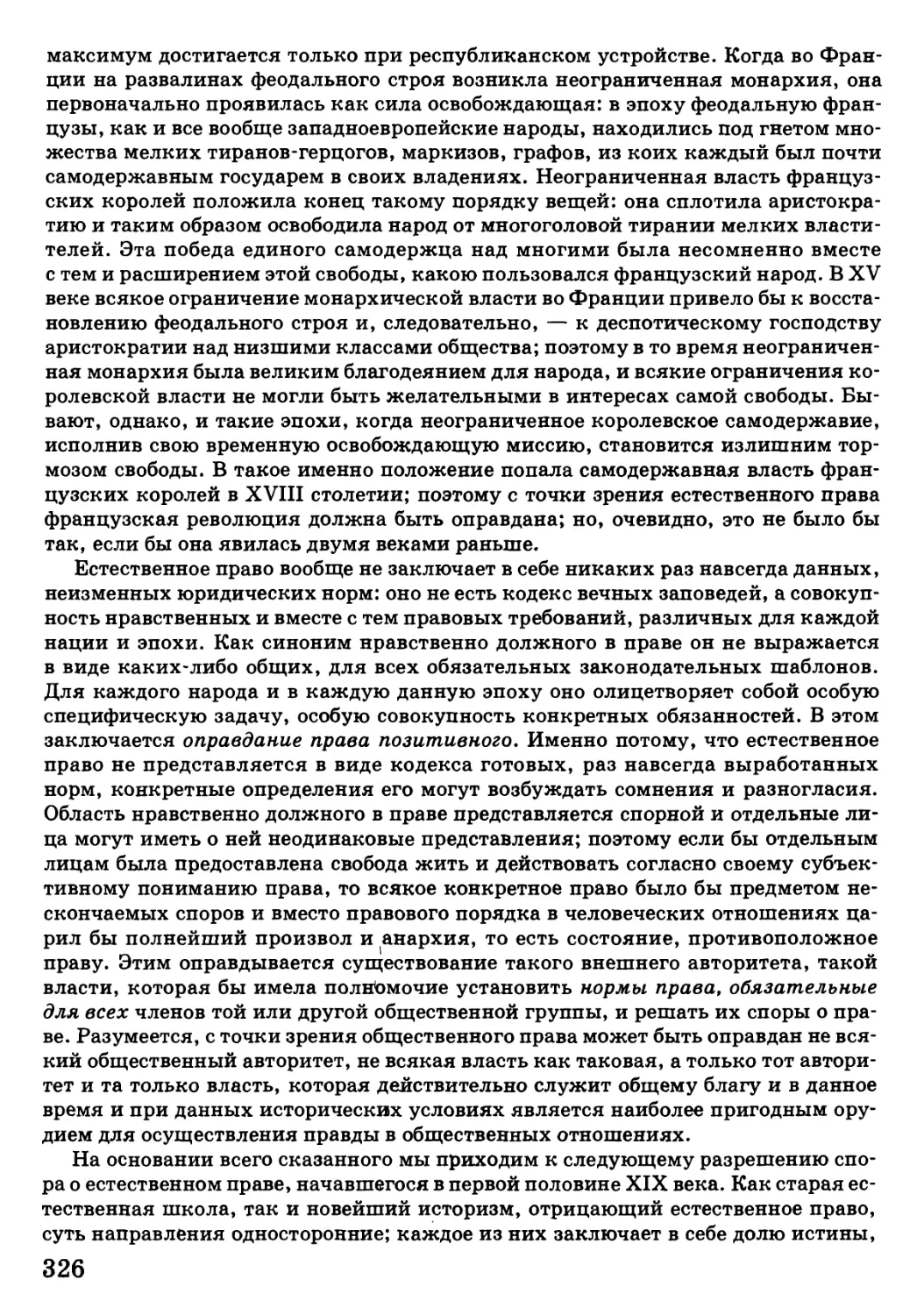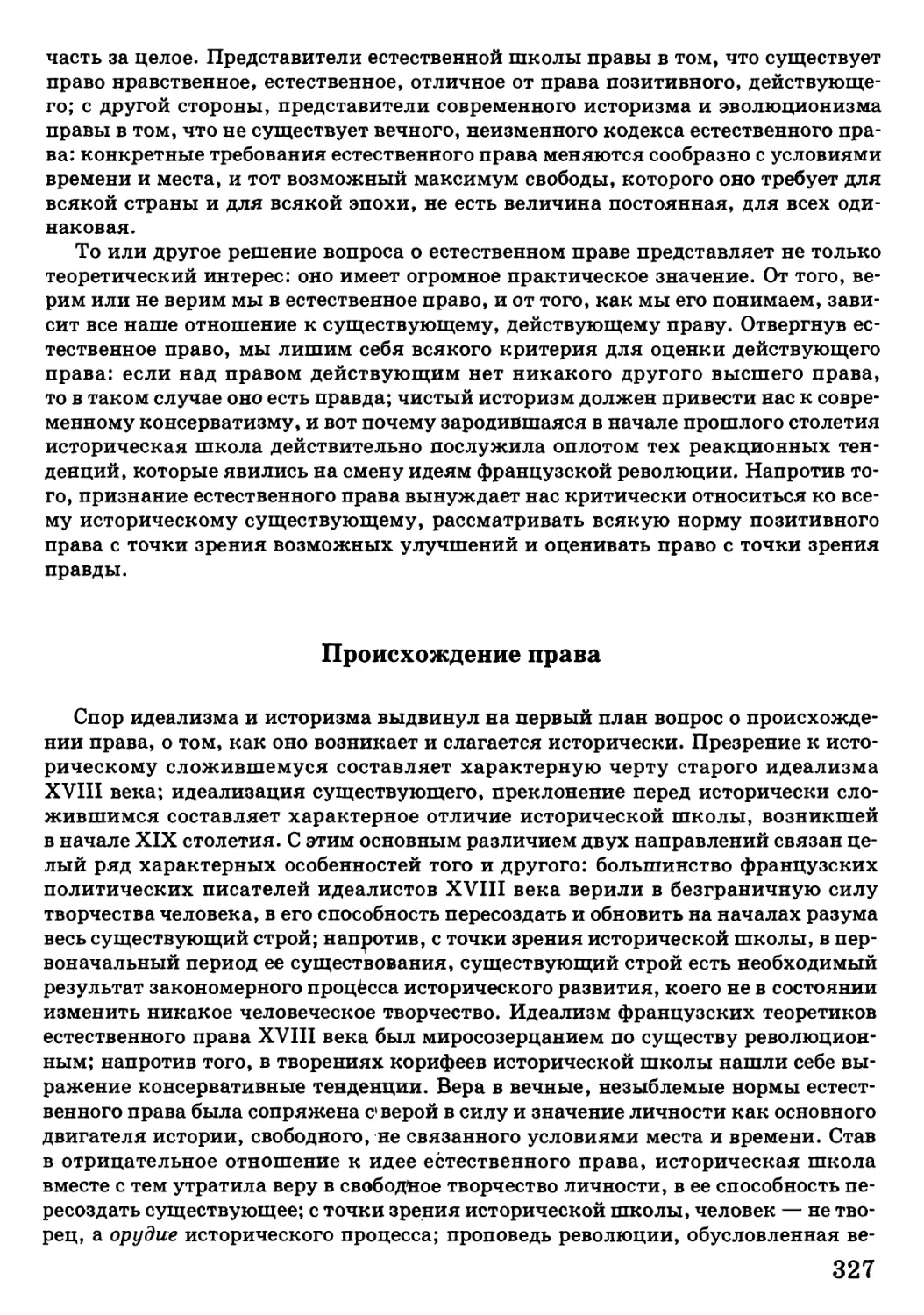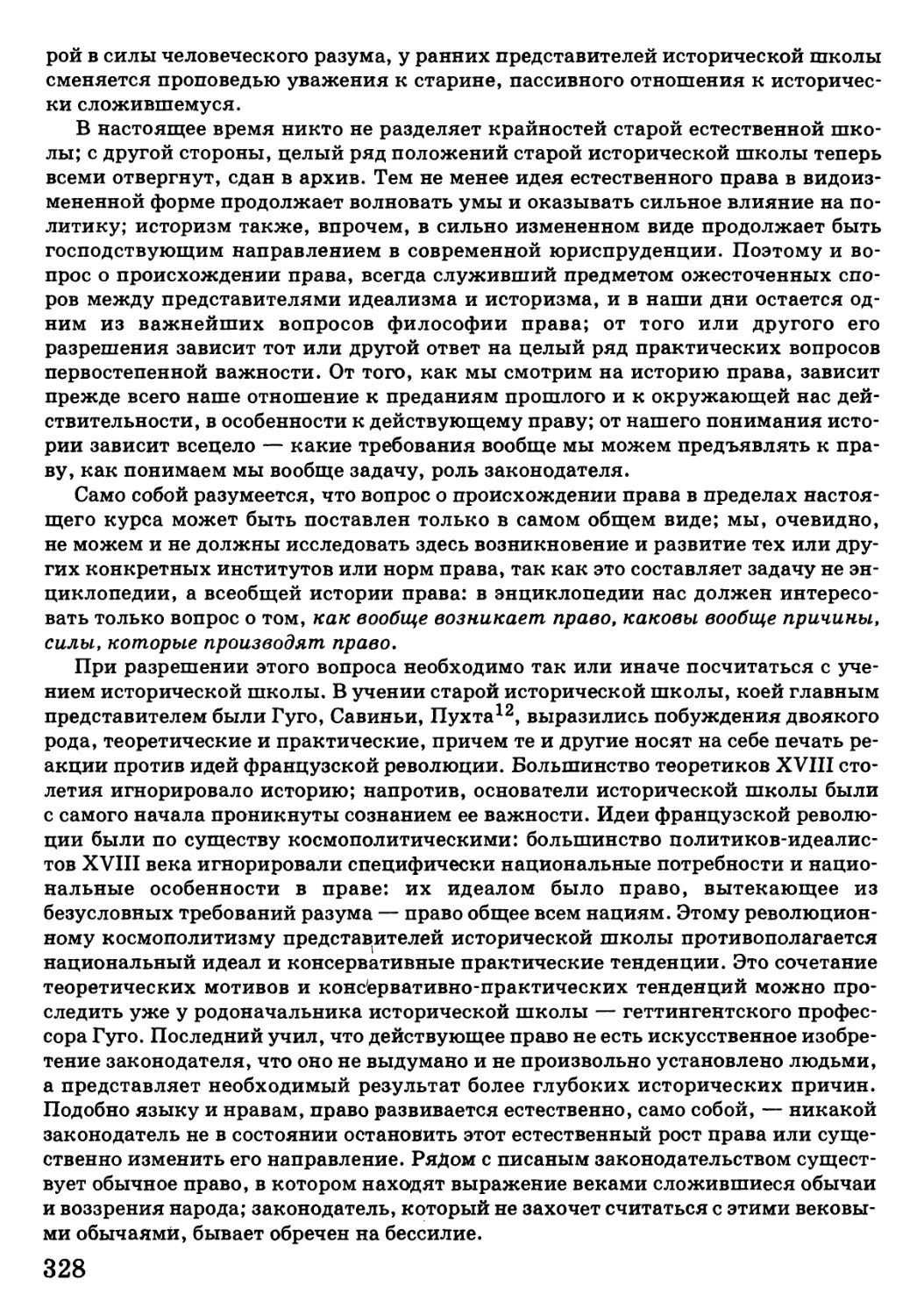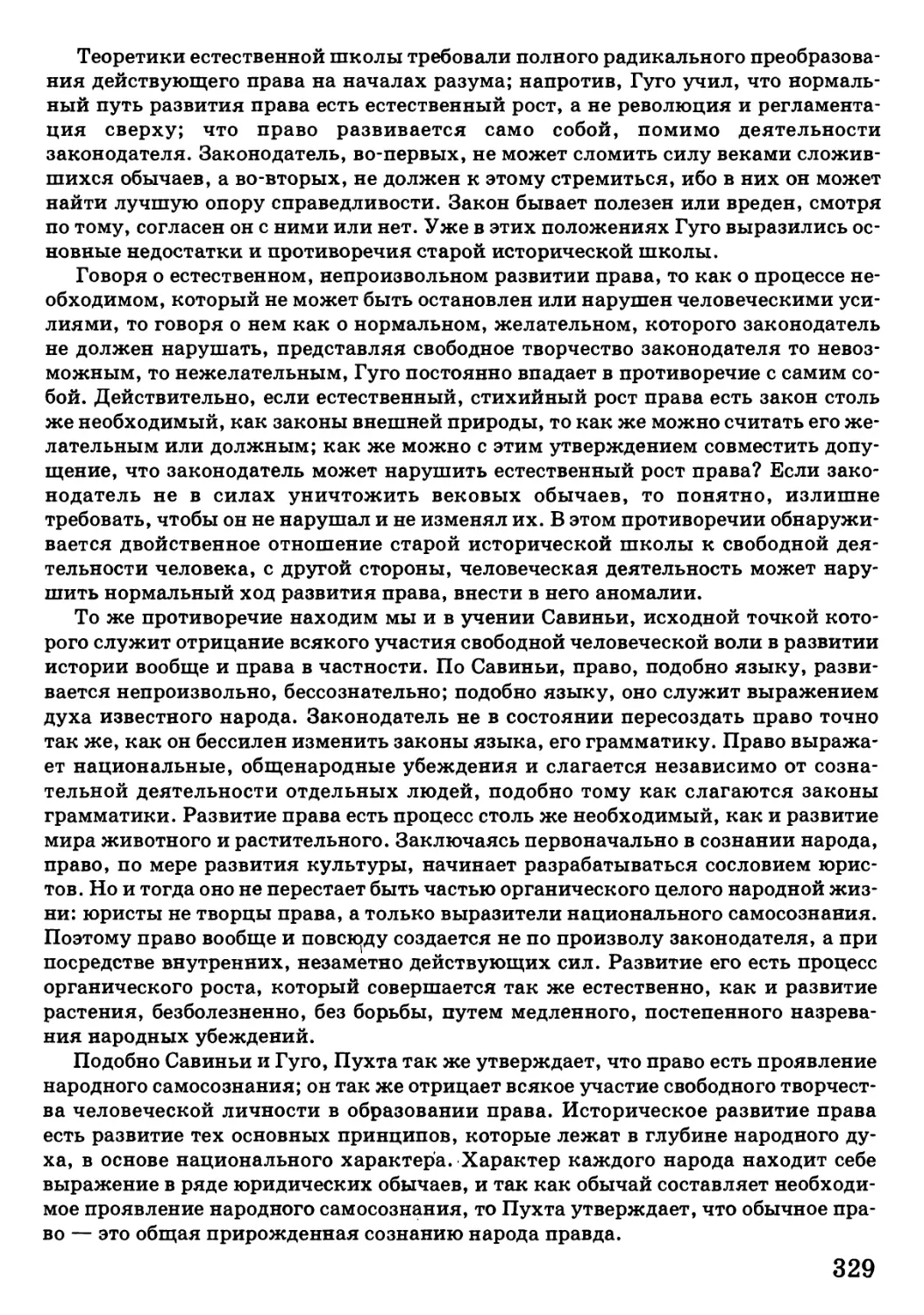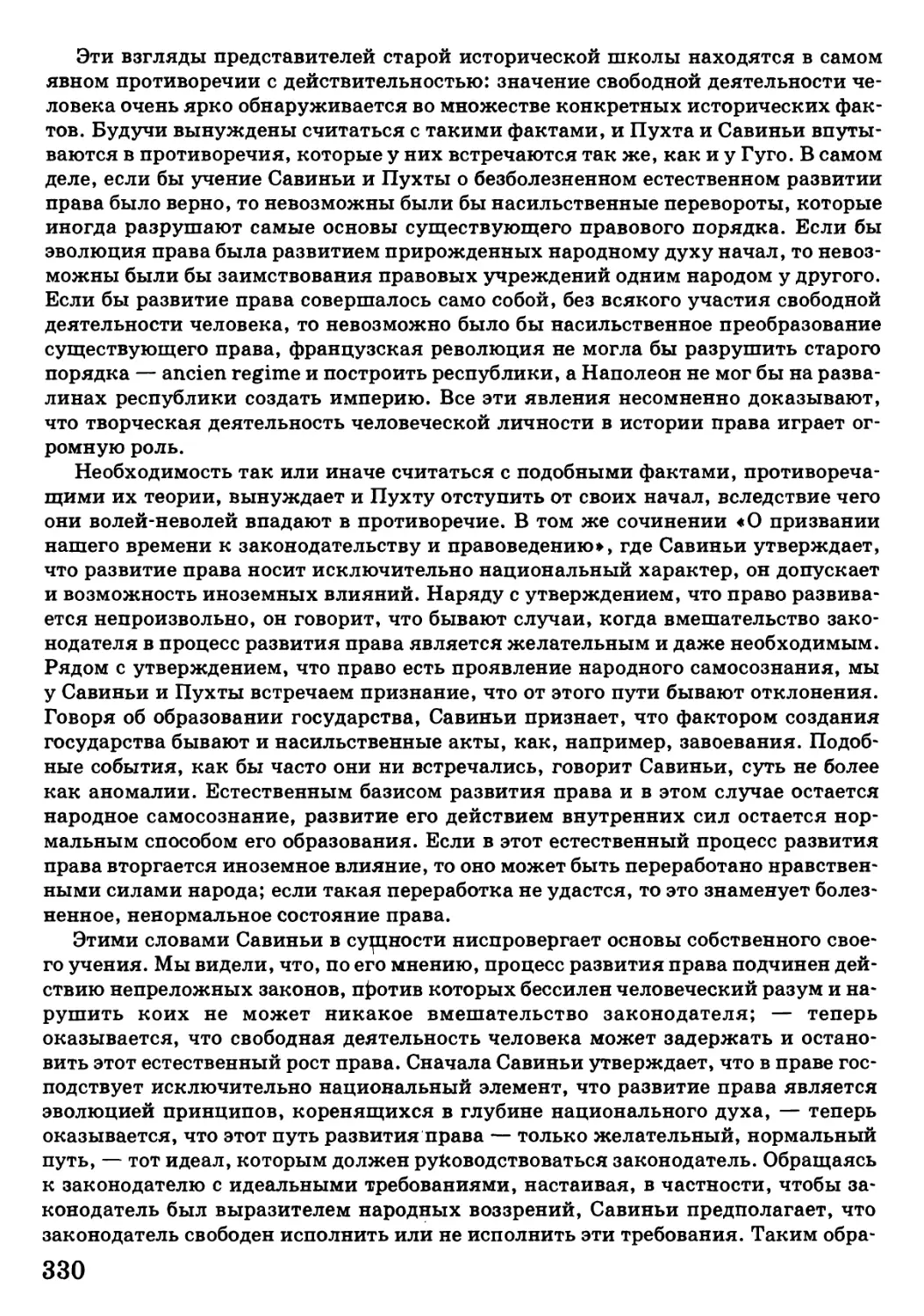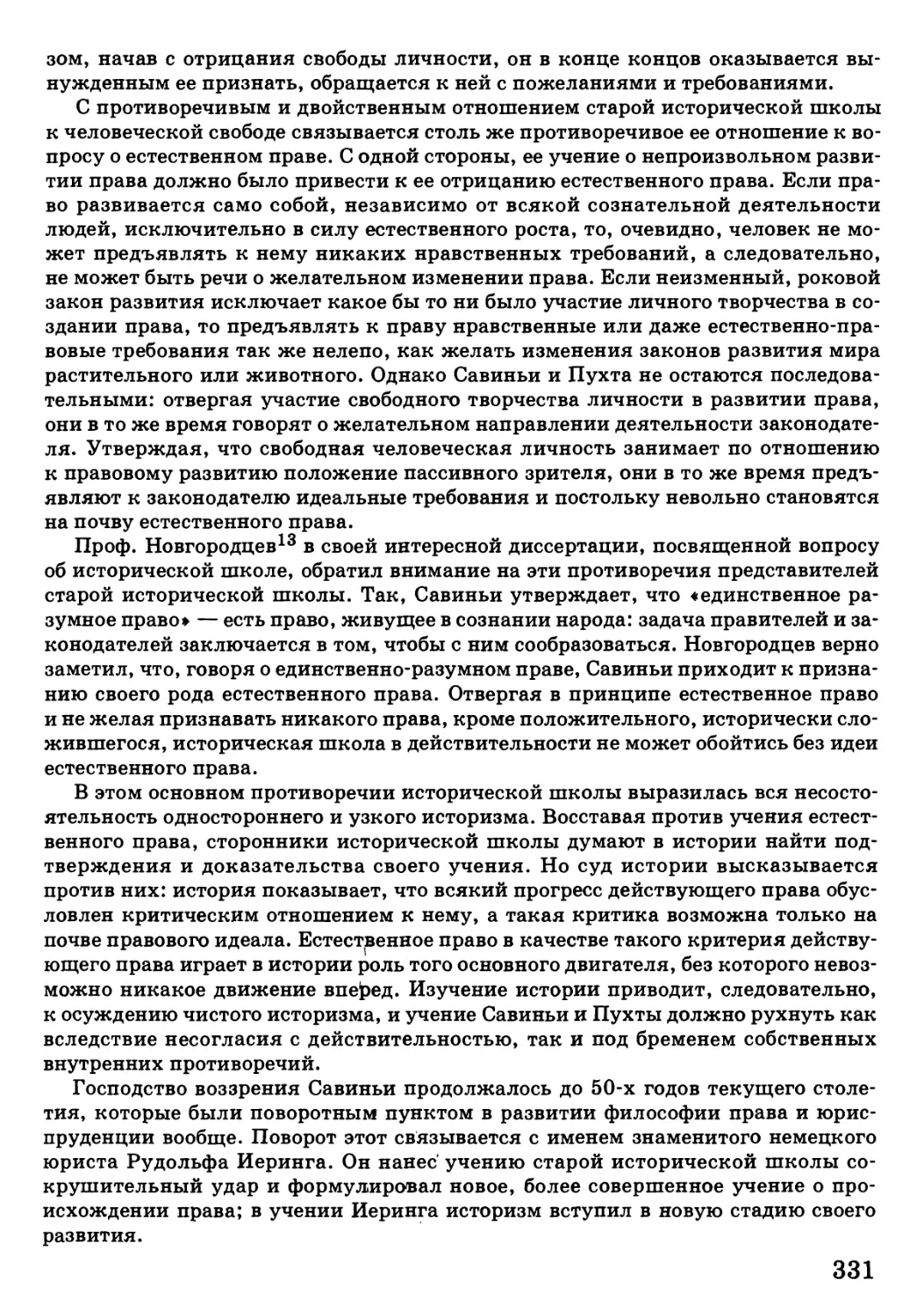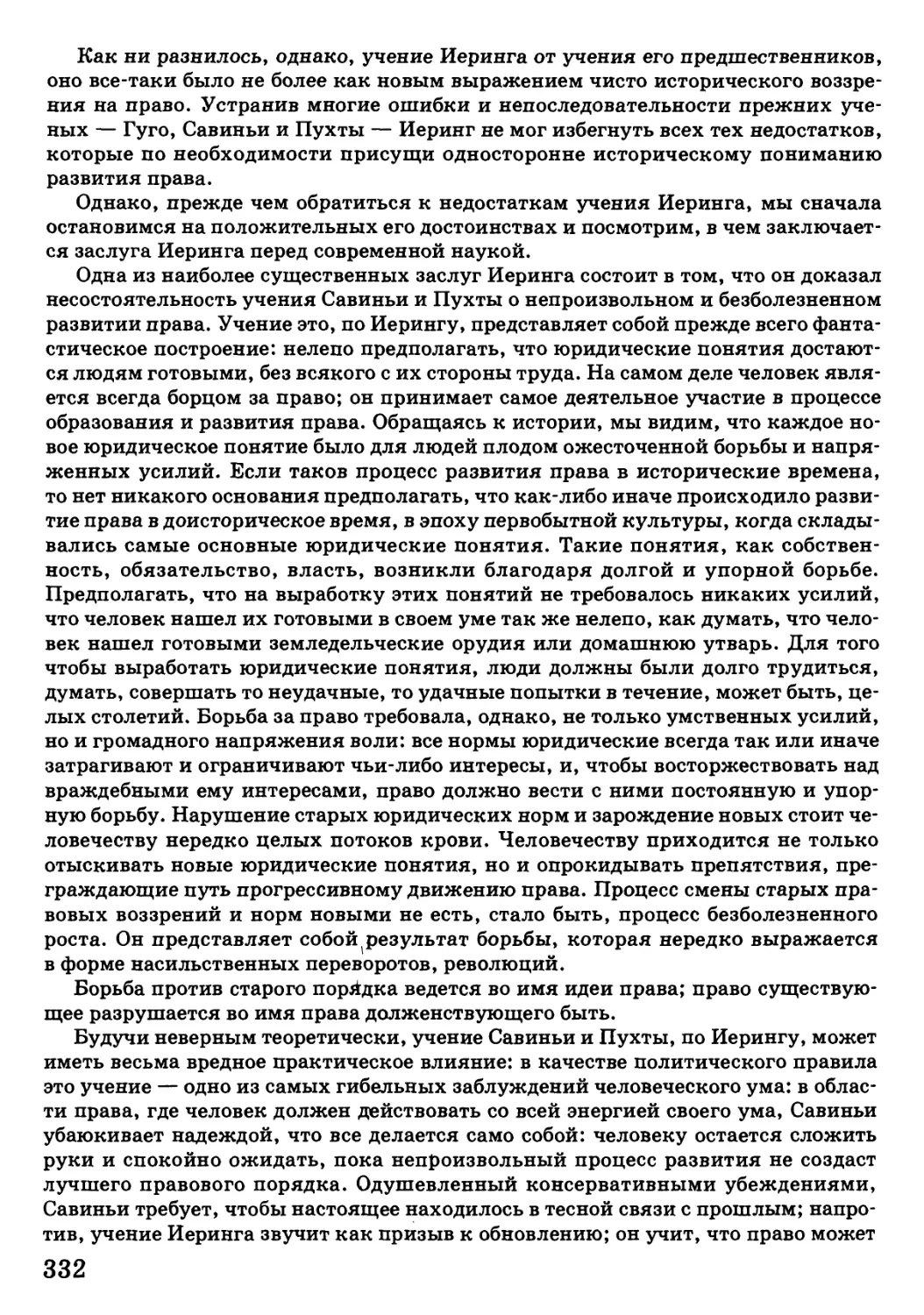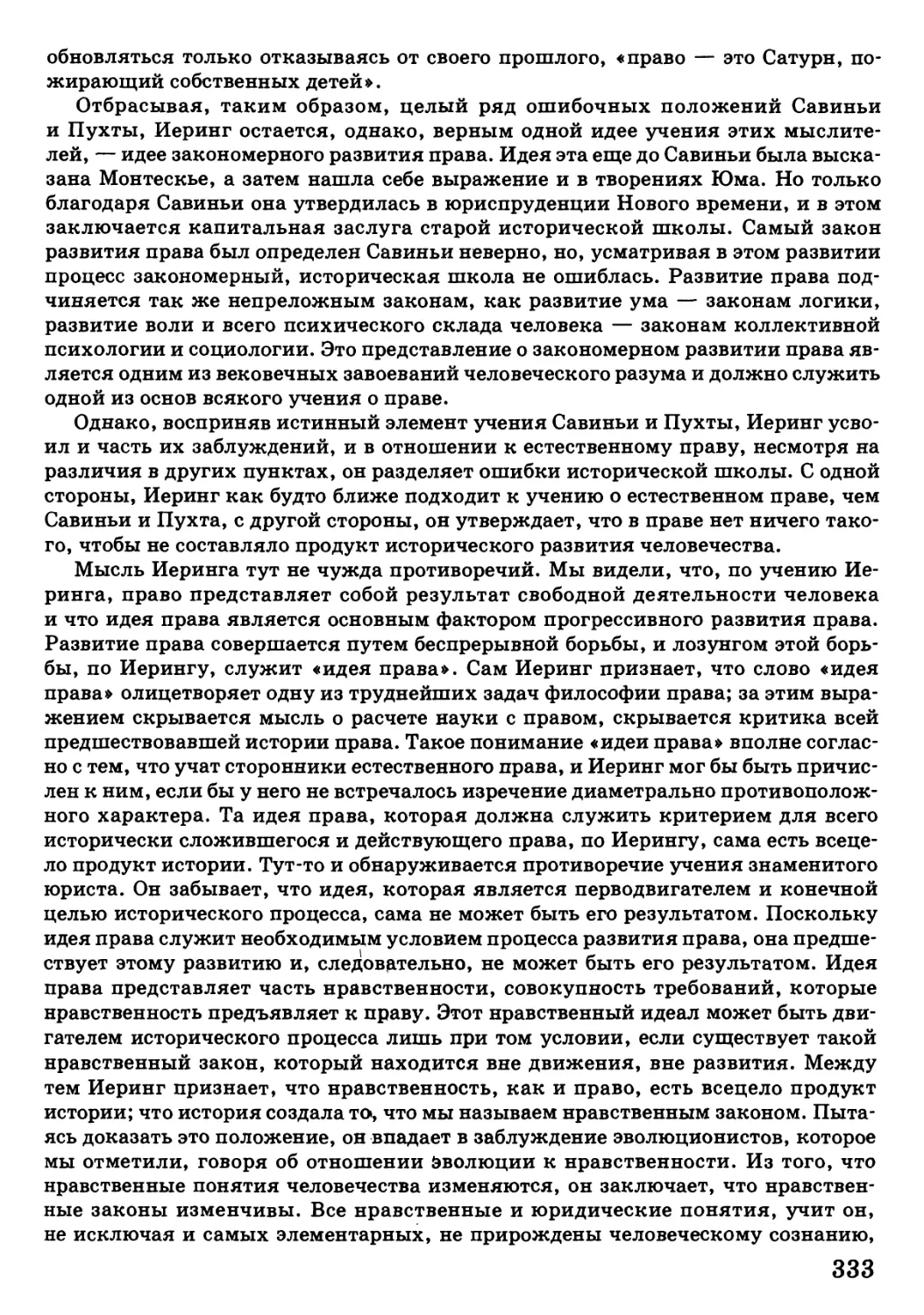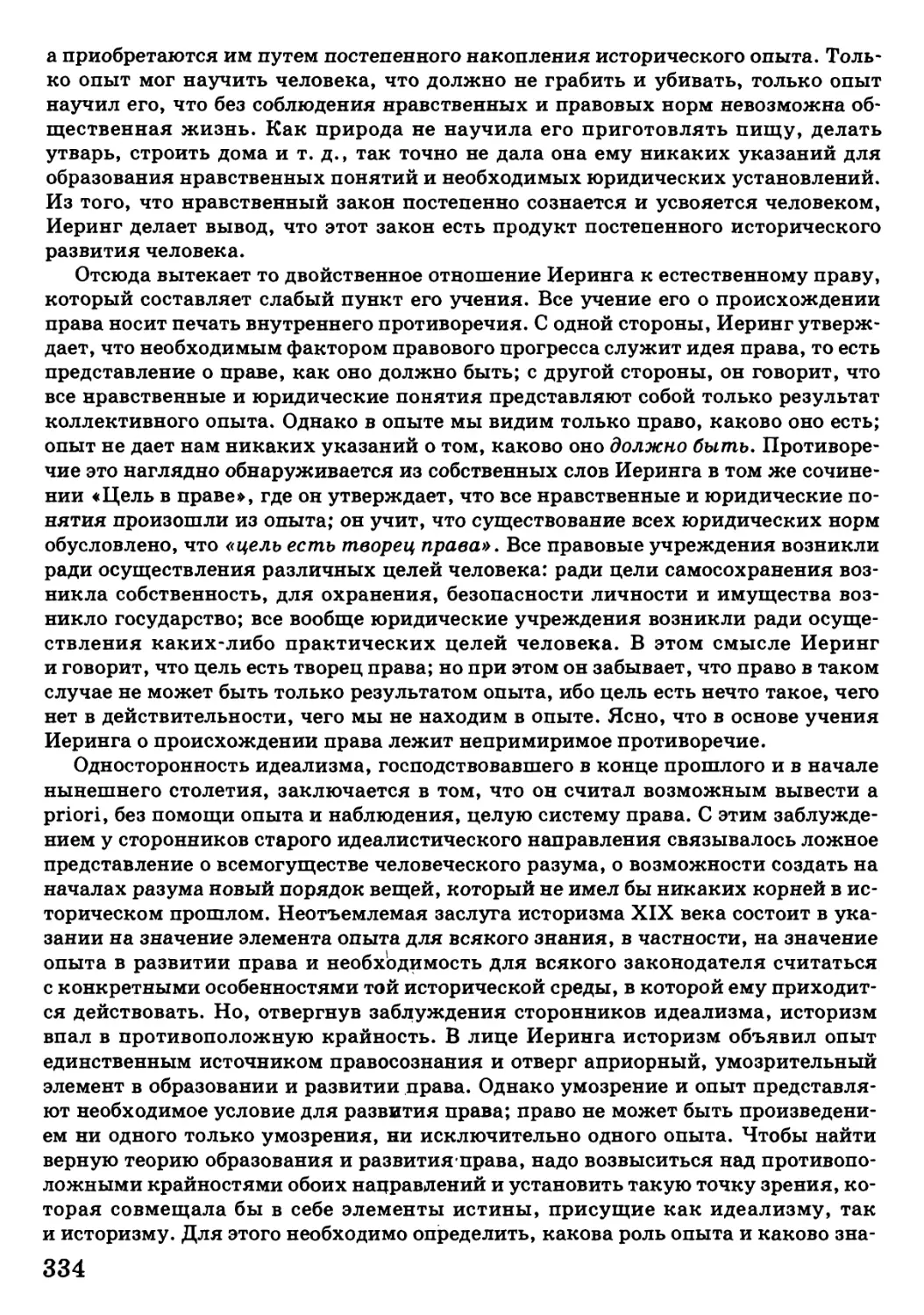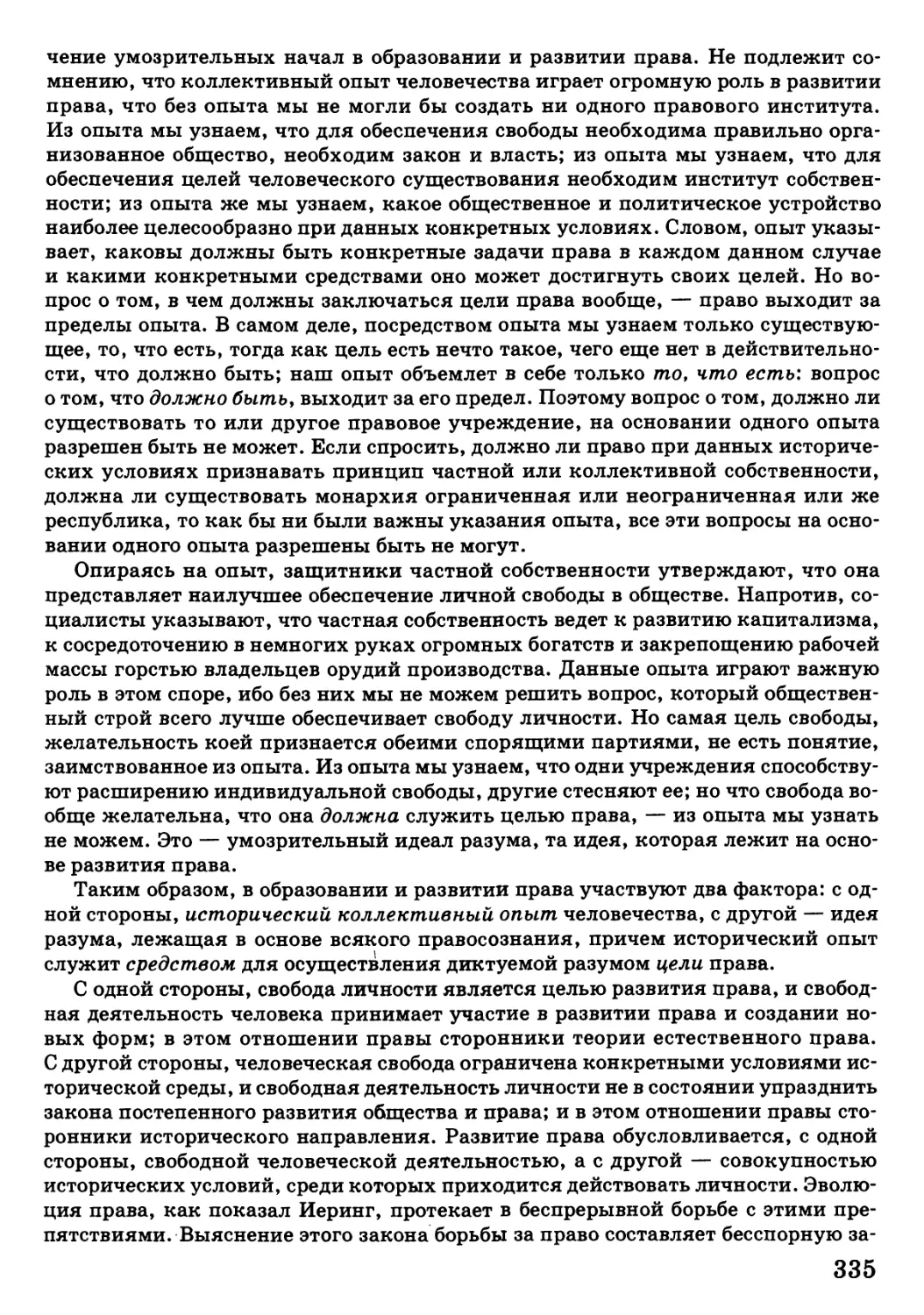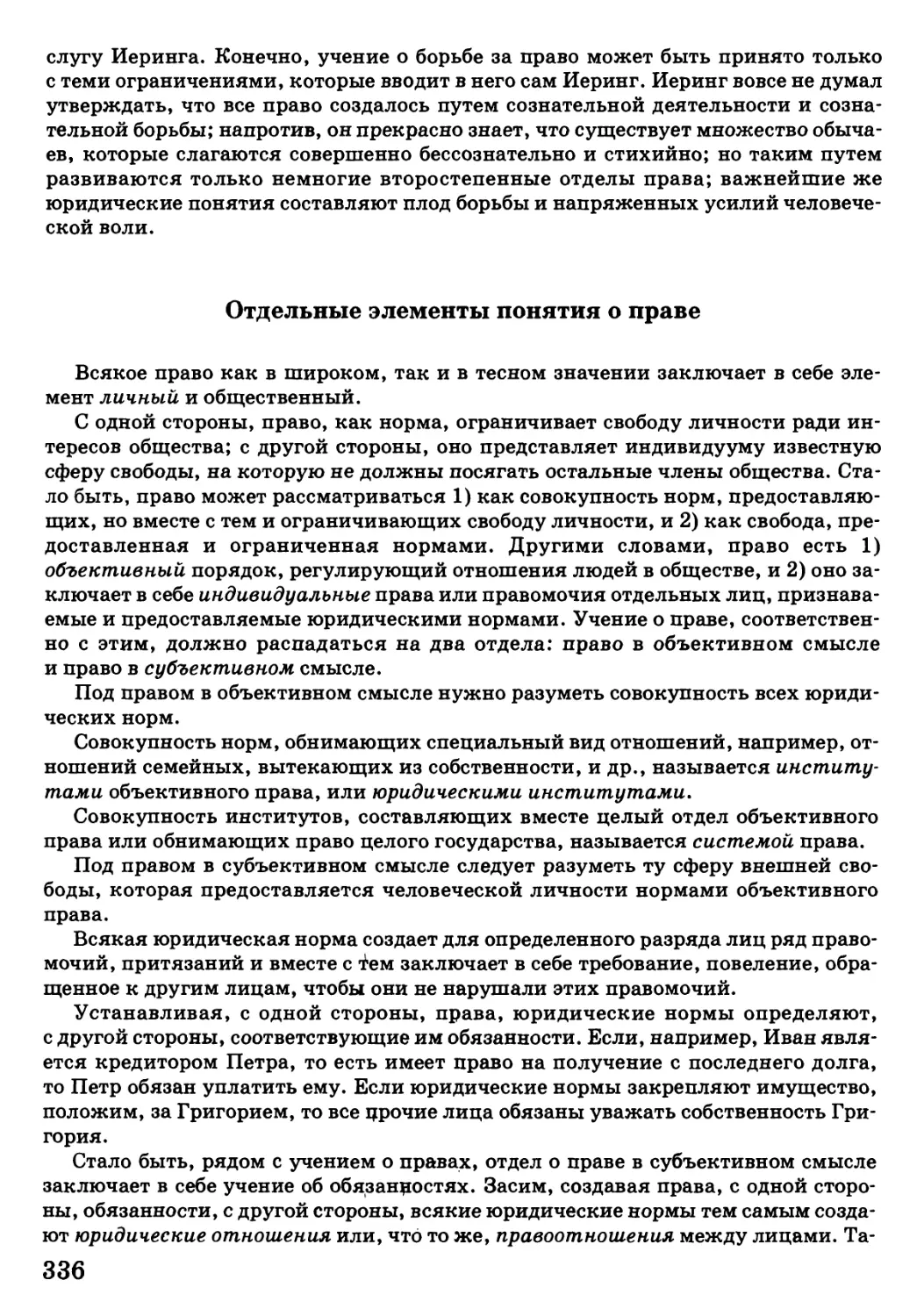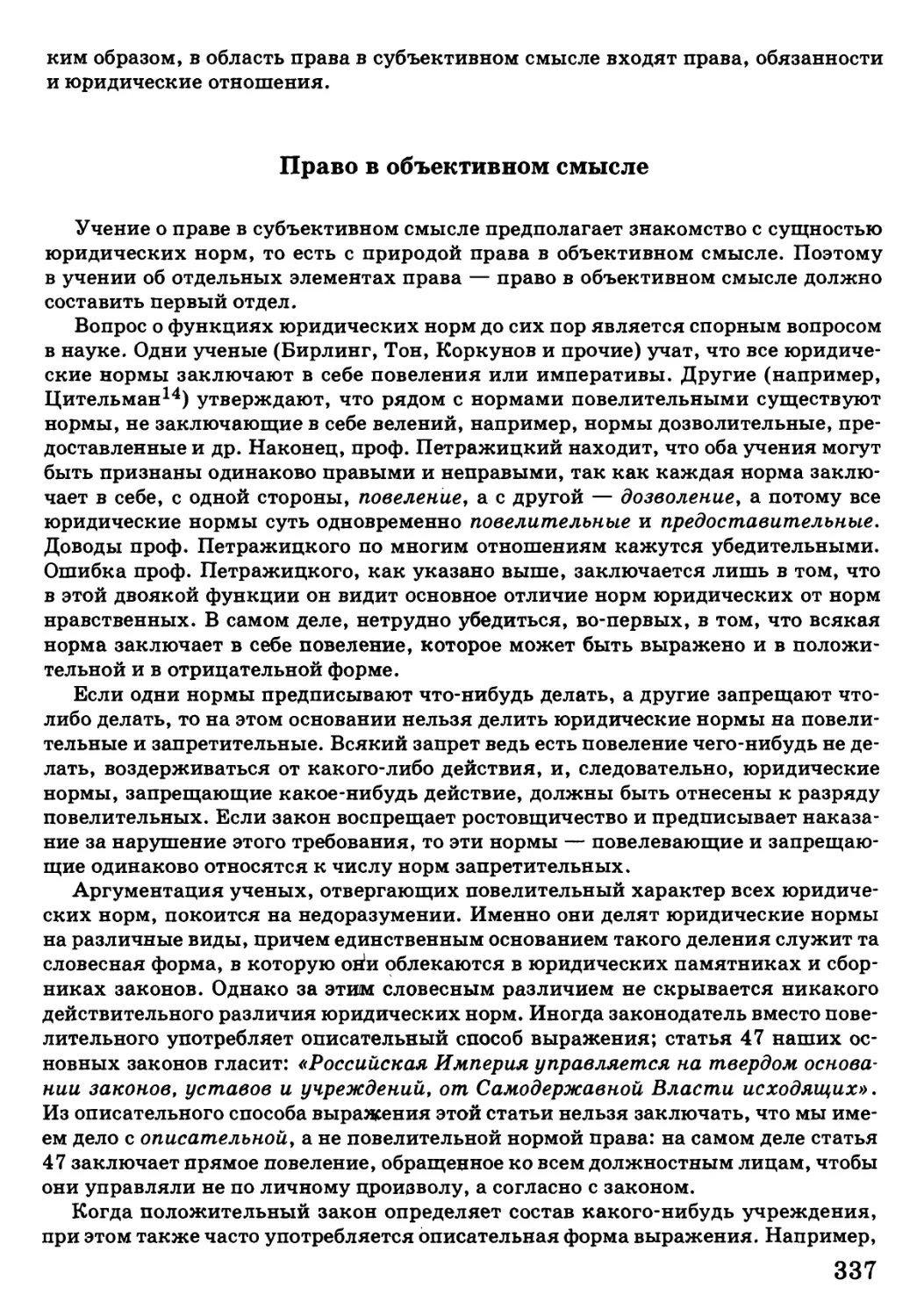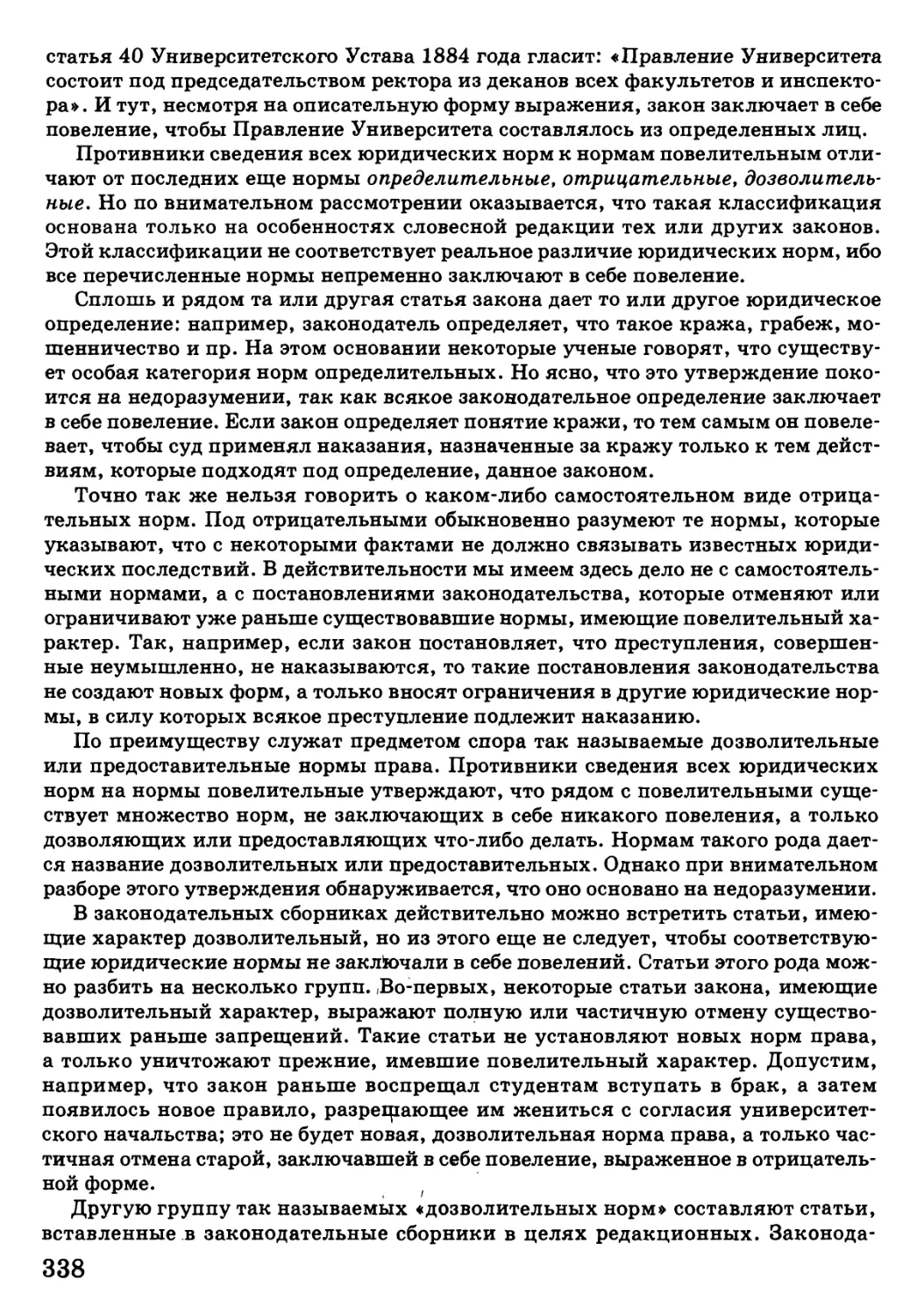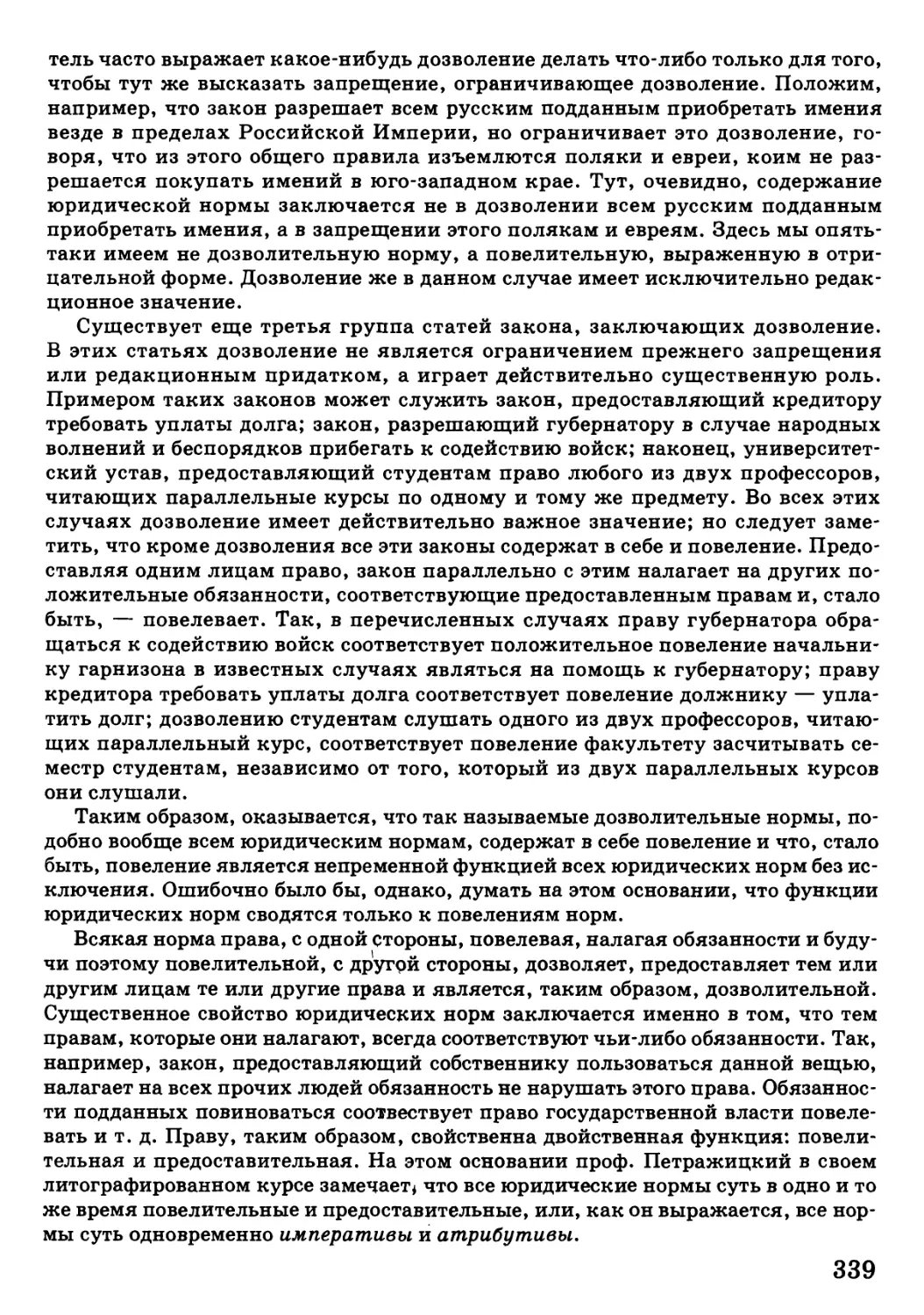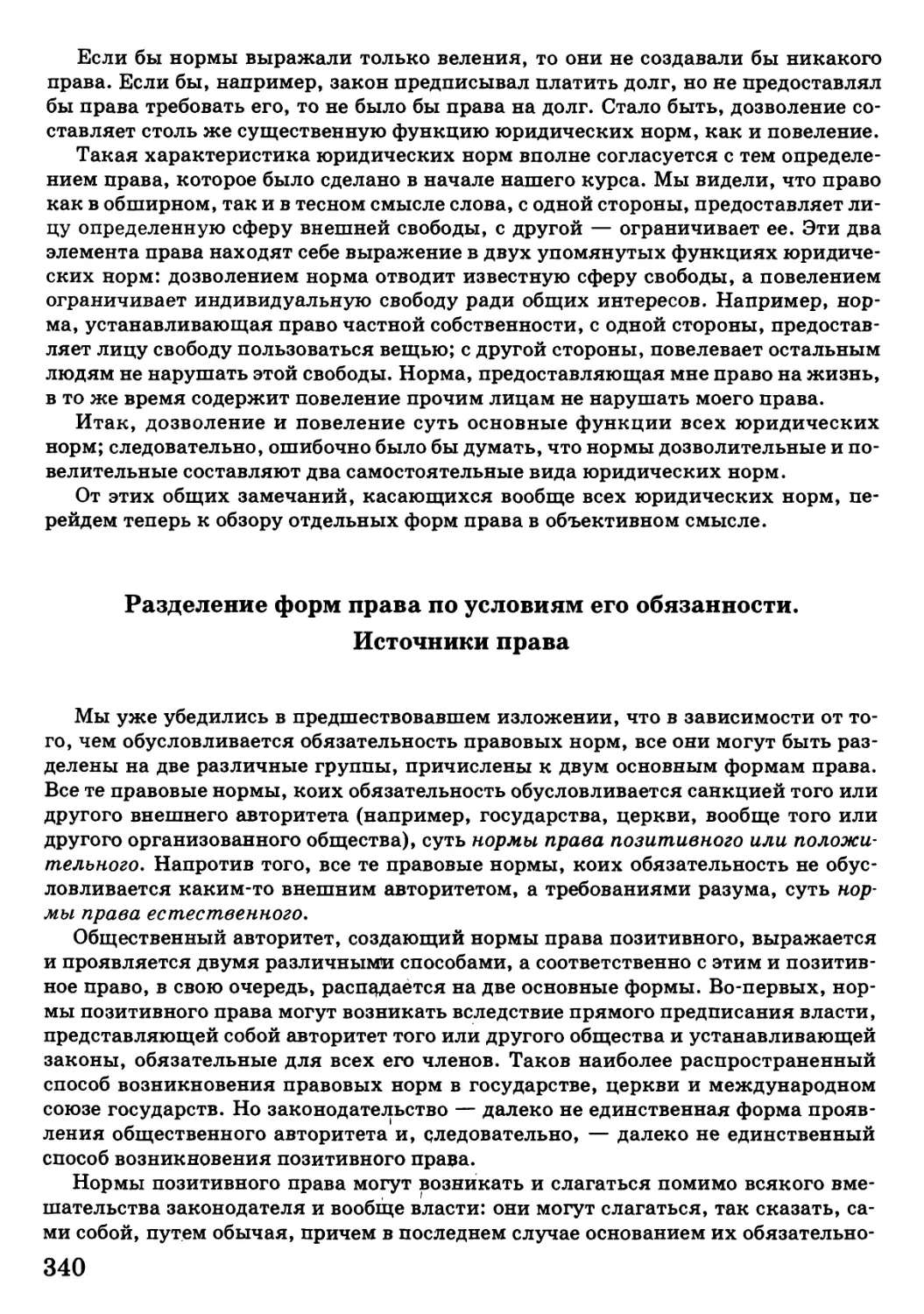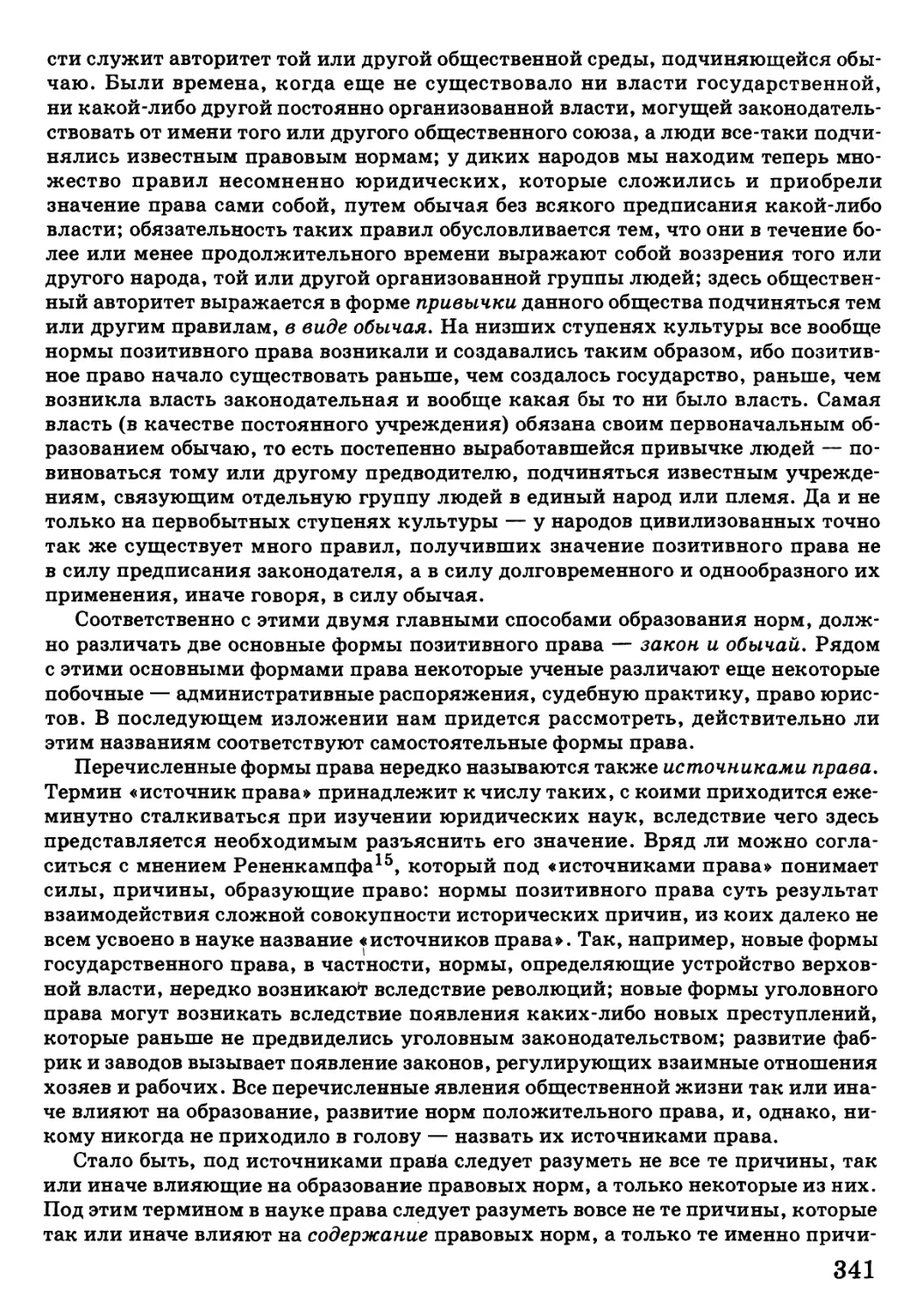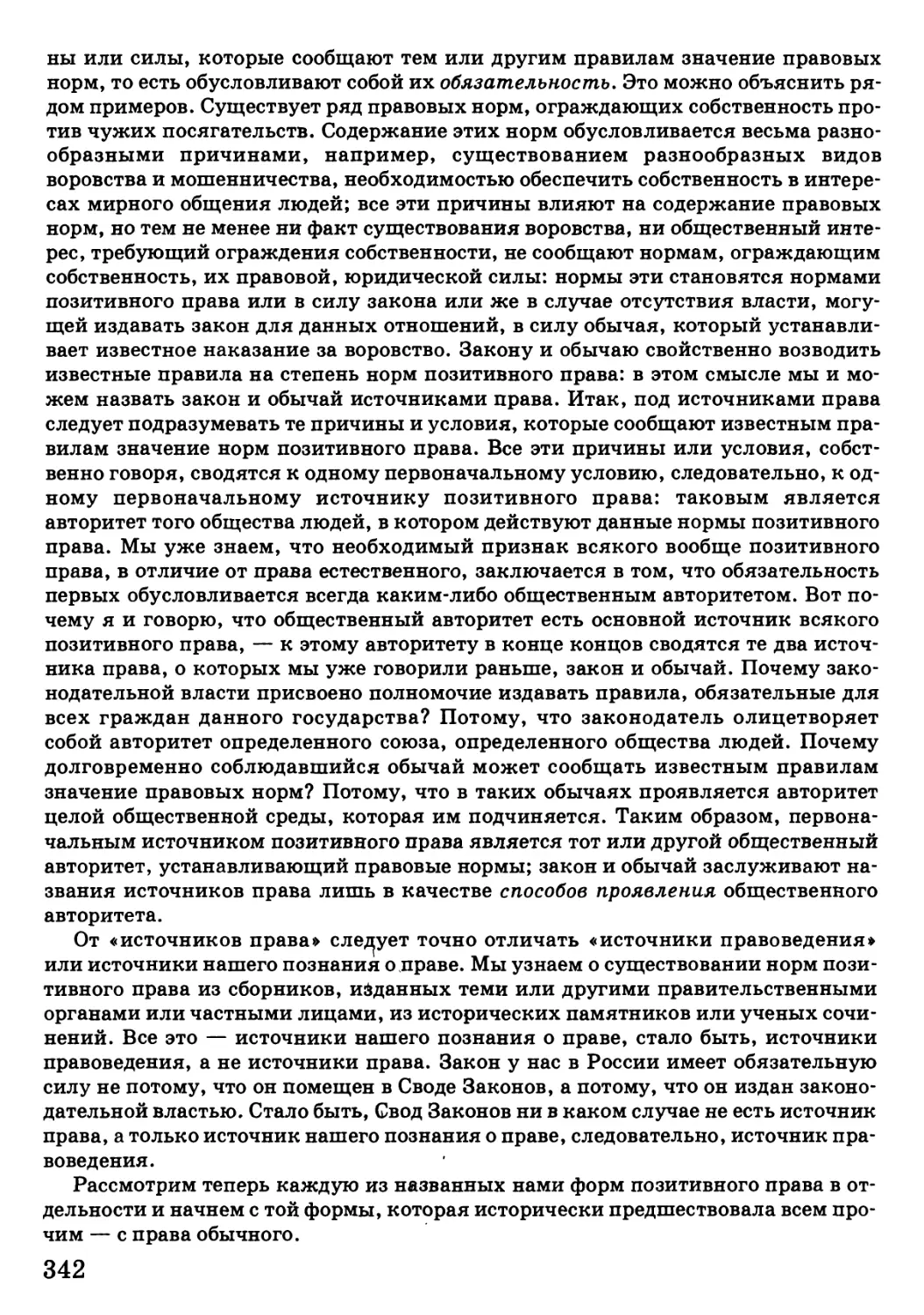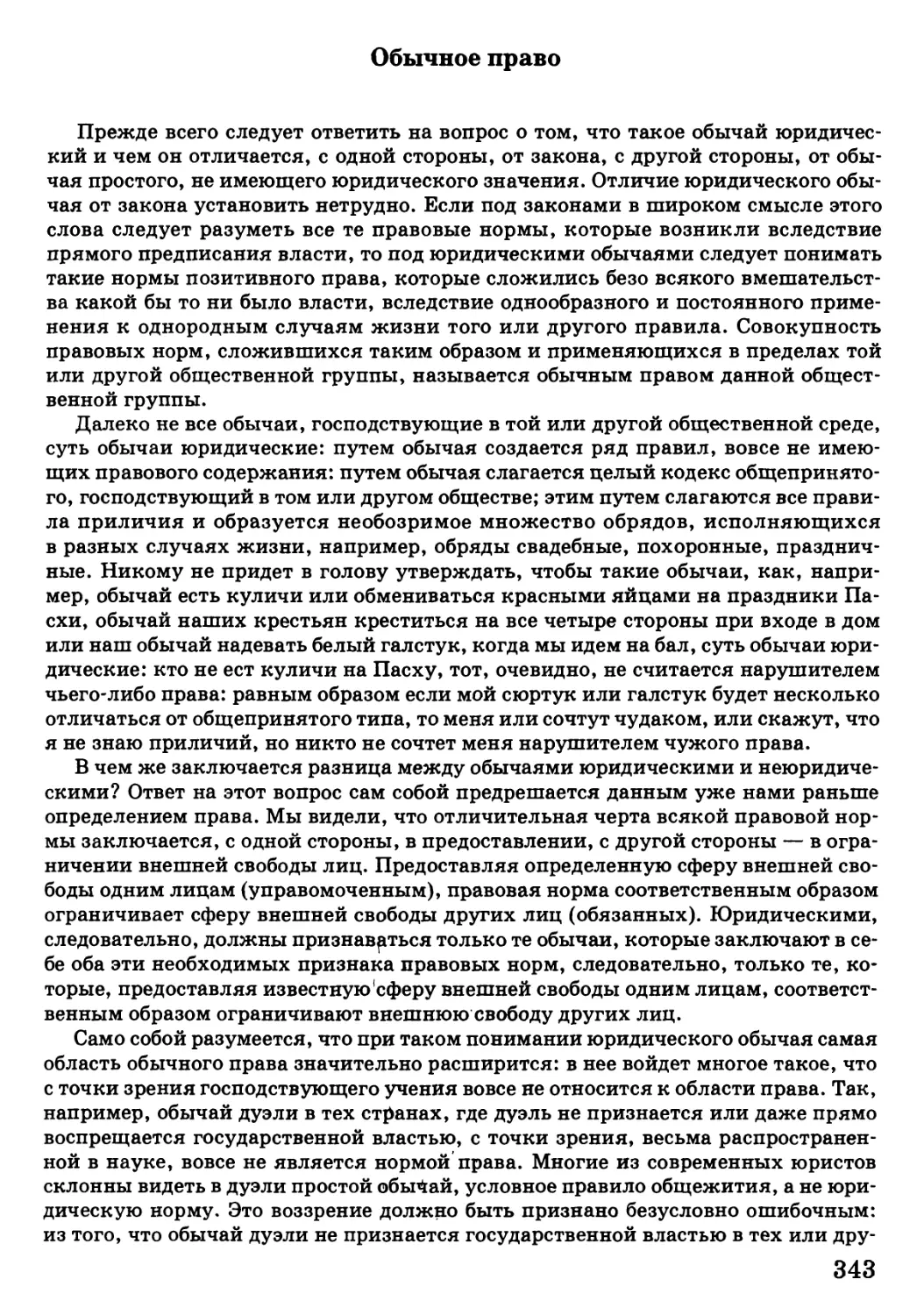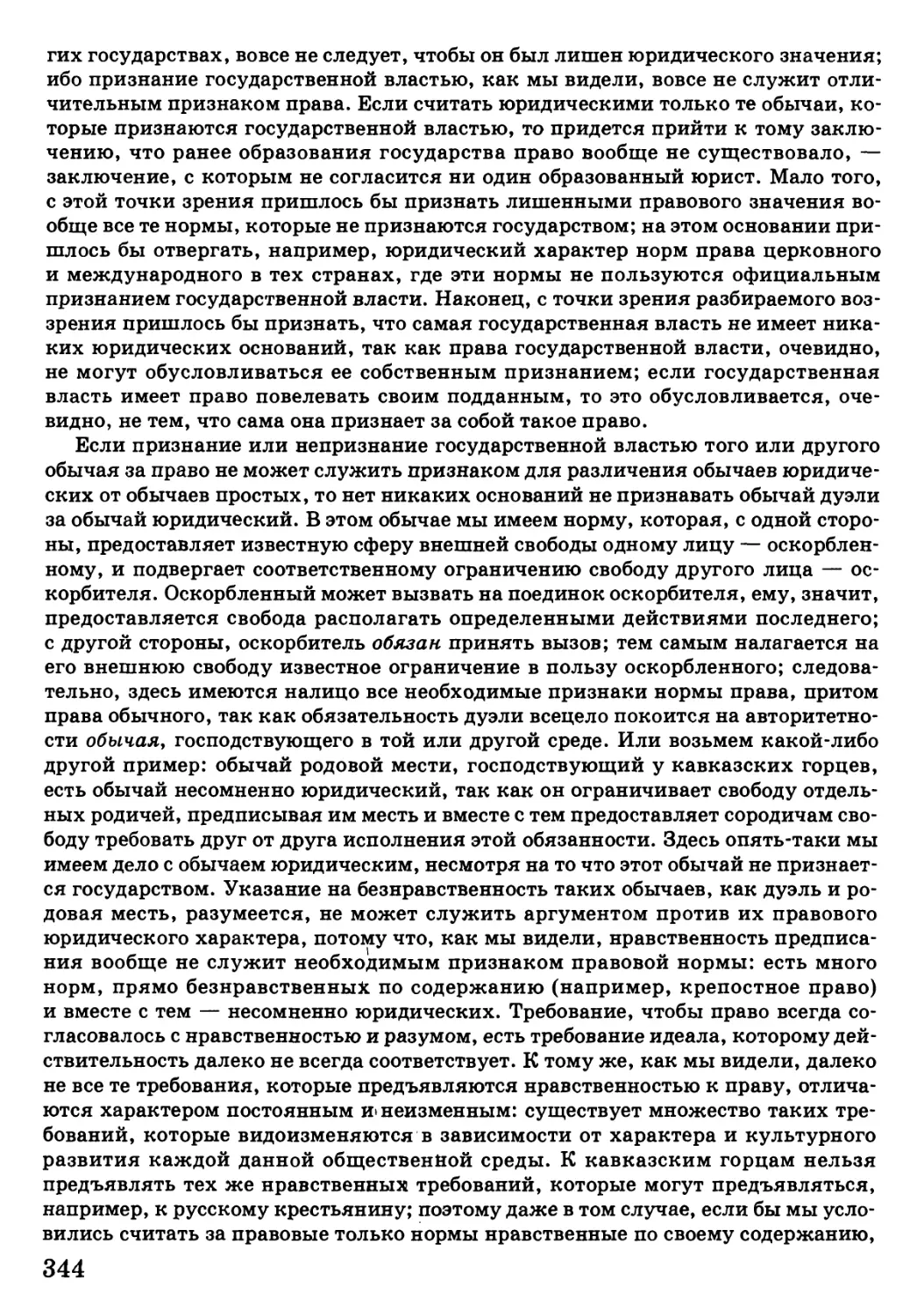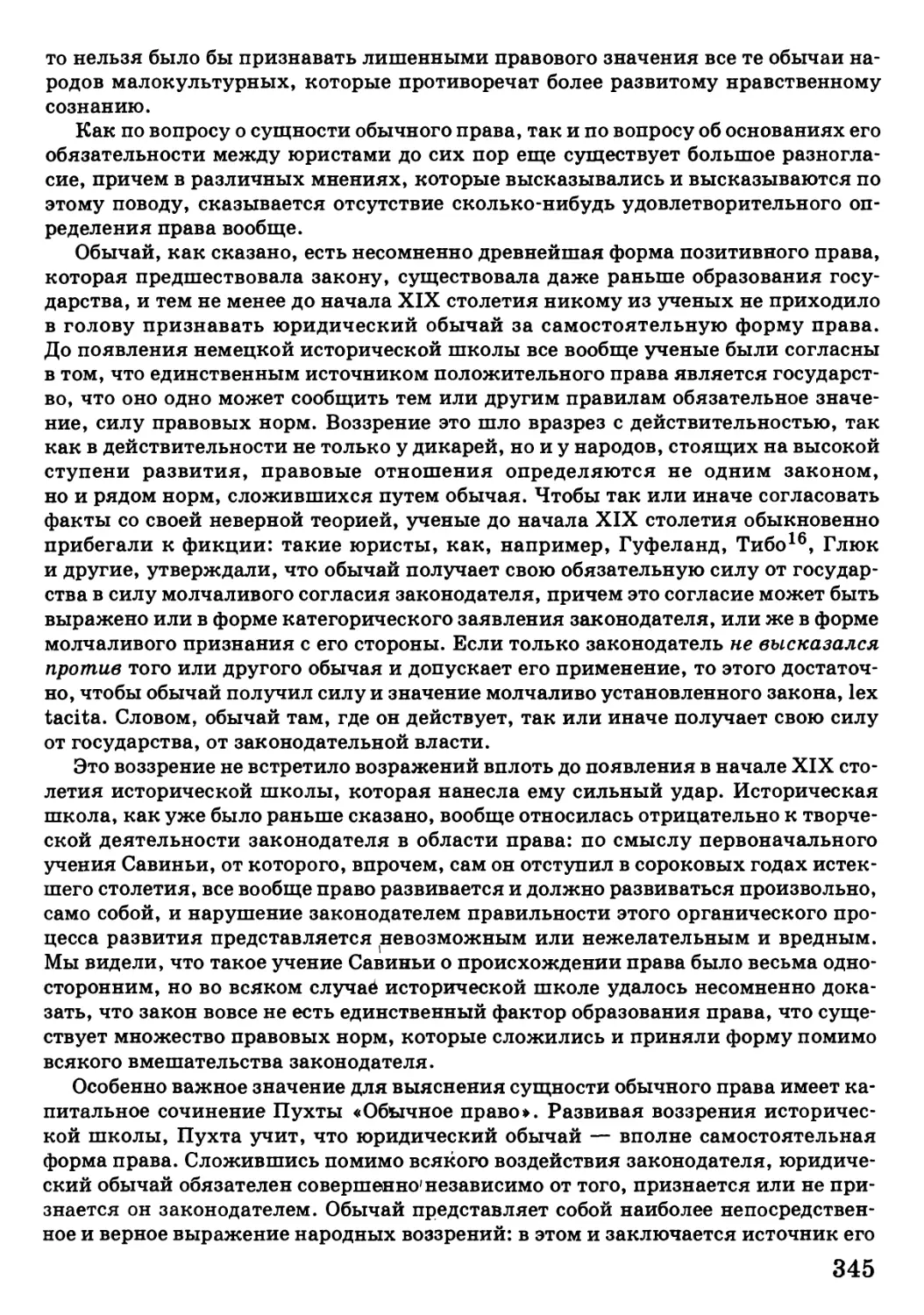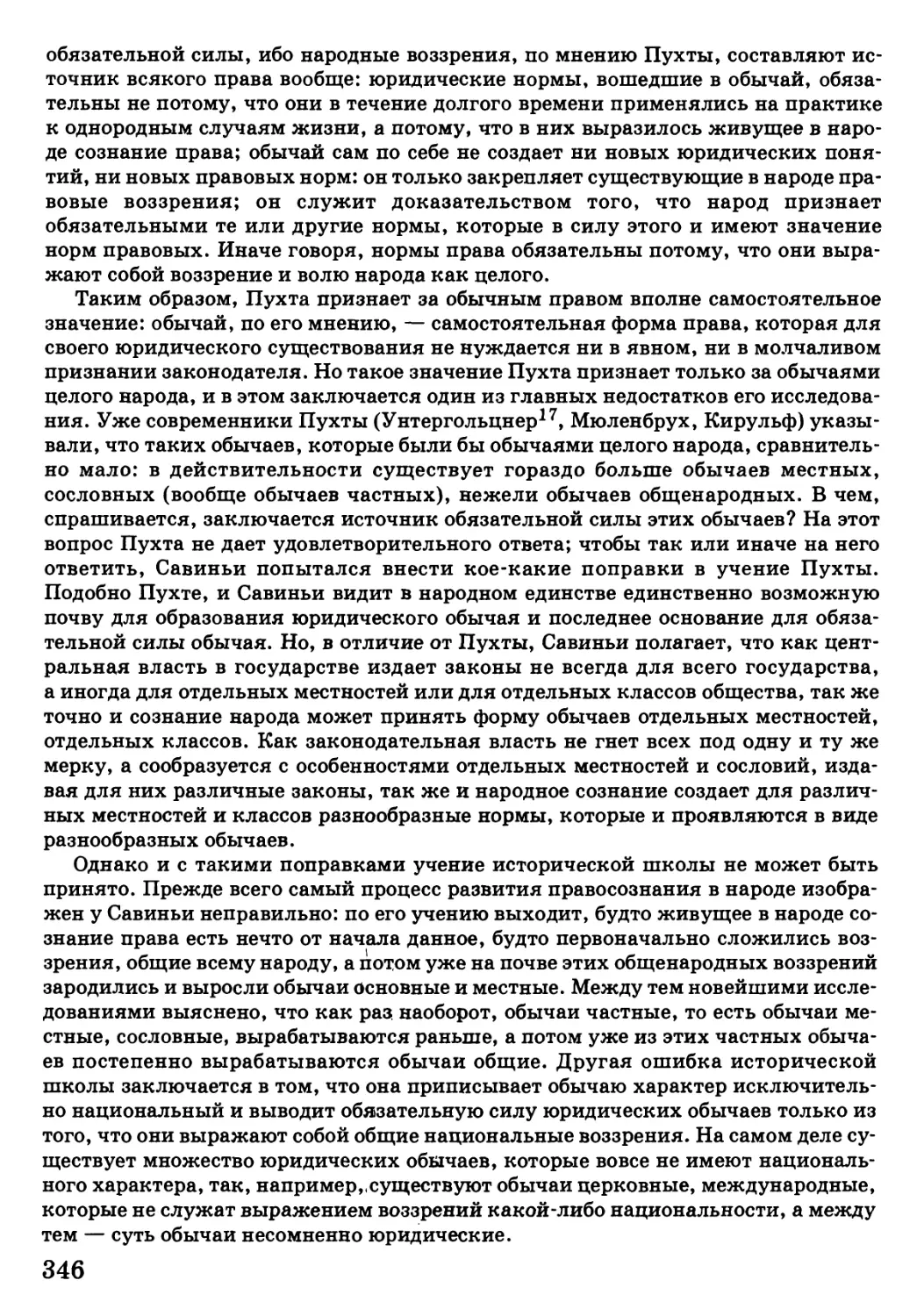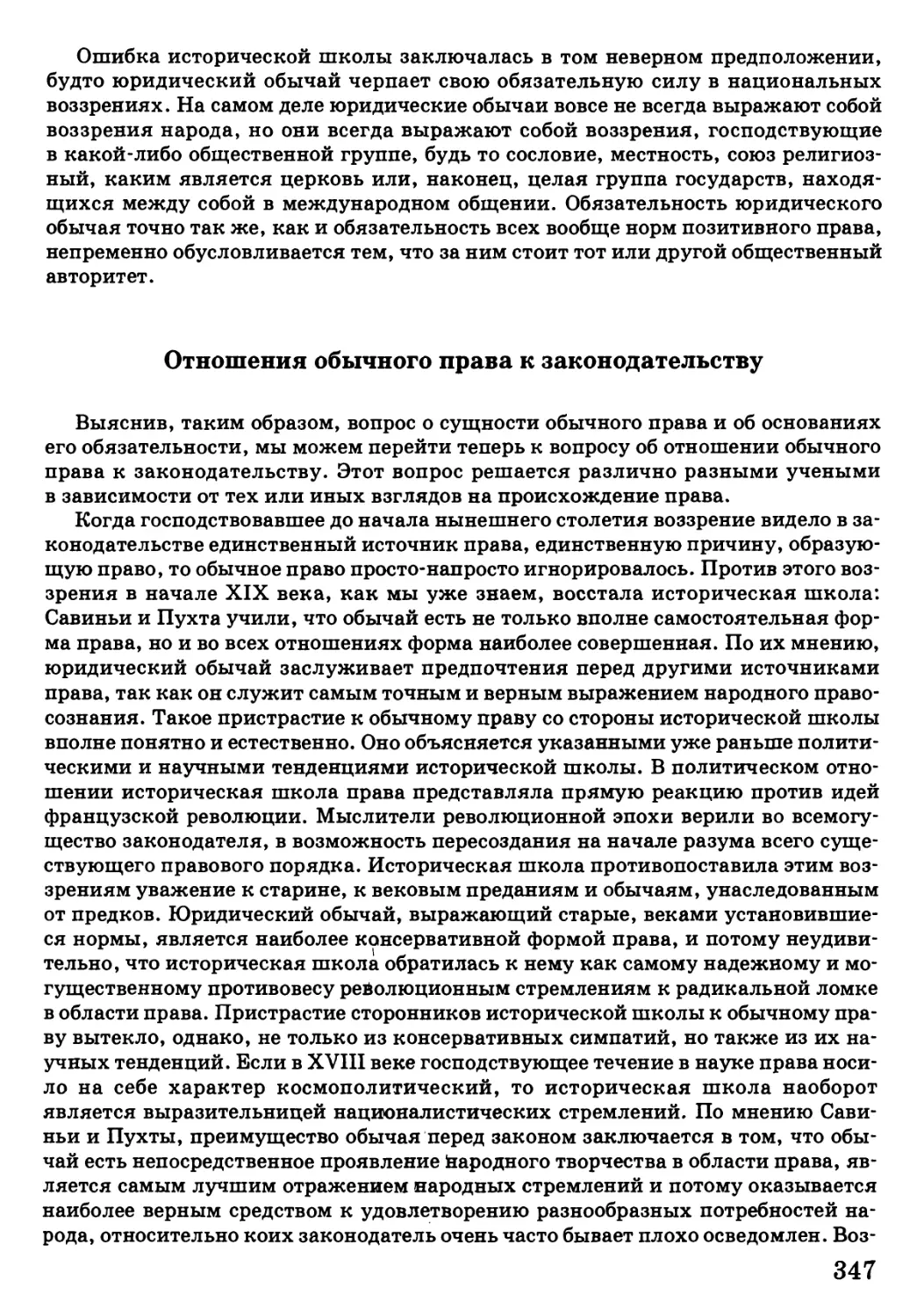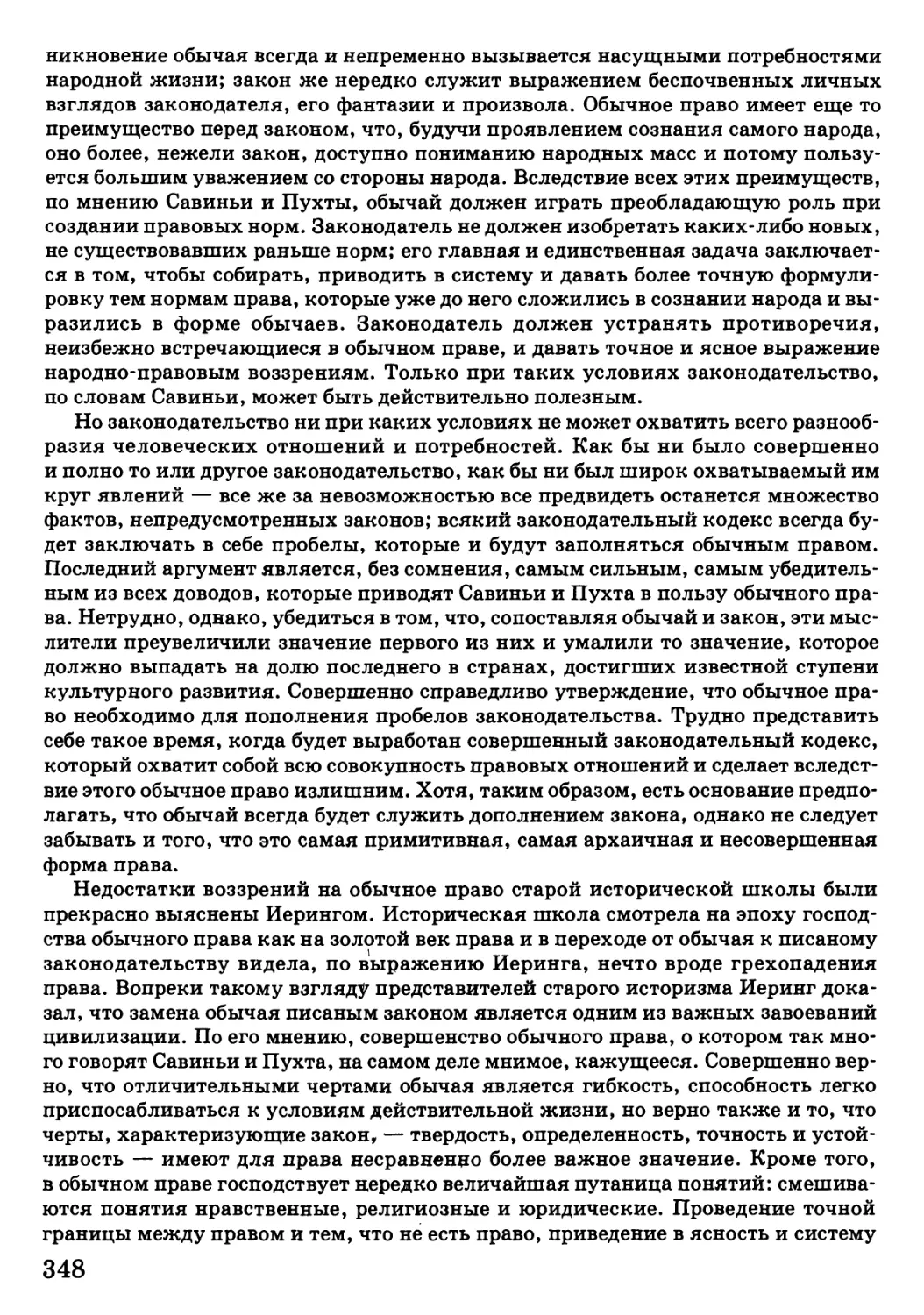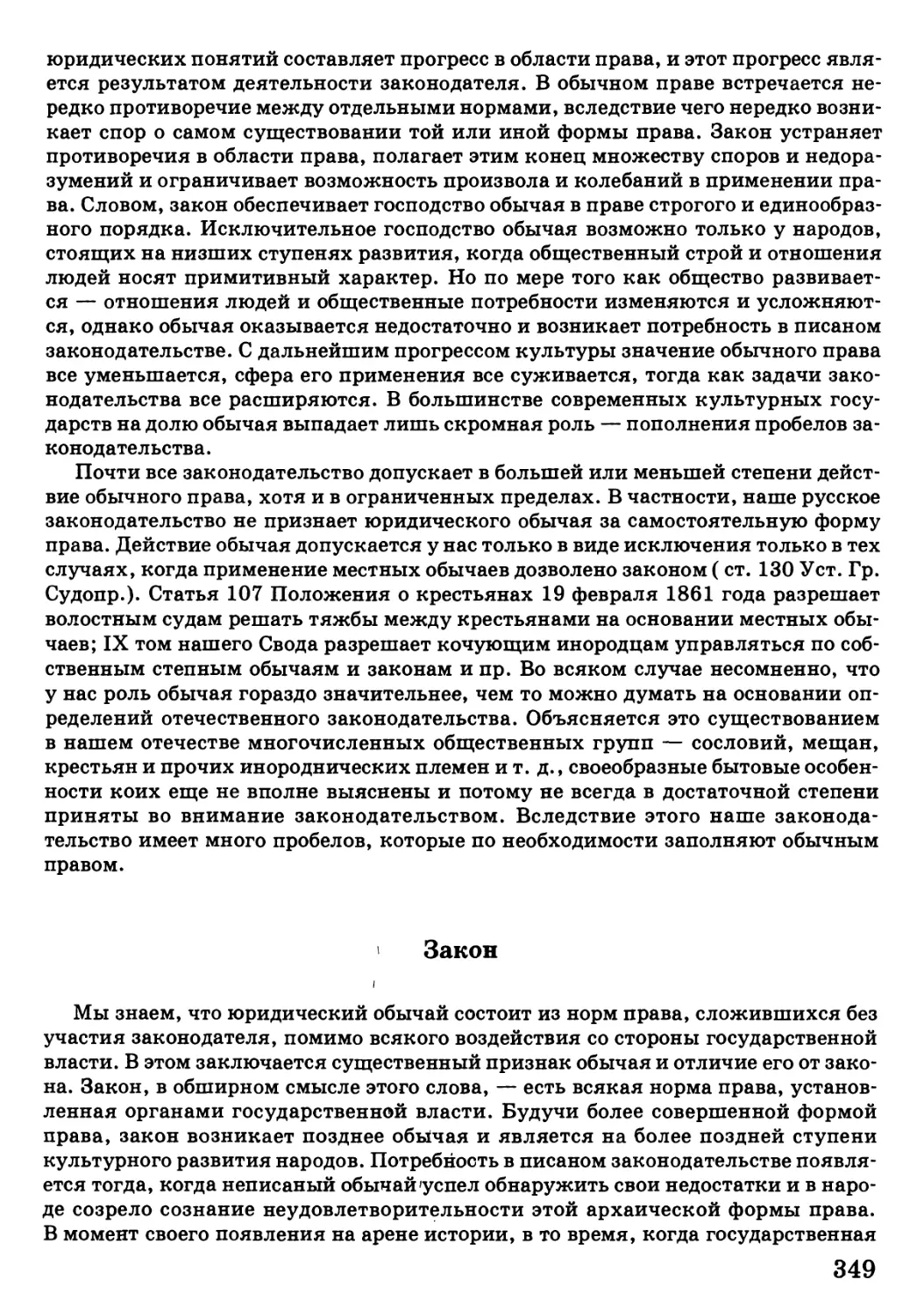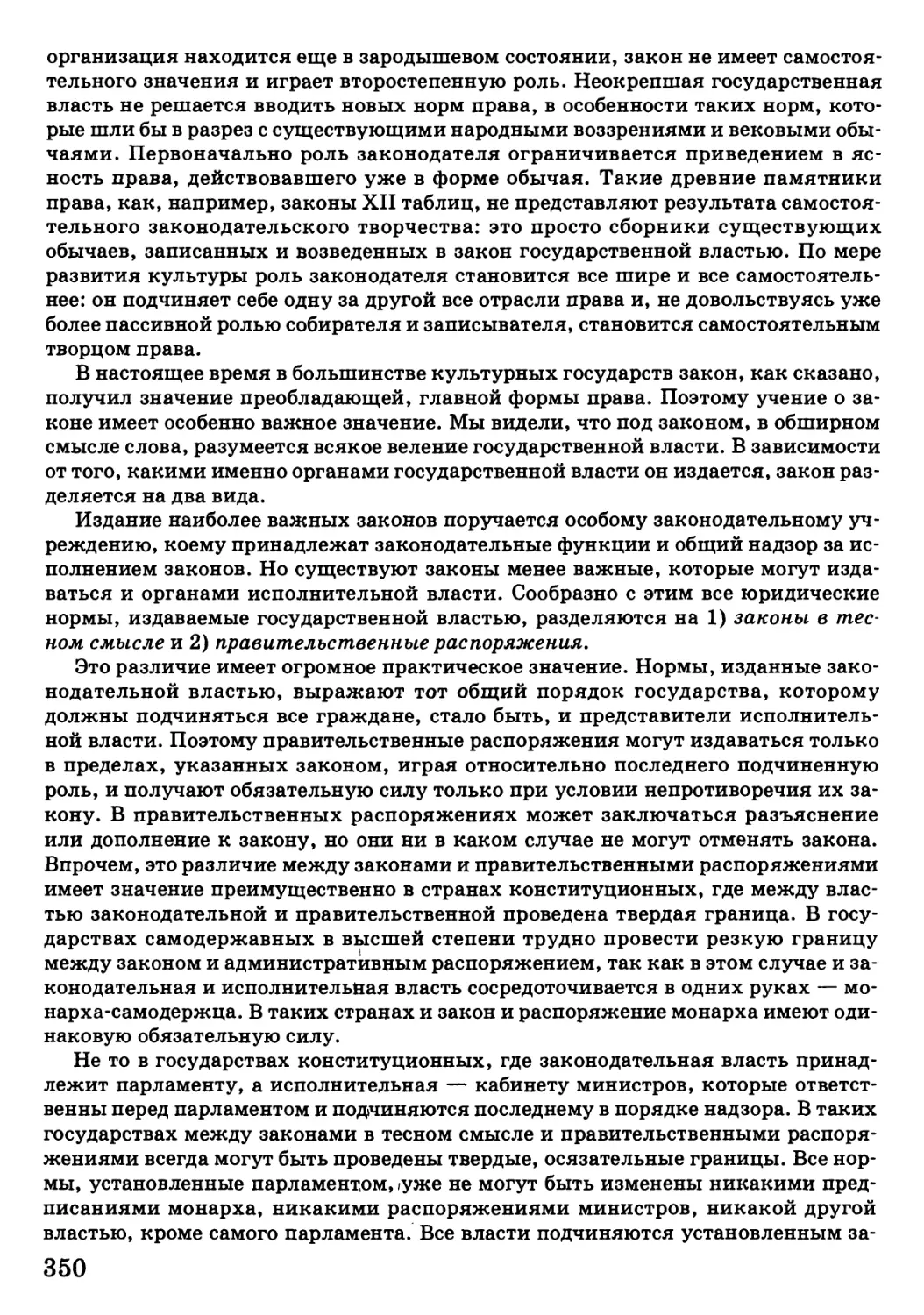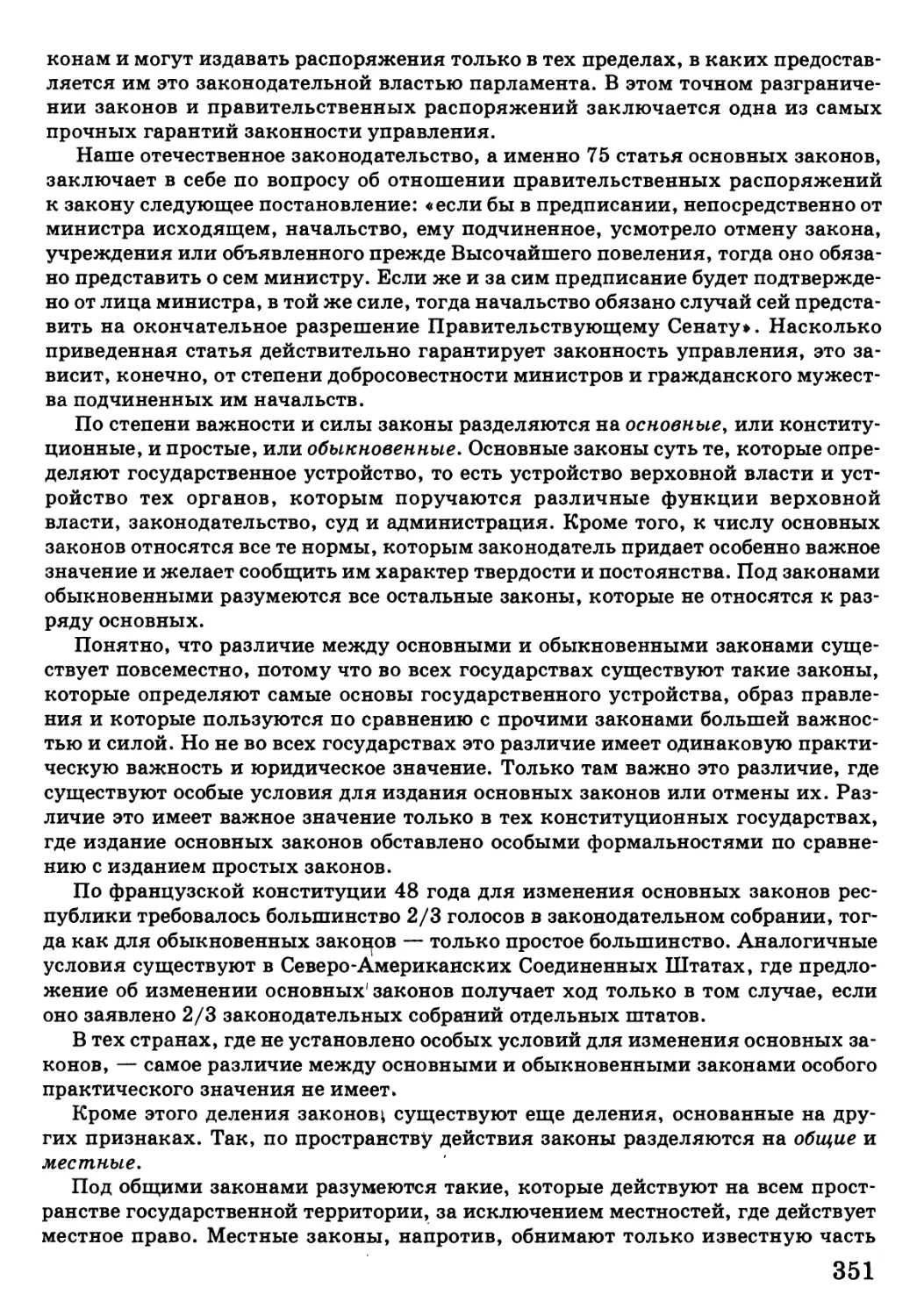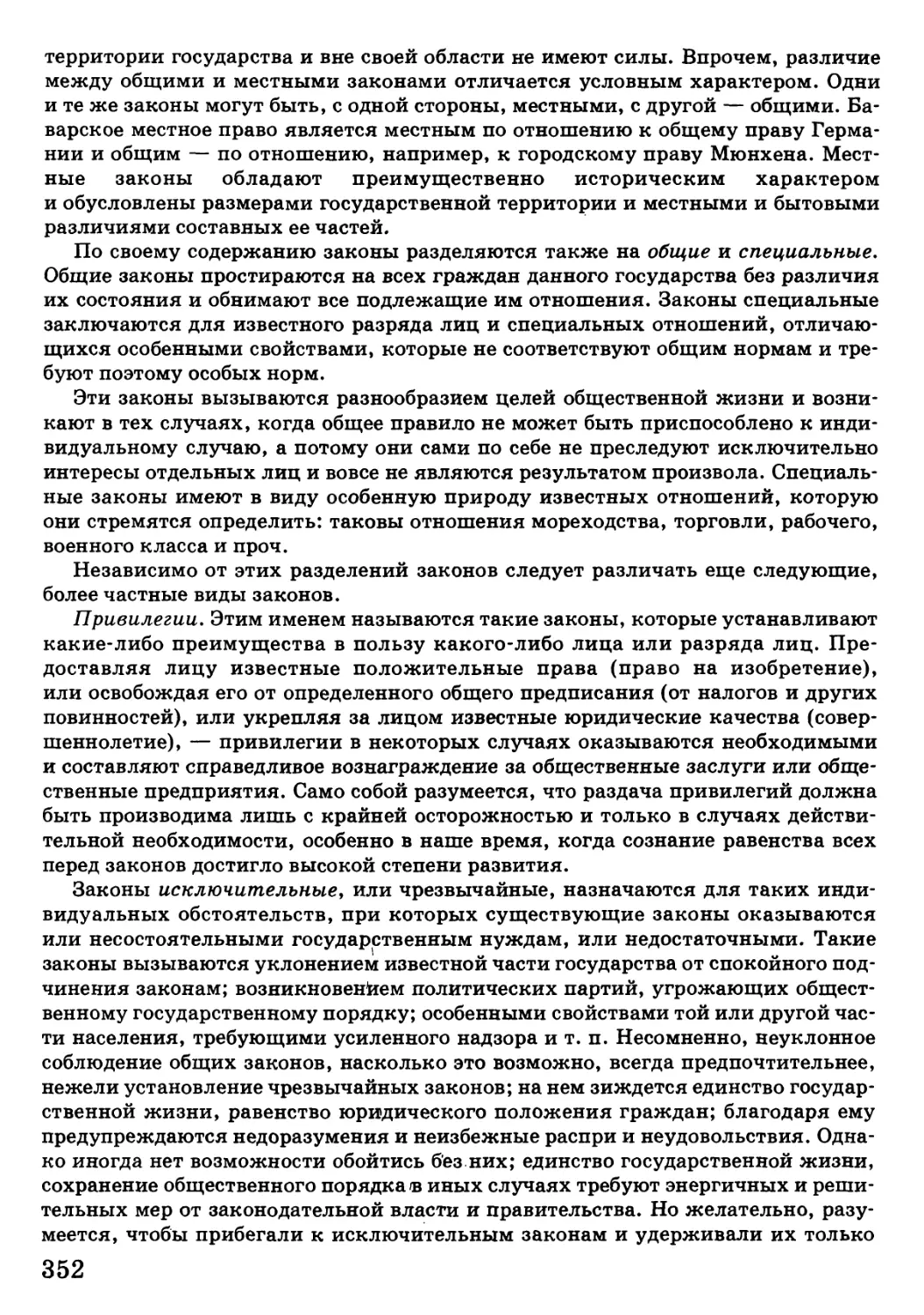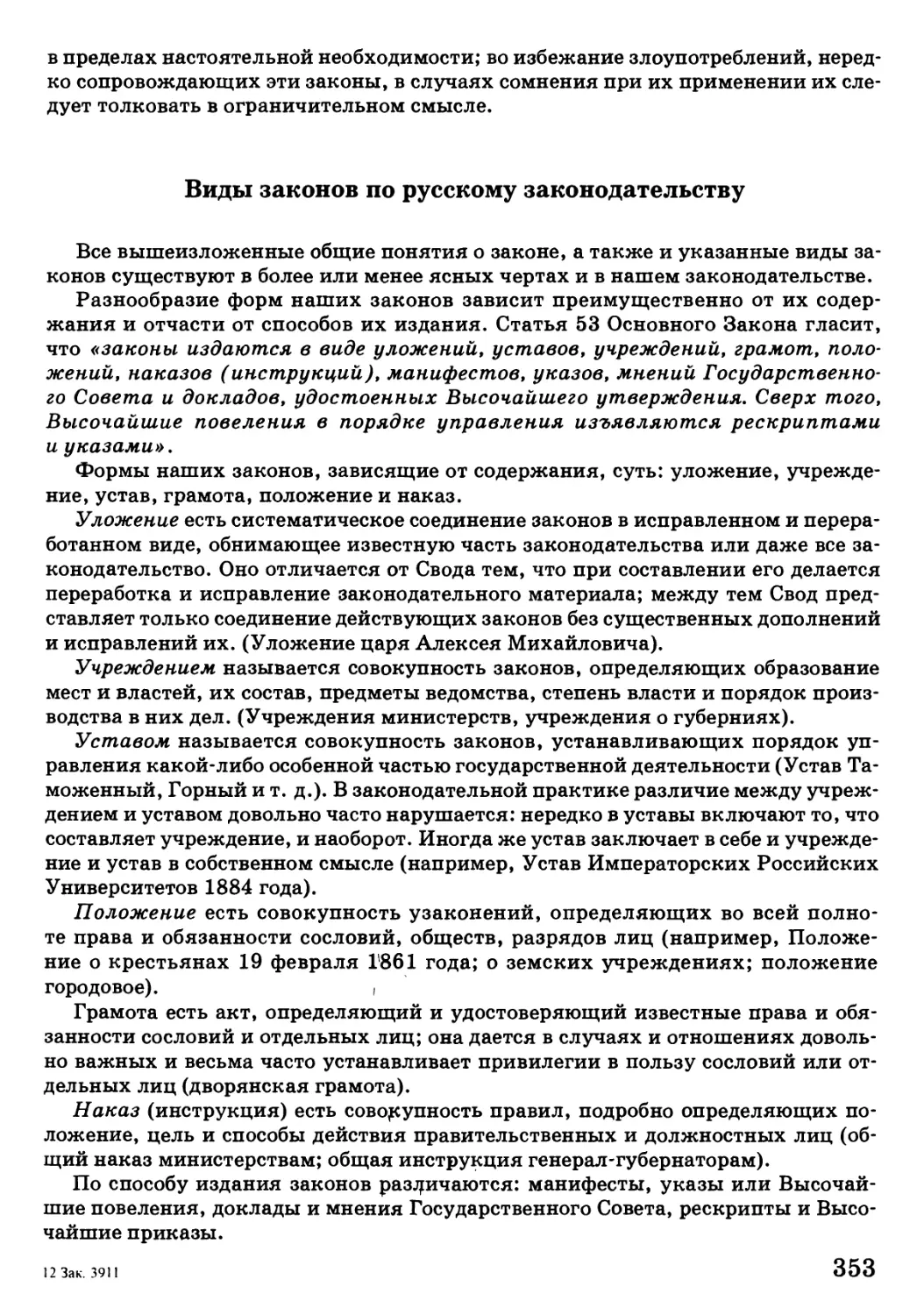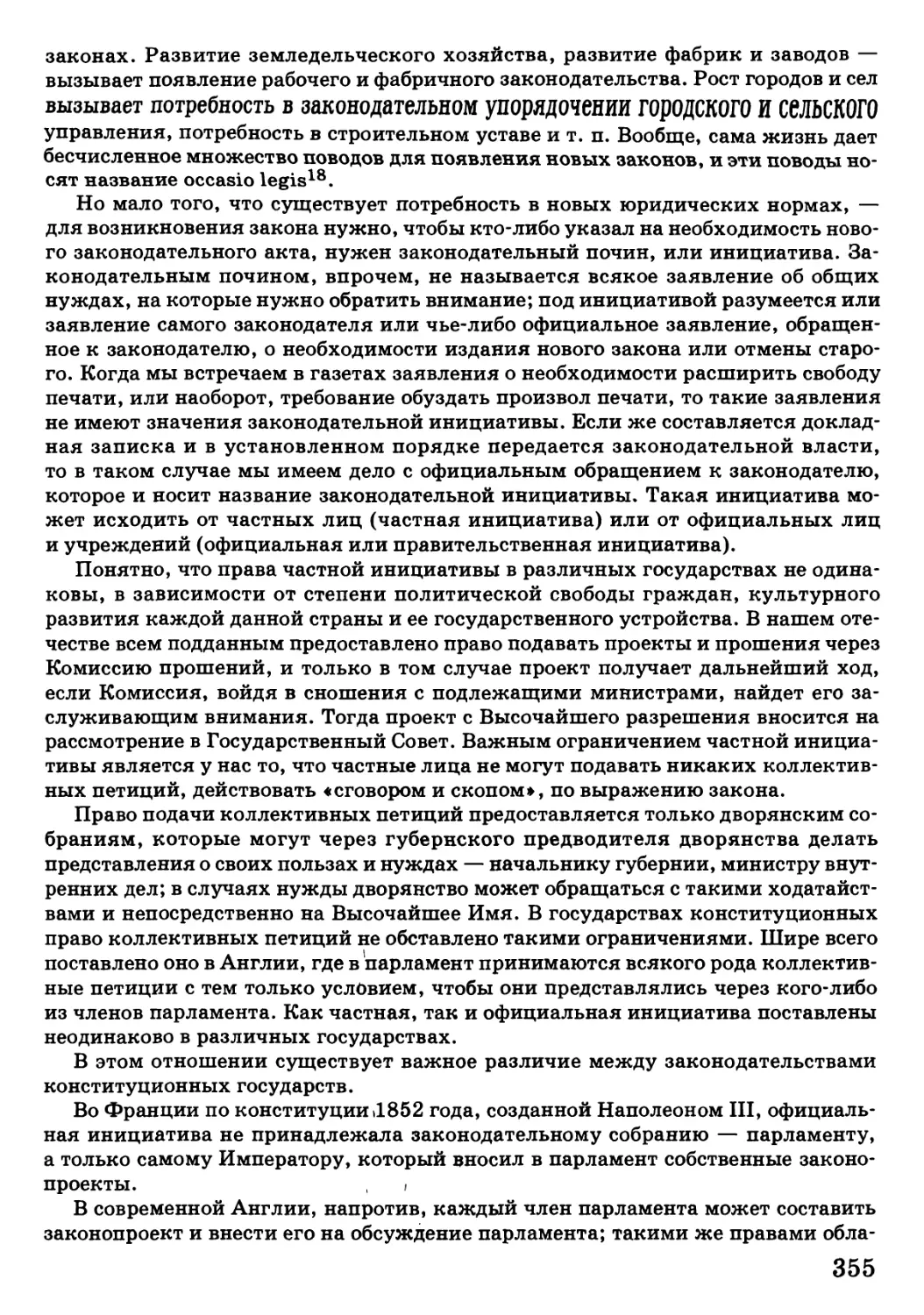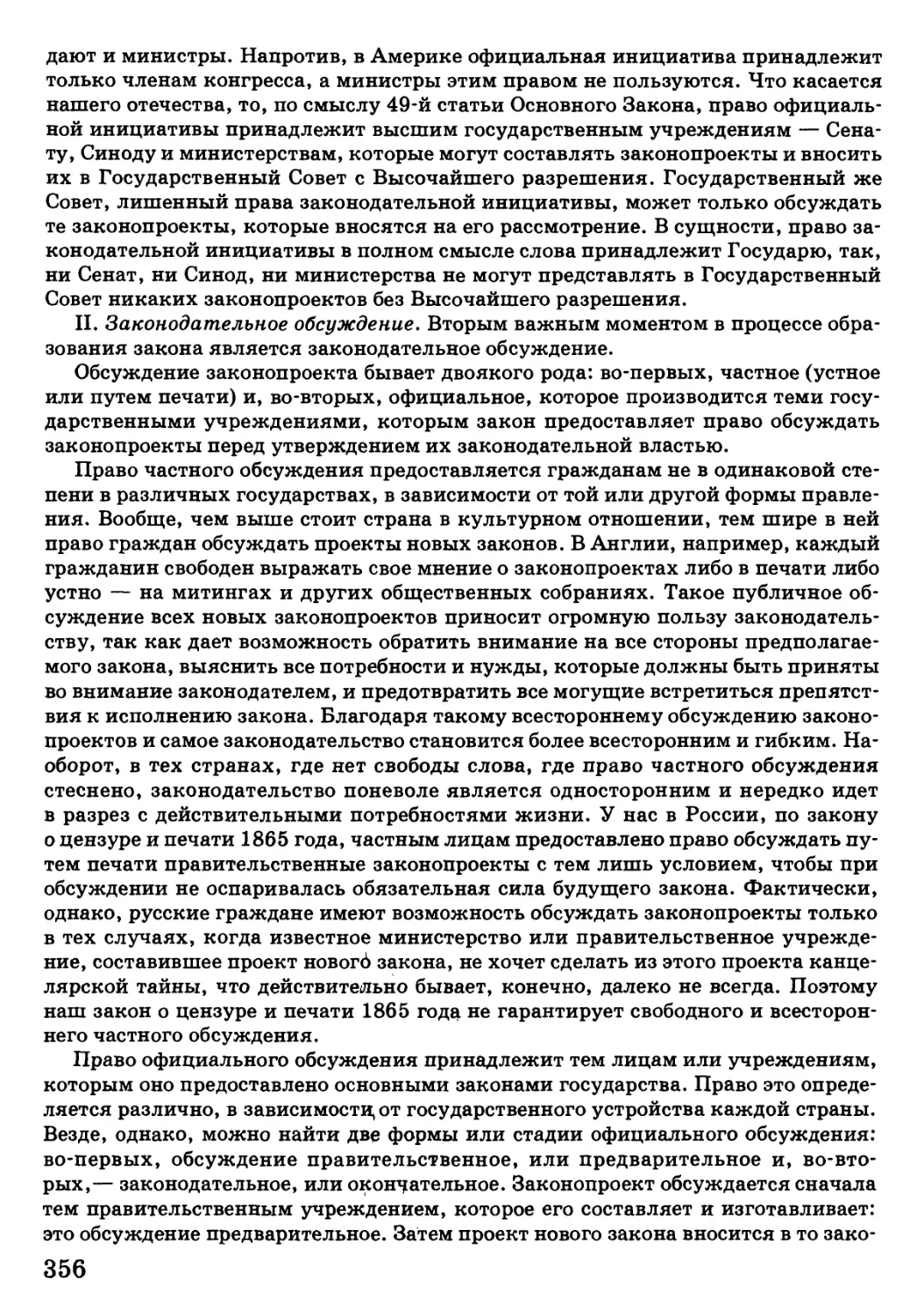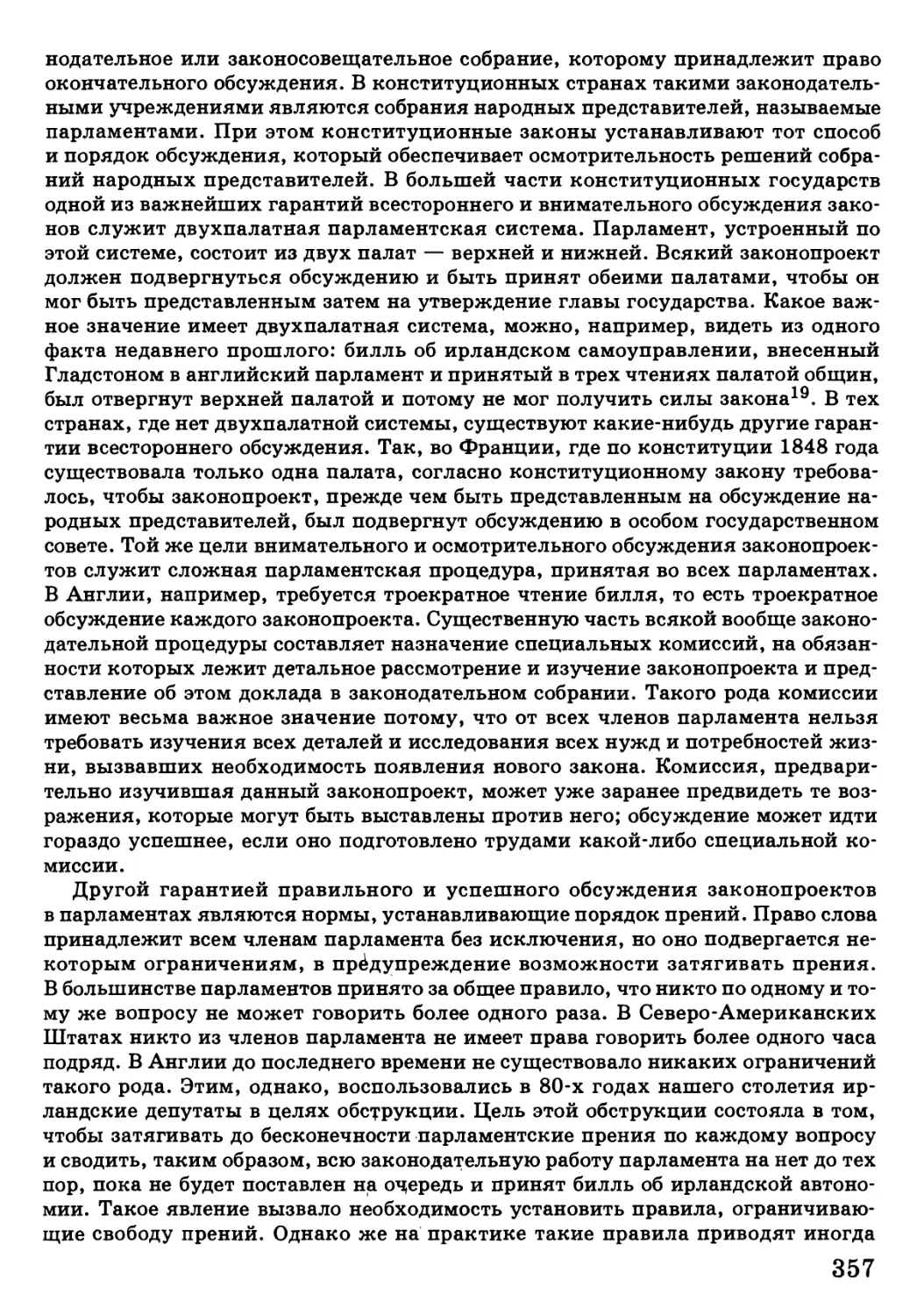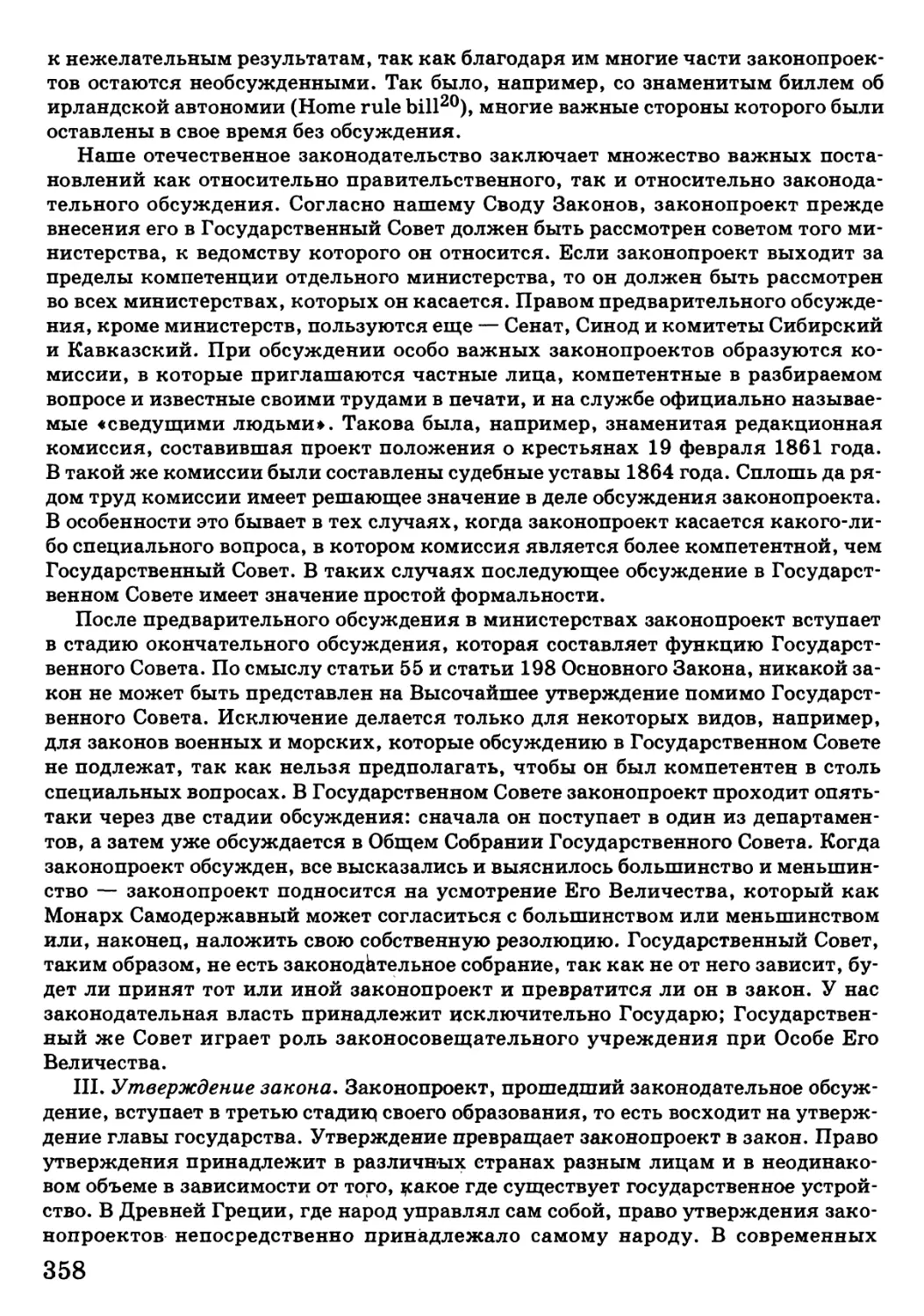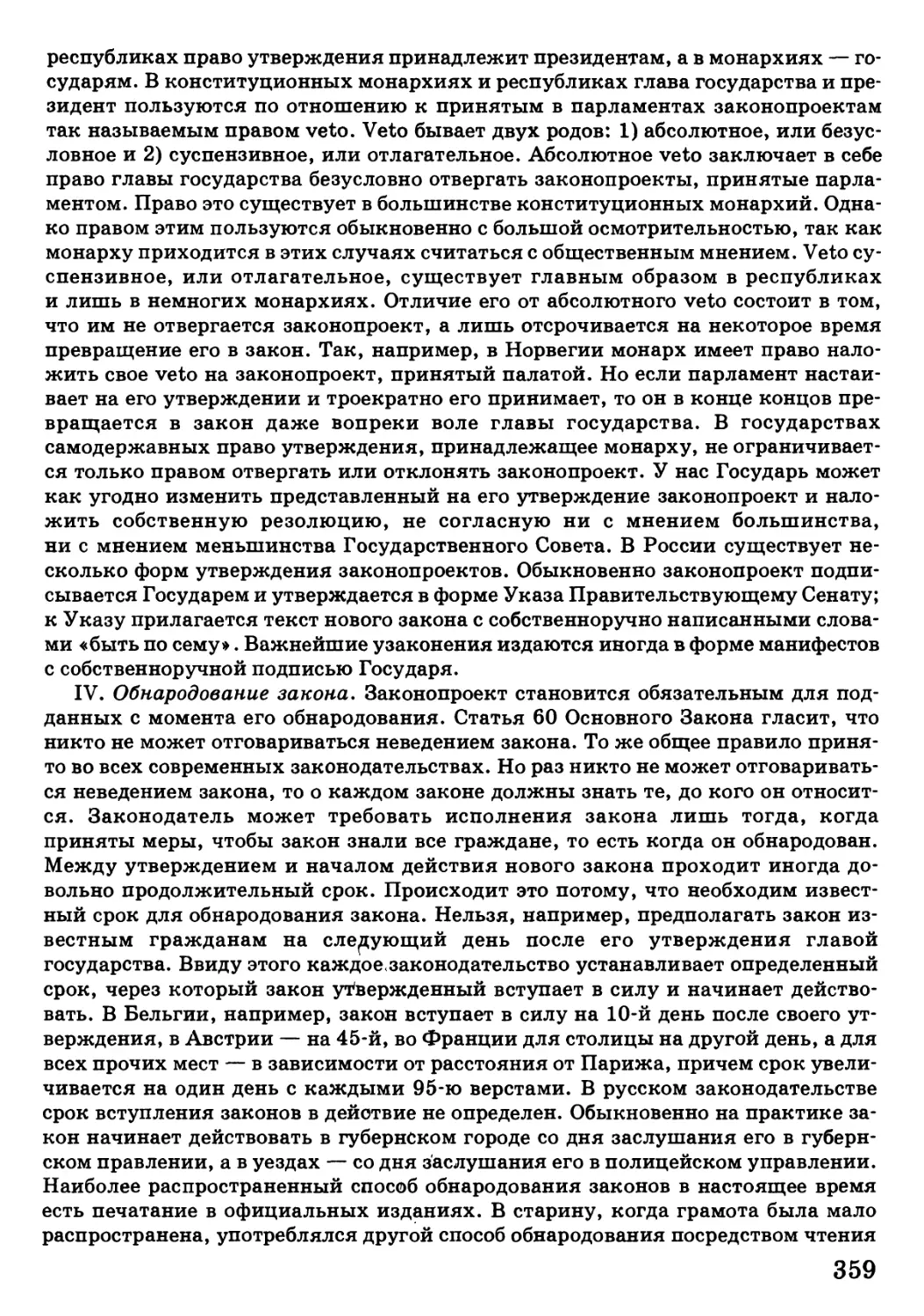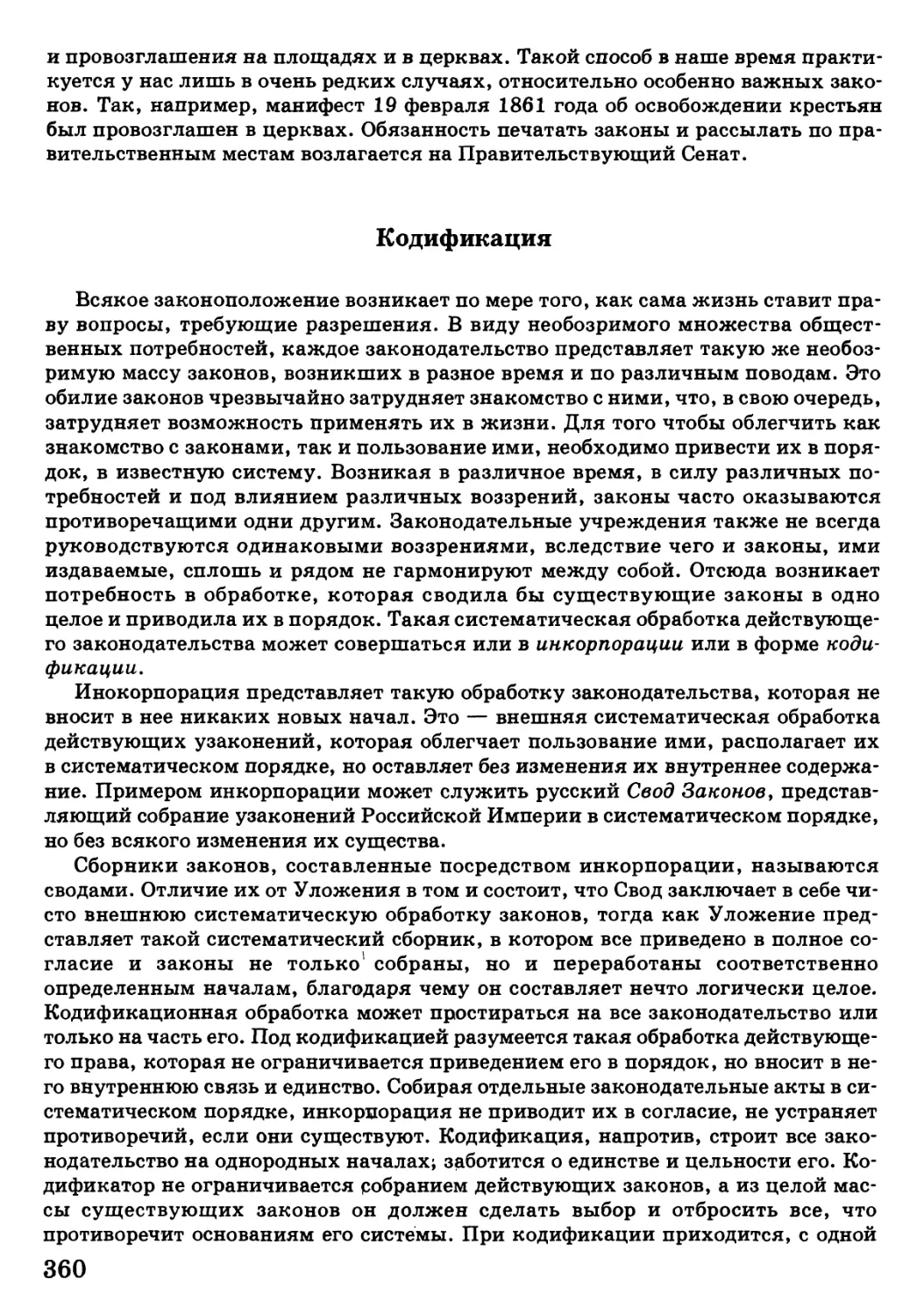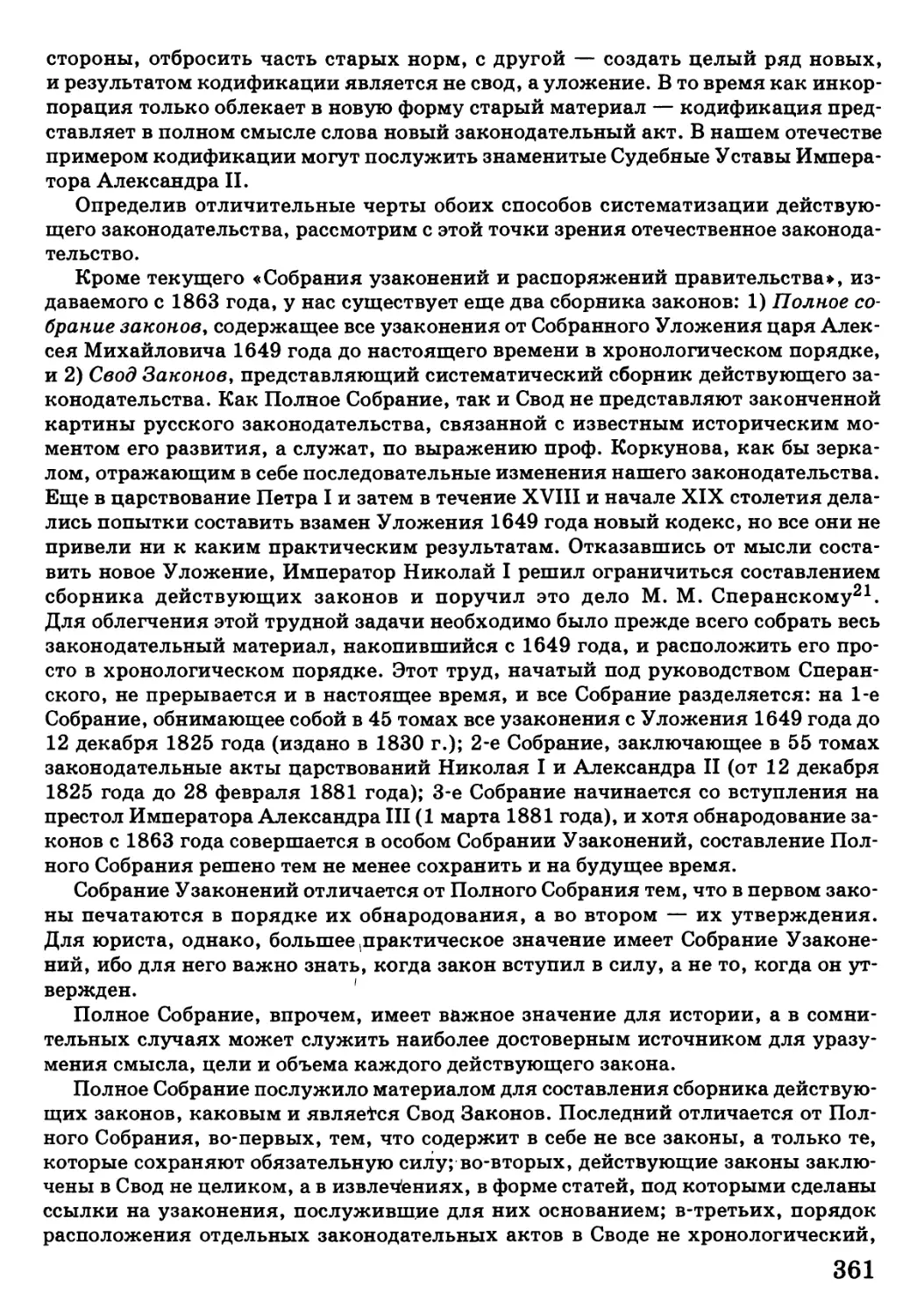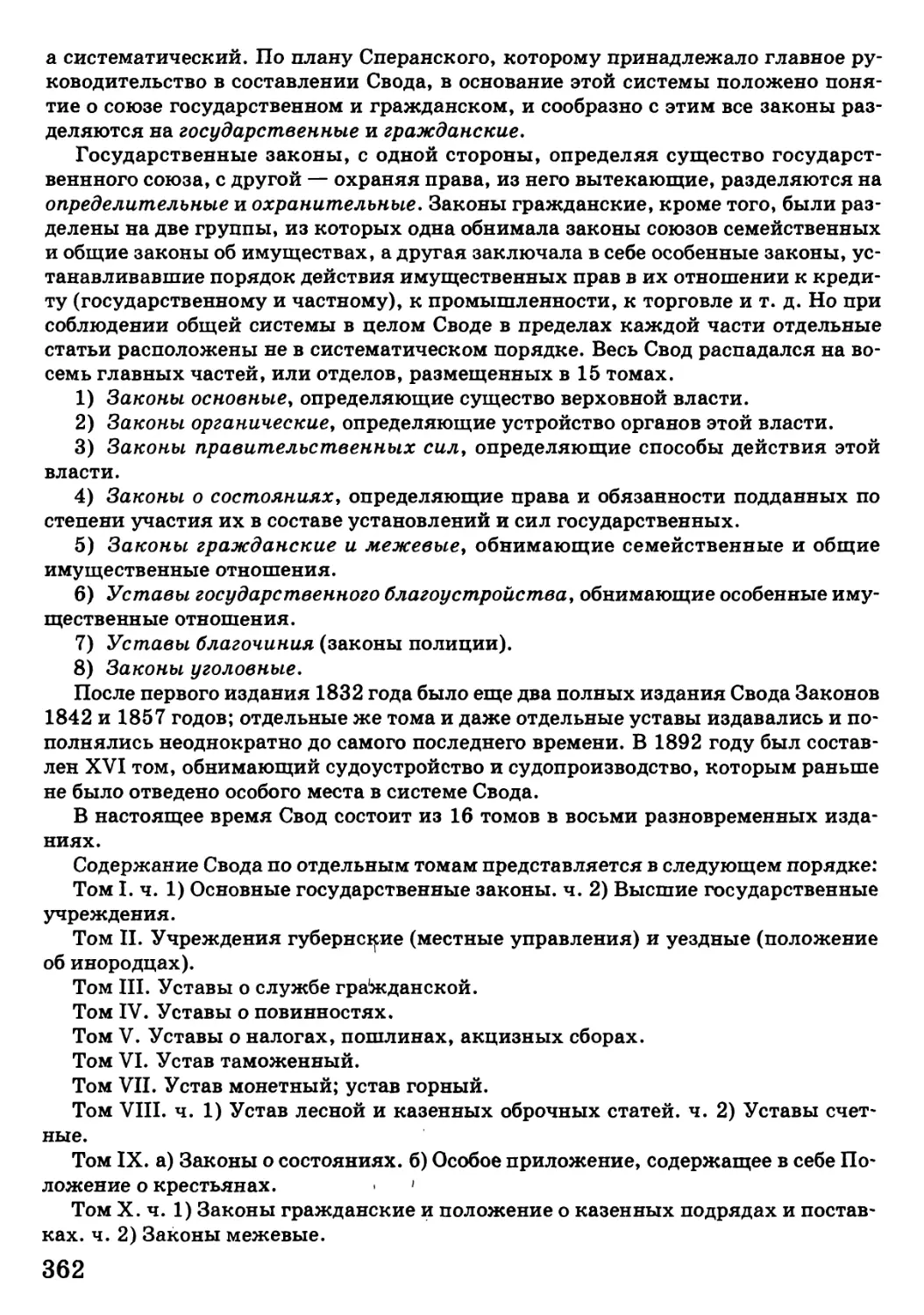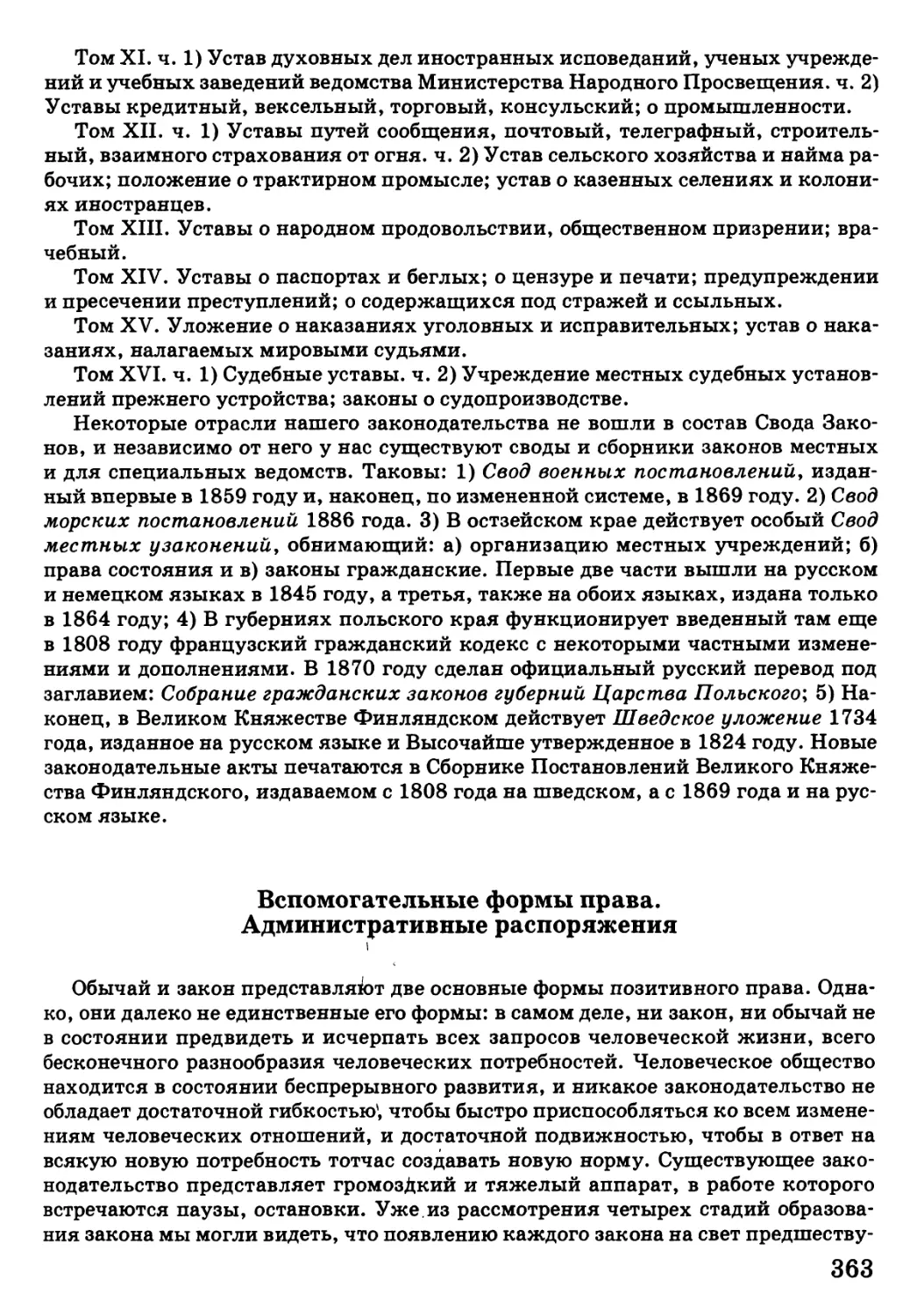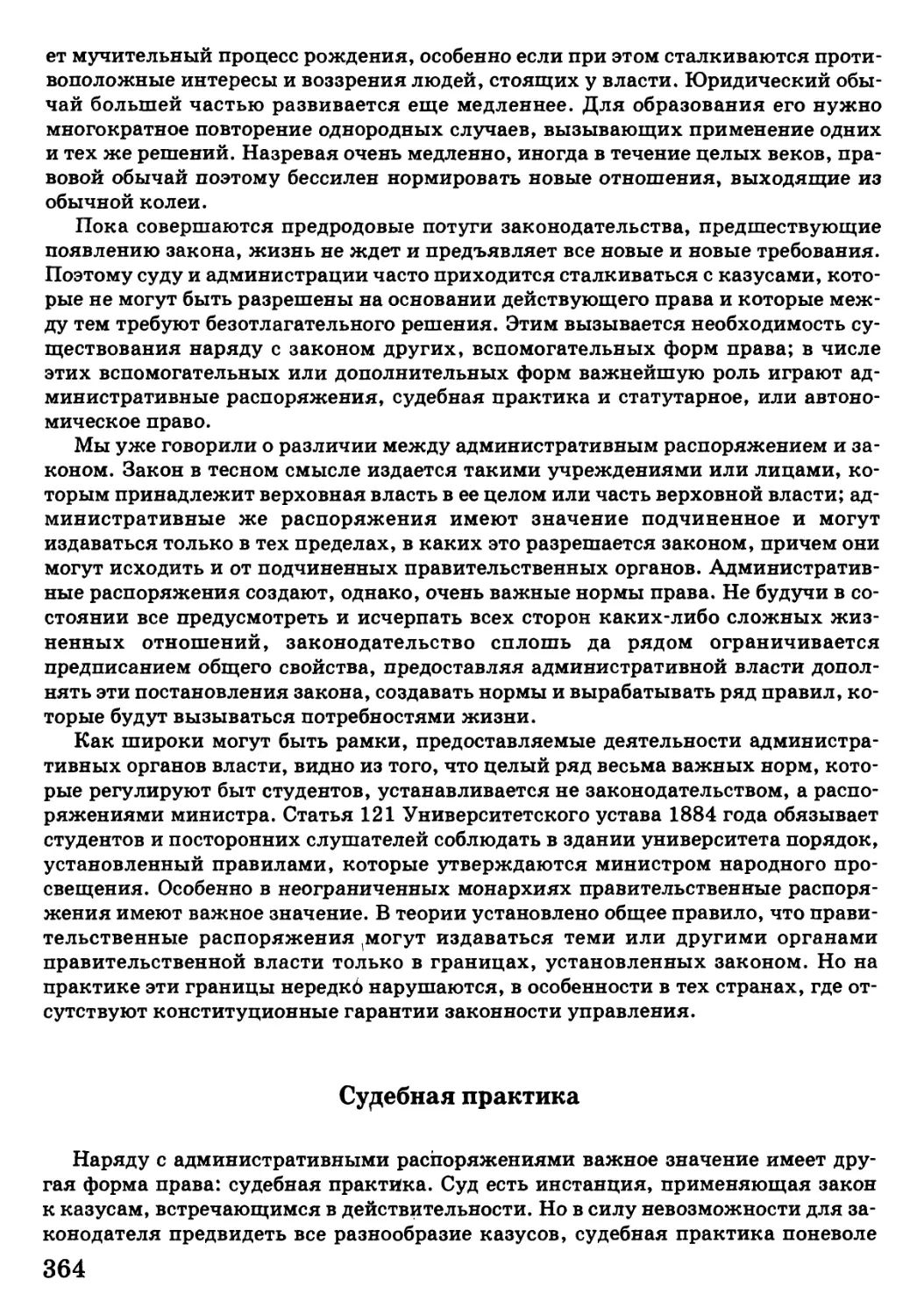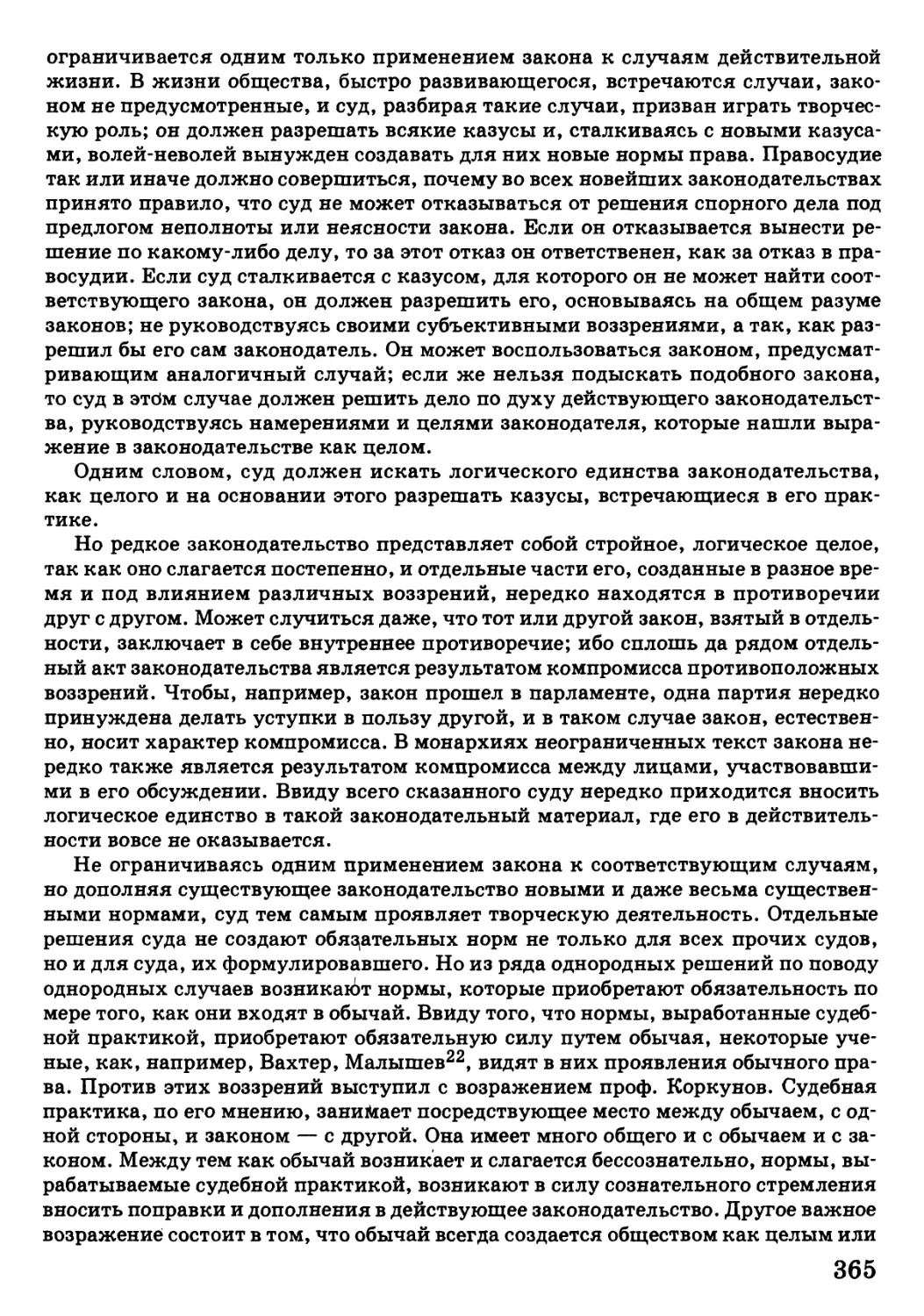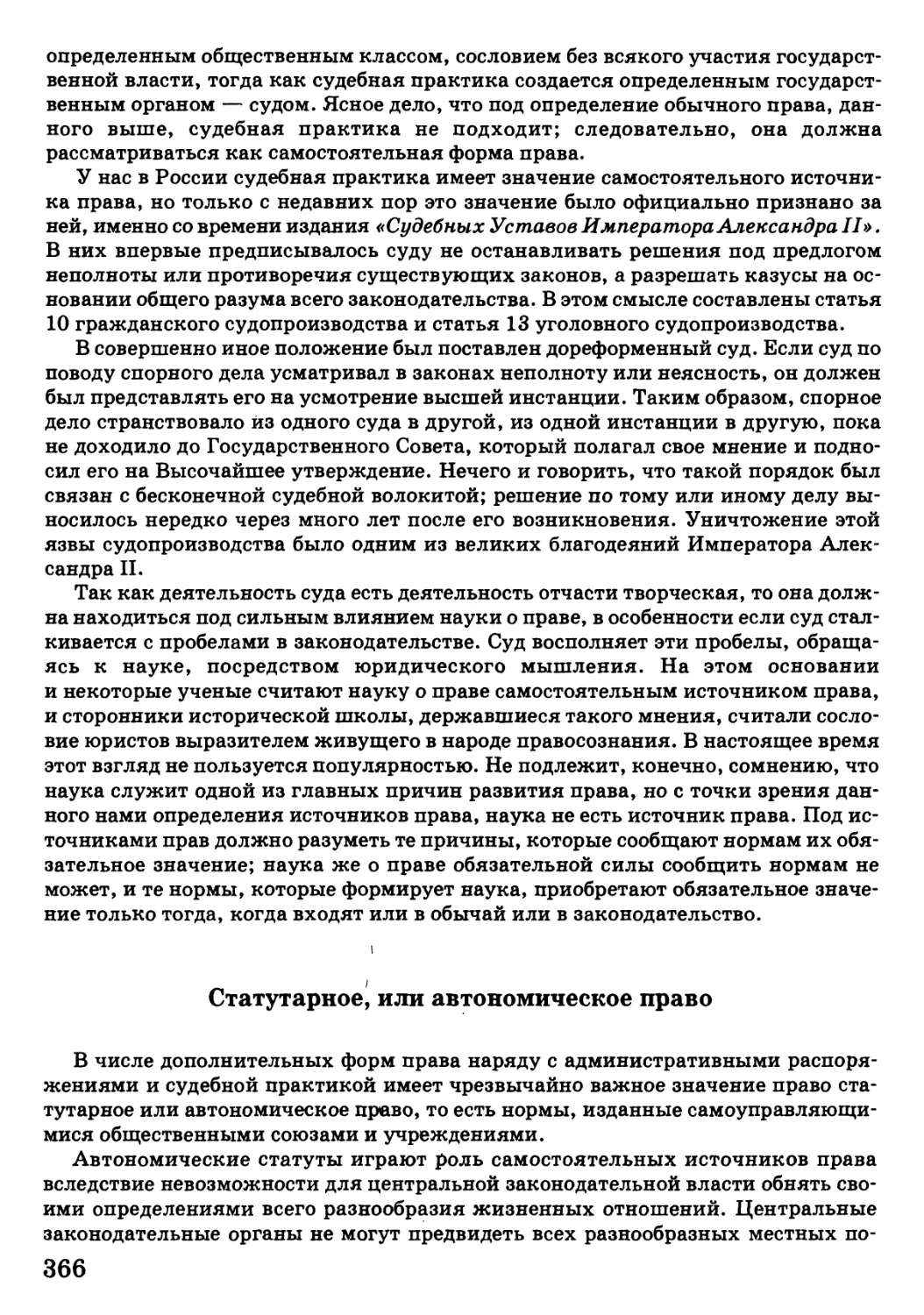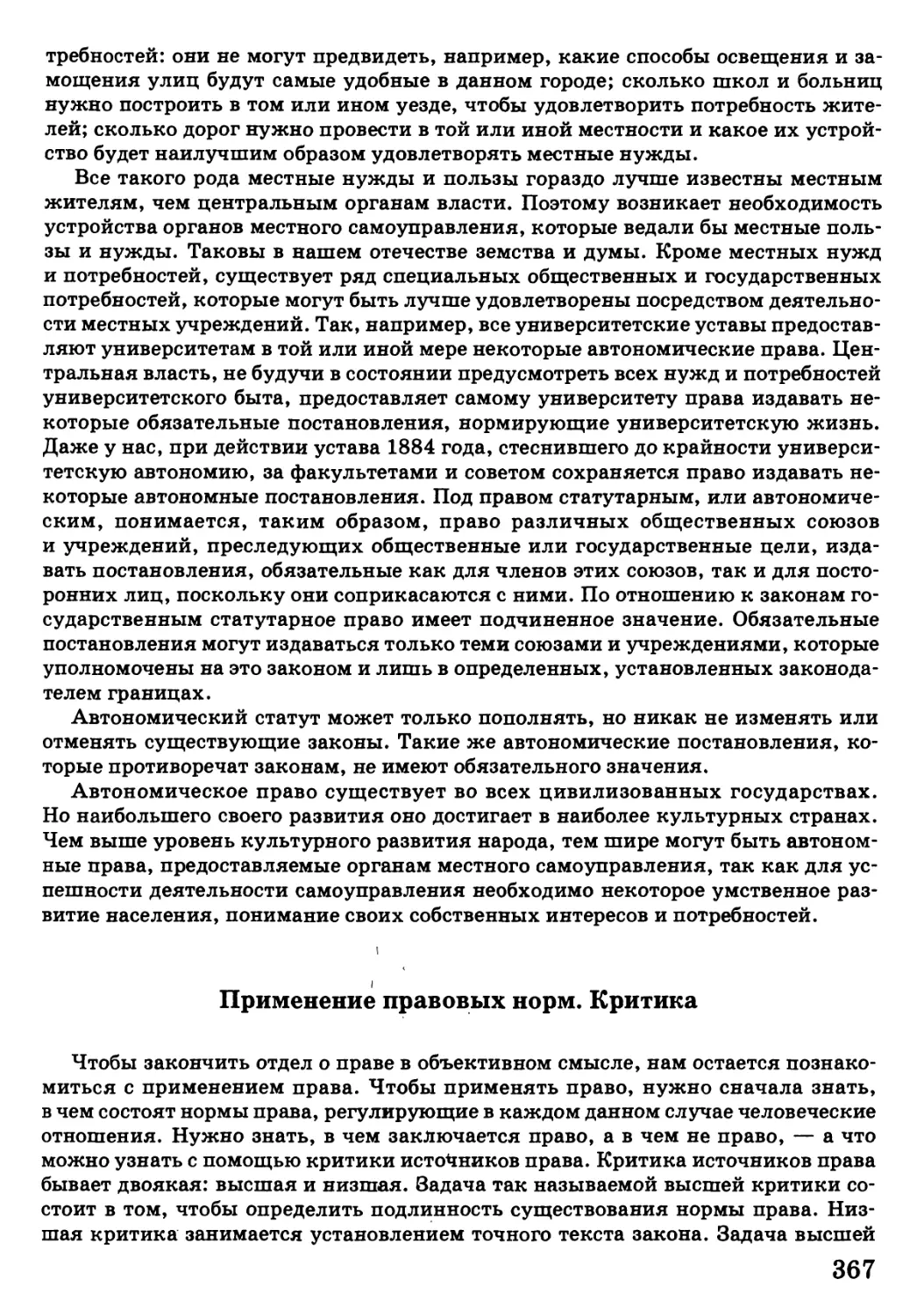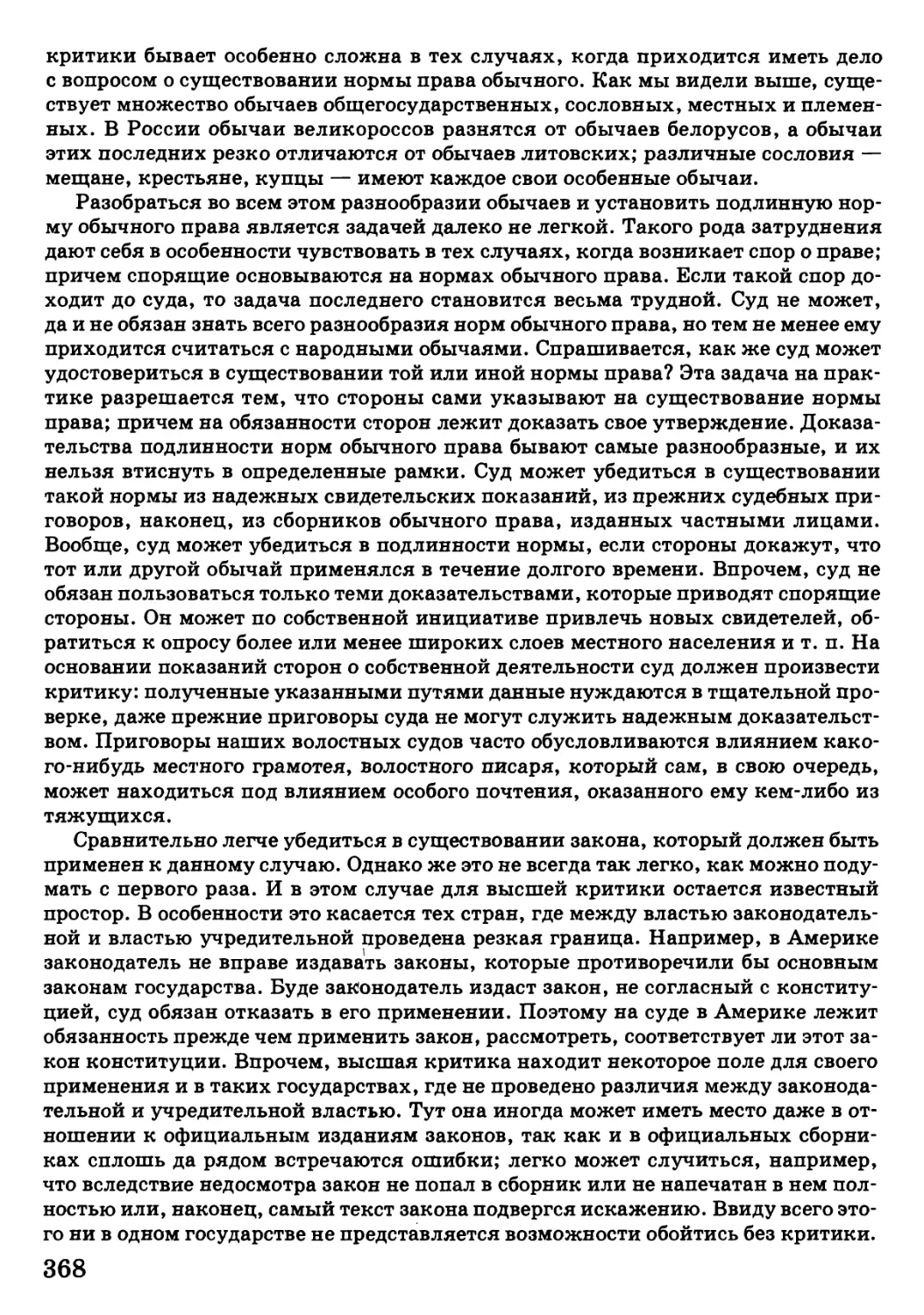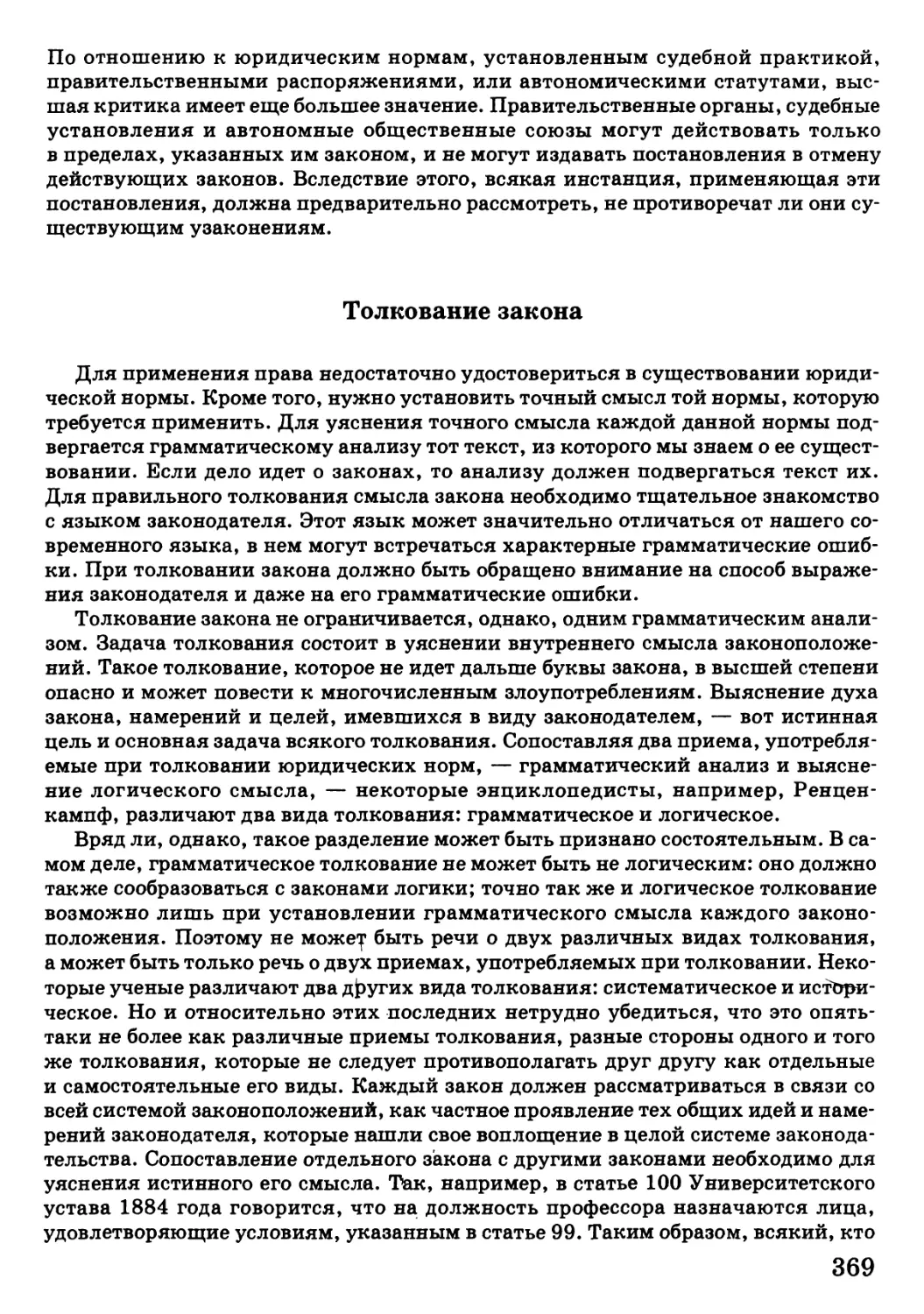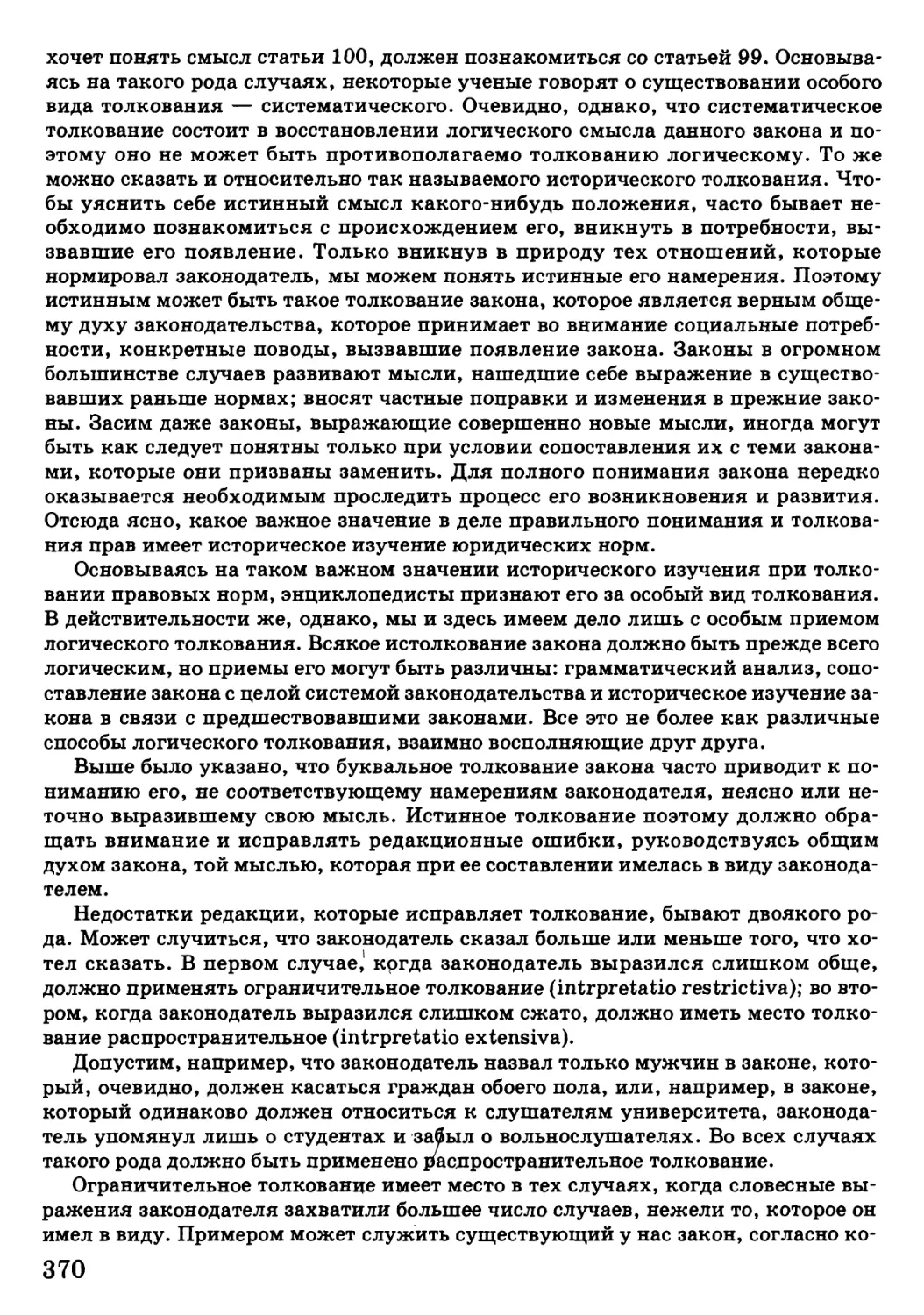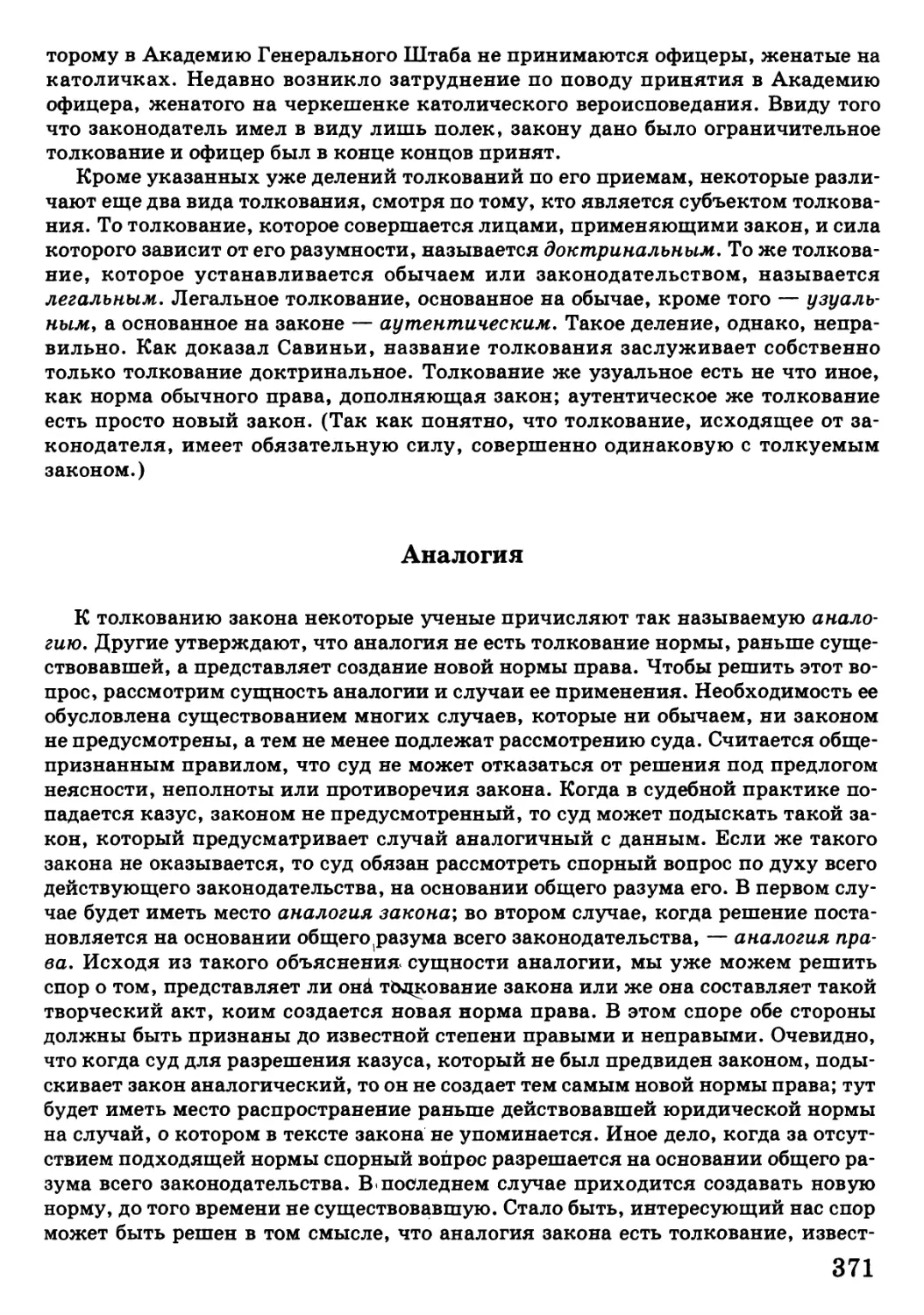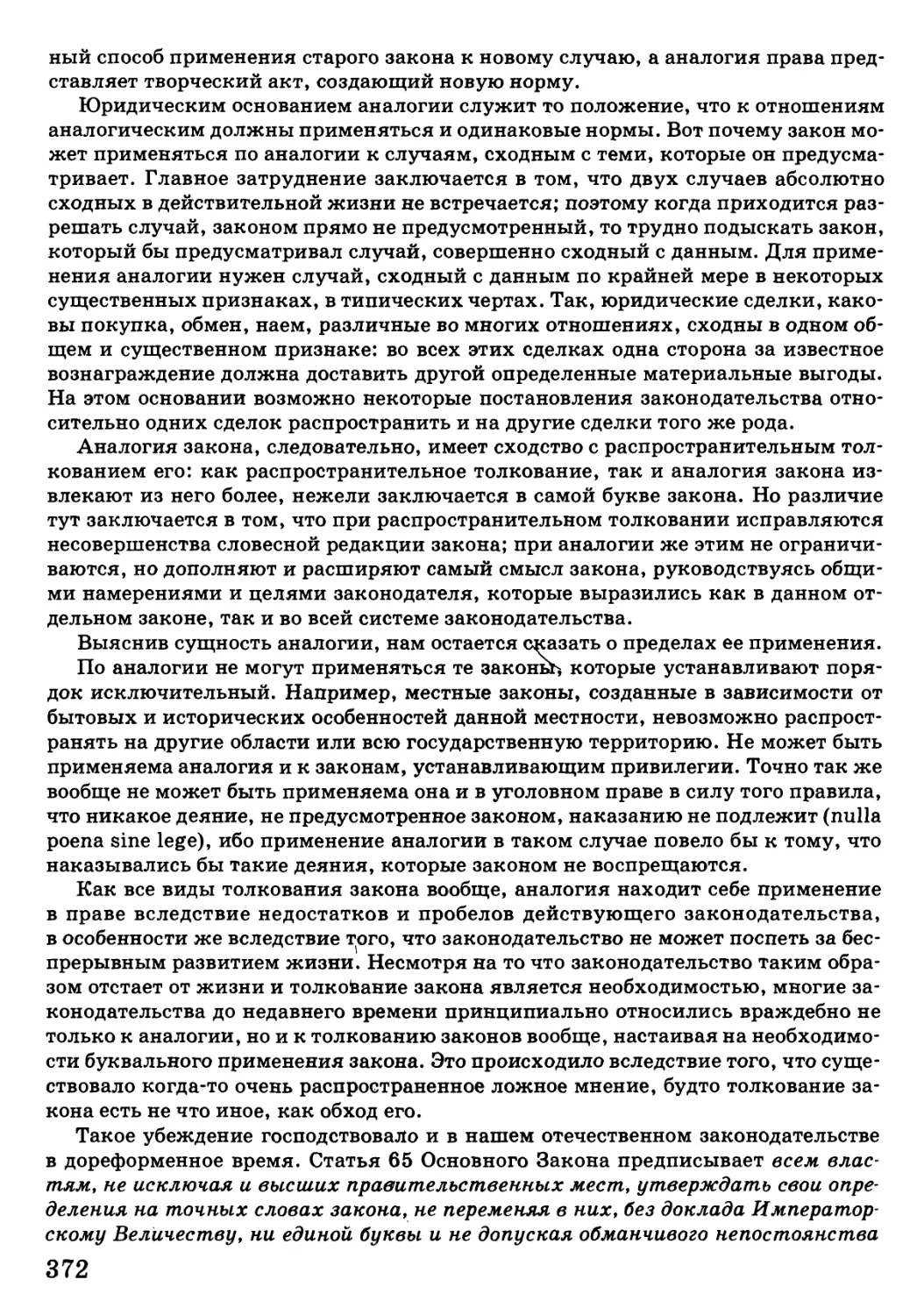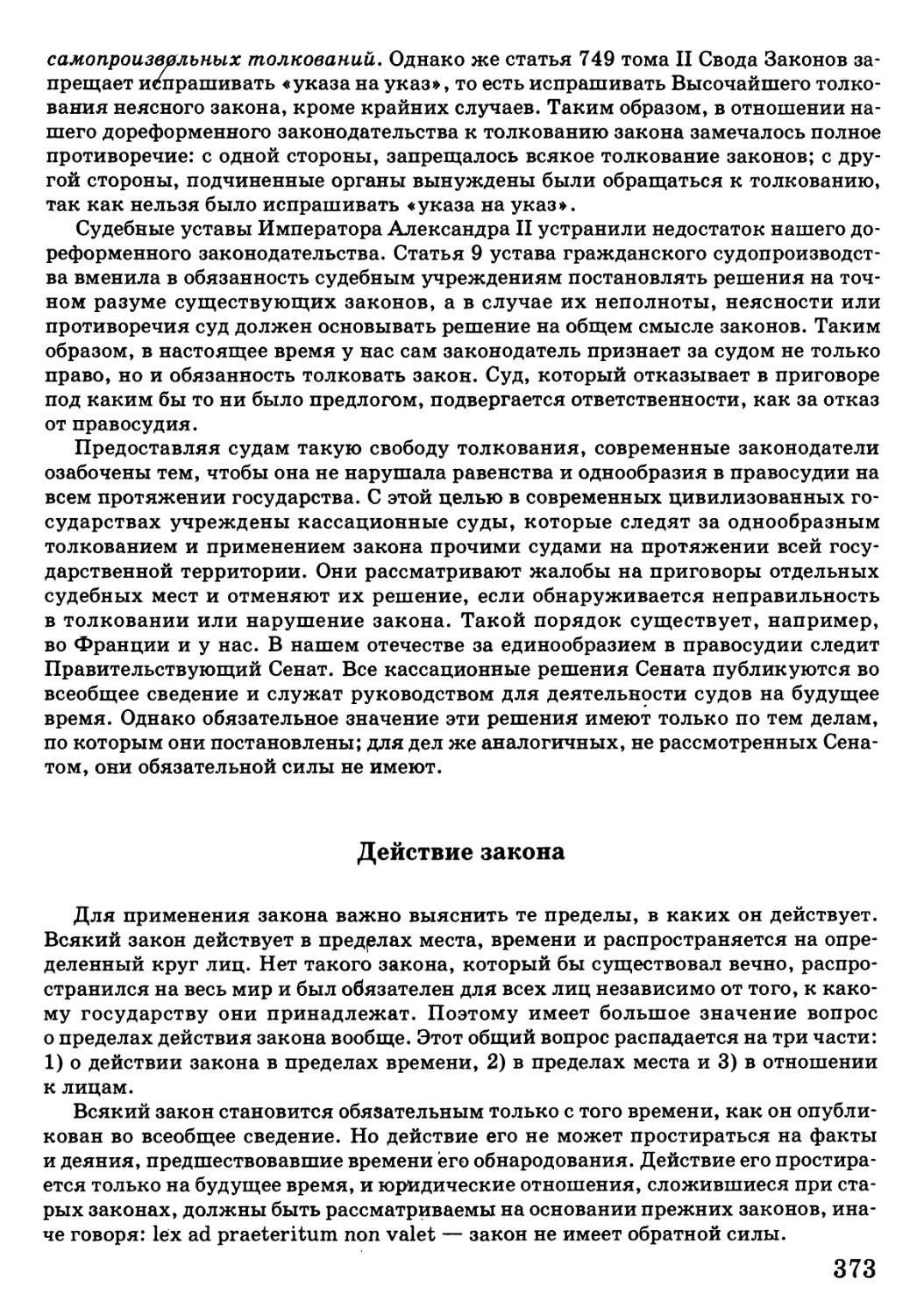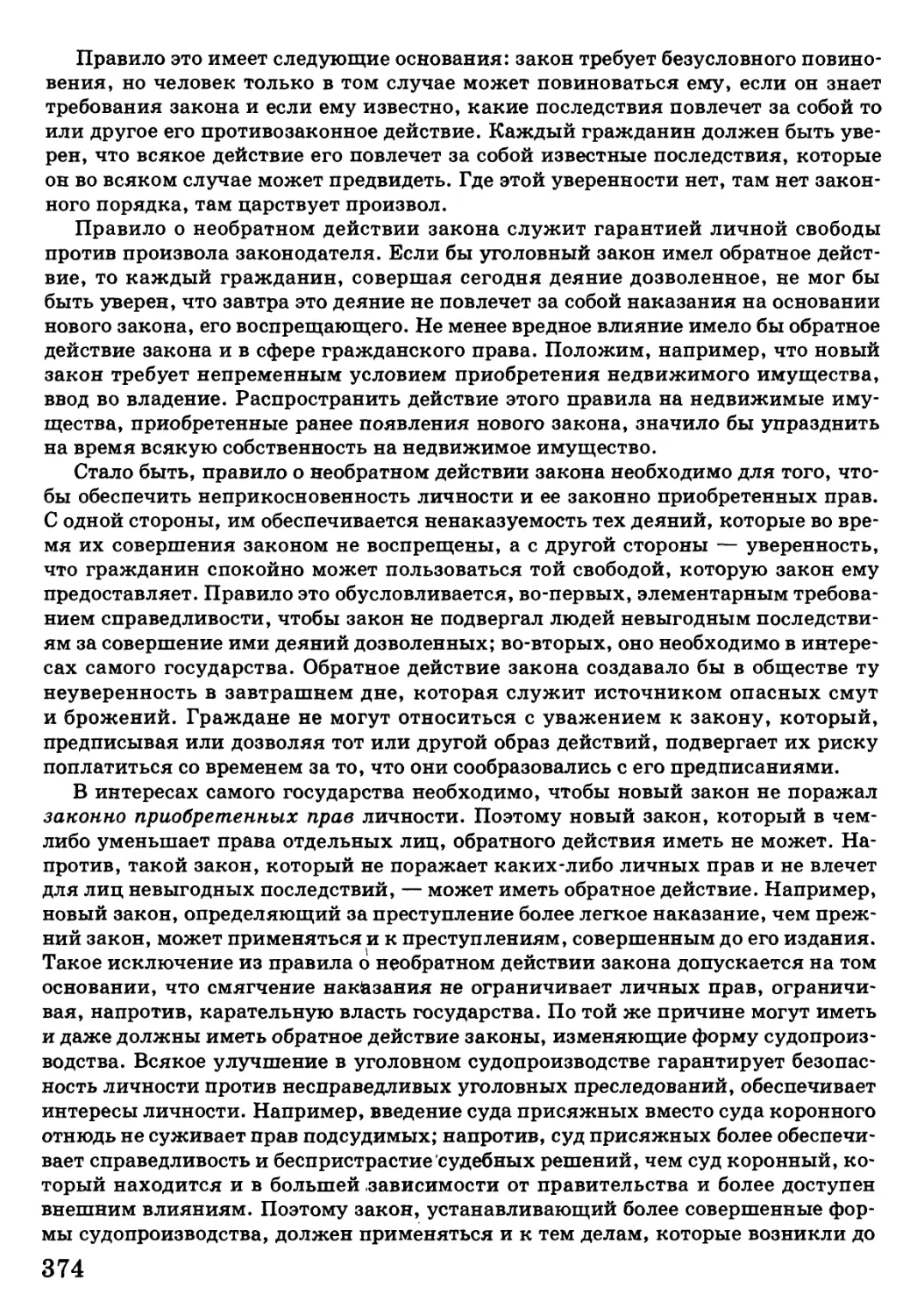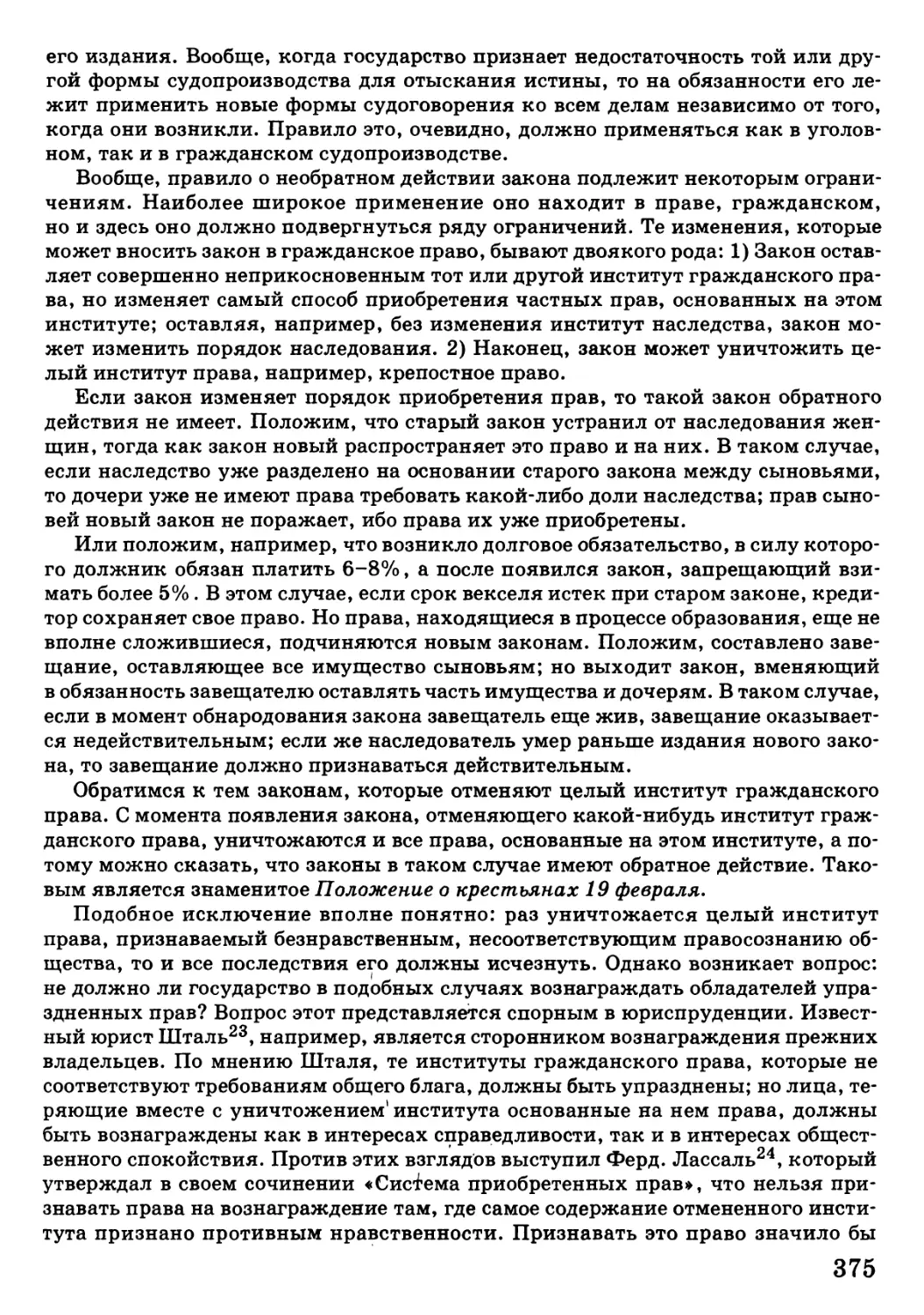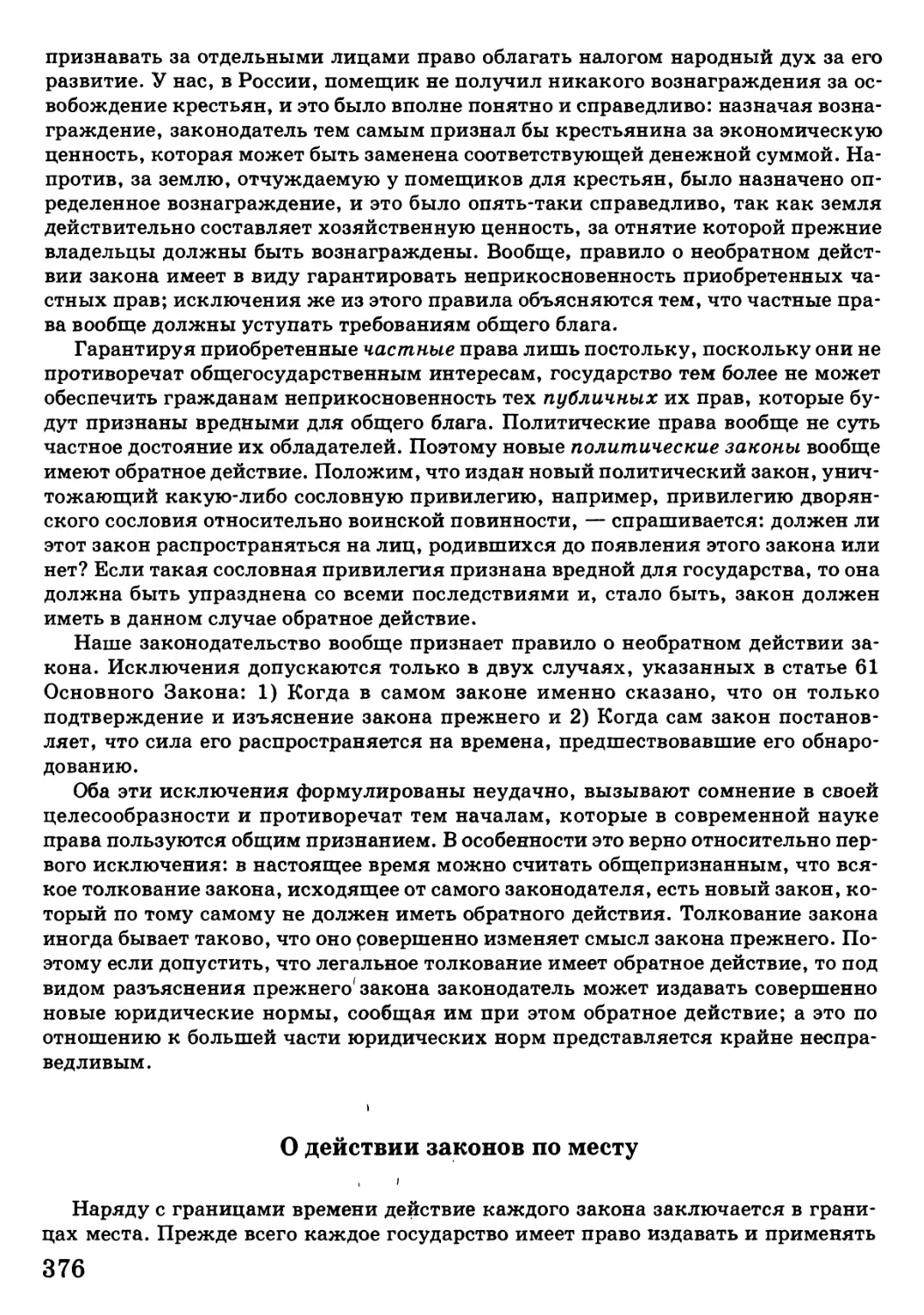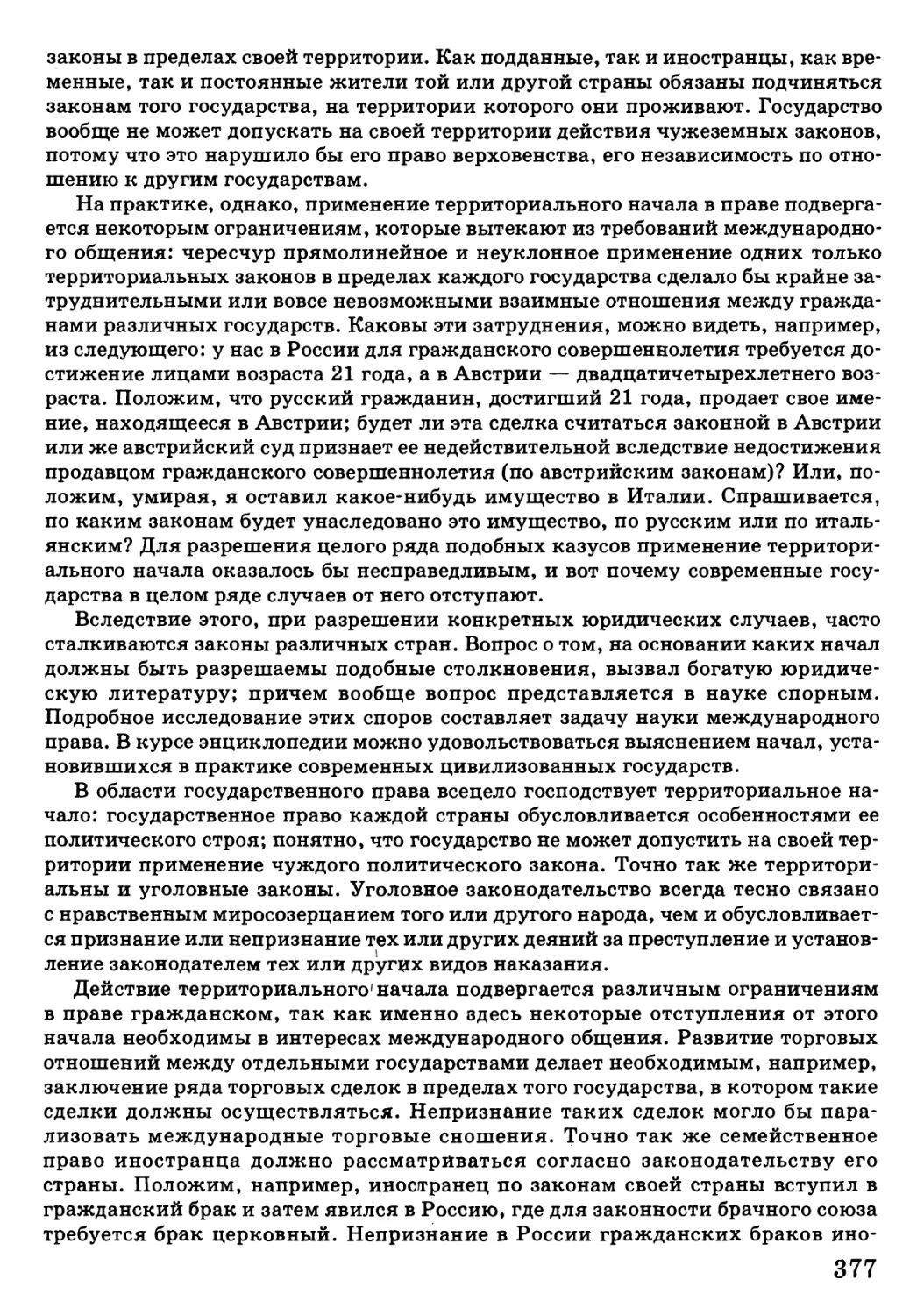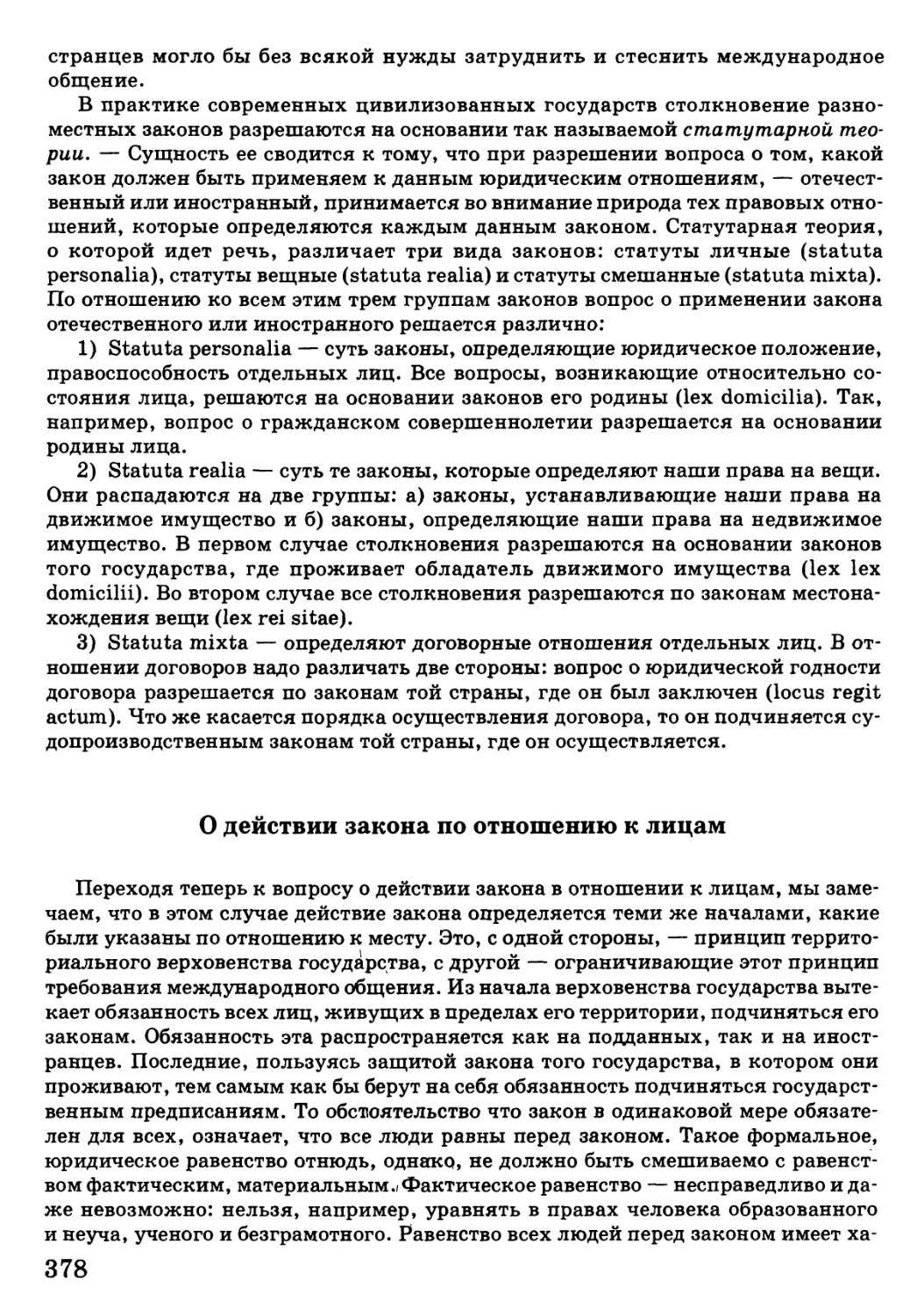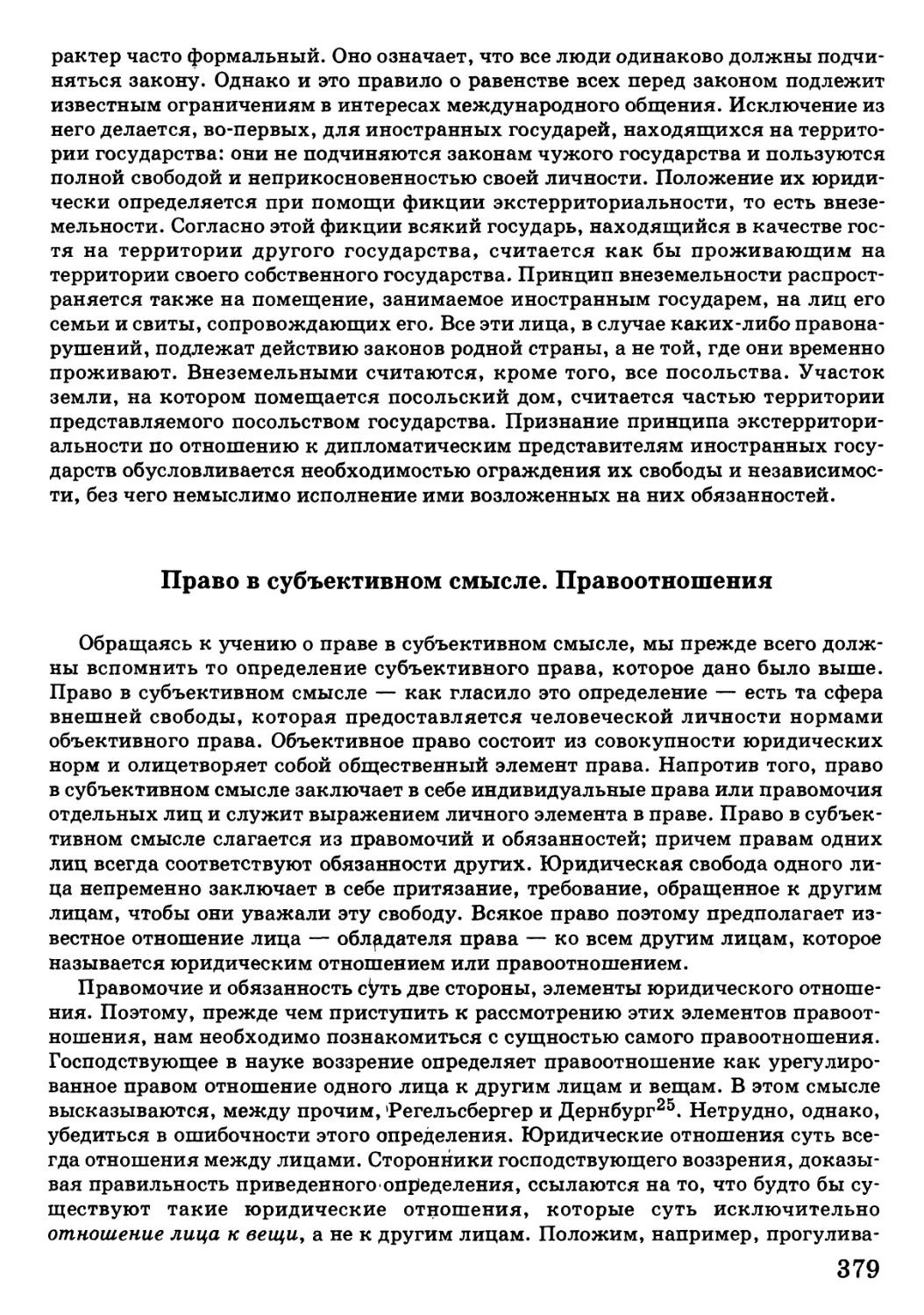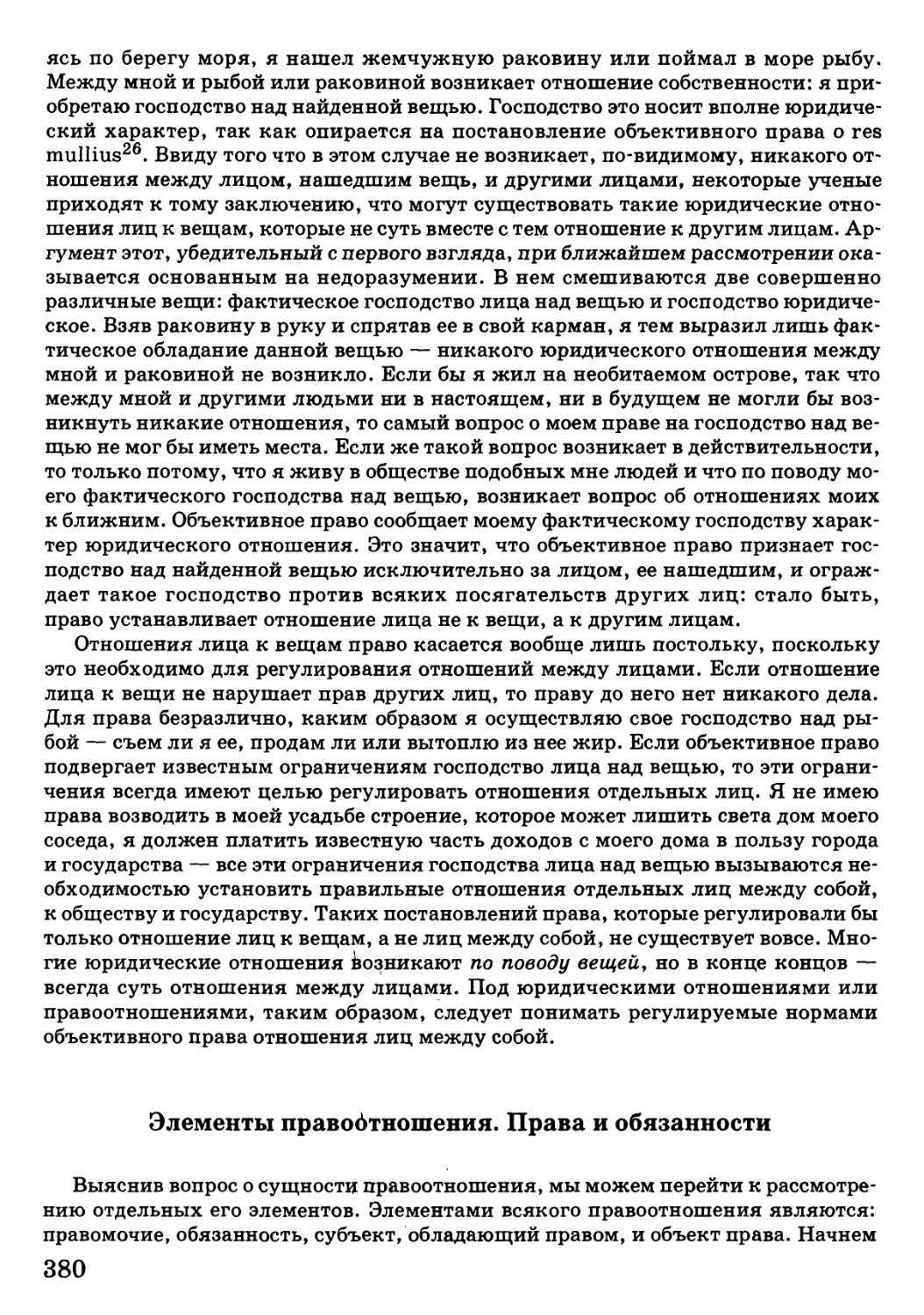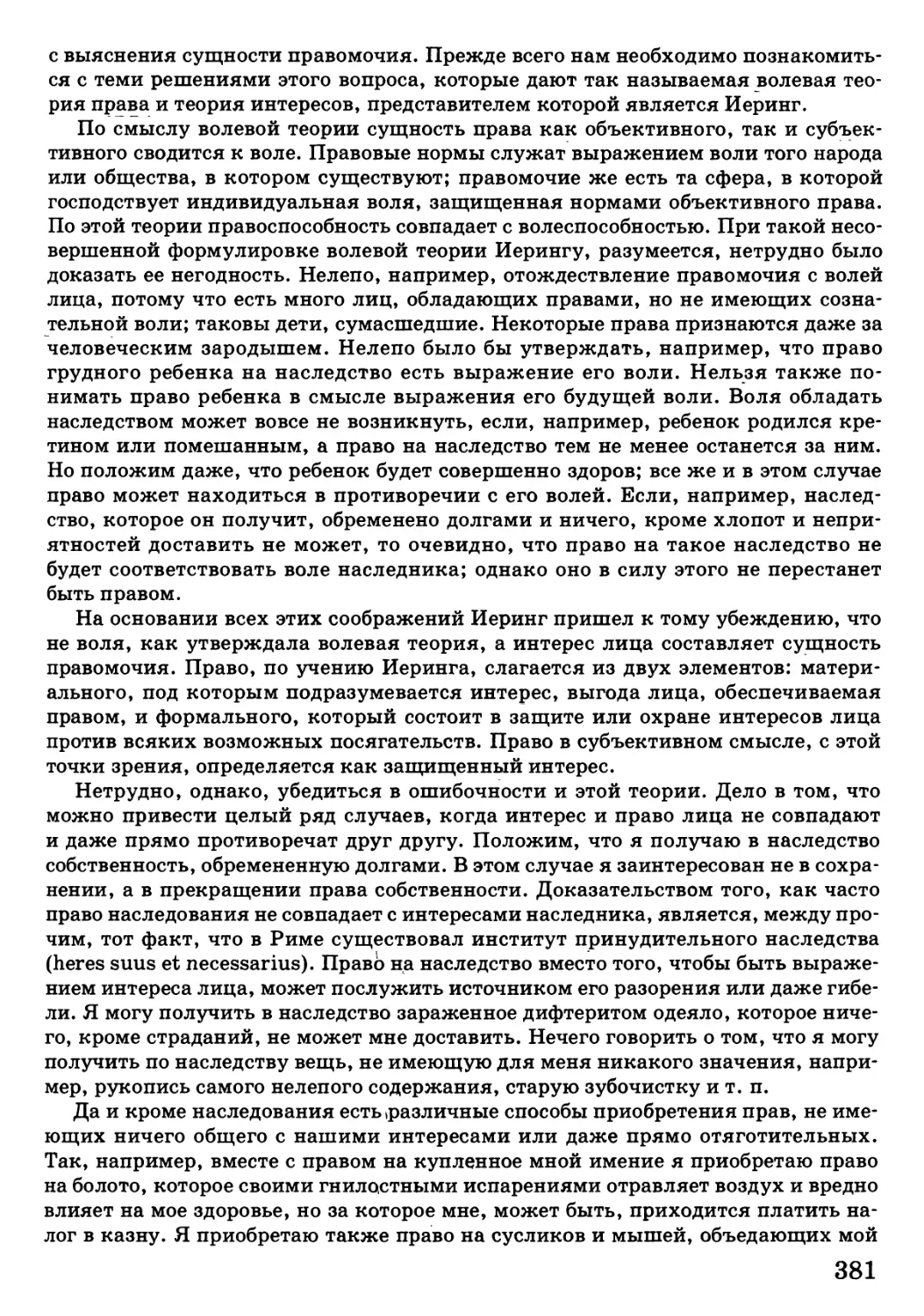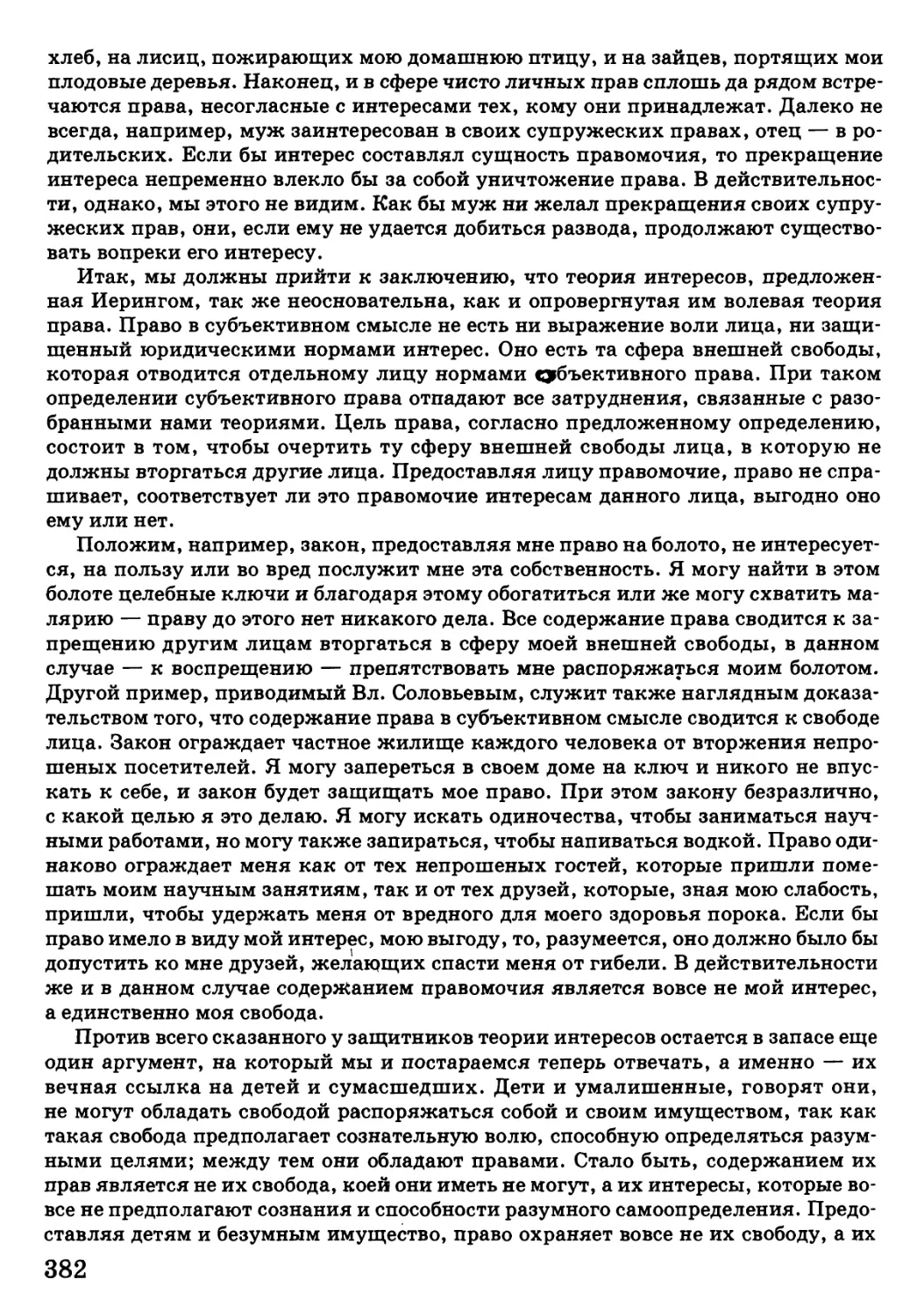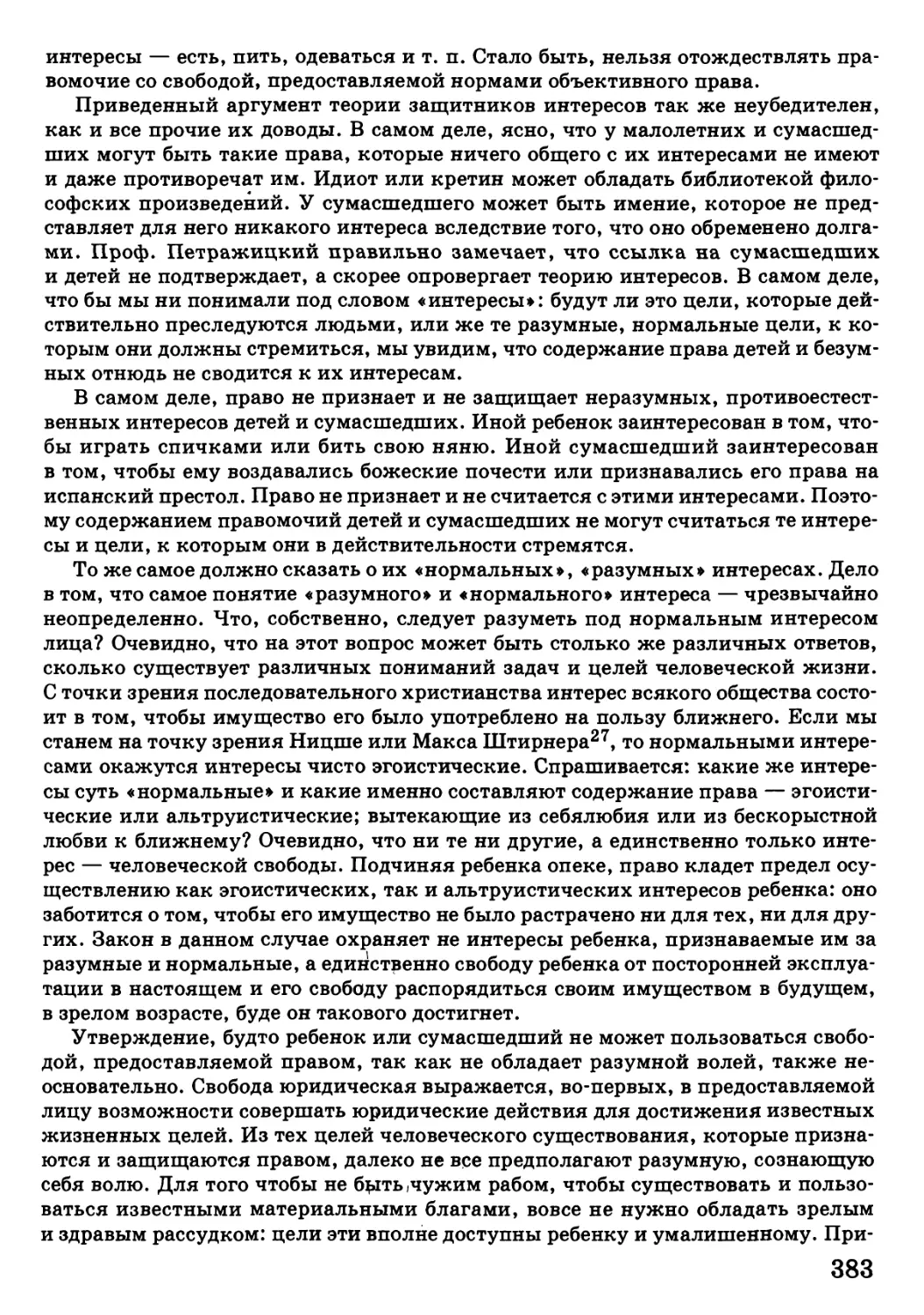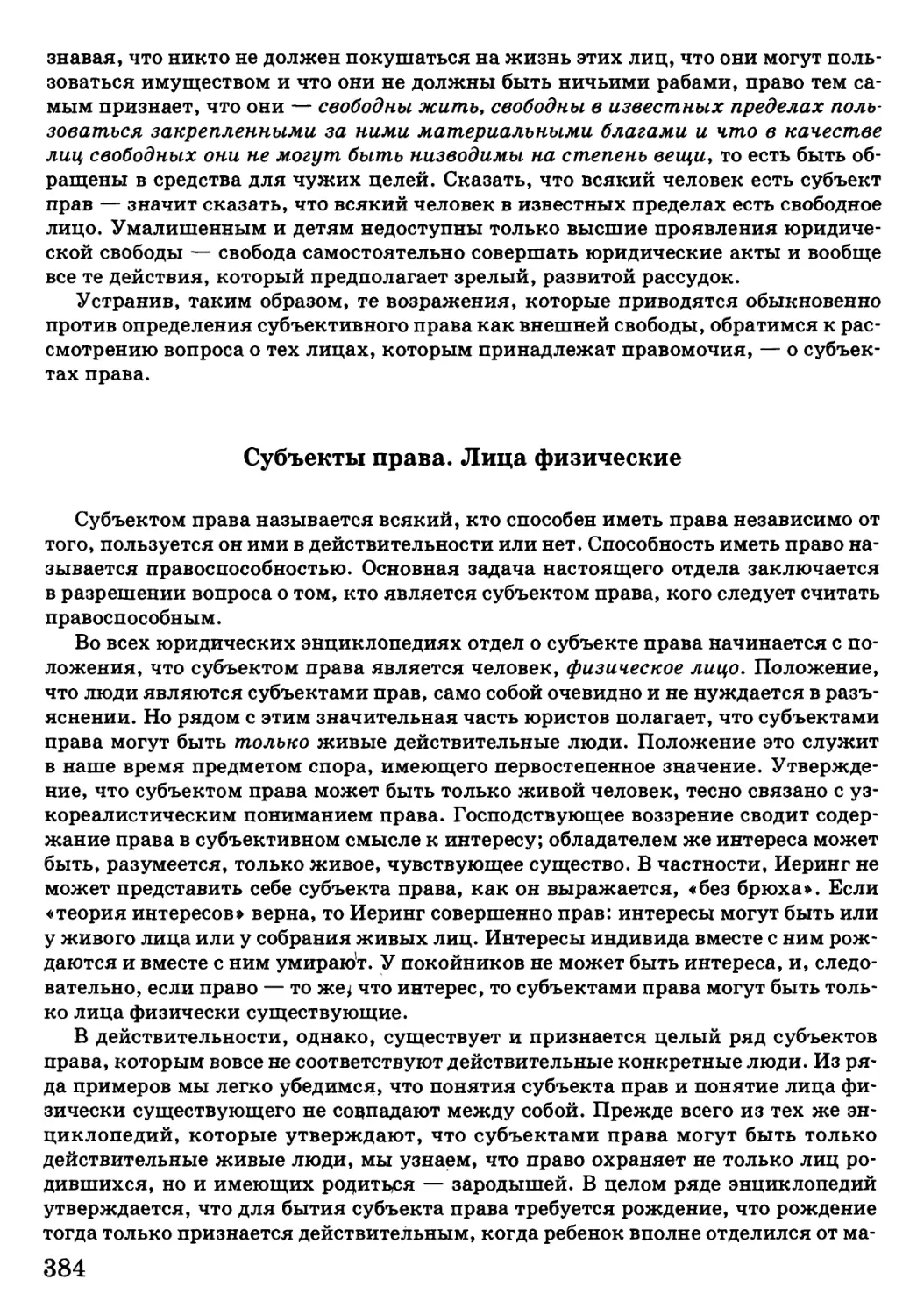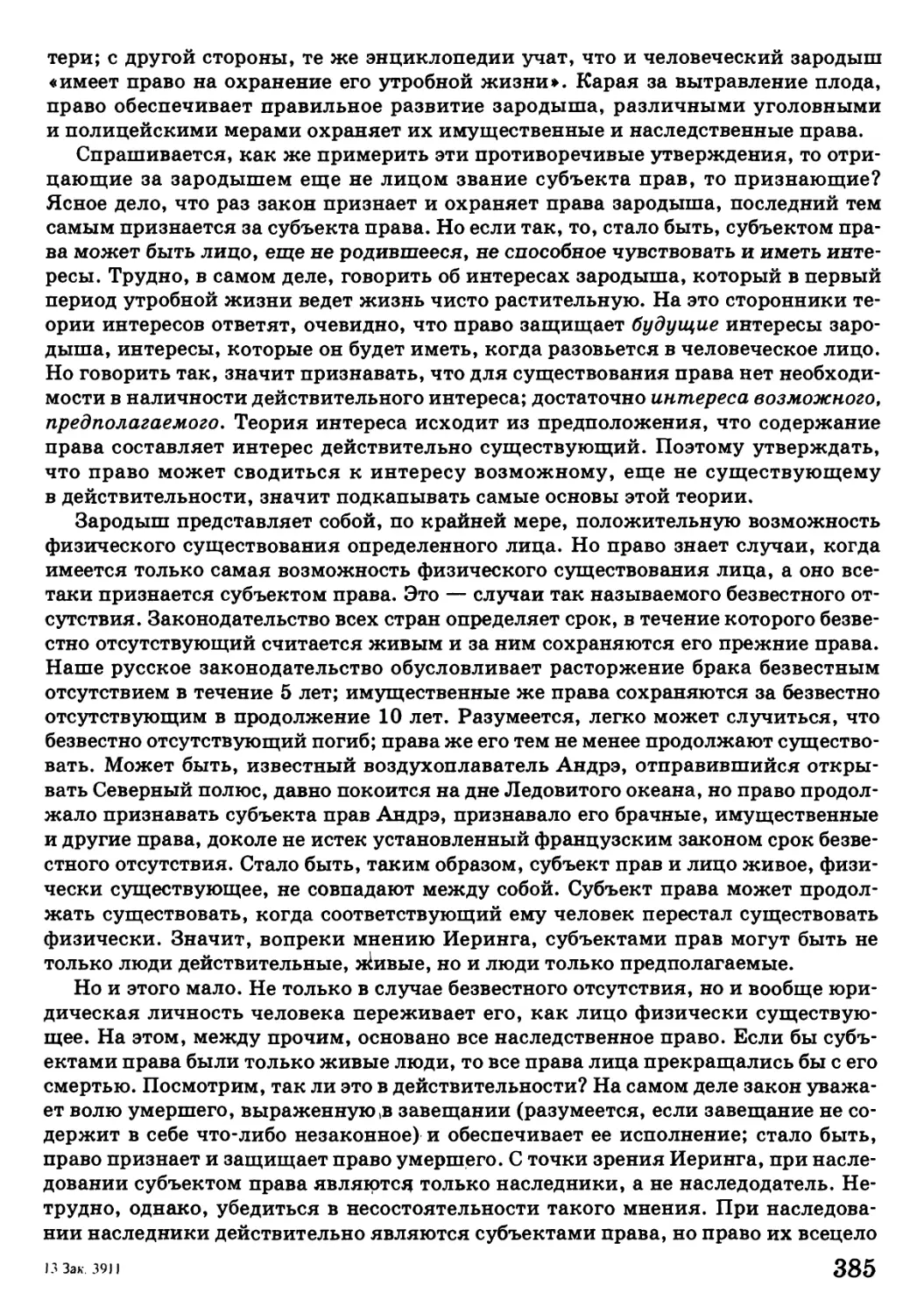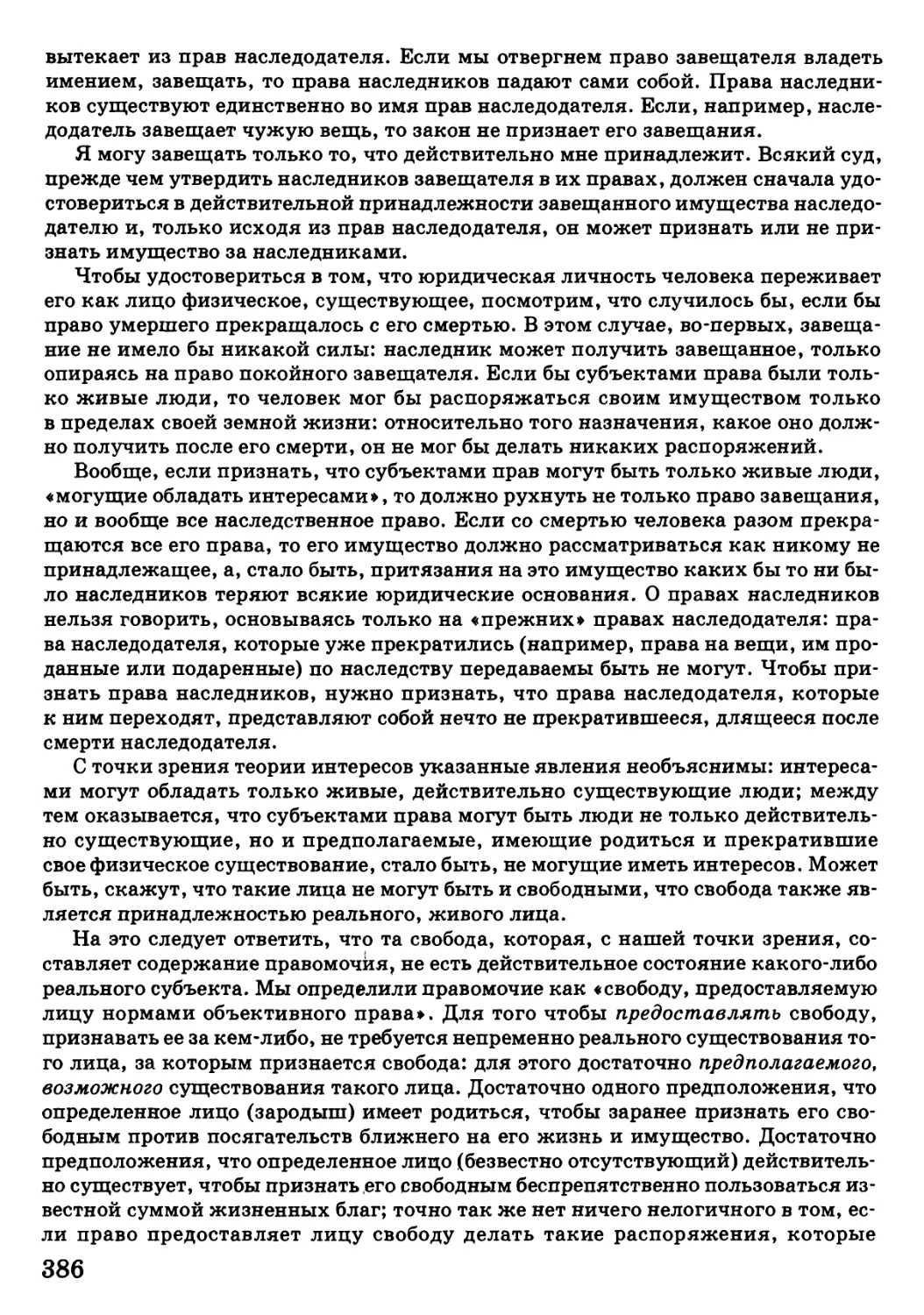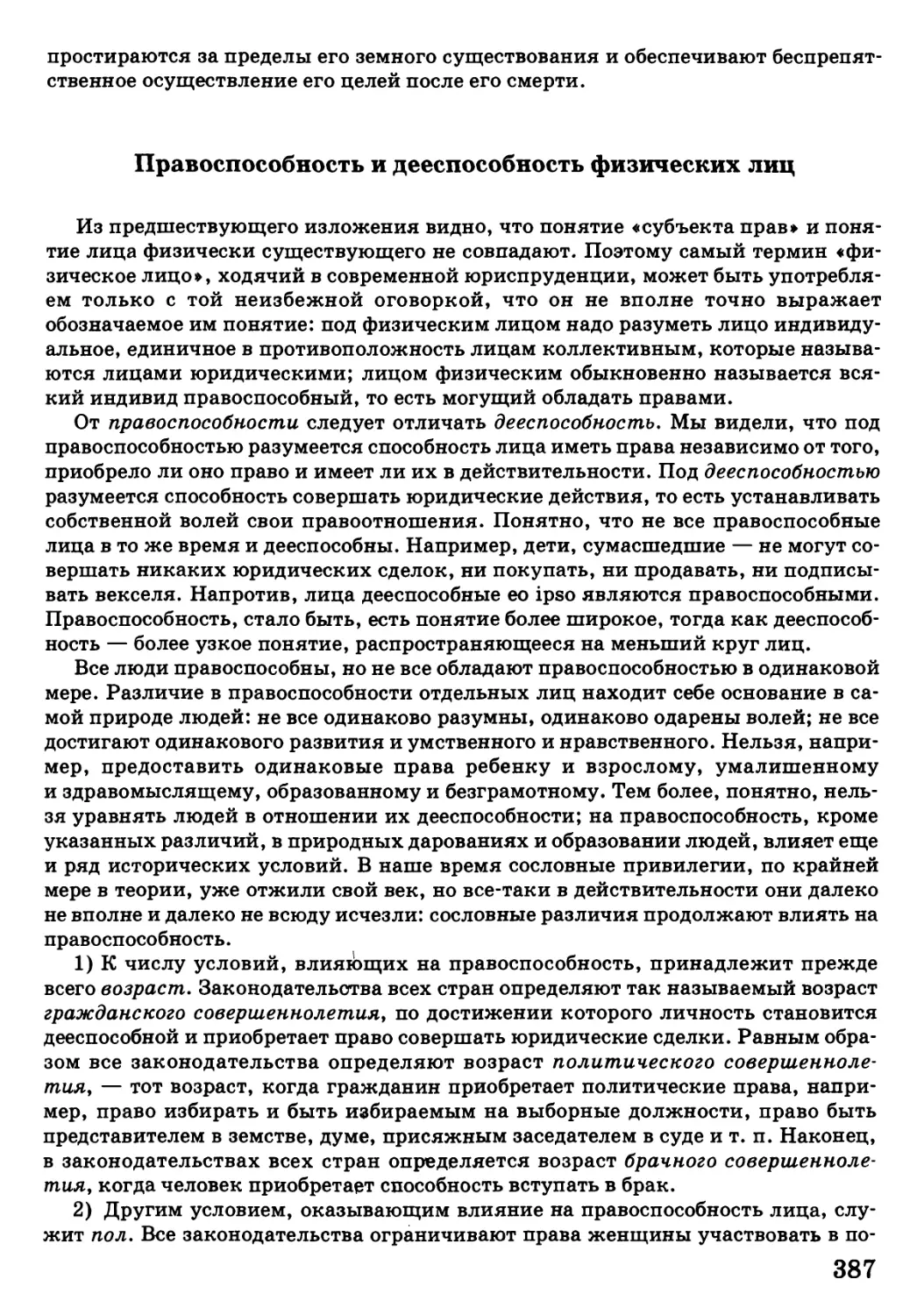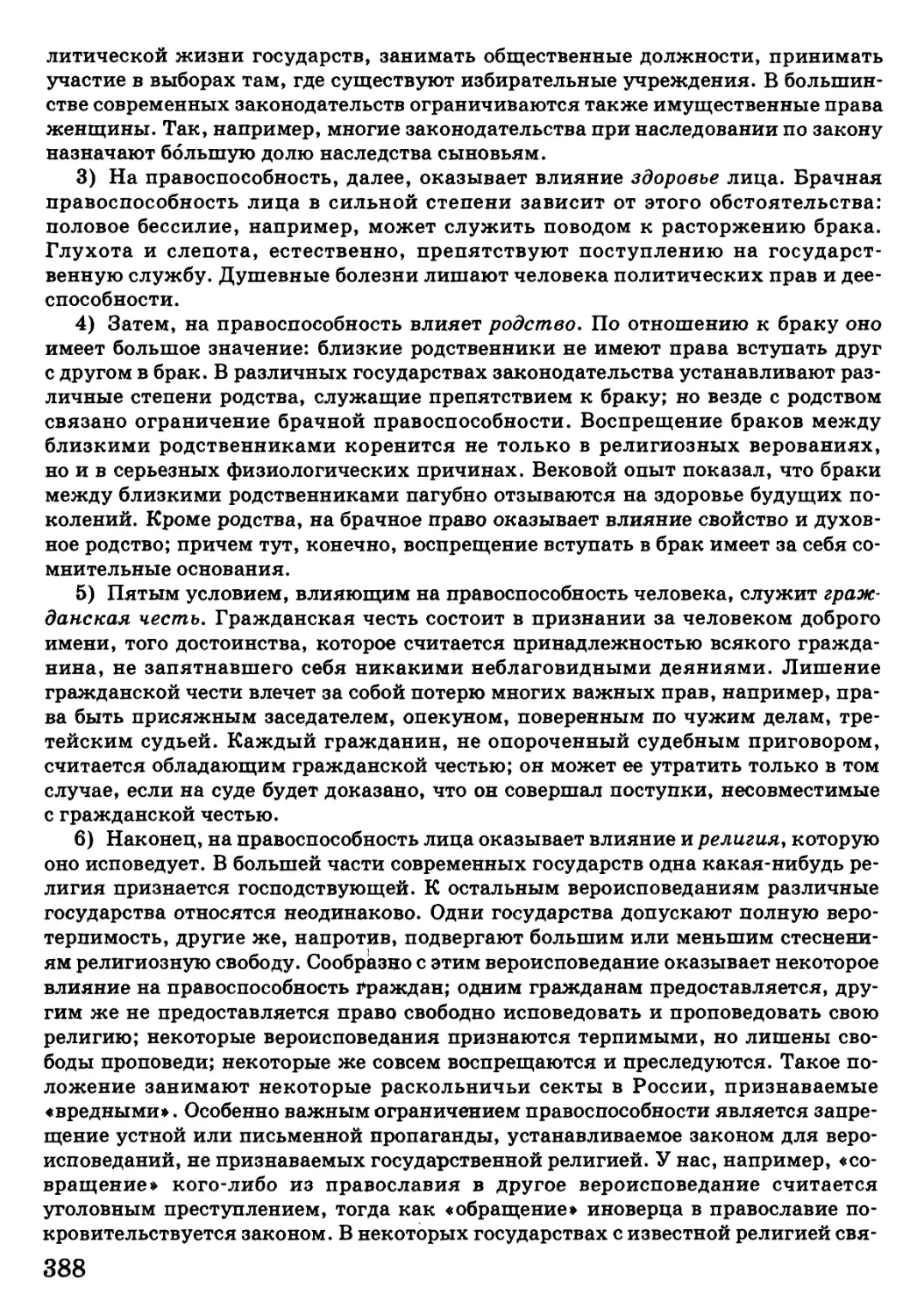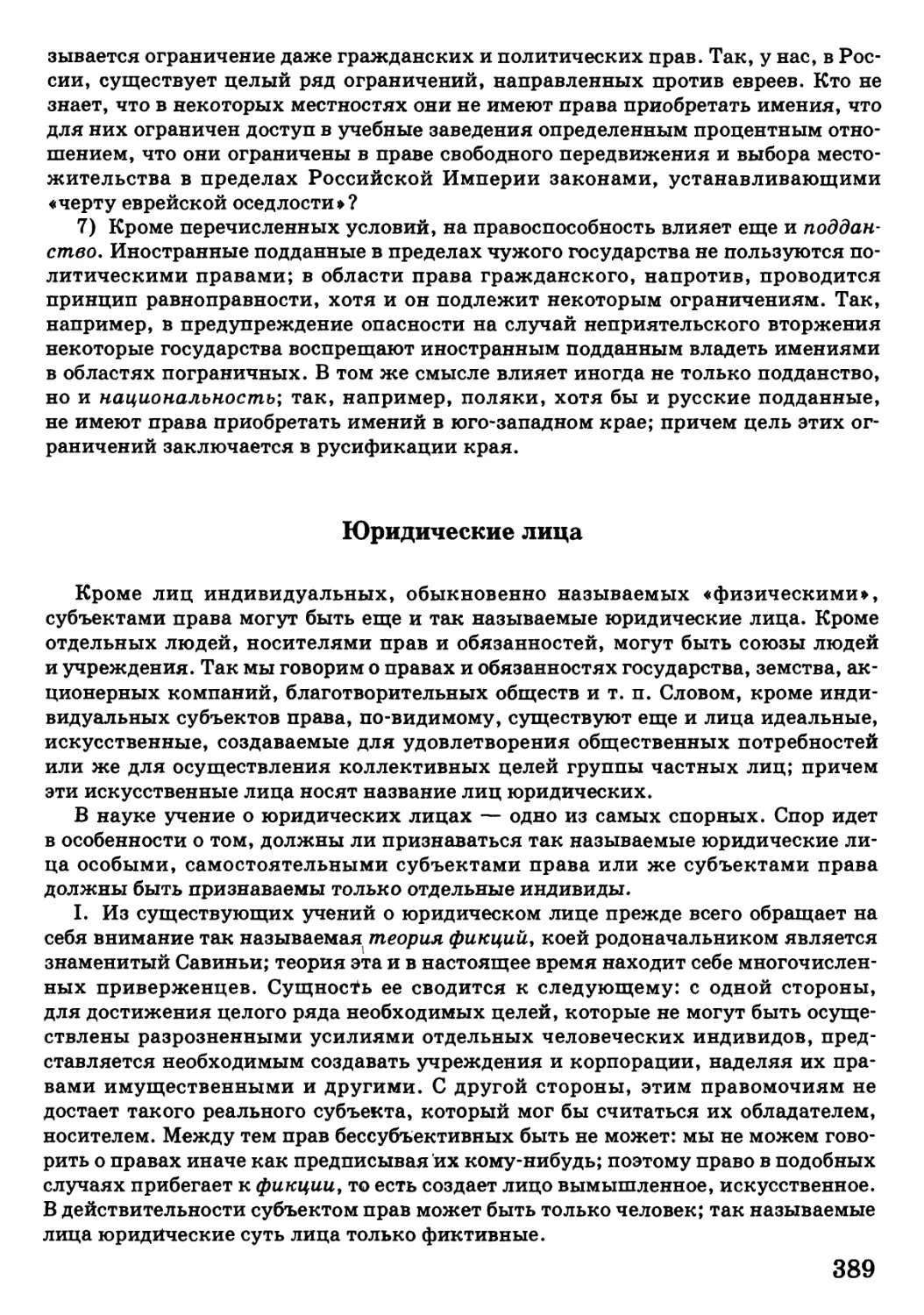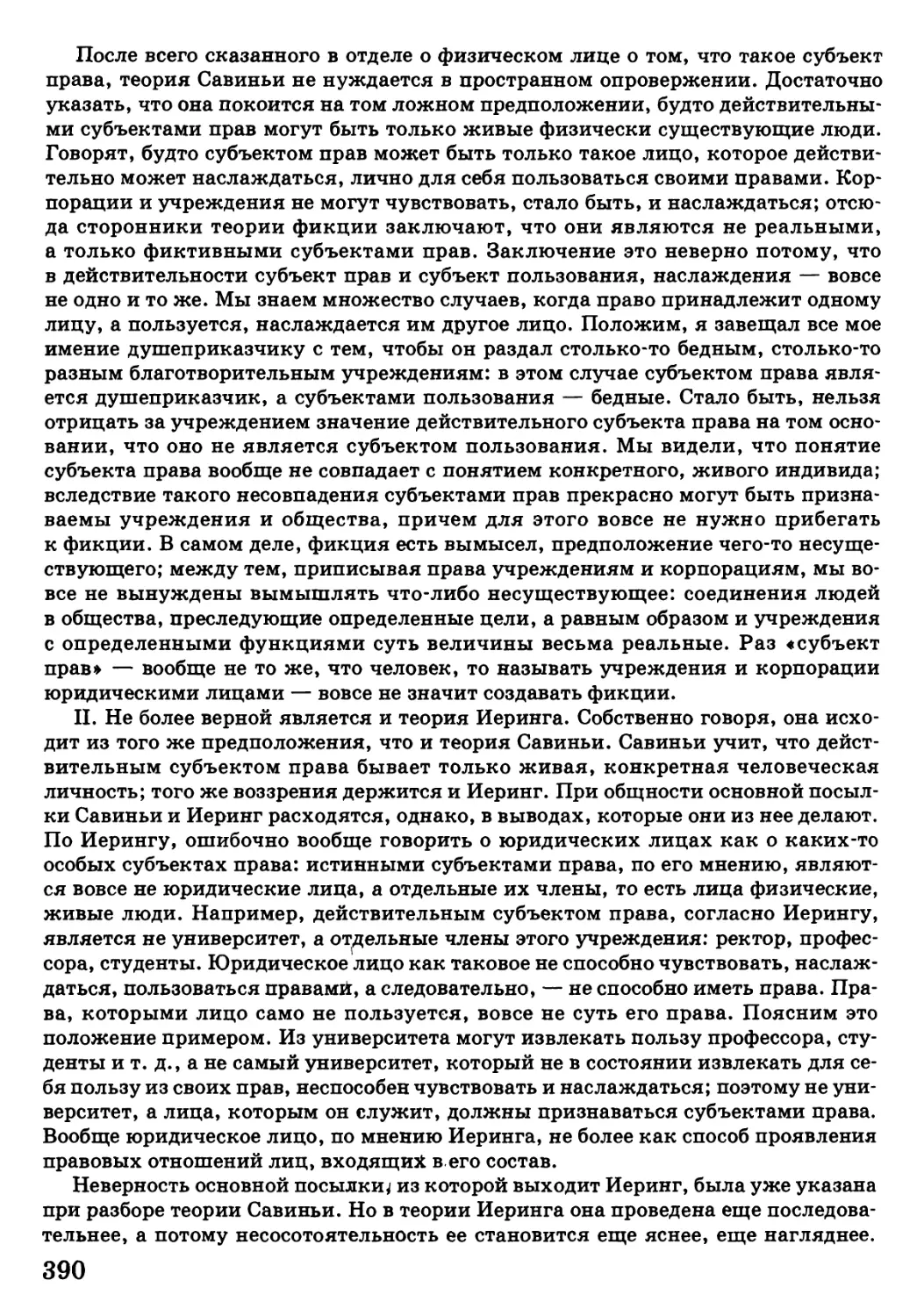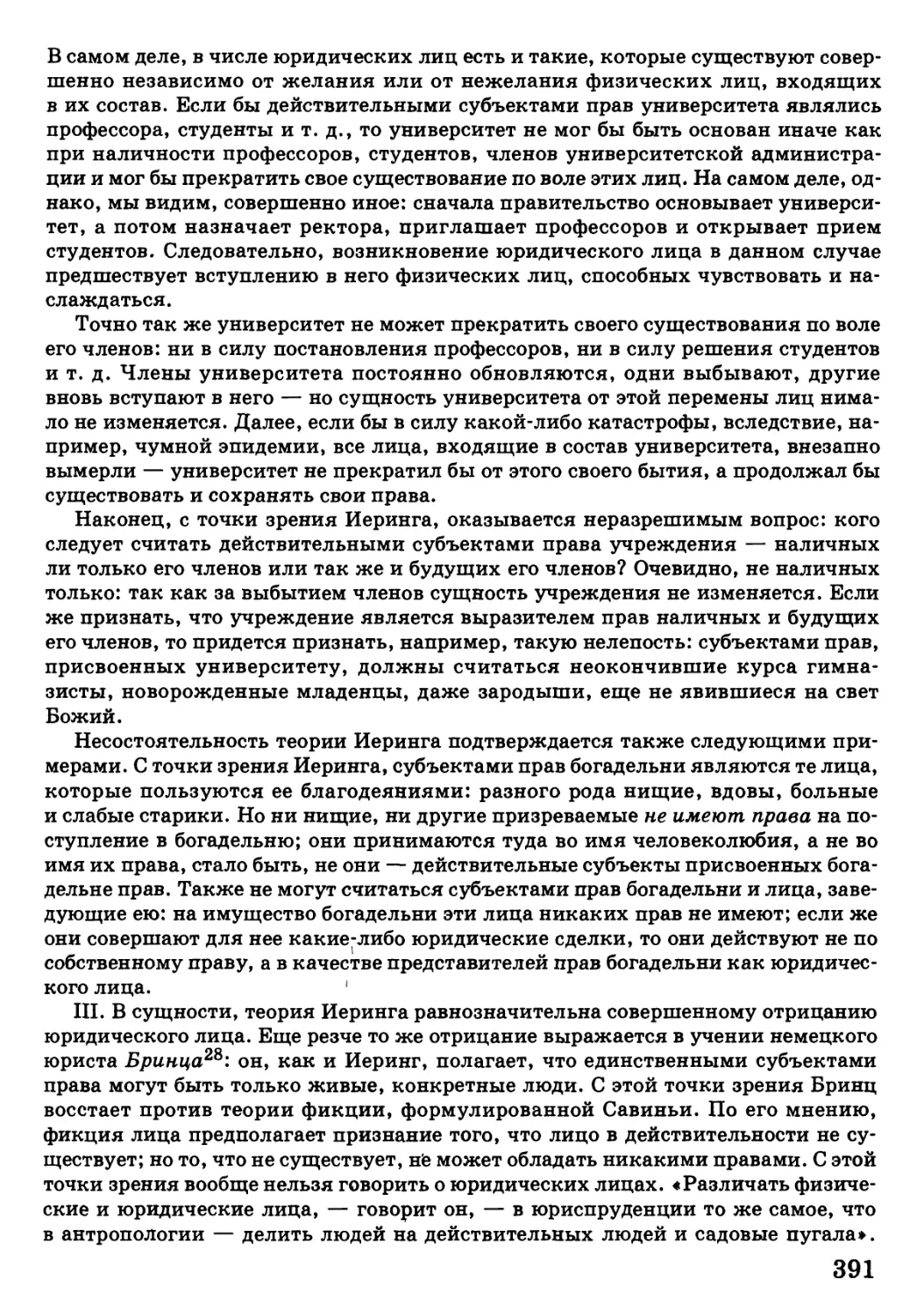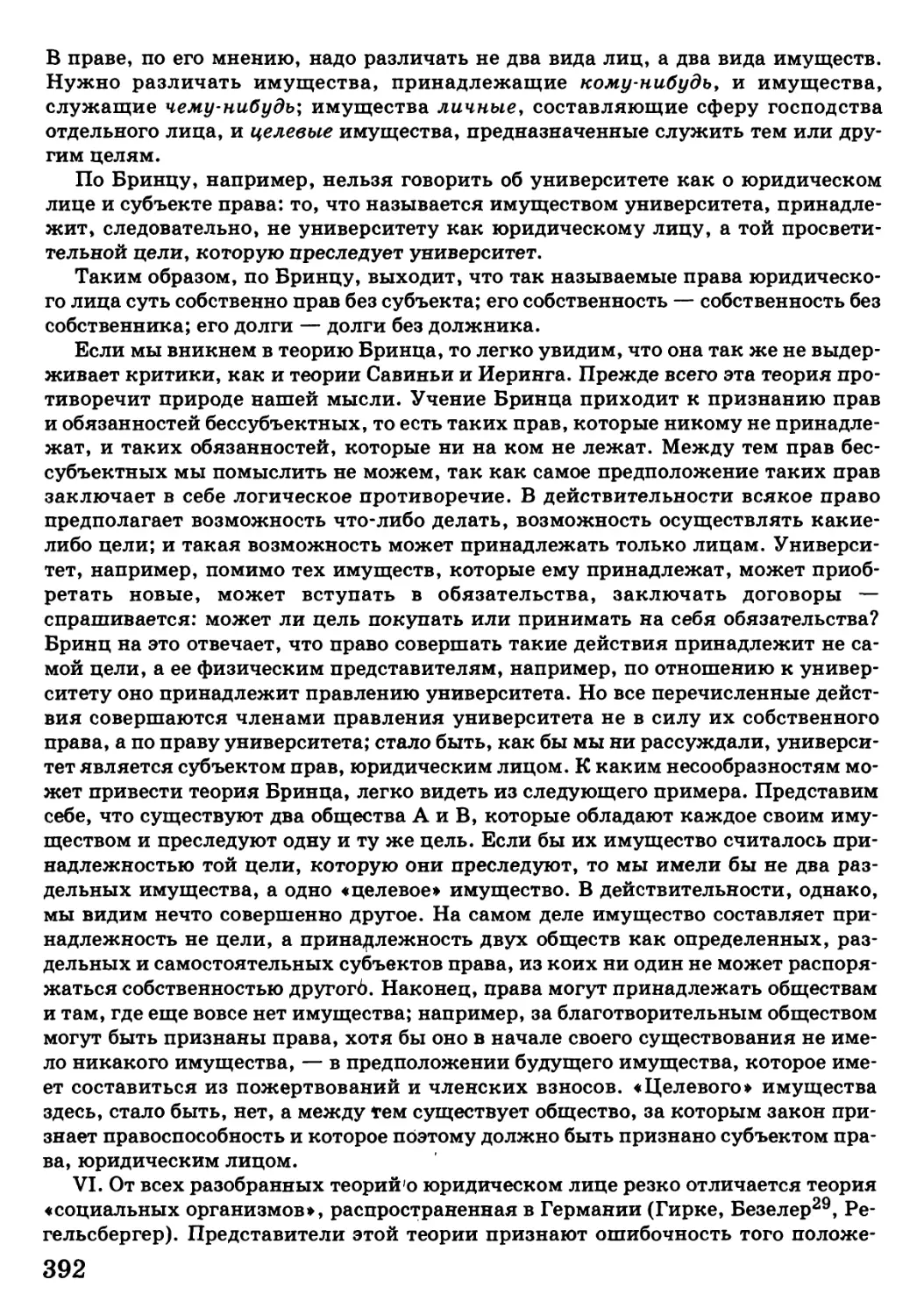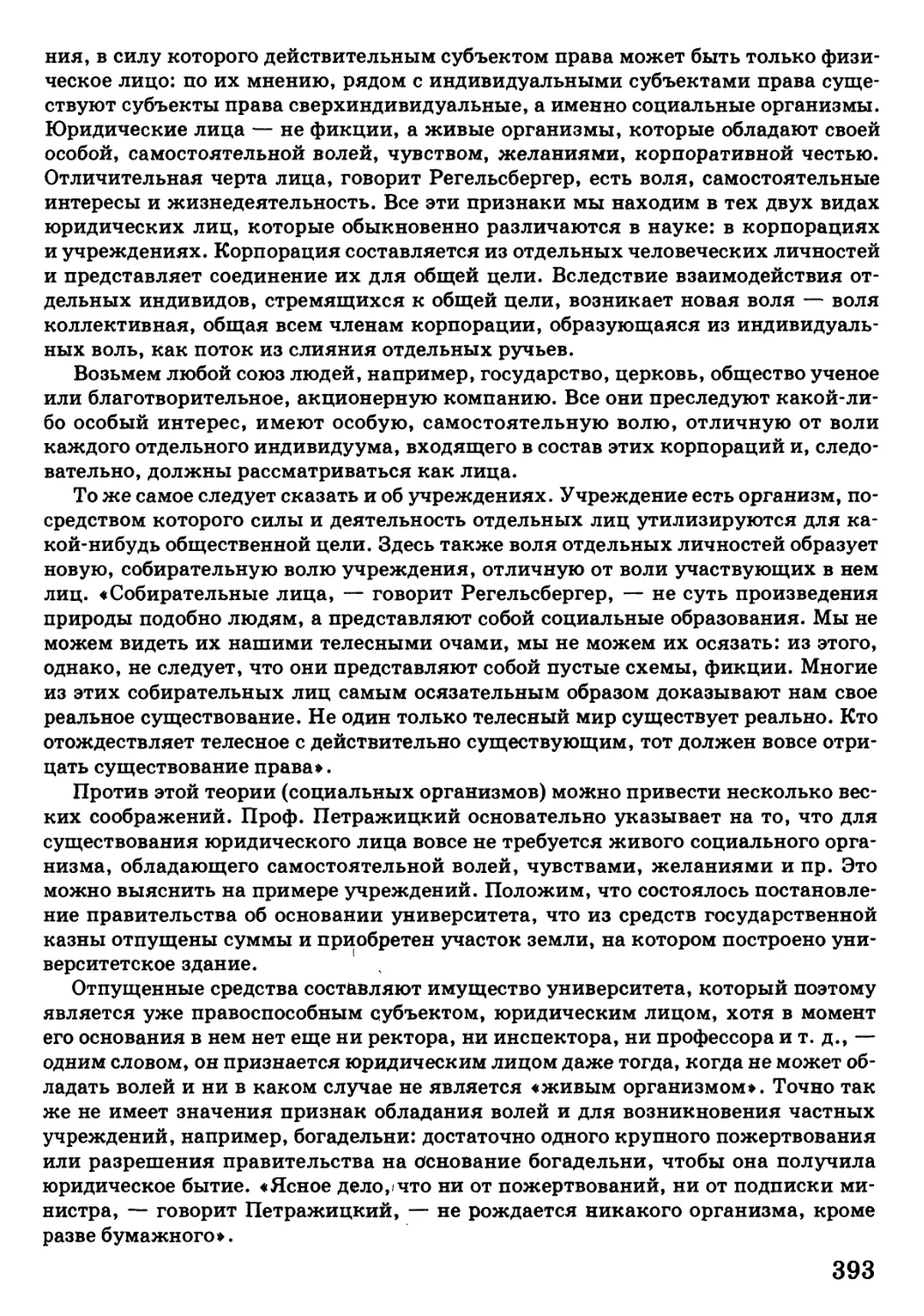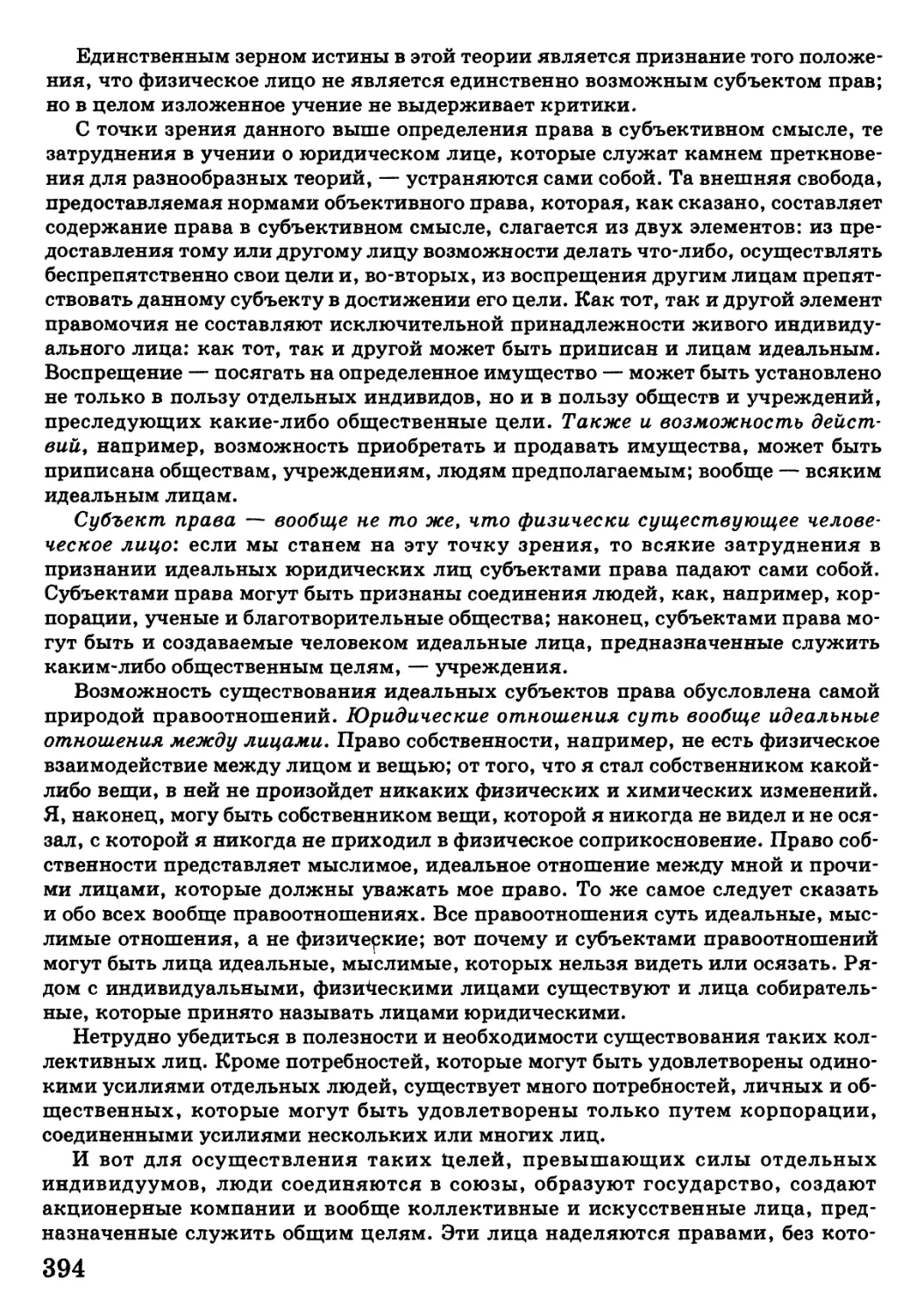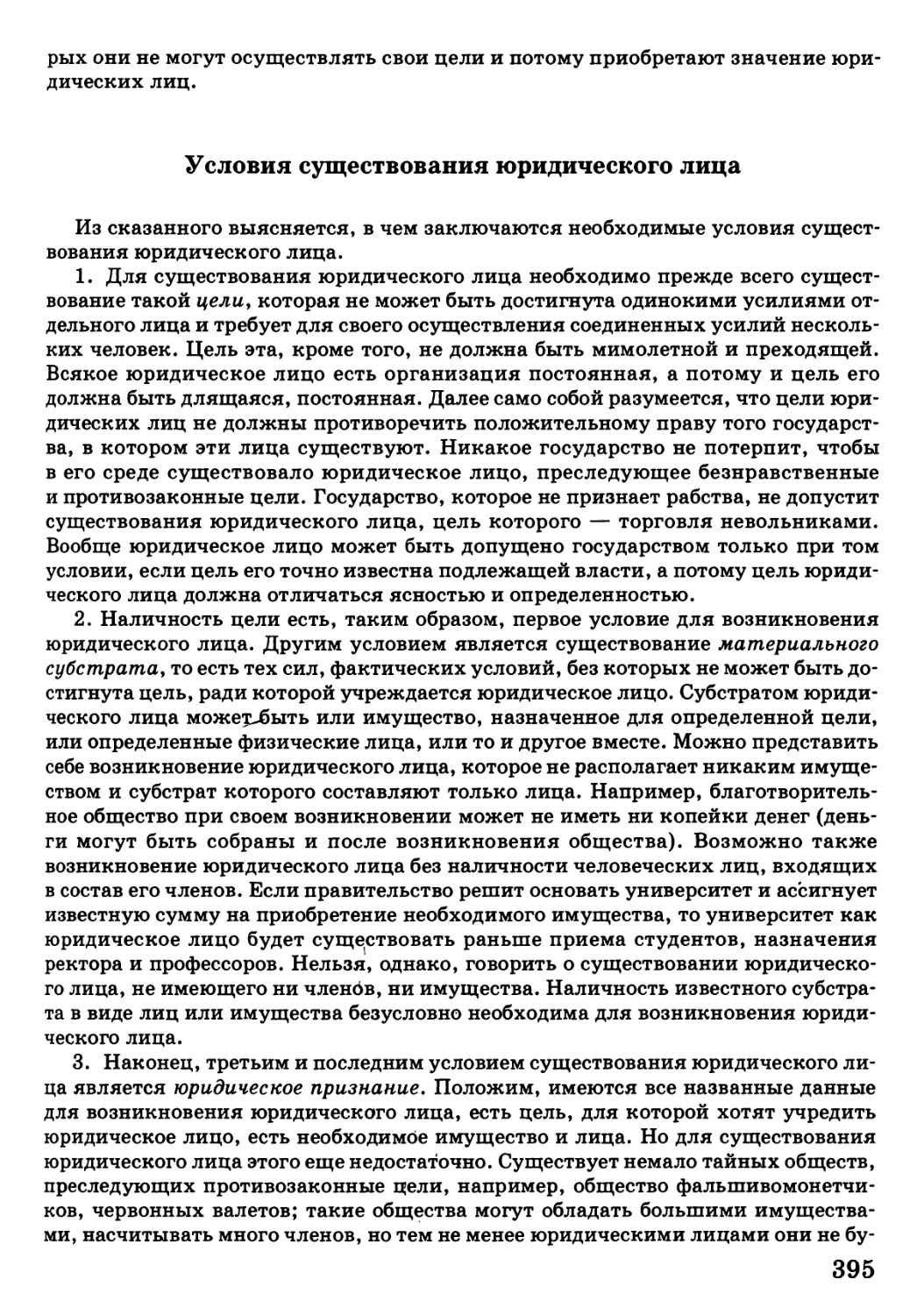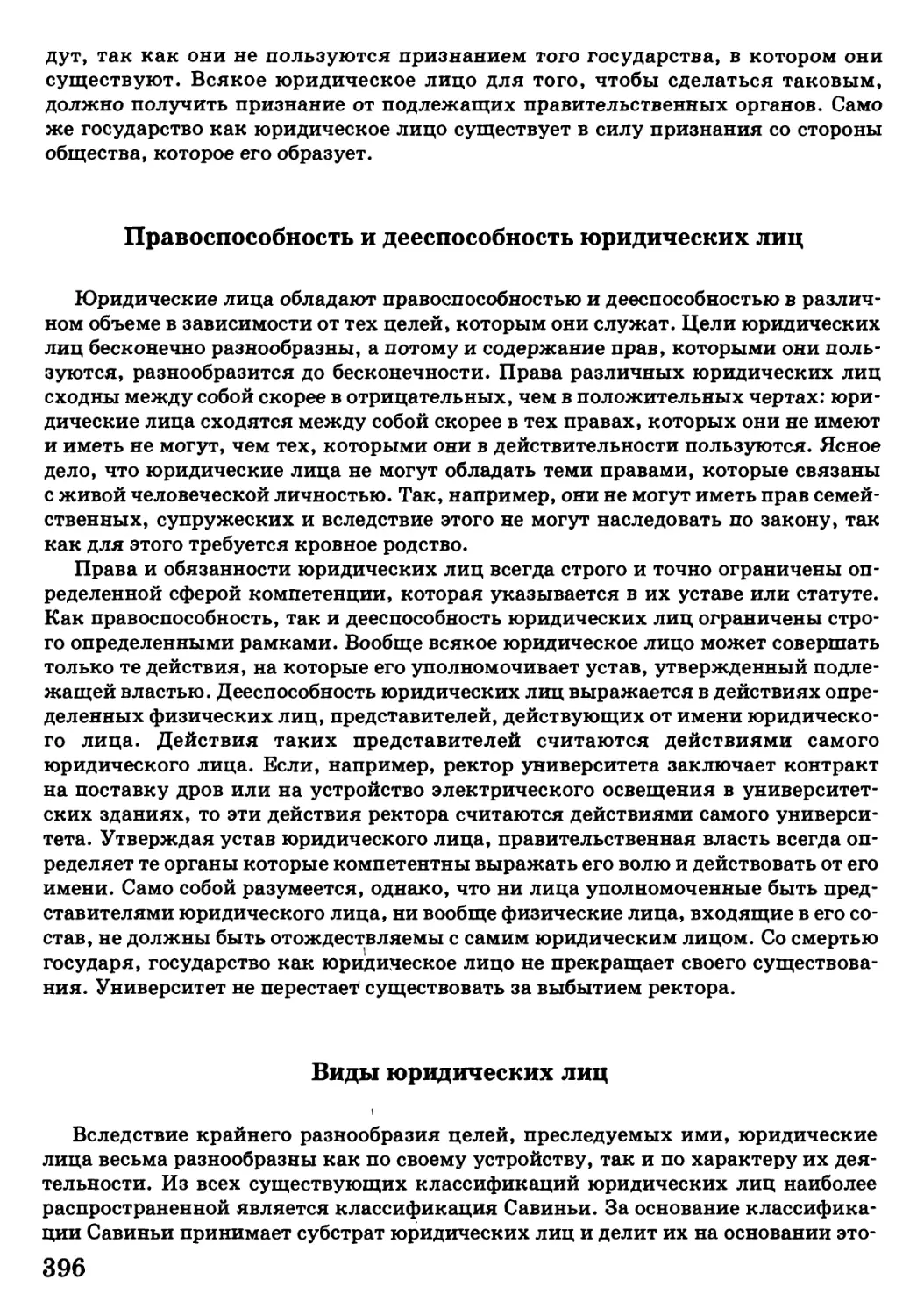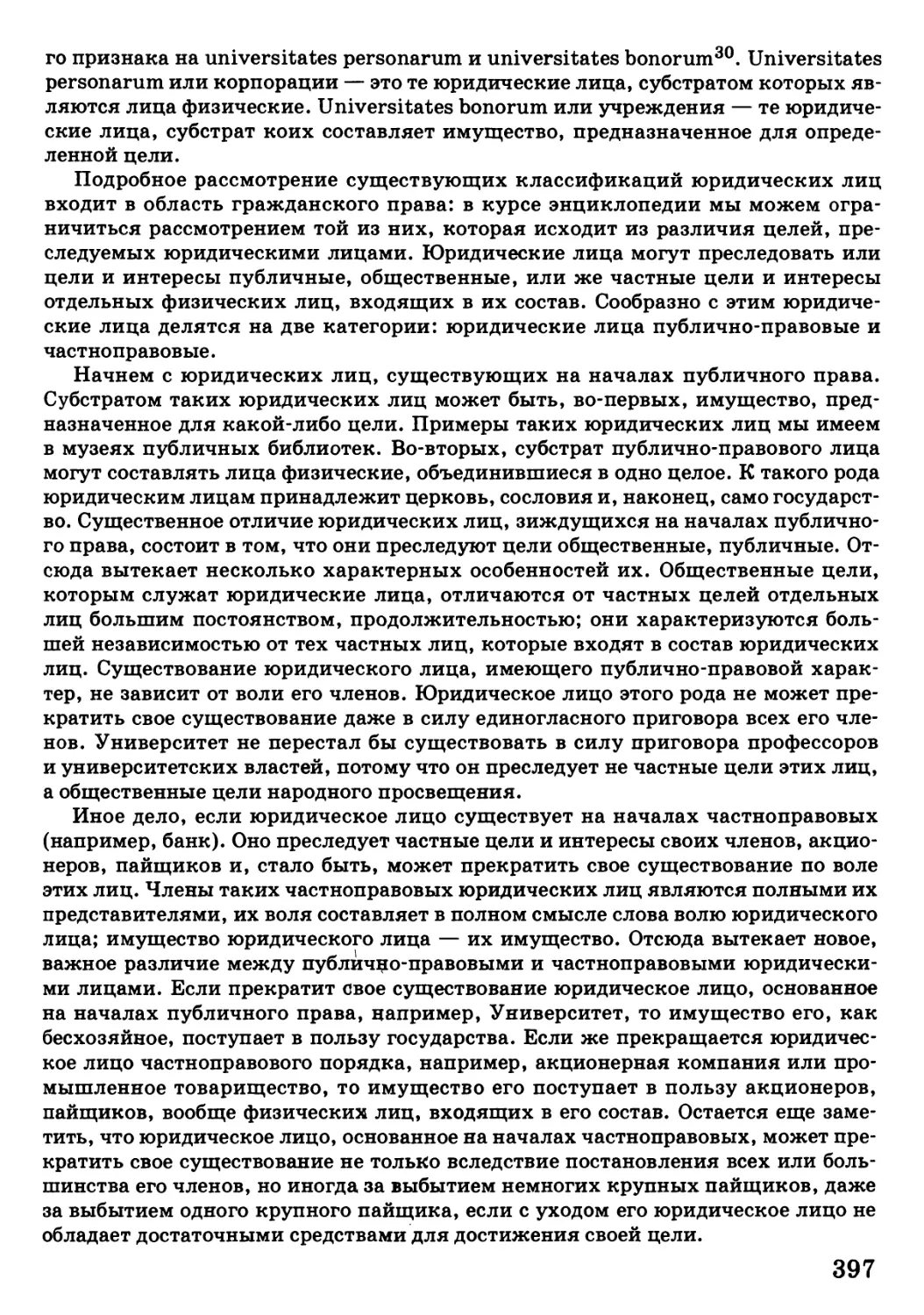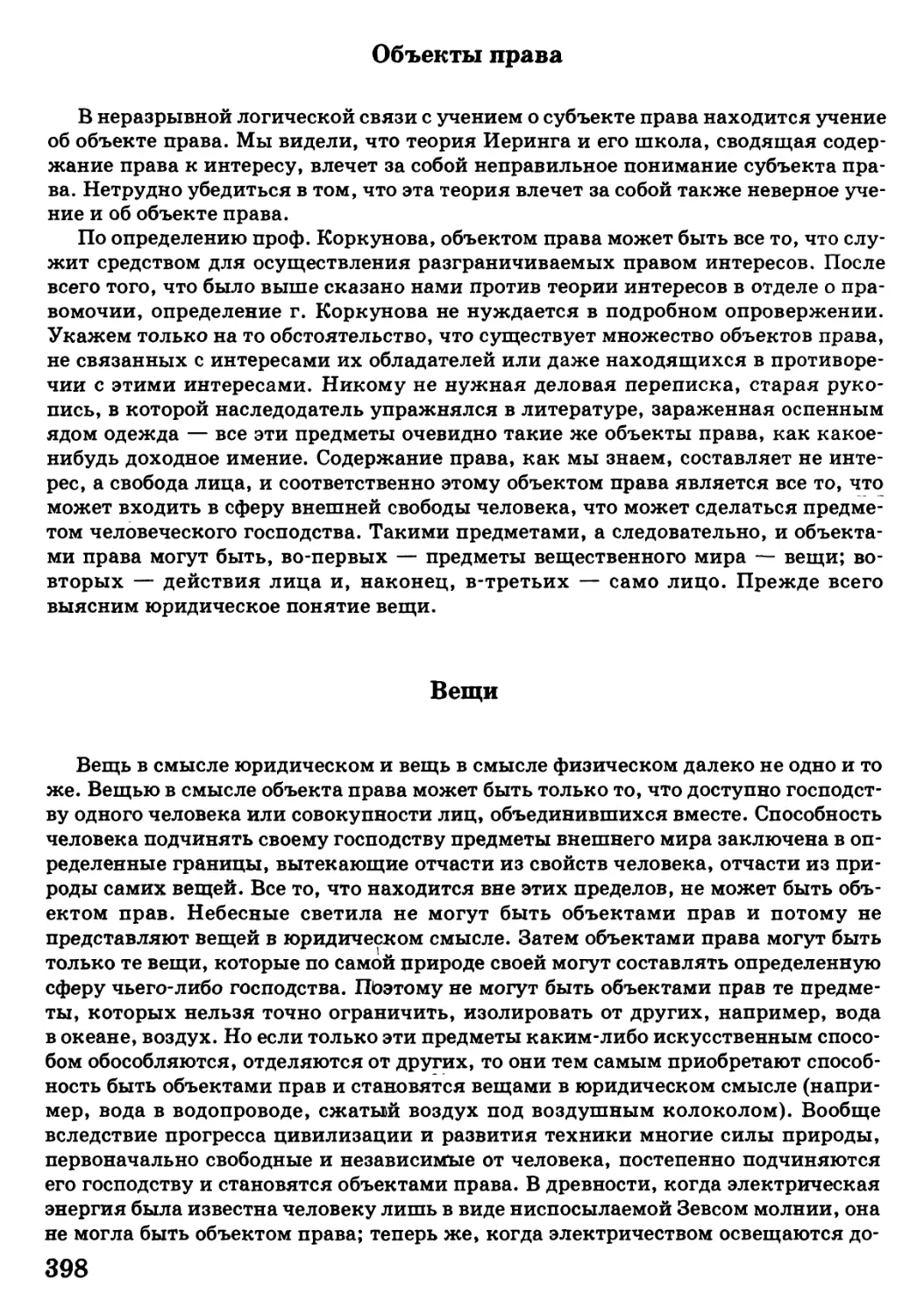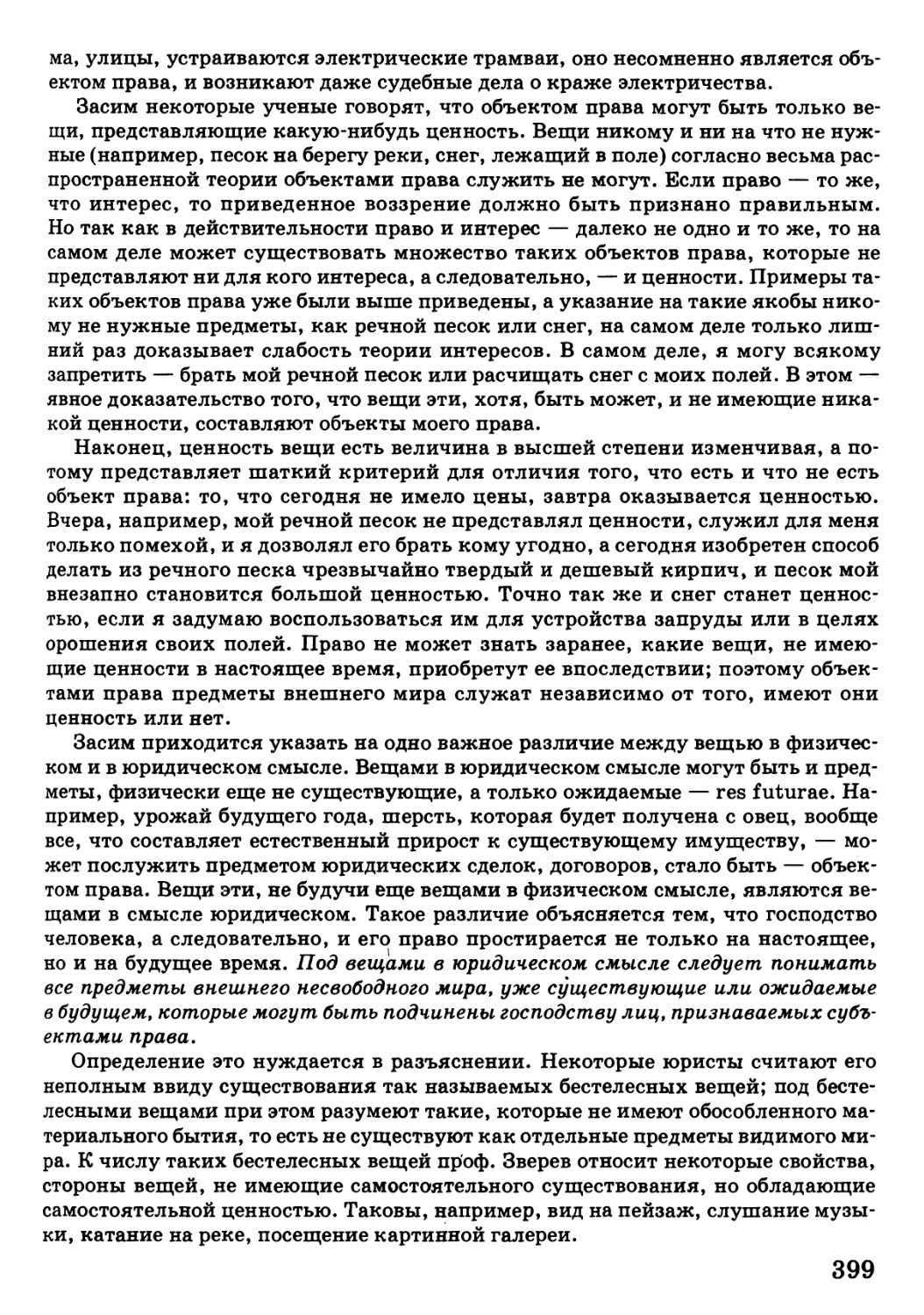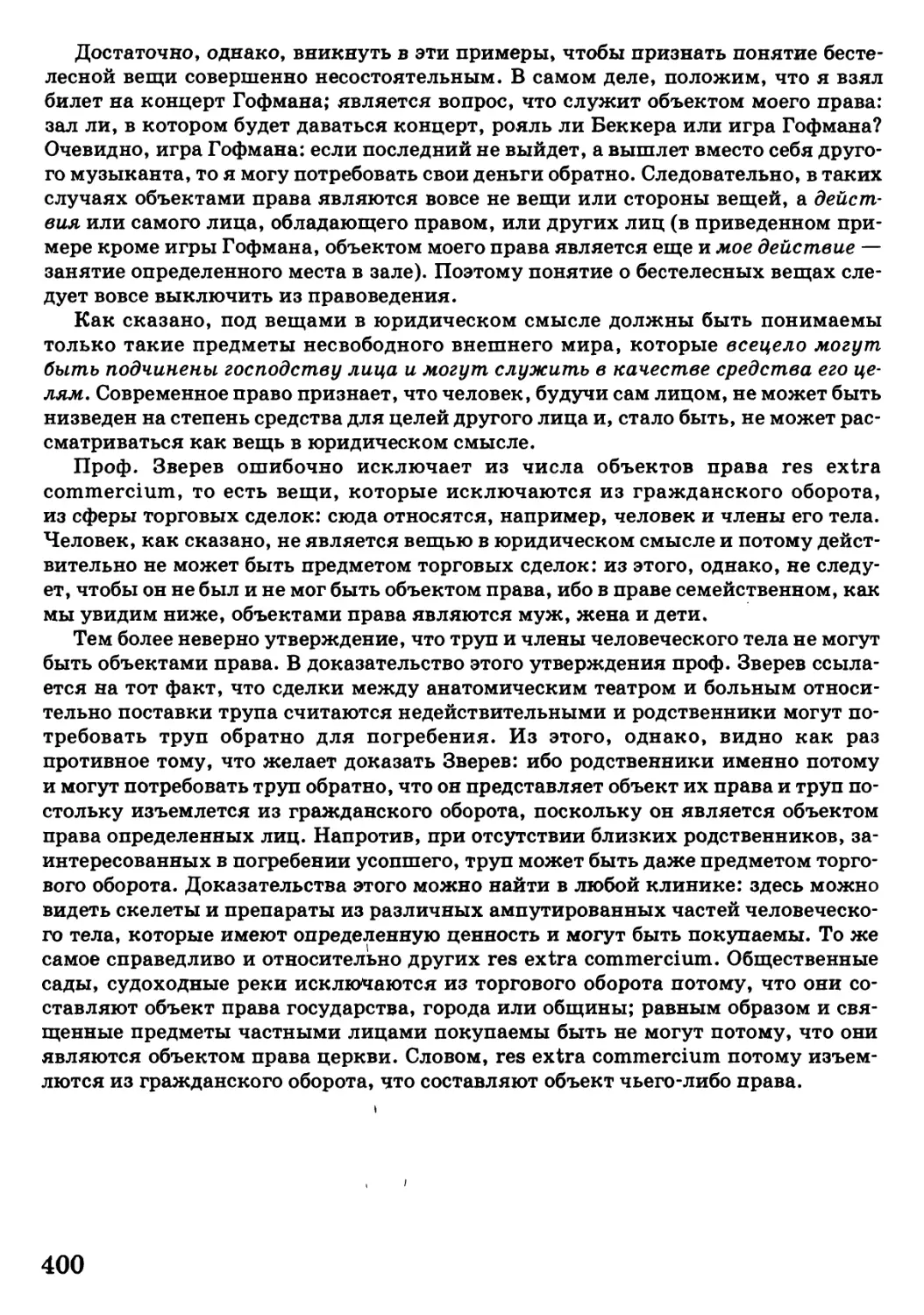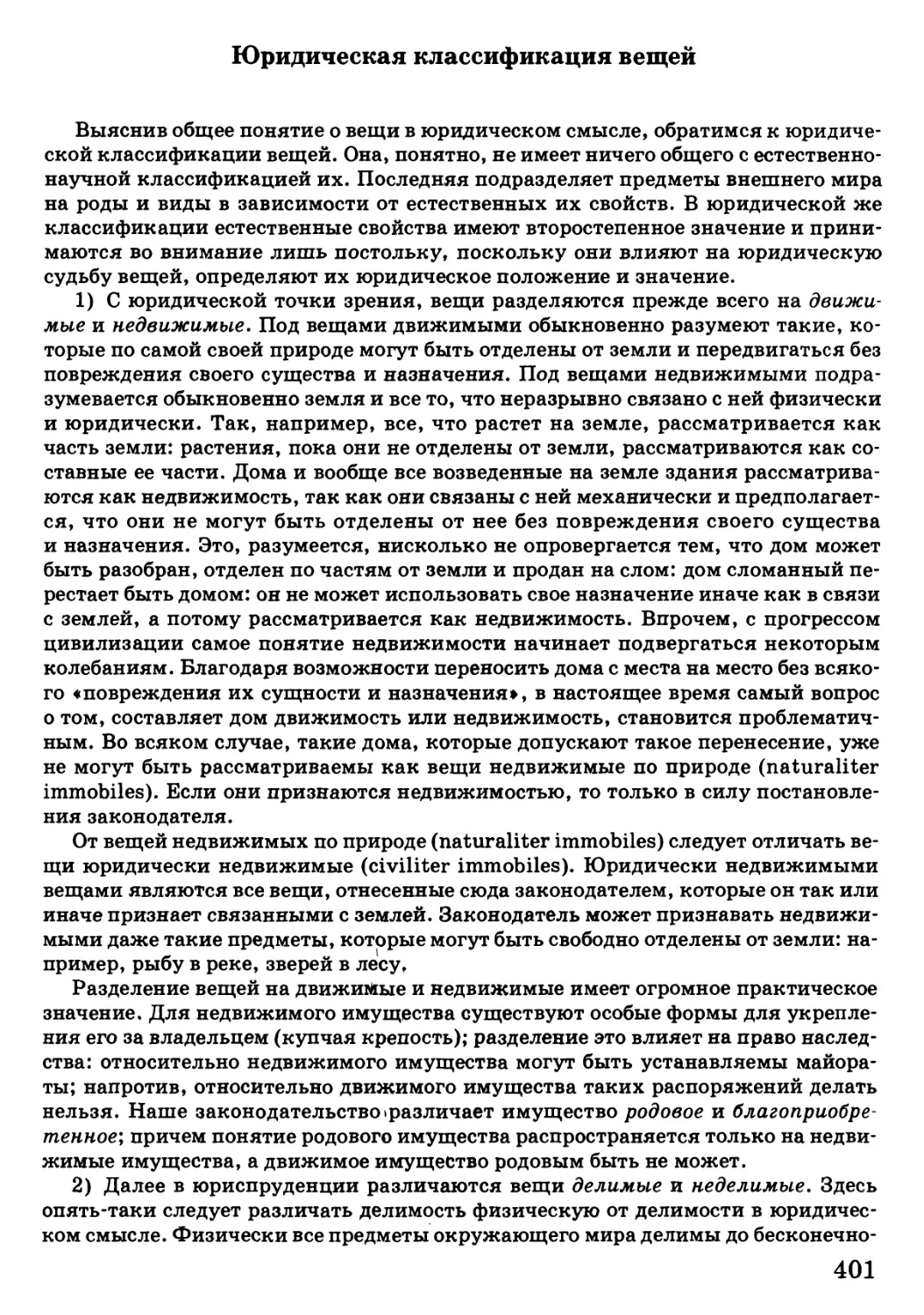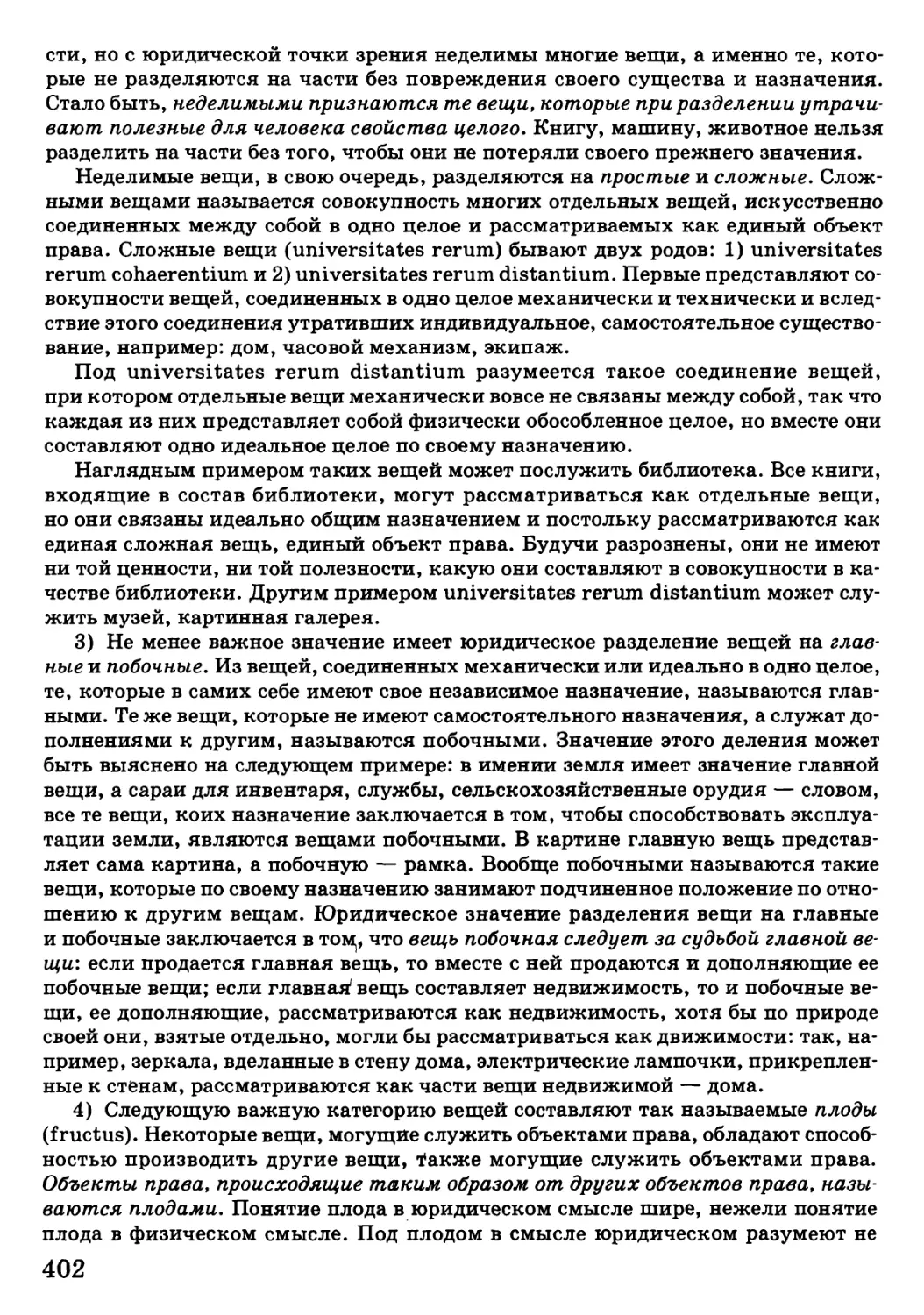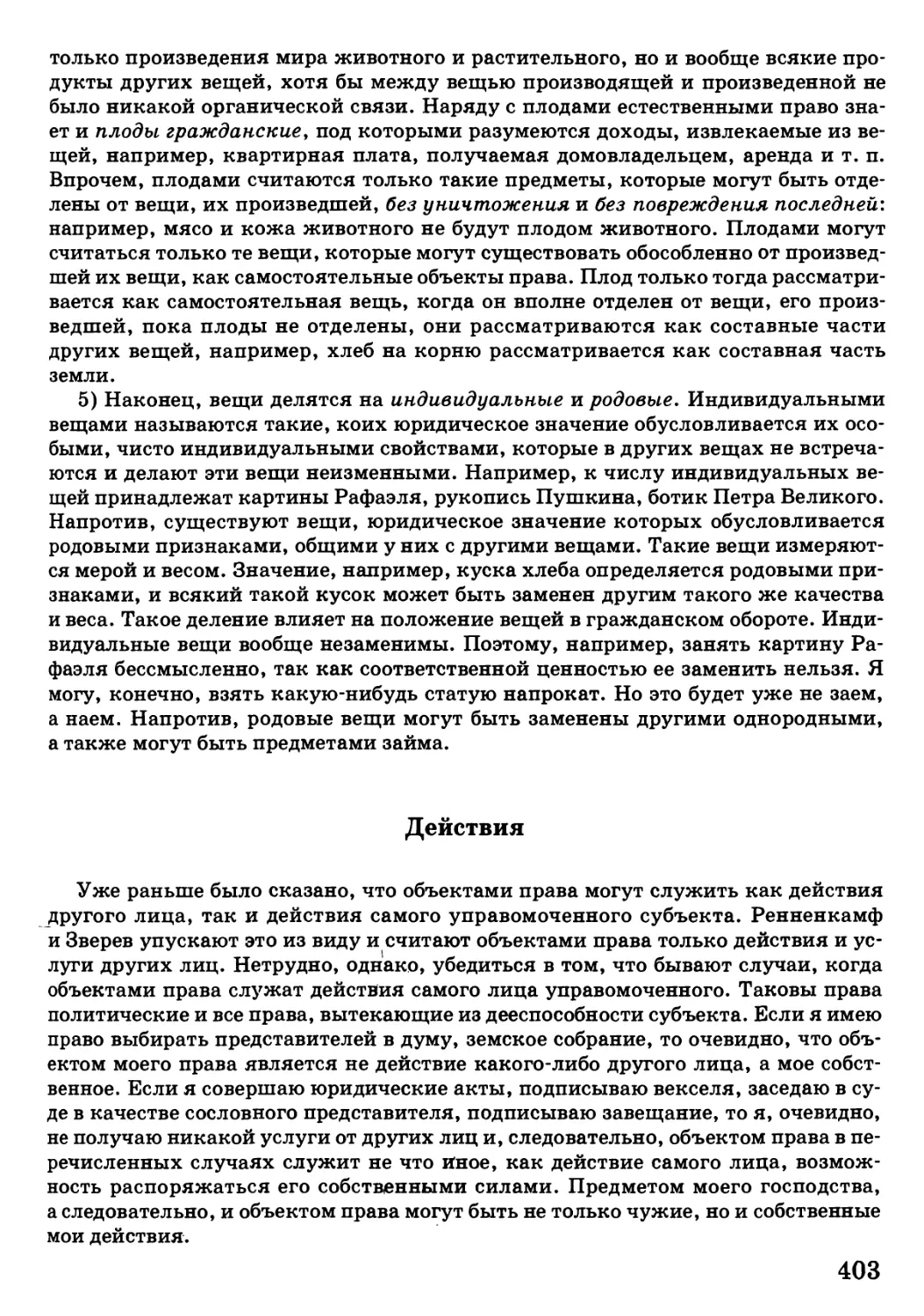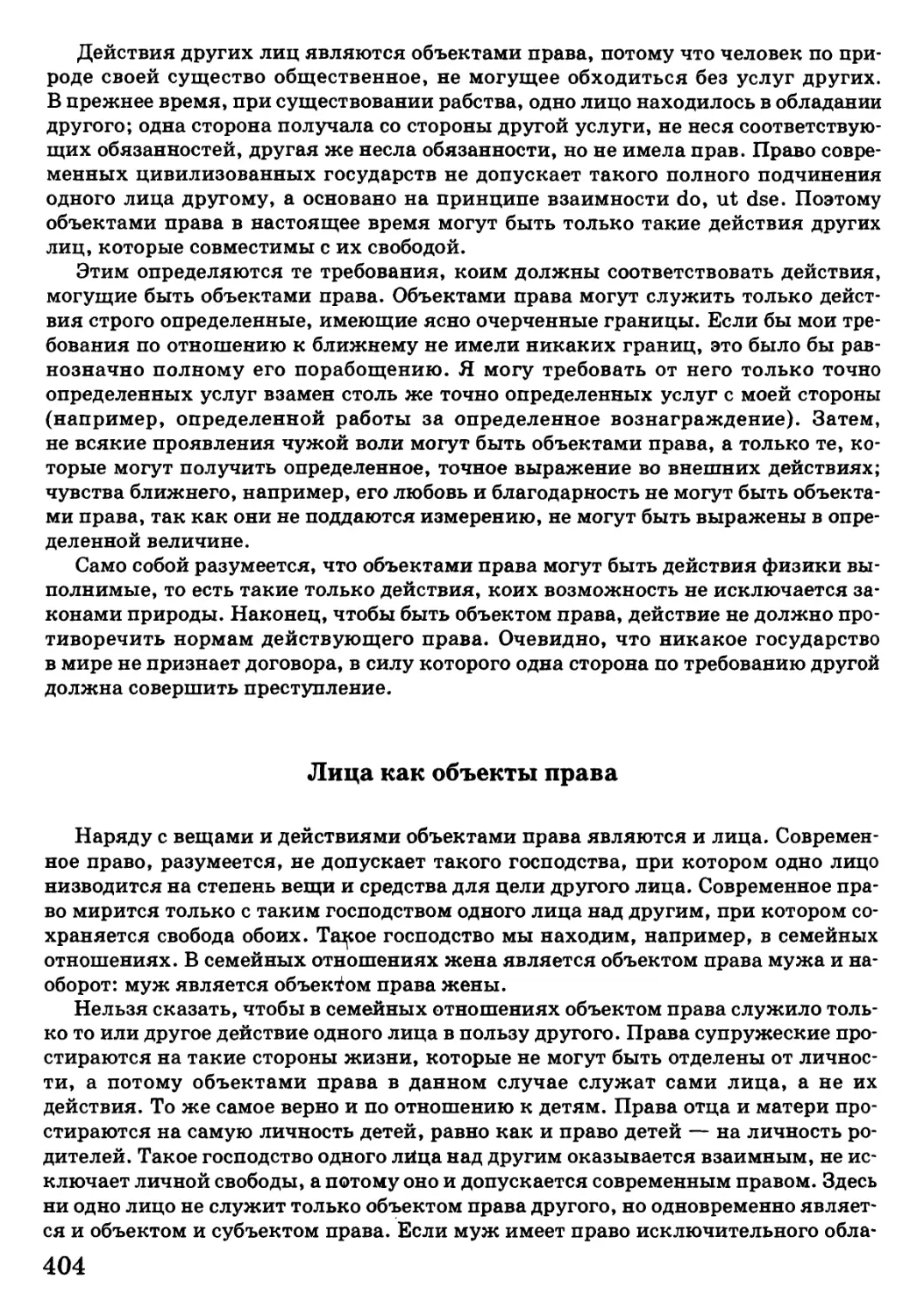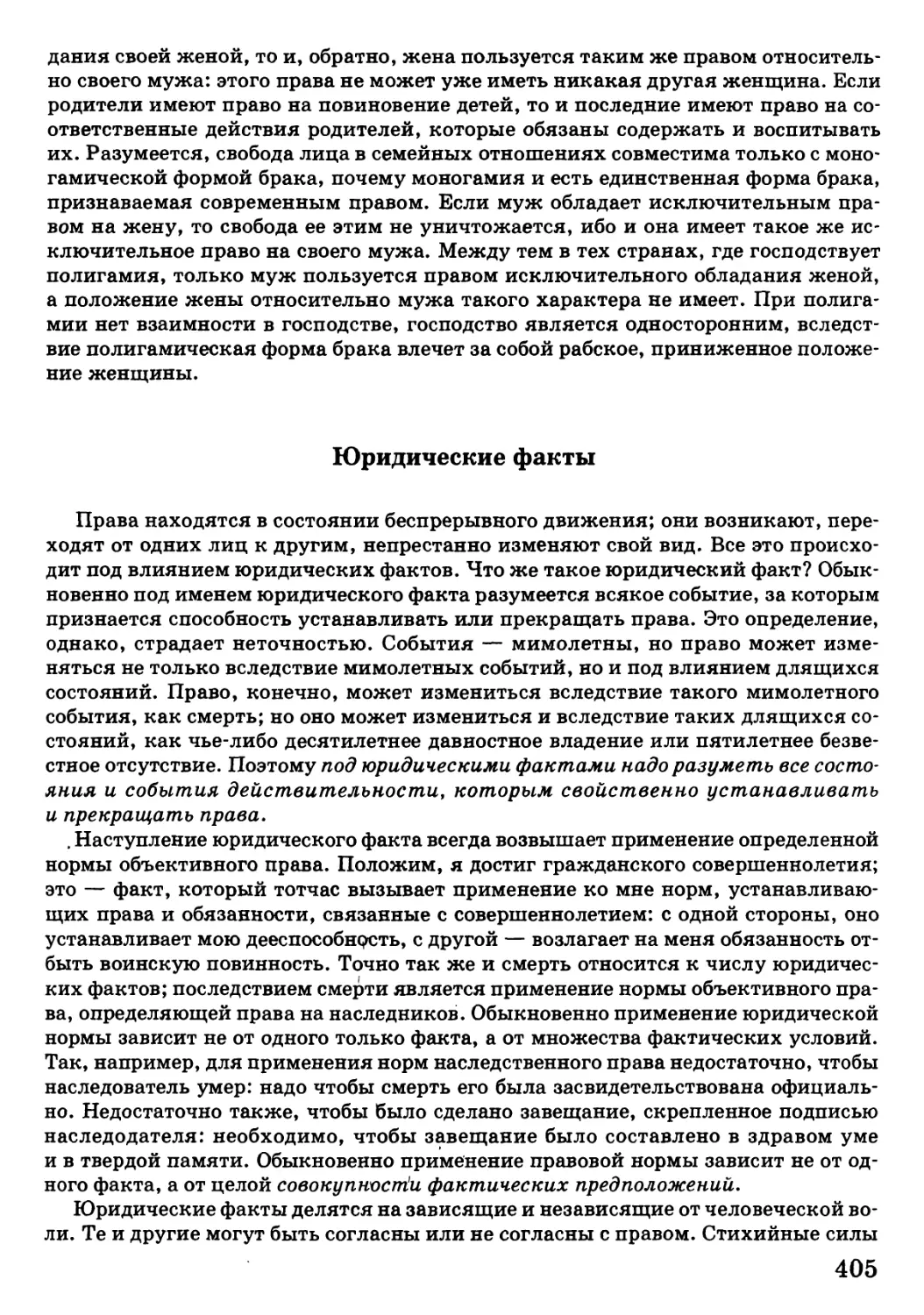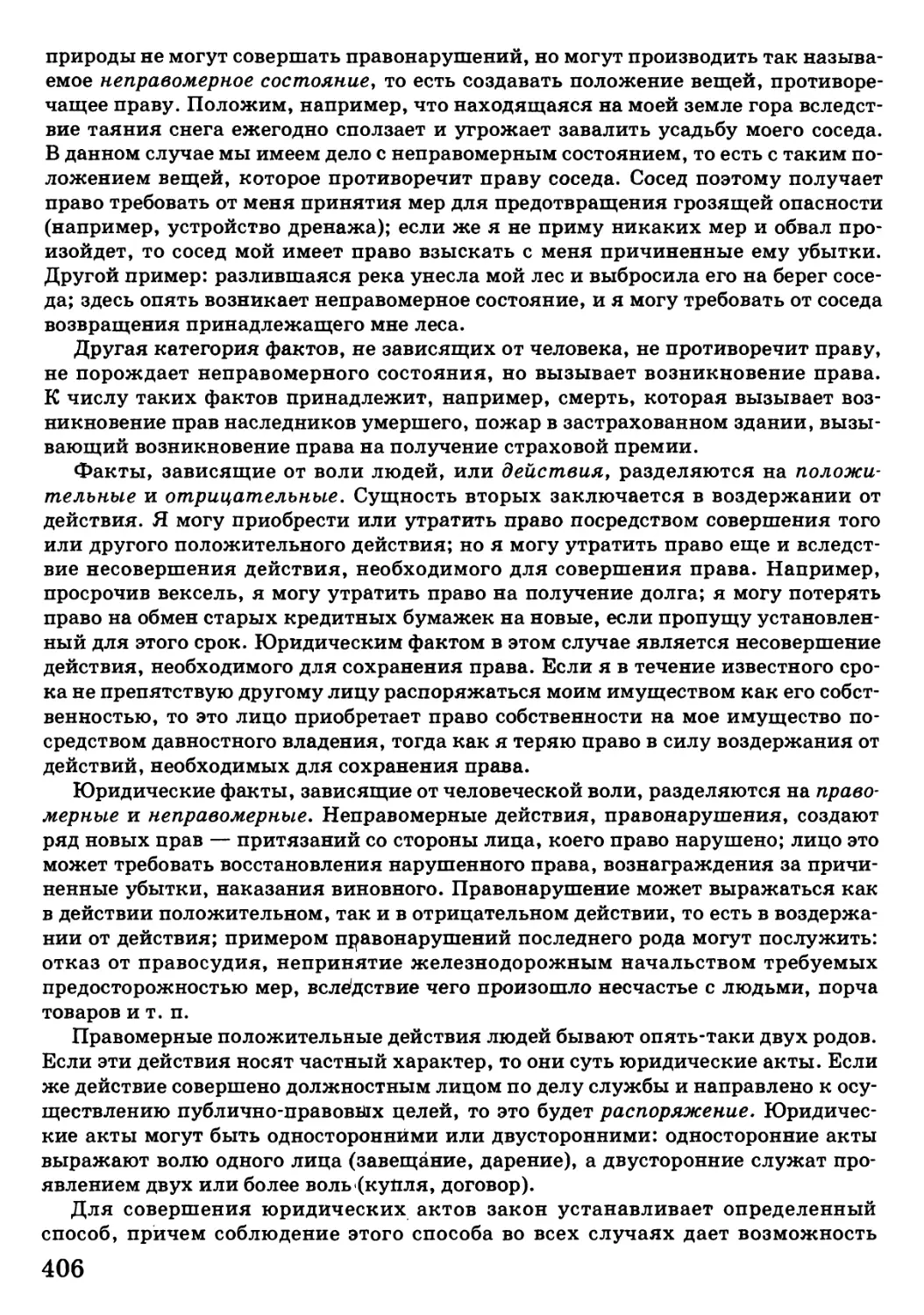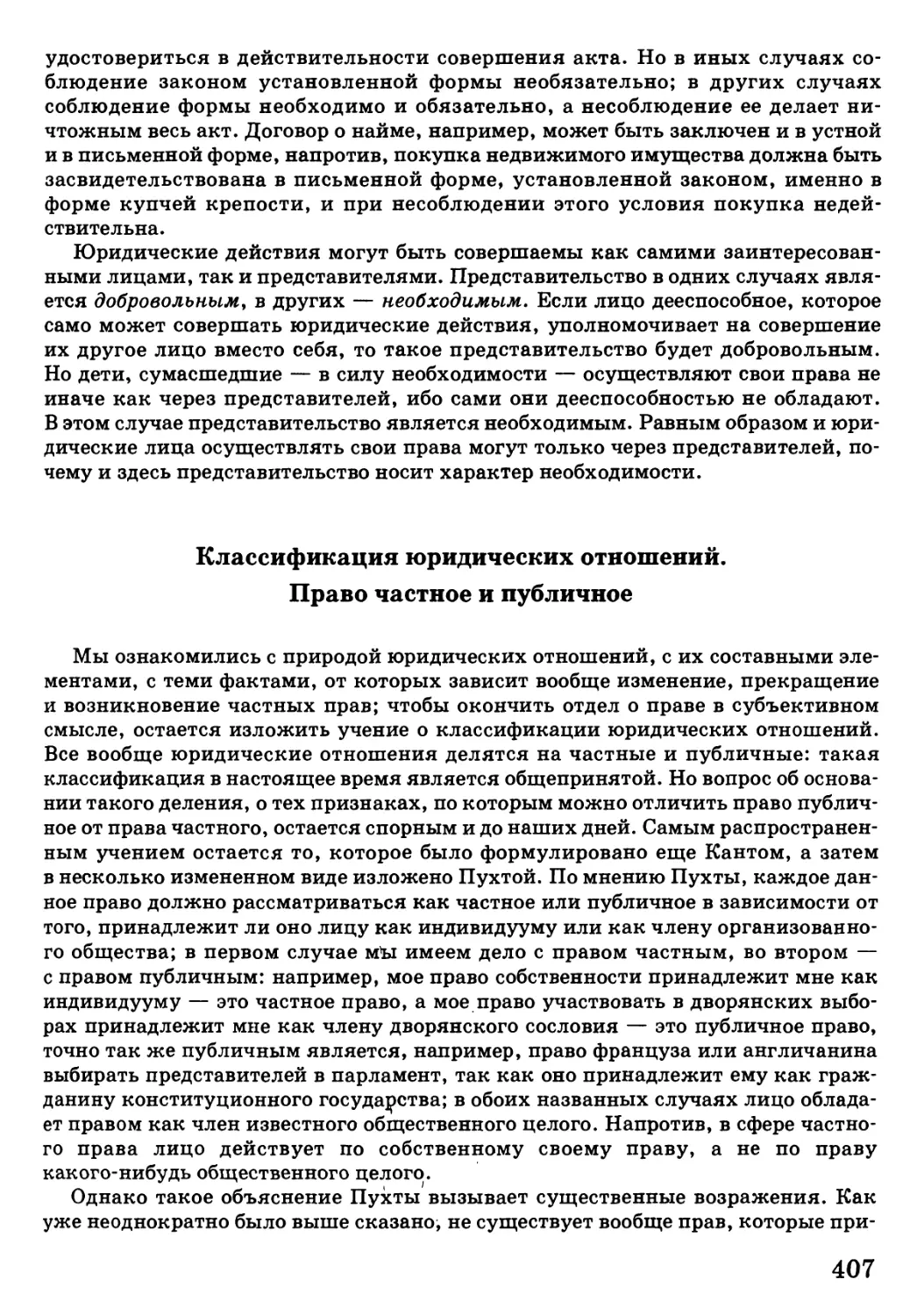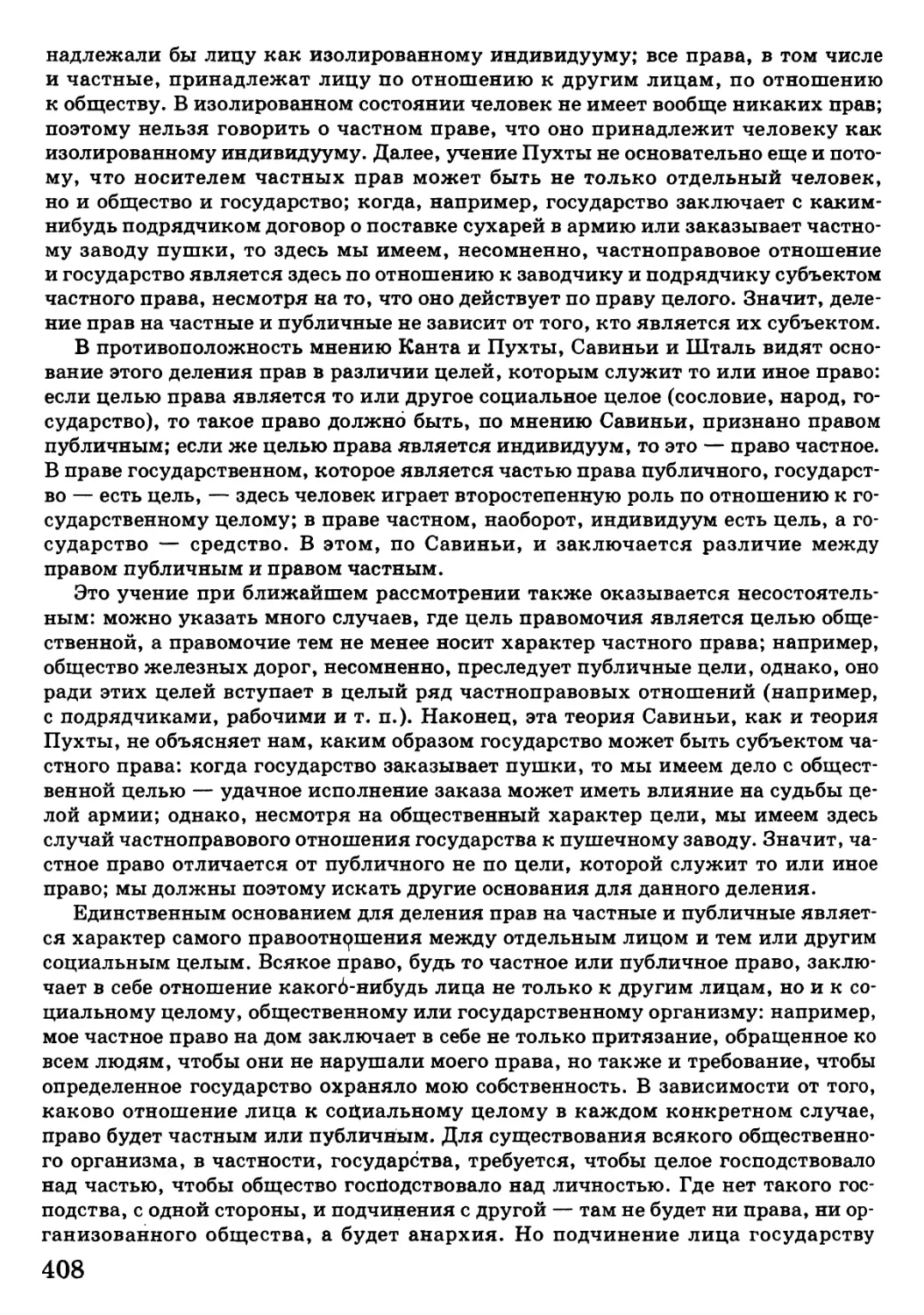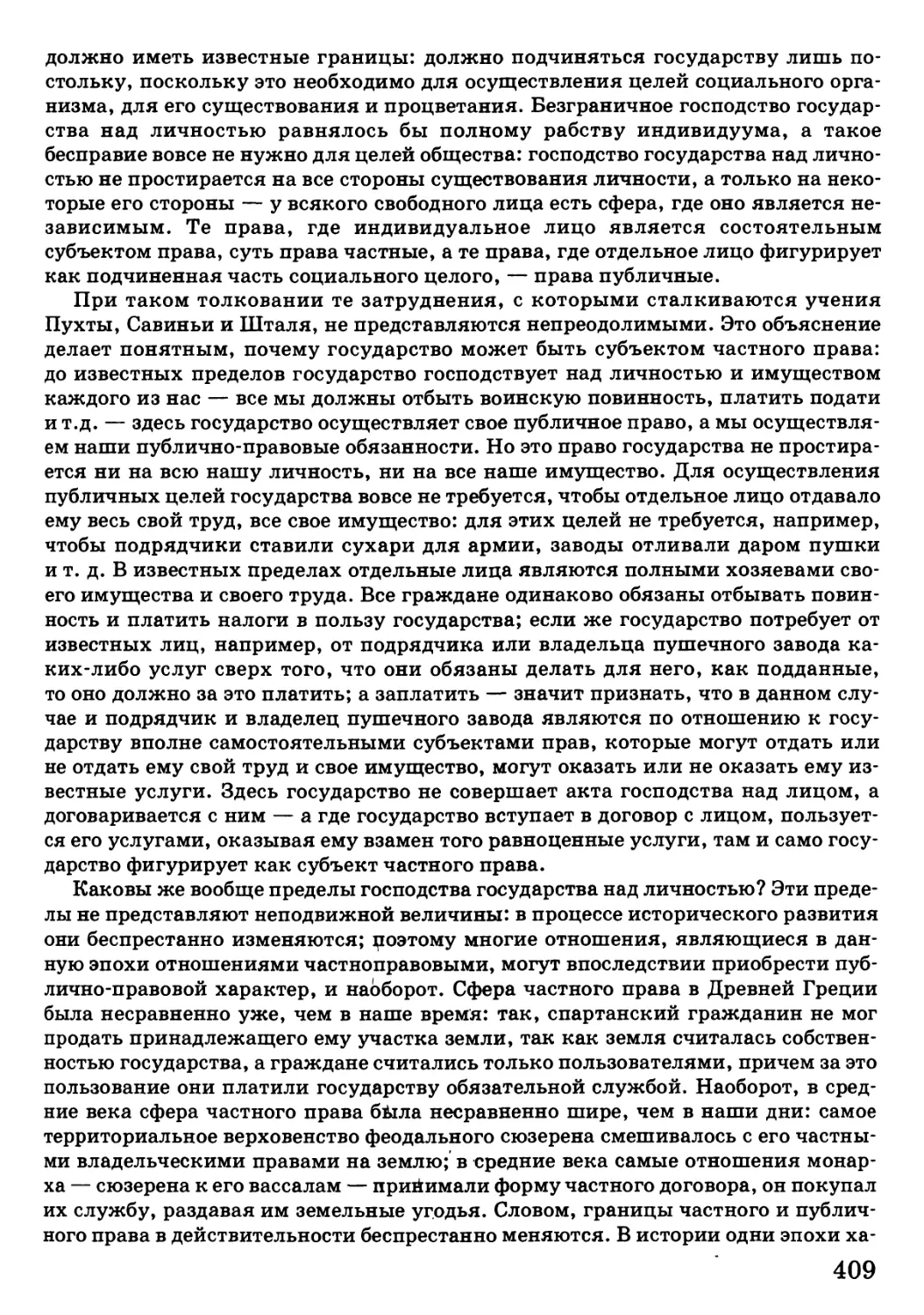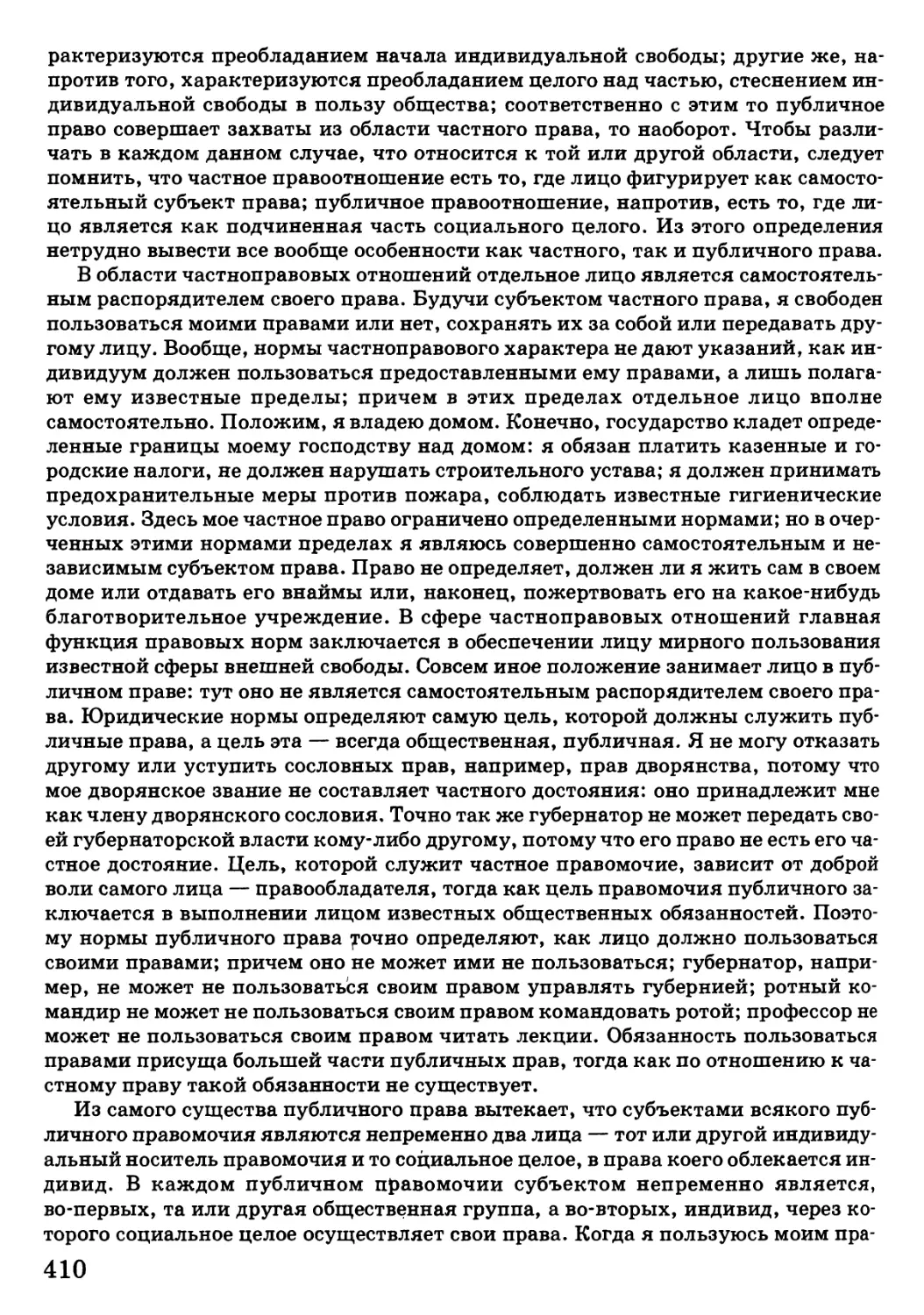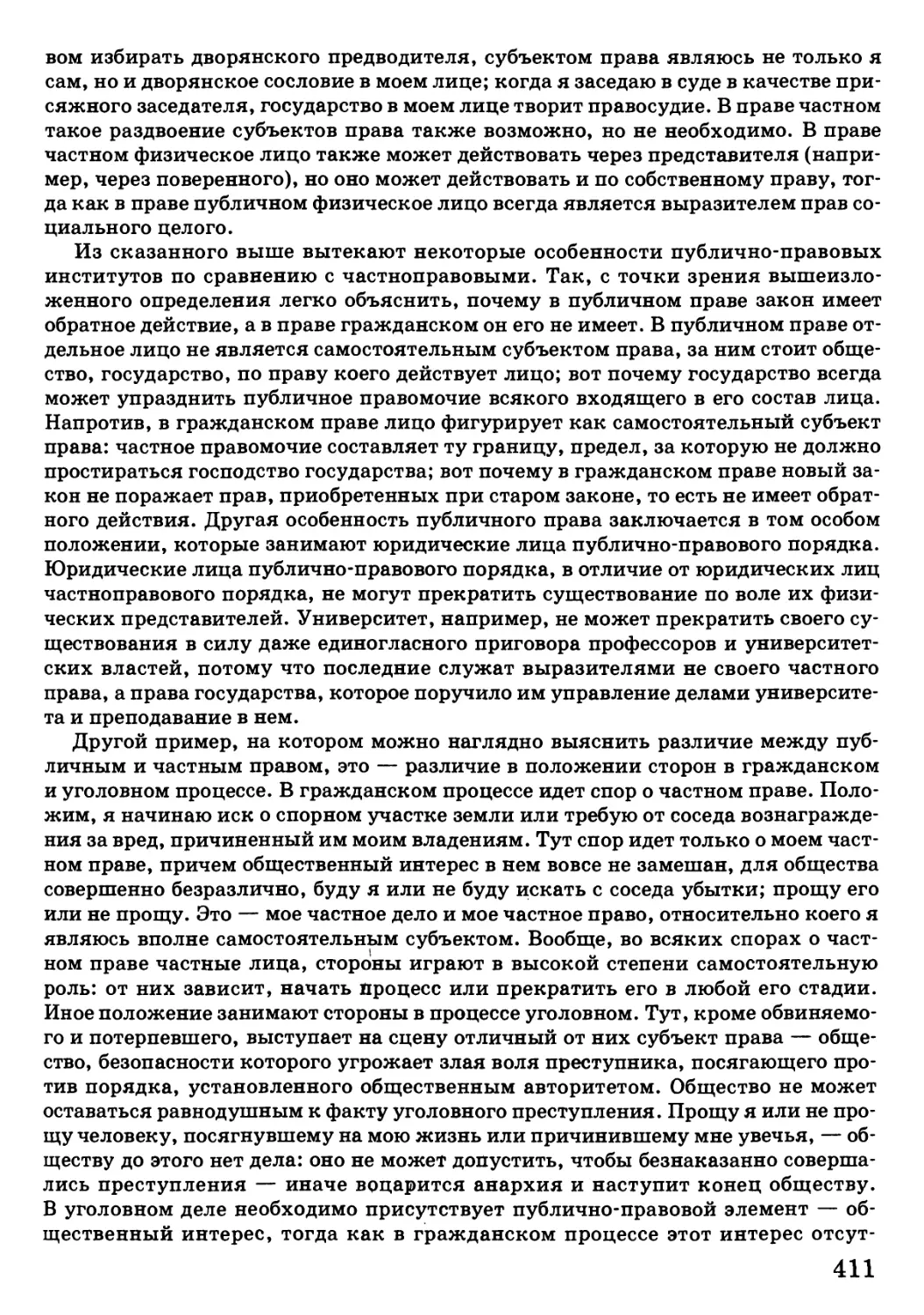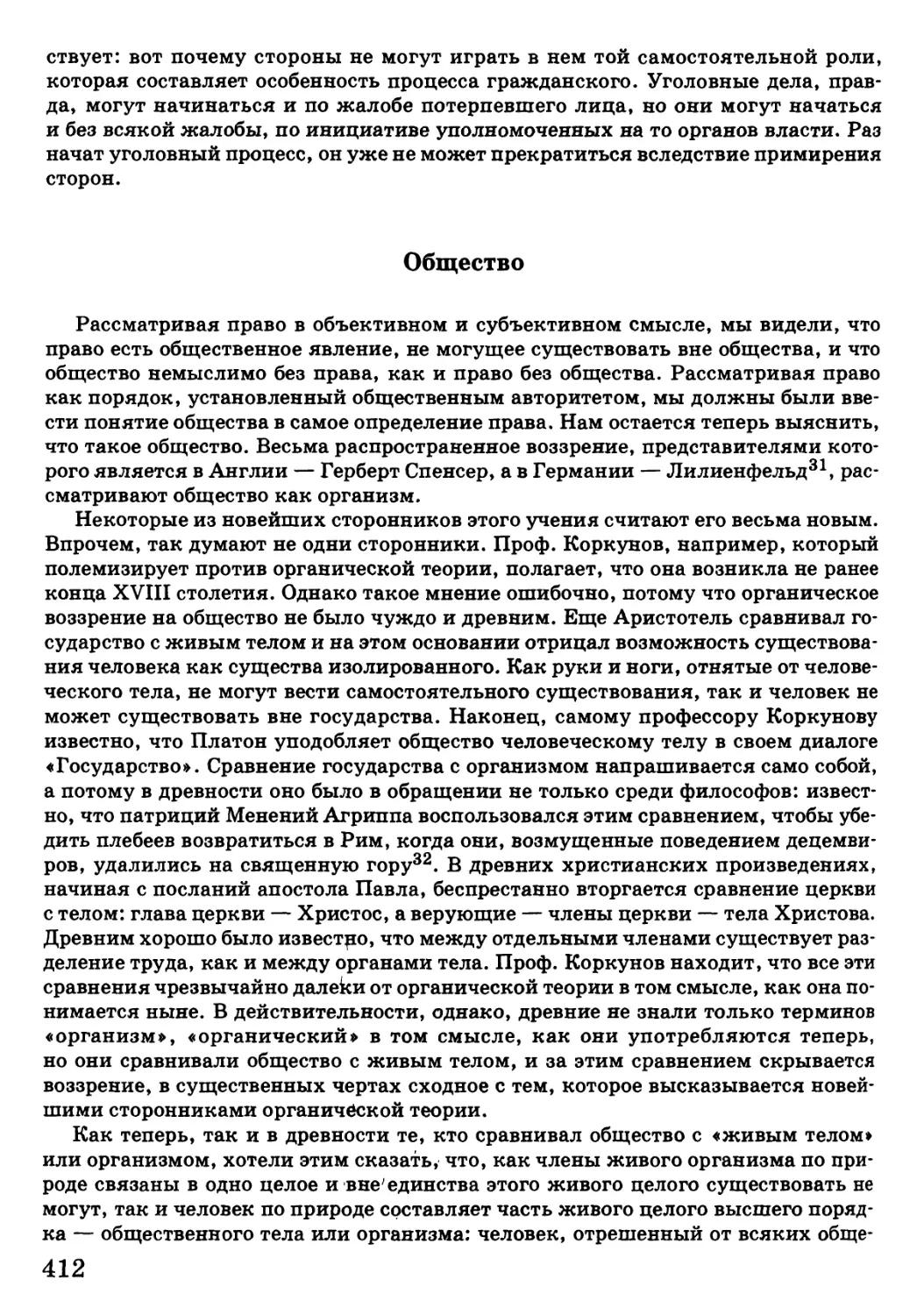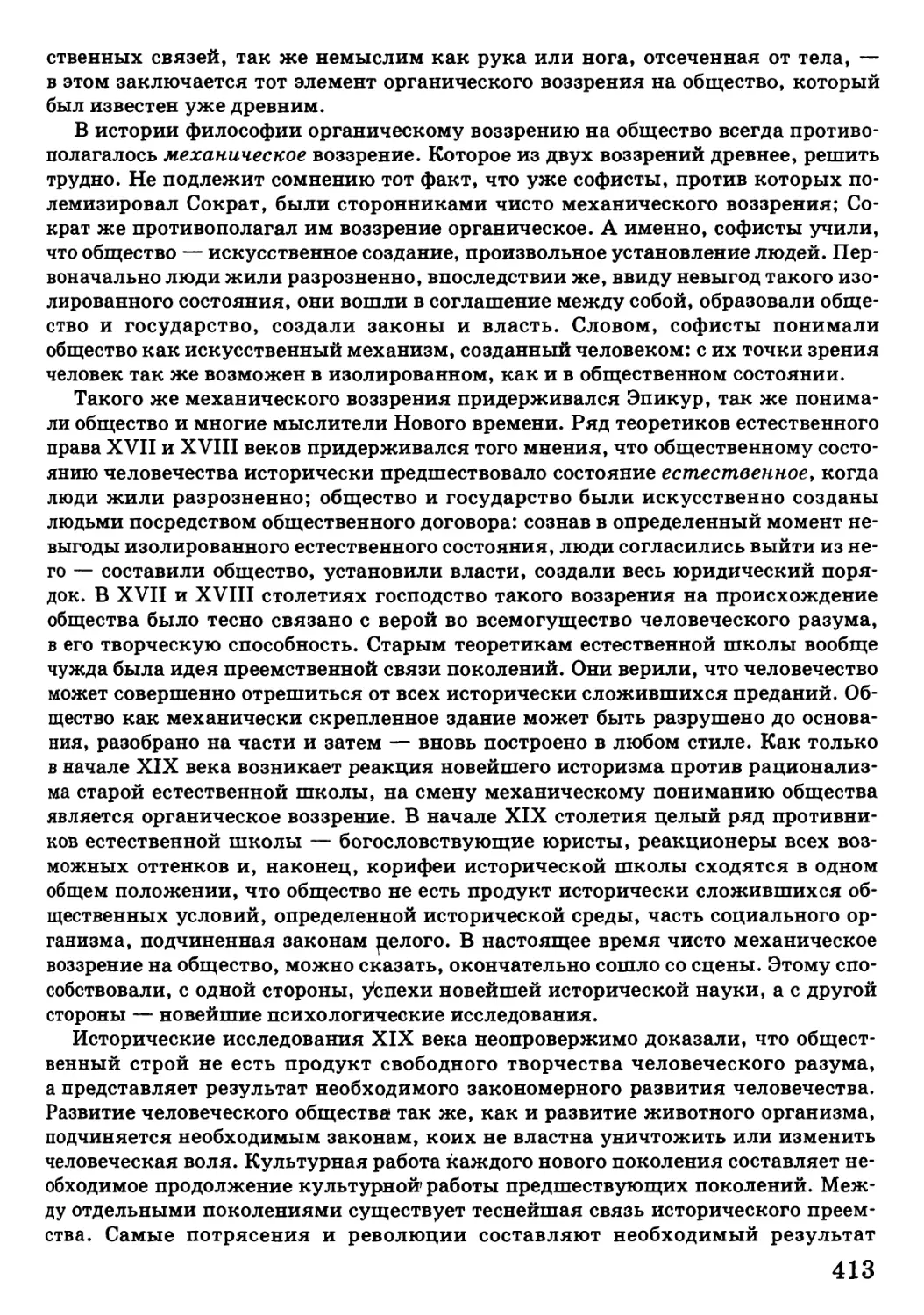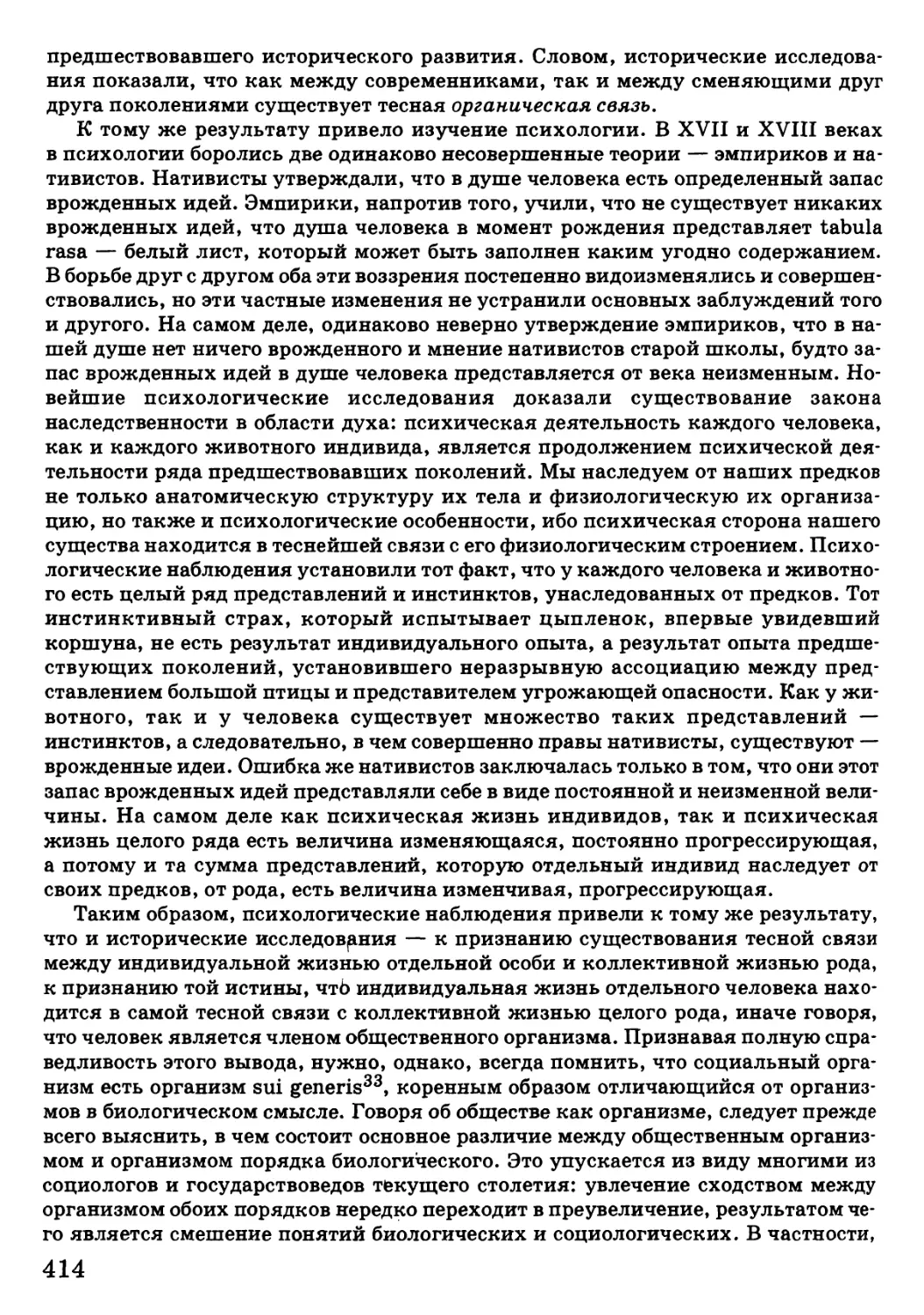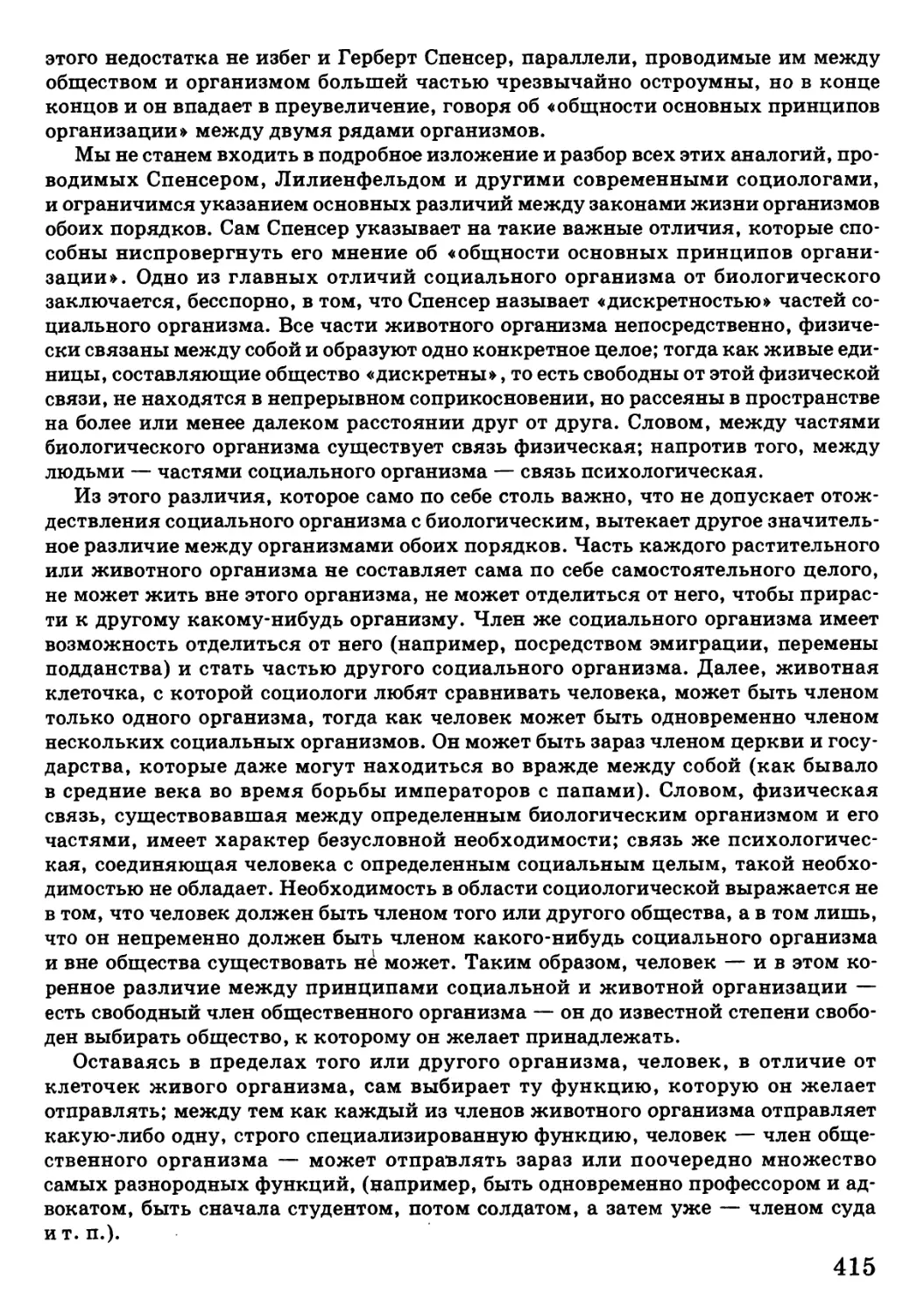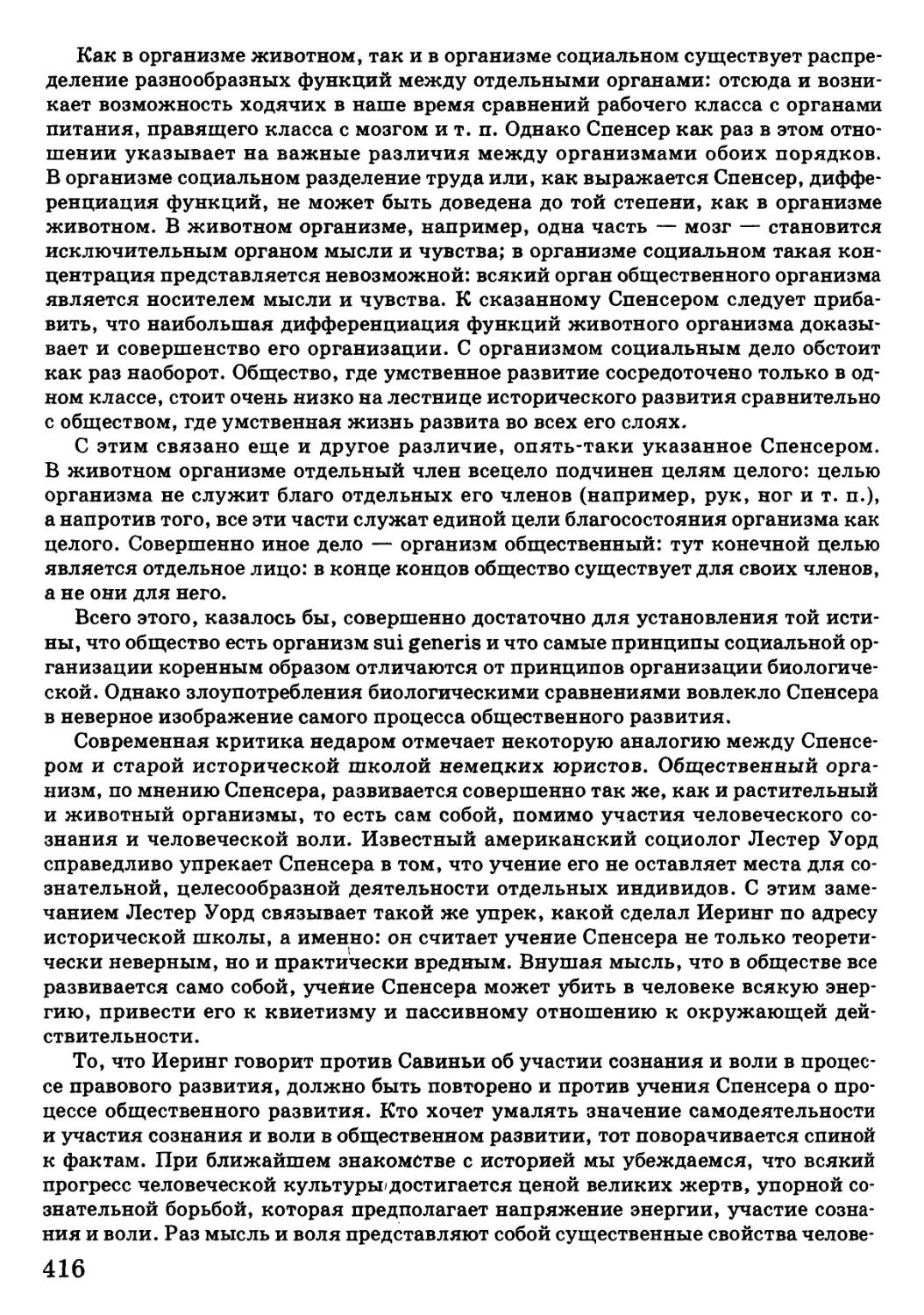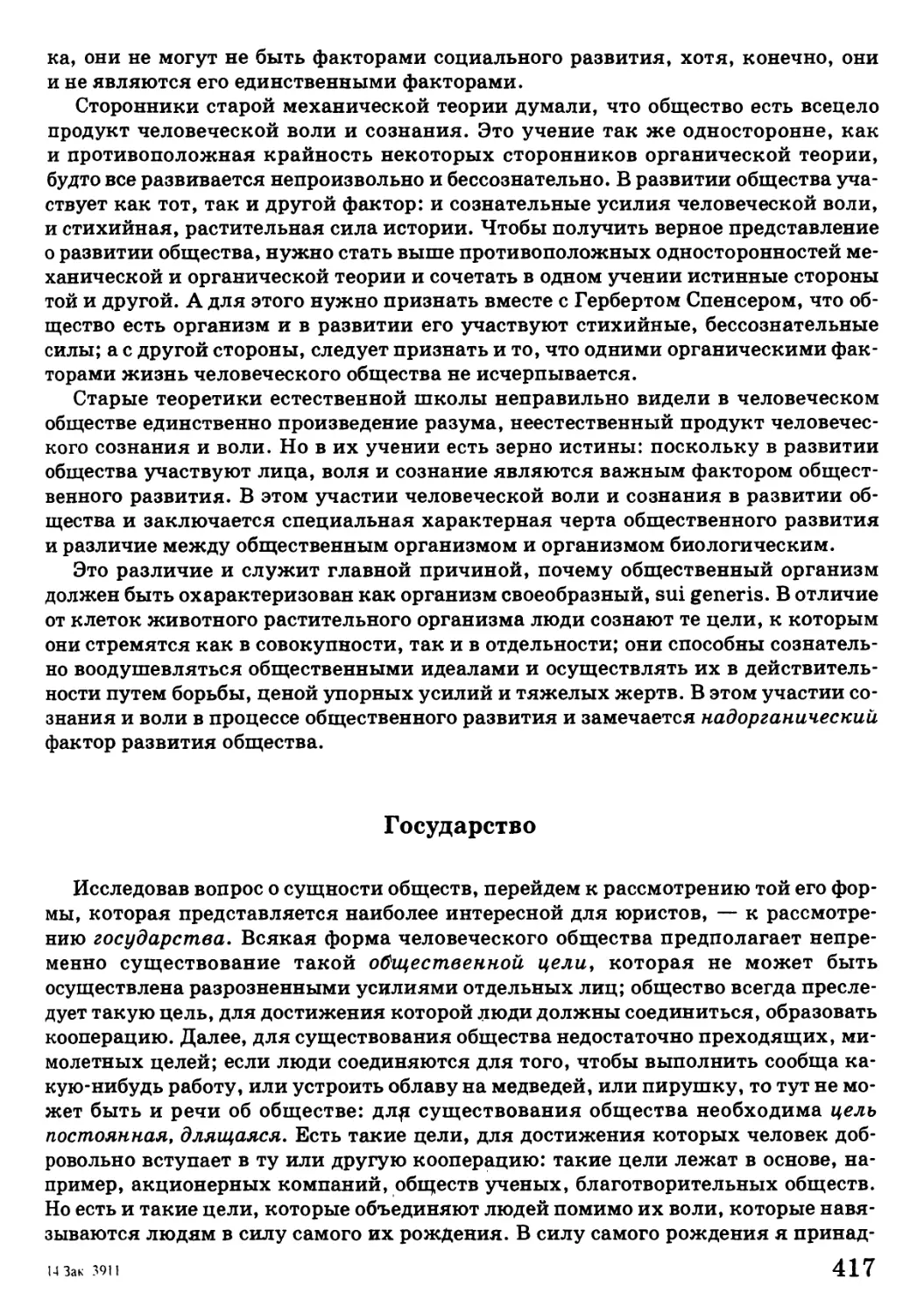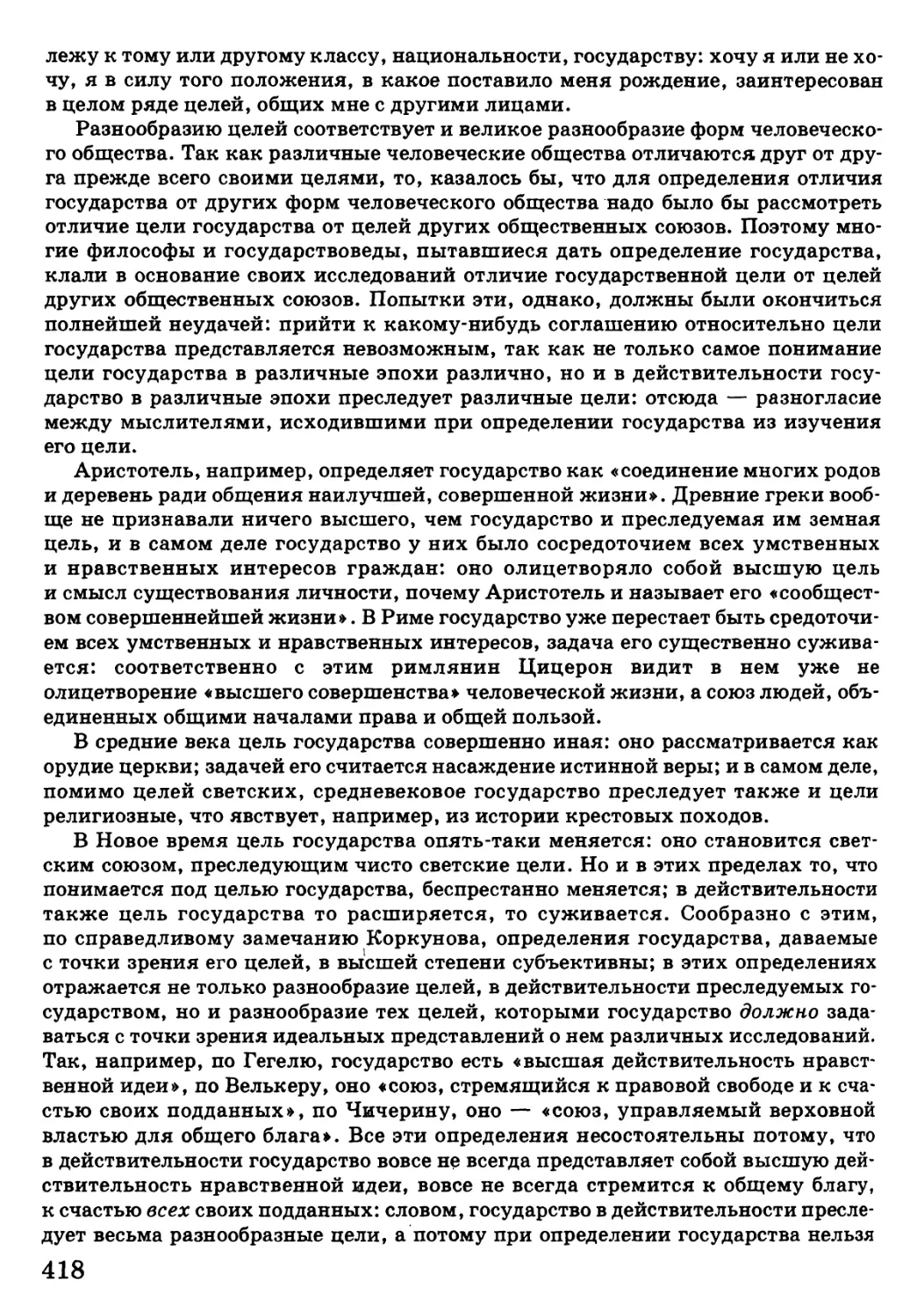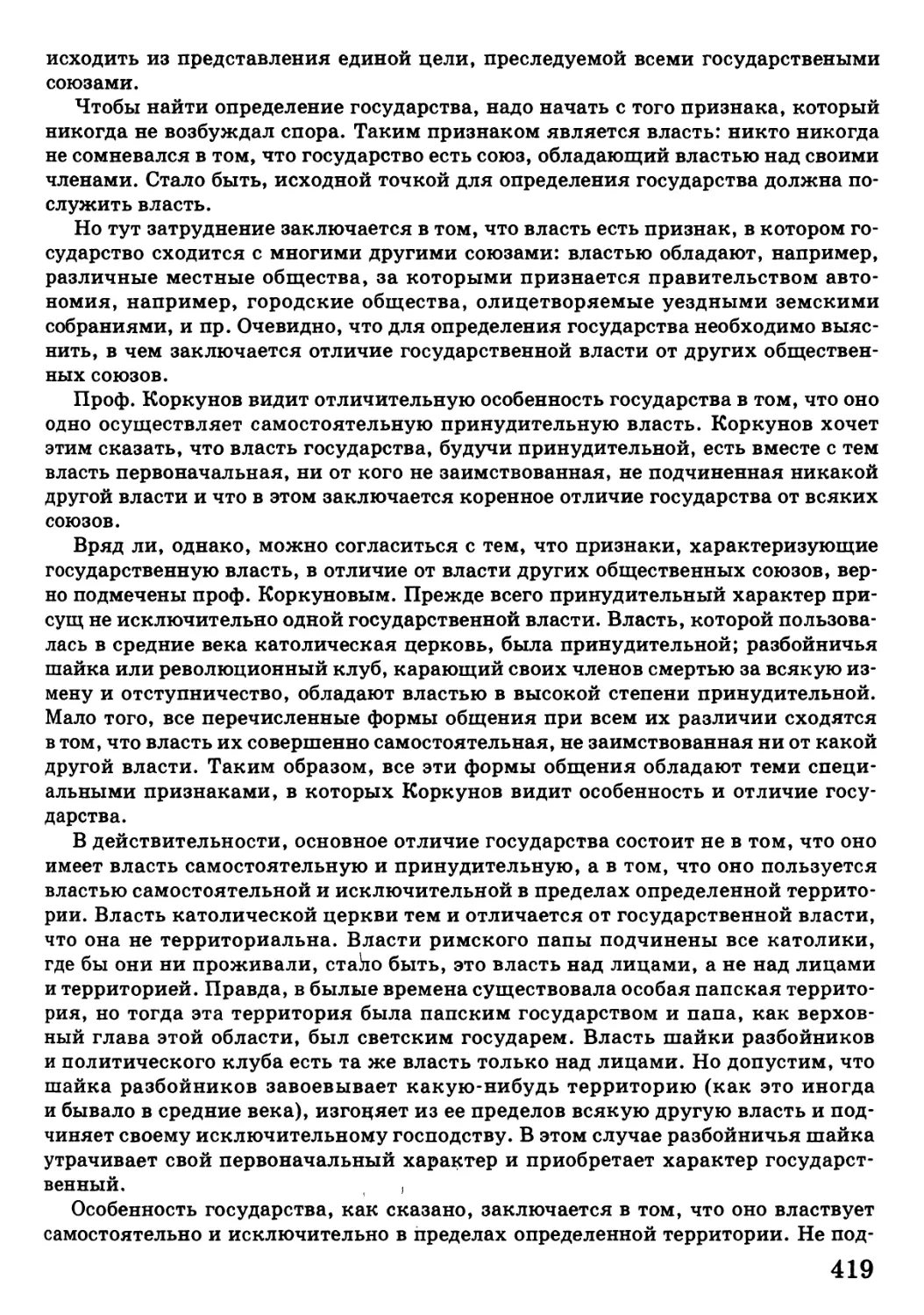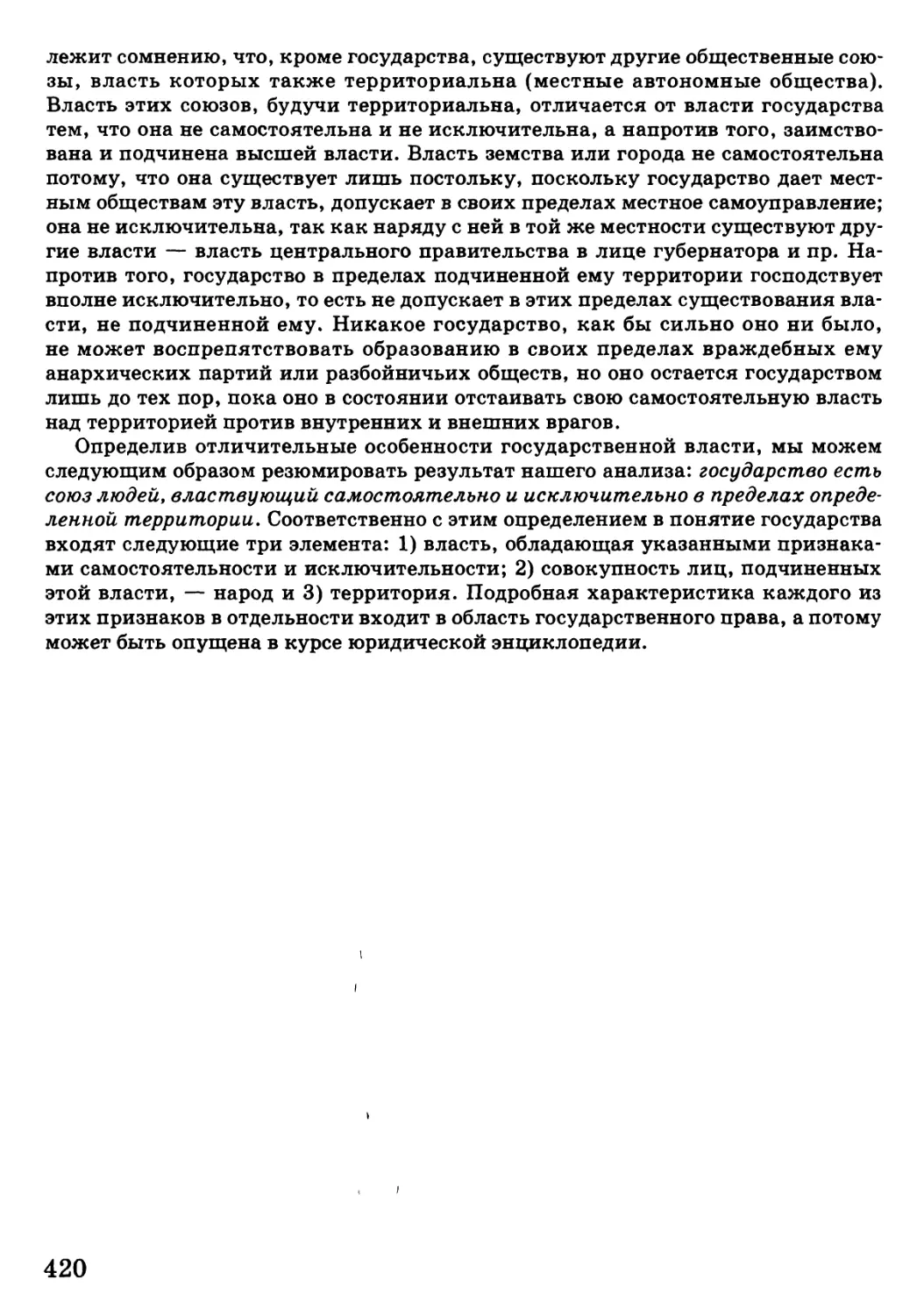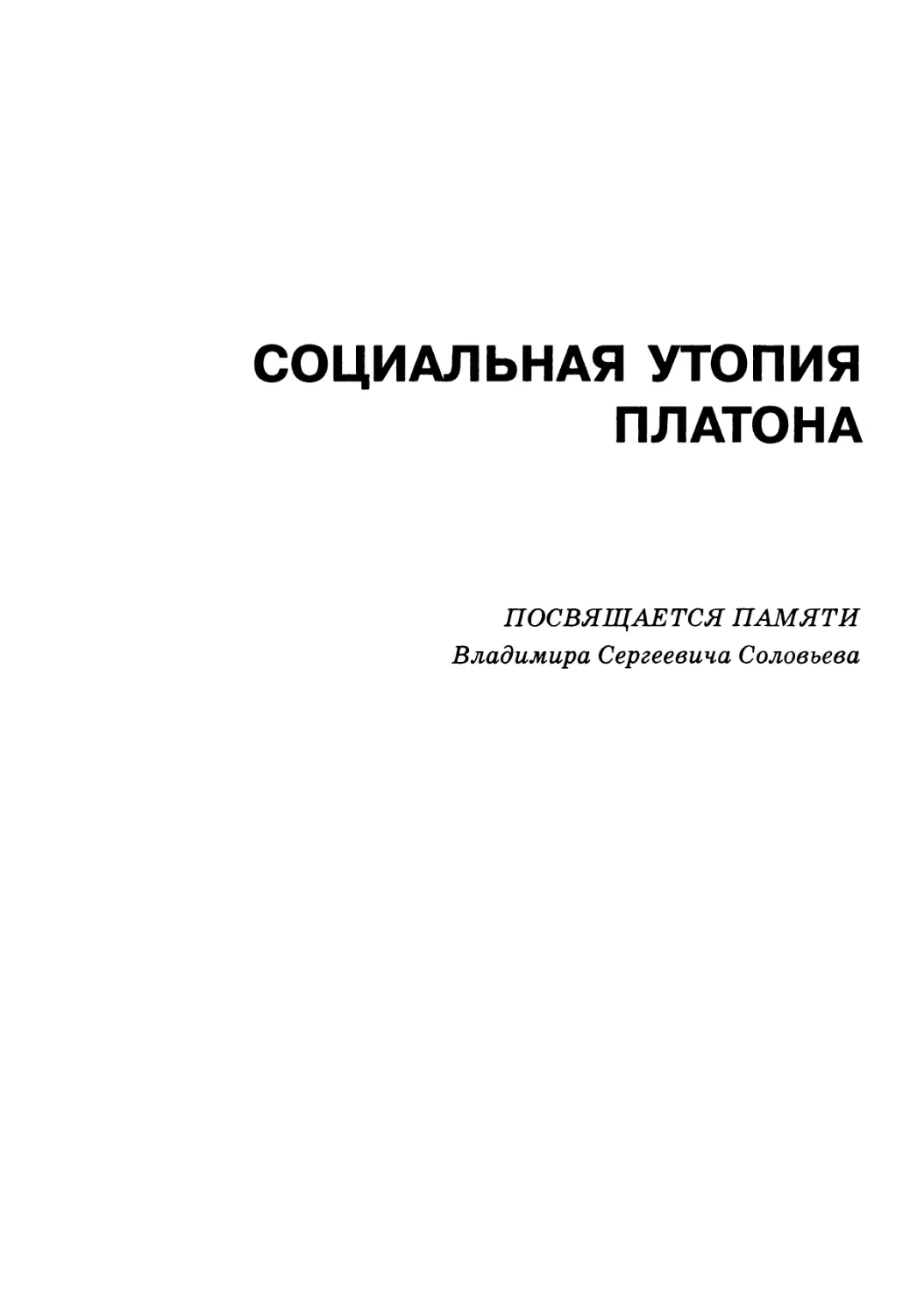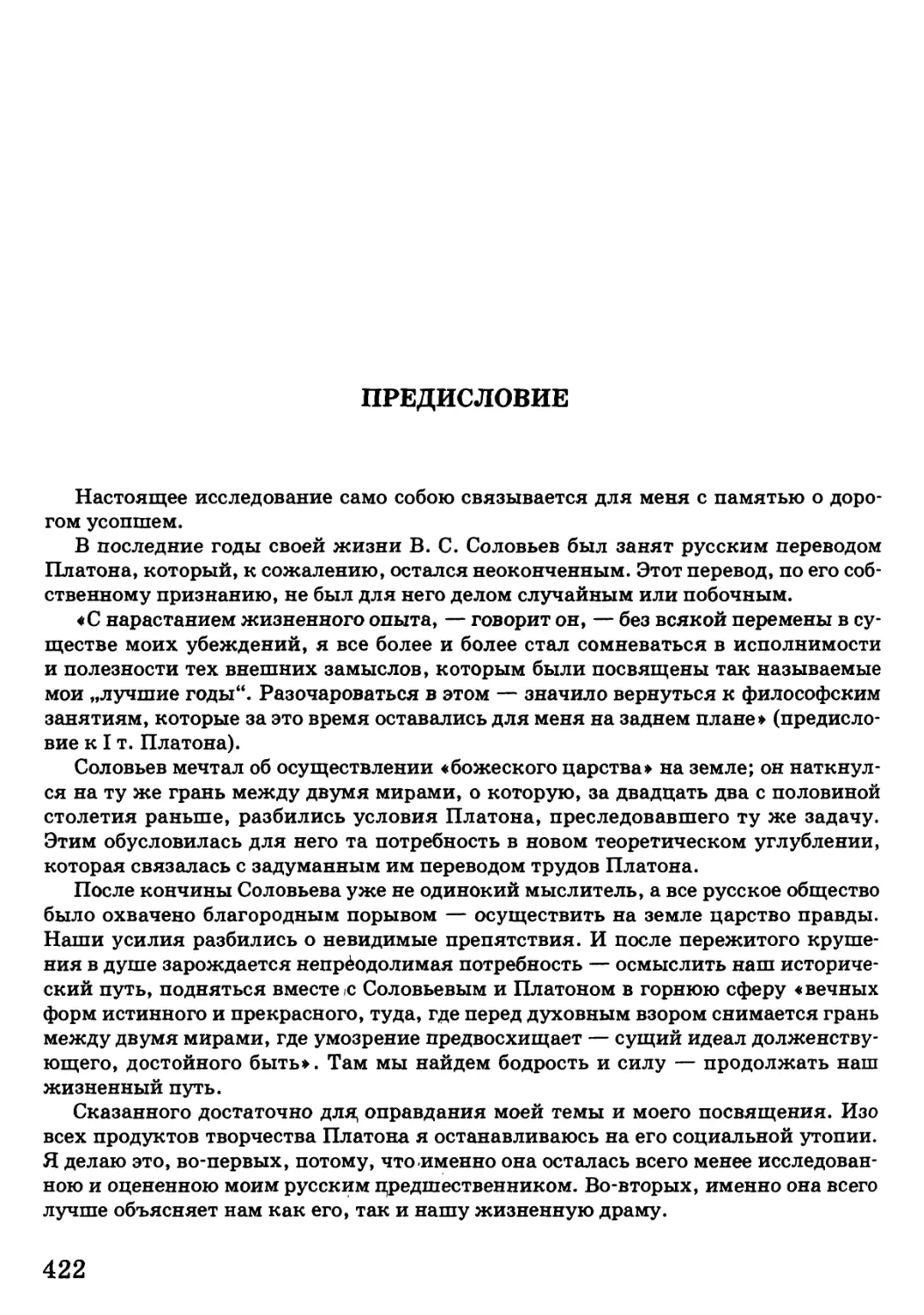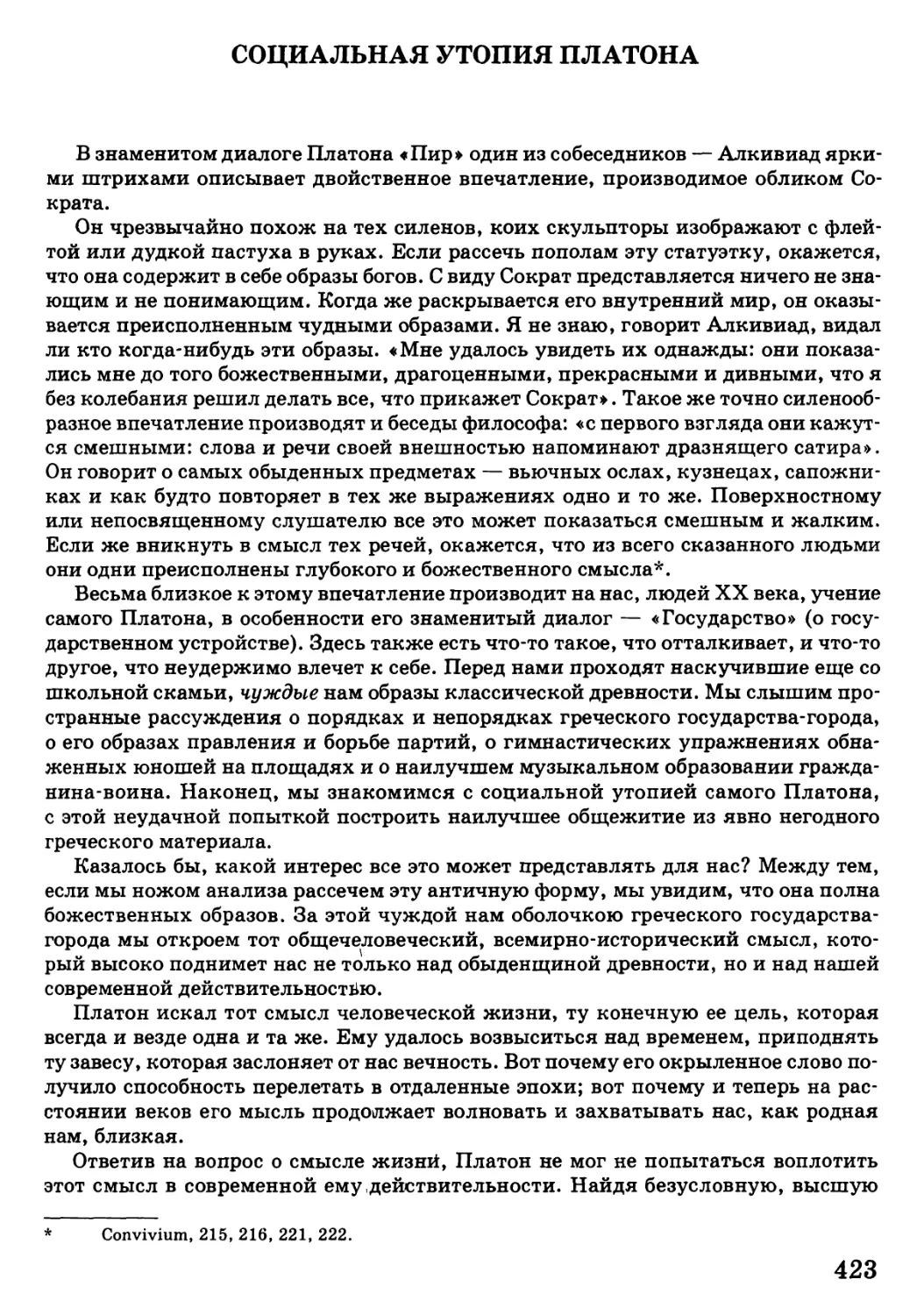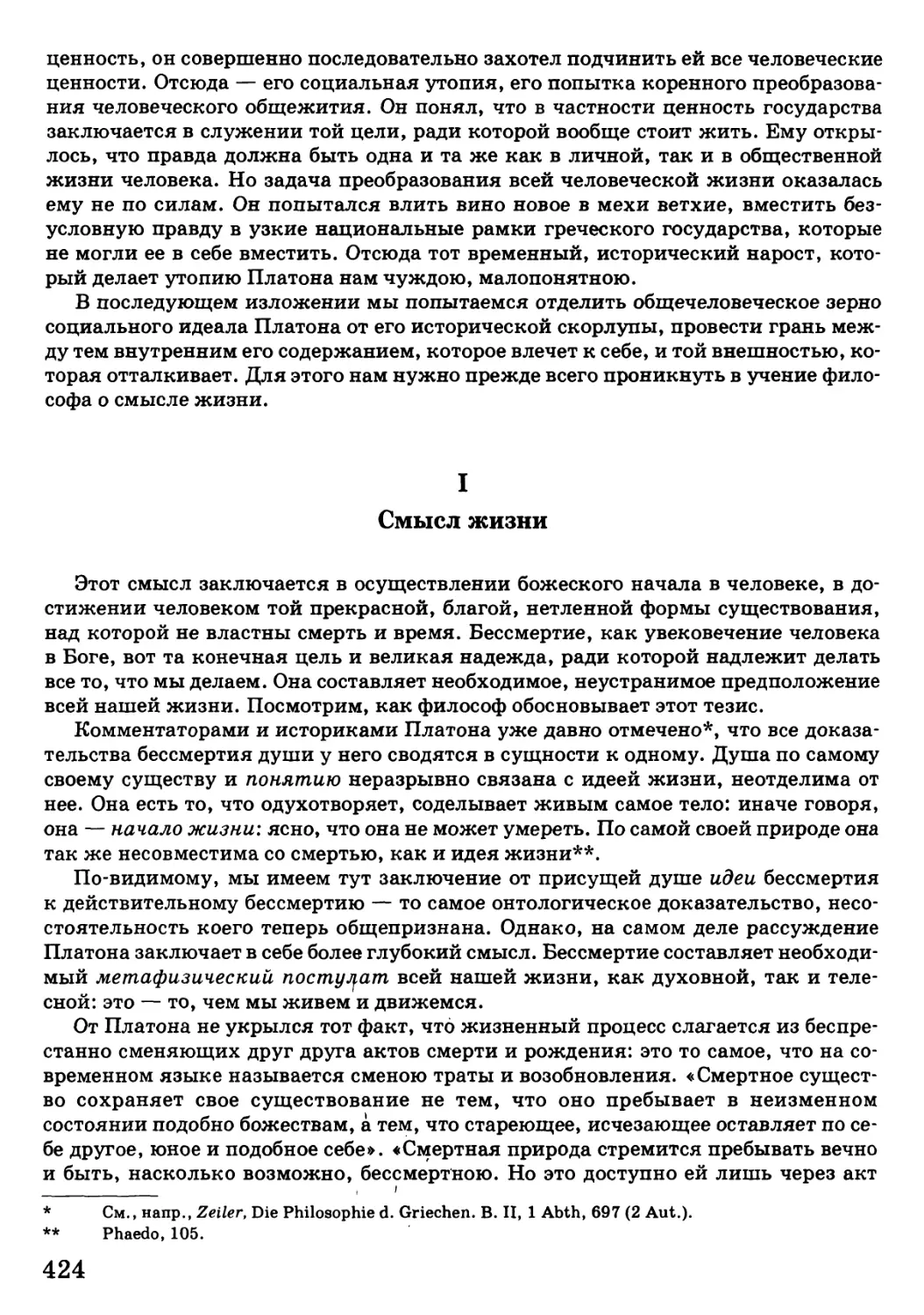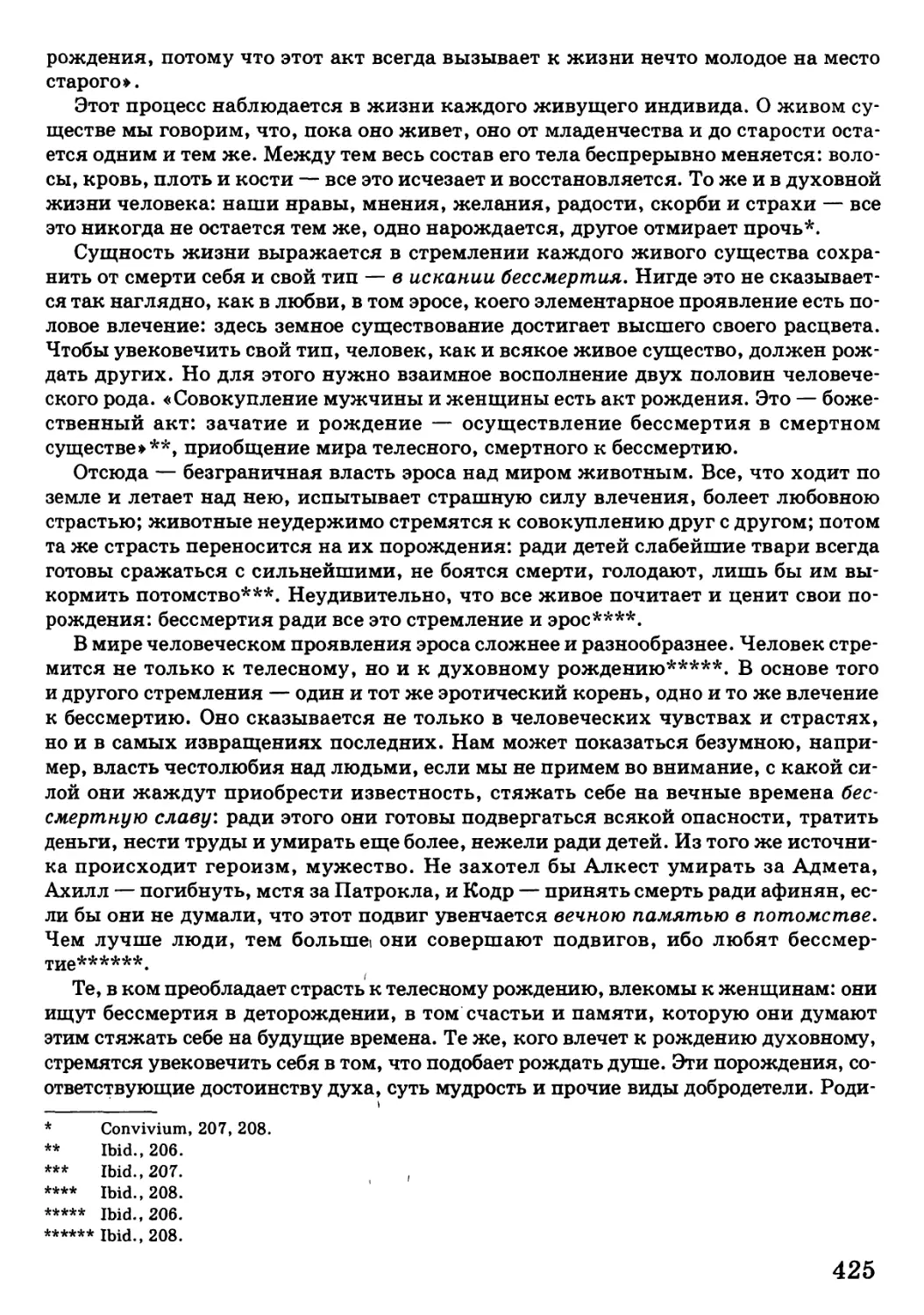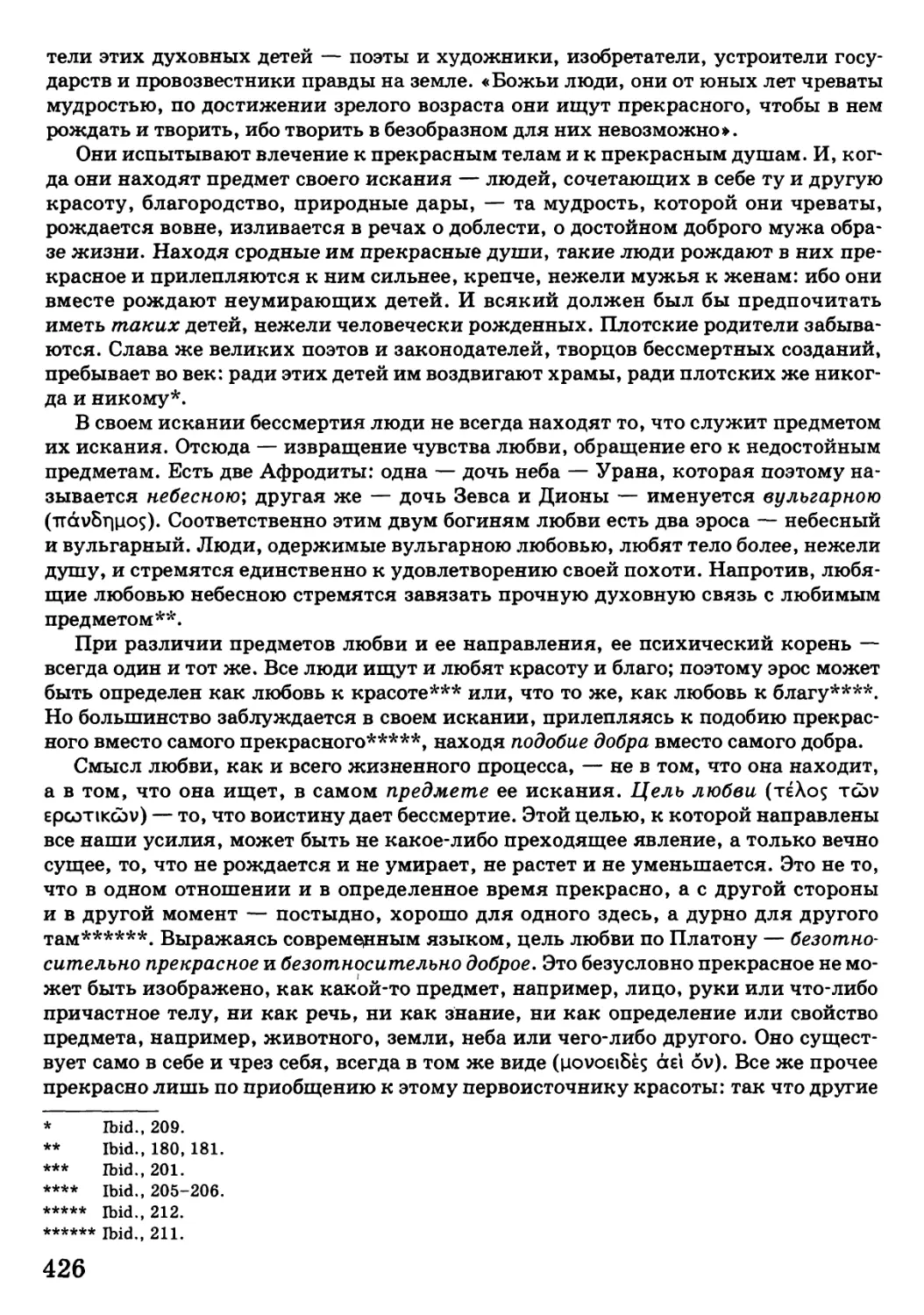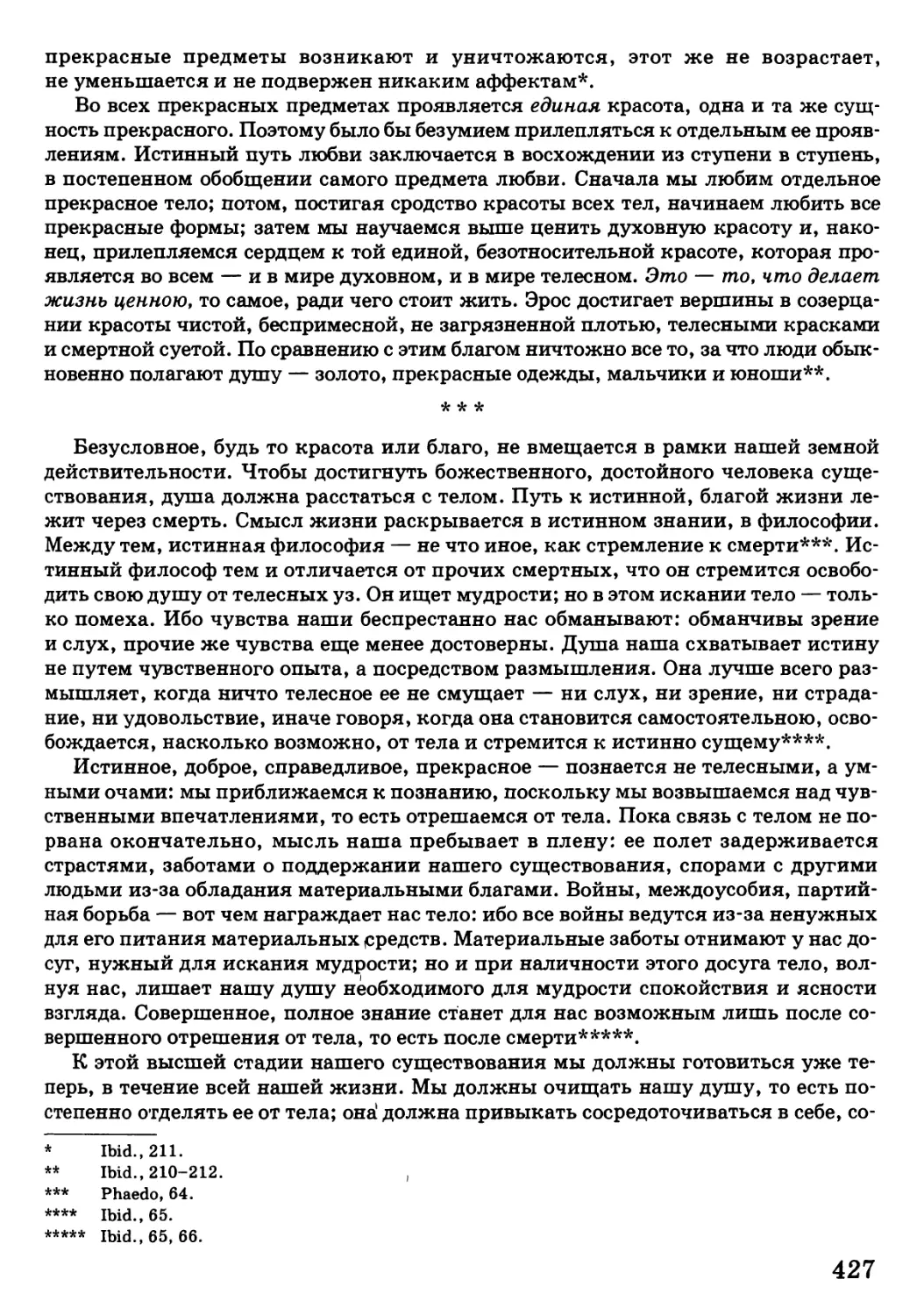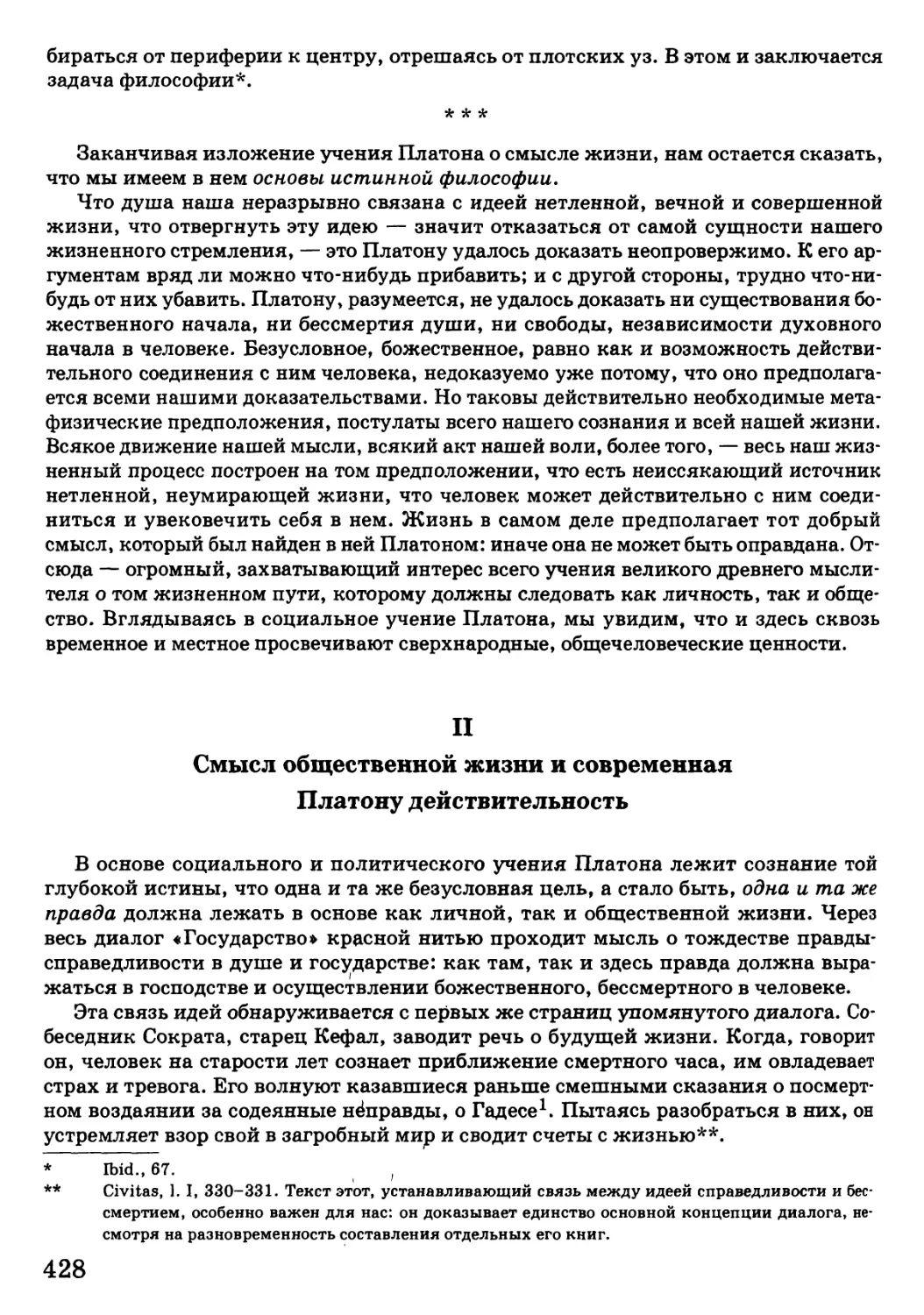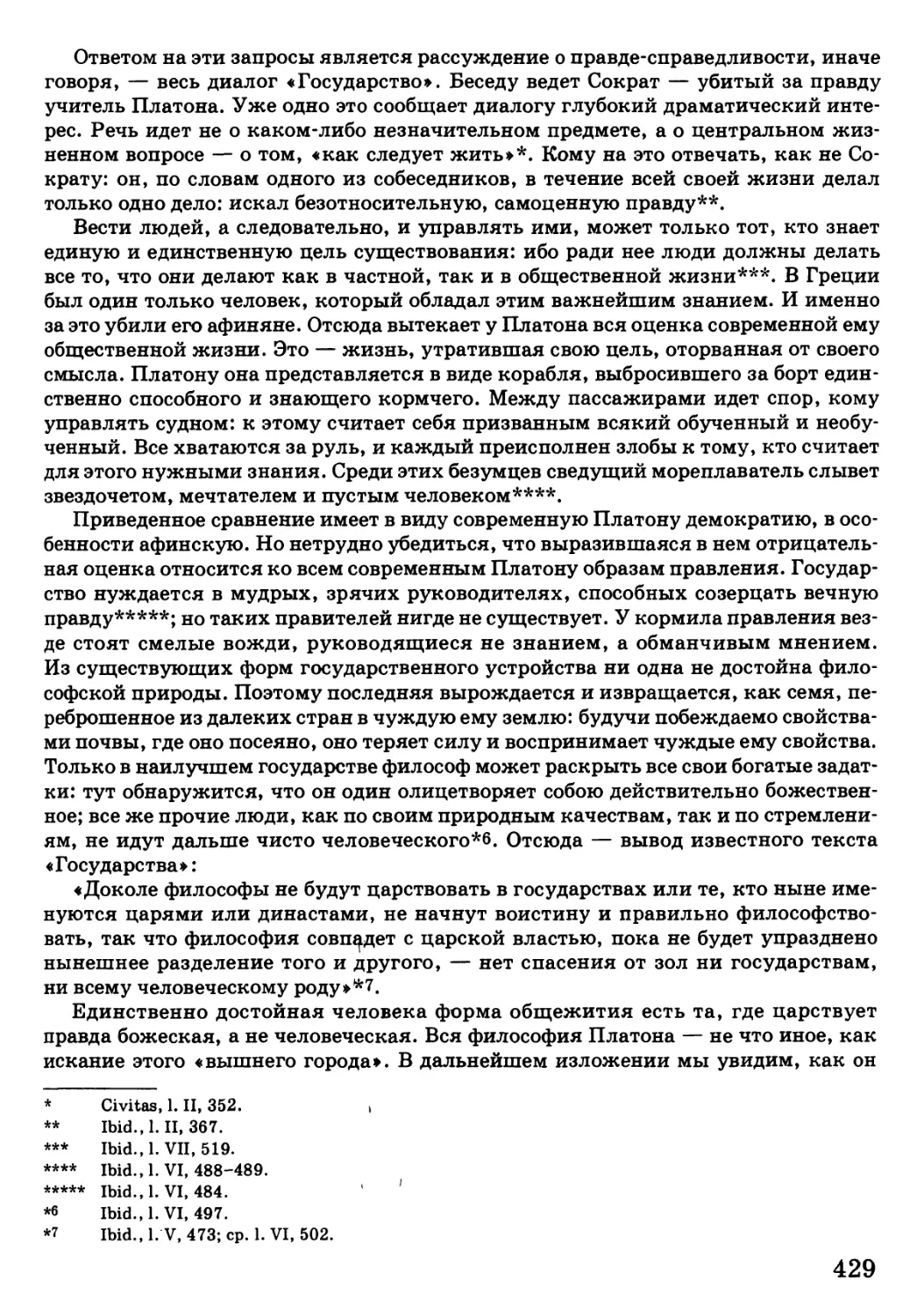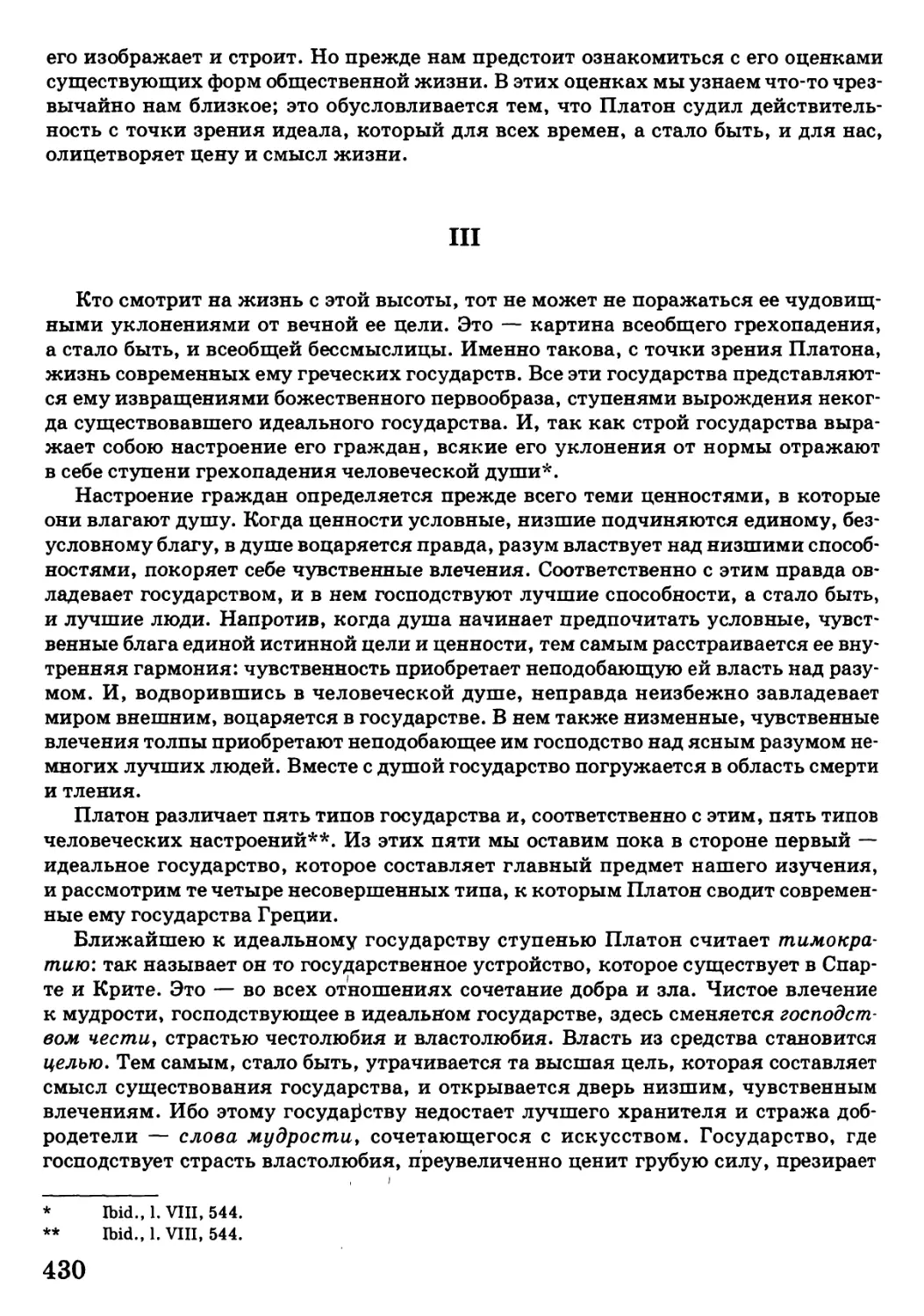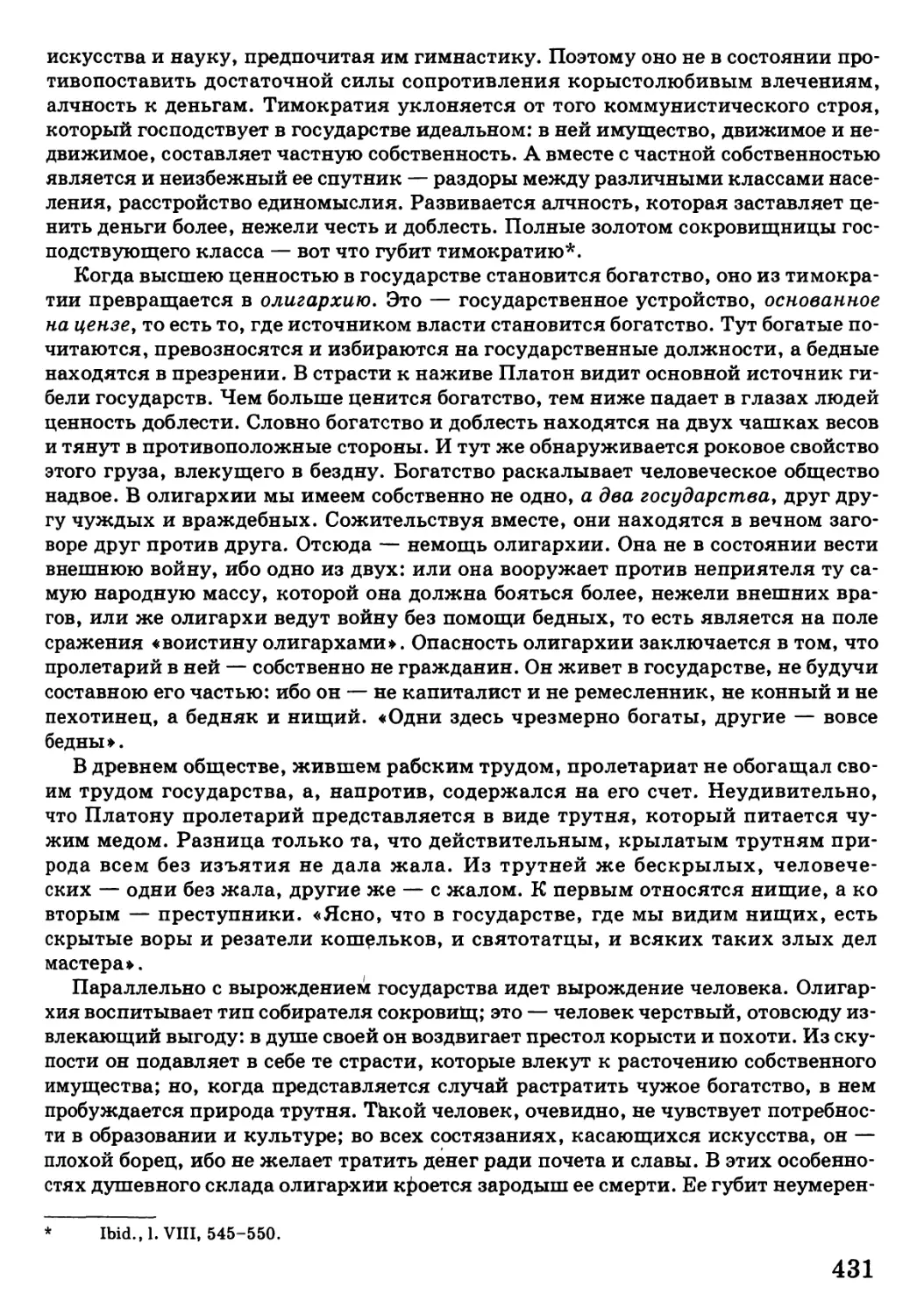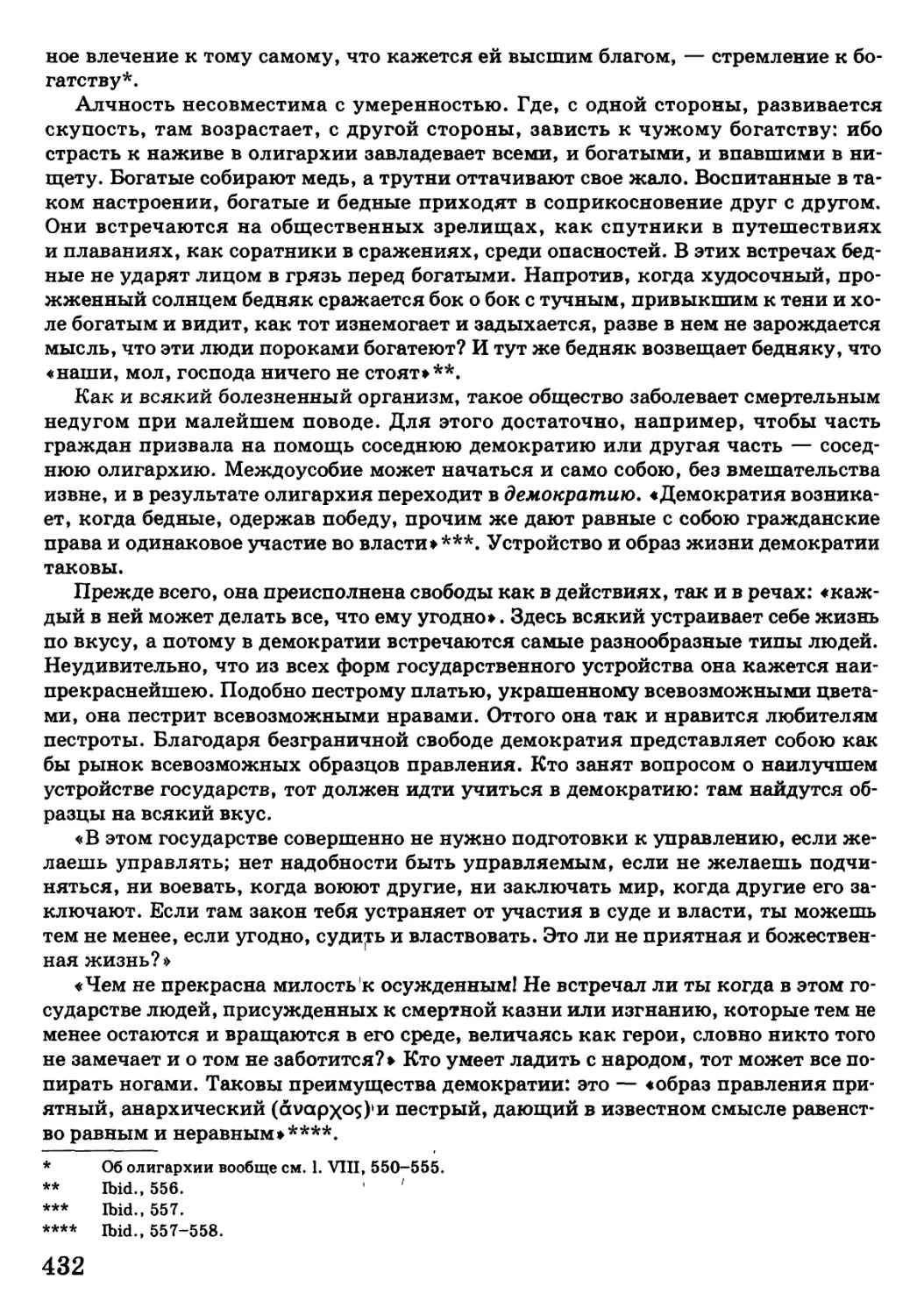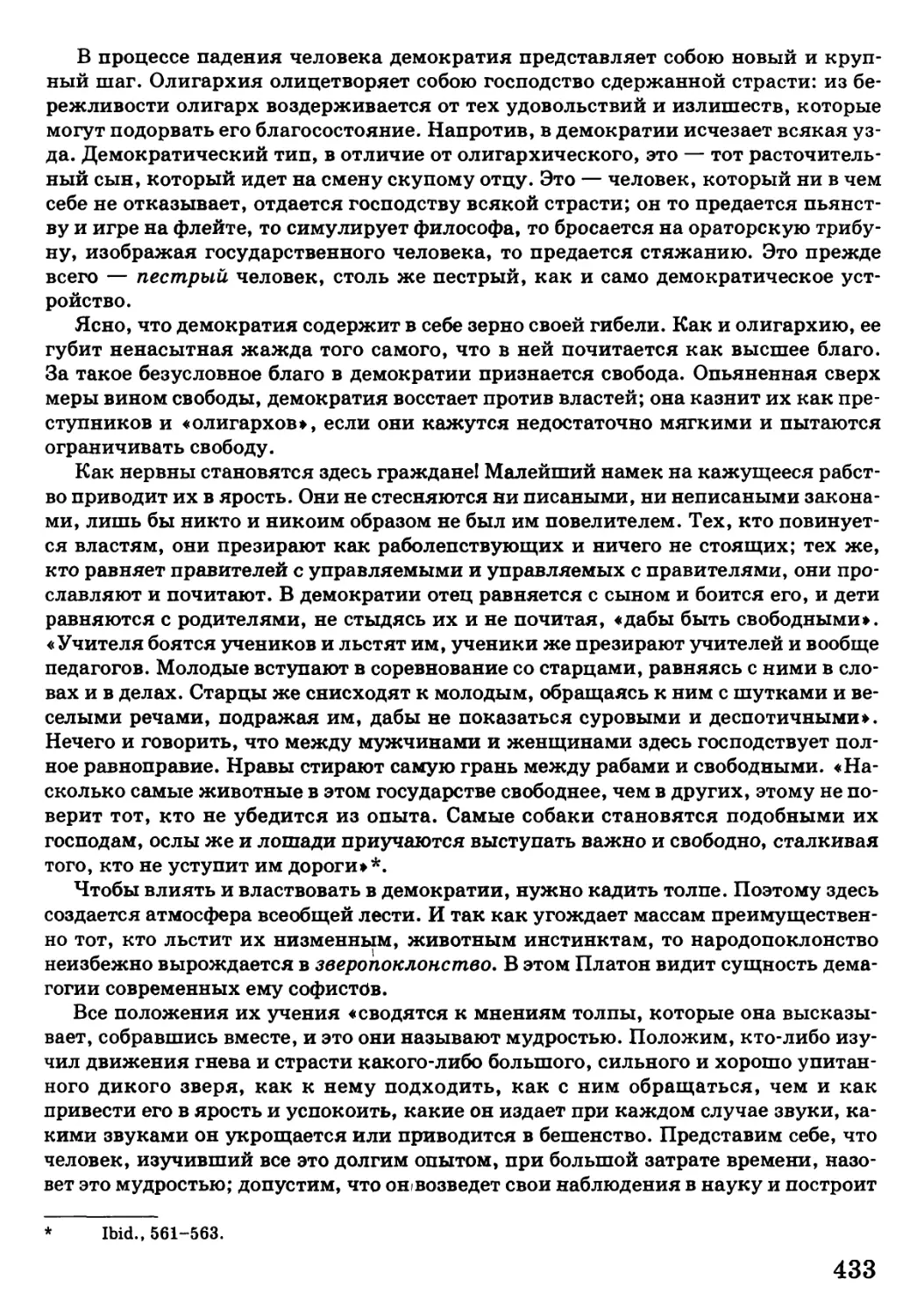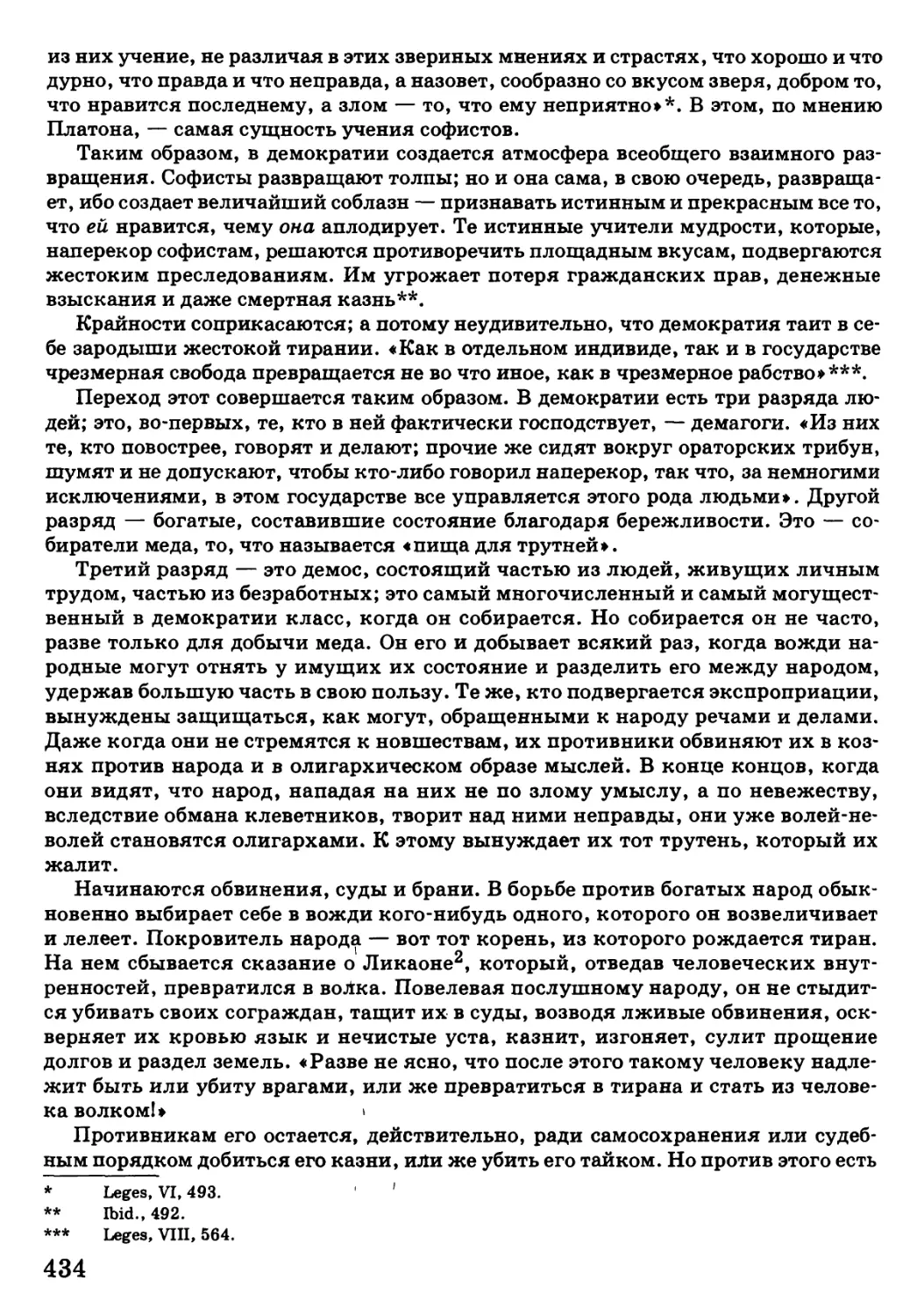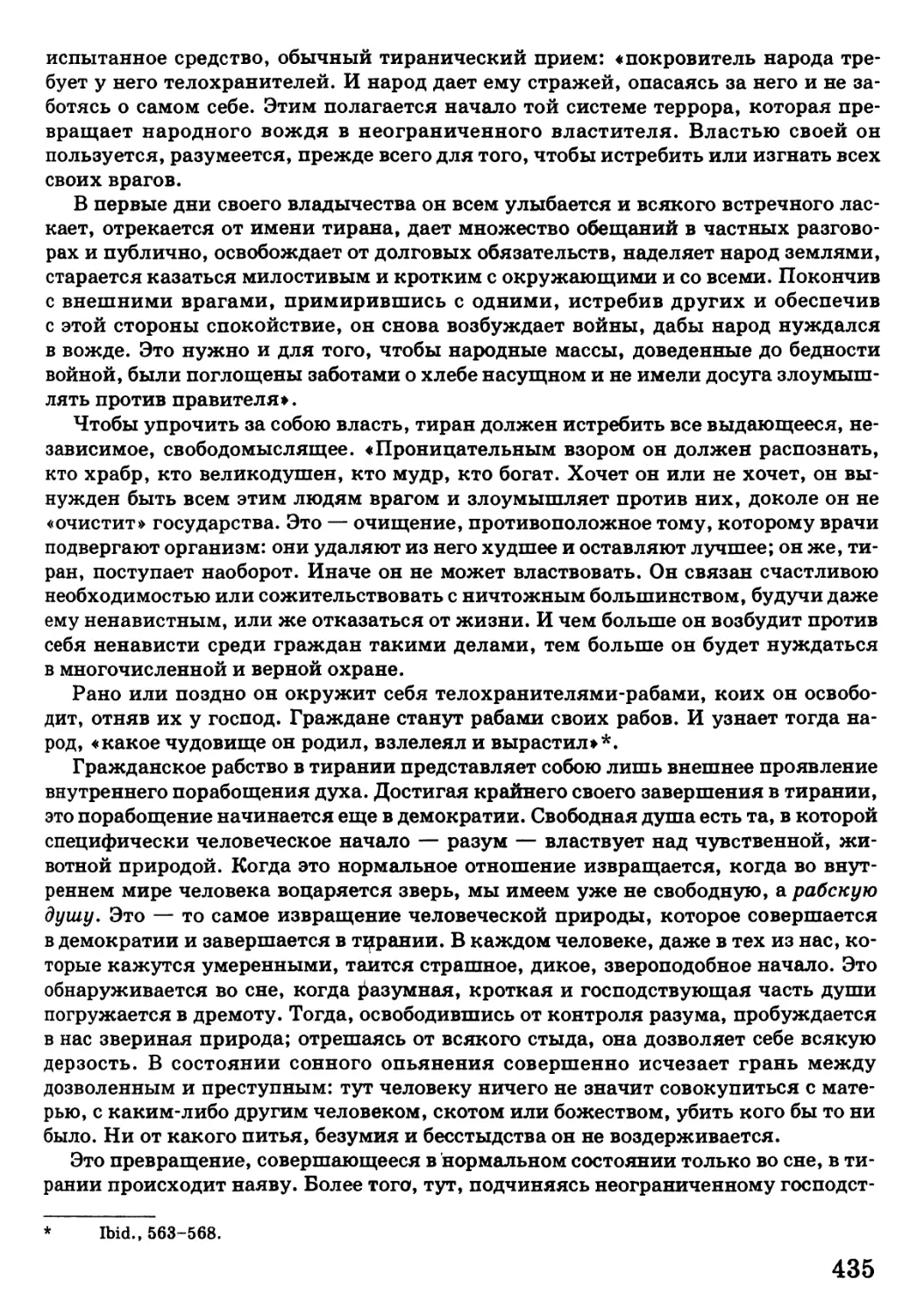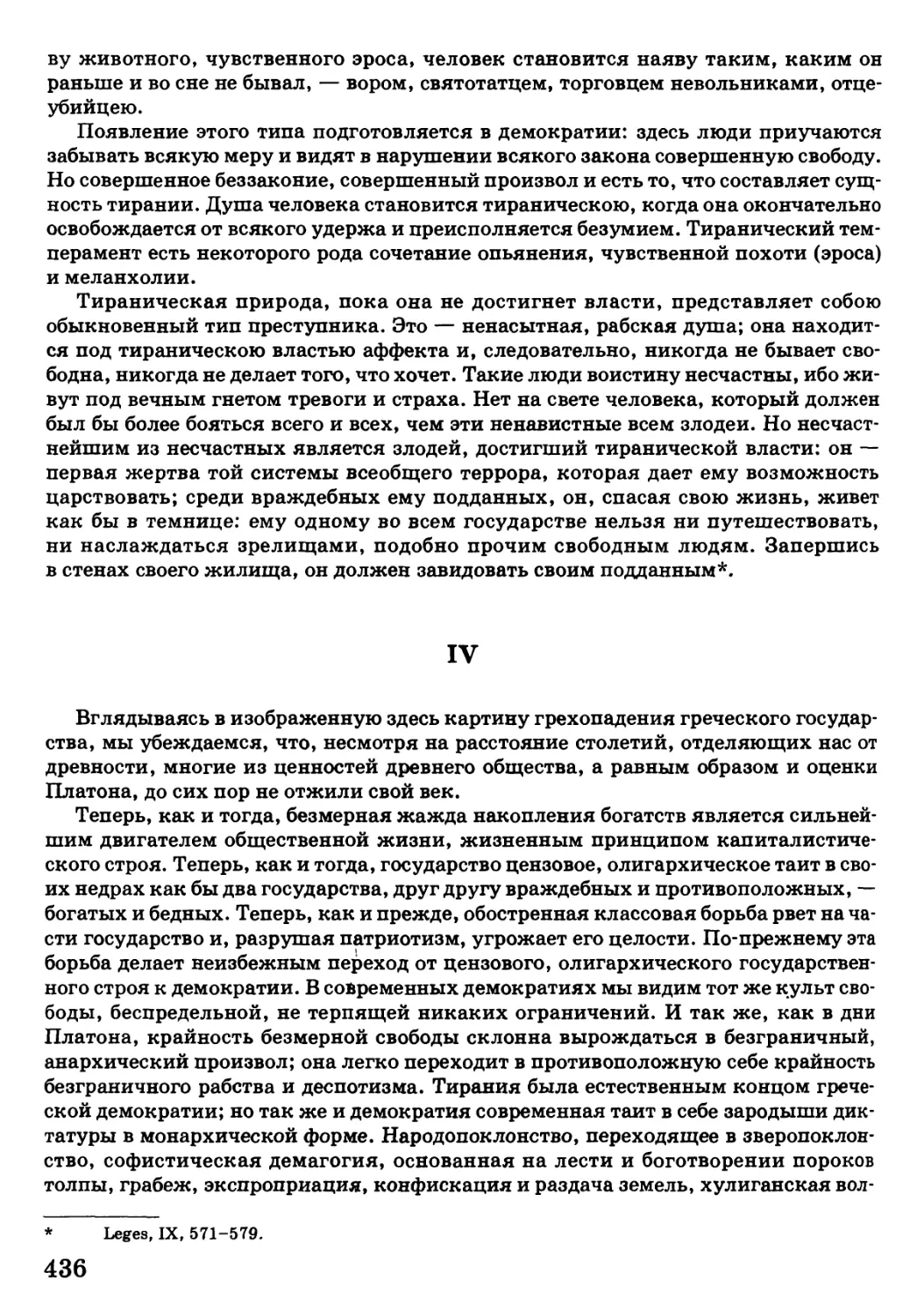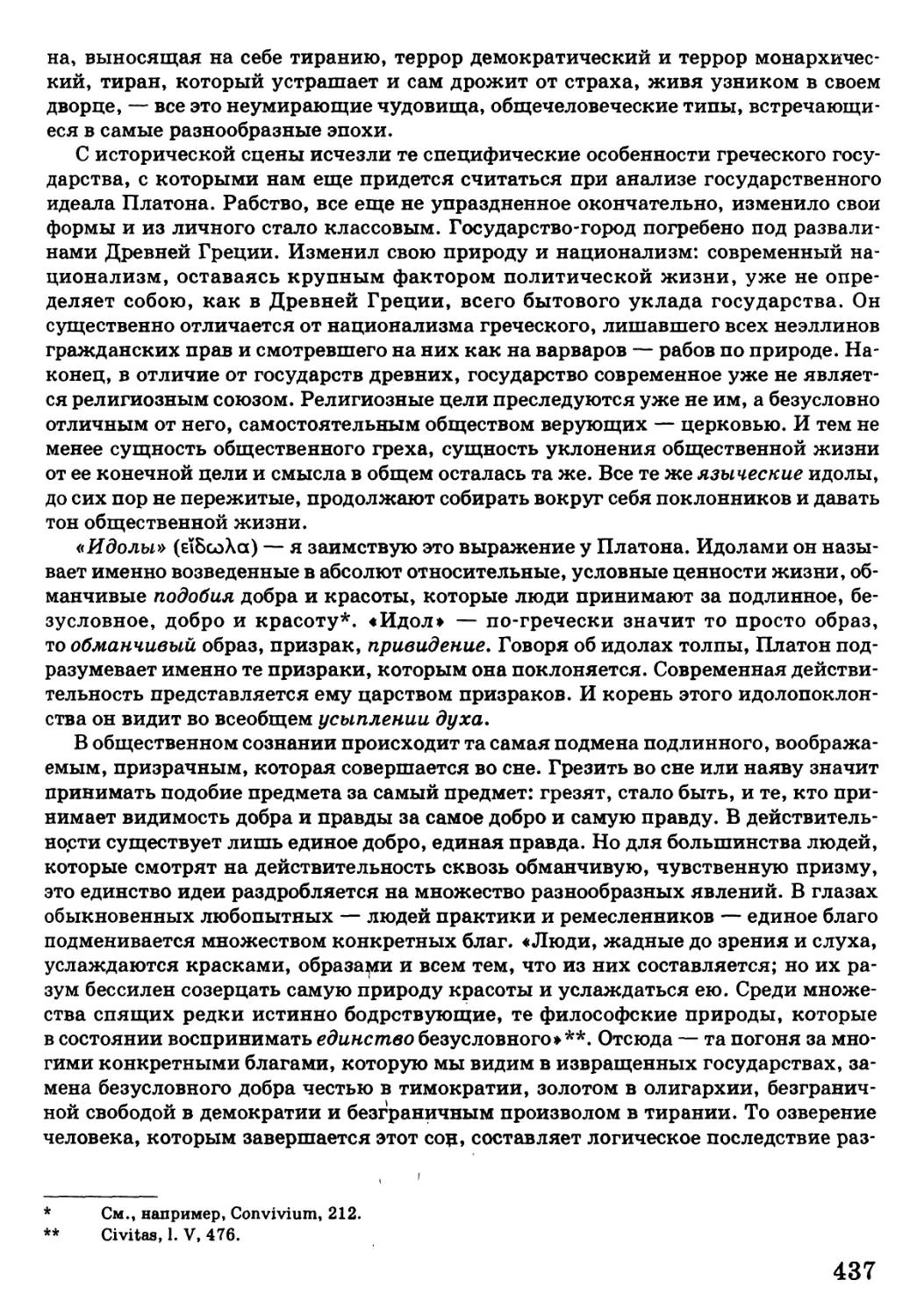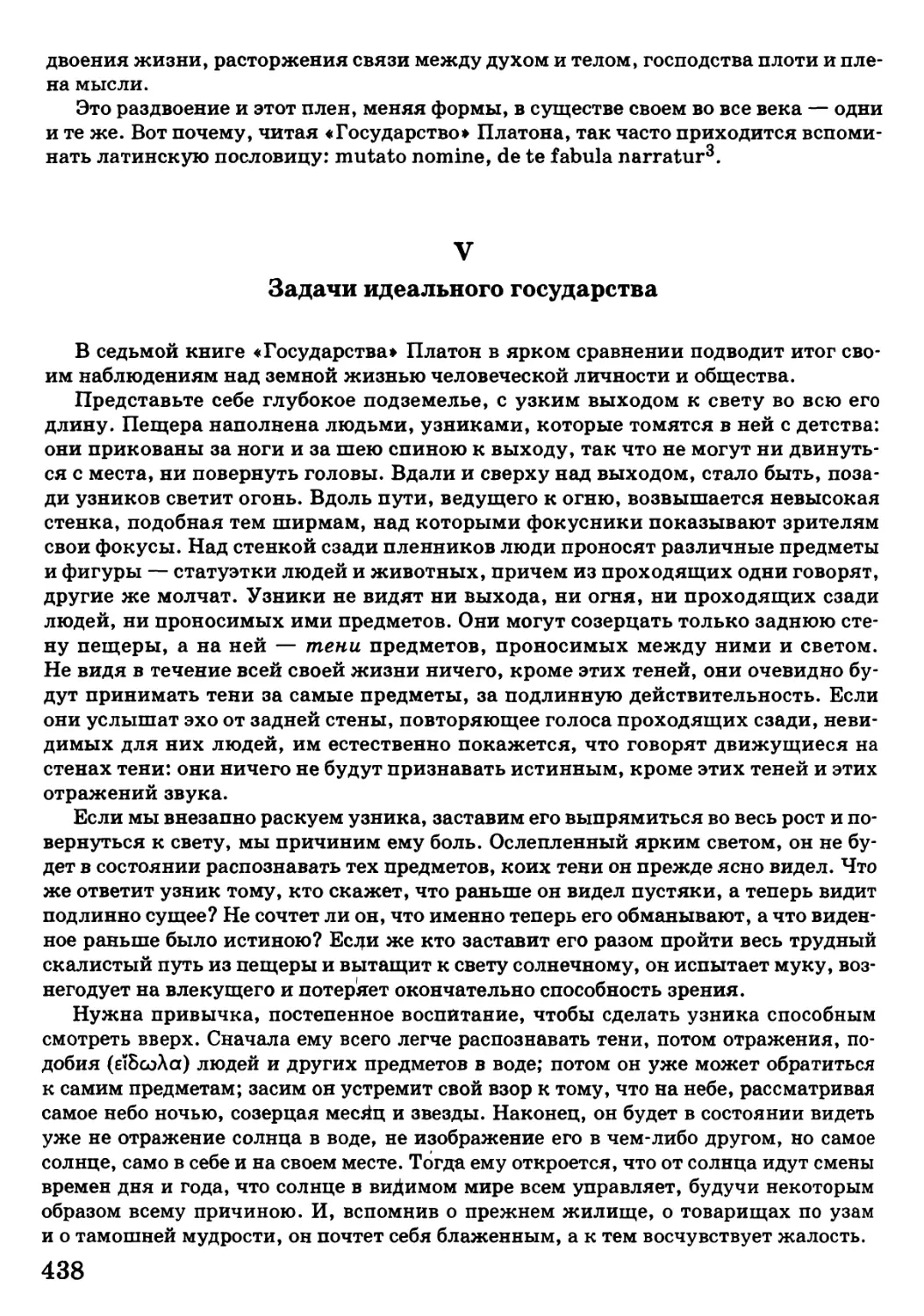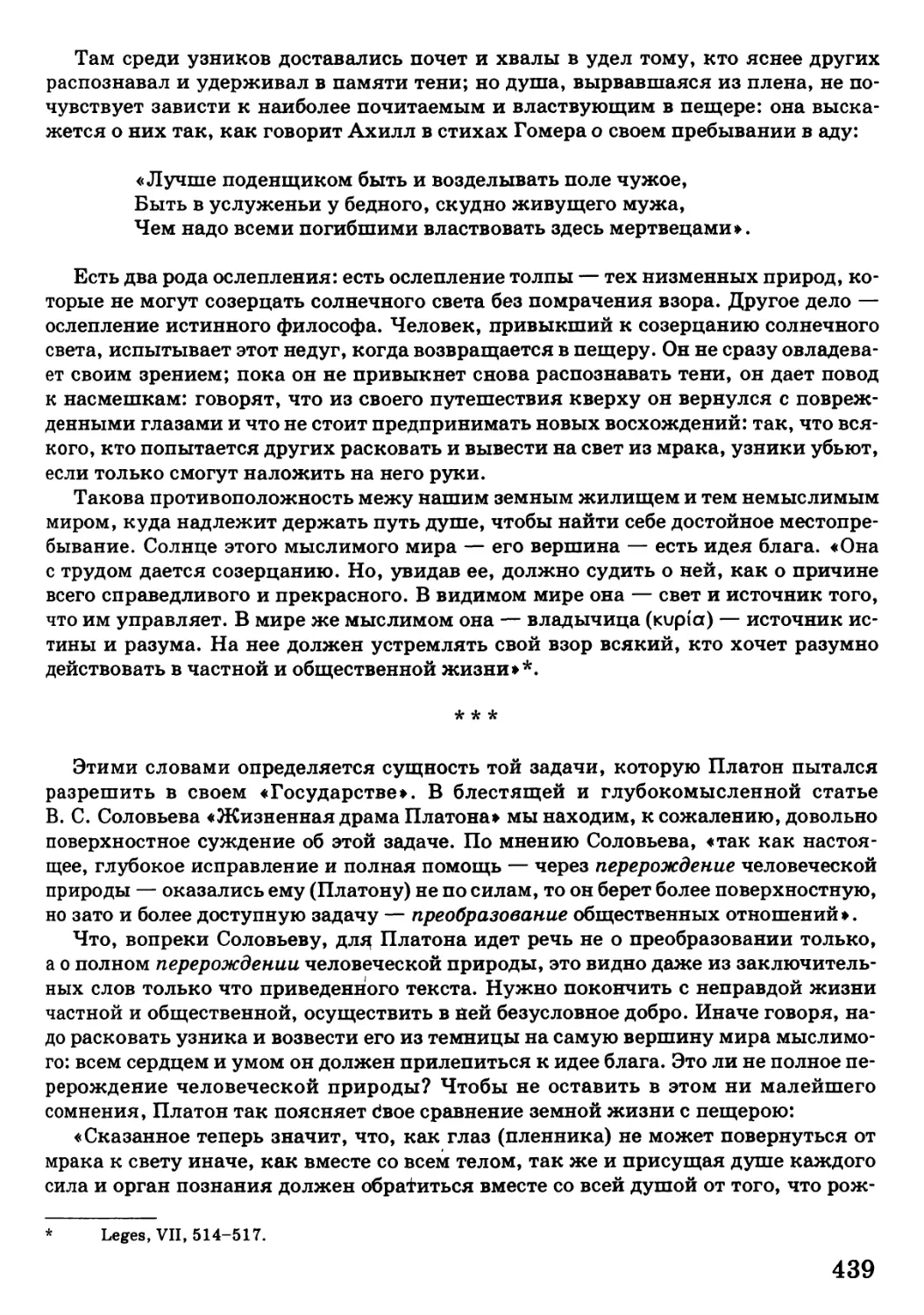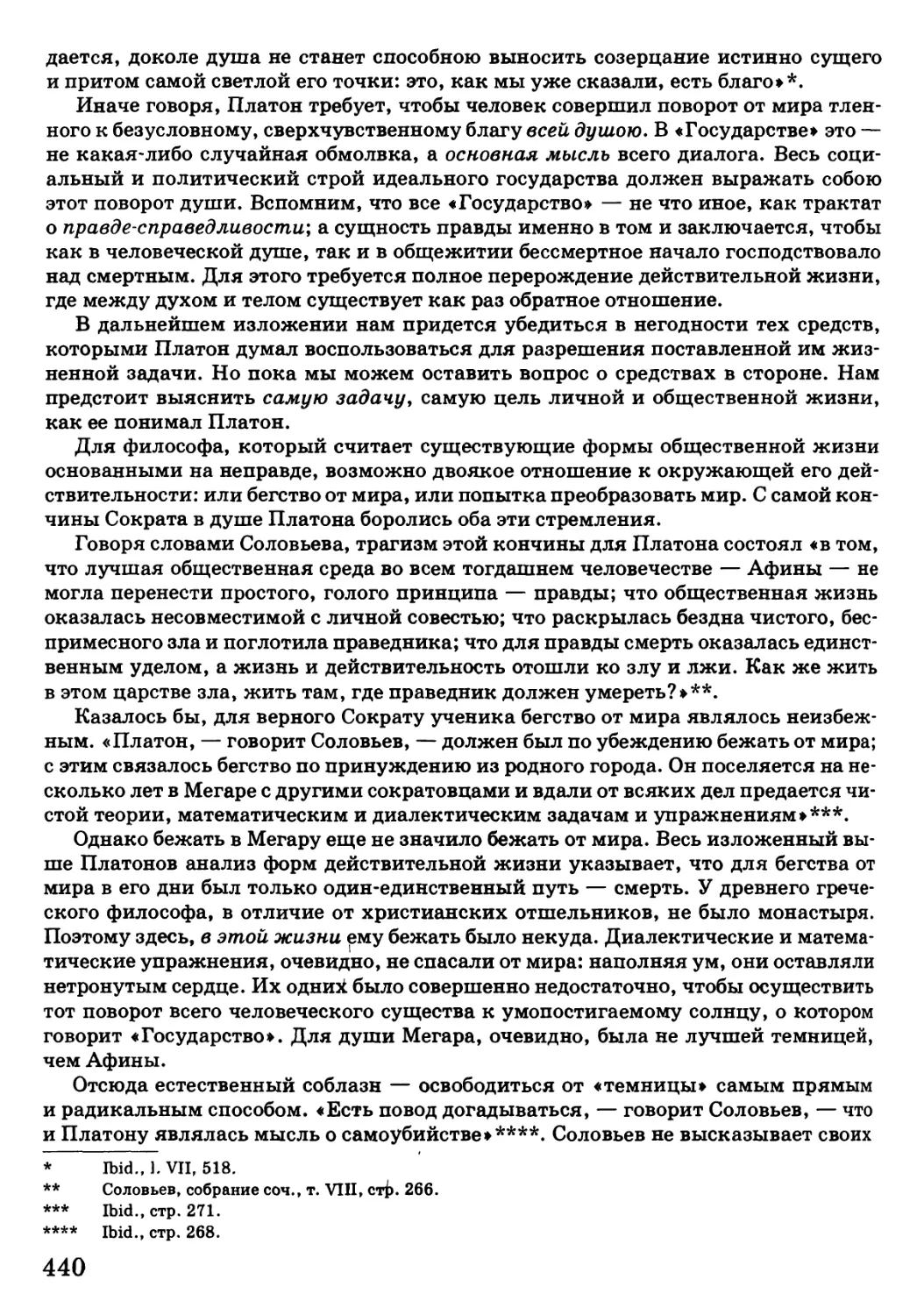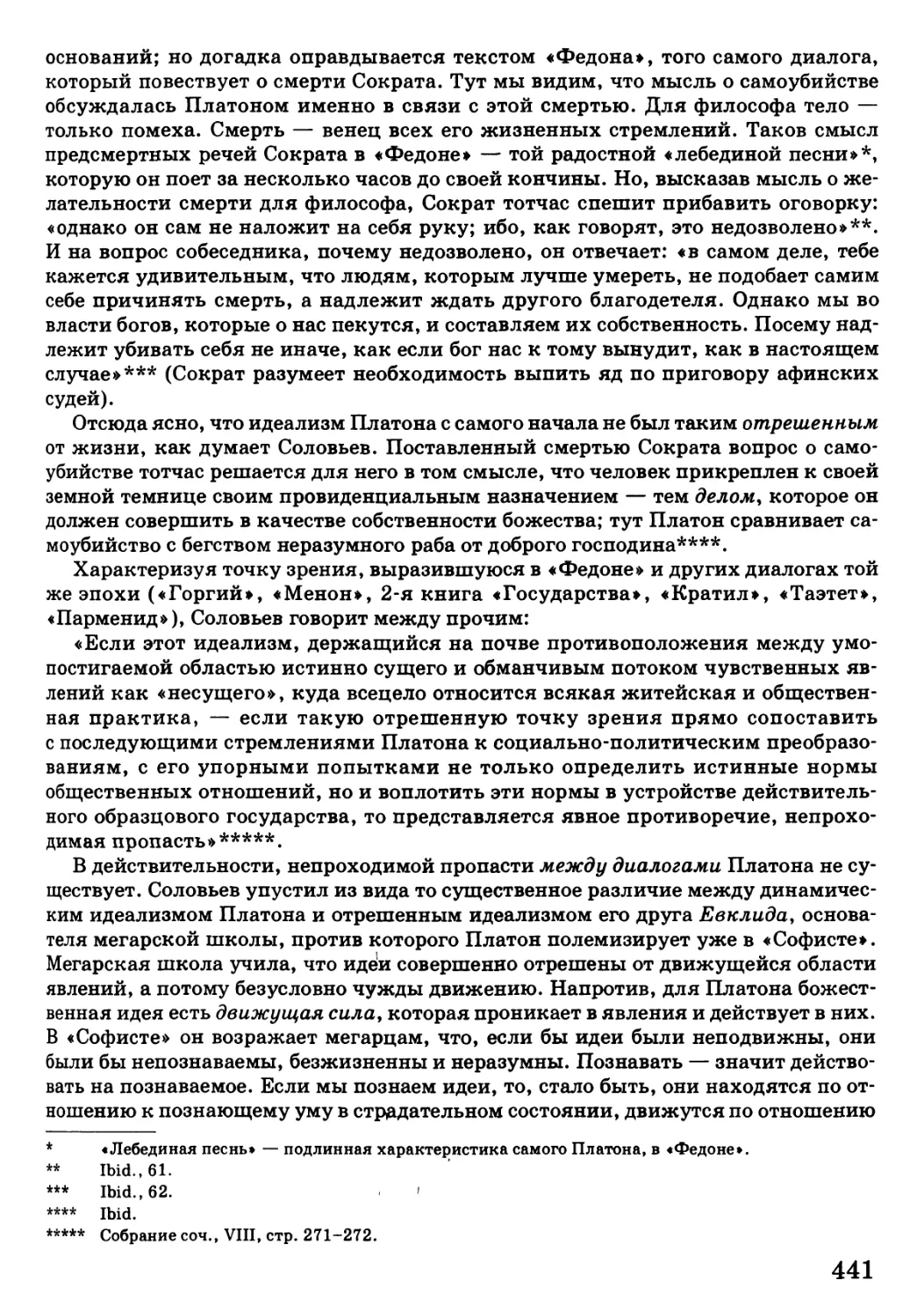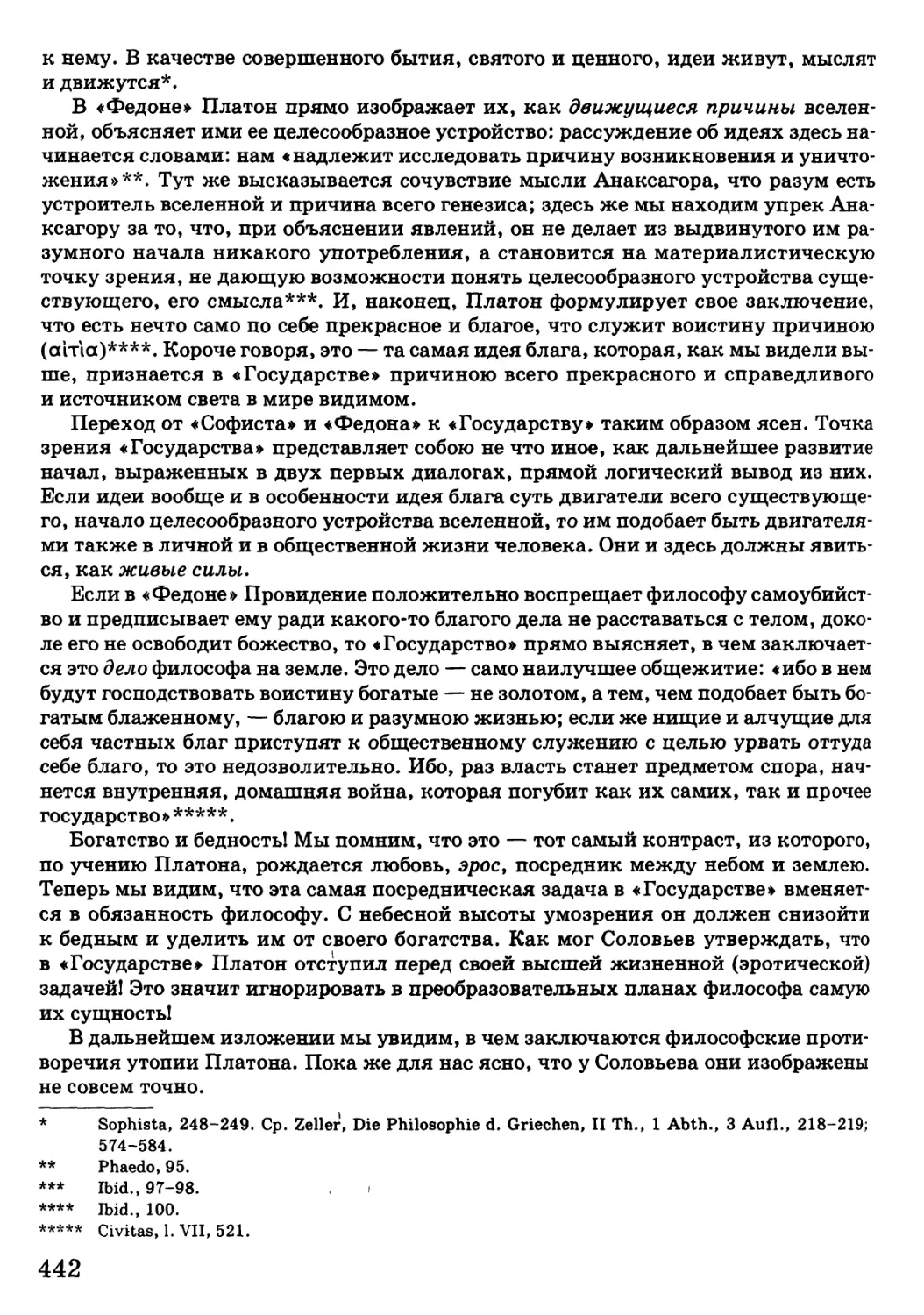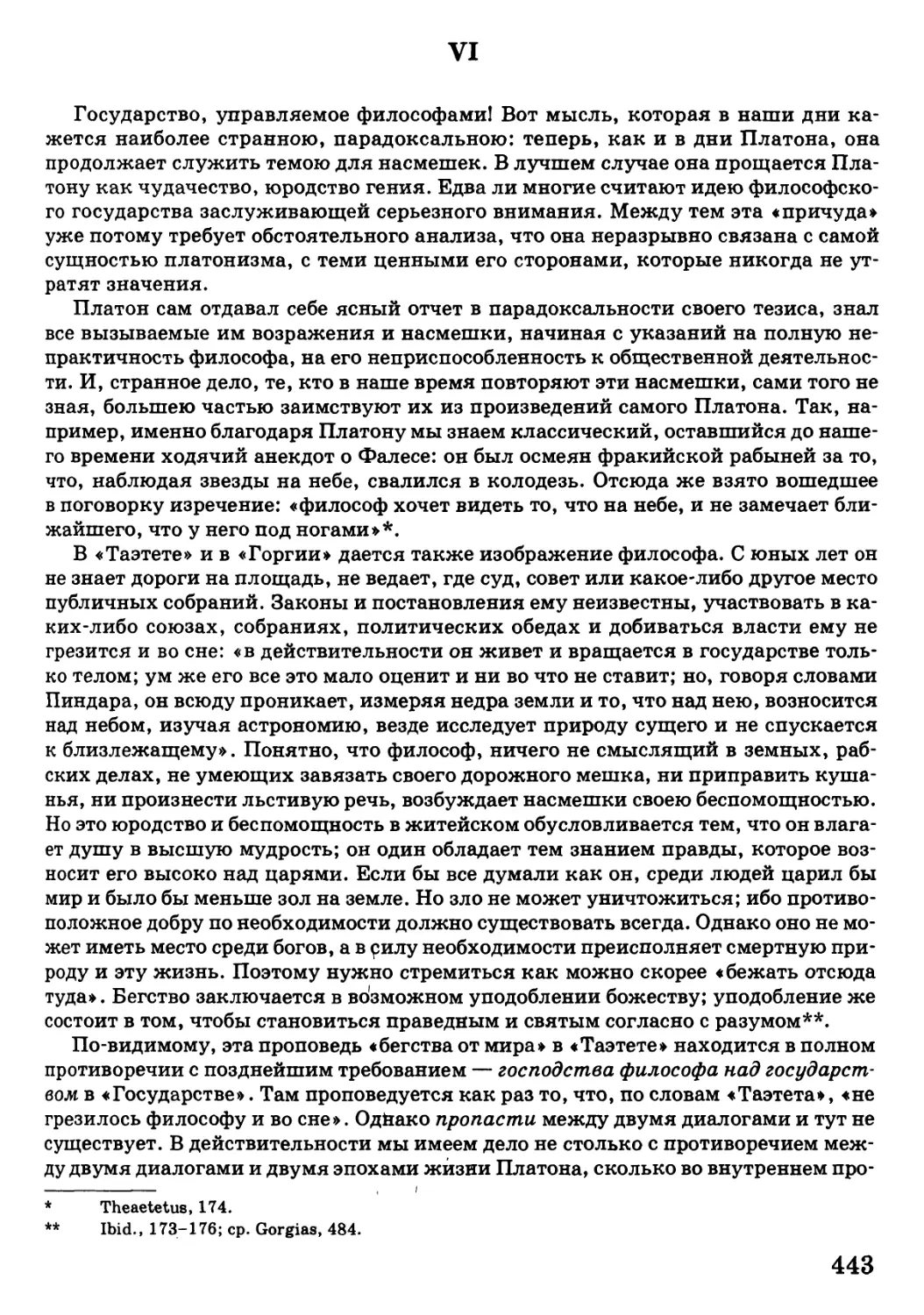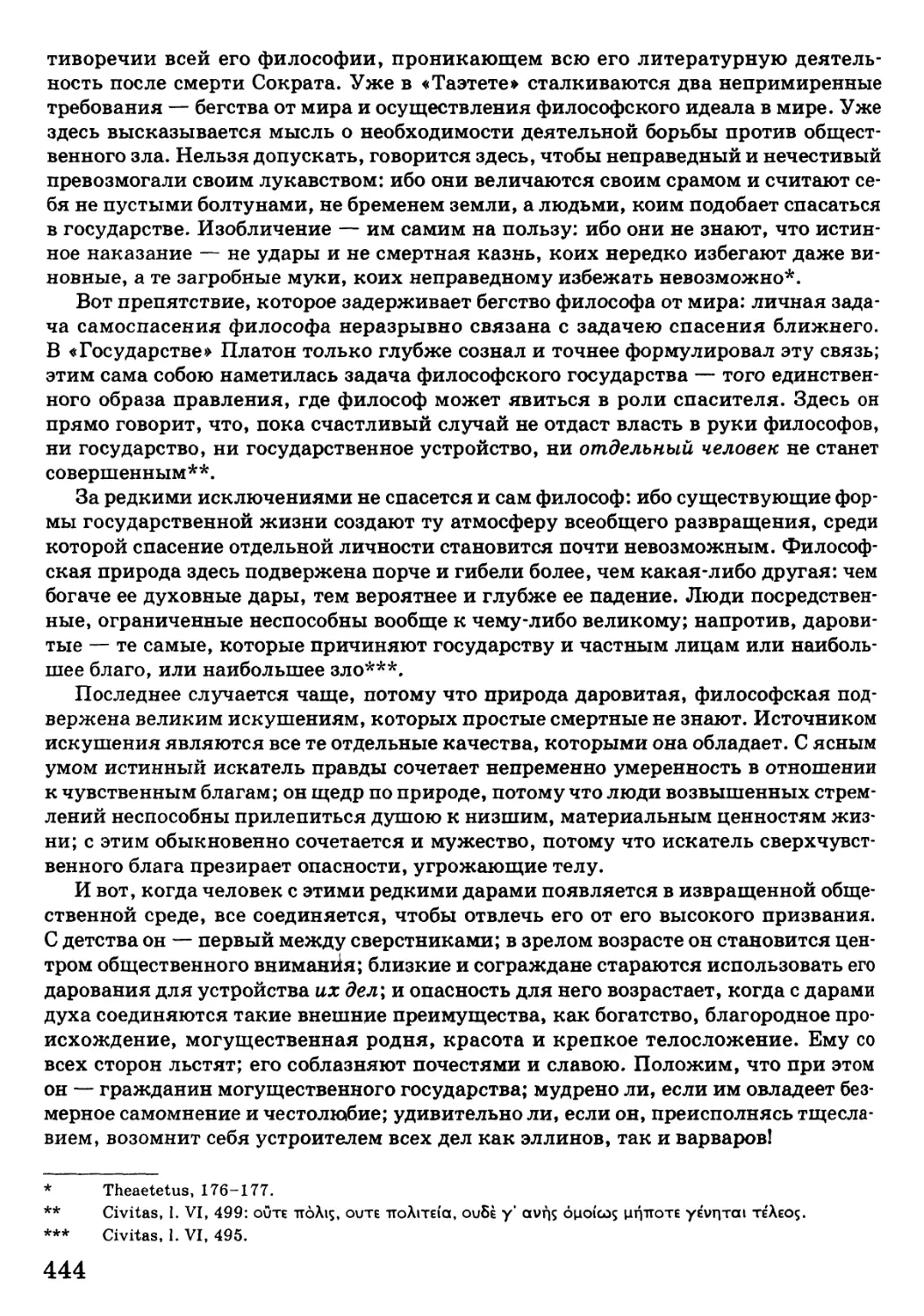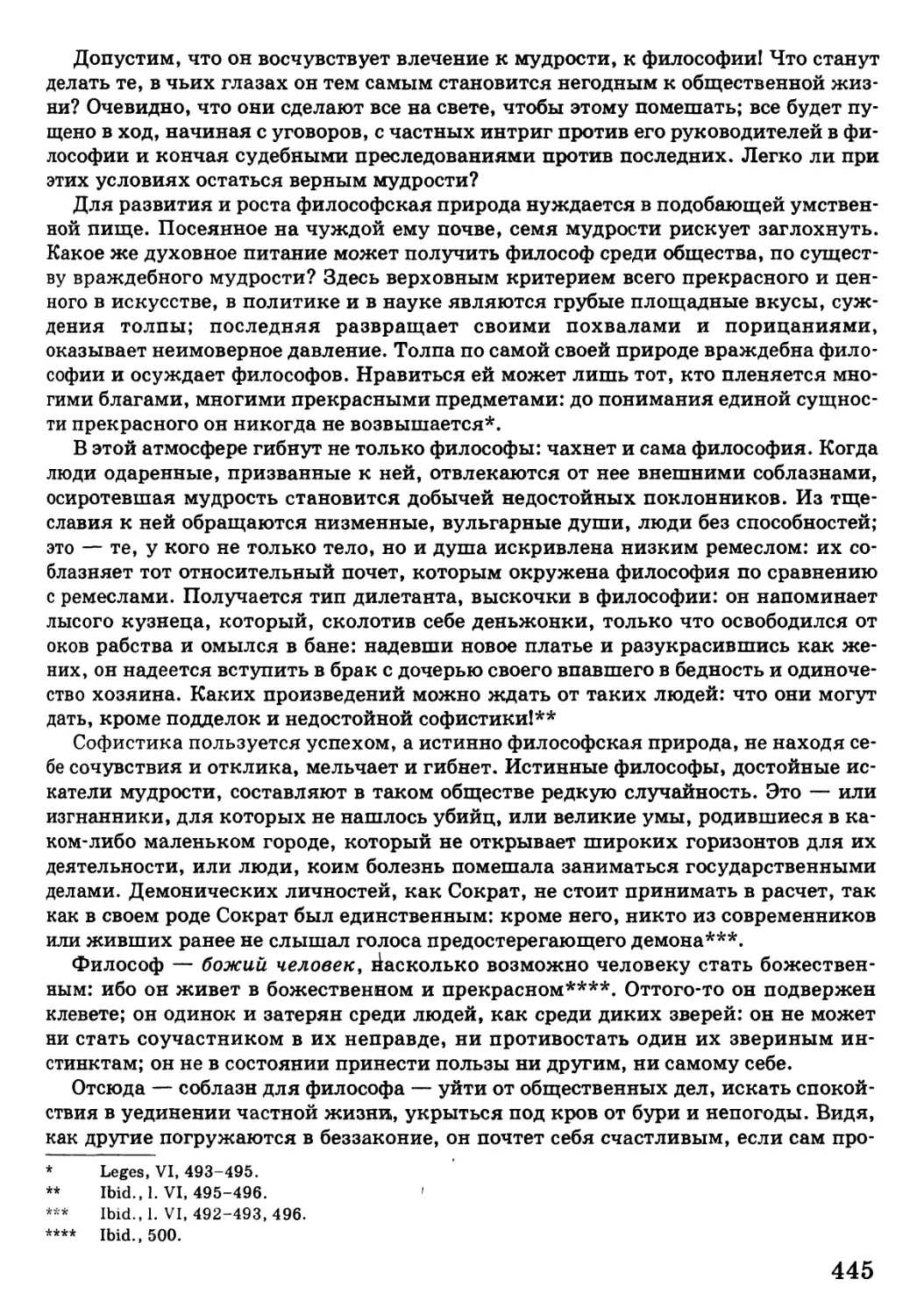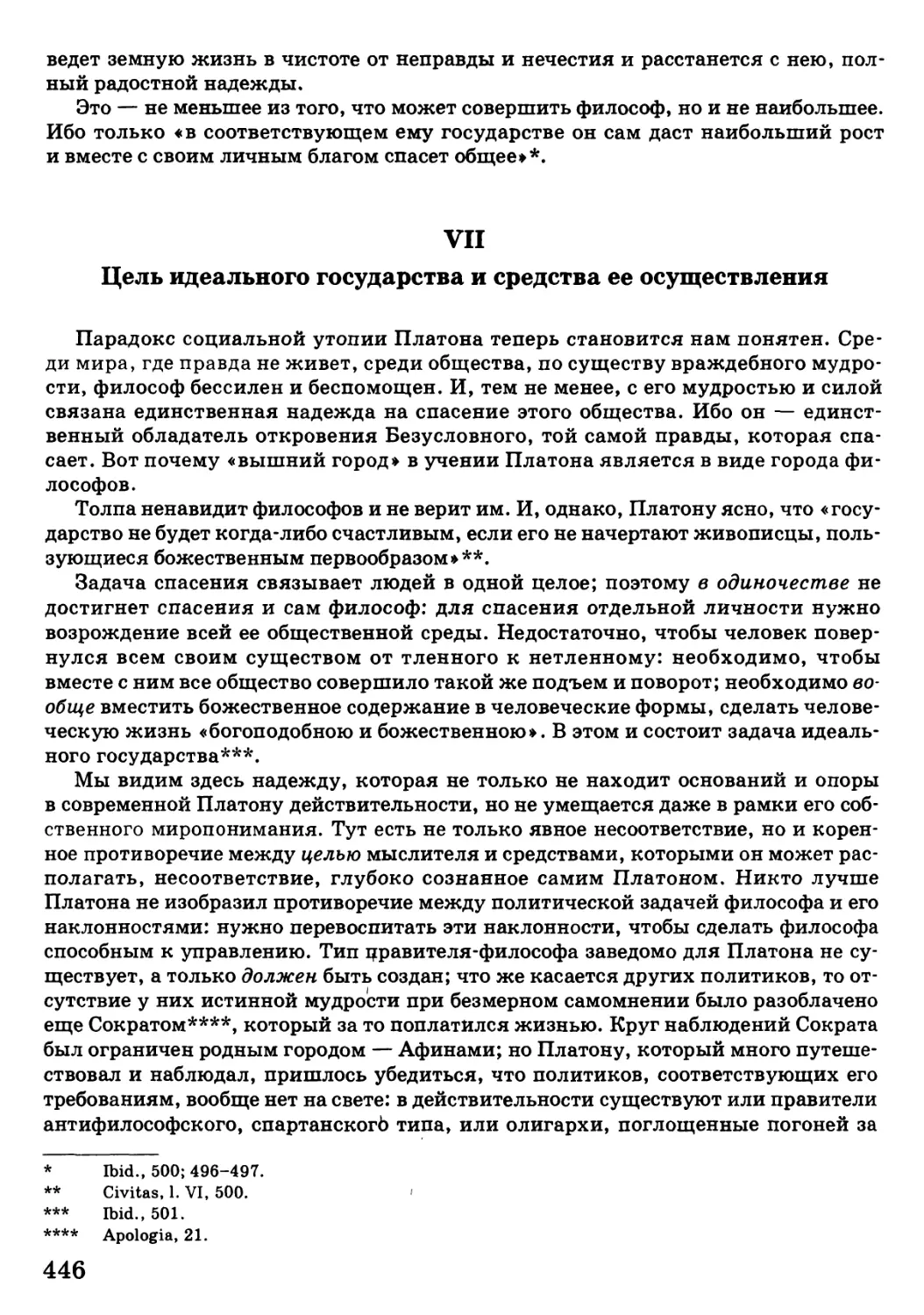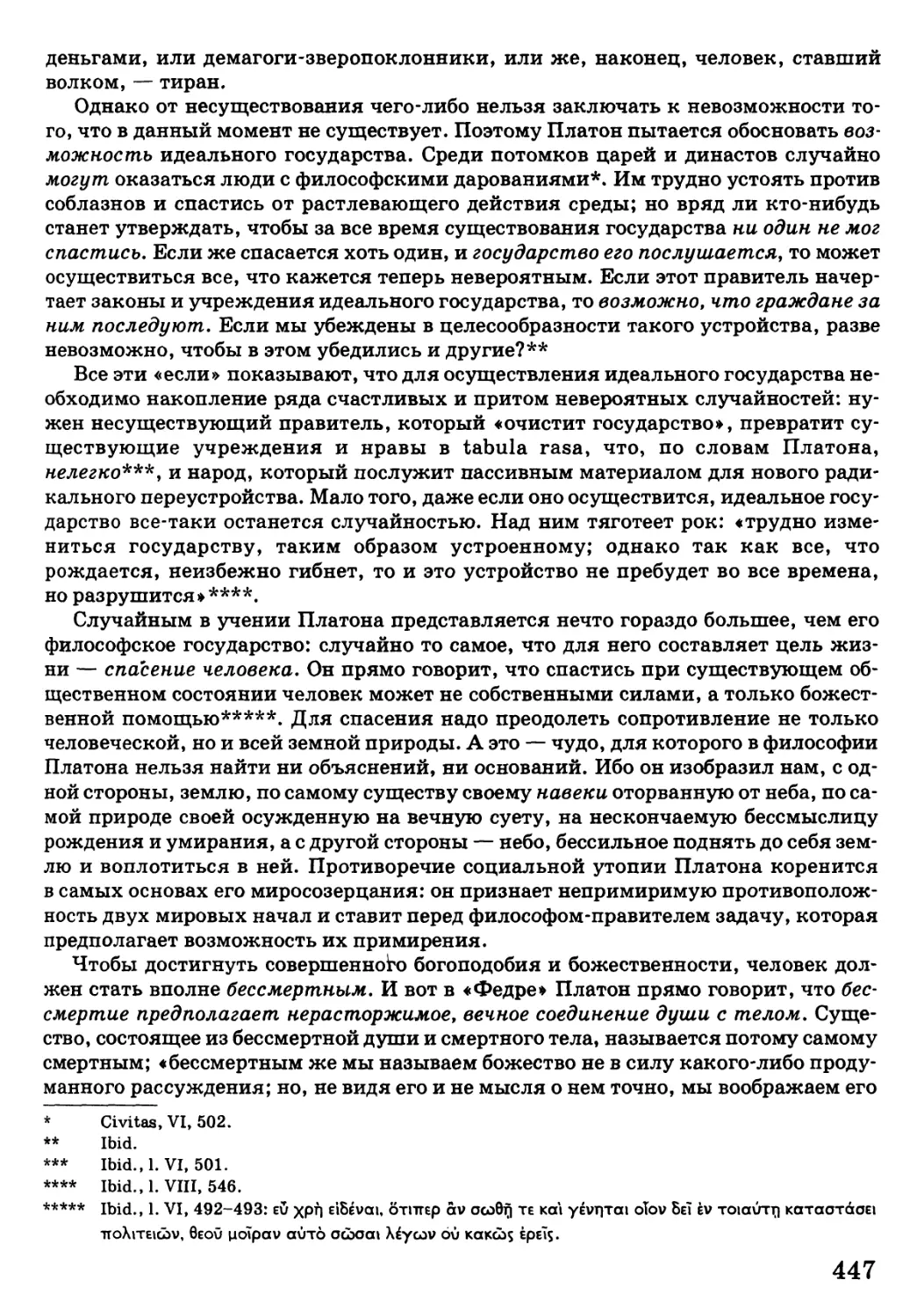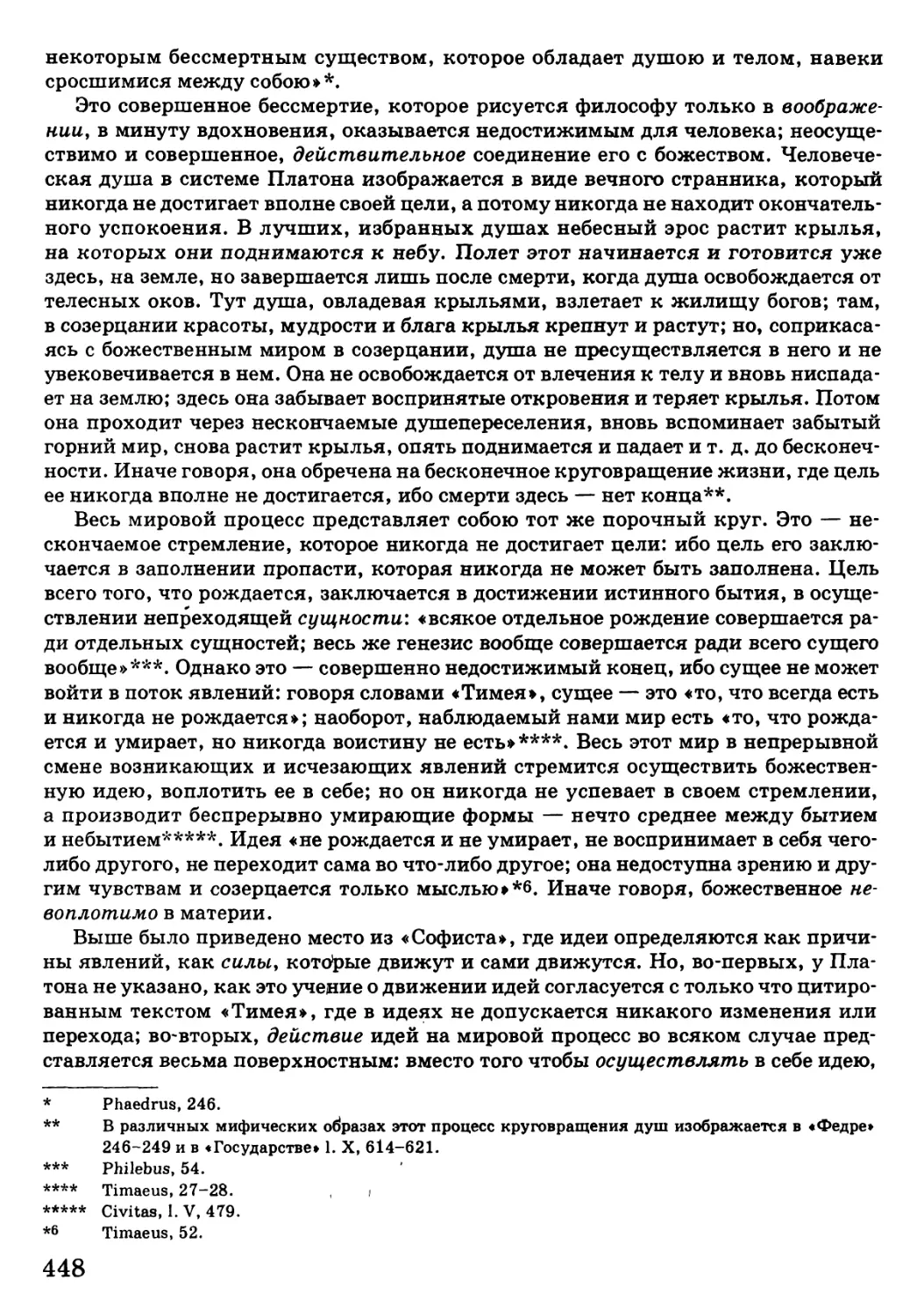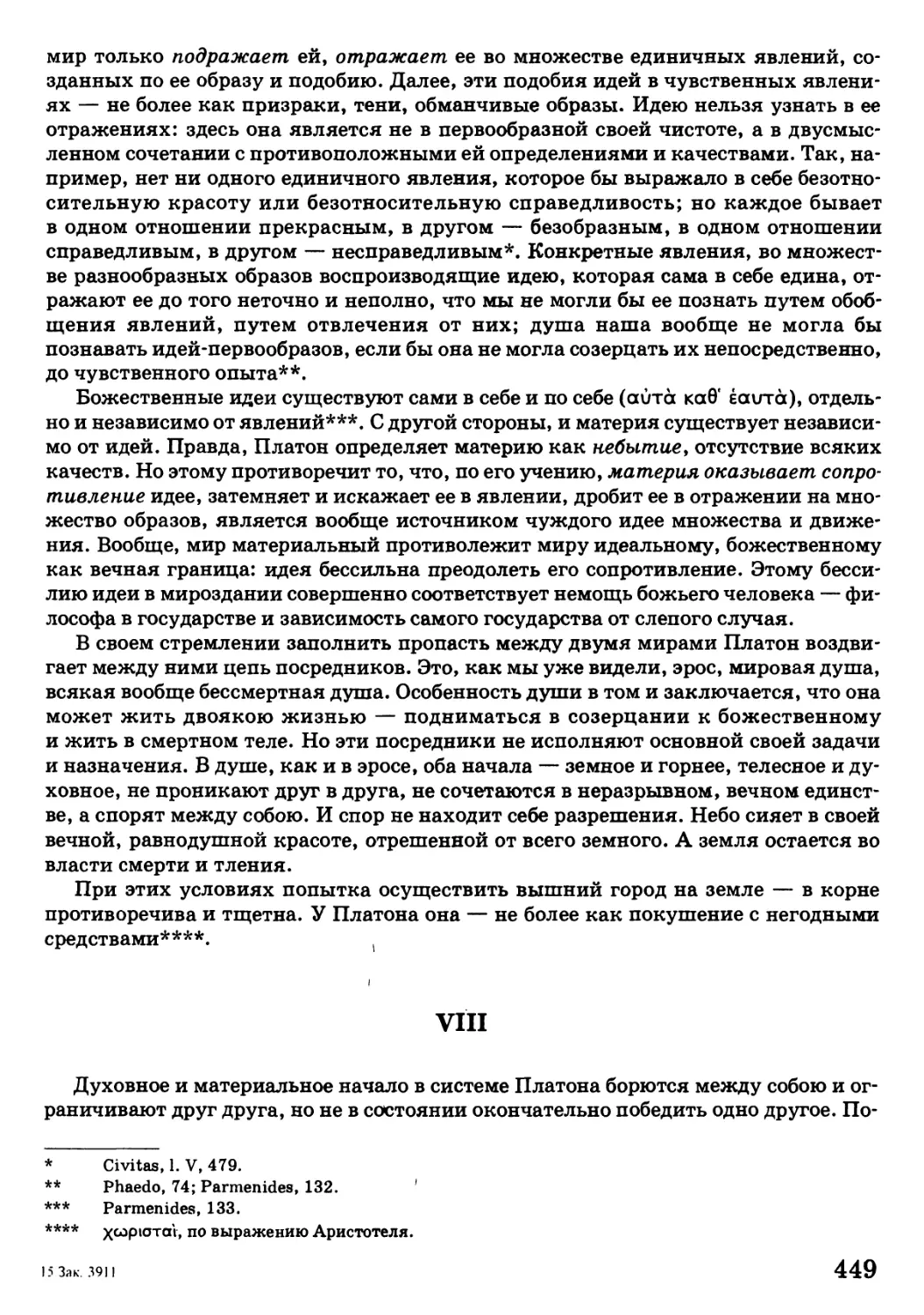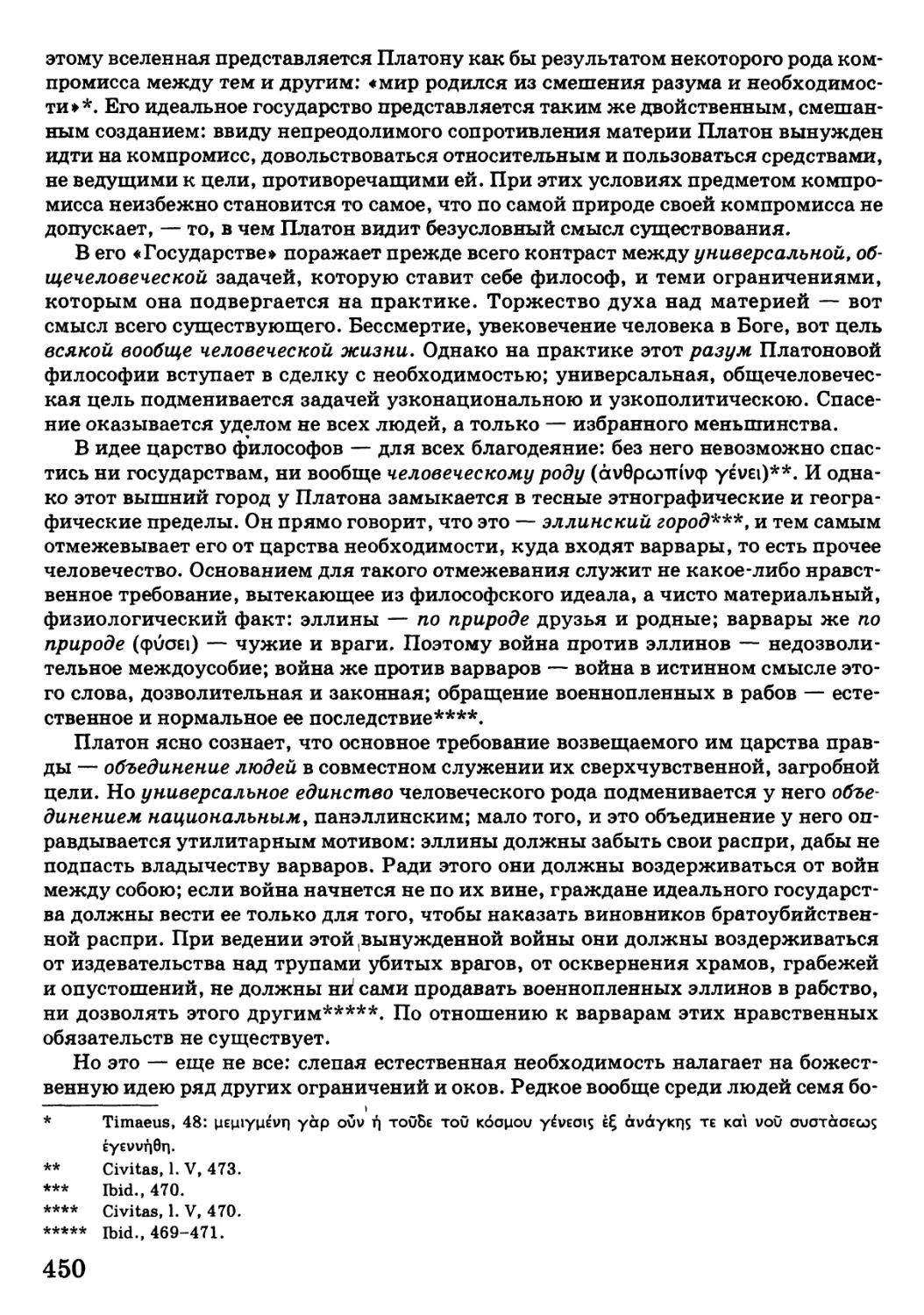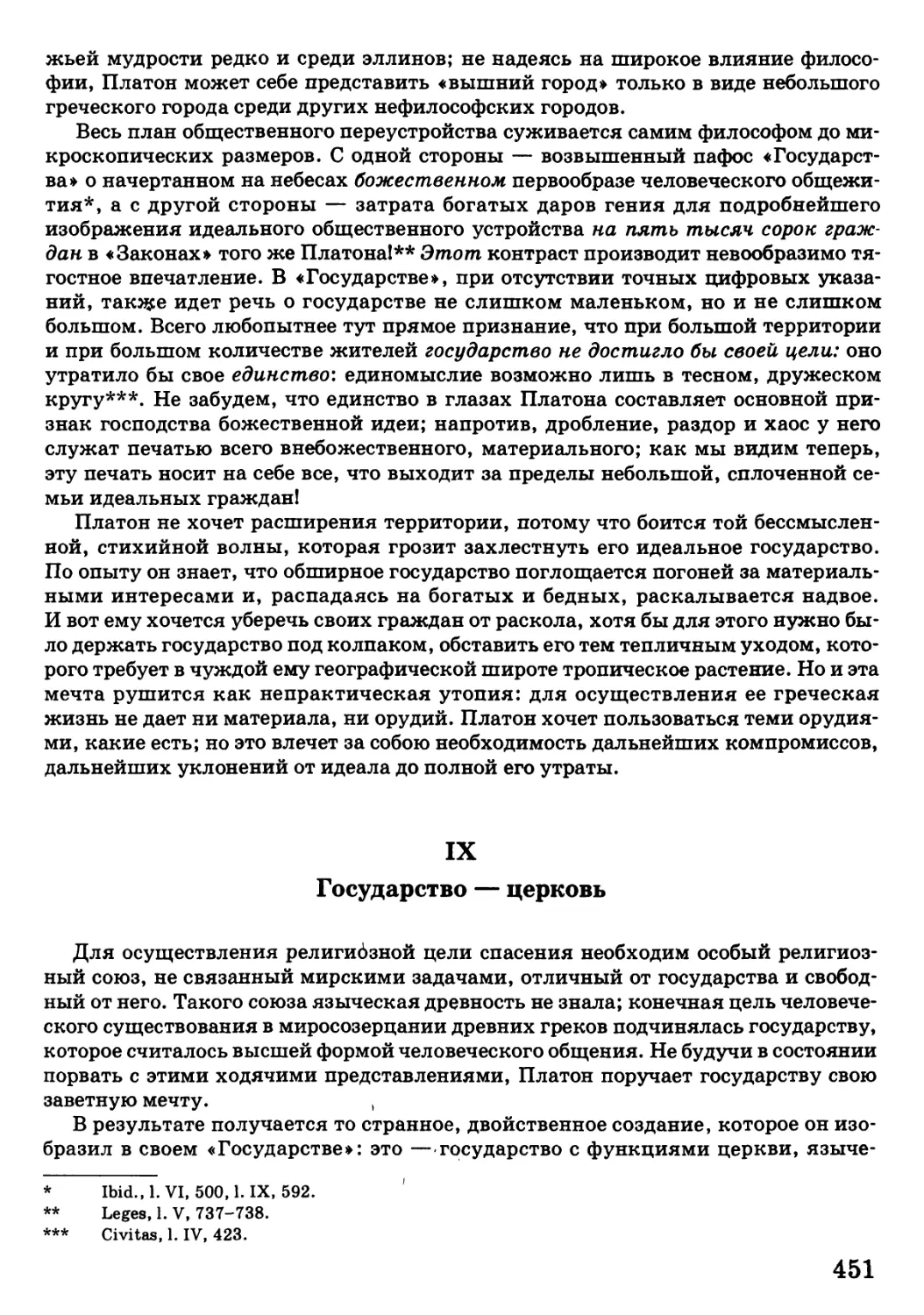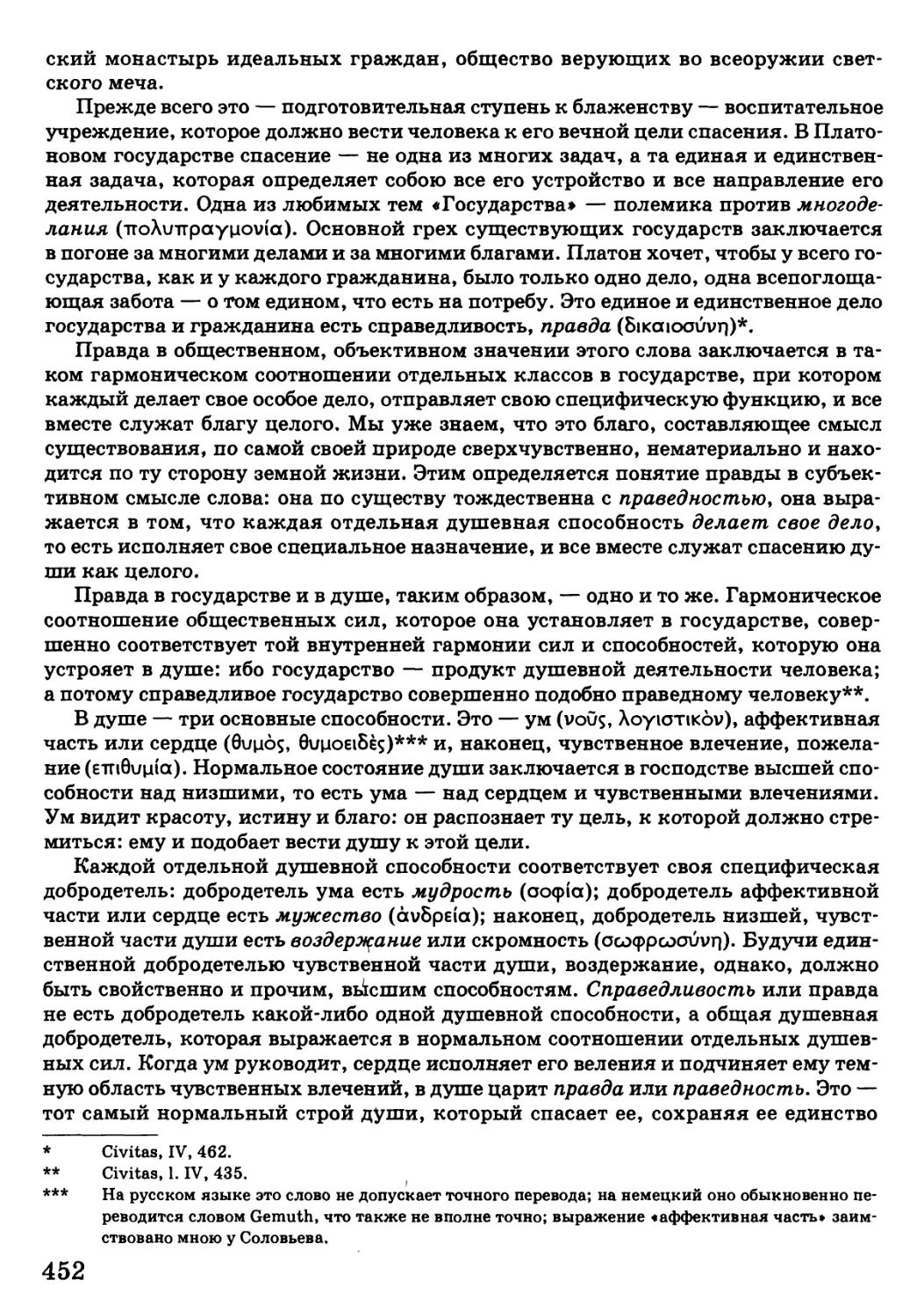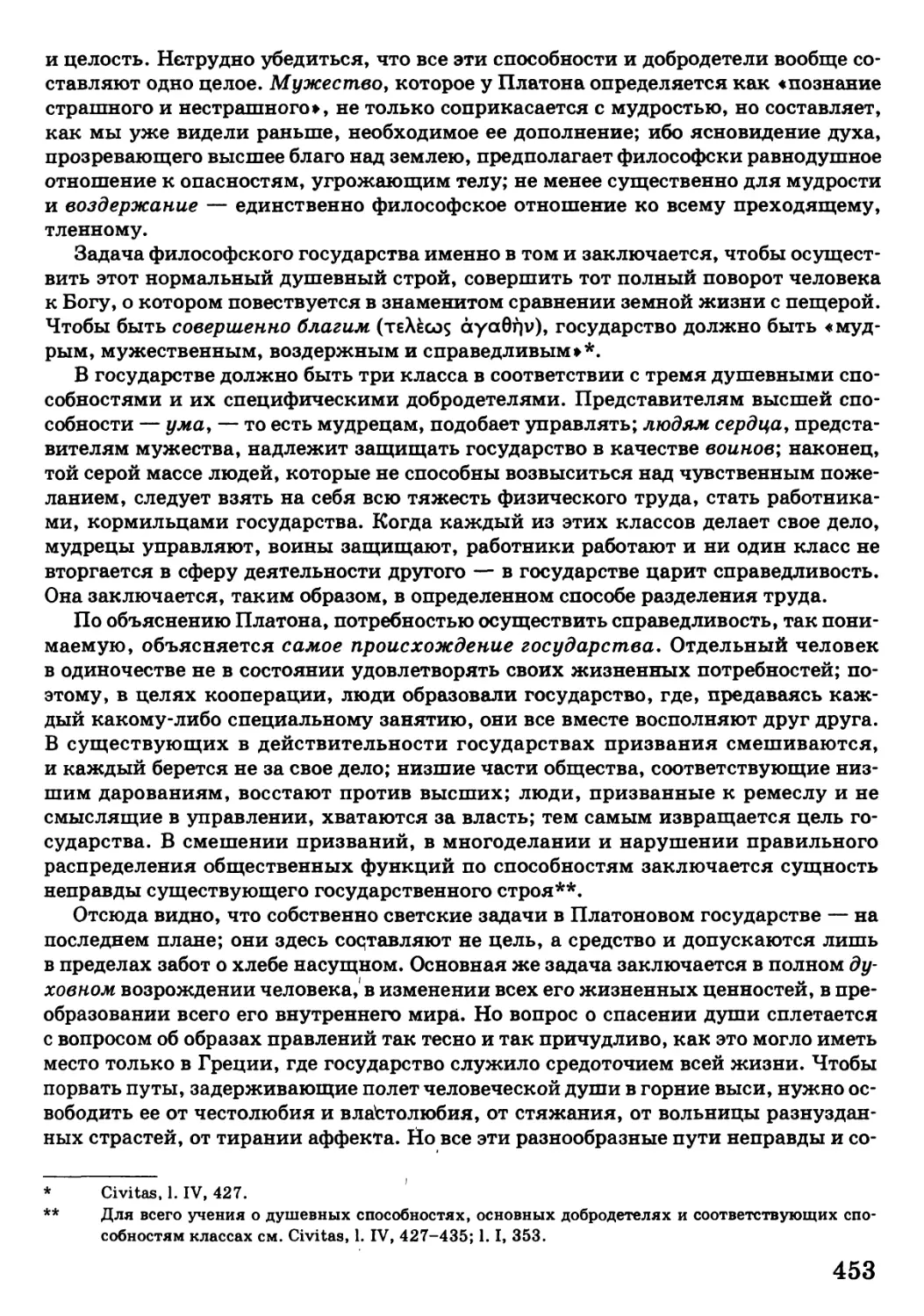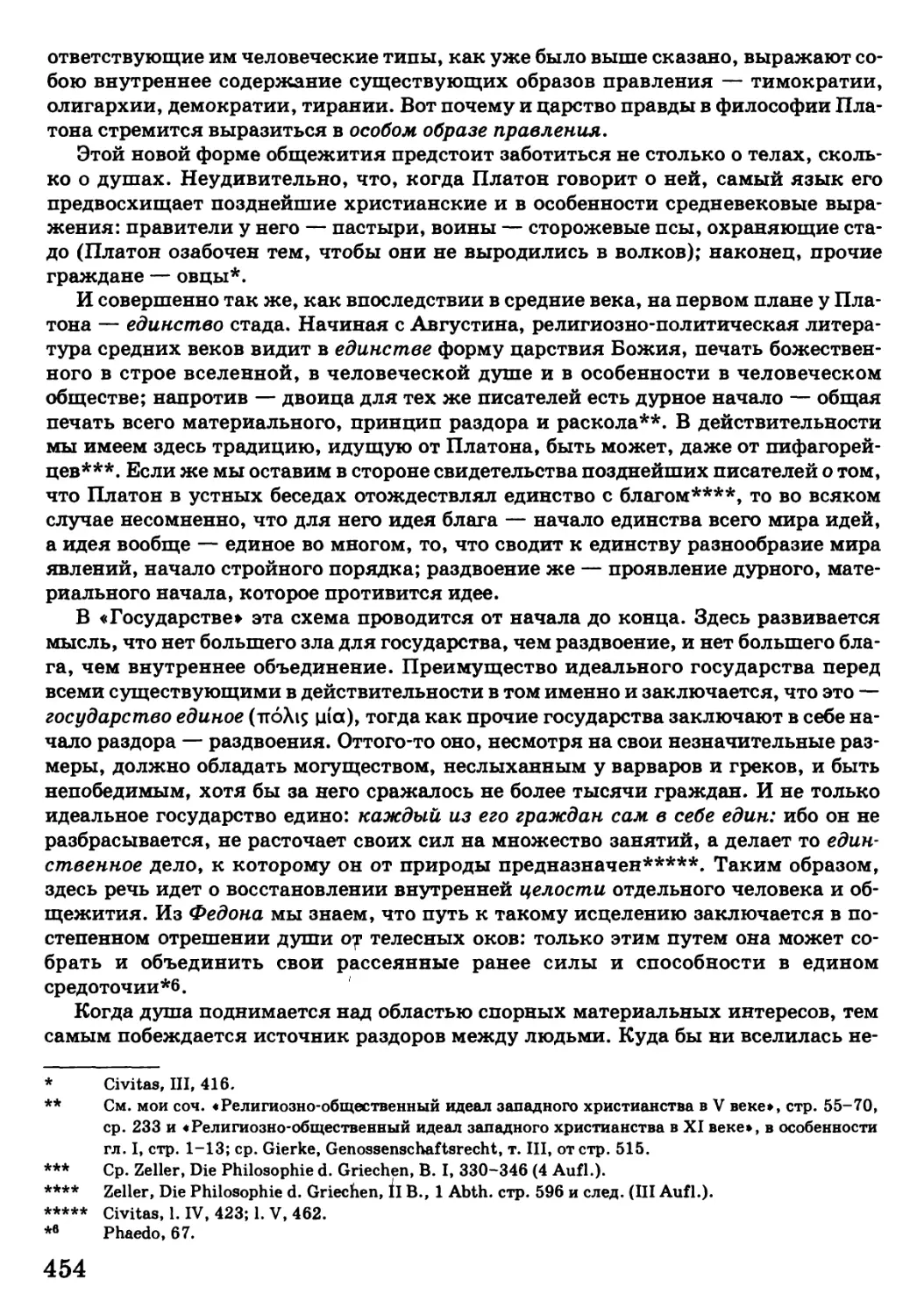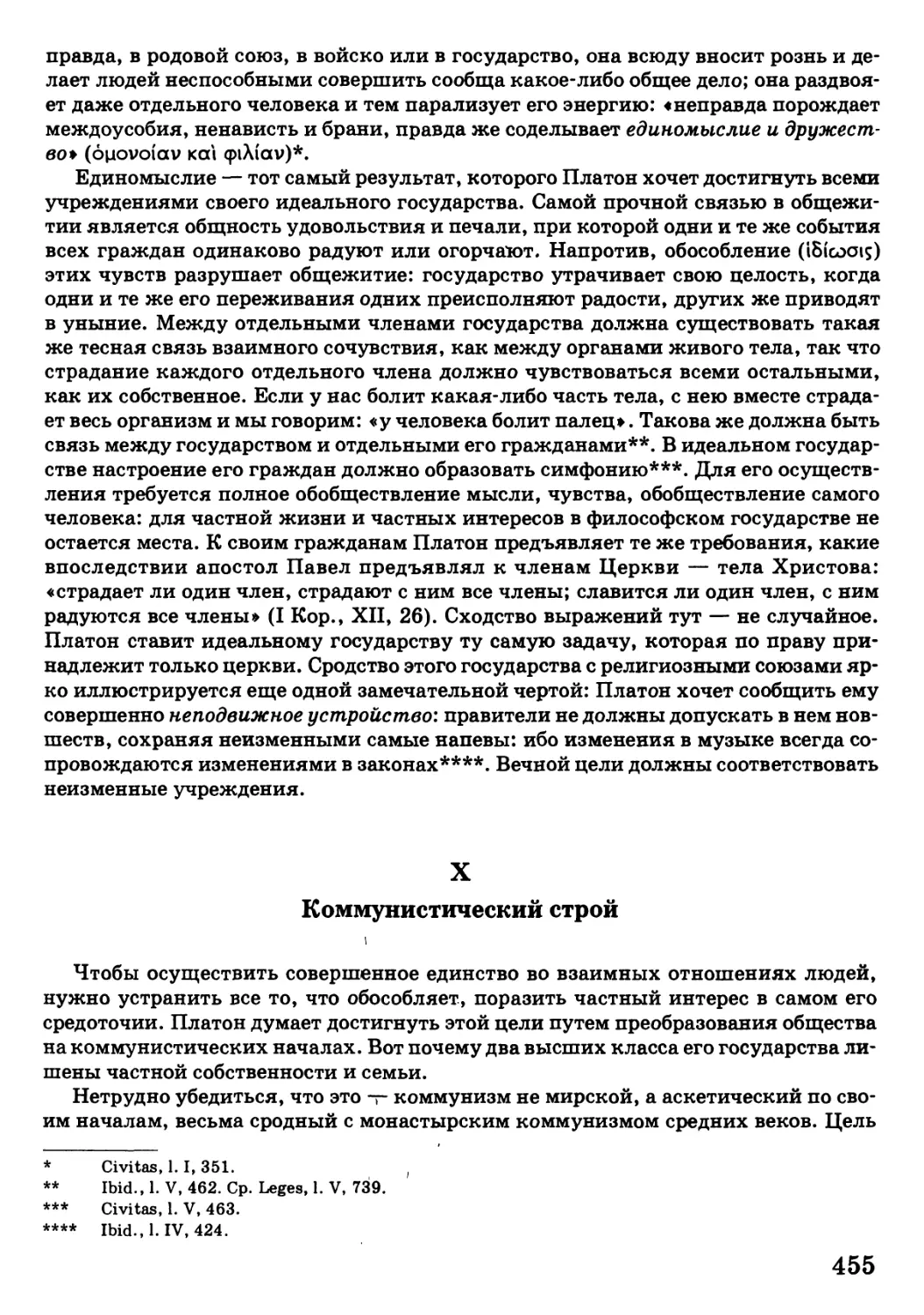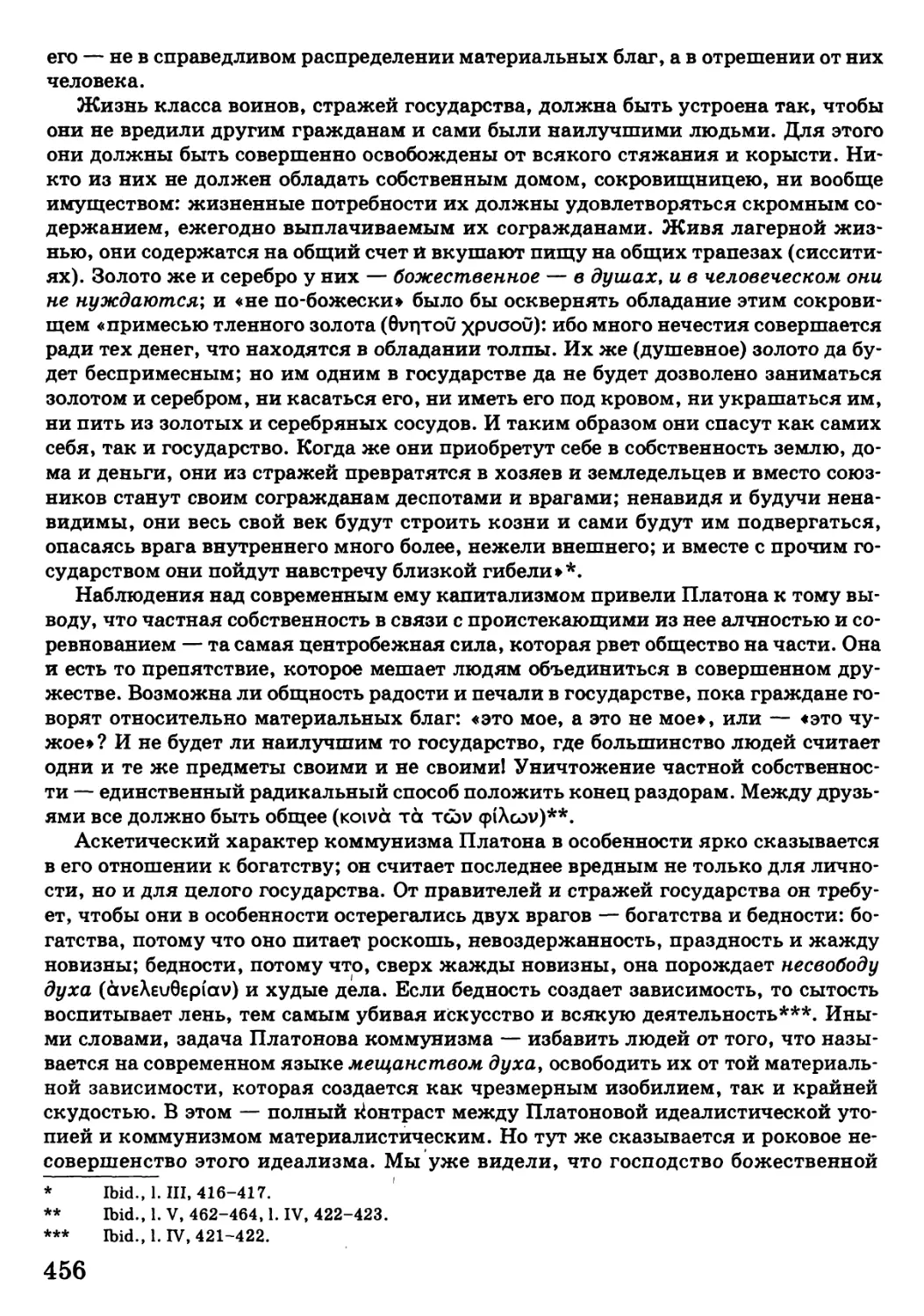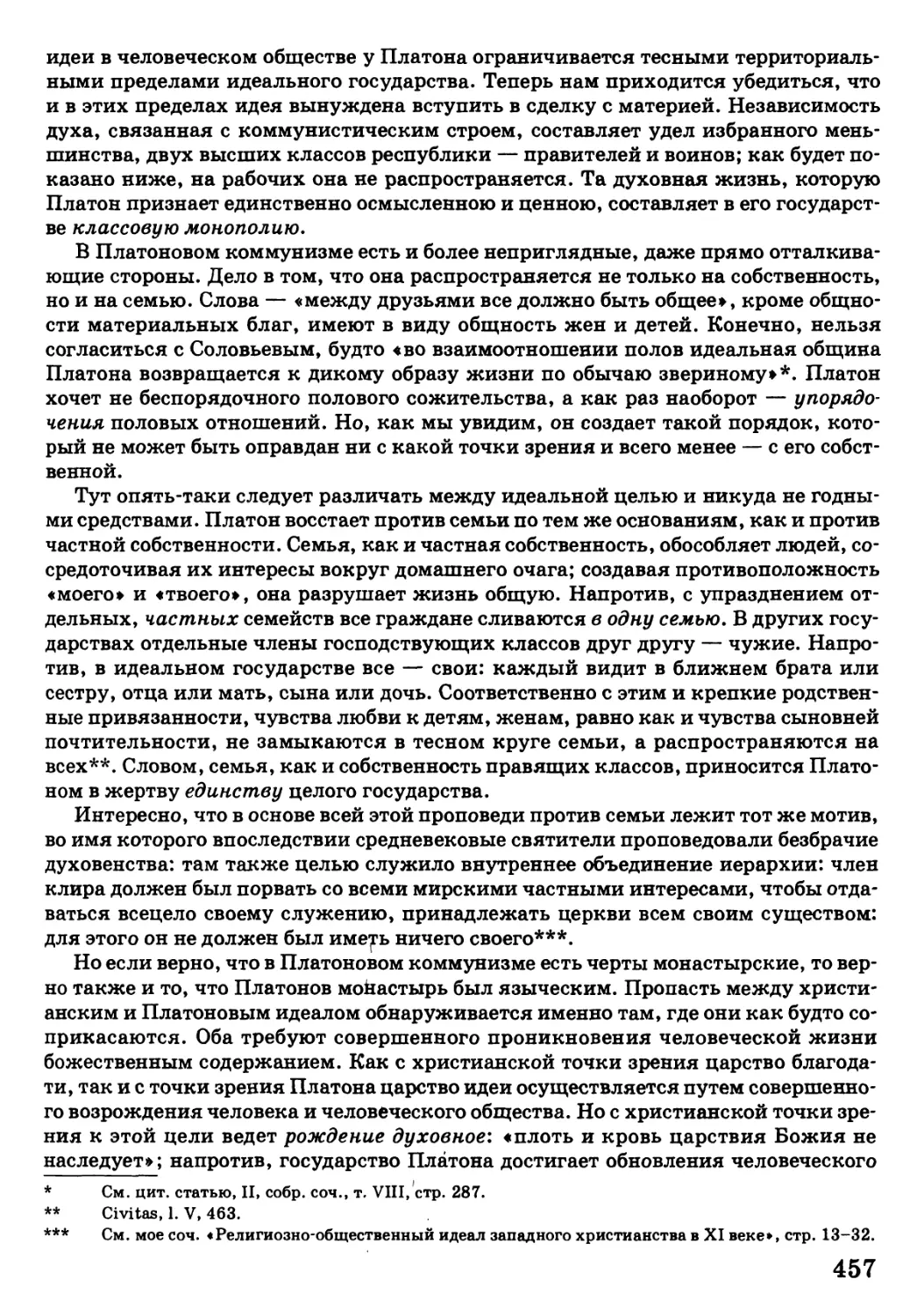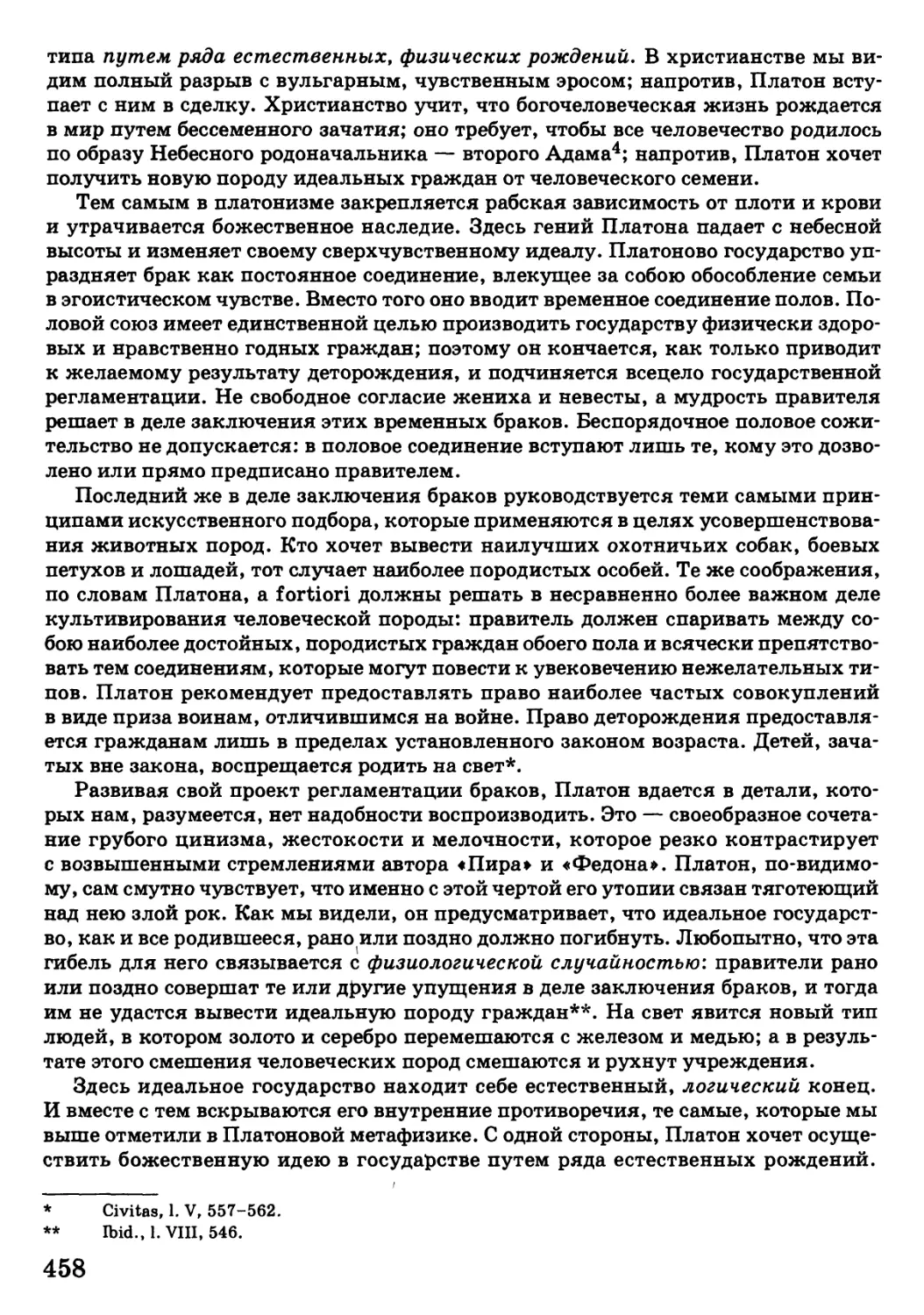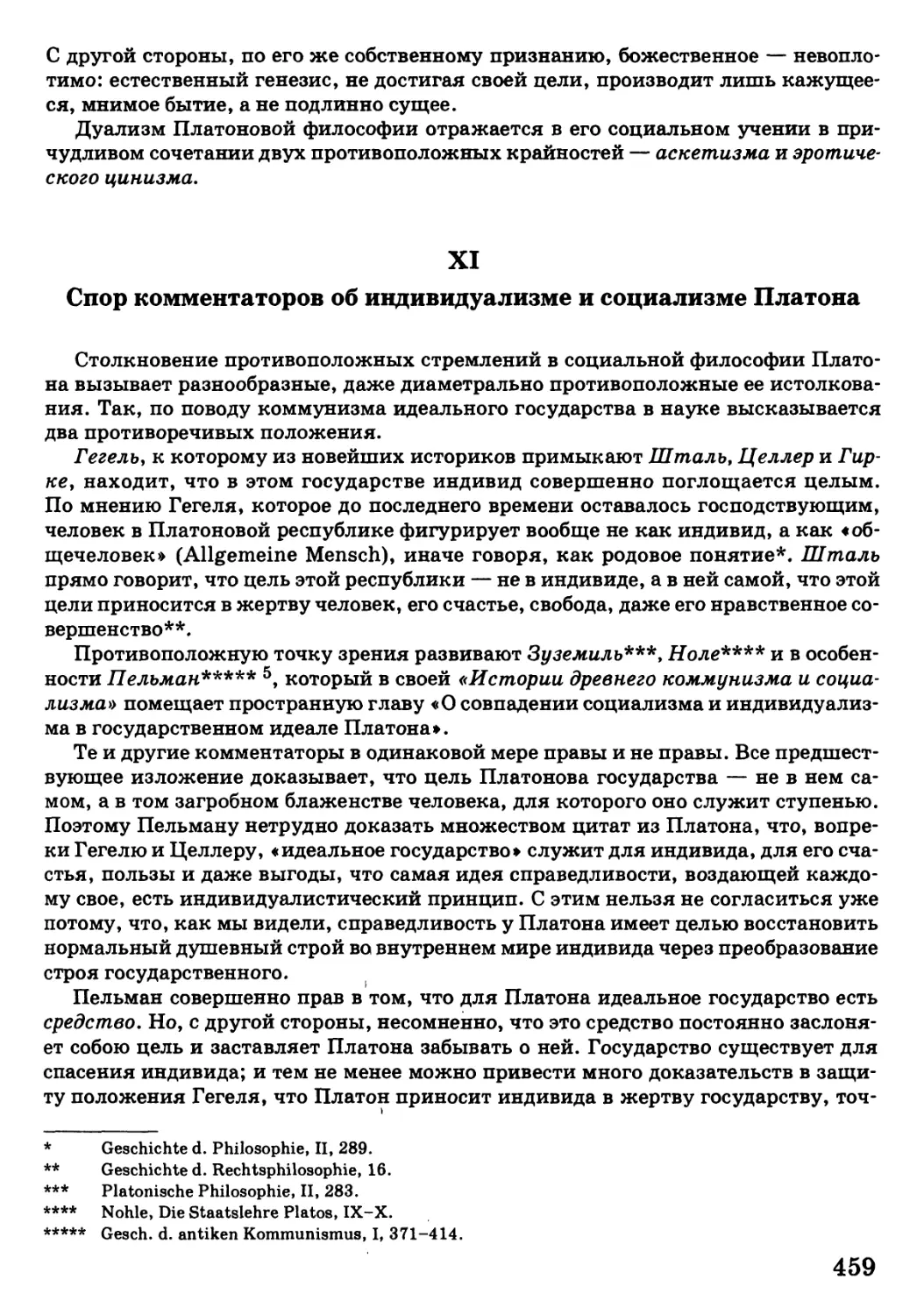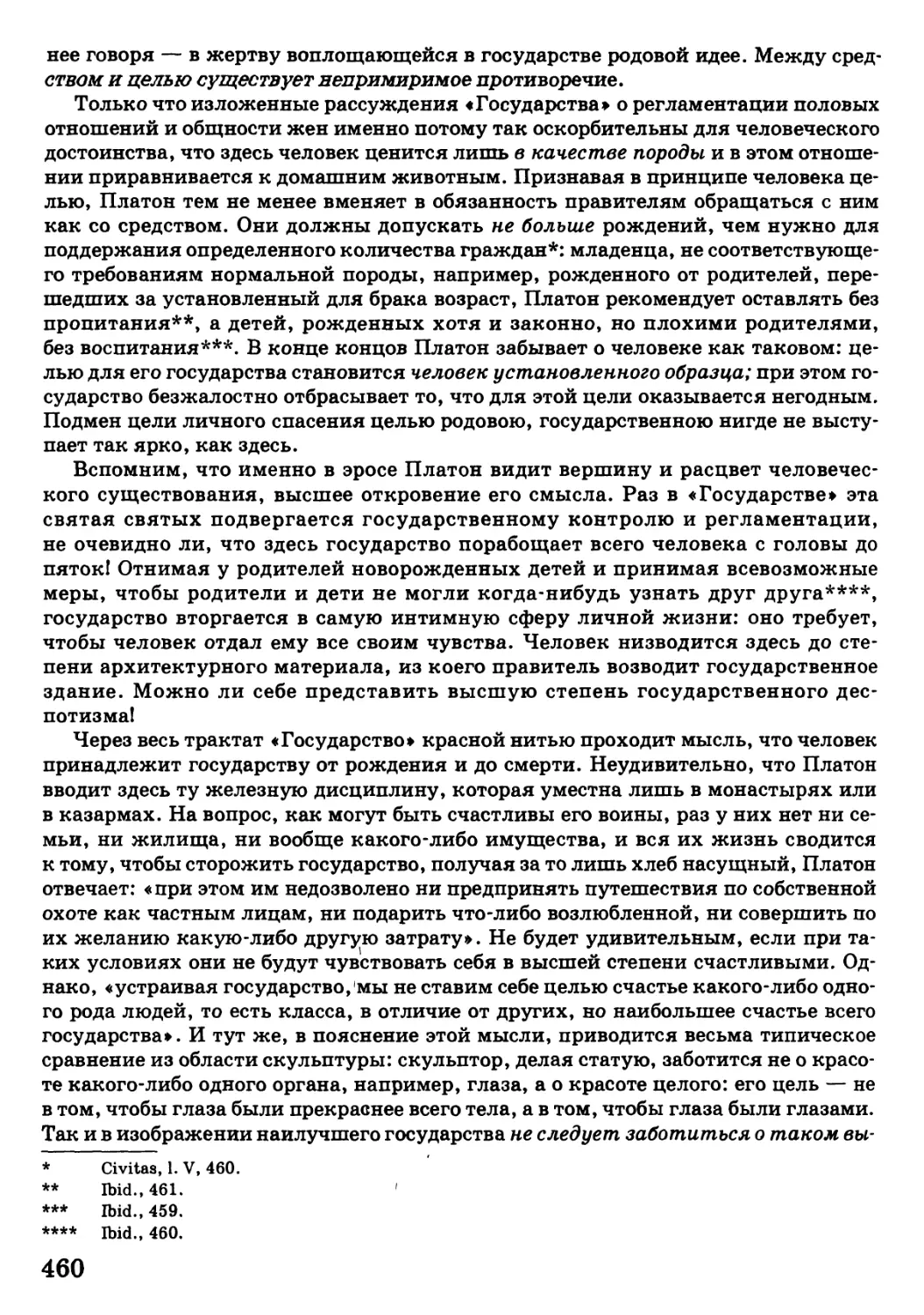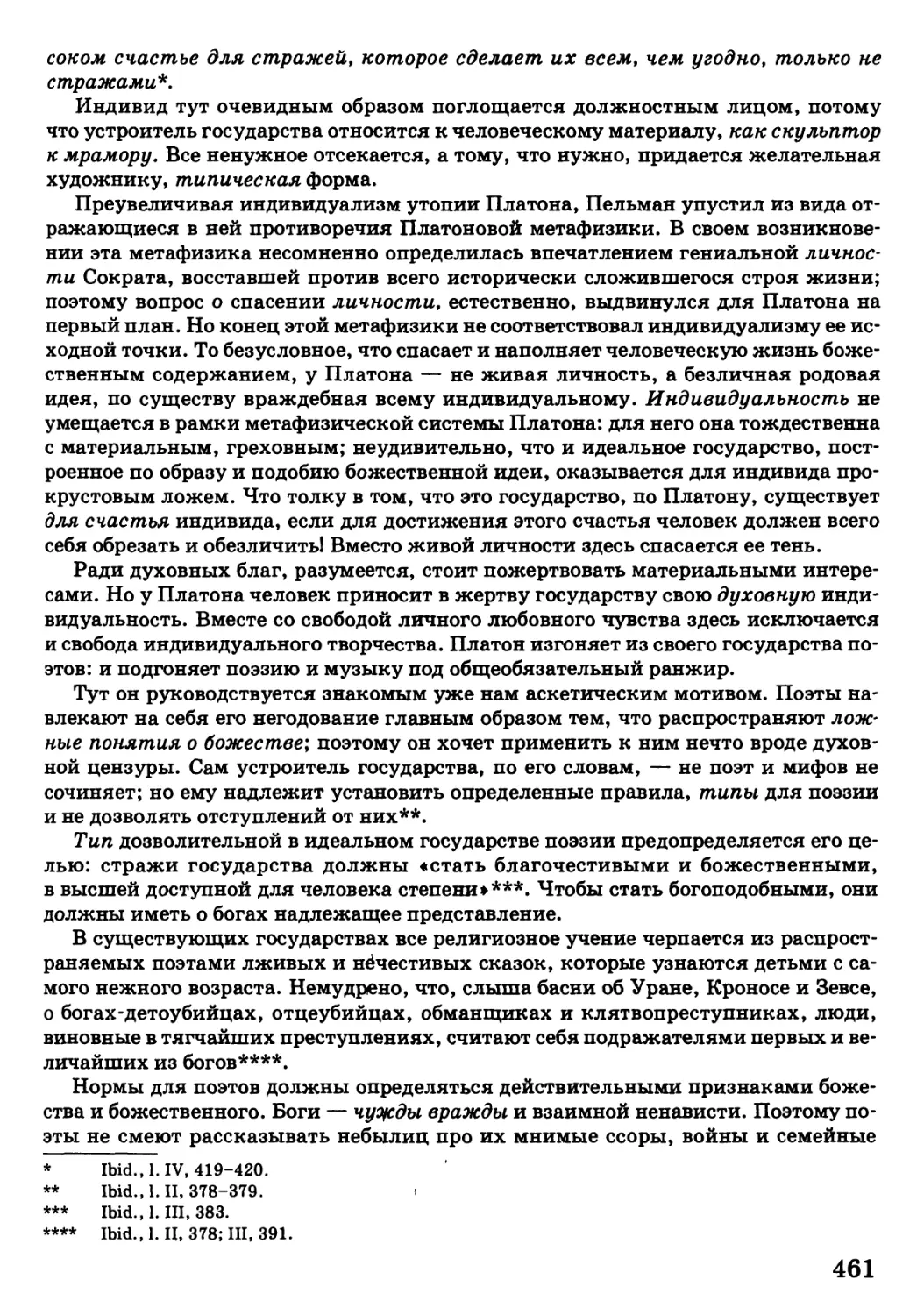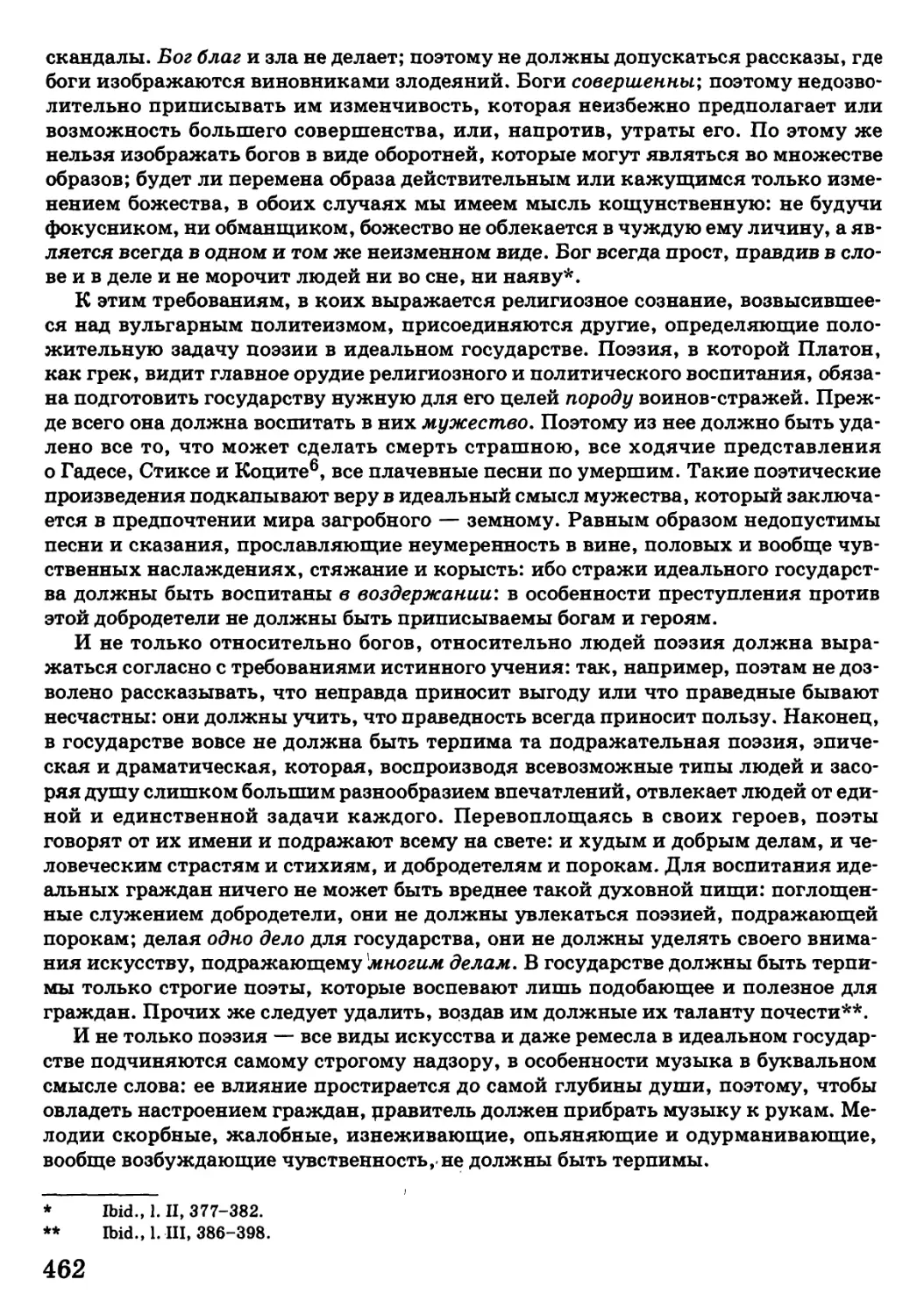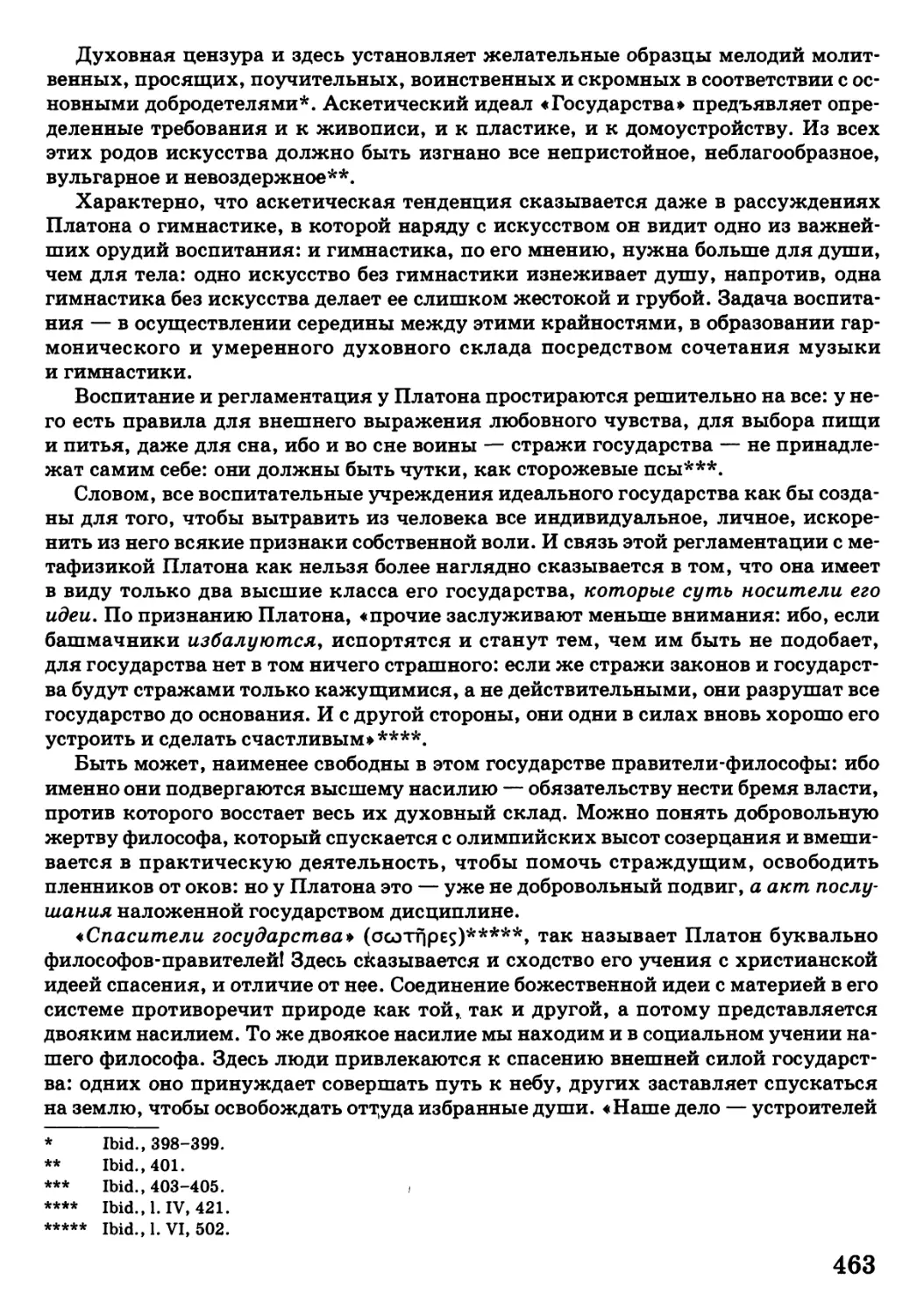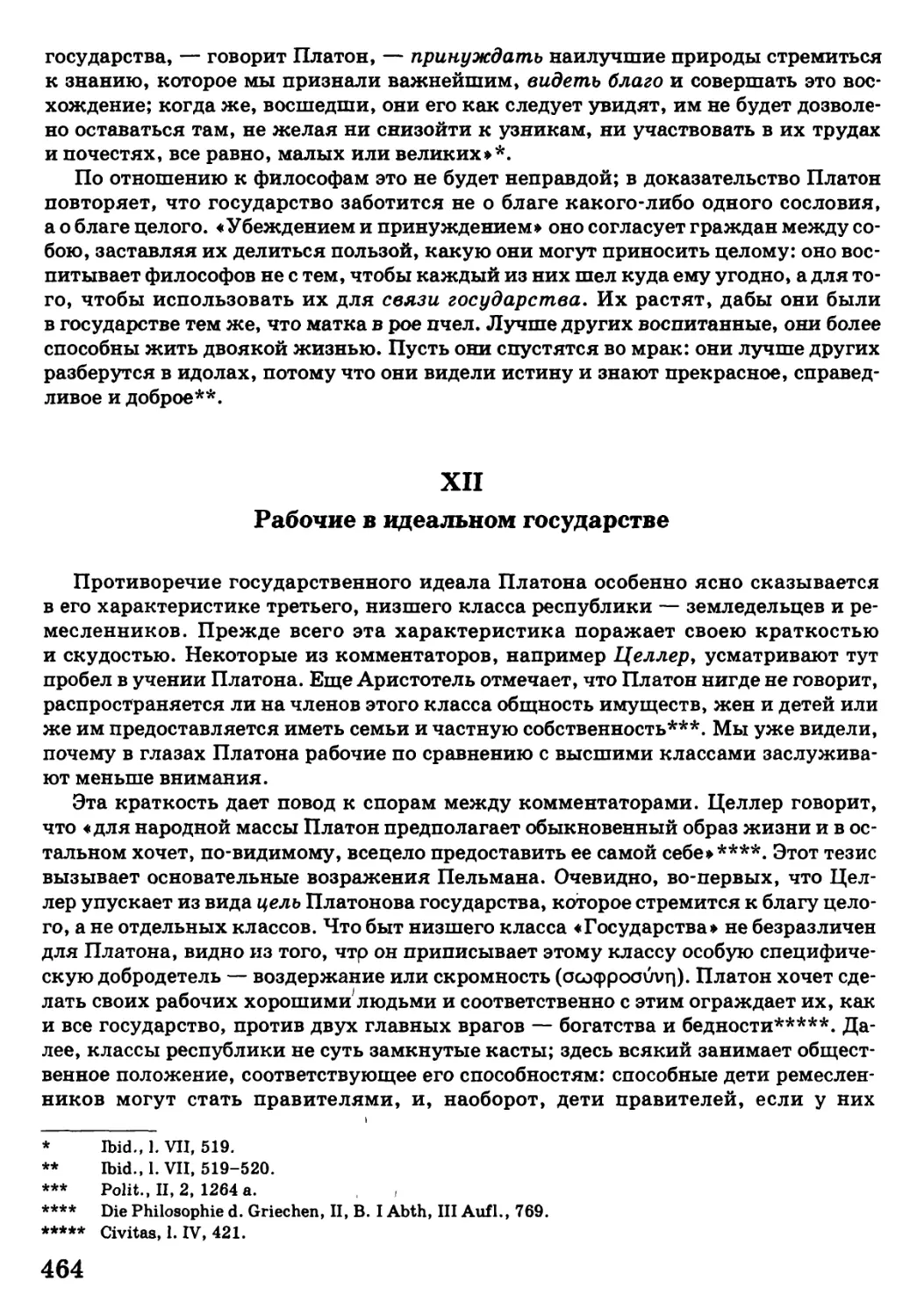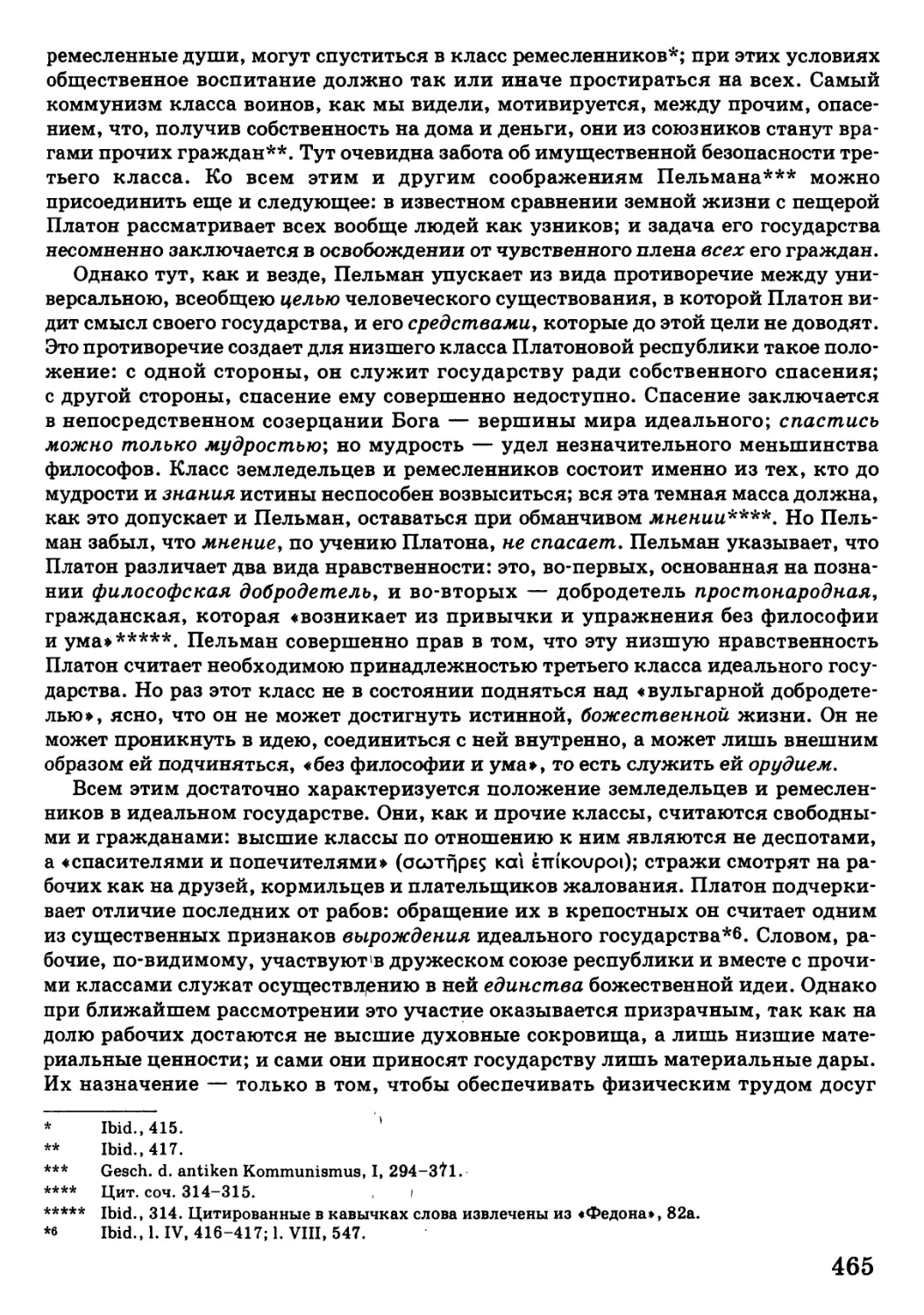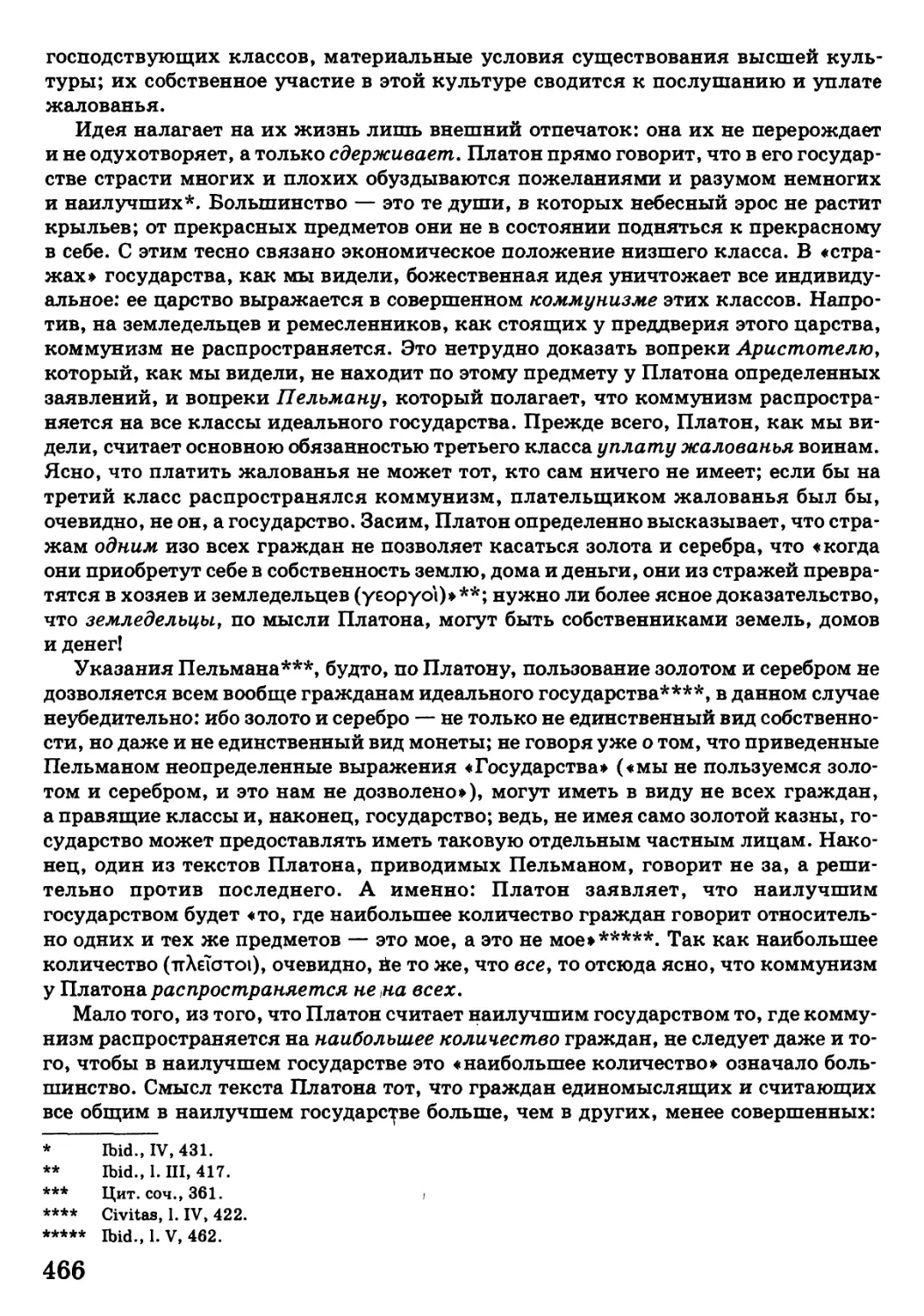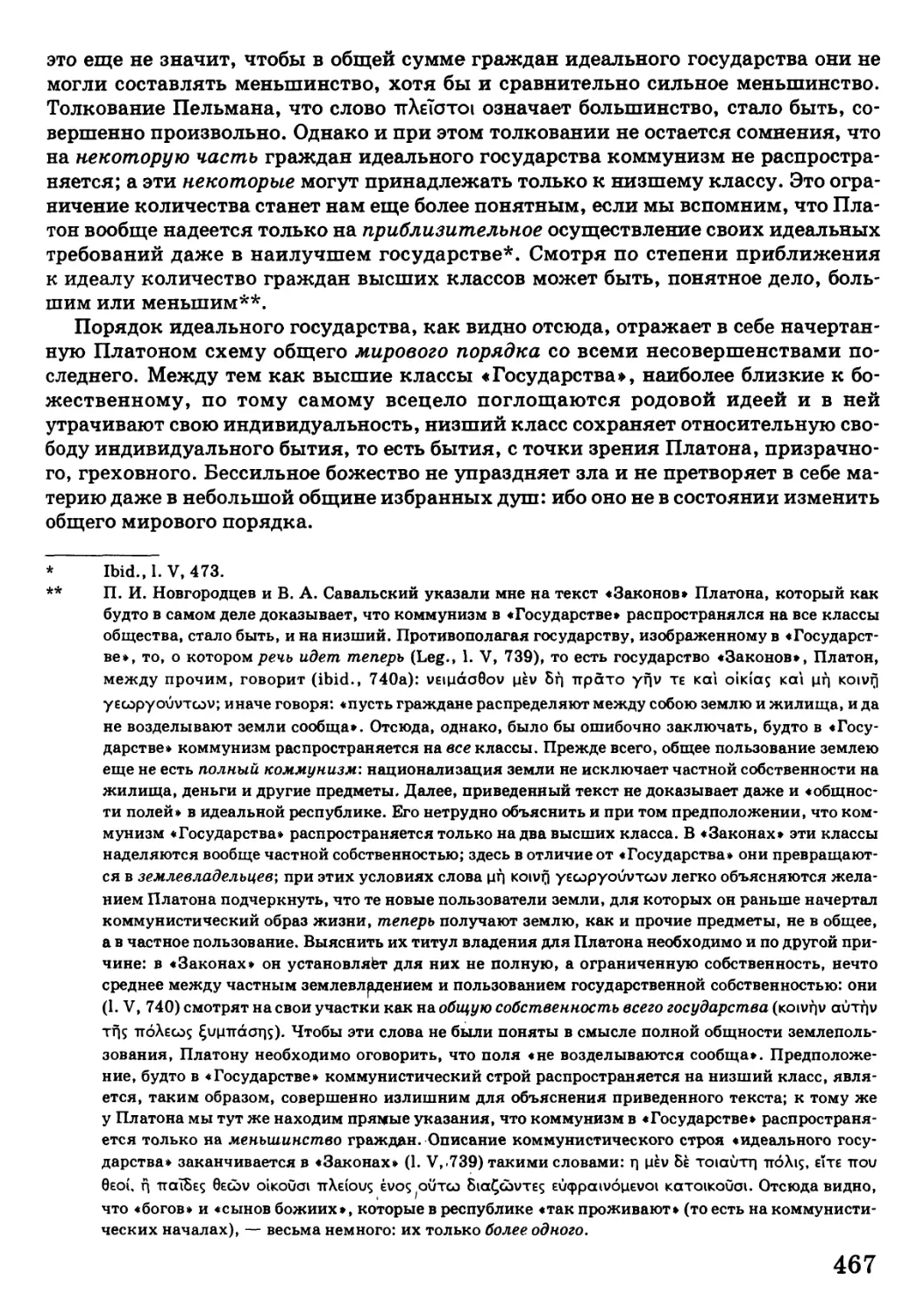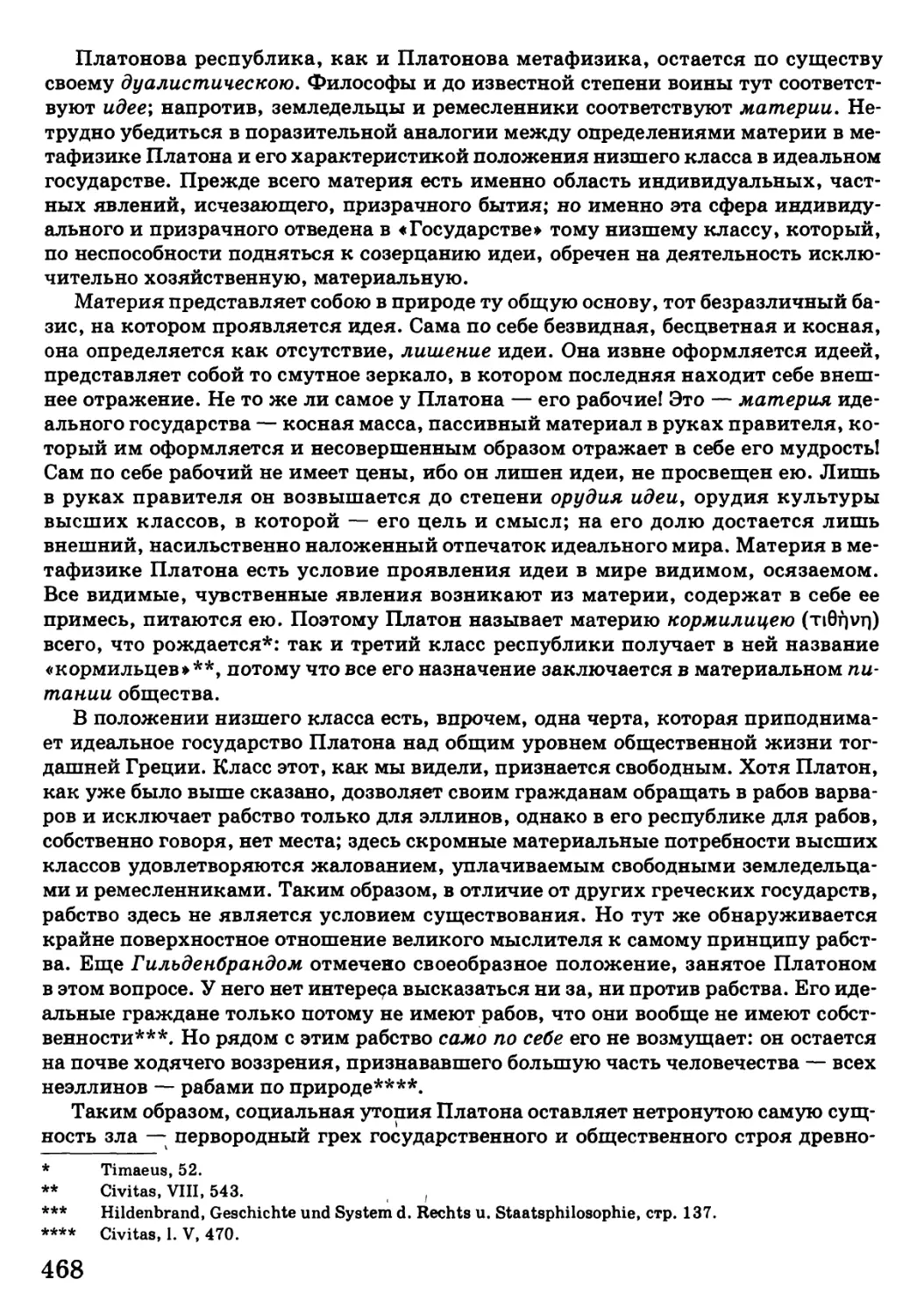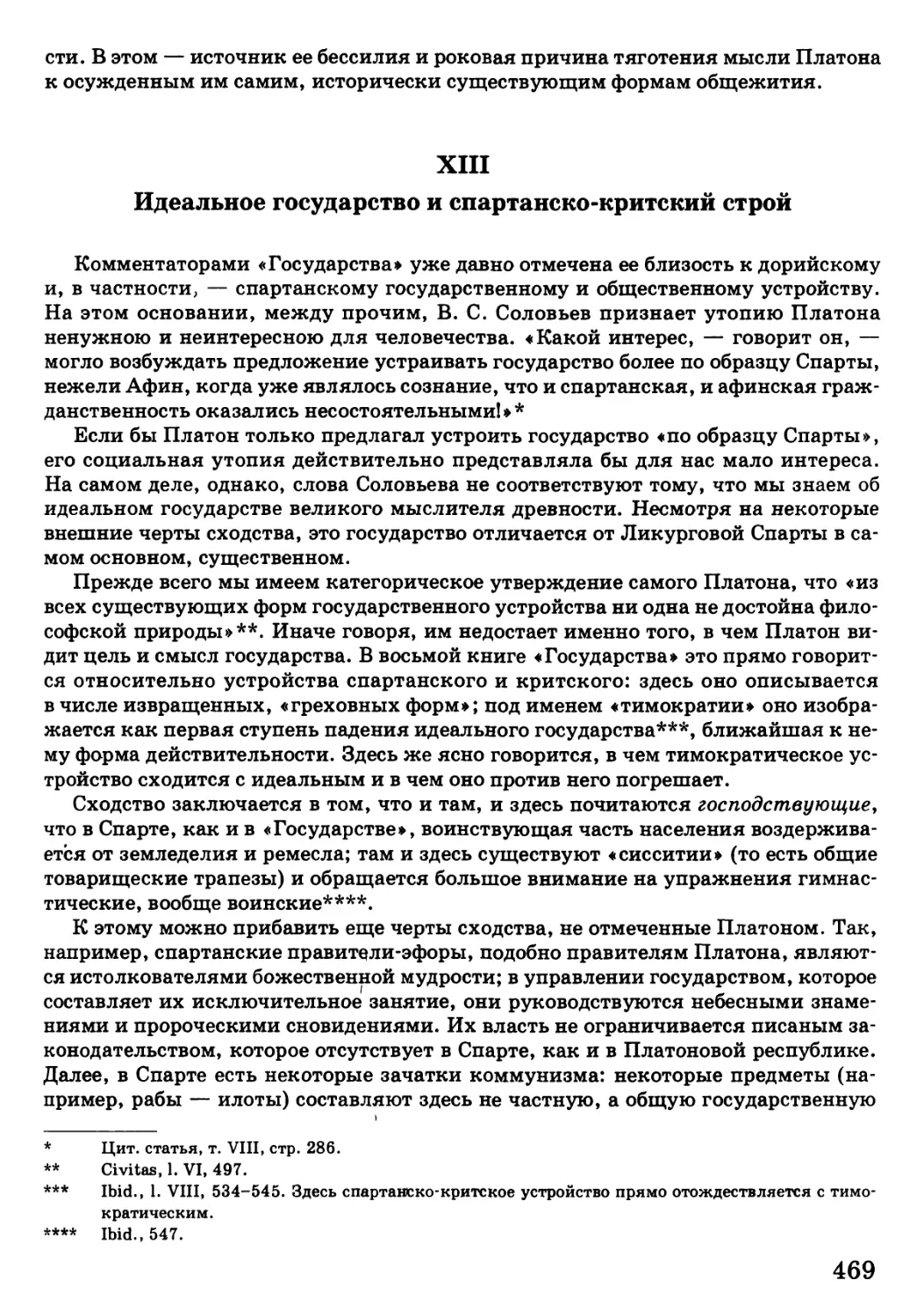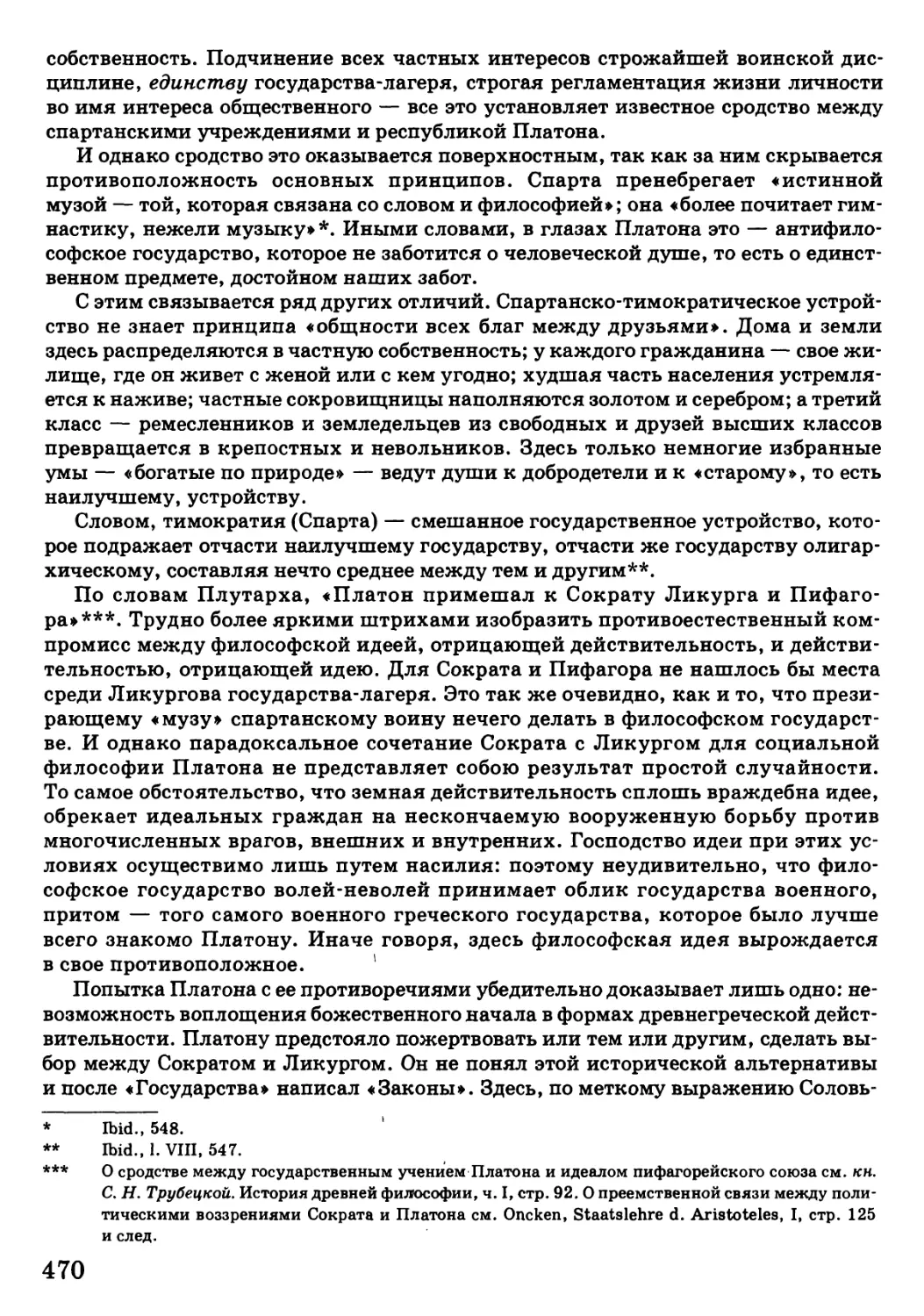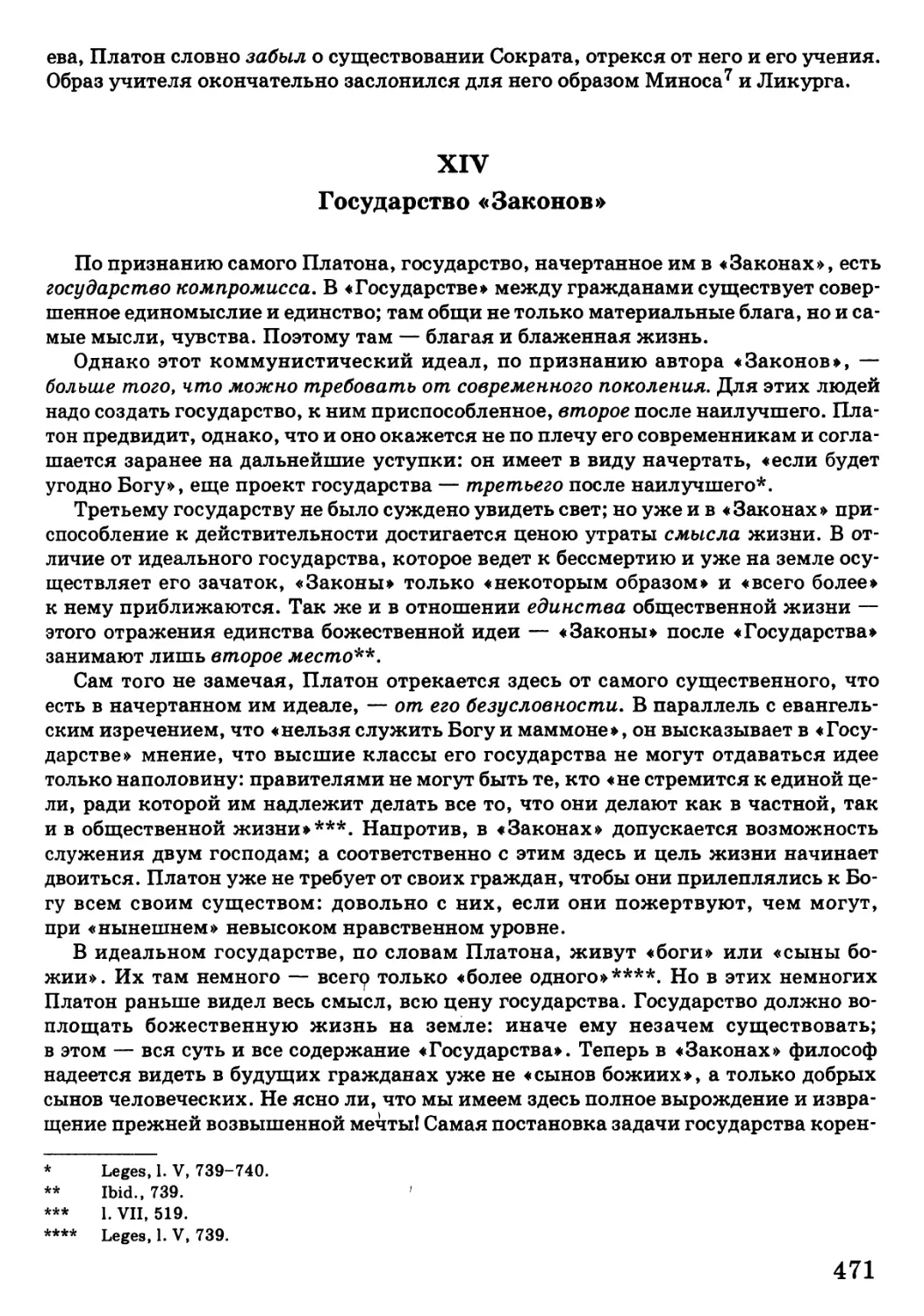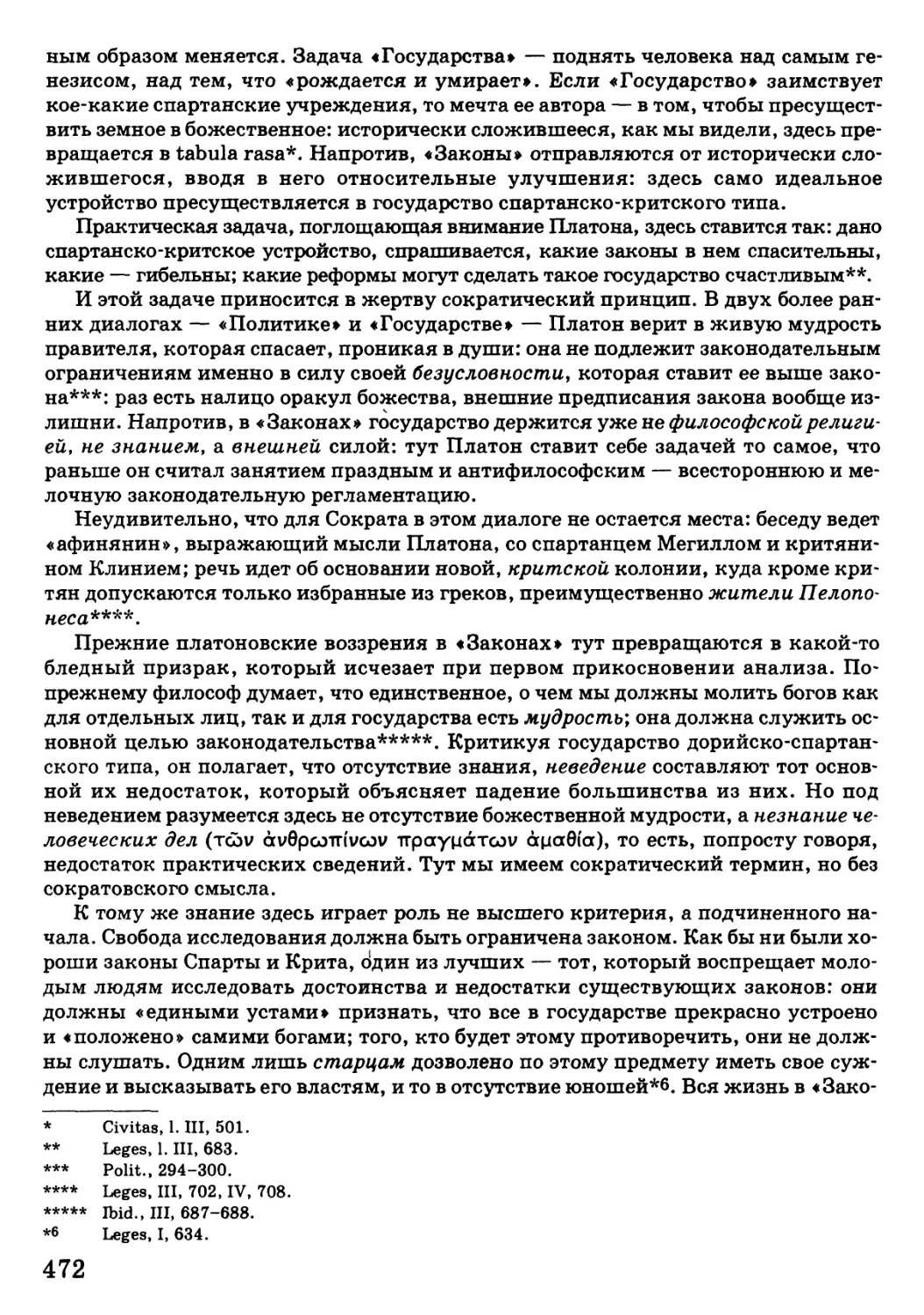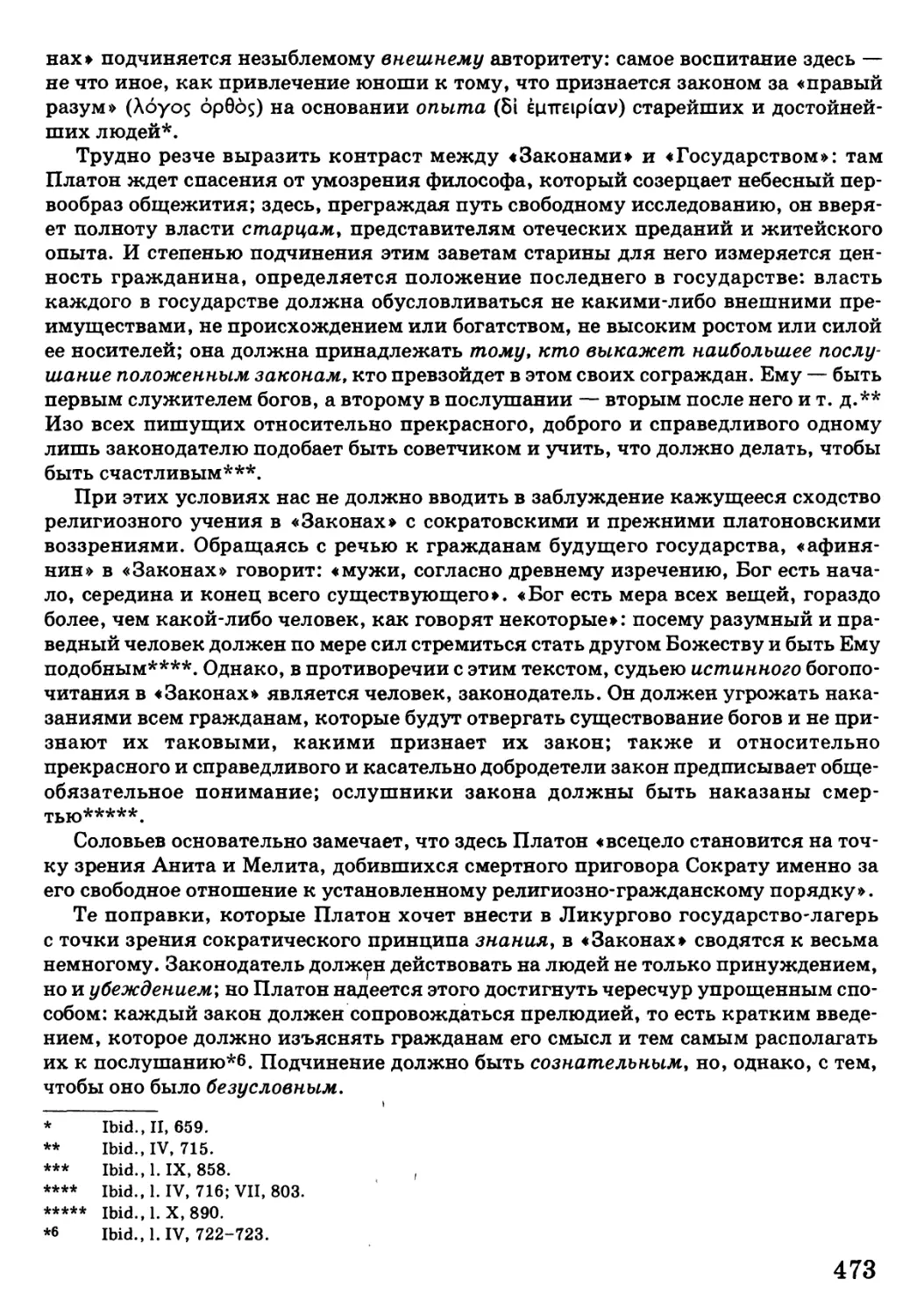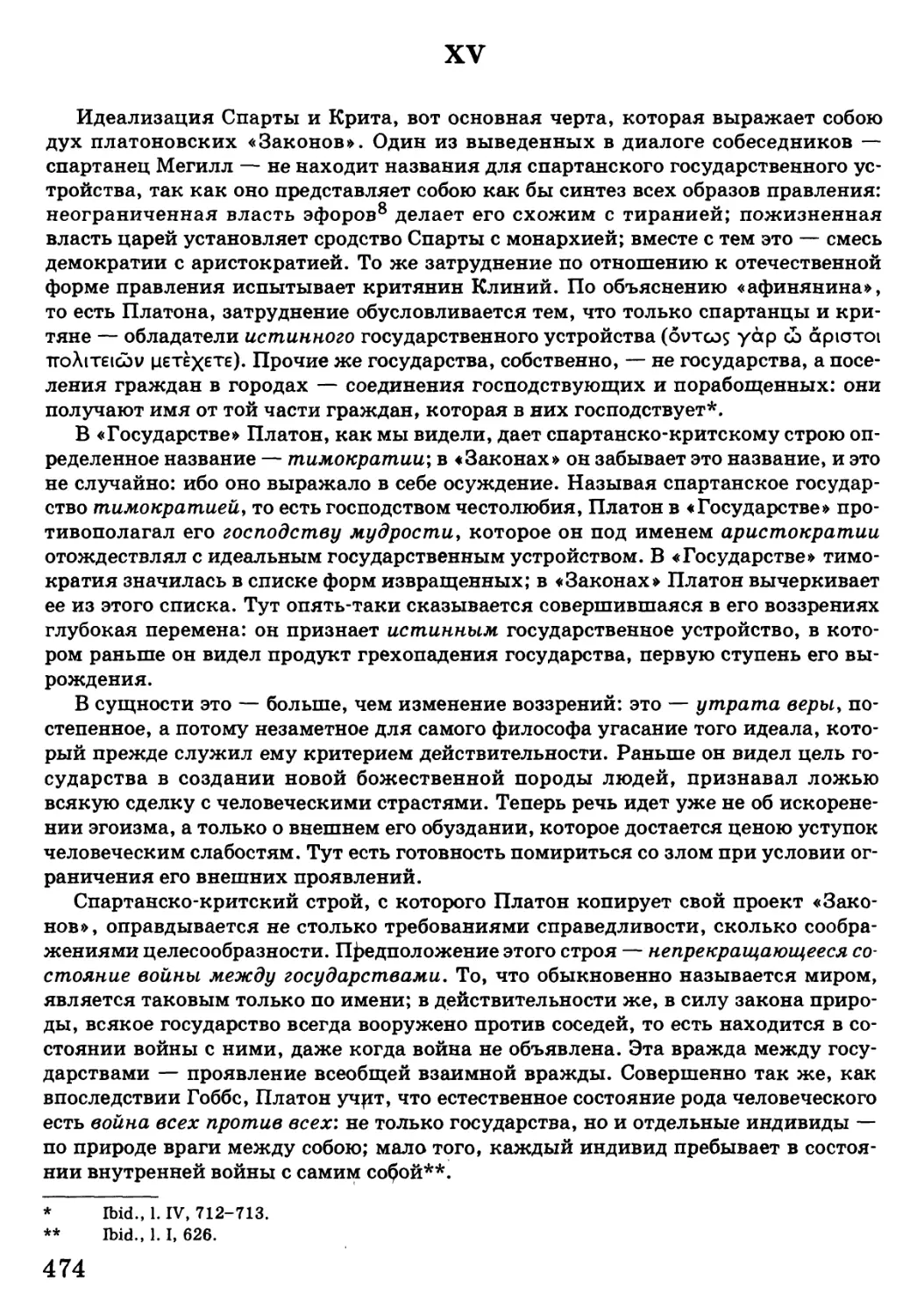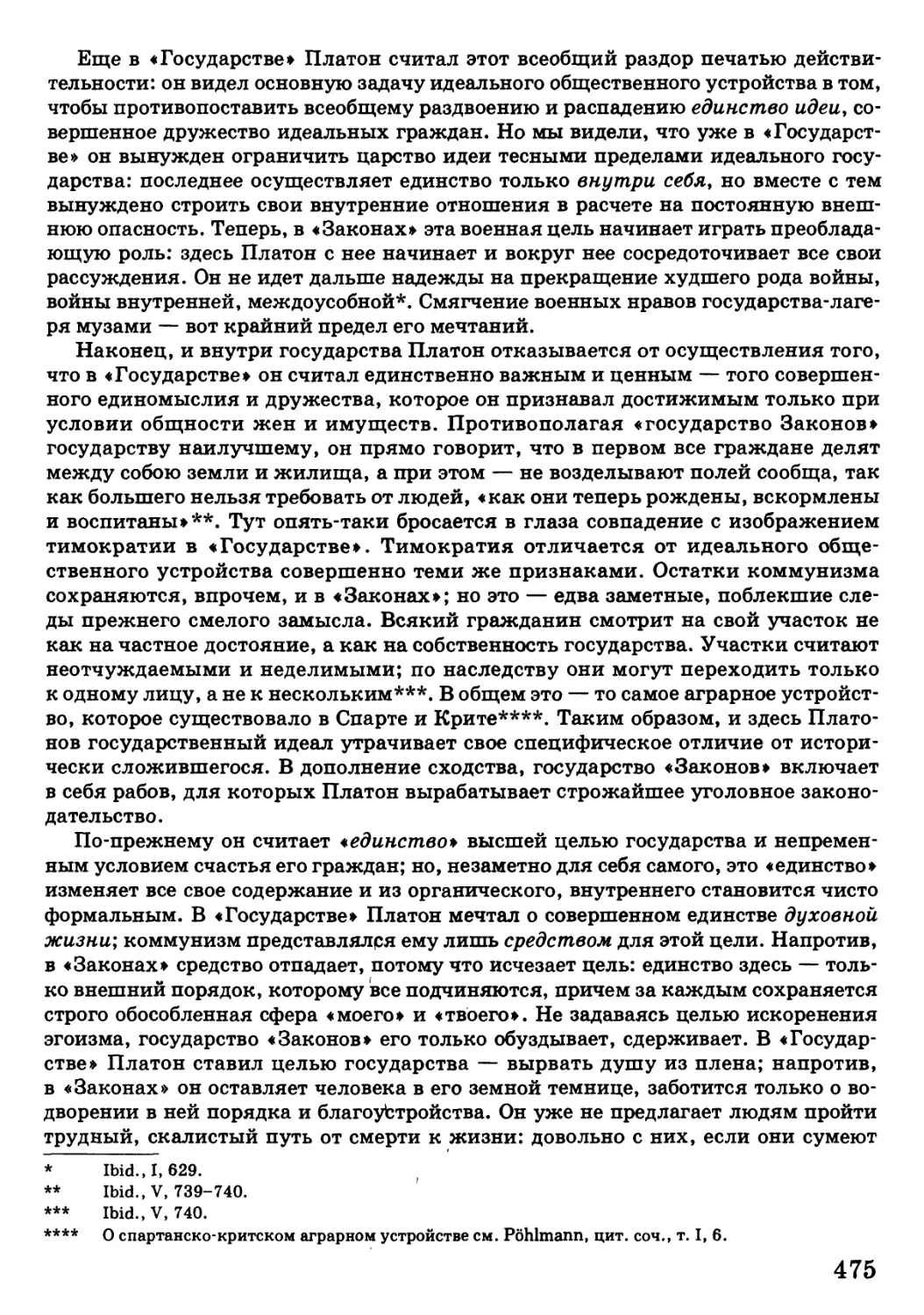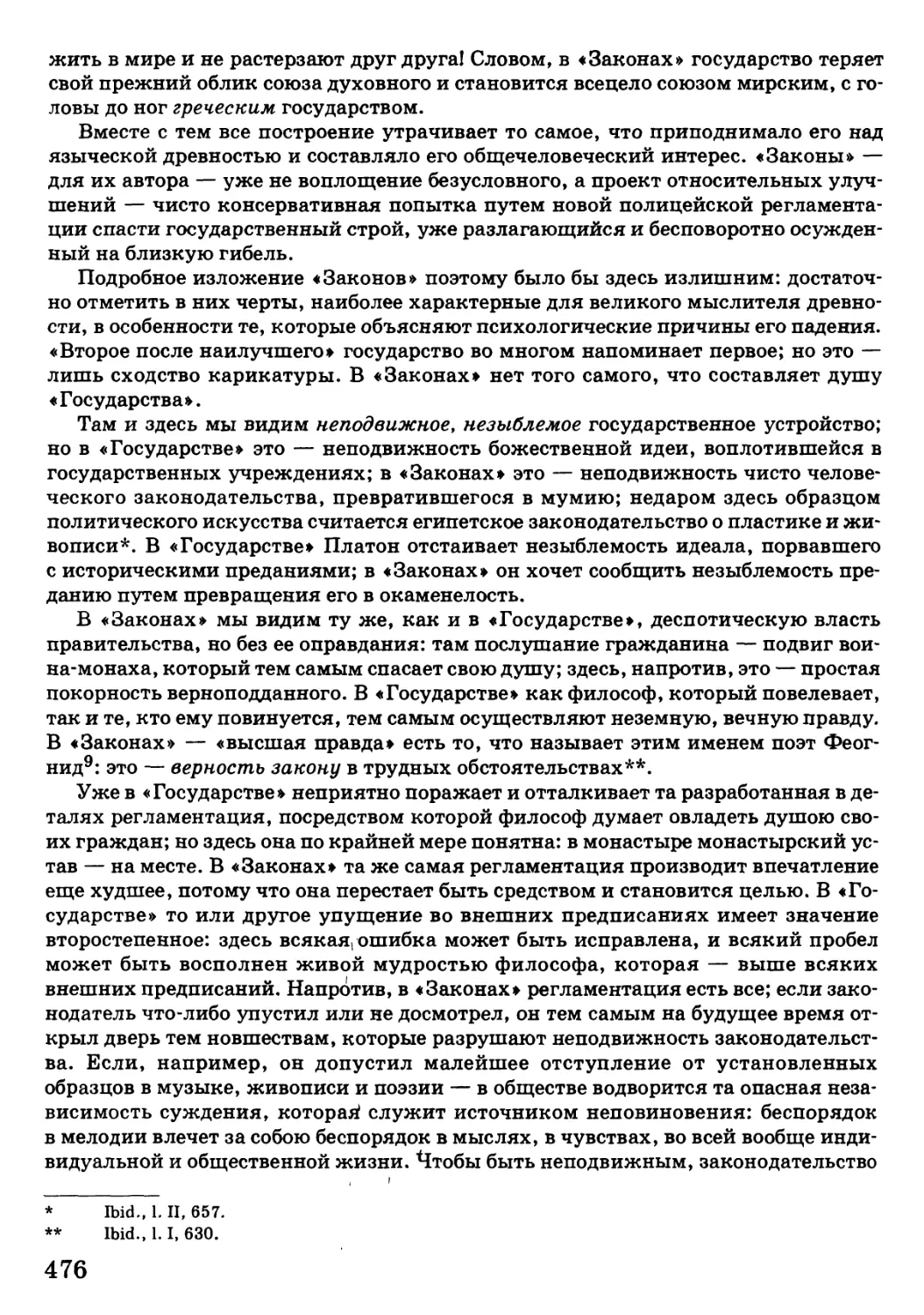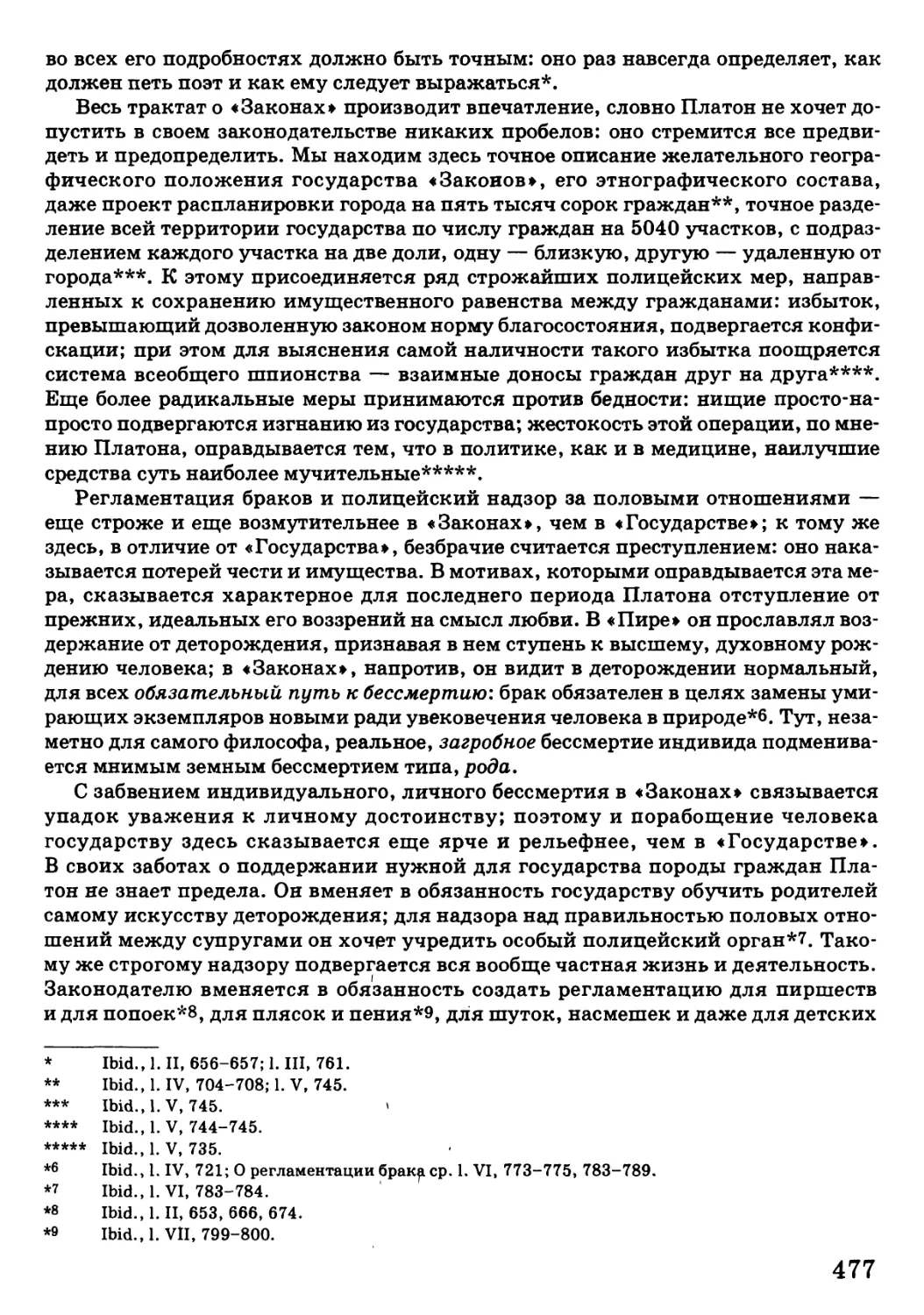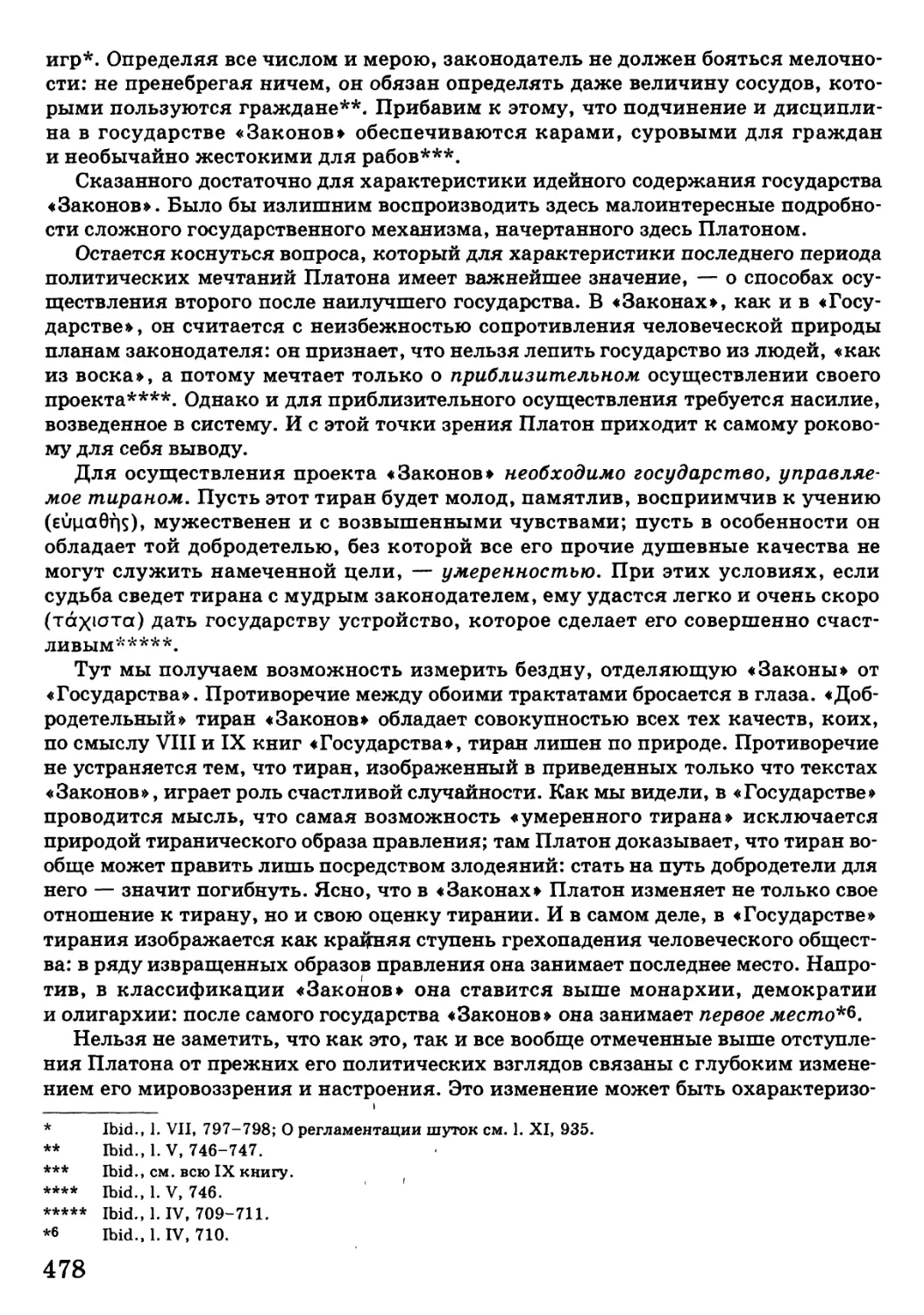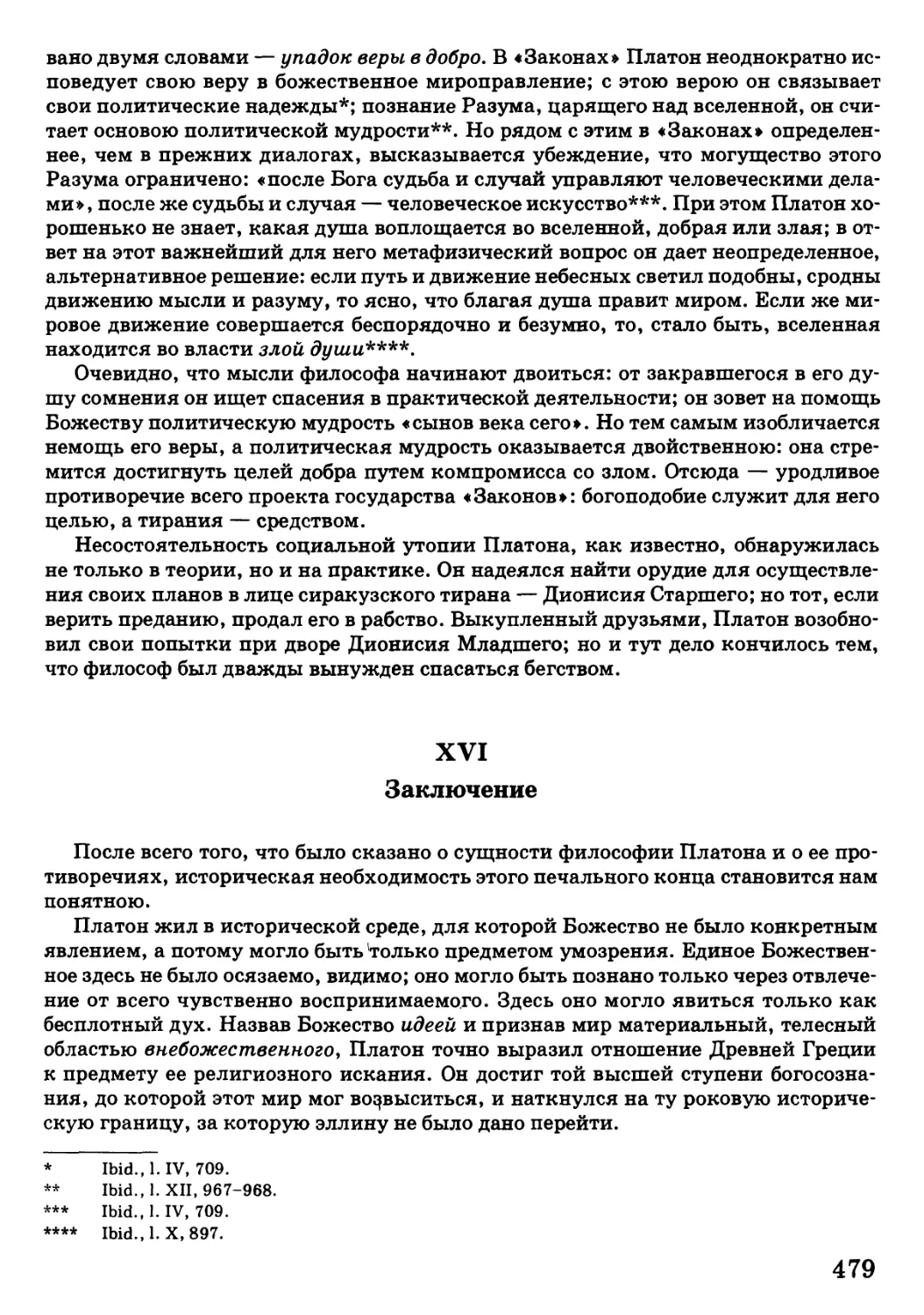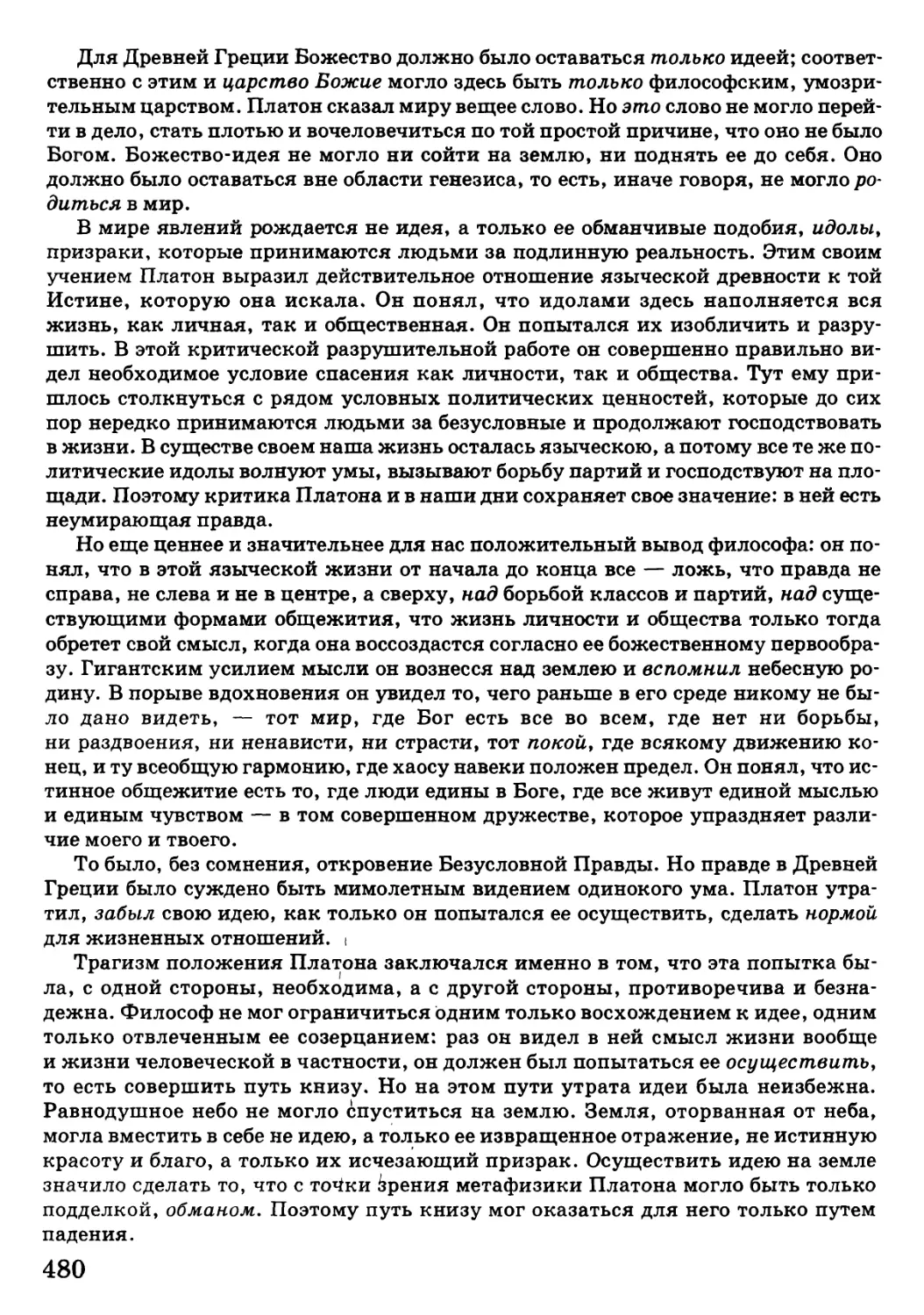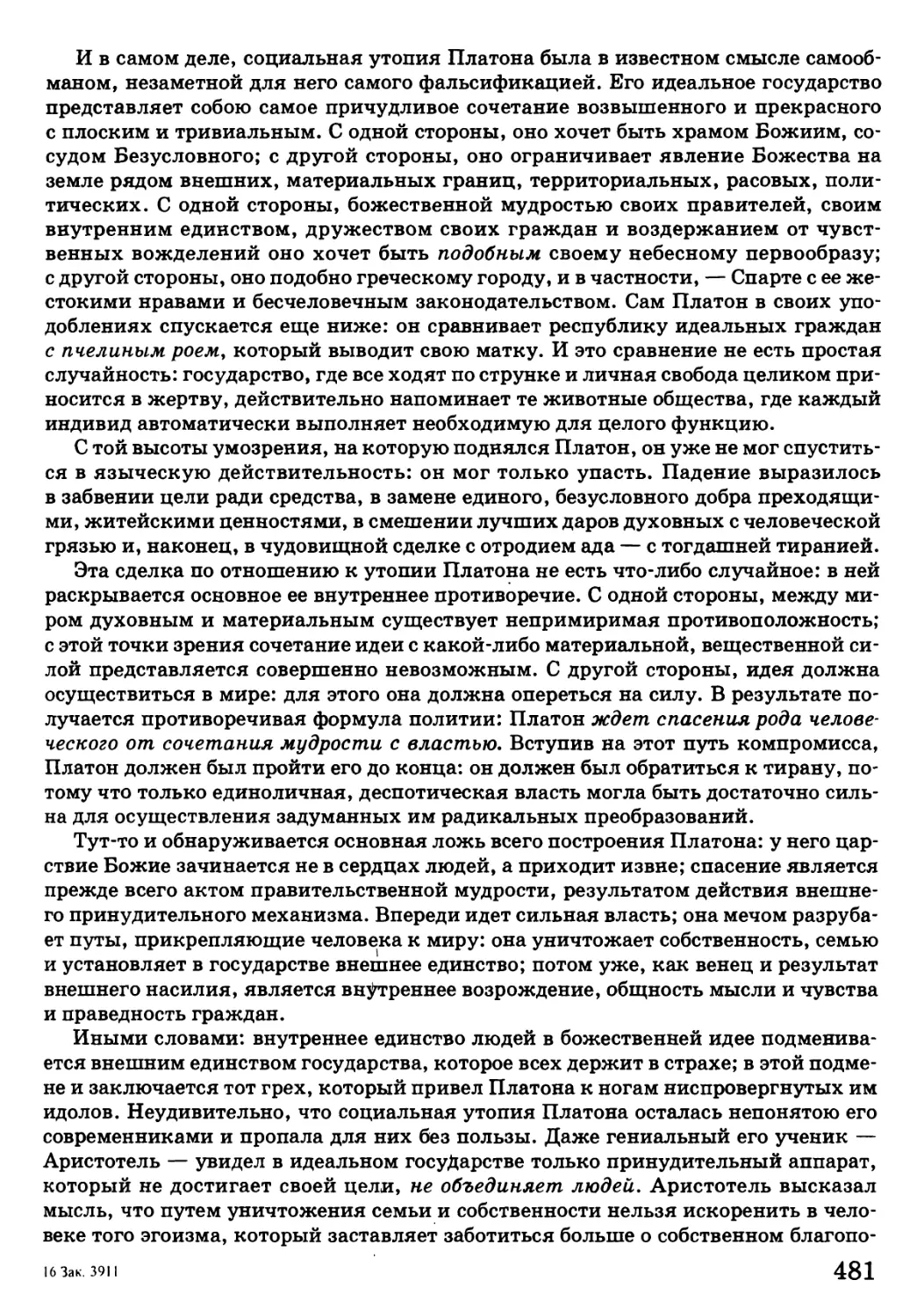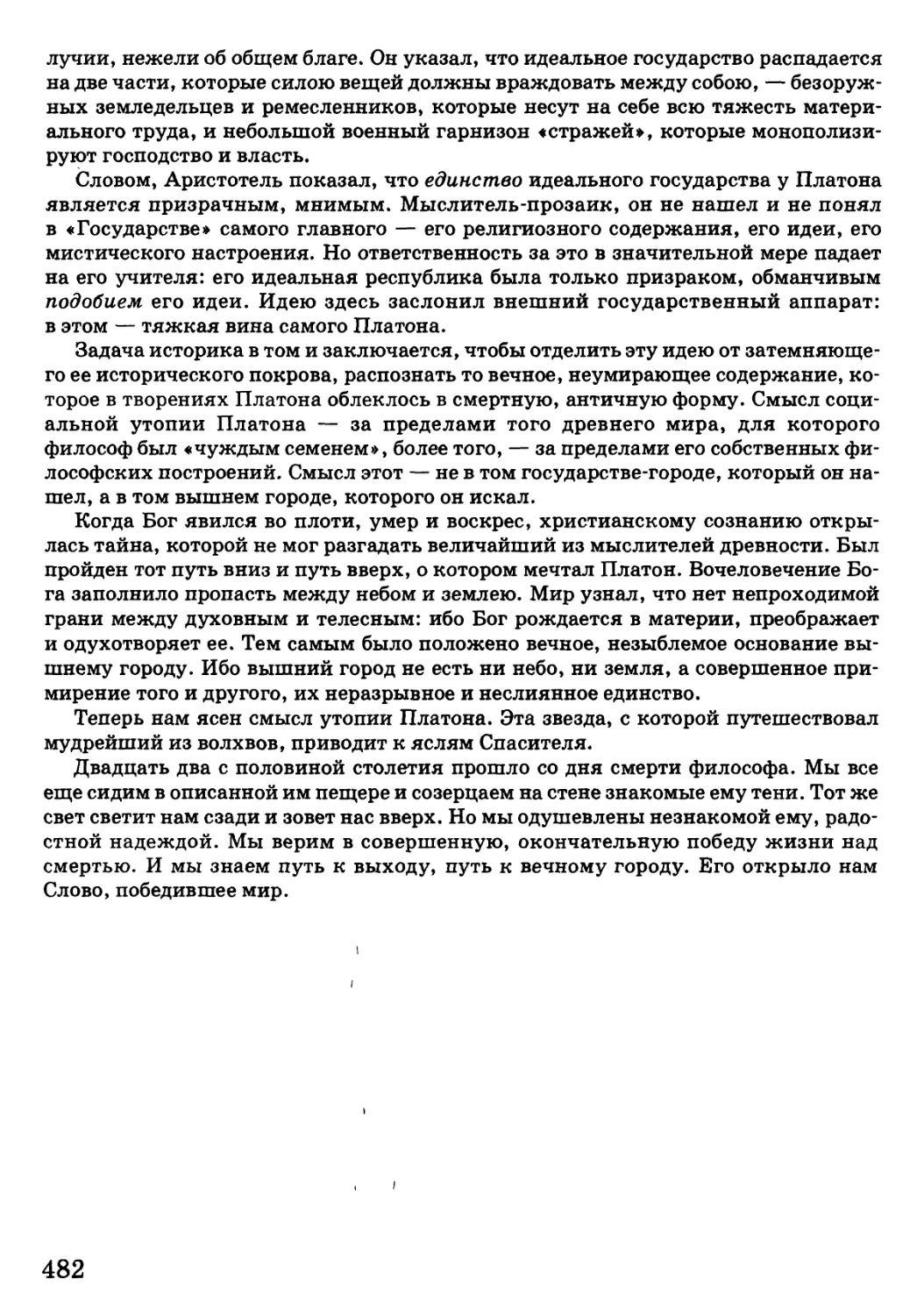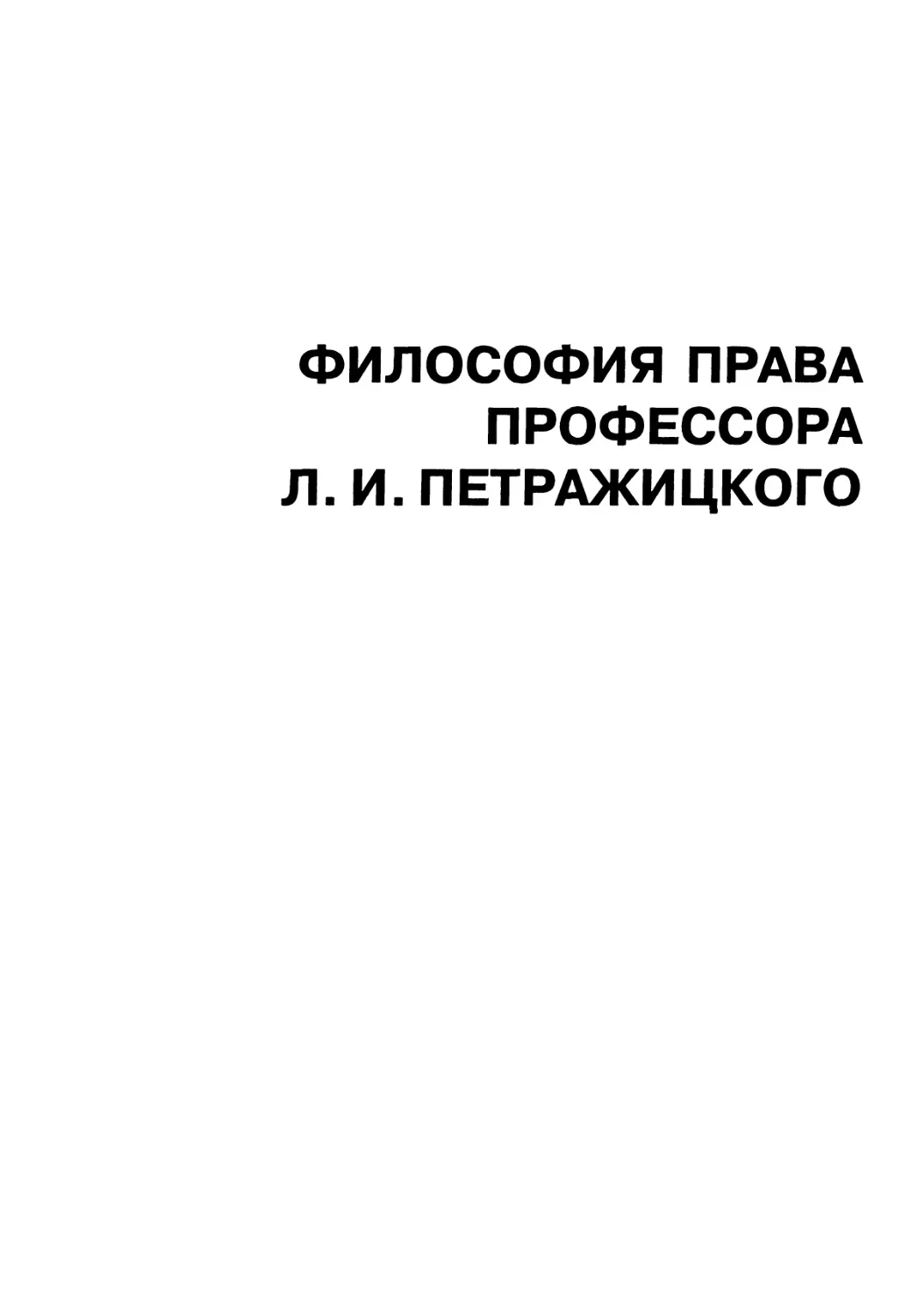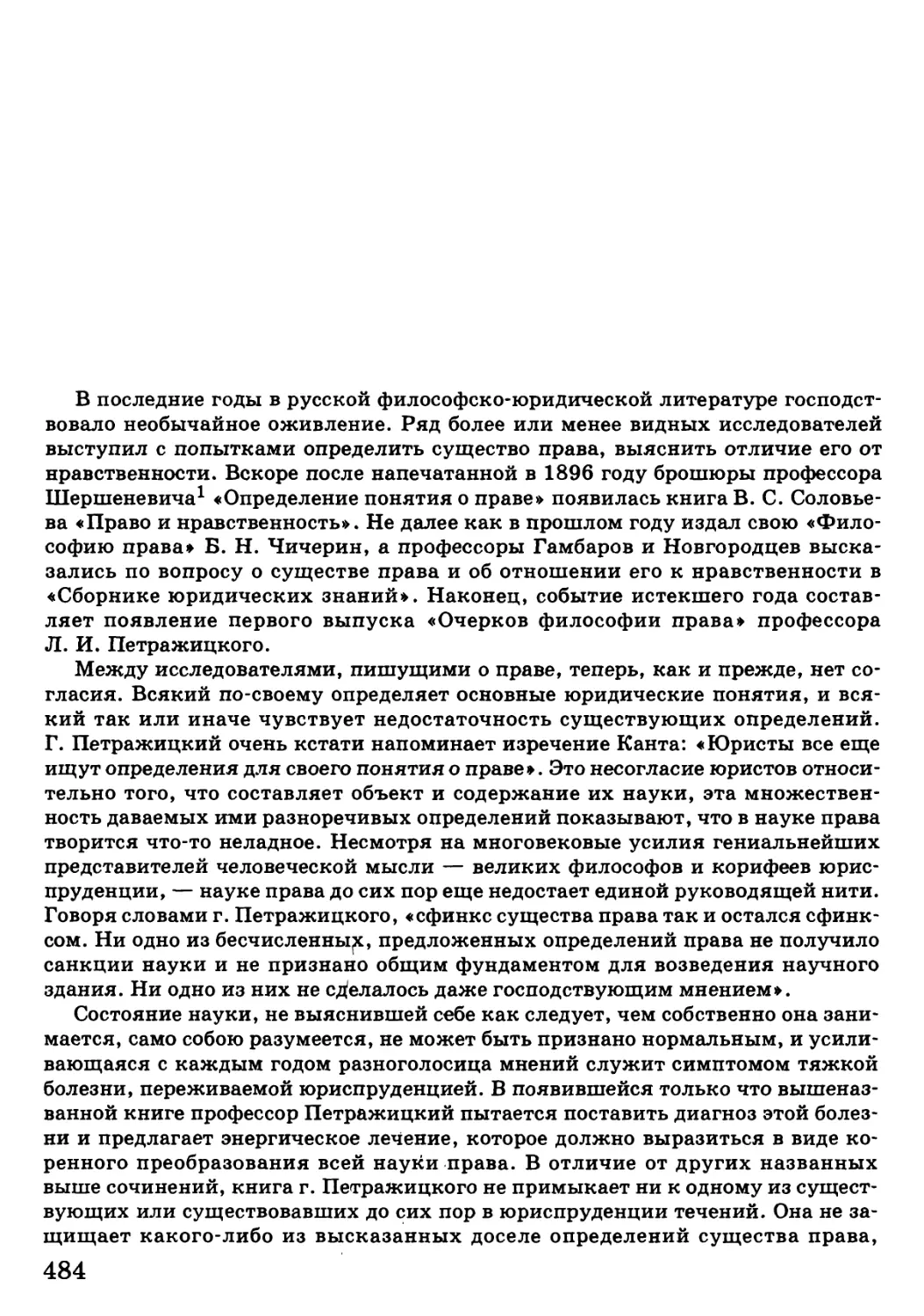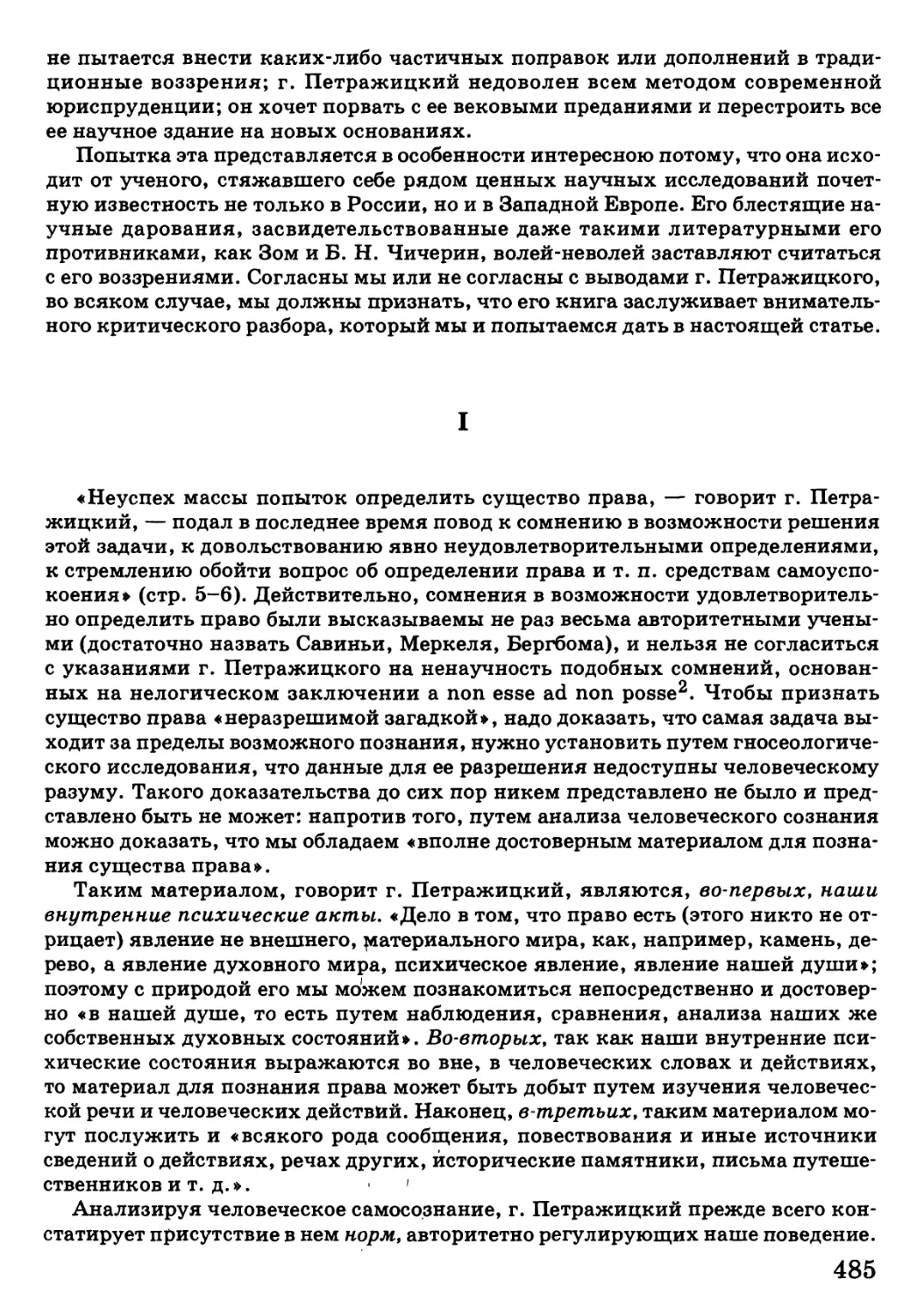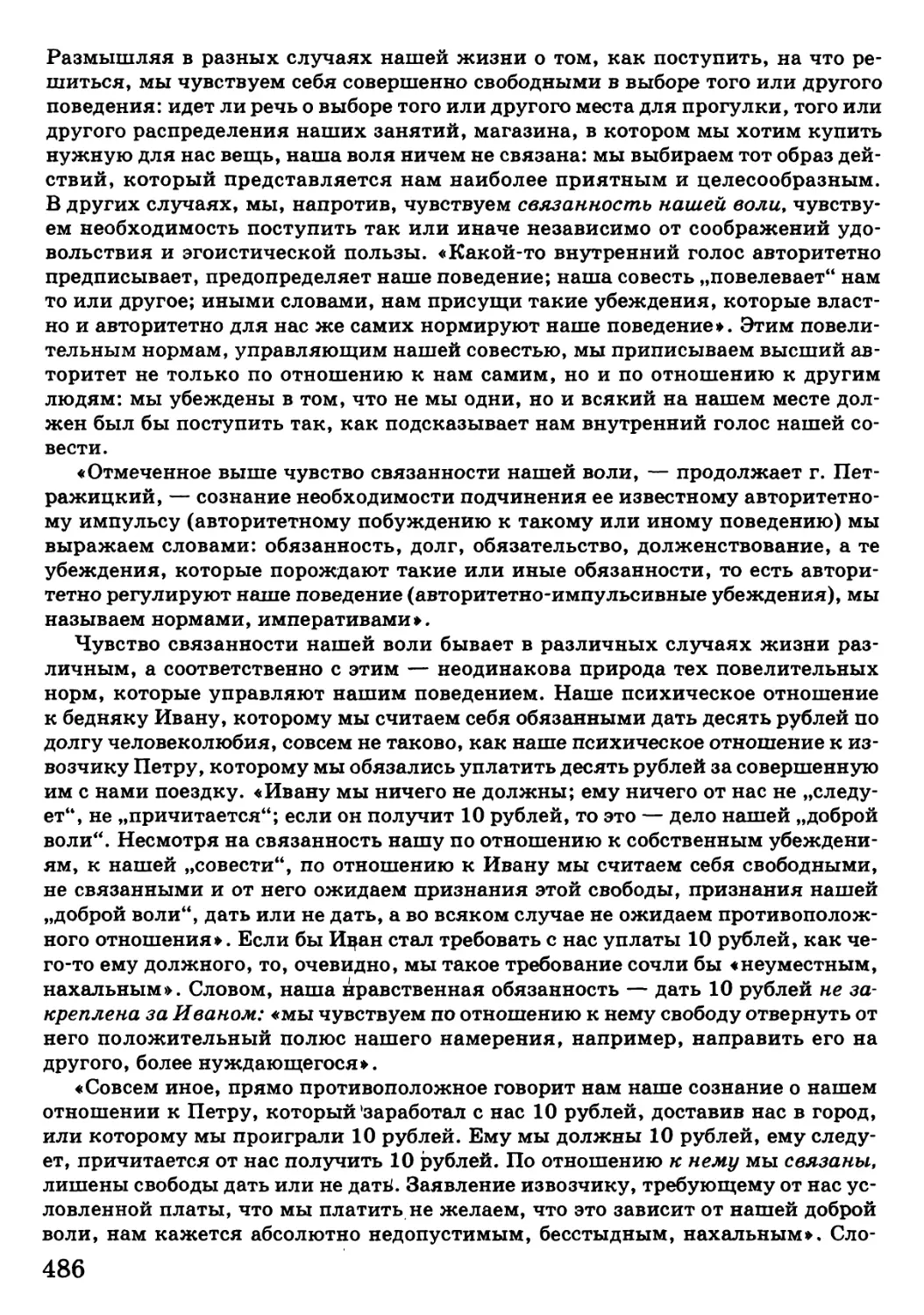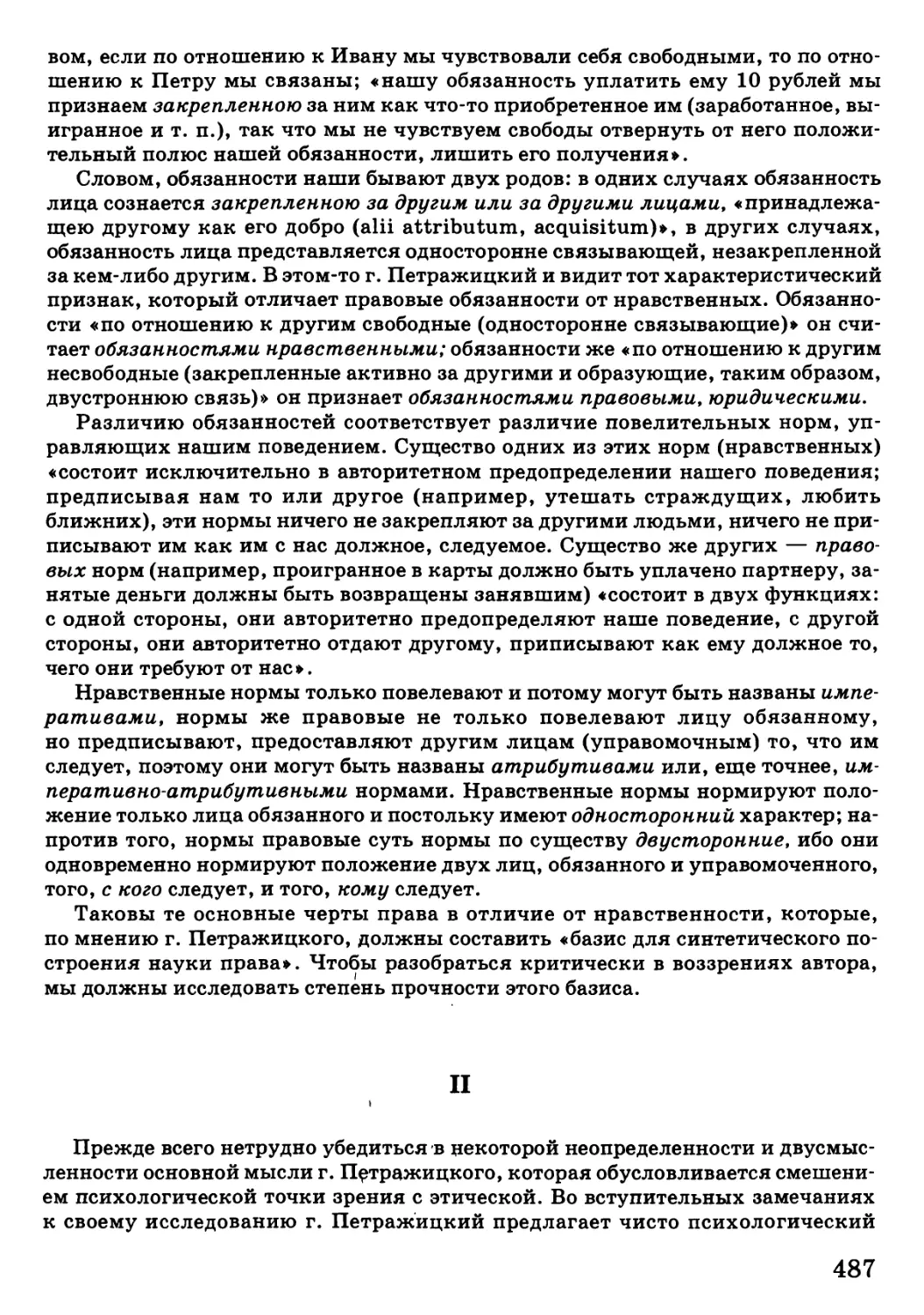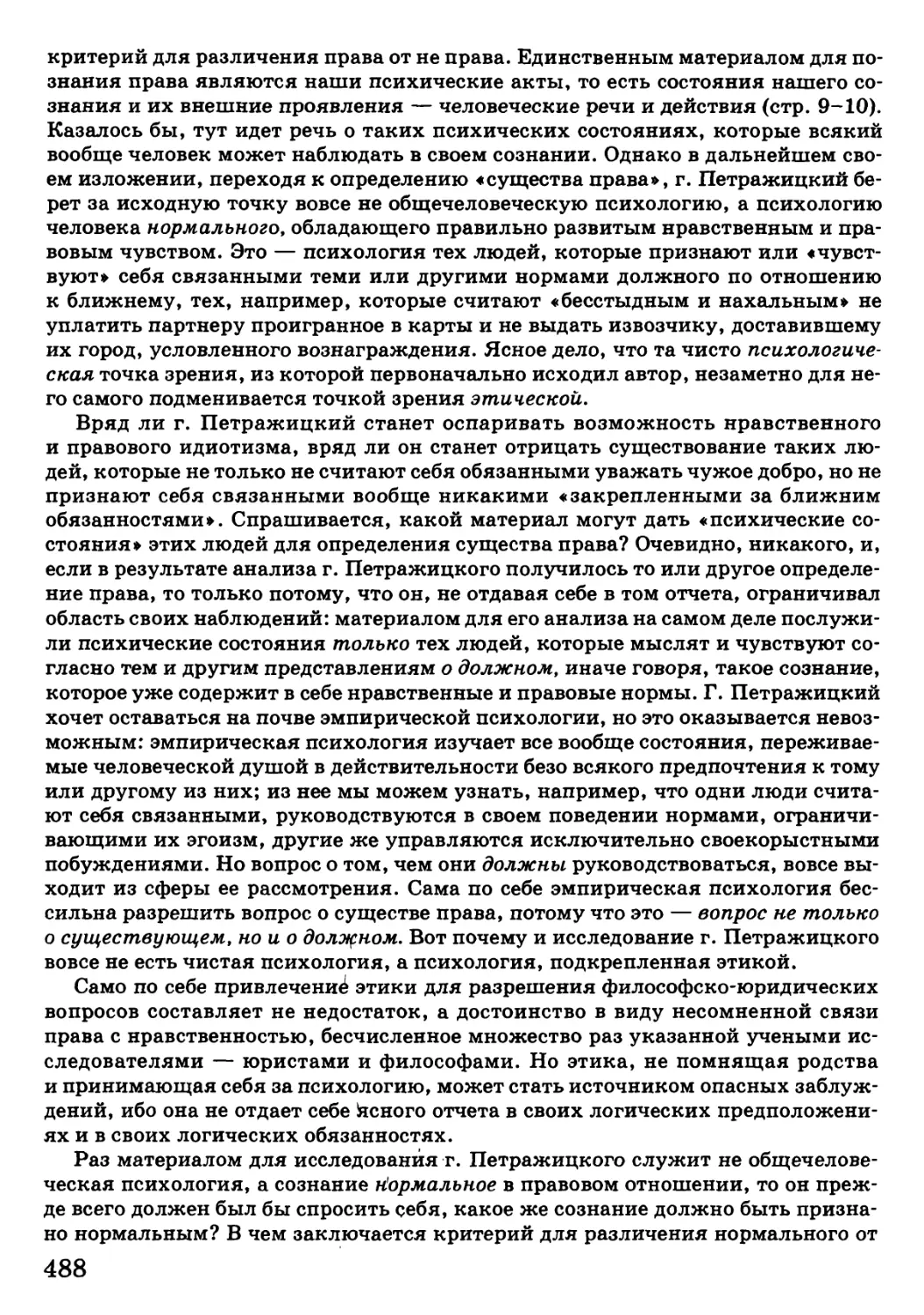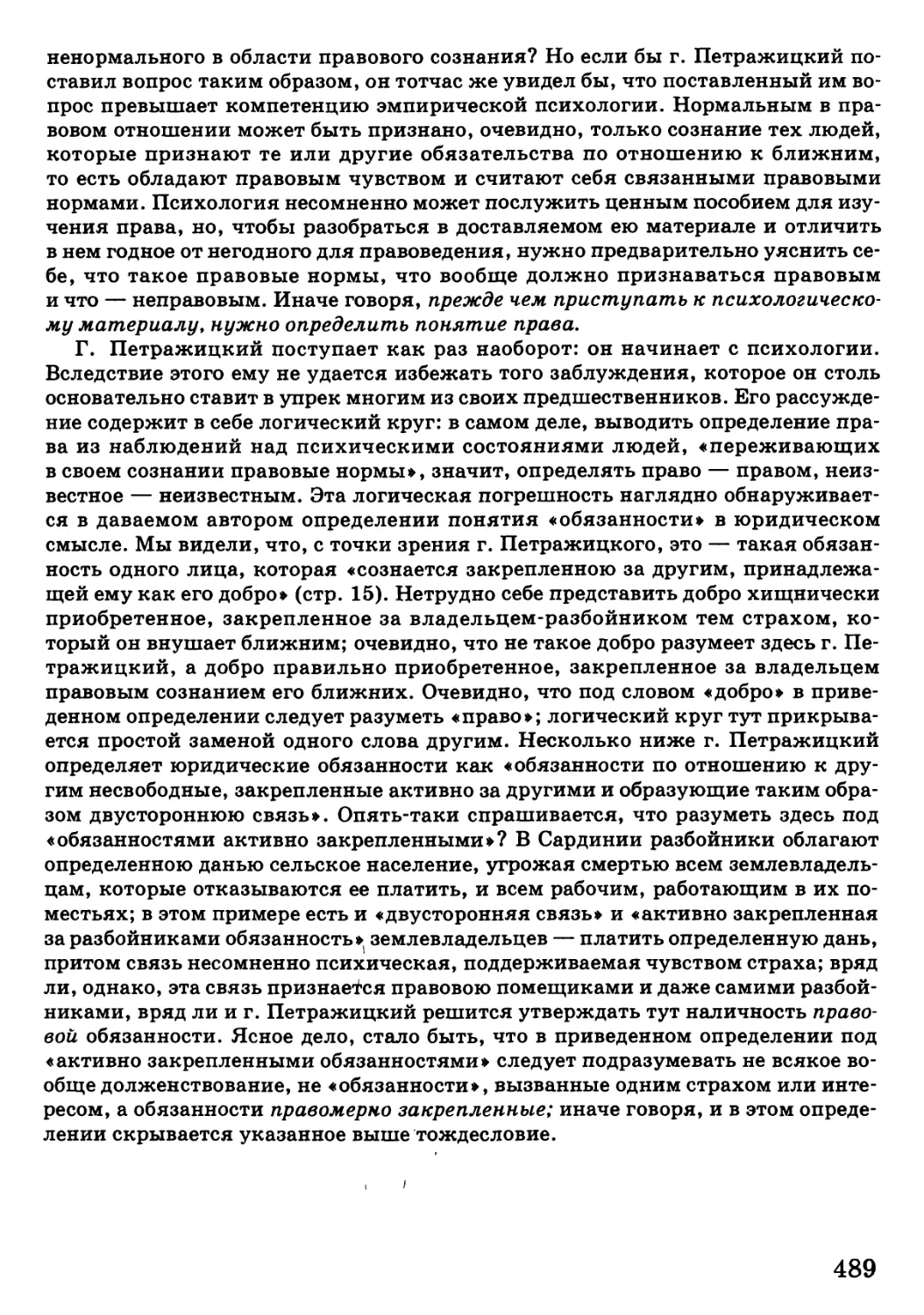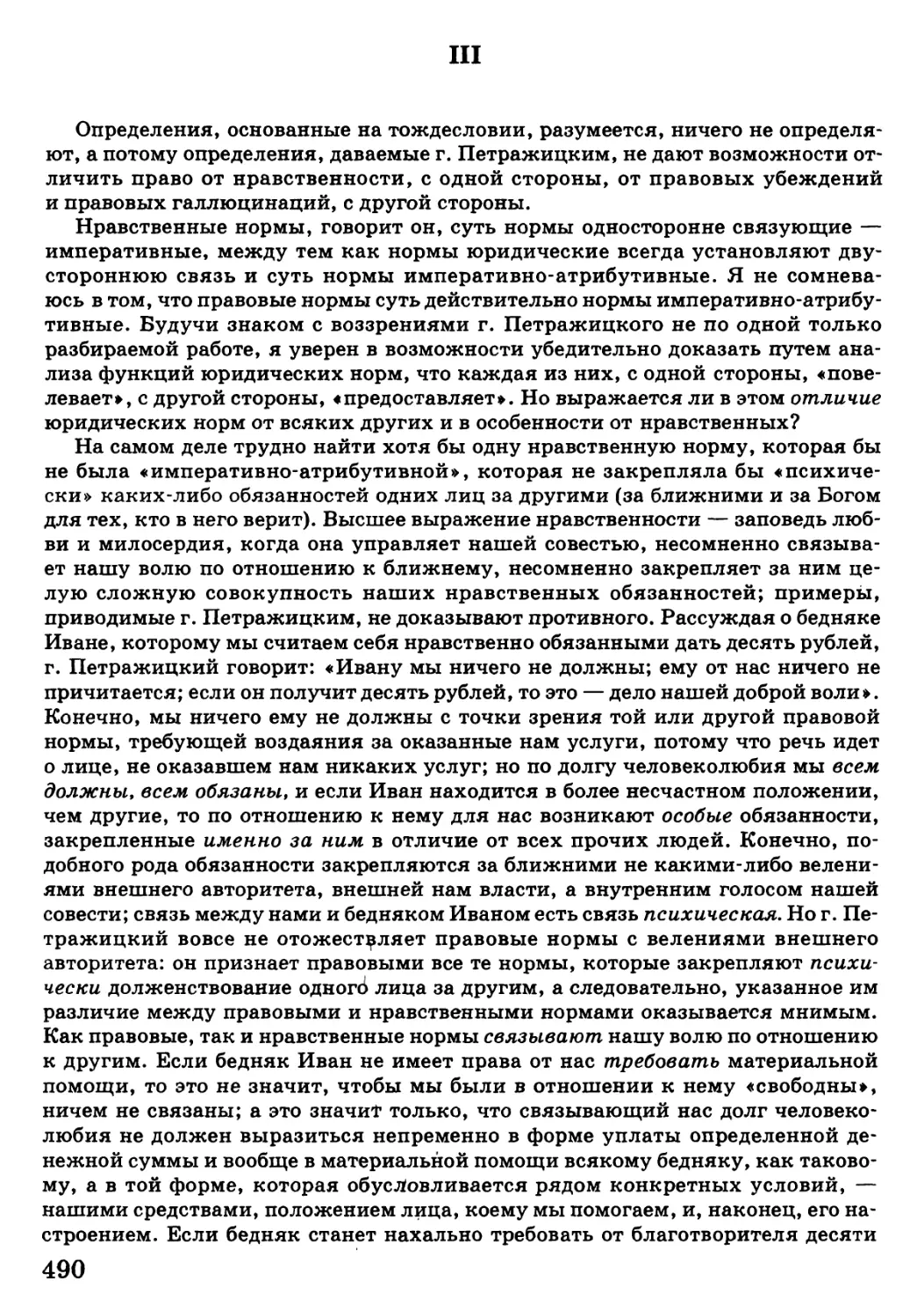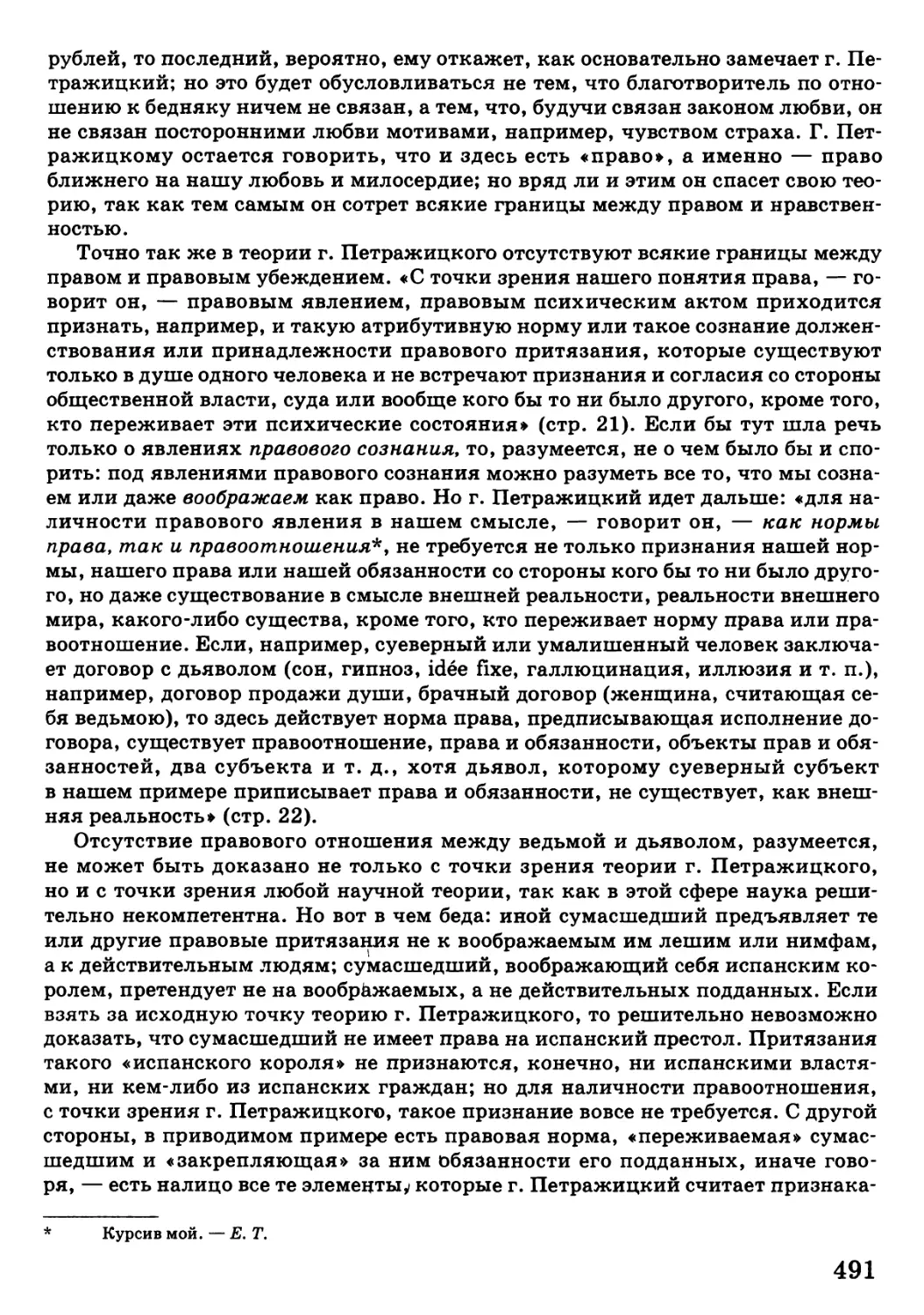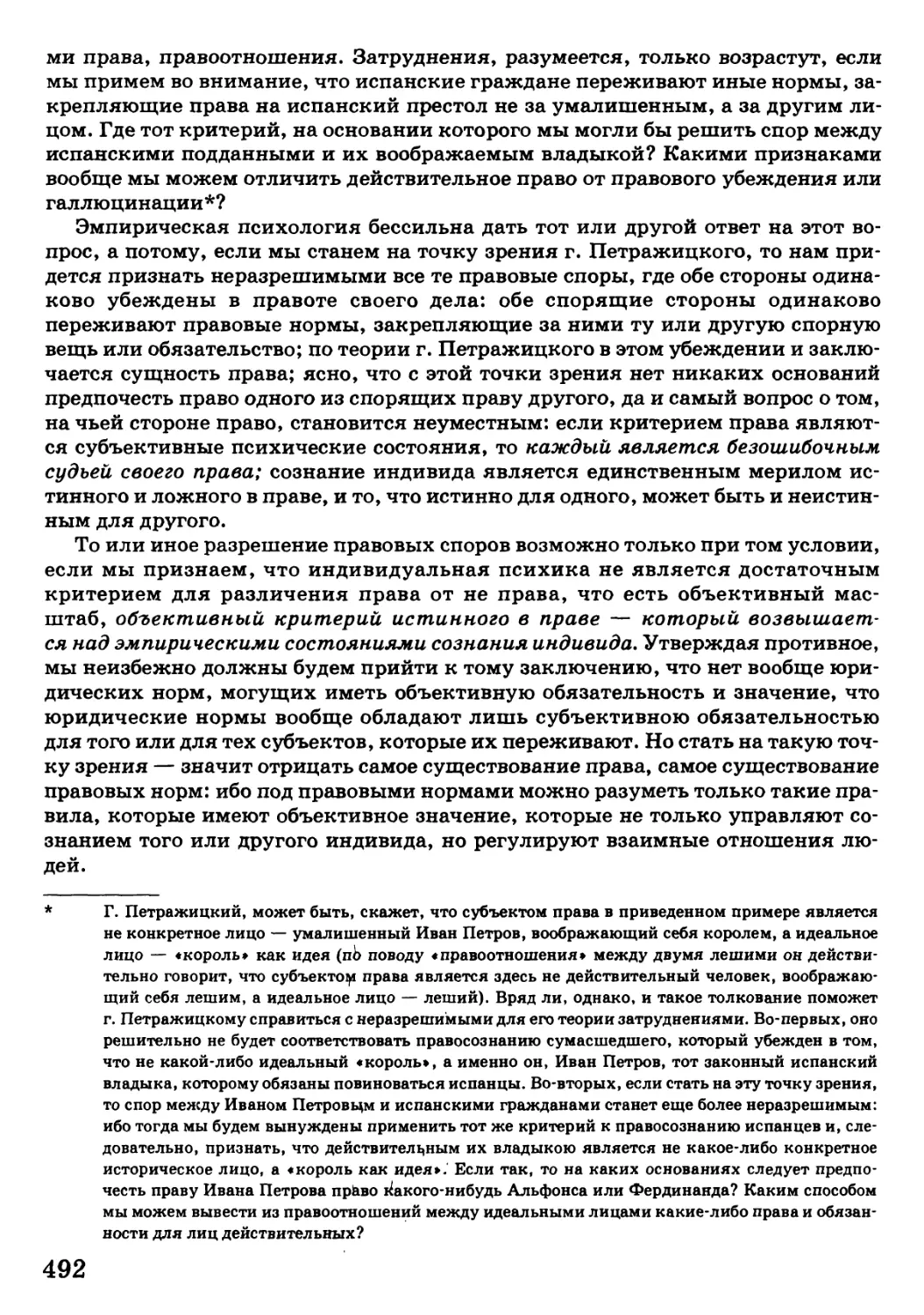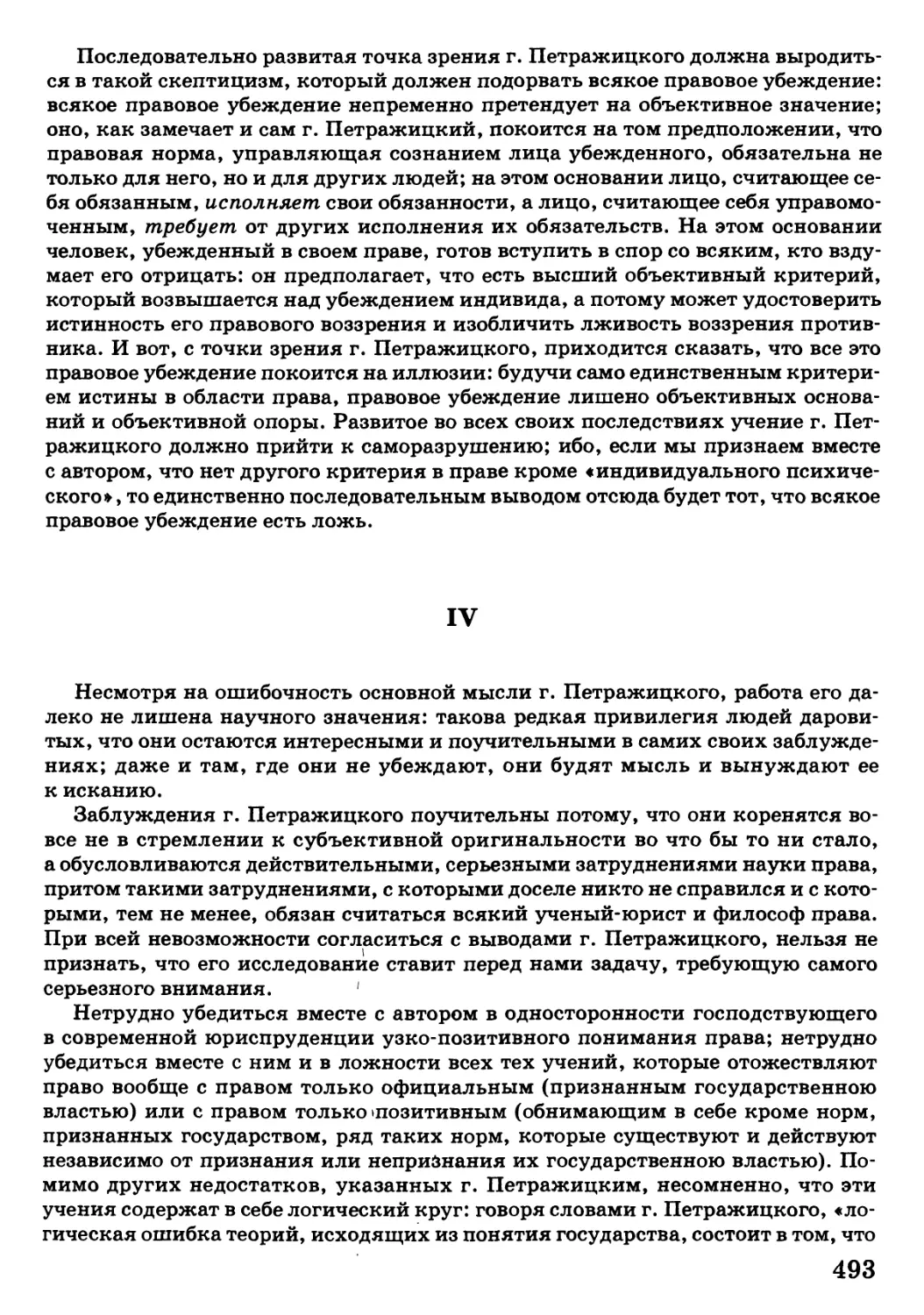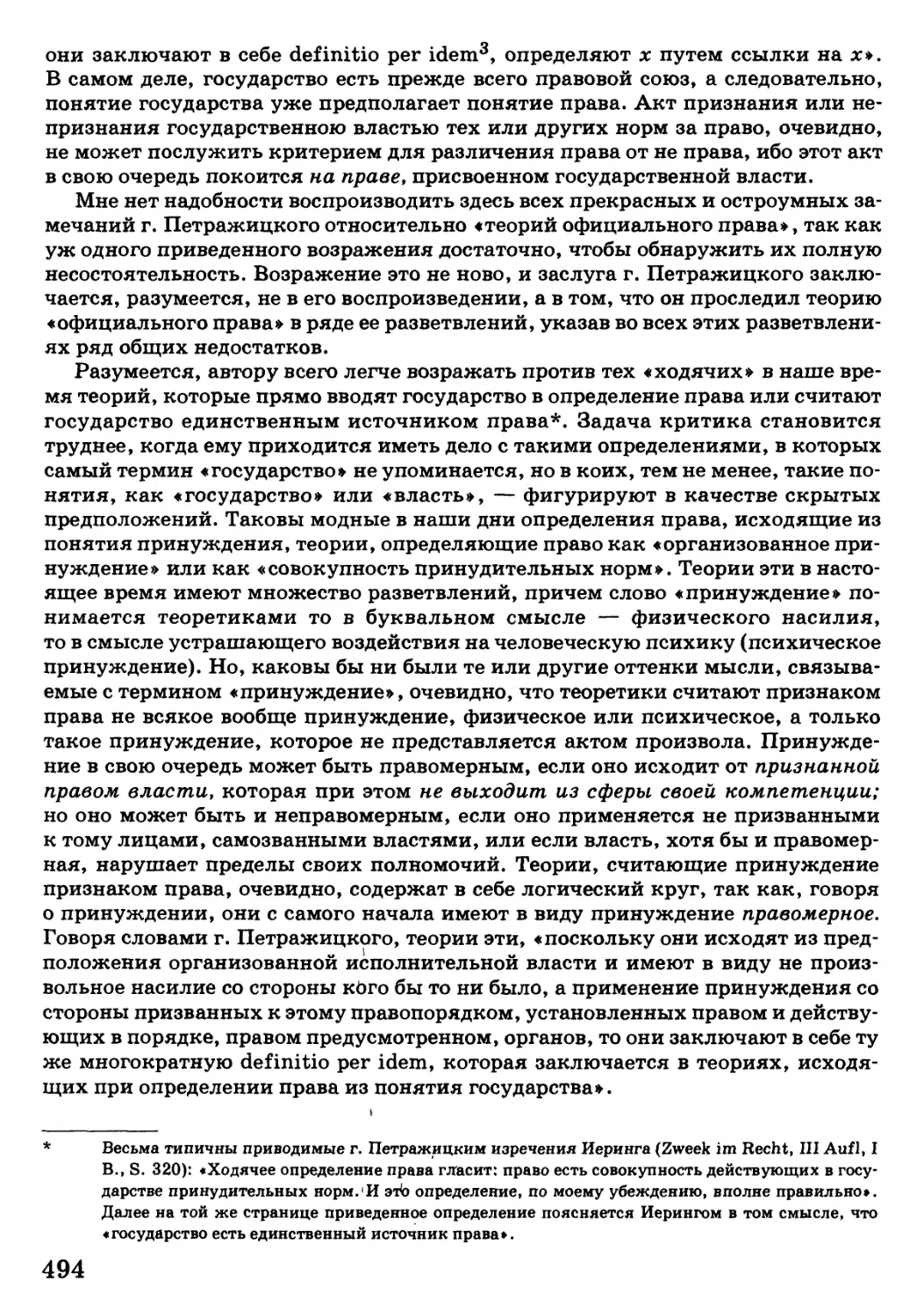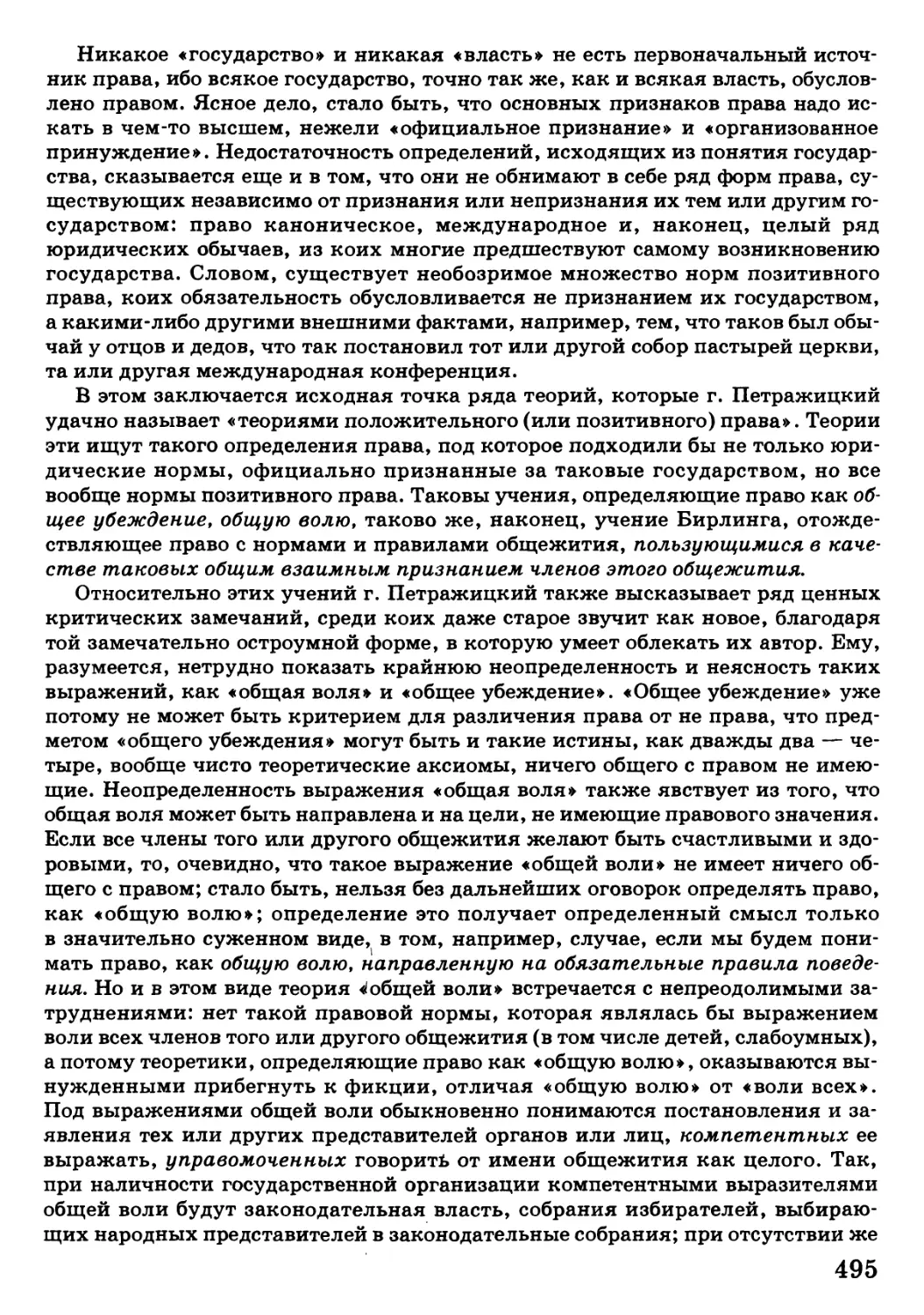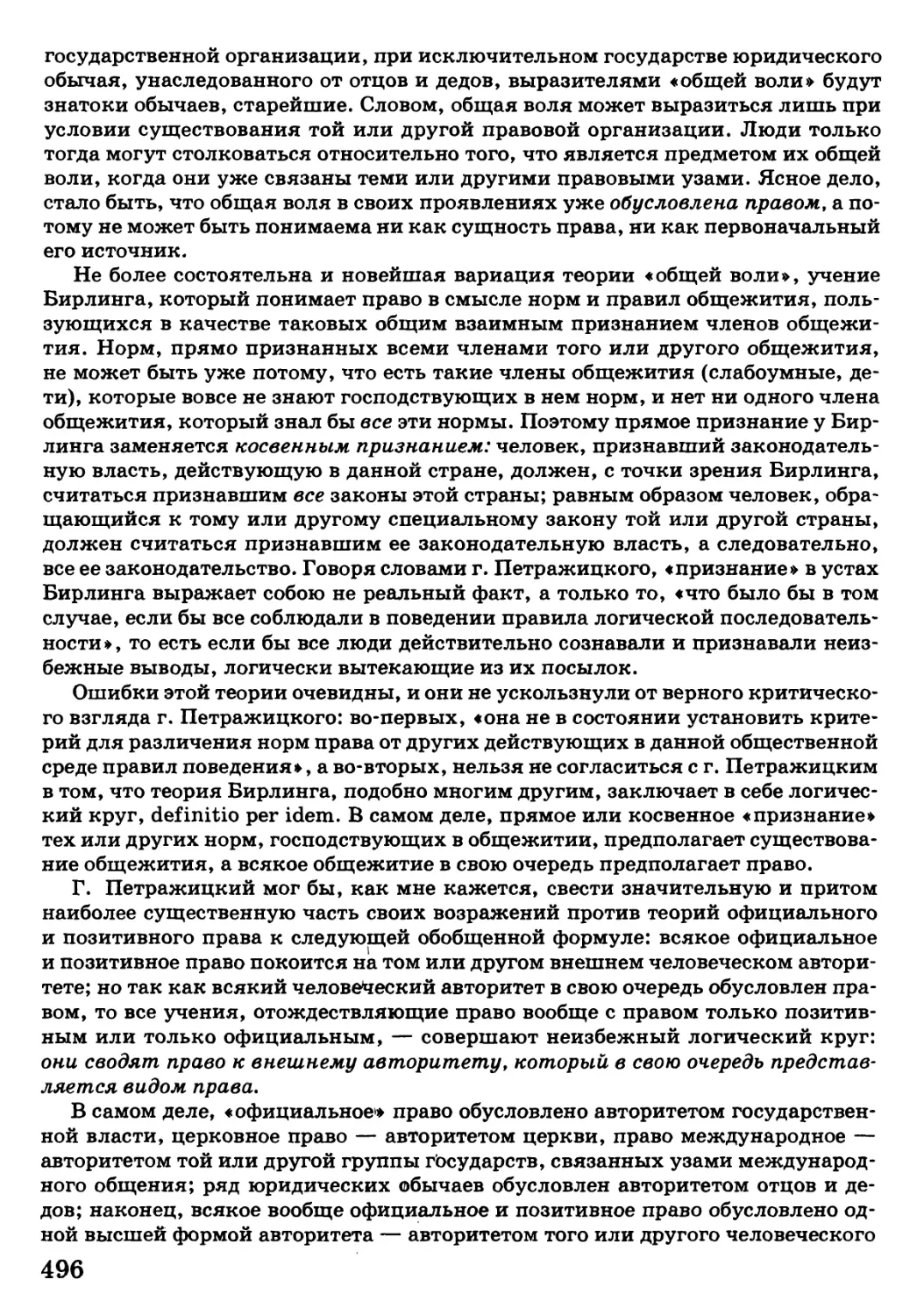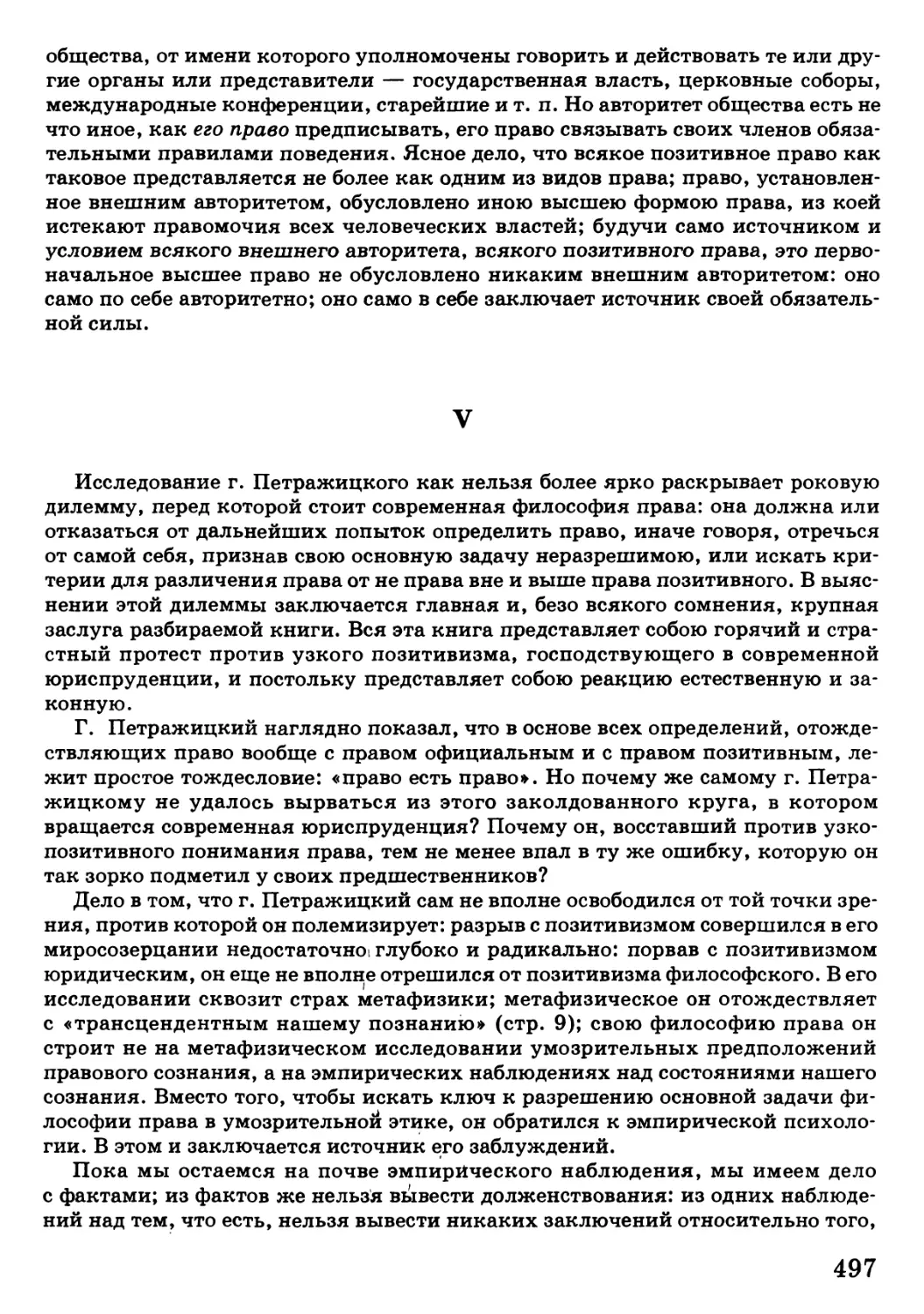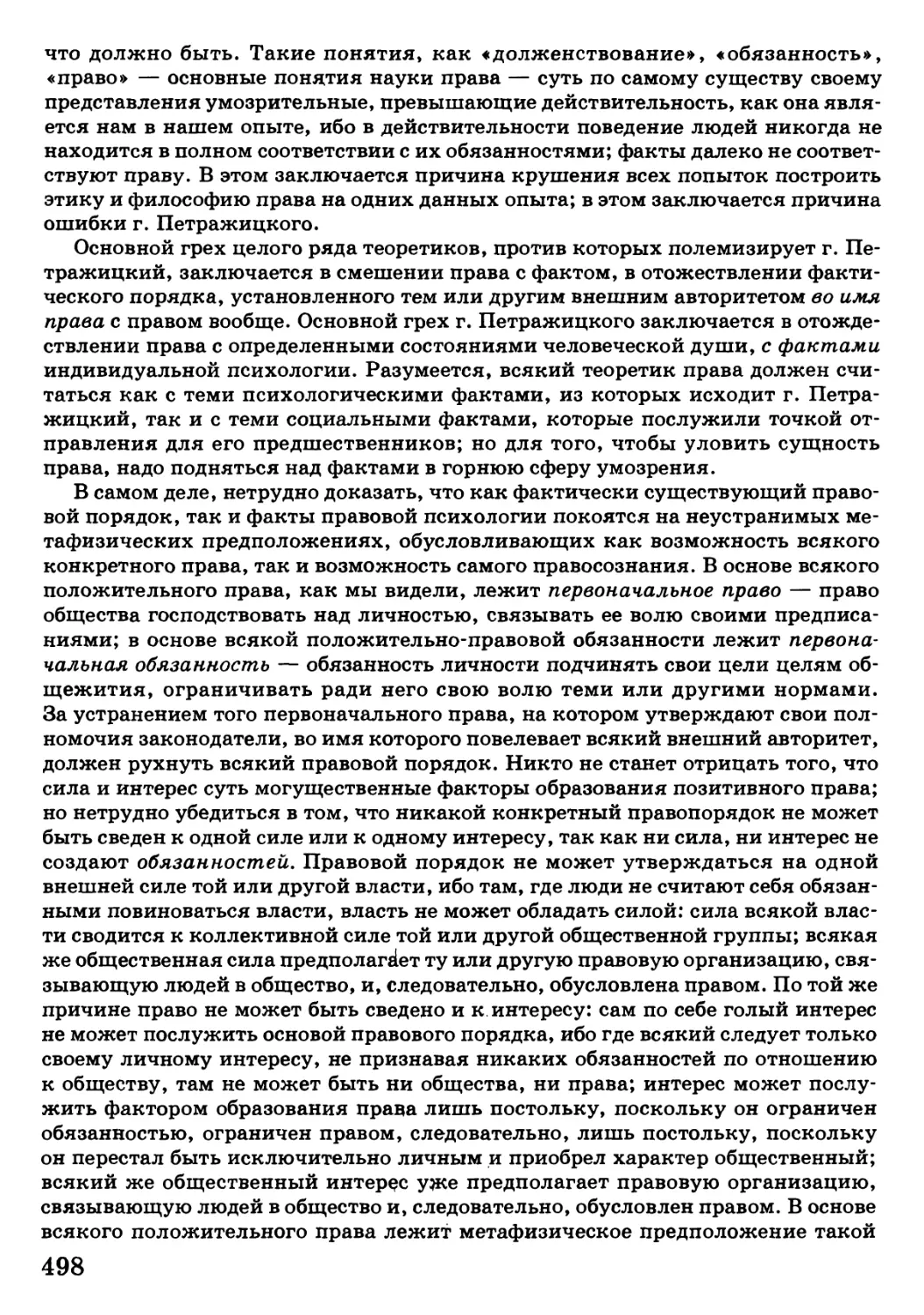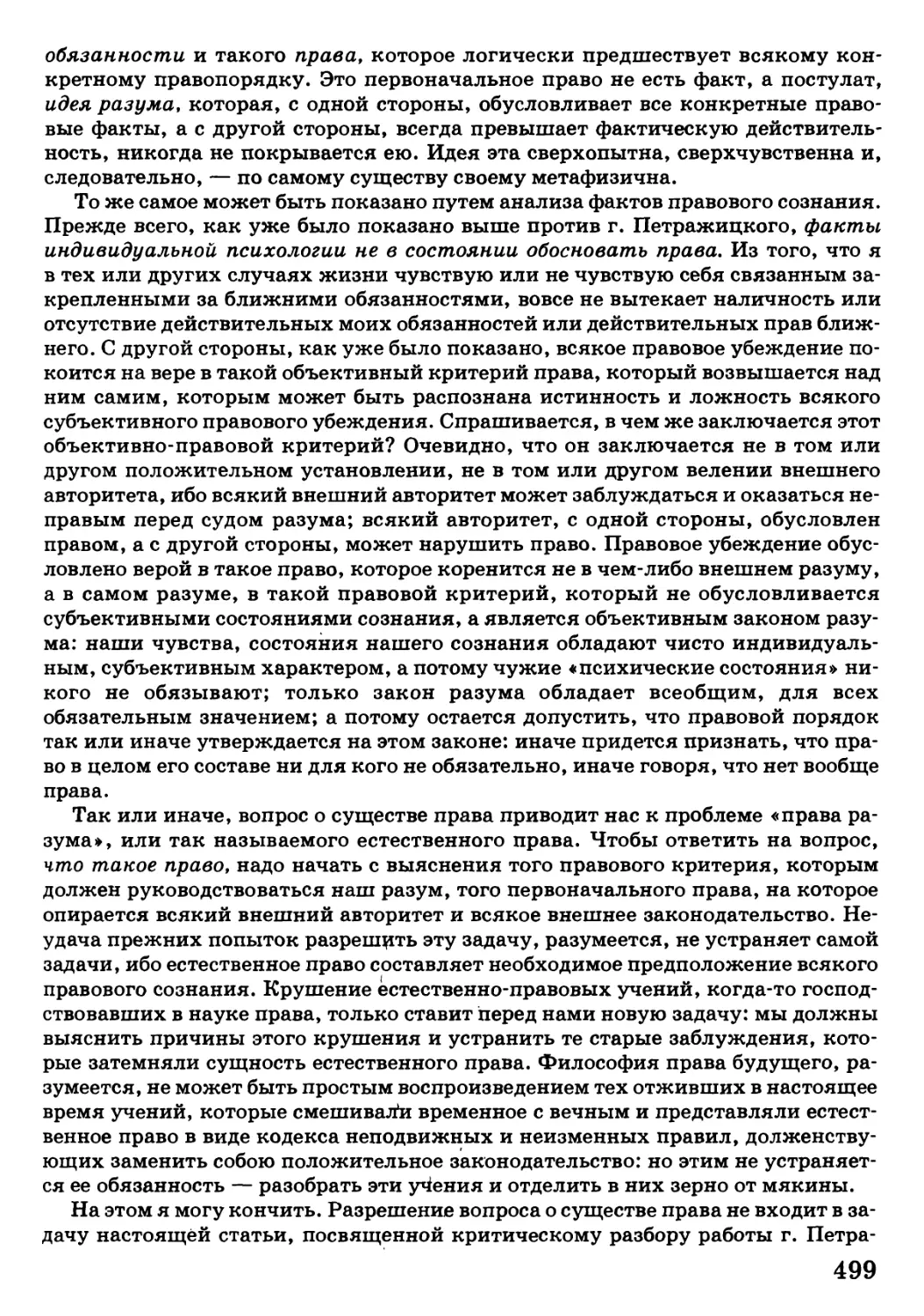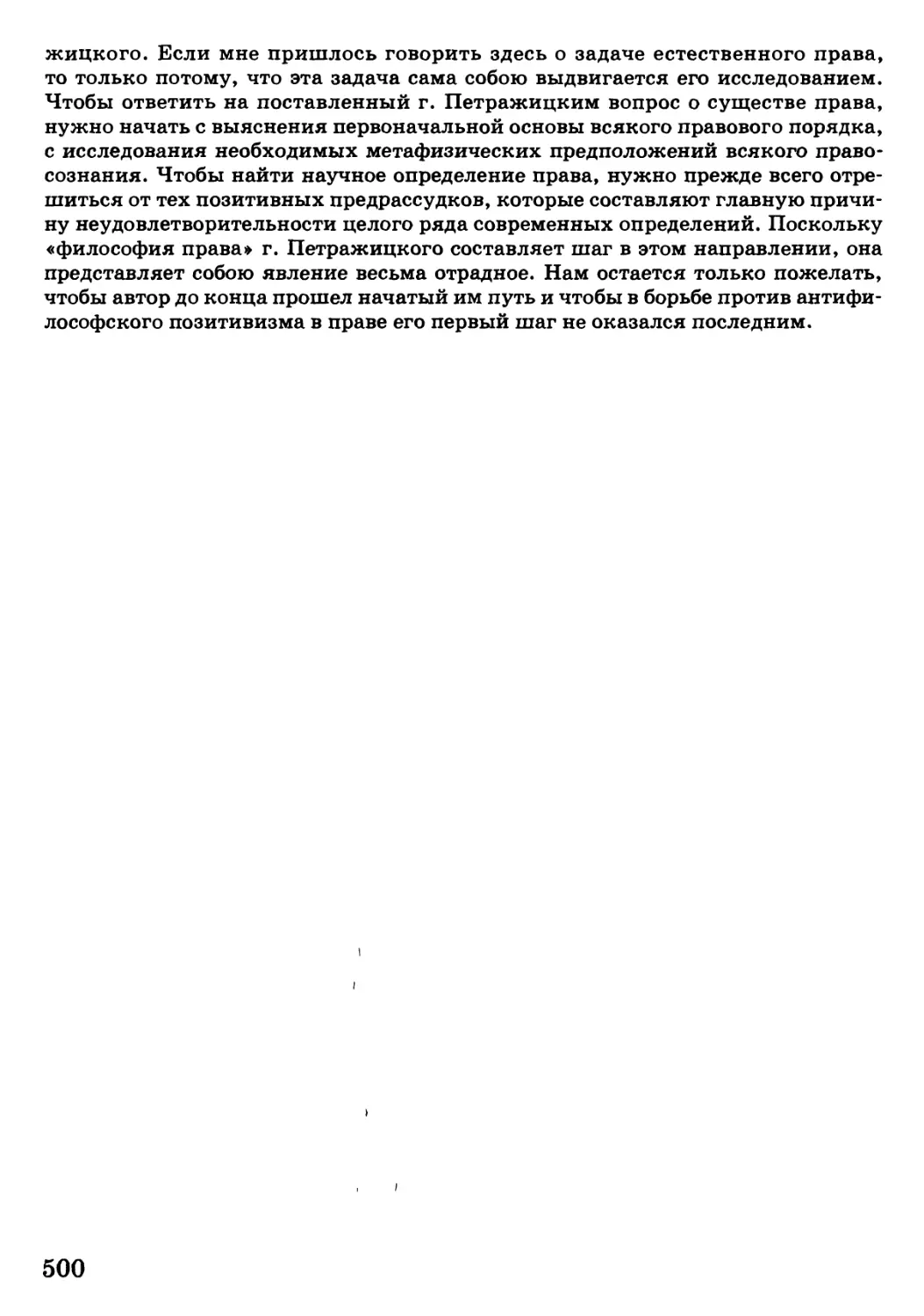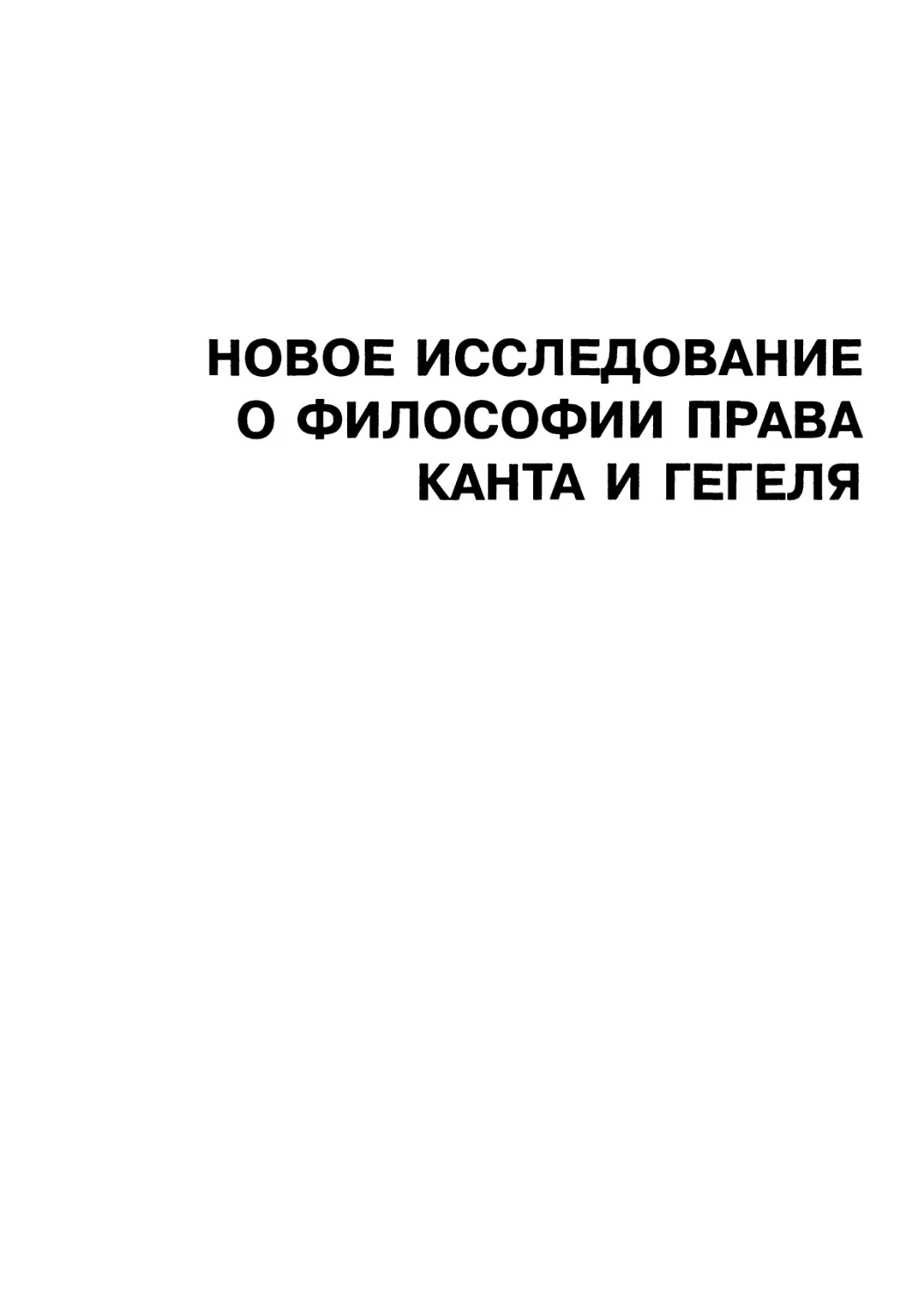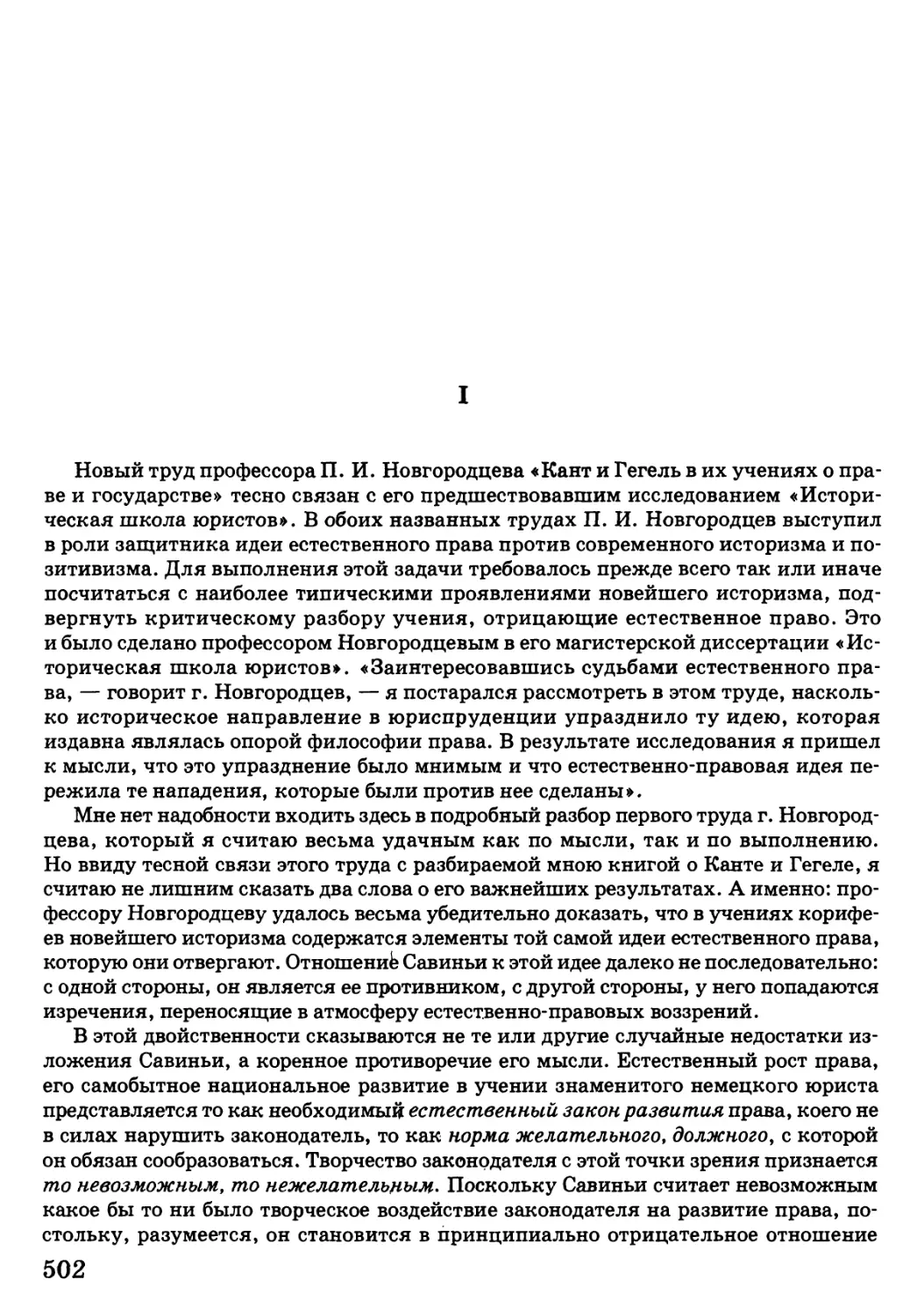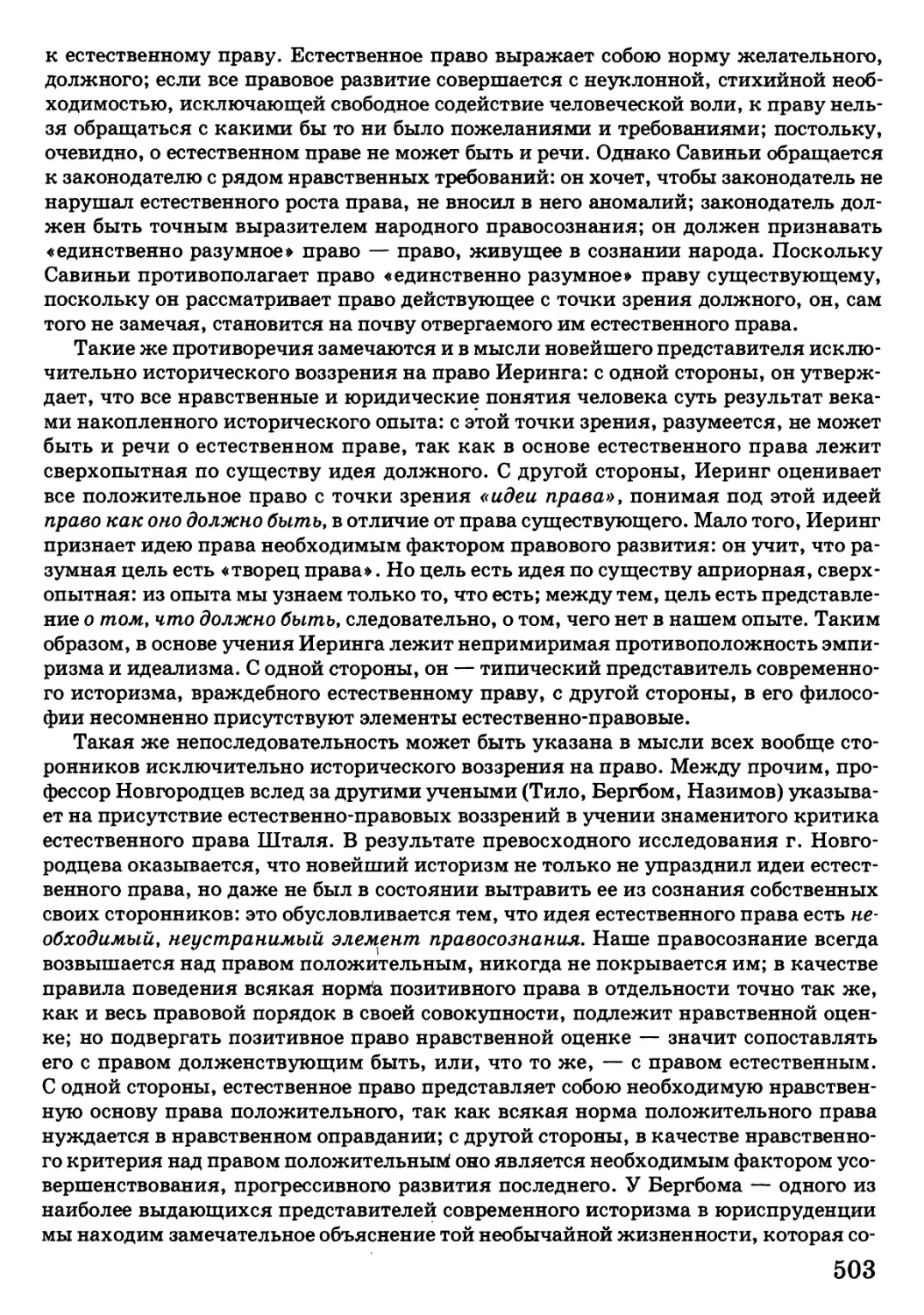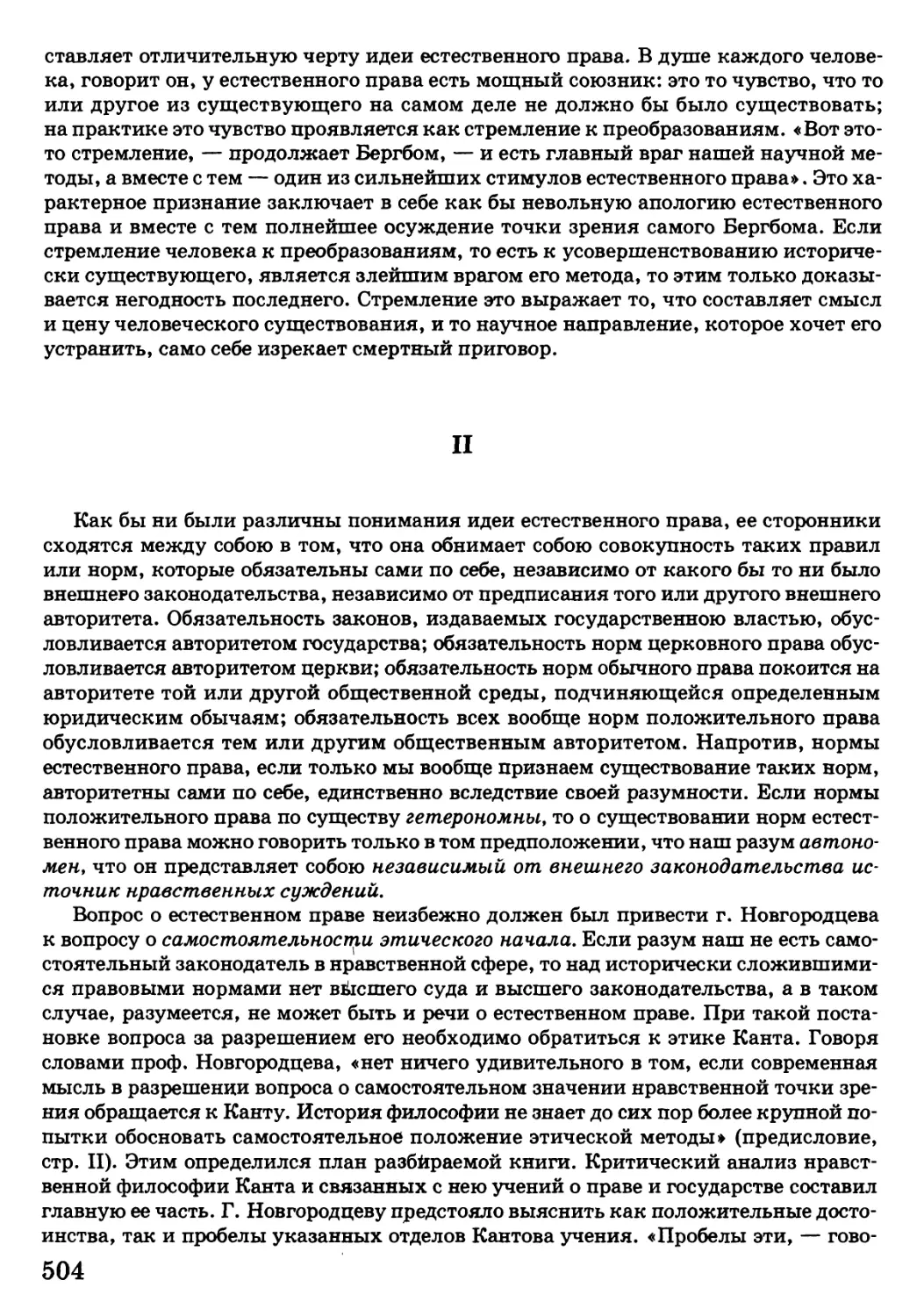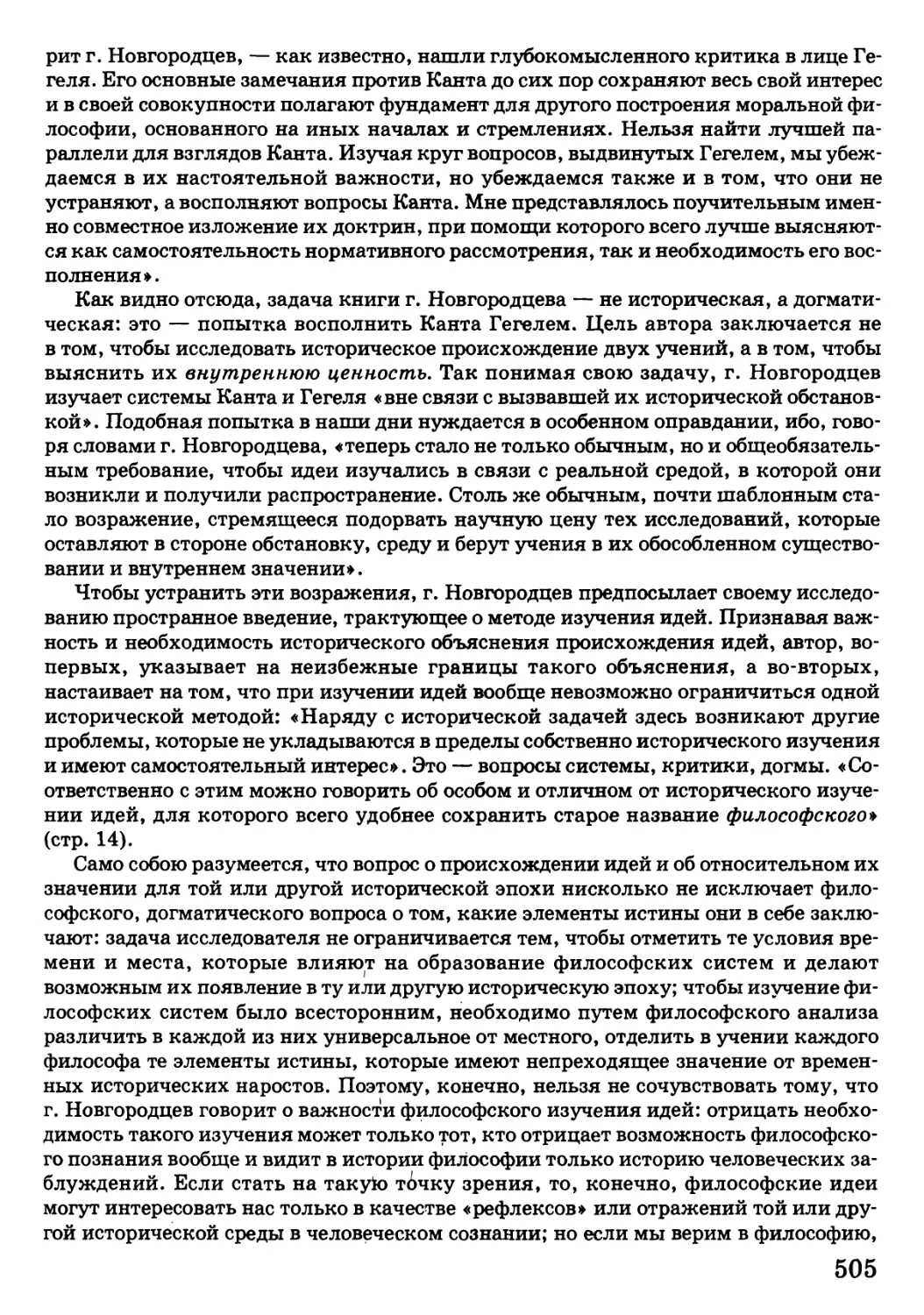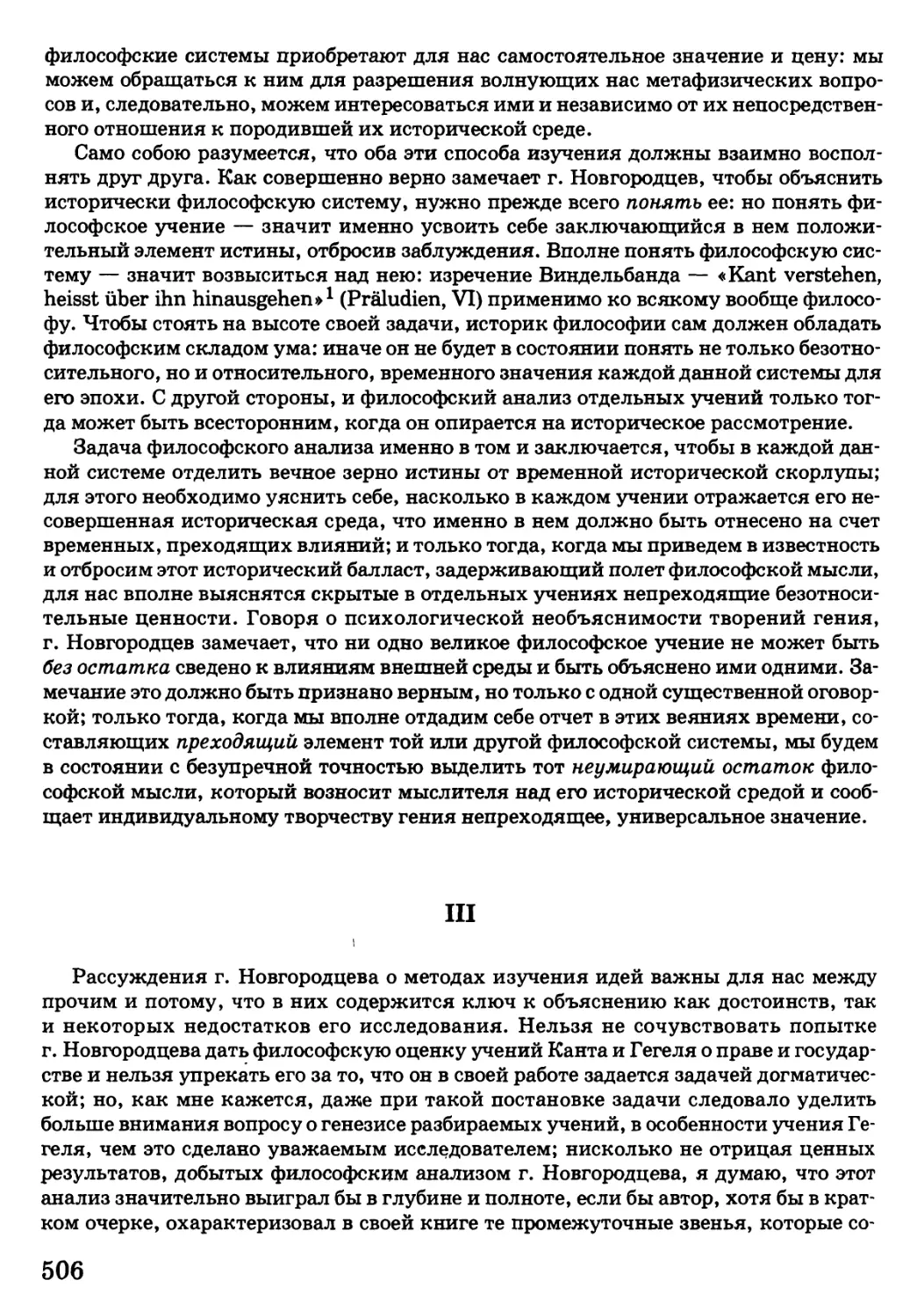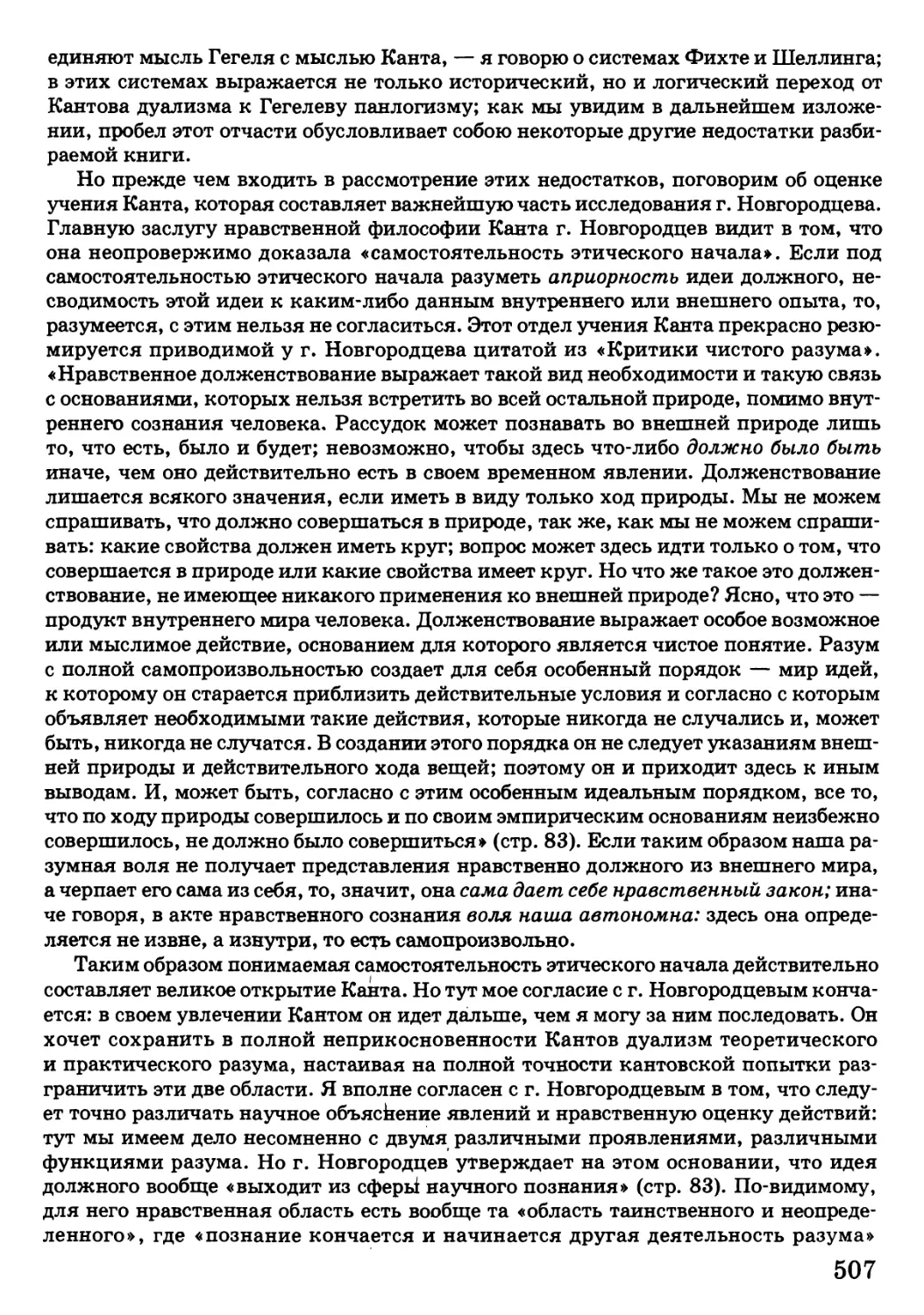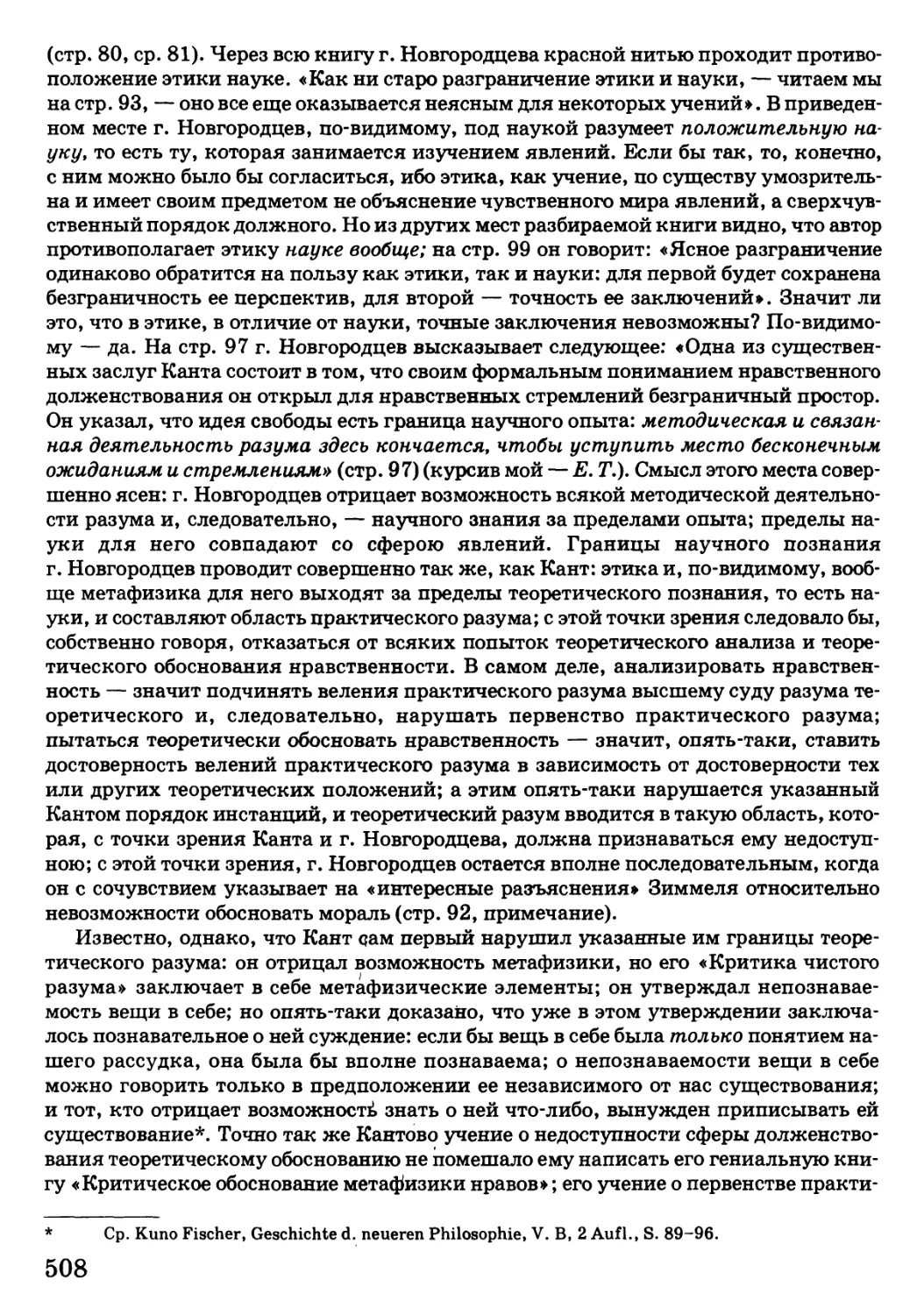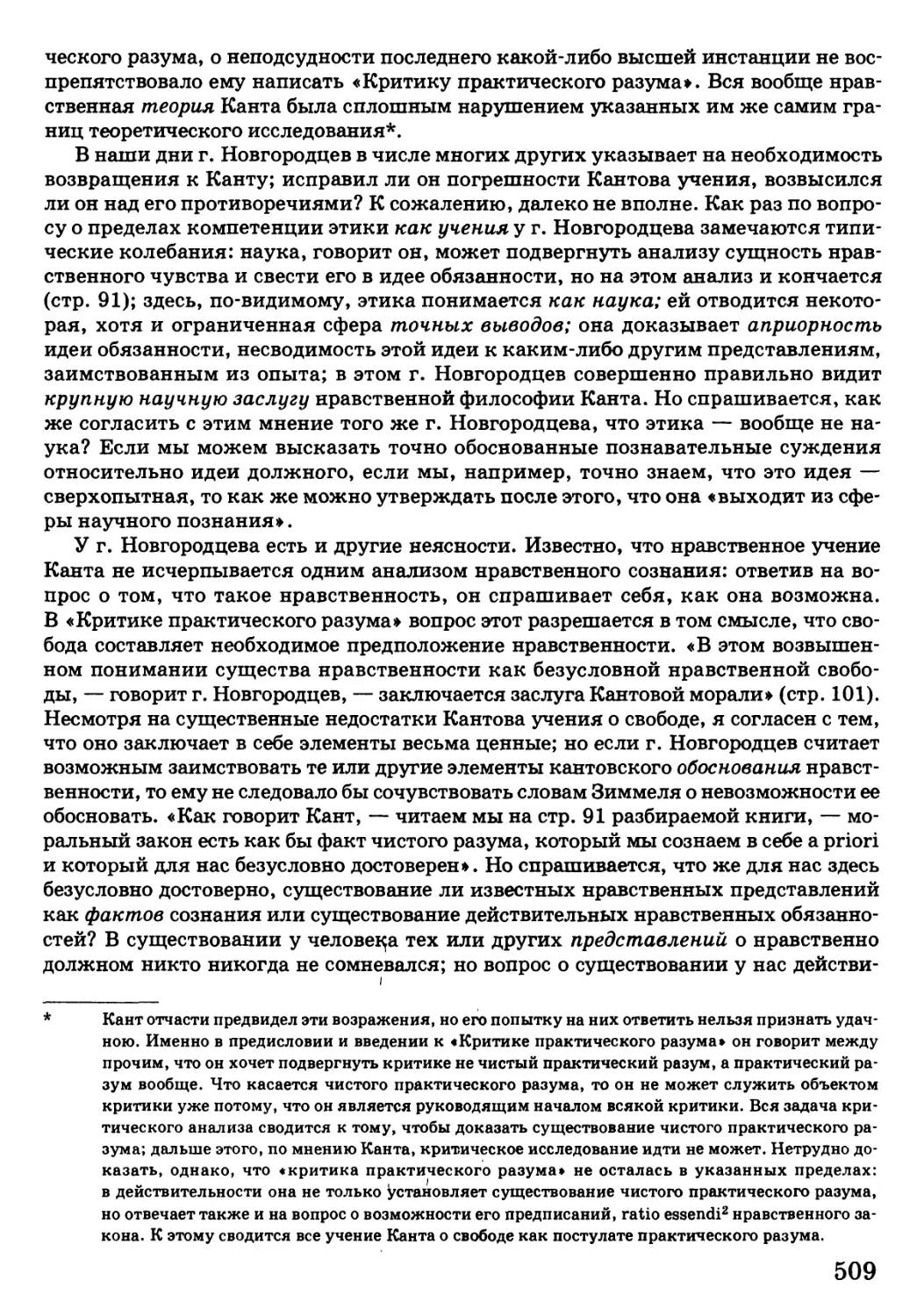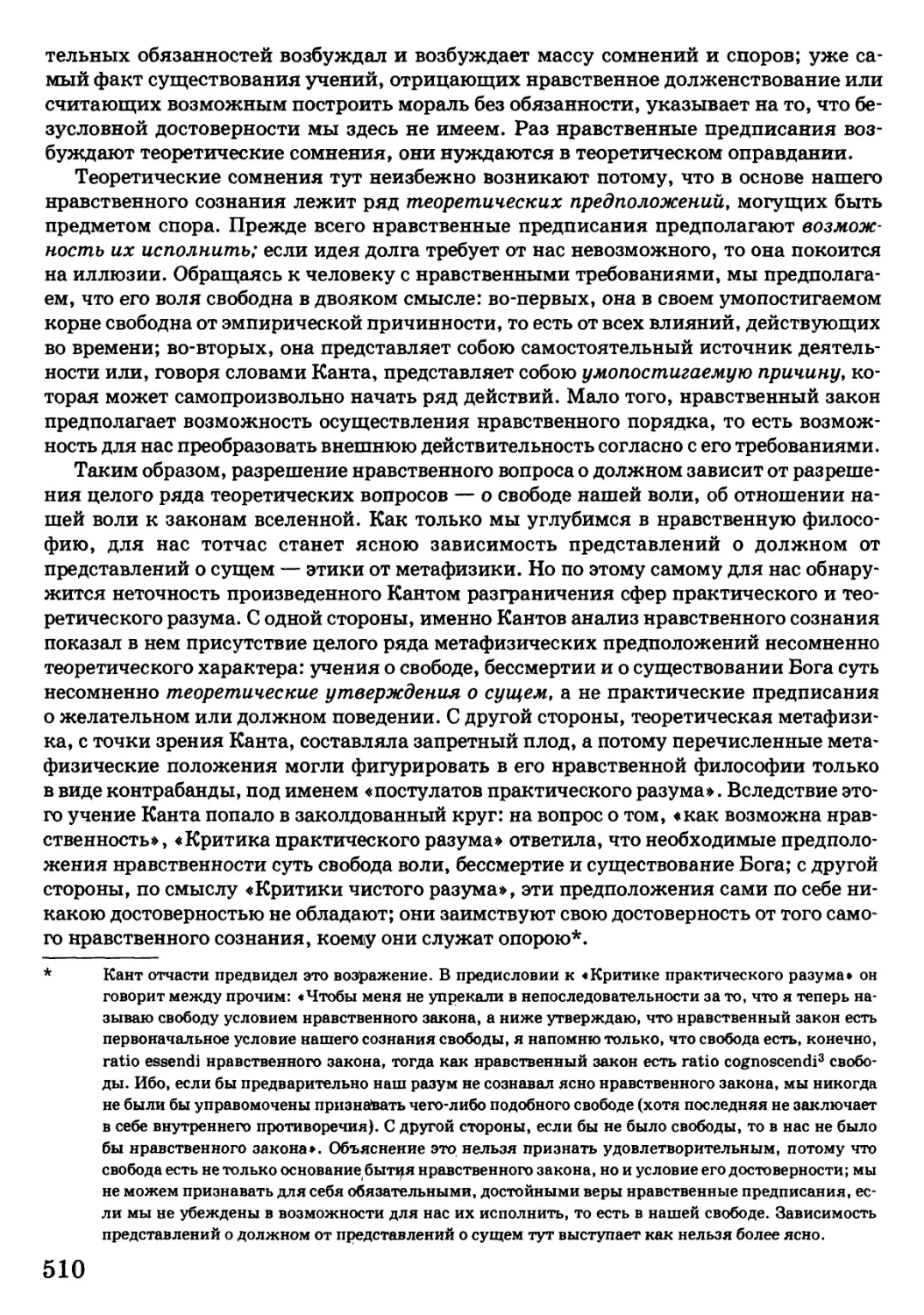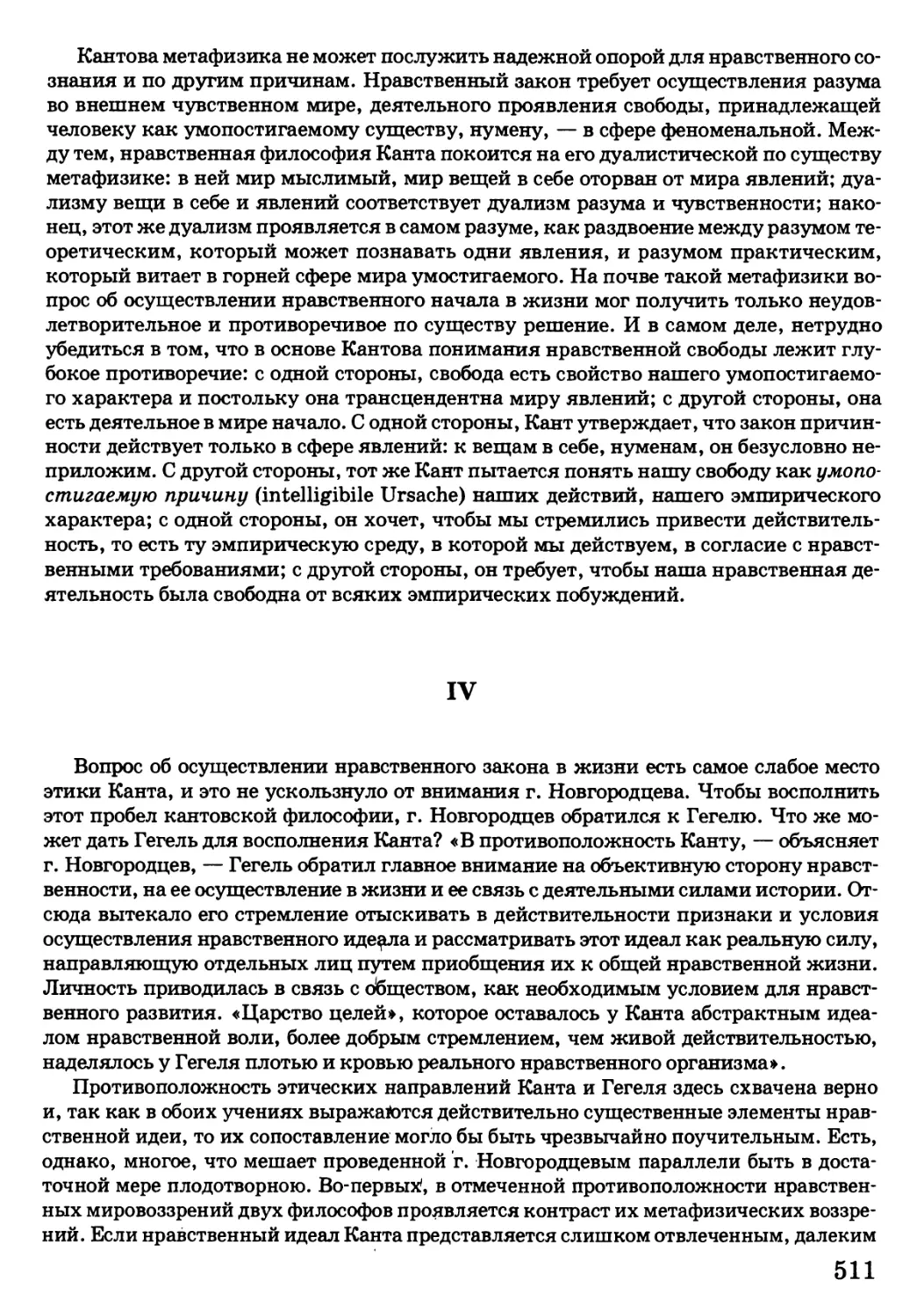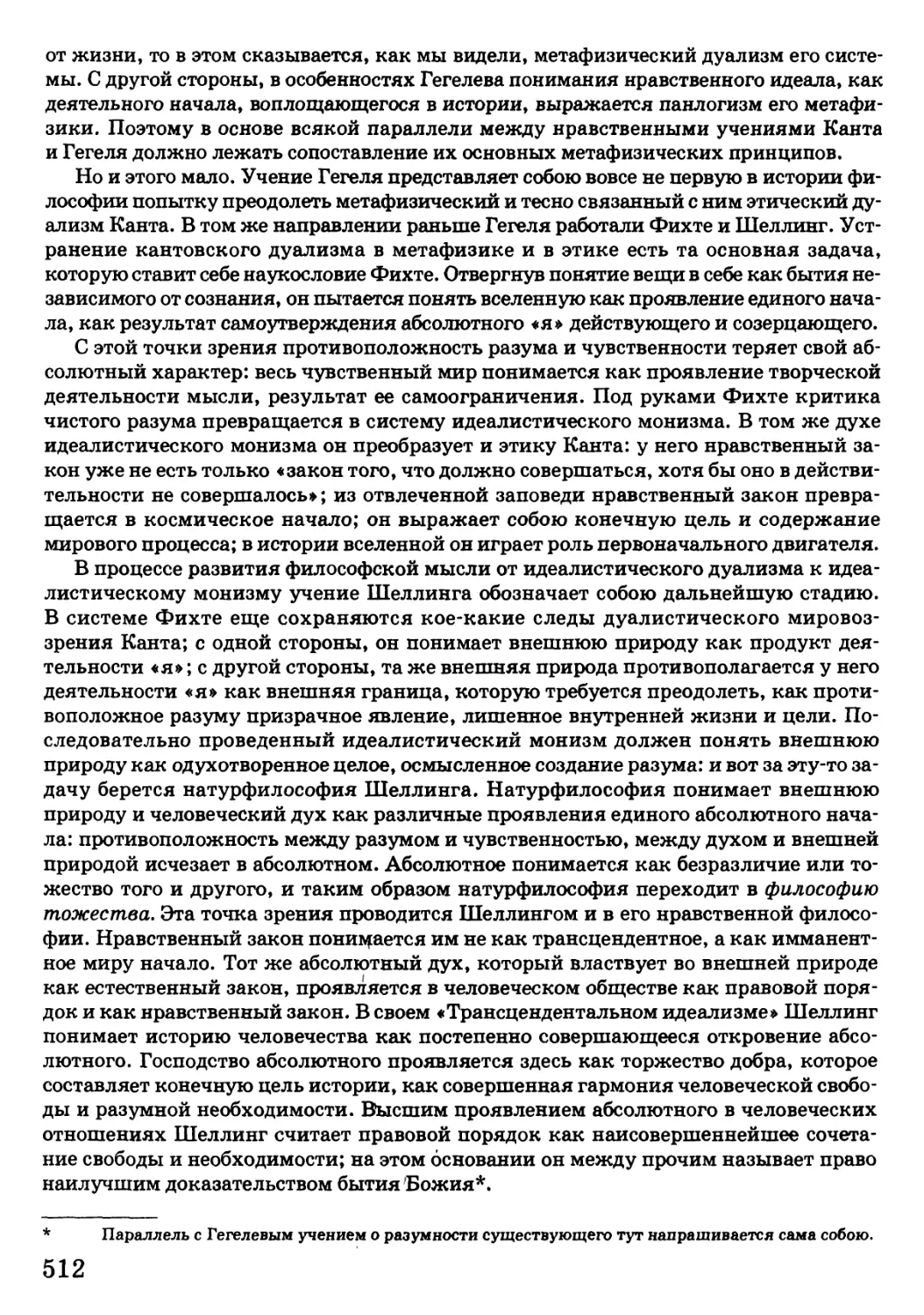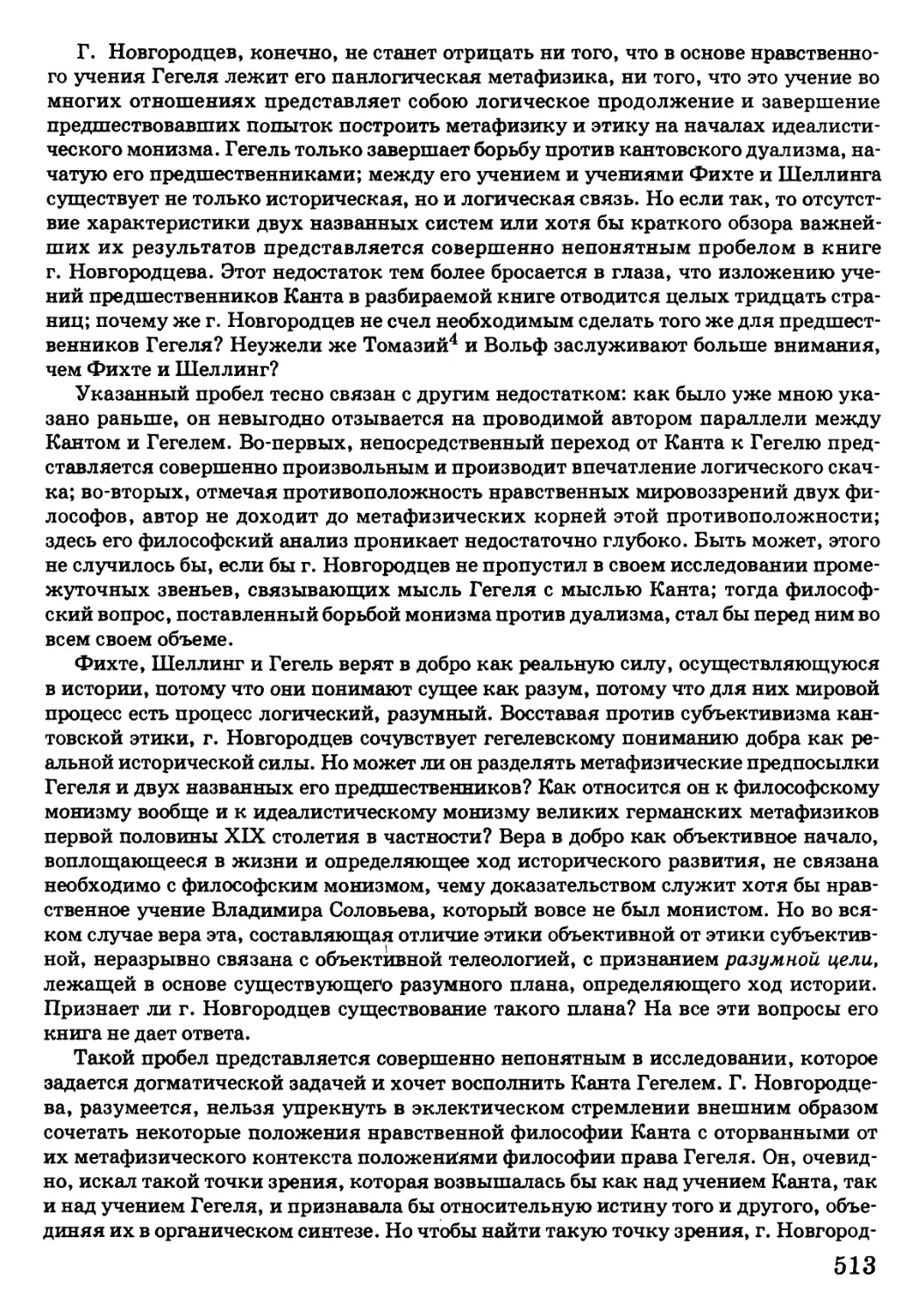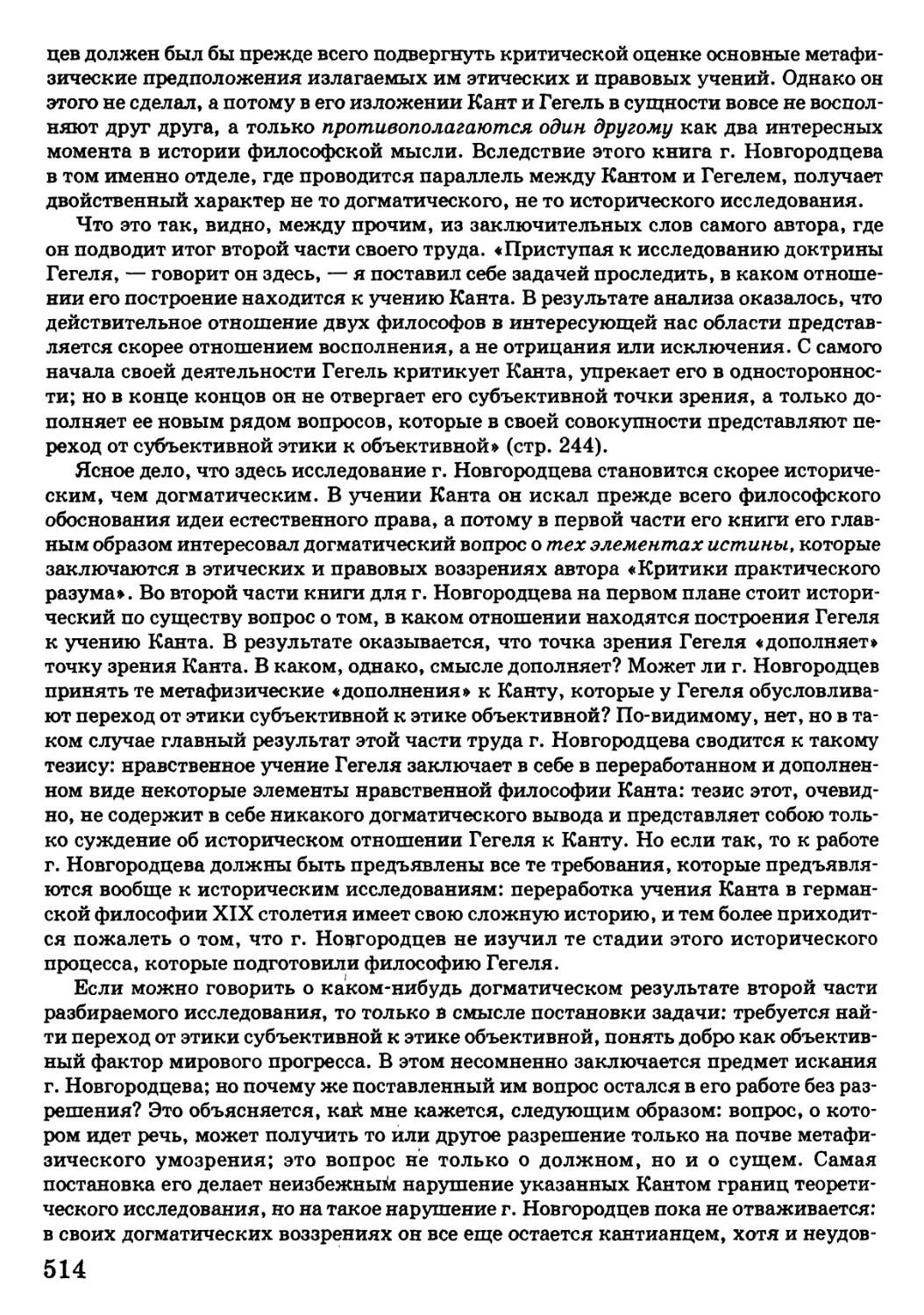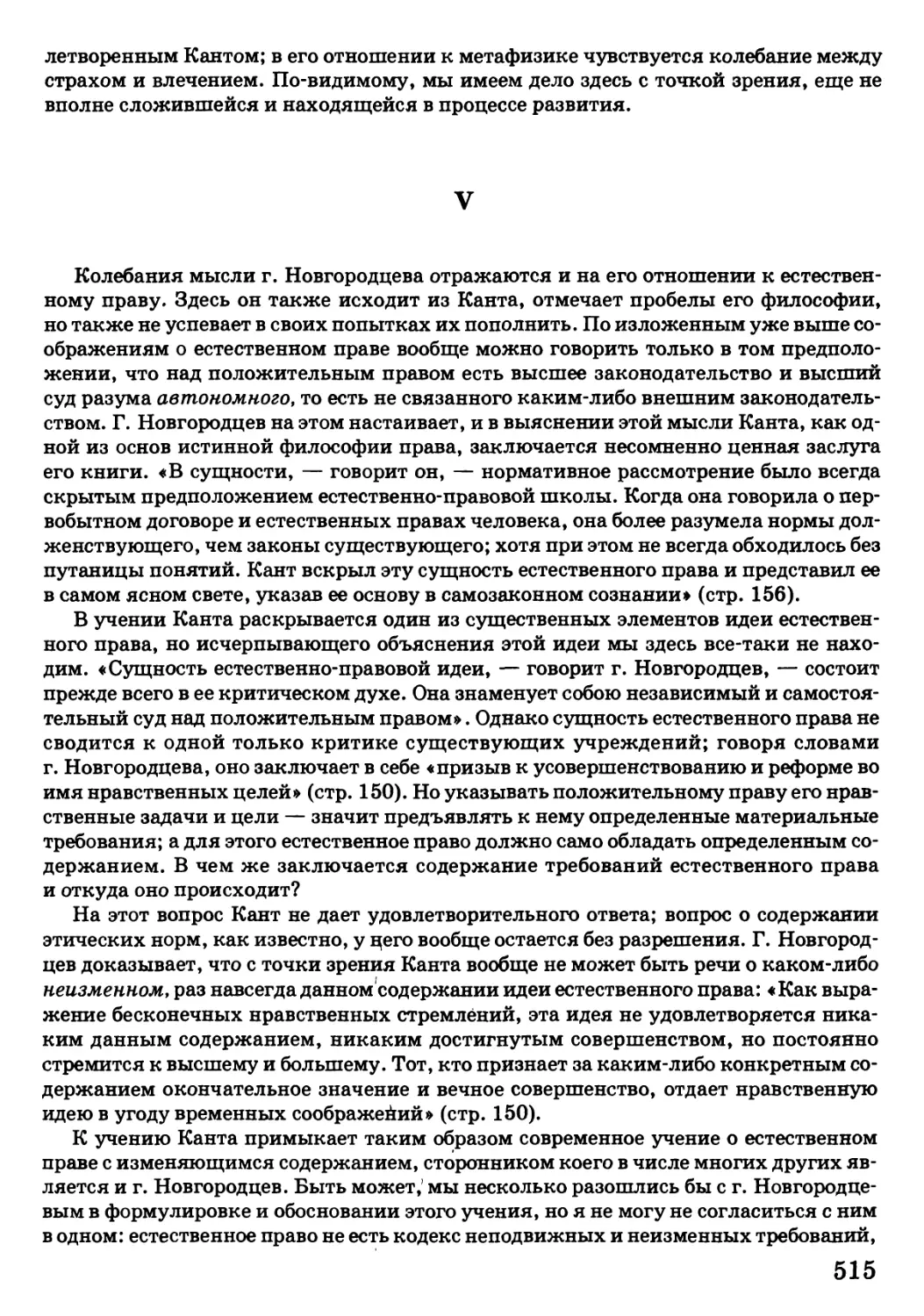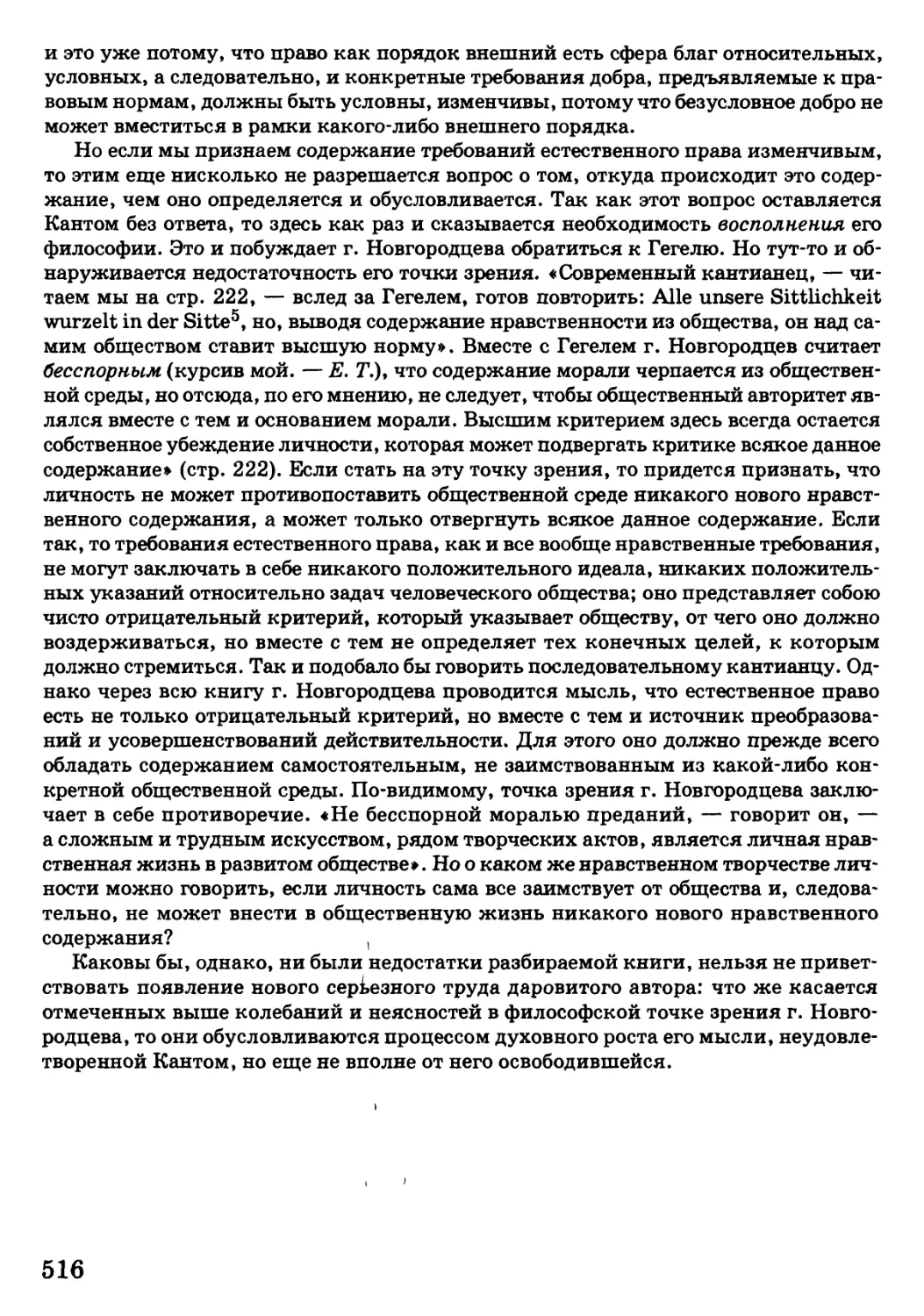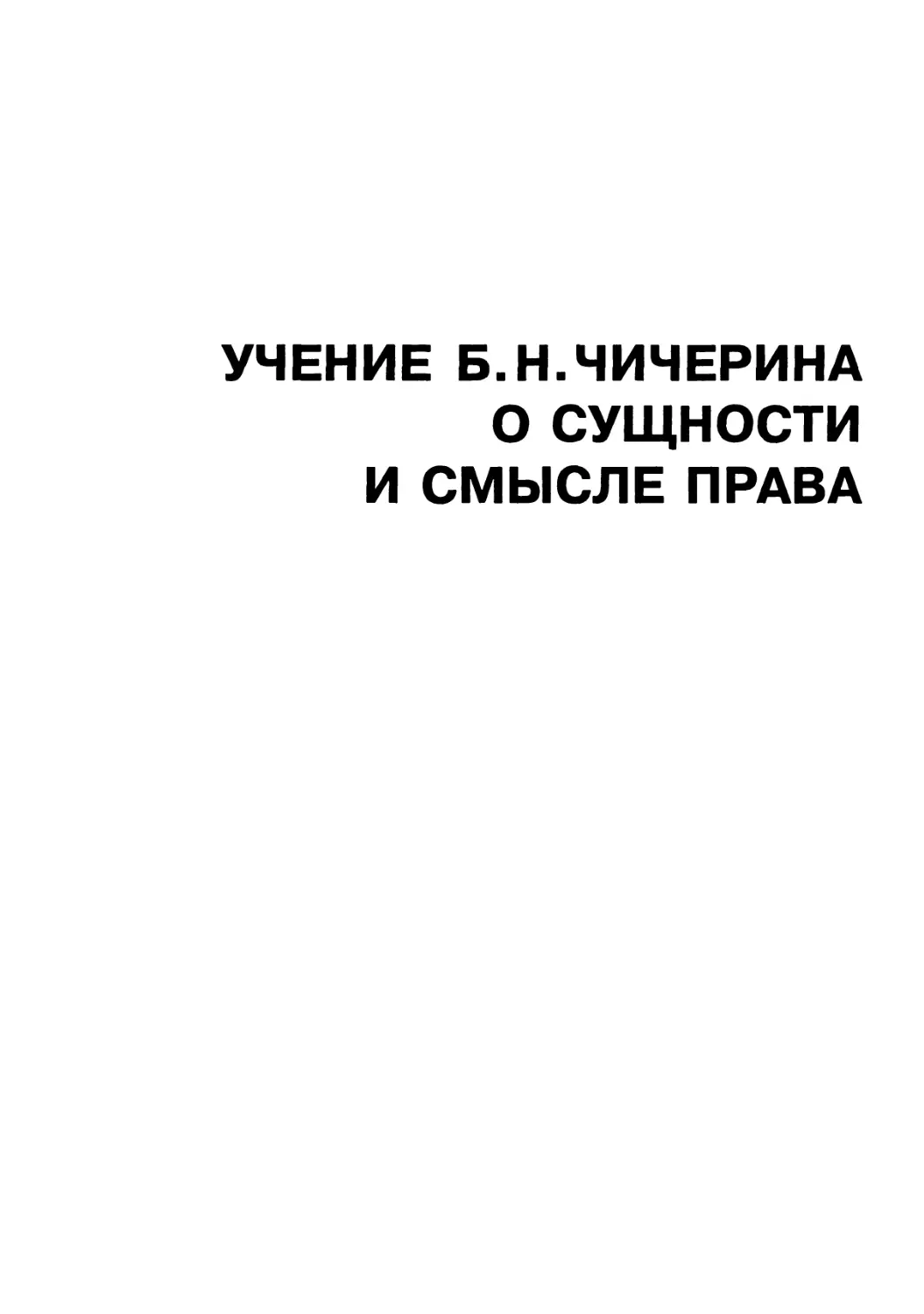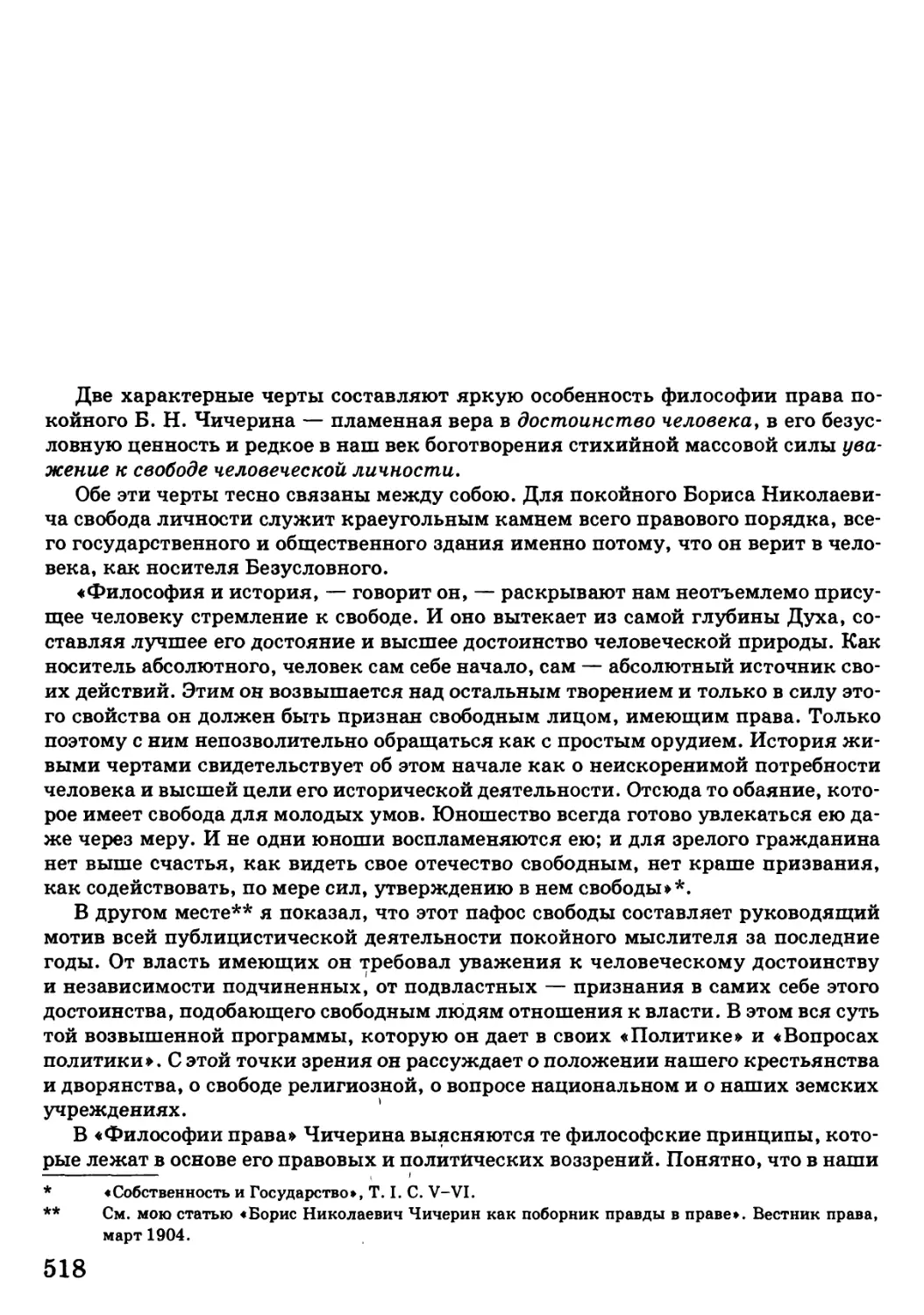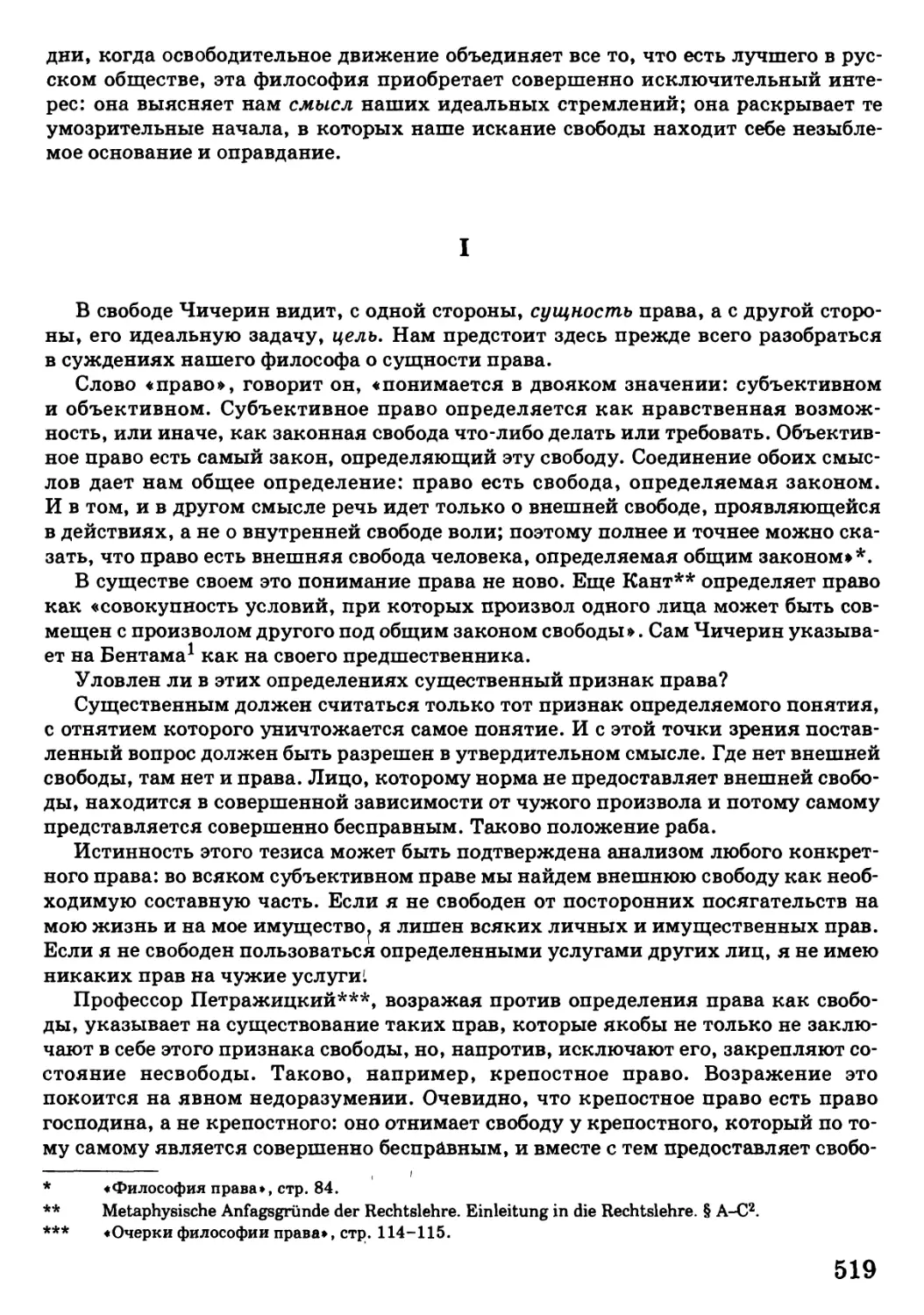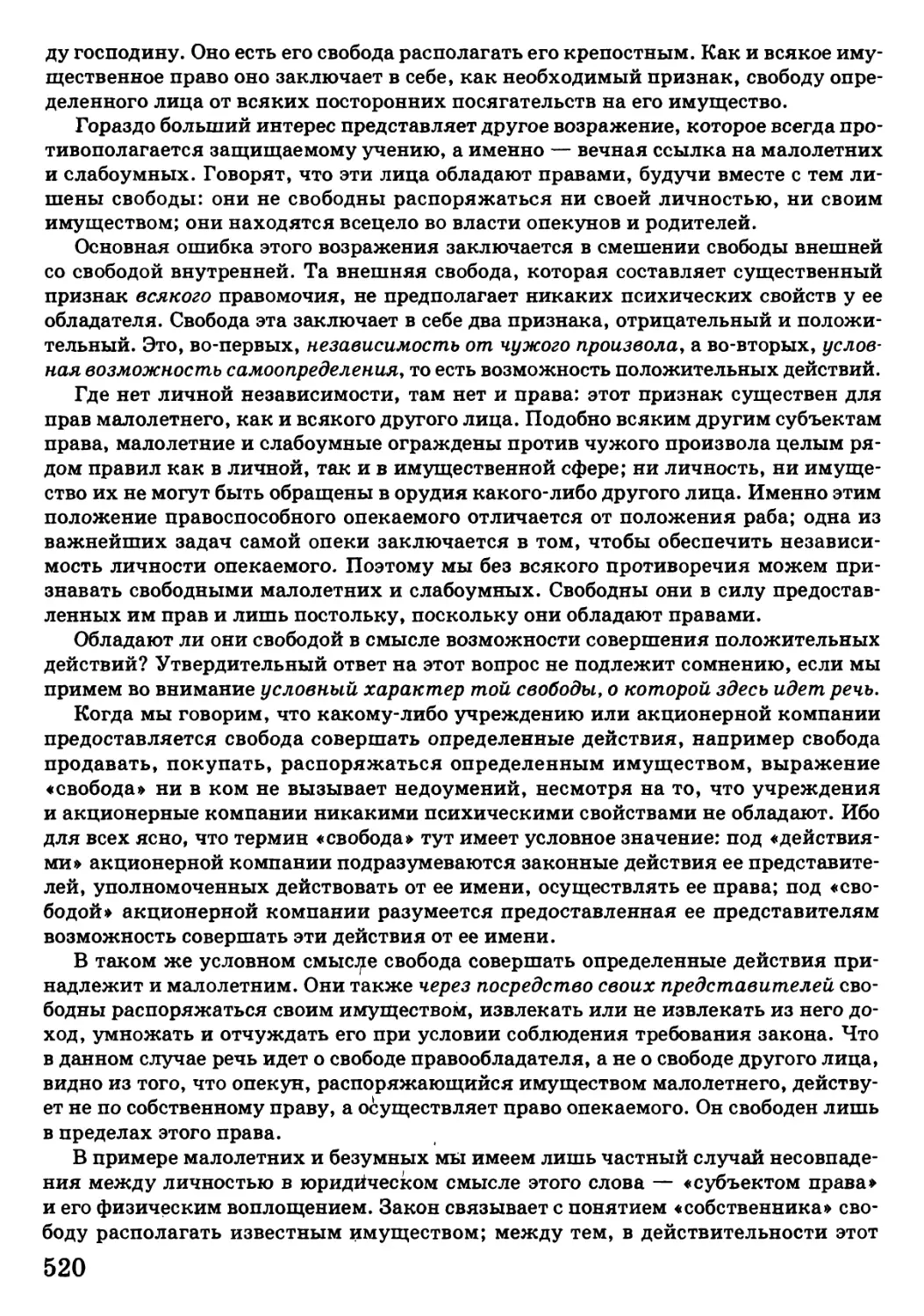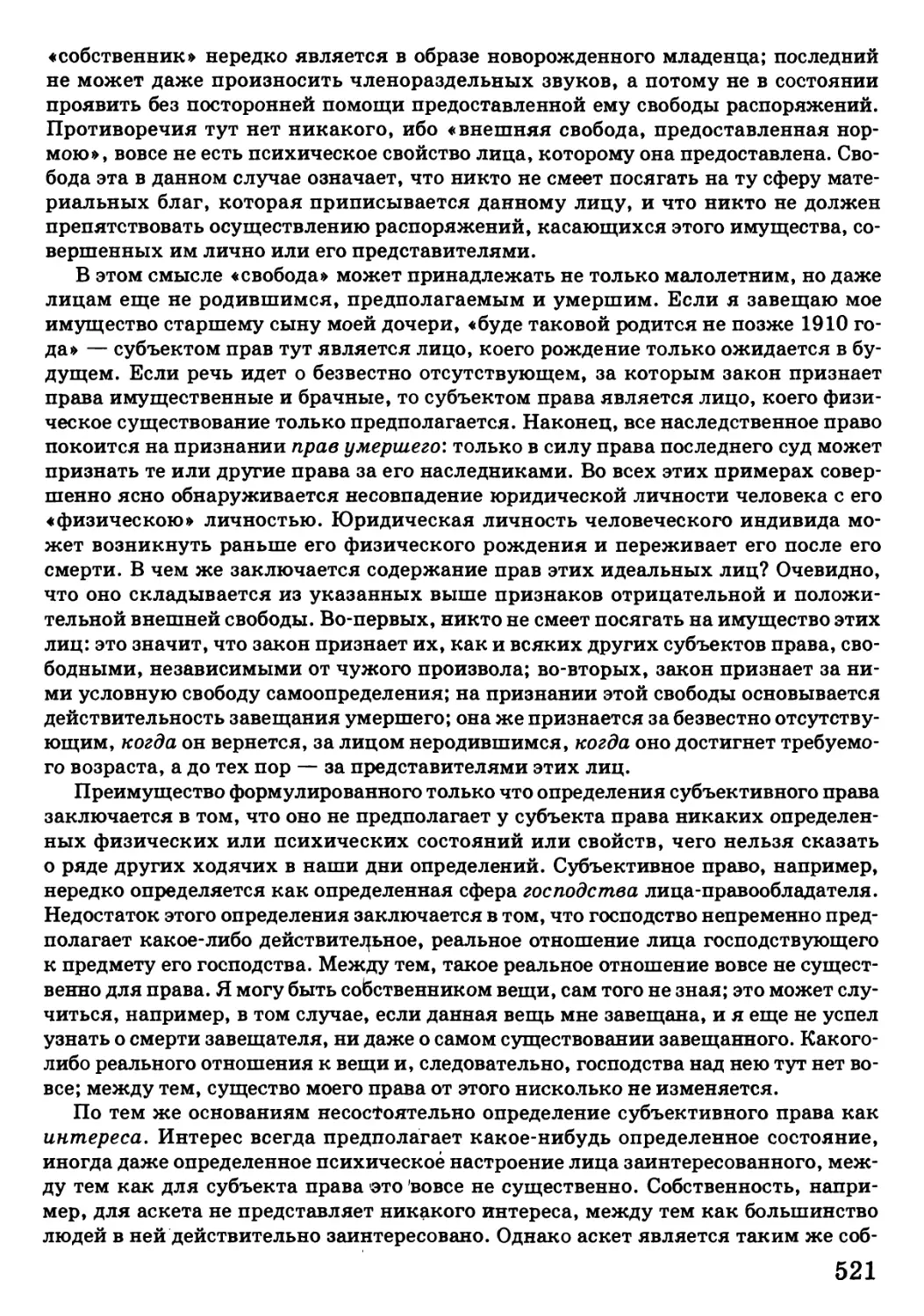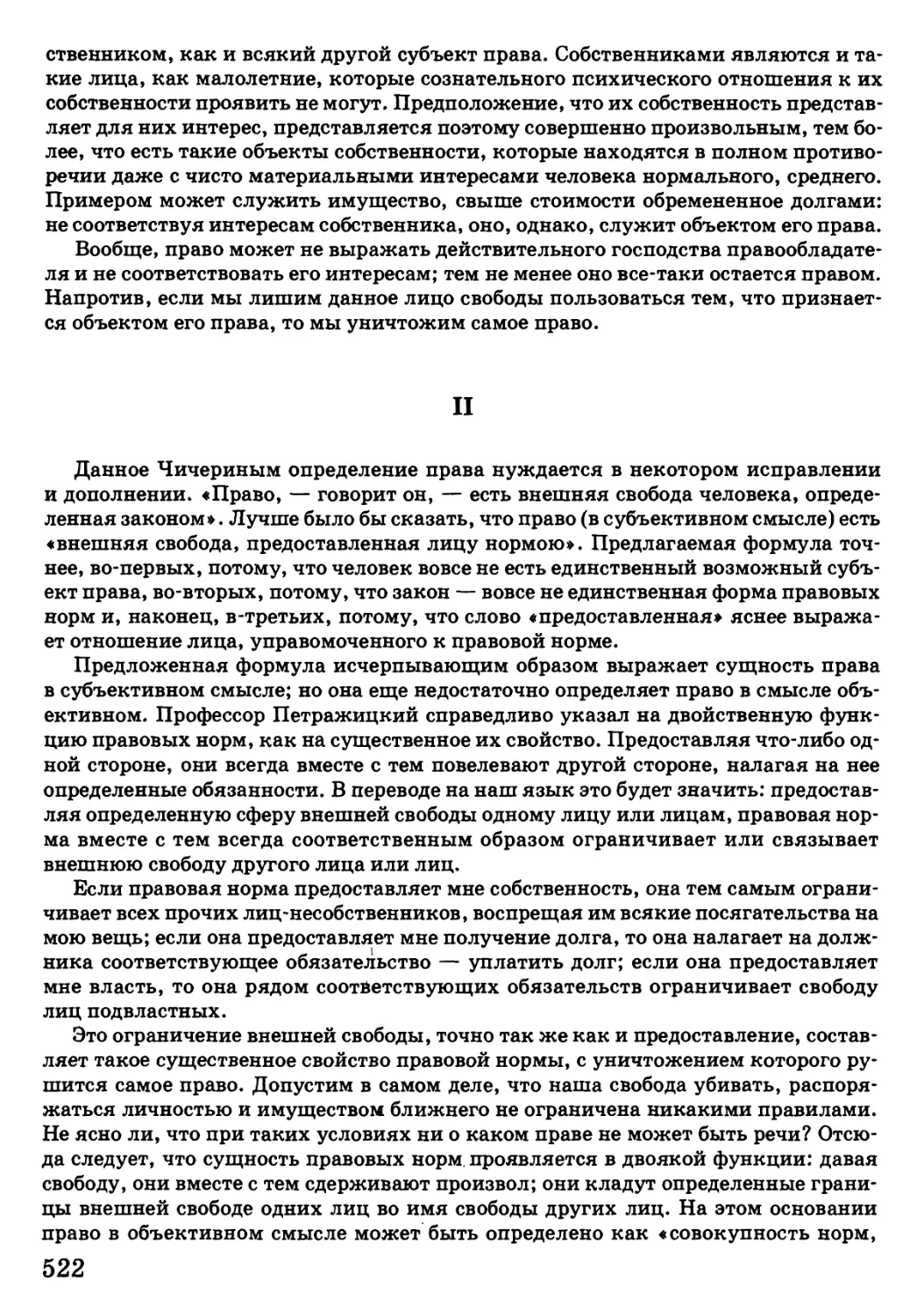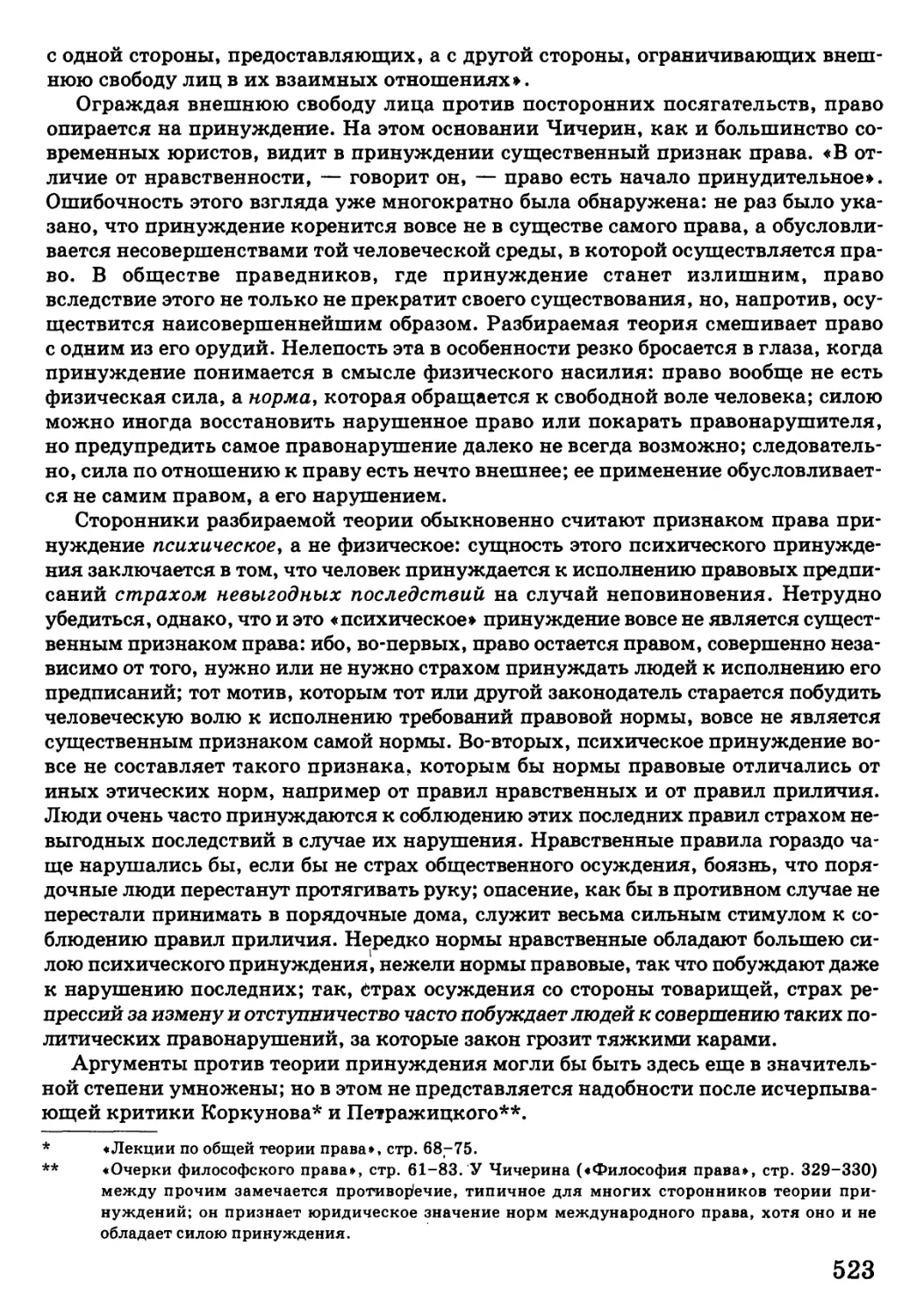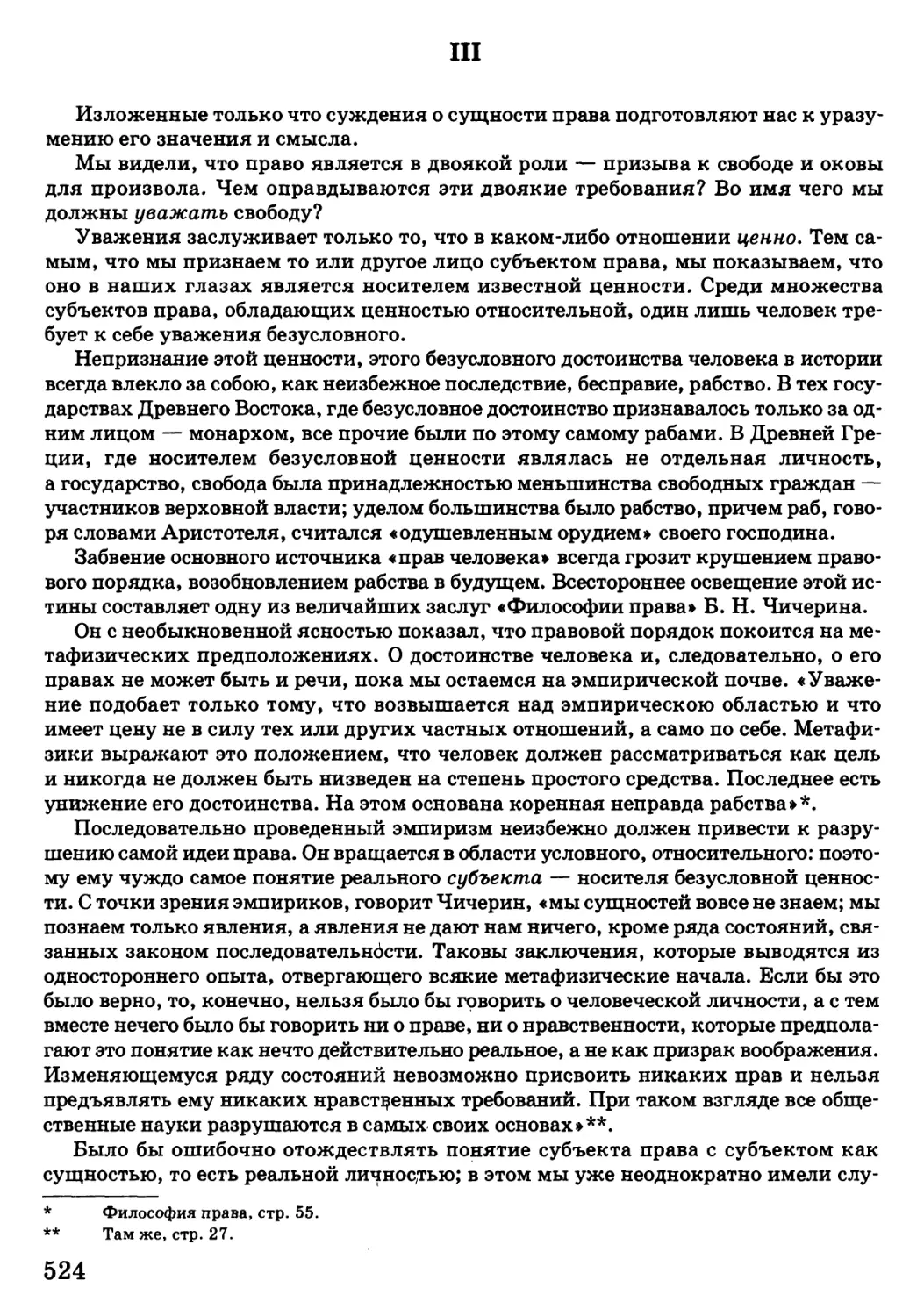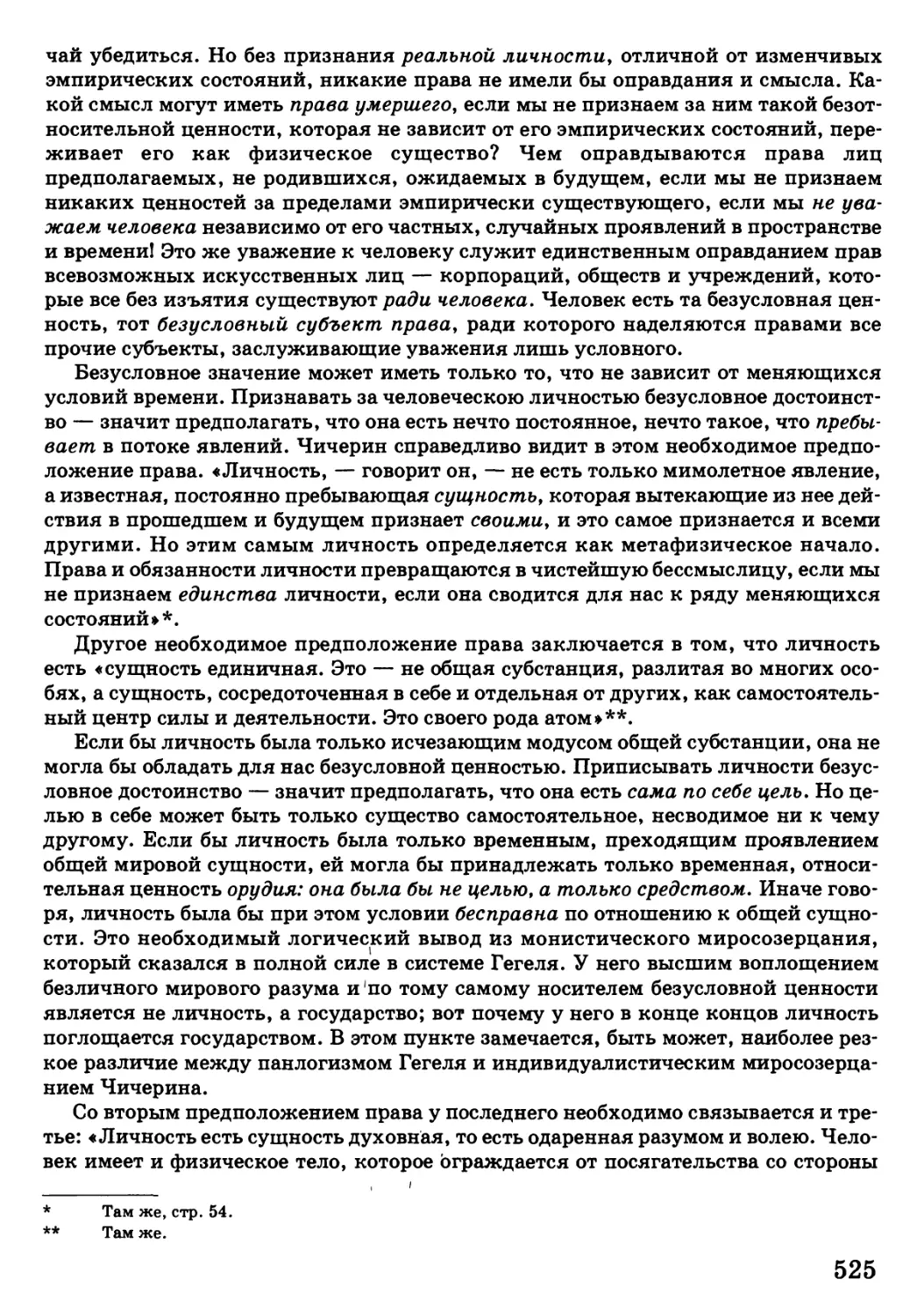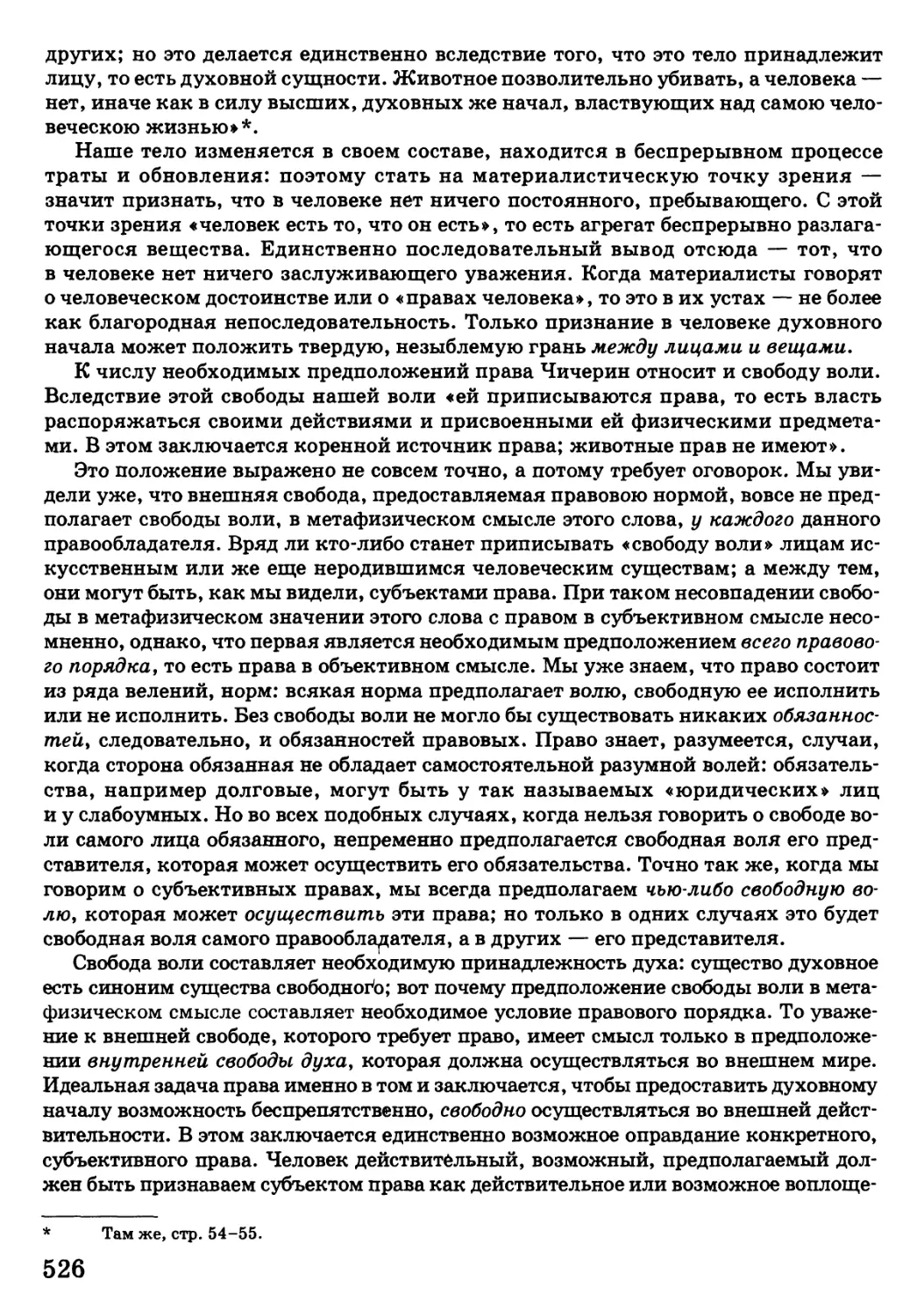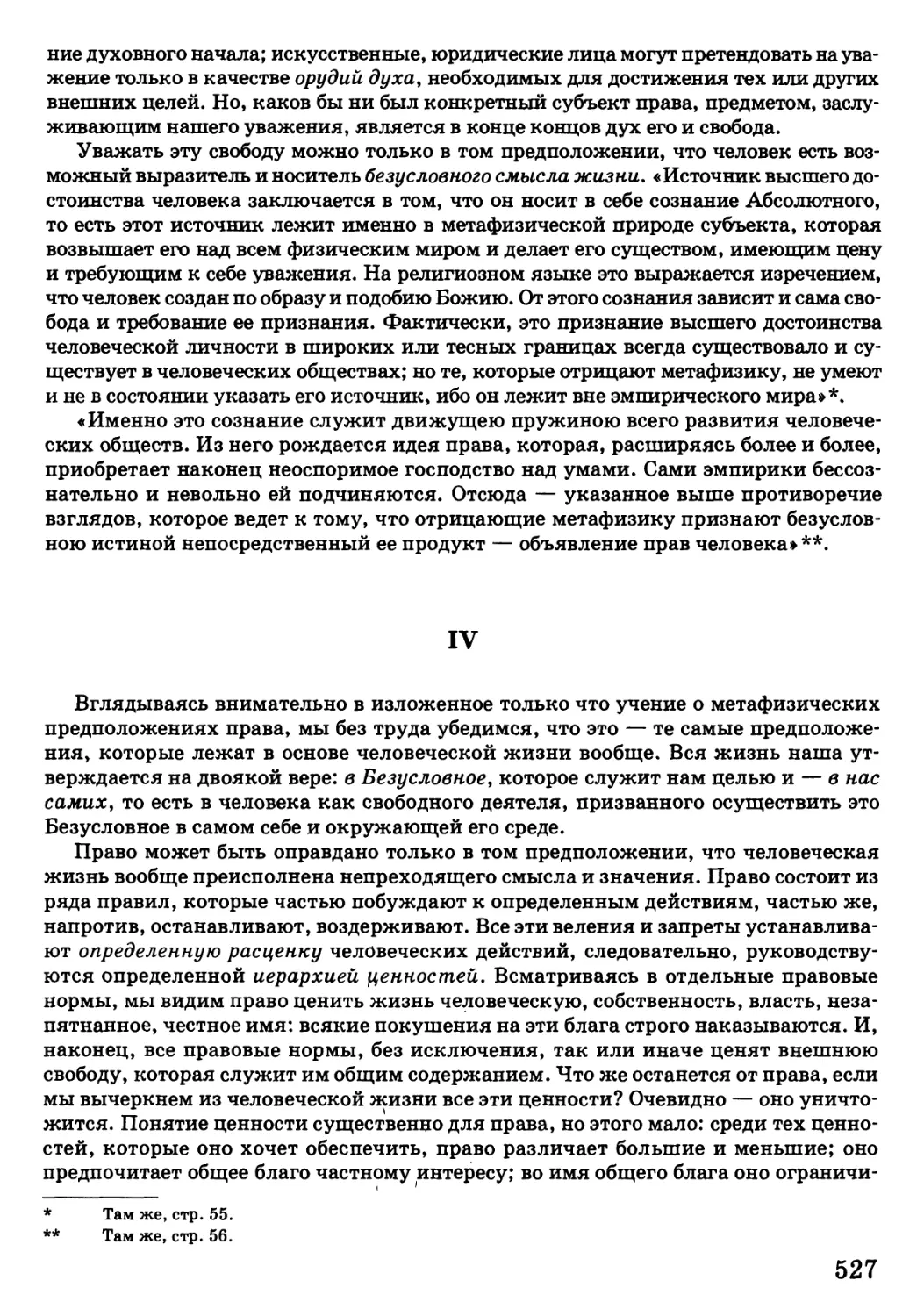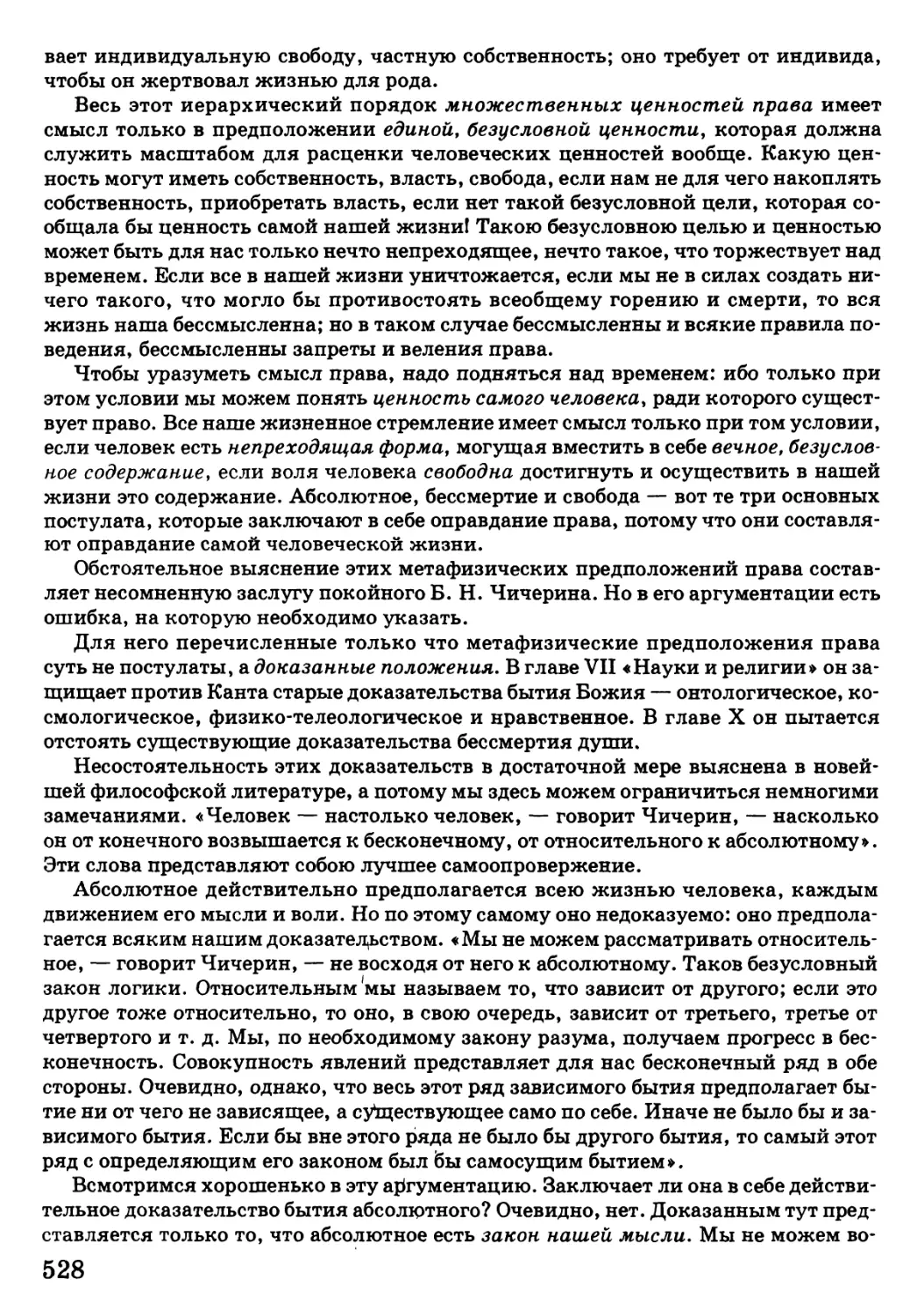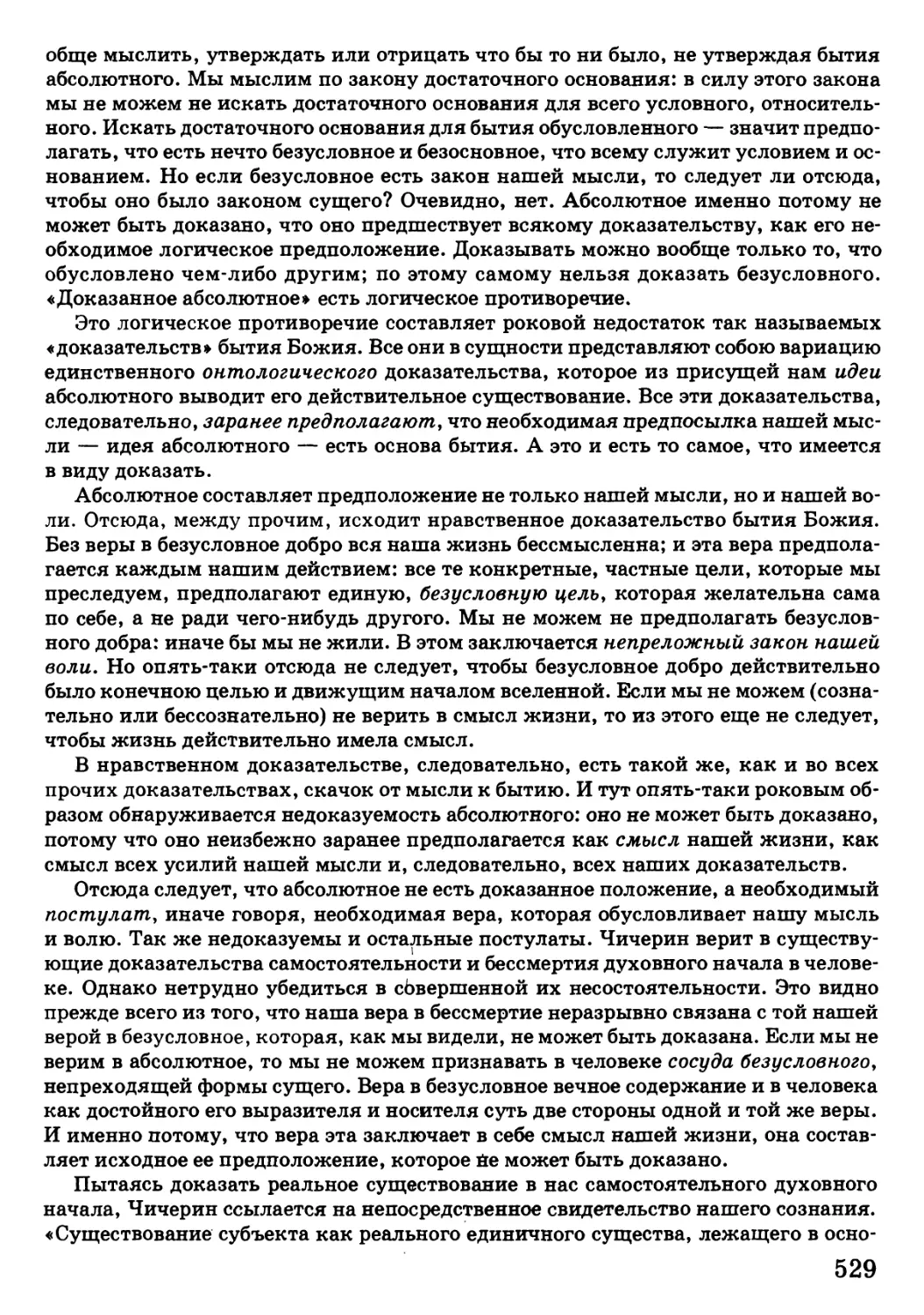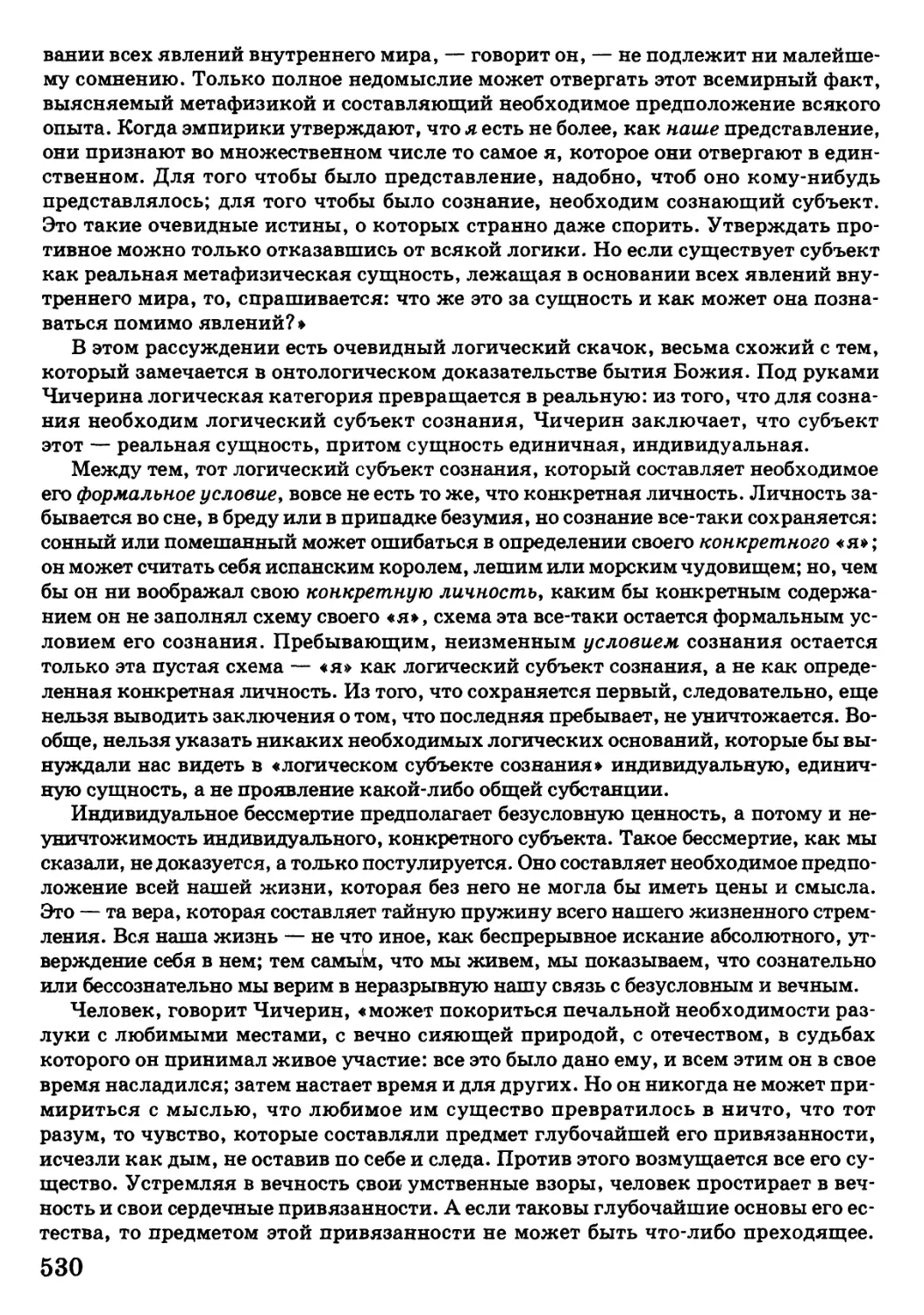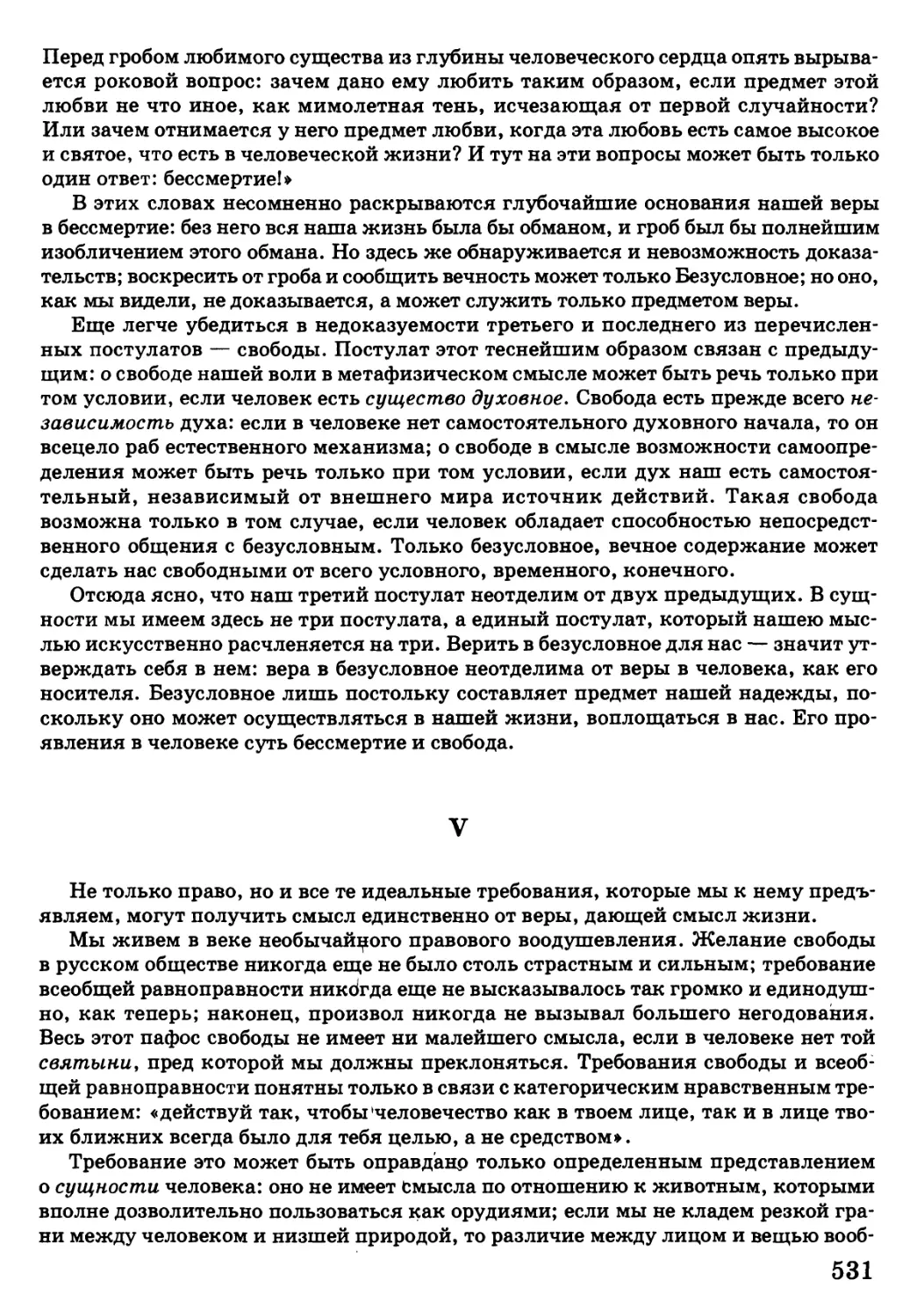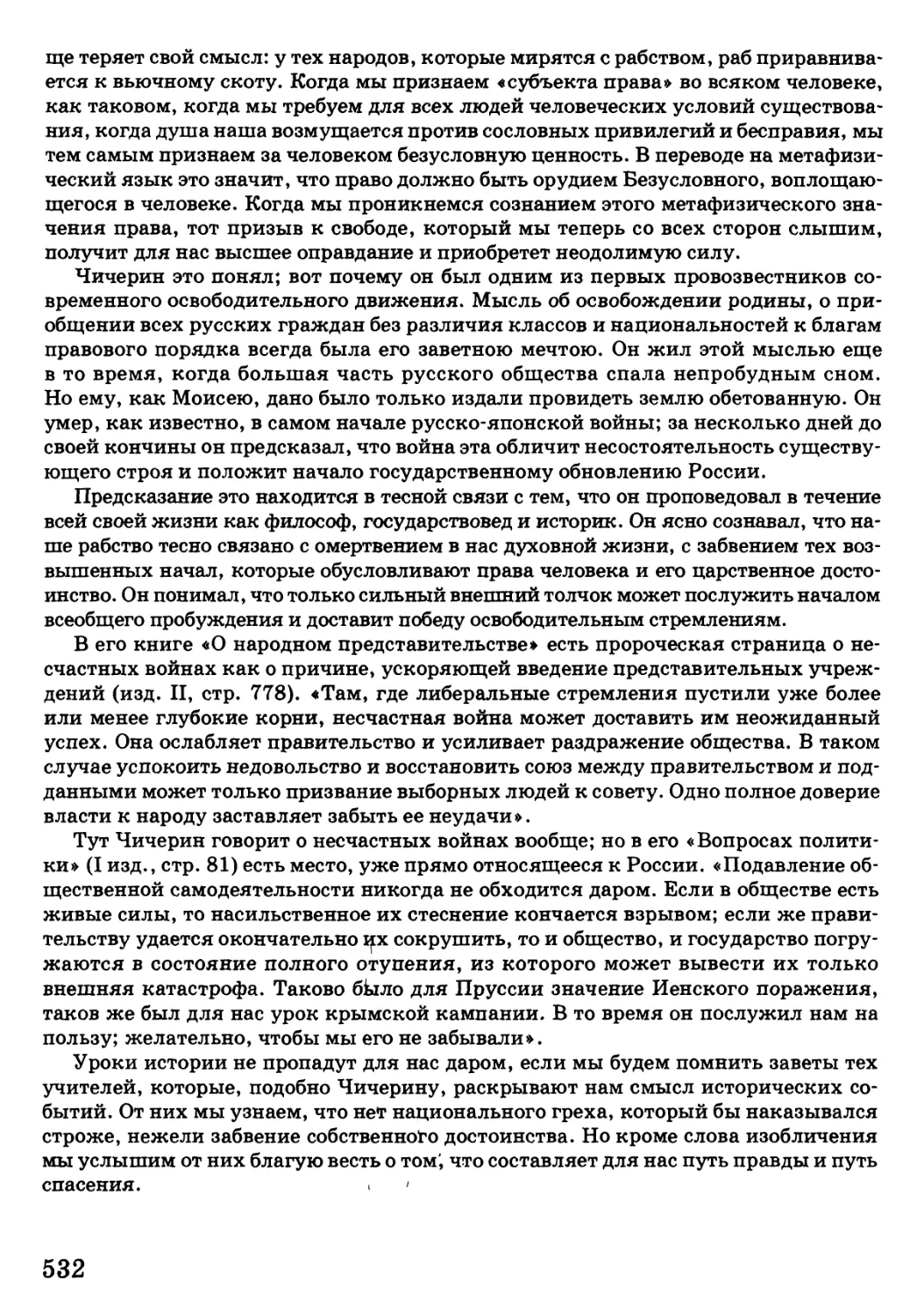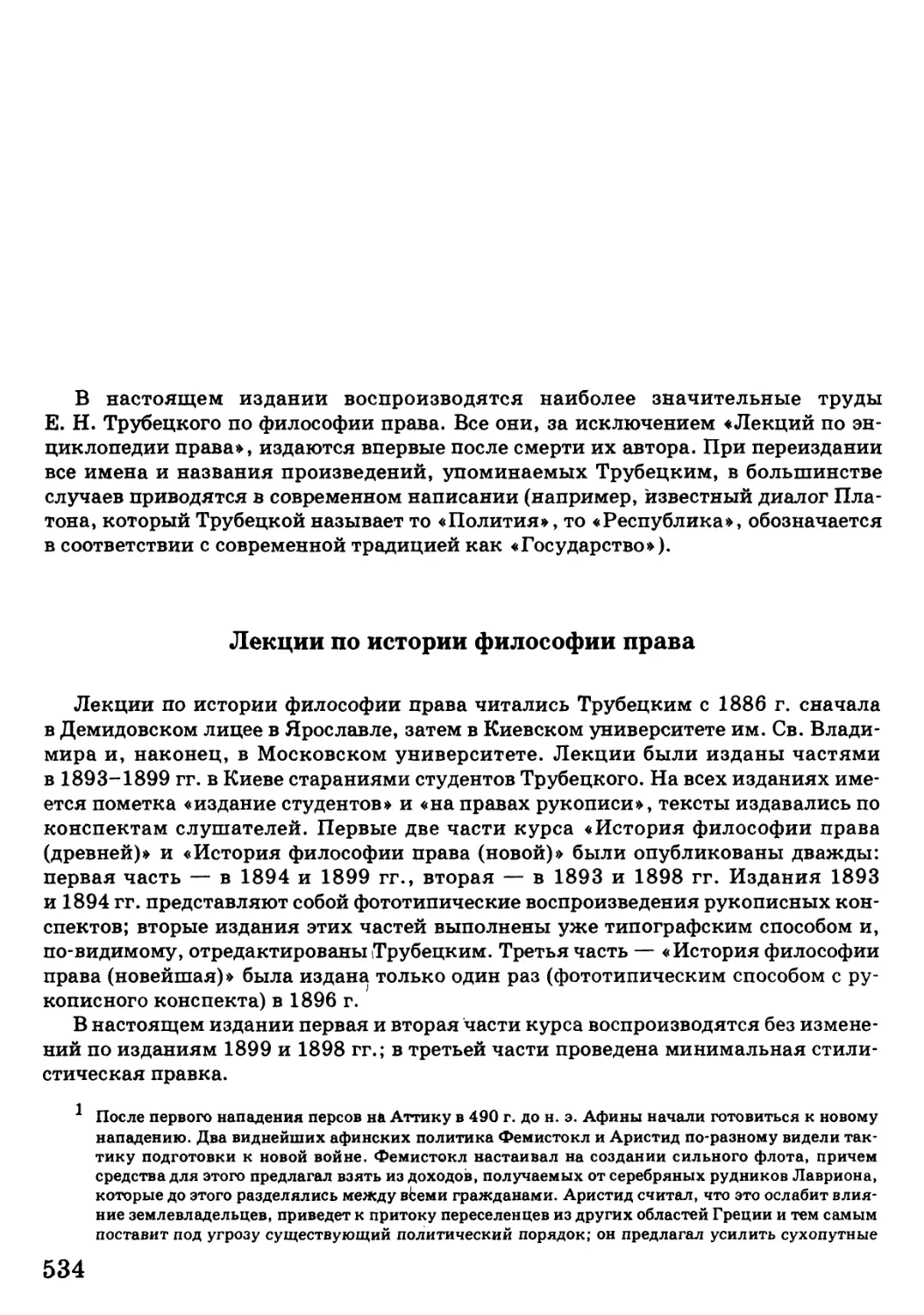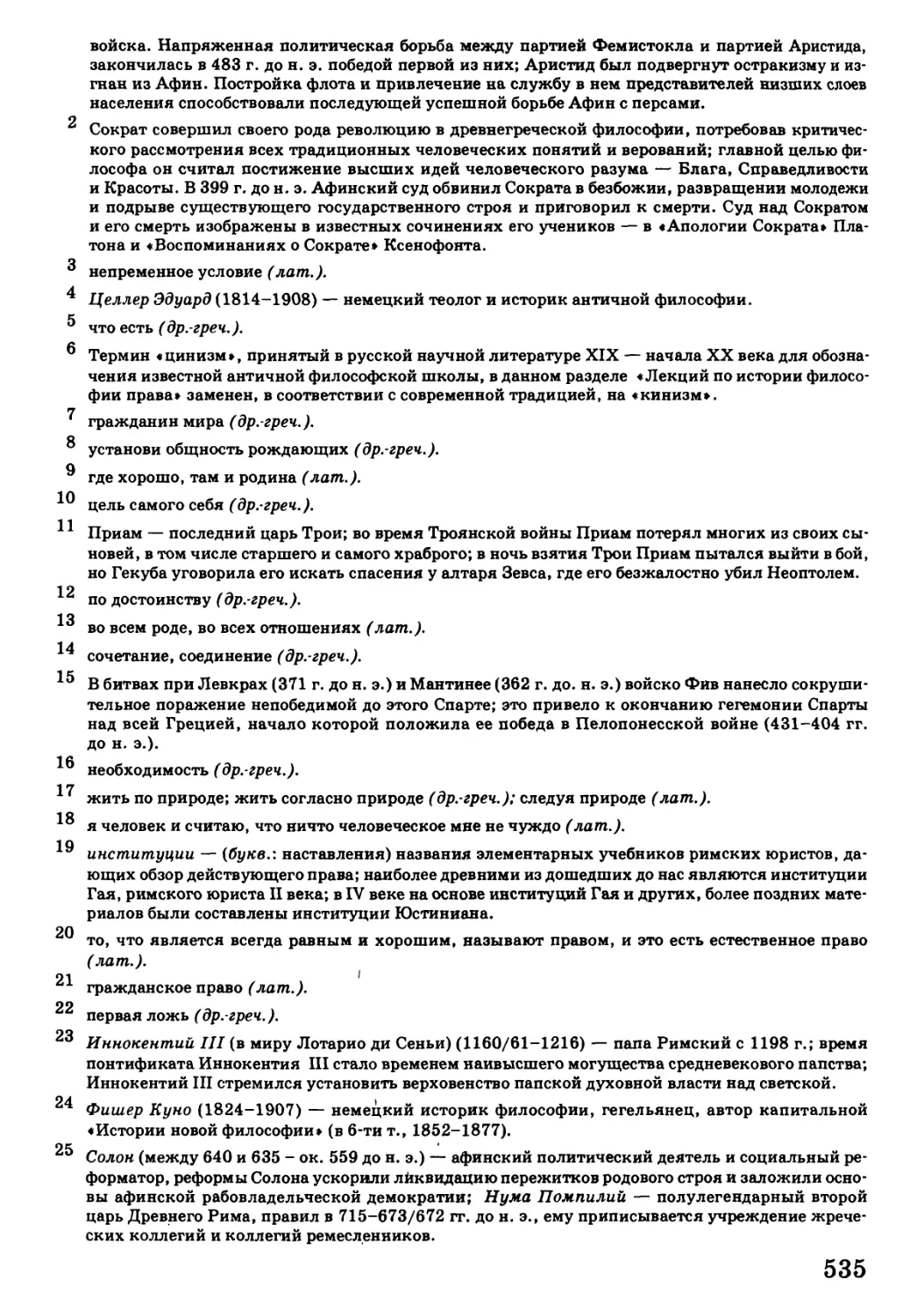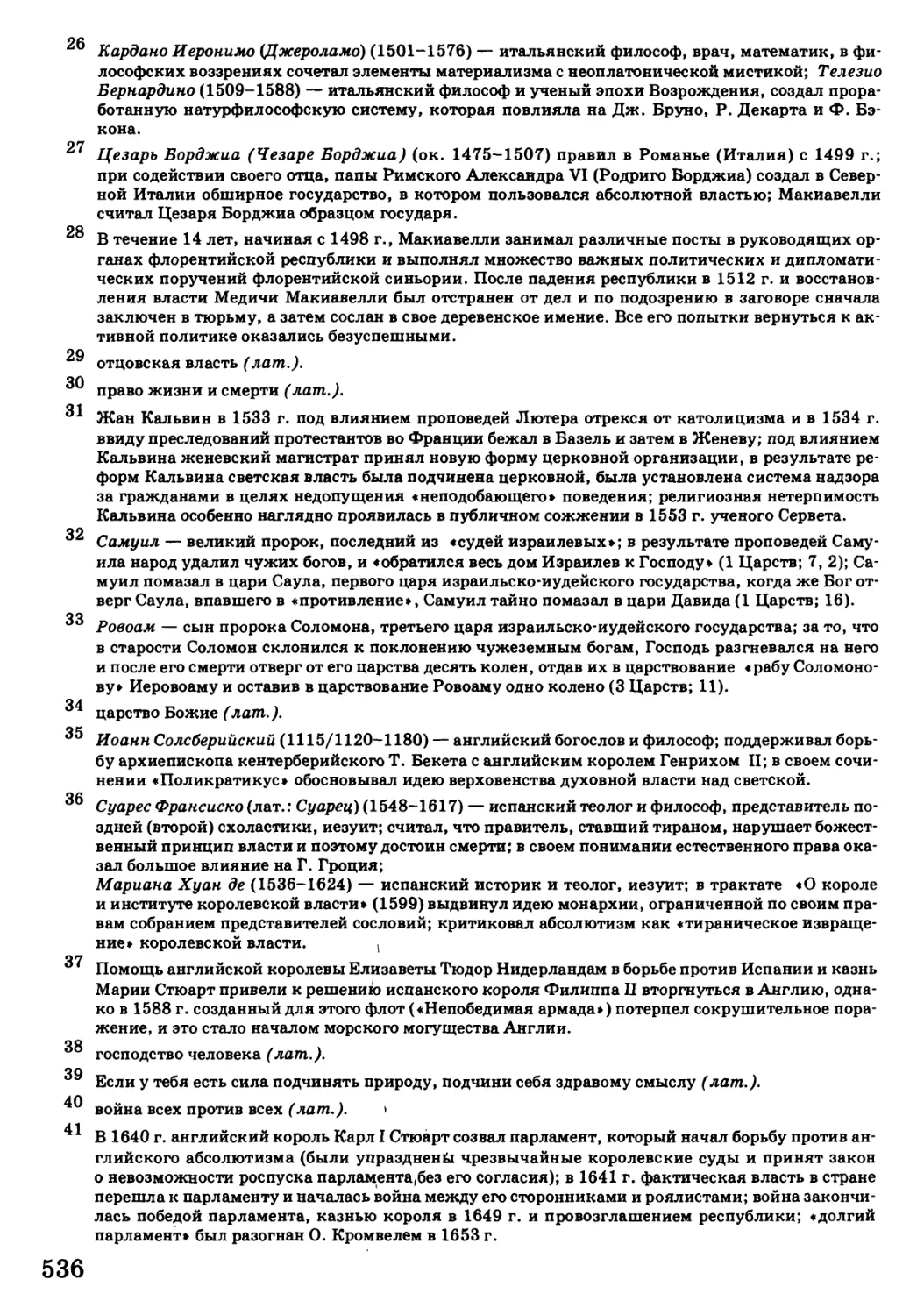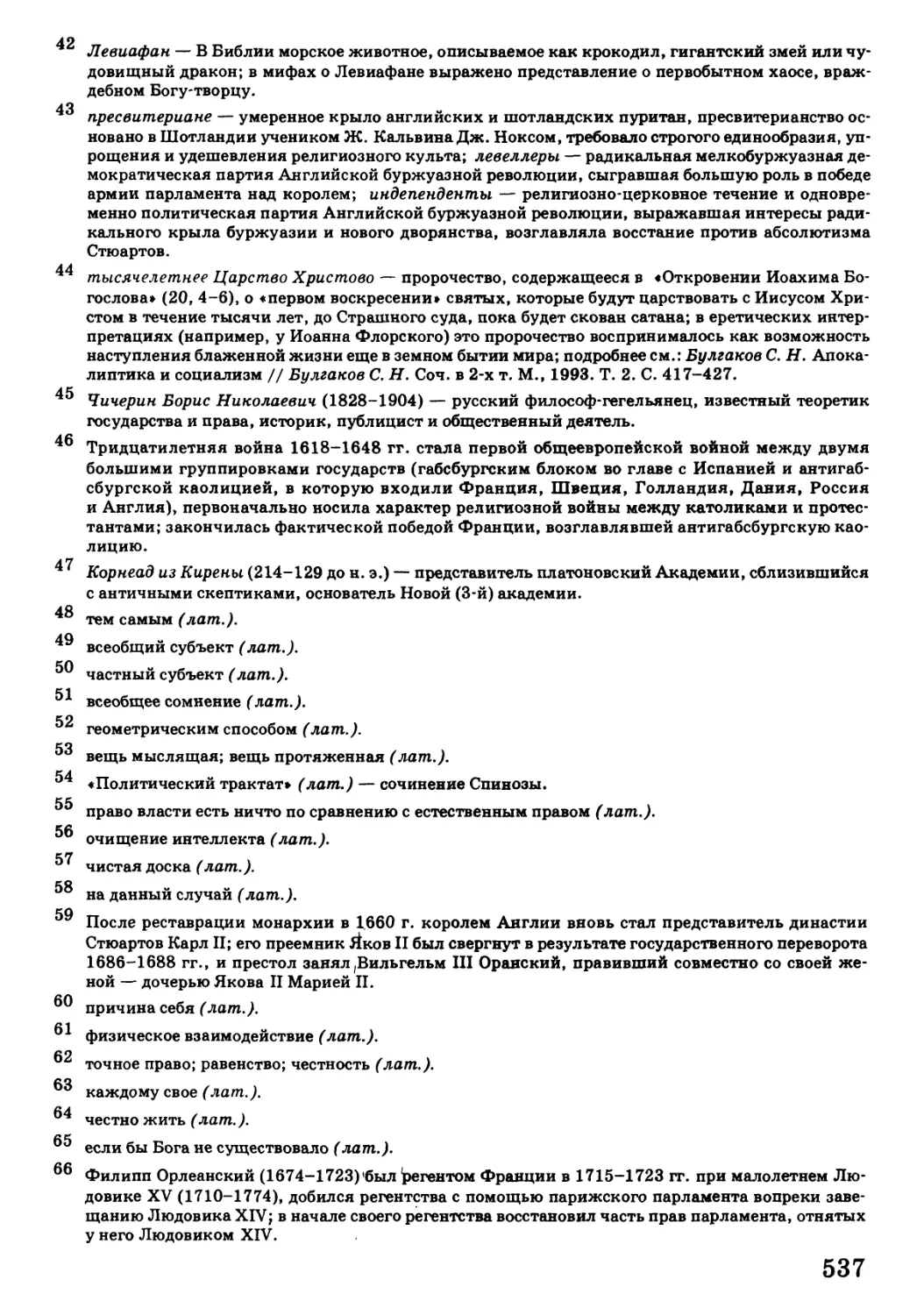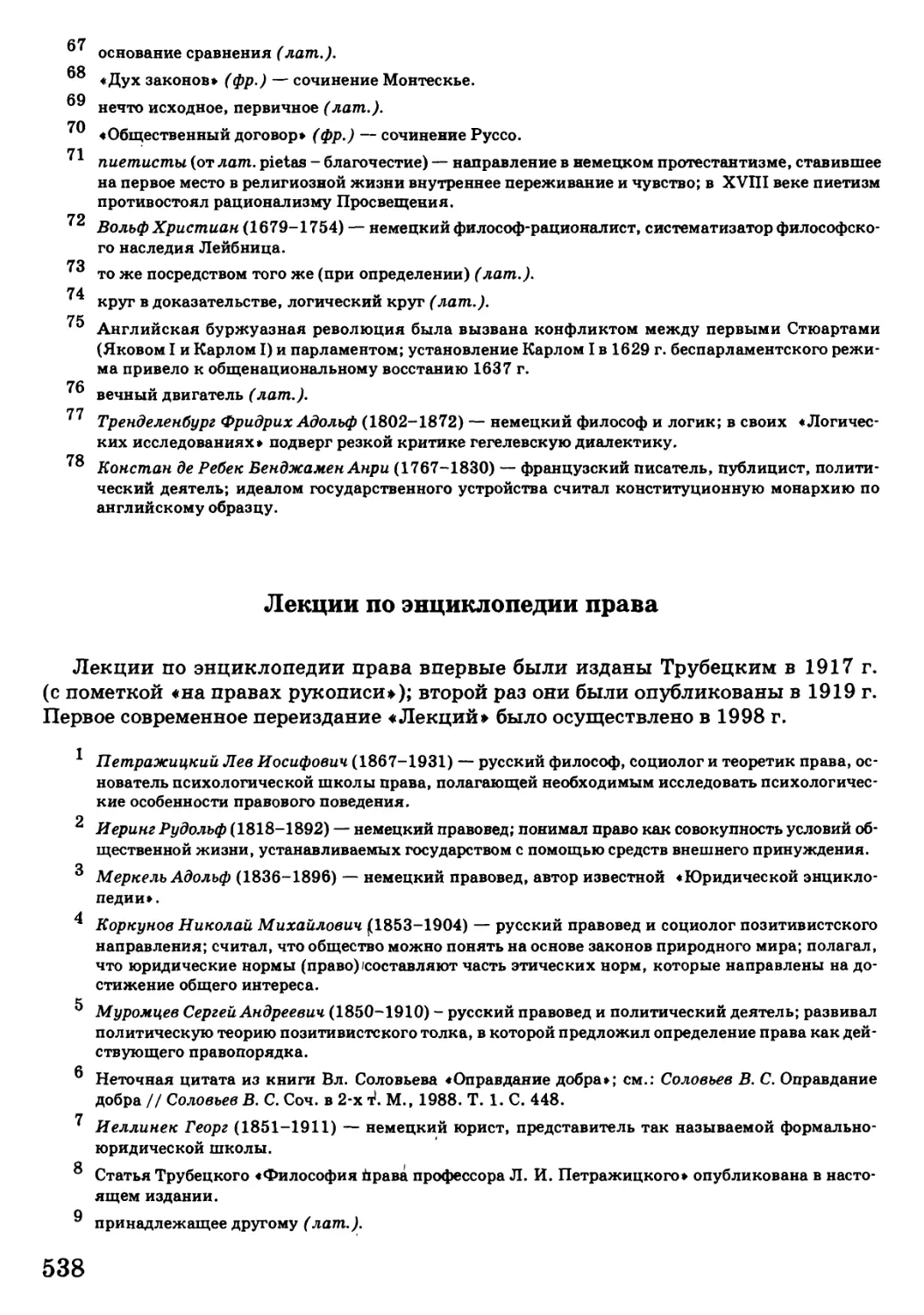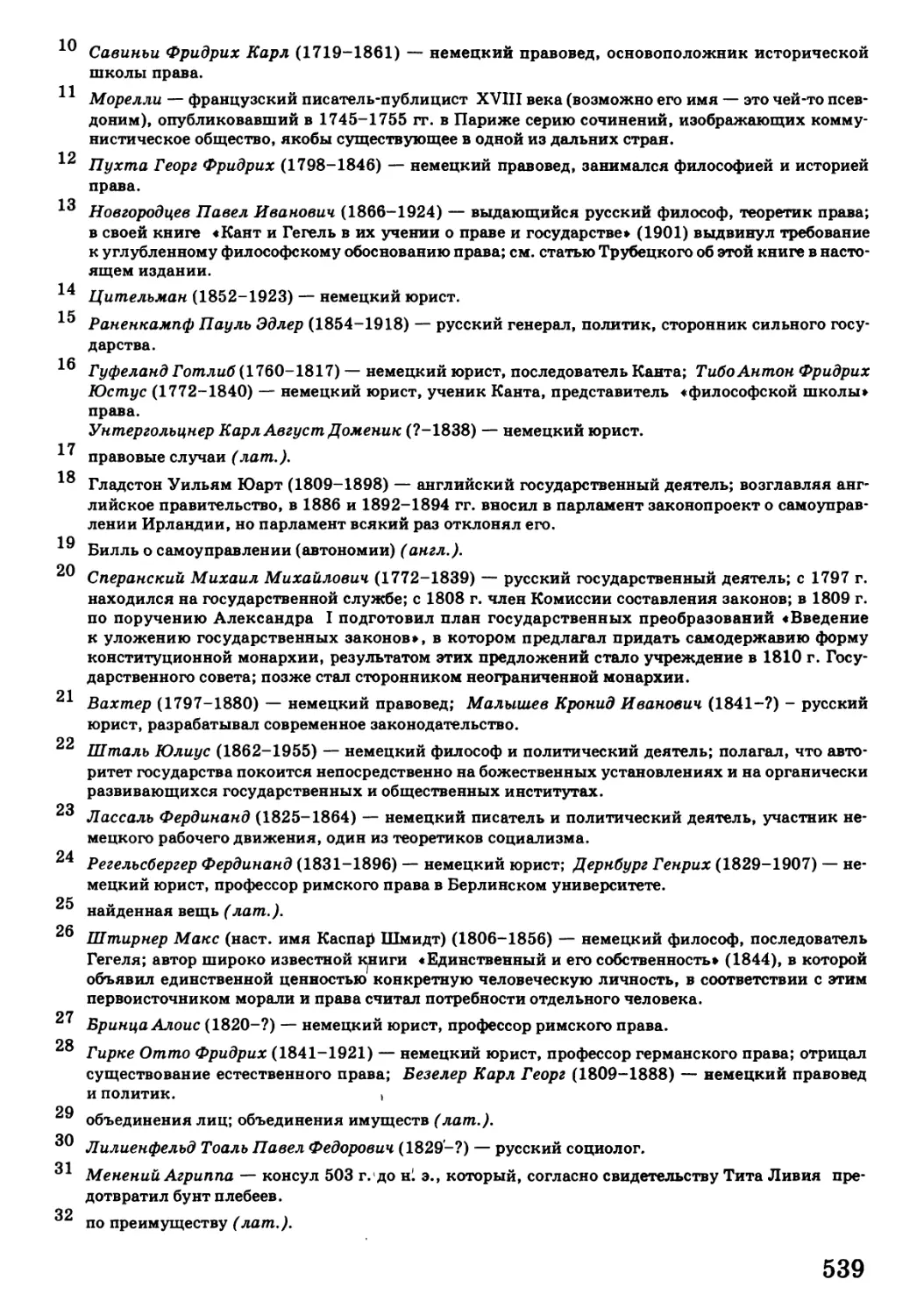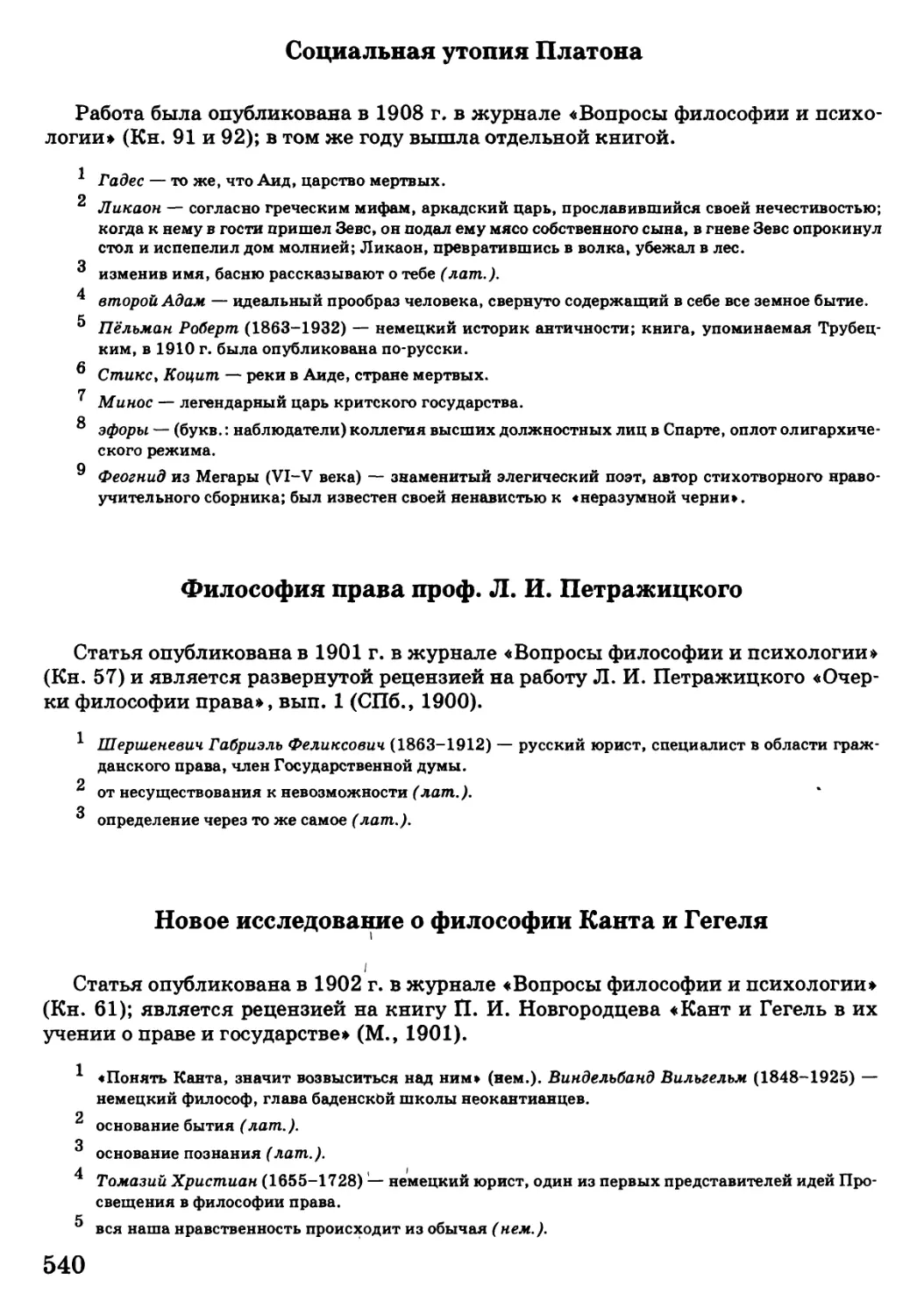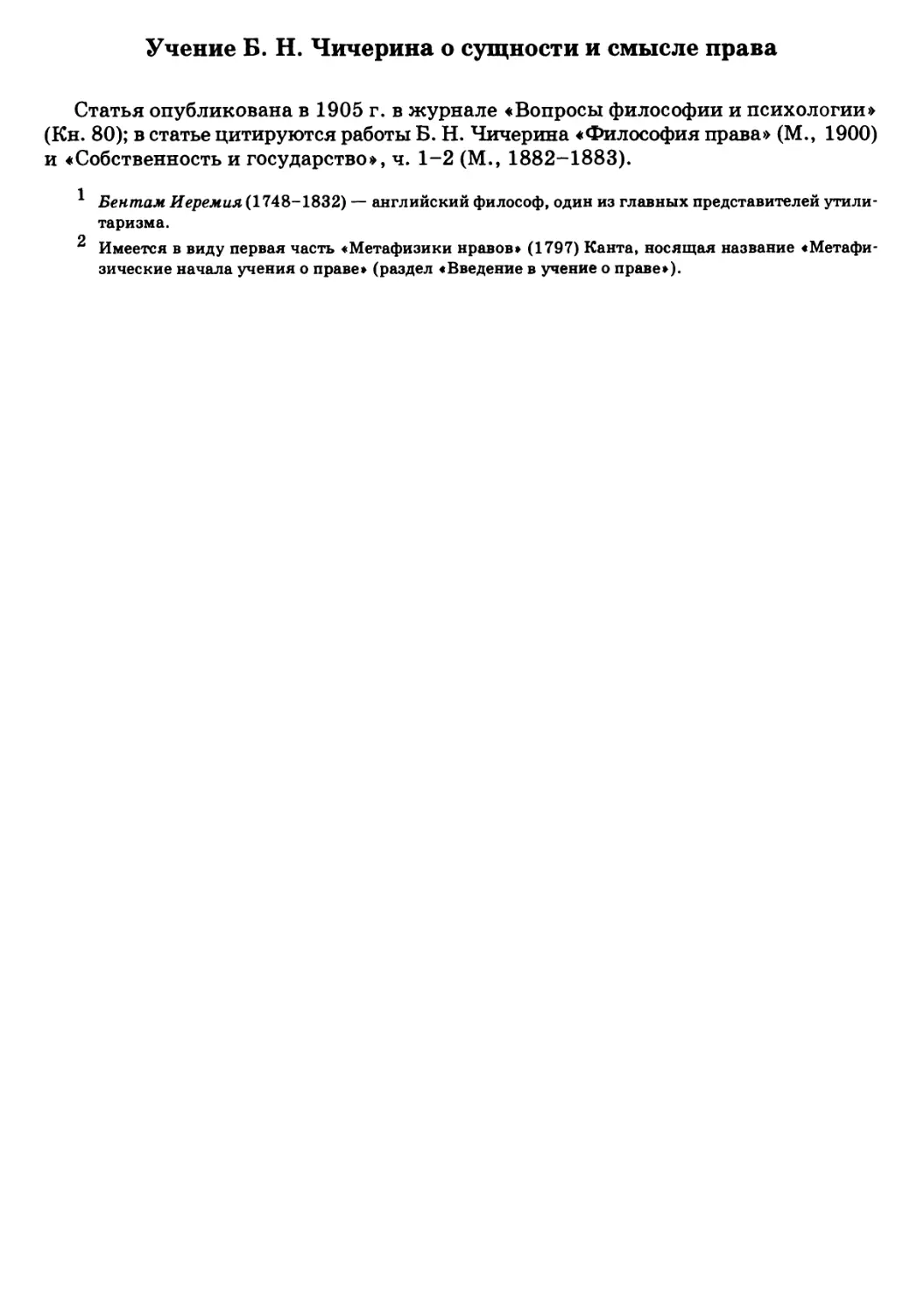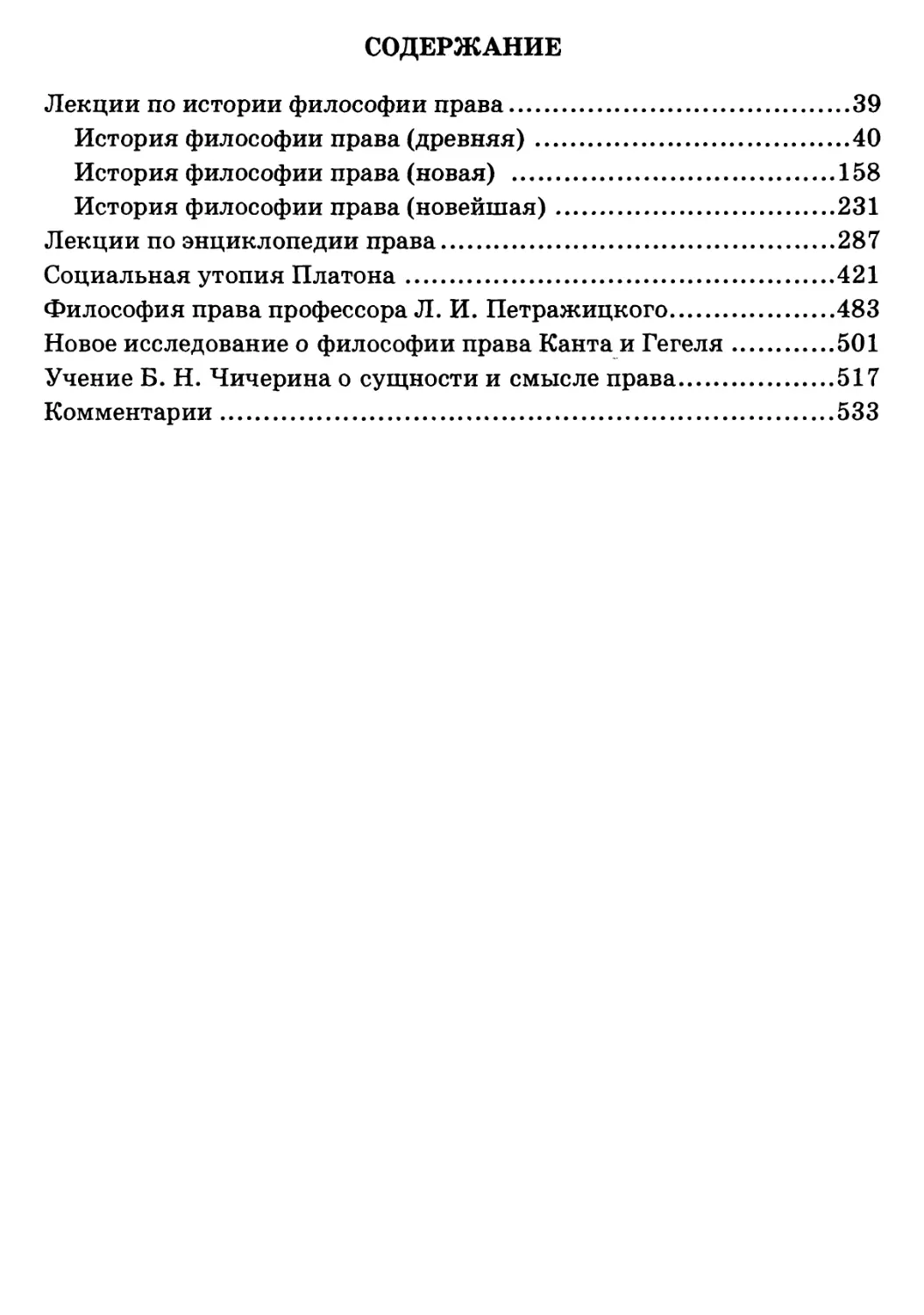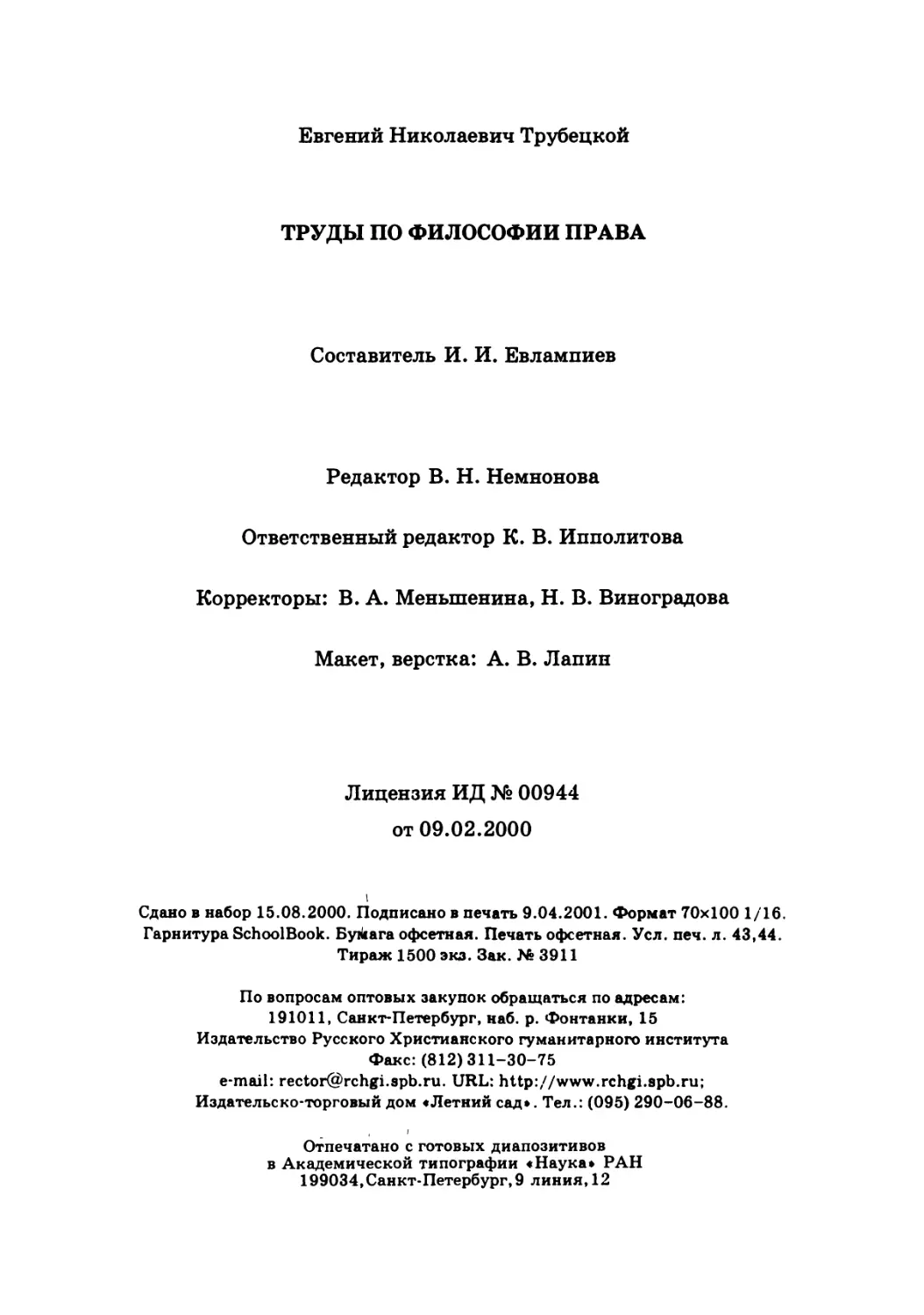Автор: Трубецкой Е.Н.
Теги: право метафизика философія русская философія философія права серія русская соціологія 20го вѣка
Год: 2001
Текст
РУССКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
INSTITUTIO ROSSICA CHRISTIANA
Ε. Η. ТРУБЕЦКОЙ
ТРУДЫ
ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
2001
Трубецкой Ε. Η.
Труды по философии права / Вступ. ст., сост. и примеч. И. И. Евлампиева. —
СПб.: Издательство РХГИ, 2001. — 543 с.
В книге представлены самые известные сочинения по философии права выдающегося
русского философа Ε. Н. Трубецкого (1863-1920): «Лекции по истории философии права»,
♦Лекции по энциклопедии права», «Социальная утопия Платона» и др.
Оригинальность авторского подхода к основным проблемам философии права,
сочетающаяся с ясностью и доступностью изложения, делает книгу полезной и для специалистов, и для
студентов, изучающих историю и теорию права. Большая часть текстов публикуется впервые.
Форзац: Дж. Вольпато. Гравюра с фрески Рафаэля «Афинская школа» (1778). Фрагмент.
И. И. Евлампиев,
вступительная статья, составление и
примечания, 2001
Издательство РХГИ, 2001
Составитель И. И. Евлампиев
И. И. Евлампиев
Философские и правовые воззрения Евгения Трубецкого*
I
Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) происходил из известного
аристократического рода; его дед был членом Правительствующего сената и удостоился
награждения золотой шашкой за храбрость; отец служил в гвардейском
Преображенском полку, а позже из-за * расстройства дел» был вынужден покинуть
Москву и стал вице-губернатором Калуги (в 1876 г.). В семье Трубецких было
девять детей, однако Евгений был в особенно близких отношениях со своим братом
Сергеем, который был на год старше его. Братья вместе учились в гимназии,
сначала в Москве, затем в Калуге, вместе в 1881 г. поступили на юридический факультет
Московского университета. Вместе братья Трубецкие еще в гимназии увлеклись
философией и прошли весь круг типичных для того времени философских
увлечений. Сначала объектом их юношеской * догматической» веры стал позитивизм в
лице Милля, Спенсера и Бок ля и новомодные научные теории во главе с дарвиновской
теорией эволюции. Однако затем наступил период сомнений, период кризиса,
связанный с обращением к немецкой философии (он произошел после знакомства с
историей философии в изложении Куно Фишера); в течение первых студенческих лет
братья Трубецкие изучают Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра. К
тому времени Сергей уже понял, что именно философия, а не юриспруденция,
должна стать его призванием и перешел на историко-филологический факультет
Московского университета. Евгений остался на юридическом, но, по его собственному
признанию, почти не посещал занятий из-за казенного духа, царившего в
университете, а прежде всего — из-за плохого цреподавания любимого им предмета, филосо-
Работа выполнена в рамках программы, поддержанной Российским гуманитарным научным
фондом, проект 01-03-0р^7а.
5
фии; кафедру философии в университете в то время возглавлял М. М. Троицкий —
воинственный позитивист и «невежественный в истории философии человек»;
по выражению Евгения Трубецкого, в его лекциях главным было «дешевое и
плоское глумление над германскими философами»*. После указанного «критического»
периода в духовных исканиях братьев Трубецких наступил последний этап: они
пришли (точнее, вернулись) к «вере отцов», к Церкви и ее учению. Все
последующее творческое развитие Сергея и Евгения было определено лаконичным тезисом,
сформулированным Евгением в своих «Воспоминаниях»: «Приняв веру, я не
только не отбросил философию; наоборот, я стал верить в нее так, как раньше никогда
не верил, потому что почувствовал ее призвание — быть орудием Богопознания»**.
Возвращение к вере, произошедшее в последние годы обучения в университете,
почти совпало с еще одним важнейшим событием в жизни братьев Трубецких — их
близким знакомством с Вл. Соловьевым. Евгений познакомился с ним в 1886 г.;
система Соловьева и стала для него образцом того Богопознания, которое является
высшей целью философской мысли, именно этим объясняется огромное влияние,
которое Соловьев оказал на духовное развитие своего друга.
После окончания университета жизненные пути братьев Трубецких
разошлись, Сергей очень быстро стал известным общественным деятелем и
философом; Евгений в 1886 г. поступил приват-доцентом в Демидовский юридический
лицей и начал читать студентам лекции по истории философии права. Через
несколько лет он переходит в Киевский университет Св. Владимира, где становится
профессором по кафедре философии права и энциклопедии права, а в 1906 г.
возвращается в Московский университет, где когда-то учился. В течение этих
двадцати лет преподавательская деятельность заслоняет все остальное в жизни
Евгения. Его научные труды (не считая курсов лекций для студентов) не столь
значительны; среди наиболее заметных работ можно назвать «юношеское» (по его
собственному признанию) сочинение «Рабство в Древней Греции», книгу,
посвященную критике философии Ницше, «Философия Ницше. Критический очерк»
(1904; журнальная публикация — 1903) и две диссертации — магистерскую,
«Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание
блаженного Августина» (1892), и докторскую, «Религиозно-общественный идеал
западного христианства в XI веке. Идея Божественного Царства в трудах
Григория VII и публицистов его времени» (1897).
События 1905 г., вызвавшие бурные процессы в общественно-политической
жизни России, привели к вовлечению Евгения Трубецкого в «текущие» дела.
Этому же, по-видимому, способствовала скоропостижная смерть его брата. В 1904 г.
была опубликована первая публицистическая статья Евгения Трубецкого «на
злобу дня» — «Война и бюрократия», которая получила широкую известность.
В конце 1905 г. назначенный премьером граф С. Ю. Витте даже предложил
Трубецкому пост министра народного просвещения в своем правительстве. В итоге
назначение не состоялось: Витте вовремя понял неприспособленность этого
«кабинетного ученого» к большой политике. Однако после этого Трубецкой уже не
уходит с «переднего края» общественно-политических баталий. Он на некоторое
время становится членом руководящих органов партии Народной свободы,
но вскоре расходится с партийными идеологами и вместе с группой
единомышленников, среди которых был его брат Геннадий, организует собственную пар-
Трубецкой Е. Я. Воспоминания. София, 1921. С. 73-74.
Там же. С. 68.
6
тию — партию Мирного обновления. Ее идейным органом стал журнал
♦Московский еженедельник»; за время существования журнала (1906-1910 гг.) Евгений
Трубецкой опубликовал в нем около трехсот передовых статей на актуальные
темы. В основе политической платформы Трубецкого в это время лежал принцип
«христианской политики», выдвинутый в публицистических работах Вл.
Соловьева. В 1907 г. Трубецкой был избран членом Государственного совета от
российских университетов и Императорской академии наук, однако уже в мае 1908 г. он
отказывается от звания члена Совета.
В 1910 г. прекращается издание «Московского еженедельника», а в 1911 г.
Трубецкой уходит из Московского университета вместе с группой преподавателей
в знак протеста против нарушения правительством принципов университетской
автономии. С этого момента главным для Трубецкого становятся его занятия
философией, причем в своих новых трудах он почти не касается проблем философии
права, которые ранее занимали господствующее место в его сочинениях. В 1908 г.
выходит его этюд «Социальная утопия Платона», в 1909 г. — большая статья
«Панметодизм в этике (к критике учения Когена)», в 1910 г. — статья «Вл.
Соловьев и его дело». Последняя работа стала заявкой на создание капитального
исследования о философии Вл. Соловьева; в программе издательства «Путь» (в
организации которого Трубецкой принимал живое участи) была в 1910 г. объявлена
книга с таким же названием. После ухода из университета Трубецкой целиком
посвящает себя работе над будущей книгой. Первые ее фрагменты появились в виде
журнальных публикаций в 1912 г., а целиком, под новым названием
«Миросозерцание В. С. Соловьева», она вышла в издательстве «Путь» в 1913 г.
Начало Первой мировой войны снова заставило Трубецкого переключиться на
публицистику и активно заняться общественно-политической деятельностью.
В ноябре-декабре 1914 г. он вместе со своим недавним студентом И. Ильиным
выступает с публичными благотворительными лекциями, посвященными войне,
в ряде российских городов; сбор от лекций идет в помощь всероссийскому союзу
городов и населению Царства Польского, пострадавшего от войны. Осенью 1915 г.
он вновь был избран членом Государственного совета от Калужского земского
собрания. Этот последний период жизни Трубецкого оказался самым насыщенным
в творческом отношении. Он создает три небольшие, но очень глубокие работы,
посвященные анализу мировоззренческих оснований древнерусской иконописи,
под общим заглавием «Умозрение в красках» (1915-1918); публикует в
издательстве «Путь» книгу, посвященную критике неокантианской гносеологии
«Метафизические предположения познания» (1917); наконец, подводит итог своему
философскому творчеству в книге «Смысл жизни» (1918). После революции 1917 г.
Трубецкой покинул Москву и примкнул к Добровольческой армии. В 1920 г. он
скончался от тифа в осажденном Красной армией Новороссийске.
II
Пытаясь охарактеризовать философские взгляды Евгения Трубецкого, мы
вынуждены начать с избитого, но вполне верного замечания. Свое философское
творчество Евгений, как и его брат Сергей, почти полностью подчинил одной цели —
развитию, разъяснению и уточнению философской системы Владимира Соловьева,
которая стала первой целостной системой русской философии. Философия Соловь-
7
ева была той основой, на которой развивали свои идеи и концепции почти все
русские философы конца XIX — начала XX века. Самые яркие представители
Серебряного века русской культуры — Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин, И. Ильин,
С. Булгаков и др. — своими творческими успехами в значительной степени были
обязаны творцу «философии всеединства». Однако, используя идеи своего
великого предшественника, они во многом спорили с ним, через критическую переработку
отдельных составляющих философии Соловьева продвигались к созданию своих
собственных оригинальных систем. Совсем другое отношение к наследию
Соловьева мы находим у старших представителей всего этого поколения мыслителей,
у князей братьев Трубецких. Будучи по своей природе сильными и самобытными
мыслителями, они сознательно подчинили свои философские искания развитию
и уточнению тех основополагающих принципов и идей, которые были выражены
Соловьевым. Это было в немалой степени обусловлено давними дружескими
отношениями между Трубецкими и Соловьевым, а также их глубоким уважением к
человеку, в решающей степени повлиявшему на их творческое развитие.
Посвятив самое капитальное свое сочинение анализу философской системы
Соловьева, Евгений Трубецкой наглядно продемонстрировал, как он относится
к своему великому современнику и какое место отводит себе самому в развитии
русской философской традиции. Тем не менее сочинения Соловьева Трубецкой
оценивает не только как восторженный почитатель и благодарный ученик,
но и как свободный мыслитель; он пытается более ясно выразить главные идеи
Соловьева, придать правильную форму его великим прозрениям, исправить роковые
ошибки, исказившие его мысли. Именно поэтому книга «Миросозерцание
В. С. Соловьева» интересна не только для того, кто изучает наследие самого
известного русского философа XIX века, но и для того, кто интересуется судьбой
русской философии в XX веке. Свою задачу Евгений Трубецкой видит помимо
прочего в том, чтобы оценить наследие Соловьева с точки зрения трагической эпохи,
начавшейся уже через несколько лет после смерти великого русского философа,
мировоззрение которой тот предчувствовал, но не смог выразить достаточно ясно.
Завершить искания Соловьева в свете этой новой эпохи пытается Трубецкой и
одновременно — разоблачить некоторые иллюзии Соловьева, уже явно показавшие
свою несостоятельность.
Определяя время, в котором творил Соловьев, как кризисное, Трубецкой видит
смысл этого кризиса в «атомизации» человека и культуры. «Отдельный личный
интерес, случайный факт, мелкая подробность — атомизм в жизни, атомизм в
науке, атомизм в искусстве — вот последнее слово западной цивилизации»*.
«Атомизму» западной культуры Соловьев противопоставляет идеал цельности жизниу
унаследованный от славянофилов. Критикуя западную философию за то, что
в ней окончательно восторжествовала позитивистски-рационалистическая
тенденция, в рамках которой происходит забвение главных целей человеческой
жизни, Соловьев, утверждает Трубецкой, провозглашает необходимость создания
своего рода «религиозного материализма» — философского мировоззрения,
полагающего главной целью для человека мистическое преображение материального,
телесного бытия, приведение его к совершенному, божественному состоянию.
Именно человек, раскрывает в своей творчески-практической деятельности силы,
способные преобразить всю реальность', выступает как «проводник»
божественного влияния на мир; результатом его деятельности должно стать окончательное
* Трубецкой Е. Я. Миросозерцание В. С. Соловьева. М., 1995. Т. 1. С. 52.
8
«воссоединение» мира, человека и Бога. С этой важнейшей мыслью связаны две
наиболее известные концепции философии Соловьева — концепция Богочелове-
чества и концепция всеединства. Первая определяет смысл бытия человека в
мире и его великое предназначение, вторая — ту цель, которая должна вдохновлять
человека, тот идеал, который не позволяет мириться с несовершенством бытия.
Выделяя основную линию развития мыслей Соловьева, Трубецкой уже на
первых страницах книги обозначает свое видение его главных ошибок. Справедливо
замечая, что Соловьев многое позаимствовал из традиции немецкой мистики
(М. Экхарт, Николай Кузанский, Я. Бёме) и у позднего Шеллинга, Трубецкой
утверждает, что это увлечение сыграло роковую роль в развитии его идей: «Идя по
стопам Киреевского и Хомякова, он сравнительно легко восторжествовал над
рассудочными элементами западноевропейской философии, но не в достаточной мере
остерегся того несравненно более тонкого соблазна, который заключался во
многих ее религиозных и мистических построениях, в особенности же в том шеллин-
гианском гностицизме, от которого он никогда не мог ясно себя отграничить»*.
Как и многие другие русские философы, Соловьев не был удовлетворен
традиционным церковным христианством, он пытался найти за его устоявшимися
формами некое «истинное» содержание, забытое европейским человечеством в эпоху
«позитивистского» благополучия. Признавая справедливость этих исканий (в
некоторых работах он сам достаточно критично оценивает русскую православную
церковь предреволюционного периода), Трубецкой считает, что Соловьев в итоге
пошел слишком далеко и во многом вообще вышел за рамки христианского
мировоззрения, внес в свою философию явные гностические элементы. Выявлению
и анализу «гностических уклонений» Соловьева Трубецкой уделяет существенное
внимание в своей книге. Прежде всего он отмечает, что именно из немецкой
мистики происходят пантеистические мотивы соловьевской метафизики.
Рассматривая взаимосвязь Бога и мира, Соловьев склоняется к тому, чтобы признать мир
естественной и необходимой формой воплощения вечной сущности Бога,
Абсолюта. Мир необходим Богу для полноты реализации его сущности, в мире
происходит своего рода «обогащение» этой сущности. В результате, Абсолюту
приписывается характеристика метафизического «развития», «становления». «Очевидно, —
пишет Трубецкой, — что учение Соловьева здесь впадает в те самые противоречия
пантеистических теорий, которых оно хотело избежать: генезис, становящееся
бытие и у него относится к Абсолютному как явление к сущности... Процесс,
то есть переход от одного состояния к другому, и усовершенствование здесь
происходит не вне, а внутри самого Абсолютного; становление, таким образом, для него
существенно. С этой точки зрения, с одной стороны, временное бытие несвободно
от Абсолютного; с другой стороны и потому самому, Абсолютное не вполне
свободно от времени и временного»**.
Второе важнейшее слагаемое системы Соловьева, в котором Трубецкой
находит гностическое уклонение, связано с пониманием человека и его роли в бытии.
Полагая Абсолют еще только восходящим к своей подлинной абсолютности,
Соловьев считает человека, человечество, главным фактором процесса «становления
Абсолютного». Это, в частности, приводит к тому, что в его философии
человечество в его идеальной ипостаси отождествляется с Софией, Премудростью Божией,
которая в строго догматических интерпретациях мыслится как идеал совершен-
Там же. С. 67.
Там же. С. 300-301.
9
ного, преображенного космоса. Согласно логике Соловьева, человечество
является движущей силой преображения мира к указанному идеалу, и именно поэтому
в своей вечной сущности оно не может быть отличным от него. Признавая
плодотворность этой концепции, Трубецкой тем не менее утверждает, что идея Софии
ведет Соловьева к типично гностическому пониманию человека, как своего рода
«медиума» божественного влияния в мире, необходимого Богу для «пополнения»
своей сущности. «Ошибка Соловьева — в том, что он видит в человеке порождение
вечной Божественной природы, естественное и необходимое. По его воззрению,
Бог не может существовать без человека. Если так, то основой отношений Бога
к человеку должен быть признан фатум, а не свобода; но тем самым Бог
становится виновником всего зла нашей действительности. Вывод этот становится
неизбежным, как только мы вместе с Соловьевым признаем человека частью вечной
божественной действительности»*.
Свою задачу и свой долг в отношении Соловьева Трубецкой видит в том, чтобы
избавить его философию от отмеченных ошибок, показать, что они не являются
необходимыми в рамках его глубокой и оригинальной системы; по мнению
Трубецкого, она вполне может быть «исправлена» таким образом, что будут
устранены все ее расхождения с каноническим православием. Это убеждение Трубецкого
нужно признать достаточно спорным, тот факт, что большинство ярких
последователей Соловьева, развивая его идеи, еще дальше отклонились от догматической
системы православия (например, Бердяев и Карсавин уже почти не скрывают
гностического характера своих построений), говорит, скорее, против этого
убеждения**. В книге «Миросозерцание В. С. Соловьева» указанной теме посвящено
немало страниц, однако исправление «ошибок» Соловьева не является здесь
главной целью, поэтому Трубецкой ограничивается только самыми общими и
достаточно очевидными замечаниями. Критикуя пантеистические и
антропоцентрические мотивы в рассуждениях Соловьева, Трубецкой защищает
догматическую концепцию, основанную на утверждении безусловной независимости Бога от
мира и человека, его полной свободы в отношении своего творения. «Как
Абсолютное, — пишет он, — Бог безусловно свободен от всякого становящегося,
несовершенного бытия, — свободен от мира и над миром... Божественная свобода,
вот умопостигаемый, сверхвременный источник как нашего, человеческого, так
и всякого другого становящегося, несовершенного существования, — источник
всей внебожественной действительности... Рождение... нового бытия не
противоречит понятию Бога как Абсолютного. Ибо, во-первых, это бытие полагается
Богом в Его свободе и, следовательно, не ограничивает этой свободы. Во-вторых, оно
полагается вне Божественной Природы, утверждается как внебожественная
действительность: поэтому оно не нарушает совершенства последней; движение,
изменение, совершенствование, равно как и несовершенство, и зло, остаются
определениями внебожественного мира. В своей собственной действительности Бог
остается от них свободным» ***.
Однако изложенная здесь метафизическая схема (безусловно, догматически
правильная и поэтому совершенно неоригинальная) является слишком общей
и не может служить достаточно веским комментарием к яркой системе идей
Соловьева. Для того чтобы более убедительно обосновать тезис о возможности согласо-
* Там же. С. 351. '
** Подробнее см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX—XX веках. Русская
философия в поисках Абсолюта. СПб., 2000. Т. 1. С. 179-188, 297-303; Т. 2. С. 136-146.
*** Трубецкой Е. Я. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 351-352.
ю
вания идей Соловьева с православной догматикой, нужно было с большей
определенностью и смелостью развернуть эту схему, соединив с ключевыми моментами
системы Соловьева. Это и составляет замысел главного философского труда
Евгения Трубецкого «Смысл жизни».
III
Книга «Смысл жизни» стала вершиной и одновременно завершением
философского творчества Трубецкого. Опубликована она была в 1918 г., когда Россия уже
почти скатилась в пучину гражданской войны и бесконечных бедствий. Как
подлинный патриот, как человек, не способный стоять в стороне от борьбы, в которой
решается судьба его страны, Трубецкой оказался активно вовлеченным в белое
движение, пытавшееся из последних сил противостоять большевистской
диктатуре, и его смерть в 1920 г. в агонизирующем Крыму выглядит неизбежным
финалом жизни мыслителя, педагога, общественного деятеля; вряд ли Трубецкой смог
существовать в новой России, проклявшей те ценности, служению которым он
посвятил всего себя, или в эмиграции, где для такого служения также было
слишком мало места.
Пытаясь понять и оценить идеи главного труда Евгения Трубецкого, мы
неизбежно должны вспомнить творчество его брата Сергея. Он гораздо раньше начал
разрабатывать свою систему идей, опираясь, как и Евгений, на философию Вл.
Соловьева. Рано уйдя из жизни (он умер в 1905 г.), Сергей Трубецкой как бы
передал эстафету философской мысли своему брату, который испытал его
безусловное и решающее влияние. Собственно философским творчеством Евгений начал
заниматься только после смерти брата, и это выглядит как желание довести до
конца его незавершенные искания. И книга о Соловьеве, и работа «Смысл
жизни», безусловно, перекликаются по своим главным идеям с важнейшими
работами Сергея Трубецкого, в которых тот пытается прояснить некоторые моменты,
оставшиеся без внимания в системе Соловьева.
В центре двух наиболее известных трудов Сергея Трубецкого «О природе
человеческого сознания» (1890) и «Основания идеализма» (1896) находится та
проблема, которая занимала внимание абсолютно всех мыслителей XIX в., — проблема
отношения отдельной личности и общечеловеческого, соборного целого. Хотя
в решении этой проблемы С. Трубецкой опирается на идеи Соловьева, в своей
концепции соборного сознания ор подводит итог всем размышлениям на эту тему
в русской философии начиная с Чаадаева.
Подобно Соловьеву, С. Трубецкой детально разбирает два главных направления
в развитии классической европейской философии — эмпиризм и идеалистический
рационализм — и приходит к выводу, что они не способны дать адекватного
разрешения указанной проблемы и поэтому бессильны объяснить феномен
индивидуального сознания. Как ни странно, но в обоих этих направлениях С. Трубецкой
находит одну и ту же ложную тенденцию к абсолютизации личности, обусловленную
идеологией протестантизма. В эмпиризме происходит непосредственная
абсолютизация наличной данности индивидуального сознания вместе с его содержанием.
Более сложным путем приходит к'тому же результату рационализм. Здесь
субъективные мысли отдельной личности и ее субъективное сознание «возвышаются» до
«абсолютной субъективности», которая и выступает истоком и носителем всего су-
11
ществующего. Философы этого направления (от Декарта до Гегеля), как считает
С. Трубецкой, получают в результате такой процедуры не реальный и
«полновесный» Абсолют, а отвлеченную абстракцию, которая утрачивает связи с подлинной
реальностью, с тем, что подлинно есть. «И если бы мы даже были в состоянии
построить вселенную из понятий, из чистых форм разума, — одно бытие этой
вселенной, один факт, что она есть, — не имеет в себе ничего рационального, ничего
такого, в чем мы могли бы убедиться a priori. Реальность не есть категория рассудка,
но нечто такое, что эмпирически испытывается как данное, нечто вполне
иррациональное»*. Невозможность охватить абстрактным Абсолютом реальное бытие
заставляет более глубоких мыслителей (Шеллинга, Шопенгауэра, Э. Гартмана)
предположить, что указанный Абсолют является по своей сути «бессознательным»,
иррациональным началом, и что он лишь «постепенно», в сверхвременном
метафизическом процессе приходит к состоянию самосознания (окончательного
«успокоения»). Признавая нелепость применения понятия становления к Абсолюту
(напомним, что и у Соловьева и у последующих русских мыслителей мы находим
совершенно иное мнение по этому поводу), С. Трубецкой отвергает всю немецкую
философию, основанную на этом принципе, и предлагает свою версию понимания
человеческого сознания и его отношения к Абсолюту.
«Я думаю, — пишет С. Трубецкой, — что человеческое сознание не есть мое
личное отправление только, но что оно есть коллективная функция
человеческого рода. Я думаю также, что человеческое сознание не есть только отвлеченный
термин для обозначения многих индивидуальных сознаний, но что это живой
и конкретный универсальный процесс. Сознание обще всем нам, и то, что я
познаю им и в нем объективно, то есть всеобщим образом, то я признаю истинным —
от всех и за всех, не для себя только. Фактически я по поводу всего держу внутри
себя собор со всеми. И только то для меня истинно, достоверно всеобщим и
безусловным образом, что должно быть таковым для всех»**. Введенное здесь понятие
«соборного сознания» заставляет вспомнить и идею «мирового сознания»
Чаадаева, и идею мистической Церкви Хомякова, и идею Софии (духовного организма
человечества) Соловьева. Однако в отличие от своих предшественников С.
Трубецкой пытается сохранить баланс между индивидуальным и соборным (общим),
сохранить абсолютную ценность личности на фоне соборного целого. Ради этого он
отказывается считать соборное сознание реальным Абсолютом (поскольку в этом
случае оно полностью поглощает индивидуальное сознание) и полагает его, как
и личность, развивающимся, только стремящимся к некоторой абсолютной (бого-
человеческой) форме. Наличное «несовершенство» соборного целого и его
движение к совершенству проявляются прежде всего в неадекватности и неточности
нашего познания, в его постепенном устремлении к абсолютной истине (то есть
к схватыванию всей полноты бытия).
Здесь становится особенно наглядным зависимость идеи соборного сознания от
концепции «второго» (становящегося) Абсолюта у Соловьева***. Параллели с еще
одной концепцией Соловьева — представлением об Абсолюте как организме
«метафизических существ»**** —»возникает, когда С. Трубецкой пытается уточ-
* Трубецкой С. Я. О природе человеческого,сознания // Трубецкой С. Я. Соч. М., 1994. С. 534.
** Там же. С. 495.
*** См.: Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 1.
С. 710-711.
**** См.: Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В. С. Соч. в 2-х т. М., 1989. Т. 2.
С. 50-56.
12
нить, какие составляющие нашего индивидуального сознания свидетельствуют
о его причастности соборному целому. Проведенная им критика эмпиризма и
рационализма делает очевидным, что соборный характер нашего познания
проявляется в двух моментах: во-первых, в том, что мы непосредственно сознаем бытие
реальных предметов, по отношению к которому чувственные качества этих
предметов и их логические определения выступают как вторичные и производные; и,
во-вторых, в том, что бытие более конкретно осознается нами как действие
соответствующих вещей и явлений, осуществляемое на нас и на другие вещи. Мы
непосредственно сознаем мир как совокупность деятелей, активных бытийных сил,
подобных нашей собственной личности.
С. Трубецкой не ограничивает соборное сознание высшими функциями
рассудка и разума. Он распространяет это понятие на чувственность человека и на те
формы восприятия мира, которые свойственны животным. В качестве наиболее
наглядных «соборных» форм чувственности человека он называет пространство
и время, которые представляют собой как бы «общие представления» всех людей,
всех «деятелей». «Соборность» биологического мира С. Трубецкой доказывает
через указание на роль инстинктов, выступающих в качестве своего рода «родовой
памяти» и «родового сознания» животных видов. В этой части концепции С.
Трубецкого проявляется его увлечение эволюционной теорией, подобное тому,
которое можно найти у Соловьева (особенно явно в «Чтениях о Богочеловечестве»), —
и точно такое же, как у последнего, противоречивое сочетание чисто
метафизических идей и естественнонаучных концепций. Разъяснения того, как «родовое
сознание» животных связано с соборным сознанием человека и как эта связь
проявляется в нас самих (в индивидуальном сознании), в работе С. Трубецкого
отсутствуют.
Почти невозможно также понять из лаконичных замечаний С, Трубецкого,
как он решал проблему смерти и бессмертия человека, столь существенную для
Достоевского и Соловьева. Различая понятия «сознание», «личность»,
«(индивидуальная) душа» и признавая, что личность есть вторичное нравственно-правовое
образование, формирующееся только в обществе, он решительно утверждает
абсолютность индивидуальной души человека. Любопытно, что при этом С.
Трубецкой только свою концепцию, которую он называет «метафизическим
социализмом» , считает способной обосновать существование индивидуальной души. По его
утверждению и в эмпиризме, и в рационализме абсолютное значение имеет не
живой, конкретный индивид, а его абстракция: в одном случае — абстракция
индивидуального эмпирического сознания, в другом — абстракция всеобщей
субъективности. Тем не менее, очевидно, что наличное несовершенство как отдельных
человеческих индивидов, так и соборного целого должно было заставить С.
Трубецкого особое внимание уделить проблеме бессмертия души (простота решения
этой проблемы в основных работах Соловьева связана с тем, что соборное
единство людей, София, признается Абсолютом). Однако никакой ясной концепции по
этому поводу он не создает.
Наиболее принципиальной метафизической проблемой, оставшейся без
внимания в работе «О природе человеческого сознания», является определение
сущности Абсолюта, обуславливающего как индивидуальное, так и соборное сознание.
Ее С. Трубецкой рассматривает в работе «Основания идеализма». Начинает он
свои рассуждения с еще одногс варианта «критики отвлеченных начал».
Буквально повторяя логику Соловьева, С. Трубецкой заявляет, что ни эмпиризм, ни
рационализм не дают правильного описания Абсолюта, поскольку они выбирают нача-
13
ло, которое берется как обособленное, безотносительное и, значит, как
отвлеченное, не выражающее полноты реального бытия. В одном случае абсолютизируется
форма «явленности», «феноменальности» безусловно-сущего, оторванная от него
самого, в другом — форма мыслимости, «чистая» идеальность,
противопоставленная безусловно-сущему и не связанная с ним. Однако С. Трубецкой делает
важное добавление к рассуждениям Соловьева, учитывая третий вариант
ложного понимания Абсолюта — мистический идеализм, в котором Абсолют
понимается как объект веры, объект непосредственного мистического чувства. В качестве
примера он рассматривает мистическую философию Упанишад и философию
М. Экхарта. Недостатком этой формы метафизики С. Трубецкой считает его акос-
мизм, полное отрицание мира и эмпирического человека на фоне мистического
Абсолюта.
Ошибочность всех этих метафизических концепций связана с тем, что в них
безусловно-сущее постигается одной изолированной способностью — чувством,
мыслью или верою. «На самом деле источник нашего знания о сущем лежит
в конкретной деятельности нашего сознания, нашего чувствующего,
мыслящего, волящего духа, и нельзя искать его в какой-либо одной способности его,
не вступая в противоречие с другими, не вступая в противоречие с самыми
фактами сознания»*. На место ограниченных форм отношения к бытию С.
Трубецкой предлагает поставить целостный опыт, в описание которого он
непосредственно развивает идею Соловьева о «внутреннем опыте», открывающем
Абсолют**.
Главный недостаток традиционной метафизики С. Трубецкой видит в том, что
она в описании начала всего сущего постоянно нарушает баланс между
единством (целым) и множественностью (набором конкретных единичностей). В свою
очередь это связано с тем, что в классической философии характеристика
субстанциальной данности, замкнутости полностью подчиняет себе характеристику
соотносительности; категория субстанции является абсолютно преобладающей
над категорией отношения. В противоположность этому С. Трубецкой таким
образом формулирует главный принцип своей метафизики: «В действительности
все соотносится, и быть значит относится. Бытие без отношений, чистое
безотносительное бытие равняется небытию. Все, что есть, существует в каком-либо
отношении; и то, что ни в каком отношении не существует, то не имеет никакого
бытия»***.
Ясно, что, если характеристика отношения, соотносительности понята как
самая фундаментальная характеристика бытия, она должна быть главным
определением искомого Абсолюта* Его невозможно описывать в абсолютной
независимости от «иного» — от эмпирического мира и человека; наоборот, вся его
суть заключается в связях, отношениях между ним и его иным, точно так же
как и в отношениях между отдельными элементами иного. ^Абсолютное
обосновывает свое другое и, следовательно, существует не только о себе (an sich)
и для себя (für sich), но и для всего другого. Абсолютное не есть ни отвлеченная
безотносительная субстанция, ни безотносительный субъект... Только в своем
альтруизме, то есть как бытие для всего другого, абсолютное есть
универсальное и актуальное абсолютное, обнимающее в себе полноту бытия. То, что не су-
* Трубецкой С. Я. Основания идеализма,// Трубецкой С. Н. Соч. С. 693.
** См.: Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) // Соловьев В. С. Собр.
соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 47-48.
*** Трубецкой С. Н. Основания идеализма. С. 696-697.
14
ществует ни для чего другого, не существует истинным образом и о себе самом
и для себя самого, не существует для чего бы то ни было — ни в каком
отношении»*.
Такое понимание Абсолюта предельно сближает его с относительным миром
(хотя и оставляет его трансцендентным миру), который теперь предстает как
♦раскрытие его беспредельной свободы и мощи, его всемогущества***. Мы не
можем мыслить Абсолют «в себе» и «для себя», он почти растворяется в системе
отношений (как имманентных, так и трансцендентных), охватывающих
относительное бытие. Если и можно назвать его в соответствии с традицией Соловьева
«всеединством», то только в том смысле, что это «всеединство» дано
исключительно в своем «раскрытии», в форме относительного мира, дано как «принцип»
всеединства, действующий в мире, в каждом его элементе. «Всякое соотношение
предполагает в своем основании некоторое единство взаимоотносящихся вещей
или терминов, — то, в чем они связываются между собою. И потому
универсальная соотносительность сущего предполагает универсальное всеединство,
заключающее в себе основание или потенцию всех отношений и всех различий»***. Все
это дает существенную поправку к соловьевской метафизике, где главной
проблемой был как раз двойственный характер Абсолюта-всеединства — как реального
онтологического начала, независимого от мира, и как идеала, имеющего только
«регулятивное» применение для мира, но не существующего «в себе». Впрочем,
нужно отметить, что С. Трубецкой дает слишком лаконичное описание Абсолюта,
чтобы можно было понять все детали его концепции.
Самый важный момент этой концепции связан с представлением о том, как
мы способны прийти к постижению Абсолюта. Именно здесь в рассуждениях
С. Трубецкого особенно ясно проявляется развитие соловьевской идеи
«внутреннего опыта». Он утверждает, что сознание (как индивидуальное, так и соборное)
есть система отношений, а не обособленная субстанция, что оно в своей сути
«незамкнуто», всегда «отнесено» к предметам сознания, к бытию. «Сознание есть
всегда сознание чего-нибудь или о чем-нибудь, оно всегда заключает в себе
отношение как свое внутреннее реальное и логическое условие; и в самом условном
противоположении этого сознания вещам заключается предполагаемое
соотношение... Сознание имманентно, оно существует в субъекте и для субъекта; и
вместе оно трансцендентно, поскольку оно заключает в себе отношение к отличным
от него объектам» ****. Сравнивая это определение с только что приведенным
определением Абсолюта, мы получаем, что сознание, взятое во всей полноте его
цельного опыта (то есть индивидуальное сознание, расширившееся до соборного,
всеединого сознания), практически тождественно с Абсолютом, который в свою
очередь оказывается как бы «полным» сознанием, всеединой Личностью. В
частности, это означает, что определение Абсолюта тем «точнее» и «полнее», чем оно
конкретнее, чем большую часть относительного бытия мы «использовали» для
его описания. «И поскольку мы отличаем относительные вещи, относительное
существование как нечто другое, отличное от абсолютного, мы можем сказать,
что это абсолютное заключает в себе основание своего другого. Но по этому
самому, чем реальнее, конкретнее дознаем мы это другое во всем его отличие от
абсолютного, во всем его самоутверждении, во всей индивидуальности его элементов,
* Там же. С. 708.
** Там же. С. 709. ι
*** Там же. С. 705.
**** Там же. С. 697.
15
тем конкретнее будет наше представление об абсолютном, которое его
обосновывает»*. Именно в силу такого понимания Абсолюта С. Трубецкой называл свою
метафизическую концепцию «конкретным идеализмом». Эта концепция оказала
очень большое влияние на развитие русской философии; ее воздействие ясно
ощутимо и в интуитивизме Н. Лосского, и в * абсолютном реализме» С. Франка,
и в идее «симфонической личности» Л. Карсавина. Да и в целом творчество
С. Трубецкого стало важным фактором в формировании русской философии
начала XX в.
Обращаясь к философскому творчеству Е. Трубецкого, мы находим в нем
разработку тех же самых проблем. Подобно своему брату, Е. Трубецкой для
объяснения человеческого познания обращается к идее абсолютного, или безусловного,
сознания. Наше знание только в такой степени может быть истинным, в какой
наше индивидуальное сознание способно подняться до абсолютного, всеобщего
сознания, способно «слиться» с ним. «Сказать, что есть единая истина, — значит
утверждать, что есть единая безусловная мысль обо всем***. В качестве главных
свойств абсолютного сознания Е. Трубецкой определяет его непосредственный,
интуитивный характер, в отличие от дискурсивного и рефлективного характера
нашего сознания, а также его абсолютную независимость от чего бы то ни было
и абсолютное самоопределение. При этом, подправляя Соловьева, Е. Трубецкой
подчеркивает, что именно безусловное сознание, а не безусловное сущее должно
пониматься в качестве Абсолюта (тем самым он доводит до логического конца
рассуждения своего брата об абсолютном сознании). Это связано с тем, что сущее
может охватывать только то, что есть, в то время как сознание охватывает и бытие
и небытие. Детальное обоснование такого представления об Абсолюте вместе
с критикой наиболее распространенной в начале XX века гносеологической
концепции — неокантианства — содержится в одном из наиболее капитальных
трудов Трубецкого «Метафизические предпосылки познания» (1917).
Однако в главном своем философском труде, в книге «Смысл жизни», он
считает, что правильное понимание смысла нашего познания и объяснение того, что
есть истина, являются только предварительным условием для решения подлинно
центральной проблемы философии — проблемы смысла существования всего
мира и смысла человеческой жизни. Всеединая мысль содержит логический смысл
всего существующего, но содержит ли она его жизненный смысл, то есть
сообщает ли всему существующему безусловную цель существования? — так ставит этот
вопрос Трубецкой***.
Сложность и насущность этого вопроса для человека связана с тем, что он
одновременно и в равной степени чувствует и необходимость указанного безусловного
смысла для своего существования и для бытия всего мира, и явное отсутствие его
в окружающей реальности и в несовершенной земной жизни. Бессмыслица
мирового бытия, точно так же как и абсурдность, пронизывающая всемирную
историю и личную историю каждого человека — вот что заставляет снова и снова
задавать вопрос о смысле жизни, о цели своей деятельности.
Трубецкой находит решение проблемы смысла жизни на том же самом пути,
на котором он нашел решение'проблемы безусловной истины. Если бы человек
в своей жизни был только погружен в мировую суету и бессмыслицу,
принадлежал только потоку времени, уничтожающему все смыслы, он никогда не смог бы
* Там же. С. 707.
** Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 16.
*** Там же. С. 23.
16
даже поставить вопрос о смысле своего бытия. «Мы не могли бы болеть об этой
суете, мы не могли бы проникаться живым состраданием ко всякой страждущей
твари, если бы у нас не было точки опоры над суетой, вне круга страждущей
жизни. Мы не могли бы возвыситься над разделением и раздором существ,
борющихся за жизнь, если бы нам не было присуще чувство глубокой солидарности всего
живого, если бы у нас не было глубокой интуиции единства всех существ в их
общем стремлении к какой-то цели всякой жизни»*. Бытийная, живая
причастность некоторому всеединому целому, возвышающемуся над временем и над
раздробленностью явлений земного мира, — вот незыблемая основа для наших
исканий смысла жизни. Присоединяясь вслед за Соловьевым к давней
философской традиции, Трубецкой утверждает, что несовершенство и зло нашего мира
связаны с его раздробленностью, с борьбой, «войной» отдельных элементов и
существ друг с другом. Наоборот, Абсолют, то самое абсолютное сознание, о котором
говорилось выше, есть всеединство и цельность, и эти характеристики Абсолюта
задают его значение как конечной цели всех наших устремлений: «...тот мировой
смысл, который носится перед нами, как цель нашего стремления, есть
всеединство; это — тот мировой строй и лад, в котором всякое жизненное стремление
достигает своего окончательного удовлетворения, всякая жизнь достигает
полноты. Полнота жизни, окончательно восторжествовавшей над смертью, и
единство всего живого в этой полноте в интуиции мирового смысла — одно и то же.
Оно и понятно: полнота жизни осуществима лишь при условии окончательного
прекращения борьбы за жизнь, разделяющей живую тварь»**.
Однако последнее утверждение (повторяющее центральный тезис философии
Вл. Соловьева) еще не дает окончательного ответа на вопрос о смысле жизни, само
по себе оно слишком абстрактно и требует конкретизации. Необходимо уточнить,
о каком всеединстве идет речь и как это всеединство соотносится с нашей земной
реальностью и с нашей земной жизнью. В решении этой задачи Трубецкой в
наибольшей степени отходит от следования за Соловьевым и одновременно наиболее
последовательно развивает упомянутые выше идеи своего брата. Вспомним, что
главным противоречием философской системы Соловьева являлось столкновение
двух противоположных тенденций в понимании соотношения Абсолюта и
мира***. С одной стороны, Соловьев резко критиковал «средневековое
миропонимание» (сохранившее свою силу в европейской культуре вплоть до XIX века),
предельно обостряющее противостояние духовного и телесного, божественного
и земного и понимающее наш земной мир как исключительно греховный,
«проклятый», недостойный преображения. В противовес этому, Соловьев высказывает
убеждение в том, что в своей исконной сущности мир божествен и должен стать
совершенным через преобразующую деятельность человека, единственным
носителем божественных сил в нем (это и составляет суть того «религиозного
материализма» Соловьева, который чрезвычайно высоко оценивал Трубецкой). Но, с другой
стороны, во многих работах Соловьева заметна и другая тенденция: утверждая, что
человек уже «укоренен» в Абсолюте, уже обладает божественным измерением,
Соловьев приходит к своеобразному мистическому символизму в понимании
земного мира и земной жизни, рассматривая их как некие «символы» подлинной
полноты бытия, которой человек уже обладает в Боге и по отношению к которой все
* Там же. С. 34.
** Там же. С. 35. '
*** Подробнее см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX—XX веках. Русская
философия в поисках Абсолюта. Т. 1. С. 209-244.
17
земное становится малозначимым, «низменным» (эта тенденция философии
Соловьева в существенной степени повлияла на формирование русского символизма).
В «Смысле жизни» Трубецкой указывает На то, что такие полярные позиции
в понимании отношения Бога и мира достаточно естественны, но дают ложные
модели мироздания. Отвергая их, он пытается выработать более цельную точку
зрения на указанную проблему. Первая позиция не признает никаких смыслов и
целей за пределами земной жизни, растворяет их в а посюстороннем плане бытия»*.
Наиболее ярким примером такой тенденции Трубецкой полагает древнегреческое
мировоззрение. Противоположная позиция, наиболее ясно представленная в
древнеиндийской религии, наоборот, полностью отрицает значение земного мира перед
той высшей целью, которая заключается для человека в слиянии с
потусторонним мистическим Абсолютом. Сходство этих противоположных точек зрения
Трубецкой видит в том, что обе они не способны усмотреть наличие безусловного и
вечного смысла в земной жизни. «Греческая религиозность, утверждающая мир,
вместо космоса находит хаос — беспорядочное множество борющихся между собою
сил, не связанных единством общего смысла. А религиозность индийская
совершенно отметает мир как несущественное и бессмысленное, то есть, стало быть,
также не находит смысла в мире, а видит смысл лишь в его уничтожении»**.
Только христианское мировоззрение оказалось способным разрешить
возникающие здесь трудности и открыть путь к обретению искомого безусловного
смысла. «Христианство, — пишет Трубецкой, — всем своим существом отличается как
от эллинской, так и от индусской религиозности. Среди этих двух
противоположных мироощущений оно представляет собою особое, третье жизнепонимание,
в котором объединяются мировые противоположности потустороннего и
посюстороннего. По учению Христа, Бог осуществляется и воплощается в мире, а мир
приобщается к полноте божественной жизни. Как сказано, в этом и заключается
то единственное положительное решение вопроса о смысле жизни, которое
остается принять или отвергнуть. — Иного быть не может. Одно из двух — или
нераздельное и неслиянное сочетание Бога и мира совершается и совершиться, или
мировой процесс в его целом бессмыслен»***. Оправдание и осмысление мира через
усвоение его нерасторжимой связи с Богом — вот что считает Трубецкой главной
заслугой христианства. Тем самым он однозначно присоединяется к первой из
двух выделенных выше тенденций философии Соловьева и пытается развить
и уточнить ее.
Прежде всего Трубецкой критикует представление Соловьева о роли человека
в процессе осмысления и преображения мира. Соловьев, давая свою версию
христианской концепции Богочеловечества, утверждал, что мы осуществляем свое
предназначение через активную творческую деятельность. При таком понимании
идея Богочеловечества приходит в опасную близость к идее человекобожества,
поскольку в ней акцент ставится на самостоятельности и творчестве человека.
Трубецкой возвращается к канонической интерпретации этой идеи (восходящей еще
к Августину), где главным полагается устранение нашей творческой
самостоятельности перед волей Бога. «Первое, в чем должно обнаружиться воссоединение
твари с Богом и, соответственно с этим, — осуществление безусловного смысла
и правды в мире, это — полное внутреннее преодоление тварного эгоизма, отказ
твари от собственной воли и полная, беззаветная ее отдача себя Богу. Это — реши-
* Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. С. 41.
** Там же. С. 45.
*** Там же. С. 48.
18
мость не иметь собственной жизни, а жить исключительно жизнью
божественною, стать сосудом Божества. Иными словами, первым обнаружением
совершенного соединения Бога и твари должна быть совершенная жертва**.
Однако при таком перемещении акцентов Трубецкой в значительной степени
ослабляет новаторство соловьевской концепции, и перед ним встает проблема,
которую он прекрасно видит и которой посвящает существенную часть своего
труда, — как оправдать творчество человека и его борьбу с несовершенством
и злом мира перед всемогуществом и всеведением Бога. Именно осознание всей
глубины этой проблемы и невозможности ее последовательного решения в
рамках традиционного платоновско-августиновского понимания Бога заставило
Соловьева и многих других русских философов обратиться к неканонической
традиции, восходящей к античному гностицизму и средневековой еретической
мистике. Как мы помним, в этой традиции предполагается, что Бог, как и земной
мир, подвержен некоторому процессу становления, развития, что он становится
настоящим Абсолютом только в конце этого процесса, и в осуществлении этого
процесса центральную роль играет человек. Трубецкой категорически отвергает
эту систему идей, справедливо считая, что она противоречит христианской
догматике. Но как раз в связи с этим он и вынужден особое внимание обратить на
оправдание свободы и творчества, как метафизически фундаментальных
качеств нашего бытия.
Рассматривая еще раз возможные метафизические модели соотношения
Абсолюта, понимаемого как всеединство, и мира, он вновь отвергает как
дуалистическое решение, признающее равноправие божественного, благого начала и начала
сатанинского, злого (в духе зороастризма и манихейства), так и строго
монистическое решение, не усматривающее за миром никакого реального статуса,
признающее мир иллюзией, «майей» (как это происходит у Парменида и в
древнеиндийской философии). Метафизическая модель, предлагаемая догматическим
христианством, по Трубецкому, дает единственное решение, избегающее
крайностей, позволяющее, с одной стороны, признать значение мира наряду с
Абсолютом и в единстве с ним, но, с другой стороны, избежать отождествления мира и
Абсолюта, сохранить их «неслиянность»: «...мир, в христианском его понимании,
не имеет своего особого, самостоятельного начала. Сам по себе и сам в себе он —
Ничто: он становится чем-нибудь лишь через акт творения. И как в Боге его
начало, так же точно в Боге и его безусловный конец. Бог должен стать всем во всем.
Тот вечный мировой идеал, который олицетворяется образом самого Христа
Богочеловека, есть идеал нераздельного и неслиянного единства двух естеств — Бога
и мира (в лице человека). Как неслиянность Бога и твари составляет черту
отличия христианства от чистого монизма, так и их нераздельность составляет грань
между христианством и чистым дуализмом»**. В рамках этой метафизической
модели свои усилия Трубецкой направляет на то, чтобы показать отсутствие
непреодолимых антиномий между временностью мира и вечностью Бога, свободой
человека и всеведением Бога.
Особенно интересны размышления Трубецкого по поводу соотношения времени
и вечности как взаимосвязанных характеристик соответственно мира и Абсолюта.
Мы не могли бы помыслить целостность времени, и самого времени не могло бы
существовать как некоторой связности моментов, если бы время не было укоренено
Там же. С. 50-51.
Там же. С. 69-70.
19
в вечности и подчинено ей: «...спокойствие вечного божественного созерцания не
только не нарушает реальности времени и временного, а, наоборот, сообщает
временному безусловную достоверность: достоверность каждого момента времени
и всякого временного ряда в его целом обуславливается именно тем, что все эти
ряды в абсолютном сознании от века видны как законченные, в их полноте**. Такое
понимание времени восходит в русской философии к Чаадаеву**; в начале XX
века его детально разрабатывал Л. Лопатин*** и многие другие русские философы
(особенно детально и подробно С. Франк в книге «Предмет знания», изданной
в 1915 г.). У Трубецкого эта концепция используется для оправдания свободы
и творчества человека, которые при понимании времени только как негативной
характеристики земного бытия пришлось бы признать иллюзорными, не имеющими
смысла на фоне божественного «провидения» и вечного божественного творчества
(так происходит, например, в концепции П. Флоренского****, с которым
Трубецкой полемизирует в «Смысле жизни»). «Моя свобода, — пишет Е. Трубецкой, —
была бы нарушена в том случае, если бы божественное провидение предопределяло
мои действия, то есть если бы оно было их причиною. На самом деле мои действия,
как и все вообще события во времени, совершаются вовсе не потому, что их
предвидит Бог: наоборот, Бог их видит потому, что они совершаются. — В сущности,
тут нет даже предвидения в точном смысле слова, а есть всеединое Божественное
видение, которое простирается на все совершающееся во времени. Божественное
предвидение моих действий не есть какое-либо представление о них, которое им
предшествует: это — непосредственное созерцание моих действий, которые не
перестают быть моими и свободными оттого, что они — вечно перед очами всеедино-
го сознания»*****.
В рассуждениях Трубецкого остается все-таки одна недоговоренность,
которая мешает признать его концепцию времени и творчества достаточно
последовательной. Он уходит от ответа на ключевой вопрос: обогащает ли хоть в
какой-то степени человеческое творчество, осуществляемое во времени,
абсолютное бытие Бога? Можно ли признать временное становление мира чем-
то существенным на фоне вечного Абсолюта, чем-то самостоятельным по от·
ношению к Абсолюту? Большинство современников Трубецкого, затрагивая
эту проблему, склонялось к положительному ответу на эти вопросы (особенно
наглядно это проступает в концепциях С. Франка и Л. Карсавина). В
некоторых размышлениях Трубецкого также проявляется аналогичное убеждение,
однако он не признает этого явно, понимая, что в этом случае ему придется
выйти за рамки догматического православия. Тем не менее он не жалеет сил на
доказательство положения, которое также является не вполне каноническим
и чаще всего характеризуется православными богословами как
«христианский натурализм»*б, — он настаивает на том, что земной мир имеет божест-
* Там же. С. 85.
** См.: Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма.
М., 1991. Т. 1.С. 361-362.
*** См., например: Лопатин Л. М. Понятие о душе по данным внутреннего опыта // Лопатин Л. М.
Аксиомы философии. М., 1996. С. 184-191.
**** Подробнее см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX—XX веках. Русская
философия в поисках Абсолюта. Т. 2. С, 392-405.
***** Трубецкой Е. Я. Смысл жизни. С. 86.
*6 В частности, этим термином В. Зеньковский характеризует взгляды Достоевского; см.: Зень-
к овский- В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 223.
20
венное предназначение, имеет возможность преображения и соединения с
Богом в благую целостность. В этом пункте наиболее явно проявляется идейная
близость Трубецкого к родоначальнику русской философской традиции —
к Достоевскому.
В обосновании указанного положения Трубецкой поднимается до подлинного
вдохновения. Он не ограничивается чисто философскими, абстрактными
доказательствами потенциальной благости и божественности земного бытия, в своих
известных работах по русской иконописи, он показывает, что это убеждение было
основой художественного мировоззрения древнерусской культуры. В глубоком
и страстном исповедании этого убеждения Трубецкой видит одну из наиболее
характерных черт русской культуры, ее главное преимущество перед западной
культурой, которая от средневекового негативного отношения к миру неуклонно
двигается к противоположной крайности — к позитивистской удовлетворенности
данным, наличным состоянием мира, к забвению божественной сущности
земного бытия.
Уже в структуре русского храма Трубецкой усматривает представления о
единстве земного и божественного. Самая заметная черта древнерусской храмовой
архитектуры — луковичные вершины храмов — обозначает, по мнению
Трубецкого, страстное, пламенное стремление всего земного бытия к небесному
совершенству, «через это видимое снаружи горение небо сходит на землю,
проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное
покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода»*.
Сравнение форм храмовой архитектуры помогает нам распознать различие тех
религиозных интенций, которые вдохновляли народы, создававшие свои храмы.
Готический шпиль выражает характерное для средневекового католицизма
стремление к недостижимому из земного мира совершенству, здесь главное —
абсолютное противостояние земного и божественного и требование к полному
отказу от земного. Византийский храм в своем мощном, приземистом куполе
выражает идеал греческого православия — идеал неподвижного и самодостаточного
совершенства, которое одновременно и противостоит земному миру в своей
недоступной высоте, и близко человеку, обретающему покой в своей вере. «Круглый
византийский купол, — пишет Трубецкой, — выражает собою мысль о своде
небесном, покрывшем землю; глядя на него, испытываешь впечатление, что земной
храм уже завершен, а потому и чужд стремления к чему-то высшему над ним.
В нем есть та неподвижность, которая выражает собою несколько горделивое
притязание, ибо она подобает только высшему совершенству»**. В русском
национальном сознании православное мировоззрение приняло совсем иной колорит.
Прежде всего здесь было отвергнуто спокойствие греческой веры и характерное
для нее противопоставление земного и небесного. Об этом и свидетельствуют
златоглавые древнерусские храмы. «Их луковичные главы, которые заостряются
и теплятся к небесам в виде пламени, выражают собою неведомую византийской
архитектуре горячность чувства: в них есть молитвенное горение»***.
С еще большей полнотой мировоззрение молодой русской нации выразилось
в иконописных образах XIV—XVI веков. В отличие от несколько холодных
греческих икон, подчеркивающих высоту божественного бытия, его чуждость всему
* Трубецкой Е. Я. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи // Трубецкой Е. Н. Смысл
жизни. С. 227.
** Там же. С. 276.
*** Там же.
21
земному, телесному, «житейскому», русская иконопись говорит о
противоположном. Трубецкой находит здесь одновременно и мысль о разделенности двух миров,
их противостоянии, и непреодолимое, вдохновляющее и радостное чувство их
потенциального единства. Как пишет Трубецкой, в русской иконе «мы находим
живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования.
С одной стороны, потусторонний вечный покой; с другой стороны, страждущее,
греховное, хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование —
мир ищущий, но еще не нашедший Бога»*.
Русский иконописец не приемлет статичного и отстраненного от всего земного
совершенства, он жаждет прикоснуться к совершенству, которое должно
преобразить человека и весь земной мир. Именно поэтому на русских иконах с такой
неподдельной любовью изображаются детали земного бытия. Более того, во многих
случаях черты земного мира в иконе переносятся даже на божественную сферу,
и это подчеркивает значимость «низшего» мира, даже сто равноправие по
отношению к миру вечному и божественному. Трубецкой указывает здесь ряд
характерных примеров — изображение узнаваемой русской дуги на конях, уносящих
пророка Илью в небо, русский, даже крестьянский облик святых,
покровительствующих земледельцам**, характерное использование земных красок в
изображении божественной сферы: «потустороннее небо для них (иконописцев. — И. Е.)
окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних, здешних тонов»***. Особенно
ясным свидетельством необычного для христианского мировоззрения любования
здешним, земным миром выступает в иконописи вера в земную идиллию любви.
Однако признание возможности совершенной земной любви сочетается с
решительным требованием к принесению ее в жертву ради любви высшей,
сверхземной****. В результате главной составляющей иконописи оказывается не
спокойная уверенность в грядущем спасении и грядущей гармонии, а искание гармонии;
и эта динамическая составляющая иконописи преобразуется в образах некоторых
ее персонажей в «драму встречи двух миров»*****. Здесь проявляется еще одна
характерная черта русской культуры — трагическое восприятие мировой истории
и судьбы человека в мире. Трубецкой полагает, что наиболее выразительным
примером этого в русской иконе становится образ Иосифа-пастуха, мужа Марии,
который не может подняться выше искушения неверия. «В лице Иосифа иконопись
угадала не индивидуальную, а общечеловеческую, мировую драму, которая
повторялась и будет повторяться из века в век, доколе не получит окончательного
разрешения трагическое столкновение двух миров, ибо она — всегда одна и та
же... С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное^ все сводящее к
плоскости здешнего. А с другой, противоположной стороны, выступает то мистическое
мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер, великое
многообразие планов бытия и непосредственно ощущает возможность перехода из
плана в план»*б. Можно добавить, развивая мысли Трубецкого, что именно
отсюда, от обозначенного в иконописи противостояния двух мирочувствий идет та
традиция мучительного испытания Бога, мучительного поиска веры, которая
пронизывает русскую культуру вплоть до трагических исканий Достоевского.
* Там же. С. 246.
** См. : там же. С. 273, 247-248.
*** Там же. С. 250.
**** См.: там же. С. 259.
***** Там же. С. 257.
*6 Там же. С. 261.
22
То же самое убеждение в необходимости преображения земного мира и его
соединения с миром божественным проявляется в парадоксальном сочетании в
иконописных образах на первый взгляд несовместимых мотивов — аскетических,
скорбных, с одной стороны, и радостных, праздничных, с другой. Земной мир
в его наличном состоянии наполнен злом и несовершенством, поэтому задача
человека — в том, чтобы преодолеть его негативную «плотскость», разгул его
биологического эгоизма. «Изможденные лики святых на иконах противополагают...
кровавому царству самодовлеющей и сытой плоти не только истонченные
чувства, но прежде всего — новую норму жизненных отношений»*. Когда эти новые
отношения между людьми и между всеми существами земного мира возобладают
и победят «зверопоклонство», в мире воцарится новый порядок, мир превратится
в «мирообъемлющий храм», освобожденный из плена греха**, тогда и настанет
предчувствуемое иконописцами время радости, время «праздника воскресения».
Но на пути к этой цели человек должен быть готовым к суровым страданиям,
к высшим жертвам и к решительной борьбе с сатанинскими силами, которыми
наполнен наш мир***.
Нетрудно заметить, что в работах, посвященных русской иконописи, Трубецкой
несколько по-иному расставляет акценты в том представлении о соотношении
мира, человека и Бога, которое он в наиболее развернутом и «теоретичном» виде
излагает в книге «Смысл жизни». В своем изложении мировоззрения древнерусской
иконописи Трубецкой изображает земной мир значительно более самостоятельным
по отношению к Богу, чем это было характерно для его взглядов в «Смысле жизни»,
земной мир оказывается почти равноправным божественному, а последний, в свою
очередь, начинает приобретать черты идеала, той нормы, которая должна
восторжествовать в земном мире и сделать его подлинно божественным и совершенным без
его уничтожения (что предполагается в канонической христианской идее
воскресения). В итоге, проникновенное и вдумчивое всматривание в древнерусские иконы
подталкивает Трубецкого к той самой точке зрения, которую он весьма критически
оценивает в своих чисто философских трудах; вряд ли страстную мечту
древнерусских иконописцев о преображенном земном бытии, о его божественном
совершенстве, можно без проблем совместить с метафизическим положением, высказанным
в «Смысле жизни», согласно которому мир имеет свою собственную основу в Ничто
»получает существование только в единстве с Богом.
Однако один элемент воззрений Трубецкого абсолютно одинаково излагается
и в книге «Смысл жизни», и в цикле работ (первоначально — публичных речей)
«Умозрение в красках» — это представление о Софии, которое является
невидимым центром всей его философци. Трубецкой не создает здесь столь оригинальной
и проработанной концепции, как другие русские «софиологи» начала века (в
первую очередь, С. Булгаков и П. Флоренский), но именно поэтому его понимание
Софии лишено глубоких противоречий, характерных для взглядов указанных
мыслителей****. Прежде всего Трубецкой решительно возражает против
понимания Софии как особой, отдельной от Бога ипостаси и субстанции всего
становящегося в земном мире. Такое понимание Софии есть у Соловьева, именно оно приво-
\
* Там же. С. 230.
** Там же. С. 242-244.
*** Призыв к такой борьбе, содержащийся в первой из работ цикла «Умозрение в красках»,
опубликованной в 1915 г., явно намекает на войну России с Германией.
**** Подробнее об этом см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX—XX веках.
Русская философия в поисках Абсолюта. Т. 2. С. 331-391.
23
дит Соловьева к отождествлению Софии с совокупным человечеством.
Унаследовавший эту концепцию от Соловьева, С. Булгаков довел ее до логического конца,
до представления о том, что зло и грех пришли в наш мир через свободную волю
Софии, как ее грех, ее «отпадение» от Бога.
Отвергая это «гностическое» уклонение, Трубецкой восстанавливает
каноническое понимание Софии как совокупности предвечных божественных образов
всего существующего в тварном мире. «В действительности... София — вовсе не
посредница между Богом и тварью, ибо Христос сочетается с человечеством
непосредственно. Она — неотделимая от Христа Божия Мудрость и сила. Если так,
то мир, становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии.
София как неотделимая от Бога сила Божия по тому самому не может быть
субстанцией или силой чего-либо становящегося, несовершенного, а тем более —
греховного»*, София — это божественная сила, действующая в мире и
обуславливающая возможность его преображения; она совершенна и поэтому не совпадает ни
с миром, ни с человеком, однако свободное соединение человека с этой силой
является необходимым условием для реализации всеединого состояния его
собственного бытия и бытия всего мира. Возможность и действенность этого
соединения обусловлена фактом явления Христа, который Е. Трубецкой, подобно
Соловьеву, рассматривает не столько как историческое событие, сколько как
онтологический фактор, задающий принципиальное единство божественного и
земного, Бога и человека, и в этом смысле «длящийся» в каждом моменте земного
времени. Это единство и определяет содержание Богочеловечества,
непосредственной движущей силы преображения земного бытия.
Трубецкой считает, что на этом пути он восстанавливает возможность
философского обоснования человеческой свободы, ту возможность, которая, по его
мнению, утрачена в «гностической» концепции Соловьева и Булгакова. Однако
это его убеждение, конечно же, не вполне обосновано. Восстанавливая
традиционно августиновское понимание Софии, Трубецкой восстанавливает только
иллюзию человеческой свободы, поскольку наша свобода в этом случае сводится к
выбору: следовать или не следовать за волей Бога, отдавать всего себя действующей
в мире божественной силе (Софии) или нет. За пределами этого выбора
невозможно даже ввести понятие человеческой свободы (свободы творчества во времени,
в становящемся бытии), поскольку, отдавая себя божественной силе, человек
растворяется в божественной свободе, тождественной для него божественному
провидению, а отвращаясь от этой силы, он попадает во власть материальной
причинности с ее абсолютной обусловленностью. Поиски мыслителей «гностического»
направления в значительной Степени и были обусловлены пониманием
недостаточности для человека такой «формальной» свободой и желанием придать
человеку свободу, хотя бы в каком-то отношении равную творческой свободе Бога.
Для этого и нужно было сделать Софию (тождественную совершенному
человечеству) «альтернативным» центром свободы по отношению к Богу.
Значительно более оригинальны представления Трубецкого о том, как связан
тварный мир и София. Утверждая, что мир есть «относительное небытие», он
приписывает ему одновременно положительные и отрицательные потенции в
отношении тех идеальных прообразов, что содержит София**. «Временная действитель-
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. С. 101.
Трубецкой оговаривается, что эту идею впервые высказал в беседе с ним его покойный брат
Сергей; см.: там же. С. 106.
24
ность, — пишет Трубецкой, — есть область, где мир вечных идей — София —
заслоняется другим, то есть некоторым его реальным отрицанием. Это другое, стало
быть, определяется как небытие идеи или небытие Софии; но это — небытие
относительное, а не абсолютное (μη öv, а не ούχ ôv): ибо в возможности своей (в
потенции) мир является откровением или воплощением той самой идеи или Софии,
которая не вмещается в его временной действительности, отрицается им... Мир во
времени представляет собою именно область двояких возможностей —
положительных и отрицательных. Раз вечная божественная идея не есть его сущность,
а конец или цель его развития, раз для достижения этой цели недостаточно
одностороннего действия сверху, а требуется, кроме того, и содействие снизу, —
содействие свободной твари Божеству, то всякой положительной возможности
в ней соответствует и противоположная отрицательная потенция или
возможность»*.
Здесь со всей ясностью выступает, как Трубецкой понимает сущность свободы
тварного существа. Человек может либо всеми силами стремится к
осуществлению предвечного замысла о себе, своей божественной идеи, либо сопротивляться
этому осуществлению, противодействовать идее. Но и в том, и в другом случае он
не способен уйти от нее, он связан своей идеей и, даже отрицая ее, определяется
в своем негативном и злом существовании именно ею.
Важное место в рассуждениях Трубецкого занимает понятие ада, которому он
придает глубокий метафизический смысл. Положительные и отрицательные
потенции, свойственные каждому сотворенному существу, есть соответственно
потенция к соединению с Богом, то есть жизнь, и потенция отделения от Бога,
то есть смерть. Поскольку в земном мире ничто не может ни полностью
соединиться с Богом, ни полностью уйти от его воли, наше существование есть переход,
есть временная жизнь, которая постоянно сменяется смертью и новым порывом
к жизни (в отличии от вечной жизни, которая будет только в Боге и по истечению
«полноты времен»). Здесь у Трубецкого намечается своеобразная интерпретация
времени как той формы, в которой реализует себя взаимный переход жизни
и смерти, «колебание» твари между бытием и небытием**. Однако он все свое
внимание обращает на философское объяснения ада, исходя из сформулированного
понимания сути нашего земного бытия. Существующий ад нельзя понимать как
нечто реально существующее, как бытие, — ибо все подлинное бытие есть только
в Боге. Точно так же и вечные мучения в аду нельзя назвать вечной жизнью, так
как жизнь есть только в Боге. «Отпадение ада от Бога есть отпадение смерти, а не
отпадение жизни. Этим самым фактом отпадения смерти полнота божественной
жизни не умаляется, а, напротив, утверждается»***. В этом смысле Трубецкой
называет ад «царством призраков», только в качестве такового он может
принадлежать вечности. «Действительность ада есть действительность разоблаченного
праведным судом Божиим вечного миража»****. Тем не менее для человека ад не
является миражом и адские муки не есть только метафора. Именно в силу того,
* Там же. С. 107.
** Чуть позже эта идея стала одной из центральных в философских построениях Л. Карсавина;
см., например: Карсавин Л. П. Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о
Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.,
1994. С. 26-45; Карсавин Л. П. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские
сочинения. М., 1992. Т. 1. С. 87-88. , *
*** Трубецкой Ε. Н. Смысл жизни. С. 92.
**** Там же.
25
что наша земная жизнь есть нечто среднее между подлинной (вечной) жизнью
и смертью, мы все в той или иной мере принадлежим аду, как вечно длящемуся
переходу к смерти. «Полная, окончательная утрата жизни есть переход во
времени от жизни к смерти и в качестве перехода может быть только актом
мгновенным. Вечная мука есть не что иное, как увековеченный миг окончательного
разрыва с жизнью. // Свободным самоопределением сотворенное существо на веки
вечные отделяется от самого источника жизни и в этом отрешении испытывает
крайнюю, беспредельную муку. Это —решимость умереть навсегда,
окончательно... Это страдание для переживающего его существа, как сказано, может
заполнять только единый миг — тот миг, которым для него заканчивается время.
Но в этот миг духовный облик существа, его переживающего, утверждается на
веки вечные: оно определяется навсегда к смерти. Стало быть, в данном случае миг
совпадает с вечностью и потому вмещает в себе ту беспредельность страдания,
которая соответствует беспредельности утраты»*.
Таким образом, реальность ада есть призрачная реальность небытия,
реальность наступившей смерти, иллюзорное бытие, пытающееся быть вне Бога.
Но поскольку вне Бога никакое существование невозможно, его иллюзорность не
может не быть разоблачена и уже разоблачена в вечном бытии и в вечной жизни
Бога. Ад продолжает свое призрачное существование лишь в силу греховности
человека. Каждый грех человека есть отпадение от Бога, то есть отпадение от жизни
в смерть, это и приводит к тому, что в нашем мире господствует не подлинная
жизнь, а «полужизнь-полусмерть», постоянное чередование процессов жизни
и смерти, «поддерживающее» реальность ада для каждого из нас. Отсюда же
Трубецкой выводит неизбежность кары для каждого греховного деяния, поскольку
кара есть восполнение «разрыва», внесенного в бытие грехом, он даже настаивает
на неизбежности кары и возмездия для потомков за грехи их предков, поскольку
указанные «разрывы» в бытии, накапливаясь, определяют детей к тем же
греховным поступкам и наклонностям, что были у их родителей. Трубецкой не выводит
все следствия из этих тезисов, однако позже ту же самую систему идей (скорее
всего, под прямым влиянием Трубецкого) разрабатывал Лев Карсавин, и он довел ее
до вполне естественных выводов о законности и неизбежности смертной казни,
как необходимой кары за величайшие злодеяния (см. статью Карсавина «О добре
и зле», изданную в 1922 г.). Об этом же писал и самый известный ученик и
последователь Трубецкого Иван Ильин в книге «О сопротивлении злу силою», изданной
в 1925 г. в Берлине.
Завершает изложение своей версии метафизики христианства Трубецкой
подробным развертыванием утверждения о том, что окончательный выход из
царства греха и смерти возможен только через свободное и решительное
самоопределение воли человека к послушанию и жертве. Возможность такого окончательного
самоопределения открыла совершенная жертва Христа, и через единство с
Христом каждый человек и человечество в целом теперь должно осуществить
указанное самоопределение собственной воли в историческом времени. Это и является,
по Трубецкому, главной задачей человека в истории; кризис современного
человечества он видит в утрате религиозного чувства, которое, в свою очередь, ведет
к забвению единства всех людей — как в грехе, так и в спасении, а затем и к
забвению единства человека с Богом, которое из потенциального может стать
актуальным и действенным через свободное самоопределение человека.
* Там же. С. 93.
26
IV
Для современного читателя яркие философские труды Трубецкого,
написанные в последние годы жизни, — прежде всего книги «Миросозерцание В. С.
Соловьева» и «Смысл жизни» — заслонили все его предшествующее творчество,
которое было посвящено более частной задаче — философскому анализу права
и истории развития правовых идей от античности до начала XIX века. Однако для
своих современников он был больше известен как ученый-правовед, талантливый
педагог, лекции которого по истории и энциклопедии права вызывали
неизменный восторг у аудитории. Работы Трубецкого по истории и философии права не
устарели и поныне, в них мы находим чрезвычайно ясное и логичное изложение
всех основных проблем, входящих в традиционную сферу философии права и
конкретного правоведения.
Важно подчеркнуть, что правовые воззрения Трубецкого тесно взаимосвязаны
с его философскими идеями, выявление этой взаимосвязи помогает увидеть
цельность его творчества, помогает понять причины, по которым начиная со второго
десятилетия XX века он обратился от права к философии и именно философские
труды сделал итогом всей своей творческой биографии.
Центральной работой среди всех, посвященных философским проблемам
права, у Трубецкого являются «Лекции по энциклопедии права». Здесь
рассматриваются все наиболее принципиальные проблемы философии права: дается
философское определение права, рассматриваются теории происхождения
и развития права, оценивается соотношение права и нравственности,
излагается современная версия теории естественного права. В решении этих проблем
явно угадываются ключевые философские идеи Трубецкого, упоминавшиеся
выше.
Приступая к определению сущности права, Трубецкой замечает, что право
всегда касается системы отношений между людьми. «Если мы, — пишет
Трубецкой, — и можем говорить о праве какого-нибудь Робинзона, живущего на
необитаемом острове, то только в предположении какого-либо возможного
ближнего, возможного общества других лиц, которые когда-либо нарушат его
одиночество»*. Право предполагает общество, и только в рамках этого
предположения можно говорить о праве, поэтому формальное определение, еще не
касающееся его сущности, заключается в том, что оно есть «порядок,
регулирующий отношения отдельных лиц в человеческом обществе»**. Вслед за этим
Трубецкой переходит к более принципиальному вопросу о сущности права,
о сущности того порядка, КОТ9РЫЙ устанавливают правовые нормы. Здесь
наглядно проявляется связь излагаемой Трубецким концепции права с его
философскими идеями. '
Как мы помним, в своих философских сочинениях Трубецкой очень много
места уделяет обоснованию свободы человека. Не случайно, сущность права
у него оказывается связанной с процессом раскрытия свободы. Именно свободу
он полагает в качестве важнейшей характеристики человека и, соответственно,
в качестве главной ценности, которая должна быть обеспечена человеку в
обществе, вне зависимости от того, какие иные цели и ценности определяют его
существование. Вне понятия свободы, утверждает Трубецкой, вообще нет никакого
* Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права // Наст. изд. С. 289.
** Там же.
27
права, и, например, раб может быть только объектом права, но никак не его
субъектом.
Необходимость права в обществе и его огромное значение обуславливается тем,
что свобода одного человека в общественной жизни неизбежно вступает в
противоречие со свободой других людей. Право по своей сущности и есть способ
разрешения этого противоречия. Каждая правовая норма есть определенная форма
ограничения свободы личности ради сохранения целостности общества и свободы
других лиц. «Таким образом, — подводит итог Трубецкой, — существо права
выражается в двух основных проявлениях или функциях: с одной стороны, оно
представляет, отводит лицу известную среду свободы; с другой стороны, оно
ограничивает эту сферу рядом предписаний, рядом обязательных правил... право есть
внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой**.
Хотя рассуждения Трубецкого являются почти бесспорными и вполне
логичными, он констатирует, что это определение не согласуется с господствующими
в юриспруденции его эпохи мнениями (приводимое им определение наиболее
близко к точке зрения Канта). В этом расхождении проявляется противоречие
между двумя общими подходами к интерпретации права. Одно из них, которое
обладало абсолютным приоритетом в конце XIX века, было связано с позитивизмом,
который требовал «конкретно-научного» объяснения и отвергал любые попытки
«спекулятивно-философской» интерпретации таких феноменов, как право и
государство. Другой подход был связан с возвратом к той традиции, которая всегда
существовала в истории и исходила из того, что конкретное, позитивное право
должно пониматься на основе принципов, имеющих чисто философский характер
и связанных с метафизическим представлением о человеке и обществе. Этот
подход был особенно популярен в конце XVIII — начале XIX века, в эпоху расцвета
идеалистической философии, однако во второй половине XIX века негативное
отношение к рационалистической философии и к ее итогу — философской системе
Гегеля, привело к дискредитации соответствующего «спекулятивного»
объяснения права.
Хотя позитивистская методология помогла развитию конкретного
правоведения, к концу XIX века он показал свою полную бесперспективность в объяснении
сущности права как такового. Появилась потребность в возрождении философии
права, рассматривающей право не как совокупность конкретных юридических
норм, а как важнейшую сферу духовной деятельности человека и общества. Это
неизбежно потребовало возвращения к традициям «старой» теории права,
прежде всего к детально проработанным концепциям немецкого идеализма
(особенно — к концепциям Канта ц Гегеля), а в более широком контексте и ко всей
истории философии права, начиная с Платона и Аристотеля. Трубецкой был одним из
первых ярких представителей этого движения, и совершенно не случайно в своей
педагогической деятельности он особое внимание уделял истории философии
права, о чем мы еще скажем ниже. Позже по обозначенному им пути пошли более
молодые правоведы-философы, среди них особенно выделяются Павел Новгородцев
и Иван Ильин.
Понимая, что приведенное им определение права является непривычным для
современного ему правоведения, но одновременно осознавая необходимость
преодоления сложившихся стереотипов, Трубецкой подробно разбирает в своих
«Лекциях» господствующие то^ки зрения на природу права и доказывает их оши-
Тамже. С. 291-292.
28
бочность, их неспособность дойти до подлинно главного в правовых отношениях,
в правовом сознании общества и отдельной личности. Он отвергает как
недостаточные или ложные все наиболее известные концепции: сведение права к
авторитету государства, признание главным качеством права принуждения или
властного регулирования («силы»), объяснение права через «общее убеждение» или
«общую волю», отождествление права с интересом и т. п.
Особое внимание в этом контексте Трубецкой уделяет концепции Вл.
Соловьева, который (вслед за Шопенгауэром) утверждал, что право есть как бы
минимальное проявление нравственности, есть совокупность минимальных требований,
предъявляемых идеалом добра, ради сохранения общества и жизни человека.
Трубецкой отвергает и это воззрение на том основании, что многие нормы права не
являются ни в малейшей степени выражением нравственного закона: крепостное
право, правовые нормы рабовладельческого общества, требующие жестокого
наказания рабов в случае их бегства, и т. д. Тем не менее он признает определенную
обоснованность указанной концепции, поскольку право, вне всяких сомнений,
связано с нравственностью и в своем развитии все более и более учитывает ее
требования.
Само понимание нравственности в рассматриваемой работе Трубецкого вполне
соответствует тому, как он описывает смысл идеала добра в работе «Смысл
жизни». Трубецкой категорически отрицает концепцию, согласно которой
понимание добра носит чисто исторический характер и может радикально меняться от
одной эпохи к другой. Изменчивость субъективных точек зрения на добро
связана только с недостаточно полным осознанием самого объективного идеала добра.
Чем более полным будет это осознание, тем более едины будут в своем видении
принципов добра все люди. Идеал добра в «Лекциях по энциклопедии права»
определяется точно так же, как в «Смысле жизни», — это стремление к полноте
воплощения всеединого состояния бытия, что, применительно к человеческому
обществу, означает воцарение солидарности между всеми народами и всеми
людьми. «Как бы не менялось содержание нравственного сознания людей,
человечество на всех ступенях своего развития в большей или меньшей степени
сознавало одну нравственную истину: никакой человек не может найти своего блага в
своей отдельности, вне союза с подобными ему людьми; вне общества одинокими
усилиями отдельный человек не может бороться против враждебных ему стихий
внешнего мира; итак, солидарность человека с его ближними, единство людей
в обществе есть благо, раздор и разъединение есть зло; эта истина... дается не
одному только развитому уму современного европейца, она просвечивает уже в
неясном сознании самого первобытного дикаря; как бы ни были разнообразны
ступени нравственного развития различных племен и народов, все они сходятся
в одном — в признании большей или меньшей степени солидарности людей как
чего-то безусловно должного для всех»*.
В таком понимании идеала добра Трубецкой полностью солидарен с Вл.
Соловьевым, однако он гораздо более сложно (и, быть может, более правильно)
определяет соотношение идеала добра (нравственности) и права. У Соловьева их
связь описывается как отношение «сущности» и «явления»: добро есть
Всеединство (как абсолютная цель мирового развития), а право — несовершенное,
«минимальное» выражение требований всеединства в эмпирической жизни
людей. По Трубецкому, их соотношение имеет другой смысл. Процесс становле-
Тамже.С. 311.
29
ния всеединства в человеческом обществе и во всем бытии не должен отрицать
свободу каждого человека и каждого элемента бытия. Требования единства,
с одной стороны, и индивидуальной самобытности и свободы, с другой, должны
быть в равной степени удовлетворены в процессе продвижения к конечной цели
мирового развития. Это и определяет существование нравственности и права
как относительно независимых принципов, ведущих человека к грядущему
идеальному состоянию и в равной степени необходимых для полного
раскрытия как человеческого единства, так и человеческой свободы. Здесь происходит
важное и совершенно необходимое уточнение точки зрения Соловьева. У
Соловьева всеединство оказывается настолько самодовлеющей и самодостаточной
ценностью, что несмотря на все оговорки, оно явно оттесняет на второй план
ценность индивидуальной свободы; недаром некоторые исследователи считают
возможным в связи с этим говорить о «тоталитарной» тенденции в философии
Соловьева.
Ясно, что, возрождая традицию философского объяснения права, Трубецкой
присоединяется и к давней идее естественного права. Но и здесь его подход
оказывается несколько отличающимся от традиционного. Он критикует не только
«историческую школу» в правоведении, отрицательно относящуюся к идее
естественного права и полагающую, что позитивное право есть отражение непрерывно
изменяющихся в истории потребностей и ценностей «народного духа». Столь же
критично он относится и к «старой» теории естественного права,
родоначальником которой был Гуго Гроций и истоки которой можно найти у древнеримских
теоретиков права. Предполагая, что правовой идеал есть выражение законов
мирового разума, представители этой школы мыслили естественное право как систему
незыблемых правовых принципов, выступающих абсолютным критерием для
реального, позитивного права. Как правило, такая точка зрения вела к осуждению
существующего порядка вещей, который плохо соответствовал указанному
правовому идеалу. Итогом этого становилось требование к революционному
преобразованию действительности ради идеала. Наиболее полное выражение эта теория
получила в общественно-политическом учении Ж.-Ж. Руссо. «Сопоставляя идеал
естественного права с окружающей его действительностью, Руссо пришел к
полному и всестороннему осуждению последней. По природе, учил он, человек
рождается свободным; между тем, мы видим его повсюду в оковах. По природе все
люди равны; между тем, контраст богатства и нищеты составляет явление
повсеместное; по природе все люди братья; между тем — мы всюду можем наблюдать
ожесточенную борьбу сословий. Словом, в учении Руссо можно найти все
элементы знаменитой формулы «свобода, равенство и братство», послужившей лозунгом
французской революции » *.
В противоположность такому пониманию естественного права,
навязывающему действительности вечный идеал, Трубецкой утверждает, что естественное
право само обладает определенным генезисом; оно представляет собой
некоторое нравственное требование, обращенное к позитивному праву, однако само это
требование нельзя выразить в виде системы неизменных принципов, в разные
исторические эпохи оно может приводить к очень разным правовым
установлениям. Естественное право управляет развитием позитивного права, задает
направление этого развития, но не является жесткой системой однозначно
выраженных постулатов. «Естественное право... предписывает, чтобы каждое
Там же. С. 319.
30
отдельное лицо пользовалось внешней свободой в тех пределах, в каких это
требуется добром. Требование это может быть формулировано еще и таким образом:
отдельному лицу должен быть предоставлен максимум внешней свободы,
совместимый с благом общества как целого. Право всегда должно проявляться как
сила освобождающая: во-первых, оно всегда должно служить целям добра; во-
вторых, его задача заключается в том, чтобы установить некоторую гармонию
между внешней свободой индивида и благом общества как целого. Очевидно,
что эта гармония не может выражаться в формуле неподвижного и
однообразного законодательства; тот максимум внешней свободы человека, который
требуется благом общества как целого, не есть величина постоянная, а величина
подвижная, беспрерывно меняющаяся в зависимости от бесконечно
разнообразных условий действительности»*.
При таком подходе к естественному праву, оно оказывается не
самодостаточной и вечной системой установлений, а изменчивым связующим элементом
между собственно правом (позитивным) и идеалом добра. Идеал добра может
мыслиться вечным и неизменным, однако в каждую историческую эпоху его
осознание различными народами имеет разную глубину, поэтому каждый народ
сталкивается со своими характерными задачами по согласованию доступной
ему степени свободы, которая должна быть зафиксирована в праве, с
постигнутой сущностью идеала добра — идеала всеединства. Суть этих задач и выражает
естественное право. «Естественное право, — пишет Трубецкой, — вообще не
заключает в себе никаких раз навсегда данных, неизменных юридических норм;
оно не есть кодекс вечных заповедей, а совокупность нравственных и вместе
с тем правовых требований, различных для каждой нации и эпохи. Как синоним
нравственно должного в праве он не выражается в виде каких-либо общих,
для всех обязательных законодательных шаблонов. Для каждого народа
и в каждую данную эпоху оно олицетворяет собой особую специфическую
задачу, особую совокупность конкретных обязанностей. В этом заключается
оправдание права позитивного***.
Сформулированная в «Лекциях по энциклопедии права» идея о том, что
двумя метафизическими принципами, обуславливающими развитие права в
истории человечества, являются, во-первых, стремление к максимально
возможному в данных исторических условиях воплощению свободы человека и,
во-вторых, желание реализовать в общественной действительности высший
идеал добра (в той степени, в какой он понимается тем или иным народом и той или
иной эпохой), определяет подход Трубецкого к конкретному анализу
исторического развития права и философии права. Эта методология последовательно
проведена в его лекциях по истории философии права, которые он много лет
читал в Киевском университете Св. Владимира и в Московском университете и
которые были изданы в 1893-1899 гг. стараниями его киевских студентов (как
конспекты их лекций) под заглавием «История философии права (древняя,
новая и новейшая)».
Поскольку Евгений Трубецкой, как и его брат Сергей, был блестящим
знатоком истории философии, он рассматривает правовые воззрения всех известных
мыслителей в контексте их философских идей; в результате, его лекции дают
очень целостную и последовательную картину развития правового и философско-
Там же. С. 323.
Там же. С. 326.
31
го мировоззрения Западной Европы от античности до середины XIX века (до
философии Гегеля), за исключением средних веков.
Постепенное выявление указанных выше двух принципов Трубецкой
обнаруживает уж в развитии античных философских теорий государства и права.
Первый радикальный сдвиг в понимании происхождения права связан с
деятельностью софистов и Сократа. В досократической философии господствует мнение
о религиозном характере правовых и государственных законов; человек должен
подчиняться им, поскольку они положены ему свыше. Софисты и Сократ,
критикуя эту точку зрения и окончательно расставаясь с архаическим мировоззрением,
утверждают, что законы формулируются самими людьми. Главной проблемой
теперь становится выявление тех основ, на которых выстраиваются эти законы;
у софистов — это произвол и корыстные цели отдельных индивидов, у Сократа —
незыблемые принципы мирового разума, выражающиеся в таких понятиях, как
справедливость и добро.
Признание человека подлинным источником правовых норм заставляет
задуматься о разграничении истинных и ложных форм правовой и государственной
организации, начинается поиск оснований для построения идеального
государства. Две великие системы, намечающие образ такого идеального
государства, — противоположные, но в равной степени значимые для последующей
истории европейской цивилизации, — это политические учения Платона и
Аристотеля. На протяжении всей своей творческой биографии, начиная с
юношеского сочинения «Рабство в Древней Греции» (1886) и статьи «Политические
идеалы Платона и Аристотеля в их историческом значении» (1890) и до большой
работы «Социальная утопия Платона» (1908), Трубецкой обращался к анализу
этих учений и подчеркивал их непреходящее значение для современной
истории Европы. Платон и Аристотель в самых общих чертах обозначили те две
составляющие правового и государственного устройства, которые должны
присутствовать в любой его форме и без которых оно не способно выполнить свою
высшую задачу — вести людей, все человеческое общество к совершенству,
к идеалу.
Особое внимание Трубецкой уделяет государственной утопии Платона. В ней
впервые признано, что конечная цель человеческой жизни, человеческой
деятельности, а значит, и цель общественного прогресса, не могут ограничиваться
«ближайшими», земными интересами и запросами, что они предполагают
раскрытие божественного, трансцендентного измерения в человеке и во всем
земном бытии. «Платон искал тот смысл человеческой жизни, ту конечную ее цель,
которая всегда и везде одна и та же. Ему удалось возвыситься над временем,
приподнять ту завесу, которая заслоняет от нас вечность. Вот почему его
окрыленное слово получило способность перелетать в отдаленные эпохи; вот почему и
теперь на расстоянии веков его мысль продолжает волновать и захватывать нас,
как родная нам, близкая»*. Платон говорит о том самом спасении человека из
плена земной, греховной жизни, о котором позже стало учить христианство,
и в этом предвосхищении великой Истины заключается его заслуга перед
историей. «Государство у Платона является воспитательным учреждением, которое
имеет целью облегчить своим гражданам трудный путь восхождения от
чувственного земного мира к загробной вечной жизни. Цель этого государства не
в нем самом, а в вечности; оно является лишь подготовительною ступенью
* Трубецкой Е. Н. Социальная утопия Платона // Наст. изд. С. 423.
32
к жизни будущей. По лития Платона задается в сущности тою же задачей,
которую в христианском мире преследует церковь: это союз людей ради общего их
спасения, — ив этом отношении Платонов идеал есть предварение
христианского общественного идеала, как бы он ни расходился с последним в представлении
о самых путях и способах спасения»*. В этом смысле Трубецкой категорически
не согласен с Вл. Соловьевым, который утверждал (в статье «Жизненная драма
Платона»), что Платон ставит целью только преобразование человеческих
отношений, но не преображение всей человеческой природы, к чему призывает
христианство.
Однако, утверждает Трубецкой, в своей утопии Платон совершил ряд ошибок
(естественных для античного мыслителя), которые превратили его идеальное
государство в карикатуру на подлинный идеал, вдохновлявший людей на
протяжении многих столетий. Это связано с тем, что в античном обществе не могло быть
достигнуто по-настоящему адекватное понимание второго метафизического
«полюса», определяющего движение человека к совершенству, — свободы личности.
Платон, как и большинство античных мыслителей, видят в свободе и личном
интересе только помехи для движения общества к совершенству; его государство —
это по-своему великая попытка привести людей к спасению помимо их воли, через
полное уничтожение их свободы. «То безусловное, что спасает и наполняет
человеческую жизнь божественным содержанием, у Платона — не живая личность,
а безличная родовая идея, по существу враждебная всему индивидуальному.
Индивидуальность не умещается в рамках метафизической системы Платона:
для него она тождественна с материальным, греховным; неудивительно, что
и идеальное государство, построенное по образу и подобию божественной идеи,
оказывается для индивида прокрустовым ложем»**. Вместе с
индивидуальностью и частным интересом Платон отвергает и ее незыблемую основу — земной
материальный мир во всем его богатстве и конкретной полноте. Еще один
недостаток платоновского государства состоит в том, что оно носит национальный
характер, не претендует на охват всех людей, всего человечества и, значит, как
и все реальные государства в эпоху Платона, разделяет людей, вместо того,
чтобы объединять их ради великой цели.
Теория государства Аристотеля, по Трубецкому, свидетельствует об упадке
и кризисе древнегреческого общества (этот тезис, конечно, не является
бесспорным). Здесь утрачивается понимание высшей трансцендентной цели
общественного и мирового развития. Однако в учении Аристотеля содержится
важнейшая тенденция, которая предельно важна для будущего. «Как форма
имманентная, внутренняя, — пишет Трубецкой, — божественная идея в
государстве Аристотеля проявляется в счастье всех и каждого, во всестороннем
развитии энергии земной деятельности человека, в его личном, семейном и
общественном благосостоянии... Полемизируя против Платона, Аристотель
отстаивает частный интерес, семью и частную собственность против поглощения
их безличным единством общежития»***. Идеал свободы, достоинства и
материального, земного благополучия отдельного гражданина — вот главное в
политическом учении Аристотеля, и именно ясное провозглашение второго
важнейшего принципа, без которого немыслимо правильное государственное
Трубецкой Е. Н. История философии, права (древняя) // Наст. изд. С. 77.
Трубецкой Е. Н. Социальная утопия Платона // Наст. изд. С. 461.
Трубецкой Е. Н. История философии права (древняя) // Наст. изд. С. 109.
2 3ак. 3911
устройство, составляет заслугу Аристотеля перед последующими эпохами.
«Мы, — подводит Трубецкой итог сравнительного анализа двух великих
учений античности, — назвали Платона пророком христианского теократического
идеала. И с таким же основанием и правом Аристотель может быть назван
пророком современного культурно-европейского государства... Аристотель
завещал цивилизованному миру эллинский идеал свободного гражданина —
гражданина, обладающего политическими правами, участвующего в той или иной
форме в главнейших функциях верховной власти, — в суде, правлении и
законодательстве»*. Два принципа, два идеала, выраженные Платоном и
Аристотелем, в равной степени оказались односторонними; грядущему, уже
христианскому, человечеству досталась великая задача объединения их в подлинный
целостный идеал, способный стать основой прогрессивного исторического
развития общества.
Существенный сдвиг в понимании государства и права, важный для
дальнейшего, произошел в римскую эпоху. Возникновение Римской империи привело
к реализации всемирного царства, идеи государственного единства всех людей,
без различия племен и народов. Этот важный сдвиг получил отражение в
правовой теории. Именно римские правоведы стали говорить о естественном праве,
о совокупности общих правовых норм, субъектом которых является всякий
человек, без различия его происхождения и состояния: «...исходя из понятия
естественного права, как всеобщего согласия, представления общей воли, управляющей
всеми, римские юристы невольно тяготеют к идеалу всемирной империи.
Представление всемогущей человеческой воли, царящей над вселенной, есть высшее
понятие римского права»**.
Однако, преодолев национальную узость представлений об идеальном
государстве у Платона и Аристотеля, римские юристы полностью утратили
понимание высшей цели государства и общественной жизни. Языческая империя
Древнего Рима не имела перспектив в истории именно потому, что она лишила
себя этой цели. «Всемирное владычество, как это наглядно обнаружилось
в Римской империи, было куплено ценою всеобщего рабства; единая власть,
объединившая человечество, обратилась в жестокий деспотизм, в господство
одной всесильной личности над бесправным обществом: здесь отношение
подданного к верховной власти мало чем отличается от отношения раба к
господину... Таким образом, развитие всемирной римской империи привело к
отрицательному результату: всемирное царство, всемирное владычество не есть
безусловная, высшая цель человеческой жизни»***. Тем самым гибель
языческого Рима была предопределена, он должен был быть заменен другим
государством, в котором была бы восстановлена правильная иерархия ценностей
человеческой жизни и пригнана несамодостаточность земного бытия, его
подчиненность божественной воле.
В лекциях Трубецкого по истории философии права отсутствует раздел,
посвященный средним векам, однако это свидетельствует не об отсутствии
внимания автора к этой эпохе, а, наоборот, о том, что он придавал ей слишком
большое значение, чтобы излагать связанные с ней идеи в студенческом курсе.
Этой теме Трубецкой посвятил цикл из трех статей под общим заглавием
* Там же. С. 128-129.
** Там же. С. 151-152.
*** Там же. С. 154.
34
«Философия христианской теократии в V веке», опубликованных в журнале
«Вопросы философии и психологии» в 1891-1892 гг. и послуживших основой
большой книги «Религиозно-общественные идеи западного христианства в
V веке» (издана в 1892 г.; в 1897 г. было опубликовано продолжение этого
труда под названием «Религиозно-общественный идеал западного
христианства в IX веке»).
Рассматривая Августина как величайшего представителя средневековой
философии и средневекового учения о государстве, Трубецкой видит его заслугу
в том, что он восстановил в понимании общественной жизни принцип
сверхчеловеческой и сверхэмпирической цели жизни, который гениально угадал
Платон и который был утрачен в древнеримском правовом учении. Будучи сам
римлянином-язычником, принявшим христианство уже в зрелом возрасте,
Августин фактически соединил универсалистский государственный идеал Рима
с платоновско-христианским представлением о цели всемирного государства.
Как показывает Трубецкой, в этом сочетании — и достоинство, и недостаток
учения Августина. С одной стороны, оно отвечало той всемирно-исторической
задаче, которая стояла перед западным христианством — сохранение и
обоснование «латинского единства» против варваров. Это заставило католическую
церковь после падения Римской империи принять на себя функции, которые
раньше имело языческое государство. При этом римская идея всемирного
государства была соединена с христианской идеей божественной, сверхчеловеческой
воли, управляющей миром. «Латинский идеал, которому в то время (в эпоху
Августина. — И. Е.) противостоит и угрожает мир варварский, есть прежде всего
идеал всемирного закона, всемирного правового порядка. Чтобы одолеть
варваров, нужно противопоставить им закон неодолимый, сверхчеловеческий.
Понятие всемирного божественного закона, осуществляющегося во всем и
подчиняющего себе все, есть действительно центральное понятие миросозерцания
Августина...»*
Но, с другой стороны, теократический идеал Августина, именно в силу
отмеченного соединения, оказался обремененным многими чертами, характерными
для римского, языческого представления о государстве. Прежде всего это
проявилось в полном отрицании Августином значения человеческой свободы в деле
спасения (как это было и в утопии Платона). Божественная благодать у Августина
становится внешним формальным законом, подчиняющим себе человека и не
требующим содействия его свободы. «Христианская идея богочеловечества, кроме
благодатного действия свыше, требует еще и содействия человеческой свободы
в деле спасения. Но человечество, каким наблюдал его Августин, не есть здоровое
и нормальное человечество, и нет ничего удивительного в том, что спасение
представляется ему односторонним действием благодати, в котором человеческий
элемент обречен на пассивную роль автомата»**. В связи с этим именно проблема
свободы человека становится тем центром, вокруг которого формируются новые
концепции государства и права, но происходит это уже в эпоху Возрождения
и в последующие столетия.
Во втором разделе лекций, посвященном Новому времени, Трубецкой
рассматривает, каким образом происходило развитие идеи свободы в политических воз-
* Трубецкой Е. Н. Философия христианской*теократии в V веке. Августин — апологет
теократического идеала западного христианства // Вопросы философии и психологии. 1891. Кн. X.
С. 135-136.
** Там же. Ç. 140-141.
35
зрениях теоретиков государства и права XVI—XVIII веков. Важнейшим
моментом здесь оказывается возрождение концепции естественного права; последнее
теперь предстает как выражение внутренней свободы человека, которую не
может устранить или ограничить даже Бог. «У Гуго Гроция естественное право уже
не есть порядок, данный извне и свыше, его источник — в самом человеке, оно
есть внутреннее самоопределение его разумной свободы. Гуго Гроций признает
естественное право нормой не только для человека, но и для самой воли Божи-
ей... естественное право не потому обязательно, что его санкционировал Бог, оно
не утратило бы своей силы даже в том случае, если бы Бога не существовало, —
et si daretur Deum non esse; не нуждаясь в какой-либо внешней санкции, оно
обязательно для Бога, потому что оно — право; потому что оно коренится в самой
природе разумного существа. Бог не может сделать неправду правом точно так
же, как он не может сделать, чтобы 2x2 равнялось пяти»*. Эта тенденция в
философии Нового времени была доведена до предела в учении Руссо, и здесь же ясно
проступили недостатки всей новоевропейской философии права, о чем уже
говорилось выше, в связи с анализом «Лекций по энциклопедии права». Принцип
суверенной свободы личности и основанный исключительно на нем принцип
государственного единства вновь вытеснил (хотя и не столь радикально, как в
позднеантичную эпоху) принцип божественного, сверхъестественного
предназначения человека. И не случайно, вдохновляемая этим идеалом свободы Великая
французская революция породила чудовищную якобинскую диктатур и
массовый террор.
Третий раздел «Лекций по истории философии права» является наименее
проработанным во всем курсе. Здесь содержится изложение философских и
правовых воззрений известных мыслителей XVIII—XIX веков, завершающих
развитие классической новоевропейской философии: Юма, Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля. Как можно понять из достаточно лаконичных суждений
Трубецкого, он полагает, что в эту эпоху продолжилась разработка теории
государства и права, основанной на приоритете свободы личности. Главной целью
государства Юм и немецкие идеалисты XIX века (за исключением Гегеля)
полагают расширение и защиту суверенной свободы отдельного гражданина.
При этом осознание государства как орудия воплощения в земной жизни
высшего нравственного идеала (не сводимого только к свободе) отходит на второй план,
хотя и не утрачивается полностью. Последнее наиболее явно проступает у
Гегеля, однако Трубецкой в целом негативно оценивает его правовое учение. Самым
существенным его недостатком он считает полный отказ от идеи свободы
отдельного человека — от той само^ идеи, которая и стала главным завоеванием
новоевропейской философии.
Трубецкой не подводит итогов своего рассмотрения истории философии
права, и остается неясным, какую правовую концепцию и какую теорию
государства он полагает самой лучшей, наиболее полно осуществляющей синтез
указанных выше двух метафизических принципов. Чтобы понять причины такой
недоговоренности, необходимо вновь обратиться к философским трудам
Трубецкого. Особенно интересно в этом контексте рассмотреть тот фрагмент его самого
большого труда, посвященного системе Соловьева, в котором он анализирует
достоинства и недостатки идеала теократического государства, созданного
русским философом. '
* Трубецкой Е. Н. История философии права (новая) // Наст. изд. С. 142-143.
36
Казалось бы, Соловьев в своей мечте о грядущем объединении христианских
церквей и возникновении свободной теократии, как формы соединения
церкви и государства, удовлетворяет и принципу свободы, и принципу
сверхъестественной, божественной цели общественного развития. Трубецкой
положительно оценивает главную идею Соловьева, который противопоставляет свою
свободную теократию насильственной теократии средневекового папизма.
Вспомним, что сам Трубецкой резко критиковал учение Августина и его
средневековых последователей именно за умаление идеи свободы, одновременно
признавая правоту самой поставленной им цели: найти форму общественного
устройства, не сводящую жизнь людей к чисто земному бытию, требующую от
них устремления к чему-то сверхземному. В этом смысле он считает поиски
Соловьева глубоко оправданными, однако он решительно настаивает на том,
что эти поиски (а значит, и его собственные поиски идеальной формы
государства) в принципе не могут закончиться успехом. Человек и весь земной мир
несовершенны, греховны, и именно это ведет к неизбежности и необходимости
использования достаточно радикальных средств принуждения в организации
общественной жизни. Это и означает, что полное раскрепощение свободы,
необходимое для действительно органичного соединения земных и «небесных»
задач идеального государства невозможно ни в одной реальной государственной
и правовой форме. Поэтому теократический идеал Соловьева, при всей его
внутренней логичности и последовательности, остается только идеалом и ни при
каких условиях не может быть реализован в земной жизни. «Нежизненность
схемы всемирной теократии, — пишет Трубецкой, — обнаруживается при
всякой попытке представить себе ее конкретное осуществление. Вся она
рассчитана на свободный нравственный подвиг идеальных святителей, царей и народов,
которые добровольно и по совести исполняют свои обязанности, не заботясь
о правах»*.
В результате, главной задачей реальных, несовершенных государств
оказывается охрана свободы граждан, высшие же цели человеческой жизни, по
Трубецкому, всегда будут находится в ведении христианской церкви. Поэтому
задача философии права и тем более конкретного государственного деятеля — не
в искусственном синтезе этих неслиянных начал нашей общественной жизни,
а в обеспечении их взаимного гармоничного дополнения в жизни общества
и в личной жизни каждого человека. Что касается собственно государственного
устройства, то здесь невозможны никакие окончательные и завершенные
модели, поскольку сама земная жизнь бесконечно разнообразна и непредсказуема.
В каждую историческую эпоху, каждый из народов вправе выбирать и создавать
такие государственные модели,1 которые наиболее отвечают его традициям,
наиболее плодотворны для последовательного раскрытия его свободы и наиболее
гармонично сочетаются с его религиозными представлениями. Опасно только
забвение религиозных корней нашей жизни и полный отрыв государственных
установлений от этих корней. «Признание относительных ценностей и
положительное к ним отношение не только не противоречит этическому
максимализму религии, но прямо им тррбуется. Ибо, как смысл всего существующего,
Бог есть смысл и всего относительного, временного. Если совершенное
Богоявление есть тот максимум, то этим оправдан весь процесс — и несовершенное его
начало (минимум), и отдельные, оцьносительные стадии прогресса. Тем самым
* Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 545.
37
оправдано и государство. Христианскою должна быть признана не та точка
зрения, которая требует немедленного его упразднения, и не та, которая
спешит включить его в царствие Божие, а та, которая разделяет Божие и кесарево,
воздавая подобающее тому и другому»*. В этом отношении к государству еще
раз проявляется самая яркая черта философских воззрений Трубецкого — его
убеждение в религиозной оправданности земного бытия, несмотря на все его
несовершенство, и вера в возможность грядущей гармонии между земным
и божественным.
* Там же. С. 555-556.
38
ЛЕКЦИИ
ПО ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИИ ПРАВА
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА (ДРЕВНЯЯ)
Глава I
Политическое и религиозное миросозерцание
древних греков*
Философия права и государства возникла на почве эллинской, а потому нам
прежде всего предстоит познакомиться с теми данными эллинской народной
религии, которые предполагаются развитием философии права. История греческой
философии тесно связана с историей греческой религии. С одной стороны,
религия заключает философский элемент, с другой — философия питается
идеальными богатствами религии. Для нас особенно важное значение имеют два момента
греческой религии: ее натурализм и ее антропоморфизм. Греки боготворили силы
природы, олицетворяя их в человеческих образах: однообразное течение светил
небесных, по их воззрениям, является результатом деятельности богов; солнце
есть златокудрый Гелиос, земля — мать Церера, подземную деятельность
вулканических сил олицетворяет бог Гефест, день и ночь стучащий молотом по своей
наковальне. Таким образом,1 вся деятельность природы принимает в глазах грека
человеческий образ. В противоположность религиям Востока, где человек
теряется среди окружающей его внешней природы, в эллинской религии человеческий
образ господствует над природой. Боги, во всем похожие на людей, с
человеческими недостатками, царствуют над стихиями. Понятно, такая религия создает
величайший простор для поэтического творчества. Гомер и Гесиод, по словам
Геродота, создали богов, определил^ место и деятельность каждого из них. В Греции мы
не видим жрецов как обособленного сословия, монополизирующего откровение.
Здесь откровение одинаково доступно всем и каждому. В Греции божество близко
* Пособия: 1. Zeller «Очерк истории греческой философии»; 2. ИбервегГейнце «Очерк истории
философии» (с подробными библиографическими указаниями по каждому отделу); 3. Чичерин — 1т.
(Пособие к истории средних веков); 4. Гильдебрант «История и система философии права и государства».
40
к человеку, оно симпатизирует ему и вызывает его к мыслительной деятельности.
Божество во всем похоже на людей, людям понятны самые отношения богов,
сродные с человеческими отношениями; боги составляют аристократическую общину
с царем Зевсом во главе, весьма напоминающую греческое государство в
героическую эпоху. Боги несравненно сильнее людей, но они не всемогущи, они не могут
изменить закона природы, которому они подчинены. Океан не может выйти из
тех границ, которые он занимает, — могуществу Посейдона есть пределы; Зевес —
царь и владыка богов (сила его так велика, что все остальные боги вместе взятые
не могли бы совлечь его с Олимпа), но и он подчинен вечному закону, и над ним
есть судьба — предопределение. В «Илиаде» говорится, что Зевес на золотых
весах взвешивает судьбу смертных и участь их решается наклонением весов, а не
державной волей владыки. В третьей песне Зевес взвешивает судьбу ахейцев
и троян: жребий ахеян опускается к земле, а жребий троян взвивается к облакам.
Решение судьбы непреклонно, и молния Зевеса, посланная, чтобы вырвать победу
у ахеян, не может остановить их победоносного шествия. Ахейцы преследуют
врага до самых ворот Трои. По воззрениям греков, миром правит вечная
справедливость, божественная θέμις, δίκη; ее законы царствуют над смертными и
бессмертными. Таковы понятия, лежащие в основе всего религиозного мировоззрения
эллинов. Справедливость здесь не только нравственный, но и физический закон;
пред ней трепещут подземные силы; ей повинуются солнце и звезды. Нам трудно
перенестись на эту точку зрения; у эллинов нравственный порядок и порядок
естественный беспрестанно смешиваются, между тем как мы привыкли отличать то
и другое. Мы привыкли отличать мир духовный от мира телесного. Между тем
греческая мифология вообще не знает духа, свободного от тела. Души умерших
обладают эфирными легкими телами, и сами боги отличаются от людей лишь
более совершенным устройством своего тела; с другой стороны, греческая
мифология представляет все вещество одухотворенным, исполненным жизни: небо
смотрит на землю бесчисленными очами, земля-Гея есть мать, способная чувствовать
и любить. Это смешение нравственного порядка с вещественным, это всеобщее
подчинение нравственной деятельности физической необходимости связано с
чувством подчинения физической природе. Над человеком тяготеет естественный
закон безличной необходимости.
С этими данными тесно связаны и политические воззрения. В религии
отражаются первоначальные понятия о праве и власти. В своей зависимости от внешней
природы человек всюду видит господство божества: землепашец — Деметры,
Аполлона, Геи, мореплаватель — Посейдона. И это господство божества над
человеком не представляется результатом случайности; в основе всех отношений
божеских и человеческих лежит1 вечная справедливость — δίκη, которая и служит
первоначальным источником всякого закона; вечный закон царствует не только
над богами: он определяет место каждого существа в строе вселенной. В силу
божественной справедливости человек господствует над животными, боги — над
людьми, над богами — Зевес, а над Зевесом — необходимость. Религиозная идея
лежит в основе всего политического мировоззрения эллинов. В нашем
современном обществе церковь как духрвный союз отграничена от государства — союза
мирского. В древности этого не было; здесь гражданское общество есть вместе
с тем общество верующих; союз духовный совпадает с союзом мирским. Вот
почему здесь воззрения о праве окра,шены религиозными характерами. «Всякий
закон, — говорит Демосфен, — есть откровение и дар богов и догмат
благоразумных людей». Все древнейшие законодатели окружены ореолом божественного.
41
Все древнейшие законы рассматриваются как божественные постановления, и
законодатель является органом божества, таковы: Тезей в Афинах, Ликург в
Спарте и Минос на Крите.
В основе отношений личности к государству лежит религиозное поклонение,
и подчинение закону в Греции есть своего рода акт религиозный. Государство
господствует над личностью как божество; как абсолютный властелин, оно
распоряжается жизнью и имуществом своих граждан. Отдельная личность
рассматривается как орудие государства, и в случае коллизии частного интереса с интересом
государственным за человеком не признается никаких неприкосновенных
священных прав.
В Спарте младенцы, родившиеся уродами, истреблялись как неспособные
к службе, негодные для государства орудия. Дети считались собственностью
государства, которое по своему произволу распоряжается ими. Одного приведенного
примера достаточно, чтобы показать бездну, отделяющую нас от греческого
мировоззрения. Мы привыкли признавать за человеком как таковым безусловную цену;
христианская мораль предписывает заботиться о каждом человеческом существе
независимо от его физических качеств. Христианство всего больше ценит в
человеке его внутреннее нравственное совершенство; напротив, с точки зрения греков,
сама добродетель имеет цену, лишь поскольку она может служить на пользу
государству. В тех случаях, когда исключительные доблести одного лица угрожали
интересам государства, греки прибегали к остракизму. Так, например, ничем
неповинный, честный Аристид был изгнан из Афин только за то, что
соперничество его с Фемистоклом вредило в борьбе с персами1, нарушая единство и согласие
партий. Государство не довольствуется одними внешними требованиями; оно
навязывает гражданину определенный нравственный и умственный склад. Оно не
признает свободной от него человеческой совести; критическое отношение к
государству рассматривается как религиозное преступление, а критика религиозного
предания — как преступление государственное. Величайший философ древности
Сократ погиб жертвой этой нетерпимости — религиозной и политической2.
Человек поглощен своими политическими обязанностями, оторван от семьи и
земледелия; участие в народном собрании, в судах присяжных и походах отнимает все
время; гражданину некогда самому заботиться о своем пропитании; вместо того
само государство обеспечивает ему даровой хлеб. В Спарте свободный гражданин
не пашет земли, потому что он вечно живет походной, лагерной жизнью; в
Афинах время гражданина поглощено судами и народными собраниями. Государство
в Греции служит конечною целью всего воспитания юношества. Воспитание здесь
задается целью приготовить государству контингент физически здоровых,
годных для службы граждан. Здесь цель воспитания не нравственная, а
политическая. Задача воспитания исчерпывается тем, чтобы приготовить государству
крепких воинов, патриотов и граждан, достаточно развитых, чтобы участвовать
в гражданской жизни. Вот почему в Греции общественное воспитание
преобладает над частным; отстраняя семью, государство само хочет быть единственным
воспитателем юношества. Человек вечно трудится для государства и не имеет
времени, чтобы трудиться для себк. Это ставит его в зависимость от государства,
от которого он вправе ждать материального вознаграждения за свою службу; и,
действительно, государство так и поступает: в Спарте государство обеспечивает за
каждым свободным гражданином участок земли с наследственно
прикрепленными рабами, и господин живет их трудом. В Афинах при Перикле народные
собрания и суды присяжных ежедневно поглощают до трети граждан. Поэтому при Пе-
42
рикле установлена плата за участие в народном собрании, и эта плата есть conditio
sine qua non3 самой демократии; только благодаря этой плате масса бедных людей
может отправлять свои обязанности пред государством — участвовать в народных
собраниях и судах. В конце концов в Афинах граждане живут жалованьем,
получаемым от государства, и трудом раба. Все государство представляет господство
свободных над массой рабов. Древний гражданин питается трудом раба, ибо сам
он поглощен всецело своими политическими обязанностями, потому что
государственная жизнь отнимает у него возможность трудиться для себя, потому,
наконец, что в Греции всюду, не исключая демократических Афин, труд заклеймен
презрением. Рабство является оборотной стороной аристократизма греческого
государства. Сами демократические Афины окажутся на самом деле
аристократическими, если принять во внимание, что и здесь рабы составляют огромное
большинство. В конце концов свобода есть монополия меньшинства, но и это
меньшинство обладает только свободой политической при полном отсутствии
свободы частной.
В Афинах мы видим гражданина непосредственно участвующим в суде и
законодательстве; здесь каждый гражданин имеет решающий голос в политике и,
следовательно, пользуется большей политической свободой, чем гражданин любого
из современных государств. В противоположность современным государствам
управляющимся чрез народных представителей, в Афинах демос — народ как целое
управляется сам собою непосредственно, но такой властью народ обладает лишь
как политическое целое; частное лицо как таковое бесправно; оно не обеспечено
в своих личных правах и имуществе против произвола правящей партии. Греция
первая явила миру образец политической свободы, но она не знала свободы
частной, гражданской. Непосредственное народное самоуправление обусловливается
небольшими размерами государства, которое состоит из одного только города
с прилежащими к нему селениями и незначительным количеством граждан.
В Афинах, где в самые цветущие времена было не более 20 тысяч граждан, все
население могло вмещаться на одной площади. Чем меньше населения, тем
большего напряжения всех сил гражданина требует военная защита государства; в
Греции в состав войска входят поголовно все граждане; здесь все население
непосредственно заинтересовано в политике, ибо сама жизнь и благосостояние
каждого частного лица зависит от удачи войны, от того или другого направления
в политике, от того, какая партия стоит в данную минуту у кормила правления.
Только добившись власти, гражданин мог считать свою жизнь и имущество в
безопасности.
ι
I
Глава II
Досократовская философия
Древнее мифологическое мировоззрение смешивало мир духовный и мир
телесный; оно представляет вещественные стихии как одухотворенные существа.
Но по мере развития философской мысли образуется представление о духовной
деятельности, как о силе, безусловно отличной от материи, и, с другой стороны,
43
представление о веществе без всякого духовного элемента. Этот процесс
постепенного разложения натуралистического миросозерцания древней мифологии мы
и видим в древнейший период философии (досократовской) от Фалеса до
Анаксагора включительно. Вместе с тем разлагается и политическое мировоззрение
греков, тесно связанное с их религиозным миросозерцанием.
Первая попытка объяснить мироздание принадлежит Фалесу. Вся природа,
по его словам, «полна богов — πάντα πλήρη θεών». Здесь философия еще стоит
одной ногой в мифологии. Стихии мира представляются не как чистое вещество:
огонь, вода, земля — все это существа живые для философа. Вся философия
в досократовский период отличается натуралистическим характером, и
разрушение мифологического мировоззрения является не началом, а концом ее
развития. Философия пытается свести весь мир к одному началу, к одной
первоначальной стихии. Философия этого периода поглощена исключительно
изучением внешней природы; человек рассматривается как несамостоятельная
часть внешней природы; на этой ступени развития философии учение о
нравственности — этика — не могло быть выделено в особую область, ибо не назрело
сознание отличия нравственной природы от физической. Здесь этика составляет
лишь часть физики. Поэтому Аристотель называет этих досократовских
философов физиками. На этой ступени своего развития философия отличается детски
наивным характером. Родоначальником греческой философии был Фалес
Милетский. Он учил, что вода есть сущность всего существующего, что весь мир
произошел из воды и все в воду обратится. К такому воззрению привело Фалеса
наблюдение той роли, которую играет влага в жизни растений и животных. Все
растения питаются влагой, все животные произошли от жидкой спермы. Другое
основание, как мне кажется, это бесконечная подвижность воды, ее текучесть
и способность принимать различные формы: ввиду этого вода должна была
представляться примитивному сознанию живым, деятельным началом, силой
творческой.
Ближайший преемник Фалеса Анаксимандр учил, что весь мир произошел из
безграничной и неопределенной стихии, не давая ей ближайшего определения.
Безграничность этой стихии доказывается тем, что она не исчерпывается при про-
изрождении существ, производя вечно новые формы.
Преемники Анаксимандра, Анаксимен и Диоген из Аполлонии, удерживают
это понятие безграничной неопределенной стихии и определяют ее как воздух.
Воздух всюду проникает и создает бесконечное разнообразие вселенной. По всей
вероятности, к этому выводу привело наблюдение процесса дыхания. Все живет
и дышит, и мировой процесс представляется философу процессом всеобщего
дыхания. Все упомянутые философы определяют сущность существующего как
однородную стихию, лежащую в основе вселенной. Но как из нее возникает
разнообразие сущего, как объяснить гармоническое сочетание мировых сил? На эти
вопросы мы еще пока не встречаем никакого осмысленного ответа.
Поглощенная изучением внешней природы, досократовская философия лишь
мимоходом касается вопросов о праве и государстве. В досократовской философии
выразилось разложение натуралистического миросозерцания древней
мифологии, которое было тесно связано с миросозерцанием политическим. Этим
досократовская философия расчищает путь для нового философского учения о
государстве, выразившегося в беседах Сократа, в творениях Платона и Аристотеля.
Уже самая попытка философской мысли исследовать сущность и
происхождение всего существующего предполагает в ней великую дерзость. Не удовлетворя-
44
ясь популярными легендами о происхождении всего существующего,
философская мысль отрешается от унаследованных верований. Мифические образы
заменяются философским пониманием действительности.
Интуиция (представление) закономерности мироздания постепенно овладевает
сознанием философов. Пифагорейцы учат, что все существующее есть число и
гармония; без числа ничто не было бы познаваемо; весь мир пребывал бы в состоянии
бесформенного хаоса. Число обусловливает собою разнообразные качества вещей:
оно составляет условие их познаваемости и по тому самому — реальная причина
их бытия. Все существующее носит на себе печать и подобие числа. Число
выражает собою живую связь мироздания, к нему сводится нравственная и
физическая природа. Все небо есть число и гармония.
При всей наивности этого миросозерцания в нем есть проблески смысла и
разума. В природе философ различает строгий порядок, в многообразии ее явлений он
усматривает единство. Ему бросаются в глаза однообразия в смене дня и ночи,
в чередовании времен года, в движении светил небесных. Такое же однообразие
поражает его и в жизни живых существ. Каждое из них проходит те же периоды
юности, зрелости, старости, за которой следует смерть. В природе вечно
повторяются одни и те же числовые отношения: одно и то же количество дней в году,
в лунном месяце, одно и то же количество часов в дне. В этих и многих других
повседневно наблюдаемых явлениях правильно повторяются одни и те же числовые
отношения. И вот все оказывается преисполненным числа и гармонии.
Единство в разнообразии — таково основное наблюдение пифагорейцев,
выведенное ими из свойств числа. Символ такого единства есть число, ибо все числа
образуются путем сложения и умножения единиц; всякое число есть единство
многих единиц, единство во множестве, в разнообразии. Все существующее имеет
число: число — один из наиболее общих признаков вещей.
Пленяясь этим чудесным свойством числа, пифагорейцы понимают число как
сущность всего существующего, символ порядка. Число для этих мыслителей,
не умеющих отличать символа от сущности, превращается в деятельное начало,
производящую причину всего существующего. Числа у них живые и деятельные
существа: деятельностью чисел обусловливается разумный, гармонический
порядок мироздания.
В миросозерцании пифагорейцев мы уже можем проследить начало
разрушения мифологии. Божественное для пифагорейцев является в образе числа. Это
уже не личное, чувственное божество древней мифологии, а отвлеченное понятие,
создание полумифическое и полуфилософское.
И тут же в связи с этими философскими интуициями зарождается новое
политическое учение, уже отличное от народных воззрений, и здесь вместо
чувственных богов господствует философская идея. Как в космосе всюду господствует
порядок и гармония, так и в человеческом обществе должна воцариться гармония
интересов, единство во многообразии. Все в человеческих отношениях должно
быть размерено числом, во всем должна осуществиться художественная
пропорция. Пифагорейский союз, круг учеников, единомышленников Пифагора,
последовательно проводили эти начдла в практической жизни. Жизнь пифагорейцев
подчиняется строгому порядку. Весь день их распределяется с величайшим
однообразием; время каждого занятия определяется с математической точностью.
Главная добродетель пифагорсйцэв заключается в подчинении строгой
дисциплине, в самопожертвовании личности ради интереса общественного. В связи с этими
началами мы находим у пифагорейцев первые в истории философии зародыши
45
коммунистического идеала. Ради осуществления совершенного единства в
государстве должна установиться общность имуществ. Только при такой общности
имуществ может установиться в обществе та гармония интересов, которую
требует пифагорейский идеал. Как учение пифагорейцев лишь наполовину отрешилось
от мифологии, так и сам Пифагор представляется полумифической фигурой.
В Кротоне, центре его философской и политической деятельности, ему, подобно
древним законодателям Ликургу и Миносу, воздаются божеские почести. В
последующих философских системах разложение народного миросозерцания вступает
в новую стадию. В основе мироздания лежит единый вечный порядок.
Вслед за Пифагором элейская школа философов проникается сознанием этого
вечного мирового единства. Первооснова бытия едина и неизменна; она не
возникает и не уничтожается, но вечно пребывает. Но если эта первоначальная основа,
эта сущность всего существующего едина и неизменна, то она противоречит
бытию конечных явлений, в которых мы видим постоянное возникновение и
уничтожение. Если безусловное и истинное бытие едино, то оно не может содержать
в себе никакого разнообразия, а потому и не допускает в себе никакого движения,
так как всякое движение предполагает разнообразие и множество. Истинно сущее
не возникает и не уничтожается; оно неделимо и недвижимо; но если так, то весь
видимый мир есть ложь и призрак, все разнообразие видимых вещей есть
результат чувственного обмана и не имеет в себе истинного бытия.
На этом результате философская мысль успокоиться не может. Она хочет
объяснить разнообразие вселенной и процесс возникновения вещей; между тем э л
ейское учение во всем отрицает всякий процесс и разнообразие. Вот почему элейской
философии, как неизбежная и естественная реакция, противополагается учение
Гераклита, который, напротив, исходит из представления беспрерывного
мирового движения — процесса, в котором рождается беспредельное множество существ.
Для Гераклита движение есть процесс постоянный, существенный элемент в
вещах. Все течет, все движется, все непрестанно изменяется. Едва мы успели
назвать вещь, как она уже стала другою. В мире нет ничего вечного, постоянного,
кроме законов всеобщего движения и перемены.
В этих двух противоположных системах элейцев и Гераклита обнаруживается
роковой разлад философской мысли древних физиков. Они не в состоянии
примирить многообразие во вселенной с господствующим в ней вечным единством и
порядком. Пленяясь идеей единства мироздания, элейцы отвергают в нем всякий
процесс и разнообразие. Усматривая беспрерывное движение в мироздании,
Гераклит отрицает какое бы то ни было постоянство в вещах; мировой процесс
представляется ему процессом беспрерывного горения, в котором вечно все сгорает
и остается один лишь мировор огонь, все в себе пожирающий. При всей своей
противоположности названные две системы сходятся в одном общем результате —
в признании недостоверности наших чувств. Мир видимых явлений есть ложь для
Гераклита, как и для элейцев. Для элейцев потому, что они отрицают какое бы то
ни было разнообразие и движение во вселенной; для Гераклита потому, что вещи
кажутся нам пребывающими; вещи, которые мы видели вчера, кажутся нам теми
же, что мы видели сегодня, между тем как они на самом деле беспрерывно
движутся, изменяются.
В этих двух учениях выражается уже совершенный переворот в религиозном
миросозерцании. Философия утрачивает веру в чувственных богов. У Гераклита
все это множество богов исчезает и вместо них остается лишь безличное
божественное начало — огонь, в котором все сгорает. Для элейцев истинное божествен-
46
ное бытие едино. Основатель элейской школы Ксенофан ведет горячую полемику
против богов народной религии: существа, родившиеся, возникшие из
стихийного хаоса, — они не суть боги; они подлежат всеобщему закону, в силу которого все
родившееся подвержено смерти, а потому не суть бессмертны божественные
существа. Другой аргумент Ксенофана направлен против антропоморфизма греческой
религии. Существа, во всем подобные людям, со всеми человеческими слабостями
и недостатками, не суть боги. Таким образом, поэтическое миросозерцание
древней мифологии представляется Ксенофану продуктом вымысла и фантазии.
В трех последних системах досократовского периода разложение мифологии
представляется уже закончившимся; здесь уже вещество освобождается от всех
тех чудесных свойств, которыми наделяла его мифология; оно представляется
как косная бездушная масса, не способная к самопроизвольному движению.
В системах Левкиппа и Демокрита мы уже встречаемся с первой попыткой
чисто механического объяснения мироздания. Весь мир представляется этим
философам результатом механического взаимодействия вещественных атомов,
которые отличаются между собою лишь величиной и фигурой. В системе Демокрита
уже вовсе нет места для чего-либо мифического и чудесного.
Наконец, у Эмпедокла и Анаксагора как у атомистов мы находим чисто
механическое представление вещества. Все три учения одинаково представляют
материю косной и бездушной; все три признают вечность материи. Элементы вещества
вечно одни и те же — они вечно сохраняют свои основные качества и не
изменяются количественно. Но между тем как для атомистов вещество исчерпывает собою
истину всего существующего, у Эмпедокла мы видим, с одной стороны, мертвое
вещество и, с другой стороны, нематериальные духовные силы, которые извне им
движут и управляют. У Эмпедокла мировыми двигателями являются две
полумифические фигуры — любовь и ненависть. Любовь организует стихии в прекрасное
мировое целое, а ненависть разрушает дела любви, внося во все раздор и
беспорядок. Наконец, у Анаксагора мы уже вовсе не видим никаких мифических
представлений. Чувственные боги исчезают, и на сцене остается только мертвое
вещество и единый мировой разум, который им движет и управляет. Этот
божественный ум безусловно нематериален; он всем движет и всем управляет, сам
оставаясь недвижим. Его деятельность определяется двумя словами: γιγνώσκειν
и διακοσμεΐν. Он распознает (γιγνώσκει) элементы бытия в их подобии и различии
и организует (διακοσμεί) их в прекрасное и благоустроенное целое. Этот
божественный ум не есть творец, а только верховный правитель, устроитель мироздания.
Вещество им не создано и одинаково с ним вечно. Он не в состоянии изменить
первоначальных, от века данных свойств вещества.
Если сопоставить три последние системы с философией родоначальника
греческой философии Фалеса Милетского, который утверждал, что все полно богов,
то мы увидим, что философия совершила огромный шаг вперед. Образный
поэтический элемент исчез, и остается чистое философское сознание. Миросозерцание
из поэтического стало прозаическим; воображение уступило мышлению.
Анаксагор, утратив живое разнообразие мифических богов, сводит весь
божественный мир к единому божественному уму, к чистой бесплотной мысли, а
Демокрит вовсе изгоняет божественное из своей системы. Падение чувственных богов
неизбежно влечет за собой переворот в политическом миросозерцании.
В народном миросозерцания Древней Греции политика не отделялась от
религии, и всякий переворот в религиозном мировоззрении отражался таким же
переворотом в политическом миросозерцании. Руководящим началом в политике слу-
47
жит для философа уже не откровение богов, а чистая философская мысль. Этот
новый принцип, еще не сознанный ясно в досократовский период, присутствует
однако в зародышном состоянии в пифагорействе, чтобы потом выступить во всей
своей определенности в учениях Сократа и Платона.
Религия в древнем обществе служит объединяющим, связующим началом.
Поэтому с разложением религии должны измениться основы политического
миросозерцания и политического быта эллинов. За упразднением религиозной связи,
скрепляющей греческое государство в единый политический организм,
государство перестает быть конечной целью существования личности; оно уже не есть
всепоглощающий центр жизни и деятельности. Отдельная личность выдвигается
вперед со своими требованиями; она уже не удовлетворяется тесными для нее
рамками древнего государства — города. Самая цель философского мышления
выводит его за пределы этих органических и исключительных местных интересов.
Анаксагор в древности навлек на себя упрек в том, что он не забоится о своем
отечестве, на что философ отвечал, что небо есть его отечество. Другое изречение
его гласит, что человеческая жизнь черпает свой смысл и значение в созерцании
неба. Таким образом, народному миросозерцанию, которое полагает высшую цель
в политической деятельности, противополагается уединенное созерцание
мыслителя. Философия, утверждающая, что мир есть отечество для мыслителя,
заключает в себе зачатки космополитизма; исключительным требованиям государства
противополагается, с одной стороны, универсализм философа, который хочет
объять весь мир пытливым взглядом, а, с другой стороны — эгоизм личности,
которая заботится более о личном, нежели об общем благе. У Демокрита еще яснее,
чем у Анаксагора проявляется этот зарождающийся космополитизм. «Мудрый
муж, — говорит он, — может жить во всякой стране; для хорошей души весь мир
есть отечество». Конечной целью жизни становится, таким образом, уже не
государство как общее благо, а добродетель и счастье отдельного субъекта.
В конце досократовского периода уже ребром становится основной вопрос
философии права, — что такое закон и обычай, скрепляющий человеческое
общество: есть ли он результат вечной природы вещей или произвольное человеческое
постановление. Вопрос этот решается в отрицательном смысле учеником
Анаксагора Архелаем, физиком, который учит, что справедливость и закон обоснованы
не в вечной природе вещей, а суть создания человеческого произвола, не имеющие
объективных оснований. Это учение делает Архелая предшественником
софистов, к которым мы и перейдем.
ι
, Глава III
Софисты
Философия в своем стремлении подчинить внешний чувственный опыт
мерилу мыслящего разума припала к разрушению мифологического сознания —
веры отцов и достоверности чувственного опыта. Истина не дана в чувственном
опыте, наши чувства нас обманывают: таков отрицательный результат, к
которому с разных сторон привели философские системы. Где же мерило истины,
где верховный источник познания, где верховное руководящее начало
деятельности?
48
Порвав связь с вековым преданием, мыслящее сознание само себе служит
мерилом истины. Человек есть мера всего истинного и ложного, прекрасного и
доброго, — таково знаменитое положение софистики, формулированное одним из ее
родоначальников Протагором. Исходя из учения Гераклита об изменчивости,
непостоянстве всех вещей, Протагор пришел к отрицанию объективной истины,
к отрицанию истинного знания. Все течет, все движется, все изменяется; в этом
всеобщем течении вещей нет пребывающей, неизменной истины, а потому
невозможно и истинное знание. Весь мир обращается, таким образом, в бессвязную
толпу обманчивых представлений, призраков; мы сами беспрерывно изменяемся
в потоке явлений, и знание наше так же изменчиво, так же обманчиво и не
достоверно, как и чувства, как и самое наше бытие. «В мире нет ничего истинного;
истинно для каждого то, что кажется ему истинным». Все наше сознание
складывается из мимолетных, преходящих и случайных впечатлений; эти впечатления
в каждый данный момент и для каждого данного субъекта различны; в них нет
ничего, кроме чувственного обмана, ничего объективного, всеобщего. К тому же
результату, исходя из совершенно других соображений, приходит Горгий,
который наравне с Протагором считается одним из основателей софистического
направления; в своей книге о небытии он доказывает три положения: 1) что никто не
существует, 2) что если что-нибудь и существует, то познание этого бытия
невозможно, и 3) что если что-нибудь и познаваемо, то такое познание не может
передаваться посредством речи. Центром тяжести доказательства служит здесь элейское
учение о том, что ничто не возникает и не уничтожается; противоречие разума,
который требует вечного, непреходящего единого бытия и чувственного опыта,
где мы находим беспрерывную перемену и множество разнообразных явлений, —
это противоречие приводит Горгия к заключению, что нет ничего реального в
мире, что познание невозможно, что видимый мир есть хаос бессвязных
представлений. Сознание каждого отдельного субъекта безусловно отлично от сознания всех
прочих людей; наши суждения определяются не сознанием объективной истины,
а произволом, случайным впечатлением или желанием минуты; для меня
истинно то, что я в данную минуту хочу считать истинным, а что истинно для меня,
то не истинно и необязательно для других. Исходя из этих положений, софист
берется что угодно доказать и что угодно опровергнуть; для него все суждения
одинаково ложны, а потому и одинаково истинны; его утверждения определяются не
убеждением, а выгодой, софист доказывает то, что в данную минуту для него
выгодно доказывать, и, по желанию, может доказывать противоположное.
Перенесенное в область этики, такое направление даст совершенное отрицание
нравственности. Нравственность также не имеет другого основания, другого
мерила, кроме человеческого произвола. Добро и зло коренятся не в природе вещей,
а в произвольном человеческом соглашении. Справедливо для каждого то, что
кажется ему справедливым, и до тех пор, пока оно так кажется.
С этой точки зрения нет ничего нравственного или безнравственного,
дозволенного или запрещенного; в основе права и законодательства также лежит
человеческий произвол. Единственно прирожденное, естественное право — это право
сильнейшего; оно лежит в основе всех человеческих отношений. По учению Горгия,
большинство слабых с целью одолеть меньшинство сильных соединились вместе,
образовали государство, установили законодательство, коим связали волю
сильных, принудили их к подчинению;,этим путем образовались существующие
общежития. Для сильного уважение к закону обязательно лишь до тех пор, пока он
чувствует себя недостаточно сильным, чтобы разорвать эти узы, сбросить эти на-
49
сильственно на него наложенные оковы. С этой точки зрения, конечно, для
софиста безразличны все формы общественного устройства; для него наилучшая
форма есть та, которая в данную минуту доставляет ему возможность господствовать
над массой. Софисты, льстя народным страстям, первые высказали мысль, что
в каждом государстве справедливо то, что нравится правящему,
господствующему классу общества.
Но льстя народным страстям, софист, конечно, прежде всего преследует
личную цель, стремится к личному влиянию, к тираническому господству личного
произвола. Гильдебрант справедливо замечает, что «софистика не могла создать
государственный идеал, а только эгоистический идеал деспота». Апофеоз
тирании, в самом лучшем смысле этого слова, был последним словом политики
софистов.
С этой точки зрения для нас лишено всякого значения то обстоятельство, что,
как мы знаем из Аристотеля, софист Алкидам был одним из первых противников
рабства.
Будучи военнопленным, он доказывал, что рабство противно природе вещей;
если бы ему пришлось очутиться в положении победителя, то он, конечно, с таким
же успехом доказывал бы, что порабощение побежденных есть священное право
победителей. Утверждения софистов определяются не серьезным убеждением,
а минутной выгодой, а потому учение Алкидама должно рассматриваться как
ораторский прием, а не как философская серьезная теория.
Таковы в общих чертах учения софистов.
Всматриваясь в них внимательнее, мы убеждаемся, что они суть продукт
разложения народного миросозерцания, религиозного и политического, и все
значение, весь смысл их заключается в отрицании этого миросозерцания. В основе
народного мировоззрения лежит представление единой и неизменной истины,
которая пребывает в потоке движения вселенной. Софистика отрицает
божественное устройство и порядок мироздания, отрицает самую истину и видит в
мироздании один хаос бессвязных и случайных явлений. Если народное мировоззрение
верит в безусловную, вечную справедливость, гармонию мировых сил, то
софистика видит в мироздании одну анархию и беспорядок; на место истины, добра,
справедливого и прекрасного становится несдержный, ничем не связанный эгоизм
личности. Мир явлений представляет собой толпу бессвязных и ложных
впечатлений, и ту же картину хаоса и безначалия представляет собою и общежитие.
В древнейшем народном мировоззрении личность подчинена объективному
божественному порядку; она черпает цель и смысл своей деятельности в общем благе;
софистика, напротив, проповедует безграничное господство индивидуального
интереса, не знает другого, высшего мотива деятельности, чем личная выгода, и
видит в обществе одно лишь случайное и произвольное соединение людей, из коих
каждый стремится к тираническому господству над всеми и все над каждым; все
общество, таким образом, представляет собою лишь беспорядочный хаос
стремления и интересов.
Такое направление мысли связано с успехами эллинской общественной жизни,
тесно связано с развитием афинской демократии. Общественное и политическое
устройство Афин открывает безграничный простор для личного влияния, дает
самую широкую свободу личной инициативе; в Афинах каждый гражданин имеет
решающий голос в политике, каждый чувствует себя судьей, правителем,
законодателем. Эта политическая свобода есть оружие обоюдоострое; с одной стороны,
она дает возможность всем гражданам всецело посвящать себя общественному де-
50
лу, а с другой стороны, создает великое искушение и соблазн, давая возможность
обратить общественное дело в орудие личных, частных интересов. Успехи частной
самостоятельности, всестороннее развитие сил личности создали могущество
Афин, их торжество в военной и мирной культурной борьбе. Но этот же частный
интерес, который был главным движущим рычагом афинской демократии,
обратился против нее, стал началом ее разложения и гибели в тот самый момент,
когда процветание ее достигло высшей точки. Пока частный интерес приносится
в жертву общественному, демократия стоит на верху славы и могущества; но как
только она достигает этой высшей точки, так наступает обратное явление:
общественный интерес становится жертвой частного эгоизма личности, вырвавшейся
из-под контроля вековых авторитетов.
Этот-то переворот в общественном сознании, эта реакция частного интереса
и выражается в софистике. Она представляет собою проповедь эгоизма самого
безграничного и произвола самого разнузданного, враждебного всякому законному
порядку, не признающего над собой никакого контролирующего авторитета,
удержа.
Культурное торжество афинской демократии, развитие политической свободы
вызвало в массах крайнюю самонадеянность, уверенность личности в силах
своего разума. Демократические реформы открыли величайший простор для влияния
личности; слово, красноречие стало орудием силы и господства; пафос ораторов
и демагогов приобрел руководящее значение в политике. И вот из этого-то
настроения умов и вышло учение, отрицающее вековые авторитеты, утверждающее, что
человек есть мера всего, что он должен искать руководящее начало своей мысли
и деятельности не во внешнем откровении, а в самом себе, в своем личном
усмотрении и произволе, не в божественной, а в личной мудрости. Эта самоуверенность
личности переходит в совершеннейшее отрицание истины и нравственности,
причем субъективный произвол становится на место того и другого. Появляются
софисты, учителя мудрости и красноречия; эти учителя утверждают, что истинно
для каждого то, что кажется ему истинным; они учат не истине, не добру, а
искусству казаться говорящим истину, казаться мудрым и добрым; софисты преподают
искусство нравиться толпе; софист стремится не к тому, чтобы сообщить
познания, а научить искусству спорить, одержать победу над противником, ослепить
его, очаровать слушателей потоком красноречия. Цель этого учения —
господство над толпой. Оно соответствует тому безмерному властолюбию, которое
овладело афинским обществом, как только демократические реформы открыли всем
доступ ко влиянию и власти.
Несмотря на все заблуждения и недостатки, учения софистов имели великое
историческое значение и подготовили переворот в философском мышлении.
До сих пор философское сознание искало истины в мире внешнем, природном,
думало найти разгадку тайны вселенной в созерцании природных явлений. Теперь
же в софистике завершается разложение натуралистического миросозерцания,
и человек ищет разгадки тайны вселенной уже не в созерцании внешней природы,
а в собственном мире, видит в самом себе меру всего истинного и ложного.
Это сомнение в достоверности чувственного бытия имело, как мы видели, свои
философские основания и не было только пустым словоизвержением.
Древнейшие софисты, основатели учения, как'Протагор и Горгий, — не были только
пустыми болтунами, какими являются их позднейшие преемники. Софистика
вначале была искренним сомнением в истине, в достоверности познания и только
впоследствии выродилась в искусство словопрения, в праздную болтовню.
51
Сомнения софистов заставили философскую мысль углубиться в самое себя
и искать истину путем самоуглубления. С этого и начинает Сократ, величайший
философ древности. Софисты заканчивают собой первый период развития
философской мысли. Сократ открывает собою новый период, новую эру.
Глава IV
Сократ
Сократ для всех времен и народов сохраняет свое значение как величайший
тип философа. Сократ один из тех мыслителей, коих учение нераздельно с их
личностью; он учил не только словом, но и всей жизнью; для него философия была не
только отвлеченным теоретическим учением, она выражала собою весь смысл его
существования; для нее он жил, для нее он всем жертвовал и ради нее он умер,
погиб мучеником своих философских убеждений. Сократ не только великий
мыслитель, это великий философский характер. Его сила, его величие коренится
столько же в последнем, сколько в первом; его значение в истории философии
определяется его личным влиянием. Сократ не излагал письменно своих мыслей,
не оставил потомству никаких сочинений, он сообщал свои идеи исключительно
в форме устной беседы, диалога, и все наши сведения о нем почерпнуты из
воспоминаний его учеников, унаследовавших путем устного предания его умственное
богатство, увековечивших в потомстве память учителя. Тем не менее он
справедливо признается родоначальником всех философских учений древности,
появлявшихся после него. В Сократе сходятся все нити философского мышления эллинов.
Сократ есть, можно сказать, конкретный образ, живое олицетворение греческой
философии; начала, высказанные им, определяют собою весь дальнейший ход
философского мышления.
Эти начала, по справедливому замечанию Целлера4, заключаются не в
каких-либо определенных догматах, положениях, которые могли бы быть всеми
одинаково понимаемы, толкуемы, усвоены, а в самом методе мышления, в
целом направлении мысли и жизни. Сократ считал своею задачею гораздо более
воспитание людей, образование их умственного и нравственного склада,
нежели формулирование определенных философских положений; задача познания
есть для него вместе с тем задача нравственного усовершенствования,
философия есть столько же знание, сколько свойство характера, практическая
мудрость, которая владеет всем существом человека, выражаясь в каждом его
слове, в каждом его поступке. История философии не знает характера более
цельного, мудрости более живой, конкретной. Эта нераздельность философии
и жизни Сократа объясняет нам, почему Платон, ближайший ученик,
преемник и наследник идей Сократа, влагает все свои учения в уста учителя,
который служит для него как бы олицетворением философии; этим объясняется
и то, почему Платон представляет Сократа божественной личностью; Сократ
в его глазах не отделяется от той божественной мудрости, которую он
проповедует: он не только мыслит ею, он живет в ней, страдает и радуется ею,
воплощает ее в себе. Для грека в силу его природной наклонности к олицетворению
понятий и философия принимает конкретный, человеческий облик, отливается
в пластическое изваяние.
52
Для всех времен и народов Сократ остается классическим типом философа,
монументом греческой философии и, если можно так выразиться, ее статуей.
Сам Сократ смотрел на свое учение как на мудрость божественную, и
философия была для него познанием божественного порядка. Само божество побуждает
его к философской деятельности; сам он говорит в своей знаменитой апологии,
сохраненной и записанной Платоном: «Мне предписывается это делать
(философствовать) божеством, оракулами, сновидениями и всеми способами, какими когда-
либо божество, или божественная судьба предписывали человеку что-либо
делать». На философию Сократ смотрел как на свое природное назначение,
судьбу (μοίρα), и сама пифия, признав его мудрейшим из людей, утвердила его в этом
убеждении.
В приведенных словах апологии выражается двоякое жизненное убеждение
Сократа: во-первых, вера в божественную мудрость, объективную,
универсальную, и в Провидение, проявляющее в самых разнообразных формах свои заботы
о человеке, а во-вторых, вера в непосредственную близость Божества к человеку;
Божество обитает в глубине человеческого сознания, открываясь ему не только
извне, но и изнутри.
С этим жизненным убеждением Сократа неразрывно связано представление
о таинственном демоне, живущем в глубине его сознания. В глазах Сократа этот
демон не отождествляется с объективным Провидением, которое простирает свои
заботы на весь мир; демон Сократа не разделен с личностью самого философа; вся
деятельность его заключается в чисто субъективных внушениях; это
индивидуальный личный оракул Сократа; вместе с тем этот внутренний оракул отличается
от самого Сократа, представляясь ему самому как что-то над ним стоящее,
провиденциальное. Этот демон, как представляет его себе Сократ, весьма напоминает
учение церкви об Ангеле-хранителе. Это — что-то среднее между Божеством и
человеком, нераздельное с отдельной человеческой личностью и вместе с тем что-то
высшее, чем сам человек. Демон Сократа руководит всем его поведением, но
внушения этого демона не суть какие-либо положительные предписания; по словам
Платона, демон Сократа не предписывает ему каких-либо положительных
действий, а только удерживает его от поступков, вредных для него или кого-нибудь из
ближних; удерживает его, например, от вступления в знакомство или в разговор
с теми или другими людьми; удерживает его от участия в политической
деятельности, запрещает ему защищаться перед афинскими судьями. В положительной
деятельности Сократа, согласно свидетельству Платона, участие демона
выражается только в том, что он не препятствует поступкам полезным или добрым и,
таким образом, косвенно их одобряет. Эта вера в демона в связи с верой в
возможность внутреннего субъективного Божественного в человеке составляет в высшей
степени важное отличие Сократа от господствовавшего доселе народного
миросозерцания. Сократ верил в объективное, божественное начало, в универсальное
Провидение над человеком; но еще важнее то обстоятельство, что он признавал
голос Провидения внутри самого человека, в затаенной глубине, в самой основе его
сознания. Выражается ли это объективное откровение Провидения в форме
таинственных демонических внушеций или в ясном самосознании человека, в энергии
сознающей себя человеческой мысли, во всяком случае остается несомненным,
что истинный путь к познанию божественной мудрости и истины есть
самосознание, самоуглубление. Познай самс>го себя, и в глубине твоего самосознания ты
найдешь мудрость и истину, которая выше тебя и прежде тебя. В этом
заключается новый принцип, внесенный Сократом в историю, в этом — его великое истори-
53
ческое значение; в этом заключается тот переворот в жизни и мысли, который
открывает собою новую эпоху философского развития. Древнейшая философия
думает познать истину путем наблюдения внешней природы, но она не подвергает
своих наблюдений диалектической проверке, критике, а потому приходит к
односторонним, поверхностным обобщениям; самая взаимная противоположность
этих систем, их несогласие свидетельствуют о их несостоятельности. В
противоположность древнейшей философии Сократ обращается от созерцания внешней
природы к внутреннему миру мысли, видя в ней источник познания и истины; задача
познания определяется для него прежде всего как задача самопознания; вся
деятельность его характеризуется известной максимой дельфийского оракула: γνώθι
σαυτόν — познай самого себя, отсюда — та связь, которая соединяет философа
с оракулом; и вот почему пифия называет его мудрейшим из людей.
Сократ исходит из сознания несоответствия между божественной мудростью
и человеческою; один Бог мудр, и в сравнении с Ним человеческая мудрость
имеет мало цены; но это самое несоответствие становится движущим началом
философской мысли; сознание недостающей нам божественной мудрости становится
побудительным мотивом к исканию, приобретению этой мудрости; отсюда
знаменитое изречение Сократа: «Я только одно знаю, что ничего не знаю; те же, кто
думает, что знают что-нибудь, не знают этого немного»; Сократ потому только
считает себя мудрее других, что прочие люди принимают мнимое знание, обманчивое
мнение за истинную мудрость, тогда как он, Сократ, разоблачая лживость
ходячего мнения, сознает в себе недостаток истинной мудрости, ищет ее.
Прежде чем знать что бы то ни было, нужно диалектически себя испытать,
проверить свои силы и познавательные способности. Предшествовавшая философия
доказала недостоверность наших чувств, и Сократ усваивает себе этот результат
предшествовавшей ему философской мысли; в этом он сходится с софистами,
а также и в признании недостоверности всех ходячих унаследованных воззрений
и преданий. Но он отличается от софистов тем, что он сомневается не в
возможности истины и знания вообще, а только в истинности знания унаследованного,
ходячего, которое представляется ему не соответствующим идеалу истинного
знания; все, что до сих пор считалось знанием, есть на самом деле только мнение,
не проверенное диалектически, не испытанное мыслящим сознанием, а потому
шаткое, недостоверное, не заслуживающее названия знания.
Что же такое истинное знание в противоположность мнению? Мнение есть
только то, что кажется мне или кому-либо другому, — случайное отношение
индивидуального сознания к вещам: содержанием знания служит, напротив, то, что
истинно само по себе, не для меня только, но и для всех и каждого; истинное есть
то же, что всеобщее το καθόλον, для всех существующее и обязательное; истинное
знание поэтому есть прежде йсего знание всеобщее, которым, следовательно,
можно всех логически убедить, всех научить и привести к молчанию всякое ложное
мнение; чувственное восприятие недостоверно и ложно; недостоверны единичные
мимолетные впечатления нашего опыта.
Что же есть истинного в тех единичных вещах, которые мы наблюдаем в нашем
опыте? Истинное в вещах — то же, что всеобщее в них. Чувственные впечатления
суть индивидуальные состояния того или другого субъекта, а потому не суть
истинное знание о вещах. Положим, например, что я вижу что-нибудь красное,
ощущаю что-нибудь тяжелое; эти мои впечатления могут и не быть свойствами самих
вещей, они суть только показания моего чувственного опыта, нуждающиеся
в проверке и могущие быть субъективными галлюцинациями. Напротив, красно-
54
та вообще, тяжесть вообще суть несомненно общие свойства самих вещей,
следовательно, выражают собой объективную истину вещей. Чувственное впечатление
индивидуально и непередаваемо; только общие понятия вещей существуют
вообще, для всякого сознания, а не для моего только, не кажущимся, а
действительным образом. Только общие представления, понятия суть истинное, существенное
в вещах. Задача познания, таким образом, сводится к отысканию общих понятий
вещей. Мерилом у Сократа является уже не произвол отдельной личности, а
диалектически проверенное понятие. Вместе с тем не следует забывать, что идеалом
знания у Сократа является знание божественное и только такое знание он считает
безусловно истинным; что, следовательно, истинные понятия вещей не суть
только наши умопредставления, а объективный божественный разум, присущий
самим вещам.
К понятию Сократ восходит путем наведения, индукции, от частных случаев
к представлению общему. Положим, например, что вопрос идет о том, что такое
благо? Сократу указывают на богатство, честь, удовольствие, господство. Он
отвечает, что все это — частные блага, что он хочет знать не то, какие бывают частные
случаи блага, а что есть благо вообще, что общего между разнородными случаями,
которые мы называем благом; или, положим, речь идет о том, что значит
господствовать, кто господствующий, согласно обыденному представлению;
господствующий есть всякий, кто обладает властью повелевать. Но этой властью, говорит
Сократ, пользуется кормчий на корабле, врач во время болезни и вообще во всякой
области господствует и повелевает знающий; господство дает только знание и
господствующий, таким образом, есть знающий.
Из этих примеров вы видите, что метод Сократа состоит в индуктивном
восхождении от частных, единичных случаев к общему определению, от
общепризнанных, ходячих положений, которые представляют собой обманчивое мнение,
к истинному знанию, понятию. Сократ спрашивает себя, что есть общего в целом
разряде частных случаев; это общее всем им понятие и будет искомым знанием.
В каждом отдельном случае Сократ хочет знать, что есть каждая из
существующих вещей, сущность существующего. Τί έστιν εστον των όντων; и ответом на это
τί έστιν5 может быть не единичное представление, а только общее понятие,
обнимающее целый разряд случаев, целый класс представлений, очищенное путем
диалектики от обманчивых, лживых представлений.
Подвергая диалектической проверке все, что доселе считалось знанием,
вековую, унаследованную мудрость, Сократ приходит к тому заключению, что никто
из людей не обладает истинным знанием и что в основе всей жизни и
деятельности лежат не ясные понятия блага, добра, справедливости, а смутные и
обманчивые представления. Не находя истинного знания в самом себе, Сократ обращается
к другим, говоря, что он не прочь заимствовать его от других, ищет у других той
мудрости, которой ему недостает, философское мышление, таким образом,
обращается для него в живое собеседование с людьми; он философствует на улицах,
площадях, заходит и в мастерские, вступая в разговор с каждым желающим,
подвергая диалектическому испытанию мнения собеседников.
Так как оказывается, что никто не обладает тем знанием, которого он ищет,
и мнение собеседника не выдерживает диалектической критики, то разговор
принимает форму иронии; начав с притворного уважения к чужой мудрости, изъявив
желание научиться ей, заимствовать ее у собеседника, Сократ заставляет его
высказываться и в конце концов доказывает ему, что он сам не понимает того, что
говорит, что он принимает обманчивое мнение за знание, за истину. Эта ирония,
55
большею частью добродушная и безобидная, не есть простое глумление, она ведет
к воспитанию мышления, заставляет собеседника углубиться в свое сознание,
искать истинной мудрости. Но она обращается в ядовитую и хлесткую насмешку,
как только участником разговора является самоуверенный оратор-софист; Сократ
заставляет болтуна договариваться до смешного, до абсурда, и разговор нередко
кончается гомерическим хохотом присутствующих над разоблаченным учителем
мнимой мудрости.
Таким образом, философское мышление принимает форму беседы, диалога;
знание мудрости добывается не одиноким мышлением отдельной личности, а
совокупными усилиями собеседников; таким путем мышление обращается
непосредственно в общение людей, в живой обмен представлений; общий интерес
знания связует собеседников узами дружбы; вокруг Сократа образуется кружок
друзей, поклонников; около него собираются лучшие умственные силы
афинского общества, и не только мыслители, как Платон; у него учатся и такие
государственные деятели, как Алкивиад. Сын простого и бедного скульптора, Сократ
привлекает к себе наряду с безродными ремесленниками представителей высшей
аристократии, которые, преодолев сословные предрассудки, подчиняются
руководству и авторитету этого простого выходца из черни. Друзей сближает интерес
всестороннего знания. Они вместе подвергают всестороннему исследованию все
унаследованные воззрения, не принимая ничего на веру непосредственно, без
доказательства.
Для философии Сократа не случайность то, что она принимает форму
собеседования с людьми, диалога. Если истинное для него то же, что всеобщее, то истина
должна быть добыта не одинокими, а общими, коллективными усилиями людей.
Истинное знание в состоянии возможности скрывается в глубине сознания у
каждого; его нужно извлечь из этой глубины, из этого смутного, полусознательного
состояния посредством диалектики, а это возможно только путем совокупных
усилий собеседников. Для того чтобы узнать, что есть истинного в людских
мнениях, и выделить из этих смутных и неясных мнений крупицу истинного знания,
нужно предварительно их выслушать и проверить. И вот почему Сократ в своем
искании истины обращается ко всем и каждому, заговаривает с знакомыми и
незнакомыми, испытывает и исследует всевозможные людские мнения, извлекая из
них диалектически истинное знание.
Задача познания, или, лучше сказать, самосознания, есть прежде всего
нравственная задача в глазах Сократа. В противоположность древнейшей философии,
сосредоточивавшей все свое внимание на изучении природных явлений, физике,
Сократ полагает центр тяжести своего исследования в учении о человеке: этика
становится на первый план в этом учении. Самосознание есть вместе с тем
нравственное усовершенствование, возрождение личности. Это-то нравственное
усовершенствование Сократ считает главною своею целью, и философский диалог
является для него способом воспитания людей; Сократ считает своим призванием быть
воспитателем народа и видит в этой своей деятельности нравственную
обязанность перед отечеством, некоторого рода службу родному народу. Воздерживаясь
сам от активного участия в политике, Сократ думает оказать гораздо лучшую
услугу родине, подготовляя и воспитывая ей новое поколение государственных
деятелей и добродетельных граждан.
Добродетель, по Сокрэту, определяется знанием. Кто знает, что хорошо,
тот и поступает хорошо. Порок, напротив, объясняется незнанием истины,
незнанием блага, сводится к теоретическому заблуждению; одного теоретического
56
познания мудрости достаточно для того, чтобы быть не только мудрым,
но и нравственно совершенным. Цельность характера Сократа не позволяла ему
отделять теоретический акт познания от нравственной практической
деятельности; для него то и другое было нераздельно; познавать, мыслить добро значило то
же, что осуществлять его; мудрость и добродетель были для него понятия
равнозначащие; в мудрости, в знании заключается вся полнота личного бытия,
блаженство личности; никто добровольно не отказывается от блаженства, от
счастья; точно так же и наоборот, никто не может быть счастлив поневоле; так как
мудрость, добродетель есть блаженство, а противоположное тому состояние —
величайшее зло, несчастье, то никто не может быть добровольно злым или
блаженным против воли ούδεις Ikcov πονηρός ούδ' ακον μακαρ — таково знаменитое
положение Сократа.
Сократ просто-напросто не допускал, чтобы человек, обладающий
совершенным, истинным познанием добра, мог поступать вразрез с этим сознанием. Когда
ему указывали на пример людей, делающих зло вопреки своему сознанию, он
объяснял это тем, что такие люди обладают только мнением, а не истинным знанием;
а истинным знанием он признавал только мудрость божественную. Человек
всегда хочет блага; поэтому если он поступает дурно, то, значит, он не знает блага,
а принимает благо мнимое, эгоистическое за истинное; истинное же благо едино
и всеобще. Оно есть цель всем и каждому, присуще всем людям и неотъемлемо от
них; оно потому самому исключает эгоизм. Кто знает это единое благо, кто
обладает этой божественной мудростью, тот уже не может быть злым или эгоистом.
Порок, следовательно, сводится к теоретическому заблуждению — незнанию.
Таким образом, добродетель есть теоретическая мудрость, знание, наука. Быть
справедливым значит то же, что познавать справедливость, знать то, что право и
хорошо относительно людей. Храбрость, мужество определяется познанием страшного
и нестрашного. Быть благочестивым значит то же, что знать то, что требуется
почитанием богов.
Такое представление добродетели ставит Сократа вразрез с народным
понятием о нравственности. Согласно народному мировоззрению, добродетель
заключается в непосредственном подчинении объективной мудрости богов и
существующим положительным законам государства. Для Сократа, напротив, самое бытие
богов является достоверным лишь постольку, поскольку оно согласуется с
критерием разумной мысли, поскольку оно доказуется, например, из целесообразного
и разумного устройства мироздания. Добродетель заключается не в слепом, а в
сознательном подчинении личности божественному порядку; для Сократа
предписания богов имеют значение лишь поскольку они подвергаются контролю
мыслящего сознания. Так как божественный порядок в глазах Сократа непосредственно
осуществляется в государстве и »законодательстве, то отсюда вытекает другое
требование Сократовой этики: сознательное подчинение государству и
законодательству. Законы, по учению Сократа, бывают двоякого рода: писаные,
положительные законы и неписаные, вечные, божественные законы. В сознательном
подчинении божественному и положительному законодательству заключается
вся добродетель личности; для Сократа нравственное, справедливое и законное,
суть понятия равнозначащие, το δίκαιον — то же, что το νομίςιον. С этой точки
зрения учение Сократа противополагается теориям софистов; государство не есть
продукт произвольного человеческого соглашения; общежитие не есть создание
человеческого произвола и эгоизма, оно есть осуществление вечного
нравственного закона.
57
Проводя в теории и практике высокие принципы самопожертвования,
самоотречения личности ради блага общего, Сократ был лучшим гражданином и
храбрейшим воином своего отечества и умер, повинуясь его законам, жертвуя собою
для него.
То же требование сознательного подчинения законодательству, которым
определяется задача личности, Сократ предъявлял и к целому обществу. Законы
должны согласоваться с убеждением всего народа, выражать собой сознание
всеобщее, а не произвол личности или одной части общества. Законы, навязанные
тираном или одной частью населения другой, не суть законы, а продукты насилия.
Познанием справедливости определяется и место каждого человека в государстве,
отношение отдельной личности к общему благу, сфера деятельности каждого
отдельного члена общественного организма. Всякая отрасль человеческой
деятельности имеет свою специфическую добродетель, которая состоит в познании:
добродетель воина состоит в познании военного дела; и равным образом для каждого
человека, кто бы он ни был, художник ли, ремесленник или полководец, его
специфическая добродетель состоит в знании своего дела. В общественном теле
Сократ видит не собрание бессвязных атомов-личностей, а органическое сочетание
разнородных элементов, из коих каждый отправляет свою специфическую
задачу. Разделение труда между этими разнородными органами получает в учении
Сократа высокое нравственное значение.
Понятно, что требование Сократа, чтобы вся политическая деятельность
определялась познанием его учения о том, что управление массами требует прежде
всего господства над самим собой, ограничения личного эгоистического интереса,
стояло вразрез с общественною жизнью афинской демократии. В то время здесь
уже во всей силе господствовал частный эгоизм корыстолюбивых ораторов и
демагогов, между этими последними было множество лиц необразованных, мало
знающих и мало подготовленных для общественной деятельности. Народные
собрания и суды присяжных в то время уже стали игралищем разнузданных страстей,
орудием тиранического господства демоса; в правящем классе всего менее
замечалось того самообладания, господства над собой, того спокойствия, уверенного в
себе знания, которого требует философия Сократа. Вот почему философ держится
вдали от политической деятельности, вот почему его демон, этот таинственный
внутренний голос, воздерживает его от текущих дел политики.
Проникнутый верой в единое Провидение, Сократ, однако, не отрицает бытия
отдельных богов; но само собой разумеется, что для него, отождествлявшего
истинное с универсальным, божественный разум должен был представляться как
сознание универсальное, мирообъемлющее, и, действительно, у Сократа уже
ясно, отчетливо выступает сознание единого Божества, царящего над вселенной,
по отношению к которому отдельные божества суть подчиненные, низшие силы;
над человекообразными богами, коих греки называют разнообразными именами,
у Сократа выступает неведомый единый Бог без имени, которого он просто
называет ό Θεός, или даже безразлично, το Θείον — Божественное, причем этому Богу
приписывается всеведение, вездеприсутствие и забота обо всем существующем;
следовательно, он прямо понимается, как универсальное Провидение, все собою
наполняющее. В связи с этими более возвышенными сравнительно с мифологией
понятиями о Божестве, о Божественном находятся особенности богопочитания,
культа, неизмеримо возвышающие Сократа над эллинским язычеством и
делающие его пророком христианства. Молитва, основное и первое проявление культа,
должна быть проста и немногословна; человек не должен просить у богов или у Бо-
58
га ниспослания многих благ, как например, богатства, удовольствий, чести,
а только единого блага. Универсальное Провидение лучше нас самих знает, в чем
мы нуждаемся, и заботится обо всем, даже о самом малом и ничтожном.
Религиозные воззрения Сократа не суть для него что-либо случайное и
побочное. Они теснейшим образом связаны с его философскими воззрениями и, мало
того, имеют определяющее значение для последних. Разумное для Сократа то
же, что божественное, и в самом человеке разум есть божественная способность.
Поэтому и весь процесс познания, философствования был для Сократа в
сущности не что иное, как приобщение человека к универсальной божественной
мудрости.
Философский принцип, провозглашенный Сократом, пришел в столкновение,
в коллизию с современной ему общественной жизнью; эта коллизия должна была
разрешиться кровавой драмой: если философское учение Сократа заключает в
себе смертный приговор господствующим в его обществе течениям, то реакция этих
последних должна была кончиться смертью философа. В своей смертельной
борьбе с провозглашенными Сократом началами враги философа думали вместе с ним
умертвить его идею; вместо того случилось наоборот: смерть учителя была
торжеством его учения, являясь еще более яркой его апологией, чем его жизнь; учение
Сократа увековечило его имя и в истории мышления, а смерть его увековечила его
характер, сделала его величайшим типом философа для всех времен и всех
народов. Покусившись на жизнь этого лучшего из граждан и мудрейшего из людей,
как называют его ученики и последователи его, общество само наложило на себя
руки, совершило самоубийство; тем самым оно отреклось от лучшего, что в нем
было, изгнало философскую мудрость из своей среды и тем самым осудило себя на
безумие: смерть Сократа была преступлением целого народа, а потому знаменует
собою разложение, смерть целого общества.
Учение Сократа состоит в двояком противоречии с господствующими в
общественной жизни течениями: во-первых, оно требует сознательного подчинения
существующим законам, провозглашает новый критерий сознания и деятельности;
с этой стороны оно противоречит древнейшему мифологическому и
политическому миросозерцанию, которое основано на непосредственном подчинении
чувственным богам и существующим узаконениям, тогда как Сократ подвергает то
и другое критерию мыслящего сознания. Во-вторых, философия Сократа требует
искоренения эгоизма; анархическому произволу личности она противополагает
объективный божественный порядок, своеволию и беззаконию разнузданной
демократии она противополагает божественный неписаный закон, требует
господства этого закона, этой справедливости надо всей общественной жизнью. С точки
зрения древнего права критика1 религиозного предания является
государственным преступлением; с этой точдеи зрения стремление Сократа подвергнуть
диалектическому испытанию все унаследованные воззрения стоит вразрез со всеми
преданиями старины; его субъективный демон, этот внутренний голос сознания,
является новым и чуждым божеством; этот демон, воздерживающий его от
участия в политике, представляется опасным для государственных богов, которые
стремятся поглотить все существр человека, видя в политике высшее
совершенство человеческой жизни и деятельности. Главные обвинения, повлекшие за собою
осуждение Сократа, стоят, по-видимому, на почве предания, составлены с точки
зрения древнего права. Они сводятся к следующему: во-первых, Сократ отрицает
государственных богов и вводит новые божества, во-вторых, Сократ развращает
юношество.
59
Если Сократ и не отрицает прямо государственных богов, то действительно его
стремление подвергнуть критике мыслящего разума все унаследованные
воззрения при последовательном развитии должно было привести к такому отрицанию,
что мы и видим в учениях его последователей и преемников; второе обвинение —
в развращении юношества — есть последовательный результат первого, потому
что действительно провозглашенное Сократом начало разумного знания,
критерия мысли, простирающегося на все сферы жизни, заключало в себе требование
совершенного преобразования всего умственного и нравственного склада и с
точки зрения древнего права должно было представляться совращением умов с пути
истинного благочестия, некоторого рода религиозной и политической ересью.
Обвинители Сократа могут быть не правы перед судом современной совести, но они
опираются на воззрения древнего права, и с этой стороны их обвинения,
по-видимому, стоят на законной почве. Это и подало повод некоторым современным
исследователям, как например, Форхгамерр, Ницше, оправдывать афинян,
осудивших Сократа, видя в них ревнителей закона, тогда как Сократ, напротив,
представляется единственным его нарушителем.
Эти современные апологеты афинян утверждают, что афинские судьи,
действуя в согласии с господствующими узаконениями, неизбежно должны были
осудить Сократа, что, следовательно, приговор их стоит на законной почве, а потому
не может быть поставлен им в вину, как бы он не противоречил современному
сознанию.
Начало более правильному взгляду на дело, который и теперь можно назвать
господствующим в литературе, положил Гегель; он справедливо указал, что в
эпоху Сократа разложение древнего миросозерцания было всеобщим, что сами
противники Сократа всего менее были благочестивыми ревнителями старины, что
старинное благочестие было только маской лицемерия, за которой скрывались
анархические течения, разнузданные страсти толпы, ослепленной лестью,
зараженной софистическими учениями. Сократ на самом деле был осужден не за
ниспровержение древних верований, а за то, что анархическим стремлениям массы,
своеволию и эгоизму современного ему общества он противополагал
божественную справедливость, требовал подчинения законному порядку, что,
следовательно, реальная причина его осуждения была как раз противоположна
выставленным против него обвинениям. Таким образом, оказывается, что Сократ стоит на
почве закона, а мнимые консерваторы, его осудившие, являются на самом деле
нарушителями, преступниками закона, что среди всеобщего пожара он один
спасает обломки старины, отстаивает законный порядок, пытаясь дать ему
верховную санкцию разума.
Осудив Сократа на смерть, отвергнув единственное учение, которое пыталось
спасти порядок и закон, афиняне сами над собой произнесли смертный приговор.
Демократия навсегда порвала с принципом разумной законности и обратилась
в тиранический произвол разнузданной черни.
В заключение нужно подвести итог учению и деятельности Сократа, нужно
ответить на вопрос, что же положительного дала философия Сократа человечеству.
На вопрос этот я отчасти уже ответил.
Именно Сократ оказал бесценную услугу науке и философии своим анализом
познавательной человеческой способности. Он впервые сознал и доказал
неопровержимо, что все содержание нашего знания выражается в общих
представлениях — понятиях; он первый ясно формулировал требование универсальности,
всеобщности истинного знания; он же впервые указал на индуктивно-диалектиче-
60
ский метод как путь к истинному знанию; показал, что для правильной индукции
необходим всесторонний анализ единичных, частных представлений, что только
те обобщения, которые выдерживают такую поверку, заслуживают названия
знания в противоположность мнению. Сократ впервые внес в греческую философию
научный метод и научный критерий, после него произвольное бездоказательное
и случайное философствование, какое мы видим в досократовских системах,
стало невозможным.
Все философские системы после него сознательно пользуются диалектическим
методом, и если и в них мы встречаем положения произвольные и недоказанные,
то они, по крайней мере, стараются придать себе вид диалектически добытых
истин; стало быть, метод этот признается в принципе, и ошибка коренится только
в неумелом применении принципа.
Идеал истинно универсального знания представляется Сократу
осуществленным только в сознании божественном, в противоположность человеческому, а
потому и самый процесс познания представляется ему процессом приобщения
человека не только к божественной мудрости, но и божественной жизни; вот почему
Сократ называет разум божественною способностью, и вот почему он
отождествляет знание с добродетелью.
Указывая на положительные элементы сократической философии, укажу
вместе с тем и на ее грехи и недостатки, грехи, коих, впрочем, нельзя вменять
Сократу в исключительную вину, так как они суть большей частью грехи не его личные,
а родовые, общегреческие. Усматривая в глубине человеческого сознания
внутреннее откровение высшего божественного начала, Сократ, однако, плохо
различает человеческое от божественного, сливая, смешивая то и другое; у него не
видно, где кончается человеческое и где начинается божественное, так как одно
переходит в другое незаметным, нечувствительным образом; он смешивает
понятие разума с внутренним откровением Божества. В философии ученика и
последователя Сократа — Платона это заблуждение Сократа, как мы увидим
впоследствии, раскрывается во всей его полноте. Дело в том, что Сократ еще не вполне
освободился от языческого антропоморфизма греческого народного
миросозерцания. Если мифология обожествляла человека со всеми его чувственными
свойствами, то философия в лице Сократа, откинув чувственный элемент, обожествляет
разумную мыслительную способность человека.
Глава V
Последователи Сократа
Смерть Сократа знаменует собою разрыв философии и общественной жизни.
Если общество исключает философию из своей среды, то философии не остается
ничего другого, кроме отрицательного отношения к общественному строю;
отсюда отрешение философа от общественной жизни, философское уединение. Сократ
еще философствует на площадях, беседует в публичных местах.
Преемники Сократа, напротив, ищут спокойствия в тишине и уединении; они
удаляются от общественной жизни, кто в свою бочку, как Диоген, кто в стены
академии, как Платон. Отсюда вытекают два возможных направления: 1) конечною
целью мысли и деятельности полагается личное благо отдельного субъекта, отре-
61
шенного от общежития; эгоистическое удовлетворение замкнутой в себе
личности, ее личная добродетель или довольство; 2) или, напротив, философ не
довольствуется этими мелочными эгоистическими интересами и ищет спасения от
гнетущей его внешней действительности в чистом созерцании, в мире идеальном;
отвращаясь от прозрачных интересов земной действительности, философ живет
в созерцании идеи. В земном мире — все призрак и ложь, истинна только идея,
завещанная Сократом.
И вот, осуждая действительность во имя идеи, философ убеждается, что
только одна идея обладает истинной действительностью: она одна наполняет жизнь
нашу истинным и вечным содержанием, дает нам блаженство.
Как первое, так и второе направление находят себе представителей в истории
философии. Киники провозглашают идеал философской добродетели, которая не
нуждается во внешних благах, идеал одинокой личности, отрешенной от
общежития; другой ученик Сократа, основатель Киренской школы, проповедует
эгоистическое наслаждение, противополагает общежитию эгоистическое довольство
личности.
Эгоистическому идеалу этих философов противополагается учение Платона,
который обожествляет идею и строит идеальное общежитие, государство, которое
отражает и осуществляет в себе божественную мудрость этого высшего,
идеального мира.
Киническая школа
Отчаявшись в современном им обществе, философы-киники удаляются от
общественной деятельности и ищут спасения в философском уединении; с их точки
зрения для счастья философа достаточно одной добродетели: она не нуждается во
внешних благах, не нуждается в обществе и в сокровищах испорченной культуры:
в своем отрешении от всех внешних благ и нужды философ уподобляется
блаженным богам, которые ни в чем не нуждаются. Только добродетель есть благо и
только порок есть зло; все остальное безразлично. Истинным может быть для
человека только такое благо, которое нераздельно связано с его существом и не может
быть от него отнято; его собственное (οίκετον) благо внутреннее, умственное, а не
внешнее; все остальное безразлично: богатство, бедность, свобода или рабство,
здоровье или болезнь не суть ни добро ни зло; чувственное наслаждение ничего не
прибавляет к внутреннему благу философа, и чувственное страдание не в
состоянии лишить его мудрости. Свобода или рабство для него безразличны, потому что
он во всяком общественном'положении чувствует себя одинаково независимым
и свободным. Добродетель, как и в учении Сократа, сводится к знанию, к
мудрости; это знание, эта мудрость также нераздельна с жизнью, с практической
деятельностью. Для киника, как и для Сократа, — быть мудрым и добродетельным
одно и то же; эта мудрость, эта добродетель — чисто отрицательного характера;
она всецело заключается в признании ничтожества внешних благ, в удалении
философа от соблазнов общежития.
Отрешение от общежития доходит в учении киников до полного отрицания
всего исторически сложившегося, всех существующих обычаев; совершенное
отрицание всяких приличий доставляет им величайшее наслаждение; в этом
собственно и состоит цинизм школы, то есть в этом заключается причина того, почему
слово «цинизм» стало нарицательным названием6.
62
Это презрение к внешности доходит до отправления всех нужд на улице:
киники не останавливаются даже перед публичным совокуплением с женщиной.
Антисфен хвастался, что он не имеет соперников, потому что он избирает тех
женщин, которые ни в ком другом не в состоянии возбудить желания; а Диоген
всенародно оскопил себя, жалея, что он не может так же легко отделаться от
голода; не имея ни жилища, ни имущества, философ-киник ведет бродячую жизнь;
ест что попало, ночует на улице или где придется и только некоторая
непоследовательность мешает ему обходиться совсем без платья.
Отрицательное отношение к государству и обществу связано с отрицанием
всего культурного развития; культура только увеличивает потребности, а вместе
с возрастанием потребностей растет, конечно, и зависимость от внешнего мира.
Отсюда вытекает проповедь некультурного естественного состояния, состояния
всеобщей свободы и равенства. В этом примитивном состоянии нет ни богатых,
ни бедных; все равны, ибо все одинаково нищи; в этом состоянии нет различия
сословий, нет законов, нет, наконец, и самого общежития, потому что никто не
нуждается в других, никто не связан с другими; общежитие представляет внешнюю,
искусственную связь людей между собою, которая не существует в естественном
состоянии. Отсюда вытекает и полемика против социального рабства; отрицание
всех сословных различий, признание всеобщей свободы и равенства неизбежно
должно было привести их к отрицанию правомерности рабства, к признанию его
противоестественности. Не только отрицание сословных различий, но
упразднение семьи, брака, собственности, полнейшее разрушение общежития — таковы
последовательные результаты кинического учения.
Киренская школа
Учение киников представляет собою проповедь эгоистического личного блага;
но оно односторонне понимает личное благо, полагая его исключительно в
самодовольной нищенской добродетели, в отрицании всех внешних чувственных благ.
Этой односторонней философии противополагается другое учение, столь же
одностороннее, которое также полагает конечную цель жизни и деятельности в
удовлетворении личного эгоизма, но видит это удовлетворение в чувственном
наслаждении. Аристипп, основатель Киренской школы, признает, как и киники,
исходной точкой своего учения положение Сократа о том, что высшее счастье
дается знанием, но все знание в его глазах не имеет никакого другого содержания,
кроме приятных или неприятных ощущений; вся цель его в увеличении
количества наслаждений; все знание сводится к чувственным впечатлениям; последние
суть единственное благо, а потрму являются единственным руководящим
началом деятельности, единственным мерилом прекрасного и доброго. Таким путем
сократическое начало знания как мерило истины вырождается под руками Арис-
типпа в софистическое положение о том, что чувственное наслаждение, минутное
ощущение есть мера всего. С этой точки зрения, собственно говоря, нельзя и
говорить о нравственном и безнравственном, а может быть речь только о приятном или
неприятном. Вот почему Аристипп заодно с софистами учил, что «нет ничего
справедливого, прекрасного или постыдного по природе», что то, другое и третье
основано на положительном законе и обычае. Крайние последователи Киренской
школы, развивая это положение, откровенно высказывали, что мудрый не сочтет
для себя постыдным воровать и убивать, если только представится к тому выгода
63
и удобный случай. Если исходной точкой этой философии является сократическое
начало знания, то в конечном своем результате оно мало чем отличается от
софистики, являясь совершенным вырождением Сократова учения.
Оба изложения учения при всем различии между собой сходятся в том, что
целью жизни и деятельности они полагают эгоистическое благо личности, в себе
замкнутой. То и другое учение видит в общежитии искусственную связь людей,
основанную не на самой природе вещей, а на положительном законе и обычае;
то и другое учение одинаково отрицает общее благо, а потому одинаково
разрушительно для общежития. Отсюда вытекает общий обоим учениям космополитизм.
Для Диогена и его единомышленников все существующие государства
безразличны, для этих безродных и нищих бродяг не существует никаких семейных
и общественных связей, для них весь мир есть родина; Диоген на вопрос, откуда
он родом, лаконически отвечает: κοσυολίτης7, а Феодор, последователь киренско-
го учения, также называл себя мировым гражданином. С точки зрения
эгоистического наслаждения, ubi bene, ibi patria8, и пожертвование собой для блага родины
представляется верхом безумия. Оба названные учения исходят из
одностороннего толкования Сократова учения. Для Сократа мерилом истины и добра является
знание; но между тем как у Сократа содержанием знания является божественный
порядок и основным нравственным требованием является подчинение всего
общества вечному неписаному закону, односторонние его последователи совершенно
утрачивают представление божественного порядка, ограничивают познание
практическими, эгоистическими целями и отрицают общежитие, видя в нем
случайное и произвольное соединение. Обе названные школы не вмещают в себе всей
глубины, всего богатства содержания Сократова учения, почему и киренцы,
и киники получили в немецкой литературе название «несовершенных
последователей Сократа». Этим несовершенным учениям киренцев и киников
противополагается другое учение, которое во всей полноте сохраняет и развивает завещанные
Сократом начала, — я говорю об учении Платона.
Глава VI
Платон
Платон соединяет в себе все элементы эллинского мышления. Это один из
самых всесторонних гениев, которые когда-либо появлялись в истории философии.
Он опирается на результаты, всего предшествовавшего мышления, связуя эти
результаты в одно живое органическое целое. Древнейшая досократовская физика
пришла к признанию бездушной, мертвой материи, с одной стороны, а с другой —
чистой божественной мысли, безусловно не материальной, безусловно отличной
от всего вещественного. В учении Сократа эта духовная божественная мудрость
делается верховным руководящим началом всей жизни и деятельности. У
Платона мы находим продукты разложения древнего мифологического сознания,
чистое мышление, с одной стороны, и чистое вещество — с другой. Но
господствующим в его философии остается завещанное Сократом начало.
Сократ играет господствующую роль не только в учении Платона, но и
образовании его характера; для Платона он олицетворяет собой его философский идеал,
64
сосредоточивает в себе весь смысл жизни, все его высшие интересы.
Господствующей чертой в характере Платона является стремление к всестороннему
созерцанию — это созерцание не только научное, но и эстетическое; оно соединяет в себе
философское мышление с поэтическим творчеством. В эпоху, предшествующую
сближению с Сократом, художественный талант Платона проявляется в
произведениях поэтического искусства; но уже и в эту эпоху, наряду с поэтическим
искусством, Платон испытывает сильное влечение к философии. Он знакомится с Кра-
тилом, учеником Гераклита, который посвящает его в учение этого философа.
Представитель богатой аристократической фамилии, Платон пользовался всеми
средствами современного ему образования. Есть основание предполагать, что он
еще до сближения с Сократом успел ознакомиться с учениями древних физиков.
Наряду с богатством познаний он из своих многочисленных путешествий вынес
величайшее разнообразие и богатство реальных впечатлений.
Наконец, двадцатилетний юноша Платон знакомится с Сократом, и с этой
минуты для него уясняется его собственное философское призвание; он покидает
поэтическую деятельность и предается всецело философскому мышлению. С этой
минуты Сократ и его учение становится центральным интересом его жизни.
Сократ, сказали мы, олицетворяет собой философский идеал Платона — всю его
теоретическую и практическую мудрость, а потому посмотрим, чем должен
представляться Сократ с точки зрения Платона. Этим способом мы всего лучше
уясним себе процесс духовного роста нашего философа; ибо различные фазисы
учения и жизни Сократа суть вместе с тем фазисы психологического и
умственного развития самого Платона.
Сократ есть, во-первых, воплощенное искание истины, сознание, вечно
вопрошающее, ищущее; Сократ не завещал потомству каких-либо готовых догматов,
но он поднял целую бездну философских вопросов; диалоги Сократа часто не
приводят ни к какому положительному результату, оканчиваясь философским
вопросом. В этих беседах не только сообщается и передается знание, но еще в гораздо
большей степени заставляют собеседников искать мудрость, побуждают их к
самостоятельной работе мышления; для Платона, таким образом, Сократ
воплощает собою его философскую и вместе с тем его жизненную задачу — это, так
сказать, олицетворенный философский вопрос. Искание истины у Сократа исходит
из смиренного сознания своего невежества; никто лучше его не понимает всей
бедности человеческого сознания, никто не был так далек от самомнения, как он,
и никто больше его не способствовал разоблачению мнимой мудрости. От этой
бедности человеческого знания Сократово учение восходит к богатству знания,
возвышается до глубины божественной мудрости. С одной стороны, смиренный в
сознании своего человеческого ничтожества, Сократ, с другой стороны — мудрец,
обладающий истиной, спокойный и величавый в сознании своей силы и мудрости.
Это же сочетание богатства и бедности мы находим в философии Платона.
С одной стороны, мир обманчивых, чувственных представлений, а с другой
стороны, истинное бытие — мир идеальный, мир вечной красоты и мудрости.
Человек стоит между этими двумя мирами, совмещая в себе тот и другой; с
одной стороны, он обладает умом -г способностью созерцать сверхчувственную
красоту идеи; с другой стороны, душа его томится, как в темнице, в земном теле, в
мире ложном и призрачном.
Влечение к сверхчувственнрму миру, это страстное томление души, есть
любовь к красоте, эрос; отсюда рождается философия; ибо философия есть не что
иное, как влечение души к сверхчувственному миру, любовь к красоте, небесный
ЗЗак. 3911 @5
эрос; эрос, по учению Платона, есть сын богатства и бедности; томление души по
сверхчувственному миру вызвано, с одной стороны, ее бедностью, скудностью
нашей земной, призрачной жизни, а с другой — богатством мира идеального,
сверхчувственного, которого жаждет, ищет душа.
Мышление Сократа есть не что иное, как индуктивное восхождение от частных
единичных представлений к общим представлениям, понятиям, от чувственного
конкретного представления к сверхчувственному — к чистой мысли — идее;
например, идея блага, добра, справедливости не совпадает ни с одним из частных
чувственных благ, она не есть ни богатство, ни власть, ни честь, а родовое
представление всех возможных благ, общее всем частным случаям; или, говоря
языком Платона, их идея не есть нечто чувственное, осязаемое; она не совпадает ни
с одним из конкретных предметов данного класса.
Таким образом, мышление Сократа было восхождение к идее, к миру
сверхчувственному, мыслимому. Но для Сократа жить значило то же, что мыслить.
Созерцать добро и истину значило то же, что осуществлять добро. Поэтому восхождение
к идее для Сократа было не только делом ума, отвлеченного мышления, а делом
всей его жизни.
Сократ жил в мире идеальном; восхождение к миру сверхчувственному,
идеальному было вместе с тем постепенным отрешением от мира земного,
чувственного, телесного, и, наконец, философская деятельность Сократа кончилась
полным разрывом с земной действительностью, насильственной смертью.
Доколе Сократ живет на земле, философствует на улицах, площадях, земная
жизнь является средоточием всех интересов его ученика Платона. Мудрость
обитает на земле, она видима. Сократ приковывает Платона к земле, сосредоточивает
в себе все его земные привязанности. Но вот учитель стоит на пороге вечности.
В своей предсмертной апологии перед судом афинских присяжных Сократ
произносит загадочные слова, что он не знает, что он предпочел бы; что лучше —
непробудный сон смерти, полное уничтожение или земная жизнь, хотя бы даже самый
счастливый жребий? Если до сих пор земная жизнь была средоточием всех
интересов Сократа и вся деятельность его протекала в повседневном людском
общении, то теперь мы видим мудреца, задумчиво вглядывающимся в мир идеальный,
загробный, сверхчувственный мир вечности. Здесь еще мы не находим
определенного учения о загробном мире, а только философский вопрос о будущем загробном
мире: что предстоит нам за гробом — непробудный сон смерти, полное
уничтожение или бессмертная, лучшая жизнь?
В темнице Платон изображает Сократа уже в новой фазе развития; он уже
прямо проповедует бессмертие, блаженство загробной жизни, представляет смерть
как исцеление от земных страданий; и последние предсмертные слова Сократа,
обращенные к ученикам, выражали просьбу принести жертву Эскулапу за его
исцеление.
Наконец, смерть Сократа приподнимает для учеников его завесу загробного
мира: ненависть афинян умертвила тело Сократа, разрушила это земное
жилище мудрости, но не уничтожила самой этой мудрости: идея Сократа, его
учение — бессмертно, а вместе с ним бессмертен его учитель, коего вся жизнь
неразрывными узами была связана с его учением. Сократ не умер, а только покинул
земную темницу души, переселился з загробный мир вечности, где он живет
блаженною жизнью богов; оц вознесся с земли на небо, и в этом смысле его
кончина была апофеозом. Смерть Сократа была радикальным переворотом в жизни
Платона.
66
До сих пор его мышление сосредоточивалось вокруг земной действительности.
Теперь мысль его, следуя за Сократом, отрешается от земных уз, переносится
в мир загробный, в мир вечной красоты и мудрости. Смертью Сократа открылось
его наследство. Платон пустил в оборот это наследство — построил на нем здание
собственного учения.
Учение об идее
Истина заключается не в чувственном, телесном бытии, где все течет, все
движется и ничто не пребывает. Этот отрицательный результат учения Гераклита
вошел целиком в систему Платона. Отсюда Платон заключает вместе с Сократом,
что истина содержится в самой мысли, отрешенной от всего чувственного,
телесного; в самом разумном познании, чистая мысль-идея обусловливает собою не
только познание всего существующего, она есть сущность всего существующего
и вместе с тем производящая причина всего мира реального. Путем
диалектического процесса Платон восходит от конкретных, единичных, чувственных вещей
к общим представлениям целого класса вещей — понятиям; эти общие
представления в платоновской философии получают название идеи.
Этот стол, этот человек — единичные представления; но общее представление
стола, представление человека вообще — идеи. Итак, идеи суть общие, родовые
представления.
Познание в учении Сократа представлялось как приобщение к божественной
мудрости. Сократ обожествлял свой внутренний мир, поклонялся субъективному
демону, живущему в глубине его сознания. В учении Платона субъективный,
внутренний мир сознания обращается в реальную действительность. Идея не есть
только наше субъективное понятие о действительности; идея есть сама высшая
действительность, реальное существо, сущность всего существующего. Одни
идеи — истинное бытие; мир конкретных, единичных вещей, которые мы
ежедневно видим и наблюдаем, — ложный, призрачный мир; он беспрерывно
возникает и уничтожается, не будучи в состоянии образовать собою истинного
непреходящего бытия. Идеи — это единственное непреходящее, неизменное истинное
бытие в потоке явлений. Отдельные особи беспрерывно рождаются и умирают,
но общие родовые представления вещей не изменяются при всем разнообразии
отдельных особей данного класса, например, собак или львов; в них сохраняется
один неизменный общий тип, представление собаки вообще, льва вообще. В
противоположность миру обманчивых явлений Платон обозначает идею как истинно
сущее ôvTOç όν. Отдельные, единичные вещи сами в себе не имеют ничего
существенного, истинного; они истинно существуют лишь по приобщению к идее, лишь
поскольку они отражают, воспроизводят и содержат ее в себе.
Чтобы понять, каким образом Платон пришел к своему учению об идее, нужно
помнить ход мышления Сократа. Вспомним, что для Сократа общие понятия не
суть только формы человеческого познания, что для него понятия суть истинное,
существенное в самих вещах; Платон сделал один лишь шаг вперед, сказав, что
общие представления вещей, или, как он их называет, их идеи, одни существуют
истинно, что они суть реальные сущестэа, первоначальная реальность всего
существующего, что все единичные} вещи существуют не иначе, как через них, по
приобщению к ним. Главное доказательство бытия идей сводится к тому, что без них
невозможно никакое познание, а следовательно, думает Платон, и никакое бытие.
67
В самом деле, если индивидуальные вещи беспрерывно меняются, ни минуты не
оставаясь тожественны с самими собою, а общие их свойства или идеи, несмотря
на это, вечно пребывают, — это значит, что идея обладает реальностью
независимо от отдельных вещей: идея льва, например, существует независимо от того,
какие в данную минуту существуют особи породы льва и существуют ли они вообще.
Идея стола, например, остается даже в том случае, если бы все индивидуальные,
единичные столы уничтожились. Идеи, следовательно, суть нечто безусловно
отличное от индивидуальных вещей, самостоятельные сущности, существующие
в себе и по себе, вне мира явлений и независимо от него. Допустим, что идеи суть
лишь наши фантасмагории, что не существуют сами по себе истинно реально;
тогда все наше познание обратится в ложь: ибо все наше познание выражается в
форме общих представлений — идей; тогда мы должны отказаться от веры в истину
и от возможности ее познания.
Идеи не только общие понятия, отвлечения ума; они реальные и живые
существа, мыслящие и деятельные. Идея человека не есть только общее
представление, содержащееся во всех особях данного класса, а живое существо, которое
существует самостоятельно, отдельно от всех человеческих особей. Идеи обладают
творческой силой и постольку суть производящие причины всего существующего;
весь видимый мир создан по их образу и подобию, носит на себе их отпечаток,
представляя собой результат их деятельности; то есть идеи определяют собою
мировое устройство как прототипы, первообразы всего мира видимого и невидимого.
Они выражают собою однообразный, божественный порядок миросоздания,
вечный закон, которому подчиняется все конечное, единичное, временное.
Из предшествовавшего изложения видно, что идеи суть общие типы вещей:
в мире идеальном мы не находим конкретных и индивидуальных предметов,
а только общие родовые и видовые представления; отсюда основное определение
идей; они суть роды и виды всего существующего (γένη και είδη). «Мы допускаем
идею, — говорит Платон, — везде, где только мы обозначаем множество
единичных вещей одним названием». Единая сама по себе идея проявляется во
множестве индивидуальных экземпляров: так например, — идея лошади едина, но она
проявляется в бесчисленном множестве единичных экземпляров лошади. Таким
образом, каждая идея объединяет собою бесчисленное множество конкретных
предметов. Иначе говоря, идеи суть единое во многом — το εν επι πολλών, как
характеризует их ученик Платона Аристотель. Объединяя мир явлений, идеи
находятся и между собою в строгом единстве.
Платон говорит не только об отдельных идеях: в его философии мы находим
единый мир идей: κόσμος νοητός, причем этот мир образует собою логическое
и органическое единство. Вглядываясь в отдельные идеи, мы видим, что они
частью исключают и отрицают друг друга, например, идея негра исключает идею
эллина, треугольник исключает квадрат и т. п. Но затем эти исключающие друг
друга противоположные идеи в свою очередь объединяются и согласуются в
общих им высших родовых идеях, которым они соподчиняются. Видовые идеи
негра, перса, эллина подчинены идее человека, высшей по отношению к ним
родовой идее; треугольник, квадрат, круг соподчинены в общей им идее
геометрической фигуры.
Затем, эти родовые идеи подчинены в свою очередь другим, еще высшим и
более общим родовым идеям. Например, идея человека подчинена идее живого
существа вообще; эта в свою очередь подчинена идее существа; вообще все
существующее при всех видовых и родовых отличиях отдельных существ — подчинено
68
идее бытия, причем этой идее так или иначе причастны и все другие идеи. Всякая
идея причастна идее бытия, поскольку она есть, и идее небытия, поскольку она
исключает из себя другие идеи, поскольку она не есть все существующее.
Например, идея белизны причастна идее бытия, как и всякая идея; но вместе с тем,
поскольку она исключает из себя противоположные определения, например,
черного или красного цвета, постольку она причастна небытию. Идеи, таким образом,
образуют собой лестницу ступеней, причем низшие ступени подчинены стоящим
над ними высшим ступеням; внизу этой лестницы стоят видовые отличия,
видовые идеи; за ними в восходящем порядке следуют родовые идеи, объединяющие
между собою отдельные виды и т. д., причем чем выше та или другая идея в этой
лестнице, тем, разумеется, она общее, шире объемом, тем большее разнообразие
низших ступеней она в себе охватывает и объединяет.
В мире идей мы находим не только общие типы видимых вещей, понятия
предметов, чувственно воспринимаемых; мы находим в нем всю бесконечную полноту
духовных качеств; всякое наше духовное свойство, всякая добродетель имеет
свою идею; в мыслимом мире Платона мы находим такие идеи, как δικαιοσύνη —
справедливость, σοφρωσύνη — скромность, умеренность, άνδρεΐα — мужество; все
эти духовные свойства в Платоновой философии представляются такими же
живыми, деятельными, мыслящими существами, как и все прочие идеи. Таким
образом, идеи суть не только реальные, производящие причины всего
существующего; они представляют собою нравственный мировой порядок. На границах
мира мыслимого покоится идея блага, которая охватывает собой весь идеальный
мир, сообщая ему единство и гармонию; она есть первая причина всего
прекрасного и доброго в мире, первоначальный источник света и разума; для мыслящего
сознания она обусловливает собой познание вещей; без нее все было бы погружено
в мрак; все было бы безвидно и бесцветно, и ничто не было бы познаваемо;
наконец, говорит Платон, «всякий желающий мудро вести себя в частной или
общественной жизни, должен постоянно иметь в виду эту идею».
Идея блага, таким образом, господствует не только над миром мыслимым,
но и над всей нравственной жизнью; она представляет собой не только содержание
мыслящего разума, но и высшую норму практической деятельности; она
объединяет в себе весь природный и нравственный мировой порядок, всю полноту
идеального кооцос'а.
Основные начала физики. Учение о материи
Идеи в противоположность временным, конечным вещам представляют собою
вечную действительность. Если одна идея существует истинно, то откуда же
взялся этот призрачный мир индивидуальных предметов? Если идеи суть только
общие представления, откуда же единичные вещи? Мы видели, что в мире видимом
идея не проявляется во всей своей первообразной чистоте и красоте, что в нашей
земной действительности идея затемняется обманчивым чувственным покровом.
В мире идей все пребывает в вечном покое; здесь в мире явлений царствует
беспрерывное, беспокойное движение и перемена. Там — единая идея, здесь, в мире
явлений, — множество обманчивых ее отражений; там, положим, например, единая
идея льва или кошки; здесь множество единичных львов и кошек, во многом не
схожих друг с другом. Откуда же эти индивидуальные различия? Идея сама в
себе не содержит ничего чувственного, материального; напротив, в нашей земной
69
действительности идея проявляется в материи и осуществляется в ней. Материя
и есть тот чувственный покров, который затемняет собой идею.
Итак, что такое материя? Если только идея есть бытие в собственном смысле,
истинное бытие, то материя есть бытие мнимое, небытие, το μη όν. Сама по себе
материя не имеет ни формы, ни протяжения, ни фигуры, не обладает никакими
качественными и количественными определениями. Это просто — пустое, ничем
не наполненное пространство, абсолютная пустота, которая ничего в себе не
содержит. Платон определяет материю чисто отрицательно, как лишение
(στέρησις) всех свойств бытия; вместе с тем эта пустота есть то место, в котором
пребывает весь мир видимых явлений, в котором совершается процесс
беспрерывного возникновения и уничтожения вещей. Не имея в себе никаких
качественных свойств, бесформенная и бесцветная материя есть вместе с тем
беспредельная возможность всяких качеств — она обладает способностью отражать все
свойства мира идеального.
Материя представляет собою тот базис, в котором здесь, на земле,
осуществляется идея. Путем осуществления идеи в материи возникают все единичные,
конкретные предметы чувственного опыта; возникнув из материи, они неизбежно
в нее возвращаются. Платон называет материю кормилицей (πθήνη) видимых
явлений, так как все видимое ею питается и ею насыщено. При всей своей
способности отражать и воспринимать в себе свойства идеального мира материя отражает
их лишь в слабых и несовершенных отпечатках, не вмещая в себе всей их
полноты и совершенства.
Мировая душа
Между миром вечных прототипов, идей, и его несовершенным отражением
лежит глубокая, непроходимая пропасть. С одной стороны, идея представляется
безусловным отрицанием всего чувственного, с другой — материя представляется
как совершенное отрицание всего духовного. Спрашивается, чем же наполняется
эта пропасть в мироздании? Каким образом идея приходит в соприкосновение
с материей. Посредницею между идеей и материей является мировая душа.
Эта мировая душа есть начало движения αρχή xfjç κινήσεως. Платон называет
ее самодвижущим началом, приписывает ей способность самобытного движения.
В противоположность пассивному и косному веществу душа самопроизвольно
начинает ряд движений; она не нуждается во внешнем толчке, для того чтобы
выйти из состояния покоя и равновесия; имея в самой себе начало движения, душа
является началом, производящей причиной всего мирового движения, всего
мирового процесса. Этим путем связуется мир духовный и телесный; с одной
стороны, душа не материальна: она обитает в мире вечных прототипов, созерцает всю
бесконечную полноту бытия идеи; с другой стороны, она обладает способностью
воплощаться в материальном бытии и проникает собою весь мир телесный,
осуществляя в материи красоту мыслимого космоса; в мире видимом она является
началом закономерности и гармонии всех природных явлений, она вносит меру и
порядок в устройство мироздания, сообщает всем вещам их качественные
и количественные определения; как для единичных существ, так и для всего
мироздания она является источникрм всякого познания и разума; истина, полнота
духовного бытия становится для нас познаваемою лишь через приобщение к
мировой душе, которая сама обладает полнотой познания и сообщает в большей или
70
меньшей степени всем мыслящим существам, являясь неизбежной посредницей
в процессе познания.
Таким образом, противоположность идеи и материи, духовного и телесного
примиряется в конкретном воплощении мировой души в мировом теле.
Душа в мыслящем сознании совмещает в себе полноту мира духовного; и в
процессе мирового движения осуществляет идею в материи, устрояет мир телесный
по образцу и подобию духовного.
Учение о человеческой душе
Человеческая душа есть уменьшенный образ мировой души. Если мировая
душа в своем созерцании обнимает все бесконечное совершенство мира мыслимого,
то человеческая душа также участвует в созерцании идеи, приобщается к ней,
но не вмещает в себе ее полноты.
Мировая душа воплощается в мировом теле; напротив, местопребывание
человеческой души есть ограниченное, земное тело. По существу однородная мировой
душе человеческая душа отличается от нее не родом, а степенью; она есть прежде
всего конечное ограниченное существо в противоположность мировой душе,
которая объединяет в себе все существующее. Подобно мировой душе человеческая
душа стоит между двумя мирами: с одной стороны, она обитает в мире вечных
прототипов, созерцает идею, живет в ней; с другой — она томится в земной темнице,
живет телесной, плотской жизнью.
Жизнь души неразрывно связана с созерцанием идеи. В этом акте созерцания
душа божественна, а потому бессмертна. Душа неразрывно связана с самим
существом жизни, с самой идеей жизни; не может быть от нее отделена, а потому
также вечна в своем бытии, как и эта идея. Платон признает вечность мыслящей
природы; для него мышление есть вечная божественная жизнь, и душа, как существо
мыслящее, созерцающее, не может быть отделено от жизни, существует вечно;
она не возникает и не уничтожается во времени; нашей настоящей земной жизни
предшествовала другая, блаженная жизнь; наша земная жизнь есть последствие
падения души. Утратив покой вечности, душа наша впала в сон, в забытье.
Только путем медленного и тяжелого подъема душа вновь восходит к идее,
освобождается от земных уз; этот трудный, утомительный путь восхождения души к идее
есть не что иное, как философская диалектика; путем диалектики душа
отвлекается от частных, случайных, обманчивых представлений и восходит к созерцанию
идеи.
Так как нашей земной жизни предшествовало состояние блаженства и покоя,
состояние ничем не затемненного созерцания идеи, то все наше познание — весь
этот диалектический процесс восхождения к идее есть не что иное, как
воспоминание души об ее предшествовавшей жизни; восхождение души к идее только вос-
становляет то состояние блаженного созерцания и покоя, в котором душа
находилась до своего земного рождения. Посредствующим положением души между
двумя мирами определяется самое существо души, ее главнейшие жизненные
функции и способности. Душа есть, во-первых, существо мыслящее,
созерцающее. Основная способность души есть ум (vooç), мышление (το λογιστικόν); одна
эта способность есть бессмертная, божественная часть души; когда душа
погружается в земное тело, к этой божественной бессмертной части души присоединяются
две другие смертные, преходящие части; эти способности души суть, во-первых,
71
сердце (θυμός), а во-вторых, похоть (επιθυμία, το επιθυμητικόν). Эти три основные
способности души имеют каждая свое особое определенное местопребывание в
теле. Ум помещается в голове, сердце в груди и, наконец, похоть в желудке. Ум есть
правящая, руководящая способность; ему, как божественной, бессмертной части
души, по праву принадлежит управление, господство над всем организмом.
Внутри человека происходит борьба. Бессмертный разум влечет человека к загробному
миру, к идее; напротив, похоть — επιθυμία приковывает человека к телу, влечет
его к грубым чувственным наслаждениям; επιθυμία всецело определяется как
влечение души к материальному миру. Эти противоположные влечения
человеческой души беспрерывно борются между собою. Ум господствует над похотью
посредством сердца; сущность сердца заключается именно в господстве над
похотью, в самообладании. Такое отношение трех частей души может быть
пояснено следующим примером. Положим, например, что нам угрожает сильная
опасность на войне; первое движение нашей чувственной природы есть ужас, страх за
свою безопасность. Кто повинуется плотской страсти, этой низшей способности
души, тот обратится в бегство. Но ум борется против этого грубого чувственного
влечения. Ум знает, что загробная жизнь гораздо лучше настоящей, что не смерть
страшна, а страшен позор, которым клеймится трусость и малодушие; каким же
образом, спрашивается, ум противостоит чувственной природе? Посредством
сердца. Задача сердца заключается в том, чтобы быть покорным орудием ума; вся
его деятельность состоит в беспрестанной борьбе против похоти. Результатом
господства ума является порабощение похоти; вся задача этой части души
заключается в пассивном подчинении уму.
Господство ума в человеческой душе значит то же, что осуществление идеи
в человеческом естестве; задача созерцающего ума, его добродетель заключается
не только в отвлеченном созерцании идеи, но в ее конкретном осуществлении;
идея посредством ума должна овладеть самой нашей чувственной природой;
красота идеи выражается не только в умственной, но и в телесной жизни человека.
Нормальное состояние человека состоит в подчинении, в совершенном
поглощении сверхчувственной идеей. Вся нравственная задача человека, вся его
добродетель заключается в том, чтобы быть проводником безличной идеи в мире
конкретной действительности.
Этим определяется учение о нравственности — этика Платона.
Основные начала этики Платона
Истинное блаженство человека, а вместе с тем и истинная добродетель
заключается в созерцании идеи, следовательно, в отрешении от мира чувственного.
Следуя Сократу, Платон в первый период своей деятельности отождествляет
добродетель и знание. Вот почему для него так же, как и для Сократа, знать добро —
значит то же, что делать добро; как добродетель, с одной стороны, есть
теоретическое знание, так, с другой стороны, порок есть теоретическое заблуждение.
Отсюда общее с Сократом положение: «никто, зная добро, не может делать зло;
никто не может быть добровольно злым и никто не может быть блаженным против
воли».
С этой точки зрения, например, достаточно познавать умом идею мужества,
чтобы быть мужественным. Но созерцание идеи не должно оставаться одним
отвлеченным актом мышления; идея должна осуществляться в нашей земной дей-
72
ствительности. Еще Сократ требовал господства знания над всем существом
человека. Вот почему определение добродетели как только знания — оказывается
односторонним. В позднейший период своей деятельности Платон признает, что не
только знание, но и чувственное представление служит орудием к осуществлению
добродетели, что добродетель есть не только свойство бессмертной части души,
созерцающего ума, но и обеих остальных ее частей — мужества и похоти, что
каждая из этих частей имеет свою специфическую добродетель и что, наконец, идеал
добродетельной жизни заключается в гармоническом равновесии всех
способностей человеческой души.
Первая добродетель человеческой души есть мудрость — специфическое
свойство созерцающего ума, мышления. Добродетель второй части есть мужество —
ανδρεία. Наконец, добродетель последней части души, похоти, есть σωφροσύνη —
скромность.
Эта добродетель чисто отрицательного свойства: она всецело заключается в
воздержании от необузданных чувственных влечений, в подчинении разуму. Платон
описывает скромность как то состояние души, при котором обе низшие части
души, то есть θυμός и έτπδυμία, согласны в том, чтобы подчиняться высшей — уму,
мышлению.
Если, таким образом, скромность есть добродетель, отрицательная по
существу, то, напротив, четвертая основная добродетель — справедливость определяет
положительные задачи душевной деятельности. Справедливость не есть
специфическая добродетель какой-либо одной части души, не есть исключительное
свойство какой-либо одной душевной способности, а гармоническое состояние всех
душевных способностей и, следовательно, общее состояние души. Справедливость
в ее психологическом значении, то есть по отношению к внутреннему миру
человека, состоит в том, чтобы каждая душевная способность, каждая отдельная часть
души гармонировала со всеми остальными, отправляла свою специфическую
функцию, не врываясь в сферу другой. Основное требование справедливости к
душевным способностям определяется словами: τα έαυτοΟ πράττειν; это значит, что
каждая часть души должна делать свое дело, не мешая другой. Таким образом,
в Платоновой этике мы находим четыре основные добродетели: мудрость,
умеренность (или скромность), мужество и справедливость.
Учение о добродетели как свойстве душевных способностей определяет собой
все учение о человеке и человеческом общежитии. Человеческая душа есть
уменьшенный образ общежития; отношение к ближнему определяется внутренним
состоянием человека; общежитие воспроизводит в себе это внутреннее состояние,
являясь совершенным зеркалом души. Основная задача общежития точно так же,
как и задача душевной деятельности, заключается в том, чтобы быть
совершенным зеркалом, отражением и осуществлением идеи.
Учение о государстве
Учение Платона о государстве в общих чертах впервые изложено им в
известном диалоге «Политик». Этот диалог относится к раннему периоду литературной
деятельности Платона и представляв!· собой несовершенное развитие тех же
мыслей, которые впоследствии легли в основание знаменитого диалога «πολιτεία».
Этот последний принадлежит к более зрелой эпохе Платона и заключает
в себе учение о государстве в его самой совершенной форме. Этот диалог и есть
73
так называемое «Государство» Платона. Государство Платона, как и вся жизнь
человека, подчиняется единой небесной цели. Оно прежде всего должно быть
зеркалом внутреннего мира человека. Идеальное состояние человеческой души
заключается в гармоническом согласовании всех ее частей, в подчинении всей
душевной деятельности идеальному божественному порядку; это
гармоническое состояние души, по учению Платона, и есть справедливость. В общежитии,
как и в человеческой душе, основным требованием является справедливость
как гармоническое согласование всех частей общественного организма в их
общем подчинении миру идеальному; эта справедливость и здесь выражается
словами: τά εαυτού πράττειν, что значит, что каждый отдельный член общежития
должен делать свое дело, не врываясь в сферу деятельности другого, и все
вместе должны служить идее, являясь совершенным зеркалом, отражением идеи
блага.
Чтобы понять значение этого предписания, последуем за Платоном:
посмотрим, как проявляется справедливость в идеальном государстве. Платон пытается
проследить генетически возникновение и развитие государства.
Отдельная человеческая личность не в состоянии удовлетворить всем своим
житейским нуждам. Одинокая человеческая личность беззащитна против сил
природы и против внешних врагов. Отсюда общее всем людям стремление
соединиться для взаимной помощи и общей защиты в один союз, в общежитие; таким
образом, путем соединения одиноких личностей ради общего блага возникает
государство. В одиноком несовершенном состоянии отдельная личность вынуждена
удовлетворять всем своим потребностям. Каждый сам себя одевает, кормит,
защищает, каждый управляет сам собою. В общежитии, напротив, возникает
разделение труда между разнородными органами общественного тела. В идеальном
государстве задачи человеческой деятельности так распределяются между
различными общественными классами: задача управления общественным телом
всецело возлагается на один класс. Другой класс посвящает себя исключительно
борьбе против врагов внешних и внутренних, и, наконец, третий класс несет на
себе всю тяжесть материального труда, обеспечивает пропитание общества. Только
при таком делении общества возможно осуществление идеи блага в общежитии,
возможно соответствие человеческой жизни с миром божественных прототипов,
с вечным божественным порядком. В этом построении общежития мы узнаем
обычный диалектический прием Платона; от представления единичного,
одинокого человека Платон восходит к общежитию, которое есть идея общая, родовая;
в противоположность частному, единичному человеку общежитие есть общее
представление человечества Kaif совокупности, как рода; божественная идея
блага как представление универсальное, родовое проявляется не в одинокой
личности, а в человеческом общении, В родовом единстве общежития как целого. Мы уже
знаем, что идеальный мир Платона не заключает в себе конкретных, единичных
существ, а только общие родовые типы: так, например, в мире идеи мы не
находим человека как единичное существо, но находим идею человека вообще, общий
тип человека как родовую идею; вот почему одинокий человек, вне государства,
для Платона не имеет цены и значения. Только в государстве он приобщается к
божественной жизни, к идее, только в государстве жизнь человека приобретает цель
и смысл.
Основная черта идеального государства Платона заключается в совершенном
подчинении личности абстрактной родовой идее. Идеальный мир Платона
исключает из себя все индивидуальное, конкретное. Тот же божественный порядок на-
74
ходим мы и в человеческом обществе, которое отражает и воспроизводит в себе
мир идеальный; в республике Платона человек является каким-то безличным
существом, общим типом, абстрактной родовой идеей. В этом государстве человек
управомочен не как индивид, не как отдельная личность, а как представитель
какого-либо родового, отвлеченного понятия, как член известного общественного
класса. Цель государства не личность, не счастье отдельного субъекта, а
подчинение всех индивидуальных стремлений безличной родовой идее. Отсюда общая
безличность общества.
Общее представление гражданина поглощает человека. Отсюда поглощение
частного интереса общественным; человек сознает себя не как частное лицо, а как
общее родовое понятие, как отвлеченную категорию, как воин, ремесленник или
правитель-философ, то есть как представитель известной общественной группы,
класса; все, что не подходит под какой-нибудь общий тип, исключается из
общества как негодное, как противное идее: чтобы удовлетворить общественным
требованиям, человек должен отречься от самого себя, он должен принести в жертву
все свои частные интересы и наклонности, должен отказаться от двух
существенных элементов частной свободы — семьи и частной собственности. Воин есть
прежде всего воин, ремесленник — прежде всего ремесленник, философ —
прежде всего правитель; частное лицо, семьянин, человек отходит на второй план;
служба обществу поглощает всего человека, не оставляя места для частных
индивидуальных интересов.
В основе общежития у Платона лежит та же сверхчувственная цель, которая
определяет собою и индивидуальную жизнь личности. Государство ведет своих
граждан к загробной, вечной жизни; оно обуздывает их телесные влечения,
подавляет в них всякие земные интересы, стремится к искоренению их эгоизма,
заботится о внутреннем их объединении во взаимном дружестве, воспитывает в них
единомыслие и единодушие.
В Платоновом государстве человек всецело приносит себя в жертву идее. Это
государство стремится не к земному счастью и довольству своих граждан,
взятых в отдельности или даже в совокупности; его задача есть торжество
загробной цели.
Чтобы приобщиться к идее, человек должен отказаться от всего
индивидуального, личного. И действительно, в Платоновом государстве гражданин не имеет
ничего своего. Во-первых, он не имеет собственности, так как с частной
собственностью соединен целый мир эгоистических земных интересов и забот. То же
должно сказать и о семье. Семья сосредоточивает мысли и желания человека вокруг
домашнего очага, заставляет е^о забывать об общественных обязанностях. Вот
почему в государстве, где все разнообразие живой действительности приносится
в жертву безличному божественному порядку, нет места для семьи и
собственности. Все материальные блага принадлежат общежитию как целому государству,
а не частным лицам. В Платоновом государстве граждане делятся на три класса;
эти три сословия суть: правители-философы, воины и работники, то есть
ремесленники и земледельцы. Из этих трех классов только два первые могут быть в
собственном смысле названы свободными; последние же суть государственные
крепостные. Граждане двух первых классов не имеют ни собственного жилища,
ни движимого имущества; они не должны даже прикасаться к золоту и серебру;
необходимое пропитание доставляется им работниками, этими, как называет их
Платон, кормильцами общества, — в вознаграждение за их труды по управлению
и военной защите государства.
75
Не имея своего очага, гражданин не держит своего стола, он разделяет общую
трапезу со своими согражданами, как это было в Спарте. Никто из граждан не
имеет своей жены, то есть никто из них не имеет каких-либо исключительных
прав на одну женщину.
Жены, как и имущества, должны быть предметом общего пользования; все
граждане составляют одну семью, одно государство; все они друзья между собой;
а между друзьями все должно быть общее — жены и имущество; пифагорейское
положение: κοινά τά των cpcocov9, получает у Платона дальнейшее развитие.
В идеальном государстве Платона никто из детей не должен знать, кто его
родители, братья и сестры; равным образом никто из родителей не должен знать, кто его
дети; ребенок должен смотреть на всех взрослых как на своих родителей, на всех
своих сверстников как на братьев и сестер, и, с другой стороны, каждый взрослый
должен считать всех детей своими. Дети принадлежат государству, которое с
самого рождения отнимает их у родителей и берет на себя обязанность их
воспитания. Такое упразднение семьи и собственности имеет целью установить общность
интересов, единодушие, товарищество между всеми гражданами, взаимную
любовь между ними; для этого требуется устранить все обособляющие
индивидуальные интересы; этим Платон думает положить конец всем общественным раздорам
и смутам, прекратить борьбу политических партий.
Самое рождение и воспитание детей не должно быть поставлено в зависимость
от случайной склонности, от эгоистического желания родителей. Половой союз
мужчины и женщины имеет целью производить государству физически здоровых
и нравственно годных граждан. Вот почему государство вторгается в самое
заключение браков, считает себя призванным регламентировать самый половой союз
мужчины и женщины. Не свободное согласие жениха и невесты, а мудрость
правителя-философа имеет решающее значение в деле заключения браков.
Правитель-философ определяет, во-первых, самое количество браков, а
во-вторых, выбирает для соединения самих родителей, спаривает их; причем, конечно,
он нисколько не справляется с их желанием и склонностью; выбор, разумеется,
падает на тех родителей, которые по своим физическим и нравственным
качествам могут произвести государству наилучших граждан. Такое соединение
мужчины и женщины не заслуживает названия брака в собственном смысле слова. Это
не более как временная, преходящая связь двух существ, которая кончается, как
только приводит к желаемому результату — рождению детей. Государство не
терпит прочных, постоянных привязанностей, так как они вносят эгоизм в общество;
любящая пара, обособляясь в эгоистическом чувстве, тем самым вносит в
общество частный интерес, который нарушает единство общественной жизни, гармонию
чувств и интересов, а потому грозит гибелью идеальному государству. Путем
регламентации браков должно быть обеспечено определенное количество граждан;
оно не должно быть ни слишком мало* потому что иначе государство будет слабо,
ни слишком велико, потому что при слишком большом населении не может быть
достигнута та пропорциональность в строении частей общественного организма,
та архитектурная правильность, которая требуется политическим идеалом
Платона; слишком большое количество людей было бы неудобоуправляемо;
правитель не мог бы справиться с ним, согласовать эту массу разнородных элементов
с однообразием идеи. Платон, как аллин, отождествляет государство с городом;
для него государство представляется не союзом одной или нескольких
национальностей, а союзом ограниченного с арифметической точностью определенного
числа людей, которые все вмещаются в стенах одного города. Платоново государство
76
упраздняет интимную сферу домашнего очага; с этим связано управление
общественного положения женщин и мужчин; в области домашней, семейной прежде
всего проявляется самостоятельность женщины; домашний очаг представляет
собою ту сферу интересов и деятельности, где проявляются специфические отличия
женщины, особенности ее нравственного и физического склада; женщина всегда
и везде есть прежде всего мать, жена, хозяйка; ее область есть частная, интимная
сфера. Платоново государство упраздняет область частных интересов: оно не
знает ни семьи, ни частного хозяйства; вот почему в том государстве мы не находим
женщины как частного лица: здесь женщина не жена, потому что соединение ее
с мужем есть только мимолетная связь; она не мать, потому что ребенок, только
что вскормленный ее грудью, тотчас от нее отнимается и принимаются все меры,
чтобы потом она не могла его узнать; наконец, она не хозяйка, потому что Плато-
ново государство упраздняет частное хозяйство. Она гражданка, во всем равная
мужчине и во всем с ним схожая; она несет ту же государственную службу, что
и мужчина, исполняет все те же общественные обязанности, участвует наряду
с ним в управлении государством, одинаково с ним отправляет военную службу.
Все различие мужчин и женщин сводится к чисто физическому, внешнему:
говоря словами Платона, одни сеют, другие воспринимают посев.
Женщина в республике является таким же общим, отвлеченным
представлением, безличным существом, как и мужчина: все индивидуальное,
специфическое у нее отнято: это не живая конкретная женщина, а отвлеченное понятие
женщины вообще, родовая идея.
Общность жен Платонова государства отнюдь не есть беспорядочное половое
сожительство; цель Платона состоит не в том, чтобы разнуздать половое
влечение, — напротив, он хочет его упорядочить, и так как уже нельзя его совершенно
упразднить, — иначе не может продолжаться род человеческий, — то следует,
по крайней мере, его ограничить пределом необходимого, подчинив его контролю
государства. Общность жен не имеет другой цели, кроме искоренения
эгоистического чувства во имя сверхчувственной божественной идеи.
Государство у Платона является воспитательным учреждением, которое имеет
целью облегчить своим гражданам трудный путь восхождения от чувственного
земного мира к загробной вечной жизни. Цель этого государства не в нем самом,
а в вечности; оно является лишь подготовительною ступенью к жизни будущей.
Полития Платона задается в сущности тою же задачей, которую в христианском
мире преследует церковь: это союз людей ради общего их спасения — ив этом
отношении Платонов идеал есть предварение христианского общественного идеала,
как бы он ни расходился с последним в представлении о самых путях и способах
спасения. Уверовав в сверхчувственное Божество, Платон провозглашает
отречение от индивидуальной воли, от земного счастья, от всех земных интересов как
необходимое условие спасения.
Загробною целью определяется весь строй идеального государства —
общественный и политический. Государство, как и все земное, человеческое, живет
двойственною жизнью: оно стремится подчинить всю жизнь общества вечной идее
и вместе с тем борется против враждебных идее элементов земной
действительности; это — та же борьба, которую мы видим и в человеческой душе, и вообще,
государство воспроизводит в себе увеличенный образ человеческой души. Здесь, как
и в душе, бессмертный разум лучшей части общества борется против страстей
толпы, стремящейся прежде всего к земной плотской жизни; и для того, чтобы
подчинить разуму это слепое стихийное начало, нужна третья сила, способная пови-
77
новаться веленьям рассудка и подавлять необузданные страсти толпы. Трем
основным способностям человеческой души: разуму, сердцу и пожеланию —
соответствуют три общественных класса в государстве Платона: бессмертному разуму
соответствует класс философов, которые одни способны возвыситься до
созерцания идеи; сердцу соответствует класс воинов, борющийся против враждебных
идее стихий, и, наконец, похоти, пожеланию соответствует класс работников,
не способный ни к какой другой жизни, кроме плотской, земной, и ни к какой
другой деятельности, кроме материального труда. Задаваясь целью спасения
людей, государство Платона имеет свою иерархическую лестницу, причем
положение в ней каждого отдельного гражданина определяется его близостью к идее;
в этом-то и состоит справедливость идеального государства.
Господство, управление государством принадлежит тому классу людей,
который живет внутренней идеальной жизнью, который в непосредственном
созерцании постигает идею, видит красоту сверхчувственного, мыслимого мира, — это
класс правителей-философов. Класс этот является аристократическим
меньшинством в идеальном государстве: недоступная для чувственного зрения, невидимая
и неосязаемая идея открывается избранному меньшинству мудрых философов.
Задача правителя состоит, во-первых, в том, чтобы созерцать идею, а
во-вторых, чтобы осуществлять ее в практической деятельности; мы уже раньше
видели, что мудрая политика определяется созерцанием идеи блага. Идея блага
познается философией — и потому задача правления, политики есть прежде всего
философская задача. «Доколе философы, — говорит Платон, — не будут
царствовать, или же те, которые теперь называются властителями и царями, не станут
серьезно и в истинном смысле слова философствовать, пока то и другое, то есть
философия и государственная власть, не соединятся одна с другой в одних руках;
доколе не будут исключены совсем из государственной власти все те, которые
предаются одному из этих дел отдельно от другого, до тех пор нет спасения от зол для
государства, и, думается мне, для целого человеческого рода».
Здесь Платон сталкивается с обычным возражением, которое указывает на
непрактичность философов, на их непригодность к общественной деятельности,
на их беспомощность в делах политики. Эта непрактичность философа, как
объясняет Платон, коренится в существе философского характера и в отсутствии
привычки к житейским делам.
Погруженный в умозрение философ живет в мире идей: он наслаждается
созерцанием вечной красоты и блага и лишь неохотно опускается с своей
умозрительной высоты, чтобы приняться за устройство человеческих отношений; он
созерцает самую сущность вещей, не затемненную покровом чувственного
представления; вот почему в мире призрачном, земном философ является как бы
чужим, словно странником; в области земных, житейских отношений он
высказывает известную неумелость, неопытность. Ради общего блага философ должен
отрешиться от своей теоретической исключительности, приобрести навык к
житейским делам.
Власть философа в государстве не подвержена никаким ограничениям, ни
контролю. Он не должен стесняться писаными законами и в каждом отдельном
случае должен руководствоваться своим непосредственным предусмотрением.
Писаное законодательство вообще не существует в Платоновом государстве, потому что
мудрость правителя здесь заменяет писаный закон. Философ в своей
деятельности руководствуется не внешним для него предписанием закона, а
непосредственным созерцанием идеи: предписания закона не в состоянии обнять всех возмож-
78
ных случайностей действительности, закон не обладает достаточной
подвижностью, гибкостью, чтобы следовать за развитием жизни, которая беспрестанно
меняется; вот почему философ не должен стеснять себя заранее составленными
правилами и нормами, а руководствоваться единственно умозрительным познанием
идеи.
Философ в государстве Платона совмещает в своем лице всю полноту
верховной власти; все общество есть пассивный материал в его руках, которым он
распоряжается по своему усмотрению. Такая безграничная власть правителя вытекает
из его отношения к идее, которой он является единственным оракулом и
истолкователем. В его руках ключи царства небесного, и он один может вести общество
к его вечной цели спасения.
Ближайшей к философу ступенью реализации идеи является класс воинов.
Неспособный возвыситься до непосредственного созерцания идеи,
неспособный к самостоятельному философскому мышлению, этот класс пребывает в
сознательном подчинении мудрости правителя; философ созерцает идею и раскрывает
ее другим, воин с оружием в руках защищает господство ее в мире внешнем; как
во внешней природе господству идеи противятся темные хаотические силы, так
и в мире человеческом против нее борются необузданные, стихийные силы,
враждебные идеальной культуре человеческие народы и племена. Внутри самого
общежития происходит эта борьба между мудростью правителя-философа и
разнузданными страстями массы, которая не подчиняется непосредственно голосу разума
и нуждается прежде всего во внешнем обуздании. Этой борьбой определяется вся
деятельность класса воинов.
Воин должен вмещать в себе до некоторой степени элементы идеального
сознания; в его воспитание входит поэтому отчасти и философская диалектика; он
должен обладать познанием идеи, образованием ума, но лишь настолько, чтобы знать
свое место в государстве, чтобы сознательно подчиняться мудрости
правителя-философа; специфическая добродетель этого класса — мужество, а мужество
обусловливается познанием страшного и не страшного, а потому требует от воина
известного теоретического образования. Воин должен быть орудием философа,
но орудием не слепым, а сознательным; в жизни воина каждый шаг определяется
предписаниями философа, которые простираются на все; в зависимость от
философа поставлено самое рождение воина, так как самое заключение браков
определяется усмотрением правителя; в его руках и воспитание юношества; наконец,
в зрелом возрасте вся его деятельность подчиняется строгой и точной
регламентации, военной дисциплине.
Правители и воины суть единственно свободные классы в Платоновом
государстве. Оба эти класса всецело поглощены своими общественными, служебными
обязанностями, а потому оторваны от частной самодеятельности. Они, подобно
спартанским воинам, не пашут земли и не занимаются ремеслом: господствующие
классы свободны от материального труда. Общественное воспитание задается
исключительною целью подготовить будущего гражданина к отправлению его
общественных обязанностей: презрение к ремеслу и вообще ко всякому физическому
труду внушается с детства. В воспитание воина входят: во-первых, гимнастика
и военные упражнения, которые обеспечивают его физическую способность
к службе; во-вторых, музыка, понимаемая в обширном эллинском значении этого
слова как совокупность изящщлх искусств. Если гимнастика имеет целью
физическое усовершенствование человеческого организма, то задача искусства,
музыки заключается в образовании всего нравственного склада человека. Вот почему
79
Платон придает высокое значение музыке, видит в художественном образовании
населения один из главных устоев государства. Музыка воспитывает в
человеческой душе то гармоническое равновесие душевных способностей, которое
составляет основную добродетель Платоновой этики; в произведениях поэтического
искусства — в песнях, в мифах — преподаются детям и юношеству основные
нравственные и религиозные понятия: вот почему мудрый правитель посредством
воспитания может держать в руках все общество и, воздействуя на его
нравственный склад, сообщать ему какую угодно организацию. Прежде всего, конечно,
правитель будет заботиться о том, чтобы юношеству не преподавалось никаких
ложных, развращающих понятий о божестве и нравственном мировом порядке; вот
почему песни Гомера и популярные мифы, где боги представляются во всем
похожими на людей, со всеми человеческими недостатками, безусловно исключаются
из Платонова государства. Из воспитательной программы Платона исключаются
все те популярные мифы и легенды, которые противоречат его понятию о
Божестве, не согласуются с его идеей. Воспитание философов отличается от воспитания
воинов только тем, что здесь философия, диалектика и вообще научное
образование занимает преобладающее место; воспитание философа не оканчивается
вместе с юношескими годами, а продолжается вплоть до полной мужественной
зрелости; затем философ должен пройти через долголетнюю школу практической
деятельности, чтобы быть принятым в коллегию правителей. Путем
регламентации браков и путем идеального воспитания должна создаться новая порода
идеальных граждан, должен быть искусственно выработан новый тип людей,
который должен быть совершенным зеркалом мира идеального; в нем идея отражается
во всей своей первообразной чистоте, не затемняется ложью призрачного
индивидуального интереса.
Если два высших класса безусловно свободны от материального труда и
всецело посвящают себя общественной деятельности, то, наоборот, третий класс —
работников, не имея участия в общественной деятельности, всецело поглощен своим
частным хозяйством, материальным трудом. Созерцательный досуг философа
и служба воинов нуждается в материальном обеспечении. Для этого и нужен
третий, трудящийся класс ремесленников и землепашцев. Свободные граждане двух
высших классов, по словам Платона, смотрят на этих рабочих как на своих друзей
и кормильцев. Платон называет их свободными, но при внимательном
рассмотрении эта свобода улетучивается как обманчивый призрак. Ибо, во-первых, о
свободе политической, общественной не может быть и речи: совершенно не способные
к созерцанию идеи рабочие исключаются из жизни общественной. Зато,
по-видимому, они пользуются некоторою свободой в области частной жизни и
деятельности: им предоставлено иметь каждому свое жилище и хозяйство, свою семью и
частную собственность; коммунистический идеал на них не распространяется;
но такое положение третьего класса нс должно рассматриваться как особая
привилегия: предоставление рабочим некоторых прав собственности есть просто
вопрос практического удобства для двух высших классов; чтобы не заботиться
самим о житейских нуждах, правители и воины сваливают на работников всю
тяжесть материальных забот; рни предоставляют им пользование плодами
собственного труда; но это пользование не должно рассматриваться как собственность,
так как верховное право распоряжения всеми материальными благами, а
следовательно, и трудом рабочих, принадлежит не им самим, а государству. Правитель-
философ безгранично и бесконтрольно распоряжается их жизнью и имуществом;
рабочие безвозмездно кормят своим трудом два высших класса, причем величина
80
контрибуции, которую они уплачивают с этою целью, всецело определяется
произволом правителя. Рабочие принадлежат не самим себе, а государству и
пользуются своим имуществом в крепостной от него зависимости; они суть ничто иное,
как государственные крепостные. Платон только потому называет их
свободными, что действительно они не суть личные рабы, а государственные крепостные,
принадлежат не одному лицу, а прикреплены к государству как целому. По
справедливому замечанию Гильдебранта, они не составляют частной собственности
только потому, что их господа, свободные классы, сами не владеют частной
собственностью потому, что частная собственность вообще отрицается
коммунистическим идеалом Платона.
Каждое из этих трех сословий соответствует одной из основных душевных
способностей, а потому и олицетворяет собою в идеальном государстве одну из
основных душевных добродетелей. Во-первых, класс правителей-философов
соответствует бессмертной способности души, созерцающему уму; философ не
есть представитель всестороннего человеческого развития; он олицетворяет
собою одну лишь способность души — умозрения, одну лишь отвлеченную
добродетель — мудрость; и как в человеке обе низшие способности должны
подчиняться высшей, так и в общественном теле гармония целого требует
подчинения всех и каждого бесстрастному разуму правителя-философа. Класс воинов
олицетворяет собою вторую душевную способность бицос — сердце и
специальную добродетель этой части души — мужество. Наконец, третий класс
республики. Работники соответствуют низшей душевной способности — похоти
и представляют собою в государстве добродетель этой части, скромность. В
общественном теле происходит та же борьба, то же раздвоение, что и в
человеческой душе; как в душе разум борется с похотью и побеждает, покоряет ее
посредством сердца, так и в общежитии бесстрастный разум философа борется
с необузданными страстями толпы, погруженной в плотскую жизнь, и
побеждает их посредством мужества воинов. Когда оба низшие класса общества,
работники и воины, согласны в том, чтобы подчиняться высшему, тогда в
общежитии устанавливается состояние гармонического равновесия, которое Платон
называет справедливостью.
Изложенный нами политический идеал Платона представляет собою
оригинальное явление теократии и притом философской теократии в рамках
греческого государства — города. Ибо как же иначе назвать это общество, которое как в
основных своих принципах, так и в малейших подробностях своего устройства
всецело определяется загробным идеалом, это государство, которое ставит
высшею своею целью — быть отражением, отблеском сверхчувственной
действительности? Как иначе охарактеризовать политический идеал, который проповедует
всецелое самоотречение личности и всего общества ради вечной жизни в
Божестве? Платонова полития есть теократия, но не кастовая, подобно восточным
теократиям; в политии Платона положение отдельного лица в обществе, его
принадлежность к тому или другому классу определяется не рождением, не
наследственностью, как при замкнутом кастовом устройстве, а развитием и способностями
каждого. Далее, здесь нет и наследственного царя — олицетворения
божественного на земле, и философ стоит во главе государства не в силу своего происхождения
или какой-либо наследственной привилегии, а в силу своего умственного
превосходства — черта своеобразная и оригинальная, которая уже одна отличает
государство Платона от восточных теократии, делая его явлением, единственным
в своем роде.
81
Таково идеальное государство Платона — воплощение мудрости и
справедливости. Когда нарушается иерархическое подчинение классов, то тем самым
разрушается состояние гармонического равновесия; общежитие перестает быть
конкретным воплощением справедливости, оно вырождается; в своем вырождении,
переходя от идеального состояния к полному падению, оно проходит ряд
последовательных ступеней, которые, в противоположность идеальному общественному
устройству, характеризуются как проявления несправедливости, как ступени
упадка; эти ступени упадка соответствуют существующим в действительности
государствам; исходя из противоречия общественного идеала с современной ему
действительностью, Платон рассматривает последнюю как результат падения,
как продукт вырождения идеала.
Государство «Законов»
Таким образом, Платон приходит к признанию злого рока, тяготеющего над
общежитием. Все существующие в действительности государства суть лишь
отклонения от идеала, различные формы проявления несправедливости.
Государство справедливости, полития, не существует в действительности. Тем не менее
Платон не считает свой идеал только продуктом фантазии, верит не только в
возможность его, но и в необходимость осуществления, при том условии, что
правители проникнутся философскими началами и посредством общественного
воспитания преобразуют самое общество. Таково было убеждение Платона в эпоху
написания «Государства». Но уже здесь, в «Государстве», у Платона невольно
вырывается признание: «Я думаю, что идеальное государство нигде не существует на
земле; оно обитает на небе, как идея, первообраз, который может видеть всякий,
имеющий очи видеть». Впоследствии путем горького жизненного опыта Платону
пришлось убедиться в радикальном, неисцелимом противоречии идеала и
действительности. Он обманулся в своих надеждах на государственных деятелей; ему
пришлось отчаяться в том, чтобы правители когда-либо прониклись
философскими началами. Итак, безусловное господство философии над жизнью оказывается
невозможным, общественный идеал Платона оказывается неосуществимым,
будучи в коренном противоречии со всем существующим общественным строем.
Вот почему в позднейший период своей деятельности Платон, отчаявшись в
надежде осуществления безусловной справедливости в человеческих отношениях,
требует лишь условного, относительного господства этой идеи над обществом.
В последнем сочинении Платона «Законы», написанном уже в старости, идет речь
не о безусловном истреблений частных интересов, не о совершенном искоренении
эгоизма, а только об ограничении того и другого. Видя невозможность
совершенного поглощения частного интереса общественным, Платон ищет такого
состояния, при котором частный эгоизм умеряется общественным интересом. Такое
состояние и будет идеалом «умеренного государства»; далекое от идеального
общественного устройства, это государство, однако, приближается к нему более,
чем какое-либо из существующих в действительности государств: оно
представляет собою если не совершенное осуществление идеала, то, по крайней мере,
приближение к нему.
Основною добродетелью государства «Законов», к которой сводятся все
остальные добродетели, является умеренность, под которой разумеется состояние
гармонии частного и общественного интереса путем ограничения первого. Первое огра-
82
ничение касается права собственности. «Законы» в противоположность
«Государству» не требуют общности всех материальных благ, не уничтожают частной
собственности, но установляют имущественное равенство; благосостояние
гражданина не должно превышать известной меры, определенной законом; этим
ограничиваются корыстолюбивые наклонности. Каждый гражданин имеет свою
семью, жилище и владеет участком земли, но он должен смотреть на этот участок
как на часть общего государственного имущества, самая величина и количество
участков раз и навсегда определена законом и не может быть изменена
произволом частных лиц.
В противоположность «Государству» «Законы» требуют не уничтожения,
а только ограничения прав семейственных; женщина наряду с мужчиной несет
общественную службу, не исключая и военной; мать оторвана от своих детей,
которые воспитываются не родителями, а государством. Семья, как и собственность,
не уничтожается, а только ограничивается; в этом заключается главное
существенное отличие общественного устройства «Законов» от «Государства». В этом
заключается идеал умеренности в противоположность безусловной справедливости.
С этим связаны и главнейшие различия в политическом устройстве.
Государственное устройство «Законов» в противоположность «Государству», где мудрость
правителя заменяет закон, определяется писанным законодательством, которое
простирается на все сферы жизни, определяя даже малейшие подробности. Но
закон не есть только внешнее предписание; он черпает свою силу в нравственном
убеждении граждан, а потому всякий закон должен сопровождаться введением,
в котором излагаются цели и мотивы, вызвавшие его появление, для того чтобы
сделать закон вразумительным, согласовать его с нравственным убеждением
каждого. Это нравственное убеждение есть вместе с тем и религиозное; не человек и не
человеческий произвол, а Бог есть мера всего.
Государством правит не совет философов, а коллегия мудрых 37 хранителей
закона; эти хранители закона не суть представители философского умозрения, а
мудрости народной, господствующих в обществе нравственных и религиозных
убеждений; наряду с хранителями закона мы видим двух военачальников, сенат из 360
членов. Все эти сановники избираются путем сложных выборов, причем в этих
выборах участвует поголовно все население. Этим путем Платон думает сочетать
демократические начала с олигархическими; с одной стороны, во главе правления
стоят немногие выборные сановники, лучшие, мудрейшие мужи; и с этой стороны
государство представляется чем-то средним между олигархией и аристократией;
с другой стороны, право активного участия в выборах распространяется на все
население: это придает государству характер демократический. Таким образом
демократические и аристократические учреждения в «Законах» ограничивают друг
друга; путем соединения этих Двух элементов получается тип среднего,
умеренного государства. Первоначальный идеал Платона, его полития, представляет собою
тип чистой аристократии, безграничное господство философского меньшинства
над массой. Этот идеал культурной аристократии оказался неосуществимым;
демократические элементы взяли верх, оказались неодолимыми. И вот в последние
годы своей жизни Платон делает уступку демократии, делает последнюю
попытку спасти аристократический элемент путем примирения, смешения
аристократических учреждений с демократическими. Само собою разумеется, что и это
«умеренное» государство стоит на »почве социального рабства, которое в Греции
является необходимым условием, предположением всех политических форм.
Итак, в «Государстве» Платон проповедует идеал безусловной справедливости, ве-
83
рит в безусловное торжество добра над мировым злом и человеческим эгоизмом;
но эгоизм оказывается слишком сильным, и мировое зло слишком глубоким;
теперь Платон приходит к убеждению, что наряду с мировой душою, которая
осуществляет красоту и благо в мире, существует другая, злая душа, которая
препятствует осуществлению блага в мироздании. И вот, опускаясь в бессилии перед
мировым злом, Платон отказывается от безусловного господства идеи, заботится
уже не об искоренении, а об ограничении силы зла и эгоизма.
Чтобы закончить наш очерк Платоновой философии, остается сгруппировать
основные черты изложенного нами учения и указать отношение Платона к
предшествовавшему развитию, указать его место в истории философии. Мы уже
знаем, что Платонова философия содержит в себе продукты разложения древнего
мифологического мировоззрения. Она полагает в основе мироздания раздвоение
мира, разделение двух миров — духовного, чистой мысли и материи, и с этой
стороны характеризуется как дуализм.
Всматриваясь глубже в учение Платона об идее, мы без труда заметим
сродство идеи с господствующим народным представлением о божестве и божественном
порядке. Неизмеримо возвышаясь над ходячими понятиями о Божестве, идея
Платона тем не менее остается еще чем-то полуязыческим.
Религия, как мы видели, обожествляет человека со всеми его чувственными
свойствами, делая богов человекообразными. А философия Платона, отбрасывая
чувственный элемент, обожествляет одну лишь высшую человеческую
способность — ум, мышление. Он принимает понятия, посредством которых мы мыслим
вещи, за вечные божественные сущности. Идею Платон признает везде, где
множество единичных предметов обозначается одним общим именем; а потому
можно сказать, что у Платона столько же божественных идей, сколько общих имен
в человеческом языке.
Боги народной религии точно так же, как и Платоновы идеи, олицетворяют
собою целые разряды явлений или предметов, суть общие родовые представления,
обнимающие целую область духовного или телесного бытия. Например, идее
мудрости Платона соответствует какая-нибудь богиня Афина в греческой религии,
идее огня — какой-нибудь бог Гефест. Все греческие божества олицетворяют
собою общие типические представления; каждое божество есть первообраз,
типическая форма, лежащая в основе целого класса, целого порядка явлений, а мы
знаем, что Платоновы идеи суть не что иное, как общие родовые представления, что
они суть типические формы всего существующего. Как греческие боги, идеи
представляют собою мир прекрасных форм, образов. Существенное отличие идеи и
популярного народного представления о божестве заключается, как сказано, лишь
в том, что идея утрачивает чувственный, человеческий образ, что она есть
существо безусловно нематериальное и вместе с тем безличное; идеи не суть личные
человеческие существа, а только общие, отвлеченные представления. Близкое
сродство с религиозным мировоззрением связано с таким же сродством в представлении
о нравственном мировом порядке.
Платоново понятие вечной справедливости, царящей над миром
божественным и человеческим, было знакомо уже древней мифологии. Как в народном
воззрении δίκη, так и у Платона идея справедливости является началом всеобщей
гармонии, началом иерархического подчинения низших высшим. Ближайшее
сродство представляет Платонову идея с дорийским религиозным
мировоззрением. Мир идей Платона, его κόσμος νοητός (мыслимый мир) представляет собою
вечный мировой закон; вечное и незыблемое мировое устройство; недвижимая
84
и неизменная идея враждебна движению и перемене. В этой характеристике идеи
мы узнаем основные черты дорийского религиозного мировоззрения; дорийское
божество также враждебно движению и перемене; в основе дорийского воззрения
также лежит представление безличного единства, вечного закона, которому
подчинено все бесконечное разнообразие вселенной. Это сродство с дорийским
идеалом представится нам еще в более ярком виде при сравнении общественного
идеала Платона с дорийским общественным устройством.
Представление вечного, незыблемого божественного порядка, раз и навсегда
определенного, неизменного мирового устройства лежит в основе всех
общественных отношений дорийского племени, определяет собою все политическое и
общественное устройство Спарты. Все государственное устройство Спарты является
откровением божественной мудрости; это точно так же верно и по отношению
к республике Платона; как там, так и здесь процесс откровения совершается через
внешнего посредника; как там, так и здесь божественная мудрость имеет своего
жреца, оракула и через него сообщается людям. Все спартанское
законодательство хранится не в виде писанного кодекса, а в форме изречений оракула, так
называемых ретр (ρήτραι), которые не записываются, а сообщаются путем устной
передачи; в государстве Платона сам правитель-философ играет роль оракула; его
изречения, как спартанские ретры, заменяют писанный закон.
Внешний и недоступный массе божественный порядок в государстве Платона,
как и в Спарте, открывается избранному меньшинству людей; хранителями
и блюстителями божественного законодательства в Спарте является узкий
ограниченный круг сановников-правителей, коллегия 5-ти эфоров.
Спартанское божество, подобно Платоновой идее, является внешним и
недоступным сознанию массы; оно требует прежде всего повиновения и дисциплины.
В трех Платоновых сословиях мы узнаем спартанские общественные классы.
Класс правителей-философов находит себе аналогию в коллегии эфоров,
которые правят именем богов, гадают по звездам и руководствуются в своей политике
небесными знаменьями и пророческими сновидениями; эфоры, так же как и
философы Платона, являются представителями божественной мудрости в
политическом устройстве Спарты с тою разницей, что они суть только истолкователи
дельфийского оракула, которому они подчинены, тогда как философы Платона
совмещают в своем лице значение оракула с безграничной, безапелляционной
правительственной властью эфоров.
Эфоры, как и философы, регламентируют всю жизнь общества, заведуют
общественным воспитанием, вмешиваются в самое заключение браков. Второе
сословие Платона, воины, также находят себе аналогию в свободных гражданах
Спарты. В греческих государствах вообще в состав войска входят все граждане, весь
народ, как совокупность. В CriapTe же, в частности, война составляет
единственное занятие свободных граждан, за исключением ограниченного меньшинства
сановников, всецело поглощенных управлением государства. То же отношение мы
видим между двумя свободными классами Платонова государства; здесь также
все свободные граждане разделяются на ограниченное меньшинство правителей,
которые несут на себе всю тяжесть забот по управлению государством, и воинов,
которые исключительно посвящают себя военной защите государства. Воины
Платона, подобно спартанским, не папгут земли и не занимаются ремеслом.
Конечно, воин Платона есть идеализированный воин, облагороженный
художественным образованием, в отличие от спартанца, так как в спартанском
образовании военные и гимнастические упражнения играют преобладающую и, можно
85
сказать, исключительную роль. Но и все государство Платона есть не что иное,
как облагороженная, идеализированная Спарта. Наконец, третье сословие
Платона — работники — представляют собою величайшее сходство со спартанскими
илотами. Спартанские илоты, собственно говоря, не составляют частной
собственности, правом распоряжаться ими, продавать и перемещать их пользуется
государство, а не частное лицо; каждый илот составляет предмет общего пользования
всех свободных граждан. Отношение илотов к обществу свободных
ограничивается уплатой определенной ренты, достаточной для содержания последних; таким
образом, спартанские илоты суть государственные крепостные, по существу
схожие с Платоновыми рабочими.
Итак, в основных чертах своего строения идеальное государство Платона
сходится со Спартой. Ограничение частных прав семейственных и имущественных,
подчинение разнообразия частной жизни мертвому и однообразному единству —
все эти черты установляют тесную связь политии с спартанским народным
идеалом. Спартанское общество относится к идеальному обществу Платона как
чувственное, личное спартанское божество к Платоновой идее; спартанское общество
есть союз живых лиц, а Платоново государство есть союз идеальных, типических
граждан.
Государство «Законов» вообще гораздо больше приближается к
действительности, чем полития. Здесь уже Платон сознательно усвояет дорические
учреждения — спартанские и критские. Коллегия 37 номофилаков — правителей,
выбираемых народным собранием, — есть уже просто сколок с спартанского эфората;
здесь же мы находим и сенат, напоминающий спартанскую герузию, двух
военачальников, наподобие двух спартанских царей.
В учении об общежитии пифагорейство также играет роль посредствующего
звена между Ликурговой Спартой и государством Платона. В противоположность
Спарте, где религия служит основанием всего политического устройства, Платон
полагает в основу своего государства философское умозрение. Пифагор занимает
середину между тем и другим: общественный идеал пифагорейского союза
определяется, с одной стороны, общими философскими воззрениями и представляет
собою попытку преобразования общества посредством философии; с другой
стороны, философские воззрения пифагорейцев еще не вполне отрешились от
мифического элемента, еще не вполне порвали связь с богами народной религии,
а сам основатель союза Пифагор играет роль какого-то мифического полубога.
Мы уже знаем, что историческое предание одинаково связывает с именем
Аполлона дельфийского законодательство Ликурга и политическую мудрость
Пифагора; как то, так и другое считается откровением самого дельфийского оракула.
Таким образом, общественный идеал пифагорейского союза заключает в себе в
нераздельном единстве элементы философские и религиозные, тогда как Платоново
государство представляет собою чисто философское построение; мифические боги
народной религии из него изгоняются.
Основные черты пифагорейского идеала представляют собою величайшее
сходство с государством Платона. Общежитие с точки зрения Пифагора является
осуществлением единства, меры и гармонии, конкретным воплощением
справедливости. Как и Платоново государство, пифагорейский идеал требует господства
безличного божественного порядка над обществом; все частные индивидуальные
интересы здесь, как и там, приносятся в жертву безличному общественному
единству; как там, так и здесь мы видим исключительное господство общественного
интереса и подавление частного. Отсюда общность материальных благ, комму-
86
низм, общее положение κοινά τά τών φίλων, черта, сближающая пифагорейцев
с Платоном; отсюда и другая общая черта — подчинение всей жизни общества
строгому однообразному порядку, дисциплине. Эта регламентация общественной
жизни исходит от философа, который, как там, так и здесь, стремится к
преобразованию общества путем философского воспитания.
Безграничная власть философа над обществом, правление философа — также
черта, несомненно отличающая как пифагорейский, так и Платонов
общественный идеал; как тот, так и другой требуют господства философии над обществом
и по этому самому — господства аристократического меньшинства философов над
массой.
Ближайшим предшественником Платона и родоначальником его учения
является Сократ: одно из основных требований Платонова государства — образование
нового поколения граждан и государственных деятелей путем философского
воспитания унаследовано Платоном еще от Сократа. Другое требование —
искоренение эгоизма путем философского воспитания, преобразование всего
нравственного склада общества, требование всецелого самопожертвования, самоотречения
личности ради вечного блага, — также принадлежит Сократу; смерть Сократа
являет собою высший пример такого самоотречения. Наконец, в дополнение
сходства, Сократ видит в общении материальных благ между друзьями одно из средств
искоренения эгоизма. Это общение материальных благ, однако, не есть Платонов
коммунизм; это не более как требование, чтобы каждый делился своим достатком
с друзьями, оказывал им в пределах дружбы не только нравственную, но и
материальную помощь. У Платона же под друзьями разумеются все граждане, и
общность материальных благ имеет характер принудительный, а не добровольный,
как у Сократа. Наконец, третье требование — распределения различных задач
общественной и частной деятельности между разнородными органами
общественного организма, требование разделения труда, — также заимствовано Платоном
у Сократа; сфера деятельности каждого гражданина определяется познанием;
каждый должен знать свое место в государстве и знать свое дело; разумное знание,
таким образом, с точки зрения Сократа должно определять собою все
общественное устройство. Платоново государство представляет собою не что иное, как
развитие этого основного сократического требования.
Отношение Платона к его предшественникам лучше всего может быть
выражено известными словами Плутарха: «Платон смешал с Сократом Ликурга и
Пифагора» . Действительно, по справедливому замечанию Онкена, государство Платона
соединяет в себе, с одной стороны, Сократово учение о праве и добродетели,
а с другой — пифагорейское учение, перемешанное с чертами Ликургова
государства-лагеря; все эти разнородные элементы связуются в одно органическое целое
посредством учения об идее. Припомним те исторические обстоятельства, при
которых зародилась система Платона.
Политический идеал Платона возник и развился под влиянием событий
Пелопонесской войны, когда эллины были поглощены смертельной борьбой из-за
гегемонии, когда противоположность политических принципов, олигархического
и демократического, обострилась до крайней степени и вся Греция распалась на
два враждебных лагеря. Ожесточенная борьба велась не только между
государствами, но и внутри самих государств противоположными политическими
партиями: партия демократическая повсеместно опиралась на содействие Афин,
олигархическая рассчитывала на помощь Спарты. При постоянных колебаниях
гегемонии политические перевороты стали явлением каждодневным, все смеша-
87
лось в хаосе всеобщего междоусобия. Исчезла уверенность в завтрашнем дне, все
человеческие отношения стали непрочными и непостоянными, все в жизни
общества и отдельной личности стало шатким и случайным. И вот среди этого
всеобщего колебания и непостоянства зарождается политическая система, которая хочет
спасти общество, построив общественное здание не на зыбкой почве
человеческого произвола и эгоизма, а на вечной незыблемой основе божественного порядка.
Одними человеческими силами общество спастись не может, все человеческое
оказывается призрачным и непостоянным; только вечный божественный
принцип может спасти общество от гибели, от вечного раздора и смуты. В
противоположность этой ложной, ненормальной земной жизни общества одна вечная
божественная идея остается истинной и незыблемой. Колеблющимся и непостоянным
политическим отношениям Платон противополагает вечный божественный
порядок и философскую теократию как его воплощение. Политический идеал
Платона, как вы видели, имеет свои корни в прошедшем эллинской общественной
жизни и философской мысли.
Но задача историка философии не исчерпывается тем, чтобы показать
отношение каждой данной системы к прошедшему: нужно указать еще и влияние на
последующее историческое развитие. Платонов идеал, несомненно, многими своими
сторонами примыкает к национально-эллинскому языческому идеалу. Платоново
государство, как и Платонова идея, несомненно, содержит в себе эллинские
языческие принципы и начала; но, с другой стороны, оно заключает в себе и такие
элементы, которые ставят его в разрез со всем этим языческим миросозерцанием.
Государство Платона представляет собою на языческой почве первую попытку
подчинить всю жизнь человеческого общества трансцендентной загробной цели.
При всех симпатиях Платона к дорийским нравам и учреждениям, к тем или
другим явлениям исторического прошлого его нации — его главный интерес не
в прошедшем, а в будущем, его идеальное государство как первая попытка
вырваться из жизни земной для жизни вечной, небесной есть нечто абсолютно новое
для языческой Греции, и так как никто не может быть пророком в своем
отечестве, то и Платонов идеал не мог на почве языческой Греции найти условий для
своего осуществления. Платоново идеальное государство действительно было
явлением пророческим, предвестником христианского теократического идеала. Как
идеализм метафизики Платона вошел целиком в христианскую философию отцов
церкви, так же точно и теократический принцип его государства, неразрывною
логической связью связанный с его метафизическим учением, вошел в состав
христианского теократического идеала.
Полития Платона является предвестником идеала христианского,
теократического вообще, но в особенности, как это удалось доказать современному
исследователю церковной истории Вауру, теократии средневековой. Если Платоново
государство смешивает в безразличном единстве функции церкви и государства,
или, лучше сказать, не различает между ними, то в средние века мы видим
церковь с функциями государства (да и в наше время мы нигде не находим точного
разграничения этих двух противоположных сфер).
Всемогущему классу философов Платоновой республики соответствует
своевластное духовенство католической церкви, также соединяющее в себе обе
власти, духовную и мирскую. Второму классу Платоновой республики соответствует
светское, рыцарское сословие, которое, подобно воинам Платона, сражается за
«мир Божий», считая себя призванным с оружием в руках отстаивать
божественный порядок против враждебных ему стихий, еретиков и неверных, этих «варва-
88
ров» средних веков. Наконец, третьему сословию Платона соответствуют
средневековые крепостные, своим трудом обеспечивающие материальное пропитание
общества свободных. Общественный идеал Платона требует искоренения в
человеке его земной, чувственной природы и для этого — уничтожения семьи и
собственности — той сферы, где прежде всего проявляются естественные земные
влечения человека. Не то ли же самое видим и в средневековом католическом
миросозерцании? И здесь чувственная природа человека отрицается во имя
трансцендентного, аскетического идеала; средневековая поэзия воспевает
девственность как идеал высшего человеческого совершенства, церковные писатели
проповедуют отречение от чувственной любви «во имя Небесного Жениха», а высший
класс средневекового общества, духовенство, в самом себе осуществляет идеал
отречения от семьи в совершенном безбрачии. Собственность, как и семья, с точки
зрения средневекового, аскетического миросозерцания, есть продукт
ненормального, греховного состояния человеческого рода, подлежащий упразднению.
И здесь великий мыслитель древности является предтечей средневекового,
да и вообще христианского монастырского идеала. Платон, таким образом, не без
основания, может быть, назван предвестником христианской теократии, в
особенности же в западной средневековой ее форме.
Таково всемирно-историческое значение Платонова идеала. Полития Платона
содержит в себе универсальный принцип, хотя Платон еще не вполне отрешился
от национальных языческих преданий. Теократический идеал явился Платону
в узкой национальной форме греческого государства-города. Это государство, как
и христианская церковь, задается целью вечного спасения людей. Но
христианство возвещает спасение всего рода человеческого, без различия расы и
общественного положения; для христианства дорог каждый человек как такой, всякая
человеческая личность как такая имеет безусловную цену. Платоново государство не
знает спасения для всех: оно задается исключительною целью — спасения
некоторых, то есть только ограниченного количества своих свободных граждан;
спасение у Платона является еще как бы аристократической привилегией узкого
меньшинства; рабы и варвары для Платона, как и для всякого эллина, суть существа
низшие по природе, лишенные человеческого достоинства; они не участвуют в
божественной идеальной жизни. Платон, как и все язычники, видел в них лишь
вещи, орудия, и только христианство смягчило эти резкие грани сословий и
национальностей, научив смотреть на всех людей как на ближних. Платон был
несомненно предвестником христианского идеала в древности; но не следует
забывать, что и его система выросла на почве язычества и носит на себе печать своего
языческого происхождения, отличаясь общей язычеству национальной
исключительностью и узостью. Это — во всех отношениях посредствующее звено между
двумя мирами: языческим, национально-эллинским и христианским
общественным идеалом.
Глава VII
Аристотель
Основной принцип учения Платона есть божественная идея — внемировая,
далекая и чуждая земной действительности. Диаметрально противоположный
89
принцип лежит в основе философского мировоззрения его гениального ученика —
Аристотеля. Аристотель не признает внемировой идеи, для него цель и смысл
мира земного — в нем самом, а не в загробной действительности. Цель человека не
в будущей вечной жизни, а в земном настоящем, не в вечном спасении, а в земном
благополучии человека и человеческого общества. Аристотель родился в городе
Стагире, в 384 году до Р. X. Его отец, Никомах, был придворным врачом
македонского царя Аминты. В жизни Аристотеля мы отметим два события, имевших
особенно существенное значение: это, во-первых, вступление на 18 году от роду
в круг учеников Платона, где он и остается до самой смерти Платона, а во-вторых,
приглашение его в 342 году ко двору Филиппа Македонского, где Аристотель был
воспитателем юного Александра. Благодаря этой связи с македонским двором
и собственному довольно значительному состоянию Аристотель имел
возможность пользоваться всеми средствами тогдашнего образования. Приблизительно
в 335 году Аристотель основывает в Афинах школу высшего образования, которая
вследствие обычая вести научные беседы во время прогулок получила название
перипатетической. Здесь Аристотель, подобно Платону, является центром
философского кружка друзей и последователей, с которыми он делится своими
умственными богатствами. Дошедшие до нас сочинения Аристотеля суть, по всей
вероятности, записки философа, служившие основанием для устных бесед с
учениками; в этих разговорах они получили дальнейшее развитие и дополнение.
Исходной точкой учения Аристотеля служит критика Платонова идеализма.
Идея Платона враждебна движению и перемене, она исключает из себя
разнообразие и множество индивидуальных вещей. Аристотель в противоположность
Платону исходит из представления беспрерывного мирового движения как
генетического процесса, в котором рождается бесконечное множество индивидуальных
существ. Платон утверждает, что разнообразие индивидуальных явлений, их
беспрерывное движение есть призрак и ложь; истинно существует только общее
родовое представление — идея; напротив, Аристотель утверждает, что истинно
существуют только единичные предметы, что только единичные вещи, как,
например, этот стол, эта лошадь, этот человек, суть в полном смысле слова —
реальные существа, сущности; что общие представления, как, например, понятие
стола вообще, или лошади вообще или, говоря языком Платона, идеи не суть
реальные существа, а только общие свойства единичных предметов. Общие
представления целого класса вещей не суть самостоятельные существа, сущности,
например представление человека вообще, идея человека не есть сущность,
не есть живое и мыслящее существо, божество, как утверждает Платон, а только
общее свойство, общее представление целого класса существ, называемых общим
именем «человек». Общее представление целого класса не существует отдельно от
единичных особей данного класса; каждый единичный предмет, каждая
единичная особь, например этот человек, Петр или Иван, эта лошадь и тому подобное
есть сущность (ουσία). Но общее родовое понятие человека, идея не есть
сущность — ουσία, в собственном смысле слова, не есть самостоятельное существо.
Под сущностью, или субстанцией (ουσία), разумеется только то, что существует
само по себе, что не может служить предикатом, свойством чего-нибудь другого:
так, например, этот стол не может послужить предикатом другого предмета,
потому что он сам по себе есть самостоятельное существо, предмет, следовательно, сам
может быть только носителем различных свойств, ему принадлежащих, а не
свойством чего-либо другого. Напротив, понятие стола вообще не есть
самостоятельный предмет, а только общее свойство целого класса предметов, которое может по-
90
служить предикатом для каждого из них. Родовое понятие выражает собою
общую природу целого класса, общее его свойство: в собственном смысле оно не
заслуживает названия сущности. Но так как оно выражает собою существенное
отличие, свойство целого класса, то Аристотель называет его сущностью не
в первоначальном, а во вторичном смысл слова, так сказать, в переносном
значении — δεύτερα ουσία. Итак, значение реальной самостоятельной сущности
принадлежит только единичному существу: оно есть πρώτη ουσία — первоначальная
сущность в противоположность родовому представлению, идее, которая есть
δεύτερα ουσία, то есть вторичная сущность. Родовые идеи не существуют отдельно
от множества единичных предметов: общее представление целого класса вещей
существует и проявляется только в конкретных особях данного класса; Платон,
противополагая идею явлениям, утверждал, что идеи существуют отдельно от
явлений в мыслимом месте, что идеи образуют собою особый замкнутый мир; эта
самостоятельность, отрешенность идеи от чувственного явления и есть то, что мы
разумеем под словом «трансцендентность». Идея Платона трансцендентна миру
явлений. Напротив, Аристотель отрицает такую отрешенность,
самостоятельность идеи, ее отдельное существование от явлений; идея как общее
представление целого класса единичных вещей, особей есть внутреннее свойство всех этих
особей; например, идея человека есть общее внутреннее свойство всех людей и как
такое не существует отдельно от единичных людей; это и есть то, что разумеется
на современном философском языке под словом «имманентность»: идея, по
учению Аристотеля, имманентна явлениям (имманентный в этом смысле значит то
же, что внутренний).
При всем своем разногласии с Платоном Аристотель не только не отрицает
безусловно Платонова учения об идее, но полагает его в основу собственного
учения. Аристотель отрицает только существование идей как отдельных,
самостоятельных существ, но признает идеи как формы всего существующего,
притом как формы имманентные, внутренние; в каждом данном классе особей
общее представление класса, идея есть форма, φορμή, всех особей данного
класса. Например, идея человека есть общая форма всех единичных особей
человеческого рода; общее представление стола — форма всех единичных столов
и т. п.; эта форма не может существовать отдельно от содержания, идея стола
не может существовать отдельно от единичных столов. Итак, идеи как общие
родовые свойства суть формы всего существующего; как таковые они
содержатся во всех существах, все проникают собою. Они составляют вечный,
непреходящий элемент в вещах; единичные существа меняются; они возникают
и уничтожаются; но идеи, или, как называет их Аристотель, формы всех вещей
пребывают вечно, не рождаютЬя, не умирают и не меняются; они суть вечная
необходимость, непреложный закон, которому подчинено все существующее.
Форма вещей, их общее, родовое представление есть то, что не может быть
иначе, τόουκ έγδεψόμενον âXXcoç εχειν. Напротив, чувственные свойства вещей
изменчивы, непостоянны и случайны; они могут быть и не быть, могут возникать
и уничтожаться.
Форма сама по себе не есть нрчто чувственное: она познается умом, а не
чувствами. Начало множества вещей и первоначальный источник всех их
чувственных свойств есть материя, ολη. Все вещи суть результаты соединения двух
начал: возникновение, рождение сещей есть не что иное, как соединение этих
двух противоположных начал, воплощение формы в материю. Форма
выражает собою вечную действительность вещей; она есть производящее, деятельное
91
начало и вместе конечная цель всего существующего. Напротив, материя есть
начало пассивное и бесформенное; она сама по себе не содержит в себе никаких
качеств и представляет собою только возможность всяких качеств. Она не есть
бытие в собственном смысле, а только возможность бытия. Только через
соединение с формой материя переходит из возможности в действительность,
становится реальным бытием. Форма, таким образом, есть начало положительных
свойств вещей, их вечная действительность, ενέργεια. Материя же сама по себе,
взятая отдельно от формы, есть небытие и представляет собою возможность
бытия. Таким образом, у Аристотеля, как и у Платона, мы находим два основных
начала, которые, соединяясь, проникая друг в друга, порождают все
разнообразие существующего, — форму и материю. Форма соответствует идее: она есть
начало производящее, деятельное и вместе с тем представляет собою конечную
цель всего существующего; все существующее тяготеет к известным типам,
формам; конечная цель развития каждого живого существа заключается в
осуществлении известного типа, формы. Напротив, материя есть начало
пассивное, бесформенное, она отличается от материи Платона только тем, что она
определяется как возможность бытия, δύναμη δυνάμει όν, тогда как в Платоновой
философии материя есть просто небытие, лишение всех свойств бытия, απλώς,
μη όν στέρηση. Главное отличие Аристотеля от Платона заключается в том, что
первый в противоположность последнему не допускает отдельного
существования формы от материи; форма существует только в материи, только в
единичных существах; каждое единичное существо содержит в себе эти два
необходимых элемента — форму и материю. С точки зрения Платона, множество
и разнообразие вещей представлялось призрачным и ложным; Аристотель же
признает за каждым единичным существом значение реальной сущности.
Осуществление формы в материи есть беспрерывный процесс движения, генезиса
существ. Поэтому, в противоположность Платону, который считает движение
свойством ложного, призрачного мира, Аристотель признает реальность,
существенность движения, признает движение как первоначальный, необходимый
закон вселенной.
Движение есть всеобщий закон взаимного отношения формы и материи.
Материя жаждет формы, стремится к ней; отсюда и вытекает мировое движение:
движение возникает везде, где только существуют и соприкасаются эти два
элемента. Так как и то и другое, и материя и форма, существуют вечно, и так как
форма беспрерывно действует на материю, то процесс мирового движения есть
вечный процесс: не имеет ни начала, ни конца во времени. Всякое движение
предполагает движущую причину, начало движения, отличное от самого
движущегося существа; эта движупдая причина дает первоначальный толчок
движению. Если всякое движение предполагает движущую причину — двигателя,
то двигатель в свою очередь предполагает другого двигателя, этот третьего и т. д.
Таким образом, последовательно восходя в ряду движущих причин, мы дойдем
наконец до первоначального двигателя, первоначального источника движения,
который всему сообщает движение, все двигает, всем управляет, но сам остается
недвижим. Если бы мы допустили, что ряд движущих причин нигде не
заканчивается, продолжается в бесконечность, то мы должны бы были прийти к
отрицанию безусловного начала, первоначального основания, источника движения; все
мировое движение не имело бы ци начала, ни конца, не имело бы безусловного
основания, а потому было бы невозможно. Чтобы объяснить мировое движение,
нужно допустить такой мировой двигатель, который всем двигает, но сам остает-
92
ся недвижим. Первоначальный двигатель безусловно не материален, потому что
все материальные, телесные существа находятся в процессе беспрестанного
движения и перемены; это существо безусловно духовное, бесплотное, чистая
мысль, отрешенная от всего материального, вещественного. Эта чистая мысль
есть божество безусловно разумное, мыслящее существо, ум (vooç). Таким
образом, Аристотель приходит к признанию бессмертного, вечного, мыслящего
разума, который управляет мирозданием; этот мыслящий разум вместе с тем
является первоначальным двигателем, источником мирового движения. Деятельность
божества заключается в мышлении; она есть не что иное, как беспрерывное
созерцание; так как Бог обладает в самом себе бесконечным совершенством,
полнотою бытия, то вне его ничего нет; Он содержит в себе полноту вселенной,
обнимает в акте мышления все существующее. Он все мыслит и всем обладает; так как
вне его ничего нет, так как Он есть все, содержит в себе все, Он мыслит только
самого себя; мышление его не обращено к какому-либо внешнему предмету, так
как вне его ничего нет. Он есть чистая мысль, сама себя мыслящая. Раньше мы
видели, что все мировое устройство определяется соединением двух начал:
формы и материи; форма в противоположность материи есть начало идеальное,
духовное. Бог обладает в своем мышлении, заключает в себе формы, типы всего
существующего, потому что Он всем обладает и все мыслит, то есть Он есть форма
всех форм. Мы раньше видели, что форма не существует отдельно от материи, что
деятельность формы проявляется исключительно в материальных телесных
существах. Один только Бог существует отдельно от вещества: один только
мыслящий разум не имеет в себе ничего плотского, телесного, не содержит в себе ни
малейшей примеси, материи. Это Божество, безусловно нематериальное, тем не
менее является началом физического движения, первоначальным мировым
двигателем. Воздействие божественной мысли на природу не должно быть
понимаемо как внешний, механический толчок, а как чисто идеальное, духовное
воздействие: Бог определяет собою мировой процесс, будучи конечной целью
движения, все существующее к нему стремится. Вещество тяготеет к форме,
желает ее, стремится к ней. С другой стороны, форма осуществляется в материи,
воплощается в ней; это воплощение формы в материи и составляет собою
сущность мирового процесса. Таким образом, в метафизике Аристотеля мы
различали два основных начала: материю и форму; форма не существует отдельно от
материи: идеи, типы вещей не существуют отдельно от единичных, чувственных
существ. Только высшая форма, форма всех форм, Божество, свободна от
материи, существует отдельно от материи. Этот Бог не создал материю, Он
существует одинаково вечно с нею, а только управляет, двигает ее; как божественный vooç
Анаксагора он не есть Творец мироздания, а только архитектор, художник,
пользующийся уже данным, готовым материалом.
Основные начала физики в их отношении к учению о человеке
Цель мирового процесса есть осуществление формы в материи; форма, в
противоположность материи, есть начало божественное; поэтому конечная цель
мирового процесса определяется как осуществление божественного порядка в природе.
Природа с этой точки зрения представляется не сочетанием слепых,
механических сил, а целесообразным разумным порядком: всякий физический процесс,
с точки зрения Аристотеля, определяется конечною целью. Эту цель в каждом
93
данном предмете, в каждом природном существе составляет форма — общий
родовой тип, к которому тяготеет данное существо в своем развитии, например,
конечную цель развития каждого человека составляет идея человека и т. п. Каждое
существо стремится к воплощению формы в красоте, совершенстве своего строения,
а человек, кроме того, осуществляет идею и в совершенстве своего духовного
склада. Форма, таким образом, определяет собой природное бытие как цель
внутренняя, имманентная, а не внешняя. Каждое природное существо само в себе имеет
свою внутреннюю цель, присущую ему форму; вот почему отношение формы
к единичным существам определяется словом εντελέχεια, что значит внутренняя
цель (от εν αύτφ τέλος έχειν10). Вся природа представляет собою царство разумных
целей, иерархическую лестницу существ, из коих низшие подчинены высшим.
Конечную высшую цель всего мирового устройства составляет Божество; весь
природный порядок стремится осуществить в себе высшее совершенство
Божества. Этим определяются основные начала учения Аристотеля о природе: природа
как конкретное соединение формы и материи определяется, во-первых, присущей
ей самостоятельной внутренней целью, к которой тяготеет все природное
развитие; и во-вторых, природа есть начало самодеятельное, самобытное; она обладает
сама в себе способностью самостоятельного движения, развития, деятельности.
Это начало самобытной деятельности, присущее природе, есть прежде всего
способность произрождающая, на что указывает и сама этимология слова φύσις, от
φύειν — порождать. В своем стремлении уподобиться совершенству Божества
природа производит бесконечное разнообразие существ; эти существа образуют собою
ряд последовательных ступеней совершенства; в этой лестнице существ низшее
место занимают мертвые, неорганические массы вещества, стихий; следующую
высшую ступень составляет мир растительный, затем животный, и, наконец,
последнее высшее место в лестнице существ занимает человек: в нем природа
достигает своего высшего совершенства. Из всех живых существ человек один обладает
божественною способностью, и даже можно сказать, частица Божества есть ум,
мышление. Один человек обладает умом, а потому он один среди всех природных
существ является представителем божественного начала в мироздании; этим
объясняется царственная роль человека на земле. Как представитель божественного
совершенства человек есть цель, к которой стремится все природное развитие; вот
почему он завершает собою цепь природных существ; все животные в сравнении
с человеком несовершенны; все они суть не что иное, как несовершенные,
неудачные попытки природы — произвести человека. Во всех своих несовершенных
произведениях природа стремилась к одной конечной, высшей цели; эта высшая
цель, человек — последний фазис природного развития. Чем же объясняется
бессилие природы произвести с^азу самое совершенное, наилучшее создание?
Почему в порядке последовательного развития человеку предшествует ряд
несовершенных форм? Это объясняется борьбой двух противоположных начал, из коих
слагается мироздание, — формы и материи: форма есть начало всего прекрасного
и доброго в мироздании, начало деятельное, производящее, творческое; материя,
напротив, есть начало пассивное, косное и вместе с тем начало всего
несовершенного и злого в мире. Материя »сопротивляется форме: этим сопротивлением
материи объясняется возникновение несовершенных и даже уродливых существ,
объясняется то, почему божественное начало — форма не в состоянии сразу осилить
сопротивления материи, почему для произведения совершеннейшего, высшего
существа — человека нужен медленный и постоянный процесс развития.
Совершеннейшее, наилучшее существо является не первой, а последней ступенью,
94
не началом, а концом мирового развития. Отношение формы к материи в
процессе развития может быть пояснено примером художника, делающего статую из
меди: медь сопротивляется мысли художника, который хочет отлить из нее
прекрасную форму статуи. Искусство не сразу стало на высокую ступень развития,
при которой материал является совершенно послушным резцу художника; оно
должно было начать с ряда несовершенных попыток, пройти ряд
последовательных ступеней развития, прежде чем дойти до того высшего совершенства, какое
представляют статуи Фидия. Так и в природе произведение наилучшего, создание
совершеннейшего, высшего существа, человека, требует медленного,
постепенного прогресса. Таким образом, Аристотель вносит в учение о природе
представление последовательного, беспрерывного генезиса развития и с этой стороны
является предшественником современного, естественнонаучного миросозерцания.
Учение о человеке. Понятие о человеческой душе
У Аристотеля, как и у Платона, человек занимает посредствующее положение
между двумя мирами: с одной стороны, он есть физическое существо — вещь
между вещами, член природного целого, с другой — он обладает божественною
способностью, мышлением, бессмертным умом, который вводит его в общение с
Божеством. Эта двойственность выражается прежде всего в учении о душе человека.
Душа, по учению Аристотеля, есть не что иное, как органическая форма; с этой
точки зрения душа составляет основное отличие мира органического от
неорганического; по определению Аристотеля, душа есть εντελέχεια ή πρώτη σώματο$
φυσικού οργανικού, то есть душа есть энтелехия, или, что то же, форма
физического и притом органического тела. Весь органический мир как таковой, все растения
и животные обладают душой: душа, во-первых, самодеятельное начало жизни
и движения, присущее каждому живому существу, каждому органическому телу,
растению или животному; во-вторых, его самобытная, внутренняя цель и,
в-третьих, начало формы. Как таковая душа определяет собою телесное строение
каждого существа, органический тип. Развитие каждого органического существа
тяготеет к известному типу, который и составляет конечную цель развития, душа
есть именно эта присущая живым существам сила жизни, энергия, которая
заставляет их принимать тот или другой облик, то или другое строение тела,
определяет собой соотношение органов. Душа, таким образом, есть производящее
начало всех жизненных отправлений органических существ. В мире растительном
деятельность души сводится к питанию и размножению; этим ограничиваются
все жизненные функции растения; в мире животном к этим растительным
процессам присоединяется еще другое высшее проявление жизни, именно ощущение,
способность чувственного восприятия; а также у большей части животных
способность перемены места, способность передвижения в пространстве.
Человек, как высшее совершеннейшее существо, соединяет в себе всю полноту
жизненных определений органического мира. В нем происходят, во-первых,
растительные процессы питания и размножения; он обладает растительной душой;
к этому присоединяется общая всему животному миру способность чувственного
восприятия и пространственного передвижения. Таким образом, человеческая
душа соединяет в себе жизненнее сцособности растительной и животной души.
К этим низшим способностям присоединяется высшая, божественная
способность, составляющая отличие человека среди всех живых существ. Эта высшая
95
способность есть ум — vouç. Форма, по Аристотелю, не существует отдельно от
материи, душа как форма, энтелехия органического тела не существует вне
конкретного органического соединения с телом: душа возникает вместе с телом и вместе
с ним уничтожается. Душа есть присущая телу жизненная способность, энергия;
а потому тело составляет такое же необходимое условие индивидуальной,
органической жизни, как и душа; душа не может существовать вне тела. С этой точки
зрения Аристотель восстает против учения Платона о существовании души,
которое предшествовало телесной жизни; а равным образом и против учения о
бессмертии. Аристотель вовсе отрицает индивидуальное бессмертие. Одна только
высшая способность человеческой души составляет исключение: один только
мыслящий разум бессмертен. В противоположность низшим душевным
способностям ум не есть только неразделенная энергия, форма индивидуального тела; он
существует вечно, не возникает и не уничтожается вместе с телом; он существует
и отдельно от тела. Каким же образом ум соединяется с другими душевными
способностями? Каким образом бессмертная частица Божества вступает в союз со
смертным телом? Растительная и животная душа существует в скрытом
состоянии уже в мужском семени, сперме; она возникает вместе со спермой и
проявляется уже в человеческом зародыше. В противоположность смертной части души
ум не содержится в зародыше: он привходит извне; присоединяется к зародышу
еще до рождения. Он не имеет своего специального органа, седалища в теле;
неизменный по своей природе, он продолжает свое существование и после смерти тела.
Но это бессмертие одной душевной способности не должно быть понимаемо как
бессмертие индивидуальное, личное; ум сам по себе не имеет ничего
индивидуального; это существо безличное, чистая мысль, не имеющая никаких
индивидуальных определений; только в соединении с телом, в союзе с низшими душевными
способностями ум является неразделенным свойством личности; существование
личности кончается, как только разрывается этот временный, случайный союз
духа с плотью.
Учение о нравственной деятельности. Этика
Посредствующим положением между миром божественным и материальным,
природным, определяются задачи и цели человеческой деятельности;
соотношением душевных способностей определяется характер нравственной деятельности.
Безусловная, конечная цель человеческой деятельности — есть счастье. Изо всех
целей, которые мы преследуем, одно только счастье желательно само по себе,
ради самого счастья. Все остальные предметы нашего желания суть средства по
отношению к этой главной цели.
Все согласны в том, что счастье есть высшая безусловная цель. Но одни
полагают счастье в чувственном наслаждении, другие видят счастье в общественной
жизни и деятельности, наконец, третьи видят высшую цель жизни в
теоретическом созерцании. По-видимому, всякий понимает счастье по-своему, сообразно
с своими интересами и наклонцостями. Но мерилом счастья не может быть
произвол единичного субъекта. Счастье заключает в себе два существенных элемента.
Во-первых, оно заключает в себе высшее, объективное благо, которое коренится
не в субъективном произволе,, а в,самой природе вещей: например, красота сама
по себе есть благо, независимо от эстетического вкуса того или другого субъекта.
Во-вторых, счастье есть благо для каждого единичного человека, то есть не толь-
96
ко объективное, но и субъективное; это человеческое благо должно быть таково,
чтобы удовлетворять в себе человеческие интересы, быть предметом наслаждения
для каждого. Счастье, таким образом, заключает в себе два существенных
элемента: объективное благо и субъективное наслаждение; в сочетании этих двух
элементов и заключается высшее совершенство человеческой жизни. Для каждого
живого существа высшее благо заключается во всестороннем развитии его
деятельности, в активном проявлении всех его душевных сил, в раскрытии всей его
жизненной энергии. Счастье каждого существа состоит в осуществлении его
конечной цели. Конечная цель человека как разумного существа есть, прежде всего,
разумная деятельность.
Теоретическая способность, ум составляет отличие человека от всех живых
существ, и высшее счастье человека, следовательно, заключается прежде всего
в проявлении этой деятельной высшей способности.
Но человеческая душа состоит не из одного разума; она заключает в себе
низшие силы и способности. Счастье состоит в полном развитии всех душевных сил,
в согласии всей душевной деятельности с разумом, которому как высшей,
божественной способности принадлежит господство, управление всем существом
человека. Жизнь, согласная с разумом, и есть добродетель. Таким образом, человек как
существо разумное не может прозябать подобно растению; он не способен
поглощаться грубыми животными наслаждениями; мыслительная деятельность
отличает человека от прочих органических существ, и, следовательно, высшее счастье
человека состоит в осуществлении разумной мыслящей способности, то есть в
добродетели; иначе говоря, счастье есть жизнь души, согласная с добродетелью.
Высшее проявление разумной деятельности есть созерцание, θεωρία, а высшее
счастье, следовательно, есть созерцательная жизнь, ßioc θεωρητικός. Всякая
практическая деятельность предполагает стремление к внешним целям и,
следовательно, зависимость от внешних условий; так, например, деятельность
общественная, политическая или военная зависит от множества внешних, случайных
обстоятельств; ни одна из этих деятельностей не есть сама по себе цель, не есть
сама по себе благо; каждая из них стремится к достижению внешних результатов,
которые не всегда зависят от свободной воли человека; практическая
деятельность желательна не сама по себе, а ввиду внешних целей; следовательно,
практическая деятельность не есть высшая, конечная цель нашей жизни. Напротив,
созерцательная деятельность сама по себе есть высшее благо, а потому желательна
сама по себе, независимо от каких бы то ни было внешних результатов и выгод.
Созерцание само по себе есть высшее наслаждение; ßioc θεωρητικός, таким
образом, соединяет в себе два главных элемента счастья: во-первых, объективное
благо, а во-вторых, субъективное Наслаждение. В созерцании, в мышлении человек
отрешается от всего материального, внешнего; он уподобляется Божеству,
которое есть чистая мысль, сама по себе мыслящая, бесплотный созерцательный ум,
чуждый практической деятельности.
Но мыслящий разум не исчерпывает собою всех сил и способностей
человеческой души; вот почему человеческое счастье не исчерпывается одним
теоретическим наслаждением; и созерцание! не есть исключительное человеческое благо; как
существо природное, телесное человек зависит от внешних физических условий;
он нуждается во внешних благах; счастье человека требует удовлетворения не
только теоретических, но и практических интересов; между тем практическая
деятельность зависит от множества внешних условий, стоящих вне свободной воли
человека, от случайности жребия: например, та польза, которую приносит граж-
4 Зак. 3911 97
даыин государству, зависит не только от личной доблести, но и от таких условий,
как богатство, благородное происхождение и т. п. Без этих внешних условий
деятельное проявление многих гражданских доблестей было бы невозможно;
добродетель нуждается во внешних благах для своего осуществления. Добродетель не
есть только внутреннее, субъективное свойство личности: мерилом практической
деятельности является не счастье одинокого субъекта, а счастье всех — общее
благо. Самый разум, теоретическая деятельность не есть свойство одинокой
личности: разум проявляется прежде всего в союзе разумных существ, в общежитии.
Общежитие составляет безусловную высшую цель человеческого существования;
вот почему практическая добродетель лица есть то же, что пригодность,
полезность его для целей общежития. Для блага общежития недостаточно одних
внутренних, душевных качеств: чтобы быть полезным членом общества,
недостаточно быть умным, храбрым, честным и т. п.; кроме всех этих душевных
качеств для этого требуются еще и такие внешние условия, как, например,
гражданское происхождение и известный достаток: служба государству требует от
гражданина материальной состоятельности. Таким образом, судьба человека,
а следовательно и его счастье, зависит не только от его внутренних качеств, но и от
внешних условий; человек добродетельный и мудрый спокойно переносит удары
судьбы и лишения; но никто не назовет счастливым жребий Приама, хотя, с
другой стороны, никто не оспаривает значения Приама как представителя
героической доблести11.
Счастье заключает в себе объективное благо и субъективное наслаждение.
Осуществление объективного блага есть добродетель; наслаждение же предполагает
кроме добродетели известные внешние условия, совокупность благ внешних.
Поэтому точно так же можно сказать, что счастье слагается из двух элементов:
добродетели и совокупности внешних благ; из этих двух элементов первое место
принадлежит добродетели; внешние блага должны быть ценимы, лишь поскольку
они служат добродетели. Понятие о добродетели определяется известным
учением о душе: человеческая добродетель есть не что иное, как осуществление
конечной цели человеческой деятельности; эта конечная цель заключается в раскрытии
всех душевных сил. В душе должно различать, во-первых, разумную, мыслящую
способность, а во-вторых, неразумную, животную и растительную природу,
способность желания и ощущения; эта способность, сама но себе неразумная, может,
однако, подчиняться разуму, и в этом заключается ее добродетель.
Соответственно этим двум частям души, мы различаем два рода добродетелей: во-первых,
добродетели умной, мыслящей части души, таковы: мудрость, благоразумие,
рассудительность и т. п. Это добродетели умные или, как их называет Аристотель,
дианоэтические (от διάνοια — ум); во-вторых, добродетели неразумной, но
управляемой разумом части души -+- добродетели этические, таковы суть, например:
справедливость, храбрость, умеренность. Последние, собственно, и составляют
область этики, а потому спрашивается, что же такое этическая добродетель?
Добродетель не есть отдельный поступок; она не есть временное душевное состояние,
преходящий аффект: она есть прежде всего постоянное свойство души, в силу
которого душа постоянно руководствуется известной нормой, правилом в своей
деятельности; добродетель, таким образом, не есть только теоретическое сознание
разума, но постоянное свойство воли,'природное качество души, укоренившееся
путем долголетнего воспитание и упражнения. С этой точки зрения Аристотель
решительно восстает против сократического учения, которое сводит добродетель
к чисто теоретической деятельности познания: например, справедливость не есть
98
только познание справедливого; мы не называем справедливым того, кто, обладая
теоретическим сознанием справедливости, поступает в противоречие с этим
сознанием; мы не назовем справедливым и того, кто в единичных случаях
поступает справедливо; а только того, кто во всей своей деятельности постоянно
и неизменно пользовался и руководствовался правилами справедливости;
добродетель, таким образом, есть теоретическое правило, обратившееся в неизменное
природное качество души, в неразделенное свойство характера. Добродетель,
таким образом, есть результат взаимодействия двух факторов: природной
наклонности и разума; для того чтобы правило разума стало определяющим началом
нравственной деятельности, требуется еще третье условие: привычка.
Добродетель вырабатывается только путем привычки следовать известному общему
правилу в целом ряде однородных случаев. Никто не рождается добродетельным;
добродетель не есть врожденное, природное свойство: добродетель предполагает
свободную деятельность разума, свободу выбора между добром и злом; с другой
стороны, недостаточно одной теоретической, разумной деятельности,
недостаточно одного сознания добра для того, чтобы быть добродетельным; для этого нужно
определенное направление воли, известный склад характера, который
приобретается только путем долговременного воспитания и упражнения; необходима
привычка; для того, чтобы быть справедливым, нужно привыкнуть поступать
справедливо.
Таким образом, природа, привычка и разум суть три основных условия
добродетели. Как разумная деятельность добродетель свободна. Человек в самом себе
заключает самобытное начало всей своей нравственной деятельности, он есть
причина всех своих действий; всякий единичный акт нашей воли есть результат
свободного выбора; в каждом данном случае мы свободно выбираем между добром
и злом; если же в целом ряде однородных случаев мы выбираем известное
нравственное действие, неизменно следуем одному и тому же правилу, то в конце концов
складывается известная привычка, нравственное правило обращается в
постоянное свойство характера, в добродетель. Таким образом, наша нравственная
свобода, способность свободного выбора определяет не только единичный акт нашей
воли, но участвует в самом образовании нашего характера. Поэтому человек
ответствен не только за каждый свой единичный поступок, но и за весь свой
нравственный склад; в противоположность Сократу, который утверждал, что никто не
бывает добровольно злым, Аристотель учит, что зло так же добровольно, так же
свободно, как и добро; утверждая противоположное, мы в самом корне
подкапываем понятие о нравственной ответственности; если мы допустим, что можно быть
злым против воли, что человек не есть виновник своих собственных злых
действий, то мы должны последовательно отрицать вменяемость преступлений; с этой
точки зрения уголовный закой, карающий преступников, обращается в
вопиющую несправедливость. Таким образом* в основе нравственной деятельности
лежит способность свободного выбора; но эта способность выбора не должна быть
понимаема как абсолютная свобода воли; конечная цель нравственной деятельности
находится вне сферы человеческой свободы; конечные цели деятельности
предопределены извне и потому не зависят от человеческого произвола; каждое наше
нравственное действие предполагает уже извне предопределенную цель; мы
свободны лишь в выборе средств для осуществления этой цели; например, конечная
цель политической деятельности есть общественная польза, общее благо; человек
свободен лишь в выборе средства для осуществления этой цели; определение же
самой цели, самой сущности блага лежит вне свободной воли человека. Конечная
99
цель человеческого существования предопределена, а потому не зависит от
свободного выбора.
Таким образом, в понятие добродетели входят два существенных признака: во-
первых, она есть постоянное и неизменное свойство характера; во-вторых, она
есть результат свободной деятельности.
Оба эти определения слишком общего, отвлеченного свойства; недостаточно
знать, что добродетель есть свойство характера; спрашивается, какое свойство?
Как в каждом данном случае проявляется нравственная свобода? Добродетель
есть осуществление объективного блага. Как же, спрашивается, осуществляется
в каждом данном случае это благо? На этот вопрос мы получаем следующий ответ:
в природе каждого человека, как и существа и каждой деятельности,
заключается известная мера; с нарушением этой меры уничтожается органическое
равновесие; для нашего душевного благосостояния, точно так же, как и для нашего
телесного здоровья, вредны излишества и недостатки; живой организм может быть
погублен излишком, точно так же, как недостатком питания; здоровье,
благосостояние организма зависит от соблюдения известной меры, известной середины
между излишком и недостатком; точно так же нормальное, счастливое состояние
нашей души зависит от соблюдения ее середины между двумя крайностями;
соблюдением середины между излишеством и недостатком определяется и задача
практической, или этической, добродетели. Каждая добродетель есть не что иное,
как середина между двумя крайностями, двумя пороками: так, например,
щедрость есть середина между расточительностью и скупостью; храбрость есть
середина между безумной отвагой, сумасбродством и трусостью. Середина в каждом
данном случае определяется практическим тактом, благоразумием его. Таким
образом, добродетель определяется как преднамеренное направление характера,
состоящее в соблюдении середины, определяемой для нас разумом согласно с
требованием благоразумия.
Разбирая различные добродетели, Аристотель всего дольше останавливается
на учении о справедливости, которому он посвящает целую книгу своей этики.
Справедливость есть добродетель политическая по преимуществу; вот почему
Аристотель всего дольше сосредоточивает на ней свое внимание и вот почему
учение о справедливости представляет для нас особенный интерес. Справедливость,
в широком, эллинском смысле слова, не есть только одна из добродетелей; говоря
словами Аристотеля, она не есть часть, а вся добродетель: в этом широком смысле
слова понятие справедливости совпадает с понятием добродетели вообще,
заключая в себе все частные добродетели. Какова же всеобщая норма справедливости?
Это всеобщая норма, определяющая в каждом данном случае, что справедливость
есть закон. С точки зрения народного эллинского миросозерцания закон есть
безусловное мерило нравственного и безнравственного; в согласии с народным
миросозерцанием Аристотель учит, что справедливость есть то же, что законное, что
несправедливое есть то же, что противозаконное. Но это верно только
относительно наилучшего общежития. Только в наилучшем государстве закон совпадает
с безусловной справедливостью; в действительности же существующие
положительные законодательства часто отклоняются от справедливости, часто служат
другим интересам, ничего общего со справедливостью не имеющим; поэтому
в действительности закон и справедливость не всегда совпадают и часто
противоречат друг другу. Поэтому Аристотель различает справедливое по природе от
справедливости законной, как результата произвольного соглашения людей.
Существенный признак справедливости заключается в том, что она определяет отно-
100
шение к другим людям, что, следовательно, она в широком смысле обнимает
собою всю нравственную деятельность в ее отношении к ближним, к общежитию.
Аристотель именно и рассматривает ее с этой точки зрения, оставляя в стороне
первоначальное определение справедливого как законного. Наряду с понятием
справедливости в широком смысле слова, как добродетели вообще, Аристотель
устанавливает другое понятие справедливости как специальной добродетели,
справедливости в тесном смысле слова. Так понимаемая справедливость есть
добродетель, распределяющая пользование различными благами в общежитии между
отдельными его членами. Эти блага суть состояние, имущество и честь. Во
всеобщем соперничестве личных стремлений, среди всеобщего столкновения интересов
материальных и личных справедливость определяет собой порядок соотношения
этих противоположных интересов, разграничивает сферу деятельности
отдельных лиц, определяя правомочия каждого. Справедливость в этом смысле слова
определяет место каждого человека в общежитии, его отношение к власти и к
материальным благам, его права политические и частные — имущественные.
Положение человека в обществе определяется известной мерой, границей: отношение
ко внешним благам также определяется серединой между излишеством и
недостатком; отыскание этой меры, этой середины и составляет задачу
справедливости. Справедливость, таким образом, заключается в пропорциональном
разделении благ между отдельными членами общежития; основной принцип ее есть
равенство; это-то равенство и определяет собой середину между излишеством и
недостатком. Как в живом организме благосостояние и здоровье целого зависит от
равномерного питания всех частей, так и в общежитии общее благо требует
равномерного распределения материальных и духовных благ между отдельными
членами: справедливость, таким образом, есть то же, что органическое равновесие;
справедливости противоречит неумеренное преобладание одного члена общества
или сословия над другим; излишнее благосостояние, богатство, с одной стороны,
точно так же, как и недостаток, бедность — с другой; справедливость, таким
образом, есть, во-первых, деятельность распределяющая и, во-вторых,
уравнивающая. Как распределяющая справедливость, так и уравнивающая суть лишь две
стороны одной и той же деятельности, одно и то же понятие справедливости.
Справедливость распределяющая заключается в пропорциональном разделении
благ между отдельными членами общежития, в установлении равенства. Эта
пропорциональность не арифметическая, а геометрическая: каждый отдельный член
общежития пользуется материальными и духовными благами пропорционально
своим достоинствам. Общественное положение каждого отдельного члена
общежития определяется его общественными заслугами и личными качествами; и как
личные качества, таланты и достоинства людей не одинаковы, точно так же не
должно быть одинаково и имущественное благосостояние, и степень власти,
почести, какими пользуется каждый. Равенство, которого требует справедливость,
есть равенство χατ'άξίαν12, то есть по достоинству, а не поголовное, равенство
пропорциональное. Если Ахилл вдвое превосходил Аякса своими личными
достоинствами, то Ахилл вдвое против Аякса должен пользоваться честью и
материальным благосостоянием: таков принцип распределяющей справедливости.
Уравнивающая справедливость определяет частные отношения лиц между собою,
разграничивает сферы частных прав и интересов, заботится о том, чтобы никто не
вторгался в чужую сферу интересов, чтобы никто не нарушал прав ближнего;
справедливость уравнивающая заключается в восстановлении органического
равновесия прав и обязанностей там, где она нарушается вторжением одного лица
101
в сферу другого; она восстановляет нарушенное право, вознаграждает
потерпевшего и отнимает у лица, нанесшего ущерб, выгоду, приобретенную им за счет
другого: принцип уравнивающей справедливости есть пропорциональность, но не
геометрическая, а арифметическая. Вознаграждение лица потерпевшего должно
быть равно причиненному ему ущербу. Справедливость уравнивающая, таким
образом, не должна быть понимаема как справедливость карающая; она не есть
возмездие; она не наказывает преступника, а только отнимает похищенное им,
уничтожает, с одной стороны, неправильно приобретенную выгоду, а с другой —
причиненный ущерб. Она только восстановляет нарушенное равенство —
состояние, предшествовавшее правонарушению.
Справедливость уравнивающая регулирует все отношения частных лиц между
собою; в частных договорах она установляет то же отношение между
контрагентами, при котором выгоды, получаемые каждой стороной, и услуги, которые
оказывают одна другой, взаимно друг друга уравновешивают. Здесь также господствует
принцип равенства, но уже в смысле арифметической пропорциональности;
каждый из договаривающихся получает выгоду, совершенно равную оказанной им
услуге: так, например, плата рабочего есть эквивалент его труда и т. п. В договорах,
касающихся мены, обмениваемые ценности также должны быть равны; но
количества обмениваемых продуктов обратно пропорциональны их стоимости; то есть
чем дешевле стоит один продукт, тем большее количество его потребуется для
того, чтобы уравновесит стоимость другого, более дорогого продукта. Положим,
например, что сапожник обменивается с земледельцем; допустим, что пара сапог
стоит столько же, сколько пять мер пшеницы. Очевидно, что количество мер
пшеницы будет в пять раз превосходить число пар сапог, то есть что количества
обмениваемых продуктов будут обратно пропорциональны их стоимости.
Обмениваемые продукты находятся между собою не в арифметической, а в геометрической
пропорции. Общую естественную меру ценности различных продуктов составляет
потребность в данного рода товарах; но ввиду удобства мены установлена другая,
искусственная мера, меновой знак — монета.
Таким образом, сущность справедливости заключается в установлении
органического равновесия в общежитии. С этой точки зрения названия справедливого
заслуживает тот, кто в своих отношениях к ближним руководствуется
вышеуказанными началами равенства, который сообразно с этим довольствуется своим
добром и общественным положением и не завидует чужому, кто во всех отношениях
к ближним умеет находить ту середину, при которой его интересы находятся
в гармоническом равновесии с интересами ближних; в качестве добродетели
справедливость есть деятельность свободная: справедливым мы не называем того, кто
действует по внешнему принужденно, а только того, кто действует совершенно
свободно, добровольно. '
Справедливость есть по преимуществу добродетель общежительная,
политическая. Но справедливость в обширном смысле слова в противоположность
справедливости как специальной добродетели заключает в себе все добродетели,
объединяет в себе всю нравственную деятельность. В государстве как союзе разумных
существ человек достигает конечной, высшей цели своего существования; и вот
почему добродетель политическая, справедливость, есть сумма и венец всех
этических добродетелей Аристотеля; общежитие, государство есть мера всех
человеческих добродетелей; в одиноком состоянии добродетель была бы невозможна; все
цели нравственной деятельности сосредоточиваются вокруг общежития,
государства, а потому добродетель возможна только в нем и через него. Как высшая цель
102
жизни государство определяет первоначальное направление человеческой воли;
государство как общее благо имеет в виду счастье всех и каждого, а
следовательно, и добродетель, так как добродетель есть главный существенный элемент
счастья. Главная цель государственной деятельности поэтому состоит в том, чтобы
сделать всех граждан счастливыми и добродетельными. Задачи этики и
политики, таким образом, совпадают. Спрашивается, каким же путем государство может
сделать граждан добродетельными? Посредством общественного воспитания.
Воспитательная деятельность государства заключается в целом ряде
законодательных мер, которые простираются на всю жизнь граждан с самого раннего
возраста и до поздних лет: этим путем вырабатывается впоследствии привычка с
малолетства подчиняться известным нравственным правилам, образуется весь
нравственный склад гражданина; все уголовное законодательство не имеет другой
цели, кроме воспитания добродетели путем страха наказания; воспитательная
цель государства достигается, с одной стороны, путем устрашения злых, а с
другой — путем вознаграждения добрых: в благоустроенном государстве великие
заслуги не остаются без вознаграждения, точно так же, как преступления не
должны оставаться безнаказанными.
Только в общежитии возможно необходимое для человека нравственное
воспитание; вне общежития человек есть существо несовершенное и неполное. Полнота
и совершенство достигается только в нравственном общении людей. Отсюда
врожденное стремление человека к общению со своими ближними, к общежитию.
Несовершенные в одиноком состоянии, люди в общежитии восполняют и
совершенствуют друг друга. Человек есть по природе животное общественное,
политическое. Поэтому естественное, природное состояние человека не есть одиночество,
а союз со своими ближними, общение с ними. Это стремление к нравственному
общению с людьми получает у Аристотеля название дружбы. Под дружбой
Аристотель разумеет вообще влечение человека к себе подобным; так понимаемая
дружба есть начало всех общественных отношений. Дружба является, во-первых,
образующим началом семьи как первоначальной общественной единицы. Она
лежит в основе отношений родителей к детям и детей к родителям и между собой;
она определяет собой вообще все родственные отношения. Далее, дружба
связывает лиц, находящихся вне всяких родственных отношений; она соединяет
господина с рабом, и равных с равными; наконец, она объединяет отдельные семейства
между собой, связывает их в общественный союз, в государство. Таким образом,
дружба есть начало всех общественных связей: она есть, с одной стороны, одна из
форм нравственного общения людей, но так как, с другой стороны, дружба
связывает людей в организованный общественный союз — государство, то учение
о дружбе в значительной степени, выходит за пределы этики, являясь переходной
ступенью к политике и как бы введением к учению о государстве.
«Политика». Понятие о государстве и его составных частях
«Политика» Аристотеля открывается учением о государстве. В основе всякого
человеческого общежития лежит стремление к благу как конечной цели. Что
верно относительно низших форм человеческого общения, то тем более верно
относительно государства как высшей, совершеннейшей формы, обнимающей в себе все
остальные; всякое соединение людей, всякое общество как таковое имеет в виду
общее благо всех своих членов; но высшее благо, совершенство человеческой жиз-
103
ни достигается только в государстве. Общественные союзы низшего порядка, как,
например, семья или деревня, не заключают в себе полноты и совершенства
человеческой жизни. То и другое достигается посредством соединения отдельных
семейств и деревень в государство, πόλις. В государстве отдельные семьи и деревни
восполняют друг друга, образуя высший и совершеннейший союз, конечный
предел всякого совершенства. Государство отличается от низших форм
человеческого общения, toto génère13, то есть не только количественно, но и качественно.
Каждая из этих низших форм относится к государству как часть к целому, как
отдельный орган к политическому целому. Определяя понятие государства,
Аристотель разлагает его на отдельные составные части. Первоначальная элементарная
единица — наименьшая часть государства — есть отдельная личность; путем
сложения этих отдельных единиц, путем соединения людей образуется сначала
семья как половое соединение мужчины и женщины; затем соединение господина
с рабом ради общей хозяйственной цели; всякое частное хозяйство или дом (оТкос)
состоит из этих элементарных частей: мужа, жены и раба; такое элементарное
первоначальное соединение людей достаточно для удовлетворения повседневных
житейских нужд; следующая, высшая ступень человеческого общения —
деревня — есть соединение отдельных хозяйств. Деревня есть уже сравнительно
высшая ступень совершенства человеческого общежития; в ней, следовательно,
удовлетворяются не только первоначальные житейские нужды, но и сравнительно
высшие человеческие потребности. Деревня есть как бы колония семьи,
произошедшая путем естественного размножения последней. Путем размножения семья
постепенно разрастается в союз родичей, пока, наконец, через несколько
поколений это размножение не достигнет таких размеров, что и самое родство теряется,
забывается; тогда семья обращается в деревню.
Что деревня произошла от семьи, это доказывается уже тем, что в деревне, как
и в семье, управляют отцы семейств, домовладыки. Таким образом, деревня есть
разросшаяся семья. Деревня составляет лишь переходную ступень к государству.
Город πόλις или, что то же, государство, говоря словами Аристотеля, есть
«соединение многих деревень ради общения, наилучшей совершенной жизни». Если
в семье удовлетворяются только первоначальные, житейские нужды, а деревня
уже возвышается над этими низшими повседневными потребностями, то в
государстве как в высшей форме общежития все человеческие потребности, не только
материальные, но и высшие духовные, находят себе удовлетворение. Таким
образом, низшие формы человеческого общения, как дом, семья, деревня, суть лишь
расчленения государства, составные его части. В порядке развития генезиса,
низшие формы предшествуют высшей, и потому государство является не началом,
а концом, высшей ступенью развития. Но по природе, по своему понятию,
государство предшествует отдельному лицу или семье; организм как целое
существует раньше своих частей, раньше отдельных органов в живом теле; отдельный
член, как, например, рука или нога, не может существовать вне тела, вне
органического единства с прочими частями; тот или другой член получает значение
руки или ноги только в целом организме, и вот почему мы говорим, что организм
как целое существует раньше своих частей.
Точно то же верно и по отношение к государству. По отношению к государству
каждый отдельный человек или хозяйство есть лишь один из членов органов; вот
почему в государстве человек есть такое же несовершенное существо, не имеющее
цели и смысла, как рука или нога, отсеченная от тела. Человек есть по природе
животное политическое, общественное более чем какое-либо другое из животных;
104
врожденное стремление к общежитию присуще и многим другим существам, как,
например, пчелам и всем стадным животным, но человеку в большей степени, чем
кому-либо из низших существ: изо всех животных один человек обладает органом
духовного общения — словом, ему одному свойствен разум, способность
общежительная по преимуществу.
Как в общежитии человек есть совершеннейшее божественное существо, так,
наоборот, вне общежития, в одиноком состоянии, несовершеннейшее, злейшее,
хищное, наклонное к истреблению и опаснейшее из всех животных, ибо он один
владеет оружием. В общежитии, говорит Аристотель, может жить только бог или зверь.
Учение о рабстве
Установив, таким образом, общее понятие государства, Аристотель
обращается к дальнейшему анализу дома как составной части государства. Всякое
совершенное хозяйство или дом, говорит Аристотель, состоит из рабов и свободных;
семья свободных в свою очередь состоит из мужа и жены, родителей и детей;
а потому, чтобы получить понятие о хозяйстве, нужно начать с исследования этих
составных его частей.
Раб есть прежде всего составная часть хозяйства, орудие. Всякое
благоустроенное хозяйство нуждается в целой совокупности материальных средств, в орудиях,
в органах для осуществления своих целей. Эти орудия разделяются на
одушевленные и неодушевленные; к числу первых принадлежат, например, домашние
животные, к числу вторых — орудия мертвые, не имеющие самостоятельной
жизни — души, как, например, плуг или лопата; к числу первых принадлежит и раб;
раб есть не что иное, как одушевленное орудие хозяйства; в этом его конечное
назначение, этим определяется весь смысл его существования. Мертвые,
неодушевленные орудия хозяйства не подчиняются одному только зову хозяина, не
повинуются непосредственно его приказанию, покоряясь только физической силе. Вот
почему хозяйство нуждается в орудиях живых, одушевленных, как рабы и
домашние животные; эти одушевленные орудия в противоположность
неодушевленным непосредственно послушны голосу разума. Если бы материальные орудия
обладали способностью самостоятельной жизни, движения, если бы, например,
ткацкие станки сами могли ткать, лодки плавать, — то в одушевленных орудиях
не было бы нужды и рабский труд не был бы необходим как посредник между
волей хозяина и мертвыми орудиями хозяина. Раб есть как бы член, орган
господина, только отдельный от его тела. Вот почему право господина над рабом столь же
неотъемлемо, столько же священно, как и право над собственным телом. Рабство,
таким образом, есть необходимое, существенное условие всякого
благоустроенного хозяйства. Такое положение раба в хозяйстве есть лишь одно из проявлений
всеобщего природного закона. Рабство есть общий закон, определяющий
соотношение всех природных сил. Во всей природе мы видим господство высших,
разумных сил над низшими, слепыми и неразумными началами. Во всех живых
существах душа господствует, тело рабствует; однако бывает и наоборот: случается,
что тело господствует над душой, но такое господство тела есть аномалия,
уродливое явление, разрушающее благосостояние и здоровье организма; господство
души над телом есть первое усдовце нормального, здорового состояния. В
общежитии душе соответствуют свободные, телу — рабы. Аристотель особенно
подчеркивает эту аналогию, настаивая на том, что власть души над телом есть власть де-
105
спотическая, однородная с властью господина над рабом. Господин представляет
собою духовное начало, мыслящий и повелевающий разум; от него исходит
руководящая мысль, план хозяйства.
Напротив, раб есть начало пассивное: ему, как орудию, принадлежит только
осуществление предначертаний господина. Господа отличаются от рабов своих
культурным образованием, развитием; они представляют собой культурную идею
государства; напротив, рабы по природе лишены способности умственного
развития, самодеятельного мышления; они приспособлены только к черному
физическому труду. Отличие раба и господина коренится в самой психической природе
того и другого: природа наделяет одних умом, других физическою крепостью,
предназначает одних к господству, других к рабству; это отличие изображается
в самом телесном строении: природа стремится сделать тела рабов крепкими и
способными к тяжелому труду, а тела свободных, напротив, прямыми, стройными
и прекрасными; тела свободных не приспособлены к материальному труду, но зато
годны для деятельности военной и политической. Случается иногда и наоборот:
природа стремится произвести наилучшее, но часто ошибается, часто бывает
бессильна в своем стремлении; этим объясняется то, почему в рабском теле иногда
живет свободная душа и, наоборот, рабская душа рождается в прекрасном теле,
приспособленном к свободе. Во всяком случае, говорит Аристотель, если бы одни люди
«хотя бы только телом настолько отличались от всех остальных, насколько образы
богов отличаются от людей, то все бы согласились в том, что все остальные люди
достойны служить первым». Господа представляют собою начало разумное,
божественное; рабы, напротив, соответствуют материи, представляют собою телесные
орудия воли господина. Отличие раба от свободного коренится, таким образом, как
в духовной, так и в телесной организации того и другого: раб от природы лишен
способности свободного самоопределения, выбора — он лишен способности разума
и совета; это особенности психологического устройства и нравственного склада
раба; раб есть по природе существо несовершенное, неполное, а потому нуждается
в руководстве, в управлении извне; его подчинение господину так же естественно,
как и послушание домашних животных. По определению Аристотеля, раб есть тот,
кто по природе принадлежит не самому себе, а другому; а принадлежать другому
по природе может только существо, лишенное свободной воли. Раб не способен
к самодеятельному мышлению, он обладает лишь пассивным умом, способным
понимать предписания и совет господина настолько, чтобы подчиняться им; в этом
все отличие раба от животного, которое, не обладая даже пассивным умом, всецело
подчинено чувственным аффектам. Конечная цель раба не в нем самом, а в
господине; подобно тому как отдельный орган, рука или нога, получает свой смысл
лишь в отношении к целому организму, лишь поскольку он служит душе, точно
так же и раб имеет значение лишь в органическом единстве с господином,
поскольку он является, так сказать, рукою своего хозяина.
В этом союзе раба и господина заключается счастье того и другого, ибо в нем тот
и другой осуществляют свое природное назначение.
Интересы господина и раба тождественны: это тождество интересов порождает
взаимную любовь, дружбу с обеих сторон; господин любит раба как нераздельный
орган своего тела, а раб любит господина как душу; раб не способен сам понимать
собственной пользы, а потому для собственного блага он должен подчиняться
господину, служить ему с истинно собачьей преданностью. Преданный раб обладает
и добродетелью; но эти рабские добродетели не должны быть ценимы слишком
высоко; во-первых, они чисто служебного свойства: вся добродетель раба есть не
106
более как пригодность его как орудия для хозяйственных целей, а во-вторых,
и эта «малая» добродетель раба не есть продукт свободной нравственной
деятельности раба, а только результат высшего духовного влияния господина.
Основывая теорию рабства на особенности природного, физического
устройства, Аристотель, естественно, должен был придавать особенное значение различию
расы. И действительно, Аристотель считал свободу, точно так же, как и рабство,
свойством врожденным и по тому самому свойством племени, расы.
Одни только эллины рождены, предназначены к свободе; варвары, напротив,
суть природные рабы эллинов; в этом Аристотель сходится с Платоном и в этом
тот и другой согласны с народным миросозерцанием, которое только за эллинами
признавало человеческие права. Эллины в противоположность варварам суть
представители высшего культурного начала — божественная раса; варвары же
суть темные, стихийные силы; вот почему, по словам Аристотеля, «варвар и раб
суть по природе одно и то же». Вот почему Аристотель, опять-таки в согласии
с Платоном, учит, что война против варваров по природе справедлива. Эта война
так же естественна и так же полезна, как и охота против диких животных; и как
охота ведет к приобретению рабочей силы, ведет к превращению пойманного
животного из дикого в ручное, домашнее, так и война против варваров полезна,
поскольку она доставляет рабочую силу — контингент военнопленных; эти
военнопленные варвары, обращаясь в рабов, исполняют свое естественное назначение,
приобщаясь к высшим культурным целям эллинской расы.
Аристотель признает вообще, как правило, ходячее, общепринятое
положение, что победа устанавливает право собственности победителей на жизнь и
имущество побежденных: победа, таким образом, составляет правомерное основание
рабства. Победа указывает на превосходство победителя, указывает на него как на
существо высшее, от природы предназначенное к господству; всякая победа
обусловлена прежде всего превосходством добродетели со стороны победителя; вот
почему порабощение побежденных справедливо, но это общее правило допускает
многочисленные исключения; не только вечная справедливость, но и слепой
жребий управляет человеческими отношениями. Часто война бывает несправедлива,
часто побежденные как люди бывают лучше, благороднее победителей; победа не
всегда зависит от превосходства доблести и нередко определяется слепой
случайностью; вот почему рабство не всегда бывает справедливо, правомерно; часто мы
видим между рабами высокоодаренных, лучших людей, по природе
предназначенных к свободе, случайно отклонившихся от своего природного назначения.
Здесь опять-таки мы встречаем все ту же роковую ошибку, то же бессилье
природы. В человеческих отношениях, как и во всей природе, действует не только
божественный, разумный порядок, ной слепая материальная сила.
Другое проявление этой слейой силы есть случайность рождения; сын
наследует положение своих родителей — между тем часто случается, что от свободных
родителей рождаются дети с низкими наклонностями, с характером рабским; и,
наоборот, часто дети рабов отличаются благородством характера и высокими
дарованиями. Таким образом, в природе в действительности мы видим частые
отклонения от порядка разумного», целесообразного, частые нарушения
справедливости. Противники рабства безусловно не правы, когда они утверждают
неразумность, противоестественность рабства как такового; но они правы в том, что
рабство не всегда справедливо; есть множество людей, которые, будучи рабами
только по закону, свободны по природе, и наоборот. Такие несообразности в
природе объясняются опять-таки борьбой двух мировых сил: божественного разума,
107
начала всего справедливого и доброго, и слепой материальной силы, начала зла
и несовершенства, которое противится предначертаниям разума.
Учение о семейных отношениях
Семья, в глазах Аристотеля, есть не более как подчиненный орган государства.
Все семейные отношения с этой точки зрения получают свою конечную цель, свое
высшее определение в государстве; вследствие такого служебного отношения
семьи к государству семейные отношения понимаются и толкуются по аналогии
политических, общественных отношений.
Отношение мужа к жене уподобляется политической власти: оно во всем
похоже на отношения правителей к управляемым; мужу по природе принадлежит
управление женой; но это управление не есть власть деспотическая, а господство
свободного над свободною. Жена по природе обладает меньшей степенью
совершенства, чем муж; но в противоположность рабу она не есть существо, лишенное
свободной воли. Она обладает способностью разумного совета, но не обладает той
твердостью, решительностью, которая нужна для господства над собою; вот
почему жена подчинена мужу. Отношение отца к детям есть власть царская; в основе
этой власти лежит, во-первых, любовь, а во-вторых, превосходство умственной
зрелости; ибо царь, с одной стороны, обладает естественными преимуществами
над своими подданными: царь по природе есть тот, кто превосходит подданных
умом и развитием. Но, с другой стороны, по происхождению царь состоит в
кровном родстве со своими подданными. Таково же и отношение отца к детям. Дети,
рожденные в свободе, от природы одарены способностью разумного совета и,
следовательно, свободной волей, но только в незрелом, неразвитом и как бы
зачаточном состоянии, а потому отец господствует над детьми, как царь над подданными.
Платон совершенно упраздняет семью. Аристотель, напротив, с одной стороны,
отстаивает самостоятельность семьи против конечного поглощения ее
государством, а с другой, настаивает на подчинении семьи в служении государству как
высшей, конечной цели.
Дальнейшее развитие учения о государстве.
Полемика против Платона
С точки зрения изложенного учения Аристотель разбирает политические
теории своих предшественников; а равным образом и некоторые положительные
законодательства, как, например, спартанское и критское. В этой полемике против
предшественников собственное учение Аристотеля получает дальнейшее
развитие, обогащается новыми положениями. С точки зрения Аристотеля, в
противоположность Платону, цель человека не на небе, а на земле: земной целью
определяются и задачи человеческого общества и государства. Что такое государство для
Аристотеля? Сообщество для наилучшей жизни, совершенный союз, имеющий
в себе «предел всякого самодовольства», это союз самодовлеющий, то есть
имеющий в самом себе как свою безусловную цель, так и необходимые средства для
удовлетворения этой цели. Как у Платона, так и у Аристотеля наилучшее
государство является воплощением божественного; его закон, нормирующий человечес-
108
кие отношения, представляется олицетворением бесстрастного божественного
разума: «где правит закон, там правит Божество, где господствует человек, хотя бы
лучший человек, там правит не только Бог, но и зверь» (Polit., кн. III, II). Но
Божественное в государстве Аристотеля воплощается не в отрицании всех земных
интересов и привязанностей, а, напротив, во всестороннем развитии
разнообразной земной деятельности человека: государство это стремится не к умерщвлению
всего индивидуального, личного в человеке, а, напротив, заботится о земном
довольстве и благосостоянии своих граждан. Как форма имманентная,
внутренняя, — божественная идея в государстве Аристотеля проявляется в счастье всех
и каждого, во всестороннем развитии энергии земной деятельности человека,
в его личном, семейном и общественном благосостоянии. Государство это прежде
всего стремится к земному благополучию своих членов; оно в самом себе имеет
свою безусловную цель или энтелехию: не думая о будущей вечной жизни своих
граждан, оно учит их пользоваться настоящим, стремясь лишь к равномерному
и справедливому распределению земных благ, то есть политических прав и
материального благосостояния. В основе государства Платона лежит единая
сверхчувственная идея блага; а государство Аристотеля, не зная единого небесного блага,
заботится о многих земных благах.
Полемизируя против Платона, Аристотель отстаивает частный интерес, семью
и частную собственность против поглощения их безличным единством
общежития. Платон хочет уничтожить всякое разнообразие в государстве, подчинив всю
жизнь общества безличному божественному порядку. Он превращает стройное
созвучие в унисон, «симфонию» в «гамофонию». Государство как сложный
организм содержит в себе величайшее разнообразие органов. Все составные части
государства, отдельные личности, семьи, общины не схожи между собою; из этих
несхожих элементов каждый взятый в отдельности несовершенен, но то, что
недостает одному, то восполняется всеми другими; государство, по Аристотелю, есть
единство многих и качественно разнородных элементов — оно не составляется из
качественно однородных частей. Как в живом теле отдельные органы не схожи
между собою: рука отличается от ноги, нога не есть то же, что голова, так и в
государстве каждый отдельный член отличается качественно от другого, и в общем
служении их государству заключается высшее благо.
Поэтому Платон, упраздняя качественную разнородность составных элементов
государства, утверждая в своем общежитии безличное единство и однообразие,
уничтожает в корне самое понятие государства; общественный союз,
преследующий земную цель, имеющий в виду разнообразные житейские нужды, не
мирится с таким мертвым однообразием; для того чтобы уничтожить в государстве
всякую качественную разнородность, мы должны бы были, оставаясь
последовательными, свести государство к одной общине — семье, наконец, к одной
арифметической единице, отдельной личности: только в отдельной личности, а не в
государстве возможно такое полное единство, какого требует Платон. Платонова
полития притом же и не в состоянии упразднить земных человеческих интересов;
имея в виду человека идеального, Платон слишком мало считается с земной его
природой. С этой точки зрения Аристотель возражает против коммунистического
идеала Платона. Установляя общность благ между гражданами, государство
Платона не в состоянии упрочить того единодушия между ними, при котором только
и достигается его конечная цель — осуществление божественной идеи блага.
Общность жен и имуществ вносит только новый элемент разногласия в общество. Там,
где всякий может назвать любую вещь своею, там, где никто не имеет исключи-
109
тельных прав на жену или ребенка, каждый отдельный предмет пользования,
каждая женщина или ребенок может стать яблоком раздора между всеми гражданами.
Идеальное общежитие Платона не в состоянии искоренить человеческого эгоизма
и уже поэтому одному неосуществимо. Да и незачем искоренять этого вполне
законного в известных пределах стремления к личному, земному счастью; гораздо
лучше обратить его на пользу общества. Упраздняя частный интерес, Платоново
государство лишает себя одной из самых сильных пружин человеческой
деятельности. Вследствие врожденного человеку эгоизма каждый несравненно больше
заботится о себе и своем, чем об общем благе. Стремление к приобретению, к
индивидуальной собственности всегда служило одним из самых сильных побуждений
к деятельности. Никто не станет так трудиться для общества, как для самого себя.
Далее, в Платоновом государстве каждый взрослый смотрит на малолетних
как на своих детей; у каждого гражданина, следовательно, здесь тысячи сыновей
и дочерей. Но может ли отеческое и материнское чувство распространяться на
такое огромное количество детей; не обратятся ли при этом условии такие слова, как
мой сын, мой отец, моя мать — в пустые звуки; при такой попытке расширить
область отеческой или сыновней любви, мы в самом корне уничтожаем эту любовь;
при слишком большом расширении понятия родства, самое родственное чувство
испаряется. Попытка упразднить семью невозможна, ибо семья коренится в
самом существе человеческой природы; влечение к семье гораздо сильнее в
человеке, чем влечение к государству, и связь семейная несравненно прочнее
политической. Государство, которое пытается уничтожить семью, вступает в неравную
и потому непосильную борьбу.
Стремление к супружеской жизни, взаимная любовь мужа и жены есть
естественное первоначальное свойство человеческой природы; любовь к детям также
одно из самых сильных человеческих чувств: дети суть как бы живая связь брака.
Вот почему связи кровного родства как самые прочные и естественные, не могут
быть уничтожены; система Платона, даже допуская возможность ее
осуществления, не может долго держаться; родственные связи непременно обнаружатся; отцы
и матери рано или поздно узнают своих детей по сходству или почему-либо
другому, дети — родителей; семья восстановится, и идеальное государство рухнет.
Чувство любви, дружбы сильное до тех пор, пока оно ограничивается тесным кругом
родных и близких, улетучивается, как только мы обобщаем его, распространяем
его на слишком обширный круг лиц: слово «друг» утрачивает весь свой смысл,
когда оно становится синонимом согражданина. Как капля сладости, смешанная с
ведром воды, пропадает, теряет всю свою сладость, так и чувство дружбы, слишком
расширенное, разжижается. Два чувства, два влечения всего сильнее господствуют
в человеке: стремление к собственности и любовь, влечение к любимому предмету.
Эти два движущие начала человеческой природы — собственность и любовь —
игнорируются Платоном, отсюда несостоятельность его государства.
Отстаивая против коммунистической теории Платона принцип частной
собственности, Аристотель допускает и обобщение материальных благ; но это
обобщение не должно быть принудительным, а добровольным. С одной стороны, ради
общей пользы имущества должцы быть разделены; с другой стороны — каждый
должен по мере сил делиться своим достатком с друзьями; обобщение
материальных благ должно быть делом личной добродетели, щедрости, а не принудительной
государственной меры. Мы можем, представить себе такое общественное
устройство, при котором имущества разделены между частными собственниками, за
исключением некоторых статей, которые составляют предмет общего пользования.
110
В Спарте, например, земли разделены между гражданами; каждый владеет своим
участком; но илоты, собаки и лошади составляют предмет общего пользования.
Мудрое законодательство должно стараться соединить выгоды частной
собственности с общим пользованием некоторыми частями дохода, оно должно
располагать граждан делиться своим достатком с друзьями, воспитывать в них
щедрость.
Деление общественных классов, предлагаемое Платоном, также вызывает
существенные возражения. Самое слабое место политии Платона есть
характеристика отношений двух господствующих классов. Мужественные и честолюбивые
воины Платона всего менее способны стать слепыми, пассивными орудиями в руках
философов; воины Платона вооружены, философы безоружны; последние
неминуемо должны стать жертвой первых. Затем, имущественные отношения
третьего класса, рабочих, неопределенны. Наконец, по самому своему общественному
положению этот низший класс поставлен во враждебное отношение к двум
господствующим классам; последние представляют собою как бы военный гарнизон,
который господствует над безоружными ремесленниками, землепашцами;
республика Платона, таким образом, распадается как бы на два государства, друг другу
противоположные и враждебные.
Наконец, последний аргумент против политии, имеющий в глазах Аристотеля
самое существенное, решающее значение, касается вопроса о счастьи граждан.
Платон хочет блага своим гражданам, но, спрашивается, кто же счастлив в его
государстве? Правители и воины лишены всех тех благ, без коих и самое счастье
невозможно, — семьи и частной собственности; положение третьего класса рабочих
тем более незавидно. Республика Платона не достигает самой существенной
конечной цели, лежащей в основе всякого общежития, как такового. В глазах
Платона высшее благо — в торжестве безличного единства в государстве. По
Аристотелю же, государство должно удовлетворять в себе самые разнородные интересы:
высшее благо заключается в развитии индивидуального разнообразия и
разнородности, в счастье всех и каждого. Как в «Метафизике» Аристотель утверждает
против Платона самостоятельность, субстанциальность единичных существ, особей,
так и в «Политике», он отстаивает самостоятельность и счастье отдельного
человеческого субъекта против конечного поглощения его государством.
Учение о государственном устройстве; понятие о разных формах
государственного устройства
Установив в отличие от Платона понятие государства как единства
разнородных элементов, Аристотель в третьей книге «Политики» развивает вытекающее
отсюда понятие государственного устройства. Если государство как συνοικισμός14
соединяет в себе разнородные элементы — семьи, общины и отдельные лица,
то государственное устройство, πολιτεία, есть не что иное, как порядок
соотношения — τάξις этих элементов, их органическая форма. Государственное устройство
в государстве есть то же, что душа в теле, то есть самобытное начало жизни,
движения, которым определяются все жизненные отношения общежития; оно есть,
во-первых, конечная цель деятельности каждого из подчиненных органов, то есть
каждого отдельного лица, семьи или общины, во-вторых, порядок соотношения
этих органов, присущее им начало формы и, наконец, в-третьих, движущаяся
причина, определяющее начало всей общественной деятельности.
111
Государственное устройство есть существенный признак, существенное
отличие каждого государства. Государство при всех переменах отдельных частей,
входящих в его состав, остается тождественным с самим собой до тех пор, пока
сохраняет неизменным одно и то же государственное устройство. В случае изменения
последнего, например, если демократия переходит в олигархию, мы имеем не то
же самое прежнее государство, а другое, новое.
Этим понятием о государственном устройстве определяется учение о
гражданине. Если государственное устройство есть сущность государства, то гражданин
есть тот, кто является активным участником этого устройства, его активным
органом. Для того, чтобы быть гражданином, недостаточно жить в пределах
территории, принадлежащей тому или другому городу: рабы и иностранцы,
проживающие в пределах государства, не считаются гражданами. Одно происхождение от
граждан само по себе также не определяет понятия гражданина; гражданами мы
называем в демократиях тех, кто участвует в народных собраниях и судах; в
других государствах — тех, кто имеет право занимать государственные должности;
вообще же мы называем гражданами всех тех, кто так или иначе имеет доступ
к верховной власти, правящей или судебной. Характеристический признак
гражданина есть более или менее активное участие в суде и правлении. Только при
условии такого участия гражданин осуществляет в себе идею государства; только
при этом условии отдельная личность живет жизнью политического целого,
являясь деятельным органом общественного тела. Это понятие гражданина в большей
или меньшей степени проявляется при всех возможных формах правления; всего
более приближается к его осуществлению демократия, где действительно каждый
гражданин как таковой обладает правом непосредственного активного участия
в суде и правлении. Вот почему известный современный исследователь
Аристотеля Онкен не без основания говорит, что изложенное определение гражданина
вынесено из наблюдения афинской демократии. При других формах политического
устройства участие гражданина в политической и судебной деятельности менее
прямое, непосредственное; но как бы то ни было гражданин только до тех пор
и лишь постольку остается гражданином, поскольку он сохраняет известную
долю участия в верховной власти.
Назначение гражданина заключается в том, чтобы управлять и
господствовать. Этим определяется понятие гражданской добродетели в отличие от
добродетели общечеловеческой. Последняя, то есть общечеловеческая, добродетель
свойственна вообще всем людям независимо от их общественного положения, возраста
и пола; добродетельным в таком значении слова может быть и раб, и ребенок,
и женщина, — и существо, вовсе лишенное политических прав. Но добродетель
совершенного человека далеко 1не то же, что добродетель политическая:
добродетель политическая и гражданская требует от гражданина той мужественной
зрелости, которая делает его способным, с одной стороны, управлять,
господствовать, а с другой стороны, подчиняться, свободно повиноваться властям;
добродетелью политической, или гражданской, обладает лишь тот, кто по своим
естественным дарам и развитию способен быть деятельным участником
верховной власти; власть политическая в отличие от деспотической есть господство
равных над равными. Политическая добродетель поэтому заключается в том, чтобы
совмещать господство и подчинение с свободой и равенством.
Деятельное участие в верховной, власти требует досуга, свободы от
материального ремесленного труда. А потому Аристотель спрашивает себя, должны ли
ремесленники — οί βάναυσοι — считаться гражданами? Ремесленники играют ту же
112
роль в государстве, как рабы в частном хозяйстве; политически досуг высших
классов обеспечен не только трудом раба, но и трудом наемников-ремесленников,
которые несут на себе тяжесть многих необходимых работ, без коих не может
жить общество; спрашивается, должны ли эти поденщики считаться
гражданами? В некоторых несовершенных формах государственного устройства этот
вопрос решается в утвердительном смысле: в демократиях ремесленники участвуют
в судах, народных собраниях и считаются полноправными гражданами; но так не
должно быть в наилучшем государстве. Ремесленники и поденщики не способны
к высшим добродетелям, а потому не должны считаться и гражданами в
наилучшем государстве, коего цель заключается в осуществлении высшего
совершенства человеческой жизни. Государственное устройство, выражая собою порядок
соотношения отдельных классов, семейств и личностей, определяет степень
активного участия каждого гражданина в верховной власти, его политические
права и обязанности. Государственное устройство поэтому есть то же, что форма
правления. Основной вопрос всякого государственного устройства есть вопрос об
организации верховной власти, о том, кому принадлежит верховная власть в
данном государстве. Затем уже следует вопрос о распределении функций верховной
власти между различными органами. Образ правления в государстве
определяется его конечною целью: государство есть соединение людей ради общего блага;
оно, следовательно, имеет в виду совершенство и счастье всех граждан, а не
какого-либо одного сословия или лица; поэтому государственное устройство должно
стремиться к органическому равновесию всех лиц и сословий; это органическое
равновесие устраняет возможность исключительного преобладания одного лица
и сословия; верховная власть имеет в виду интересы всех и каждого; она не
должна служить интересам одной части общества; она должна представлять собою
целое общество как совокупность. Она должна служит благу управляемых, а не
выгоде правителей. С этой точки зрения Аристотель разбирает различные
существующие в действительности формы правления, подвергая критической
оценке достоинства каждой из них. Смотря по тому, служит ли государство благу
правителей или управляемых, все формы правления разделяются на правильные,
нормальные, и извращенные; формы извращенные Аристотель сравнивает с
союзом господ и рабов, установленным ради выгоды господ в гораздо большей мере,
чем для пользы рабов. Смотря по тому, кто является носителем, субъектом
верховной власти, правильные и неправильные формы правления в свою очередь
подразделяются на несколько видов. Субъектом верховной власти может быть или
одно лицо, или какое-нибудь одно сословие, или, наконец, весь народ как целое,
как совокупность. Сообразно с этим правильные формы правления разделяются
на правление единичное — монархию; правление меньшинства — аристократию
и, наконец, правление всего народа, которое Аристотель называет политией; все
эти три правильные формы правления сходятся между собою в том, что имеют
в виду благо управляемых, а не интересы правителей. Извращенные формы
правления суть не что иное, как продукт вырождения правильных: когда верховная
власть становится орудием угнетения подданных, начинает служить интересам
правителей вместо управляемых, то монархия обращается в тиранию,
аристократия в олигархию и, наконец, полития в демократию. Каждой правильной форме
соответствует извращенная. Таким образом, мы имеем шесть форм правления:
монархию, аристократию, политик, тиранию, олигархию, демократию.
Развитие той или другой формы правления стоит в тесной связи с самыми
разнообразными условиями: оно зависит, во-первых, от народного характера, а во-
113
вторых, от местных условий внешней природной среды. Единоличное правление,
монархия возникает там, где какое-нибудь одно лицо или целая династия
настолько возвышается над общим уровнем своими талантами и добродетелями,
что все невольно должны ей подчиняться; аристократия возвышается там, где
граждане охотно подчиняются господству лучших людей; наконец, удобную
почву для развития политии представляет воинственный народ, привыкший
управлять и управляться по закону, где каждый гражданин обладает достаточной
политической зрелостью, чтобы уметь управлять над себе равными и подчиняться.
Далее, олигархия возникает там, где перевес в обществе склоняется на сторону
богатых; демократия там, где преобладают бедные. Достоинство каждой формы
определяется тем, насколько она соответствует идее государства, насколько
осуществляет в себе требования справедливости. Мы видели, что понятию
справедливости противоречит исключительное преобладание какого-либо одного лица
или класса; поэтому богатство само по себе не должно быть исключительным
основанием господства; конечная цель государства не есть только имущественное
благосостояние, и потому государство не должно служить исключительным
интересам богатых. Если исключительное господство богатых и вообще какого-
нибудь одного сословия несправедливо, то еще менее справедливо было бы
полнейшее арифметическое равенство всех и каждого. Справедливость требует
равенства пропорционального; люди, выдающиеся своим образованием,
способностями, добродетелями, должны занимать более высокое общественное
положение сравнительно с остальными; и богатство должно давать известные
преимущества, но эти преимущества не должны вести к нарушению органического
равновесия; иначе государственное устройство обратится в неправильную форму
правления — в олигархию. Каждое отдельное лицо, всякое сословие в
государстве должно уравновешиваться всеми другими лицами и сословиями: как только
весы справедливости слишком склонятся в какую-нибудь одну сторону,
государственное устройство извращается. Этим подготовляется вопрос о том, кому, с
точки зрения вышеизложенного истинного понятия о государстве, должна
принадлежать верховная власть? Она не должна принадлежать исключительно
богатым, чтобы они не притесняли бедных, ни исключительно бедным, ибо
иначе возникает опасение, что бедные будут эксплуатировать и грабить богачей. По-
видимому, было бы целесообразно предоставить ее избранным лучшим людям,
но, с другой стороны, простой народ, бедные не должны быть исключены из
верховной власти: народ как целое вовсе не лишен способности к самоуправлению;
если каждый отдельный человек из толпы и хуже избранных личностей, то все
вместе взятые восполняют друг друга; каждое отдельное лицо вносит в народное
собрание частицу мудрости и добродетели, и все вместе образуют разумное целое.
Вот почему Аристотель рекомендует предоставлять народу как целому хотя бы
известную долю участия в верховной власти, в особенности же право выбирать
сановников и контролировать их, требовать от них отчета и привлекать их к
ответственности.
В самом определении гражданина заключается требование, чтобы каждый
гражданин как таковой в большей или меньшей степени участвовал в суде и
правлении.
В одном только случае народное самоуправление становится невозможным
и нарушение органического равновесия в обществе представляется неизбежным.
Этот исключительный случай наступает тогда, когда одна личность настолько
возвышается над общим уровнем массы силой ума, влияния и доблести, что доб-
114
родетель всего народа вместе взятого не в состоянии уравновесить эти особые
личные дарования гения; в этом случае равновесие становится невозможным; если
один человек как божество возвышается над всеми остальными, то требовать от
него подчинения так же безумно, как желать господствовать над Зевесом;
остается одно из двух: или безусловно подчиняться такому избраннику божества,
предоставив ему всю полноту верховной власти, или же удалить, изгнать его из
государства посредством остракизма; к последнему средству прибегают демократии во
всех тех случаях, когда исключительно таланты одного лица грозят нарушить
всеобщее равенство: в извращенных государствах остракизм является последним
средством спасения; но в наилучшем государстве, которое ставит своею главною
целью развитие добродетели, изгнание выдающихся людей было бы
непоследовательностью; остракизм был бы здесь верхом несправедливости. Вот почему в тех
редких случаях, когда между людьми появляются гениальные, божественные
личности, им должна быть предоставлена неограниченная монархическая власть;
попытаться ограничить эту власть было бы безумием: божественные личности
стоят выше закона; они сами суть закон. Во всем этом описании монарха, как не
без основания думают большинство современных исследователей, перед
Аристотелем носился образ его гениального ученика Александра Македонского.
Гениальные личности не родятся дюжинами, а потому неограниченная
монархия допускается как редкое исключение, а не как общее правило. Вот почему как
общее правило желательно господство лучшего закона, а не лучших людей.
Самый лучший правитель подвержен страстям и заблуждениям; напротив, закон
есть чистый разум, чуждый страстей.
Устройство наилучшего государства.
Задачи и цели совершенного политического устройства
Учение о наилучшем государстве дошло до нас далеко не в полном виде. Как
думают большинство современных исследователей, надо полагать, что смерть не
позволила Аристотелю докончить этот отдел «Политики», или же что часть
рукописи, составляющая продолжение дошедших до нас седьмой и восьмой книг
«Политики», затерялась.
Отличаясь всецело от по литии Платона, идеальное государство Аристотеля
преследует диаметрально противоположные задачи и цели. Это — прежде всего
культурное государство, стремящееся к всестороннему развитию умственной
жизни своих граждан. Преследуя идеал земного счастья, оно хочет возвысить
земную жизнь человека, подчинив ее высшим культурным целям; если Платон
презирает земную жизнь, то Аристотель, напротив, ее идеализирует. Два
элемента входят как составные части в земное счастье человека: добродетель как йсесто-
роннее развитие умственной и нравственной жизни и совокупность внешних
благ.
Задача идеального государства, таким образом, двоякая: оно должно служить,
во-первых, осуществлению высщих этических идеалов, то есть посредством
воспитания сделать своих граждан добродетельными, — задача прежде всего
педагогическая; во-вторых, оно должно обеспечить им совокупность внешних условий,
необходимых для счастья, то есть известный материальный достаток и
справедливое распределение материальных благ и политических прав. Идеальное
государство должно быть, во-первых, независимо от вне; оно должно само удовлетворять
115
всем своим потребностям, то есть не только высшим духовным требованиям,
но и житейским нуждам. Эта независимость государства, не нуждающегося ни
в чем извне, в самом себе черпающего удовлетворение всех своих нужд, — и есть
то, что Аристотель разумеет под словом αύταρχεία; затем, как сказано, идеальное
государство осуществляет в себе самом идеал справедливости. Справедливое
государственное устройство должно быть таково, чтобы каждый гражданин имел свою
долю участия в верховной власти, пропорциональную его развитию, талантам
и заслугам; чтобы никто не был исключен вовсе из этих прав верховенства и,
с другой стороны, чтобы ни одно лицо или сословие не могло получить
неумеренного преобладания над остальными.
Так как культурная цель должна стоять на первом плане в государстве, так как
материальное благосостояние не может само по себе служить безусловно целью,
а только средством для осуществления высших культурных идеалов, то идеальное
государство не может поглощаться погоней за материальными благами: одно
накопление богатств само по себе не составляет счастья, а потому одна нажива не
исчерпывает собою деятельности государства. С этой точки зрения Аристотель
неодобрительно отзывается о современной ему афинской демократии, где страсть
к наживе поглощает все и всех, где вся жизнь общества сосредоточивается вокруг
торговых, меркантильных интересов. Государство не должно превращаться в
торговый рынок; но и политическое господство, да и вообще политическая
деятельность не есть высшая конечная цель человеческого существования.
Задача государства не исчерпывается тем, чтобы быть богатым и сильным.
Аристотель энергично восстает против такого низменного политического идеала,
который в его эпоху разделяется не только отдельными лицами, но господствует
и в некоторых государствах, определяя собою весь их строй жизни и
законодательство. Спарта, например, полагает свою исключительную цель в войне и
деспотическом господстве над соседями. Но политическое могущество и господство
должно само служить средством для высших культурных целей, и царство
кулака не есть высшее человеческое счастье. Война, чтобы не быть бессмысленной
резней, не должна вестись ради войны, а служить орудием высших интересов;
высшее счастье общежития состоит в мирном развитии культурной умственной
жизни, и все назначение войн заключается лишь в том, чтобы обеспечить
государству мирный досуг для такого развития.
Несостоятельность противоположного режима ярко иллюстрируется
примером той же Спарты. Говоря о ней, Аристотель, по-видимому, проникнут
воспоминаниями недавних поражений при Левктре и Мантинее15. История Спарты
являет собою поучительный урок: этот режим, основанный на силе, погиб от внешней
силы. Такова неизбежная логика вещей: причина гибели Спарты коренится в
неумении пользоваться мирным досугом для высших культурных целей.
Спартанцы, неспособные к умственному развитию, в беспокойной жажде войны и
господства не знали отдыха, а потому и среди могущества не были счастливым народом.
И наконец, поражения, уничтожившие ореол спартанского могущества,
разрушили и самую видимость счастья. Они наводят на простой логический вывод:
спартанцы не были счастливым народом, и господство меча не есть высшее
человеческое счастье.
Итак, идеальное культурное государство должно прежде всего избежать двух
одинаково гибельных крайностей: (j)ho не должно быть торговым рынком, подобно
Афинам, ни царством военной силы, подобно Спарте. Его цель есть процветание
умственной деятельности, мирный досуг как условие развития высших человече-
116
ских добродетелей. Добродетель, как ее понимает Аристотель, не есть только
военная сила или гражданская доблесть; в понятие добродетели входит не только
практическая, но и созерцательная, теоретическая деятельность. Вся
практическая деятельность должна быть подчинена целям созерцательным, теоретическим,
служа лишь средством для умственной деятельности, для созерцания и созидания
прекрасного. И накопление богатств не имеет иной цели.
Богатство желательно не само по себе: оно необходимо как средство для
созидания прекрасного, а не как цель культурного развития; оно должно служить лишь
внешним украшением человеческой жизни.
Высшее счастье для государства то же, что и для отдельной личности. Здесь,
как и там, внутренние, духовные блага выше внешних, созерцательные
наслаждения выше и благороднее чувственных. Вот почему счастье и достоинство
каждого государства измеряются его умением пользоваться материальными
приобретениями и военными успехами для отдыха в спокойствии созерцательной жизни.
Таков высокий культурный идеал, лежащий в основе государства Аристотеля.
Внешние условия, необходимые для осуществления
идеального государства
Одним из внешних условий, необходимых для осуществления целей
идеального государства, является, во-первых, известное географическое положение.
Географическое положение идеального государства должно быть, во-первых, таково,
чтобы обеспечивать его самостоятельность, независимость от внешних соседей.
Территория государства должна быть, с одной стороны, недоступна для
нападения извне, должна представлять естественные препятствия для неприятельского
вторжения, а с другой, она должна обеспечивать гражданам удобство для
передвижений и торговых сношений в мирное время. С этой точки зрения Аристотель
обсуждает спорный вопрос о выгодах и невыгодах приморского положения.
Приверженцы континентального спартанского режима считают приморское
положение гибелью для государства, ибо оно нарушает его замкнутость и неподвижность,
потому что оно вызывает прилив чужестранцев и ремесленников. Эти
чужестранцу и ремесленники, особенно при чрезмерном количестве, суть развращающий
элемент в государстве; вследствие прилива торгового и промышленного
населения самая цель государства извращается; государство из сообщества наилучшей
жизни обращается в какой-то торговый рынок; интересы торговые, рыночные
заслоняют высшую цель жизни; так говорят противники приморского положения.
Но, с другой стороны, приморское положение обеспечивает государству
существенные выгоды: оно спасает государство от материальной нужды, доставляя ему
такие продукты, которые не произрастают на его почве. Оно ставит государство
в весьма выгодные стратегические условия по отношению к соседям, давая
возможность развитию сильного флота и облегчая оборону. Невыгоды приморского
положения легко могут быть устранены при том условии, если пользоваться ими
только для ввоза необходимых товаров и вывоза в пределах необходимых
потребностей страны, не превращая государство во всеобщий меновой рынок, не делая
его торговым посредником между другими обменивающимися государствами.
Наконец, пришлое, торговое цаселение, чужестранцы-ремесленники вовсе не
должны иметь прав гражданства: этим способом вредный, развращающий
элемент исключается из государства; составляя особый класс метеков, чужестранцы
117
стоят вне государства и, служа ему материально, не имеют части в его внутренней
жизни.
Таковы условия географического положения. Все остальные физические
условия должны равным образом содействовать довольству и независимости
идеального государства. Почва идеального государства должна быть настолько
плодородна, чтобы производить все предметы первой необходимости, чтобы государство
ни в чем не терпело нужды и в случае надобности могло обойтись без внешнего
ввоза.
Раз существуют в наличности эти физические условия, то для развития
идеального государства требуются еще условия этнографические. Население должно
быть, во-первых, в достаточном количестве, а во-вторых, по своим качествам
должно быть способно к высшему культурному развитию. Количество граждан не
должно быть чрезмерным. Отождествляя государство с городом, Аристотель, как
и вообще все эллины, представляет себе количество граждан своего государства
весьма ограниченным. Сила государства не в количестве, а в качестве граждан:
чрезмерное количество является только причиной неустройств и беспорядка;
поэтому количество граждан не должно превышать известной меры, середины
между излишеством и недостатком, при которой государство, с одной стороны,
достаточно сильно в сравнении с соседями, а с другой стороны, правители благодаря
ограниченному числу граждан обладают возможностью хорошо знать каждого из
них для того, чтобы простирать на все население свою воспитательную
деятельность. Самое важное условие есть качество населения. По своим качествам только
эллинская раса обладает способностью к высшему культурному развитию.
Северные народы, например скифы, обладают мужеством, но не обладают в
достаточной степени мыслительными способностями. Азиатские народы представляют
собою противоположную крайность: они не лишены ума и способны к искусствам,
но они лишены мужества, самостоятельности, отличаются характером рабским.
Раса эллинов занимает как раз середину между этими двумя противоположными
крайностями. Эллины соединяют в себе природное глубокомыслие с величайшим
мужеством; это гармоническое сочетание природных даров и делает их
единственно пригодной расой для целей идеального культурного государства.
Политическое и общественное устройство идеального государства.
Общественное воспитание
Каково же должно быть общественное устройство идеального
государства? Сословия должны соответствовать жизненным потребностям общества.
Государство само должно удовлетворять всем своим нуждам; этими различными
нуждами общежития определяются задачи и деятельность каждого
общественного класса. Каковы же те необходимые деятельности, без коих государство не
может поддерживать свое существование? Эти деятельности суть: земледелие,
ремесло, военная служба, накопление богатств; одной из высших человеческих
деятельностей является культ,> богослужение; наконец, последняя и самая
необходимая есть суд и решение того, что справедливо и что нужно для государства.
Этим шести необходимым деятельностям соответствуют следующие шесть
сословий, необходимых в идеально^ государстве: земледельцы, ремесленники,
воины, класс крупных собственников, затем священники и, наконец, шестой
класс — судьи и советники. В наилучшем государстве свободные граждане не за-
118
нимаются ремеслом и земледелием, поэтому два низших класса —
ремесленники и земледельцы не имеют здесь прав гражданства. Деятельность свободных
классов сводится к войне, управлению государством и отправлению священных
обязанностей культа. Только эти высшие классы имеют доступ к верховной
власти; они одни участвуют в суде и правлении. Раньше мы видели, что Аристотель
требует равномерного распределения прав верховенства между всеми
гражданами, участия всех и каждого в суде и правлении; не следует забывать, однако, что
круг полноправных граждан у него чрезвычайно ограничен. Спрашивается,
каким же путем обеспечивается равномерное участие этих полноправных граждан
в верховной власти? Это достигается путем разделения граждан по возрасту.
Сила составляет отличительную черту людей молодых, а мудрость принадлежит
старости; поэтому первые должны посвящать себя военной деятельности;
последним же принадлежит управление государством. Этим-то путем все
граждане участвуют в верховной власти, но не зараз, а в известной последовательности,
по очереди. В молодости все граждане проходят через военную службу, здесь они
учатся повиноваться для того, чтобы потом управлять, господствовать. Чтобы
быть хорошим правителем, нужно самому пройти через долголетнюю
практическую школу, нужно самому привыкнуть к строгости и дисциплине для того,
чтобы уметь управлять другими. Пройдя через это долголетнее воспитание,
каждый гражданин в старости становится сам правителем; наконец, старцы, уже
отжившие, не способные к управлению государством, отправляют жреческие
обязанности. Этим путем функции общественной деятельности равномерно
распределяются между всеми гражданами. Никто не отстраняется безусловно от
верховной власти, и каждый получает доступ сообразно со своими летами и
заслугами. Вся земля частью составляет общую собственность государства, частью
разделена между полноправными гражданами; ремесленники же и
земледельцы не суть полноправные граждане и потому не могут владеть землею. Земля
обрабатывается рабами, варварами, частью же, как и в Спарте, полусвободными
периэками. Хотя значительная часть земель составляет частную собственность
свободных граждан, но каждый в пределах дружбы должен делиться своим
доходом с другими. Кроме того, Аристотель вводит, по примеру дорийских
государств, общие обеды (сисситии) в свое идеальное государство. Все граждане
разделяются на товарищества, сисситии, причем общий стол содержится из общего
государственного фонда, чем установляется общение материальных благ между
гражданами. Этим путем преимущества частной общественности соединяются
с выгодами общего пользования материальными благами. Рабы,
обрабатывающие поля в частных владениях, составляют частную собственность владельцев;
те же из них, которые обрабатывают общественные поля, суть государственные
крепостные. Положение класса ремесленников, торгового и промышленного
городского населения совершенно аналогично с положением афинских метеков;
они пользуются личной свободой, но не обладают политическими правами в
государстве.
Чтобы закончить эту краткую характеристику Аристотелева идеального
государства, остается коснуться его »воспитательной деятельности. Воспитание
населения есть, без сомнения, одна из главных задач культурного государства и не
может быть предоставлена частной инициативе; оно должно служить верховной
цели общежития. Так как цедь эта не заключается ни в военном господстве,
ни в материальной наживе, а в умственном развитии, то и воспитание не должно
стремиться сделать из гражданина только воина или ремесленника-торгаша. Оно
119
не должно развивать в нем только силу и мужество, и вместе с тем в программу
воспитания не должно входить обучение ремеслу, занятию, унизительному для
свободного. Граждане должны быть воспитаны гораздо более для мира, чем для
войны, гораздо более для искусства, чем для ремесла. Это воспитание по
существу художественное, гуманитарное и научное — теоретическое. Оно не заботится
«о приобретении полезных умений», прикладных знаний, а хочет прежде всего
быть «прекрасным и достойным свободного».
С точки зрения только что охарактеризованного нами культурного идеала
Аристотель рассматривает и все существующие в действительности формы
политического устройства Греции. Идеальное государство служит ему мерилом при
оценке всех возможных форм действительности. Все они хороши, поскольку
приближаются к идеальному государству, и все, напротив, дурны, поскольку они от
него отклоняются. При ожесточении партий, при всеобщем разложении
общества, свидетелем которого был Аристотель, достижение идеала оказывается
невозможным: наилучшее государство при сравнении с действительностью
оказывается неосуществимым, немыслимым. За невозможностью достигнуть наилучшего
остается довольствоваться относительным; за невозможностью остановить
разложение политического строя нужно постараться спасти хоть кое-какие обломки
и для этого прежде всего пойти на компромисс с действительностью. Требуется
отыскать такую форму политического устройства, которая бы приближалась к
существующим формам, сообразуясь с условиями действительности, а с другой
стороны — не слишком бы отклонялась от идеальной формы. Это и будет
относительно наилучшее государство в противоположность безусловно наилучшему.
Несовершенные формы политического устройства
Несовершенные государства отличаются между собою отклонением в ту или
другую сторону от идеала всеобщего равновесия преобладанием того или другого
сословия; отсюда возникают различные формы правления. Все эти отклонения
тяготеют к двум основным и противоложным типам: правлению бедного
большинства — демократии и богатого меньшинства — олигархии, — вот почему
наиболее распространенным и ходячим является разделение всех форм на олигархию
и демократию. В действительности далеко не всегда встречаются условия,
необходимые для осуществления наилучшего политического устройства. Не говоря уже
о том, что совокупность необходимых географических и этнографических
условий никогда не бывает в полном соответствии с идеальными требованиями,
различные классы населения весьма редко находятся между собою в том
пропорциональном отношении, при котором они друг друга уравновешивают, почти всюду
один класс оттесняет другой от верховной власти, господствует над ним: или
численный перевес массы над богатыми достигает слишком больших размеров, тогда
бедные оттесняют богатых и знатных от кормила правления, и наступает
господство толпы — демократия, или же, напротив, аристократическое меньшинство
богачей-землевладельцев, забравшее богатства в свои руки, тиранически
господствует над демосом, и государство представляет собою олигархию. Там, где
невозможно безусловно наилучшее, где невозможно полное совершенство, там
возможно по крайней мере некоторое приближение к совершенству. От
наилучшей формы правления Аристотель обращается к относительно наилучшей,
средней, к той, которая более приближается к действительной человеческой жизни,
120
больше подходит к большинству существующих государств. Это государство
и есть полития; оно составляет во всех отношениях средину между
противоположными крайностями — олигархией и демократией. Во всех государствах богатые
и бедные суть два главных сословия. Между этими двумя противоположными
классами есть еще средний — класс материально обеспеченных, но не слишком
богатых людей. Этот класс одинаково чужд деспотического властолюбия богатых
и жадности голодной обнищавшей толпы. Вот почему преобладание среднего
сословия представляет собою всего более гарантии для мирного развития, всего
лучше обеспечивает господство против внутренних раздоров. Господство среднего
сословия и есть полития. Это во всех отношениях тип среднего государства; в нем
олигархические элементы перемешаны с демократическими. Поэтому ни
богатство меньшинства, ни численное превосходство бедной массы не получает в нем
исключительного преобладания. С одной стороны, богатые и знатные пользуются
здесь властью и влиянием сообразно со своим состоянием и происхождением,
а с другой — бедные принимают деятельное участие в управлении государством,
усердно посещают народные собрания. Такое смешение олигархических и
демократических элементов в народном собрании возможно, например, там, где
бедные получают вознаграждение, плату за посещение собраний, а богатые
принуждаются к участию в текущих делах политики денежными пенями, штрафом за
непосещение собраний; этим путем в управлении государством соединяются все
возможные элементы населения. Как демократия, так и олигархия представляют
собою гибельные крайности, излишества и недостатки. Полития, как государство
среднее, одинаково чуждо этих противоположных крайностей, а потому всего
более приближается к осуществлению высшей справедливости, добродетели,
которая, по Аристотелю, состоит в соблюдении средины между излишеством и
недостатком. Где, с одной стороны, масса богатств скопляется в немногих руках,
а с другой — царствует нищета и скудость, там и все общество распадается на
рабов и деспотов, там господствует взаимная вражда и ненависть; богатые
презирают бедных, а бедные ненавидят богатых и завидуют им. В государстве среднем,
в политии, нет такого резкого раздвоения общества. Здесь среднее сословие
зажиточных людей достаточно сильно для того, чтобы уравновесить собою как
богатых, так и бедных. Полития поэтому возможна лишь там, где существует сильное
и могущественное среднее сословие. Если изо всех существующих государств
в действительности полития всего более приближается к идеальному типу
общежития, почему же она так редко встречается в действительности? Потому,
во-первых, что в большей части государств нет в наличности среднего сословия,
достаточно сильного количеством и качеством, чтобы бороться против богачей, с одной
стороны, и демоса — с другой; но во-вторых, потому, что упорная и повсеместная
борьба демократии и олигархии в большей части случаев исключает возможность
примирения, компромисса, победители диктуют закон побежденным; где
побеждают богатые, там устанавливается олигархия, где бедные — демократия. Как те,
так другие не хотят и слышать о средней, смешанной форме правления и
стремятся к исключительному господству.
Демократия и олигархия суть* неправильные, извращенные формы правления,
тем не менее они также не лишены положительных достоинств; вообще же можно
принять как общее правило, что чем ближе та или другая форма правления стоит
к среднему государству — политии, тем она совершеннее; наихудшие формы
правления суть, напротив, те, которые всего более отклоняются от средины,
то есть крайняя демократия, олигархия и тирания. Различные формы правления
121
отличаются между собой устройством верховной власти. Верховная власть в
каждом государстве состоит из трех существенных элементов. Эти элементы суть: во-
первых, власть решающая, во-вторых, правящая и наконец, в-третьих, судебная.
В сущности только первый из этих элементов — власть решающая — есть
верховная власть в собственном смысле слова, так как она является верховной, высшей
инстанцией по всем делам более или менее значительным во всех отраслях
управления. Два остальные элемента — суд и администрация — суть не более как
подчиненные и сравнительно второстепенные органы власти. Власть решающая не
есть только власть законодательная: она заведует всеми важнейшими текущими
делами, как то: вопросы о войне и мире, о заключении союзов, отчетность
магистратов, смертные приговоры, изгнание и конфискация имуществ; в числе прочих
функций верховенства решающей власти принадлежит и верховное
законодательство. Решающая власть, таким образом, господствует над всеми отраслями
управления, соединяет в себе все возможные функции верховенства. Вот почему
организация решающей власти составляет самый важный элемент
государственного устройства и потому самым существенным образом различается в различных
формах правления. В демократиях решающая власть составляет достояние всех
и каждого. Функции верховенства принадлежат здесь народному собранию, в
состав которого входят поголовно все свободные. Все вопросы здесь решаются
желанием большинства.
Отличительную черту демократии составляет свобода и равенство; здесь
каждый свободен делать, что ему угодно; все господствуют над каждым, и каждый
лишь отчасти надо всеми. Необходимым условием участия бедного населения
в верховной власти является плата за посещение народного собрания. Эта плата
поэтому составляет одно из характерных отличий демократии. Другие
отличительные черты, характеризующие демократию, суть следующие; замещение всех
должностей по жребию или же по выборам, причем право участвовать в выборах
принадлежит всему населению. При способе замещения по жребию высшие
государственные должности доступны каждому свободному независимо от состояния
и происхождения; вот почему этот способ в древности считался одним из самых
главных устоев демократии. Для занятия государственных должностей не
требуется никакого имущественного ценза или же разве очень незначительный; в
противном случае государственные должности обращаются в монополию богатого
меньшинства, а государству грозит серьезная опасность превратиться в
олигархию. Власть каждого должностного лица ограничена известными пределами
в сфере действия и сроком; все сановники ответственны пред народным
собранием. Право участия в судах, по крайней мере по важнейшим делам, принадлежит
всем свободным. Все должностное лица, судьи, советники получают жалованье.
К числу демократических учреждений Аристотель причисляет также совет,
которому принадлежит предварительное обсуждение дел, подготовление всех
проектов, поступающих на разрешение народного собрания; при этом предполагается,
что участие в совете доступно всем свободным, без различия происхождения
и имущества, то, следовательно, совет этот однороден по своему составу с
народным собранием. »
Смотря по тому, в какой комбинации являются эти учреждения и в какой
мере они осуществляются, все демократий разделяются на несколько родов и
видов. Эти различные виды демократии зависят всего более от состава и рода
занятий населения. Древнейший и самый лучший тип демократии есть тот, где
главную массу населения составляют крестьяне-земледельцы. Это самый уме-
122
ренный тип демократии, всего более приближающийся к типу среднего
государства — политии. Земледельческое население, вынужденное в поте лица
зарабатывать насущный хлеб, не имеет достаточно необходимого досуга для того,
чтобы проводить все свое время на площадях, отдаваясь исключительно политике;
простой народ, не любящий отрываться от своих полей, неохотно расстается со
всеми будничными занятиями. Вот почему при таком составе населения
народные собрания весьма редки и самые функции собрания немногочисленны и
немногосложны. Народ охотно вверяет власть выборным должностным лицам,
сохраняя право верховного контроля над ними. Выбор должностных лиц,
ответственность и ежегодная отчетность их пред народным собранием, всеобщее
участие в народных судах — таковы те немногие проявления народного
верховенства, которые характеризуют этот вид демократии. При таком порядке вещей
во главе правления стоят лучшие люди, а народ как целое остается верховной,
апелляционной инстанцией над ними. Демократия, таким образом, умеряется
примесью аристократических элементов. То же самое должно сказать и о том
виде демократии, где преобладает пастушеское население. Устройством верховной
власти этот вид весьма мало отличается от первого. Гораздо ниже в политическом
отношении стоят те демократии, где преобладает городское, промышленное
население. Массы ремесленников и поденщиков, толпящихся в городах, обладают
возможностью и охотой для занятий политикой: они любят проводить время
в праздной болтовне на рынках и в народных собраниях. Это самый беспокойный
и развращенный элемент населения. Когда в городах усиливается это сословие,
то настает третий вид демократии. Функции народного собрания расширяются,
городская чернь вмешивается во все, хочет всем управлять сама
непосредственно. Единственная возможность положить преграду этому стремлению городского
демоса заключается в том, чтобы уравновесить его сельским населением, которое
отличается более консервативным характером. Это достигается, например, тем,
что ни одно собрание не созывается без участия сельского населения. Когда,
наконец, городская чернь настолько возрастает и усиливается, что сельские
жители не в состоянии оказать ей серьезного сопротивления, то настает последний
и самый худший вид демократии — безграничный деспотизм массы — такой
порядок вещей, при котором действительно демос всем управляет непосредственно.
В этой демократии все политические права уравниваются, все сословные
привилегии упраздняются. Древние родовые союзы уничтожаются, и все население
перемешивается. Параллельно с этими реформами в число граждан обыкновенно
допускается масса людей низкого происхождения. В семейных отношениях
господствует величайшая разнузданность; женщины, дети и рабы выходят из
подчинения. Во всех слоях общества царствует произвол, беспорядок и
распущенность. Этот вид демократии характеризуется как деспотизм толпы, как тирания
большинства над меньшинством.
Честолюбивые демагоги искусно пользуются страстями толпы для того, чтобы
грабить и эксплуатировать богатых. Судебные преследования и конфискации
имуществ богачей при таком порядке вещей — самые обыденные явления. Таким
образом, образуются различные формы демократического правления. Аристотель
насчитывает их четыре. Первая есть та, где господствует действительное
равенство: ни богатые не получают здесь исключительного преобладания над бедными,
ни бедные над богатыми; право занимать общественные должности
обусловливается небольшим имущественным цензом. Эта демократия всего более
приближается к среднему типу относительно наилучшего государства — к политии.
123
Следующая, вторая, форма демократии есть та, где для занятия
государственных должностей не требуется никакого ценза, а только гражданское
происхождение и незапятнанная честь; третья — где общественные должности доступны всем
и каждому, но тем не менее господствует закон; наконец, четвертая, и самая
худшая, возникает там, где произвол толпы становится на место закона, где народ
превращается в многоголового тирана, подстрекаемого демагогами, и исчезает
всякое подобие законного порядка.
Противоположное демократии государственное устройство есть олигархия.
Олигархические формы правления также образуют ряд последовательных
ступеней, причем достоинство каждой из них измеряется тем, насколько она
отклоняется от среднего типа, политии. Олигархия есть не что иное, как господство
богатых. Поэтому участие в верховной власти в олигархии связано с более или менее
высоким имущественным цензом.
Смотря по тому, какой требуется ценз, какие элементы населения имеют
доступ к верховной власти, олигархические государства сводятся к четырем
главнейшим видам. Первая наиболее сносная форма олигархического правления
возникает, когда участие в верховной власти обусловливается умеренным цензом,
а потому недоступно для массы бедняков, но, с другой стороны, открывается
каждому, кто обладает требуемым имуществом без всяких других условий. Вторая
форма олигархического правления наступает, когда ценз настолько возвышается,
что участниками в верховной власти являются лишь богатейшие. Третья форма
отличается от предыдущих тем, что в ней политические права населения
определяются не одним цензом, а зависят от происхождения; сын наследует положение
и политические правомочия своего отца; власть, таким образом, обращается в
наследственную привилегию нескольких замкнутых родов. Наконец, четвертая,
и самая худшая, форма есть та, где эта наследственная власть не ограничена
законом, где, следовательно, она отличается характером деспотическим. Как
демократия в своем крайнем развитии обращается в деспотизм массы, так и крайняя
олигархия — антипод демократии — вырождается в тиранию исключительного
меньшинства богачей-аристократов.
Образование тех или других форм демократии зависит от состава и рода
занятий населения. В олигархии же главное и определяющее значение принадлежит
роду оружия, который господствует в той или другой стране. Так как каждый
вооружает и содержит сам себя на свой счет, то чем дороже стоит вооружение воина,
тем менее доступно участие в войске бедным людям, а кто не несет военной
службы, тот теряет политические права, лишается власти; вот почему там, где
господствует дорогой род оружия, там ценз обыкновенно бывает высок и развивается
олигархическая форма правления. Так, например, олигархия легко возникает
там, где в войске преобладают всадники, так как для того, чтобы содержать себя
и лошадь, требуются довольно значительные средства; амуниция
тяжеловооруженного гоплита также стоит очень дорого, а потому гоплиты также до известной
степени представляют собою опору олигархии.
Демократические элементы в войске суть легко вооруженные и в особенности
моряки — морской демос; а потому, где преобладают морские силы над
сухопутными, там нет в наличности необходимых условий для поддержания
олигархического строя и демократия возникает с большею легкостью. Прочность и
достоинство олигархических форм зависит от приближения их к политии, где
господствует среднее сословие; наиболее сносными поэтому представляются те
олигархии, где господствует умеренный ценз, где привилегии правящего мень-
124
шинства уравновешиваются демократическими элементами, где люди с средним
состоянием, хотя и подчинены, но не оттеснены совершенно от власти и
пользуются известной долей прав верховенства.
Таким образом, Аристотель всюду стоит за смешение противоположных начал,
за комбинацию демократических и олигархических элементов; только при такой
комбинации может быть достигнута, если не безусловная справедливость, то,
по крайней мере, некоторое приближение к ней, некоторое подобие равномерного
распределения политических прав. К числу смешанных форм правления
Аристотель относит и некоторые виды аристократии. Собственно говоря, названия
аристократии заслуживает только безусловно наилучшее государство, о котором мы
уже раньше говорили, где действительно господствуют лучшие люди или, скорее,
лучшие законы. Но в более обширном смысле слова названия аристократии
заслуживает и такая форма правления, где положение гражданина в обществе, степень
влияния и участия в верховной власти определяется не только имущественным
цензом, но и способностями, а также заслугами; это государство представляет
собою такое смешение демократических, олигархических и аристократических
элементов, которое весьма мало отличается от государства среднего — по литии. В
ряду несовершенных форм правления у Аристотеля, как и у Платона, последнее
место занимает тирания. Тирания в собственном смысле возникает там, где одно
лицо безгранично повелевает целым народом против воли последнего и
эксплуатирует его ради своих личных выгод; тирания есть извращение монархии и
отличается от нее тем, что монарх — царь правит в интересах всего народа, тогда как
тиран преследует только свои чисто личные, эгоистические цели. Понятно, что
такой образ правления не может быть долговечным: тиран всегда бывает всеми
ненавидим; у него столько же врагов, сколько подданных. Он может удерживать
власть только искусственными средствами, обманом, хитростью, а главное
страхом. Он истребляет лучших, выдающихся людей, держит все население в страхе
путем системы шпионства и казни или же надевает на себя личину царя,
заботящегося об интересах своих подданных, старается казаться благодетелем народа.
Аристотель рассматривает не только все существующие в Греции формы
политического устройства, но дает подробный анализ и всех наиболее типических
разновидностей и оттенков главнейших из них, то есть демократии и олигархии,
подробно исследуя причины благосостояния и падения каждой, а также причины
политических переворотов, условия, при которых каждая из существующих
форм переходит в каждую из остальных. Основной двигатель всех политических
переворотов есть стремление к равенству. Как только в государственном
устройстве нарушается органическое равновесие, как только какой-либо частный интерес,
сословный или личный, начинает неумеренно преобладать, так тотчас же
является и противоположная реакций — угнетенные стремятся сбросить с себя иго
своих угнетателей и сами стать вместо них у кормила власти: здесь корень всех
гражданских междоусобий. Внешний повод последних бывает иногда и незначителен,
но реальная причина восстания никогда не бывает маловажна; в конце концов
всякое восстание обусловливается, во-первых, возникшим неравенством, а
во-вторых, стремлением устранить это» неравенство, восстановить состояние
органического равновесия или справедливости.
К этой главной цели политических переворотов примешиваются и мотивы
эгоистического свойства: эгоизм порождает эгоизм и честолюбию богачей
противополагаются жадность и властолюбие массы. Угнетенные не довольствуются
восстановлением равенства, но стремятся сами к безграничному господству, а потому
125
легко обращаются в угнетателей. Вот почему среди всеобщего партийного раздора
и ожесточения ни одна из существующих государственных форм не может быть
устойчивою, и государства беспрерывно колеблются между двумя
противоположными крайностями олигархии и демократии. Из самого анализа Аристотеля ясно
обнаруживается и причина неизлечимости этого главного недуга политического
быта Греции. В этом государственном и общественном строе, стоящем на почве
социального рабства, где свободный труд в презрении и гражданин живет на счет
государства, вопрос о форме правления есть вместе с тем и вопрос о хлебе насущном.
Для бедного населения быть оттесненным от кормила власти значит то же, что
быть лишенным платы за участие в народных собраниях и судах, — иными
словами, впасть в нищету; а для богачей выпустить власть из рук значит то же, что
впасть в руки голодной завистливой толпы, — быть разоренными и
разграбленными. Такое состояние нельзя признать ни нормальным, ни здоровым.
Весь этот мастерский, обстоятельный анализ греческого общества можно
сравнить с превосходным медицинским диагнозом; из сопоставления дряхлого
организма тогдашней Греции с идеалом здорового, нормального общественного
организма обнаруживается неизлечимость болезни — врачу остается констатировать
безнадежное положение больного и отказаться от лечения. Это, в сущности,
почти и сделано Аристотелем, ибо хотя он предлагает те или другие способы лечения,
пытаясь воскресить умирающее тело, но из его же анализа обнаруживается
отсутствие тех необходимых условий, при которых только и возможно нормальное
политическое устройство. Да и его идеальное государство, не отдавая себе в том
отчета, заражено общим смертельным недугом: оно страдает тем же основным
фатальным противоречием, жертвой которого погибло греческое государство, оно
основывает политическую свободу и народное самоуправление на темной почве
социального рабства. И в этом государстве, где свободный гражданин предается на
досуге созерцанию и политике, материальные условия существования общества
обеспечиваются трудом рабов и полусвободных ремесленников. Остается подвести
итоги нашему изложению и указать на всемирно-историческое значение
«Политики» Аристотеля; оно всего лучше выясняется из сопоставления с идеальным
государством Платона.
Платоново идеальное государство есть союз людей ради вечного их спасения
для достижения совокупными силами загробной цели человеческой жизни.
Идеальное государство Аристотеля, напротив, есть союз людей, преследующий
земную цель, заботящийся о земном благополучии своих граждан, стремящийся
к осуществлению культурного идеала в земных человеческих отношениях. В Пла-
тоновом государстве человек поглощается безличной божественной идеей. В
государстве Аристотеля божественнре утверждается в его имманетном земном
значении, как жизненный принцип человеческого общества, причем, наоборот, скорее
божественное поглощается земным, человеческим. Цель государства Платона вне
пределов земной жизни; вдохновляясь этой небесною целью, Платон презирает
все земные человеческие интересы, проповедует в сущности отречение от земных
желаний и привязанностей, упразднение семьи и собственности. Аристотель,
напротив, настаивает на господстве земного интереса, отстаивает семью и
собственность как необходимые формы земных отношений против поглощения их
безличным божественным порядком. У Платона безграничное господство над обществом
с функциями власти духовной и вместе с тем светской принадлежит всемогущей
иерархии философов, которая ведет общество к его вечной цели спасения.
Аристотель, напротив, утверждает идею народовластия, народного самоуправления, тре-
126
буя участия всего свободного населения в правах верховенства, равномерного
и пропорционального распределения политических прав между отдельными
классами общества и отдельными лицами. Жрецам отводится последнее место
в государстве, жреческие функции отправляются выжившими из ума стариками.
Одним словом, борьба этих двух противоположных идеалов есть в сущности
конфликт теократии и культурного государства, своего рода культурная борьба на
почве древности.
Сопоставим те исторические условия, при которых возникли и столкнулись
эти два столь противоположных принципа. Политический идеал Платона, как
уже было упомянуто, соответствует смутной эпохе пелопонесской войны, когда
при всеобщей ожесточенной партийной борьбе все общественные и политические
отношения стали шаткими и непрочными. Колеблющимся и непостоянным
политическим отношениям Платон противополагает вечный божественный
порядок и философскую теократию как его воплощение. Платон был свидетелем
обострившегося столкновения противоположных политических принципов.
Напрягаясь в борьбе, они проявили всю свою жизненную энергию, обнаружили все
свои отличия и особенности, высказались до конца; борьба эта была вместе с тем
кульминационной точкой развития политической жизни Греции. В эпоху
Аристотеля это развитие уже представляется законченным. Истощенное борьбою
общество уже утратило свою энергию. Общественная жизнь греческих городов в то
время уже перешла кульминационную точку своего развития и клонится к
упадку. Общественные идеалы уже не служат предметом живой веры; интересы
материальные, своекорыстные господствуют в политике; общественные интересы
эксплуатируются ради целей личной наживы и честолюбия. Тогдашняя Греция
представляет собой картину всеобщего упадка и разложения. Аристотель,
действительно, жил среди общества разлагающегося и, как мы сказали, неизлечимо
больного, умирающего.
Политическое миросозерцание древних греков в его эпоху уже закончило цикл
своего развития; оно выросло, отцвело, дало свой плод и начало разлагаться.
Оставалось подвести ему итоги, то есть посредством основательного анализа
раскрыть, в чем заключается жизненный принцип этого общества, каковы были
причины его разложения и смерти; оставалось, одним словом, исследовать его
физиологию и патологию. Это и было сделано Аристотелем. Его «Политика» есть
в полном смысле итог всего политического развития древних греков; итог всей их
политической мудрости, всего их веками накопившегося политического опыта.
Полития Платона отвергает самые основы всего политического
миросозерцания древних греков, возлагая все свои надежды на иное, лучшее будущее; взор
Аристотеля, напротив, устремлен в прошедшее: он пытается воскресить тот
культурный идеал, который когда-то воодушевлял греческое общество в иные, лучшие
времена, — времена Перикла, когда действительно общественная жизнь и
политика служила высшим культурным целям. Идеалы обоих мыслителей
оказываются одинаково неосуществимыми и беспочвенными среди современной им
действительности; оба одинаково ее осуждают и отрицают: один — во имя вечной
божественной идеи, другой — bq имя земного культурного идеала.
Всемирно-историческое значение политических учений обоих мыслителей —
не в современной им действительности, а в будущем европейской истории.
Платон, как я уже вам говорил, является на почве языческой древности
предвестником будущего, пророком христианского теократического идеала. Но и
Аристотель, при всем сродстве его политического идеала с культурным идеалом
127
Перикловых Афин, не может быть назван только пророком прошедшего. Читая
«Политику» Аристотеля, мы невольно спрашиваем себя, для чего же
понадобился этот прекрасный анализ греческого политического быта в эпоху, когда
греческое государство уже пережило себя, для чего понадобился этот мастерский
диагноз, который уже не мог послужить к исцелению умирающего общества и был,
в сущности, смертельным его приговором?
«Политика» Аристотеля есть как бы предсмертное политическое завещание
умирающего эллинского мира. Среди разлагающегося политического быта
Аристотель теоретически спас культурно-политические идеалы эллинов, увековечив
их в классической научной форме, и в этом виде как бы завещал их временам
последующим. В «Политике» Аристотеля политическое самосознание умирающего
общества как бы в последний раз углубляется в себя, оглядываясь на свое
прошедшее и подводя ему итоги; политическая мудрость эллинов как бы собирается и
сосредоточивается, чтобы сказать свое последнее слово, обращаясь в стройную
научную теорию в ту самую эпоху, когда она уже утратила всякую жизненную силу на
практике. В основе политического миросозерцания эллинов лежали
универсальные начала, которые не должны были исчезнуть бесследно для цивилизации,
и вот почему эти общечеловеческие начала, отжившие для тогдашней
действительности, должны были быть теоретически сохранены и переданы наследникам
эллинской цивилизации — европейским народом, создавшим новейшую
культуру на развалинах древнего мира.
Мы назвали Платона пророком христианского теократического идеала.
И с таким же основанием и правом Аристотель может быть назван пророком
современного культурно-европейского государства. Понятие земного общества,
имеющего в самом себе свою самобытную внутреннюю цель, понятие
культурного государства, стремящегося прежде всего к земному счастью и совершенству
человека, к всестороннему удовлетворению его земных потребностей и к
развитию разнообразной энергии его деятельности, — лежат в основе современных
европейских государств. Против учения Платона, которое все упрощает, сводя
государство к безличному единству, Аристотель выдвигает понятие государства
как организма сложного, с разнородными органами и функциями. Но
современное государство в гораздо большей степени, чем греческое государство-город,
есть сложный организм, единство многих и качественно-разнородных
элементов, и потому соответствует более разнородным и сложным культурным
задачам. Современное господствующее политическое мировоззрение, как и
«Политика» Аристотеля, считает государство высшей формой человеческого общения,
желая подчинить всевластному государству все другие общественные союзы как
формы низшие, менее совершенные. Не задаваясь загробными идеалами,
преследуя земную цель, современное культурно-европейское государство, как
и идеальное государство Аристотеля, стремится к равномерному распределению
материальных благ, то есть политических прав и материального благосостояния
между своими гражданами, оно усвоило завещанный Аристотелем идеал
политического равенства; оно также стремится если не к устранению, то к смягчению
последствий социальных неравенств. Аристотель завещал цивилизованному
миру эллинский идеал свободного гражданина — гражданина, обладающего
политическими нравами, участвующего в той или иной форме в главнейших
функциях верховной власти ,— в/суде, правлении и законодательстве. Идеал
непосредственного народного самоуправления, выраженный в «Политике»
Аристотеля, конечно, был осуществим только в Греции, где государство совпадает
128
с городом и все граждане умещаются на одной площади. Но идеал участия всего
народа в правах верховенства осуществился в гораздо большем объеме в
современном конституционном государстве, в народном представительстве, в
институте всеобщего голосования. В современном культурном государстве даже до
некоторой степени осуществилась та последовательность в отправлении
политических обязанностей гражданина, которой требует Аристотель; удовлетворяя
в юные годы требованиям всеобщей воинской повинности, современный
европейский гражданин в зрелом возрасте так или иначе участвует в отправлении
функций народного верховенства. Аристотель никогда не был поклонником
крайней демократии; напротив, он стремился к органическому соединению
учреждений и элементов демократических с аристократическими. Не то ли же
самое видим мы и в современных европейских конституциях? И они стремятся
примирить народное верховенство с господством лучших людей, и они
противопоставляют увлечениям и крайностям демократии аристократические
учреждения — элемент умеряющий и обуздывающий.
Таким образом, в двух противоположных учениях Платона и Аристотеля
выражаются два жизненных принципа, два мировых идеала, которые всегда
разделяли и доселе разделяют человечество. Платон уверовал в трансцендентную
божественную идею, так что для него самая земная действительность поблекла,
превратившись в слабый оттиск сверхчувственной действительности. Земное
человеческое общество для него не высшая цель, а только средство для
осуществления небесного царства идеи. Аристотель, напротив, требует реального, земного
осуществления идеи, не веря в ее трансцендентное существование. Для него на
первый план становится земное царство человека.
Оба эти идеала, отдельно взятые, не полны и односторонни: небесное царство
для того, чтобы обнять собою полноту вселенной, должно воплотиться на земле,
и земное человеческое царство, чтобы получить вечное, незыблемое основание,
должно проникнуться и просветиться божественною идеей. Примирение этих
двух идеалов, этих двух противоположных требований человеческого духа и
составляет высшую задачу истинной философии и мудрой политики. На почве
древнего язычества задача эта не была, да и не могла быть разрешена. Спор неба
и земли здесь остается без разрешения и без примирения. Эллины могли только
завещать человечеству неоконченный спор, неразрешенное противоречие.
Универсальные политические и общественные идеалы явились греческим
мыслителям в узкой форме греческого государства-города. Это государство, стоящее на
почве социального рабства, представляется нам исключительным,
узко-национальным и узко-аристократическим даже в самых демократических своих
формах, так как оно основывает свободу меньшинства на порабощении массы. Этой
узостью страдают и изложенные нами идеалы Платона и Аристотеля. Платоново
государство задается целью вечного спасения некоторых, то есть только
ограниченного количества своих свободных граждан. Государство Аристотеля точно так
же стремится к политической свободе для немногих, для узкого меньшинства
свободных граждан государства-города, идея всеобщего спасения рода человеческого
так же чужда Платону, как идея »всеобщей политической свободы — Аристотелю.
Идея всечеловеческой вселенской любви, выражающейся во всеобщем спасении,
точно так же, как и идея универсальной человеческой свободы, суть идеи по
существу христианские, выросшие ца почве христианской церкви и христианского
культурного государства. Обе эти идеи, как сказано, чужды великим мыслителям
древности: их политические идеалы еще не освободились от языческих преданий
5 Зак. 3911 129
и узких национальных рамок. Универсальные принципы, лежащие в основе той
или другой системы, должны были прорвать эту внешнюю оболочку,
освободиться от этой случайной примеси национальных языческих элементов, чтобы
оплодотворить собою культурное развитие европейских народов и вырасти на почве
всемирной цивилизации. Как вино новое, они прорывают старые мехи, чтобы
влиться в более широкие вместилища. Пустивши корни на новой почве, они при
новых условиях снова вступают между собою в спор, в борьбу. Унаследованный
христианскими народами спор этот продолжается и до наших дней, и вековая
работа человеческой мысли изыскивает пути к его разрешению.
Глава VIII
Греческая философия после Аристотеля
«Политика» Аристотеля, как мы видели, представляется, с одной стороны,
высшей концентрацией политического миросозерцания эллинов, а с другой
стороны, свидетельствует о разложении эллинского политического быта.
Аристотелем заканчивается развитие национально-эллинских начал в
философии. После него открывается новый период, период разложения
национально-эллинского философского миросозерцания, отрешения философии от
национальных эллинских преданий.
Этот переворот в философии, как и в жизни, представляется историческою
необходимостью. Чтобы оплодотворить собою всемирную историю, чтобы
послужить развитию человечества, а не одной только нации, культурные эллинские
начала должны были отрешиться от узкого национализма — от узких
национальных преданий. И прежде всего, с всемирно-исторической точки зрения,
государство эллинов, государство-город оказывается слишком узким и
исключительным. Автономный греческий город пал жертвой этой узости и
исключительности. Обособленные в своем политическом эгоизме и взаимно враждующие
греческие города не могли выдержать напора внешней силы, не могли
противопоставить македонской монархии сплоченного политического целого. Между тем,
чтобы стать действительно мировыми, эллинские культурные идеи должны были
завоевать тогдашний мир, а для этого нужно было объединить национальные
силы в более обширное политическое целое. Что эллины не были в состоянии
сделать одними собственными силами, то было сделано македонской монархией.
Филипп Македонский сломил греческое государство-город, нанес смертельный удар
политической исключительности этого государства, а сын его, Александр,
объединив национальные силы эллинов для общего национального дела — борьбы
против персов, завоевал целый новый мир для распространения
культурно-эллинских начал.
Результатом завоеваний Александра было сближение и знакомство с другими
народами, причем вследствие ι такого сближения самая национальность
эллинская начинает разлагаться, проникаясь чуждыми элементами и проникая
их собой.
Если Филипп Македонский,нанес удар политической исключительности
отдельных эллинских городов, то Александр Македонский победил национальную
исключительность эллинов, объединив их в одно царство под общей властью
130
с другими народами, варварами. Вы помните, конечно, что значило в греческом
миросозерцании противоположность эллинов и варваров, и Аристотель, конечно,
поступил в согласии с этим миросозерцанием, когда внушал своему питомцу
Александру обращаться с эллинами как с свободными, а с варварами как с
рабами. Ученик не исполнил завета учителя. Александр, как известно, не делал
отличия между победителями и побежденными, уровнял тех и других, стремясь к
одинаковому господству над всеми; нечего напоминать о том, что он этим
первоначально навлек на себя общее недовольство греков; но как бы ни было
сильно это недовольство при первой попытке установить общение между чуждыми
друг другу расами, ближайшее взаимное знакомство при постоянном тесном
сожительстве должно было преодолеть взаимные антипатии. Завоеваниями
Александра раз навсегда был переброшен мост на Восток для эллинов, восточное и юго-
восточное побережье Средиземного моря было раз навсегда завоевано для их
цивилизаторского влияния. Кругозор эллинов расширился, выйдя из тесных
национальных рамок; мало-помалу разрушается их взгляд на остальную часть
человечества, на всех неэллинов как на расу низшую, рабскую; они приучаются
и в варварах признавать человеческое достоинство; расширяется, следовательно,
область нравственной деятельности. Нравственность теперь уже не есть
отношение гражданина к гражданину, эллина к эллину, она есть отношение человека
к человеку независимо от рода и племени; из узко-национальной она становится
общечеловеческой. Если, с одной стороны, постоянным взаимным трением
и столкновением разноязычных племен примиряется их национальный
антагонизм, то, с другой стороны, назревает сознание единства рода человеческого. Идея
национальности подчиняется более широкой идее человечества; и равноправность
отдельных национальностей, с точки зрения этой высшей идеи, если и не
высказывается прямо, то подразумевается; вместе с тем подготовляется сознание
всеобщего природного равенства и родства всех людей между собой. Вместе с
нравственностью изменяется и воззрение на государство. На место государства-города,
оказавшегося слишком узким и потому несостоятельным, становится широкий
политический союз — государство с стремлениями мирообъемлющими,
заключающее в себе не только множество городов, но и множество племен и наречий.
Самое понятие государства, таким образом, подвергается коренному изменению,
необъятно расширяясь. Нетрудно предвидеть последствия такого расширения
государственной идеи. Государство с разношерстным племенным составом и
обширной территорий уже не может, как государство-город Перикловой эпохи,
сосредоточивать в себе все людские помыслы и интересы, не может, иными словами,
поглощать в себе всего человека. Во-первых, нравственность, как мы видели,
приняла характер общечеловеческий; следовательно, если прежде от гражданина
требовалась любовь к родине, к согражданам и ненависть ко всему остальному
человечеству, то теперь, с падением национальной исключительности, от человека
требуется справедливое отношение к ближнему независимо от происхождения
и принадлежности к тому или другому государству. Нравственность, иными
словами, отрешается от политики, нравственно необходимое уже не смешивается
с политически полезным или пригодным для государства. Во-вторых,
государство, таким образом расширенное, уже не заинтересовывает по-прежнему
патриотического чувства, ни даже личного эгоизма; патриотическому чувству мало
говорит государство разноплеменное, а отдельное лицо уже не имеет в государстве
такого прямого, непосредственного интереса, как прежде, когда при
незначительном количестве населения благосостояние государства тотчас же отражалось
131
в благосостоянии каждого из граждан, его барыши были их барышами, точно так
же, как его убытки — их убытками, когда всякая удача или неудача политики
непосредственно отражалась в домашнем быту каждого из них, разоряя или
обогащая их. Можно сказать, что равнодушие общества к политике возрастает в
прямом отношении с расширением государства. Общественность слабеет и каждый
сосредоточивается вокруг своих частных, эгоистических интересов.
Таким образом, расширяясь, государство перестает, как прежде, владеть всем
существом человека и подтачивается с двух сторон. Для нравственного сознания,
стремящегося к универсальности, оно слишком узко; для индивидуального
эгоизма, напротив, слишком широко. Самое разложение государства-города было
обусловлено взаимодействием этих двух факторов: универсализма и эгоизма; но и в
государстве расширенном они сохраняют свое разлагающее влияние, делая его
непрочным и внутренне бессильным. По мере разложения национальностей,
вместе с равнодушием к интересам политики в обществе развивается космополитизм.
Этот космополитизм является результатом взаимодействия тех же двух
факторов — универсализма, для которого весь мир — родина, а потому всякий
ограниченный человеческий союз как такой представляется слишком узким, — и
эгоизма, для которого все безразлично, кроме счастья отдельной личности, а потому
родина — везде, где хорошо.
Вглядываясь в философские системы, следующие за Аристотелем, мы узнаем
и в них отличительные черты эпохи: мы без труда заметим ослабление энергии
мысли, ее творческой силы. В системах Платона и Аристотеля господствует чисто
умозрительный, теоретический интерес, точно так же, как и в учении их
родоначальника — Сократа; все эти философы ищут знания ради самого знания; для них
всех оно само есть высшее благо и высшая цель, по отношению к которой все
остальное есть средство. Философские системы эти, ставя на первый план интерес
созерцательный, теоретический, тем самым дают философское выражение
культурной идеи эллинов, которая, действительно, выражается во всестороннем
созерцании, поэтическом и научном; эллины впервые создали искусство и положили
основание знанию философскому и научному. Всемирно-историческая задача их
действительно была по преимуществу теоретическая, и вот почему нечего
удивляться, что для эллинских философов созерцательная деятельность — θεωρία,
есть первое и высочайшее.
Но вот теоретическая задача эллинской расы разрешена; культурный
эллинский идеал во всем его объеме сознан философией, искусство превзошло себя в
ряде прекрасных произведений. Высочайшее, что было достижимо на национальной
эллинской почве, представляемся достигнутым. По выполнении теоретической
проблемы выступает на первый план другая практическая задача: нужно
приобщить человечество культурный эллинским идеям, нужно сделать эти идеи
всеобщим достоянием. Задача эта была вызвана к жизни великими деяниями
Александра Македонского; завоевав обширную область для эллинских цивилизаторских
идей, он заставил самые эти идеи послужить на пользу и счастье всего
человечества; что считалось до сих пор высшею целью, теперь становится средством:
созерцание перестает быть высшим благом, теоретический интерес отходит на второй
план, и знание ценится лишь как орудие, как средство всеобщего счастья.
Выдвинутый на первый план практический интерес становится господствующим в
философских системах; все они ставят себе основной задачей — воспользоваться
добытым знанием для разрешения практических задач человеческого счастья;
знание, следовательно, в этих системах обладает лишь утилитарным, служебным
132
значением. Сообразно с этим вопросы чисто теоретического свойства, стоявшие
прежде на первом плане, — вопросы о сущности и происхождении всего
существующего, в философии после Аристотеля имеют лишь подчиненное значение; они
занимают философов разбираемой эпохи лишь в отношении к человеку и его
благу, то есть поскольку с ними связан вопрос о назначении человека, об отношении
его к внешнему миру.
Выдвинутая историей практическая задача человеческого счастья может быть
понята и разрешена двояким образом, смотря по тому — признается ли над
человеком объективная мировая цель или только личные эгоистические цели
человека. Если человек признается частью мирового организма, подчиненной законам
и целесообразному устройству этого целого, то человеческое счастье заключается
в согласовании личной жизни с жизнью этого мирового целого, и идеалом
человеческого счастья представляется жизнь, согласная с природой, то есть со всеобщей
разумной природой мироздания, или, что то же, — жизнь, согласная с разумом;
основным требованием нравственности с этой точки зрения представляется
всемирное общение разумных существ между собой, всеобщая солидарность людей
как разумных существ в единой идее рода человеческого; к такому выводу
действительно приходит система стоическая. Если же, наоборот, устройство
мироздания представляется не целесообразным и разумным порядком, а случайным
механическим сочетанием физических сил, то в таком случае человеку нечего
сообразовываться с несуществующими объективными целями; остается,
следовательно, преследовать цели личные, эгоистические. Универсализму стоиков
противополагается эгоизм эпикурейцев. Обе системы предполагают объективное
философское знание о природе всего существующего, так как только такое знание
может дать ответ на вопрос: подчинен ли человек высшей мировой цели или нет?
Но возможно ли самое знание? Этот последний вопрос, поставленный
скептической школой, представляется выражением мысли обессилевшей, изверившейся
в себе.
Возможность объективного знания была с самого начала основным
предположением греческой философии, ее неписаным догматом; исследовать возможности
человеческого знания она не могла, так как знание было ее высшим принципом,
так как всякое искание и исследование уже предполагает возможность искомого
знания; усомнившись в этом основном своем принципе, философия уже не могла
идти дальше; изверившись в человеческий разум, она отказывается от себя,
погружаясь в отчаяние.
Стоическая школа
В ряду философских учений после Аристотеля стоическая школа, основанная
известным Зеноном в конце IV века до Р. X., занимает бесспорно первое место как
по богатству содержания, так и по своему историческому значению. С первого
взгляда мы находим в стоическом учении вышеуказанные отличительные черты,
характеризующие все философские учения того времени. На первом плане в
стоической философии стоит вопрос о личном счастье и о нравственном человеческом
совершенстве. Для стоиков знание имеет цену, лишь поскольку оно уясняет
основной вопрос о конечной цели человеческого существования, о задачах
нравственной деятельности. Стоики восстают против учения Аристотеля о
созерцательной жизни как высшем человеческом счастье. С их точки зрения познание есть не
133
более как орудие нравственного совершенства, и высшая цель философии есть
практическая деятельность; вот почему стоические мудрецы называют
философию упражнением в добродетели (ασκησίςτης αρετής). Познание сущности вещей
необходимо, лишь поскольку человек является частью целого мирового
устройства, членом всеобщего мирового порядка; изучение внешней природы необходимо
лишь для того, чтобы знать место и назначение человека в целесообразном
порядке мироздания.
По мнению Хризиппа, одного из самых видных представителей стоической
школы, учение о природе нужно лишь для того, чтобы уметь различать добро от
зла. Таким образом, физика в стоической системе подчинена этике, являясь
только подготовлением, ступенью к ней. Платон и Аристотель исходили из
противоположности самобытного мыслящего, духовного начала и чистого вещества —
материи. Стоическая философия отрицает самобытность мышления,
самостоятельность духовного начала, не признает коренного отличия духа от материи;
мышление с точки зрения стоиков есть физически материальный процесс. Иначе
невозможно было бы самое воздействие мыслящей природы на вещество.
Соединение и взаимодействие вещества бездушного и духа, безусловно не
материального, представляется невозможным, немыслимым. Для того чтобы понять
взаимоотношения вещества и мышления, нужно допустить, что самая мысль обладает
телесной, чувственной природой. Только чувственно воспринимаемое, телесное
бытие существует действительно, реально; одно только телесное бытие обладает
способностью реальной деятельности. Таким образом, стоическая школа вновь
впадает в заблуждение досократовской философии, вновь смешивает определение
материальной и духовной природы, столь тщательно различаемые Платоном
и Аристотелем. В согласии с древними физиками, она представляет мыслящую
природу как тонкую материальную субстанцию, разлитую во всем мироздании,
проникающую весь вещественный мир, бесконечно подвижную и деятельную; эта
материальная стихия есть не что иное, как огонь Гераклита.
Этот огонь есть жизненное начало мироздания, разумное, благое и
совершенное существо — отец всех живых существ. Как вечное провидение,
предшествующее созданию природы, он не возникает и не уничтожается. Он есть та
первоначальная материальная субстанция, из которой возникает все существующее,
дыхание жизни, проникающее все и всех. Он содержит в себе семена или
зародыши всего существующего; эти семена (λόγοι σπερματικοί) не суть только
материальные, но и разумные начала. Из них все возникает согласно вечным
предопределениям судьбы, в силу вечной необходимости закона, лежащего в основе
мироздания. Таким образом, огонь есть разумное, божественное начало; тем не
менее он не должен быть понижаем как божественная личность, стоящая вне
природного порядка, как Творец,,который возвышается над сотворенным. Он есть не
что иное, как вечно творящая природа, соединяющая в себе все материальные
и духовные определения, духовно-чувственный Xoyoç мироздания. Вместе с тем
он есть вечное предопределение, господствующее над мирозданием ανάγκη16,
вечная судьба — ειμαρμένη. Это вечное ανάγκη есть природный закон и вместе с тем
нравственный порядок мироздания, божественная справедливость,
определяющая взаимоотношения всех нравственных существ.
Вначале существовал только этот первоначальный огонь, который в
безразличном единстве сливал в себе все определения бытия, заключал в себе возможность
всего существующего. Врсь строй вселенной произошел из него в силу
внутренней, присущей ему необходимости. Как все возникло из него, так с течением вре-
134
мени все должно к нему возвратиться. В конце веков огонь вновь поглотит в себе
вселенную; в этом мировом пожаре сгорит, уничтожится все разнообразие
существующего. Затем начинается новый творческий процесс, вселенная возникает
вновь, проходит через те же фазисы развития. Всякий возникающий таким
образом новый мир повторяет собою до малейших подробностей предыдущий; в нем
все те же люди живут при тех же обстоятельствах и условиях. Этот процесс
периодического возникновения и сгорания вселенной повторяется бесконечное число
раз во времени: мир вечно остается тождествен с самим собою, и законы,
определяющие его устройство, не изменяются.
Мир, таким образом, представляет собою закономерное и целесообразное
устройство; в нем нет места для произвола и случайности. Все до мельчайших
подробностей в нем от века предвидено и предустановлено.
Жизнь целого мироздания, как и каждого единичного существа, представляет
собою цепь причин и следствий, с непреложной необходимостью вытекающих из
вечных предопределений судьбы. Рассматриваемое таким образом мироздание
есть художественное произведение, конкретное воплощение, тело самого
божества; в нем все прекрасно и разумно, и ничто не могло бы быть лучше, чем есть в
действительности. Самое зло в мире служит благим целям Провидения; так,
например, болезни и несчастья полезны как наказания для исправления злых; наконец,
самое нравственное зло косвенно служит к добру, так как самое познание добра,
самая добродетель была бы невозможна, если бы не существовало зло как
противоположность добра. Человек в порядке мироздания занимает самое высокое
место. Его душа есть непосредственное истечение самого божества, частица
божественного огня. Эта душа не должна быть понимаема как нечто нематериальное: как
и все существующее, она вещественна; она переживает тело, но сгорает вместе со
всеми живыми существами во всеобщем мировом пожаре.
Изо всех живых существ человек находится в самом близком сродстве с
божеством: он представляет собою высшую ступень природного развития; он окружен
особыми заботами божественного Провидения. Ему принадлежит
господствующее место, царственная роль в мироздании. В согласии с Аристотелем, стоики
особенно настаивают на общественной природе человека. Все люди находятся в
естественном сродстве между собою, все они подчинены общим законам разумной
природы и предназначены к общению, сближению между собой. Это стремление
к общению стоики понимают гораздо шире, чем Аристотель; оно не
ограничивается тесной сферой местного политического союза и простирается на всех людей,
связует весь род человеческий в одно целое. Таковы основные черты учения
стоиков о человеческой природе. Отсюда вытекает учение о счастье и о задачах
нравственной деятельности.
ι
Основные начала стоической этики
Изложенное учение об устройстве мироздания и, в частности, о человеческой
природе составляет точку отправления стоической этики. Как часть природного
целого, как член мирового устройства человек должен согласовать свое
поведение с вечными законами, управляющими вселенной, должен сообразоваться
с предначертаниями божествецнодо разума, царящего в природе. Такова
основная задача нравственной деятельности. Вся наша жизнь должна определяться не
случайными индивидуальными прихотями, не личным произволом, а разумным
135
сознанием всеобщего необходимого закона природы. Известный стоический
философ Клеанф учил, что человек должен сообразоваться не с своей частной,
индивидуальной волей, а с всеобщей разумной природой. Эта всеобщая природа и
служит связующим началом всех людей как разумных существ. Таким образом,
основная заповедь стоической этики предписывает согласовать все бытие с
природой, или, как говорили стоики, ομολογουμένως τη φύσει ξήν, κατά φύσιν ξήν,
naturam sequi17.
Такое представление о нравственной деятельности обусловливается
фаталистическим характером стоического миросозерцания. Судьбы каждого из нас до
малейших подробностей предопределены в вечном божественном разуме; человек
бессилен отменить или в чем-либо изменить эти вечные предопределения; а
потому ему остается только преклоняться пред этой природной необходимостью,
сознательно ей подчиняться. В этом сознании непреложности, неизбежности всего
того, что случается, стоически философ мирится с жизнью, спокойно переносит
все ее страдания и горести. Мы страдаем и печалимся, лишь поскольку всеобщая
природа мироздания противоречит нашим желаниям и интересам. Поскольку,
напротив, мы сознаем этот всеобщий и целесообразный порядок природы и
согласуемся с ним, мы миримся со всеми случайностями и невзгодами жизни, потому что
верим в их целесообразность и разумность, сознаем их необходимость для
осуществления благих целей Провидения. Согласование нашей жизни с природой
обусловливается для нас разумным сознанием.
Вот почему жить согласно с природой значит то же, что жить согласно с
разумом, κατά φύσιν ξήν то же, что λογικώς ξήν. Эта жизнь, согласная с разумом, и есть
то, что стоики понимают под добродетелью. Добродетель с этой точки зрения есть
природное назначение человека и вместе с тем — высшее человеческое благо; она
выражает собою высшее совершенство человека как разумного существа.
Человеческая душа, по словам стоиков, создана для согласования всей жизни с
целесообразным мировым устройством: φυχή έστι πεποιημενη προς την ομολογίσν παντός
τοο βίου, каждому из нас от природы врождено нравственное сознание; мы можем
вследствие каких-либо внешних влияний или внутренних побуждений
отклониться от пути правды, но не можем уничтожить в себе врожденного сознания
добра, врожденного влечения к нему. Как высшая конечная цель жизни,
добродетель одна желательна сама по себе — как безусловная цель, а не ради каких-либо
других благ или выгод, надежд или страха.
Предшественники стоиков (за исключением, впрочем, киников) допускали
наряду с добродетелью другие блага; так, например, Аристотель учил, что счастье
состоит из добродетели и совокупности внешних благ, как, например, богатство,
здоровье, общественное положение. В глазах стоиков, напротив, одна только
добродетель заслуживает названия блага в собственном смысле. Все остальное
стоики одинаково с киниками считают безразличным. Все так называемые внешние
блага зависят от случайности и, следовательно, находятся вне нашей власти,
ничего не прибавляют к добродетели, а потому лишены всякой цены; добродетель,
напротив, не нуждается ни в чем извне; она одна зависит вполне от свободной
воли человека, закаляет его против всех возможных ударов судьбы, дает ему то
спокойствие и твердость, при которой все невзгоды и случайности жизни для него
безразличны.
Это невозмутимое, спокойное состояние духа и есть так называемая апатия
мудреца, которую стоические философы считают высшим идеалом счастья. Как
единственное прочное, неотъемлемое благо, добродетель составляет собою все че-
136
ловеческое счастье; единственное несчастье, напротив, есть противоположное
добродетели состояние — зло, как жизнь, несогласная с разумом, противоречащая
природе.
Кто обладает добродетелью, тот мудр; все остальные люди суть глупцы. Таким
образом, нравственный идеал стоиков олицетворяется, воплощается в
конкретном образе мудреца-философа. Вот почему это описание мудреца сосредоточивает
в себе весь интерес стоической этики. Главная особенность стоического мудреца
заключается в полном презрении ко всем внешним благам, в полнейшей
независимости от всего внешнего. Он ни в чем не нуждается и в самом себе, в своем
внутреннем спокойствии и довольстве находит высшее удовлетворение, счастье своей
жизни; это счастье, по определению стоиков, есть самодовольство добродетели,
αύταρκία αρετής. Мудрец не обрекает себя на добровольную нищету, как киники,
не чуждается внешних удобств и даже роскоши, но не придает всем этим
удобствам ни малейшего значения и цены, пользуется ими и также легко и охотно с
ними расстается. Богат ли он или беден, здоров или болен — он всегда одинаково
невозмутим и покоен, а потому всегда одинаково счастлив. Нищета и одиночество
киников, с точки зрения стоиков, конечно, составляет самый легкий путь к
добродетели; но эта киническая простота слишком облегчает трудную задачу жизни.
Мудрец должен и среди богатств и соблазнов жизни сохранять самообладание,
спокойствие и равнодушие к удовольствиям и страданиям. Мудрец не увлекается
радостями жизни и легко переносит горе. Он любит общество друзей и в
особенности мудрых, но легко без него обходится. Он и в одиночестве счастлив и велик, как
сам Зевес: как бог, он ни в чем не нуждается. По возможности он держится вдали
от политики и общественной жизни, но в случае нужды готов сражаться за
отечество и даже пожертвовать для него своей жизнью. Вообще же стоический философ
равнодушен к интересам политическим; он счастлив в уединении частной жизни;
но и в уединении он не один: все мудрые связаны между собою невидимою
внутреннею связью общей разумной природы и образуют одну общину; ни время,
ни расстояние не могут уничтожить эту таинственную связь, и всякий благой
поступок одного мудреца приносит пользу всем остальным. Таковы характерные
отличия стоического философа. Выражая в двух словах предшествующую
характеристику, мудрец в стоической философии представляется олицетворением
вечного закона разумной природы. Этот вечный закон природы господствует во всех
человеческих отношениях. Как мы уже раньше говорили, врожденное человеку
стремление к общению не ограничивается пределами государства и даже
национальности, простираясь на все человечество.
С этой точки зрения историческое обособление народов, вражда и
противоположность эллинов и варваров представляется противоестественною. Все люди по
природе друзья и родные между собой. Чувство дружбы ко всем людям как
таковым составляет одно из главных предписаний стоической этики. Все люди по
природе равны между собою. На этом основании родоначальник стоической школы
Зенон вместе с киниками утверждает, что не должно быть разделения людей на
различные города и государства с различными законами и обычаями, что все
люди должны считаться нашими согражданами и соотечественниками. Один закон
должен господствовать над всеми людьми, подобно тому как один голос
управляет целым пасущимся стадом. Впоследствии один из позднейших стоиков,
император Марк Аврелий, утверждал, что'весь мир есть не что иное, как одно
государство, один город, обнимающий все человечество, в котором отдельные государства
суть как бы отдельные дома. В этих философских теориях ясно отражаются поли-
137
тические тенденции различных эпох. По словам Плутарха, Зенон был только
философским выразителем деяний Александра Македонского: он сделал то же
в теории, что Александр на практике. Наперекор внушениям своего учителя
Аристотеля Александр заботился одинаково об эллинах и варварах как посланный
свыше посредник и примиритель. Если, таким образом, Зенон был теоретиком
македонского периода, то Марк Аврелий в философии является представителем
тенденций Римской империи.
Идеал стоиков есть всемирное царство, обнимающее все народы и племена. Как
во внешней природе, так и во всех человеческих отношениях господствует
стремление к всеобщему единству. Не только все люди, но и боги, как однородные
людям существа, управляются одним и тем же законом, а потому суть члены одного
и того же всемирного царства. Этот закон есть первоначальный источник всех
человеческих законов; он бесконечно выше всех положительных законодательств,
которые относятся к нему как бледные, несовершенные отражения. Ближайшие
подробности об устройстве идеального государства неизвестны, и все сведения,
которые мы о нем имеем, дошли до нас лишь в виде небольших отрывков. Так,
по свидетельству Диогена Лаэрция, изо всех форм правления они предпочитали
смешанную — соединение монархии, аристократии и демократии. Кроме того,
относительно некоторых стоиков нам известно, что, исходя из признания всеобщего
природного равенства людей, они отвергали рабство как противоестественное
состояние; впрочем, такое отношение к рабству далеко не было всеобщим в пределах
самой школы. Некоторые из стоиков, как, например, Посидоний, отстаивали его
правомерность, приводили в защиту его знакомые нам аргументы первой книги
«Политики» Аристотеля.
В предшествовавшем изложении стоической системы вы видели, что в
противоположность предшествовавшей философии стоики пришли к более широкому
взгляду на задачи нравственной деятельности человека; что, проникшись
универсальной идеей единого человечества, они пришли сравнительно с предыдущей
эпохой к более гуманному нравственному мировоззрению, увековеченному
известными словами Сенеки: Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto18.
Универсализм стоиков выражается, во-первых, в том, что все существо
человека в их системе подчинено мировым объективным целям, а не частным целям
того или другого государства, того или другого города, как это было прежде. Мало
того, для их расширенного нравственного кругозора все существующие
государства оказываются слишком тесными и узкими: их может удовлетворить только
всемирное нравственное общение, всеобщее единение людей между собой. Разумная
природа у всех людей одна и та,же, все они живут под общим нравственным
законом; все они подданные единого мирового царства, обнимающего в себе богов
и людей, все они сограждане еДиного вышнего города, по выражению императора
Марка Аврелия. Как бы ни были, однако, широки и гуманны воззрения стоиков,
их нравственное учение страдает одним коренным недостатком, который один сам
по себе делает стоическую мораль бессильною, неспособною творчески
воздействовать на жизнь и воодушевлять людей на великие дела. Человек в стоической
системе всецело поглощен внешней и чуждой ему мировою целью, всецело
порабощен тяготеющим над всем неумолимым предопределением; для его нравственной
свободы и самостоятельности вовсе не остается места; единственное проявление
человеческой свободы выражается в том, чтобы подчиняться всесильной мировой
необходимости; единственное проявление человеческой самостоятельности в
сущности сводится к признанию собственного рабства пред законом природы. Апатия
138
стоиков, их равнодушие ко всему, что случается, есть в сущности продукт
отчаяния, признание бессилия человека творчески воздействовать на
действительность. Поглощенный мировым целым, человек не имеет в себе безусловной цены
и смысла, будучи лишь преходящим явлением, случайным результатом игры
мировых сил. Понятие безусловного значения человеческой личности вообще чуждо
языческой древности; но в государстве эпохи Перикла или Аристотеля человек
еще что-нибудь значил как гражданин своего государства; в цветущие эпохи
афинской демократии отдельная личность, выделявшаяся из толпы умом и
дарованиями, могла влиять на мировые судьбы. Теперь, в мирообъемлющем,
космополитическом царстве стоиков отдельная личность теряется, как капля в океане,
утрачивая вместе с тем всякое значение и цену; все здесь сравниваются в общем
рабстве и в общем ничтожестве.
Эпикурейская философия
Таковы основные черты стоического учения. Параллельно с стоической
философией и одновременно с ней возникает другое учение, которое при всей своей
противоположности стоицизму стоит на общей с ним исторической почве, а
потому сходится с ним в основных чертах, характеризующих все мышление той
эпохи. Я говорю об эпикурейской философии. Господствующим интересом
философского учения Эпикура также является счастье единичного субъекта, его
практическая задача. Теоретический интерес у Эпикура также стоит на втором плане;
вся задача философии, по Эпикуру, заключается лишь в том, чтобы подготовить
человека к счастливой жизни; знание является не более как орудием
человеческого счастья.
С этой точки зрения всякое теоретическое знание, которое не приносит прямой
практической пользы, представляется излишним. Таковы общие черты,
сближающие Эпикура со стоиками. Но между тем как стоики подчиняют всю
нравственную деятельность всеобщему закону разумной природы, требуя отрешения
мудреца от всех внешних благ, — Эпикур, напротив, видит в удовлетворении
чувственных потребностей субъекта существенный элемент счастья. Как и в
стоической философии, учению о человеке и человеческом счастье предпосылается
учение о природе: этике предшествует физика. Основные начала эпикурейской
физики весьма просты и немногосложны; они представляют собой в сущности
повторение Демокритова учения. Вместе с Демокритом Эпикур признавал, что
только телесное бытие реально, что все существующее представляет собою сцепление
элементарных, неделимых тел — атомов, разделенных между собою пустым
пространством. Эти атомы силой присущей им тяжести падают в бесконечном
пространстве; но по пути некоторые из них произвольно отклоняются от
прямолинейного направления, сталкиваются, кружатся, как бы в вихре, и, соединяясь,
сцепляясь между собой, образуют бесконечное число миров. Это образование
вселенной происходит не в силу цаких-либо разумных, целесообразных причин,
а путем чисто механического взаимодействия атомов; Эпикур вовсе отрицает
деятельность целесообразных начал в природе и видит в каждом природном явлении
действие естественных механических причин. Религиозное мировоззрение,
которое объясняет природные явления деятельностью разумных существ — богов,
с этой точки зрения представляется продуктом невежества необразованной толпы
и суеверного страха перед грозными явлениями природы. Вся задача знания,
139
по мнению Эпикура, заключается в том, чтобы уничтожить этот страх, чтобы
обеспечить то спокойствие и беспечную веселость жизни, которая составляет
необходимый, существенный элемент счастья. Однако Эпикур не думает отрицать
самого существования богов; напротив, он признает их бесчисленное множество.
Беззаботные, веселые и беспечные эти боги не вмешиваются в управление
мирозданием и предоставляют человеческие дела их собственному течению.
Такие боги вполне безопасны: им нет никакого дела до человека и
человеческих отношений; человеку нечего от них ожидать и нечего опасаться.
Местопребывание богов — вне видимого нами мира: они помещаются в промежуточных
пространствах между бесчисленными мирами. Здесь они лишены возможности
оказать какое бы то ни было вредное или благотворное влияние на судьбы
мироздания. Мир остается игрой слепых природных сил, бесцельным и
бессмысленным сцеплением безжизненных атомов.
Основные начала этики
Как в физике Эпикура господствует представление атома, так и в основе его
этики лежит понятие веселого, самодовольного атома — человеческой личности.
Эпикур и здесь является родственником Демокрита.
Человеческая душа, как учил Эпикур, в согласии с Демокритом, есть
сцепление круглых огненных атомов. Случайное и временное соединение это
кончается, как только тело умирает; вместе с телом умирает и душа, и атомы, ее
составлявшие, разлетаются в бесконечном пространстве. Загробной жизни нет,
а потому нечего о ней и задумываться; надо пользоваться настоящим: есть, пить
и веселиться — жить в свое удовольствие; таков прямой практический
результат эпикурейской физики. Высшая цель жизни есть счастье личности; это
счастье заключается в наслаждении земными благами — в удовольствии. Изо всех
целей, которые мы преследуем, одно только удовольствие желательно само по
себе: все остальное является лишь средством по отношению к нему.
Удовольствие, по словам Эпикура, есть начало и конец блаженной жизни. В силу
природного инстинкта мы стремимся к удовольствию и избегаем страдания. Эти два
основные влечения человеческой природы определяют собой все наше
поведение, всю нашу нравственную деятельность. Отсюда видно, что в основных
началах своего нравственного учения Эпикур сближается с Аристиппом и вообще
с Киренской школой. Но между тем как киренцы понимают счастье как сумму
единичных и мимолетных наслаждений, Эпикур под счастьем разумеет
постоянное, непрерывное состояние довольства и спокойствия. Отдельное
удовольствие, ни даже целый ряд удовольствий не составляют счастья, если только мы
теряем безмятежное состояние духа, если мучения, страх и опасения за
будущее, примешиваясь к наслаждениям, нарушают наше спокойствие;
удовольствие по своей природе чисто отрицательного характера; оно заключается лишь
в прекращении страдания: всякое наше желание, пока мы лишены того, что
желаем, есть страдание: таковы, например, муки любви, мучения голода,
жажды и т. п. Напротив, когда мы обладаем предметом нашего желания, страдание
прекращается, тогда наступает вновь безмятежное состояние духа, αταραξία.
Это безмятежное состояние, спокойствие души, таким образом, определяется
как свобода от страданий. Вся задача жизни и вся практическая мудрость
философа заключаются в том, чтобы среди всех возможных обстоятельств и слу-
140
чайностей сохранять эту свободу; самая добродетель ценится эпикурейцами
лишь как средство, как одно из условий душевного спокойствия, а не как
высшая цель деятельности.
Аристипп и его школа выше всего ценили чувственные, плотские
наслаждения. Эпикур признает, что состояние тела, чувственные эффекты суть
первоначальный источник всех душевных радостей и страданий. Тем не менее душевные
радости имеют гораздо более цены и значения для человеческого счастья, чем
телесные ощущения: физические удовольствия слишком мимолетны и
недолговечны — они кончаются, как только прекращается то телесное состояние, которое
их вызвало. Душа, напротив, обладает разумом и памятью; она поэтому не
ограничивается радостями настоящего, ее радуют воспоминания прошедшего, равно
как и надежды на будущее. Существенным элементом счастья поэтому является
разум. Среди телесных страданий, недугов и опасностей один только разум может
дать душе спокойствие; одно только сознание преходящности телесных страданий
дает нам возможность твердо и мужественно их переносить.
Из этих немногих черт эпикурейской этики видно, что Эпикур был вовсе не
таким апологетом грубых чувственных наслаждений, каким его слишком часто
представляют. Конечно, он был поклонником веселого и беспечного образа
жизни, ценил ее удовольствия, любил выпить в приятной компании, но строго
восставал против опьянения до бесчувствия, любил и половые наслаждения, но не видел
в них непременного условия счастья — вообще же всего больше заботился о своем
спокойствии. Эпикурейская философия в особенности характеризуется
стремлением к самосохранению, развитому до последней степени. Философия никогда не
доводила Эпикура до грустных размышлений, была для него приятным
препровождением времени и, надо полагать, никогда не расстраивала его сон и аппетит.
Эпикурейцы ценили и умственные занятия, но не слишком для них напрягались,
а всего больше боялись чем-нибудь себя обеспокоить и тем нарушить приятное
и веселое расположение духа.
__В учении об обществе эпикурейцы держались таких же атомистических
воззрений, как и в физике. Они не признавали врожденного человеку стремления
к общению. Общество с этой точки зрения представляется случайным, механиче-
ским соединением атомов — личностей. Первоначальное естественное состояние
человека есть одиночество; союз общественный возникает вследствие
произвольного соглашения отдельных личностей в целях взаимной помощи и защиты
против опасностей, грозящих со стороны врагов и внешней природы. Начало права
и нравственности является результатом этого первоначального договора. В
первоначальном, естественном состоянии, предшествовавшем договору, эти начала не
были известны человечеству; раздичия между добром и злом, справедливым и
несправедливым не существовало. Сама по себе несправедливость не есть зло, нет
ничего абсолютно безнравственного; эпикурейцы не признают другого удержа от
преступления, кроме страха наказания; стоические философы справедливо
упрекали их в том, что с их точки зрения, например, представляется злом попасться
в воровстве, а не самое воровство. Ради общей безопасности люди соединяются
в общество; образующим началом в общежитии является, таким образом,
стремление к самосохранению; это же основное стремление является мотивом всей
нравственной деятельности; Эпикур видит в добродетели не основную цель
нравственной деятельности, а средство, самосохранения; справедливость в его системе
подчинена утилитарным, практическим целям. Она желательна для каждого,
лишь поскольку она полезна, поскольку она способствует спокойствию и безо-
141
пасности личности. Эгоистическая цель личности стоит на первом плане в
политической теории Эпикура. Господствующим началом в человеческих отношениях
является не общественный, а частный интерес. Эпикурейский философ
предпочитает спокойствие частной жизни суете и треволнениям политики: он принимает
участие в интересах общественных, политических, лишь поскольку этим не
нарушается веселая беззаботность его повседневной домашней жизни. Он нуждается
в законах лишь для того, чтобы быть обеспеченным в мирном пользовании
радостями жизни, и только исключительные обстоятельства могут заставить его
принять деятельное участие в текущих общественных делах.
В стоической и эпикурейской философии знание подчинено практическим
интересам. Как там, так и здесь знание не имеет само в себе безусловной цены,
являясь лишь средством практических целей человеческой деятельности.
Дальнейший шаг в том же направлении делает скептическая философия: скептики учат,
что чувственное восприятие само по себе недостоверно, что самое познание
истины невозможно, что единственным мерилом истины является практический такт,
что единственным руководителем человеческой деятельности является инстинкт,
а не достоверное знание.
Основатель скептической школы Тиррон учил, что мы не можем познавать
вещей, как они существуют на самом деле. Вещи представляются нам в нашем
чувственном восприятии не так, как они есть в действительности; чувственные
свойства предметов коренным образом отличаются от их подлинной сущности; поэтому
все наши мнения шатки и недостоверны. Мы не можем ничего говорить
утвердительно, не можем говорить о том, что есть на самом деле, а только о том, что нам
кажется: мне кажется, что этот предмет кругл или красен и т. п. Таким образом, в
области теоретической скептическое учение приходит к полнейшему отчаянью
в возможности познания, к сомнению в самой объективной истине вещей. К тому
же результату приходит скептическая школа и в области этики; скептики
сомневаются в самом существовании добра и справедливости. Где нет объективной
истины, там нет и объективного блага. Добро и зло, правда и неправда коренятся не
в природе вещей, а в произвольном человеческом мнении. Таким образом,
нравственные суждения так же невозможны, как и познание сущности вещей.
С этой точки зрения нам больше ничего не остается, как воздерживаться от
всякого рода суждений, отказаться от всякого теоретического интереса,
относиться с полным безразличием ко всему. Это безразличное отношение ко всему
существующему и есть известная апатия скептиков, которая приводит их к афазии —
безмолвию.
Таким образом, скептическая философия подвергает вопросу основное
предположение всевозможных философских направлений, именно достоверность
мышления, способность познания безусловной истины. Скептическая философия
выражает собой бессилие мышления, отчаяние разума в самом себе. Отчаявшись
в самом себе, человеческий разум ищет внешнего руководства, другого, высшего
мерила истины, превосходящего человеческие способности. Древняя греческая
философия верила в способность человеческого ума собственными силами
познавать истину; скептическое учение представляет собою выражение философского
мышления, обессилевшего, изверившегося само в себе; но с другой стороны,
скептическая школа подготовляет путь новому учению, новому направлению как
в жизни, так и в мышлении. >
Обратившись назад, мы увидим, что не только скептическая школа, но и весь
только что изложенный нами период развития философии является результатом
142
философского отчаяния. И, во-первых, стоическая философия отчаивается
в сверхчувственной идее, в которую дотоле верила и которою воодушевлялась
философия. Платон хотел уничтожить земную действительность во имя идей,
а Аристотель хотел воплотить божественную идею в земной жизни человека.
Хотя Аристотель и не допускает отдельно существования идеи от материи, хотя
он и отрицает загробный мир, не веря в бессмертие, однако, идея всех идей,
форма всех форм — божественный разум и для Аристотеля обладает реальностью в
самом себе, вне всего материального, чувственного. Воодушевляясь этим
Божественным, сверхчувственным, Платон и Аристотель могли предъявлять к
действительности высшие требования, могли стремиться к творческому на нее
воздействию.
От учения Аристотеля, утверждающего имманентность идеи —
неотделимость ее от чувственного явления, всего один шаг до стоического учения,
утверждающего безразличие чувственного и идеального, смешивающего то и другое
в единой мировой стихии; для стоиков самый божественный разум чувствен,
для них он определяется как вечно творящая стихийная сила природы. Платон
и Аристотель могли смотреть сверху на действительность, один — с точки зрения
своего загробного идеала, другой — с точки зрения нематериального
божественного разума, возводя земную человеческую жизнь к высшей ее энергии. Платон
мог видеть в этой жизни подготовительную ступень к жизни будущей, а
Аристотель хотел воплотить образ свободного, вседовольного божества в земной жизни
человека.
У стоиков даже нет ничего, чтобы возвышало человека над
действительностью, ничего, чтобы отличало его от мира стихийного, природного. В
философии Платона и Аристотеля человек чувствует себя свободным в созерцании
и подчиненным внешней необходимости только в практической деятельности;
в созерцании он достигает отрешения от всего материального, будучи
участником божественного акта мышления, который освобождает его от стихийного
рока. В стоической философии, как и вообще в философии после Аристотеля,
уже нет этого объективного освобождающего начала: человек погружен в
стихию всем своим существом, он раб всецело; надежда на лучшую жизнь
исчезает, мировой процесс уже не есть движение прогрессивное, к лучшему, а
круговращательный процесс, в котором мир все нарождается и сгорает, сгорает
и вновь нарождается, не изменяясь к лучшему даже в отдельных фазисах
своего развития. Безнадежным представляется миросозерцание стоическое;
мировой процесс в стоической системе являет собою образ монотонного
повторения одного и того же; эта бесконечная жизнь мироздания есть в сущности
бесконечная скука.
Этическая задача человека сводится к признанию разумности существующего
за невозможностью наилучшего; подчиняясь всесильной творящей стихии,
человек уже не является деятельным, а лишь пассивным, безвольным участником
мирового процесса. Отказываясь от индивидуальных личных целей, он признает
себя орудием целей объективных, ему внешних и чуждых. Вместо энергии
Аристотеля апатия, как выражение бессилия и отчаяния, становится
центральным понятием в этике стоиков; политический идеализм древних философов в
стоической системе исчезает, уступая место рабскому поклонению существующему
как таковому. Эпикуреизм, по-в>идимому, столь резко противоположный
стоицизму, стоит на общей с ним почве, также выражая, хотя в иной форме, общую черту
эпохи — философское отчаянье.
143
Стоицизм, утратив веру в сверхчувственный мир, отчаивается в надежде
лучшей жизни; эпикурейство делает дальнейший шаг: оно отчаивается в разумности
существующего, в высшем смысле человеческой жизни. Стоическая система еще
сохраняет в себе элементы платоновского и в особенности аристотельского
идеализма; изверившись в сверхприродное духовное начало, она зато одухотворяет
самую природу, представляя ее порядкам разумным и целесообразным; в этом
разумном целом и жизнь отдельной личности имеет по крайней мере подобие
разумного смысла. Эпикурейство в противоположность стоицизму утрачивает
и тот элемент философского идеализма, для него все существующее есть
нагромождение слепых случайностей, а жизнь человека — чистейшая бессмыслица;
человеку здесь остается, не задаваясь высшими целями, преследовать цели
эгоистические, есть, пить и веселиться; стоическая апатия предполагает преклонение
человека пред чем-то разумным; и веселость эпикурейца, αταραξία, есть
последствие признания бессмыслицы всего существующего; ему весело потому, что он,
что называется, ни Бога, ни черта не боится и тем более спешит пользоваться
земною жизнью, что дни ее коротки.
Но эпикуреизм еще сохраняет в себе последний остаток сократического
идеализма: для эпикурейцев чувственное наслаждение еще не исчерпывает собою
счастья; они, как мы видели, ценят знание как весьма важный элемент
человеческого счастья, ибо одно знание дает философу способность возвышаться над
настоящей минутой; следовательно, без философского знания невозможно
безмятежное состояние духа, невозможна αταραξία.
Чтобы прийти к полному отчаянью, остается утратить веру в знание, нужно
отказаться от философского искания истины. Это, как известно, и было сделано
скептической философией, которая, изверившись в познавательной человеческой
способности, проповедует афазию — безмолвие. Действительно, отказавшись от
объективного занятия философией, остается только умолкнуть. Но она не
умолкла и не умолкла потому, что признала вне и выше человеческого разума другой,
высший источник познания — в откровении. Отчаявшись в способности
человеческого разума познать истину одними собственными силами, она ищет помощи
свыше.
Но нам нет надобности изучать этот последний период развития эллинской
философии. Философские системы этого периода — системы неопифагорейские и
неоплатонические — совершенно чужды интересов политических; они не содержат
в себе никакого нового учения о государстве и обществе. Эти системы суть также
продукт философского мышления, потерявшего веру в себя, в свою способность
познать истину собственными силами. Обессилевшее философское мышление
признает над собой господство высшей силы, высшего мерила. Неоплатонический
философ черпает сознание дрбра и истины уже не в своем субъективном
мышлении, а в откровении. Высшим мерилом является здесь уже не разумное сознание,
а сила, бесконечно превосходящая личное разумение — Божество; это Божество,
чуждое земной действительности, сосредоточивает в себе весь интерес систем
неопифагорейских и неоплатонических.
Погруженные в созерцание сверхчувственного мира, эти системы чужды
интересам земной действительности; они лишь мимоходом касаются земных
человеческих отношений. В истории философии права эти системы не играют никакой роли,
и, не представляя для нас ближайшего интереса, могут быть обойдены молчанием.
А потому мы и закончим здесь историю философии права в Древней Греции.
144
Глава IX
Эллинская философия на римской почве
Раньше я уже говорил, что период философского развития, непосредственно
следующий за Аристотелем, характеризуется отрешением мысли от национальных
начал. Такое отрешение философии от национально-эллинских начал способствовало
акклиматизации философии на римской почве. Римляне в противоположность
грекам представляют народ практический по преимуществу. Черта, характеризующая
эллинскую философию в эпоху разложения, денационализации, — господство
практического интереса, была изначала коренным свойством римского народа.
В Риме интерес созерцательный, теоретический никогда не достигал такого
преобладающего значения, как в Греции. Достоинство знания для римлянина всегда
измерялось его практической полезностью; к отвлеченным умозрительным вопросам
римляне не имели ни влечения, ни способности; им недоставало врожденного
философского гения. Вот почему Рим не выработал самостоятельного философского
миросозерцания. Этим же объясняется, с другой стороны, и то, почему греческая
философия до Аристотеля включительно не могла найти здесь благодарной почвы.
Платон и Аристотель, обожествлявшие созерцательную деятельность, не могли
рассчитывать на понимание и сочувствие в Риме. В эпоху распространения греческой
образованности после завоевания Греции они внимательно изучались, но по своему
слишком умозрительному характеру все-таки оставались чуждыми римскому
гению, никогда не могли быть вполне поняты и усвоены. Гораздо ближе к римскому
народному характеру стоят системы, непосредственно следующие за
Аристотелем, — стоическая, эпикурейская и скептическая. Здесь интерес теоретический,
умозрительный отходит на второй план, и знание является орудием практических
целей; наконец, скептическая философия сомневается в самой возможности
умозрения, признавая высшим руководством в жизни практически такт, природный
инстинкт, врожденный каждому из нас.
Не следует забывать, что эпоха распространения греческой образованности в
Риме была и эпохой разложения, упадка древних нравов; семейные и общественные
связи слабели; религиозные верования, которые в Риме, как и в Греции, служили
связью, скрепляющей общество, также стали предметом всеобщего сомнения;
неверие все более и более овладевало образованными классами. Разложение
общественных связей здесь, как и всюду, сопровождалось развитием индивидуалистических
стремлений, преобладанием частных, эгоистических интересов в ущерб
общественным. Понятно, что при таком настроении общества философские системы,
провозглашавшие эгоистический, индивидуальный интерес как высшую цель
деятельности, должны были пользоваться большим успехом и популярностью.
По мере расширения римского государства, сближения с другими
народностями, в Риме слабела национальная исключительность, развивался космополитизм,
а вместе с тем возрастало равнодушие к политике. Последствием такого
ослабления политического интереса является в Риме, как и в Греции, обособление,
сосредоточенность личности в самой,себе, в своем внутреннем мире. В конце концов
получается тот же результат, который мы имели случай наблюдать уже в
философских системах последнего периода, именно — отделение этики от политики.
Конечной целью человеческой деятельности полагается внутреннее,
субъективное совершенство человеческой личности, ее добродетель и счастье, а не только
пригодность гражданина для целей государства. Понятно, что философские сис-
145
темы, выросшие среди аналогических общественных условий, пользовались в
Риме весьма обширным влиянием и распространением благодаря своему
внутреннему сродству с господствующими в римском обществе направлениями.
В частности, стоическая философия представляет всего более точек
соприкосновения с идеалом древнеримской добродетели. Равнодушие стоического мудреца
к наслаждениям жизни и внешним благам, твердость и стойкость, с которой он
переносит страдания и лишения, его готовность постоянно жертвовать собою для
других, а всего больше мужество, сила воли, которую он высказывает во всех
обстоятельствах жизни, все эти черты во многом напоминают древнеримскую
доблесть. Изо всех нравственных качеств человеческой личности римляне всего
выше ценят закал характера, силу и энергию воли, самообладание. Все эти
добродетели занимают господствующее место в стоической этике. С другой
стороны, стоики проповедуют полное подчинение личной воли всеобщему закону
разумной природы, господство строгой и суровой дисциплины над жизнью, —
черта, опять-таки, сродная римскому характеру. Наконец, основатель стоической
школы Зенон предвосхитил римский идеал всемирного царства. Все эти черты
делают понятным тот успех и влияние, которым пользовалась стоическая
философия в Риме. Она привлекает к себе одинаково сторонников всемирного римского
владычества и любителей старины — поклонников староримской доблести. Среди
всеобщего упадка нравов стоическая философия одна отстаивает строгий
нравственный образ жизни, пытаясь дать ему высшее философское обоснование; вот
почему стоицизм представляет собою прибежище для лучших людей из общества;
в нем находят спасение все лучшие умственные силы, которые, отчаявшись в
современной им общественной жизни, ищут утешения в философии.
С другой стороны, эпикурейство находит в Риме многочисленных
поклонников. Учения атомистические, которые видят в человеческом общежитии лишь
внешнюю, искусственную связь людей, всегда находят себе и благодарную почву
среди общества разлагающегося. В эпоху нравственного упадка проповедь
эгоистического наслаждения, учение, признающее единственным мотивом
нравственной деятельности эгоистическое стремление к самосохранению, понятно,
пользуется большим авторитетом и обаянием. Веселый и беззаботный образ жизни,
отрицательное, хотя притом и несколько легкомысленное отношение к
существующим религиозным верованиям, — все эти черты делают эпикурейское учение
весьма популярным среди изверившегося римского общества.
Наконец, скептическая философия пользуется уважением в Риме потому, что
римляне по своему практическому складу ума всегда склонны были относиться
с большим недоверием к умозрению: для них высшим мерилом знания была всегда
практическая потребность; скептицизм же, как мы видели, отрицая самую
возможность достоверного знаний, признает единственным руководящим началом
в жизни практический такт и, следовательно, подчиняет разум воле.
Скептическая философия не признает ничего безусловно достоверного; все возможные
утверждения для нее только в большей или меньшей степени вероятны. С точки
зрения скептической философии, различные учения философов о сущности и
происхождении всего существующего различаются между собой лишь степенью своей
вероятности; ни одно из них не может быть названо безусловно истинным или
ложным; а только вероятным. Древнейшие представители скептической школы
относились с одинаковым отвращением и недоверием ко всякого рода умозрительным
философским построениям. Впоследствии же в среде самой школы возникает
стремление взвешивать противоположные учения, определяя большую или мень-
146
шую вероятность каждого из них. Возникает так называемое эклектическое
направление, которое достигает особенного процветания в Риме. Сущность
эклектизма заключается в том, что из различных философских учений сопоставляются
и набираются различные философские положения, которые представляются
наиболее вероятными. Особенно выискиваются те положения, в которых сходятся
между собой противоположные системы; те общие положения, в которых все или
большая часть философов согласуются между собою, представляются наиболее
вероятными. Таким образом, составляется сложная система, которая, в сущности,
представляет собою набор общих мест философии, перемешанных с самыми
разнородными и противоположными положениями, философское учение, по кусочкам
сшитое и пестрое, как платье арлекина. Изо всех возможных философских
направлений эклектизм есть самое поверхностное. Из-за поверхностного внешнего
сходства эклектик просматривает глубокие существенные различия; эклектические
учения смешивают в себе воззрения, часто не имеющие ничего общего между
собою. Самая попытка составить систему смешанную предполагает известное
отсутствие самостоятельности, известную долю безвкусия: римлянам, при отсутствии
у них врожденного философского гения, эклектизм особенно приходился по
сердцу. При своем отвращении к отвлеченным умозрениям образованные римляне
интересовались всего более практическими результатами различных философских
систем; достоинство каждого учения определялось для них не его внутреннею
логичностью и состоятельностью, а полезностью; изучая различные эллинские
учения, они брали из них те положения, которые по своим практическим результатам
представлялись им особенно полезными, причем высшим мерилом вероятности
каждого данного учения был для них consensus gentium, всеобщее согласие;
степень вероятности каждого данного положения определяется тем, насколько оно
приближается к положениям общепризнанным, к всеобщему согласию.
Значение Рима в истории философских учений об обществе
Таким образом, в области философии Рим не произвел ничего
самостоятельного. Всемирно-историческое значение Рима заключается не в запасе новых
философских идей, точно так же, как и не в произведениях художественного
творчества. Но Рим внес в историю радикально новое понятие о праве, государстве,
верховной власти. С этой стороны Рим имел существенное, определяющее
влияние в истории политического мировоззрения европейских народов.
В Риме идея государства впервые вполне освобождается от местной
национальной исключительности. Здесь впервые на самом деле осуществляется идея города
вселенной, всемирного царства; которое объединяет в себе культурное
человечество без различия языков и нравов. На римской почве возрастает и осуществляется
понятие всенародного единства, всемогущего государства, которое подчиняет себе
все племена и народы. Такое всенародное единство предполагает всемогущую
единую власть, которая управляет вселенной, одинаково господствует надо всеми.
Эта всемогущая, вселенская власть олицетворяется в образе римского
императора. Император представляет собою всю полноту могущества и власти римского
народа: по словам институций Юстиниана19, слово императора имеет силу закона,
потому что римский народ как целое перенес на него всю сумму своих верховных
прав и могущества: quod principi placuit legis habet vigorem, dum lege regia, quae
de imperio ejus lata est populus ei et in eum omne suum Imperium et potestatem con-
147
cessit. На римской почве впервые выросло понятие права в его всемирном,
универсальном значении. Всемирное государство есть вместе с тем всемирный правовой
порядок. С точки зрения древнейшего права, как римского, так и греческого,
субъектом прав является только гражданин местного города. Римские юристы,
как известно, расширили понятие права, распространили его на все человечество.
Римское гражданство при императоре Калигуле стало достоянием всех
подданных империи; но уже ранее того римские юристы признали ту истину, что всякий
человек как таковой есть persona juris, субъект прав, пришли к признанию
всеобщего равенства как первоначального нормального состояния, требуемого
естественным законом разумной природы. Если прежде юридической защитой в Риме
пользовался только римский гражданин в тесном смысле слова, то под влиянием
претора, перегринов и юристов понятие римского гражданина расширилось,
обособление национальностей сгладилось, юридическая защита стала общим
достоянием всех племен и народов.
Право с точки зрения римского миросозерцания предоставляет собою высшее
божественное начало, и Цицерон, стоя на почве народного мировоззрения,
определяет юриспруденцию как познание божеских и человеческих вещей. Как
осуществление божественного начала права в Риме государство обожествляется,
в этом Рим сходится с Грецией. Но и здесь между Римом и Грецией существует
глубокое различие: в Греции поклонение государству в лице государственных
богов далеко не исчерпывает собою религии. Государство далеко не обнимает собою
всевозможные культы: оно представляет собою лишь одну из божественных сил,
является лишь частью божественного косцос'а. Напротив, с точки зрения
римского миросозерцания, государство воплощает собою всю полноту божественного
всемогущества; оно объединяет в себе всевозможные божественные силы, обладает
всеми божественными атрибутами.
В Греции мы видим множество богов, стоящих над государством, вне его и
выше него. В Риме, напротив, государство стоит выше поддельных богов, одинаково
заключая их в себе. Сама религия в Риме рассматривалась как государственное
учреждение; не религия была санкцией государственной власти, а напротив,
государство санкционировало отдельные культы; сенат создавал богов своими декретами,
решая вопрос о признании, допущении того или другого божества в круг
государственных богов; религия была в полном смысли слова созданием государства.
Согласно господствующим здесь представлениям, государство по своему
понятию выше религии, обосновывает ее в себе; религия состоит в служебном
отношении к государству: все ее значение заключается в ее полезности для целей
политических; она представляет собой одно из средств политики, одно из орудий
государственного всемогущества. Римлянин почитает своих богов не столько
потому, что он верит в них, сколько потому, что они суть государственные боги,
потому что он считает их полезными для государства. В императорскую эпоху Рим
был сборным пунктом всех возможных культов; римляне с величайшей
терпимостью относились ко всевозможным национальным языческим культам под
условием подчинения их римской государственной религии. Римляне имели
обыкновение молиться даже богам неприятеля и в случае победы переносили их в Рим,
строили им храмы, воздвигали алтари: таким образом, в Риме сосредоточились
всевозможные боги покоренных народов; многие из них получили здесь право
гражданства, превратились в государственных римских богов.
В господствующей официальной религии высшим религиозным понятием,
обнимавшим и заключавшим в себе все остальные, была сама империя, само госу-
148
дарство. Как представитель высшей власти на земле император обожествлялся;
императоры официально объявлялись божествами лишь после смерти; но еще при
жизни им строили храмы и приносили жертвы. Калигула велел поставить свою
статую в святое святых иудейского храма и считал несчастными тех, кто
отказывался верить в его божественность. Понятие государственного всемогущества,
представление безграничной власти, простирающейся на все и на всех, таким
образом, обратилось в культ императорской власти. Императорский культ
представляет собою официальную религию империи и постольку имеет принудительное
значение для всех ее подданных. Эта религия требует от человека не внутреннего
обращения, не веры, а лишь соблюдения внешних обрядностей, церемоний
культа, лишь внешнего выражения почтения подданных к императору как высшей
власти, божеской и человеческой.
Власть императора коренится в согласии всего римского народа, который
переносит на него полноту своих верховных прав. Император, таким образом, олицетворяет
собою народное всемогущество. В нем обожествляется сам римский народ как целое.
Философские элементы римской юриспруденции
На общей почве с Цицероном стоит и философское мышление римских
юристов. Из курса римского права вам должно быть известно, что греческая
философия, в особенности же стоическая школа, оказала свое влияние на историю
римского юридического мышления. А потому я могу ограничиться здесь кратким
очерком этих философских элементов римской юриспруденции.
Римские юристы, как и Цицерон, исходят из представления естественного
права, jus naturale, как неизменной основы человеческого общежития, как вечного
источника всех правовых отношений. Под jus naturale разумеется здесь не что
иное, как вечная, неизменная природа человеческого общежития, тот правовой
и вместе с тем нравственный идеал, который определяет собою развитие всех
существующих в действительности государств. Образующим началом всех
положительных законодательств является naturalis ratio — естественный разум. «Право,
установленное естественным разумом, — по словам институций Гая, —
сохраняется одинаково у всех людей».
«Общая всем разумная природа всегда и везде одна и та же, а потому и нормы
естественного права, как совокупность требований разумной природы, везде
и всегда одни и те же. Установления естественного права (jura naturalia), —
говорит один фрагмент институции Юстиниана, — которые одинаково сохраняются
у всех народов, учрежденные некоторого рода божественным Провидением,
всегда остаются вечны и неизменны». В тех же институциях естественное право
отождествляется с вечным добром и справедливостью: id, quod semper aequum et
bonum est, jus dicitur, ut est jus naturale20. Jus naturale надо строго отличать от jus
gentium общенародного права. Под jus gentium разумеются в широком смысле
слова положения права, везде принятые, всюду действующие, в частности же,
в противоположность jus civile21, те нормы действующего римского права,
которые распространяются не только на римских граждан, но и на иностранцев.
Под jus gentium, таким образом, нужно разуметь положительное, действующее
право. Напротив, jus naturale есть не что иное, как вечный правовой и вместе с тем
нравственный идеал, который живет в сознании всех и каждого. Положительные
законодательства в большей или меньшей степени приближаются к осуществлен
149
нию этого идеала, но ни одно из них не находится в полном соответствии с ним.
Положительные законодательства, lex civilis, в противоположность lex naturalis,
представляют собою временное и несовершенное проявление права. В
положительных законодательствах мы находим множество отклонений от вечных
требований справедливости и разума.
Тем не менее положительное право в своем происхождении и развитии
обусловлено естественным правом, которое представляет собою начало и конец —
исходную точку и вместе с тем конечную цель развития. В особенности же это верно
относительно jus gentium как права, общего всем людям, космолитического по
существу. Это общее всем право вытекает из общего всем людям сознания.
Юридические нормы, которые каждый народ создает для себя, по словам институций
Гая, суть jus civile; напротив, право общенародное есть совокупность норм,
установленных естественным разумом, коренящимся в общечеловеческом сознании,
а потому обязательных для всех людей без различия национальности, — jus, quod
naturalis ratio apud omnes homines constituit. Кроме этого общечеловеческого,
идеального элемента jus gentium содержит в себе множество отклонений от
вечных требований справедливости.
Множество юридических институтов, всюду принятых, следовательно,
принадлежащих к общенародному праву, противоречат естественному разуму. В чем
же заключается идеал естественного разума? Каково то идеальное общественное
состояние, которое соответствует требованиям вечной справедливости?
Когда-то, в незапамятные времена, не было разделения людей на города
и государства с различными законодательствами. Все люди составляли один
народ, одно всемирное царство; все управлялись одним и тем же законом,
повиновались одному естественному разуму. Это общественное состояние и есть
чгак называемый золотой век римской юриспруденции. Отсюда видно, что
римские юристы представляли себе естественное право не только как идеал,
чаемый в будущем, но как состояние, действительно когда-то существовавшее,
следовательно, не как отвлечение ума, а как нечто реальное, действительное.
В этом состоянии не было разделения людей на классы, не было социальных
неравенств; не было ни богатых, ни бедных, ни рабов, ни господ; все были
равны и все рождадись одинаково свободными. Так как в то время не
существовало разделения людей на классы и народы, друг другу враждебные, то не было
войн и гражданских междоусобий. Все существующие государства и
законодательства образовались путем отпадения от естественного состояния.
Всемирный, общечеловеческий союз распался... Единый род человеческий
раздробился на отдельные, враждебны^ друг другу племена и народы. Начались войны,
а вместе с тем возникли и социальные неравенства. Победители стали
порабощать побежденных: рабство,' таким образом, возникло путем превращения
военнопленных в рабов. На это указывает и самая этимология слова раб (servus),
которое, по мнению, весьма распространенному между римскими юристами,
произошло от глагола servare (сохранять) вследствие обычая щадить,
сохранять военнопленных, обращая их в орудия хозяйственных нужд. Таким путем
образовались в обществе сословные различия, образовалась вражда и рознь
сословных интересов.
Это естественное состояние всеобщего мира и равенства миновало, прошло.
Но прирожденное человеку сознание справедливости осталось; а вместе с тем
у всех народов сохранились многие положения права, уцелели многие институты,
унаследованные от идеального прошлого. Существующее в действительности об-
150
щественное состояние — ненормально. Не веря в возможность возвращения
золотого века, римские юристы представляют его лишь как безвозвратно утраченное
прошедшее.
Таким образом, под господством естественного права римские юристы
разумеют состояние всеобщего мира и согласия, универсальный consensus g0itium; этот
мир распространяется на всех одинаково. С точки зрения древнего jus civile
субъектом прав является только римский гражданин; с точки зрения jus gentium
всякий свободный, без различия национальности и, наконец, с точки зрения jus
naturale — всякий человек как таковой, без различия происхождения и
состояния, jus naturale представляет собою по истине божественное право в отличие от
jus gentium и jus civile, где к божественной справедливости примешиваются
начала чисто человеческие, где многие учреждения вызваны целями чисто
практическими, временными.
Универсальное согласие, consessus voluntatum, есть высшее понятие римской
юриспруденции. По словам институций Юстиниана, consensus есть начало
всякого права: omne jus consensus jacit. Самые законы обязательны для нас лишь
потому, что народ санкционировал их своим согласием независимо от того, в какой
форме выражается это согласие, в виде ли писаного законодательства, или в виде
всеобщего молчаливого признания; неписаный нравственный закон поэтому, так
же обязателен, как и писаный; не все ли равно, продолжает приведенный
фрагмент институций, высказывает ли народ свою волю подачей голосов (suffragia)
или же самими делами и фактами. Всякое юридическое постановление, а вместе
с тем и всякий орган права — всякая власть черпает свою силу в открыто
выраженном или молчаливом народном согласии. Государство представляет собою
общую волю граждан, и государственная власть олицетворяет собою эту общую
волю — сама императорская власть, как мы уже раньше видели, есть не что иное,
как олицетворение народного верховенства.
Естественное право по своему содержанию совпадает с универсальным
consensus geutium; оно выражает собою лишь идеальный порядок согласования
человеческих воль. Такое универсальное согласие возможно только в всемирном
царстве, которое объединяет в себе все племена и народы. Таким образом, исходя
из понятия естественного права как всеобщего согласия, представления общей
воли, управляющей всеми, римские юристы невольно тяготеют к идеалу всемирной
империи. Представление всемогущей человеческой воли, царящей над вселенной,
есть высшее понятие римского права.
Глава VIII
Христианство. Его значение
в истории политического мышления
I
Обожествление всемогущей человеческой личности в лице римского
императора было последнею ступенью и, так сказать, венцом развития древнего язычества.
В императорском культе, в поклонении земному как земному, — человеку — как
человеку наглядно обнаружились все отрицательные стороны древнего
языческого миросозерцания как религиозного, так и политического.
151
Культ этот в древней истории представляет собою последнюю и самую грубую
форму ложного религиозного антропоморфизма. Религия римская, а также и
греческая, как известно, религии антропоморфические; их боги — человекообразны.
Но боги греческой религии суть личности идеализированные, прекрасные, хотя
и человекообразные; а боги римские — эти суровые блюстители правды, закона
и порядка, суть личности просветленные. Человеческий образ в этих религиях
облагорожен нравственным началом; но в этом-то и заключается противоречие этих
религий; нравственное начало в них является элементом разлагающим, так как
им изобличаются человекообразные недостатки и слабости отдельных богов; боги
эти оказываются недостойными представителями той идеи божественного,
которая обитает в человеческом сознании: и вот почему они должны подпасть этой
идее, став жертвой философской критики.
В эллинской философии, можно сказать, осуществилось пророчество
Прометея; здесь действительно настает конец царству Зевеса, который побеждается
новым, высшим Божеством — универсальным провидением Сократа и вечной идеей
Платона. Неудовлетворенное богами политеизма философское сознание ищет
иной высшей формы божественного.
Но философия не покончила с антропоморфизмом религии, а сохранила его,
хотя и в высшей и, можно сказать, более утонченной форме. Чувственные боги
оказались несовершенными, и чувственный элемент в представлении богов отпал.
Но за отвлечением чувственных свойств остается разумная мыслящая природа
человеческой личности, и философия, отбросив чувственные свойства человека,
обожествляет его разум; в противоположность религии, обожествлявшей всего
человека, она боготворит одну лишь высшую его способность — ум, мышление.
Удержав этот элемент религиозного антропоморфизма, философия сохранила и его
неизбежное практическое последствие — культ государства; народная религия
поклоняется государству как прекраснейшему созданию богов на земле, а философия
боготворит его как высшее проявление творческой деятельности мысли.
Сократ и Платон, по-видимому, составляют исключение. Сократ,
действительно, верил в универсальное Провидение и своею мученическою смертью
засвидетельствовал об иной, сверхприродной и сверхчеловеческой действительности;
а идеи Платона, вечные первообразы всего существующего, лежащие в основе
всего сотворенного, — также не могут быть рассматриваемы только как продукты
обожествления человеческого мышления; идея блага Платона, его учение о
бессмертии и загробном блаженстве делают его предвестником нового
миросозерцания, христианином до Христа; его полития является как бы предварением
христианского теократического идеала на почве древнего мира.
Сократ и Платон — предвестники христианства и в этом качестве стоят
одиноко среди современного им язычества. Но мы уже видели, что и этим мыслителям
не удалось вполне вырваться из заколдованного круга языческих преданий, что
и они смешивают божественное с человеческим, мыслительную деятельность
человека с объективной божественной идеей. В идеальном мире Платона мы
находим обожествленные понятия человеческого рассудка, взятые из повседневного
опыта; в идеях Платона мы узнаем многие свойства богов-олимпийцев; наконец,
полития Платона представляет собою оригинальное сочетание возвышенного
общественного идеала с грубыми языческими представлениями — теократическую
идею в форме дорийско-спартанского общественного и политического устройства.
Нечего и говорить о том, что гениальный ученик Платона Аристотель, который
боготворит чистую мысль, себя мыслящую, и государство как высшее проявление
152
этой божественной мысли, стоит всецело на языческой почве. В философии после
Аристотеля знание, мышление теряет значение высшего, божественного и
подчиняется практическим потребностям; но и здесь идея человечества есть высшее
понятие: человек, его практические потребности, так или иначе — мерило добра
и истины; над ним не признается никакой другой высшей действительности.
Так или иначе, греческая философия остается существенно антропоморфной;
она остается таковою и на римской почве.
Если эллины, как мы видели, боготворят теоретическую, мыслительную
деятельность человека, то римляне, напротив, боготворят человеческую волю в
высшем ее проявлении — во всемирном человеческом царстве. Мы уже видели, как
эта коренная черта римского национального характера способствовала усвоению
римлянами отрешившейся от национального предания эллинской философии
последнего периода, где на первом плане стоит практический интерес. Если в
национально-эллинском миросозерцании высшее понятие есть созерцание, θεωρία,
то в миросозерцании римском, как религиозном, так и политическом, основное
понятие есть всемогущая человеческая воля, которая сама в себе черпает сознание
правды и неправды, — безграничное человеческое могущество, не признающее
ничего высшего над собою.
Если греческая религия была культом идеальных человекообразных
личностей, и религия римская заключала в себе нравственное начало, то этот
идеальный элемент из нее выделился, во-первых, в философии, а, во-вторых, в римском
праве. Римские юристы, идя рука об руку с греческими философами, пришли
к признанию объективного божественного закона, универсальной правды как
идеальной нормы всех человеческих отношений. Если, с одной стороны, —
философия и юристы, овладев нравственным содержанием религии, освобождают его
от грубого чувственного элемента, то, с другой стороны, — религия, постепенно
вырождаясь, утрачивает идеальный элемент, обращаясь в грубое
идолопоклонство. Это огрубение религии как нельзя более резко выражается в императорском
культе, где πρώτον ψευδός22 греко-римского миросозерцания выступает во всей
своей наготе, ничем неприкрытой. Это уже не культ идеализированной
человеческой личности, а культ человека как представителя земного могущества, культ
силы как силы.
В императорский период, когда под римским владычеством объединилось все
культурное человечество древнего мира, за исключением дальнего Востока,
римляне, по-видимому, достигли осуществления своего идеала — всемирного
царства. Но тут-то именно и обнаруживается внутренняя пустота, бессодержательность
этого идеала. Всемирное владычество достигнуто, но что же дальше, что делать
с этим всемирным могуществом? Может ли оно само по себе служить высшей и
безусловною целью? На этот вопрос история отвечает отрицательно. Всемирное
владычество, как это наглядно обнаружилось в Римской империи, было куплено
ценою всеобщего рабства; единая власть, объединившая человечество, обратилась
в жестокий деспотизм, в господство одной всесильной личности над бесправным
обществом: здесь отношение подданного к верховной власти мало чем отличается
от отношения раба к господину. Рсемирное владычество не сделало общества
счастливым, а, напротив, было соединено со всеобщим упадком и принижением;
не сделало людей довольными, а, напротив, привело их к разочарованию и
отчаянию в земной жизни. Таким образов, развитие всемирной Римской империи
привело к отрицательному результату: всемирное царство, всемирное владычество не
есть безусловная, высшая цель человеческой жизни.
153
Во-первых, единство Римской империи не есть единство живое, внутреннее,
а единство внешнее, абстрактное. Оно не связывает разнородные общественные
и национальные элементы в одно живое целое, а, напротив, обусловлено
повсеместным разложением общественности. Под римским владычеством соединились
самые разнородные элементы — продукты разложения всех возможных обществ
и национальностей. Но единство это не было внутренним, органическим
единством живого тела, а единством механическим, внешним. Все подданные империи
объединяются между собою только единой властью, царящей надо всеми, и
общими началами права. Но за этим внешним единством скрывается величайшая
рознь и вражда противоположных эгоистических интересов.
Нет никакого общего дела, никаких общих интересов, которые бы связывали
людей между собою; за отсутствием интересов коллективных, общественных
остаются только цели личные, эгоистические, мелкие, будничные заботы о еде,
питье, личном обогащении. Разложившееся общество не живет, а прозябает, или,
еще лучше сказать, здесь уже нет самого общества, а есть лишь отдельные
личности, в себе замкнутые, живущие жизнью инфузорий. Любовь к родине
отсутствует в космополитической империи. Всемирное царство, которое всякий грек или
египтянин может с таким же правом назвать своим отечеством, как и римлянин,
не в состоянии ни в ком возбудить сильной привязанности или симпатии.
Отдельная личность здесь чувствует себя одинокою, беспомощною; лучшие силы
общества ищут спасения в философии; но и философия бессильная, выродившаяся,
как философия того времени, уже не может поднять человека над низменною
действительностью. Не будучи в состоянии заменить утраченные идеалы,
бессильная создать высшие интересы, она проповедует отчаяние, равнодушие
к внешнему миру или же мелкую, эгоистическую жизнь микроскопических
интересов и чувственных наслаждений. Обособленная и одинокая человеческая
инфузория чувствует себя неудовлетворенною и несчастною, подавленною в своем
ничтожестве; ограниченная, замкнутая в себе жизнь личности представляется
бесцельной и бессмысленной. Таким образом, римское язычество пришло к тому
же результату, что и греческая философия, — к разочарованно, к отчаянию в
самом себе.
Отрицательный результат эллинского философского мышления заключается
в том, что человеческое сознание не заключает в себе безусловной истины.
Отрицательный результат римского язычества сводится к тому, что эгоизм
человеческой воли не в состоянии в самом себе обосновать свое счастье, что высшее благо
человека заключается не в безграничном земном могуществе, не в всемирном
владычестве.
Итак, цель всемирного человеческого царства не в нем самом, а в чем-то
другом, высшем. ι
Философия, как и развитие общественной жизни, приводят к такому выводу:
безусловная истина не содержится в субъективном мышлении и не может быть
познана одними усилиями человеческого разума; точно так же безусловное благо не
заключается в эгоизме человеческой воли; истина не может быть познана нами,
если она сама не идет навстречу,нашим усилиям; точно так же абсолютное добро
или благо, которого требует наша воля, не в нас самих — иначе бы мы в нем не
нуждались: оно вне пределов нашей свободной воли и не может быть нами
создано. Остается одно из двух: или пригнать, что нет объективного добра и
объективной истины и отказаться от их искания, что, как мы уже видели, и было сделано
скептиками; или же нужно допустить, что истина сама может и хочет открыться
154
нашему сознанию, что объективное благо само хочет и может сделать нас своими
участниками. Философское отчаяние, которое мы видим в системах последнего
периода, равнозначительно самоубийству человеческого сознания и человеческой
воли; человеку нечего искать, не на что надеяться. Только признание высшего
сверхчеловеческого начала может спасти нас от самоубийственного отчаяния
и ничтожества. Но для того, чтобы спастись, еще недостаточно желать
спасения — человек сам собою спастись не может; нужно еще, чтобы эта высшая
неведомая сила над человеком могла и желала бы его спасти, нужна помощь свыше.
Таким образом, требование помощи свыше есть общий результат,
подготовленный всем предшествовавшим развитием философии и жизни общественной. Это
как бы невольная молитва, вызванная у человечества сознанием собственного
бессилия и ничтожества.
Пресытившись могуществом, блеском и радостями земной жизни, отчаявшись
в мимолетных земных благах, древнее общество ищет счастья за гробом.
Человеку свойственно беспредельное желание жизни и столь же сильный страх смерти;
между тем вся наша земная жизнь есть беспрерывное умирание: между этой
действительностью, где господствует слепой стихийный рок, и человеческой волей,
которая стремится к беспрерывной жизни и не желает прекращения своего
существования, есть коренной разлад, коренное противоречие.
Для того чтобы нам спастись, нужно изменение законов вселенной, которые не
гармонируют с нашей волей, и, во-первых, должен быть уничтожен этот закон
враждебной нам земной природы, закон всеобщего умирания и непостоянства;
должна быть упразднена смерть. Чтобы привести вселенную в гармонию с нашей
волей, нужно, во-первых, чтобы над вселенной господствовала всесильная Воля,
а во-вторых, нужно, чтобы наша человеческая воля гармонировала и
согласовалась с этой всесильной Волей, подчиняясь ей; одним словом, для спасения
необходимо взаимодействие воли Божественной и человеческой, нужна живая,
органическая связь между ними.
Это примирение человека с Божеством, это тесное, органическое их соединение
и взаимодействие находит себе выражение в христианской идее Богочеловечест-
ва. Во Христе древний мир находит воплощенное разрешение той жизненной
и вместе философской задачи, которую он пытался и не мог разрешить
собственными своими силами. Эллинская философия стремилась к познанию безусловной
истины силами человеческого разума. И вот христианство возвещает явление
абсолютной истины в человеческом образе; в ответ на искание греческих философов
оно возвещает, что человеческое сознание может и должно наполниться
божественным содержанием. Римляне стремились ко всемирному владычеству, к
господству человеческой воли над вселенной. Но, чтобы человек стал действительно
царем вселенной, он должен сочетаться с Волей всемогущей, которая одна
способна пересоздавать мир и торжествовать над слепой стихией: и вот во Христе
древний мир находит и то и другое — человечность и всемогущество. Во Христе
умирающий мир обретает предмет своего искания.
Чтобы обосновать всемирное человеческое царство, чтобы господствовать над
вселенной, недостаточно объединить людей под общей земною властью,
недовольно одного внешнего механического единства. Нужно объединить их внутренно,
органически, нужно сделать их участниками единой общей жизни, объединить
в едином общем деле. ,
Вот этого-то органического, внутреннего единства и недостает универсальной
римской империи, где всякий живет эгоистической личной жизнью, и нет жизни
155
общей: каждый равнодушен ко всем и все — к каждому. И вот среди
универсальной римской империи зарождается другой универсальный человеческий союз —
христианская Церковь. Подобно римской империи, Церковь есть союз
всечеловеческий, обнимающий в себе все народы, не связанный исключительно с
какой-либо одной страной и племенем. В идее Церковь есть также всемирное царство.
В этом состоит формальное, внешнее сходство между Церковью Христовой и
языческой империей. В этом заключается причина того, почему мировая религия,
христианство, должна была проповедоваться и распространяться среди
всемирного римского государства, обнимавшего в себе культурное человечество древнего
мира. В самом рождении Спасителя выразилась эта многознаменательная связь
между христианством и империей. Христос родился в царствование первого
римского императора.
Но за внешним, формальным единством скрывается глубочайшее внутреннее
различие. Церковь — царство не от мира сего — представляет собою единство
другого порядка, коренным образом отличающееся от единства государственного.
Римское языческое государство есть единство внешнее, искусственное, ради
выгод земных и целей человеческих, эгоистических. В основе его лежит consensus
gentium как согласие в подчинении общей власти для достижения совокупными
силами идей временных, для совместного пользования временными, мирскими
благами. Государство выражает собою общую волю своих граждан лишь в
отношении к этим временным благам, то есть в сущности представляет собою лишь
общий их эгоизм.
Напротив, Церковь есть единство общей веры и общей жизни всех людей в
Боге; здесь все солидарны в общей любви и в общем деле спасения рода
человеческого. Верховным принципом и идеалом в Церкви является божественная любовь,
связующая всех верующих как членов тела Христова. Римское миросозерцание
обожествляет государство как высшее проявление человеческой воли. Напротив,
с точки зрения Церкви, государство есть лишь временный мирской союз,
преходящая форма земных отношений.
Церковь — как область верований и нравственных отношений — в
христианском миросозерцании различается от государства как порядка светского,
мирского. В древнем язычестве то и другое смешивается. Государство здесь представляет
собою высший нравственный и религиозный авторитет, оно есть вместе с тем и
общество верующих. Вот почему это языческое государство не признает свободной
и независимой от него человеческой воли, свободной совести. Гонения против
христиан возникли не потому, что христиане вводили новое и чуждое древнему
язычеству Божество, а потому, что они отказывались признавать верховный
авторитет императора в делах веры и в делах совести, потому что они отказывались
принимать участие в императорском культе. «Воздайте кесарево — кесарю, а Бо-
жие — Богу» — такова типичная формула христианского отношения к
языческому государству. Христианин охотно подчиняется кесарю, платит подати и
исполняет свои гражданские обязанности, готов даже молиться за кесаря, признавая за
ним власть, данную свыше, от Бога; но он отказывается видеть в нем божество
вместо человека, приносить ему жертвы; а по христианскому правилу, Бога
должно слушать более, нежели человека. Таким образом, вразрез с господствующим
языческим мировоззрением христианство вносит в историю представление
свободной человеческой совести, стоящей выше государственного, светского
правового порядка, идеал Церкви, как и общественного союза, независимого,
свободного от государства.
156
В христианстве нравственная жизнь получает новое средоточие, новое
обоснование. Христианство отвергает самые основы, самый принцип языческого
общежития; римлянин-язычник обожествляет земное царство человека. Христианин,
напротив, боготворит государственное всемогущество в лице императора, потому
что для него истинною основой общежития является не человеческий произвол,
а воля Божия, камень, отверженный строителями, — Христос Бог. Церковь,
обнимая в себе всю полноту нравственного существа человека, определяет и его
отношение к государственной власти. Церковь известными словами апостола
предписывает повиновение предержащим властям, но лишь поскольку они от Бога
берут свое начало. Таким образом, Церковь предписывает почитать императора не
как представителя человеческого произвола и всемогущества, а как помазанника
Божия. В христианском обществе союз Бога и человека является центром всей
нравственной жизни, организующим началом всех общественных отношений;
отношения граждан к государству и к друг другу, отношения подданных к
верховной власти черпают свою высшую санкцию в Церкви как союзе Бога и человека.
Римское языческое государство не признает этой высшей санкции над собою,
видя в самом себе первоначальный и единственный источник своего спасения
и могущества. Вот почему Церковь христианская в первый момент своего
исторического существования является в борьбе с языческим государством,
выдерживает от него ряд гонений. В этой борьбе государство, как царство земное,
человеческое, является безусловным отрицанием Церкви; а потому и Церковь в этом фазисе
своего исторического существования является совершенным отрицанием
государства, полнейшим отрицанием земной жизни, проявляется как царство не от мира
сего, Царство Небесное. Таково положение гонимой Церкви в языческом
государстве. Этой борьбой завершается смерть древнего язычества, а вместе с тем
заканчивается история языческой древности. Христианство восторжествовало и
воцарилось на развалинах древнего мира. Церковный идеал, который для древнего
мира был началом осуждения и разрушения, стал зиждущим началом в новой
истории европейских народов.
ι
157
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА (НОВАЯ)
Философия права нового времени зародилась и выросла в борьбе со
средневековым миросозерцанием. Богословие в средние века не было только отраслью
знания. Оно рассматривалось как истина всего человеческого знания.
Богословы-схоластики не довольствовались ролью учителей веры: они брались за вопросы
физики и космографии; они строили на текстах св. Писания учения об обществе
и государстве; для них откровение было нормою не только церковной жизни,
но и порядка мирского, светского.
Философия, согласно ходячей средневековой формуле, считается рабою
богословия, и это рабское ее положение есть лишь частное проявление того всеобщего
закрепощения человека и человечества, которое характеризует собою
средневековый строй. Вдохновляясь идеалом Церкви как всемирного Божественного
царства, средневековый католицизм хочет сделать откровение всеобщей
принудительной нормой человеческих отношений. Человек в средневековом миросозерцании
представляется или автоматом небесной благодати, которая насильственным
образом двигает его изнутри к его вечной загробной цели, или рабом церковного
авторитета, который закрепощает его извне рядом внешних предписаний,
предопределяющих каждый шаг его деятельности. Западная Церковь в средпие века
представляет собою не только религиозное единство, но вместе с тем и всемирный
правовой идеал. С точки зрения этого идеала человечество не есть цель в себе и для
себя. Оно не более как средства-орудие всемирной теократии. Отдельные лица
и человеческие общества име10т право на существование лишь в качестве
архитектурного материала, из коего слагается церковное здание. Все, что находится вне
церковной ограды, всякое самостоятельное человеческое общество клеймится
с этой клерикальной точки зрения как царство диавола или как разбойничье
общество.
Задача мирского общества и государства, с точки зрения ортодоксальной
церковной схоластики, заключается в том, чтобы служить орудием в руках Церкви,
вести вооруженную борьбу против врагов Божеского царствия.
В политическом миросозерцании средних веков все отношения перепутаны.
Здесь пастырь вооружен светским мечом: выражаясь языком Августина, он
«бичом возвращает в стадо заблудших овец». С другой стороны, светские князья ста-
158
новятся как бы членами духовной иерархии и ведут своих подданных ко
спасению. Согласно изречению папы Иннокентия III23, которое могло бы послужить
типическим лозунгов средних веков, Христос в Новом Завете устроил власти так,
чтобы царство облеклось в священство, а священство стало царским (ut
sacerdotale sit regnum et sacerdotium regale). В средневековой схоластике
философия и юриспруденция железной цепью прикованы к богословию. Первый акт
новой мысли в эпоху Возрождения есть разрыв этой цепи, протест против
насильственного соединения земного с Божественным. Переворот этот был подготовлен
последним периодом самой схоластики. Для средневекового богословия, начиная
от Августина и до конца XIII века, истина веры была вместе с тем и истиной
разума. В конце XIII века в схоластике начинается процесс внутреннего разложения.
Философы-номиналисты убеждаются в том, что разум — опасный союзник для
клерикальных учений, и пытаются оградить веру от его вторжений. Они
разграничивают область откровения от области разума; содержание откровения с этой
новой точки зрения составляет порядок сверхъестественный, который не может
быть ни понят, ни доказан разумом; содержание разумного познания, напротив,
составляет естественный порядок; в основе веры лежит авторитет, в основе
познания, напротив, чувственный опыт, из коего разум черпает свои понятия о
существующем.
Последствия такого раздвоения веры и знания не замедлили сказаться и в
политическом миросозерцании. Если порядок сверхъестественный и естественный
суть две чуждые друг другу сферы, то Церковь и государство точно так же суть две
строго разграниченные и независимые области, из коих каждая преследует свои
самостоятельные задачи и цели: в области Церкви господствует вера, в области
государства нераздельно царствует разум; государство управляется своими особыми
законами, и государственное право не имеет ничего общего с правом
каноническим. К такому результату приходит Уильям Оккам, продолжатель и
последователь Дунса Скота.
Договорившись до учения о двойственной истине, уже трудно было
остановиться на полдороге. Желая оградить веру от разумного исследования,
номиналистическая схоластика пустила на волю человеческий разум. Представляя религию
и Церковь как абсолютно внешний и чуждый человеку механизм, она тем самым
освободила человека от религии и Церкви, вызвав мирскую реакцию.
Почувствовав свою силу, человеческий разум хочет быть свободным и
сбрасывает с себя узду авторитета. На место идеала теократического становится идеал
земной, гуманистический. В своем стремлении обосновать новую светскую
культуру мыслители XV и XVI веков заменяют культ Божества поклонением
человечеству; от почитания святых и мучеников они обращаются к культу героев
человеческой мысли. Образцом этой новой человеческой культуры для мыслителей
занимающей нас эпохи представляется древний мир. Построерное на чисто
светских началах, чуждо>е противоположности Церкви и государства, древнее
общество становится средоточием всех симпатий и интересов. Возобновление,
возрождение древности служит лозунгом эпохи, вследствие чего она и называется эпохой
Возрождения.
Еще недавно принято было считать начало эпохи Возрождения с 1453 года,
когда вследствие взятия Константиноцоля турками в Италию эмигрировали
греческие ученые. Представители византийской науки, согласно этому воззрению,
впервые познакомили итальянских ученых с древними мыслителями в
оригинальном греческом тексте, впервые толкнули итальянцев на беспристрастное их
159
изучение, чуждое схоластических предрассудков. Но это слишком поверхностное
воззрение в настоящее время можно считать оставленным. Поклонение древности
в Италии коренится не в каком-либо случайном и внешнем влиянии, а в глубокой
внутренней симпатии. Для Италии возрождение древности есть прежде всего
возобновление самостоятельной итальянской национальности и культуры —
восстановление преданий Древнего Рима. Говоря словами Куно Фишера24, Италия
прославляет в древнем мире самое себя — собственное свое славное прошедшее.
Знакомство с подвижниками древней мысли укрепляет веру в силу и мощь
человеческого разума. Но человечество эпохи Возрождения познает и испытует эту
силу не только в памятниках древнего величия: она открывается ему в ряде
современных ему явлений. Во второй половине XV и в начале XVI столетия
сосредоточивается ряд великих открытий и изобретений. В числе первых особенно важное
значение имеют географические открытия Васко да Гамы, Колумба и Магеллана,
совершившего первое кругосветное путешествие, а также астрономическое
открытие Коперника, доказавшего вращение Земли вокруг Солнца. Из изобретений
важны: изобретение пороха, компаса, телескопа, наконец, изобретение
книгопечатания, коим создается возможность необъятного распространения
человеческой мысли.
Испытавши силу свободного исследования, философия уже не
довольствуется скромной ролью служанки богословия; философия вдохновляется идеалом
свободного, самостоятельного знания, и, параллельно с этим, политическая
наука стремится к обоснованию свободного, самостоятельного человеческого
общества.
Макиавелли (1469-1527)
Первым представителем этого нового течения в области политической мысли
является Макиавелли. Его идеал есть политическое возрождение Италии.
Раздробленная на множество мелких государств Италия в эпоху Макиавелли
переживает как бы хроническую болезнь междоусобия. Ожесточенная борьба между
отдельными государствами; соперничество партий внутри каждого из них;
кровопролитная борьба между аристократией и демократией, между республикой и
тиранией — таково политическое состояние родины Макиавелли. Пользуясь этим
хаотическим состоянием внутреннего раздора Италии, в нее вторгаются
иностранные завоеватели; она издавна служит ареной борьбы между всевозможными
нациями, между французами,1 немцами и испанцами. Обращаясь к исследованию
причин этого плачевного состояния, Макиавелли усматривает главного
виновника в римской церкви и папстве. Обрушиваясь всеми силами на главного врага
политического объединения Италии, он разражается грозной „фи л иппикой против
римского апостольского престола.
Благосостояние и счастье каждой нации достигаются лишь в политическом
единстве, в едином управлении монархическом и республиканском. Между тем
церковь всегда поддерживала и непрестанно поддерживает разделение на
Аппенинском полуострове. Будучи владетельными князьями в Италии, римские
первосвященники никогда не имели достаточной силы и мужества, чтобы
объединить страну под своим владычеством. Но, с другой стороны, папы всегда
располагали достаточными силами и союзниками против всякого другого князя,
160
который захотел бы создать в Италии единое национальное государство и угрожал
бы отторжением церковной области.
Будучи центром антинациональных стремлений и антипатриотической
агитации, римский двор развратил своим присутствием политические нравы Италии.
Погубив ее в государственном отношении, он вместе с тем рядом соблазнительных
примеров подкопал в ней основы религии и нравственности. Красноречивым
доказательством упадка религии в самом папстве служит тот факт, что народы,
наиболее близкие к Риму, этой столице христианской религии, суть вместе с тем
и наименее религиозные. Восставая против политического разврата римской
курии, Макиавелли направляет острие своей полемики против аскетического
элемента, составляющего основу и сущность теократического идеала церкви.
Аскетическая проповедь расслабила и размягчила человеческую природу, сделала ее
негодною в политическом отношении. Указывая человеку спасение как
единственную цель, она уменьшила в его глазах значение земных почестей и славы.
Аскетическому идеалу церкви Макиавелли противополагает идеал древнего
государства. Он хочет воскресить предания древнего, языческого Рима и
прославляет те самые политические доблести древних язычников, которые вся
схоластика вслед за Августином клеймила как блестящие пороки. С этой целью
Макиавелли пишет свой знаменитый трактат «Речи о первых десяти главах Тита Ливия»
(Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio). Когда требуется обосновать
государственный порядок, организовать правосудие или вести войну, читаем мы здесь,
то никто из государственных деятелей не следует примерам Рима и Греции.
В таком же пренебрежении находятся и политические доблести древних.
Между тем у них в этом отношении есть чему научиться, в особенности у римлян.
Римляне не жертвовали землю для загробной цели, ставя выше всего на свете земную
славу. Они не расслабляли нервов, а воспитывали людей сурового закала,
сильных и мужественных. Языческая религия с ее жертвами приучала людей к
кровавым зрелищам, она служила хорошим педагогическим средством, подготовляя
государству граждан с крепкими нервами.
Если средневековая теократия рассматривала мирской порядок как средство
для религиозных целей, то антитеократический идеал Макиавелли хочет,
наоборот, обратить религию в орудие государственной политики. Он не выбрасывает за
борт христианства, он хочет, напротив, заставить его послужить государству,
обратив его в некоторого рода полицейское учреждение.
Чтобы стать на высоту своей задачи, христианство должно научиться
примерам языческих религий. Оно должно проповедовать любовь к земной родине и
ставить людям в обязанность заботу о ее возвеличении. Если средневековый идеал
превращал царей в святителей, »то Макиавелли хочет сделать священников
жандармами в рясах. Культ государства становится у него как бы новой религией,
и этот культ нуждается в жрецах.
Жрецы в государстве служат могущественным охранительным устоем;
ближайшим предвестником крушения государственного строя всегда и везде
является упадок религии и культа. Поэтому первой заботой правителей должно быть
поддержание существующих в каждой стране религиозных учреждений.
Никакая мудрость правителей не в состоянии заменить страха перед Божеством,
который один обуздывает и сдерживает массы, обеспечивая государству прочный
порядок. Древние это понимали, и вот почему великие законодатели древности
Ликург, Солон и Нума Помпилий25 старались представить свое законодательство
как выражение воли Божества.
161
Для Макиавелли безразличен вопрос о внутреннем существе веры. Он знает
свой народ и дорожит лишь тем внешним декорумом религии, который ослепляет
массы и сильно действует на воображение впечатлительных итальянцев.
Прорицания и знамения, жертвоприношения и пышные церемонии — все это верные
практические средства в руках искусного политика. Всеми этими средствами
в средние века пользовалась римская церковь для утверждения своего
владычества. Но церковь пришла в упадок, основы ее владычества расшатались. Чтобы
нанести ей последний сокрушительный удар, нужно поразить ее ее же собственным
оружием и воспользоваться ее добром для создания земного благополучия
человечества.
Представитель возрождающейся новой мысли, Макиавелли отличается от
людей старой средневековой формации всем складом своего ума, всем методом
своего мышления. Мыслители средних веков основывают свои политические системы
не на наблюдении земной действительности, которая не представляет для них
интереса: они a priori строили свой общественный идеал, подчиняя человеческое
общество регламентации, идущей сверху. Отец политического миросозерцания
нового времени, напротив, есть прежде всего экспериментальный политик. Его
метод заключается в тщательном наблюдении и изучении исторической
действительности настоящего и в усвоении накопленного веками опыта прошедшего.
Вращаясь в разнообразных сферах общества, Макиавелли имел случай близко
изучить его высшие и низшие слои: он одинаково знал простолюдина и вельможу,
правителей и подданных, дипломатические сферы и сельские хижины. К тому же
итальянские государства того времени, с их разнообразным и подвижным
политическим бытом, с их вечно меняющимися формами правления, давали ему богатый
материал для самых разнообразных наблюдений.
В средневековом миросозерцании мироздание представлялось как стройное,
разумное целое, объединенное и связанное единым божественным законом. Этому
закономерному и целесообразному порядку подчинено и человеческое общество
как часть мирового целого; закон Божий господствует во всемирной истории,
и в ней все подчинено единому архитектурному плану — все предопределено
мерою, числом и весом; в разнообразной пестроте событий и в их стройной
последовательности уже здесь, на земле, осуществляется единая цель Божественного
царствия.
Когда Закон Божий перестает считаться связующим цементом, единый и
целесообразный порядок рушится, и мир представляется хаосом раздробленных
явлений, нестройной толпою слепых сил, не связанных между собою каким-либо
общим планом и порядком. В мире властвует не целесообразный порядок, а закон
материальный, естественныйj К такому результату приводит
материалистическое учение итальянских философов XVI века — Иеронимо Кардано и Бернардино
Телезио26.
Такой же переворот происходит в политическом мировоззрении. И в
политической области Божественный закон перестает скреплять и связывать. Не
сдержанное уздой авторитета — общество того времени также представляется хаосом
борющихся между собою сил, несвязным собранием самых разнородных элементов.
Это особенно верно относительно Италии в XV и XVI веках. Здесь общественное
разложение и анархия достигают крайних пределов. С одной стороны, ничто не
сдерживает развития сил личности. Демократические учреждения итальянских
республик открывают безграничный простор для самостоятельности и
инициативы личности. С другой стороны — при отсутствии сколько-нибудь прочного закон-
162
ного порядка, при отсутствии твердых религиозных принципов в итальянском
обществе — страсти личности, ее честолюбие и корыстолюбие ничем не сдержаны.
При отсутствии какой бы то ни было внешней дисциплины и удержа человек
живет как бы удвоенною жизнью: он развивает все свои силы и достигает
колоссального роста; но это быстрое развитие сопровождается колоссальною
необузданностью. Ни одна эпоха всемирной истории не произвела большего количества
великих личностей, чем эпоха Возрождения. В особенности в Италии в XV и XVI
веках мы видим в самых разнообразных областях науки и искусства целую
плеяду мировых гениев. С другой стороны, Италия в занимающую нас эпоху есть
страна великих извергов; это страна гигантов мысли и вместе с тем таких титанов
преступления, как папа Александр VI и сын его знаменитый Цезарь Борджиа27.
Сбрасывая с себя оковы религиозной дисциплины, итальянское общество
эпохи Возрождения как бы отрешается вместе с тем и от тех нравственных скреп,
которые в средневековом мировоззрении были теснейшим образом связаны с
религией. Средневековое человечество преследовало великие мировые цели: здесь
господствовал идеал Церкви мирообъемлющей. Теперь же на место этих
универсальных целей становятся частные, эгоистические интересы. Сами папы как бы
забывают об универсальных интересах христианства и думают лишь об
обогащении и наживе. У них одна забота — увеличение светских владений римского
престола, округление территории церковной области.
Человечество в средние века представлялось единым храмом Божиим. Теперь
часть этого величественного средневекового строения обрушилась и лежит в
развалинах. На месте обрушившихся стен остаются разрозненные камни — груда
строительного материала, из коего предстоит выстроить новое здание.
Макиавелли, как мы уже говорили, хочет построить государство в древнем
стиле. Но чтобы строить, нужно быть знакомым с качеством строительного
материала и со всеми теми препятствиями, какие архитектор может встретить при
выполнении своего плана.
Намерениям человека частью противится, частью не благоприятствует
роковая сила — судьба. Это слепая стихия, которая в эпохи великих народных
движений и революций вмешивается в человеческие дело, разрушает создания рук
человеческих и ниспровергает основы государств. Судьба, как ее понимает наш
писатель, есть совокупность всех непонятных нам мировых сил, которые кладут
предел могуществу человека. Судьба проявляется в таких страшных явлениях,
как, например, голод, чума, потоп. К области судьбы относятся все не зависящие
от человека стечения обстоятельств, так или иначе препятствующих исполнению
его намерений. Судьба преследует какие-то свои, неведомые человеку цели;
временами она ослепляет людей, превращая их в орудия своих предначертаний.
Судьба и человеческая сшде, с ней борющаяся, — таковы два основных
фактора всемирной истории. В борьбе с судьбой человек не может считаться
беспомощным: господству судьбы есть предел, и могущество ее не безгранично.
Обыкновенно судьба проявляет свою силу над людьми немощными и слабыми, она редко
бывает в состоянии сломить людей великих и крепких. Как против реки,
выступившей из берегов, так и проти^ стихийных проявлений судьбы человек может
заблаговременно заградить себя плотинами. Он может предусматривать не
зависящие от него стечения обстоятельств и принимать меры против могущих
встретиться опасностей. ;
В истории периодически торжествует то человек, то судьба. Макиавелли
чужда идея прогресса, развития. История представляется ему не движением вперед,
163
а процессом круговращения, в котором человеческие общества создаются и опять
разрушаются, разрушаются и создаются вновь. Миросозерцание Макиавелли
представляется антиисторическим, потому что ему история представляется уже
не планомерным целым, а хаосом событий, без внутренней связи и плана.
Воззрение великого политика на историю определяется тем впечатлением, какое
произвела на него его родина; это какая-то беспрерывная сумятица и анархия,
беспрерывно меняющееся сцепление сил, которые не могут прийти в состояние
устойчивого равновесия между собою.
Строительный материал, из коего человек слагает общественное здание, всегда
один и тот же. Через все движения и изменения времени человеческая природа
проходит без изменения, оставаясь тождественною сама с собой.
Человек есть прежде всего существо эгоистическое. Соединяясь в общество
с своими ближними, он движется исключительно своекорыстными
стремлениями — инстинктом самосохранения. Страх перед силами природы, с коими
человек не в состоянии один бороться, потребность в общей защите против
своих же человеческих собратий — таковы стимулы, сплачивающие отдельных
лиц в организованные общества — в государства. Эгоизм выражается в общей
всем людям трусости, алчности, зависти. Каждое законодательство, чтобы
быть прочным, должны быть рассчитано на взаимную ненависть людей и на их
злобу.
Из таких элементов нельзя создать абсолютного совершенства на земле, и
государства могут притязать лишь на совершенство относительное. Мы уже видели,
что Макиавелли всего более сочувствует республиканскому идеалу древности
и отдает древней республике всякое преимущество перед современными ему
государствами.
Республика в Древнем Риме держится лишь доблестью его граждан. И вообще,
в каждом государстве республиканский образ правления возможен лишь при
высоком уровне политической доблести, то есть при том условии, если в массе
граждан есть готовность подчинения частных интересов благу государства.
Республика держится лишь до тех пор, пока в ней господствует уважение к закону. Как
только на место закона становится произвол народных масс, то республиканский
строй подвергается опасности крушения; завистливые массы начинают
преследовать граждан, возвышающихся над общим уровнем дарованиями и состоянием,
видя в них угрозу равенству. А эти последние, не имея законных средств, чтобы
спастись от произвола черни, волей-неволей становятся изменниками,
заговорщиками и думают только о том, чтобы спасти свою жизнь, хотя бы ценою гибели
республики.
Те упреки, которые обыкновенно делают республике, относятся не к
народному самоуправлению вообще, а только к такому самоуправлению, где народная
масса не сдержана законом. Эти упреки относятся и ко всякому другому образу
правления, где произвол правящих становится на место закона. Между тем,
сопоставляя монархический образ правления с республиканским, при том условии,
что в обоих господствует закон, мы должны будем признать, говорит Макиавелли,
превосходство народного самоуправления над монархическим правлением князя.
Народ в целом обладает большим здравым смыслом; он более постоянен, более
осторожен и менее легкомыслен, чем князь. Недаром говорится, что глас народа —
глас Божий. В течение целого ряда столетий, когда римляне избирали своих
консулов, вряд ли можно назвать четырех, в избрании коих римлянам пришлось
раскаяться. При условии господства закона добродетели народа выше и больше доб-
164
родетелей князя. В тех же случаях, когда тот и другой не сдержаны законом,
заблуждения народа менее многочисленны и важны и легче поддаются
исправлению. Вовремя сказанное слово умного гражданина часто может обратить на путь
истинный народ, впавший в заблуждение. Между тем против дурного князя нет
другого средства, кроме железа.
Как мы уже говорили, Макиавелли лишь в условной форме высказывает свое
предпочтение республике. В огромной литературе о Макиавелли многократно
было указано на противоречие между «Речами о первых десяти главах Тита Ливия»
и трактатом «О князе». В первом сочинении Макиавелли представляется
убежденным республиканцем, во втором он говорит о своей преданности дому Медичи
и мечтает об объединении Италии под монархической властью князя из этой
династии. Эти монархические излияния Макиавелли, согласно очень
распространенному в литературе толкованию, объясняются желанием подслужиться к дому
Медичи, который тогда господствовал во Флоренции. Изгнанный из Флоренции
при Медичи, Макиавелли хочет снискать их расположение28, чтобы вернуться на
родину и возвратить себе при монархическом правлении ту служебную карьеру,
которую он успел себе составить в республиканские времена Флоренции. Трактат
«О князе» посвящен Лоренцо Медичи; поднося его главе флорентийского
правительства, Макиавелли, может быть, действительно руководствовался не совсем
бескорыстными побуждениями.
Однако, несмотря на это, Макиавелли нельзя обвинять в том, будто он ради
этих своекорыстных целей жертвовал своими республиканскими убеждениями.
Увлекаясь республиканским идеалом древности, он признает уже в «Речах о
Т. Л.» невозможность его осуществления при двух условиях: 1) при
развращенных политических нравах, о чем мы уже говорили, и 2) в тех случаях, когда
требуется обосновать новое государство. Как для укрепления порядка расшатанного,
так и для создания нового требуется сильная монархическая власть. То и другое
верно относительно Италии, где политические нравы развращены до последней,
степени и где требуется создать новое, единое государство вместо раздробленного
множества отдельных республик и княжеств. Таким образом, каково бы ни было
наше суждение о нравственном облике Макиавелли, мы должны признать, что
в данном случае он не заслуживает упрека в отступничестве и в отсутствии
патриотизма, что между двумя названными политическими трактатами существует
лишь кажущееся, мнимое противоречие.
В трактате «О князе» Макиавелли занимается вопросом о приемах княжеской
политики. При этом, не прилагая нравственного мерила к образу действий князя,
Макиавелли обсуждает приемы его политики лишь с точки зрения их большей
или меньшей практичности. Εγό интересует лишь вопрос о том, какими
средствами вернее всего достигается князем та или другая практическая цель; вопрос
о нравственности и безнравственности тех или других средств не имеет для него
значения. Политическое искусство властителей настоящего и прошлого
представляет для нашего писателя предмет эстетического наслаждения. Истинный сын
эпохи Возрождения, он боготворит человека в самых разнообразных проявлениях
его могущества; он пленяется рсякими проявлениями человеческой мощи, как
в добре, так и во зле. Поклонник древности, он любуется всякой рослой и сильной
героической фигурой. Он готов простить правителям всякие злодейства, если
только они умеют сохранять величие в злодействе. Ему доставляет наслаждение
всякий искусный и удачный шахматный ход княжеской политики независимо от
того, каких он стоит человеческих жертв и приносит ли он пользу управляемым
165
или же имеет в виду исключительно интересы правителя. Так, например,
Макиавелли с особым восхищением останавливается на злодеяниях известного Цезаря
Борджиа и ставит его в образец всем тем правителям, которые достигают власти
случайно или благодаря чужой помощи. Злодейства в руках великого мастера
политического искусства не вызывают в Макиавелли негодования и ужаса, он
только удивляется смелости и восхищается мастерством.
В этот век узурпаторов, политических безобразий всякого сорта управление
мелкими итальянскими государствами было действительно довольно грязным
мастерством. Знаток общественных нравов того времени, Макиавелли не задается
утопическими идеалами. Он убежден в том, что среди стольких злых политик,
задающийся одними идеалами добра и правды, неизбежно готовит себе гибель. Он
обращается к правителям с практическими советами, а не с нравственными
требованиями. Князь, говорит он, должен всегда быть украшен видимостью всех
добродетелей. Он должен всегда казаться добрым, справедливым, гуманным. Но в
случае нужды он должен уметь проявлять и противоположные качества. Он может
сражаться двояким оружием — законом и силою; закон свойствен человеку, сила
есть оружие животных. Итак, князь должен уметь действовать, смотря по
потребностям минуты, то как человек, то как зверь. Будучи зверем, князь должен быть
зараз львом и лисой. Будучи только львом, он не убережется от капканов и
западней. Будучи только лисой, он не сумеет защищаться от волков. С волками жить —
по-волчьи выть, и князь должен уметь употреблять насилие против слабейших
себя. Но с другой стороны, чтобы не оплошать против сильнейших себя, он должен
быть посвящен в искусство обмана.
В соответствии с разнообразием действительности, где существует
бесчисленное множество разновидностей монархических государств, и политические
советы Макиавелли в высшей степени разнообразны. Иначе должен вести себя
наследственный князь, имеющий за собой вековые традиции и любовь народа; иначе
должен поступать князь новый, который сам должен создать и укрепить основы
своей власти; последний вообще должен действовать вопреки всякой правде
и любви, вопреки человеколюбию и религии. Политические советы Макиавелли
разнообразятся, смотря по тому, создается ли новое княжество злодейством или
случаем, приобретает ли князь власть силою оружия или волей народа,
опирается ли на дворянство и знать или на народные массы. Как для княжества, так и для
республик, как для внешней, так и для внутренней политики у него имеется запас
самых разнообразных предписаний, которые видоизменяются в соответствии
с изменчивыми условиями времени. Он не подгоняет действительности под общие
мерки, не изобретает политических шаблонов для всех времен и народов, а
соображается с разнообразными местными потребностями.
В этом разнообразном запасе частных наблюдений, в таком исследовании
политической психологии народов и правителей заключается наиболее ценная сторона
творений Макиавелли.
В заключение трактата «О князе» Макиавелли обращается с красноречивым
воззванием к Лоренцо Медичи, убеждая его взяться за национальное дело
объединения Италии; для политического возрождения Италии требуется подчинить
народ суровой дисциплине и создать новое драконовское законодательство. Чтобы
сломить внутреннего врага и восторжествовать над иностранными завоевателями,
следует упразднить наемные войска и создать крепкое национальное войско.
Наемные швейцарские дружины эксплуатируют страну для своих эгоистических
целей, им нет дела до национальных итальянских интересов. Италии нужно такое
166
войско, которому было бы близко и дорого общее национальное дело, и такой
князь, который был бы в состоянии создать подобное войско. Княжеской власти
в Италии предстоят великие задачи и цели. Но для достижения этих целей
Макиавелли советует князю облечься в звериную шкуру.
В учении Макиавелли выразилось настроение его богатой контрастами эпохи.
В эпоху Возрождения мы всюду видим сочетание великого с безобразным,
гениальные мысли и благородные порывы рядом с полнейшей нравственной
разнузданностью. Освобожденный от всякого авторитета и дисциплины, человек эпохи
Возрождения представляется нам удивительным сочетанием божественных даров
и звериных инстинктов.
Томас Мор (1480-1535)
Мыслители эпохи Возрождения сходятся между собою в общей вражде против
средневекового теократического идеала. Все они хотят обосновать новую
свободную человеческую культуру, все они вдохновляются идеалом свободного человека
и человечества.
Но этим сходство и ограничивается. На вопрос — что же должен человек делать
со своей свободой, что нужно построить на месте разрушенного, мы слышим
разнообразные ответы. Считаясь с требованиями действительности, Макиавелли
строит рассудочное здание: чуждый идеалистических порывов, он хочет быть
свободным наблюдателем действительности. Его современник — английский
мыслитель Томас Мор ищет свободы в области фантазии.
Жизнь и деятельность Томаса Мора протекает между 1480 и 1535 годами.
Резкая критика современной ему действительности, отрицательное отношение ко
всему исторически сложившемуся, вера в силу разума, в его способность
пересоздать все существующее — таковы типические черты, делающие его истинным
сыном эпохи Возрождения. Поклонник древних классиков, подобно Макиавелли, он
ищет в древнем мире образцов для нового общественного строения. Но древность
будит в нем другие мысли и другие стремления. Мечтатель-идеалист, с сильной,
разнузданной фантазией, с блестками таланта, при отсутствии практического
здравого смысла, Томас Мор во всех отношениях является олицетворенною
противоположностью Макиавелли.
Томас Мор берет за образец политический идеал Платона. В 1513 году он
создает свой знаменитый трактат «Утопия». Из самого названия «Утопия», что значит
по-гречески «небывалое место», видно, что мы имеем дело с построением
фантастическим. Недаром с легкой/ руки Томаса Мора это слово сделалось синонимом
всех неосуществимых мечтаний, практически невыполнимых идеалов.
Первая часть трактата содержит в себе разрушительную критику не только
современного ему общества, но и всякого вообще общественного строя, который
зиждется на принципе частной собственности.
Эта первая часть начинаете^ критикой существующих в европейских
государствах уголовных законодательств. В них наказания не пропорциональны
преступлениям. Воровство, например, наказывается смертью и пытками. Между тем,
вникнув в причины, толкающие дюдей к воровству, мы убедимся, что они
коренятся в недостатках всего существующего строя. Воровство не есть только
индивидуальная вина тех или других лиц: оно представляет собою хронический недуг
167
целого общества, коллективный грех целой общественной среды, которая
рождает и воспитывает преступных личностей.
Воровство коренится в самом принципе частной собственности, который делит
общество на резко противоположные друг другу классы богатых и бедных.
Земельные владения и движимые имущества скопляются в руках немногих
магнатов, которые живут праздно, питаясь трудом крепостных. Противоположность
общественных классов усиливается беспрестанными войнами, которые повергают
в нищету народные массы и плодят неспособных к труду инвалидов. Военная
служба всей тяжестью ложится на бедное население, отрывая людей от их
семейств и занятий. Не мудрено, что обнищавший простолюдин ищет в воровстве
спасенья от голодной смерти. Правителям нет дела до всех этих общественных
бедствий. Князья думают лишь о громких военных подвигах и об обогащении
своей казны. Они воображают себя единственными собственниками в пределах
своего государства: они думают, что подданные могут владеть чем бы то ни было лишь
по их милости.
В «Утопии» обрисовывается идеальный порядок вещей, общество, построенное
по образцу Платоновой республики. В этом типическом создании эпохи
Возрождения все ново, все отличается от традиционных средневековых форм. Это уже не
царство церкви, а царство разума. Новым представляется и самое
местоположение Утопии. Она находится на острове близ Америки, то есть вне географического
кругозора средних веков, — в Новом Свете. Насквозь пропитанная духом
возродившейся языческой культуры, Утопия лежит и вне исторического кругозора
средних веков. Это во всех отношениях новое, небывалое место.
В рамки Платонова идеала Мор влагает новое, чуждое Платону содержание.
Подобно Платонову идеальному государству, и Утопия построена на началах
коммунистических: она не знает принципа частной собственности. Но самый
коммунизм у Мора служит иным целям, нежели у Платона. Платоново государство не
имеет в виду земного благополучия своих граждан: оно хочет осуществить
сверхчувственную, небесную идею в человеческих отношениях и преследует цель
загробную. Платон лишь потому хочет уничтожить частную собственность, что он
видит в ней эгоистический принцип, который приковывает человека к земле,
отвлекая его от служения загробным идеалам.
Коммунизм Томаса Мора, напротив, имеет в виду исключительно земную цель.
Он хочет сделать людей счастливыми и довольными уже здесь, на земле. В Плато-
новом государстве коммунизм распространяется только на два высших класса.
Напротив, у Мора коммунизм прежде всего задается целью устранения
социальных неравенств: он хочет всех уравнять в общем счастье и особенно горячо
принимает к сердцу интересы обездоленных классов. Для него на первом плане — цель
экономическая, материальная. Черты нового времени в особенности ярко
выступают в «Утопии» при сравнении ее с аскетической проповедью средних веков. Это
уже не аскетический идеал, а страна, текущая медом и млеком, с землею, дающей
людям баснословные урожаи без больших с их стороны усилий, с упоительно
роскошной природой. Здесь люди живут легким и приятным трудом, работая не
более 6-ти часов в день. Этого шестичасового труда достаточно потому, что в Утопии
все работают: здесь нет праздных классов, то есть дворян, толпы священников
и монахов, — опять-таки новая своеобразная черта, резким образом
противоречащая средневековым понятиям. Все,продукты своего труда жители сносят в общие
магазины, а оттуда каждый берет, что ему надобно, ибо все в Утопии находится
в таком изобилии, что нет основания отказывать жителям в чем бы то ни было. Од-
168
нако цельность утопических мечтаний нашего мыслителя нарушается чертами
совсем не райскими.
И его изобретательная фантазия не в состоянии представить себе
организованного человеческого общества без выгребных ям и отхожих мест. Последнее
обстоятельство грозит нарушить райское благоухание и потому в особенности смущает
Мора. Ведь для очищения этих мест нужен человеческий труд, и притом такой
труд, который, очевидно, не может быть ни легким, ни приятным. Здесь наш
автор впадает в самое комическое противоречие. Для исполнения такого рода работ
он вводит в свое государство труд рабов, купленных у других народов, и
преступников, отданных в рабство за преступления. Рабство, коренным образом
противоречащее основной мысли Утопии, своим присутствием в корне подсекает
построение мыслителя-фантаста; этот мираж легкого и приятного труда разлетается
и исчезает при первом соприкосновении с непривлекательными подробностями
житейской прозы. Всеобщая гармония в Утопии нарушается и другими резкими
диссонансами. Утопийцы вообще стремятся к идеалу всеобщего мира и ведут
войны только с целью собственной своей защиты и освобождения других народов от
тирании. Но они делают это чужими руками, так как своих граждан следует
беречь, — при помощи наемных войск; филантропический идеал у Мора
искажается его наивным эпикурейским эгоизмом. — Противоречия разнузданной
фантазии и наивного эгоизма Томаса Мора не суть только его индивидуальные личные
свойства. Они служат скорее общим достоянием эпохи Возрождения. В учениях
самых сильных и трезвых мыслителей того времени мы видим столкновение
самых противоположных стремлений и требований. Они отстаивают права
человеческой личности против насильственного закрепощения вековым авторитетом.
Но человек, освобожденный от всякой дисциплины, становится врагом человека.
Эгоизм отдельных лиц и общественных классов грозит ниспровержением всякого
общества. Чем менее человеческое общество связано церковным авторитетом, тем
больше чувствуется потребность в человеческой власти, которая могла бы его
сдерживать и обуздывать. Эти противоположные требования индивидуальной
свободы и сильной государственной власти сталкиваются в пределах одних и тех
же учений и служат в них элементом неустойчивого равновесия. Ярким образцом
этих неуравновешенных стремлений является французский мыслитель XVI века
Жан Воден (Jean Bodin).
Жан Боден (1520-1596)
Типический мыслитель XVI века, Боден в своем трактате «О республике»
противополагает центробежным силам своего общества идею сильной мирской
власти, которая должна скрепить и обуздать разнообразные общественные элементы.
Семейный быт в его время сильно расшатан, а королевская власть, которая во
Франции, как и везде, служила органом национального объединения, еще
окружена сетью старых феодальных учреждений, враждебных государственному
единству. Для борьбы с могущественным феодальным дворянством нужна
сильная королевская власть, а между тем королевская власть во времена Бодена
находится в опасности, тем более что Франция в то время раздирается вероисповедным
спором между католицизмом и протестантским, гугенотским движением. Борьба
эта служит элементом революционных брожений. Католические проповедники
169
разрешают убийство тирана народом, а тираном, согласно древней, еще
средневековой традиции, считается в особенности враждебный церкви светский князь.
От этого мало чем отличается кальвинистское представление о тиране. И
кальвинисты считают подданных свободными от всяких обязательств по отношению
к князю-еретику. Среди этой борьбы Боден как истинный сын XVI века хочет
власти самостоятельной, не связанной исключительно с каким-либо
вероисповеданием. Для возрождения общества требуется прежде всего восстановить семью,
укрепить элементарную форму всякой власти, власти домовладыки. Семейство,
говорит Боден, есть «правовое управление несколькими лицами и тем, что им
принадлежит». Для Бодена мало одного естественного чувства любви,
связывающего семью: в тот век всеобщего шатания он бредит властью. Как более или менее
все мыслители эпохи Возрождения, он вдохновляется древними образцами. Он
мечтает о восстановлении римской patria potestas29 и стоит за безграничное
господство домовладыки над женой и детьми; как разум господствует над чувством,
так и муж — представитель разума — должен господствовать над женою. Отец —
как бы представитель государства в маленьком семейном обществе. Как таковому
ему должно принадлежать jus vitae ас mortis30 над его детьми; нечего и говорить,
что ему принадлежит безгранично право распоряжения имуществом семьи.
Власти отца семейства соответствует власть монарха в государстве.
«Государство, — говорит Боден, — есть правовое управление несколькими семействами
и тем, что у них есть общего, притом с верховною властью». Это соединение
отдельных семейств в государство возникло не путем добровольного соглашения
и договора, а путем насилия. В догосударственном состоянии отдельные
семейства жили на свободе. Но возгорелись войны, сильнейшие победили слабейших
и покорили их своей власти. Так возникла власть и государство. Боден стоит за
единую власть, неделимую и недробимую. Против мечтаний старой феодальной
аристократии, которая хочет ограничить власть снизу, и против стремлений
церкви, которая хочет ограничить ее сверху, — он требует такой мирской власти,
которая признавала бы над собой лишь правила вечной справедливости, вечные
законы разума и совести. Всякие другие законы для государственной власти
обязательны лишь постольку, поскольку они изданы ею самой. «Закон, — говорит
Боден, — есть повеление высшего, пользующегося своею властью». Власть есть
право, безвозвратно и навсегда перенесенное на то и другое лицо, которое лишь
перед Богом отвечает за свои действия. Князь не может быть связан каким-либо
законом, изданным им или его предшественниками; даже если бы он обещал вечно
соблюдать изданные им постановления, то обещание это не может иметь силы:
князь не может изменить существа верховной власти, которая по природе
безгранична. Он не может быть ограничен собранием чинов, которое допустимо при нем
лишь в качестве совещательного органа. При всяком образе правления —
республиканском или монархическом — власть должна быть неделима и недробима,
то есть она должна находиться всецело в руках одного органа. Пугаясь призраком
феодализма, Боден сильнее всего восстает против форм правления смешанных,
где власть делится, например, между князем и аристократией. Всякая чистая
форма правления: демократическая, аристократическая или монархическая,
лучше всякой смешанной, ибо она более соответствует принципу единства власти.
Из всех чистых форм правления, по понятным нам историческим причинам,
Боден отдает предпочтение монархии., Идеал неделимой и недробимой власти
осуществляется во всей своей полноте лишь при условии воплощения его в одном лице.
Эта форма правления наиболее устойчивая, наименее подверженная колебаниям
170
и изменениям, столь частым при республиканском образе правления. Воден всего
больше боится раздоров партий, которые часто ведут к междоусобиям, и потому,
разумеется, он стоит за монархию наследственную, так как при монархии
выборной каждому царствованию предшествует борьба и спор из-за власти, который
нередко оканчивается кровопролитием. Монархические увлечения Бодена вообще
поражают своей страстностью. Он всеми силами своей души жаждет внешней
узды и дисциплины. Но, как это часто бывает у сильных, страстных людей, он
жаждет именно того, чего ему всего более недостает; несмотря на все эти
монархические излияния, в нем, как и во всех людях его эпохи, есть что-то такое, что
противится всякому внешнему обузданию и дисциплине. Черты эпохи
Возрождения сказываются у него в резких скачках и противоречиях. Построив
монархический идеал, он тотчас же сам ниспровергает созданное.
Он, представитель королевского абсолютизма, есть вместе с тем апологет
индивидуальной свободы и неотчуждаемых прав личности. Он — один из первых в
новое время противников социального рабства. Во имя естественной свободы
человека Воден восстает против теории Аристотеля, утверждавшего, что рабство
коренится в вечной природе человека и человеческого общества. Вместе с
индивидуальной свободой должно быть неприкосновенным и неотчуждаемым
имущество. Как примирить эти требования с понятием власти, которая произвольно и
безгранично распоряжается жизнью и имуществом подданных! Здесь-то у Бодена
является колоссальное противоречие: он требует, чтобы князь не облагал
подданных податями без их согласия, так как нельзя брать чужого достояния без доброй
воли владельца. Сам того не замечая, Воден высказывает конституционный
принцип, залегший потом в основу всех ограниченных монархий Европы. Ведь если
народ держит в руках кошелек с деньгами, то князь находится от него в
полнейшей зависимости. Вся конституционная история Англии представляет собою
красноречивое доказательство этой истины. В борьбе с королями английские
парламенты добивались разных уступок, отказываясь вотировать подати, когда
король не соглашался на их требования. Этим способом парламенты добились
многих драгоценных прав и создали английскую конституцию.
Но это далеко не единственная непоследовательность Бодена. В том же
монархическом трактате «О республике» он задается вопросом о том, дозволительно ли
убивать тирана? На этот вопрос он отвечает решительно, что законного князя,
каков бы он ни был, убивать безусловно недозволительно; но что лицо,
насильственно захватившее власть, может и должно быть наказано. Против такого
тирана подданные могут и должны взяться за оружие. Но этим уже окончательно
ниспровергаются основы теории Бодена. Ведь по его теории, все существующие
государства и власти создались путем насилия; проповедуя беспрекословное
повиновение власти, создавшейся этим способом, он вместе с тем утверждает, что
узурпация не может быть узаконена давностью, что время не освящает
насильственного захвата.
Протестантские и католические государственные учения
Параллельно с мирской реакцией против церкви, Европа в XVI веке
переживает религиозное движение, направленное против церковного авторитета и
иерархии. По справедливому замечанию современного историка философии Вин дел ь-
171
банда, то, что обыкновенно называется религиозной реформацией, есть лишь
частное проявление всеобщего возрождения. Это попытка совершить в религии
такой же акт освобождения человека от закрепощения внешнему закону, какой
совершается в это время во всех сферах человеческой жизни и мысли. Религиозная
жизнь в церкви в XV и в начале XVI века находится в глубоком упадке; церковь
господствует над обществом как внешний механизм учреждений, опутывая
человек целой сетью внешних требований. Религиозная жизнь уже не есть
внутреннее, непосредственное отношение человека к Богу. Она сводится к чисто
внешнему, механическому исполнению предписаний церкви, посредством которых
человек выслуживает свое спасение. Между человеком и Богом лежит грех; грех
же прощается церковью; а церковь пользуется своим полномочием связывать
и разрешать ради укрепления своей власти и ради мирских выгод. В ее пастырях
слабеет религиозный дух; они не обращают внимания на внутреннее религиозное
настроение людей, а ставят непременным условием отпущения грехов лишь
послушание, то есть совершение ряда внешних действий, полезных и приятных
церкви. Но раз религиозная жизнь удаляется из внутреннего святилища совести
и сводится на чисто внешние дела, она обращается в чисто юридическое
отношение между Богом-кредитором и человеком-должником. От церкви зависит
определить, что должен сделать человек-должник для уплаты своих долгов. Она может
заменить покаяние денежным взносом; она располагает сокровищницей заслуг
святых, совершавших много дел сверх требуемых; из этой сокровищницы она
может ссудить несостоятельного должника, переводя заслуги одних лиц на других.
Прощение грехов становится предметом торговой сделки, или, как говорил
Хомяков, оно обращается в духовно-банковую операцию. Торговля индульгенциями,
как известно, была ближайшим толчком, вызвавшим проповедь Лютера и
реформации. Протестантское учение последнего восстает против сведения религии на
внешнее дело и ищет спасения во внутреннем интимном отношении человека
к Богу. Для осуществления такого непосредственного единения человека с Богом
нужно прежде всего устранить того внешнего посредника, который между ними
становится и их разделяет: нужно устранить внешний юридический механизм
церкви и ее иерархию. В этом и состоит та религиозная свобода, о которой
мечтает Лютер. Он верит во всесильную благодать Божию, которая не нуждается в
человеческих посредниках для осуществления своих целей: она совершает дело
человеческого спасения, где хочет и как хочет, — независимо от церкви и таинств,
помимо иерархии и папы. От человека для спасения не требуется никаких дел,
ибо благодать сама совершает нужное для спасения дело; от него требуется лишь
акт веры, в котором он всецело отдается благодати. Человек оправдывается перед
Богом не своими заслугами, коих он не имеет, а единственно актом милости,
даром благодати. Лютер первоначально не имел в виду каких-либо политических
целей. Напротив, христианство представлялось ему царством не от мира сего: он
всеми силами восставал против этого слияния духовного с мирским, которым
грешил средневековый католицизм. Он хотел отрешения веры от мирских забот и
интересов. Но тем не менее проповедь его имела политические последствия
первостепенного значения, и сам он против воли был вовлечен в политику. Его
сокрушительные удары, направленные против церкви и иерархии, имели своим
прямым последствием освобождение мирской власти от церкви и иерархии.
«Церковная власть, — говорит современник Лютера и систематик лютеранского
учения Меланхтон, — есть данное Богом поручение учить Евангелию, совершать
таинства, посвящать служителей Евангелия, возвещать прощение грехов
172
отдельным лицам или многим, судить о догмате и о людях, совершающих явные
преступления. Она заключает в себе право отлучения людей словом, без телесного
насилия». В этом представлении о правах и функциях духовной власти уже нет
и следов средневекового понятия о церкви, господствующей над миром. Воздавая
кесарево кесарю, а Божие Богу, Лютер восстал против присвоения церкви
атрибутов государственной власти. С другой стороны, государство заботится о других
целях, не имеющих ничего общего с Евангелием, а потому не следует смешивать
церкви с государством. В этом направлении, однако, реформаторы не могут
оставаться последовательными. Церковь может строго и резко отграничиваться от
мирского общества лишь при условии, если она обладает особой, отличной от
государственных чинов иерархией и своим особым автономным управлением. Между
тем у протестантов с исчезновением иерархии и клира церковь неизбежно
сливается с мирским обществом. Одна и та же община есть одновременно и государство,
и церковь. Высказываясь в принципе в пользу разделения двух областей,
протестанты на самом деле работают в пользу их слияния. Католический принцип
владычества церкви над миром у них сменяется господством мирской общины в
церкви. «Различия между духовным и светским чином не существует, — говорит
Лютер, — все мы одинаково священники, то есть все мы имеем одинаковую власть
в слове Божием и в совершении таинств: но никому не дозволено пользоваться
этою властью иначе, как с согласия общества или по призванию высшего. Ибо, что
принадлежит всем в совокупности, того никто не может присваивать себе
отдельно, пока он не будет к тому призван». В результате протестантизм ведет к гораздо
большему слиянию церкви с мирским обществом, нежели католицизм, только
с той разницей, что здесь церковь все теряет, и одна мирская власть остается в
выигрыше. Где каждый подданный сознает себя священником, там правители
неизбежно облекаются в полномочия епископов. Лютер первоначально не хотел
вмешательства государства в дела веры и стоял за право свободной человеческой
совести. «Еретиков следует убеждать св. Писанием, а не огнем», — говорил он.
Но эти слова были сказаны в раннюю эпоху деятельности Лютера, когда
реформаторское движение еще не успело окрепнуть и пустить достаточно глубоко корни
в Германии: Лютеру тогда самому угрожало сожжение на костре. И с ним
повторилось явление, столь часто совершающееся в истории вероисповедных споров;
представители учений гонимых все большею частью стоят за начала религиозной
терпимости; но, достигши господства и власти, они часто в свою очередь
обращаются в гонителей. Это самое случилось и с Лютером. Католицизм в борьбе с
ересями всегда прибегал к содействию и помощи светских властей; последние в руках
церкви служили орудием религиозных преследований. Чтобы бороться с
католицизмом, который хотел силой подавить реформаторское движение, Лютер в свою
очередь должен был прибегать к содействию немецких князей, которые также
почуяли в нем друга. Обращаясь к светским властям, он должен был признать за
ними право решать религиозные споры. К этому влекла его и логическая
последовательность его учения; где исчезают определенные границы между церковью
и мирской общиной, там глава мирского общества неизбежно приобретает право
вмешательства в религиозные дела. В конце концов Лютер признал за светской
властью право подавлять еретиков и богохульников. В случае споров о догмате
в какой-либо стране светская власть обязана рассудить, которое учение согласно
с Евангелием, и противную сторрну должна заставить молчать. Известно, что
Кальвин также в начале своей деятельности говорил прекрасные слова в пользу
веротерпимости, но в конце концов учредил нечто вроде новой инквизиции и сжег
173
еретика Сервета31. Сам Кальвин держался приблизительно тех же воззрений, что
и Лютер, относительно задач мирской власти и отношения ее к церкви. Он также
восставал против смешения государства с церковью и точно так же, как и Лютер,
был приведен к такому смешению неотразимой логикой вещей. И он в конце
концов признает светские власти как бы наместниками Бога, которые не напрасно
носят меч для наказания злых и еретиков. Сам Кальвин видит во всякой власти
Божественное установление независимо от образа правления. Он симпатизирует
демократии, но не отрицает права на существование других образов правления.
Однако логика его учения влечет к демократическому идеалу, впоследствии
развитому его последователями. В самом деле, с точки зрения самого Кальвина,
духовная власть принадлежит не какому-либо лицу, отдельно взятому, а общине,
народу как целому и правителям лишь как представителям общины. В этой
общине каждый член сознает себя царем и вместе с тем священником, а народ как
совокупность воплощает в себе царское священство. Отсюда один только шаг до
подчинения правителей духовной власти общины. Последователи Кальвина
развивают эту идею народовластия в церкви и государстве во всех ее крайних
последствиях. Важнейший шаг в этом направлении принадлежит французскому
кальвинисту XVI века, известному Гюберу Лангу (Hubert Languet), автору
трактата «Защиты против тиранов» (Vindiciae contra tyrannos). В этом трактате автор
задается, во-первых, вопросом о том, должны ли подданные повиноваться
князьям, когда они предписывают что-либо противное закону Божию; во-вторых,
дозволительно ли сопротивляться такому князю; и в-третьих, дозволительно ли
сопротивляться князю, угнетающему народ? Наконец, в-четвертых, могут ли
соседние князья помогать подданным другой страны, коих тиран угнетает или
преследует за веру. На эти смело поставленные вопросы мы находим у Ланге
в высшей степени смелые ответы. В «Защите против тиранов», в этом
замечательном произведении кальвинистской схоластики, мы находим удивительное
сочетание старого и нового средневековых воззрений с приемами и методами новой
мысли. С одной стороны, государственный идеал Ланге строится на библейской
основе. Библейская история служит ему идеалом и нормою для всех времен и
народов, поскольку он стоит одной ногою в средних веках. С другой стороны, этот
библейский материал подчиняется у него совершенно новому методу, тому
самому геометрическому методу, который имел такое огромное значение в
политической литературе XVII и XVIII века. В основе всех политических и социальных
отношений лежит договор между тремя контрагентами: Богом, князем и народом.
Из этого договора с геометрической необходимостью вытекают все политические
принципы разбираемого трактата. В библейском договоре Самуил подчиняет
еврейский народ власти царя Саула лишь с тем условием, чтобы царь являлся
верным исполнителем Божественной воли32. В случае нарушения договора царем
третий контрагент — народ, также непосредственно связанный договором с
Богом, освобождается от всяких обязательств по отношению к царю. Саул
отвергается Богом за несоблюдение заповедей. За то же самое Ровоам казнится отпадением
десяти колен Израилевых33. Таковыми же должны быть и повсеместно
обязательства между народами и царями. Князья находятся в ленной зависимости от Бога.
Поэтому, если князь предписывает что-либо противное закону Божию, народы
обязаны не повиноваться. Они прежде всего связаны повиновением Богу как
верховному сюзерену, — так отвечает «Цанге на первый из поставленных вопросов.
Но одного пассивного неповиновения недостаточно. На второй вопрос Ланге
отвечает, что подданные обязаны оказывать активное сопротивление князю, покуша-
174
ющемуся на веру. Договору Бога с царем в Библии предшествует другой договор,
заключенный еще в доцарскую эпоху между Богом и народом; с установлением
царской власти лишь прибавляется новый контрагент-царь, но старый договор
остается в силе. Народ и царь связываются перед Богом в общей ответственности,
как солидарные участники нового обязательства. Каждый из двух человеческих
контрагентов отвечает целиком за все обязательство, а потому имеет право сам
принуждать другого соучастника к его исполнению. Против князя — ослушника
Божественной воли подданные обязаны взяться за оружие, коим церковь должна
пользоваться если не для распространения, то для защиты своей власти. Но право
сопротивления принадлежит не частным лицам, которые не вступают в
отдельный договор с Богом, а народу как органическому целому. Сигнал к восстанию
может быть подан не частным лицом, а только сановниками, представляющими
народ как совокупность; а в случае согласия большинства сановников с князем
право восстания принадлежит каждому городу и каждой области, с тем, однако,
непременным условием, чтобы инициаторами восстания являлись должностные,
а не частные лица.
Но Ланге не ограничивает право восстания одними теми случаями, когда князь
нарушает свои религиозные обязательства. Тройственный договор связывает
князя целою совокупностью обязательств не только по отношению к Богу, но и по
отношению к народу. Князь держит свою власть не непосредственно от Бога, а от
народа; на монархическую власть переносятся права народного верховенства;
народ — выше царя, и власть последнего освящается свыше лишь поскольку она
служит народным интересам. При обсуждении прав монархической власти
нужно прежде всего иметь в виду цель, ради которой эта власть установлена. Цель эта
заключается: во-первых, в охранении правосудия внутри государства и,
во-вторых, в защите от внешних врагов. Всякая власть, отклоняющаяся от этих целей,
уже не есть законная власть, а власть тираническая. Князь, жертвующий общим
благом для своих личных целей, уже не князь, а тиран. Князь есть лишь
верховный исполнитель закона в государстве. Подданные по отношению к нему не рабы,
но братья. Он не имеет безграничной власти над их жизнью и имуществом.
Поэтому он не должен иметь права облагать имущество своих подданных какими-либо
податями без согласия представителей народа — чинов королевства. Лишь при
соблюдении этих условий народ связан обязанностью повиновения по отношению
к царю. Договор между народом и царем не есть непременно договор явный,
выраженный в статьях и параграфах закона. Везде и всюду он как подразумевательное
условие, как tacitus consensus лежит в основе отношений народов к царям.
Договор этот не может быть уничтожен, ибо для прав народа не существует давности.
Народное верховенство есть вечное, неотчуждаемое право, которое не может быть
безвозвратно и на вечные времена перенесено на какое-либо одно лицо. И всякое
лицо, которое пытается похитить эти народные права и эксплуатирует их ради
личных и династических целей, должно быть низложено и наказано. Во всей
кальвинистской революционной литературе XVI века поразительно прежде всего
слияние революционных элементов нового времени с теократическими, еще
средневековыми началами. Если мы сравним социально-политические учения
кальвинистов с таковыми же учениями средневековых богословов, то мы легко
заметим в них общие черты: те и другие вдохновляются идеалом Civitas Dei34 как
нормой земных отношений: кальвинисты, как и католики, считают все лежащее
вне их общины царством диавола и проповедуют настоящий крестовый поход
против тирании. Нельзя сказать, чтобы они отрешились от противоречий средневеко-
175
вой мысли; они еще больше смешивают церковь — царство благодати — с
земными стихиями; они еще в большей степени превращают ее духовный меч в меч
крови. Божеское царство представляется им сокрушительною силою, перед которою
должны исчезнуть с лица земли все другие человеческие царства. В истории
европейских государств кальвинистской проповеди принадлежит огромное значение.
Политическое учение кабинетных теоретиков доступно лишь немногим, тогда как
религиозная проповедь кальвинистов возбуждает яростный фанатизм масс.
Разрушительным вихрем эта проповедь разнеслась по Европе и, как мы увидим
впоследствии, вызвала английскую революцию и создала республику Кромвеля.
Кальвинизм сходится с католицизмом в общей проповеди боговластия, отличаясь от
него преимущественно тем, что здесь на место теократии иерархической, папской
становится теократия демократическая. Однако и католицизм в занимающую нас
эпоху не чужд демократических стремлений. Напротив, католические учители
XVI века также проповедуют крайне демократические начала, но только
ограничивают применение демократических начал одним светским порядком —
государством. Этот союз церковной иерархии с светской демократией имеет за себя
старые, еще средневековые предания. Кто не знает, что в средние века папы,
когда им приходилось бороться с могущественными светскими князьями, разрешали
подданных от повиновения князьям, иначе говоря, призывали против них
демократические начала. Опираясь на народы против князей, папы тем самым
признавали их верховенство над князьями, их право сопротивления и восстания против
тирана — ослушника веры. Уже у писателя XII века Иоанна Солсберийского35 мы
находим, в связи с папистскими учениями, проповедь народовластия и
тираноубийства. В XVI веке эти учения возобновляются иезуитами. Из них многие
развили теорию народовластия до крайних последствий, в особенности испанские
иезуиты Суарец и Мариана36. В основных своих положениях их государственные
учения совершенно сходны с кальвинистскими. В силу установленного Богом
естественного порядка мирская власть дается первоначально не рассеянным
человеческим единицам, а народу как коллективному целому. Власть, данная Богом
народу, может быть перенесена на одно лицо, но это перенесение не может быть
полным и безвозвратным отчуждением народного верховенства; народ все-таки
остается высшей инстанцией и судьей над князем, сохраняя за собою право
низлагать и казнить тиранов. Эти самые начала проводились на практике во Франции
Католической лигой, восставшей против Генриха III во время его колебаний в
вероисповедном споре. Один из видных представителей Лиги, священник Буше,
в памфлете «О справедливом низложении Генриха III» оправдывает и восхваляет
убийцу последнего — Жака Клемана.
Как видите, католики и кальвинисты одинаково проповедуют народовластие
и выводят из этого принципа одинаковые практические последствия. У
кальвинистов народное верховенство не знает над собою никакого другого высшего начала.
Народ — безграничный владыка, как в светской, так и в духовной области.
Напротив, католические проповедники эксплуатируют демократию ради
иерархических целей; они выдвигают народовластие против королей, но лишь с тем
непременным условием, чтобы народ являлся союзником папы. У кальвинистов
народный произвол решает, кто законный князь и кто тиран. У католиков этот
вопрос в конце концов решается папой. Упомянутый уже мною испанский иезуит
Мариана посвящает испанскому королю тот самый трактат, в котором он
оправдывает убийство короля французского во имя народных прав. В Испании, центре
католической реакции, король как верный сын церкви не мог усмотреть для себя
176
угрозы в трактате хитрого иезуита: в руках иезуитов народное верховенство
представляется опасностью лишь для князей — ослушников папы. Для
дружественных князей у них одни благословения; ослушникам таких князей церковь готовит
проклятия.
Философия права нового времени
Мыслители эпохи Возрождения сходятся между собою в общем протесте
против средневековой схоластики. Но протест этот носит на себе печать мысли
молодой, необузданной. Возродившейся новой мысли недостает прежде всего
дисциплины и метода; мыслители XV и XVI веков смело строят свои системы без
предварительной проверки сил и способностей человеческого разума, вследствие
чего их построения шатки и непрочны. С другой стороны, их неокрепший разум
оказывается еще не вполне самостоятельным: подражатели древности, они
порвали связь с церковным авторитетом, чтобы стать учениками древних мыслителей.
Эта необузданность и эта школьная зависимость суть черты подготовительной
эпохи, переходного времени между средними веками и новым периодом. В XVI
веке заканчивается эпоха Возрождения; новая эра открывается в XVII веке двумя
мыслителями, которых справедливо принято считать отцами и
родоначальниками новой философии: Франсисом Бэконом и Декартом. Оба они ставят вопрос
о методе познания, оба ставят непременным условием знания предварительное
исследование самой мысли, ее сил и приемов. Представители созревшего разума
новой эпохи, они ищут образцов этого нового метода не в древности, а в современной
им науке. Успехи естественных наук в XV и XVI веках обусловливались
применением двух методов: систематического наблюдения природы, опыта, который
отправляется от частного к общему и сводит частные наблюдения к общим
понятиям, и метода математического, геометрического, который, наоборот,
отправляется от общего к частному и выводит путем математического вычисления
разнообразные частные последствия из общих понятий. Великие астрономические
открытия Коперника, Кеплера, Галилея обусловливаются соединением обоих
этих методов: наведения, индукции, или обобщения частных наблюдений и
опытов и математического выведения, дедукции. В обоих родоначальниках новой
философии оба эти элемента человеческого знания выступают во всей своей резкой
взаимной противоположности. Декарт — классический представитель
геометрического метода. Ему философия представляется как бы рядом математических
умозаключений, рядом теорем,1 с непреложной необходимостью вытекающих
одна из другой. Напротив, Бэкону философия представляется обобщенным сводом
частных наблюдений. Следуя Декарту и Бэкону, философия нового времени
распадается на два направления новой мысли — рационалистическое и
эмпирическое. Мы начнем с характеристики последнего, то есть эмпирического, бэконовско-
го, направления.
В эпоху Бэкона (1561-1626) религиозная реформация представляется уже
совершившимся фактом; став во главе протестантского движения при Елизавете,
Англия одержала блестящую победу над флотом католической Испании
Филиппа И37, который хотел силою восстановить на родине Бэкона господство
католической церкви. В области религии главное дело уже сделано: становясь на почву
совершившегося факта, английская политика избегает религиозных споров: она
177
заботится лишь о расширении национальной силы и могущества. Философия
Бэкона одушевлена теми же стремлениями, что и политика его времени: в религии
она довольствуется уже раньше приобретенными результатами. Религия, как
недоступная человеческому разуму область, вовсе выходит из сферы исследования
философии, как ее понимает Бэкон; для него задача знания сводится
исключительно к расширению человеческого могущества, к укреплению господства
человека над природой. Для него, наследника эпохи Возрождения, regnum hominis38
есть высшая и безусловная цель, по отношению к которой знание играет лишь
случайную роль средства. Si vis tibi naturam submittere, te ipsum submite
rationi39 — таков типический лозунг философии Бэкона. В этом заключается
основное различие между ним и древними философами. Для Платона и Аристотеля
познание само по себе высшая цель, которой должна быть подчинена вся
практическая жизнь и деятельность: человек достигает совершенного счастья,
блаженства лишь в самом акте познания. Напротив, Бэкон ценит познание, лишь
поскольку оно приводит к практически полезным результатам. Это не значит, конечно,
чтобы Бэкон признавал достоинства и ценность каждого частного познания лишь
при условии его непосредственной практической приложимости; он не требует от
каждого научного открытия непосредственных осязательных результатов, а
хочет только, чтобы знание как целое служило увеличению земного благосостояния
и довольства человеческого общества. Он видит в знании силу, которая покоряет
все земное власти человека. Уже до Бэкона физико-математические науки
пользовались экспериментальным методом, и применение этого метода к изучению
природы привело к величайшим открытиям и изобретениям; но самый метод не
подвергался критическому исследованию. Бэкон впервые противопоставил
схоластике не частные наблюдения и открытия, а целый новый метод. В
противоположность средневековой философии, которая основывала свои учения о
природе на богословских теориях и библейских текстах, он признает единственным
источником познания наблюдение и опыт. В основе опыта лежит чувственное
восприятие; но одно чувственное восприятие само по себе не составляет опыта: оно
служит только точкой отправления для рассудка, который строит свои обобщения
путем сличения и критической проверки самых разнообразных наблюдений. Весь
материал познания сводится исключительно к одним чувственным
впечатлениям; рассудок не вносит каких-либо новых элементов в познание; он только
систематизирует и обобщает эти чувственные данные: в философии Бэкона нет места
для сверхчувственного; но в чувственном опыте человек сталкивается лишь с
явлениями порядка материального, с механическим взаимодействием вещей.
Целесообразный порядок вещей, их внутренний смысл и разум открываются человеку
лишь в умозрении и не могут быть предметом чувственного опыта. Естественно,
что Бэкону, при его отрицательном отношении к метафизическому умозрению,
весь мир представляется в виде огромного механизма, без внутренней цели
и смысла, в котором господствует не разумный порядок, а слепой естественный
закон. Односторонний приверженец чувственного опыта, он допускает лишь
механическое объяснение существующего; он исключает вовсе из области познания
всякую телеологию, то есть всякое учение о целесообразных силах в мироздании.
Самое учение о человеке и человеческом обществе представляется ему как бы
частью физики, которая для него исчерпывает наше знание о существующем.
178
Гоббс(1588-1679)
Сам Бэкон, однако, не развил систематически учения о человеческом
обществе. Применение бэконовских начал к учению о праве и государстве было делом его
талантливого продолжателя известного английского философа Томаса Гоббса.
Истинный сын эпохи великих физических открытий и изобретений, Томас Гоббс,
подобно своему предшественнику, представляет себе мир как систему рычагов
в большом размере. Под впечатлением успехов современной им техники
английские мыслители XVII века, подобно тургеневскому Базарову, представляют себе
вселенную уже не как храм, а как мастерскую, в которой человек играет роль
строителя и зодчего. Подобно Бэкону, Гоббс признает единственным источником
познания чувственный опыт. Мы черпаем весь материал познания из наших
ощущений, которые суть результат материального, механического воздействия
вещей на наши органы чувств. Наши понятия о вещах суть не более как
ослабленные следы наших ощущений, удержанные памятью. Реально существуют одни
только единичные вещи, воспринимаемые нами; общие же понятия, как,
например, понятие человека вообще, стола вообще, суть не более как чисто
субъективные представления, как имена и знаки, которым в действительности не
соответствует никакой реальности. Все наши суждения составляются путем чисто
механических операций над этими словесными знаками путем их сложения или
вычитания. Мышление представляется Гоббсу как бы арифметическим
процессом: мыслить для него значит исчислять. «Разумные, — говорит он, —
пользуются словами как меновыми знаками, и только глупцы принимают их за чистую
монету». Будучи единственным источником познания, чувственный опыт, однако,
не есть единственный его орган. Необходимым органом познания является
рассудок, который систематизирует чувственный материал, слагает из слов суждения,
а из суждений — систему знания. Сводя мышление к чисто механической,
словесной операции, Гоббс последовательно утверждает, что самая истина присуща
лишь речи, а не вещам: Veritas in dicto, non in re consistit. — Сенсуализм Гоббса,
то есть сведение всего познания к чувственным впечатлениям, ведет у него к
материалистическим последствиям. В конце концов все мышление есть результат
механического движения. Все существующее сводится к телам и движениям тел.
Так как все чувственно воспринимаемое содержится в формах пространства и
времени, и непротяженных субстанций в нашем чувственном опыте мы не находим,
то Гоббс признает бессмысленным самое выражение «невещественная
субстанция». Для него философия есть не более и не менее как учение о телах. Но в нашем
опыте мы находим тела двоякогЬ рода: естественные и искусственные, то есть
составляющие результат человеческой деятельности. Первые входят в область
физики; в числе последних наибольший интерес представляет величайшее и
совершеннейшее составное искусственное тело — государство.
Учение о государстве у Гоббса является как бы отраслью прикладной
механики. Жизнь животных организмов, читаем мы в замечательнейшем из
политических трактатов нашего писателя, в «Левиафане», сводится к движению их членов;
но автоматы и машины, создания человеческих рук, точно так же обладают
способностью движения. Животные организмы суть естественные автоматы; в
отличие от них машины и автоматы, розданные нами, обладают как бы искусственной
жизнью, вложенной в них человеком. Подражая созданиям природы, человек
создает сложную машину — государство, которое представляется как бы искусст-
179
венным человеческим организмом. Свойства этого политического тела
определяются качествами его составных частей. Чтобы познать законы деятельности
государственного механизма, нужно начать с изучения отдельных личностей, тех
элементарных рычагов, из коих этот механизм составляется. Искусственному
созданию — государству — предшествует анархическое естественное состояние,
в котором каждый человек сам себе господин. Соответственно с этим основная
задача государственной науки заключается в том, чтобы понять, каким образом из
естественного состояния (status naturalis) рождается гражданское общество
(status civilis). На этот вопрос отвечают два главных трактата Гоббса: «О
гражданине» и «Левиафан». В материальной, чувственной сфере бытия люди разделены
противоположными интересами; здесь каждый желает присвоить себе возможно
большее количество материальных благ, которые не могут одинаково всех
насытить. Не признавая другой области человеческого бытия, кроме чисто
материальной, Гоббс представляет себе естественное состояние всеобщей вражды и
разделения: это всеобщая борьба за существование — bellum omnium contra omnes4t).
Сводя все содержание человеческого сознания к чувственным впечатлениям,
Гоббс объясняет всю человеческую деятельность одними чувственными,
эгоистическими влечениями. В естественном состоянии единственной пружиной
деятельности служит стремление отдельного лица к самосохранению и к увеличению
своего чувственного благосостояния: о каких-либо нравственных понятиях,
врожденных человеческой природе, с этой точки зрения не может быть и речи.
Как и все человеческие понятия, нравственные принципы суть искусственные
создания, результат умозаключения; по природе нет ничего абсолютно доброго или
злого, дозволенного или запрещенного: в естественном состоянии человек не
связан не только юридическими, но и какими бы то ни было нравственными
обязательствами по отношению к своим ближним; здесь всякий имеет право на все
необходимое для сохранения его существования; в этом и заключается то, что Гоббс
разумеет под естественным, прирожденным человеку правом. В естественном
состоянии каждый управляет сам собою; здесь пределы власти каждого
определяются степенью его превосходства над ближним; свобода здесь осуществляется во
всеобщем взаимном пожирании. Каждый из людей чувствует врага в каждом
ближнем; здесь «человек человеку волк» (Homo homini lupus est). Таким образом,
естественная свобода обращается в свое противоположное — в чувство всеобщей
необеспеченности и страха, в сознание полнейшей зависимости всех от прихоти
каждого. Всем, не исключая и самых сильных, приходится дрожать за свою
безопасность: ибо и слабые соединенными усилиями могут взять верх над
сильнейшими себя. В конце концов, состояние всеобщей войны противоречит тому
основному инстинкту самосохранения, из коего это состояние рождается. Отсюда
возникает первый производный закон природы, в силу которого человек
переходит из естественного состояния в государственное, querendam esse pacem.
Инстинкт самосохранения требует всеобщего мира как условия безопасности.
Но мир недостижим, пока каждый сохраняет право на все. Ибо, удерживая наше
право на все, мы не выходим из состояния войны и вынуждаем ближних к
вооруженной против нас защите. Единственное средство достижения мира
заключается в совершенно всеобщем отречении от прав, присущих естественному
состоянию, в перенесении прав на все, на власть, одинаково стоящую над всеми. Такое
коллективное отречение от прав естественных возможно лишь посредством
всеобщего соглашения, договора о подчинении общей власти: отсюда второй
производный закон природы, лежащий в основе общежития: нужно соблюдать договоры
180
(pactis standum est). Все, что обыкновенно принято называть добром и злом, все
наши понятия о правде и неправде черпают свою силу в этом первоначальном
общественном договоре. Ибо термины добро и зло суть не более как условные знаки,
имена, коими люди означают вещи, к коим они чувствуют влечение или
отвращение. В естественном состоянии под добром можно разуметь только то, что служи?
к удовлетворению эгоистических влечений личности, а под злом все то, что
противится этим влечениям. В силу договора, то есть в государственном состоянии,
добром признается общее всем людям благо — мир и все то, что служит миру. Все
человеческие добродетели, то есть справедливость, человеколюбие, милосердие,
суть добро лишь в качестве средств к достижению мира (media ad pacem).
Естественные законы, вытекающие из требования мира, суть непременные условия,
без коих никакое человеческое общество существовать не может и постольку
имеют вечное значение. Но отдельное лицо может быть обязано к их соблюдению
лишь при том условии, если они в силу общественного договора получают
значение всеобщих норм, которые всех могут принуждать к повиновению. При
отсутствии власти, могущей осуществлять это принуждение, никто не может быть уверен
в соблюдении другими этих норм, а потому каждый сохраняет право на все то, что
требуется интересам самозащиты. Взаимная ненависть и недоверие людей
таковы, что они могут быть принуждены к повиновению лишь страхом общей власти.
Лишь в предположении такой власти нравственные и юридические обязательства
людей в их взаимных отношениях имеют силу. Для установления мира в
обществе требуется совершенное и полное перенесение прав каждой отдельной личности
на_какое-либо одно лицо или собрание, которое воплощает в себе коллективную
волю, или, лучше сказать, коллективный эгоизм всех. Я говорю «коллективный
эгоизм» потому, что самая необходимость такой власти выводится Гоббсом не из
нравственных требований, а из чисто эгоистических стремлений человеческой
природы. Из единичных лиц, таким образом, составляется коллективное,
искусственное лицо — государство, которое воплощает в себе единение всех своих
членов. «Государство, — говорит Гоббс, — есть единое лицо, коего воля, вследствие
договора многих людей считается волей всех, так что оно может пользоваться
силами и способностями каждого ради общего мира и защиты». Одна верховная
власть представляет собою государство как лицо; раз учреждена верховная
власть, то народ как собрание отдельных личностей уже перестает быть лицом
(populis persona esse desinit). Учреждение власти означает уничтожение всяких
прав личности по отношению к ней, так что в государственном состоянии
верховная власть облечена всей полнотой и суммой прав, которыми обладали отдельные
личности в естественном состоянии. Иначе говоря, здесь верховной власти
открывается беспредельная и безграничная сфера деятельности; она имеет право на все:
на жизнь и имущество своих подданных, более того, на их совесть; ее
верховенство проявляется не только в суде, законодательстве и светском управлении: ей
принадлежит право запрещать вредные учения, то есть, например, те, которые
высказываются в пользу ограничения власти. Права верховной власти не зависят от
формы правления: они столь же безграничны в республике, как и в монархии, ибо
и в республике власть может существовать лишь при условии всецелого
перенесения на нее всех прав отдельных лиц. Из самого факта такого перенесения следует,
что власть не может быть связана какими-либо обязательствами по отношению
к кому-либо; она представляет волю всех, следовательно, каждый отдельный
гражданин должен почитать себя автором и виновником ее действий, хотя бы
обращенным против него, а в отношении к самому себе никто не может совершить
181
неправды — sibi ipsi injuriam facere nemo potest. Власть не может обязаться
соблюдением каких-либо законов по отношению к подданным, так как последние
вследствие отречения от своих прав уже не могут быть стороной в договоре. Народ
не может контролировать действий власти, ибо самым фактом такого контроля
нарушается общественный договор, законы теряют свою силу, и подданные
возвращаются в анархическое естественное состояние. Лишь через подчинение
власти, через ее повеления устанавливается различие между правом и неправом.
Отдельные личности могут иметь свое суждение о добре и зле лишь в естественном
состоянии; в государственном состоянии такая свобода мнений, как ведущая
к восстаниям и возмущениям, не должна быть терпима, ибо здесь различие
между добром и злом устанавливается законом. Точно так же возмутительно мнение,
будто бы власть обязана уважать право собственности, принадлежащее
подданным: собственность коренится не в естественном праве, в силу которого все у
людей общее, а в силу установления власти, которая имеет право собственности над
самими подданными-рабами. Пусть государственное состояние есть рабство,
говорит Гоббс, человек, раб власти, все-таки более свободен, чем в естественном
состоянии, где он может стать рабом каждого ближнего. Чем более подданные — рабы,
тем больше власть заинтересована в том, чтобы беречь свое добро.
Нетрудно понять, почему изо всех форм правления Гоббс предпочитает
монархию. Это та форма правления, которая наиболее приближается к осуществлению
единства, ибо, действительно, здесь государство отождествляется с одним лицом.
То, что говорит о себе Людовик XIV: « Государство — это я», вполне соответствует
мысли Гоббса. В трактате «О гражданине» он прямо говорит, что «в монархии сам
царь есть народ», как ни парадоксальным может казаться это мнение. Он
пугается бЬрьбьГ партий, свойственной республикам и конституционным монархиям.
Из этой борьбы рождаются междоусобия, так как партии, которые не в состоянии
мирным путем восторжествовать над противниками, часто берутся за оружие;
отсюда и возникают гражданские войны, и общество беспрестанно впадает в
анархическое, естественное состояние. Чтобы понять историческое значение
политических трактатов Гоббса, нужно прежде всего принять во внимание, что они
написаны в век английской революции.
Трактат «О гражданине» написан в 1642 году, то есть во время борьбы Карла I
с «Долгим парламентом», кончившейся междоусобной войной41, а «Левиафан» —
в 1651 году, то есть через два года после казни короля парламентом.
Представитель консервативной реакции и защитник королевского абсолютизма, Гоббс
является в роли теоретика королевской политики династии Стюартов. Революция
рисуется ему в чудовищном образе пожирающих друг друга партий и личностей, ему
мерещится пугало естественного состояния. Чтобы справиться с этим чудовищем,
для этого нужно другое чудовище, смертный бог — Левиафан42,
государство-пугало, господствующее над подданными-рабами. Политическое миросозерцание
Гоббса представляется для нас в особенности поучительным и интересным
потому, что в нем проповедь деспотизма есть последовательный результат явления
материалистического. Мы привыкли связывать материалистическое
миросозерцание с либеральным и еще чаще — с радикальными учениями. Пример Гоббса
убеждает нас в том, что это лишь случайное соединение, что логика материализма
ведет, напротив, к самым антилиберальным последствиям. Утратив веру в
сверхчувственный идеал, человек неизбежно становится рабом материальной стихии.
Материализм не знает ничего высшего, чем вещество; развитый во всех своих
последствиях, он в силу неумолимой логики должен прийти к культу грубой силы,
182
к превращению человека в ничтожное колесо огромного механизма, в котором нет
места для свободы. Понятно, почему у Гоббса совершенный нигилизм
соединяется с совершенным абсолютизмом: к материи нельзя обращаться с нравственными
требованиями. Нравственные понятия суть или пустые слова, или предписания
власти: власть же может господствовать над людьми лишь в силу механического
закона: они движутся как автоматы, мыслят и чувствуют под ее физическим
давлением. Где сила служит основанием права, там уже не может быть речи о
свободной совести. В век революции представителями либеральных и демократических
учений выступают английские сектанты пресвитериане, левеллеры и индепенден-
ты43; последние составляют главную силу в республиканской армии Кромвеля,
низвергнувшей Карла I. Сектанты эти вдохновляются теми самыми
политическими идеалами, которые я охарактеризовал уже раньше при изложении
кальвинистских учений. Они восстают против королевского деспотизма во имя
народного полновластия как в светской, так и в духовной области. На развалинах тирании
они хотят основать тысячелетнее Царство Христово44, которое рисуется им в
образе духовно-светской республики, демократического царства святых. Понятно,
что в борьбе с таким противником Гоббс столь же резко восстает против свободы
религиозной, как и против свободы политической. Он вводит в свое государство
и церковь; но, как и следует ожидать от мыслителя-материалиста, церковь у него
не есть проявление свободного и искреннего религиозного мнения, а орудие
государственного полновластия — принудительное христианство. Его, как и
Макиавелли, религия интересует лишь в качестве звена государственного механизма.
«Если предоставить толкование Св. Писания каждому частному лицу, — говорит
он, — то не только искоренится послушание светским властям, но, вопреки
естественным законам, уничтожится и всякое общество и человеческий мир». Ибо
в таком случае, прежде чем повиноваться князьям, люди рассматривают,
согласно ли его предписание со Св. Писанием. «Свободное толкование Евангелия ведет
к анархии и междоусобию», — таково впечатление, очевидно, вынесенное
Гоббсом из современных ему событий английской революции. Из этого он
выводит, что толкование Писания должно быть делом государства: точь-в-точь, как
некоторые публицисты нашего времени, он восстает против самочинного
умствования, превращая изъяснение веры в монополию святителей, назначенных для того
мирскою властью. Церковь не есть простое собрание отдельных лиц: она лишь
постольку становится церковью, поскольку она представляет собою организованное
тело с единой властью, которая может силою принуждать людей к повиновению,
иначе говоря, поскольку во главе ее стоит светская власть, которая одна способна
осуществлять принуждение. Как бы ни было нам антипатично это соединение
материализма с ханжеством, этот культ силы в связи с казенным благочестием, мы
должны признать за Гоббсом великий логический талант, выражающийся в
необычайной систематической стройности его построений. Если в учении Гоббса есть
противоречия, то это обусловливается не отсутствием таланта великого
мыслителя, а негодностью самого принципа, который в силу самой односторонности своей
не может быть проведен без противоречий. Основное противоречие всего учения
прекрасно подмечено Чичериным»45: «Отрекаясь от собственной свободы, человек
ради сохранения себя отдает себя всецело на жертву чужому произволу», —
который, очевидно, не представляет никаких гарантий для такого сохранения. Сам
Гоббс чувствует это противоречие и признает, что человек не сможет обещать не
оказывать сопротивления всякому, посягающему на его жизнь и физическую
целость, так как такое обещание противоречит самосохранению. Это правило рас-
183
пространяется на самые отношения подданных к верховной власти. Но если так,
то о всецелом перенесении прав личности на государство не может быть и речи,
и подданные сохраняют право сопротивления хотя бы в тех случаях, когда власть
угрожает их безопасности. Такова сила духа времени, что и в учении Гоббса
волею-неволею открывается дверь для революционных теорий. Человек не есть
автомат, и человеческое общество не есть только внешний механизм, скрепленный
силою. Искусственное построение Гоббса рушится, потому что оно зиждется не на
твердых нравственных началах, а на шаткой основе человеческого эгоизма,
который в конце концов может быть антисоциальным, разрушительным для общества
началом.
Гуго Гроций (1583-1645)
В противоположность древней философии, где человеческая личность
рассматривается как подчиненная часть объективного мирового порядка, в новой
философии требования личности стоят на первом плане. Новая философия начинается
с культа личности, которая сама по себе служит высшей, безусловной целью; сама
в себе черпает сознание добра и зла, правды и неправды. В этом культе личности
сходятся между собою при всей их взаимной противоположности в других
отношениях оба главных направления новой философии, эмпирическое бэконовское
и рационалистическое декартовское. Исходная точка бэконовской философии
есть культ чувственной природы человеческой личности. Умножение
материального благосостояния человека, расширение сферы ее господства — таков основной
мотив бэконовского мышления. Для продолжателя Бэкона — Гоббса также
чувственная природа человека служит высшим мерилом истинного и ложного,
должного и недолжного. Из чувственных влечений человека у него выводится и
объясняется все общественное здание — нравственность и государство.
Но человек не исчерпывается одною чувственною природой; он не есть только
чувствующий автомат, он свободное разумное существо. Другое направление
новой мысли, олицетворяемое в области чистой философии Декартом, а в области
философии права Гуго Гроцием, берет за исходную точку свободно-разумную
человеческую природу. Рационалистическая философия хочет вывести законы
вселенной из законов человеческого разума; из требования свободно-разумной
человеческой природы для нее с геометрической необходимостью вытекает вся
нравственность, все государственное и общественное здание.
Конечно, нельзя представлять себе эту противоположность в таком виде, будто
в одном направлении мы находим только чистое мышление, а в другом — только
чистое наблюдение. Умозрение и опыт суть равно необходимые элементы
человеческого ума, которые встречаются в каждом акте мысли и не могут быть
совершенно изолированы. Разница между обоими направлениями заключается лишь
в том, что берется за исходную точку и что преобладает: в рационализме —
умозрение, в эмпиризме — опыт. ,
Зарождение рационалистического направления философии права нового
времени связывается с великим именем голландского мыслителя Гуго Гроция.
Жизнь и деятельность его протекают между 1583 и 1645 годами, то есть начина:
ется в эпоху религиозно-политической борьбы Генеральных Штатов Голландии
против испанского короля Филиппа II и заканчивается за три года до окончания
184
тридцатилетней войны45. Великий переворот в области мысли, представляемый
Гуго Гроцием, соответствует, таким образом, великим политическим переворотам
его времени. В эпоху повсеместной борьбы новых сил со старыми,
традиционными формами церковной и государственной жизни политическая мысль как бы
окрыляется, решаясь подвергнуть критике все существующее с точки зрения
вечных требований разума.
Недовольный окружающей действительностью философ уходит в самого себя
и в глубине своего сознания открывает вечный, незыблемый закон права и
правды; этот закон коренится в самой природе разума, а потому имеет
общеобязательное, универсальное значение.
Вопрос о естественном праве занимал уже древних мыслителей; уже в Древней
Греции и Риме мыслители различных направлений спорили о том, коренится ли
право и справедливость в вечной природе вещей или в произвольном
человеческом установлении. Философ-скептик Корнеад47 учил, что право есть создание
человеческого произвола, что в основе его нет ничего незыблемого, вечного.
Лживость этой софистической теории, по Гуго Гроцию, изобличается
внимательным изучением природы человеческого разума. Орган разума — слово,
составляющее отличие человека от всех других земных существ, указывает на него
как на животное общественное. Разум человека может проявляться лишь в
словесном общении с другими, в союзе разумных существ, то есть в обществе.
Учения, сводящие человеческую природу к одним себялюбивым стремлениям, к
одному исканию личной пользы, игнорирует другой могущественный ее
двигатель — стремление к общению. Этот appetitus societatis, а не эгоистическая
личность служит вечной, незыблемой основой естественного права. На этом
основном стремлении Гуго Гроций путем геометрической дедукции строит все свое
учение о праве. «Как математики, — говорит он, — рассматривают фигуры
отдельно от тел, так и я в исследовании о праве отвлек мою мысль от всякого
частного факта».
В этом отвлечении от всего извне данного заключается наиболее
характеристическая черта полета новой мысли.
У Гуго Гроция естественное право уже не есть порядок, данный извне и свыше:
его источник — в самом человеке: оно есть внутреннее самоопределение его
разумной свободы. Гуго Гроций признает естественное право нормой не только для
человека, но и для самой воли Божией. Но здесь-то именно и выступает
оригинальность нашего мыслителя и его отличие от средневекового миросозерцания;
естественное право не потому обязательно, что его санкционировал Бог: оно не
утратило бы своей силы даже в том случае, если бы Бога не существовало — et si
daretur Deum non esse; не нуждаясь в какой-либо внешней санкции, оно
обязательно для Бога, потому что оно' — право; потому что оно коренится в самой
природе разумного существа. Бог не может сделать неправду правом точно так же,
как он не может сделать, чтобы 2x2 равнялось пяти.
Источник естественного права в собственном смысле, то есть права как
порядка человеческих отношений, есть «охрана общества, свойственная
человеческому разуму» ; отсюда вытекают следующие требования: воздержание от чужого,
возвращение другим того, что им принадлежит, обязательство исполнения обе-
щанногоЛвознаграждение за неправильно причиненный ущерб и, наконец,
наложение наказания за правонарушение. Право в тесном смысле сводится к воз-
^ержанию от чужого. Но организованное человеческое общество не может
довольствоваться одной лишь охраною права; оно должно заботиться о пользах
185
и нуждах своих членов, жертвуя минутными и временными удобствами для
прочных, хотя бы и отдаленных выгод. В такой заботе выражается правда в обширном
смысле этого слова, ибо свойство разума в том и заключается, чтобы не
ограничиваться одним настоящим, а предвидеть будущее, даже самое отдаленное.
Смешивая естественное право с нравственностью, Гуго Гроций понимает под тем
и другим совокупность требований, вытекающих из существа нашей разумной
природы.
Свободно-разумная человеческая природа требует соединения людей в
организованное общество, в государство. Государство для Гуго Гроция не есть порядок,
извне данный человеку природой, как у древних мыслителей; оно покоится не на
откровении, как у средневековых схоластиков. Оно создание свободной
человеческой деятельности. Свободное согласие людей выражается в договоре^ а
соблюдение договоров есть вечное предписание естественного права.
Договор как выражение человеческой свободы лежит в основе всех государств
и законодательств как необходимое их предположение; договор есть suprema lex;
в нем коренится обязательность всех вообще положительных законов.
Верховенство в государстве есть результат объединения правомочий отдельных лиц,
которые договариваются между собою о коллективном подчинении какой-либо общей
власти. Этот договор у Гуго Гроция, как и у его современника Гоббса, не есть
непременно явный, словесно или письменно выраженный, акт соглашения
отдельных субъектов. Договор как подразумевательное условие заключается в
безмолвном согласии отдельных лиц, участвующих в обществе. Оставаясь членом того
или другого общества, я ео ipso48 участвую в общественном договоре, то есть
обязуюсь не нарушать общего согласия и принимаю на себя все последствия
возможного нарушения.
Государство, составленное таким образом, есть, по определению Гуго Гроция,
«совершенный союз свободных людей, связанных ради охранения права и общей
пользы». Это определение заимствовано у Цицерона, с двумя
характеристическими для новой мысли изменениями. Слово «совершенный» заимствовано у
Аристотеля; им выражается контраст воззрения Гуго Гроция со средневековым
миросозерцанием, которое почитало в собственном смысле совершенным союзом
церковь, а не государство. Вторую характеристическую прибавку составляет
слово «свободных». Цицерон видит в государстве просто союз людей, связанных
правом и общей пользой; а Гуго Гроций признает в нем, кроме того, создание
человеческой свободы.
В согласии свободных лиц коренится сила и компетенция верховной власти.
Первоначальным носителем всех верховных прав является народ как целое.
Народ, по Гуго Гроцию, есть sùbjectum49 commune верховной власти, от которого
следует отличать subjectum proprium5^0, то есть носителя верховной власти в более
тесном смысле слова, тот управомоченный орган, на который переносится
полнота верховных прав народа. Учение об общественном договоре у корифея
новой мысли естественно связывается с учением о народном верховенстве.
Отношение народа или государства к носителю верховной власти таково же, как
отношение живого тела к каксму-либо из его органов; в зрении, например, общий
субъект есть тело, которое видит, но орган зрения есть глаз. И точно так же в
управлении государством власть, в собственном смысле слова, есть лишь орган
народовластия. ,
Из этих посылок вытекает одно неизбежное последствие, лишь наполовину
сознанное самим Гуго Гроцием, но ясно выраженное впоследствии его продолжате-
186
лями и преемниками. Повиновение верховной власти обязательно для подданных
лишь до тех пор, пока она действительно служит органом народного верховенства
и действует в пределах полномочий, предоставляемых ей общественным
договором. Как только она нарушает эти полномочия, подданные в праве отказаться от
повиновения и приобретают право сопротивления. Таковы, повторяю, логические
последствия учения об общественном договоре, которые обратились потом в
догмат естественной школы, построившейся на принципах Гуго Гроция. Другой
вопрос, насколько он сам сознал все эти последствия.
На вопрос о праве сопротивления мы находим у него противоречивые ответы.
С одной стороны, он восстает против мнения тех, которые хотят, чтобы всегда
и везде власть принадлежала народу так, чтобы народ имел право принуждать
и наказывать правителей всякий раз, как они дурно пользуются своей властью.
Сила общественного договора такова, что народ может им запродать себя в вечное
рабство государю точно так же, как в частных человеческих отношениях
допускается продажа себя в рабство. Как частное лицо может выбирать любой образ
жизни, так же точно и народ может избирать любую форму правления. Кто может
отрицать за ним право перенести на правителей всю свою власть без остатка? Народ
может быть вынужден обстоятельствами к такому перенесению в тех случаях,
например, когда он неспособен к самоуправлению или когда постоянная опасность
извне требует учреждения военной диктатуры. В случае справедливой войны
государь приобретает над завоеванной страной такую же власть, как над частным
владением.
Из всего этого видно, что Гуго Гроций не сознал сам последствий собственного
своего учения. Перенося в политическую область понятия частного права, он сме:
шивает власть с собственностью. Не признавая народного верховенства
неотчуждаемым правом, он думает, что оно может исчерпываться одним актом
перенесения власти на государя или на династию. У него, как и у Гоббса, свобода проходит
через договор к самоуничтожению, с той, впрочем, разницей, что в отличие от
Гоббса Гуго Гроций не возводит всецелое отречение народа от власти в
необходимый и всеобщий принцип, а допускает лишь возможность такого отречения в
некоторых случаях.
Мыслитель менее последовательный, чем Гоббс, он недоговаривает свою мысль
до конца и пугается ее крайних последствий. Тем не менее эти нежелательные для
него последствия до такой степени навязываются сами собой, что и Гуго Гроций не
в состоянии вполне закрыть на них глаза. Он то отрицает право сопротивления
подданных государя, то вновь вводит это право для тех случаев, когда государь
нарушает закон Божий и естественный. В тех случаях, когда правление монарха
угрожает безопасности подданных!, следует прибегнуть к толкованию того
первоначального договора, в котором народ выразил свою волю: трудно себе представить,
чтобы народ, устанавливая власть, вместе с тем обязался скорее умереть, чем
оказывать сопротивление. Таким образом, восставая в принципе против права
сопротивления, Гуго Гроций допускает такие исключения, которыми ниспровергается
правило.
У Гуго Гроция обнаруживаются как достоинства, так и недостатки
рационалистической, или так называемой естественной, школы философии права. Великая
заслуга ее заключается в том, что она предъявляет требования разума к
существующим в действительности отношениям общественным и политическим.
Естественное право как совокупность требований разума является в истории мощным
двигателем, без коего невозможен никакой политический прогресс, никакое об-
187
щественное развитие. Прогресс в сфере права возможен лишь при том условии,
если правосознание общества не исчерпывается положительным, действующим
правом, если человек не преклоняется перед фактом как фактом, перед
действительностью как таковою. Критическое отношение к существующему возможно
лишь поскольку мы обладаем в нашем сознании нормой должного, отличного от
существующего^
В рационалистическом направлении Гуго Гроция и естественной школы есть
элемент истины. Но поскольку рационалистическая школа принимает этот
элемент, эту сторону истины за всю истину, постольку она должна быть признана за
направление одностороннее и, в своей исключительности, ложное.
Рационалистическое направление не признает ничего исторически сложившегося, ничего
данного извне; историческая действительность для нее имеет право на существование
лишь поскольку она с геометрической необходимостью вытекает из требований
разума. В этом пренебрежении к действительности, в этом игнорировании
исторического опыта заключается великий грех исторической школы — ее
односторонность. Попытка вывести, как геометрическую теорему, все здание человеческого
общества из одних требований разума так же несостоятельна, как и
противоположна этому попытка вывести общество из одних чувственных влечений
личности. Естественная школа берет за основание не конкретную природу человеческой
личности, как она существует в действительности, она исходит из отвлеченного
понятия свободно-разумного существа. Она имеет дело не с действительными
людьми, а с отвлечениями рассудка. В действительности человек есть создание
определенных исторических условий, известной конкретной обстановки. Человек
никогда не был наблюдаем в изолированном состоянии вне общественной среды,
которая разнообразится соответственно с различными условиями места и
времени. Политическая наука должна принять во внимание как требования разума, так
и разнообразие исторической действительности.
Естественная школа, я повторяю, грешит тем именно, что она игнорирует
конкретные исторические условия и постольку является миросозерцанием
антиисторическим; она берет за основание своих построений личность, изолированную,
взятую вне связи с обществом как историческим целым, и считается лишь с
отвлеченными требованиями разума; но такая личность уже не есть конкретный факт,
а искусственное построение, результат отвлечения. Так точно геометрия имеет
дело не с действительными физическими телами, а с телами искусственными,
геометрическими. И, как в физике, одной геометрической дедукции недостаточно
для того, чтобы вывести физические свойства тела, так же точно в политической
науке одним геометрическим методом мы не выведем разнообразных свойств
общественного организма. !
Декарт и Спиноза
Параллельно с Гуго Гроцие^ его младший современник Декарт (1596-1650)
борется в том же направлении за предприятие еще более грандиозное. Он совершает
в чистой философии ту же реформу, которую совершает Гуго Гроций в более
тесной области философии права. К$к Гуго Гроций в своем учении об обществе,
точно так же и Декарт во всем своем философском учении отвлекается от всего извне
данного, от всяких предвзятых понятий о действительности. Он начинает с уни-
188
версального сомнения во всем существующем; он сомневается в достоверности
свидетельства наших чувств, в достоверности всех унаследованных понятий и
воззрений. De omnibus dubito51 — такова исходная точка декартовской философии.
Но в этом универсальном сомнении остается один непоколебимый и безусловно
достоверный для меня факт — это само мое сомнение, само движение моей мысли,
которая сомневается. Я сомневаюсь, я мыслю, следовательно, я есмь. Cogito, ergo
sum — таков второй шаг декартовской философии, которым она освобождается от
сомнения и приобретает достоверное знание. Этот переход от de omnibus dubito
к cogito, ergo sum не может считаться новостью в истории человеческой мысли.
За двенадцать с лишком веков до Декарта блаженный Августин точь-в-точь таким
же образом вышел из сомнений древней скептической школы. Ново только то
употребление, которое сделал Декарт из приобретенного таким образом достоверного
факта сознания. Для Августина это наше человеческое cogito обращается в
свидетельство о другом абсолютном божественном сознании, в котором я нахожу свой
центр. Для Августина его cogito не есть безусловное и высшее мерило истины.
Над человеческим разумом есть высшее мерило — божественное сознание, и
человек находит путь к истине лишь поскольку его разум через посредство авторитета
приобщается к этому высшему сознанию и соединяется с ним.
Напротив, у Декарта наше cogito становится высшим мерилом достоверности
всего существующего. Законы вселенной приобретают для меня достоверность
лишь поскольку они выводятся из законов моей мысли или содержатся в них. Во-
первых, моя мысль удостоверяет меня в моем собственном существовании. Во-
вторых, я нахожу в моей мысли множество общих понятий, которые почерпнуты
мною не из опыта, связаны с самою природою мысли, врождены ей и постольку
достоверны. «Я считаю все то истинным, — говорит Декарт, — что я воспринимаю
ясно и раздельно». Изо всех этих понятий, неотделимых от нашего сознания,
в особенности ясно выделяется одно, именно понятие бесконечного, всереальней-
шего и совершенного существа Бога. Из самого существования в нас понятия
такого существа вытекает его действительное существование; ибо к числу
признаков всесовершеннейшего существа Бога принадлежит бытие: следовательно, Бог
существует. Другое доказательство бытия Божия заключается в том, что
присущая нам идея совершенного и бесконечного не может быть продуктом
воображения существа конечного, как человек. Она может быть только созданием
существа действительно бесконечного и совершенного, которое влагает в наше сознание
эту идею. Достоверность вещественного мира также косвенно выводится
Декартом из природы нашей мысли. Я ясным и очевидным образом воспринимаю
внешний материальный мир и не могу отделаться от впечатления его реальности. Если
бы мое сознание этого вещественного мира было только миражом или обманом,
то нужно было бы прийти к тому заключению, что Бог допускает такой обман или
что Он является его виновником. Но то и другое невозможно: следовательно,
телесный, вещественный мир действительно существует. Таким образом, получаются
три основных понятия декартовской системы: понятие мыслящей субстанции,
понятие протяженной субстанции и, наконец, понятие Бога как бесконечной
субстанции. ,
Во всей этой дедукции для нас имеет лишь второстепенное значение
состоятельность отдельных доказательств; гораздо большее значение имеют здесь для
нас методологические приемы Декдрта. Бытие Бога и бытие внешнего мира,
по Декарту, приобретают для меня достоверность, лишь поскольку то и другое
прямо или косвенно выводятся из моего cogito. За основание берется единствен-
189
ный абсолютно достоверный принцип моего самосознания; все познание
выводится из этого основного принципа, как ряд геометрических теорем. На трех
названных основных понятиях Декарт возводит все здание своей системы; все свойства
вещественного мира выводятся им из протяжения, вся душевная деятельность —
из мышления, вся деятельность Божества — из его совершенства и
бесконечности. При этом философия Декарта сталкивается с одним главным затруднением.
Если наш внутренний мир сводится к одной мысли, а материальный мир — к
одному протяжению, то каким образом возможно объяснить воздействие мысли
абсолютно непротяженной на протяженную субстанцию-материю. Каким образом
в человеке могут сочетаться эти два элемента, как может наша чистая
непротяженная мысль производить чисто физическое движение членов нашего тела. Это
движение не может быть объяснено ни одним мышлением, ни одним
протяжением. Чтобы объяснить этот факт, Декарт и его последователи прибегают к третьей,
бесконечной субстанции, которая своим вмешательством производит в нас
согласие духа и тела; взаимодействие мысли и вещества объясняется воздействием
Божества, которое по поводу движений мысли производит в нас движение нашего
тела и подчиняет последнее нашему разуму.
Но такое объяснение возможно лишь при условии совершенного подчинения
как материального, так и телесного мира Божеству, при котором Божество
является производящей причиной как механических движений тел, так и внутренних
процессов нашей мысли. Отсюда само собою напрашивается такое заключение:
мышление и протяжение не суть самостоятельные субстанции, они суть не более
как проявление третьей, бесконечной субстанции, которая рождает из себя все
существующее, то есть как явления мысли, так и явления протяжения. К такому
заключению приходит классический представитель рационалистического
направления в XVII веке, амстердамский философ еврей Бенедикт Спиноза (1632-1677).
Подобно Декарту, он строит свою систему more geometrico52; для него только
то существует реально, что может быть математически доказано; геометрия
выводит свои теоремы из первоначальных аксиом, которые служат основой для целой
цепи умозаключений. Так же точно философия Спинозы исходит из одного
первоначального предположения бесконечной субстанции, которая всему служит
производящей причиной и основой. Из природы этой субстанции также логически
вытекает природа вселенной, как из свойств треугольника равенство его углов
двум прямым. Само предположение бесконечной субстанции берется Спинозою не
произвольно: это одно из тех предположений, которые неразрывно связаны с
природой нашего сознания и к которому привела последовательно развитая
декартова философия. В нашем опыте мы находим только бытие ограниченное,
обоснованное; но самое понятие бытия ограниченного, обусловленного предполагает
нечто такое, что служит всему существующему причиною и основой — бытие
абсолютное, которое само по себе служит началом и причиной и дает
существование всему остальному. Самое бытие конечных вещей возможно лишь поскольку
существует бытие бесконечное; самое понятие границы предполагает нечто
безграничное.
Такова логическая природа, нашего сознания. Но для Спинозы логическое —
тоже нечто реальное. Если бесконечное бытие логически обусловливает природу
нашего сознания, то по тому самому оно есть. Раз допущено бытие бесконечной
субстанции, из него вытекает цецый ряд логических последствий. Бесконечная
субстанция, обнимающая все собою, не терпит рядом с собою другого
самостоятельного существа. Она едина, ибо в противном случае она была бы ограничена
190
каким-либо другим бытием. Она не терпит никакой внешней границы, и поэтому
она есть все; все конечные существа, которые мы наблюдаем в нашем опыте, суть
лишь проявления этой единой основы бытия, или же, как выражается
Спиноза, — модусы единой бесконечной субстанции. Как бесконечное пространство
содержит в себе возможность бесконечного множества геометрических фигур, так
же точно бесконечная субстанция Спинозы содержит в себе возможность
безграничного множества существ. И как геометрические фигуры суть лишь
видоизменения единого пространства, которое содержит в себе их всех, так же точно все
реальные существа содержатся единой субстанцией и должны рассматриваться как
ее видоизменения. Как существо всесовершенное, бесконечная субстанция есть
Бог; рассматривая все существующее как проявление Бога, философия Спинозы
отождествляет Бога с миром в его единстве; иначе говоря, она характеризуется
как совершенный пантеизм.
Основное понятие этой философии — Бог как творящая природа — Deus, sive
natura. Как свойства пространства вечны и неизменны, оно всегда о трех
измерениях — сумма углов треугольника всегда равна двум прямым, так же точно
и в природе бесконечной субстанции от века даны свойства мироздания. Мир не
возник во времени и не может в нем кончиться; он вечно вытекает из природы
субстанции как вечное ее проявление. Бог есть производящая природа — natura
naturans; конечные вещи, напротив, суть природа, им произведенная или
осуществленная, — natura naturata. Как единое пространство имеет вечные свойства —
три измерения, так же точно и Бог, будучи един, обладает бесконечным
множеством качеств, или атрибутов; что это так, следует из самого понятия существа
безграничного. Но в качестве ограниченных существ мы можем познать лишь те из
атрибутов субстанции, которые мы находим в нас самих и в доступном нам
внешнем мире. Здесь мы различаем две вечные формы бытия: мышление, свойственное
разумным существам, и протяжение, свойство тел, cogitatio et extensio. Таковы
два доступных нам атрибута Божества: оно есть res cogitans и res extensa53.
Протяжение и мышление не суть самостоятельные субстанции, как три измерения —
свойства пространства; но как вечные свойства эти атрибуты субстанции должны
быть отличаемы от единичных вещей, или модусов, которые суть преходящие
явления. Так точно отдельные фигуры в пространстве возникают и исчезают, но три
измерения пребывают вечно.
По другим основаниям, нежели Гоббс, Спиноза приходит к одинаковому с ним
результату — к отрицанию целесообразного порядка в мироздании. Не имея
ничего вне себя, Бог не может и стремиться к какой-либо цели, ибо самое понятие
цели предполагает нечто ему внешнее. Отдельные вещи существуют не потому, что
они служат ему целью, а потом^, что они с геометрической необходимостью
вытекают из его природы; как относительно геометрических фигур неуместен вопрос
для чего, для чего, например, сумма квадратов катетов равна квадрату
гипотенузы, так же точно относительно всех вещей нелепо спрашивать, для чего они
существуют так или иначе. Вечная природа субстанции управомочивает нас лишь на
вопрос, почему они так существуют, то есть на вопрос о производящей причине,
а не о цели вещей. ,
Этот же метод применяется Спинозой и к изучению человека и человеческого
общества. «Я буду исследовать человеческие действия и страсти, — говорит он, —
совершенно так, как если бы речь щла о линиях, плоскостях и телах». *Я
старался, — читаем мы в первой главе „Tractatus politicus"54, — рассматривать все
относящееся к политике с той же свободой духа, с какой мы изучаем математику,
191
то есть не смеяться над ними, не оплакивать или ненавидеть их; моя задача
заключается в том, чтобы их понять». Подобно Гоббсу, Спиноза берет за основание
своего учения об обществе свойственное человеку стремление к самосохранению.
Но у Гоббса это — эмпирический факт, взятый из наблюдений и не требующий
высшего метафизического обоснования. Напротив, у Спинозы стремление к
самосохранению, как и всякий другой факт действительности, признается
достоверным лишь поскольку оно логически выводится из общих метафизических начал
его системы. Человек — ограниченный модус бесконечной субстанции, вещь
между вещами. Каждая вещь выражает в себе определенным образом часть
божественной силы и могущества, посредством которого она существует и действует.
В понятии каждой вещи не заключается ничего противного ее природе, ничего
такого, что бы могло способствовать ее уничтожению. Поэтому, в силу самого
своего понятия, каждая вещь стремится пребывать в своем существовании, и в этом
самоутверждении заключается сущность каждой вещи; каждая вещь выражает
свою природу в сохранении определенной формы, и сущность человека также
выражается в сохранении себя как человека.
Подобно Гоббсу, но по другим основаниям, Спиноза отрицает существование
абсолютного добра и зла. Добро и зло суть понятия, приложимые лишь к
свободным существам, которые могут выбирать свободно тот или другой образ действий.
Где существует геометрическая необходимость, там о добре и зле в абсолютном
значении этого слова не может быть и речи; как относительно геометрических
фигур нельзя сказать, что одни из них лучше, другие хуже, точно так же нельзя
относиться с похвалой или порицанием к человеческим страстям и действиям,
которые необходимы одинаково с свойствами геометрических тел. Человеческие
действия, поскольку они логичны, вытекают из стремления к самосохранению,
не могут признаваться добрыми или дурными, ибо человек так же мало может
отрешиться от этого стремления, как камень, падающий с высоты, остановиться
в своем падении. Можно говорить о добре и зле в условном, относительном
значении слова. Для каждой вещи добром должно признавать то, что способствует ее
сохранению, злом, напротив, то, что ведет к ее уничтожению.
Если можно говорить об естественном праве, то лишь в том смысле, что
самосохранение есть единственное прирожденное человеку право. Каждый по природе
имеет настолько права, насколько он имеет силы, чтобы сохранить и
поддерживать свое существование.
Так как это стремление и это право всем свойственно, то люди неизбежно
сталкиваются между собою в борьбе за существование. В согласии с Гоббсом, Спиноза
учит, что по природе люди — враги, что человек человеку — волк, что
естественное состояние есть bellum omnftim contra omnes. Так же, как Гоббс, Спиноза
признает, что это состояние не может себя поддерживать, так как оно ведет ко
всеобщему взаимному уничтожению, то есть противоречит в конце концов инстинкту
самосохранения. Так же, как Гоббс, он выводит из стремления к самосохранению
необходимость перехода из естественного в государственное состояние. Но здесь-
то именно и сказывается разница между двумя мыслителями. Гоббс представляет
себе этот переход из одного состряния в другое в виде всеобщего перенесения прав
отдельных личностей на власть. Спиноза понимает противоречие,
заключающееся в таком перенесении. Для него естественное право есть вечный и непреложный
закон природы, неотчуждаемое сврйство человеческого существа, которое не
может быть уничтожено никакими искусственными соглашениями. Законы нашего
естества всегда те же, независимо от того, живем ли мы в государстве или нет.
192
«Разница между мною и Гоббсом, — пишет Спиноза, — заключается в том, что я
всегда сохраняю невредимым естественное правой измеряю право властей в
отношении к подданным в точном соответствии с их силами». Эмпирик Гоббс видит
в естественном праве личности простой факт, который может быть уничтожен.
Рационалист Спиноза признает в нем геометрическую необходимость против
правителей. В государственном состоянии человек следует тем же влечениям,
страстям и надеждам, что и в состоянии естественном, с той разницей, что здесь все
боятся одного и того же — власти, и потому все вообще принимают за правило^
и норму поведения безопасность общую. Естественные границы власти
определяются самой целью ее установления: она установлена для охраны естественного
права подданных, ради их сохранения, и потому она обязана уважать эти права.
Гоббсово государство, где произвол одного лица господствует вместо закона, не
соответствует идеалу государственного состояния в том смысле, как его понимает
Спиноза. В сущности, это лишь видоизмененное естественное состояние, где один
взял верх над всеми. Истинное государственное состояние выражается в господст-
ве закона над всеми, в юридической равноправности всех лиц, при которой
каждое из них обладает строго ограниченной сферой прав. Здесь юридическое
значение лица в государстве определяется его метафизическим значением в строе
вселенной. Ограниченный модус бесконечной субстанции, человек не может
иметь безграничной власти над своими ближними, которые имеют одинаковое
с ним право на существование. Как в природе все подчинено вечным законам
единой субстанции, так и в человеческом обществе закон государства подчиняет себе
всех, и ни одно лицо не должно быть поставлено выше закона.
Так нее, как Гоббс и Гуго Гроций, Спиноза выводит государство из договора.
Но у него особенно резко выделяется фиктивный характер этого договора.
Государственное состояние следует за естественным не в хронологической, а в
логической последовательности; эти два состояния не чередуются исторически, а
логически вытекают одно из другого: договор логически вытекает из естественного
инстинкта самосохранения. Этот инстинкт совпадает с требованием власти:
Imperii jus nihil est praeter ipsum naturae jus55. Естественное право личности в
государстве сохраняется, но ограничивается. Принуждение со стороны власти
должно простираться только на то, что может быть вынуждено, то есть на
действия подданных, а не на их внутреннее настроение; притом и во внешней сфере
человеческих действий принуждение должно ограничиваться пределами,
необходимыми для государственного порядка. Внутренняя, недоступная
принуждению область мысли выражается в философии, религии, науке. Покушаясь на
эту область человеческой деятельности, государство нарушает естественное право
и тем самым подрывает собственное свое существование. В особенности религия
должна быть свободною; государство не должно вмешиваться в отношение
человека к Богу; религия не должна ни господствовать в государстве, ни служить ему
орудием.
Идеал Спинозы есть правовое государство, в котором власть служит органом
общей воли. Смотря по тому, кто является носителем верховной власти в тесном
смысле слова: одно лицо, группу лиц или весь народ, государство может быть
монархией, аристократией и демократией. Каждое из них может быть
правомерным, если в нем господствует закон, а не произвол правящих. Господство закона
служит Спинозе мерилом при оценке различных форм правления. Понятно, что
его симпатии тяготеют к той форме правления, которая наиболее приближается
к осуществлению идеала всеобщей равноправности — к демократии.
7 3ак Л>911 193
Так как естественное право совпадает с силой, то наиболее сильным и потому
наилучшим государством будет то, которое объединяет в себе наибольшее
количество сил. Но объединение выражается в согласии и единомыслии граждан;
поэтому наилучшим будет то государство, которое служит выражением такогоеднно-
мыслия народных масс, а именно демократия; в монархии и аристократии нет
такого равенства прав, они в меньшей степени служат выражением коллективной
воли народа. Поэтому в раннем своем сочинении, в «Богословско-политическом
трактате» Спиноза прямо высказывается в пользу демократии как наисовершен-
нейшейформы правления. Здесь он говорит, что он всего больше посвятил
внимания исследованию демократического образа правления, так как он наиболее
согласен с природой и наиболее приближается к осуществлению той свободы,
которую природа дала каждому, «ибо в этом образе правления, — продолжает
Спиноза, — никто не переносит своего естественного права на другое лицо так,
чтобы ему не оставалось никакой доли в совещании об общих делах; но каждый
человек переносит свое право на большинство общества, коего сам он составляет
часть». И при таком устройстве все остаются равными, как прежде в естественном
состоянии: «Чем меньше люди пользуются свободой суждения, тем больше они
удаляются от естественного состояния — и, следовательно, тем более правление
имеет насильственный характер». Свобода личная, принадлежащая всем людям
в естественном состоянии, то есть право на все, не совместимо с государственным
состоянием и, следовательно, с какой бы то ни было формой правления. Но в
демократии эта свобода получает наибольшую компенсацию, которая является
в форме свободы политической, — в праве коллективного участия в общих делах.
В позднейшем сочинении, «Tractatus politicus», Спиноза несколько более
склоняется к образу правления аристократическому. Демократия в идее остается для
него наилучшей формой правления, но на практике осуществление ее встречается
с многочисленными затруднениями; порядок легче сохраняется в монархии
и аристократии, нежели в демократии, где борьба партий делает все непрочным
и служит элементом неустойчивого равновесия. При всяком образе правления
возможно такое устройство, при котором воля правителей сдерживается законом,
обеспечивающим безопасность подданных.
Подробности устройства отдельных форм правления мы здесь должны
опустить частью за недостатком времени, частью же потому, что они представляются
сравнительно менее интересными; здесь мысль Спинозы, не сдержанная
политическими преданиями прошлого, вдается в фантастические мечтания, неизбежные
потому, что применение одного геометрического метода без твердого руководства
исторического опыта неизбежно ведет к построениям фантастическим и
искусственным.
Во всем изложенном нами учении нетрудно заметить одно капитальное
противоречие. С точки зрения основных принципов метафизики Спинозы, все
устройство человеческих обществ и государства, как мы уже видели, с геометрическою
необходимостью вытекает из природы вечной субстанции и из свойств отдельных
лиц — ее модусов. С этой точки зрения нельзя говорить о каких бы то ни было
идеалах нравственных или политических, о лучшей или худшей форме правления.
Если свойства политических тел столько же непреложны, как и свойства
геометрических фигур, то как же можно говорить о том, которая из них лучше или
хуже? Как можно вообще применить *с ним какие бы то ни было идеальные
требования? Идеальные требования предполагают человеческую волю, свободную их
исполнить или не исполнить. Если человек так же мало способен изменить свой
194
образ действий, как камень — воспротивиться законам тяготения, то как же мож^
но обращаться к людям с какими бы то ни было пожеланиями или советами?
Если формы правления суть необходимый результат человеческой природы,
которая не может быть иною, чем она есть на самом деле, то они не могут измениться,
не могут стать лучше или хуже. Когда Спиноза говорит в «Богословско-политиче-
ском трактате» о демократической форме правления как о наиболее
соответствующей вечным законам природы, он впадает в явное противоречие с самим собою.
Законы природы господствуют с непреложной необходимостью, и, следовательно,
в действительности не может быть ничего им противоречащего; нельзя говорит^
чтобы одна форма действительности соответствовала им более, а другая — менее.
Если люди по природе враги, то соединение их в общежитии есть дело
невозможное, если они по природе не могут не повиноваться естественным влечениям,
то как же можно требовать от них, чтобы они сдерживали свои влечения разумом?t
Учение Спинозы представляет собою наиболее чистый образчик
геометрического метода, наиболее последовательную геометрическую конструкцию
человеческого общества. Если последовательное применение этого метода к учению об
обществе при той железной силе логики, которая составляет отличие Спинозы,
приводит к таким противоречиям, то это указывает на односторонность и
постольку на несостоятельность этого метода, на невозможность превращения науки об
обществе в математическую конструкцию.
Джон Локк (1632-1704)
Одновременно со Спинозой, в 1632 году рождается один из крупнейших
представителей противоположного, эмпирического направления, английский
философ Джон Локк. Великие события английской истории в XVII веке
олицетворяются рядом крупных теоретиков-философов. Английская революция нашла себе
классического выразителя и представителя в лице великого поэта Мильтона.
За казнью короля Карла I и республикой Кромвеля последовала реставрация
династии Стюартов. Защитником притязаний последних, апологетом
консервативной реакции явился, как мы уже знаем, Томас Гоббс. Наконец, в 1689 г., в год
свержения последнего и худшего короля из династии Стюартов, Иакова II,
появились два знаменитых трактата Джона Локка: «Опыт о человеческом понимании»
и «Трактат о правлении», в которых как бы резюмируются результаты
английской революции, формируются добытые ею принципы.
Учение Мильтона олицетворяет собою самый разгар английской революции
и выражает собою миросозерцание секты индепендентов, свергших Карла I.
Локк, напротив, стоит на конце революционного периода и завершает его собою.
Если мы сопоставим учение этих двух теоретиков революции, то увидим, что
различие между ними совершенно соответствует различию эпох, которые они
собою олицетворяют. Мильтон пишет апологию казни Карла I, апологию
революции и формулирует программу, которую ей предстоит исполнить. В эпоху Локка
революция представляется уже закончившимся движением, свершившимся
фактом, и Локк подводит ей итоги. Трактаты Мильтона не суть научные
произведения, это страстные политические цамфлеты, в которых революционная проповедь
соединяется с фанатизмом борьбы и с религиозным фанатизмом секты. Локк,
напротив, — спокойный теоретик, который облекает революционные идеи в науко-
195
образную форму. У Мильтона революция — сама жизнь и страсть. У Локка она
превращается в научную систему. Не обладая пламенным красноречием
Мильтона, Локк выгодно отличается от своего предшественника тем, что он имеет за
собою почти полувековой опыт английской революции; отличительная черта
политических трактатов Мильтона — юношеский задор. Трактаты Локка выражают
собой зрелый возраст английской революции. Мильтон противополагает
королевским привилегиям смелую защиту народных прав. Локк не довольствуется одной
отвлеченной формулировкой этих прав. Он занят, кроме того, вопросом о
конституционных гарантиях, об учреждениях, коими сдерживается в границах
королевский произвол; он имеет перед собою образцы в современных ему учреждениях;
он формулирует и возводит в теорию принципы, раньше того выработанные
самою жизнью, самой конституционной практикой Англии. Мильтону королевская
власть представляется кумиром, идолом, который нужно повалить. Локк видит
в ней один из элементов государственной жизни, который должен быть обставлен
конституционными учреждениями, введен в свои естественные границы и при
этом условии может служить на пользу общества. У Мильтона мы находим
анархическую проповедь, у Локка — конституционный идеал. Как мы увидим
впоследствии, и учение Локка не вполне освободилось от анархического элемента;
но у Локка этот элемент оттеснен на задний план, между тем как у Мильтона он
господствует.
В борьбе с революционными теориями Гоббс, как мы видим, опирался на опыт.
Чтобы бороться с его направлением, мало одних отвлеченных рассуждений
о врожденной человеку свободе. Опыт реакционный может быть побежден только
опытом конституционным.
Локк является в роли представителя последнего. Подобно Гоббсу, он эмпирик,
прямой последователь Бэкона. Бэкон ставил непременным условием познания
отрешение рассудка от всяких предвзятых понятий. Если все познание, все наши
понятия приобретаются единственно посредством опыта, то до опыта
человеческий рассудок свободен от всяких понятий, от всякого положительного
содержания. Он есть чистое поле, которое предстоит засеять, или, говоря словами Бэкона,
intellectia abrasus56. В этом результате бэконовской философии заключается
исходная точка учения Локка. Если весь материал нашего познания черпается
исключительно из опыта, то в рассудке нашем нет никаких врожденных идей. Мы
не рождаемся с какими бы то ни было идеями: мы постепенно их приобретаем.
До опыта наше сознание есть tabula rasa57, то есть белый, неисписанный лист,
на котором можно писать что угодно; «наша душа подобна темному месту,
которое, как бы сквозь некоторые отверстия, воспринимает в себя образы из внешнего
мира и обладает силою, чтобы их в себе удерживать».
В этом пункте Локк резко расходится с Декартом и его школой. Декарт
выводит все существующее из врожденных человеку идей. Локк, напротив,
доказывает, что если бы такие идеи существовали, они бы всеми одинаково сознавались.
Между тем мы видим, что отвлеченные аксиомы, которые всего чаще
признаются врожденными человеческому уму истинами, не сознаются людьми
некультурными, детьми и дикарями, следовательно, они не врождены, а приобретены.
Против Декарта, который не отличал врожденное от сознательного, это
возражение Локка должно быть признано справедливым. Должно ли оно быть признано
справедливым вообще, этого вопроса мы здесь не станем предвосхищать до
изложения воззрений Лейбница против Локка, с которыми мы впоследствии
познакомимся.
196
Сводя все познание к опыту, Локк, однако, понимает опыт шире, нежели
Гоббс. Последний сводит весь опыт к впечатлениям наших чувств. Локк,
напротив, учит, что наряду с опытом внешним существует опыт внутренний. Наряду
с впечатлениями наших органов чувств, доставляющих нам знание о внешнем
мире, существует еще и внутреннее чувство — рефлексия, посредством которой мы
знаем о себе, о нашем внутреннем мире. Последняя поправка к учению Гоббса
представляет собою чрезвычайно важное приобретение. Если человек знает о себе
только через внешние чувства, которые соприкасаются лишь с вещественным
миром, то он составляет лишь частное явление этого внешнего мира: он вещь между
вещами. Между тем внутреннее чувство открывает нам в нас самих иную,
самостоятельную сферу, которая не может быть сведена на одни чувственные
впечатления. Положим, наша рефлексия, наше внутреннее чувство может действовать
(по Локку) лишь по поводу впечатлений наших внутренних чувств. Чтобы
сознавать себя, утверждает Локк, мы нуждаемся во внешнем возбуждении. Мы не
можем сознавать себя иначе, как противополагая себя внешнему, чувственно
воспринимаемому миру. Но внешние чувства здесь играют роль только повода, они
не могут дать исчерпывающего объяснения нашего самосознания.
Так как опыт сводится к одним впечатлениям чувств внутреннего и внешнего,
то мы можем познавать лишь эти впечатления, а не самую сущность вещей. Мы
познаем вещи, как они являются нам, а не как они существуют на самом деле.
Мы можем сказать: этот предмет бел или красен, он приятен на вкус; но все
это — только наши впечатления. Мы не можем знать, каковы суть вещи сами в
себе, независимо от нашего представления о них. Мы познаем одни лишь явления^,
а не субстанции.
Однако в этом пункте Локк не остается вполне последовательным; он
различает между первичными качествами вещей, которые суть свойства самой
объективной действительности, и вторичными их качествами, которые суть лишь наши
субъективные впечатления. Первичные качества суть те, с отнятием коих
уничтожается самая вещь, вторичные, напротив, только случайные свойства вещей,
которые присущи им лишь в отношении к воспринимающему субъекту. Случайно,
например, то, что я слышу звук скрипки или вижу ее красный цвет, без коих
скрипка отлично может существовать. Напротив, если мы отнимем от скрипки ее
протяжение, величину, форму, способность передвижения в пространстве,
число — то мы уничтожим самую природу вещи. Все это, следовательно, первичные
качества вещей. Впоследствии на долю Канта выпала задача показать, что и эти
так называемые первичные качества суть не более как формы представления,
способы являемости вещей, а не с|войства сущности вне представляющего субъекта
и независимо от него.
В учении об обществе междУ Гоббсом и Локком сказывается та же разница, что
и в учении о сознании. Сознание, по Гоббсу, определяется исключительно
чувственными впечатлениями; нравственная деятельность объясняется чисто
материальными, чувственными влечениями. У Локка к чувственным впечатлениям
прибавляется внутреннее чувство, рефлексия, а путем рефлексии мы находим
в нашем внутреннем мире не одни чувственные влечения, а, кроме того, еще и
социальные стремления и инстинкты. Естественное состояние не есть всеобщая
вражда, люди по природе не враги, а друзья. По природе люди равны как особи
одного и того же человеческого рода; природа не дала какой-либо одной особи
преобладания над другими; ибо ни один человек не отличается от рождения от других
людей такими особенностями, которые бы указывали на него как на лицо, пред-
197
назначенное к господству. По природе каждый из нас ограничен всеми другими
людьми. Состояние войны, в котором одни люди стремятся к господству над
другими, противоречит естественному состоянию. Последнее, по Локку, не есть
право на все: Локк понимает естественное состояние как свободу, ограниченную
естественным законом, иначе говоря, как свободу, ограниченную всеобщей
равноправностью. Это то состояние, когда люди не связаны между собой общей
властью, стоящей над всеми. Так, правители отдельных государств во взаимных
отношениях всегда находятся в естественном состоянии, за отсутствием
международной власти, стоящей над отдельными государствами.
В естественном состоянии соблюдение норм естественного права не обеспечено;
из необходимости охранения естественного права Локк выводит необходимость
подчинения отдельных лиц государственной власти; но в этом-то пункте между
Локком и Гоббсом сказывается самая резкая разница. Гоббс видит в государстве
внешнюю силу, которая сдерживает эгоистические влечения личности. Вместо
всеобщего взаимного пожирания, государство, как чудовище Левиафан, все
пожирает, поглощая в себе полномочия отдельных лиц. Государство Локка не есть
Левиафан; оно создается и существует для охранения правомочий,
принадлежащих каждому индивиду в естественном состоянии для охранения границ,
положенных природой каждому. Государство не создает этих естественных прав, а
потому и не может их уничтожить; оно только берет их под свою защиту. Оно
существует в силу договора, — в этом пункте Локк совершенно согласен с Гоббсом
и рационалистическим направлением естественной школы.
Каковы же, спрашивается, права, принадлежащие человеку по природе? Это,
как мы уже видели, права на свободу в известных границах, право на жизнь,
следовательно, право на защиту против чужих владений; с этим правом Локк
соединяет право наказывать преступников. В государственном состоянии последнее
право составляет принадлежность власти; но в естественном состоянии, при
отсутствии власти, каждому принадлежит обязанность и право заботиться о
сохранении всего человеческого рода и, следовательно, наказывать преступления,
направленные против кого-либо из ближних.
Из всех прав, принадлежащих человеку раньше установления государства,
наряду со свободой особенно важное значение имеет собственность. Эти два
принципа: индивидуальная свобода и индивидуальная собственность служили, можно
сказать, двумя центральными пунктами борьбы в эпоху английской революции.
Короли Стюарты считали себя вправе распоряжаться по произволу тем и другим:
они лишали людей свободы без законного суда и облагали их податями без
согласия парламента. Право народных представителей вотировать подати вытекает из
права собственности, принадлежащего всем; едва ли не главная вина Стюартов
заключалась в нарушении этого'права.
Поэтому вопрос о собственности в английских политических теориях XVII
века играет первостепенную роль. Гоббс, защитник королевских притязаний,
утверждает, что собственность есть создание государства; поэтому король как
представитель верховной власти в государстве имеет право безгранично и
бесконтрольно распоряжаться имуществом своих подданных. Понятие о
неприкосновенном праве собственности, с точки зрения Гоббса, есть революционный принцип.
Напротив, по Локку, это право составляет естественную границу государственной
власти, которую последняя не должна нарушать.
Основание собственности есть труд. « Пусть земля и низшие твари составляют
общее достояние, — говорит Локк, — тем не менее каждому человеку принадле-
198
жит особенное право над самим собою. Труд его, дела его рук суть, можно сказать,
его собственное добро. Все, что человек извлекает из естественного состояния
своим трудом и искусством, принадлежит ему одному; ибо поскольку это его
собственный труд и искусство, никто другой не имеет права на приобретенное этим
трудом и искусством, в особенности если на долю других людей остается множество
подобных и столь же годных для пользования вещей».
Бесспорная заслуга Локка заключается в том, что он первый усмотрел в труде
основание собственности; недостаток его теории заключается в том, что он
упустил из виду другое основание этого права — завладение вещами, никому не
принадлежащими .
Таковы естественные права, нуждающиеся в охранении государства. Теперь
спрашивается, как же должно быть устроено само государство, чтобы стоять на
высоте своей задачи? В ответ на этот вопрос Локк формулирует теорию
конституционных гарантий против королевского произвола, теорию, действительно
получавшую практическое осуществление в современной ему Англии и развитую
впоследствии с еще большим блеском Монтескье. Я говорю о знаменитой теории
разд еленияв ласти.
Променять естественное состояние на неограниченную монархию, по Локку,
так же безумно, как отдать себя в когти льва, чтобы избежать нападения лисиц.
В государстве должна господствовать воля общая, коллективная, а не
единоличная. Но коллективная воля выражается прежде всего в законах, нормирующих
общий порядок. Высшая власть в государстве есть, следовательно, власть
законодательная. Наряду с законодательною властью должна существовать, кроме того,
и власть исполнительная, которая применяет закон к частным случаям;
законодательная власть не может действовать всегда и постоянно: она выражается
в сравнительно немногих актах; напротив, исполнительная власть действует
беспрерывно, приводя жизнь общества в согласие с законодательством. Наконец,
каждое государство сталкивается с другими государствами, или находясь в войне
с ними, или вступая с ними в союзы и договоры. Власть, заботящуюся о внешней
политике, Локк называет властью федеративной. Она обыкновенно соединяется
с властью исполнительной.
Эти три власти должны быть устроены так, чтобы государство
соответствовало своей цели, то есть чтобы оно обеспечивало гражданам мирное
пользование их свободой, жизнью и собственностью. Так как в государстве должен
господствовать закон, а не произвол, то высшая власть в государстве есть власть
законодательная. Государство лишь при том условии достигает своей цели,
если исполнительная власть держится в пределах, предначертанных ей
законодательством. Будучи верховною законодательная власть, однако, не может
быть безграничною. «Законы1 природы, — говорит Локк, — как вечные
правила всегда пребывают для всех людей, для законодателей, как и для других».
Законодательная власть не должна служить к подавлению свободы, к
уничтожению жизни и собственности граждан, так как она существует, напротив,
для охранения этих прав. Другая граница законодательной власти
заключается в том, что она должна издавать общие нормы, а не частные декреты ad hoc58!
Если мы допустим безграничное право законодательной власти издавать
сингулярные законы, то весь законный порядок должен рухнуть: ибо в таком случае
законодатель может делать изъятие из общего порядка для целой категории
лиц или даже для одного лица, и в таком случае закон никого не обеспечивает
против произвола законодателя. Законодатель не может произвольно распоря-
199
жаться собственностью граждан; но, с другой стороны, общие потребности
государства, например содержание правительства и армии, требует больших
затрат. Для этого требуется обложение собственности податями; но из
неприкосновенности права собственности следует, что граждане не могут быть
облагаемы без собственного своего согласия. Поэтому для обложения податями
требуется согласие, по крайней мере, большинства подданных или их
представителей.
В монархиях неограниченных одно лицо совмещает в себе три рода власти. Но,
как мы видели, неограниченная монархия не соответствует идеалу Локка, а
потому он восстает против такого совмещения: он стоит за разделение властей, при
котором единоличная власть короля является только исполнительницей решений
законодательного собрания, представляющего коллективную волю народа.
Законодательные собрания народных представителей собираются от времени до
времени и расходятся, установив законы. Власть же исполнительная и федеративная
поручаются постоянным органам.
_Локк, однако, не хочет такого полного разделения властей, которое исключало
^^возможность их согласия и единства в общем действии. Он берет за образец
устройство власти, действительно осуществившейся в современной ему английской
конституции после низвержения династии Стюартов и воцарения Вильгельма
Оранского59. С одной стороны, из самого факта подчинения исполнительной
власти следует, что она должна быть ответственна в своих действиях перед
законодательным собранием. Последнее следит за управлением и в случае надобности
смещает и наказывает представителя исполнительной власти. С другой стороны,
исполнительная власть до известной степени участвует в законодательстве.
Вместе с тем, так как закон не может всего предвидеть, исполнителям закона должна
быть предоставлена известная дискреционная власть, то есть право принимать на
свой риск и страх меры, требующиеся ради общего интереса, хотя бы на то не было
специального указания в решениях законодательного собрания. Само собой
разумеется, что затем представители исполнительной власти обязаны дать отчет
законодательному собранию в употреблении этого дискреционного права. Не
выдерживая в этом пункте установленных им самим конституционных начал,
Локк признает за исполнительной властью право самовольно нарушать самые
основы конституции, когда это требуется благом народа. Так, например, король
имеет право изменять по собственному своему почину основы избирательной
системы, как скоро эта система не обеспечивает равномерного представительства
всех классов общества в законодательном собрании. Всякий, кто исправляет
существующие учреждения в соответствии с требованиями всеобщей
равноправности, должен почитаться другом народа, говорит Локк. Король должен
почитаться преступником против естественного права лишь в том случае, когда он
нарушает конституцию не во имя народного блага, а ради собственных
эгоистических интересов.
Конституционная схема Локка не выдержана и в другом пункте. Я уже
упоминал вскользь о том, что и его учение не вполне свободно от анархических
элементов. Границы исполнительной и законодательной власти в его теории еще шатки,
а при этих условиях столкновейия между обеими этими властями неизбежны.
Спрашивается, кто же должен быта судьею между ними в случае такого
столкновения? '
Судьею остается народ, установивший власть. В случае, если законодательная
власть действует вопреки народному благу или если король злоупотребляет своей
200
прерогативой, выходит из подчинения законодательной власти и попирает закон
ради своих личных интересов, подданным не остается никакого другого
прибежища, кроме воззвания к небу. Под этим Локк разумеет не что иное, как право
вооруженного восстания подданных против власти. У Мильтона, как и вообще у
английских демократов более ранней эпохи, это право восстания неорганизованной
массы играет роль едва ли не главной сдержки и узды против тирании. У Локка
оно является как последствие несовершенства формулированных им
конституционных принципов.
В эпоху Локка английская конституция еще находится в процессе
образования. Отношения между королевской прерогативой и парламентом еще не
обладают на практике той ясностью и твердостью, какую они приобрели впоследствии.
Позднейшая практика выработала новое учреждение, кабинет министров,
который является лишь представителем парламентского большинства; при таком
устройстве всякие трения и столкновения между исполнительной властью
министров и парламентом, перед которым они несут ответственность, очень просто
разрешаются выходом министерства в отставку. В XVII веке это учреждение еще
не было выработано, и несовершенство английской конституции отразилось в
несовершенстве учения ее теоретика — Локка.
Учение Локка страдает, кроме того, и другими несовершенствами, которые
обусловливаются уже не недостатками современной ему действительности, а
односторонностью начал, принятых им за основание. Подобно Бэкону, Локк —
односторонний приверженец опыта. Между тем основное предположение, из
которого он исходит, почерпнуто им не из опыта и опытом доказано быть не может. Он
утверждает, что до опыта человеческое сознание есть чистый неисписанный лист,
tabula rasa. Но кто же мог когда-либо наблюдать человеческое сознание до
наблюдения; какой опыт может удостоверить нас в том, чем оно было до опыта? Ясное
дело, что здесь Локк вопреки себе вдается в чисто умозрительную гипотезу. Что
опыт есть единственный источник познания, этого вообще опытом доказать
нельзя: ибо в таком случае мы уже предполагаем то, что требуется доказать.
Философия права Локка также неизбежно заключает в себе умозрительные элементы,
а потому также неизбежно противоречива. Локк утверждает, что в человеческом
сознании нет ничего врожденного. Но если так, то как же можно говорить о
каких-либо врожденных человеку естественных правах? Это опять-таки
умозрительное, метафизическое предположение, которое никаким опытом доказано
быть не может. На почве чистого опыта невозможен никакой нравственный или
политический идеал. Ибо посредством опыта человек узнает только
действительность, только то, что есть: опыт не дает нам никаких указаний насчет того, что
должно быть. Между тем Локк решается подвергнуть критике все исторически
существующее во имя требований естественного права, которые ни в каком из
существующих в действительности государств не достигают полного и совершенного
своего осуществления. Он чувствует недостаточность своих начал и говорит о ее*
тественном праве как о вечном законе, данном самим Богом, но это опять-таки
умозрительное предположение религиозного сознания, которое из опыта
выведено быть не может. >
Великая заслуга Локка заключается в том, что он ввел в политику
необходимый для всякой науки опытный элемент* Его теория разделения властей есть
положение, почерпнутое из опыта современной ему Англии. Оно представляется
действительным приобретением, действительным прогрессом политической
науки. Что же касается противоречий учения Локка, то они еще раз доказывают не-
201
достаточность одного опыта или одного умозрения, необходимость соединения
обоих этих элементов знания в политике, как и во всяком философском учении.
Лейбниц (1646-1716)
Недостаточность одного умозрительного и одного опытного метода в
философии вызывает необходимость в их взаимном сочетании и восполнении. Одним
геометрическим методом невозможно вывести разнообразие существующего, как
это наглядно обнаружилось в системе Декарта и Спинозы. Сколько бы наша
мысль ни оперировала над чистым пространством, она не в состоянии найти в нем
чего-либо, кроме геометрических фигур; физические тела не могут быть к нему
сведены, они не суть только модусы протяжения, как учил Спиноза. С другой
стороны, наш внутренний мир не может быть понят только, как модус чистой
мысли. В чистой мысли как таковой мы не найдем желаний или влечений: из нее
не может быть понято разнообразие характеров, разнообразие индивидуальных
человеческих свойств.
В в 1646 году родился в Лейпциге один из величайших философов всех времен
и народов, Готфрид Вильгельм Лейбниц, универсальный и всесторонний ум, как
бы от природы предназначенный к тому, чтобы усвоить и совместить в себе самые
разнообразные элементы человеческого знания. В нем действительно сочетаются
элементы эмпирические и рационалистические, в нем Декарт как бы связывается
с Бэконом. Мало того, в эпоху Лейбница борьба со схоластикой уже не имеет
жгучего и страстного характера, как во времена Декарта и Бэкона. Здесь главное
дело уже сделано, а потому в своих суждениях о схоластике Лейбниц гораздо
беспристрастнее своих предшественников. Он усвояет и вмещает в себе многие
элементы, выработанные средневековой мыслью. Вместе с тем его философия
испытывает на себе влияние древней мысли, преимущественно аристотелевского
учения. Вообще Лейбниц обладает беспредельной способностью усвоения. Живой
и подвижный по природе, он философ и вместе с тем светский человек,
политический деятель. Он одинаково посвящен в физику и в юриспруденцию, он делает
великие математические открытия и вместе с тем пишет трактаты богословские,
юридические и философские.
Подобно Декарту, и Лейбниц хочет внести в философию математический
метод: «Математики, — говорит он, — суть единственные люди, которые имеют
обыкновение доказывать то, что они утверждают». Но вопреки Декарту Лейбниц
думает, что познание не може*г быть сведено к какому-либо одному положению
или аксиоме, из коей могло бы быть выведено more geometrico все существующее.
Он допускает существование многих отправных точек мысли, многих основных
истин. Подобно Бэкону, он ценит опыт, считая необходимыми качествами
научного знания разностороннее наблюдение фактов; вместе с Бэконом он хочет
знания практически полезного.
В самой исходной точке филссофии Лейбница умозрение сочетается с опытом.
Подобно Декарту, он задается вопросом о сущности вещей, или об их субстанции.
Но в отличие от Декарта и Спинозы он не закрывает глаза на разнообразие
существующего, а ищет такого понятие субстанции, которое объясняло бы собою это
разнообразие. В опыте его поражает один не сводимый на протяжение и
мышление элемент — присущая вещам сила. Сущность вещей выражается в том, что они
202
действуют, или, что то же, обладают силою. Рассматриваем ли мы предметы
вещественного мира или наш внутренний мир, мы заметим во всем силу, или действие.
Природа физических тел выражается не в одном протяжении. Общее свойство
материи выражается в ее упругости, в ее способности сопротивления. Тела могут
занимать пространство лишь поскольку они сопротивляются другим телам. Это
сопротивление тел предполагает в них силу, которая сопротивляется. Они занимают
место в пространстве лишь поскольку они обладают силою. Таким образом, сила
не есть модус протяжения, а, наоборот, протяжение есть результат действия
силы — ее функция. Возьмем ли мы наш внутренний мир, и здесь мы увидим, что
наша жизнь выражается в действии, что с прекращением действия прекращается
и наша жизнь. Если мы отнимем от вещей их определенное действие, то они
уничтожатся. Сущность, или субстанция каждой вещи, есть ее сила. «Все, что
деятельно, — говорит Лейбниц, — есть единичная субстанция, и каждая единичная
субстанция беспрерывно деятельна». В этом понятии энергии, или энтелехии, как
существенного определения вещей, Лейбниц сходится с Аристотелем.
Существовать для него, как и для Аристотеля, значит то же, что и «быть в деле», έν εργφ
είναι, откуда и самое понятие «энергия». Из понятия субстанции как самосущего
следует, что каждая субстанция есть единый и самостоятельный центр
деятельности. Разнообразию и множеству вещей соответствует беспредельное множество
этих единичных субстанций, которые обладают самыми разнообразными
свойствами.
Допущение множества субстанций у Лейбница есть прямая реакция против
неудачной попытки Спинозы понять мир как результат деятельности единой
субстанции. Разнообразный мир, по Лейбницу, может быть понят лишь как
результат взаимодействия множества самостоятельных сил, или субстанций. Из самого
понятия субстанции как самосущего следует, что субстанция как causa sui60 не
есть результат деятельности чего-либо другого. По этому самому субстанция не
есть нечто сложное, ибо все сложное есть результат взаимодействия сил;
субстанция не есть что-либо производное — она проста и неделима.
Во внешнем опыте мы не находим ничего простого и неделимого, все
протяжное делимо и дробимо. Истинно неделимым может быть только непротяжное
существо, поэтому субстанции суть непротяжные и, следовательно,
нематериальные единицы. К этому результату влечет Лейбница вся логика его системы. Мы
видели, что пространство для него — результат деятельности сил. Деятельность
этих сил, следовательно, предшествует пространству, или протяжению.
Пространство их не обусловливает: оно само обусловлено ими; существенный признак
субстанций, следовательно, заключается в том, что они непротяженны и
нематериальны. Поэтому Лейбниц не называет эти субстанции атомами, с этим именем
обыкновенно связывается представление чего-то материального. Он называет их
термином, заимствованным у итальянского философа Джордано Бруно, —
монадами. Единственная монада, доступная нашему опыту, есть наша душа, которую
мы узнаем через самонаблюдение. О природе других монад мы можем знать лишь
по аналогии с нашим внутренним миром.
Наша душевная деятельность выражается в представлении. Чем же могут быть
другие монады, результатом деятельности коих является этот сложный
материальный мир, который мы видим? Непротяженные, подобно нашей душе, монады
суть силы идеальные. Подобно нащей душе, их деятельность выражается в
представлении. Из природы субстанции как силы следует, что каждая монада
беспрерывно действует, следовательно, беспрерывно представляет. Из понятия субстан-
203
ции как самосущего следует, что эта деятельность представления не должна быть
объясняема каким-либо внешним монаде источником. Монада есть
самостоятельный источник всех своих представлений, она беспрерывно рождает их из себя.
В природе каждой монады предопределен от века весь ряд представлений, через
которые она последовательно проходит. Ее настоящее чревато будущим. Причина
всех своих состояний, монада сама не может возникнуть вследствие какой-либо
внешней причины, иначе она не была бы причиной самой себя, не была бы
субстанцией. По этому самому она не может быть и уничтожена ни внешней ей
причиной, ни причиной внутреннею, так как природа ее выражается в беспрерывной
деятельности.
Все сложное, весь материальный мир есть результат совместной деятельности
субстанций. Но, спрашивается, как же возможно это взаимодействие, как
мирится оно с самостоятельностью отдельных монад? Из природы монад как субстанций
следует, что они недоступны какому-либо внешнему влиянию. Идеальные
единицы, они не состоят между собою в каком-либо механическом взаимодействии.
Между ними невозможен influxus physicus61. Это не значит, однако, чтобы
монады находились вне всякой связи между собою. С одной стороны, каждая монада
представляет собою замкнутый мирок: «Монада не имеет окон, — говорит
Лейбниц, — через которые что-либо могло в них войти или из них выйти». С другой
стороны, эти бесчисленные миры составляют из себя единый мир, связанное
и расчлененное целое. За невозможностью взаимодействия механического
остается допустить идеальную связь между ними. Если монады образуют из себя
мировое единство, то это значит, что в каждой из них идеально представлен целый мир.
Деятельность представления, свойственная монадам, имеет своим содержанием
все существующее: каждая монада, как зеркало, отражает в себе мир, как
зеркало. Иначе говоря, монада есть мир в малом, микрокосм.
Однако в каждой из этих качественно различных единиц это отражение
принимает особый вид, соответственно с их индивидуальными особенностями. Между
монадами не существует равенства, как между математическими единицами.
Мир составлен не из однородных единиц, монады в нем образуют лестницу
разнообразных существ. Чем же различаются они между собою? Очевидно, прежде
всего большей или меньшей степенью силы, большей или меньшей интенсивностью
всем им присущей способности представления. Монада занимает тем высшее
место в иерархии существ, чем сильнее и яснее она представляет самое себя и другое.
Представление темно, когда оно различает свой предмет от других предметов; оно
ясно, когда оно точно различает отдельные признаки представляемого предмета
в отличие от других вещей.
В этом заключается различие между сознательной и бессознательной
областью. Представление для Лейбница не есть синоним сознания. Из того, что все
монады представляются, не следует, что все они суть сознающие вещества. Когда
представление слишком темно, оно не достигает сознания. В нашем внутреннем
мире мы можем наблюдать этот процесс постепенного превращения слабых,
неясных и как бы полусонных представлений в ясные и сильные. В процессе
познания мы сначала имеем дело со смутными представлениями предметов. Мы
извлекаем эти смутные представления из темной и бессознательной глубины нашей
души и, освещая их светом сознания, превращаем их в ясные понятия. Низшие
монады, из коих составлен матери^ьный мир, суть слабые представления, не
достигшие различия себя от внешнего мира, иначе говоря, представления
бессознательные.
204
Сказав, что все монады представляют друг друга, Лейбниц не объяснил, а
только констатировал факт их идеального взаимодействия. Спрашивается, каким же
образом возможно это взаимодействие? Перед Лейбницем ставится тот же вопрос,
который послужил камнем преткновения для Декарта. Декарт спрашивал себя,
каким образом возможно в человеке взаимодействие духовной и мыслящей
субстанции, и объяснял это взаимодействие вмешательством Божества. Лейбниц
ставит тот же вопрос в более общей форме. Как возможно взаимодействие
бесчисленного множества субстанций? Декарт и его последователи утверждали, что при
каждом движении нашей воли Бог производит соответствующее движение
нашего тела. Против этого Лейбниц справедливо возражает, что такое накопление
бесчисленного множества чудес не есть объяснение, что это на самом деле отказ от
всякого объяснения. Он объясняет воздействие субстанций одним центральным
чудом, раз навсегда установленным мировым порядком.
Каждая монада в своей деятельности определяется внутренними законами
собственного существа, но вместе с тем каждая монада с самого начала так устроена,
что деятельность ее гармонирует со всеми остальными. Иначе говоря, все монады
находятся между собою в вечной предустановленной гармонии. Монады
относятся между собою как различные часовые машины, из коих каждая движется в
силу самостоятельного механизма, но каждая из них с самого начала так заведена,
что они всегда согласно показывают один и тот же час и бьют одновременно,
не нуждаясь для этого в постоянном вмешательстве мастера-механика. Согласие
монад нашего тела с нашей душой есть лишь частное проявление этой всеобщей
гармонии.
Предустановленная гармония возможна лишь в предположении Высшего
Существа, которое служит началом единства мировой организации. Если между
вещами нет физического взаимодействия, а есть только идеальная связь, то это
возможно лишь в предположении разумного организатора вселенной, Божества.
«Совершенное согласие столь многих субстанций, которые находятся во
взаимном общении, — говорит Лейбниц, — может объясняться лишь действием общей
причины». Оно может быть лишь результатом целесообразной деятельности
одной центральной монады, коей сознание совершенно совпадает с законом
всеобщей гармонии, которая обладает совершенно ясным представлением мира как
целого.
Идея предустановленной гармонии приводит Лейбница к совершенно
оригинальному решению вопроса о тюзнании, отличному как от локковского, так и от
декартовского. Монада Лейбница не воспринимает ничего извне и черпает все
содержание своего познания из самой себя. Познание не есть результат внешнего
воздействия вещей на наши чувства: все содержание познания нам врождено.
В этом пункте Лейбниц расходится с Локком, отрицавшим врожденные идеи.
С другой стороны, врожденное для него не есть то же, что сознательное, в этом
пункте он выгодно отличается (от Декарта. Теория врожденных идей в
декартовской формулировке, очевидно, несостоятельна. Ибо действительно нет таких
врожденных истин, не исключая и геометрических аксиом, которые были бы
постоянно налицо в нашем сознании и одинаково бы сознавались ребенком и
взрослым. Декартовская теория падает перед возражениями Локка, иное дело учение
Лейбница. Его теория врожденных идей обогащается в высшей степени
плодотворным для последующей философии понятием бессознательной деятельности
в связи с аристотелевским различением между возможностью и
действительностью. Если ребенок или дикарь не обладает сознанием геометрических аксиом,
205
то это никак не доказывает, чтобы эти истины не были врождены нашей душе; они
могут отсутствовать в нашем сознании в тот или другой момент, но наша душа
обладает ими в состоянии возможности.
Так точно в семени скрывается в состоянии возможности форма будущего
дерева. В действительности мы не находим в семени ни ветвей, ни листьев. Тем не
менее и ветви, и листья уже находятся в семени в состоянии возможности, и
постольку можно сказать, что они врождены семени. Так и наша душа содержит
в себе в семени, в виде смутных, бессознательных представлений, все те элементы,
из коих вырастает постепенно сложный организм нашего познания со всеми его
разветвлениями. Врожденные идеи от начала присутствуют в ней в состоянии
возможности, но переходят в действительность лишь путем постепенного процесса
развития.
Не следует думать, чтобы эта лейбницевская теория врожденных идей
исключала возможность участия опытного элемента в познании. Лейбниц не думает
оспаривать того факта, на который указывает Локк и все эмпирическое
направление, что всякому познанию предшествует чувственное восприятие или опыт.
Напротив, он признает необходимость чувственного восприятия и опыта как
предварительной ступени, без коей невозможно никакое назначение. Но самому
чувственному восприятию он дает иное объяснение, нежели Локк. Всякое
познание начинается с неясных, смутных представлений. Прежде чем возвыситься до
области чистого и ясного сознания, душа наша должна пройти через чувственные
впечатления. Все вещи воспринимаются нами сначала в неясной, чувственной
форме; отсюда последующая деятельность нашего рассудка извлекает ясные
понятия. В этом смысле Лейбниц признает верным положение Локка, который
учил, что в разуме нет ничего такого, что бы прежде не заключалось в чувстве:
nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. Но Локк считал ощущение
результатом действия внешних вещей на наши чувства. Как мы видели, Лейбниц не
допускает возможности такого inf luxus physicus. Для него наши ощущения не суть
результаты физического воздействия вещей на наши органы, а продукты
самостоятельной деятельности нашей души. Чувства суть предварительная ступень
нашего сознания, а не первоначальный его источник; последний скрывается в
глубине нашей души. Как из одних зрительных ощущений мы не объясним природы
нашего глаза, который видит, зрительные впечатления предполагают видящий
глаз, так же точно из одних чувственных впечатлений мы не выведем природы
нашего разума, который их познает и организует в систему познания. Поэтому
Лейбниц принимает упомянутое положение Локка с одним характеристическим
добавлением: Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse
(в разуме нет ничего такого, ч*го бы не было в чувстве, кроме самого разума).
Изложенными только что метафизическими принципами определяется и
этика Лейбница точно так же, как и его философия права. Представляя в отличие от
Спинозы мир как целесообразное единство, Лейбниц вводит вновь в философию
учение о целях, телеологию. С одной стороны, каждая монада как
самостоятельное существо имеет цель в самой себе; иначе говоря, употребляя выражение,
заимствованное Лейбницем у Аристотеля, она есть энтелехия (от έν αύτφ τέλος εχειν).
И так как существо жизни и деятельности каждой монады выражается в
представлении, то цель каждой монады заключается в наивысшем развитии этой
деятельности, в совершенном и ясном сознании себя. Но монада, часть целого
мироздания, органически с ним связана; она лишь при том условии достигает
совершенного и ясного сознания самой себя, если она вместе с тем является совер-
206
шейным микрокосмом, ясным отражением мирового целого. Счастье для каждой
монады есть высшая цель. Но счастье заключается не в эгоистическом
обособлении, а в гармоническом согласии каждой монады с мировым целым. Ясное
сознание солидарности индивида и целого выражается в любви ко всем существам,
в чистой и бескорыстной радости каждого обо всех. Чем яснее мы познаем себя,
тем яснее мы сознаем и тот мир, который мы в себе отражаем. Чем более мы
просвещены, тем более мы любим этот прекрасный мир, сознавая нашу с ним
солидарность. Поэтому основное требование этики Лейбница есть просвещение. Это
требование служит девизом не только его философии, но и всей открываемой им
эпохи немецкой философии XVIII века, которая известна в истории под
характеристическим названием эпохи Просвещения. Философия права Лейбница
составляет лишь часть его этики. Она более интересна в целом, нежели в деталях,
а потому в нашем изложении мы можем ограничиться немногими крупными
штрихами.
Философия права Лейбница может рассматриваться как применение
метафизических принципов в его монадологии. С другой стороны, всматриваясь в эту
монадологию, мы увидим, что она представляет собою до известной степени
отражение политического состояния тогдашней Германии. Германия распадается на
множество отдельных княжеств, крупных и мелких. Независимые и
самостоятельные единицы, эти княжества хотя и подчиняются номинально верховенству
германского императора, но на самом деле связаны между собою лишь в
идеальной сфере, — общим языком и общими началами религии. Это как бы царство
замкнутых в себе монад; между ними существует лишь идеальная связь, при
отсутствии реального взаимодействия.
Практические требования философии права Лейбница частью определяются
впечатлениями современного политического состояния, частью же в свою очередь
стремятся воздействовать на это состояние.
Лейбниц выводит право из любви, не отграничивая при этом определенным
образом области права от области нравственности. Справедливость для него есть
«соответствующее мудрости совершенство в отношении одного лица к добру и злу
других лиц»; право же не что иное, как осуществление этой справедливости в
человеческих отношениях. Лейбниц пренебрежительно отзывается о своем
предшественнике в области теории права — Пуфендорфе, который ограничивал область
права лишь внешними взаимными отношениями людей. Отличая естественное
право от положительных законодательств, Лейбниц различает в нем три ступени:
jus strictum, aequitas и probitas62. Jus strictum есть то же, что справедливость
уравнивающая; оно выражается в охранении мира и в наказании
правонарушений. Его высшее правило — neminem laede — не приноси никому вреда. Aequitas
уже выражается в более высоком требовании любви в тесном смысле слова; она
стремится к общей пользе; ее правило заключается в том, что ради любви всем
должно помогать. Но так как ни один человек не может обладать всеми благами
на свете и никто не должен быть ими совершенно обделен, то aequitas выражается
в требовании suum cuique63; в осуществлении этого требования, в воздавании
каждому своего заключается тар называемая справедливость распределительная
(justitia dis tribu ti va). Наконец, высшая ступень нравственного и правового
сознания есть probitas.
Высшее правило нравственной #сизни выражается в формуле hones te vive re64;
оно заключается в том, чтобы следовать во всей нашей жизни и деятельности
вечным законам, положенным Создателем в основу мирового порядка. Из этого вы
207
видите, что Лейбниц смешивает право с нравственностью, не проводит никакой
границы между той сферой, где господствует принуждение, и той областью, где
оно неприменимо. Высшая ступень правового сознания — probitas — для него
тождественна с благочестием (pietas), то есть с преклонением перед божественным
законом.
Вечный закон естественного права не есть произвольное Божественное
установление. Он представляет собою представление разума Божества, а не его воли,
а потому он для самого Божества необходим и обязателен. Подобно Гуго Гроцию,
Лейбниц признает, что естественное право было бы обязательно et si daretur Deum
non esse65. В сущности, естественное право для него есть не что иное, как
требование всеобщей гарантии неприкосновенности во взаимных отношениях отдельных
лиц и государств.
Мы видели уже, что в монадологии Лейбница некоторым образом отражается
политический строй современной ему Германии. Однако же полного соответствия
между действительностью и идеальными требованиями великого мыслителя не
существует. Отдельные княжества недостаточно проникнуты тем сознанием
взаимной солидарности, которое дает только просвещение. Эти политические
монады слишком обособлены, и Лейбниц хочет большей гармонии, большего единства
между ними. Религиозная связь между отдельными государствами существует,
но эта религиозная связь благодаря вероисповедному спору католиков и
протестантов объединяет лишь отдельные группы государств, а не Германию как целое.
Что касается политического единства Германии, то это единство лишь
номинальное, так как император, представитель единства, на самом деле не оказывает
никакого влияния на политику отдельных князей.
Лейбниц стремится к осуществлению универсального единства в религии
и политике. Он, протестант по вероисповеданию, тяготеет к католическому
идеалу церкви универсальной. Он хочет примирения отдельных вероисповеданий,
воссоединения всех христиан под властью преемника св. Петра, папы. Ему так
же противен раздор между отдельными государствами, как и между отдельными
вероисповеданиями. Представитель универсализма в политике, он тяготеет к
тому идеалу всемирной империи, коим вдохновлялись в средние века германские
императоры. Он не довольствуется одним союзом государств и утверждает, что
Германская империя его времени есть действительно единое государство.
Применяя монадологию к политике, он хочет усилить власть императора — начало
единства и гармонии в империи, — но вместе с тем хочет сохранить
самостоятельность отдельных монад, то есть княжеств. Отсюда получается такое
противоречие: с одной стороны, империя рассматривается как настоящее государство;
с другой стороны, императору не предоставляется никаких других способов
воздействия на князей, кроме ч^сто нравственного влияния и переговоров. Лейбниц
не признает за ним принудительной власти, без которой, однако, империя не
может быть государством; император не может принуждать князей, а может только
их уговаривать.
В этом противоречии политики Лейбница отразилось противоречие его
монадологии. Основное понятие всей его системы есть самостоятельная и независимая
монада, которая сама себе служит причиной и основой, не будучи ничем другим
обусловлена и обоснована. Но, с другой стороны, согласие и гармония между
отдельными монадами, в силу коего они образуют единый мир, возможны лишь
поскольку все они Богом устроены по общему плану. Но в таком случае монада не
есть causa sui, она обусловлена Богом. Лейбниц говорит о монадах то как о суб-
208
станциях, не имеющих начала и конца, то как о созданиях, или лучеиспускаемых
Божествах, не замечая, что одно другому противоречит.
Великая заслуга его заключается в том, что он сознал невозможность вывести
a priori все существующее из отвлеченного единства субстанции, протяженной
и мыслящей; что он сознал необходимость объяснения мироздания из
качественно разнородных начал; понял необходимость сочетания умозрения с опытом и,
наконец, удачно соединив эти два элемента в теории познания, победоносно
опровергнул возражение Локка против врожденных идей. Но в общем и ему не удалось
примирить противоположные требования человеческого духа и построить без
противоречий цельную гармоническую систему знания.
Монтескье (1689-1755)
В то время как в Англии парламенты вели победоносную войну с королями,
во Франции, напротив, неограниченная королевская власть стояла на высшей
точке своего развития. Весь XVIII век во Франции наполнен двумя блестящими
царствованиями: Людовика XIII, который был обязан всею своею славой своему
знаменитому министру-кардиналу Ришелье, и великого короля Людовика XIV.
Никогда власть французских королей не была окружена большим блеском, и
вместе с тем никогда политическое бесправие ее подданных не было более полным.
Царствование Людовика XIV прославилось не одними политическими успехами,
то была эпоха расцвета блестящей литературы, век Корнеля, Расина, Мольера,
Буало и Лафонтена; королевский двор был наполнен и украшен целой плеядой
крупных литературных талантов.
Между тем как в Англии революционное движение торжествовало в борьбе
с неспособными королями, во Франции все содействовало необычайному
возвеличению монархической власти. Между тем как в политической литературе Англии
XVII в. мы встречаем смелые демократические теории, во французской
литературе того времени проповедь монархического абсолютизма обращается в настоящий
культ королевской власти.
В эпоху регентства Филиппа Орлеанского, последовавшего за царствованием
Людовика XIV, и в особенности в царствование его расточительного и беспечного
преемника Людовика XV66, во Франции начинается сильная реакция против
нетерпимой церковной политики и против королевского абсолютизма.
Многочисленные войны Людовика XIV и в особенности неумелая политика его преемников,
в связи с недостатками всего тогдашнего феодально-аристократического строя,
довели Францию до крайнего разорения и истощения. После смерти Людовика
XIV общественное недовольство, уже не сдержанное престижем имени великого
короля, выразилось в ряде громких протестов. Мы ограничимся здесь
рассмотрением тех произведений дореволюционной французской литературы, в которых
господствующие стремления века достигли наиболее яркого своего
олицетворения. Я говорю о политических «трактатах Монтескье и Руссо, которые
резюмируют собой программу Французской революции.
Если мы сравним произведения Монтескье с наиболее выдающимися
политическими произведениями английской литературы XVII века, мы легко заметим
у Монтескье одно капитальное преимущество: в качестве первых пионеров
революции английские мыслители XVII века не имеют за собой предшественников, ес-
209
ли не считать отвлеченных теоретиков XVI века. Им приходится все строить
сызнова, все формулировать вновь. Напротив, Монтескье уже не есть первый
изобретатель конституционной теории. Он продолжатель Локка и наследник его идей.
Он имеет перед собой в современной ему английской конституции образцы, уже
более совершенные, чем его английские предшественники. Наиболее
выдающаяся глава его трактата «О духе законов» представляет собою комментарий к этой
конституции, и в этом отношении Монтескье только продолжает дело, уже до
него с блестящим успехом начатое Локком. Вообще, большая часть идей
французской революции уже столетием раньше была выражена в произведениях
английской литературы.
В 1748 году появилась знаменитая книга Монтескье «О духе законов» (Esprit
des lois), которая и до нашего времени служит основанием всех конституционных
учений Европы. Книга эта, составляющая плод двадцатилетнего труда, в течение
двух лет выдержала 22 издания. Каких трудов она стоила ее автору, об этом сам
он говорит в предисловии к «Духу законов»: «Я неоднократно начинал,
разбрасывал этот труд. Я тысячу раз пускал на ветер исписанные мною листы. Каждый
день я чувствовал, как опускаются мои руки. Я продолжал мою работу, не
установив еще определенного плана; я не знал ни правил, ни исключений, я находил
какую-нибудь истину и тотчас ее утрачивал. Но когда я открыл мои принципы,
все то, что я искал, само собой пришло ко мне. И, таким образом, в течение
двадцати лет мой труд зародился, вырастал, подвигался вперед и, наконец, пришел
к концу».
Этими словами прекрасно характеризуется самый метод мышления
Монтескье. Имея дело с обширным фактическим материалом, он не приступил к нему
с заранее установленной схемой. Напротив, сама эта схема, общие руководящие
начала, лежащие в основе «Духа законов», составляют плод долголетней
индуктивной аналитической работы. Но, с другой стороны, посредством анализа
Монтескье восходит к общим умозрительным началам; лишь через приложение этих
начал фактический материал превращается для него в стройное, систематическое
целое. Таким образом, мысль Монтескье сочетает в себе элементы опытные и
умозрительные. Она идет двояким путем — индуктивного анализа, который восходит
от частных фактов к общим началам, и умозрительной индукции, которая,
напротив, идет от общего к частному.
Подобно Локку, Монтескье занят вопросом о тех конституционных гарантиях,
коими обеспечивается свобода личности в государстве. Экспериментальный
политик еще в большей степени, чем его английский предшественник, Монтескье
старается понять существующие законодательства в связи с разнообразными
условиями действительности — климатическими, историческими и этнографическими.
С другой стороны, общий смысл отдельных законодательств, как и всяких
частных фактов действительности, постигается нами лишь при условии
умозрительного понятия вселенной. В основе политической науки должно лежать
умозрительное знание тех общих законов, коими определяется место и значение
человека в целом строе мироздания, тех вечных неписаных правил, коими
нормируется деятельность человека, цак и всякого разумного существа. В этом пункте
Монтескье сходится с мыслителями рационалистической естественной школы.
«Закон в обширном смысле слова,,— читаем мы в первой главе первой книги
„Духа законов", — суть необходимые отношения, которые вытекают из самой
природы вещей, и в этом смысле все существа подчиняются своим особым
законам. Законом управляется деятельность Божества, устройство вещественного ми-
210
pa животных, разумных существ, стоящих над человеком. Законом, наконец,
определяется деятельность человека и человеческого общества».
Разумные существа могут сами себе установлять законы, но есть и другие
законы, которые не ими созданы. Прежде чем появились разумные существа, они уже
были возможны: следовательно, между ними были возможные отношения и
постольку возможные законы. Итак, уже до появления законов, установленных
людьми, существовали возможные отношения справедливости. Прежде чем был
начертан какой-либо круг, уже существовал закон равенства всех радиусов
окружности. И точно так же, прежде чем было установлено какое-либо
положительное законодательство, уже существовали возможные отношения правды и права.
Человек мог существовать и не существовать; но как бы то ни было мы не можем
предполагать человеческое общество существующим, не предполагая вместе с тем
обязательности подчинения закону для каждого члена такого общества. Раньше
создания разумных существ был верен закон, что разумное существо,
причинившее зло другому такому же существу, заслуживает наказания. Физическая
природа не может не повиноваться своим законам; она невольно ими движется. Что
касается человека, то он обладает способностью самопроизвольного движения.
По отношению к нему закон имеет значение предписания, которое он может
исполнить или не исполнить.
Чтобы знать, в чем заключаются эти вечные законы, предшествующие
положительным законодательствам, нужно отвлечься от общежития и рассмотреть
человека в изолированном естественном состоянии. Изолированный от общества
примитивный человек вечно дрожит за свое существование; здесь все боятся
столкновения друг с другом. Поэтому мир, а не война есть первый естественный
закон. С чувством слабости и зависимости соединяются в естественном состоянии
физические потребности. Второй естественный закон есть стремление отыскать
себе пищу. Третий естественный закон — стремление полов друг к другу.
Наконец, кроме чувства самосохранения познание является связующим началом
между людьми; стремление жить в обществе, составляющее свойство человека как
разумного существа, есть четвертый естественный закон.
«Вообще, закон есть человеческий разум, поскольку он управляет всеми
народами. Что же касается политических и гражданских законов каждой нации,
то они должны рассматриваться лишь как частные случаи, к которым
прилагается этот всеобщий человеческий разум».
Законы политические в каждой стране суть те, которые определяют собой
отношения правителей к управляемым, те, которые определяют взаимные
отношения отдельных граждан. Наконец, наряду с правом государственным и
гражданским, существует еще и право международное, заключающее в себе правила,
определяющие взаимные отношения целых народов.
Положительные законы каждого государства до такой степени приспособлены
к_тому народу, для которого они установлены, что законы одной нации лишь в
силу редкой случайности могут годиться для другой. Они должны находиться
прежде всего в соответствии с физической природой каждой страны — с ее климатом:
холодным, теплым или умеренным; наконец, с ее величиной и географическим
положением. Законы каждой страны не могут быть иначе изучаемы как в связи
с нравами и наклонностями ее жителей; с их религией, занятиями, с их
богатством и количеством. ι
Затем, все законы каждой страны находятся между собою в тесном
соотношении: они должны быть рассматриваемы в связи с целым законодательством и с на-
211
мерениями законодателя, с той степенью свободы, которую он имел в виду
обеспечить. Все эти отношения в совокупности и составляют то, что называется «духом
[закона».
В противоположность учению английских эмпириков, исследователь
Монтескье не ограничивается одним только опытным знанием о человеке. В
противоположность учениям рационалистической школы оно не хочет быть только
умозрительной конструкцией. Мыслитель всесторонний, Монтескье
принимает во внимание как требование разума, так и разнообразие исторически
существующего.
Исследование положительных законодательств начинается с рассмотрения
различных образов правления. Монтескье различает их три: республиканский,
монархический и деспотический. Республиканским мы называем тот образ
правления, где верховная власть принадлежит народу как целому или же части
народа; соответственно с этим республика подразделяется на демократию и
аристократию. Монархическим называется то государство, где одно лицо управляет
посредством постоянных законов. Наконец, под деспотией разумеется одно лицо,
которое не подчиняется каким-либо общим законам, а следует единственно своим
прихотям и произволу.
Из природы каждой формы правления вытекает ряд основных законов, коими
определяется ее устройство.
В демократических республиках народ является в одном отношении
правителем-монархом, а в другом отношении — подданным. Народ может быть
правителем лишь через посредство голосования, коим он выражает свою волю.
Следовательно, основные законы в демократии суть те, коими устанавливается
это право голосования, коими определяется как субъект, которому принадлежит
это право, так и предметы, подлежащие такому голосованию. Закон должен
определять способ действий народного собрания и число участников его, необходимое
для того, чтобы решение его имело законную силу. Другой основной закон всякой
демократии заключается в том, что народ сам назначает должностных лиц,
которые считаются лишь исполнителями его воли. Как и монарх, народ нуждается
в постоянном Совете или Сенате, составленном из лучших и наиболее знающих
людей. Но, чтобы этот Сенат пользовался доверием, необходимо, чтобы народ сам
выбирал его членов. В общем народные массы обладают удивительным умением
выбирать должностных лиц для отправления тех или других функций власти.
Народ имеет большую возможность знать качество своих слуг, с которыми он
сталкивается в повседневном общении, нежели монарх, замкнутый в своем дворце.
Но народные собрания не могут вести сами непосредственно всех дел, в
особенности тех, где требуется быстрота действий и специальные сведения. Такие дела
должны быть поручаемы административным органам.
Наиболее подходящий к демократиям способ замещения должностей есть
замещение по жребию, практиковавшееся в древних республиках. Еще Аристотель
видел в жребии один из главных устоев демократического правления, ибо в тех
случаях, когда должности замещаются по выбору, богатство и происхождение
часто дают слишком большое преимущество немногим привилегированным
кандидатам перед их менее богатыми соперниками. Монтескье здесь только повторяет
рассуждение великого философа древности, который видел в выборах учреждение
аристократическое. ,
В аристократии верховная власть находится в руках ограниченного
количества лиц, которые издают законы и заботятся об их исполнении. Остальная же часть
212
населения относится к ним так же, как в монархиях подданные к монарху.
При большом количестве дворянства и при аристократическом образе правления
нужен Сенат для ведения текущих дел и для подготовления тех, которые
представляются на рассмотрение собрания всей знати. Сенат не должен сам себя
восполнять, то есть выбирать новых сочленов на место выбывающих, это ведет к
многочисленным злоупотреблениям. Еще опаснее диктаторская власть в республике,
неограниченные полномочия, временно вверяемые одному лицу. Иногда
диктатура бывает необходима, но в этих случаях краткость срока может служить
противовесом силе власти. Вообще, Монтескье считает наилучшими аристократии
умеренные, те, где народ сохраняет хотя бы некоторую долю участия в верховной
власти и где наименьшая часть народа вовсе лишена политических прав.
Главный интерес рассуждения Монтескье о различных образах правления
заключается в том, что он говорит о монархии в отличие от деспотии.
Отличительную черту правильной, законной монархии составляют посредствующие органы
власти, подчиненные монарху и от него зависимые. В правильной монархии
монарх правит посредством основных законов; отсюда вытекает необходимость
отправления различных функций власти через посредство законом установленных
органов. В противном случае весь законный порядок рушится и монархия
вырождается в деспотию. Зависимость этих посредствующих органов от верховной
власти вытекает из самой природы монархии, где монарх служит источником всякой
власти: политической и гражданской.
Самая естественная посредствующая и подчиненная власть есть власть
дворянского сословия. Дворянство до такой степени связано с самой сущностью
монархической власти, что, где нет дворянства, там нет и правильной монархии.
Уничтожьте в любом государстве привилегии высшей аристократии, духовенства,
дворянства и городов, и в скором времени вы тем самым уничтожите монархию.
Такое управление всех общественных классов будет иметь своим последствием
или превращение государства в демократическую республику, или же
вырождение монархии в деспотию, где все подданные равны в общем унижении и рабстве.
Власть духовенства самая вредная в республиках, в высшей степени полезна в
монархии, в особенности где нет других сдержек для произвола монарха. Как море,
которое иногда словно хочет покрыть собою всю землю, останавливается часто
перед камнями и травами, покрывающими морской берег, так же точно и власть
монарха, безграничная как море, нередко задерживается в своем действии
ничтожными препятствиями, уступая просьбам и жалобам лиц, занимающих видное
положение в обществе. Кроме посредствующих властей в монархии необходимо
еще и особое политическое учреждение, обязанное хранить законы, обнародовать
их, когда они издаются, и напоминать о них, когда они приходят в забвение.
Необходимость такого политического дела вызывается обычным невежеством
дворянства, его небрежностью и часто презрительным отношением к гражданскому
управлению.
Таковы черты, отличающие правильную монархию от деспотии. В
противоположность сложному устройству правильной монархии простота есть
отличительное свойство деспотии. Вся власть здесь сосредоточивается в руках одного лица,
которое в свою очередь поручает ее одному лицу — великому визирю. Деспот,
привыкший считать себя всем, а подданных ставить ни во что, по природе ленив,
невежествен и сладострастен. Он не любит заниматься делами и по тому самому
поручает власть кому-либо другому, а сам предается удовольствиям и распутству.
Он не может поручить власти многим лицам, ибо между этими многими могут
213
происходить столкновения и споры о первенстве и в таком случае сам деспот
принужден решать между ними, то есть так или иначе вмешиваться в управление
и заниматься делами. Поэтому гораздо проще вручить всю власть одному лицу.
Если можно говорить о каких-либо основных законах в деспотии, то визират есть
ее необходимый, основной закон, вытекающий из самой ее сущности. Монтескье
рассказывает в виде примера об одном весьма неспособном папе, которые долго
противился своему избранию, но, вступив в должность, передал все дела
племяннику, а сам предался распутству. *Я никогда не мог себе представить, чтобы это
было так удобно», — говорит этот папа. Точно то же повторяется и со всеми
деспотами.
Все это учение о различных образах правления грешит одним недостатком,
именно тем, что классификация различных государственных форм построена на
неверном и как бы двойственном основании. Различие между республикой и
монархией сводится к различию субъекта верховной власти, которая в одном случае
принадлежит многим лицам, а в другом случае — одному. С другой стороны,
монархия и деспотия различаются уже другими признаками, именно тем, что в
одном случае господствует закон, а в другом произвол. Между тем основное
требование логики по отношению ко всякой классификации заключается в том, чтобы за
основание группировки классифицируемого материала было принято
какое-нибудь единое начало, единый fundamentum comparationis67. Распределив весь
материал на главные рубрики, мы можем взять для дальнейших подразделений
другое начало, лишь бы оно было подчинено главному, основному. Бели мы возьмем
за основание классификации государственных форм устройство верховной власти
в количественном отношении, то формы правления разделятся на три
самостоятельных вида: господство одного, нескольких или всех — монархию,
аристократию и демократию; между тем у Монтескье аристократия и демократия
неправильно слиты в одну группу и составляют лишь два второстепенные ее
подразделения. Затем, для дальнейших второстепенных подразделений этих
главных трех видов мы можем принять и другое основание, хотя бы то, которое
указывает Монтескье, то есть господство закона или произвола. Но произвол
возможен точно так же в демократических республиках или в аристократиях, как
и в монархиях; в демократиях нередко произвол массы становится на место
закона, как это было в Афинах в эпоху упадка, когда простой народ угнетал и грабил
богатых и знатных граждан. Деспотизм может быть свойством многих лиц или
массы точно так же, как и свойством одного лица; деспотизм возможен при самых
разнообразных образах правления. Следовательно, нет основания выделять
деспотию в особый образ правления, как это делает Монтескье. Уже Вольтер
справедливо замечал, что монархия законная и деспотическая не суть два
самостоятельных вида, а лишь две разновидности одного и того же типа монархии. Аристотель
совершенно правильно учил, что каждой правильной форме правления, где
господствует закон, соответствует одна извращенная, в которой господствует
произвол правящих.
Несмотря на этот недостаток классификации, на неправильность группировки
государственных форм, анализ каждой из них у Монтескье отличается глубиной
и раскрывает много верного. В особенности ценно то, что он говорит относительно
законной монархии, где противовесом произволу действительно могут служить
права отдельных общественных групп, сословий и городов, которые правители
обязаны уважать, рискуя в противном случае вызвать восстание подданных. Так
было действительно в старинных европейских монархиях, где произвол короля
214
сдерживался остатками старинных феодальных учреждений, привилегиями и
вековыми преданиями дворянства, духовенства и городов.
Рассмотрев природу различных образов правления, Монтескье обращается
к исследованию их принципа, движущего начала каждой из них. Под природой
каждого образа правления Монтескье разумеет государственное устройство,
вытекающее из понятия каждого из них. Так, природу монархии составляет
совокупность норм, вытекающих из основного понятия каждой из них. Напротив,
принцип каждой формы правления есть движущее начало, которое заставляет ее жить
и действовать.
Всматриваясь в строй жизни демократических государств, мы увидим, что
главная пружина, приводящая их в действие, есть любовь к общему благу,
политическая доблесть (la vertu). Как скоро над любовью к общему благу берет верх
своекорыстие отдельных лиц, как скоро в обществе умирает доблесть, с ней
вместе должна погибнуть и республика. История иллюстрирует эту истину
множеством ярких примеров. При отсутствии сильной любви к общему благу государство
обращается в орудие честолюбивых стремлений отдельных лиц и обыкновенно
вырождается в тиранию. Доблесть может существовать и при всяком другом
образе правления: в монархиях и аристократиях, но здесь она играет роль
подчиненного колеса государственного механизма, тогда как в демократических
республиках она играет роль главной пружины, приводящей в движение весь механизм.
В самом деле, в монархиях, где лицо, установляющее закон, само стоит вне
закона, доблесть составляет менее необходимое качество, чем в республиках, где
народ, установляющий закон, в свою очередь сам ему подчиняется. В республиках
законный порядок покоится на нравственной ответственности всех и каждого,
а где на человека возлагается большая ответственность, там требуется от него
и больше доблести.
В аристократиях движущим началом является также добродетель, только не
гражданская доблесть всего народа, а специфическая доблесть правящего
сословия. Для поддержания аристократии требуется, чтобы правящее сословие не
раздражало народные массы злоупотреблениями, чтобы направление его политики
не было узко сословным. Привилегированное сословие должно пользоваться
своей властью умеренно. Умеренность и составляет, таким образом, главное
движущее начало аристократического образа правления.
Что касается монархии, то в ней доблесть заменяется другим принципом —
чувством чести, или, как говорит Монтескье, «предрассудком каждого лица или
каждого сословия». В монархии государство существует независимо от любви
народа к родине и от желания славы, независимо от самого жертвования отдельных
лиц от всех тех подвигов гражданского мужества, которые невозможны при
полном политическом бесправии. С другой стороны, правильное монархическое
устройство предполагает сословные преимущества, служебную иерархию,
наследственное дворянство. Оно может держаться лишь при том условии, если все эти
необходимые составные части обладают некоторым предрассудком или мнением
о своем достоинстве и значении, стремлением к отличию, которое составляет
самую сущность чувства чести. Монарх должен быть проникнут сознанием своего
величия, отождествляя и смешивая его с величием самого государства. Он
стремится к добру не ради самого добра, а потому, что это добро украшает и
возвышает его царствование, иначе говору, потому, что оно удовлетворяет его честолюбию.
Такое же чувство одушевляет в монархии и все сословия и посредствующие
органы власти. Допустим, что сословия не проникнуты сознанием своего значения:
215
в таком случае произволу монарха нет преград, и государство неизбежно
выродится в деспотию. Допустим обратное явление — что сословия воодушевлены не
чувством чести, а стремлением к общему благу ради самого блага и любви к родине.
При этом условии они более самостоятельны, чем то допускается
монархическими идеями, а потому они неизбежно должны прийти в столкновение с
представителем верховной власти. Прочность монархического начала возможна лишь при
том условии, если сословия стремятся не к величию самостоятельному, а к
величию заимствованному, если они ищут не свободы, а служебных отличий, иными
словами, поскольку честолюбие становится на место гражданской доблести.
Насколько честолюбие опасно в республиках, где оно может привести государство
к гибели, настолько же оно необходимо в монархиях. Здесь оно приводит в
движение весь государственный механизм; но вместе с тем оно сдержано властью, а
потому не опасно. Здесь человек считает себя великим, поскольку он отличен;
каждый орган государственного механизма велик одним лишь величием монарха.
Законодательство, религия и честь в монархиях предписывают прежде всего
повиновение князю. Но, с другой стороны, это же чувство чести кладет предел
безграничному произволу последнего, потому что оно воспрещает государю посягать
на честь его подданных, а им самим воспрещает исполнять такие предписания
власти, которые противоречат правилам чести. Так, например, когда после
Варфоломеевской ночи Карл IX отдал приказание о повсеместном избиении
гугенотов, виконт д'Орт, губернатор Байонны, отвечал королю: «Ваше Величество, я
нашел между жителями и военными людьми много добрых граждан и хороших
солдат, но ни одного палача: поэтому они и я просим Вас употребить наши руки
и нашу жизнь на какое-либо другое, возможное для нас дело».
В монархии чувство чести кладет преграду произволу, потому что оно не
дозволяет поступков явно бесчестных. Честь предполагает целый кодекс незыблемых
правил. Понятно, что деспотия, где все зависит от произвола одного лица, не
мирится с какими бы то ни было правилами, а по тому самому не мирится с чувством
человека. Люди, проникнутые сознанием своего личного достоинства, были бы
здесь элементом опасным и революционным. В отличие от монархии, в деспотии
главной пружиной или принципом служит чувство страха. Здесь власть может
удерживать подданных в повиновении лишь при том условии, если она
ежеминутно готова расправиться с выдающимися людьми. Здесь не может быть каких-либо
постоянных сословных привилегий или отличий, так как здесь все одинаково
рабы. Великий визирь временно обладает неограниченными полномочиями, но
он сам находится под вечным страхом деспота, который ежеминутно может его
казнить.
Законы каждого государства находятся в зависимости от его природы и от его
движущего начала. Законы о воспитании, например, в демократических
республиках должны стремиться к тому, чтобы внушить молодому поколению любовь
к родине и в особенности любовь к равенству, при которой только и может
держаться демократия. В аристократии воспитание должно заботиться о том, чтобы
внушить умеренность правящим классам. В монархии оно стремится внушить
сословиям чувство чести, преданность и повиновение монарху. Наконец, в деспотии
воспитание отличается характером рабским. Оно сводится к внушению страха
и автоматического послушания. Но такое послушание обыкновенно связывается
с невежеством. Поэтому воспцтание в общеупотребительном значении этого слова
в деспотии сводится к нулю; вся задача его заключается в том, чтобы сделать
человека дурным подданным, но хорошим рабом.
216
Законы об имуществе также должны сообразоваться с основными принципами
каждой формы правления. В демократии они должны заботиться о поддержании
имущественного равенства, так как чрезмерное скопление имущества в немногих
руках ведет к самому резкому делению общества на две враждебные друг другу
группы богатых и бедных, при котором демократия может выродиться в
олигархию. В монархии законы должны поддерживать дворянское сословие. Это
достигается посредством учреждения майоратов и субституций, посредством которых
имения закрепляются из рода в род за дворянами; дворянские имения должны
быть наделены разнообразными привилегиями точно так же, как и их владельцы.
Что касается деспотии, то в виду крайней простоты этой формы правления
здесь не может быть сложного законодательства, которое свойственно формам
правления более культурным. «Когда дикие в Луизиане хотят сорвать плоды, они
рубят дерево и рвут с него плоды. Вот образ деспотического правления».
Все здесь покоится на двух-трех идеях: управление подданными здесь так же
просто, как дрессировка собаки. Все воспитание собаки сводится к заучиванию
двух-трех движений; при этом нужно, чтобы она привыкла к одному только
хозяину и повиновалась ему одному. Из всех форм деспотии худшая есть та, где
монарх объявляет себя собственником всех земель и наследником всех своих
подданных. Отсюда происходит полный упадок земледелия и промышленности
в деспотиях. Другая типическая черта деспотии есть разнузданная роскошь
рядом с нищетою. В демократиях роскошь преследуется законом как несовместимая
с равенством; в монархиях она неизбежна как последствия неравенства
состояний. В деспотиях, наконец, роскошь обусловливается не богатством, а
расточительностью; при полной необеспеченности будущего люди спешат пользоваться
настоящим, тратят свою жизнь и имущество, пока то и другое у них не отнято.
Гражданские и уголовные законы в каждой стране также находятся в
соответствии с ее образом правления. В монархиях, где господствует закон, гражданское
и уголовное законодательство весьма сложно; в деспотиях оно в высшей степени
просто, и самые законы не могут быть многочисленны. В монархиях существуют
правильные суды, причем компетенция каждого судебного места строго
определена законом. Решения этих судов протоколируются, судопроизводство их
отличается осторожностью и осмотрительностью; в своей деятельности они подчиняются
однообразным правилам, и в этом заключается главная гарантия жизни и
собственности граждан. Большое количество привилегий отдельных сословий
вызывает необходимость в множестве законов, которыми эти привилегии
устанавливаются, и судья должен принимать их во внимание. Напротив, в деспотиях, где
вместо закона господствует произвол судьи, как судоустройство, так и
судопроизводство отличаются чрезвычайной простотой. Здесь не существует разнообразных
правил для разных сословий. В'Турции паша обыкновенно быстро кончает
гражданские разбирательства тем, что бьет, по своему усмотрению, палкой по пятам
тяжущихся и отсылает их домой. В деспотических государствах князь может
судить сам непосредственно. В правильных монархиях это невозможно, так как
этим самым устраняются необходимые посредствующие органы власти и
законный порядок рушится. Суд князя, стоящего выше закона, не связанного
никакими правилами, есть совершеннейший произвол, мыслимый в одних лишь
деспотиях.
Каждая форма правления извращается, когда она отклоняется от основного
своего принципа. Демократия извращается, когда в народе иссякает любовь к
равенству или, напротив, когда любовь к свободе и равенству переходит в анархиче-
217
скую крайность. Аристократия извращается, когда правящее сословие
пользуется своею властью ради узко понятого сословного интереса. Наконец, монархия,
говорит Монтескье, вырождается, когда князь, стягивая все к себе,
отождествляет государство со своей столицей, столицу со сврим дворцом и дворец с самим
собою. Последние слова имеют в виду, несомненно, дореволюционную французскую
монархию, каковою знал ее Монтескье, и бьют ей не в бровь, а прямо в глаз. Они,
очевидно, имеют в виду формулу Людовика XIV «государство — это я» и
намекают на порядок тогдашней Франции, где придворная жизнь наполняла собою все
и Версаль как бы отождествлялся со всей нацией. Монтескье, очевидно, желает
предостеречь французов против грозящей им беды; он указывает на неизбежность
вырождения монархии в деспотию там, где уничтожаются привилегии сословий
и городов и управление слишком централизуется.
Вообще, извращение всякого государства то же, что превращение его в
деспотию, которая представляет собою крайний предел, дальше которого извращение
идти не может. Цель государства для Монтескье должна заключаться в
обеспечении свободы, и центр тяжести его учения заключается в теории конституционных
гарантий, необходимых для достижения этой цели.
Свобода, по Монтескье, вовсе не есть возможность делать что угодно. Где люди
не сдержаны в своей деятельности никакими правилами — там царствует анархия
или произвол. «Все мы должны быть рабами закона, чтобы быть свободными», —
говорит Цицерон, и в согласии с ним Монтескье учит, что «свобода есть право
делать все, что не воспрещено законом». Если бы гражданин мог делать и то, что
законом воспрещается, то и другие могли бы делать то же самое, следовательно,
никто бы не был свободен. В этом смысле слова свобода возможна при всяком
законном и умеренном образе правления. Она может процветать в монархии;
с другой стороны, ее может и не быть в аристократии и демократии, когда
правители не сдержаны законом. Вековечный опыт указывает, что всякий человек,
пользующийся властью, наклонен ею злоупотреблять. Поэтому государственное
устройство должно быть таково, чтобы в нем власть останавливала власть.
Различая между свободой политической и свободой частной, Монтескье видит в
разделении властей, взаимно друг друга сдерживающих и уравновешивающих,
необходимое обеспечение политической свободы.
Есть одна лишь страна, коей государственное устройство ставит себе высшей
целью обеспечение политической свободы, где принцип политической свободы
отражается как в зеркале. Страна эта Англия, и знаменитая глава трактата
Монтескье, которая имела определяющее значение в современной конституционной
истории, есть комментарий к английской конституции.
Вся эта глава может рассматриваться как развитие и дополнение известной
уже нам теории Локка. В каждом государстве, учит Монтескье, существуют три
рода власти: законодательная, исполнительная и судебная. Всякий раз, когда все
эти три власти или хотя бы две из них соединяются в руках одного лица или
одного учреждения, политическая свобода неизбежно рушится. «По отношению
к гражданскому, — читаем мы в «Esprit des lois»68, — политическая свобода есть
спокойствие духа, проистекающее из уверенности каждого в его безопасности».
Уверенность эта заключается в том, что гражданин, поскольку он сам не
нарушает закона, не боится другого гражданина. Когда законодательная и
исполнительная власть сосредоточены в одних/руках, то политической свободы не существует,
ибо при таком порядке вещей можно опасаться, что законодатель будет издавать
тиранические законы для тиранического исполнения. Когда законодатель явля-
218
ется вместе с тем и судьею, то он обладает безграничной и произвольной властью
над жизнью и имуществом граждан, ибо он может устанавливать законы (ad hoc)
для отдельных судебных казусов, и в таком случае законный порядок никого не
обеспечивает. Когда судья является вместе с тем и исполнителем своих решений,
то он может обратиться в притеснителя.
Судебная власть не должна вверяться постоянным учреждениям, а лицам,
временно избираемым из народа способом, установленным законом; составляемые
таким образом суды собираются периодически в известное время года и
расходятся по рассмотрении всех дел. Ради обеспечения справедливого суда подсудимому
в уголовных делах должно быть предоставлено право отвода тех судей, коих
беспристрастие не внушает ему доверия. Когда же служебная власть вверяется
постоянным учреждениям, то деятельность судьи должна быть в особенности строго
нормирована законом. Каждый должен быть судим своими пэрами, как это
практикуется в Англии, то есть судьи должны быть лицами, равными по состоянию
с подсудимым, иначе правосудие может стать орудием взаимного угнетения
сословий. Никто не должен быть заключен в тюрьму без приговора судебной власти,
иначе гражданин может стать жертвою административного произвола. Только
в исключительных случаях, когда государству угрожает опасность от заговоров,
исполнительной власти может быть временно предоставлено право на краткий
срок лишать подозрительных граждан свободы с тем условием, чтобы вопрос об их
виновности потом окончательно решался судом.
Власть исполнительная и законодательная в противоположность власти
судебной должна быть вручена постоянным учреждениям. Так как свободные лица
должны управлять сами собою, то законодательная власть, собственно говоря,
должна бы была принадлежать народу как целому. Но так как в больших
государствах нового времени собрание всего народа не может умещаться на одной
площади, как в древних республиках, то непосредственное народное самоуправление
здесь невозможно. Поэтому законодательная власть должна быть вручаема
избранным самим народом представителям. Чтобы в законодательном (порядке)
собрании были представлены не только общие интересы, но и местные нужды,
необходимо, чтобы отдельные города и области посылали туда своих представителей.
Выгода народного представительства заключается в том, что оно способно к
обсуждению дел, чего не могут делать слишком большие народные массы. Получая
от избирателей общую инструкцию, депутаты не должны ждать от них
специальных полномочий для каждого данного дела, как это практиковалось в
современной Монтескье Германии, так как это ведет к нескончаемым замедлениям и
делает почти невозможным успешное ведение дел. Право избирать представителей
должно быть предоставлено всем гражданам, кроме тех, коих низкое
общественное положение лишает всякой Ьамостоятельности. Законодательное собрание не
должно заседать постоянно, а должно собираться периодически: в противном
случае парализуется деятельность исполнительной власти, которая поглощена
защитою своих прерогатив против народных представителей и не имеет достаточно
времени для приведения в исполнение законов, которые составляют главную ее
обязанность. Законодательные собрания должны быть избираемы на время, а не
навсегда. Верховный владыка, народ, должен обладать возможностью обновлять
их посредством выборов, чтобы они никогда не переставали быть выразителями
народной воли. '
Право собирать и распускать законодательное собрание должно принадлежать
исполнительной власти. Оно не может собираться по собственной инициативе.
219
Иначе может случиться, что соберутся не все депутаты и тогда трудно будет
решить, которые же действительно составляют законодательное собрание,
собравшиеся или не собравшиеся. Если народным представителям принадлежит
исключительное право себя распускать, то они фактически могут никогда не
расходиться: при этом условии законодательное собрание может выродиться во
власть неполитическую: оно может изменить все законодательство и присвоить
себе всякую власть административную и судебную. Поэтому право распускать
законодательное собрание, принадлежащее исполнительной власти, должно
служить гарантией против возможных злоупотреблений последней.
Другой сдержкой является устройство второй палаты — палаты господ. В этом
Монтескье опять-таки следует выработанному Англией образцу. В большей части
государств существуют лица, в силу рождения поставленные в особое,
привилегированное положение. Уравнять аристократию со всеми значило бы отдать ее
в жертву ненависти других сословий, то есть оказать ей высшую
несправедливость: всеобщая свобода была бы для нее рабством. Участие ее в законодательстве
должно быть пропорционально другим ее привилегиям. Знать должна составлять
из себя особую законодательную палату, притом — палату наследственную. Такая
палата может служить противовесом и тормозом демократическим движениям
и крайностям народных представителей. Чтобы эта наследственная палата не
могла жертвовать общим благом народа для своих сословных интересов, ей не
должно принадлежать право решать вотумом денежных биллей: в биллях этого рода ей
принадлежит только власть задерживающая, право veto.
Исполнительная власть должна сосредоточиваться в руках монарха, потому
что первое и необходимое качество администрации заключается в быстроте
и единстве действий; законодательная власть всегда лучше действует, когда
закон является выражением коллективной воли и результатом коллективного
обсуждения. Напротив, административный механизм всегда лучше управляется
одним лицом. Если бы монарха не существовало и администрация
сосредоточивалась бы в руках нескольких лиц, взятых из среды законодательного собрания,
то не было бы и свободы. Для свободы всегда гибельно совмещение в одних и тех
же лицах двух видов власти, которые должны быть разделены. Если
исполнительная власть имеет возможность сдерживать увлечения законодательного
собрания посредством распущения и права veto, то, наоборот, законодательное
собрание не должно иметь возможности останавливать деятельность
исполнительной власти. Последняя ограничена по самой своей природе. Раз
законодательство от нее отнято и деятельность ее выражается лишь в применении
закона, ей же не следует полагать каких-либо других ограничений.
Законодательное собрание, конечно, может рассматривать, приведены ли его законы в
исполнение. Но особа верховного исполнителя закона, короля, должна считаться
неприкосновенною и не подлежащею суду народных представителей.
Самостоятельность исполнительной власти необходима в государстве для того, чтобы
законодательное собрание не стало властью тираническою. Как только народные
представители присваивают себе право суда над главою исполнительной власти,
они тем самым смешивают в своем лице власти, и существенная гарантия
свободы исчезает. Король как глава исполнительной власти должен быть признан
безответственным. Иное дело советники короля, его министры. Плохая и
противозаконная администрация возможна лишь при том условии, если король
пользуется услугами плохих советников, которые берут на себя роль органов
противозаконной политики. Министры в отличие от короля должны считаться
220
ответственными перед законодательным собранием: они могут быть судимы
и казнимы.
Но народные представители в случае столкновения с исполнительной властью
сами являются стороною в столкновении, поэтому они могут быть только
обвинителями, а не судьями. С другой стороны, суд над министрами не должен быть
предоставлен обыкновенным судам, которые не могут судить беспристрастно высших
себя уже потому, что извлечены из народной среды: трудно допустить, чтобы они
могли противостоять такому могущественному обвинителю как палата народных
представителей. Министры должны быть судимы палатой господ, которая вообще
является посредницей между королем и народными представителями.
Составленная из людей, занимающих высшее положение в иерархии, она представляет
всего больше гарантий для беспристрастного суда над советниками короля. Нижней
палатой должно быть представлено только право обвинения министров перед
верхней палатой.
Не участвуя в законодательстве, исполнительная власть не может ни
участвовать в обсуждении законодательных проектов, ни предлагать от себя какие-либо
проекты законодательным собраниям; однако, чтобы гарантировать
самостоятельность исполнительной власти против возможных узурпации со стороны
народных представителей, королю должно быть предоставлено право veto против
решений палаты.
В государстве, устроенном таким образом, главная опасность для свободы
заключается в том, что король начальствует армией, для которой
необходимо единоличное управление, и распоряжается денежными суммами,
вотируемыми парламентом. Ввиду возможных со стороны исполнительной власти
злоупотреблений деньгами и войсками требуются особые конституционные
гарантии. Во избежание этих злоупотреблений парламенты должны вотировать
государственный бюджет не раз навсегда, а через определенные промежутки
времени, например, ежегодно. Что же касается войска, то оно должно, по
возможности, сливаться с народом; это достигается, например, путем системы
кратковременных вербовок, при которых войско не обособляется в замкнутую касту;
наконец, законодательная власть должна сохранять за собою право распущения
армии.
Государственный идеал Монтескье есть равновесие властей, взаимно друг
друга сдерживающих. Спрашивается, каким же образом возможно коллективное
действие этих трех разделенных и совершенно обособленных властей.
По-видимому, это устойчивое равновесие учреждений, взаимно друг друга сдерживающих,
должно привести власти к состоянию покоя или бездействия, «но, так как в силу
необходимого движения вещей они вынуждены двигаться, — говорит
Монтескье, — то они будут вынуждены двигаться согласно».
Последнее замечание не устраняет возражения против учения Монтескье, а,
напротив, обнаруживает слабые пункты этого учения. Изложенная нами теория
разделения властей не есть только кабинетное измышление отвлеченного
теоретика-мыслителя. В нем выразились конституционные принципы, необходимо
связанные с самою сущностью политической свободы и потому универсальные,
выработанные практикой английского государственного права. Эти принципы были
впервые формулированы, хотя и в весьма несовершенном виде, Локком и
приведены в стройную систему Монтескье. При всей своей принципиальной верности
учение Монтескье страдает, однако, многочисленными частными недостатками.
Недостатки эти обусловливаются частью несовершенством государственного пра-
221
ва тогдашней Англии, частью же составляют индивидуальную, личную вину
самого Монтескье.
Монтескье, как и Локк, не имеет понятия о кабинете министров. Это
учреждение в XVIII столетии существовало лишь в зародышевом состоянии. Оно
окончательно было выработано только конституционной практикой Англии XIX века.
Вследствие этого учение Монтескье сталкивается с рядом неразрешимых
затруднений.
Во-первых, теория Монтескье не дает удовлетворительного ответа на вопрос
о возможности коллективного действия трех властей, совершенно
самостоятельных и ничем между собой не связанных, отделываясь от этого вопроса
замечанием остроумным, но поверхностным.
Трудно себе представить, каким образом король, безответственный, притом
опирающийся на армию, может стать покорным исполнителем решений
законодательного собрания, которое не обладает достаточными средствами, чтобы
принудить его к повиновению. Безответственный король, ничем не ограниченный
в административной сфере, легко может при помощи армии уничтожить
парламент, присвоить себе законодательную власть. Судебная ответственность
министров сама по себе, без других сдержек, вряд ли может здесь служить достаточной
гарантией, так как на стороне исполнительной власти все-таки остается перевес
силы, при помощи которой она всегда может надеяться произвести
государственный переворот. В современных конституциях это затруднение вполне
разрешается устройством кабинета министров. Монарх не считается главою
исполнительной власти, а главой государства — согласно известной формуле Тьера: «король
царствует, но не управляет». С одной стороны, король безответствен, с другой
стороны, все управление поручается ответственным перед парламентом министрам.
В современных конституционных государствах ни один чиновник и ни один
офицер армии не имеют права принять к исполнению какое-либо приказание короля,
если оно не контрассигновано подлежащим министром, ответствуя в противном
случае перед судом. Этим вполне устраняется возможность злоупотребления
властью со стороны короля. Вообще, теория разделения властей в чистом виде
неприменима. Для согласного действия они должны быть приведены в связь между
собою, а этого-то именно и недостает в учении Монтескье. Чтобы исполнительная
власть действительно соответствовала своему назначению, парламент должен
осуществлять близкий надзор за деятельностью министерства и подвергать критике
его действия. Но в таком случае парламент уже выходит за пределы одних
законодательных функций: он управляет страной через посредство исполнительного
органа министерства. Ставя исполнительную власть вне всякой связи с народными
представителями, Монтескье лишает ее законодательной инициативы. Это опять-
таки крупный недостаток его теории. Кому же лучше знать о недостатках
действующего законодательства и о необходимых реформах, как не министрам, коим
вверено исполнение закона? Исполнение закона часто встречается с такими
затруднениями, коих не мог предвидеть законодатель. Эти затруднения легко
устраняются при современном устройстве, где министры суть члены парламента
с правом инициативы и голоса во всех законодательных делах. То же должно
сказать и относительно судебной власти. И она должна быть подчинена контролю
законодательного собрания, иначе суд может вовсе не применять установленных
парламентом законов. Это ц достигается в современных конституциях
устройством особого министерства юстиции, ответственного перед парламентом, как и все
прочие министерства, и наравне с ними участвующего в законодательстве,
222
Неприменимая в чистом виде теория разделения властей, исправленная
позднейшей конституционной практикой, лежит в основе всех европейских
культурных государств. Она составляет краеугольный камень политической свободы,
с отнятием коего все здание рушится. Монтескье впервые систематически развил
это учение о разделении властей, заключавшееся в зародышевом состоянии уже
в трактатах Локка. В этом состоит его главная, бессмертная заслуга, в этом
заключается его пророческое значение по отношению к современной культурной
Бвропе.
Руссо(1712-1778)
Теоретик английской конституции, Монтескье сочетает в своем учении
элементы эмпирические и рационалистические. Как мы видели, он принимает во
внимание как требования разума, так и условия действительности; как желательное,
так и возможное при данных исторических условиях. По всему складу своего ума
Монтескье скорее реформатор, чем революционер, он сторонник мирного
улучшения, а не насильственного опровержения исторически существующего.
Монтескье — представитель умеренно либеральных тенденций.
Революционные стремления века нашли себе классическое олицетворение в произведениях
другого писателя, в политических трактатах Жана Жака Руссо. Политическая
программа Монтескье опирается на существующие учреждения, она имеет перед
собою готовые образцы. Напротив, в трактате Руссо мы видим полный разрыв
с настоящим и прошлым истории. Единственный источник права и правды для
него — человеческий разум, который в самом себе черпает сознание должного или
не должного. Историческая действительность имеет право на существование
лишь поскольку она логически выводится из требований разума. Кальвинисты
XVI века и английские сектанты XVII века представляли себе божественную
благодать как революционную силу, которая все дробит и разрушает и на место
разрушенного строит вновь. Прямой потомок французских кальвинистов,
эмигрировавших в Швейцарию в дни кровавых преследований XVIII века, в эпоху
Варфоломеевской ночи, Руссо унаследовал разрушительный фанатизм своих
предков. Но этот фанатизм у него соединяется с культом разума, пред которым
религиозные убеждения отступают на второй план. Как кальвинистам благодать,
так и Руссо человеческий разум представляется роковою силой, перед которой все
падает в прах. Руссо — деист и противник материалистического учения. Но не эти
религиозные начала служат основою его революционной проповеди. Последняя
исходит из чисто рационалистического источника. Верующий деист, Руссо
представляет себе Бога в виде мирового механизма, который раз навсегда устроил
машину, пустил ее в ход, а затем уже не нарушает естественного течения вещей
своим постоянным вмешательством. Мировой процесс вытекает с необходимостью из
первоначально данного устройства, и так же точно развитие человеческого
общества должно с математической необходимостью вытекать из первоначально
данной человеку свободы.
Человек сам является устроителем своих судеб, и революционное учение Руссо
строится не на религиозной, а на чис*о светской, рационалистической основе.
В этом заключается отличие Руссо от классического представителя английской
революции Мильтона, и в этом заключается одно из важных различий двух рево-
223
люций. В английской революции с мотивом светским соединяется мотив
религиозный. Французская революция, напротив, есть чисто светское движение.
Культ человеческого разума и попытка вывести геометрически весь
общественно-политический строй из свойств свободной личности не есть что-либо новое в
истории философии права. Руссо имеет своих предшественников среди мыслителей
как эмпирического, так и рационалистического направления. Достаточно назвать
имена Локка и Гуго Гроция.
Приемами своей мысли Руссо в особенности напоминает последнего. Но Гуго
Гроций, как мы видели, не доводит учения об естественном праве до крайних
последствий. Он не революционер, а созерцатель. Общественный договор, по его
учению, может получить любое содержание; им человеческая свобода может быть
навеки связана с любой формой правления, хотя бы даже со всеобщим рабством.
Руссо, напротив., видит вместе с Локком в человеческой свободе божественный
дар, который не может быть уничтожен никакими соглашениями. У него
естественное право обращается в учение разрушительное. В понятиях
неприкосновенности человеческой свободы Руссо неумолимой силой логики выводит ряд
последствий, лишь наполовину осознанных Локком. Мысль Локка в своем логическом
развитии задерживается историческими препятствиями. Он ищет гарантий
свободы в существующих уже в Англии учреждениях. Напротив, для Руссо не
существует препятствий: он хочет пустить все исторически существующее
насмарку во имя чисто логической конструкции. Основные принципы его учения не
новые. Новою и небывалою представляется только необычайная энергия мысли,
которая одушевляет все эти принципы до конца, не пугаясь никаких последствий.
Новым представляется и то необычайно страстное воодушевление, которое
сообщает трактатам Руссо какую-то магнетическую, чарующую силу. Гуго Гроций
и Локк — спокойные теоретики, Руссо, напротив, страстный проповедник,
который действует на воображение и ослепляет массы. Колоссальное значение его
произведений объясняется, быть может, еще в большей степени их формой, чем
их содержанием; это не только влияние сильного мыслителя, но магическое
впечатление личности.
Разрыв со всей современной деятельностью есть первый шаг философии Руссо.
Современное ему человечество, в особенности Франция того времени, являет
собою резкий контраст богатства и нищеты, роскоши двора и привилегированных
классов и полного оскудения народов. Общество это гнило от основания и до
вершины. Вся его культура зиждется на радикально ложном, никуда не годном
основании и заслуживает безусловного осуждения. Это отрицательное отношение
к исторически существующему выразилось в двух первых политических
трактатах Руссо: в его «Речи о наука* и искусствах» (1750) и в «Речи о происхождении
и основании неравенств меяСду людьми» (1754).
По природе все люди равны между собою, и свобода есть prius69 всех
общественных отношений. «Человек рождается свободным, между тем он повсюду в
оковах». От испорченной культуры современного ему общества Руссо обращается
к созерцанию примитивного естественного состояния, предшествовавшего
общежитию. Неравенства коренятся не в природе человека, а составляют плод
искусственного развития. Чтобы получить понятие об истинном, нормальном человеке,
каким он вышел из рук Творца, нужно отвлечься от этого искусственного
механизма культурного общества. Первоначальный человек был груб и наивен.
Правдивый и неиспорченный, он не знал роскоши и был чужд излишних потребностей.
Все эти сложные потребности искусственно привиты человеку обществом. Науки
224
и искусства извратили примитивные нравы и способствовали удовлетворению
самого утонченного эгоизма. Они создали роскошь культурных классов, которая
ложится невыносимой тяжестью на бедный рабочий люд. Подобно Локку, Руссо
представляет себе естественное состояние в идиллическом свете. Люди по
природе друзья между собою, и в примитивном человеке над эгоизмом преобладают
симпатические влечения. Bellum omnium contra omnes не есть свойство естествен^
ного состояния, а, наоборот, результат состояния государственного, которое
создало враждебные друг другу государства и общественные классы. Реакционер
Гоббс рисует в самых мрачных красках естественное состояние и видит
единственное спасение от него в подчинении деспотической власти. Революционер Руссо,
напротив, приберегает тени для современного ему государства и видит в
естественном состоянии источник света. Главная прелесть первобытного человека
заключается в его необычайной простоте: «Он насыщается под дубом, утоляет
жажду в первом ручье, спит под тем же деревом, которое доставило ему пищу, вот и все
его потребности», — читаем мы в «Речи о неравенстве». Люди живут
первоначально в виде рассеянных единиц, отличаясь от животных лишь свободной волей
и разумом, той несчастной способностью к совершенствованию, которая служит
источником всех его последующих бедствий. Люди не имеют постоянных жилищ,
ни семьи, и половые отношения выражаются в преходящей связи двух особей,
которая прекращается, как только насыщается потребность. Дети покидают и
забывают свою мать, как только они в состоянии сами добывать себе пищу. В этом ес-
тественном состоянии заключается идеал нормальной, истинной жизни; счастье
человека и его добродетель заключается в господстве чувства, а не разума;
состояние мышления противоестественно; человек, который размышляет, есть
животное извращенное.
Препятствия, встречаемые человеком в его деятельности, вызывают его на
труд и умственное напряжение. Отсюда возникает источник всех общественных
зол, собственность. Первый человек, огородивший какой-либо участок земли
и сказавший: «Это мое», — есть первый изобретатель собственности. Великим
благодетелем человечества был бы тот, кто, выдернув колья и закопавши ров,
крикнул бы своим ближним: «Не слушайте этого обманщика, вы погибли, если
забудете, что плоды земные принадлежат всем, а земля никому». Собственность
разделила людей на богатых и бедных, благодаря ей человек стал рабом_своих,
нужд и по тому самому зависимым от других. Чтобы оградить собственность
против чуждых нападений, люди соединились в государства и учредили власти.
Государства возникли путем общественного договора. Оригинальная черта двух
названных трактатов заключается в том, что в них государственное состояние
представляется как бы некоторого рода грехопадением. Естественное состояние
у Руссо не есть реальное предшестэовавшее, а только логическое prius всех
существующих обществ. Это не есть описание человека, как он действительно
существовал, а идеальное представление о человеке нормальном, каким он должен быть.
В позднейшем трактате «Contract social»70 Руссо, напротив, отдает предпочтение
государственному состоянию перед естественным.
Естественное состояние не более рак фикция. Как в природе мы не находим
геометрических тел, так же точно в действительности невозможен этот фиктивный,
изолированный от общества человек.
Ненормальность существующего строя не может быть побеждена одними идил-
листическими мечтаниями, и мысль Руссо на них не успокаивается. В
позднейшем трактате «Об общественном договоре» Руссо преследует другую, более прак-
8 3ак. 3911 225
тическую задачу: оставив бесплодные сожаления о неосуществимом естественном
состоянии, он задается вопросом о том, каким образом возможно сохранить
свободу в государственном состоянии. Вопросом этим уже до Руссо занимались Локк
и Монтескье. У Руссо, однако, мы находим учение несравненно более
радикальное, чем у его предшественников. Вместе с Локком он признает, что человеческая
свобода ни при каких условиях не подлежит совершенному и полному
отчуждению. «Отказаться от свободы», — пишет он, то же самое, что отказаться от своего
человеческого достоинства; «для того, кто отказывается от всего, нет возможного
вознагражденья». На этом основании Руссо всеми силами восстает против
известных нам учений Гуго Гроция и Гоббса. Договор, в силу которого человек продает
себя кому-нибудь в рабство, не есть даже договор, ибо здесь нет равновесия прав
и обязательств, которое составляет сущность всякой юридической сделки. Здесь
одна сторона все отдает, не получая ничего взамен своих услуг. Ибо господин не
может быть связан какими-либо обязательствами по отношению к рабу. Поэтому
такой договор должен рассматриваться как сделка ничтожная и необязательная
для договаривающихся. Задача трактата «Об общественном договоре»
формулируется таким образом: требуется найти такую форму общежития, которая
сохраняет и защищает свободу и имущество каждого из граждан и где каждый,
соединяясь со всеми, повинуется только самому себе, сохраняя всю свою прежнюю
свободу.
Эта задача разрешается лишь при том условии, если общественный договор
одинаково всех связывает, не создавая ни для кого особого, привилегированного
положения. Если человек отчуждает свою свободу в пользу власти, стоящей над
всеми, он тем самым становится рабом власти, но рабство и право суть два
несовместимых термина; бесправие ни в каком случае не может быть правовым
отношением; такое отчуждение, где свобода сама себя уничтожает, должно быть
признано противоречивым и нелепым. Иное дело, когда человек жертвует своей
естественной свободой в пользу всех, в пользу общества как целого. В последнем
случае взамен своей жертвы он получает эквивалент того, что он дает. Это жертва
взаимная, при которой я как член общества получаю от моих ближних столько
же, сколько я сам им отдаю. Я жертвую моей частной анархической свободой
и вместо этого становлюсь членом воли общей, коллективной; я получаю равное
с другими лицами право участия в общем деле. Иначе говоря, в силу
общественного договора, как его понимает Руссо, свобода естественная заменяется свободой
гражданской и политической. Все мы становимся под управление общей воли,
которая включает в себя все наши единичные воли, каждый из нас становится
участником народного верховенства.
Верховная власть, по самой сущности общественного договора, может
принадлежать только народу как коллективному лицу. Руссо не допускает возможности
дальнейшего перенесения народного верховенства на власть, отличную от самого
народа. В этом заключается радикальное его отличие от всех предшествовавших
ему теоретиков общественного договора. В противоположность народу как
целому, который представляет собою волю общую, всякое отдельное лицо и всякая
общественная группа представляет собою лишь волю частную. Следовательно,
всякое перенесение верховенства с народа как целого на одно или несколько лиц есть
под становление воли частной на место воли общей. Такая замена наносит ущерб
всеобщей равноправности и по τομγ самому несовместима с основной идеей
общественного договора. Верховенство народа может быть представлено только им
самим. На. этом основании Руссо восстает против идеи народного представительства.
226
Общая воля народа не может быть представлена несколькими лицами по той
простой причине, что она не может быть отчуждена. С той минуты, когда народ
отказывается от права непосредственного решения общественных дел, перенося это
право на каких-либо представителей, он тем самым заменяет волю общую волей
частной и, следовательно, перестает быть свободным. Англичане воображают
себя свободною нацией. Они действительно свободны во время избрания членов
парламента, но, раз эти члены избраны, народ становится их рабом, более того, он
перестает быть народом, так как он уже не есть свободное коллективное лицо.
Другое последствие общественного договора есть неделимость народного
верховенства. Из соединения отдельных лиц образуется единый и неделимый
субъект — народ, носитель всяческой власти. На этом основании Руссо восстает
против учения Монтескье и Локка о разделении властей. Как организм нельзя
составить из отдельных раздробленных членов, так же точно и власть не может
быть составлена из отдельных разрозненных элементов. Если народ не может
отказаться от своего верховенства в целом, то не может переносить его и по частям
на отдельные органы. Конечно, могут существовать различные органы власти,
но все эти органы должны рассматриваться не как носители народного
верховенства в части или в целом, а как уполномоченные, подчиненные власти, которые
исполняют те или другие поручения верховного владыки — народа.
Верховенство принадлежит не частной, а общей воле. Особенность последней
заключается в том, что она всегда направлена на общее благо и потому всегда
права. Однако народ может заблуждаться в своих решениях: он всегда хочет блага,
но не всегда знает, в чем оно заключается. Общую волю поэтому нужно отличать
от воли всех; первая всегда направлена на общий интерес, последняя же есть
совокупность частных интересов отдельных лиц, из коих составляется народ.
Чтобы найти общую волю, нужно откинуть все разногласия и определить то, в чем все
согласны. Воля большинства поэтому не есть общая воля, а воля частная,
партийная. Как скоро в обществе появляется борьба партий, общая воля исчезает.
Истинное выражение общей воли может быть получено лишь при том условии, если при
решении общих дел граждане вотируют каждый за себя, без предварительного
сговора с другими. При решении общих дел у отдельных лиц не спрашивается,
хорошо или дурно то или другое предложение, а какова общая воля. Моим вотумом
я выражаю только убеждение в том, что такова общая воля. Если я ошибся, если
по исчислению голосов мое мнение окажется не общим, а частным, то оно должно
быть откинуто. Каждый вотирующий должен заранее исходить из
предположения безусловной правоты общей воли, выражающейся в большинстве голосов.
Народное верховенство выражается лишь в общих постановлениях, в
законодательстве, которое имеет в виду лишь общественный интерес. От законодательства
нужно отличать исполнение закона, которое выражается в частных
постановлениях. Народ, представитель общей воли, по самой своей природе не может быть
исполнителем, именно потому, что исполнение выражается в частных решениях.
Руссо отличается от всех своих предшественников, между прочим, тем, что у него
исполнительная власть не обладает никакой самостоятельностью. На нее не
переносится ни малейшей доли народного верховенства. Исполнительные органы,
будь то король или министерство, относятся к народу, как чиновники с
временными полномочиями к верховному владыке. Чтобы сместить их и заменить их
другими, народ не нуждается в восстании. Открытие каждого народного собрания
должно начинаться вопросами: 1) угодно ли сохранение настоящего образа
правления; 2) желает ли народ сохранить власть за прежними правителями?
227
Уже здесь, на той точке, где мы стоим, мы можем констатировать
антиисторический характер трактата об общественном договоре. То, что было нами сказано
относительно недостатков рационалистической, естественной школы, более чем
к кому бы то ни было приложимо к РуАю и его учению. Во имя чисто абстрактных
требований он строит государственный идеал для всех времен и для всех народов,
который не столько противоречит всем условиям действительности, но и не может
быть осуществлен ни при каких исторических условиях. Всего более
приближается к этому идеалу непосредственная демократия в том виде, как она существовала
в Древней Греции, например в Афинах. Здесь, действительно, сам народ стал
непосредственно у кормила власти. Но такое непосредственное участие каждого
гражданина в верховной власти было возможным в древности только благодаря
рабскому труду, который обеспечивал каждому свободному гражданину досуг для
политической и общественной деятельности; к этому следует прибавить еще и
незначительные размеры государства, которое совпадало с городом. В государствах
большого размера непосредственная демократия была бы делом немыслимым.
Руссо всем этим нисколько не смущается. «Неужели свобода поддерживается
только при помощи рабства, — восклицает он, — быть может, да, обе крайности
соприкасаются». «Вы, новые народы, — читаем мы дальше, — не имеете рабов,
но вы сами рабы». «Вы платитесь за их свободу вашей собственной свободой».
Здесь антиисторический характер воззрения Руссо вовлекает его в грубое
противоречие. Он исходит из того предположения, что свобода ни при каких условиях
неотчуждаема, что рабство ни при каких условиях не может быть допущено
и признано за правовое отношение; но в конце концов оказывается, что свобода
соприкасается с рабством.
Восставая против учения Гуго Гроция и Гоббса, Руссо в конце концов впадает
в одинаковые с ними противоречия. У Гоббса и Гуго Гроция народ заключает
договор с правительством. По Руссо, напротив, правительство ни в каком случае не
может быть стороной в договоре. Гарантия свободы заключается в том, что
каждый отрекается от себя в пользу всех, а не в пользу нескольких, следовательно,
общественный договор связывает отдельных лиц с народом как целым, а не с тем
или другим правительством; правительства создаются не договором между ними
и народом, а актом верховной воли народа, который возлагает на избранных им
лиц исполнение закона. Руссо признает в принципе неотчуждаемость
индивидуальной свободы; но в конце концов и его государственный идеал ведет к
совершенному закрепощению личности, к совершенному уничтожению личной свободы.
Разница между ним и Гоббсом заключается в том, что последний проповедует
деспотизм личный, монархический, между тем как учение Руссо ведет к деспотиз-
му массовому, демократическому.
В самом деле, в силу общественного договора человек отдает себя обществу
всецело, без остатка. На народ переносится вся полнота верховных прав,
принадлежащих отдельным лицам в естественном состоянии. Никак нельзя сказать, чтобы
при таком перенесении каждый получал эквивалент того, что он отдает. Я
отказываюсь от права безграничного захвата и получаю взамен того собственность, дар
государства. Я отказываюсь» от такой защиты и взамен того получаю жизнь,
также как условный дар государства. Но равенства между тем, что я дакь_и
тем, что я получаю, не существует йотому, что взамен моей естественной свободы
я приобретаю лишь ничтожную долю участия в общем деле. На мою долю
приходится какая-нибудь миллионная доля народного верховенства, моя личность
исчезает в этом безбрежном океане народной массы. Между тем эта масса приобре-
228
тает безграничное право над моей жизнью, свободой и собственностью, более того,
над моей совестью. Верховный владыка-народ стоит выше закона и,
следовательно, не может быть связан в своей деятельности какими бы то ни было законами.
Этим создается деспотизм худшего сорта, наиболее опасный для культурного
прогресса, господство некультурных слоев общества над культурными, господство
невежественных масс над образованными и лучшими людьми. Раз общая воля
узнается посредством простой арифметической операции счета голосов, доля уча-
стия лучших людей в народном верховенстве обращается в^чистую фикцию.
Меньшинство приносится в жертву большинству, количество торжествует над
качеством.
Величайшей ошибкой было бы думать, что при непосредственной демократии,
как изображает ее Руссо, каждый, соединяясь со всеми, подчиняется только
самому себе. Учение Руссо все уравнивает и все смешивает. Оно отвлекается от
индивидуальных особенностей людей и рассматривает их всех как равноправные
единицы. Еще Аристотель указывал на несправедливость такого поголовного
арифметического равенства, высказывался против равноправности таланта и
бездарности, образования и невежества. Еще Аристотель требовал вместо этого
равенства геометрического, при котором каждый гражданин получает долю участия
во власти, пропорциональную его талантам и заслугам. Все современные нам
государства в большей или меньшей степени признают необходимость этой
культурной аристократии. Народное представительство дает возможность совмещения
этой аристократии ума и таланта с демократическим началом, которое
проявляется в выборах, выражаясь в институте всеобщего голосования. Между тем Руссо
восстает против идеи народного представительства. Ясное дело, что при этом
условии лучшие силы общества приносятся в жертву, не получая ничего взаимен того,
чем они жертвуют обществу.
Право народного верховенства у Руссо простирается не только на светскую
область, но и на религиозную сферу. Здесь человек приносит в жертву государству
не одни светские блага, но и душу, и совесть. Гоббс был прав, говорит Руссо, в том,
что он хотел все привести к политическому единству, подчинив светской власти
религию и ее догматы. Нельзя служить двум господам, и человек не должен
подчиняться двум властям — светской и духовной. J3ce, что разрывает политическое
единство, должно быть отброшено как негодное. Так, римский католицизм,
подчиняющий верующих независимой от государства власти папы, не должен быть
в нем терпим. Всякий, кто осмелится сказать — «вне церкви нет спасения»,
должен быть изгнан вон из государства. Вообще, в словах «христианское
государство» есть противоречие, ибо христианин всем жертвует небесной родине,
следовательно, он может быть лишь1 плохим гражданином родины земной. Чтобы
избежать этого рокового раздвоения, государство должно взять религию в свои
руки. Оно должно создать гражданский катехизис и предписывать людям догматы,
которые бы приковывали их к земной родине. Таким образом, во имя народного
верховенства Руссо возводит в принцип религиозную нетерпимость.
Таковы недостатки учения Руссо. Несмотря на все эти недостатки, оно имеет
огромное историческое значение*. Учение это воодушевило деятелей Французской
революции и проявилось в них как грозная, разрушительная сила. Конечно,
нельзя не признать, что в основе всей этой цроповеди свободы, равенства и братства
лежит великое и благородное чувство. Это был сильный и громкий протест против
феодальных порядков дореволюционной Франции. Упразднение этого порядка
было исторической необходимостью, и постольку нельзя не признать за Руссо
229
крупной, хотя и отрицательной исторической заслуги. Но тот положительный
идеал, который он противопоставил старым порядкам, должен быть признан
односторонним и несостоятельным. Противоречия учения Руссо наглядным
образом выразились в самой революции, в деятелях Конвента, которые проводили
на практике его начала. Во имя свободы они создали систему террора, а его
массовыми казнями идея равенства выродилась у них в жестокий демократический
деспотизм.
230
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА (НОВЕЙШАЯ)
Давид Юм (1711-1776)
Эмпирическая система Джона Локка преисполнена противоречий. Трактаты
Локка выражают собой зрелый возраст английской революции. Он является
строгим последователем Бэкона, который положил начало эмпиризму. Этот
последний требовал от своих продолжателей приложения нового метода главным
образом к явлениям мертвой природы. Таким образом, и Локк является
представителем эмпиризма. Он говорит, что вещи могут быть познаваемы нами
постольку, поскольку они воспринимаются нашими чувствами, а следовательно,
сущность вещей — «вещи в себе» — не может быть предметом нашего познания, как
область недоступная опыту. Но Локк не останавливается на этом положении,
лежащем в основе всего его учения. Он говорит, что некоторые первичные качества
«вещей в себе» (форма, цвет, величина, способность передвижения в
пространстве и пр.) могут быть познаны нами: в этом-то и заключается основное
противоречие всей системы Локка. Подобная непоследовательность явилась у него
вследствие того, что он различал кроме первичных качеств вещей, которые составляют
свойства самой объективной действительности, еще и вторичные их качества,
которые суть лишь только наши1 субъективные впечатления. Поэтому образовалось
два понятия о качествах вещей: первичные — те, с отнятием которых
уничтожается несомненно и самая вещь, вторичные же, напротив, — качества случайные,
которые присущи вещи лишь в отношении к воспринимающему субъекту и
отсутствие которых еще не обусловливает уничтожение существования самой вещи.
(Вторичные качества — звук инструментов, цвет каких-либо предметов —
воспринимаются нашими слуховыми и зрительными органами чувств.) Это учение не
выдержало критики, и на долю философов конца XVIII и XIX века выпало
доказать, что первичные качества суть формы представления, так сказать, способы яв-
ляемости вещей, но отнюдь не свойства «вещей в себе», вид представляющего
субъекта и независимо от него самого. Поэтому мы в настоящее время не можем
утверждать, что вещи существуют объективно. Таким образом, эти противоречия
231
в учении Локка доказывают, что он слишком увлекся односторонними началами,
принятыми им за основание. Как и Бэкон, Локк — односторонний приверженец
опыта. А между тем основное предположение, из которого он исходит,
почерпнуто им не из опыта, а следовательно, опытом не может быть и опровергнуто.
Подобная непоследовательность сказывается также и в учении Локка о государстве. Его
политическая система есть как бы резюме политического опыта Англии, но она не
есть последовательное развитие эмпиризма, ибо отрицая врожденные человеку
идеи, он говорит о каких-то врожденных человеку естественных правах.
Государство Локка охраняет эти врожденные права. Такое одностороннее понимание
целей государства указывает на то, что Локк и здесь увлекается умозрительной
гипотезой, ибо цель государства — не охрана только, а еще и стремление к
усовершенствованию и благосостоянию своих подданных (просвещение, пути
сообщения). Дальнейшее развитие эмпиризма принадлежит ирландскому епископу
Беркли и шотландскому философу Юму. Беркли отверг различие между первичными
и вторичными качествами вещей и указал на то, что в опыте мы имеем дело
только с нашими представлениями (упругость, как и все первичные качества, есть
такое же впечатление наших чувств, как и какое-либо вторичное качество,
например цвет).
Беркли совершенно правильно указал на то, что в опыте мы имеем дело лишь
с нашими представлениями.
Давид Юм сделал уже дальнейший шаг в том же направлении. Он также
признает, что сущность вещей скрыта от нас, что «вещи в себе» находятся за пределом
нашего познания: единственным источником нашего познания о вещах является
опыт, все содержание которого сводится к чисто субъективным впечатлениям
наших чувств. Приписывать же вещам какую-либо реальность за пределами наших
чувств нельзя, так как это последнее, то есть то, что находится за пределами
нашего восприятия, не может быть предметом нашего опыта; если же мы и
приписываем вещам реальность, то делаем это постольку, поскольку заключаем из
следствия к причине. Вопрос — «управомочены ли мы заключать из следствия
к причине» — Юм разрешает отрицательно: от опыта нашего мы не вправе
заключать к тому, что находится вне опыта, например с появлением солнца всегда
связывается ощущение света и тепла, таким образом, солнце есть объективная
причина тепла. Из того, что два каких-либо впечатления неизменно сочетаются
в наших опытах, следуют друг за другом, мы вовсе не вправе заключать, что они
связаны неразрывно друг с другом и за пределами нашего ограниченного опыта;
в опыте мы наблюдаем лишь неизменную последовательность явлений (например,
за А следует В), но из этого мы еще не можем заключать, что такая
последовательность будет повторяться и в будущем. Понятие о «законе подчиненности» не дано
нам в нашем опыте; невозможно логически доказать, что «закон причинности»
существует объективно и за пределом нашего познания. Воспринимая в опыте
одни ощущения, мы ожидаем, что последуют другие, которые связывались
постоянно с первыми. Представление о связи подобного рода вызывается в нас не
логическим ходом мыслей, а единственно привычкой. Таким образом, все наше
познание о причинной зависимости явлений сводится, по Юму, единственно к
привычке постоянно видеть те или другие явления в той или другой зависимости
друг от друга. Таким образом, привычка есть главное основание, руководитель
нашего познания. Что касается объективного существования вещей, то оно остается
подверженным сомнению, которое и характеризует собой направление
философии Давида Юма, направление, известное под именем «скептицизма». За невоз-
232
можность доказать возможность познания остается довериться природному
инстинкту, который неодолимо заставляет нас признавать реальность внешнего
мира, реальность нас самих и необходимую связь между явлениями. Об этом Юм
говорит в своих двух трактатах: «О человеческой природе» (1740) и «Исследование
о человеческом рассудке» (1748).
Философия Юма не есть совершенное отчаяние в возможности познания, но это
есть скептицизм относительный и умеренный, подвергающий сомнению
возможность познания лишь в некоторых отношениях. Математика представляется ему
идеалом доказанного знания. Из всех наук одна математика имеет дело не с
фактами, а с отношениями нашей мысли, с числом и качеством, и потому мы не можем
усомниться в положительных математических истинах, данных самой природой,
напротив, познание фактической действительности не обладает для нас такой
достоверностью, в отличие от познания математического оно лишь вероятно,
правдоподобно, так как все здесь покоится на недоказанном предположении всеобщей
причинной зависимости вещей. Единственная область познания, коей Юм не
допускает, есть метафизика; он считает ее даже вовсе невозможным знанием, так
как предметом ее служит мир сверхчувственный. Математика является для Юма
идеалом знания вполне достоверного, а науки о внешнем мире и о человеке,
исследующие причинную зависимость явлений, доступных нашему опыту, суть науки
вероятные, правдоподобные. Он советует бросить в огонь все книги, которые
содержат исследования мира сверхчувственного. Все эти взгляды делают Юма
явным сторонником и даже родоначальником позитивной философии. В своей
нравственной философии он является прежде всего наблюдателем и эмпириком.
Понятие о нравственности он старается добыть путем анализа человеческих
действий (мотивов). В результате анализа получается такое положение: человек
руководствуется во всех своих действиях двумя чувствами — чувством
удовольствия и чувством неудовольствия. Все наши действия проистекают из этих двух
основных побуждений нашей природы, но при этом не все наши действия суть
нравственны. Нравственными действиями нельзя назвать, по его мнению, те
действия, которые имеют в виду эгоистическое благо одной личности. Единственным
поэтому нравственным мотивом он признает «симпатию» то есть такой
природный инстинкт, присущий в некоторой степени и животным, который заставляет
испытывать удовольствие при виде чужого счастья и неудовольствие при виде
чужого страданья. В силу этого мы одобряем качества и действия человека,
способствующие счастью людей, и, наоборот, порицаем те действия человека, которые
служат причиной людского страдания. Высшим мерилом нравственности
является, таким образом, польза, притом польза общественная, а не эгоистическая, —
Юм считает безусловно невозможным вывести нравственность (в полном смысле
этого слова) из эгоистические побуждений человеческой природы. Таким
образом, в конце концов мерилом нравственности является общество: человек может
считаться нравственным лишь настолько, насколько он существо общественное.
Только разум может научить, что полезно для общества, причем одного
холодного разума для этого недостаточно, необходимо еще желать делать добро и притом
делать его лишь в силу искренней симпатии к людям. Вопрос «в чем заключается
польза общественная? » — конечная цель стремлений человека — не допускает
общего абстрактного решения: нельзя дать ответа, который бы годился для всех
времен и народов, а потому вопрос этот необходимо решать отдельно для каждого
народа на основании изучения конкретных исторических его особенностей. Юм не
считает возможным построить кодекс естественных прав, годный для всех наро-
233
дов и восстает против Локка и Руссо, предложивших теорию образования
государств путем общественного договора. Он говорит: если под общественным
договором разуметь молчаливое согласие, в силу которого все начинают повиноваться
единой власти рода, нет сомнения, что все правительства основаны на
общественном договоре. Подчинение одних людей другим в истории происходит путем
добровольного согласия, но, с другой стороны, по учению вышеназванных Локка
и Руссо, люди из состояния анархического перешли в государственное в силу
внезапно состоявшегося соглашения. Такое учение противоречит здравому смыслу
и истории. Процесс исторического развития народов совершается постепенно;
понятие о власти государственной появляется не сразу — для дикого народа оно
положительно не доступно; подчинение даже простому предводителю на первых
ступенях культуры — случайно и слабо. Ощущаемая польза власти заставляла
прибегать к ней чаще и чаще, а потом, единственно в силу привычки — цемента,
скрепляющего все существующие государства и обусловливающего их
прочность, — люди из анархического состояния переходят в государство с единой
властью, единым правительством во главе. Таким образом, государство есть
результат веками унаследованной привычки. Понятия о пользе общественной не могут
быть одинаковы на всех ступенях развития, поэтому-то Юм и восстает против
Руссо. Таким образом, теория общественного договора у Руссо является
революционным учением, желающим ниспровергнуть все исторически существующее. И вот
Юм, как наблюдатель и эмпирик, восстает против того, что игнорирует
действительность и пренебрегает историческим опытом. Юм понимает всю
невозможность пересоздать все государства на радикально новых основаниях: «Если бы, —
говорит он, — отдельные народности, подобно бабочкам, могли бы сразу во всем
своем составе народиться или прекратить свое существование, то, без сомнения,
каждое новое поколение могло бы основать радикально новое государственное
устройство, но так как род человеческий находится в процессе непрерывного
течения, где все поколения связаны между собою, то для прочности общественного
порядка молодому поколению нужно следовать по путям, проложенным предками,
нововведения, конечно, необходимы, в особенности, когда они совершаются в
духе справедливости и свободы».
Юм прежде всего является сторонником мирного прогресса и безусловным
противником насильственного переворота. Предшествовавшие ему теоретики
общественного договора, Локк и Руссо, видят в человеческих обществах tabula rasa —
неисписанный лист, который нужно наполнить содержанием. Для Юма
человеческое общество не есть пассивный архитектурный материал, не есть также
механически скрепленное здание, котррое можно разрушить и вновь построить;
общество для него представляется прежде всего неделимым живым телом, которое
развивается по известным законам, спокойно, без толчков и постепенно. Руссо
стремится построить идеальное государство на развалинах всего
существовавшего. Юм же понимает всю неосуществимость этих утопических построений; на
самом деле, говорит он, не может быть более ужасного события, как разложение
государственного организма, так как это обстоятельство ставит вновь возникающее
государственное устройство в зависимость от необузданной человеческой массы.
При таких обстоятельствах каждый разумный человек должен желать появления
сильной армии с гениальным полководцем, который сумел бы дать такого
властелина, которого народная масса не может избрать без его помощи. В этих словах
Куно Фишер находит пророчество о первой французской революции, которая
окончилась благодаря Наполеону и его войскам. Точно так же Юм сознает несо-
234
стоятельность учения теоретиков-консерваторов, что существующие образы
правления исходят от Бога, а потому власть должна считаться священною и
неприкосновенною даже в том случае, если она не соответствует благу подданных, как,
например, тирания. Юм признает, что установление власти входит в личный
Божественный план; но разные типы власти не должны признаваться
откровением Его воли. Юм не допускает в мировом порядке вмешательства Божества. Бог
ему представляется мировым механиком, который, раз навсегда устроив мировой
механизм, пустил его в ход, а затем уже не нарушает своим сверхъестественным
вмешательством правильного течения мировых событий. Юм не отрицает, что
власти человеческие, как и все существующее, предусмотрены заранее
Создателем, так как Он не мог не предвидеть всю возможность и даже необходимость
власти для людей, а из этого следует, что не только власть высшая, но даже власть
последнего городового должно считать священной и неприкосновенной и исходящей
от Божества, насколько она действительно служит пользе общества. Вообще,
власти следует повиноваться во имя приносимой ею пользы, но ради той же пользы
повиновение должно иметь свои границы. Юм не отрицает в принципе права
сопротивления подданных власти, но допускает это лишь в тех случаях, когда это
сопротивление служит единственным способом сохранения общих интересов.
Таким образом, по Юму, оказываются несостоятельными учения:
ультрарадикальное, которое старается все пустить насмарку и обратиться к совершенно новому,
точно так же и ультраконсервативное, которое стремится к сохранению всего
того, что выработалось веками и поколениями, то есть сохранить все существующее
уже по одному тому, что оно «есть», существует, учение, усматривающее во
всяком прогрессивном движении посягательство на установленный Божеством
порядок. Середину между этими теориями занимает теория Юма: он во имя пользы
охраняет исторически существующее, являясь умеренным консерватором, но, в то
же самое время, во имя той же пользы он признает необходимость прогресса;
итак, для Юма польза — высшее мерило должного. Воззрения Юма представляют
крупный шаг вперед сравнительно с воззрениями его предшественников. Дело
в том, что ультраконсерватизм отрицает всякое движение вперед, учение же
ультрарадикальное делает чересчур смелый скачок от действительности к идеалу.
Следовательно, как тому, так и другому учению одинаково чуждо понятие
прогресса как постепенного последовательного движения вперед. Среди этих двух
противоположных направлений Юм единственный мыслитель с здравым
историческим чутьем: с одной стороны, он понимает всю невозможность остановить
естественный рост человеческих обществ, а с другой стороны, он понимает, что
человек не властен изменить исторические законы человеческого развития, точно так
же как он не может сделать так, чтобы цветы появлялись раньше стебля, а плод
развивался бы раньше цветка, а также не может отменить отдельные фазисы
развития. «Вообще, — говорит Куно Фишер, — Юм единственный из представителей
англо-французской философии, коего миросозерцание не было
антиисторическим, потому что он хорошо знал, что над человеком господствует не отвлеченная
теория, а унаследованная от предков и освященная веками привычка, от которой
если и можно отрешиться, то лишь постепенно, с крайней осторожностью».
Рядом с этими достоинствами у Юма существуют и недостатки того одностороннего
эмпирического направления, которое он собою характеризует. Эмпиризм не в
состоянии доказать основного своего положения, что опыт единственный источник
познания. Невозможно удостовериться в том, что до опыта человеческое сознание
было tabula rasa, так как никто не наблюдал его (сознания) до опыта. Следователь-
235
но, эта эмпирическая теория есть умозрительная гипотеза, которая путем опыта
доказана быть не может. У Юма еще нагляднее обнаруживаются противоречия
эмпирического направления. С одной стороны, Юм признает в чувственных
восприятиях единственный источник человеческого познания, а с другой стороны,
из анализа его учения видно, что наши чувственные восприятия не дают
никакого понятия о законе причинности, о всеобщей связи вещей, о необходимой
зависимости между причиной и следствием. Отсюда ясно, что закон причинности
почерпнут не из опыта и не объясняется опытом, а между тем он является основным
предположением нашего познания о внешнем мире и о нас самих. С отнятием
этого предположения все наше познание рушится. По признанию Юма, «все»
познание, кроме математики, сводится к отысканию причинной зависимости явлений.
Отсюда ясно, что философия Юма не может свести концы с концами: конечный
результат не соответствует у него исходной точке. Пытаясь свести все
человеческое познание к опыту, философия эта приходит к тому заключению, что понятие
закона причинности не дано в опыте; это ясно доказывает всю невозможность
объяснить и оправдать процесс познания с эмпирической точки зрения. Что же
касается нравственной философии Юма, то и она не чужда недостатков. Дело в том,
что при помощи опыта мы познаем только то, что есть, то есть действительное
существующее, понятие же о том, что должно быть, или о том, что мы должны
делать, — из опыта составить нельзя. Следовательно, понятие о долге с точки
зрения эмпириков совершенно не объяснено. Через опыт мы узнаем страсти,
влечения человеческой природы, но ответа на вопрос: «Почему одни влечения
имеют предпочтение пред другими, почему одни заслуживают с нашей стороны
одобрения, а другие — нет?» — дать мы не в состоянии. Юм пытается вывести
нравственность из врожденной человеку симпатии к ближним, но, во-первых,
с эмпирической точки зрения противоречиво говорит о каких-либо врожденных
симпатиях: понятие о врожденной симпатии прямо противоречит основному
началу философии Юма; во-вторых, в человеке рядом с симпатическими
влечениями существуют и эгоистические стремления, причем последние несравненно
сильнее первых. Почему же человек должен следовать влечениям симпатии, жертвуя
своей пользой ради пользы общественной? Юм не в состоянии дать
удовлетворительный ответ. «Действуя в пользу других, — говорит он, — мы уже этим
увеличиваем свое собственное благополучие, так как человеколюбие доставляет
наибольшее для человека удовольствие». Слабость подобного ответа сама собою
очевидна, так как личная польза не всегда совпадает с пользой общественной,
а между тем эгоистические стремления гораздо сильнее наслаждений,
проистекающих от бескорыстного сочувствия. Если же мы все станем измерять
нравственность тех или других действии приятностью или неприятностью ощущаемого
нами, то тогда не будет ничего нравственно-обязательного: человек всегда будет
выбирать только то, что приятно. Таким образом, из анализа теории познания
Юма мы убедились, что познание одним опытом объяснено быть не может, так как
понятие причинности черпается не из опыта. Анализ нравственного учения Юма
приводит к тому, что нравственные понятия не могут быть удовлетворительно
объяснены на почве чистого опыта. Юм не дает удовлетворительного ответа на
вопросы: «Как возможно познание? Как возможна нравственность?» Разрешением
этих вопросов и занялся германский мыслитель XIX века Иммануил Кант.
236
Иммануил Кант (1724-1804)
Биографические сведения
Жизнь Канта бедна внешними событиями: он был сыном бедного
ремесленника, седельного мастера. Предки его переселились в Пруссию из Шотландии; сам
он родился в Кенигсберге и, прожив 80 лет, никогда не выезжал не только из
пределов родной провинции, но даже, за редкими исключениями, и из родного
города. Родители его, принадлежа к религиозной протестантской секте пиетистов,
воспитали своего сына в строгом религиозном духе. Во главе той гимназии, в
которой учился Кант, стоял некто Шульц, представитель пиетического71
направления. Несмотря на это, догматические воззрения пиетистов не оставили следов
в его философии, но влияние первоначального воспитания выразилось в строго
нравственном складе характера философа: правдолюбие, крайняя честность и
добросовестность — преобладающие черты его характера.
Религиозно-протестантский дух пиетистов гораздо более повлиял на характер Канта, чем на его
убеждения. С ранней молодости является в нем потребность углубления в самого себя,
отсюда необычайная цельность его характера, возбуждавшая во всех крайнее
удивление. В 1740 году он поступил в Кенигсбергский университет и по желанию
матери посвятил себя изучению богословия, но его с самого начала влекло к
математическим и философским наукам, представителем которых в вышеназванном
университете был Мартин Кнутцен, один из последователей Вольфа
второстепенного философа XVIII века. Учение Вольфа имело влияние на Канта лишь в
молодые годы, пока чтение Юма не разбудило его от этой догматической дремоты.
По окончании университетского курса Кант отказался от богословской карьеры
и решил посвятить себя профессорской деятельности. Но скудные средства
заставили его 9 лет быть гувернером и только в 1755 году, 32 лет от роду он получил
приват-доцентуру в Кенигсбергском университете. Содержательностью своих
лекций он сразу пленил слушателей и скоро приобрел в Германии известность как
выдающийся ученый. Здесь же он занимал должность библиотекаря, а в 1770 году,
46 лет от роду получил ординарную профессуру. Таким образом, среди скромной
бюргерской обстановки развился необычный гений Канта. Остроумие и блеск ума
среди умственных дарований философа занимали, можно сказать, последнее место.
Кант развивался чрезвычайно медленно; его философские воззрения — результат
упорного многолетнего труда. Только в 1781 году, уже имея 57 лет от роду,
издает он свою «Критику чистого разума», сочинение, коим начинается ряд трудов,
стяжавших Канту славу величайшего философа. На склоне лет Кант является
реформатором философии. Из дальнейших его сочинений особенно важны:
«Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (в прекрасном русском переводе
Соловьева), затем в области этики — «Основы метафизики нравственности», «Критика
практического разума» и «Метафизика нравов» в двух частях: «Метафизические
начала учения о праве» и «Метафизические начала учения о добродетели».
Учение о познании
Уже по самому свойству задачи произведения Канта не могут быть результатом
скороспелой мысли. Он, подобно Сократу, начинает философию XIX века с
критического вопроса: «Как возможно познание?», начинает с исследования
познавательных сил человека. Все, сделанное до Канта в этом направлении,
представляется ему совершенно неудовлетворительным. Рационалистическая философия,
237
начиная с Декарта и кончая Вольфом72, слепо верила в способность разума
познать абсолютную истину и старалась вывести законы вселенной из законов
человеческого разума. Никто из философов не позаботился о приведении в известность
границ нашего разума и пределов его познавательйых сил и средств. Канта не
удовлетворяло и эмпирическое учение. Все эмпирики, а также и Юм
предполагают опыт единственным источником познания, но вместе с тем не дают
удовлетворительного ответа на вопрос: как же возможен сам опыт? Когда Юм сводит к
привычке представление о необходимой связи вещей, то очевидно впадает
в логический круг, ибо привычка есть часто повторяющийся опыт, значит,
приходится объяснять опыт посредством опыта — idem per idem73. Следовательно,
у Юма, как и у остальных эмпириков, вера в опыт есть неисследованный догмат —
petitio principii3 — произвольное предположение. Эмпирики сводят все познание
к накопленным, путем частого повторения, впечатлениям наших чувств, но,
по Канту, чувства наши имеют дело только с частными случаями и не уполнома-
чивают нас к общим выводам. Да к тому же мы можем наблюдать лишь
ограниченное количество случаев. Чувства наши вообще не дают понятия о всеобщей
необходимой связи явлений, поэтому одно чувство не может дать познания явлений.
Если, таким образом, это понятие происходит не из чувственных впечатлений,
то значит, оно коренится в разуме, который получает его не извне, а сам черпает
в самом себе, иначе говоря, разум не есть tabula rasa, это не пассивная среда,
исчерпывающая извне свое содержание, — разум — деятельный фактор познания,
«он не только воспринимает, но и организует воспринимаемый извне материал
впечатлений». Таким образом, философия Канта резко отличается как от
эмпиризма, так и от рационализма; оба эти направления, по мнению Канта, при
некоторых различиях сходны в одном: оба они исходят из недоказанных догматов;
догматизм — грех обоих направлений. Догмат рационализма — слепая вера в
разум, как единственный источник познания абсолютной истины; догмат же
эмпиризма — слепая вера в чувственные восприятия, в опыт, как единственный
источник познания. Если, таким образом, все предшествующее грешит, по мнению
Канта, догматизмом, то для него дело идет о радикальной реформе философии,
которая бы разрушила произвольные построения предшествующих ему
философов и создала все вновь. В отличие от догматических учений Кант определяет свое
собственное направление как «критицизм». Начинает он с критического вопроса:
«как возможно познание?» — ответ на него дают «Критика чистого разума»
и «Пролегомены». Заглавие последнего труда объясняется тем, что, по Канту,
критические исследования способностей человека должны служить
пролегоменами, то есть введением ко всякой философии. «Все познания наши, — учит
Кант, — выражаются в форме суждений, которые разделяются на аналитические
и синтетические, первые суть'те, которые разлагают наши понятия на составные
части, определяя те признаки, которые уже раньше заключались в том или
другом нашем понятии; а вторые — это те, которые прибавляют к понятию в
качестве признака нечто новое, чего раньше не заключалось в нем ». « Все тела
протяженны» — типический пример аналитического суждения: мы не можем помыслить
тела без протяженности, протяженность постоянный признак понятия о теле.
«Все тела тяжелы» — типический пример синтетического суждения; в данном
случае суждение прибавляет к понятию о теле новый признак — тяжесть, без чего
легко можно представить себе тело, хотя бы и не существующее в природе. Если
аналитические суждения только разъясняют наши понятия, то они не расширяют
нашего познания о вещах, приводя лишь в ясность добытое раньше. Суждения же
238
синтетические, прибавляя нечто новое к каждому понятию, тем самым
приумножают наши знания о вещах. Предшественники Канта, философы-рационалисты,
думали, что можно построить систему знания посредством одного анализа наших
понятий, указывая как на образец такой науки на чистую математику. Кант
доказал, что суждения, из которых состоит математика, суть не аналитические, а
синтетические: конечно, суждение «два равно двум» есть аналитическое, но вместе
с тем оно нисколько не расширяет нашего познания; если же мы скажем: «пять
в кубе равняется 125» или «сумма внутренних углов каждого треугольника = 2d»,
то получатся суждения синтетические, ибо в обоих случаях мы прибавляем новый
признак к нашему понятию (понятие 125 не есть признак понятия бит. д.).
Синтетические суждения разделяются, в свою очередь, на два вида: синтетические
суждения a priori, которые черпают свое содержание не из опыта, и синтетические
суждения a posteriori, составляемые на основании опыта. Основной вопрос
«Критики чистого разума» : как возможны синтетические суждения a priori?
Синтетические суждения a priori могут касаться трех областей познания, объемлющих все
наше познание, прежде всего чистой математики, которая исследует свойства
количеств и геометрические свойства пространства; синтетические суждения a priori
могут касаться также предметов, доступных чувственному опыту, то есть, в общем
смысле, относится к естествознанию, представляющему учение о всех предметах
внешнего мира; наконец, синтетические суждения a priori могут касаться
метафизики в тесном смысле слова, под которою Кант разумел учение о
сверхчувственном, о вещах, как существуют они сами в себе, независимо от чувств и
представлений. Таким образом, основной вопрос «Критики чистого разума» распадается на
три другие вопроса: 1) как возможна чистая математика? 2) как возможно чистое
естествознание? и 3) как возможна чистая метафизика? На первых два вопроса
«Критика чистого разума» отвечает утвердительно, то есть Кант признает и
доказывает возможность умозрительного знания в области чистой математики и
чистого естествознания; на третий же вопрос Кант отвечает безусловно отрицательно,
положительно не признавая возможности знания о сверхчувственном. Кант
доказывает, что науки о «вещах в себе» нет и быть не может, так как область «вещей
в себе» выходит за пределы того, что можно знать. Таким образом, «Критика
чистого разума» исследует все человеческое познание, устанавливая его границы,
определяя, что доступно нашему знанию и что недоступно. Вопрос о возможности
чистой математики Кант разбирает в первой части «Критики чистого разума» —
в так называемой «Трансцендентальной эстетике». Чистая математика исследует
количество и пространство, но количество можно представить себе только в
форме времени: переход от количества к количеству предполагает известное время.
Следовательно, предметы чистой математики суть пространство и время.
Чтобы решить вопрос — может ли чистая математика знать что-либо
априорно? — нужно исследовать объекты чистой математики — пространство и время,
рассмотреть, допускает ли природа пространства и времени какое-нибудь
априорное о них значение, а для этого нужно уяснить, что такое пространство и время.
Учение Канта о пространстве и времени заслуживает особенного внимания и
составляет чрезвычайно важное открытие в области философии, так как оно
оказало огромное влияние на ход философской мысли после Канта. Ему удалось
доказать, что эти представления черпается не из опыта, а напротив, составляют
априорные условия всякого опыта. Это положение Кант доказывает в «Критике
чистого разума» таким образом: все предметы, вне нас лежащие,
воспринимаются исключительно в форме пространства; все тела протяженны, а следовательно,
239
иначе как в форме пространства и мыслимы быть не могут; кроме того, все
предметы внешнего мира являются в форме времени: все течет, движется; мы не
можем созерцать их иначе как переходя от предмета к предмету, и этот переход
нашего сознания предполагает известное время. Таким образом, предметы внешнего
мира являются в двоякой форме — форме пространства и времени. Напротив,
внутренние состояния души являются исключительно в форме времени: наши
чувства, наша мысль, находясь в процессе беспрерывного движения, не занимают
пространства. Состояние наше есть беспрерывный переход от состояния к состоянию.
Спрашивается, как Кант доказал, что представления пространства и времени
происходят не из опыта, а суть априорные условия последнего? Доказательство его
очень просто и неопровержимо. «Мы можем отвлечь нашу мысль, — говорит
он, — от того, что наполняет пространство и время, но не в состоянии отвлечься от
последних». Положим, что пространства не существует; что же тогда остается от
предметов видимого мира? Все обратится в математическую точку, да, вернее
говоря, и ее не будет, так как и она есть часть пространства, которая имеет
бесконечно малое измерение. Теперь предположим, что времени не существует; во что же
тогда обратится внутренний мир человека — мир чувств и мыслей? Он также
исчезнет, ибо если остановится время, то остановится и мысль. Таким образом, весь
внутренний и внешний наш опыт совершается в форме пространства и времени:
если бы пространства и времени не было, мы ничего бы не сознавали и не
чувствовали, и без них не было бы никакого опыта; отсюда видно, что пространство и
время обусловливают опыт и предшествуют ему. Объяснять пространство и время
через опыт невозможно, ибо всякий опыт предполагает пространство и время.
Предметы внешнего мира становятся для нас предметами опыта, поскольку они
созерцаемы в пространстве, таким образом, пространство есть необходимый prius,
необходимое условие внешнего опыта; наши внутренние состояния могут быть
наблюдаемы нами, поскольку они протекают перед нами в форме времени,
следовательно, время есть необходимый prius, необходимое условие внутреннего опыта.
Опыт имеет дело с свидетельствами и показаниями наших внутренних и внешних
чувств. Между тем, пространство и время суть необходимые формы нашего
чувственного восприятия, вне коих мы ничего не чувствуем и не воспринимаем. Из
всего этого ясно, что пространство и время приобретаются не через опыт, а суть
априорные формы нашего познания. Пространство и время, по Канту, не суть понятия,
ибо всякое понятие есть общее представление, объемлющее множество
единичных случаев, особей, например, понятие льва, лошади и т. д. обнимает множество
единичных особей того же рода. Напротив, пространство и время сами суть
представления единичные. Под пространством и временем разумеется не множество
предметов, так как только и есть единое пространство и время. Под понятиями
вообще разумеются общие признаки целого класса предметов, представления
пространства и времени, напротив, не суть общие признаки целого класса вещей. Мы
можем говорить о множестве пространств, но как о частях единого пространства.
Представление пространства как целого предшествует в нашей душе
представлению частей пространства; тоже можно сказать и о времени: сначала мы сознаем
время вообще, а затем уже части эго. Таким образом, пространство и время не суть
понятия, но вместе с тем не суть самостоятельные сущности, что видно из того,
что мы не можем представить времени, в которое бы ничего не происходило,
и пространство, где бы не было никаких предметов. Что же такое пространство
и время, если они не самостоятельные сущности и не понятия? Они суть
априорные представления нашей души, чистые априорные воззрения, или, как опреде-
240
ляет их Кант, — «те формы нашего сознания, в которых мы видим все то, что
видим, сознаем и воспринимаем все то, что сознаем и воспринимаем». Вот этой-то
априорностью пространства и времени обусловливается возможность таких
априорных суждений о пространстве и времени, которые имеют всеобщее и
необходимое значение. Возможность чистой геометрии, геометрических теорем, которые
доказываются без всякого опыта, обусловливается тем, что мы обладаем
априорным представлением о пространстве и времени. Возможность чистой математики
вообще — тем, что объекты ее — пространство и время, — по самой природе
допускают о себе априорные знания, то есть знания, независимые от опыта. Вот ответ
на первый вопрос «Критики чистого разума». Таким образом, чувственные
восприятия не есть единственный и первоначальный источник нашего знания;
впечатления наших чувств сами обусловлены формами пространства и времени,
присущими нашему сознанию. Своим математически точным доказательством
априорного происхождения представлений пространства и времени Кант наносит
удар чистому эмпиризму, который сводит все наше познание к опыту. После
Канта чистый эмпиризм не может уже себя успешно отстаивать. Если эмпирики
встречаются и в наше время, если так называемые позитивисты (Конт и Милль)
повторяют старые заблуждения Локка, то это возможно лишь благодаря
недостаточному пониманию философии Канта или недостаточному знакомству с ней.
Кант раз навсегда доказал, что наше сознание не есть tabula rasa; впрочем Кант
нанес смертельный удар эмпиризму не только одним учением о пространстве
и времени; Кант, кроме того, доказал, что познание наше обусловлено такими
понятиями (категориями) нашего рассудка, которые составляют самую природу его,
значит, обусловливается такими понятиями рассудка, которые также происходят
не из опыта. Для нас важно убедиться в том, что такие понятия (категории)
вообще существуют и с одним из них, притом самым важным, а именно с понятием
причинности, мы и познакомимся. Открытие Канта, что пространство и время
суть априорные формы нашего сознания, не исчерпывает всей его теории
познания. Чувства дают лишь разрозненный материал впечатлений, который до
сведения в единое целое не составляет еще познания. Мы получаем познание, когда из
разрозненных впечатлений составляем суждение, например, мы наблюдаем
появление солнца и вслед за тем нагревание камня; пока эти впечатления не связаны
между собою, познания нет. Но раз мы утверждаем, что солнце вообще нагревает
камень, этим суждением мы уже приобретаем знание; устанавливая связь между
появлением солнца и нагреванием камня, мы бесчисленное число случаев
подводим под общие законы, утверждая, что солнцу вообще свойственно нагревание
камней, то есть устанавливаем причинную зависимость между этими явлениями.
Отсюда видно, что необходимые1 элементы нашего познания суть 1) чувство,
которое дает материал впечатлений и 2) рассудок, собирающий и систематизирующий
этот материал. Вопрос «каким образом наш рассудок получает познания о
явлениях действительности?» разрешается Юмом следующим образом: показания
наших чувств еще не уполномочивают нас устанавливать общие законы; мы в
сущности можем наблюдать лишь чрезвычайно ограниченное число случаев, так, мы
не можем на основании одних чувств делать вывод, что между солнцем и
нагреванием камней существует общая и необходимая связь, что солнце — причина
нагревания камней. Иными словами, наши чувства не дают понятия о причинной
зависимости явлений. Канту в добавление к этому оставалось сделать один шаг,
чтобы сформулировать теорию познания. Если понятия необходимой и
причинной зависимости не даны нам в чувственных впечатлениях, то они, стало быть, ко-
241
ренятся в самой природе нашего рассудка, они априорно обусловливают всякий
опыт. Таким образом, если бы наш рассудок не обладал независимыми от опыта
некоторыми общими понятиями, категориями, то он не мог бы связывать
отдельных впечатлений, а следовательно, мы не могли бы ничего познавать. Этим
разрешается второй вопрос «Критики чистого разума» — «как возможно чистое
естествознание»? Благодаря априорным понятиям нашего рассудка мы можем обладать
некоторыми познаниями a priori о природе. Так, например, тот общий закон, что
всякое явление в природе имеет свою причину, которая всегда производит
одинаковые последствия, известен нам a priori. Вообще априорное наше познание о
природе сводится к нескольким первоначальным аксиомам, лежащим в основе всего
нашего знания о природе. Таким образом, в учении Канта эти поправки Лейбница
к учению Локка получили подтверждение; против эмпирического учения Локка
Кант доказал, что рассудок наш объединяет чувственные впечатления через
понятия, которые коренятся в нашей природе. Учением о пространстве и времени,
а также и учением о категориях уже подготовляется учение о границах и пределах
нашего знания.
Мы видели, что пространство и время суть формы нашего восприятия и что
только в них мы воспринимаем как самих себя, так и внешний мир. Стало быть,
пространство и время суть формы всех предметов, как они являются нам, —
отсюда следует, что пространство и время приложимы только к явлениям, а не к
«вещам в себе». Пространство есть форма всех внешних предметов, которые
наполняют пространство. Попробуем отвлечься мыслью от внешних предметов и для нас
исчезнет и самое пространство. Мы не можем представить пространства
абсолютно пустого, то есть пространства, в котором не было бы никаких предметов.
Равным образом мы не можем представить абсолютно пустого времени, то есть
времени, в котором бы ничего не происходило. Пространство для нас, таким образом,
есть только форма, в которой мы воспринимаем внешние предметы. Таким
образом, пространство и время суть только формы явлений, и ничто из того, что мы
воспринимаем в пространстве и времени не есть «вещи в себе». Предметы
протяженные, наполняющие пространство суть впечатления пяти чувств. Наши
внутренние состояния суть только впечатления нашего внутреннего чувства. Стало
быть, все воспринимаемое в пространстве и времени сводится к явлениям, а
потому мы не можем утверждать, что «вещи в себе» существуют в пространстве и
времени. Мы можем говорить о пространстве и времени единственно в применении
их к явлениям, доступным нашим наблюдениям. То же верно относительно
категории. Категории суть те априорные понятия, посредством которых мы судим
о предметах, являющихся в нашем опыте; они суть способы мысли человеческого
рассудка, значит, они приложимы только к явлениям; например, что солнце есть
причина тепла видно из того, что как солнце, так и тепло суть явления, доступные
нашему чувству. Если бы солнце и тепло находились вне пределов
воспринимаемого нами, то мы не могли бы установить причинной зависимости между солнцем
и теплом. Таким образом, понятие причинной зависимости, которая сама
априорного происхождения, приложимо к явлениям, а не к «вещам в себе». Мы не
можем знать даже и того, существует ли закон причинности в «вещах в себе»?
Человек может судить только о вещах, с которыми он сталкивается, следовательно,
за пределами явлений как явлений мы не можем делать никакого применения из
закона причинности. То же самое верно и относительно всех прочих категорий.
Категории суть априорные понятия, обусловливающие собою возможность
нашего сознания. Мы не могли бы установить причинной зависимости явлений, если
242
бы предварительно не обладали идеей о причинности. Поэтому в пределах опыта,
то есть мира явлений, закон причинности имеет для нас безусловную
достоверность, ибо он обусловливает все наше знание; но за пределами опыта закон
причинности не имеет никакого значения. Мы не можем знать даже и того,
существует ли «вещи в себе», обладают ли вещи реальностью и за пределами доступных
нам явлений? Мы знаем, что солнце существует, ибо оно производит совокупность
известных ощущений. Но существует ли нечто реальное за пределами наших
ощущений — этого мы знать не можем. Таким образом, на третий вопрос «Критики
чистого разума», на вопрос о возможности метафизики, в смысле познания
сверхчувственного, Кант отвечает безусловно отрицательно. Метафизика вообще не
может быть предметом знания. Мы можем знать только то, что доступно чувствам.
«Если, — говорит он, — мы можем говорить о «вещах в себе», о вещах
сверхчувственного мира, то только в смысле границы той области, в которую наш
теоретический разум не может проникнуть». Как бы ни был соблазнителен вопрос о
сущности нашей души, Бога и мира как целого, ответить на него нельзя, ибо сущности
как сущности нам не являются. Лишь только разум выходит за пределы
доступных нам явлений, он запутывается и впадает в целую сеть противоречий,
вводится в область фантастических построений, которые не допускают ни проверки,
ни доказательств. В последней книге «Критики чистого разума», носящей
название «Трансцендентальной диалектики», Кант изобличает всю невозможность
и противоречивость всех попыток этого рода.
Учение о нравственности
В области нравственной философии Канту принадлежит несомненная заслуга,
как и в области теории познания. Результат «Критики чистого разума»
заключается в том, что познание наше обусловливается представлениями пространства
и времени и категориями рассудка, то есть такими формами нашего сознания,
которые коренятся в самой природе познающего субъекта. Заслуга «Критики
чистого разума» заключается в том, что она раскрывает самодеятельность нашего
разума в познании. Канту удалось доказать, что в основе нравственности лежат
априорные понятия практического разума, добытые не путем опыта, но
коренящиеся в самой природе нашего разума. В области нравственности человеческий
разум не следует каким-либо предписаниям извне, но сам дает себе нравственный
закон. Таким образом, как в теории познания, так и в учении о нравственности
Кант раскрывает самодеятельность нашего разума.
Учение о нравственности Кант выразил в трех трактатах: 1) «Основы
метафизики нравственности», 2) «Критика практического разума» и 3) «Метафизика
нравов». Первые два сочинения отвечают на два основных тесно связанных
вопроса, первый из которых — «Что такое нравственность?». Ответив на этот вопрос
и определив специфические отличия мира нравственного от мира физического,
Кант переходит ко второму вопросу: «Как возможна нравственность?», то есть
в чем заключаются необходимые условия нравственной деятельности? Явления
мира физического нормируются в своем существовании и течении неизменными
законами природы, которые действуют необходимо, неуклонно, без всяких
отступлений, например, вещество не может уклониться от общего закона
тяготения — таков властвующий в природе Закон физической необходимости.
Нравственная деятельность человека определяется законами иного рода —
нравственными. Нравственный закон властвует над человеческой волей, как обязанность,
долг, который человек может исполнить или не исполнить. Нравственный закон,
243
далее, обращается к свободной человеческой воле, которой человек может
подчиниться или не подчиниться; нравственный закон, наконец, чужд принуждения,
он не вынуждает нас быть честными и добрыми, он только предписывает это
нашей воле; нравственный закон, по удачному выражению Канта, есть
императив — то есть повеление.
Возможность уклонений от этих нравственных законов обусловливается
двойственностью человеческой природы: борьбой разума и чувственности,
происходящей в нас. Человек состоит не из одного разума, повелевающего делать добро, он
обладает также и животной чувственной природой, которая противодействует
этим предписаниям. Таким образом, нравственность выражается в форме
повеления; но не всякое повеление, не всякий императив нравствен по содержанию.
Чтобы ответить на вопрос «Что такое нравственность?», нужно начать с анализа
наших обыденных представлений о нравственности, нужно определить, что есть
общего между правилами и поступками, которые мы признаем нравственными.
Нравственными вообще признаются все те человеческие действия, которые
совершены из сознания долга. Положим, например, что купец не обманывает
покупателей, потому что репутация честности выгоднее для его торгового дела. В данном
случае нет никакой нравственной заслуги; образ действий купца мы сочтем
безразличным в нравственном отношении. О купце, который не обманывает
покупателей ради собственной выгоды, можно сказать, что он поступает умно, но не
нравственно. Нравственными вообще признаются действия такого человека,
который творит добро не ради каких-либо своекорыстных целей, не ради
эгоистических побуждений, но ради самого добра. Следовательно, нравственный человек
тот, кто делает долг ради долга, обязанность ради обязанности. Если я берегу мою
жизнь, то это только тогда может быть вменено мне в нравственную заслугу,
когда я делаю это только из чувства долга, хотя бы жизнь мне даже опостылела.
Поэтому нравственным может быть признан только такой образ действий, для
которого нравственный закон сам по себе служит высшей безусловной целью. Этим
определяется отличие императива нравственного от других повелений, не
имеющих чисто нравственного содержания. Только нравственный императив
безусловен, то есть действителен сам по себе независимо от каких-либо посторонних
целей. Такие правила, как например, будь честен, справедлив — действительно
безусловны, независимо от того, выгодна или невыгодна нам честность.
Нравственный императив предписывает безусловно, категорически, почему и получает
название у Канта «категорического императива». Напротив, всякие другие
предписания, обращенные к нашей воле и не имеющие нравственного характера,
действительны только условно, в цредположении известного практического
результата; например, ты должен знать высшую математику, должен уметь владеть
топором — эти предписания не имеют безусловного значения для всех, но только
для некоторых в предположении того или другого практического результата. Все
подобные правила получают у Канта название «императивов гипотетических»;
одни лишь нравственные предписания имеют общее значение для всех людей и во
всех случаях; они одни суть предписания безусловные, поэтому они одни и
называются «категорическими императивами»; например, «не лги» — этот императив
категоричен потому, что он предписывает не лгать не из страха наказания, а
потому, что ложь вообще сама по себе постыдна. Нравственный закон имеет значение
всеобщности, обязательности для всякого разумного существа. В этой
всеобщности заключается критерий, мерило, в силу коего можно во всяком случае
распознать нравственные действия от безнравственных. Бели мы сомневаемся в нравст-
244
венности или безнравственности того или другого поступка, помыслим его
всеобщим: например, представим себе, что сталось бы с человечеством, если бы все
стали лгать, красть, убивать? Конечно, никакое общество не может существовать при
таких условиях. Следовательно, нравственны суть только те поступки,
относительно которых мы можем желать, чтобы они были всеобщи. Отсюда первая
формула категорического императива: «Действуй так, чтобы правило твоего
поведения могло быть общим законом для всякого разумного существа». Только в такого
рода общей формуле и может выражаться категорический императив.
Категорический императив не может указать нашей воле какие-нибудь конкретные цели
и предметы, потому что они связаны для нас с понятием удовольствия или
неудовольствия, что, по Канту, суть мотивы, не имеющие ничего общего с
нравственностью. Если такова сущность нравственности, то ясно, что нравственность не
может быть сведена к опыту, то есть что категорический императив есть априорный
закон, ибо в опыте даны конкретные явления, между тем категорический
императив свободен от всякого конкретного содержания и коренится в самой нашей
природе; кроме того, категорический императив всеобщ по своему значению,
независимо от того, соблюдается или не соблюдается он в действительности. Из опыта,
таким образом, где происходят много уклонений от нравственности, и из
наблюдений над человеком мы не можем вывести всеобщего нравственного закона. Все
предметы, все цели, данные в опыте, имеют ценность лишь условную,
относительную; так, богатство или могущество могут быть хороши или дурны, смотря по
тому, хорошее или дурное употребление делает из них человек; следовательно, сами
по себе они не могут иметь безусловной цены. Только нравственный закон —
закон нашего разума как безусловная цель нашей жизни — придает безусловную
цену и человеку как разумному существу и его носителю. Вещи, которые человек
назначает для известной цели, суть средства, а следовательно — ценность их
относительная, то есть они ценны, смотря по тому, как ими пользуется человек.
Напротив, сам человек как носитель нравственного закона обладает ценностью
безусловной. Он представитель разума, высшая цель для нашей деятельности и не
может быть низведен на ступень средств. Отсюда вторая формула нравственного
закона Канта: «Действуй так, чтобы человечество как в твоем лице, так и в лице
всякого другого человека всегда служило для тебя только целью, а не
средством». — Деятельность человека может быть вполне нравственна, только если она
вполне свободна. Если мы подчиняемся нравственному закону под влиянием,
например, страха, если нравственный закон навязывается нам внешней
принудительной силой, наше поведение может быть безукоризненно законным, но вместе
с тем оно не может иметь нравственной цены. Мы поступаем нравственно, если мы
служим долгу добровольно, ради, самого долга, когда нравственность является
внутренним законом нашей воли. Воля человека лишь в том случае нравственна,
если она, делая добро, остается автономной. Нравственность, следовательно,
заключается в совершенной автономии воли, которая сама дает себе нравственный
закон. Ответив, таким образом, на вопрос о том, что такое нравственность, Кант
переходит ко второму вопросу: «Как возможна нравственность?». Если
нравственный закон выражается в требованиях всеобщих и для всех обязательных,
то все люди должны быть в состоянии их исполнять. Нравственный закон
предполагает возможность исполнения или неисполнения. Таким образом, на второй
вопрос нравственной философии Кант отвечает так: нравственность возможна лишь
в предположении свободы человеческой воли, ибо только такая воля ответствует
за свои поступки и только свободный человек признается вменяемым. Нравствен-
245
ный закон, таким образом, категорически предписывает нам исполнение
обязанностей, предполагая, что мы можем их исполнить, что было бы невозможно, если
бы каждый наш поступок был только результатом и проявлением физических
законов, то есть необходимости физической. Нравственный закон как бы говорит:
«ты должен, следовательно, ты можешь». Здесь Кант сталкивается с
затруднениями, неизбежными для всякого философского учения о нравственности.
Нравственный закон предполагает, что наши поступки свободны; между тем, происходя
во времени, они подчинены закону причинности, а потому каждый поступок как
явление должен иметь причину в явлениях предшествовавших. Каждый
поступок с этой точки есть лишь необходимое звено в цепи причин и следствий,
постольку каждый поступок с необходимостью подчиняется законам мирового
целого. Как же можно говорить о свободе воли при таких условиях? Как же можно
помирить и согласовать свободу воли с законом причинности явлений? Кант
пытается выйти из этого затруднения путем раньше установленного им различия
между явлением и «вещами в себе». Закон причинности властвует неуклонно
в мире явлений. Поскольку наши действия суть явления в пространстве и
времени, они представляют последствия частью внутреннего состояния нашей души,
частью внешних впечатлений наших чувств. Действительно, если бы могли знать
все предшествовавшие внутренние состояния души, которые влияют на волю
человека, то мы могли бы с достоверностью предсказать весь тот ряд действий,
который человеку предстоит совершить; ибо каждое действие есть необходимый
результат предшествовавших состояний или действий. Таким образом, характер
человека, как явление, воспринимаемое во времени, или, говоря словами Канта,
наш «эмпирический характер» — несвободен. Он есть результат частью нашей
природы, частью нашего воспитания, а также отчасти результат влияния
внешней среды, другими словами, эмпирический характер представляет необходимый
результат целого ряда предшествовавших влияний. В мире явлений нет свободы;
здесь господствует самая строгая необходимость. Но это нисколько не исключает
возможность предполагать, что первоначальный источник наших действий —
наш характер — как «вещь в себе» свободен, то есть не подчинен закону
причинности. Закон причинности в смысле необходимой последовательности явлений
господствует во времени, но время есть форма явлений, которая не приложима
к «вещам в себе», а потому к этим последним неприложим и закон причинности.
Где нет времени, там нет ни предшествующего, ни последующего. Поэтому ничто
не мешает предположить, что все наши действия и состояния во времени суть
проявления свободного начала — нашего характера как «вещи в себе». В отличие от
характера эмпирического как явления, характер как «вещь в себе» называется
Кантом «характером умопостигаемым», ибо «вещь в себе» не дается опыту и
чувствам, а постигается умом; таким образом Кант разрешает противоречие между
свободой воли и законом необходимой причинности явлений. Каждое
человеческое действие может быть рассматриваемо с двоякой точки зрения: или 1) как
явления во времени, или 2) как проявления нашего умопостигаемого характера,
того первоначального источника всех наших действий, который вполне свободен.
Рассматриваемые как явления во времени наши действия не свободны; они
подчинены естественному механизму причин и следствий. Если же мы будем
рассматривать человеческие действия в отношении к умопостигаемому характеру, то мы
признаем их свободными. Первоначальный источник наших действий —
характер умопостигаемый — выше природного механизма. Он находится вне времени,
поэтому, следовательно, он свободен. Как известно, в «Критике чистого разума»
246
Кант доказал, что мы не можем знать «вещей в себе» и их свойств и не можем
даже доказать, существуют ли вещи. Поэтому Кант утверждает, что свободу воли
доказать нельзя; только на явления и могут простираться наши доказательства;
свобода же, если она существует, есть свойство «вещей в себе», а относительно
«вещей в себе» мы ничего не можем знать, но можем только верить, можем
предполагать, и к такой вере, к такому предположению вынуждает нас нравственный
закон — закон разума. Нравственный закон категорически предписывает
человеку делать добро, предполагая, что в человеке есть нечто высшее, чем природный
механизм. Если наши действия не согласны с законом нравственности, мы
чувствуем угрызения совести, мы обвиняем себя, следовательно, мы предполагаем, что
могли бы поступить иначе. Если бы действия человека были только необходимым
результатом его мозговой организации, то есть были бы всецело подчинены
физическому закону, то угрызения нашей совести были бы бессмысленны и человек
был бы невменяемым автоматом. Таким образом мы вынуждены предположить
свободу воли, так как только при таком предположении человек может
осуществлять требования категорического императива. Свобода воли, как признает ее
Кант, не есть доказанное положение. Теоретически рассуждая, человек ее
доказать не в силах, он может только мыслить ее без противоречий, она есть только
необходимое требование или, как говорит Кант, «необходимый постулат
практического разума, неизбежное предположение нашей нравственной природы». Высшее
благо составляют два элемента: добродетель и счастье; причем счастье должно
быть подчинено добродетели. Нравственный закон допускает счастье лишь как
последствие добродетели. В тех условиях, в каких мы живем, мы не находим ни
совершенной добродетели, ни совершенного счастья. Кроме того, оба эти
элемента не находятся в необходимой связи; между тем эта необходимая связь двух
элементов требуется нравственным законом. В действительности строгая
нравственность очень часто бывает связана с несчастной жизнью.
Ясное дело, что нравственный закон не может быть в полной мере осуществлен
в нашей земной жизни. Высшее благо доступно нам только в ином, лучшем мире,
где сама природа согласуется с целями нашего разума, отсюда у Канта
проистекают два других постулата практического разума: бессмертие души и
существование Божества; только при условии бессмертия мы были бы в состоянии совершить
требуемое нравственным законом; только одно Божество может согласовать
природу с целями разума, только Божество может установить связь между святостью
и блаженством. — Идеи Божества, свободы и бессмертия души не могут быть
доказаны: они суть только основные требования практического разума и составляют
необходимое предположение нравственной деятельности и веру практического
разума. Неоценимая заслуга Канта состоит в том, что он раз навсегда положил
конец односторонней эмпирической морали, то есть он доказал, что нравственные
понятия не могут быть сведены к чистому опыту; что в основе нашей
нравственной деятельности непременно должен лежать априорный элемент. Опыт только
дает понятие о действительности, о том, что есть, но вовсе не дает нам ни
малейшего понятия о том, что должно быть. Обратившись к опыту, мы видим, что одни
люди живут правдиво, а другие лгут; следующий опыт не дает нам ни малейшего
понятия о том, что лгать вообще постыдно. Из опыта невозможно вывести
необходимое и для всех обязательное правило; поэтому эмпирическое учение, которое
сводит всю нравственность к опыту,'подкапывает основу всякой нравственности.
Эмпирики — Юм, Бентам, Дж. Ст. Милль — пытаются свести всю нравственность
к пользе. Основание нравственности они сводят к опытам доказанной ее полезно-
247
сти для общества и, следовательно, для личности, ибо последняя может найти
счастье лишь в обществе. Это философское направление, называемое «утилитаризм»,
не выдерживает критических возражений Канта. В самом деле, опыт не
подтверждает того положения, что полезное для общества полезно и для личности;
напротив, опыт чисто доказывает противное. Посредством опыта, например,
нельзя доказать, что чиновник, обирающий казну, всегда несчастнее
оберегающего ее. Вообще опыт показывает, что вследствие нравственного образа действий
в одних случаях счастье личности увеличивается, а в других, наоборот,
уменьшается. Очевидно, что посредством опыта не может быть установлено никакое
общеобязательное правило. В основе нравственности лежат понятия долга,
обязанности, не сводимые к опыту. То, что Канту удалось доказать хотя бы одну эту истину,
уже достаточно для того, чтобы увековечить его имя. Наряду с достоинствами
нужно указать и на недостатки учения о нравственности Канта. Нравственность
неизбежно заключает в себе априорные элементы, которые, как показывает Кант,
не сводятся к опыту. Односторонность эмпирического учения и заключается в
том, что оно игнорирует эти элементы. Но, восставая против эмпирического
учения, Кант игнорирует те эмпирические данные, которые неизбежно
предполагаются всякой нравственной деятельностью. Первое условие нравственной
деятельности человека — общество людей. Вне общества никакая нравственная
деятельность невозможна. Таким образом, для нравственной деятельности мало
одного нравственного закона, который коренится в природе нашего разума,
нужен еще изведанный конкретный предмет деятельности. Наша нравственная
деятельность распадается на множество частных задач, которые не могут быть
выведены априорно из законов нашего разума. Разум наш может подвергать критике
только те или другие цели нашей деятельности, но самые эти задачи a priori быть
выведены не могут. Самый предмет нравственной деятельности дан нам опытом.
Кроме того, Кант не придает никакой цены эмпирическим мотивам нравственной
деятельности, то есть естественным побуждениям нашей природы. Любовь
к ближним, например, естественное влечение, которое мы находим в себе путем
опыта — вот этим-то естественным влечениям человеческой природы Кант не
придает никакой нравственной цены. Из двух благотворителей, например, Кант
отдает предпочтение тому, кто благотворит по чувству долга, пред тем, кто
благотворит по склонности — из жалости к чужим страданиям. Этот пример показывает
односторонность теории, которая пытается свести всю нравственность к закону
холодного разума и игнорирует всякие другие побуждения нравственной
деятельности,
ι
Учение о праве
Учения Канта о праве и государстве представляют подразделения его учения
о нравственности, основное положение которого заключается в том, что разум сам
себе даст закон. Закон разума простирается как на внешнюю сферу человеческой
жизни, так и на внутренний мир, на его настроение. Разум должен господствовать
как над действиями, так и над побуждениями. Но самый способ господства
разума различен. Во внешней сфере человеческих действий возможно принуждение,
можно принудить человека, например, к тому, чтобы он точно исполнял свои
гражданские обязательства по отношению к другому человеку. Чтобы разум
господствовал таким образом над действиями, принуждение необходимо. Напротив,
по отношению к внутреннему миру человека — его настроению, принуждение
неприменимо; так нельзя принудить вора любить честность, полюбить добродетель.
248
Внешняя сфера человеческих действий — та сфера, где возможно
принуждение, — входит в область права. Право рассматривает человеческие действия вне
отношения к тем мотивам, коими эти действия вызваны. Напротив,
нравственность смотрит на человеческие действия с внутренней стороны. Нравственность
оценивает действия всегда в отношении к вызвавшим их побуждениям. Право
требует, чтобы человек поступал законно, а нравственность — кроме того, чтобы
законный образ действия обусловливался уважением к нравственному закону,
а не происходил вследствие каких-либо корыстных целей. Право, таким образом,
требует только того, чтобы деятельность человека совмещалась с свободой других
лиц. Если, стало быть, то или другое действие не нарушает человеческой свободы,
то оно законно, правомерно; например, если я соблюдаю все договоры, то я
поступаю правомерно; если, кроме того, этот мой законный образ действия
обусловливается исключительно любовью к честности, то я поступаю еще и нравственно.
Право заботится о законности образа действия и оставляет в стороне область
принуждения; отсюда вытекает у Канта следующее определение права: право есть
совокупность условий, при которых произвол каждого лица может быть совмещен
с произволом других лиц под общим законом свободы. Право составляет, таким
образом, совокупность условий, при которых обеспечивается свобода всех, а
потому оно должно обладать силою принуждения, ибо свобода есть высшая цель.
Свободу вообще Кант считает единственным прирожденным человеку правом,
которое есть корень, источник всех остальных прав, ибо последние приобретаются
посредством свободы. Эта врожденная человеку свобода предполагает врожденное
ему равенство со всеми людьми и право на все действия, которые не нарушают
свободы других. Из требования обеспечения свободы Кант выводит всю систему
естественного права.
Право вообще подразделяется на естественное и положительное. Под первым
разумеются те определения права, которые вытекают из требования обеспечения
человеческой свободы. Эти определения права не зависят от места и времени и
составляют сущность права как такового. В отличие от естественного права, общего
всем, под правом положительным разумеется право исторически сложившееся.
Если право естественное вытекает из общих свойств человеческого разума, то
право положительное зависит от особенностей места и времени. Оставляя в стороне
право положительное, которое у каждого народа различно, Кант исследует только
право естественное. Правовые отношения возможны только между людьми. Люди
же относятся друг к другу или как частные лица, или как члены общества,
отсюда две формы прав: право частное и публичное. Вразрез с общепринятой
терминологией Кант присваивает публичному праву термин права гражданского — то же
самое, что мы разумеем под правом государственным в обширном смысле слова.
Очевидно, право частное нуждается в государстве, которое бы его охраняло.
Право частное, впрочем, может существовать и вне государства и раньше его, но
соблюдение его не обеспечено до тех пор, пока не существует государственной
власти, ибо только одна она может сообщить праву принудительную силу. Поэтому до
возникновения государства частное право имеет, по выражению Канта, лишь
предварительное значение. Предметом частного права служит воля частного лица
и все, чем оно владеет. Все содержание частного права сводится к различию
между «моим» и «твоим». Не совсем точно Кант утверждает, что частное право
обнимает отношения, вытекающие из владения, объектом коего могут быть или вещи,
или услуги, или само лицо. Отсюда три отдела права: вещное, личное и лично-
вещное. Под правом личным Кант разумеет то же, что мы разумеем под правом
249
обязательственным: в эту область входят услуги одних лиц в пользу других.
Основное и главное проявление права вещного — собственность, которая не есть
правовое отношение между лицом и вещью, а, как выражается Кант, есть
правовое отношение между собственником и другими лицами, ибо характерное
отличие всякой собственности состоит в том, что господство собственника над
вещью исключает господство других лиц. Такое отношение между собственником
и другими лицами возможно лишь при условии признания этого права
собственности другими лицами. Но спрашивается, как возможно подобное признание?
Признание за собственником права собственности на ту или другую вещь
возможно лишь поскольку другие лица тоже обладают правом на данную вещь.
Признание лишь постольку может сообщать юридическое значение, поскольку оно само
есть акт юридического господства. Утверждая своим признанием вещь за
известным лицом-собственником, мы уже тем самым выказываем свое право на данную
вещь, то есть некоторым образом господствуем над нею. Вследствие этого
признания вещи за собственником последний получает ее от других лиц, как бы в силу
отказа общества от этой вещи в его пользу. В этом смысле Кант говорит, что
собственность коренится в первоначальной общей собственности — communio
possessionis originaria, которая во всяком случае не есть состояние исторически
существовавшее. Communio possessionis originaria не должно быть понимаемо
в том смысле, чтобы частной собственности когда-либо предшествовал
коммунистический строй, ни в том смысле, чтобы коммунизм был идеалом, к которому
следует стремиться. Эта общность имущества — чисто фиктивного свойства; она
означает, что вся земля со всем на ней находящимся в идее принадлежит
человечеству как союзу разумных существ. А потому частная собственность есть
отношение лица ко всякому другому лицу, к союзу разумных существ, который ее
признает.
Опуская рассуждения Канта о личном и обязательственном правах, мы
перейдем к учению Канта о лично-вещном праве.
Под лично-вещным правом Кант разумеет такое отношение, при котором одно
лицо, наподобие вещи, находится в совершенном обладании другого лица, причем
им пользуются не как вещью, но рассматривают и уважают его как лицо; таковы
именно отношения семейные (отношения между супругами, между родителями
и детьми). Лицо не может быть предметом вещного права, но относительно
некоторых лиц (относительно жены, ребенка моего) я могу сказать, что они «мои».
Естественное право не допускает рабства, но оно мирится лишь с таким обладанием
лицом, при котором лицо сохраняет свою свободу, не низводится на степень вещи.
И в области половых отношений естественное право не допускает, чтобы одно
лицо вполне односторонним образом обладало другим. Половой союз совместим
с свободой лишь при условий, если обе стороны обладают друг другом взаимно,
если одна сторона не служит средством для другой стороны. Естественному праву
противоречит также соединение полов на время, для взаимного удовольствия.
При таком положении обе стороны низводятся на степень вещи или орудия и
унижаются в своем человеческом достоинстве. С точки зрения естественного права
допустимо только такое соединение полов, где соединяющиеся служат друг другу не
как вещи, но вступают в нераздельное сообщество на всю жизнь. Такому
требованию соответствует только брак в моногамической форме. Само собой разумеется,
что здесь Кант исследует только ^юридическую, а не нравственную сторону
брачных отношений.
250
Учение о государстве
Частное право нуждается в охранении его государством; только в
государстве право приобретает значение общеобязательное, ибо человек только тогда
обязан уважать частные права, когда он уверен, что и другое лицо будет уважать его
право. Только государство может дать подобную гарантию, поэтому только в
государстве наступает истинное правовое состояние. В своей конституции
государства Кант идет в особенности по следам Локка, Монтескье и Руссо. Подобно
Руссо, Кант выводит государство из первоначального основания
государства-договора. Подобно Локку, он сводит всю задачу государства к охранению
человеческих прав — к охране человеческой свободы, причем он игнорирует другие
необходимые задачи — задачу усовершенствования, общественную пользу.
Наконец, подобно Локку и Монтескье, Кант выводит из необходимости охраны
права систему конституционных гарантий, коей краеугольным камнем служит
знаменитая теория «разделения властей» Монтескье. Это учение о государстве
составляет один из самых слабых отделов философии Канта, так как
представляет собою произведение старческих лет (73 года), когда силы, свежесть и
последовательность мысли стали ему уже изменять. Это учение написано под
непосредственным впечатлением Французской революции; то был хаос событий,
когда благородные стремления были перемешаны со всякой грязью. Кант,
желавший переустройства человечества на новых началах разума, сочувствовал
основному принципу Революции; но с другой стороны, он был глубоко потрясен
картиной междоусобия, кровопролитий и анархии. Среди хаоса событий трудно
разобраться даже нам, живущим в XIX веке, а потому нисколько не
удивительно, если современники Революции были не в силах выйти из этой путаницы.
Кант, подобно Руссо и вообще всей естественной школе, видит в народе тот
первоисточник всякой власти, из которого в силу общего договора заимствуют
полномочия все правители. Для Канта общественный договор есть не историческое
событие, исторический факт, но идея разума. Эта идея означает то, что каждый
законодатель обязан издавать закон так, как могла бы издавать его
коллективная воля народа. Каждый законодатель должен смотреть на всех как на
участников этой коллективной воли. Этот принцип народного верховенства в эпоху
Канта лег в основу Французской революции. Последствия этого принципа суть
право восстания, право изменять образ правления, когда он не соответствует
благу народа. Эти последствия нашли себе выражение в учении Руссо и
конкретное воплощение во Французской революции. Кант, писавший учение о праве
после Революции, исходит из принципа общественного договора, но вместе с тем
он пугается тех революционных последствий, которые логически вытекают из
этого принципа. Отсюда целый ^яд противоречий, а) С одной стороны, Кант
требует, чтобы все правители были выразителями народного верховенства, а с
другой — категорически отвергает логические последствия, отсюда вытекающие:
право народа восставать против правителя, злоупотребляющего своей властью,
в) С одной стороны, Кант хочет, чтобы государство было выражением
количественного разума граждан, с другой — признает, что в силу общественного
договора граждане раз и навсегда связаны с тем или другим образом правления,
а следовательно, не могут его менять по своему произволу. Восстание против
верховной власти, по Канту, недозволительно потому, что на
правительственной власти всецело покоится государственный порядок, а восстание ведет к
возвращению в анархическое состояние, что есть большее зло, чем самое худшее
правление; поэтому, как бы ни был дурен существующий образ правления, как
251
бы правитель не злоупотреблял своей властью, восстание во всяком случае
недозволительно .
Хотя нельзя доказать исторически божеского происхождения существующих
властей, признание божественного установления власти есть необходимое
требование разума. Каково бы ни было историческое происхождение власти, все же ей
должно безусловно повиноваться и должно признавать ее священной, ибо
подданные связаны с ней общественным договором. Подданные могут стремиться к
улучшению существующих порядков только путем мирных реформ. Таким образом,
в учении Канта сталкиваются два радикально-противоположных начала:
принцип народной власти и принцип божественного происхождения власти. Если
власть исходит от народа, то последний ее может менять по произволу; если же
она нисходит от Бога, то народ безусловно навеки связан с ней, а потому о
верховенстве народа и речи быть не может. Безусловно отвергая право восстания, Кант,
однако, признает и допускает пассивное сопротивление королю; если он
злоупотребляет своей властью, народ может законно сопротивляться через парламент —
собрание своих представителей. Народные представители могут воздействовать
на короля, отказавшись вотировать подати. Этим нисколько не устраняется
затруднение, из коего хочет выйти Кант: подобный отказ вотировать подати
возможен лишь в ограниченных монархиях или республиках, но средств борьбы в
монархиях неограниченных Кант не указал. По-видимому, в последнем случае не
остается ничего другого, кроме безусловного повиновения, что уже не вяжется
с принципом народного верховенства. Кроме того, отказ вотировать подати не
всегда может быть надежной гарантией против произвола короля даже в
государствах конституционных. Это доказано Английской революцией, которая
возгорелась от того, что Стюарты самовольно, без согласия парламента, обложили народ
податями75. Вообще, нужно сказать, что теория конституционных гарантий
Канта, скорее, шаг назад в сравнении с теорией Монтескье. Подобно последнему, Кант
различает три вида власти: законодательную, административную и судебную;
при этом основная гарантия свободы заключается в разделении и обособлении
этих трех видов власти. Закон есть выражение общей народной воли, а потому
власть законодательная должна принадлежать всему народу в лице парламента.
Напротив, власть административная, по Канту, должна быть вручена монарху,
который правит, как уполномоченный народом. Словом, мы имеем здесь дело с
теорией разделения властей в чистом виде, причем недостаток этой теории здесь еще
рельефнее выделяется, нежели у автора «Духа законов» (Монтескье). Учение
Канта о положении короля вообще исполнено противоречий; так, с одной стороны,
король рассматривается, как г^ава государства, против которого восстание
недопустимо; при этом остается непонятным, почему один из участников общественного
договора — король — может его безнаказанно нарушать, а другой — народ —
должен все-таки быть им связан; с другой стороны, по теории разделения власти,
король не более чем административный и, вместе с тем, исполнительный орган.
В одном месте «Учения о праве» Кант говорит, что парламент может переменить
все управление и даже низложить короля, но наказать его он не может, ибо право
наказания есть уже акт исполнительной власти. Проповедуя теорию разделения
власти, Кант восстает, однако, против тех необходимых отступлений от нее,
которые допускает уже в то время конституционная практика Англии. В то время
в Англии они уже существуют, хотя и не во вполне сложившемся виде, в виде
учреждения кабинета министров. Так или иначе, но английский парламент в дни
Канта является не только законодательным учреждением, но также управляет
252
страной через своих уполномоченных — министров. Стало быть, с властью
законодательной парламент соединяет в себе и некоторые правительственные
функции. Вот эта-то поправка к теории Монтескье вызывает несправедливые упреки
Канта. На самом деле, кабинет министров представляет необходимое звено между
властью законодательной и административной; без него невозможно согласное
действие обеих этих властей. Но Кант, следуя букве учения Монтескье, в
кабинете министров видит узурпацию административных функций законодателем.
При таком соединении властей, когда министры суть также члены
законодательного учреждения, государство, по мнению Канта, может выродиться или в
олигархию, или в массовый демократический деспотизм, так как или министры —
представители администрации станут, забрав в свои руки законодательство,
злоупотреблять властью, или наоборот, законодательная власть всецело заменит
собой власть исполнительную и парламент упразднит короля. В обоих случаях
свободе грозит беда. Восставая против кабинета министров, Кант упускает из виду,
что министерство в конституционных странах контролируется: 1) парламентом
и 2) целой страной, которая через известный срок обновляет парламент, через
выборы, что, конечно, лишает министров возможности обратить законодательство
в орудие своих частных корыстных целей. Что же касается вырождения
государства в массовый демократический деспотизм, то это предупреждается
существованием верхней палаты, которая своим «veto» сдерживает демократические
увлечения. Кроме этих противоречий и недостатков учение Канта страдает еще
недостатком, общим всем представителям естественной школы. Он мало
считается в бесконечным разнообразием исторической действительности. Игнорируя
исторический опыт, Кант a priori строит все свое учение о праве и государстве; он
как бы забывает, что нельзя выработать такой государственный идеал, который
был бы годным для всех. Впрочем, если даже оставить этот конкретный
исторический материал в стороне и рассматривать учение о государстве с точки зрения
внутренней последовательности, видно, что оно и здесь не выдерживает критики. Вся
юридическая конструкция Канта не вытекает из начал, принятых им за
основание; он пытается вывести право из требования практического разума, которое
состоит в том, что мы должны быть свободны. Этот голос совести предписывает,
чтобы человечество в лице нас и ближних служило нам только целью, а не средством.
Отсюда Кант выводит необходимость права, как принудительного порядка,
который обеспечивает человечество от покушения со стороны других. Ясно, что
заключение здесь не вытекает из основного положения. Та нравственная свобода,
которую предписывает практический разум, есть свобода внутренняя, не
зависящая от внешних условий. Существует или не существует порядок правовой,
порядок принудительный, — человек все же остается нравственно свободным: он
всегда может исполнить свой дом, свое нравственное назначение. Свобода
нравственная — неотчуждаемое свойство нашего разума, которое никто не может у нас
отнять, а потому оно не нуждается в защите права. Порядок принудительный,
юридический нужен для охранения внешней, а не внутренней свободы.
Нравственный закон требует, чтобы мы исполняли долг ради самого долга,
следовательно, из нравственного закона никак нельзя вывести необходимость внешней силы,
внешнего юридического механизма, который под страхом наказания заставлял
бы нас уважать права ближних. Таким образом, из существования нравственного
закона, как его формулирует Кант, отнюдь не вытекает необходимость
существования правового, то есть принудительного порядка. Вообще, учение Канта о
праве и государстве — один из слабейших отделов его философии. Мировое значение
253
Канта как мыслителя обусловливается не этой теорией, а его учением о
происхождении человеческого познания и о нравственности, красоте, эстетике. Между
философами-мыслителями XIX века не было ни одного философа, учение коего
прямо или косвенно не вытекало бы из учения Канта или не было бы ему чем-нибудь
обязано. Как Сократ по отношению к античной философии, так и Кант по
отношению к философии XIX века есть общий родоначальник, общий источник, из
которого черпают все философы в большей или меньшей степени. Как учение Сократа,
так и учение Канта представляет ключ к уразумению всех последующих
философов; не зная его философии, нельзя понять вообще философии XIX века.
Произведения Канта представляют те «альфу» и «омегу», с которыми должен быть знаком
всякий серьезно занимающийся философией. Одно из важнейших своих
сочинений Кант называет «Пролегоменами», это заглавие в сущности есть верная
характеристика его учения которое есть как бы прелюдия к философии XIX века. Кант
совершенно верно указал на то, что критическое исследование наших
познавательных способностей должно предшествовать всякому философскому
построению. Он неопровержимо доказал присутствие априорного элемента как в нашем
познании, так и в нравственной нашей деятельности. Так как философское
понятие о нравственности должно лежать в основании учения о праве и государстве,
каковы бы ни были недостатки юридической теории Канта, основной принцип
мировоззрения его все же весьма высок. В отношении Канта к его преемникам
заключается некоторое противоречие. Отвергая возможность метафизики, Кант сам
стал отцом метафизики XIX века. Он, ограничивающий все человеческое
познание одной областью чувств, отвергая возможность знать что-либо о «вещах в
себе», дал толчок ко всем последующим метафизическим построениям. Это
противоречие объясняется противоречиями как в самой точке зрения Канта, так
и в том, что он сам себе не отдавал отчета во всех последствиях принципа, им
провозглашенного. Отвергая возможность метафизики, он сам был метафизик.
Отвергая возможность знать о «вещах в себе», он признавал существование «вещей
в себе»; «вещь в себе» есть пограничное понятие человеческого разума и, вместе
с тем, составляет область, недоступную для теоретического разума, знания и
науки. Но уже в этом — глубокое противоречие, если мы ничего не можем знать
о «вещи в себе», то нельзя говорить, что она существует; с другой стороны,
утверждая, что «вещь в себе» не познаваема, мы предполагаем, что она существует,
ибо если бы «вещь в себе» была нашей фантазией, то мы ее знали бы, как наше
собственное измышление; затем, если бы «вещь в себе» не существовала, то не было
бы явлений. Мы можем говорить о явлениях лишь в противоположность «вещам
в себе». Таким образом, отвергая возможность познать «вещь в себе», Кант
вынужден знать хотя бы об их существовании. Ввиду этого коренного противоречия
кантовской точки зрения философская мысль на ней успокоиться не может;
необходимость выпутаться из него составляет дальнейший стимул развития
философской мысли.
254
Фихте (1762-1814)
Характеристика
Продолжателем и преемником Канта является германский философ Иоган
Готлиб Фихте, один из глубочайших мыслителей послекантовского периода.
Необыкновенная сила и цельность характера, глубина и страстность убеждений —
таковы черты Фихте как личности. Не будучи схож с Сократом в других
отношениях, он, подобно ему, не только крупный мыслитель, но также и великий
философский характер, герой того мировоззрения, которое он олицетворял: он не
только теоретик, но и рьяный деятель; он не кабинетный мыслитель, а философ-
проповедник; он действует на слушателей не столько красотой выражения,
сколько необычайной возвышенностью строя мыслей и искренностью убеждений.
По словам Форберга, его ученика, «речь Фихте не отличалась красотой, но слова
его преисполнены были силы и значения». В раздражительном состоянии он
становился страшен, — это был тревожный и беспокойный гений. Его публичные
речи, по словам того же Форберга, — настоящая гроза, непрерывный ряд громовых
раскатов. Фихте возвышает душу, он хочет воспитать не только «добрых»,
но и «великих» людей. Он одержим страстью к деятельности (это его собственные
слова). Говоря словами Куно Фишера, Фихте — более чем последователь Канта,
он вместе с тем и апостол, и миссионер Кантова учения, которое воспринимается
им как религиозное учение. Он в особенности пленился строгой нравственностью
в учении Канта и в своей деятельности рискует всем — здоровьем, спокойствием,
даже жизнью, проводя на практике принципы Канта. «Я живу в новом мире с тех
пор, как прочел «Критику чистого разума»; вещи, о которых я думал, что они
никогда не могут быть доказаны, теперь доказаны, что сильно радует меня», — так
говорит сам Фихте по поводу «Критики чистого разума». Характеризуя сам себя,
он говорит: «У меня только одна страсть, одно чувство, в котором выражается все
мое существо, — стремление к деятельности во внешнем мире». Для этого
необычайно цельного мыслителя мыслить — то же, что действовать. Благодаря этому,
Фихте, один из глубочайших мыслителей, стал, вместе с тем, национальным
героем в Германии, с именем которого у каждого немца связываются патриотические
воспоминания. В 1807 году, когда Берлин был занят войсками Наполеона, Фихте
в стенах Академии произносил свои необыкновенно сильные речи к народу, в
которых он исследовал причины постигших народ бедствий; ими он старался
возбудить упавшее мужество германского народа, призывая его к духовному
возрождению, предлагая для этого совершенное перевоспитание. «Вы — соль земли, —
говорит он в одном месте о немцах, — вам нет другого выхода, кроме
национального возрождения; если вы погибнете, то с вами погибнет весь культурный мир».
Так говорил Фихте, невзирая на опасность, а опасность была велика (один
книгопродавец был расстрелян по приказанию Наполеона за распространение
запрещенной, но совершенно невинной брошюры). Таковы черты нравственного
облика Фихте. Но для полной его характеристики нужно указать и на его недостатки,
тем более, что в его характере есть положительно несносные черты. С
необычайной прямотой и честностью у него связывается некоторая грубость; сила
характера и мужество сочетаются с жестокостью и резкостью. Фихте прежде всего
педагог по призванию: задача философии для него вместе с тем и воспитательная
задача. Он хочет быть всемирным воспитателем; ему мало казалось аудитории
с его слушателями, он вмешивался во все студенческие дела. В Йене он убеждал
255
слушателей уничтожить свои корпорации; студенты сначала соглашались с ним,
а потом в ответ на его назойливые требования били окна его квартиры. Его
педагогические наклонности обращаются в особого рода педантизм, в стремление к
насильственному перевоспитанию ближнего. Фихте крайне нетерпим; малейшее
противоречие выводит его из себя. Недаром про него говорили, что Фихте был бы
способен огнем и мечом обращать людей в свою веру, как делал это Магомет, если
бы не прошли времена Магомета; кафедра его была бы королевским престолом. Он
напоминает собою проповедников вроде Кальвина; в нем поражает сочетание
строго-нравственного ригоризма с яростным деспотизмом основателей
протестантских сект. Образ Фихте значительно выиграет в наших глазах, если мы
примем во внимание ту обстановку, среди которой он жил и действовал.
Биографические сведения
Фихте, как и Кант, — сын бедного ремесленника-ткача. Образование получил
благодаря посторонней помощи и обучался богословию в Йенском и Лейпцигском
университетах и в течение четырех лет студенческой жизни боролся с крайней
нуждой. По окончании университета он 9 лет состоял, как и Кант, домашним
учителем. В 1790 году он случайно наталкивается на творения Канта и тут только для
него уясняется его собственное философское призвание. По пути в Варшаву в 1791
году, где он должен был поступить на должность домашнего учителя, он проездом
через Кенигсберг познакомился с Кантом и поднес ему свою «Критику всякого
откровения». Этот первый труд Фихте был напечатан при содействии Канта и
положил начало его известности. По страшной случайности в типографии на
заглавном листе было пропущено имя автора и трактат этот, проникнутый духом
Кантова учения, был принят за произведение Канта, тем более, что все в то время
напряженно ожидали появления в печати нового трактата Канта «О религии».
Вследствие такого счастливого стечения обстоятельств, когда Кант публично
заявил о Фихте, как об авторе вышеназванного труда, имя последнего сразу
приобрело славу. В 1793 году он женился в Цюрихе, а в следующем, 1794 году,
получил философскую кафедру в Йенском университете, который в конце XVIII и
начале XIX столетия играл роль центра философского движения. Здесь началась
его блестящая деятельность, которая уже через пять лет неожиданно оборвалась
благодаря столкновению его с саксонским правительством по поводу статьи Фор-
берга, которой духовенство приписало атеистический характер (статья эта была
напечатана в журнале, издаваемом под редакцией Фихте). В силу необходимости
он разрывает всякие связи с Йенским университетом и едет в Берлин, где
знакомится, между прочим, с Шлегелем. Уже в 1805 году мы видим Фихте ректором
только что основанного Берлинского университета. Во время войны 1814 года
Фихте, ухаживая вместе с женой за ранеными, заболел горячкой и умер в том же
1814 году.
Наукословие (Wissenshaftslehre)
Необычайная целостность его характера и умственного склада отражается в
такой же необычайной целостности его учения, которое примыкает к учению
Канта. Но философия Канта, в конце концов, есть создание противоречивое и
двойственное, чтобы стать началом нравственного обновления человека, она должна
преодолеть свои внутренние прртиворечия, она должна выйти из этого
мучительного состояния внутреннего разлада и раздвоения, иными словами философия
Канта должна подвергнуться коренной реформе. Кант указал на самодеятель-
256
ность нашего разума, нашего «Я» в познании и нравственности — в этом его
капитальная заслуга. Фихте же идет дальше по стопам своего учителя; он утверждает,
что все существующее есть продукт деятельности абсолютного «Я», которое в
человеке приходит к самосознанию. Понятие о самодеятельности абсолютного «Я»
послужило краеугольным камнем для философии Фихте. В этом понятии Фихте
находит ключ к разрешению противоречий, в которых запутался и с которыми не
мог справиться Кант. Нетрудно убедиться в том, что точка зрения Фихте
составляет необходимое развитие и продолжение Кантова учения. Результат Кантова
учения таков: пространство и время не суть свойства «вещей в себе», а
субъективные формы нашего представления, коренящиеся в природе нашего духа.
Категории рассудка (например, понятие причинности), вообще все понятия, посредством
которых мы устанавливаем связь во внешней природе, также коренятся в
рассудке, и мы не можем применять их к «вещам в себе». Все то разнообразие цветов
и красок, которое мы видим, все разнообразие звуков, воспринимаемое нашим
слухом, — все это только состояние наших чувств. Что же останется от внешней
природы, если отнять все то, что вносит в нее деятельность нашего «Я»? Конечно,
не останется ни пространства, ни времени, ни разнообразия и пестроты цветов
и звуков, ни взаимной связи явлений; словом сказать, если отнять то, что вносит
деятельность нашего «Я», то не останется ничего, кроме мертвой пустоты.
По Канту, однако, останется недоступная нашему сознанью «вещь в себе». Уже
Кант изрек смелое слово, что «рассудок наш есть законодатель природы, так как
он связует разрозненные явления». Называя рассудок законодателем природы,
Кант говорит только о доступном нам мире явлений, оставляя в стороне
таинственную область «вещей в себе». Вот это-то понятие «вещи в себе» и служит
предметом нападений Фихте. С устранением этого понятия, то есть если допустить, что
«вещь в себе» не существует, то окажется, что вся природа есть не что иное, как
продукт деятельности «Я», его проявление. «На самом деле, — спрашивает
Фихте, — что такое „вещь в себе"?» Так как она не может быть предметом опыта,
то она — продукт нашей фантазии, то есть просто наше измышление. Понятие
«вещи в себе», продолжает Фихте, измышлено для того, чтобы объяснить наше
сознание внешних явлений. Критическая философия показывает всю
несостоятельность такого измышления, она показывает, что в восприятии солнца,
например, как и в восприятии всякого другого предмета, все сводится к деятельности
сознания, к деятельности «Я». Если отымем у солнца его фигуру в пространстве,
отвлечемся от зрительных наших впечатлений, одним словом, от всего, что
составляет продукт деятельности «Я», то в результате у нас не останется ровно
ничего от солнца. Итак, ясно, что природа есть продукт первоначальной
деятельности некоторого «Я»; это абсолютное «Я» ничего не черпает извне, само все
полагает, само все творит, из с^бя черпает и создает. Оно само дает себе закон,
то есть само определяет путь своей деятельности. Это «абсолютное Я», «Я»
мировое не есть то же, что наше человеческое, индивидуальное «Я». Абсолютное «Я»,
лежащее в основе вселенной, все собой объемлющее — представляет собой начало
единства всего существующего. Наше человеческое «Я» относится к нему, как его
проявление, его обнаружение. Этой попыткой понять всю внешнюю природу как
проявление деятельности «Я» Фихте полагает начало господствующей в первой
половине XIX века философии тождества. Так как абсолютное «Я» не имеет
ничего вне себя, то весь мировой процесс представляется Фихте как процесс
постепенного раскрытия деятельности этого мирового «Я». Как Фихте представляет себе
этот процесс? Абсолютное «Я» первоначально полагает свое бытие, то есть дейст-
9 3ак. 3911 257
вует. В этом сущность мирового процесса. Абсолютное «Я» первоначально
заключает «все» в себе, но, вместе с тем, «Я» не может сознавать себя иначе, как
противополагая себя внешнему миру, противополагая себя некоторому «Не-Я»,
некоторому внешнему предмету. Мыслящий субъект вообще не может сознавать себя
иначе, как противополагая себя мыслимому объекту.
Второй гост мирового процесса заключается, таким образом, в том, что «Я»
противополагает себе «Не-Я»; иначе говоря, «Я» создает некоторое отличное от себя
«Не-Я», этим самым оно себя ограничивает. С одной стороны, «Не-Я»
противополагает мировому «Я» как нечто чуждое, как внешняя граница; с другой стороны,
и «Я» ограничивает «Не-Я» как нечто от него отличное. Так, абсолютное «Я»
выходит из своей первоначальной неограниченности. Положив себе эту границу —
внешний объективный мир, внешнюю природу, — оно снова углубляется в себя
и погружается во внутреннюю рефлексию. Выходя, таким образом, из
первоначально деятельного состояния, оно погружается в состояние пассивное,
страдательное. Насколько «Я» воспринимает внешние предметы, оно сознает себя уже
не действующим, а только испытывающим действия «Не-Я», действия внешнего
мира. Это новое страдательное состояние «Я» есть ощущение внешнего мира;
это — новый акт сознания, в котором ощущается внешний мир, его
ограничивающий. Затем возникает новая рефлексия, и новое самоограничение «Я»
приписывает свои ощущения внешнему предмету, который оно ощущает. Ощущение света
и тепла, например, приписывает солнцу. Этим самым «Я» возвышается над
своими ощущениями, представляя их как внешние предметы. Так возникает мир
внешних представлений, мир внешних предметов. Далее возникает новая
рефлексия: «Я» воспроизводит внешний предмет, отвлекая от него образ, понятие;
иначе говоря, «Я» вновь обращает внешний предмет в свой продукт, в свое
понятие. Так, путем ряда рефлексий, «Я» приходит к сознанию самого себя, в отличие
от внешнего мира, его ограничивающего. Как внешний мир, так и множество
индивидуальных ограниченных «Я» — все это продукт деятельности единого
абсолютного «Я». Единое и нераздельное в первоначальном своем источнике, мировое
абсолютное «Я» путем беспрерывной деятельности дробится на множество
индивидуальных ограниченных «Я»; оно проявляется во множестве индивидуальных
ограниченных субъектов, которым противополагается бесконечное множество
разнообразных объектов, то есть внешняя материальная действительность. Итак,
все это есть проявление единого абсолютного «Я», которое служит источником
всего существующего. Этому учению Фихте усвоил название «наукословия».
Вышеизложенная часть «наукословия» (ч. I) исследует происхождение
самосознания, а потому составляет «наукословие» теоретическое, в отличие от
«наукословия» практического, исследующего задачи человеческой деятельности.
Поскольку наше «Я» есть только мыслящий, созерцающий субъект, оно
представляет себе «Не-Я» — внешний мир — как чуждую ему действительность.
Созерцательное отношение к миру есть чисто страдательное к нему отношение,
поскольку «Я» только созерцает, только воспринимает впечатления внешнего
мира, постольку оно испытывает на себе его действие, то есть находится в
страдательном состоянии. Такое страдательное теоретическое отношение к внешней
природе не может исчерпать сущности и назначения «Я». Наше человеческое «Я»
есть проявление абсолютного «Я», как таковое оно должно быть свободно от
всякой внешней границы; «эта граница, — говорит Фихте, — может быть для меня
отодвинута лишь поскольку я действую на внешний мир, поскольку я покоряю
себе внешний мир посредством деятельности». Чувство нашей ограниченности по-
258
рождает в нас стремление снять эту границу, — отсюда жажда к деятельности.
Наше человеческое «Я» проистекает из «Я» абсолютного; последнее служит
первообразом, идеалом, к которому мы должны стремиться. Таким образом, наше
человеческое «Я» в своей деятельности в одно и то же время ограничено и
безгранично, конечно и бесконечно. Наше «Я» конечно и ограничено по своей природе, как
существо между другими существами. С другой стороны, оно бесконечно по
своему происхождению, ибо проистекает из «Я» абсолютного. Наконец, наше «Я»
бесконечно по своей задаче, по своей цели, так как задачей для нас должно служить
«Я» абсолютное; это — та безусловная цель, к которой мы должны тяготеть; наш
бесконечный долг заключается в уподоблении абсолютному мировому «Я». «Вся
наша жизнь, — говорит Фихте, — есть беспрерывное противоречие, ибо,
безграничное по своему происхождению и цели, наше «Я» в действительности
ограничивается внешним и чуждым ему миром». Поэтому наше «Я» только тогда
согласуется с собою, когда стремится снять эту границу. Таким образом, наше «Я»
в самом себе имеет свою бесконечную задачу, свою бесконечную цель. Наша
нравственная задача заключается не в том, чтобы произвести какой-либо внешний
осязательный предмет; задача эта лежит единственно в согласии нашего «Я» с
самим собою. В этом и заключается безусловное предписание нравственности по
отношению к нам, в этом-то и заключается «категорический императив». Наша
нравственная задача бесконечна по своей природе, ибо наше конечное «Я»
никогда не может быть равно «Я» абсолютному. Мы можем только бесконечно
приближаться к выполнению нашей нравственной задачи, но выполнить ее совершенно
мы не можем, ибо мы ограничены по природе внешним миром. Граница эта
постепенно может отодвигаться, но вполне уничтожиться безусловно не может. Мы
можем постепенно расширять нашу власть над внешней природой, но мы никогда не
можем стать вполне безграничными существами. Поэтому задача человека может
быть выполнена только в безграничной и бесконечной деятельности,
деятельности, не имеющей ни границ, ни пределов во времени. Вся внешняя материальная
природа не имеет другой цели, как послужить материалом для нашей
нравственной деятельности, и представляет результат творческой деятельности мирового
«Я». Абсолютное «Я» только для того и полагает в себе это ограничение, чтобы
преодолеть его посредством деятельности. Внешняя природа не есть сама по себе
цель, она лишь средство. Один человек как носитель идеи долга и как отражение
«Я» абсолютного есть цель сама в себе. Если бы не было внешней природы, нас
ограничивающей, то была бы невозможна никакая деятельность, ибо всякая
деятельность есть преодоление внешних препятствий. «Только если мы станем на
нравственную точку зрения, — говорит Фихте, — мы объясним себе
существование внешней природы, которая существует только для того, чтобы человек в
непрестанной деятельности и борьбе мог исполнять свое нравственное назначение».
Учение о праве
Из деятельности «Я» Фихте выводит свое учение о праве, которое
первоначально выражено в его трактате «Основы естественного права на началах наукосло-
вия». Индивидуальное «Я», рассуждает здесь Фихте, для которого «Я»
абсолютное есть цель, не может сознавать себя иначе, как приписывая себе некоторую
свободную деятельность в мире внешнем, ибо лишь в силу свободной
деятельности наше индивидуальное «Я» согласуется с своим первообразом, абсолютным
«Я». Сознавать себя значит то же, что сознавать себя свободно действующим на
внешнюю природу; наша свободная деятельность возможна лишь в предположе-
259
нии внешнего мира, следовательно, наше индивидуальное, человеческое «Я»
может сознавать себя, лишь противополагая себе внешний, чувственно
воспринимаемый мир. Но и этого мало для самосознания; наше «Я» как лицо и сознает себя
не иначе, как в обществе подобных лиц. Нет «Я» без «ты». Это положение Фихте
доказывает так: я могу сознавать себя лишь свободно действующим; сознавать
себя — значит знать, что я отличаюсь от всякого внешнего предмета, не связан ни
с одним из них; я свободен избрать себе любую цель, направить свою деятельность
на другие предметы. Лишь поскольку я сознаю эту свободу, я сознаю себя. В этом-
то смысле Фихте и говорит: я могу сознать себя не иначе, как свободно
действующим. Но, с другой стороны, я могу свободно действовать, лишь поскольку я уже
знаю о своей свободе, о том, что могу избрать любую цель, любой предмет для
своей деятельности. По-видимому, здесь образуется логический круг: с одной
стороны, свободная деятельность человека уже предполагает в нем сознание этой
свободы, а с другой — сознание свободы предполагает свободную деятельность. «Я»
индивидуальное не могло бы выйти из этого логического круга, если бы вне его не
было других, подобных ему существ, которые вызывали бы сознание его свободы;
сознание моей свободы может пробудиться во мне лишь вследствие толчка,
вызова извне; общество других мыслящих существ, с которыми я себя сравниваю,
вызывает во мне сознание моей свободы. Лишь в силу этого вызова человек
начинает сознавать себя, начинает действовать. Я не могу сознавать себя свободным
в обществе других иначе как приписывая свободную деятельность другим «Я».
В этом-то смысле Фихте и говорит, что нет «Я» без *ты». Итак, чтобы сознавать
себя свободным, я должен сознавать чужую свободу — в этом исходная точка
правовой теории Фихте. Но признавать чужую свободу значит то же, что уважать ее,
ограничивать себя ею; уважать же чужую свободу я могу лишь под одним
условием, под условием, чтобы другие признавали и уважали мою свободу. Каждое лицо
может ограничить себя в пользу других лишь с тем условием, чтобы и остальные
делали то же, то есть чтобы такое самоограничение было общим законом. Итак,
сущность права заключается в самоограничении всех людей под общим законом.
Таким образом, по Фихте, право есть условие нашего самосознания: сознавать
себя я не могу иначе, как в правовом отношении с другими, иначе, как свободным
среди других свободных, субъектом права среди других субъектов права. Право,
так понимаемое, коренным образом отличается от нравственности. Оно
нормирует собою лишь внешнюю сферу человеческих действий, побуждения же и
настроения входят в сферу нравственности. Требования права сводятся только к тому,
чтобы человек поступал законно, то есть чтобы он не нарушал свободы других
лиц, когда его свобода остается неприкосновенной со стороны других. Поступаю я
законно из эгоистических целей или, напротив, из бескорыстной любви к
ближнему, праву до этого нет ровно цикакого дела. Нравственность, напротив, требует
любви к долгу ради самого долга. Одним словом, Фихте определяет различие
между правом и нравственностью совершенно так же, как и Кант, хотя учение о праве
Фихте в первоначальном своем виде появилось в печати раньше, чем учение
Канта. В основании всякой системы права лежат первоначальные права (Urrechte);
под последними понимается совокупность тех условий, без коих человек не может
существовать и действовать в мире, доступном для его чувств. Первое
естественное право человека — это право на его тело. Это значит, что тело наше как
физическое, чувственное олицетворенир нашего «Я» должно признаваться безусловно
свободным и неприкосновенным. Никакое другое лицо не может иметь
каких-либо прав на наше тело. Далее, человек может действовать свободно лишь при усло-
260
вии, если он может подчинять отдельные предметы своим целям. Большая часть
предметов внешнего мира не может служить целям одновременно нескольких
лиц, так, например, одежда не может прикрывать одновременно члены
различных лиц. Потому, чтобы быть свободным деятелем во внешнем мире,
человеческое лицо должно обладать возможностью делать предметы своим
исключительным достоянием. Такое исключительное господство лица над вещью есть право
собственности. Без права собственности человек не может быть свободным лицом,
поэтому собственность принадлежит также к числу первоначальных и
естественных прав. Вся деятельность свободного человека направлена к целям, которые
должны быть достигнуты в будущем. Тем, что я полагаю себе цель в будущем, я
предполагаю сохранение своего здоровья, существования в будущем, то есть лицо
должно обладать еще и правом самосохранения. Итак, право на тело, право
собственности и право самосохранения суть три первоначальных и прирожденных
естественных права. Но прирожденные права далеко еще не исчерпывают всех прав
человека; наряду с правами прирожденными существуют еще права и
приобретенные. По природе человеку принадлежит право собственности вообще, право
собственности in abstracto, а не право на какую-либо определенную, конкретную вещь.
По природе человеку принадлежит право присвоить себе вещь, то есть делать ее
предметом исключительного своего господства. Фихте допускает прирожденное
человеку право собственности лишь в смысле права присвоения, стало быть,
прирожденное право не определяет того, как далеко простирается право
собственности того или другого лица, сколько предметов может принадлежать одному лицу.
Право на определение количества вещей уже не есть право прирожденное, а
право приобретенное. Соблюдение тех и других прав в естественном состоянии (дого-
сударственном) не обеспечено. Отсюда Фихте, подобно всем мыслителям XVIII и
XIX веков, выводит необходимость установления власти и учреждения
государства. Подобно Канту, и Фихте в ранний период своей философской деятельности
вдается в чисто юридическую конструкцию государства. Он односторонним
образом сводит всю задачу государства к охранению правового порядка против
возможности его нарушения. Только в государстве прирожденные права
приобретают всеобщую обязательность. Он говорит: «Никто не обязан уважать прав
ближнего, пока каждый не уверен в том, что и ближние будут уважать его права».
Такая уверенность может существовать только при условии существования
государственной власти, которая одна может принудить к подчинению правовому
порядку. Государство, основанное на договоре, есть выражение коллективной воли
народной массы. В этом мнении Фихте сходится с Руссо. Далее, относительно
вопроса о государственном устройстве, вытекающем из народного верховенства,
между обоими мыслителями с^гществует коренное разногласие. В
противоположность Руссо, боготворящему непосредственное народное самоуправление, Фихте
считает эту форму правления худшею из всех, ибо, говорит он: «Всякий, кто
облечен властью, склонен к злоупотреблению ею». Подобное злоупотребление
возможно при всяком образе правления, но в то время, как при других образах правления
возможен контроль над правительственною властью, которая в случае
злоупотребления и недобросовестностц может быть наказана, при непосредственной
демократии правитель — народ — безответствен и не может быть подвержен
никакому контролю; поэтому непосредственная демократия есть образ правления
деспотический, то есть оно ведет,к массовому деспотизму. На этом основании
Фихте восстает против непосредственного народного самоуправления и
высказывается за народное самоуправление через представителей, причем власть не долж-
261
на быть ослабляема разделением ее функций. Вместо разделения властей Фихте
предлагает другие средства для предупреждения злоупотребления власти —
особое государственное учреждение — эфорат. Коллегия эфоров, обязанность
которых заключается в том, чтобы быть контролирующей инстанцией в государстве,
не должна совмещать властей законодательной и исполнительной, ибо при этом
условии эфоры станут единой властью в государстве и правление будет
бесконтрольно. Они должны быть инстанцией обособленной и не должны вмешиваться
в управление, но вправе привлекать к ответственности всякое должностное лицо.
Им, как и римским трибунам, должна принадлежать лишь власть
задерживающая; так, в случае злоупотребления со стороны правителя эфоры собирают народ,
предают народному суду правителя и сами поддерживают против него обвинение.
В случае обвинительного приговора правитель теряет свою власть и наказывается
как государственный изменник. Нечего и говорить о том, насколько странен и
непрактичен весь этот проект, изобретенный Фихте взамен принципа разделения
властей. На стороне правительственной власти будет вся сила, ибо
правительственная власть не может быть подчинена контролю эфоров, не располагающих
армией, при помощи которой они могут принудить правителя к повиновению.
Недостатки и слабости этого проекта бьют в глаза, и сам Фихте в конце концов был
вынужден изменить этот проект, убедившись в его несостоятельности. Задача
государства, таким образом, сводится к тому, чтобы обеспечить лицу
неприкосновенность прав природных и приобретенных. В этом и заключается содержание
того первоначального гражданского договора, при помощи которого государство
установляется. Гражданский договор заключает в себе как необходимое условие
договор об отбытии наказания за преступление. Тем самым, что я участвую в том
или другом государстве, я уже обязан уважать права других и правовой порядок
и отвечать перед законом за правонарушения, следовательно, я беру на себя
обязанность отбывания наказания. Цель наказания заключается, по Фихте,
единственно в том, чтобы обеспечить общественную безопасность частью путем
устранения, частью путем гражданского перевоспитания самого преступника.
Для государства как союза чисто правового безразлично, какими побуждениями
руководятся граждане; для него важно, чтобы правовой порядок строго уважался
и чтобы достигались общественные цели. С этой чисто правовой точки зрения,
тот, кто воздерживается от преступления из страха перед наказанием, так же
хорош, как и тот, кто воздерживается от преступления по чувству долга. Для этой
цели достаточно внушить человеку мысль, что за каждое его преступление
следует наказание. В этом только смысле наказание может преследовать
воспитательную цель. Второе подразумеваемое условие гражданского договора — договор
о собственности. Государство вообще должно гарантировать каждому гражданину
необходимое существование и свободу. Наряду с безопасностью личной
государство должно обеспечить гражданину и безопасность имущества как средства к
жизни, ибо без собственности нет свободного лица. В силу общественного договора,
каждое лицо обязуется уважать собственность других лиц при условии, если
и другие будут уважать его собственность. Представим себе, что гражданин не
имеет собственности, то есть что »он лишен средств к существованию. Разумно ли
требовать от «нищего» уважения чужой собственности, когда эти «чужие» не
могут отплатить ему тем же? Государство может предъявлять к нему такие же
требования, как и к прочим гражданским, если оно дает ему возможность пропитать
себя собственным трудом. Каждому гражданину принадлежит право на труд,
то есть право известным трудом доставлять себе средства к существованию.
262
Для лиц, физически неспособных к труду или временно не имеющих работы,
должны существовать дома общественного призрения. «Дома эти, — говорит
Фихте, — необходимы не только для филантропических целей, но они
необходимы и для всего общества, ибо существование безрабочего и нищего люда
представляет величайшую опасность. Нищета вообще не должна быть терпима в
благоустроенном государстве». Фихте при этом предлагает проект организации труда,
который напоминает цеховое устройство средневековых городов. Проект этот
выражен в общих чертах в его «Основах естественного права» и получает развитие
в трактате «Замкнутое торговое государство». Дабы государство могло обеспечить
заработок, всякий гражданин по достижении им зрелого возраста должен заявить
правительству об избранном им роде занятий. Затем уже государство печется
о предоставлении возможности заниматься этим делом или, как говорит Фихте:
«Государство предоставляет право на избрание области производства как на
исключительную сферу его деятельности». Так как одним и тем же производством
могут заниматься очень многие лица, государство разделяет всех граждан на
массу общественных групп и на три главных состояния: производители,
доставляющие сырой материал, ремесленники, обрабатывающие этот сырой материал,
и купцы — посредники при обмене товара. Чтобы каждая группа могла находить
себе достаточный заработок, государство должно наблюдать за сохранением
пропорциональных отношений между отдельными группами. Если в государстве
будет, например, много сапожников, то будет перепроизводство сапог и сапожники
будут умирать с голоду. В предупреждение таких случайностей, государство
делит граждан на цехи, определяет количество людей, принадлежащих к этим
цехам, смотрит, чтобы все работы производились добросовестно, определяет цену
продукта и установляет между гражданами взаимное обязательство покупать
чужие произведения. Чтобы это равновесие между отдельными отраслями
промышленности не нарушалось, всякие торговые сношения с другими государствами
должны быть совершенно прекращены. Страна должна обладать возможностью
жить своими собственными средствами, отсюда и название «Замкнутое торговое
государство», которое Фихте усвояет своему проекту. В случае, если какой-либо
сырой продукт вовсе не произрастает в пределах данного государства, Фихте
допускает в виде исключения обмен с другими странами, но при этом право вести
иностранную торговлю не должно быть предоставлено частным лицам, оно должно
составлять всецело монополию государства, ибо только этим путем может быть
сохранено устойчивое равновесие между отдельными отраслями производства.
Нечего и говорить, насколько несуразен и несбыточен весь этот проект. В
экономическом строе нового времени свободная конкуренция представляется самым
мощным стимулом промышленного прогресса. При свободной конкуренции
победа на мировом рынке остается за тем, кто с наименьшей затратой рабочей энергии
может производить наибольшее количество продуктов. Стало быть, при
свободной конкуренции каждый фабрикант заинтересован введением технических
усовершенствований, чтобы при одном и том же числе рабочих рук вырабатывать все
большее и большее количество продуктов. В проекте Фихте не остается места
свободной конкуренции, в «Замкнутом торговом государстве» заранее определено
как количество вырабатываемых продуктов, так и число рабочих рук. Здесь нет
уже места для технических усовершенствований, для промышленного прогресса,
ибо всякое техническое усоверщенствование могло бы в корне подорвать то
равновесие различных отраслей промышленности, которое требуется идеалом Фихте.
Проект этот страдает общим недостатком социалистических систем. Он убивает
263
частную свободу, без которой невозможен никакой прогресс, и тем самым
осуждает общество на мертвую неподвижность. Вдаваясь в коммунистический идеал,
Фихте уже заметно изменяет своей первоначальной точке зрения* Он отдаляется
от тех кантовских начал, которые легли в основу его учения. У Канта вся задача
государства сводится к охранению прав личности, прав, которые существуют
независимо от него. В своих «Основах естественного права» Фихте также
первоначально сводит всю задачу государства к охранению правового порядка и к
обеспечению свободы личности. Однако, уже в этом произведении Фихте противоречит
исходной точке своего учения. Наконец, в «Замкнутом торговом государстве» он
развивает идеал такого общественного устройства, где не остается места
индивидуальной свободе лица, где все, так сказать, ходят по струнке. В «Замкнутом
торговом государстве» Фихте утверждает, что, вопреки Канту, и задача государства
не ограничивается охранением прав личности, но государство должно само
устанавливать эти права. Таким образом, учение Фихте о государстве не в состоянии
свести концы с концами. Конечный результат противоречит исходной точке.
Основная цель государства, по Фихте, заключается в том, чтобы обеспечить
человеку внешнюю свободу, без коей он не может существовать. И вот ради достижения
этой цели Фихте изобретает такие государства, где индивидуальной свободе вовсе
нет места, так что каждый шаг деятельности человека подчинен самой строгой
регламентации. Воззрение Фихте страдает еще и другим противоречием. С одной
стороны, государство есть союз чисто правовой, и ему нет дела до нравственного
настроения граждан, для государства важно только строгое исполнение
правового порядка. Но, с другой стороны, на вопрос: «Зачем же нужен правовой
порядок?» — Фихте отвечает: «Чтобы человек мог исполнить свое нравственное
назначение, необходимо, чтобы свобода человека была обеспечена правовыми
нормами». Стало быть, выходит, что правовой порядок имеет цену, поскольку он
служит нравственным целям, и закон юридический нуждается в высшей санкции
закона нравственного. Становясь на нравственную точку зрения, Фихте
представляет государство в новом освещении. Самое право с нравственной точки зрения
приобретает нравственную обязательность. Вступление в государство и уважение
его законов есть нравственный долг человека. Но если так, то государство
перестает быть союзом исключительно юридическим; оно приобретает высшую
нравственную цель и становится союзом нравственным. К такому результату влечет
Фихте логика всего его нравственного и метафизического учений. В конце концов
индивидуальное человеческое «Я» представляет собою лишь ограниченное
проявление «Я» мирового, бесконечного, которое проявляется не только в одном лице,
но в бесконечном множестве человеческих «Я». Значит, чтобы исполнить мое
нравственное назначение, я должен восполнить себя в обществе других существ,
в союзе с другими личностями, ибо только в соединении всех разумных существ
может во всей полноте и совершенстве явиться единство мирового «Я». Стало
быть, союз с другими существами (в форме ли государства, в форме ли церкви —
все равно) есть союз нравственно обязательный для всех. Самое бытие государства
освящается нравственным законом, следовательно, покоится на нравственной
необходимости. Как же можно после этого говорить, что для государства
безразлично нравственное настроение граждан? Сам Фихте в позднейший период своей
философской деятельности (в начале XIX века) все более и более проникается
понятием о государстве как о союзе нравственном. В конце концов, эта
нравственная цель становится у него на первом плане. Охранение правового порядка есть
одна из отраслей деятельности государства. Государство, как часть мирового це-
264
лого, должно быть подчиненным звеном нравственного мирового порядка.
Воззрения Фихте меняются с течением времени частью под впечатлением внешних
событий, частью в силу внутреннего органического развития его системы. Раннее его
политическое учение окрашено чисто космополитическим характером. Цель
государства состоит исключительно в обеспечении свободы отдельных лиц.
Национальность государства вовсе им игнорируется, словно выходит из его
политического кругозора. Этот космополитизм не составляет индивидуальной особенности
одного Фихте, это, можно сказать, общая черта философов эпохи второй
половины XVIII века. В своем стремлении пересоздать человечество на началах разума
они игнорируют исторически существующее, игнорируют конкретные
исторические особенности различных национальностей. В учении этих мыслителей человек
является отвлеченным носителем разума. Исходя из понятия свободно-разумной
человеческой личности, мыслители этого периода пытались построить
государство и общественный идеал, годный для всех времен и всех народов; стало быть,
национальность у них вовсе не имеет места. Этим недостатком грешат учения Руссо
и Канта, а также и раннее учение Фихте. Космополитизм — отсутствие
национальных интересов — есть общая черта мыслящей Европы, а в особенности
Германии конца XVIII века. Наконец, космополитический идеал Французской
революции находит конкретное выражение в империи Наполеона I. Это всемирное
царство, грозящее стереть с лица земли все национальности. Истинный сын
французской революционной эпохи, Наполеон не почитает освященных временем
границ отдельных национальностей. Он не считается с национальными
особенностями покоренных народов и хочет создать единый порядок, единое управление для
всех. Империя, как понимает таковую Наполеон, есть разноплеменный союз
людей, объединенных общими началами права, разума и общей властью
императора. И вот этот-то наполеоновский идеал вызывает в первое десятилетие XIX века
повсеместно реакцию национального чувства. В России, Испании, Англии и
Германии, да и во всей Европе мало-помалу начинает воскресать национальное
чувство. Всюду проявляется возродившаяся национальность, готовая постоять за свои
права и самобытность. Эта национальная патриотическая реакция находит себе
выражение в позднейших произведениях Фихте, в особенности в его речах к
немецкому народу. Завоевания Наполеона обнаружили глубокий нравственный
упадок в Германии. В своих речах Фихте задает вопрос, как извлечь Германию из
этого состояния упадка и как возвратить ту веру в себя, в свое достоинство, без
коей Германия не может воскреснуть как нация? «Прежде всего, — говорит он, —
Германия должна переродиться нравственно». Чтобы спастись от внешнего
порабощения, Германия должна перевоспитать себя внутренне. Задача эта —
национальное возрождение Германии — задача нравственная и педагогическая.
Государство должно пересоздаться путем реформ всей действующей системы
воспитания и образования. Так, под впечатлением внешних событий у Фихте
открываются глаза на национальность и на нравственную задачу государства. Он,
прежде игнорировавший национальность, теперь сознает, что у каждого народа
есть своя особая всемирно-историческая задача и свое особое призвание. Отсюда
вытекает для каждой нации безусловная обязанность исполнить свое специальное
назначение, а также право на полную политическую автономию, без коей никакая
национальность не может выполнить своего назначения. Освобождая себя от
иноземного ига, немцы тем самым исполнили свою историческую задачу, стало быть,
исполнили свою обязанность и по отношению к другим нациям. Немцы, народ
Канта, Шиллера, Гёте, представляются Фихте народом культурным по преиму-
265
ществу, ибо изо всех народов Европы одни немцы, по Фихте, обладают
способностью к самобытной творческой деятельности. В то время как все языки смешались
и таким образом образовались из нескольких элементов, одни немцы сохранили
свой национальный племенной язык во всей первоначальной чистоте и без всякой
примеси. В отличие от немецкого языка, языки романские суть языки
наполовину мертвые, так как они образовались путем усвоения чуждого, мертвого языка —
латинского. Один немецкий язык — язык живой и служит несомненным
доказательством творческой самобытности немецкого народа. Второе доказательство
представляет протестантская реформация, зародившаяся на немецкой почве.
Христианство досталось всем европейским народам в латинском искажении
с примесью романского элемента.
Народы романские до сих пор пользуются той амальгамой язычества и
христианства, которую представляет католическая церковь. Одни только немцы
отнеслись вполне самостоятельно к воспринятому учению церкви. Одни немцы
мужественно исполнили переработку этого учения и отделили христианский элемент
от примеси язычества. Наконец, и в философии немцы заявили о своей
творческой самобытности. Догматизм, слепая вера в опыт, как единственный источник
познания — таковы основные черты философии романских народов. Одной
только германской философии присуще стремление к сверхчувственному идеалу,
стремление познать истины путем критического исследования природы разума.
Таково направление германской философии, выразившееся в учениях Лейбница,
Канта и Фихте. Фихте указал на свою философию как на классическое
олицетворение германского гения. Между тем как все романские народы суть
латинизированные германцы, только немцы суть настоящие германцы. Поэтому среди
европейских народов немцы — «народ по преимуществу»; их творческая
самобытность выразилась в языке, религии и философии, а также и поэзии, поэтому-
то Фихте считает немцев за двигателей прогресса, представителей культуры, по
преимуществу представителей самосознания мирового «Я». В этом смысле и
говорит Фихте, что немцы суть «соль земли». Они призваны к выполнению цели,
которую не могла выполнить Французская революция — пересоздать
человеческое общество на началах разума. Романским народам недостает творческой
самобытности, чем и объясняется крушение Французской революции, ибо
обновление человечества должно быть делом немцев. На этом основании Фихте
утверждает, что от национального возрождения немцев зависит и судьба
всемирной цивилизации.
Параллельно с политическими воззрениями Фихте изменяются и
умозрительные основы его системы. В ранний период деятельности Фихте представляет
мировой процесс как процесс самосознания, саморазвития мирового «Я». Все
существующее без остатка есть д^я него проявление мирового «Я» как основы
мироздания. В этом первоначальном своем виде «наукословие» Фихте отражает
в необычайной целостности его характер. Это мировое «Я», которое полагает себе
безусловную цель в деятельности ради самой деятельности, вечно творит, вечно
борется с внешними препятствиями и вечно торжествует над ними, подчиняя всю
свою деятельность нравственной цели, — это как бы увеличенный образ самого
Фихте. Метод философии Фихте есть исключительно самосознание; путь к
познанию «Я» мирового для Фихте есть углубление в свое, личное «Я». Благодаря
односторонности метода самоисследовайия философия Фихте есть создание
одностороннее, слишком субъективное. Водей-неволей Фихте переносит черты своей
личности в «Я» мировое. Тем самым, черты чисто личные получают в философии
266
Фихте неподобающее им мировое значение. Особенно ярко отражается этот
недостаток философии Фихте в его учении о природе. По своему умственному складу
Фихте гораздо больше склонен к самоуглублению, чем к изучению внешней
природы. И вот, перенося свое чисто субъективное отношение к природе в «Я»
мировое, Фихте решает, что природа не более, как пустое, призрачное явление,
которое не имеет ни самостоятельного значения в мировом плане, ни собственной
внутренней цели. Природа создается абсолютным «Я» как средство для
исполнения человеком его нравственного назначения. Абсолютное «Я», как и сам автор
«наукословия», относится к природе безусловно отрицательно: все значение ее
сводится к тому, чтобы послужить границей для индивидуального, человеческого
«Я», которое должно преодолеть эту границу через деятельность. Как бы там ни
было, «наукословие» в первоначальном виде есть создание в высшей степени
целостное, стройное; в позднейшей своей обработке оно утрачивает эту свою
целостность и начинает двоиться. Этот процесс совершился в философии Фихте в силу
внутренней логической необходимости. Невежественные противники Фихте
глумятся над его системой, истолковывают ее с той точки зрения, что весь мир есть
произведение ограниченного человеческого «Я», продукт человеческой фантазии,
не имеющей реального существования вне человека. Для того, чтобы
предупредить возможность таких извращенных толкований своей системы, Фихте
вынужден точнее формулировать различие между *Я» абсолютным, мировым, с одной
стороны, и «Я» ограниченным, человеческим, с другой. *Я» абсолютное
представляется единым мировым началом; это — общая сущность, которая производит из
себя как безграничное множество «Я» индивидуальных, так и безграничное
множество конкретных, чувственных предметов. Напротив, «Я» человеческое есть
сознающий себя субъект, ограниченный множеством конкретных предметов
и множеством других человеческих *Я», вне его находящихся. Тут-то и
обнаруживаются недостатки и внутренние противоречия учения Фихте. Абсолютное
«Я», как общая мировая сущность, содержащая в себе все, не есть личность,
не есть сознающий себя субъект, ибо сознание, как признает и Фихте, возможно
лишь при противоположении субъекту объекта. «Я» может сознавать себя лишь
постольку, поскольку оно противополагает себе отличное от него «Не-Я» —
внешнюю границу. Но абсолютное «Я» есть все, вне его нет ничего, вне его, стало быть,
нет никакого отличного от него объекта, кому оно могло бы противополагаться.
Сознание, стало быть, возможно лишь в индивидуальном, ограниченном «Я».
Абсолютное «Я» не может себя сознавать как таковое, оно не более как единство
всего существующего, тождества субъекта и объекта. Сознавать себя может только
ограниченный субъект, в абсолютном же *Я» нет границ, следовательно, оно не
может себя сознавать — так заключает ученик Фихте Шеллинг. Но если так, если
абсолютное *Я» не может себк сознавать как таковое, то по какому же праву оно
называется «Я»? Такое название может быть усвоимо лишь сознающей себя
личности, а не безличному мировому началу. Впоследствии Шеллинг заключает
отсюда, что начало мирового процесса не есть «Я», а безличное единство и
тождество, из коего проистекает как субъект, так и объект, как «Я» человеческое, так
и внешняя природа. Таким-то йутем, еще при жизни Фихте совершался переход
от его «наукословия» к теории тождества Шеллинга. Сам Фихте протестует
против этого изменения его учения, тем не менее, в конце концов, он волей-неволей
начинает приближаться к Шеллийговой точке зрения. Верховным началом
мироздания теперь является у Фихте не абсолютное «Я», а «безусловное бытие» или
«Бог».
267
Это верховное начало, которое служит конечной целью мирового процесса, это
«абсолютное бытие», которое служит всему началом, уже не есть личность, оно не
есть ни сознающий себя субъект, ни какой-либо внешний предмет, это есть
безличное единство мироздания. Фихте не хочет называть это верховное начало
тождеством, а называет его «бытием», но, несмотря на эту разницу в словах, поворот
от философии Фихте к философии Шеллинга совершился с неумолимой
логической необходимостью.
Фридрих Шеллинг (1775-1854)
Биографические сведения
Ученик Фихте Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг родился в 1775 году
в Вюртемберге; свое первоначальное образование получил сначала в Латинском
училище в Нюртингене, затем в семинарии в Бебенгаузене, откуда в 1790 году
поступил в Тюбингенский университет; здесь он слушал лекции по богословию
вместе с Гегелем. Оба друга наряду с богословием занимались изучением древнего
мира и философии нового времени. Уже 20-ти лет от роду Шеллинг усвоил в полной
мере философию Канта и Фихте. К этому же времени относятся и первые пробы
его пера в виде нескольких статей, в которых он развивает основные начала
философии Фихте. Эти статьи пленяют тем необыкновенным блеском изложения,
который есть отличительное качество слога Шеллинга. В 1798 году, вследствие
публикации первого его произведения по философии природы, 24-летний Шеллинг
получает профессуру в Йене; здесь-то и начинается его блестящая профессорская
деятельность, которая продолжается более 40 лет в различных университетах
Германии, заканчиваясь в Берлине в 40-х годах текущего столетия. Умер
Шеллинг в Рогаце, в Швейцарии, в 1854 году.
Характеристика философии Шеллинга — трудная задача, потому что ему
самому не суждено было дать более или менее законченной системы. Шеллинг — ум
необыкновенно подвижный, живой: он беспрерывно развивается, беспрерывно
переходит от одной точки зрения к другой, — в каждом новом произведении его
философия является в совершенно обновленном виде. Работая с лихорадочной
поспешностью, он не доводит своей мысли до конца: произведения его суть беглые
блестящие очерки философской системы. Он не удовлетворяется своими
собственными произведениями и вечно сворит сызнова. Шеллинг не только
философ-мыслитель, он философ-поэт, который пишет по вдохновению. В лице Канта
германская философия является в виде кабинетного мыслителя*, в лице Фихте она
принимает вид сурового реформатора, в лице Шеллинга она воплощается в
юношеский образ философа-художника, романтика. Куно Фишер говорит, что
германская философия от Канта до Фихте словно молодеет с каждым шагом: Кант
печатает «Критику чистого разума» имея от роду 57 лет, Фихте выпускает
«Наукословие» на 32 году жизни, Шеллинг в 20 лет от роду овладевает
философией того и другого, а два года спустя закладывает основы собственной философии.
По пути следования германской философии ускоряется и темп философской
мысли: Кант работает медленно, обдумывая и взвешивая каждое слово, у Фихте дело
идет скорее; мысль Шеллинга летит на всех парах, не останавливаясь перед
логическими препятствиями. В наиболее блестящий период своей деятельности
268
(с 1798 по 1813) Шеллинг развивается и работает на глазах читающей публики;
он, можно сказать, даже думает вслух, высказывая свою мысль раньше, чем она
у него созревает. Этим объясняются как достоинства, так и недостатки его
произведений. Шеллинг превосходит всех своих предшественников необычайной
гибкостью и разнообразием своих мыслей, но зато в его творениях нет той
законченности, нет той обдуманной зрелости, какие мы находим в произведениях Канта;
несравненно меньше у него и логической последовательности, доказательства
у него нередко заменяются простыми уверениями; наряду со страницами
блестящими, гениальными мы находим у него самые фантастические построения.
Задача Канта есть прежде всего задача критическая, она не требует от философа
поэтического вдохновения, а лишь трезвости, ясности углубленной в себя мысли.
В лице Фихте германская философия выходит из себя в порыве реформаторского
энтузиазма. Для Фихте задача философии — практическая задача, нравственный
долг. Философия Шеллинга стремится восполнить недостатки предшественников.
Философия Канта представляет только критическое исследование человеческого
разума, философия же Фихте — одностороннюю систему нравственного
идеализма; она вращается лишь в нравственной области, игнорируя внешнюю природу,
она не есть знание универсальное. Философия должна выйти из того состояния
ограниченности и отчужденности, в каком прибывала доселе по отношению к
прочим областям знания. Задача Шеллинга — слить философию с положительными
науками. Задача его философской мысли — объединить положительные науки
при посредстве философии; философия должна стать началом единства
человеческого знания как целого. И в самом деле, в лице Шеллинга философия
прорывается в открытое поле положительных знаний. Прежде всего Шеллинг бросается
в область естественных наук. С этой минуты германская философия, которая до
сих пор шла все вглубь и вглубь, начинает уже распространяться вширь. Само
собой разумеется, что область естествознания слишком обширна для философии.
Сил одного мыслителя недостаточно для того, чтобы обнять обширную область
положительного знания. К тому же естественнонаучный материал в то время еще
слишком беден, чтобы на основании его философ мог создать удовлетворительное
учение о природе как целом. Здесь мы находим ключ к объяснению недостатков
Шеллинговой философии. Он хочет извлечь из современного ему естествознания
гораздо больше, чем оно может ему дать. Чтобы связать отрывочные факты,
отрывочные научные положения, ему приходится наполнять проблемы в
естествознании собственными догадками, нередко чересчур смелыми. Отсюда те
произвольные фантастические построения, которые вместе с заменой строго научного
исследования поэтическим творчеством и характеризуют собою философию
Шеллинга и всю вообще школу натурфилософов. Философия Шеллинга настолько
быстро развивается и изменяется!, что нет возможности излагать ее как единую
философскую систему, ее трудно даже расчленить на отдельные периоды; если не
считать того юношеского периода, когда Шеллинг всецело находился под
влиянием Фихте, то главные стадии его философского развития суть следующие: 1)
философия природы, 2) философия тождества и 3) позитивная философия. Между
этими тремя точками зрения еоть еще и переходные ступени, что дает
возможность некоторым историкам философии различать в философском развитии
Шеллинга до 5 стадий, а соответственно этому, и до 5 систем. В последний период,
период позитивной философии, Шеллинг не касается философии права и
государства. «Натурфилософия» Шеллинга дервоначально исходит из философии Канта
и Фихте, причем системы Канта и Фихте мало-помалу совершенно видоизменяют-
269
ся у Шеллинга. Еще Кант утверждал, что рассудок — законодатель природы,
но у Канта рассудок есть лишь начало внешнего единства природы; Кант вообще
допускает лишь механическое объяснение внешней природы, он исключает
всякую телеологию, то есть учение о целях в природе, из области философии. Это
последнее объясняется отрицательным отношением Канта к метафизике. Конечная
цель мирового процесса не дана нам в опыте, а следовательно, по Канту, она не
может быть предметом научного познания. Фихте, который вообще преступает
границы, указанные Кантом, строит метафизическую систему. Он рассматривает все
существующее с телеологической точки зрения. Для него самодеятельность *Я»,
осуществление нравственного мирового порядка есть конечная цель мирового
процесса; для этого и создана природа. Она представляет продукт деятельности
мирового «Я», стало быть, постольку есть проявление мирового разума.
Физическая природа предшествует самосознанию человека, который представляет
высшую ступень мирового развития; стало быть, природа есть продукт
бессознательной деятельности мирового «Я». Фихте в сущности и не идет дальше этих
утверждений, ибо для него внешняя природа не представляет самостоятельного
интереса. Шеллинг пытается с самого начала пополнить рамки, в общих чертах
намеченные Фихте. Шеллинг пытается понять внешнюю природу как продукт
деятельности мирового разума в бессознательной его форме. Цель природы
заключается в том, чтобы создать те условия, при которых возможна нравственная
деятельность, но для этого необходимо сознание: нравственным деятелем может быть
только сознающее себя существо. Поэтому цель природы — прийти к
самопознанию. Природа представляет собою ряд ступеней, посредством коих мировой разум
постепенно раскрывается и приходит, наконец, к сознанию самого себя в
человеке. Во внешней природе мировой разум находится как бы в сонном состоянии,
развитие природы — как бы постепенное его пробуждение; мировой разум находится
как бы в угасшем состоянии в неорганической материи, дремлет в растениях,
чувствует в мире животных и, наконец, окончательно пробуждается в самосознании
человека. Словом, Шеллинг задается целью представить природу κέικ единый
живой организм, связанный изнутри разумною целью. В природе нет скачков.
Сущность природы — бессознательная жизнь разума, поэтому то, что нам кажется
мертвым, например камень, в действительности есть застывшая, еще не
развернувшаяся жизнь. Словом, Шеллинг рассматривает природу с эволюционной
точки зрения. По справедливости он может считаться одним из наиболее видных
предшественников той теории «эволюции» (развития), которая господствует в
наше время и связывается с именем Дарвина. Конечно, сродство учения Шеллинга
с учениями современных теоретиков-эволюционистов не есть тождество;
Шеллинг нигде не говорит прямо, что происхождение высших форм организмов из
низшего путем эволюции есть когда либо совершившееся событие, хотя он этого
нигде и не отрицает. Для него все растительные и животные формы связаны
между собою внутренне, поскольку в них проявляется единая разумная сила, которая
стремится к своей цели — самосознанию. Однако, хотя Шеллинг и не
высказывает прямо мысли о том, что высшие организмы произошли путем постепенного
развития из низших, но он очень близко подходит к ней; более того — эта мысль
прямо вытекает из начал его философии. Ведь если самосознание — цель всего
существующего, то низшие формы не могут достигнуть этой цели другим путем,
как путем эволюции, постепенного Перехода к формам высшим, путем процесса
развития, исторически совершающегося. Таким образом, если Шеллинг и не
формулирует теории эволюции в смысле происхождения растительных и животных
270
форм от одной первоначальной формы, то, во всяком случае, подготовляет
появление этой теории. Его учение побудило естествоиспытателей искать переходные
ступени между низшими и высшими, растительными и животными формами.
Несмотря, таким образом, на свои фантастические крайности, натурфилософия
Шеллинга имела во многих отношениях благодетельное влияние на
естествоиспытателей, впрочем, в значительной степени парализованное недостатками
натурфилософии. Объясняя природу как процесс постепенного пробуждения духа,
Шеллинг и созданная им школа натурфилософов объясняют физический процесс
по аналогии с процессом сознания духа. Этим самым они упраздняют всякую
границу между поэзией и наукой. Учение Шеллинга и его последователей есть
учение поэтизирующее и одухотворяющее донельзя внешнюю природу. Новалис,
например, один из последователей Шеллинга, называет природу
энциклопедическим словарем нашего духа, воду — отсыревшим пламенем, он в одном месте пре-
серьезно говорит, как во время сна тело переваривает душу. Подобные недостатки
натурфилософских построений Шеллинга и его последователей затмили
положительные качества «натурфилософии». Конечно, «натурфилософия» содержит
много наивного, незрелого, но тем не менее не следует забывать, что она оказала
весьма значительное влияние на дальнейшее развитие естествознания. Под
руками Шеллинга учение Фихте подвергается чувствительным видоизменениям.
Учение Фихте страдает безысходным противоречием: с одной стороны, Фихте
понимает внешнюю природу как нечто безусловно чуждое разуму, с этой точки зрения
природа пустое и призрачное явление; с другой стороны, природа — продукт
деятельности «Я», а следовательно, она — проявление мирового разума.
«Натурфилософия» Шеллинга стремится прежде всего выйти из этого противоречия.
У Шеллинга исчезает противоположность между духом и внешнею природой.
Для него природа — произведение разума. У Шеллинга внешняя природа и дух —
различные проявления одного и того же начала: природа — дремлющий разум,
человек — сознавшая себя природа. «Натурфилософия», таким образом,
приводит Шеллинга к отождествлению духа и природы. Так совершился переход
Шеллинга к философии тождества.
Философия тождества
В первый период своей литературной деятельности Фихте видит во всем
существующем проявление абсолютного «Я», в этом-то пункте философия тождества
Шеллинга и отделяется от философии Фихте. Та первоначальная основа
мироздания, из коей проистекает все существующее, не есть, по Шеллингу, сознающий
себя субъект, следовательно не есть «Я». Сознавать себя значит прежде всего
отличать себя как субъекта от внешнего объекта. Сознавать себя поэтому может только
существо ограниченное, имеющее вне себя объект как другое отличное существо.
Первоначальная основа мироздания заключает в себе все, вне ее решительно
ничего нет; стало быть, оно не может противополагать себя внешним предметам как
сознающее себя «Я». В отличие от Фихте, у Шеллинга это «Я» получает название
«абсолютный дух», или просто «абсолютное».
Строго говоря, это «абсолютное» Шеллинга не есть ни природа, ни дух,
ни субъект, ни объект, оно есть тождество, безразличие того и другого, ибо как
физический внешний мир, так и нравственный внутренний мир, деятельность
нашей мысли, наше «Я» — все это в одинаковой мере есть проявление
«абсолютного», первоначальной основы бытия. Нельзя сказать, что «абсолютное» в большей
мере присутствует в человеческом сознании, чем во внешней природе: «абсолют-
271
ное» присутствует одинаково как в сознающем себя субъекте, так и в
бессознательной внешней природе. Как совершенное тождество внутреннего и внешнего,
субъекта и объекта, «абсолютное» объединяет в себе ту и другую сторону бытия;
«абсолютное есть субъект-объект», то есть неразрывное тождество того и другого.
Шеллинг поясняет отношение субъекта и объекта к абсолютному путем
сравнения с магнитом. В каждом магните есть средняя точка, которая объединяет обе
эти противоположные полярности; эта средняя точка представляет совершенное
безразличие южного и северного магнетизмов. Магнит, следовательно, не есть ни
северный, ни южный магнетизм, а единство того и другого. Точно так же и
«абсолютное» есть совершенное единство мировых противоположностей объекта
и субъекта. Оно представляет как бы мировой магнит, объединяющий
противоположные полярности — дух и внешнюю природу. В этом виде философия
Шеллинга напоминает систему философии Спинозы. У того и другого мир есть проявление
единой, вечно творящей первоначальной основы. Как бесконечная субстанция
у Спинозы обнимает две вечные формы бытия — мышление, свойство разумных
существ, и протяжение, свойство тел, так и «абсолютное» у Шеллинга есть
единство природы и духа. Сам Шеллинг сознает это сродство со Спинозой и в
изложении своей философии даже сознательно подражает этике последнего. Но при
сходстве в некоторых чертах между этими двумя мыслителями существует
капитальное и существенное отличие. У Спинозы под видом единства мировой
субстанции все-таки скрывается глубочайшая раздвоенность природы и духа:
физическая природа и человеческий дух — два безусловно раздельных порядка, два
особых царства, которые только соприкасаются друг с другом и далеко не
сливаются вместе. Физическая природа у Спинозы есть проявление протяжения,
напротив, внутренний мир человека, человеческий дух есть проявление мышления.
У Шеллинга нет такой раздвоенности между природой и духом. У него природа
и дух не суть два замкнутых, совершенно противоположных ряда; с одной
стороны, у него мировой разум воплощается в явлениях физической природы, с
другой — сознание человека есть усовершенствованное проявление природы,
сознавшей себя. Все отличие физического мира от мира духовного заключается
в количественном распределении обоих этих элементов. В человеке преобладает
сознающий дух, во внешнем мире — бессознательное слепое, стихийное начало
природы.
Проявляясь и обнаруживаясь в разнообразном множестве существ,
«абсолютное» ни в одном из них не достигает совершенного и полного своего воплощения:
безграничное по своей природе оно не может раскрыться во всей полноте своей
в существе конечном, индивидуальном. Однако обнаружение «абсолютного» есть
цель мирового процесса, которая во всяком случае должна быть достигнута.
«Абсолютное» достигает совершенного и полного своего воплощения не в одном
каком-либо ограниченном существе, а лишь в мире как целом. Таким образом,
«абсолютное» с точки зрения философии тождества есть мир как целое, мир в его
единстве. На этой ступени своего развития философия Шеллинга
характеризуется как совершенный пантеизм.
272
Гегель (1770-1831)
Вышеизложенная точка зрения Шеллинга страдает существенными
недостатками, поэтому философская мысль на ней успокоиться не может.
Если «абсолютное» есть безразличие или тождество всего существующего,
то спрашивается, как же из этого безразличия — из этой мертвой пустоты может
явиться живое разнообразие вселенной? Каким же образом эта абсолютная
сущность, пребывая вне потока движения и развития, может породить из себя
движение и развитие существующего. «Абсолютное» должно быть понято так, чтобы
оно объясняло развитие вселенной, возникновение ее сложного разнообразия.
Этот дальнейший шаг философской мысли выпадает на долю другого крупного
мыслителя Германии — Гегеля.
В отличие от Шеллинга, Гегель пытается понять «абсолютное» как
саморазвивающийся дух. Недостаточно утверждать, что вселенная есть проявление одной
тождественной в себе субстанции, нужно логически вывести все существующее из
этого начала. Говоря словами Гегеля, «абсолютная субстанция должна быть
понята как субъект» ; он хочет этим сказать, что «абсолютное» должно быть понято как
субъект мирового процесса, мирового движения и развития. Философия должна
объяснить, почему результатом развития абсолютного духа является именно эта
вселенная, а не другая; иначе говоря, мир должен быть понят как необходимое
проявление абсолютного. Основное проявление духа есть мысль. Жизнь духа
заключается в том, что он беспрестанно себя мыслит, — возвращается к себе через
мысль, поэтому у Гегеля «абсолютный дух» определяется как чистая мысль, себя
мыслящая. Но мысль вместе с тем есть и процесс, постоянное движение,
беспрерывный переход от одной идеи к другой. Поэтому процесс этот, движение есть
необходимое проявление «абсолютного» — мысль не может явиться иначе как
в форме логического развития. Поэтому для «абсолютного духа» «быть» и
«развиваться» — одно и то же.
Наблюдая в самих себе процесс мысли, мы видим, что мысль есть
беспрерывный переход от бессознательного к сознательному. Если остановить это движение,
этот переход, то и мысль остановится. То же верно и по отношению к
«абсолютному духу», который от начала содержит все существующее: в нем примирена
противоположность мысли и бытия: он есть тождество того и другого. Мыслить для
него значит то же, что быть, и, наоборот, быть — значит то же, что мыслить.
Но «абсолютный дух» не был бы мыслью, если бы в нем не совершалось
беспрерывное логическое развитие, беспрерывный переход от бессознательного к
сознательному, от одного понятия к другому. Так как для Гегеля все существующее
есть проявление «абсолютного духа», то весь мировой процесс для него есть не что
иное, как процесс абсолютного развития мировой мысли, процесс самосознания
«абсолютного духа». Идеалистическое направление германской философии XIX
века, идущее еще от Канта, завершается в Гегеле. Нетрудно убедиться, что
философия Гегеля есть результат умственной работы трех его предшественников —
Канта, Фихте и Шеллинга. Кант усмотрел в пространстве и времени, в
закономерности явлений природы плод деятельности духа. Фихте сделал дальнейший шаг
вперед, указав, что мир явлений не есть продукт деятельности человеческого
духа, но продукт деятельности мирового разума, который отождествляется по
Фихте с «Я» мировым. Шеллинг логически идет дальше: если мировой разум
проявляется одинаково как в бессознательной форме природы, так и в сознании
273
человека, то он есть тождество субъекта и объекта, тождество мысли и бытия —
«абсолютный дух». Философия должна подвергнуться еще одному
преобразованию, чтобы приблизиться к точке зрения Гегеля. Если «абсолютный дух» есть
одновременно и мысль и бытие, то для него быть — значит то же, что логически
развиваться, мыслить. «Абсолютный дух» должен явиться в процессе развития,
которое происходит по логическим законам. Итак, развитие вселенной есть
процесс логического развития, абсолютной мысли. Таким образом, все эти четыре
философа как бы стоят на плечах друг у друга — находятся в строгой преемственной
связи между собой. Они делают одно и то же дело, развивают логически одну и ту
же мысль, причем каждый из них начинает с усвоения результатов мысли его
предшественников. В Гегеле идеалистическое направление германской
философии обращается в совершенный панлогизм. Все существующее есть для него
логическое проявление законов разума — продукт логического развития мысли;
поэтому у Гегеля учение о законах мысли — логика совпадает с учением о сущем,
то есть у него логика — то же, что и метафизика.
Таким образом, под логикой Гегель понимает совсем не то, что обыкновенно
разумеется под этим названием. Под логикой обыкновенно подразумевается
учение о законах правильного мышления. Напротив, Гегель в своей логике
изучает движение мировой мысли, которое совпадает для него с процессом
мирового развития. Гегель пытается обосновать, логически доказать основные начала
своей философии в произведении «Феноменология духа». Тут ход
доказательств таков: начиная с анализа обыденного человеческого сознания, Гегель
открывает в нем противоречия и показывает, что они могут быть разрешены
или, как он выражается, «могут быть сняты» только философией
«абсолютного духа», иными словами, Гегель хочет показать, что человеческое сознание,
логически развиваясь в силу внутренней необходимости, должно неизбежно
прийти к его системе; ибо только одна она в состоянии освободить нас от
противоречий, присущих природе нашего сознания. Между обыденным сознанием
человека неразвитого, некультурного и философией «абсолютного духа» есть
ряд ступеней, через которые сознание неизбежно должно пройти, логически
развиваясь. Вот эти-то ступени Гегель выводит и описывает. Так как развитие
человека как индивида и человечества как рода подчинено одним и тем же
законам, то одни и те же ступени развития должны повторяться и в жизни
человеческого индивида, и в истории человечества; поэтому Гегель пытается
доказать, что его философия «абсолютного духа» есть та точка зрения, к которой
должно прийти человечество, исторически развиваясь. Поэтому ход мысли
в «Феноменологии духа» чрезрычайно сложен и запутан. Гегель хочет
доказать, что его философия есть та точка зрения, к которой в силу логической
необходимости должен прийти человеческий индивид. Вместе с тем, его
философия есть та высшая точка развития, тот конечный результат, к которому в силу
той же необходимости должна прийти история человечества. Поэтому в
«Феноменологии духа» и логика, и психология, и история слиты как бы в общую
массу. Говоря словами известного историка философии Гегеля, Гама,
феноменология духа есть психология, перепутанная с историей, и история, спутанная
с психологией. Оттого-то чтение этого труда Гегеля представляется трудной
и неблагодарной задачей. Описание логических и психологических процессов
человеческого сознания преисполнено намеков, подчас весьма неясных, на
исторические события, на фазисы исторического развития различных эпох.
Периоды исторического развития тут скомканы, искусственно вставлены в непо-
274
добающие им рамки отвлеченной логической конструкции. Историк немецкой
философии Виндельбанд говорит, что в наше время можно перечесть всех
прочитавших до конца эту книгу.
Для понимания философии Гегеля достаточно усвоить себе главный результат
«Феноменологии духа». Сознаем ли мы внешний мир или самих себя, все
содержание нашего сознания выражается в общих понятиях. Возьмем какой-нибудь
конкретный предмет, например дом; нетрудно убедиться, в том, что все, что мы
о нем сознаем, сводится к общим понятиям: краска, которою он окрашен, фигура
здания — все это понятия общие; такая краска и такая фигура могут быть
свойственны и многим другим домам. Мы говорим «этот» дом, желая отличить его
словом «этот» от других домов, но и «этот» опять понятие общее, которое мы можем
приложить ко всевозможным предметам. Положим, мы говорим о доме, который
видим «теперь», но и «теперь» опять понятие общее, прилагаемое ко всем тем
моментам времени, которые мы переживаем. К тому же слова «теперь видим дом»
обратятся в ложь, как только мы отвернемся от этого дома. Если мы говорим:
«Теперь 11 часов», то эти слова тотчас же превращаются в ложь, ибо, пока мы их
произносим, уже успела пройти какая-нибудь секунда. Словом, все наше сознание
о внешних предметах сводится лишь к общим понятиям. В том, что мы
воспринимаем нашим чувством, нет ничего истинного, достоверного, кроме общих понятий
мысли. То же верно и относительно нашего самосознания. Каждый из нас сознает
себя как «Я», но «Я» — понятие общее, которое приложимо ко всем сознающим
себя существам. Если, таким образом, все наше сознание самих себя и внешнего
мира сводится к понятию, к мысли, то оно достоверно лишь при том условии,
если мысль есть сама истина, сама абсолютная действительность или сущность
вещей. Так устанавливает Гегель свое основное положение — тождество мысли
и бытия.
Сама мысль есть бытие, и вне мысли нет бытия — таков конечный результат
«Феноменологии духа», который служит отправной точкой логики Гегеля. В
основе существующего лежит абсолютная мысль, тождественная с бытием;
развитие всего существующего должно быть понято как логическое развитие
абсолютной мысли, абсолютной идеи, из которой должно быть выводимо все разнообразие
существующего.
Ход мирового развития является в логике Гегеля в следующих трех моментах.
1. Прежде всего абсолютное само в себе, то есть до создания мира, есть чистая
мысль или идея; здесь еще нет различия между внутренним миром сознания
и внешней природой. Сознавать себя абсолютная мысль может лишь в
противоположность чему-то внешнему — другому. 2. Прежде чем осознать себя, абсолютная
мысль должна явиться как предмет, как другое, то есть в форме внешней
природы; внешняя природа, по определению Гегеля, есть «идея, явившаяся внешним
образом». На этой ступени развития «абсолютный дух» остановиться не может:
мысль или идея может выразиться совершенным образом лишь в сознании
существа сознающего, мыслящего. 3. Мало того, что «абсолютный дух» есть мысль,
идея, чтобы быть самим собою, он должен сознать себя, стать для собственного
сознания мыслью. Таковы три основных момента развития «абсолютного духа».
Этим трем моментам соответствуют и три основные отдела философии Гегеля:
«логика», «философия природы» и «философия духа».
Логика изучает «абсолютный ду^» в нем самом, то есть в том состоянии, когда
еще в нем не обнаружилось различия между внешней природой и сознающим
себя субъектом.
275
Второй отдел системы Гегеля, философия природы, изучает «абсолютный дух»
во внешней природе.
Наконец, предметом третьего отдела, философии духа, служит дух, сознавший
себя, — дух как сознающий себя субъект.
Для понимания философии права Гегеля, которая в сущности представляет
подразделение третьего отдела, нет надобности подробно излагать суть всех
предшествующих трактатов этого труднейшего из немецких мыслителей. Достаточно
познакомиться с тем методом, который составляет душу его философии.
Мы уже видели, что «абсолютный дух», по Гегелю, находится в состоянии
беспрерывного логического развития. Существовать для абсолютной мысли —
значит быть в движении, быть в непрерывном процессе. Но движение, процесс есть
переход из одного состояния в другое. Стало быть, развиваясь, абсолютная мысль
беспрерывно переходит в другое, следовательно, приходит в противоречие сама
с собою. Отсюда возникает для абсолютной мысли необходимость нового
движения, чтобы «снять» возникшее противоречие. Развиваясь логически, мысль,
таким образом, неизбежно проходит через три стадии: положение, отрицание и
снятие противоречия. Полагая себя, мысль, вследствие присущего ей движения,
переходит к самоотрицанию, а затем делает новое усилие, чтобы снять (то есть
разрешить) это противоречие. Таковы три основных момента развития как
абсолютной, так и нашей человеческой логики. Диалектический метод Гегеля
воспроизводит в себе все эти три стадии. Всякое философское понятие проходит у Гегеля
через эти три неизбежные ступени.
Чтобы пояснить приложение этого метода на конкретном примере, обратимся
к началу «Логики», которая представляет собой наиболее яркий образец
диалектики Гегеля. Логика Гегеля прежде всего определяет абсолютное как чистое
бытие. «Абсолютное» как мировая основа, из которой все происходит, не может
иметь других более конкретных определений; оно — источник всех существ, а
поэтому не может быть каким-либо определенным существом; оно есть бытие
вообще, отвлеченное понятие бытия и ничего больше. Таково первое положение
логики Гегеля. В силу неумолимого логического закона, это положение должно
перейти тотчас в отрицание; понимаемое как чистое бытие, «абсолютное» не
содержит в себе никаких определенных качеств; оно лишено всякого определенного
содержания и по этому самому оно совершенно равняется небытию.
Бытие неопределенное, лишенное всяких качеств и всякого содержания есть то
же, что и небытие. Таким образом, понятие бытия обращается в свое
противоречие — в небытие. Дальнейшая ступень диалектического развития этого понятия
заключается в снятии возникшего таким образом противоречия. Чистое бытие
тождественно небытию; когда мы думаем об одном, мы неизбежно думаем и о
другом; эти два понятия беспрестанно переходят одно в другое: бытие становится
небытием и обратно — небытие становится бытием. Этим самым уничтожается
противоречие бытия и небытия. Оба эти противоположные понятия примиряются
в понятии «становление». Это можно более наглядно объяснить следующим
примером: когда семя, брошенное в землю, начинает расти, то пока оно «становится»
растением, оно одновременно ес^ь и не есть семя; стало быть, в понятии
«становления» снимается противоречие бытия и небытия. В «абсолютном» есть
беспрерывный переход от бытия к небытию и обратно. Поэтому мы безо всякого
противоречия можем мыслить «абсолюткое» как бытие и как небытие. Совершив этот
трудный шаг, диалектика Гегеля далее беспрепятственно, как шар по наклонной
плоскости, шествует безостановочно в силу внутренней необходимости. В «абсо-
276
лютном» совершается, как было уже сказано, беспрерывный процесс, переход от
небытия к бытию; в результате этого перехода возникает «нечто» — но это
«нечто» есть уже определенное существо, отличное от всего «другого». Всякое
«нечто» предполагает отличное от себя «другое» существо; всякое определенное
существо может существовать лишь среди других определенных существ; чтобы
отличаться друг от друга, эти определенные существа должны обладать
определенными качествами, и т. д. до бесконечности.
Таким образом, путем диалектического метода Гегель доказывает, что
«абсолютное», в силу роковой логической необходимости, должно произвести из себя
множество ограниченных конечных и качественно определенных существ. Путем
других логических изворотов и ухищрений Гегель выводит все определенные
свойства вещей, то есть он показывает, что «абсолютное», в силу неизбежной
логической необходимости, должно произвести именно эту определенную
вселенную, а не другую.
Диалектика Гегеля представляет собой perpetuum mobile76; всякое движение
в «абсолютном» есть переход «абсолютного» в нечто другое, следовательно, в
противоречие, а так как движение совершается в «абсолютном» вечно, беспрерывно,
то вся жизнь вселенной — лишь непрерывный ряд противоречий. За
разрешением каждого данного противоречия возникает другое, третье, десятое, сотое, и т. д.
до бесконечности. Так как при этом для Гегеля мысль значит то же, что и бытие,
логическое то же, что реальное, то каждое новое движение логической мысли
создает какую-нибудь новую реальность, новое бытие.
Теперь нетрудно убедиться в том, что вся эта диалектика не более как ловкий
акробатический фокус, остроумная игра понятий, посредством которой мы ни на
йоту не можем увеличить наших познаний о мироздании. Сколько бы мы не
переливали из пустого в порожнее, мы ничего не получим в результате, кроме пустого
и порожнего. Не так у Гегеля: у него из сочетания двух, совершенно пустых,
бессодержательных понятий — бытия и небытия — получается нечто в высшей
степени содержательное, определенное — вселенная со всеми ее свойствами.
Лучше всех из новейших писателей разоблачил тайну диалектики Гегеля
критик немецкой философии Тренделенбург77 в своих «Логических исследованиях».
Тренделенбург показал, что секрет диалектического метода Гегеля заключается
в.том, что он все время смешивает логическое с реальным: он смешивает чисто
логический переход мысли от одного понятия к другому с реальным творческим
процессом. Сколько бы наша мысль не переходила от понятия бытия к понятию
небытия, в результате мы ничего не получим кроме понятия бытия и небытия.
Гегель же принял это движение мысли за реальный творческий процесс, в
результате коего получается нечто действительное, реальное. Поясним этот фокус
гегелевской диалектики дальнейшим примером: в результате движения абсолютной
мысли у Гегеля возникает «нечто»; отсюда Гегель выводит, что должно
существовать и «другое». Здесь опять-таки тот же диалектический фокус: эти два
понятия — «нечто» и «другое» — действительно связаны в нашей мысли; мы не можем
помыслить «нечто» без «другого», отличного от «нечто». Но отсюда не следует,
как думает Гегель, что раз существует «нечто» реальное, то непременно должно
существовать и «другое» определенное существо. Эта антитеза — «нечто» и
«другое» — чисто логическая, которую Гегель принимает за реальную. Вообще
сколько бы мы ни оперировали отвлеченными понятиями, мы никогда не выведем из
них ничего действительного, реального. Поэтому-то диалектика Гегеля не более
как умственная гимнастика, остроумная игра понятий. Искусно пользуясь этим
277
методом, Гегель в своей натурфилософии a priori выводил естественнонаучные
истины. В своей «Философии истории» он выводит даже исторические события;
он вообще пытался диалектически вывести a priori все содержание
положительного знания своего времени. Современных Гегелю естествоиспытателей поражало
согласие этих умозрительных конструкций с естественными научными данными.
Историки изумлялись глубине исторических воззрений Гегеля. Но в то время
никто не понимал, что диалектический метод здесь не при чем; в то время могло
казаться, что путем диалектического метода может быть выведено a priori все
положительное знание, и что философия выведет a priori все законы природы,
следовательно, упразднит надобность в каких-либо других положительных
науках. На самом же деле через диалектический метод Гегель не вывел и не мог
вывести ни одной положительно научной истины. Он просто-напросто обладал
энциклопедическим образованием и умел облекать свои положительные научные
сведения в форму умозрительной конструкции. На вид казалось, что все эти
знания выведены из природы нашего разума, но, как остроумно заметил Виндель-
банд, «все это мнимое могущество философии Гегеля обусловливается тем, что он
находится в тайном браке с положительными науками». Гегель только
заимствует их содержание и затем воспроизводит его в форме диалектической
конструкции. В особенности в области истории Гегелю удавался этот прием. Кроме
широкого исторического образования он обладал гениальным историческим чутьем.
Его «Философия истории» представляет блестящую, во многих частях доныне не
утратившую своего значения, характеристику развития всемирной культуры.
Но одним диалектическим методом, без изучения положительного исторического
материала Гегель и здесь не мог бы ничего сделать. Отдельные циклы, отдельные
периоды исторического развития не поддаются априорному выведению. В
историческом развитии, в последовательной смене эпох есть своя логика, ибо человек —
существо разумное — развивается согласно законам разума. Но, чтобы постигнуть
логику исторических событий, нужно ознакомиться с этими событиями.
Разумный смысл истории может быть открыт только через глубокое ознакомление с
историческими событиями, которые не могут быть выведены a priori никакими
ухищрениями.
Попытка Гегеля вывести a priori все законы мироздания поучительна, как
заблуждение великого ума. Система Гегеля есть наиболее совершенное,
классическое олицетворение рационалистического направления философии. Он первый
высказал рационализм до конца со всеми его последствиями; поэтому именно в его
системе наглядно выступают все недостатки, все односторонности «чистого
рационализма». Задача чистого рационализма — задача Гегеля — заключается в том,
чтобы вывести все существующее a priori из законов разума. У предшественников
Гегеля не хватало смелости и энциклопедической широты образования, чтобы
взяться за разрешение этой задачи во всем ее объеме. У Гегеля рационализм
достигает той законченной, полной системы, которой недоставало его
предшественникам. Но, высказавшись до конца, рационализм тут же обнаруживает полную
свою несостоятельность. После крушения системы Гегеля повторение подобной
попытки диалектически вывести все существующее оказывается уже
невозможным. Почти все мыслители убеждаются в том, что в основе вселенной есть нечто
иррациональное, нечто несводимое к одним законам логики. Чистый
рационализм нашел в системе Гегеля свое завершение, а вместе с тем и свой конец. После
него философская мысль отрешается от того пренебрежительного отношения
к опыту, который составляет главный недостаток чистого рационализма. В этом
278
заключается отрицательная заслуга Гегеля. Самые заблуждения великих умов
в философии не пропадают даром, а заставляют последующих мыслителей
пробивать новые пути, искать новые методы исследования.
Заблуждения Гегеля не составляют только его индивидуальную личную вину.
В его философии обнаруживается недостаток всего идеалистического
направления германской философии. Однако не следует забывать и о положительных
заслугах идеалистического направления германской философии. Попытки свести
все человеческое знание к опыту и наблюдению, что мы видели у эмпириков до
Канта, у позитивистов после него, так же односторонни и несостоятельны, как
и попытки вывести все существующее a priori из одних законов разума. В
основании человеческого сознания лежат априорные представления, без коих
невозможен ни один акт сознания. Априорное происхождение пространства и времени,
априорное происхождение некоторых понятий рассудка, наконец, присутствие
некоторых априорных элементов в области нравственности — таковы
бессмертные открытия германского идеализма, с усвоения коих и должен начинать
всякий желающий философствовать. Открыв этот априорный элемент в
человеческом уме, германская философия настолько увлеклась своим открытием, что
попыталась вывести все существующее без помощи опыта — a priori, и здесь
потерпела полное крушение. Неудачи Гегеля вызвали столь же одностороннюю
реакцию позитивистов, заслуга которых заключается в том, что они указали на
значение опыта; их односторонность заключается в том, что они вовсе отвергли тот
априорный элемент, который лежит в основе сознания.
Гегель. Философия права
Панлогистические начала, лежащие в основе метафизики Гегеля, проводятся
им и в его философии права и государства. Право и государство суть проявления
логического закона, лежащего в основе всего существующего.
Мыслители XVII и XVIII веков видели в положительном действующем праве
результат общественного договора — продукт свободной деятельности людей,
свободного их соглашения. Для Гегеля, напротив, государство не есть проявление
свободной деятельности человеческих лиц: ибо сами отдельные лица суть для
него проявления абсолютного духа, который с логической необходимостью
осуществляется в развитии государств и законодательств. Государство не есть продукт
деятельности свободных лиц, потому что сами человеческие лица суть
несамостоятельные орудия «абсолютного духа»: оно — продукт диалектического развития
абсолютной мысли. Как углы треугольника не могут не быть равны двум прямым,
так и существующие государства, не могли сложиться иначе, чем они исторически
сложились: ибо в истории властвует такая же необходимость, как и в геометрии;
в истории действуют не свободные лица, а диалектический закон.
Безличная по своей природе, абсолютная мысль достигает совершеннейшего
своего обнаружения не в отдельной человеческой личности, а в безличном союзе
людей — государстве. Поэтому государство есть высшая безусловная цель
человеческого развития. Человек у Гегеля, как и у мыслителей Древней Греции,
низводится на степень орудия, материала для осуществления государства; человек
может достигнуть «абсолютной нравственности» только отдавая все свои силы
государству, жертвуя всем для него. Вне этого служения государству человек
может достигнуть не абсолютной, а только «относительной нравственности». С этим
превознесением государства у Гегеля связан особого рода аристократизм — черта
опять-таки сродная древним. Не всякий человек может отдаваться всецело госу-
279
дарственной деятельности; последняя составляет всюду удел меньшинства
граждан; во всяком государстве большинство составляют представители физического
труда. Для Гегеля, как и для древних, вся цель, весь смысл государства — в
высших, служилых классах общества. Он не превращает рабочих в рабов, как
древние, но он низводит их на степень орудий культуры, коим недоступна
«абсолютная нравственность». Рабочий класс нужен в государстве лишь для того, чтобы
«абсолютный дух» мог сознать себя в высших, культурных классах, свободных от
материального труда. Цель государства не есть нравственное совершенство
человеческого лица, а логическое развитие «абсолютного духа». Человек вообще
низводится на степень средства в учении Гегеля; в его государственной теории
торжество отвлеченной «идеи» покупается ценой унижения человеческого достоинства
в лице рабочего класса.
В своей «Философии права» Гегель изучает развитие мирового разума в
коллективной жизни человечества как рода. Сюда входит, следовательно, не только
право в тесном смысле слова, но и нравственность. При этом Гегель
диалектически выводит ступени развития человеческого общества из природы абсолютной
мысли, воплощающейся в общежитии.
Первое и низшее проявление абсолютного разума в жизни человеческого
общества есть отвлеченное право. Чтобы быть членом общества, человек прежде всего
должен сознавать себя лицом в юридическом смысле слова, то есть субъектом
права, и признавать других лиц за таковых же. Основное требование права
выражается в формуле: «Будь лицом и уважай других как лица». Право не
предписывает человеку никаких положительных задач и целей: оно не говорит ему,
что он должен делать, а только чего он не должен делать. Оно ограничивает
деятельность человека воспрещением посягать на жизнь, свободу и имущество
других лиц. Положительные задачи и цели деятельности на этой ступени развития
человеческого общества определяются индивидуальными влечениями и
склонностями каждого.
Представитель сознающего себя разума, человек должен господствовать над
внешней природой; в этом заключается основание права собственности. Право
присвоения, принадлежащее каждому человеку, ограничено только правами
других лиц. Для права безразлично, сколько я имею: оно только воспрещает мне
присваивать вещи, принадлежащие другим. Не установляя определенного
количества собственности, принадлежащей каждому, право требует однако, чтобы каждый
человек обладал некоторою собственностью, то есть чтобы никто не был вовсе ее
лишен, так как без собственности нет свободного лица. Чтобы быть свободным,
каждый человек должен иметь свою особую, исключительную сферу
господства — собственность, неприкосновенную для других лиц.
Второе необходимое проявление свободы есть договор; человек только тогда
является в полной мере свободным лицом, когда эта свобода пользуется уважением,
признанием со стороны других лиц; признание это выражается в форме договора
о взаимном соблюдении отдельными лицами прав каждого из договаривающихся.
Содержание этих договоров на первых ступенях культуры вполне зависит от
произвола отдельных лиц; точно так же от произвола частных лиц зависит
соблюдение или несоблюдение договора.
Правовой порядок на низших ступенях культуры, то есть пока еще не
существует власти, которая бы его охраняла, не обеспечен и подвергается частым
нарушениям. Нарушение права, или «не право» (Unrecht), составляет третье
проявление личной свободы.
280
Нарушенный преступлением правовой порядок восстановляется посредством
наказания преступника; посредством наказания вредные последствия
преступного деяния обращаются на его совершителя. Наказание должно быть логическим
последствием преступления: с преступником должно быть поступлено так же, как
он поступил с другим. Преступление есть отрицание чужой свободы; преступник
должен на самом себе испытать, что значит такое отрицание свободы; в этом и
заключается логика наказания: оно служит восстановлению правового порядка, ибо
оно представляет собою отрицание злой воли преступника. Главная цель
наказания — возмездие: оно должно воздавать равное за равное.
На первобытных ступенях культуры, пока еще не сложилось государство,
уголовное возмездие исходит от инициативы частных лиц, и, следовательно,
является в форме личной истины. Месть в свою очередь вызывает месть и т. д. до
бесконечности. Возмездие на низших ступенях культуры выражается в форме
бесконечно длящихся междоусобий. Тем самым обнаруживается недостаточность
первой ступени развития общества — недостаточность формального или
отвлеченного права. Когда отдельные лица не связаны между собой ничем другим, кроме
внешней связи отвлеченного права, когда нравственные связи еще не скрепляют
общество, право легко может обратиться в свое противоположное, то есть в «не
право».
Правовой порядок погибает в анархии родовой мести. Из этого состояния
общество выходит на второй ступени развития, которая характеризуется как
господство морали. На этой ступени развития человеческое общество управляется не
только внешним законом права, но и внутренним законом совести. Закон,
скрепляющий общество, здесь является не только в виде внешней правовой нормы,
но также и в форме осознанной обязанности. На этой ступени развития
человеческая воля действует уже не под влиянием каких-либо внешних побуждений, а
избирает обязанность ради самой обязанности. Пока человек стоит на ступени
отвлеченного права, он воздерживается от преступлений потому, что преступление
невыгодно — за ним следует наказание. Когда он возвышается до ступени морали,
он действует законно потому, что так повелевает долг, независимо от выгод или
невыгод, отсюда проистекающих. Мораль требует, чтобы человек служил общему
благу ради самого блага, независимо от каких-либо расчетов корыстного свойства.
Предписывая любить обязанность ради самой обязанности, общее благо ради
самого блага, мораль не определяет, однако, в чем состоит общее благо, в чем в
каждом данном случае заключается обязанность: это определяется личным
усмотрением субъекта, его совестью.
Но человек, предоставленный собственному своему усмотрению и совести,
легко может уклониться от пути добра и избрать противоположный путь зла —
заповедь морали слишком обща и неопределенна и потому недостаточна. Чтобы
спасти человеческое общество от произвола и анархии, недостаточно одной заповеди
морали: нужно поставить человеку определенную объективную цель; внутренний
закон совести должен сочетаться с внешним законом права; воля человека
должна быть связана целым кодексом определенных правил, установляющих
отношение отдельной личности к обществу.
Это-то сочетание и объединение права и морали получает у Гегеля название
нравственности. Нравственность и составляет третий, то есть высший,
заключительный, момент развития общества1 На этой ступени развития коллективный
разум человечества воплощается в форме определенных законов и учреждений, он
связует отдельные лица в организованное целое, в государство. В государстве ми-
281
ровой разум обнаруживается наисовершеннейшим образом — как организованное
единство разумных существ, как систематический порядок, над ними
властвующий. Здесь закон установляет права каждого человека, и соблюдение этих прав
составляет обязанность каждого. Права и обязанности в благоустроенном
государстве совершенно уравновешены: каждый человек имеет ровно столько же прав,
сколько он имеет обязанностей. В этом сочетании права с нравственным понятием
обязанности и заключается совершенное примирение, то есть объединение права
и морали. Законы государства представляются поэтому Гегелю высшим
выражением нравственности.
Тут-то и обнаруживается величайшее сродство учения Гегеля с
мировоззрением древних, а вместе с тем обнаруживаются капитальные недостатки его системы,
сходные с теми, которыми грешили древние, — у Гегеля, как у древних,
безусловная цена человека не в нем самом, а в государстве: вне государства он не имеет
безусловной цены и значения. Но при этом условии человек становится с головы
и до пяток рабом государства, которое подчиняет себе самую его душу, совесть: все
его назначение сводится к тому, чтобы быть пригодным для государства орудием;
вся его добродетель заключается в неукоснительном исполнении закона. Идеал
Гегеля есть в сущности идеал чиновнический, он делает человека
безукоризненным автоматом закона. При таком понимании задач нравственной деятельности
для нравственной свободы человеческой личности в системе Гегеля вовсе не
остается места.
Как сказано, нравственность по Гегелю не есть только субъективный кодекс
правил: она воплощается в объективной системе законов и учреждений. Она
выражается, во-первых, в семействе, во-вторых, в гражданском обществе, и,
наконец, высшим ее воплощением служит государство.
Семейство представляет собою союз естественный, основанный на
физиологической природе людей. В браке физиологическое влечение полов друг к другу
превращается в нравственное; единство естественное обращается в единство
духовное, то есть нравственное начало торжествует над физиологическим влечением.
Когда дети становятся самостоятельными нравственными лицами, семья как
естественный союз распадается. Дети основывают самостоятельные семьи, и через
несколько поколений утрачивается самое родство между различными семьями.
Таким образом, путем естественного размножения, семья переходит в союз
высшего порядка, в котором соединяется уже много людей как самостоятельных
единиц, много семейств — в гражданское общество.
Гражданское общество, в отличие от государства, есть соединение людей ради
частных их целей. Человек в изолированном состоянии не может удовлетворить
не только свои общественные; но и частные интересы; этим обусловливается
необходимость гражданского общества. Для удовлетворения разнообразных
потребностей отдельных лиц необходимо разделение труда между ними; а для этого нужно
разделение общества на различные классы. В каждом обществе необходим, во-
первых, класс, добывающий сырые продукты — класс земледельческий, или (по
терминологии Гегеля) естественный; во-вторых, для обработки сырых продуктов
необходим класс формирующий (фабриканты, ремесленники, купцы), наконец,
в-третьих, в обществе необходим еще и такой класс, который посвящал бы себя
управлению общежитием — охранению порядка и права. Этот класс как
служащий по преимуществу интересам общества как целого получает у Гегеля название
класса общего. Одного охранения прав и внешнего порядка в гражданском обще-
282
стве недостаточно: для более успешного достижения целей частных лиц их
интересы должны быть связаны между собой внутренним образом. Эта внутренняя
связь достигается через объединение отдельных лиц в частные союзы —
корпорации. Ради обеспечения интересов частных лиц против возможных случайностей
в видах взаимопомощи и корпорации все они должны объединяться в сословия,
общины, цехи. В этих союзах по преимуществу проявляется нравственный
элемент гражданского общества — нравственная солидарность его членов.
Общественные союзы, то есть корпорации, как сказано, имеют в виду
преимущественно достижение частных целей их членов. Но вместе с тем, так как они
объединяют в себе большие массы людей, они представляют собой уже переходную
ступень между гражданским обществом и государством.
Государство, как сказано, есть для Гегеля «высшая действительность
нравственной идеи» — абсолютная цель, которой должны подчиняться все другие
человеческие цели; как высшее явление «абсолютного духа» государство обладает
неограниченным верховенством над человеком, оно вправе требовать, чтобы
гражданин посвящал ему все свои силы, отдавался ему всем своим существом.
Идея государства проявляется, во-первых, во внутреннем государственном праве,
во-вторых, в международных отношениях и, наконец, как общий дух,
осуществляющийся во всемирной истории, то есть в процессе развития всех существующих
государств.
Гегель говорит, что государство не поглощает в себе семью и гражданское
общество, оно представляет им известную самостоятельность, оно только
господствует над ними как высшая власть; по Гегелю, государство должно сочетать в себе
свободу частную со свободой политической; в этом он справедливо признает
основное отличие между государством нового времени и государством
древнегреческим, которое вовсе не знало частной свободы. Признавая на словах частную
свободу, Гегель в своем государственном учении уничтожает ее на деле: где государство
является высшей безусловной целью, где законы государства считаются высшим
кодексом нравственности — там не может быть речи о частной свободе, частная
свобода у Гегеля есть свобода мнимая, призрачная, от которой отнято всякое
существенное содержание.
Основной и главный вопрос государственного права есть вопрос о
государственном устройстве. В этом пункте государственная теория Гегеля заключает в себе
одно капитальное преимущество, сравнительно с учениями предшествовавших
мыслителей, и в особенности Монтескье: у него государство рассматривается как
проявление единой идеи — как единый организм. Поэтому у него отдельные
власти не разрознены, как это замечается у Монтескье, а поставлены в органическую
связь между собой. Вообще теория разделения властей поставлена у Гегеля во
многих отношениях рациональнее, чем у Монтескье. Он разделяет власти на
власть законодательную, которая установляет общие нормы, правительственную,
которая применяет эти общие нормы к отдельным казусам действительности,
и княжескую. Таким образом, судебная власть совершенно правильно
понимается Гегелем не как самостоятельный вид власти наряду с властью
правительственною, а как подразделение последней. Затем, учение о власти княжеской, то есть
о власти монарха в конституционном государстве, также поставлено у Гегеля
несравненно правильнее, нежели у Монтескье. Монарх у него не есть
исполнительный орган решений парламента и вместе с тем не законодатель. Он глава
государства и поэтому представляет собою совершенно особый, самостоятельный вид
власти. Он — олицетворение государства как единого лица.
283
Единство государства как лица всего лучше может быть представлено единым
физическим лицом — монархом. Власть его должна быть поставлена вне борьбы
партий и для этого должна быть наследственно-династической. Монарх выборный
всегда был бы представителем части — большинства своих подданных и,
следовательно, не был бы монархом внепартийным. Наследственность монархической
власти в государстве конституционном не представляет никаких неудобств:
монарху не принадлежит здесь деятельной роли в законодательстве или
управлении; при столь ограниченной роли его личные качества безразличны для преус-
пения государства. Не направляя деятельности законодательного собрания
и власти правительственной, он только утверждает их решения, то есть «говорит
да и ставит точки». Гегель хочет сказать этим в сущности то же, что раньше его
выразил Бенжамен Констан78 в знаменитой формуле: «Король царствует, но не
управляет».
К сожалению, однако, этот последний принцип проведен у Гегеля не вполне
последовательно. Чтобы король не управлял, а только «ставил точки», то есть
царствовал, министры должны быть от него независимы: они должны быть
представителями парламентского большинства. Не то мы видим у Гегеля. У него
представители правительственной власти, министры, назначаются королем.
В чем же, спрашивается, заключается гарантия подданных против произвола
правителей? Гегель видит гарантию в иерархическом устройстве власти, при котором
низшие правительственные места подчинены высшим. Но гарантия эта,
очевидно, не может быть признана достаточной, так как во главе чиновничьей иерархии
стоит совершенно бесконтрольный и безответственный монарх и министры,
подчиненные ему одному. Другую гарантию Гегель видит в автономических правах
сословий и других корпораций, которые также должны представлять собой
преграду чиновничьему произволу. Но и эта гарантия вряд ли может быть признана
надежной, так как и корпоративные права сословий ничем не обеспечены против
нарушений их со стороны представителей администрации.
Вообще главный недостаток государственной теории Гегеля заключается в ее
крайнем бюрократизме — в чрезмерном ее пристрастии к служилому
чиновничьему классу. Служилый класс — носитель идеи государства по преимуществу
и представитель «абсолютной нравственности» среди прочих классов общества —
занимает совершенно исключительное положение в государстве Гегеля, ибо
в нем — вся цель, весь смысл общества. Самое народное представительство у
Гегеля существует вовсе не для того, чтобы обеспечить права народа против
произвола, не для того, чтобы усовершенствовать управление. Королевские министры,
как представители государственной мудрости и служебной опытности, прекрасно
могли бы управлять и без помопщ парламента. Для чего же, спрашивается,
существует последний? Только для того, чтобы государство и закон входили в сознание
народа через посредство его представителей. Министры, как находящиеся
постоянно у дел, лучше народных представителей знают, в чем заключаются общие
государственные нужды, поэтому им одним и должно принадлежать право
законодательной инициативы. Народным представителям предоставляется
обсуждение законодательных проектов, после чего им остается целиком принять или
отвергнуть то, что им предлагают. Таким образом, парламенту отведена здесь
жалкая пассивная роль какой-то передаточной инстанции между правительством
и народом, ,
Самый состав народного представительства определяется Гегелем чрезвычайно
странно. Служилое сословие не посылает в парламент своих представителей, так
284
как оно без того уже имеет особую сферу деятельности в государственном
управлении. Состояние земледельческое также не участвует в палате народных
представителей; вместо того старшие в роде из представителей крупного землевладения
составляют вторую верхнюю палату. Независимое и материально обеспеченное
положение этих членов верхней палаты обеспечивается учреждением майоратов,
в силу коего родовые имущества наследуются старшим сыном с исключением всех
других детей. Верхняя палата играет роль посредницы между народным
представительством и королем. Таким образом, за устранением служилого и
земледельческого класса (который обнимает в себе как собственно земледельцев, так и
землевладельцев) — в нижней палате остаются только представители третьего, то есть
торгово-промышленного класса.
Конституционный проект этот странен во всех отношениях. Совершенно
непонятно — почему земледельческий класс вовсе не представлен в нижней палате;
верхняя палата состоит из представителей крупного землевладения, которые,
конечно, отнюдь не могут считаться представителями земледелия вообще, так как
интересы землевладельцев и интересы крестьян-земледельцев вовсе не
совпадают. Все эти недостатки государственного учения Гегеля в значительной степени
ослабляют те его преимущества сравнительно с предшествовавшими учениями,
на которые выше было указано.
Ко всем отмеченным недостаткам следует прибавить еще один, общий
государственной теории Гегеля с политическими учениями мыслителей естественной
школы. Правда, Гегель в принципе признает, что государственное устройство
каждого государства должно зависеть от самосознания народа, от степени его
культурного развития, и потому не может быть навязано ему a priori; но, тем не
менее, государственная теория Гегеля есть чисто априорная конструкция,
которая на самом деле вовсе не считается с конкретными историческими
особенностями различных времен и народов. Таким образом, априористическая метода этого
мыслителя-рационалиста противоречит его собственному здравому смыслу.
Как мы говорили, Гегель есть последний из могикан чистого рационализма. Он
последний оригинальный представитель рационалистического направления.
Рационалисты существуют и в наше время, но это уже не оригинальные мыслители,
а только ученики старых рационалистов, по большей части гегельянцы.
Мыслители, убежденные в несостоятельности рационализма, существовали с тех пор,
как сам он существует. Рационализм всегда находил себе сильных противников,
но после Гегеля убеждение в несводимости законов вселенной к законам мысли
становится характерной чертой эпохи. Мыслители различных направлений
сходятся в одном общем положении: в основе вселенной есть нечто иррациональное,
нечто такое, что невозможно вывести a priori; по этому самому человеческий
разум ограничен; предоставленный самому себе он не может познать абсолютную
истину. Убеждение это в разных формах выражали после Гегеля философы самых
разнообразных направлений. Одни мыслители — богословского направления —
утверждают, что абсолютная истина может быть усвоена человеком лишь через
откровения; немощный человеческий разум для познания абсолютной истины
нуждается в помощи свыше. Другие же мыслители (Шопенгауэр) утверждают,
что самая сущность вещей неразумна, поэтому она может быть познана не
посредством разума, а через некоторого рода гениальное наитие — вдохновение.
Мыслители-материалисты сходятся с Шрпенгауэром в том, что сущность вещей
неразумна: для них эта сущность представляется слепой материей; человеческий разум
ограничен уже потому, что он представляет собою лишь частное проявление мате-
285
рии. Наконец, существуют еще позитивисты и эмпирики — Огюст Конт, Джон
Стюарт Милль, которые вовсе отрицают возможность познания сущности вещей.
Таким образом, все мыслители после Гегеля сходятся в общем протесте против
рационализма, то есть в общем отрицании. Но этой отрицательной чертой и
ограничивается сходство между ними. Одни из них, как, например, Шопенгауэр, хотят
заменить метафизическое учение Гегеля лучшей метафизикой, другие, как,
например, позитивисты (Огюст Конт), категорически отрицают возможность
метафизики. Одни думают заменить рационалистическую метафизику богословием,
другие же со злобной насмешкой относятся ко всякому богословию.
286
ЛЕКЦИИ
ПО ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ПРАВА
Определение права
Первая и основная задача юридической энциклопедии заключается в
определении самого понятия о праве. Пока мы не выясним себе, что такое право
вообще, все наши суждения о тех или других конкретных видах права будут страдать
неясностью, отсутствием определенного научного содержания. По поводу
каждого нашего отдельного суждения, относящегося к той или другой области
юриспруденции, может возникнуть сомнение, представляет ли оно собой действительно
суждение о праве или о чем-то другом, что не есть право. При отсутствии
удовлетворительного определения понятия права не могут быть проведены ясные
границы между правоведением и другими науками; а при отсутствии таких границ
наука права всегда рискует или не охватить весь свой предмет, или совершать
захваты из других, чуждых ей областей знания.
Чтобы так или иначе разрешить спорный в науке вопрос о существе права,
необходимо прежде всего остановиться на тех признаках определяемого понятия,
которые не вызывают сомнения и затем перейти к тем, которые представляются
спорными. Прежде всего, несомненно,_что право выражает собой правило поведе-
ния. В каком бы смысле мы ни употребляли слово «право», мы всегда
подразумеваем под ним что-то такое, против чего не следует посягать, чего не должно
нарушать; с этим словом в нашем уме всегда связывается то или другое повеление,
предписание каких-либо положительных действий или воздержания от действий.
Всякому праву соответствует чья-либо обязанность, требование, обращенное к
какому-либо лицу или лицам. Когда мы говорим о праве кредитора на получение
долга, это значит, что определенное лицо — должник — обязан уплатить этот
долг. Когда мы говорим о праве собственности какого-либо лица, это значит, что
все прочие лица — несобственники — должны воздержаться от всяких
посягательств против того, что составляет для них чужую собственность. Когда мы
говорим о праве власти, мы непременно подразумеваем, что те или другие лица —
подчиненные — обязаны повиноваться власти.
Если право всегда устанавливает чьи-либо обязанности, то столь же
несомненно, что оно всегда выражает собой, чьи-либо притязания. Во всяком праве есть
одна сторона — лицо управомоченное, которое может требовать, и другая сторона —
лицо или лица обязанные, которые должны исполнять требование. Собственник
288
может требовать от всех прочих людей, чтобы они уважали его собственность;
точно так же кредитор может предъявлять требование к должнику, власть — к
подчиненному.
Из всего предшествовавшего видно прежде всего, что право неразрывно
связано, во-первых, с существованием лица, которое является его обладателем и
носителем, и, во-вторых, с существованием общества лиц, среди коих лицо управомо-
чённое осуществляет свое право, к которым оно предъявляет свои требования.
Если всякое право непременно выражает собой притязания одних лиц,
обязанности других, то ясное дело, что всякое право предполагает общество и вне общества
представляется невозможным. Представим себе лицо, совершенно
изолированное, живущее вне всякого общества, вне всякого отношения к другим лицам:
такое лицо, очевидно, не обладало бы никакими правами; нельзя говорить о правах
собственности такого лица, о его праве на жизнь или на действия других лиц, ибо
у него нет ближних, которые бы могли признавать или оспаривать эти права. Где
нет лица или лиц, обязанных соблюдать чужое право, там нет и лица управомо-
ченного, стало быть, нет и самого права.
Если мы и можем говорить о праве какого-нибудь Робинзона, живущего на
необитаемом острове, то только в предположении какого-либо возможного
ближнего, возможного общества других лиц, которые когда-либо нарушат его
одиночество. Если мы, например, говорим о правах собственности Робинзона, то это не
значит, очевидно, что неодушевленные стихии не должны портить его имущество
или что дикие звери не должны посягать на его жизнь и расхищать его стада; это
может значить только, что всякое другое разумное лицо, которое может
появиться на острове Робинзона, не должно посягать на принадлежащие ему вещи.
Таким образом, всякое право предполагает общество: только в предположении
общества разумных лиц можно говорить о праве; с другой стороны, не может
существовать и общества разумных лиц без права. Представим себе такое собрание
людей, где никто не признавал бы за своим соседом никаких прав, стало быть,
ни права на жизнь, ни права на имущество; очевидно, что такое собрание людей
не было бы обществом; люди могут составлять общество только при том условии,
если за отдельными лицами признается известная сфера, в которой должны
господствовать его цели, иначе говоря, если за ним признается сфера прав, коих не
должны нарушать его ближние. Право, таким образом, есть условие всякого
общества: оно — тот общий порядок, которому должно подчиняться как целое
общество, так и каждый отдельный его член. Живя в обществе, я должен сознательно
поступиться в пользу ближнего целым рядом эгоистических интересов и целей: я
должен уважать чужую жизнь, свободу и имущество; так же должен относиться
ко мне мой ближний; все мы должны почитать право, как общий порядок,
который должен господствовать над волей каждого из нас. Отсюда — первое и самое
общее определение права: право есть порядок, регулирующий отношения
отдельных лиц в человеческом обществе.
Рассматривая это определение, как мы увидим далее, далеко не полное, мы
обнаружим целый ряд других свойств, других существенных признаков права.
Право, как сказано, всегда выражается в виде притязания, требований, с одной
стороны, в виде обязанностей, с другой стороны. Ясное дело, что притязания,
требования могут предъявляться только к разумным, сознательным существам,
способным понимать требование; только по отношению к таким существам
возможно говорить об обязанностях: смешно было бы говорить об обязанностях
растения или камня, и, по меньшей мере, неосновательно было бы заявлять о наших
МЗак. 3911 289
правах волкам или тиграм. Но и этого мало: требования права, как и вообще
всякие веления разума, могут обращаться только к лицам, способным их исполнять
или не исполнять, то есть к существам, обладающим способностью свободного
выбора. — Если я обращаюсь к ближнему с требованием уплатить мне долг, оказать
мне повиновение, не посягать на принадлежащую мне вещь, то очевидно,
предполагаю, что он может исполнить мое требование, соблюсти или нарушить мое
право; право, как мы видели, всегда выражает собой не только чье-либо притязание,
но и чью-либо обязанность; но долженствование, обязанность может быть
приписана только такому существу, которое способно выбрать между должным и не
должным: право властвует над нами не как непреодолимый закон природы, а как
требование, обращенное к нашей свободной воле, веление, которое мы можем
исполнить или нарушить.
Мы не станем здесь вдаваться в сложный метафизический вопрос о свободе
человеческой воли, то есть об отношении человеческой воли к властвующей в мире
необходимости. Для нашей цели пока достаточно установить, что право
предполагает свободу в двояком смысле: во-первых, как способность нашей воли
сознательно избирать то или другое поведение (свобода внутренняя) и, во-вторых, как
возможность действовать вовне, преследовать и осуществлять какие-либо цели
в мире внешнем (свобода внешняя).
Свобода внутренняя, как мы видели, предполагается правом как условие его
существования: к ней предъявляются веления права: веления эти имеют смысл
лишь поскольку они обращаются к существу, способному сознательно избирать
ту или другую цель, тот или другой образ действий. В этом смысле слова свобода
составляет неотъемлемое психическое качество всякого разумного существа.
Мои ближние, разумеется, могут так или иначе влиять на мое поведение,
побуждать меня к избиранию тех или других целей, но никакие действия ближних,
никакие вообще внешние препятствия не могут лишить меня самой способности
сознательно избирать мое поведение, сознательно определяться теми или другими
мотивами.
Иное дело — свобода внешняя, свобода как возможность осуществлять те или
другие цели в мире внешнем; в этом смысле наша свобода может быть стеснена,
ограничена или даже вовсе уничтожена не только теми или другими внутренними
побуждениями нашей воли, но и всякими внешними препятствиями, в том числе,
конечно, действиями ближних. Никто не может воспрепятствовать мне желать
тех или других целей, например, желать пользоваться какой-либо вещью или
чьими-либо услугами, желать жить, но ближние мои могут воспрепятствовать
осуществлению этих целей, лишить меня своих услуг, имущества и самой
жизни — словом, всячески стеснить ц даже вовсе уничтожить мою внешнюю свободу.
Нетрудно убедиться в том', что свобода в этом смысле составляет содержание
права. Ясное дело, что, где нет вцешней свободы, там нет и самого права.
Существо, совершенно лишенное внешней свободы (раб), есть вместе с тем и существо
совершенно бесправное. Во всяком праве свобода лица в смысле не стесненной
другими лицами возможности осуществлять те или другие цели составляет настолько
существенный признак, что с уничтожением его уничтожается и самое право.
Истинность этого положения может быть подтверждена анализом всякого
конкретного права. Что такое, например, право на жизнь? Право это означает,
что человек свободен располагать своей жизнью, что никто из ближних не
должен ему в этом препятствовать: оно означает, что человек свободен жить в мире
внешнем и что все прочие люди должны уважать эту свободу. Что такое право на
290
долг? Свобода кредитора располагать в известный срок определенной частью
имущества должника, требовать с него уплаты. Право на чужие услуги — есть
свобода располагать определенными услугами других. Право собственности есть
свобода лица — собственника — всесторонне господствовать над принадлежащей
ему вещью.
Казалось, впрочем, что существуют такие права, которые не только не
заключают в себе этого признака свободы, но, напротив того, исключают его,
закрепляют состояние несвободы: таково, например, крепостное право. В этом всегда
заключалось одно из главных возражений тех юристов и философов, которые
отказываются признавать свободу существенным признаком права. Возражением
этим еще недавно воспользовался проф. Петражицкий1 в своих «Очерках
философии права». Однако при внимательном анализе оно оказывается совершенно
неубедительным; на самом деле, крепостное право есть одно из тех кажущихся
исключений, которые блистательно подтверждают общее правило: крепостное
право действительно отнимает свободу у крепостного, но оно утверждает свободу
господина. Крепостное право есть свобода господина распоряжаться своим
крепостным. Если мы откинем этот признак свободы господина, то у нас ничего не
останется от самого понятия крепостного права: только в силу этой признанной
обычаем или законом свободы господина его господству над крепостными усвоено
название права. Крепостное право, очевидно, не есть право крепостного, ибо
последний несвободен и по этому самому совершенно бесправен; оно есть право
господина именно потому, что оно выражает свободу господина. Значит, всякое
право заключает в себе элемент свободы, хотя эта свобода может быть
и односторонней, иметь характер привилегии одного лица в ущерб другому. Где
вовсе нет свободы, там вообще не может быть никакого права.
Свобода как субъективный, личный элемент права не исчерпывает собой его
сущности. Мы видели, что право неразрывно связано не только с существованием
отдельного лица, но и с существованием общества. По этому самому наряду с
личным элементом свободы право заключает в себе другой — общественный
элемент — правило поведения или норму, ограничивающую свободу отдельного
лица. Этот элемент — ограничение свободы нормой — представляет собой столь же
существенный признак права, как и самая свобода. В самом деле, представим
себе, что свобода лица, например, свобода человека, ничем не ограничена, что нет
никаких правил, ее обуздывающих и сдерживающих. Ясное дело, что при таком
порядке вещей не может быть речи о праве. Бели каждому человеку принадлежит
безграничная свобода распоряжаться чужой жизнью, то это значит, что никто не
имеет права на жизнь; если нет правила, ограничивающего свободу захватывать
все те вещи, которые он желает, отнимать их у соседей, то это значит, что ни у
кого нет права собственности. Если нет никаких правил, ограничивающих мою
свободу принуждать ближних к тем или другим действиям в мою пользу, если я
могу бить, оскорблять и обращать их в орудия моей прихоти, то это значит, что
никто не имеет никаких личных прав. Следовательно, где свобода отдельного
лица не ограничена никакими правилами, никакими предписаниями, там нет
вообще никакого права: существенным признаком права является правило^ или
норма, ограничивающая свободу.
Таким образом, существо права выражается в двух основных проявлениях или
функциях: с одной стороны, оно представляет, отводит лицу известную среду
свободы; с другой стороны, оно ограничивает эту сферу рядом предписаний, рядом
обязательных правил.
291
Раньше уже было сказано, что право есть порядок, регулирующий отношения
отдельных лиц в обществе; теперь мы видим, что этот порядок проявляется, во-
первых, как внешняя свобода лица, а во-вторых, как правило, или норма, с одной
стороны, предоставляющая лицу определенную сферу внешней свободы, а с
другой стороны, ее ограничивающая. Поэтому данное раньше определение права
может быть здесь дополнено и выражено в следующей краткой формуле: «право
есть внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой».
Определение это существенно отклоняется от учений, господствующих в
современной юриспруденции, а потому нетрудно предвидеть, что оно встретит
многочисленные возражения. Не подлежит сомнению, что, с точки зрения
наиболее распространенных в наше время воззрений, оно покажется прежде всего
слишком широким: оно обнимает в себе многое такое, что большинством
современных юристов и философов права принято относить не к праву, а к
нравственности или к условным правилам общежития. Если держаться высказанного
выше определения, то придется признать за правовые многие такие нормы,
которые не только не пользуются признанием со стороны государственной
власти, но и вообще не опираются на санкцию того или другого общественного
авторитета, то есть ряд таких норм, которые господствующим воззрением не
признаются за правовые. Каковы бы ни были разногласия современных юристов
и философов права, весьма значительная часть из них сходится в том
предположении, что санкция того или другого внешнего авторитета служит
необходимым признаком права.
В последующем изложении нам предстоит так или иначе посчитаться с этим
догматом современной юриспруденции. Истинность данного только что
определения права может быть доказана только путем критического разбора целого ряда
несогласных с ним современных учений о праве.
Критика господствующих определений права
Особенно резко бросаются в глаза недостатки тех ходячих в наше время
определений права, которые исходят из понятия государства. Из них наиболее
типичным представляется определение, высказанное Иерингом в известном труде его
«Цель в праве». Иеринг2 считает совершенно правильным то ходячее определение
права, которое гласит: «право есть совокупность действующих в государстве
принудительных норм». Нетрудно убедиться в том, что это определение, как и
вообще все те многочисленные в наше время определения, которые исходят из
понятия государства, совершает логический круг, определяет право правом,
неизвестное неизвестным. В самом деле, государство есть прежде всего правовая
организация, союз людей, связанных между собой общими началами права; ясное
дело, следовательно, что понятие государства уже предполагает понятие права.
Стало быть, те учения, которые определяют право, как совокупность норм,
«действующих в государстве» или «признанных государственной властью», говорят
на самом деле иными словами: «право есть право, X = X».
Акт признания или непризнания государственной властью тех или других
норм за право, очевидно, не мо^сет послужить признаком для различения права
от не права, ибо этот акт, в свою очередь, покоится на праве, присвоенном
государственной власти. Понятие государства уже предполагает понятие права, по-
292
этому вводить в определение права понятие государства — значит определять
право правом.
Разумеется, всего легче возражать против тех теорий, которые прямо вводят
понятие государства в определение права или считают государство
«единственным источником права» (Иеринг). Задача критики становится труднее, когда
приходится иметь дело с такими определениями, в которых самый термин
«государство» не упоминается, но в коих, тем не менее, такие понятия, как
«государство» или «власть» фигурируют в качестве скрытых предположений. Таковы
модные в наше время определения права, исходящие из понятия принуждения,
теории, определяющие право как «организованное принуждение» или как
«совокупность принудительных норм». Теории эти в настоящее время имеют
множество разветвлений, причем слово «принуждение» понимается теоретиками
в буквальном смысле — физического насилия, то в смысле устрашающего
воздействия на человеческую волю (принуждение психическое). Но, каковы бы ни
были те или другие оттенки мысли, связываемые с термином «принуждение»,
очевидно, что теоретики считают признаком права не всякое вообще
принуждение, физическое или психическое, а только то принуждение, которое не
представляется актом произвола. Принуждение, в свою очередь, может быть
правомерным, если оно исходит от признанной правом власти, которая при этом не
выходит из пределов, предоставленных ей правом полномочий; но оно может
быть и неправомерным, если оно применятся не призванными к тому лицами,
самозванными властями или если власть, хотя бы установленная правом,
нарушает пределы своих полномочий.
Теории, считающие принуждение признаком права, очевидно, содержат в себе
логический круг, так как, говоря о принуждении, они с самого начала имеют в
виду принуждение правомерное. Говоря словами Петражицкого, теории эти исходят
из предположения организованной исполнительной власти и имеют в виду не
произвольное насилие со стороны кого бы то ни было, а применение принуждения со
стороны органов, призванных к этому правопорядком, установленных правом
и действующих в порядке правом предусмотренном; иначе говоря, теории,
определяющие право «принуждением», впадают в такое же заблуждение, как и
теории, вводящие государство в определение права: общий смысл их точно так же
сводится к простому тождесловию: «право есть право».
То учение, которое видит в принуждении существенный признак права,
принадлежит к числу самых распространенных в наши дни, а потому особенно
нуждается во внимательном разборе. Мы видели, что оно заключает в себе логический
круг; независимо от этого оно страдает и другими логическими недостатками:
вопреки мнению его сторонников, одо не выражает существенных отличий права от
нравственности. '
Различие между нормами нравственными и юридическими с точки зрения
господствующего воззрения заключается в самом способе осуществления тех и
других: нормы юридические защищаются внешней силой, осуществляются путем
принуждения, тогда как нормы нравственные не обладают принудительным
характером и осуществление их зависит от доброй воли каждого; нельзя принудить
человека к тому, чтобы он любил добро, был доброжелателен к ближнему; но его
можно принудить страхом наказания,'чтобы он не запускал руку в чужой карман,
не посягал на чужую жизнь, исполнял свои обязательства; иначе говоря, нельзя
заставить человека быть нравственным, но его можно принудить уважать право.
На этом основании защитники господствующего воззрения и видят в принужде-
293
нии основное отличие права от нравственности. Нетрудно, однако, убедиться в
несостоятельности их аргументации.
Во-первых, о физическом принуждении в применении к праву не может быть
и речи. Человек не есть автомат, а существо, одаренное разумом и способностью
свободного выбора: его нельзя заставить посредством физического насилия
соблюдать известные правила: его можно только наказать за их несоблюдение. Можно
силой отобрать у вора украденный им кошелек, наказать его за преступление,
но никакая внешняя сила не может заставить людей вообще не совершать
преступлений; можно подвергнуть несостоятельного должника тюремному
заключению, можно продать его в рабство, как это делалось у древних, но нельзя
принудить его уплатить долг, если ему уплатить нечем. Ясное дело, стало быть, что
физическое принуждение не может быть признаком права.
Если можно говорить о принуждении как о способе осуществления права,
то только о принуждении психическом. До известной степени закон может
принудить людей к исполнению его требований страхом наказания за
правонарушения, вообще страхом невыгодных последствий: но этот страх, посредством
которого власть вынуждает людей к повиновению, есть воздействие
психическое, а не физическое. Хотя такое психическое воздействие и возможно в
применении к праву, однако и оно по многим основаниям не должно считаться
отличительным признаком права: на самом деле существует немало норм
нравственных и условных правил общежития, которые осуществляются при
содействии принуждения и тем не менее юридического характера не имеют.
В известных случаях простое общественное осуждение образа действий,
признанного безнравственным или просто неприличным, может иметь характер
психического принуждения: так мы отказываемся протянуть руку человеку
солгавшему, прекращаем знакомство с человеком, совершившим вообще
что-либо достойное презрения хотя бы и без нарушения чьего-либо права;
отказываемся принимать у себя в доме людей, не умеющих вести вести себя прилично,
словом, общество оказывает психическое давление, во многих случаях даже
весьма сильное, на своих членов, чтобы они соблюдали правила
нравственности, приличия и вообще ряд условных правил общежития; тем не менее вряд ли
кто скажет, что обязательство не лгать или не ковырять пальцем в носу суть
нормы юридические. Первое есть правило нравственное, второе — условное
правило общежития, между тем то и другое обладает известной силой
принуждения. Ясное дело, стало быть, что принудительность не есть особенность одних
юридических норм в отличие от всяких других. Часто даже бывает, что
нравственные воззрения и распространенные в обществе обычаи обладают большей
принудительной силой, чем самые юридические нормы, так как во многих
случаях человек больше боится общественного осуждения, нежели
ответственности перед законом.
Засим можно указать целый ряд случаев, когда право не сопровождается
принуждением и, наоборот, принуждение является при полном отсутствии права.
Право кредитора остается прежде всего правом даже в том случае, когда нет
возможности принудить должника je уплате долга. С другой стороны, можно указать
множество случаев принуждения, противного праву: в государстве, где
отсутствует прочный законный порядок, самое беззаконие нередко приобретает характер
принудительный: это не значит, чтрбы в таких странах беззаконие было бы
правом. Допустим, что министр отрешает от должности судью, который по закону
несменяем, или что лицо, власть имеющее, применяет к подвластным лицам зако-
294
ном воспрещенное телесное наказание, или что в какой-либо стране самый обычай
давать взятки должностным лицам вследствие невозможности добиться чего-либо
законным путем приобрел характер принудительный, во всех этих случаях мы
видим принуждение, которое, однако, не обладает характером права, и как бы
часто ни повторялись подобные акты произвола, как бы обычны они ни были,
правом они все-таки ни в каком случае не будут.
Принуждение не может служить признаком права еще и потому, что в
правильно организованном общежитии оно применяется лишь в случае
правонарушения уже совершившегося или же в качестве психологического воздействия
предупреждает возможные правонарушения, возможные отклонения от норм.
Представим себе такое общество праведников, коего члены соблюдают все
обязательные нормы общежития без всякого принуждения; это не значит, чтобы в
таком обществе вовсе не существовало права: напротив того, право находится на
высшей почве своего процветания именно там, где оно осуществляется без
всякого принуждения. Это доказывается самым решительным образом, что
принуждение отнюдь не есть признак права; принуждение вообще выражает собой
болезненное состояние права: оно является или там, где право уже нарушено, или где
есть тенденция, стремление к его нарушению.
Резюмируя сказанное, мы приходим к тому заключению, что принуждение не
может служить признаком права, во-первых, потому, что право может
существовать и без принуждения, во-вторых, потому, что в действительности соблюдение
правовых норм не всегда может быть вынуждено и, в-третьих, потому, что
принуждение нередко сопровождает и такие нормы нравственные и условные
правила общежития, которые отнюдь не имеют юридического характера.
Главный же недостаток теории принуждения заключается, как уже сказано,
в том, что она вводит понятие государства, власти в определение права:
критерием для различения права от не права она считает не всякое принуждение, а
принуждение, применяемое уполномоченной на то властью, то есть в конце концов —
государством.
Между тем ясно, что никакое «государство» и никакая «власть» не есть
первоначальный источник права, ибо всякое государство точно так же, как и
всякая власть, обусловлено правом. Ясное дело, стало быть, что основных
признаков права надо искать в чем-то высшем, чем «государство», «официальное
признание» и «организованное принуждение». Недостаточность определений
права, так или иначе исходящих из понятия государства или предполагающих
это понятие, сказывается еще и в том, что они не обнимают в себе целого ряда
форм права, существующих независимо от признания или непризнания их тем
или другим государством: таково право церковное, международное и, наконец,
целый ряд юридических обычаев, из коих многие предшествуют самому
возникновению государства. Словом, существует необозримое множество норм
позитивного (положительного) права, коих обязательства обусловливается вовсе
не санкцией государственной власти, а какими-либо другими внешними
фактами, например, тем, что таков был обычай у отцов и дедов, что так постановил
тот или другой собор пастырей церкви, та или другая международная
конференция.
В этом заключается исходная точка ряда теорий, которые г. Петражицкий
в своих «Очерках философии рраэа» удачно назвал теориями положительного
(или позитивного) права. Теории эти пытаются дать такое определение права,
под которое подходили бы не только юридические нормы, официально признан -
295
ные за таковые государством, но и все вообще нормы позитивного права. Таковы
учения, определяющие право как «общее убеждение», «общую волю», таково же,
наконец, и учение Бирлинга, отожествляющее право с нормами и правилами
общежития, пользующимися в качестве таковых общим взаимным признанием
членов этого общежития.
Бьющие в глаза недостатки этих теорий не раз были указываемы
современной критикой, причем лучшее резюме этой критики можно найти в указанной
книге Петражицкого. Прежде всего, нетрудно убедиться в неопределенности
таких выражений, как «общая воля» и «общие убеждения», коими некоторые
теоретики думают определить право. «Общее убеждение» уже потому не может
послужить признаком для различения права от не права, что предметом «общего
убеждения» могут быть и такие истины, как дважды два четыре, вообще чисто
теоретические аксиомы, ничего общего с правом не имеющие.
Неопределенность выражения «общая воля» в применении к праву также явствует из того,
что общая воля может быть направлена на цели, не имеющие никакого
правового значения. Если все члены того или другого общества желают быть
счастливыми и здоровыми, то очевидно, что такое выражение «общей воли» не имеет
ничего общего с правом; стало быть, нельзя без дальнейших оговорок определять
право как «общую волю». Определение это может получить ясный смысл только
в значительно суженном виде, в том, например, случае, если мы будем понимать
право как общую волю, направленную на обязательные правила поведения. Это
определение как будто и в самом деле вносит некоторое улучшение в теорию
общей воли: под него подойдут такие выражения общей воли, как общее желание
есть и пить, но зато, по-видимому, подойдут такие правовые нормы, которые
служат предметом общего желания того или другого общества людей, ибо
правовые нормы суть действительно: обязательные правила поведения. Однако при
этом добавлении теория общей воли сталкивается с непреодолимыми
затруднениями. Нет такой правовой нормы, которая бы действительно выражала общую
волю всех членов данного народа, потому что среди всякого вообще народа
найдутся такие члены (дети, слабоумные), которые своей воли относительно
правовых норм или вовсе не имеют или выразить не могут. Чтобы избежать этого
затруднения, теоретики, определяющие право как «общую волю», оказываются
вынужденными прибегать к тем или другим ухищрениям, уловкам. Под
выражениями общей воли обыкновенно понимаются вовсе не заявления всех членов
данного общественного союза, например, народа, а заявления каких-либо
органов власти или лиц, компетентных говорить от имени союза, управомоченных
выражать его волю. Так, при наличности государственной организации
компетентными выразителями общей воли будут законодательная власть, собрание
избирателей, выбирающих представителей в законодательные собрания,
монарх и т. п. При отсутствии же государства у тех диких племен, у которых
отсутствует законодательная власть и закон заменяется обычаем, выразителями
«общей воли» будут знатоки обычая, старейшие. При таком толковании теория
общей воли обращается в чистейшую фикцию и несостоятельность ее
обнаруживается самым очевидным образом. В самом деле, если общая воля может
выразиться только через посредство лиц или органов власти, имеющих право ее
выражать, то это значит, что общая воля может выразиться только при
существовании права, что она,,стало быть, уже предполагает право и
обусловлена им в своих проявлениях. Но если общая воля обусловлена правом, то ясное
дело, что она не может быть сущность права.
296
Рассматривая теории, исходящие из понятия государства, а также некоторые
теории «позитивного» права, мы видели, что они страдают одним общим
недостатком: они определяют право правом, то есть впадают в то заблуждение,
которое в логике носит название тождесловия, definitio per idem. Нетрудно
убедиться в том, что это заблуждение свойственно не тем или другим отдельным
теориям, а всем тем учениям, которые отождествляют право вообще с правом
только позитивным, то есть с правом, установленным каким-либо внешним
авторитетом: все эти учения совершают неизбежный логический круг: они сводят
право к внешнему авторитету, который, в свою очередь, представляется
видом права.
В самом деле, совокупность норм, признаваемых государством, в коих многие
теоретики видят синоним права вообще, обусловлены авторитетом
государственной власти, церковное право — авторитетом церкви, международное право
обусловлено авторитетом той или другой группы государств, связанных узами
международного общения; ряд юридических обычаев обусловлен авторитетом отцов
и дедов; наконец, всякое общее позитивное право обусловлено одной высшей
формой авторитета — авторитетом того или другого человеческого общества, от
имени которого уполномочены говорить те или другие органы или представители —
государственная власть, церковные соборы, международная конференция,
старейшие и т. п. Но авторитет общества не что иное, как его право предписывать, его
право связывать своих членов обязательными правилами поведения. Ясное дело,
что всякое позитивное право как таковое, представляется не более как одной из
форм, одним из видов права. Право, установленное внешним авторитетом,
обусловлено иной, высшей формой права, из коей истекают правомочия всех
человеческих властей: будучи само источником и условием всякого внешнего
авторитета, это первоначальное право само не обусловлено никаким внешним
авторитетом: оно само в себе заключает источник своей обязательной силы. О том,
что такое это высшее право, нам придется подробно говорить в последующем
изложении, в отделе, при рассмотрении наиболее распространенных в наше время
определений права достаточно указать их коренное заблуждение: как сказано,
оно заключается в отождествлении права вообще с одним из видов права — с
правом позитивным.
Во многих современных правовых теориях встречаются недостатки и более
значительные, чем только что указанные. Если нельзя удовлетвориться теми
определениями, которые говорят иными словами, что «право есть право», то,
очевидно, нисколько не лучше те, которые отождествляют понятие права с
понятиями, по существу от него отличными, например, с силой, с интересом, с порядком
мира или с нравственностью.
В особенности слабым предЬтавляется модное в наше время воззрение,
сводящее право к силе. Воззрение это очень старо: еще в XVII веке оно проповедовалось
Гоббесом и Спинозой; в XIX столетии оно нашло в себе весьма выдающихся
сторонников в лице таких государственных деятелей, как кн. Бисмарк, и таких
теоретиков, как Иеринг и Меркель^. Нетрудно убедиться в том, что воззрение это
в сущности в корне подкапывает самое понятие права: если право сводится к
силе, то не может быть никаких обязательных правил поведения, которые бы
связывали произвол сильнейшего; тогда люди обязаны подчиняться нормам права до
тех пор, пока они не имеют достаточно силы, чтобы им сопротивляться; тогда
придется признать, что, например, образ действий шайки разбойников согласен или
не согласен с правом в зависимости от того, достаточно ли она сильна, чтобы со-
297
противляться войску и полиции, что право — на стороне всякого ловкого и
счастливого злодея, что нарушителем права является только тот преступник, который
не в состоянии скрыть следы своего преступления и избежать наказания. Если
право — то же, что сила, то всякий имеет настолько права, насколько он имеет
силы; понятно, что такая точка зрения должна в конце концов привести к
оправданию всякого насилия, всякого произвола, то есть к полнейшему отрицанию
права, ибо одна из существеннейших сторон права именно и заключается в
отрицании произвола.
Несостоятельность теории силы в чистом виде слишком очевидна, а потому ее
сторонники обыкновенно или пытаются спасти ее путем различных
ограничений и оговорок, или же, будто нарочно, так затемняют свое изложение, что
подчас трудно бывает докопаться в нем до ясного и определенного смысла. Те,
кто сводит право к силе, обыкновенно имеют в виду не всякую силу, а только
определенный род силы, именно силу власти, господствующей над людьми; те, кто
говорят — «право есть сила», — обыкновенно хотят этим сказать, что
существование юридических норм обусловливается существованием власти, которая
принуждает людей повиноваться известным нормам, соблюдая известные
правила.
В таком виде теория силы мало чем отличается от теории принуждения и
страдает тем же логическим недостатком; в самом деле, всякая власть есть вид права,
всякая власть обусловлена правом. Стало быть, кто сводит право к силе власти,
тот впадает в простое тождесловие, сводить право к праву.
Не лучше разобранной только что теории распространенные в наши дни
учения, отождествляющие право с интересом. Таково, например, учение Иеринга,
который определяет право как «защищенный интерес», и Коркунова4, который
определяет право как «разграничение интересов». Кроме специальных
недостатков, присущих каждому из этих определений в отдельности, они страдают одним
общим недостатком, именно: они смешивают один из факторов, одну из причин
образования права с самим правом. Не подлежит сомнению, что возникновение
норм права всегда вызывается каким-либо интересом, так что интерес,
несомненно, служит могущественным фактором правообразования. Но отсюда отнюдь не
следует, чтобы каждая норма права была тождественна с интересом, ее
вызвавшим, чтобы интерес составлял самое содержание права. Прежде всего, вследствие
частых ошибок законодателей, нормы права нередко не только не соответствуют
тем интересам, коим они должны были бы служить, но даже наносят им прямой
ущерб. Так, например, законы, устанавливающие высокие пошлины на
иностранные товары, обыкновенно вызываются интересами отечественной
промышленности: например, желая поддержать отечественное земледелие, государство
облагает высокой пошлиной иностранный хлеб; очень часто бывает, что эта мера
наносит прямой ущерб тому самому интересу, который она призвана
удовлетворять: при отсутствии иностранной конкуренции землевладельцы предаются лени,
перестают вводить технические усовершенствования и в результате вместо того,
чтобы служить поднятию отечественной промышленности, закон становится
одной из причин ее упадка. Вообще, примеров норм права, несоответствующих
никаким интересам или прямо противных интересам, их вызвавшим, можно
привести сколько угодно.
Смешение права с одной из причин, обусловливающих его образование,
составляет главный общий недостаток всех теорий, отождествляющих право с
интересом. Кроме того, каждая из этих теорий в отдельности страдает недостатками спе-
298
циальными. Так, Иеринг и Муромцев5 отождествляют право с интересом
защищенным, считая защиту существенным элементом права. Между тем есть
множество норм права, которые элемента «защиты» вовсе в себе не заключают. Таковы,
например, нормы права, устанавливающие программы преподавания в учебных
заведениях; закон, предписывающий преподавание латинского языка в
гимназиях, очевидно, никого и ничего не «защищает». Учение Коркунова, который
определяет право как «разграничение интересов», также вызывает против себя
специальные возражения: во-первых, разграничение интересов не может служить
признаком одних правовых норм, так как той же задаче — разграничение «моего»
и «твоего» — служат нормы нравственные; во-вторых, сами правовые нормы
нередко имеют в виду не разграничение, а как раз наоборот — объединение
интересов; таковы, например, уставы акционерных компаний, объединяющие
интересы отдельных акционеров.
Что касается теорий, которые определяют право как «порядок мира»,
то о них должны сказать, что они смешивают содержание права с одной из тех
целей, которые преследует правовой порядок в его целом. Не подлежит
сомнению, что правовой порядок между прочим задается целью водворения мира
между людьми. Но, во-первых, это далеко не единственная цель права: есть
тождество правовых норм, которые задаются задачами, ничего общего с целью
«мира» не имеющими. Таковы, например, законоположения, касающиеся
народного просвещения, регулирующие программы преподавания в школах, сюда же
относятся законодательные меры, направленные к поднятию благосостояния.
Наконец, есть нормы, хотя направленные к достижению мира, но которые на
самом деле служат источником раздора и смуты: такую роль, например, играют
нормы, ограничивающие право тех или других вероисповеданий или
национальностей.
Особого внимания заслуживают теории, определяющие право как часть
нравственности. Теории эти смешивают право, как оно есть в
действительности, с той нравственной целью, которую оно должно преследовать. Сюда
относятся теории, определяющие право как часть нравственности, как minimum
добра. В этом смысле из новейших философов высказался Шопенгауер.
Сущность нравственности, по его мнению, выражается в двух основных
требованиях: во-первых, никому не вреди (neminem laede) и, во-вторых, напротив того,
всем, сколько можешь, помогай (omnibus quantum potes, juva). Нравственность
налагает на нас, во-первых, ряд отрицательных обязанностей по отношению
к ближнему, а во-вторых — ряд обязанностей положительных. Она требует,
чтобы мы воздерживались от таких действий, которые наносят другим людям
прямой ущерб, — не посягали на их жизнь, их собственность, их свободу, а, во-
вторых, чтобы действительно помогали ближним, совершали ряд действий,
которые требуются любовью к ним. Таким образом, нравственность состоит из
ряда запретов и предписаний: те отрицательные обязанности, которые она
налагает на человека, и составляют, по Шопенгауеру, область права; напротив,
положительные обязанности составляют, по его мнению, область
нравственности в тесном смысле слова. Сущность права сводится к требованию, чтобы мы
никому не вредили (neminem laede); высшее требование нравственности,
выходящее за пределы права, сводится к тому, чтобы мы всем помогали (omnibus
quantum potes, juva). Таким обраоом, по Шопенгауеру, право — не что иное,
как часть нравствености, низшая ее сфера. Право — внешний закон, внешний
порядок, который должен господствовать в человеческом обществе. Требование
299
сострадания, сочувствия есть внутренний закон, который должен
господствовать в человеческом сердце; как внешний закон права, так и внутренний закон
сострадания или сочувствия к ближнему суть два частные проявления одного
и того же нравственного начала. Изложенное воззрение Шопенгауера было
усвоено и с некоторыми дополнениями развито нашим отечественным
мыслителем — Владимиром Соловьевым. Он также определяет право как низшую
ступень нравственности: по его мнению, право заключает в себе minimum тех
требований, которые необходимы для сохранения общества. Этот minimum для
Соловьева, как и для Шопенгауера, сводится к тому, чтобы мы никому не
причиняли вреда, не нарушали внешнего порядка общежития; максимум же
требований нравственного закона — требование бескорыстной любви — выходит
за пределы права и составляет особую власть нравственности в тесном смысле.
Высказывая в образном выражении отличие права от нравственности,
Соловьев говорит, что задача права не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился
в царствие Божье, а в том, чтобы он до времени не превратился в ад. Сущность
мысли Соловьева выражается им в следующем определении: «право есть
низший предел, некоторый minimum нравственности, для всех обязательный»6.
Такое же определение было уже раньше высказано немецким государствове-
дом — Иеллинеком7.
Нетрудно убедиться в полной несостоятельности изложенного воззрения.
Существует множество правовых норм, которые не только не представляют собой
minimum нравственности, но, напротив того, в высшей степени безнравственны.
Таково, например, крепостное право, законы, устанавливающие пытки, казни,
законы, стесняющие религиозную свободу. Кроме того, существует множество
юридических норм, не заключающих в себе ни нравственного, ни
безнравственного содержания, безразличных в нравственном отношении: таковы — воинские
уставы, правила о ношении орденов, законы, устанавливающие покрой
форменного платья для различных ведомств. Наконец, и самое осуществление права
далеко не всегда бывает согласно с нравственностью: один и тот же поступок может
быть безукоризненно законным, правильным, с юридической точки зрения,
и вместе с тем вполне безнравственным: кулак, выжимающий последнюю
копейку у обнищавшего крестьянина-должника, совершенно прав с юридической
точки зрения, хотя его образ действий с нравственной точки зрения заслуживает
полнейшего осуждения; точно так же, разумеется, нельзя одобрительно
отнестись к нанимателю, который заставляет нанятых им рабочих трудиться сверх
меры и кормит их плохо, хотя бы даже он действовал согласно договору и,
следовательно, юридически был бц совершенно прав. Всего сказанного вполне
достаточно, чтобы видеть, что право отнюдь не может быть определено как
minimum нравственности. Все, что можно сказать, это только то, что право как
целое должно служить нравственным целям. Но это — требование идеала,
которому действительность далеко не всегда соответствует, а нередко и прямо
противоречит.
Предшествовавший разбор главнейших из современных определений права
достаточно выяснил два основных их недостатка: одни из них чрезмерно
суживают понятие права, отождествляя его или с правом только позитивным или
даже с правом, действующим внутри государства; другие же смешивают право
с областями, ему смежными,« с теми или другими факторами духовной и
социальной жизни человечества, по существу отличными от права, но так или
иначе с ним соприкасающимися. Чтобы закончить этот критический обзор,
300
остается разобрать учение о праве проф. Петражицкого, который в своем
определении права пытается устранить оба отмеченные недостатка современных
учений.
В статье, напечатанной в мартовском номере журнала «Вопросы
философии» за 1901 год, я дал подробную критическую оценку «Философии права»
проф. Петражицкого; здесь же, в курсе Энциклопедии, поневоле приходится
быть кратким8.
В основу своего учения о праве г. Петражицкий кладет различение двоякого
рода обязанностей. Всякая обязанность вызывает в нашем сознании чувство
связанности нашей воли: сознание обязанности выражается в том, что мы должны
поступить так, а не иначе. Но не все обязанности связывают нашу волю
одинаковым образом: обязанность наша по отношению к извозчику Петру, коему мы
уговорились дать 10 руб. за совершенную с нами поездку, безусловно отлична от
нашей обязанности к бедняку Ивану, коему мы во имя человеколюбия должны дать
10 руб. Дать или не дать бедняку Ивану — дело нашей доброй воли: он не может
требовать с нас уплаты 10 руб., как чего-то ему должного; напротив, извозчик
Петр, доставивший нас в город, может требовать с нас условленной платы: по
отношению к нему мы лишены свободы дать или не дать; наша обязанность
уплатить извозчику закреплена за ним, как что-то им приобретенное, ему должное;
того же нельзя сказать о нашей обязанности по отношению к бедняку Ивану: это —
обязанность по отношению к нему свободная, не закрепленная за ним: мы вполне
свободны отказать ему в уплате и направить нашу помощь на другого, более
нуждающегося.
Словом, обязанности наши бывают двух родов: в одних случаях обязанность
лица сознается закрепленной за другим или другими лицами, принадлежащей
другому, как его добро (alii attributum9), в других случаях обязанность лица
представляется односторонне связывающей, не закрепленной за кем-либо другим.
В этом-то г. Петражицкий и видит тот характеристический признак, который
отличает правовые обязанности от нравственных. Обязанности, по отношению
к другим свободные (односторонне связывающие), он считает обязанностями
нравственными; обязанности же, по отношению к другим несвободные
(закрепленные активно за другими и образующие, таким образом, двустороннюю связь),
он признает обязанностями правовыми, юридическими.
Различию обязанностей соответствует различие повелительных норм,
управляющих нашим поведением. Существо одних из этих норм (нравственных)
состоит исключительно в авторитетном предопределении нашего поведения;
предписывая нам то или другое (например, утешать страждущих, любить
ближних), эти нормы ничего не закрепляют за другими людьми, ничего не
приписывают им, как с нас должное, следуемое. Существо же других — правовых
норм (например, проигранное в карты должно быть уплачено партнерам,
занятое должно быть возвращено занявшим) состоит в двух функциях: с одной
стороны, они авторитетно предопределяют наше поведение, с другой стороны, они
авторитетно отдают другому, приписывают, как ему должное, то, чего они
требуют от нас. »
Нравственные нормы только повелевают, а потому могут быть названы
императивными, нормы же правовые не только повелевают лицу обязанному, но
предписывают, предоставляют другим /лицам (управомоченным) то, что им следует;
поэтому они могут быть названы атрибутивными или, еще точнее, императивно-
атрибутивными нормами. Нравственные нормы нормируют положение только
301
лица обязанного и постольку имеют односторонний характер; напротив того,
нормы правовые суть по существу нормы двусторонние, ибо они одновременно
нормируют положение двух лиц, обязанного и управомоченного, того, с кого следует,
и того, кому следует. Таковы, по мнению г. Петражицкого, основные черты права
в отличие от нравственности, которые должны составить «базис для
синтетического построения науки о праве».
Относительно учения г. Петражицкого следует заметить, как и относительно
многих других, что оно не дает точных признаков для отличения права от
нравственности. Нельзя не согласиться с г. Петражицким в том, что нормы юридические
суть всегда нормы императивно-атрибутивные, что, предписывая что-либо
одному лицу (обязанному), они всегда вместе с тем предоставляют что-либо другому
лицу (управомоченному); не подлежит сомнению, что все юридические нормы
действительно устанавливают двустороннюю связь. Но спрашивается, можно ли
в этом видеть отличие юридических норм от всяких других и в особенности от
нравственных.
На самом деле трудно найти хотя бы одну нравственную норму, которая была
бы не «императивно-атрибутивной», которая не закрепляла бы «психически»
каких-либо обязанностей одних лиц за другими (за ближними и за Богом для
тех, кто в него верит). Высшее выражение нравственности — заповедь любви
и милосердия, когда она управляет нашей совестью, несомненно, связывает
нашу волю по отношению к ближнему, несомненно, закрепляет за ним целую
сложную совокупность наших нравственных обязанностей; примеры, приводимые
г. Петражицким, не доказывают противного. Рассуждая о бедняке Иване,
которому мы считаем себя нравственно обязанными дать 10 руб., г. Петражицкий
говорит: «Ивану мы ничего не должны, ему от нас ничего не причитается; если он
получит 10 руб., то это — дело нашей доброй воли». Конечно, мы ничего ему не
должны с точки зрения той или другой правовой нормы, требующей воздаяния за
оказанные нам услуги, потому что речь идет о лице, не оказавшем нам никаких
услуг; но по долгу человеколюбия мы всем должны, всем обязаны, и если Иван
находится в более несчастном положении, чем другие, то по отношению к нему
для нас возникают особые обязанности, закрепленные именно за ним в отличие
от всех прочих людей. Конечно, подобного рода обязанности закрепляются за
ближними не какими-либо велениями внешней власти, а внутренним голосом
нашей совести; связь психическая. Но г. Петражицкий вовсе не отождествляет
правовые нормы с велениями внешнего авторитета: он признает правовыми все
те нормы, которые закрепляют психически долженствование одного лица, а,
следовательно, указанное им различие между правовыми и нравственными
нормами оказывается мнимым. Как правовые, так и нравственные нормы связывают
нашу волю по отношению к другим; следовательно, как те, так и другие суть
императивно-атрибутивные, двусторонне связывающие.
Если бедняк Иван не имеет права требовать от нас материальной помощи,
то это не значит, чтобы мы были в отношении к нему «свободны», ничем не
связаны; а это значит только, что связывающий нас долг человеколюбия не должен
выразиться непременно в форме денежной уплаты и вообще в материальной
помощи всякому бедняку как таковому, а в той форме, которая обусловливается
рядом конкретных условий — нашими средствами, положением лица, коему мы
помогаем и, наконец, его настроением. Если бедняк станет нахально требовать от
благотворителя 10 руб., то последний, вероятно, ему откажет, как основательно
замечает г. Петражицкий; но это будет обусловливаться не тем, что благотвори-
302
тель по отношению к бедняку ничем не связан, а тем, что, будучи связан
заповедью любви, он не связан посторонними любви мотивами, например, чувством
страха. Г. Петражицкому остается говорить, что и здесь есть право, а именно —
право ближнего на нашу любовь и милосердие; но вряд ли он и этим спасет свою
теорию, так как тем самым он сотрет всякие границы между правом и
нравственностью.
Других недостатков учения г. Петражицкого, указанных уже мной в моей
критической статье, я здесь касаться не стану, так как уже из сказанного здесь
нетрудно убедиться в несостоятельности его попытки разграничения права
и нравственности. Этим я и заканчиваю разбор главнейших современных
определений права, данных в начале курса; из этого сопоставления должно
выясниться, действительно ли оно представляет собой шаг вперед, свободно ли оно от
таких заблуждений, которыми страдают другие определения, заключает ли оно
в себе те существенные признаки, которые составляют отличие права от
смежных с ним областей, в особенности от нравственности.
Право и нравственность
Согласно высказанному мной раньше определению «право есть внешняя
свобода, предоставленная и ограниченная нормой», нетрудно убедиться, что
определение это заключает в себе именно те существенные признаки права, которых
недостает другим, рассмотренным нами определениям. Значительная часть этих
определений считает характерным для права то, что оно является созданием
государства или пользуется его признанием; но мы видели, что право может
существовать и помимо государства, что оно предшествует государству и
обусловливает его собой; точно так же несущественным является для права признание его
каким-либо внешним авторитетом, ибо право обусловливает собой всякий
авторитет. Другие определения считают существенными признаками понятия права
принуждение, силу, интерес, осуществление мира, нравственное содержание
правовых норм; однако несущественность всех этих признаков для права
наглядно доказывается тем, что право сплошь да рядом осуществляется без всякого
принуждения и насилия, что существуют правовые нормы, не выражающие в
себе интересов, не направленные к осуществлению мира и, наконец,
безнравственные по своему содержанию.
За устранением всех перечисленных признаков право все-таки не перестает
быть правом; существенными же признаками каждого данного понятия могут
признаваться только те, с уничтожением коих уничтожается самое понятие;
с этой точки зрения нетрудно убедиться в том, что в формулированном в начале
курса определении даны именно существенные признаки права; отсутствие
внешней свободы есть синоним бесправия: лицо, лишенное внешней свободы,
есть лицо вполне бесправное; стало быть, внешняя свобода является
необходимым, существенным признаком права. Точно так же не может быть права и при
отсутствии таких правил или норм, Которые бы, с одной стороны, предоставляли
отдельным лицам определенную сферу внешней свободы, а с другой стороны,
ограничивали бы внешнюю свободу лица: безграничный произвол так же, как и
отсутствие свободы, есть синоним отсутствия права; стало быть, норма, кладущая
предел произволу или, что то же, ограничивающая внешнюю свободу одних лиц
303
во имя внешней свободы других лиц, также является существенным признаком
права. Заключая в себе существенные признаки права, наше определение вместе
с тем достаточно широко, чтобы обнять в себе все формы права: под него
подойдут не только нормы права, установленные и признанные государством или
каким бы то ни было внешним авторитетом, но и те нормы, на которых
утверждается самый авторитет государства и всякий вообще внешний авторитет.
Существенно отклоняясь от господствующих воззрений, наше определение,
само собой разумеется, вызовет серьезные возражения, с которыми так или
иначе необходимо посчитаться. Нетрудно предвидеть, что большинству
современных юристов оно покажется слишком широким. Нам могут возразить, что оно не
выражает существенных отличий области права от других смежных с ним
областей, в особенности нравственности, что под него подойдут и нормы нравственные.
В самом деле, уважение к внешней свободе ближнего требуется не только
правом, но и нравственностью: есть множество нравственных норм, которые
ограничивают произвол одних лиц во имя внешней свободы других: так, нравственные
нормы воспрещают красть, убивать, наносить ближним побои, следовательно,
они, подобно нормам правовым, ограждают внешнюю свободу лица против
внешних насилий и всяких вообще проявлений чужого произвола. Отсюда,
по-видимому, можно заключить, что данное нами определение права не заключает в себе
тех признаков, на основании которых можно было бы отличить нормы правовые
от норм нравственных.
Возражение это, однако, может показаться основательным только с первого
взгляда. Оно могло бы иметь силу только в том случае, если бы нравственность
и право были бы сферами, взаимно друг друга исключающими, так чтобы
нравственное правило не могло бы быть вместе с тем и правовым, а правовая норма не
могла бы быть вместе с тем и нравственною. На самом деле, как раз наоборот,
область нравственности и область права не только не исключают друг друга, но
находятся в тесном взаимном соприкосновении, так что одни и те же нормы могут
одновременно заключать в себе и правовое и нравственное содержание. Как уже
было раньше замечено, далеко не все правовые нормы нравственны по своему
содержанию, но случаи совпадения правовых и нравственных требований далеко
не редки; вот почему нельзя требовать от определения права, чтобы оно из себя
исключало все те правила и нормы, которые содержат в себе нравственные
требования.
Сила приведенного только что выражения парализуется тем, что все те
нравственные правила, которые ограничивают произвол одних лиц во имя внешней
свободы других, суть вместе с тем и нормы правовые; так, например, нормы,
воспрещающие убивать, красть, нанрсить ближним побои, устанавливают вместе
с тем право лица на жизнь, собственность и физическую неприкосновенность.
Вообще, под наше определение права подходят только те нравственные правила,
которые имеют правовое значение. Напротив того, нетрудно убедиться в том,
что оно решительно исключает из себя все те нравственные предписания,
которые правового значения не имеют. Так, например, под это определение не
подходит нравственное правило, воспрещающее всякую ложь как таковую: сама по
себе ложь, поскольку она не наносит никому ущерба, не есть нарушение сферы
внешней свободы какого-либо лица; нетрудно убедиться, что такая ложь не есть
вместе с тем и нарушение чьеготлибо права. Напротив того, есть специфический
вид лжи, клевета, который представляется прямым нарушением не только
нравственности, но и права; нетрудно убедиться, что клевета является вместе с тем
304
прямым посягательством против внешней свободы ближнего, против его свободы
осуществляет во внешнем мире все те цели, которые предполагают доброе имя.
Нравственное правило, воспрещающее клевету, несомненно заключает в себе
правовой элемент; вот почему оно и подходит под наше определение права.
Нетрудно убедиться также, что под наше определение права не подходят все те
нравственные правила, которые требуют от нас того или другого внутреннего
настроения, например, любви, доброжелательства или уважения к ближнему,
бескорыстной преданности долгу ради самого долга. Само по себе мое внутреннее
настроение не затрагивает сферы внешней свободы ближнего; вот почему оно и не
может послужить содержанием его права: если мы говорим о чьем-либо праве на
уважение, любовь или благодарность, то это не более как неточные выражения,
злоупотребление языка; нарушением или осуществлением чьего-либо права
могут быть только чужие действия, а не чужие настроения, так, сфера внешней
свободы каждого лица непосредственно затрагивается только действиями, а никак
не настроением ближнего; одни и те же действия могут быть вызываемы самыми
различными настроениями: например, купец может не обманывать своих
покупателей или потому, что он любит честность ради самой честности, или же
потому, что он дорожит репутацией своей торговой фирмы, или же, наконец, потому,
что он боится наказания; во всех этих случаях образ действий купца будет
одинаково согласен с правом: право покупателя простирается только на действия
купца, которые так или иначе затрагивают сферу его внешней свободы, а не
настроение, которое выходит за пределы этой сферы.
Во множестве исследований и учебников, трактующих о существе права, одно
из существенных отличий права и нравственности выражается в следующей
формуле: нравственность есть закон внутренний, право — закон внешний;
нравственность регулирует не только внешнее поведение, но и внутреннее настроение;
напротив, право регулирует исключительно внешнее поведение, только
внешнюю сферу человеческих действий; для него безразлично, из какого настроения
проистекают эти действия. Различие между правом и нравственностью
выражено здесь не совсем точно: поскольку внешнее поведение обусловливается
настроением, последнее далеко не безразлично для права. В частности, в праве
уголовном принимаются во внимание внутренние побуждения, мотивы, вызвавшие то
или другое преступное деяние. Для права далеко не безразлично, совершено ли
преступление с заранее обдуманным намерением или под влиянием внезапного
раздражения, действовал ли преступник в полном сознании или же он,
вследствие психического расстройства или умственной незрелости, не сознавал
значения своих поступков; уголовное право принимает во внимание не только внешнее
поведение преступника, но и степень злой воли, обусловившей это поведение.
Поэтому, разумеется, нельзя согласиться с утверждением, будто психическое
настроение безразлично для права. Различие между правом и нравственностью
выражается вовсе не в том, что внутреннее настроение, мотивы, вызывающие те
или другие действия, не составляют содержания права. Содержание права
всегда сводится к той или другой определенной сфере внешней свободы; очевидно,
что чужое настроение, поскольку оно не проявляется в каких-либо внешних
действиях, не входит в сферу моей внешней свободы; поэтому оно не входит и в
сферу моих прав: тот, кто только пожелал моей смерти или моего кошелька, еще не
является нарушителем моего правд на жизнь или моей собственности;
содержание этих прав не простирается на чужие пожелания или побуждения: оно
сводится к тому, чтобы мои ближние своими действиями не нарушали моей свободы
305
жить и пользоваться принадлежащими мне вещами. Словом, область
побуждений, психическое настроение принимается во внимание правом не в качестве
содержания тех или других правомочий или правовых норм, а только в качестве
источника тех или других действий, направленных к осуществлению или
нарушению права. До тех пор пока наши помыслы и намерения не выразились в
каких-либо осязательных внешних действиях, праву до них нет дела: человек,
только замысливший преступление, но ничего не сделавший для осуществления
своего замысла, осуждается нравственностью, но он вовсе не является
нарушителем права; вот почему так называемый голый умысел не карается правом
уголовным, оно принимает во внимание злое намерение только, поскольку оно
выразилось в злых деяниях.
Основное различие между правом и нравственностью, согласно всему
сказанному в предшествовавшем изложении, может быть выражено таким образом:
содержанием права является исключительно внешняя свобода лица. Содержанием
нравственности является добро, или благо, причем требования добра могут
касаться как сферы внутренних, так и внешних проявлений нашей свободы, как
действий лица, так и его настроения. В область права входят все вообще
требования, касающиеся внешней свободы лица, все те правила или нормы, которые
ее предоставляют и ограничивают, независимо от того, нравственны или
безнравственны эти нормы, служат или не служат они целям добра. В область
нравственности входят все вообще правила или нормы, предписывающие осуществлять
добро, независимо от того, имеют или не имеют эти предписания правовое
значение, касаются ли они только внутренней сферы его действий. С одной
стороны, нравственные предписания объемлют в себе часть права; с другой стороны,
предписания правовые обнимают в себе часть нравственности; но вместе с тем
существует множество таких нравственных требований, которые не имеют
правового значения, и много таких правовых норм, которые или вовсе не имеют
нравственного содержания или же даже прямо безнравственны. Нравственность
и право в их взаимных отношениях могут быть сравнены с двумя
пересекающимися окружностями: у них есть, с одной стороны, общая сфера — сфера
пересечения, в которой предписания их совпадают, и вместе с тем две отдельные области,
в коих их требования частью не сходятся между собой, частью даже прямо
противоречат друг другу.
Нормальные отношения между правом и нравственностью.
Нравственность и эволюция
Таковы действительные отношения права и нравственности: нетрудно,
однако, убедиться в том, что не таковы их нормальные взаимные отношения. В
действительности существует множество юридических норм, прямо противоречащих
целям добра, и, однако, не подлежит сомнению, что правовые институты должны
служить нравственным целям, что право в целом его составе должно быть
подчинено цели добра и только в ней может найти свое оправдание. Если право в том
виде, как оно существует в действительности, не соответствует правде, то отсюда
возникает для нас категорическое требование, чтобы мы стремились к
устранению такого несоответствия; так или иначе право должно стать правдой — в этом
306
заключается его главная жизненная задача; но прежде чем приступать к
разрешению этой практической по существу задачи, необходимо выяснить
теоретически, в чем она заключается, каковы те требования добра, которыми должно
определяться развитие права. Обладают ли эти требования всегда одинаковым
и неизменным содержанием, представляют ли они сочетание с подвижным и
изменчивым или же они меняются всецело сообразно той ступени развития, на
которой стоит каждое данное общество? Разрешение этого частного вопроса
философии права зависит от разрешения более общего вопроса нравственной
философии: изменчивы ли все требования добра вообще или же есть вечный
идеал добра, который пребывает незыблемым и неизменным в потоке всеобщего
движения? Существует ли какое-либо вечное начало должного в нравственности,
вечный закон добра, или же все содержание нравственности в целом ее составе
составляет продукт истории, изменчивый результат беспрерывно
совершающегося развития человеческого рода.
Сторонники господствующего в наши дни эволюционного воззрения на
нравственность обыкновенно склоняются ко второму термину этой дилеммы. Весьма
многие из них не верят в существование каких-либо вечных начал, лежащих
в основе нравственности, и видят в нравственных нормах только беспрерывно
изменяющий результат развития человека и человеческого общества. Главным
аргументом в пользу такого воззрения служит установленный наукой факт
изменчивости нравственных понятий. Какой-нибудь негр или краснокожий считает
целью своей жизни умертвить возможно большее количество врагов; между тем
какой-нибудь современный последователь Льва Толстого считает
недозволительным поднять руку на ближнего даже в целях самозащиты или ради защиты
общества против угрожающей ему со стороны преступника опасности. В нашем
цивилизованном обществе каждый порядочный человек считает долгом содержать
своих престарелых родителей, когда они не в состоянии жить собственным своим
трудом; у многих диких народов, даже в наши дни, считается нравственным
долгом умерщвлять неспособных к труду стариков. Мы уважаем целомудрие,
между тем у некоторых диких народов наибольшим уважением пользуется девушка,
имеющая наибольшее количество любовников. Отсюда значительная часть
эволюционистов заключает, что нет вечных истин в сфере нравственности, а есть
только беспрерывно меняющиеся понятия, отражающие в себе ту или другую
ступень культурного развития. Нетрудно убедиться в том, что в основе этого
умозаключения лежит крупное недоразумение. В настоящее время, само собой
разумеется, становится все более и более невозможным отрицать закон всемирного
развития или всемирной эволюции. Весь мир находится в процессе
беспрерывного развития: в нем все течет, все движется, все изменяется, как сказал еще
великий философ древности — Гераклит; но это всеобщее течение, совершающееся
в области явлений, не исключает существования таких незыблемых законов
сущего и таких вечных законов должного, которые определяют собой развитие
мировой жизни, дают направление потоку явлений, но сами находятся вне
движения, вне развития и не подлежат изменению. Прежде всего нетрудно убедиться
в существовании таких неизменных законов сущего, которые лежат в основе всех
превращений вселенной. Отдельные частицы вещества беспрерывно образуют
новые и новые комбинации, слагаются все в новые и новые миры: туманные
пятна сгущаются в звезды, звезды выделяют из себя планеты, планеты выходят из
жидкого состояния, покрываясь твердой корой, и заселяются живыми
существами. Есть, однако, нечто, пребывающее в этом беспрерывном движении частиц ве-
307
щества: это всеобщий закон тяготения, — вообще законы физики и химии,
которые остаются все те же, не изменяются при всех возможных превращениях
вещества. Точно так же в мире органическом, в царстве растительном и животном
происходит беспрерывная эволюция: одни животные типы нарождаются,
совершенствуются, другие, достигнув известной ступени развития, вымирают и
заменяются формами более совершенными. Но существуют такие законы живой
организации, которые пребывают неизменными в этом потоке развития живых
существ: в каком бы направлении ни совершалось развитие животной
организации и какой бы степени совершенства она ни достигла, животное всегда
нуждается в питании для поддержания своего существования, размножение всегда
является одной из основных функций всякой живой организации, кислород всегда
необходим для дыхания животного организма. Таким образом, закон всемирной
эволюции не исключает существования таких неизменных законов
существующего, которым подчиняется все разнообразие наблюдаемых нами явлений.
Спрашивается, заключает ли он возможность признания неизменных законов
должного , возможно ли совместить с эволюционным принципом признание вечных
нравственных истин, вечных законов добра? Эволюционисты обыкновенно
разрешают этот вопрос в отрицательном смысле. Нетрудно, однако, убедиться в том,
что и тут их доводы ровно ничего не доказывают. Изменчивость нравственных
понятий доказывает только, что нравственное сознание человека изменяется,
прогрессирует; но отнюдь не доказывает, чтобы изменялся самый закон, самая
сущность добра. Свойство всех вообще вечных законов, вечных истин таково, что
они существуют совершенно независимо от того, сознаются или не сознаются они
человеком: законы геометрии имеют вечное, незыблемое значение, хотя они и не
сознаются дикарем; сумма углов треугольника равна двум прямым совершенно
независимо от того, знают или не знают о том люди. Истины геометрии не
меняются, хотя человеческое сознание усваивает их постепенно; наше познание
геометрии развивается, прогрессирует, но самые законы геометрии находятся вне
прогресса, вне возможной эволюции. Такое же отношение между незыблемым,
недвижимым законом и беспрерывно движущимся человеческим сознанием
возможно и в сфере нравственной: признание вечного закона добра вполне
совместимо с признанием развития несовершенных человеческих понятий о добре,
признание развития нравственного сознания человека нисколько не исключает
возможности существования таких вечных истин в нравственной области,
которые лишь постепенно проникают в сознание человека и постепенно им
усваиваются. Поэтому, вопреки изложенной только что ходячей эволюционистской
аргументации, вопрос о существовании или не существовании вечного закона добра
все-таки остается открытым. 1
Вся эта аргументация, в сущности, покоится на неправильном
отождествлении добра с нашими субъективными понятиями о добре: она исходит из того
предположения, что не существует блага объективного, что все то, что люди
называют добром или благом, носит на себе характер субъективный, что благо для
человека то, что он признает или считает благом. Если стать на такую точку
зрения, то эволюционисты совершенно правы: благо дикаря будет совершенно
отличным от блага европейца, потому что у того и другого совершенно различные
понятия о благе; если закон добра имеет характер чисто субъективный, то он
меняется по мере того, как изменяются наши понятия о добре, и в таком случае,
разумеется, о каких-либо вечных истинах в нравственной сфере не может быть
и речи. Нетрудно, однако, убедиться в неверности того основного предположе-
308
ния, из которого исходит изложенная только что аргументация. Если бы добро
или благо имели характер чисто субъективный, то каждый из нас был бы
непогрешимым судьей своего блага; между тем из повседневного опыта можно
убедиться, что люди беспрестанно ошибаются в суждениях о том, что составляет для
них благо: один полагает свое благо в каких-либо сильных чувственных
наслаждениях, которые на самом деле губят его здоровье, притупляют его умственные
способности и ведут его к гибели; другой видит свое благо в преследовании
исключительно эгоистических целей, хотя бы и в ущерб ближнему, и в результате
становится жертвой всеобщей ненависти ближних: ошибаются не только
индивиды, но и целые расы; целые племена дикарей видят высшее благо в том, чтобы
оскальпировать возможно большее число врагов и в результате — истребляют
друг друга: то, что они считают для себя благом, является для них на самом деле
злом, источником смерти.
Все эти ошибки человеческого ума и воли обусловливаются тем, что благо
человека не зависит от одного только его ума и воли: человек не есть ни центр
мироздания, ни изолированное существо, а часть мирового целого^ органически
связанная с прочими частями мироздания: следовательно, его благо зависит от
объективных законов, лежащих в основе мирового целого. Кто ошибочно
представляет себе отношение человека к законам мирового целого, значение и место
человека в лестнице существ, тот будет, очевидно, неверно судить о добре и благе
человека. Законы блага существуют объективно, независимо от того, вошли или
не вошли они в человеческое сознание, потому что благо человека как телесное,
так и душевное обусловлено непреложными законами, господствующими в
мироздании, в частности — законами нашей физической и психической
организации; неумеренное употребление спиртных напитков неизбежно является для нас
источником физического и умственного вырождения; и, следовательно, — злом,
несмотря на то что иному пьянице высшее благо представляется в виде бутылки
водки; всеобщая вражда человеческих рас и взаимное их истребление
несомненно является злом для них; напротив, мир и солидарность являются несомненным
для них добром, хотя бы краснокожие и негры держались в отношении
диаметрально противоположного воззрения.
Вера в объективный, незыблемый закон добра, существующий независимо от
наших несовершенных понятий о добре, составляет необходимое предположение
нравственности. Нетрудно убедиться в том, что то отождествление добра с
субъективными человеческими представлениями о добре, которое мы находим у
некоторых из современных эволюционистов, должно привести к совершенному
отрицанию нравственности. В самом деле, допустим, что не существует
незыблемых объективных законов добра, что мерилом добра и зла служат беспрерывно
меняющиеся человеческие понятия о нем; тогда нам придется признать, что
каннибализм, господствующий среди некоторых народов, — такое же добро, как
и самоотвержение христианина, ибо дикий, пожирающий ближнего, действует
согласно со своим представлением о добре точно так же, как и христианин,
полагающий за него душу. С этой точки зрения, разумеется, не может быть и речи
о каких-либо нравственных правилах, имеющих всеобщее значение: добром для
каждого племени и для каждого вообще человеческого общества должно
почитаться то, что оно считает для себя добром. Но и этого мало: ведь и в пределах
каждого народа и каждого данного общества есть много различных ступеней
и уровней развития. Многие из нас, например, считают безусловно
недозволительным умерщвлять ближнего, хотя бы и преступника, но наш крестьянин счи-
309
тает совершенно дозволительным убивать конокрадов; наше нравственное
чувство возмущается телесным наказанием; однако многие из наших современников
и соотечественников, как известно, держатся совершенно иного воззрения. Если
мерилом нравственности должны служить меняющиеся на различных ступенях
развития понятия о добре, то нет вообще нравственных правил, могущих иметь
объективное значение, и в таком случае есть столько же нравственных законов,
сколько есть людей на свете: для каждого человека нравственно то, что он
считает нравственным. Но если так, то мы, например, должны подставить щеку
ударившему нас ближнему, если этого требуют наши убеждения, а тот земский
начальник, который думает иначе, может раздавать удары направо и налево; мы
должны иметь сердечное попечение о несчастном преступнике, а крестьяне
вправе расправляться с конокрадами. Словом, если сущность добра сводится к
субъективным понятиям о нем, меняющимся сообразно уровню развития, то нет
вообще ничего нравственного и безнравственного, постыдного и недозволенного.
О нравственности вообще можно говорить только в том предположении, что
существует закон добра объективный и всеобщий, не зависящий от тех или других
человеческих суждений о добре.
Эта объективность и всеобщность закона добра всегда составляла и составляет
необходимое предположение нравственного сознания, как бы ни были
разнообразны и изменчивы человеческие представления о самом содержании добра, —
закон добра всегда представлялся и представляется людям в виде требования
всеобщего, то есть всегда и для всех обязательного. Говоря словами Вл. Соловьева,
«нет такой мерзости, которая не признавалась бы где-нибудь и когда-нибудь за
добро; но вместе с тем нет и не было такого людского племени, которое не
придавало бы своему понятию добра (каково бы оно ни было) значения постоянной
и всеобщей нормы и идеала». Те дикие народы, которые считают добром съесть
убитого врага или снять с него череп, считают подобный образ действия добром
и доблестью не на один только день и не для себя только, а для всех времен и для
всякого человека. Кавказский горец, отплачивающий смертью за убитого
родственника, и христианин, подставляющий левую щеку человеку, ударившему его
по правой, одинаково убеждены в том, что они следуют правилу поведения
всеобщему, для всех обязательному, что так должен был бы поступать всякий на их
месте.
Словом, как бы ни представляли себе люди самое содержание идеи добра,
закон добра всегда представляется им законом для всех обязательным, то есть
всеобщим по своей форме. Эта вера во всеобщность закона добра, как сказано,
составляет необходимое предположение нравственного сознания; кто откажется от
нее, тот должен признать, что вся вообще нравственность покоится на иллюзии,
что нет вообще ничего обязательного, должного, что добром для каждого должно
почитаться то, что кажется ему добром, иначе говоря, что нет вообще
объективного добра, а есть только субъективный мираж, который мы принимаем за
объективное добро.
Словом, всякое вообще нравственное сознание покоится на том
предположении, что есть объективный неизменный закон добра, всеобщий, для всех
обязательный, что действительность и истинность этого закона совершенно не зависят
от того, сознают или не сознают его лкЭди на той или другой ступени своего
развития, подчиняются или не подчиняются они его предписаниям. В чем же
заключается содержание этого закона, каковы те требования, которые он к нам
предъявляет?
310
Поставив этот коренной вопрос нравственной философии, я чувствую
некоторое смущение, так как ответ на него в пределах краткого курса Энциклопедии
поневоле должен быть отрывочным и неполным. Мы уже видели, что благо
человека зависит от отношения его к мировому целому. Чтобы ответить на вопрос о том,
в чем заключается безусловное благо человека, нужно так или иначе выяснить
себе, каково место человека в лестнице существ, каково его отношение ко всему,
что над ним и под ним. Иначе говоря, исчерпывающий ответ на поставленный
вопрос предполагает то или иное разрешение целого ряда других коренных
философских вопросов: что такое мировое целое, что такое человек по отношению
к этому целому, каково в нем отношение мира духовного к миру телесному,
мира мысли к миру протяженному. Словом, разрешение нравственного вопроса
о добре и благе составляет результат и завершение целого философского
миросозерцания; вследствие же решительной невозможности вместить в скромные
рамки настоящего курса целую философскую систему, мое изложение поневоле
должно быть не полным, и многое в нем может показаться недостаточно
обоснованным уже потому, что я не могу изложить здесь всех тех оснований, на
которые опираются мои выводы, и должен ограничиться изложением только самых
необходимых предпосылок.
Как бы ни менялось содержание нравственного сознания людей, человечество
на всех ступенях своего развития в большей или меньшей степени сознавало
одну нравственную истину: никакой человек не может найти своего блага в своей
отдельности, вне союза с подобными ему людьми: вне общества одинокими
усилиями отдельный человек не может бороться против враждебных ему стихий
внешнего мира: итак, солидарность человека с его ближними, единство людей
в обществе есть благо, раздор и разъединение есть зло; эта истина, как сказано,
дается не одному только развитому уму современного европейца: она
просвечивает уже в неясном сознании самого первобытного дикаря: как бы ни были
разнообразны ступени нравственного развития различных племен и народов, все они
сходятся в одном — в признании большей или меньшей степени солидарности
людей, как чего-то безусловно должного для всех. Человек всегда в большей или
меньшей степени сознавал ту истину, что путь одиночества для него — гибель^
а солидарное сообщество людей для него — спасительно. Мы нигде не находим
человека совершенно изолированного: человек в доступные нашему наблюдению
эпохи всегда жил в обществе; но всякое общество вообще возможно лишь при том
условии, если люди признают себя связанными некоторыми узами солидарности
в достижении общих целей; сообразно с этим, нравственность на всех ступенях
своего развития выражалась в установлении некоторой гармонии человеческих
воль, некоторого согласия между лицами, принадлежащими к одному и тому же
обществу. Как бы ни были разнообразны нравственные понятия у различных
народов — все они сходятся между собой в том, что человек должен поступаться
некоторыми личными интересами ради блага общего, ограничивать свой произвол
ради ближних. Этим и ограничиваются те черты сходства, которые можно
установить между пониманиями нравственности, господствующими на различных
ступенях культуры. Солидарность как закон должного в большей или меньшей
степени признавалась везде, где только существовало человеческое общество.
Но на вопрос о том, кто те ближние, с которыми человек должен быть солидарен,
как далеко должна простираться эта солидарность с ближними и какие
конкретные требования из нее вытекают, человечество на различных ступенях своего
развития отвечало различно. По мере развития нравственного сознания эта идея
311
солидарности захватывает собой все больший и больший круг людей,
распространяется на круг отношений все более и более широкий. Дикарь признает себя
солидарным только с членами своего рода и племени: на иноплеменников в его
глазах это требование солидарности не распространяется: иноплеменники для
него суть враги, которых даже хорошо убивать и скальпировать; иные племена
думают даже, что хорошо питаться их мясом. Да и самая солидарность между
сородичами на низших ступенях культурного развития есть понятие лишь
относительное; человек сознает себя солидарным со своими сородичами лишь до тех
пор, пока они могут служить полезными членами общества; эта солидарность не
исключает умерщвления стариков, неспособных к труду, не исключает даже
и съедения стариков и детей собственного своего племени в случае голода, в
случае, если это представляется нужным для поддержания взрослых и способных
к труду членов племени. У древних греков отпадает это варварский
каннибализм, и дети содержат своих престарелых родителей; но и в их глазах
солидарность распространяется только на расу эллинов; они уже не съедают своих
пленников, но обращают их в своих рабов, смотрят на все прочие народы как на
варваров — низшие расы. В эпоху же Александра Македонского и в особенности
в дни всемирного владычества Рима, соединившего в единое политическое целое
множество племен и народов, нравственное сознание уже значительно
расширяется, утрачивает свой прежний узконациональный характер; стоическая
философия прямо провозглашает, что все люди как таковые связаны узами невидимого
родства и братства. Наконец, христианство сводит все обязанности человека по
отношению к ближним к заповеди любви, причем под ближним, которого мы
должны любить, подразумевается всякий человек как таковой.
Таким образом, в нравственном мировоззрении всех народов в большей или
меньшей степени выражается сознание одного основного нравственного начала:
благо человека не в эгоистическом обособлении, а в солидарности с другими
людьми, причем этот принцип выражается во всей своей полноте и широте в
христианской заповеди всеобщей человеческой любви, то есть такой солидарности,
которая не ограничивается одной сферой человеческих действий, но охватывает
собой и внутреннюю сферу душевного настроения. И не подлежит сомнению, что
именно в этом принципе всеобщей человеческой солидарности выражается
непреходящая точка зрения той или другой исторической эпохи, а вечный,
непреложный закон добра, который остается истинным совершенно независимо от
того, доразвились или не доразвились люди до его понимания.
Чтобы убедиться в этом, представим себе, что идея солидарности вовсе не
исчезла из сознания людей, представим себе такое состояние человеческого рода,
где каждый человек совершенно изолирован от своих ближних, где все живут
исключительно жизнью личные эгоистических интересов, где каждый человек,
ища только своего блага, враждует против всех и все против каждого. На какой
бы ступени развития при этом ни находились люди, очевидно, что такое
состояние всеобщей эгоистической обособленности угрожает гибелью каждому
отдельному человеку и представляется злом для всех; представим себе теперь, что эта
всеобщая вражда сменилась миром, что люди соединились в общежитие, в союз,
который преследует общими силами общие цели, вытекающие из
альтруистических требований: очевидно, что такое соединение людей в союз солидарных
между собой граждан есть для них благо; стало быть, солидарность есть благо для
людей, а эгоистическая обособленность — для них зло, совершенно независимо от
того, знают они о том или не знают.
312
Когда мы говорим, что путь замкнутого в себе эгоизма есть ложь, а путь
солидарности есть истина, то в этом выражается не только наше субъективное
представление о добре, а объективный закон добра. Человек органической связью
связан со своими ближними, и внеобщественный человек — немыслим; что
эгоизм замкнутой в себе личности не в состоянии обосновать в себе своего блага,
доказывается повседневным, будничным опытом.
Так же точно, как и точка зрения эгоизма индивидуального, несостоятельна
и точка зрения эгоизма коллективного, — эгоизма замкнутого в себе рода и
племени. Представим себе то состояние человеческого рода, в котором и в наши дни
пребывают дикари, то именно состояние, где сознание нравственной
солидарности распространяется на темный круг членов одной племенной группы; тут
человек чувствует себя до известных пределов солидарным с членами своего рода
и племени и смотрит на всех чужих как на своих врагов; при таком состоянии
человечества не отдельные личности, а отдельные племена живут в состоянии
bellum omnium contra omnes. Ложность этой точки зрения достаточно
изобличается тем, что и она служит источником гибели для тех, кто ее держится; опять-
таки несмотря на то, что дикари убеждены в противоположном, всеобщий мир,
солидарность между отдельными племенами и для них была бы благом;
взаимная ненависть и связанное с ней взаимное истребление и для них есть зло
несмотря на то, что они в истреблении возможно большего количества врагов полагают
высшую свою славу.
Теперь представим себе такое состояние человеческого рода, где солидарность
окончательно победила эгоизм, где все люди связаны узами братства и каждый
любит ближнего как самого себя. Сопоставим это состояние с тем, где каждый
человек, каждое племя и каждое государство преследуют только свои
эгоистические цели! Спрашивается, которое из этих двух состояний составляет благо для
человеческого рода? Очевидно то, где любовь победила эгоизм. Стало быть,
любовь есть благо, эгоизм есть зло совершенно независимо от того, понимают ли это
люди, овладела ли их сознанием идея всеобщей солидарности. Этот закон
коренится не в тех или других субъективных представлениях человека о добре, а в
таких объективных, универсальных началах, которые определяют собой путь
мирового развития вообще и определяют собой задачу человека и человеческого
общества в частности. В силу непреложного универсального закона человек,
изолированный от своих ближних, обречен на гибель; как ветвь, отделенная от
дерева, должна засохнуть, так как для поддержания ее существования ей
необходимо питаться соками дерева, так точно гибнет и человек, отделенный от общества;
как благо ветви состоит в единении с деревом, так и благо человека — в единении
с обществом подобных ему людей; это закон как нашей телесной, так и нашей
духовной организации; лишите человека всякого содействия его ближних, и он не
будет в состоянии добыть себе средств к существованию; посадите его в
продолжительное одиночное заключение, и он сойдет с ума или подвергнется полному
умственному вырождению.
Невозможность внеобщественного существования для личности слишком
очевидна, а потому эгоизм личности обыкновенно выражается не в грубой форме
откровенного, прямого отрицания общества как такового, а в форме более
утонченной; тот обыденный человеческий эгоизм, с которым мы сталкиваемся
повседневно, выражается в том,,что/человек видит в своем личном благополучии
безусловную цель, которой благополучие всех прочих людей должно
приноситься в жертву: общество тут не отрицается, а низводится на степень средства для
313
эгоистических целей. Нетрудно убедиться в том, что и такая точка зрения
самоубийственна, ибо она обрекает жизнь личности на полную пустоту и
бессодержательность, на тщетную погоню за беспрерывно исчезающим призраком счастья:
если я не задаюсь роковым вопросом о конечной цели и смысле моего
существования, я могу, пожалуй, наполнить мою жизнь заботами о моем личном
комфорте, благосостоянии и чувственными наслаждениями; но, во-первых, такое
наполнение достигается ценой самоусыпления, самоубийства сознания, то есть ценой
умерщвления во мне самого дорогого и ценного, что отличает меня, как
человека, от животного; если мне чужды те великие непреходящие цели человеческого
рода, которые существовали раньше меня и переживут меня, как физическое
существо, если вся моя жизнь наполняется мелкими личными интересами,
которые умрут вместе с моим телом, то я тем самым превращаюсь в ходячего
мертвеца. Да и может ли этот путь привести к достижению хотя бы низшего, животного
счастья! Над этим счастьем тяготеет грозный кошмар смерти, оно разлетается,
как призрак, при первой сколько-нибудь серьезной болезни. Разумеется, не
всякий эгоизм есть непременно эгоизм животный: есть другие, более утонченные
формы эгоизма собственно человеческого: я могу искать моего эгоистического
счастья не в одном материальном комфорте, не в одном только ублажении моей
плоти, но и в таких, по-видимому, духовных благах, как слава, почет,
наслаждение власти или же, наконец, наслаждения эстетические или умственные.
Но и над этим счастьем тяготеет у нас смерть; и это счастье разлетается, как дым,
как только я ясно сознаю, что всем этим наслаждениям настанет скорый и
неумолимый конец.
В конце концов и этот эгоизм основан на иллюзии нашей воли, и он
обусловлен добровольным усыплением нашего разума, нашего высшего
философского сознания; и если этот сон не может быть легким и приятным, если его
спокойствие нарушается грозными видениями и тяжелыми
предчувствиями, то пробуждение сознания должно быть ужасным: первый проблеск
философской мысли должен обнаружить полную бесцельность и бессмысленность
замкнутого в себе эгоистического существования; а что лишено смысла, то
лишено и всякой цены. Не стоит жить жизнью иллюзий и самообмана, не стоит жить
ради мнимого эгоистического счастья, которого не существует, ради того, что
беспрерывно гниет и умирает. А так как ясно, что я не могу найти смысла жизни
во мне самом, в удовлетворении моего личного эгоизма, то значит, не стоит жить
для самого себя; это значит, что смысл моей жизни в чем-то другом, что больше
и выше меня.
И тут великий закон солидарности обнаруживается как объективная истина,
как объективный закон добра, который торжествует над заблуждениями и
иллюзиями отдельных личностей и Целых народов.
В эгоистическом самоутверждении* в отъединении от прочих людей моя
жизнь бессодержательна и бессмысленна, потому что объективное благо — в
единении всех; путь эгоизма обнаруживается, как ложь, при сколько-нибудь
внимательном и глубоком философском анализе, а суть солидарности обнаруживается,
как истина. Смысл жизни раскрывается в любви и только в ней одной, ибо одна
любовь может приподнять меня над моим индивидуальным ничтожеством и
приобщить меня к тем великим мировым'целям человечества, которые
существовали раньше меня и будут существовать и после меня; одна только любовь
торжествует над смертью, ибо она приобщает нас к жизни мирового целого, к тому, что
существует вечно и не умирает.
314
Раньше мы видели, что предположение объективного закона добра,
отличного от изменяющихся и прогрессирующих человеческих понятий о добре, не
заключает в себе ничего не разумного. Теперь мы можем убедиться в том, что это
предположение составляет единственно возможное логическое опревдание
нашей жизни. Если мы сколь-нибудь углубимся в наше самосознание, то мы
увидим, что не только наши нравственные суждения, но и вся наша жизнь покоится
на предположении какого-то объективного, безусловного добра; более того,
в этом предположении заключается весь смысл нашей жизни. Жить
беспредельно, разумеется, не в нашей власти, но от нас зависит прекратить наше
физическое существование в любой момент. Если, однако, несмотря на полную
возможность покончить с собой в любую минуту, мы тем не менее продолжаем жить,
то тем самым мы показываем, что мы верим в какое-то добро, ради которого
стоит жить, стало быть, в такое добро, которое существует объективно и может
действительно наполнить нашу жизнь непреходящим содержанием, а не является
только нашей субъективной иллюзией. Если мы признаем, что добро есть
субъективное понятие, а не живая, реальная сила, которая может пересоздать нашу
действительность, то единственно логичным выводом отсюда будет
самоубийство: продолжать жизнь, от которой не ждешь никакого добра и которую совсем не
ценишь, очевидно, представляется верхом бессмыслицы. Жизнь наша может
получить логическое оправдание при том только условии, если мы верим в такое
объективное добро, которое составляет ее цель и смысл.
Разумеется, такое объективное добро не есть факт внешней действительности,
а идеал, с точки зрения которого мы оцениваем и измеряем действительность,
а верить в этот идеал мы можем только при том условии, если мы признаем, что
есть объективная, разумная цель, лежащая в основе самого мироздания.
Разумеется, это — такое положение, которое не может быть здесь вполне обосновано,
так как для обоснования потребовалось бы изложить целую систему
метафизики. Здесь достаточно указать, что вера в объективный закон добра и в его
всепобеждающую силу составляет необходимое предположение всей нашей жизни,
без него вся наша жизнь превращается в тяжелый бред или бессмысленное
прозябание.
Как сказано, такое понимание закона добра нисколько не противоречит тому
закону мирового развития, эволюции, который господствует в строе вселенной;
напротив, оно приводит к единственному пониманию нравственного развития
человечества. Все наше культурное развитие определяется целями: развитие науки
обусловливается исканием истины, развитие искусства обусловливается
исканием прекрасного; наконец, нравственное развитие обусловливается исканием
добра, блага, — словом, все наше развитие — умственное, эстетическое,
нравственное — обусловливается существованием таких целей, к которым человек
стремится и которые составляют предмет его искания. С уничтожением целей все
развитие, прогрессивное движение человеческого рода должно прекратиться.
Стало быть, существуют такие цели, которые играют роль первоначальных
двигателей истории; очевидно, что в качестве первоначальных источников
исторического развития цели эти сами не могут быть результатами того движения,
которое они производят. Они, если можно так выразиться, предшествуют истории,
обусловливают ее собой.
Те высшие, конечные цели, к которым стремится человек, имеют независимое
от него существование и значение. Человеку незачем было бы искать истины,
если бы он не был убежден, что где-то вне его и независимо от него существует та
315
истина, которой он не обладает. Точно так же ему незачем было бы искать добра,
если бы он не был убежден, что существует некоторый независимый от него
объективный закон добра, который превышает его изменчивые и несовершенные
понятия о добре. Сказать, что закон добра есть только результат нравственного
развития человека так же нелепо, как сказать, что истина есть результат науки;
выводить изменчивость закона добра из того факта, что меняются человеческие
понятия о добре так же нелепо, как думать, что законы вещества меняются на
том основании, что на различных ступенях своего развития человек понимал их
неодинаково. Движение вещества всегда определяется одними и теми же
законами физики, хотя было время, когда люди думали, что молния посылается
Зевсом, а морские волны приводятся в движение Посейдоном. Точно так же закон
всеобщей солидарности и любви всегда составляет и составлял высшее
выражение неизменной нравственной истины, хотя некоторые дикие народы до сих пор
считают дозволительным есть человеческое мясо.
То, что было сказано об отношении закона добра к нравственному развитию
человечества, нуждается в существенной оговорке. То, что мы говорим о
вечности закона добра, само собой разумеется, не означает вечности отдельных
конкретных требований нравственности. Так, требование любви ко всякому
человеку как таковому есть вечный закон, вечное требование добра, но способы
осуществления любви, а следовательно, и конкретные требования, вытекающие
из этой заповеди любви к ближнему, бесконечно разнообразны в зависимости от
бесконечно разнообразных условий места и времени. Единая неподвижная цель
безусловного добра не исключает существования множества конкретных
нравственных целей подвижных и изменчивых — таких нравственных задач, которые
не могут быть разрешены всегда одинаковым образом. Вечный закон добра
выражает собой ту цель, которой должна быть подчинена вся наша деятельность, он
не заключает в себе никаких указаний относительно того, как мы должны
осуществлять добро в каждом отдельном случае. Требование любви выражает собой
неизменную сущность добра, но вопрос о том, должен ли я во имя любви дать
ближнему кусок хлеба, теплую шубу, поместить его в больницу или просто помочь ему
добрым словом, решается различно, в зависимости от множества конкретных
условий. То или иное его разрешение обусловливается, во-первых, тем, какую
собственно нужду испытывает мой ближний, терпит ли он голод, холод, нуждается
ли в добром совете и т. п.; во-вторых, все зависит от того, какими средствами я
располагаю, чтобы помочь ближнему.
Таким образом, в нравственности необходимо различать два элемента: 1)
вечный закон добра, коим должна определяться конечная цель нашей деятельности
и 2) ряд конкретных задач — целей подвижных, изменчивых, которые
обусловливаются, с одной стороны, верными требованиями добра, а с другой стороны —
меняющимися особенностями той конкретной среды, в которой мы должны
осуществлять добро. Ответив, таким образом, на вопрос об отношении закона добра
к закону всеобщего развития, мы тем самым подготовили решение
поставленного раньше вопроса — о характере тех нравственных требований, которые
предъявляются нравственностью к праву.
316
Естественное право
По вопросу об отношении нравственности к эволюции нам пришлось
считаться с двумя воззрениями: с воззрением нравственного идеализма, который
признает существование вечного закона добра, и с воззрением современных
эволюционистов, рассматривающих нравственность как продукт истории. Мы видели,
что оба эти воззрения заключают в себе долю истины и постольку могут быть
примирены друг с другом. Тезис идеализма, утверждающего существование вечного
закона добра, вполне может быть согласован с тезисом учения исторического,
эволюционного, которое утверждает, что человеческие понятия о добре
развиваются, прогрессируют. Оба эти философские воззрения нашли себе выражение
в философии права. Здесь также мы встречаемся с тезисом идеализма, который
утверждает, что, кроме права положительного, действующего, существует право
естественное, — существует вечная идея права, которая должна лежать в основе
всего права положительного; представители исторического направления и
современной эволюционной школы в праве учат, что нет вообще другого права, кроме
права положительного: все право в целом его составе есть продукт истории,
результат развития человека и человеческого общества.
Вопрос о естественном праве есть центральный, жизненный вопрос
философии права, о котором философы и ученые спорят с самого момента его
зарождения. Но прежде чем дать то или иное его разрешение, необходимо
познакомиться хотя бы в самых общих чертах с самой историей права.
Еще в Древней Греции философы спорили о том, коренится ли право в самой
природе вещей, в вечном неизменном порядке мироздания или же оно
составляет результат произвольного соглашения людей, человеческое установление,
возникшее в определенный момент времени. Софисты учили, что в основе права нет
ничего неизменного, вечного; все, что мы называем правом или правдой,
составляет результат соглашения людей, искусственное изобретение человеческого
ума. Первоначально люди жили врозь, не руководились во взаимных
отношениях никакими началами права и правды. Каждый делал, что хотел, и при таких
условиях, разумеется, сильные порабощали слабых. Чтобы положить конец
такому порядку вещей, который угрожал безопасности всех и каждого, слабые
соединились в общества, установили законы — нормы права и правды, которыми
они и сковали произвол сильных.
Против этого учения софистов восстали глубочайшие философы древности,
прежде всего Сократ, а за ним — Платон и Аристотель. С точки зрения этих
философов, право не во всем своем составе является искусственным изобретением
людей; в основе права лежит вечный, незыблемый божественный порядок,
который господствует не только в человеческих отношениях, но и во всем строе
мироздания: рядом с законами, изобретенными людьми, существуют вечные,
неписаные законы, вложенные в сердца людей самим божественным разумом.
Точка зрения, сродная с изложенной только что, господствовала и в римской
юриспруденции. А именно: среди'римских юристов было чрезвычайно
распространено воззрение, что рядом с подви!жным и изменчивым правом
положительным (jus civile) существует вечное естественное право (jus naturale), которое
коренится в самой природе человеческого разума и человеческих отношений.
Понятие о естественном праве у римских юристов было довольно сбивчивым
и шатким: они то отличали естественное право (jus naturale) от общенародного
317
(jus gentium), то отождествляли то и другое: они то рассматривали jus naturale
как идеал, к которому должно стремиться положительное, действующее право,
то видели в первом — часть последнего. Некоторые юристы представляли себе
естественное право как совокупность вечных норм правды: положительное право
далеко не соответствует этим нормам, во многом даже прямо им противоречит:
так, например, с точки зрения естественного права все люди и свободны и равны;
с точки зрения естественного права не должно существовать различия классов,
не должно быть ни рабов, ни господ; между тем у всех народов существуют
различия классов, существует и рабство. В этом ряд римских юристов видел
основное отличие jus naturale от jus gentium, то есть от права общенародного: с точки
зрения jus naturale все вообще должны быть свободны, между тем как jus
gentium закрепляет свободу только за некоторыми классами. Воззрение это
разделялось, однако, далеко не всеми юристами: некоторые из них рассматривали
естественное право как совокупность норм права, всюду принятых, всюду
действующих, без различия рода и племени, места и времени, — словом,
отождествляли jus naturale и jus gentium. Определяя понятие естественного права то шире,
то уже, римские юристы сходились, однако, в том, что нормы естественного
права коренятся в самой природе человеческого разума, а потому — столь же вечны
и неизменны, как и законы логики.
Также и среди средневековых схоластиков господствовало убеждение, что
существует вечное естественное право — вечные естественные законы, которые
вложены Богом в сердца людей и составляют самую природу разума. В
философии права Нового времени учение о естественном праве получает уже
совершенно иную окраску. Во-первых, оно освобождается от богословского
элемента, который примешивался к нему у средневековых писателей; во-вторых,
самое понятие естественного права определяется несравненно яснее и точнее,
нежели у римских юристов. Мыслители Нового времени уже не смешивают
естественное право с правом общенародным, как это делали некоторые римские
юристы.
Сторонники естественного права до начала прошлого столетия видят в нем
уже не часть положительного, действующего права, а совокупность тех вечных
идеальных норм, которые должны послужить прообразом для всякого
законодательства. Основатель естественной школы — Гуго Гроций — учил, что законы
естественного права коренятся в самой природе разума, а потому имеют такое же
вечное, незыблемое значение, как и самый разум, необходимы, как законы
логики. Поэтому нормы естественного права совершенно независимы от воли
Божьей: они существовали бы даже,, если бы Бог не существовал (et si daretur, Deum
non esse); Бог не может изменить их, так же как он не может изменить законов
логики и математики. Как Bdr не может сделать, чтобы дважды два равнялось
пяти, так точно он не может сделать, чтобы правда стала неправдой, чтобы
нормы естественного права стали не правом.
При той формулировке, которую дала понятию естественного права
основанная Гроцием естественная школа, оно грозит совершенно заменить собой право
положительное. Дело в том, что Гроций и его продолжатели не считались ни с
окружавшей их исторической действительностью, ни вообще с историей: для них
действительность имела право на существование лишь постольку, поскольку она
вытекала из требований разума, то есть поскольку она могла быть логически
выведена и логически оправдана с точки зрения естественного права. Мыслителям
этим естественное право представлялось в виде целого кодекса правил, которые
318
могут быть выведены a priori, причем все то, что не согласуется с этим кодексом,
должно быть упразднено, как противное разуму.
При таком отношении к исторически сложившемуся учение о естественном
праве должно было принять характер революционный. В частности, оно
послужило оправданием и лозунгом французской революции, восставшей против
королевского деспотизма и против феодально-аристократического строя во имя
«прирожденных прав человека». Теоретической формулой для этого
революционного движения послужили некоторые мысли и изречения Руссо, который
довел учение естественной школы до крайних ее последствий. Сопоставляя идеал
естественного права с окружающей его действительностью, Руссо пришел к
полному и всестороннему осуждению последней. По природе, учил он, человек
рождается свободным; между тем мы видим его повсюду в оковах. По природе все
люди равны; между тем контраст богатства и нищеты составляет явление
повсеместное; по природе все люди братья; между тем — мы всюду можем
наблюдать ожесточенную борьбу сословий. Словом, в учении Руссо можно найти все
элементы знаменитой формулы «свобода, равенство и братство», послужившей
лозунгом французской революции.
Попытка французской революции пересоздать исторически сложившееся на
началах разума вызвала в начале XIX века повсеместную реакцию, которая
нашла себе выражение как в действительной жизни, так и в философии.
Представительницей этой реакции в философии права явилась историческая школа,
зародившаяся в Германии в начале XIX столетия.
Виднейший из представителей этой школы — Савиньи10 — восстал прежде
всего против того отрицательного отношения к историческому прошлому,
которое отличало естественную школу. Между тем как теоретики вроде Руссо
рассматривали все современное им и предшествовавшее законодательство, как
проявление человеческого неразумия, эгоизма и произвола, Савиньи совершенно
основательно стал доказывать, что положительное право вовсе не есть
произвольное установление людей, искусственное изобретение законодателя:
положительное право составляет необходимый результат постепенного закономерного
процесса исторического развития; право каждого народа представляет собой
исторически необходимое выражение его самосознания, народного духа на той
или иной ступени его развития. С этой точки зрения Савиньи восстает против
всяких попыток вывести a prioiri из человеческого разума такой кодекс права,
который был бы годен для всех времен и для всех народов. По учению
исторической школы не существует права вечного, универсального; право во всем его
составе есть продукт истории.
Словом, Савиньи положил прочное основание тому историческому
пониманию права, которое господствует и в наши дни. Точка зрения исторической
школы в наше время подверглась существенной переработке: многое из того, что
учил Савиньи о происхождении права, теперь совершенно оставлено; в
дальнейшем моем изложении нам еще предстоит познакомиться с главнейшими
особенностями этого учения, игравшего столь важную роль в правоведении и, в
частности, — в философии права XIX столетия; пока же нас интересует одна только
черта этого учения, которая получила дальнейшее развитие в эволюционной
философии наших дней и перешла к большинству юристов нашего времени, —
исключительно историческое воззрение на право и отрицательное отношение к
праву естественному. Нам предстоит разобрать здесь те доводы, которые приводятся
в настояще время за и против естественного права, и, таким образом, решить во-
319
прос, поставленный в начале настоящего отдела, существует ли естественное
право или нет другого права, кроме положительного, и если естественное право
существует, то каковы свойства его требований, каково его отношение к
эволюции права?
Разрешение вопроса о существовании естественного права уже в значительной
степени подготовлено нашим критическим разбором главнейших определений
права. Этот разбор убедил нас в полнейшей неудовлетворительности всех тех
определений, которые отождествляют право вообще с правом только позитивным.
Правом позитивным, или положительным, называется то, коего обязательность
обусловливается тем или другим внешним авторитетом, например, авторитетом
отцов и дедов, руководствовавшихся теми или другими обычаями, словом, —
авторитетом той или другой общественной среды, от имени которой высказывались
и действовали те или другие лица или органы власти. Мы видели, что право
вообще не может быть сведено к внешнему авторитету, потому что, в свою очередь,
всякий авторитет покоится на праве, следовательно, представляется не более как
видом права. Ясное дело, стало быть, что право позитивное не есть единственная
форма права, что над ним есть иное, высшее право, которое служит
первоначальным источником всякого авторитета, всякой власти и, следовательно, является
первоначальной основой всякого правового порядка. Эта высшая форма права,
отличного от права положительного, независимо от какого бы то ни было
авторитета, и есть то, что называется естественным правом. Существование
естественного права неопровержимо доказывается тем, что без него никакое вообще право
было бы не возможно. Отрицая естественное право, мы должны, если хотим
оставаться последовательными, отрицать и право позитивное; ибо необходимым
логическим следствием отрицания естественного права является отрицание
всякого права вообще.
В этом можно убедиться на каком угодно конкретном примере. Возьмем
любую форму позитивного права, например, законы, изданные той или другой
государственной властью. Спрашивается, в силу чего эти законы должны
признаваться правом? Очевидно, в силу того, что они изданы властью, которая имеет
право на повиновение подданных. Но спрашивается, почему же власть имеет
право на повиновение подданных? Не потому ли, что она обладает силой
удерживать их в повиновении? Но мы видели сами, что сила сама по себе не создает
права. По отношению к власти, которая господствует одной только голой силой,
подданные не связаны ни правовыми, ни вообще никакими бы то ни было другими
обязательствами. Власть имеет несомненное право господствовать лишь
постольку, поскольку она действительно представляет собой то общество, над которым
она господствует, то есть поскольку оно служит его благу, выражает его волю,
соответствует господствующим в данной среде интересам и воззрениям. Так или
иначе право власти сводится к праву того народа или общества, от имени
которого она господствует и повелевает. Если мы обязаны повиноваться, то только
потому и лишь постольку, поскольку она олицетворяет собой авторитет той или
другой окружающей нас общественной среды. Но спрашивается, в силу чего для
нас обязателен этот авторитет,» почему личность обязана подчиняться обществу
и в силу чего общество имеет право господствовать над личностью? Очевидно, что
здесь мы имеем дело с таким авторитетом, который не может быть сведен ни к
какой другой высшей форме внещного авторитета. Если мы обязаны повиноваться
обществу, подчинять наши личные цели целям общественным, то, очевидно,
не потому, что так предписывает нам тот или другой авторитет, а потому, что так
320
нам предписывает внутренний закон нашего разума, некоторая повелительная
норма, которая господствует в нашем сознании. Если мы признаем право
общества господствовать над нами и нашу обязанность ему повиноваться, то только
потому, что наш разум видит в этом предписание добра.
Таким образом, последнее основание обязательности законов, изданных
государственной властью, есть такое право, которое составляет вместе с тем и
внутренний закон нашего разума или, что то же — естественное право. То же самое
должно сказать и о всяких вообще нормах позитивного права; обязательность
всех этих норм так или иначе обусловлена обязательностью того или другого
общественного авторитета, будь то авторитет государства, церкви,
международного конгресса или авторитет отцов и дедов. Всякий же авторитет для нас
обязателен или необязателен в зависимости от того, имеет ли он за себя санкцию разума,
иначе говоря, оправдывается или не оправдывается он перед судом
естественного права.
Нетрудно убедиться в том, что предписания естественного права по
содержанию своему суть вместе с тем и предписания нравственные. Естественное
право — то же, что правда: оно обнимает в себе всю совокупность тех нравственных
требований, в силу которых мы подчиняемся или не подчиняемся тому или
другому общественному авторитету: оно заключает в себе всю совокупность
нравственных норм, в коих всякий авторитет, всякая человеческая власть и всякое
вообще позитивное право находит себе оправдание или осуждение. Лежащая
в основе всякого правопорядка обязанность личности подчинять свои цели целям
общественным есть несомненно обязанность нравственная, и соответствующее
этой обязанности право общества господствовать над личностью есть без всякого
сомнения право нравственное по существу. Если та или другая общественная
среда руководствуется обычным правом, то без всякого сомнения потому, что оно
считает добром подчиняться авторитету отцов и дедов. Наступают, однако,
времена, когда этот авторитет утрачивает свою силу и нормы, которые когда-то им
освящались, заменяются нормами более совершенными, изданными
законодателем. Эта замена одного авторитета другим опять-таки обусловливается тем, что
общество почитает добром подчиняться авторитету законодателя; этот
авторитет, как и всякий другой, покоится на нравственном праве. Этим правом
держится всякая вообще власть; власть же, которая перестала служить благу
подданных, падает опять-таки во имя нравственного права.
Естественное право есть синоним нравственного должного в праве. Поэтому
в истории оно является в двоякой роли; с одной стороны, оно есть нравственная
основа всякого конкретного правопорядка. Всякое позитивное право может
требовать от людей повиновения не иначе как во имя нравственного права того или
другого общественного авторитета, той или другой власти; поскольку
существующий правопорядок действительно является благом для данного общества,
естественное право дает ему санкцию и служит ему опорой. Но, как мы знаем,
действующее право далеко не всегда соответствует требованиям добра и нередко
находится в полном противоречии с ним. В этих случаях естественное право
звучит как призыв к усовершенствованию. Оно играет роль движущего начала в
истории, является необходимым условием всякого прогресса, развития в праве.
В самом деле, всякий прогресс, всякое улучшение в праве предполагает
критическое отношение к действующему, праву; всякая же критика действующего права
возможна только с точки зрения правового идеала, то есть с точки зрения того
или другого понимания естественного права: критика непременно предлагает со-
ПЗак. 3911 321
поставление права, как оно есть, с правом, как оно должно быть, права,
существующего с той целью, которой оно должно служить, права положительного с
правом естественным.
Такая критика возможна при том только условии, если человек в своем
сознании обладает нормой должного, которой он измеряет и оценивает существующее.
Словом, прогресс, развитие в праве возможны лишь постольку, поскольку над
правом положительным есть высшее нравственное или естественное право,
которое служит ему основой и критерием. И в самом деле, в истории права идея
нравственного права играет и играла роль мощного двигателя: оно дает человеку
силу подняться над его исторической средой и спасает его от рабского преклонения
перед существующим.
Идея эта составляет необходимый элемент нашего нравственного и правового
сознания: естественное право решительно должно быть признано как
нравственная основа всякого человеческого авторитета и законодательства и как тот
нравственный идеал, который должен определять собой развитие права. Таким
образом, учение естественной школы заключает в себе крупный и ценный элемент
истины; однако та формулировка, которая была дана его учению о естественном
праве, страдает существенными недостатками и нуждается в существенных
поправках. Основная ошибка естественной школы заключается в том, что она
представляла естественное право как целый кодекс неизменных правил, который
вытекает с логической необходимостью из природы разума. Естественное право
представлялось ей как порядок неподвижный: она не умела считаться с
разнообразием исторической действительности, и сознание великого закона всемирной
эволюции было ей вовсе чуждо.
На самом деле нетрудно убедиться в том, что естественное право вовсе не есть
кодекс неподвижных правил. Мы видели, что естественное право есть то же, что
право нравственное: следовательно, его требования обладают, с одной стороны,
характером правовым, с другой стороны — характером нравственным. Мы
видели, что сущность всякого права выражается, с одной стороны, в представлении
лицу известной сферы внешней свободы, а с другой стороны — в ограничении
этой сферы. Таковы же функции естественного права, как и всякого другого. Но,
будучи правом нравственным по самой природе, естественное право всегда
требует, чтобы внешняя свобода была предоставлена лицу именно в тех границах,
которые оправдываются и требуются целями добра. Мы видели, что та внешняя
свобода, которая предоставляется лицу правом, заключается в возможности
преследовать или осуществлять те или другие цели в мире внешнем: ясное дело, что
такая свобода не есть безусловное, а относительное благо: внешняя свобода
отдельного лица является благом лишь постольку, поскольку она подчинена благу
общему, поскольку она не влезет за собой несправедливых стеснений свободы
других лиц. Безграничная свобода отдельного лица была бы не только
отрицанием права, но и прямой противоположностью добра, так как она выражалась бы
в возможности убивать, насиловать и грабить ближнего. Поэтому естественное
право предписывает, чтобы внешняя свобода лица всегда была ограничена
свободой других лиц в той именно мере, в какой этого требует добро. В этом и только
в этом заключается непреходящее, неизменное требование естественного права.
Все прочее в естественном праве также и изменчиво: добро не требует, чтобы
пределы внешней свободы лица всегда определялись одинаковым образом. Оно
не заковывает нашей свободы в раз навсегда данные неподвижные рамки, а
требует, чтобы мы пользовались внешней свободой в той мере, в которой это являет-
322
ся для нас благом. Ясное дело, что эта мера не может быть одинаковой для
различных уровней развития, для различных веков и народностей: то, что для
одного уровня развития является добром, может быть злом для другого — низшего
или высшего уровня.
Естественное право, как мы сказали, предписывает, чтобы каждое отдельное
лицо пользовалось внешней свободой в тех пределах, в каких это требуется
добром. Требование это может быть формулировано еще и таким образом:
отдельному лицу должен быть предоставлен максимум внешней свободы, совместимой
с благом общества, как целого. Право всегда должно проявляться как сила
освобождающая: во-первых, оно всегда должно служить целям добра; во-вторых, его
задача заключается в том, чтобы установить некоторую гармонию между
внешней свободой индивида и благом общества как целого. Очевидно, что эта
гармония не может выражаться в формуле неподвижного и однообразного
законодательства: тот максимум внешней свободы человека, который требуется благом
общества как целого не есть величина постоянная, а величина подвижная,
беспрерывно меняющаяся в зависимости от бесконечно разнообразных условий
действительности.
Если право, как сказано, всегда должно проявляться как сила
освобождающая, то это значит, что оно должно устранять ряд препятствий, с которыми мы
сталкиваемся при осуществлении наших целей в мире внешнем. Стоит
ознакомиться со свойствами этих препятствий, устранению коих так или иначе должно
содействовать право, чтобы видеть, что тот максимум внешней свободы, которым
должен пользоваться человек, не может быть всегда и для всякого человеческого
общества одинаковым.
Та внешняя свобода, которая, как мы видели, составляет содержание права,
выражается в возможности осуществления лицом тех или других целей в мире
внешнем. Проявление нашей свободы, так понимаемой, задерживается
препятствиями троякого рода: препятствия эти могут происходить от внешней
природы, от других лиц и, наконец, от нас самих, от несовершенства наших сил
умственных и физических.
Предоставляя отдельному лицу известную сферу внешней свободы, право
прежде всего ограждает ее против всяких возможных посягательств со стороны
других лиц. Оно ограждает против покушений со стороны ближнего на нашу
жизнь, нашу собственность, все те вообще цели лица, которые не противоречат
целям общества как целого. В предоставлении известной сферы внешней свободы
одним и в соответствующем ограничении внешней свободы других лиц
выражается, как мы видели, содержание права.
В качестве содержания права внешняя свобода лица всегда связана с
требованием, с велением, обращенные к другим лицам, чтобы они не посягали против
чужой свободы. Такие веления или требования, очевидно, могут обращаться
только к разумным лицам, а не слепым стихиям. Нельзя требовать от морских
волн или диких зверей, чтобы они уважали нашу свободу, а потому свобода
человека от тех препятствий со стороны внешней природы, которые задерживают
осуществление его целей, не может послужить содержанием правовых норм.
Однако косвенно право должно и действительно служит освобождению человека от
гнета внешней природы.
Человек, изолированный от своих ближних, предоставленный собственным
своим силам, находится во всецелой зависимости от внешней природы. Природа
может быть побеждена, подчинена господству человека только коллективными
323
усилиями организованного человеческого общества: в одиночестве человек не
может удовлетворять даже самых элементарных своих нужд; если мы не боимся
диких зверей, если море послушно носит наши корабли, ветер приводит в
движение наши мельницы, а электричество переносит наши мысли из конца в конец
вселенной, то этим мы обязаны прежде всего тому, что живем в организованном
обществе людей. Необходимым же условием всякого организованного общества
является право, которое связует множество лиц в единое целое. Не будь права,
не было бы вообще и цивилизации, не было бы того нашего господства над
природой, которым мы справедливо гордимся: человек пребывал бы в состоянии
беспомощности, связанной с одиночеством. Стало быть, связуя людей в общество,
право тем самым служит освобождению человека от тех препятствий, которые
полагает ему внешняя природа; оно содействует и должно содействовать его
господству над внешним миром; в этом заключается одна из тех неустранимых
задач права, которыми обусловливается тот или другой характер целого ряда
конкретных требований права естественного.
Наконец, точно так же право освобождает и должно освобождать нас от
целого ряда таких препятствий в достижении наших целей, которые происходят от
нас самих. Прежде всего, оно до известной степени освобождает нас от нашей
немощи и бессилия: благодаря ему, ничтожные физические силы отдельного
индивида восполняются силами множества других индивидов, связанных в обществе.
Кроме того, обусловливая общество, право тем самым обусловливает собой
существование той среды, вне коей человек не может развить своих умственных сил.
Не будь права, не было бы и просвещения, не было бы школы и всех тех
учреждений, которые освобождают человека от одного из злейших его врагов — от
невежества.
Таковы те препятствия, с которыми так или иначе должно считаться право
при осуществлении своей освобождающей миссии. Препятствия эти бесконечно
разнообразны в зависимости от места, времени, народного характера:
соответственно с этим и требования естественного права бесконечно разнообразны.
Прежде всего, неодинаковы те препятствия, которые полагаются осуществлению
наших целей деятельностью ближнего. Есть эпохи в жизни народов, когда они
должны вести с оружием в руках борьбу за независимое существование против
воинственных соседей, есть другие эпохи, когда они могут предаваться мирной
культурной деятельности; естественное право, очевидно, не может требовать,
чтобы в том или другом случае существовал одинаковый государственный строй:
военная диктатура, которая является несомненным благом для народов в эпохи
борьбы за независимость, становится злом для них, когда внешняя опасность
устранена. Точно так же требования естественного права не могут сообразоваться
со свойствами тех разнообразных препятствий, которые полагаются
деятельности человека внешней природой, и с теми средствами, коими в каждое данное
время и в каждом данном месте человек располагает для борьбы против внешней
природы: было бы верхом неразумения требовать, чтобы у диких кочевников,
живущих пастушеством, был бы тот же общественный строй, та же организация
собственности, как и у народа оседлого, обладающего совершенными
земледельческими орудиями; например, индивидуальная собственность на землю, которая
на известных ступенях культурного развития служит жизненным условием
развития земледелия, была бы верхом бессмыслицы для народа, не имеющего
прочной оседлости и живущего исключительно скотоводством. Нечего и говорить
о том, что требования правового идеала должны сообразоваться со всеми теми
324
препятствиями, которые полагаются освобождающей миссией права теми или
другими особенностями народного характера, большей или меньшей
незрелостью и т. п. Естественное право, как мы видели, требует, чтобы отдельному лицу
был предоставлен максимум внешней свободы, совместимый с благом общества
как целого; теперь мы видим, что этот максимум на каждой данной ступени
культурного развития должен определяться различно соответственно
разнообразным конкретным условиям каждой данной исторической среды: само собой
разумеется, что он не может быть одинаковым для дикаря и для современного
англичанина.
Ошибка старых теоретиков естественной школы заключалась именно в том,
что они не сознавали этого условного, изменчивого характера конкретных
требований естественного права. Под естественным правом они разумели совершенное
и справедливое законодательство, проистекающее из вечных требований разума;
при этом, рассуждая о наиболее совершенном и справедливом законодательстве,
они вовсе не задавались вопросом, для какого народа, для какой вообще
исторической среды оно представляется справедливым и совершенным. Так, например,
у писателей XVII и XVIII веков мы часто находим рассуждения о том, какая
форма государственного устройства должна быть признана наилучшей, монархия
или республика, монархия ограниченная или неограниченная, республика
аристократическая или демократическая. Различные образы правления
сравнивались на основании их внутренних достоинств, совершенно независимо от того,
где и когда они должны были осуществляться, в результате такого сравнения
у различных писателей получались весьма несходные между собой оценки
различных типов государственного устройства. Так, например, английский
мыслитель XVII столетия — Гоббес — считал неограниченную монархию единственной
формой государственного устройства, соответствующей естественному праву;
позднейший мыслитель — Локк — признавал за наилучшее государственное
устройство монархию конституционную. Такие же разногласия существовали и по
вопросу о наилучшем общественном устройстве; например, французский
писатель XVIII века Морелли11 считал единственно сообразным с разумом
коммунистический строй, тогда как Вольтер видел в частной собственности «клич самой
природы».
Эти разногласия нередко приводились и до сих пор приводятся как
доказательство полной несостоятельности идеи естественного права. На самом деле оно
доказывает только, что старые теоретики принимали временные, изменчивые
требования естественного права за постоянные, неизменные. Относительно
формы государственного или общественного устройства, как и относительно всякого
вообще законодательства естественное право не может дать никаких вечных,
неизменных предписаний, никаких общих решений. В наше время всякий
образованный человек сознает нелепость самой постановки вопроса о том, каково
вообще наилучшее устройство: такого государственного устройства, которое было бы
для всех и всегда наилучшим, вообще не существует; можно, разумеется, ставить
вопрос о наилучшем государственном устройстве для данной страны в данную
эпоху, и, ставя этот вопрос для различных стран, мы, понятное дело, придем не
к одному, а ко множеству разнообразных решений. Все зависит от того, какое
именно государственное устройство олицетворяет собой максимум внешней
свободы, возможной и желательной в данное время и для данного народа.
Существуют, например, такие народы, для которых неограниченная монархия
представляет максимум желательной свободы, но существуют и такие, для которых этот
325
максимум достигается только при республиканском устройстве. Когда во
Франции на развалинах феодального строя возникла неограниченная монархия, она
первоначально проявилась как сила освобождающая: в эпоху феодальную
французы, как и все вообще западноевропейские народы, находились под гнетом
множества мелких тиранов-герцогов, маркизов, графов, из коих каждый был почти
самодержавным государем в своих владениях. Неограниченная власть
французских королей положила конец такому порядку вещей: она сплотила
аристократию и таким образом освободила народ от многоголовой тирании мелких
властителей. Эта победа единого самодержца над многими была несомненно вместе
с тем и расширением этой свободы, какою пользовался французский народ. В XV
веке всякое ограничение монархической власти во Франции привело бы к
восстановлению феодального строя и, следовательно, — к деспотическому господству
аристократии над низшими классами общества; поэтому в то время
неограниченная монархия была великим благодеянием для народа, и всякие ограничения
королевской власти не могли быть желательными в интересах самой свободы.
Бывают, однако, и такие эпохи, когда неограниченное королевское самодержавие,
исполнив свою временную освобождающую миссию, становится излишним
тормозом свободы. В такое именно положение попала самодержавная власть
французских королей в XVIII столетии; поэтому с точки зрения естественного права
французская революция должна быть оправдана; но, очевидно, это не было бы
так, если бы она явилась двумя веками раньше.
Естественное право вообще не заключает в себе никаких раз навсегда данных,
неизменных юридических норм: оно не есть кодекс вечных заповедей, а
совокупность нравственных и вместе с тем правовых требований, различных для каждой
нации и эпохи. Как синоним нравственно должного в праве он не выражается
в виде каких-либо общих, для всех обязательных законодательных шаблонов.
Для каждого народа и в каждую данную эпоху оно олицетворяет собой особую
специфическую задачу, особую совокупность конкретных обязанностей. В этом
заключается оправдание права позитивного. Именно потому, что естественное
право не представляется в виде кодекса готовых, раз навсегда выработанных
норм, конкретные определения его могут возбуждать сомнения и разногласия.
Область нравственно должного в праве представляется спорной и отдельные
лица могут иметь о ней неодинаковые представления; поэтому если бы отдельным
лицам была предоставлена свобода жить и действовать согласно своему
субъективному пониманию права, то всякое конкретное право было бы предметом
нескончаемых споров и вместо правового порядка в человеческих отношениях
царил бы полнейший произвол и анархия, то есть состояние, противоположное
праву. Этим оправдывается существование такого внешнего авторитета, такой
власти, которая бы имела полномочие установить нормы права, обязательные
для всех членов той или другой общественной группы, и решать их споры о
праве. Разумеется, с точки зрения общественного права может быть оправдан не
всякий общественный авторитет, не всякая власть как таковая, а только тот
авторитет и та только власть, которая действительно служит общему благу и в данное
время и при данных исторических условиях является наиболее пригодным
орудием для осуществления правды в общественных отношениях.
На основании всего сказанного мы приходим к следующему разрешению
спора о естественном праве, начавшегося в первой половине XIX века. Как старая
естественная школа, так и новейший историзм, отрицающий естественное право,
суть направления односторонние; каждое из них заключает в себе долю истины,
326
часть за целое. Представители естественной школы правы в том, что существует
право нравственное, естественное, отличное от права позитивного,
действующего; с другой стороны, представители современного историзма и эволюционизма
правы в том, что не существует вечного, неизменного кодекса естественного
права: конкретные требования естественного права меняются сообразно с условиями
времени и места, и тот возможный максимум свободы, которого оно требует для
всякой страны и для всякой эпохи, не есть величина постоянная, для всех
одинаковая.
То или другое решение вопроса о естественном праве представляет не только
теоретический интерес: оно имеет огромное практическое значение. От того,
верим или не верим мы в естественное право, и от того, как мы его понимаем,
зависит все наше отношение к существующему, действующему праву. Отвергнув
естественное право, мы лишим себя всякого критерия для оценки действующего
права: если над правом действующим нет никакого другого высшего права,
то в таком случае оно есть правда; чистый историзм должен привести нас к
современному консерватизму, и вот почему зародившаяся в начале прошлого столетия
историческая школа действительно послужила оплотом тех реакционных
тенденций, которые явились на смену идеям французской революции. Напротив
того, признание естественного права вынуждает нас критически относиться ко
всему историческому существующему, рассматривать всякую норму позитивного
права с точки зрения возможных улучшений и оценивать право с точки зрения
правды.
Происхождение права
Спор идеализма и историзма выдвинул на первый план вопрос о
происхождении права, о том, как оно возникает и слагается исторически. Презрение к
историческому сложившемуся составляет характерную черту старого идеализма
XVIII века; идеализация существующего, преклонение перед исторически
сложившимся составляет характерное отличие исторической школы, возникшей
в начале XIX столетия. С этим основным различием двух направлений связан
целый ряд характерных особенностей того и другого: большинство французских
политических писателей идеалистов XVIII века верили в безграничную силу
творчества человека, в его способность пересоздать и обновить на началах разума
весь существующий строй; напротив, с точки зрения исторической школы, в
первоначальный период ее существования, существующий строй есть необходимый
результат закономерного процесса исторического развития, коего не в состоянии
изменить никакое человеческое творчество. Идеализм французских теоретиков
естественного права XVIII века был миросозерцанием по существу
революционным; напротив того, в творениях корифеев исторической школы нашли себе
выражение консервативные тенденции. Вера в вечные, незыблемые нормы
естественного права была сопряжена с* верой в силу и значение личности как основного
двигателя истории, свободного, не связанного условиями места и времени. Став
в отрицательное отношение к идее естественного права, историческая школа
вместе с тем утратила веру в свободное творчество личности, в ее способность
пересоздать существующее; с точки зрения исторической школы, человек — не
творец, а орудие исторического процесса; проповедь революции, обусловленная ве-
327
рой в силы человеческого разума, у ранних представителей исторической школы
сменяется проповедью уважения к старине, пассивного отношения к
исторически сложившемуся.
В настоящее время никто не разделяет крайностей старой естественной
школы; с другой стороны, целый ряд положений старой исторической школы теперь
всеми отвергнут, сдан в архив. Тем не менее идея естественного права в
видоизмененной форме продолжает волновать умы и оказывать сильное влияние на
политику; историзм также, впрочем, в сильно измененном виде продолжает быть
господствующим направлением в современной юриспруденции. Поэтому и
вопрос о происхождении права, всегда служивший предметом ожесточенных
споров между представителями идеализма и историзма, и в наши дни остается
одним из важнейших вопросов философии права; от того или другого его
разрешения зависит тот или другой ответ на целый ряд практических вопросов
первостепенной важности. От того, как мы смотрим на историю права, зависит
прежде всего наше отношение к преданиям прошлого и к окружающей нас
действительности, в особенности к действующему праву; от нашего понимания
истории зависит всецело — какие требования вообще мы можем предъявлять к
праву, как понимаем мы вообще задачу, роль законодателя.
Само собой разумеется, что вопрос о происхождении права в пределах
настоящего курса может быть поставлен только в самом общем виде; мы, очевидно,
не можем и не должны исследовать здесь возникновение и развитие тех или
других конкретных институтов или норм права, так как это составляет задачу не
энциклопедии, а всеобщей истории права: в энциклопедии нас должен
интересовать только вопрос о том, как вообще возникает право, каковы вообще причины,
силы, которые производят право.
При разрешении этого вопроса необходимо так или иначе посчитаться с
учением исторической школы, В учении старой исторической школы, коей главным
представителем были Гуго, Савиньи, Пухта12, выразились побуждения двоякого
рода, теоретические и практические, причем те и другие носят на себе печать
реакции против идей французской революции. Большинство теоретиков XVIII
столетия игнорировало историю; напротив, основатели исторической школы были
с самого начала проникнуты сознанием ее важности. Идеи французской
революции были по существу космополитическими: большинство
политиков-идеалистов XVIII века игнорировали специфически национальные потребности и
национальные особенности в праве: их идеалом было право, вытекающее из
безусловных требований разума — право общее всем нациям. Этому
революционному космополитизму представителей исторической школы противополагается
национальный идеал и консервативные практические тенденции. Это сочетание
теоретических мотивов и консервативно-практических тенденций можно
проследить уже у родоначальника исторической школы — геттингентского
профессора Гуго, Последний учил, что действующее право не есть искусственное
изобретение законодателя, что оно не выдумано и не произвольно установлено людьми,
а представляет необходимый результат более глубоких исторических причин.
Подобно языку и нравам, право развивается естественно, само собой, — никакой
законодатель не в состоянии остановить этот естественный рост права или
существенно изменить его направление. РяДом с писаным законодательством
существует обычное право, в котором находят выражение веками сложившиеся обычаи
и воззрения народа; законодатель, который не захочет считаться с этими
вековыми обычаями, бывает обречен на бессилие.
328
Теоретики естественной школы требовали полного радикального
преобразования действующего права на началах разума; напротив, Гуго учил, что
нормальный путь развития права есть естественный рост, а не революция и
регламентация сверху; что право развивается само собой, помимо деятельности
законодателя. Законодатель, во-первых, не может сломить силу веками
сложившихся обычаев, а во-вторых, не должен к этому стремиться, ибо в них он может
найти лучшую опору справедливости. Закон бывает полезен или вреден, смотря
по тому, согласен он с ними или нет. Уже в этих положениях Гуго выразились
основные недостатки и противоречия старой исторической школы.
Говоря о естественном, непроизвольном развитии права, то как о процессе
необходимом, который не может быть остановлен или нарушен человеческими
усилиями, то говоря о нем как о нормальном, желательном, которого законодатель
не должен нарушать, представляя свободное творчество законодателя то
невозможным, то нежелательным, Гуго постоянно впадает в противоречие с самим
собой. Действительно, если естественный, стихийный рост права есть закон столь
же необходимый, как законы внешней природы, то как же можно считать его
желательным или должным; как же можно с этим утверждением совместить
допущение, что законодатель может нарушить естественный рост права? Если
законодатель не в силах уничтожить вековых обычаев, то понятно, излишне
требовать, чтобы он не нарушал и не изменял их. В этом противоречии
обнаруживается двойственное отношение старой исторической школы к свободной
деятельности человека, с другой стороны, человеческая деятельность может
нарушить нормальный ход развития права, внести в него аномалии.
То же противоречие находим мы и в учении Савиньи, исходной точкой
которого служит отрицание всякого участия свободной человеческой воли в развитии
истории вообще и права в частности. По Савиньи, право, подобно языку,
развивается непроизвольно, бессознательно; подобно языку, оно служит выражением
духа известного народа. Законодатель не в состоянии пересоздать право точно
так же, как он бессилен изменить законы языка, его грамматику. Право
выражает национальные, общенародные убеждения и слагается независимо от
сознательной деятельности отдельных людей, подобно тому как слагаются законы
грамматики. Развитие права есть процесс столь же необходимый, как и развитие
мира животного и растительного. Заключаясь первоначально в сознании народа,
право, по мере развития культуры, начинает разрабатываться сословием
юристов. Но и тогда оно не перестает быть частью органического целого народной
жизни: юристы не творцы права, а только выразители национального самосознания.
Поэтому право вообще и повсюду создается не по произволу законодателя, а при
посредстве внутренних, незаметно действующих сил. Развитие его есть процесс
органического роста, который совершается так же естественно, как и развитие
растения, безболезненно, без борьбы, путем медленного, постепенного
назревания народных убеждений.
Подобно Савиньи и Гуго, Пухта так же утверждает, что право есть проявление
народного самосознания; он так же отрицает всякое участие свободного
творчества человеческой личности в образовании права. Историческое развитие права
есть развитие тех основных принципов, которые лежат в глубине народного
духа, в основе национального характера. Характер каждого народа находит себе
выражение в ряде юридических обычаев, и так как обычай составляет
необходимое проявление народного самосознания, то Пухта утверждает, что обычное
право — это общая прирожденная сознанию народа правда.
329
Эти взгляды представителей старой исторической школы находятся в самом
явном противоречии с действительностью: значение свободной деятельности
человека очень ярко обнаруживается во множестве конкретных исторических
фактов. Будучи вынуждены считаться с такими фактами, и Пухта и Савиньи
впутываются в противоречия, которые у них встречаются так же, как и у Гуго. В самом
деле, если бы учение Савиньи и Пухты о безболезненном естественном развитии
права было верно, то невозможны были бы насильственные перевороты, которые
иногда разрушают самые основы существующего правового порядка. Если бы
эволюция права была развитием прирожденных народному духу начал, то
невозможны были бы заимствования правовых учреждений одним народом у другого.
Если бы развитие права совершалось само собой, без всякого участия свободной
деятельности человека, то невозможно было бы насильственное преобразование
существующего права, французская революция не могла бы разрушить старого
порядка — ancien regime и построить республики, а Наполеон не мог бы на
развалинах республики создать империю. Все эти явления несомненно доказывают,
что творческая деятельность человеческой личности в истории права играет
огромную роль.
Необходимость так или иначе считаться с подобными фактами,
противоречащими их теории, вынуждает и Пухту отступить от своих начал, вследствие чего
они волей-неволей впадают в противоречие. В том же сочинении «О призвании
нашего времени к законодательству и правоведению», где Савиньи утверждает,
что развитие права носит исключительно национальный характер, он допускает
и возможность иноземных влияний. Наряду с утверждением, что право
развивается непроизвольно, он говорит, что бывают случаи, когда вмешательство
законодателя в процесс развития права является желательным и даже необходимым.
Рядом с утверждением, что право есть проявление народного самосознания, мы
у Савиньи и Пухты встречаем признание, что от этого пути бывают отклонения.
Говоря об образовании государства, Савиньи признает, что фактором создания
государства бывают и насильственные акты, как, например, завоевания.
Подобные события, как бы часто они ни встречались, говорит Савиньи, суть не более
как аномалии. Естественным базисом развития права и в этом случае остается
народное самосознание, развитие его действием внутренних сил остается
нормальным способом его образования. Если в этот естественный процесс развития
права вторгается иноземное влияние, то оно может быть переработано
нравственными силами народа; если такая переработка не удастся, то это знаменует
болезненное, ненормальное состояние права.
Этими словами Савиньи в сущности ниспровергает основы собственного
своего учения. Мы видели, что, по его мнению, процесс развития права подчинен
действию непреложных законов, против которых бессилен человеческий разум и
нарушить коих не может никакое вмешательство законодателя; — теперь
оказывается, что свободная деятельность человека может задержать и
остановить этот естественный рост права. Сначала Савиньи утверждает, что в праве
господствует исключительно национальный элемент, что развитие права является
эволюцией принципов, коренящихся в глубине национального духа, — теперь
оказывается, что этот путь развития права — только желательный, нормальный
путь, — тот идеал, которым должен руководствоваться законодатель. Обращаясь
к законодателю с идеальными требованиями, настаивая, в частности, чтобы
законодатель был выразителем народных воззрений, Савиньи предполагает, что
законодатель свободен исполнить или не исполнить эти требования. Таким обра-
330
зом, начав с отрицания свободы личности, он в конце концов оказывается
вынужденным ее признать, обращается к ней с пожеланиями и требованиями.
С противоречивым и двойственным отношением старой исторической школы
к человеческой свободе связывается столь же противоречивое ее отношение к
вопросу о естественном праве. С одной стороны, ее учение о непроизвольном
развитии права должно было привести к ее отрицанию естественного права. Если
право развивается само собой, независимо от всякой сознательной деятельности
людей, исключительно в силу естественного роста, то, очевидно, человек не
может предъявлять к нему никаких нравственных требований, а следовательно,
не может быть речи о желательном изменении права. Если неизменный, роковой
закон развития исключает какое бы то ни было участие личного творчества в
создании права, то предъявлять к праву нравственные или даже
естественно-правовые требования так же нелепо, как желать изменения законов развития мира
растительного или животного. Однако Савиньи и Пухта не остаются
последовательными: отвергая участие свободного творчества личности в развитии права,
они в то же время говорят о желательном направлении деятельности
законодателя. Утверждая, что свободная человеческая личность занимает по отношению
к правовому развитию положение пассивного зрителя, они в то же время
предъявляют к законодателю идеальные требования и постольку невольно становятся
на почву естественного права.
Проф. Новгородцев13 в своей интересной диссертации, посвященной вопросу
об исторической школе, обратил внимание на эти противоречия представителей
старой исторической школы. Так, Савиньи утверждает, что «единственное
разумное право» — есть право, живущее в сознании народа: задача правителей и
законодателей заключается в том, чтобы с ним сообразоваться. Новгородцев верно
заметил, что, говоря о единственно-разумном праве, Савиньи приходит к
признанию своего рода естественного права. Отвергая в принципе естественное право
и не желая признавать никакого права, кроме положительного, исторически
сложившегося, историческая школа в действительности не может обойтись без идеи
естественного права.
В этом основном противоречии исторической школы выразилась вся
несостоятельность одностороннего и узкого историзма. Восставая против учения
естественного права, сторонники исторической школы думают в истории найти
подтверждения и доказательства своего учения. Но суд истории высказывается
против них: история показывает, что всякий прогресс действующего права
обусловлен критическим отношением к нему, а такая критика возможна только на
почве правового идеала. Естественное право в качестве такого критерия
действующего права играет в истории роль того основного двигателя, без которого
невозможно никакое движение вперед. Изучение истории приводит, следовательно,
к осуждению чистого историзма, и учение Савиньи и Пухты должно рухнуть как
вследствие несогласия с действительностью, так и под бременем собственных
внутренних противоречий.
Господство воззрения Савиньи продолжалось до 50-х годов текущего
столетия, которые были поворотным пунктом в развитии философии права и
юриспруденции вообще. Поворот этот связывается с именем знаменитого немецкого
юриста Рудольфа Иеринга. Он нанес учению старой исторической школы
сокрушительный удар и формулировал новое, более совершенное учение о
происхождении права; в учении Иеринга историзм вступил в новую стадию своего
развития.
331
Как ни разнилось, однако, учение Иеринга от учения его предшественников,
оно все-таки было не более как новым выражением чисто исторического
воззрения на право. Устранив многие ошибки и непоследовательности прежних
ученых — Гуго, Савиньи и Пухты — Иеринг не мог избегнуть всех тех недостатков,
которые по необходимости присущи односторонне историческому пониманию
развития права.
Однако, прежде чем обратиться к недостаткам учения Иеринга, мы сначала
остановимся на положительных его достоинствах и посмотрим, в чем
заключается заслуга Иеринга перед современной наукой.
Одна из наиболее существенных заслуг Иеринга состоит в том, что он доказал
несостоятельность учения Савиньи и Пухты о непроизвольном и безболезненном
развитии права. Учение это, по Иерингу, представляет собой прежде всего
фантастическое построение: нелепо предполагать, что юридические понятия
достаются людям готовыми, без всякого с их стороны труда. На самом деле человек
является всегда борцом за право; он принимает самое деятельное участие в процессе
образования и развития права. Обращаясь к истории, мы видим, что каждое
новое юридическое понятие было для людей плодом ожесточенной борьбы и
напряженных усилий. Если таков процесс развития права в исторические времена,
то нет никакого основания предполагать, что как-либо иначе происходило
развитие права в доисторическое время, в эпоху первобытной культуры, когда
складывались самые основные юридические понятия. Такие понятия, как
собственность, обязательство, власть, возникли благодаря долгой и упорной борьбе.
Предполагать, что на выработку этих понятий не требовалось никаких усилий,
что человек нашел их готовыми в своем уме так же нелепо, как думать, что
человек нашел готовыми земледельческие орудия или домашнюю утварь. Для того
чтобы выработать юридические понятия, люди должны были долго трудиться,
думать, совершать то неудачные, то удачные попытки в течение, может быть,
целых столетий. Борьба за право требовала, однако, не только умственных усилий,
но и громадного напряжения воли: все нормы юридические всегда так или иначе
затрагивают и ограничивают чьи-либо интересы, и, чтобы восторжествовать над
враждебными ему интересами, право должно вести с ними постоянную и
упорную борьбу. Нарушение старых юридических норм и зарождение новых стоит
человечеству нередко целых потоков крови. Человечеству приходится не только
отыскивать новые юридические понятия, но и опрокидывать препятствия,
преграждающие путь прогрессивному движению права. Процесс смены старых
правовых воззрений и норм новыми не есть, стало быть, процесс безболезненного
роста. Он представляет собой результат борьбы, которая нередко выражается
в форме насильственных переворотов, революций.
Борьба против старого порйдка ведется во имя идеи права; право
существующее разрушается во имя права долженствующего быть.
Будучи неверным теоретически, учение Савиньи и Пухты, по Иерингу, может
иметь весьма вредное практическое влияние: в качестве политического правила
это учение — одно из самых гибельных заблуждений человеческого ума: в
области права, где человек должен действовать со всей энергией своего ума, Савиньи
убаюкивает надеждой, что все делается само собой: человеку остается сложить
руки и спокойно ожидать, пока непроизвольный процесс развития не создаст
лучшего правового порядка. Одушевленный консервативными убеждениями,
Савиньи требует, чтобы настоящее находилось в тесной связи с прошлым;
напротив, учение Иеринга звучит как призыв к обновлению; он учит, что право может
332
обновляться только отказываясь от своего прошлого, «право — это Сатурн,
пожирающий собственных детей».
Отбрасывая, таким образом, целый ряд ошибочных положений Савиньи
и Пухты, Иеринг остается, однако, верным одной идее учения этих
мыслителей, — идее закономерного развития права. Идея эта еще до Савиньи была
высказана Монтескье, а затем нашла себе выражение и в творениях Юма. Но только
благодаря Савиньи она утвердилась в юриспруденции Нового времени, и в этом
заключается капитальная заслуга старой исторической школы. Самый закон
развития права был определен Савиньи неверно, но, усматривая в этом развитии
процесс закономерный, историческая школа не ошиблась. Развитие права
подчиняется так же непреложным законам, как развитие ума — законам логики,
развитие воли и всего психического склада человека — законам коллективной
психологии и социологии. Это представление о закономерном развитии права
является одним из вековечных завоеваний человеческого разума и должно служить
одной из основ всякого учения о праве.
Однако, восприняв истинный элемент учения Савиньи и Пухты, Иеринг
усвоил и часть их заблуждений, и в отношении к естественному праву, несмотря на
различия в других пунктах, он разделяет ошибки исторической школы. С одной
стороны, Иеринг как будто ближе подходит к учению о естественном праве, чем
Савиньи и Пухта, с другой стороны, он утверждает, что в праве нет ничего
такого, чтобы не составляло продукт исторического развития человечества.
Мысль Иеринга тут не чужда противоречий. Мы видели, что, по учению Ие-
ринга, право представляет собой результат свободной деятельности человека
и что идея права является основным фактором прогрессивного развития права.
Развитие права совершается путем беспрерывной борьбы, и лозунгом этой
борьбы, по Иерингу, служит «идея права». Сам Иеринг признает, что слово «идея
права» олицетворяет одну из труднейших задач философии права; за этим
выражением скрывается мысль о расчете науки с правом, скрывается критика всей
предшествовавшей истории права. Такое понимание «идеи права» вполне
согласно с тем, что учат сторонники естественного права, и Иеринг мог бы быть
причислен к ним, если бы у него не встречалось изречение диаметрально
противоположного характера. Та идея права, которая должна служить критерием для всего
исторически сложившегося и действующего права, по Иерингу, сама есть
всецело продукт истории. Тут-то и обнаруживается противоречие учения знаменитого
юриста. Он забывает, что идея, которая является перводвигателем и конечной
целью исторического процесса, сама не может быть его результатом. Поскольку
идея права служит необходимым условием процесса развития права, она
предшествует этому развитию и, следовательно, не может быть его результатом. Идея
права представляет часть нравственности, совокупность требований, которые
нравственность предъявляет к праву. Этот нравственный идеал может быть
двигателем исторического процесса лишь при том условии, если существует такой
нравственный закон, который находится вне движения, вне развития. Между
тем Иеринг признает, что нравственность, как и право, есть всецело продукт
истории; что история создала то, что мы называем нравственным законом.
Пытаясь доказать это положение, он впадает в заблуждение эволюционистов, которое
мы отметили, говоря об отношении Эволюции к нравственности. Из того, что
нравственные понятия человечества изменяются, он заключает, что
нравственные законы изменчивы. Все нравственные и юридические понятия, учит он,
не исключая и самых элементарных, не прирождены человеческому сознанию,
333
а приобретаются им путем постепенного накопления исторического опыта.
Только опыт мог научить человека, что должно не грабить и убивать, только опыт
научил его, что без соблюдения нравственных и правовых норм невозможна
общественная жизнь. Как природа не научила его приготовлять пищу, делать
утварь, строить дома и т. д., так точно не дала она ему никаких указаний для
образования нравственных понятий и необходимых юридических установлений.
Из того, что нравственный закон постепенно сознается и усвояется человеком,
Иеринг делает вывод, что этот закон есть продукт постепенного исторического
развития человека.
Отсюда вытекает то двойственное отношение Иеринга к естественному праву,
который составляет слабый пункт его учения. Все учение его о происхождении
права носит печать внутреннего противоречия. С одной стороны, Иеринг
утверждает, что необходимым фактором правового прогресса служит идея права, то есть
представление о праве, как оно должно быть; с другой стороны, он говорит, что
все нравственные и юридические понятия представляют собой только результат
коллективного опыта. Однако в опыте мы видим только право, каково оно есть;
опыт не дает нам никаких указаний о том, каково оно должно быть.
Противоречие это наглядно обнаруживается из собственных слов Иеринга в том же
сочинении «Цель в праве», где он утверждает, что все нравственные и юридические
понятия произошли из опыта; он учит, что существование всех юридических норм
обусловлено, что «цель есть творец права». Все правовые учреждения возникли
ради осуществления различных целей человека: ради цели самосохранения
возникла собственность, для охранения, безопасности личности и имущества
возникло государство; все вообще юридические учреждения возникли ради
осуществления каких-либо практических целей человека. В этом смысле Иеринг
и говорит, что цель есть творец права; но при этом он забывает, что право в таком
случае не может быть только результатом опыта, ибо цель есть нечто такое, чего
нет в действительности, чего мы не находим в опыте. Ясно, что в основе учения
Иеринга о происхождении права лежит непримиримое противоречие.
Односторонность идеализма, господствовавшего в конце прошлого и в начале
нынешнего столетия, заключается в том, что он считал возможным вывести а
priori, без помощи опыта и наблюдения, целую систему права. С этим
заблуждением у сторонников старого идеалистического направления связывалось ложное
представление о всемогуществе человеческого разума, о возможности создать на
началах разума новый порядок вещей, который не имел бы никаких корней в
историческом прошлом. Неотъемлемая заслуга историзма XIX века состоит в
указании на значение элемента опыта для всякого знания, в частности, на значение
опыта в развитии права и необходимость для всякого законодателя считаться
с конкретными особенностями той исторической среды, в которой ему
приходится действовать. Но, отвергнув заблуждения сторонников идеализма, историзм
впал в противоположную крайность. В лице Иеринга историзм объявил опыт
единственным источником правосознания и отверг априорный, умозрительный
элемент в образовании и развитии права. Однако умозрение и опыт
представляют необходимое условие для развития права; право не может быть
произведением ни одного только умозрения, ни исключительно одного опыта. Чтобы найти
верную теорию образования и развития права, надо возвыситься над
противоположными крайностями обоих нацравлений и установить такую точку зрения,
которая совмещала бы в себе элементы истины, присущие как идеализму, так
и историзму. Для этого необходимо определить, какова роль опыта и каково зна-
334
чение умозрительных начал в образовании и развитии права. Не подлежит
сомнению, что коллективный опыт человечества играет огромную роль в развитии
права, что без опыта мы не могли бы создать ни одного правового института.
Из опыта мы узнаем, что для обеспечения свободы необходима правильно
организованное общество, необходим закон и власть; из опыта мы узнаем, что для
обеспечения целей человеческого существования необходим институт
собственности; из опыта же мы узнаем, какое общественное и политическое устройство
наиболее целесообразно при данных конкретных условиях. Словом, опыт
указывает, каковы должны быть конкретные задачи права в каждом данном случае
и какими конкретными средствами оно может достигнуть своих целей. Но
вопрос о том, в чем должны заключаться цели права вообще, — право выходит за
пределы опыта. В самом деле, посредством опыта мы узнаем только
существующее, то, что есть, тогда как цель есть нечто такое, чего еще нет в
действительности, что должно быть; наш опыт объемлет в себе только то, что есть: вопрос
о том, что должно быть, выходит за его предел. Поэтому вопрос о том, должно ли
существовать то или другое правовое учреждение, на основании одного опыта
разрешен быть не может. Если спросить, должно ли право при данных
исторических условиях признавать принцип частной или коллективной собственности,
должна ли существовать монархия ограниченная или неограниченная или же
республика, то как бы ни были важны указания опыта, все эти вопросы на
основании одного опыта разрешены быть не могут.
Опираясь на опыт, защитники частной собственности утверждают, что она
представляет наилучшее обеспечение личной свободы в обществе. Напротив,
социалисты указывают, что частная собственность ведет к развитию капитализма,
к сосредоточению в немногих руках огромных богатств и закрепощению рабочей
массы горстью владельцев орудий производства. Данные опыта играют важную
роль в этом споре, ибо без них мы не можем решить вопрос, который
общественный строй всего лучше обеспечивает свободу личности. Но самая цель свободы,
желательность коей признается обеими спорящими партиями, не есть понятие,
заимствованное из опыта. Из опыта мы узнаем, что одни учреждения
способствуют расширению индивидуальной свободы, другие стесняют ее; но что свобода
вообще желательна, что она должна служить целью права, — из опыта мы узнать
не можем. Это — умозрительный идеал разума, та идея, которая лежит на
основе развития права.
Таким образом, в образовании и развитии права участвуют два фактора: с
одной стороны, исторический коллективный опыт человечества, с другой — идея
разума, лежащая в основе всякого правосознания, причем исторический опыт
служит средством для осуществления диктуемой разумом цели права.
С одной стороны, свобода личности является целью развития права, и
свободная деятельность человека принимает участие в развитии права и создании
новых форм; в этом отношении правы сторонники теории естественного права.
С другой стороны, человеческая свобода ограничена конкретными условиями
исторической среды, и свободная деятельность личности не в состоянии упразднить
закона постепенного развития общества и права; и в этом отношении правы
сторонники исторического направления. Развитие права обусловливается, с одной
стороны, свободной человеческой деятельностью, а с другой — совокупностью
исторических условий, среди которых приходится действовать личности.
Эволюция права, как показал Иеринг, протекает в беспрерывной борьбе с этими
препятствиями. Выяснение этого закона борьбы за право составляет бесспорную за-
335
слугу Иеринга. Конечно, учение о борьбе за право может быть принято только
с теми ограничениями, которые вводит в него сам Иеринг. Иеринг вовсе не думал
утверждать, что все право создалось путем сознательной деятельности и
сознательной борьбы; напротив, он прекрасно знает, что существует множество
обычаев, которые слагаются совершенно бессознательно и стихийно; но таким путем
развиваются только немногие второстепенные отделы права; важнейшие же
юридические понятия составляют плод борьбы и напряженных усилий
человеческой воли.
Отдельные элементы понятия о праве
Всякое право как в широком, так и в тесном значении заключает в себе
элемент личный и общественный.
С одной стороны, право, как норма, ограничивает свободу личности ради
интересов общества; с другой стороны, оно представляет индивидууму известную
сферу свободы, на которую не должны посягать остальные члены общества.
Стало быть, право может рассматриваться 1) как совокупность норм,
предоставляющих, но вместе с тем и ограничивающих свободу личности, и 2) как свобода,
предоставленная и ограниченная нормами. Другими словами, право есть 1)
объективный порядок, регулирующий отношения людей в обществе, и 2) оно
заключает в себе индивидуальные права или правомочия отдельных лиц,
признаваемые и предоставляемые юридическими нормами. Учение о праве,
соответственно с этим, должно распадаться на два отдела: право в объективном смысле
и право в субъективном смысле.
Под правом в объективном смысле нужно разуметь совокупность всех
юридических норм.
Совокупность норм, обнимающих специальный вид отношений, например,
отношений семейных, вытекающих из собственности, и др., называется
институтами объективного права, или юридическими институтами.
Совокупность институтов, составляющих вместе целый отдел объективного
права или обнимающих право целого государства, называется системой права.
Под правом в субъективном смысле следует разуметь ту сферу внешней
свободы, которая предоставляется человеческой личности нормами объективного
права.
Всякая юридическая норма создает для определенного разряда лиц ряд
правомочий, притязаний и вместе с ^ем заключает в себе требование, повеление,
обращенное к другим лицам, чтобы они не нарушали этих правомочий.
Устанавливая, с одной стороны, права, юридические нормы определяют,
с другой стороны, соответствующие им обязанности. Если, например, Иван
является кредитором Петра, то есть имеет право на получение с последнего долга,
то Петр обязан уплатить ему. Если юридические нормы закрепляют имущество,
положим, за Григорием, то все црочие лица обязаны уважать собственность
Григория.
Стало быть, рядом с учением о правах, отдел о праве в субъективном смысле
заключает в себе учение об обязанностях. Засим, создавая права, с одной
стороны, обязанности, с другой стороны, всякие юридические нормы тем самым
создают юридические отношения или, что то же, правоотношения между лицами. Та-
336
ким образом, в область права в субъективном смысле входят права, обязанности
и юридические отношения.
Право в объективном смысле
Учение о праве в субъективном смысле предполагает знакомство с сущностью
юридических норм, то есть с природой права в объективном смысле. Поэтому
в учении об отдельных элементах права — право в объективном смысле должно
составить первый отдел.
Вопрос о функциях юридических норм до сих пор является спорным вопросом
в науке. Одни ученые (Бирлинг, Тон, Коркунов и прочие) учат, что все
юридические нормы заключают в себе повеления или императивы. Другие (например,
Цительман14) утверждают, что рядом с нормами повелительными существуют
нормы, не заключающие в себе велений, например, нормы дозволительные,
предоставленные и др. Наконец, проф. Петражицкий находит, что оба учения могут
быть признаны одинаково правыми и неправыми, так как каждая норма
заключает в себе, с одной стороны, повеление, а с другой — дозволение, а потому все
юридические нормы суть одновременно повелительные и предоставителъные.
Доводы проф. Петражицкого по многим отношениям кажутся убедительными.
Ошибка проф. Петражицкого, как указано выше, заключается лишь в том, что
в этой двоякой функции он видит основное отличие норм юридических от норм
нравственных. В самом деле, нетрудно убедиться, во-первых, в том, что всякая
норма заключает в себе повеление, которое может быть выражено и в
положительной и в отрицательной форме.
Если одни нормы предписывают что-нибудь делать, а другие запрещают что-
либо делать, то на этом основании нельзя делить юридические нормы на
повелительные и запретительные. Всякий запрет ведь есть повеление чего-нибудь не
делать, воздерживаться от какого-либо действия, и, следовательно, юридические
нормы, запрещающие какое-нибудь действие, должны быть отнесены к разряду
повелительных. Если закон воспрещает ростовщичество и предписывает
наказание за нарушение этого требования, то эти нормы — повелевающие и
запрещающие одинаково относятся к числу норм запретительных.
Аргументация ученых, отвергающих повелительный характер всех
юридических норм, покоится на недоразумении. Именно они делят юридические нормы
на различные виды, причем единственным основанием такого деления служит та
словесная форма, в которую он!и облекаются в юридических памятниках и
сборниках законов. Однако за этим словесным различием не скрывается никакого
действительного различия юридических норм. Иногда законодатель вместо
повелительного употребляет описательный способ выражения; статья 47 наших
основных законов гласит: «Российская Империя управляется на твердом
основании законов, уставов и учреждений, от Самодержавной Власти исходящих».
Из описательного способа выражения этой статьи нельзя заключать, что мы
имеем дело с описательной, а не повелительной нормой права: на самом деле статья
47 заключает прямое повеление, обращенное ко всем должностным лицам, чтобы
они управляли не по личному цроизволу, а согласно с законом.
Когда положительный закон определяет состав какого-нибудь учреждения,
при этом также часто употребляется описательная форма выражения. Например,
337
статья 40 Университетского Устава 1884 года гласит: «Правление Университета
состоит под председательством ректора из деканов всех факультетов и
инспектора». И тут, несмотря на описательную форму выражения, закон заключает в себе
повеление, чтобы Правление Университета составлялось из определенных лиц.
Противники сведения всех юридических норм к нормам повелительным
отличают от последних еще нормы определительные, отрицательные,
дозволительные. Но по внимательном рассмотрении оказывается, что такая классификация
основана только на особенностях словесной редакции тех или других законов.
Этой классификации не соответствует реальное различие юридических норм, ибо
все перечисленные нормы непременно заключают в себе повеление.
Сплошь и рядом та или другая статья закона дает то или другое юридическое
определение: например, законодатель определяет, что такое кража, грабеж,
мошенничество и пр. На этом основании некоторые ученые говорят, что
существует особая категория норм определительных. Но ясно, что это утверждение
покоится на недоразумении, так как всякое законодательное определение заключает
в себе повеление. Если закон определяет понятие кражи, то тем самым он
повелевает, чтобы суд применял наказания, назначенные за кражу только к тем
действиям, которые подходят под определение, данное законом.
Точно так же нельзя говорить о каком-либо самостоятельном виде
отрицательных норм. Под отрицательными обыкновенно разумеют те нормы, которые
указывают, что с некоторыми фактами не должно связывать известных
юридических последствий. В действительности мы имеем здесь дело не с
самостоятельными нормами, а с постановлениями законодательства, которые отменяют или
ограничивают уже раньше существовавшие нормы, имеющие повелительный
характер. Так, например, если закон постановляет, что преступления,
совершенные неумышленно, не наказываются, то такие постановления законодательства
не создают новых форм, а только вносят ограничения в другие юридические
нормы, в силу которых всякое преступление подлежит наказанию.
По преимуществу служат предметом спора так называемые дозволительные
или предоставительные нормы права. Противники сведения всех юридических
норм на нормы повелительные утверждают, что рядом с повелительными
существует множество норм, не заключающих в себе никакого повеления, а только
дозволяющих или предоставляющих что-либо делать. Нормам такого рода
дается название дозволительных или предоставительных. Однако при внимательном
разборе этого утверждения обнаруживается, что оно основано на недоразумении.
В законодательных сборниках действительно можно встретить статьи,
имеющие характер дозволительный, но из этого еще не следует, чтобы
соответствующие юридические нормы не заключали в себе повелений. Статьи этого рода
можно разбить на несколько групп. Во-первых, некоторые статьи закона, имеющие
дозволительный характер, выражают полную или частичную отмену
существовавших раньше запрещений. Такие статьи не установляют новых норм права,
а только уничтожают прежние, имевшие повелительный характер. Допустим,
например, что закон раньше воспрещал студентам вступать в брак, а затем
появилось новое правило, разрешающее им жениться с согласия
университетского начальства; это не будет новая, дозволительная норма права, а только
частичная отмена старой, заключавшей в себе повеление, выраженное в
отрицательной форме. t
Другую группу так называемых «дозволительных норм» составляют статьи,
вставленные в законодательные сборники в целях редакционных. Законода-
338
тель часто выражает какое-нибудь дозволение делать что-либо только для того,
чтобы тут же высказать запрещение, ограничивающее дозволение. Положим,
например, что закон разрешает всем русским подданным приобретать имения
везде в пределах Российской Империи, но ограничивает это дозволение,
говоря, что из этого общего правила изъемлются поляки и евреи, коим не
разрешается покупать имений в юго-западном крае. Тут, очевидно, содержание
юридической нормы заключается не в дозволении всем русским подданным
приобретать имения, а в запрещении этого полякам и евреям. Здесь мы опять-
таки имеем не дозволительную норму, а повелительную, выраженную в
отрицательной форме. Дозволение же в данном случае имеет исключительно
редакционное значение.
Существует еще третья группа статей закона, заключающих дозволение.
В этих статьях дозволение не является ограничением прежнего запрещения
или редакционным придатком, а играет действительно существенную роль.
Примером таких законов может служить закон, предоставляющий кредитору
требовать уплаты долга; закон, разрешающий губернатору в случае народных
волнений и беспорядков прибегать к содействию войск; наконец,
университетский устав, предоставляющий студентам право любого из двух профессоров,
читающих параллельные курсы по одному и тому же предмету. Во всех этих
случаях дозволение имеет действительно важное значение; но следует
заметить, что кроме дозволения все эти законы содержат в себе и повеление.
Предоставляя одним лицам право, закон параллельно с этим налагает на других
положительные обязанности, соответствующие предоставленным правам и, стало
быть, — повелевает. Так, в перечисленных случаях праву губернатора
обращаться к содействию войск соответствует положительное повеление
начальнику гарнизона в известных случаях являться на помощь к губернатору; праву
кредитора требовать уплаты долга соответствует повеление должнику —
уплатить долг; дозволению студентам слушать одного из двух профессоров,
читающих параллельный курс, соответствует повеление факультету засчитывать
семестр студентам, независимо от того, который из двух параллельных курсов
они слушали.
Таким образом, оказывается, что так называемые дозволительные нормы,
подобно вообще всем юридическим нормам, содержат в себе повеление и что, стало
быть, повеление является непременной функцией всех юридических норм без
исключения. Ошибочно было бы, однако, думать на этом основании, что функции
юридических норм сводятся только к повелениям норм.
Всякая норма права, с одной стороны, повелевая, налагая обязанности и
будучи поэтому повелительной, с другрй стороны, дозволяет, предоставляет тем или
другим лицам те или другие права и является, таким образом, дозволительной.
Существенное свойство юридических норм заключается именно в том, что тем
правам, которые они налагают, всегда соответствуют чьи-либо обязанности. Так,
например, закон, предоставляющий собственнику пользоваться данной вещью,
налагает на всех прочих людей обязанность не нарушать этого права.
Обязанности подданных повиноваться соотвествует право государственной власти
повелевать и т. д. Праву, таким образом, свойственна двойственная функция:
повелительная и предоставительная. На этом основании проф. Петражицкий в своем
литографированном курсе замечает* что все юридические нормы суть в одно и то
же время повелительные и предоставительные, или, как он выражается, все
нормы суть одновременно императивы и атрибутивы.
339
Если бы нормы выражали только веления, то они не создавали бы никакого
права. Если бы, например, закон предписывал платить долг, но не предоставлял
бы права требовать его, то не было бы права на долг. Стало быть, дозволение
составляет столь же существенную функцию юридических норм, как и повеление.
Такая характеристика юридических норм вполне согласуется с тем
определением права, которое было сделано в начале нашего курса. Мы видели, что право
как в обширном, так и в тесном смысле слова, с одной стороны, предоставляет
лицу определенную сферу внешней свободы, с другой — ограничивает ее. Эти два
элемента права находят себе выражение в двух упомянутых функциях
юридических норм: дозволением норма отводит известную сферу свободы, а повелением
ограничивает индивидуальную свободу ради общих интересов. Например,
норма, устанавливающая право частной собственности, с одной стороны,
предоставляет лицу свободу пользоваться вещью; с другой стороны, повелевает остальным
людям не нарушать этой свободы. Норма, предоставляющая мне право на жизнь,
в то же время содержит повеление прочим лицам не нарушать моего права.
Итак, дозволение и повеление суть основные функции всех юридических
норм; следовательно, ошибочно было бы думать, что нормы дозволительные и
повелительные составляют два самостоятельные вида юридических норм.
От этих общих замечаний, касающихся вообще всех юридических норм,
перейдем теперь к обзору отдельных форм права в объективном смысле.
Разделение форм права по условиям его обязанности.
Источники права
Мы уже убедились в предшествовавшем изложении, что в зависимости от
того, чем обусловливается обязательность правовых норм, все они могут быть
разделены на две различные группы, причислены к двум основным формам права.
Все те правовые нормы, коих обязательность обусловливается санкцией того или
другого внешнего авторитета (например, государства, церкви, вообще того или
другого организованного общества), суть нормы права позитивного или
положительного. Напротив того, все те правовые нормы, коих обязательность не
обусловливается каким-то внешним авторитетом, а требованиями разума, суть
нормы права естественного.
Общественный авторитет, создающий нормы права позитивного, выражается
и проявляется двумя различными способами, а соответственно с этим и
позитивное право, в свою очередь, распадается на две основные формы. Во-первых,
нормы позитивного права могут возникать вследствие прямого предписания власти,
представляющей собой авторитет того или другого общества и устанавливающей
законы, обязательные для всех его членов. Таков наиболее распространенный
способ возникновения правовых норм в государстве, церкви и международном
союзе государств. Но законодательство — далеко не единственная форма
проявления общественного авторитета и, следовательно, — далеко не единственный
способ возникновения позитивного права.
Нормы позитивного права могут возникать и слагаться помимо всякого
вмешательства законодателя и вообще власти: они могут слагаться, так сказать,
сами собой, путем обычая, причем в последнем случае основанием их обязательно-
340
сти служит авторитет той или другой общественной среды, подчиняющейся
обычаю. Были времена, когда еще не существовало ни власти государственной,
ни какой-либо другой постоянно организованной власти, могущей
законодательствовать от имени того или другого общественного союза, а люди все-таки
подчинялись известным правовым нормам; у диких народов мы находим теперь
множество правил несомненно юридических, которые сложились и приобрели
значение права сами собой, путем обычая без всякого предписания какой-либо
власти; обязательность таких правил обусловливается тем, что они в течение
более или менее продолжительного времени выражают собой воззрения того или
другого народа, той или другой организованной группы людей; здесь
общественный авторитет выражается в форме привычки данного общества подчиняться тем
или другим правилам, в виде обычая. На низших ступенях культуры все вообще
нормы позитивного права возникали и создавались таким образом, ибо
позитивное право начало существовать раньше, чем создалось государство, раньше, чем
возникла власть законодательная и вообще какая бы то ни было власть. Самая
власть (в качестве постоянного учреждения) обязана своим первоначальным
образованием обычаю, то есть постепенно выработавшейся привычке людей —
повиноваться тому или другому предводителю, подчиняться известным
учреждениям, связующим отдельную группу людей в единый народ или племя. Да и не
только на первобытных ступенях культуры — у народов цивилизованных точно
так же существует много правил, получивших значение позитивного права не
в силу предписания законодателя, а в силу долговременного и однообразного их
применения, иначе говоря, в силу обычая.
Соответственно с этими двумя главными способами образования норм,
должно различать две основные формы позитивного права — закон и обычай. Рядом
с этими основными формами права некоторые ученые различают еще некоторые
побочные — административные распоряжения, судебную практику, право
юристов. В последующем изложении нам придется рассмотреть, действительно ли
этим названиям соответствуют самостоятельные формы права.
Перечисленные формы права нередко называются также источниками права.
Термин «источник права» принадлежит к числу таких, с коими приходится
ежеминутно сталкиваться при изучении юридических наук, вследствие чего здесь
представляется необходимым разъяснить его значение. Вряд ли можно
согласиться с мнением Рененкампфа15, который под «источниками права» понимает
силы, причины, образующие право: нормы позитивного права суть результат
взаимодействия сложной совокупности исторических причин, из коих далеко не
всем усвоено в науке название «источников права». Так, например, новые формы
государственного права, в частности, нормы, определяющие устройство
верховной власти, нередко возникаю!· вследствие революций; новые формы уголовного
права могут возникать вследствие появления каких-либо новых преступлений,
которые раньше не предвиделись уголовным законодательством; развитие
фабрик и заводов вызывает появление законов, регулирующих взаимные отношения
хозяев и рабочих. Все перечисленные явления общественной жизни так или
иначе влияют на образование, развитие норм положительного права, и, однако,
никому никогда не приходило в голову — назвать их источниками права.
Стало быть, под источниками прайа следует разуметь не все те причины, так
или иначе влияющие на образование правовых норм, а только некоторые из них.
Под этим термином в науке права следует разуметь вовсе не те причины, которые
так или иначе влияют на содержание правовых норм, а только те именно причи-
341
ны или силы, которые сообщают тем или другим правилам значение правовых
норм, то есть обусловливают собой их обязательность. Это можно объяснить
рядом примеров. Существует ряд правовых норм, ограждающих собственность
против чужих посягательств. Содержание этих норм обусловливается весьма
разнообразными причинами, например, существованием разнообразных видов
воровства и мошенничества, необходимостью обеспечить собственность в
интересах мирного общения людей; все эти причины влияют на содержание правовых
норм, но тем не менее ни факт существования воровства, ни общественный
интерес, требующий ограждения собственности, не сообщают нормам, ограждающим
собственность, их правовой, юридической силы: нормы эти становятся нормами
позитивного права или в силу закона или же в случае отсутствия власти,
могущей издавать закон для данных отношений, в силу обычая, который
устанавливает известное наказание за воровство. Закону и обычаю свойственно возводить
известные правила на степень норм позитивного права: в этом смысле мы и
можем назвать закон и обычай источниками права. Итак, под источниками права
следует подразумевать те причины и условия, которые сообщают известным
правилам значение норм позитивного права. Все эти причины или условия,
собственно говоря, сводятся к одному первоначальному условию, следовательно, к
одному первоначальному источнику позитивного права: таковым является
авторитет того общества людей, в котором действуют данные нормы позитивного
права. Мы уже знаем, что необходимый признак всякого вообще позитивного
права, в отличие от права естественного, заключается в том, что обязательность
первых обусловливается всегда каким-либо общественным авторитетом. Вот
почему я и говорю, что общественный авторитет есть основной источник всякого
позитивного права, — к этому авторитету в конце концов сводятся те два
источника права, о которых мы уже говорили раньше, закон и обычай. Почему
законодательной власти присвоено полномочие издавать правила, обязательные для
всех граждан данного государства? Потому, что законодатель олицетворяет
собой авторитет определенного союза, определенного общества людей. Почему
долговременно соблюдавшийся обычай может сообщать известным правилам
значение правовых норм? Потому, что в таких обычаях проявляется авторитет
целой общественной среды, которая им подчиняется. Таким образом,
первоначальным источником позитивного права является тот или другой общественный
авторитет, устанавливающий правовые нормы; закон и обычай заслуживают
названия источников права лишь в качестве способов проявления общественного
авторитета.
От «источников права» следует точно отличать «источники правоведения»
или источники нашего познания о праве. Мы узнаем о существовании норм
позитивного права из сборников, изданных теми или другими правительственными
органами или частными лицами, из исторических памятников или ученых
сочинений. Все это — источники нашего познания о праве, стало быть, источники
правоведения, а не источники права. Закон у нас в России имеет обязательную
силу не потому, что он помещен в Своде Законов, а потому, что он издан
законодательной властью. Стало быть, Свод Законов ни в каком случае не есть источник
права, а только источник нашего познания о праве, следовательно, источник
правоведения.
Рассмотрим теперь каждую из названных нами форм позитивного права в
отдельности и начнем с той формы, которая исторически предшествовала всем
прочим — с права обычного.
342
Обычное право
Прежде всего следует ответить на вопрос о том, что такое обычай
юридический и чем он отличается, с одной стороны, от закона, с другой стороны, от
обычая простого, не имеющего юридического значения. Отличие юридического
обычая от закона установить нетрудно. Если под законами в широком смысле этого
слова следует разуметь все те правовые нормы, которые возникли вследствие
прямого предписания власти, то под юридическими обычаями следует понимать
такие нормы позитивного права, которые сложились безо всякого
вмешательства какой бы то ни было власти, вследствие однообразного и постоянного
применения к однородным случаям жизни того или другого правила. Совокупность
правовых норм, сложившихся таким образом и применяющихся в пределах той
или другой общественной группы, называется обычным правом данной
общественной группы.
Далеко не все обычаи, господствующие в той или другой общественной среде,
суть обычаи юридические: путем обычая создается ряд правил, вовсе не
имеющих правового содержания: путем обычая слагается целый кодекс
общепринятого, господствующий в том или другом обществе; этим путем слагаются все
правила приличия и образуется необозримое множество обрядов, исполняющихся
в разных случаях жизни, например, обряды свадебные, похоронные,
праздничные. Никому не придет в голову утверждать, чтобы такие обычаи, как,
например, обычай есть куличи или обмениваться красными яйцами на праздники
Пасхи, обычай наших крестьян креститься на все четыре стороны при входе в дом
или наш обычай надевать белый галстук, когда мы идем на бал, суть обычаи
юридические: кто не ест куличи на Пасху, тот, очевидно, не считается нарушителем
чьего-либо права: равным образом если мой сюртук или галстук будет несколько
отличаться от общепринятого типа, то меня или сочтут чудаком, или скажут, что
я не знаю приличий, но никто не сочтет меня нарушителем чужого права.
В чем же заключается разница между обычаями юридическими и
неюридическими? Ответ на этот вопрос сам собой предрешается данным уже нами раньше
определением права. Мы видели, что отличительная черта всякой правовой
нормы заключается, с одной стороны, в предоставлении, с другой стороны — в
ограничении внешней свободы лиц. Предоставляя определенную сферу внешней
свободы одним лицам (управомоченным), правовая норма соответственным образом
ограничивает сферу внешней свободы других лиц (обязанных). Юридическими,
следовательно, должны признаваться только те обычаи, которые заключают в
себе оба эти необходимых признака правовых норм, следовательно, только те,
которые, предоставляя известнуюсферу внешней свободы одним лицам,
соответственным образом ограничивают внешнюю свободу других лиц.
Само собой разумеется, что при таком понимании юридического обычая самая
область обычного права значительно расширится: в нее войдет многое такое, что
с точки зрения господствующего учения вовсе не относится к области права. Так,
например, обычай дуэли в тех странах, где дуэль не признается или даже прямо
воспрещается государственной властью, с точки зрения, весьма
распространенной в науке, вовсе не является нормой права. Многие из современных юристов
склонны видеть в дуэли простой обычай, условное правило общежития, а не
юридическую норму. Это воззрение должно быть признано безусловно ошибочным:
из того, что обычай дуэли не признается государственной властью в тех или дру-
343
гих государствах, вовсе не следует, чтобы он был лишен юридического значения;
ибо признание государственной властью, как мы видели, вовсе не служит
отличительным признаком права. Если считать юридическими только те обычаи,
которые признаются государственной властью, то придется прийти к тому
заключению, что ранее образования государства право вообще не существовало, —
заключение, с которым не согласится ни один образованный юрист. Мало того,
с этой точки зрения пришлось бы признать лишенными правового значения
вообще все те нормы, которые не признаются государством; на этом основании
пришлось бы отвергать, например, юридический характер норм права церковного
и международного в тех странах, где эти нормы не пользуются официальным
признанием государственной власти. Наконец, с точки зрения разбираемого
воззрения пришлось бы признать, что самая государственная власть не имеет
никаких юридических оснований, так как права государственной власти, очевидно,
не могут обусловливаться ее собственным признанием; если государственная
власть имеет право повелевать своим подданным, то это обусловливается,
очевидно, не тем, что сама она признает за собой такое право.
Если признание или непризнание государственной властью того или другого
обычая за право не может служить признаком для различения обычаев
юридических от обычаев простых, то нет никаких оснований не признавать обычай дуэли
за обычай юридический. В этом обычае мы имеем норму, которая, с одной
стороны, предоставляет известную сферу внешней свободы одному лицу —
оскорбленному, и подвергает соответственному ограничению свободу другого лица —
оскорбителя. Оскорбленный может вызвать на поединок оскорбителя, ему, значит,
предоставляется свобода располагать определенными действиями последнего;
с другой стороны, оскорбитель обязан принять вызов; тем самым налагается на
его внешнюю свободу известное ограничение в пользу оскорбленного;
следовательно, здесь имеются налицо все необходимые признаки нормы права, притом
права обычного, так как обязательность дуэли всецело покоится на
авторитетности обычая, господствующего в той или другой среде. Или возьмем какой-либо
другой пример: обычай родовой мести, господствующий у кавказских горцев,
есть обычай несомненно юридический, так как он ограничивает свободу
отдельных родичей, предписывая им месть и вместе с тем предоставляет сородичам
свободу требовать друг от друга исполнения этой обязанности. Здесь опять-таки мы
имеем дело с обычаем юридическим, несмотря на то что этот обычай не
признается государством. Указание на безнравственность таких обычаев, как дуэль и
родовая месть, разумеется, не может служить аргументом против их правового
юридического характера, потому что, как мы видели, нравственность
предписания вообще не служит необходимым признаком правовой нормы: есть много
норм, прямо безнравственных по содержанию (например, крепостное право)
и вместе с тем — несомненно юридических. Требование, чтобы право всегда
согласовалось с нравственностью и разумом, есть требование идеала, которому
действительность далеко не всегда соответствует. К тому же, как мы видели, далеко
не все те требования, которые предъявляются нравственностью к праву,
отличаются характером постоянным и> неизменным: существует множество таких
требований, которые видоизменяются в зависимости от характера и культурного
развития каждой данной общественной среды. К кавказским горцам нельзя
предъявлять тех же нравственных требований, которые могут предъявляться,
например, к русскому крестьянину; поэтому даже в том случае, если бы мы
условились считать за правовые только нормы нравственные по своему содержанию,
344
то нельзя было бы признавать лишенными правового значения все те обычаи
народов малокультурных, которые противоречат более развитому нравственному
сознанию.
Как по вопросу о сущности обычного права, так и по вопросу об основаниях его
обязательности между юристами до сих пор еще существует большое
разногласие, причем в различных мнениях, которые высказывались и высказываются по
этому поводу, сказывается отсутствие сколько-нибудь удовлетворительного
определения права вообще.
Обычай, как сказано, есть несомненно древнейшая форма позитивного права,
которая предшествовала закону, существовала даже раньше образования
государства, и тем не менее до начала XIX столетия никому из ученых не приходило
в голову признавать юридический обычай за самостоятельную форму права.
До появления немецкой исторической школы все вообще ученые были согласны
в том, что единственным источником положительного права является
государство, что оно одно может сообщить тем или другим правилам обязательное
значение, силу правовых норм. Воззрение это шло вразрез с действительностью, так
как в действительности не только у дикарей, но и у народов, стоящих на высокой
ступени развития, правовые отношения определяются не одним законом,
но и рядом норм, сложившихся путем обычая. Чтобы так или иначе согласовать
факты со своей неверной теорией, ученые до начала XIX столетия обыкновенно
прибегали к фикции: такие юристы, как, например, Гуфеланд, Тибо16, Глюк
и другие, утверждали, что обычай получает свою обязательную силу от
государства в силу молчаливого согласия законодателя, причем это согласие может быть
выражено или в форме категорического заявления законодателя, или же в форме
молчаливого признания с его стороны. Если только законодатель не высказался
против того или другого обычая и допускает его применение, то этого
достаточно, чтобы обычай получил силу и значение молчаливо установленного закона, lex
tacita. Словом, обычай там, где он действует, так или иначе получает свою силу
от государства, от законодательной власти.
Это воззрение не встретило возражений вплоть до появления в начале XIX
столетия исторической школы, которая нанесла ему сильный удар. Историческая
школа, как уже было раньше сказано, вообще относилась отрицательно к
творческой деятельности законодателя в области права: по смыслу первоначального
учения Савиньи, от которого, впрочем, сам он отступил в сороковых годах
истекшего столетия, все вообще право развивается и должно развиваться произвольно,
само собой, и нарушение законодателем правильности этого органического
процесса развития представляется невозможным или нежелательным и вредным.
Мы видели, что такое учение Савиньи о происхождении права было весьма
односторонним, но во всяком случае исторической школе удалось несомненно
доказать, что закон вовсе не есть единственный фактор образования права, что
существует множество правовых норм, которые сложились и приняли форму помимо
всякого вмешательства законодателя.
Особенно важное значение для выяснения сущности обычного права имеет
капитальное сочинение Пухты «Обычное право». Развивая воззрения
исторической школы, Пухта учит, что юридический обычай — вполне самостоятельная
форма права. Сложившись помимо всякого воздействия законодателя,
юридический обычай обязателенсовершеннонезависимо от того, признается или не
признается он законодателем. Обычай представляет собой наиболее
непосредственное и верное выражение народных воззрений: в этом и заключается источник его
345
обязательной силы, ибо народные воззрения, по мнению Пухты, составляют
источник всякого права вообще: юридические нормы, вошедшие в обычай,
обязательны не потому, что они в течение долгого времени применялись на практике
к однородным случаям жизни, а потому, что в них выразилось живущее в
народе сознание права; обычай сам по себе не создает ни новых юридических
понятий, ни новых правовых норм: он только закрепляет существующие в народе
правовые воззрения; он служит доказательством того, что народ признает
обязательными те или другие нормы, которые в силу этого и имеют значение
норм правовых. Иначе говоря, нормы права обязательны потому, что они
выражают собой воззрение и волю народа как целого.
Таким образом, Пухта признает за обычным правом вполне самостоятельное
значение: обычай, по его мнению, — самостоятельная форма права, которая для
своего юридического существования не нуждается ни в явном, ни в молчаливом
признании законодателя. Но такое значение Пухта признает только за обычаями
целого народа, и в этом заключается один из главных недостатков его
исследования. Уже современники Пухты (Унтергольцнер17, Мюленбрух, Кирульф)
указывали, что таких обычаев, которые были бы обычаями целого народа,
сравнительно мало: в действительности существует гораздо больше обычаев местных,
сословных (вообще обычаев частных), нежели обычаев общенародных. В чем,
спрашивается, заключается источник обязательной силы этих обычаев? На этот
вопрос Пухта не дает удовлетворительного ответа; чтобы так или иначе на него
ответить, Савиньи попытался внести кое-какие поправки в учение Пухты.
Подобно Пухте, и Савиньи видит в народном единстве единственно возможную
почву для образования юридического обычая и последнее основание для
обязательной силы обычая. Но, в отличие от Пухты, Савиньи полагает, что как
центральная власть в государстве издает законы не всегда для всего государства,
а иногда для отдельных местностей или для отдельных классов общества, так же
точно и сознание народа может принять форму обычаев отдельных местностей,
отдельных классов. Как законодательная власть не гнет всех под одну и ту же
мерку, а сообразуется с особенностями отдельных местностей и сословий,
издавая для них различные законы, так же и народное сознание создает для
различных местностей и классов разнообразные нормы, которые и проявляются в виде
разнообразных обычаев.
Однако и с такими поправками учение исторической школы не может быть
принято. Прежде всего самый процесс развития правосознания в народе
изображен у Савиньи неправильно: по его учению выходит, будто живущее в народе
сознание права есть нечто от начала данное, будто первоначально сложились
воззрения, общие всему народу, а потом уже на почве этих общенародных воззрений
зародились и выросли обычаи основные и местные. Между тем новейшими
исследованиями выяснено, что как раз наоборот, обычаи частные, то есть обычаи
местные, сословные, вырабатываются раньше, а потом уже из этих частных
обычаев постепенно вырабатываются обычаи общие. Другая ошибка исторической
школы заключается в том, что она приписывает обычаю характер
исключительно национальный и выводит обязательную силу юридических обычаев только из
того, что они выражают собой общие национальные воззрения. На самом деле
существует множество юридических обычаев, которые вовсе не имеют
национального характера, так, например,.существуют обычаи церковные, международные,
которые не служат выражением воззрений какой-либо национальности, а между
тем — суть обычаи несомненно юридические.
346
Ошибка исторической школы заключалась в том неверном предположении,
будто юридический обычай черпает свою обязательную силу в национальных
воззрениях. На самом деле юридические обычаи вовсе не всегда выражают собой
воззрения народа, но они всегда выражают собой воззрения, господствующие
в какой-либо общественной группе, будь то сословие, местность, союз
религиозный, каким является церковь или, наконец, целая группа государств,
находящихся между собой в международном общении. Обязательность юридического
обычая точно так же, как и обязательность всех вообще норм позитивного права,
непременно обусловливается тем, что за ним стоит тот или другой общественный
авторитет.
Отношения обычного права к законодательству
Выяснив, таким образом, вопрос о сущности обычного права и об основаниях
его обязательности, мы можем перейти теперь к вопросу об отношении обычного
права к законодательству. Этот вопрос решается различно разными учеными
в зависимости от тех или иных взглядов на происхождение права.
Когда господствовавшее до начала нынешнего столетия воззрение видело в
законодательстве единственный источник права, единственную причину,
образующую право, то обычное право просто-напросто игнорировалось. Против этого
воззрения в начале XIX века, как мы уже знаем, восстала историческая школа:
Савиньи и Пухта учили, что обычай есть не только вполне самостоятельная
форма права, но и во всех отношениях форма наиболее совершенная. По их мнению,
юридический обычай заслуживает предпочтения перед другими источниками
права, так как он служит самым точным и верным выражением народного
правосознания. Такое пристрастие к обычному праву со стороны исторической школы
вполне понятно и естественно. Оно объясняется указанными уже раньше
политическими и научными тенденциями исторической школы. В политическом
отношении историческая школа права представляла прямую реакцию против идей
французской революции. Мыслители революционной эпохи верили во
всемогущество законодателя, в возможность пересоздания на начале разума всего
существующего правового порядка. Историческая школа противопоставила этим
воззрениям уважение к старине, к вековым преданиям и обычаям, унаследованным
от предков. Юридический обычай, выражающий старые, веками
установившиеся нормы, является наиболее консервативной формой права, и потому
неудивительно, что историческая школа обратилась к нему как самому надежному и
могущественному противовесу рейолюционным стремлениям к радикальной ломке
в области права. Пристрастие сторонников исторической школы к обычному
праву вытекло, однако, не только из консервативных симпатий, но также из их
научных тенденций. Если в XVIII веке господствующее течение в науке права
носило на себе характер космополитический, то историческая школа наоборот
является выразительницей националистических стремлений. По мнению
Савиньи и Пухты, преимущество обычая перед законом заключается в том, что
обычай есть непосредственное проявление Народного творчества в области права,
является самым лучшим отражением народных стремлений и потому оказывается
наиболее верным средством к удовлетворению разнообразных потребностей
народа, относительно коих законодатель очень часто бывает плохо осведомлен. Воз-
347
никновение обычая всегда и непременно вызывается насущными потребностями
народной жизни; закон же нередко служит выражением беспочвенных личных
взглядов законодателя, его фантазии и произвола. Обычное право имеет еще то
преимущество перед законом, что, будучи проявлением сознания самого народа,
оно более, нежели закон, доступно пониманию народных масс и потому
пользуется большим уважением со стороны народа. Вследствие всех этих преимуществ,
по мнению Савиньи и Пухты, обычай должен играть преобладающую роль при
создании правовых норм. Законодатель не должен изобретать каких-либо новых,
не существовавших раньше норм; его главная и единственная задача
заключается в том, чтобы собирать, приводить в систему и давать более точную
формулировку тем нормам права, которые уже до него сложились в сознании народа и
выразились в форме обычаев. Законодатель должен устранять противоречия,
неизбежно встречающиеся в обычном праве, и давать точное и ясное выражение
народно-правовым воззрениям. Только при таких условиях законодательство,
по словам Савиньи, может быть действительно полезным.
Но законодательство ни при каких условиях не может охватить всего
разнообразия человеческих отношений и потребностей. Как бы ни было совершенно
и полно то или другое законодательство, как бы ни был широк охватываемый им
круг явлений — все же за невозможностью все предвидеть останется множество
фактов, непредусмотренных законов; всякий законодательный кодекс всегда
будет заключать в себе пробелы, которые и будут заполняться обычным правом.
Последний аргумент является, без сомнения, самым сильным, самым
убедительным из всех доводов, которые приводят Савиньи и Пухта в пользу обычного
права. Нетрудно, однако, убедиться в том, что, сопоставляя обычай и закон, эти
мыслители преувеличили значение первого из них и умалили то значение, которое
должно выпадать на долю последнего в странах, достигших известной ступени
культурного развития. Совершенно справедливо утверждение, что обычное
право необходимо для пополнения пробелов законодательства. Трудно представить
себе такое время, когда будет выработан совершенный законодательный кодекс,
который охватит собой всю совокупность правовых отношений и сделает
вследствие этого обычное право излишним. Хотя, таким образом, есть основание
предполагать, что обычай всегда будет служить дополнением закона, однако не следует
забывать и того, что это самая примитивная, самая архаичная и несовершенная
форма права.
Недостатки воззрений на обычное право старой исторической школы были
прекрасно выяснены Иерингом. Историческая школа смотрела на эпоху
господства обычного права как на золотой век права и в переходе от обычая к писаному
законодательству видела, по выражению Иеринга, нечто вроде грехопадения
права. Вопреки такому взгляду представителей старого историзма Иеринг
доказал, что замена обычая писаным законом является одним из важных завоеваний
цивилизации. По его мнению, совершенство обычного права, о котором так
много говорят Савиньи и Пухта, на самом деле мнимое, кажущееся. Совершенно
верно, что отличительными чертами обычая является гибкость, способность легко
приспосабливаться к условиям действительной жизни, но верно также и то, что
черты, характеризующие закон, — твердость, определенность, точность и
устойчивость — имеют для права несравненно более важное значение. Кроме того,
в обычном праве господствует нередко величайшая путаница понятий:
смешиваются понятия нравственные, религиозные и юридические. Проведение точной
границы между правом и тем, что не есть право, приведение в ясность и систему
348
юридических понятий составляет прогресс в области права, и этот прогресс
является результатом деятельности законодателя. В обычном праве встречается
нередко противоречие между отдельными нормами, вследствие чего нередко
возникает спор о самом существовании той или иной формы права. Закон устраняет
противоречия в области права, полагает этим конец множеству споров и
недоразумений и ограничивает возможность произвола и колебаний в применении
права. Словом, закон обеспечивает господство обычая в праве строгого и
единообразного порядка. Исключительное господство обычая возможно только у народов,
стоящих на низших ступенях развития, когда общественный строй и отношения
людей носят примитивный характер. Но по мере того как общество
развивается — отношения людей и общественные потребности изменяются и
усложняются, однако обычая оказывается недостаточно и возникает потребность в писаном
законодательстве. С дальнейшим прогрессом культуры значение обычного права
все уменьшается, сфера его применения все суживается, тогда как задачи
законодательства все расширяются. В большинстве современных культурных
государств на долю обычая выпадает лишь скромная роль — пополнения пробелов
законодательства.
Почти все законодательство допускает в большей или меньшей степени
действие обычного права, хотя и в ограниченных пределах. В частности, наше русское
законодательство не признает юридического обычая за самостоятельную форму
права. Действие обычая допускается у нас только в виде исключения только в тех
случаях, когда применение местных обычаев дозволено законом ( ст. 130 Уст. Гр.
Судопр.). Статья 107 Положения о крестьянах 19 февраля 1861 года разрешает
волостным судам решать тяжбы между крестьянами на основании местных
обычаев; IX том нашего Свода разрешает кочующим инородцам управляться по
собственным степным обычаям и законам и пр. Во всяком случае несомненно, что
у нас роль обычая гораздо значительнее, чем то можно думать на основании
определений отечественного законодательства. Объясняется это существованием
в нашем отечестве многочисленных общественных групп — сословий, мещан,
крестьян и прочих инороднических племен и т. д., своеобразные бытовые
особенности коих еще не вполне выяснены и потому не всегда в достаточной степени
приняты во внимание законодательством. Вследствие этого наше
законодательство имеет много пробелов, которые по необходимости заполняют обычным
правом.
Закон
I
Мы знаем, что юридический обычай состоит из норм права, сложившихся без
участия законодателя, помимо всякого воздействия со стороны государственной
власти. В этом заключается существенный признак обычая и отличие его от
закона. Закон, в обширном смысле этого слова, — есть всякая норма права,
установленная органами государственной власти. Будучи более совершенной формой
права, закон возникает позднее обычая и является на более поздней ступени
культурного развития народов. Потребность в писаном законодательстве
появляется тогда, когда неписаный обычай успел обнаружить свои недостатки и в
народе созрело сознание неудовлетворительности этой архаической формы права.
В момент своего появления на арене истории, в то время, когда государственная
349
организация находится еще в зародышевом состоянии, закон не имеет
самостоятельного значения и играет второстепенную роль. Неокрепшая государственная
власть не решается вводить новых норм права, в особенности таких норм,
которые шли бы в разрез с существующими народными воззрениями и вековыми
обычаями. Первоначально роль законодателя ограничивается приведением в
ясность права, действовавшего уже в форме обычая. Такие древние памятники
права, как, например, законы XII таблиц, не представляют результата
самостоятельного законодательского творчества: это просто сборники существующих
обычаев, записанных и возведенных в закон государственной властью. По мере
развития культуры роль законодателя становится все шире и все
самостоятельнее: он подчиняет себе одну за другой все отрасли права и, не довольствуясь уже
более пассивной ролью собирателя и записывателя, становится самостоятельным
творцом права.
В настоящее время в большинстве культурных государств закон, как сказано,
получил значение преобладающей, главной формы права. Поэтому учение о
законе имеет особенно важное значение. Мы видели, что под законом, в обширном
смысле слова, разумеется всякое веление государственной власти. В зависимости
от того, какими именно органами государственной власти он издается, закон
разделяется на два вида.
Издание наиболее важных законов поручается особому законодательному
учреждению, коему принадлежат законодательные функции и общий надзор за
исполнением законов. Но существуют законы менее важные, которые могут
издаваться и органами исполнительной власти. Сообразно с этим все юридические
нормы, издаваемые государственной властью, разделяются на 1) законы в
тесном смысле и 2) правительственные распоряжения.
Это различие имеет огромное практическое значение. Нормы, изданные
законодательной властью, выражают тот общий порядок государства, которому
должны подчиняться все граждане, стало быть, и представители
исполнительной власти. Поэтому правительственные распоряжения могут издаваться только
в пределах, указанных законом, играя относительно последнего подчиненную
роль, и получают обязательную силу только при условии непротиворечия их
закону. В правительственных распоряжениях может заключаться разъяснение
или дополнение к закону, но они ни в каком случае не могут отменять закона.
Впрочем, это различие между законами и правительственными распоряжениями
имеет значение преимущественно в странах конституционных, где между
властью законодательной и правительственной проведена твердая граница. В
государствах самодержавных в высшей степени трудно провести резкую границу
между законом и административным распоряжением, так как в этом случае и
законодательная и исполнительная власть сосредоточивается в одних руках —
монарха-самодержца. В таких странах и закон и распоряжение монарха имеют
одинаковую обязательную силу.
Не то в государствах конституционных, где законодательная власть
принадлежит парламенту, а исполнительная — кабинету министров, которые
ответственны перед парламентом и подчиняются последнему в порядке надзора. В таких
государствах между законами в тесном смысле и правительственными
распоряжениями всегда могут быть проведены твердые, осязательные границы. Все
нормы, установленные парламентом,/уже не могут быть изменены никакими
предписаниями монарха, никакими распоряжениями министров, никакой другой
властью, кроме самого парламента. Все власти подчиняются установленным за-
350
конам и могут издавать распоряжения только в тех пределах, в каких
предоставляется им это законодательной властью парламента. В этом точном
разграничении законов и правительственных распоряжений заключается одна из самых
прочных гарантий законности управления.
Наше отечественное законодательство, а именно 75 статья основных законов,
заключает в себе по вопросу об отношении правительственных распоряжений
к закону следующее постановление: «если бы в предписании, непосредственно от
министра исходящем, начальство, ему подчиненное, усмотрело отмену закона,
учреждения или объявленного прежде Высочайшего повеления, тогда оно
обязано представить о сем министру. Если же и за сим предписание будет
подтверждено от лица министра, в той же силе, тогда начальство обязано случай сей
представить на окончательное разрешение Правительствующему Сенату». Насколько
приведенная статья действительно гарантирует законность управления, это
зависит, конечно, от степени добросовестности министров и гражданского
мужества подчиненных им начальств.
По степени важности и силы законы разделяются на основные, или
конституционные, и простые, или обыкновенные. Основные законы суть те, которые
определяют государственное устройство, то есть устройство верховной власти и
устройство тех органов, которым поручаются различные функции верховной
власти, законодательство, суд и администрация. Кроме того, к числу основных
законов относятся все те нормы, которым законодатель придает особенно важное
значение и желает сообщить им характер твердости и постоянства. Под законами
обыкновенными разумеются все остальные законы, которые не относятся к
разряду основных.
Понятно, что различие между основными и обыкновенными законами
существует повсеместно, потому что во всех государствах существуют такие законы,
которые определяют самые основы государственного устройства, образ
правления и которые пользуются по сравнению с прочими законами большей
важностью и силой. Но не во всех государствах это различие имеет одинаковую
практическую важность и юридическое значение. Только там важно это различие, где
существуют особые условия для издания основных законов или отмены их.
Различие это имеет важное значение только в тех конституционных государствах,
где издание основных законов обставлено особыми формальностями по
сравнению с изданием простых законов.
По французской конституции 48 года для изменения основных законов
республики требовалось большинство 2/3 голосов в законодательном собрании,
тогда как для обыкновенных законов — только простое большинство. Аналогичные
условия существуют в Северо-Американских Соединенных Штатах, где
предложение об изменении основных' законов получает ход только в том случае, если
оно заявлено 2/3 законодательных собраний отдельных штатов.
В тех странах, где не установлено особых условий для изменения основных
законов, — самое различие между основными и обыкновенными законами особого
практического значения не имеет.
Кроме этого деления законов; существуют еще деления, основанные на
других признаках. Так, по пространству действия законы разделяются на общие и
местные.
Под общими законами разумеются такие, которые действуют на всем
пространстве государственной территории, за исключением местностей, где действует
местное право. Местные законы, напротив, обнимают только известную часть
351
территории государства и вне своей области не имеют силы. Впрочем, различие
между общими и местными законами отличается условным характером. Одни
и те же законы могут быть, с одной стороны, местными, с другой — общими.
Баварское местное право является местным по отношению к общему праву
Германии и общим — по отношению, например, к городскому праву Мюнхена.
Местные законы обладают преимущественно историческим характером
и обусловлены размерами государственной территории и местными и бытовыми
различиями составных ее частей.
По своему содержанию законы разделяются также на общие и специальные.
Общие законы простираются на всех граждан данного государства без различия
их состояния и обнимают все подлежащие им отношения. Законы специальные
заключаются для известного разряда лиц и специальных отношений,
отличающихся особенными свойствами, которые не соответствуют общим нормам и
требуют поэтому особых норм.
Эти законы вызываются разнообразием целей общественной жизни и
возникают в тех случаях, когда общее правило не может быть приспособлено к
индивидуальному случаю, а потому они сами по себе не преследуют исключительно
интересы отдельных лиц и вовсе не являются результатом произвола.
Специальные законы имеют в виду особенную природу известных отношений, которую
они стремятся определить: таковы отношения мореходства, торговли, рабочего,
военного класса и проч.
Независимо от этих разделений законов следует различать еще следующие,
более частные виды законов.
Привилегии. Этим именем называются такие законы, которые устанавливают
какие-либо преимущества в пользу какого-либо лица или разряда лиц.
Предоставляя лицу известные положительные права (право на изобретение),
или освобождая его от определенного общего предписания (от налогов и других
повинностей), или укрепляя за лицом известные юридические качества
(совершеннолетие), — привилегии в некоторых случаях оказываются необходимыми
и составляют справедливое вознаграждение за общественные заслуги или
общественные предприятия. Само собой разумеется, что раздача привилегий должна
быть производима лишь с крайней осторожностью и только в случаях
действительной необходимости, особенно в наше время, когда сознание равенства всех
перед законов достигло высокой степени развития.
Законы исключительные, или чрезвычайные, назначаются для таких
индивидуальных обстоятельств, при которых существующие законы оказываются
или несостоятельными государственным нуждам, или недостаточными. Такие
законы вызываются уклонением известной части государства от спокойного
подчинения законам; возникновением политических партий, угрожающих
общественному государственному порядку; особенными свойствами той или другой
части населения, требующими усиленного надзора и т. п. Несомненно, неуклонное
соблюдение общих законов, насколько это возможно, всегда предпочтительнее,
нежели установление чрезвычайных законов; на нем зиждется единство
государственной жизни, равенство юридического положения граждан; благодаря ему
предупреждаются недоразумения и неизбежные распри и неудовольствия.
Однако иногда нет возможности обойтись без них; единство государственной жизни,
сохранение общественного порядка© иных случаях требуют энергичных и
решительных мер от законодательной власти и правительства. Но желательно,
разумеется, чтобы прибегали к исключительным законам и удерживали их только
352
в пределах настоятельной необходимости; во избежание злоупотреблений,
нередко сопровождающих эти законы, в случаях сомнения при их применении их
следует толковать в ограничительном смысле.
Виды законов по русскому законодательству
Все вышеизложенные общие понятия о законе, а также и указанные виды
законов существуют в более или менее ясных чертах и в нашем законодательстве.
Разнообразие форм наших законов зависит преимущественно от их
содержания и отчасти от способов их издания. Статья 53 Основного Закона гласит,
что «законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот,
положений, наказов (инструкций), манифестов, указов, мнений
Государственного Совета и докладов, удостоенных Высочайшего утверждения. Сверх того,
Высочайшие повеления в порядке управления изъявляются рескриптами
и указами».
Формы наших законов, зависящие от содержания, суть: уложение,
учреждение, устав, грамота, положение и наказ.
Уложение есть систематическое соединение законов в исправленном и
переработанном виде, обнимающее известную часть законодательства или даже все
законодательство. Оно отличается от Свода тем, что при составлении его делается
переработка и исправление законодательного материала; между тем Свод
представляет только соединение действующих законов без существенных дополнений
и исправлений их. (Уложение царя Алексея Михайловича).
Учреждением называется совокупность законов, определяющих образование
мест и властей, их состав, предметы ведомства, степень власти и порядок
производства в них дел. (Учреждения министерств, учреждения о губерниях).
Уставом называется совокупность законов, устанавливающих порядок
управления какой-либо особенной частью государственной деятельности (Устав
Таможенный, Горный и т. д.). В законодательной практике различие между
учреждением и уставом довольно часто нарушается: нередко в уставы включают то, что
составляет учреждение, и наоборот. Иногда же устав заключает в себе и
учреждение и устав в собственном смысле (например, Устав Императорских Российских
Университетов 1884 года).
Положение есть совокупность узаконений, определяющих во всей
полноте права и обязанности сословий, обществ, разрядов лиц (например,
Положение о крестьянах 19 февраля Г861 года; о земских учреждениях; положение
городовое). ι
Грамота есть акт, определяющий и удостоверяющий известные права и
обязанности сословий и отдельных лиц; она дается в случаях и отношениях
довольно важных и весьма часто устанавливает привилегии в пользу сословий или
отдельных лиц (дворянская грамота).
Наказ (инструкция) есть совокупность правил, подробно определяющих
положение, цель и способы действия правительственных и должностных лиц
(общий наказ министерствам; общая инструкция генерал-губернаторам).
По способу издания законов различаются: манифесты, указы или
Высочайшие повеления, доклады и мнения Государственного Совета, рескрипты и
Высочайшие приказы.
12 Зак. 3911 353
Манифест заключает торжественное объявление Монарха о его правах,
требованиях, а также о каком-нибудь важном событии (например, по поводу
первого издания Свода 31 января 1833 года) или важной мере (например, по поводу
освобождения крестьян Положением 19 февраля 1861 года).
Указ есть или общее повеление о каком-либо предмете, или же повеление,
относящееся к какому-нибудь правительственному месту или должностному лицу
и идущее непосредственно от Верховной власти (например, Указ о прикреплении
крестьян к земле 1591 года).
Доклад и мнение Государственного Совета есть закон, рассмотренный
предварительно в Государственном Совете и представленный на Высочайшее
утверждение.
Рескрипт есть изъявление Высочайшей воли, обращенное непосредственно
к известному лицу или правительственному месту и заключающее в себе
разъяснение направления и цели управления или государственных мероприятий,
или установление новых правил, или изъявление Высочайшей благодарности
и т. п.
Высочайший приказ есть определение Высочайшей воли, касающееся
изменений в служебном положении лиц, состоящих в государственной службе, или
облекающее какое-либо правительственное место или должностное лицо особенной
властью с чрезвычайными полномочиями.
Образование закона
Прежде чем получить окончательную формулу и обязательную силу, каждый
закон должен пройти через четыре стадии: 1) законодательная инициатива,
или почин; 2) обсуждение закона; 3) утверждение закона и 4) обнародование
закона.
Эти четыре момента всегда имеют место во всех государствах, независимо от
того, какое где существует государственное устройство и форма правления. Ибо
для возникновения закона нужно, чтобы кто-нибудь указал на жизненную
потребность, которая вызывает тот или другой законопроект. Необходимо, далее,
прежде чем принять закон, подвергнуть его всестороннему обсуждению в
законодательном учреждении, которому присвоено право обсуждать законы. Чтобы
закон получил обязательную силу, он должен быть утвержден верховной властью.
Наконец, для того, чтобы он действовал, необходимо обнародовать его, довести
его до сведения всех граждан! Весь вопрос заключается в том: какие лица и
учреждения играют деятельную роль в каждом из этих четырех моментов; кому
принадлежит право законодательной инициативы, право обсуждения закона;
какие лица или учреждения обладают правом утверждения закона или
обнародования его? Вопрос этот не допускает общего решения; он разрешается различно
в различных странах, смотря по тому, какая где существует форма
государственного устройства. Рассмотрим каждый момент в отдельности.
I. Законодательная инициатива, или почин. Что такое законодательная
инициатива, вследствие чего она возникает и кому принадлежит? Появление
новых законов обусловливается «бесцрерывным развитием потребностей
общественной жизни. Положим, что появляется какое-нибудь новое преступление, какой-
либо новый вид мошенничества, — это вызывает потребность в новых уголовных
354
законах. Развитие земледельческого хозяйства, развитие фабрик и заводов —
вызывает появление рабочего и фабричного законодательства. Рост городов и сел
вызывает потребность в законодательном упорядочении ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО
управления, потребность в строительном уставе и т. п. Вообще, сама жизнь дает
бесчисленное множество поводов для появления новых законов, и эти поводы
носят название occasio legis18.
Но мало того, что существует потребность в новых юридических нормах, —
для возникновения закона нужно, чтобы кто-либо указал на необходимость
нового законодательного акта, нужен законодательный почин, или инициатива.
Законодательным почином, впрочем, не называется всякое заявление об общих
нуждах, на которые нужно обратить внимание; под инициативой разумеется или
заявление самого законодателя или чье-либо официальное заявление,
обращенное к законодателю, о необходимости издания нового закона или отмены
старого. Когда мы встречаем в газетах заявления о необходимости расширить свободу
печати, или наоборот, требование обуздать произвол печати, то такие заявления
не имеют значения законодательной инициативы. Если же составляется
докладная записка и в установленном порядке передается законодательной власти,
то в таком случае мы имеем дело с официальным обращением к законодателю,
которое и носит название законодательной инициативы. Такая инициатива
может исходить от частных лиц (частная инициатива) или от официальных лиц
и учреждений (официальная или правительственная инициатива).
Понятно, что права частной инициативы в различных государствах не
одинаковы, в зависимости от степени политической свободы граждан, культурного
развития каждой данной страны и ее государственного устройства. В нашем
отечестве всем подданным предоставлено право подавать проекты и прошения через
Комиссию прошений, и только в том случае проект получает дальнейший ход,
если Комиссия, войдя в сношения с подлежащими министрами, найдет его
заслуживающим внимания. Тогда проект с Высочайшего разрешения вносится на
рассмотрение в Государственный Совет. Важным ограничением частной
инициативы является у нас то, что частные лица не могут подавать никаких
коллективных петиций, действовать «сговором и скопом», по выражению закона.
Право подачи коллективных петиций предоставляется только дворянским
собраниям, которые могут через губернского предводителя дворянства делать
представления о своих пользах и нуждах — начальнику губернии, министру
внутренних дел; в случаях нужды дворянство может обращаться с такими
ходатайствами и непосредственно на Высочайшее Имя. В государствах конституционных
право коллективных петиций не обставлено такими ограничениями. Шире всего
поставлено оно в Англии, где в парламент принимаются всякого рода
коллективные петиции с тем только условием, чтобы они представлялись через кого-либо
из членов парламента. Как частная, так и официальная инициатива поставлены
неодинаково в различных государствах.
В этом отношении существует важное различие между законодательствами
конституционных государств.
Во Франции по конституции 1852 года, созданной Наполеоном III,
официальная инициатива не принадлежала законодательному собранию — парламенту,
а только самому Императору, который вносил в парламент собственные
законопроекты. ;
В современной Англии, напротив, каждый член парламента может составить
законопроект и внести его на обсуждение парламента; такими же правами обла-
355
дают и министры. Напротив, в Америке официальная инициатива принадлежит
только членам конгресса, а министры этим правом не пользуются. Что касается
нашего отечества, то, по смыслу 49-й статьи Основного Закона, право
официальной инициативы принадлежит высшим государственным учреждениям —
Сенату, Синоду и министерствам, которые могут составлять законопроекты и вносить
их в Государственный Совет с Высочайшего разрешения. Государственный же
Совет, лишенный права законодательной инициативы, может только обсуждать
те законопроекты, которые вносятся на его рассмотрение. В сущности, право
законодательной инициативы в полном смысле слова принадлежит Государю, так,
ни Сенат, ни Синод, ни министерства не могут представлять в Государственный
Совет никаких законопроектов без Высочайшего разрешения.
П. Законодательное обсуждение. Вторым важным моментом в процессе
образования закона является законодательное обсуждение.
Обсуждение законопроекта бывает двоякого рода: во-первых, частное (устное
или путем печати) и, во-вторых, официальное, которое производится теми
государственными учреждениями, которым закон предоставляет право обсуждать
законопроекты перед утверждением их законодательной властью.
Право частного обсуждения предоставляется гражданам не в одинаковой
степени в различных государствах, в зависимости от той или другой формы
правления. Вообще, чем выше стоит страна в культурном отношении, тем шире в ней
право граждан обсуждать проекты новых законов. В Англии, например, каждый
гражданин свободен выражать свое мнение о законопроектах либо в печати либо
устно — на митингах и других общественных собраниях. Такое публичное
обсуждение всех новых законопроектов приносит огромную пользу
законодательству, так как дает возможность обратить внимание на все стороны
предполагаемого закона, выяснить все потребности и нужды, которые должны быть приняты
во внимание законодателем, и предотвратить все могущие встретиться
препятствия к исполнению закона. Благодаря такому всестороннему обсуждению
законопроектов и самое законодательство становится более всесторонним и гибким.
Наоборот, в тех странах, где нет свободы слова, где право частного обсуждения
стеснено, законодательство поневоле является односторонним и нередко идет
в разрез с действительными потребностями жизни. У нас в России, по закону
о цензуре и печати 1865 года, частным лицам предоставлено право обсуждать
путем печати правительственные законопроекты с тем лишь условием, чтобы при
обсуждении не оспаривалась обязательная сила будущего закона. Фактически,
однако, русские граждане имеют возможность обсуждать законопроекты только
в тех случаях, когда известное министерство или правительственное
учреждение, составившее проект нового закона, не хочет сделать из этого проекта
канцелярской тайны, что действительно бывает, конечно, далеко не всегда. Поэтому
наш закон о цензуре и печати 1865 года не гарантирует свободного и
всестороннего частного обсуждения.
Право официального обсуждения принадлежит тем лицам или учреждениям,
которым оно предоставлено основными законами государства. Право это
определяется различно, в зависимости^ от государственного устройства каждой страны.
Везде, однако, можно найти две формы или стадии официального обсуждения:
во-первых, обсуждение правительственное, или предварительное и,
во-вторых,— законодательное, или окончательное. Законопроект обсуждается сначала
тем правительственным учреждением, которое его составляет и изготавливает:
это обсуждение предварительное. Затем проект нового закона вносится в то зако-
356
нодательное или законосовещательное собрание, которому принадлежит право
окончательного обсуждения. В конституционных странах такими
законодательными учреждениями являются собрания народных представителей, называемые
парламентами. При этом конституционные законы устанавливают тот способ
и порядок обсуждения, который обеспечивает осмотрительность решений
собраний народных представителей. В большей части конституционных государств
одной из важнейших гарантий всестороннего и внимательного обсуждения
законов служит двухпалатная парламентская система. Парламент, устроенный по
этой системе, состоит из двух палат — верхней и нижней. Всякий законопроект
должен подвергнуться обсуждению и быть принят обеими палатами, чтобы он
мог быть представленным затем на утверждение главы государства. Какое
важное значение имеет двухпалатная система, можно, например, видеть из одного
факта недавнего прошлого: билль об ирландском самоуправлении, внесенный
Гладстоном в английский парламент и принятый в трех чтениях палатой общин,
был отвергнут верхней палатой и потому не мог получить силы закона19. В тех
странах, где нет двухпалатной системы, существуют какие-нибудь другие
гарантии всестороннего обсуждения. Так, во Франции, где по конституции 1848 года
существовала только одна палата, согласно конституционному закону
требовалось, чтобы законопроект, прежде чем быть представленным на обсуждение
народных представителей, был подвергнут обсуждению в особом государственном
совете. Той же цели внимательного и осмотрительного обсуждения
законопроектов служит сложная парламентская процедура, принятая во всех парламентах.
В Англии, например, требуется троекратное чтение билля, то есть троекратное
обсуждение каждого законопроекта. Существенную часть всякой вообще
законодательной процедуры составляет назначение специальных комиссий, на
обязанности которых лежит детальное рассмотрение и изучение законопроекта и
представление об этом доклада в законодательном собрании. Такого рода комиссии
имеют весьма важное значение потому, что от всех членов парламента нельзя
требовать изучения всех деталей и исследования всех нужд и потребностей
жизни, вызвавших необходимость появления нового закона. Комиссия,
предварительно изучившая данный законопроект, может уже заранее предвидеть те
возражения, которые могут быть выставлены против него; обсуждение может идти
гораздо успешнее, если оно подготовлено трудами какой-либо специальной
комиссии.
Другой гарантией правильного и успешного обсуждения законопроектов
в парламентах являются нормы, устанавливающие порядок прений. Право слова
принадлежит всем членам парламента без исключения, но оно подвергается
некоторым ограничениям, в предупреждение возможности затягивать прения.
В большинстве парламентов принято за общее правило, что никто по одному и
тому же вопросу не может говорить более одного раза. В Северо-Американских
Штатах никто из членов парламента не имеет права говорить более одного часа
подряд. В Англии до последнего времени не существовало никаких ограничений
такого рода. Этим, однако, воспользовались в 80-х годах нашего столетия
ирландские депутаты в целях обструкции. Цель этой обструкции состояла в том,
чтобы затягивать до бесконечности парламентские прения по каждому вопросу
и сводить, таким образом, всю законодательную работу парламента на нет до тех
пор, пока не будет поставлен н;а оч;ередь и принят билль об ирландской
автономии. Такое явление вызвало необходимость установить правила,
ограничивающие свободу прений. Однако же на практике такие правила приводят иногда
357
к нежелательным результатам, так как благодаря им многие части
законопроектов остаются необсужденными. Так было, например, со знаменитым биллем об
ирландской автономии (Home rule bill20), многие важные стороны которого были
оставлены в свое время без обсуждения.
Наше отечественное законодательство заключает множество важных
постановлений как относительно правительственного, так и относительно
законодательного обсуждения. Согласно нашему Своду Законов, законопроект прежде
внесения его в Государственный Совет должен быть рассмотрен советом того
министерства, к ведомству которого он относится. Если законопроект выходит за
пределы компетенции отдельного министерства, то он должен быть рассмотрен
во всех министерствах, которых он касается. Правом предварительного
обсуждения, кроме министерств, пользуются еще — Сенат, Синод и комитеты Сибирский
и Кавказский. При обсуждении особо важных законопроектов образуются
комиссии, в которые приглашаются частные лица, компетентные в разбираемом
вопросе и известные своими трудами в печати, и на службе официально
называемые «сведущими людьми». Такова была, например, знаменитая редакционная
комиссия, составившая проект положения о крестьянах 19 февраля 1861 года.
В такой же комиссии были составлены судебные уставы 1864 года. Сплошь да
рядом труд комиссии имеет решающее значение в деле обсуждения законопроекта.
В особенности это бывает в тех случаях, когда законопроект касается
какого-либо специального вопроса, в котором комиссия является более компетентной, чем
Государственный Совет. В таких случаях последующее обсуждение в
Государственном Совете имеет значение простой формальности.
После предварительного обсуждения в министерствах законопроект вступает
в стадию окончательного обсуждения, которая составляет функцию
Государственного Совета. По смыслу статьи 55 и статьи 198 Основного Закона, никакой
закон не может быть представлен на Высочайшее утверждение помимо
Государственного Совета. Исключение делается только для некоторых видов, например,
для законов военных и морских, которые обсуждению в Государственном Совете
не подлежат, так как нельзя предполагать, чтобы он был компетентен в столь
специальных вопросах. В Государственном Совете законопроект проходит опять-
таки через две стадии обсуждения: сначала он поступает в один из
департаментов, а затем уже обсуждается в Общем Собрании Государственного Совета. Когда
законопроект обсужден, все высказались и выяснилось большинство и
меньшинство — законопроект подносится на усмотрение Его Величества, который как
Монарх Самодержавный может согласиться с большинством или меньшинством
или, наконец, наложить свою собственную резолюцию. Государственный Совет,
таким образом, не есть законодательное собрание, так как не от него зависит,
будет ли принят тот или иной законопроект и превратится ли он в закон. У нас
законодательная власть принадлежит исключительно Государю;
Государственный же Совет играет роль законосовещательного учреждения при Особе Его
Величества.
III. Утверждение закона. Законопроект, прошедший законодательное
обсуждение, вступает в третью стадии своего образования, то есть восходит на
утверждение главы государства. Утверждение превращает законопроект в закон. Право
утверждения принадлежит в различных странах разным лицам и в
неодинаковом объеме в зависимости от того, цакое где существует государственное
устройство. В Древней Греции, где народ управлял сам собой, право утверждения
законопроектов непосредственно принадлежало самому народу. В современных
358
республиках право утверждения принадлежит президентам, а в монархиях —
государям. В конституционных монархиях и республиках глава государства и
президент пользуются по отношению к принятым в парламентах законопроектам
так называемым правом veto. Veto бывает двух родов: 1) абсолютное, или
безусловное и 2) суспензивное, или отлагательное. Абсолютное veto заключает в себе
право главы государства безусловно отвергать законопроекты, принятые
парламентом. Право это существует в большинстве конституционных монархий.
Однако правом этим пользуются обыкновенно с большой осмотрительностью, так как
монарху приходится в этих случаях считаться с общественным мнением. Veto
суспензивное, или отлагательное, существует главным образом в республиках
и лишь в немногих монархиях. Отличие его от абсолютного veto состоит в том,
что им не отвергается законопроект, а лишь отсрочивается на некоторое время
превращение его в закон. Так, например, в Норвегии монарх имеет право
наложить свое veto на законопроект, принятый палатой. Но если парламент
настаивает на его утверждении и троекратно его принимает, то он в конце концов
превращается в закон даже вопреки воле главы государства. В государствах
самодержавных право утверждения, принадлежащее монарху, не
ограничивается только правом отвергать или отклонять законопроект. У нас Государь может
как угодно изменить представленный на его утверждение законопроект и
наложить собственную резолюцию, не согласную ни с мнением большинства,
ни с мнением меньшинства Государственного Совета. В России существует
несколько форм утверждения законопроектов. Обыкновенно законопроект
подписывается Государем и утверждается в форме Указа Правительствующему Сенату;
к Указу прилагается текст нового закона с собственноручно написанными
словами «быть по сему». Важнейшие узаконения издаются иногда в форме манифестов
с собственноручной подписью Государя.
IV. Обнародование закона. Законопроект становится обязательным для
подданных с момента его обнародования. Статья 60 Основного Закона гласит, что
никто не может отговариваться неведением закона. То же общее правило
принято во всех современных законодательствах. Но раз никто не может
отговариваться неведением закона, то о каждом законе должны знать те, до кого он
относится. Законодатель может требовать исполнения закона лишь тогда, когда
приняты меры, чтобы закон знали все граждане, то есть когда он обнародован.
Между утверждением и началом действия нового закона проходит иногда
довольно продолжительный срок. Происходит это потому, что необходим
известный срок для обнародования закона. Нельзя, например, предполагать закон
известным гражданам на следующий день после его утверждения главой
государства. Ввиду этого каждое законодательство устанавливает определенный
срок, через который закон утвержденный вступает в силу и начинает
действовать. В Бельгии, например, закон вступает в силу на 10-й день после своего
утверждения, в Австрии — на 45-й, во Франции для столицы на другой день, а для
всех прочих мест — в зависимости от расстояния от Парижа, причем срок
увеличивается на один день с каждыми 95-ю верстами. В русском законодательстве
срок вступления законов в действие не определен. Обыкновенно на практике
закон начинает действовать в губернском городе со дня заслушания его в
губернском правлении, а в уездах — со дня заслушания его в полицейском управлении.
Наиболее распространенный способ обнародования законов в настоящее время
есть печатание в официальных изданиях. В старину, когда грамота была мало
распространена, употреблялся другой способ обнародования посредством чтения
359
и провозглашения на площадях и в церквах. Такой способ в наше время
практикуется у нас лишь в очень редких случаях, относительно особенно важных
законов. Так, например, манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян
был провозглашен в церквах. Обязанность печатать законы и рассылать по
правительственным местам возлагается на Правительствующий Сенат.
Кодификация
Всякое законоположение возникает по мере того, как сама жизнь ставит
праву вопросы, требующие разрешения. В виду необозримого множества
общественных потребностей, каждое законодательство представляет такую же
необозримую массу законов, возникших в разное время и по различным поводам. Это
обилие законов чрезвычайно затрудняет знакомство с ними, что, в свою очередь,
затрудняет возможность применять их в жизни. Для того чтобы облегчить как
знакомство с законами, так и пользование ими, необходимо привести их в
порядок, в известную систему. Возникая в различное время, в силу различных
потребностей и под влиянием различных воззрений, законы часто оказываются
противоречащими одни другим. Законодательные учреждения также не всегда
руководствуются одинаковыми воззрениями, вследствие чего и законы, ими
издаваемые, сплошь и рядом не гармонируют между собой. Отсюда возникает
потребность в обработке, которая сводила бы существующие законы в одно
целое и приводила их в порядок. Такая систематическая обработка
действующего законодательства может совершаться или в инкорпорации или в форме
кодификации.
Инокорпорация представляет такую обработку законодательства, которая не
вносит в нее никаких новых начал. Это — внешняя систематическая обработка
действующих узаконений, которая облегчает пользование ими, располагает их
в систематическом порядке, но оставляет без изменения их внутреннее
содержание. Примером инкорпорации может служить русский Свод Законов,
представляющий собрание узаконений Российской Империи в систематическом порядке,
но без всякого изменения их существа.
Сборники законов, составленные посредством инкорпорации, называются
сводами. Отличие их от Уложения в том и состоит, что Свод заключает в себе
чисто внешнюю систематическую обработку законов, тогда как Уложение
представляет такой систематический сборник, в котором все приведено в полное
согласие и законы не только1 собраны, но и переработаны соответственно
определенным началам, благодаря чему он составляет нечто логически целое.
Кодификационная обработка может простираться на все законодательство или
только на часть его. Под кодификацией разумеется такая обработка
действующего права, которая не ограничивается приведением его в порядок, но вносит в
него внутреннюю связь и единство. Собирая отдельные законодательные акты в
систематическом порядке, инкорпорация не приводит их в согласие, не устраняет
противоречий, если они существуют. Кодификация, напротив, строит все
законодательство на однородных началах; заботится о единстве и цельности его.
Кодификатор не ограничивается собранием действующих законов, а из целой
массы существующих законов он должен сделать выбор и отбросить все, что
противоречит основаниям его системы. При кодификации приходится, с одной
360
стороны, отбросить часть старых норм, с другой — создать целый ряд новых,
и результатом кодификации является не свод, а уложение. В то время как
инкорпорация только облекает в новую форму старый материал — кодификация
представляет в полном смысле слова новый законодательный акт. В нашем отечестве
примером кодификации могут послужить знаменитые Судебные Уставы
Императора Александра П.
Определив отличительные черты обоих способов систематизации
действующего законодательства, рассмотрим с этой точки зрения отечественное
законодательство.
Кроме текущего «Собрания узаконений и распоряжений правительства»,
издаваемого с 1863 года, у нас существует еще два сборника законов: 1) Полное
собрание законов, содержащее все узаконения от Собранного Уложения царя
Алексея Михайловича 1649 года до настоящего времени в хронологическом порядке,
и 2) Свод Законов, представляющий систематический сборник действующего
законодательства. Как Полное Собрание, так и Свод не представляют законченной
картины русского законодательства, связанной с известным историческим
моментом его развития, а служат, по выражению проф. Коркунова, как бы
зеркалом, отражающим в себе последовательные изменения нашего законодательства.
Еще в царствование Петра I и затем в течение XVIII и начале XIX столетия
делались попытки составить взамен Уложения 1649 года новый кодекс, но все они не
привели ни к каким практическим результатам. Отказавшись от мысли
составить новое Уложение, Император Николай I решил ограничиться составлением
сборника действующих законов и поручил это дело M. М. Сперанскому21.
Для облегчения этой трудной задачи необходимо было прежде всего собрать весь
законодательный материал, накопившийся с 1649 года, и расположить его
просто в хронологическом порядке. Этот труд, начатый под руководством
Сперанского, не прерывается и в настоящее время, и все Собрание разделяется: на 1-е
Собрание, обнимающее собой в 45 томах все узаконения с Уложения 1649 года до
12 декабря 1825 года (издано в 1830 г.); 2-е Собрание, заключающее в 55 томах
законодательные акты царствований Николая I и Александра II (от 12 декабря
1825 года до 28 февраля 1881 года); 3-е Собрание начинается со вступления на
престол Императора Александра III (1 марта 1881 года), и хотя обнародование
законов с 1863 года совершается в особом Собрании Узаконений, составление
Полного Собрания решено тем не менее сохранить и на будущее время.
Собрание Узаконений отличается от Полного Собрания тем, что в первом
законы печатаются в порядке их обнародования, а во втором — их утверждения.
Для юриста, однако, большее практическое значение имеет Собрание
Узаконений, ибо для него важно знать, когда закон вступил в силу, а не то, когда он
утвержден.
Полное Собрание, впрочем, имеет важное значение для истории, а в
сомнительных случаях может служить наиболее достоверным источником для
уразумения смысла, цели и объема каждого действующего закона.
Полное Собрание послужило материалом для составления сборника
действующих законов, каковым и являемся Свод Законов. Последний отличается от
Полного Собрания, во-первых, тем, что содержит в себе не все законы, а только те,
которые сохраняют обязательную силу; во-вторых, действующие законы
заключены в Свод не целиком, а в извлечениях, в форме статей, под которыми сделаны
ссылки на узаконения, послужившие для них основанием; в-третьих, порядок
расположения отдельных законодательных актов в Своде не хронологический,
361
а систематический. По плану Сперанского, которому принадлежало главное
руководительство в составлении Свода, в основание этой системы положено
понятие о союзе государственном и гражданском, и сообразно с этим все законы
разделяются на государственные и гражданские.
Государственные законы, с одной стороны, определяя существо государст-
веннного союза, с другой — охраняя права, из него вытекающие, разделяются на
определительные и охранительные. Законы гражданские, кроме того, были
разделены на две группы, из которых одна обнимала законы союзов семейственных
и общие законы об имуществах, а другая заключала в себе особенные законы,
устанавливавшие порядок действия имущественных прав в их отношении к
кредиту (государственному и частному), к промышленности, к торговле и т. д. Но при
соблюдении общей системы в целом Своде в пределах каждой части отдельные
статьи расположены не в систематическом порядке. Весь Свод распадался на
восемь главных частей, или отделов, размещенных в 15 томах.
1) Законы основные, определяющие существо верховной власти.
2) Законы органические, определяющие устройство органов этой власти.
3) Законы правительственных сил, определяющие способы действия этой
власти.
4) Законы о состояниях, определяющие права и обязанности подданных по
степени участия их в составе установлений и сил государственных.
5) Законы гражданские и межевые, обнимающие семейственные и общие
имущественные отношения.
6) Уставы государственного благоустройства, обнимающие особенные
имущественные отношения.
7) Уставы благочиния (законы полиции).
8) Законы уголовные.
После первого издания 1832 года было еще два полных издания Свода Законов
1842 и 1857 годов; отдельные же тома и даже отдельные уставы издавались и
пополнялись неоднократно до самого последнего времени. В 1892 году был
составлен XVI том, обнимающий судоустройство и судопроизводство, которым раньше
не было отведено особого места в системе Свода.
В настоящее время Свод состоит из 16 томов в восьми разновременных
изданиях.
Содержание Свода по отдельным томам представляется в следующем порядке:
Том I. ч. 1) Основные государственные законы, ч. 2) Высшие государственные
учреждения.
Том И. Учреждения губернские (местные управления) и уездные (положение
об инородцах).
Том III. Уставы о службе гражданской.
Том IV. Уставы о повинностях.
Том V. Уставы о налогах, пошлинах, акцизных сборах.
Том VI. Устав таможенный.
Том VII. Устав монетный; устав горный.
Том VIII. ч. 1) Устав лесной и казенных оброчных статей, ч. 2) Уставы
счетные.
Том IX. а) Законы о состояниях, б) Особое приложение, содержащее в себе
Положение о крестьянах. '
Том X. ч. 1) Законы гражданские и положение о казенных подрядах и
поставках, ч. 2) Законы межевые.
362
Том XI. ч. 1) Устав духовных дел иностранных исповеданий, ученых
учреждений и учебных заведений ведомства Министерства Народного Просвещения, ч. 2)
Уставы кредитный, вексельный, торговый, консульский; о промышленности.
Том XII. ч. 1) Уставы путей сообщения, почтовый, телеграфный,
строительный, взаимного страхования от огня. ч. 2) Устав сельского хозяйства и найма
рабочих; положение о трактирном промысле; устав о казенных селениях и
колониях иностранцев.
Том XIII. Уставы о народном продовольствии, общественном призрении;
врачебный.
Том XIV. Уставы о паспортах и беглых; о цензуре и печати; предупреждении
и пресечении преступлений; о содержащихся под стражей и ссыльных.
Том XV. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Том XVI. ч. 1) Судебные уставы, ч. 2) Учреждение местных судебных
установлений прежнего устройства; законы о судопроизводстве.
Некоторые отрасли нашего законодательства не вошли в состав Свода
Законов, и независимо от него у нас существуют своды и сборники законов местных
и для специальных ведомств. Таковы: 1) Свод военных постановлений,
изданный впервые в 1859 году и, наконец, по измененной системе, в 1869 году. 2) Свод
морских постановлений 1886 года. 3) В остзейском крае действует особый Свод
местных узаконений, обнимающий: а) организацию местных учреждений; б)
права состояния и в) законы гражданские. Первые две части вышли на русском
и немецком языках в 1845 году, а третья, также на обоих языках, издана только
в 1864 году; 4) В губерниях польского края функционирует введенный там еще
в 1808 году французский гражданский кодекс с некоторыми частными
изменениями и дополнениями. В 1870 году сделан официальный русский перевод под
заглавием: Собрание гражданских законов губерний Царства Польского; 5)
Наконец, в Великом Княжестве Финляндском действует Шведское уложение 1734
года, изданное на русском языке и Высочайше утвержденное в 1824 году. Новые
законодательные акты печатаются в Сборнике Постановлений Великого
Княжества Финляндского, издаваемом с 1808 года на шведском, а с 1869 года и на
русском языке.
Вспомогательные формы права.
Административные распоряжения
ι
Обычай и закон представляет две основные формы позитивного права.
Однако, они далеко не единственные его формы: в самом деле, ни закон, ни обычай не
в состоянии предвидеть и исчерпать всех запросов человеческой жизни, всего
бесконечного разнообразия человеческих потребностей. Человеческое общество
находится в состоянии беспрерывного развития, и никакое законодательство не
обладает достаточной гибкостью*, чтобы быстро приспособляться ко всем
изменениям человеческих отношений, и достаточной подвижностью, чтобы в ответ на
всякую новую потребность тотчас создавать новую норму. Существующее
законодательство представляет громоздкий и тяжелый аппарат, в работе которого
встречаются паузы, остановки. Уже из рассмотрения четырех стадий
образования закона мы могли видеть, что появлению каждого закона на свет предшеству-
363
ет мучительный процесс рождения, особенно если при этом сталкиваются
противоположные интересы и воззрения людей, стоящих у власти. Юридический
обычай большей частью развивается еще медленнее. Для образования его нужно
многократное повторение однородных случаев, вызывающих применение одних
и тех же решений. Назревая очень медленно, иногда в течение целых веков,
правовой обычай поэтому бессилен нормировать новые отношения, выходящие из
обычной колеи.
Пока совершаются предродовые потуги законодательства, предшествующие
появлению закона, жизнь не ждет и предъявляет все новые и новые требования.
Поэтому суду и администрации часто приходится сталкиваться с казусами,
которые не могут быть разрешены на основании действующего права и которые
между тем требуют безотлагательного решения. Этим вызывается необходимость
существования наряду с законом других, вспомогательных форм права; в числе
этих вспомогательных или дополнительных форм важнейшую роль играют
административные распоряжения, судебная практика и статутарное, или
автономическое право.
Мы уже говорили о различии между административным распоряжением и
законом. Закон в тесном смысле издается такими учреждениями или лицами,
которым принадлежит верховная власть в ее целом или часть верховной власти;
административные же распоряжения имеют значение подчиненное и могут
издаваться только в тех пределах, в каких это разрешается законом, причем они
могут исходить и от подчиненных правительственных органов.
Административные распоряжения создают, однако, очень важные нормы права. Не будучи в
состоянии все предусмотреть и исчерпать всех сторон каких-либо сложных
жизненных отношений, законодательство сплошь да рядом ограничивается
предписанием общего свойства, предоставляя административной власти
дополнять эти постановления закона, создавать нормы и вырабатывать ряд правил,
которые будут вызываться потребностями жизни.
Как широки могут быть рамки, предоставляемые деятельности
административных органов власти, видно из того, что целый ряд весьма важных норм,
которые регулируют быт студентов, устанавливается не законодательством, а
распоряжениями министра. Статья 121 Университетского устава 1884 года обязывает
студентов и посторонних слушателей соблюдать в здании университета порядок,
установленный правилами, которые утверждаются министром народного
просвещения. Особенно в неограниченных монархиях правительственные
распоряжения имеют важное значение. В теории установлено общее правило, что
правительственные распоряжения могут издаваться теми или другими органами
правительственной власти только в границах, установленных законом. Но на
практике эти границы нередко нарушаются, в особенности в тех странах, где
отсутствуют конституционные гарантии законности управления.
Судебная практика
Наряду с административными распоряжениями важное значение имеет
другая форма права: судебная практика. Суд есть инстанция, применяющая закон
к казусам, встречающимся в действительности. Но в силу невозможности для
законодателя предвидеть все разнообразие казусов, судебная практика поневоле
364
ограничивается одним только применением закона к случаям действительной
жизни. В жизни общества, быстро развивающегося, встречаются случаи,
законом не предусмотренные, и суд, разбирая такие случаи, призван играть
творческую роль; он должен разрешать всякие казусы и, сталкиваясь с новыми
казусами, волей-неволей вынужден создавать для них новые нормы права. Правосудие
так или иначе должно совершиться, почему во всех новейших законодательствах
принято правило, что суд не может отказываться от решения спорного дела под
предлогом неполноты или неясности закона. Если он отказывается вынести
решение по какому-либо делу, то за этот отказ он ответственен, как за отказ в
правосудии. Если суд сталкивается с казусом, для которого он не может найти
соответствующего закона, он должен разрешить его, основываясь на общем разуме
законов; не руководствуясь своими субъективными воззрениями, а так, как
разрешил бы его сам законодатель. Он может воспользоваться законом,
предусматривающим аналогичный случай; если же нельзя подыскать подобного закона,
то суд в этом случае должен решить дело по духу действующего
законодательства, руководствуясь намерениями и целями законодателя, которые нашли
выражение в законодательстве как целом.
Одним словом, суд должен искать логического единства законодательства,
как целого и на основании этого разрешать казусы, встречающиеся в его
практике.
Но редкое законодательство представляет собой стройное, логическое целое,
так как оно слагается постепенно, и отдельные части его, созданные в разное
время и под влиянием различных воззрений, нередко находятся в противоречии
друг с другом. Может случиться даже, что тот или другой закон, взятый в
отдельности, заключает в себе внутреннее противоречие; ибо сплошь да рядом
отдельный акт законодательства является результатом компромисса противоположных
воззрений. Чтобы, например, закон прошел в парламенте, одна партия нередко
принуждена делать уступки в пользу другой, и в таком случае закон,
естественно, носит характер компромисса. В монархиях неограниченных текст закона
нередко также является результатом компромисса между лицами,
участвовавшими в его обсуждении. Ввиду всего сказанного суду нередко приходится вносить
логическое единство в такой законодательный материал, где его в
действительности вовсе не оказывается.
Не ограничиваясь одним применением закона к соответствующим случаям,
но дополняя существующее законодательство новыми и даже весьма
существенными нормами, суд тем самым проявляет творческую деятельность. Отдельные
решения суда не создают обязательных норм не только для всех прочих судов,
но и для суда, их формулировавшего. Но из ряда однородных решений по поводу
однородных случаев возникает нормы, которые приобретают обязательность по
мере того, как они входят в обычай. Ввиду того, что нормы, выработанные
судебной практикой, приобретают обязательную силу путем обычая, некоторые
ученые, как, например, Вахтер, Малышев22, видят в них проявления обычного
права. Против этих воззрений выступил с возражением проф. Коркунов. Судебная
практика, по его мнению, занимает посредствующее место между обычаем, с
одной стороны, и законом — с другой. Она имеет много общего и с обычаем и с
законом. Между тем как обычай возникает и слагается бессознательно, нормы,
вырабатываемые судебной практикой, возникают в силу сознательного стремления
вносить поправки и дополнения в действующее законодательство. Другое важное
возражение состоит в том, что обычай всегда создается обществом как целым или
365
определенным общественным классом, сословием без всякого участия
государственной власти, тогда как судебная практика создается определенным
государственным органом — судом. Ясное дело, что под определение обычного права,
данного выше, судебная практика не подходит; следовательно, она должна
рассматриваться как самостоятельная форма права.
У нас в России судебная практика имеет значение самостоятельного
источника права, но только с недавних пор это значение было официально признано за
ней, именно со времени издания «Судебных Уставов Императора Александра II».
В них впервые предписывалось суду не останавливать решения под предлогом
неполноты или противоречия существующих законов, а разрешать казусы на
основании общего разума всего законодательства. В этом смысле составлены статья
10 гражданского судопроизводства и статья 13 уголовного судопроизводства.
В совершенно иное положение был поставлен дореформенный суд. Если суд по
поводу спорного дела усматривал в законах неполноту или неясность, он должен
был представлять его на усмотрение высшей инстанции. Таким образом, спорное
дело странствовало из одного суда в другой, из одной инстанции в другую, пока
не доходило до Государственного Совета, который полагал свое мнение и
подносил его на Высочайшее утверждение. Нечего и говорить, что такой порядок был
связан с бесконечной судебной волокитой; решение по тому или иному делу
выносилось нередко через много лет после его возникновения. Уничтожение этой
язвы судопроизводства было одним из великих благодеяний Императора
Александра П.
Так как деятельность суда есть деятельность отчасти творческая, то она
должна находиться под сильным влиянием науки о праве, в особенности если суд
сталкивается с пробелами в законодательстве. Суд восполняет эти пробелы,
обращаясь к науке, посредством юридического мышления. На этом основании
и некоторые ученые считают науку о праве самостоятельным источником права,
и сторонники исторической школы, державшиеся такого мнения, считали
сословие юристов выразителем живущего в народе правосознания. В настоящее время
этот взгляд не пользуется популярностью. Не подлежит, конечно, сомнению, что
наука служит одной из главных причин развития права, но с точки зрения
данного нами определения источников права, наука не есть источник права. Под
источниками прав должно разуметь те причины, которые сообщают нормам их
обязательное значение; наука же о праве обязательной силы сообщить нормам не
может, и те нормы, которые формирует наука, приобретают обязательное
значение только тогда, когда входят или в обычай или в законодательство.
Статутарное, или автономическое право
В числе дополнительных форм права наряду с административными
распоряжениями и судебной практикой имеет чрезвычайно важное значение право
статутарное или автономическое право, то есть нормы, изданные
самоуправляющимися общественными союзами и учреждениями.
Автономические статуты играют роль самостоятельных источников права
вследствие невозможности для центральной законодательной власти обнять
своими определениями всего разнообразия жизненных отношений. Центральные
законодательные органы не могут предвидеть всех разнообразных местных по-
366
требностей: они не могут предвидеть, например, какие способы освещения и
замощения улиц будут самые удобные в данном городе; сколько школ и больниц
нужно построить в том или ином уезде, чтобы удовлетворить потребность
жителей; сколько дорог нужно провести в той или иной местности и какое их
устройство будет наилучшим образом удовлетворять местные нужды.
Все такого рода местные нужды и пользы гораздо лучше известны местным
жителям, чем центральным органам власти. Поэтому возникает необходимость
устройства органов местного самоуправления, которые ведали бы местные
пользы и нужды. Таковы в нашем отечестве земства и думы. Кроме местных нужд
и потребностей, существует ряд специальных общественных и государственных
потребностей, которые могут быть лучше удовлетворены посредством
деятельности местных учреждений. Так, например, все университетские уставы
предоставляют университетам в той или иной мере некоторые автономические права.
Центральная власть, не будучи в состоянии предусмотреть всех нужд и потребностей
университетского быта, предоставляет самому университету права издавать
некоторые обязательные постановления, нормирующие университетскую жизнь.
Даже у нас, при действии устава 1884 года, стеснившего до крайности
университетскую автономию, за факультетами и советом сохраняется право издавать
некоторые автономные постановления. Под правом статутарным, или
автономическим, понимается, таким образом, право различных общественных союзов
и учреждений, преследующих общественные или государственные цели,
издавать постановления, обязательные как для членов этих союзов, так и для
посторонних лиц, поскольку они соприкасаются с ними. По отношению к законам
государственным статутарное право имеет подчиненное значение. Обязательные
постановления могут издаваться только теми союзами и учреждениями, которые
уполномочены на это законом и лишь в определенных, установленных
законодателем границах.
Автономический статут может только пополнять, но никак не изменять или
отменять существующие законы. Такие же автономические постановления,
которые противоречат законам, не имеют обязательного значения.
Автономическое право существует во всех цивилизованных государствах.
Но наибольшего своего развития оно достигает в наиболее культурных странах.
Чем выше уровень культурного развития народа, тем шире могут быть
автономные права, предоставляемые органам местного самоуправления, так как для
успешности деятельности самоуправления необходимо некоторое умственное
развитие населения, понимание своих собственных интересов и потребностей.
Применение правовых норм. Критика
Чтобы закончить отдел о праве в объективном смысле, нам остается
познакомиться с применением права. Чтобы применять право, нужно сначала знать,
в чем состоят нормы права, регулирующие в каждом данном случае человеческие
отношения. Нужно знать, в чем заключается право, а в чем не право, — а что
можно узнать с помощью критики источников права. Критика источников права
бывает двоякая: высшая и низшая. Задача так называемой высшей критики
состоит в том, чтобы определить подлинность существования нормы права.
Низшая критика занимается установлением точного текста закона. Задача высшей
367
критики бывает особенно сложна в тех случаях, когда приходится иметь дело
с вопросом о существовании нормы права обычного. Как мы видели выше,
существует множество обычаев общегосударственных, сословных, местных и
племенных. В России обычаи великороссов разнятся от обычаев белорусов, а обычаи
этих последних резко отличаются от обычаев литовских; различные сословия —
мещане, крестьяне, купцы — имеют каждое свои особенные обычаи.
Разобраться во всем этом разнообразии обычаев и установить подлинную
норму обычного права является задачей далеко не легкой. Такого рода затруднения
дают себя в особенности чувствовать в тех случаях, когда возникает спор о праве;
причем спорящие основываются на нормах обычного права. Если такой спор
доходит до суда, то задача последнего становится весьма трудной. Суд не может,
да и не обязан знать всего разнообразия норм обычного права, но тем не менее ему
приходится считаться с народными обычаями. Спрашивается, как же суд может
удостовериться в существовании той или иной нормы права? Эта задача на
практике разрешается тем, что стороны сами указывают на существование нормы
права; причем на обязанности сторон лежит доказать свое утверждение.
Доказательства подлинности норм обычного права бывают самые разнообразные, и их
нельзя втиснуть в определенные рамки. Суд может убедиться в существовании
такой нормы из надежных свидетельских показаний, из прежних судебных
приговоров, наконец, из сборников обычного права, изданных частными лицами.
Вообще, суд может убедиться в подлинности нормы, если стороны докажут, что
тот или другой обычай применялся в течение долгого времени. Впрочем, суд не
обязан пользоваться только теми доказательствами, которые приводят спорящие
стороны. Он может по собственной инициативе привлечь новых свидетелей,
обратиться к опросу более или менее широких слоев местного населения и т. п. На
основании показаний сторон о собственной деятельности суд должен произвести
критику: полученные указанными путями данные нуждаются в тщательной
проверке, даже прежние приговоры суда не могут служить надежным
доказательством. Приговоры наших волостных судов часто обусловливаются влиянием
какого-нибудь местного грамотея, волостного писаря, который сам, в свою очередь,
может находиться под влиянием особого почтения, оказанного ему кем-либо из
тяжущихся.
Сравнительно легче убедиться в существовании закона, который должен быть
применен к данному случаю. Однако же это не всегда так легко, как можно
подумать с первого раза. И в этом случае для высшей критики остается известный
простор. В особенности это касается тех стран, где между властью
законодательной и властью учредительной проведена резкая граница. Например, в Америке
законодатель не вправе издавать законы, которые противоречили бы основным
законам государства. Буде законодатель издаст закон, не согласный с
конституцией, суд обязан отказать в его применении. Поэтому на суде в Америке лежит
обязанность прежде чем применить закон, рассмотреть, соответствует ли этот
закон конституции. Впрочем, высшая критика находит некоторое поле для своего
применения и в таких государствах, где не проведено различия между
законодательной и учредительной властью. Тут она иногда может иметь место даже в
отношении к официальным изданиям законов, так как и в официальных
сборниках сплошь да рядом встречаются ошибки; легко может случиться, например,
что вследствие недосмотра закон не попал в сборник или не напечатан в нем
полностью или, наконец, самый текст закона подвергся искажению. Ввиду всего
этого ни в одном государстве не представляется возможности обойтись без критики.
368
По отношению к юридическим нормам, установленным судебной практикой,
правительственными распоряжениями, или автономическими статутами,
высшая критика имеет еще большее значение. Правительственные органы, судебные
установления и автономные общественные союзы могут действовать только
в пределах, указанных им законом, и не могут издавать постановления в отмену
действующих законов. Вследствие этого, всякая инстанция, применяющая эти
постановления, должна предварительно рассмотреть, не противоречат ли они
существующим узаконениям.
Толкование закона
Для применения права недостаточно удостовериться в существовании
юридической нормы. Кроме того, нужно установить точный смысл той нормы, которую
требуется применить. Для уяснения точного смысла каждой данной нормы
подвергается грамматическому анализу тот текст, из которого мы знаем о ее
существовании. Если дело идет о законах, то анализу должен подвергаться текст их.
Для правильного толкования смысла закона необходимо тщательное знакомство
с языком законодателя. Этот язык может значительно отличаться от нашего
современного языка, в нем могут встречаться характерные грамматические
ошибки. При толковании закона должно быть обращено внимание на способ
выражения законодателя и даже на его грамматические ошибки.
Толкование закона не ограничивается, однако, одним грамматическим
анализом. Задача толкования состоит в уяснении внутреннего смысла
законоположений. Такое толкование, которое не идет дальше буквы закона, в высшей степени
опасно и может повести к многочисленным злоупотреблениям. Выяснение духа
закона, намерений и целей, имевшихся в виду законодателем, — вот истинная
цель и основная задача всякого толкования. Сопоставляя два приема,
употребляемые при толковании юридических норм, — грамматический анализ и
выяснение логического смысла, — некоторые энциклопедисты, например, Ренцен-
кампф, различают два вида толкования: грамматическое и логическое.
Вряд ли, однако, такое разделение может быть признано состоятельным. В
самом деле, грамматическое толкование не может быть не логическим: оно должно
также сообразоваться с законами логики; точно так же и логическое толкование
возможно лишь при установлении грамматического смысла каждого
законоположения. Поэтому не може^ быть речи о двух различных видах толкования,
а может быть только речь о двух приемах, употребляемых при толковании.
Некоторые ученые различают два других вида толкования: систематическое и
историческое. Но и относительно этих последних нетрудно убедиться, что это опять-
таки не более как различные приемы толкования, разные стороны одного и того
же толкования, которые не следует противополагать друг другу как отдельные
и самостоятельные его виды. Каждый закон должен рассматриваться в связи со
всей системой законоположений, как частное проявление тех общих идей и
намерений законодателя, которые нашли свое воплощение в целой системе
законодательства. Сопоставление отдельного закона с другими законами необходимо для
уяснения истинного его смысла. Так, например, в статье 100 Университетского
устава 1884 года говорится, что на должность профессора назначаются лица,
удовлетворяющие условиям, указанным в статье 99. Таким образом, всякий, кто
369
хочет понять смысл статьи 100, должен познакомиться со статьей 99.
Основываясь на такого рода случаях, некоторые ученые говорят о существовании особого
вида толкования — систематического. Очевидно, однако, что систематическое
толкование состоит в восстановлении логического смысла данного закона и
поэтому оно не может быть противополагаемо толкованию логическому. То же
можно сказать и относительно так называемого исторического толкования.
Чтобы уяснить себе истинный смысл какого-нибудь положения, часто бывает
необходимо познакомиться с происхождением его, вникнуть в потребности,
вызвавшие его появление. Только вникнув в природу тех отношений, которые
нормировал законодатель, мы можем понять истинные его намерения. Поэтому
истинным может быть такое толкование закона, которое является верным
общему духу законодательства, которое принимает во внимание социальные
потребности, конкретные поводы, вызвавшие появление закона. Законы в огромном
большинстве случаев развивают мысли, нашедшие себе выражение в
существовавших раньше нормах; вносят частные поправки и изменения в прежние
законы. Засим даже законы, выражающие совершенно новые мысли, иногда могут
быть как следует понятны только при условии сопоставления их с теми
законами, которые они призваны заменить. Для полного понимания закона нередко
оказывается необходимым проследить процесс его возникновения и развития.
Отсюда ясно, какое важное значение в деле правильного понимания и
толкования прав имеет историческое изучение юридических норм.
Основываясь на таком важном значении исторического изучения при
толковании правовых норм, энциклопедисты признают его за особый вид толкования.
В действительности же, однако, мы и здесь имеем дело лишь с особым приемом
логического толкования. Всякое истолкование закона должно быть прежде всего
логическим, но приемы его могут быть различны: грамматический анализ,
сопоставление закона с целой системой законодательства и историческое изучение
закона в связи с предшествовавшими законами. Все это не более как различные
способы логического толкования, взаимно восполняющие друг друга.
Выше было указано, что буквальное толкование закона часто приводит к
пониманию его, не соответствующему намерениям законодателя, неясно или
неточно выразившему свою мысль. Истинное толкование поэтому должно
обращать внимание и исправлять редакционные ошибки, руководствуясь общим
духом закона, той мыслью, которая при ее составлении имелась в виду
законодателем.
Недостатки редакции, которые исправляет толкование, бывают двоякого
рода. Может случиться, что законодатель сказал больше или меньше того, что
хотел сказать. В первом случае,1 когда законодатель выразился слишком обще,
должно применять ограничительное толкование (intrpretatio restrictiva); во
втором, когда законодатель выразился слишком сжато, должно иметь место
толкование распространительное (intrpretatio extensive).
Допустим, например, что законодатель назвал только мужчин в законе,
который, очевидно, должен касаться граждан обоего пола, или, например, в законе,
который одинаково должен относиться к слушателям университета,
законодатель упомянул лишь о студентах и забыл о вольнослушателях. Во всех случаях
такого рода должно быть применено распространительное толкование.
Ограничительное толкование имеет место в тех случаях, когда словесные
выражения законодателя захватили большее число случаев, нежели то, которое он
имел в виду. Примером может служить существующий у нас закон, согласно ко-
370
торому в Академию Генерального Штаба не принимаются офицеры, женатые на
католичках. Недавно возникло затруднение по поводу принятия в Академию
офицера, женатого на черкешенке католического вероисповедания. Ввиду того
что законодатель имел в виду лишь полек, закону дано было ограничительное
толкование и офицер был в конце концов принят.
Кроме указанных уже делений толкований по его приемам, некоторые
различают еще два вида толкования, смотря по тому, кто является субъектом
толкования. То толкование, которое совершается лицами, применяющими закон, и сила
которого зависит от его разумности, называется доктриналъным. То же
толкование, которое устанавливается обычаем или законодательством, называется
легальным. Легальное толкование, основанное на обычае, кроме того —
узуальным, а основанное на законе — аутентическим. Такое деление, однако,
неправильно. Как доказал Савиньи, название толкования заслуживает собственно
только толкование доктринальное. Толкование же узуальное есть не что иное,
как норма обычного права, дополняющая закон; аутентическое же толкование
есть просто новый закон. (Так как понятно, что толкование, исходящее от
законодателя, имеет обязательную силу, совершенно одинаковую с толкуемым
законом.)
Аналогия
К толкованию закона некоторые ученые причисляют так называемую
аналогию. Другие утверждают, что аналогия не есть толкование нормы, раньше
существовавшей, а представляет создание новой нормы права. Чтобы решить этот
вопрос, рассмотрим сущность аналогии и случаи ее применения. Необходимость ее
обусловлена существованием многих случаев, которые ни обычаем, ни законом
не предусмотрены, а тем не менее подлежат рассмотрению суда. Считается
общепризнанным правилом, что суд не может отказаться от решения под предлогом
неясности, неполноты или противоречия закона. Когда в судебной практике
попадается казус, законом не предусмотренный, то суд может подыскать такой
закон, который предусматривает случай аналогичный с данным. Если же такого
закона не оказывается, то суд обязан рассмотреть спорный вопрос по духу всего
действующего законодательства, на основании общего разума его. В первом
случае будет иметь место аналогия закона; во втором случае, когда решение
постановляется на основании общего(разума всего законодательства, — аналогия
права. Исходя из такого объяснения сущности аналогии, мы уже можем решить
спор о том, представляет ли она толкование закона или же она составляет такой
творческий акт, коим создается новая норма права. В этом споре обе стороны
должны быть признаны до известной степени правыми и неправыми. Очевидно,
что когда суд для разрешения казуса, который не был предвиден законом,
подыскивает закон аналогический, то он не создает тем самым новой нормы права; тут
будет иметь место распространение раньше действовавшей юридической нормы
на случай, о котором в тексте закона не упоминается. Иное дело, когда за
отсутствием подходящей нормы спорный вопрос разрешается на основании общего
разума всего законодательства. В последнем случае приходится создавать новую
норму, до того времени не существовавшую. Стало быть, интересующий нас спор
может быть решен в том смысле, что аналогия закона есть толкование, извест-
371
ный способ применения старого закона к новому случаю, а аналогия права
представляет творческий акт, создающий новую норму.
Юридическим основанием аналогии служит то положение, что к отношениям
аналогическим должны применяться и одинаковые нормы. Вот почему закон
может применяться по аналогии к случаям, сходным с теми, которые он
предусматривает. Главное затруднение заключается в том, что двух случаев абсолютно
сходных в действительной жизни не встречается; поэтому когда приходится
разрешать случай, законом прямо не предусмотренный, то трудно подыскать закон,
который бы предусматривал случай, совершенно сходный с данным. Для
применения аналогии нужен случай, сходный с данным по крайней мере в некоторых
существенных признаках, в типических чертах. Так, юридические сделки,
каковы покупка, обмен, наем, различные во многих отношениях, сходны в одном
общем и существенном признаке: во всех этих сделках одна сторона за известное
вознаграждение должна доставить другой определенные материальные выгоды.
На этом основании возможно некоторые постановления законодательства
относительно одних сделок распространить и на другие сделки того же рода.
Аналогия закона, следовательно, имеет сходство с распространительным
толкованием его: как распространительное толкование, так и аналогия закона
извлекают из него более, нежели заключается в самой букве закона. Но различие
тут заключается в том, что при распространительном толковании исправляются
несовершенства словесной редакции закона; при аналогии же этим не
ограничиваются, но дополняют и расширяют самый смысл закона, руководствуясь
общими намерениями и целями законодателя, которые выразились как в данном
отдельном законе, так и во всей системе законодательства.
Выяснив сущность аналогии, нам остается сказать о пределах ее применения.
По аналогии не могут применяться те законы-, которые устанавливают
порядок исключительный. Например, местные законы, созданные в зависимости от
бытовых и исторических особенностей данной местности, невозможно
распространять на другие области или всю государственную территорию. Не может быть
применяема аналогия и к законам, устанавливающим привилегии. Точно так же
вообще не может быть применяема она и в уголовном праве в силу того правила,
что никакое деяние, не предусмотренное законом, наказанию не подлежит (nulla
poena sine lege), ибо применение аналогии в таком случае повело бы к тому, что
наказывались бы такие деяния, которые законом не воспрещаются.
Как все виды толкования закона вообще, аналогия находит себе применение
в праве вследствие недостатков и пробелов действующего законодательства,
в особенности же вследствие того, что законодательство не может поспеть за
беспрерывным развитием жизни. Несмотря на то что законодательство таким
образом отстает от жизни и толкование закона является необходимостью, многие
законодательства до недавнего времени принципиально относились враждебно не
только к аналогии, но и к толкованию законов вообще, настаивая на
необходимости буквального применения закона. Это происходило вследствие того, что
существовало когда-то очень распространенное ложное мнение, будто толкование
закона есть не что иное, как обход его.
Такое убеждение господствовало и в нашем отечественном законодательстве
в дореформенное время. Статья 65 Основного Закона предписывает всем
властям, не исключая и высших правительственных мест, утверждать свои
определения на точных словах закона, не переменяя в них, без доклада
Императорскому Величеству, ни единой буквы и не допуская обманчивого непостоянства
372
самопроизвольных толкований. Однако же статья 749 тома II Свода Законов
запрещает испрашивать «указа на указ», то есть испрашивать Высочайшего
толкования неясного закона, кроме крайних случаев. Таким образом, в отношении
нашего дореформенного законодательства к толкованию закона замечалось полное
противоречие: с одной стороны, запрещалось всякое толкование законов; с
другой стороны, подчиненные органы вынуждены были обращаться к толкованию,
так как нельзя было испрашивать «указа на указ».
Судебные уставы Императора Александра II устранили недостаток нашего
дореформенного законодательства. Статья 9 устава гражданского
судопроизводства вменила в обязанность судебным учреждениям постановлять решения на
точном разуме существующих законов, а в случае их неполноты, неясности или
противоречия суд должен основывать решение на общем смысле законов. Таким
образом, в настоящее время у нас сам законодатель признает за судом не только
право, но и обязанность толковать закон. Суд, который отказывает в приговоре
под каким бы то ни было предлогом, подвергается ответственности, как за отказ
от правосудия.
Предоставляя судам такую свободу толкования, современные законодатели
озабочены тем, чтобы она не нарушала равенства и однообразия в правосудии на
всем протяжении государства. С этой целью в современных цивилизованных
государствах учреждены кассационные суды, которые следят за однообразным
толкованием и применением закона прочими судами на протяжении всей
государственной территории. Они рассматривают жалобы на приговоры отдельных
судебных мест и отменяют их решение, если обнаруживается неправильность
в толковании или нарушение закона. Такой порядок существует, например,
во Франции и у нас. В нашем отечестве за единообразием в правосудии следит
Правительствующий Сенат. Все кассационные решения Сената публикуются во
всеобщее сведение и служат руководством для деятельности судов на будущее
время. Однако обязательное значение эти решения имеют только по тем делам,
по которым они постановлены; для дел же аналогичных, не рассмотренных
Сенатом, они обязательной силы не имеют.
Действие закона
Для применения закона важно выяснить те пределы, в каких он действует.
Всякий закон действует в предрлах места, времени и распространяется на
определенный круг лиц. Нет такого закона, который бы существовал вечно,
распространился на весь мир и был обязателен для всех лиц независимо от того, к
какому государству они принадлежат. Поэтому имеет большое значение вопрос
о пределах действия закона вообще. Этот общий вопрос распадается на три части:
1) о действии закона в пределах времени, 2) в пределах места и 3) в отношении
к лицам.
Всякий закон становится обязательным только с того времени, как он
опубликован во всеобщее сведение. Но действие его не может простираться на факты
и деяния, предшествовавшие времени его обнародования. Действие его
простирается только на будущее время, и юридические отношения, сложившиеся при
старых законах, должны быть рассматриваемы на основании прежних законов,
иначе говоря: lex ad praeteritum non valet — закон не имеет обратной силы.
373
Правило это имеет следующие основания: закон требует безусловного
повиновения, но человек только в том случае может повиноваться ему, если он знает
требования закона и если ему известно, какие последствия повлечет за собой то
или другое его противозаконное действие. Каждый гражданин должен быть
уверен, что всякое действие его повлечет за собой известные последствия, которые
он во всяком случае может предвидеть. Где этой уверенности нет, там нет
законного порядка, там царствует произвол.
Правило о необратном действии закона служит гарантией личной свободы
против произвола законодателя. Если бы уголовный закон имел обратное
действие, то каждый гражданин, совершая сегодня деяние дозволенное, не мог бы
быть уверен, что завтра это деяние не повлечет за собой наказания на основании
нового закона, его воспрещающего. Не менее вредное влияние имело бы обратное
действие закона и в сфере гражданского права. Положим, например, что новый
закон требует непременным условием приобретения недвижимого имущества,
ввод во владение. Распространить действие этого правила на недвижимые
имущества, приобретенные ранее появления нового закона, значило бы упразднить
на время всякую собственность на недвижимое имущество.
Стало быть, правило о необратном действии закона необходимо для того,
чтобы обеспечить неприкосновенность личности и ее законно приобретенных прав.
С одной стороны, им обеспечивается ненаказуемость тех деяний, которые во
время их совершения законом не воспрещены, а с другой стороны — уверенность,
что гражданин спокойно может пользоваться той свободой, которую закон ему
предоставляет. Правило это обусловливается, во-первых, элементарным
требованием справедливости, чтобы закон не подвергал людей невыгодным
последствиям за совершение ими деяний дозволенных; во-вторых, оно необходимо в
интересах самого государства. Обратное действие закона создавало бы в обществе ту
неуверенность в завтрашнем дне, которая служит источником опасных смут
и брожений. Граждане не могут относиться с уважением к закону, который,
предписывая или дозволяя тот или другой образ действий, подвергает их риску
поплатиться со временем за то, что они сообразовались с его предписаниями.
В интересах самого государства необходимо, чтобы новый закон не поражал
законно приобретенных прав личности. Поэтому новый закон, который в чем-
либо уменьшает права отдельных лиц, обратного действия иметь не может.
Напротив, такой закон, который не поражает каких-либо личных прав и не влечет
для лиц невыгодных последствий, — может иметь обратное действие. Например,
новый закон, определяющий за преступление более легкое наказание, чем
прежний закон, может применяться и к преступлениям, совершенным до его издания.
Такое исключение из правила о необратном действии закона допускается на том
основании, что смягчение наказания не ограничивает личных прав,
ограничивая, напротив, карательную власть государства. По той же причине могут иметь
и даже должны иметь обратное действие законы, изменяющие форму
судопроизводства. Всякое улучшение в уголовном судопроизводстве гарантирует
безопасность личности против несправедливых уголовных преследований, обеспечивает
интересы личности. Например, введение суда присяжных вместо суда коронного
отнюдь не суживает прав подсудимых; напротив, суд присяжных более
обеспечивает справедливость и беспристрастие судебных решений, чем суд коронный,
который находится и в большей зависимости от правительства и более доступен
внешним влияниям. Поэтому закон, устанавливающий более совершенные
формы судопроизводства, должен применяться и к тем делам, которые возникли до
374
его издания. Вообще, когда государство признает недостаточность той или
другой формы судопроизводства для отыскания истины, то на обязанности его
лежит применить новые формы судоговорения ко всем делам независимо от того,
когда они возникли. Правило это, очевидно, должно применяться как в
уголовном, так и в гражданском судопроизводстве.
Вообще, правило о необратном действии закона подлежит некоторым
ограничениям. Наиболее широкое применение оно находит в праве, гражданском,
но и здесь оно должно подвергнуться ряду ограничений. Те изменения, которые
может вносить закон в гражданское право, бывают двоякого рода: 1) Закон
оставляет совершенно неприкосновенным тот или другой институт гражданского
права, но изменяет самый способ приобретения частных прав, основанных на этом
институте; оставляя, например, без изменения институт наследства, закон
может изменить порядок наследования. 2) Наконец, закон может уничтожить
целый институт права, например, крепостное право.
Если закон изменяет порядок приобретения прав, то такой закон обратного
действия не имеет. Положим, что старый закон устранил от наследования
женщин, тогда как закон новый распространяет это право и на них. В таком случае,
если наследство уже разделено на основании старого закона между сыновьями,
то дочери уже не имеют права требовать какой-либо доли наследства; прав
сыновей новый закон не поражает, ибо права их уже приобретены.
Или положим, например, что возникло долговое обязательство, в силу
которого должник обязан платить 6-8%, а после появился закон, запрещающий
взимать более 5%. В этом случае, если срок векселя истек при старом законе,
кредитор сохраняет свое право. Но права, находящиеся в процессе образования, еще не
вполне сложившиеся, подчиняются новым законам. Положим, составлено
завещание, оставляющее все имущество сыновьям; но выходит закон, вменяющий
в обязанность завещателю оставлять часть имущества и дочерям. В таком случае,
если в момент обнародования закона завещатель еще жив, завещание
оказывается недействительным; если же наследователь умер раньше издания нового
закона, то завещание должно признаваться действительным.
Обратимся к тем законам, которые отменяют целый институт гражданского
права. С момента появления закона, отменяющего какой-нибудь институт
гражданского права, уничтожаются и все права, основанные на этом институте, а
потому можно сказать, что законы в таком случае имеют обратное действие.
Таковым является знаменитое Положение о крестьянах 19 февраля.
Подобное исключение вполне понятно: раз уничтожается целый институт
права, признаваемый безнравственным, несоответствующим правосознанию
общества, то и все последствия его должны исчезнуть. Однако возникает вопрос:
не должно ли государство в подобных случаях вознаграждать обладателей
упраздненных прав? Вопрос этот представляется спорным в юриспруденции.
Известный юрист Шталь23, например, является сторонником вознаграждения прежних
владельцев. По мнению Шталя, те институты гражданского права, которые не
соответствуют требованиям общего блага, должны быть упразднены; но лица,
теряющие вместе с уничтожением* института основанные на нем права, должны
быть вознаграждены как в интересах справедливости, так и в интересах
общественного спокойствия. Против этих взглядов выступил Ферд. Лассаль24, который
утверждал в своем сочинении «Система приобретенных прав», что нельзя
признавать права на вознаграждение там, где самое содержание отмененного
института признано противным нравственности. Признавать это право значило бы
375
признавать за отдельными лицами право облагать налогом народный дух за его
развитие. У нас, в России, помещик не получил никакого вознаграждения за
освобождение крестьян, и это было вполне понятно и справедливо: назначая
вознаграждение, законодатель тем самым признал бы крестьянина за экономическую
ценность, которая может быть заменена соответствующей денежной суммой.
Напротив, за землю, отчуждаемую у помещиков для крестьян, было назначено
определенное вознаграждение, и это было опять-таки справедливо, так как земля
действительно составляет хозяйственную ценность, за отнятие которой прежние
владельцы должны быть вознаграждены. Вообще, правило о необратном
действии закона имеет в виду гарантировать неприкосновенность приобретенных
частных прав; исключения же из этого правила объясняются тем, что частные
права вообще должны уступать требованиям общего блага.
Гарантируя приобретенные частные права лишь постольку, поскольку они не
противоречат общегосударственным интересам, государство тем более не может
обеспечить гражданам неприкосновенность тех публичных их прав, которые
будут признаны вредными для общего блага. Политические права вообще не суть
частное достояние их обладателей. Поэтому новые политические законы вообще
имеют обратное действие. Положим, что издан новый политический закон,
уничтожающий какую-либо сословную привилегию, например, привилегию
дворянского сословия относительно воинской повинности, — спрашивается: должен ли
этот закон распространяться на лиц, родившихся до появления этого закона или
нет? Если такая сословная привилегия признана вредной для государства, то она
должна быть упразднена со всеми последствиями и, стало быть, закон должен
иметь в данном случае обратное действие.
Наше законодательство вообще признает правило о необратном действии
закона. Исключения допускаются только в двух случаях, указанных в статье 61
Основного Закона: 1) Когда в самом законе именно сказано, что он только
подтверждение и изъяснение закона прежнего и 2) Когда сам закон
постановляет, что сила его распространяется на времена, предшествовавшие его
обнародованию.
Оба эти исключения формулированы неудачно, вызывают сомнение в своей
целесообразности и противоречат тем началам, которые в современной науке
права пользуются общим признанием. В особенности это верно относительно
первого исключения: в настоящее время можно считать общепризнанным, что
всякое толкование закона, исходящее от самого законодателя, есть новый закон,
который по тому самому не должен иметь обратного действия. Толкование закона
иногда бывает таково, что оно совершенно изменяет смысл закона прежнего.
Поэтому если допустить, что легальное толкование имеет обратное действие, то под
видом разъяснения прежнего' закона законодатель может издавать совершенно
новые юридические нормы, сообщая им при этом обратное действие; а это по
отношению к большей части юридических норм представляется крайне
несправедливым.
О действии законов по месту
Наряду с границами времени действие каждого закона заключается в
границах места. Прежде всего каждое государство имеет право издавать и применять
376
законы в пределах своей территории. Как подданные, так и иностранцы, как
временные, так и постоянные жители той или другой страны обязаны подчиняться
законам того государства, на территории которого они проживают. Государство
вообще не может допускать на своей территории действия чужеземных законов,
потому что это нарушило бы его право верховенства, его независимость по
отношению к другим государствам.
На практике, однако, применение территориального начала в праве
подвергается некоторым ограничениям, которые вытекают из требований
международного общения: чересчур прямолинейное и неуклонное применение одних только
территориальных законов в пределах каждого государства сделало бы крайне
затруднительными или вовсе невозможными взаимные отношения между
гражданами различных государств. Каковы эти затруднения, можно видеть, например,
из следующего: у нас в России для гражданского совершеннолетия требуется
достижение лицами возраста 21 года, а в Австрии — двадцатичетырехлетнего
возраста. Положим, что русский гражданин, достигший 21 года, продает свое
имение, находящееся в Австрии; будет ли эта сделка считаться законной в Австрии
или же австрийский суд признает ее недействительной вследствие недостижения
продавцом гражданского совершеннолетия (по австрийским законам)? Или,
положим, умирая, я оставил какое-нибудь имущество в Италии. Спрашивается,
по каким законам будет унаследовано это имущество, по русским или по
итальянским? Для разрешения целого ряда подобных казусов применение
территориального начала оказалось бы несправедливым, и вот почему современные
государства в целом ряде случаев от него отступают.
Вследствие этого, при разрешении конкретных юридических случаев, часто
сталкиваются законы различных стран. Вопрос о том, на основании каких начал
должны быть разрешаемы подобные столкновения, вызвал богатую
юридическую литературу; причем вообще вопрос представляется в науке спорным.
Подробное исследование этих споров составляет задачу науки международного
права. В курсе энциклопедии можно удовольствоваться выяснением начал,
установившихся в практике современных цивилизованных государств.
В области государственного права всецело господствует территориальное
начало: государственное право каждой страны обусловливается особенностями ее
политического строя; понятно, что государство не может допустить на своей
территории применение чуждого политического закона. Точно так же территори-
альны и уголовные законы. Уголовное законодательство всегда тесно связано
с нравственным миросозерцанием того или другого народа, чем и
обусловливается признание или непризнание тех или других деяний за преступление и
установление законодателем тех или других видов наказания.
Действие территориального'начала подвергается различным ограничениям
в праве гражданском, так как именно здесь некоторые отступления от этого
начала необходимы в интересах международного общения. Развитие торговых
отношений между отдельными государствами делает необходимым, например,
заключение ряда торговых сделок в пределах того государства, в котором такие
сделки должны осуществляться. Непризнание таких сделок могло бы
парализовать международные торговые сношения. Точно так же семейственное
право иностранца должно рассматриваться согласно законодательству его
страны. Положим, например, иностранец по законам своей страны вступил в
гражданский брак и затем явился в Россию, где для законности брачного союза
требуется брак церковный. Непризнание в России гражданских браков ино-
377
странцев могло бы без всякой нужды затруднить и стеснить международное
общение.
В практике современных цивилизованных государств столкновение разно-
местных законов разрешаются на основании так называемой статутарной
теории. — Сущность ее сводится к тому, что при разрешении вопроса о том, какой
закон должен быть применяем к данным юридическим отношениям, —
отечественный или иностранный, принимается во внимание природа тех правовых
отношений, которые определяются каждым данным законом. Статутарная теория,
о которой идет речь, различает три вида законов: статуты личные (statuta
personalia), статуты вещные (statuta realia) и статуты смешанные (statuta mixta).
По отношению ко всем этим трем группам законов вопрос о применении закона
отечественного или иностранного решается различно:
1) Statuta personalia — суть законы, определяющие юридическое положение,
правоспособность отдельных лиц. Все вопросы, возникающие относительно
состояния лица, решаются на основании законов его родины (lex domicilia). Так,
например, вопрос о гражданском совершеннолетии разрешается на основании
родины лица.
2) Statuta realia — суть те законы, которые определяют наши права на вещи.
Они распадаются на две группы: а) законы, устанавливающие наши права на
движимое имущество и б) законы, определяющие наши права на недвижимое
имущество. В первом случае столкновения разрешаются на основании законов
того государства, где проживает обладатель движимого имущества (lex lex
domicilii). Во втором случае все столкновения разрешаются по законам
местонахождения вещи (lex rei sitae).
3) Statuta mixta — определяют договорные отношения отдельных лиц. В
отношении договоров надо различать две стороны: вопрос о юридической годности
договора разрешается по законам той страны, где он был заключен (locus regit
actum). Что же касается порядка осуществления договора, то он подчиняется
судопроизводственным законам той страны, где он осуществляется.
О действии закона по отношению к лицам
Переходя теперь к вопросу о действии закона в отношении к лицам, мы
замечаем, что в этом случае действие закона определяется теми же началами, какие
были указаны по отношению к месту. Это, с одной стороны, — принцип
территориального верховенства государства, с другой — ограничивающие этот принцип
требования международного общения. Из начала верховенства государства
вытекает обязанность всех лиц, живущих в пределах его территории, подчиняться его
законам. Обязанность эта распространяется как на подданных, так и на
иностранцев. Последние, пользуясь защитой закона того государства, в котором они
проживают, тем самым как бы берут на себя обязанность подчиняться
государственным предписаниям. То обстоятельство что закон в одинаковой мере
обязателен для всех, означает, что все люди равны перед законом. Такое формальное,
юридическое равенство отнюдь, однако, не должно быть смешиваемо с
равенством фактическим, материальным ./Фактическое равенство — несправедливо и
даже невозможно: нельзя, например, уравнять в правах человека образованного
и неуча, ученого и безграмотного. Равенство всех людей перед законом имеет ха-
378
рактер часто формальный. Оно означает, что все люди одинаково должны
подчиняться закону. Однако и это правило о равенстве всех перед законом подлежит
известным ограничениям в интересах международного общения. Исключение из
него делается, во-первых, для иностранных государей, находящихся на
территории государства: они не подчиняются законам чужого государства и пользуются
полной свободой и неприкосновенностью своей личности. Положение их
юридически определяется при помощи фикции экстерриториальности, то есть внезе-
мельности. Согласно этой фикции всякий государь, находящийся в качестве
гостя на территории другого государства, считается как бы проживающим на
территории своего собственного государства. Принцип внеземельности
распространяется также на помещение, занимаемое иностранным государем, на лиц его
семьи и свиты, сопровождающих его. Все эти лица, в случае каких-либо
правонарушений, подлежат действию законов родной страны, а не той, где они временно
проживают. Внеземельными считаются, кроме того, все посольства. Участок
земли, на котором помещается посольский дом, считается частью территории
представляемого посольством государства. Признание принципа
экстерриториальности по отношению к дипломатическим представителям иностранных
государств обусловливается необходимостью ограждения их свободы и
независимости, без чего немыслимо исполнение ими возложенных на них обязанностей.
Право в субъективном смысле. Правоотношения
Обращаясь к учению о праве в субъективном смысле, мы прежде всего
должны вспомнить то определение субъективного права, которое дано было выше.
Право в субъективном смысле — как гласило это определение — есть та сфера
внешней свободы, которая предоставляется человеческой личности нормами
объективного права. Объективное право состоит из совокупности юридических
норм и олицетворяет собой общественный элемент права. Напротив того, право
в субъективном смысле заключает в себе индивидуальные права или правомочия
отдельных лиц и служит выражением личного элемента в праве. Право в
субъективном смысле слагается из правомочий и обязанностей; причем правам одних
лиц всегда соответствуют обязанности других. Юридическая свобода одного
лица непременно заключает в себе притязание, требование, обращенное к другим
лицам, чтобы они уважали эту свободу. Всякое право поэтому предполагает
известное отношение лица — обладателя права — ко всем другим лицам, которое
называется юридическим отношением или правоотношением.
Правомочие и обязанность с^ть две стороны, элементы юридического
отношения. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению этих элементов
правоотношения, нам необходимо познакомиться с сущностью самого правоотношения.
Господствующее в науке воззрение определяет правоотношение как
урегулированное правом отношение одного лица к другим лицам и вещам. В этом смысле
высказываются, между прочим, Регельсбергер и Дернбург25. Нетрудно, однако,
убедиться в ошибочности этого определения. Юридические отношения суть
всегда отношения между лицами. Сторонники господствующего воззрения,
доказывая правильность приведенного определения, ссылаются на то, что будто бы
существуют такие юридические отношения, которые суть исключительно
отношение лица к вещи, а не к другим лицам. Положим, например, прогулива-
379
ясь по берегу моря, я нашел жемчужную раковину или поймал в море рыбу.
Между мной и рыбой или раковиной возникает отношение собственности: я
приобретаю господство над найденной вещью. Господство это носит вполне
юридический характер, так как опирается на постановление объективного права о res
mullius26. Ввиду того что в этом случае не возникает, по-видимому, никакого
отношения между лицом, нашедшим вещь, и другими лицами, некоторые ученые
приходят к тому заключению, что могут существовать такие юридические
отношения лиц к вещам, которые не суть вместе с тем отношение к другим лицам.
Аргумент этот, убедительный с первого взгляда, при ближайшем рассмотрении
оказывается основанным на недоразумении. В нем смешиваются две совершенно
различные вещи: фактическое господство лица над вещью и господство
юридическое. Взяв раковину в руку и спрятав ее в свой карман, я тем выразил лишь
фактическое обладание данной вещью — никакого юридического отношения между
мной и раковиной не возникло. Если бы я жил на необитаемом острове, так что
между мной и другими людьми ни в настоящем, ни в будущем не могли бы
возникнуть никакие отношения, то самый вопрос о моем праве на господство над
вещью не мог бы иметь места. Если же такой вопрос возникает в действительности,
то только потому, что я живу в обществе подобных мне людей и что по поводу
моего фактического господства над вещью, возникает вопрос об отношениях моих
к ближним. Объективное право сообщает моему фактическому господству
характер юридического отношения. Это значит, что объективное право признает
господство над найденной вещью исключительно за лицом, ее нашедшим, и
ограждает такое господство против всяких посягательств других лиц: стало быть,
право устанавливает отношение лица не к вещи, а к другим лицам.
Отношения лица к вещам право касается вообще лишь постольку, поскольку
это необходимо для регулирования отношений между лицами. Если отношение
лица к вещи не нарушает прав других лиц, то праву до него нет никакого дела.
Для права безразлично, каким образом я осуществляю свое господство над
рыбой — съем ли я ее, продам ли или вытоплю из нее жир. Если объективное право
подвергает известным ограничениям господство лица над вещью, то эти
ограничения всегда имеют целью регулировать отношения отдельных лиц. Я не имею
права возводить в моей усадьбе строение, которое может лишить света дом моего
соседа, я должен платить известную часть доходов с моего дома в пользу города
и государства — все эти ограничения господства лица над вещью вызываются
необходимостью установить правильные отношения отдельных лиц между собой,
к обществу и государству. Таких постановлений права, которые регулировали бы
только отношение лиц к вещам, а не лиц между собой, не существует вовсе.
Многие юридические отношения возникают по поводу вещей, но в конце концов —
всегда суть отношения между лицами. Под юридическими отношениями или
правоотношениями, таким образом, следует понимать регулируемые нормами
объективного права отношения лиц между собой.
Элементы правоотношения. Права и обязанности
Выяснив вопрос о сущности правоотношения, мы можем перейти к
рассмотрению отдельных его элементов. Элементами всякого правоотношения являются:
правомочие, обязанность, субъект, обладающий правом, и объект права. Начнем
380
с выяснения сущности правомочия. Прежде всего нам необходимо
познакомиться с теми решениями этого вопроса, которые дают так называемая волевая
теория права и теория интересов, представителем которой является Иеринг.
По смыслу волевой теории сущность права как объективного, так и
субъективного сводится к воле. Правовые нормы служат выражением воли того народа
или общества, в котором существуют; правомочие же есть та сфера, в которой
господствует индивидуальная воля, защищенная нормами объективного права.
По этой теории правоспособность совпадает с волеспособностью. При такой
несовершенной формулировке волевой теории Иерингу, разумеется, нетрудно было
доказать ее негодность. Нелепо, например, отождествление правомочия с волей
лица, потому что есть много лиц, обладающих правами, но не имеющих
сознательной воли; таковы дети, сумасшедшие. Некоторые права признаются даже за
человеческим зародышем. Нелепо было бы утверждать, например, что право
грудного ребенка на наследство есть выражение его воли. Нельзя также
понимать право ребенка в смысле выражения его будущей воли. Воля обладать
наследством может вовсе не возникнуть, если, например, ребенок родился
кретином или помешанным, а право на наследство тем не менее останется за ним.
Но положим даже, что ребенок будет совершенно здоров; все же и в этом случае
право может находиться в противоречии с его волей. Если, например,
наследство, которое он получит, обременено долгами и ничего, кроме хлопот и
неприятностей доставить не может, то очевидно, что право на такое наследство не
будет соответствовать воле наследника; однако оно в силу этого не перестанет
быть правом.
На основании всех этих соображений Иеринг пришел к тому убеждению, что
не воля, как утверждала волевая теория, а интерес лица составляет сущность
правомочия. Право, по учению Иеринга, слагается из двух элементов:
материального, под которым подразумевается интерес, выгода лица, обеспечиваемая
правом, и формального, который состоит в защите или охране интересов лица
против всяких возможных посягательств. Право в субъективном смысле, с этой
точки зрения, определяется как защищенный интерес.
Нетрудно, однако, убедиться в ошибочности и этой теории. Дело в том, что
можно привести целый ряд случаев, когда интерес и право лица не совпадают
и даже прямо противоречат друг другу. Положим, что я получаю в наследство
собственность, обремененную долгами. В этом случае я заинтересован не в
сохранении, а в прекращении права собственности. Доказательством того, как часто
право наследования не совпадает с интересами наследника, является, между
прочим, тот факт, что в Риме существовал институт принудительного наследства
(hères suus et necessarius). Право на наследство вместо того, чтобы быть
выражением интереса лица, может послужить источником его разорения или даже
гибели. Я могу получить в наследство зараженное дифтеритом одеяло, которое
ничего, кроме страданий, не может мне доставить. Нечего говорить о том, что я могу
получить по наследству вещь, не имеющую для меня никакого значения,
например, рукопись самого нелепого содержания, старую зубочистку и т. п.
Да и кроме наследования есть »различные способы приобретения прав, не
имеющих ничего общего с нашими интересами или даже прямо отяготительных.
Так, например, вместе с правом на купленное мной имение я приобретаю право
на болото, которое своими гнилостными испарениями отравляет воздух и вредно
влияет на мое здоровье, но за которое мне, может быть, приходится платить
налог в казну. Я приобретаю также право на сусликов и мышей, объедающих мой
381
хлеб, на лисиц, пожирающих мою домашнюю птицу, и на зайцев, портящих мои
плодовые деревья. Наконец, и в сфере чисто личных прав сплошь да рядом
встречаются права, несогласные с интересами тех, кому они принадлежат. Далеко не
всегда, например, муж заинтересован в своих супружеских правах, отец — в
родительских. Если бы интерес составлял сущность правомочия, то прекращение
интереса непременно влекло бы за собой уничтожение права. В
действительности, однако, мы этого не видим. Как бы муж ни желал прекращения своих
супружеских прав, они, если ему не удается добиться развода, продолжают
существовать вопреки его интересу.
Итак, мы должны прийти к заключению, что теория интересов,
предложенная Иерингом, так же неосновательна, как и опровергнутая им волевая теория
права. Право в субъективном смысле не есть ни выражение воли лица, ни
защищенный юридическими нормами интерес. Оно есть та сфера внешней свободы,
которая отводится отдельному лицу нормами объективного права. При таком
определении субъективного права отпадают все затруднения, связанные с
разобранными нами теориями. Цель права, согласно предложенному определению,
состоит в том, чтобы очертить ту сферу внешней свободы лица, в которую не
должны вторгаться другие лица. Предоставляя лицу правомочие, право не
спрашивает, соответствует ли это правомочие интересам данного лица, выгодно оно
ему или нет.
Положим, например, закон, предоставляя мне право на болото, не
интересуется, на пользу или во вред послужит мне эта собственность. Я могу найти в этом
болоте целебные ключи и благодаря этому обогатиться или же могу схватить
малярию — праву до этого нет никакого дела. Все содержание права сводится к
запрещению другим лицам вторгаться в сферу моей внешней свободы, в данном
случае — к воспрещению — препятствовать мне распоряжаться моим болотом.
Другой пример, приводимый Вл. Соловьевым, служит также наглядным
доказательством того, что содержание права в субъективном смысле сводится к свободе
лица. Закон ограждает частное жилище каждого человека от вторжения
непрошеных посетителей. Я могу запереться в своем доме на ключ и никого не
впускать к себе, и закон будет защищать мое право. При этом закону безразлично,
с какой целью я это делаю. Я могу искать одиночества, чтобы заниматься
научными работами, но могу также запираться, чтобы напиваться водкой. Право
одинаково ограждает меня как от тех непрошеных гостей, которые пришли
помешать моим научным занятиям, так и от тех друзей, которые, зная мою слабость,
пришли, чтобы удержать меня от вредного для моего здоровья порока. Если бы
право имело в виду мой интерес, мою выгоду, то, разумеется, оно должно было бы
допустить ко мне друзей, желающих спасти меня от гибели. В действительности
же и в данном случае содержанием правомочия является вовсе не мой интерес,
а единственно моя свобода.
Против всего сказанного у защитников теории интересов остается в запасе еще
один аргумент, на который мы и постараемся теперь отвечать, а именно — их
вечная ссылка на детей и сумасшедших. Дети и умалишенные, говорят они,
не могут обладать свободой распоряжаться собой и своим имуществом, так как
такая свобода предполагает сознательную волю, способную определяться
разумными целями; между тем они обладают правами. Стало быть, содержанием их
прав является не их свобода, коей они иметь не могут, а их интересы, которые
вовсе не предполагают сознания и способности разумного самоопределения.
Предоставляя детям и безумным имущество, право охраняет вовсе не их свободу, а их
382
интересы — есть, пить, одеваться и т. п. Стало быть, нельзя отождествлять
правомочие со свободой, предоставляемой нормами объективного права.
Приведенный аргумент теории защитников интересов так же неубедителен,
как и все прочие их доводы. В самом деле, ясно, что у малолетних и
сумасшедших могут быть такие права, которые ничего общего с их интересами не имеют
и даже противоречат им. Идиот или кретин может обладать библиотекой
философских произведений. У сумасшедшего может быть имение, которое не
представляет для него никакого интереса вследствие того, что оно обременено
долгами. Проф. Петражицкий правильно замечает, что ссылка на сумасшедших
и детей не подтверждает, а скорее опровергает теорию интересов. В самом деле,
что бы мы ни понимали под словом «интересы»: будут ли это цели, которые
действительно преследуются людьми, или же те разумные, нормальные цели, к
которым они должны стремиться, мы увидим, что содержание права детей и
безумных отнюдь не сводится к их интересам.
В самом деле, право не признает и не защищает неразумных,
противоестественных интересов детей и сумасшедших. Иной ребенок заинтересован в том,
чтобы играть спичками или бить свою няню. Иной сумасшедший заинтересован
в том, чтобы ему воздавались божеские почести или признавались его права на
испанский престол. Право не признает и не считается с этими интересами.
Поэтому содержанием правомочий детей и сумасшедших не могут считаться те
интересы и цели, к которым они в действительности стремятся.
То же самое должно сказать о их «нормальных», «разумных» интересах. Дело
в том, что самое понятие «разумного» и «нормального» интереса — чрезвычайно
неопределенно. Что, собственно, следует разуметь под нормальным интересом
лица? Очевидно, что на этот вопрос может быть столько же различных ответов,
сколько существует различных пониманий задач и целей человеческой жизни.
С точки зрения последовательного христианства интерес всякого общества
состоит в том, чтобы имущество его было употреблено на пользу ближнего. Если мы
станем на точку зрения Ницше или Макса Штирнера27, то нормальными
интересами окажутся интересы чисто эгоистические. Спрашивается: какие же
интересы суть «нормальные» и какие именно составляют содержание права —
эгоистические или альтруистические; вытекающие из себялюбия или из бескорыстной
любви к ближнему? Очевидно, что ни те ни другие, а единственно только
интерес — человеческой свободы. Подчиняя ребенка опеке, право кладет предел
осуществлению как эгоистических, так и альтруистических интересов ребенка: оно
заботится о том, чтобы его имущество не было растрачено ни для тех, ни для
других. Закон в данном случае охраняет не интересы ребенка, признаваемые им за
разумные и нормальные, а единственно свободу ребенка от посторонней
эксплуатации в настоящем и его свободу распорядиться своим имуществом в будущем,
в зрелом возрасте, буде он такового достигнет.
Утверждение, будто ребенок или сумасшедший не может пользоваться
свободой, предоставляемой правом, так как не обладает разумной волей, также
неосновательно. Свобода юридическая выражается, во-первых, в предоставляемой
лицу возможности совершать юридические действия для достижения известных
жизненных целей. Из тех целей человеческого существования, которые
признаются и защищаются правом, далеко не все предполагают разумную, сознающую
себя волю. Для того чтобы не быть,чужим рабом, чтобы существовать и
пользоваться известными материальными благами, вовсе не нужно обладать зрелым
и здравым рассудком: цели эти вполне доступны ребенку и умалишенному. При-
383
знавая, что никто не должен покушаться на жизнь этих лиц, что они могут
пользоваться имуществом и что они не должны быть ничьими рабами, право тем
самым признает, что они — свободны жить, свободны в известных пределах
пользоваться закрепленными за ними материальными благами и что в качестве
лиц свободных они не могут быть низводимы на степень вещи, то есть быть
обращены в средства для чужих целей. Сказать, что всякий человек есть субъект
прав — значит сказать, что всякий человек в известных пределах есть свободное
лицо. Умалишенным и детям недоступны только высшие проявления
юридической свободы — свобода самостоятельно совершать юридические акты и вообще
все те действия, который предполагает зрелый, развитой рассудок.
Устранив, таким образом, те возражения, которые приводятся обыкновенно
против определения субъективного права как внешней свободы, обратимся к
рассмотрению вопроса о тех лицах, которым принадлежат правомочия, — о
субъектах права.
Субъекты права. Лица физические
Субъектом права называется всякий, кто способен иметь права независимо от
того, пользуется он ими в действительности или нет. Способность иметь право
называется правоспособностью. Основная задача настоящего отдела заключается
в разрешении вопроса о том, кто является субъектом права, кого следует считать
правоспособным.
Во всех юридических энциклопедиях отдел о субъекте права начинается с
положения, что субъектом права является человек, физическое лицо. Положение,
что люди являются субъектами прав, само собой очевидно и не нуждается в
разъяснении. Но рядом с этим значительная часть юристов полагает, что субъектами
права могут быть только живые действительные люди. Положение это служит
в наше время предметом спора, имеющего первостепенное значение.
Утверждение, что субъектом права может быть только живой человек, тесно связано с
узкореалистическим пониманием права. Господствующее воззрение сводит
содержание права в субъективном смысле к интересу; обладателем же интереса может
быть, разумеется, только живое, чувствующее существо. В частности, Иеринг не
может представить себе субъекта права, как он выражается, «без брюха». Если
«теория интересов» верна, то Иеринг совершенно прав: интересы могут быть или
у живого лица или у собрания живых лиц. Интересы индивида вместе с ним
рождаются и вместе с ним умирают. У покойников не может быть интереса, и,
следовательно, если право — то же^ что интерес, то субъектами права могут быть
только лица физически существующие.
В действительности, однако, существует и признается целый ряд субъектов
права, которым вовсе не соответствуют действительные конкретные люди. Из
ряда примеров мы легко убедимся, что понятия субъекта прав и понятие лица
физически существующего не совпадают между собой. Прежде всего из тех же
энциклопедий, которые утверждают, что субъектами права могут быть только
действительные живые люди, мы узнаем, что право охраняет не только лиц
родившихся, но и имеющих родиться — зародышей. В целом ряде энциклопедий
утверждается, что для бытия субъекта права требуется рождение, что рождение
тогда только признается действительным, когда ребенок вполне отделился от ма-
384
тери; с другой стороны, те же энциклопедии учат, что и человеческий зародыш
«имеет право на охранение его утробной жизни». Карая за вытравление плода,
право обеспечивает правильное развитие зародыша, различными уголовными
и полицейскими мерами охраняет их имущественные и наследственные права.
Спрашивается, как же примерить эти противоречивые утверждения, то
отрицающие за зародышем еще не лицом звание субъекта прав, то признающие?
Ясное дело, что раз закон признает и охраняет права зародыша, последний тем
самым признается за субъекта права. Но если так, то, стало быть, субъектом
права может быть лицо, еще не родившееся, не способное чувствовать и иметь
интересы. Трудно, в самом деле, говорить об интересах зародыша, который в первый
период утробной жизни ведет жизнь чисто растительную. На это сторонники
теории интересов ответят, очевидно, что право защищает будущие интересы
зародыша, интересы, которые он будет иметь, когда разовьется в человеческое лицо.
Но говорить так, значит признавать, что для существования права нет
необходимости в наличности действительного интереса; достаточно интереса возможного,
предполагаемого. Теория интереса исходит из предположения, что содержание
права составляет интерес действительно существующий. Поэтому утверждать,
что право может сводиться к интересу возможному, еще не существующему
в действительности, значит подкапывать самые основы этой теории.
Зародыш представляет собой, по крайней мере, положительную возможность
физического существования определенного лица. Но право знает случаи, когда
имеется только самая возможность физического существования лица, а оно все-
таки признается субъектом права. Это — случаи так называемого безвестного
отсутствия. Законодательство всех стран определяет срок, в течение которого
безвестно отсутствующий считается живым и за ним сохраняются его прежние права.
Наше русское законодательство обусловливает расторжение брака безвестным
отсутствием в течение 5 лет; имущественные же права сохраняются за безвестно
отсутствующим в продолжение 10 лет. Разумеется, легко может случиться, что
безвестно отсутствующий погиб; права же его тем не менее продолжают
существовать. Может быть, известный воздухоплаватель Андрэ, отправившийся
открывать Северный полюс, давно покоится на дне Ледовитого океана, но право
продолжало признавать субъекта прав Андрэ, признавало его брачные, имущественные
и другие права, доколе не истек установленный французским законом срок
безвестного отсутствия. Стало быть, таким образом, субъект прав и лицо живое,
физически существующее, не совпадают между собой. Субъект права может
продолжать существовать, когда соответствующий ему человек перестал существовать
физически. Значит, вопреки мнению Иеринга, субъектами прав могут быть не
только люди действительные, я^ивые, но и люди только предполагаемые.
Но и этого мало. Не только в случае безвестного отсутствия, но и вообще
юридическая личность человека переживает его, как лицо физически
существующее. На этом, между прочим, основано все наследственное право. Если бы
субъектами права были только живые люди, то все права лица прекращались бы с его
смертью. Посмотрим, так ли это в действительности? На самом деле закон
уважает волю умершего, выраженную,в завещании (разумеется, если завещание не
содержит в себе что-либо незаконное) и обеспечивает ее исполнение; стало быть,
право признает и защищает право умершего. С точки зрения Иеринга, при
наследовании субъектом права являются только наследники, а не наследодатель.
Нетрудно, однако, убедиться в несостоятельности такого мнения. При
наследовании наследники действительно являются субъектами права, но право их всецело
13 3ак. 39JI 385
вытекает из прав наследодателя. Если мы отвергнем право завещателя владеть
имением, завещать, то права наследников падают сами собой. Права
наследников существуют единственно во имя прав наследодателя. Если, например,
наследодатель завещает чужую вещь, то закон не признает его завещания.
Я могу завещать только то, что действительно мне принадлежит. Всякий суд,
прежде чем утвердить наследников завещателя в их правах, должен сначала
удостовериться в действительной принадлежности завещанного имущества
наследодателю и, только исходя из прав наследодателя, он может признать или не
признать имущество за наследниками.
Чтобы удостовериться в том, что юридическая личность человека переживает
его как лицо физическое, существующее, посмотрим, что случилось бы, если бы
право умершего прекращалось с его смертью. В этом случае, во-первых,
завещание не имело бы никакой силы: наследник может получить завещанное, только
опираясь на право покойного завещателя. Если бы субъектами права были
только живые люди, то человек мог бы распоряжаться своим имуществом только
в пределах своей земной жизни: относительно того назначения, какое оно
должно получить после его смерти, он не мог бы делать никаких распоряжений.
Вообще, если признать, что субъектами прав могут быть только живые люди,
«могущие обладать интересами», то должно рухнуть не только право завещания,
но и вообще все наследственное право. Если со смертью человека разом
прекращаются все его права, то его имущество должно рассматриваться как никому не
принадлежащее, а, стало быть, притязания на это имущество каких бы то ни
было наследников теряют всякие юридические основания. О правах наследников
нельзя говорить, основываясь только на «прежних» правах наследодателя:
права наследодателя, которые уже прекратились (например, права на вещи, им
проданные или подаренные) по наследству передаваемы быть не могут. Чтобы
признать права наследников, нужно признать, что права наследодателя, которые
к ним переходят, представляют собой нечто не прекратившееся, длящееся после
смерти наследодателя.
С точки зрения теории интересов указанные явления необъяснимы:
интересами могут обладать только живые, действительно существующие люди; между
тем оказывается, что субъектами права могут быть люди не только
действительно существующие, но и предполагаемые, имеющие родиться и прекратившие
свое физическое существование, стало быть, не могущие иметь интересов. Может
быть, скажут, что такие лица не могут быть и свободными, что свобода также
является принадлежностью реального, живого лица.
На это следует ответить, что та свобода, которая, с нашей точки зрения,
составляет содержание правомочия, не есть действительное состояние какого-либо
реального субъекта. Мы определили правомочие как «свободу, предоставляемую
лицу нормами объективного права». Для того чтобы предоставлять свободу,
признавать ее за кем-либо, не требуется непременно реального существования
того лица, за которым признается свобода: для этого достаточно предполагаемого,
возможного существования такого лица. Достаточно одного предположения, что
определенное лицо (зародыш) имеет родиться, чтобы заранее признать его
свободным против посягательств ближнего на его жизнь и имущество. Достаточно
предположения, что определенное лицо (безвестно отсутствующий)
действительно существует, чтобы признать его свободным беспрепятственно пользоваться
известной суммой жизненных благ; точно так же нет ничего нелогичного в том,
если право предоставляет лицу свободу делать такие распоряжения, которые
386
простираются за пределы его земного существования и обеспечивают
беспрепятственное осуществление его целей после его смерти.
Правоспособность и дееспособность физических лиц
Из предшествующего изложения видно, что понятие «субъекта прав» и
понятие лица физически существующего не совпадают. Поэтому самый термин
«физическое лицо», ходячий в современной юриспруденции, может быть
употребляем только с той неизбежной оговоркой, что он не вполне точно выражает
обозначаемое им понятие: под физическим лицом надо разуметь лицо
индивидуальное, единичное в противоположность лицам коллективным, которые
называются лицами юридическими; лицом физическим обыкновенно называется
всякий индивид правоспособный, то есть могущий обладать правами.
От правоспособности следует отличать дееспособность. Мы видели, что под
правоспособностью разумеется способность лица иметь права независимо от того,
приобрело ли оно право и имеет ли их в действительности. Под дееспособностью
разумеется способность совершать юридические действия, то есть устанавливать
собственной волей свои правоотношения. Понятно, что не все правоспособные
лица в то же время и дееспособны. Например, дети, сумасшедшие — не могут
совершать никаких юридических сделок, ни покупать, ни продавать, ни
подписывать векселя. Напротив, лица дееспособные ео ipso являются правоспособными.
Правоспособность, стало быть, есть понятие более широкое, тогда как
дееспособность — более узкое понятие, распространяющееся на меньший круг лиц.
Все люди правоспособны, но не все обладают правоспособностью в одинаковой
мере. Различие в правоспособности отдельных лиц находит себе основание в
самой природе людей: не все одинаково разумны, одинаково одарены волей; не все
достигают одинакового развития и умственного и нравственного. Нельзя,
например, предоставить одинаковые права ребенку и взрослому, умалишенному
и здравомыслящему, образованному и безграмотному. Тем более, понятно,
нельзя уравнять людей в отношении их дееспособности; на правоспособность, кроме
указанных различий, в природных дарованиях и образовании людей, влияет еще
и ряд исторических условий. В наше время сословные привилегии, по крайней
мере в теории, уже отжили свой век, но все-таки в действительности они далеко
не вполне и далеко не всюду исчезли: сословные различия продолжают влиять на
правоспособность.
1) К числу условий, влияющих на правоспособность, принадлежит прежде
всего возраст. Законодательства всех стран определяют так называемый возраст
гражданского совершеннолетия, по достижении которого личность становится
дееспособной и приобретает право совершать юридические сделки. Равным
образом все законодательства определяют возраст политического
совершеннолетия, — тот возраст, когда гражданин приобретает политические права,
например, право избирать и быть избираемым на выборные должности, право быть
представителем в земстве, думе, присяжным заседателем в суде и т. п. Наконец,
в законодательствах всех стран определяется возраст брачного
совершеннолетия, когда человек приобретает способность вступать в брак.
2) Другим условием, оказывающим влияние на правоспособность лица,
служит пол. Все законодательства ограничивают права женщины участвовать в по-
387
литической жизни государств, занимать общественные должности, принимать
участие в выборах там, где существуют избирательные учреждения. В
большинстве современных законодательств ограничиваются также имущественные права
женщины. Так, например, многие законодательства при наследовании по закону
назначают большую долю наследства сыновьям.
3) На правоспособность, далее, оказывает влияние здоровье лица. Брачная
правоспособность лица в сильной степени зависит от этого обстоятельства:
половое бессилие, например, может служить поводом к расторжению брака.
Глухота и слепота, естественно, препятствуют поступлению на
государственную службу. Душевные болезни лишают человека политических прав и
дееспособности.
4) Затем, на правоспособность влияет родство. По отношению к браку оно
имеет большое значение: близкие родственники не имеют права вступать друг
с другом в брак. В различных государствах законодательства устанавливают
различные степени родства, служащие препятствием к браку; но везде с родством
связано ограничение брачной правоспособности. Воспрещение браков между
близкими родственниками коренится не только в религиозных верованиях,
но и в серьезных физиологических причинах. Вековой опыт показал, что браки
между близкими родственниками пагубно отзываются на здоровье будущих
поколений. Кроме родства, на брачное право оказывает влияние свойство и
духовное родство; причем тут, конечно, воспрещение вступать в брак имеет за себя
сомнительные основания.
5) Пятым условием, влияющим на правоспособность человека, служит
гражданская честь. Гражданская честь состоит в признании за человеком доброго
имени, того достоинства, которое считается принадлежностью всякого
гражданина, не запятнавшего себя никакими неблаговидными деяниями. Лишение
гражданской чести влечет за собой потерю многих важных прав, например,
права быть присяжным заседателем, опекуном, поверенным по чужим делам,
третейским судьей. Каждый гражданин, не опороченный судебным приговором,
считается обладающим гражданской честью; он может ее утратить только в том
случае, если на суде будет доказано, что он совершал поступки, несовместимые
с гражданской честью.
6) Наконец, на правоспособность лица оказывает влияние и религия, которую
оно исповедует. В большей части современных государств одна какая-нибудь
религия признается господствующей. К остальным вероисповеданиям различные
государства относятся неодинаково. Одни государства допускают полную
веротерпимость, другие же, напротив, подвергают большим или меньшим
стеснениям религиозную свободу. Сообразно с этим вероисповедание оказывает некоторое
влияние на правоспособность граждан; одним гражданам предоставляется,
другим же не предоставляется право свободно исповедовать и проповедовать свою
религию; некоторые вероисповедания признаются терпимыми, но лишены
свободы проповеди; некоторые же совсем воспрещаются и преследуются. Такое
положение занимают некоторые раскольничьи секты в России, признаваемые
«вредными». Особенно важным ограничением правоспособности является
запрещение устной или письменной пропаганды, устанавливаемое законом для
вероисповеданий, не признаваемых государственной религией. У нас, например,
«совращение» кого-либо из православия в другое вероисповедание считается
уголовным преступлением, тогда как «обращение» иноверца в православие
покровительству ется законом. В некоторых государствах с известной религией свя-
388
зывается ограничение даже гражданских и политических прав. Так, у нас, в
России, существует целый ряд ограничений, направленных против евреев. Кто не
знает, что в некоторых местностях они не имеют права приобретать имения, что
для них ограничен доступ в учебные заведения определенным процентным
отношением, что они ограничены в праве свободного передвижения и выбора
местожительства в пределах Российской Империи законами, устанавливающими
«черту еврейской оседлости»?
7) Кроме перечисленных условий, на правоспособность влияет еще и
подданство. Иностранные подданные в пределах чужого государства не пользуются
политическими правами; в области права гражданского, напротив, проводится
принцип равноправности, хотя и он подлежит некоторым ограничениям. Так,
например, в предупреждение опасности на случай неприятельского вторжения
некоторые государства воспрещают иностранным подданным владеть имениями
в областях пограничных. В том же смысле влияет иногда не только подданство,
но и национальность; так, например, поляки, хотя бы и русские подданные,
не имеют права приобретать имений в юго-западном крае; причем цель этих
ограничений заключается в русификации края.
Юридические лица
Кроме лиц индивидуальных, обыкновенно называемых «физическими»,
субъектами права могут быть еще и так называемые юридические лица. Кроме
отдельных людей, носителями прав и обязанностей, могут быть союзы людей
и учреждения. Так мы говорим о правах и обязанностях государства, земства,
акционерных компаний, благотворительных обществ и т. п. Словом, кроме
индивидуальных субъектов права, по-видимому, существуют еще и лица идеальные,
искусственные, создаваемые для удовлетворения общественных потребностей
или же для осуществления коллективных целей группы частных лиц; причем
эти искусственные лица носят название лиц юридических.
В науке учение о юридических лицах — одно из самых спорных. Спор идет
в особенности о том, должны ли признаваться так называемые юридические
лица особыми, самостоятельными субъектами права или же субъектами права
должны быть признаваемы только отдельные индивиды.
I. Из существующих учений о юридическом лице прежде всего обращает на
себя внимание так называемая теория фикций, коей родоначальником является
знаменитый Савиньи; теория эта и в настоящее время находит себе
многочисленных приверженцев. Сущность ее сводится к следующему: с одной стороны,
для достижения целого ряда необходимых целей, которые не могут быть
осуществлены разрозненными усилиями отдельных человеческих индивидов,
представляется необходимым создавать учреждения и корпорации, наделяя их
правами имущественными и другими. С другой стороны, этим правомочиям не
достает такого реального субъекта, который мог бы считаться их обладателем,
носителем. Между тем прав бессубъективных быть не может: мы не можем
говорить о правах иначе как предписывая их кому-нибудь; поэтому право в подобных
случаях прибегает к фикции, то есть создает лицо вымышленное, искусственное.
В действительности субъектом прав может быть только человек; так называемые
лица юридические суть лица только фиктивные.
389
После всего сказанного в отделе о физическом лице о том, что такое субъект
права, теория Савиньи не нуждается в пространном опровержении. Достаточно
указать, что она покоится на том ложном предположении, будто
действительными субъектами прав могут быть только живые физически существующие люди.
Говорят, будто субъектом прав может быть только такое лицо, которое
действительно может наслаждаться, лично для себя пользоваться своими правами.
Корпорации и учреждения не могут чувствовать, стало быть, и наслаждаться;
отсюда сторонники теории фикции заключают, что они являются не реальными,
а только фиктивными субъектами прав. Заключение это неверно потому, что
в действительности субъект прав и субъект пользования, наслаждения — вовсе
не одно и то же. Мы знаем множество случаев, когда право принадлежит одному
лицу, а пользуется, наслаждается им другое лицо. Положим, я завещал все мое
имение душеприказчику с тем, чтобы он раздал столько-то бедным, столько-то
разным благотворительным учреждениям: в этом случае субъектом права
является душеприказчик, а субъектами пользования — бедные. Стало быть, нельзя
отрицать за учреждением значение действительного субъекта права на том
основании, что оно не является субъектом пользования. Мы видели, что понятие
субъекта права вообще не совпадает с понятием конкретного, живого индивида;
вследствие такого несовпадения субъектами прав прекрасно могут быть
признаваемы учреждения и общества, причем для этого вовсе не нужно прибегать
к фикции. В самом деле, фикция есть вымысел, предположение чего-то
несуществующего; между тем, приписывая права учреждениям и корпорациям, мы
вовсе не вынуждены вымышлять что-либо несуществующее: соединения людей
в общества, преследующие определенные цели, а равным образом и учреждения
с определенными функциями суть величины весьма реальные. Раз «субъект
прав» — вообще не то же, что человек, то называть учреждения и корпорации
юридическими лицами — вовсе не значит создавать фикции.
П. Не более верной является и теория Иеринга. Собственно говоря, она
исходит из того же предположения, что и теория Савиньи. Савиньи учит, что
действительным субъектом права бывает только живая, конкретная человеческая
личность; того же воззрения держится и Иеринг. При общности основной
посылки Савиньи и Иеринг расходятся, однако, в выводах, которые они из нее делают.
По Иерингу, ошибочно вообще говорить о юридических лицах как о каких-то
особых субъектах права: истинными субъектами права, по его мнению,
являются вовсе не юридические лица, а отдельные их члены, то есть лица физические,
живые люди. Например, действительным субъектом права, согласно Иерингу,
является не университет, а отдельные члены этого учреждения: ректор,
профессора, студенты. Юридическое лицо как таковое не способно чувствовать,
наслаждаться, пользоваться правами, а следовательно, — не способно иметь права.
Права, которыми лицо само не пользуется, вовсе не суть его права. Поясним это
положение примером. Из университета могут извлекать пользу профессора,
студенты и т. д., а не самый университет, который не в состоянии извлекать для
себя пользу из своих прав, неспособен чувствовать и наслаждаться; поэтому не
университет, а лица, которым он служит, должны признаваться субъектами права.
Вообще юридическое лицо, по мнению Иеринга, не более как способ проявления
правовых отношений лиц, входящий в его состав.
Неверность основной посылки^ из которой выходит Иеринг, была уже указана
при разборе теории Савиньи. Но в теории Иеринга она проведена еще
последовательнее, а потому несосотоятельность ее становится еще яснее, еще нагляднее.
390
В самом деле, в числе юридических лиц есть и такие, которые существуют
совершенно независимо от желания или от нежелания физических лиц, входящих
в их состав. Если бы действительными субъектами прав университета являлись
профессора, студенты и т. д., то университет не мог бы быть основан иначе как
при наличности профессоров, студентов, членов университетской
администрации и мог бы прекратить свое существование по воле этих лиц. На самом деле,
однако, мы видим, совершенно иное: сначала правительство основывает
университет, а потом назначает ректора, приглашает профессоров и открывает прием
студентов. Следовательно, возникновение юридического лица в данном случае
предшествует вступлению в него физических лиц, способных чувствовать и
наслаждаться.
Точно так же университет не может прекратить своего существования по воле
его членов: ни в силу постановления профессоров, ни в силу решения студентов
и т. д. Члены университета постоянно обновляются, одни выбывают, другие
вновь вступают в него — но сущность университета от этой перемены лиц
нимало не изменяется. Далее, если бы в силу какой-либо катастрофы, вследствие,
например, чумной эпидемии, все лица, входящие в состав университета, внезапно
вымерли — университет не прекратил бы от этого своего бытия, а продолжал бы
существовать и сохранять свои права.
Наконец, с точки зрения Иеринга, оказывается неразрешимым вопрос: кого
следует считать действительными субъектами права учреждения — наличных
ли только его членов или так же и будущих его членов? Очевидно, не наличных
только: так как за выбытием членов сущность учреждения не изменяется. Если
же признать, что учреждение является выразителем прав наличных и будущих
его членов, то придется признать, например, такую нелепость: субъектами прав,
присвоенных университету, должны считаться неокончившие курса
гимназисты, новорожденные младенцы, даже зародыши, еще не явившиеся на свет
Божий.
Несостоятельность теории Иеринга подтверждается также следующими
примерами. С точки зрения Иеринга, субъектами прав богадельни являются те лица,
которые пользуются ее благодеяниями: разного рода нищие, вдовы, больные
и слабые старики. Но ни нищие, ни другие призреваемые не имеют права на
поступление в богадельню; они принимаются туда во имя человеколюбия, а не во
имя их права, стало быть, не они — действительные субъекты присвоенных
богадельне прав. Также не могут считаться субъектами прав богадельни и лица,
заведующие ею: на имущество богадельни эти лица никаких прав не имеют; если же
они совершают для нее какие-либо юридические сделки, то они действуют не по
собственному праву, а в качестве представителей прав богадельни как
юридического лица. '
III. В сущности, теория Иеринга равнозначительна совершенному отрицанию
юридического лица. Еще резче то же отрицание выражается в учении немецкого
юриста Бринца28: он, как и Иеринг, полагает, что единственными субъектами
права могут быть только живые, конкретные люди. С этой точки зрения Бринц
восстает против теории фикции, формулированной Савиньи. По его мнению,
фикция лица предполагает признание того, что лицо в действительности не
существует; но то, что не существует, не может обладать никакими правами. С этой
точки зрения вообще нельзя говорить о юридических лицах. * Различать
физические и юридические лица, — говорит он, — в юриспруденции то же самое, что
в антропологии — делить людей на действительных людей и садовые пугала».
391
В праве, по его мнению, надо различать не два вида лиц, а два вида имуществ.
Нужно различать имущества, принадлежащие кому-нибудь, и имущества,
служащие чему-нибудь; имущества личные, составляющие сферу господства
отдельного лица, и целевые имущества, предназначенные служить тем или
другим целям.
По Бринцу, например, нельзя говорить об университете как о юридическом
лице и субъекте права: то, что называется имуществом университета,
принадлежит, следовательно, не университету как юридическому лицу, а той
просветительной цели, которую преследует университет.
Таким образом, по Бринцу, выходит, что так называемые права
юридического лица суть собственно прав без субъекта; его собственность — собственность без
собственника; его долги — долги без должника.
Если мы вникнем в теорию Бринца, то легко увидим, что она так же не
выдерживает критики, как и теории Савиньи и Иеринга. Прежде всего эта теория
противоречит природе нашей мысли. Учение Бринца приходит к признанию прав
и обязанностей бессубъектных, то есть таких прав, которые никому не
принадлежат, и таких обязанностей, которые ни на ком не лежат. Между тем прав
бессубъектных мы помыслить не можем, так как самое предположение таких прав
заключает в себе логическое противоречие. В действительности всякое право
предполагает возможность что-либо делать, возможность осуществлять какие-
либо цели; и такая возможность может принадлежать только лицам.
Университет, например, помимо тех имуществ, которые ему принадлежат, может
приобретать новые, может вступать в обязательства, заключать договоры —
спрашивается: может ли цель покупать или принимать на себя обязательства?
Бринц на это отвечает, что право совершать такие действия принадлежит не
самой цели, а ее физическим представителям, например, по отношению к
университету оно принадлежит правлению университета. Но все перечисленные
действия совершаются членами правления университета не в силу их собственного
права, а по праву университета; стало быть, как бы мы ни рассуждали,
университет является субъектом прав, юридическим лицом. К каким несообразностям
может привести теория Бринца, легко видеть из следующего примера. Представим
себе, что существуют два общества А и В, которые обладают каждое своим
имуществом и преследуют одну и ту же цель. Если бы их имущество считалось
принадлежностью той цели, которую они преследуют, то мы имели бы не два
раздельных имущества, а одно «целевое» имущество. В действительности, однако,
мы видим нечто совершенно другое. На самом деле имущество составляет
принадлежность не цели, а принадлежность двух обществ как определенных,
раздельных и самостоятельных субъектов права, из коих ни один не может
распоряжаться собственностью другого. Наконец, права могут принадлежать обществам
и там, где еще вовсе нет имущества; например, за благотворительным обществом
могут быть признаны права, хотя бы оно в начале своего существования не
имело никакого имущества, — в предположении будущего имущества, которое
имеет составиться из пожертвований и членских взносов. «Целевого» имущества
здесь, стало быть, нет, а между тем существует общество, за которым закон
признает правоспособность и которое поэтому должно быть признано субъектом
права, юридическим лицом.
VI. От всех разобранных теорий Ό юридическом лице резко отличается теория
«социальных организмов», распространенная в Германии (Гирке, Безелер29, Ре-
гельсбергер). Представители этой теории признают ошибочность того по ложе-
392
ния, в силу которого действительным субъектом права может быть только
физическое лицо: по их мнению, рядом с индивидуальными субъектами права
существуют субъекты права сверхиндивидуальные, а именно социальные организмы.
Юридические лица — не фикции, а живые организмы, которые обладают своей
особой, самостоятельной волей, чувством, желаниями, корпоративной честью.
Отличительная черта лица, говорит Регельсбергер, есть воля, самостоятельные
интересы и жизнедеятельность. Все эти признаки мы находим в тех двух видах
юридических лиц, которые обыкновенно различаются в науке: в корпорациях
и учреждениях. Корпорация составляется из отдельных человеческих личностей
и представляет соединение их для общей цели. Вследствие взаимодействия
отдельных индивидов, стремящихся к общей цели, возникает новая воля — воля
коллективная, общая всем членам корпорации, образующаяся из
индивидуальных воль, как поток из слияния отдельных ручьев.
Возьмем любой союз людей, например, государство, церковь, общество ученое
или благотворительное, акционерную компанию. Все они преследуют
какой-либо особый интерес, имеют особую, самостоятельную волю, отличную от воли
каждого отдельного индивидуума, входящего в состав этих корпораций и,
следовательно, должны рассматриваться как лица.
То же самое следует сказать и об учреждениях. Учреждение есть организм,
посредством которого силы и деятельность отдельных лиц утилизируются для
какой-нибудь общественной цели. Здесь также воля отдельных личностей образует
новую, собирательную волю учреждения, отличную от воли участвующих в нем
лиц. «Собирательные лица, — говорит Регельсбергер, — не суть произведения
природы подобно людям, а представляют собой социальные образования. Мы не
можем видеть их нашими телесными очами, мы не можем их осязать: из этого,
однако, не следует, что они представляют собой пустые схемы, фикции. Многие
из этих собирательных лиц самым осязательным образом доказывают нам свое
реальное существование. Не один только телесный мир существует реально. Кто
отождествляет телесное с действительно существующим, тот должен вовсе
отрицать существование права».
Против этой теории (социальных организмов) можно привести несколько
веских соображений. Проф. Петражицкий основательно указывает на то, что для
существования юридического лица вовсе не требуется живого социального
организма, обладающего самостоятельной волей, чувствами, желаниями и пр. Это
можно выяснить на примере учреждений. Положим, что состоялось
постановление правительства об основании университета, что из средств государственной
казны отпущены суммы и приобретен участок земли, на котором построено
университетское здание.
Отпущенные средства составляют имущество университета, который поэтому
является уже правоспособным субъектом, юридическим лицом, хотя в момент
его основания в нем нет еще ни ректора, ни инспектора, ни профессора и т. д., —
одним словом, он признается юридическим лицом даже тогда, когда не может
обладать волей и ни в каком случае не является «живым организмом». Точно так
же не имеет значения признак обладания волей и для возникновения частных
учреждений, например, богадельни: достаточно одного крупного пожертвования
или разрешения правительства на основание богадельни, чтобы она получила
юридическое бытие. «Ясное дело, что ни от пожертвований, ни от подписки
министра, — говорит Петражицкий, — не рождается никакого организма, кроме
разве бумажного».
393
Единственным зерном истины в этой теории является признание того
положения, что физическое лицо не является единственно возможным субъектом прав;
но в целом изложенное учение не выдерживает критики.
С точки зрения данного выше определения права в субъективном смысле, те
затруднения в учении о юридическом лице, которые служат камнем
преткновения для разнообразных теорий, — устраняются сами собой. Та внешняя свобода,
предоставляемая нормами объективного права, которая, как сказано, составляет
содержание права в субъективном смысле, слагается из двух элементов: из
предоставления тому или другому лицу возможности делать что-либо, осуществлять
беспрепятственно свои цели и, во-вторых, из воспрещения другим лицам
препятствовать данному субъекту в достижении его цели. Как тот, так и другой элемент
правомочия не составляют исключительной принадлежности живого
индивидуального лица: как тот, так и другой может быть приписан и лицам идеальным.
Воспрещение — посягать на определенное имущество — может быть установлено
не только в пользу отдельных индивидов, но и в пользу обществ и учреждений,
преследующих какие-либо общественные цели. Также и возможность
действий, например, возможность приобретать и продавать имущества, может быть
приписана обществам, учреждениям, людям предполагаемым; вообще — всяким
идеальным лицам.
Субъект права — вообще не то же, что физически существующее
человеческое лицо: если мы станем на эту точку зрения, то всякие затруднения в
признании идеальных юридических лиц субъектами права падают сами собой.
Субъектами права могут быть признаны соединения людей, как, например,
корпорации, ученые и благотворительные общества; наконец, субъектами права
могут быть и создаваемые человеком идеальные лица, предназначенные служить
каким-либо общественным целям, — учреждения.
Возможность существования идеальных субъектов права обусловлена самой
природой правоотношений. Юридические отношения суть вообще идеальные
отношения между лицами. Право собственности, например, не есть физическое
взаимодействие между лицом и вещью; от того, что я стал собственником какой-
либо вещи, в ней не произойдет никаких физических и химических изменений.
Я, наконец, могу быть собственником вещи, которой я никогда не видел и не
осязал, с которой я никогда не приходил в физическое соприкосновение. Право
собственности представляет мыслимое, идеальное отношение между мной и
прочими лицами, которые должны уважать мое право. То же самое следует сказать
и обо всех вообще правоотношениях. Все правоотношения суть идеальные,
мыслимые отношения, а не физические; вот почему и субъектами правоотношений
могут быть лица идеальные, мыслимые, которых нельзя видеть или осязать.
Рядом с индивидуальными, физическими лицами существуют и лица
собирательные, которые принято называть лицами юридическими.
Нетрудно убедиться в полезности и необходимости существования таких
коллективных лиц. Кроме потребностей, которые могут быть удовлетворены
одинокими усилиями отдельных людей, существует много потребностей, личных и
общественных, которые могут быть удовлетворены только путем корпорации,
соединенными усилиями нескольких или многих лиц.
И вот для осуществления таких Целей, превышающих силы отдельных
индивидуумов, люди соединяются в союзы, образуют государство, создают
акционерные компании и вообще коллективные и искусственные лица,
предназначенные служить общим целям. Эти лица наделяются правами, без кото-
394
рых они не могут осуществлять свои цели и потому приобретают значение
юридических лиц.
Условия существования юридического лица
Из сказанного выясняется, в чем заключаются необходимые условия
существования юридического лица.
1. Для существования юридического лица необходимо прежде всего
существование такой цели, которая не может быть достигнута одинокими усилиями
отдельного лица и требует для своего осуществления соединенных усилий
нескольких человек. Цель эта, кроме того, не должна быть мимолетной и преходящей.
Всякое юридическое лицо есть организация постоянная, а потому и цель его
должна быть длящаяся, постоянная. Далее само собой разумеется, что цели
юридических лиц не должны противоречить положительному праву того
государства, в котором эти лица существуют. Никакое государство не потерпит, чтобы
в его среде существовало юридическое лицо, преследующее безнравственные
и противозаконные цели. Государство, которое не признает рабства, не допустит
существования юридического лица, цель которого — торговля невольниками.
Вообще юридическое лицо может быть допущено государством только при том
условии, если цель его точно известна подлежащей власти, а потому цель
юридического лица должна отличаться ясностью и определенностью.
2. Наличность цели есть, таким образом, первое условие для возникновения
юридического лица. Другим условием является существование материального
субстрата, то есть тех сил, фактических условий, без которых не может быть
достигнута цель, ради которой учреждается юридическое лицо. Субстратом
юридического лица может^быть или имущество, назначенное для определенной цели,
или определенные физические лица, или то и другое вместе. Можно представить
себе возникновение юридического лица, которое не располагает никаким
имуществом и субстрат которого составляют только лица. Например,
благотворительное общество при своем возникновении может не иметь ни копейки денег
(деньги могут быть собраны и после возникновения общества). Возможно также
возникновение юридического лица без наличности человеческих лиц, входящих
в состав его членов. Если правительство решит основать университет и ассигнует
известную сумму на приобретение необходимого имущества, то университет как
юридическое лицо будет существовать раньше приема студентов, назначения
ректора и профессоров. Нельзя, однако, говорить о существовании
юридического лица, не имеющего ни членов, ни имущества. Наличность известного
субстрата в виде лиц или имущества безусловно необходима для возникновения
юридического лица.
3. Наконец, третьим и последним условием существования юридического
лица является юридическое признание. Положим, имеются все названные данные
для возникновения юридического лица, есть цель, для которой хотят учредить
юридическое лицо, есть необходимое имущество и лица. Но для существования
юридического лица этого еще недостаточно. Существует немало тайных обществ,
преследующих противозаконные цели, например, общество
фальшивомонетчиков, червонных валетов; такие общества могут обладать большими имущества-
ми, насчитывать много членов, но тем не менее юридическими лицами они не бу-
395
дут, так как они не пользуются признанием того государства, в котором они
существуют. Всякое юридическое лицо для того, чтобы сделаться таковым,
должно получить признание от подлежащих правительственных органов. Само
же государство как юридическое лицо существует в силу признания со стороны
общества, которое его образует.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц
Юридические лица обладают правоспособностью и дееспособностью в
различном объеме в зависимости от тех целей, которым они служат. Цели юридических
лиц бесконечно разнообразны, а потому и содержание прав, которыми они
пользуются, разнообразится до бесконечности. Права различных юридических лиц
сходны между собой скорее в отрицательных, чем в положительных чертах:
юридические лица сходятся между собой скорее в тех правах, которых они не имеют
и иметь не могут, чем тех, которыми они в действительности пользуются. Ясное
дело, что юридические лица не могут обладать теми правами, которые связаны
с живой человеческой личностью. Так, например, они не могут иметь прав
семейственных, супружеских и вследствие этого не могут наследовать по закону, так
как для этого требуется кровное родство.
Права и обязанности юридических лиц всегда строго и точно ограничены
определенной сферой компетенции, которая указывается в их уставе или статуте.
Как правоспособность, так и дееспособность юридических лиц ограничены
строго определенными рамками. Вообще всякое юридическое лицо может совершать
только те действия, на которые его уполномочивает устав, утвержденный
подлежащей властью. Дееспособность юридических лиц выражается в действиях
определенных физических лиц, представителей, действующих от имени
юридического лица. Действия таких представителей считаются действиями самого
юридического лица. Если, например, ректор университета заключает контракт
на поставку дров или на устройство электрического освещения в
университетских зданиях, то эти действия ректора считаются действиями самого
университета. Утверждая устав юридического лица, правительственная власть всегда
определяет те органы которые компетентны выражать его волю и действовать от его
имени. Само собой разумеется, однако, что ни лица уполномоченные быть
представителями юридического лица, ни вообще физические лица, входящие в его
состав, не должны быть отождествляемы с самим юридическим лицом. Со смертью
государя, государство как юридическое лицо не прекращает своего
существования. Университет не перестае* существовать за выбытием ректора.
Виды юридических лиц
Вследствие крайнего разнообразия целей, преследуемых ими, юридические
лица весьма разнообразны как по своему устройству, так и по характеру их
деятельности. Из всех существующих классификаций юридических лиц наиболее
распространенной является классификация Савиньи. За основание
классификации Савиньи принимает субстрат юридических лиц и делит их на основании это-
396
го признака на universitates personarum и universitates bonorum30. Universitates
personarum или корпорации — это те юридические лица, субстратом которых
являются лица физические. Universitates bonorum или учреждения — те
юридические лица, субстрат коих составляет имущество, предназначенное для
определенной цели.
Подробное рассмотрение существующих классификаций юридических лиц
входит в область гражданского права: в курсе энциклопедии мы можем
ограничиться рассмотрением той из них, которая исходит из различия целей,
преследуемых юридическими лицами. Юридические лица могут преследовать или
цели и интересы публичные, общественные, или же частные цели и интересы
отдельных физических лиц, входящих в их состав. Сообразно с этим
юридические лица делятся на две категории: юридические лица публично-правовые и
частноправовые.
Начнем с юридических лиц, существующих на началах публичного права.
Субстратом таких юридических лиц может быть, во-первых, имущество,
предназначенное для какой-либо цели. Примеры таких юридических лиц мы имеем
в музеях публичных библиотек. Во-вторых, субстрат публично-правового лица
могут составлять лица физические, объединившиеся в одно целое. К такого рода
юридическим лицам принадлежит церковь, сословия и, наконец, само
государство. Существенное отличие юридических лиц, зиждущихся на началах
публичного права, состоит в том, что они преследуют цели общественные, публичные.
Отсюда вытекает несколько характерных особенностей их. Общественные цели,
которым служат юридические лица, отличаются от частных целей отдельных
лиц большим постоянством, продолжительностью; они характеризуются
большей независимостью от тех частных лиц, которые входят в состав юридических
лиц. Существование юридического лица, имеющего публично-правовой
характер, не зависит от воли его членов. Юридическое лицо этого рода не может
прекратить свое существование даже в силу единогласного приговора всех его
членов. Университет не перестал бы существовать в силу приговора профессоров
и университетских властей, потому что он преследует не частные цели этих лиц,
а общественные цели народного просвещения.
Иное дело, если юридическое лицо существует на началах частноправовых
(например, банк). Оно преследует частные цели и интересы своих членов,
акционеров, пайщиков и, стало быть, может прекратить свое существование по воле
этих лиц. Члены таких частноправовых юридических лиц являются полными их
представителями, их воля составляет в полном смысле слова волю юридического
лица; имущество юридического лица — их имущество. Отсюда вытекает новое,
важное различие между публичцо-правовыми и частноправовыми
юридическими лицами. Если прекратит свое существование юридическое лицо, основанное
на началах публичного права, например, Университет, то имущество его, как
бесхозяйное, поступает в пользу государства. Если же прекращается
юридическое лицо частноправового порядка, например, акционерная компания или
промышленное товарищество, то имущество его поступает в пользу акционеров,
пайщиков, вообще физических лиц, входящих в его состав. Остается еще
заметить, что юридическое лицо, основанное на началах частноправовых, может
прекратить свое существование не только вследствие постановления всех или
большинства его членов, но иногда за выбытием немногих крупных пайщиков, даже
за выбытием одного крупного пайщика, если с уходом его юридическое лицо не
обладает достаточными средствами для достижения своей цели.
397
Объекты права
В неразрывной логической связи с учением о субъекте права находится учение
об объекте права. Мы видели, что теория Иеринга и его школа, сводящая
содержание права к интересу, влечет за собой неправильное понимание субъекта
права. Нетрудно убедиться в том, что эта теория влечет за собой также неверное
учение и об объекте права.
По определению проф. Коркунова, объектом права может быть все то, что
служит средством для осуществления разграничиваемых правом интересов. После
всего того, что было выше сказано нами против теории интересов в отделе о
правомочии, определение г. Коркунова не нуждается в подробном опровержении.
Укажем только на то обстоятельство, что существует множество объектов права,
не связанных с интересами их обладателей или даже находящихся в
противоречии с этими интересами. Никому не нужная деловая переписка, старая
рукопись, в которой наследодатель упражнялся в литературе, зараженная оспенным
ядом одежда — все эти предметы очевидно такие же объекты права, как какое-
нибудь доходное имение. Содержание права, как мы знаем, составляет не
интерес, а свобода лица, и соответственно этому объектом права является все то, что
может входить в сферу внешней свободы человека, что может сделаться
предметом человеческого господства. Такими предметами, а следовательно, и
объектами права могут быть, во-первых — предметы вещественного мира — вещи; во-
вторых — действия лица и, наконец, в-третьих — само лицо. Прежде всего
выясним юридическое понятие вещи.
Вещи
Вещь в смысле юридическом и вещь в смысле физическом далеко не одно и то
же. Вещью в смысле объекта права может быть только то, что доступно
господству одного человека или совокупности лиц, объединившихся вместе. Способность
человека подчинять своему господству предметы внешнего мира заключена в
определенные границы, вытекающие отчасти из свойств человека, отчасти из
природы самих вещей. Все то, что находится вне этих пределов, не может быть
объектом прав. Небесные светила не могут быть объектами прав и потому не
представляют вещей в юридическом смысле. Затем объектами права могут быть
только те вещи, которые по самой природе своей могут составлять определенную
сферу чьего-либо господства. Поэтому не могут быть объектами прав те
предметы, которых нельзя точно ограничить, изолировать от других, например, вода
в океане, воздух. Но если только эти предметы каким-либо искусственным
способом обособляются, отделяются от других, то они тем самым приобретают
способность быть объектами прав и становятся вещами в юридическом смысле
(например, вода в водопроводе, сжатый воздух под воздушным колоколом). Вообще
вследствие прогресса цивилизации и развития техники многие силы природы,
первоначально свободные и независимые от человека, постепенно подчиняются
его господству и становятся объектами права. В древности, когда электрическая
энергия была известна человеку лишь в виде ниспосылаемой Зевсом молнии, она
не могла быть объектом права; теперь же, когда электричеством освещаются до-
398
ма, улицы, устраиваются электрические трамваи, оно несомненно является
объектом права, и возникают даже судебные дела о краже электричества.
Засим некоторые ученые говорят, что объектом права могут быть только
вещи, представляющие какую-нибудь ценность. Вещи никому и ни на что не
нужные (например, песок на берегу реки, снег, лежащий в поле) согласно весьма
распространенной теории объектами права служить не могут. Если право — то же,
что интерес, то приведенное воззрение должно быть признано правильным.
Но так как в действительности право и интерес — далеко не одно и то же, то на
самом деле может существовать множество таких объектов права, которые не
представляют ни для кого интереса, а следовательно, — и ценности. Примеры
таких объектов права уже были выше приведены, а указание на такие якобы
никому не нужные предметы, как речной песок или снег, на самом деле только
лишний раз доказывает слабость теории интересов. В самом деле, я могу всякому
запретить — брать мой речной песок или расчищать снег с моих полей. В этом —
явное доказательство того, что вещи эти, хотя, быть может, и не имеющие
никакой ценности, составляют объекты моего права.
Наконец, ценность вещи есть величина в высшей степени изменчивая, а
потому представляет шаткий критерий для отличия того, что есть и что не есть
объект права: то, что сегодня не имело цены, завтра оказывается ценностью.
Вчера, например, мой речной песок не представлял ценности, служил для меня
только помехой, и я дозволял его брать кому угодно, а сегодня изобретен способ
делать из речного песка чрезвычайно твердый и дешевый кирпич, и песок мой
внезапно становится большой ценностью. Точно так же и снег станет
ценностью, если я задумаю воспользоваться им для устройства запруды или в целях
орошения своих полей. Право не может знать заранее, какие вещи, не
имеющие ценности в настоящее время, приобретут ее впоследствии; поэтому
объектами права предметы внешнего мира служат независимо от того, имеют они
ценность или нет.
Засим приходится указать на одно важное различие между вещью в
физическом и в юридическом смысле. Вещами в юридическом смысле могут быть и
предметы, физически еще не существующие, а только ожидаемые — res futurae.
Например, урожай будущего года, шерсть, которая будет получена с овец, вообще
все, что составляет естественный прирост к существующему имуществу, —
может послужить предметом юридических сделок, договоров, стало быть —
объектом права. Вещи эти, не будучи еще вещами в физическом смысле, являются
вещами в смысле юридическом. Такое различие объясняется тем, что господство
человека, а следовательно, и его право простирается не только на настоящее,
но и на будущее время. Под вещами в юридическом смысле следует понимать
все предметы внешнего несвободного мира, уже существующие или ожидаемые
в будущем, которые могут быть подчинены господству лиц, признаваемых
субъектами права.
Определение это нуждается в разъяснении. Некоторые юристы считают его
неполным ввиду существования так называемых бестелесных вещей; под
бестелесными вещами при этом разумеют такие, которые не имеют обособленного
материального бытия, то есть не существуют как отдельные предметы видимого
мира. К числу таких бестелесных вещей проф. Зверев относит некоторые свойства,
стороны вещей, не имеющие самостоятельного существования, но обладающие
самостоятельной ценностью. Таковы, например, вид на пейзаж, слушание
музыки, катание на реке, посещение картинной галереи.
399
Достаточно, однако, вникнуть в эти примеры, чтобы признать понятие
бестелесной вещи совершенно несостоятельным. В самом деле, положим, что я взял
билет на концерт Гофмана; является вопрос, что служит объектом моего права:
зал ли, в котором будет даваться концерт, рояль ли Беккера или игра Гофмана?
Очевидно, игра Гофмана: если последний не выйдет, а вышлет вместо себя
другого музыканта, то я могу потребовать свои деньги обратно. Следовательно, в таких
случаях объектами права являются вовсе не вещи или стороны вещей, а
действия или самого лица, обладающего правом, или других лиц (в приведенном
примере кроме игры Гофмана, объектом моего права является еще и мое действие —
занятие определенного места в зале). Поэтому понятие о бестелесных вещах
следует вовсе выключить из правоведения.
Как сказано, под вещами в юридическом смысле должны быть понимаемы
только такие предметы несвободного внешнего мира, которые всецело могут
быть подчинены господству лица и могут служить в качестве средства его
целям. Современное право признает, что человек, будучи сам лицом, не может быть
низведен на степень средства для целей другого лица и, стало быть, не может
рассматриваться как вещь в юридическом смысле.
Проф. Зверев ошибочно исключает из числа объектов права res extra
commercium, то есть вещи, которые исключаются из гражданского оборота,
из сферы торговых сделок: сюда относятся, например, человек и члены его тела.
Человек, как сказано, не является вещью в юридическом смысле и потому
действительно не может быть предметом торговых сделок: из этого, однако, не
следует, чтобы он не был и не мог быть объектом права, ибо в праве семейственном, как
мы увидим ниже, объектами права являются муж, жена и дети.
Тем более неверно утверждение, что труп и члены человеческого тела не могут
быть объектами права. В доказательство этого утверждения проф. Зверев
ссылается на тот факт, что сделки между анатомическим театром и больным
относительно поставки трупа считаются недействительными и родственники могут
потребовать труп обратно для погребения. Из этого, однако, видно как раз
противное тому, что желает доказать Зверев: ибо родственники именно потому
и могут потребовать труп обратно, что он представляет объект их права и труп
постольку изъемлется из гражданского оборота, поскольку он является объектом
права определенных лиц. Напротив, при отсутствии близких родственников,
заинтересованных в погребении усопшего, труп может быть даже предметом
торгового оборота. Доказательства этого можно найти в любой клинике: здесь можно
видеть скелеты и препараты из различных ампутированных частей
человеческого тела, которые имеют определенную ценность и могут быть покупаемы. То же
самое справедливо и относительно других res extra commercium. Общественные
сады, судоходные реки исключаются из торгового оборота потому, что они
составляют объект права государства, города или общины; равным образом и
священные предметы частными лицами покупаемы быть не могут потому, что они
являются объектом права церкви. Словом, res extra commercium потому изъем-
лются из гражданского оборота, что составляют объект чьего-либо права.
400
Юридическая классификация вещей
Выяснив общее понятие о вещи в юридическом смысле, обратимся к
юридической классификации вещей. Она, понятно, не имеет ничего общего с
естественнонаучной классификацией их. Последняя подразделяет предметы внешнего мира
на роды и виды в зависимости от естественных их свойств. В юридической же
классификации естественные свойства имеют второстепенное значение и
принимаются во внимание лишь постольку, поскольку они влияют на юридическую
судьбу вещей, определяют их юридическое положение и значение.
1) С юридической точки зрения, вещи разделяются прежде всего на
движимые и недвижимые. Под вещами движимыми обыкновенно разумеют такие,
которые по самой своей природе могут быть отделены от земли и передвигаться без
повреждения своего существа и назначения. Под вещами недвижимыми
подразумевается обыкновенно земля и все то, что неразрывно связано с ней физически
и юридически. Так, например, все, что растет на земле, рассматривается как
часть земли: растения, пока они не отделены от земли, рассматриваются как
составные ее части. Дома и вообще все возведенные на земле здания
рассматриваются как недвижимость, так как они связаны с ней механически и
предполагается, что они не могут быть отделены от нее без повреждения своего существа
и назначения. Это, разумеется, нисколько не опровергается тем, что дом может
быть разобран, отделен по частям от земли и продан на слом: дом сломанный
перестает быть домом: он не может использовать свое назначение иначе как в связи
с землей, а потому рассматривается как недвижимость. Впрочем, с прогрессом
цивилизации самое понятие недвижимости начинает подвергаться некоторым
колебаниям. Благодаря возможности переносить дома с места на место без
всякого «повреждения их сущности и назначения», в настоящее время самый вопрос
о том, составляет дом движимость или недвижимость, становится
проблематичным. Во всяком случае, такие дома, которые допускают такое перенесение, уже
не могут быть рассматриваемы как вещи недвижимые по природе (naturaliter
immobiles). Если они признаются недвижимостью, то только в силу
постановления законодателя.
От вещей недвижимых по природе (naturaliter immobiles) следует отличать
вещи юридически недвижимые (civiliter immobiles). Юридически недвижимыми
вещами являются все вещи, отнесенные сюда законодателем, которые он так или
иначе признает связанными с землей. Законодатель может признавать
недвижимыми даже такие предметы, которые могут быть свободно отделены от земли:
например, рыбу в реке, зверей в лесу.
Разделение вещей на движимые и недвижимые имеет огромное практическое
значение. Для недвижимого имущества существуют особые формы для
укрепления его за владельцем (купчая крепость); разделение это влияет на право
наследства: относительно недвижимого имущества могут быть устанавляемы
майораты; напротив, относительно движимого имущества таких распоряжений делать
нельзя. Наше законодательство »различает имущество родовое и
благоприобретенное; причем понятие родового имущества распространяется только на
недвижимые имущества, а движимое имущество родовым быть не может.
2) Далее в юриспруденции различаются вещи делимые и неделимые. Здесь
опять-таки следует различать делимость физическую от делимости в
юридическом смысле. Физически все предметы окружающего мира делимы до бесконечно-
401
сти, но с юридической точки зрения неделимы многие вещи, а именно те,
которые не разделяются на части без повреждения своего существа и назначения.
Стало быть, неделимыми признаются те вещи, которые при разделении
утрачивают полезные для человека свойства целого. Книгу, машину, животное нельзя
разделить на части без того, чтобы они не потеряли своего прежнего значения.
Неделимые вещи, в свою очередь, разделяются на простые и сложные.
Сложными вещами называется совокупность многих отдельных вещей, искусственно
соединенных между собой в одно целое и рассматриваемых как единый объект
права. Сложные вещи (universitates rerum) бывают двух родов: 1) universitates
rerum cohaerentium и 2) universitates rerum distantium. Первые представляют
совокупности вещей, соединенных в одно целое механически и технически и
вследствие этого соединения утративших индивидуальное, самостоятельное
существование, например: дом, часовой механизм, экипаж.
Под universitates rerum distantium разумеется такое соединение вещей,
при котором отдельные вещи механически вовсе не связаны между собой, так что
каждая из них представляет собой физически обособленное целое, но вместе они
составляют одно идеальное целое по своему назначению.
Наглядным примером таких вещей может послужить библиотека. Все книги,
входящие в состав библиотеки, могут рассматриваться как отдельные вещи,
но они связаны идеально общим назначением и постольку рассматриваются как
единая сложная вещь, единый объект права. Будучи разрознены, они не имеют
ни той ценности, ни той полезности, какую они составляют в совокупности в
качестве библиотеки. Другим примером universitates rerum distantium может
служить музей, картинная галерея.
3) Не менее важное значение имеет юридическое разделение вещей на
главные и побочные. Из вещей, соединенных механически или идеально в одно целое,
те, которые в самих себе имеют свое независимое назначение, называются
главными. Те же вещи, которые не имеют самостоятельного назначения, а служат
дополнениями к другим, называются побочными. Значение этого деления может
быть выяснено на следующем примере: в имении земля имеет значение главной
вещи, а сараи для инвентаря, службы, сельскохозяйственные орудия — словом,
все те вещи, коих назначение заключается в том, чтобы способствовать
эксплуатации земли, являются вещами побочными. В картине главную вещь
представляет сама картина, а побочную — рамка. Вообще побочными называются такие
вещи, которые по своему назначению занимают подчиненное положение по
отношению к другим вещам. Юридическое значение разделения вещи на главные
и побочные заключается в том,, что вещь побочная следует за судьбой главной
вещи: если продается главная вещь, то вместе с ней продаются и дополняющие ее
побочные вещи; если главная1 вещь составляет недвижимость, то и побочные
вещи, ее дополняющие, рассматриваются как недвижимость, хотя бы по природе
своей они, взятые отдельно, могли бы рассматриваться как движимости: так,
например, зеркала, вделанные в стену дома, электрические лампочки,
прикрепленные к стенам, рассматриваются как части вещи недвижимой — дома.
4) Следующую важную категорию вещей составляют так называемые плоды
(f rue tus). Некоторые вещи, могущие служить объектами права, обладают
способностью производить другие вещи, f акже могущие служить объектами права.
Объекты права, происходящие таким образом от других объектов права,
называются плодами. Понятие плода в юридическом смысле шире, нежели понятие
плода в физическом смысле. Под плодом в смысле юридическом разумеют не
402
только произведения мира животного и растительного, но и вообще всякие
продукты других вещей, хотя бы между вещью производящей и произведенной не
было никакой органической связи. Наряду с плодами естественными право
знает и плоды гражданские, под которыми разумеются доходы, извлекаемые из
вещей, например, квартирная плата, получаемая домовладельцем, аренда и т. п.
Впрочем, плодами считаются только такие предметы, которые могут быть
отделены от вещи, их произведшей, без уничтожения и без повреждения последней:
например, мясо и кожа животного не будут плодом животного. Плодами могут
считаться только те вещи, которые могут существовать обособленно от
произведшей их вещи, как самостоятельные объекты права. Плод только тогда
рассматривается как самостоятельная вещь, когда он вполне отделен от вещи, его
произведшей, пока плоды не отделены, они рассматриваются как составные части
других вещей, например, хлеб на корню рассматривается как составная часть
земли.
5) Наконец, вещи делятся на индивидуальные и родовые. Индивидуальными
вещами называются такие, коих юридическое значение обусловливается их
особыми, чисто индивидуальными свойствами, которые в других вещах не
встречаются и делают эти вещи неизменными. Например, к числу индивидуальных
вещей принадлежат картины Рафаэля, рукопись Пушкина, ботик Петра Великого.
Напротив, существуют вещи, юридическое значение которых обусловливается
родовыми признаками, общими у них с другими вещами. Такие вещи
измеряются мерой и весом. Значение, например, куска хлеба определяется родовыми
признаками, и всякий такой кусок может быть заменен другим такого же качества
и веса. Такое деление влияет на положение вещей в гражданском обороте.
Индивидуальные вещи вообще незаменимы. Поэтому, например, занять картину
Рафаэля бессмысленно, так как соответственной ценностью ее заменить нельзя. Я
могу, конечно, взять какую-нибудь статую напрокат. Но это будет уже не заем,
а наем. Напротив, родовые вещи могут быть заменены другими однородными,
а также могут быть предметами займа.
Действия
Уже раньше было сказано, что объектами права могут служить как действия
другого лица, так и действия самого управомоченного субъекта. Ренненкамф
и Зверев упускают это из виду и считают объектами права только действия и
услуги других лиц. Нетрудно, однако, убедиться в том, что бывают случаи, когда
объектами права служат действия самого лица управомоченного. Таковы права
политические и все права, вытекающие из дееспособности субъекта. Если я имею
право выбирать представителей в думу, земское собрание, то очевидно, что
объектом моего права является не действие какого-либо другого лица, а мое
собственное. Если я совершаю юридические акты, подписываю векселя, заседаю в
суде в качестве сословного представителя, подписываю завещание, то я, очевидно,
не получаю никакой услуги от других лиц и, следовательно, объектом права в
перечисленных случаях служит не что иное, как действие самого лица,
возможность распоряжаться его собственными силами. Предметом моего господства,
а следовательно, и объектом права могут быть не только чужие, но и собственные
мои действия.
403
Действия других лиц являются объектами права, потому что человек по
природе своей существо общественное, не могущее обходиться без услуг других.
В прежнее время, при существовании рабства, одно лицо находилось в обладании
другого; одна сторона получала со стороны другой услуги, не неся
соответствующих обязанностей, другая же несла обязанности, но не имела прав. Право
современных цивилизованных государств не допускает такого полного подчинения
одного лица другому, а основано на принципе взаимности do, ut dse. Поэтому
объектами права в настоящее время могут быть только такие действия других
лиц, которые совместимы с их свободой.
Этим определяются те требования, коим должны соответствовать действия,
могущие быть объектами права. Объектами права могут служить только
действия строго определенные, имеющие ясно очерченные границы. Если бы мои
требования по отношению к ближнему не имели никаких границ, это было бы
равнозначно полному его порабощению. Я могу требовать от него только точно
определенных услуг взамен столь же точно определенных услуг с моей стороны
(например, определенной работы за определенное вознаграждение). Затем,
не всякие проявления чужой воли могут быть объектами права, а только те,
которые могут получить определенное, точное выражение во внешних действиях;
чувства ближнего, например, его любовь и благодарность не могут быть
объектами права, так как они не поддаются измерению, не могут быть выражены в
определенной величине.
Само собой разумеется, что объектами права могут быть действия физики
выполнимые, то есть такие только действия, коих возможность не исключается
законами природы. Наконец, чтобы быть объектом права, действие не должно
противоречить нормам действующего права. Очевидно, что никакое государство
в мире не признает договора, в силу которого одна сторона по требованию другой
должна совершить преступление.
Лица как объекты права
Наряду с вещами и действиями объектами права являются и лица.
Современное право, разумеется, не допускает такого господства, при котором одно лицо
низводится на степень вещи и средства для цели другого лица. Современное
право мирится только с таким господством одного лица над другим, при котором
сохраняется свобода обоих. Та^сое господство мы находим, например, в семейных
отношениях. В семейных отношениях жена является объектом права мужа и
наоборот: муж является объектом права жены.
Нельзя сказать, чтобы в семейных отношениях объектом права служило
только то или другое действие одного лица в пользу другого. Права супружеские
простираются на такие стороны жизни, которые не могут быть отделены от
личности, а потому объектами права в данном случае служат сами лица, а не их
действия. То же самое верно и по отношению к детям. Права отца и матери
простираются на самую личность детей, равно как и право детей — на личность
родителей. Такое господство одного лица над другим оказывается взаимным, не
исключает личной свободы, а потому оно и допускается современным правом. Здесь
ни одно лицо не служит только объектом права другого, но одновременно
является и объектом и субъектом права. Если муж имеет право исключительного обла-
404
дания своей женой, то и, обратно, жена пользуется таким же правом
относительно своего мужа: этого права не может уже иметь никакая другая женщина. Если
родители имеют право на повиновение детей, то и последние имеют право на
соответственные действия родителей, которые обязаны содержать и воспитывать
их. Разумеется, свобода лица в семейных отношениях совместима только с
моногамической формой брака, почему моногамия и есть единственная форма брака,
признаваемая современным правом. Если муж обладает исключительным
правом на жену, то свобода ее этим не уничтожается, ибо и она имеет такое же
исключительное право на своего мужа. Между тем в тех странах, где господствует
полигамия, только муж пользуется правом исключительного обладания женой,
а положение жены относительно мужа такого характера не имеет. При
полигамии нет взаимности в господстве, господство является односторонним,
вследствие полигамическая форма брака влечет за собой рабское, приниженное
положение женщины.
Юридические факты
Права находятся в состоянии беспрерывного движения; они возникают,
переходят от одних лиц к другим, непрестанно изменяют свой вид. Все это
происходит под влиянием юридических фактов. Что же такое юридический факт?
Обыкновенно под именем юридического факта разумеется всякое событие, за которым
признается способность устанавливать или прекращать права. Это определение,
однако, страдает неточностью. События — мимолетны, но право может
изменяться не только вследствие мимолетных событий, но и под влиянием длящихся
состояний. Право, конечно, может измениться вследствие такого мимолетного
события, как смерть; но оно может измениться и вследствие таких длящихся
состояний, как чье-либо десятилетнее давностное владение или пятилетнее
безвестное отсутствие. Поэтому под юридическими фактами надо разуметь все
состояния и события действительности, которым свойственно устанавливать
и прекращать права.
. Наступление юридического факта всегда возвышает применение определенной
нормы объективного права. Положим, я достиг гражданского совершеннолетия;
это — факт, который тотчас вызывает применение ко мне норм,
устанавливающих права и обязанности, связанные с совершеннолетием: с одной стороны, оно
устанавливает мою дееспособность, с другой — возлагает на меня обязанность
отбыть воинскую повинность. Точно так же и смерть относится к числу
юридических фактов; последствием смерти является применение нормы объективного
права, определяющей права на наследников. Обыкновенно применение юридической
нормы зависит не от одного только факта, а от множества фактических условий.
Так, например, для применения норм наследственного права недостаточно, чтобы
наследователь умер: надо чтобы смерть его была засвидетельствована
официально. Недостаточно также, чтобы было сделано завещание, скрепленное подписью
наследодателя: необходимо, чтобы завещание было составлено в здравом уме
и в твердой памяти. Обыкновенно применение правовой нормы зависит не от
одного факта, а от целой совокупностей фактических предположений.
Юридические факты делятся на зависящие и независящие от человеческой
воли. Те и другие могут быть согласны или не согласны с правом. Стихийные силы
405
природы не могут совершать правонарушений, но могут производить так
называемое неправомерное состояние, то есть создавать положение вещей,
противоречащее праву. Положим, например, что находящаяся на моей земле гора
вследствие таяния снега ежегодно сползает и угрожает завалить усадьбу моего соседа.
В данном случае мы имеем дело с неправомерным состоянием, то есть с таким
положением вещей, которое противоречит праву соседа. Сосед поэтому получает
право требовать от меня принятия мер для предотвращения грозящей опасности
(например, устройство дренажа); если же я не приму никаких мер и обвал
произойдет, то сосед мой имеет право взыскать с меня причиненные ему убытки.
Другой пример: разлившаяся река унесла мой лес и выбросила его на берег
соседа; здесь опять возникает неправомерное состояние, и я могу требовать от соседа
возвращения принадлежащего мне леса.
Другая категория фактов, не зависящих от человека, не противоречит праву,
не порождает неправомерного состояния, но вызывает возникновение права.
К числу таких фактов принадлежит, например, смерть, которая вызывает
возникновение прав наследников умершего, пожар в застрахованном здании,
вызывающий возникновение права на получение страховой премии.
Факты, зависящие от воли людей, или действия, разделяются на
положительные и отрицательные. Сущность вторых заключается в воздержании от
действия. Я могу приобрести или утратить право посредством совершения того
или другого положительного действия; но я могу утратить право еще и
вследствие несовершения действия, необходимого для совершения права. Например,
просрочив вексель, я могу утратить право на получение долга; я могу потерять
право на обмен старых кредитных бумажек на новые, если пропущу
установленный для этого срок. Юридическим фактом в этом случае является несовершение
действия, необходимого для сохранения права. Если я в течение известного
срока не препятствую другому лицу распоряжаться моим имуществом как его
собственностью, то это лицо приобретает право собственности на мое имущество
посредством давностного владения, тогда как я теряю право в силу воздержания от
действий, необходимых для сохранения права.
Юридические факты, зависящие от человеческой воли, разделяются на
правомерные и неправомерные. Неправомерные действия, правонарушения, создают
ряд новых прав — притязаний со стороны лица, коего право нарушено; лицо это
может требовать восстановления нарушенного права, вознаграждения за
причиненные убытки, наказания виновного. Правонарушение может выражаться как
в действии положительном, так и в отрицательном действии, то есть в
воздержании от действия; примером правонарушений последнего рода могут послужить:
отказ от правосудия, непринятие железнодорожным начальством требуемых
предосторожностью мер, вследствие чего произошло несчастье с людьми, порча
товаров и т. п.
Правомерные положительные действия людей бывают опять-таки двух родов.
Если эти действия носят частный характер, то они суть юридические акты. Если
же действие совершено должностным лицом по делу службы и направлено к
осуществлению публично-правовШх целей, то это будет распоряжение.
Юридические акты могут быть односторонними или двусторонними: односторонние акты
выражают волю одного лица (завещание, дарение), а двусторонние служат
проявлением двух или более воль (куйля, договор).
Для совершения юридических актов закон устанавливает определенный
способ, причем соблюдение этого способа во всех случаях дает возможность
406
удостовериться в действительности совершения акта. Но в иных случаях
соблюдение законом установленной формы необязательно; в других случаях
соблюдение формы необходимо и обязательно, а несоблюдение ее делает
ничтожным весь акт. Договор о найме, например, может быть заключен и в устной
и в письменной форме, напротив, покупка недвижимого имущества должна быть
засвидетельствована в письменной форме, установленной законом, именно в
форме купчей крепости, и при несоблюдении этого условия покупка
недействительна.
Юридические действия могут быть совершаемы как самими
заинтересованными лицами, так и представителями. Представительство в одних случаях
является добровольным у в других — необходимым. Если лицо дееспособное, которое
само может совершать юридические действия, уполномочивает на совершение
их другое лицо вместо себя, то такое представительство будет добровольным.
Но дети, сумасшедшие — в силу необходимости — осуществляют свои права не
иначе как через представителей, ибо сами они дееспособностью не обладают.
В этом случае представительство является необходимым. Равным образом и
юридические лица осуществлять свои права могут только через представителей,
почему и здесь представительство носит характер необходимости.
Классификация юридических отношений.
Право частное и публичное
Мы ознакомились с природой юридических отношений, с их составными
элементами, с теми фактами, от которых зависит вообще изменение, прекращение
и возникновение частных прав; чтобы окончить отдел о праве в субъективном
смысле, остается изложить учение о классификации юридических отношений.
Все вообще юридические отношения делятся на частные и публичные: такая
классификация в настоящее время является общепринятой. Но вопрос об
основании такого деления, о тех признаках, по которым можно отличить право
публичное от права частного, остается спорным и до наших дней. Самым
распространенным учением остается то, которое было формулировано еще Кантом, а затем
в несколько измененном виде изложено Пухтой. По мнению Пухты, каждое
данное право должно рассматриваться как частное или публичное в зависимости от
того, принадлежит ли оно лицу как индивидууму или как члену
организованного общества; в первом случае мы имеем дело с правом частным, во втором —
с правом публичным: например, мое право собственности принадлежит мне как
индивидууму — это частное право, а мое право участвовать в дворянских
выборах принадлежит мне как члену дворянского сословия — это публичное право,
точно так же публичным является, например, право француза или англичанина
выбирать представителей в парламент, так как оно принадлежит ему как
гражданину конституционного государства; в обоих названных случаях лицо
обладает правом как член известного общественного целого. Напротив, в сфере
частного права лицо действует по собственному своему праву, а не по праву
какого-нибудь общественного целого.
Однако такое объяснение Пухты вызывает существенные возражения. Как
уже неоднократно было выше сказано, не существует вообще прав, которые при-
407
надлежали бы лицу как изолированному индивидууму; все права, в том числе
и частные, принадлежат лицу по отношению к другим лицам, по отношению
к обществу. В изолированном состоянии человек не имеет вообще никаких прав;
поэтому нельзя говорить о частном праве, что оно принадлежит человеку как
изолированному индивидууму. Далее, учение Пухты не основательно еще и
потому, что носителем частных прав может быть не только отдельный человек,
но и общество и государство; когда, например, государство заключает с каким-
нибудь подрядчиком договор о поставке сухарей в армию или заказывает
частному заводу пушки, то здесь мы имеем, несомненно, частноправовое отношение
и государство является здесь по отношению к заводчику и подрядчику субъектом
частного права, несмотря на то, что оно действует по праву целого. Значит,
деление прав на частные и публичные не зависит от того, кто является их субъектом.
В противоположность мнению Канта и Пухты, Савиньи и Шталь видят
основание этого деления прав в различии целей, которым служит то или иное право:
если целью права является то или другое социальное целое (сословие, народ,
государство), то такое право должно быть, по мнению Савиньи, признано правом
публичным; если же целью права является индивидуум, то это — право частное.
В праве государственном, которое является частью права публичного,
государство — есть цель, — здесь человек играет второстепенную роль по отношению к
государственному целому; в праве частном, наоборот, индивидуум есть цель, а
государство — средство. В этом, по Савиньи, и заключается различие между
правом публичным и правом частным.
Это учение при ближайшем рассмотрении также оказывается
несостоятельным: можно указать много случаев, где цель правомочия является целью
общественной, а правомочие тем не менее носит характер частного права; например,
общество железных дорог, несомненно, преследует публичные цели, однако, оно
ради этих целей вступает в целый ряд частноправовых отношений (например,
с подрядчиками, рабочими и т. п.). Наконец, эта теория Савиньи, как и теория
Пухты, не объясняет нам, каким образом государство может быть субъектом
частного права: когда государство заказывает пушки, то мы имеем дело с
общественной целью — удачное исполнение заказа может иметь влияние на судьбы
целой армии; однако, несмотря на общественный характер цели, мы имеем здесь
случай частноправового отношения государства к пушечному заводу. Значит,
частное право отличается от публичного не по цели, которой служит то или иное
право; мы должны поэтому искать другие основания для данного деления.
Единственным основанием для деления прав на частные и публичные
является характер самого правоотношения между отдельным лицом и тем или другим
социальным целым. Всякое право, будь то частное или публичное право,
заключает в себе отношение какого-нибудь лица не только к другим лицам, но и к
социальному целому, общественному или государственному организму: например,
мое частное право на дом заключает в себе не только притязание, обращенное ко
всем людям, чтобы они не нарушали моего права, но также и требование, чтобы
определенное государство охраняло мою собственность. В зависимости от того,
каково отношение лица к социальному целому в каждом конкретном случае,
право будет частным или публичным. Для существования всякого
общественного организма, в частности, государства, требуется, чтобы целое господствовало
над частью, чтобы общество госоодствовало над личностью. Где нет такого
господства, с одной стороны, и подчинения с другой — там не будет ни права, ни
организованного общества, а будет анархия. Но подчинение лица государству
408
должно иметь известные границы: должно подчиняться государству лишь
постольку, поскольку это необходимо для осуществления целей социального
организма, для его существования и процветания. Безграничное господство
государства над личностью равнялось бы полному рабству индивидуума, а такое
бесправие вовсе не нужно для целей общества: господство государства над
личностью не простирается на все стороны существования личности, а только на
некоторые его стороны — у всякого свободного лица есть сфера, где оно является
независимым. Те права, где индивидуальное лицо является состоятельным
субъектом права, суть права частные, а те права, где отдельное лицо фигурирует
как подчиненная часть социального целого, — права публичные.
При таком толковании те затруднения, с которыми сталкиваются учения
Пухты, Савиньи и Шталя, не представляются непреодолимыми. Это объяснение
делает понятным, почему государство может быть субъектом частного права:
до известных пределов государство господствует над личностью и имуществом
каждого из нас — все мы должны отбыть воинскую повинность, платить подати
и т.д. — здесь государство осуществляет свое публичное право, а мы
осуществляем наши публично-правовые обязанности. Но это право государства не
простирается ни на всю нашу личность, ни на все наше имущество. Для осуществления
публичных целей государства вовсе не требуется, чтобы отдельное лицо отдавало
ему весь свой труд, все свое имущество: для этих целей не требуется, например,
чтобы подрядчики ставили сухари для армии, заводы отливали даром пушки
и т. д. В известных пределах отдельные лица являются полными хозяевами
своего имущества и своего труда. Все граждане одинаково обязаны отбывать
повинность и платить налоги в пользу государства; если же государство потребует от
известных лиц, например, от подрядчика или владельца пушечного завода
каких-либо услуг сверх того, что они обязаны делать для него, как подданные,
то оно должно за это платить; а заплатить — значит признать, что в данном
случае и подрядчик и владелец пушечного завода являются по отношению к
государству вполне самостоятельными субъектами прав, которые могут отдать или
не отдать ему свой труд и свое имущество, могут оказать или не оказать ему
известные услуги. Здесь государство не совершает акта господства над лицом, а
договаривается с ним — а где государство вступает в договор с лицом,
пользуется его услугами, оказывая ему взамен того равноценные услуги, там и само
государство фигурирует как субъект частного права.
Каковы же вообще пределы господства государства над личностью? Эти
пределы не представляют неподвижной величины: в процессе исторического развития
они беспрестанно изменяются; цоэтому многие отношения, являющиеся в
данную эпохи отношениями частноправовыми, могут впоследствии приобрести
публично-правовой характер, и наоборот. Сфера частного права в Древней Греции
была несравненно уже, чем в наше время: так, спартанский гражданин не мог
продать принадлежащего ему участка земли, так как земля считалась
собственностью государства, а граждане считались только пользователями, причем за это
пользование они платили государству обязательной службой. Наоборот, в
средние века сфера частного права была несравненно шире, чем в наши дни: самое
территориальное верховенство феодального сюзерена смешивалось с его
частными владельческими правами на землю; в средние века самые отношения
монарха — сюзерена к его вассалам — прийимали форму частного договора, он покупал
их службу, раздавая им земельные угодья. Словом, границы частного и
публичного права в действительности беспрестанно меняются. В истории одни эпохи ха-
409
рактеризуются преобладанием начала индивидуальной свободы; другие же,
напротив того, характеризуются преобладанием целого над частью, стеснением
индивидуальной свободы в пользу общества; соответственно с этим то публичное
право совершает захваты из области частного права, то наоборот. Чтобы
различать в каждом данном случае, что относится к той или другой области, следует
помнить, что частное правоотношение есть то, где лицо фигурирует как
самостоятельный субъект права; публичное правоотношение, напротив, есть то, где
лицо является как подчиненная часть социального целого. Из этого определения
нетрудно вывести все вообще особенности как частного, так и публичного права.
В области частноправовых отношений отдельное лицо является
самостоятельным распорядителем своего права. Будучи субъектом частного права, я свободен
пользоваться моими правами или нет, сохранять их за собой или передавать
другому лицу. Вообще, нормы частноправового характера не дают указаний, как
индивидуум должен пользоваться предоставленными ему правами, а лишь
полагают ему известные пределы; причем в этих пределах отдельное лицо вполне
самостоятельно. Положим, я владею домом. Конечно, государство кладет
определенные границы моему господству над домом: я обязан платить казенные и
городские налоги, не должен нарушать строительного устава; я должен принимать
предохранительные меры против пожара, соблюдать известные гигиенические
условия. Здесь мое частное право ограничено определенными нормами; но в
очерченных этими нормами пределах я являюсь совершенно самостоятельным и
независимым субъектом права. Право не определяет, должен ли я жить сам в своем
доме или отдавать его внаймы или, наконец, пожертвовать его на какое-нибудь
благотворительное учреждение. В сфере частноправовых отношений главная
функция правовых норм заключается в обеспечении лицу мирного пользования
известной сферы внешней свободы. Совсем иное положение занимает лицо в
публичном праве: тут оно не является самостоятельным распорядителем своего
права. Юридические нормы определяют самую цель, которой должны служить
публичные права, а цель эта — всегда общественная, публичная. Я не могу отказать
другому или уступить сословных прав, например, прав дворянства, потому что
мое дворянское звание не составляет частного достояния: оно принадлежит мне
как члену дворянского сословия. Точно так же губернатор не может передать
своей губернаторской власти кому-либо другому, потому что его право не есть его
частное достояние. Цель, которой служит частное правомочие, зависит от доброй
воли самого лица — правообладателя, тогда как цель правомочия публичного
заключается в выполнении лицом известных общественных обязанностей.
Поэтому нормы публичного права точно определяют, как лицо должно пользоваться
своими правами; причем оно не может ими не пользоваться; губернатор,
например, не может не пользоваться своим правом управлять губернией; ротный
командир не может не пользоваться своим правом командовать ротой; профессор не
может не пользоваться своим правом читать лекции. Обязанность пользоваться
правами присуща большей части публичных прав, тогда как по отношению к
частному праву такой обязанности не существует.
Из самого существа публичного права вытекает, что субъектами всякого
публичного правомочия являются непременно два лица — тот или другой
индивидуальный носитель правомочия и то социальное целое, в права коего облекается
индивид. В каждом публичном правомочии субъектом непременно является,
во-первых, та или другая общественная группа, а во-вторых, индивид, через
которого социальное целое осуществляет свои права. Когда я пользуюсь моим пра-
410
вом избирать дворянского предводителя, субъектом права являюсь не только я
сам, но и дворянское сословие в моем лице; когда я заседаю в суде в качестве
присяжного заседателя, государство в моем лице творит правосудие. В праве частном
такое раздвоение субъектов права также возможно, но не необходимо. В праве
частном физическое лицо также может действовать через представителя
(например, через поверенного), но оно может действовать и по собственному праву,
тогда как в праве публичном физическое лицо всегда является выразителем прав
социального целого.
Из сказанного выше вытекают некоторые особенности публично-правовых
институтов по сравнению с частноправовыми. Так, с точки зрения
вышеизложенного определения легко объяснить, почему в публичном праве закон имеет
обратное действие, а в праве гражданском он его не имеет. В публичном праве
отдельное лицо не является самостоятельным субъектом права, за ним стоит
общество, государство, по праву коего действует лицо; вот почему государство всегда
может упразднить публичное правомочие всякого входящего в его состав лица.
Напротив, в гражданском праве лицо фигурирует как самостоятельный субъект
права: частное правомочие составляет ту границу, предел, за которую не должно
простираться господство государства; вот почему в гражданском праве новый
закон не поражает прав, приобретенных при старом законе, то есть не имеет
обратного действия. Другая особенность публичного права заключается в том особом
положении, которые занимают юридические лица публично-правового порядка.
Юридические лица публично-правового порядка, в отличие от юридических лиц
частноправового порядка, не могут прекратить существование по воле их
физических представителей. Университет, например, не может прекратить своего
существования в силу даже единогласного приговора профессоров и
университетских властей, потому что последние служат выразителями не своего частного
права, а права государства, которое поручило им управление делами
университета и преподавание в нем.
Другой пример, на котором можно наглядно выяснить различие между
публичным и частным правом, это — различие в положении сторон в гражданском
и уголовном процессе. В гражданском процессе идет спор о частном праве.
Положим, я начинаю иск о спорном участке земли или требую от соседа
вознаграждения за вред, причиненный им моим владениям. Тут спор идет только о моем
частном праве, причем общественный интерес в нем вовсе не замешан, для общества
совершенно безразлично, буду я или не буду искать с соседа убытки; прощу его
или не прощу. Это — мое частное дело и мое частное право, относительно коего я
являюсь вполне самостоятельным субъектом. Вообще, во всяких спорах о
частном праве частные лица, стороны играют в высокой степени самостоятельную
роль: от них зависит, начать процесс или прекратить его в любой его стадии.
Иное положение занимают стороны в процессе уголовном. Тут, кроме
обвиняемого и потерпевшего, выступает на сцену отличный от них субъект права —
общество, безопасности которого угрожает злая воля преступника, посягающего
против порядка, установленного общественным авторитетом. Общество не может
оставаться равнодушным к факту уголовного преступления. Прощу я или не
прощу человеку, посягнувшему на мою жизнь или причинившему мне увечья, —
обществу до этого нет дела: оно не может допустить, чтобы безнаказанно
совершались преступления — иначе воцарится анархия и наступит конец обществу.
В уголовном деле необходимо присутствует публично-правовой элемент —
общественный интерес, тогда как в гражданском процессе этот интерес отсут-
411
ствует: вот почему стороны не могут играть в нем той самостоятельной роли,
которая составляет особенность процесса гражданского. Уголовные дела,
правда, могут начинаться и по жалобе потерпевшего лица, но они могут начаться
и без всякой жалобы, по инициативе уполномоченных на то органов власти. Раз
начат уголовный процесс, он уже не может прекратиться вследствие примирения
сторон.
Общество
Рассматривая право в объективном и субъективном смысле, мы видели, что
право есть общественное явление, не могущее существовать вне общества, и что
общество немыслимо без права, как и право без общества. Рассматривая право
как порядок, установленный общественным авторитетом, мы должны были
ввести понятие общества в самое определение права. Нам остается теперь выяснить,
что такое общество. Весьма распространенное воззрение, представителями
которого является в Англии — Герберт Спенсер, а в Германии — Лилиенфельд31,
рассматривают общество как организм.
Некоторые из новейших сторонников этого учения считают его весьма новым.
Впрочем, так думают не одни сторонники. Проф. Коркунов, например, который
полемизирует против органической теории, полагает, что она возникла не ранее
конца XVIII столетия. Однако такое мнение ошибочно, потому что органическое
воззрение на общество не было чуждо и древним. Еще Аристотель сравнивал
государство с живым телом и на этом основании отрицал возможность
существования человека как существа изолированного. Как руки и ноги, отнятые от
человеческого тела, не могут вести самостоятельного существования, так и человек не
может существовать вне государства. Наконец, самому профессору Коркунову
известно, что Платон уподобляет общество человеческому телу в своем диалоге
«Государство». Сравнение государства с организмом напрашивается само собой,
а потому в древности оно было в обращении не только среди философов:
известно, что патриций Менений Агриппа воспользовался этим сравнением, чтобы
убедить плебеев возвратиться в Рим, когда они, возмущенные поведением
децемвиров, удалились на священную гору32. В древних христианских произведениях,
начиная с посланий апостола Павла, беспрестанно вторгается сравнение церкви
с телом: глава церкви — Христос, а верующие — члены церкви — тела Христова.
Древним хорошо было известно, что между отдельными членами существует
разделение труда, как и между органами тела. Проф. Коркунов находит, что все эти
сравнения чрезвычайно далеки от органической теории в том смысле, как она
понимается ныне. В действительности, однако, древние не знали только терминов
«организм», «органический» в том смысле, как они употребляются теперь,
но они сравнивали общество с живым телом, и за этим сравнением скрывается
воззрение, в существенных чертах сходное с тем, которое высказывается
новейшими сторонниками органической теории.
Как теперь, так и в древности те, кто сравнивал общество с «живым телом»
или организмом, хотели этим сказать, что, как члены живого организма по
природе связаны в одно целое и вне' единства этого живого целого существовать не
могут, так и человек по природе составляет часть живого целого высшего
порядка — общественного тела или организма: человек, отрешенный от всяких обще-
412
ственных связей, так же немыслим как рука или нога, отсеченная от тела, —
в этом заключается тот элемент органического воззрения на общество, который
был известен уже древним.
В истории философии органическому воззрению на общество всегда
противополагалось механическое воззрение. Которое из двух воззрений древнее, решить
трудно. Не подлежит сомнению тот факт, что уже софисты, против которых
полемизировал Сократ, были сторонниками чисто механического воззрения;
Сократ же противополагал им воззрение органическое. А именно, софисты учили,
что общество — искусственное создание, произвольное установление людей.
Первоначально люди жили разрозненно, впоследствии же, ввиду невыгод такого
изолированного состояния, они вошли в соглашение между собой, образовали
общество и государство, создали законы и власть. Словом, софисты понимали
общество как искусственный механизм, созданный человеком: с их точки зрения
человек так же возможен в изолированном, как и в общественном состоянии.
Такого же механического воззрения придерживался Эпикур, так же
понимали общество и многие мыслители Нового времени. Ряд теоретиков естественного
права XVII и XVIII веков придерживался того мнения, что общественному
состоянию человечества исторически предшествовало состояние естественное, когда
люди жили разрозненно; общество и государство были искусственно созданы
людьми посредством общественного договора: сознав в определенный момент
невыгоды изолированного естественного состояния, люди согласились выйти из
него — составили общество, установили власти, создали весь юридический
порядок. В XVII и XVIII столетиях господство такого воззрения на происхождение
общества было тесно связано с верой во всемогущество человеческого разума,
в его творческую способность. Старым теоретикам естественной школы вообще
чужда была идея преемственной связи поколений. Они верили, что человечество
может совершенно отрешиться от всех исторически сложившихся преданий.
Общество как механически скрепленное здание может быть разрушено до
основания, разобрано на части и затем — вновь построено в любом стиле. Как только
в начале XIX века возникает реакция новейшего историзма против
рационализма старой естественной школы, на смену механическому пониманию общества
является органическое воззрение. В начале XIX столетия целый ряд
противников естественной школы — богословствующие юристы, реакционеры всех
возможных оттенков и, наконец, корифеи исторической школы сходятся в одном
общем положении, что общество не есть продукт исторически сложившихся
общественных условий, определенной исторической среды, часть социального
организма, подчиненная законам релого. В настоящее время чисто механическое
воззрение на общество, можно сказать, окончательно сошло со сцены. Этому
способствовали, с одной стороны, Успехи новейшей исторической науки, а с другой
стороны — новейшие психологические исследования.
Исторические исследования XIX века неопровержимо доказали, что
общественный строй не есть продукт свободного творчества человеческого разума,
а представляет результат необходимого закономерного развития человечества.
Развитие человеческого общества! так же, как и развитие животного организма,
подчиняется необходимым законам, коих не властна уничтожить или изменить
человеческая воля. Культурная работа каждого нового поколения составляет
необходимое продолжение культурной работы предшествующих поколений.
Между отдельными поколениями существует теснейшая связь исторического
преемства. Самые потрясения и революции составляют необходимый результат
413
предшествовавшего исторического развития. Словом, исторические
исследования показали, что как между современниками, так и между сменяющими друг
друга поколениями существует тесная органическая связь.
К тому же результату привело изучение психологии. В XVII и XVIII веках
в психологии боролись две одинаково несовершенные теории — эмпириков и
нативистов. Нативисты утверждали, что в душе человека есть определенный запас
врожденных идей. Эмпирики, напротив того, учили, что не существует никаких
врожденных идей, что душа человека в момент рождения представляет tabula
rasa — белый лист, который может быть заполнен каким угодно содержанием.
В борьбе друг с другом оба эти воззрения постепенно видоизменялись и
совершенствовались, но эти частные изменения не устранили основных заблуждений того
и другого. На самом деле, одинаково неверно утверждение эмпириков, что в
нашей душе нет ничего врожденного и мнение нативистов старой школы, будто
запас врожденных идей в душе человека представляется от века неизменным.
Новейшие психологические исследования доказали существование закона
наследственности в области духа: психическая деятельность каждого человека,
как и каждого животного индивида, является продолжением психической
деятельности ряда предшествовавших поколений. Мы наследуем от наших предков
не только анатомическую структуру их тела и физиологическую их
организацию, но также и психологические особенности, ибо психическая сторона нашего
существа находится в теснейшей связи с его физиологическим строением.
Психологические наблюдения установили тот факт, что у каждого человека и
животного есть целый ряд представлений и инстинктов, унаследованных от предков. Тот
инстинктивный страх, который испытывает цыпленок, впервые увидевший
коршуна, не есть результат индивидуального опыта, а результат опыта
предшествующих поколений, установившего неразрывную ассоциацию между
представлением большой птицы и представителем угрожающей опасности. Как у
животного, так и у человека существует множество таких представлений —
инстинктов, а следовательно, в чем совершенно правы нативисты, существуют —
врожденные идеи. Ошибка же нативистов заключалась только в том, что они этот
запас врожденных идей представляли себе в виде постоянной и неизменной
величины. На самом деле как психическая жизнь индивидов, так и психическая
жизнь целого ряда есть величина изменяющаяся, постоянно прогрессирующая,
а потому и та сумма представлений, которую отдельный индивид наследует от
своих предков, от рода, есть величина изменчивая, прогрессирующая.
Таким образом, психологические наблюдения привели к тому же результату,
что и исторические исследования — к признанию существования тесной связи
между индивидуальной жизнью отдельной особи и коллективной жизнью рода,
к признанию той истины, что индивидуальная жизнь отдельного человека
находится в самой тесной связи с коллективной жизнью целого рода, иначе говоря,
что человек является членом общественного организма. Признавая полную
справедливость этого вывода, нужно, однако, всегда помнить, что социальный
организм есть организм sui generis33, коренным образом отличающийся от
организмов в биологическом смысле. Говоря об обществе как организме, следует прежде
всего выяснить, в чем состоит основное различие между общественным
организмом и организмом порядка биологического. Это упускается из виду многими из
социологов и государствоведов текущего столетия: увлечение сходством между
организмом обоих порядков нередко переходит в преувеличение, результатом
чего является смешение понятий биологических и социологических. В частности,
414
этого недостатка не избег и Герберт Спенсер, параллели, проводимые им между
обществом и организмом большей частью чрезвычайно остроумны, но в конце
концов и он впадает в преувеличение, говоря об «общности основных принципов
организации» между двумя рядами организмов.
Мы не станем входить в подробное изложение и разбор всех этих аналогий,
проводимых Спенсером, Лилиенфельдом и другими современными социологами,
и ограничимся указанием основных различий между законами жизни организмов
обоих порядков. Сам Спенсер указывает на такие важные отличия, которые
способны ниспровергнуть его мнение об «общности основных принципов
организации». Одно из главных отличий социального организма от биологического
заключается, бесспорно, в том, что Спенсер называет «дискретностью» частей
социального организма. Все части животного организма непосредственно,
физически связаны между собой и образуют одно конкретное целое; тогда как живые
единицы, составляющие общество «дискретны», то есть свободны от этой физической
связи, не находятся в непрерывном соприкосновении, но рассеяны в пространстве
на более или менее далеком расстоянии друг от друга. Словом, между частями
биологического организма существует связь физическая; напротив того, между
людьми — частями социального организма — связь психологическая.
Из этого различия, которое само по себе столь важно, что не допускает
отождествления социального организма с биологическим, вытекает другое
значительное различие между организмами обоих порядков. Часть каждого растительного
или животного организма не составляет сама по себе самостоятельного целого,
не может жить вне этого организма, не может отделиться от него, чтобы
прирасти к другому какому-нибудь организму. Член же социального организма имеет
возможность отделиться от него (например, посредством эмиграции, перемены
подданства) и стать частью другого социального организма. Далее, животная
клеточка, с которой социологи любят сравнивать человека, может быть членом
только одного организма, тогда как человек может быть одновременно членом
нескольких социальных организмов. Он может быть зараз членом церкви и
государства, которые даже могут находиться во вражде между собой (как бывало
в средние века во время борьбы императоров с папами). Словом, физическая
связь, существовавшая между определенным биологическим организмом и его
частями, имеет характер безусловной необходимости; связь же
психологическая, соединяющая человека с определенным социальным целым, такой
необходимостью не обладает. Необходимость в области социологической выражается не
в том, что человек должен быть членом того или другого общества, а в том лишь,
что он непременно должен быть членом какого-нибудь социального организма
и вне общества существовать не может. Таким образом, человек — ив этом
коренное различие между принципами социальной и животной организации —
есть свободный член общественного организма — он до известной степени
свободен выбирать общество, к которому он желает принадлежать.
Оставаясь в пределах того или другого организма, человек, в отличие от
клеточек живого организма, сам выбирает ту функцию, которую он желает
отправлять; между тем как каждый из членов животного организма отправляет
какую-либо одну, строго специализированную функцию, человек — член
общественного организма — может отправлять зараз или поочередно множество
самых разнородных функций, (цапример, быть одновременно профессором и
адвокатом, быть сначала студентом, потом солдатом, а затем уже — членом суда
и т. п.).
415
Как в организме животном, так и в организме социальном существует
распределение разнообразных функций между отдельными органами: отсюда и
возникает возможность ходячих в наше время сравнений рабочего класса с органами
питания, правящего класса с мозгом и т. п. Однако Спенсер как раз в этом
отношении указывает на важные различия между организмами обоих порядков.
В организме социальном разделение труда или, как выражается Спенсер,
дифференциация функций, не может быть доведена до той степени, как в организме
животном. В животном организме, например, одна часть — мозг — становится
исключительным органом мысли и чувства; в организме социальном такая
концентрация представляется невозможной: всякий орган общественного организма
является носителем мысли и чувства. К сказанному Спенсером следует
прибавить, что наибольшая дифференциация функций животного организма
доказывает и совершенство его организации. С организмом социальным дело обстоит
как раз наоборот. Общество, где умственное развитие сосредоточено только в
одном классе, стоит очень низко на лестнице исторического развития сравнительно
с обществом, где умственная жизнь развита во всех его слоях.
С этим связано еще и другое различие, опять-таки указанное Спенсером.
В животном организме отдельный член всецело подчинен целям целого: целью
организма не служит благо отдельных его членов (например, рук, ног и т. п.),
а напротив того, все эти части служат единой цели благосостояния организма как
целого. Совершенно иное дело — организм общественный: тут конечной целью
является отдельное лицо: в конце концов общество существует для своих членов,
а не они для него.
Всего этого, казалось бы, совершенно достаточно для установления той
истины, что общество есть организм sui generis и что самые принципы социальной
организации коренным образом отличаются от принципов организации
биологической. Однако злоупотребления биологическими сравнениями вовлекло Спенсера
в неверное изображение самого процесса общественного развития.
Современная критика недаром отмечает некоторую аналогию между
Спенсером и старой исторической школой немецких юристов. Общественный
организм, по мнению Спенсера, развивается совершенно так же, как и растительный
и животный организмы, то есть сам собой, помимо участия человеческого
сознания и человеческой воли. Известный американский социолог Лестер Уорд
справедливо упрекает Спенсера в том, что учение его не оставляет места для
сознательной, целесообразной деятельности отдельных индивидов. С этим
замечанием Лестер Уорд связывает такой же упрек, какой сделал Иеринг по адресу
исторической школы, а именно: он считает учение Спенсера не только
теоретически неверным, но и практически вредным. Внушая мысль, что в обществе все
развивается само собой, учейие Спенсера может убить в человеке всякую
энергию, привести его к квиетизму и пассивному отношению к окружающей
действительности.
То, что Иеринг говорит против Савиньи об участии сознания и воли в
процессе правового развития, должно быть повторено и против учения Спенсера о
процессе общественного развития. Кто хочет умалять значение самодеятельности
и участия сознания и воли в общественном развитии, тот поворачивается спиной
к фактам. При ближайшем знакомстве с историей мы убеждаемся, что всякий
прогресс человеческой культуры*достигается ценой великих жертв, упорной
сознательной борьбой, которая предполагает напряжение энергии, участие
сознания и воли. Раз мысль и воля представляют собой существенные свойства челове-
416
ка, они не могут не быть факторами социального развития, хотя, конечно, они
и не являются его единственными факторами.
Сторонники старой механической теории думали, что общество есть всецело
продукт человеческой воли и сознания. Это учение так же односторонне, как
и противоположная крайность некоторых сторонников органической теории,
будто все развивается непроизвольно и бессознательно. В развитии общества
участвует как тот, так и другой фактор: и сознательные усилия человеческой воли,
и стихийная, растительная сила истории. Чтобы получить верное представление
о развитии общества, нужно стать выше противоположных односторонностей
механической и органической теории и сочетать в одном учении истинные стороны
той и другой. А для этого нужно признать вместе с Гербертом Спенсером, что
общество есть организм и в развитии его участвуют стихийные, бессознательные
силы; а с другой стороны, следует признать и то, что одними органическими
факторами жизнь человеческого общества не исчерпывается.
Старые теоретики естественной школы неправильно видели в человеческом
обществе единственно произведение разума, неестественный продукт
человеческого сознания и воли. Но в их учении есть зерно истины: поскольку в развитии
общества участвуют лица, воля и сознание являются важным фактором
общественного развития. В этом участии человеческой воли и сознания в развитии
общества и заключается специальная характерная черта общественного развития
и различие между общественным организмом и организмом биологическим.
Это различие и служит главной причиной, почему общественный организм
должен быть охарактеризован как организм своеобразный, sui generis. В отличие
от клеток животного растительного организма люди сознают те цели, к которым
они стремятся как в совокупности, так и в отдельности; они способны
сознательно воодушевляться общественными идеалами и осуществлять их в
действительности путем борьбы, ценой упорных усилий и тяжелых жертв. В этом участии
сознания и воли в процессе общественного развития и замечается надорганическии
фактор развития общества.
Государство
Исследовав вопрос о сущности обществ, перейдем к рассмотрению той его
формы, которая представляется наиболее интересной для юристов, — к
рассмотрению государства. Всякая форма человеческого общества предполагает
непременно существование такой общественной цели, которая не может быть
осуществлена разрозненными усилиями отдельных лиц; общество всегда
преследует такую цель, для достижения которой люди должны соединиться, образовать
кооперацию. Далее, для существования общества недостаточно преходящих,
мимолетных целей; если люди соединяются для того, чтобы выполнить сообща
какую-нибудь работу, или устроить облаву на медведей, или пирушку, то тут не
может быть и речи об обществе: длр существования общества необходима цель
постоянная, длящаяся. Есть такие цели, для достижения которых человек
добровольно вступает в ту или другую кооперацию: такие цели лежат в основе,
например, акционерных компаний, обществ ученых, благотворительных обществ.
Но есть и такие цели, которые объединяют людей помимо их воли, которые
навязываются людям в силу самого их рождения. В силу самого рождения я принад-
14 Зак. 3911 417
лежу к тому или другому классу, национальности, государству: хочу я или не
хочу, я в силу того положения, в какое поставило меня рождение, заинтересован
в целом ряде целей, общих мне с другими лицами.
Разнообразию целей соответствует и великое разнообразие форм
человеческого общества. Так как различные человеческие общества отличаются друг от
друга прежде всего своими целями, то, казалось бы, что для определения отличия
государства от других форм человеческого общества надо было бы рассмотреть
отличие цели государства от целей других общественных союзов. Поэтому
многие философы и государствоведы, пытавшиеся дать определение государства,
клали в основание своих исследований отличие государственной цели от целей
других общественных союзов. Попытки эти, однако, должны были окончиться
полнейшей неудачей: прийти к какому-нибудь соглашению относительно цели
государства представляется невозможным, так как не только самое понимание
цели государства в различные эпохи различно, но и в действительности
государство в различные эпохи преследует различные цели: отсюда — разногласие
между мыслителями, исходившими при определении государства из изучения
его цели.
Аристотель, например, определяет государство как «соединение многих родов
и деревень ради общения наилучшей, совершенной жизни». Древние греки
вообще не признавали ничего высшего, чем государство и преследуемая им земная
цель, и в самом деле государство у них было сосредоточием всех умственных
и нравственных интересов граждан: оно олицетворяло собой высшую цель
и смысл существования личности, почему Аристотель и называет его
«сообществом совершеннейшей жизни». В Риме государство уже перестает быть
средоточием всех умственных и нравственных интересов, задача его существенно
суживается: соответственно с этим римлянин Цицерон видит в нем уже не
олицетворение «высшего совершенства» человеческой жизни, а союз людей,
объединенных общими началами права и общей пользой.
В средние века цель государства совершенно иная: оно рассматривается как
орудие церкви; задачей его считается насаждение истинной веры; и в самом деле,
помимо целей светских, средневековое государство преследует также и цели
религиозные, что явствует, например, из истории крестовых походов.
В Новое время цель государства опять-таки меняется: оно становится
светским союзом, преследующим чисто светские цели. Но и в этих пределах то, что
понимается под целью государства, беспрестанно меняется; в действительности
также цель государства то расширяется, то суживается. Сообразно с этим,
по справедливому замечанию Коркунова, определения государства, даваемые
с точки зрения его целей, в высшей степени субъективны; в этих определениях
отражается не только разнообразие целей, в действительности преследуемых
государством, но и разнообразие тех целей, которыми государство должно
задаваться с точки зрения идеальных представлений о нем различных исследований.
Так, например, по Гегелю, государство есть «высшая действительность
нравственной идеи», по Велькеру, оно «союз, стремящийся к правовой свободе и к
счастью своих подданных», по Чичерину, оно — «союз, управляемый верховной
властью для общего блага». Все эти определения несостоятельны потому, что
в действительности государство вовсе не всегда представляет собой высшую
действительность нравственной идеи, вовсе не всегда стремится к общему благу,
к счастью всех своих подданных: словом, государство в действительности
преследует весьма разнообразные цели, а потому при определении государства нельзя
418
исходить из представления единой цели, преследуемой всеми государствеными
союзами.
Чтобы найти определение государства, надо начать с того признака, который
никогда не возбуждал спора. Таким признаком является власть: никто никогда
не сомневался в том, что государство есть союз, обладающий властью над своими
членами. Стало быть, исходной точкой для определения государства должна
послужить власть.
Но тут затруднение заключается в том, что власть есть признак, в котором
государство сходится с многими другими союзами: властью обладают, например,
различные местные общества, за которыми признается правительством
автономия, например, городские общества, олицетворяемые уездными земскими
собраниями, и пр. Очевидно, что для определения государства необходимо
выяснить, в чем заключается отличие государственной власти от других
общественных союзов.
Проф. Коркунов видит отличительную особенность государства в том, что оно
одно осуществляет самостоятельную принудительную власть. Коркунов хочет
этим сказать, что власть государства, будучи принудительной, есть вместе с тем
власть первоначальная, ни от кого не заимствованная, не подчиненная никакой
другой власти и что в этом заключается коренное отличие государства от всяких
союзов.
Вряд ли, однако, можно согласиться с тем, что признаки, характеризующие
государственную власть, в отличие от власти других общественных союзов,
верно подмечены проф. Коркуновым. Прежде всего принудительный характер
присущ не исключительно одной государственной власти. Власть, которой
пользовалась в средние века католическая церковь, была принудительной; разбойничья
шайка или революционный клуб, карающий своих членов смертью за всякую
измену и отступничество, обладают властью в высокой степени принудительной.
Мало того, все перечисленные формы общения при всем их различии сходятся
в том, что власть их совершенно самостоятельная, не заимствованная ни от какой
другой власти. Таким образом, все эти формы общения обладают теми
специальными признаками, в которых Коркунов видит особенность и отличие
государства.
В действительности, основное отличие государства состоит не в том, что оно
имеет власть самостоятельную и принудительную, а в том, что оно пользуется
властью самостоятельной и исключительной в пределах определенной
территории. Власть католической церкви тем и отличается от государственной власти,
что она не территориальна. Власти римского папы подчинены все католики,
где бы они ни проживали, стако быть, это власть над лицами, а не над лицами
и территорией. Правда, в былые времена существовала особая папская
территория, но тогда эта территория была папским государством и папа, как
верховный глава этой области, был светским государем. Власть шайки разбойников
и политического клуба есть та же власть только над лицами. Но допустим, что
шайка разбойников завоевывает какую-нибудь территорию (как это иногда
и бывало в средние века), изгоцяет из ее пределов всякую другую власть и
подчиняет своему исключительному господству. В этом случае разбойничья шайка
утрачивает свой первоначальный характер и приобретает характер
государственный. ,
Особенность государства, как сказано, заключается в том, что оно властвует
самостоятельно и исключительно в пределах определенной территории. Не под-
419
лежит сомнению, что, кроме государства, существуют другие общественные
союзы, власть которых также территориальна (местные автономные общества).
Власть этих союзов, будучи территориальна, отличается от власти государства
тем, что она не самостоятельна и не исключительна, а напротив того,
заимствована и подчинена высшей власти. Власть земства или города не самостоятельна
потому, что она существует лишь постольку, поскольку государство дает
местным обществам эту власть, допускает в своих пределах местное самоуправление;
она не исключительна, так как наряду с ней в той же местности существуют
другие власти — власть центрального правительства в лице губернатора и пр.
Напротив того, государство в пределах подчиненной ему территории господствует
вполне исключительно, то есть не допускает в этих пределах существования
власти, не подчиненной ему. Никакое государство, как бы сильно оно ни было,
не может воспрепятствовать образованию в своих пределах враждебных ему
анархических партий или разбойничьих обществ, но оно остается государством
лишь до тех пор, пока оно в состоянии отстаивать свою самостоятельную власть
над территорией против внутренних и внешних врагов.
Определив отличительные особенности государственной власти, мы можем
следующим образом резюмировать результат нашего анализа: государство есть
союз людей, властвующий самостоятельно и исключительно в пределах
определенной территории. Соответственно с этим определением в понятие государства
входят следующие три элемента: 1) власть, обладающая указанными
признаками самостоятельности и исключительности; 2) совокупность лиц, подчиненных
этой власти, — народ и 3) территория. Подробная характеристика каждого из
этих признаков в отдельности входит в область государственного права, а потому
может быть опущена в курсе юридической энциклопедии.
420
СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ
ПЛАТОНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
Владимира Сергеевича Соловьева
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее исследование само собою связывается для меня с памятью о
дорогом усопшем.
В последние годы своей жизни В. С. Соловьев был занят русским переводом
Платона, который, к сожалению, остался неоконченным. Этот перевод, по его
собственному признанию, не был для него делом случайным или побочным.
«С нарастанием жизненного опыта, — говорит он, — без всякой перемены в
существе моих убеждений, я все более и более стал сомневаться в исполнимости
и полезности тех внешних замыслов, которым были посвящены так называемые
мои „лучшие годы". Разочароваться в этом — значило вернуться к философским
занятиям, которые за это время оставались для меня на заднем плане»
(предисловие к I т. Платона).
Соловьев мечтал об осуществлении «божеского царства» на земле; он
наткнулся на ту же грань между двумя мирами, о которую, за двадцать два с половиной
столетия раньше, разбились условия Платона, преследовавшего ту же задачу.
Этим обусловилась для него та потребность в новом теоретическом углублении,
которая связалась с задуманным им переводом трудов Платона.
После кончины Соловьева уже не одинокий мыслитель, а все русское общество
было охвачено благородным порывом — осуществить на земле царство правды.
Наши усилия разбились о невидимые препятствия. И после пережитого
крушения в душе зарождается непреодолимая потребность — осмыслить наш
исторический путь, подняться вместеic Соловьевым и Платоном в горнюю сферу «вечных
форм истинного и прекрасного, туда, где перед духовным взором снимается грань
между двумя мирами, где умозрение предвосхищает — сущий идеал
долженствующего, достойного быть». Там мы найдем бодрость и силу — продолжать наш
жизненный путь.
Сказанного достаточно для| оправдания моей темы и моего посвящения. Изо
всех продуктов творчества Платона я останавливаюсь на его социальной утопии.
Я делаю это, во-первых, потому, что именно она осталась всего менее
исследованною и оцененною моим русским предшественником. Во-вторых, именно она всего
лучше объясняет нам как его, так и нашу жизненную драму.
422
СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ ПЛАТОНА
В знаменитом диалоге Платона «Пир» один из собеседников — Алкивиад
яркими штрихами описывает двойственное впечатление, производимое обликом
Сократа.
Он чрезвычайно похож на тех силенов, коих скульпторы изображают с
флейтой или дудкой пастуха в руках. Если рассечь пополам эту статуэтку, окажется,
что она содержит в себе образы богов. С виду Сократ представляется ничего не
знающим и не понимающим. Когда же раскрывается его внутренний мир, он
оказывается преисполненным чудными образами. Я не знаю, говорит Алкивиад, видал
ли кто когда-нибудь эти образы. «Мне удалось увидеть их однажды: они
показались мне до того божественными, драгоценными, прекрасными и дивными, что я
без колебания решил делать все, что прикажет Сократ». Такое же точно силенооб-
разное впечатление производят и беседы философа: «с первого взгляда они
кажутся смешными: слова и речи своей внешностью напоминают дразнящего сатира».
Он говорит о самых обыденных предметах — вьючных ослах, кузнецах,
сапожниках и как будто повторяет в тех же выражениях одно и то же. Поверхностному
или непосвященному слушателю все это может показаться смешным и жалким.
Если же вникнуть в смысл тех речей, окажется, что из всего сказанного людьми
они одни преисполнены глубокого и божественного смысла*.
Весьма близкое к этому впечатление производит на нас, людей XX века, учение
самого Платона, в особенности его знаменитый диалог — «Государство» (о
государственном устройстве). Здесь также есть что-то такое, что отталкивает, и что-то
другое, что неудержимо влечет к себе. Перед нами проходят наскучившие еще со
школьной скамьи, чуждые нам образы классической древности. Мы слышим
пространные рассуждения о порядках и непорядках греческого государства-города,
о его образах правления и борьбе партий, о гимнастических упражнениях
обнаженных юношей на площадях и о наилучшем музыкальном образовании
гражданина-воина. Наконец, мы знакомимся с социальной утопией самого Платона,
с этой неудачной попыткой построить наилучшее общежитие из явно негодного
греческого материала.
Казалось бы, какой интерес все это может представлять для нас? Между тем,
если мы ножом анализа рассечем эту античную форму, мы увидим, что она полна
божественных образов. За этой чуждой нам оболочкою греческого государства-
города мы откроем тот общечеловеческий, всемирно-исторический смысл,
который высоко поднимет нас не только над обыденщиной древности, но и над нашей
современной действительностью.
Платон искал тот смысл человеческой жизни, ту конечную ее цель, которая
всегда и везде одна и та же. Ему удалось возвыситься над временем, приподнять
ту завесу, которая заслоняет от нас вечность. Вот почему его окрыленное слово
получило способность перелетать в отдаленные эпохи; вот почему и теперь на
расстоянии веков его мысль продолжает волновать и захватывать нас, как родная
нам, близкая.
Ответив на вопрос о смысле жизни, Платон не мог не попытаться воплотить
этот смысл в современной ему действительности. Найдя безусловную, высшую
Convivium, 215, 216, 221, 222.
423
ценность, он совершенно последовательно захотел подчинить ей все человеческие
ценности. Отсюда — его социальная утопия, его попытка коренного
преобразования человеческого общежития. Он понял, что в частности ценность государства
заключается в служении той цели, ради которой вообще стоит жить. Ему
открылось, что правда должна быть одна и та же как в личной, так и в общественной
жизни человека. Но задача преобразования всей человеческой жизни оказалась
ему не по силам. Он попытался влить вино новое в мехи ветхие, вместить
безусловную правду в узкие национальные рамки греческого государства, которые
не могли ее в себе вместить. Отсюда тот временный, исторический нарост,
который делает утопию Платона нам чуждою, малопонятною.
В последующем изложении мы попытаемся отделить общечеловеческое зерно
социального идеала Платона от его исторической скорлупы, провести грань
между тем внутренним его содержанием, которое влечет к себе, и той внешностью,
которая отталкивает. Для этого нам нужно прежде всего проникнуть в учение
философа о смысле жизни.
I
Смысл жизни
Этот смысл заключается в осуществлении божеского начала в человеке, в
достижении человеком той прекрасной, благой, нетленной формы существования,
над которой не властны смерть и время. Бессмертие, как увековечение человека
в Боге, вот та конечная цель и великая надежда, ради которой надлежит делать
все то, что мы делаем. Она составляет необходимое, неустранимое предположение
всей нашей жизни. Посмотрим, как философ обосновывает этот тезис.
Комментаторами и историками Платона уже давно отмечено*, что все
доказательства бессмертия души у него сводятся в сущности к одному. Душа по самому
своему существу и понятию неразрывно связана с идеей жизни, неотделима от
нее. Она есть то, что одухотворяет, соделывает живым самое тело: иначе говоря,
она — начало жизни: ясно, что она не может умереть. По самой своей природе она
так же несовместима со смертью, как и идея жизни**.
По-видимому, мы имеем тут заключение от присущей душе идеи бессмертия
к действительному бессмертию — то самое онтологическое доказательство,
несостоятельность коего теперь общепризнана. Однако, на самом деле рассуждение
Платона заключает в себе более глубокий смысл. Бессмертие составляет
необходимый метафизический постулат всей нашей жизни, как духовной, так и
телесной: это — то, чем мы живем и движемся.
От Платона не укрылся тот факт, что жизненный процесс слагается из
беспрестанно сменяющих друг друга актов смерти и рождения: это то самое, что на
современном языке называется сменою траты и возобновления. «Смертное
существо сохраняет свое существование не тем, что оно пребывает в неизменном
состоянии подобно божествам, à тем, что стареющее, исчезающее оставляет по
себе другое, юное и подобное себе». «Смертная природа стремится пребывать вечно
и быть, насколько возможно, бессмертною. Но это доступно ей лишь через акт
* См., напр., Zeiler, Die Philosophie d. Griechen. В. И, 1 Abth, 697 (2 Aut.).
** Phaedo, 105.
424
рождения, потому что этот акт всегда вызывает к жизни нечто молодое на место
старого».
Этот процесс наблюдается в жизни каждого живущего индивида. О живом
существе мы говорим, что, пока оно живет, оно от младенчества и до старости
остается одним и тем же. Между тем весь состав его тела беспрерывно меняется:
волосы, кровь, плоть и кости — все это исчезает и восстановляется. То же и в духовной
жизни человека: наши нравы, мнения, желания, радости, скорби и страхи — все
это никогда не остается тем же, одно нарождается, другое отмирает прочь*.
Сущность жизни выражается в стремлении каждого живого существа
сохранить от смерти себя и свой тип — в искании бессмертия. Нигде это не
сказывается так наглядно, как в любви, в том эросе, коего элементарное проявление есть
половое влечение: здесь земное существование достигает высшего своего расцвета.
Чтобы увековечить свой тип, человек, как и всякое живое существо, должен
рождать других. Но для этого нужно взаимное восполнение двух половин
человеческого рода. «Совокупление мужчины и женщины есть акт рождения. Это —
божественный акт: зачатие и рождение — осуществление бессмертия в смертном
существе»**, приобщение мира телесного, смертного к бессмертию.
Отсюда — безграничная власть эроса над миром животным. Все, что ходит по
земле и летает над нею, испытывает страшную силу влечения, болеет любовною
страстью; животные неудержимо стремятся к совокуплению друг с другом; потом
та же страсть переносится на их порождения: ради детей слабейшие твари всегда
готовы сражаться с сильнейшими, не боятся смерти, голодают, лишь бы им
выкормить потомство***. Неудивительно, что все живое почитает и ценит свои
порождения: бессмертия ради все это стремление и эрос****.
В мире человеческом проявления эроса сложнее и разнообразнее. Человек
стремится не только к телесному, но и к духовному рождению*****. В основе того
и другого стремления — один и тот же эротический корень, одно и то же влечение
к бессмертию. Оно сказывается не только в человеческих чувствах и страстях,
но и в самых извращениях последних. Нам может показаться безумною,
например, власть честолюбия над людьми, если мы не примем во внимание, с какой
силой они жаждут приобрести известность, стяжать себе на вечные времена
бессмертную славу: ради этого они готовы подвергаться всякой опасности, тратить
деньги, нести труды и умирать еще более, нежели ради детей. Из того же
источника происходит героизм, мужество. Не захотел бы Алкест умирать за Адмета,
Ахилл — погибнуть, мстя за Патрокла, и Кодр — принять смерть ради афинян,
если бы они не думали, что этот подвиг увенчается вечною памятью в потомстве.
Чем лучше люди, тем больше^ они совершают подвигов, ибо любят бессмер-
тие** ***
Те, в ком преобладает страсть к телесному рождению, влекомы к женщинам: они
ищут бессмертия в деторождении, в том счастьи и памяти, которую они думают
этим стяжать себе на будущие времена. Те же, кого влечет к рождению духовному,
стремятся увековечить себя в том, что подобает рождать душе. Эти порождения,
соответствующие достоинству духа, суть мудрость и прочие виды добродетели. Роди-
* Convivium, 207, 208.
** Ibid., 206.
*** Ibid., 207. ,
**** Ibid., 208.
***** ibid., 206.
****** ibid., 208.
425
те ли этих духовных детей — поэты и художники, изобретатели, устроители
государств и провозвестники правды на земле. «Божьи люди, они от юных лет чреваты
мудростью, по достижении зрелого возраста они ищут прекрасного, чтобы в нем
рождать и творить, ибо творить в безобразном для них невозможно».
Они испытывают влечение к прекрасным телам и к прекрасным душам. И,
когда они находят предмет своего искания — людей, сочетающих в себе ту и другую
красоту, благородство, природные дары, — та мудрость, которой они чреваты,
рождается вовне, изливается в речах о доблести, о достойном доброго мужа
образе жизни. Находя сродные им прекрасные души, такие люди рождают в них
прекрасное и прилепляются к ним сильнее, крепче, нежели мужья к женам: ибо они
вместе рождают неумирающих детей. И всякий должен был бы предпочитать
иметь таких детей, нежели человечески рожденных. Плотские родители
забываются. Слава же великих поэтов и законодателей, творцов бессмертных созданий,
пребывает во век: ради этих детей им воздвигают храмы, ради плотских же
никогда и никому*.
В своем искании бессмертия люди не всегда находят то, что служит предметом
их искания. Отсюда — извращение чувства любви, обращение его к недостойным
предметам. Есть две Афродиты: одна — дочь неба — Урана, которая поэтому
называется небесною; другая же — дочь Зевса и Дионы — именуется вульгарною
(πάνδημος). Соответственно этим двум богиням любви есть два эроса — небесный
и вульгарный. Люди, одержимые вульгарною любовью, любят тело более, нежели
душу, и стремятся единственно к удовлетворению своей похоти. Напротив,
любящие любовью небесною стремятся завязать прочную духовную связь с любимым
предметом**.
При различии предметов любви и ее направления, ее психический корень —
всегда один и тот же. Все люди ищут и любят красоту и благо; поэтому эрос может
быть определен как любовь к красоте*** или, что то же, как любовь к благу****.
Но большинство заблуждается в своем искании, прилепляясь к подобию
прекрасного вместо самого прекрасного*****, находя подобие добра вместо самого добра.
Смысл любви, как и всего жизненного процесса, — не в том, что она находит,
а в том, что она ищет, в самом предмете ее искания. Цель любви (τέλος των
ερωτικών) — то, что воистину дает бессмертие. Этой целью, к которой направлены
все наши усилия, может быть не какое-либо преходящее явление, а только вечно
сущее, то, что не рождается и не умирает, не растет и не уменьшается. Это не то,
что в одном отношении и в определенное время прекрасно, а с другой стороны
и в другой момент — постыдно, хорошо для одного здесь, а дурно для другого
там******. Выражаясь современным языком, цель любви по Платону —
безотносительно прекрасное и безотносительно доброе. Это безусловно прекрасное не
может быть изображено, как какой-то предмет, например, лицо, руки или что-либо
причастное телу, ни как речь, ни как знание, ни как определение или свойство
предмета, например, животного, земли, неба или чего-либо другого. Оно
существует само в себе и чрез себя, всегда в том же виде (μονοειδές άει όν). Все же прочее
прекрасно лишь по приобщению к этому первоисточнику красоты: так что другие
* Ibid., 209.
** Ibid., 180, 181.
*** Ibid., 201.
**** Ibid., 205-206.
***** Ibid., 212.
****** ibid., 211.
426
прекрасные предметы возникают и уничтожаются, этот же не возрастает,
не уменьшается и не подвержен никаким аффектам*.
Во всех прекрасных предметах проявляется единая красота, одна и та же
сущность прекрасного. Поэтому было бы безумием прилепляться к отдельным ее
проявлениям. Истинный путь любви заключается в восхождении из ступени в ступень,
в постепенном обобщении самого предмета любви. Сначала мы любим отдельное
прекрасное тело; потом, постигая сродство красоты всех тел, начинаем любить все
прекрасные формы; затем мы научаемся выше ценить духовную красоту и,
наконец, прилепляемся сердцем к той единой, безотносительной красоте, которая
проявляется во всем — ив мире духовном, и в мире телесном. Это — то, что делает
жизнь ценною, то самое, ради чего стоит жить. Эрос достигает вершины в
созерцании красоты чистой, беспримесной, не загрязненной плотью, телесными красками
и смертной суетой. По сравнению с этим благом ничтожно все то, за что люди
обыкновенно полагают душу — золото, прекрасные одежды, мальчики и юноши**.
•к * *
Безусловное, будь то красота или благо, не вмещается в рамки нашей земной
действительности. Чтобы достигнуть божественного, достойного человека
существования, душа должна расстаться с телом. Путь к истинной, благой жизни
лежит через смерть. Смысл жизни раскрывается в истинном знании, в философии.
Между тем, истинная философия — не что иное, как стремление к смерти***.
Истинный философ тем и отличается от прочих смертных, что он стремится
освободить свою душу от телесных уз. Он ищет мудрости; но в этом искании тело —
только помеха. Ибо чувства наши беспрестанно нас обманывают: обманчивы зрение
и слух, прочие же чувства еще менее достоверны. Душа наша схватывает истину
не путем чувственного опыта, а посредством размышления. Она лучше всего
размышляет, когда ничто телесное ее не смущает — ни слух, ни зрение, ни
страдание, ни удовольствие, иначе говоря, когда она становится самостоятельною,
освобождается, насколько возможно, от тела и стремится к истинно сущему****.
Истинное, доброе, справедливое, прекрасное — познается не телесными, а
умными очами: мы приближаемся к познанию, поскольку мы возвышаемся над
чувственными впечатлениями, то есть отрешаемся от тела. Пока связь с телом не
порвана окончательно, мысль наша пребывает в плену: ее полет задерживается
страстями, заботами о поддержании нашего существования, спорами с другими
людьми из-за обладания материальными благами. Войны, междоусобия,
партийная борьба — вот чем награждает нас тело: ибо все войны ведутся из-за ненужных
для его питания материальных (средств. Материальные заботы отнимают у нас
досуг, нужный для искания мудрости; но и при наличности этого досуга тело,
волнуя нас, лишает нашу душу необходимого для мудрости спокойствия и ясности
взгляда. Совершенное, полное знание станет для нас возможным лишь после
совершенного отрешения от тела, то есть после смерти*****.
К этой высшей стадии нашего существования мы должны готовиться уже
теперь, в течение всей нашей жизни. Мы должны очищать нашу душу, то есть
постепенно отделять ее от тела; она! должна привыкать сосредоточиваться в себе, со-
* Ibid., 211.
** Ibid., 210-212. ,
*** Phaedo, 64.
**** Ibid., 65.
***** ibid., 65, 66.
427
бираться от периферии к центру, отрешаясь от плотских уз. В этом и заключается
задача философии*.
* * *
Заканчивая изложение учения Платона о смысле жизни, нам остается сказать,
что мы имеем в нем основы истинной философии.
Что душа наша неразрывно связана с идеей нетленной, вечной и совершенной
жизни, что отвергнуть эту идею — значит отказаться от самой сущности нашего
жизненного стремления, — это Платону удалось доказать неопровержимо. К его
аргументам вряд ли можно что-нибудь прибавить; и с другой стороны, трудно
что-нибудь от них убавить. Платону, разумеется, не удалось доказать ни существования
божественного начала, ни бессмертия души, ни свободы, независимости духовного
начала в человеке. Безусловное, божественное, равно как и возможность
действительного соединения с ним человека, недоказуемо уже потому, что оно
предполагается всеми нашими доказательствами. Но таковы действительно необходимые
метафизические предположения, постулаты всего нашего сознания и всей нашей жизни.
Всякое движение нашей мысли, всякий акт нашей воли, более того, — весь наш
жизненный процесс построен на том предположении, что есть неиссякающий источник
нетленной, неумирающей жизни, что человек может действительно с ним
соединиться и увековечить себя в нем. Жизнь в самом деле предполагает тот добрый
смысл, который был найден в ней Платоном: иначе она не может быть оправдана.
Отсюда — огромный, захватывающий интерес всего учения великого древнего
мыслителя о том жизненном пути, которому должны следовать как личность, так и
общество. Вглядываясь в социальное учение Платона, мы увидим, что и здесь сквозь
временное и местное просвечивают сверхнародные, общечеловеческие ценности.
II
Смысл общественной жизни и современная
Платону действительность
В основе социального и политического учения Платона лежит сознание той
глубокой истины, что одна и та же безусловная цель, а стало быть, одна и та же
правда должна лежать в основе как личной, так и общественной жизни. Через
весь диалог «Государство» красной нитью проходит мысль о тождестве правды-
справедливости в душе и государстве: как там, так и здесь правда должна
выражаться в господстве и осуществлении божественного, бессмертного в человеке.
Эта связь идей обнаруживается с первых же страниц упомянутого диалога.
Собеседник Сократа, старец Кефал, заводит речь о будущей жизни. Когда, говорит
он, человек на старости лет сознает приближение смертного часа, им овладевает
страх и тревога. Его волнуют казавшиеся раньше смешными сказания о
посмертном воздаянии за содеянные неправды, о Гадесе1. Пытаясь разобраться в них, он
устремляет взор свой в загробный мир и сводит счеты с жизнью**.
* Ibid., 67. ;
** Civitas, 1. I, 330-331. Текст этот, устанавливающий связь между идеей справедливости и
бессмертием, особенно важен для нас: он доказывает единство основной концепции диалога,
несмотря на разновременность составления отдельных его книг.
428
Ответом на эти запросы является рассуждение о правде-справедливости, иначе
говоря, — весь диалог «Государство». Беседу ведет Сократ — убитый за правду
учитель Платона. Уже одно это сообщает диалогу глубокий драматический
интерес. Речь идет не о каком-либо незначительном предмете, а о центральном
жизненном вопросе — о том, «как следует жить»*. Кому на это отвечать, как не
Сократу: он, по словам одного из собеседников, в течение всей своей жизни делал
только одно дело: искал безотносительную, самоценную правду**.
Вести людей, а следовательно, и управлять ими, может только тот, кто знает
единую и единственную цель существования: ибо ради нее люди должны делать
все то, что они делают как в частной, так и в общественной жизни***. В Греции
был один только человек, который обладал этим важнейшим знанием. И именно
за это убили его афиняне. Отсюда вытекает у Платона вся оценка современной ему
общественной жизни. Это — жизнь, утратившая свою цель, оторванная от своего
смысла. Платону она представляется в виде корабля, выбросившего за борт
единственно способного и знающего кормчего. Между пассажирами идет спор, кому
управлять судном: к этому считает себя призванным всякий обученный и
необученный. Все хватаются за руль, и каждый преисполнен злобы к тому, кто считает
для этого нужными знания. Среди этих безумцев сведущий мореплаватель слывет
звездочетом, мечтателем и пустым человеком****.
Приведенное сравнение имеет в виду современную Платону демократию, в
особенности афинскую. Но нетрудно убедиться, что выразившаяся в нем
отрицательная оценка относится ко всем современным Платону образам правления.
Государство нуждается в мудрых, зрячих руководителях, способных созерцать вечную
правду*****; но таких правителей нигде не существует. У кормила правления
везде стоят смелые вожди, руководящиеся не знанием, а обманчивым мнением.
Из существующих форм государственного устройства ни одна не достойна
философской природы. Поэтому последняя вырождается и извращается, как семя,
переброшенное из далеких стран в чуждую ему землю: будучи побеждаемо
свойствами почвы, где оно посеяно, оно теряет силу и воспринимает чуждые ему свойства.
Только в наилучшем государстве философ может раскрыть все свои богатые
задатки: тут обнаружится, что он один олицетворяет собою действительно
божественное; все же прочие люди, как по своим природным качествам, так и по
стремлениям, не идут дальше чисто человеческого*б. Отсюда — вывод известного текста
«Государства»:
«Доколе философы не будут царствовать в государствах или те, кто ныне
именуются царями или династами, не начнут воистину и правильно
философствовать, так что философия совпадет с царской властью, пока не будет упразднено
нынешнее разделение того и другого, — нет спасения от зол ни государствам,
ни всему человеческому роду»* 7.
Единственно достойная человека форма общежития есть та, где царствует
правда божеская, а не человеческая. Вся философия Платона — не что иное, как
искание этого «вышнего города». В дальнейшем изложении мы увидим, как он
* Civitas, 1. II, 352. ,
** Ibid., 1.11, 367.
*** Ibid., 1. VII, 519.
**** Ibid., 1. VI, 488-489.
***** Ibid., 1. VI, 484. ' '
*6 Ibid., 1. VI, 497.
*7 Ibid., 1. V, 473; cp. 1. VI, 502.
429
его изображает и строит. Но прежде нам предстоит ознакомиться с его оценками
существующих форм общественной жизни. В этих оценках мы узнаем что-то
чрезвычайно нам близкое; это обусловливается тем, что Платон судил
действительность с точки зрения идеала, который для всех времен, а стало быть, и для нас,
олицетворяет цену и смысл жизни.
III
Кто смотрит на жизнь с этой высоты, тот не может не поражаться ее
чудовищными уклонениями от вечной ее цели. Это — картина всеобщего грехопадения,
а стало быть, и всеобщей бессмыслицы. Именно такова, с точки зрения Платона,
жизнь современных ему греческих государств. Все эти государства
представляются ему извращениями божественного первообраза, ступенями вырождения
некогда существовавшего идеального государства. И, так как строй государства
выражает собою настроение его граждан, всякие его уклонения от нормы отражают
в себе ступени грехопадения человеческой души*.
Настроение граждан определяется прежде всего теми ценностями, в которые
они влагают душу. Когда ценности условные, низшие подчиняются единому,
безусловному благу, в душе воцаряется правда, разум властвует над низшими
способностями, покоряет себе чувственные влечения. Соответственно с этим правда
овладевает государством, и в нем господствуют лучшие способности, а стало быть,
и лучшие люди. Напротив, когда душа начинает предпочитать условные,
чувственные блага единой истинной цели и ценности, тем самым расстраивается ее
внутренняя гармония: чувственность приобретает неподобающую ей власть над
разумом. И, водворившись в человеческой душе, неправда неизбежно завладевает
миром внешним, воцаряется в государстве. В нем также низменные, чувственные
влечения толпы приобретают неподобающее им господство над ясным разумом
немногих лучших людей. Вместе с душой государство погружается в область смерти
и тления.
Платон различает пять типов государства и, соответственно с этим, пять типов
человеческих настроений**. Из этих пяти мы оставим пока в стороне первый —
идеальное государство, которое составляет главный предмет нашего изучения,
и рассмотрим те четыре несовершенных типа, к которым Платон сводит
современные ему государства Греции.
Ближайшею к идеальному государству ступенью Платон считает тимокра-
тию: так называет он то государственное устройство, которое существует в
Спарте и Крите. Это — во всех отношениях сочетание добра и зла. Чистое влечение
к мудрости, господствующее в идеальном государстве, здесь сменяется
господством чести, страстью честолюбия и властолюбия. Власть из средства становится
целью. Тем самым, стало быть, утрачивается та высшая цель, которая составляет
смысл существования государства, и открывается дверь низшим, чувственным
влечениям. Ибо этому государству недостает лучшего хранителя и стража
добродетели — слова мудрости, сочетающегося с искусством. Государство, где
господствует страсть властолюбия, преувеличенно ценит грубую силу, презирает
Ibid., 1. VIII, 544.
Ibid., 1. VIII, 544.
430
искусства и науку, предпочитая им гимнастику. Поэтому оно не в состоянии
противопоставить достаточной силы сопротивления корыстолюбивым влечениям,
алчность к деньгам. Тимократия уклоняется от того коммунистического строя,
который господствует в государстве идеальном: в ней имущество, движимое и
недвижимое, составляет частную собственность. А вместе с частной собственностью
является и неизбежный ее спутник — раздоры между различными классами
населения, расстройство единомыслия. Развивается алчность, которая заставляет
ценить деньги более, нежели честь и доблесть. Полные золотом сокровищницы
господствующего класса — вот что губит тимократию*.
Когда высшею ценностью в государстве становится богатство, оно из тимокра-
тии превращается в олигархию. Это — государственное устройство, основанное
на цензе, то есть то, где источником власти становится богатство. Тут богатые
почитаются, превозносятся и избираются на государственные должности, а бедные
находятся в презрении. В страсти к наживе Платон видит основной источник
гибели государств. Чем больше ценится богатство, тем ниже падает в глазах людей
ценность доблести. Словно богатство и доблесть находятся на двух чашках весов
и тянут в противоположные стороны. И тут же обнаруживается роковое свойство
этого груза, влекущего в бездну. Богатство раскалывает человеческое общество
надвое. В олигархии мы имеем собственно не одно, а два государства, друг
другу чуждых и враждебных. Сожительствуя вместе, они находятся в вечном
заговоре друг против друга. Отсюда — немощь олигархии. Она не в состоянии вести
внешнюю войну, ибо одно из двух: или она вооружает против неприятеля ту
самую народную массу, которой она должна бояться более, нежели внешних
врагов, или же олигархи ведут войну без помощи бедных, то есть является на поле
сражения «воистину олигархами». Опасность олигархии заключается в том, что
пролетарий в ней — собственно не гражданин. Он живет в государстве, не будучи
составною его частью: ибо он — не капиталист и не ремесленник, не конный и не
пехотинец, а бедняк и нищий. «Одни здесь чрезмерно богаты, другие — вовсе
бедны».
В древнем обществе, жившем рабским трудом, пролетариат не обогащал
своим трудом государства, а, напротив, содержался на его счет. Неудивительно,
что Платону пролетарий представляется в виде трутня, который питается
чужим медом. Разница только та, что действительным, крылатым трутням
природа всем без изъятия не дала жала. Из трутней же бескрылых,
человеческих — одни без жала, другие же — с жалом. К первым относятся нищие, а ко
вторым — преступники. «Ясно, что в государстве, где мы видим нищих, есть
скрытые воры и резатели кошельков, и святотатцы, и всяких таких злых дел
мастера».
Параллельно с вырождением государства идет вырождение человека.
Олигархия воспитывает тип собирателя сокровищ; это — человек черствый, отовсюду
извлекающий выгоду: в душе своей он воздвигает престол корысти и похоти. Из
скупости он подавляет в себе те страсти, которые влекут к расточению собственного
имущества; но, когда представляется случай растратить чужое богатство, в нем
пробуждается природа трутня. Такой человек, очевидно, не чувствует
потребности в образовании и культуре; во всех состязаниях, касающихся искусства, он —
плохой борец, ибо не желает тратить денег ради почета и славы. В этих
особенностях душевного склада олигархии кроется зародыш ее смерти. Ее губит неумерен-
Ibid., 1. VIII, 545-550.
431
ное влечение к тому самому, что кажется ей высшим благом, — стремление к
богатству*.
Алчность несовместима с умеренностью. Где, с одной стороны, развивается
скупость, там возрастает, с другой стороны, зависть к чужому богатству: ибо
страсть к наживе в олигархии завладевает всеми, и богатыми, и впавшими в
нищету. Богатые собирают медь, а трутни оттачивают свое жало. Воспитанные в
таком настроении, богатые и бедные приходят в соприкосновение друг с другом.
Они встречаются на общественных зрелищах, как спутники в путешествиях
и плаваниях, как соратники в сражениях, среди опасностей. В этих встречах
бедные не ударят лицом в грязь перед богатыми. Напротив, когда худосочный,
прожженный солнцем бедняк сражается бок о бок с тучным, привыкшим к тени и
холе богатым и видит, как тот изнемогает и задыхается, разве в нем не зарождается
мысль, что эти люди пороками богатеют? И тут же бедняк возвещает бедняку, что
«наши, мол, господа ничего не стоят»**.
Как и всякий болезненный организм, такое общество заболевает смертельным
недугом при малейшем поводе. Для этого достаточно, например, чтобы часть
граждан призвала на помощь соседнюю демократию или другая часть —
соседнюю олигархию. Междоусобие может начаться и само собою, без вмешательства
извне, и в результате олигархия переходит в демократию. «Демократия
возникает, когда бедные, одержав победу, прочим же дают равные с собою гражданские
права и одинаковое участие во власти»***. Устройство и образ жизни демократии
таковы.
Прежде всего, она преисполнена свободы как в действиях, так и в речах:
«каждый в ней может делать все, что ему угодно». Здесь всякий устраивает себе жизнь
по вкусу, а потому в демократии встречаются самые разнообразные типы людей.
Неудивительно, что из всех форм государственного устройства она кажется
наипрекраснейшею. Подобно пестрому платью, украшенному всевозможными
цветами, она пестрит всевозможными нравами. Оттого она так и нравится любителям
пестроты. Благодаря безграничной свободе демократия представляет собою как
бы рынок всевозможных образцов правления. Кто занят вопросом о наилучшем
устройстве государств, тот должен идти учиться в демократию: там найдутся
образцы на всякий вкус.
«В этом государстве совершенно не нужно подготовки к управлению, если
желаешь управлять; нет надобности быть управляемым, если не желаешь
подчиняться, ни воевать, когда воюют другие, ни заключать мир, когда другие его
заключают. Если там закон тебя устраняет от участия в суде и власти, ты можешь
тем не менее, если угодно, судирь и властвовать. Это ли не приятная и
божественная жизнь?»
«Чем не прекрасна милость к осужденным! Не встречал ли ты когда в этом
государстве людей, присужденных к смертной казни или изгнанию, которые тем не
менее остаются и вращаются в его среде, величаясь как герои, словно никто того
не замечает и о том не заботится?» Кто умеет ладить с народом, тот может все
попирать ногами. Таковы преимущества демократии: это — «образ правления
приятный, анархический (άναρχος)^ пестрый, дающий в известном смысле
равенство равным и неравным»****.
* Об олигархии вообще см. 1. VIII, 550-555.
** Ibid., 556. ■ ;
*** Ibid., 557.
**** Ibid., 557-558.
432
В процессе падения человека демократия представляет собою новый и
крупный шаг. Олигархия олицетворяет собою господство сдержанной страсти: из
бережливости олигарх воздерживается от тех удовольствий и излишеств, которые
могут подорвать его благосостояние. Напротив, в демократии исчезает всякая
узда. Демократический тип, в отличие от олигархического, это — тот
расточительный сын, который идет на смену скупому отцу. Это — человек, который ни в чем
себе не отказывает, отдается господству всякой страсти; он то предается
пьянству и игре на флейте, то симулирует философа, то бросается на ораторскую
трибуну, изображая государственного человека, то предается стяжанию. Это прежде
всего — пестрый человек, столь же пестрый, как и само демократическое
устройство.
Ясно, что демократия содержит в себе зерно своей гибели. Как и олигархию, ее
губит ненасытная жажда того самого, что в ней почитается как высшее благо.
За такое безусловное благо в демократии признается свобода. Опьяненная сверх
меры вином свободы, демократия восстает против властей; она казнит их как
преступников и «олигархов», если они кажутся недостаточно мягкими и пытаются
ограничивать свободу.
Как нервны становятся здесь граждане! Малейший намек на кажущееся
рабство приводит их в ярость. Они не стесняются ни писаными, ни неписаными
законами, лишь бы никто и никоим образом не был им повелителем. Тех, кто
повинуется властям, они презирают как раболепствующих и ничего не стоящих; тех же,
кто равняет правителей с управляемыми и управляемых с правителями, они
прославляют и почитают. В демократии отец равняется с сыном и боится его, и дети
равняются с родителями, не стыдясь их и не почитая, «дабы быть свободными».
«Учителя боятся учеников и льстят им, ученики же презирают учителей и вообще
педагогов. Молодые вступают в соревнование со старцами, равняясь с ними в
словах и в делах. Старцы же снисходят к молодым, обращаясь к ним с шутками и
веселыми речами, подражая им, дабы не показаться суровыми и деспотичными».
Нечего и говорить, что между мужчинами и женщинами здесь господствует
полное равноправие. Нравы стирают самую грань между рабами и свободными.
«Насколько самые животные в этом государстве свободнее, чем в других, этому не
поверит тот, кто не убедится из опыта. Самые собаки становятся подобными их
господам, ослы же и лошади приучаются выступать важно и свободно, сталкивая
того, кто не уступит им дороги»*.
Чтобы влиять и властвовать в демократии, нужно кадить толпе. Поэтому здесь
создается атмосфера всеобщей лести. И так как угождает массам
преимущественно тот, кто льстит их низменным, животным инстинктам, то народопоклонство
неизбежно вырождается в зверопоклонство. В этом Платон видит сущность
демагогии современных ему софистов.
Все положения их учения «сводятся к мнениям толпы, которые она
высказывает, собравшись вместе, и это они называют мудростью. Положим, кто-либо
изучил движения гнева и страсти какого-либо большого, сильного и хорошо
упитанного дикого зверя, как к нему подходить, как с ним обращаться, чем и как
привести его в ярость и успокоить, какие он издает при каждом случае звуки,
какими звуками он укрощается или приводится в бешенство. Представим себе, что
человек, изучивший все это долгим опытом, при большой затрате времени,
назовет это мудростью; допустим, что он;возведет свои наблюдения в науку и построит
Ibid., 561-563.
433
из них учение, не различая в этих звериных мнениях и страстях, что хорошо и что
дурно, что правда и что неправда, а назовет, сообразно со вкусом зверя, добром то,
что нравится последнему, а злом — то, что ему неприятно»*. В этом, по мнению
Платона, — самая сущность учения софистов.
Таким образом, в демократии создается атмосфера всеобщего взаимного
развращения. Софисты развращают толпы; но и она сама, в свою очередь,
развращает, ибо создает величайший соблазн — признавать истинным и прекрасным все то,
что ей нравится, чему она аплодирует. Те истинные учители мудрости, которые,
наперекор софистам, решаются противоречить площадным вкусам, подвергаются
жестоким преследованиям. Им угрожает потеря гражданских прав, денежные
взыскания и даже смертная казнь**.
Крайности соприкасаются; а потому неудивительно, что демократия таит в
себе зародыши жестокой тирании. «Как в отдельном индивиде, так и в государстве
чрезмерная свобода превращается не во что иное, как в чрезмерное рабство»***.
Переход этот совершается таким образом. В демократии есть три разряда
людей; это, во-первых, те, кто в ней фактически господствует, — демагоги. «Из них
те, кто повострее, говорят и делают; прочие же сидят вокруг ораторских трибун,
шумят и не допускают, чтобы кто-либо говорил наперекор, так что, за немногими
исключениями, в этом государстве все управляется этого рода людьми». Другой
разряд — богатые, составившие состояние благодаря бережливости. Это —
собиратели меда, то, что называется «пища для трутней».
Третий разряд — это демос, состоящий частью из людей, живущих личным
трудом, частью из безработных; это самый многочисленный и самый
могущественный в демократии класс, когда он собирается. Но собирается он не часто,
разве только для добычи меда. Он его и добывает всякий раз, когда вожди
народные могут отнять у имущих их состояние и разделить его между народом,
удержав большую часть в свою пользу. Те же, кто подвергается экспроприации,
вынуждены защищаться, как могут, обращенными к народу речами и делами.
Даже когда они не стремятся к новшествам, их противники обвиняют их в
кознях против народа и в олигархическом образе мыслей. В конце концов, когда
они видят, что народ, нападая на них не по злому умыслу, а по невежеству,
вследствие обмана клеветников, творит над ними неправды, они уже
волей-неволей становятся олигархами. К этому вынуждает их тот трутень, который их
жалит.
Начинаются обвинения, суды и брани. В борьбе против богатых народ
обыкновенно выбирает себе в вожди кого-нибудь одного, которого он возвеличивает
и лелеет. Покровитель народа — вот тот корень, из которого рождается тиран.
На нем сбывается сказание о Ликаоне2, который, отведав человеческих
внутренностей, превратился в воЛка. Повелевая послушному народу, он не
стыдится убивать своих сограждан, тащит их в суды, возводя лживые обвинения,
оскверняет их кровью язык и нечистые уста, казнит, изгоняет, сулит прощение
долгов и раздел земель. «Разве не ясно, что после этого такому человеку
надлежит быть или убиту врагами, или же превратиться в тирана и стать из
человека волком!» >
Противникам его остается, действительно, ради самосохранения или
судебным порядком добиться его казни, или же убить его тайком. Но против этого есть
* Leges, VI, 493. '
** Ibid., 492.
*** Leges, VIII, 564.
434
испытанное средство, обычный тиранический прием: «покровитель народа
требует у него телохранителей. И народ дает ему стражей, опасаясь за него и не
заботясь о самом себе. Этим полагается начало той системе террора, которая
превращает народного вождя в неограниченного властителя. Властью своей он
пользуется, разумеется, прежде всего для того, чтобы истребить или изгнать всех
своих врагов.
В первые дни своего владычества он всем улыбается и всякого встречного
ласкает, отрекается от имени тирана, дает множество обещаний в частных
разговорах и публично, освобождает от долговых обязательств, наделяет народ землями,
старается казаться милостивым и кротким с окружающими и со всеми. Покончив
с внешними врагами, примирившись с одними, истребив других и обеспечив
с этой стороны спокойствие, он снова возбуждает войны, дабы народ нуждался
в вожде. Это нужно и для того, чтобы народные массы, доведенные до бедности
войной, были поглощены заботами о хлебе насущном и не имели досуга
злоумышлять против правителя».
Чтобы упрочить за собою власть, тиран должен истребить все выдающееся,
независимое, свободомыслящее. «Проницательным взором он должен распознать,
кто храбр, кто великодушен, кто мудр, кто богат. Хочет он или не хочет, он
вынужден быть всем этим людям врагом и злоумышляет против них, доколе он не
«очистит» государства. Это — очищение, противоположное тому, которому врачи
подвергают организм: они удаляют из него худшее и оставляют лучшее; он же,
тиран, поступает наоборот. Иначе он не может властвовать. Он связан счастливою
необходимостью или сожительствовать с ничтожным большинством, будучи даже
ему ненавистным, или же отказаться от жизни. И чем больше он возбудит против
себя ненависти среди граждан такими делами, тем больше он будет нуждаться
в многочисленной и верной охране.
Рано или поздно он окружит себя телохранителями-рабами, коих он
освободит, отняв их у господ. Граждане станут рабами своих рабов. И узнает тогда
народ, «какое чудовище он родил, взлелеял и вырастил»*.
Гражданское рабство в тирании представляет собою лишь внешнее проявление
внутреннего порабощения духа. Достигая крайнего своего завершения в тирании,
это порабощение начинается еще в демократии. Свободная душа есть та, в которой
специфически человеческое начало — разум — властвует над чувственной,
животной природой. Когда это нормальное отношение извращается, когда во
внутреннем мире человека воцаряется зверь, мы имеем уже не свободную, а рабскую
душу. Это — то самое извращение человеческой природы, которое совершается
в демократии и завершается в тирании. В каждом человеке, даже в тех из нас,
которые кажутся умеренными, таится страшное, дикое, звероподобное начало. Это
обнаруживается во сне, когда разумная, кроткая и господствующая часть души
погружается в дремоту. Тогда, освободившись от контроля разума, пробуждается
в нас звериная природа; отрешаясь от всякого стыда, она дозволяет себе всякую
дерзость. В состоянии сонного опьянения совершенно исчезает грань между
дозволенным и преступным: тут человеку ничего не значит совокупиться с
матерью, с каким-либо другим человеком, скотом или божеством, убить кого бы то ни
было. Ни от какого питья, безумия и бесстыдства он не воздерживается.
Это превращение, совершающееся в нормальном состоянии только во сне, в
тирании происходит наяву. Более того, тут, подчиняясь неограниченному господст-
Ibid., 563-568.
435
ву животного, чувственного эроса, человек становится наяву таким, каким он
раньше и во сне не бывал, — вором, святотатцем, торговцем невольниками,
отцеубийцею.
Появление этого типа подготовляется в демократии: здесь люди приучаются
забывать всякую меру и видят в нарушении всякого закона совершенную свободу.
Но совершенное беззаконие, совершенный произвол и есть то, что составляет
сущность тирании. Душа человека становится тираническою, когда она окончательно
освобождается от всякого удержа и преисполняется безумием. Тиранический
темперамент есть некоторого рода сочетание опьянения, чувственной похоти (эроса)
и меланхолии.
Тираническая природа, пока она не достигнет власти, представляет собою
обыкновенный тип преступника. Это — ненасытная, рабская душа; она
находится под тираническою властью аффекта и, следовательно, никогда не бывает
свободна, никогда не делает того, что хочет. Такие люди воистину несчастны, ибо
живут под вечным гнетом тревоги и страха. Нет на свете человека, который должен
был бы более бояться всего и всех, чем эти ненавистные всем злодеи. Но
несчастнейшим из несчастных является злодей, достигший тиранической власти: он —
первая жертва той системы всеобщего террора, которая дает ему возможность
царствовать; среди враждебных ему подданных, он, спасая свою жизнь, живет
как бы в темнице: ему одному во всем государстве нельзя ни путешествовать,
ни наслаждаться зрелищами, подобно прочим свободным людям. Запершись
в стенах своего жилища, он должен завидовать своим подданным*.
IV
Вглядываясь в изображенную здесь картину грехопадения греческого
государства, мы убеждаемся, что, несмотря на расстояние столетий, отделяющих нас от
древности, многие из ценностей древнего общества, а равным образом и оценки
Платона, до сих пор не отжили свой век.
Теперь, как и тогда, безмерная жажда накопления богатств является
сильнейшим двигателем общественной жизни, жизненным принципом
капиталистического строя. Теперь, как и тогда, государство цензовое, олигархическое таит в
своих недрах как бы два государства, друг другу враждебных и противоположных, —
богатых и бедных. Теперь, как и прежде, обостренная классовая борьба рвет на
части государство и, разрушая патриотизм, угрожает его целости. По-прежнему эта
борьба делает неизбежным переход от цензового, олигархического
государственного строя к демократии. В современных демократиях мы видим тот же культ
свободы, беспредельной, не терпящей никаких ограничений. И так же, как в дни
Платона, крайность безмерной свободы склонна вырождаться в безграничный,
анархический произвол; она легко переходит в противоположную себе крайность
безграничного рабства и деспотизма. Тирания была естественным концом
греческой демократии; но так же и демократия современная таит в себе зародыши
диктатуры в монархической форме. Народопоклонство, переходящее в зверопоклон-
ство, софистическая демагогия, основанная на лести и боготворении пороков
толпы, грабеж, экспроприация, конфискация и раздача земель, хулиганская вол-
Leges, IX, 571-579.
436
на, выносящая на себе тиранию, террор демократический и террор
монархический, тиран, который устрашает и сам дрожит от страха, живя узником в своем
дворце, — все это неумирающие чудовища, общечеловеческие типы,
встречающиеся в самые разнообразные эпохи.
С исторической сцены исчезли те специфические особенности греческого
государства, с которыми нам еще придется считаться при анализе государственного
идеала Платона. Рабство, все еще не упраздненное окончательно, изменило свои
формы и из личного стало классовым. Государство-город погребено под
развалинами Древней Греции. Изменил свою природу и национализм: современный
национализм, оставаясь крупным фактором политической жизни, уже не
определяет собою, как в Древней Греции, всего бытового уклада государства. Он
существенно отличается от национализма греческого, лишавшего всех неэллинов
гражданских прав и смотревшего на них как на варваров — рабов по природе.
Наконец, в отличие от государств древних, государство современное уже не
является религиозным союзом. Религиозные цели преследуются уже не им, а безусловно
отличным от него, самостоятельным обществом верующих — церковью. И тем не
менее сущность общественного греха, сущность уклонения общественной жизни
от ее конечной цели и смысла в общем осталась та же. Все те же языческие идолы,
до сих пор не пережитые, продолжают собирать вокруг себя поклонников и давать
тон общественной жизни.
«Идолы» (είδωλα) — я заимствую это выражение у Платона. Идолами он
называет именно возведенные в абсолют относительные, условные ценности жизни,
обманчивые подобия добра и красоты, которые люди принимают за подлинное,
безусловное, добро и красоту*. «Идол» — по-гречески значит то просто образ,
то обманчивый образ, призрак, привидение. Говоря об идолах толпы, Платон
подразумевает именно те призраки, которым она поклоняется. Современная
действительность представляется ему царством призраков. И корень этого
идолопоклонства он видит во всеобщем усыплении духа.
В общественном сознании происходит та самая подмена подлинного,
воображаемым, призрачным, которая совершается во сне. Грезить во сне или наяву значит
принимать подобие предмета за самый предмет: грезят, стало быть, и те, кто
принимает видимость добра и правды за самое добро и самую правду. В
действительности существует лишь единое добро, единая правда. Но для большинства людей,
которые смотрят на действительность сквозь обманчивую, чувственную призму,
это единство идеи раздробляется на множество разнообразных явлений. В глазах
обыкновенных любопытных — людей практики и ремесленников — единое благо
подменивается множеством конкретных благ. «Люди, жадные до зрения и слуха,
услаждаются красками, образами и всем тем, что из них составляется; но их
разум бессилен созерцать самую природу красоты и услаждаться ею. Среди
множества спящих редки истинно бодрствующие, те философские природы, которые
в состоянии воспринимать единство безусловного»**. Отсюда — та погоня за
многими конкретными благами, которую мы видим в извращенных государствах,
замена безусловного добра честью в тимократии, золотом в олигархии,
безграничной свободой в демократии и безграничным произволом в тирании. То озверение
человека, которым завершается этот сор, составляет логическое последствие раз-
См., например, Convivium, 212.
Civitas, 1. V, 476.
437
двоения жизни, расторжения связи между духом и телом, господства плоти и
плена мысли.
Это раздвоение и этот плен, меняя формы, в существе своем во все века — одни
и те же. Вот почему, читая «Государство» Платона, так часто приходится
вспоминать латинскую пословицу: mutato nomine, de te fabula narratur3.
V
Задачи идеального государства
В седьмой книге «Государства» Платон в ярком сравнении подводит итог
своим наблюдениям над земной жизнью человеческой личности и общества.
Представьте себе глубокое подземелье, с узким выходом к свету во всю его
длину. Пещера наполнена людьми, узниками, которые томятся в ней с детства:
они прикованы за ноги и за шею спиною к выходу, так что не могут ни
двинуться с места, ни повернуть головы. Вдали и сверху над выходом, стало быть,
позади узников светит огонь. Вдоль пути, ведущего к огню, возвышается невысокая
стенка, подобная тем ширмам, над которыми фокусники показывают зрителям
свои фокусы. Над стенкой сзади пленников люди проносят различные предметы
и фигуры — статуэтки людей и животных, причем из проходящих одни говорят,
другие же молчат. Узники не видят ни выхода, ни огня, ни проходящих сзади
людей, ни проносимых ими предметов. Они могут созерцать только заднюю
стену пещеры, а на ней — тени предметов, проносимых между ними и светом.
Не видя в течение всей своей жизни ничего, кроме этих теней, они очевидно
будут принимать тени за самые предметы, за подлинную действительность. Если
они услышат эхо от задней стены, повторяющее голоса проходящих сзади,
невидимых для них людей, им естественно покажется, что говорят движущиеся на
стенах тени: они ничего не будут признавать истинным, кроме этих теней и этих
отражений звука.
Если мы внезапно раскуем узника, заставим его выпрямиться во весь рост и
повернуться к свету, мы причиним ему боль. Ослепленный ярким светом, он не
будет в состоянии распознавать тех предметов, коих тени он прежде ясно видел. Что
же ответит узник тому, кто скажет, что раньше он видел пустяки, а теперь видит
подлинно сущее? Не сочтет ли он, что именно теперь его обманывают, а что
виденное раньше было истиною? Есци же кто заставит его разом пройти весь трудный
скалистый путь из пещеры и вытащит к свету солнечному, он испытает муку,
вознегодует на влекущего и потеряет окончательно способность зрения.
Нужна привычка, постепенное воспитание, чтобы сделать узника способным
смотреть вверх. Сначала ему всего легче распознавать тени, потом отражения,
подобия (είδωλα) людей и других предметов в воде; потом он уже может обратиться
к самим предметам; засим он устремит свой взор к тому, что на небе, рассматривая
самое небо ночью, созерцая месяц и звезды. Наконец, он будет в состоянии видеть
уже не отражение солнца в воде, не изображение его в чем-либо другом, но самое
солнце, само в себе и на своем месте. Тогда ему откроется, что от солнца идут смены
времен дня и года, что солнце в виДимом мире всем управляет, будучи некоторым
образом всему причиною. И, вспомнив о прежнем жилище, о товарищах по узам
и о тамошней мудрости, он почтет себя блаженным, а к тем восчувствует жалость.
438
Там среди узников доставались почет и хвалы в удел тому, кто яснее других
распознавал и удерживал в памяти тени; но душа, вырвавшаяся из плена, не
почувствует зависти к наиболее почитаемым и властвующим в пещере: она
выскажется о них так, как говорит Ахилл в стихах Гомера о своем пребывании в аду:
«Лучше поденщиком быть и возделывать поле чужое,
Быть в услуженьи у бедного, скудно живущего мужа,
Чем надо всеми погибшими властвовать здесь мертвецами».
Есть два рода ослепления: есть ослепление толпы — тех низменных природ,
которые не могут созерцать солнечного света без помрачения взора. Другое дело —
ослепление истинного философа. Человек, привыкший к созерцанию солнечного
света, испытывает этот недуг, когда возвращается в пещеру. Он не сразу
овладевает своим зрением; пока он не привыкнет снова распознавать тени, он дает повод
к насмешкам: говорят, что из своего путешествия кверху он вернулся с
поврежденными глазами и что не стоит предпринимать новых восхождений: так, что
всякого, кто попытается других расковать и вывести на свет из мрака, узники убьют,
если только смогут наложить на него руки.
Такова противоположность межу нашим земным жилищем и тем немыслимым
миром, куда надлежит держать путь душе, чтобы найти себе достойное
местопребывание. Солнце этого мыслимого мира — его вершина — есть идея блага. «Она
с трудом дается созерцанию. Но, увидав ее, должно судить о ней, как о причине
всего справедливого и прекрасного. В видимом мире она — свет и источник того,
что им управляет. В мире же мыслимом она — владычица (κυρία) — источник
истины и разума. На нее должен устремлять свой взор всякий, кто хочет разумно
действовать в частной и общественной жизни»*.
* * *
Этими словами определяется сущность той задачи, которую Платон пытался
разрешить в своем «Государстве». В блестящей и глубокомысленной статье
В. С. Соловьева «Жизненная драма Платона» мы находим, к сожалению, довольно
поверхностное суждение об этой задаче. По мнению Соловьева, «так как
настоящее, глубокое исправление и полная помощь — через перерождение человеческой
природы — оказались ему (Платону) не по силам, то он берет более поверхностную,
но зато и более доступную задачу — преобразование общественных отношений».
Что, вопреки Соловьеву, дл^ Платона идет речь не о преобразовании только,
а о полном перерождении человеческой природы, это видно даже из
заключительных слов только что приведенного текста. Нужно покончить с неправдой жизни
частной и общественной, осуществить в ней безусловное добро. Иначе говоря,
надо расковать узника и возвести его из темницы на самую вершину мира
мыслимого: всем сердцем и умом он должен прилепиться к идее блага. Это ли не полное
перерождение человеческой природы? Чтобы не оставить в этом ни малейшего
сомнения, Платон так поясняет с1вое сравнение земной жизни с пещерою:
«Сказанное теперь значит, что, как глаз (пленника) не может повернуться от
мрака к свету иначе, как вместе со всем телом, так же и присущая душе каждого
сила и орган познания должен обраФиться вместе со всей душой от того, что рож-
Leges, Vil, 514-517.
439
дается, доколе душа не станет способною выносить созерцание истинно сущего
и притом самой светлой его точки: это, как мы уже сказали, есть благо»*.
Иначе говоря, Платон требует, чтобы человек совершил поворот от мира
тленного к безусловному, сверхчувственному благу всей душою. В «Государстве» это —
не какая-либо случайная обмолвка, а основная мысль всего диалога. Весь
социальный и политический строй идеального государства должен выражать собою
этот поворот души. Вспомним, что все «Государство» — не что иное, как трактат
о правде-справедливости; а сущность правды именно в том и заключается, чтобы
как в человеческой душе, так и в общежитии бессмертное начало господствовало
над смертным. Для этого требуется полное перерождение действительной жизни,
где между духом и телом существует как раз обратное отношение.
В дальнейшем изложении нам придется убедиться в негодности тех средств,
которыми Платон думал воспользоваться для разрешения поставленной им
жизненной задачи. Но пока мы можем оставить вопрос о средствах в стороне. Нам
предстоит выяснить самую задачу, самую цель личной и общественной жизни,
как ее понимал Платон.
Для философа, который считает существующие формы общественной жизни
основанными на неправде, возможно двоякое отношение к окружающей его
действительности: или бегство от мира, или попытка преобразовать мир. С самой
кончины Сократа в душе Платона боролись оба эти стремления.
Говоря словами Соловьева, трагизм этой кончины для Платона состоял «в том,
что лучшая общественная среда во всем тогдашнем человечестве — Афины — не
могла перенести простого, голого принципа — правды; что общественная жизнь
оказалась несовместимой с личной совестью; что раскрылась бездна чистого,
беспримесного зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась
единственным уделом, а жизнь и действительность отошли ко злу и лжи. Как же жить
в этом царстве зла, жить там, где праведник должен умереть?»**.
Казалось бы, для верного Сократу ученика бегство от мира являлось
неизбежным. «Платон, — говорит Соловьев, — должен был по убеждению бежать от мира;
с этим связалось бегство по принуждению из родного города. Он поселяется на
несколько лет в Мегаре с другими сократовцами и вдали от всяких дел предается
чистой теории, математическим и диалектическим задачам и упражнениям»***.
Однако бежать в Мегару еще не значило бежать от мира. Весь изложенный
выше Платонов анализ форм действительной жизни указывает, что для бегства от
мира в его дни был только один-единственный путь — смерть. У древнего
греческого философа, в отличие от христианских отшельников, не было монастыря.
Поэтому здесь, в этой жизни ему бежать было некуда. Диалектические и
математические упражнения, очевидно, не спасали от мира: наполняя ум, они оставляли
нетронутым сердце. Их одник было совершенно недостаточно, чтобы осуществить
тот поворот всего человеческого существа к умопостигаемому солнцу, о котором
говорит «Государство». Для души Мегара, очевидно, была не лучшей темницей,
чем Афины.
Отсюда естественный соблазн — освободиться от «темницы» самым прямым
и радикальным способом. «Есть повод догадываться, — говорит Соловьев, — что
и Платону являлась мысль о самоубийстве»****. Соловьев не высказывает своих
* Ibid., 1. VII, 518.
** Соловьев, собрание соч., т. VIII, ctÎ>. 266.
*** Ibid., стр. 271.
**** Ibid., стр. 268.
440
оснований; но догадка оправдывается текстом «Федона», того самого диалога,
который повествует о смерти Сократа. Тут мы видим, что мысль о самоубийстве
обсуждалась Платоном именно в связи с этой смертью. Для философа тело —
только помеха. Смерть — венец всех его жизненных стремлений. Таков смысл
предсмертных речей Сократа в «Федоне» — той радостной «лебединой песни»*,
которую он поет за несколько часов до своей кончины. Но, высказав мысль о
желательности смерти для философа, Сократ тотчас спешит прибавить оговорку:
«однако он сам не наложит на себя руку; ибо, как говорят, это недозволено»**.
И на вопрос собеседника, почему недозволено, он отвечает: «в самом деле, тебе
кажется удивительным, что людям, которым лучше умереть, не подобает самим
себе причинять смерть, а надлежит ждать другого благодетеля. Однако мы во
власти богов, которые о нас пекутся, и составляем их собственность. Посему
надлежит убивать себя не иначе, как если бог нас к тому вынудит, как в настоящем
случае»*** (Сократ разумеет необходимость выпить яд по приговору афинских
судей).
Отсюда ясно, что идеализм Платона с самого начала не был таким отрешенным
от жизни, как думает Соловьев. Поставленный смертью Сократа вопрос о
самоубийстве тотчас решается для него в том смысле, что человек прикреплен к своей
земной темнице своим провиденциальным назначением — тем делом, которое он
должен совершить в качестве собственности божества; тут Платон сравнивает
самоубийство с бегством неразумного раба от доброго господина****.
Характеризуя точку зрения, выразившуюся в «Федоне» и других диалогах той
же эпохи («Горгий», «Менон», 2-я книга «Государства», «Кратил», «Таэтет»,
«Парменид»), Соловьев говорит между прочим:
«Если этот идеализм, держащийся на почве противоположения между
умопостигаемой областью истинно сущего и обманчивым потоком чувственных
явлений как «несущего», куда всецело относится всякая житейская и
общественная практика, — если такую отрешенную точку зрения прямо сопоставить
с последующими стремлениями Платона к социально-политическим
преобразованиям, с его упорными попытками не только определить истинные нормы
общественных отношений, но и воплотить эти нормы в устройстве
действительного образцового государства, то представляется явное противоречие,
непроходимая пропасть»*****.
В действительности, непроходимой пропасти между диалогами Платона не
существует. Соловьев упустил из вида то существенное различие между
динамическим идеализмом Платона и отрешенным идеализмом его друга Евклида,
основателя мегарской школы, против которого Платон полемизирует уже в «Софисте».
Мегарская школа учила, что иде!и совершенно отрешены от движущейся области
явлений, а потому безусловно чужды движению. Напротив, для Платона
божественная идея есть движущая сила, которая проникает в явления и действует в них.
В «Софисте» он возражает мегарцам, что, если бы идеи были неподвижны, они
были бы непознаваемы, безжизненны и неразумны. Познавать — значит
действовать на познаваемое. Если мы познаем идеи, то, стало быть, они находятся по
отношению к познающему уму в страдательном состоянии, движутся по отношению
* «Лебединая песнь» — подлинная характеристика самого Платона, в «Федоне».
** Ibid., 61.
*** Ibid., 62. '
**** Ibid.
***** Собрание соч., VIII, стр. 271-272.
441
к нему. В качестве совершенного бытия, святого и ценного, идеи живут, мыслят
и движутся*.
В «Федоне» Платон прямо изображает их, как движущиеся причины
вселенной, объясняет ими ее целесообразное устройство: рассуждение об идеях здесь
начинается словами: нам «надлежит исследовать причину возникновения и
уничтожения»**. Тут же высказывается сочувствие мысли Анаксагора, что разум есть
устроитель вселенной и причина всего генезиса; здесь же мы находим упрек
Анаксагору за то, что, при объяснении явлений, он не делает из выдвинутого им
разумного начала никакого употребления, а становится на материалистическую
точку зрения, не дающую возможности понять целесообразного устройства
существующего, его смысла***. И, наконец, Платон формулирует свое заключение,
что есть нечто само по себе прекрасное и благое, что служит воистину причиною
(αίτια)****. Короче говоря, это — та самая идея блага, которая, как мы видели
выше, признается в «Государстве» причиною всего прекрасного и справедливого
и источником света в мире видимом.
Переход от «Софиста» и «Федона» к «Государству» таким образом ясен. Точка
зрения «Государства» представляет собою не что иное, как дальнейшее развитие
начал, выраженных в двух первых диалогах, прямой логический вывод из них.
Если идеи вообще и в особенности идея блага суть двигатели всего
существующего, начало целесообразного устройства вселенной, то им подобает быть
двигателями также в личной и в общественной жизни человека. Они и здесь должны
явиться, как живые силы.
Если в «Федоне» Провидение положительно воспрещает философу
самоубийство и предписывает ему ради какого-то благого дела не расставаться с телом,
доколе его не освободит божество, то «Государство» прямо выясняет, в чем
заключается это дело философа на земле. Это дело — само наилучшее общежитие: «ибо в нем
будут господствовать воистину богатые — не золотом, а тем, чем подобает быть
богатым блаженному, — благою и разумною жизнью; если же нищие и алчущие для
себя частных благ приступят к общественному служению с целью урвать оттуда
себе благо, то это недозволительно. Ибо, раз власть станет предметом спора,
начнется внутренняя, домашняя война, которая погубит как их самих, так и прочее
государство»*****.
Богатство и бедность! Мы помним, что это — тот самый контраст, из которого,
по учению Платона, рождается любовь, эрос, посредник между небом и землею.
Теперь мы видим, что эта самая посредническая задача в «Государстве»
вменяется в обязанность философу. С небесной высоты умозрения он должен снизойти
к бедным и уделить им от своего богатства. Как мог Соловьев утверждать, что
в «Государстве» Платон отступил перед своей высшей жизненной (эротической)
задачей! Это значит игнорировать в преобразовательных планах философа самую
их сущность!
В дальнейшем изложении мы увидим, в чем заключаются философские
противоречия утопии Платона. Пока же для нас ясно, что у Соловьева они изображены
не совсем точно.
* Sophista, 248-249. Ср. Zeller, Die Philosophie d. Griechen, II Th., 1 Abth., 3 Aufl., 218-219;
574-584.
** Phaedo, 95.
*** Ibid., 97-98. >
**** Ibid., 100.
***** Civitas, 1. VII, 521.
442
VI
Государство, управляемое философами! Вот мысль, которая в наши дни
кажется наиболее странною, парадоксальною: теперь, как и в дни Платона, она
продолжает служить темою для насмешек. В лучшем случае она прощается
Платону как чудачество, юродство гения. Едва ли многие считают идею
философского государства заслуживающей серьезного внимания. Между тем эта «причуда»
уже потому требует обстоятельного анализа, что она неразрывно связана с самой
сущностью платонизма, с теми ценными его сторонами, которые никогда не
утратят значения.
Платон сам отдавал себе ясный отчет в парадоксальности своего тезиса, знал
все вызываемые им возражения и насмешки, начиная с указаний на полную
непрактичность философа, на его неприспособленность к общественной
деятельности. И, странное дело, те, кто в наше время повторяют эти насмешки, сами того не
зная, большею частью заимствуют их из произведений самого Платона. Так,
например, именно благодаря Платону мы знаем классический, оставшийся до
нашего времени ходячий анекдот о Фалеев: он был осмеян фракийской рабыней за то,
что, наблюдая звезды на небе, свалился в колодезь. Отсюда же взято вошедшее
в поговорку изречение: «философ хочет видеть то, что на небе, и не замечает
ближайшего, что у него под ногами»*.
В «Таэтете» и в «Горгии» дается также изображение философа. С юных лет он
не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место
публичных собраний. Законы и постановления ему неизвестны, участвовать в
каких-либо союзах, собраниях, политических обедах и добиваться власти ему не
грезится и во сне: «в действительности он живет и вращается в государстве
только телом; ум же его все это мало оценит и ни во что не ставит; но, говоря словами
Пин дара, он всюду проникает, измеряя недра земли и то, что над нею, возносится
над небом, изучая астрономию, везде исследует природу сущего и не спускается
к близлежащему». Понятно, что философ, ничего не смыслящий в земных,
рабских делах, не умеющих завязать своего дорожного мешка, ни приправить
кушанья, ни произнести льстивую речь, возбуждает насмешки своею беспомощностью.
Но это юродство и беспомощность в житейском обусловливается тем, что он
влагает душу в высшую мудрость; он один обладает тем знанием правды, которое
возносит его высоко над царями. Если бы все думали как он, среди людей царил бы
мир и было бы меньше зол на земле. Но зло не может уничтожиться; ибо
противоположное добру по необходимости должно существовать всегда. Однако оно не
может иметь место среди богов, а в силу необходимости преисполняет смертную
природу и эту жизнь. Поэтому нужно стремиться как можно скорее «бежать отсюда
туда». Бегство заключается в возможном уподоблении божеству; уподобление же
состоит в том, чтобы становиться праведным и святым согласно с разумом**.
По-видимому, эта проповедь «бегства от мира» в «Таэтете» находится в полном
противоречии с позднейшим требованием — господства философа над
государством в «Государстве». Там проповедуется как раз то, что, по словам «Таэтета», «не
грезилось философу и во сне». Одоако пропасти между двумя диалогами и тут не
существует. В действительности мы имеем дело не столько с противоречием
между двумя диалогами и двумя эпохами жизни Платона, сколько во внутреннем про-
* Theaetetus, 174.
** Ibid., 173-176; ср. Gorgias, 484.
443
тиворечии всей его философии, проникающем всю его литературную
деятельность после смерти Сократа. Уже в «Таэтете» сталкиваются два непримиренные
требования — бегства от мира и осуществления философского идеала в мире. Уже
здесь высказывается мысль о необходимости деятельной борьбы против
общественного зла. Нельзя допускать, говорится здесь, чтобы неправедный и нечестивый
превозмогали своим лукавством: ибо они величаются своим срамом и считают
себя не пустыми болтунами, не бременем земли, а людьми, коим подобает спасаться
в государстве. Изобличение — им самим на пользу: ибо они не знают, что
истинное наказание — не удары и не смертная казнь, коих нередко избегают даже
виновные, а те загробные муки, коих неправедному избежать невозможно*.
Вот препятствие, которое задерживает бегство философа от мира: личная
задача самоспасения философа неразрывно связана с задачею спасения ближнего.
В «Государстве» Платон только глубже сознал и точнее формулировал эту связь;
этим сама собою наметилась задача философского государства — того
единственного образа правления, где философ может явиться в роли спасителя. Здесь он
прямо говорит, что, пока счастливый случай не отдаст власть в руки философов,
ни государство, ни государственное устройство, ни отдельный человек не станет
совершенным**.
За редкими исключениями не спасется и сам философ: ибо существующие
формы государственной жизни создают ту атмосферу всеобщего развращения, среди
которой спасение отдельной личности становится почти невозможным.
Философская природа здесь подвержена порче и гибели более, чем какая-либо другая: чем
богаче ее духовные дары, тем вероятнее и глубже ее падение. Люди
посредственные, ограниченные неспособны вообще к чему-либо великому; напротив,
даровитые — те самые, которые причиняют государству и частным лицам или
наибольшее благо, или наибольшее зло***.
Последнее случается чаще, потому что природа даровитая, философская
подвержена великим искушениям, которых простые смертные не знают. Источником
искушения являются все те отдельные качества, которыми она обладает. С ясным
умом истинный искатель правды сочетает непременно умеренность в отношении
к чувственным благам; он щедр по природе, потому что люди возвышенных
стремлений неспособны прилепиться душою к низшим, материальным ценностям
жизни; с этим обыкновенно сочетается и мужество, потому что искатель
сверхчувственного блага презирает опасности, угрожающие телу.
И вот, когда человек с этими редкими дарами появляется в извращенной
общественной среде, все соединяется, чтобы отвлечь его от его высокого призвания.
С детства он — первый между сверстниками; в зрелом возрасте он становится
центром общественного внимания; близкие и сограждане стараются использовать его
дарования для устройства их дел; и опасность для него возрастает, когда с дарами
духа соединяются такие внешнце преимущества, как богатство, благородное
происхождение, могущественная родня, красота и крепкое телосложение. Ему со
всех сторон льстят; его соблазняют почестями и славою. Положим, что при этом
он — гражданин могущественного государства; мудрено ли, если им овладеет
безмерное самомнение и честолюбие; удивительно ли, если он, преисполнясь
тщеславием, возомнит себя устроителем всех дел как эллинов, так и варваров!
* Theaetetus, 176-177.
** Civitas, I. VI, 499: ούτε πόλις, ούτε πολιτεία, ουδέ γ' ανής ομοίως μήποτε γένηται τέλεος.
*** Civitas, 1. VI, 495.
444
Допустим, что он восчувствует влечение к мудрости, к философии! Что станут
делать те, в чьих глазах он тем самым становится негодным к общественной
жизни? Очевидно, что они сделают все на свете, чтобы этому помешать; все будет
пущено в ход, начиная с уговоров, с частных интриг против его руководителей в
философии и кончая судебными преследованиями против последних. Легко ли при
этих условиях остаться верным мудрости?
Для развития и роста философская природа нуждается в подобающей
умственной пище. Посеянное на чуждой ему почве, семя мудрости рискует заглохнуть.
Какое же духовное питание может получить философ среди общества, по
существу враждебного мудрости? Здесь верховным критерием всего прекрасного и
ценного в искусстве, в политике и в науке являются грубые площадные вкусы,
суждения толпы; последняя развращает своими похвалами и порицаниями,
оказывает неимоверное давление. Толпа по самой своей природе враждебна
философии и осуждает философов. Нравиться ей может лишь тот, кто пленяется
многими благами, многими прекрасными предметами: до понимания единой
сущности прекрасного он никогда не возвышается*.
В этой атмосфере гибнут не только философы: чахнет и сама философия. Когда
люди одаренные, призванные к ней, отвлекаются от нее внешними соблазнами,
осиротевшая мудрость становится добычей недостойных поклонников. Из
тщеславия к ней обращаются низменные, вульгарные души, люди без способностей;
это — те, у кого не только тело, но и душа искривлена низким ремеслом: их
соблазняет тот относительный почет, которым окружена философия по сравнению
с ремеслами. Получается тип дилетанта, выскочки в философии: он напоминает
лысого кузнеца, который, сколотив себе деньжонки, только что освободился от
оков рабства и омылся в бане: надевши новое платье и разукрасившись как
жених, он надеется вступить в брак с дочерью своего впавшего в бедность и
одиночество хозяина. Каких произведений можно ждать от таких людей: что они могут
дать, кроме подделок и недостойной софистики!**
Софистика пользуется успехом, а истинно философская природа, не находя
себе сочувствия и отклика, мельчает и гибнет. Истинные философы, достойные
искатели мудрости, составляют в таком обществе редкую случайность. Это — или
изгнанники, для которых не нашлось убийц, или великие умы, родившиеся в
каком-либо маленьком городе, который не открывает широких горизонтов для их
деятельности, или люди, коим болезнь помешала заниматься государственными
делами. Демонических личностей, как Сократ, не стоит принимать в расчет, так
как в своем роде Сократ был единственным: кроме него, никто из современников
или живших ранее не слышал голоса предостерегающего демона***.
Философ — божий человеку Насколько возможно человеку стать
божественным: ибо он живет в божественном и прекрасном****. Оттого-то он подвержен
клевете; он одинок и затерян среди людей, как среди диких зверей: он не может
ни стать соучастником в их неправде, ни противостать один их звериным
инстинктам; он не в состоянии принести пользы ни другим, ни самому себе.
Отсюда — соблазн для философа — уйти от общественных дел, искать
спокойствия в уединении частной жизни», укрыться под кров от бури и непогоды. Видя,
как другие погружаются в беззаконие, он почтет себя счастливым, если сам про-
* Leges, VI, 493-495.
** Ibid., 1. VI, 495-496. '
*** Ibid., 1. VI, 492-493, 496.
**** Ibid., 500.
445
ведет земную жизнь в чистоте от неправды и нечестия и расстанется с нею,
полный радостной надежды.
Это — не меньшее из того, что может совершить философ, но и не наибольшее.
Ибо только «в соответствующем ему государстве он сам даст наибольший рост
и вместе с своим личным благом спасет общее»*.
VII
Цель идеального государства и средства ее осуществления
Парадокс социальной утопии Платона теперь становится нам понятен.
Среди мира, где правда не живет, среди общества, по существу враждебного
мудрости, философ бессилен и беспомощен. И, тем не менее, с его мудростью и силой
связана единственная надежда на спасение этого общества. Ибо он —
единственный обладатель откровения Безусловного, той самой правды, которая
спасает. Вот почему «вышний город» в учении Платона является в виде города
философов.
Толпа ненавидит философов и не верит им. И, однако, Платону ясно, что
«государство не будет когда-либо счастливым, если его не начертают живописцы,
пользующиеся божественным первообразом»**.
Задача спасения связывает людей в одной целое; поэтому в одиночестве не
достигнет спасения и сам философ: для спасения отдельной личности нужно
возрождение всей ее общественной среды. Недостаточно, чтобы человек
повернулся всем своим существом от тленного к нетленному: необходимо, чтобы
вместе с ним все общество совершило такой же подъем и поворот; необходимо
вообще вместить божественное содержание в человеческие формы, сделать
человеческую жизнь «богоподобною и божественною». В этом и состоит задача
идеального государства***.
Мы видим здесь надежду, которая не только не находит оснований и опоры
в современной Платону действительности, но не умещается даже в рамки его
собственного миропонимания. Тут есть не только явное несоответствие, но и
коренное противоречие между целью мыслителя и средствами, которыми он может
располагать, несоответствие, глубоко сознанное самим Платоном. Никто лучше
Платона не изобразил противоречие между политической задачей философа и его
наклонностями: нужно перевоспитать эти наклонности, чтобы сделать философа
способным к управлению. Тип правителя-философа заведомо для Платона не
существует, а только должен быть создан; что же касается других политиков, то
отсутствие у них истинной мудрости при безмерном самомнении было разоблачено
еще Сократом****, который за то поплатился жизнью. Круг наблюдений Сократа
был ограничен родным городом — Афинами; но Платону, который много
путешествовал и наблюдал, пришлось убедиться, что политиков, соответствующих его
требованиям, вообще нет на свете: в действительности существуют или правители
антифилософского, спартанского типа, или олигархи, поглощенные погоней за
* Ibid., 500; 496-497.
** Civitas, 1. VI, 500.
*** Ibid., 501.
**** Apologia, 21.
446
деньгами, или демагоги-зверопоклонники, или же, наконец, человек, ставший
волком, — тиран.
Однако от несуществования чего-либо нельзя заключать к невозможности
того, что в данный момент не существует. Поэтому Платон пытается обосновать
возможность идеального государства. Среди потомков царей и династов случайно
могут оказаться люди с философскими дарованиями*. Им трудно устоять против
соблазнов и спастись от растлевающего действия среды; но вряд ли кто-нибудь
станет утверждать, чтобы за все время существования государства ни один не мог
спастись. Если же спасается хоть один, и государство его послушается, то может
осуществиться все, что кажется теперь невероятным. Если этот правитель
начертает законы и учреждения идеального государства, то возможно, что граждане за
ним последуют. Если мы убеждены в целесообразности такого устройства, разве
невозможно, чтобы в этом убедились и другие?**
Все эти «если» показывают, что для осуществления идеального государства
необходимо накопление ряда счастливых и притом невероятных случайностей:
нужен несуществующий правитель, который «очистит государство», превратит
существующие учреждения и нравы в tabula rasa, что, по словам Платона,
нелегко***, и народ, который послужит пассивным материалом для нового
радикального переустройства. Мало того, даже если оно осуществится, идеальное
государство все-таки останется случайностью. Над ним тяготеет рок: «трудно
измениться государству, таким образом устроенному; однако так как все, что
рождается, неизбежно гибнет, то и это устройство не пребудет во все времена,
но разрушится»****.
Случайным в учении Платона представляется нечто гораздо большее, чем его
философское государство: случайно то самое, что для него составляет цель
жизни — спасение человека. Он прямо говорит, что спастись при существующем
общественном состоянии человек может не собственными силами, а только
божественной помощью*****. Для спасения надо преодолеть сопротивление не только
человеческой, но и всей земной природы. А это — чудо, для которого в философии
Платона нельзя найти ни объяснений, ни оснований. Ибо он изобразил нам, с
одной стороны, землю, по самому существу своему навеки оторванную от неба, по
самой природе своей осужденную на вечную суету, на нескончаемую бессмыслицу
рождения и умирания, а с другой стороны — небо, бессильное поднять до себя
землю и воплотиться в ней. Противоречие социальной утопии Платона коренится
в самых основах его миросозерцания: он признает непримиримую
противоположность двух мировых начал и ставит перед философом-правителем задачу, которая
предполагает возможность их примирения.
Чтобы достигнуть совершенного богоподобия и божественности, человек
должен стать вполне бессмертным. И вот в «Федре» Платон прямо говорит, что
бессмертие предполагает нерасторжимое, вечное соединение души с телом.
Существо, состоящее из бессмертной души и смертного тела, называется потому самому
смертным; «бессмертным же мы называем божество не в силу какого-либо
продуманного рассуждения; но, не видя его и не мысля о нем точно, мы воображаем его
* Civitas, VI, 502.
** Ibid.
*** Ibid., 1. VI, 501.
**** Ibid., 1. VIII, 546.
***** Ibid., 1. VI, 492-493: ευ χρή ε'ιδέναι, οτιπερ αν σωθή τε και γένηται οίον δεΐ έν τοιαύτη καταστάσει
πολιτειών, θεοΟ μοϊραν αυτό σώσαι λέγων όύ κακώς έρείς.
447
некоторым бессмертным существом, которое обладает душою и телом, навеки
сросшимися между собою»*.
Это совершенное бессмертие, которое рисуется философу только в
воображении, в минуту вдохновения, оказывается недостижимым для человека;
неосуществимо и совершенное, действительное соединение его с божеством.
Человеческая душа в системе Платона изображается в виде вечного странника, который
никогда не достигает вполне своей цели, а потому никогда не находит
окончательного успокоения. В лучших, избранных душах небесный эрос растит крылья,
на которых они поднимаются к небу. Полет этот начинается и готовится уже
здесь, на земле, но завершается лишь после смерти, когда душа освобождается от
телесных оков. Тут душа, овладевая крыльями, взлетает к жилищу богов; там,
в созерцании красоты, мудрости и блага крылья крепнут и растут; но,
соприкасаясь с божественным миром в созерцании, душа не пресуществляется в него и не
увековечивается в нем. Она не освобождается от влечения к телу и вновь
ниспадает на землю; здесь она забывает воспринятые откровения и теряет крылья. Потом
она проходит через нескончаемые душепереселения, вновь вспоминает забытый
горний мир, снова растит крылья, опять поднимается и падает и т. д. до
бесконечности. Иначе говоря, она обречена на бесконечное круговращение жизни, где цель
ее никогда вполне не достигается, ибо смерти здесь — нет конца**.
Весь мировой процесс представляет собою тот же порочный круг. Это —
нескончаемое стремление, которое никогда не достигает цели: ибо цель его
заключается в заполнении пропасти, которая никогда не может быть заполнена. Цель
всего того, что рождается, заключается в достижении истинного бытия, в
осуществлении непреходящей сущности: «всякое отдельное рождение совершается
ради отдельных сущностей; весь же генезис вообще совершается ради всего сущего
вообще»***. Однако это — совершенно недостижимый конец, ибо сущее не может
войти в поток явлений: говоря словами «Тимея», сущее — это «то, что всегда есть
и никогда не рождается»; наоборот, наблюдаемый нами мир есть «то, что
рождается и умирает, но никогда воистину не есть»****. Весь этот мир в непрерывной
смене возникающих и исчезающих явлений стремится осуществить
божественную идею, воплотить ее в себе; но он никогда не успевает в своем стремлении,
а производит беспрерывно умирающие формы — нечто среднее между бытием
и небытием*****. Идея «не рождается и не умирает, не воспринимает в себя чего-
либо другого, не переходит сама во что-либо другое; она недоступна зрению и
другим чувствам и созерцается только мыслью »*6. Иначе говоря, божественное не-
воплотимо в материи.
Выше было приведено место из «Софиста», где идеи определяются как
причины явлений, как силы, котфые движут и сами движутся. Но, во-первых, у
Платона не указано, как это учедие о движении идей согласуется с только что
цитированным текстом «Тимея», где в идеях не допускается никакого изменения или
перехода; во-вторых, действие идей на мировой процесс во всяком случае
представляется весьма поверхностным: вместо того чтобы осуществлять в себе идею,
* Phaedrus, 246.
** В различных мифических образах этот процесс круговращения душ изображается в «Федре»
246-249 и в «Государстве» 1. X, 614-621.
*** Philebus, 54.
**** Timaeus, 27-28. , ,
***** Civitas, I. V, 479.
*6 Timaeus, 52.
448
мир только подражает ей, отражает ее во множестве единичных явлений,
созданных по ее образу и подобию. Далее, эти подобия идей в чувственных
явлениях — не более как призраки, тени, обманчивые образы. Идею нельзя узнать в ее
отражениях: здесь она является не в первообразной своей чистоте, а в
двусмысленном сочетании с противоположными ей определениями и качествами. Так,
например, нет ни одного единичного явления, которое бы выражало в себе
безотносительную красоту или безотносительную справедливость; но каждое бывает
в одном отношении прекрасным, в другом — безобразным, в одном отношении
справедливым, в другом — несправедливым*. Конкретные явления, во
множестве разнообразных образов воспроизводящие идею, которая сама в себе едина,
отражают ее до того неточно и неполно, что мы не могли бы ее познать путем
обобщения явлений, путем отвлечения от них; душа наша вообще не могла бы
познавать идей-первообразов, если бы она не могла созерцать их непосредственно,
до чувственного опыта**.
Божественные идеи существуют сами в себе и по себе (αυτά καθ' έαυτά),
отдельно и независимо от явлений***. С другой стороны, и материя существует
независимо от идей. Правда, Платон определяет материю как небытие, отсутствие всяких
качеств. Но этому противоречит то, что, по его учению, материя оказывает
сопротивление идее, затемняет и искажает ее в явлении, дробит ее в отражении на
множество образов, является вообще источником чуждого идее множества и
движения. Вообще, мир материальный противолежит миру идеальному, божественному
как вечная граница: идея бессильна преодолеть его сопротивление. Этому
бессилию идеи в мироздании совершенно соответствует немощь божьего человека —
философа в государстве и зависимость самого государства от слепого случая.
В своем стремлении заполнить пропасть между двумя мирами Платон
воздвигает между ними цепь посредников. Это, как мы уже видели, эрос, мировая душа,
всякая вообще бессмертная душа. Особенность души в том и заключается, что она
может жить двоякою жизнью — подниматься в созерцании к божественному
и жить в смертном теле. Но эти посредники не исполняют основной своей задачи
и назначения. В душе, как и в эросе, оба начала — земное и горнее, телесное и
духовное, не проникают друг в друга, не сочетаются в неразрывном, вечном
единстве, а спорят между собою. И спор не находит себе разрешения. Небо сияет в своей
вечной, равнодушной красоте, отрешенной от всего земного. А земля остается во
власти смерти и тления.
При этих условиях попытка осуществить вышний город на земле — в корне
противоречива и тщетна. У Платона она — не более как покушение с негодными
средствами****.
VIII
Духовное и материальное начало в системе Платона борются между собою и
ограничивают друг друга, но не в состоянии окончательно победить одно другое. По-
Civitas, 1. V, 479.
Phaedo, 74; Parmenides, 132.
Parmenides, 133.
χωρισταί, по выражению Аристотеля.
15 Зак. 3911
этому вселенная представляется Платону как бы результатом некоторого рода
компромисса между тем и другим: «мир родился из смешения разума и
необходимости»*. Его идеальное государство представляется таким же двойственным,
смешанным созданием: ввиду непреодолимого сопротивления материи Платон вынужден
идти на компромисс, довольствоваться относительным и пользоваться средствами,
не ведущими к цели, противоречащими ей. При этих условиях предметом
компромисса неизбежно становится то самое, что по самой природе своей компромисса не
допускает, — то, в чем Платон видит безусловный смысл существования.
В его «Государстве» поражает прежде всего контраст между универсальной,
общечеловеческой задачей, которую ставит себе философ, и теми ограничениями,
которым она подвергается на практике. Торжество духа над материей — вот
смысл всего существующего. Бессмертие, увековечение человека в Боге, вот цель
всякой вообще человеческой жизни. Однако на практике этот разум Платоновой
философии вступает в сделку с необходимостью; универсальная,
общечеловеческая цель подменивается задачей узконациональною и узкополитическою.
Спасение оказывается уделом не всех людей, а только — избранного меньшинства.
В идее царство философов — для всех благодеяние: без него невозможно
спастись ни государствам, ни вообще человеческому роду (άνθροοπίνφ γένει)**. И
однако этот вышний город у Платона замыкается в тесные этнографические и
географические пределы. Он прямо говорит, что это — эллинский город***, и тем самым
отмежевывает его от царства необходимости, куда входят варвары, то есть прочее
человечество. Основанием для такого отмежевания служит не какое-либо
нравственное требование, вытекающее из философского идеала, а чисто материальный,
физиологический факт: эллины — по природе друзья и родные; варвары же по
природе (φύσει) — чужие и враги. Поэтому война против эллинов —
недозволительное междоусобие; война же против варваров — война в истинном смысле
этого слова, дозволительная и законная; обращение военнопленных в рабов —
естественное и нормальное ее последствие****.
Платон ясно сознает, что основное требование возвещаемого им царства
правды — объединение людей в совместном служении их сверхчувственной, загробной
цели. Но универсальное единство человеческого рода подменивается у него
объединением национальным, панэллинским; мало того, и это объединение у него
оправдывается утилитарным мотивом: эллины должны забыть свои распри, дабы не
подпасть владычеству варваров. Ради этого они должны воздерживаться от войн
между собою; если война начнется не по их вине, граждане идеального
государства должны вести ее только для того, чтобы наказать виновников
братоубийственной распри. При ведении этой вынужденной войны они должны воздерживаться
от издевательства над трупами убитых врагов, от осквернения храмов, грабежей
и опустошений, не должны ηή сами продавать военнопленных эллинов в рабство,
ни дозволять этого другим*****. По отношению к варварам этих нравственных
обязательств не существует.
Но это — еще не все: слепая естественная необходимость налагает на
божественную идею ряд других ограничений и оков. Редкое вообще среди людей семя бо-
I
* Timaeus, 48: μεμιγμένη yàp ουν ή τρΟδε τοΰ κόσμου γένεση εξ ανάγκης τε και νου συστάσεως
έγεννήθη.
** Civitas, 1. V, 473.
*** Ibid., 470.
**** Civitas, 1. V, 470.
***** Ibid., 469-471.
450
жьей мудрости редко и среди эллинов; не надеясь на широкое влияние
философии, Платон может себе представить «вышний город» только в виде небольшого
греческого города среди других нефилософских городов.
Весь план общественного переустройства суживается самим философом до
микроскопических размеров. С одной стороны — возвышенный пафос
«Государства» о начертанном на небесах божественном первообразе человеческого
общежития*, а с другой стороны — затрата богатых даров гения для подробнейшего
изображения идеального общественного устройства на пять тысяч сорок
граждан в «Законах» того же Платона!** Этот контраст производит невообразимо
тягостное впечатление. В «Государстве», при отсутствии точных цифровых
указаний, таюз&е идет речь о государстве не слишком маленьком, но и не слишком
большом. Всего любопытнее тут прямое признание, что при большой территории
и при большом количестве жителей государство не достигло бы своей цели: оно
утратило бы свое единство: единомыслие возможно лишь в тесном, дружеском
кругу***. Не забудем, что единство в глазах Платона составляет основной
признак господства божественной идеи; напротив, дробление, раздор и хаос у него
служат печатью всего внебожественного, материального; как мы видим теперь,
эту печать носит на себе все, что выходит за пределы небольшой, сплоченной
семьи идеальных граждан!
Платон не хочет расширения территории, потому что боится той
бессмысленной, стихийной волны, которая грозит захлестнуть его идеальное государство.
По опыту он знает, что обширное государство поглощается погоней за
материальными интересами и, распадаясь на богатых и бедных, раскалывается надвое.
И вот ему хочется уберечь своих граждан от раскола, хотя бы для этого нужно
было держать государство под колпаком, обставить его тем тепличным уходом,
которого требует в чуждой ему географической широте тропическое растение. Но и эта
мечта рушится как непрактическая утопия: для осуществления ее греческая
жизнь не дает ни материала, ни орудий. Платон хочет пользоваться теми
орудиями, какие есть; но это влечет за собою необходимость дальнейших компромиссов,
дальнейших уклонений от идеала до полной его утраты.
IX
Государство — церковь
Для осуществления религиозной цели спасения необходим особый
религиозный союз, не связанный мирскими задачами, отличный от государства и
свободный от него. Такого союза языческая древность не знала; конечная цель
человеческого существования в миросозерцании древних греков подчинялась государству,
которое считалось высшей формой человеческого общения. Не будучи в состоянии
порвать с этими ходячими представлениями, Платон поручает государству свою
заветную мечту. ,
В результате получается то странное, двойственное создание, которое он
изобразил в своем «Государстве»: это — государство с функциями церкви, языче-
* Ibid., 1. VI, 500,1. IX, 592.
** Leges, 1. V, 737-738.
*** Civitas, 1. IV, 423.
451
ский монастырь идеальных граждан, общество верующих во всеоружии
светского меча.
Прежде всего это — подготовительная ступень к блаженству — воспитательное
учреждение, которое должно вести человека к его вечной цели спасения. В Плато-
новом государстве спасение — не одна из многих задач, а та единая и
единственная задача, которая определяет собою все его устройство и все направление его
деятельности. Одна из любимых тем «Государства» — полемика против многоде-
лания (πολυπραγμονία). Основной грех существующих государств заключается
в погоне за многими делами и за многими благами. Платон хочет, чтобы у всего
государства, как и у каждого гражданина, было только одно дело, одна
всепоглощающая забота — о том едином, что есть на потребу. Это единое и единственное дело
государства и гражданина есть справедливость, правда (δικαιοσύνη)*.
Правда в общественном, объективном значении этого слова заключается в
таком гармоническом соотношении отдельных классов в государстве, при котором
каждый делает свое особое дело, отправляет свою специфическую функцию, и все
вместе служат благу целого. Мы уже знаем, что это благо, составляющее смысл
существования, по самой своей природе сверхчувственно, нематериально и
находится по ту сторону земной жизни. Этим определяется понятие правды в
субъективном смысле слова: она по существу тождественна с праведностью, она
выражается в том, что каждая отдельная душевная способность делает свое дело,
то есть исполняет свое специальное назначение, и все вместе служат спасению
души как целого.
Правда в государстве и в душе, таким образом, — одно и то же. Гармоническое
соотношение общественных сил, которое она установляет в государстве,
совершенно соответствует той внутренней гармонии сил и способностей, которую она
устрояет в душе: ибо государство — продукт душевной деятельности человека;
а потому справедливое государство совершенно подобно праведному человеку**.
В душе — три основные способности. Это — ум (vous, λογιστικόν), аффективная
часть или сердце (θυμός, θυμοειδες)*** и, наконец, чувственное влечение,
пожелание (επιθυμία). Нормальное состояние души заключается в господстве высшей
способности над низшими, то есть ума — над сердцем и чувственными влечениями.
Ум видит красоту, истину и благо: он распознает ту цель, к которой должно
стремиться: ему и подобает вести душу к этой цели.
Каждой отдельной душевной способности соответствует своя специфическая
добродетель: добродетель ума есть мудрость (σοφία); добродетель аффективной
части или сердце есть мужество (ανδρεία); наконец, добродетель низшей,
чувственной части души есть воздержание или скромность (σωφρωσυνη). Будучи
единственной добродетелью чувственной части души, воздержание, однако, должно
быть свойственно и прочим, вьксшим способностям. Справедливость или правда
не есть добродетель какой-либо одной душевной способности, а общая душевная
добродетель, которая выражается в нормальном соотношении отдельных
душевных сил. Когда ум руководит, сердце исполняет его веления и подчиняет ему
темную область чувственных влечений, в душе царит правда или праведность. Это —
тот самый нормальный строй души, который спасает ее, сохраняя ее единство
Civitas, IV, 462.
Civitas, 1. IV, 435.
На русском языке это слово не допускает точного перевода; на немецкий оно обыкновенно
переводится словом Gemuth, что также не вполне точно; выражение «аффективная часть»
заимствовано мною у Соловьева.
и целость. Нетрудно убедиться, что все эти способности и добродетели вообще
составляют одно целое. Мужество, которое у Платона определяется как «познание
страшного и нестрашного», не только соприкасается с мудростью, но составляет,
как мы уже видели раньше, необходимое ее дополнение; ибо ясновидение духа,
прозревающего высшее благо над землею, предполагает философски равнодушное
отношение к опасностям, угрожающим телу; не менее существенно для мудрости
и воздержание — единственно философское отношение ко всему преходящему,
тленному.
Задача философского государства именно в том и заключается, чтобы
осуществить этот нормальный душевный строй, совершить тот полный поворот человека
к Богу, о котором повествуется в знаменитом сравнении земной жизни с пещерой.
Чтобы быть совершенно благим (τελέως άγαθήν), государство должно быть
«мудрым, мужественным, воздержным и справедливым»*.
В государстве должно быть три класса в соответствии с тремя душевными
способностями и их специфическими добродетелями. Представителям высшей
способности — ума, — то есть мудрецам, подобает управлять; людям сердца,
представителям мужества, надлежит защищать государство в качестве воинов; наконец,
той серой массе людей, которые не способны возвыситься над чувственным
пожеланием, следует взять на себя всю тяжесть физического труда, стать
работниками, кормильцами государства. Когда каждый из этих классов делает свое дело,
мудрецы управляют, воины защищают, работники работают и ни один класс не
вторгается в сферу деятельности другого — в государстве царит справедливость.
Она заключается, таким образом, в определенном способе разделения труда.
По объяснению Платона, потребностью осуществить справедливость, так
понимаемую, объясняется самое происхождение государства. Отдельный человек
в одиночестве не в состоянии удовлетворять своих жизненных потребностей;
поэтому, в целях кооперации, люди образовали государство, где, предаваясь
каждый какому-либо специальному занятию, они все вместе восполняют друг друга.
В существующих в действительности государствах призвания смешиваются,
и каждый берется не за свое дело; низшие части общества, соответствующие
низшим дарованиям, восстают против высших; люди, призванные к ремеслу и не
смыслящие в управлении, хватаются за власть; тем самым извращается цель
государства. В смешении призваний, в многоделании и нарушении правильного
распределения общественных функций по способностям заключается сущность
неправды существующего государственного строя**.
Отсюда видно, что собственно светские задачи в Платоновом государстве — на
последнем плане; они здесь составляют не цель, а средство и допускаются лишь
в пределах забот о хлебе насущном. Основная же задача заключается в полном
духовном возрождении человека, в изменении всех его жизненных ценностей, в
преобразовании всего его внутреннего мира. Но вопрос о спасении души сплетается
с вопросом об образах правлений так тесно и так причудливо, как это могло иметь
место только в Греции, где государство служило средоточием всей жизни. Чтобы
порвать путы, задерживающие полет человеческой души в горние выси, нужно
освободить ее от честолюбия и властолюбия, от стяжания, от вольницы
разнузданных страстей, от тирании аффекта. Но все эти разнообразные пути неправды и со-
Civitas, 1. IV, 427.
Для всего учения о душевных способностях, основных добродетелях и соответствующих
способностям классах см. Civitas, 1. IV, 427-435; 1.1, 353.
453
ответствующие им человеческие типы, как уже было выше сказано, выражают
собою внутреннее содержание существующих образов правления — тимократии,
олигархии, демократии, тирании. Вот почему и царство правды в философии
Платона стремится выразиться в особом образе правления.
Этой новой форме общежития предстоит заботиться не столько о телах,
сколько о душах. Неудивительно, что, когда Платон говорит о ней, самый язык его
предвосхищает позднейшие христианские и в особенности средневековые
выражения: правители у него — пастыри, воины — сторожевые псы, охраняющие
стадо (Платон озабочен тем, чтобы они не выродились в волков); наконец, прочие
граждане — овцы*.
И совершенно так же, как впоследствии в средние века, на первом плане у
Платона — единство стада. Начиная с Августина, религиозно-политическая
литература средних веков видит в единстве форму царствия Божия, печать
божественного в строе вселенной, в человеческой душе и в особенности в человеческом
обществе; напротив — двоица для тех же писателей есть дурное начало — общая
печать всего материального, принцип раздора и раскола**. В действительности
мы имеем здесь традицию, идущую от Платона, быть может, даже от
пифагорейцев***. Если же мы оставим в стороне свидетельства позднейших писателей о том,
что Платон в устных беседах отождествлял единство с благом****, то во всяком
случае несомненно, что для него идея блага — начало единства всего мира идей,
а идея вообще — единое во многом, то, что сводит к единству разнообразие мира
явлений, начало стройного порядка; раздвоение же — проявление дурного,
материального начала, которое противится идее.
В «Государстве» эта схема проводится от начала до конца. Здесь развивается
мысль, что нет большего зла для государства, чем раздвоение, и нет большего
блага, чем внутреннее объединение. Преимущество идеального государства перед
всеми существующими в действительности в том именно и заключается, что это —
государство единое (ttoXiç μία), тогда как прочие государства заключают в себе
начало раздора — раздвоения. Оттого-то оно, несмотря на свои незначительные
размеры, должно обладать могуществом, неслыханным у варваров и греков, и быть
непобедимым, хотя бы за него сражалось не более тысячи граждан. И не только
идеальное государство едино: каждый из его граждан сам в себе един: ибо он не
разбрасывается, не расточает своих сил на множество занятий, а делает то
единственное дело, к которому он от природы предназначен*****. Таким образом,
здесь речь идет о восстановлении внутренней целости отдельного человека и
общежития. Из Федона мы знаем, что путь к такому исцелению заключается в
постепенном отрешении души ογ телесных оков: только этим путем она может
собрать и объединить свои рассеянные ранее силы и способности в едином
средоточии*б.
Когда душа поднимается над областью спорных материальных интересов, тем
самым побеждается источник раздоров между людьми. Куда бы ни вселилась не-
* Civitas, III, 416.
** См. мои соч. «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке», стр. 55-70,
ср. 233 и «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке», в особенности
гл. I, стр. 1-13; ср. Gierke, Genossenschaftsrecht, т. Ill, от стр. 515.
*** Ср. Zeller, Die Philosophie d. Griechen, Β. I, 330-346 (4 Aufl.).
**** Zeller, Die Philosophie d. Griechen, ίΐ В., 1 Abth. стр. 596 и след. (Ill Aufl.).
***** Civitas, 1. IV, 423; 1. V, 462.
*β Phaedo, 67.
454
правда, в родовой союз, в войско или в государство, она всюду вносит рознь и
делает людей неспособными совершить сообща какое-либо общее дело; она раздвоя-
ет даже отдельного человека и тем парализует его энергию: «неправда порождает
междоусобия, ненависть и брани, правда же соделывает единомыслие и
дружество» (όμονοίσν και φιλί α ν)*.
Единомыслие — тот самый результат, которого Платон хочет достигнуть всеми
учреждениями своего идеального государства. Самой прочной связью в
общежитии является общность удовольствия и печали, при которой одни и те же события
всех граждан одинаково радуют или огорчают. Напротив, обособление (i5icooiç)
этих чувств разрушает общежитие: государство утрачивает свою целость, когда
одни и те же его переживания одних преисполняют радости, других же приводят
в уныние. Между отдельными членами государства должна существовать такая
же тесная связь взаимного сочувствия, как между органами живого тела, так что
страдание каждого отдельного члена должно чувствоваться всеми остальными,
как их собственное. Если у нас болит какая-либо часть тела, с нею вместе
страдает весь организм и мы говорим: «у человека болит палец». Такова же должна быть
связь между государством и отдельными его гражданами**. В идеальном
государстве настроение его граждан должно образовать симфонию***. Для его
осуществления требуется полное обобществление мысли, чувства, обобществление самого
человека: для частной жизни и частных интересов в философском государстве не
остается места. К своим гражданам Платон предъявляет те же требования, какие
впоследствии апостол Павел предъявлял к членам Церкви — тела Христова:
«страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены» (I Кор., XII, 26). Сходство выражений тут — не случайное.
Платон ставит идеальному государству ту самую задачу, которая по праву
принадлежит только церкви. Сродство этого государства с религиозными союзами
ярко иллюстрируется еще одной замечательной чертой: Платон хочет сообщить ему
совершенно неподвижное устройство: правители не должны допускать в нем
новшеств, сохраняя неизменными самые напевы: ибо изменения в музыке всегда
сопровождаются изменениями в законах****. Вечной цели должны соответствовать
неизменные учреждения.
X
Коммунистический строй
г
Чтобы осуществить совершенное единство во взаимных отношениях людей,
нужно устранить все то, что обособляет, поразить частный интерес в самом его
средоточии. Платон думает достигнуть этой цели путем преобразования общества
на коммунистических началах. Вот почему два высших класса его государства
лишены частной собственности и семьи.
Нетрудно убедиться, что это т- коммунизм не мирской, а аскетический по
своим началам, весьма сродный с монастырским коммунизмом средних веков. Цель
* Civitas, 1.1, 351.
** Ibid., 1. V, 462. Ср. Leges, 1. V, 739.
*** Civitas, 1. V, 463.
**** Ibid., 1. IV, 424.
455
его — не в справедливом распределении материальных благ, а в отрешении от них
человека.
Жизнь класса воинов, стражей государства, должна быть устроена так, чтобы
они не вредили другим гражданам и сами были наилучшими людьми. Для этого
они должны быть совершенно освобождены от всякого стяжания и корысти.
Никто из них не должен обладать собственным домом, сокровищницею, ни вообще
имуществом: жизненные потребности их должны удовлетворяться скромным
содержанием, ежегодно выплачиваемым их согражданами. Живя лагерной
жизнью, они содержатся на общий счет й вкушают пищу на общих трапезах (сиссити-
ях). Золото же и серебро у них — божественное — в душах, и в человеческом они
не нуждаются; и «не по-божески» было бы осквернять обладание этим
сокровищем «примесью тленного золота (θνητού χρυσού): ибо много нечестия совершается
ради тех денег, что находятся в обладании толпы. Их же (душевное) золото да
будет беспримесным; но им одним в государстве да не будет дозволено заниматься
золотом и серебром, ни касаться его, ни иметь его под кровом, ни украшаться им,
ни пить из золотых и серебряных сосудов. И таким образом они спасут как самих
себя, так и государство. Когда же они приобретут себе в собственность землю,
дома и деньги, они из стражей превратятся в хозяев и земледельцев и вместо
союзников станут своим согражданам деспотами и врагами; ненавидя и будучи
ненавидимы, они весь свой век будут строить козни и сами будут им подвергаться,
опасаясь врага внутреннего много более, нежели внешнего; и вместе с прочим
государством они пойдут навстречу близкой гибели»*.
Наблюдения над современным ему капитализмом привели Платона к тому
выводу, что частная собственность в связи с проистекающими из нее алчностью и
соревнованием — та самая центробежная сила, которая рвет общество на части. Она
и есть то препятствие, которое мешает людям объединиться в совершенном
дружестве. Возможна ли общность радости и печали в государстве, пока граждане
говорят относительно материальных благ: «это мое, а это не мое», или — «это
чужое»? И не будет ли наилучшим то государство, где большинство людей считает
одни и те же предметы своими и не своими! Уничтожение частной
собственности — единственный радикальный способ положить конец раздорам. Между
друзьями все должно быть общее (κοινά τα των φίλων)**.
Аскетический характер коммунизма Платона в особенности ярко сказывается
в его отношении к богатству; он считает последнее вредным не только для
личности, но и для целого государства. От правителей и стражей государства он
требует, чтобы они в особенности остерегались двух врагов — богатства и бедности:
богатства, потому что оно питает роскошь, невоздержанность, праздность и жажду
новизны; бедности, потому что, сверх жажды новизны, она порождает несвободу
духа (άνελευθερίαν) и худые дела. Если бедность создает зависимость, то сытость
воспитывает лень, тем самым убивая искусство и всякую деятельность***.
Иными словами, задача Платонова коммунизма — избавить людей от того, что
называется на современном языке мещанством духа, освободить их от той
материальной зависимости, которая создается как чрезмерным изобилием, так и крайней
скудостью. В этом — полный контраст между Платоновой идеалистической
утопией и коммунизмом материалистическим. Но тут же сказывается и роковое
несовершенство этого идеализма. Мы уже видели, что господство божественной
* Ibid., 1. Ill, 416-417.
** Ibid., 1. V, 462-464,1. IV, 422-423.
*** Ibid., 1. IV, 421-422.
456
идеи в человеческом обществе у Платона ограничивается тесными
территориальными пределами идеального государства. Теперь нам приходится убедиться, что
и в этих пределах идея вынуждена вступить в сделку с материей. Независимость
духа, связанная с коммунистическим строем, составляет удел избранного
меньшинства, двух высших классов республики — правителей и воинов; как будет
показано ниже, на рабочих она не распространяется. Та духовная жизнь, которую
Платон признает единственно осмысленною и ценною, составляет в его
государстве классовую монополию.
В Платоновом коммунизме есть и более неприглядные, даже прямо
отталкивающие стороны. Дело в том, что она распространяется не только на собственность,
но и на семью. Слова — «между друзьями все должно быть общее», кроме
общности материальных благ, имеют в виду общность жен и детей. Конечно, нельзя
согласиться с Соловьевым, будто «во взаимоотношении полов идеальная община
Платона возвращается к дикому образу жизни по обычаю звериному»*. Платон
хочет не беспорядочного полового сожительства, а как раз наоборот —
упорядочения половых отношений. Но, как мы увидим, он создает такой порядок,
который не может быть оправдан ни с какой точки зрения и всего менее — с его
собственной.
Тут опять-таки следует различать между идеальной целью и никуда не
годными средствами. Платон восстает против семьи по тем же основаниям, как и против
частной собственности. Семья, как и частная собственность, обособляет людей,
сосредоточивая их интересы вокруг домашнего очага; создавая противоположность
«моего» и «твоего», она разрушает жизнь общую. Напротив, с упразднением
отдельных, частных семейств все граждане сливаются в одну семью. В других
государствах отдельные члены господствующих классов друг другу — чужие.
Напротив, в идеальном государстве все — свои: каждый видит в ближнем брата или
сестру, отца или мать, сына или дочь. Соответственно с этим и крепкие
родственные привязанности, чувства любви к детям, женам, равно как и чувства сыновней
почтительности, не замыкаются в тесном круге семьи, а распространяются на
всех**. Словом, семья, как и собственность правящих классов, приносится
Платоном в жертву единству целого государства.
Интересно, что в основе всей этой проповеди против семьи лежит тот же мотив,
во имя которого впоследствии средневековые святители проповедовали безбрачие
духовенства: там также целью служило внутреннее объединение иерархии: член
клира должен был порвать со всеми мирскими частными интересами, чтобы
отдаваться всецело своему служению, принадлежать церкви всем своим существом:
для этого он не должен был имерь ничего своего***.
Но если верно, что в Платоновом коммунизме есть черты монастырские, то
верно также и то, что Платонов монастырь был языческим. Пропасть между
христианским и Платоновым идеалом обнаруживается именно там, где они как будто
соприкасаются. Оба требуют совершенного проникновения человеческой жизни
божественным содержанием. Как с христианской точки зрения царство
благодати, так и с точки зрения Платона царство идеи осуществляется путем
совершенного возрождения человека и человеческого общества. Но с христианской точки
зрения к этой цели ведет рождение духовное: «плоть и кровь царствия Божия не
наследует»; напротив, государство Платона достигает обновления человеческого
* См. цит. статью, II, собр. соч., т. VIII, стр. 287.
** Civitas, 1. V, 463.
*** См. мое соч. «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке», стр. 13-32.
457
типа путем ряда естественных, физических рождений. В христианстве мы
видим полный разрыв с вульгарным, чувственным эросом; напротив, Платон
вступает с ним в сделку. Христианство учит, что богочеловеческая жизнь рождается
в мир путем бессеменного зачатия; оно требует, чтобы все человечество родилось
по образу Небесного родоначальника — второго Адама4; напротив, Платон хочет
получить новую породу идеальных граждан от человеческого семени.
Тем самым в платонизме закрепляется рабская зависимость от плоти и крови
и утрачивается божественное наследие. Здесь гений Платона падает с небесной
высоты и изменяет своему сверхчувственному идеалу. Платоново государство
упраздняет брак как постоянное соединение, влекущее за собою обособление семьи
в эгоистическом чувстве. Вместо того оно вводит временное соединение полов.
Половой союз имеет единственной целью производить государству физически
здоровых и нравственно годных граждан; поэтому он кончается, как только приводит
к желаемому результату деторождения, и подчиняется всецело государственной
регламентации. Не свободное согласие жениха и невесты, а мудрость правителя
решает в деле заключения этих временных браков. Беспорядочное половое
сожительство не допускается: в половое соединение вступают лишь те, кому это
дозволено или прямо предписано правителем.
Последний же в деле заключения браков руководствуется теми самыми
принципами искусственного подбора, которые применяются в целях
усовершенствования животных пород. Кто хочет вывести наилучших охотничьих собак, боевых
петухов и лошадей, тот случает наиболее породистых особей. Те же соображения,
по словам Платона, a fortiori должны решать в несравненно более важном деле
культивирования человеческой породы: правитель должен спаривать между
собою наиболее достойных, породистых граждан обоего пола и всячески
препятствовать тем соединениям, которые могут повести к увековечению нежелательных
типов. Платон рекомендует предоставлять право наиболее частых совокуплений
в виде приза воинам, отличившимся на войне. Право деторождения
предоставляется гражданам лишь в пределах установленного законом возраста. Детей,
зачатых вне закона, воспрещается родить на свет*.
Развивая свой проект регламентации браков, Платон вдается в детали,
которых нам, разумеется, нет надобности воспроизводить. Это — своеобразное
сочетание грубого цинизма, жестокости и мелочности, которое резко контрастирует
с возвышенными стремлениями автора «Пира» и «Федона». Платон,
по-видимому, сам смутно чувствует, что именно с этой чертой его утопии связан тяготеющий
над нею злой рок. Как мы видели, он предусматривает, что идеальное
государство, как и все родившееся, рано или поздно должно погибнуть. Любопытно, что эта
гибель для него связывается с физиологической случайностью: правители рано
или поздно совершат те или другие упущения в деле заключения браков, и тогда
им не удастся вывести идеальную породу граждан**. На свет явится новый тип
людей, в котором золото и серебро перемешаются с железом и медью; а в
результате этого смешения человеческих пород смешаются и рухнут учреждения.
Здесь идеальное государство находит себе естественный, логический конец.
И вместе с тем вскрываются его внутренние противоречия, те самые, которые мы
выше отметили в Платоновой метафизике. С одной стороны, Платон хочет
осуществить божественную идею в государстве путем ряда естественных рождений.
Civitas, 1. V, 557-562.
Ibid., 1. VIII, 546.
458
С другой стороны, по его же собственному признанию, божественное — невопло-
тимо: естественный генезис, не достигая своей цели, производит лишь
кажущееся, мнимое бытие, а не подлинно сущее.
Дуализм Платоновой философии отражается в его социальном учении в
причудливом сочетании двух противоположных крайностей — аскетизма и
эротического цинизма.
XI
Спор комментаторов об индивидуализме и социализме Платона
Столкновение противоположных стремлений в социальной философии
Платона вызывает разнообразные, даже диаметрально противоположные ее
истолкования. Так, по поводу коммунизма идеального государства в науке высказывается
два противоречивых положения.
Гегель, к которому из новейших историков примыкают Шталь, Целлер и Гир-
ке9 находит, что в этом государстве индивид совершенно поглощается целым.
По мнению Гегеля, которое до последнего времени оставалось господствующим,
человек в Платоновой республике фигурирует вообще не как индивид, а как «об-
щечеловек» (Allgemeine Mensch), иначе говоря, как родовое понятие*. Шталь
прямо говорит, что цель этой республики — не в индивиде, а в ней самой, что этой
цели приносится в жертву человек, его счастье, свобода, даже его нравственное
совершенство**.
Противоположную точку зрения развивают Зуземилъ***, Ноле**** и в
особенности Пелъман***** 5, который в своей «Истории древнего коммунизма и
социализма» помещает пространную главу «О совпадении социализма и
индивидуализма в государственном идеале Платона».
Те и другие комментаторы в одинаковой мере правы и не правы. Все
предшествующее изложение доказывает, что цель Платонова государства — не в нем
самом, а в том загробном блаженстве человека, для которого оно служит ступенью.
Поэтому Пельману нетрудно доказать множеством цитат из Платона, что,
вопреки Гегелю и Целлеру, «идеальное государство» служит для индивида, для его
счастья, пользы и даже выгоды, что самая идея справедливости, воздающей
каждому свое, есть индивидуалистический принцип. С этим нельзя не согласиться уже
потому, что, как мы видели, справедливость у Платона имеет целью восстановить
нормальный душевный строй во внутреннем мире индивида через преобразование
строя государственного.
Пельман совершенно прав в том, что для Платона идеальное государство есть
средство. Но, с другой стороны, несомненно, что это средство постоянно
заслоняет собою цель и заставляет Платона забывать о ней. Государство существует для
спасения индивида; и тем не менее можно привести много доказательств в
защиту положения Гегеля, что Платон приносит индивида в жертву государству, точ-
* Geschichte d. Philosophie, И, 289.
** Geschichte d. Rechtsphilosophie, 16.
*** Platonische Philosophie, II, 283. '
**** Nohle, Die Staatslehre Piatos, IX-X.
***** Gesch. d. antiken Kommunismus, I, 371-414.
459
нее говоря — в жертву воплощающейся в государстве родовой идее. Между сред-
ством и целью существует непримиримое противоречие.
Только что изложенные рассуждения «Государства» о регламентации половых
отношений и общности жен именно потому так оскорбительны для человеческого
достоинства, что здесь человек ценится лишь β качестве породы и в этом
отношении приравнивается к домашним животным. Признавая в принципе человека
целью, Платон тем не менее вменяет в обязанность правителям обращаться с ним
как со средством. Они должны допускать не больше рождений, чем нужно для
поддержания определенного количества граждан*: младенца, не
соответствующего требованиям нормальной породы, например, рожденного от родителей,
перешедших за установленный для брака возраст, Платон рекомендует оставлять без
пропитания**, а детей, рожденных хотя и законно, но плохими родителями,
без воспитания***. В конце концов Платон забывает о человеке как таковом:
целью для его государства становится человек установленного образца; при этом
государство безжалостно отбрасывает то, что для этой цели оказывается негодным.
Подмен цели личного спасения целью родовою, государственною нигде не
выступает так ярко, как здесь.
Вспомним, что именно в эросе Платон видит вершину и расцвет
человеческого существования, высшее откровение его смысла. Раз в «Государстве» эта
святая святых подвергается государственному контролю и регламентации,
не очевидно ли, что здесь государство порабощает всего человека с головы до
пяток! Отнимая у родителей новорожденных детей и принимая всевозможные
меры, чтобы родители и дети не могли когда-нибудь узнать друг друга****,
государство вторгается в самую интимную сферу личной жизни: оно требует,
чтобы человек отдал ему все своим чувства. Человек низводится здесь до
степени архитектурного материала, из коего правитель возводит государственное
здание. Можно ли себе представить высшую степень государственного
деспотизма!
Через весь трактат «Государство» красной нитью проходит мысль, что человек
принадлежит государству от рождения и до смерти. Неудивительно, что Платон
вводит здесь ту железную дисциплину, которая уместна лишь в монастырях или
в казармах. На вопрос, как могут быть счастливы его воины, раз у них нет ни
семьи, ни жилища, ни вообще какого-либо имущества, и вся их жизнь сводится
к тому, чтобы сторожить государство, получая за то лишь хлеб насущный, Платон
отвечает: «при этом им недозволено ни предпринять путешествия по собственной
охоте как частным лицам, ни подарить что-либо возлюбленной, ни совершить по
их желанию какую-либо другую затрату». Не будет удивительным, если при
таких условиях они не будут чувствовать себя в высшей степени счастливыми.
Однако, «устраивая государство, мы не ставим себе целью счастье какого-либо
одного рода людей, то есть класса, в отличие от других, но наибольшее счастье всего
государства». И тут же, в пояснение этой мысли, приводится весьма типическое
сравнение из области скульптуры: скульптор, делая статую, заботится не о
красоте какого-либо одного органа, например, глаза, а о красоте целого: его цель — не
в том, чтобы глаза были прекраснее всего тела, а в том, чтобы глаза были глазами.
Так и в изображении наилучшего государства не следует заботиться о таком вы-
* Civitas, 1. V, 460.
** Ibid., 461. '
*** Ibid., 459.
**** Ibid., 460.
460
соком счастье для стражей, которое сделает их всем, чем угодно, только не
стражами*.
Индивид тут очевидным образом поглощается должностным лицом, потому
что устроитель государства относится к человеческому материалу, как скульптор
к мрамору. Все ненужное отсекается, а тому, что нужно, придается желательная
художнику, типическая форма.
Преувеличивая индивидуализм утопии Платона, Пельман упустил из вида
отражающиеся в ней противоречия Платоновой метафизики. В своем
возникновении эта метафизика несомненно определилась впечатлением гениальной
личности Сократа, восставшей против всего исторически сложившегося строя жизни;
поэтому вопрос о спасении личности, естественно, выдвинулся для Платона на
первый план. Но конец этой метафизики не соответствовал индивидуализму ее
исходной точки. То безусловное, что спасает и наполняет человеческую жизнь
божественным содержанием, у Платона — не живая личность, а безличная родовая
идея, по существу враждебная всему индивидуальному. Индивидуальность не
умещается в рамки метафизической системы Платона: для него она тождественна
с материальным, греховным; неудивительно, что и идеальное государство,
построенное по образу и подобию божественной идеи, оказывается для индивида
прокрустовым ложем. Что толку в том, что это государство, по Платону, существует
для счастья индивида, если для достижения этого счастья человек должен всего
себя обрезать и обезличить! Вместо живой личности здесь спасается ее тень.
Ради духовных благ, разумеется, стоит пожертвовать материальными
интересами. Но у Платона человек приносит в жертву государству свою духовную
индивидуальность. Вместе со свободой личного любовного чувства здесь исключается
и свобода индивидуального творчества. Платон изгоняет из своего государства
поэтов: и подгоняет поэзию и музыку под общеобязательный ранжир.
Тут он руководствуется знакомым уже нам аскетическим мотивом. Поэты
навлекают на себя его негодование главным образом тем, что распространяют
ложные понятия о божестве; поэтому он хочет применить к ним нечто вроде
духовной цензуры. Сам устроитель государства, по его словам, — не поэт и мифов не
сочиняет; но ему надлежит установить определенные правила, типы для поэзии
и не дозволять отступлений от них**.
Тип дозволительной в идеальном государстве поэзии предопределяется его
целью: стражи государства должны «стать благочестивыми и божественными,
в высшей доступной для человека степени»***. Чтобы стать богоподобными, они
должны иметь о богах надлежащее представление.
В существующих государствах все религиозное учение черпается из
распространяемых поэтами лживых и нечестивых сказок, которые узнаются детьми с
самого нежного возраста. Немудрено, что, слыша басни об Уране, Кроносе и Зевсе,
о богах-детоубийцах, отцеубийцах, обманщиках и клятвопреступниках, люди,
виновные в тягчайших преступлениях, считают себя подражателями первых и
величайших из богов****.
Нормы для поэтов должны определяться действительными признаками
божества и божественного. Боги — чуусды вражды и взаимной ненависти. Поэтому
поэты не смеют рассказывать небылиц про их мнимые ссоры, войны и семейные
* Ibid., 1. IV, 419-420.
** Ibid., 1.11,378-379. ι
*** Ibid., 1. Ill, 383.
**** Ibid., 1. Ц, 378; III, 391.
461
скандалы. Бог благ и зла не делает; поэтому не должны допускаться рассказы, где
боги изображаются виновниками злодеяний. Боги совершенны; поэтому
недозволительно приписывать им изменчивость, которая неизбежно предполагает или
возможность большего совершенства, или, напротив, утраты его. По этому же
нельзя изображать богов в виде оборотней, которые могут являться во множестве
образов; будет ли перемена образа действительным или кажущимся только
изменением божества, в обоих случаях мы имеем мысль кощунственную: не будучи
фокусником, ни обманщиком, божество не облекается в чуждую ему личину, а
является всегда в одном и том же неизменном виде. Бог всегда прост, правдив в
слове и в деле и не морочит людей ни во сне, ни наяву*.
К этим требованиям, в коих выражается религиозное сознание,
возвысившееся над вульгарным политеизмом, присоединяются другие, определяющие
положительную задачу поэзии в идеальном государстве. Поэзия, в которой Платон,
как грек, видит главное орудие религиозного и политического воспитания,
обязана подготовить государству нужную для его целей породу воинов-стражей.
Прежде всего она должна воспитать в них мужество. Поэтому из нее должно быть
удалено все то, что может сделать смерть страшною, все ходячие представления
о Гадесе, Стиксе и Коците6, все плачевные песни по умершим. Такие поэтические
произведения подкапывают веру в идеальный смысл мужества, который
заключается в предпочтении мира загробного — земному. Равным образом недопустимы
песни и сказания, прославляющие неумеренность в вине, половых и вообще
чувственных наслаждениях, стяжание и корысть: ибо стражи идеального
государства должны быть воспитаны в воздержании: в особенности преступления против
этой добродетели не должны быть приписываемы богам и героям.
И не только относительно богов, относительно людей поэзия должна
выражаться согласно с требованиями истинного учения: так, например, поэтам не
дозволено рассказывать, что неправда приносит выгоду или что праведные бывают
несчастны: они должны учить, что праведность всегда приносит пользу. Наконец,
в государстве вовсе не должна быть терпима та подражательная поэзия,
эпическая и драматическая, которая, воспроизводя всевозможные типы людей и
засоряя душу слишком большим разнообразием впечатлений, отвлекает людей от
единой и единственной задачи каждого. Перевоплощаясь в своих героев, поэты
говорят от их имени и подражают всему на свете: и худым и добрым делам, и
человеческим страстям и стихиям, и добродетелям и порокам. Для воспитания
идеальных граждан ничего не может быть вреднее такой духовной пищи:
поглощенные служением добродетели, они не должны увлекаться поэзией, подражающей
порокам; делая одно дело для государства, они не должны уделять своего
внимания искусству, подражающему многим делам. В государстве должны быть
терпимы только строгие поэты, которые воспевают лишь подобающее и полезное для
граждан. Прочих же следует удалить, воздав им должные их таланту почести**.
И не только поэзия — все виды искусства и даже ремесла в идеальном
государстве подчиняются самому строгому надзору, в особенности музыка в буквальном
смысле слова: ее влияние простирается до самой глубины души, поэтому, чтобы
овладеть настроением граждан, цравитель должен прибрать музыку к рукам.
Мелодии скорбные, жалобные, изнеживающие, опьяняющие и одурманивающие,
вообще возбуждающие чувственность, не должны быть терпимы.
Ibid., 1. II, 377-382.
Ibid., 1. Ill, 386-398.
462
Духовная цензура и здесь установляет желательные образцы мелодий
молитвенных, просящих, поучительных, воинственных и скромных в соответствии с
основными добродетелями*. Аскетический идеал «Государства» предъявляет
определенные требования и к живописи, и к пластике, и к домоустройству. Из всех
этих родов искусства должно быть изгнано все непристойное, неблагообразное,
вульгарное и невоздержное**.
Характерно, что аскетическая тенденция сказывается даже в рассуждениях
Платона о гимнастике, в которой наряду с искусством он видит одно из
важнейших орудий воспитания: и гимнастика, по его мнению, нужна больше для души,
чем для тела: одно искусство без гимнастики изнеживает душу, напротив, одна
гимнастика без искусства делает ее слишком жестокой и грубой. Задача
воспитания — в осуществлении середины между этими крайностями, в образовании
гармонического и умеренного духовного склада посредством сочетания музыки
и гимнастики.
Воспитание и регламентация у Платона простираются решительно на все: у
него есть правила для внешнего выражения любовного чувства, для выбора пищи
и питья, даже для сна, ибо и во сне воины — стражи государства — не
принадлежат самим себе: они должны быть чутки, как сторожевые псы***.
Словом, все воспитательные учреждения идеального государства как бы
созданы для того, чтобы вытравить из человека все индивидуальное, личное,
искоренить из него всякие признаки собственной воли. И связь этой регламентации с
метафизикой Платона как нельзя более наглядно сказывается в том, что она имеет
в виду только два высшие класса его государства, которые суть носители его
идеи. По признанию Платона, «прочие заслуживают меньше внимания: ибо, если
башмачники избалуются, испортятся и станут тем, чем им быть не подобает,
для государства нет в том ничего страшного: если же стражи законов и
государства будут стражами только кажущимися, а не действительными, они разрушат все
государство до основания. И с другой стороны, они одни в силах вновь хорошо его
устроить и сделать счастливым»****.
Быть может, наименее свободны в этом государстве правители-философы: ибо
именно они подвергаются высшему насилию — обязательству нести бремя власти,
против которого восстает весь их духовный склад. Можно понять добровольную
жертву философа, который спускается с олимпийских высот созерцания и
вмешивается в практическую деятельность, чтобы помочь страждущим, освободить
пленников от оков: но у Платона это — уже не добровольный подвиг, а акт
послушания наложенной государством дисциплине.
«Спасители государства» (ocoTfjpeç)*****, так называет Платон буквально
философов-правителей! Здесь сказывается и сходство его учения с христианской
идеей спасения, и отличие от нее. Соединение божественной идеи с материей в его
системе противоречит природе как той, так и другой, а потому представляется
двояким насилием. То же двоякое насилие мы находим и в социальном учении
нашего философа. Здесь люди привлекаются к спасению внешней силой
государства: одних оно принуждает совершать путь к небу, других заставляет спускаться
на землю, чтобы освобождать оттуда избранные души. «Наше дело — устроителей
* Ibid., 398-399.
** Ibid., 401.
*** Ibid., 403-405. ,
**** Ibid., 1. IV, 421.
***** Ibid., 1. VI, 502.
463
государства, — говорит Платон, — принуждать наилучшие природы стремиться
к знанию, которое мы признали важнейшим, видеть благо и совершать это
восхождение; когда же, восшедши, они его как следует увидят, им не будет
дозволено оставаться там, не желая ни снизойти к узникам, ни участвовать в их трудах
и почестях, все равно, малых или великих»*.
По отношению к философам это не будет неправдой; в доказательство Платон
повторяет, что государство заботится не о благе какого-либо одного сословия,
а о благе целого. «Убеждением и принуждением» оно согласует граждан между
собою, заставляя их делиться пользой, какую они могут приносить целому: оно
воспитывает философов не с тем, чтобы каждый из них шел куда ему угодно, а для
того, чтобы использовать их для связи государства. Их растят, дабы они были
в государстве тем же, что матка в рое пчел. Лучше других воспитанные, они более
способны жить двоякой жизнью. Пусть они спустятся во мрак: они лучше других
разберутся в идолах, потому что они видели истину и знают прекрасное,
справедливое и доброе**.
XII
Рабочие в идеальном государстве
Противоречие государственного идеала Платона особенно ясно сказывается
в его характеристике третьего, низшего класса республики — земледельцев и
ремесленников. Прежде всего эта характеристика поражает своею краткостью
и скудостью. Некоторые из комментаторов, например Целлер, усматривают тут
пробел в учении Платона. Еще Аристотель отмечает, что Платон нигде не говорит,
распространяется ли на членов этого класса общность имуществ, жен и детей или
же им предоставляется иметь семьи и частную собственность***. Мы уже видели,
почему в глазах Платона рабочие по сравнению с высшими классами
заслуживают меньше внимания.
Эта краткость дает повод к спорам между комментаторами. Целлер говорит,
что «для народной массы Платон предполагает обыкновенный образ жизни и в
остальном хочет, по-видимому, всецело предоставить ее самой себе»****. Этот тезис
вызывает основательные возражения Пельмана. Очевидно, во-первых, что
Целлер упускает из вида цель Платонова государства, которое стремится к благу
целого, а не отдельных классов. Что быт низшего класса «Государства» не безразличен
для Платона, видно из того, чтр он приписывает этому классу особую
специфическую добродетель — воздержание или скромность (σωφροσύνη). Платон хочет
сделать своих рабочих хорошими людьми и соответственно с этим ограждает их, как
и все государство, против двух главных врагов — богатства и бедности*****.
Далее, классы республики не суть замкнутые касты; здесь всякий занимает
общественное положение, соответствующее его способностям: способные дети
ремесленников могут стать правителями, и, наоборот, дети правителей, если у них
* Ibid., 1. VII, 519.
** Ibid., 1. VII, 519-520.
*** Polit., II, 2, 1264 а. ,
**** Die Philosophie d. Griechen, Π, Β. I Abth, III Aufl., 769.
***** Civitas, 1. IV, 421.
464
ремесленные души, могут спуститься в класс ремесленников*; при этих условиях
общественное воспитание должно так или иначе простираться на всех. Самый
коммунизм класса воинов, как мы видели, мотивируется, между прочим,
опасением, что, получив собственность на дома и деньги, они из союзников станут
врагами прочих граждан**. Тут очевидна забота об имущественной безопасности
третьего класса. Ко всем этим и другим соображениям Пельмана*** можно
присоединить еще и следующее: в известном сравнении земной жизни с пещерой
Платон рассматривает всех вообще людей как узников; и задача его государства
несомненно заключается в освобождении от чувственного плена всех его граждан.
Однако тут, как и везде, Пельман упускает из вида противоречие между
универсальною, всеобщею целью человеческого существования, в которой Платон
видит смысл своего государства, и его средствами, которые до этой цели не доводят.
Это противоречие создает для низшего класса Платоновой республики такое
положение: с одной стороны, он служит государству ради собственного спасения;
с другой стороны, спасение ему совершенно недоступно. Спасение заключается
в непосредственном созерцании Бога — вершины мира идеального; спастись
можно только мудростью; но мудрость — удел незначительного меньшинства
философов. Класс земледельцев и ремесленников состоит именно из тех, кто до
мудрости и знания истины неспособен возвыситься; вся эта темная масса должна,
как это допускает и Пельман, оставаться при обманчивом мнении****. Но
Пельман забыл, что мнение, по учению Платона, не спасает. Пельман указывает, что
Платон различает два вида нравственности: это, во-первых, основанная на
познании философская добродетель, и во-вторых — добродетель простонародная,
гражданская, которая «возникает из привычки и упражнения без философии
и ума»*****. Пельман совершенно прав в том, что эту низшую нравственность
Платон считает необходимою принадлежностью третьего класса идеального
государства. Но раз этот класс не в состоянии подняться над «вульгарной
добродетелью», ясно, что он не может достигнуть истинной, божественной жизни. Он не
может проникнуть в идею, соединиться с ней внутренно, а может лишь внешним
образом ей подчиняться, «без философии и ума», то есть служить ей орудием.
Всем этим достаточно характеризуется положение земледельцев и
ремесленников в идеальном государстве. Они, как и прочие классы, считаются
свободными и гражданами: высшие классы по отношению к ним являются не деспотами,
а «спасителями и попечителями» (σωτήρες και επίκουροι); стражи смотрят на
рабочих как на друзей, кормильцев и плательщиков жалования. Платон
подчеркивает отличие последних от рабов: обращение их в крепостных он считает одним
из существенных признаков вырождения идеального государства*^. Словом,
рабочие, по-видимому, участвуют »в дружеском союзе республики и вместе с
прочими классами служат осуществлению в ней единства божественной идеи. Однако
при ближайшем рассмотрении это участие оказывается призрачным, так как на
долю рабочих достаются не высшие духовные сокровища, а лишь низшие
материальные ценности; и сами они приносят государству лишь материальные дары.
Их назначение — только в том, чтобы обеспечивать физическим трудом досуг
* Ibid., 415. '
** Ibid., 417.
*** Gesch. d. antiken Kommunismus, I, 294-3tl.
**** Цит. соч. 314-315. /
***** Ibid., 314. Цитированные в кавычках слова извлечены из «Федона», 82а.
*6 Ibid., 1. IV, 416-417; 1. VIII, 547.
465
господствующих классов, материальные условия существования высшей
культуры; их собственное участие в этой культуре сводится к послушанию и уплате
жалованья.
Идея налагает на их жизнь лишь внешний отпечаток: она их не перерождает
и не одухотворяет, а только сдерживает. Платон прямо говорит, что в его
государстве страсти многих и плохих обуздываются пожеланиями и разумом немногих
и наилучших*. Большинство — это те души, в которых небесный эрос не растит
крыльев; от прекрасных предметов они не в состоянии подняться к прекрасному
в себе. С этим тесно связано экономическое положение низшего класса. В
«стражах» государства, как мы видели, божественная идея уничтожает все
индивидуальное: ее царство выражается в совершенном коммунизме этих классов.
Напротив, на земледельцев и ремесленников, как стоящих у преддверия этого царства,
коммунизм не распространяется. Это нетрудно доказать вопреки Аристотелю,
который, как мы видели, не находит по этому предмету у Платона определенных
заявлений, и вопреки Пельману, который полагает, что коммунизм
распространяется на все классы идеального государства. Прежде всего, Платон, как мы
видели, считает основною обязанностью третьего класса уплату жалованья воинам.
Ясно, что платить жалованья не может тот, кто сам ничего не имеет; если бы на
третий класс распространялся коммунизм, плательщиком жалованья был бы,
очевидно, не он, а государство. Засим, Платон определенно высказывает, что
стражам одним изо всех граждан не позволяет касаться золота и серебра, что «когда
они приобретут себе в собственность землю, дома и деньги, они из стражей
превратятся в хозяев и земледельцев (уеоруо\)»**; нужно ли более ясное доказательство,
что земледельцы, по мысли Платона, могут быть собственниками земель, домов
и денег!
Указания Пельмана***, будто, по Платону, пользование золотом и серебром не
дозволяется всем вообще гражданам идеального государства****, в данном случае
неубедительно: ибо золото и серебро — не только не единственный вид
собственности, но даже и не единственный вид монеты; не говоря уже о том, что приведенные
Пельманом неопределенные выражения «Государства» («мы не пользуемся
золотом и серебром, и это нам не дозволено»), могут иметь в виду не всех граждан,
а правящие классы и, наконец, государство; ведь, не имея само золотой казны,
государство может предоставлять иметь таковую отдельным частным лицам.
Наконец, один из текстов Платона, приводимых Пельманом, говорит не за, а
решительно против последнего. А именно: Платон заявляет, что наилучшим
государством будет «то, где наибольшее количество граждан говорит
относительно одних и тех же предметов — это мое, а это не мое»*****. Так как наибольшее
количество (πλείστοι), очевидно, йе то же, что все, то отсюда ясно, что коммунизм
у Платона распространяется не,на всех.
Мало того, из того, что Платон считает наилучшим государством то, где
коммунизм распространяется на наибольшее количество граждан, не следует даже и
того, чтобы в наилучшем государстве это «наибольшее количество» означало
большинство. Смысл текста Платона тот, что граждан единомыслящих и считающих
все общим в наилучшем государстве больше, чем в других, менее совершенных:
* Ibid., IV, 431.
** Ibid., 1.111,417.
*** Цит. соч., 361. ι
**** Civitas, 1. IV, 422.
***** Ibid., l.V, 462.
466
это еще не значит, чтобы в общей сумме граждан идеального государства они не
могли составлять меньшинство, хотя бы и сравнительно сильное меньшинство.
Толкование Пельмана, что слово πλείστοι означает большинство, стало быть,
совершенно произвольно. Однако и при этом толковании не остается сомнения, что
на некоторую часть граждан идеального государства коммунизм не
распространяется; а эти некоторые могут принадлежать только к низшему классу. Это
ограничение количества станет нам еще более понятным, если мы вспомним, что
Платон вообще надеется только на приблизительное осуществление своих идеальных
требований даже в наилучшем государстве*. Смотря по степени приближения
к идеалу количество граждан высших классов может быть, понятное дело,
большим или меньшим**.
Порядок идеального государства, как видно отсюда, отражает в себе
начертанную Платоном схему общего мирового порядка со всеми несовершенствами
последнего. Между тем как высшие классы «Государства», наиболее близкие к
божественному, по тому самому всецело поглощаются родовой идеей и в ней
утрачивают свою индивидуальность, низший класс сохраняет относительную
свободу индивидуального бытия, то есть бытия, с точки зрения Платона,
призрачного, греховного. Бессильное божество не упраздняет зла и не претворяет в себе
материю даже в небольшой общине избранных душ: ибо оно не в состоянии изменить
общего мирового порядка.
Ibid., 1.V, 473.
П. И. Новгородцев и В. А. Савальский указали мне на текст «Законов» Платона, который как
будто в самом деле доказывает, что коммунизм в «Государстве» распространялся на все классы
общества, стало быть, и на низший. Противополагая государству, изображенному в
«Государстве», то, о котором речь идет теперь (Leg., 1. V, 739), то есть государство «Законов», Платон,
между прочим, говорит (ibid., 740а): νειμάσθον μεν δη πρατο γήν τε και οικίας και μη κοινή
γεωργούντων; иначе говоря: «пусть граждане распределяют между собою землю и жилища, и да
не возделывают земли сообща». Отсюда, однако, было бы ошибочно заключать, будто в
«Государстве» коммунизм распространяется на все классы. Прежде всего, общее пользование землею
еще не есть полный коммунизм: национализация земли не исключает частной собственности на
жилища, деньги и другие предметы. Далее, приведенный текст не доказывает даже и
«общности полей» в идеальной республике. Его нетрудно объяснить и при том предположении, что
коммунизм «Государства» распространяется только на два высших класса. В «Законах» эти классы
наделяются вообще частной собственностью; здесь в отличие от «Государства» они
превращаются в землевладельцев; при этих условиях слова μη κοινή γεωργούντων легко объясняются
желанием Платона подчеркнуть, что те новые пользователи земли, для которых он раньше начертал
коммунистический образ жизни, теперь получают землю, как и прочие предметы, не в общее,
а в частное пользование. Выяснить их титул владения для Платона необходимо и по другой
причине: в «Законах» он установляет для них не полную, а ограниченную собственность, нечто
среднее между частным землевладением и пользованием государственной собственностью: они
(1. V, 740) смотрят на свои участки как на общую собственность всего государства (κοινήν αυτήν
της πόλεως ξυμπάσης). Чтобы эти слова не были поняты в смысле полной общности
землепользования, Платону необходимо оговорить, что поля «не возделываются сообща».
Предположение, будто в «Государстве» коммунистический строй распространяется на низший класс,
является, таким образом, совершенно излишним для объяснения приведенного текста; к тому же
у Платона мы тут же находим прямые указания, что коммунизм в «Государстве»
распространяется только на меньшинство граждан. Описание коммунистического строя «идеального
государства» заканчивается в «Законах» (1. V,739) такими словами: η μεν δε τοιαύτη πόλις, είτε που
θεοί, ή παίδες θεών οίκοΰσι πλείους ένος ούτω διαζώντες εύφραινόμενοι κατοικοΰσι. Отсюда видно,
что «богов» и «сынов божиих», которые в республике «так проживают» (то есть на
коммунистических началах), — весьма немного: их только более одного.
467
Платонова республика, как и Платонова метафизика, остается по существу
своему дуалистическою. Философы и до известной степени воины тут
соответствуют идее; напротив, земледельцы и ремесленники соответствуют материи.
Нетрудно убедиться в поразительной аналогии между определениями материи в
метафизике Платона и его характеристикой положения низшего класса в идеальном
государстве. Прежде всего материя есть именно область индивидуальных,
частных явлений, исчезающего, призрачного бытия; но именно эта сфера
индивидуального и призрачного отведена в * Государстве» тому низшему классу, который,
по неспособности подняться к созерцанию идеи, обречен на деятельность
исключительно хозяйственную, материальную.
Материя представляет собою в природе ту общую основу, тот безразличный
базис, на котором проявляется идея. Сама по себе безвидная, бесцветная и косная,
она определяется как отсутствие, лишение идеи. Она извне оформляется идеей,
представляет собой то смутное зеркало, в котором последняя находит себе
внешнее отражение. Не то же ли самое у Платона — его рабочие! Это — материя
идеального государства — косная масса, пассивный материал в руках правителя,
который им оформляется и несовершенным образом отражает в себе его мудрость!
Сам по себе рабочий не имеет цены, ибо он лишен идеи, не просвещен ею. Лишь
в руках правителя он возвышается до степени орудия идеиу орудия культуры
высших классов, в которой — его цель и смысл; на его долю достается лишь
внешний, насильственно наложенный отпечаток идеального мира. Материя в
метафизике Платона есть условие проявления идеи в мире видимом, осязаемом.
Все видимые, чувственные явления возникают из материи, содержат в себе ее
примесь, питаются ею. Поэтому Платон называет материю кормилицею (τιθήνη)
всего, что рождается*: так и третий класс республики получает в ней название
«кормильцев»**, потому что все его назначение заключается в материальном
питании общества.
В положении низшего класса есть, впрочем, одна черта, которая
приподнимает идеальное государство Платона над общим уровнем общественной жизни
тогдашней Греции. Класс этот, как мы видели, признается свободным. Хотя Платон,
как уже было выше сказано, дозволяет своим гражданам обращать в рабов
варваров и исключает рабство только для эллинов, однако в его республике для рабов,
собственно говоря, нет места; здесь скромные материальные потребности высших
классов удовлетворяются жалованием, уплачиваемым свободными
земледельцами и ремесленниками. Таким образом, в отличие от других греческих государств,
рабство здесь не является условием существования. Но тут же обнаруживается
крайне поверхностное отношение великого мыслителя к самому принципу
рабства. Еще Гильденбрандом отмечено своеобразное положение, занятое Платоном
в этом вопросе. У него нет интереса высказаться ни за, ни против рабства. Его
идеальные граждане только потому не имеют рабов, что они вообще не имеют
собственности***. Но рядом с этим рабство само по себе его не возмущает: он остается
на почве ходячего воззрения, признававшего большую часть человечества — всех
неэллинов — рабами по природе****.
Таким образом, социальная утопия Платона оставляет нетронутою самую
сущность зла —; первородный грех государственного и общественного строя древно-
* Timaeus, 52.
** Civitas, VIII, 543. ,
*** Hildenbrand, Geschichte und System d. Rechts u. Staatsphilosophie, стр. 137.
**** Civitas, 1. V, 470.
468
сти. В этом — источник ее бессилия и роковая причина тяготения мысли Платона
к осужденным им самим, исторически существующим формам общежития.
XIII
Идеальное государство и спартанско-критский строй
Комментаторами «Государства» уже давно отмечена ее близость к дорийскому
и, в частности, — спартанскому государственному и общественному устройству.
На этом основании, между прочим, В. С. Соловьев признает утопию Платона
ненужною и неинтересною для человечества. «Какой интерес, — говорит он, —
могло возбуждать предложение устраивать государство более по образцу Спарты,
нежели Афин, когда уже являлось сознание, что и спартанская, и афинская
гражданственность оказались несостоятельными!»*
Если бы Платон только предлагал устроить государство «по образцу Спарты»,
его социальная утопия действительно представляла бы для нас мало интереса.
На самом деле, однако, слова Соловьева не соответствуют тому, что мы знаем об
идеальном государстве великого мыслителя древности. Несмотря на некоторые
внешние черты сходства, это государство отличается от Ликурговой Спарты в
самом основном, существенном.
Прежде всего мы имеем категорическое утверждение самого Платона, что «из
всех существующих форм государственного устройства ни одна не достойна
философской природы»**. Иначе говоря, им недостает именно того, в чем Платон
видит цель и смысл государства. В восьмой книге «Государства» это прямо
говорится относительно устройства спартанского и критского: здесь оно описывается
в числе извращенных, «греховных форм»; под именем «тимократии» оно
изображается как первая ступень падения идеального государства***, ближайшая к
нему форма действительности. Здесь же ясно говорится, в чем тимократическое
устройство сходится с идеальным и в чем оно против него погрешает.
Сходство заключается в том, что и там, и здесь почитаются господствующие,
что в Спарте, как ив «Государстве», воинствующая часть населения
воздерживается от земледелия и ремесла; там и здесь существуют «сисситии» (то есть общие
товарищеские трапезы) и обращается большое внимание на упражнения
гимнастические, вообще воинские****.
К этому можно прибавить еще черты сходства, не отмеченные Платоном. Так,
например, спартанские правители-эфоры, подобно правителям Платона,
являются истолкователями божественной мудрости; в управлении государством, которое
составляет их исключительное занятие, они руководствуются небесными
знамениями и пророческими сновидениями. Их власть не ограничивается писаным
законодательством, которое отсутствует в Спарте, как и в Платоновой республике.
Далее, в Спарте есть некоторые зачатки коммунизма: некоторые предметы
(например, рабы — илоты) составляют здесь не частную, а общую государственную
* Цит. статья, т. VIII, стр. 286.
** Civitas, 1. VI, 497.
*** Ibid., 1. VIII, 534-545. Здесь спартанско-критское устройство прямо отождествляется с тимо-
кратическим.
**** Ibid., 547.
469
собственность. Подчинение всех частных интересов строжайшей воинской
дисциплине, единству государства-лагеря, строгая регламентация жизни личности
во имя интереса общественного — все это установляет известное сродство между
спартанскими учреждениями и республикой Платона.
И однако сродство это оказывается поверхностным, так как за ним скрывается
противоположность основных принципов. Спарта пренебрегает «истинной
музой — той, которая связана со словом и философией»; она «более почитает
гимнастику, нежели музыку» *. Иными словами, в глазах Платона это —
антифилософское государство, которое не заботится о человеческой душе, то есть о
единственном предмете, достойном наших забот.
С этим связывается ряд других отличий. Спартанско-тимократическое
устройство не знает принципа «общности всех благ между друзьями». Дома и земли
здесь распределяются в частную собственность; у каждого гражданина — свое
жилище, где он живет с женой или с кем угодно; худшая часть населения
устремляется к наживе; частные сокровищницы наполняются золотом и серебром; а третий
класс — ремесленников и земледельцев из свободных и друзей высших классов
превращается в крепостных и невольников. Здесь только немногие избранные
умы — «богатые по природе» — ведут души к добродетели и к «старому», то есть
наилучшему, устройству.
Словом, тимократия (Спарта) — смешанное государственное устройство,
которое подражает отчасти наилучшему государству, отчасти же государству
олигархическому, составляя нечто среднее между тем и другим**.
По словам Плутарха, «Платон примешал к Сократу Ликурга и
Пифагора»***. Трудно более яркими штрихами изобразить противоестественный
компромисс между философской идеей, отрицающей действительность, и
действительностью, отрицающей идею. Для Сократа и Пифагора не нашлось бы места
среди Ликургова государства-лагеря. Это так же очевидно, как и то, что
презирающему «музу» спартанскому воину нечего делать в философском
государстве. И однако парадоксальное сочетание Сократа с Ликургом для социальной
философии Платона не представляет собою результат простой случайности.
То самое обстоятельство, что земная действительность сплошь враждебна идее,
обрекает идеальных граждан на нескончаемую вооруженную борьбу против
многочисленных врагов, внешних и внутренних. Господство идеи при этих
условиях осуществимо лишь путем насилия: поэтому неудивительно, что
философское государство волей-неволей принимает облик государства военного,
притом — того самого военного греческого государства, которое было лучше
всего знакомо Платону. Иначе говоря, здесь философская идея вырождается
в свое противоположное. '
Попытка Платона с ее противоречиями убедительно доказывает лишь одно:
невозможность воплощения божественного начала в формах древнегреческой
действительности. Платону предстояло пожертвовать или тем или другим, сделать
выбор между Сократом и Ликургом. Он не понял этой исторической альтернативы
и после «Государства» написал «Законы». Здесь, по меткому выражению Соловь-
* Ibid., 548.
** Ibid., 1. VIII, 547.
*** О сродстве между государственным учением Платона и идеалом пифагорейского союза см. кн.
С. Н. Трубецкой. История древней философии, ч. I, стр. 92. О преемственной связи между
политическими воззрениями Сократа и Платона см. Oncken, Staatslehre d. Aristoteles, I, стр. 125
и след.
470
ева, Платон словно забыл о существовании Сократа, отрекся от него и его учения.
Образ учителя окончательно заслонился для него образом Миноса7 и Ликурга.
XIV
Государство «Законов»
По признанию самого Платона, государство, начертанное им в «Законах», есть
государство компромисса. В «Государстве» между гражданами существует
совершенное единомыслие и единство; там общи не только материальные блага, но и
самые мысли, чувства. Поэтому там — благая и блаженная жизнь.
Однако этот коммунистический идеал, по признанию автора «Законов», —
больше того, что можно требовать от современного поколения. Для этих людей
надо создать государство, к ним приспособленное, второе после наилучшего.
Платон предвидит, однако, что и оно окажется не по плечу его современникам и
соглашается заранее на дальнейшие уступки: он имеет в виду начертать, «если будет
угодно Богу», еще проект государства — третьего после наилучшего*.
Третьему государству не было суждено увидеть свет; но уже и в «Законах»
приспособление к действительности достигается ценою утраты смысла жизни. В
отличие от идеального государства, которое ведет к бессмертию и уже на земле
осуществляет его зачаток, «Законы» только «некоторым образом» и «всего более»
к нему приближаются. Так же и в отношении единства общественной жизни —
этого отражения единства божественной идеи — «Законы» после «Государства»
занимают лишь второе место**.
Сам того не замечая, Платон отрекается здесь от самого существенного, что
есть в начертанном им идеале, — от его безусловности. В параллель с
евангельским изречением, что «нельзя служить Богу и маммоне», он высказывает в
«Государстве» мнение, что высшие классы его государства не могут отдаваться идее
только наполовину: правителями не могут быть те, кто «не стремится к единой
цели, ради которой им надлежит делать все то, что они делают как в частной, так
и в общественной жизни»***. Напротив, в «Законах» допускается возможность
служения двум господам; а соответственно с этим здесь и цель жизни начинает
двоиться. Платон уже не требует от своих граждан, чтобы они прилеплялись к
Богу всем своим существом: довольно с них, если они пожертвуют, чем могут,
при «нынешнем» невысоком нравственном уровне.
В идеальном государстве, по словам Платона, живут «боги» или «сыны
божий». Их там немного — всег(|) только «более одного»****. Но в этих немногих
Платон раньше видел весь смысл, всю цену государства. Государство должно
воплощать божественную жизнь на земле: иначе ему незачем существовать;
в этом — вся суть и все содержание «Государства». Теперь в «Законах» философ
надеется видеть в будущих гражданах уже не «сынов божиих», а только добрых
сынов человеческих. Не ясно ли, что мы имеем здесь полное вырождение и
извращение прежней возвышенной мечты! Самая постановка задачи государства корен-
* Leges, 1. V, 739-740.
** Ibid., 739. '
*** 1. VII, 519.
**** Leges, 1. V, 739.
471
ным образом меняется. Задача «Государства» — поднять человека над самым
генезисом, над тем, что «рождается и умирает». Если «Государство» заимствует
кое-какие спартанские учреждения, то мечта ее автора — в том, чтобы пресущест-
вить земное в божественное: исторически сложившееся, как мы видели, здесь
превращается в tabula rasa*. Напротив, «Законы» отправляются от исторически
сложившегося, вводя в него относительные улучшения: здесь само идеальное
устройство пресуществляется в государство спартанско-критского типа.
Практическая задача, поглощающая внимание Платона, здесь ставится так: дано
спартанско-критское устройство, спрашивается, какие законы в нем спасительны,
какие — гибельны; какие реформы могут сделать такое государство счастливым**.
И этой задаче приносится в жертву сократический принцип. В двух более
ранних диалогах — «Политике» и «Государстве» — Платон верит в живую мудрость
правителя, которая спасает, проникая в души: она не подлежит законодательным
ограничениям именно в силу своей безусловности, которая ставит ее выше
закона***: раз есть налицо оракул божества, внешние предписания закона вообще
излишни. Напротив, в «Законах» государство держится уже не философской
религией, не знанием, а внешней силой: тут Платон ставит себе задачей то самое, что
раньше он считал занятием праздным и антифилософским — всестороннюю и
мелочную законодательную регламентацию.
Неудивительно, что для Сократа в этом диалоге не остается места: беседу ведет
«афинянин», выражающий мысли Платона, со спартанцем Мегиллом и
критянином Клинием; речь идет об основании новой, критской колонии, куда кроме
критян допускаются только избранные из греков, преимущественно жители Пелопо-
неса****.
Прежние платоновские воззрения в «Законах» тут превращаются в какой-то
бледный призрак, который исчезает при первом прикосновении анализа. По-
прежнему философ думает, что единственное, о чем мы должны молить богов как
для отдельных лиц, так и для государства есть мудрость; она должна служить
основной целью законодательства*****. Критикуя государство дорийско-спартан-
ского типа, он полагает, что отсутствие знания, неведение составляют тот
основной их недостаток, который объясняет падение большинства из них. Но под
неведением разумеется здесь не отсутствие божественной мудрости, а незнание
человеческих дел (τών ανθρωπίνων πραγμάτων αμαθία), то есть, попросту говоря,
недостаток практических сведений. Тут мы имеем сократический термин, но без
сократовского смысла.
К тому же знание здесь играет роль не высшего критерия, а подчиненного
начала. Свобода исследования должна быть ограничена законом. Как бы ни были
хороши законы Спарты и Крита, с!дин из лучших — тот, который воспрещает
молодым людям исследовать достоинства и недостатки существующих законов: они
должны «едиными устами» признать, что все в государстве прекрасно устроено
и «положено» самими богами; того, кто будет этому противоречить, они не
должны слушать. Одним лишь старцам дозволено по этому предмету иметь свое
суждение и высказывать его властям, и то в отсутствие юношей*6. Вся жизнь в «Зако-
* Civitas, 1. Ill, 501.
** Leges, 1. Ill, 683.
*** Polit., 294-300.
**** Leges, III, 702, IV, 708.
***** Ibid., Ill, 687-688.
*6 Leges, I, 634.
472
нах» подчиняется незыблемому внешнему авторитету: самое воспитание здесь —
не что иное, как привлечение юноши к тому, что признается законом за «правый
разум» (λόγος ορθός) на основании опыта (δι έμπειρίαν) старейших и
достойнейших людей*.
Трудно резче выразить контраст между «Законами» и «Государством»: там
Платон ждет спасения от умозрения философа, который созерцает небесный
первообраз общежития; здесь, преграждая путь свободному исследованию, он
вверяет полноту власти старцам, представителям отеческих преданий и житейского
опыта. И степенью подчинения этим заветам старины для него измеряется
ценность гражданина, определяется положение последнего в государстве: власть
каждого в государстве должна обусловливаться не какими-либо внешними
преимуществами, не происхождением или богатством, не высоким ростом или силой
ее носителей; она должна принадлежать тому, кто выкажет наибольшее
послушание положенным законам, кто превзойдет в этом своих сограждан. Ему — быть
первым служителем богов, а второму в послушании — вторым после него и т. д.**
Изо всех пишущих относительно прекрасного, доброго и справедливого одному
лишь законодателю подобает быть советчиком и учить, что должно делать, чтобы
быть счастливым***.
При этих условиях нас не должно вводить в заблуждение кажущееся сходство
религиозного учения в «Законах» с сократовскими и прежними платоновскими
воззрениями. Обращаясь с речью к гражданам будущего государства,
«афинянин» в «Законах» говорит: «мужи, согласно древнему изречению, Бог есть
начало, середина и конец всего существующего». «Бог есть мера всех вещей, гораздо
более, чем какой-либо человек, как говорят некоторые»: посему разумный и
праведный человек должен по мере сил стремиться стать другом Божеству и быть Ему
подобным****. Однако, в противоречии с этим текстом, судьею истинного богопо-
читания в «Законах» является человек, законодатель. Он должен угрожать
наказаниями всем гражданам, которые будут отвергать существование богов и не
признают их таковыми, какими признает их закон; также и относительно
прекрасного и справедливого и касательно добродетели закон предписывает
общеобязательное понимание; ослушники закона должны быть наказаны
смертью*****.
Соловьев основательно замечает, что здесь Платон «всецело становится на
точку зрения Анита и Мелита, добившихся смертного приговора Сократу именно за
его свободное отношение к установленному религиозно-гражданскому порядку».
Те поправки, которые Платон хочет внести в Ликургово государство-лагерь
с точки зрения сократического принципа знания, в «Законах» сводятся к весьма
немногому. Законодатель должен действовать на людей не только принуждением,
но и убеждением; но Платон надеется этого достигнуть чересчур упрощенным
способом: каждый закон должен сопровождаться прелюдией, то есть кратким
введением, которое должно изъяснять гражданам его смысл и тем самым располагать
их к послушанию*б. Подчинение должно быть сознательным, но, однако, с тем,
чтобы оно было безусловным.
* Ibid., И, 659.
** Ibid., IV, 715.
*** Ibid., 1. IX, 858. ,
**** Ibid., 1. IV, 716; VII, 803.
***** Ibid., 1. X, 890.
*6 Ibid., 1. IV, 722-723.
473
XV
Идеализация Спарты и Крита, вот основная черта, которая выражает собою
дух платоновских «Законов». Один из выведенных в диалоге собеседников —
спартанец Мегилл — не находит названия для спартанского государственного
устройства, так как оно представляет собою как бы синтез всех образов правления:
неограниченная власть эфоров8 делает его схожим с тиранией; пожизненная
власть царей установляет сродство Спарты с монархией; вместе с тем это — смесь
демократии с аристократией. То же затруднение по отношению к отечественной
форме правления испытывает критянин Клиний. По объяснению «афинянина»,
то есть Платона, затруднение обусловливается тем, что только спартанцы и
критяне — обладатели истинного государственного устройства (ôvtcoç yàp ώ άριστοι
πολιτειών μετέχετε). Прочие же государства, собственно, — не государства, а
поселения граждан в городах — соединения господствующих и порабощенных: они
получают имя от той части граждан, которая в них господствует*.
В «Государстве» Платон, как мы видели, дает спартанско-критскому строю
определенное название — тимократищ в «Законах» он забывает это название, и это
не случайно: ибо оно выражало в себе осуждение. Называя спартанское
государство тимократией, то есть господством честолюбия, Платон в «Государстве»
противополагал его господству мудрости, которое он под именем аристократии
отождествлял с идеальным государственным устройством. В «Государстве» тимо-
кратия значилась в списке форм извращенных; в «Законах» Платон вычеркивает
ее из этого списка. Тут опять-таки сказывается совершившаяся в его воззрениях
глубокая перемена: он признает истинным государственное устройство, в
котором раньше он видел продукт грехопадения государства, первую ступень его
вырождения.
В сущности это — больше, чем изменение воззрений: это — утрата веры,
постепенное, а потому незаметное для самого философа угасание того идеала,
который прежде служил ему критерием действительности. Раньше он видел цель
государства в создании новой божественной породы людей, признавал ложью
всякую сделку с человеческими страстями. Теперь речь идет уже не об
искоренении эгоизма, а только о внешнем его обуздании, которое достается ценою уступок
человеческим слабостям. Тут есть готовность помириться со злом при условии
ограничения его внешних проявлений.
Спартанско-критский строй, с которого Платон копирует свой проект
«Законов», оправдывается не столько требованиями справедливости, сколько
соображениями целесообразности. Предположение этого строя — непрекращающееся
состояние войны между государствами. То, что обыкновенно называется миром,
является таковым только по имени; в действительности же, в силу закона
природы, всякое государство всегда вооружено против соседей, то есть находится в
состоянии войны с ними, даже когда война не объявлена. Эта вражда между
государствами — проявление всеобщей взаимной вражды. Совершенно так же, как
впоследствии Гоббс, Платон учрт, что естественное состояние рода человеческого
есть война всех против всех: не только государства, но и отдельные индивиды —
по природе враги между собою; мало того, каждый индивид пребывает в
состоянии внутренней войны с самим софой**.
* Ibid., I. IV, 712-713.
** Ibid., 1.1,626.
474
Еще в «Государстве» Платон считал этот всеобщий раздор печатью
действительности: он видел основную задачу идеального общественного устройства в том,
чтобы противопоставить всеобщему раздвоению и распадению единство идеи,
совершенное дружество идеальных граждан. Но мы видели, что уже в
«Государстве» он вынужден ограничить царство идеи тесными пределами идеального
государства: последнее осуществляет единство только внутри себя, но вместе с тем
вынуждено строить свои внутренние отношения в расчете на постоянную
внешнюю опасность. Теперь, в «Законах» эта военная цель начинает играть
преобладающую роль: здесь Платон с нее начинает и вокруг нее сосредоточивает все свои
рассуждения. Он не идет дальше надежды на прекращение худшего рода войны,
войны внутренней, междоусобной*. Смягчение военных нравов
государства-лагеря музами — вот крайний предел его мечтаний.
Наконец, и внутри государства Платон отказывается от осуществления того,
что в «Государстве» он считал единственно важным и ценным — того
совершенного единомыслия и дружества, которое он признавал достижимым только при
условии общности жен и имуществ. Противополагая «государство Законов»
государству наилучшему, он прямо говорит, что в первом все граждане делят
между собою земли и жилища, а при этом — не возделывают полей сообща, так
как большего нельзя требовать от людей, «как они теперь рождены, вскормлены
и воспитаны»**. Тут опять-таки бросается в глаза совпадение с изображением
тимократии в «Государстве». Тимократия отличается от идеального
общественного устройства совершенно теми же признаками. Остатки коммунизма
сохраняются, впрочем, и в «Законах»; но это — едва заметные, поблекшие
следы прежнего смелого замысла. Всякий гражданин смотрит на свой участок не
как на частное достояние, а как на собственность государства. Участки считают
неотчуждаемыми и неделимыми; по наследству они могут переходить только
к одному лицу, а не к нескольким***. В общем это — то самое аграрное
устройство, которое существовало в Спарте и Крите****. Таким образом, и здесь
Платонов государственный идеал утрачивает свое специфическое отличие от
исторически сложившегося. В дополнение сходства, государство «Законов» включает
в себя рабов, для которых Платон вырабатывает строжайшее уголовное
законодательство.
По-прежнему он считает «единство* высшей целью государства и
непременным условием счастья его граждан; но, незаметно для себя самого, это «единство»
изменяет все свое содержание и из органического, внутреннего становится чисто
формальным. В «Государстве» Платон мечтал о совершенном единстве духовной
жизни; коммунизм представлялся ему лишь средством для этой цели. Напротив,
в «Законах» средство отпадает, потому что исчезает цель: единство здесь —
только внешний порядок, которому все подчиняются, причем за каждым сохраняется
строго обособленная сфера «моего» и «твоего». Не задаваясь целью искоренения
эгоизма, государство «Законов» его только обуздывает, сдерживает. В
«Государстве» Платон ставил целью государства — вырвать душу из плена; напротив,
в «Законах» он оставляет человека в его земной темнице, заботится только о
водворении в ней порядка и благоустройства. Он уже не предлагает людям пройти
трудный, скалистый путь от смерти к жизни: довольно с них, если они сумеют
* Ibid., 1,629.
** Ibid., V, 739-740.
*** Ibid., V, 740.
**** О спартанско-критском аграрном устройстве см. Pöhlmann, цит. соч., т. I, 6.
475
жить в мире и не растерзают друг друга! Словом, в «Законах» государство теряет
свой прежний облик союза духовного и становится всецело союзом мирским, с
головы до ног греческим государством.
Вместе с тем все построение утрачивает то самое, что приподнимало его над
языческой древностью и составляло его общечеловеческий интерес. «Законы» —
для их автора — уже не воплощение безусловного, а проект относительных
улучшений — чисто консервативная попытка путем новой полицейской
регламентации спасти государственный строй, уже разлагающийся и бесповоротно
осужденный на близкую гибель.
Подробное изложение «Законов» поэтому было бы здесь излишним:
достаточно отметить в них черты, наиболее характерные для великого мыслителя
древности, в особенности те, которые объясняют психологические причины его падения.
«Второе после наилучшего» государство во многом напоминает первое; но это —
лишь сходство карикатуры. В «Законах» нет того самого, что составляет душу
«Государства».
Там и здесь мы видим неподвижное, незыблемое государственное устройство;
но в «Государстве» это — неподвижность божественной идеи, воплотившейся в
государственных учреждениях; в «Законах» это — неподвижность чисто
человеческого законодательства, превратившегося в мумию; недаром здесь образцом
политического искусства считается египетское законодательство о пластике и
живописи*. В «Государстве» Платон отстаивает незыблемость идеала, порвавшего
с историческими преданиями; в «Законах» он хочет сообщить незыблемость
преданию путем превращения его в окаменелость.
В «Законах» мы видим ту же, как и в «Государстве», деспотическую власть
правительства, но без ее оправдания: там послушание гражданина — подвиг
воина-монаха, который тем самым спасает свою душу; здесь, напротив, это — простая
покорность верноподданного. В «Государстве» как философ, который повелевает,
так и те, кто ему повинуется, тем самым осуществляют неземную, вечную правду.
В «Законах» — «высшая правда» есть то, что называет этим именем поэт Феог-
нид9: это — верность закону в трудных обстоятельствах**.
Уже в «Государстве» неприятно поражает и отталкивает та разработанная в
деталях регламентация, посредством которой философ думает овладеть душою
своих граждан; но здесь она по крайней мере понятна: в монастыре монастырский
устав — на месте. В «Законах» та же самая регламентация производит впечатление
еще худшее, потому что она перестает быть средством и становится целью. В
«Государстве» то или другое упущение во внешних предписаниях имеет значение
второстепенное: здесь всякая, ошибка может быть исправлена, и всякий пробел
может быть восполнен живой мудростью философа, которая — выше всяких
внешних предписаний. Напротив, в «Законах» регламентация есть все; если
законодатель что-либо упустил или не досмотрел, он тем самым на будущее время
открыл дверь тем новшествам, которые разрушают неподвижность
законодательства. Если, например, он допустил малейшее отступление от установленных
образцов в музыке, живописи и поэзии — в обществе водворится та опасная
независимость суждения, которая! служит источником неповиновения: беспорядок
в мелодии влечет за собою беспорядок в мыслях, в чувствах, во всей вообще
индивидуальной и общественной жизни. 4тобы быть неподвижным, законодательство
Ibid., 1. II, 657.
Ibid., 1.1, 630.
476
во всех его подробностях должно быть точным: оно раз навсегда определяет, как
должен петь поэт и как ему следует выражаться*.
Весь трактат о «Законах» производит впечатление, словно Платон не хочет
допустить в своем законодательстве никаких пробелов: оно стремится все
предвидеть и предопределить. Мы находим здесь точное описание желательного
географического положения государства «Законов», его этнографического состава,
даже проект распланировки города на пять тысяч сорок граждан**, точное
разделение всей территории государства по числу граждан на 5040 участков, с
подразделением каждого участка на две доли, одну — близкую, другую — удаленную от
города***. К этому присоединяется ряд строжайших полицейских мер,
направленных к сохранению имущественного равенства между гражданами: избыток,
превышающий дозволенную законом норму благосостояния, подвергается
конфискации; при этом для выяснения самой наличности такого избытка поощряется
система всеобщего шпионства — взаимные доносы граждан друг на друга****.
Еще более радикальные меры принимаются против бедности: нищие
просто-напросто подвергаются изгнанию из государства; жестокость этой операции, по
мнению Платона, оправдывается тем, что в политике, как и в медицине, наилучшие
средства суть наиболее мучительные*****.
Регламентация браков и полицейский надзор за половыми отношениями —
еще строже и еще возмутительнее в «Законах», чем в «Государстве»; к тому же
здесь, в отличие от «Государства», безбрачие считается преступлением: оно
наказывается потерей чести и имущества. В мотивах, которыми оправдывается эта
мера, сказывается характерное для последнего периода Платона отступление от
прежних, идеальных его воззрений на смысл любви. В «Пире» он прославлял
воздержание от деторождения, признавая в нем ступень к высшему, духовному
рождению человека; в «Законах», напротив, он видит в деторождении нормальный,
для всех обязательный путь к бессмертию: брак обязателен в целях замены
умирающих экземпляров новыми ради увековечения человека в природе*6. Тут,
незаметно для самого философа, реальное, загробное бессмертие индивида
подменивается мнимым земным бессмертием типа, рода.
С забвением индивидуального, личного бессмертия в «Законах» связывается
упадок уважения к личному достоинству; поэтому и порабощение человека
государству здесь сказывается еще ярче и рельефнее, чем в «Государстве».
В своих заботах о поддержании нужной для государства породы граждан
Платон не знает предела. Он вменяет в обязанность государству обучить родителей
самому искусству деторождения; для надзора над правильностью половых
отношений между супругами он хочет учредить особый полицейский орган*7.
Такому же строгому надзору подвергается вся вообще частная жизнь и деятельность.
Законодателю вменяется в обязанность создать регламентацию для пиршеств
и для попоек*8, для плясок и пения*9, для шуток, насмешек и даже для детских
* Ibid., 1. И, 656-657; 1. III, 761.
** Ibid., 1. IV, 704-708; 1. V, 745.
*** Ibid., 1. V, 745. »
**** Ibid., 1. V, 744-745.
***** Ibid., 1. V, 735.
*6 Ibid., I. IV, 721; О регламентации брака ср. 1. VI, 773-775, 783-789.
*7 Ibid., 1. VI, 783-784.
*8 Ibid., 1. II, 653, 666, 674.
*β Ibid., 1. VÏI, 799-800.
477
игр*. Определяя все числом и мерою, законодатель не должен бояться
мелочности: не пренебрегая ничем, он обязан определять даже величину сосудов,
которыми пользуются граждане**. Прибавим к этому, что подчинение и
дисциплина в государстве «Законов» обеспечиваются карами, суровыми для граждан
и необычайно жестокими для рабов***.
Сказанного достаточно для характеристики идейного содержания государства
«Законов». Было бы излишним воспроизводить здесь малоинтересные
подробности сложного государственного механизма, начертанного здесь Платоном.
Остается коснуться вопроса, который для характеристики последнего периода
политических мечтаний Платона имеет важнейшее значение, — о способах
осуществления второго после наилучшего государства. В «Законах», как и в
«Государстве», он считается с неизбежностью сопротивления человеческой природы
планам законодателя: он признает, что нельзя лепить государство из людей, «как
из воска», а потому мечтает только о приблизительном осуществлении своего
проекта****. Однако и для приблизительного осуществления требуется насилие,
возведенное в систему. И с этой точки зрения Платон приходит к самому
роковому для себя выводу.
Для осуществления проекта «Законов» необходимо государство,
управляемое тираном. Пусть этот тиран будет молод, памятлив, восприимчив к учению
(εύμαθής), мужественен и с возвышенными чувствами; пусть в особенности он
обладает той добродетелью, без которой все его прочие душевные качества не
могут служить намеченной цели, — умеренностью. При этих условиях, если
судьба сведет тирана с мудрым законодателем, ему удастся легко и очень скоро
(τάχιστα) дать государству устройство, которое сделает его совершенно
счастливым"****.
Тут мы получаем возможность измерить бездну, отделяющую «Законы» от
«Государства». Противоречие между обоими трактатами бросается в глаза.
«Добродетельный» тиран «Законов» обладает совокупностью всех тех качеств, коих,
по смыслу VIII и IX книг «Государства», тиран лишен по природе. Противоречие
не устраняется тем, что тиран, изображенный в приведенных только что текстах
«Законов», играет роль счастливой случайности. Как мы видели, в «Государстве»
проводится мысль, что самая возможность «умеренного тирана» исключается
природой тиранического образа правления; там Платон доказывает, что тиран
вообще может править лишь посредством злодеяний: стать на путь добродетели для
него — значит погибнуть. Ясно, что в «Законах» Платон изменяет не только свое
отношение к тирану, но и свою оценку тирании. И в самом деле, в «Государстве»
тирания изображается как крайняя ступень грехопадения человеческого
общества: в ряду извращенных образов правления она занимает последнее место.
Напротив, в классификации «Законов» она ставится выше монархии, демократии
и олигархии: после самого государства «Законов» она занимает первое место*Ь,
Нельзя не заметить, что как это, так и все вообще отмеченные выше
отступления Платона от прежних его политических взглядов связаны с глубоким
изменением его мировоззрения и настроения. Это изменение может быть охарактеризо-
* Ibid., 1. VII, 797-798; О регламентации шуток см. 1. XI, 935.
** Ibid., 1. V, 746-747.
*** Ibid., см. всю IX книгу.
**** Ibid.,I. V, 746.
***** Ibid., 1. IV, 709-711.
*6 Ibid., 1. IV, 710.
478
вано двумя словами — упадок веры в добро. В «Законах» Платон неоднократно
исповедует свою веру в божественное мироправление; с этою верою он связывает
свои политические надежды*; познание Разума, царящего над вселенной, он
считает основою политической мудрости**. Но рядом с этим в «Законах»
определеннее, чем в прежних диалогах, высказывается убеждение, что могущество этого
Разума ограничено: «после Бога судьба и случай управляют человеческими
делами», после же судьбы и случая — человеческое искусство***. При этом Платон
хорошенько не знает, какая душа воплощается во вселенной, добрая или злая; в
ответ на этот важнейший для него метафизический вопрос он дает неопределенное,
альтернативное решение: если путь и движение небесных светил подобны, сродны
движению мысли и разуму, то ясно, что благая душа правит миром. Если же
мировое движение совершается беспорядочно и безумно, то, стало быть, вселенная
находится во власти злой души****.
Очевидно, что мысли философа начинают двоиться: от закравшегося в его
душу сомнения он ищет спасения в практической деятельности; он зовет на помощь
Божеству политическую мудрость «сынов века сего». Но тем самым изобличается
немощь его веры, а политическая мудрость оказывается двойственною: она
стремится достигнуть целей добра путем компромисса со злом. Отсюда — уродливое
противоречие всего проекта государства «Законов»: богоподобие служит для него
целью, а тирания — средством.
Несостоятельность социальной утопии Платона, как известно, обнаружилась
не только в теории, но и на практике. Он надеялся найти орудие для
осуществления своих планов в лице сиракузского тирана — Дионисия Старшего; но тот, если
верить преданию, продал его в рабство. Выкупленный друзьями, Платон
возобновил свои попытки при дворе Дионисия Младшего; но и тут дело кончилось тем,
что философ был дважды вынужден спасаться бегством.
XVI
Заключение
После всего того, что было сказано о сущности философии Платона и о ее
противоречиях, историческая необходимость этого печального конца становится нам
понятною.
Платон жил в исторической среде, для которой Божество не было конкретным
явлением, а потому могло быть только предметом умозрения. Единое
Божественное здесь не было осязаемо, видимо; оно могло быть познано только через
отвлечение от всего чувственно воспринимаемого. Здесь оно могло явиться только как
бесплотный дух. Назвав Божество идеей и признав мир материальный, телесный
областью внебожественного, Платон точно выразил отношение Древней Греции
к предмету ее религиозного искания. Он достиг той высшей ступени богосозна-
ния, до которой этот мир мог возвыситься, и наткнулся на ту роковую
историческую границу, за которую эллину не было дано перейти.
* Ibid., 1. IV, 709.
** Ibid., 1. XII, 967-968.
*** Ibid., 1. IV, 709.
**** Ibid., 1. Χ, 897.
479
Для Древней Греции Божество должно было оставаться только идеей;
соответственно с этим и царство Божие могло здесь быть только философским,
умозрительным царством. Платон сказал миру вещее слово. Но это слово не могло
перейти в дело, стать плотью и вочеловечиться по той простой причине, что оно не было
Богом. Божество-идея не могло ни сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно
должно было оставаться вне области генезиса, то есть, иначе говоря, не могло
родиться в мир.
В мире явлений рождается не идея, а только ее обманчивые подобия, идолы,
призраки, которые принимаются людьми за подлинную реальность. Этим своим
учением Платон выразил действительное отношение языческой древности к той
Истине, которую она искала. Он понял, что идолами здесь наполняется вся
жизнь, как личная, так и общественная. Он попытался их изобличить и
разрушить. В этой критической разрушительной работе он совершенно правильно
видел необходимое условие спасения как личности, так и общества. Тут ему
пришлось столкнуться с рядом условных политических ценностей, которые до сих
пор нередко принимаются людьми за безусловные и продолжают господствовать
в жизни. В существе своем наша жизнь осталась языческою, а потому все те же
политические идолы волнуют умы, вызывают борьбу партий и господствуют на
площади. Поэтому критика Платона и в наши дни сохраняет свое значение: в ней есть
неумирающая правда.
Но еще ценнее и значительнее для нас положительный вывод философа: он
понял, что в этой языческой жизни от начала до конца все — ложь, что правда не
справа, не слева и не в центре, а сверху, над борьбой классов и партий, над
существующими формами общежития, что жизнь личности и общества только тогда
обретет свой смысл, когда она воссоздастся согласно ее божественному
первообразу. Гигантским усилием мысли он вознесся над землею и вспомнил небесную
родину. В порыве вдохновения он увидел то, чего раньше в его среде никому не
было дано видеть, — тот мир, где Бог есть все во всем, где нет ни борьбы,
ни раздвоения, ни ненависти, ни страсти, тот покой, где всякому движению
конец, и ту всеобщую гармонию, где хаосу навеки положен предел. Он понял, что
истинное общежитие есть то, где люди едины в Боге, где все живут единой мыслью
и единым чувством — в том совершенном дружестве, которое упраздняет
различие моего и твоего.
То было, без сомнения, откровение Безусловной Правды. Но правде в Древней
Греции было суждено быть мимолетным видением одинокого ума. Платон
утратил, забыл свою идею, как только он попытался ее осуществить, сделать нормой
для жизненных отношений, ι
Трагизм положения Платона заключался именно в том, что эта попытка
была, с одной стороны, необходима, а с другой стороны, противоречива и
безнадежна. Философ не мог ограничиться одним только восхождением к идее, одним
только отвлеченным ее созерцанием: раз он видел в ней смысл жизни вообще
и жизни человеческой в частности, он должен был попытаться ее осуществить,
то есть совершить путь книзу. Но на этом пути утрата идеи была неизбежна.
Равнодушное небо не могло спуститься на землю. Земля, оторванная от неба,
могла вместить в себе не идею, а только ее извращенное отражение, не истинную
красоту и благо, а только их исчезающий призрак. Осуществить идею на земле
значило сделать то, что с то^ки прения метафизики Платона могло быть только
подделкой, обманом. Поэтому путь книзу мог оказаться для него только путем
падения.
480
И в самом деле, социальная утопия Платона была в известном смысле
самообманом, незаметной для него самого фальсификацией. Его идеальное государство
представляет собою самое причудливое сочетание возвышенного и прекрасного
с плоским и тривиальным. С одной стороны, оно хочет быть храмом Божиим,
сосудом Безусловного; с другой стороны, оно ограничивает явление Божества на
земле рядом внешних, материальных границ, территориальных, расовых,
политических. С одной стороны, божественной мудростью своих правителей, своим
внутренним единством, дружеством своих граждан и воздержанием от
чувственных вожделений оно хочет быть подобным своему небесному первообразу;
с другой стороны, оно подобно греческому городу, и в частности, — Спарте с ее
жестокими нравами и бесчеловечным законодательством. Сам Платон в своих
уподоблениях спускается еще ниже: он сравнивает республику идеальных граждан
с пчелиным роем, который выводит свою матку. И это сравнение не есть простая
случайность: государство, где все ходят по струнке и личная свобода целиком
приносится в жертву, действительно напоминает те животные общества, где каждый
индивид автоматически выполняет необходимую для целого функцию.
С той высоты умозрения, на которую поднялся Платон, он уже не мог
спуститься в языческую действительность: он мог только упасть. Падение выразилось
в забвении цели ради средства, в замене единого, безусловного добра
преходящими, житейскими ценностями, в смешении лучших даров духовных с человеческой
грязью и, наконец, в чудовищной сделке с отродием ада — с тогдашней тиранией.
Эта сделка по отношению к утопии Платона не есть что-либо случайное: в ней
раскрывается основное ее внутреннее противоречие. С одной стороны, между
миром духовным и материальным существует непримиримая противоположность;
с этой точки зрения сочетание идеи с какой-либо материальной, вещественной
силой представляется совершенно невозможным. С другой стороны, идея должна
осуществиться в мире: для этого она должна опереться на силу. В результате
получается противоречивая формула политии: Платон ждет спасения рода
человеческого от сочетания мудрости с властью. Вступив на этот путь компромисса,
Платон должен был пройти его до конца: он должен был обратиться к тирану,
потому что только единоличная, деспотическая власть могла быть достаточно
сильна для осуществления задуманных им радикальных преобразований.
Тут-то и обнаруживается основная ложь всего построения Платона: у него
царствие Божие зачинается не в сердцах людей, а приходит извне; спасение является
прежде всего актом правительственной мудрости, результатом действия
внешнего принудительного механизма. Впереди идет сильная власть; она мечом
разрубает путы, прикрепляющие человека к миру: она уничтожает собственность, семью
и установляет в государстве внешнее единство; потом уже, как венец и результат
внешнего насилия, является внутреннее возрождение, общность мысли и чувства
и праведность граждан.
Иными словами: внутреннее единство людей в божественней идее
подменивается внешним единством государства, которое всех держит в страхе; в этой
подмене и заключается тот грех, который привел Платона к ногам ниспровергнутых им
идолов. Неудивительно, что социальная утопия Платона осталась непонятою его
современниками и пропала для них без пользы. Даже гениальный его ученик —
Аристотель — увидел в идеальном государстве только принудительный аппарат,
который не достигает своей цели, не объединяет людей. Аристотель высказал
мысль, что путем уничтожения семьи и собственности нельзя искоренить в
человеке того эгоизма, который заставляет заботиться больше о собственном благопо-
16 Зак. 3911 481
лучии, нежели об общем благе. Он указал, что идеальное государство распадается
на две части, которые силою вещей должны враждовать между собою, —
безоружных земледельцев и ремесленников, которые несут на себе всю тяжесть
материального труда, и небольшой военный гарнизон «стражей», которые
монополизируют господство и власть.
Словом, Аристотель показал, что единство идеального государства у Платона
является призрачным, мнимым. Мыслитель-прозаик, он не нашел и не понял
в «Государстве» самого главного — его религиозного содержания, его идеи, его
мистического настроения. Но ответственность за это в значительной мере падает
на его учителя: его идеальная республика была только призраком, обманчивым
подобием его идеи. Идею здесь заслонил внешний государственный аппарат:
в этом — тяжкая вина самого Платона.
Задача историка в том и заключается, чтобы отделить эту идею от
затемняющего ее исторического покрова, распознать то вечное, неумирающее содержание,
которое в творениях Платона облеклось в смертную, античную форму. Смысл
социальной утопии Платона — за пределами того древнего мира, для которого
философ был «чуждым семенем», более того, — за пределами его собственных
философских построений. Смысл этот — не в том государстве-городе, который он
нашел, а в том вышнем городе, которого он искал.
Когда Бог явился во плоти, умер и воскрес, христианскому сознанию
открылась тайна, которой не мог разгадать величайший из мыслителей древности. Был
пройден тот путь вниз и путь вверх, о котором мечтал Платон. Вочеловечение
Бога заполнило пропасть между небом и землею. Мир узнал, что нет непроходимой
грани между духовным и телесным: ибо Бог рождается в материи, преображает
и одухотворяет ее. Тем самым было положено вечное, незыблемое основание
вышнему городу. Ибо вышний город не есть ни небо, ни земля, а совершенное
примирение того и другого, их неразрывное и неслиянное единство.
Теперь нам ясен смысл утопии Платона. Эта звезда, с которой путешествовал
мудрейший из волхвов, приводит к яслям Спасителя.
Двадцать два с половиной столетия прошло со дня смерти философа. Мы все
еще сидим в описанной им пещере и созерцаем на стене знакомые ему тени. Тот же
свет светит нам сзади и зовет нас вверх. Но мы одушевлены незнакомой ему,
радостной надеждой. Мы верим в совершенную, окончательную победу жизни над
смертью. И мы знаем путь к выходу, путь к вечному городу. Его открыло нам
Слово, победившее мир.
482
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
ПРОФЕССОРА
Л. И. ПЕТРАЖИЦКОГО
В последние годы в русской философско-юридической литературе
господствовало необычайное оживление. Ряд более или менее видных исследователей
выступил с попытками определить существо права, выяснить отличие его от
нравственности. Вскоре после напечатанной в 1896 году брошюры профессора
Шершеневича1 «Определение понятия о праве» появилась книга В. С.
Соловьева «Право и нравственность». Не далее как в прошлом году издал свою
«Философию права» Б. Н. Чичерин, а профессоры Гамбаров и Новгородцев
высказались по вопросу о существе права и об отношении его к нравственности в
«Сборнике юридических знаний». Наконец, событие истекшего года
составляет появление первого выпуска «Очерков философии права» профессора
Л. И. Петражицкого.
Между исследователями, пишущими о праве, теперь, как и прежде, нет
согласия. Всякий по-своему определяет основные юридические понятия, и
всякий так или иначе чувствует недостаточность существующих определений.
Г. Петражицкий очень кстати напоминает изречение Канта: «Юристы все еще
ищут определения для своего понятия о праве». Это несогласие юристов
относительно того, что составляет объект и содержание их науки, эта
множественность даваемых ими разноречивых определений показывают, что в науке права
творится что-то неладное. Несмотря на многовековые усилия гениальнейших
представителей человеческой мысли — великих философов и корифеев
юриспруденции, — науке права до сих пор еще недостает единой руководящей нити.
Говоря словами г. Петражицкого, «сфинкс существа права так и остался
сфинксом. Ни одно из бесчисленнырс, предложенных определений права не получило
санкции науки и не признано общим фундаментом для возведения научного
здания. Ни одно из них не сделалось даже господствующим мнением».
Состояние науки, не выяснившей себе как следует, чем собственно она
занимается, само собою разумеется, не может быть признано нормальным, и
усиливающаяся с каждым годом разноголосица мнений служит симптомом тяжкой
болезни, переживаемой юриспруденцией. В появившейся только что
вышеназванной книге профессор Петражицкий пытается поставить диагноз этой
болезни и предлагает энергическое лечение, которое должно выразиться в виде
коренного преобразования всей науки права. В отличие от других названных
выше сочинений, книга г. Петражицкого не примыкает ни к одному из
существующих или существовавших до сих пор в юриспруденции течений. Она не
защищает какого-либо из высказанных доселе определений существа права,
484
не пытается внести каких-либо частичных поправок или дополнений в
традиционные воззрения; г. Петражицкий недоволен всем методом современной
юриспруденции; он хочет порвать с ее вековыми преданиями и перестроить все
ее научное здание на новых основаниях.
Попытка эта представляется в особенности интересною потому, что она
исходит от ученого, стяжавшего себе рядом ценных научных исследований
почетную известность не только в России, но и в Западной Европе. Его блестящие
научные дарования, засвидетельствованные даже такими литературными его
противниками, как Зом и Б. Н. Чичерин, волей-неволей заставляют считаться
с его воззрениями. Согласны мы или не согласны с выводами г. Петражицкого,
во всяком случае, мы должны признать, что его книга заслуживает
внимательного критического разбора, который мы и попытаемся дать в настоящей статье.
I
«Неуспех массы попыток определить существо права, — говорит г.
Петражицкий, — подал в последнее время повод к сомнению в возможности решения
этой задачи, к довольствованию явно неудовлетворительными определениями,
к стремлению обойти вопрос об определении права и т. п. средствам
самоуспокоения» (стр. 5-6). Действительно, сомнения в возможности
удовлетворительно определить право были высказываемы не раз весьма авторитетными
учеными (достаточно назвать Савиньи, Меркеля, Бергбома), и нельзя не согласиться
с указаниями г. Петражицкого на ненаучность подобных сомнений,
основанных на нелогическом заключении a non esse ad поп posse2. Чтобы признать
существо права «неразрешимой загадкой», надо доказать, что самая задача
выходит за пределы возможного познания, нужно установить путем
гносеологического исследования, что данные для ее разрешения недоступны человеческому
разуму. Такого доказательства до сих пор никем представлено не было и
представлено быть не может: напротив того, путем анализа человеческого сознания
можно доказать, что мы обладаем «вполне достоверным материалом для
познания существа права».
Таким материалом, говорит г. Петражицкий, являются, во-первых, наши
внутренние психические акты. «Дело в том, что право есть (этого никто не
отрицает) явление не внешнего, материального мира, как, например, камень,
дерево, а явление духовного мира, психическое явление, явление нашей души»;
поэтому с природой его мы можем познакомиться непосредственно и
достоверно «в нашей душе, то есть путем наблюдения, сравнения, анализа наших же
собственных духовных состояний». Во-вторых, так как наши внутренние
психические состояния выражаются во вне, в человеческих словах и действиях,
то материал для познания права может быть добыт путем изучения
человеческой речи и человеческих действий. Наконец, в-третьих, таким материалом
могут послужить и «всякого рода сообщения, повествования и иные источники
сведений о действиях, речах других, исторические памятники, письма
путешественников и т. д. ». '
Анализируя человеческое самосознание, г. Петражицкий прежде всего
констатирует присутствие в нем норм, авторитетно регулирующих наше поведение.
485
Размышляя в разных случаях нашей жизни о том, как поступить, на что
решиться, мы чувствуем себя совершенно свободными в выборе того или другого
поведения: идет ли речь о выборе того или другого места для прогулки, того или
другого распределения наших занятий, магазина, в котором мы хотим купить
нужную для нас вещь, наша воля ничем не связана: мы выбираем тот образ
действий, который представляется нам наиболее приятным и целесообразным.
В других случаях, мы, напротив, чувствуем связанность нашей воли,
чувствуем необходимость поступить так или иначе независимо от соображений
удовольствия и эгоистической пользы. «Какой-то внутренний голос авторитетно
предписывает, предопределяет наше поведение; наша совесть „повелевает" нам
то или другое; иными словами, нам присущи такие убеждения, которые
властно и авторитетно для нас же самих нормируют наше поведение». Этим
повелительным нормам, управляющим нашей совестью, мы приписываем высший
авторитет не только по отношению к нам самим, но и по отношению к другим
людям: мы убеждены в том, что не мы одни, но и всякий на нашем месте
должен был бы поступить так, как подсказывает нам внутренний голос нашей
совести.
«Отмеченное выше чувство связанности нашей воли, — продолжает г. Пет-
ражицкий, — сознание необходимости подчинения ее известному
авторитетному импульсу (авторитетному побуждению к такому или иному поведению) мы
выражаем словами: обязанность, долг, обязательство, долженствование, а те
убеждения, которые порождают такие или иные обязанности, то есть
авторитетно регулируют наше поведение (авторитетно-импульсивные убеждения), мы
называем нормами, императивами».
Чувство связанности нашей воли бывает в различных случаях жизни
различным, а соответственно с этим — неодинакова природа тех повелительных
норм, которые управляют нашим поведением. Наше психическое отношение
к бедняку Ивану, которому мы считаем себя обязанными дать десять рублей по
долгу человеколюбия, совсем не таково, как наше психическое отношение к
извозчику Петру, которому мы обязались уплатить десять рублей за совершенную
им с нами поездку. «Ивану мы ничего не должны; ему ничего от нас не
„следует", не „причитается"; если он получит 10 рублей, то это — дело нашей „доброй
воли". Несмотря на связанность нашу по отношению к собственным
убеждениям, к нашей „совести", по отношению к Ивану мы считаем себя свободными,
не связанными и от него ожидаем признания этой свободы, признания нашей
„доброй воли", дать или не дать, а во всяком случае не ожидаем
противоположного отношения». Если бы И^ан стал требовать с нас уплаты 10 рублей, как
чего-то ему должного, то, очевидно, мы такое требование сочли бы «неуместным,
нахальным». Словом, наша нравственная обязанность — дать 10 рублей не
закреплена за Иваном: «мы чувствуем по отношению к нему свободу отвернуть от
него положительный полюс нашего намерения, например, направить его на
другого, более нуждающегося».
«Совсем иное, прямо противоположное говорит нам наше сознание о нашем
отношении к Петру, который 'заработал с нас 10 рублей, доставив нас в город,
или которому мы проиграли 10 рублей. Ему мы должны 10 рублей, ему
следует, причитается от нас получить 10 рублей. По отношению к нему мы связаны,
лишены свободы дать или не дать*. Заявление извозчику, требующему от нас
условленной платы, что мы платить не желаем, что это зависит от нашей доброй
воли, нам кажется абсолютно недопустимым, бесстыдным, нахальным», Сло-
486
вом, если по отношению к Ивану мы чувствовали себя свободными, то по
отношению к Петру мы связаны; «нашу обязанность уплатить ему 10 рублей мы
признаем закрепленною за ним как что-то приобретенное им (заработанное,
выигранное и т. п.), так что мы не чувствуем свободы отвернуть от него
положительный полюс нашей обязанности, лишить его получения».
Словом, обязанности наши бывают двух родов: в одних случаях обязанность
лица сознается закрепленною за другим или за другими лицами,
«принадлежащею другому как его добро (alii attributum, acquisitum)», в других случаях,
обязанность лица представляется односторонне связывающей, незакрепленной
за кем-либо другим. В этом-то г. Петражицкий и видит тот характеристический
признак, который отличает правовые обязанности от нравственных.
Обязанности «по отношению к другим свободные (односторонне связывающие)» он
считает обязанностями нравственными; обязанности же «по отношению к другим
несвободные (закрепленные активно за другими и образующие, таким образом,
двустроннюю связь)» он признает обязанностями правовыми, юридическими.
Различию обязанностей соответствует различие повелительных норм,
управляющих нашим поведением. Существо одних из этих норм (нравственных)
«состоит исключительно в авторитетном предопределении нашего поведения;
предписывая нам то или другое (например, утешать страждущих, любить
ближних), эти нормы ничего не закрепляют за другими людьми, ничего не
приписывают им как им с нас должное, следуемое. Существо же других —
правовых норм (например, проигранное в карты должно быть уплачено партнеру,
занятые деньги должны быть возвращены занявшим) «состоит в двух функциях:
с одной стороны, они авторитетно предопределяют наше поведение, с другой
стороны, они авторитетно отдают другому, приписывают как ему должное то,
чего они требуют от нас».
Нравственные нормы только повелевают и потому могут быть названы
императивами, нормы же правовые не только повелевают лицу обязанному,
но предписывают, предоставляют другим лицам (управомочным) то, что им
следует, поэтому они могут быть названы атрибутивами или, еще точнее,
императивно-атрибутивными нормами. Нравственные нормы нормируют
положение только лица обязанного и постольку имеют односторонний характер;
напротив того, нормы правовые суть нормы по существу двусторонние, ибо они
одновременно нормируют положение двух лиц, обязанного и управомоченного,
того, с кого следует, и того, кому следует.
Таковы те основные черты права в отличие от нравственности, которые,
по мнению г. Петражицкого, должны составить «базис для синтетического
построения науки права». Чтобы разобраться критически в воззрениях автора,
мы должны исследовать степень прочности этого базиса.
II
Прежде всего нетрудно убедиться в цекоторой неопределенности и
двусмысленности основной мысли г. Петражицкого, которая обусловливается
смешением психологической точки зрения с этической. Во вступительных замечаниях
к своему исследованию г. Петражицкий предлагает чисто психологический
487
критерий для различения права от не права. Единственным материалом для
познания права являются наши психические акты, то есть состояния нашего
сознания и их внешние проявления — человеческие речи и действия (стр. 9-10).
Казалось бы, тут идет речь о таких психических состояниях, которые всякий
вообще человек может наблюдать в своем сознании. Однако в дальнейшем
своем изложении, переходя к определению «существа права», г. Петражицкий
берет за исходную точку вовсе не общечеловеческую психологию, а психологию
человека нормального, обладающего правильно развитым нравственным и
правовым чувством. Это — психология тех людей, которые признают или
«чувствуют» себя связанными теми или другими нормами должного по отношению
к ближнему, тех, например, которые считают «бесстыдным и нахальным» не
уплатить партнеру проигранное в карты и не выдать извозчику, доставившему
их город, условленного вознаграждения. Ясное дело, что та чисто
психологическая точка зрения, из которой первоначально исходил автор, незаметно для
него самого подменивается точкой зрения этической.
Вряд ли г. Петражицкий станет оспаривать возможность нравственного
и правового идиотизма, вряд ли он станет отрицать существование таких
людей, которые не только не считают себя обязанными уважать чужое добро, но не
признают себя связанными вообще никакими «закрепленными за ближним
обязанностями». Спрашивается, какой материал могут дать «психические
состояния» этих людей для определения существа права? Очевидно, никакого, и,
если в результате анализа г. Петражицкого получилось то или другое
определение права, то только потому, что он, не отдавая себе в том отчета, ограничивал
область своих наблюдений: материалом для его анализа на самом деле
послужили психические состояния только тех людей, которые мыслят и чувствуют
согласно тем и другим представлениям о должном, иначе говоря, такое сознание,
которое уже содержит в себе нравственные и правовые нормы. Г. Петражицкий
хочет оставаться на почве эмпирической психологии, но это оказывается
невозможным: эмпирическая психология изучает все вообще состояния,
переживаемые человеческой душой в действительности безо всякого предпочтения к тому
или другому из них; из нее мы можем узнать, например, что одни люди
считают себя связанными, руководствуются в своем поведении нормами,
ограничивающими их эгоизм, другие же управляются исключительно своекорыстными
побуждениями. Но вопрос о том, чем они должны руководствоваться, вовсе
выходит из сферы ее рассмотрения. Сама по себе эмпирическая психология
бессильна разрешить вопрос о существе права, потому что это — вопрос не только
о существующем, но и о долясном. Вот почему и исследование г. Петражицкого
вовсе не есть чистая психология, а психология, подкрепленная этикой.
Само по себе привлечение этики для разрешения философско-юридических
вопросов составляет не недостаток, а достоинство в виду несомненной связи
права с нравственностью, бесчисленное множество раз указанной учеными
исследователями — юристами и философами. Но этика, не помнящая родства
и принимающая себя за психологию, может стать источником опасных
заблуждений, ибо она не отдает себе Ясного отчета в своих логических
предположениях и в своих логических обязанностях.
Раз материалом для исследования г. Петражицкого служит не
общечеловеческая психология, а сознание Нормальное в правовом отношении, то он
прежде всего должен был бы спросить себя, какое же сознание должно быть
признано нормальным? В чем заключается критерий для различения нормального от
488
ненормального в области правового сознания? Но если бы г. Петражицкий
поставил вопрос таким образом, он тотчас же увидел бы, что поставленный им
вопрос превышает компетенцию эмпирической психологии. Нормальным в
правовом отношении может быть признано, очевидно, только сознание тех людей,
которые признают те или другие обязательства по отношению к ближним,
то есть обладают правовым чувством и считают себя связанными правовыми
нормами. Психология несомненно может послужить ценным пособием для
изучения права, но, чтобы разобраться в доставляемом ею материале и отличить
в нем годное от негодного для правоведения, нужно предварительно уяснить
себе, что такое правовые нормы, что вообще должно признаваться правовым
и что — неправовым. Иначе говоря, прежде чем приступать к
психологическому материалу, нужно определить понятие права,
Г. Петражицкий поступает как раз наоборот: он начинает с психологии.
Вследствие этого ему не удается избежать того заблуждения, которое он столь
основательно ставит в упрек многим из своих предшественников. Его
рассуждение содержит в себе логический круг: в самом деле, выводить определение
права из наблюдений над психическими состояниями людей, «переживающих
в своем сознании правовые нормы», значит, определять право — правом,
неизвестное — неизвестным. Эта логическая погрешность наглядно
обнаруживается в даваемом автором определении понятия «обязанности» в юридическом
смысле. Мы видели, что, с точки зрения г. Петражицкого, это — такая
обязанность одного лица, которая «сознается закрепленною за другим,
принадлежащей ему как его добро» (стр. 15). Нетрудно себе представить добро хищнически
приобретенное, закрепленное за владельцем-разбойником тем страхом,
который он внушает ближним; очевидно, что не такое добро разумеет здесь г.
Петражицкий, а добро правильно приобретенное, закрепленное за владельцем
правовым сознанием его ближних. Очевидно, что под словом «добро» в
приведенном определении следует разуметь «право»; логический круг тут
прикрывается простой заменой одного слова другим. Несколько ниже г. Петражицкий
определяет юридические обязанности как «обязанности по отношению к
другим несвободные, закрепленные активно за другими и образующие таким
образом двустороннюю связь». Опять-таки спрашивается, что разуметь здесь под
«обязанностями активно закрепленными»? В Сардинии разбойники облагают
определенною данью сельское население, угрожая смертью всем
землевладельцам, которые отказываются ее платить, и всем рабочим, работающим в их
поместьях; в этом примере есть и «двусторонняя связь» и «активно закрепленная
за разбойниками обязанность» землевладельцев — платить определенную дань,
притом связь несомненно психическая, поддерживаемая чувством страха; вряд
ли, однако, эта связь признается правовою помещиками и даже самими
разбойниками, вряд ли и г. Петражицкий решится утверждать тут наличность
правовой обязанности. Ясное дело, стало быть, что в приведенном определении под
«активно закрепленными обязанностями» следует подразумевать не всякое
вообще долженствование, не «обязанности», вызванные одним страхом или
интересом, а обязанности правомерно закрепленные; иначе говоря, и в этом
определении скрывается указанное выше тождесловие.
489
Ill
Определения, основанные на тождесловии, разумеется, ничего не
определяют, а потому определения, даваемые г. Петражицким, не дают возможности
отличить право от нравственности, с одной стороны, от правовых убеждений
и правовых галлюцинаций, с другой стороны.
Нравственные нормы, говорит он, суть нормы односторонне связующие —
императивные, между тем как нормы юридические всегда установляют
двустороннюю связь и суть нормы императивно-атрибутивные. Я не
сомневаюсь в том, что правовые нормы суть действительно нормы
императивно-атрибутивные. Будучи знаком с воззрениями г. Петражицкого не по одной только
разбираемой работе, я уверен в возможности убедительно доказать путем
анализа функций юридических норм, что каждая из них, с одной стороны,
«повелевает», с другой стороны, «предоставляет». Но выражается ли в этом отличие
юридических норм от всяких других и в особенности от нравственных?
На самом деле трудно найти хотя бы одну нравственную норму, которая бы
не была «императивно-атрибутивной», которая не закрепляла бы
«психически» каких-либо обязанностей одних лиц за другими (за ближними и за Богом
для тех, кто в него верит). Высшее выражение нравственности — заповедь
любви и милосердия, когда она управляет нашей совестью, несомненно
связывает нашу волю по отношению к ближнему, несомненно закрепляет за ним
целую сложную совокупность наших нравственных обязанностей; примеры,
приводимые г. Петражицким, не доказывают противного. Рассуждая о бедняке
Иване, которому мы считаем себя нравственно обязанными дать десять рублей,
г. Петражицкий говорит: «Ивану мы ничего не должны; ему от нас ничего не
причитается; если он получит десять рублей, то это — дело нашей доброй воли».
Конечно, мы ничего ему не должны с точки зрения той или другой правовой
нормы, требующей воздаяния за оказанные нам услуги, потому что речь идет
о лице, не оказавшем нам никаких услуг; но по долгу человеколюбия мы всем
должны, всем обязаны, и если Иван находится в более несчастном положении,
чем другие, то по отношению к нему для нас возникают особые обязанности,
закрепленные именно за ним в отличие от всех прочих людей. Конечно,
подобного рода обязанности закрепляются за ближними не какими-либо
велениями внешнего авторитета, внешней нам власти, а внутренним голосом нашей
совести; связь между нами и бедняком Иваном есть связь психическая. Но г.
Петражицкий вовсе не отожествляет правовые нормы с велениями внешнего
авторитета: он признает правовыми все те нормы, которые закрепляют
психически долженствование одного лица за другим, а следовательно, указанное им
различие между правовыми и нравственными нормами оказывается мнимым.
Как правовые, так и нравственные нормы связывают нашу волю по отношению
к другим. Если бедняк Иван не имеет права от нас требовать материальной
помощи, то это не значит, чтобы мы были в отношении к нему «свободны»,
ничем не связаны; а это значив только, что связывающий нас долг
человеколюбия не должен выразиться непременно в форме уплаты определенной
денежной суммы и вообще в материальной помощи всякому бедняку, как
таковому, а в той форме, которая обусловливается рядом конкретных условий, —
нашими средствами, положением лица, коему мы помогаем, и, наконец, его
настроением. Если бедняк станет нахально требовать от благотворителя десяти
490
рублей, то последний, вероятно, ему откажет, как основательно замечает г. Пе-
тражицкий; но это будет обусловливаться не тем, что благотворитель по
отношению к бедняку ничем не связан, а тем, что, будучи связан законом любви, он
не связан посторонними любви мотивами, например, чувством страха. Г. Пет-
ражицкому остается говорить, что и здесь есть «право», а именно — право
ближнего на нашу любовь и милосердие; но вряд ли и этим он спасет свою
теорию, так как тем самым он сотрет всякие границы между правом и
нравственностью.
Точно так же в теории г. Петражицкого отсутствуют всякие границы между
правом и правовым убеждением. «С точки зрения нашего понятия права, —
говорит он, — правовым явлением, правовым психическим актом приходится
признать, например, и такую атрибутивную норму или такое сознание
долженствования или принадлежности правового притязания, которые существуют
только в душе одного человека и не встречают признания и согласия со стороны
общественной власти, суда или вообще кого бы то ни было другого, кроме того,
кто переживает эти психические состояния» (стр. 21). Если бы тут шла речь
только о явлениях правового сознания, то, разумеется, не о чем было бы и
спорить: под явлениями правового сознания можно разуметь все то, что мы
сознаем или даже воображаем как право. Но г. Петражицкий идет дальше: «для
наличности правового явления в нашем смысле, — говорит он, — как нормы
права, так и правоотношения*, не требуется не только признания нашей
нормы, нашего права или нашей обязанности со стороны кого бы то ни было
другого, но даже существование в смысле внешней реальности, реальности внешнего
мира, какого-либо существа, кроме того, кто переживает норму права или
правоотношение. Если, например, суеверный или умалишенный человек
заключает договор с дьяволом (сон, гипноз, idée fixe, галлюцинация, иллюзия и т. п.),
например, договор продажи души, брачный договор (женщина, считающая
себя ведьмою), то здесь действует норма права, предписывающая исполнение
договора, существует правоотношение, права и обязанности, объекты прав и
обязанностей, два субъекта и т. д., хотя дьявол, которому суеверный субъект
в нашем примере приписывает права и обязанности, не существует, как
внешняя реальность» (стр. 22).
Отсутствие правового отношения между ведьмой и дьяволом, разумеется,
не может быть доказано не только с точки зрения теории г. Петражицкого,
но и с точки зрения любой научной теории, так как в этой сфере наука
решительно некомпетентна. Но вот в чем беда: иной сумасшедший предъявляет те
или другие правовые притязания не к воображаемым им лешим или нимфам,
а к действительным людям; сумасшедший, воображающий себя испанским
королем, претендует не на воображаемых, а не действительных подданных. Если
взять за исходную точку теорию г. Петражицкого, то решительно невозможно
доказать, что сумасшедший не имеет права на испанский престол. Притязания
такого «испанского короля» не признаются, конечно, ни испанскими
властями, ни кем-либо из испанских граждан; но для наличности правоотношения,
с точки зрения г. Петражицкого, такое признание вовсе не требуется. С другой
стороны, в приводимом примере есть правовая норма, «переживаемая»
сумасшедшим и «закрепляющая» за ним обязанности его подданных, иначе
говоря, — есть налицо все те элемецтыу которые г. Петражицкий считает признака-
Курсив мой. — Е. Т.
491
ми права, правоотношения. Затруднения, разумеется, только возрастут, если
мы примем во внимание, что испанские граждане переживают иные нормы,
закрепляющие права на испанский престол не за умалишенным, а за другим
лицом. Где тот критерий, на основании которого мы могли бы решить спор между
испанскими подданными и их воображаемым владыкой? Какими признаками
вообще мы можем отличить действительное право от правового убеждения или
галлюцинации*?
Эмпирическая психология бессильна дать тот или другой ответ на этот
вопрос, а потому, если мы станем на точку зрения г. Петражицкого, то нам
придется признать неразрешимыми все те правовые споры, где обе стороны
одинаково убеждены в правоте своего дела: обе спорящие стороны одинаково
переживают правовые нормы, закрепляющие за ними ту или другую спорную
вещь или обязательство; по теории г. Петражицкого в этом убеждении и
заключается сущность права; ясно, что с этой точки зрения нет никаких оснований
предпочесть право одного из спорящих праву другого, да и самый вопрос о том,
на чьей стороне право, становится неуместным: если критерием права
являются субъективные психические состояния, то каждый является безошибочным
судьей своего права; сознание индивида является единственным мерилом
истинного и ложного в праве, и то, что истинно для одного, может быть и
неистинным для другого.
То или иное разрешение правовых споров возможно только при том условии,
если мы признаем, что индивидуальная психика не является достаточным
критерием для различения права от не права, что есть объективный
масштаб, объективный критерий истинного в праве — который
возвышается над эмпирическими состояниями сознания индивида. Утверждая противное,
мы неизбежно должны будем прийти к тому заключению, что нет вообще
юридических норм, могущих иметь объективную обязательность и значение, что
юридические нормы вообще обладают лишь субъективною обязательностью
для того или для тех субъектов, которые их переживают. Но стать на такую
точку зрения — значит отрицать самое существование права, самое существование
правовых норм: ибо под правовыми нормами можно разуметь только такие
правила, которые имеют объективное значение, которые не только управляют
сознанием того или другого индивида, но регулируют взаимные отношения
людей.
Г. Петражицкий, может быть, скажет, что субъектом права в приведенном примере является
не конкретное лицо — умалишенный Иван Петров, воображающий себя королем, а идеальное
лицо — «король» как идея (по поводу «правоотношения» между двумя лешими он
действительно говорит, что субъектом права является здесь не действительный человек,
воображающий себя лешим, а идеальное лицо — леший). Вряд ли, однако, и такое толкование поможет
г. Петражицкому справиться с неразрешимыми для его теории затруднениями. Во-первых, оно
решительно не будет соответствовать правосознанию сумасшедшего, который убежден в том,
что не какой-либо идеальный «король», а именно он, Иван Петров, тот законный испанский
владыка, которому обязаны повиноваться испанцы. Во-вторых, если стать на эту точку зрения,
то спор между Иваном Петровцм и испанскими гражданами станет еще более неразрешимым:
ибо тогда мы будем вынуждены применить тот же критерий к правосознанию испанцев и,
следовательно, признать, что действительным их владыкою является не какое-либо конкретное
историческое лицо, а «король как идея». Если так, то на каких основаниях следует
предпочесть праву Ивана Петрова право какого-нибудь Альфонса или Фердинанда? Каким способом
мы можем вывести из правоотношений между идеальными лицами какие-либо права и
обязанности для лиц действительных?
492
Последовательно развитая точка зрения г. Петражицкого должна
выродиться в такой скептицизм, который должен подорвать всякое правовое убеждение:
всякое правовое убеждение непременно претендует на объективное значение;
оно, как замечает и сам г. Петражицкий, покоится на том предположении, что
правовая норма, управляющая сознанием лица убежденного, обязательна не
только для него, но и для других людей; на этом основании лицо, считающее
себя обязанным, исполняет свои обязанности, а лицо, считающее себя управомо-
ченным, требует от других исполнения их обязательств. На этом основании
человек, убежденный в своем праве, готов вступить в спор со всяким, кто
вздумает его отрицать: он предполагает, что есть высший объективный критерий,
который возвышается над убеждением индивида, а потому может удостоверить
истинность его правового воззрения и изобличить лживость воззрения
противника. И вот, с точки зрения г. Петражицкого, приходится сказать, что все это
правовое убеждение покоится на иллюзии: будучи само единственным
критерием истины в области права, правовое убеждение лишено объективных
оснований и объективной опоры. Развитое во всех своих последствиях учение г.
Петражицкого должно прийти к саморазрушению; ибо, если мы признаем вместе
с автором, что нет другого критерия в праве кроме ♦индивидуального
психического», то единственно последовательным выводом отсюда будет тот, что всякое
правовое убеждение есть ложь.
IV
Несмотря на ошибочность основной мысли г. Петражицкого, работа его
далеко не лишена научного значения: такова редкая привилегия людей
даровитых, что они остаются интересными и поучительными в самих своих
заблуждениях; даже и там, где они не убеждают, они будят мысль и вынуждают ее
к исканию.
Заблуждения г. Петражицкого поучительны потому, что они коренятся
вовсе не в стремлении к субъективной оригинальности во что бы то ни стало,
а обусловливаются действительными, серьезными затруднениями науки права,
притом такими затруднениями, с которыми доселе никто не справился и с
которыми, тем не менее, обязан считаться всякий ученый-юрист и философ права.
При всей невозможности согласиться с выводами г. Петражицкого, нельзя не
признать, что его исследование ставит перед нами задачу, требующую самого
серьезного внимания.
Нетрудно убедиться вместе с автором в односторонности господствующего
в современной юриспруденции узко-позитивного понимания права; нетрудно
убедиться вместе с ним и в ложности всех тех учений, которые отожествляют
право вообще с правом только официальным (признанным государственною
властью) или с правом только »позитивным (обнимающим в себе кроме норм,
признанных государством, ряд таких норм, которые существуют и действуют
независимо от признания или непризнания их государственною властью).
Помимо других недостатков, указанных г. Петражицким, несомненно, что эти
учения содержат в себе логический круг: говоря словами г. Петражицкого,
«логическая ошибка теорий, исходящих из понятия государства, состоит в том, что
493
они заключают в себе definitio per idem3, определяют χ путем ссылки на jc».
В самом деле, государство есть прежде всего правовой союз, а следовательно,
понятие государства уже предполагает понятие права. Акт признания или
непризнания государственною властью тех или других норм за право, очевидно,
не может послужить критерием для различения права от не права, ибо этот акт
в свою очередь покоится на праве, присвоенном государственной власти.
Мне нет надобности воспроизводить здесь всех прекрасных и остроумных
замечаний г. Петражицкого относительно «теорий официального права», так как
уж одного приведенного возражения достаточно, чтобы обнаружить их полную
несостоятельность. Возражение это не ново, и заслуга г. Петражицкого
заключается, разумеется, не в его воспроизведении, а в том, что он проследил теорию
«официального права» в ряде ее разветвлений, указав во всех этих
разветвлениях ряд общих недостатков.
Разумеется, автору всего легче возражать против тех «ходячих» в наше
время теорий, которые прямо вводят государство в определение права или считают
государство единственным источником права*. Задача критика становится
труднее, когда ему приходится иметь дело с такими определениями, в которых
самый термин «государство» не упоминается, но в коих, тем не менее, такие
понятия, как «государство» или «власть», — фигурируют в качестве скрытых
предположений. Таковы модные в наши дни определения права, исходящие из
понятия принуждения, теории, определяющие право как «организованное
принуждение» или как «совокупность принудительных норм». Теории эти в
настоящее время имеют множество разветвлений, причем слово «принуждение»
понимается теоретиками то в буквальном смысле — физического насилия,
то в смысле устрашающего воздействия на человеческую психику (психическое
принуждение). Но, каковы бы ни были те или другие оттенки мысли,
связываемые с термином «принуждение», очевидно, что теоретики считают признаком
права не всякое вообще принуждение, физическое или психическое, а только
такое принуждение, которое не представляется актом произвола.
Принуждение в свою очередь может быть правомерным, если оно исходит от признанной
правом власти, которая при этом не выходит из сферы своей компетенции;
но оно может быть и неправомерным, если оно применяется не призванными
к тому лицами, самозванными властями, или если власть, хотя бы и
правомерная, нарушает пределы своих полномочий. Теории, считающие принуждение
признаком права, очевидно, содержат в себе логический круг, так как, говоря
о принуждении, они с самого начала имеют в виду принуждение правомерное.
Говоря словами г. Петражицкого, теории эти, «поскольку они исходят из
предположения организованной исполнительной власти и имеют в виду не
произвольное насилие со стороны кого бы то ни было, а применение принуждения со
стороны призванных к этому правопорядком, установленных правом и
действующих в порядке, правом предусмотренном, органов, то они заключают в себе ту
же многократную définitio per idem, которая заключается в теориях,
исходящих при определении права из понятия государства».
Весьма типичны приводимые г. Петражицким изречения Иеринга (Zweek im Recht, III Aufl, I
В., S. 320): ♦Ходячее определение права гласит: право есть совокупность действующих в
государстве принудительных норм.'И это определение, по моему убеждению, вполне правильно».
Далее на той же странице приведенное определение поясняется Иерингом в том смысле, что
«государство есть единственный источник права».
494
Никакое «государство» и никакая «власть» не есть первоначальный
источник права, ибо всякое государство, точно так же, как и всякая власть,
обусловлено правом. Ясное дело, стало быть, что основных признаков права надо
искать в чем-то высшем, нежели «официальное признание» и «организованное
принуждение». Недостаточность определений, исходящих из понятия
государства, сказывается еще и в том, что они не обнимают в себе ряд форм права,
существующих независимо от признания или непризнания их тем или другим
государством: право каноническое, международное и, наконец, целый ряд
юридических обычаев, из коих многие предшествуют самому возникновению
государства. Словом, существует необозримое множество норм позитивного
права, коих обязательность обусловливается не признанием их государством,
а какими-либо другими внешними фактами, например, тем, что таков был
обычай у отцов и дедов, что так постановил тот или другой собор пастырей церкви,
та или другая международная конференция.
В этом заключается исходная точка ряда теорий, которые г. Петражицкий
удачно называет «теориями положительного (или позитивного) права». Теории
эти ищут такого определения права, под которое подходили бы не только
юридические нормы, официально признанные за таковые государством, но все
вообще нормы позитивного права. Таковы учения, определяющие право как
общее убеждение, общую волю, таково же, наконец, учение Бирлинга,
отождествляющее право с нормами и правилами общежития, пользующимися в
качестве таковых общим взаимным признанием членов этого общежития.
Относительно этих учений г. Петражицкий также высказывает ряд ценных
критических замечаний, среди коих даже старое звучит как новое, благодаря
той замечательно остроумной форме, в которую умеет облекать их автор. Ему,
разумеется, нетрудно показать крайнюю неопределенность и неясность таких
выражений, как «общая воля» и «общее убеждение». «Общее убеждение» уже
потому не может быть критерием для различения права от не права, что
предметом «общего убеждения» могут быть и такие истины, как дважды два —
четыре, вообще чисто теоретические аксиомы, ничего общего с правом не
имеющие. Неопределенность выражения «общая воля» также явствует из того, что
общая воля может быть направлена и на цели, не имеющие правового значения.
Если все члены того или другого общежития желают быть счастливыми и
здоровыми, то, очевидно, что такое выражение «общей воли» не имеет ничего
общего с правом; стало быть, нельзя без дальнейших оговорок определять право,
как «общую волю»; определение это получает определенный смысл только
в значительно суженном виде, в том, например, случае, если мы будем
понимать право, как общую волю, направленную на обязательные правила
поведения. Но и в этом виде теория ^общей воли» встречается с непреодолимыми
затруднениями: нет такой правовой нормы, которая являлась бы выражением
воли всех членов того или другого общежития (в том числе детей, слабоумных),
а потому теоретики, определяющие право как «общую волю», оказываются
вынужденными прибегнуть к фикции, отличая «общую волю» от «воли всех».
Под выражениями общей воли обыкновенно понимаются постановления и
заявления тех или других представителей органов или лиц, компетентных ее
выражать, управомоченных говорить от имени общежития как целого. Так,
при наличности государственной организации компетентными выразителями
общей воли будут законодательная власть, собрания избирателей,
выбирающих народных представителей в законодательные собрания; при отсутствии же
495
государственной организации, при исключительном государстве юридического
обычая, унаследованного от отцов и дедов, выразителями «общей воли» будут
знатоки обычаев, старейшие. Словом, общая воля может выразиться лишь при
условии существования той или другой правовой организации. Люди только
тогда могут столковаться относительно того, что является предметом их общей
воли, когда они уже связаны теми или другими правовыми узами. Ясное дело,
стало быть, что общая воля в своих проявлениях уже обусловлена правом, а
потому не может быть понимаема ни как сущность права, ни как первоначальный
его источник.
Не более состоятельна и новейшая вариация теории «общей воли», учение
Бирлинга, который понимает право в смысле норм и правил общежития,
пользующихся в качестве таковых общим взаимным признанием членов
общежития. Норм, прямо признанных всеми членами того или другого общежития,
не может быть уже потому, что есть такие члены общежития (слабоумные,
дети), которые вовсе не знают господствующих в нем норм, и нет ни одного члена
общежития, который знал бы все эти нормы. Поэтому прямое признание у
Бирлинга заменяется косвенным признанием: человек, признавший
законодательную власть, действующую в данной стране, должен, с точки зрения Бирлинга,
считаться признавшим все законы этой страны; равным образом человек,
обращающийся к тому или другому специальному закону той или другой страны,
должен считаться признавшим ее законодательную власть, а следовательно,
все ее законодательство. Говоря словами г. Петражицкого, «признание» в устах
Бирлинга выражает собою не реальный факт, а только то, «что было бы в том
случае, если бы все соблюдали в поведении правила логической
последовательности», то есть если бы все люди действительно сознавали и признавали
неизбежные выводы, логически вытекающие из их посылок.
Ошибки этой теории очевидны, и они не ускользнули от верного
критического взгляда г. Петражицкого: во-первых, «она не в состоянии установить
критерий для различения норм права от других действующих в данной общественной
среде правил поведения», а во-вторых, нельзя не согласиться с г. Петражицким
в том, что теория Бирлинга, подобно многим другим, заключает в себе
логический круг, def initio per idem. Б самом деле, прямое или косвенное «признание»
тех или других норм, господствующих в общежитии, предполагает
существование общежития, а всякое общежитие в свою очередь предполагает право.
Г. Петражицкий мог бы, как мне кажется, свести значительную и притом
наиболее существенную часть своих возражений против теорий официального
и позитивного права к следующей обобщенной формуле: всякое официальное
и позитивное право покоится на том или другом внешнем человеческом
авторитете; но так как всякий человеческий авторитет в свою очередь обусловлен
правом, то все учения, отождествляющие право вообще с правом только
позитивным или только официальным, — совершают неизбежный логический круг:
они сводят право к внешнему авторитету, который в свою очередь
представляется видом права.
В самом деле, «официальное»» право обусловлено авторитетом
государственной власти, церковное право — авторитетом церкви, право международное —
авторитетом той или другой группы государств, связанных узами
международного общения; ряд юридических обычаев обусловлен авторитетом отцов и
дедов; наконец, всякое вообще официальное и позитивное право обусловлено
одной высшей формой авторитета — авторитетом того или другого человеческого
496
общества, от имени которого уполномочены говорить и действовать те или
другие органы или представители — государственная власть, церковные соборы,
международные конференции, старейшие и т. п. Но авторитет общества есть не
что иное, как его право предписывать, его право связывать своих членов
обязательными правилами поведения. Ясное дело, что всякое позитивное право как
таковое представляется не более как одним из видов права; право,
установленное внешним авторитетом, обусловлено иною высшею формою права, из коей
истекают правомочия всех человеческих властей; будучи само источником и
условием всякого внешнего авторитета, всякого позитивного права, это
первоначальное высшее право не обусловлено никаким внешним авторитетом: оно
само по себе авторитетно; оно само в себе заключает источник своей
обязательной силы.
V
Исследование г. Петражицкого как нельзя более ярко раскрывает роковую
дилемму, перед которой стоит современная философия права: она должна или
отказаться от дальнейших попыток определить право, иначе говоря, отречься
от самой себя, признав свою основную задачу неразрешимою, или искать
критерии для различения права от не права вне и выше права позитивного. В
выяснении этой дилеммы заключается главная и, безо всякого сомнения, крупная
заслуга разбираемой книги. Вся эта книга представляет собою горячий и
страстный протест против узкого позитивизма, господствующего в современной
юриспруденции, и постольку представляет собою реакцию естественную и
законную.
Г. Петражицкий наглядно показал, что в основе всех определений,
отождествляющих право вообще с правом официальным и с правом позитивным,
лежит простое тождесловие: «право есть право». Но почему же самому г. Петра-
жицкому не удалось вырваться из этого заколдованного круга, в котором
вращается современная юриспруденция? Почему он, восставший против
узкопозитивного понимания права, тем не менее впал в ту же ошибку, которую он
так зорко подметил у своих предшественников?
Дело в том, что г. Петражицкий сам не вполне освободился от той точки
зрения, против которой он полемизирует: разрыв с позитивизмом совершился в его
миросозерцании недостаточно! глубоко и радикально: порвав с позитивизмом
юридическим, он еще не вполне отрешился от позитивизма философского. В его
исследовании сквозит страх метафизики; метафизическое он отождествляет
с «трансцендентным нашему познанию» (стр. 9); свою философию права он
строит не на метафизическом исследовании умозрительных предположений
правового сознания, а на эмпирических наблюдениях над состояниями нашего
сознания. Вместо того, чтобы искать ключ к разрешению основной задачи
философии права в умозрительной этике, он обратился к эмпирической
психологии. В этом и заключается источник его заблуждений.
Пока мы остаемся на почве эмпирического наблюдения, мы имеем дело
с фактами; из фактов же нельзя вывести долженствования: из одних
наблюдений над тем, что есть, нельзя вывести никаких заключений относительно того,
497
что должно быть. Такие понятия, как « долженствование», «обязанность»,
«право» — основные понятия науки права — суть по самому существу своему
представления умозрительные, превышающие действительность, как она
является нам в нашем опыте, ибо в действительности поведение людей никогда не
находится в полном соответствии с их обязанностями; факты далеко не
соответствуют праву. В этом заключается причина крушения всех попыток построить
этику и философию права на одних данных опыта; в этом заключается причина
ошибки г. Петражицкого.
Основной грех целого ряда теоретиков, против которых полемизирует г. Пе-
тражицкий, заключается в смешении права с фактом, в отожествлении
фактического порядка, установленного тем или другим внешним авторитетом во имя
права с правом вообще. Основной грех г. Петражицкого заключается в
отождествлении права с определенными состояниями человеческой души, с фактами
индивидуальной психологии. Разумеется, всякий теоретик права должен
считаться как с теми психологическими фактами, из которых исходит г. Петра-
жицкий, так и с теми социальными фактами, которые послужили точкой
отправления для его предшественников; но для того, чтобы уловить сущность
права, надо подняться над фактами в горнюю сферу умозрения.
В самом деле, нетрудно доказать, что как фактически существующий
правовой порядок, так и факты правовой психологии покоятся на неустранимых
метафизических предположениях, обусловливающих как возможность всякого
конкретного права, так и возможность самого правосознания. В основе всякого
положительного права, как мы видели, лежит первоначальное право — право
общества господствовать над личностью, связывать ее волю своими
предписаниями; в основе всякой положительно-правовой обязанности лежит
первоначальная обязанность — обязанность личности подчинять свои цели целям
общежития, ограничивать ради него свою волю теми или другими нормами.
За устранением того первоначального права, на котором утверждают свои
полномочия законодатели, во имя которого повелевает всякий внешний авторитет,
должен рухнуть всякий правовой порядок. Никто не станет отрицать того, что
сила и интерес суть могущественные факторы образования позитивного права;
но нетрудно убедиться в том, что никакой конкретный правопорядок не может
быть сведен к одной силе или к одному интересу, так как ни сила, ни интерес не
создают обязанностей. Правовой порядок не может утверждаться на одной
внешней силе той или другой власти, ибо там, где люди не считают себя
обязанными повиноваться власти, власть не может обладать силой: сила всякой
власти сводится к коллективной силе той или другой общественной группы; всякая
же общественная сила предполагает ту или другую правовую организацию,
связывающую людей в общество, и, следовательно, обусловлена правом. По той же
причине право не может быть сведено и к интересу: сам по себе голый интерес
не может послужить основой правового порядка, ибо где всякий следует только
своему личному интересу, не признавая никаких обязанностей по отношению
к обществу, там не может быть ни общества, ни права; интерес может
послужить фактором образования права лишь постольку, поскольку он ограничен
обязанностью, ограничен правом, следовательно, лишь постольку, поскольку
он перестал быть исключительно личным и приобрел характер общественный;
всякий же общественный интерес уже предполагает правовую организацию,
связывающую людей в общество и, следовательно, обусловлен правом. В основе
всякого положительного права лежит метафизическое предположение такой
498
обязанности и такого права, которое логически предшествует всякому
конкретному правопорядку. Это первоначальное право не есть факт, а постулат,
идея разума, которая, с одной стороны, обусловливает все конкретные
правовые факты, а с другой стороны, всегда превышает фактическую
действительность, никогда не покрывается ею. Идея эта сверхопытна, сверхчувственна и,
следовательно, — по самому существу своему метафизична.
То же самое может быть показано путем анализа фактов правового сознания.
Прежде всего, как уже было показано выше против г. Петражицкого, факты
индивидуальной психологии не в состоянии обосновать права. Из того, что я
в тех или других случаях жизни чувствую или не чувствую себя связанным
закрепленными за ближними обязанностями, вовсе не вытекает наличность или
отсутствие действительных моих обязанностей или действительных прав
ближнего. С другой стороны, как уже было показано, всякое правовое убеждение
покоится на вере в такой объективный критерий права, который возвышается над
ним самим, которым может быть распознана истинность и ложность всякого
субъективного правового убеждения. Спрашивается, в чем же заключается этот
объективно-правовой критерий? Очевидно, что он заключается не в том или
другом положительном установлении, не в том или другом велении внешнего
авторитета, ибо всякий внешний авторитет может заблуждаться и оказаться
неправым перед судом разума; всякий авторитет, с одной стороны, обусловлен
правом, а с другой стороны, может нарушить право. Правовое убеждение
обусловлено верой в такое право, которое коренится не в чем-либо внешнем разуму,
а в самом разуме, в такой правовой критерий, который не обусловливается
субъективными состояниями сознания, а является объективным законом
разума: наши чувства, состояния нашего сознания обладают чисто
индивидуальным, субъективным характером, а потому чужие «психические состояния»
никого не обязывают; только закон разума обладает всеобщим, для всех
обязательным значением; а потому остается допустить, что правовой порядок
так или иначе утверждается на этом законе: иначе придется признать, что
право в целом его составе ни для кого не обязательно, иначе говоря, что нет вообще
права.
Так или иначе, вопрос о существе права приводит нас к проблеме «права
разума», или так называемого естественного права. Чтобы ответить на вопрос,
что такое право, надо начать с выяснения того правового критерия, которым
должен руководствоваться наш разум, того первоначального права, на которое
опирается всякий внешний авторитет и всякое внешнее законодательство.
Неудача прежних попыток разрешить эту задачу, разумеется, не устраняет самой
задачи, ибо естественное право составляет необходимое предположение всякого
правового сознания. Крушение естественно-правовых учений, когда-то
господствовавших в науке права, только ставит перед нами новую задачу: мы должны
выяснить причины этого крушения и устранить те старые заблуждения,
которые затемняли сущность естественного права. Философия права будущего,
разумеется, не может быть простым воспроизведением тех отживших в настоящее
время учений, которые смешивали временное с вечным и представляли
естественное право в виде кодекса неподвижных и неизменных правил,
долженствующих заменить собою положительное законодательство: но этим не
устраняется ее обязанность — разобрать эти умения и отделить в них зерно от мякины.
На этом я могу кончить. Разрешение вопроса о существе права не входит в
задачу настоящей статьи, посвященной критическому разбору работы г. Петра-
499
жидкого. Если мне пришлось говорить здесь о задаче естественного права,
то только потому, что эта задача сама собою выдвигается его исследованием.
Чтобы ответить на поставленный г. Петражицким вопрос о существе права,
нужно начать с выяснения первоначальной основы всякого правового порядка,
с исследования необходимых метафизических предположений всякого
правосознания. Чтобы найти научное определение права, нужно прежде всего
отрешиться от тех позитивных предрассудков, которые составляют главную
причину неудовлетворительности целого ряда современных определений. Поскольку
«философия права» г. Петражицкого составляет шаг в этом направлении, она
представляет собою явление весьма отрадное. Нам остается только пожелать,
чтобы автор до конца прошел начатый им путь и чтобы в борьбе против
антифилософского позитивизма в праве его первый шаг не оказался последним.
500
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
О ФИЛОСОФИИ ПРАВА
КАНТА И ГЕГЕЛЯ
I
Новый труд профессора П. И. Новгородцева «Кант и Гегель в их учениях о
праве и государстве» тесно связан с его предшествовавшим исследованием
«Историческая школа юристов». В обоих названных трудах П. И. Новгородцев выступил
в роли защитника идеи естественного права против современного историзма и
позитивизма. Для выполнения этой задачи требовалось прежде всего так или иначе
посчитаться с наиболее типическими проявлениями новейшего историзма,
подвергнуть критическому разбору учения, отрицающие естественное право. Это
и было сделано профессором Новгородцевым в его магистерской диссертации
«Историческая школа юристов». «Заинтересовавшись судьбами естественного
права, — говорит г. Новгородцев, — я постарался рассмотреть в этом труде,
насколько историческое направление в юриспруденции упразднило ту идею, которая
издавна являлась опорой философии права. В результате исследования я пришел
к мысли, что это упразднение было мнимым и что естественно-правовая идея
пережила те нападения, которые были против нее сделаны».
Мне нет надобности входить здесь в подробный разбор первого труда г.
Новгородцева, который я считаю весьма удачным как по мысли, так и по выполнению.
Но ввиду тесной связи этого труда с разбираемой мною книгой о Канте и Гегеле, я
считаю не лишним сказать два слова о его важнейших результатах. А именно:
профессору Новгородцеву удалось весьма убедительно доказать, что в учениях
корифеев новейшего историзма содержатся элементы той самой идеи естественного права,
которую они отвергают. Отношение Савиньи к этой идее далеко не последовательно:
с одной стороны, он является ее противником, с другой стороны, у него попадаются
изречения, переносящие в атмосферу естественно-правовых воззрений.
В этой двойственности сказываются не те или другие случайные недостатки
изложения Савиньи, а коренное противоречие его мысли. Естественный рост права,
его самобытное национальное развитие в учении знаменитого немецкого юриста
представляется то как необходимый естественный закон развития права, коего не
в силах нарушить законодатель, то как норма желательного, должного, с которой
он обязан сообразоваться. Творчество законодателя с этой точки зрения признается
то невозможным, то нежелательным* Поскольку Савиньи считает невозможным
какое бы то ни было творческое воздействие законодателя на развитие права,
постольку, разумеется, он становится в принципиально отрицательное отношение
502
к естественному праву. Естественное право выражает собою норму желательного,
должного; если все правовое развитие совершается с неуклонной, стихийной
необходимостью, исключающей свободное содействие человеческой воли, к праву
нельзя обращаться с какими бы то ни было пожеланиями и требованиями; постольку,
очевидно, о естественном праве не может быть и речи. Однако Савиньи обращается
к законодателю с рядом нравственных требований: он хочет, чтобы законодатель не
нарушал естественного роста права, не вносил в него аномалий; законодатель
должен быть точным выразителем народного правосознания; он должен признавать
«единственно разумное» право — право, живущее в сознании народа. Поскольку
Савиньи противополагает право «единственно разумное» праву существующему,
поскольку он рассматривает право действующее с точки зрения должного, он, сам
того не замечая, становится на почву отвергаемого им естественного права.
Такие же противоречия замечаются и в мысли новейшего представителя
исключительно исторического воззрения на право Иеринга: с одной стороны, он
утверждает, что все нравственные и юридические понятия человека суть результат
веками накопленного исторического опыта: с этой точки зрения, разумеется, не может
быть и речи о естественном праве, так как в основе естественного права лежит
сверхопытная по существу идея должного. С другой стороны, Иеринг оценивает
все положительное право с точки зрения «идеи права», понимая под этой идеей
право как оно должно быть, в отличие от права существующего. Мало того, Иеринг
признает идею права необходимым фактором правового развития: он учит, что
разумная цель есть «творец права». Но цель есть идея по существу априорная,
сверхопытная: из опыта мы узнаем только то, что есть; между тем, цель есть
представление о том, что должно быть, следовательно, о том, чего нет в нашем опыте. Таким
образом, в основе учения Иеринга лежит непримиримая противоположность
эмпиризма и идеализма. С одной стороны, он — типический представитель
современного историзма, враждебного естественному праву, с другой стороны, в его
философии несомненно присутствуют элементы естественно-правовые.
Такая же непоследовательность может быть указана в мысли всех вообще
сторонников исключительно исторического воззрения на право. Между прочим,
профессор Новгородцев вслед за другими учеными (Тило, Бергбом, Назимов)
указывает на присутствие естественно-правовых воззрений в учении знаменитого критика
естественного права Шталя. В результате превосходного исследования г. Новго-
родцева оказывается, что новейший историзм не только не упразднил идеи
естественного права, но даже не был в состоянии вытравить ее из сознания собственных
своих сторонников: это обусловливается тем, что идея естественного права есть
необходимый, неустранимый элемент правосознания. Наше правосознание всегда
возвышается над правом положительным, никогда не покрывается им; в качестве
правила поведения всякая норм'а позитивного права в отдельности точно так же,
как и весь правовой порядок в своей совокупности, подлежит нравственной
оценке; но подвергать позитивное право нравственной оценке — значит сопоставлять
его с правом долженствующим быть, или, что то же, — с правом естественным.
С одной стороны, естественное право представляет собою необходимую
нравственную основу права положительного, так как всякая норма положительного права
нуждается в нравственном оправданий; с другой стороны, в качестве
нравственного критерия над правом положительные оно является необходимым фактором
усовершенствования, прогрессивного развития последнего. У Бергбома — одного из
наиболее выдающихся представителей современного историзма в юриспруденции
мы находим замечательное объяснение той необычайной жизненности, которая со-
503
ставляет отличительную черту идеи естественного права. В душе каждого
человека, говорит он, у естественного права есть мощный союзник: это то чувство, что то
или другое из существующего на самом деле не должно бы было существовать;
на практике это чувство проявляется как стремление к преобразованиям. «Вот это-
то стремление, — продолжает Бергбом, — и есть главный враг нашей научной
методы, а вместе с тем — один из сильнейших стимулов естественного права». Это
характерное признание заключает в себе как бы невольную апологию естественного
права и вместе с тем полнейшее осуждение точки зрения самого Бергбома. Если
стремление человека к преобразованиям, то есть к усовершенствованию
исторически существующего, является злейшим врагом его метода, то этим только
доказывается негодность последнего. Стремление это выражает то, что составляет смысл
и цену человеческого существования, и то научное направление, которое хочет его
устранить, само себе изрекает смертный приговор.
II
Как бы ни были различны понимания идеи естественного права, ее сторонники
сходятся между собою в том, что она обнимает собою совокупность таких правил
или норм, которые обязательны сами по себе, независимо от какого бы то ни было
внешнего законодательства, независимо от предписания того или другого внешнего
авторитета. Обязательность законов, издаваемых государственною властью,
обусловливается авторитетом государства; обязательность норм церковного права
обусловливается авторитетом церкви; обязательность норм обычного права покоится на
авторитете той или другой общественной среды, подчиняющейся определенным
юридическим обычаям; обязательность всех вообще норм положительного права
обусловливается тем или другим общественным авторитетом. Напротив, нормы
естественного права, если только мы вообще признаем существование таких норм,
авторитетны сами по себе, единственно вследствие своей разумности. Если нормы
положительного права по существу гетерономии, то о существовании норм
естественного права можно говорить только в том предположении, что наш разум
автономен, что он представляет собою независимый от внешнего законодательства
источник нравственных суждений.
Вопрос о естественном праве неизбежно должен был привести г. Новгородцева
к вопросу о самостоятельности этического начала. Если разум наш не есть
самостоятельный законодатель в нравственной сфере, то над исторически
сложившимися правовыми нормами нет высшего суда и высшего законодательства, а в таком
случае, разумеется, не может быть и речи о естественном праве. При такой
постановке вопроса за разрешением его необходимо обратиться к этике Канта. Говоря
словами проф. Новгородцева, «нет ничего удивительного в том, если современная
мысль в разрешении вопроса о самостоятельном значении нравственной точки
зрения обращается к Канту. История философии не знает до сих пор более крупной
попытки обосновать самостоятельное положение этической методы» (предисловие,
стр. II). Этим определился план разбираемой книги. Критический анализ
нравственной философии Канта и связанных с нею учений о праве и государстве составил
главную ее часть. Г. Новгородцеву предстояло выяснить как положительные
достоинства, так и пробелы указанных отделов Кантова учения. «Пробелы эти, — гово-
504
рит г. Новгородцев, — как известно, нашли глубокомысленного критика в лице
Гегеля. Его основные замечания против Канта до сих пор сохраняют весь свой интерес
и в своей совокупности полагают фундамент для другого построения моральной
философии, основанного на иных началах и стремлениях. Нельзя найти лучшей
параллели для взглядов Канта. Изучая круг вопросов, выдвинутых Гегелем, мы
убеждаемся в их настоятельной важности, но убеждаемся также и в том, что они не
устраняют, а восполняют вопросы Канта. Мне представлялось поучительным
именно совместное изложение их доктрин, при помощи которого всего лучше
выясняются как самостоятельность нормативного рассмотрения, так и необходимость его
восполнения».
Как видно отсюда, задача книги г. Новгородцева — не историческая, а
догматическая: это — попытка восполнить Канта Гегелем. Цель автора заключается не
в том, чтобы исследовать историческое происхождение двух учений, а в том, чтобы
выяснить их внутреннюю ценность. Так понимая свою задачу, г. Новгородцев
изучает системы Канта и Гегеля «вне связи с вызвавшей их исторической
обстановкой». Подобная попытка в наши дни нуждается в особенном оправдании, ибо,
говоря словами г. Новгородцева, «теперь стало не только обычным, но и
общеобязательным требование, чтобы идеи изучались в связи с реальной средой, в которой они
возникли и получили распространение. Столь же обычным, почти шаблонным
стало возражение, стремящееся подорвать научную цену тех исследований, которые
оставляют в стороне обстановку, среду и берут учения в их обособленном
существовании и внутреннем значении».
Чтобы устранить эти возражения, г. Новгородцев предпосылает своему
исследованию пространное введение, трактующее о методе изучения идей. Признавая
важность и необходимость исторического объяснения происхождения идей, автор, во-
первых, указывает на неизбежные границы такого объяснения, а во-вторых,
настаивает на том, что при изучении идей вообще невозможно ограничиться одной
исторической методой: «Наряду с исторической задачей здесь возникают другие
проблемы, которые не укладываются в пределы собственно исторического изучения
и имеют самостоятельный интерес». Это — вопросы системы, критики, догмы.
«Соответственно с этим можно говорить об особом и отличном от исторического
изучении идей, для которого всего удобнее сохранить старое название философского*
(стр. 14).
Само собою разумеется, что вопрос о происхождении идей и об относительном их
значении для той или другой исторической эпохи нисколько не исключает
философского, догматического вопроса о том, какие элементы истины они в себе
заключают: задача исследователя не ограничивается тем, чтобы отметить те условия
времени и места, которые влияют на образование философских систем и делают
возможным их появление в ту или другую историческую эпоху; чтобы изучение
философских систем было всесторонним, необходимо путем философского анализа
различить в каждой из них универсальное от местного, отделить в учении каждого
философа те элементы истины, которые имеют непреходящее значение от
временных исторических наростов. Поэтому, конечно, нельзя не сочувствовать тому, что
г. Новгородцев говорит о важности философского изучения идей: отрицать
необходимость такого изучения может только тот, кто отрицает возможность
философского познания вообще и видит в истории философии только историю человеческих
заблуждений. Если стать на такук) тачку зрения, то, конечно, философские идеи
могут интересовать нас только в качестве «рефлексов» или отражений той или
другой исторической среды в человеческом сознании; но если мы верим в философию,
505
философские системы приобретают для нас самостоятельное значение и цену: мы
можем обращаться к ним для разрешения волнующих нас метафизических
вопросов и, следовательно, можем интересоваться ими и независимо от их
непосредственного отношения к породившей их исторической среде.
Само собою разумеется, что оба эти способа изучения должны взаимно
восполнять друг друга. Как совершенно верно замечает г. Новгородцев, чтобы объяснить
исторически философскую систему, нужно прежде всего понять ее: но понять
философское учение — значит именно усвоить себе заключающийся в нем
положительный элемент истины, отбросив заблуждения. Вполне понять философскую
систему — значит возвыситься над нею: изречение Виндельбанда — «Kant verstehen,
heisst über ihn hinausgehen»1 (Präludien, VI) применимо ко всякому вообще
философу. Чтобы стоять на высоте своей задачи, историк философии сам должен обладать
философским складом ума: иначе он не будет в состоянии понять не только
безотносительного, но и относительного, временного значения каждой данной системы для
его эпохи. С другой стороны, и философский анализ отдельных учений только
тогда может быть всесторонним, когда он опирается на историческое рассмотрение.
Задача философского анализа именно в том и заключается, чтобы в каждой
данной системе отделить вечное зерно истины от временной исторической скорлупы;
для этого необходимо уяснить себе, насколько в каждом учении отражается его
несовершенная историческая среда, что именно в нем должно быть отнесено на счет
временных, преходящих влияний; и только тогда, когда мы приведем в известность
и отбросим этот исторический балласт, задерживающий полет философской мысли,
для нас вполне выяснятся скрытые в отдельных учениях непреходящие
безотносительные ценности. Говоря о психологической необъяснимости творений гения,
г. Новгородцев замечает, что ни одно великое философское учение не может быть
без остатка сведено к влияниям внешней среды и быть объяснено ими одними.
Замечание это должно быть признано верным, но только с одной существенной
оговоркой; только тогда, когда мы вполне отдадим себе отчет в этих веяниях времени,
составляющих преходящий элемент той или другой философской системы, мы будем
в состоянии с безупречной точностью выделить тот неумирающий остаток
философской мысли, который возносит мыслителя над его исторической средой и
сообщает индивидуальному творчеству гения непреходящее, универсальное значение.
III
I
Рассуждения г. Новгородцева о методах изучения идей важны для нас между
прочим и потому, что в них содержится ключ к объяснению как достоинств, так
и некоторых недостатков его исследования. Нельзя не сочувствовать попытке
г. Новгородцева дать философскую оценку учений Канта и Гегеля о праве и
государстве и нельзя упрекать его за то, что он в своей работе задается задачей
догматической; но, как мне кажется, даже при такой постановке задачи следовало уделить
больше внимания вопросу о генезисе разбираемых учений, в особенности учения
Гегеля, чем это сделано уважаемым исследователем; нисколько не отрицая ценных
результатов, добытых философским анализом г. Новгородцева, я думаю, что этот
анализ значительно выиграл бы в глубине и полноте, если бы автор, хотя бы в
кратком очерке, охарактеризовал в своей книге те промежуточные звенья, которые со-
506
единяют мысль Гегеля с мыслью Канта, — я говорю о системах Фихте и Шеллинга;
в этих системах выражается не только исторический, но и логический переход от
Кантова дуализма к Гегелеву панлогизму; как мы увидим в дальнейшем
изложении, пробел этот отчасти обусловливает собою некоторые другие недостатки
разбираемой книги.
Но прежде чем входить в рассмотрение этих недостатков, поговорим об оценке
учения Канта, которая составляет важнейшую часть исследования г. Новгородцева.
Главную заслугу нравственной философии Канта г. Новгородцев видит в том, что
она неопровержимо доказала «самостоятельность этического начала». Если под
самостоятельностью этического начала разуметь априорность идеи должного,
несводимость этой идеи к каким-либо данным внутреннего или внешнего опыта, то,
разумеется, с этим нельзя не согласиться. Этот отдел учения Канта прекрасно
резюмируется приводимой у г. Новгородцева цитатой из «Критики чистого разума».
«Нравственное долженствование выражает такой вид необходимости и такую связь
с основаниями, которых нельзя встретить во всей остальной природе, помимо
внутреннего сознания человека· Рассудок может познавать во внешней природе лишь
то, что есть, было и будет; невозможно, чтобы здесь что-либо должно было быть
иначе, чем оно действительно есть в своем временном явлении. Долженствование
лишается всякого значения, если иметь в виду только ход природы. Мы не можем
спрашивать, что должно совершаться в природе, так же, как мы не можем
спрашивать: какие свойства должен иметь круг; вопрос может здесь идти только о том, что
совершается в природе или какие свойства имеет круг. Но что же такое это
долженствование, не имеющее никакого применения ко внешней природе? Ясно, что это —
продукт внутреннего мира человека. Долженствование выражает особое возможное
или мыслимое действие, основанием для которого является чистое понятие. Разум
с полной самопроизвольностью создает для себя особенный порядок — мир идей,
к которому он старается приблизить действительные условия и согласно с которым
объявляет необходимыми такие действия, которые никогда не случались и, может
быть, никогда не случатся. В создании этого порядка он не следует указаниям
внешней природы и действительного хода вещей; поэтому он и приходит здесь к иным
выводам. И, может быть, согласно с этим особенным идеальным порядком, все то,
что по ходу природы совершилось и по своим эмпирическим основаниям неизбежно
совершилось, не должно было совершиться» (стр. 83). Если таким образом наша
разумная воля не получает представления нравственно должного из внешнего мира,
а черпает его сама из себя, то, значит, она сама дает себе нравственный закон;
иначе говоря, в акте нравственного сознания воля наша автономна: здесь она
определяется не извне, а изнутри, то есть самопроизвольно.
Таким образом понимаемая самостоятельность этического начала действительно
составляет великое открытие Канта. Но тут мое согласие с г. Новгородцевым
кончается: в своем увлечении Кантом он идет дальше, чем я могу за ним последовать. Он
хочет сохранить в полной неприкосновенности Кантов дуализм теоретического
и практического разума, настаивая на полной точности кантовской попытки
разграничить эти две области. Я вполне согласен с г. Новгородцевым в том, что
следует точно различать научное объяснение явлений и нравственную оценку действий:
тут мы имеем дело несомненно с двумя различными проявлениями, различными
функциями разума. Но г. Новгородцев утверждает на этом основании, что идея
должного вообще «выходит из сферы научного познания» (стр. 83). По-видимому,
для него нравственная область есть вообще та «область таинственного и
неопределенного», где «познание кончается и начинается другая деятельность разума»
507
(стр. 80, ср. 81). Через всю книгу г. Новгородцева красной нитью проходит
противоположение этики науке. «Как ни старо разграничение этики и науки, — читаем мы
на стр. 93, — оно все еще оказывается неясным для некоторых учений». В
приведенном месте г. Новгородцев, по-видимому, под наукой разумеет положительную
науку, то есть ту, которая занимается изучением явлений. Если бы так, то, конечно,
с ним можно было бы согласиться, ибо этика, как учение, по существу
умозрительна и имеет своим предметом не объяснение чувственного мира явлений, а
сверхчувственный порядок должного. Но из других мест разбираемой книги видно, что автор
противополагает этику науке вообще; на стр. 99 он говорит: «Ясное разграничение
одинаково обратится на пользу как этики, так и науки: для первой будет сохранена
безграничность ее перспектив, для второй — точность ее заключений». Значит ли
это, что в этике, в отличие от науки, точные заключения невозможны?
По-видимому — да. На стр. 97 г. Новгородцев высказывает следующее: «Одна из
существенных заслуг Канта состоит в том, что своим формальным пониманием нравственного
долженствования он открыл для нравственных стремлений безграничный простор.
Он указал, что идея свободы есть граница научного опыта: методическая и
связанная деятельность разума здесь кончается, чтобы уступить место бесконечным
ожиданиям и стремлениям» (стр. 97) (курсив мой — Е. Т.). Смысл этого места
совершенно ясен: г. Новгородцев отрицает возможность всякой методической
деятельности разума и, следовательно, — научного знания за пределами опыта; пределы
науки для него совпадают со сферою явлений. Границы научного познания
г. Новгородцев проводит совершенно так же, как Кант: этика и, по-видимому,
вообще метафизика для него выходят за пределы теоретического познания, то есть
науки, и составляют область практического разума; с этой точки зрения следовало бы,
собственно говоря, отказаться от всяких попыток теоретического анализа и
теоретического обоснования нравственности. В самом деле, анализировать
нравственность — значит подчинять веления практического разума высшему суду разума
теоретического и, следовательно, нарушать первенство практического разума;
пытаться теоретически обосновать нравственность — значит, опять-таки, ставить
достоверность велений практического разума в зависимость от достоверности тех
или других теоретических положений; а этим опять-таки нарушается указанный
Кантом порядок инстанций, и теоретический разум вводится в такую область,
которая, с точки зрения Канта и г. Новгородцева, должна признаваться ему
недоступною; с этой точки зрения, г. Новгородцев остается вполне последовательным, когда
он с сочувствием указывает на «интересные разъяснения» Зиммеля относительно
невозможности обосновать мораль (стр. 92, примечание).
Известно, однако, что Кант сам первый нарушил указанные им границы
теоретического разума: он отрицал возможность метафизики, но его «Критика чистого
разума» заключает в себе метафизические элементы; он утверждал
непознаваемость вещи в себе; но опять-таки доказано, что уже в этом утверждении
заключалось познавательное о ней суждение: если бы вещь в себе была только понятием
нашего рассудка, она была бы вполне познаваема; о непознаваемости вещи в себе
можно говорить только в предположении ее независимого от нас существования;
и тот, кто отрицает возможности знать о ней что-либо, вынужден приписывать ей
существование*. Точно так же Кантово учение о недоступности сферы
долженствования теоретическому обоснованию не помешало ему написать его гениальную
книгу «Критическое обоснование метафизики нравов» ; его учение о первенстве практи-
* Ср. Kuno Fischer, Geschichte d. neueren Philosophie, V. B, 2 Aufl., S. 89-96.
508
ческого разума, о неподсудности последнего какой-либо высшей инстанции не
воспрепятствовало ему написать «Критику практического разума». Вся вообще
нравственная теория Канта была сплошным нарушением указанных им же самим
границ теоретического исследования*.
В наши дни г. Новгородцев в числе многих других указывает на необходимость
возвращения к Канту; исправил ли он погрешности Кантова учения, возвысился
ли он над его противоречиями? К сожалению, далеко не вполне. Как раз по
вопросу о пределах компетенции этики как учения у г. Новгородцева замечаются
типические колебания: наука, говорит он, может подвергнуть анализу сущность
нравственного чувства и свести его в идее обязанности, но на этом анализ и кончается
(стр. 91); здесь, по-видимому, этика понимается как наука; ей отводится
некоторая, хотя и ограниченная сфера точных выводов; она доказывает априорность
идеи обязанности, несводимость этой идеи к каким-либо другим представлениям,
заимствованным из опыта; в этом г. Новгородцев совершенно правильно видит
крупную научную заслугу нравственной философии Канта. Но спрашивается, как
же согласить с этим мнение того же г. Новгородцева, что этика — вообще не
наука? Если мы можем высказать точно обоснованные познавательные суждения
относительно идеи должного, если мы, например, точно знаем, что это идея —
сверхопытная, то как же можно утверждать после этого, что она «выходит из
сферы научного познания».
У г. Новгородцева есть и другие неясности. Известно, что нравственное учение
Канта не исчерпывается одним анализом нравственного сознания: ответив на
вопрос о том, что такое нравственность, он спрашивает себя, как она возможна.
В «Критике практического разума» вопрос этот разрешается в том смысле, что
свобода составляет необходимое предположение нравственности. «В этом
возвышенном понимании существа нравственности как безусловной нравственной
свободы, — говорит г. Новгородцев, — заключается заслуга Кантовой морали» (стр. 101).
Несмотря на существенные недостатки Кантова учения о свободе, я согласен с тем,
что оно заключает в себе элементы весьма ценные; но если г. Новгородцев считает
возможным заимствовать те или другие элементы кантовского обоснования
нравственности, то ему не следовало бы сочувствовать словам Зиммеля о невозможности ее
обосновать. «Как говорит Кант, — читаем мы на стр. 91 разбираемой книги, —
моральный закон есть как бы факт чистого разума, который мы сознаем в себе a priori
и который для нас безусловно достоверен». Но спрашивается, что же для нас здесь
безусловно достоверно, существование ли известных нравственных представлений
как фактов сознания или существование действительных нравственных
обязанностей? В существовании у человека тех или других представлений о нравственно
должном никто никогда не сомневался; но вопрос о существовании у нас действи-
Кант отчасти предвидел эти возражения, но его попытку на них ответить нельзя признать
удачною. Именно в предисловии и введении к «Критике практического разума» он говорит между
прочим, что он хочет подвергнуть критике не чистый практический разум, а практический
разум вообще. Что касается чистого практического разума, то он не может служить объектом
критики уже потому, что он является руководящим началом всякой критики. Вся задача
критического анализа сводится к тому, чтобы доказать существование чистого практического
разума; дальше этого, по мнению Канта, критическое исследование идти не может. Нетрудно
доказать, однако, что «критика практического разума» не осталась в указанных пределах:
в действительности она не только ^становляет существование чистого практического разума,
но отвечает также и на вопрос о возможности его предписаний, ratio essendi2 нравственного
закона. К этому сводится все учение Канта о свободе как постулате практического разума.
509
тельных обязанностей возбуждал и возбуждает массу сомнений и споров; уже
самый факт существования учений, отрицающих нравственное долженствование или
считающих возможным построить мораль без обязанности, указывает на то, что
безусловной достоверности мы здесь не имеем. Раз нравственные предписания
возбуждают теоретические сомнения, они нуждаются в теоретическом оправдании.
Теоретические сомнения тут неизбежно возникают потому, что в основе нашего
нравственного сознания лежит ряд теоретических предположений, могущих быть
предметом спора. Прежде всего нравственные предписания предполагают
возможность их исполнить; если идея долга требует от нас невозможного, то она покоится
на иллюзии. Обращаясь к человеку с нравственными требованиями, мы
предполагаем, что его воля свободна в двояком смысле: во-первых, она в своем умопостигаемом
корне свободна от эмпирической причинности, то есть от всех влияний, действующих
во времени; во-вторых, она представляет собою самостоятельный источник
деятельности или, говоря словами Канта, представляет собою умопостигаемую причину,
которая может самопроизвольно начать ряд действий. Мало того, нравственный закон
предполагает возможность осуществления нравственного порядка, то есть
возможность для нас преобразовать внешнюю действительность согласно с его требованиями.
Таким образом, разрешение нравственного вопроса о должном зависит от
разрешения целого ряда теоретических вопросов — о свободе нашей воли, об отношении
нашей воли к законам вселенной. Как только мы углубимся в нравственную
философию, для нас тотчас станет ясною зависимость представлений о должном от
представлений о сущем — этики от метафизики. Но по этому самому для нас
обнаружится неточность произведенного Кантом разграничения сфер практического и
теоретического разума. С одной стороны, именно Кантов анализ нравственного сознания
показал в нем присутствие целого ряда метафизических предположений несомненно
теоретического характера: учения о свободе, бессмертии и о существовании Бога суть
несомненно теоретические утверждения о сущем, а не практические предписания
о желательном или должном поведении. С другой стороны, теоретическая
метафизика, с точки зрения Канта, составляла запретный плод, а потому перечисленные
метафизические положения могли фигурировать в его нравственной философии только
в виде контрабанды, под именем «постулатов практического разума». Вследствие
этого учение Канта попало в заколдованный круг: на вопрос о том, «как возможна
нравственность», «Критика практического разума» ответила, что необходимые
предположения нравственности суть свобода воли, бессмертие и существование Бога; с другой
стороны, по смыслу «Критики чистого разума», эти предположения сами по себе
никакою достоверностью не обладают; они заимствуют свою достоверность от того
самого нравственного сознания, коему они служат опорою*.
* Кант отчасти предвидел это возражение. В предисловии к «Критике практического разума» он
говорит между прочим: «Чтобы меня не упрекали в непоследовательности за то, что я теперь
называю свободу условием нравственного закона, а ниже утверждаю, что нравственный закон есть
первоначальное условие нашего сознания свободы, я напомню только, что свобода есть, конечно,
ratio essendi нравственного закона, тогда как нравственный закон есть ratio cognoscendi3
свободы. Ибо, если бы предварительно наш разум не сознавал ясно нравственного закона, мы никогда
не были бы управомочены признавать чего-либо подобного свободе (хотя последняя не заключает
в себе внутреннего противоречия). С другой стороны, если бы не было свободы, то в нас не было
бы нравственного закона». Объяснение это нельзя признать удовлетворительным, потому что
свобода есть не только основание бытия нравственного закона, но и условие его достоверности; мы
не можем признавать для себя обязательными, достойными веры нравственные предписания,
если мы не убеждены в возможности для нас их исполнить, то есть в нашей свободе. Зависимость
представлений о должном от представлений о сущем тут выступает как нельзя более ясно.
510
Кантова метафизика не может послужить надежной опорой для нравственного
сознания и по другим причинам. Нравственный закон требует осуществления разума
во внешнем чувственном мире, деятельного проявления свободы, принадлежащей
человеку как умопостигаемому существу, ну мену, — в сфере феноменальной.
Между тем, нравственная философия Канта покоится на его дуалистической по существу
метафизике: в ней мир мыслимый, мир вещей в себе оторван от мира явлений;
дуализму вещи в себе и явлений соответствует дуализм разума и чувственности;
наконец, этот же дуализм проявляется в самом разуме, как раздвоение между разумом
теоретическим, который может познавать одни явления, и разумом практическим,
который витает в горней сфере мира умостигаемого. На почве такой метафизики
вопрос об осуществлении нравственного начала в жизни мог получить только
неудовлетворительное и противоречивое по существу решение. И в самом деле, нетрудно
убедиться в том, что в основе Кантова понимания нравственной свободы лежит
глубокое противоречие: с одной стороны, свобода есть свойство нашего
умопостигаемого характера и постольку она трансцендентна миру явлений; с другой стороны, она
есть деятельное в мире начало. С одной стороны, Кант утверждает, что закон
причинности действует только в сфере явлений: к вещам в себе, нуменам, он безусловно
неприложим. С другой стороны, тот же Кант пытается понять нашу свободу как
умопостигаемую причину (intelligibile Ursache) наших действий, нашего эмпирического
характера; с одной стороны, он хочет, чтобы мы стремились привести
действительность, то есть ту эмпирическую среду, в которой мы действуем, в согласие с
нравственными требованиями; с другой стороны, он требует, чтобы наша нравственная
деятельность была свободна от всяких эмпирических побуждений.
IV
Вопрос об осуществлении нравственного закона в жизни есть самое слабое место
этики Канта, и это не ускользнуло от внимания г. Новгородцева. Чтобы восполнить
этот пробел кантовской философии, г. Новгородцев обратился к Гегелю. Что же
может дать Гегель для восполнения Канта? «В противоположность Канту, — объясняет
г. Новгородцев, — Гегель обратил главное внимание на объективную сторону
нравственности, на ее осуществление в жизни и ее связь с деятельными силами истории.
Отсюда вытекало его стремление отыскивать в действительности признаки и условия
осуществления нравственного идеала и рассматривать этот идеал как реальную силу,
направляющую отдельных лиц путем приобщения их к общей нравственной жизни.
Личность приводилась в связь с о!бществом, как необходимым условием для
нравственного развития. «Царство целей», которое оставалось у Канта абстрактным
идеалом нравственной воли, более добрым стремлением, чем живой действительностью,
наделялось у Гегеля плотью и кровью реального нравственного организма».
Противоположность этических направлений Канта и Гегеля здесь схвачена верно
и, так как в обоих учениях выражается действительно существенные элементы
нравственной идеи, то их сопоставление могло бы быть чрезвычайно поучительным. Есть,
однако, многое, что мешает проведенной г. Новгородцевым параллели быть в
достаточной мере плодотворною. Во-первых!, в отмеченной противоположности
нравственных мировоззрений двух философов проявляется контраст их метафизических
воззрений. Если нравственный идеал Канта представляется слишком отвлеченным, далеким
511
от жизни, то в этом сказывается, как мы видели, метафизический дуализм его
системы. С другой стороны, в особенностях Гегелева понимания нравственного идеала, как
деятельного начала, воплощающегося в истории, выражается панлогизм его
метафизики. Поэтому в основе всякой параллели между нравственными учениями Канта
и Гегеля должно лежать сопоставление их основных метафизических принципов.
Но и этого мало. Учение Гегеля представляет собою вовсе не первую в истории
философии попытку преодолеть метафизический и тесно связанный с ним этический
дуализм Канта. В том же направлении раньше Гегеля работали Фихте и Шеллинг.
Устранение кантовского дуализма в метафизике и в этике есть та основная задача,
которую ставит себе наукословие Фихте. Отвергнув понятие вещи в себе как бытия
независимого от сознания, он пытается понять вселенную как проявление единого
начала, как результат самоутверждения абсолютного «я» действующего и созерцающего.
С этой точки зрения противоположность разума и чувственности теряет свой
абсолютный характер: весь чувственный мир понимается как проявление творческой
деятельности мысли, результат ее самоограничения. Под руками Фихте критика
чистого разума превращается в систему идеалистического монизма. В том же духе
идеалистического монизма он преобразует и этику Канта: у него нравственный
закон уже не есть только «закон того, что должно совершаться, хотя бы оно в
действительности не совершалось»; из отвлеченной заповеди нравственный закон
превращается в космическое начало; он выражает собою конечную цель и содержание
мирового процесса; в истории вселенной он играет роль первоначального двигателя.
В процессе развития философской мысли от идеалистического дуализма к
идеалистическому монизму учение Шеллинга обозначает собою дальнейшую стадию.
В системе Фихте еще сохраняются кое-какие следы дуалистического
мировоззрения Канта; с одной стороны, он понимает внешнюю природу как продукт
деятельности «я» ; с другой стороны, та же внешняя природа противополагается у него
деятельности «я» как внешняя граница, которую требуется преодолеть, как
противоположное разуму призрачное явление, лишенное внутренней жизни и цели.
Последовательно проведенный идеалистический монизм должен понять внешнюю
природу как одухотворенное целое, осмысленное создание разума: и вот за эту-то
задачу берется натурфилософия Шеллинга. Натурфилософия понимает внешнюю
природу и человеческий дух как различные проявления единого абсолютного
начала: противоположность между разумом и чувственностью, между духом и внешней
природой исчезает в абсолютном. Абсолютное понимается как безразличие или
тожество того и другого, и таким образом натурфилософия переходит в философию
тожества. Эта точка зрения проводится Шеллингом и в его нравственной
философии. Нравственный закон понижается им не как трансцендентное, а как
имманентное миру начало. Тот же абсолютный дух, который властвует во внешней природе
как естественный закон, проявляется в человеческом обществе как правовой
порядок и как нравственный закон. В своем ♦Трансцендентальном идеализме» Шеллинг
понимает историю человечества как постепенно совершающееся откровение
абсолютного. Господство абсолютного проявляется здесь как торжество добра, которое
составляет конечную цель истории, как совершенная гармония человеческой
свободы и разумной необходимости. Высшим проявлением абсолютного в человеческих
отношениях Шеллинг считает правовой порядок как наисовершеннейшее
сочетание свободы и необходимости; на этом основании он между прочим называет право
наилучшим доказательством бытия Божия*.
* Параллель с Гегелевым учением о разумности существующего тут напрашивается сама собою.
512
Г. Новгородцев, конечно, не станет отрицать ни того, что в основе
нравственного учения Гегеля лежит его панлогическая метафизика, ни того, что это учение во
многих отношениях представляет собою логическое продолжение и завершение
предшествовавших попыток построить метафизику и этику на началах
идеалистического монизма. Гегель только завершает борьбу против кантовского дуализма,
начатую его предшественниками; между его учением и учениями Фихте и Шеллинга
существует не только историческая, но и логическая связь. Но если так, то
отсутствие характеристики двух названных систем или хотя бы краткого обзора
важнейших их результатов представляется совершенно непонятным пробелом в книге
г. Новгородцева. Этот недостаток тем более бросается в глаза, что изложению
учений предшественников Канта в разбираемой книге отводится целых тридцать
страниц; почему же г. Новгородцев не счел необходимым сделать того же для
предшественников Гегеля? Неужели же Томазий4 и Вольф заслуживают больше внимания,
чем Фихте и Шеллинг?
Указанный пробел тесно связан с другим недостатком: как было уже мною
указано раньше, он невыгодно отзывается на проводимой автором параллели между
Кантом и Гегелем. Во-первых, непосредственный переход от Канта к Гегелю
представляется совершенно произвольным и производит впечатление логического
скачка; во-вторых, отмечая противоположность нравственных мировоззрений двух
философов, автор не доходит до метафизических корней этой противоположности;
здесь его философский анализ проникает недостаточно глубоко. Быть может, этого
не случилось бы, если бы г. Новгородцев не пропустил в своем исследовании
промежуточных звеньев, связывающих мысль Гегеля с мыслью Канта; тогда
философский вопрос, поставленный борьбой монизма против дуализма, стал бы перед ним во
всем своем объеме.
Фихте, Шеллинг и Гегель верят в добро как реальную силу, осуществляющуюся
в истории, потому что они понимают сущее как разум, потому что для них мировой
процесс есть процесс логический, разумный. Восставая против субъективизма кан-
товской этики, г. Новгородцев сочувствует гегелевскому пониманию добра как
реальной исторической силы. Но может ли он разделять метафизические предпосылки
Гегеля и двух названных его предшественников? Как относится он к философскому
монизму вообще и к идеалистическому монизму великих германских метафизиков
первой половины XIX столетия в частности? Вера в добро как объективное начало,
воплощающееся в жизни и определяющее ход исторического развития, не связана
необходимо с философским монизмом, чему доказательством служит хотя бы
нравственное учение Владимира Соловьева, который вовсе не был монистом. Но во
всяком случае вера эта, составляющая отличие этики объективной от этики
субъективной, неразрывно связана с объективной телеологией, с признанием разумной цели,
лежащей в основе существующего разумного плана, определяющего ход истории.
Признает ли г. Новгородцев существование такого плана? На все эти вопросы его
книга не дает ответа.
Такой пробел представляется совершенно непонятным в исследовании, которое
задается догматической задачей и хочет восполнить Канта Гегелем. Г.
Новгородцева, разумеется, нельзя упрекнуть в эклектическом стремлении внешним образом
сочетать некоторые положения нравственной философии Канта с оторванными от
их метафизического контекста положениями философии права Гегеля. Он,
очевидно, искал такой точки зрения, которая возвышалась бы как над учением Канта, так
и над учением Гегеля, и признавала бы относительную истину того и другого,
объединяя их в органическом синтезе. Но чтобы найти такую точку зрения, г. Новгород-
513
цев должен был бы прежде всего подвергнуть критической оценке основные
метафизические предположения излагаемых им этических и правовых учений. Однако он
этого не сделал, а потому в его изложении Кант и Гегель в сущности вовсе не
восполняют друг друга, а только противополагаются один другому как два интересных
момента в истории философской мысли. Вследствие этого книга г. Новгородцева
в том именно отделе, где проводится параллель между Кантом и Гегелем, получает
двойственный характер не то догматического, не то исторического исследования.
Что это так, видно, между прочим, из заключительных слов самого автора, где
он подводит итог второй части своего труда. «Приступая к исследованию доктрины
Гегеля, — говорит он здесь, — я поставил себе задачей проследить, в каком
отношении его построение находится к учению Канта. В результате анализа оказалось, что
действительное отношение двух философов в интересующей нас области
представляется скорее отношением восполнения, а не отрицания или исключения. С самого
начала своей деятельности Гегель критикует Канта, упрекает его в
односторонности; но в конце концов он не отвергает его субъективной точки зрения, а только
дополняет ее новым рядом вопросов, которые в своей совокупности представляют
переход от субъективной этики к объективной» (стр. 244).
Ясное дело, что здесь исследование г. Новгородцева становится скорее
историческим, чем догматическим. В учении Канта он искал прежде всего философского
обоснования идеи естественного права, а потому в первой части его книги его
главным образом интересовал догматический вопрос о тех элементах истины, которые
заключаются в этических и правовых воззрениях автора «Критики практического
разума». Во второй части книги для г. Новгородцева на первом плане стоит
исторический по существу вопрос о том, в каком отношении находятся построения Гегеля
к учению Канта. В результате оказывается, что точка зрения Гегеля «дополняет»
точку зрения Канта. В каком, однако, смысле дополняет? Может ли г. Новгородцев
принять те метафизические «дополнения» к Канту, которые у Гегеля
обусловливают переход от этики субъективной к этике объективной? По-видимому, нет, но в
таком случае главный результат этой части труда г. Новгородцева сводится к такому
тезису: нравственное учение Гегеля заключает в себе в переработанном и
дополненном виде некоторые элементы нравственной философии Канта: тезис этот,
очевидно, не содержит в себе никакого догматического вывода и представляет собою
только суждение об историческом отношении Гегеля к Канту. Но если так, то к работе
г. Новгородцева должны быть предъявлены все те требования, которые
предъявляются вообще к историческим исследованиям: переработка учения Канта в
германской философии XIX столетия имеет свою сложную историю, и тем более
приходится пожалеть о том, что г. Новгородцев не изучил те стадии этого исторического
процесса, которые подготовили философию Гегеля.
Если можно говорить о каком-нибудь догматическом результате второй части
разбираемого исследования, то только в смысле постановки задачи: требуется
найти переход от этики субъективной к этике объективной, понять добро как
объективный фактор мирового прогресса. В этом несомненно заключается предмет искания
г. Новгородцева; но почему же поставленный им вопрос остался в его работе без
разрешения? Это объясняется, как мне кажется, следующим образом: вопрос, о
котором идет речь, может получить то или другое разрешение только на почве
метафизического умозрения; это вопрос не только о должном, но и о сущем. Самая
постановка его делает неизбежный нарушение указанных Кантом границ
теоретического исследования, но на такое нарушение г. Новгородцев пока не отваживается:
в своих догматических воззрениях он все еще остается кантианцем, хотя и неудов-
514
летворенным Кантом; в его отношении к метафизике чувствуется колебание между
страхом и влечением. По-видимому, мы имеем дело здесь с точкой зрения, еще не
вполне сложившейся и находящейся в процессе развития.
V
Колебания мысли г. Новгородцева отражаются и на его отношении к
естественному праву. Здесь он также исходит из Канта, отмечает пробелы его философии,
но также не успевает в своих попытках их пополнить. По изложенным уже выше
соображениям о естественном праве вообще можно говорить только в том
предположении, что над положительным правом есть высшее законодательство и высший
суд разума автономного, то есть не связанного каким-либо внешним
законодательством. Г. Новгородцев на этом настаивает, и в выяснении этой мысли Канта, как
одной из основ истинной философии права, заключается несомненно ценная заслуга
его книги. «В сущности, — говорит он, — нормативное рассмотрение было всегда
скрытым предположением естественно-правовой школы. Когда она говорила о
первобытном договоре и естественных правах человека, она более разумела нормы
долженствующего, чем законы существующего; хотя при этом не всегда обходилось без
путаницы понятий. Кант вскрыл эту сущность естественного права и представил ее
в самом ясном свете, указав ее основу в самозаконном сознании» (стр. 156).
В учении Канта раскрывается один из существенных элементов идеи
естественного права, но исчерпывающего объяснения этой идеи мы здесь все-таки не
находим. «Сущность естественно-правовой идеи, — говорит г. Новгородцев, — состоит
прежде всего в ее критическом духе. Она знаменует собою независимый и
самостоятельный суд над положительным правом». Однако сущность естественного права не
сводится к одной только критике существующих учреждений; говоря словами
г. Новгородцева, оно заключает в себе «призыв к усовершенствованию и реформе во
имя нравственных целей» (стр. 150). Но указывать положительному праву его
нравственные задачи и цели — значит предъявлять к нему определенные материальные
требования; а для этого естественное право должно само обладать определенным
содержанием. В чем же заключается содержание требований естественного права
и откуда оно происходит?
На этот вопрос Кант не дает удовлетворительного ответа; вопрос о содержании
этических норм, как известно, у цето вообще остается без разрешения. Г.
Новгородцев доказывает, что с точки зрения Канта вообще не может быть речи о каком-либо
неизменном, раз навсегда данном содержании идеи естественного права: «Как
выражение бесконечных нравственных стремлений, эта идея не удовлетворяется
никаким данным содержанием, никаким достигнутым совершенством, но постоянно
стремится к высшему и большему. Тот, кто признает за каким-либо конкретным
содержанием окончательное значение и вечное совершенство, отдает нравственную
идею в угоду временных соображений» (стр. 150).
К учению Канта примыкает таким образом современное учение о естественном
праве с изменяющимся содержанием, сторонником коего в числе многих других
является и г. Новгородцев. Быть может, мы несколько разошлись бы с г. Новгородце-
вым в формулировке и обосновании этого учения, но я не могу не согласиться с ним
в одном: естественное право не есть кодекс неподвижных и неизменных требований,
515
и это уже потому, что право как порядок внешний есть сфера благ относительных,
условных, а следовательно, и конкретные требования добра, предъявляемые к
правовым нормам, должны быть условны, изменчивы, потому что безусловное добро не
может вместиться в рамки какого-либо внешнего порядка.
Но если мы признаем содержание требований естественного права изменчивым,
то этим еще нисколько не разрешается вопрос о том, откуда происходит это
содержание, чем оно определяется и обусловливается. Так как этот вопрос оставляется
Кантом без ответа, то здесь как раз и сказывается необходимость восполнения его
философии. Это и побуждает г. Новгородцева обратиться к Гегелю. Но тут-то и
обнаруживается недостаточность его точки зрения. «Современный кантианец, —
читаем мы на стр. 222, — вслед за Гегелем, готов повторить: Alle unsere Sittlichkeit
wurzelt in der Sitte5, но, выводя содержание нравственности из общества, он над
самим обществом ставит высшую норму». Вместе с Гегелем г. Новгородцев считает
бесспорным (курсив мой. — Е. Г.), что содержание морали черпается из
общественной среды, но отсюда, по его мнению, не следует, чтобы общественный авторитет
являлся вместе с тем и основанием морали. Высшим критерием здесь всегда остается
собственное убеждение личности, которая может подвергать критике всякое данное
содержание» (стр. 222). Если стать на эту точку зрения, то придется признать, что
личность не может противопоставить общественной среде никакого нового
нравственного содержания, а может только отвергнуть всякое данное содержание. Если
так, то требования естественного права, как и все вообще нравственные требования,
не могут заключать в себе никакого положительного идеала, никаких
положительных указаний относительно задач человеческого общества; оно представляет собою
чисто отрицательный критерий, который указывает обществу, от чего оно должно
воздерживаться, но вместе с тем не определяет тех конечных целей, к которым
должно стремиться. Так и подобало бы говорить последовательному кантианцу.
Однако через всю книгу г. Новгородцева проводится мысль, что естественное право
есть не только отрицательный критерий, но вместе с тем и источник
преобразований и усовершенствований действительности. Для этого оно должно прежде всего
обладать содержанием самостоятельным, не заимствованным из какой-либо
конкретной общественной среды. По-видимому, точка зрения г. Новгородцева
заключает в себе противоречие. «Не бесспорной моралью преданий, — говорит он, —
а сложным и трудным искусством, рядом творческих актов, является личная
нравственная жизнь в развитом обществе». Но о каком же нравственном творчестве
личности можно говорить, если личность сама все заимствует от общества и,
следовательно, не может внести в общественную жизнь никакого нового нравственного
содержания? ,
Каковы бы, однако, ни были недостатки разбираемой книги, нельзя не
приветствовать появление нового серьезного труда даровитого автора: что же касается
отмеченных выше колебаний и неясностей в философской точке зрения г.
Новгородцева, то они обусловливаются процессом духовного роста его мысли,
неудовлетворенной Кантом, но еще не вполне от него освободившейся.
516
УЧЕНИЕ Б.Н.ЧИЧЕРИНА
О СУЩНОСТИ
И СМЫСЛЕ ПРАВА
Две характерные черты составляют яркую особенность философии права
покойного Б. Н. Чичерина — пламенная вера в достоинство человека, в его
безусловную ценность и редкое в наш век боготворения стихийной массовой силы
уважение к свободе человеческой личности.
Обе эти черты тесно связаны между собою. Для покойного Бориса
Николаевича свобода личности служит краеугольным камнем всего правового порядка,
всего государственного и общественного здания именно потому, что он верит в
человека, как носителя Безусловного.
«Философия и история, — говорит он, — раскрывают нам неотъемлемо
присущее человеку стремление к свободе. И оно вытекает из самой глубины Духа,
составляя лучшее его достояние и высшее достоинство человеческой природы. Как
носитель абсолютного, человек сам себе начало, сам — абсолютный источник
своих действий. Этим он возвышается над остальным творением и только в силу
этого свойства он должен быть признан свободным лицом, имеющим права. Только
поэтому с ним непозволительно обращаться как с простым орудием. История
живыми чертами свидетельствует об этом начале как о неискоренимой потребности
человека и высшей цели его исторической деятельности. Отсюда то обаяние,
которое имеет свобода для молодых умов. Юношество всегда готово увлекаться ею
даже через меру. И не одни юноши воспламеняются ею; и для зрелого гражданина
нет выше счастья, как видеть свое отечество свободным, нет краше призвания,
как содействовать, по мере сил, утверждению в нем свободы»*.
В другом месте** я показал, что этот пафос свободы составляет руководящий
мотив всей публицистической деятельности покойного мыслителя за последние
годы. От власть имеющих он требовал уважения к человеческому достоинству
и независимости подчиненных, от подвластных — признания в самих себе этого
достоинства, подобающего свободным людям отношения к власти. В этом вся суть
той возвышенной программы, которую он дает в своих «Политике» и «Вопросах
политики». С этой точки зрения он рассуждает о положении нашего крестьянства
и дворянства, о свободе религиозной, о вопросе национальном и о наших земских
учреждениях.
В «Философии права» Чичерина выясняются те философские принципы,
которые лежат в основе его правовых и политических воззрений. Понятно, что в наши
, /
* «Собственность и Государство», Т. I. С. V-VI.
** См. мою статью «Борис Николаевич Чичерин как поборник правды в праве». Вестник права,
март 1904.
518
дни, когда освободительное движение объединяет все то, что есть лучшего в
русском обществе, эта философия приобретает совершенно исключительный
интерес: она выясняет нам смысл наших идеальных стремлений; она раскрывает те
умозрительные начала, в которых наше искание свободы находит себе
незыблемое основание и оправдание.
I
В свободе Чичерин видит, с одной стороны, сущность права, а с другой
стороны, его идеальную задачу, цель. Нам предстоит здесь прежде всего разобраться
в суждениях нашего философа о сущности права.
Слово «право», говорит он, «понимается в двояком значении: субъективном
и объективном. Субъективное право определяется как нравственная
возможность, или иначе, как законная свобода что-либо делать или требовать.
Объективное право есть самый закон, определяющий эту свободу. Соединение обоих
смыслов дает нам общее определение: право есть свобода, определяемая законом.
И в том, и в другом смысле речь идет только о внешней свободе, проявляющейся
в действиях, а не о внутренней свободе воли; поэтому полнее и точнее можно
сказать, что право есть внешняя свобода человека, определяемая общим законом»*.
В существе своем это понимание права не ново. Еще Кант** определяет право
как «совокупность условий, при которых произвол одного лица может быть
совмещен с произволом другого под общим законом свободы». Сам Чичерин
указывает на Бентама1 как на своего предшественника.
Уловлен ли в этих определениях существенный признак права?
Существенным должен считаться только тот признак определяемого понятия,
с отнятием которого уничтожается самое понятие. И с этой точки зрения
поставленный вопрос должен быть разрешен в утвердительном смысле. Где нет внешней
свободы, там нет и права. Лицо, которому норма не предоставляет внешней
свободы, находится в совершенной зависимости от чужого произвола и потому самому
представляется совершенно бесправным. Таково положение раба.
Истинность этого тезиса может быть подтверждена анализом любого
конкретного права: во всяком субъективном праве мы найдем внешнюю свободу как
необходимую составную часть. Если я не свободен от посторонних посягательств на
мою жизнь и на мое имущество, я лишен всяких личных и имущественных прав.
Если я не свободен пользоваться определенными услугами других лиц, я не имею
никаких прав на чужие услуги!
Профессор Петражицкий***, возражая против определения права как
свободы, указывает на существование таких прав, которые якобы не только не
заключают в себе этого признака свободы, но, напротив, исключают его, закрепляют
состояние несвободы. Таково, например, крепостное право. Возражение это
покоится на явном недоразумении. Очевидно, что крепостное право есть право
господина, а не крепостного: оно отнимает свободу у крепостного, который по
тому самому является совершенно бесправным, и вместе с тем предоставляет свобо-
* «Философия права», стр. 84.
** Metaphysische Anfagsgründe der Rechtslehre. Einleitung in die Rechtslehre. § A-C2.
*** «Очерки философии права», стр. 114-115.
519
ду господину. Оно есть его свобода располагать его крепостным. Как и всякое
имущественное право оно заключает в себе, как необходимый признак, свободу
определенного лица от всяких посторонних посягательств на его имущество.
Гораздо больший интерес представляет другое возражение, которое всегда
противополагается защищаемому учению, а именно — вечная ссылка на малолетних
и слабоумных. Говорят, что эти лица обладают правами, будучи вместе с тем
лишены свободы: они не свободны распоряжаться ни своей личностью, ни своим
имуществом; они находятся всецело во власти опекунов и родителей.
Основная ошибка этого возражения заключается в смешении свободы внешней
со свободой внутренней. Та внешняя свобода, которая составляет существенный
признак всякого правомочия, не предполагает никаких психических свойств у ее
обладателя. Свобода эта заключает в себе два признака, отрицательный и
положительный. Это, во-первых, независимость от чужого произвола, а во-вторых,
условная возможность самоопределения, то есть возможность положительных действий.
Где нет личной независимости, там нет и права: этот признак существен для
прав малолетнего, как и всякого другого лица. Подобно всяким другим субъектам
права, малолетние и слабоумные ограждены против чужого произвола целым
рядом правил как в личной, так и в имущественной сфере; ни личность, ни
имущество их не могут быть обращены в орудия какого-либо другого лица. Именно этим
положение правоспособного опекаемого отличается от положения раба; одна из
важнейших задач самой опеки заключается в том, чтобы обеспечить
независимость личности опекаемого. Поэтому мы без всякого противоречия можем
признавать свободными малолетних и слабоумных. Свободны они в силу
предоставленных им прав и лишь постольку, поскольку они обладают правами.
Обладают ли они свободой в смысле возможности совершения положительных
действий? Утвердительный ответ на этот вопрос не подлежит сомнению, если мы
примем во внимание условный характер той свободы, о которой здесь идет речь.
Когда мы говорим, что какому-либо учреждению или акционерной компании
предоставляется свобода совершать определенные действия, например свобода
продавать, покупать, распоряжаться определенным имуществом, выражение
«свобода» ни в ком не вызывает недоумений, несмотря на то, что учреждения
и акционерные компании никакими психическими свойствами не обладают. Ибо
для всех ясно, что термин «свобода» тут имеет условное значение: под
«действиями» акционерной компании подразумеваются законные действия ее
представителей, уполномоченных действовать от ее имени, осуществлять ее права; под
«свободой» акционерной компании разумеется предоставленная ее представителям
возможность совершать эти действия от ее имени.
В таком же условном смысле свобода совершать определенные действия
принадлежит и малолетним. Они также через посредство своих представителей
свободны распоряжаться своим имуществом, извлекать или не извлекать из него
доход, умножать и отчуждать его при условии соблюдения требования закона. Что
в данном случае речь идет о свободе правообладателя, а не о свободе другого лица,
видно из того, что опекун, распоряжающийся имуществом малолетнего,
действует не по собственному праву, а осуществляет право опекаемого. Он свободен лишь
в пределах этого права.
В примере малолетних и безумных мы имеем лишь частный случай
несовпадения между личностью в юридическом смысле этого слова — «субъектом права»
и его физическим воплощением. Закон связывает с понятием «собственника»
свободу располагать известным имуществом; между тем, в действительности этот
520
«собственник» нередко является в образе новорожденного младенца; последний
не может даже произносить членораздельных звуков, а потому не в состоянии
проявить без посторонней помощи предоставленной ему свободы распоряжений.
Противоречия тут нет никакого, ибо «внешняя свобода, предоставленная
нормою», вовсе не есть психическое свойство лица, которому она предоставлена.
Свобода эта в данном случае означает, что никто не смеет посягать на ту сферу
материальных благ, которая приписывается данному лицу, и что никто не должен
препятствовать осуществлению распоряжений, касающихся этого имущества,
совершенных им лично или его представителями.
В этом смысле «свобода» может принадлежать не только малолетним, но даже
лицам еще не родившимся, предполагаемым и умершим. Если я завещаю мое
имущество старшему сыну моей дочери, «буде таковой родится не позже 1910
года» — субъектом прав тут является лицо, коего рождение только ожидается в
будущем. Если речь идет о безвестно отсутствующем, за которым закон признает
права имущественные и брачные, то субъектом права является лицо, коего
физическое существование только предполагается. Наконец, все наследственное право
покоится на признании прав умершего: только в силу права последнего суд может
признать те или другие права за его наследниками. Во всех этих примерах
совершенно ясно обнаруживается несовпадение юридической личности человека с его
«физическою» личностью. Юридическая личность человеческого индивида
может возникнуть раньше его физического рождения и переживает его после его
смерти. В чем же заключается содержание прав этих идеальных лиц? Очевидно,
что оно складывается из указанных выше признаков отрицательной и
положительной внешней свободы. Во-первых, никто не смеет посягать на имущество этих
лиц: это значит, что закон признает их, как и всяких других субъектов права,
свободными, независимыми от чужого произвола; во-вторых, закон признает за
ними условную свободу самоопределения; на признании этой свободы основывается
действительность завещания умершего; она же признается за безвестно
отсутствующим, когда он вернется, за лицом неродившимся, когда оно достигнет
требуемого возраста, а до тех пор — за представителями этих лиц.
Преимущество формулированного только что определения субъективного права
заключается в том, что оно не предполагает у субъекта права никаких
определенных физических или психических состояний или свойств, чего нельзя сказать
о ряде других ходячих в наши дни определений. Субъективное право, например,
нередко определяется как определенная сфера господства лица-правообладателя.
Недостаток этого определения заключается в том, что господство непременно
предполагает какое-либо действительное, реальное отношение лица господствующего
к предмету его господства. Между тем, такое реальное отношение вовсе не
существенно для права. Я могу быть собственником вещи, сам того не зная; это может
случиться, например, в том случае, если данная вещь мне завещана, и я еще не успел
узнать о смерти завещателя, ни даже о самом существовании завещанного. Какого-
либо реального отношения к вещи и, следовательно, господства над нею тут нет
вовсе; между тем, существо моего права от этого нисколько не изменяется.
По тем же основаниям несостоятельно определение субъективного права как
интереса. Интерес всегда предполагает какое-нибудь определенное состояние,
иногда даже определенное психическое настроение лица заинтересованного,
между тем как для субъекта права ото вовсе не существенно. Собственность,
например, для аскета не представляет никакого интереса, между тем как большинство
людей в ней действительно заинтересовано. Однако аскет является таким же соб-
521
ственником, как и всякий другой субъект права. Собственниками являются и
такие лица, как малолетние, которые сознательного психического отношения к их
собственности проявить не могут. Предположение, что их собственность
представляет для них интерес, представляется поэтому совершенно произвольным, тем
более, что есть такие объекты собственности, которые находятся в полном
противоречии даже с чисто материальными интересами человека нормального, среднего.
Примером может служить имущество, свыше стоимости обремененное долгами:
не соответствуя интересам собственника, оно, однако, служит объектом его права.
Вообще, право может не выражать действительного господства
правообладателя и не соответствовать его интересам; тем не менее оно все-таки остается правом.
Напротив, если мы лишим данное лицо свободы пользоваться тем, что
признается объектом его права, то мы уничтожим самое право.
II
Данное Чичериным определение права нуждается в некотором исправлении
и дополнении. «Право, — говорит он, — есть внешняя свобода человека,
определенная законом». Лучше было бы сказать, что право (в субъективном смысле) есть
«внешняя свобода, предоставленная лицу нормою». Предлагаемая формула
точнее, во-первых, потому, что человек вовсе не есть единственный возможный
субъект права, во-вторых, потому, что закон — вовсе не единственная форма правовых
норм и, наконец, в-третьих, потому, что слово «предоставленная» яснее
выражает отношение лица, управомоченного к правовой норме.
Предложенная формула исчерпывающим образом выражает сущность права
в субъективном смысле; но она еще недостаточно определяет право в смысле
объективном. Профессор Петражицкий справедливо указал на двойственную
функцию правовых норм, как на существенное их свойство. Предоставляя что-либо
одной стороне, они всегда вместе с тем повелевают другой стороне, налагая на нее
определенные обязанности. В переводе на наш язык это будет значить:
предоставляя определенную сферу внешней свободы одному лицу или лицам, правовая
норма вместе с тем всегда соответственным образом ограничивает или связывает
внешнюю свободу другого лица или лиц.
Если правовая норма предоставляет мне собственность, она тем самым
ограничивает всех прочих лиц-несобственников, воспрещая им всякие посягательства на
мою вещь; если она предоставляет мне получение долга, то она налагает на
должника соответствующее обязательство — уплатить долг; если она предоставляет
мне власть, то она рядом соответствующих обязательств ограничивает свободу
лиц подвластных.
Это ограничение внешней свободы, точно так же как и предоставление,
составляет такое существенное свойство правовой нормы, с уничтожением которого
рушится самое право. Допустим в самом деле, что наша свобода убивать,
распоряжаться личностью и имуществом ближнего не ограничена никакими правилами.
Не ясно ли, что при таких условиях ни о каком праве не может быть речи?
Отсюда следует, что сущность правовых норм проявляется в двоякой функции: давая
свободу, они вместе с тем сдерживают произвол; они кладут определенные
границы внешней свободе одних лиц во имя свободы других лиц. На этом основании
право в объективном смысле может быть определено как «совокупность норм,
522
с одной стороны, предоставляющих, а с другой стороны, ограничивающих
внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях».
Ограждая внешнюю свободу лица против посторонних посягательств, право
опирается на принуждение. На этом основании Чичерин, как и большинство
современных юристов, видит в принуждении существенный признак права. «В
отличие от нравственности, — говорит он, — право есть начало принудительное».
Ошибочность этого взгляда уже многократно была обнаружена: не раз было
указано, что принуждение коренится вовсе не в существе самого права, а
обусловливается несовершенствами той человеческой среды, в которой осуществляется
право. В обществе праведников, где принуждение станет излишним, право
вследствие этого не только не прекратит своего существования, но, напротив,
осуществится наисовершеннейшим образом. Разбираемая теория смешивает право
с одним из его орудий. Нелепость эта в особенности резко бросается в глаза, когда
принуждение понимается в смысле физического насилия: право вообще не есть
физическая сила, а норма, которая обращается к свободной воле человека; силою
можно иногда восстановить нарушенное право или покарать правонарушителя,
но предупредить самое правонарушение далеко не всегда возможно;
следовательно, сила по отношению к праву есть нечто внешнее; ее применение
обусловливается не самим правом, а его нарушением.
Сторонники разбираемой теории обыкновенно считают признаком права
принуждение психическое, а не физическое: сущность этого психического
принуждения заключается в том, что человек принуждается к исполнению правовых
предписаний страхом невыгодных последствий на случай неповиновения. Нетрудно
убедиться, однако, что и это «психическое» принуждение вовсе не является
существенным признаком права: ибо, во-первых, право остается правом, совершенно
независимо от того, нужно или не нужно страхом принуждать людей к исполнению его
предписаний; тот мотив, которым тот или другой законодатель старается побудить
человеческую волю к исполнению требований правовой нормы, вовсе не является
существенным признаком самой нормы. Во-вторых, психическое принуждение
вовсе не составляет такого признака, которым бы нормы правовые отличались от
иных этических норм, например от правил нравственных и от правил приличия.
Люди очень часто принуждаются к соблюдению этих последних правил страхом
невыгодных последствий в случае их нарушения. Нравственные правила гораздо
чаще нарушались бы, если бы не страх общественного осуждения, боязнь, что
порядочные люди перестанут протягивать руку; опасение, как бы в противном случае не
перестали принимать в порядочные дома, служит весьма сильным стимулом к
соблюдению правил приличия. Нередко нормы нравственные обладают большею
силою психического принуждения, нежели нормы правовые, так что побуждают даже
к нарушению последних; так, етрах осуждения со стороны товарищей, страх
репрессий за измену и отступничество часто побуждает людей к совершению таких
политических правонарушений, за которые закон грозит тяжкими карами.
Аргументы против теории принуждения могли бы быть здесь еще в
значительной степени умножены; но в этом не представляется надобности после
исчерпывающей критики Коркунова* и Петражицкого**.
* «Лекции по общей теории права», стр. 68-75.
** «Очерки философского права», стр. 61-83. У Чичерина («Философия права», стр. 329-330)
между прочим замечается противоречие, типичное для многих сторонников теории
принуждений; он признает юридическое значение норм международного права, хотя оно и не
обладает силою принуждения.
523
Ill
Изложенные только что суждения о сущности права подготовляют нас к
уразумению его значения и смысла.
Мы видели, что право является в двоякой роли — призыва к свободе и оковы
для произвола. Чем оправдываются эти двоякие требования? Во имя чего мы
должны уважать свободу?
Уважения заслуживает только то, что в каком-либо отношении ценно. Тем
самым, что мы признаем то или другое лицо субъектом права, мы показываем, что
оно в наших глазах является носителем известной ценности. Среди множества
субъектов права, обладающих ценностью относительной, один лишь человек
требует к себе уважения безусловного.
Непризнание этой ценности, этого безусловного достоинства человека в истории
всегда влекло за собою, как неизбежное последствие, бесправие, рабство. В тех
государствах Древнего Востока, где безусловное достоинство признавалось только за
одним лицом — монархом, все прочие были по этому самому рабами. В Древней
Греции, где носителем безусловной ценности являлась не отдельная личность,
а государство, свобода была принадлежностью меньшинства свободных граждан —
участников верховной власти; уделом большинства было рабство, причем раб,
говоря словами Аристотеля, считался «одушевленным орудием» своего господина.
Забвение основного источника «прав человека» всегда грозит крушением
правового порядка, возобновлением рабства в будущем. Всестороннее освещение этой
истины составляет одну из величайших заслуг «Философии права» Б. Н. Чичерина.
Он с необыкновенной ясностью показал, что правовой порядок покоится на
метафизических предположениях. О достоинстве человека и, следовательно, о его
правах не может быть и речи, пока мы остаемся на эмпирической почве.
«Уважение подобает только тому, что возвышается над эмпирическою областью и что
имеет цену не в силу тех или других частных отношений, а само по себе.
Метафизики выражают это положением, что человек должен рассматриваться как цель
и никогда не должен быть низведен на степень простого средства. Последнее есть
унижение его достоинства. На этом основана коренная неправда рабства»*.
Последовательно проведенный эмпиризм неизбежно должен привести к
разрушению самой идеи права. Он вращается в области условного, относительного:
поэтому ему чуждо самое понятие реального субъекта — носителя безусловной
ценности. С точки зрения эмпириков, говорит Чичерин, «мы сущностей вовсе не знаем; мы
познаем только явления, а явления не дают нам ничего, кроме ряда состояний,
связанных законом последовательности. Таковы заключения, которые выводятся из
одностороннего опыта, отвергающего всякие метафизические начала. Если бы это
было верно, то, конечно, нельзя было бы говорить о человеческой личности, а с тем
вместе нечего было бы говорить ни о праве, ни о нравственности, которые
предполагают это понятие как нечто действительно реальное, а не как призрак воображения.
Изменяющемуся ряду состояний невозможно присвоить никаких прав и нельзя
предъявлять ему никаких нравственных требований. При таком взгляде все
общественные науки разрушаются в самых своих основах»**.
Было бы ошибочно отождествлять понятие субъекта права с субъектом как
сущностью, то есть реальной личностью; в этом мы уже неоднократно имели слу-
* Философия права, стр. 55.
** Там же, стр. 27.
524
чай убедиться. Но без признания реальной личности, отличной от изменчивых
эмпирических состояний, никакие права не имели бы оправдания и смысла.
Какой смысл могут иметь права умершего, если мы не признаем за ним такой
безотносительной ценности, которая не зависит от его эмпирических состояний,
переживает его как физическое существо? Чем оправдываются права лиц
предполагаемых, не родившихся, ожидаемых в будущем, если мы не признаем
никаких ценностей за пределами эмпирически существующего, если мы не
уважаем человека независимо от его частных, случайных проявлений в пространстве
и времени! Это же уважение к человеку служит единственным оправданием прав
всевозможных искусственных лиц — корпораций, обществ и учреждений,
которые все без изъятия существуют ради человека. Человек есть та безусловная
ценность, тот безусловный субъект права, ради которого наделяются правами все
прочие субъекты, заслуживающие уважения лишь условного.
Безусловное значение может иметь только то, что не зависит от меняющихся
условий времени. Признавать за человеческою личностью безусловное
достоинство — значит предполагать, что она есть нечто постоянное, нечто такое, что
пребывает в потоке явлений. Чичерин справедливо видит в этом необходимое
предположение права. «Личность, — говорит он, — не есть только мимолетное явление,
а известная, постоянно пребывающая сущность, которая вытекающие из нее
действия в прошедшем и будущем признает своими, и это самое признается и всеми
другими. Но этим самым личность определяется как метафизическое начало.
Права и обязанности личности превращаются в чистейшую бессмыслицу, если мы
не признаем единства личности, если она сводится для нас к ряду меняющихся
состояний»*.
Другое необходимое предположение права заключается в том, что личность
есть «сущность единичная. Это — не общая субстанция, разлитая во многих
особях, а сущность, сосредоточенная в себе и отдельная от других, как
самостоятельный центр силы и деятельности. Это своего рода атом»**.
Если бы личность была только исчезающим модусом общей субстанции, она не
могла бы обладать для нас безусловной ценностью. Приписывать личности
безусловное достоинство — значит предполагать, что она есть сама по себе цель. Но
целью в себе может быть только существо самостоятельное, несводимое ни к чему
другому. Если бы личность была только временным, преходящим проявлением
общей мировой сущности, ей могла бы принадлежать только временная,
относительная ценность орудия: она была бы не целью, а только средством. Иначе
говоря, личность была бы при этом условии бесправна по отношению к общей
сущности. Это необходимый логический вывод из монистического миросозерцания,
который сказался в полной силе в системе Гегеля. У него высшим воплощением
безличного мирового разума и по тому самому носителем безусловной ценности
является не личность, а государство; вот почему у него в конце концов личность
поглощается государством. В этом пункте замечается, быть может, наиболее
резкое различие между панлогизмом Гегеля и индивидуалистическим
миросозерцанием Чичерина.
Со вторым предположением права у последнего необходимо связывается и
третье: «Личность есть сущность духовная, то есть одаренная разумом и волею.
Человек имеет и физическое тело, которое ограждается от посягательства со стороны
Там же, стр. 54.
Там же.
525
других; но это делается единственно вследствие того, что это тело принадлежит
лицу, то есть духовной сущности. Животное позволительно убивать, а человека —
нет, иначе как в силу высших, духовных же начал, властвующих над самою
человеческою жизнью»*.
Наше тело изменяется в своем составе, находится в беспрерывном процессе
траты и обновления: поэтому стать на материалистическую точку зрения —
значит признать, что в человеке нет ничего постоянного, пребывающего. С этой
точки зрения «человек есть то, что он есть», то есть агрегат беспрерывно
разлагающегося вещества. Единственно последовательный вывод отсюда — тот, что
в человеке нет ничего заслуживающего уважения. Когда материалисты говорят
о человеческом достоинстве или о «правах человека», то это в их устах — не более
как благородная непоследовательность. Только признание в человеке духовного
начала может положить твердую, незыблемую грань между лицами и вещами.
К числу необходимых предположений права Чичерин относит и свободу воли.
Вследствие этой свободы нашей воли «ей приписываются права, то есть власть
распоряжаться своими действиями и присвоенными ей физическими
предметами. В этом заключается коренной источник права; животные прав не имеют».
Это положение выражено не совсем точно, а потому требует оговорок. Мы
увидели уже, что внешняя свобода, предоставляемая правовою нормой, вовсе не
предполагает свободы воли, в метафизическом смысле этого слова, у каждого данного
правообладателя. Вряд ли кто-либо станет приписывать «свободу воли» лицам
искусственным или же еще неродившимся человеческим существам; а между тем,
они могут быть, как мы видели, субъектами права. При таком несовпадении
свободы в метафизическом значении этого слова с правом в субъективном смысле
несомненно, однако, что первая является необходимым предположением всего
правового порядка, то есть права в объективном смысле. Мы уже знаем, что право состоит
из ряда велений, норм: всякая норма предполагает волю, свободную ее исполнить
или не исполнить. Без свободы воли не могло бы существовать никаких
обязанностей, следовательно, и обязанностей правовых. Право знает, разумеется, случаи,
когда сторона обязанная не обладает самостоятельной разумной волей:
обязательства, например долговые, могут быть у так называемых «юридических» лиц
и у слабоумных. Но во всех подобных случаях, когда нельзя говорить о свободе
воли самого лица обязанного, непременно предполагается свободная воля его
представителя, которая может осуществить его обязательства. Точно так же, когда мы
говорим о субъективных правах, мы всегда предполагаем чью-либо свободную
волю, которая может осуществить эти права; но только в одних случаях это будет
свободная воля самого правообладателя, а в других — его представителя.
Свобода воли составляет необходимую принадлежность духа: существо духовное
есть синоним существа свободной); вот почему предположение свободы воли в
метафизическом смысле составляет необходимое условие правового порядка. То
уважение к внешней свободе, которого требует право, имеет смысл только в
предположении внутренней свободы духа, которая должна осуществляться во внешнем мире.
Идеальная задача права именно в том и заключается, чтобы предоставить духовному
началу возможность беспрепятственно, свободно осуществляться во внешней
действительности. В этом заключается единственно возможное оправдание конкретного,
субъективного права. Человек действительный, возможный, предполагаемый
должен быть признаваем субъектом права как действительное или возможное воплоще-
* Там же, стр. 54-55.
526
ние духовного начала; искусственные, юридические лица могут претендовать на
уважение только в качестве орудий духа, необходимых для достижения тех или других
внешних целей. Но, каков бы ни был конкретный субъект права, предметом,
заслуживающим нашего уважения, является в конце концов дух его и свобода.
Уважать эту свободу можно только в том предположении, что человек есть
возможный выразитель и носитель безусловного смысла жизни. «Источник высшего
достоинства человека заключается в том, что он носит в себе сознание Абсолютного,
то есть этот источник лежит именно в метафизической природе субъекта, которая
возвышает его над всем физическим миром и делает его существом, имеющим цену
и требующим к себе уважения. На религиозном языке это выражается изречением,
что человек создан по образу и подобию Божию. От этого сознания зависит и сама
свобода и требование ее признания. Фактически, это признание высшего достоинства
человеческой личности в широких или тесных границах всегда существовало и
существует в человеческих обществах; но те, которые отрицают метафизику, не умеют
и не в состоянии указать его источник, ибо он лежит вне эмпирического мира»*.
«Именно это сознание служит движущею пружиною всего развития
человеческих обществ. Из него рождается идея права, которая, расширяясь более и более,
приобретает наконец неоспоримое господство над умами. Сами эмпирики
бессознательно и невольно ей подчиняются. Отсюда — указанное выше противоречие
взглядов, которое ведет к тому, что отрицающие метафизику признают
безусловною истиной непосредственный ее продукт — объявление прав человека»**.
IV
Вглядываясь внимательно в изложенное только что учение о метафизических
предположениях права, мы без труда убедимся, что это — те самые
предположения, которые лежат в основе человеческой жизни вообще. Вся жизнь наша
утверждается на двоякой вере: в Безусловное, которое служит нам целью и — в нас
самих у то есть в человека как свободного деятеля, призванного осуществить это
Безусловное в самом себе и окружающей его среде.
Право может быть оправдано только в том предположении, что человеческая
жизнь вообще преисполнена непреходящего смысла и значения. Право состоит из
ряда правил, которые частью побуждают к определенным действиям, частью же,
напротив, останавливают, воздерживают. Все эти веления и запреты
устанавливают определенную расценку человеческих действий, следовательно,
руководствуются определенной иерархией ценностей. Всматриваясь в отдельные правовые
нормы, мы видим право ценить жизнь человеческую, собственность, власть,
незапятнанное, честное имя: всякие покушения на эти блага строго наказываются. И,
наконец, все правовые нормы, без исключения, так или иначе ценят внешнюю
свободу, которая служит им общим содержанием. Что же останется от права, если
мы вычеркнем из человеческой жизни все эти ценности? Очевидно — оно
уничтожится. Понятие ценности существенно для права, но этого мало: среди тех
ценностей, которые оно хочет обеспечить, право различает большие и меньшие; оно
предпочитает общее благо частному интересу; во имя общего блага оно ограничи-
* Там же, стр. 55.
** Там же, стр. 56.
527
вает индивидуальную свободу, частную собственность; оно требует от индивида,
чтобы он жертвовал жизнью для рода.
Весь этот иерархический порядок множественных ценностей права имеет
смысл только в предположении единой, безусловной ценности, которая должна
служить масштабом для расценки человеческих ценностей вообще. Какую
ценность могут иметь собственность, власть, свобода, если нам не для чего накоплять
собственность, приобретать власть, если нет такой безусловной цели, которая
сообщала бы ценность самой нашей жизни! Такою безусловною целью и ценностью
может быть для нас только нечто непреходящее, нечто такое, что торжествует над
временем. Если все в нашей жизни уничтожается, если мы не в силах создать
ничего такого, что могло бы противостоять всеобщему горению и смерти, то вся
жизнь наша бессмысленна; но в таком случае бессмысленны и всякие правила
поведения, бессмысленны запреты и веления права.
Чтобы уразуметь смысл права, надо подняться над временем: ибо только при
этом условии мы можем понять ценность самого человека, ради которого
существует право. Все наше жизненное стремление имеет смысл только при том условии,
если человек есть непреходящая форма, могущая вместить в себе вечное,
безусловное содержание, если воля человека свободна достигнуть и осуществить в нашей
жизни это содержание. Абсолютное, бессмертие и свобода — вот те три основных
постулата, которые заключают в себе оправдание права, потому что они
составляют оправдание самой человеческой жизни.
Обстоятельное выяснение этих метафизических предположений права
составляет несомненную заслугу покойного Б. Н. Чичерина. Но в его аргументации есть
ошибка, на которую необходимо указать.
Для него перечисленные только что метафизические предположения права
суть не постулаты, а доказанные положения. В главе VII «Науки и религии» он
защищает против Канта старые доказательства бытия Божия — онтологическое,
космологическое, физико-телеологическое и нравственное. В главе X он пытается
отстоять существующие доказательства бессмертия души.
Несостоятельность этих доказательств в достаточной мере выяснена в
новейшей философской литературе, а потому мы здесь можем ограничиться немногими
замечаниями. «Человек — настолько человек, — говорит Чичерин, — насколько
он от конечного возвышается к бесконечному, от относительного к абсолютному».
Эти слова представляют собою лучшее самоопровержение.
Абсолютное действительно предполагается всею жизнью человека, каждым
движением его мысли и воли. Но по этому самому оно недоказуемо: оно
предполагается всяким нашим доказательством. «Мы не можем рассматривать
относительное, — говорит Чичерин, — не восходя от него к абсолютному. Таков безусловный
закон логики. Относительным мы называем то, что зависит от другого; если это
другое тоже относительно, то оно, в свою очередь, зависит от третьего, третье от
четвертого и т. д. Мы, по необходимому закону разума, получаем прогресс в
бесконечность. Совокупность явлений представляет для нас бесконечный ряд в обе
стороны. Очевидно, однако, что весь этот ряд зависимого бытия предполагает
бытие ни от чего не зависящее, а существующее само по себе. Иначе не было бы и
зависимого бытия. Если бы вне этого ряда не было бы другого бытия, то самый этот
ряд с определяющим его законом был бы самосущим бытием».
Всмотримся хорошенько в эту аргументацию. Заключает ли она в себе
действительное доказательство бытия абсолютного? Очевидно, нет. Доказанным тут
представляется только то, что абсолютное есть закон нашей мысли. Мы не можем во-
528
обще мыслить, утверждать или отрицать что бы то ни было, не утверждая бытия
абсолютного. Мы мыслим по закону достаточного основания: в силу этого закона
мы не можем не искать достаточного основания для всего условного,
относительного. Искать достаточного основания для бытия обусловленного — значит
предполагать, что есть нечто безусловное и безосновное, что всему служит условием и
основанием. Но если безусловное есть закон нашей мысли, то следует ли отсюда,
чтобы оно было законом сущего? Очевидно, нет. Абсолютное именно потому не
может быть доказано, что оно предшествует всякому доказательству, как его
необходимое логическое предположение. Доказывать можно вообще только то, что
обусловлено чем-либо другим; по этому самому нельзя доказать безусловного.
«Доказанное абсолютное» есть логическое противоречие.
Это логическое противоречие составляет роковой недостаток так называемых
«доказательств» бытия Божия. Все они в сущности представляют собою вариацию
единственного онтологического доказательства, которое из присущей нам идеи
абсолютного выводит его действительное существование. Все эти доказательства,
следовательно, заранее предполагают, что необходимая предпосылка нашей
мысли — идея абсолютного — есть основа бытия. А это и есть то самое, что имеется
в виду доказать.
Абсолютное составляет предположение не только нашей мысли, но и нашей
воли. Отсюда, между прочим, исходит нравственное доказательство бытия Божия.
Без веры в безусловное добро вся наша жизнь бессмысленна; и эта вера
предполагается каждым нашим действием: все те конкретные, частные цели, которые мы
преследуем, предполагают единую, безусловную цель, которая желательна сама
по себе, а не ради чего-нибудь другого. Мы не можем не предполагать
безусловного добра: иначе бы мы не жили. В этом заключается непреложный закон нашей
воли. Но опять-таки отсюда не следует, чтобы безусловное добро действительно
было конечною целью и движущим началом вселенной. Если мы не можем
(сознательно или бессознательно) не верить в смысл жизни, то из этого еще не следует,
чтобы жизнь действительно имела смысл.
В нравственном доказательстве, следовательно, есть такой же, как и во всех
прочих доказательствах, скачок от мысли к бытию. И тут опять-таки роковым
образом обнаруживается недоказуемость абсолютного: оно не может быть доказано,
потому что оно неизбежно заранее предполагается как смысл нашей жизни, как
смысл всех усилий нашей мысли и, следовательно, всех наших доказательств.
Отсюда следует, что абсолютное не есть доказанное положение, а необходимый
постулат, иначе говоря, необходимая вера, которая обусловливает нашу мысль
и волю. Так же недоказуемы и остальные постулаты. Чичерин верит в
существующие доказательства самостоятельности и бессмертия духовного начала в
человеке. Однако нетрудно убедиться в совершенной их несостоятельности. Это видно
прежде всего из того, что наша вера в бессмертие неразрывно связана с той нашей
верой в безусловное, которая, как мы видели, не может быть доказана. Если мы не
верим в абсолютное, то мы не можем признавать в человеке сосуда безусловного,
непреходящей формы сущего. Вера в безусловное вечное содержание и в человека
как достойного его выразителя и носителя суть две стороны одной и той же веры.
И именно потому, что вера эта заключает в себе смысл нашей жизни, она
составляет исходное ее предположение, которое йе может быть доказано.
Пытаясь доказать реальное существование в нас самостоятельного духовного
начала, Чичерин ссылается на непосредственное свидетельство нашего сознания.
«Существование субъекта как реального единичного существа, лежащего в осно-
529
вании всех явлений внутреннего мира, — говорит он, — не подлежит ни
малейшему сомнению. Только полное недомыслие может отвергать этот всемирный факт,
выясняемый метафизикой и составляющий необходимое предположение всякого
опыта. Когда эмпирики утверждают, что я есть не более, как наше представление,
они признают во множественном числе то самое я, которое они отвергают в
единственном. Для того чтобы было представление, надобно, чтоб оно кому-нибудь
представлялось; для того чтобы было сознание, необходим сознающий субъект.
Это такие очевидные истины, о которых странно даже спорить. Утверждать
противное можно только отказавшись от всякой логики. Но если существует субъект
как реальная метафизическая сущность, лежащая в основании всех явлений
внутреннего мира, то, спрашивается: что же это за сущность и как может она
познаваться помимо явлений?»
В этом рассуждении есть очевидный логический скачок, весьма схожий с тем,
который замечается в онтологическом доказательстве бытия Божия. Под руками
Чичерина логическая категория превращается в реальную: из того, что для
сознания необходим логический субъект сознания, Чичерин заключает, что субъект
этот — реальная сущность, притом сущность единичная, индивидуальная.
Между тем, тот логический субъект сознания, который составляет необходимое
его формальное условие, вовсе не есть то же, что конкретная личность. Личность
забывается во сне, в бреду или в припадке безумия, но сознание все-таки сохраняется:
сонный или помешанный может ошибаться в определении своего конкретного «я» ;
он может считать себя испанским королем, лешим или морским чудовищем; но, чем
бы он ни воображал свою конкретную личность, каким бы конкретным
содержанием он не заполнял схему своего «я», схема эта все-таки остается формальным
условием его сознания. Пребывающим, неизменным условием сознания остается
только эта пустая схема — «я» как логический субъект сознания, а не как
определенная конкретная личность. Из того, что сохраняется первый, следовательно, еще
нельзя выводить заключения о том, что последняя пребывает, не уничтожается.
Вообще, нельзя указать никаких необходимых логических оснований, которые бы
вынуждали нас видеть в «логическом субъекте сознания» индивидуальную,
единичную сущность, а не проявление какой-либо общей субстанции.
Индивидуальное бессмертие предполагает безусловную ценность, а потому и не-
уничтожимость индивидуального, конкретного субъекта. Такое бессмертие, как мы
сказали, не доказуется, а только постулируется. Оно составляет необходимое
предположение всей нашей жизни, которая без него не могла бы иметь цены и смысла.
Это — та вера, которая составляет тайную пружину всего нашего жизненного
стремления. Вся наша жизнь — не что иное, как беспрерывное искание абсолютного,
утверждение себя в нем; тем самым, что мы живем, мы показываем, что сознательно
или бессознательно мы верим в неразрывную нашу связь с безусловным и вечным.
Человек, говорит Чичерин, «может покориться печальной необходимости
разлуки с любимыми местами, с вечно сияющей природой, с отечеством, в судьбах
которого он принимал живое участие: все это было дано ему, и всем этим он в свое
время насладился; затем настает время и для других. Но он никогда не может
примириться с мыслью, что любимое им существо превратилось в ничто, что тот
разум, то чувство, которые составляли предмет глубочайшей его привязанности,
исчезли как дым, не оставив по себе и следа. Против этого возмущается все его
существо. Устремляя в вечность свои умственные взоры, человек простирает в
вечность и свои сердечные привязанности. А если таковы глубочайшие основы его
естества, то предметом этой привязанности не может быть что-либо преходящее.
530
Перед гробом любимого существа из глубины человеческого сердца опять
вырывается роковой вопрос: зачем дано ему любить таким образом, если предмет этой
любви не что иное, как мимолетная тень, исчезающая от первой случайности?
Или зачем отнимается у него предмет любви, когда эта любовь есть самое высокое
и святое, что есть в человеческой жизни? И тут на эти вопросы может быть только
один ответ: бессмертие!»
В этих словах несомненно раскрываются глубочайшие основания нашей веры
в бессмертие: без него вся наша жизнь была бы обманом, и гроб был бы полнейшим
изобличением этого обмана. Но здесь же обнаруживается и невозможность
доказательств; воскресить от гроба и сообщить вечность может только Безусловное; но оно,
как мы видели, не доказывается, а может служить только предметом веры.
Еще легче убедиться в недоказуемости третьего и последнего из
перечисленных постулатов — свободы. Постулат этот теснейшим образом связан с
предыдущим: о свободе нашей воли в метафизическом смысле может быть речь только при
том условии, если человек есть существо духовное. Свобода есть прежде всего
независимость духа: если в человеке нет самостоятельного духовного начала, то он
всецело раб естественного механизма; о свободе в смысле возможности
самоопределения может быть речь только при том условии, если дух наш есть
самостоятельный, независимый от внешнего мира источник действий. Такая свобода
возможна только в том случае, если человек обладает способностью
непосредственного общения с безусловным. Только безусловное, вечное содержание может
сделать нас свободными от всего условного, временного, конечного.
Отсюда ясно, что наш третий постулат неотделим от двух предыдущих. В
сущности мы имеем здесь не три постулата, а единый постулат, который нашею
мыслью искусственно расчленяется на три. Верить в безусловное для нас — значит
утверждать себя в нем: вера в безусловное неотделима от веры в человека, как его
носителя. Безусловное лишь постольку составляет предмет нашей надежды,
поскольку оно может осуществляться в нашей жизни, воплощаться в нас. Его
проявления в человеке суть бессмертие и свобода.
V
Не только право, но и все те идеальные требования, которые мы к нему
предъявляем, могут получить смысл единственно от веры, дающей смысл жизни.
Мы живем в веке необычайного правового воодушевления. Желание свободы
в русском обществе никогда еще не было столь страстным и сильным; требование
всеобщей равноправности никогда еще не высказывалось так громко и
единодушно, как теперь; наконец, произвол никогда не вызывал большего негодования.
Весь этот пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той
святыни, пред которой мы должны преклоняться. Требования свободы и
всеобщей равноправности понятны только в связи с категорическим нравственным
требованием: «действуй так, чтобы человечество как в твоем лице, так и в лице
твоих ближних всегда было для тебя целью, а не средством».
Требование это может быть оправданр только определенным представлением
о сущности человека: оно не имеет Смысла по отношению к животным, которыми
вполне дозволительно пользоваться как орудиями; если мы не кладем резкой
грани между человеком и низшей природой, то различие между лицом и вещью вооб-
531
ще теряет свой смысл: у тех народов, которые мирятся с рабством, раб
приравнивается к вьючному скоту. Когда мы признаем «субъекта права» во всяком человеке,
как таковом, когда мы требуем для всех людей человеческих условий
существования, когда душа наша возмущается против сословных привилегий и бесправия, мы
тем самым признаем за человеком безусловную ценность. В переводе на
метафизический язык это значит, что право должно быть орудием Безусловного,
воплощающегося в человеке. Когда мы проникнемся сознанием этого метафизического
значения права, тот призыв к свободе, который мы теперь со всех сторон слышим,
получит для нас высшее оправдание и приобретет неодолимую силу.
Чичерин это понял; вот почему он был одним из первых провозвестников
современного освободительного движения. Мысль об освобождении родины, о
приобщении всех русских граждан без различия классов и национальностей к благам
правового порядка всегда была его заветною мечтою. Он жил этой мыслью еще
в то время, когда большая часть русского общества спала непробудным сном.
Но ему, как Моисею, дано было только издали провидеть землю обетованную. Он
умер, как известно, в самом начале русско-японской войны; за несколько дней до
своей кончины он предсказал, что война эта обличит несостоятельность
существующего строя и положит начало государственному обновлению России.
Предсказание это находится в тесной связи с тем, что он проповедовал в течение
всей своей жизни как философ, государствовед и историк. Он ясно сознавал, что
наше рабство тесно связано с омертвением в нас духовной жизни, с забвением тех
возвышенных начал, которые обусловливают права человека и его царственное
достоинство. Он понимал, что только сильный внешний толчок может послужить началом
всеобщего пробуждения и доставит победу освободительным стремлениям.
В его книге «О народном представительстве» есть пророческая страница о
несчастных войнах как о причине, ускоряющей введение представительных
учреждений (изд. II, стр. 778). «Там, где либеральные стремления пустили уже более
или менее глубокие корни, несчастная война может доставить им неожиданный
успех. Она ослабляет правительство и усиливает раздражение общества. В таком
случае успокоить недовольство и восстановить союз между правительством и
подданными может только призвание выборных людей к совету. Одно полное доверие
власти к народу заставляет забыть ее неудачи».
Тут Чичерин говорит о несчастных войнах вообще; но в его «Вопросах
политики» (I изд., стр. 81) есть место, уже прямо относящееся к России. «Подавление
общественной самодеятельности никогда не обходится даром. Если в обществе есть
живые силы, то насильственное их стеснение кончается взрывом; если же
правительству удается окончательно ipc сокрушить, то и общество, и государство
погружаются в состояние полного отупения, из которого может вывести их только
внешняя катастрофа. Таково бкло для Пруссии значение Иенского поражения,
таков же был для нас урок крымской кампании. В то время он послужил нам на
пользу; желательно, чтобы мы его не забывали».
Уроки истории не пропадут для нас даром, если мы будем помнить заветы тех
учителей, которые, подобно Чичерину, раскрывают нам смысл исторических
событий. От них мы узнаем, что нет национального греха, который бы наказывался
строже, нежели забвение собственного достоинства. Но кроме слова изобличения
мы услышим от них благую весть о том', что составляет для нас путь правды и путь
спасения. « '
532
КОММЕНТАРИИ
В настоящем издании воспроизводятся наиболее значительные труды
Е. Н. Трубецкого по философии права. Все они, за исключением «Лекций по
энциклопедии права», издаются впервые после смерти их автора. При переиздании
все имена и названия произведений, упоминаемых Трубецким, в большинстве
случаев приводятся в современном написании (например, известный диалог
Платона, который Трубецкой называет то «Полития», то «Республика», обозначается
в соответствии с современной традицией как «Государство»).
Лекции по истории философии права
Лекции по истории философии права читались Трубецким с 1886 г. сначала
в Демидовском лицее в Ярославле, затем в Киевском университете им. Св.
Владимира и, наконец, в Московском университете. Лекции были изданы частями
в 1893-1899 гг. в Киеве стараниями студентов Трубецкого. На всех изданиях
имеется пометка «издание студентов» и «на правах рукописи», тексты издавались по
конспектам слушателей. Первые две части курса «История философии права
(древней)» и «История философии права (новой)» были опубликованы дважды:
первая часть — в 1894 и 1899 гг., вторая — в 1893 и 1898 гг. Издания 1893
и 1894 гг. представляют собой фототипические воспроизведения рукописных
конспектов; вторые издания этих частей выполнены уже типографским способом и,
по-видимому, отредактированы Трубецким. Третья часть — «История философии
права (новейшая)» была издана только один раз (фототипическим способом с
рукописного конспекта) в 1896 г.
В настоящем издании первая и вторая части курса воспроизводятся без
изменений по изданиям 1899 и 1898 гг.; в третьей части проведена минимальная
стилистическая правка.
После первого нападения персов на Аттику в 490 г. до н. э. Афины начали готовиться к новому
нападению. Два виднейших афинских политика Фемистокл и Аристид по-разному видели
тактику подготовки к новой войне. Фемистокл настаивал на создании сильного флота, причем
средства для этого предлагал взять из доходов, получаемых от серебряных рудников Лавриона,
которые до этого разделялись между всеми гражданами. Аристид считал, что это ослабит
влияние землевладельцев, приведет к притоку переселенцев из других областей Греции и тем самым
поставит под угрозу существующий политический порядок; он предлагал усилить сухопутные
534
войска. Напряженная политическая борьба между партией Фемистокла и партией Аристида,
закончилась в 483 г. до н. э. победой первой из них; Аристид был подвергнут остракизму и
изгнан из Афин. Постройка флота и привлечение на службу в нем представителей низших слоев
населения способствовали последующей успешной борьбе Афин с персами.
о
Сократ совершил своего рода революцию в древнегреческой философии, потребовав
критического рассмотрения всех традиционных человеческих понятий и верований; главной целью
философа он считал постижение высших идей человеческого разума — Блага, Справедливости
и Красоты. В 399 г. до н. э. Афинский суд обвинил Сократа в безбожии, развращении молодежи
и подрыве существующего государственного строя и приговорил к смерти. Суд над Сократом
и его смерть изображены в известных сочинениях его учеников — в «Апологии Сократа»
Платона и «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта.
о
° непременное условие (лат.).
Целлер Эдуард (1814-1908) — немецкий теолог и историк античной философии.
5 что есть (др.-греч.).
6 Термин «цинизм», принятый в русской научной литературе XIX — начала XX века для
обозначения известной античной философской школы, в данном разделе «Лекций по истории
философии права» заменен, в соответствии с современной традицией, на «кинизм».
гражданин мира (др.-греч.).
о
установи общность рождающих (др.-греч.).
где хорошо, там и родина (лат.).
цель самого себя (др.-греч.).
Приам — последний царь Трои; во время Троянской войны Приам потерял многих из своих
сыновей, в том числе старшего и самого храброго; в ночь взятия Трои Приам пытался выйти в бой,
но Гекуба уговорила его искать спасения у алтаря Зевса, где его безжалостно убил Неоптолем.
ι о
по достоинству (др.-греч.).
1 о
во всем роде, во всех отношениях (лат.).
сочетание, соединение (др.-греч.).
В битвах при Левкрах (371 г. до н. э.) и Мантинее (362 г. до. н. э.) войско Фив нанесло
сокрушительное поражение непобедимой до этого Спарте; это привело к окончанию гегемонии Спарты
над всей Грецией, начало которой положила ее победа в Пелопонесской войне (431-404 гг.
до н. э.).
необходимость (др.-греч.).
1 7
жить по природе; жить согласно природе (др.-греч.); следуя природе (лат.).
1 я
я человек и считаю, что ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
институции — {букв.: наставления) названия элементарных учебников римских юристов,
дающих обзор действующего права; наиболее древними из дошедших до нас являются институции
Гая, римского юриста II века; в IV веке на основе институций Гая и других, более поздних
материалов были составлены институции Юстиниана.
то, что является всегда равным и хорошим, называют правом, и это есть естественное право
(лат.).
гражданское право (лат.).
22
первая ложь (др.-греч.).
24
Иннокентий III (в миру Лотарио ди Сеньи) (1160/61-1216) — папа Римский с 1198 г.; время
понтификата Иннокентия III стало временем наивысшего могущества средневекового папства;
Иннокентий III стремился установить верховенство папской духовной власти над светской.
Фишер Куно (1824-1907) — немецкий историк философии, гегельянец, автор капитальной
«Истории новой философии» (в 6-ти т., 1852-1877).
Солон (между 640 и 635 - ок. 559 до н. э.) — афинский политический деятель и социальный
реформатор, реформы Солона ускорили ликвидацию пережитков родового строя и заложили
основы афинской рабовладельческой демократии; Ну на Помпилий — полулегендарный второй
царь Древнего Рима, правил в 715-673/672 гг. до н. э., ему приписывается учреждение
жреческих коллегий и коллегий ремесленников.
535
Кардано Иеронимо (Джероламо) (1501-1576) — итальянский философ, врач, математик, в
философских воззрениях сочетал элементы материализма с неоплатонической мистикой; Телезио
Бернардино (1509-1588) — итальянский философ и ученый эпохи Возрождения, создал
проработанную натурфилософскую систему, которая повлияла на Дж. Бруно, Р. Декарта и Ф.
Бэкона.
Цезарь Борджиа (Чезаре Борджиа) (ок. 1475-1507) правил в Романье (Италия) с 1499 г.;
при содействии своего отца, папы Римского Александра VI (Родриго Борджиа) создал в
Северной Италии обширное государство, в котором пользовался абсолютной властью; Макиавелли
считал Цезаря Борджиа образцом государя.
рО
В течение 14 лет, начиная с 1498 г., Макиавелли занимал различные посты в руководящих
органах флорентийской республики и выполнял множество важных политических и
дипломатических поручений флорентийской синьории. После падения республики в 1512 г. и
восстановления власти Медичи Макиавелли был отстранен от дел и по подозрению в заговоре сначала
заключен в тюрьму, а затем сослан в свое деревенское имение. Все его попытки вернуться к
активной политике оказались безуспешными.
29
отцовская власть (лат.).
яо
право жизни и смерти (лат.).
° Жан Кальвин в 1533 г. под влиянием проповедей Лютера отрекся от католицизма и в 1534 г.
ввиду преследований протестантов во Франции бежал в Базель и затем в Женеву; под влиянием
Кальвина женевский магистрат принял новую форму церковной организации, в результате
реформ Кальвина светская власть была подчинена церковной, была установлена система надзора
за гражданами в целях недопущения «неподобающего» поведения; религиозная нетерпимость
Кальвина особенно наглядно проявилась в публичном сожжении в 1553 г. ученого Сервета.
ор
° Самуил — великий пророк, последний из «судей израилевых»; в результате проповедей
Самуила народ удалил чужих богов, и «обратился весь дом Израилев к Господу» (1 Царств; 7,2);
Самуил помазал в цари Саула, первого царя израильско-иудейского государства, когда же Бог
отверг Саула, впавшего в «противление», Самуил тайно помазал в цари Давида (1 Царств; 16).
Ровоам — сын пророка Соломона, третьего царя израильско-иудейского государства; за то, что
в старости Соломон склонился к поклонению чужеземным богам, Господь разгневался на него
и после его смерти отверг от его царства десять колен, отдав их в царствование «рабу
Соломонову» Иеровоаму и оставив в царствование Ровоаму одно колено (3 Царств; 11).
3 царство Божие (лат.).
ОС
° Иоанн Солсберийский (1115/1120-1180) — английский богослов и философ; поддерживал
борьбу архиепископа кентерберийского Т. Бекета с английским королем Генрихом II; в своем
сочинении «Поликратикус» обосновывал идею верховенства духовной власти над светской.
ос
Суарес Франсиско (лат. : Суарец) (1548-1617) — испанский теолог и философ, представитель
поздней (второй) схоластики, иезуит; считал, что правитель, ставший тираном, нарушает
божественный принцип власти и поэтому достоин смерти; в своем понимании естественного права
оказал большое влияние на Г. Гроция;
Мариона Хуан де (1536-1624) — испанский историк и теолог, иезуит; в трактате «О короле
и институте королевской власти» (1599) выдвинул идею монархии, ограниченной по своим
правам собранием представителей сословий; критиковал абсолютизм как «тираническое
извращение» королевской власти. ,
on
Помощь английской королевы Елизаветы Тюдор Нидерландам в борьбе против Испании и казнь
Марии Стюарт привели к решению испанского короля Филиппа II вторгнуться в Англию,
однако в 1588 г. созданный для этого флот («Непобедимая армада») потерпел сокрушительное
поражение, и это стало началом морского могущества Англии.
OQ
господство человека (лат.).
Если у тебя есть сила подчинять природу, подчини себя здравому смыслу (лат.).
война всех против всех (лат.). »
В 1640 г. английский король Карл I Стюарт созвал парламент, который начал борьбу против
английского абсолютизма (были упразднены чрезвычайные королевские суды и принят закон
о невозможности роспуска парламента,без его согласия); в 1641 г. фактическая власть в стране
перешла к парламенту и началась война между его сторонниками и роялистами; война
закончилась победой парламента, казнью короля в 1649 г. и провозглашением республики; «долгий
парламент» был разогнан О. Кромвелем в 1653 г.
536
Левиафан — В Библии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или
чудовищный дракон; в мифах о Левиафане выражено представление о первобытном хаосе,
враждебном Богу-творцу.
пресвитериане — умеренное крыло английских и шотландских пуритан, пресвитерианство
основано в Шотландии учеником Ж. Кальвина Дж. Ноксом, требовало строгого единообразия,
упрощения и удешевления религиозного культа; левеллеры — радикальная мелкобуржуазная
демократическая партия Английской буржуазной революции, сыгравшая большую роль в победе
армии парламента над королем; индепенденты — религиозно-церковное течение и
одновременно политическая партия Английской буржуазной революции, выражавшая интересы
радикального крыла буржуазии и нового дворянства, возглавляла восстание против абсолютизма
Стюартов.
тысячелетнее Царство Христово — пророчество, содержащееся в «Откровении Иоахима
Богослова» (20, 4-6), о «первом воскресении» святых, которые будут царствовать с Иисусом
Христом в течение тысячи лет, до Страшного суда, пока будет скован сатана; в еретических
интерпретациях (например, у Иоанна Флорского) это пророчество воспринималось как возможность
наступления блаженной жизни еще в земном бытии мира; подробнее см.: Булгаков С. Н. Апока-
липтика и социализм // Булгаков С. Н. Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 417-427.
Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — русский философ-гегельянец, известный теоретик
государства и права, историк, публицист и общественный деятель.
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. стала первой общеевропейской войной между двумя
большими группировками государств (габсбургским блоком во главе с Испанией и
антигабсбургской каолицией, в которую входили Франция, Швеция, Голландия, Дания, Россия
и Англия), первоначально носила характер религиозной войны между католиками и
протестантами; закончилась фактической победой Франции, возглавлявшей антигабсбургскую као-
лицию.
А.П
Корнеад из Кирены (214-129 до н. э.) — представитель платоновский Академии, сблизившийся
с античными скептиками, основатель Новой (3-й) академии.
* тем самым (лат.).
всеобщий субъект (лат.).
частный субъект (лат.).
К1
их всеобщее сомнение (лат.).
en
геометрическим способом (лат.).
ко
вещь мыслящая; вещь протяженная (лат.).
5 «Политический трактат» (лат.) — сочинение Спинозы.
право власти есть ничто по сравнению с естественным правом (лат.).
00 очищение интеллекта (лат.).
KIT
чистая доска (лат.).
со
на данный случай (лат.).
После реставрации монархии в 1660 г. королем Англии вновь стал представитель династии
Стюартов Карл II; его преемник Йков II был свергнут в результате государственного переворота
1686-1688 гг., и престол занял ,Вильгельм III Оранский, правивший совместно со своей
женой — дочерью Якова II Марией И.
причина себя (лат.).
физическое взаимодействие (лат.).
точное право; равенство; честность (лат.).
60
61
62
"^ каждому свое (лат.).
честно жить (лат.).
65
66
если бы Бога не существовало (лат.).
Филипп Орлеанский (1674-1723)'был 'регентом Франции в 1715-1723 гг. при малолетнем
Людовике XV (1710-1774), добился регентства с помощью парижского парламента вопреки
завещанию Людовика XIV; в начале своего регентства восстановил часть прав парламента, отнятых
у него Людовиком XIV.
537
fi7
основание сравнения (лат.).
fift
«Дух законов» (фр.) — сочинение Монтескье.
fiQ
нечто исходное, первичное (лат.).
70
«Общественный договор» (фр.) — сочинение Руссо.
71
пиетисты (от лат. pietas - благочестие) — направление в немецком протестантизме, ставившее
на первое место в религиозной жизни внутреннее переживание и чувство; в XVIII веке пиетизм
противостоял рационализму Просвещения.
72
Вольф Христиан (1679-1754) — немецкий философ-рационалист, систематизатор
философского наследия Лейбница.
73
то же посредством того же (при определении) (лат.).
круг в доказательстве, логический круг (лат.).
ire
Английская буржуазная революция была вызвана конфликтом между первыми Стюартами
(Яковом I и Карлом I) и парламентом; установление Карлом I в 1629 г. беспарламентского
режима привело к общенациональному восстанию 1637 г.
вечный двигатель (лат.).
77
Тренделенбург Фридрих Адольф (1802-1872) — немецкий философ и логик; в своих
«Логических исследованиях » подверг резкой критике гегелевскую диалектику.
7ft
° Констан де Ребек Бенджамен Анри (1767-1830) — французский писатель, публицист,
политический деятель; идеалом государственного устройства считал конституционную монархию по
английскому образцу.
Лекции по энциклопедии права
Лекции по энциклопедии права впервые были изданы Трубецким в 1917 г.
(с пометкой «на правах рукописи»); второй раз они были опубликованы в 1919 г.
Первое современное переиздание «Лекций» было осуществлено в 1998 г.
Петражицкий Лев Иосифович (1867-1931) — русский философ, социолог и теоретик права,
основатель психологической школы права, полагающей необходимым исследовать
психологические особенности правового поведения,
о
Иеринг Рудольф ( 1818-1892) — немецкий правовед; понимал право как совокупность условий
общественной жизни, устанавливаемых государством с помощью средств внешнего принуждения.
о
Меркель Адольф (1836-1896) — немецкий правовед, автор известной «Юридической
энциклопедии».
4 Коркунов Николай Михайлович (1853-1904) — русский правовед и социолог позитивистского
направления; считал, что общество можно понять на основе законов природного мира; полагал,
что юридические нормы (право)'составляют часть этических норм, которые направлены на
достижение общего интереса.
5 Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) - русский правовед и политический деятель; развивал
политическую теорию позитивистского толка, в которой предложил определение права как
действующего правопорядка.
Неточная цитата из книги Вл. Соловьева «Оправдание добра»; см.: Соловьев В. С. Оправдание
добра // Соловьев В. С. Соч. в 2-х т*. М., 1988. Т. 1. С. 448.
н
1 Иеллинек Георг (1851-1911) — немецкий юрист, представитель так называемой формально-
юридической школы.
о ,
Статья Трубецкого «Философия права профессора Л. И. Петражицкого» опубликована в
настоящем издании.
принадлежащее другому (лат.).
538
Савиньи Фридрих Карл (1719-1861) — немецкий правовед, основоположник исторической
школы права.
Морелли — французский писатель-публицист XVIII века (возможно его имя — это чей-то
псевдоним), опубликовавший в 1745-1755 гг. в Париже серию сочинений, изображающих
коммунистическое общество, якобы существующее в одной из дальних стран.
12
Пухта Георг Фридрих (1798-1846) — немецкий правовед, занимался философией и историей
права.
ι о
Новгородцев Павел Иванович (1866-1924) — выдающийся русский философ, теоретик права;
в своей книге «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве» (1901) выдвинул требование
к углубленному философскому обоснованию права; см. статью Трубецкого об этой книге в
настоящем издании.
Цительман (1852-1923) — немецкий юрист.
Раненкампф Пауль Эдлер (1854-1918) — русский генерал, политик, сторонник сильного
государства.
1 fi
Гуфеланд Готлиб (1760-1817) — немецкий юрист, последователь Канта; Тибо Антон Фридрих
Юстус (1772-1840) — немецкий юрист, ученик Канта, представитель «философской школы»
права.
Унтергольцнер Карл Август Доменик (?-1838) — немецкий юрист.
17
правовые случаи (лат.).
1 я
Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) — английский государственный деятель; возглавляя
английское правительство, в 1886 и 1892-1894 гг. вносил в парламент законопроект о
самоуправлении Ирландии, но парламент всякий раз отклонял его.
Билль о самоуправлении (автономии) (англ.).
20
Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — русский государственный деятель; с 1797 г.
находился на государственной службе; с 1808 г. член Комиссии составления законов; в 1809 г.
по поручению Александра I подготовил план государственных преобразований «Введение
к уложению государственных законов», в котором предлагал придать самодержавию форму
конституционной монархии, результатом этих предложений стало учреждение в 1810 г.
Государственного совета; позже стал сторонником неограниченной монархии.
21
Вахтер (1797-1880) — немецкий правовед; Малышев Кронид Иванович (1841-?) - русский
юрист, разрабатывал современное законодательство.
22
Шталь Юлиус (1862-1955) — немецкий философ и политический деятель; полагал, что
авторитет государства покоится непосредственно на божественных установлениях и на органически
развивающихся государственных и общественных институтах.
Лассаль Фердинанд (1825-1864) — немецкий писатель и политический деятель, участник
немецкого рабочего движения, один из теоретиков социализма.
Регельсбергер Фердинанд (1831-1896) — немецкий юрист; Дернбург Генрих (1829-1907) —
немецкий юрист, профессор римского права в Берлинском университете.
2*>
найденная вещь (лат.).
2fi
Штирнер Макс (наст, имя Каспар Шмидт) (1806-1856) — немецкий философ, последователь
Гегеля; автор широко известной книги «Единственный и его собственность» (1844), в которой
объявил единственной ценностью конкретную человеческую личность, в соответствии с этим
первоисточником морали и права считал потребности отдельного человека.
27
БринцаАлоис (1820-?) — немецкий юрист, профессор римского права.
28
Гирке Отто Фридрих (1841-1921) — немецкий юрист, профессор германского права; отрицал
существование естественного права; Безелер Карл Георг (1809-1888) — немецкий правовед
и политик. >
2Q
объединения лиц; объединения имуществ (лат.).
on
Лилиенфельд Тоаль Павел Федорович (1829-?) — русский социолог.
οι
Me нений Агриппа — консул 503 г. до н! э., который, согласно свидетельству Тита Ливия
предотвратил бунт плебеев.
по преимуществу (лат.).
539
Социальная утопия Платона
Работа была опубликована в 1908 г. в журнале «Вопросы философии и
психологии» (Кн. 91 и 92); в том же году вышла отдельной книгой.
Гадес — то же, что Аид, царство мертвых.
о
Ликаон — согласно греческим мифам, аркадский царь, прославившийся своей нечестивостью;
когда к нему в гости пришел Зевс, он подал ему мясо собственного сына, в гневе Зевс опрокинул
стол и испепелил дом молнией; Ликаон, превратившись в волка, убежал в лес.
о
изменив имя, басню рассказывают о тебе (лат.).
4 второй Адам — идеальный прообраз человека, свернуто содержащий в себе все земное бытие.
5 Пёльман Роберт (1863-1932) — немецкий историк античности; книга, упоминаемая
Трубецким, в 1910 г. была опубликована по-русски.
Стикс, Коцит — реки в Аиде, стране мертвых.
M иное — легендарный царь критского государства.
о
эфоры — (букв. : наблюдатели) коллегия высших должностных лиц в Спарте, оплот
олигархического режима.
Феогнид из Мегары (VI-V века) — знаменитый элегический поэт, автор стихотворного
нравоучительного сборника; был известен своей ненавистью к «неразумной черни».
Философия права проф. Л. И. Петражицкого
Статья опубликована в 1901 г. в журнале «Вопросы философии и психологии»
(Кн. 57) и является развернутой рецензией на работу Л. И. Петражицкого
«Очерки философии права», вып. 1 (СПб., 1900).
Шершеневич Габриэль Феликсович (1863-1912) — русский юрист, специалист в области
гражданского права, член Государственной думы.
от несуществования к невозможности (лат.).
определение через то же самое (лат.).
Новое исследование о философии Канта и Гегеля
ι
Статья опубликована в 1902 г. в журнале «Вопросы философии и психологии»
(Кн. 61); является рецензией на книгу П. И. Новгородцева «Кант и Гегель в их
учении о праве и государстве» (М., 1901).
«Понять Канта, значит возвыситься над ним» (нем.). Винделъбанд Вильгельм (1848-1925) —
немецкий философ, глава баденской школы неокантианцев.
основание бытия (лат.).
основание познания (лат.).
Томазий Христиан (1655-1728) — немецкий юрист, один из первых представителей идей
Просвещения в философии права.
вся наша нравственность происходит из обычая (нем.).
540
Учение Б. H. Чичерина о сущности и смысле права
Статья опубликована в 1905 г. в журнале «Вопросы философии и психологии»
(Кн. 80); в статье цитируются работы Б. Н. Чичерина «Философия права» (М., 1900)
и «Собственность и государство», ч. 1-2 (М., 1882-1883).
Вентам. Иеремия (1748-1832) — английский философ, один из главных представителей
утилитаризма.
Имеется в виду первая часть «Метафизики нравов» (1797) Канта, носящая название
«Метафизические начала учения о праве» (раздел «Введение в учение о праве»).
СОДЕРЖАНИЕ
Лекции по истории философии права 39
История философии права (древняя) 40
История философии права (новая) 158
История философии права (новейшая) 231
Лекции по энциклопедии права 287
Социальная утопия Платона 421
Философия права профессора Л. И. Петражицкого 483
Новое исследование о философии права Канта и Гегеля 501
Учение Б. Н. Чичерина о сущности и смысле права 517
Комментарии 533
Евгений Николаевич Трубецкой
ТРУДЫ ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Составитель И. И. Бвлампиев
Редактор В. Н. Немнонова
Ответственный редактор К. В. Ипполитова
Корректоры: В. А. Меныпенина, Н. В. Виноградова
Макет, верстка: А. В. Лапин