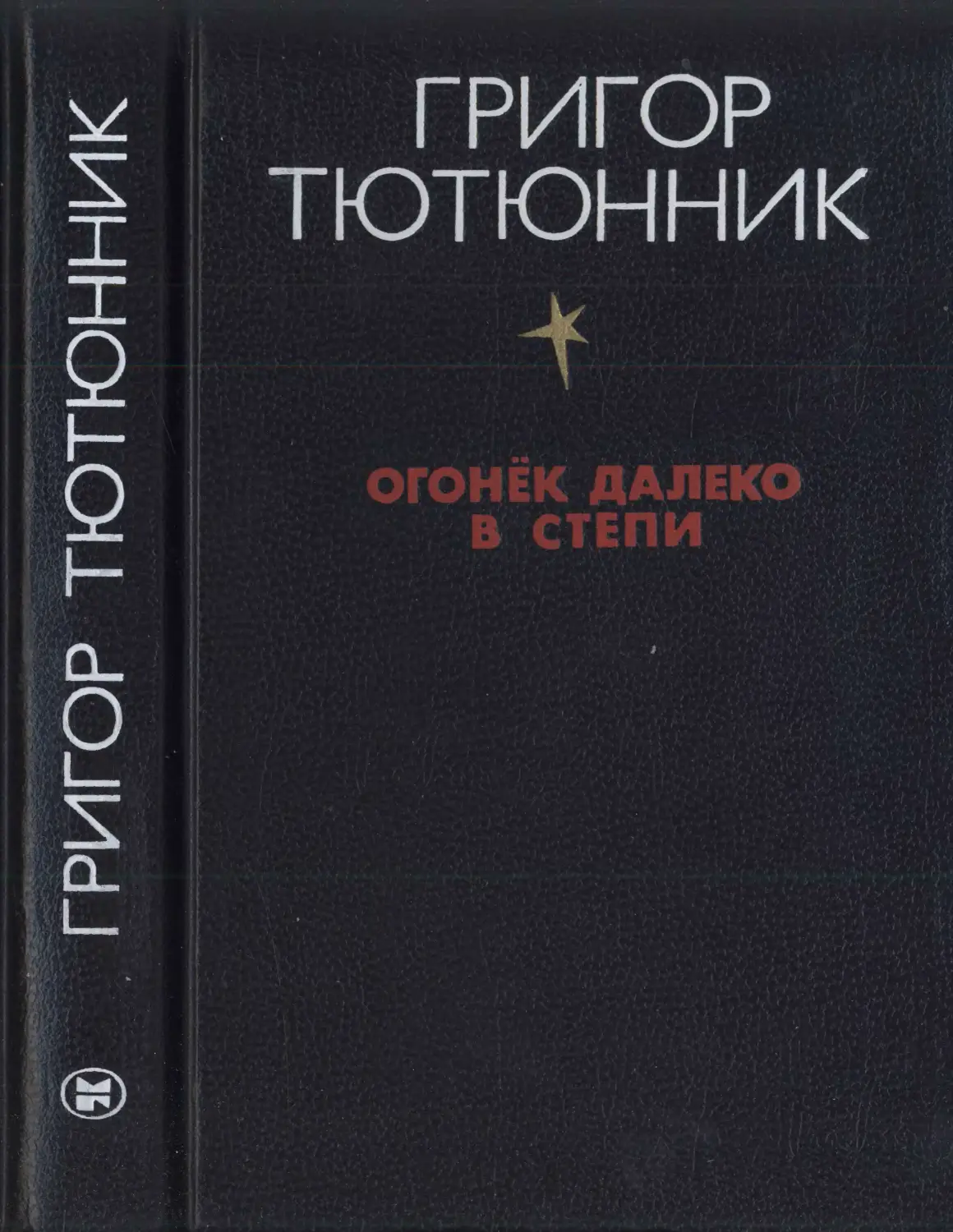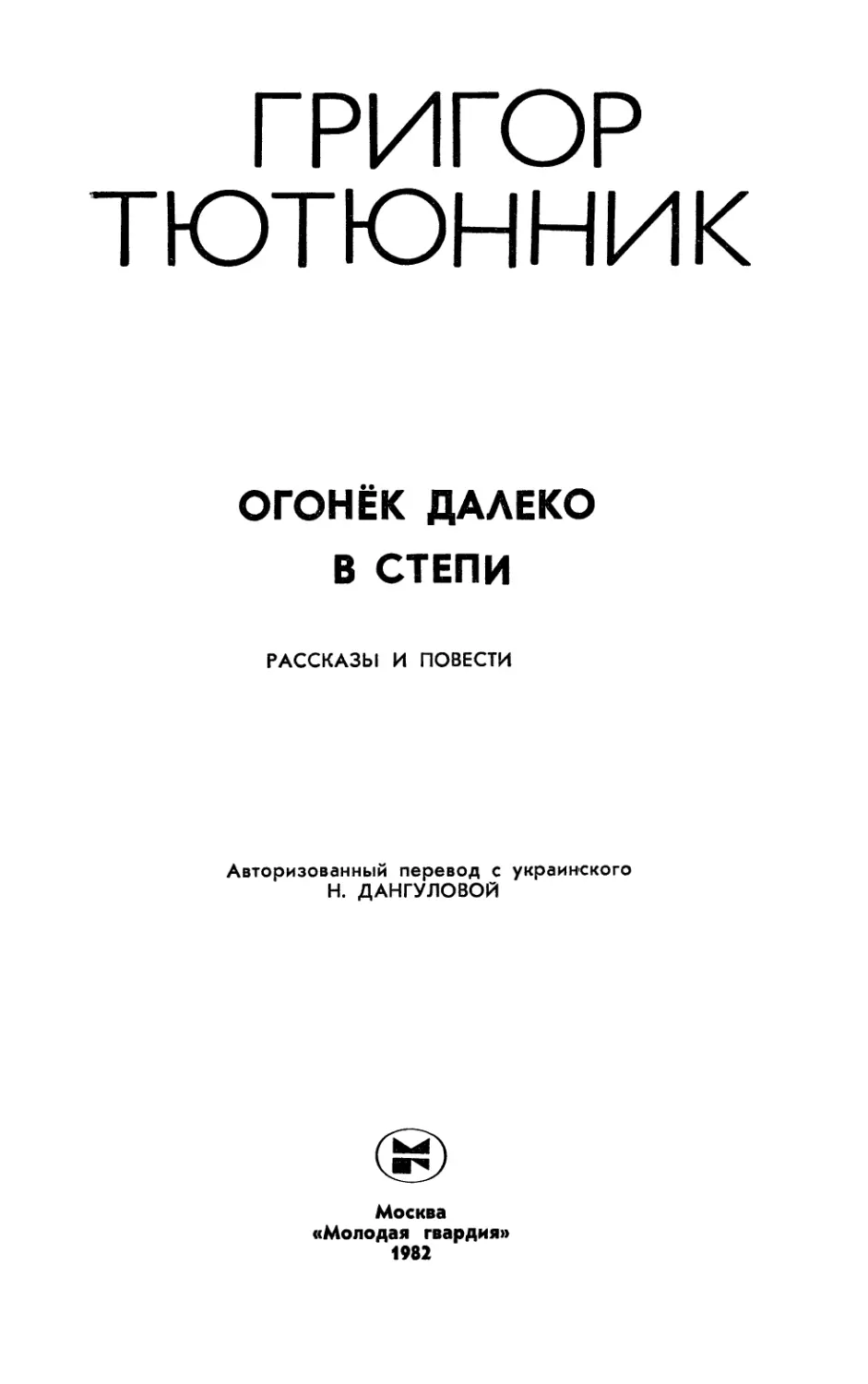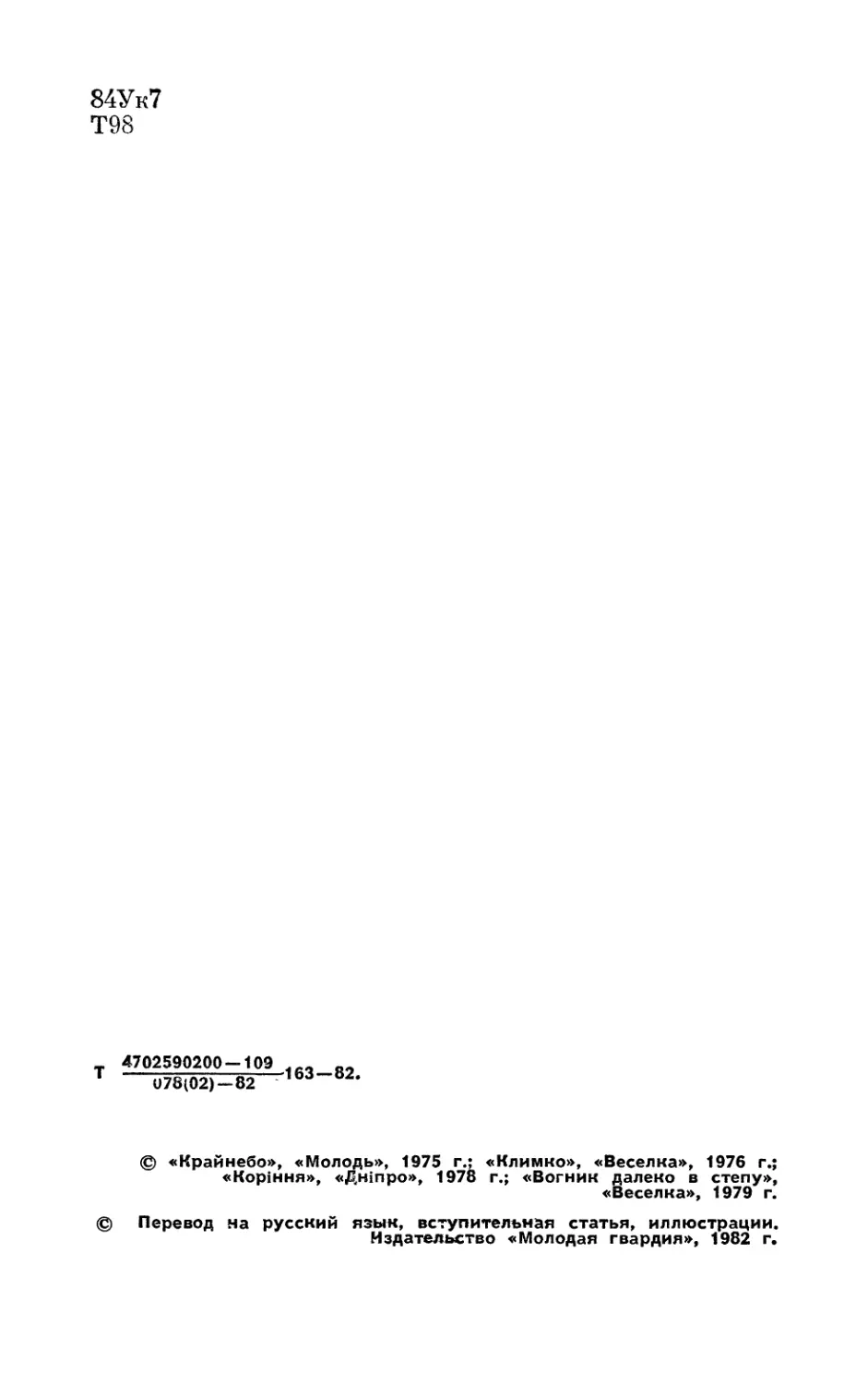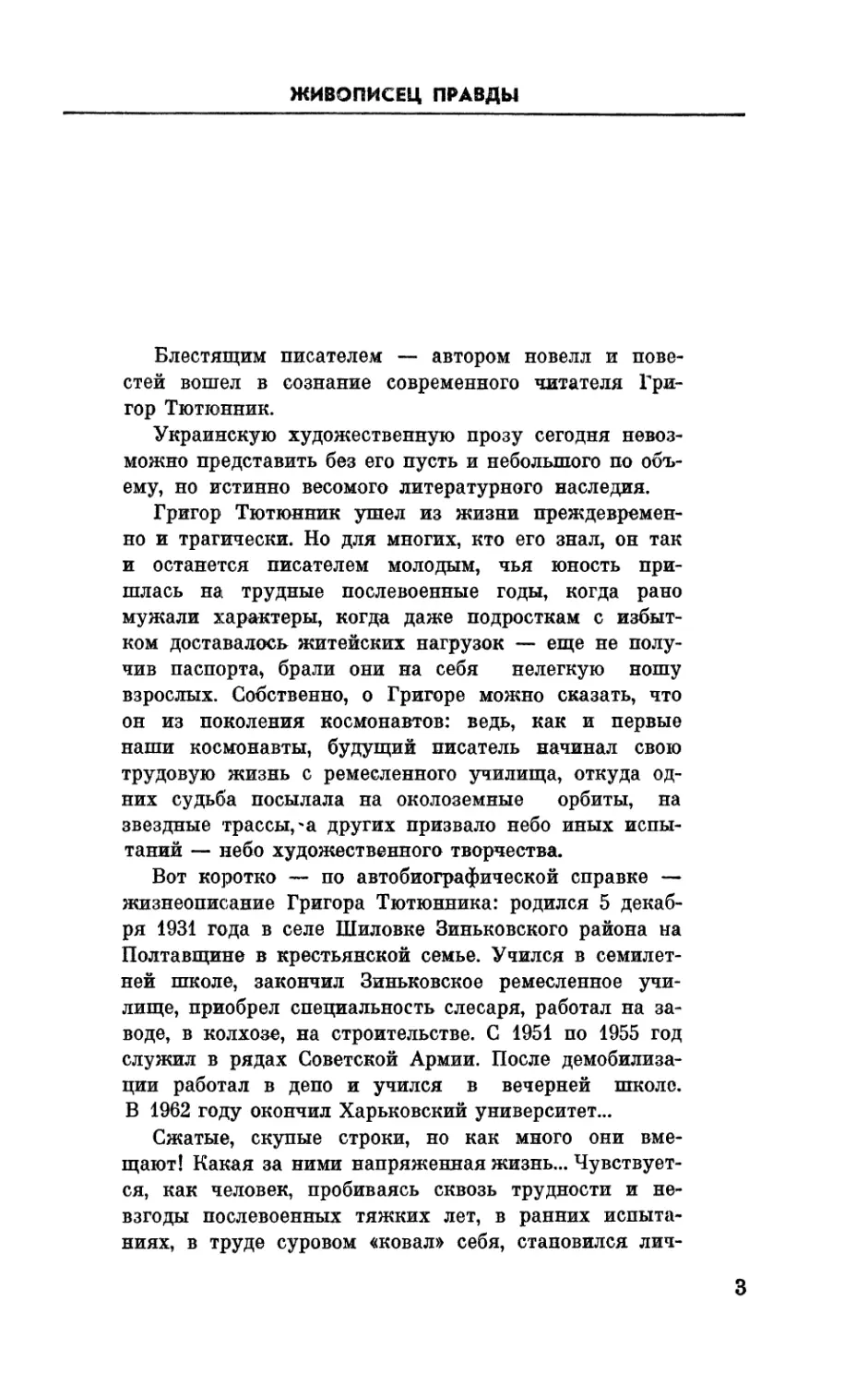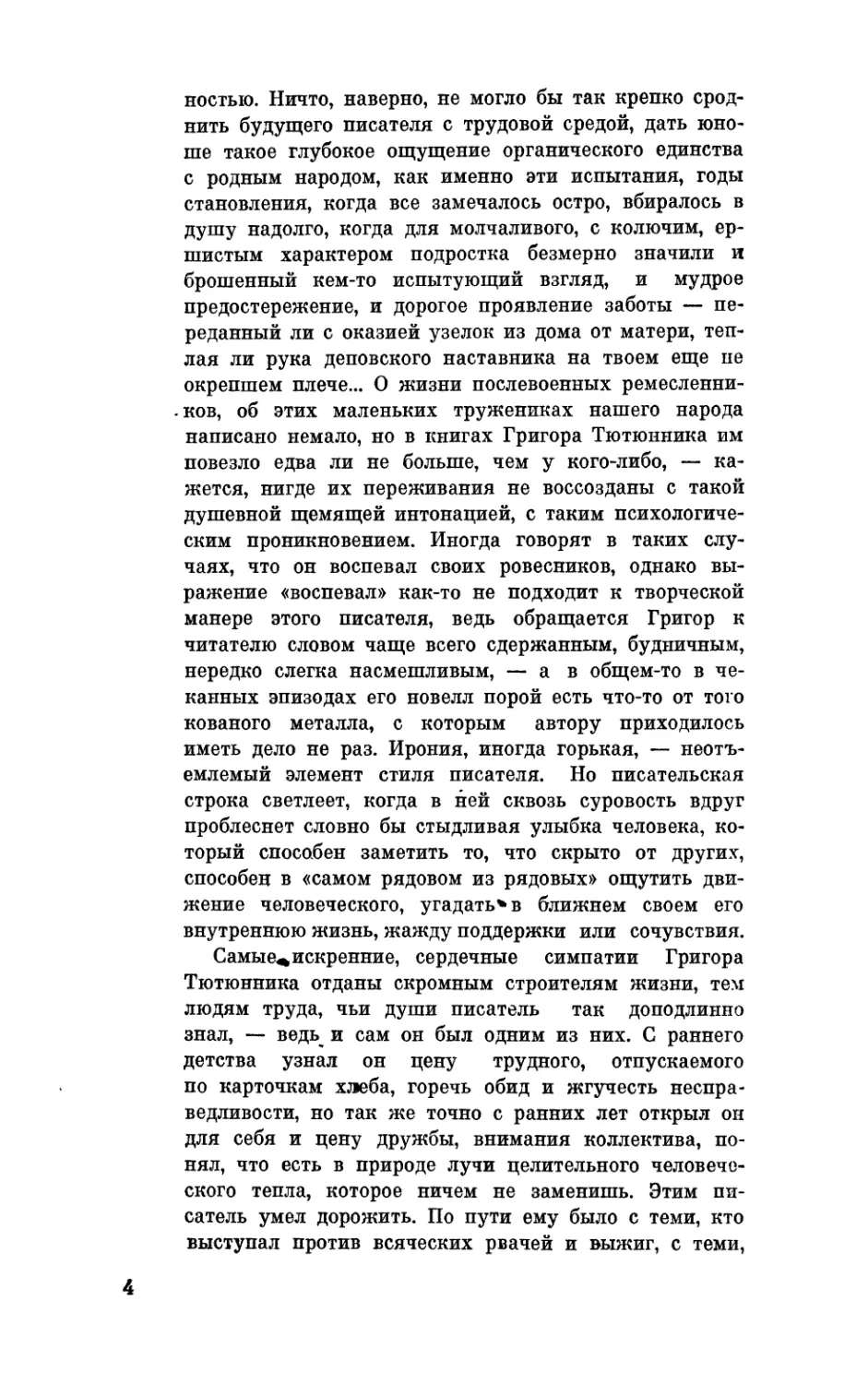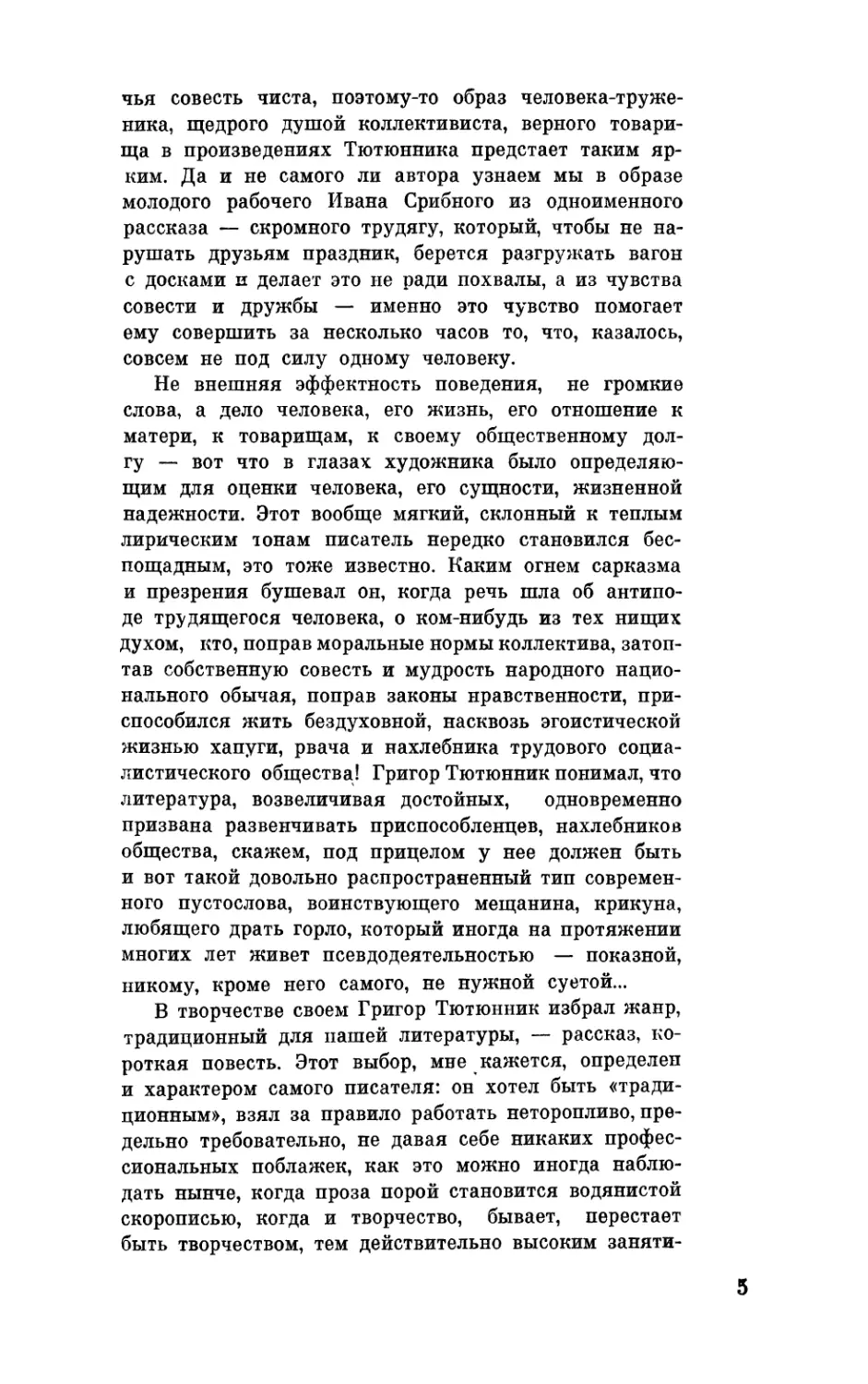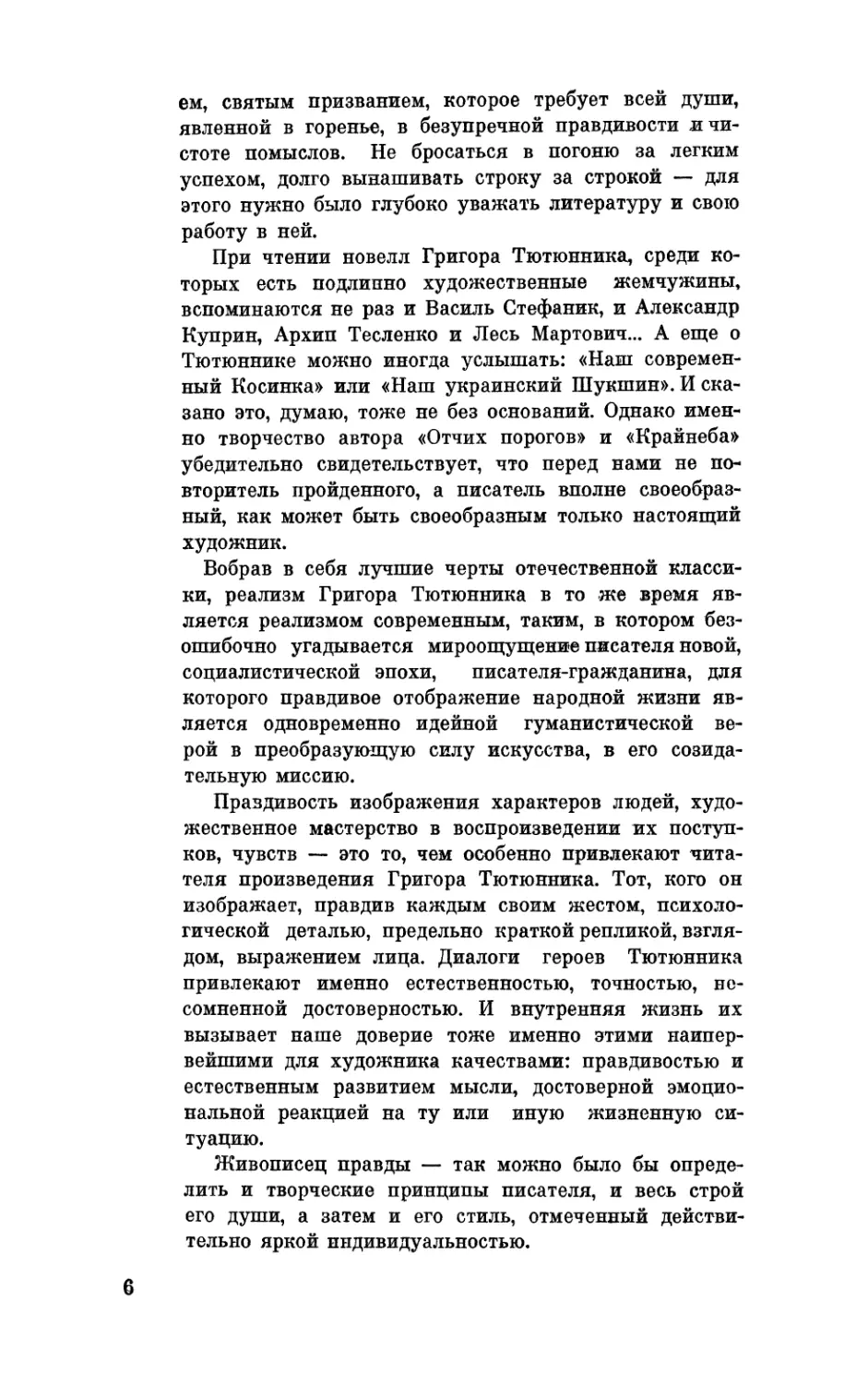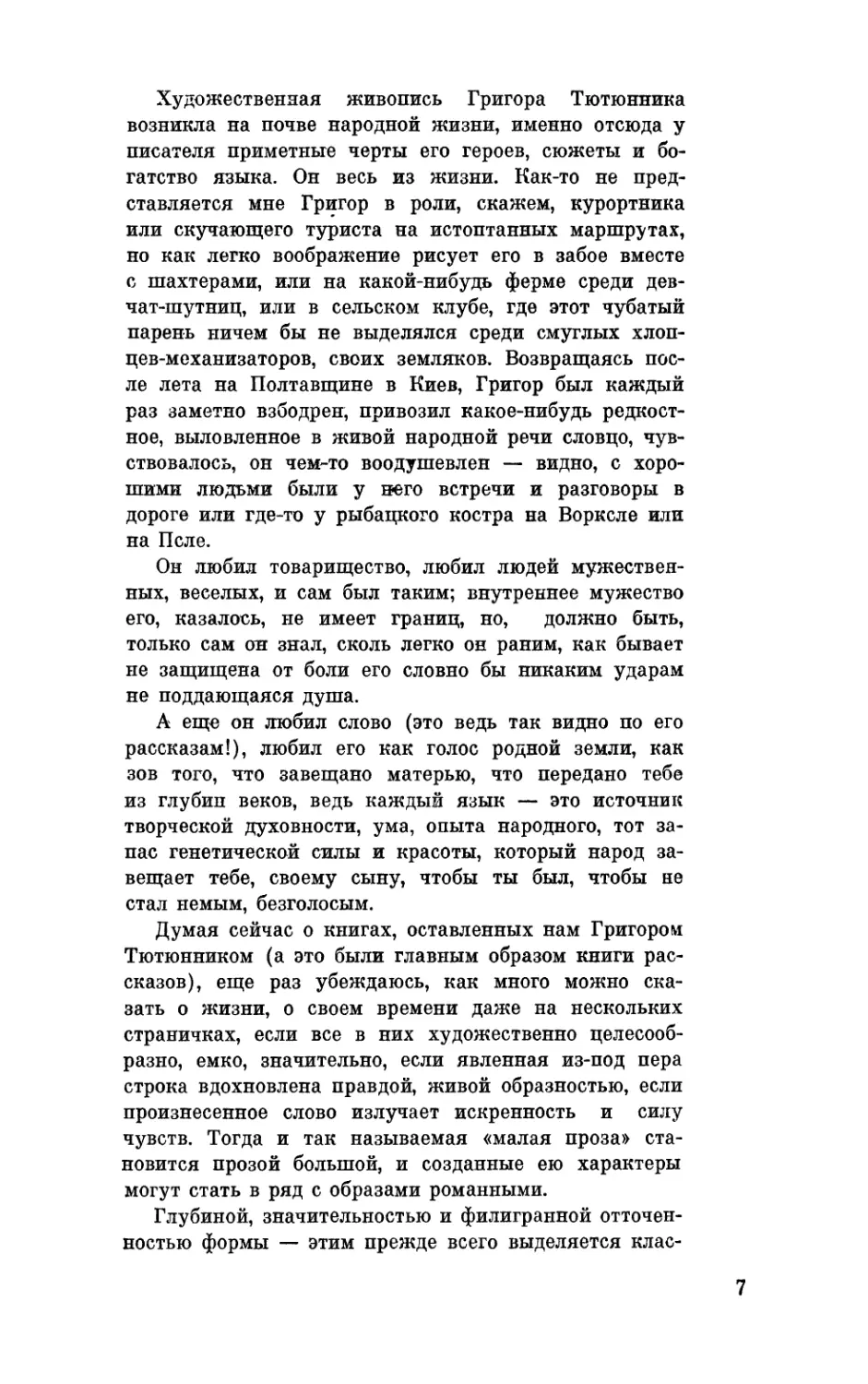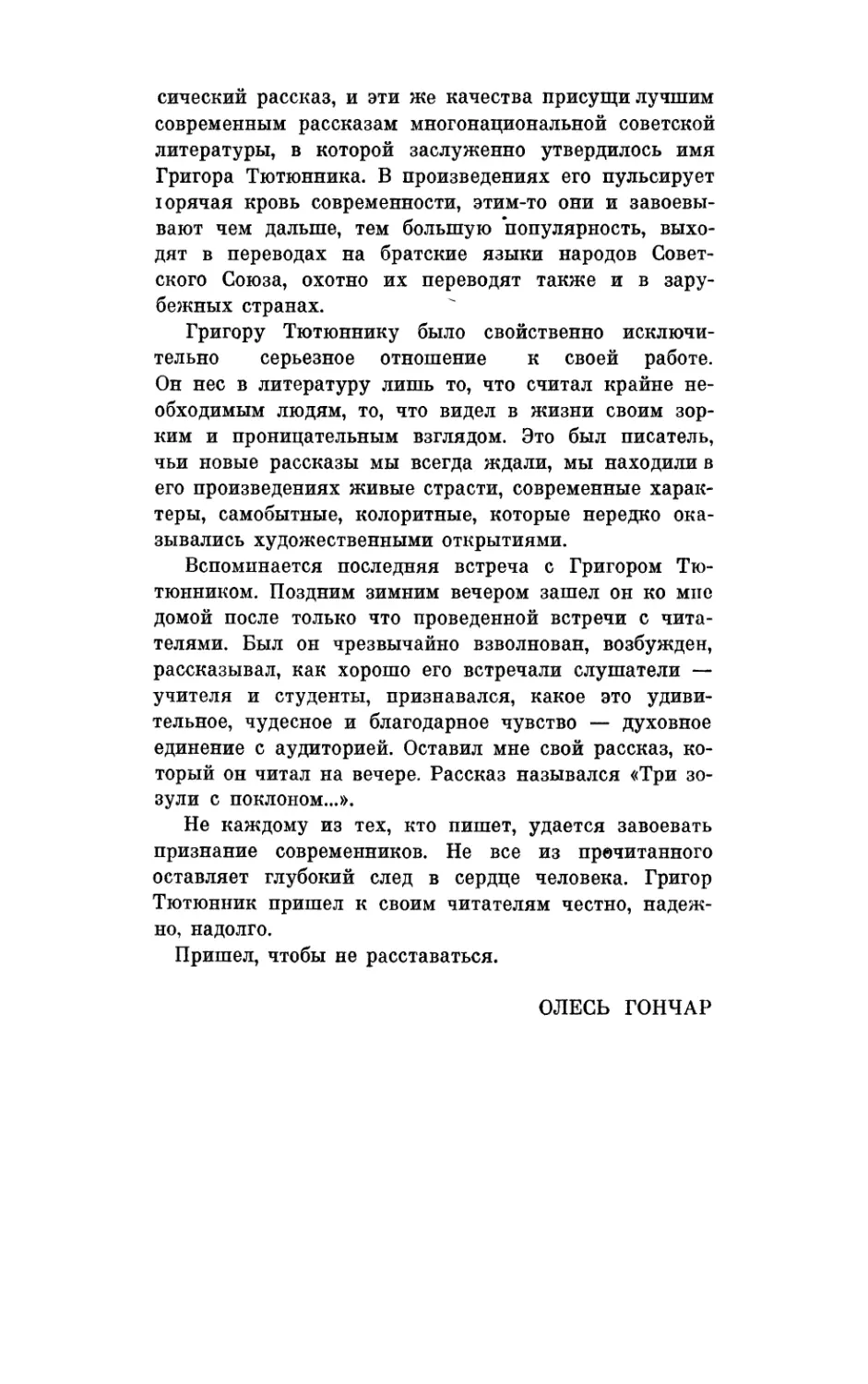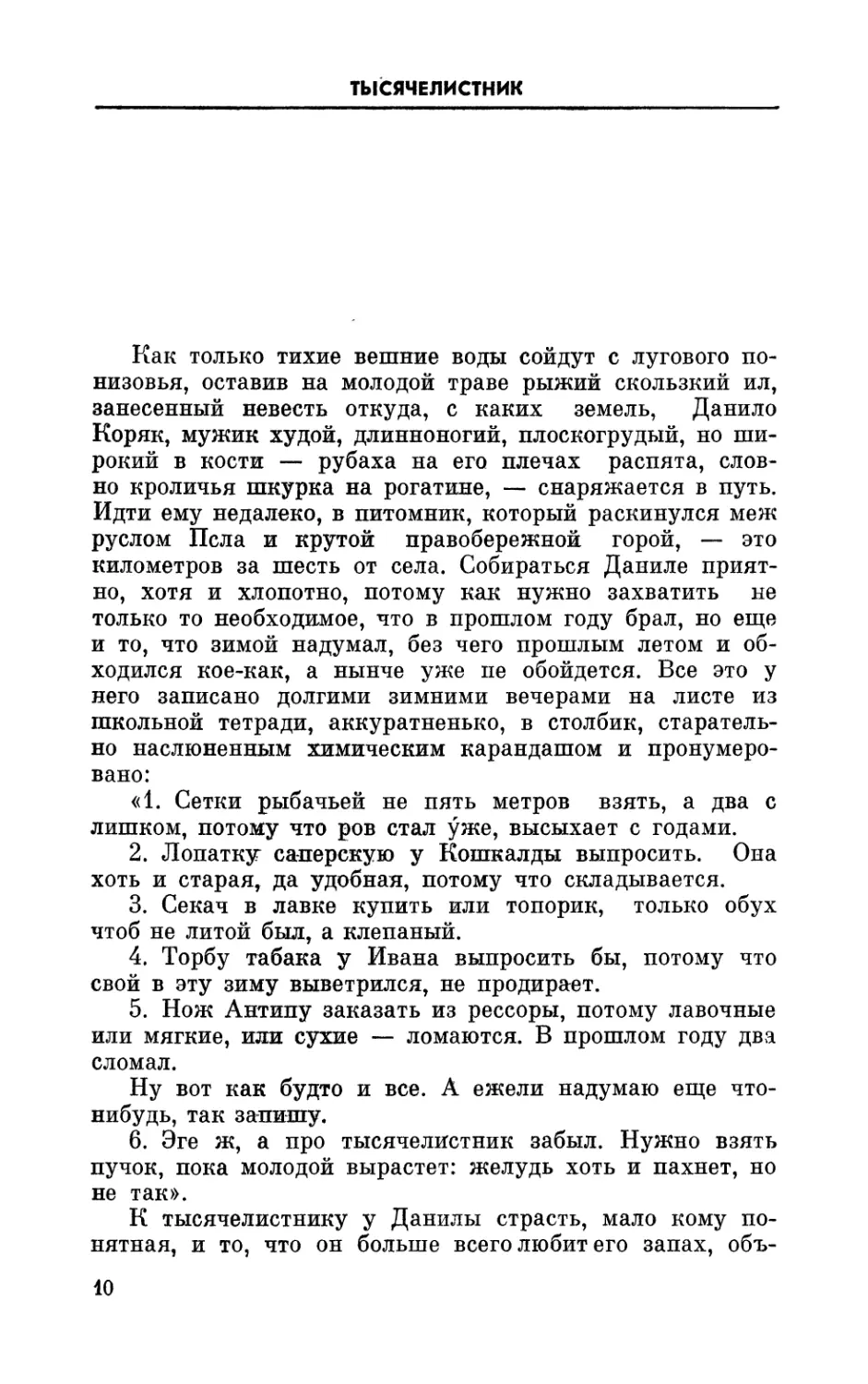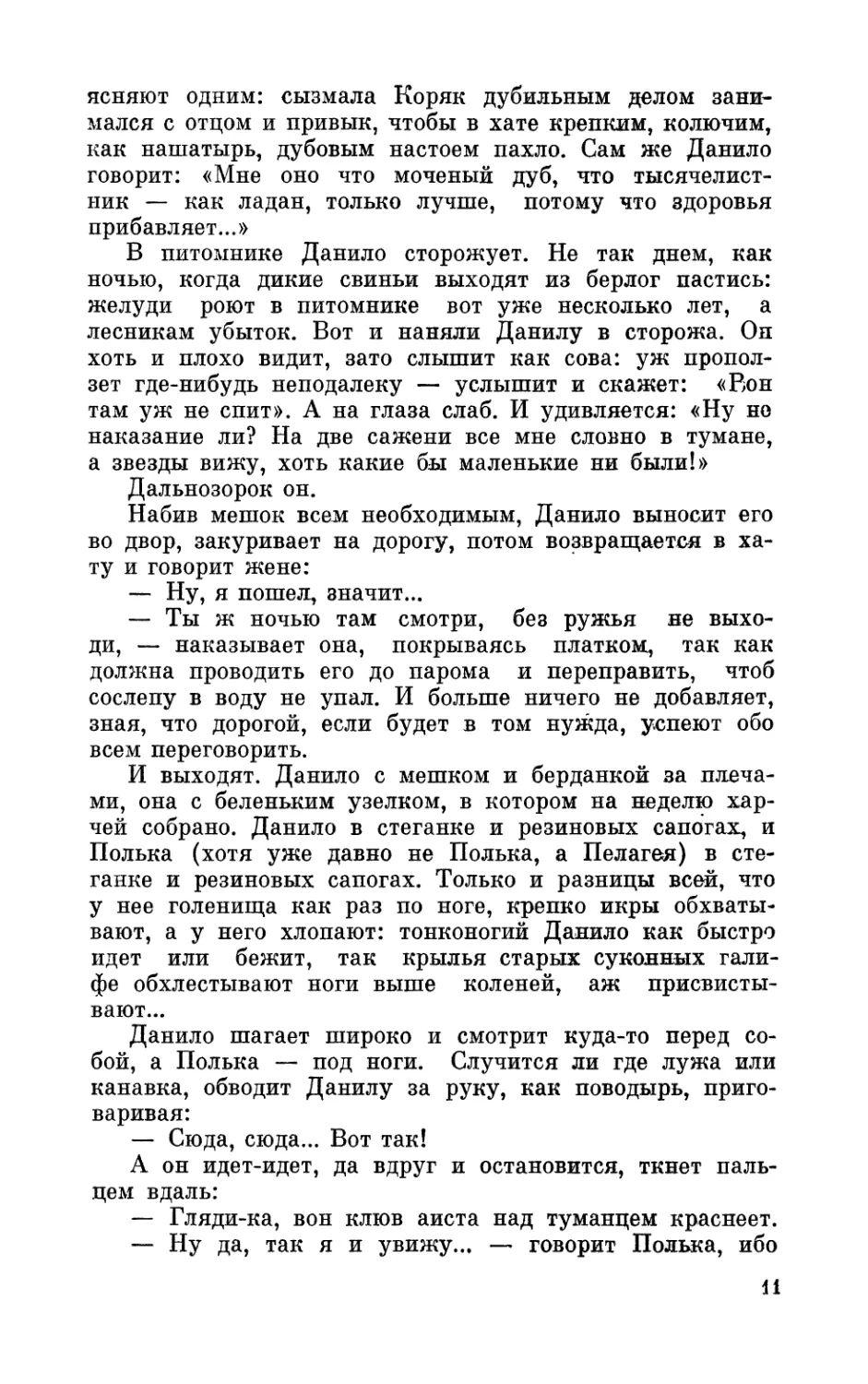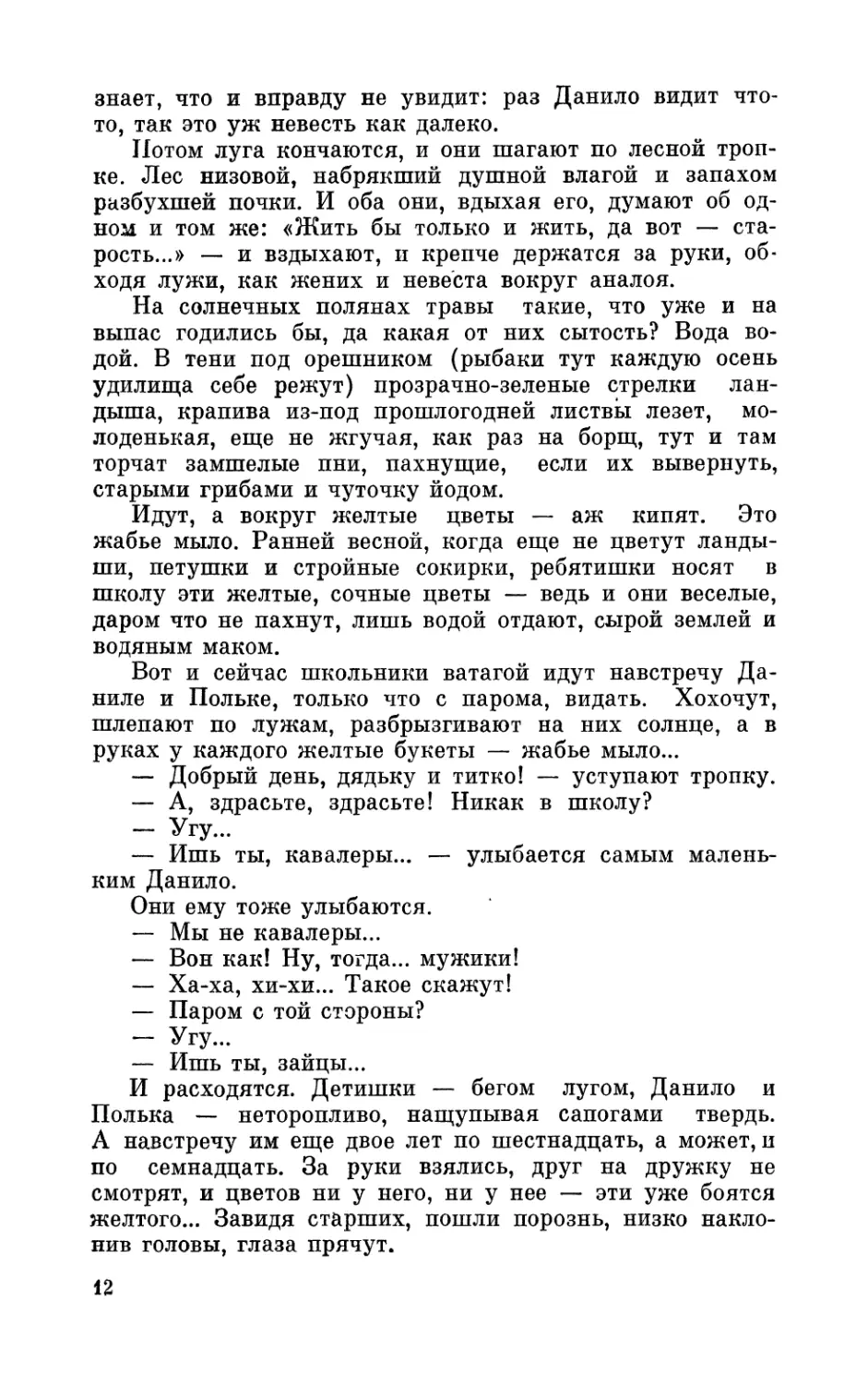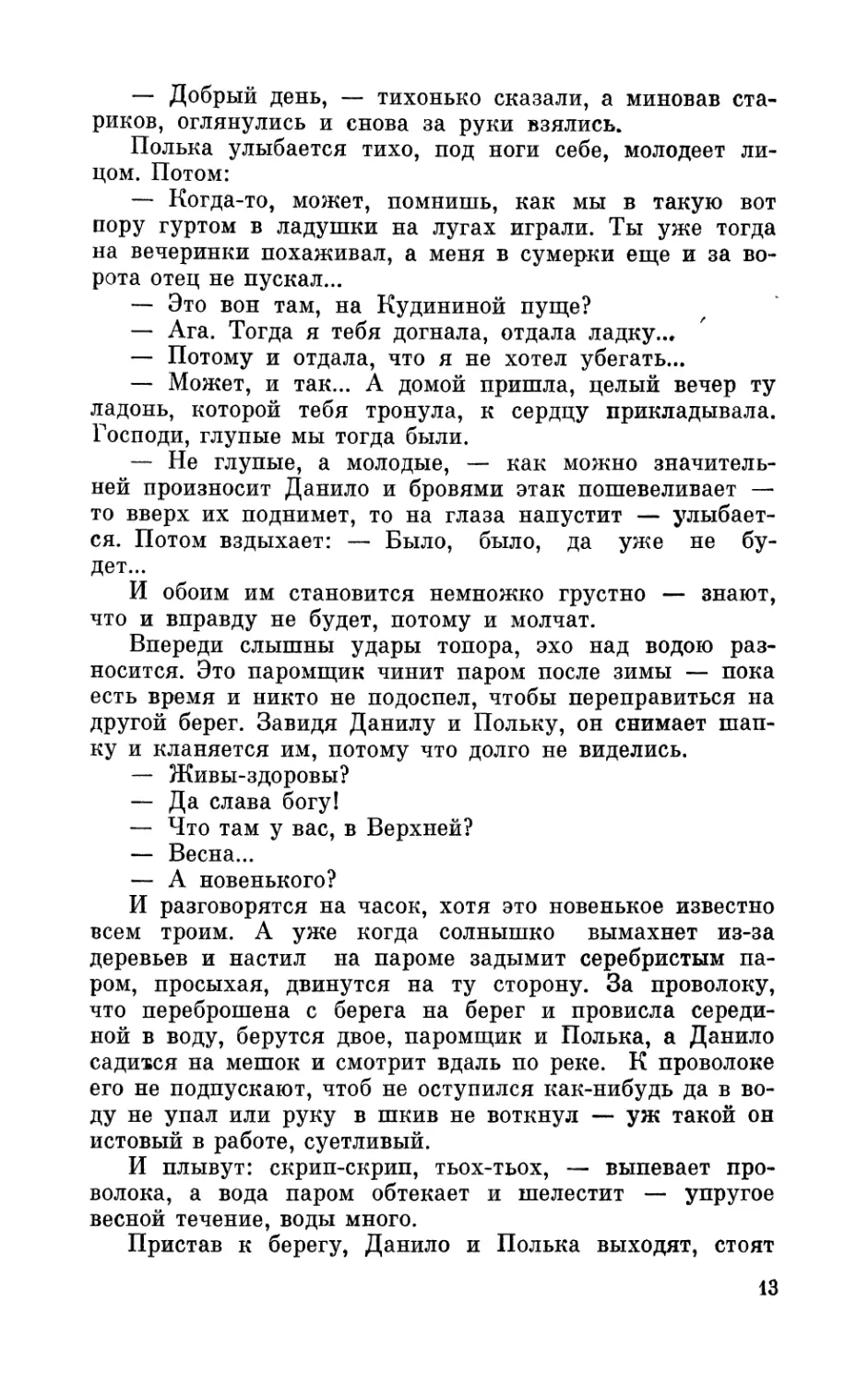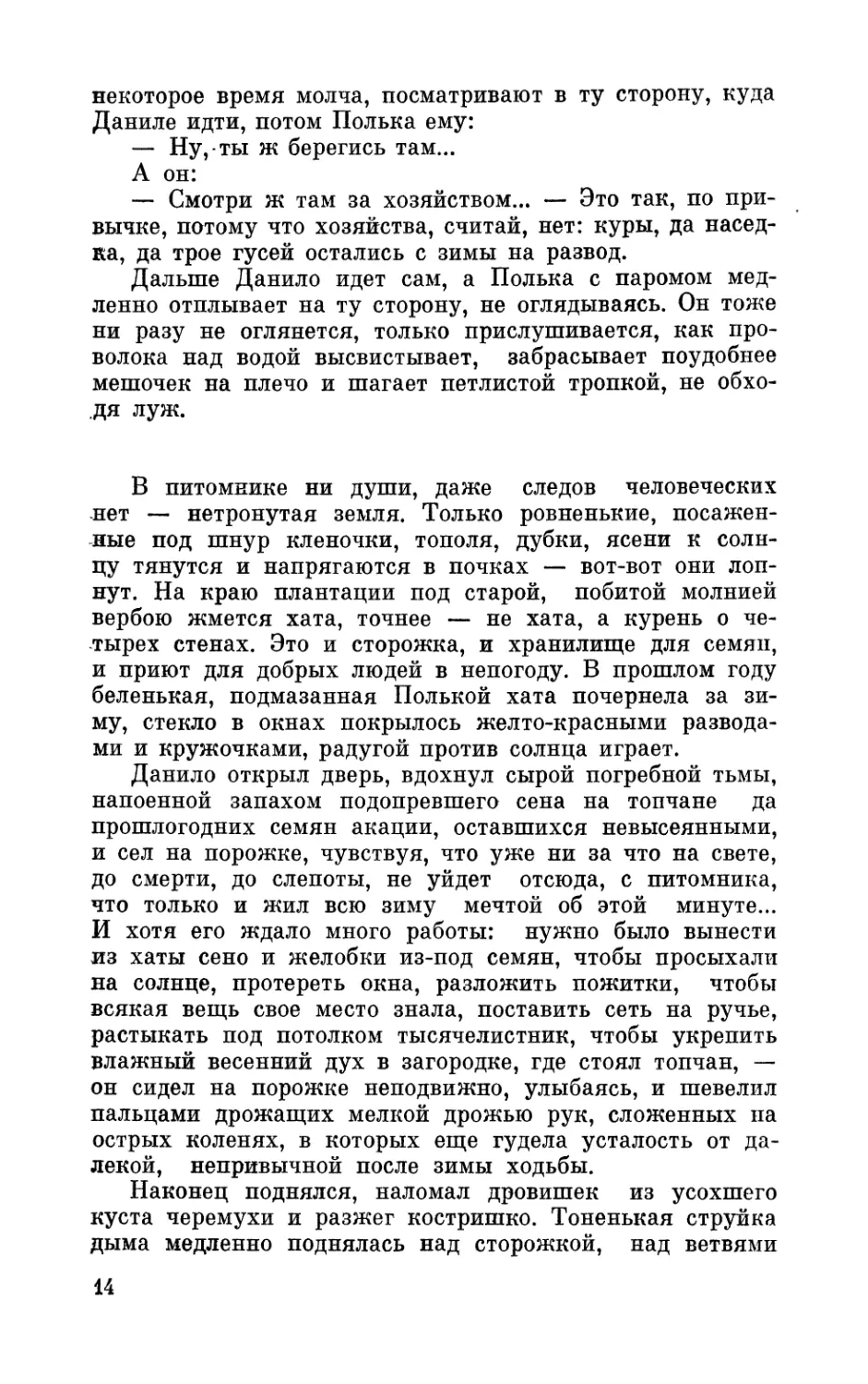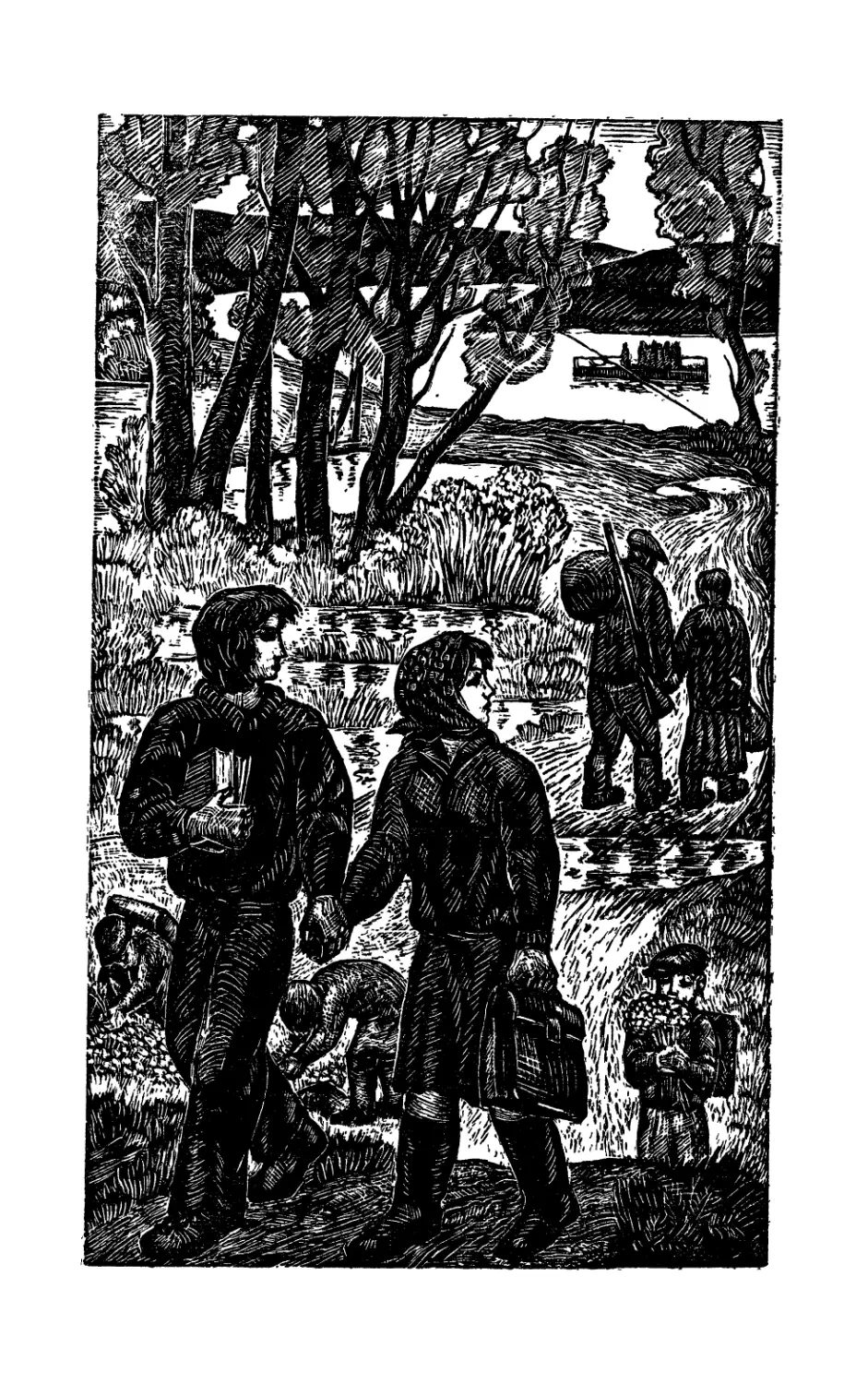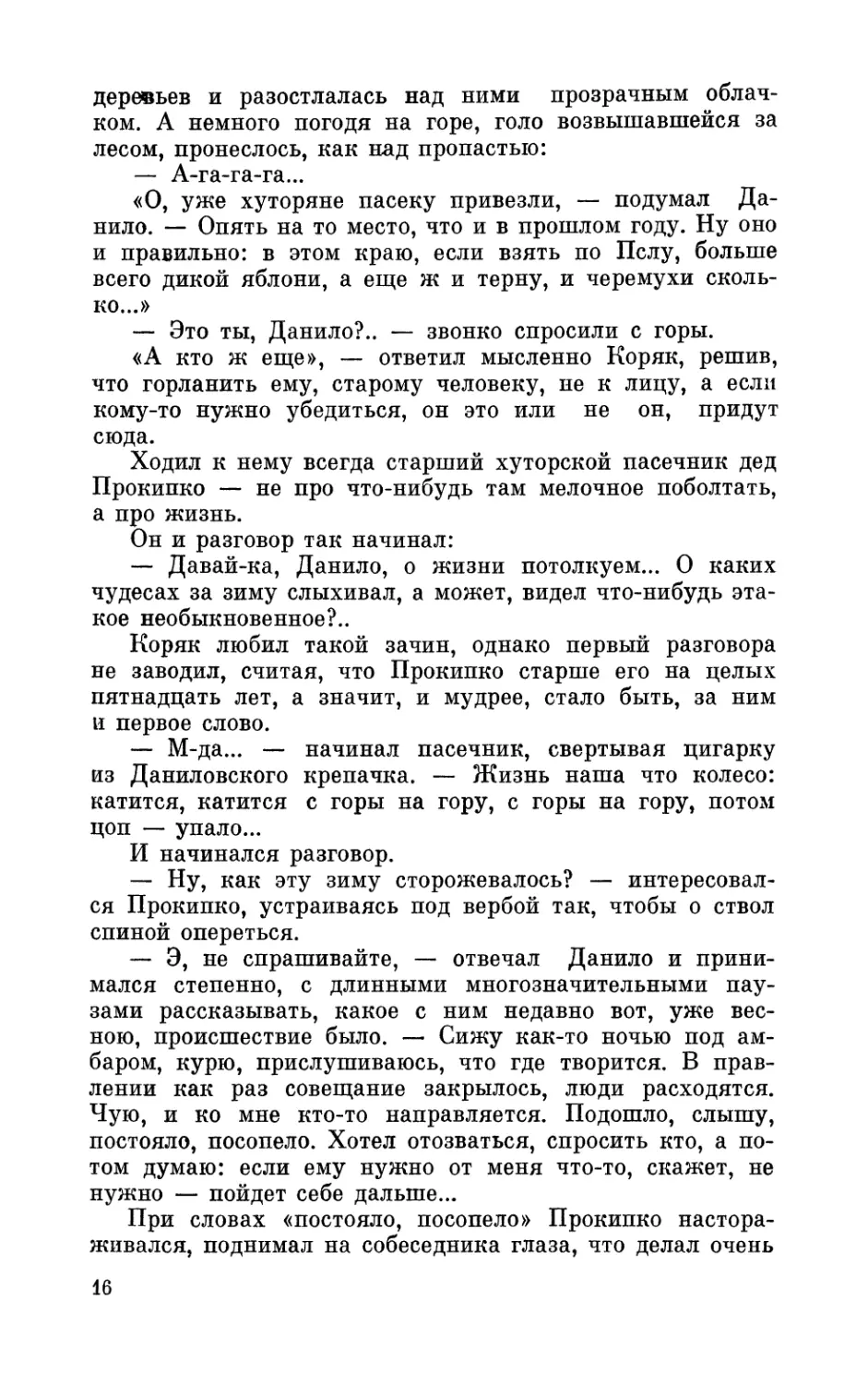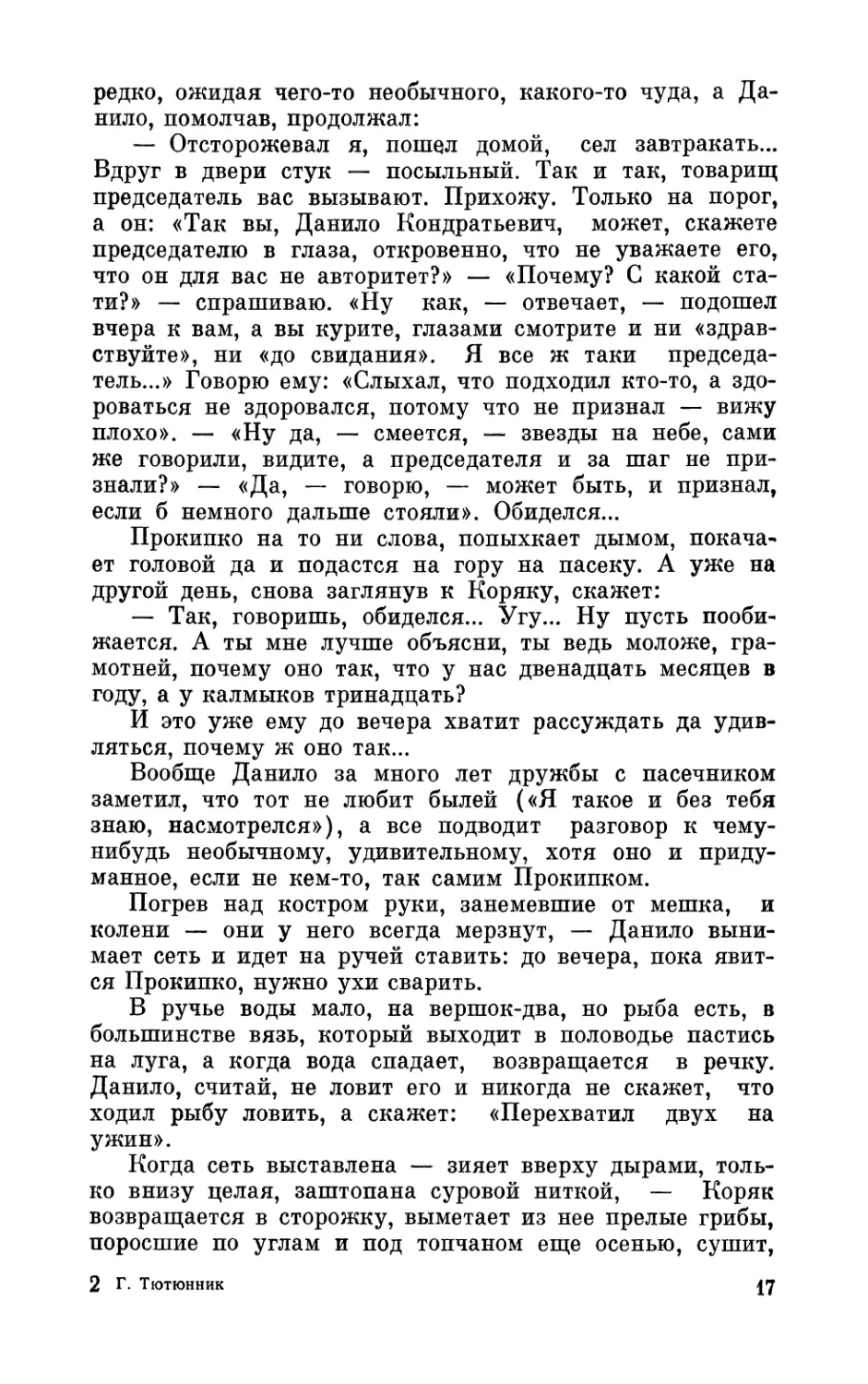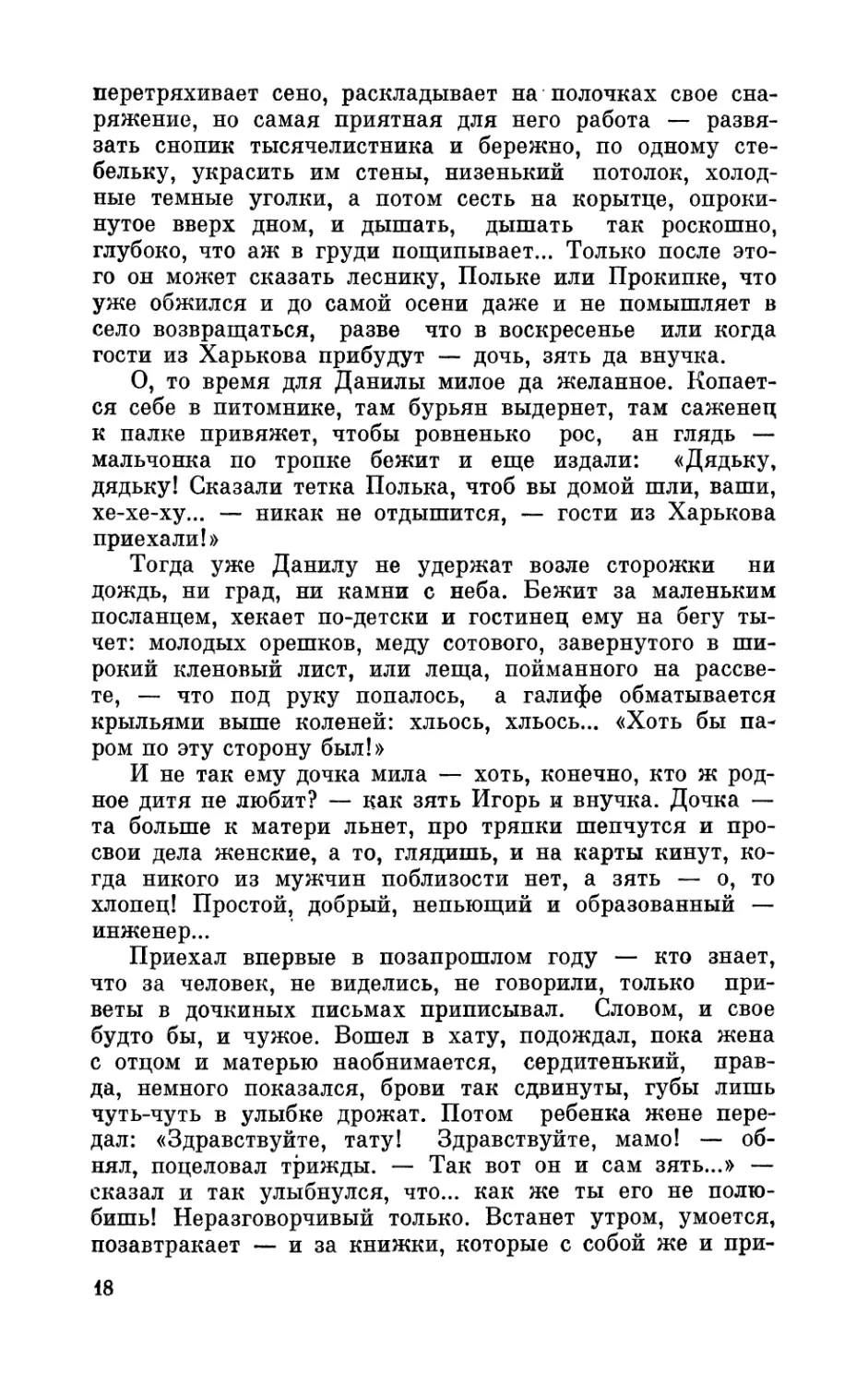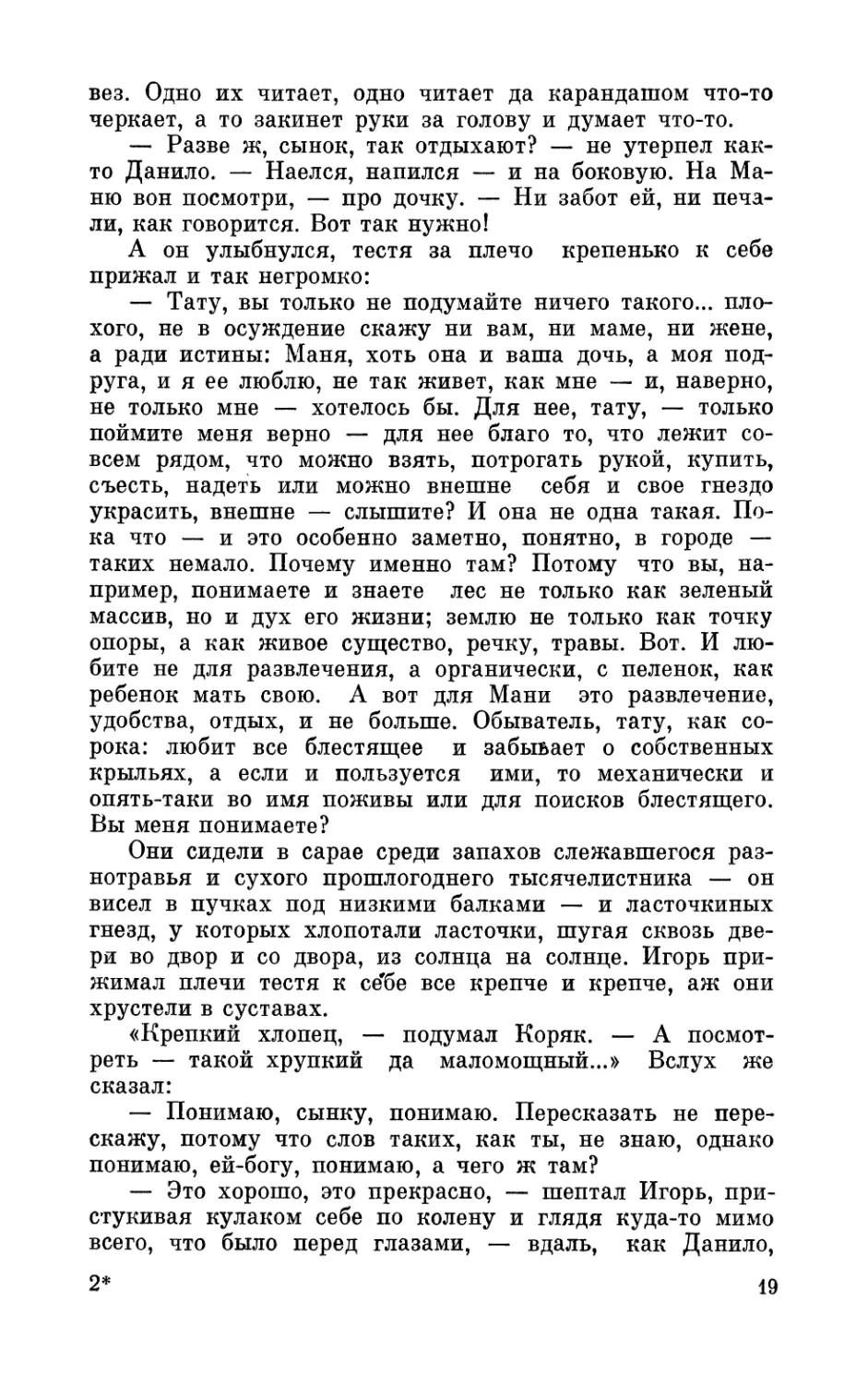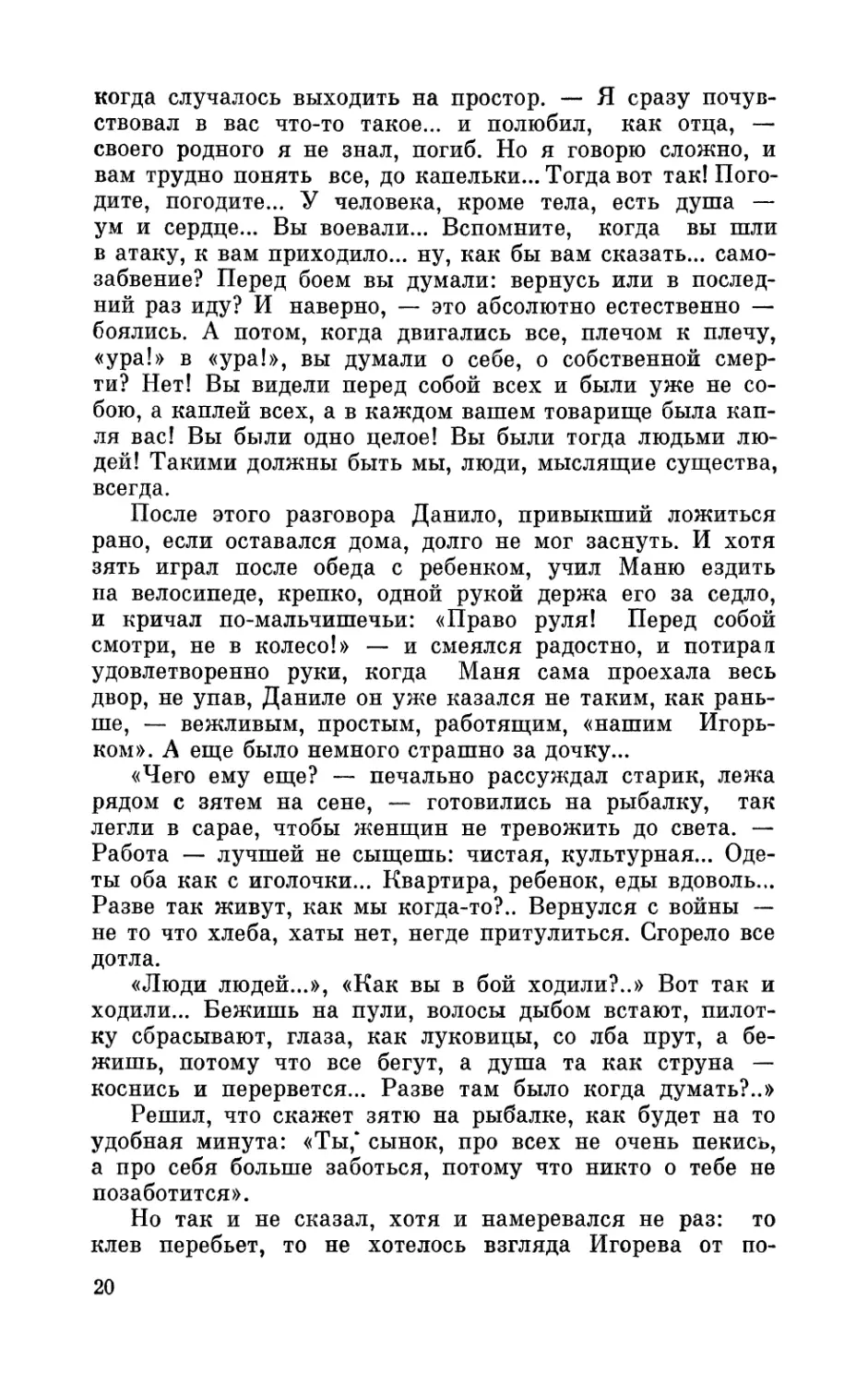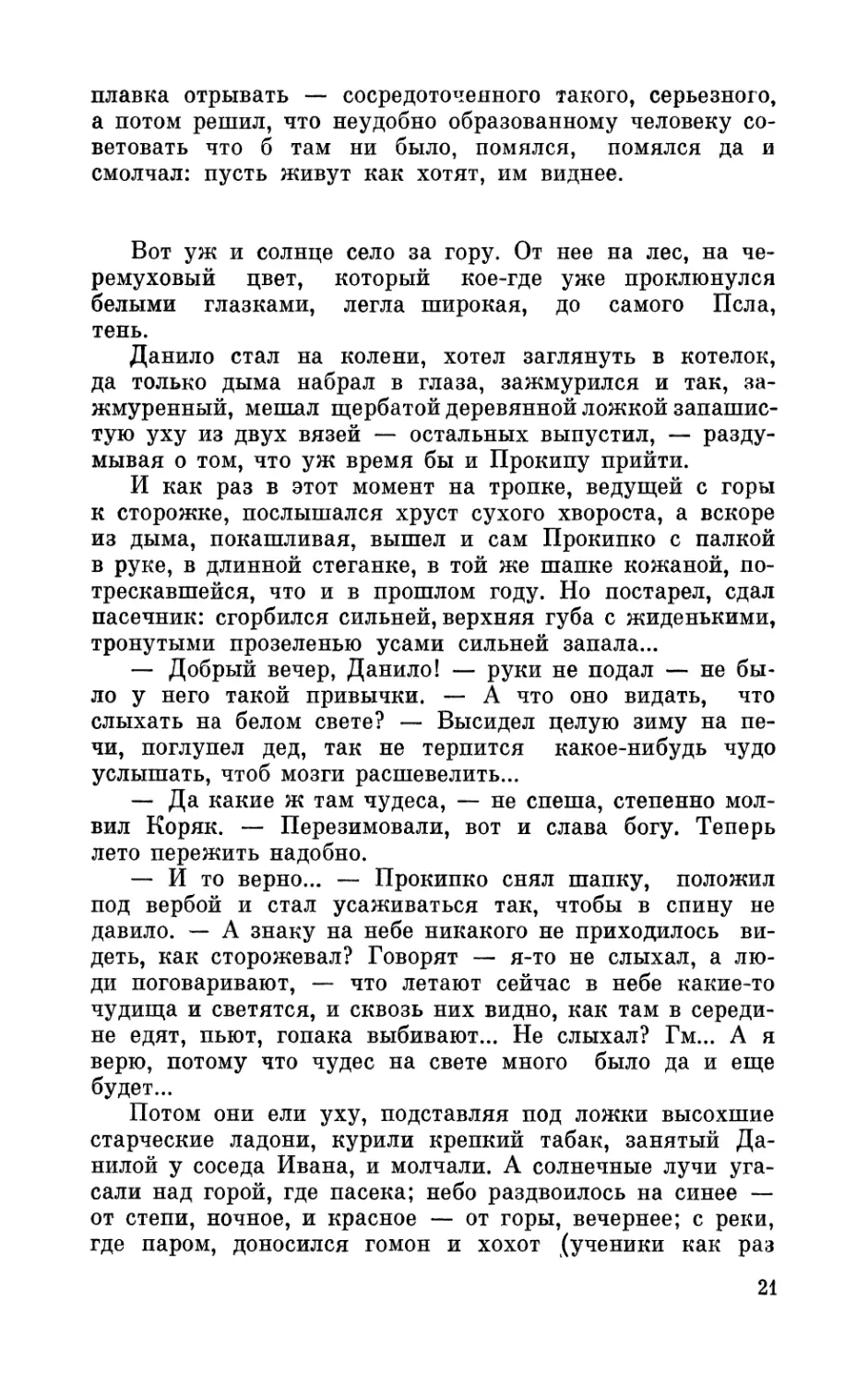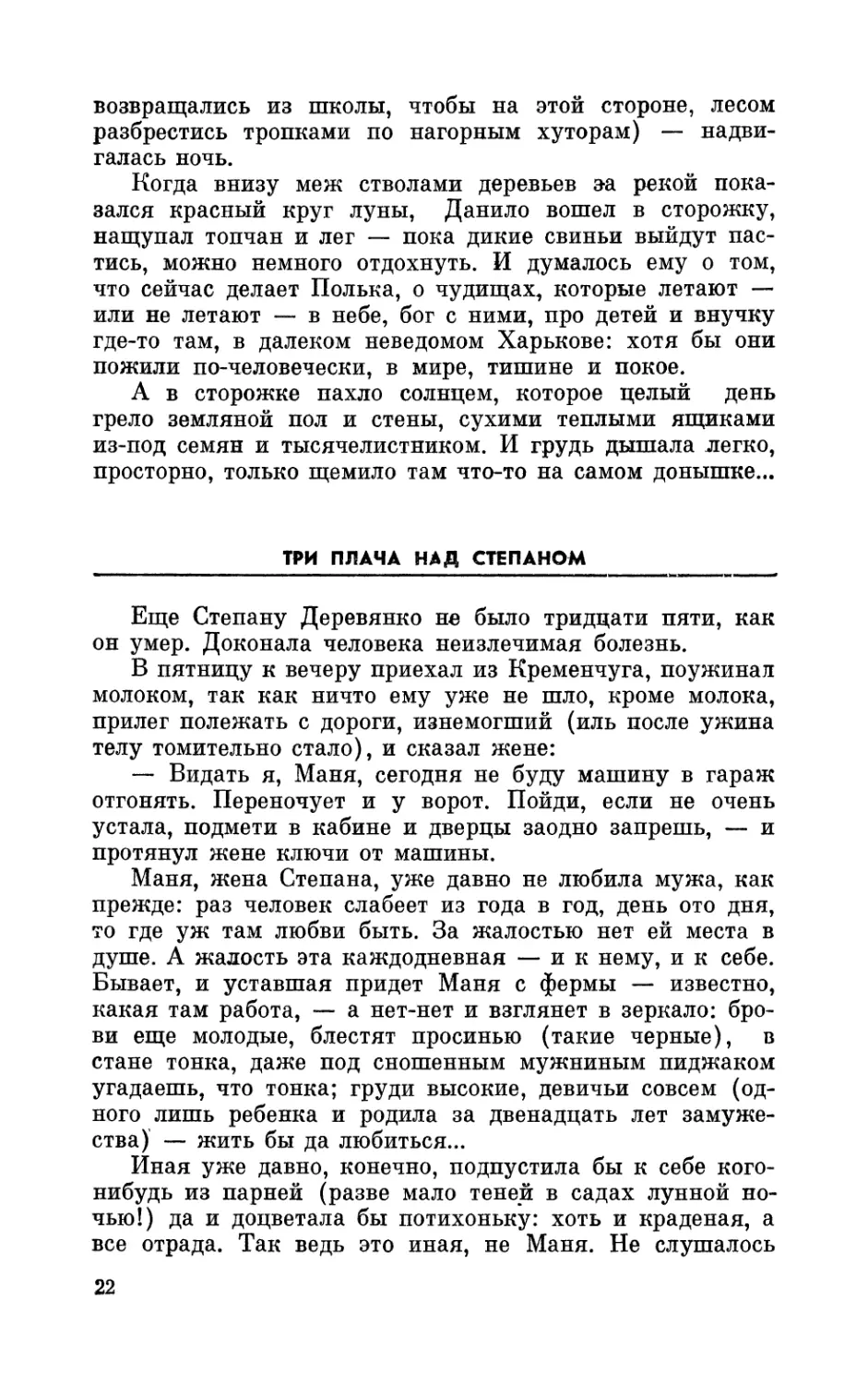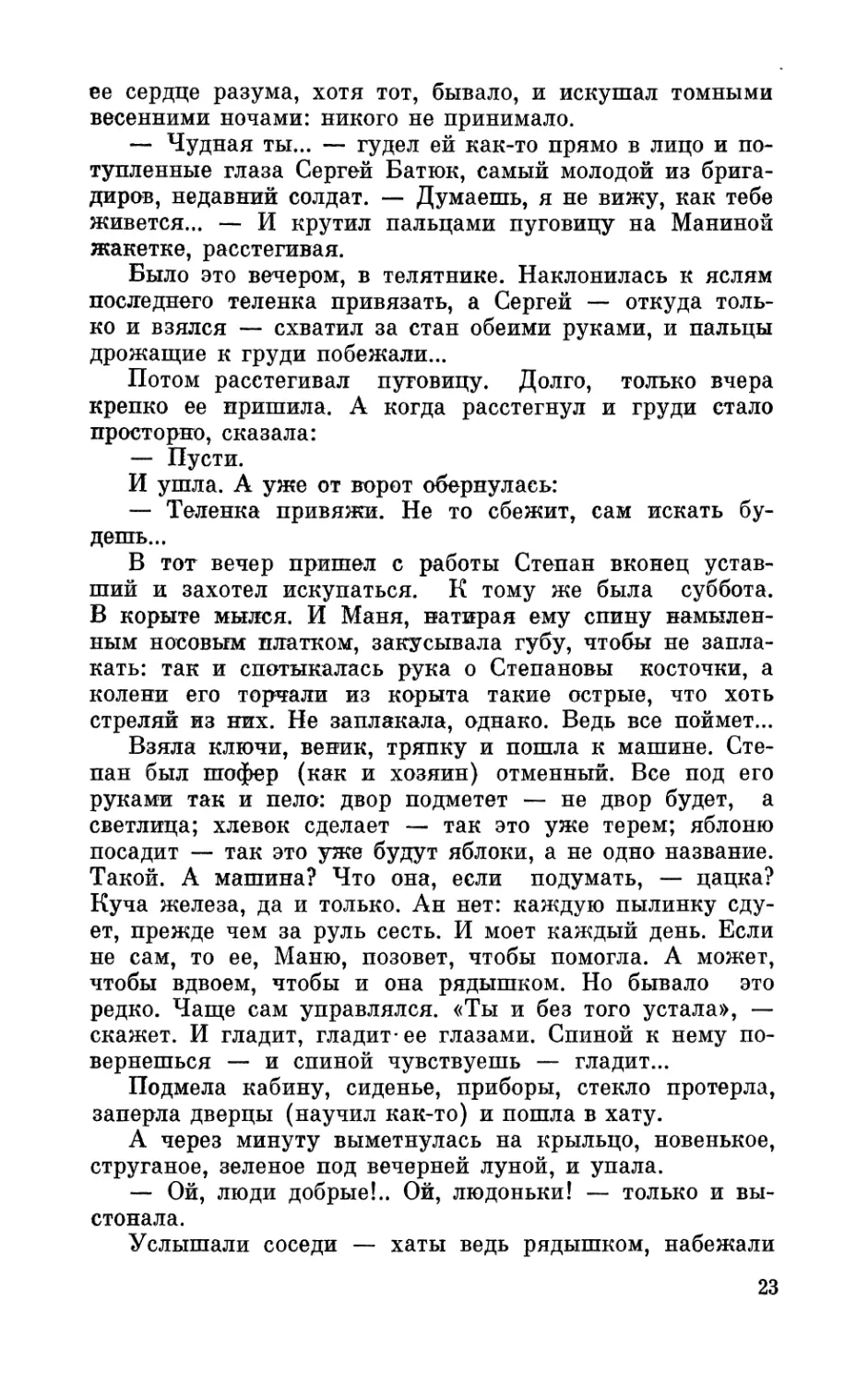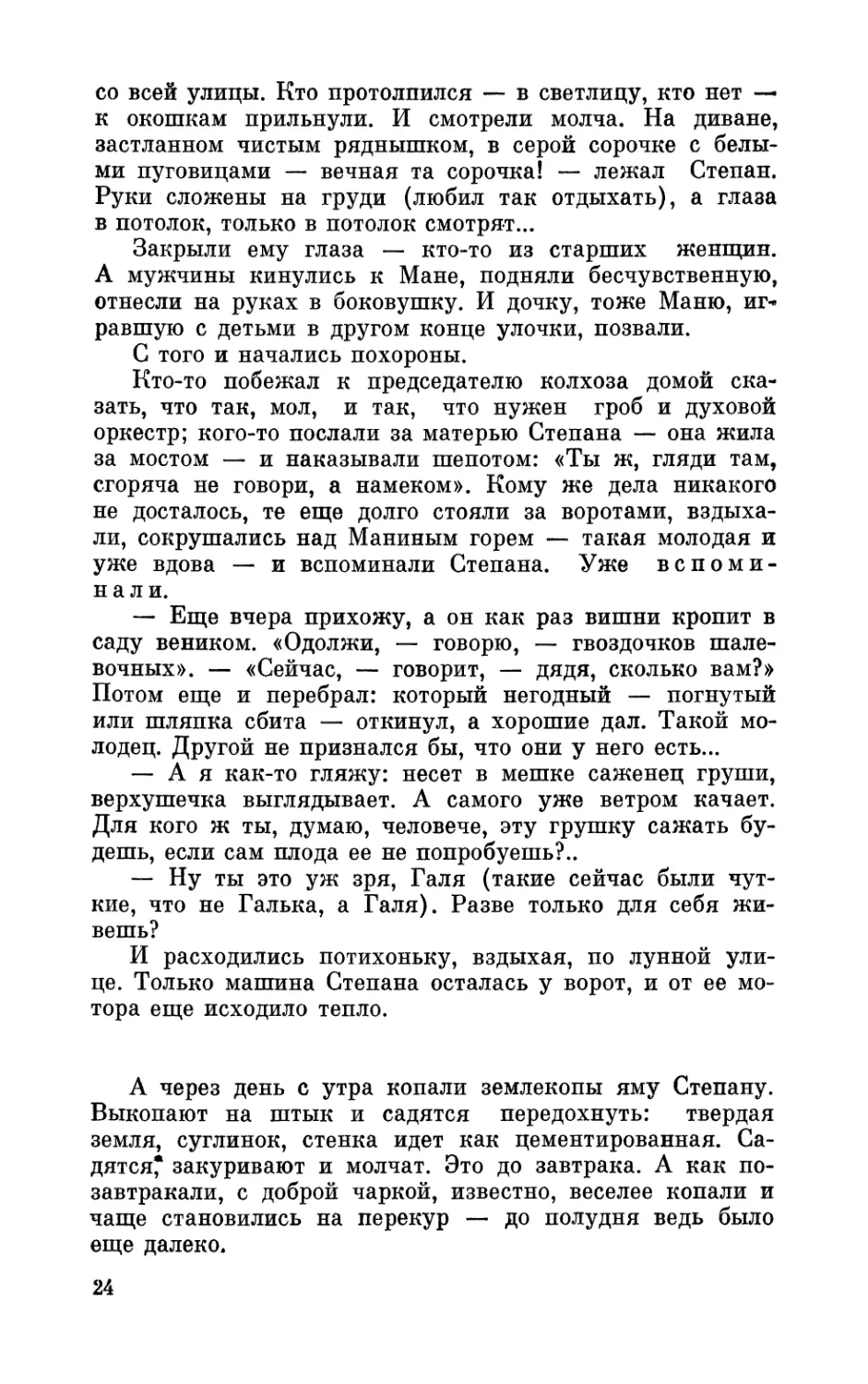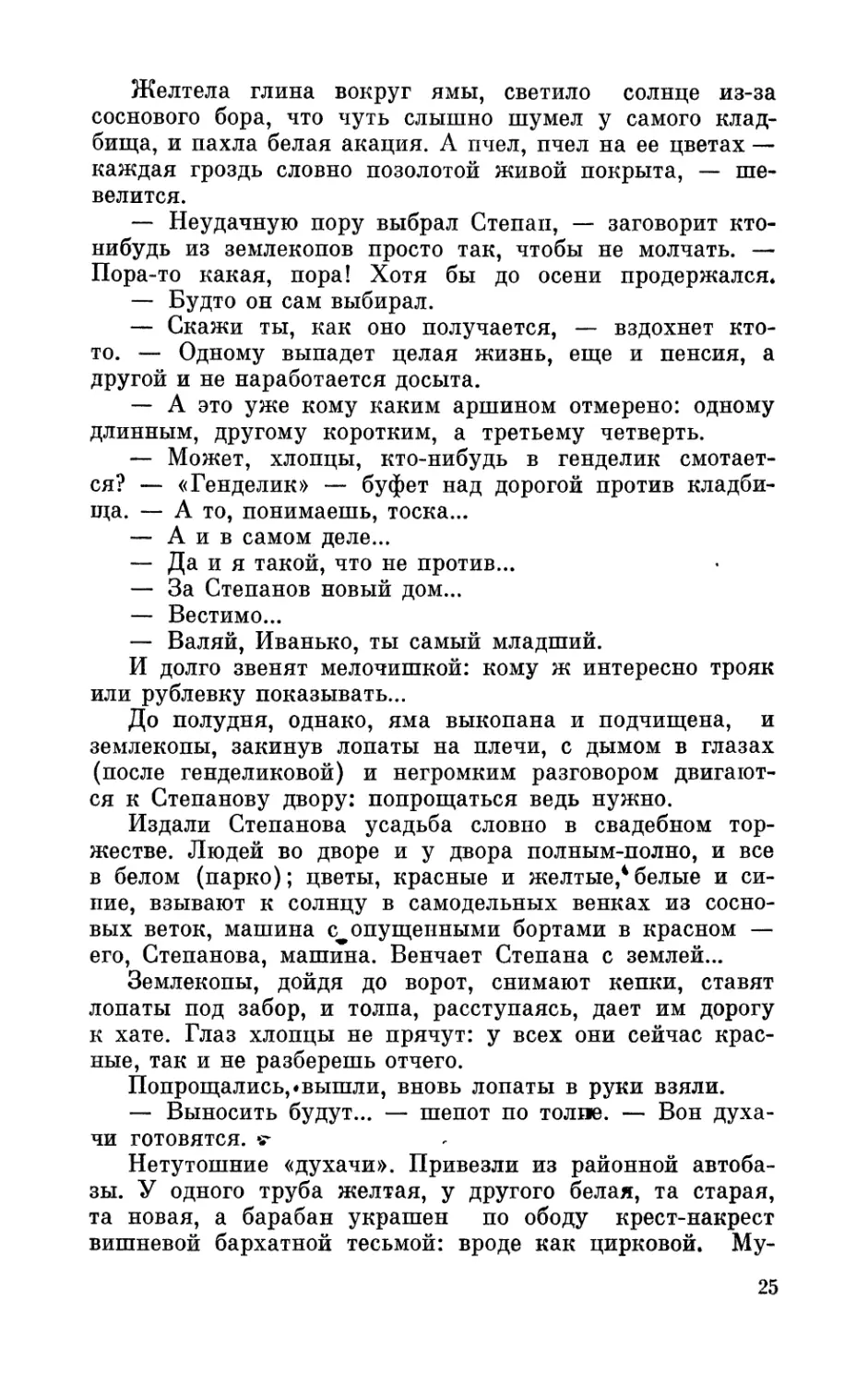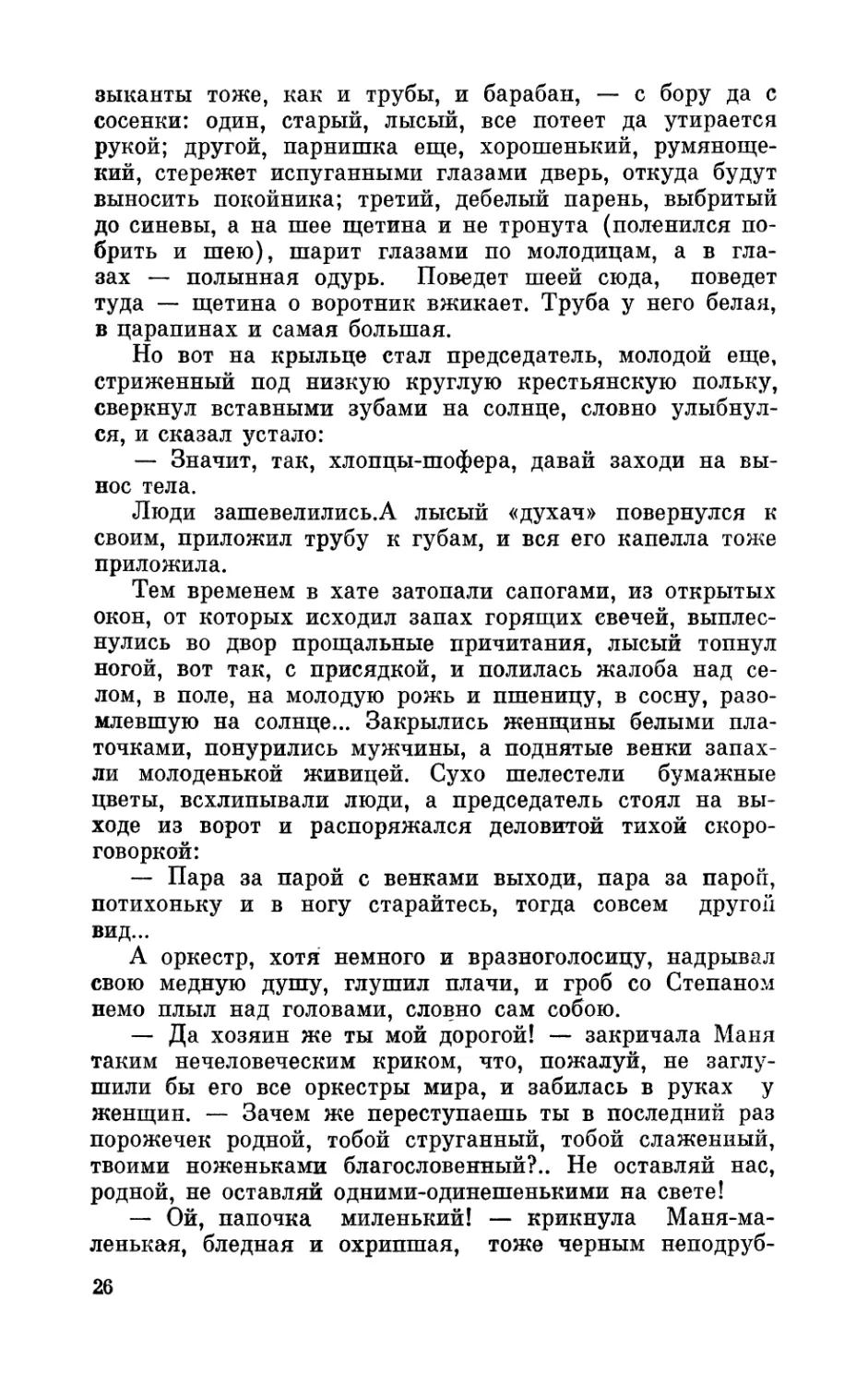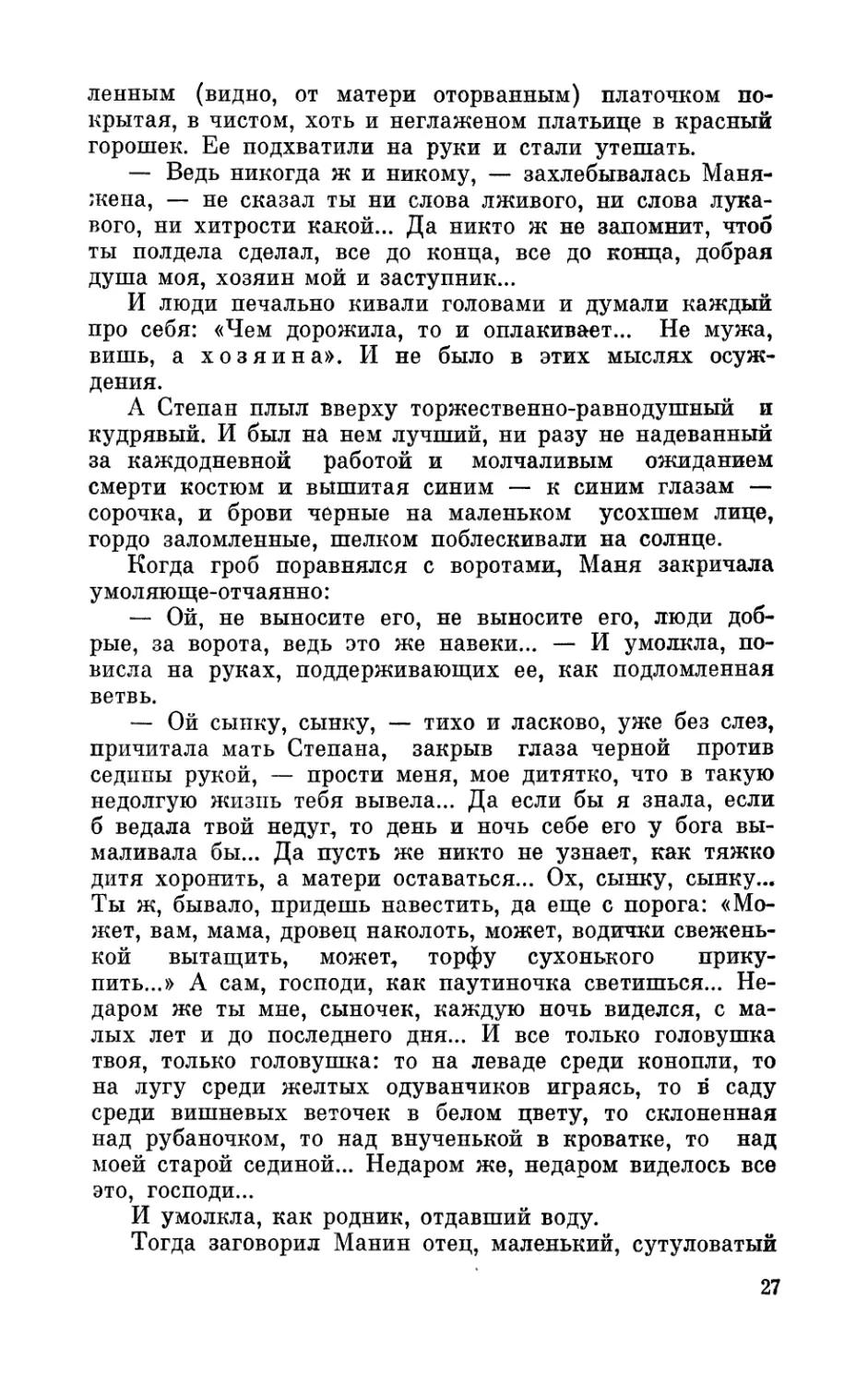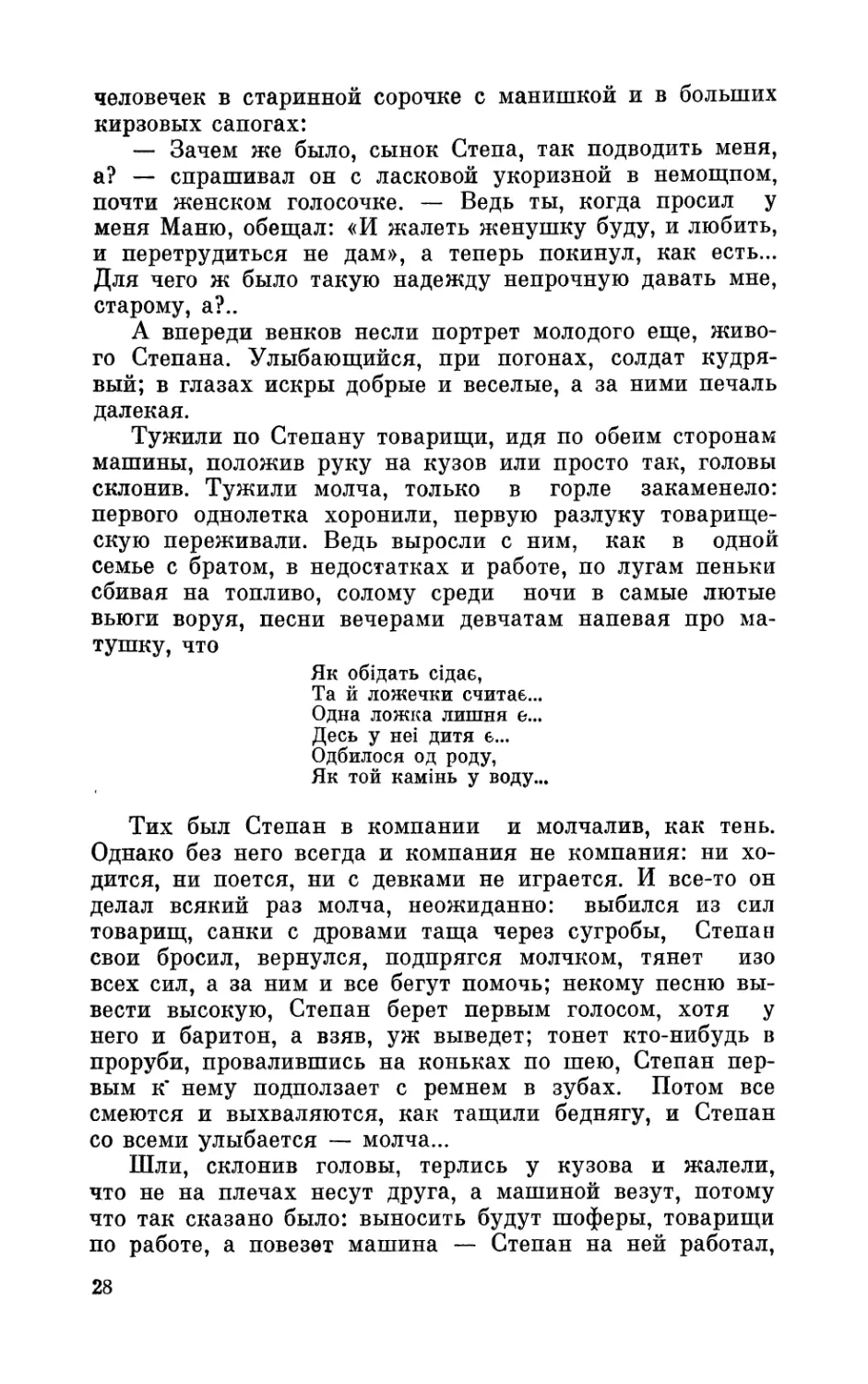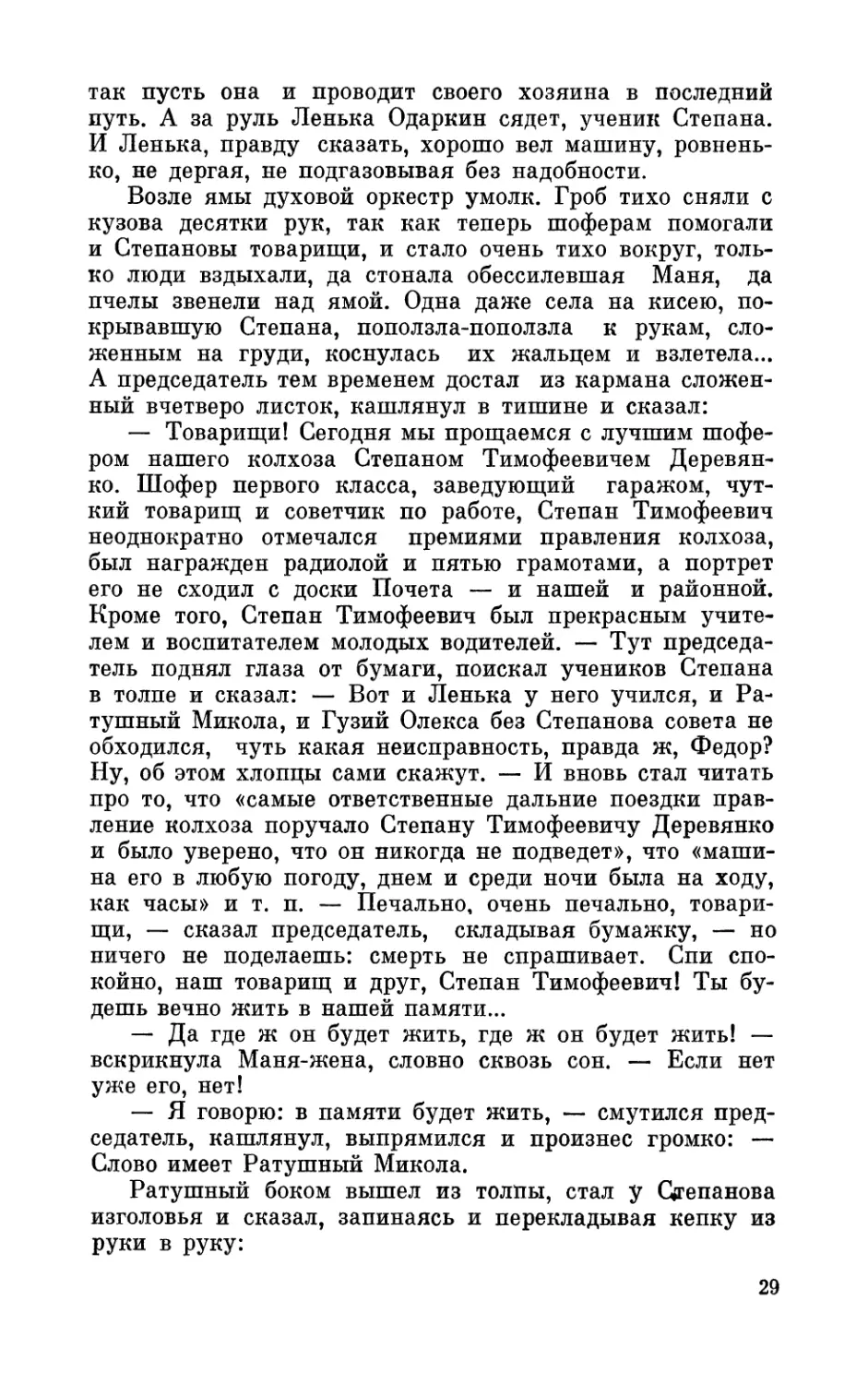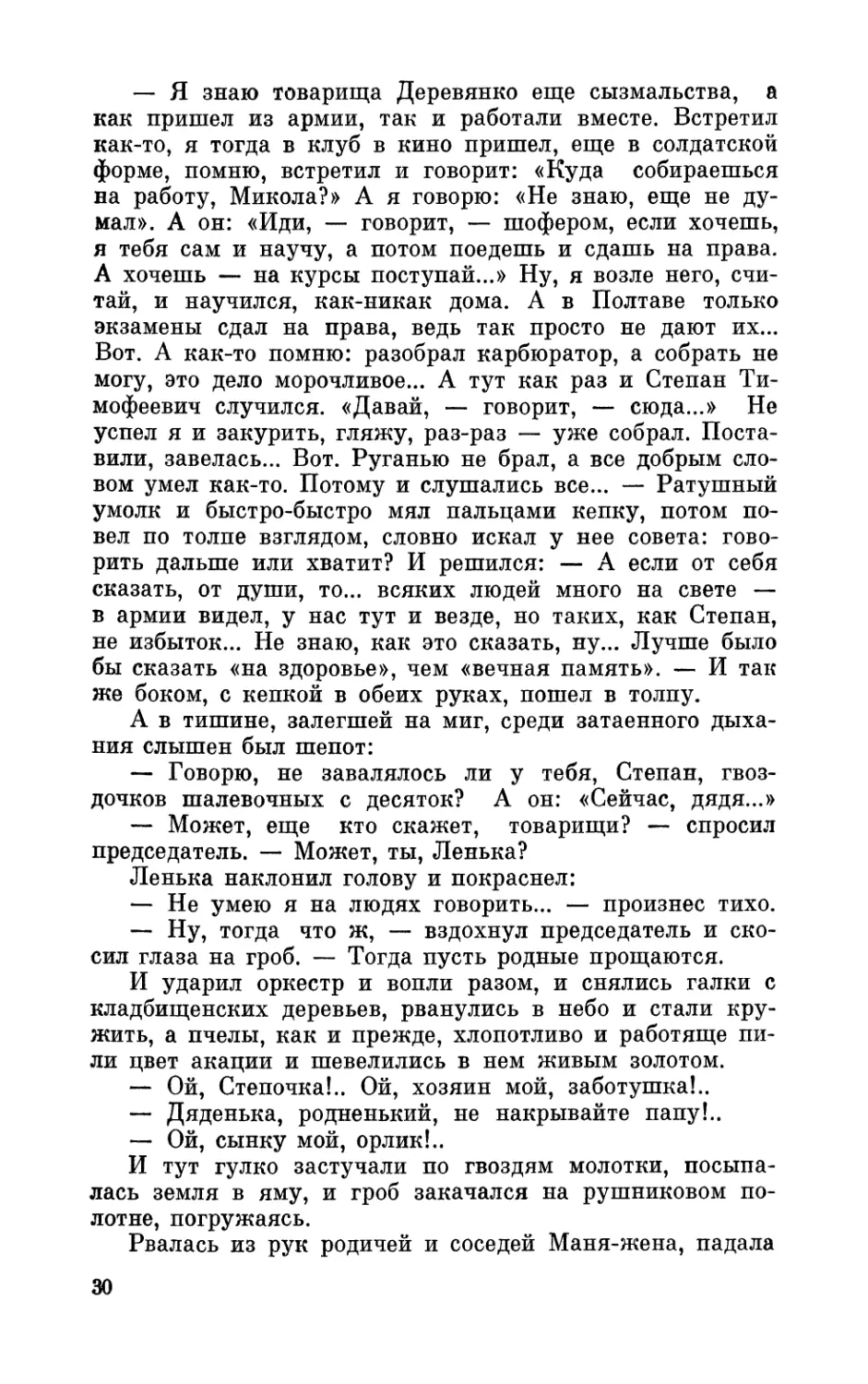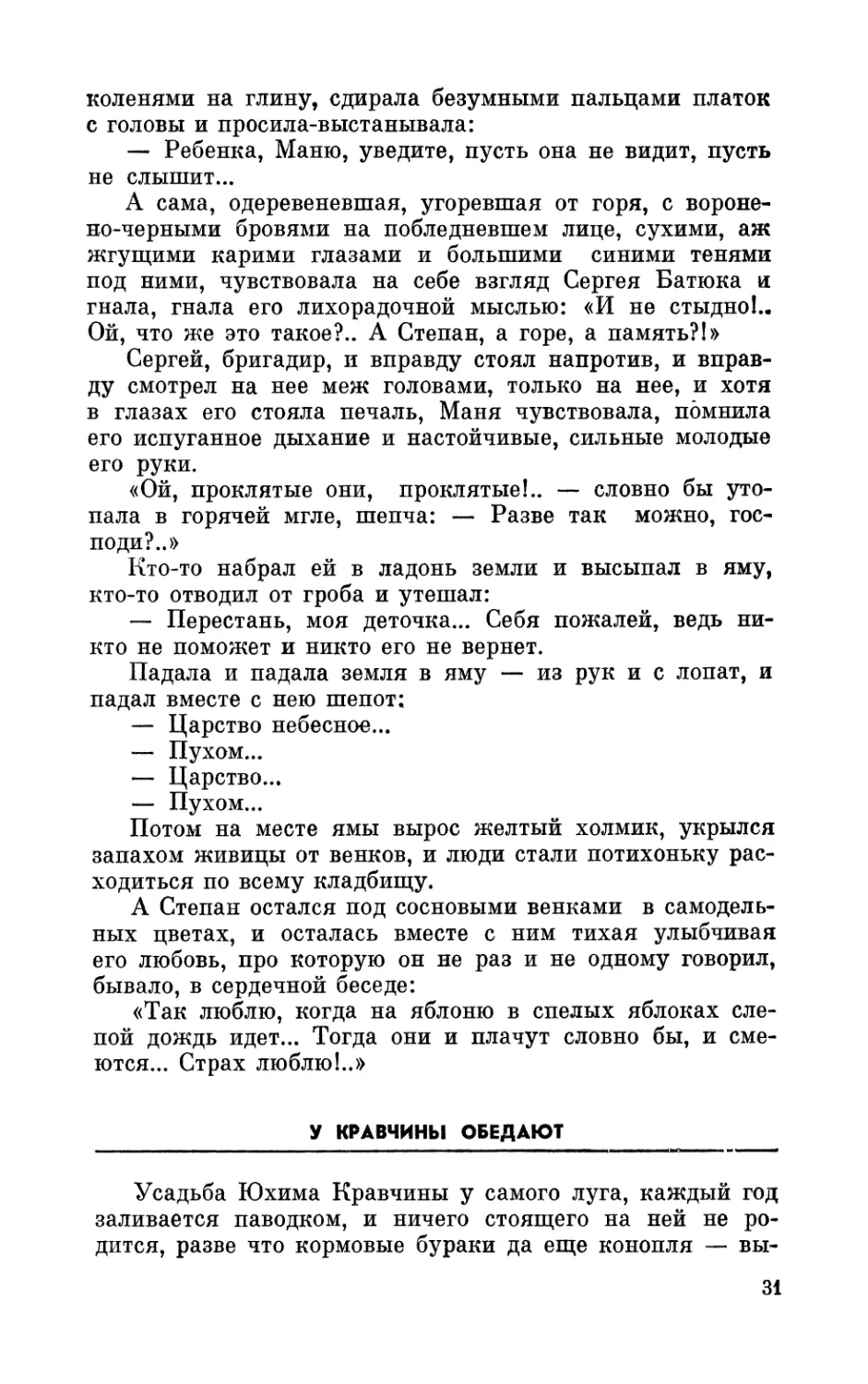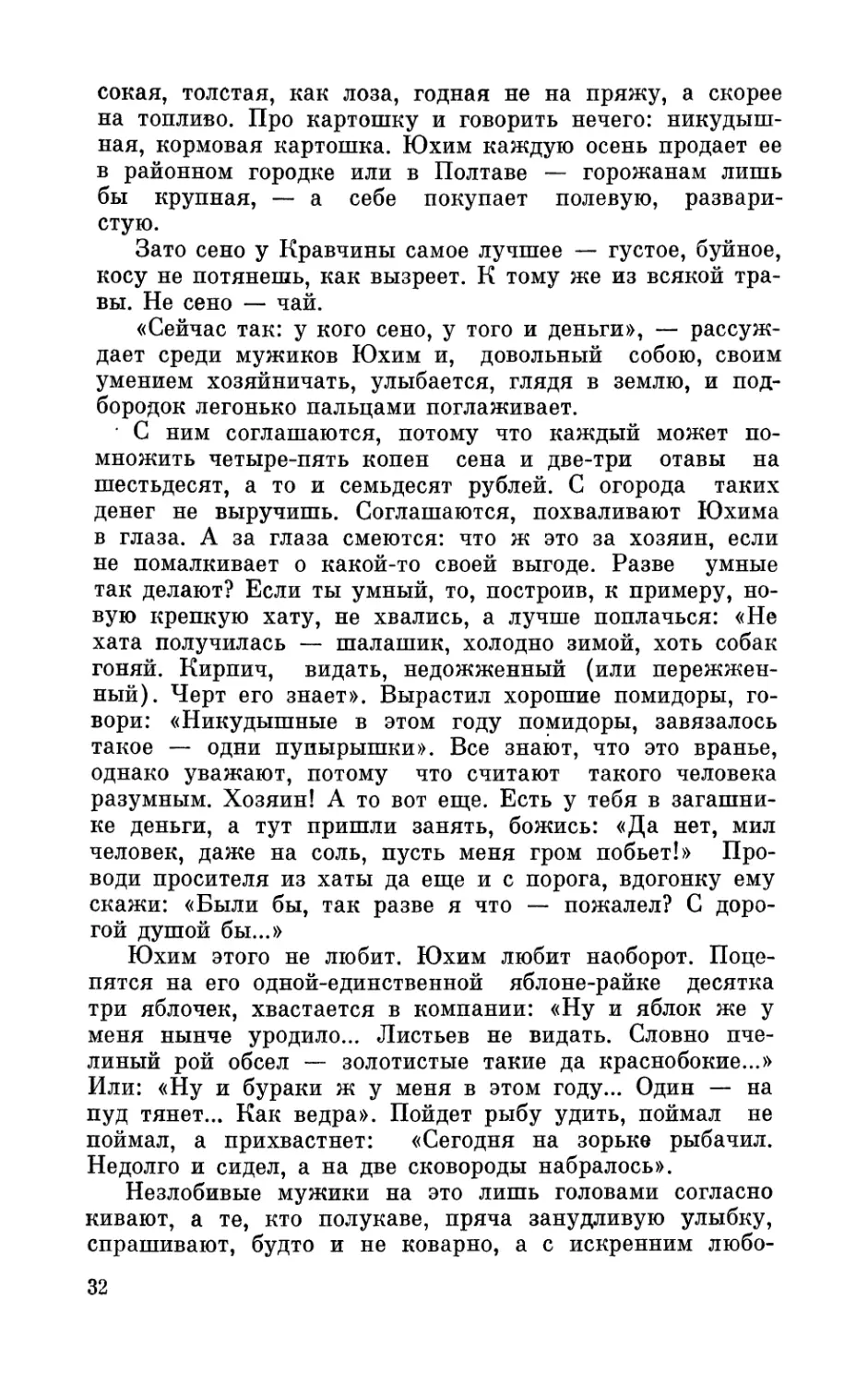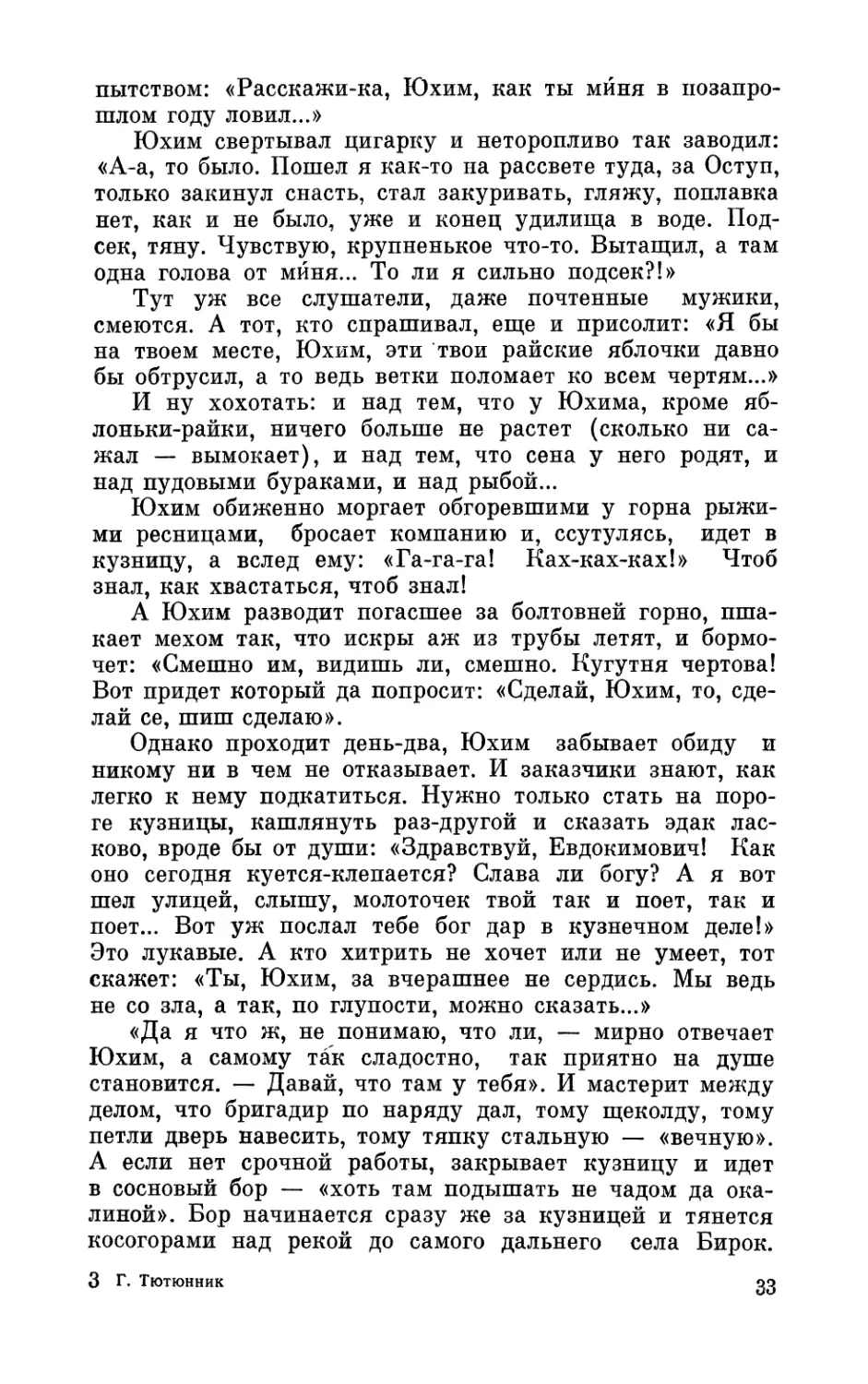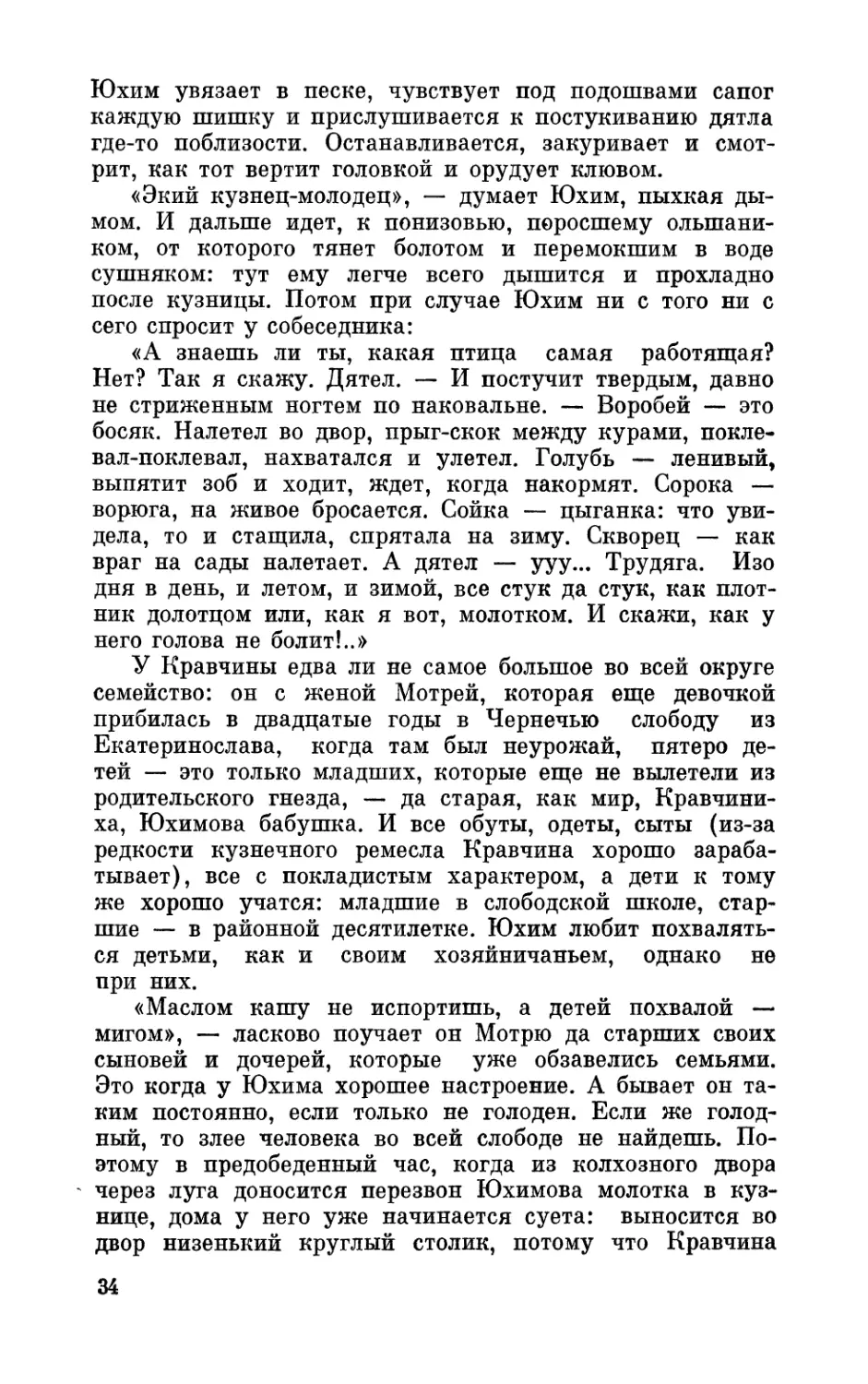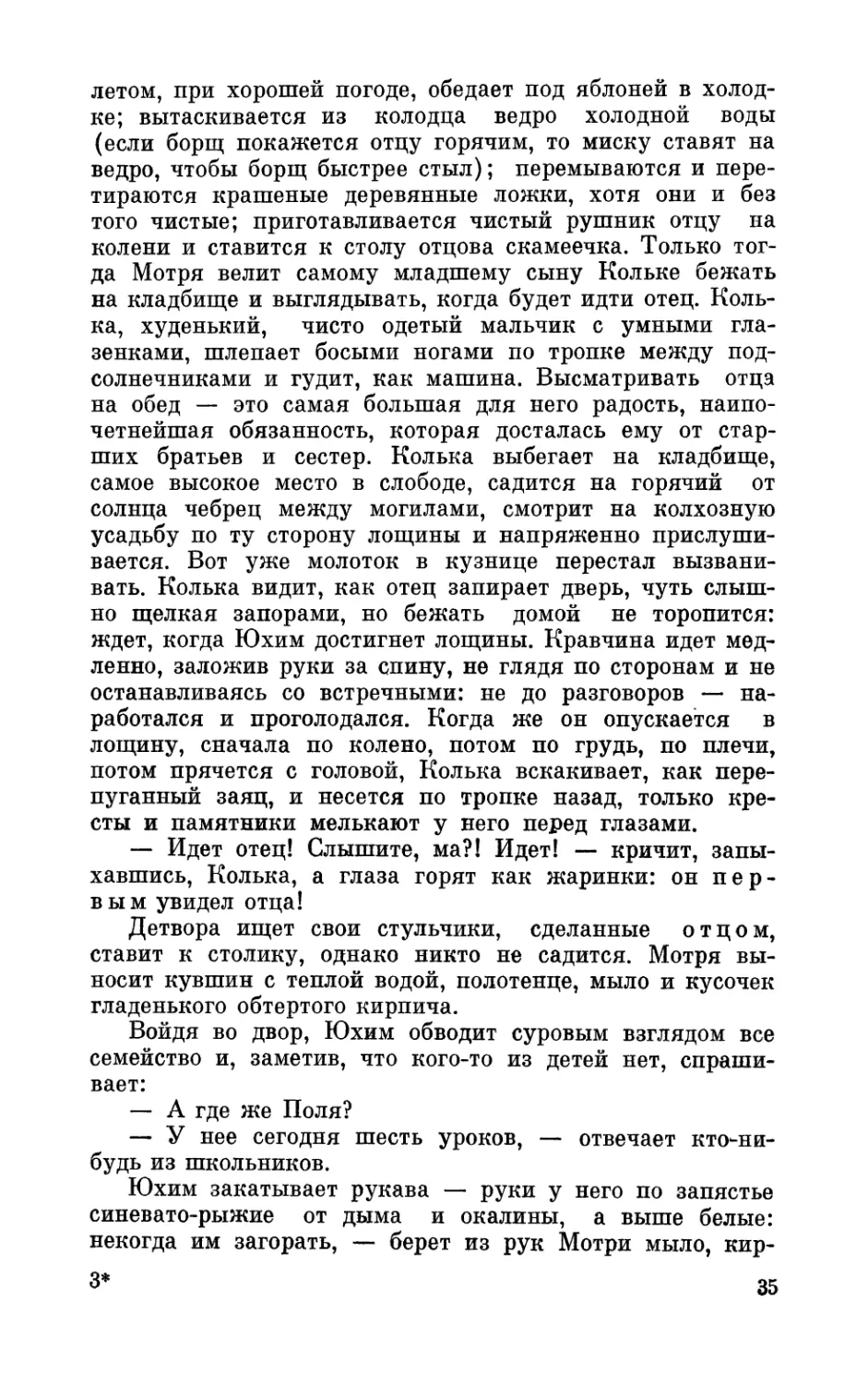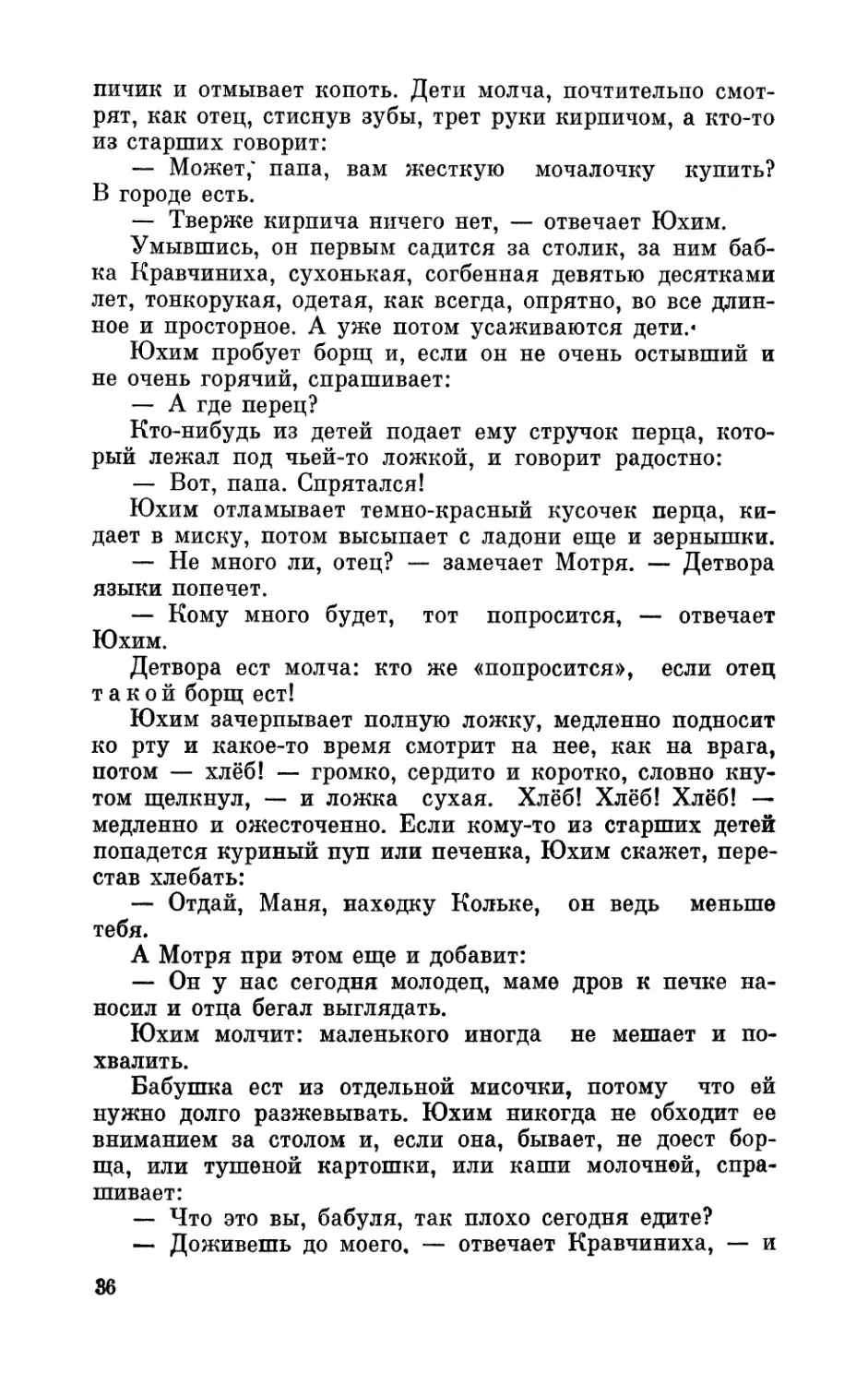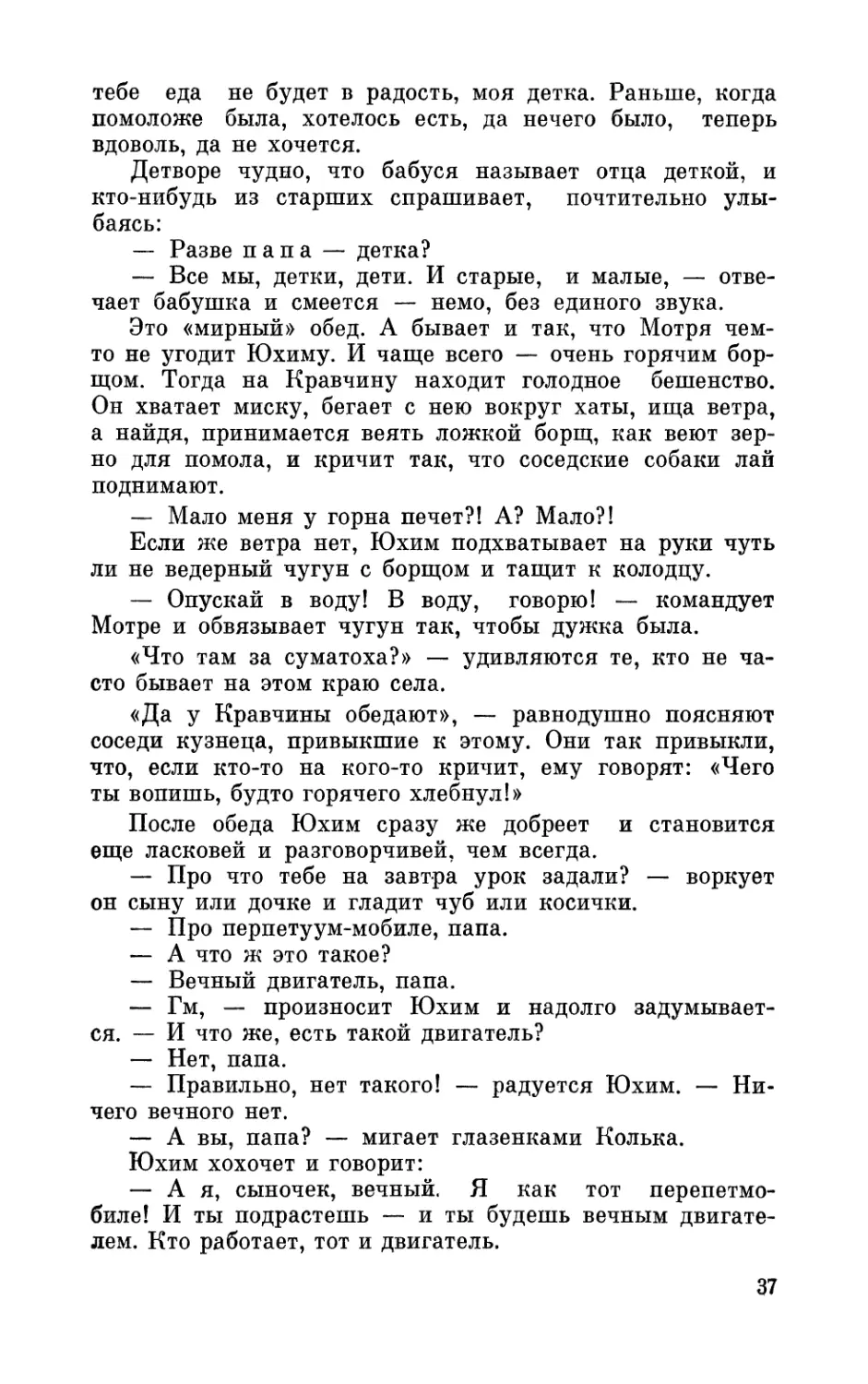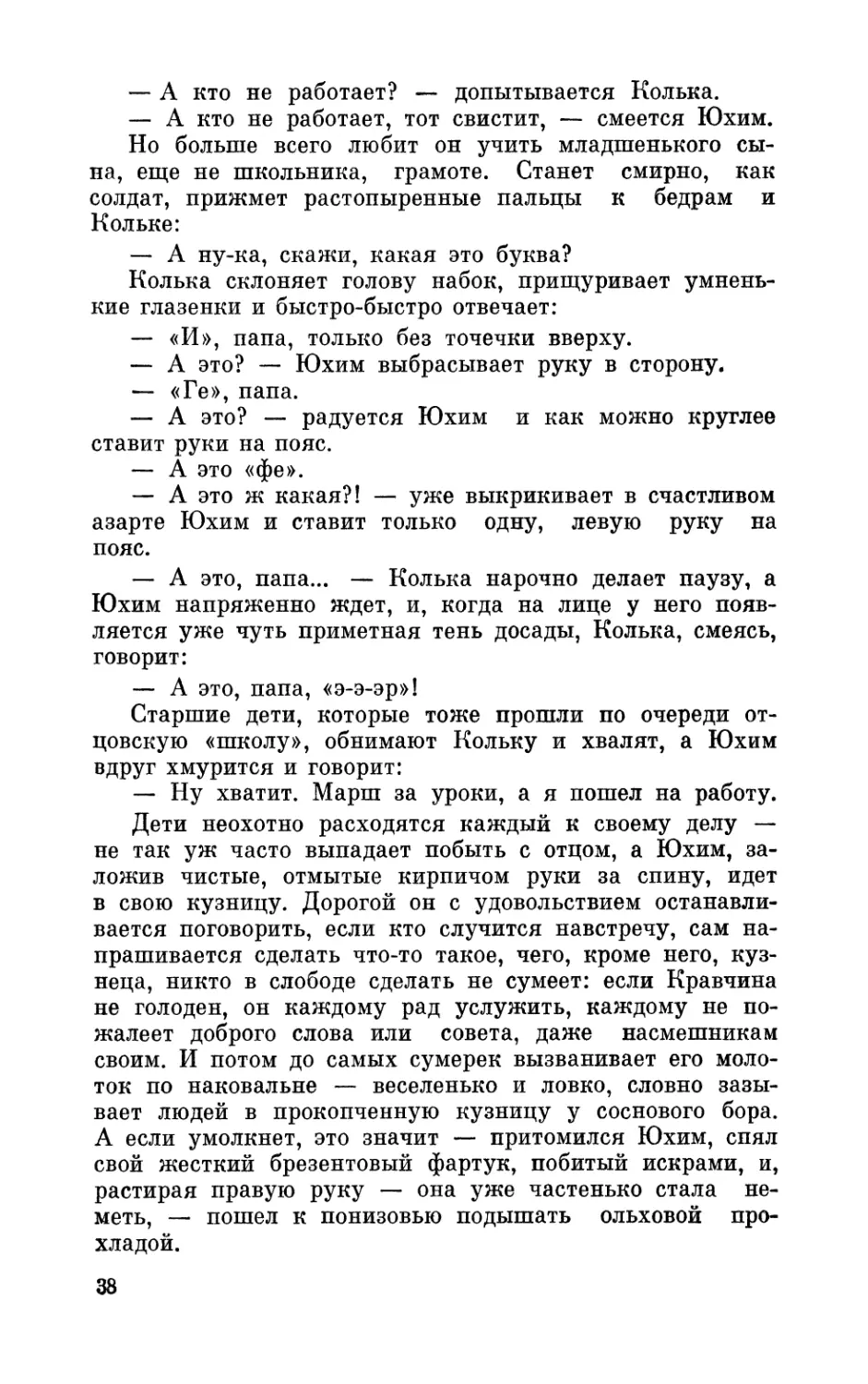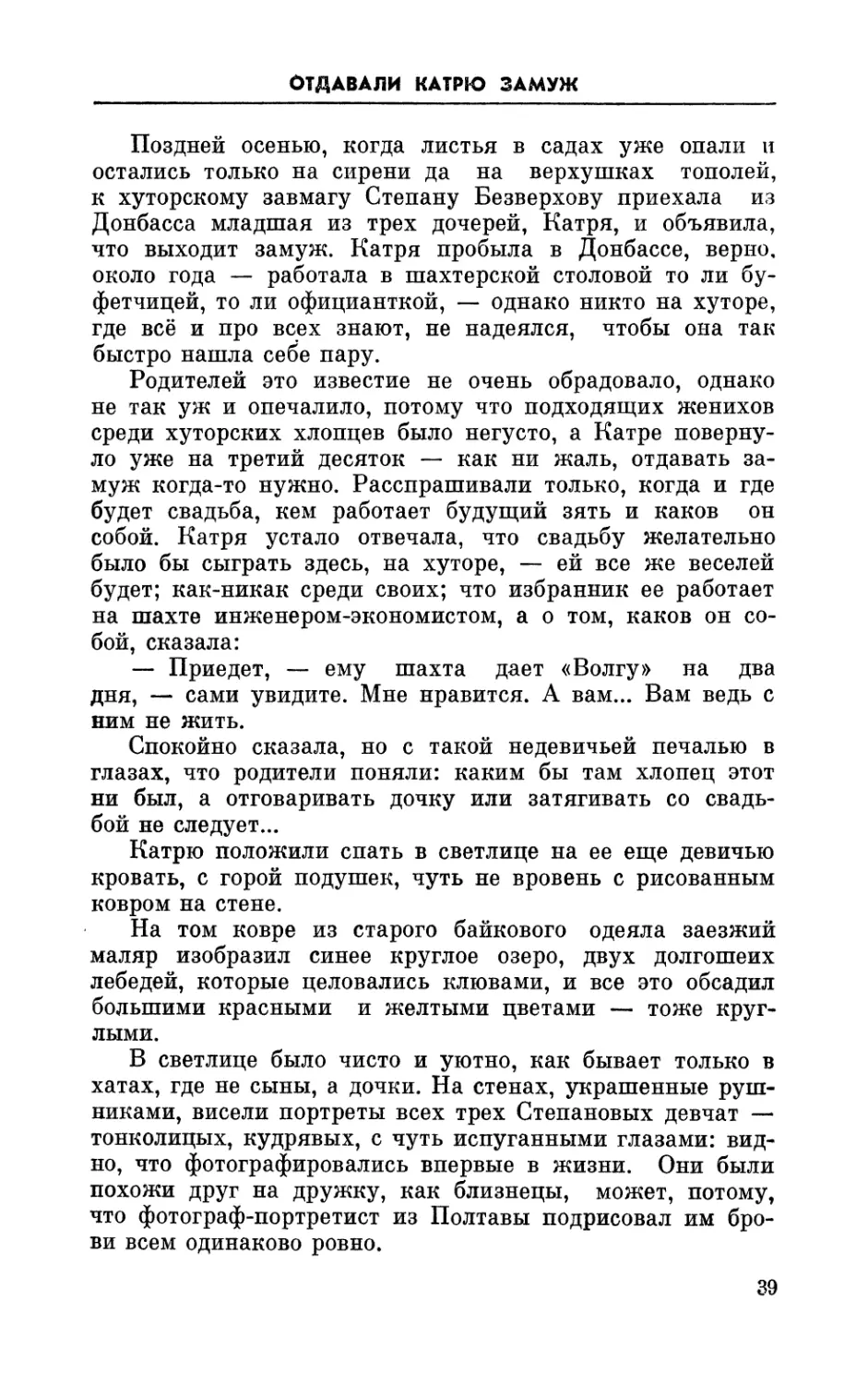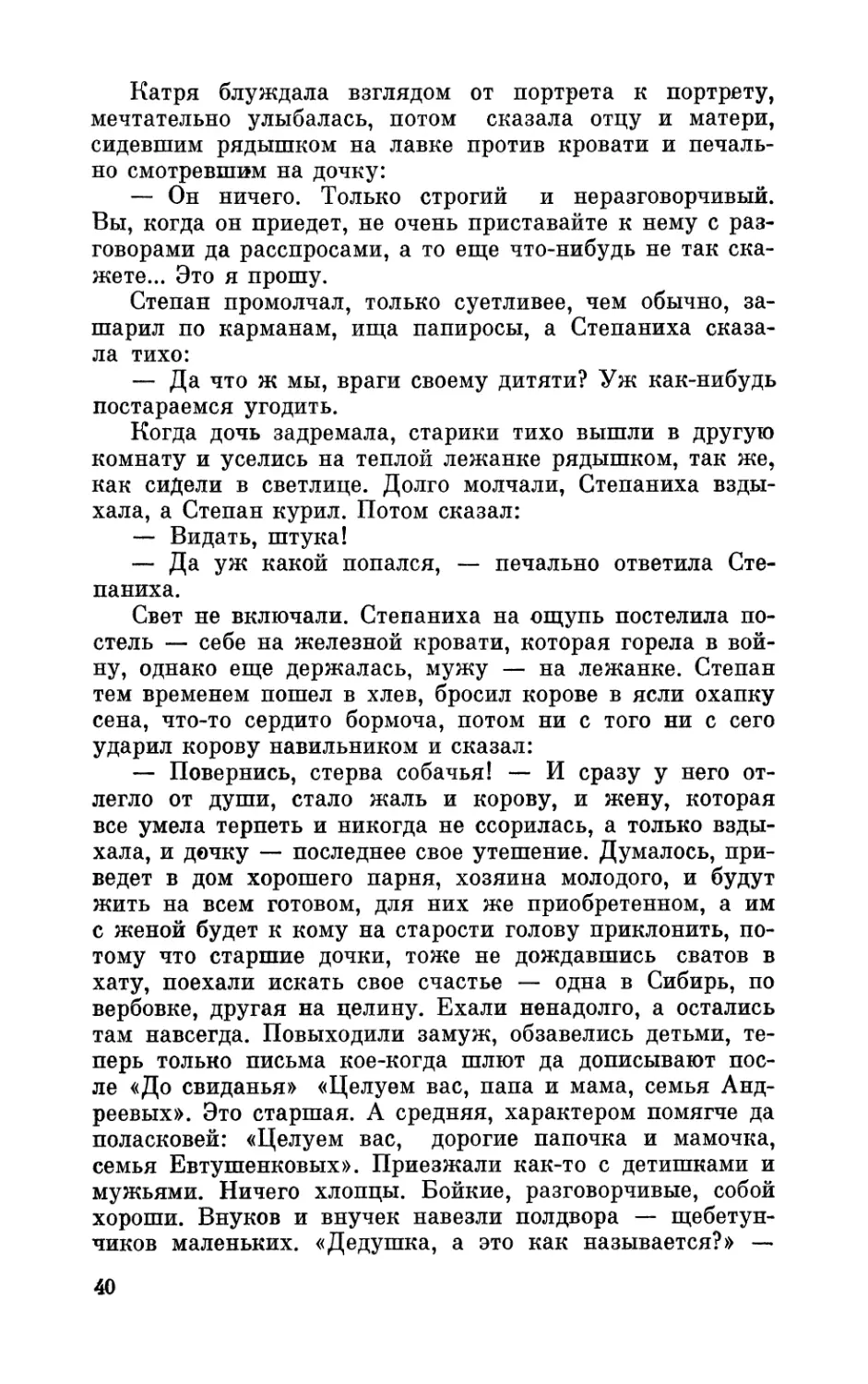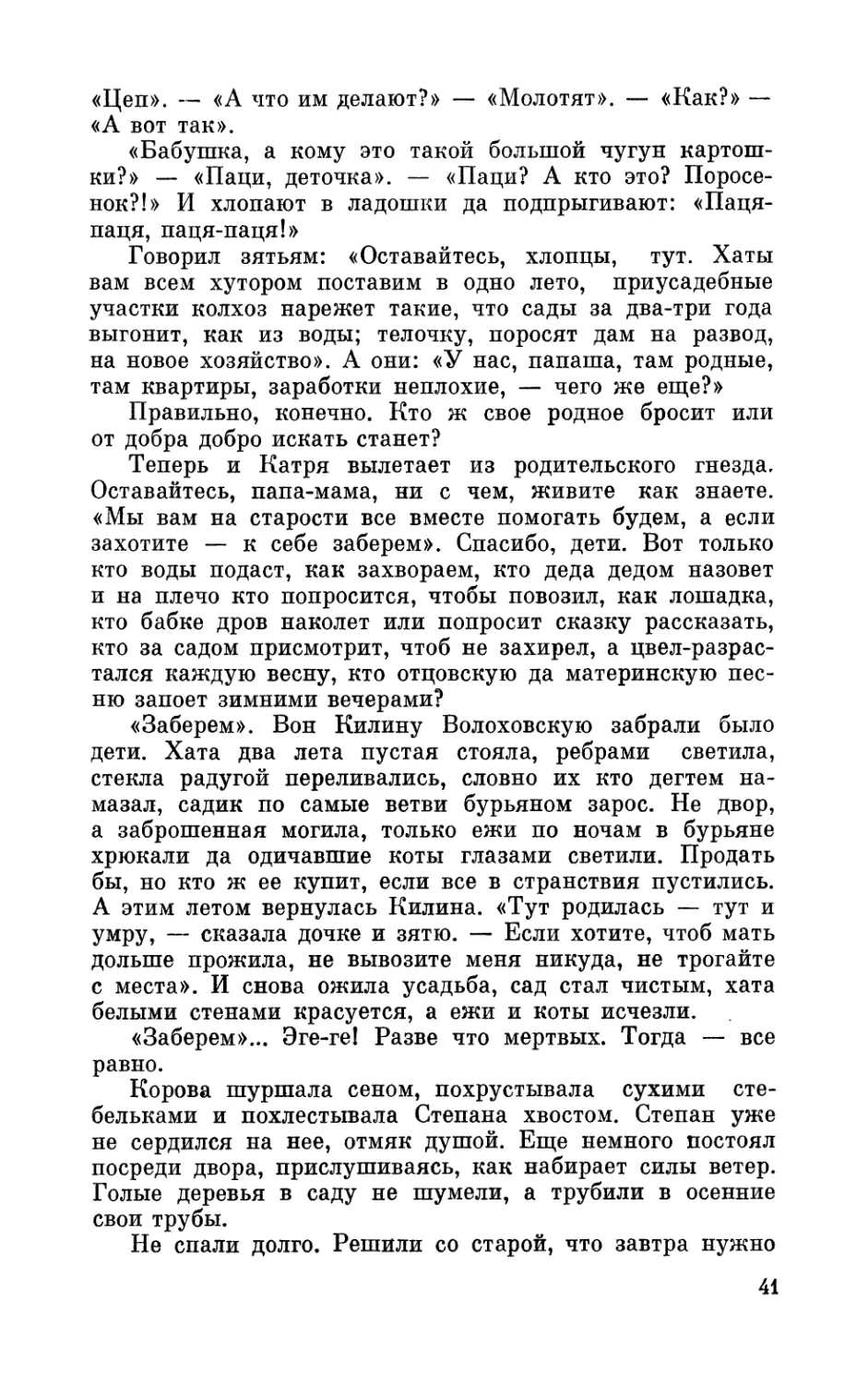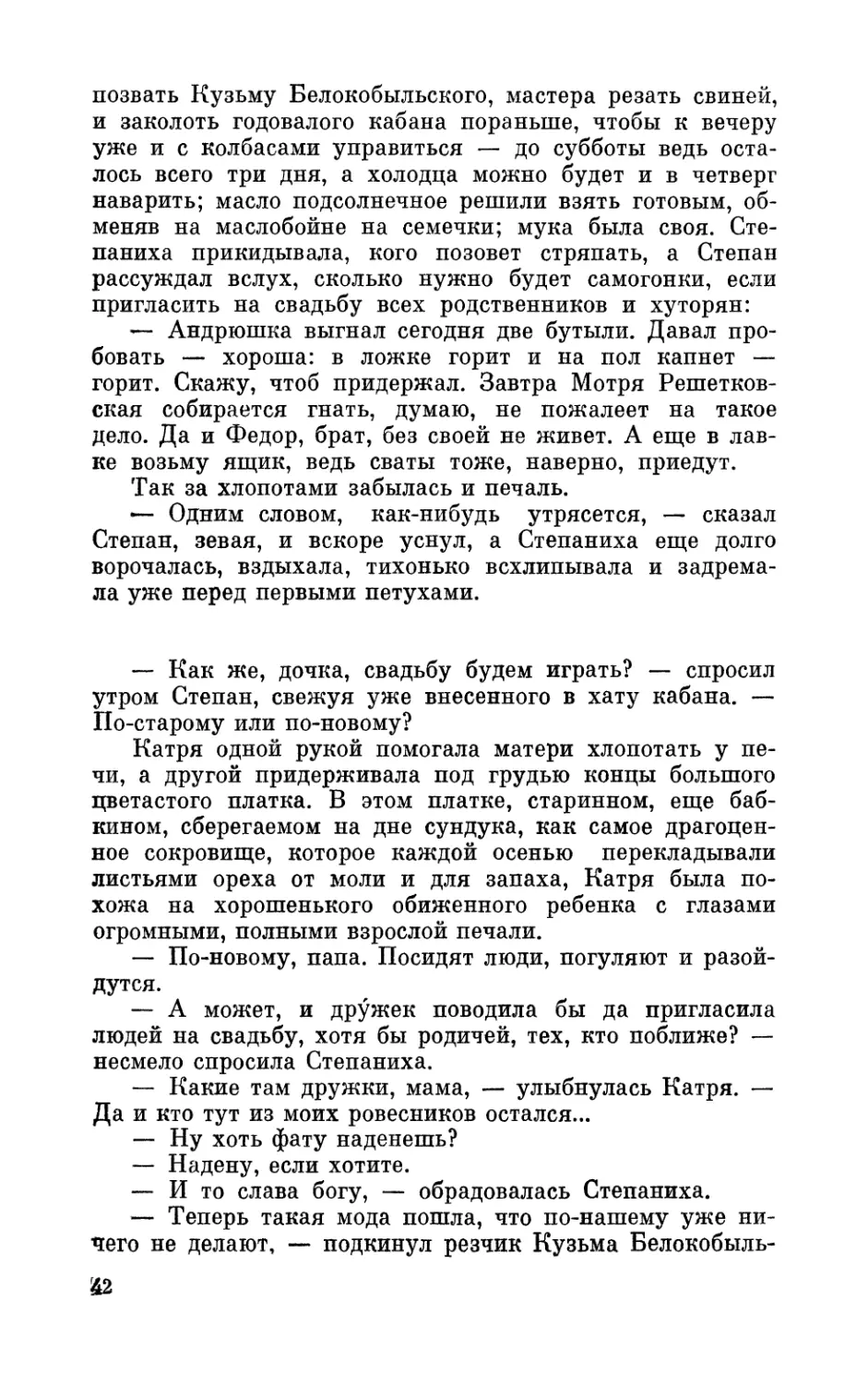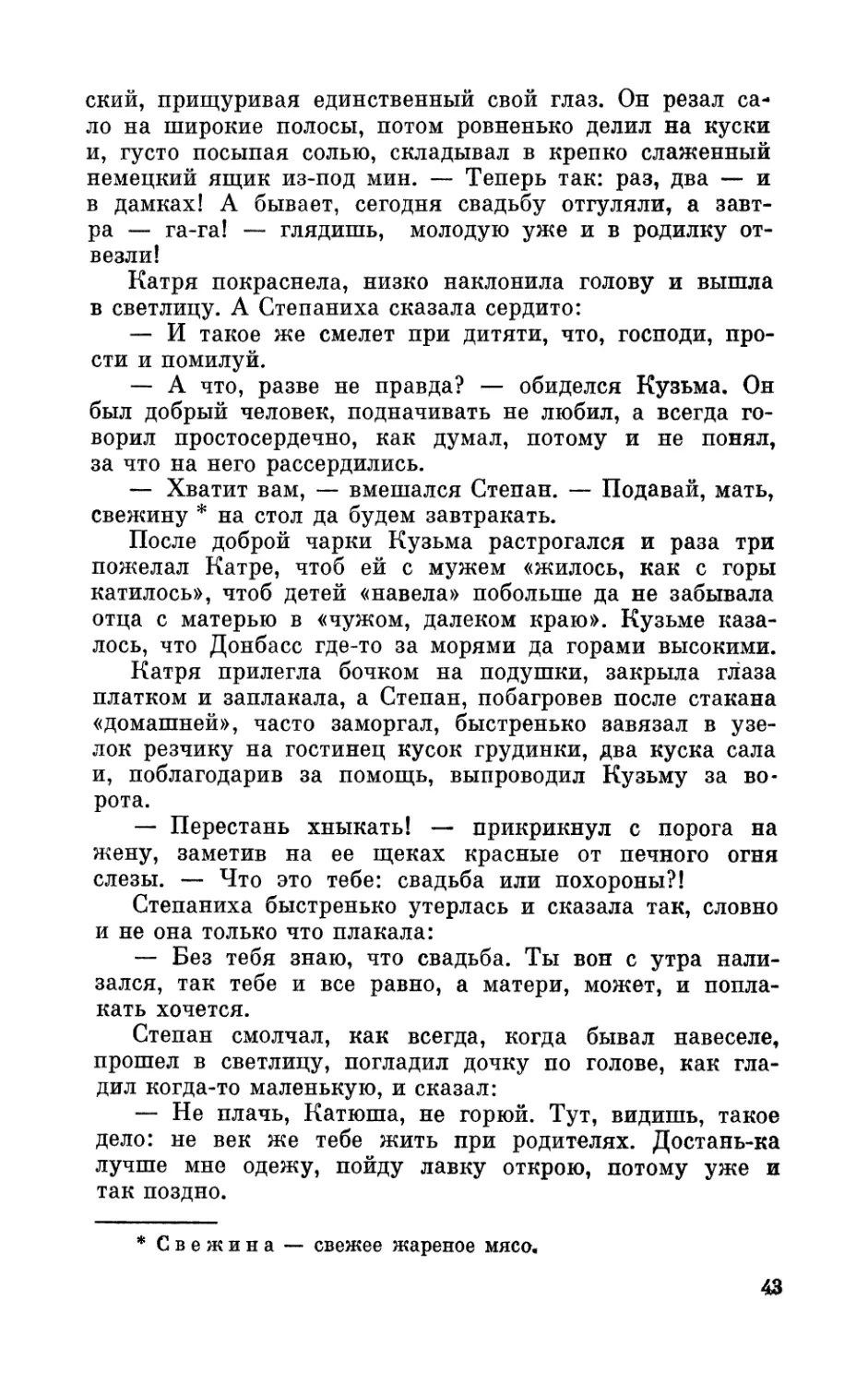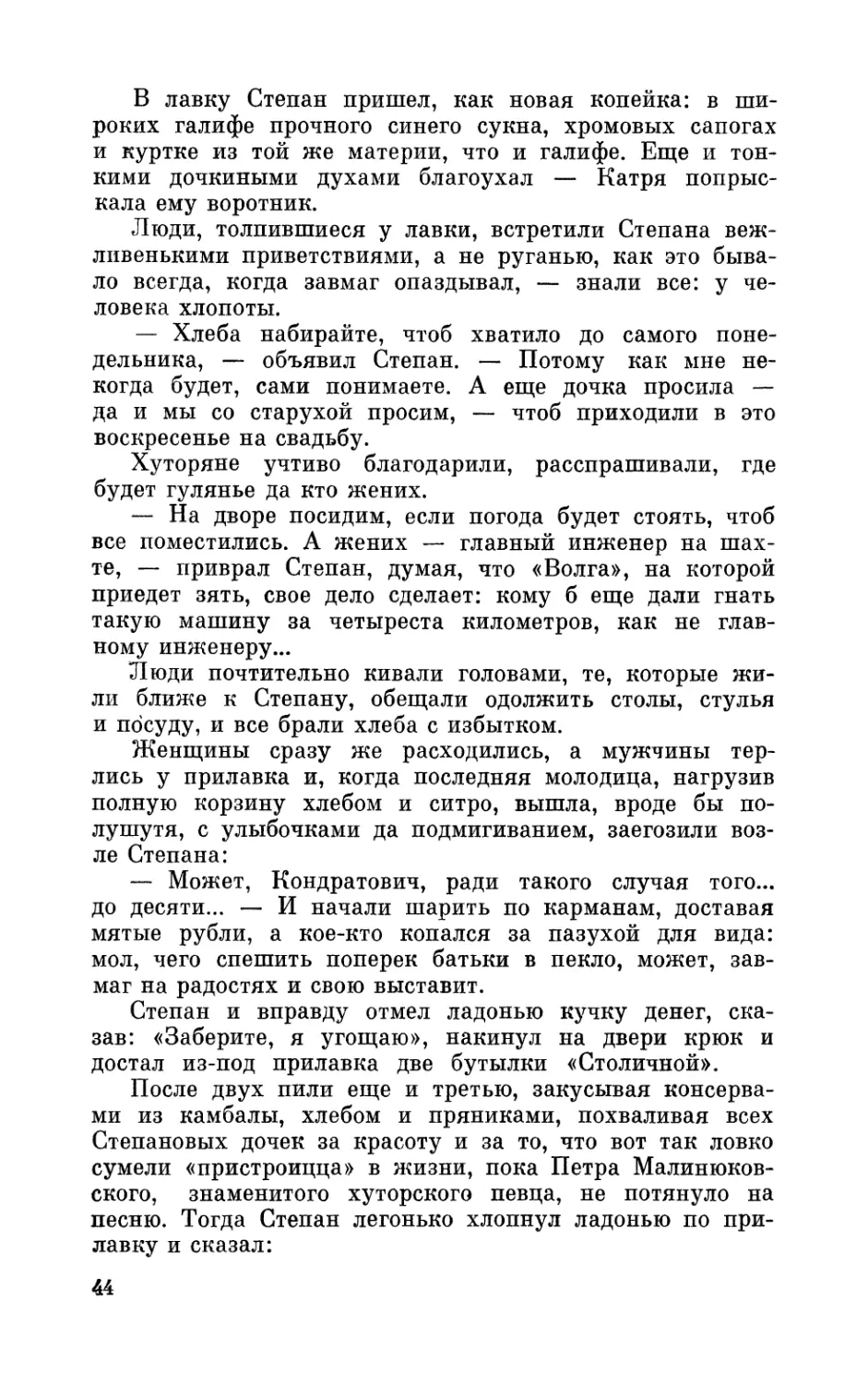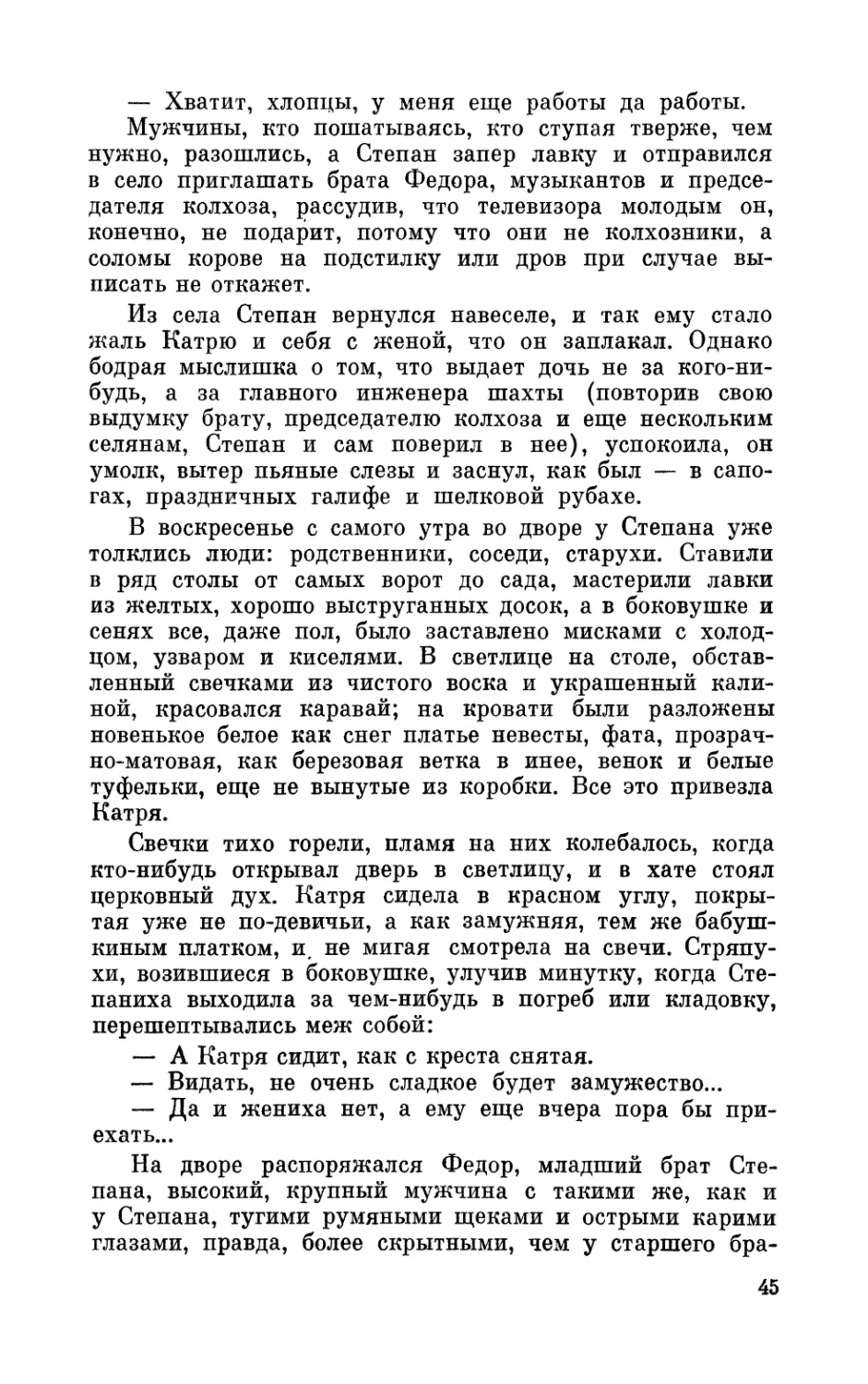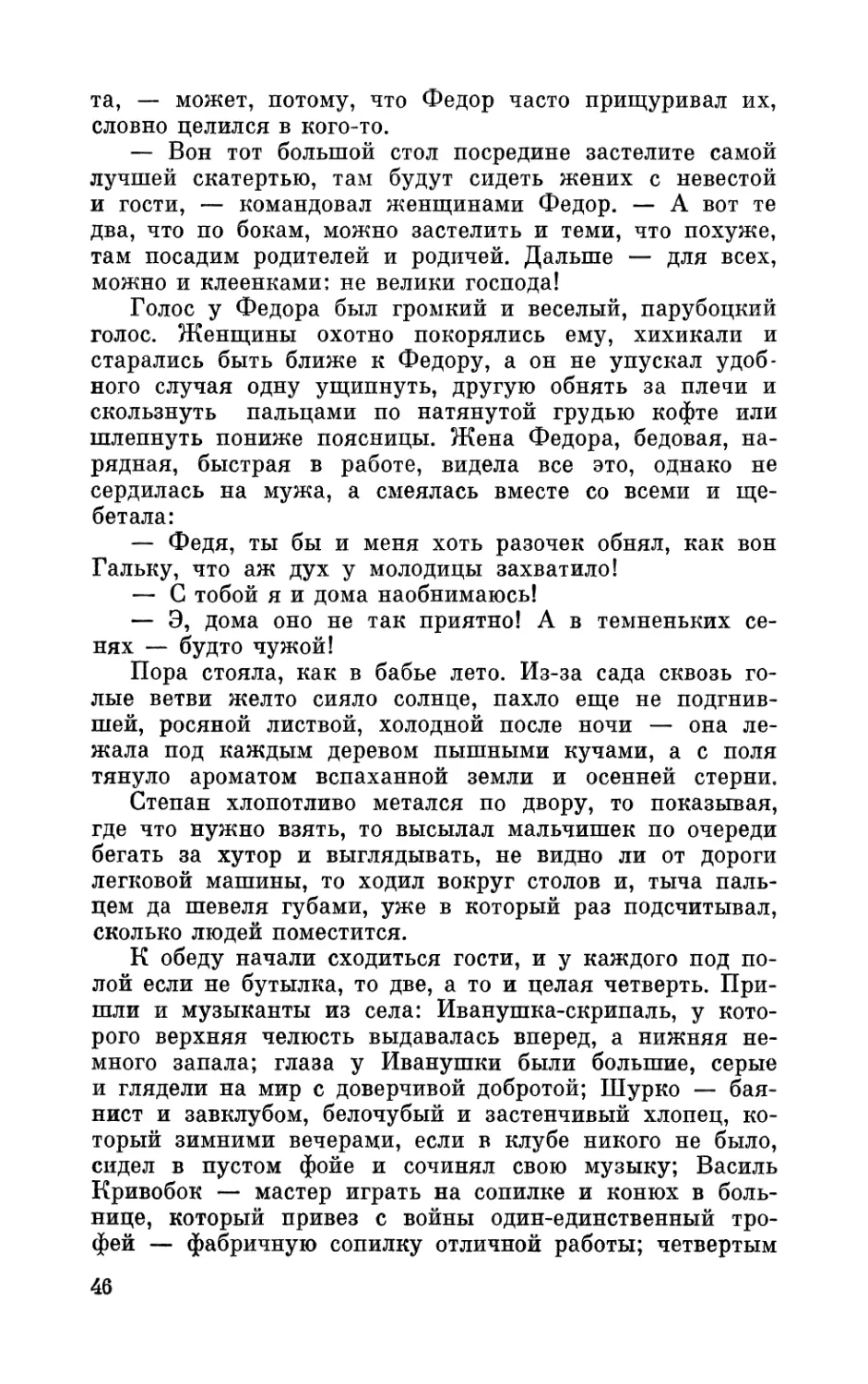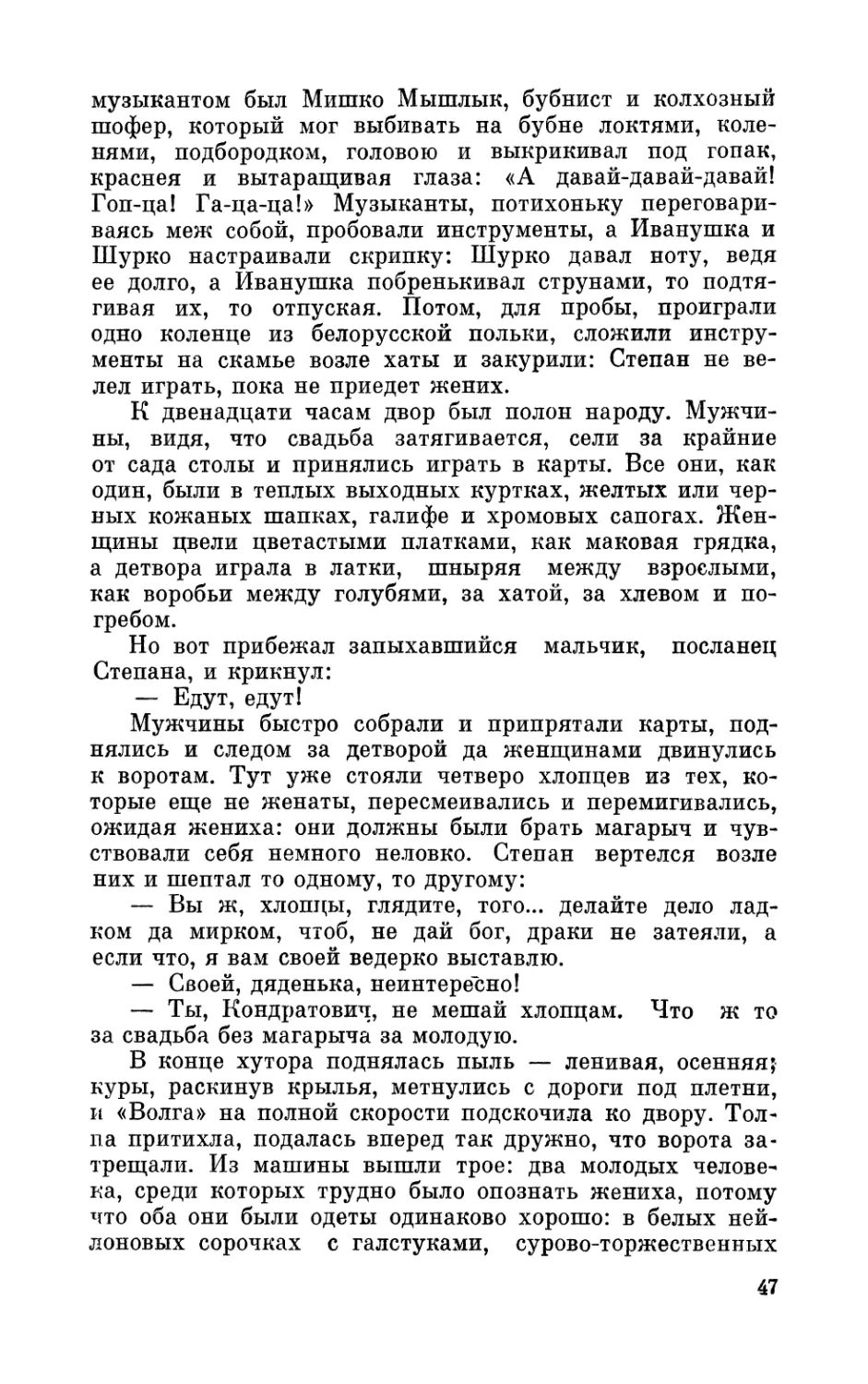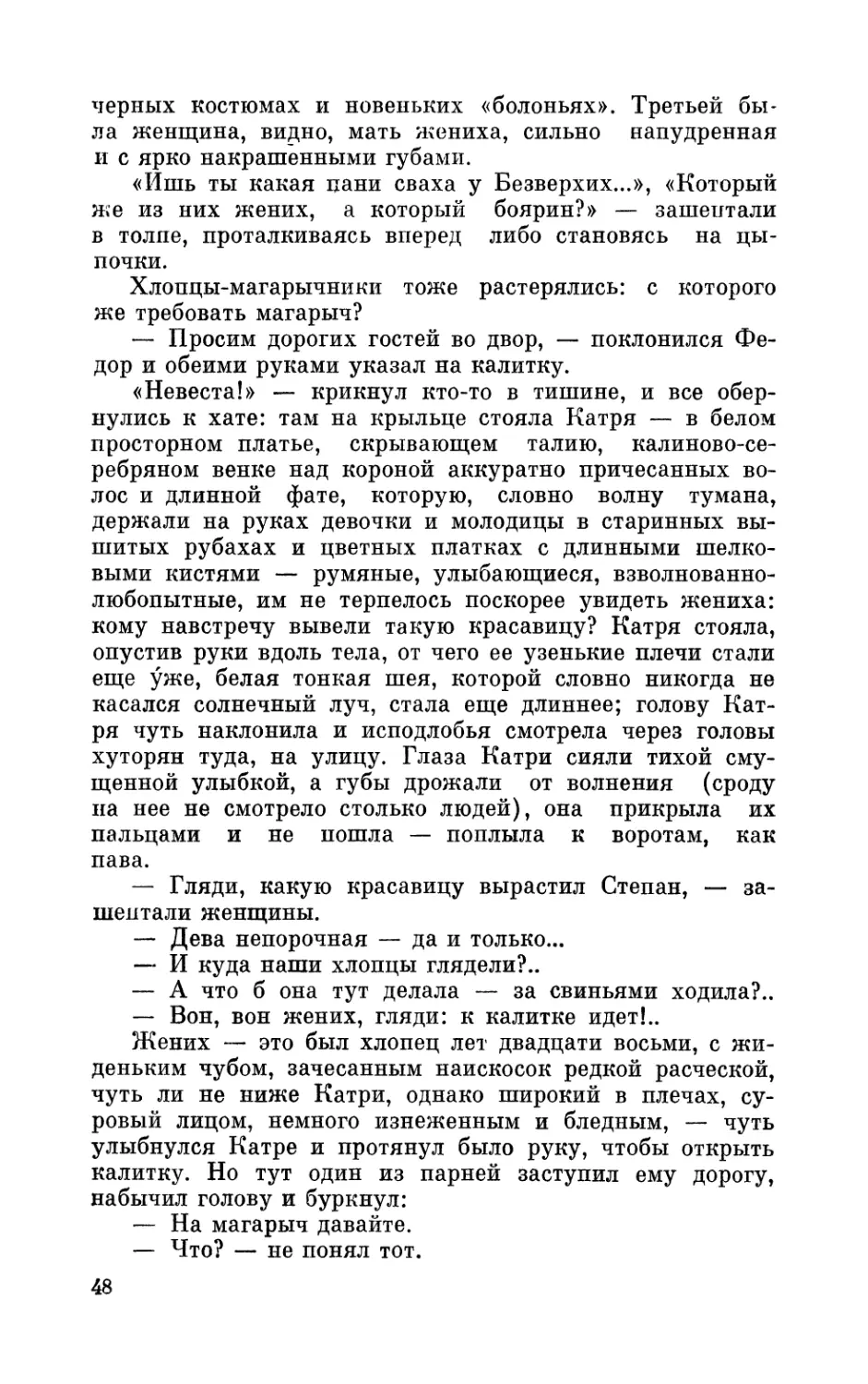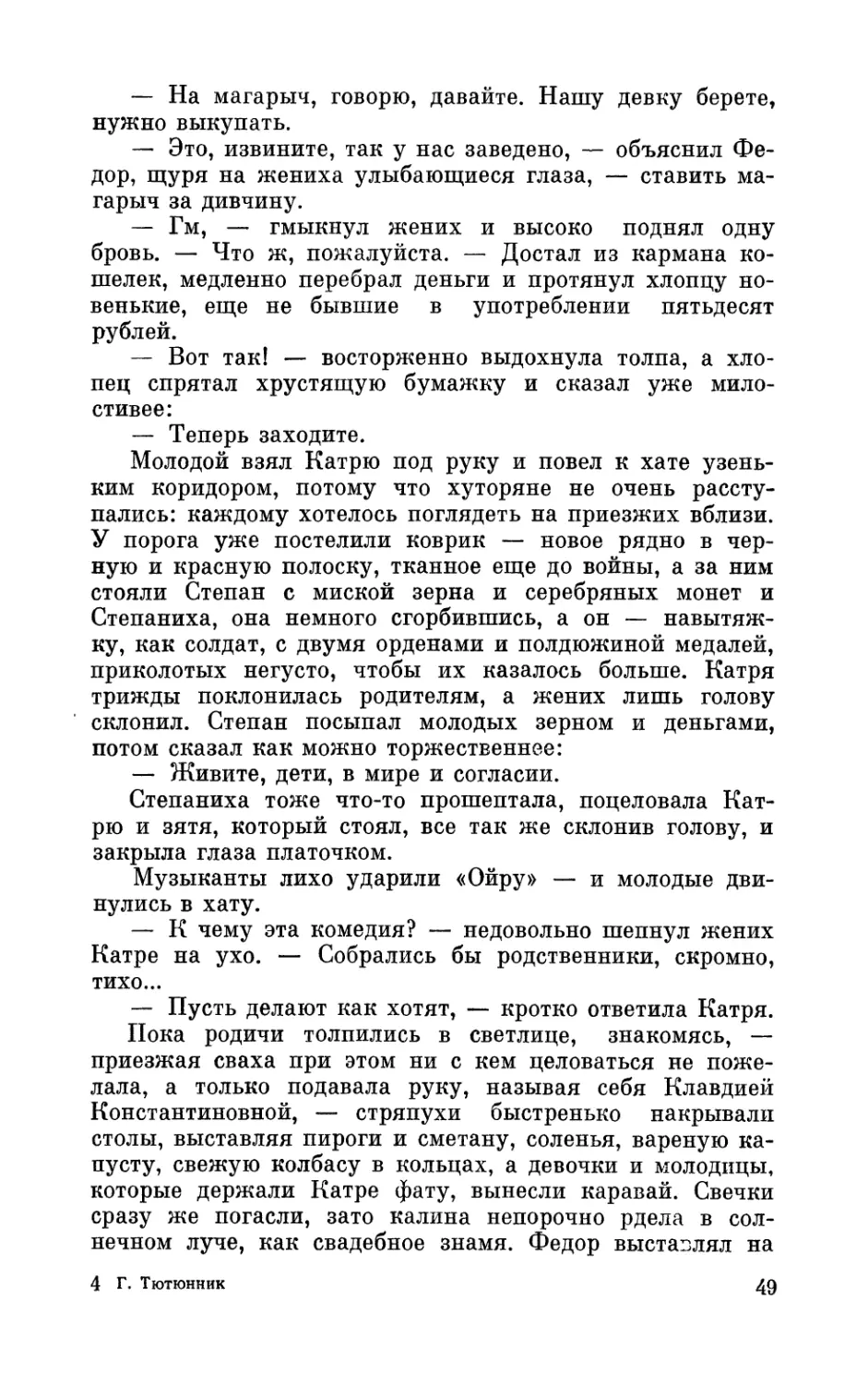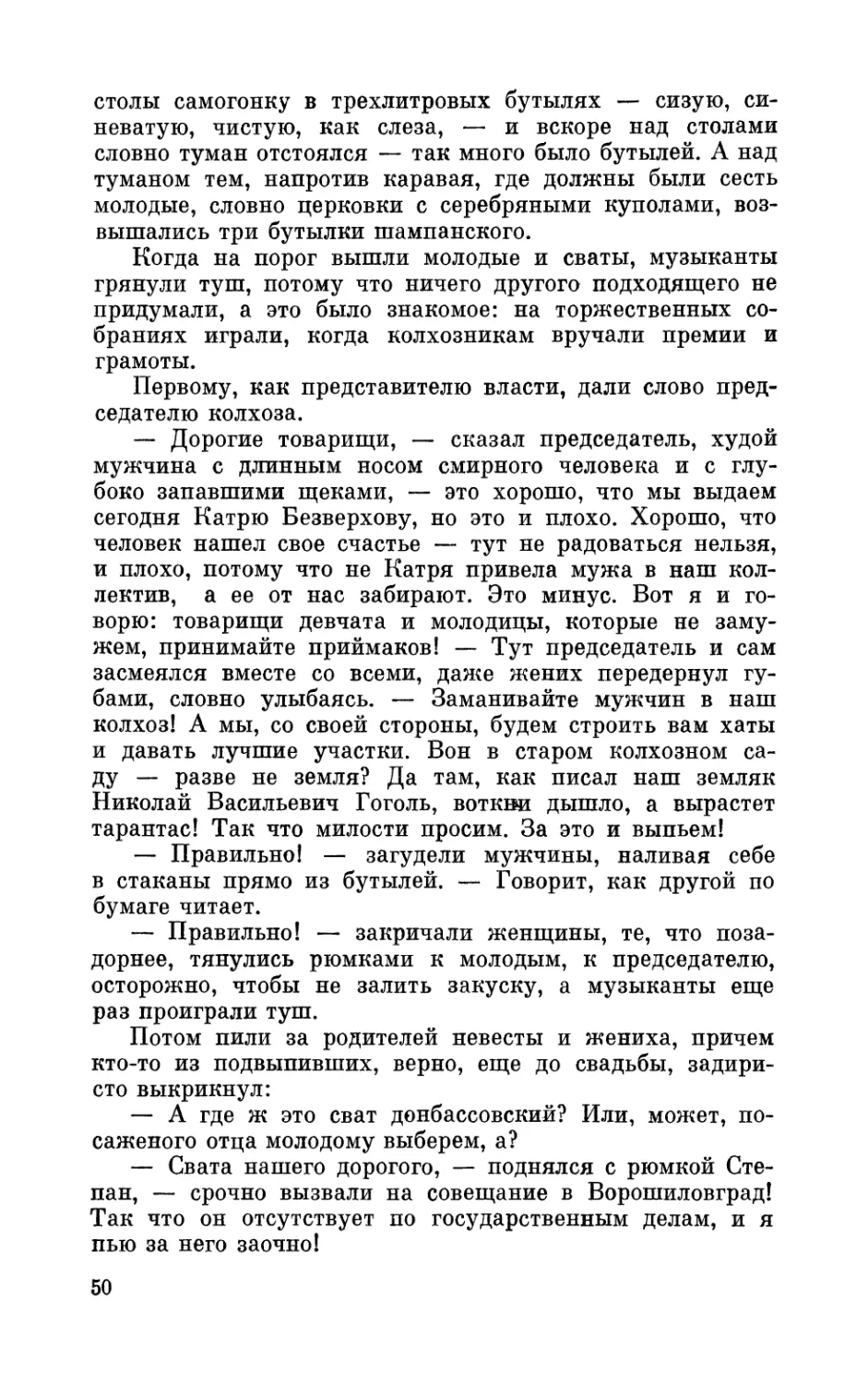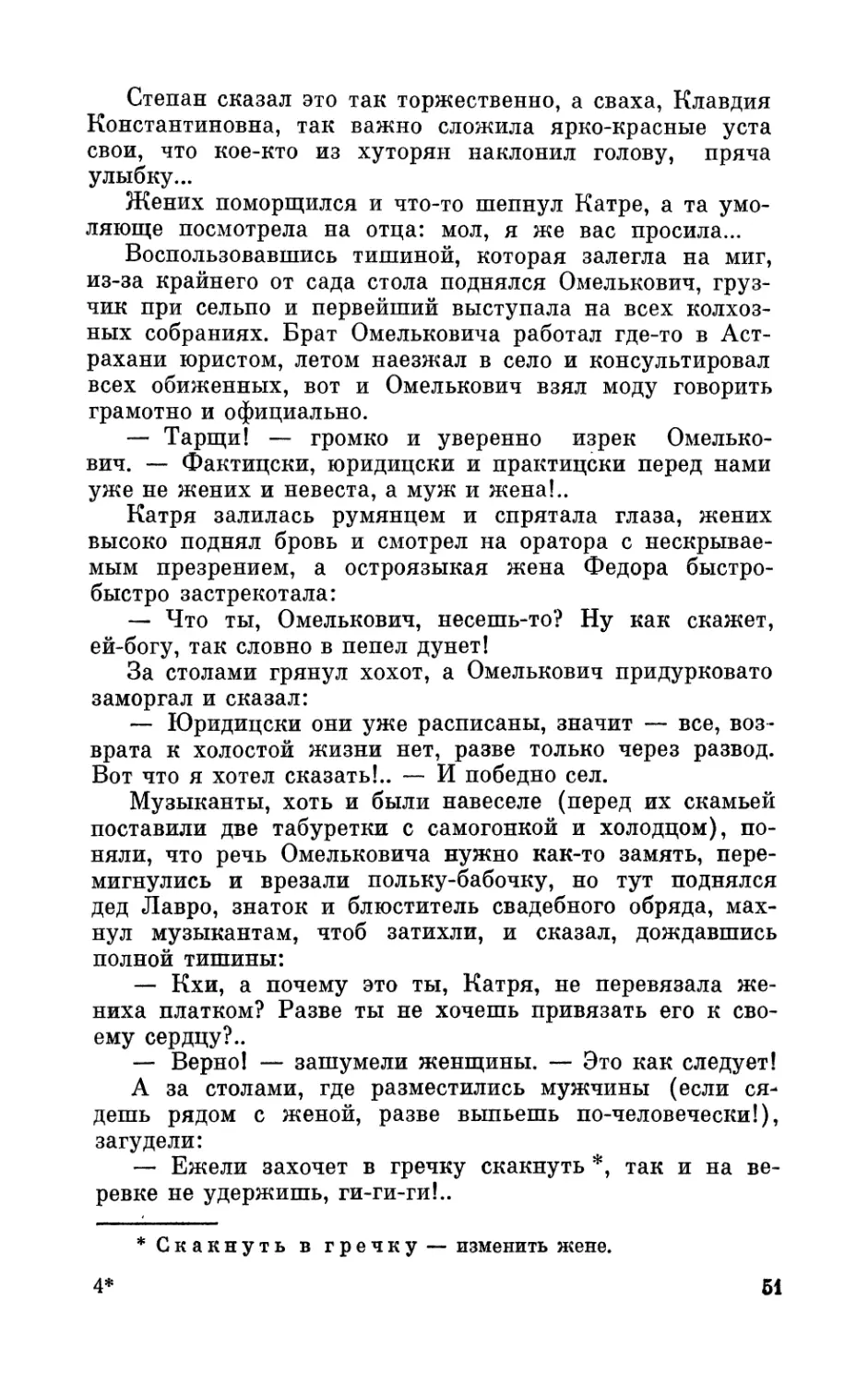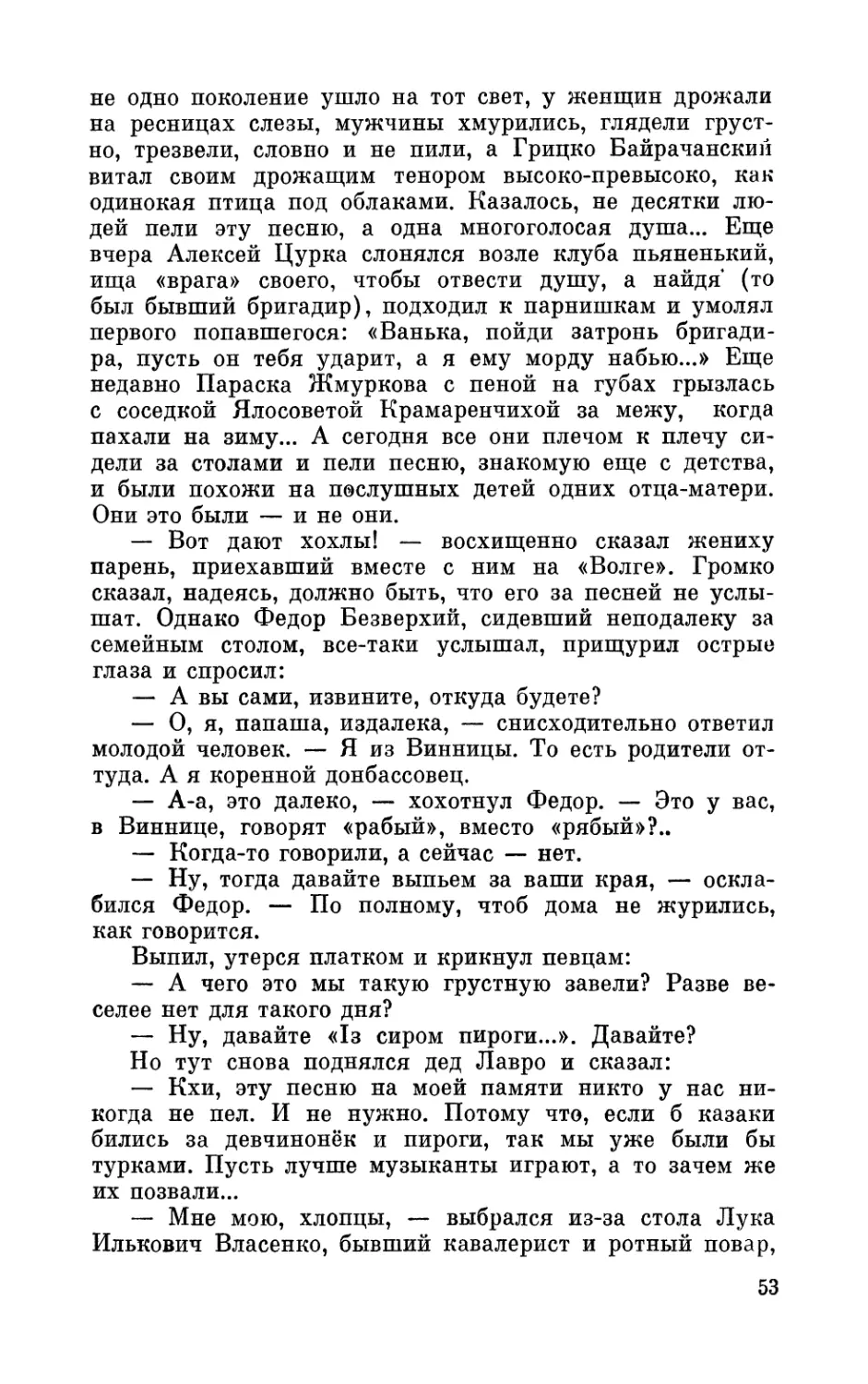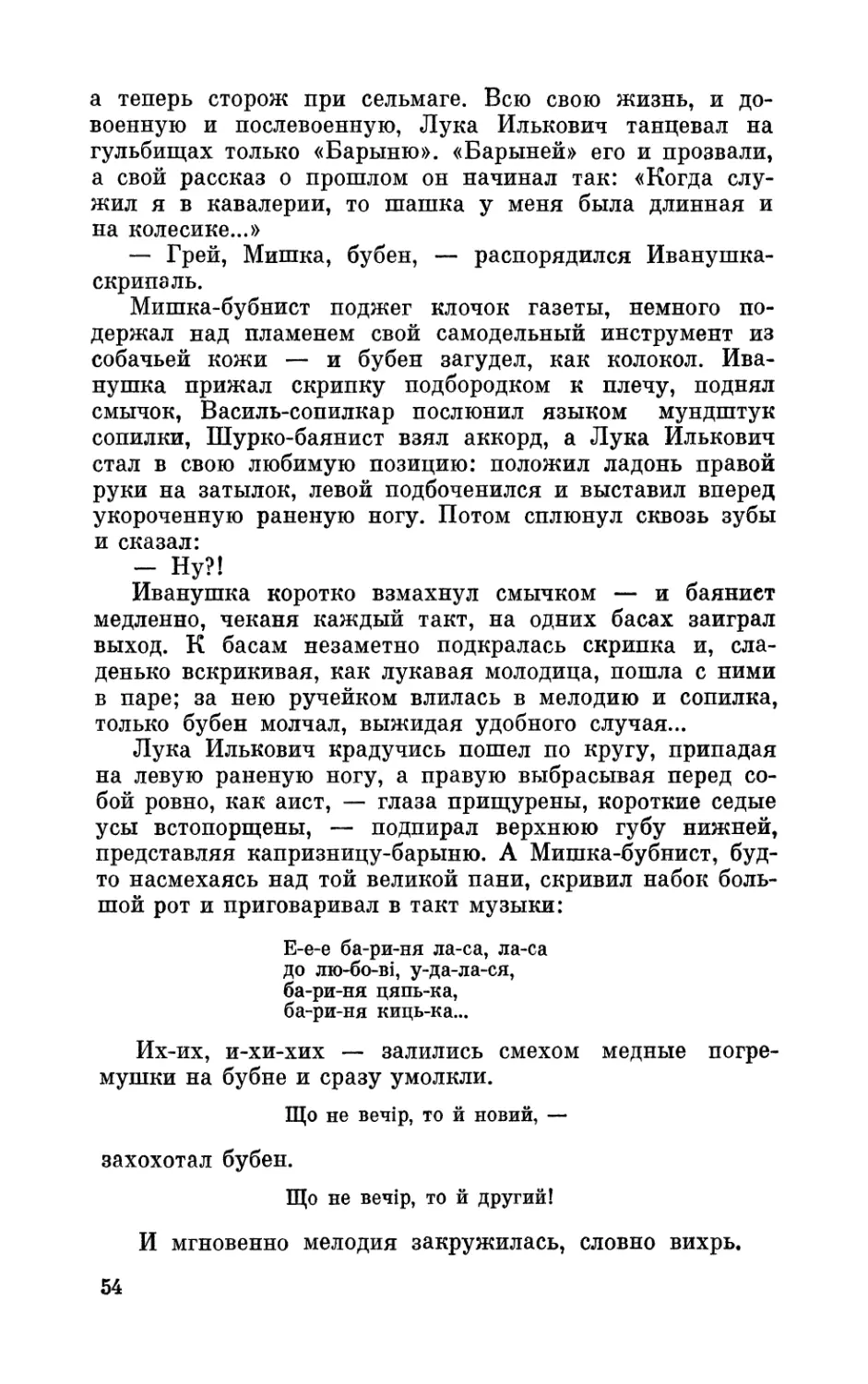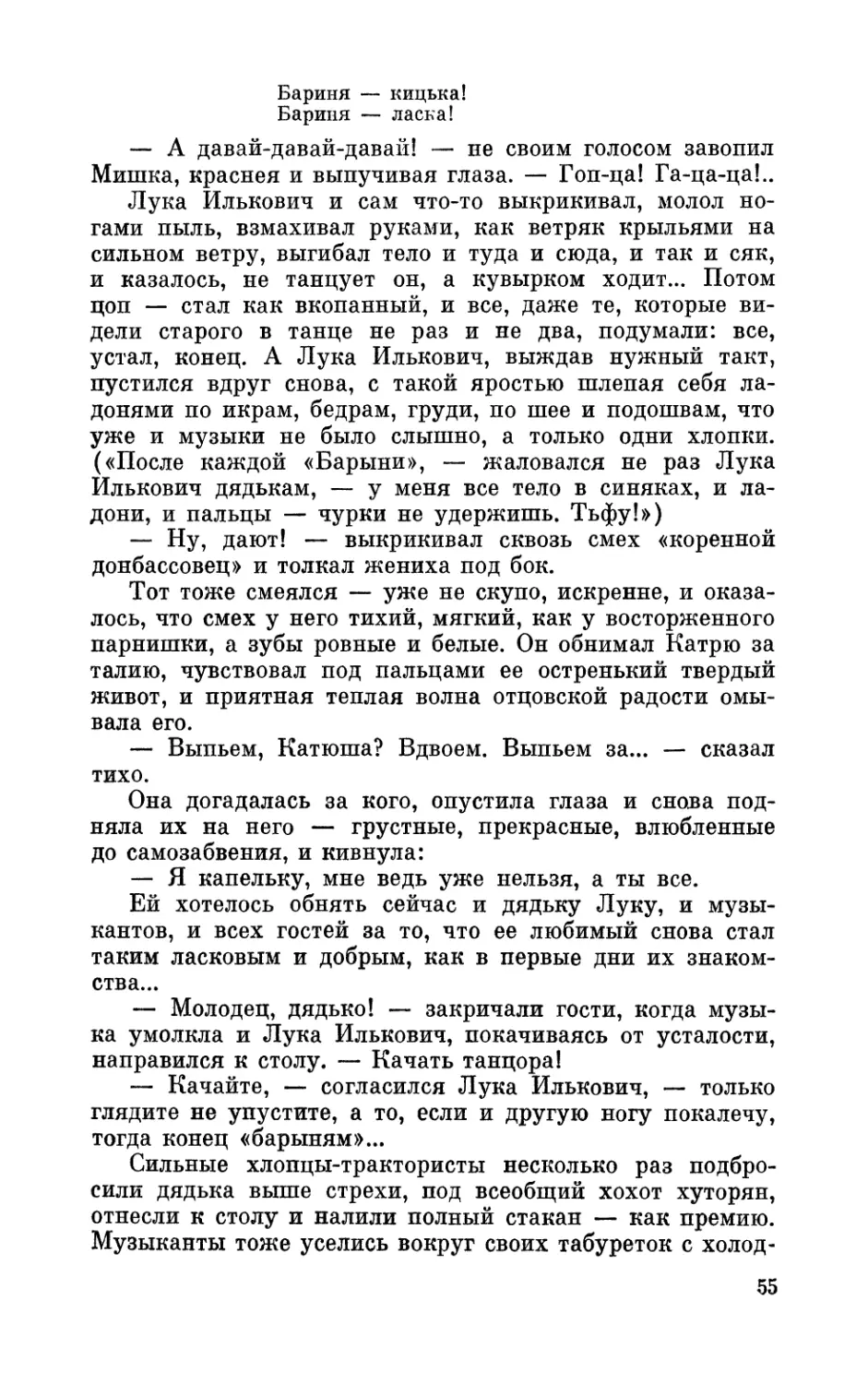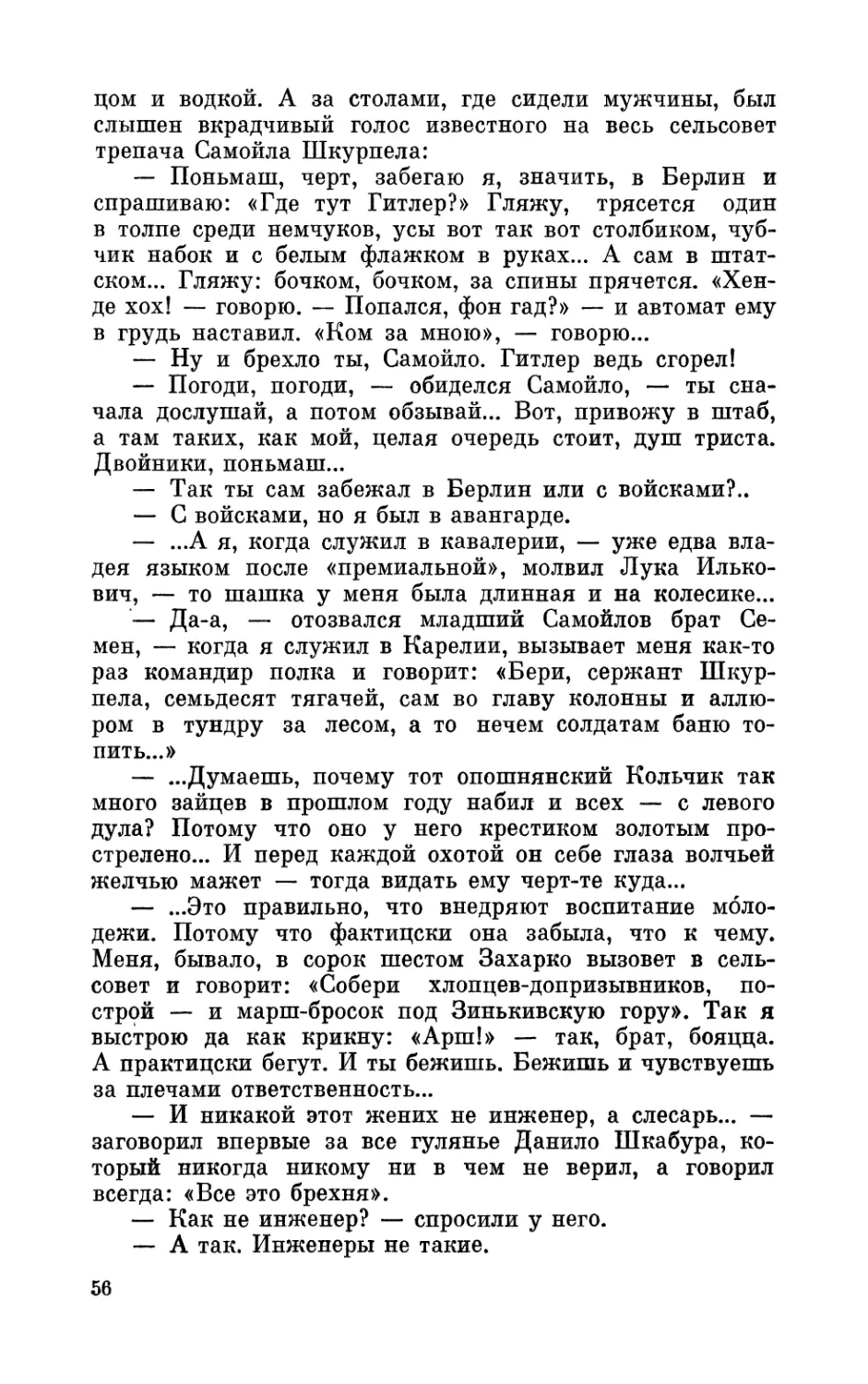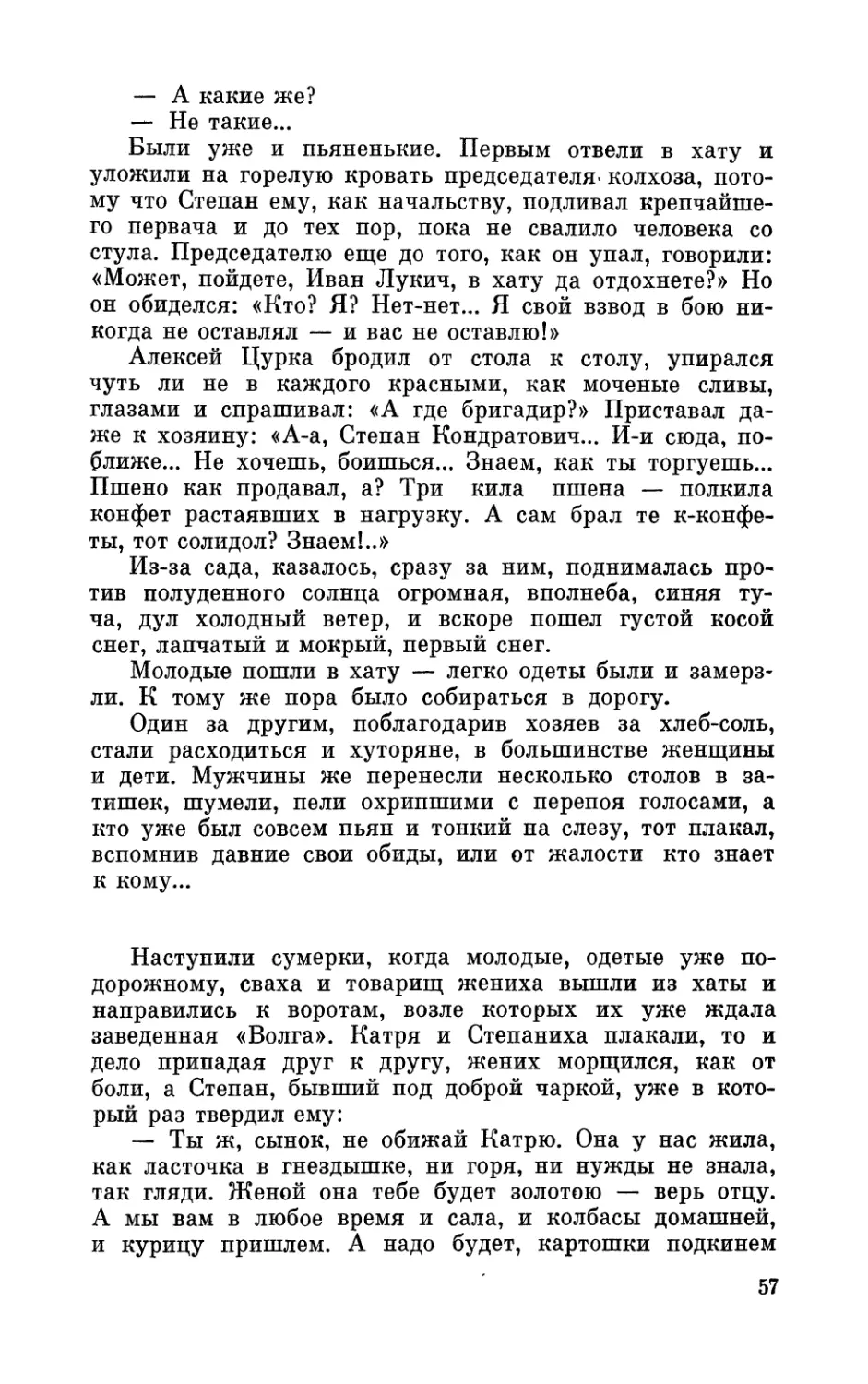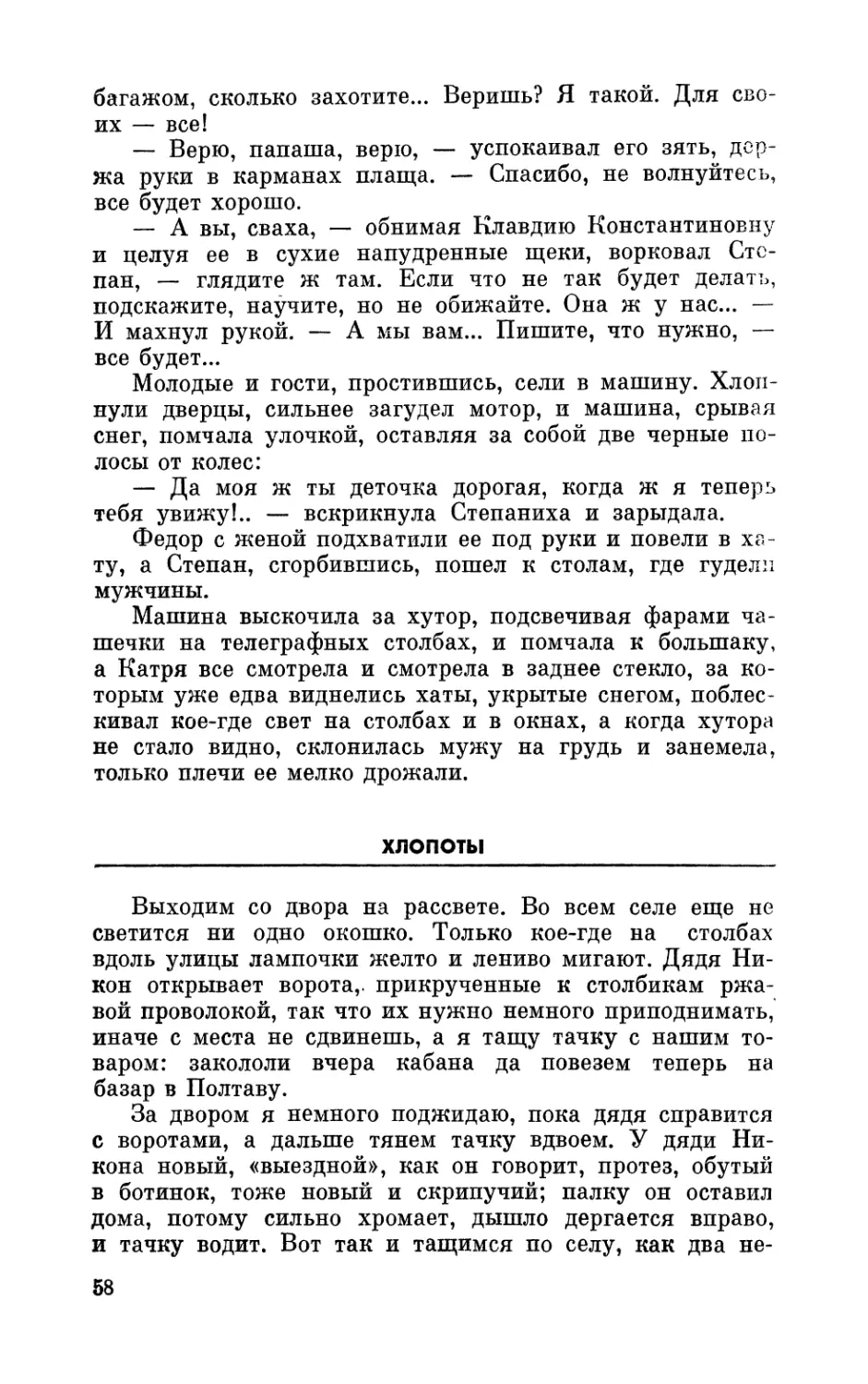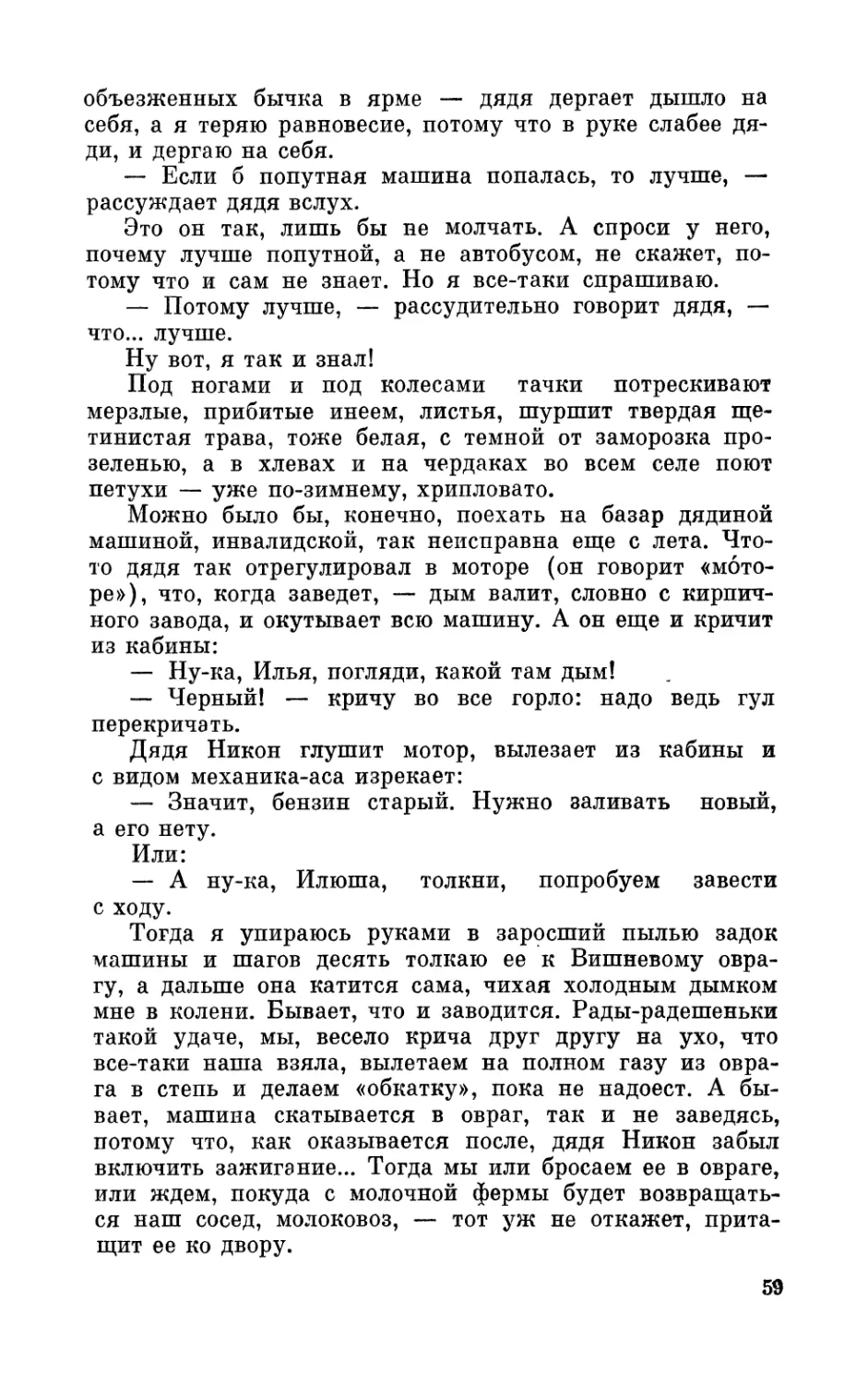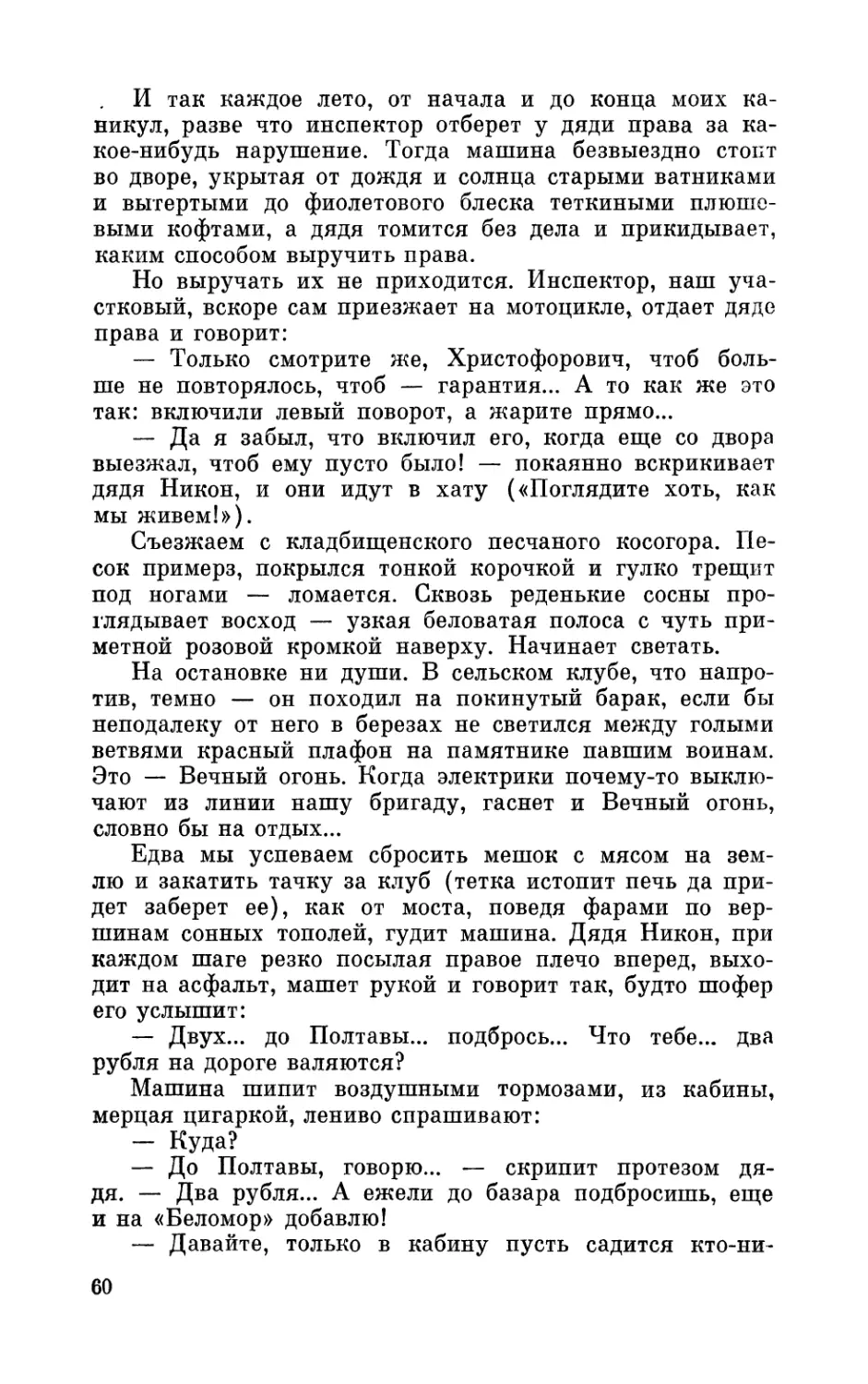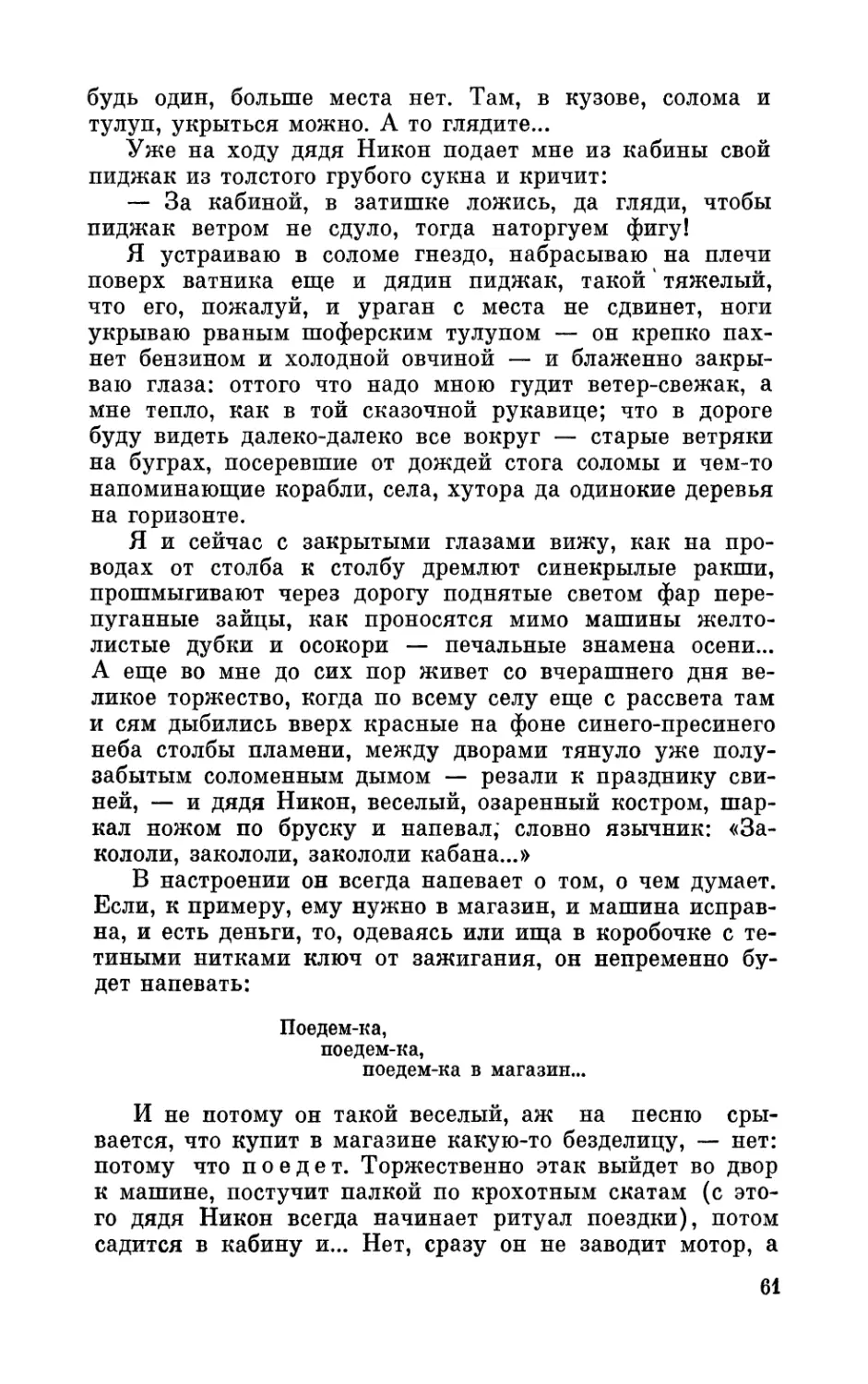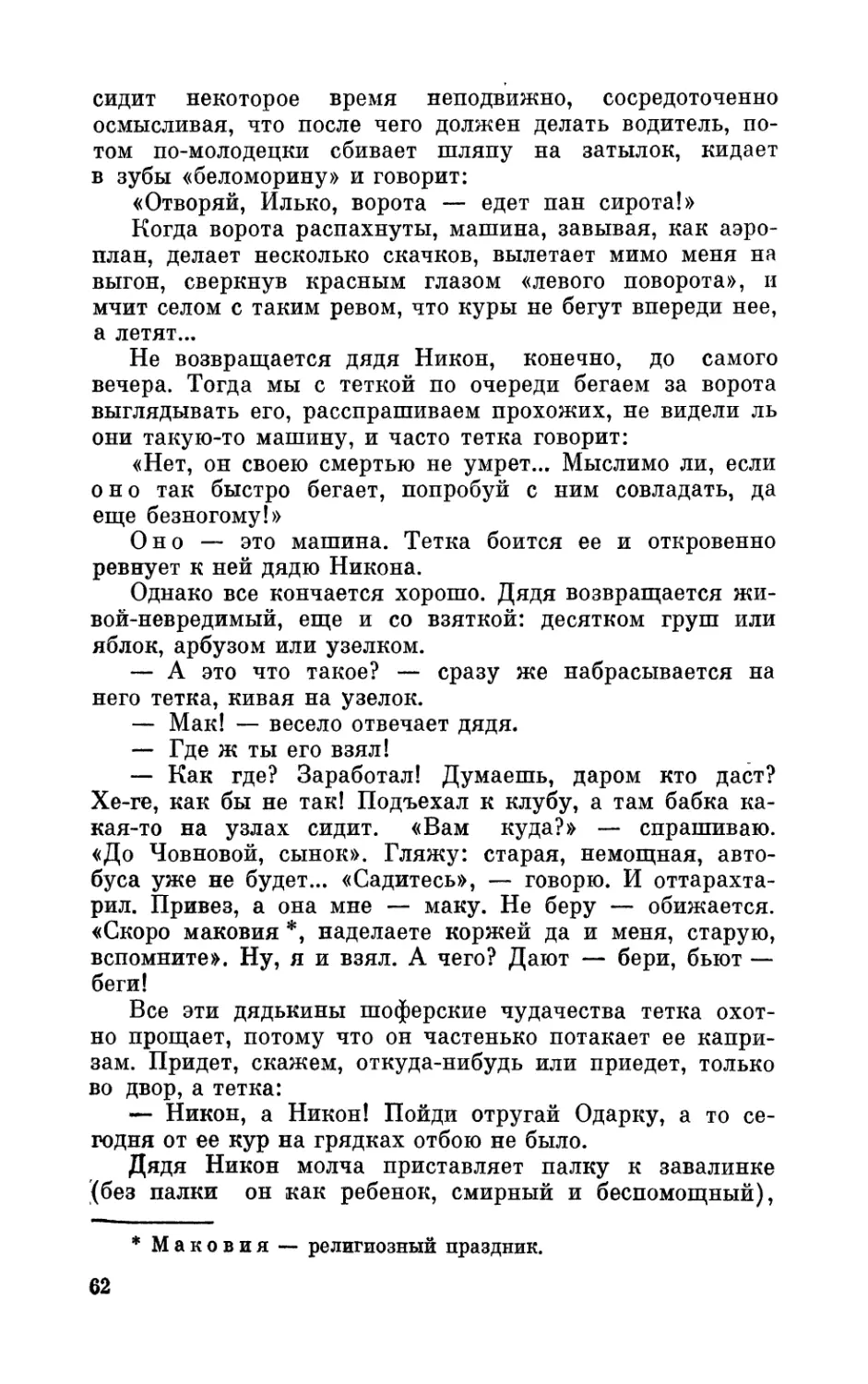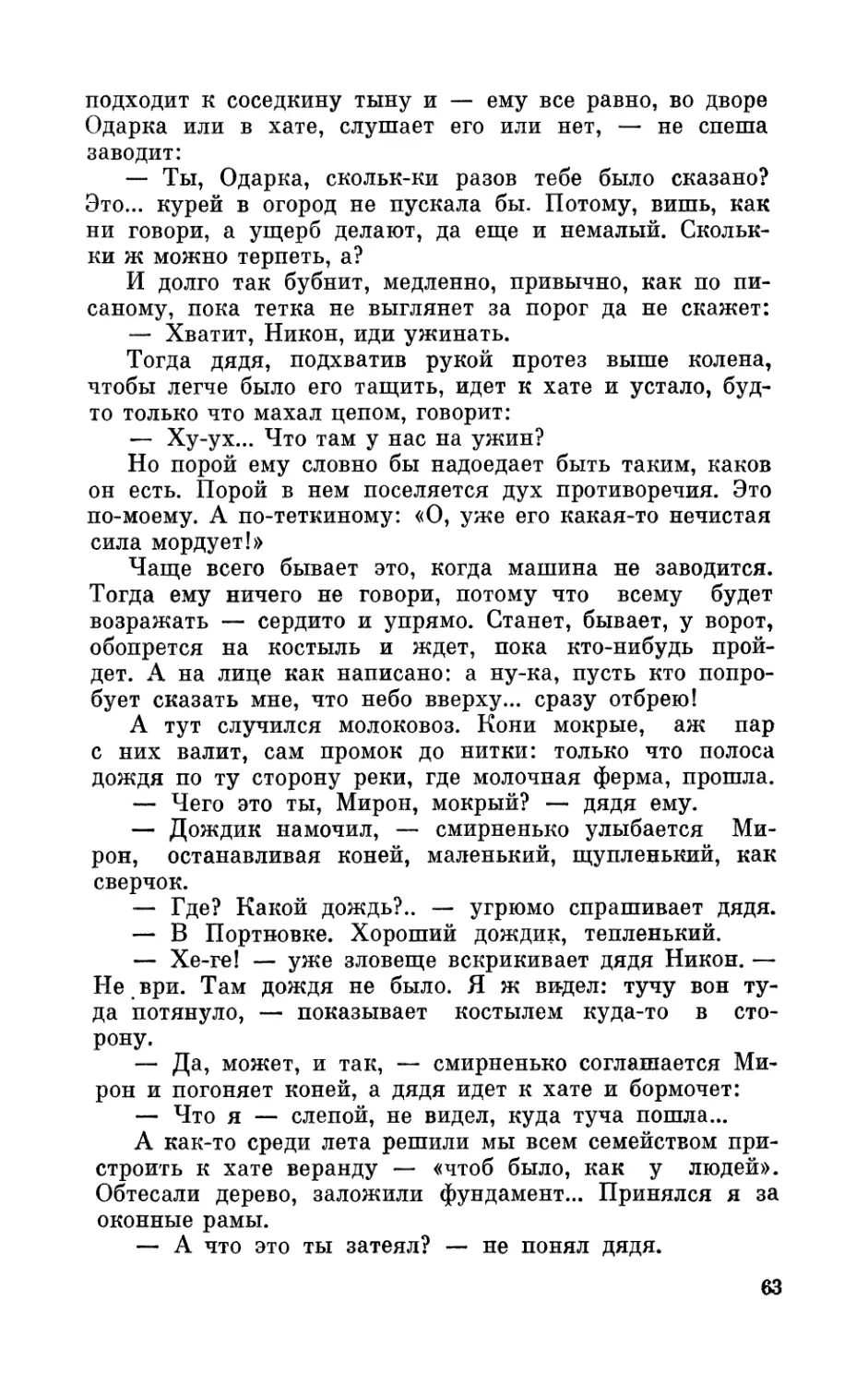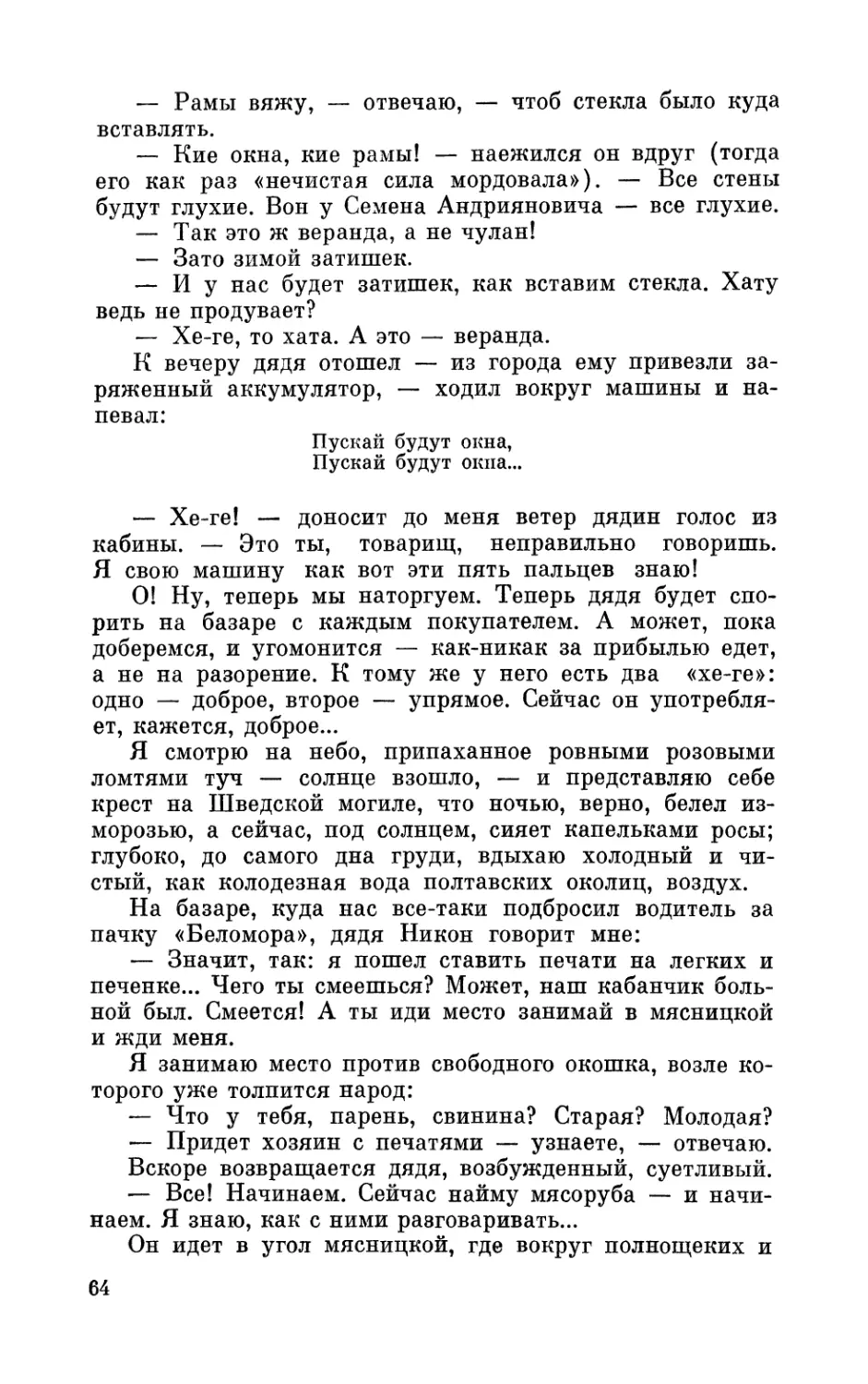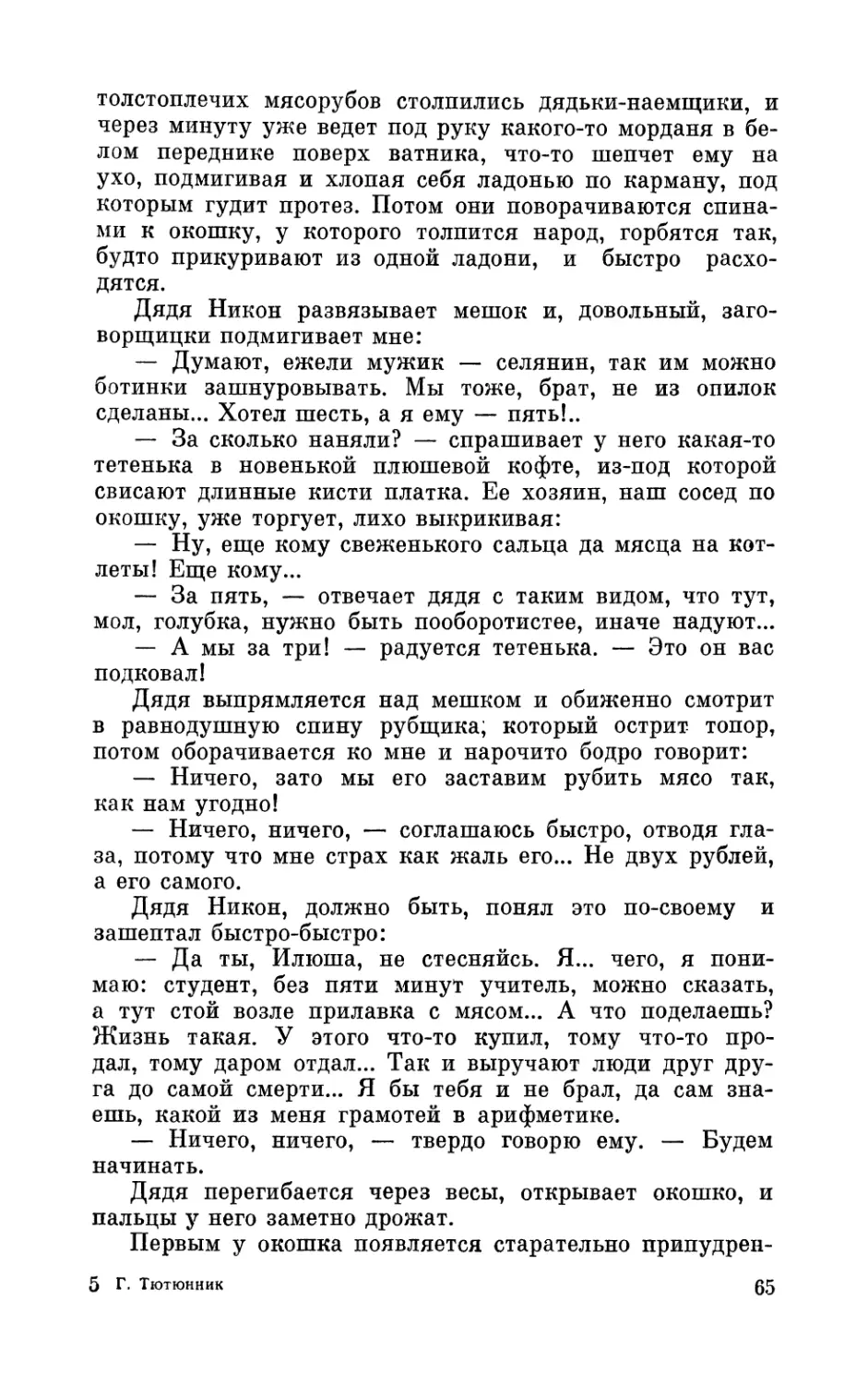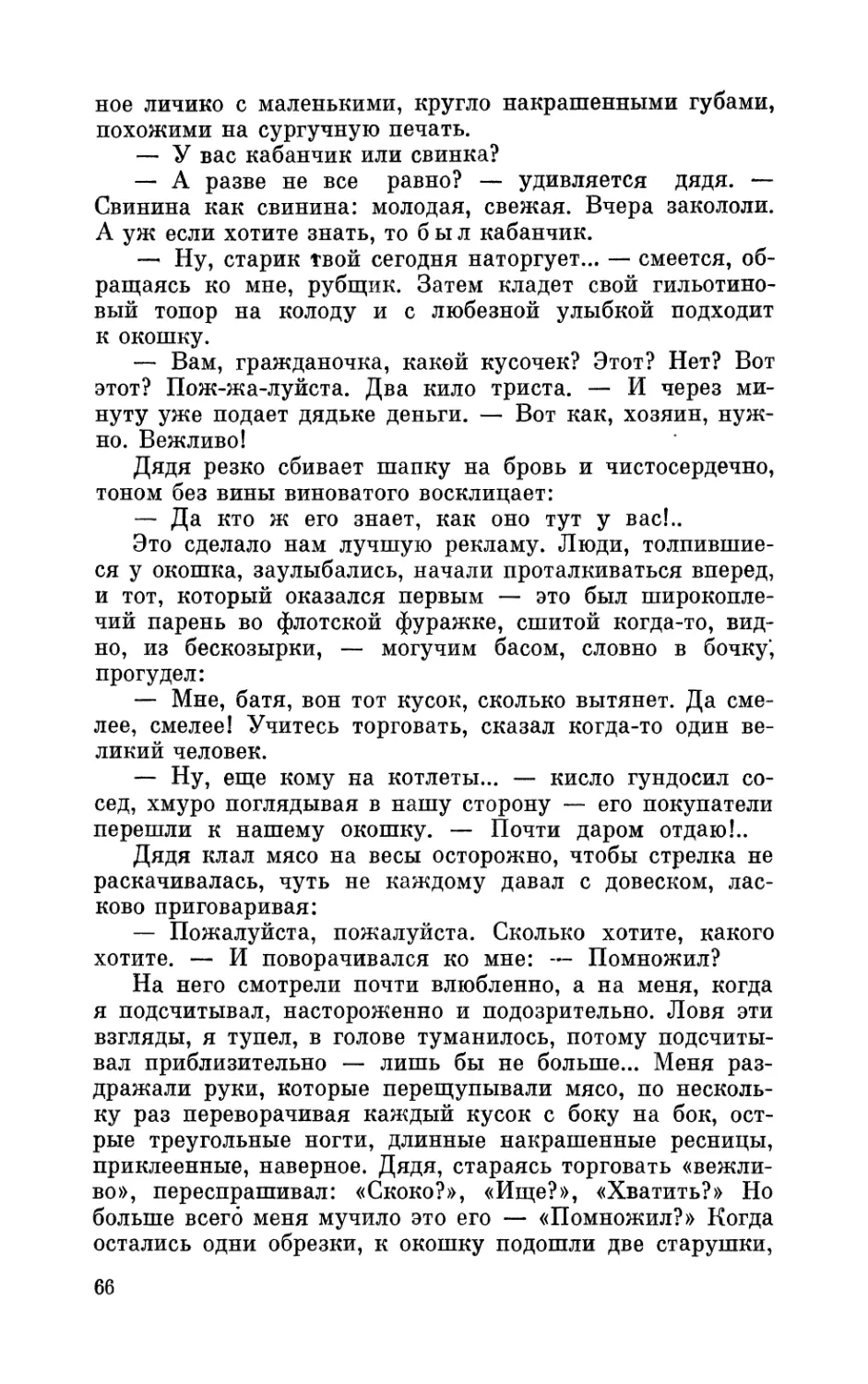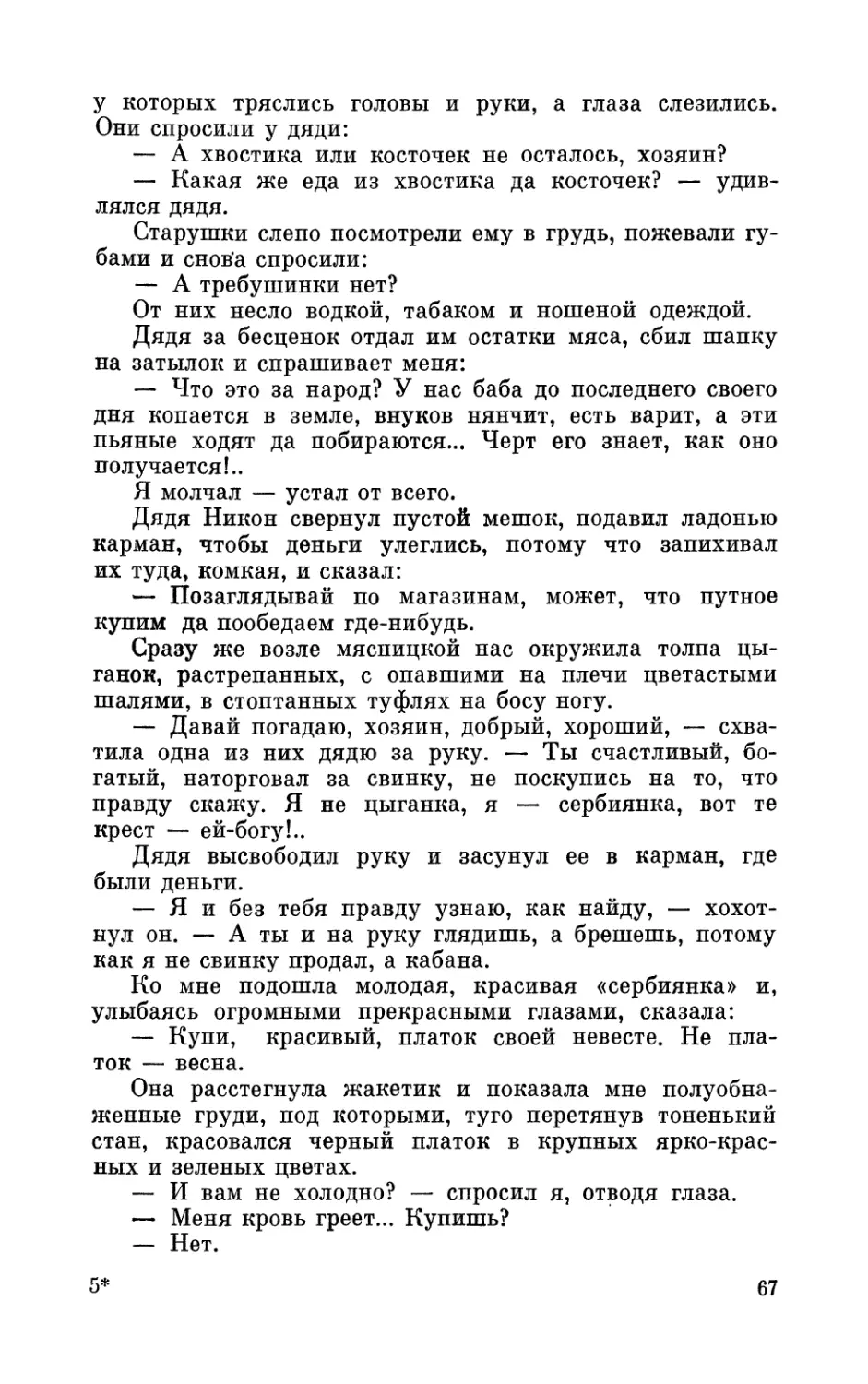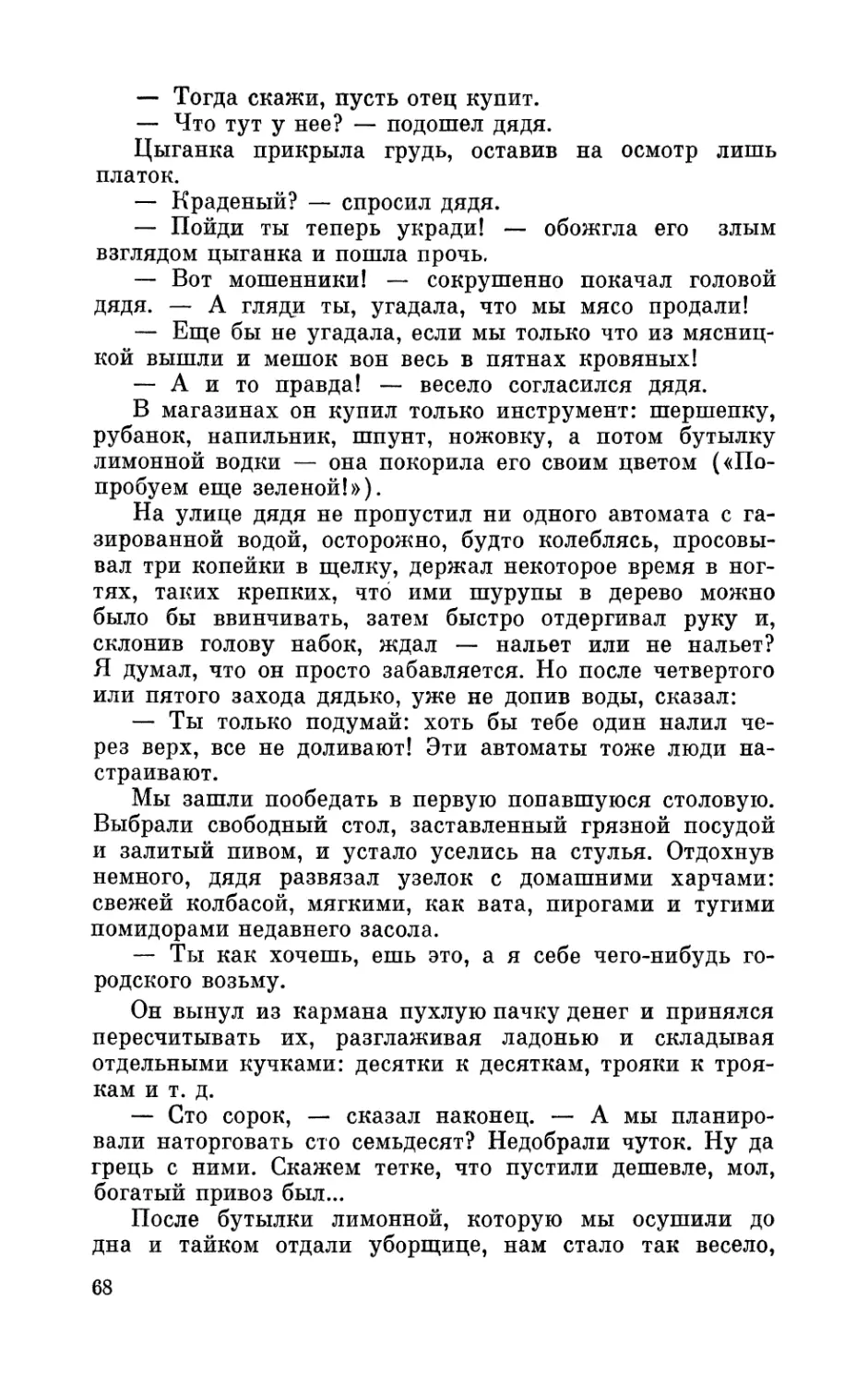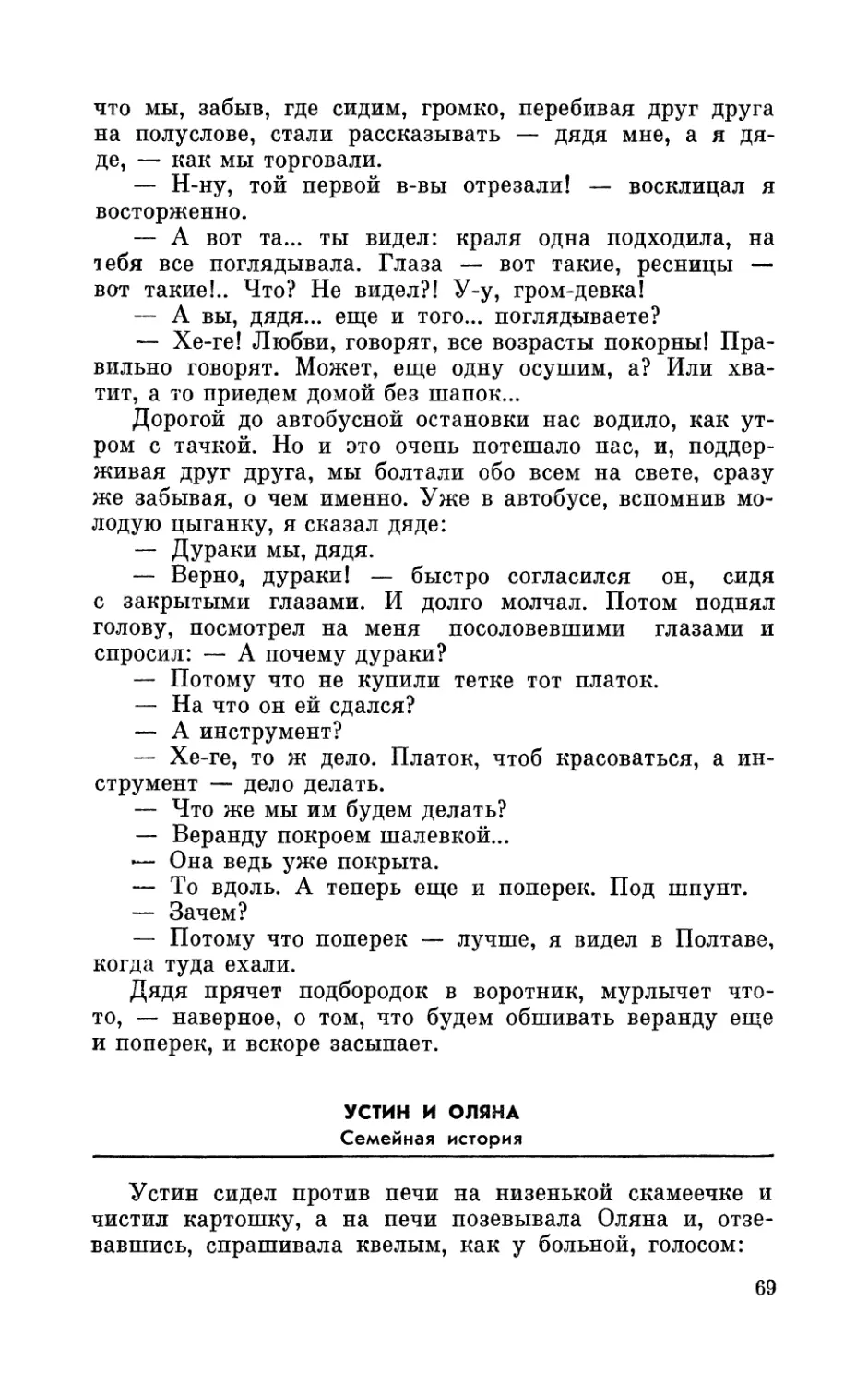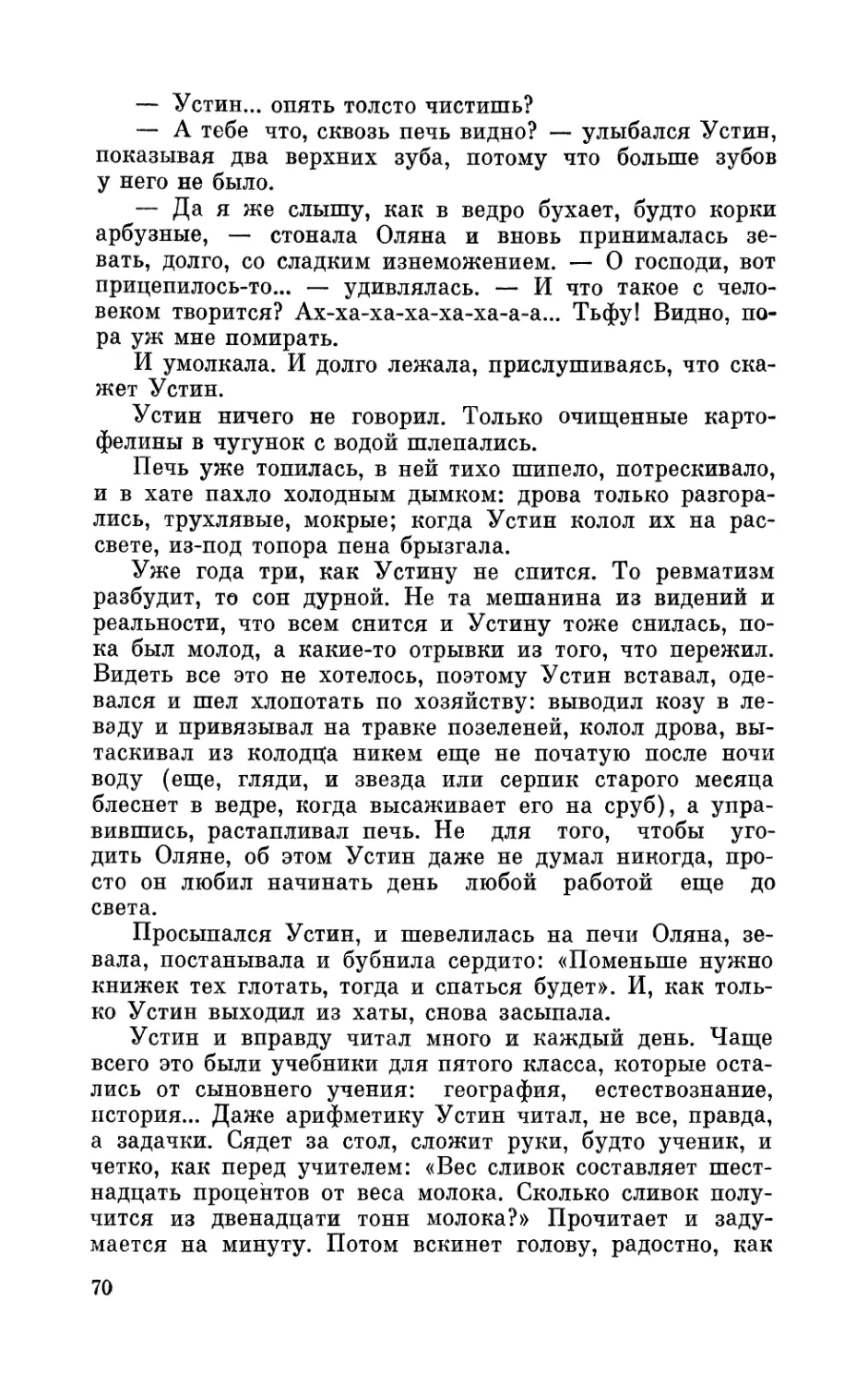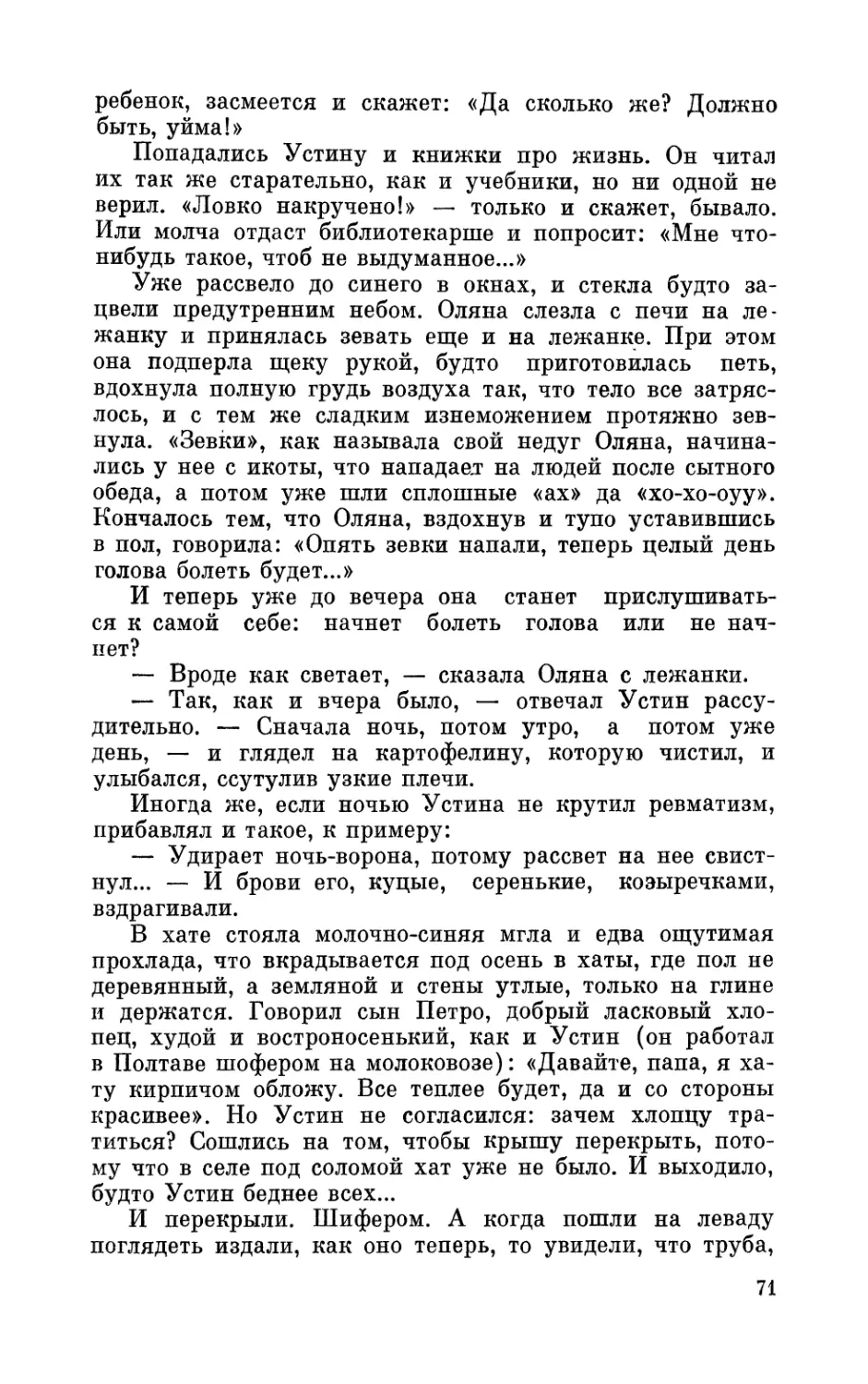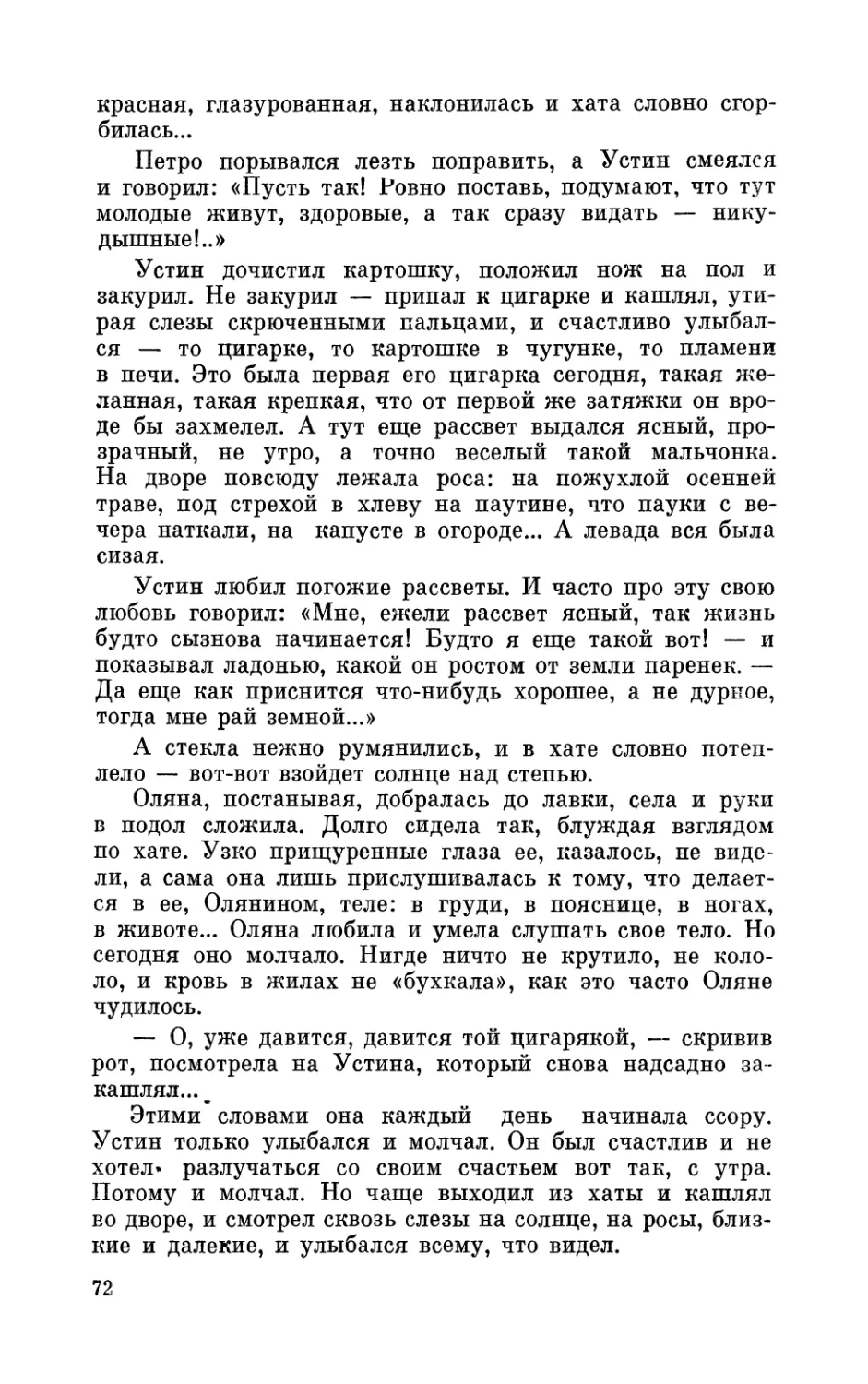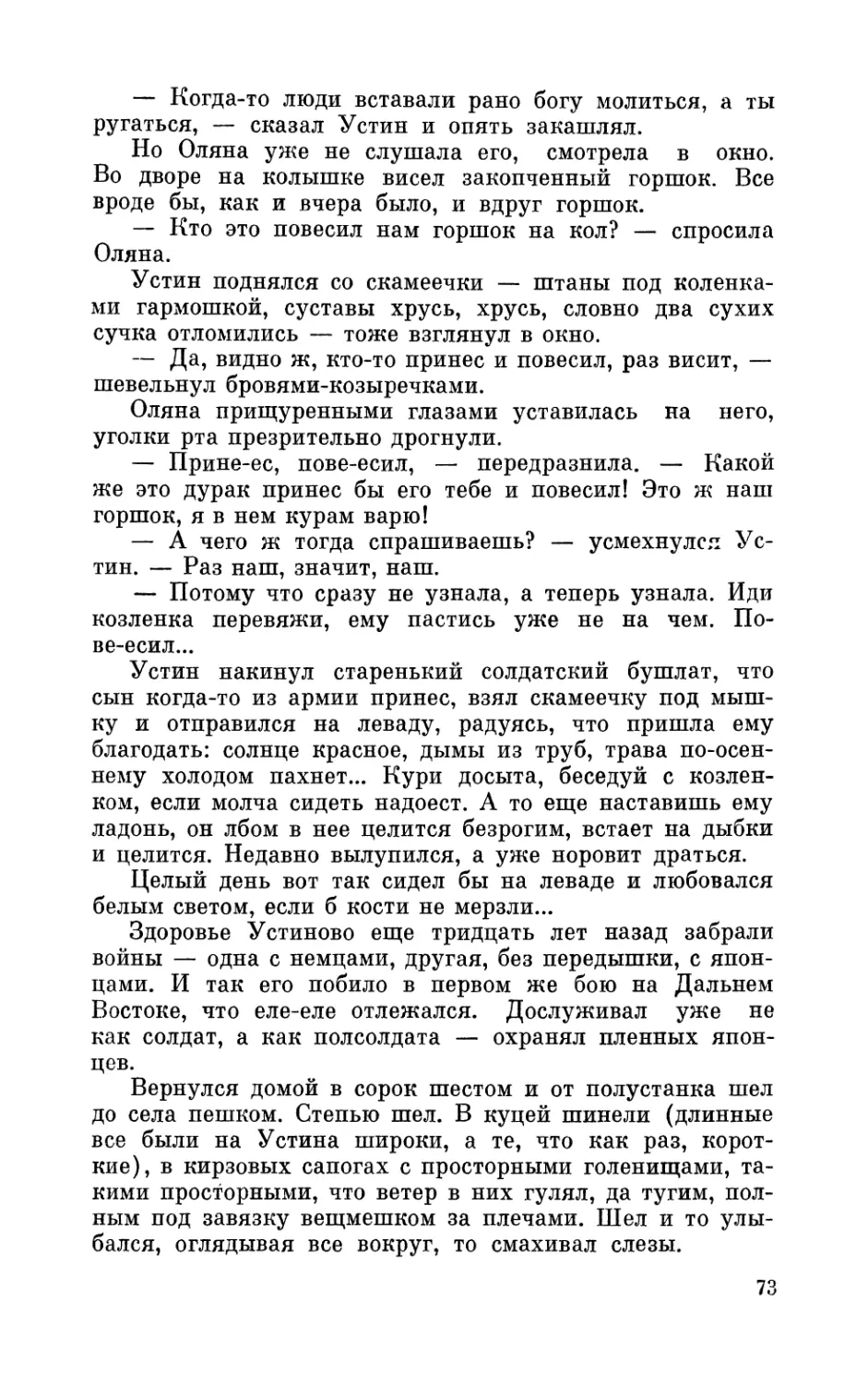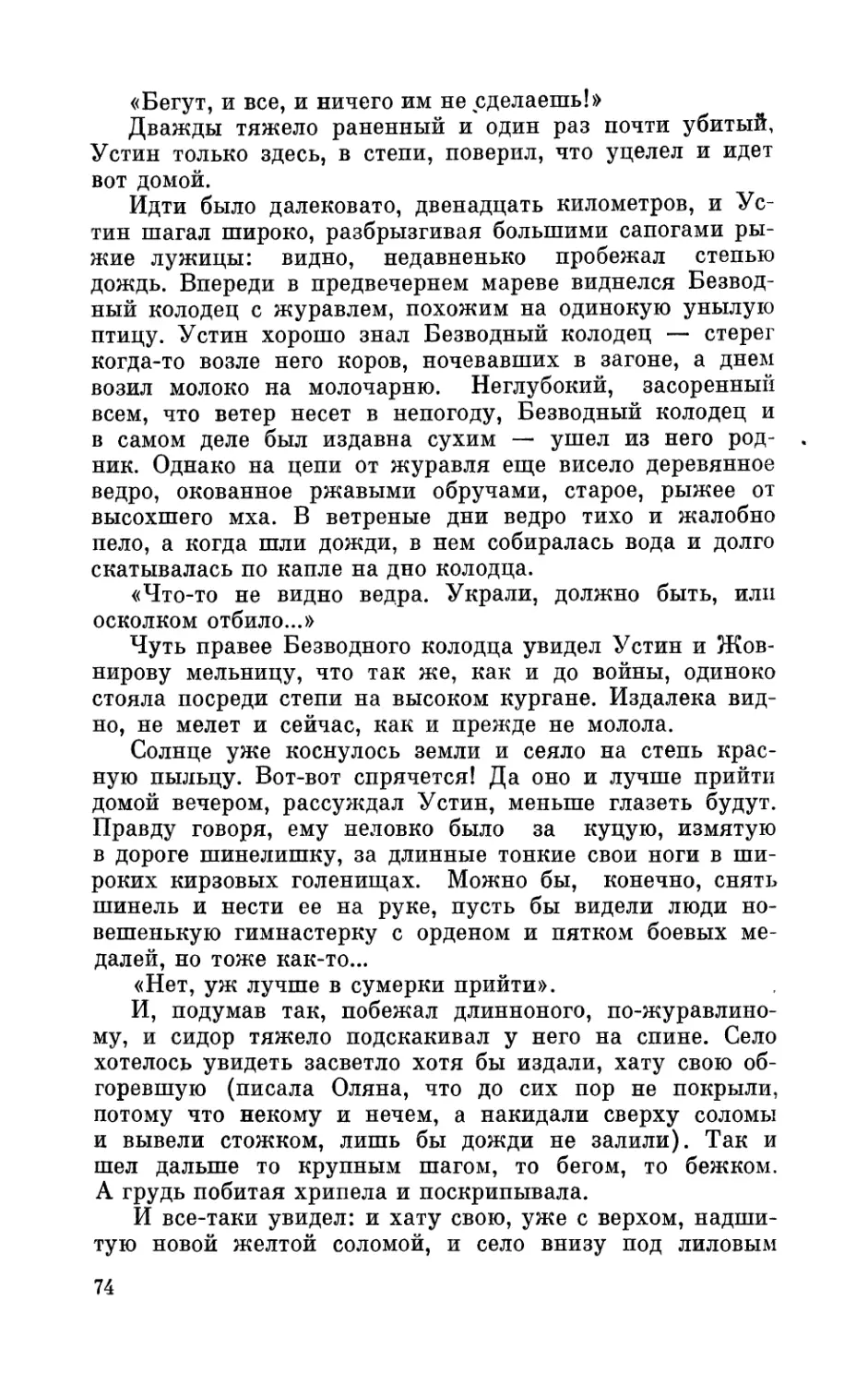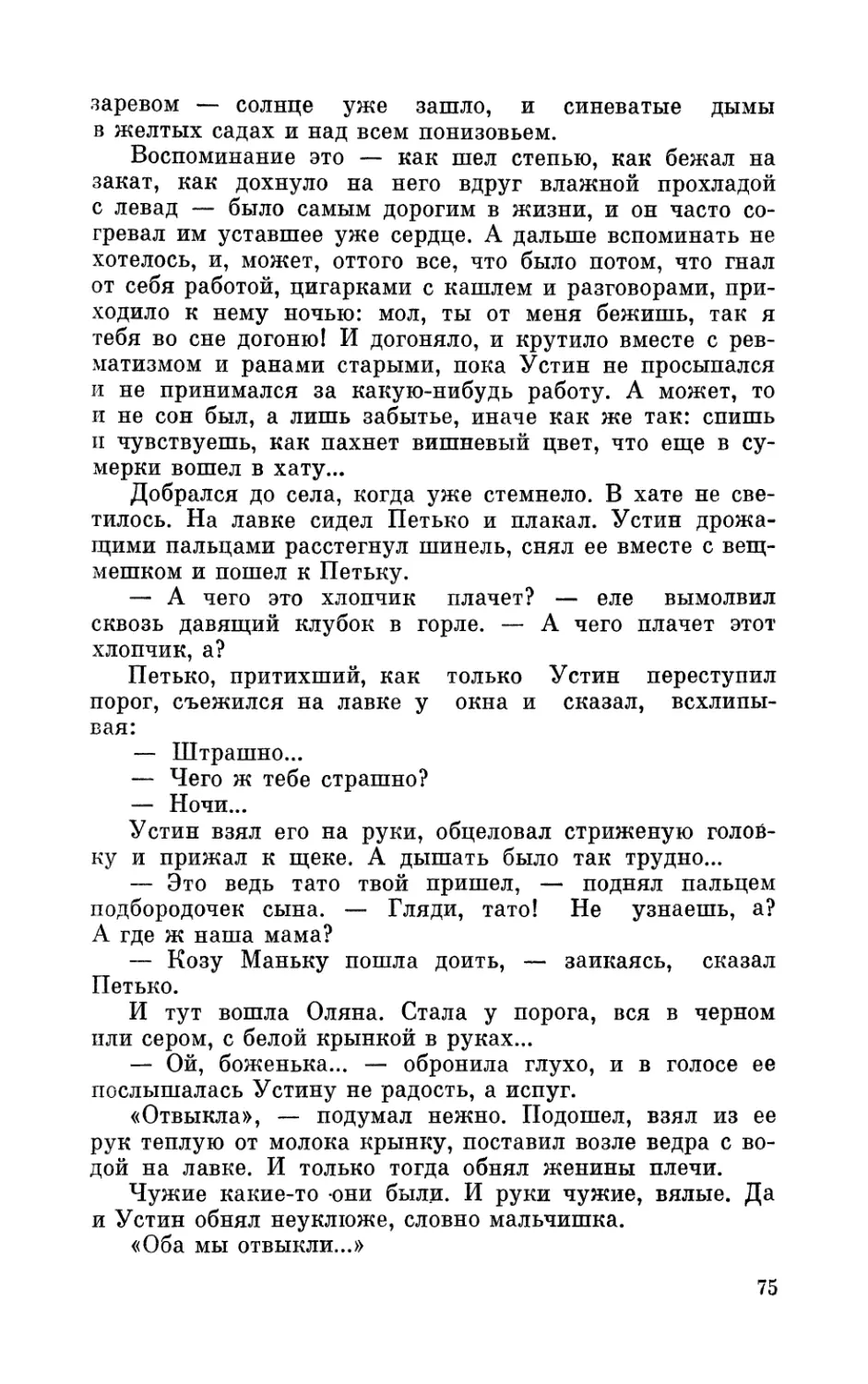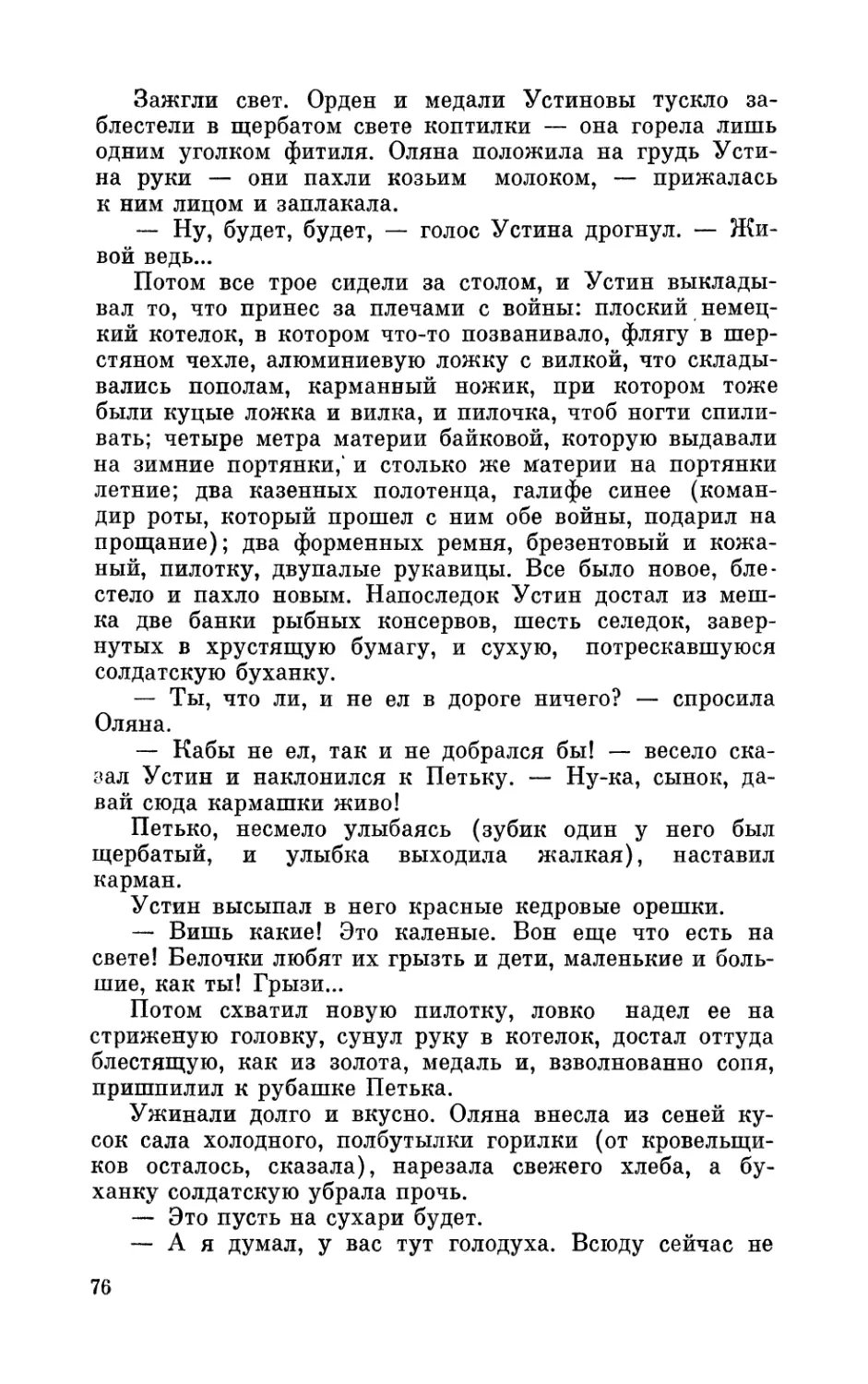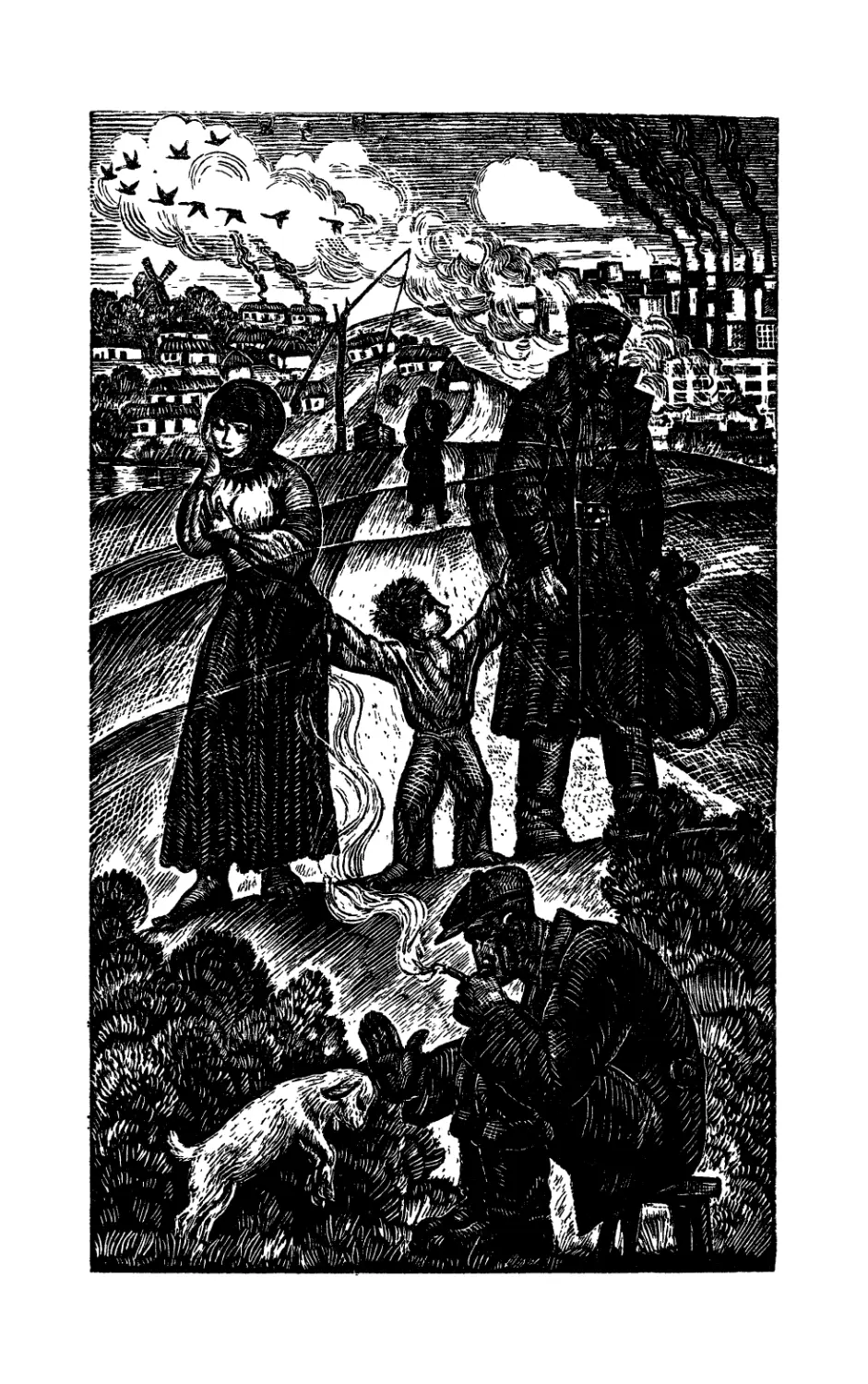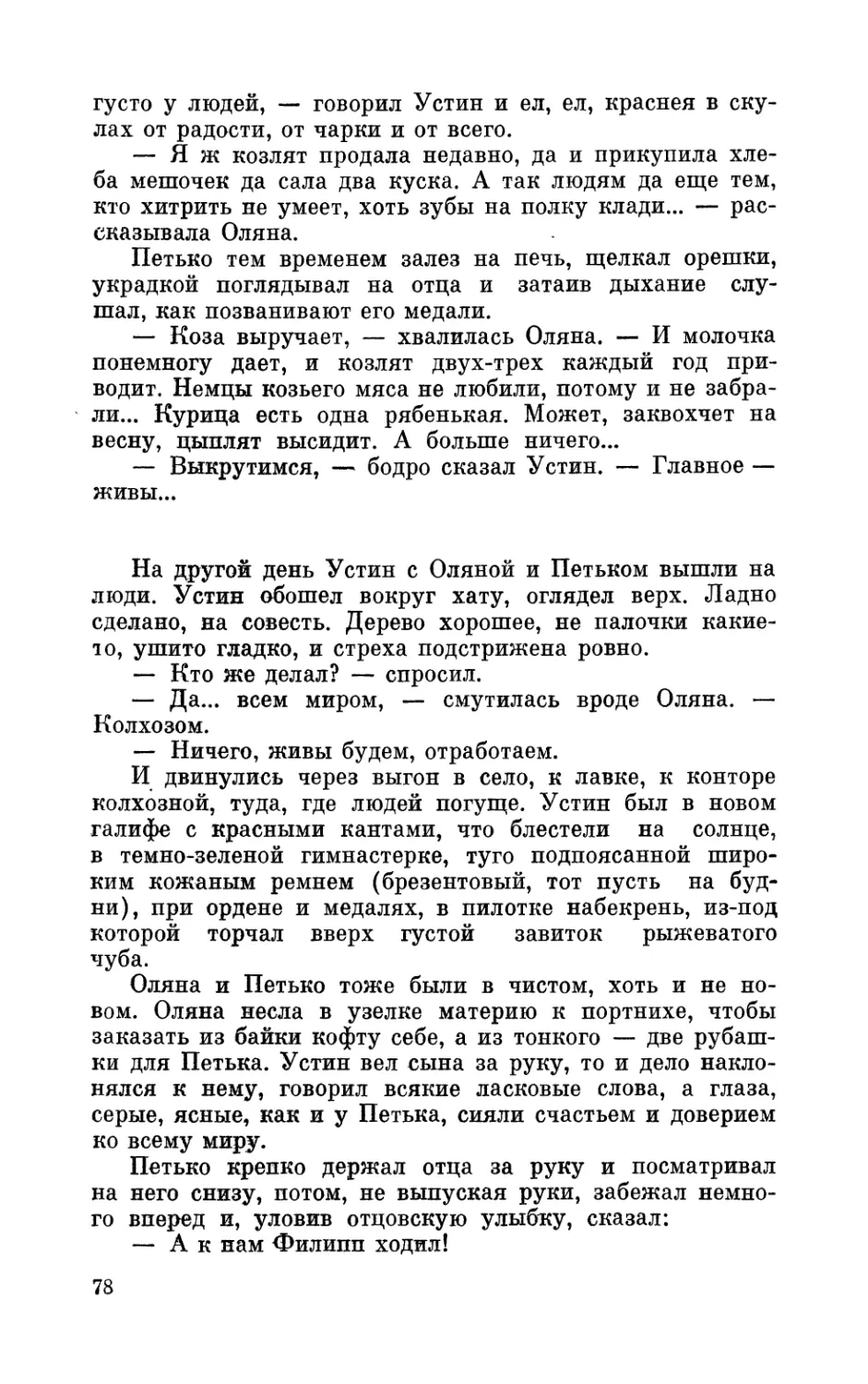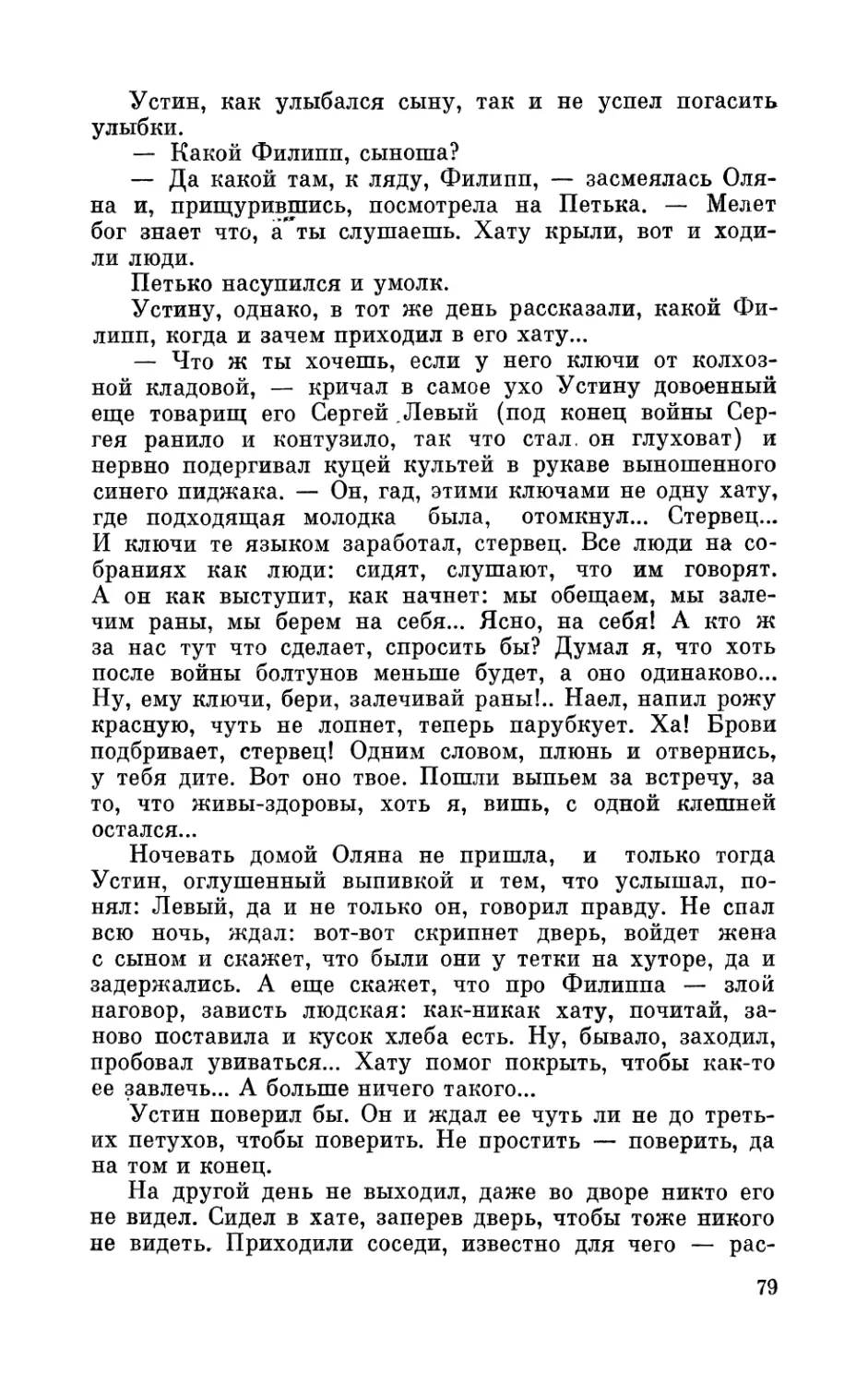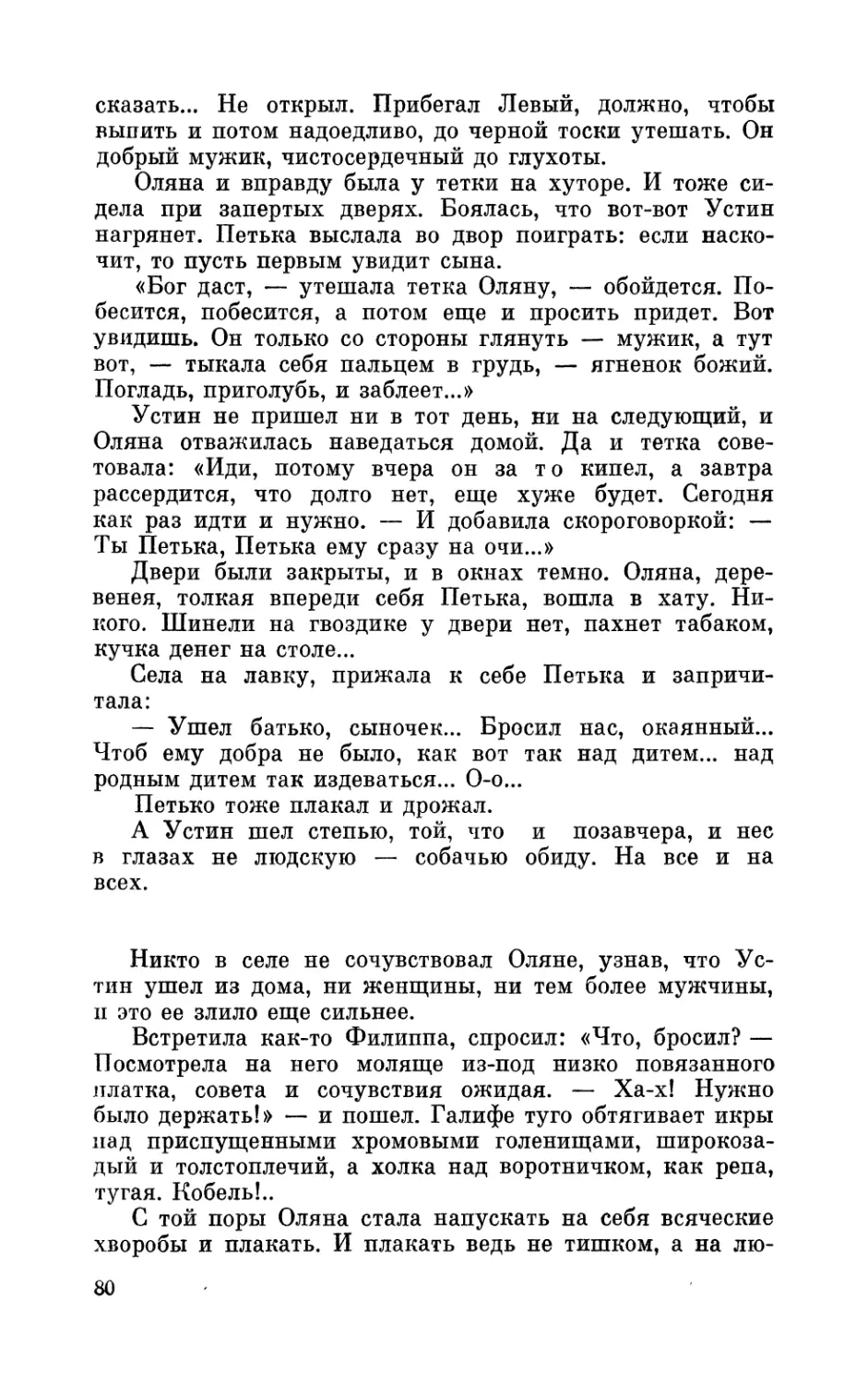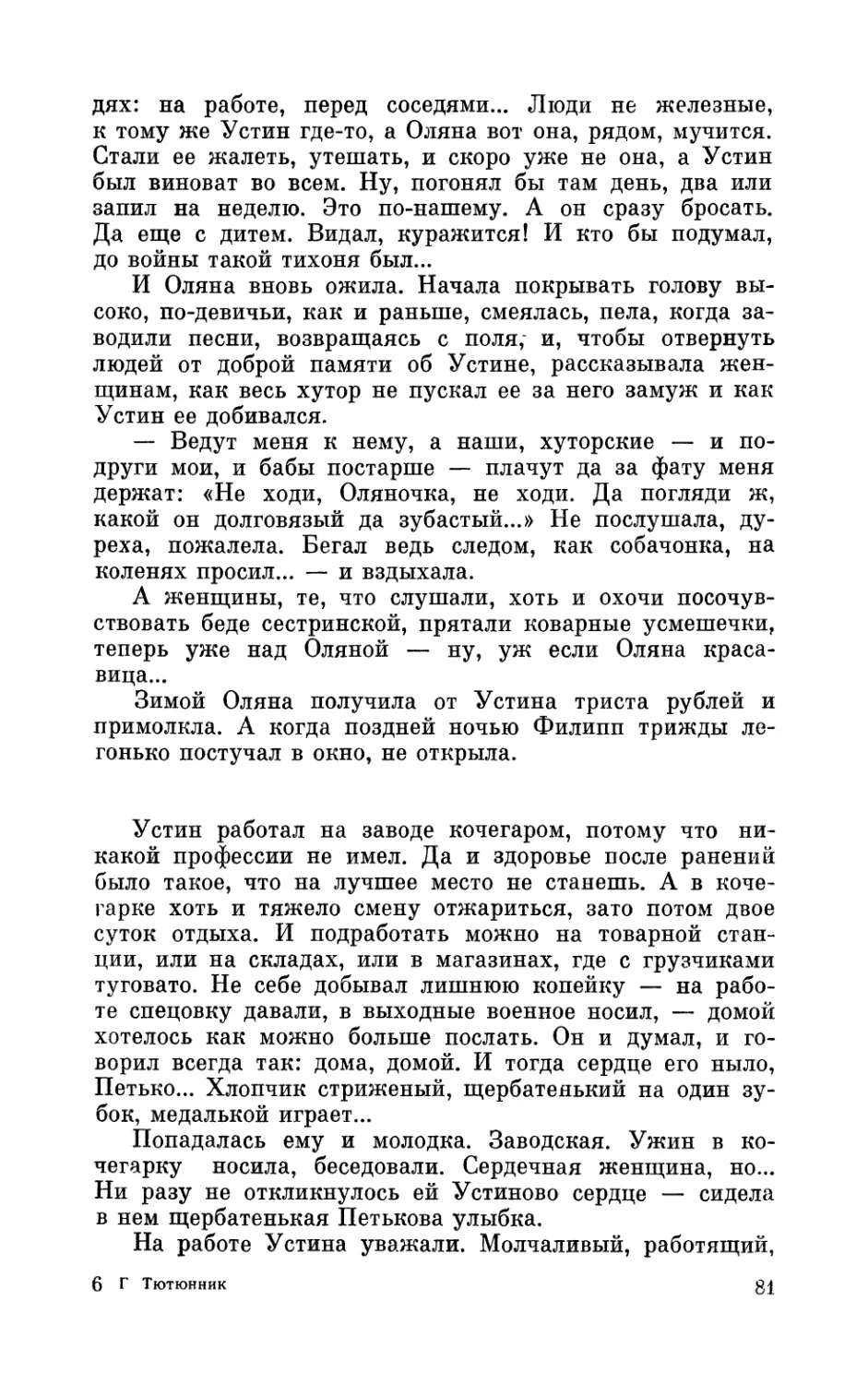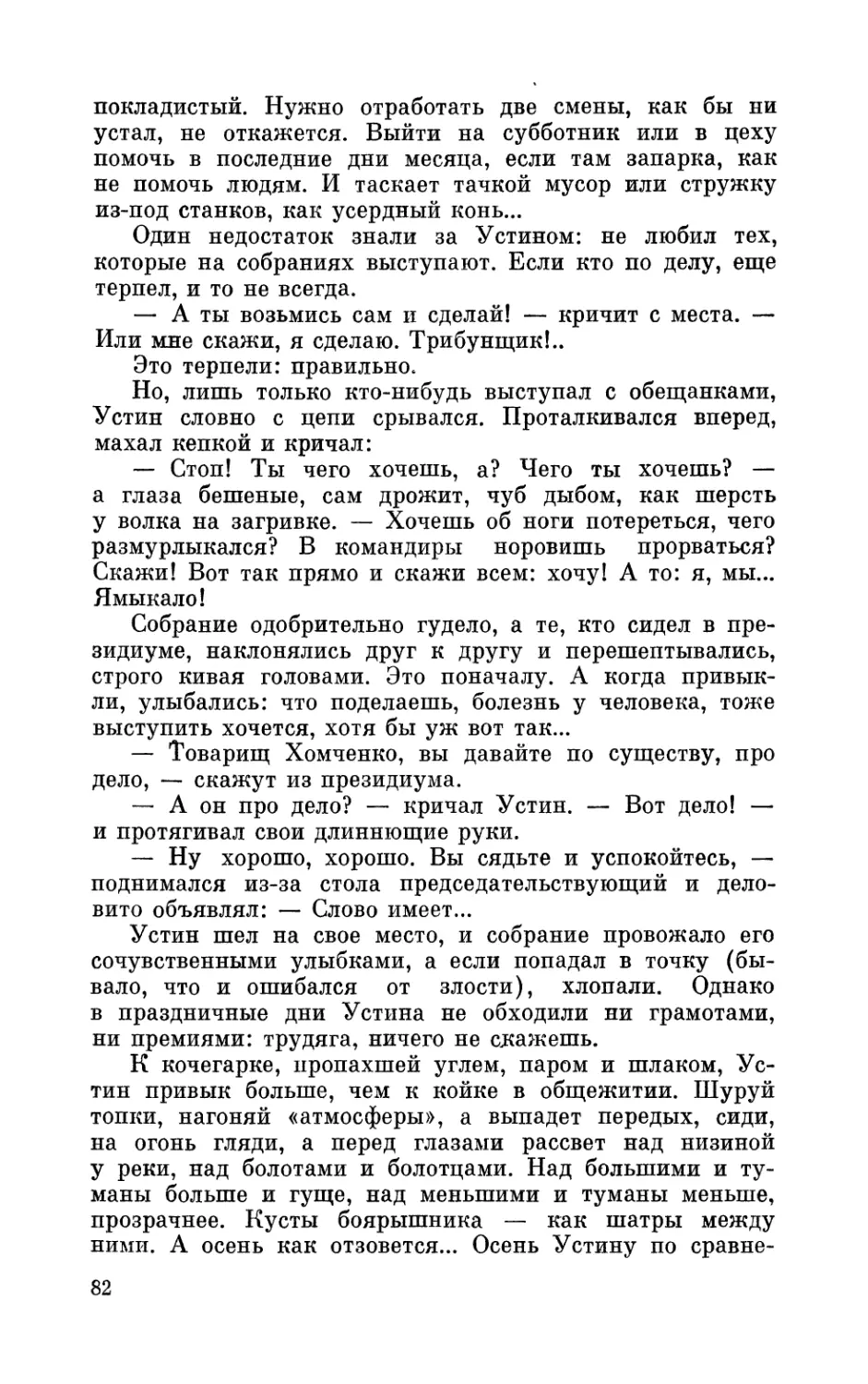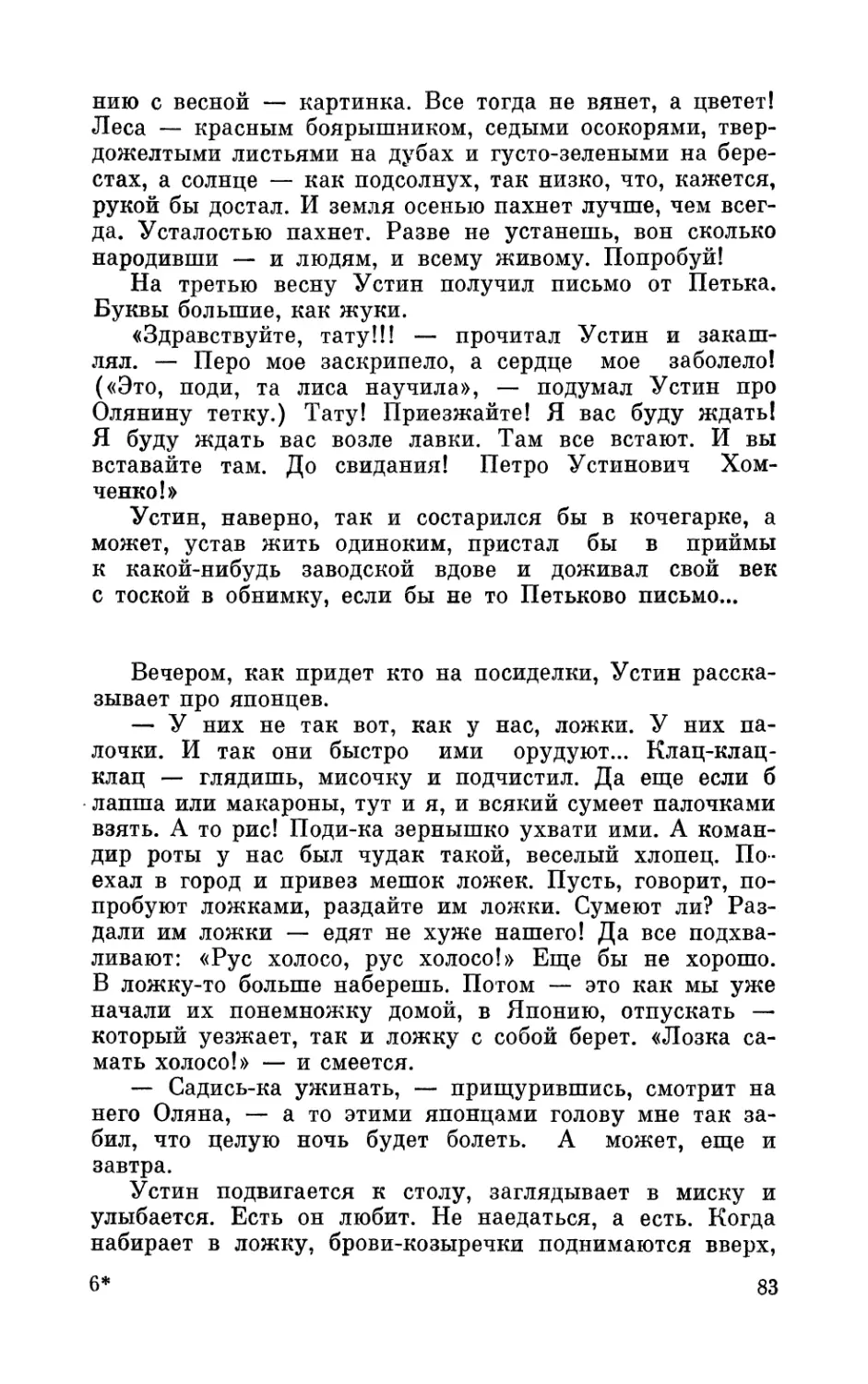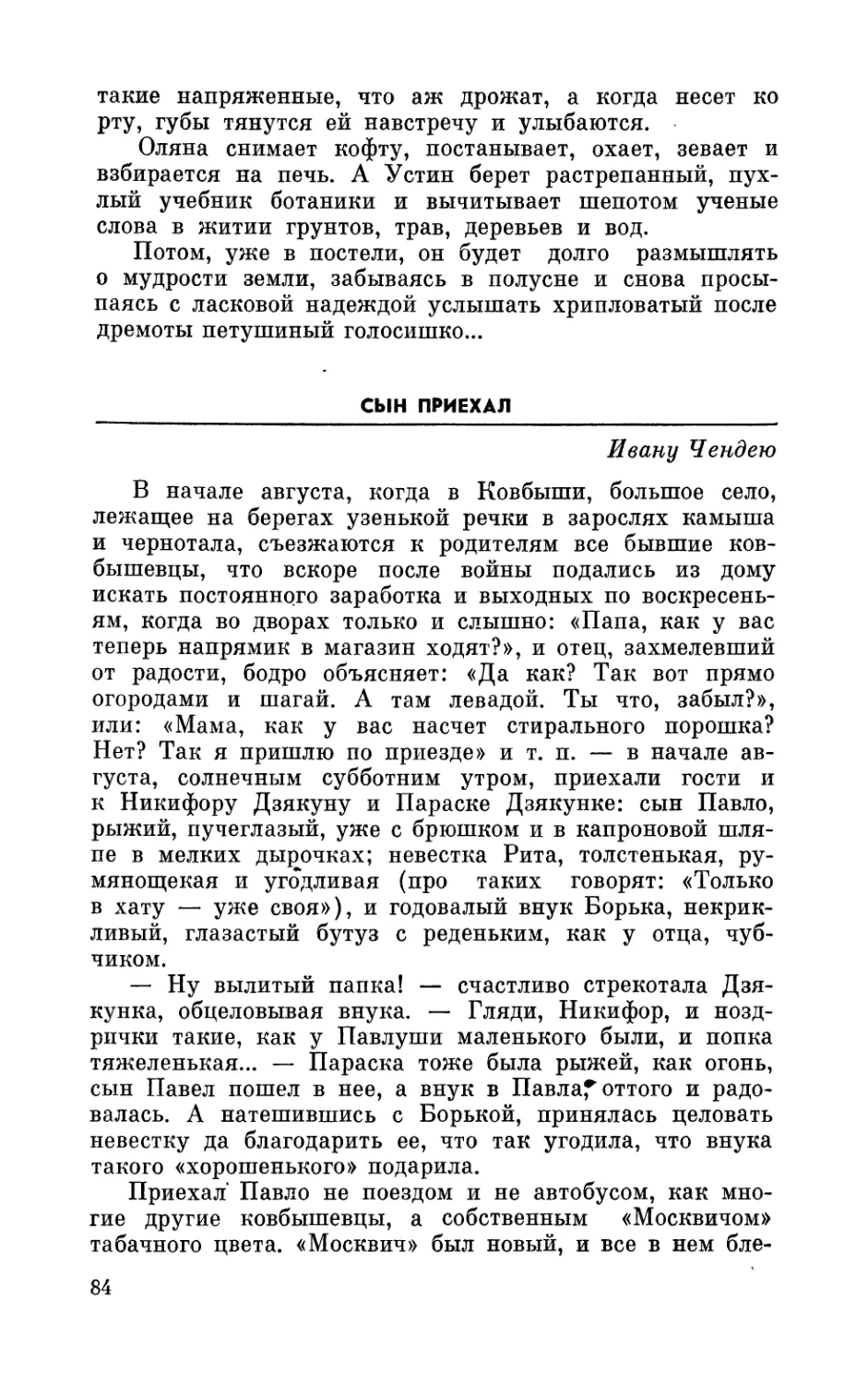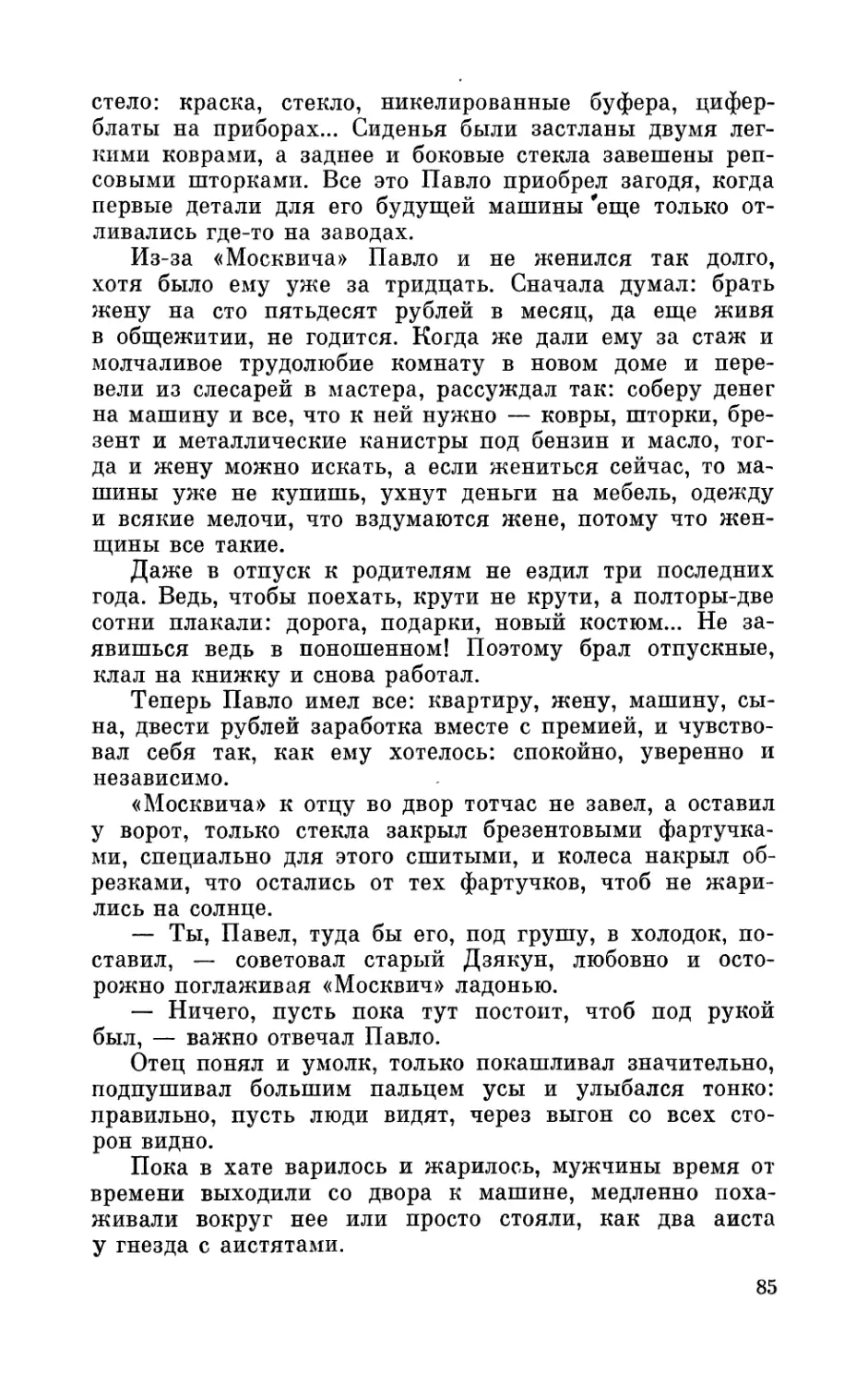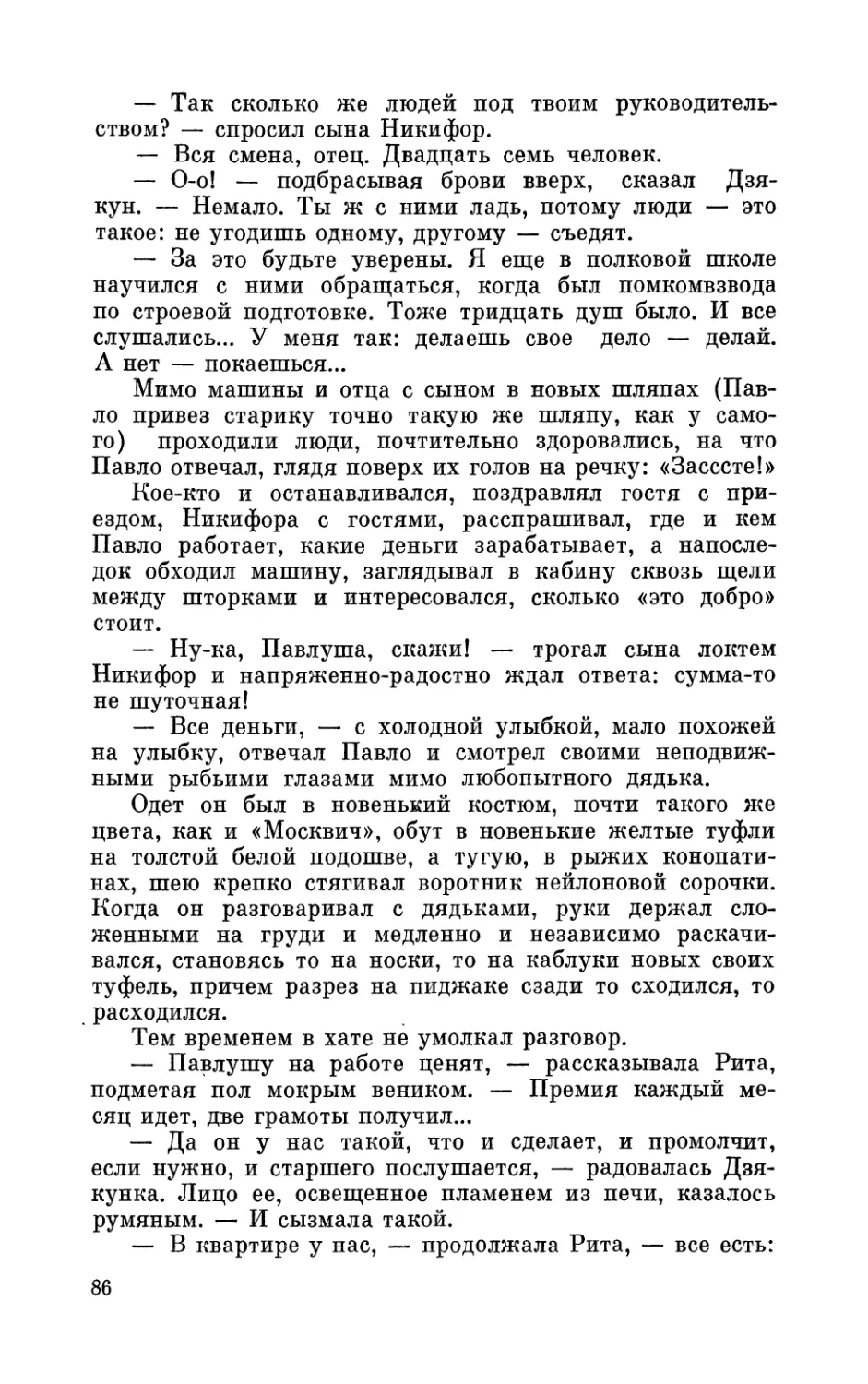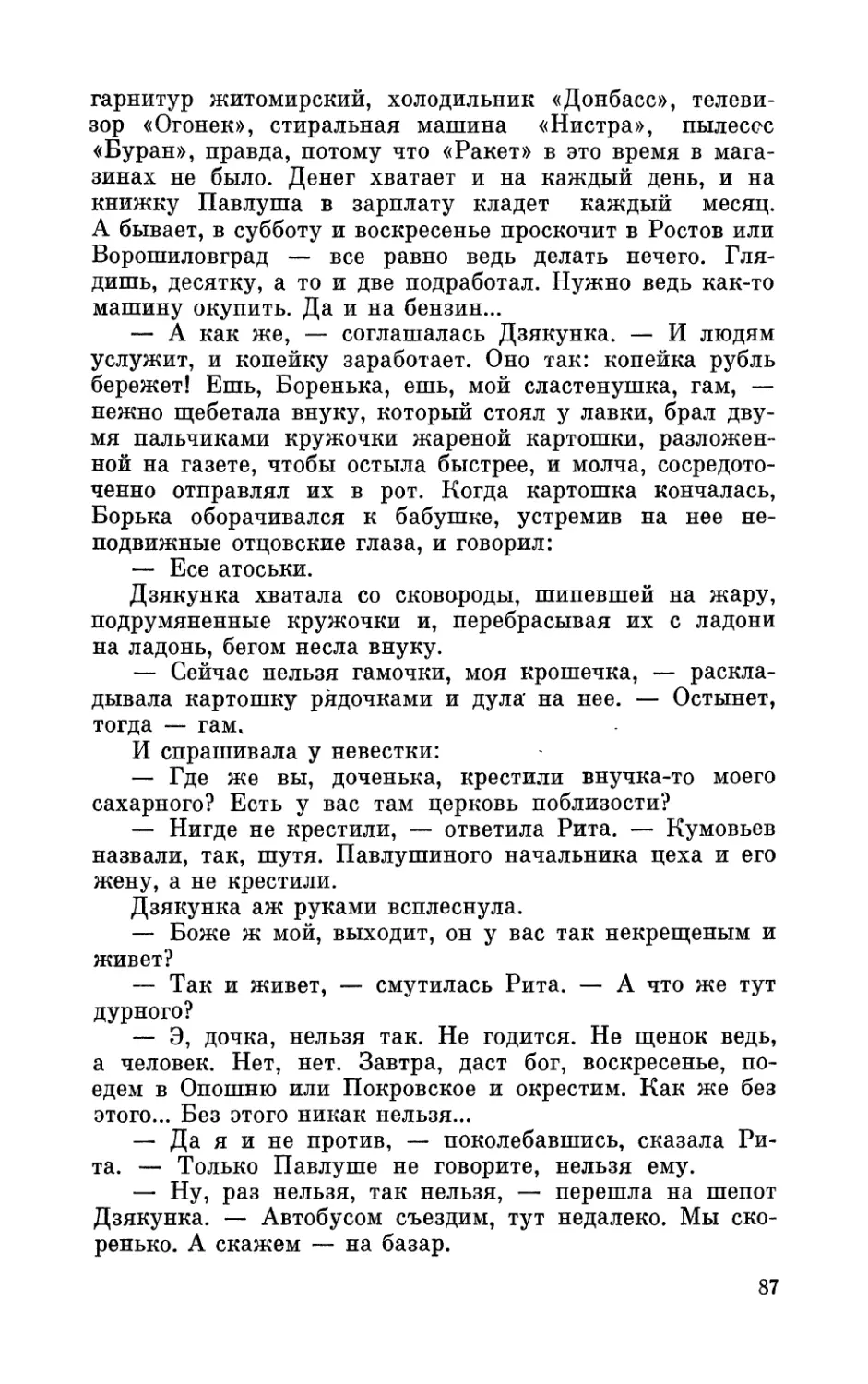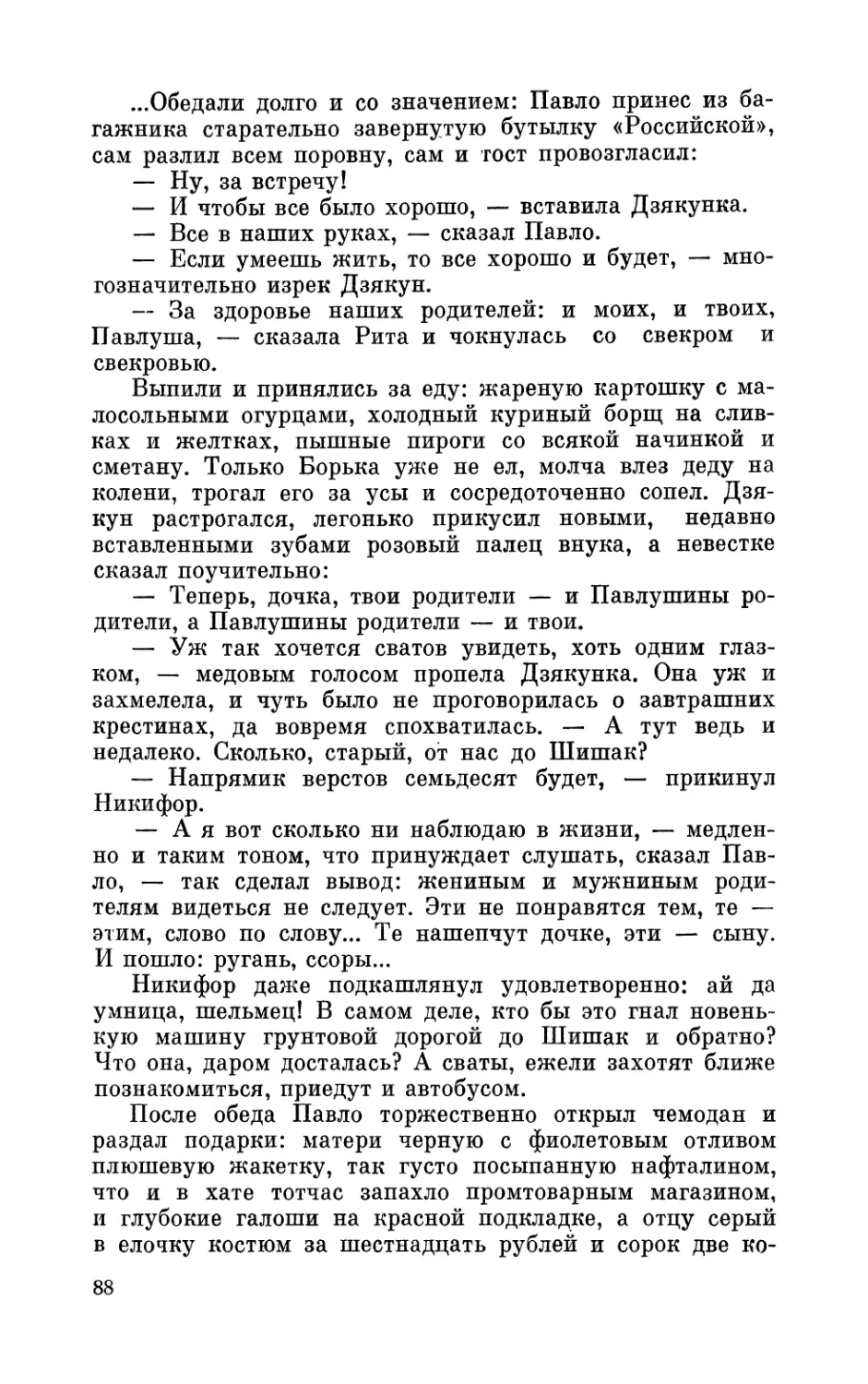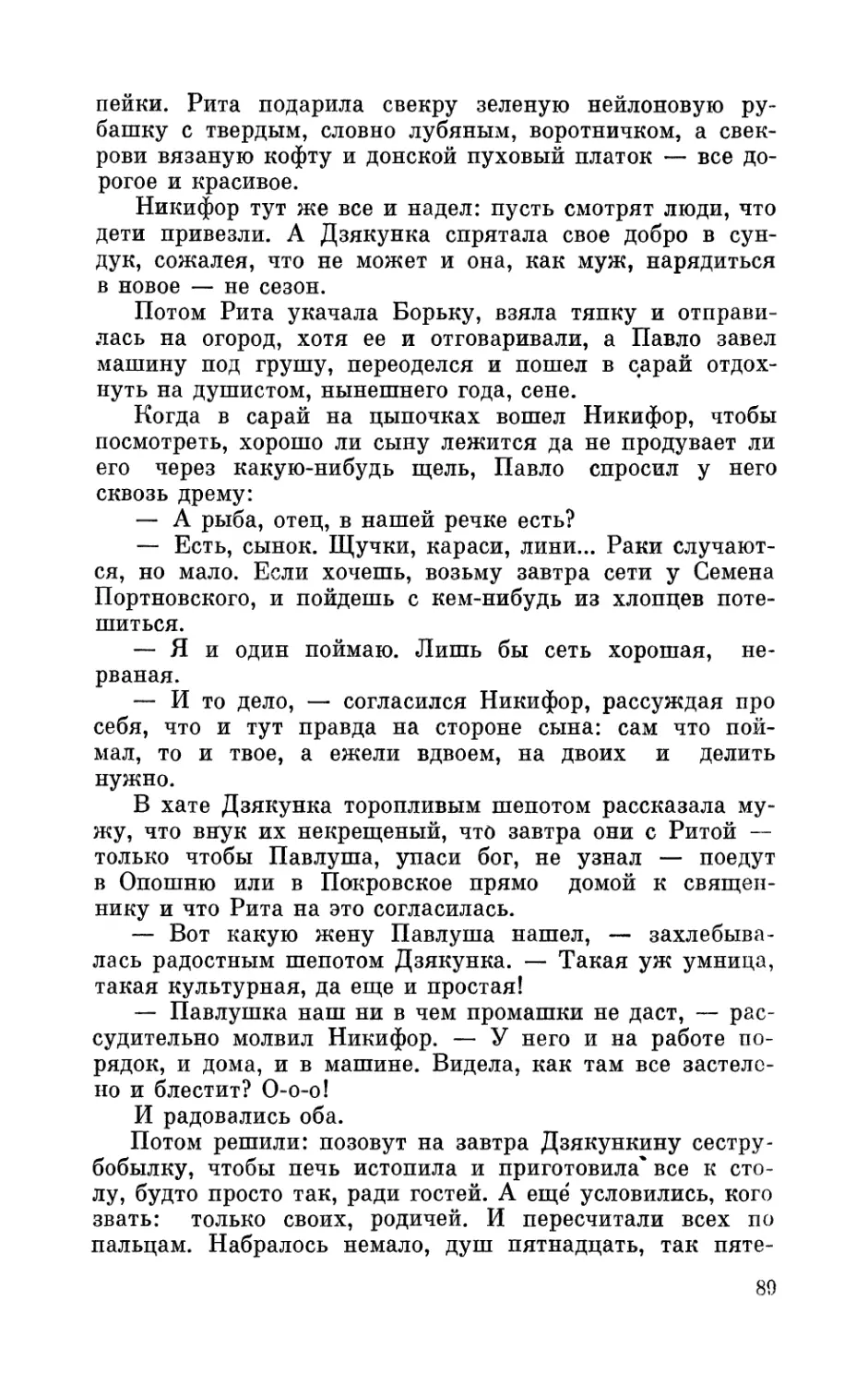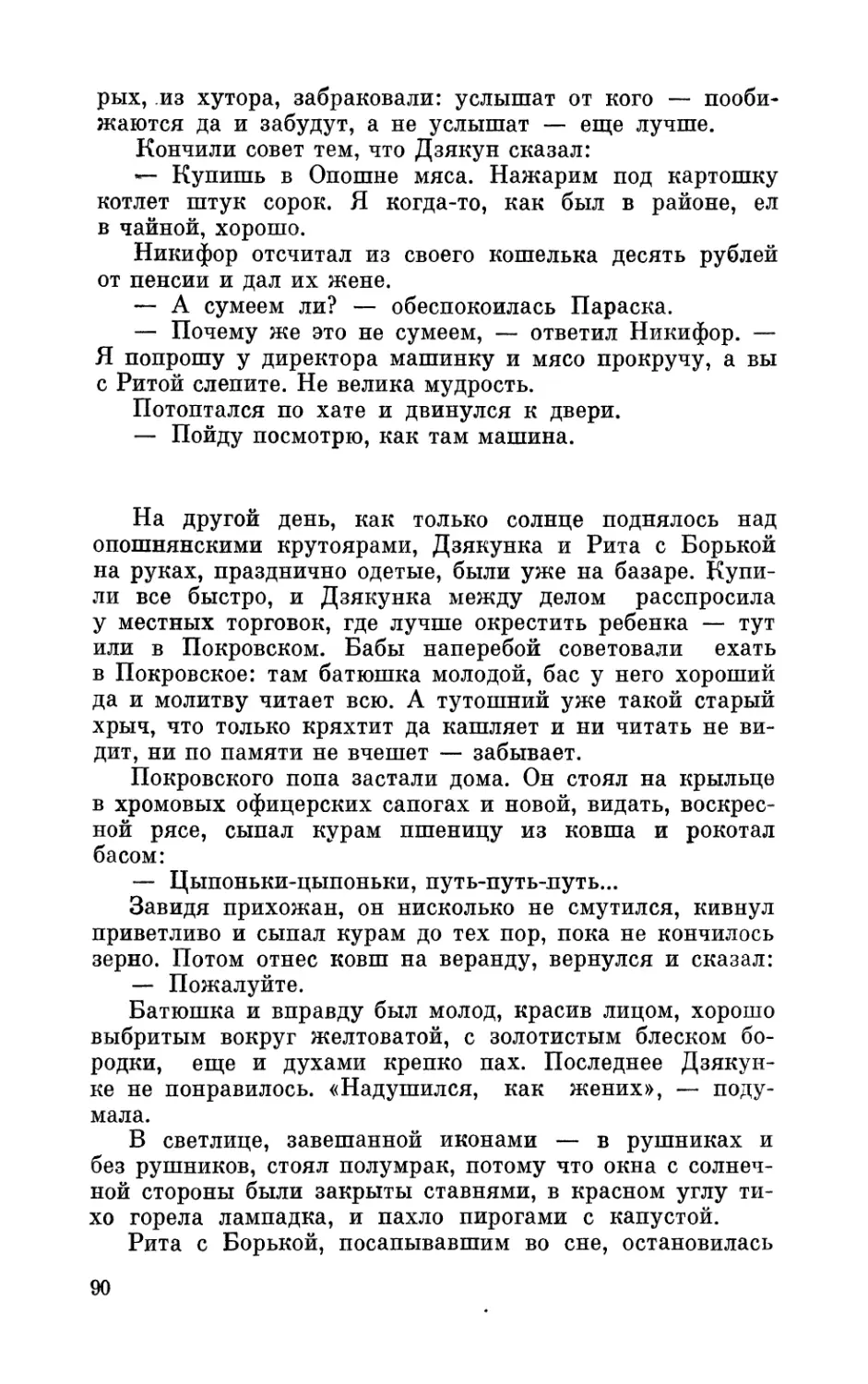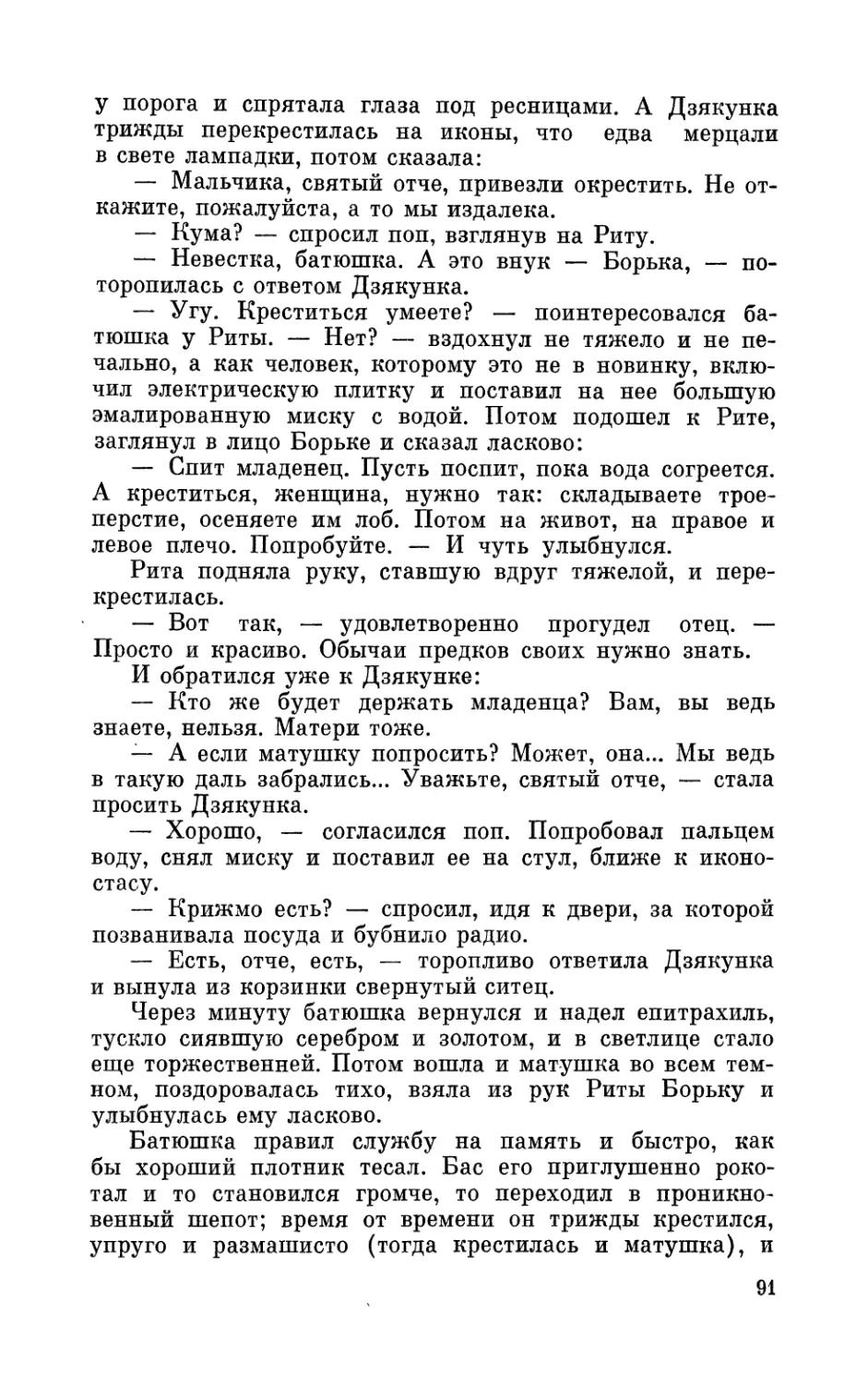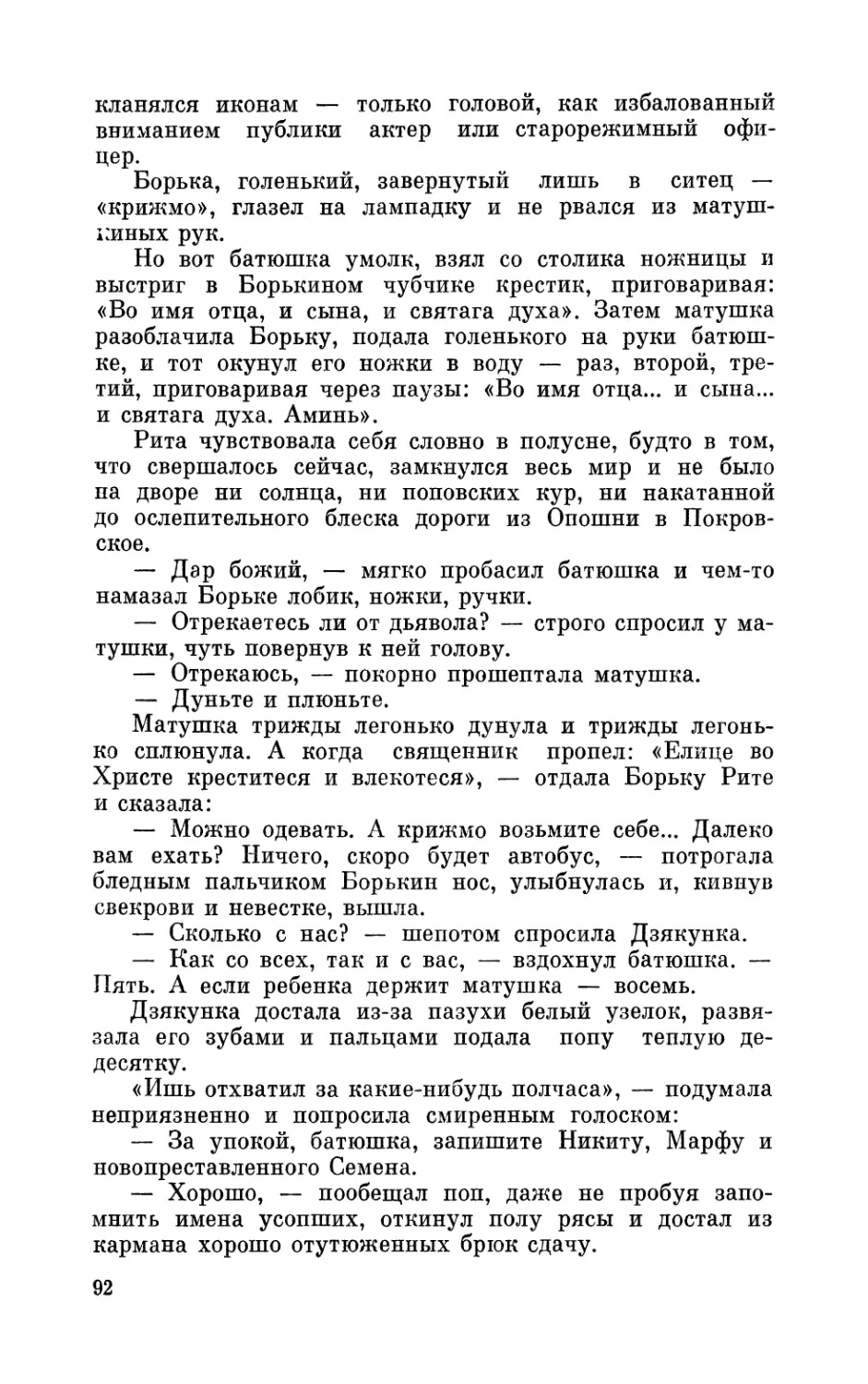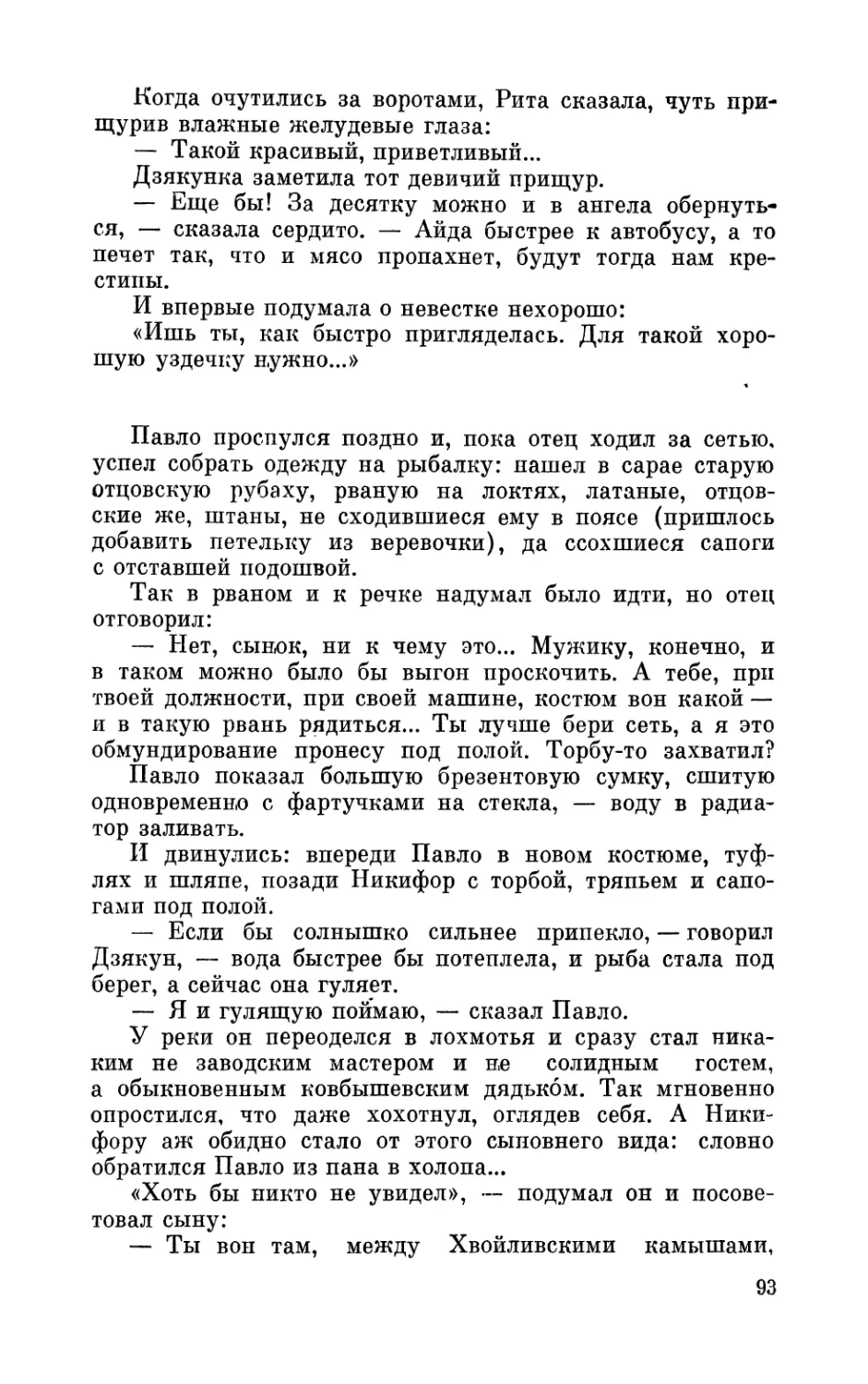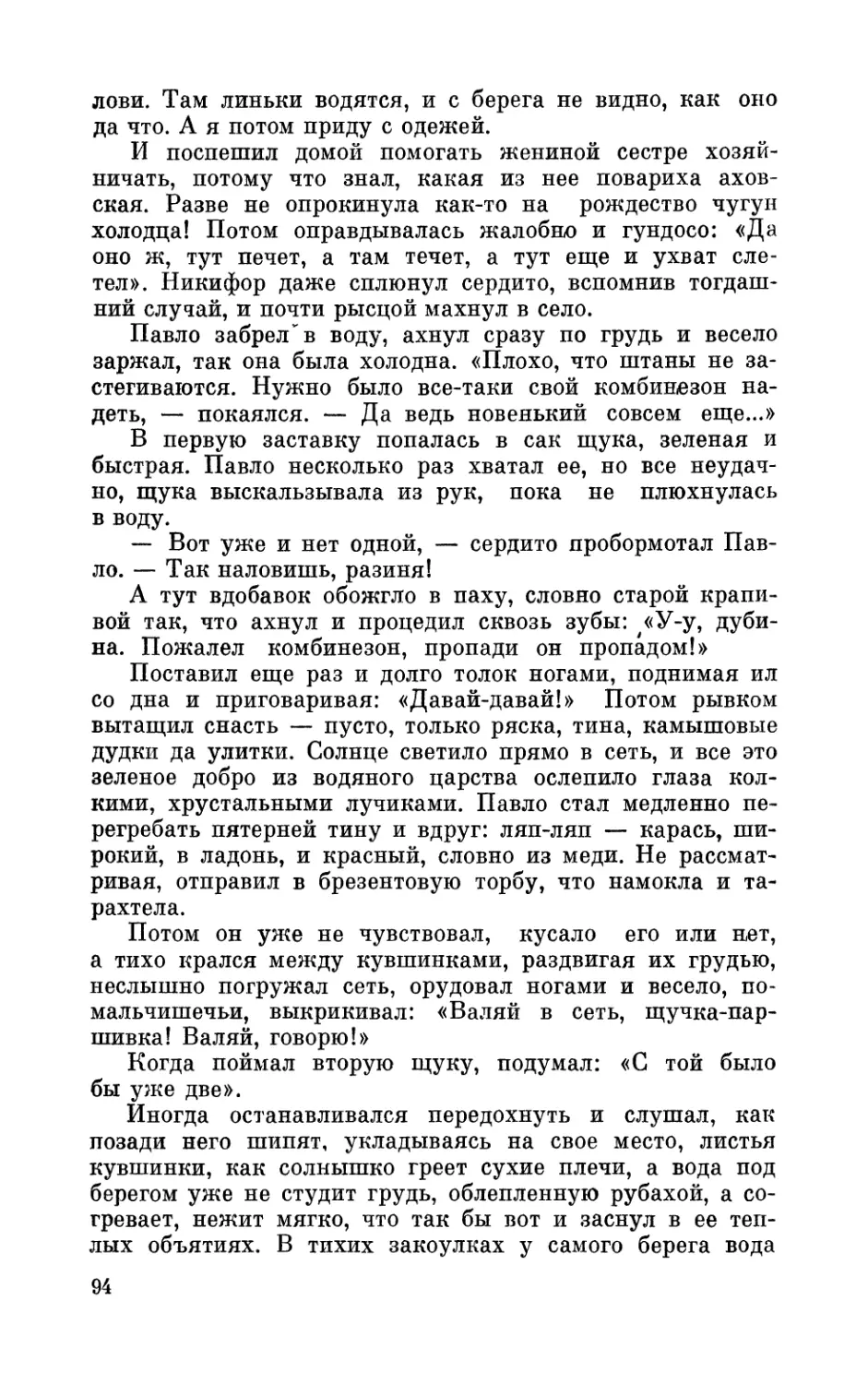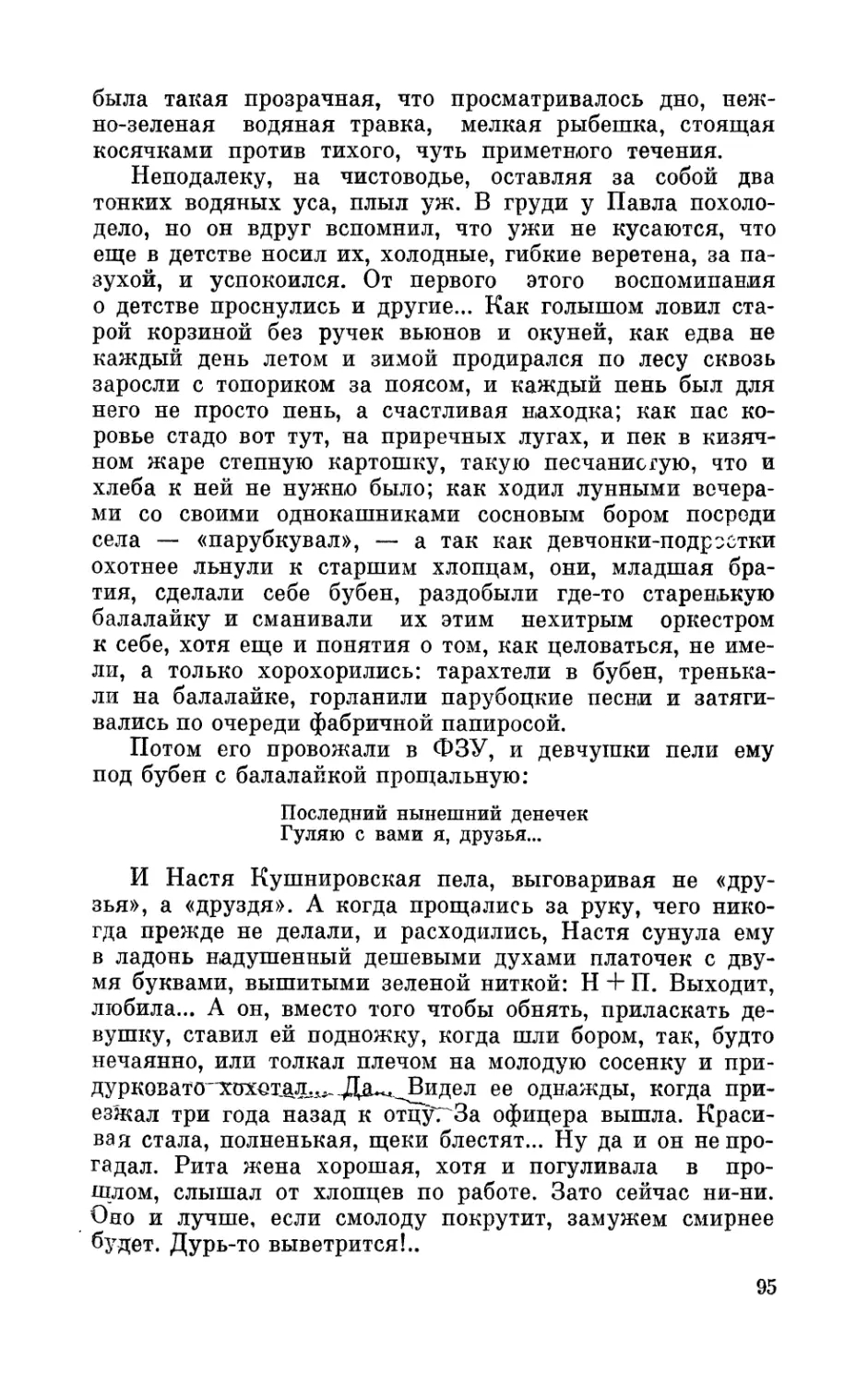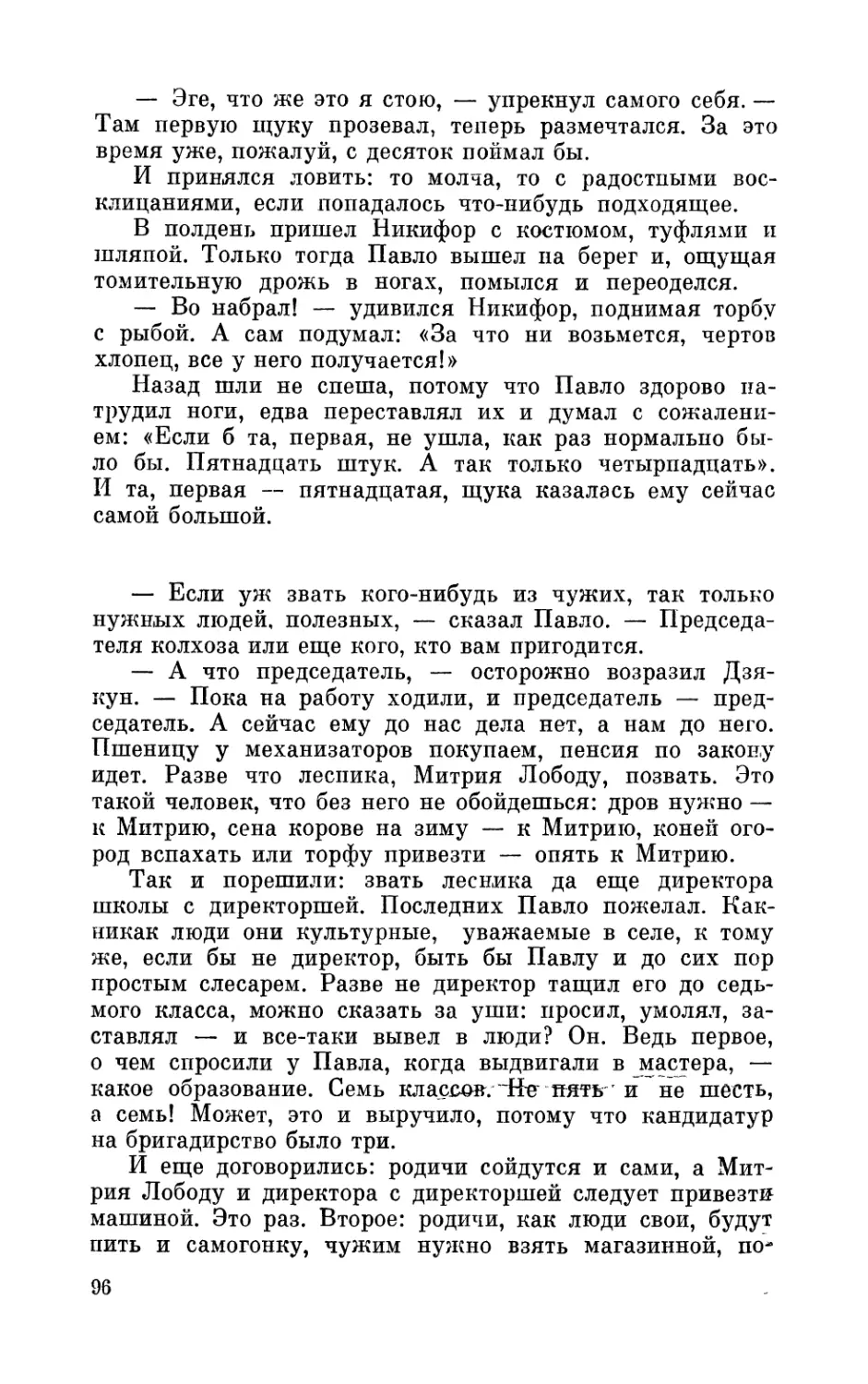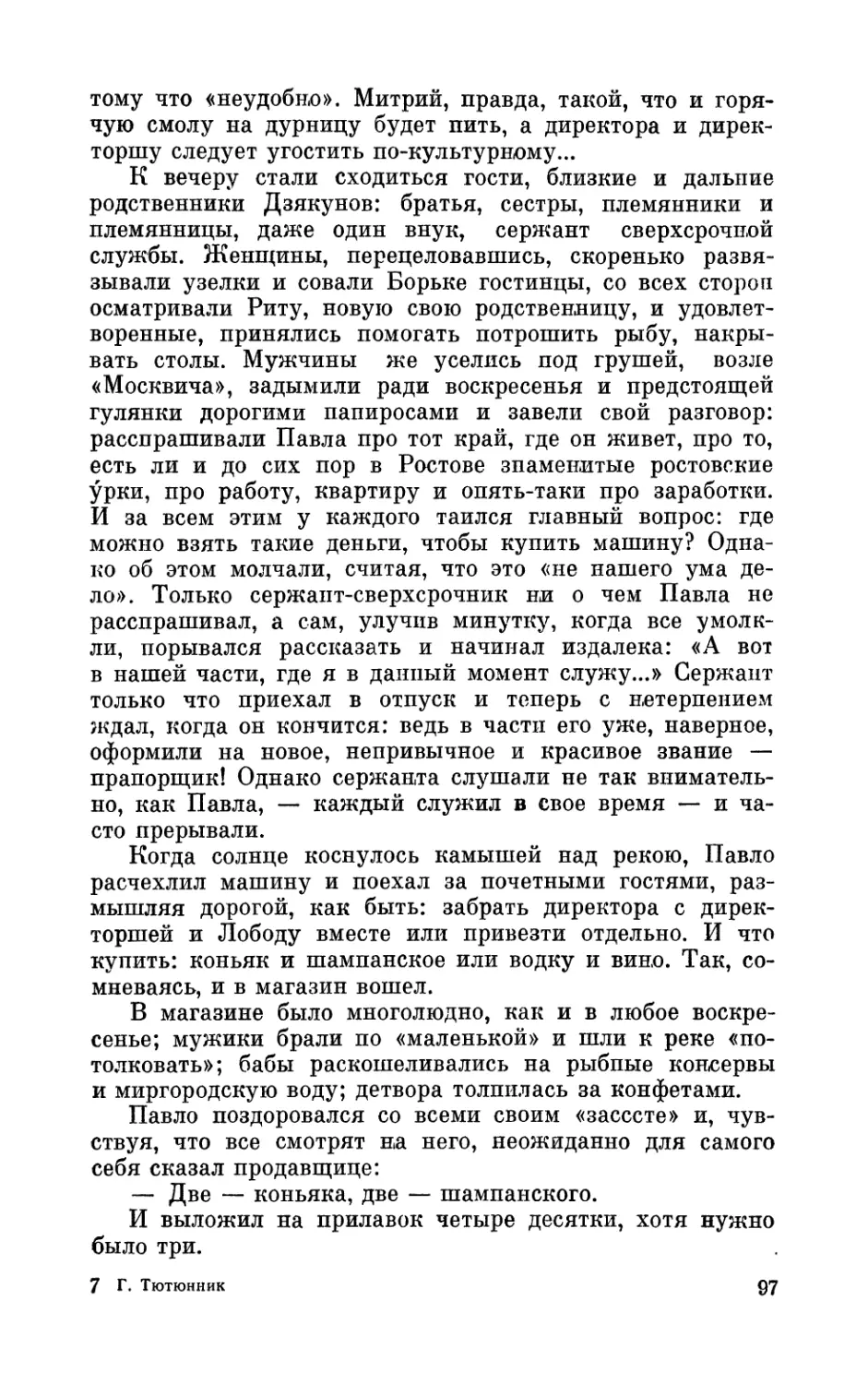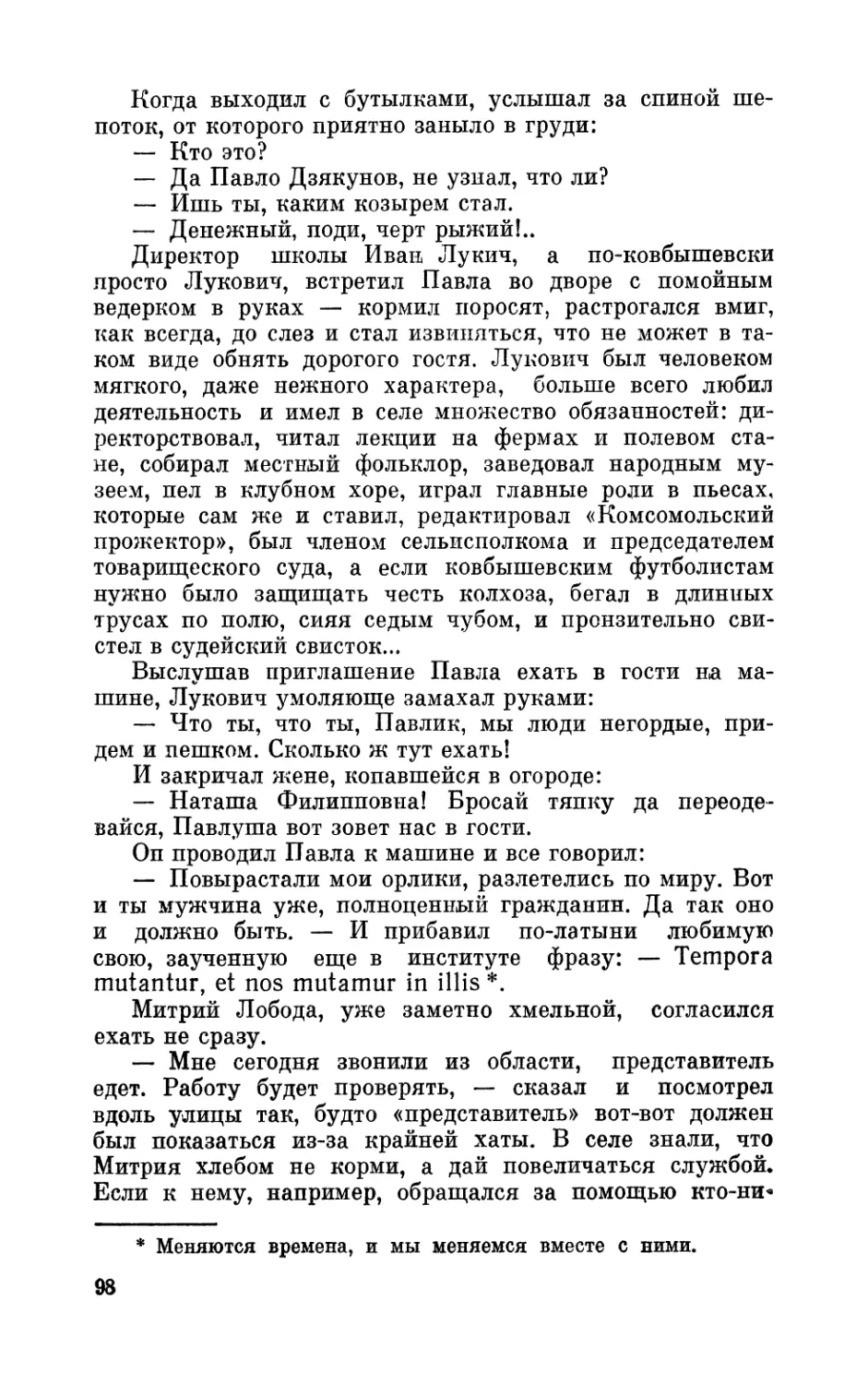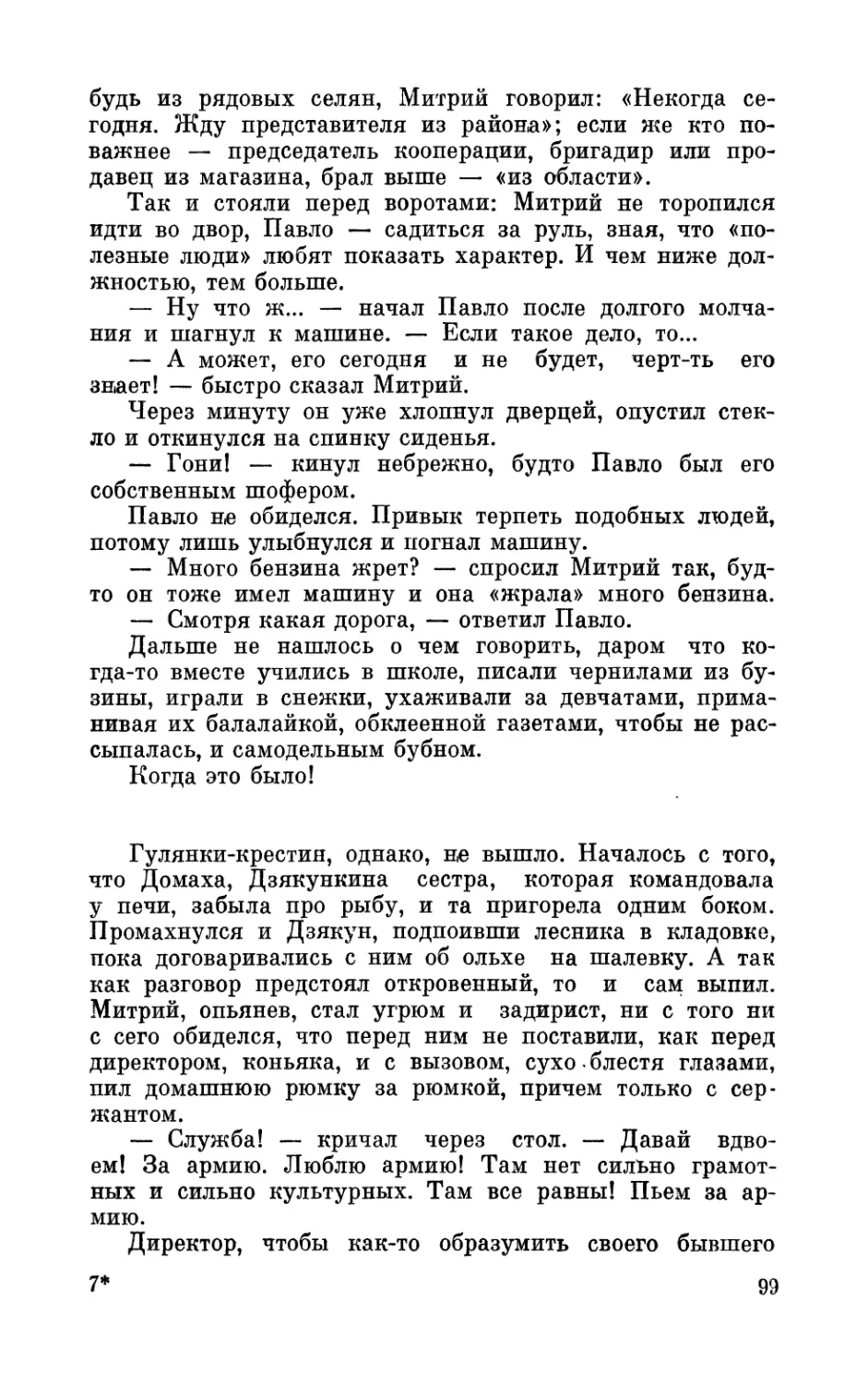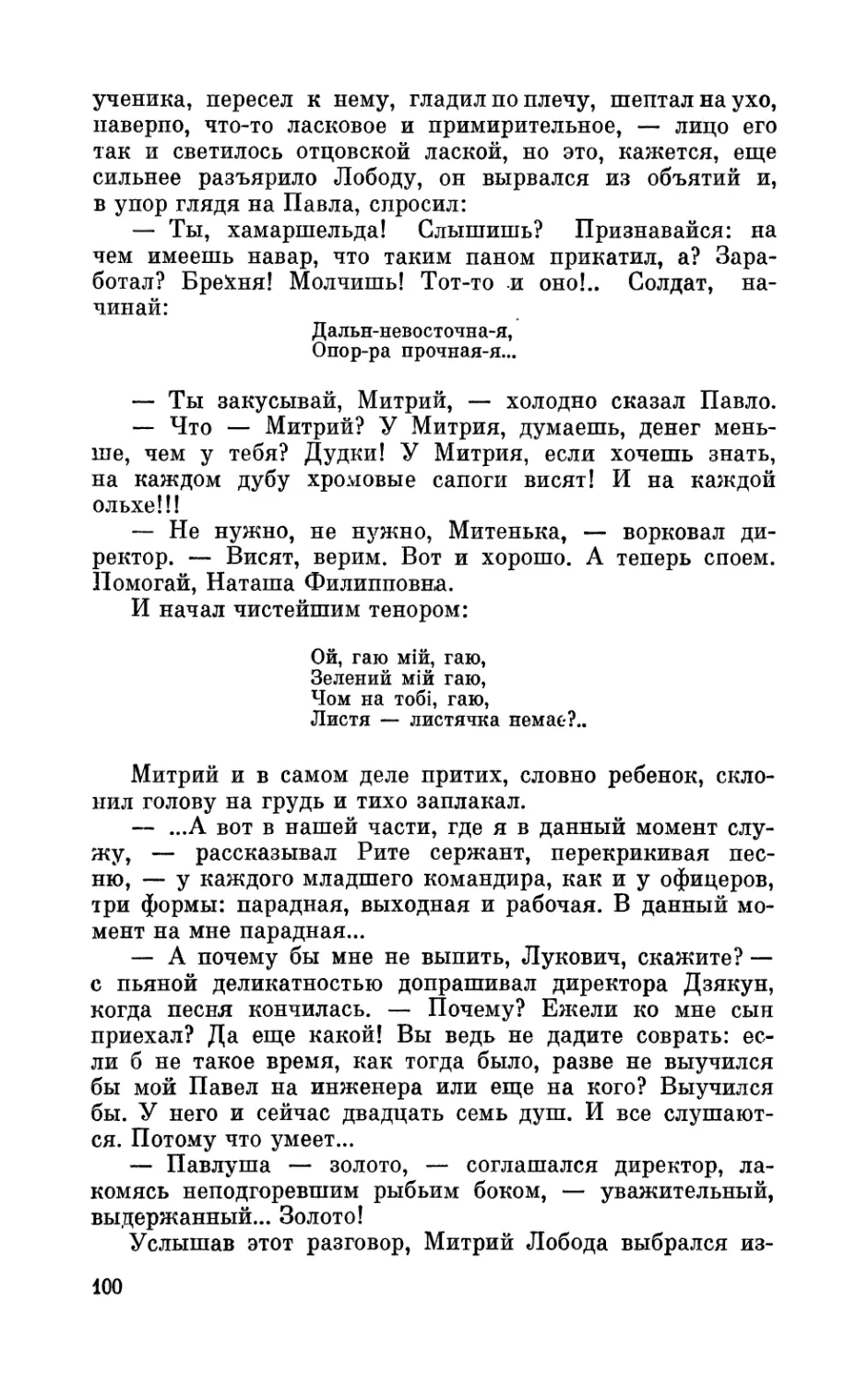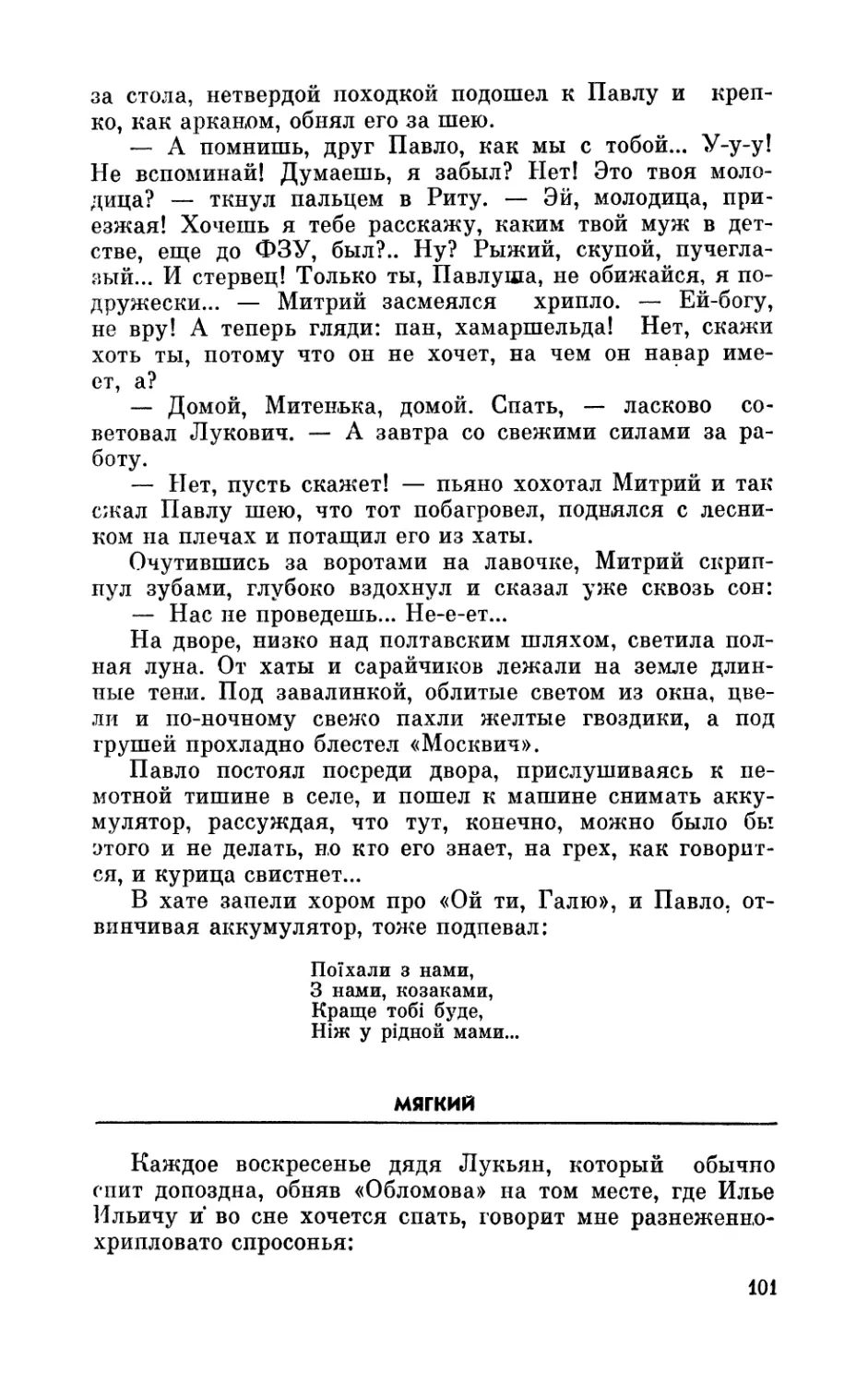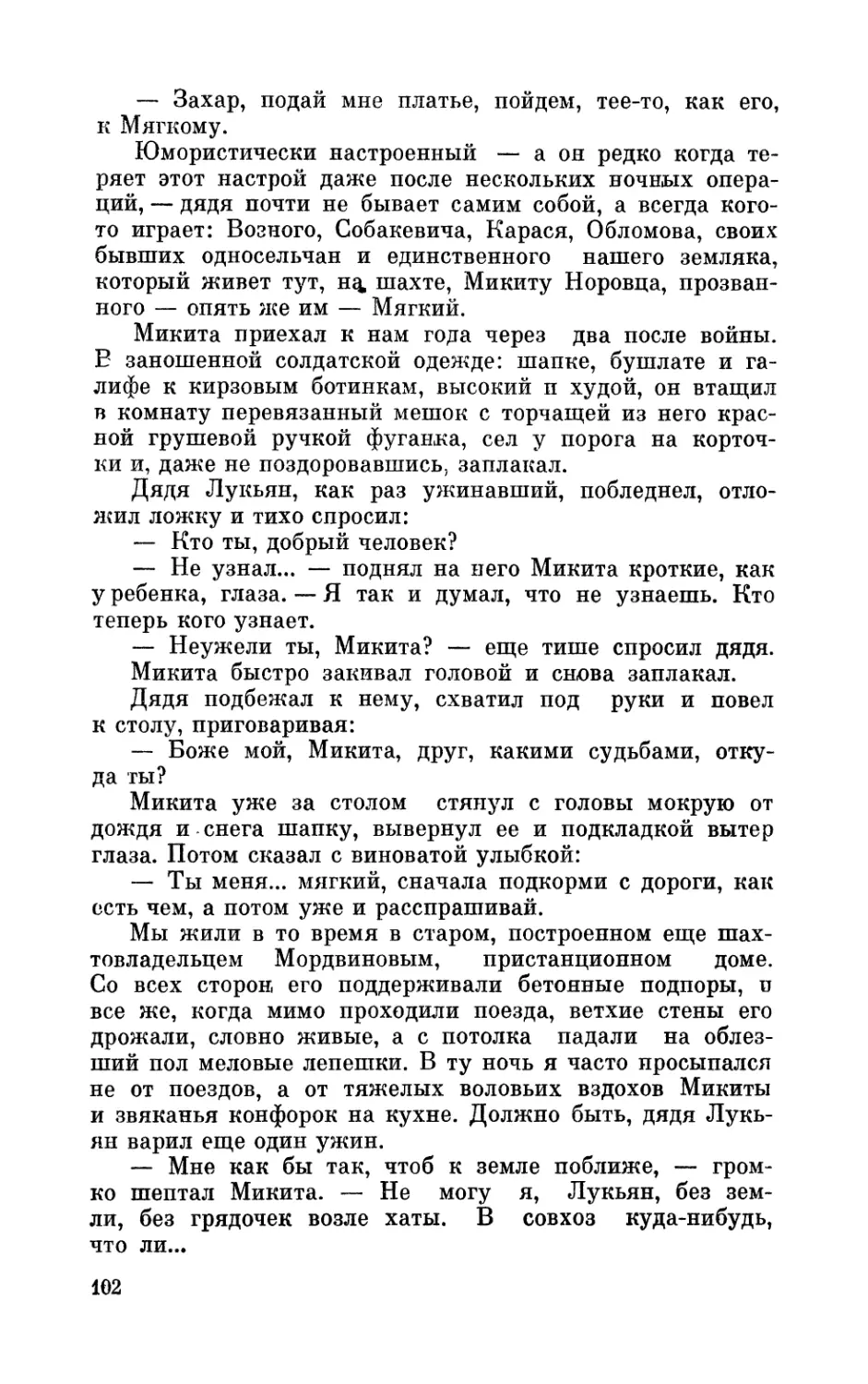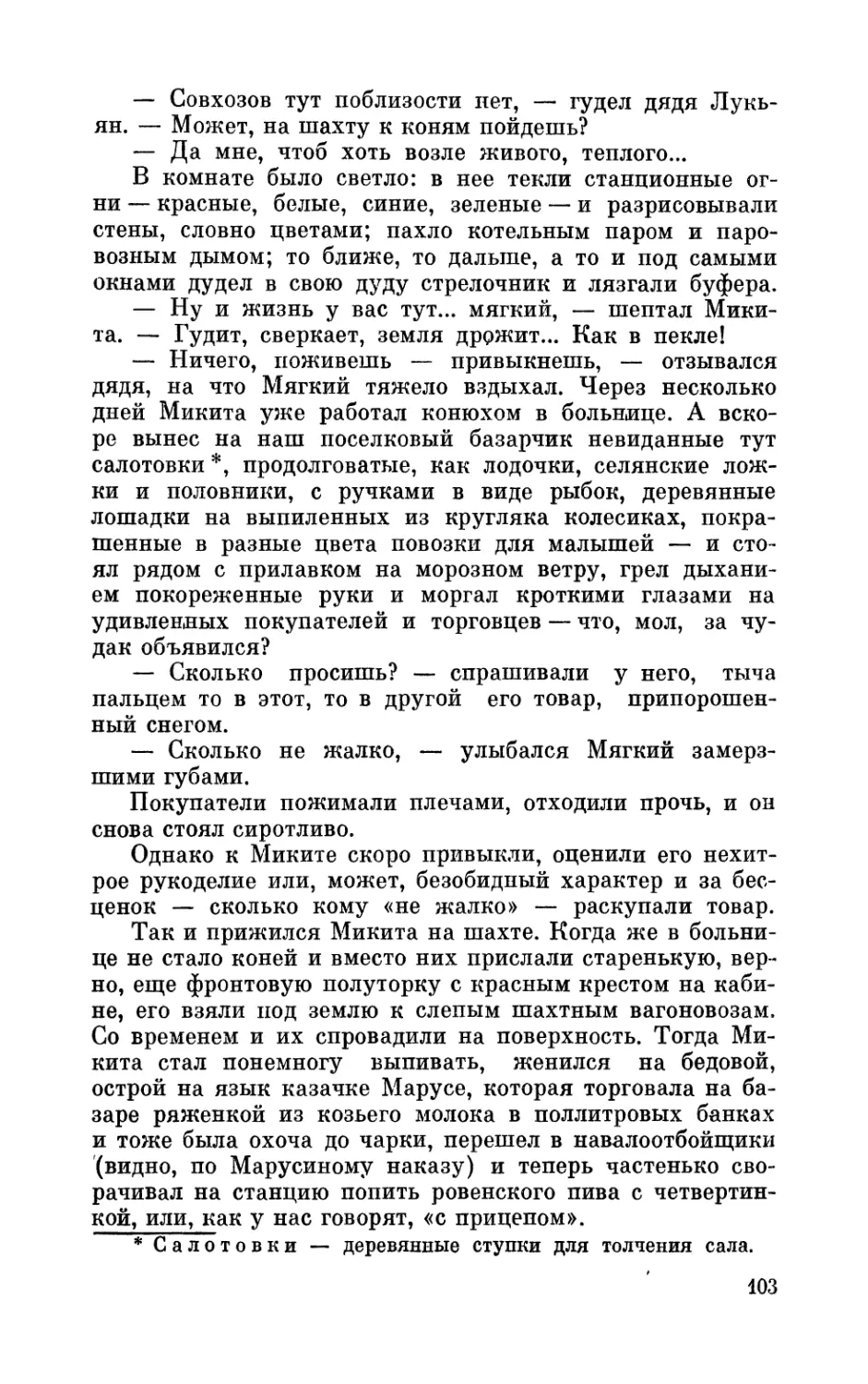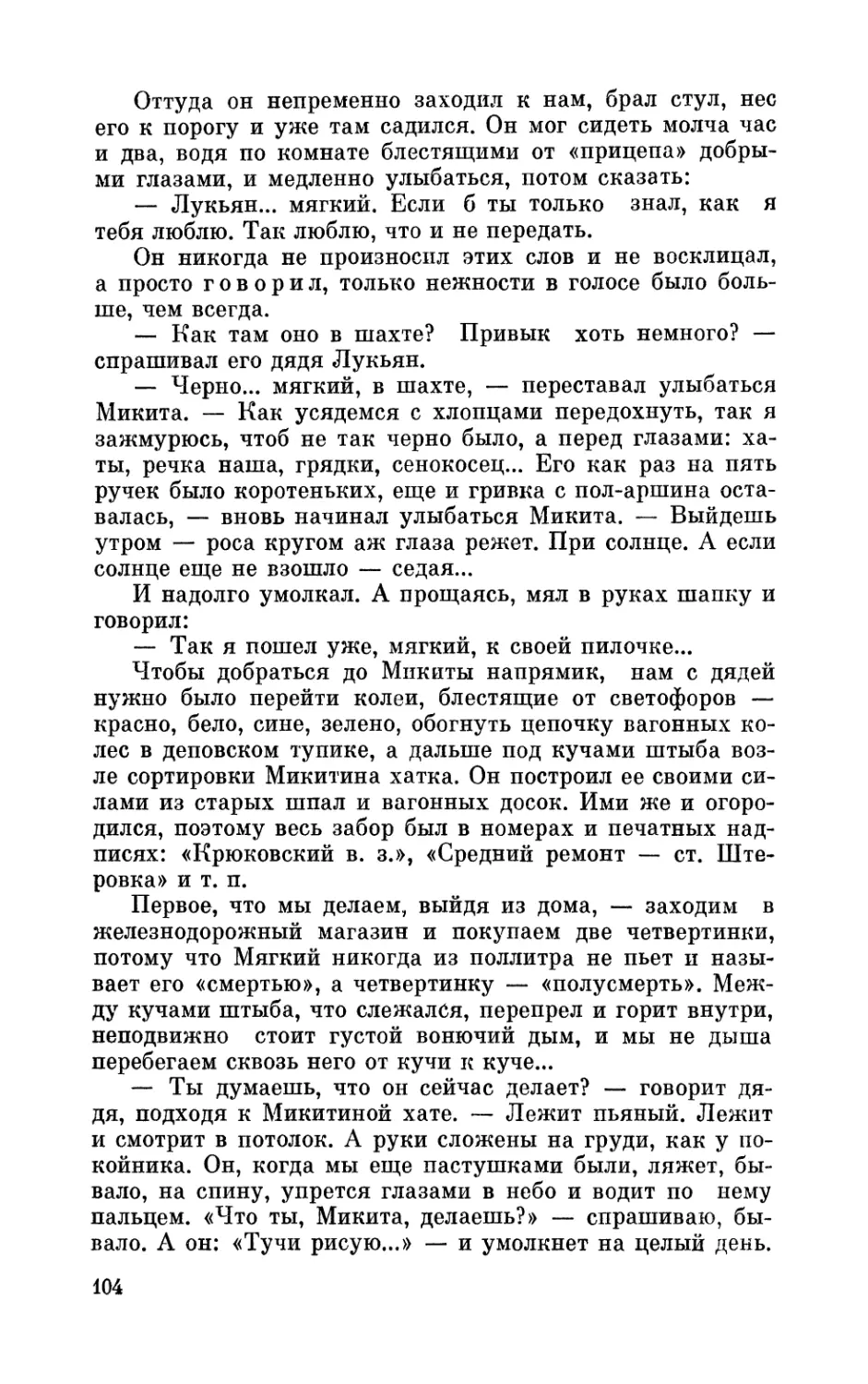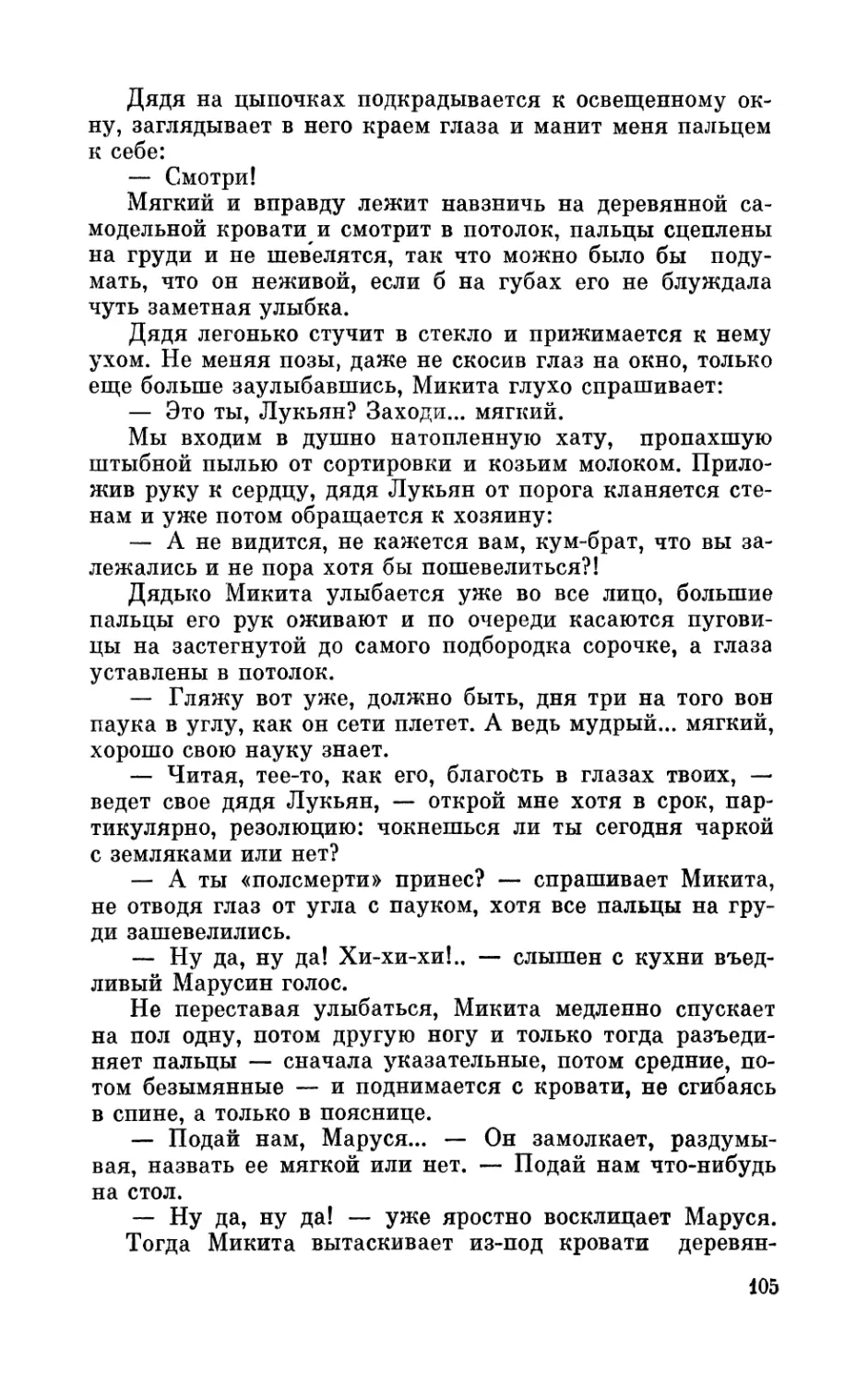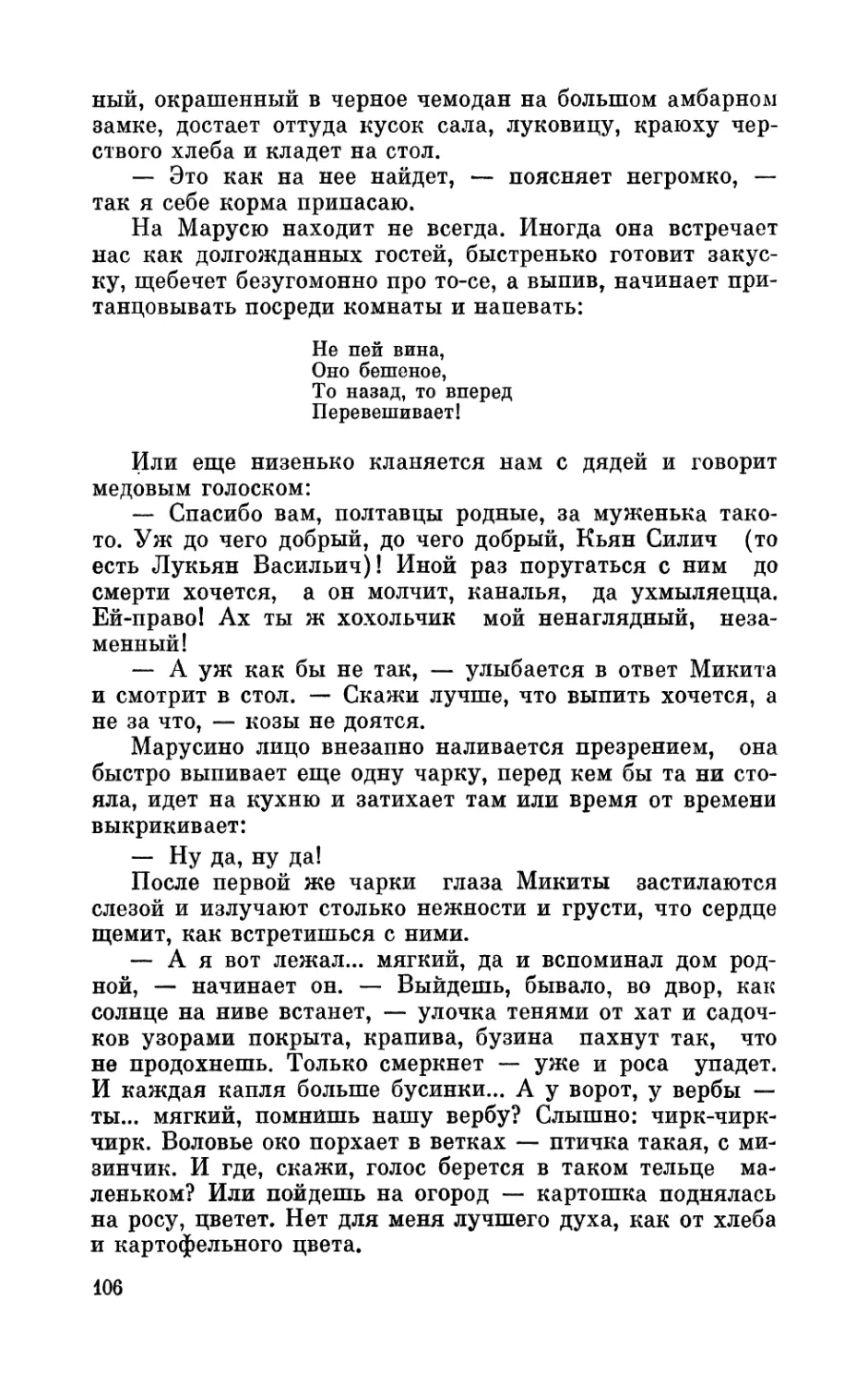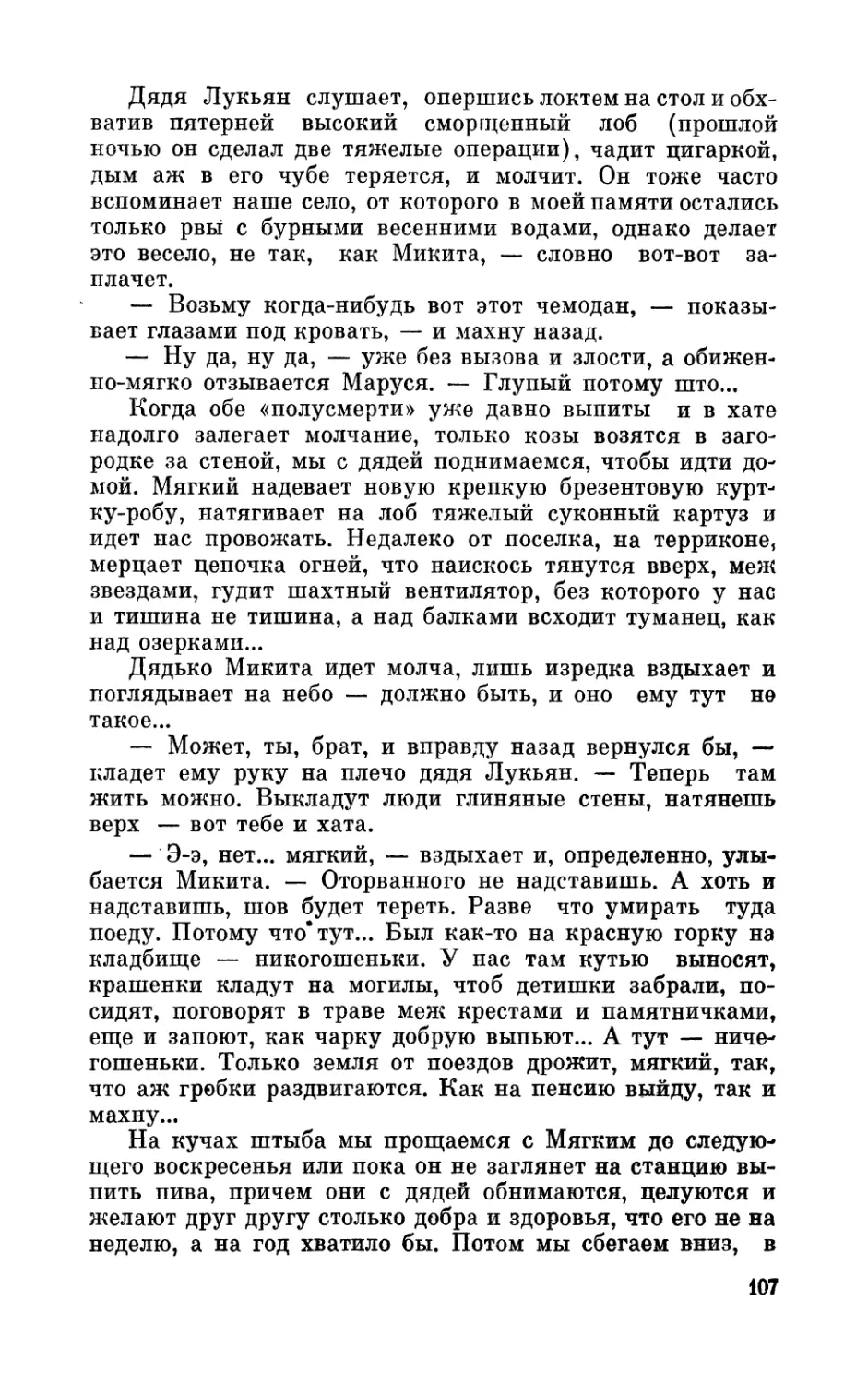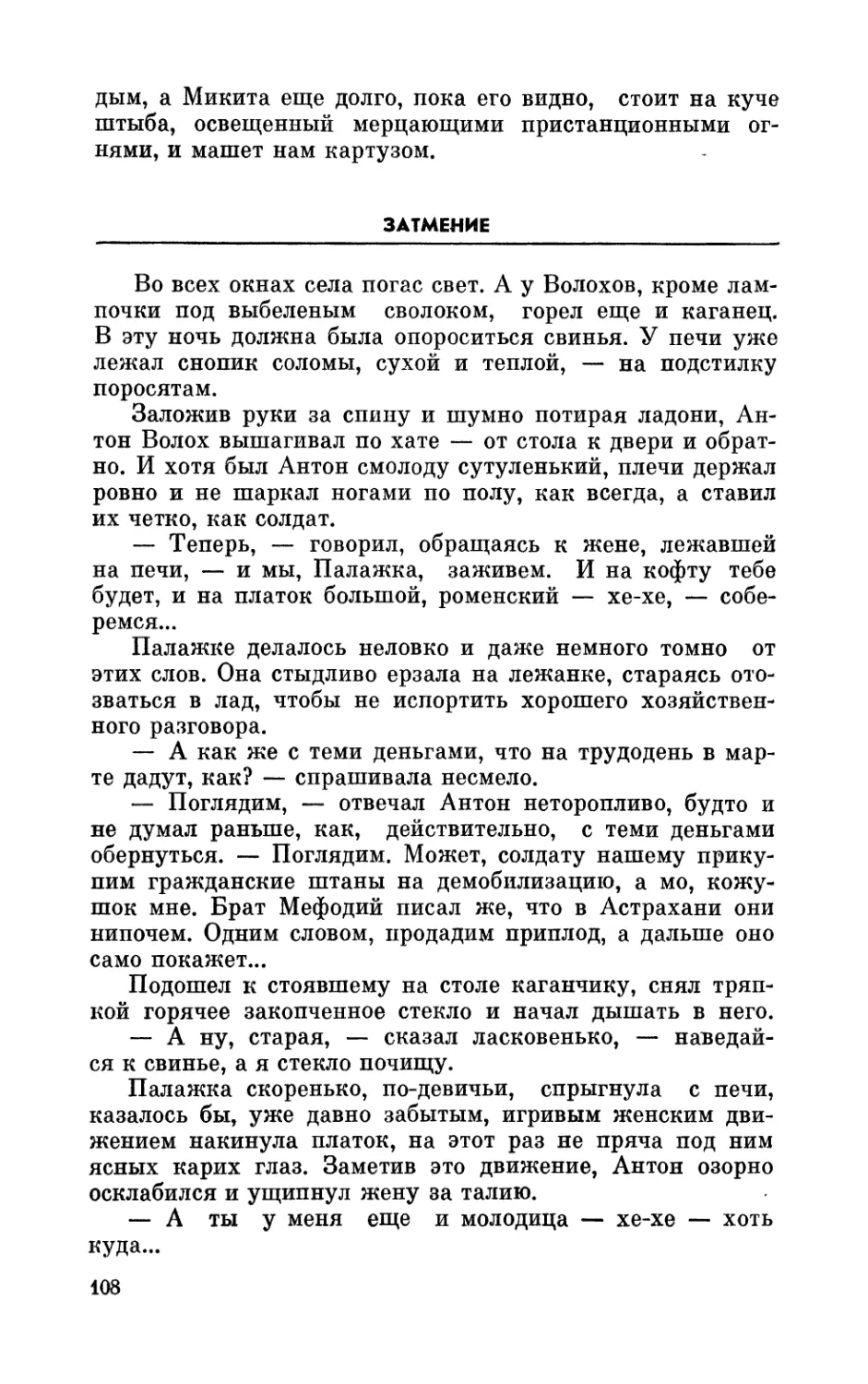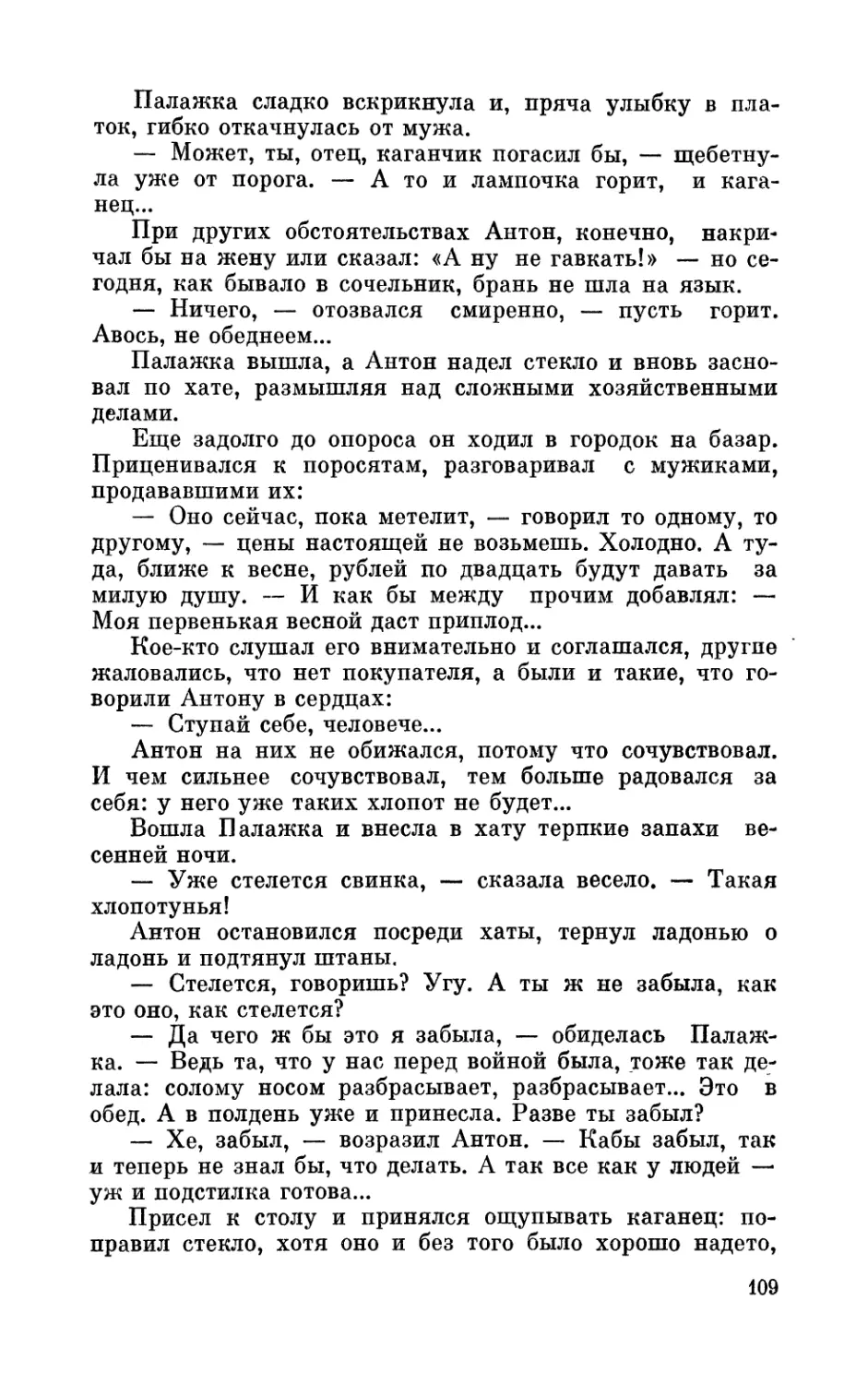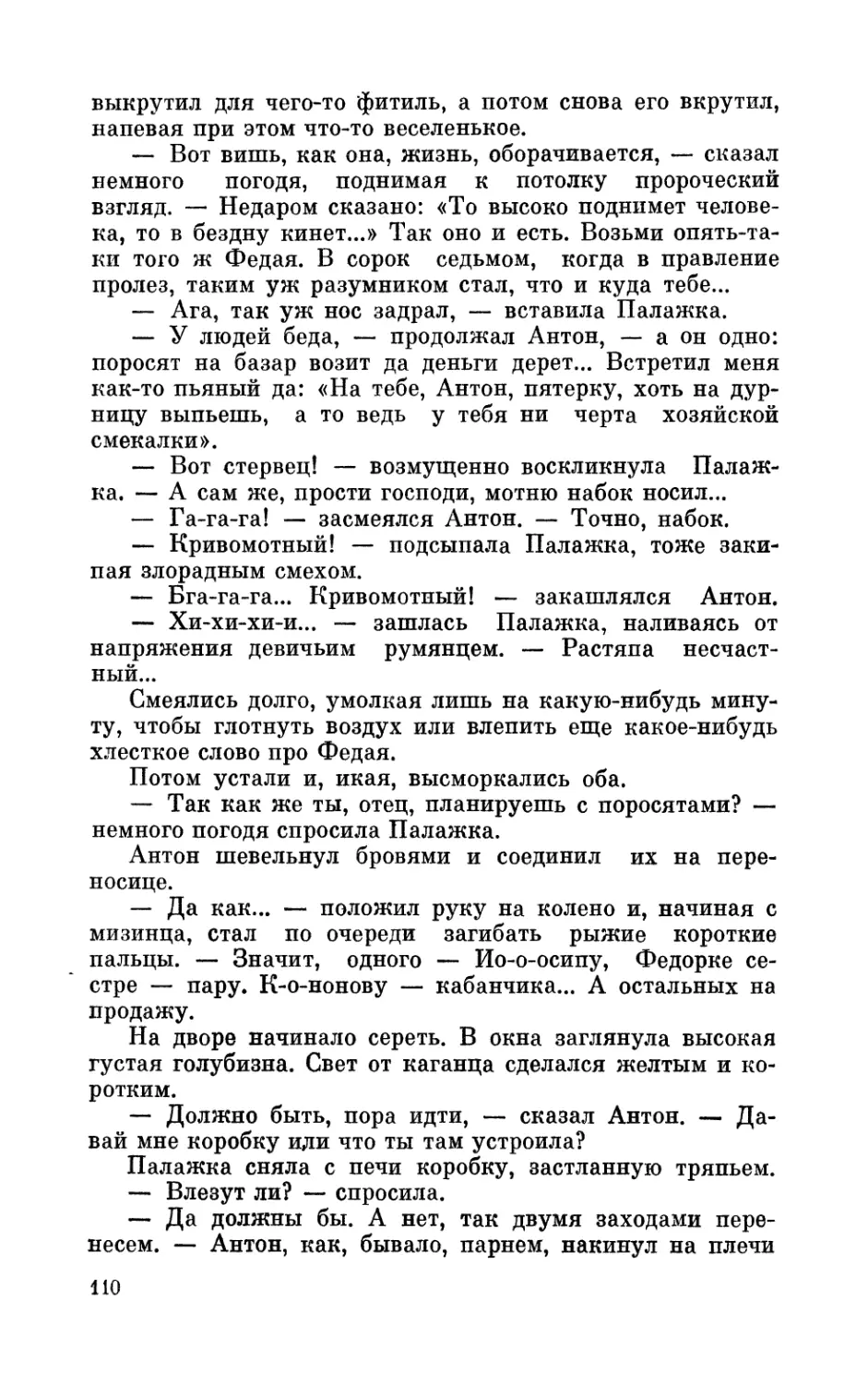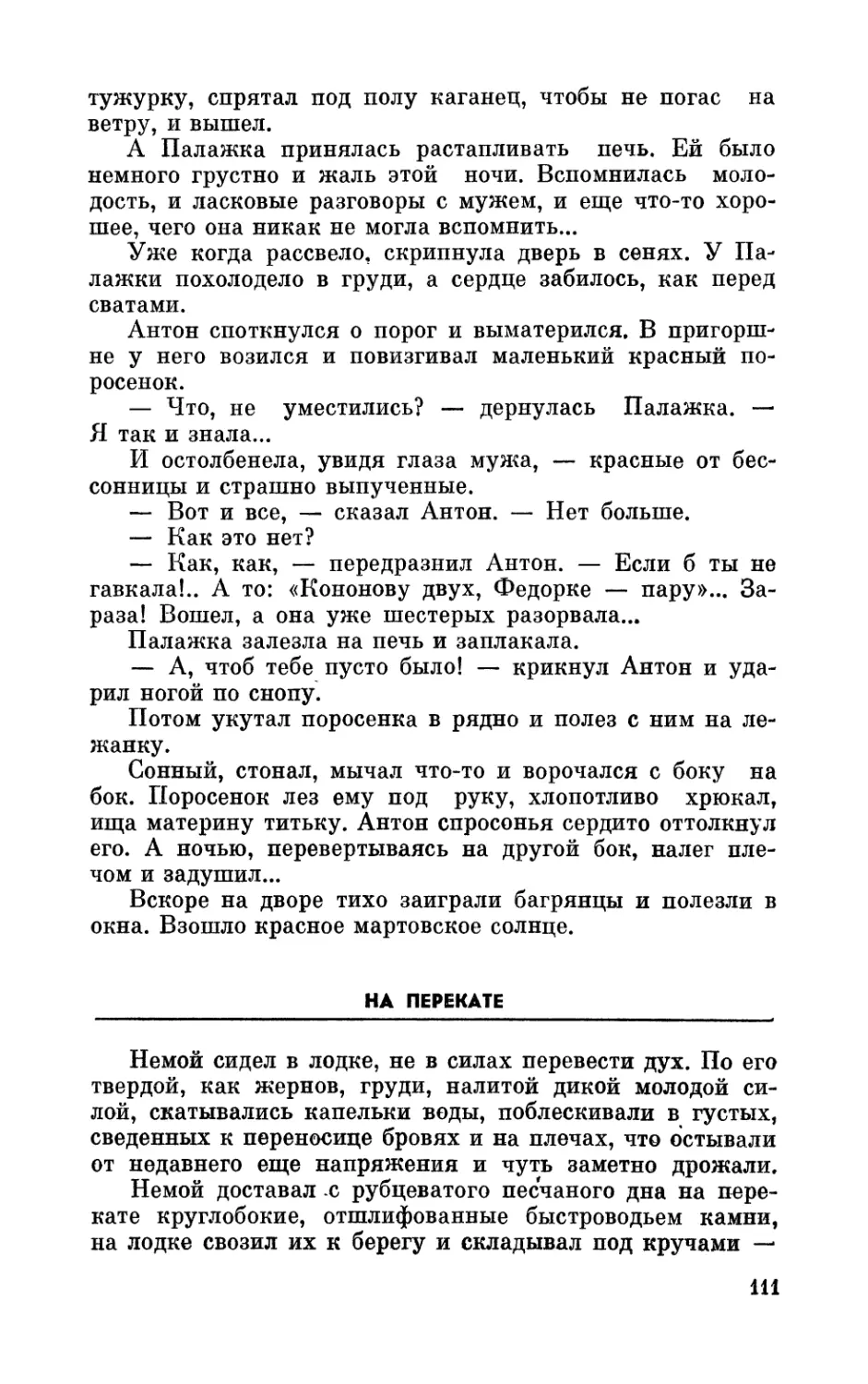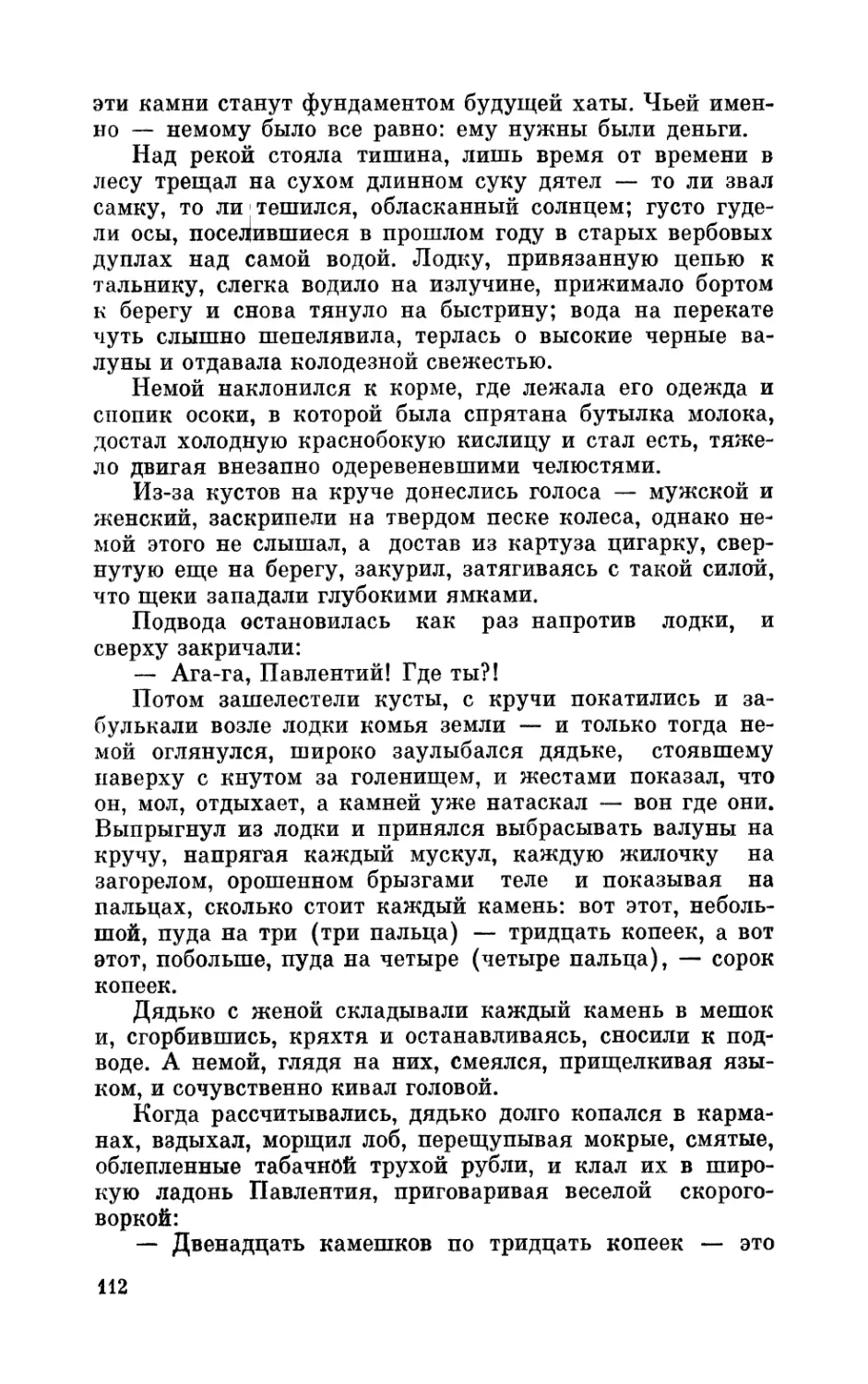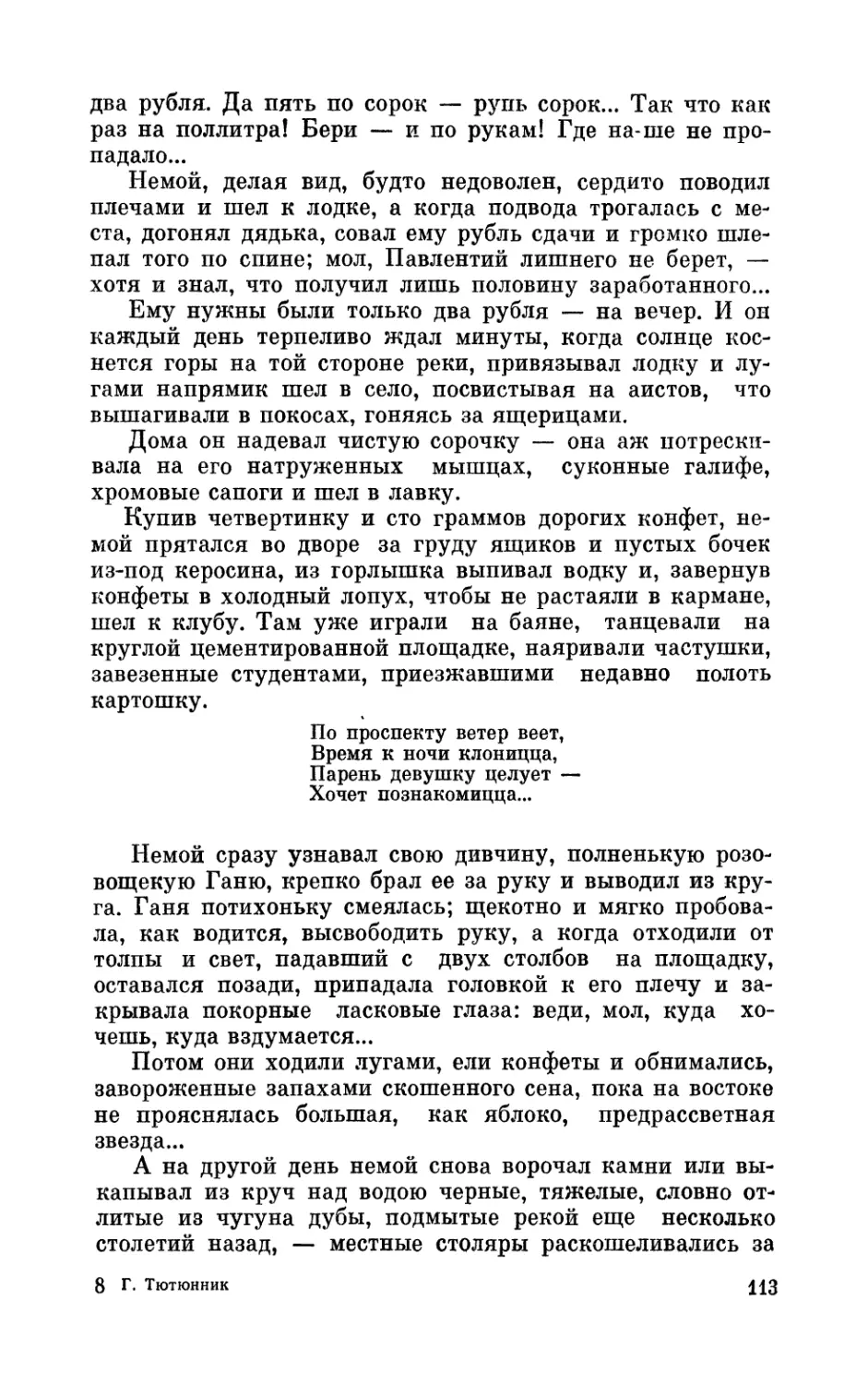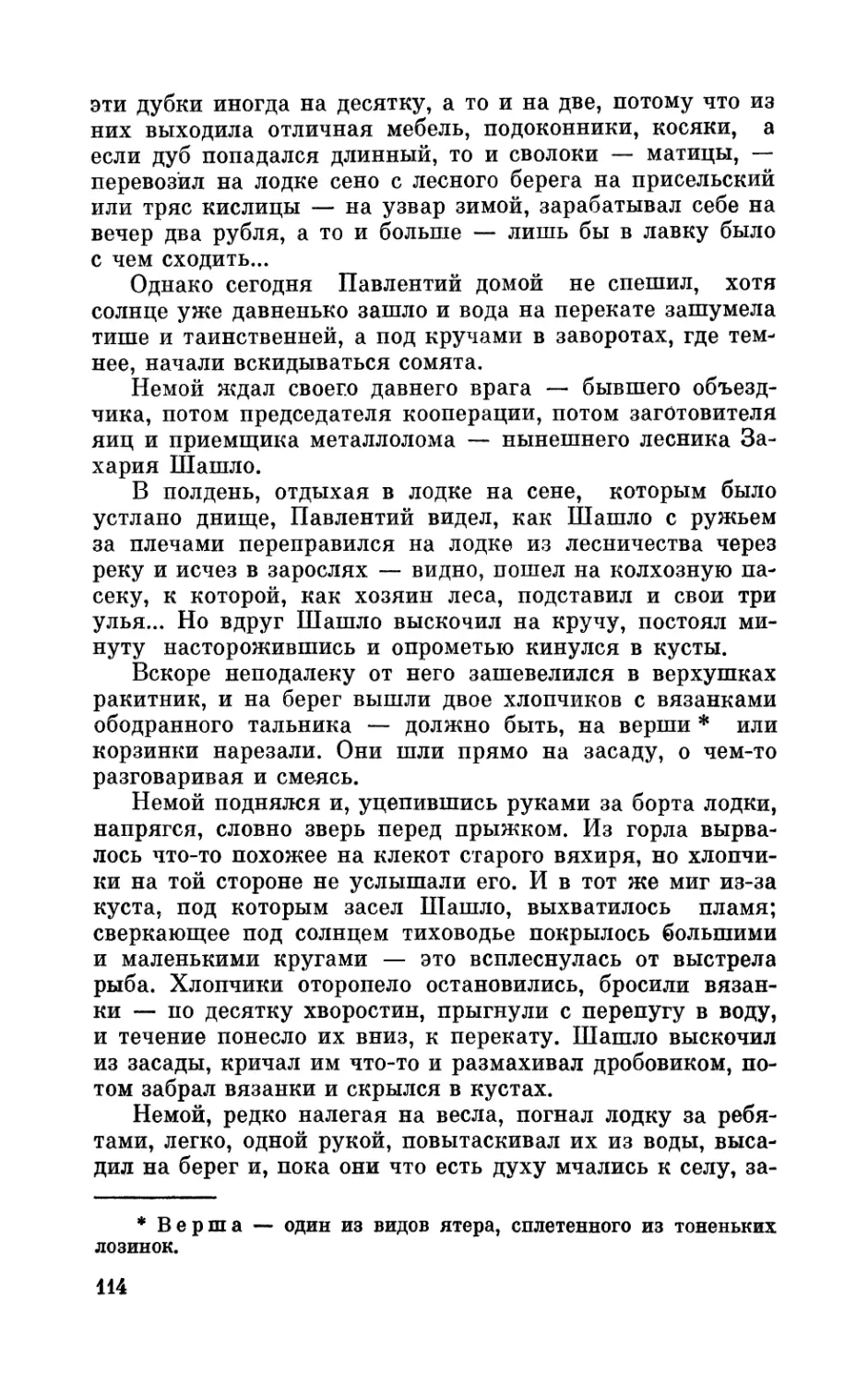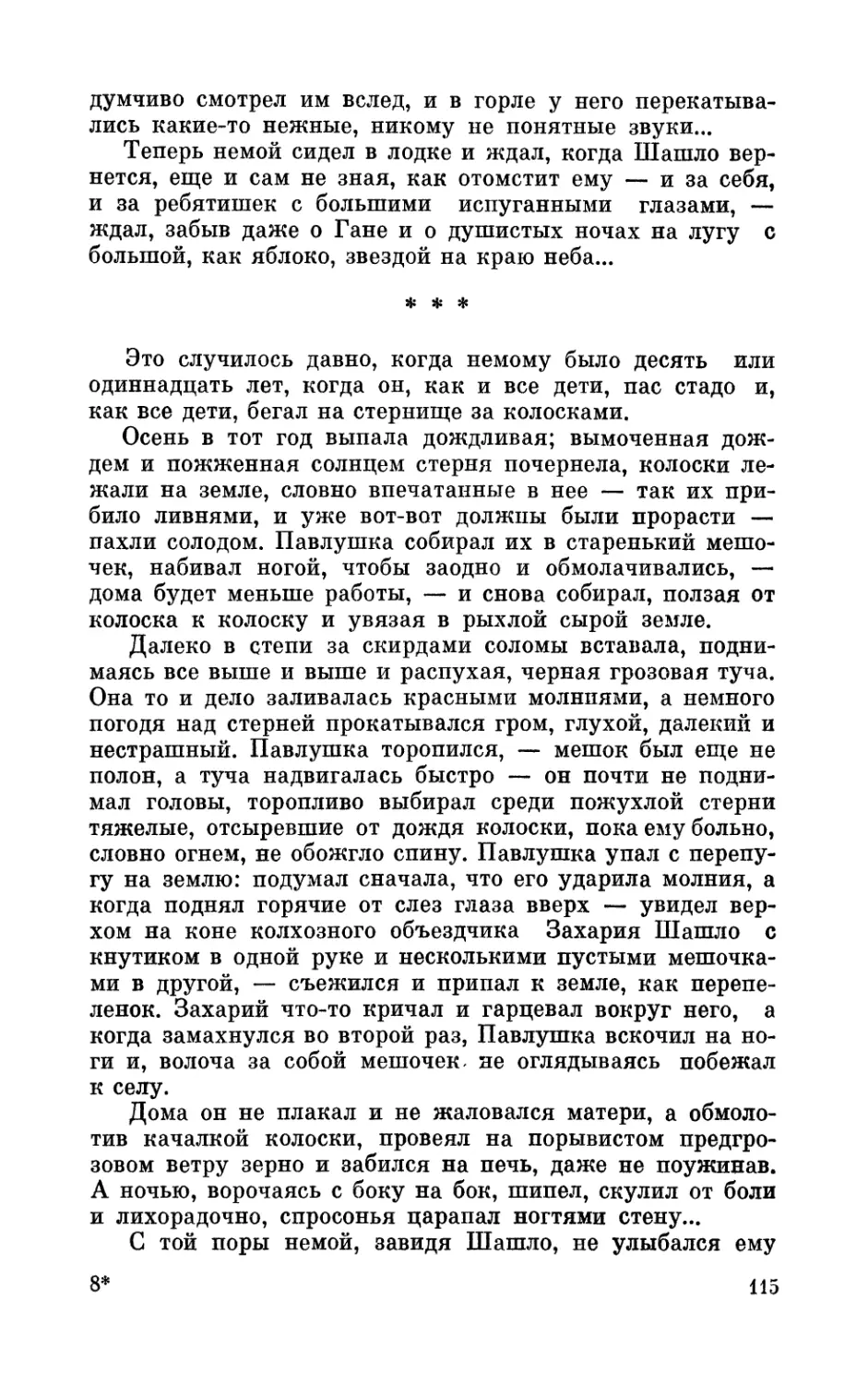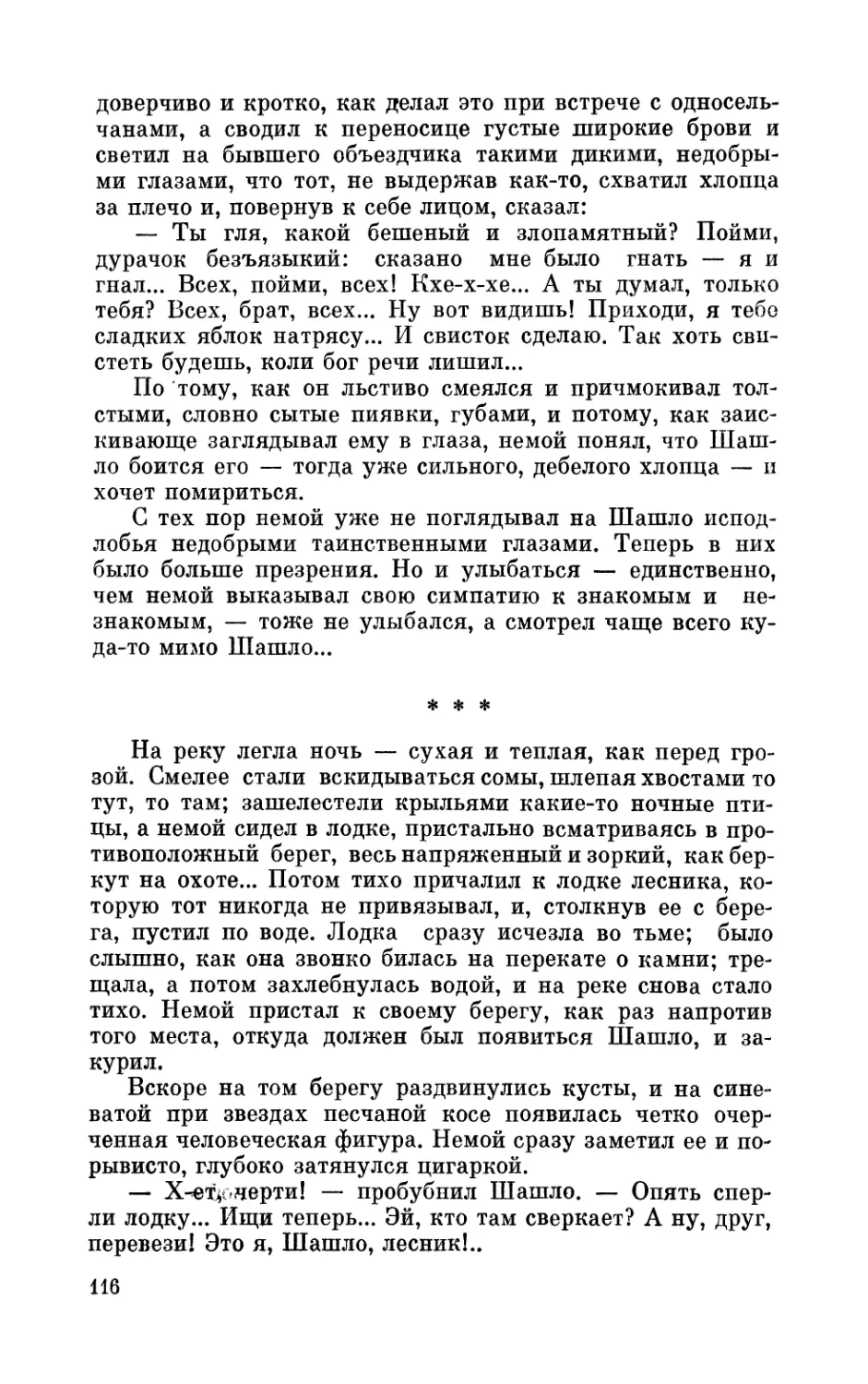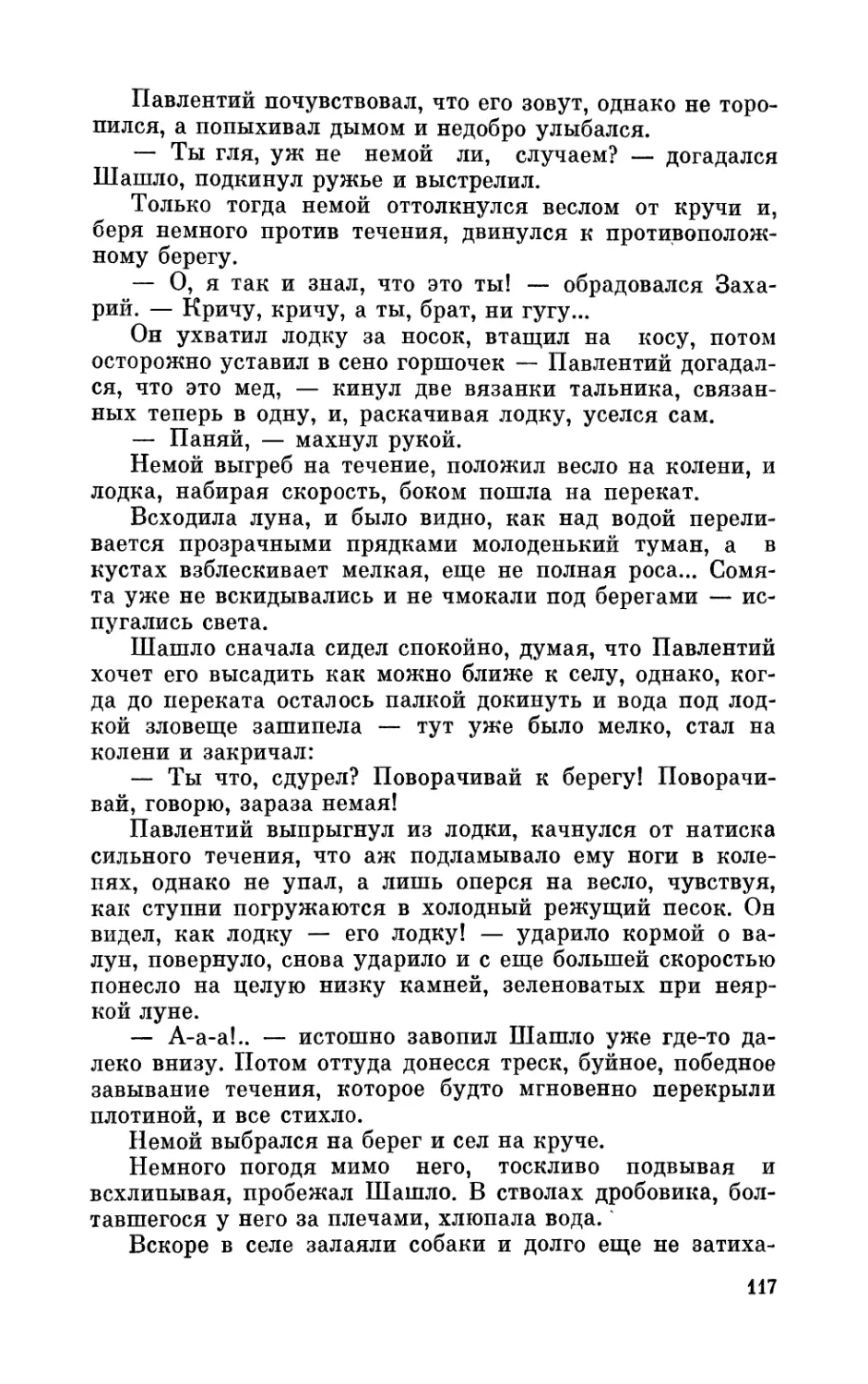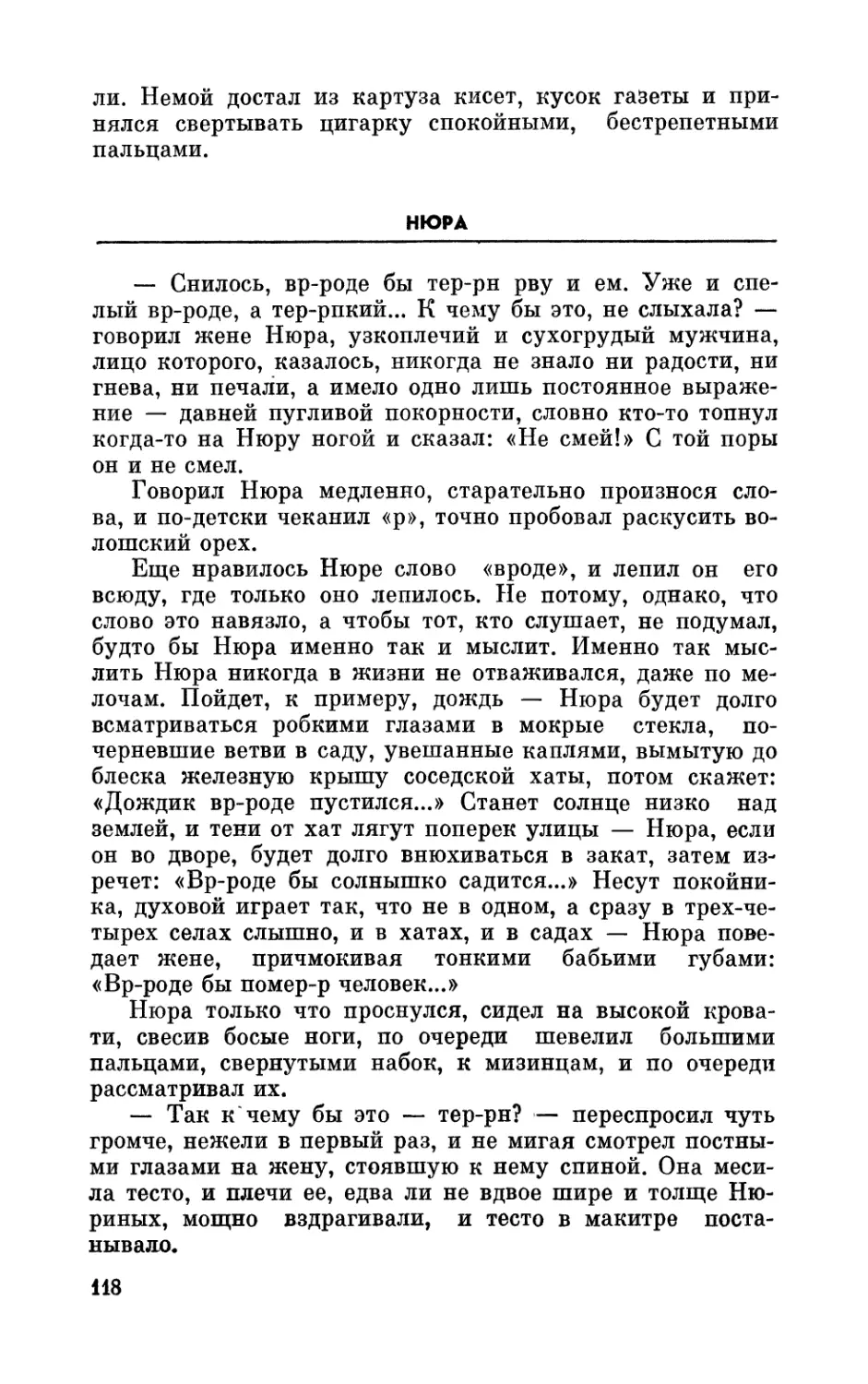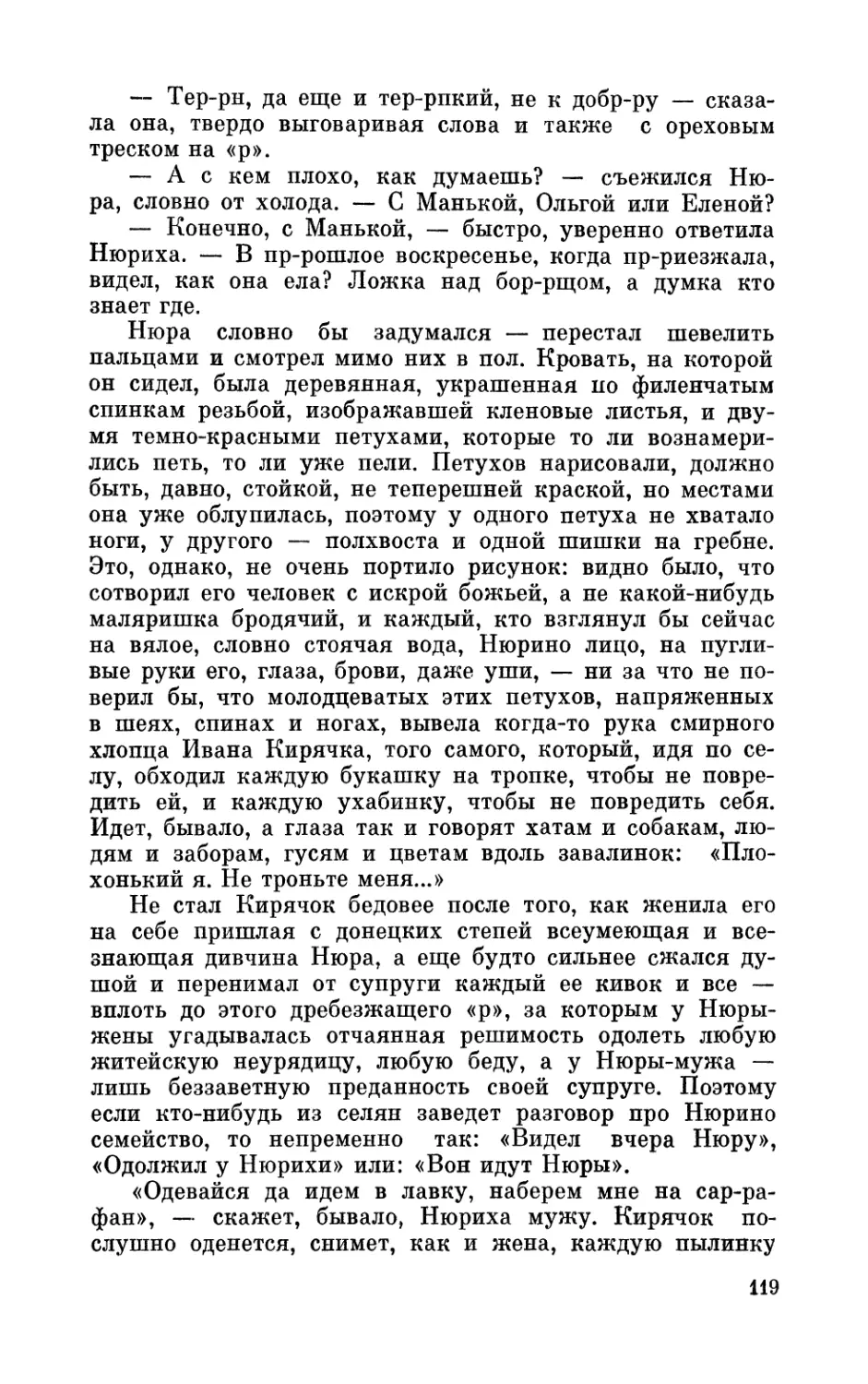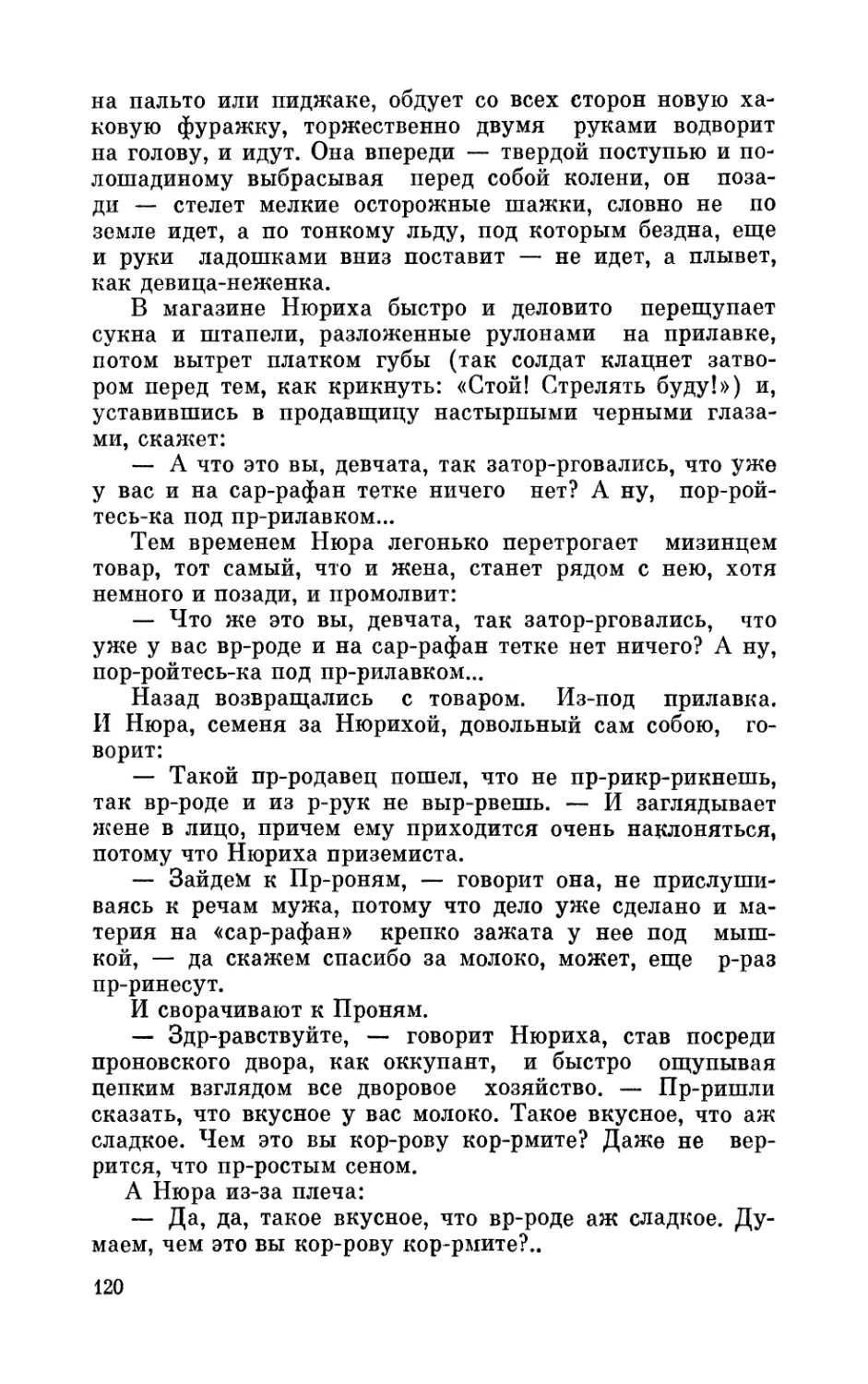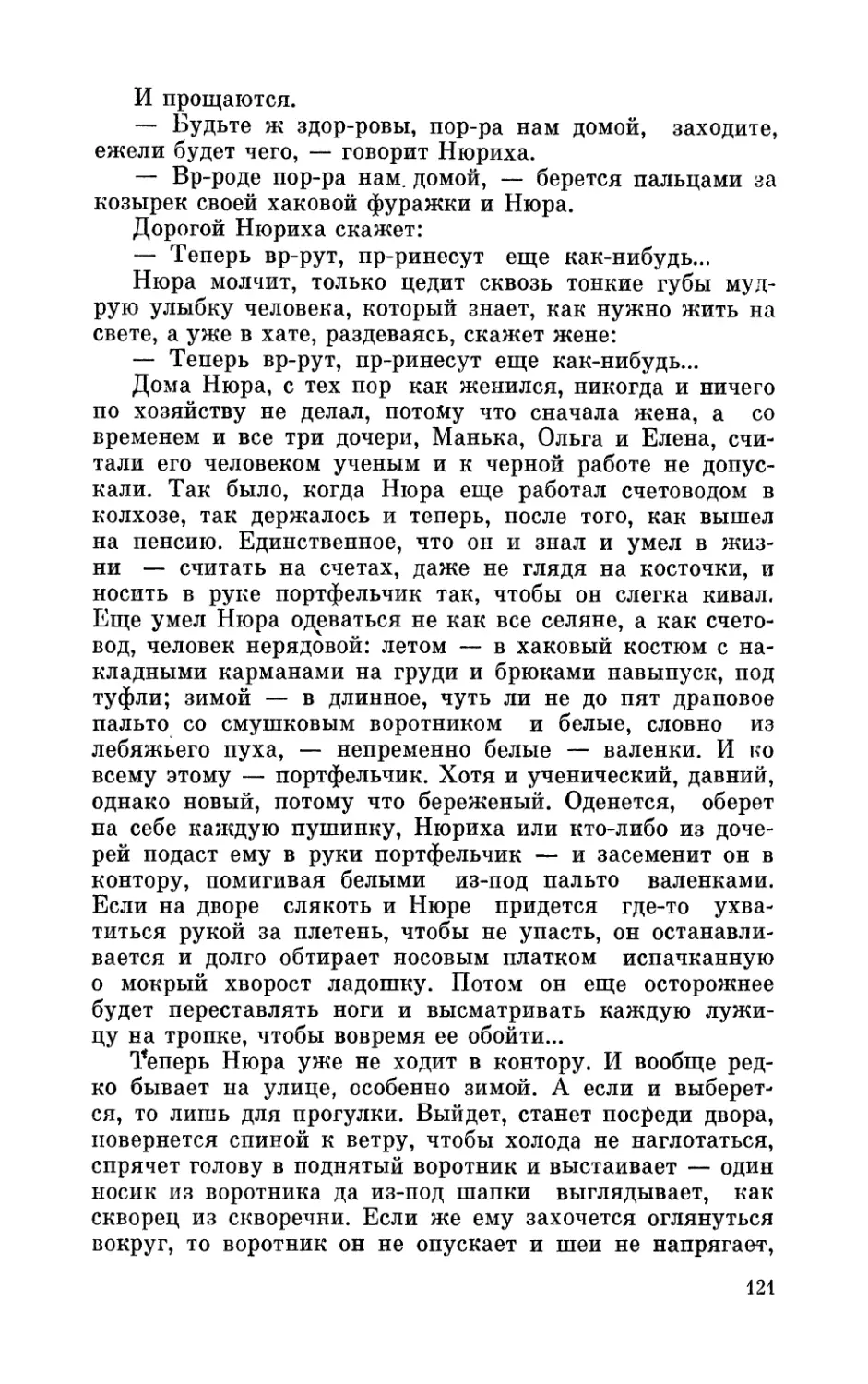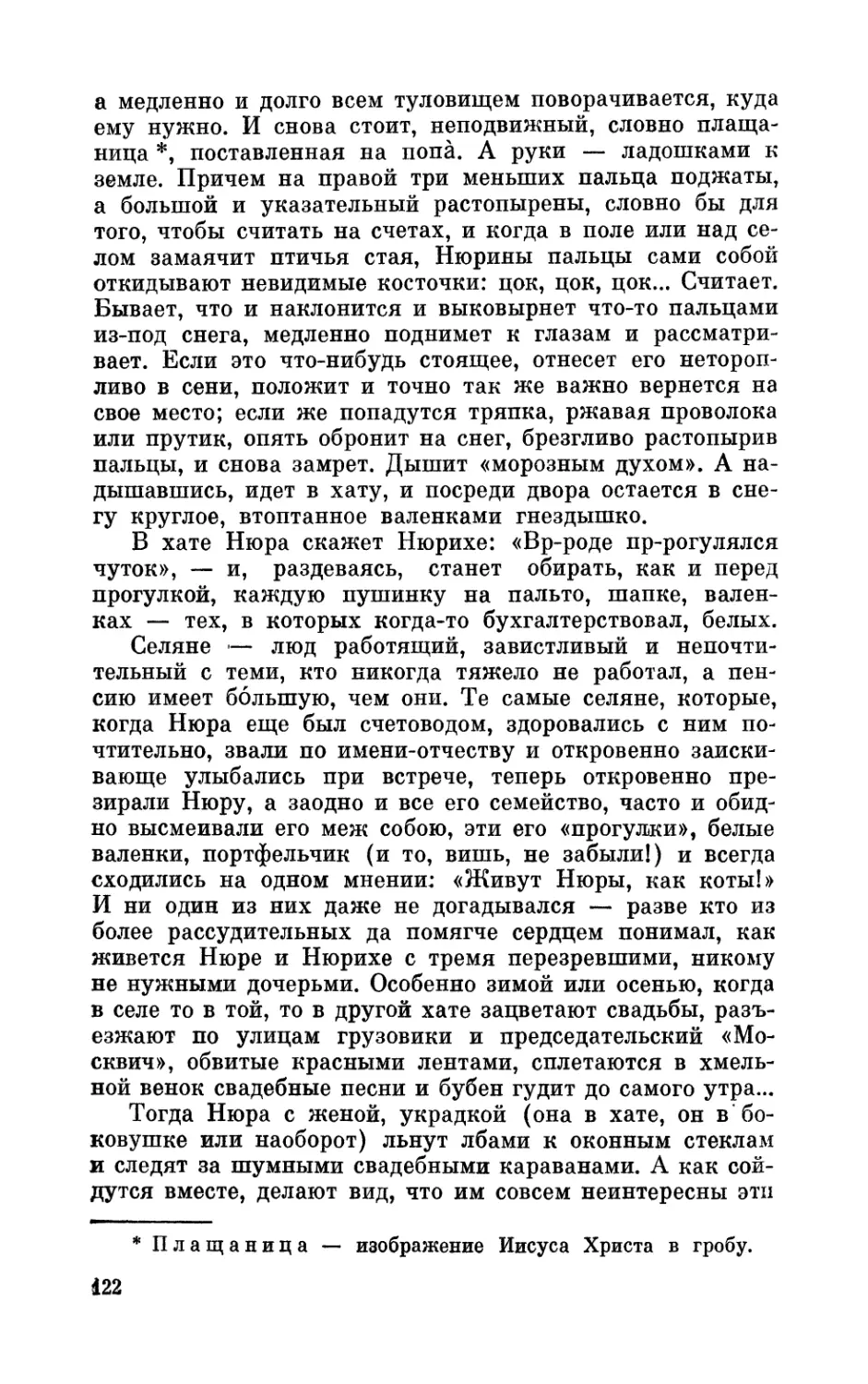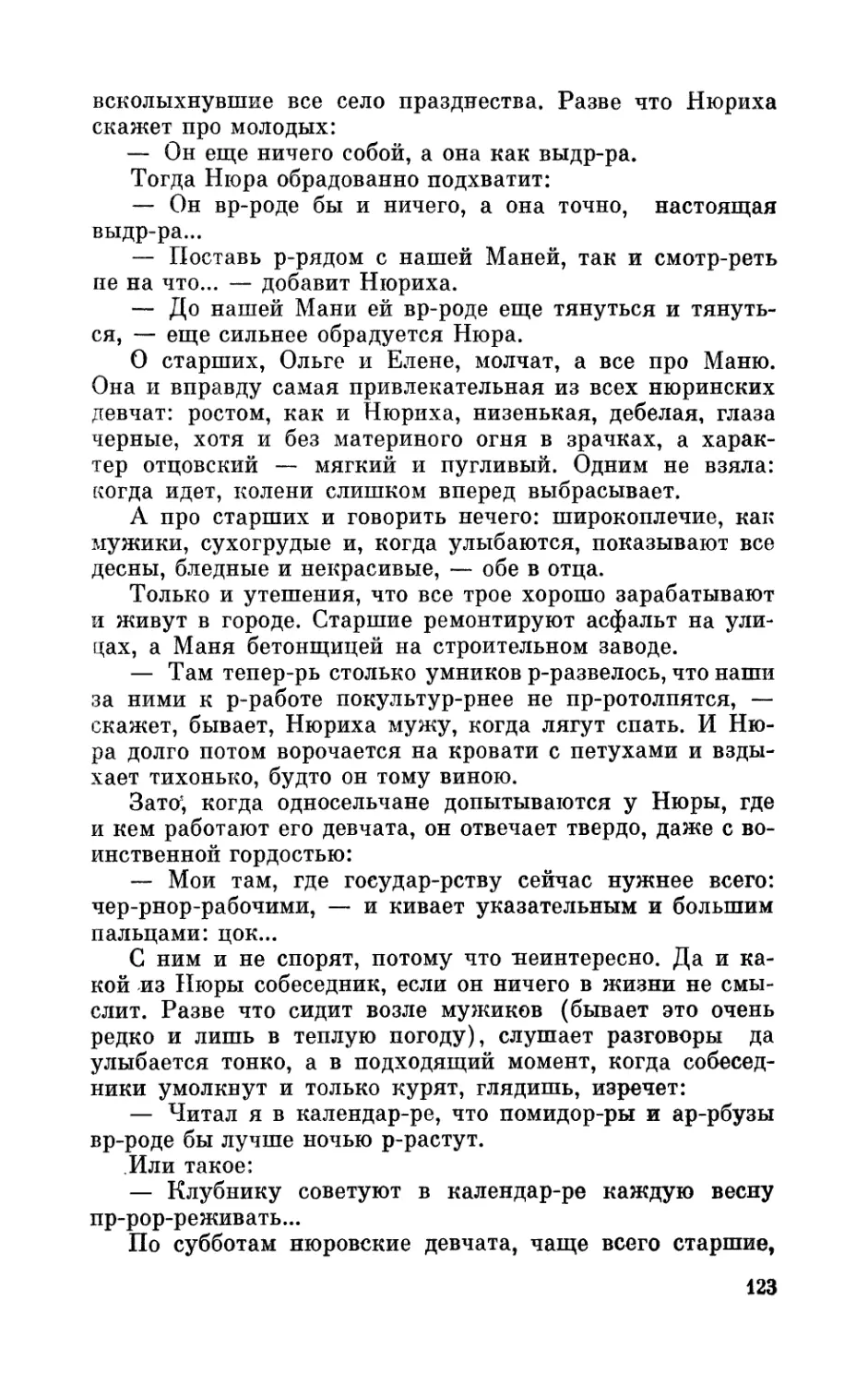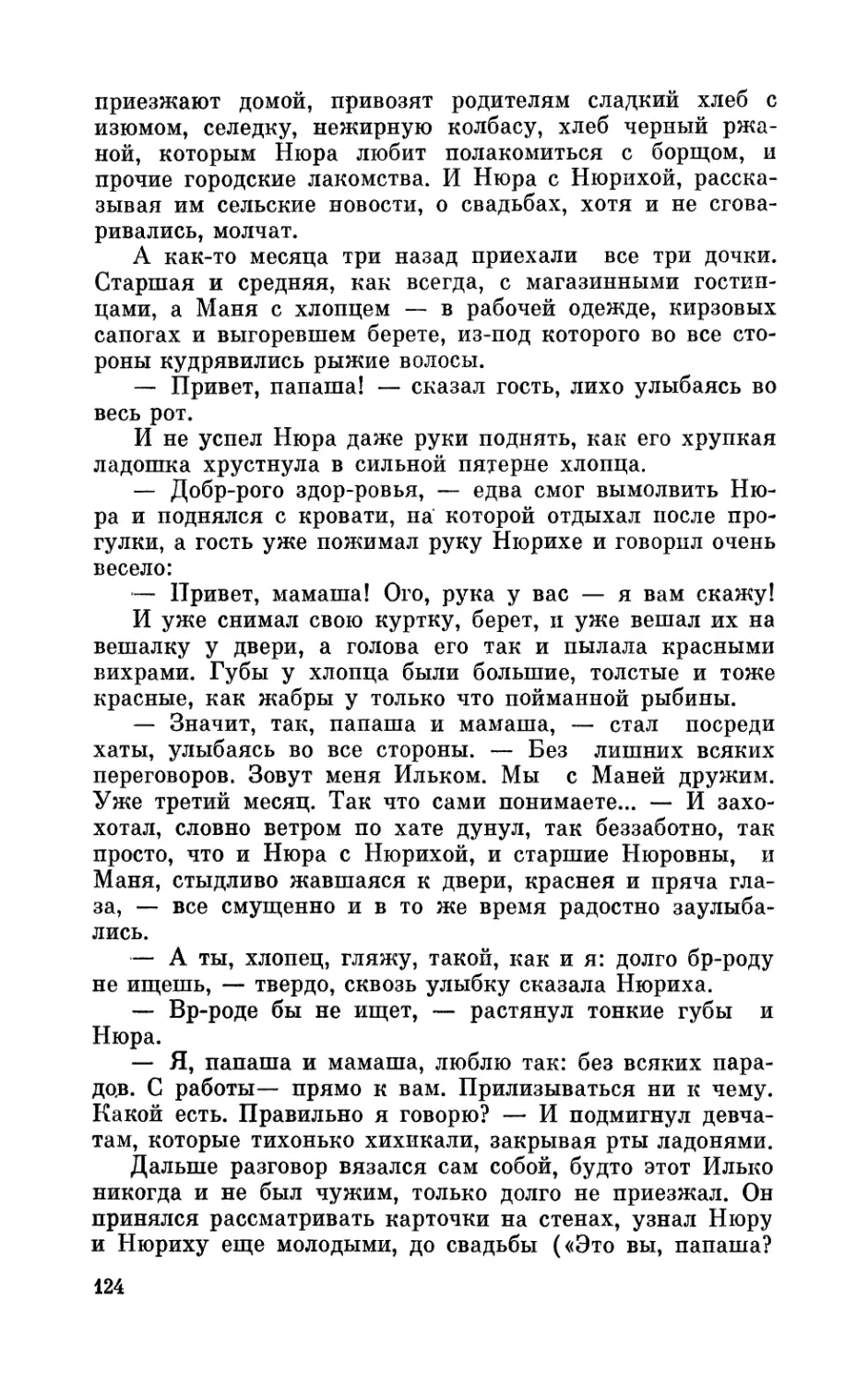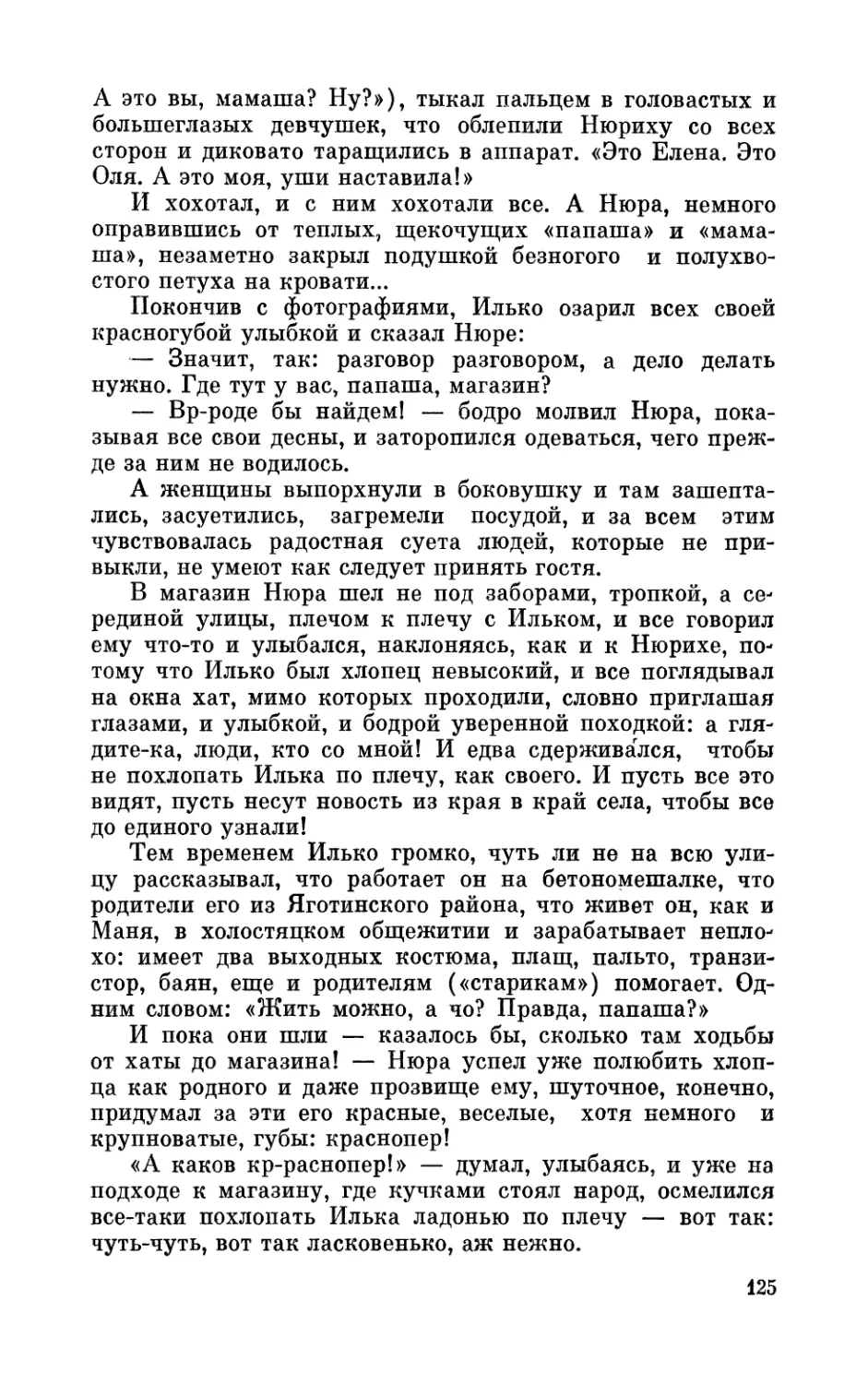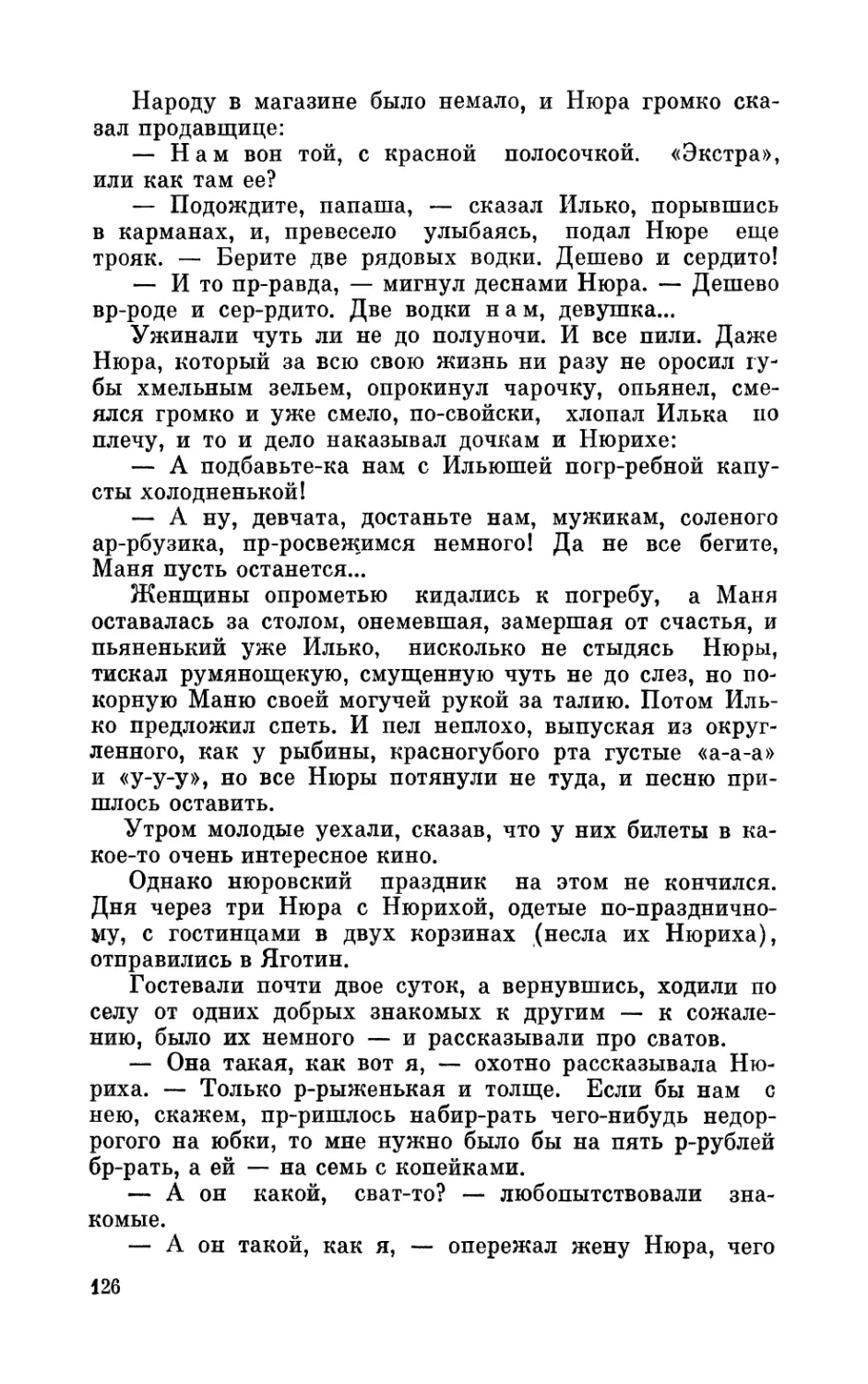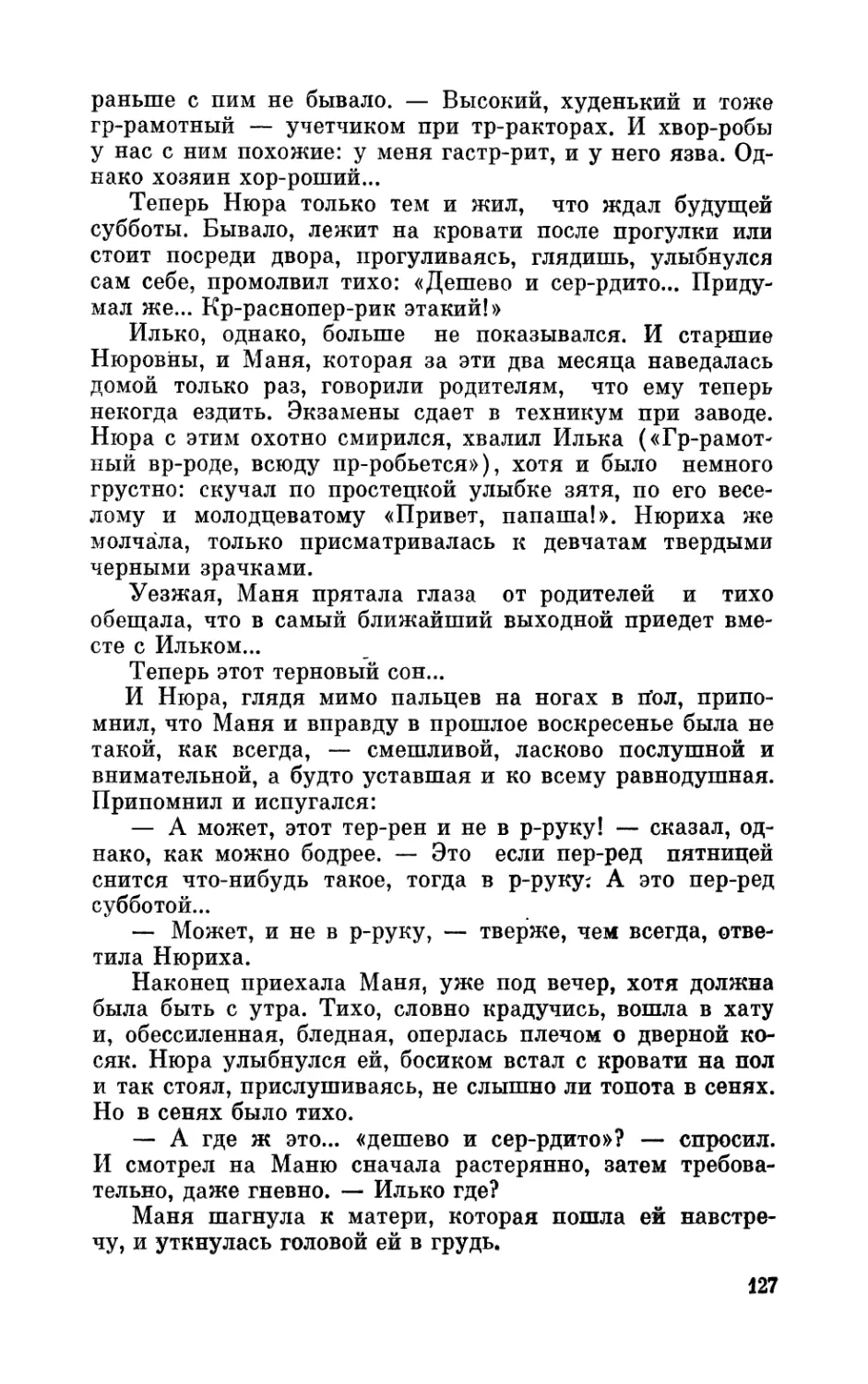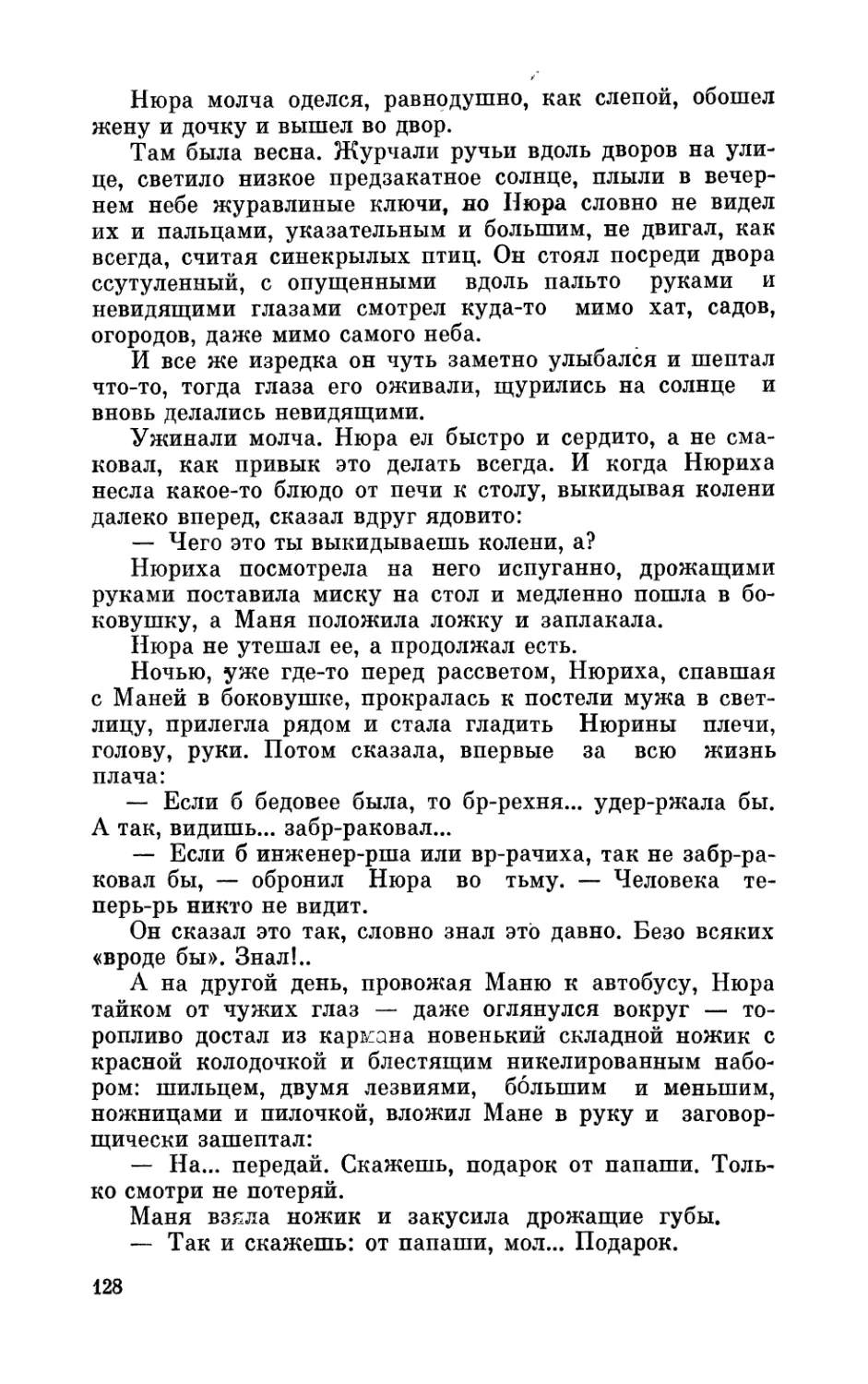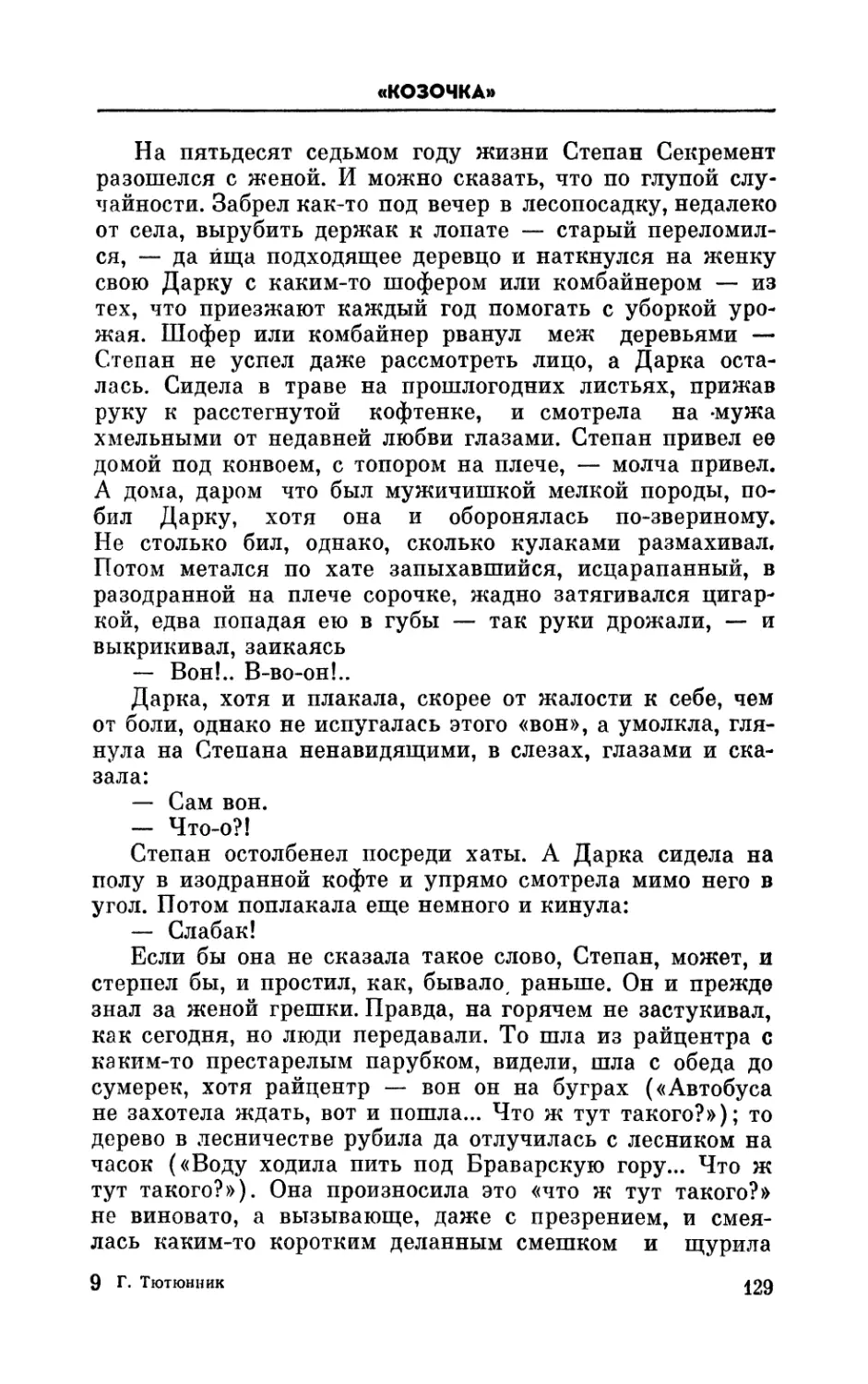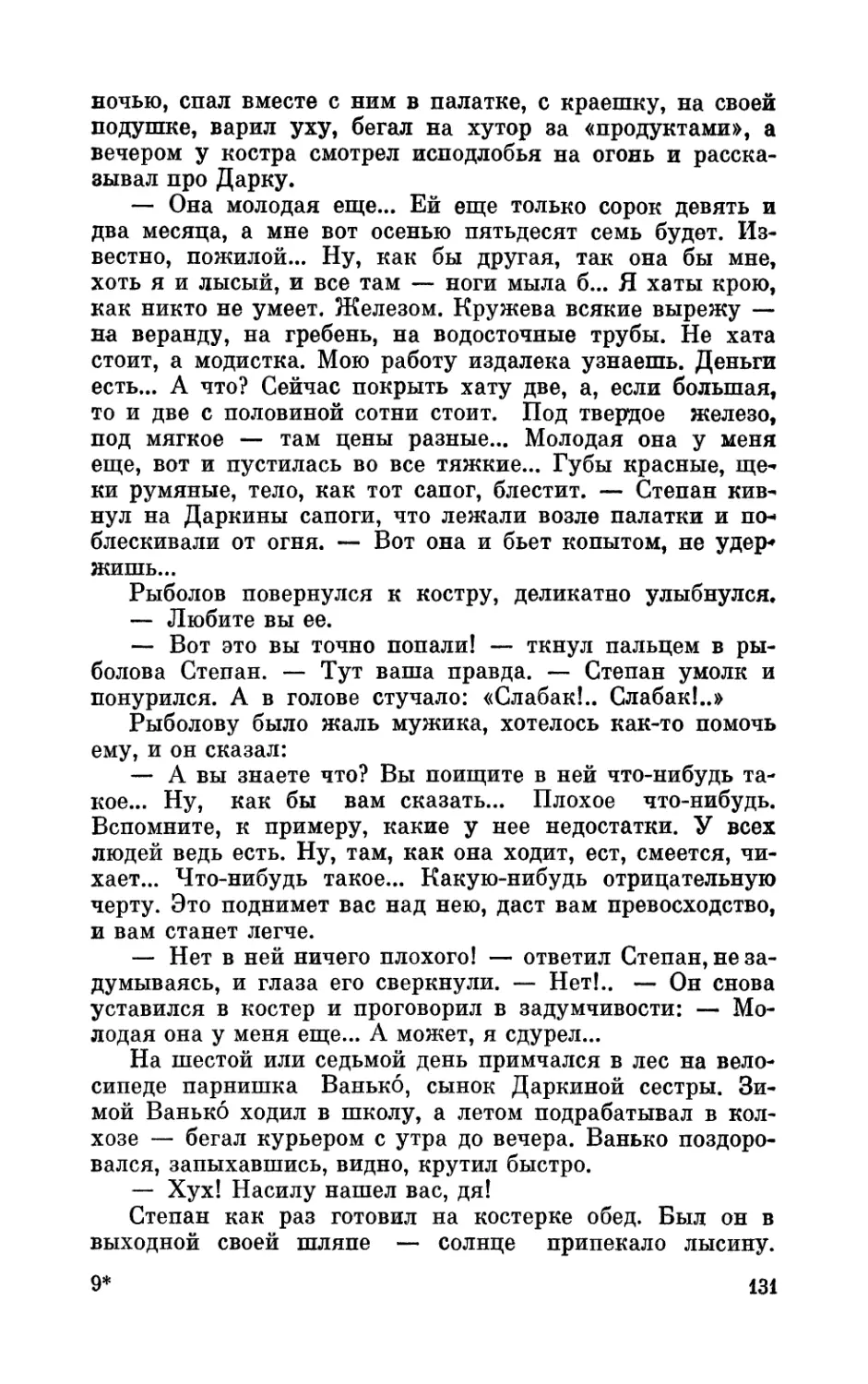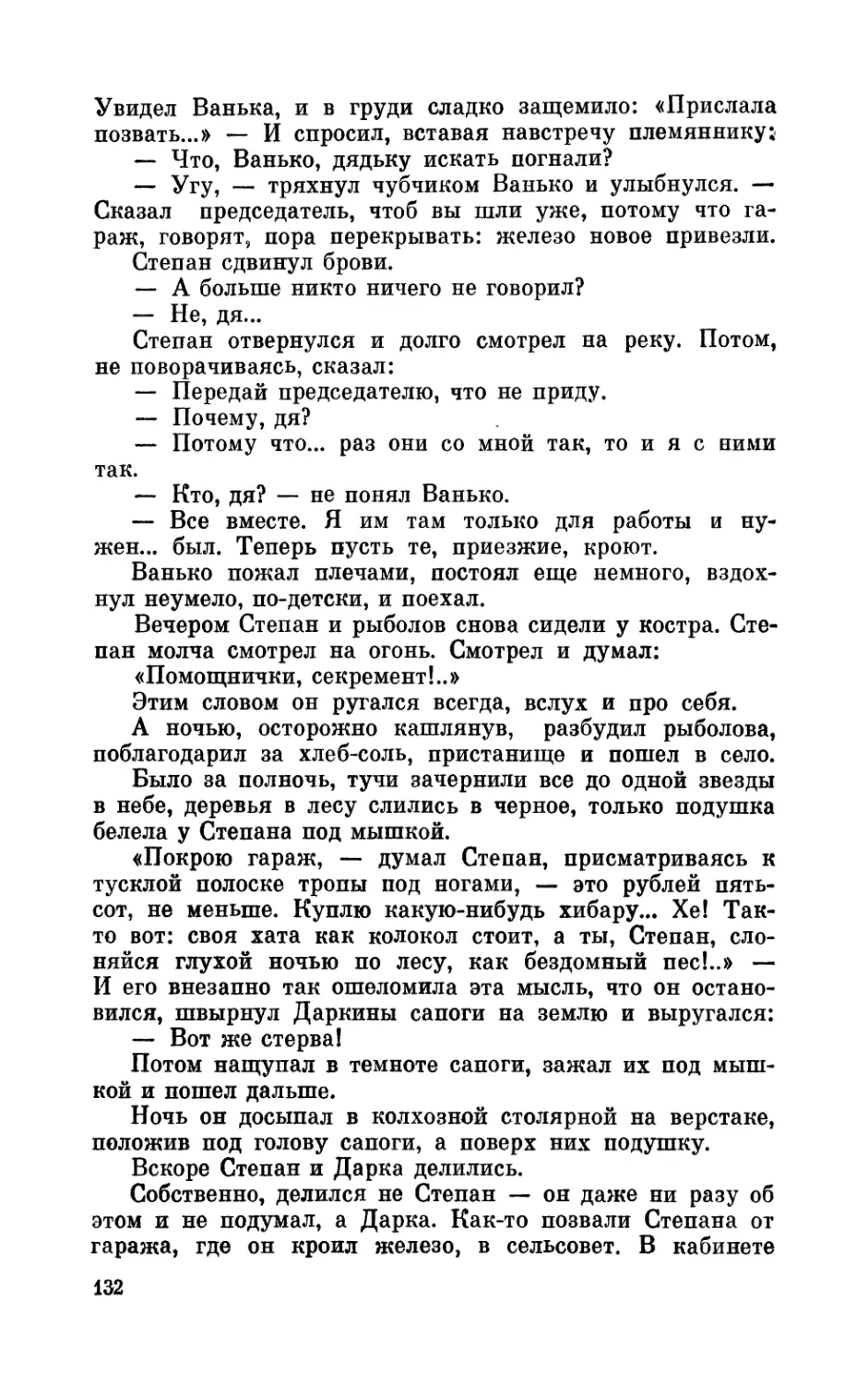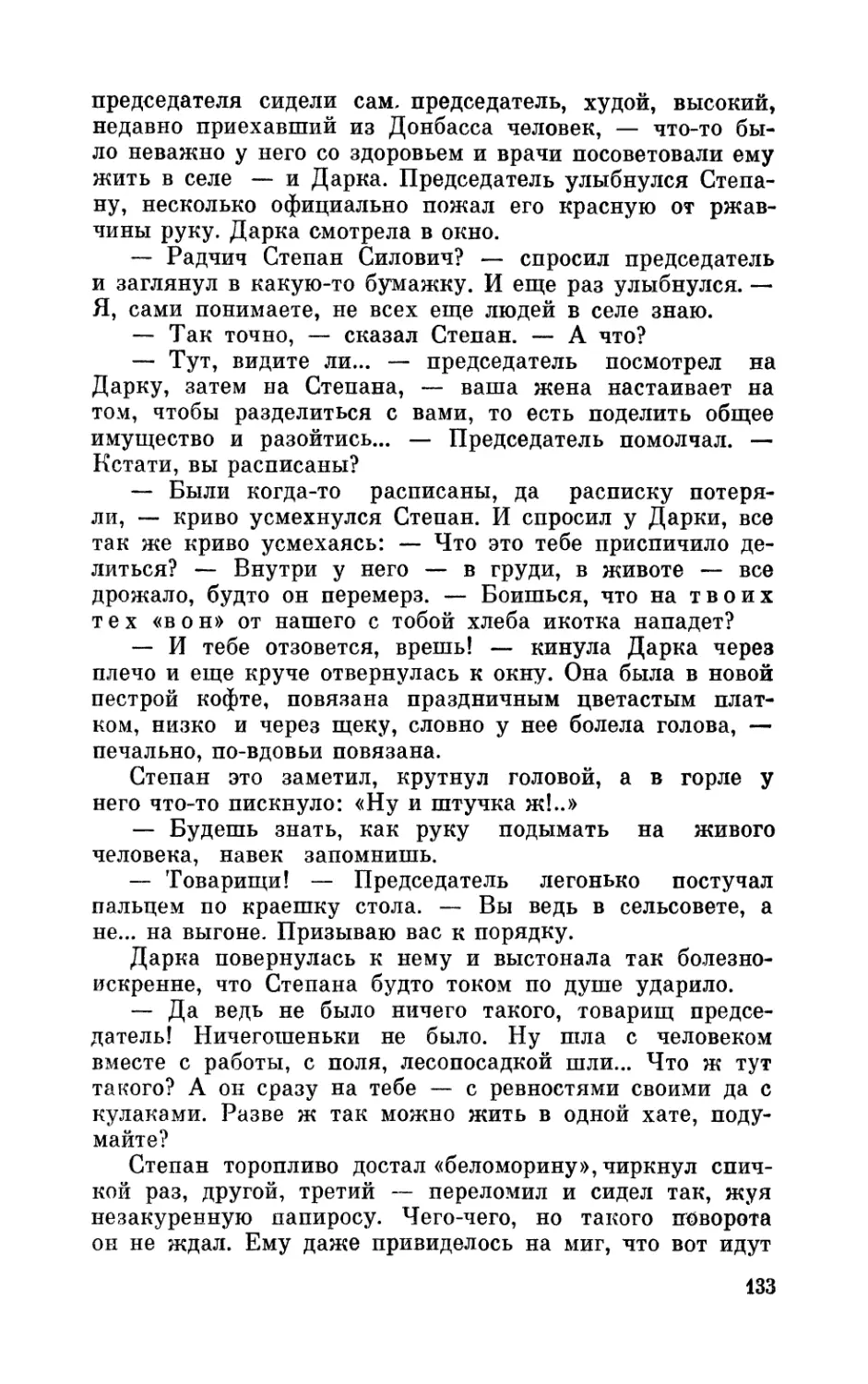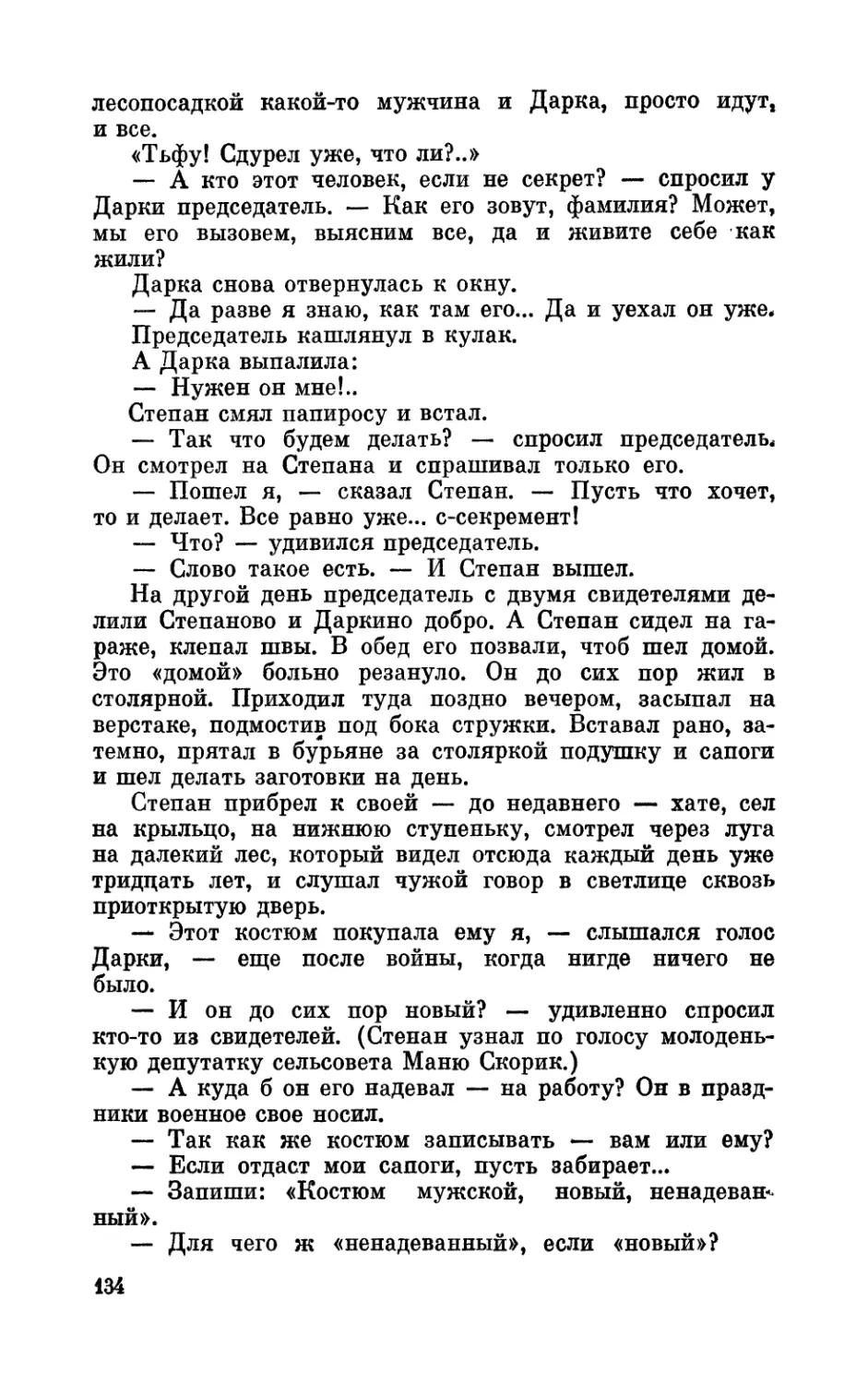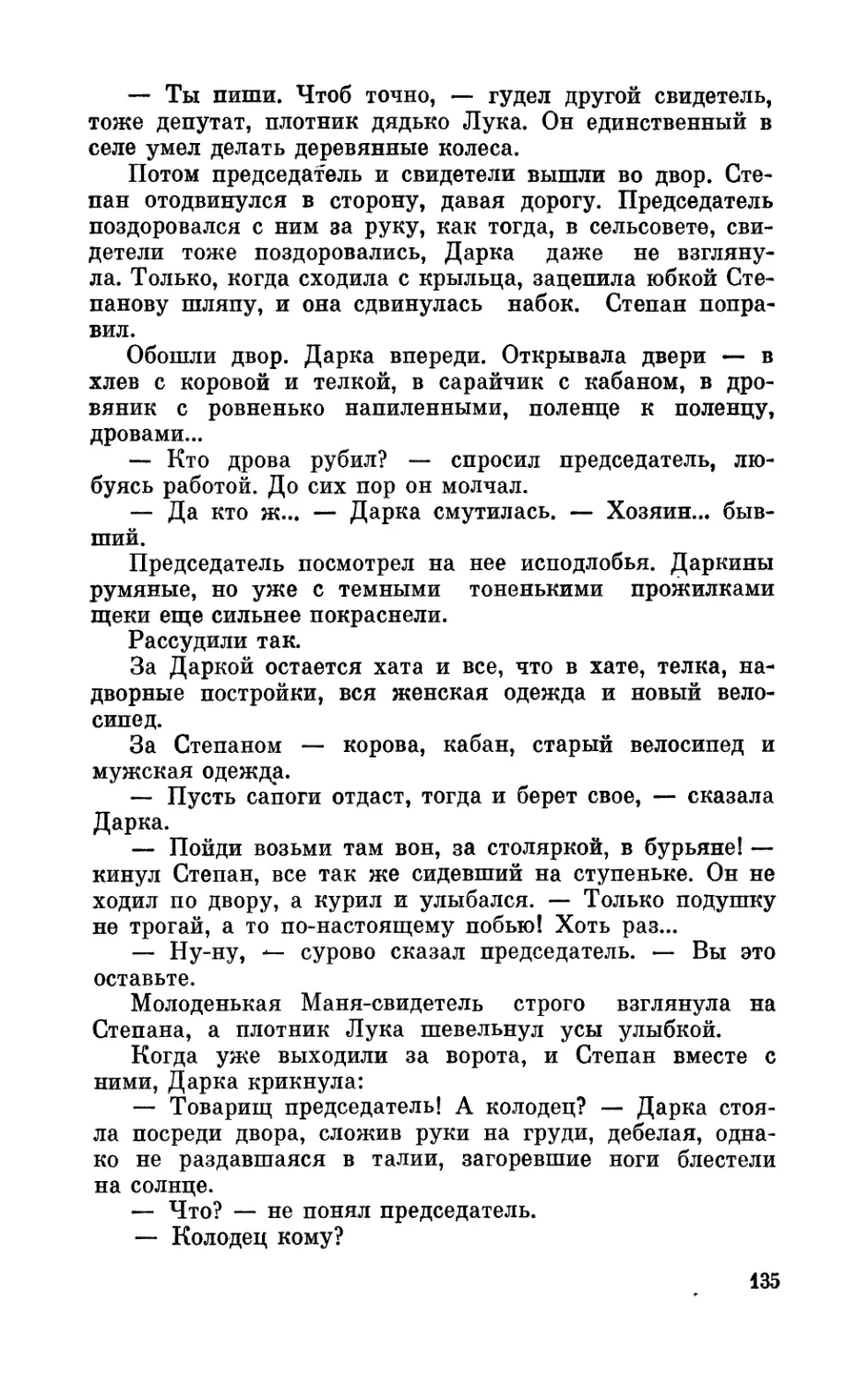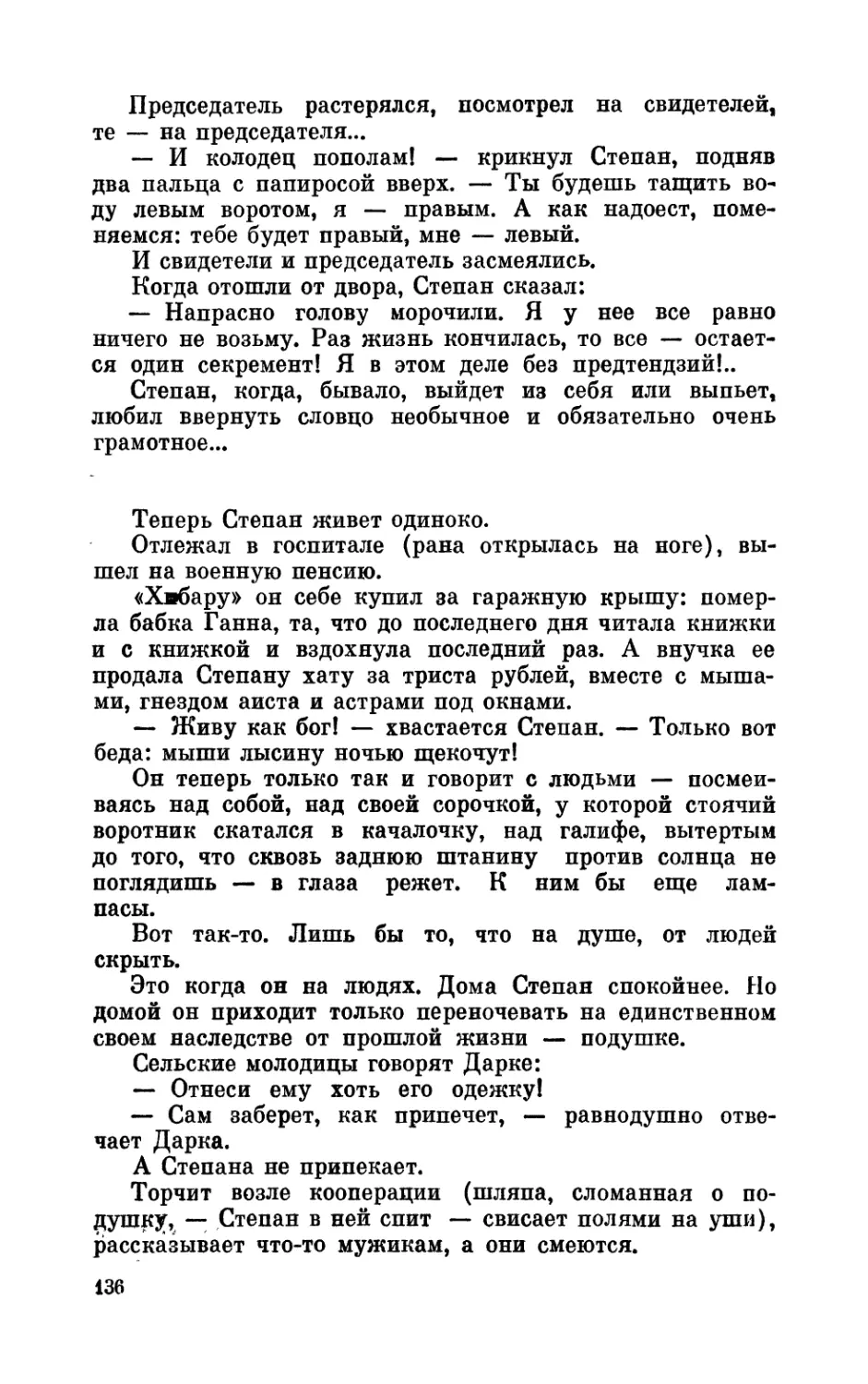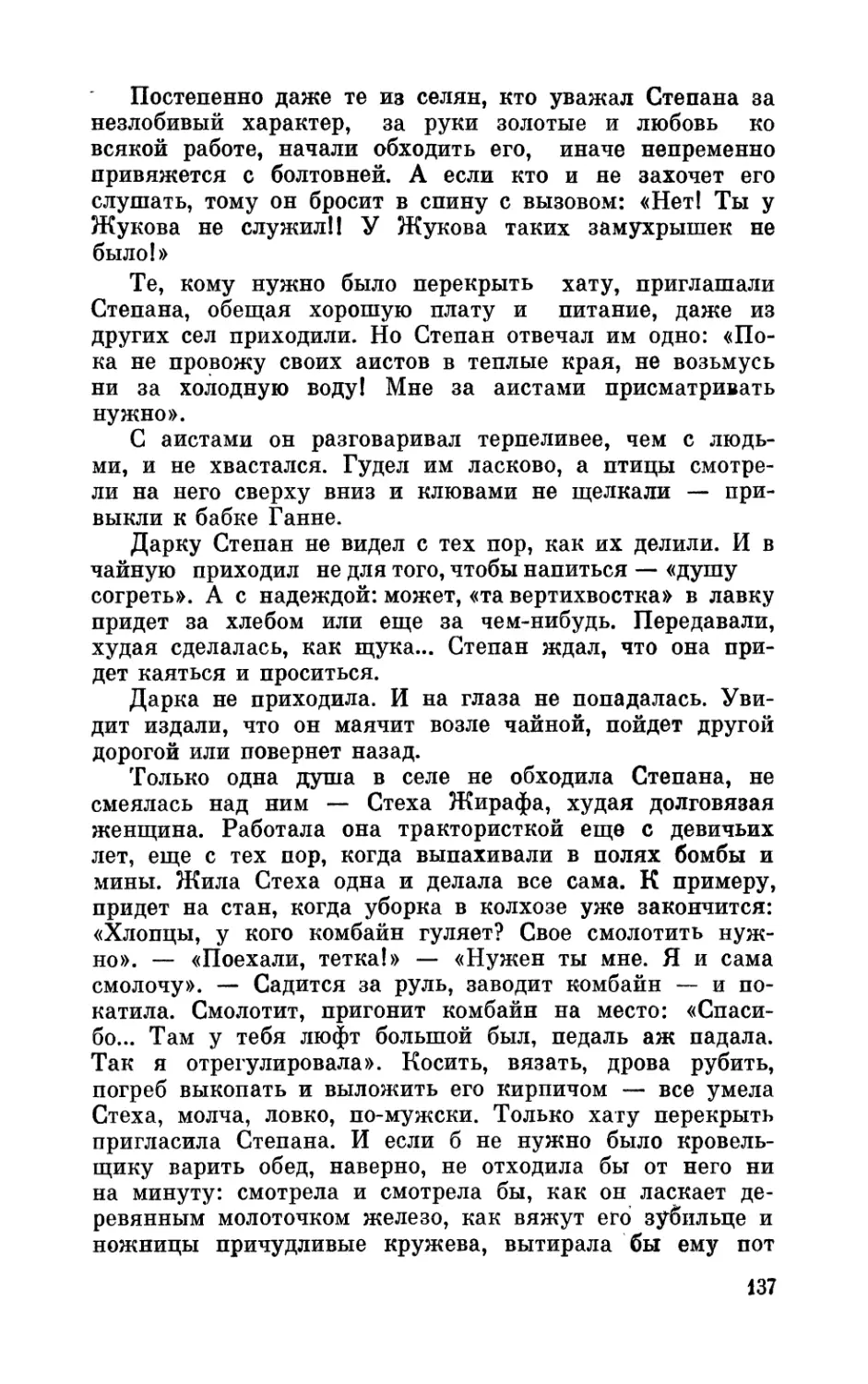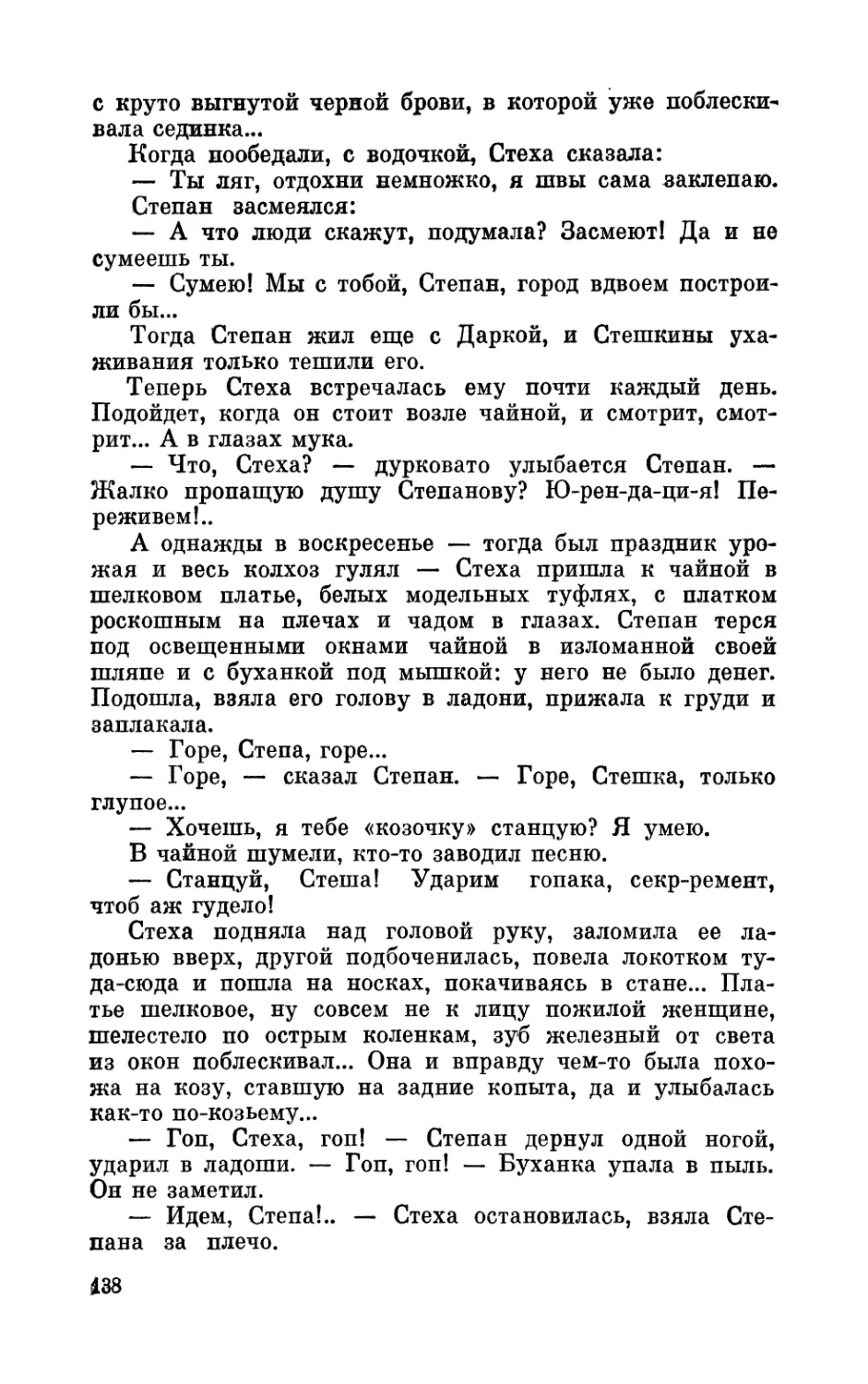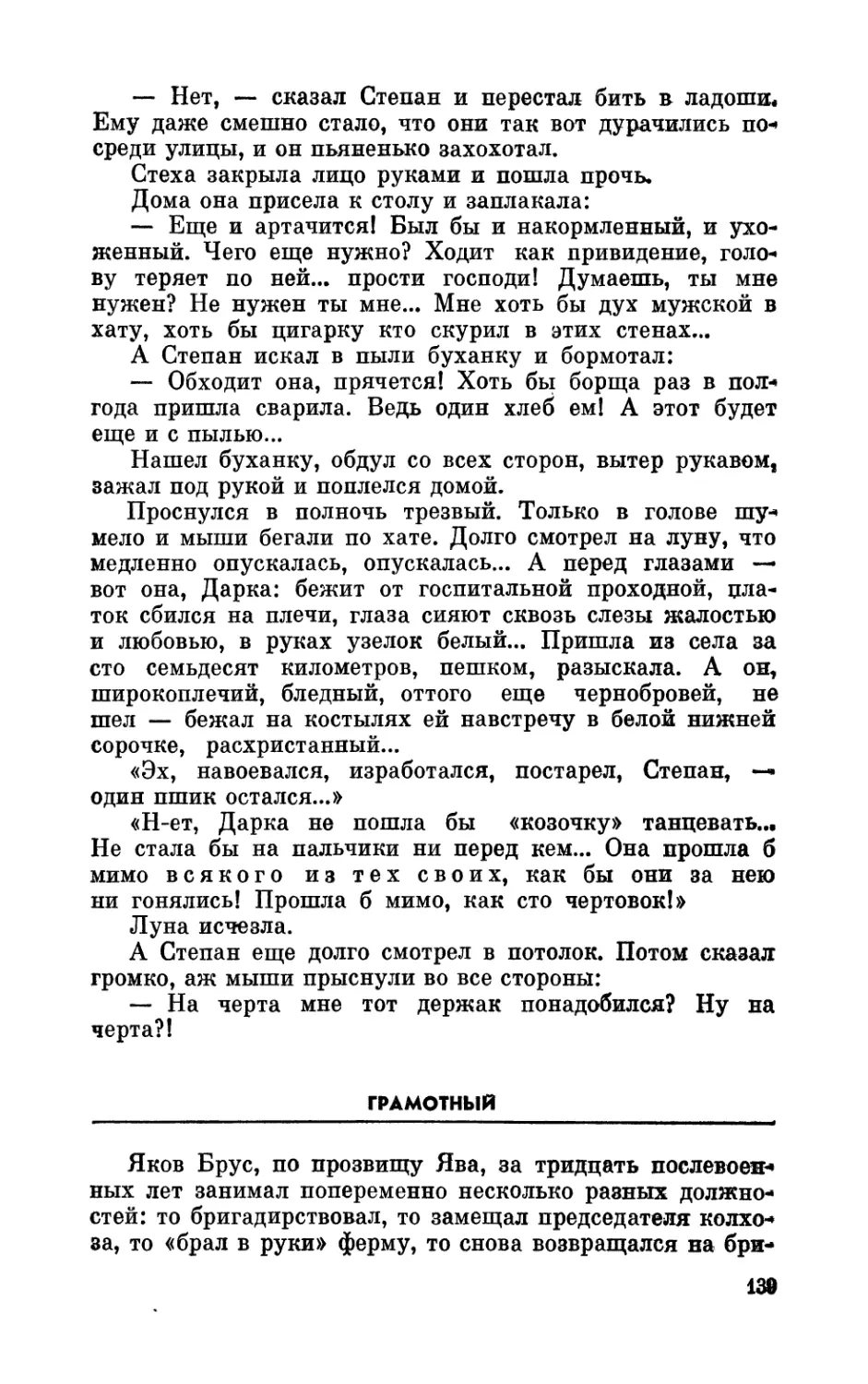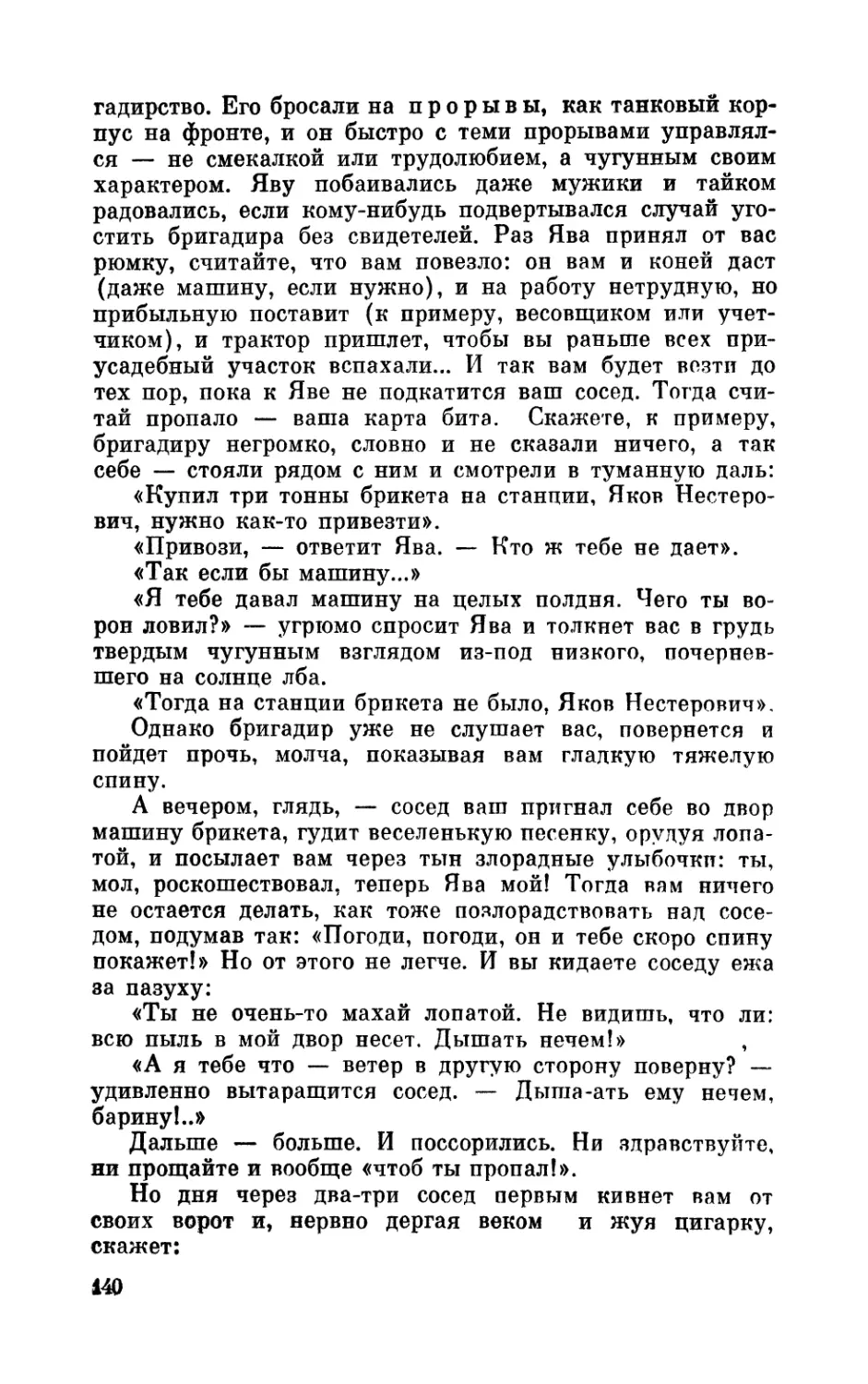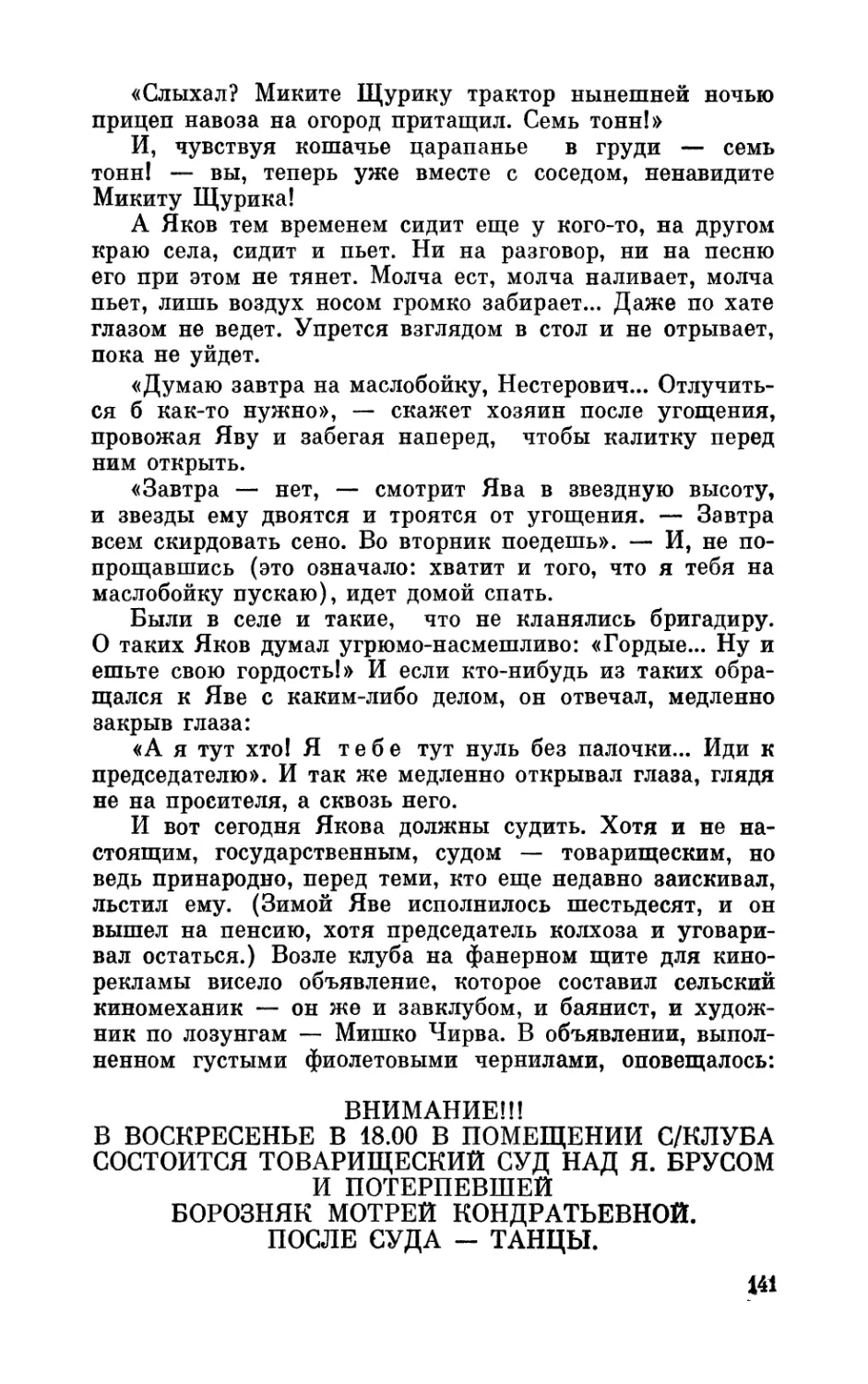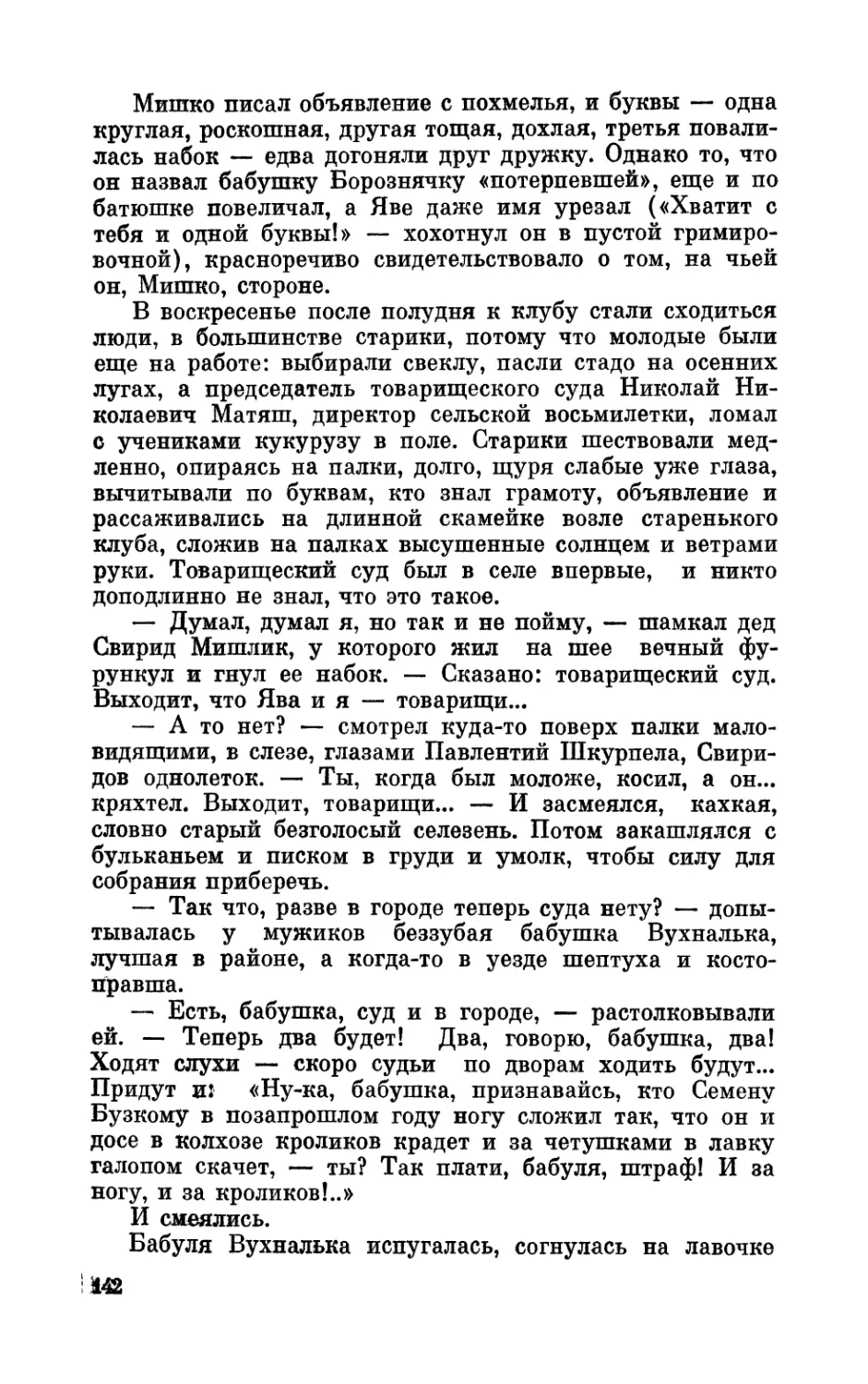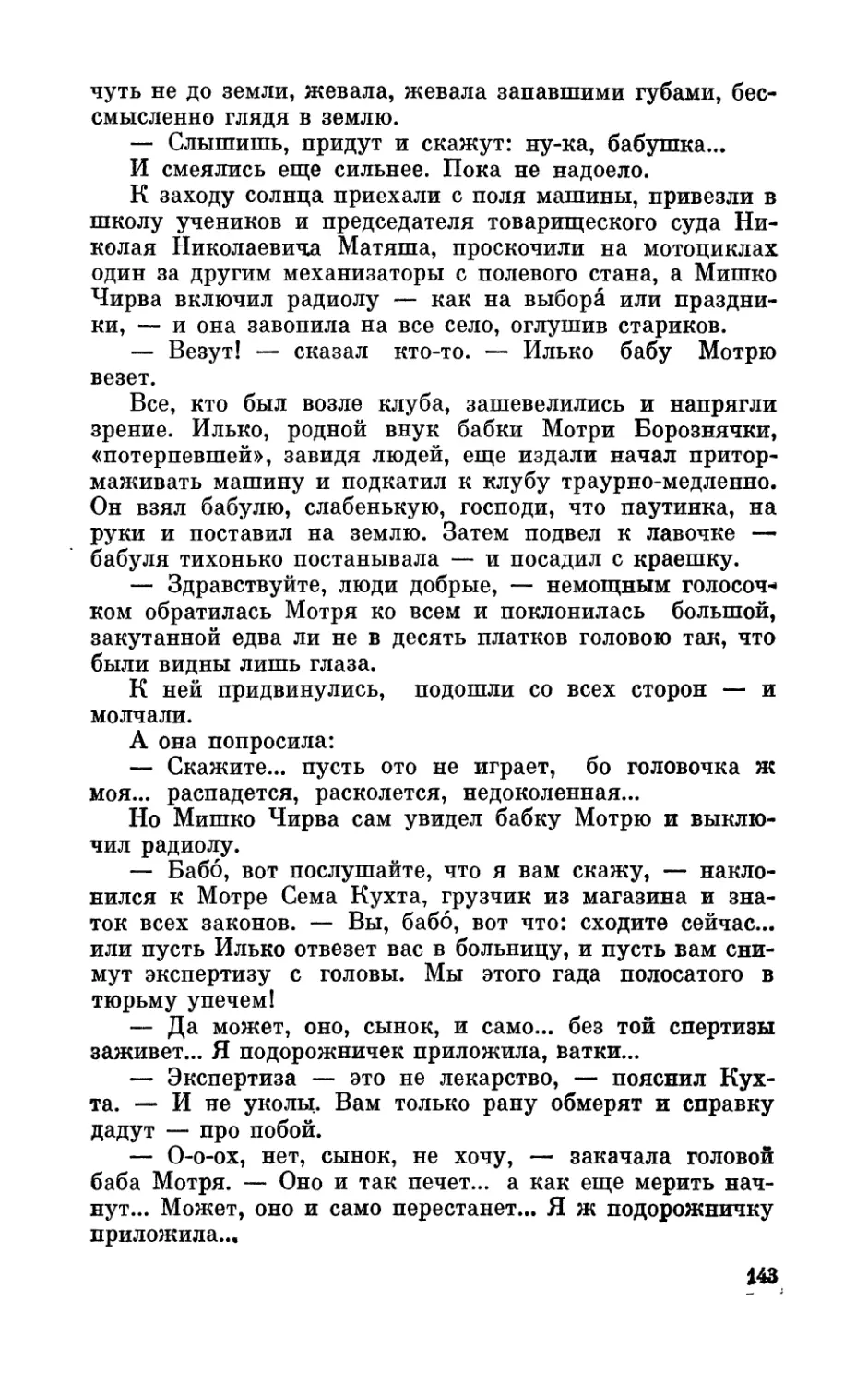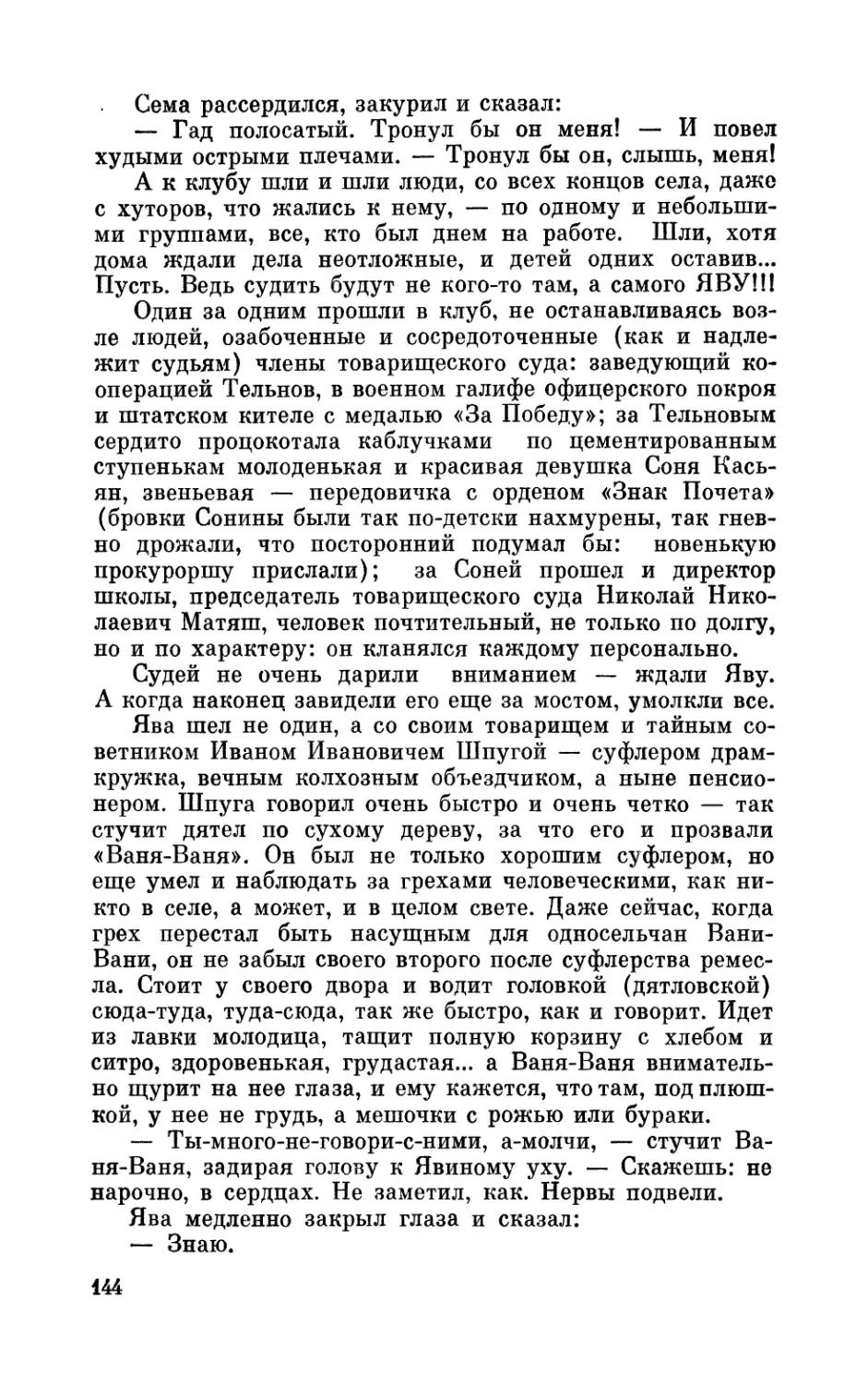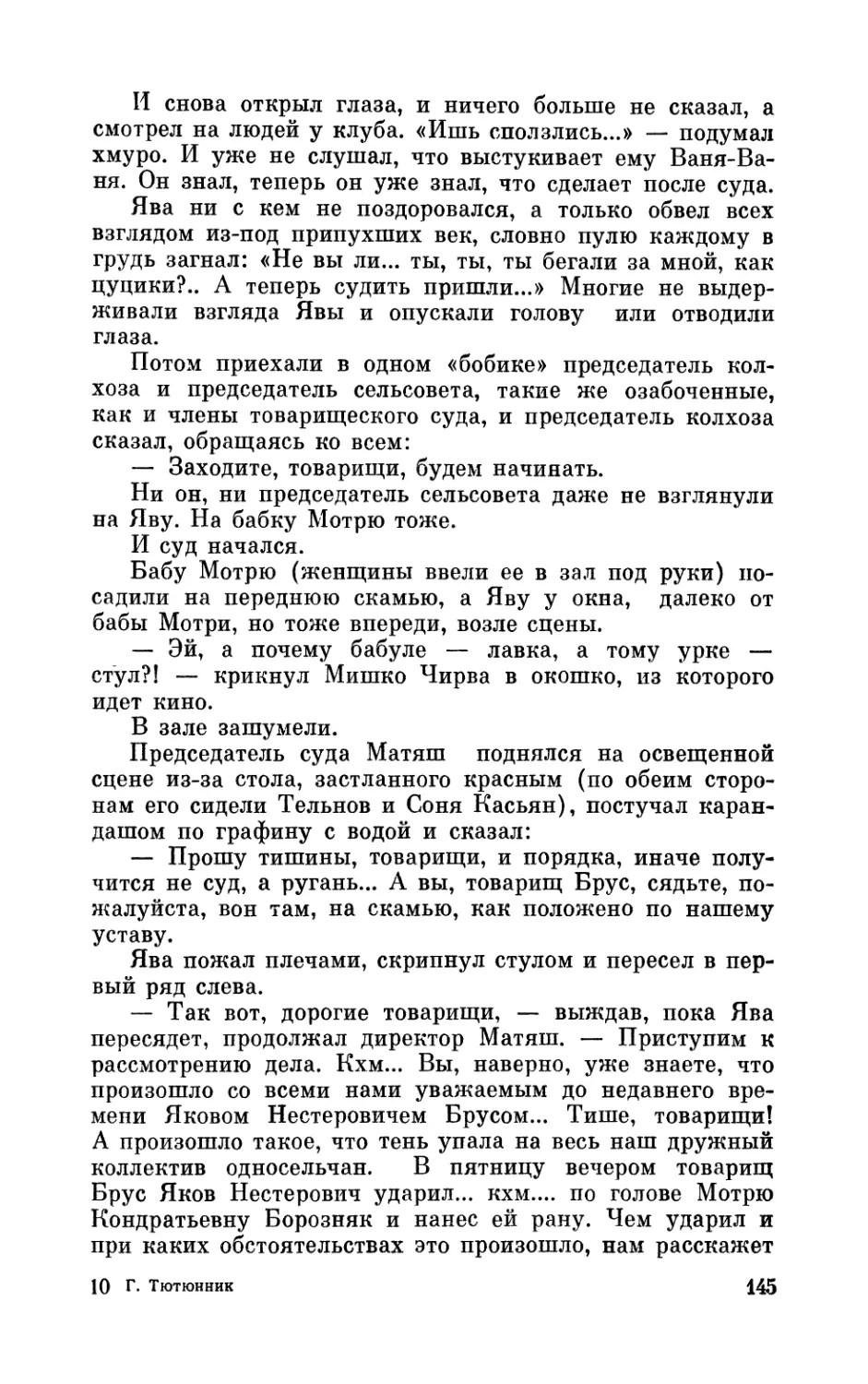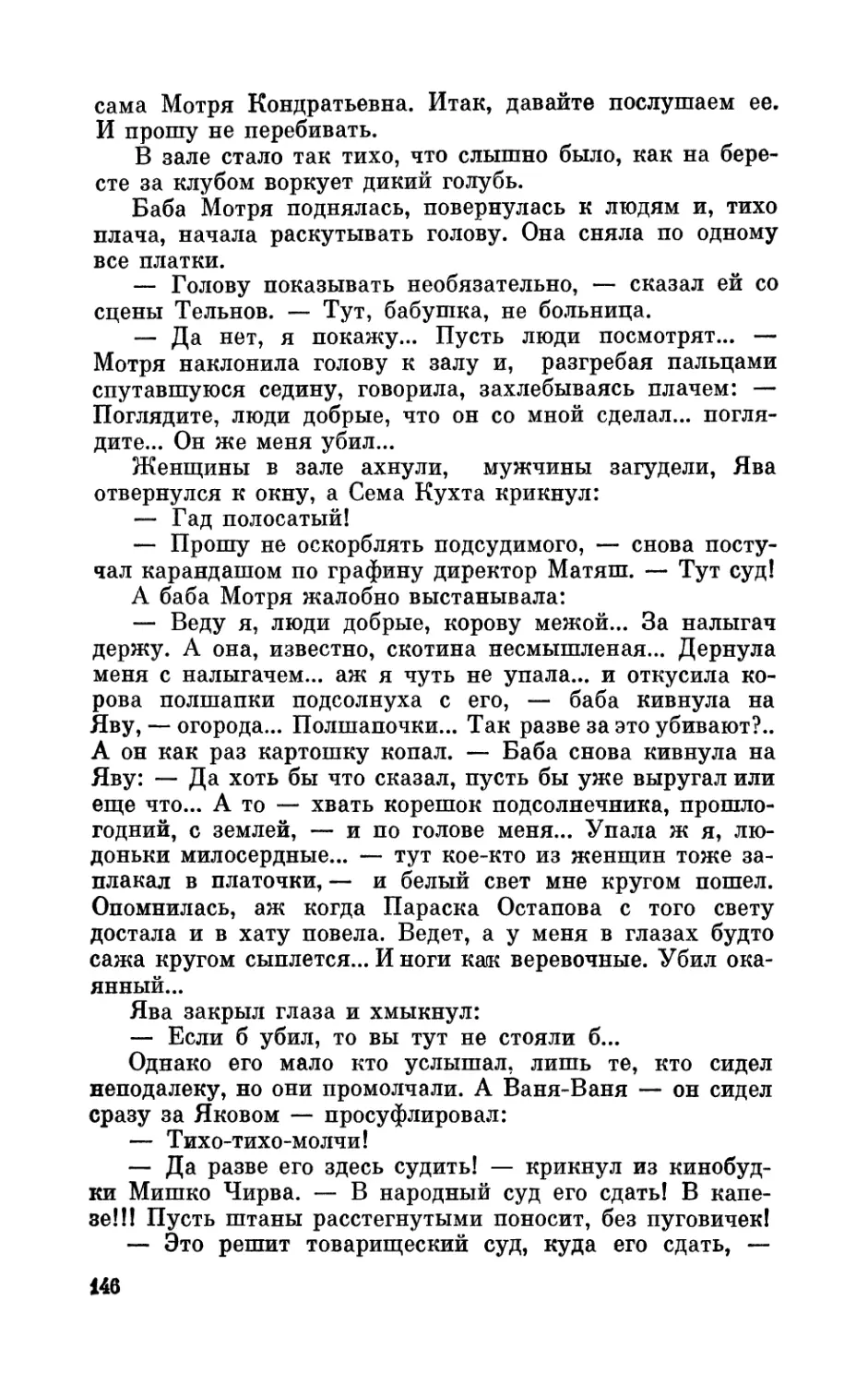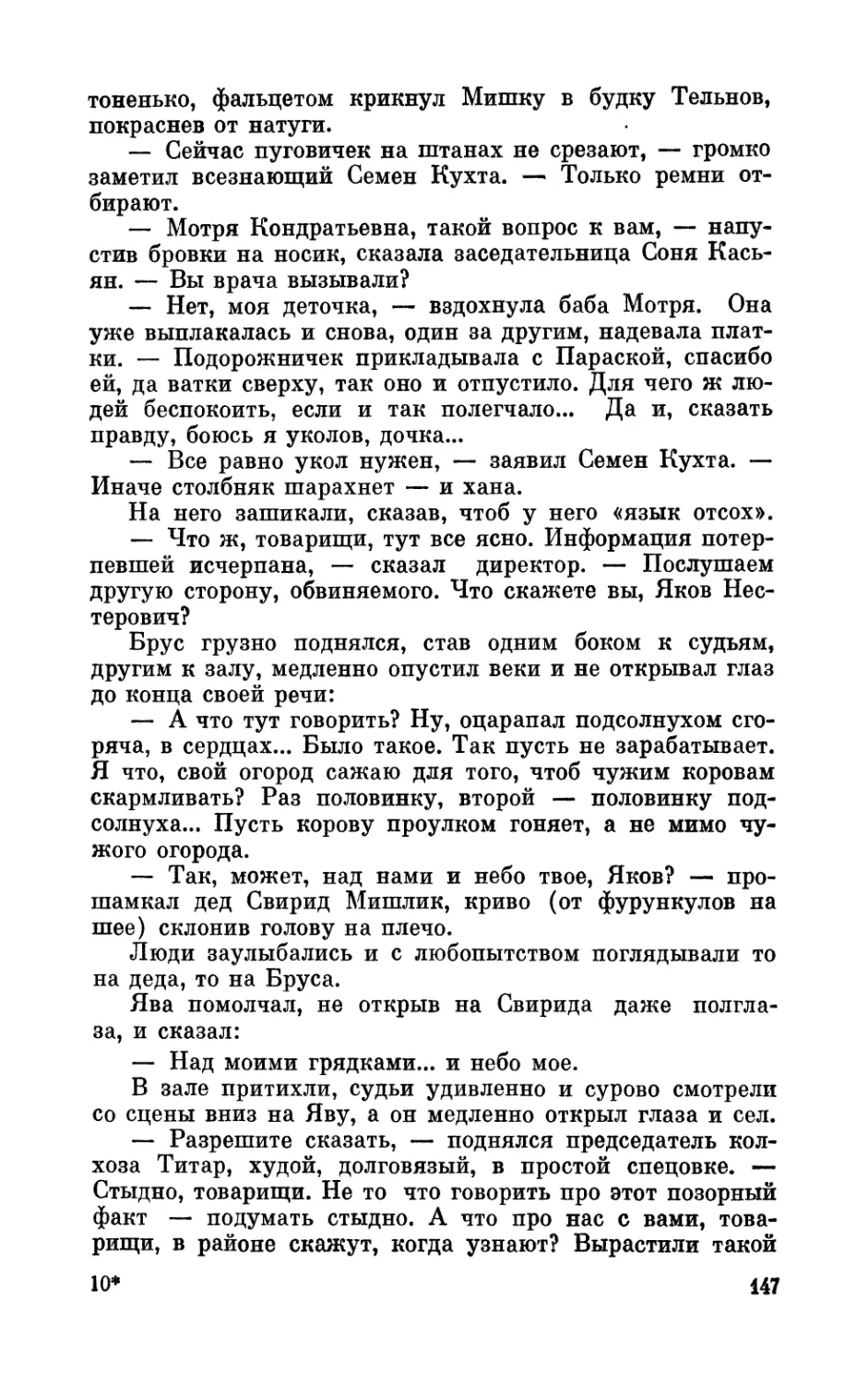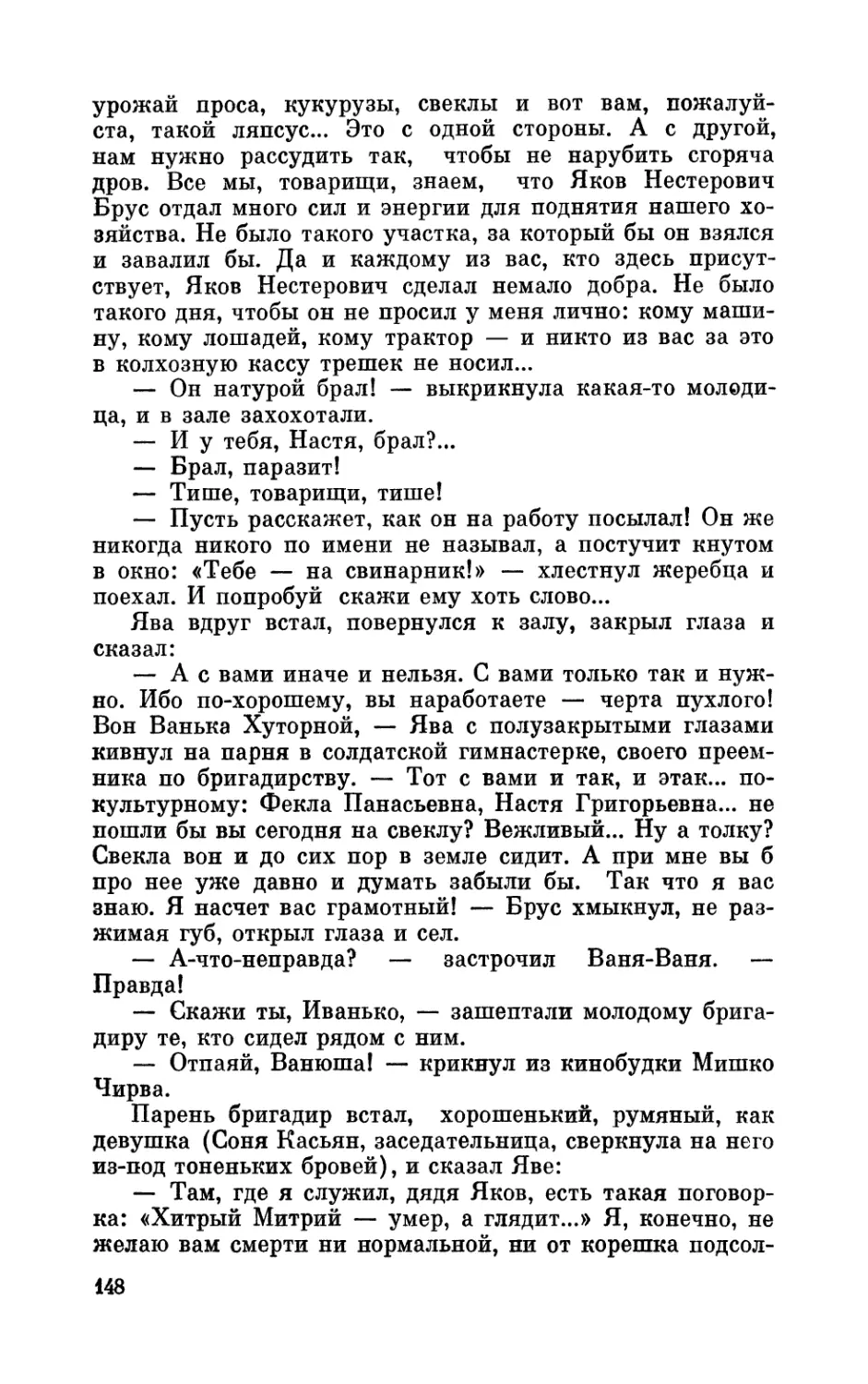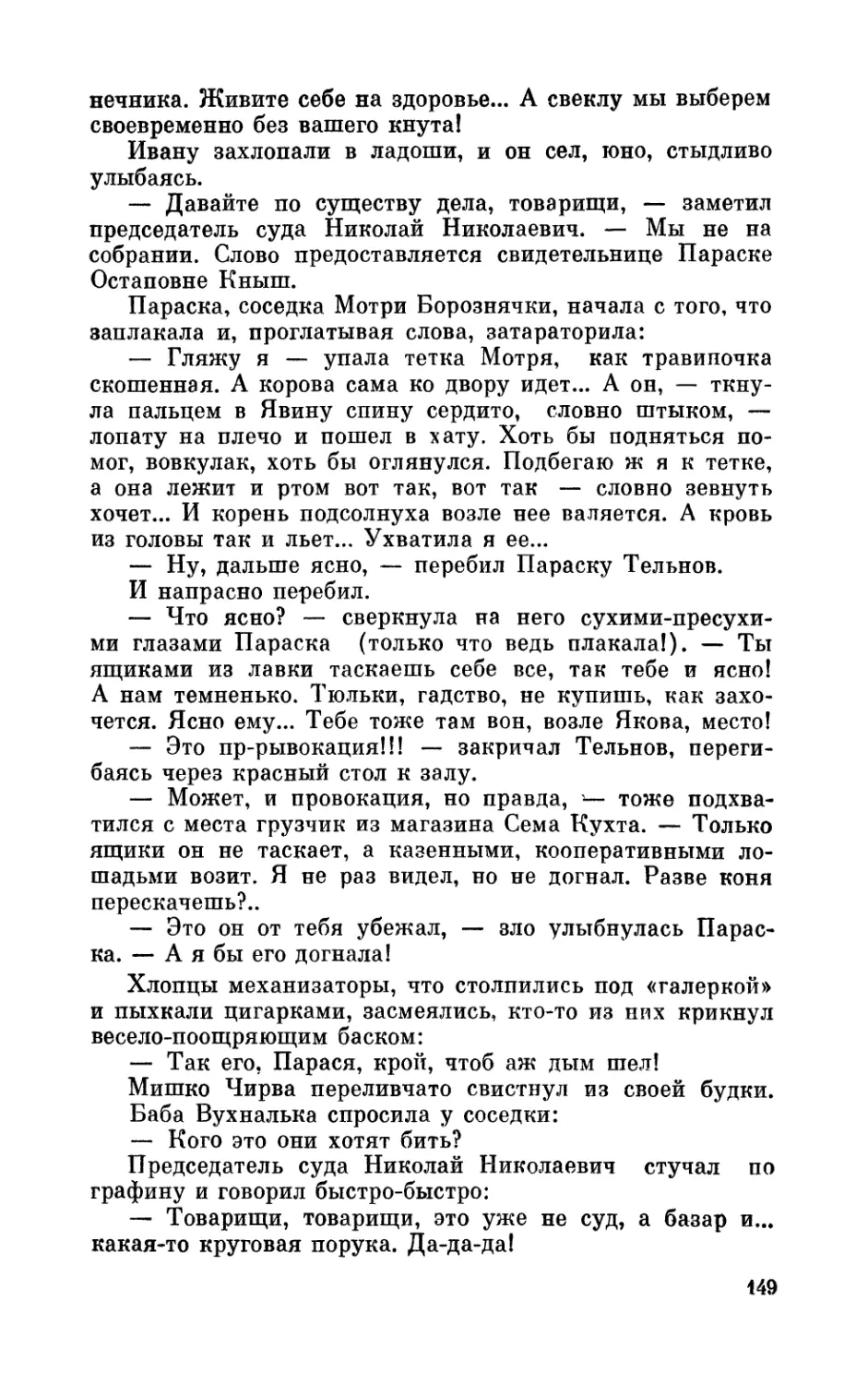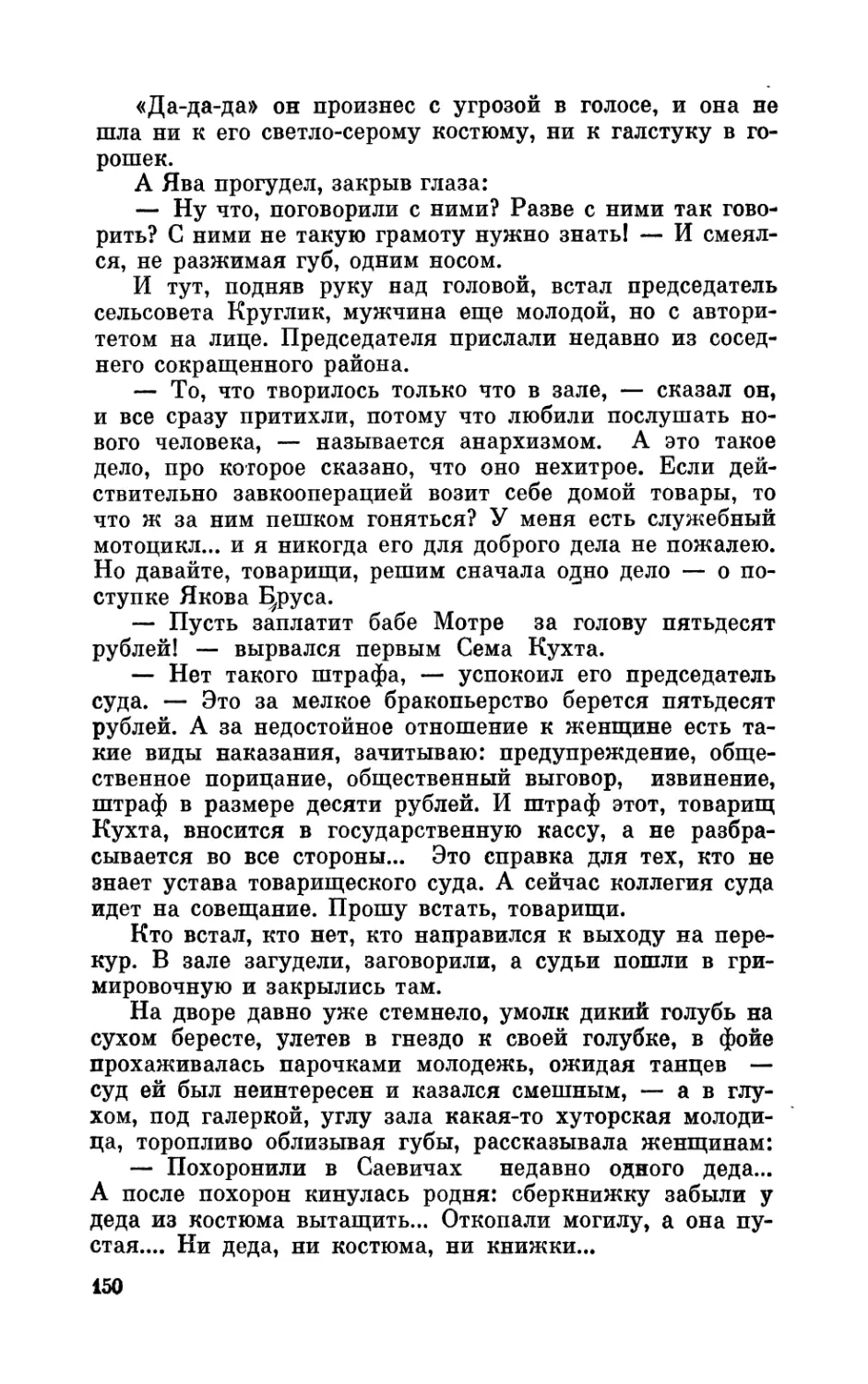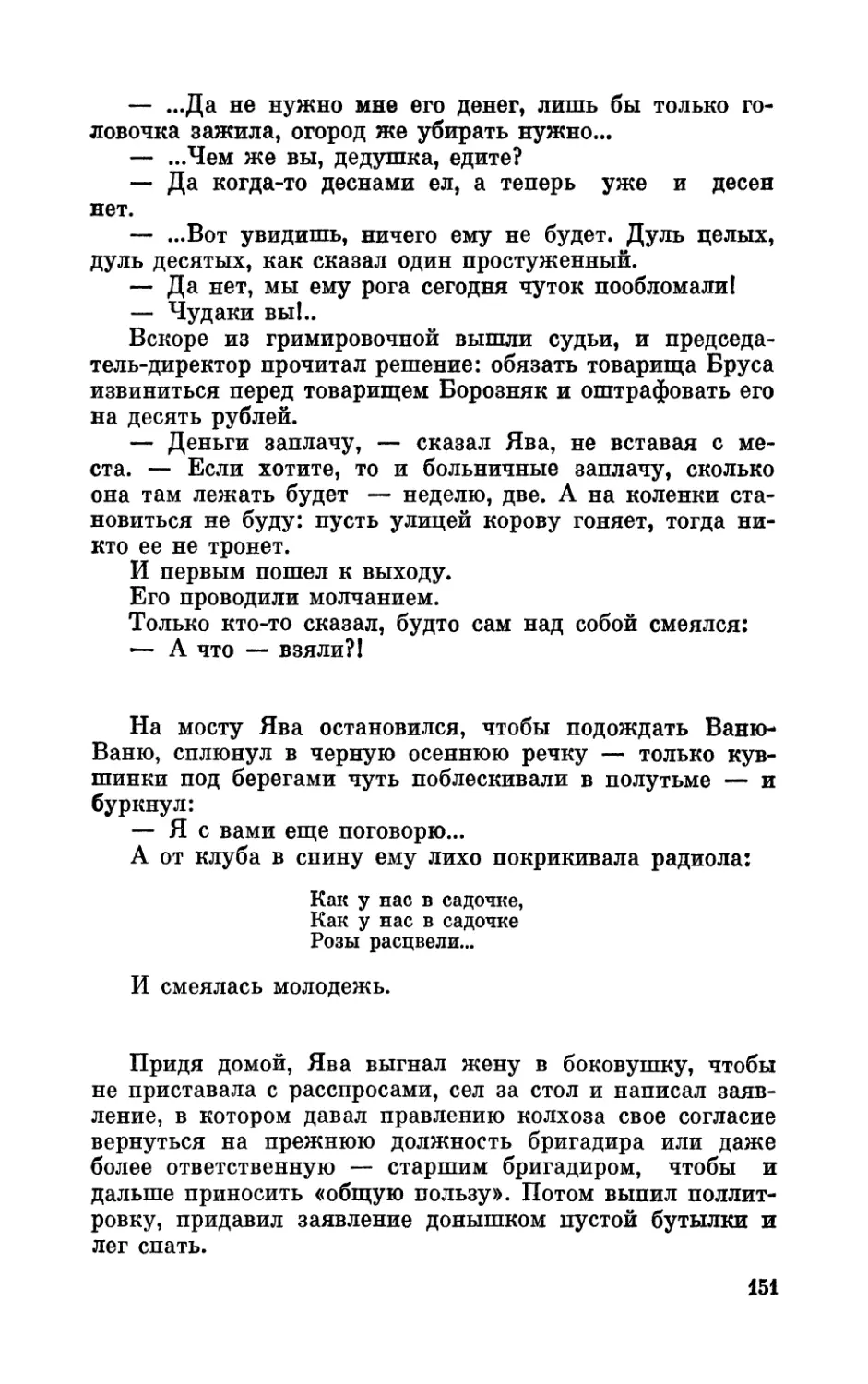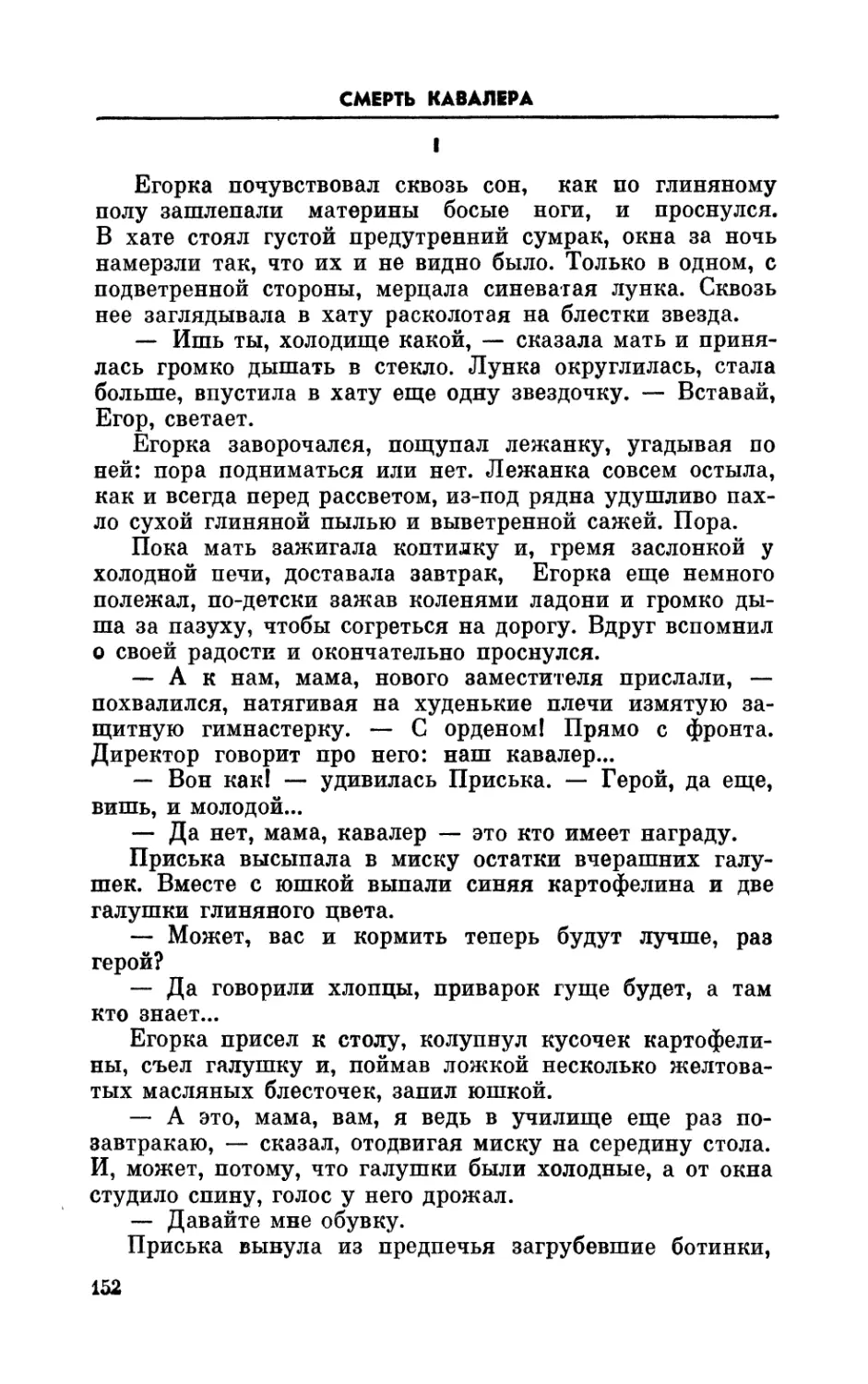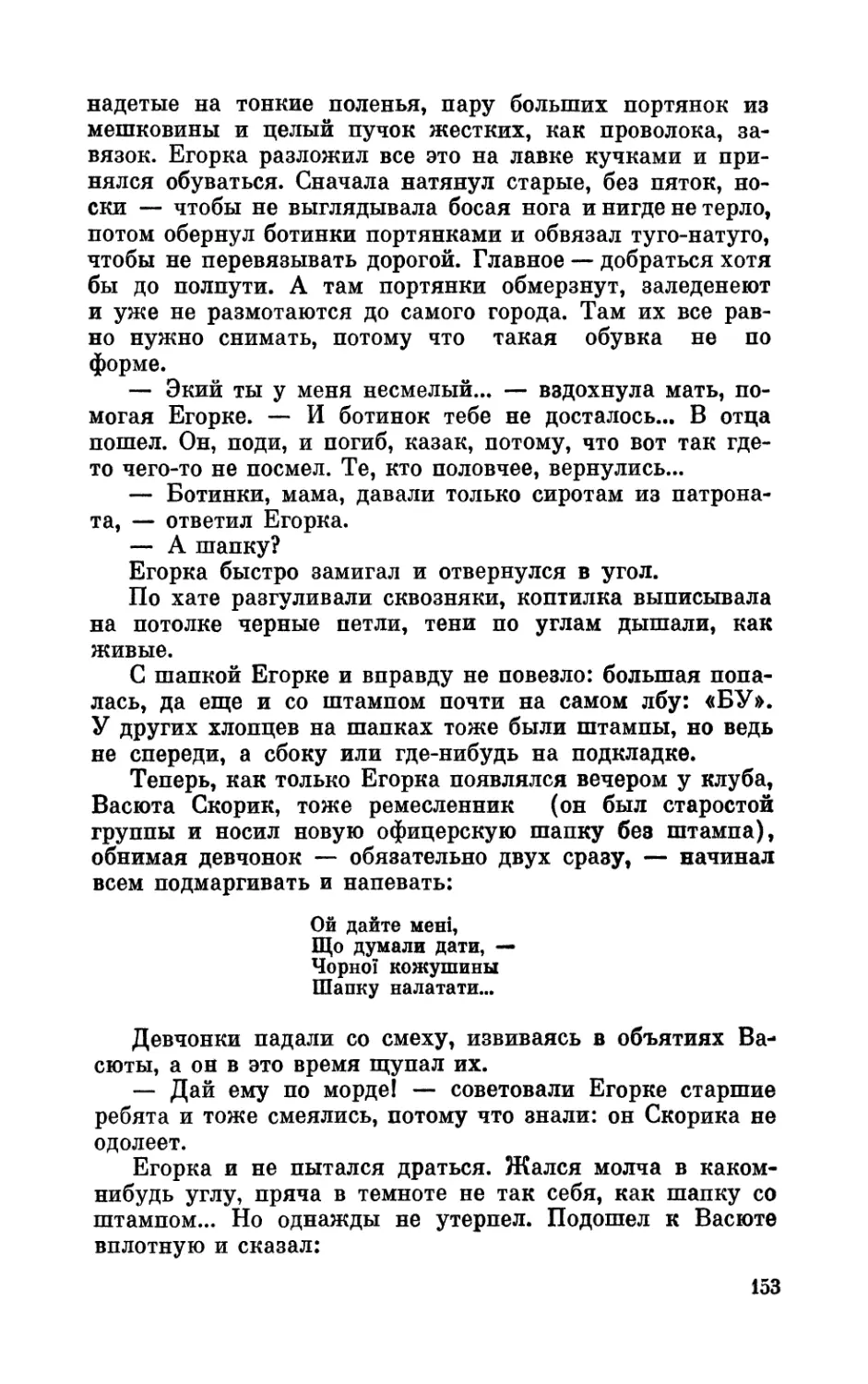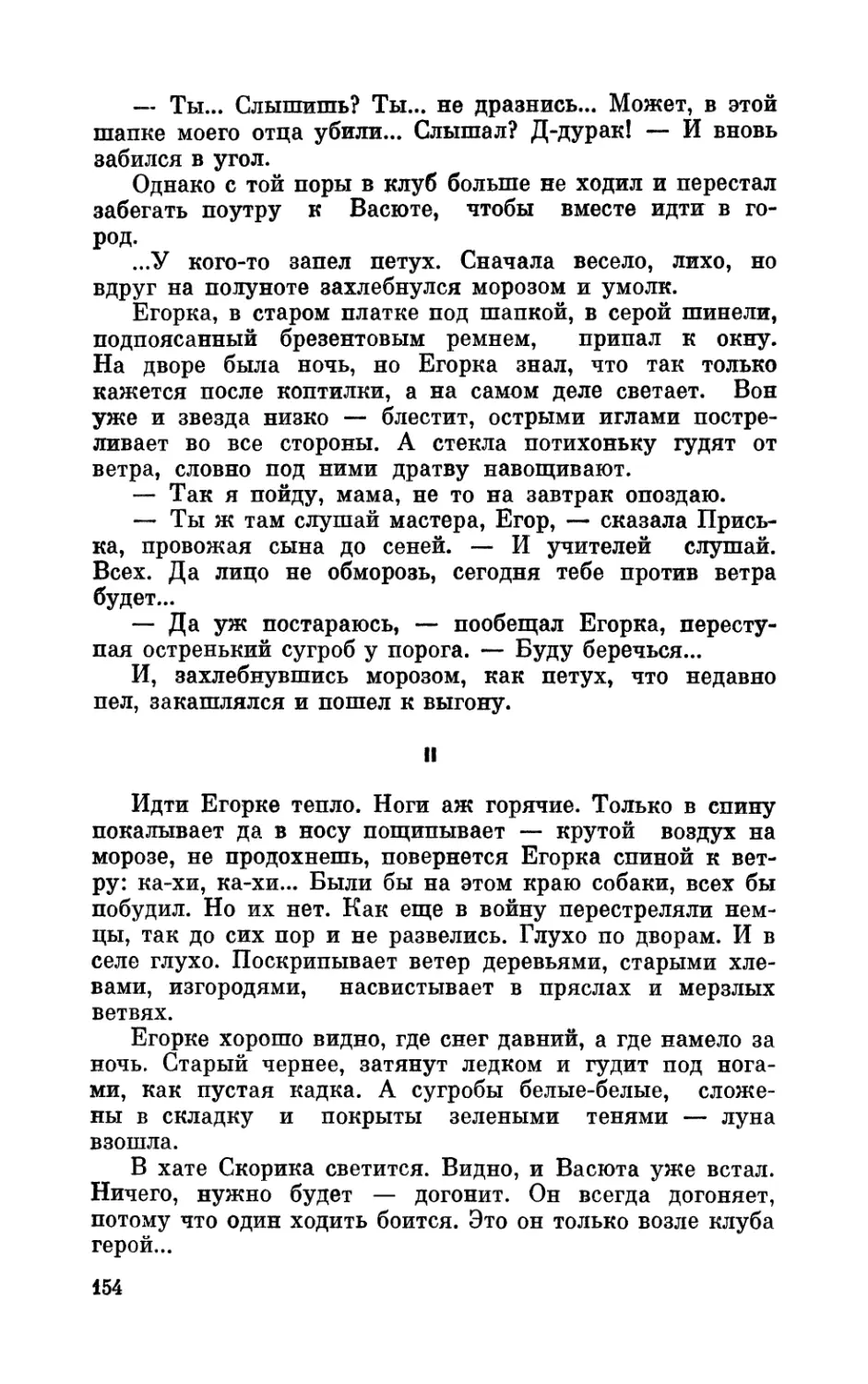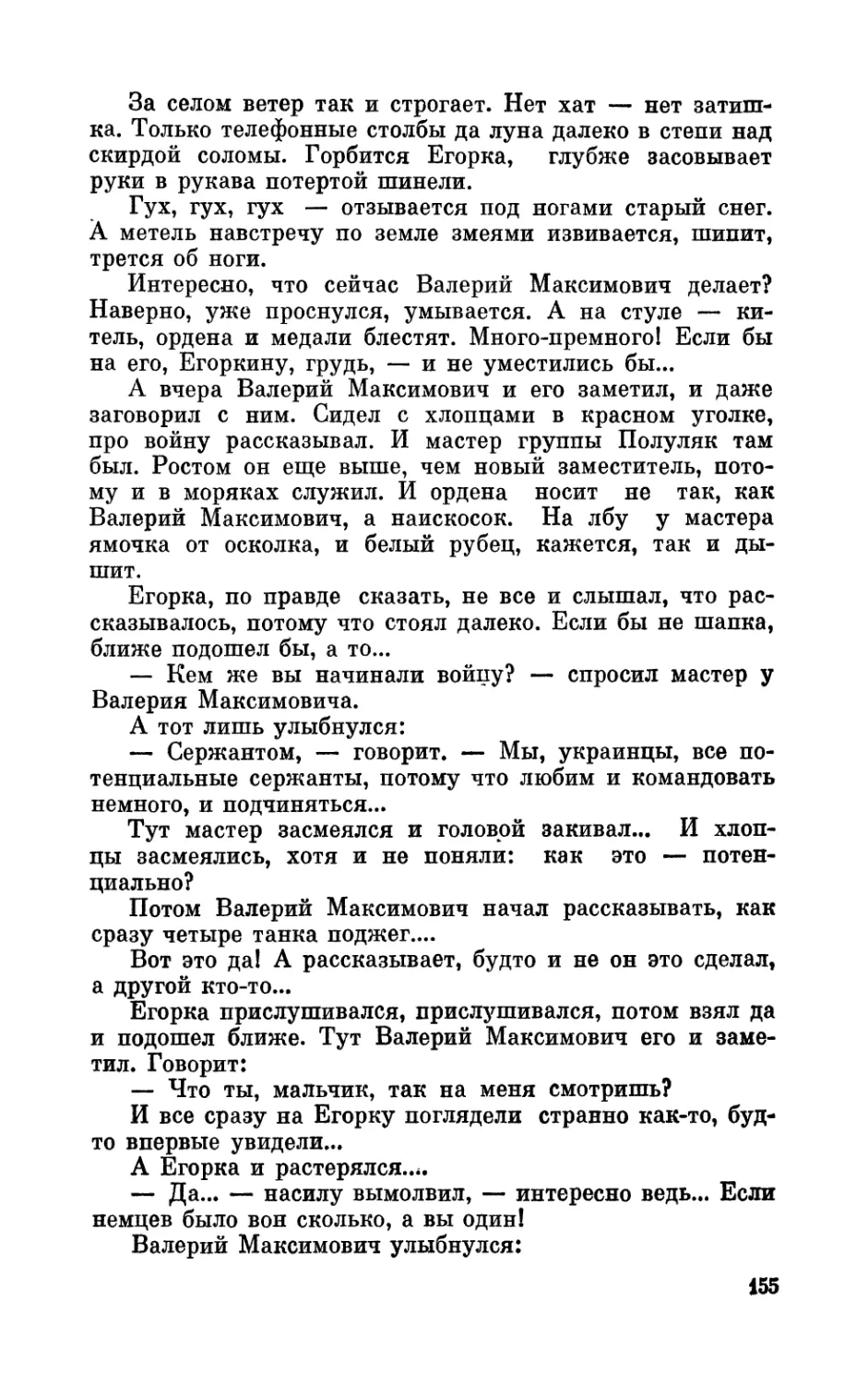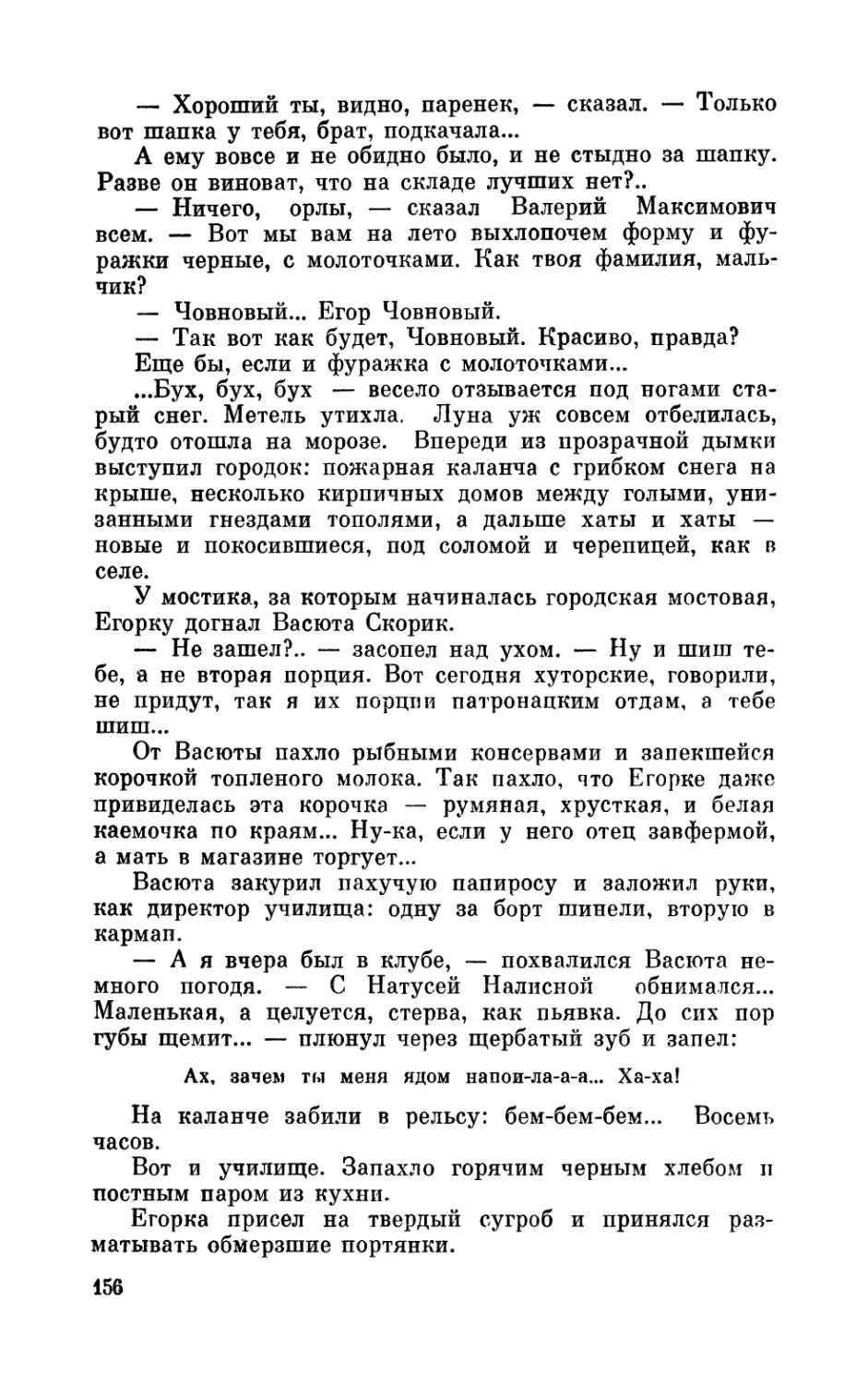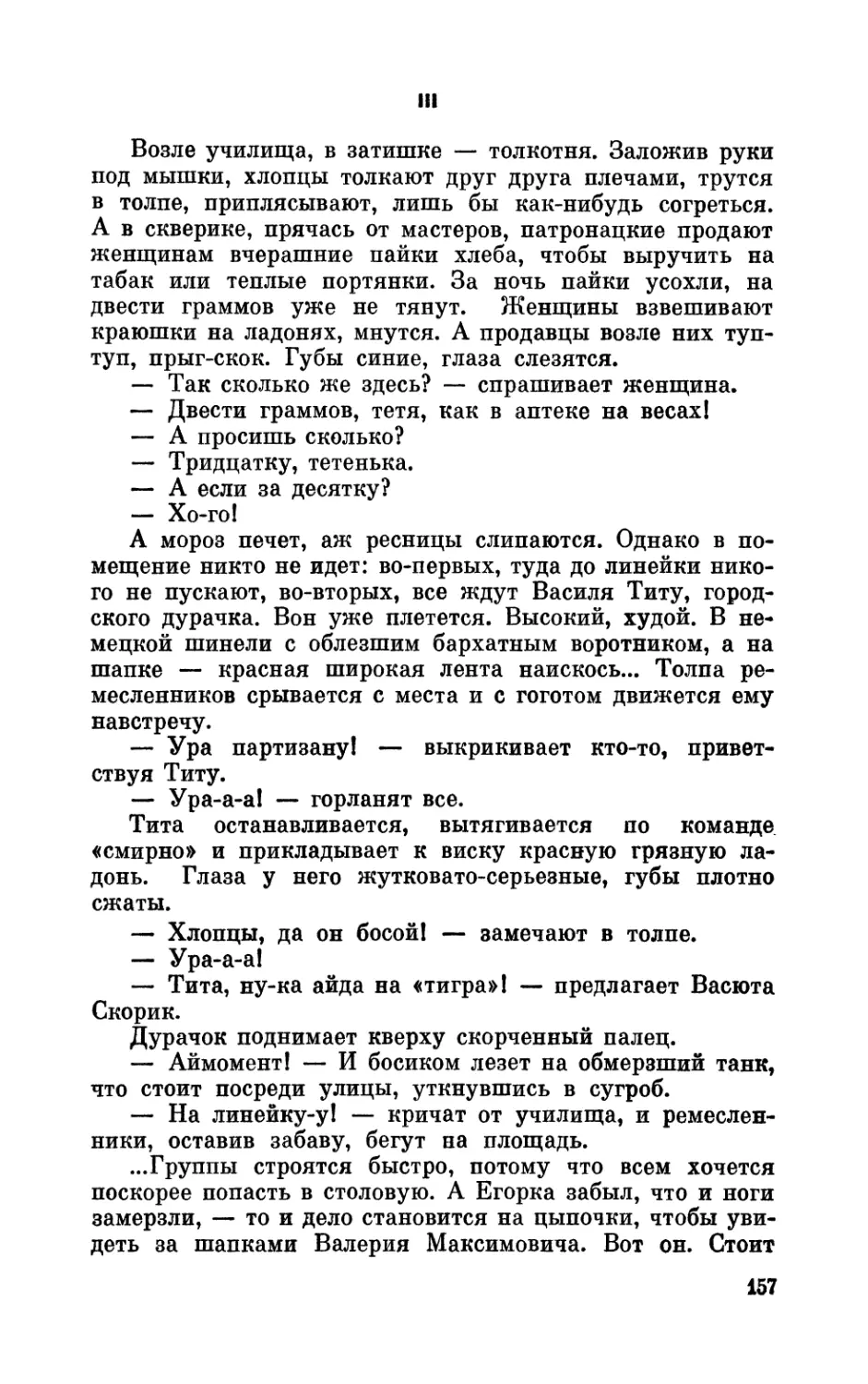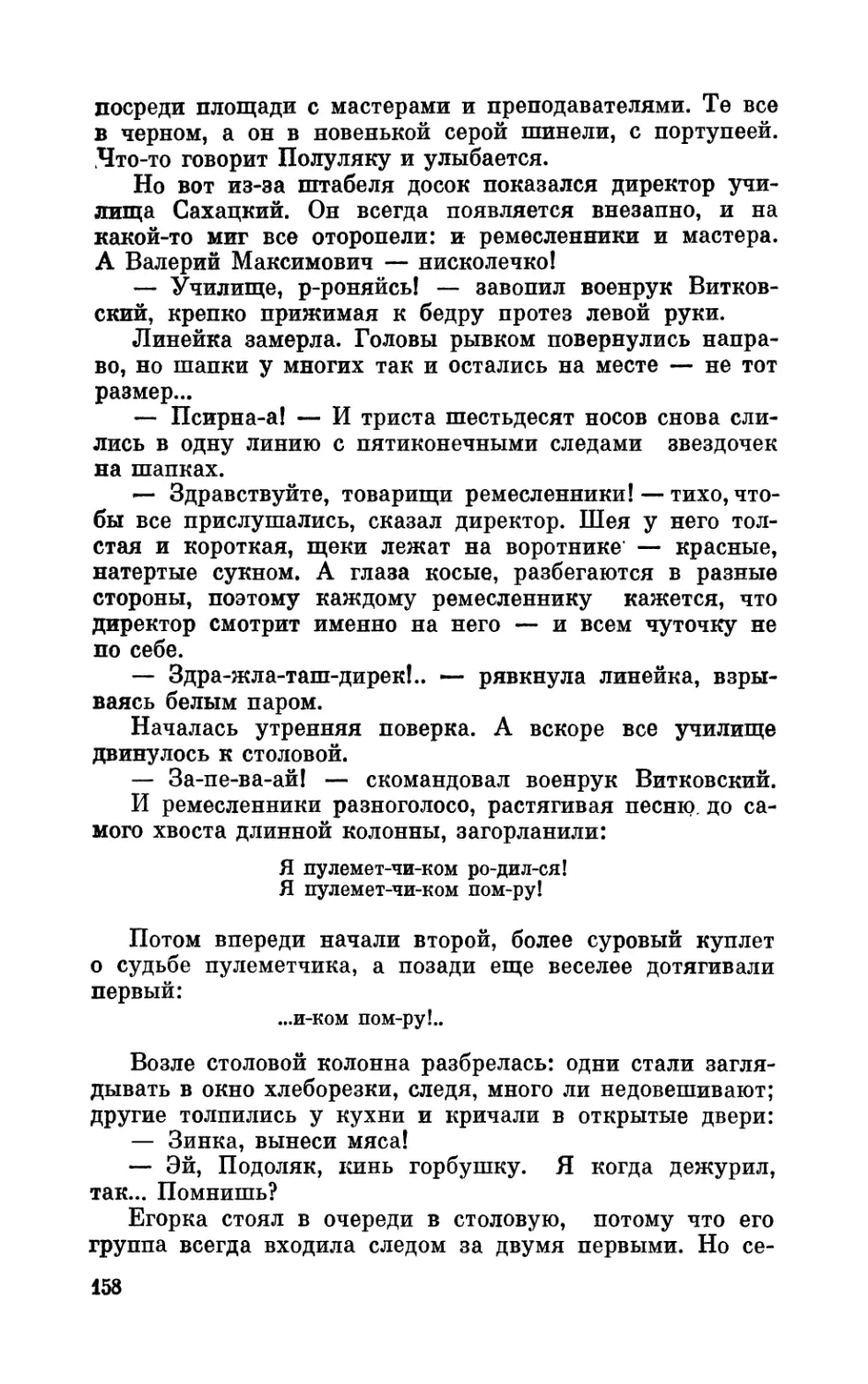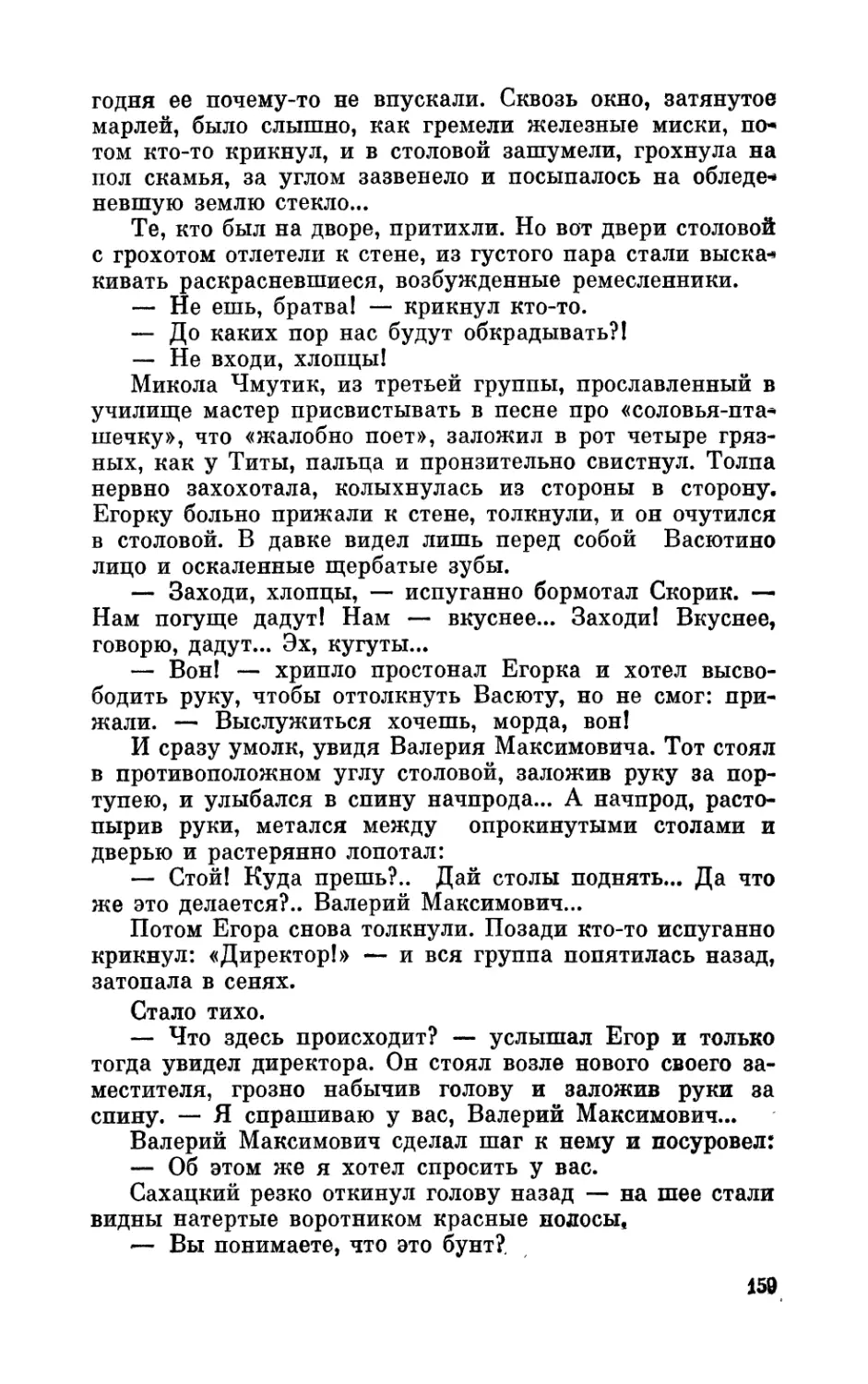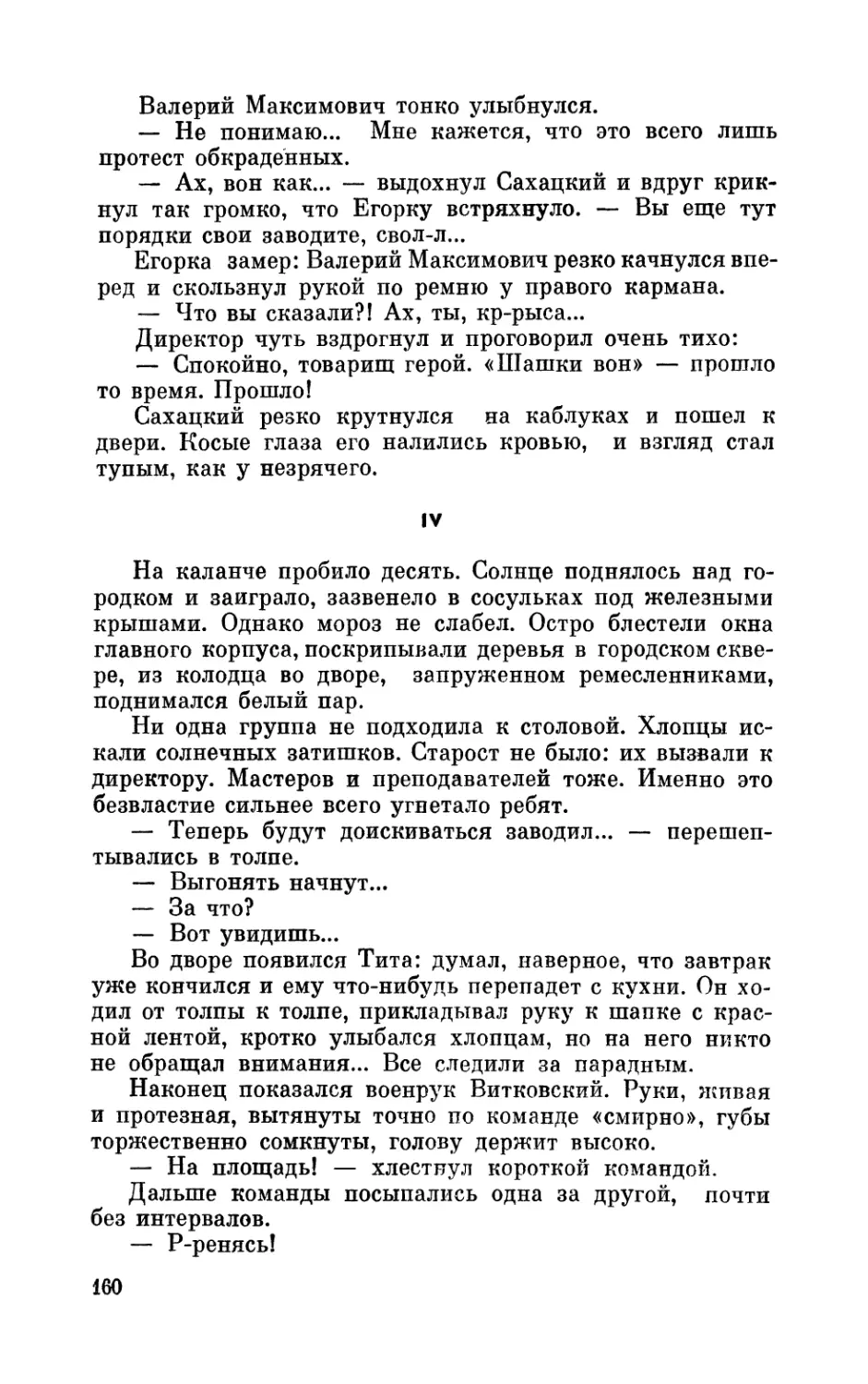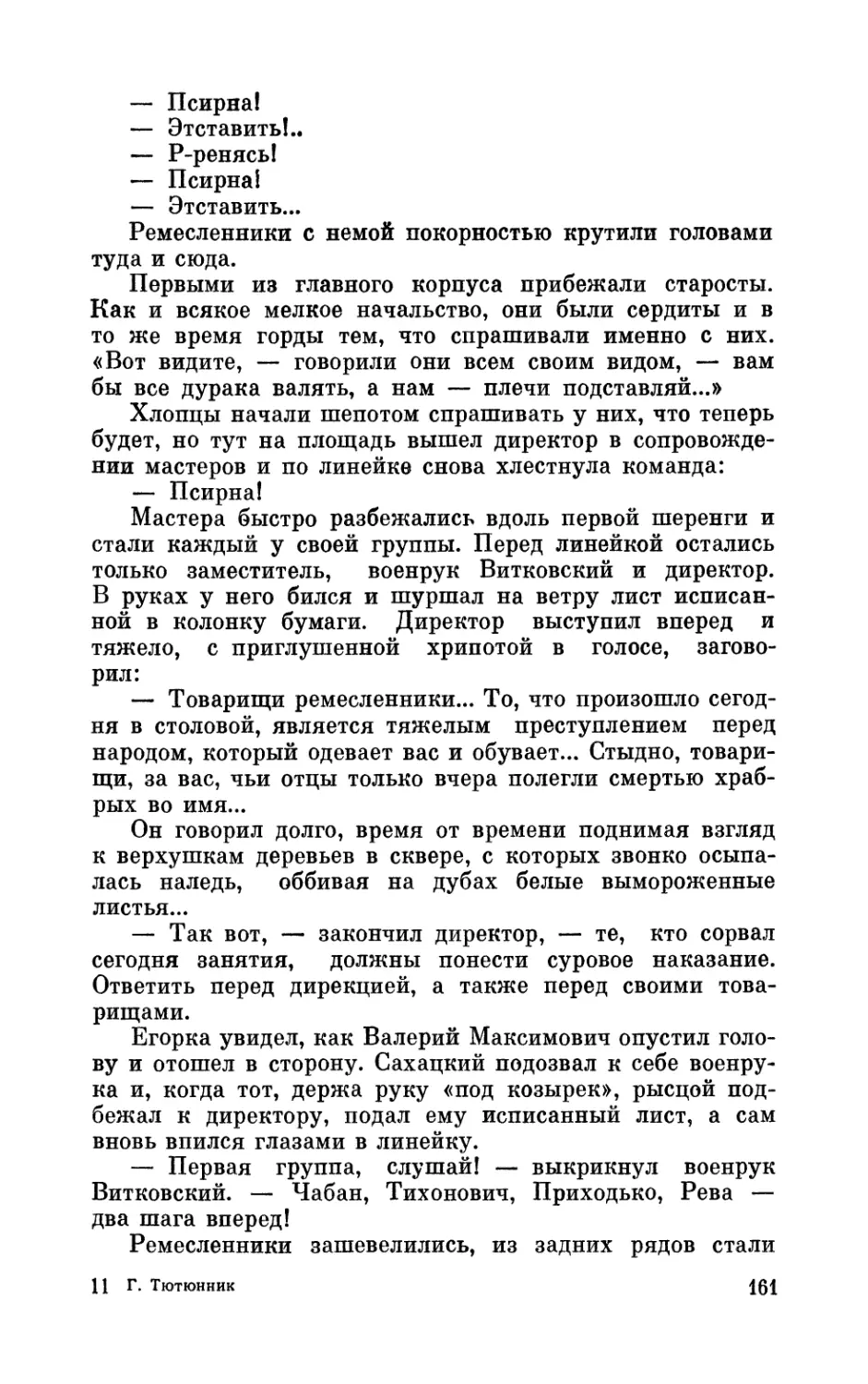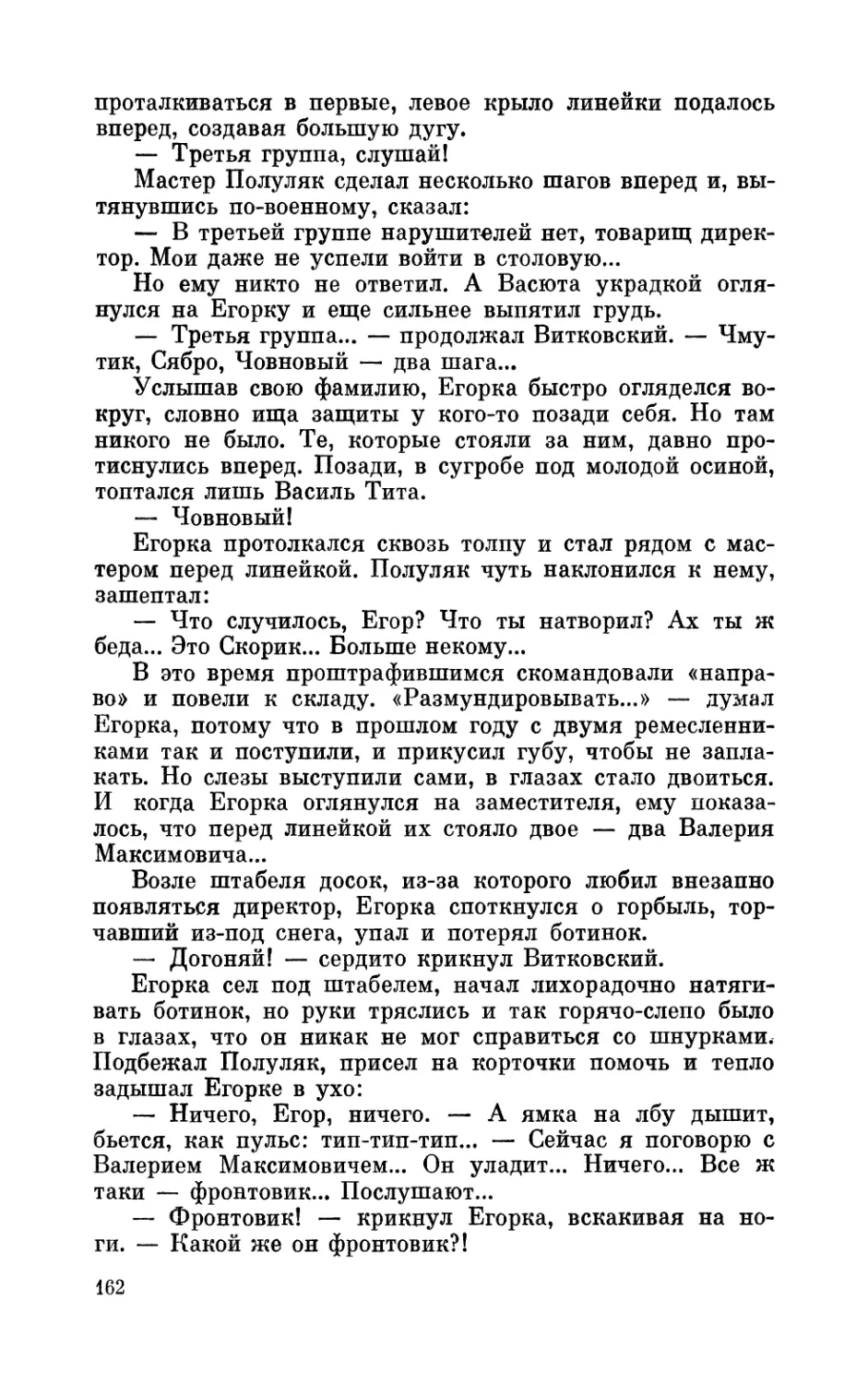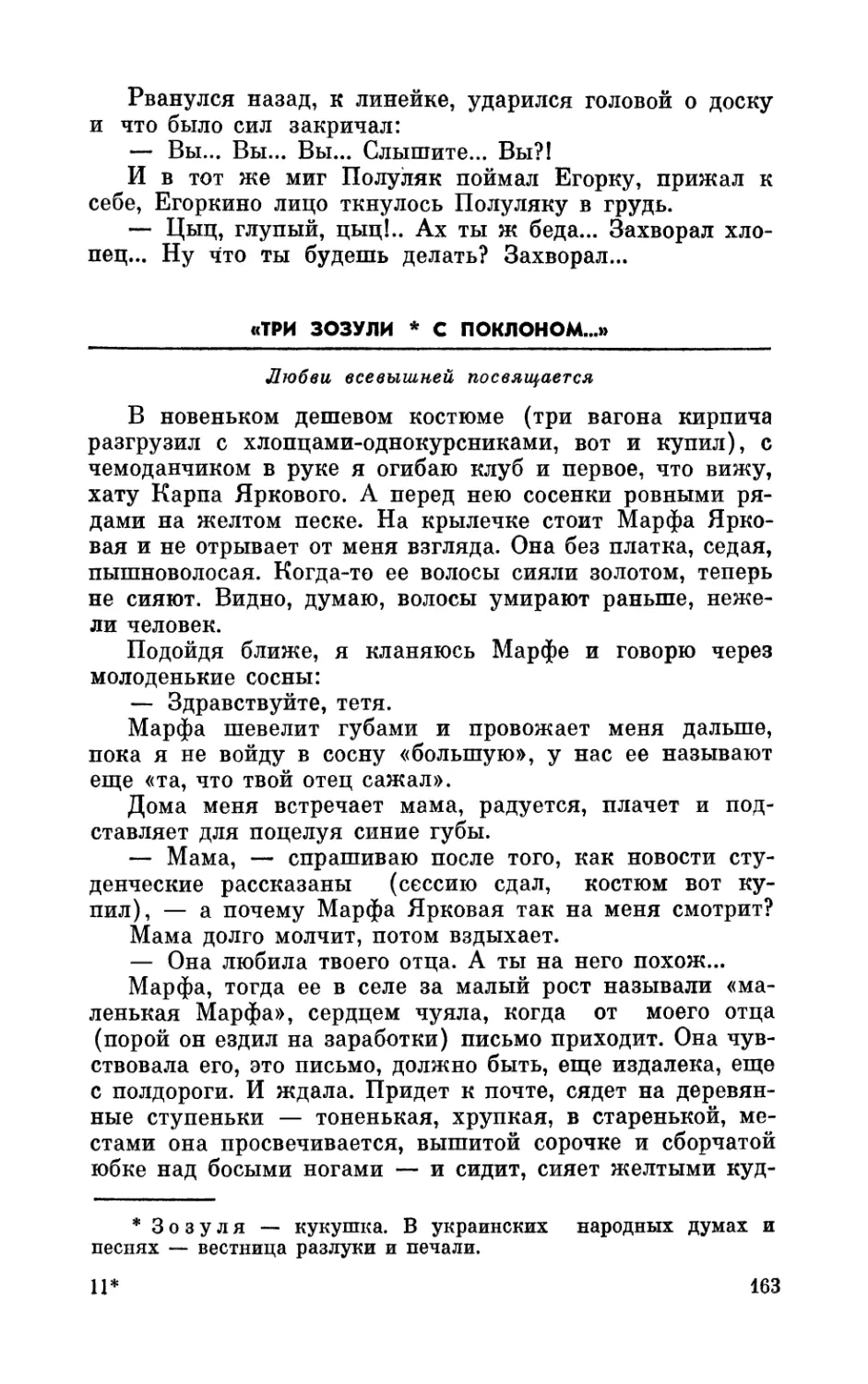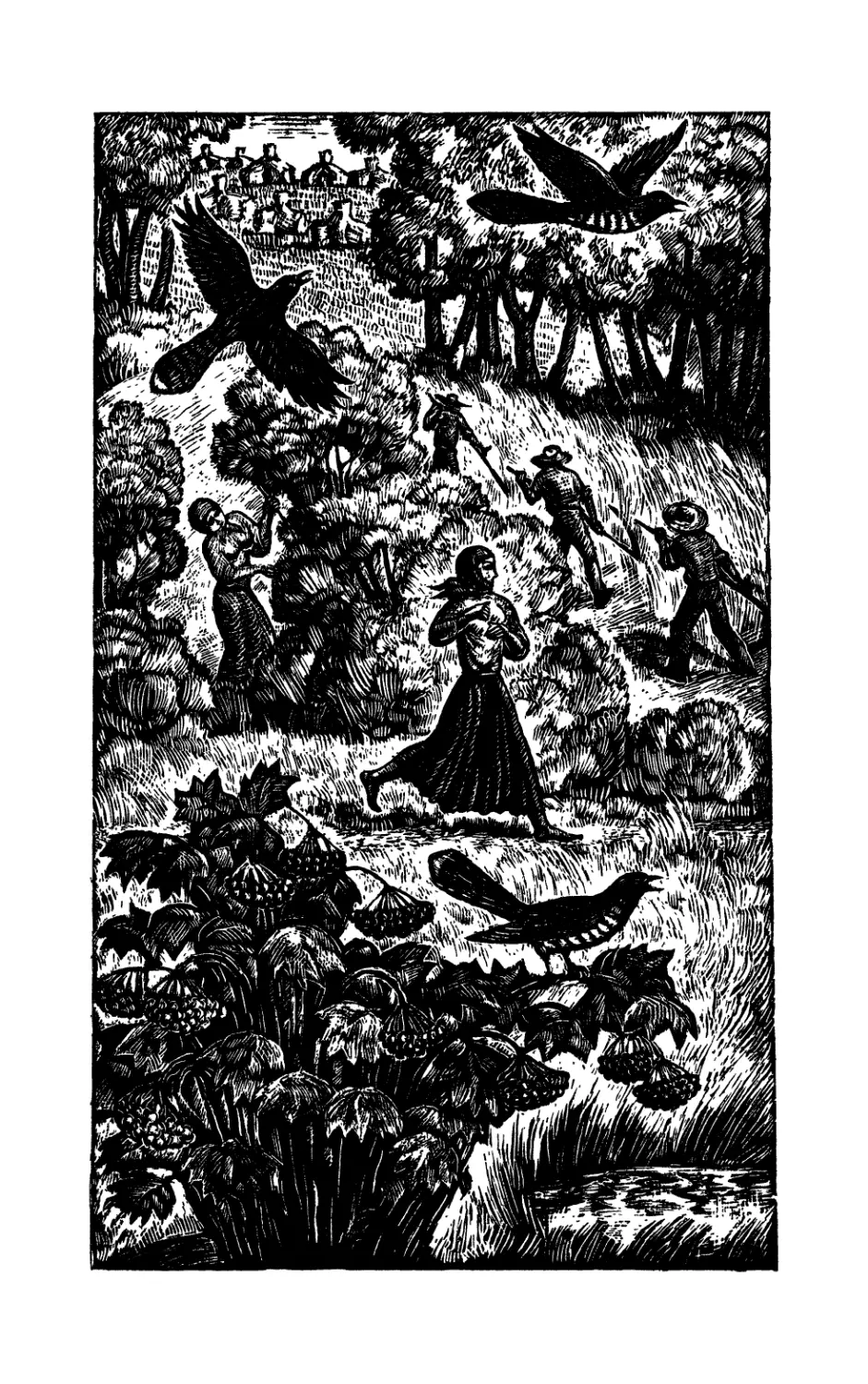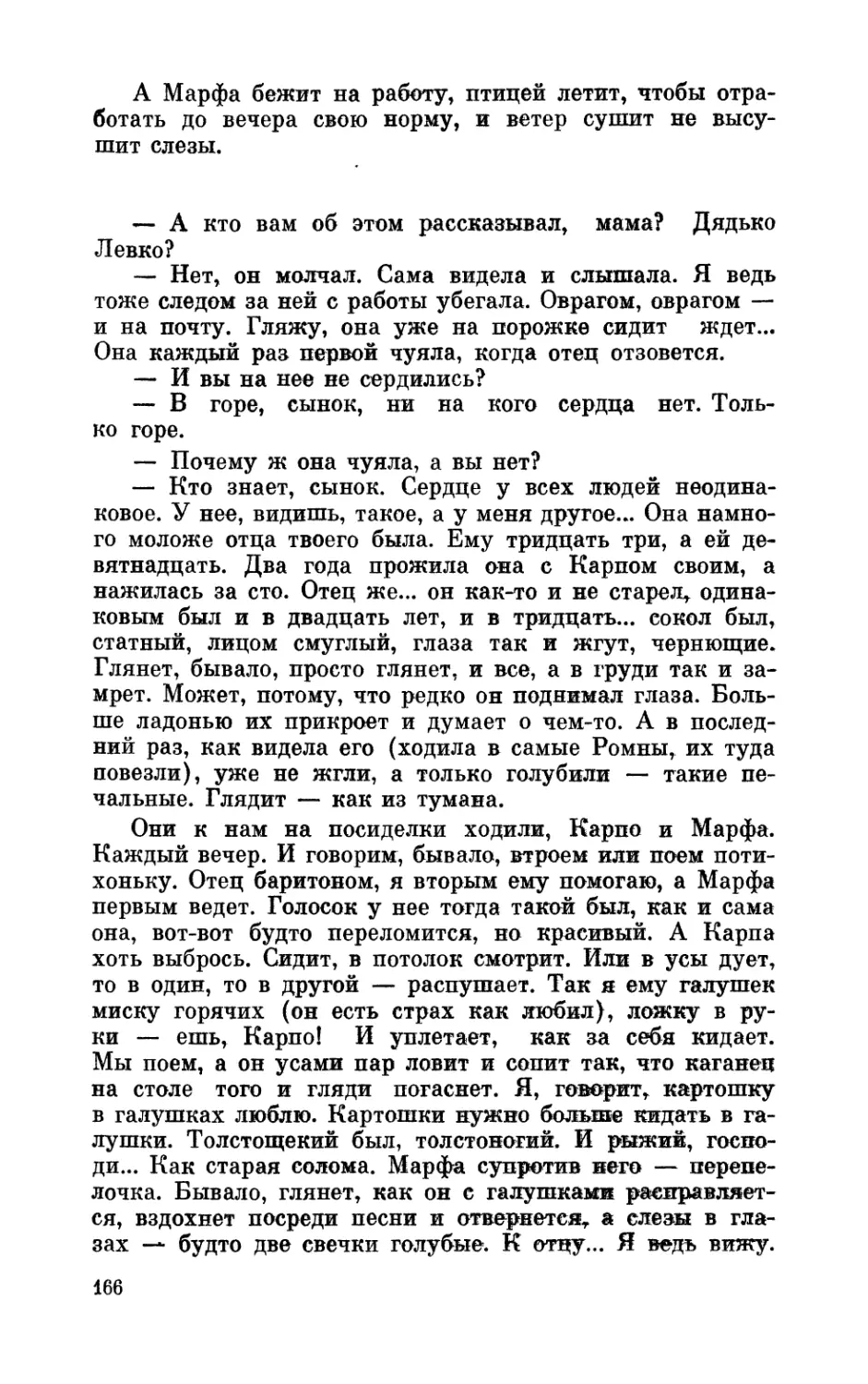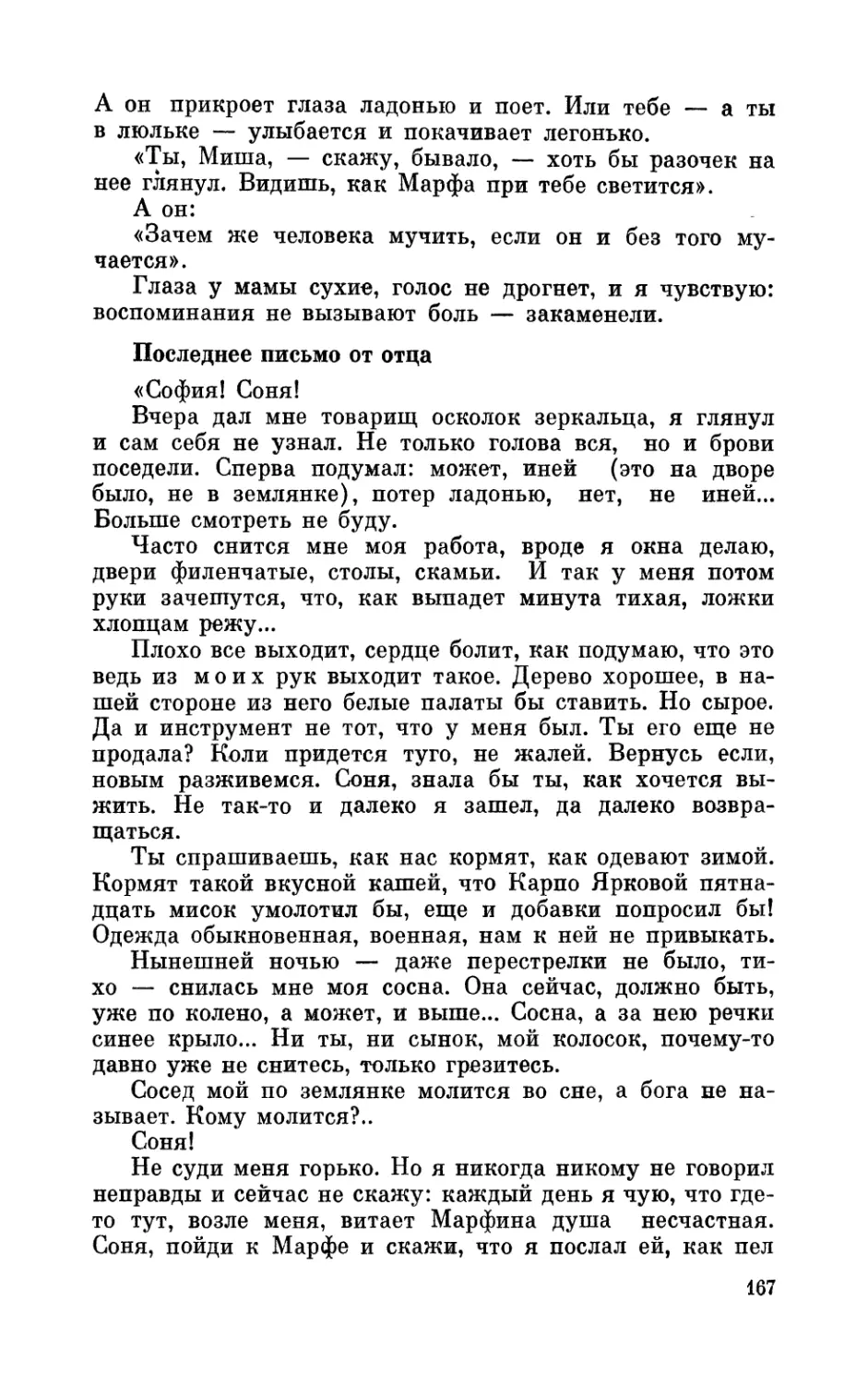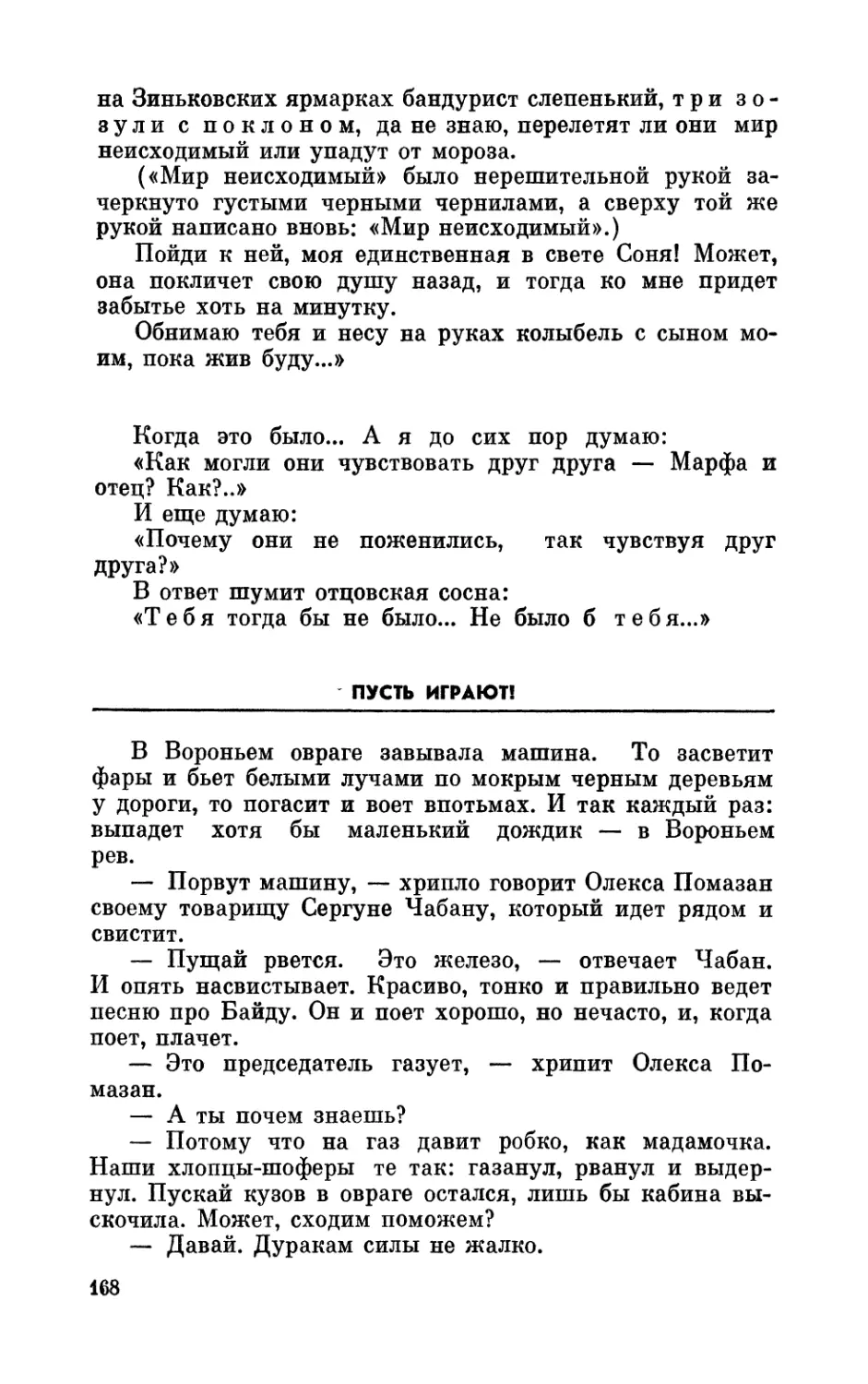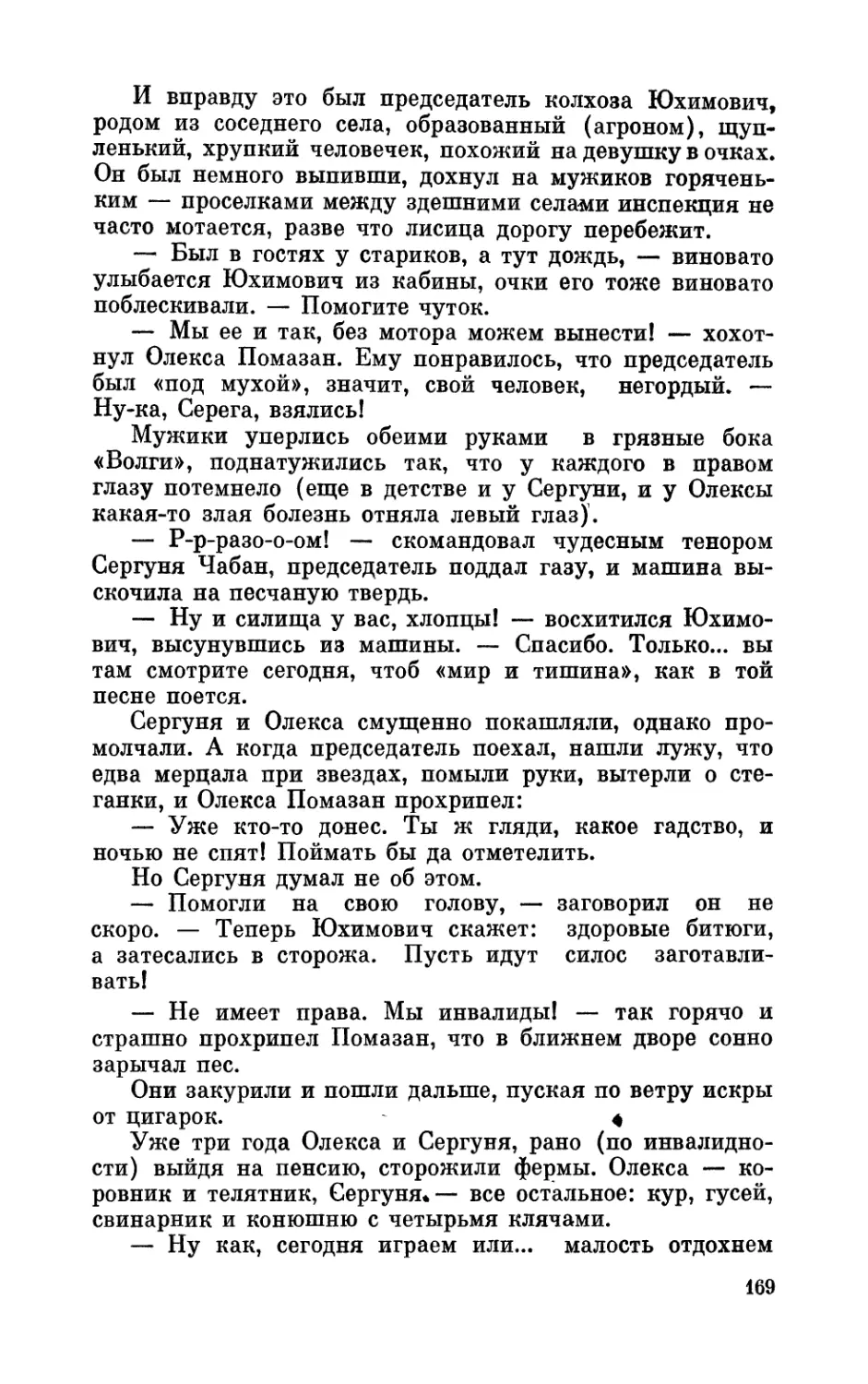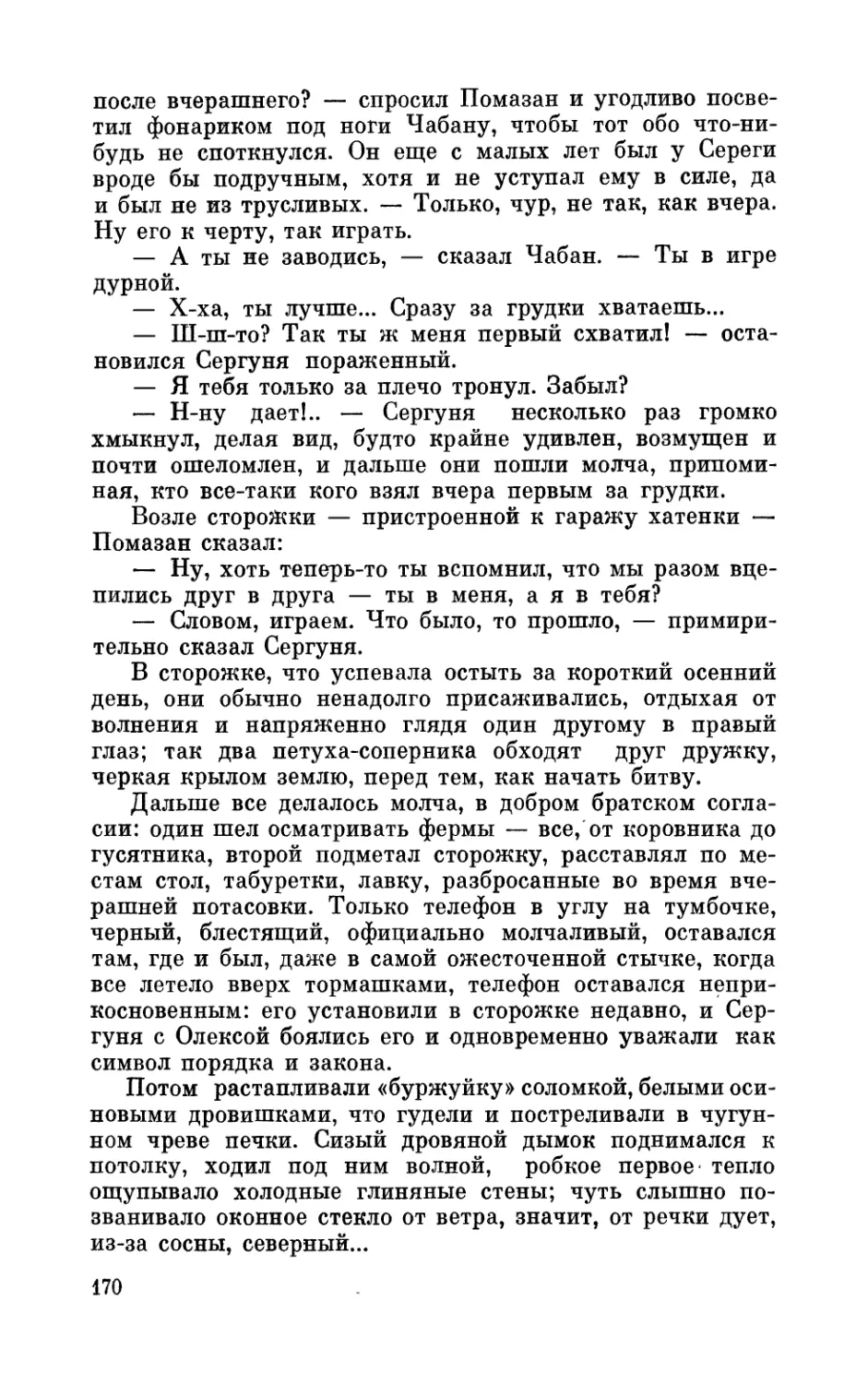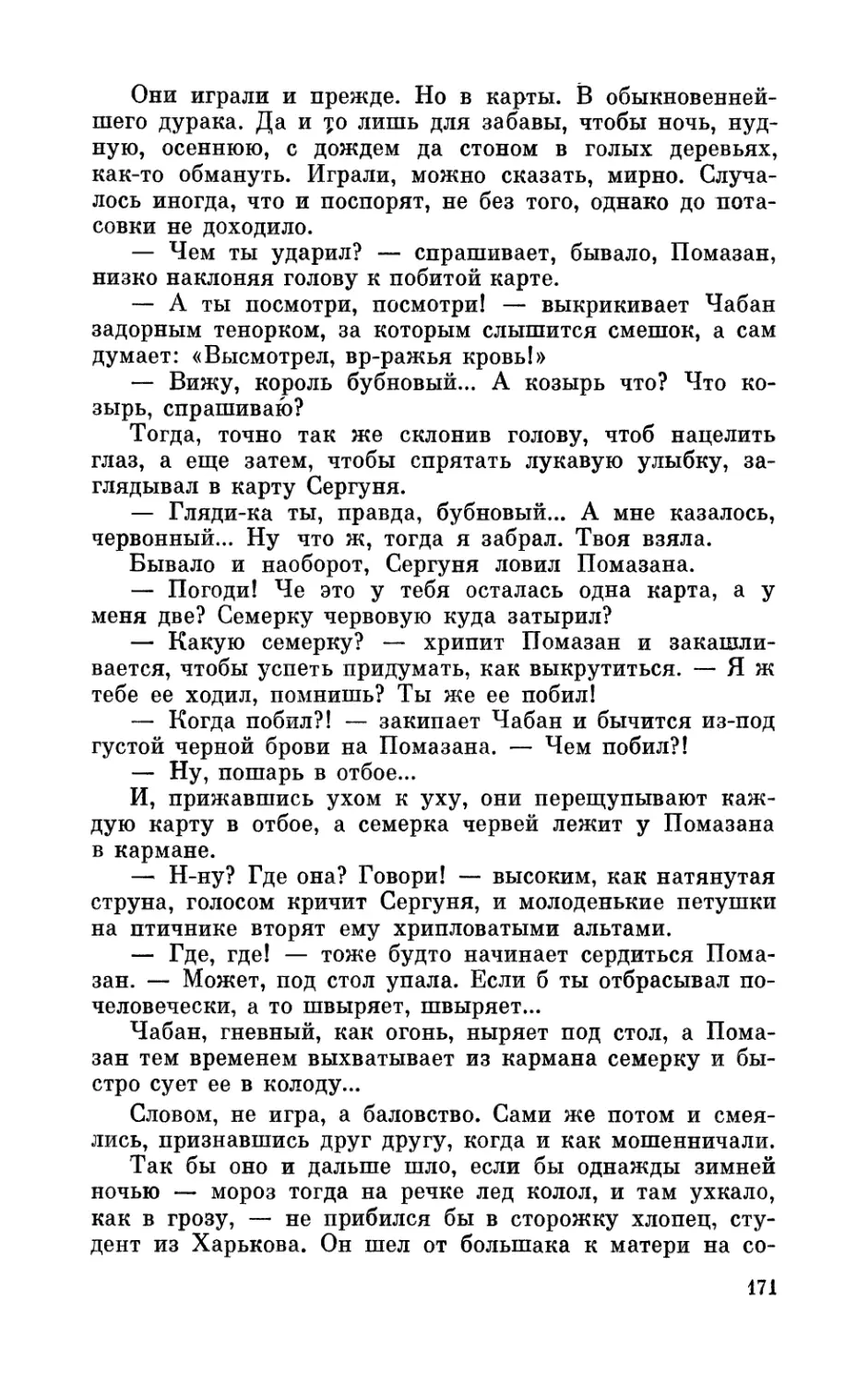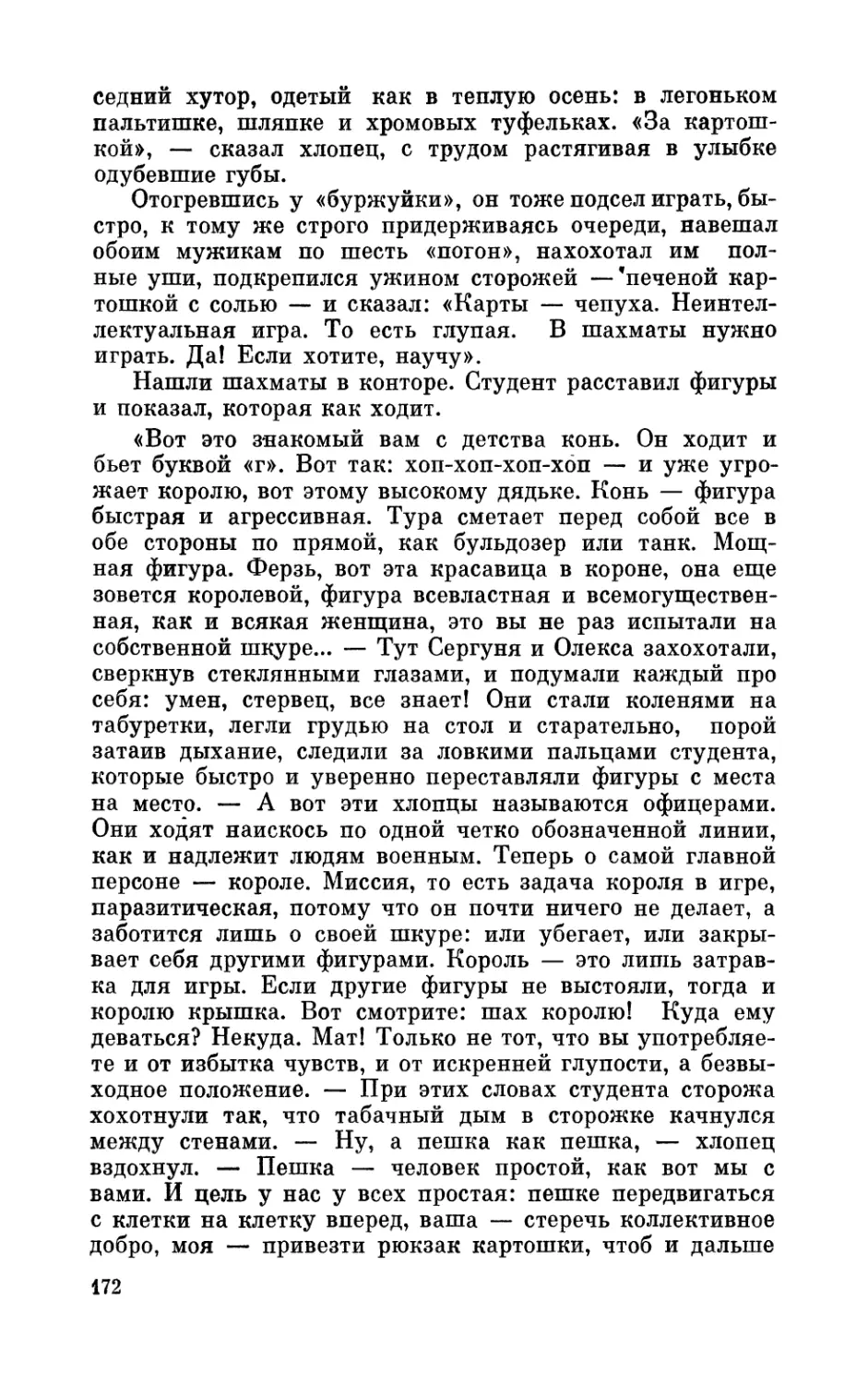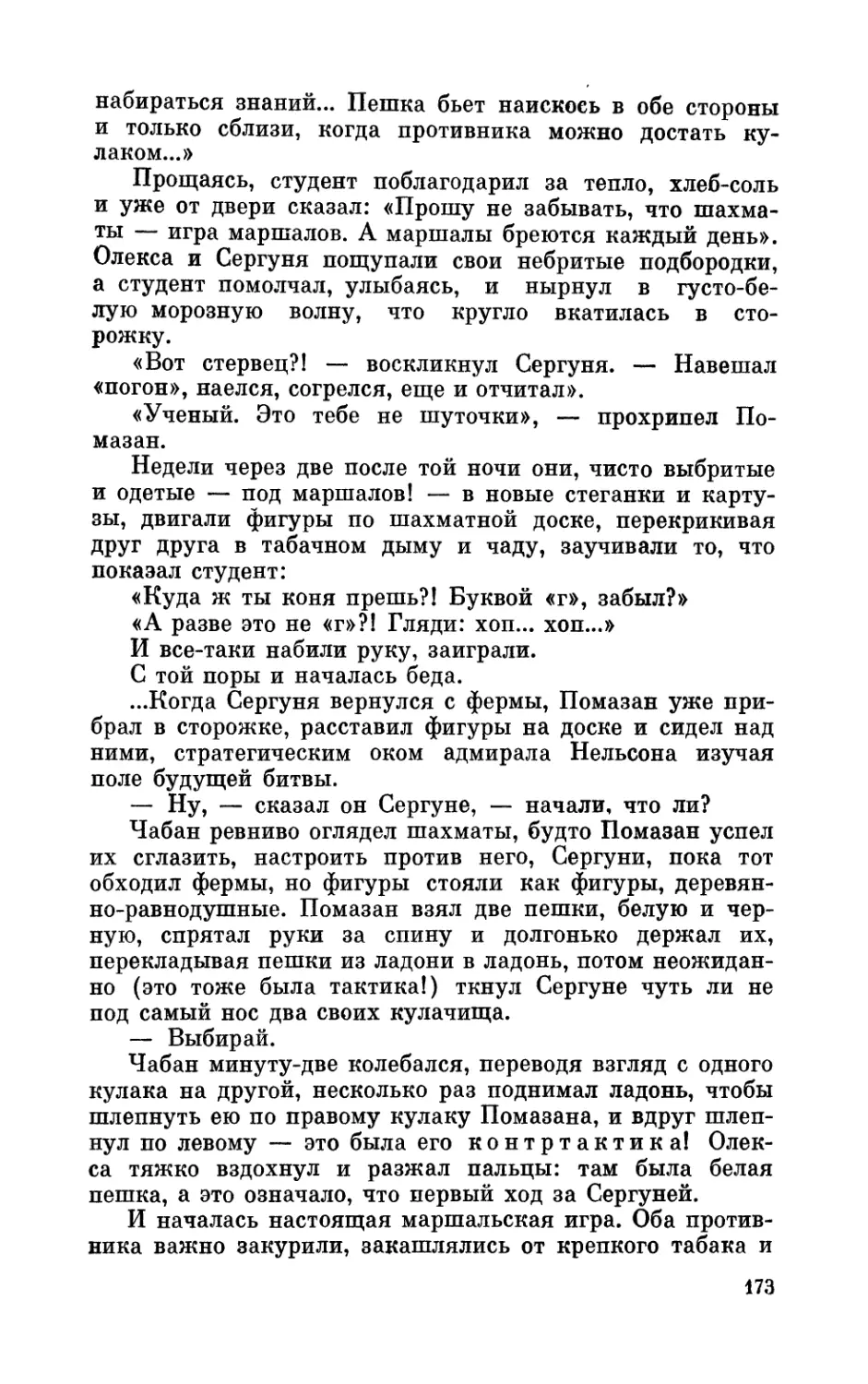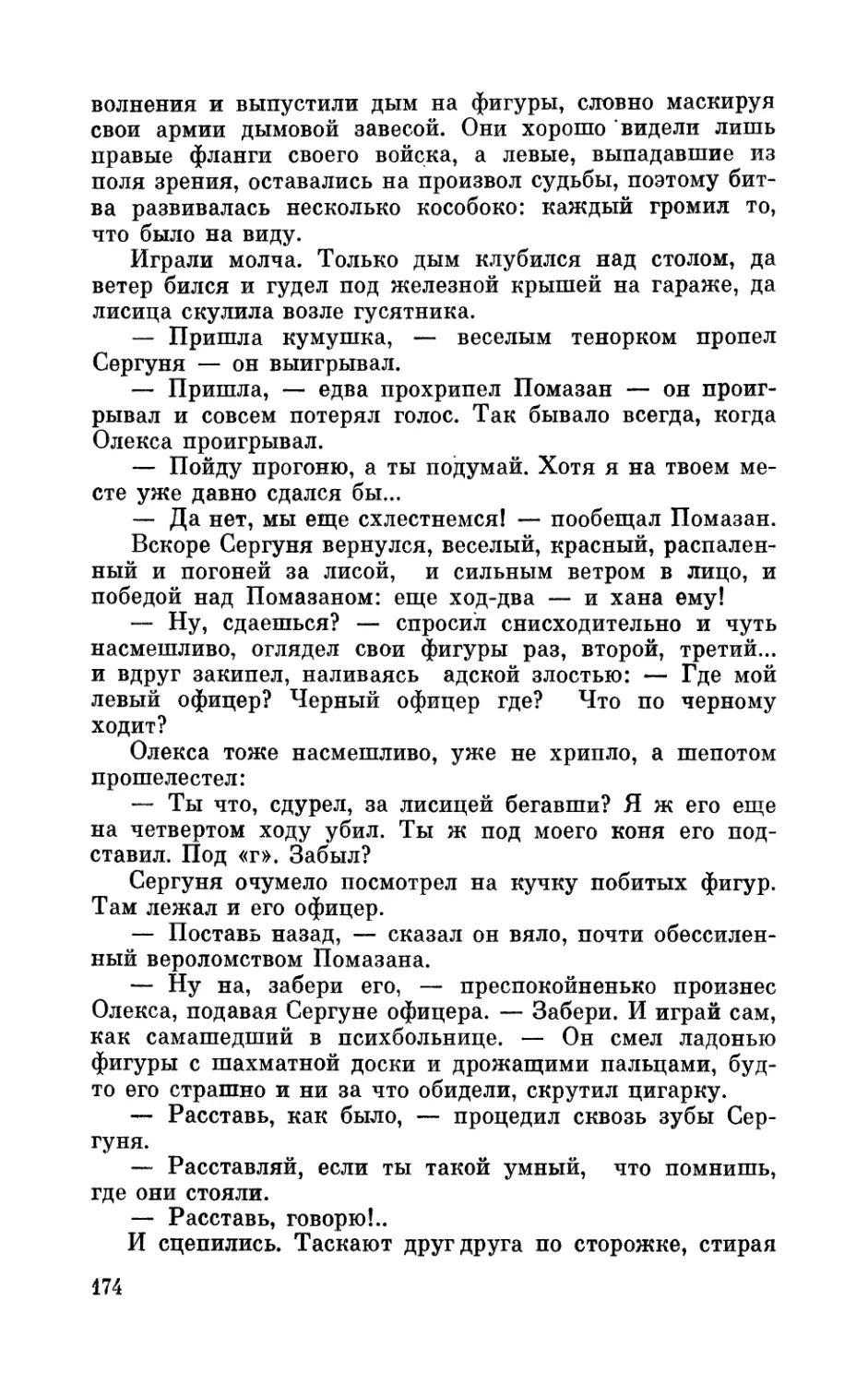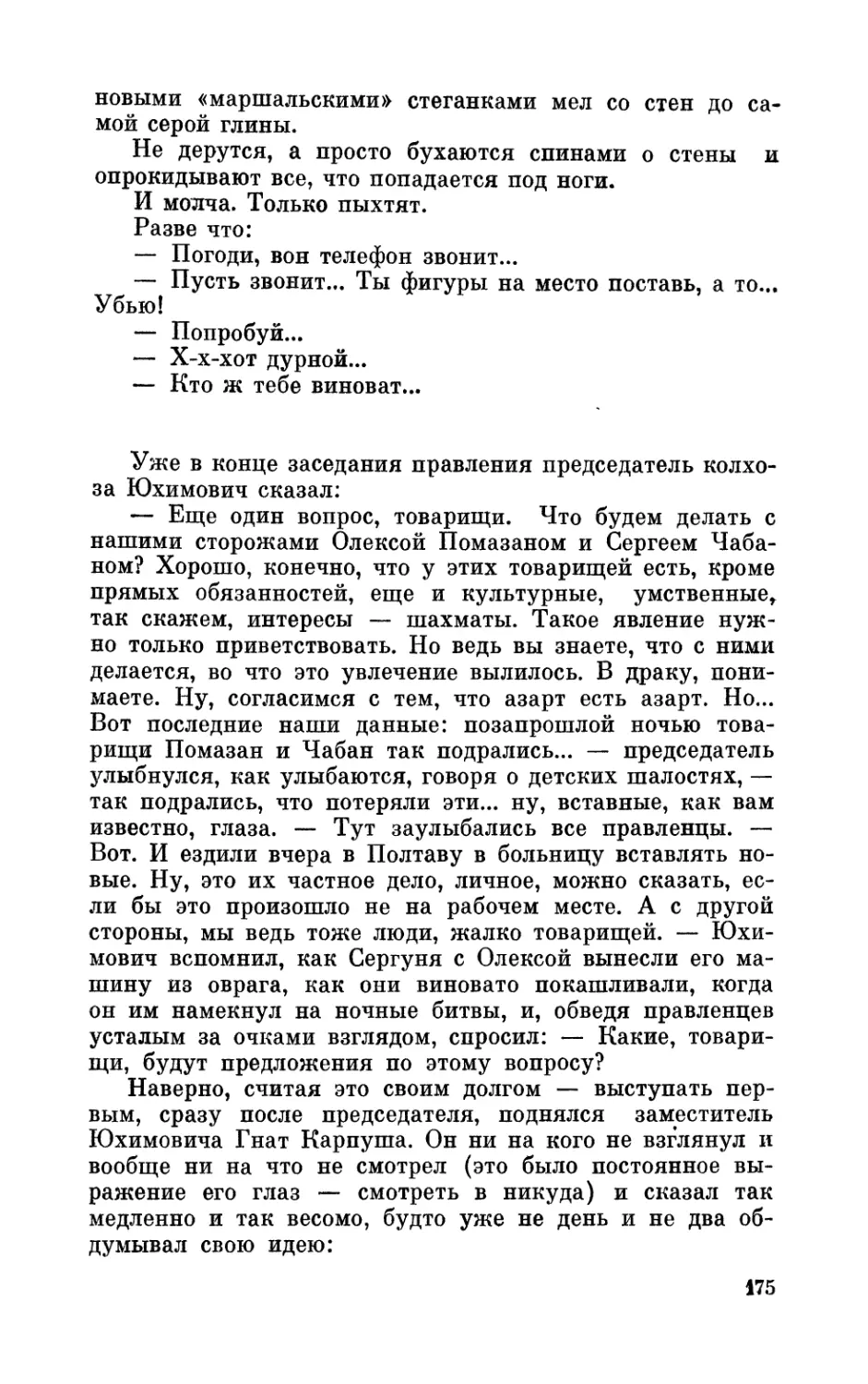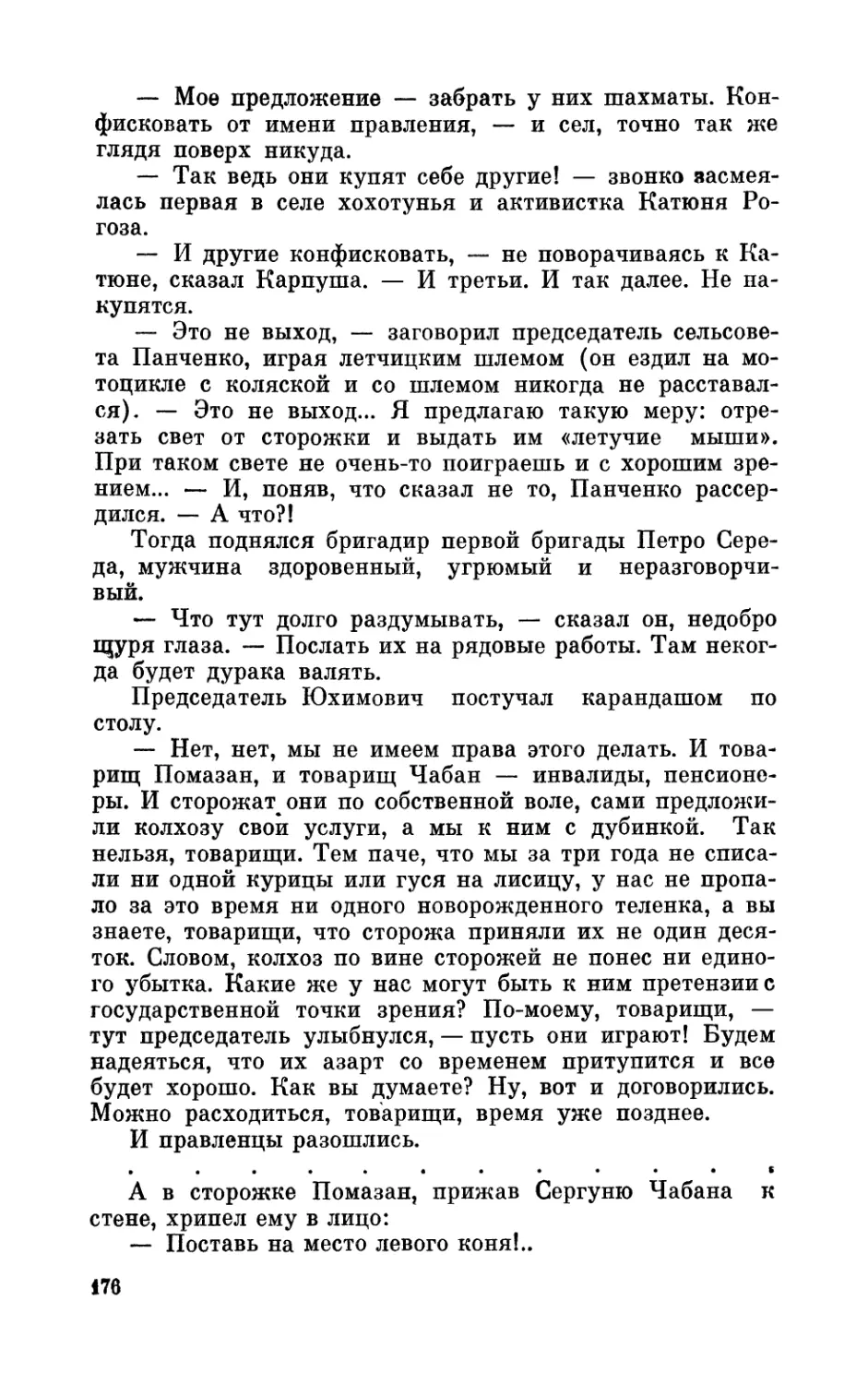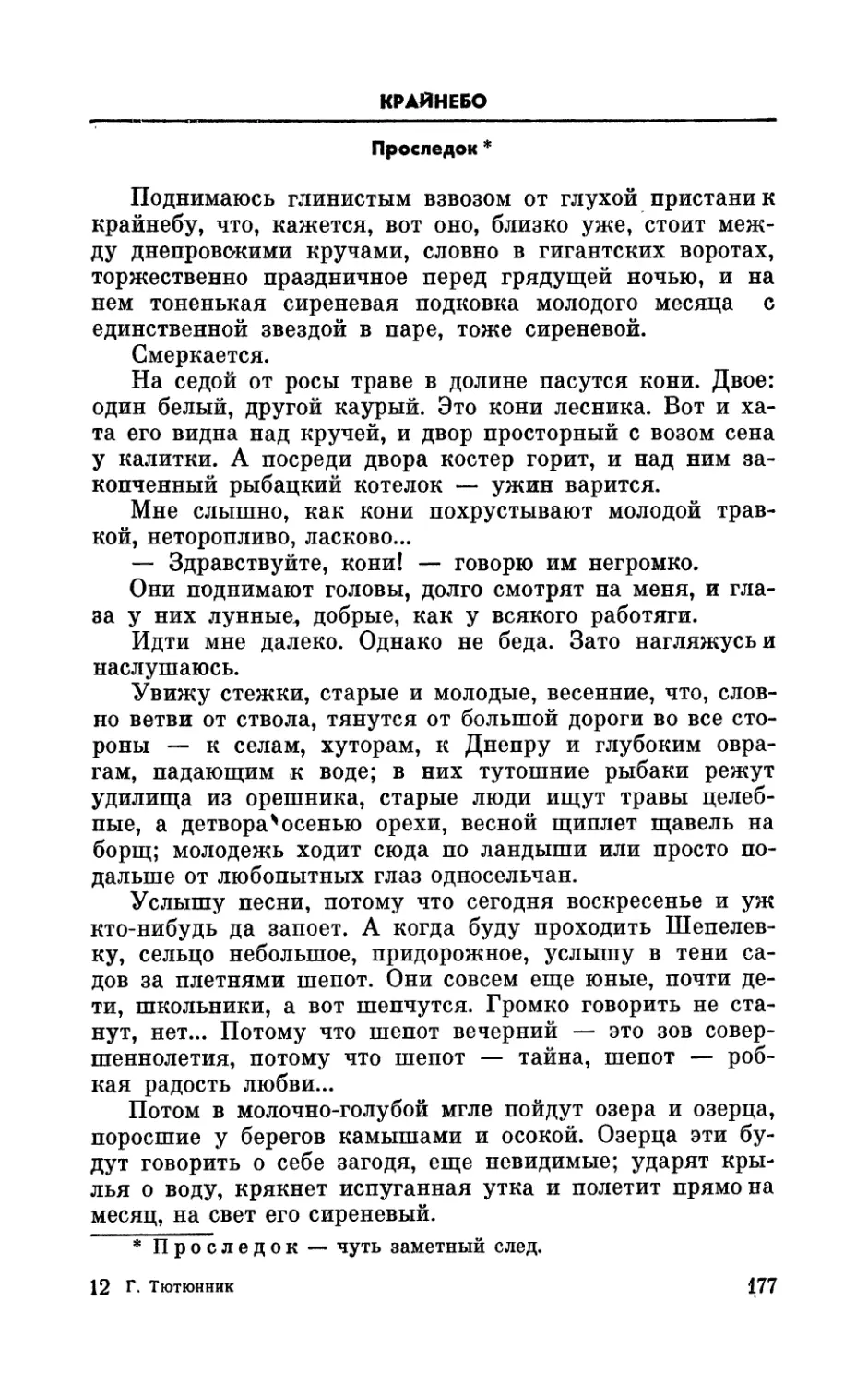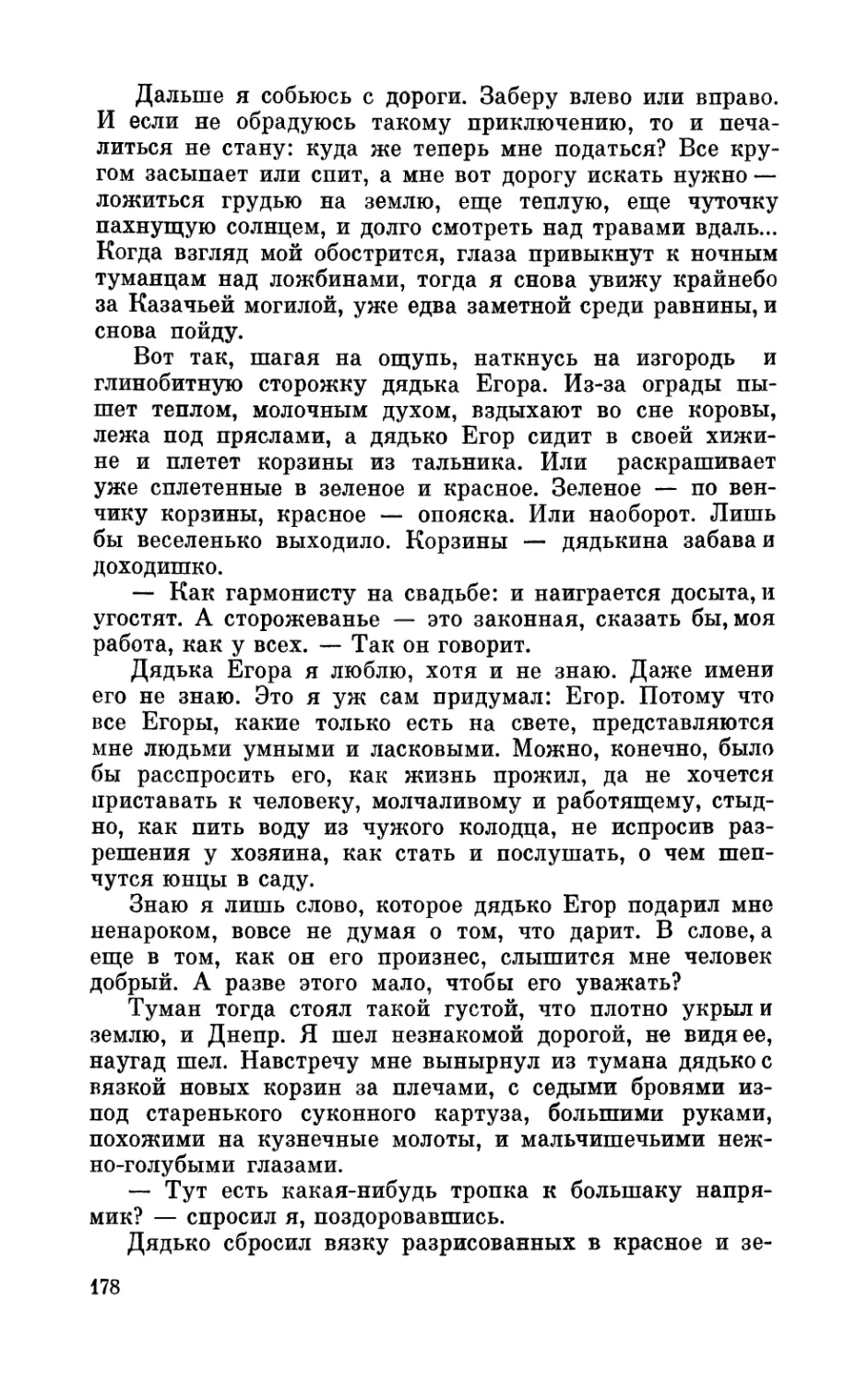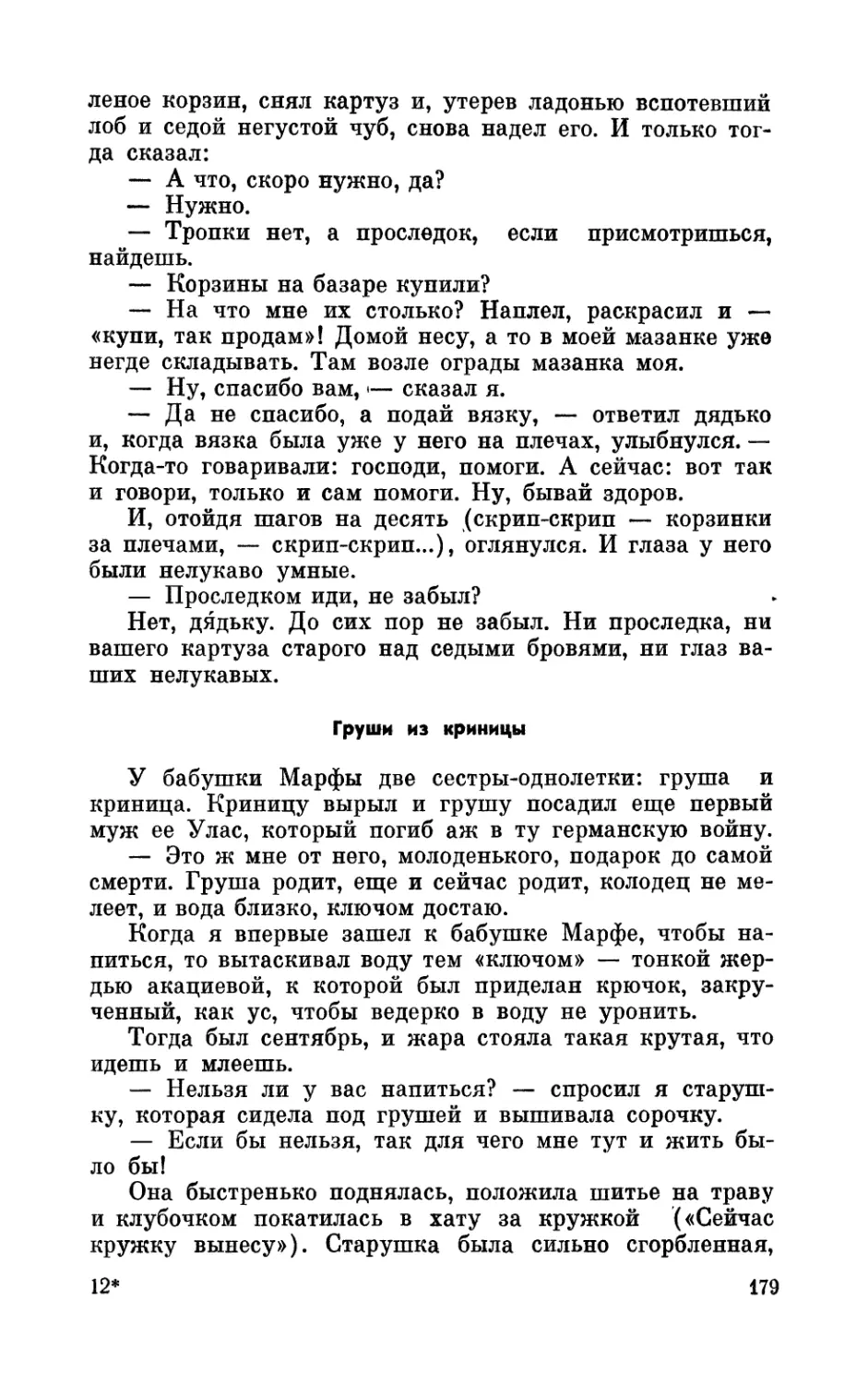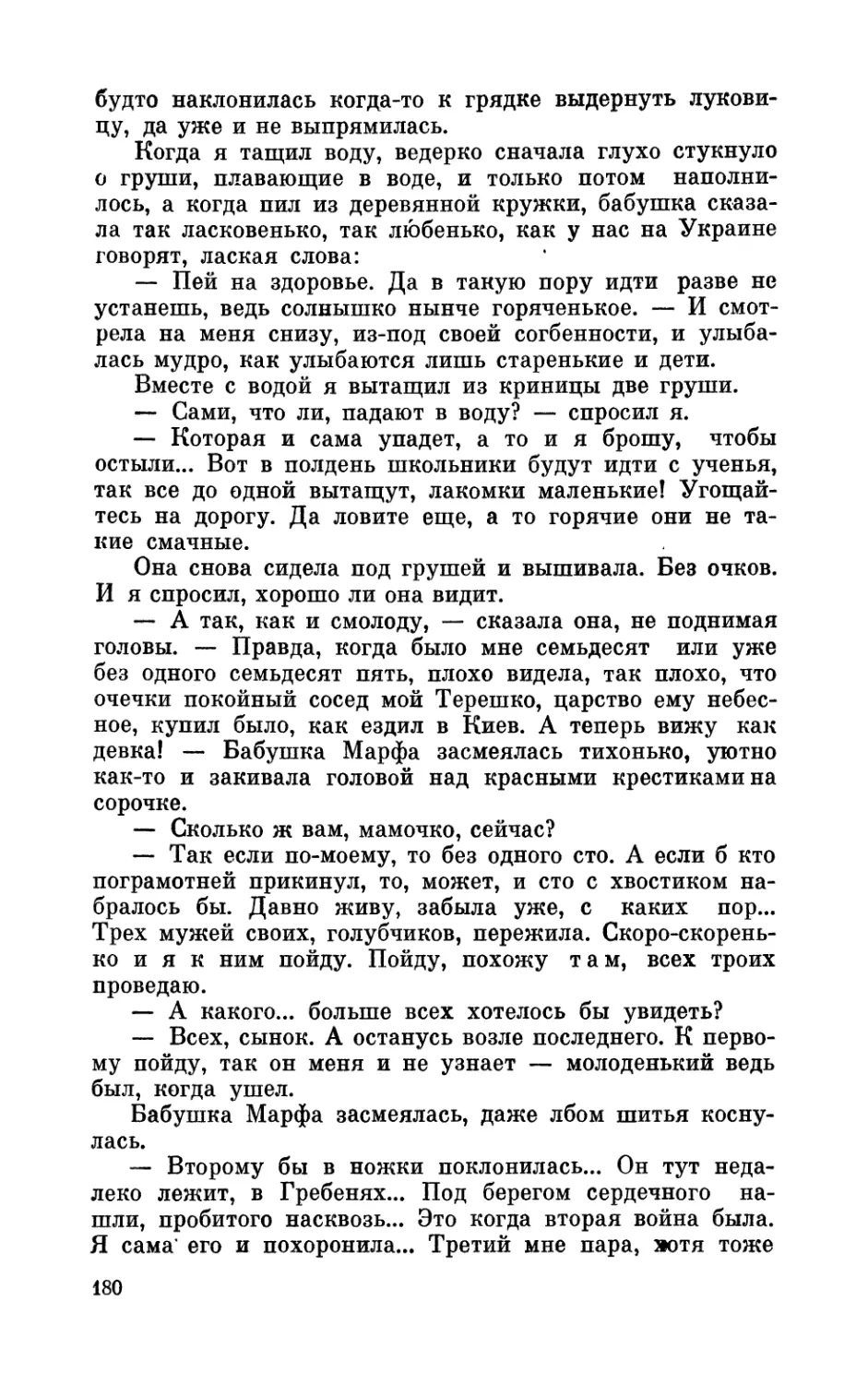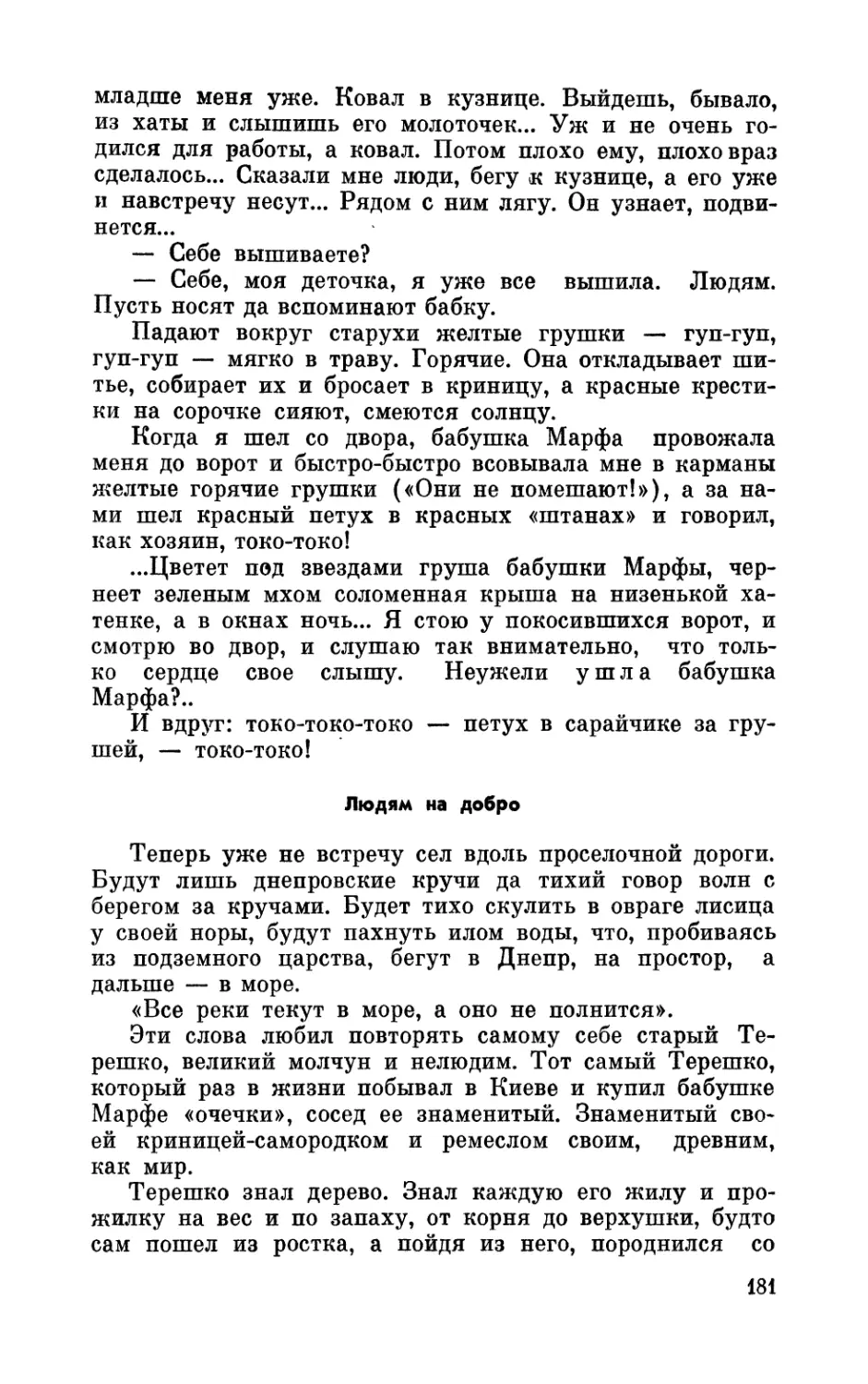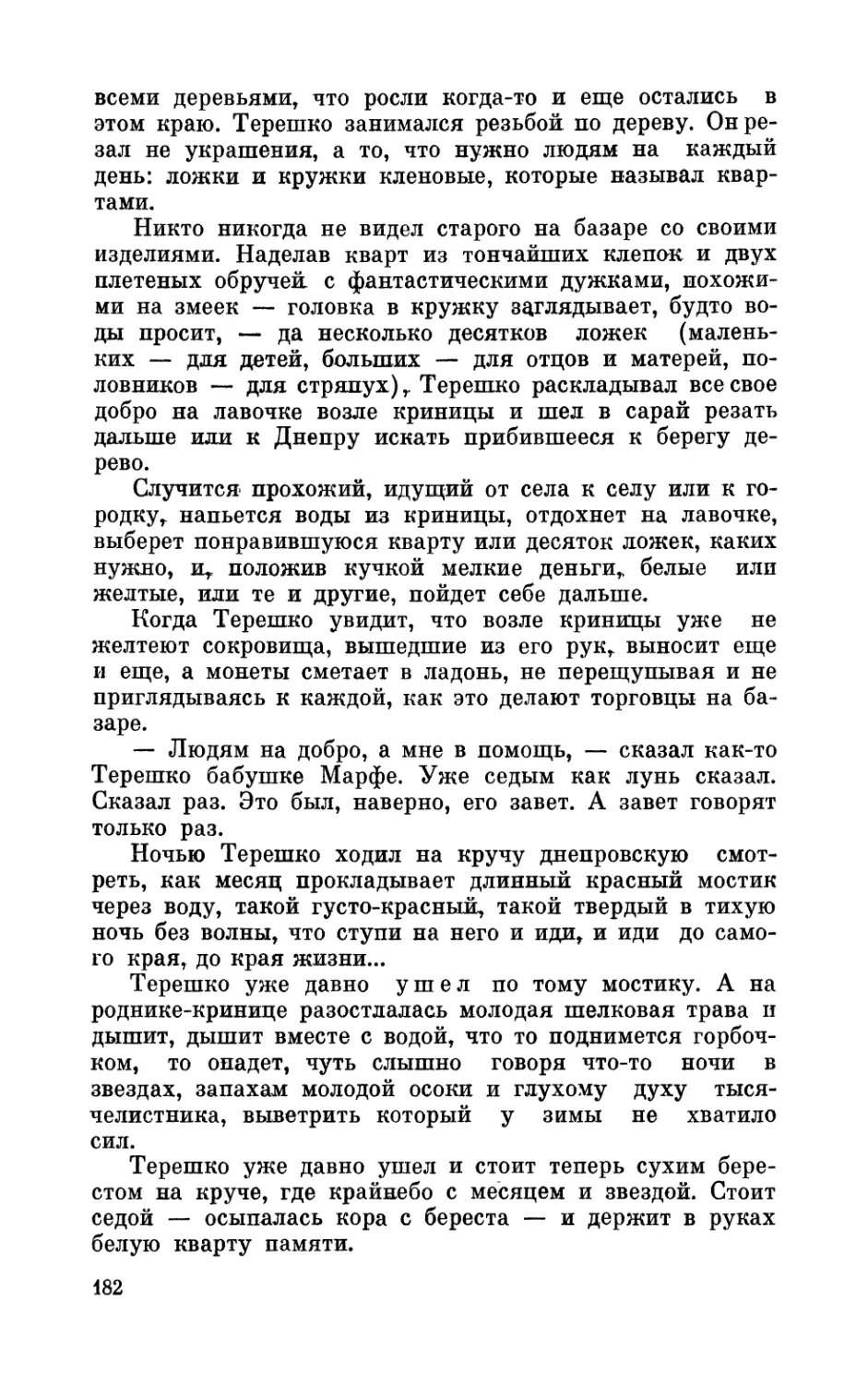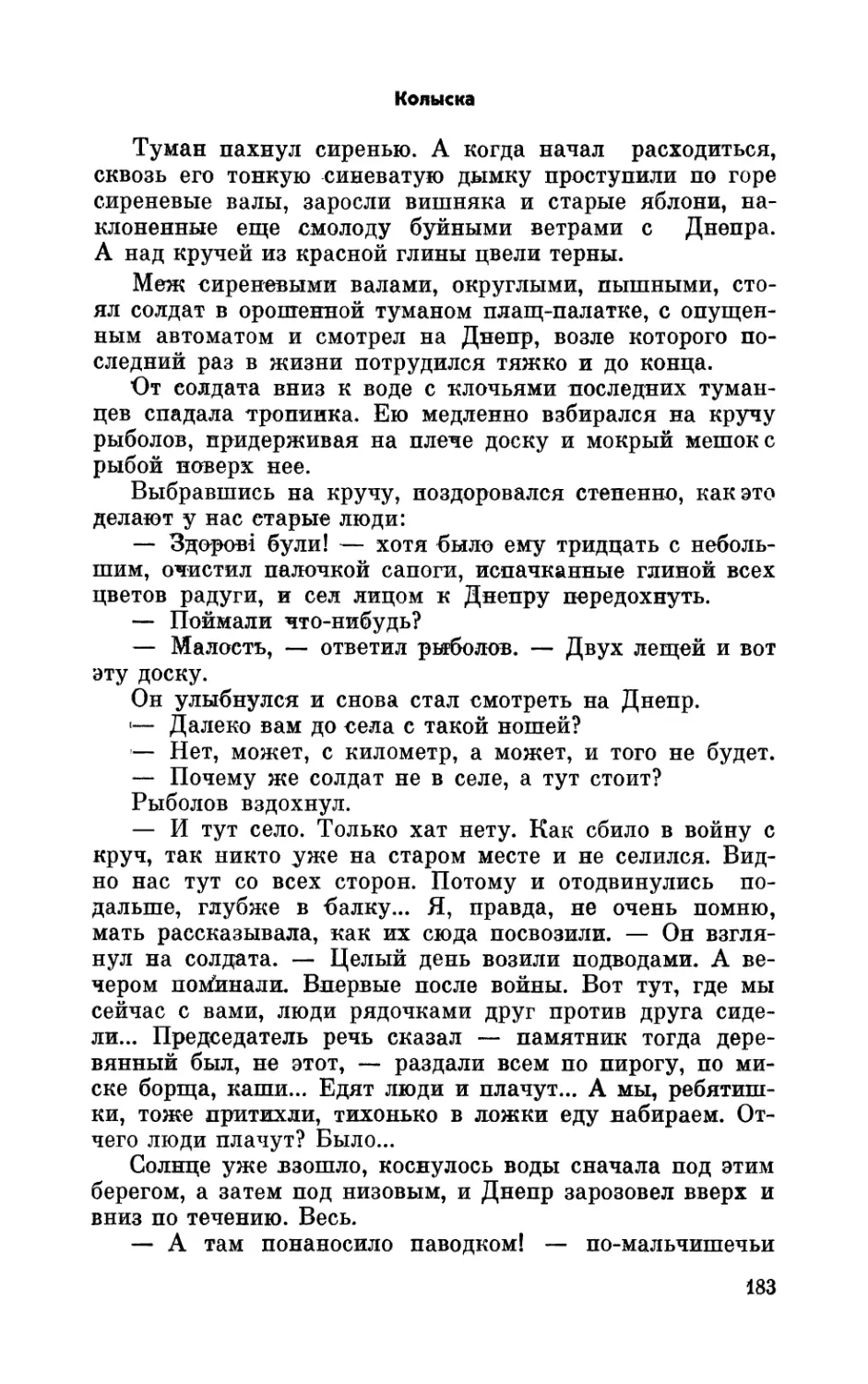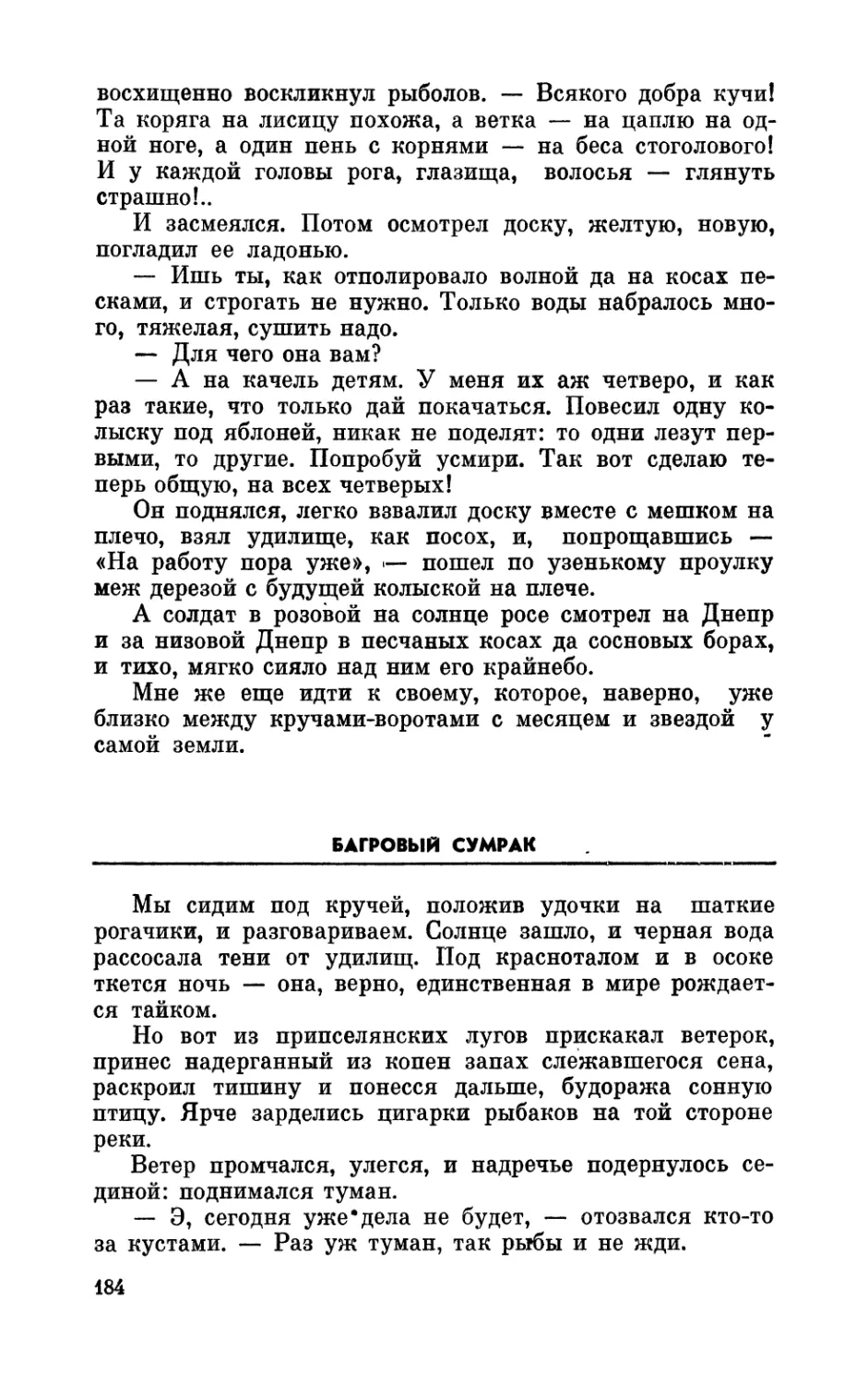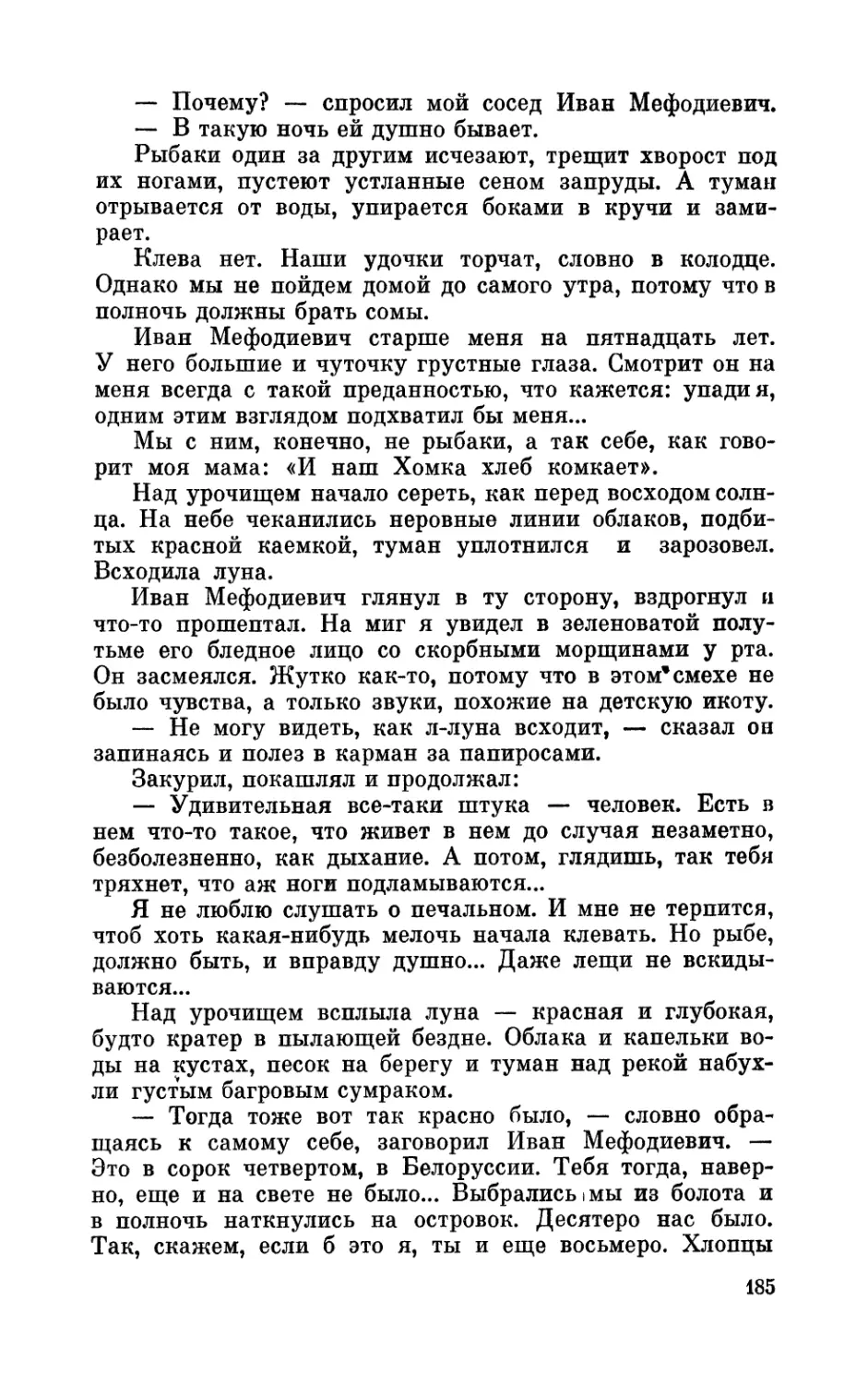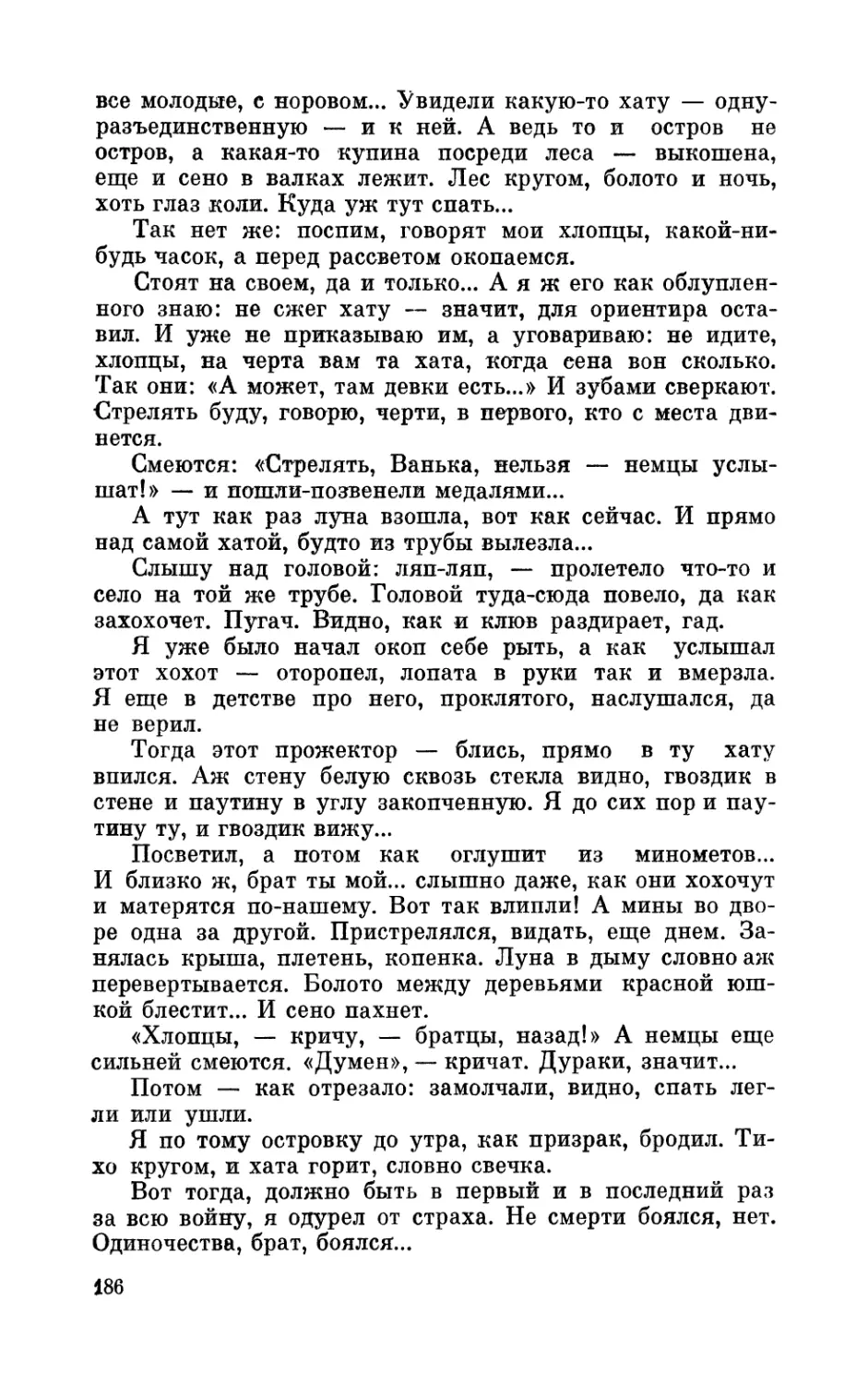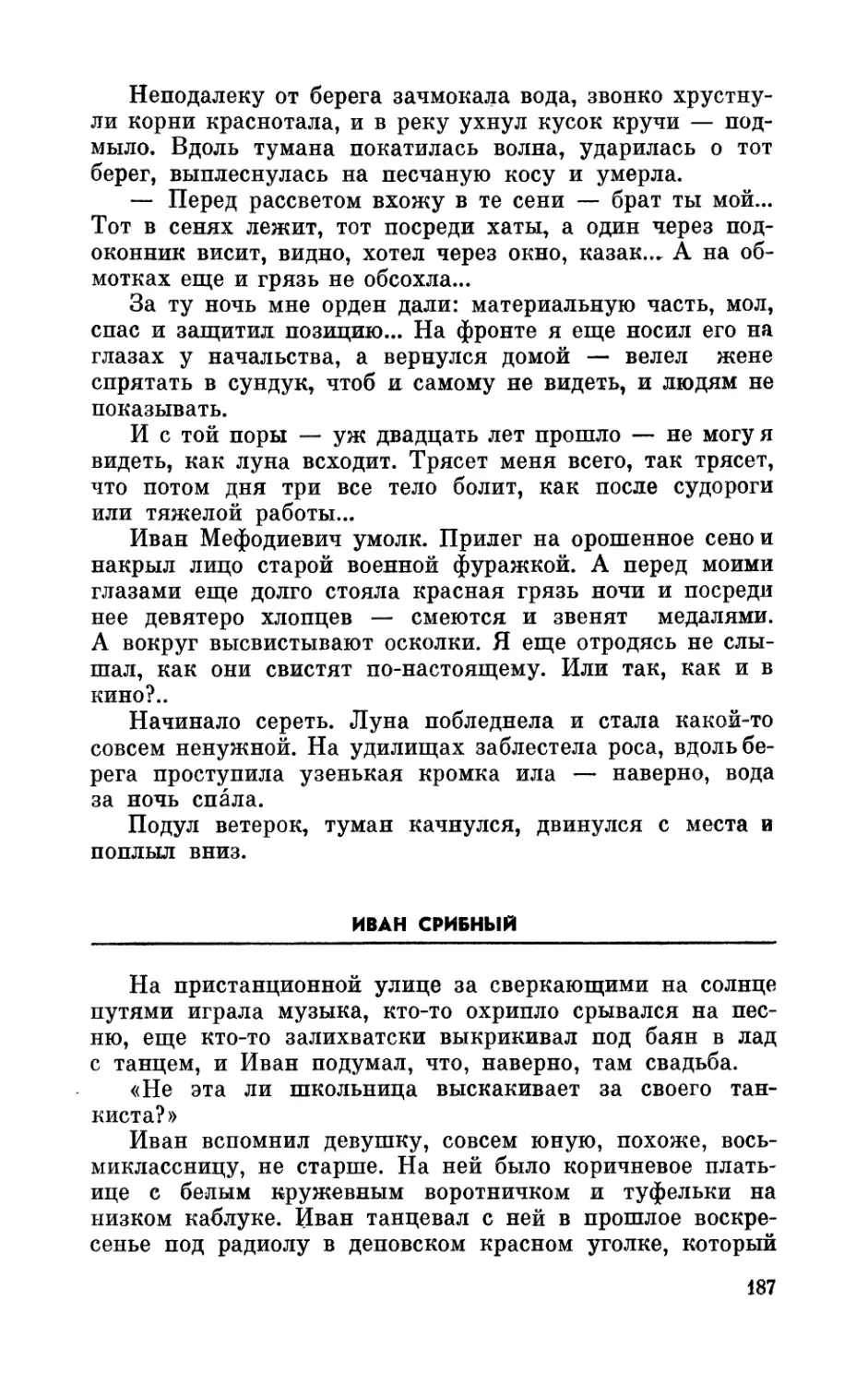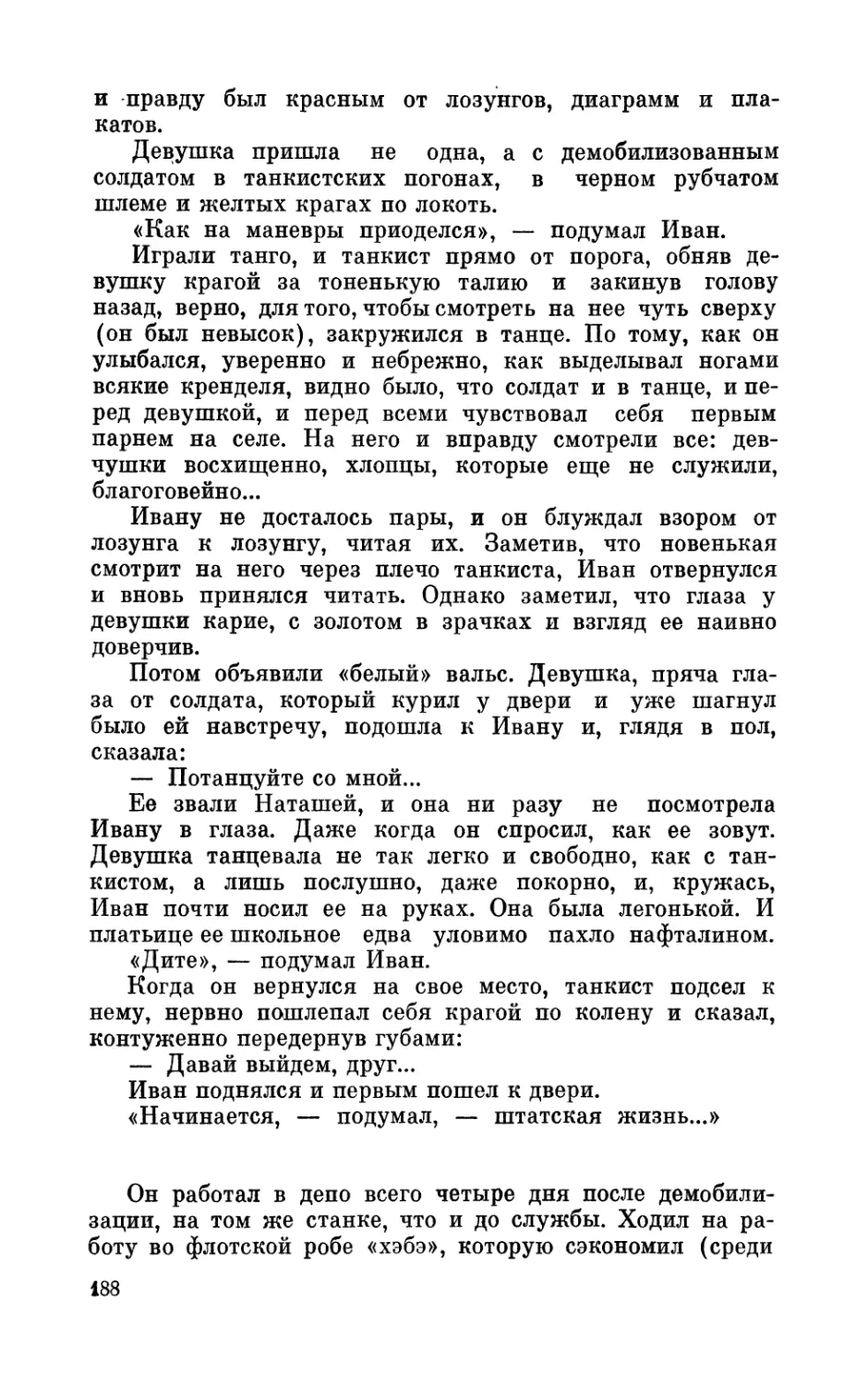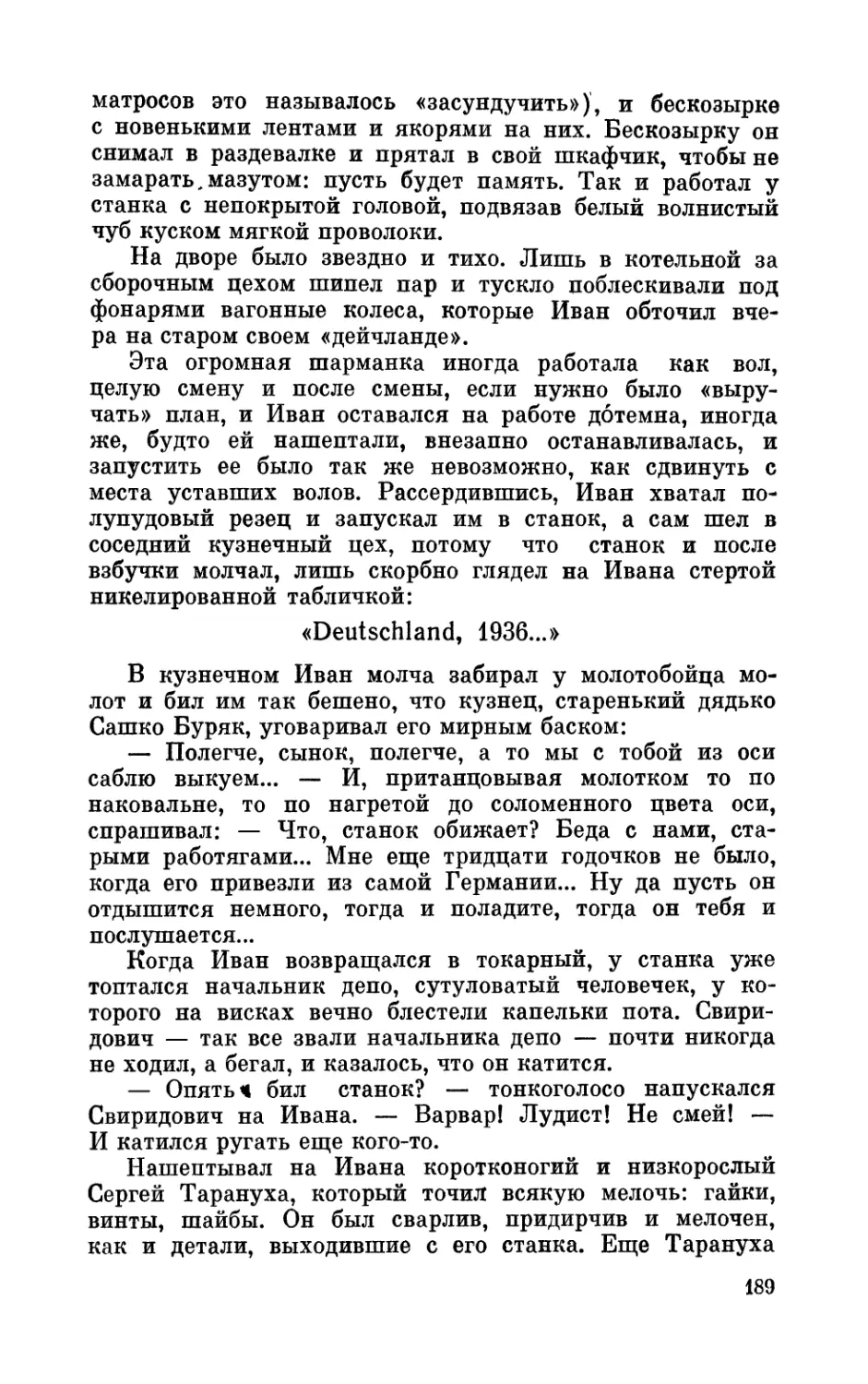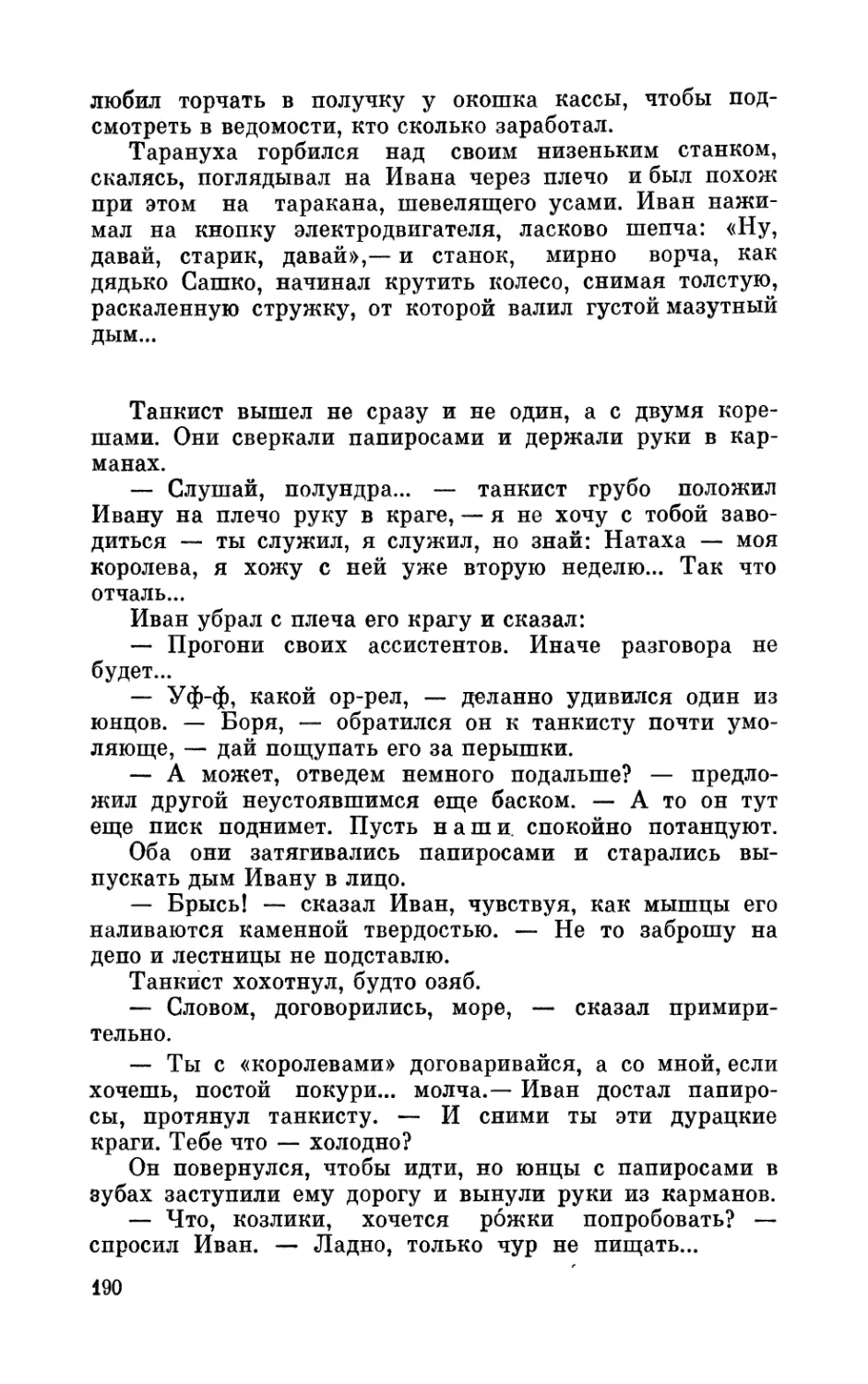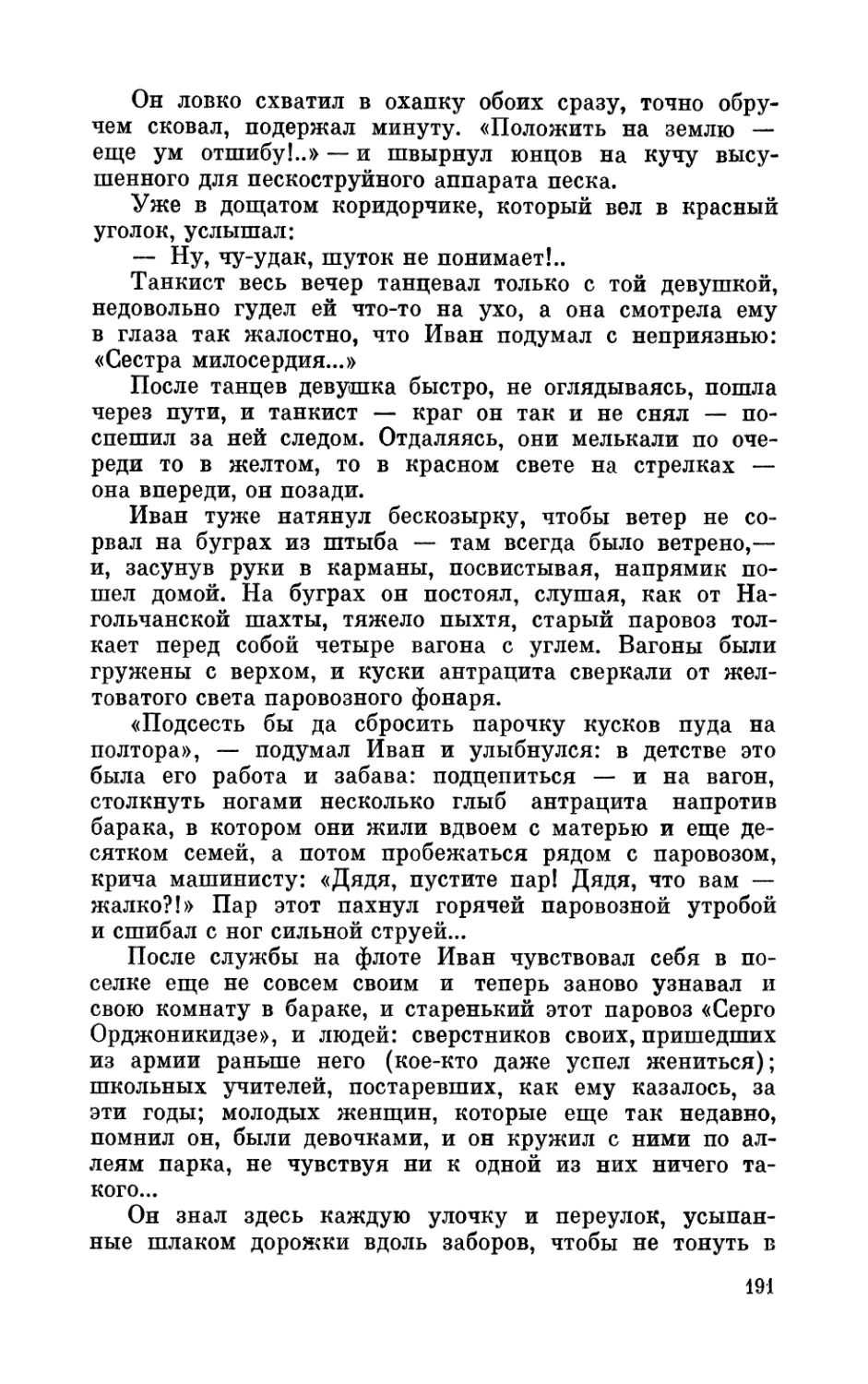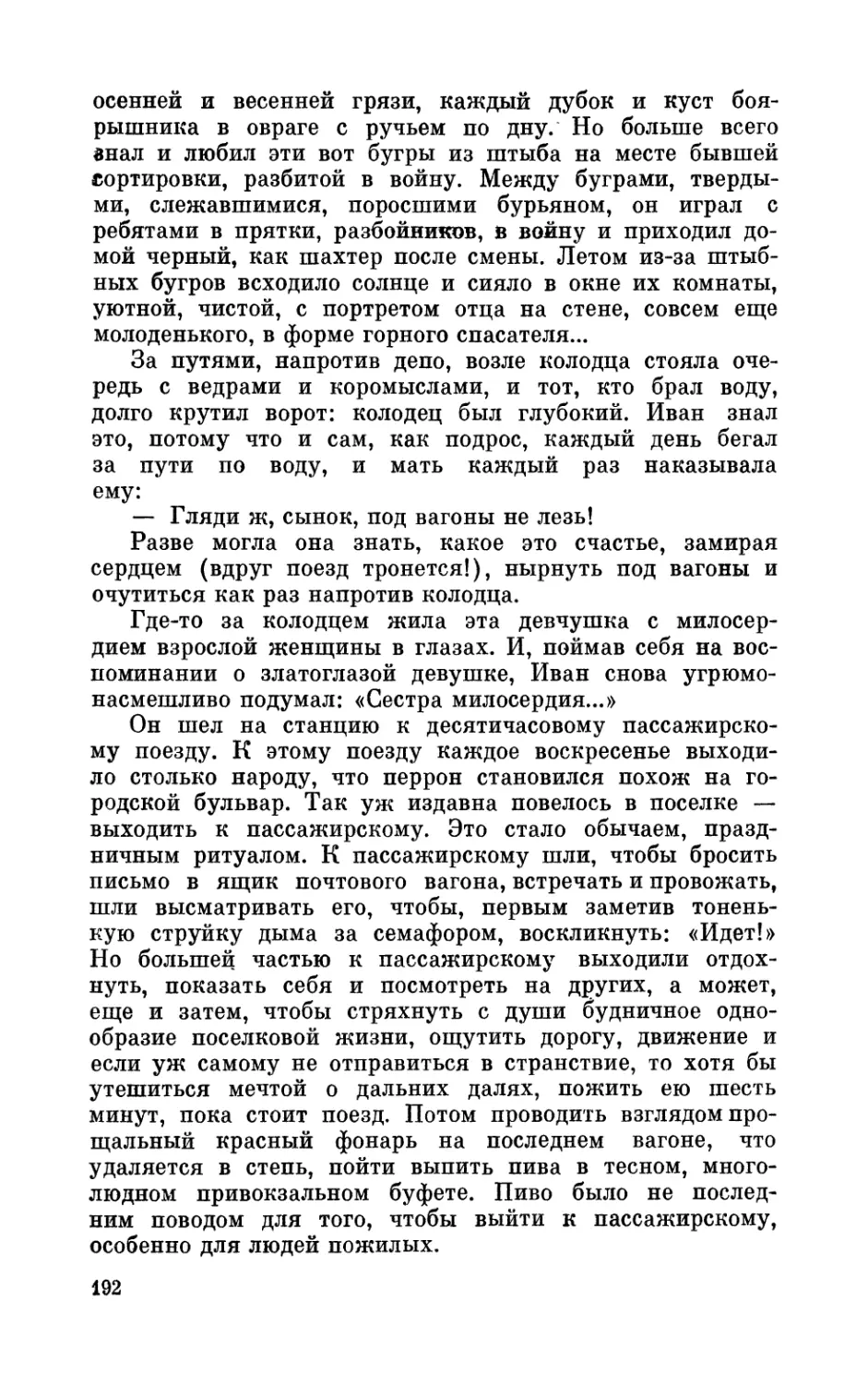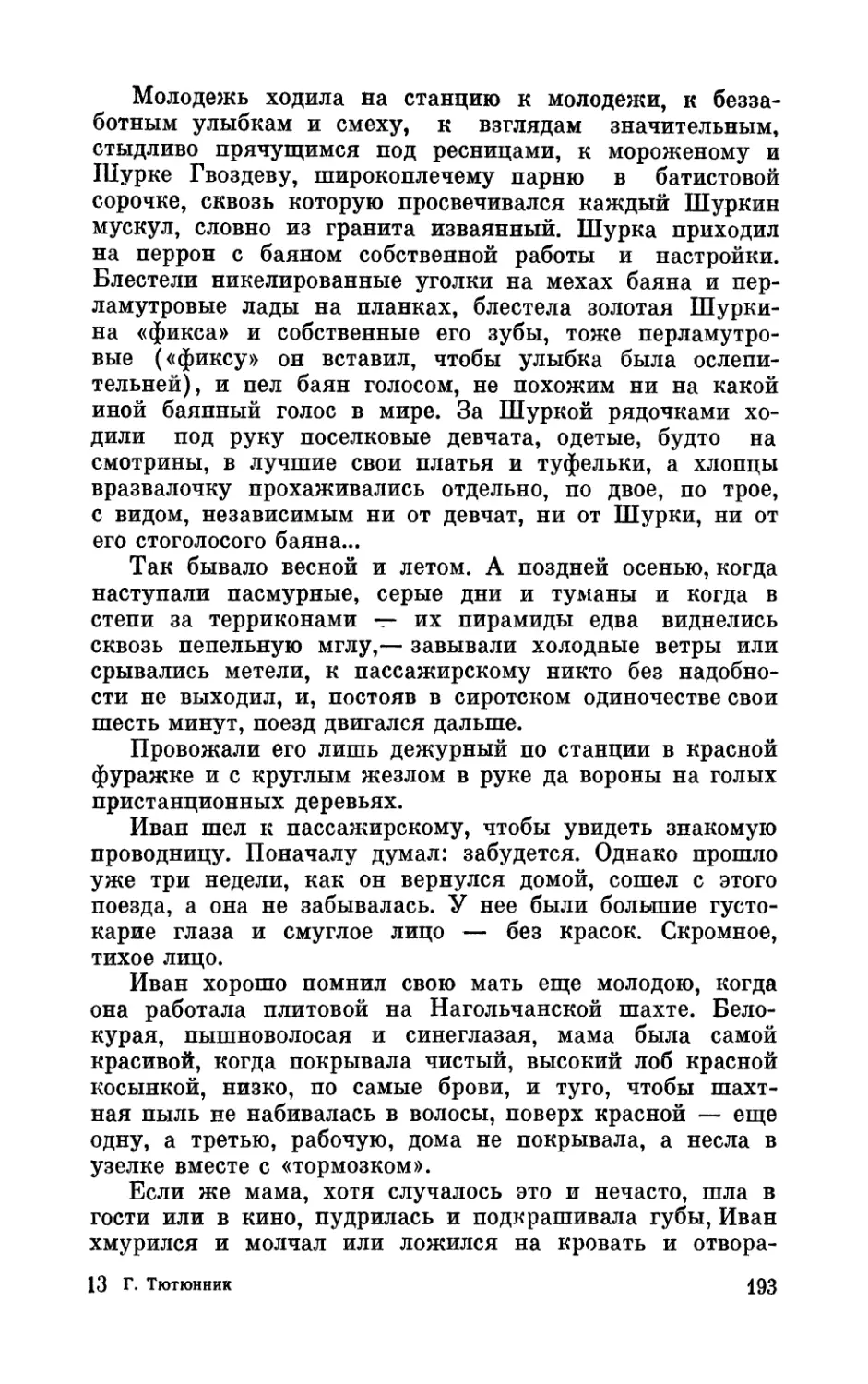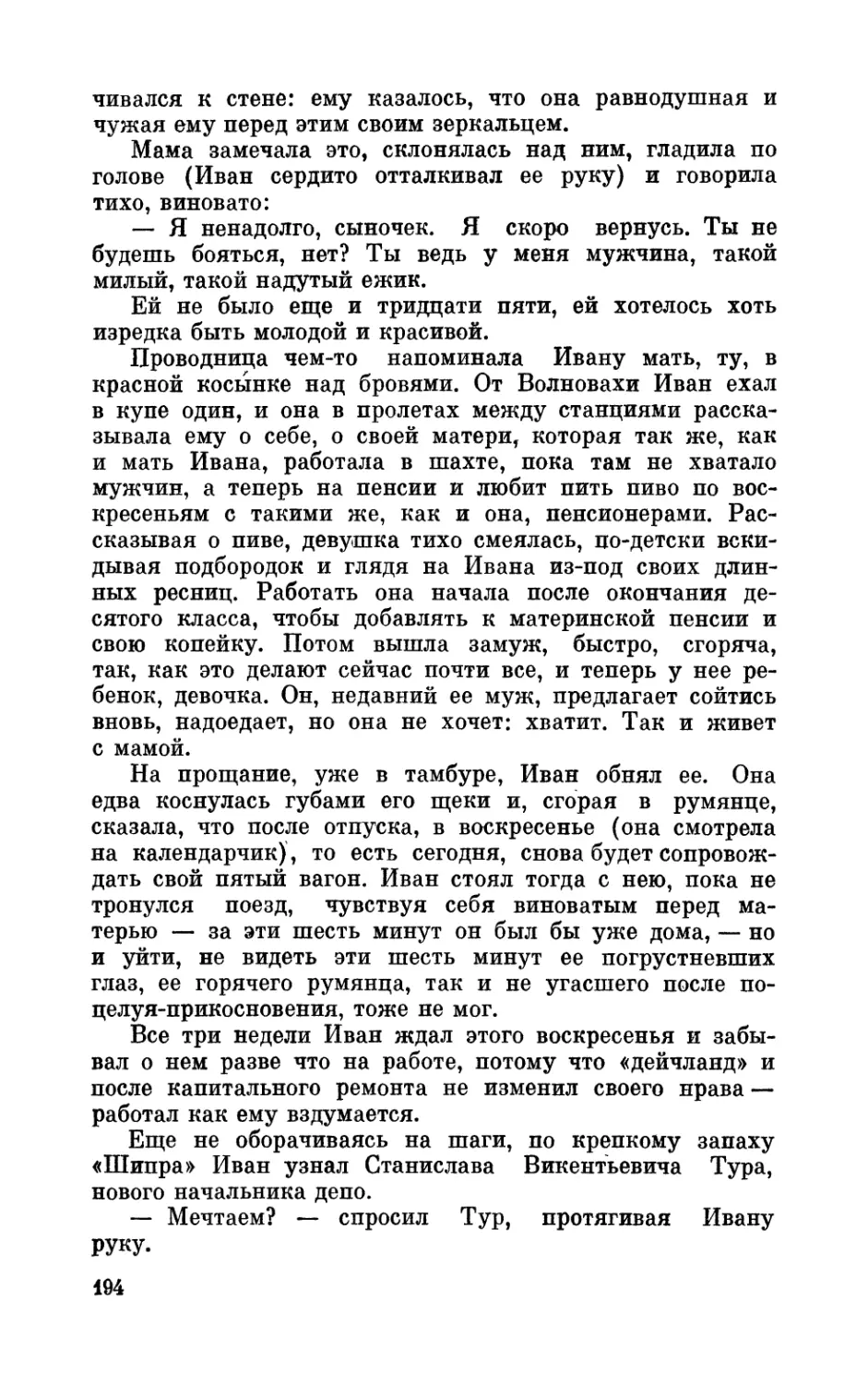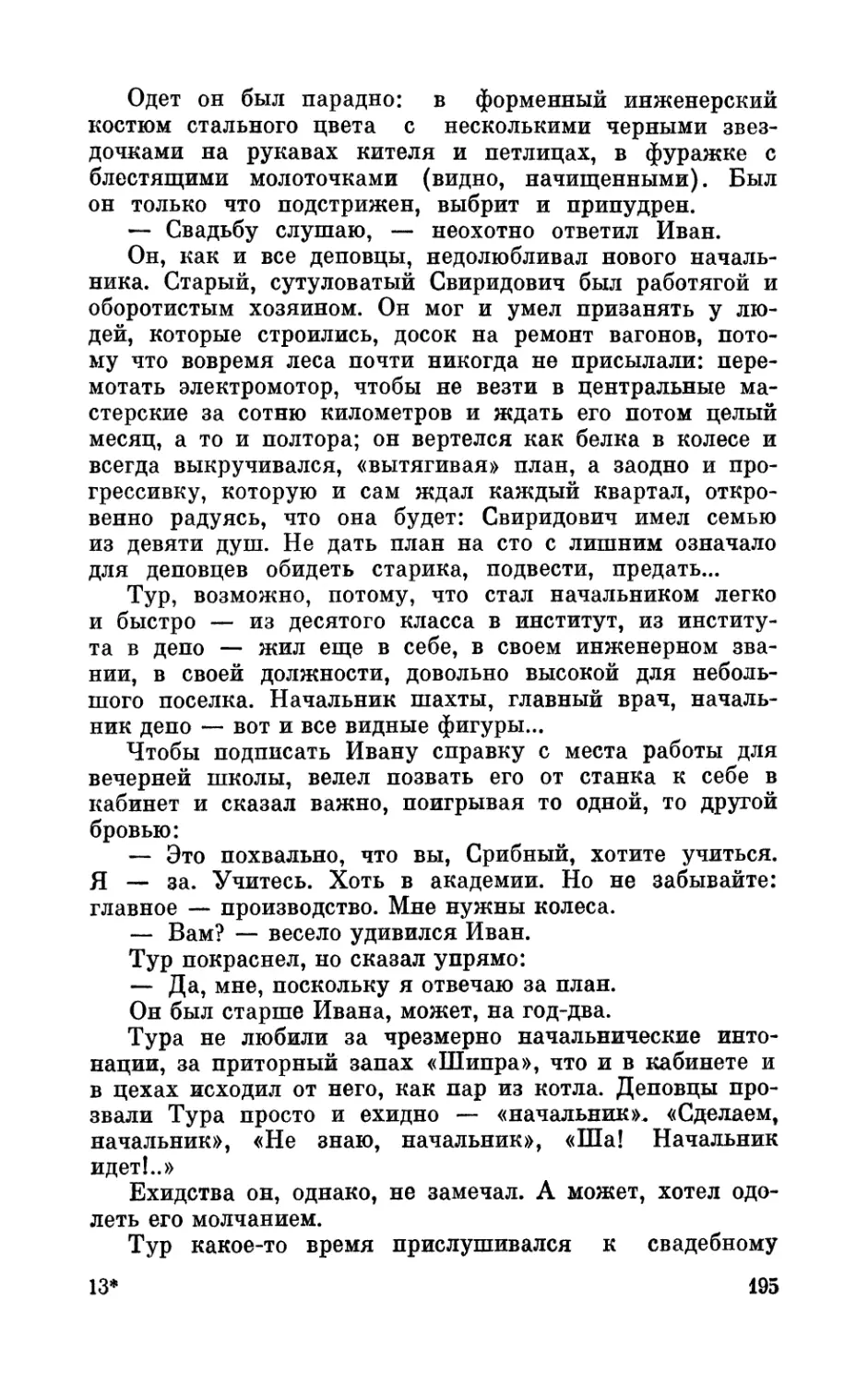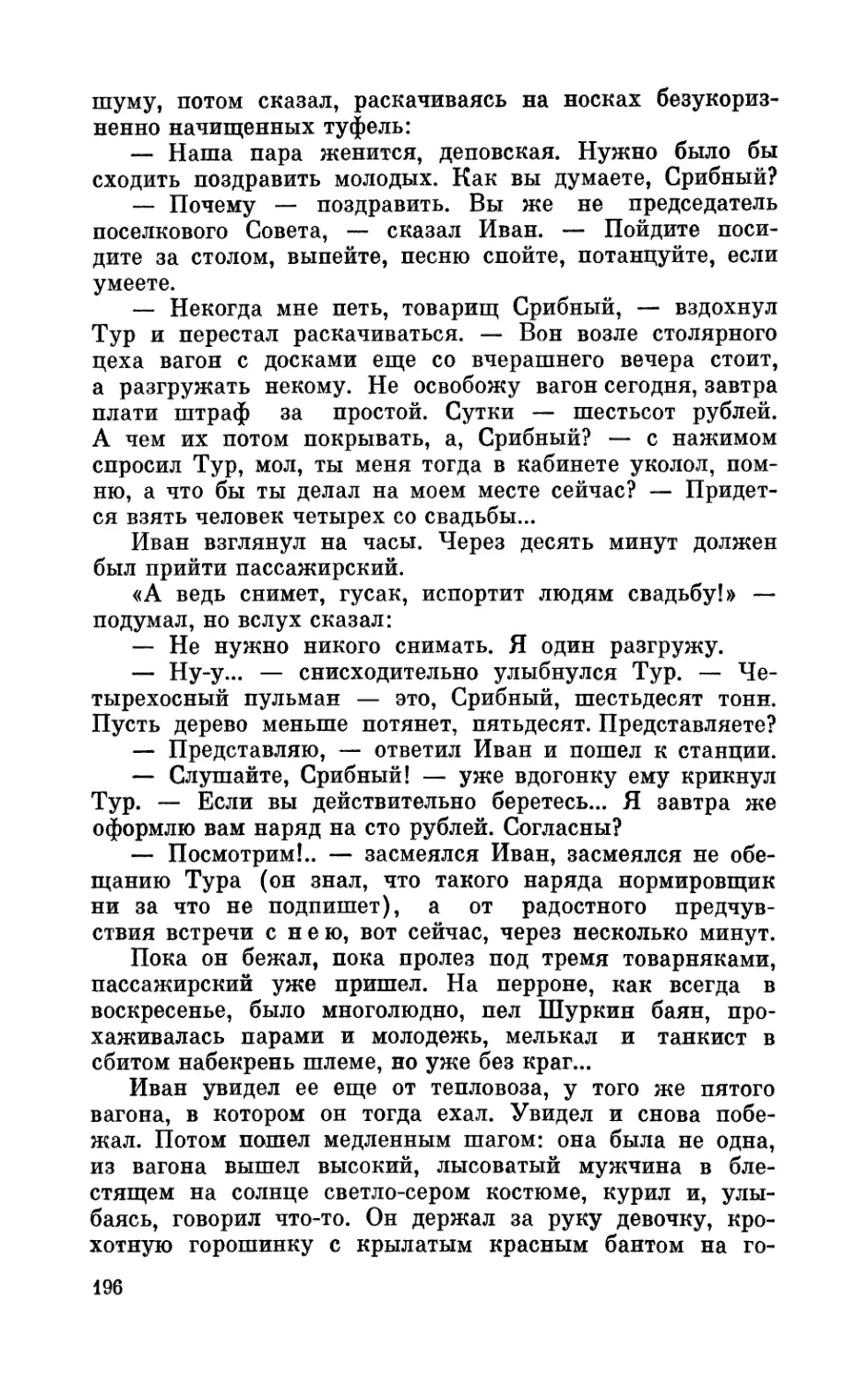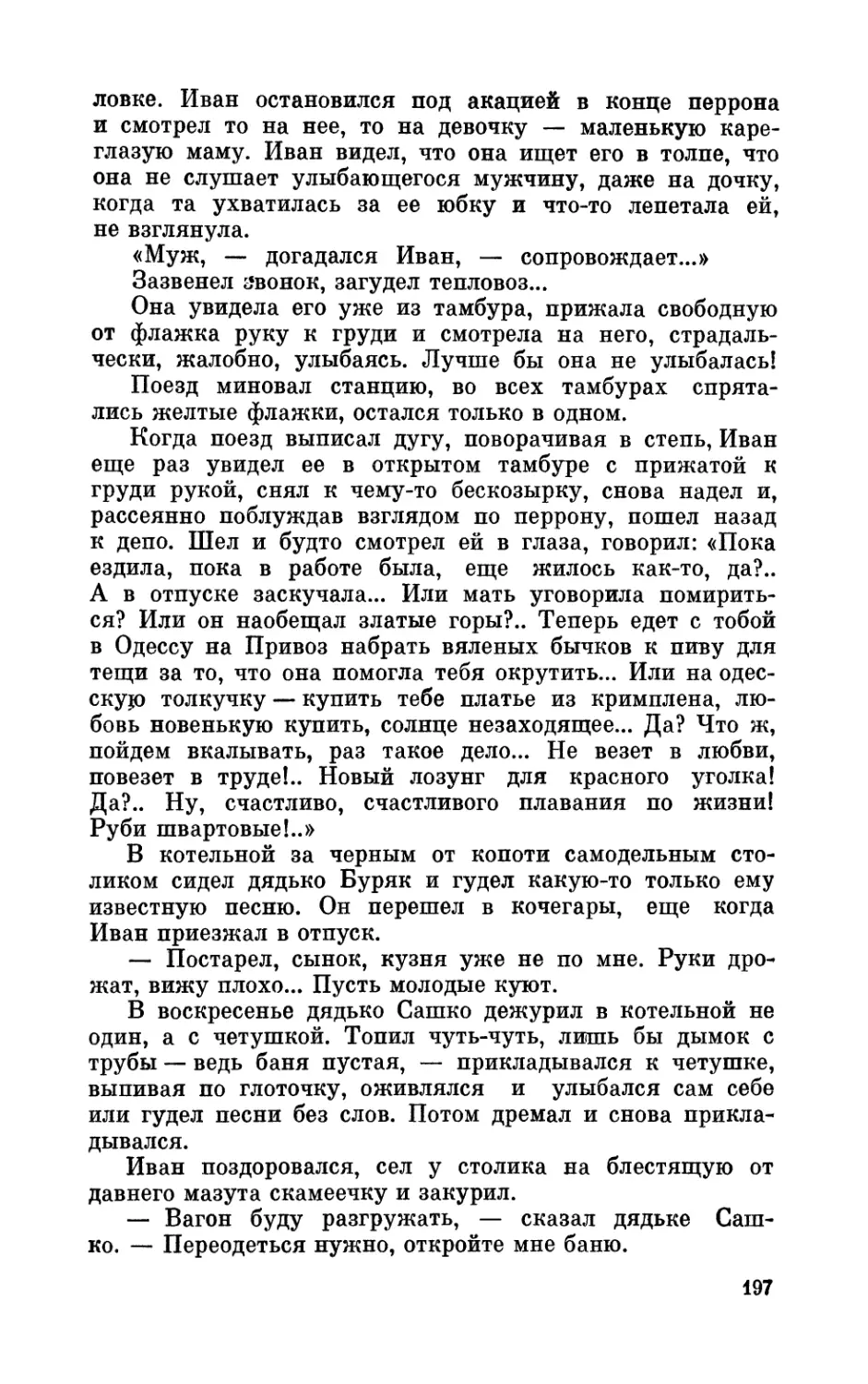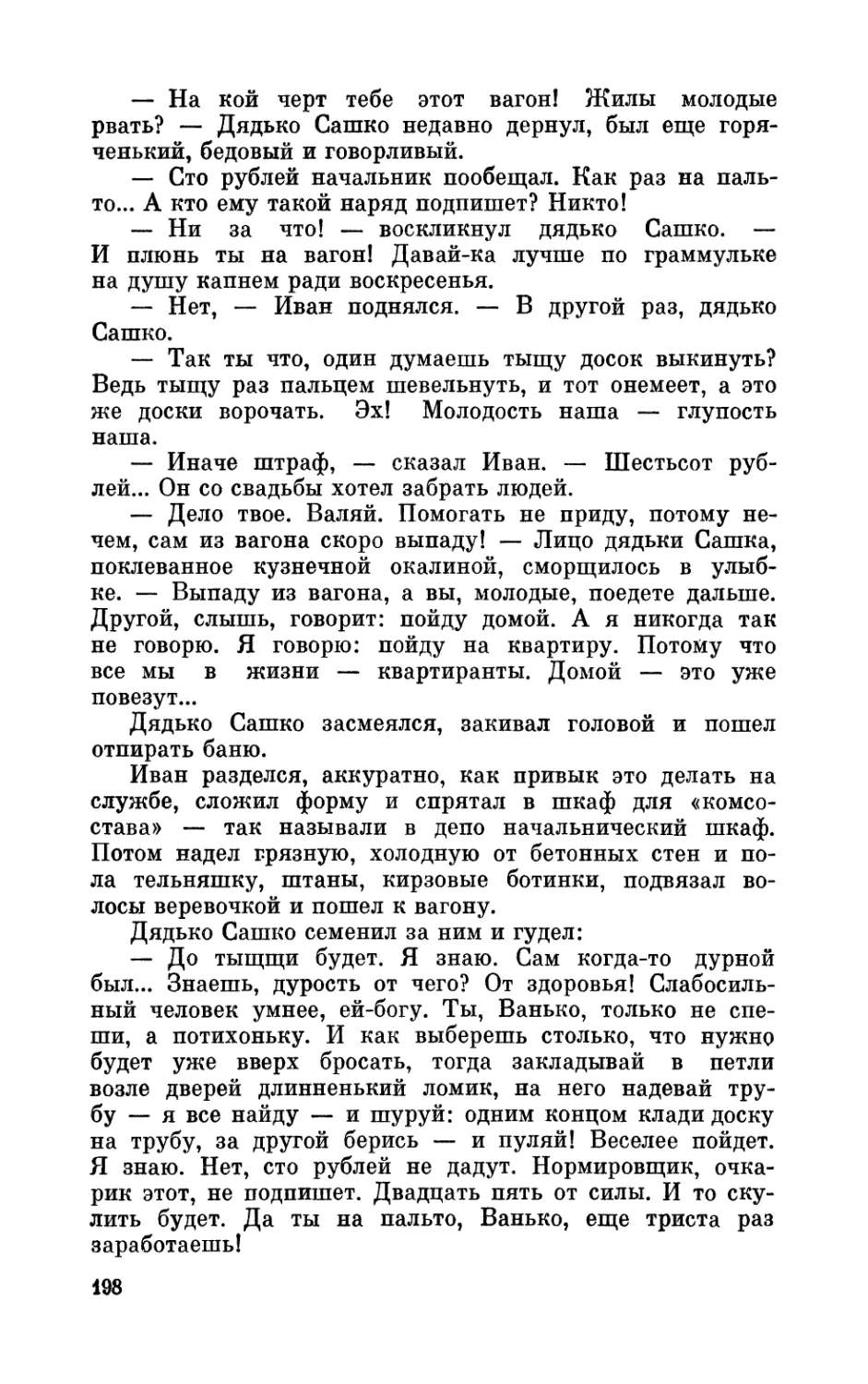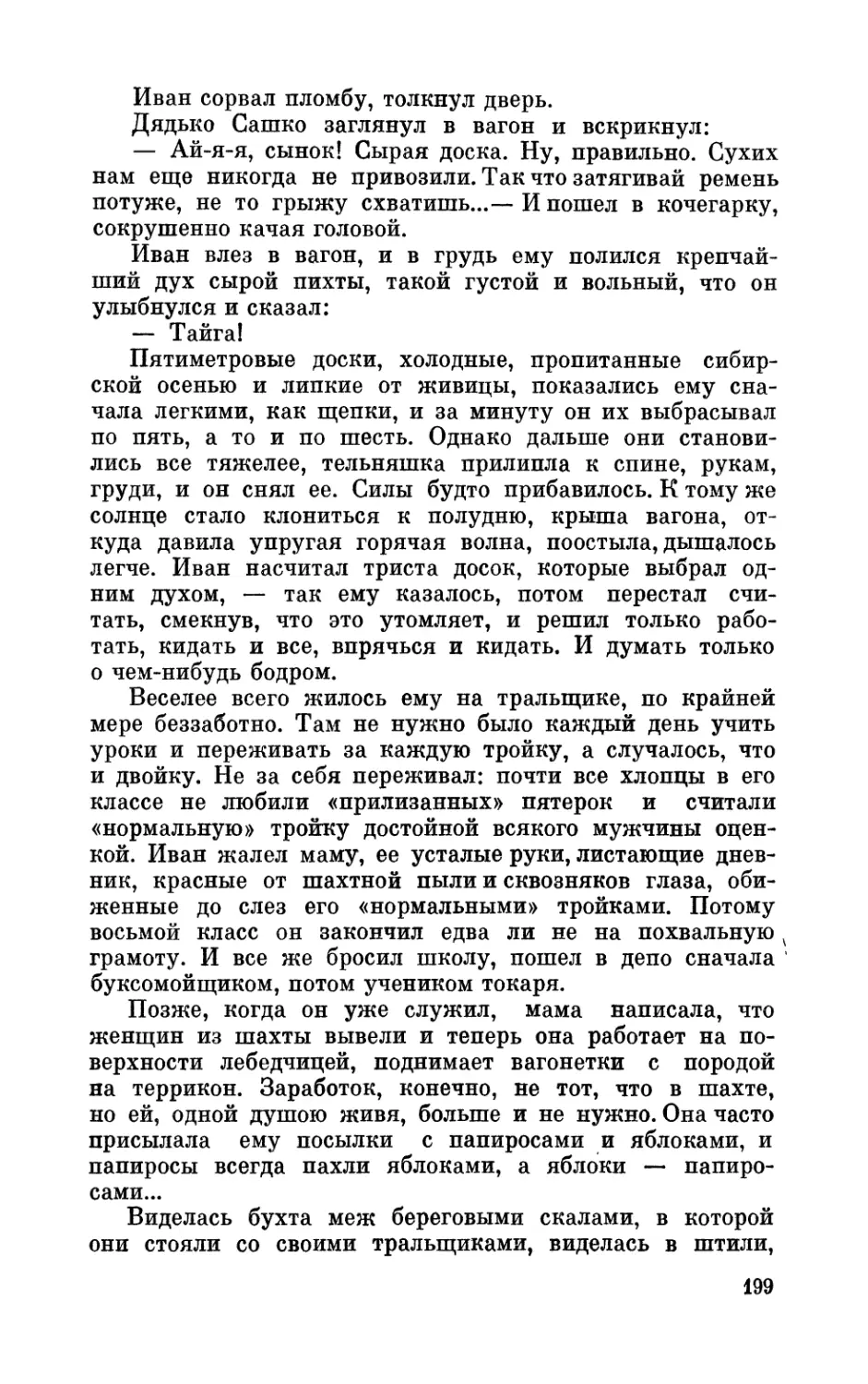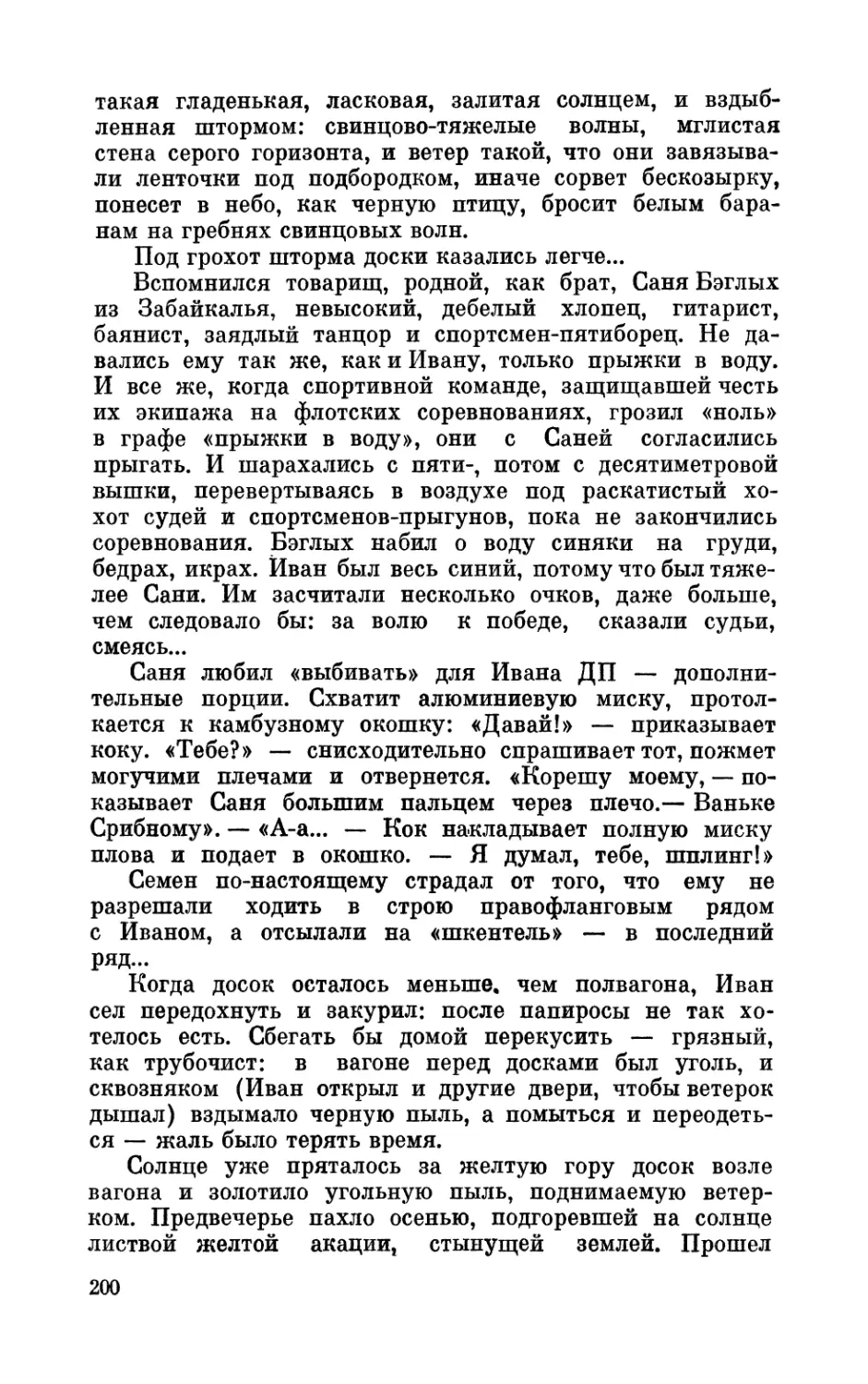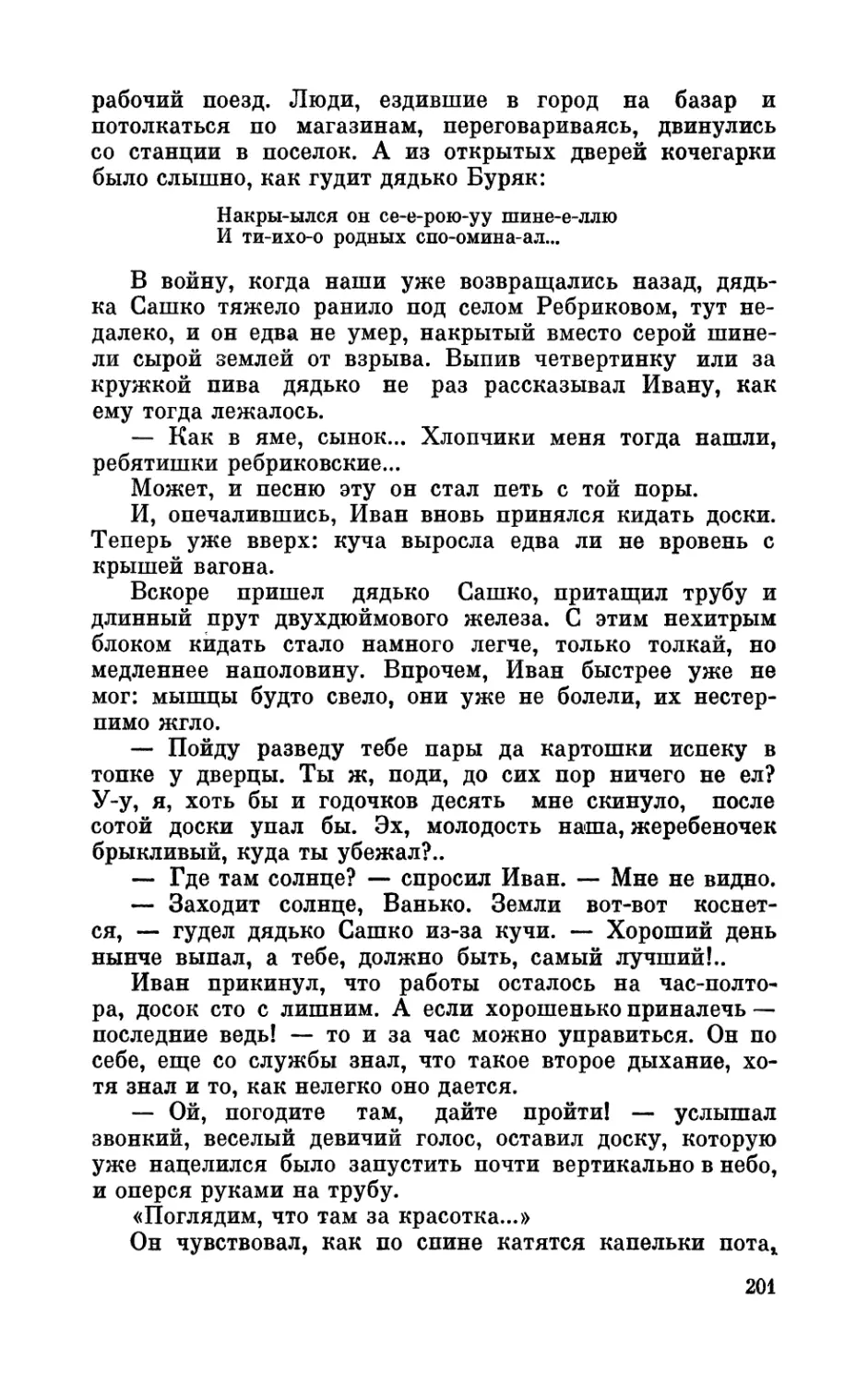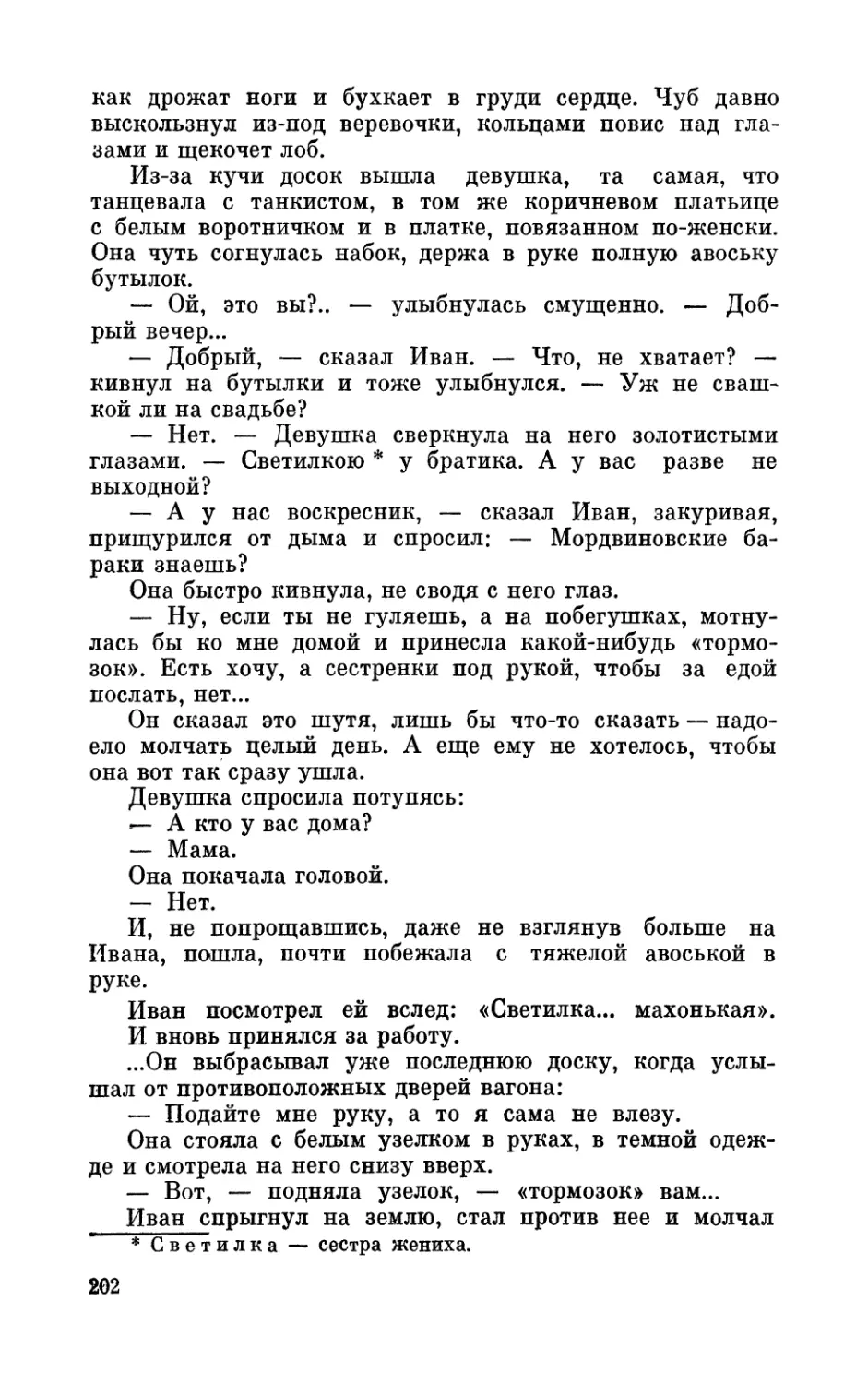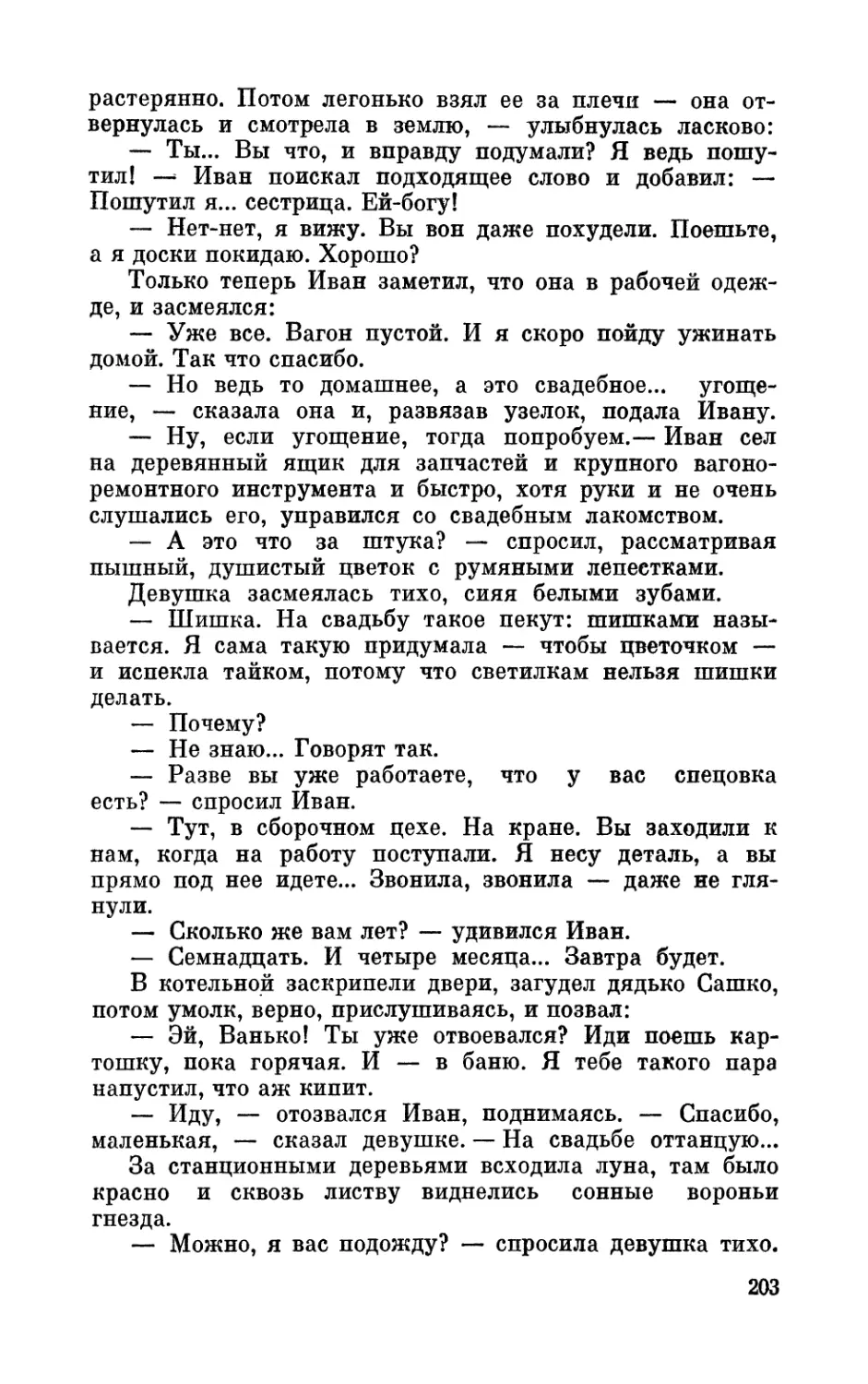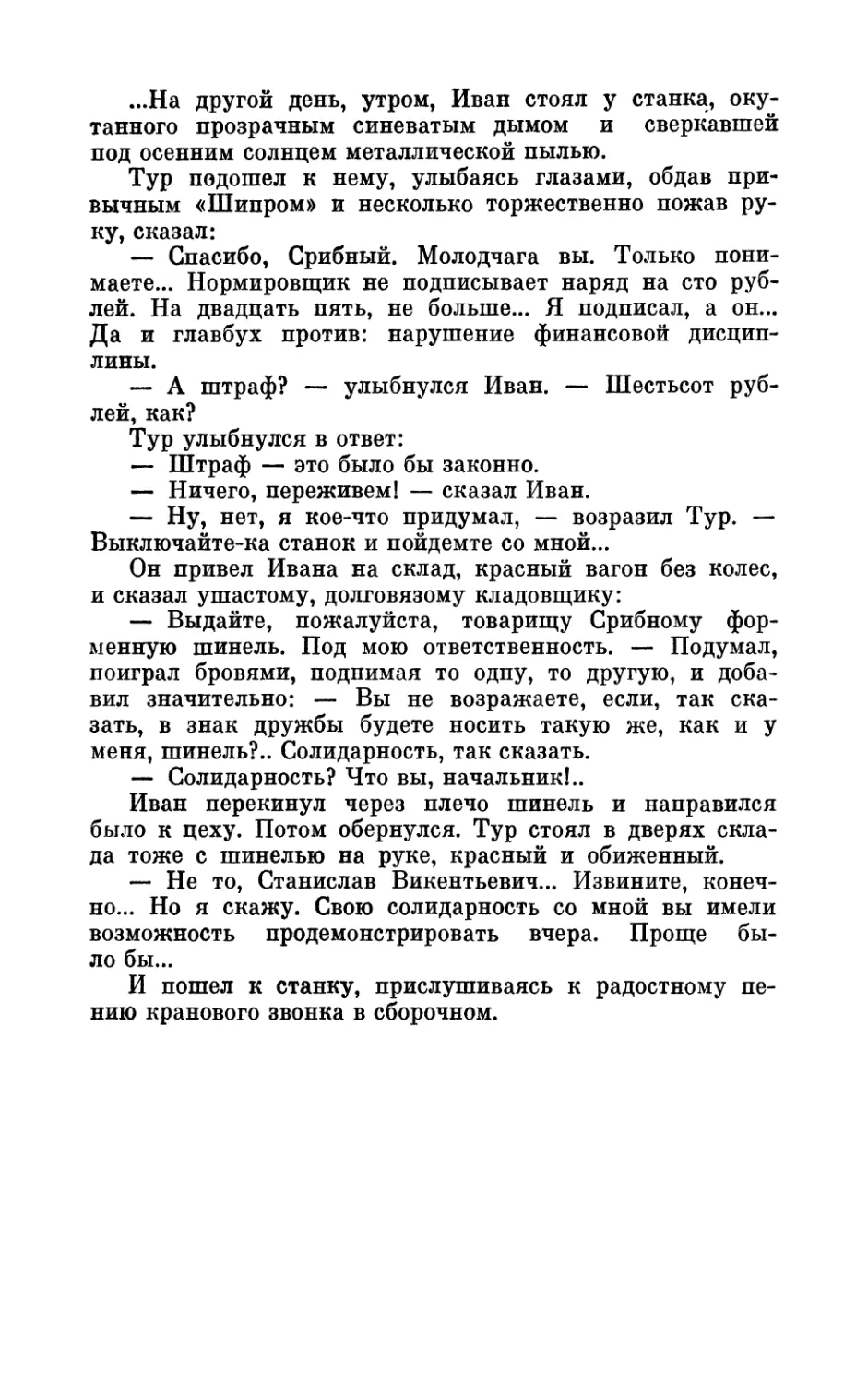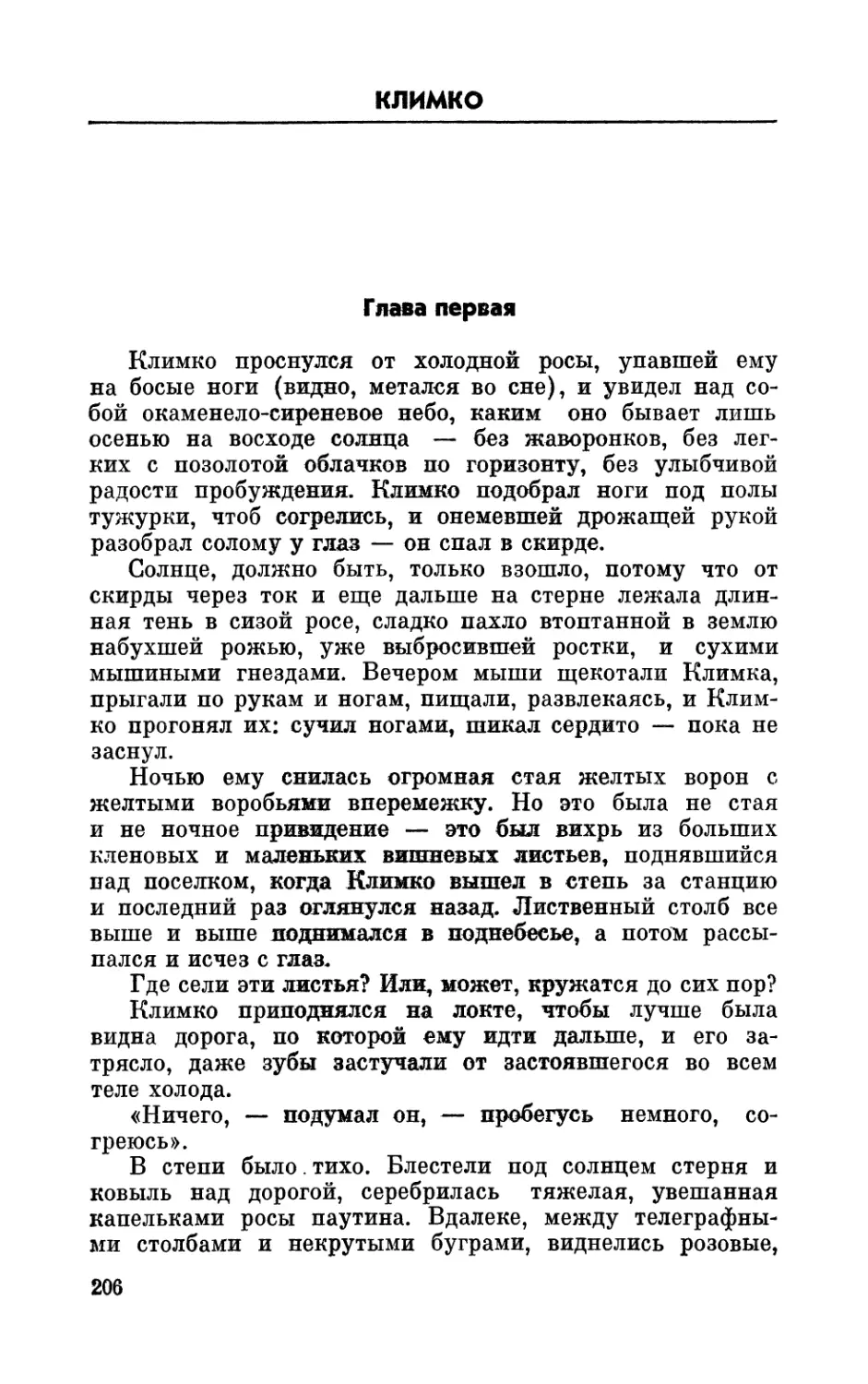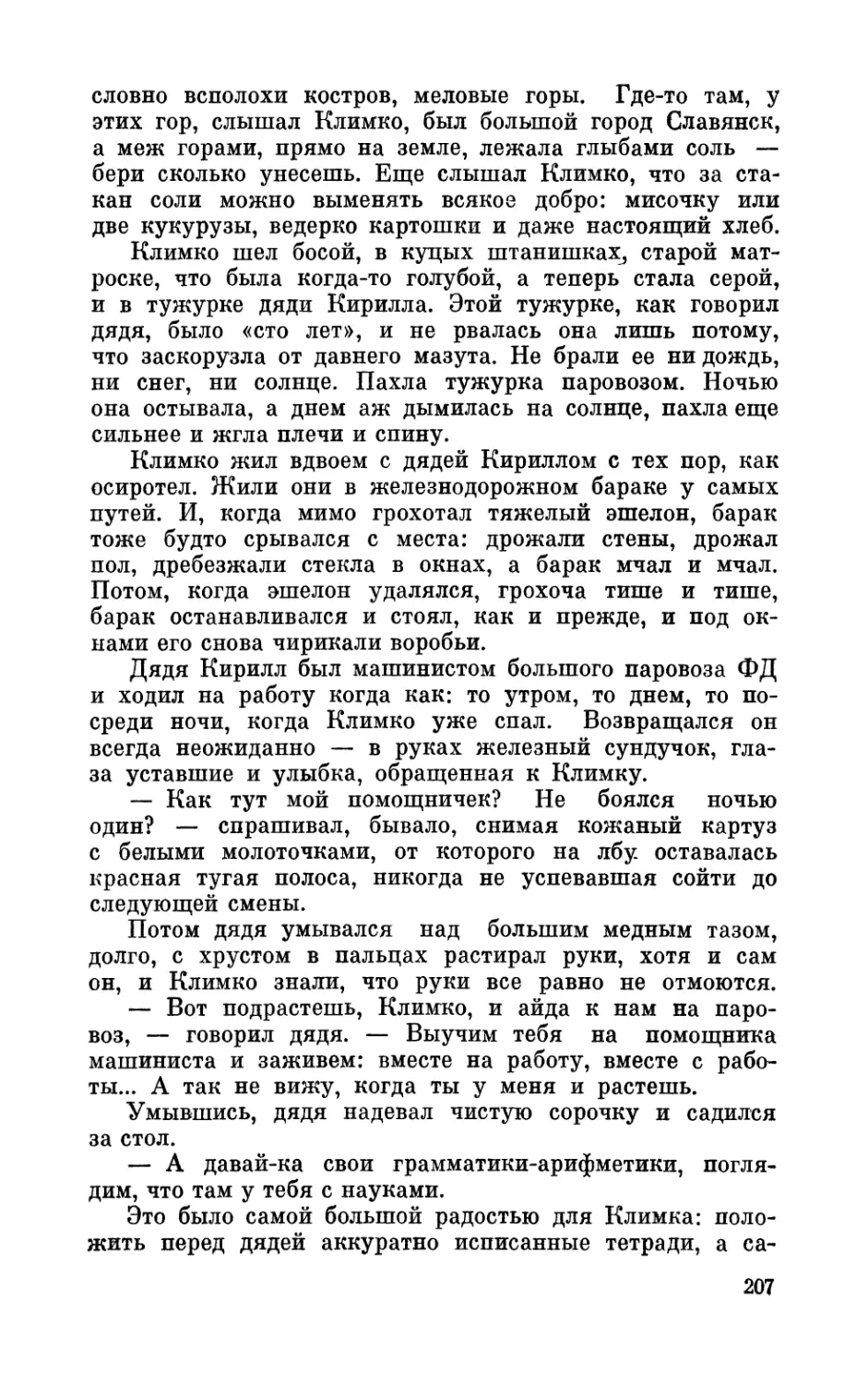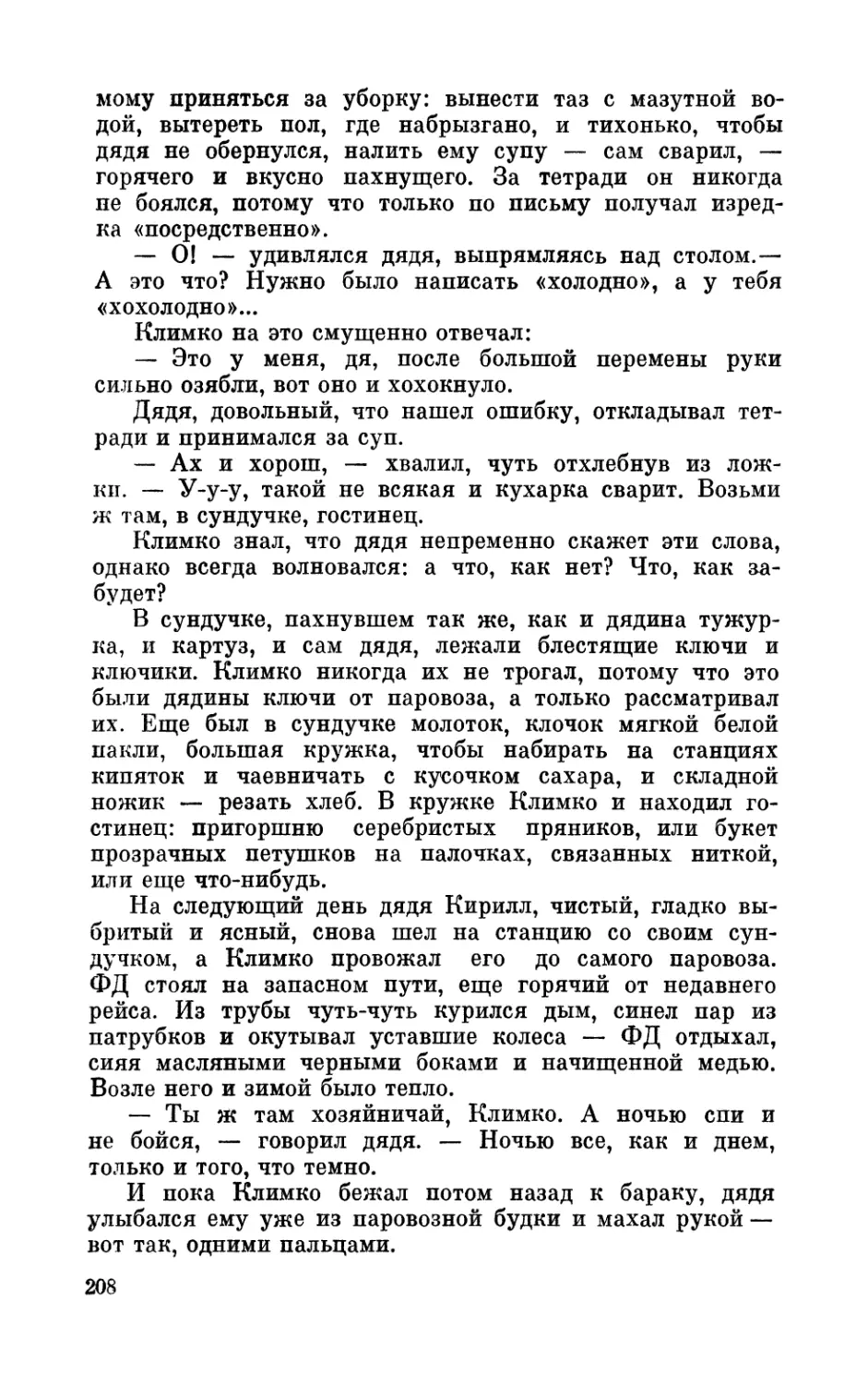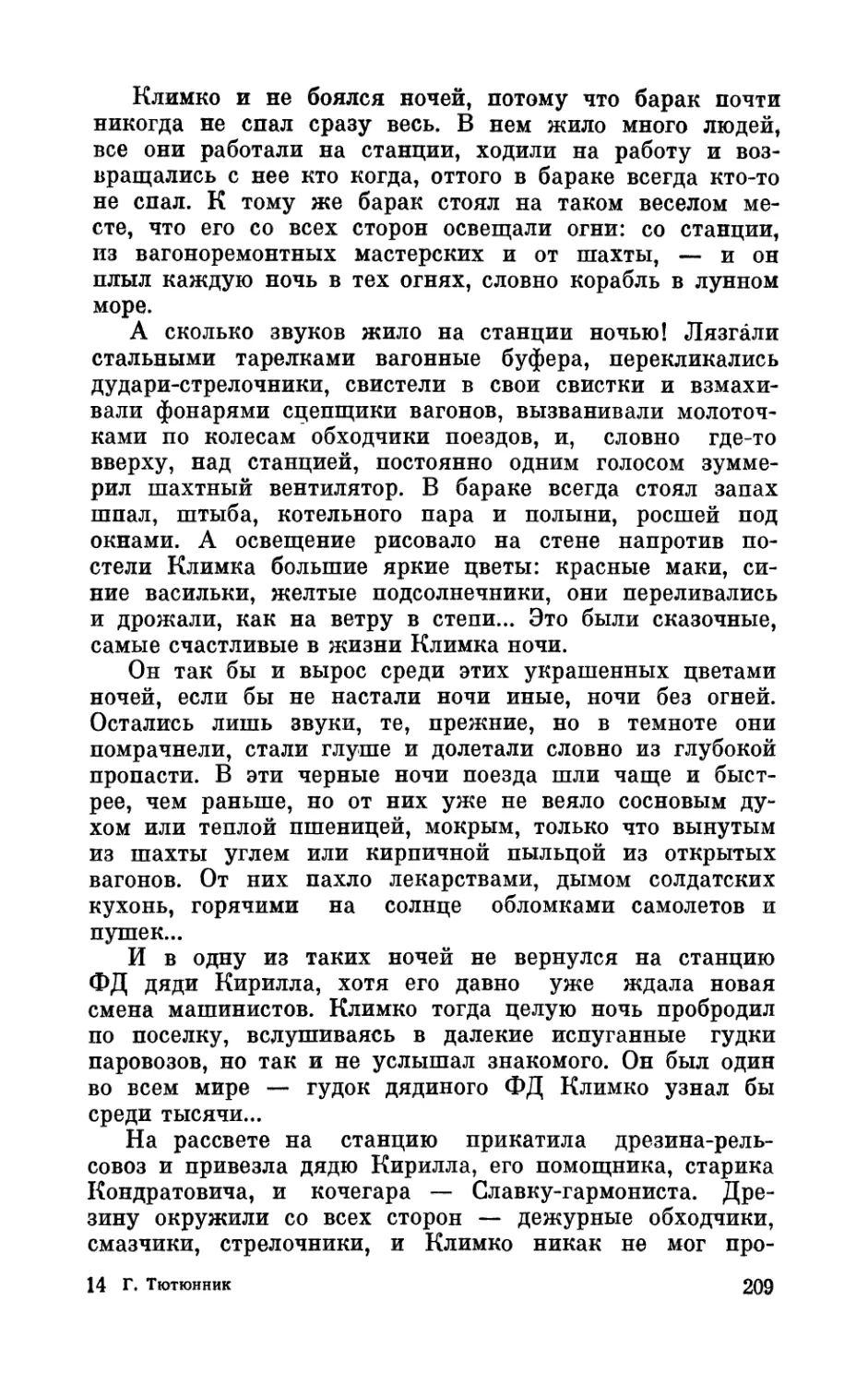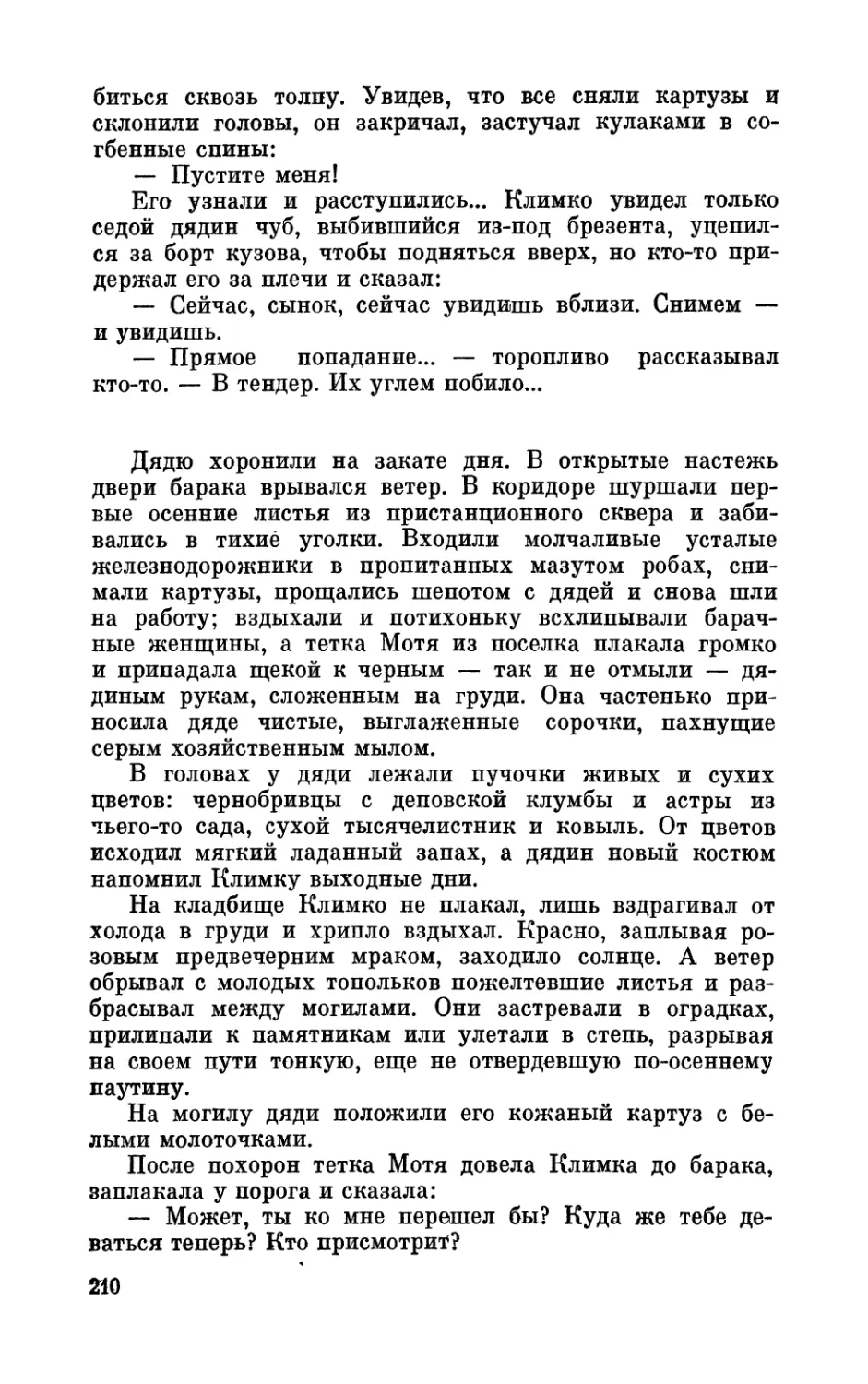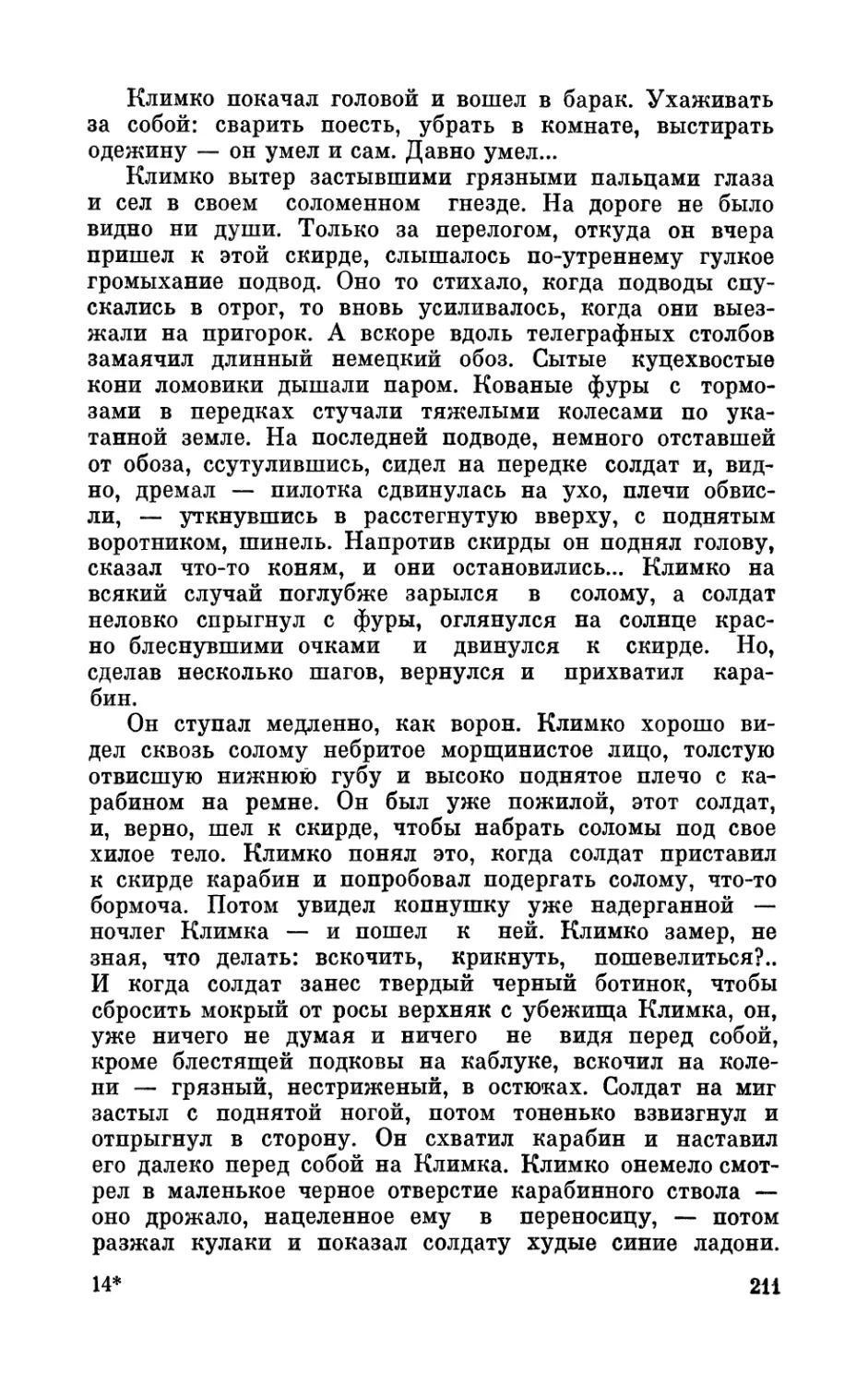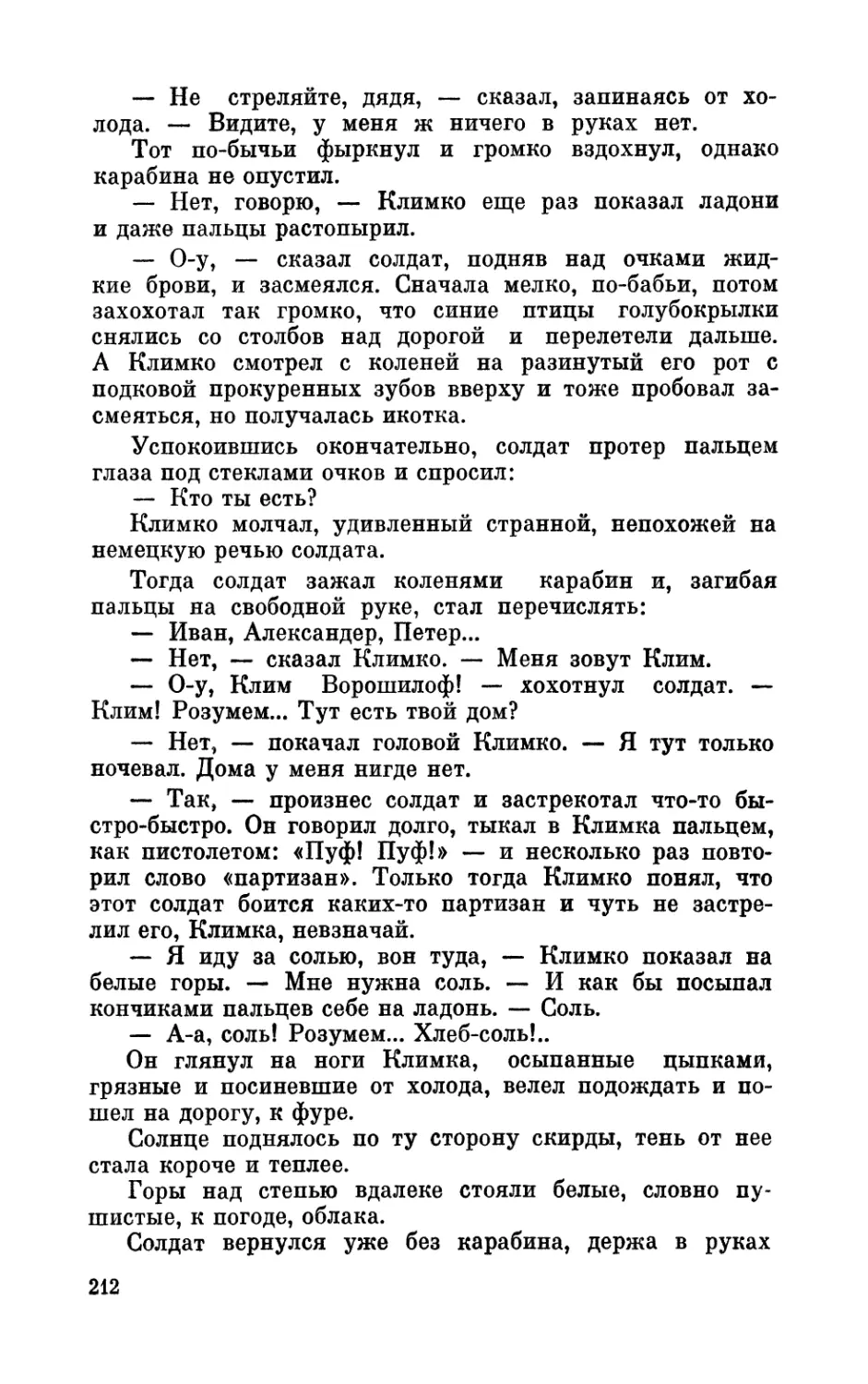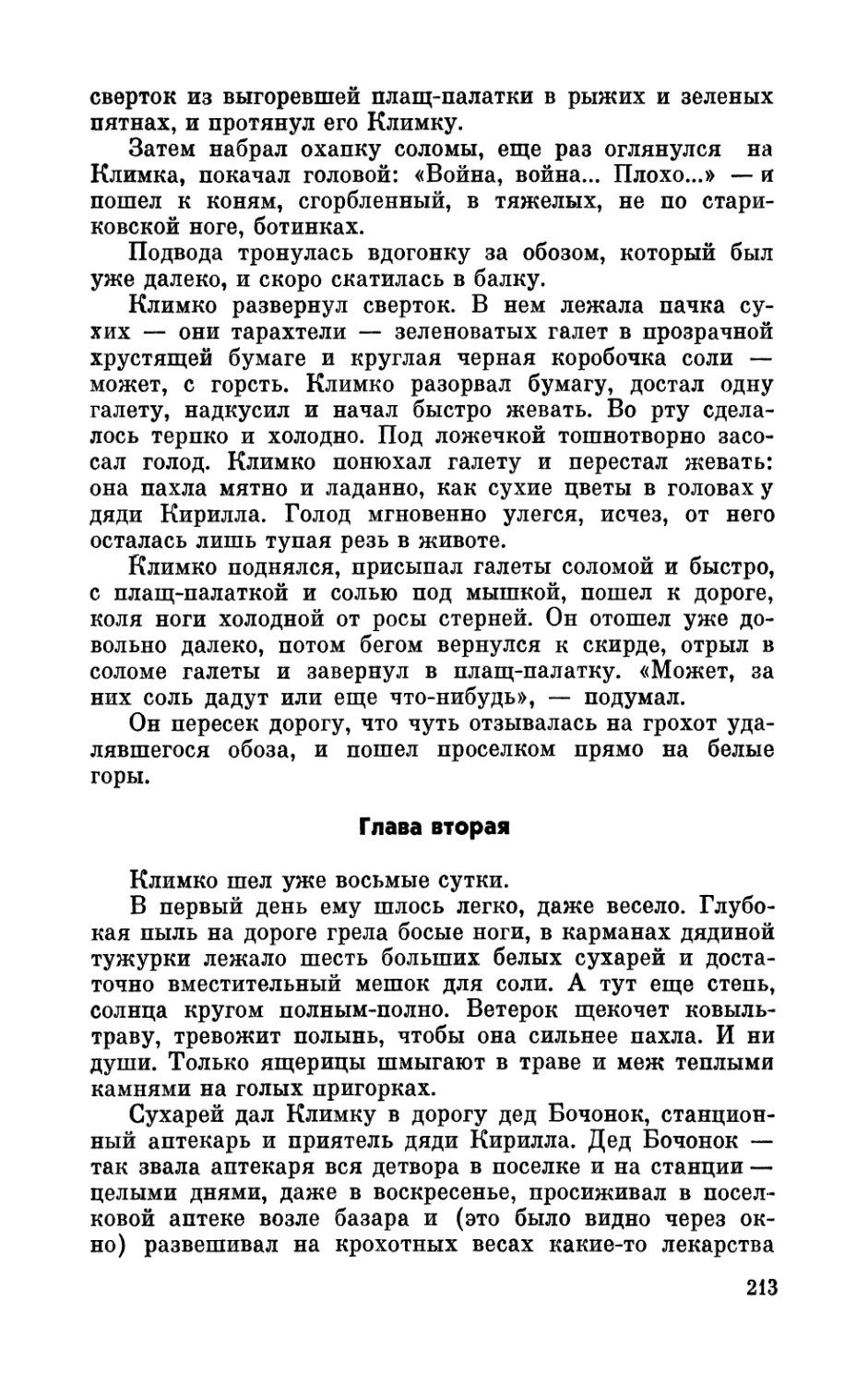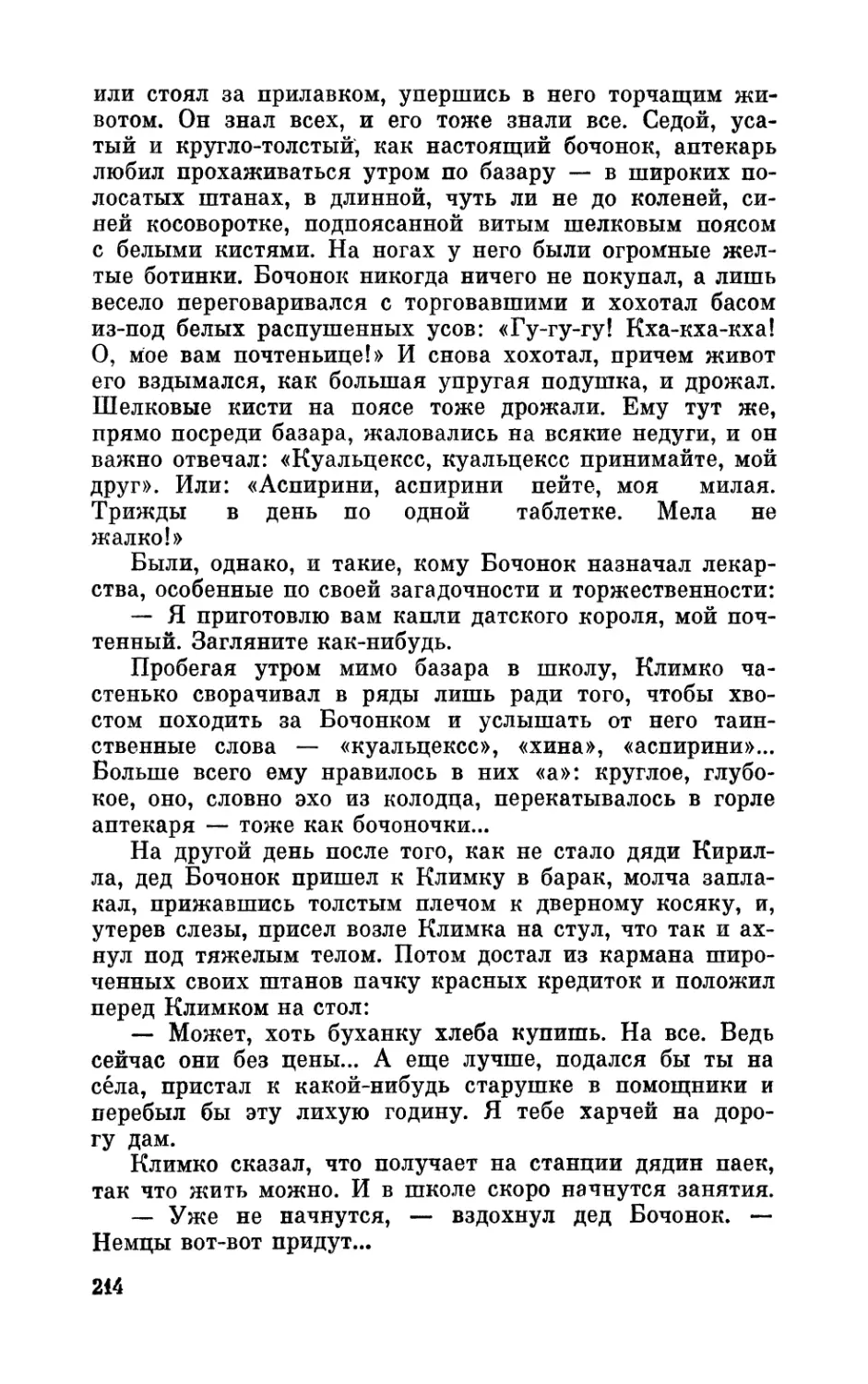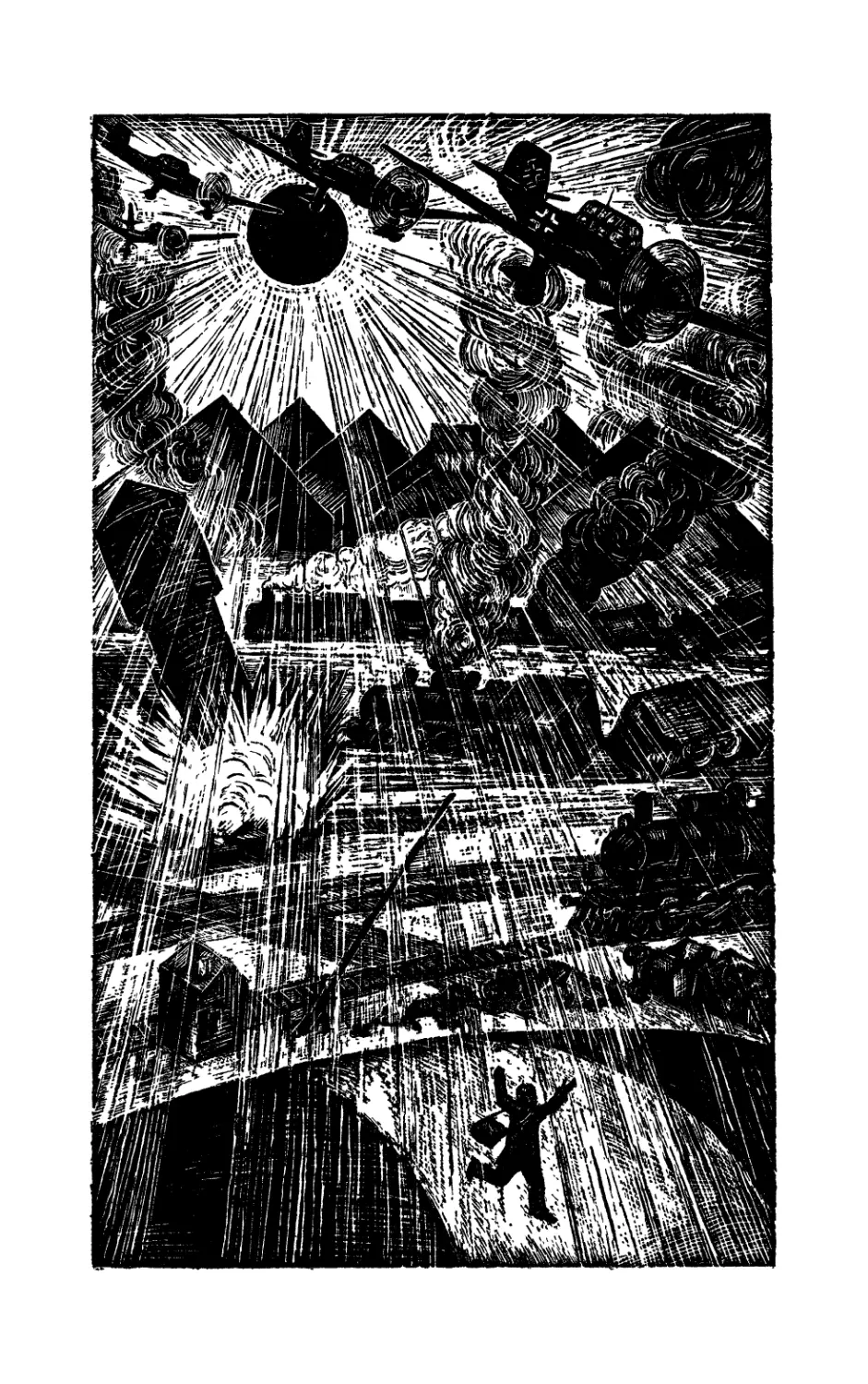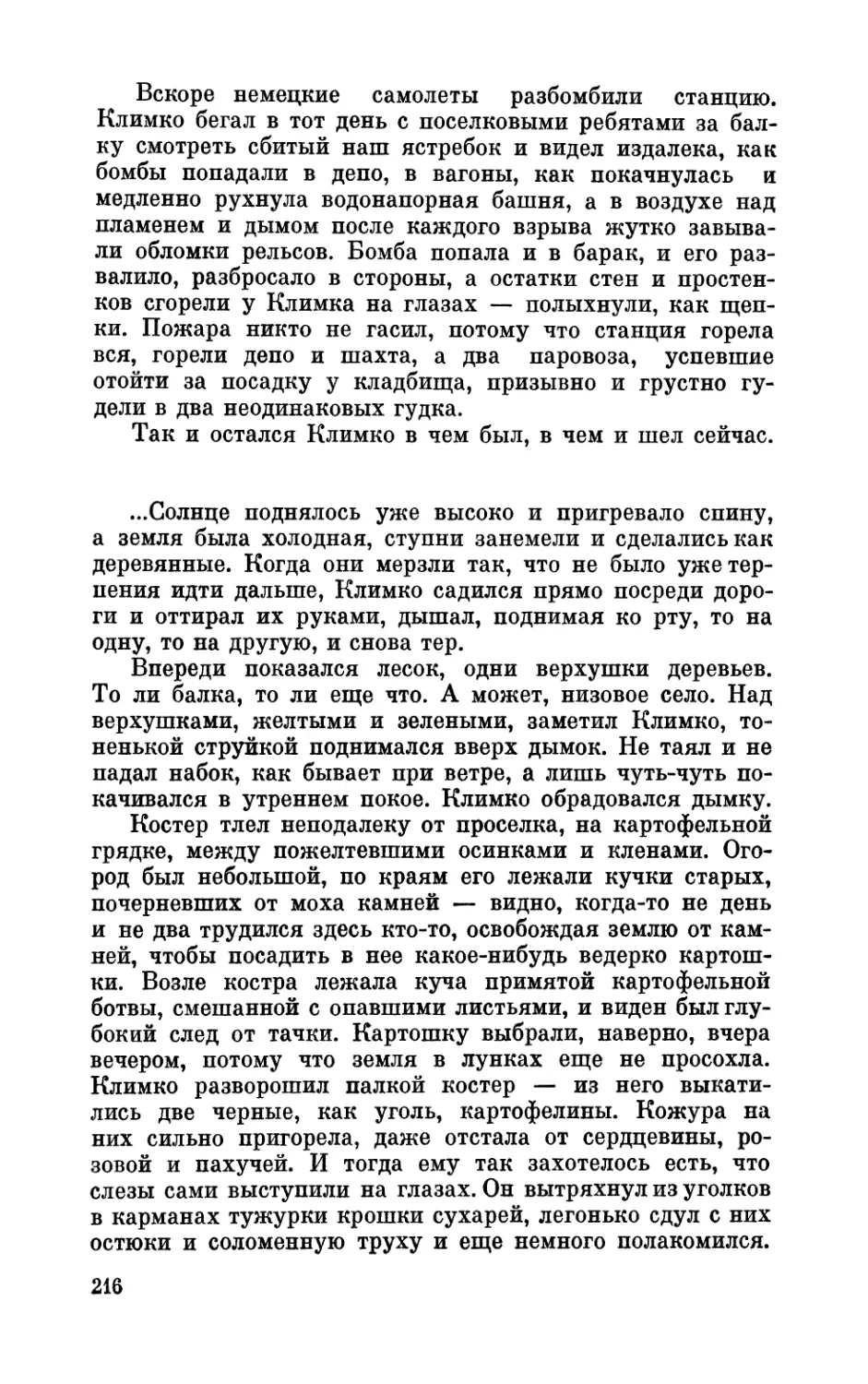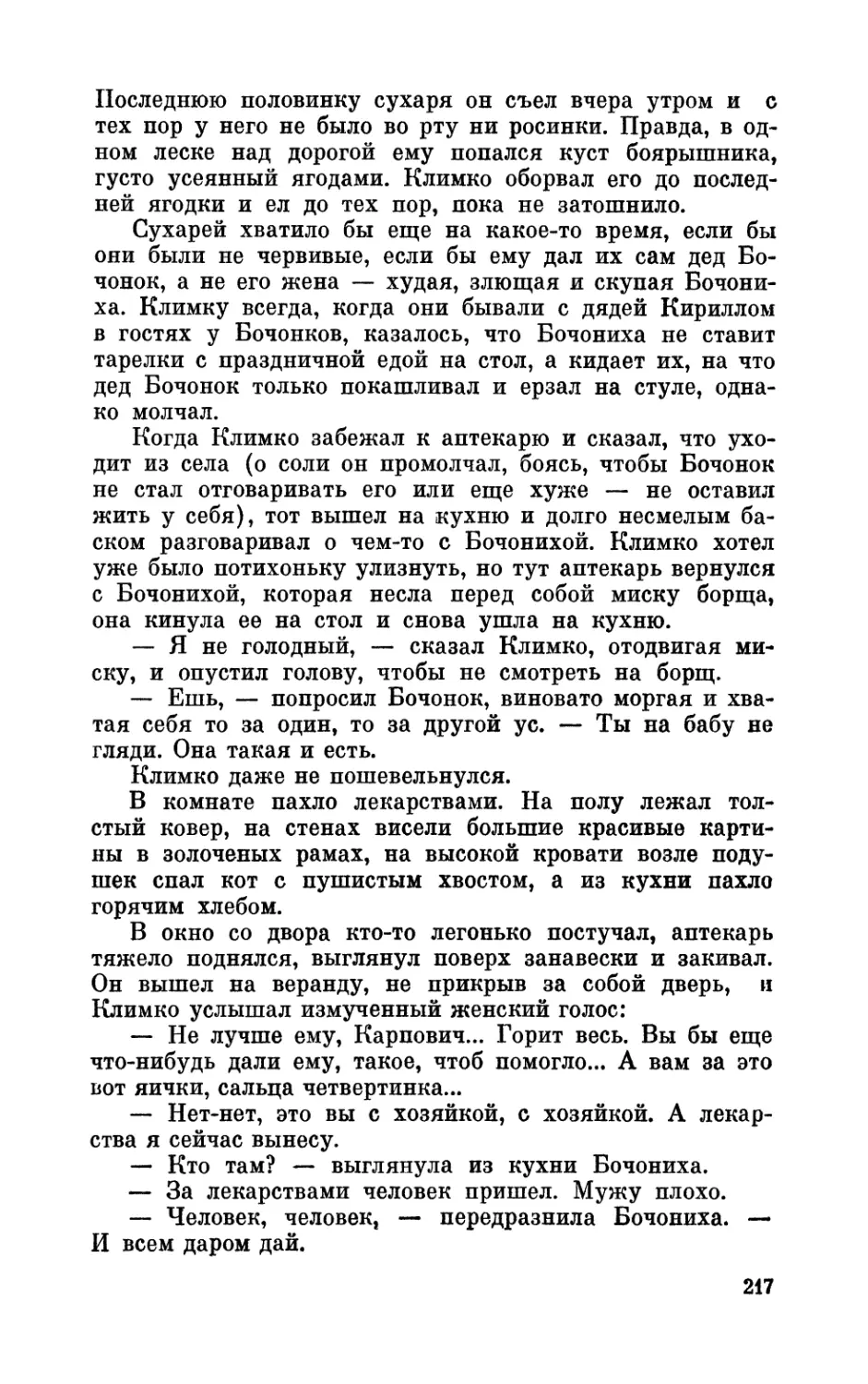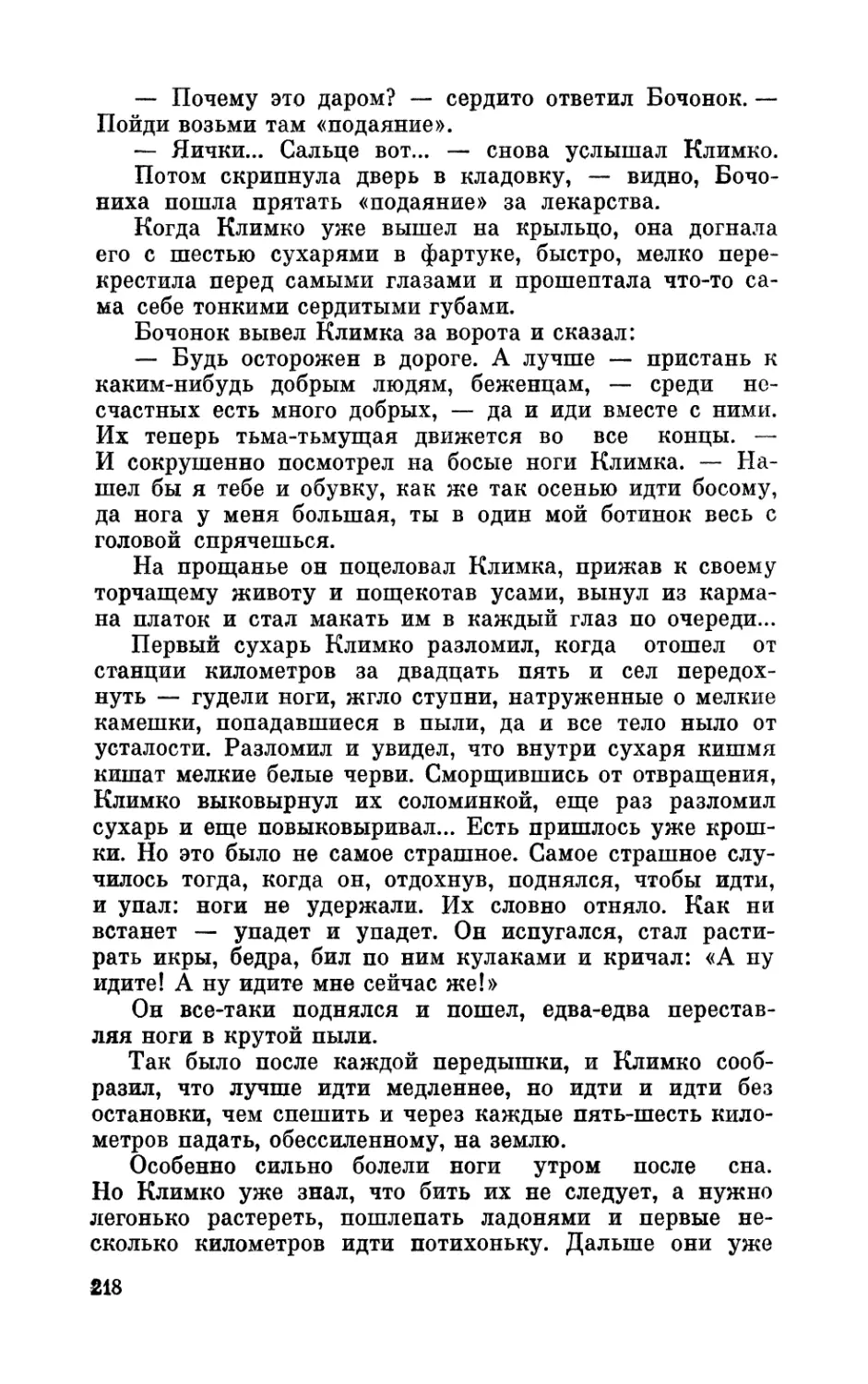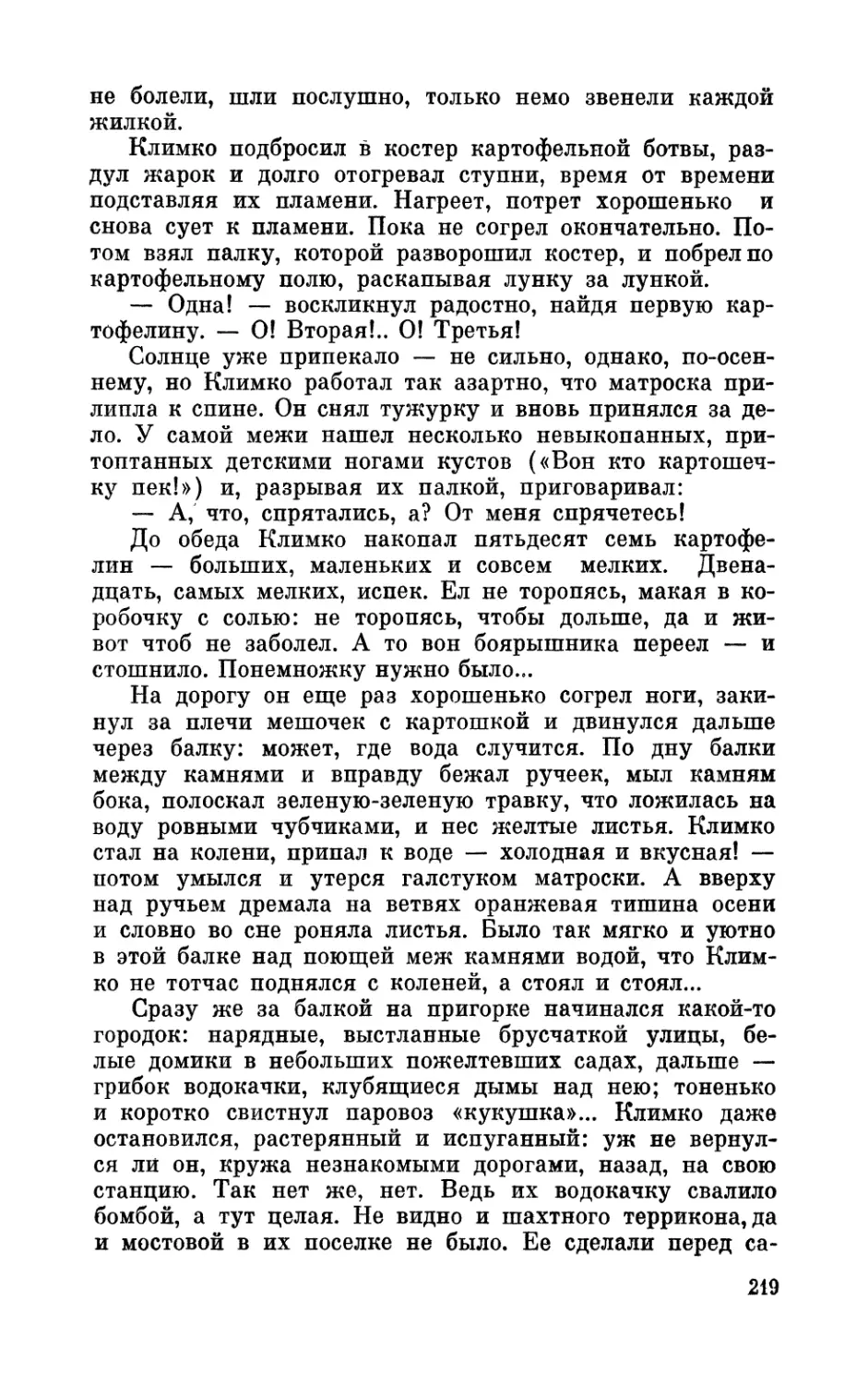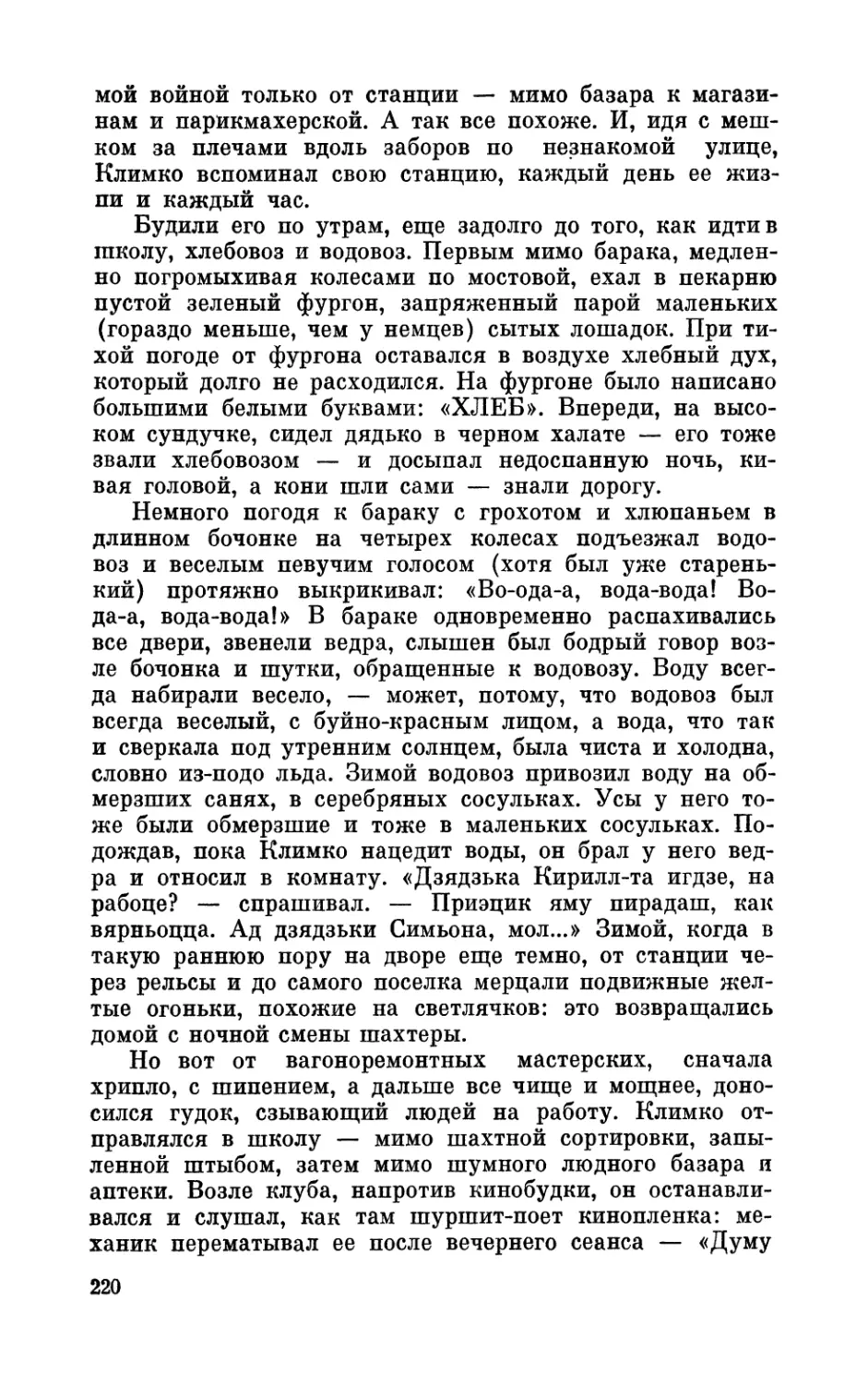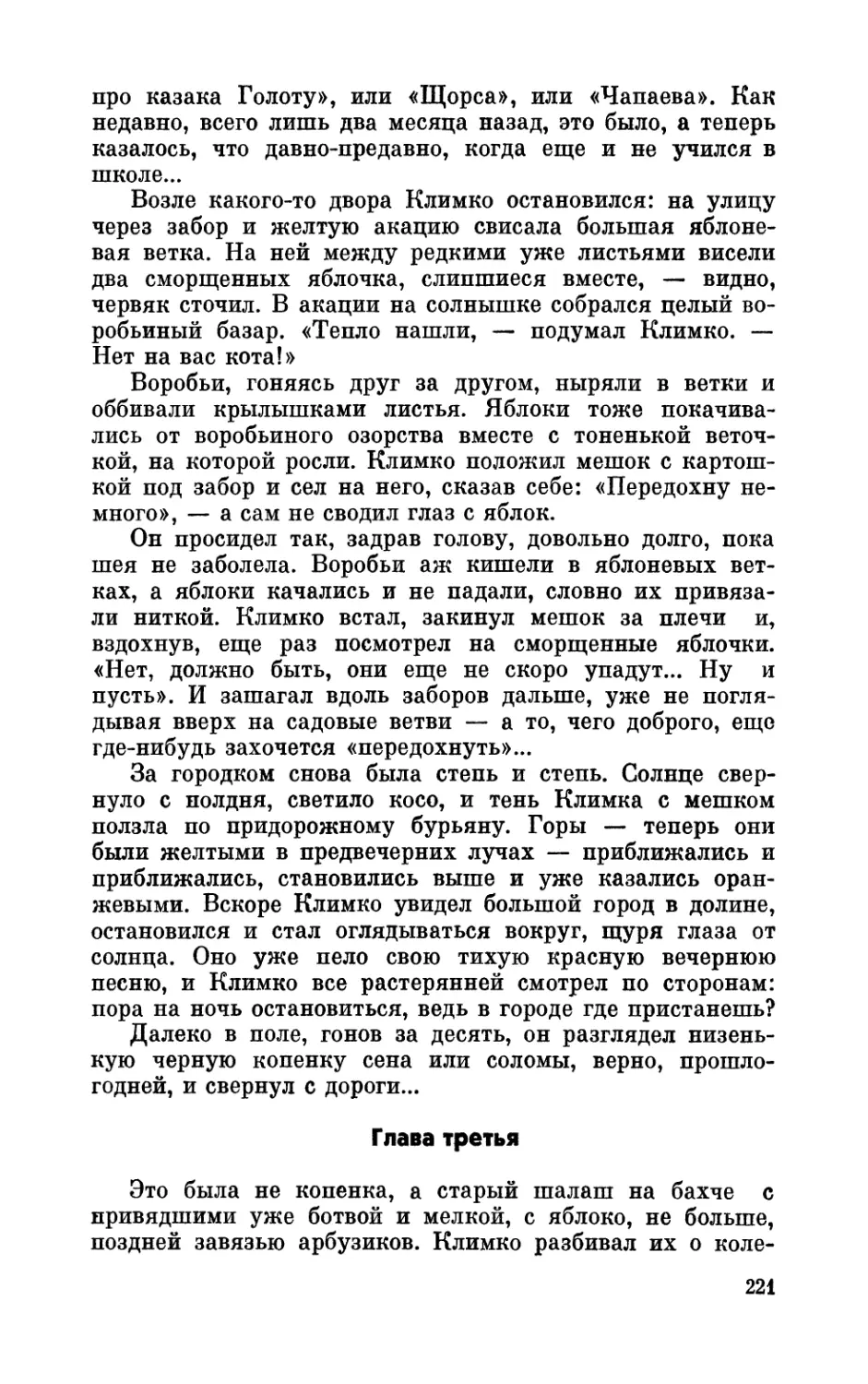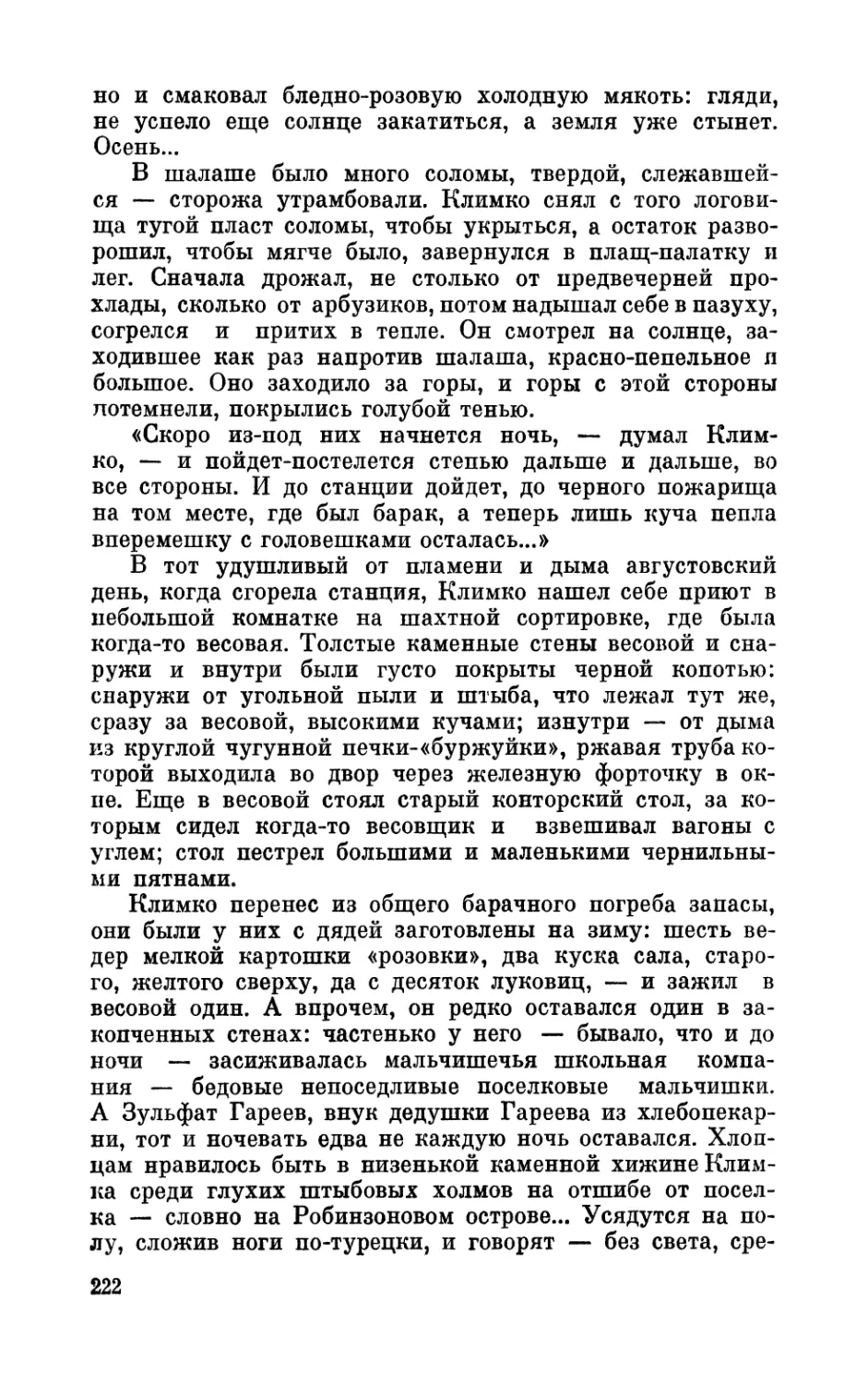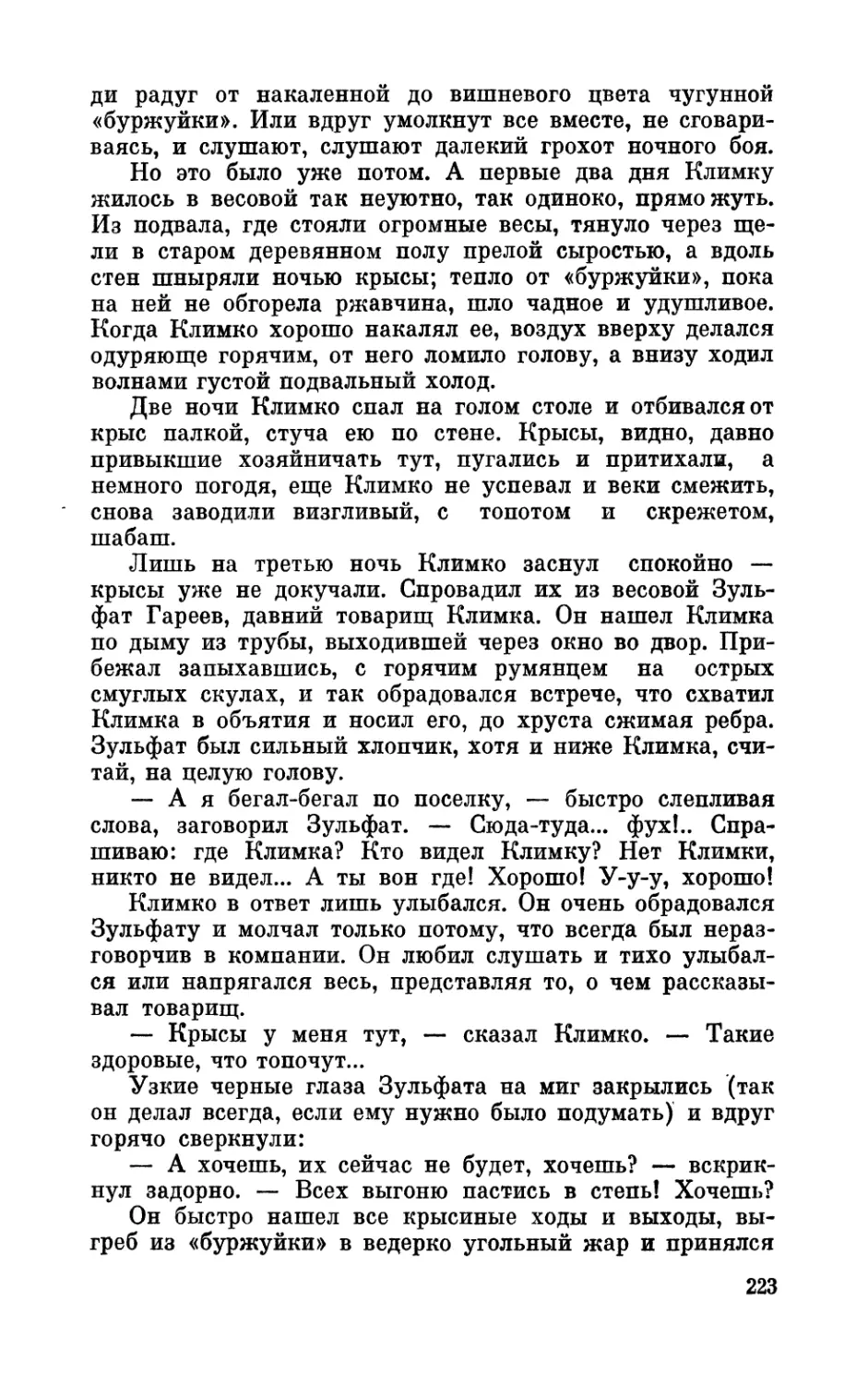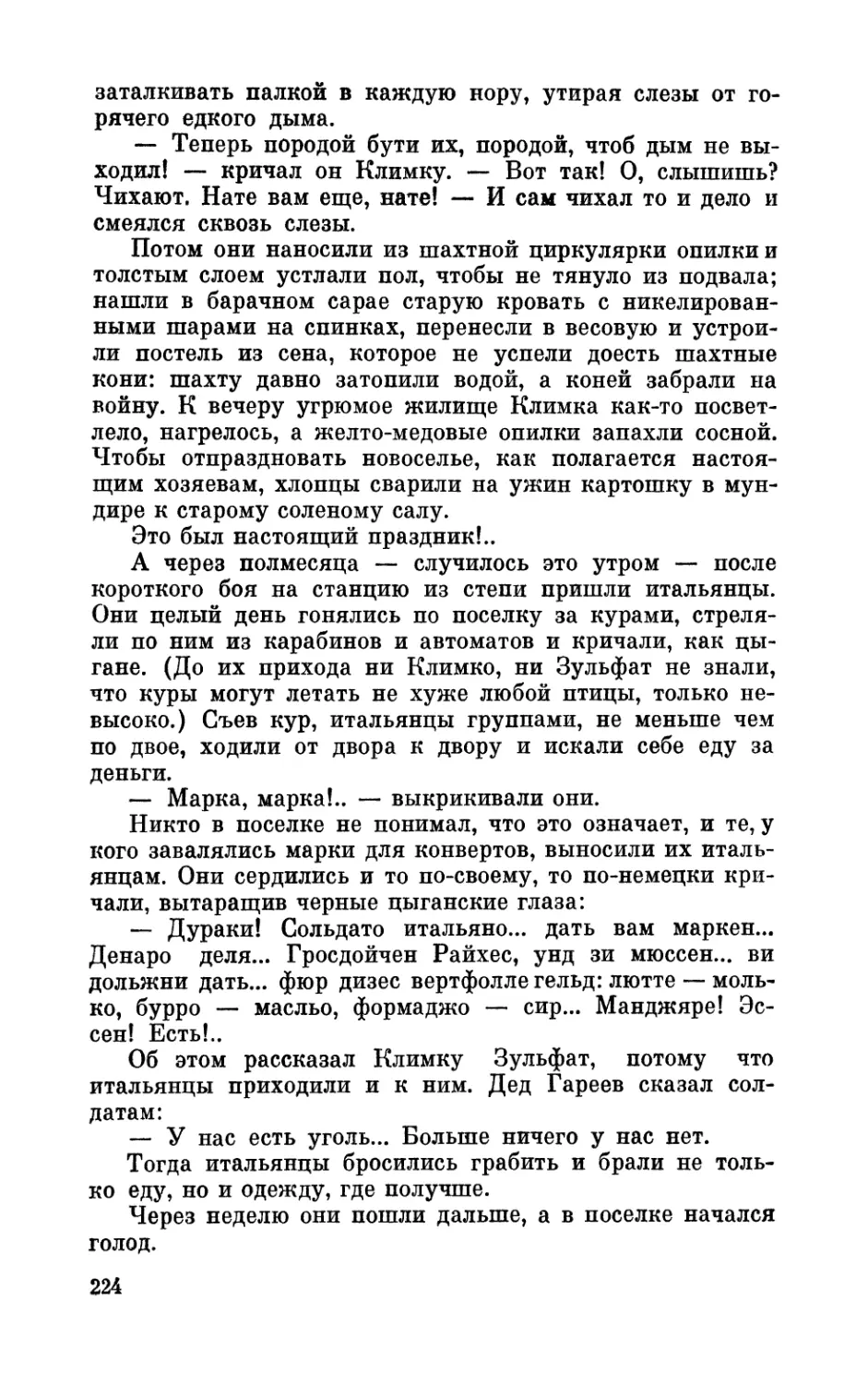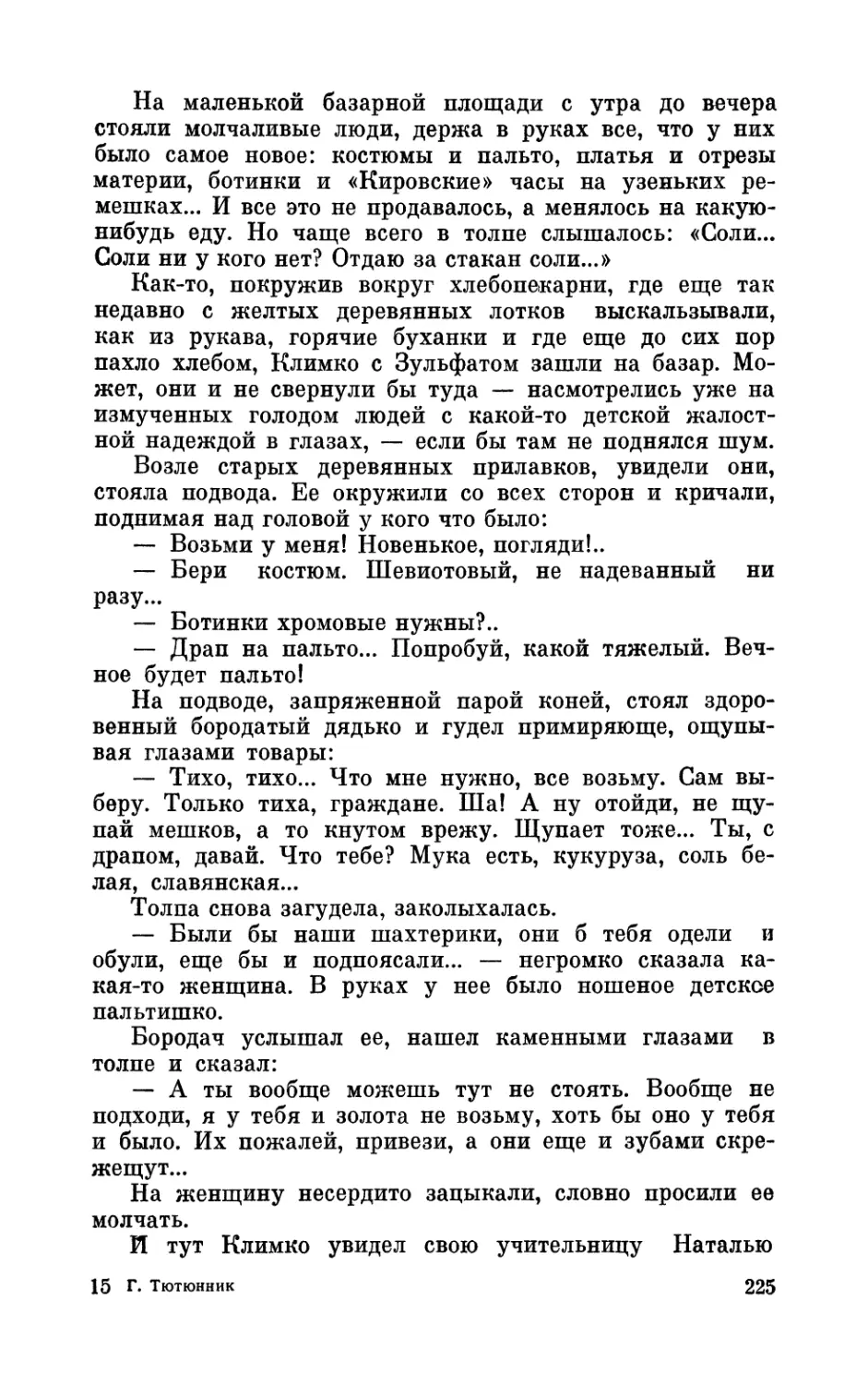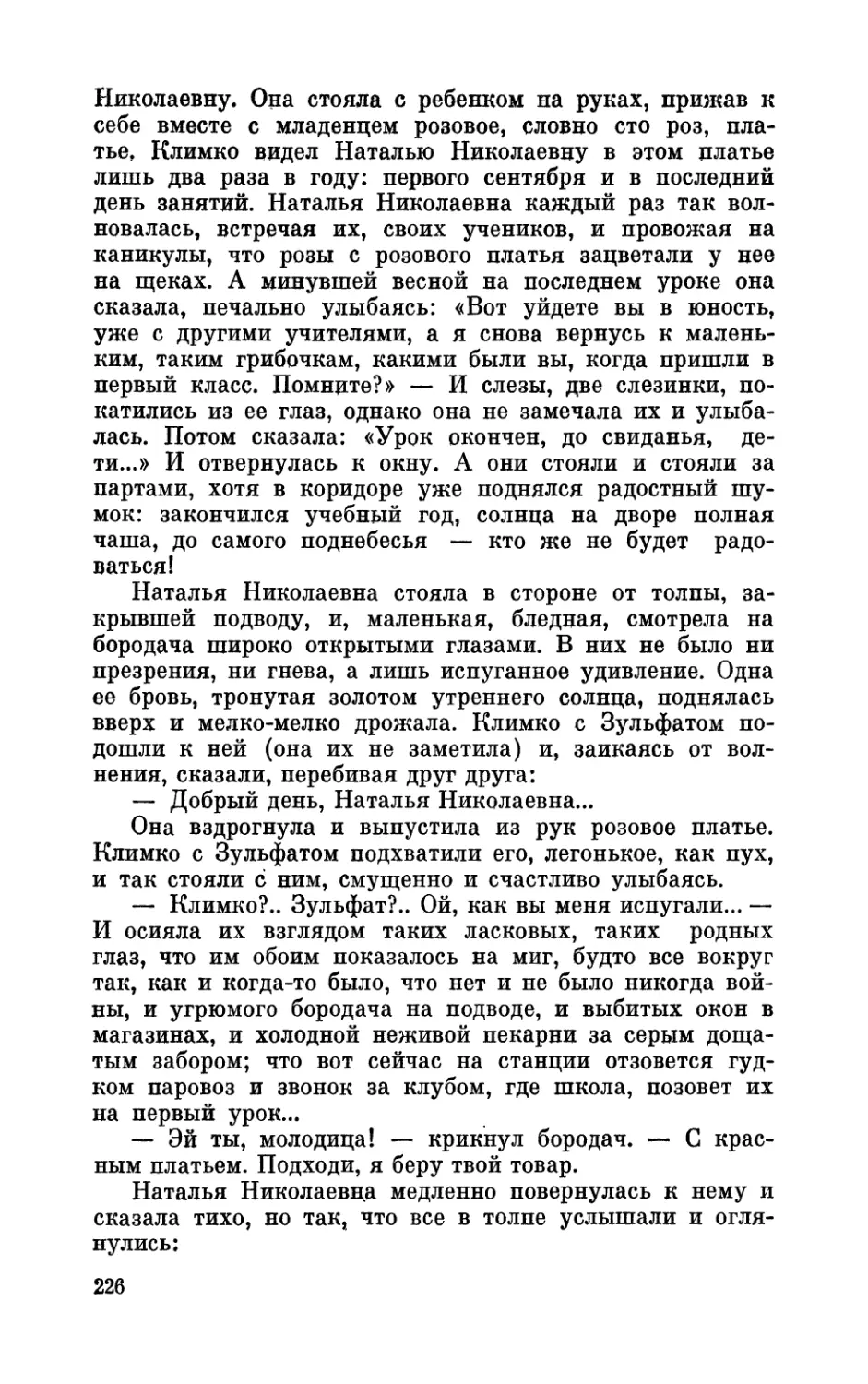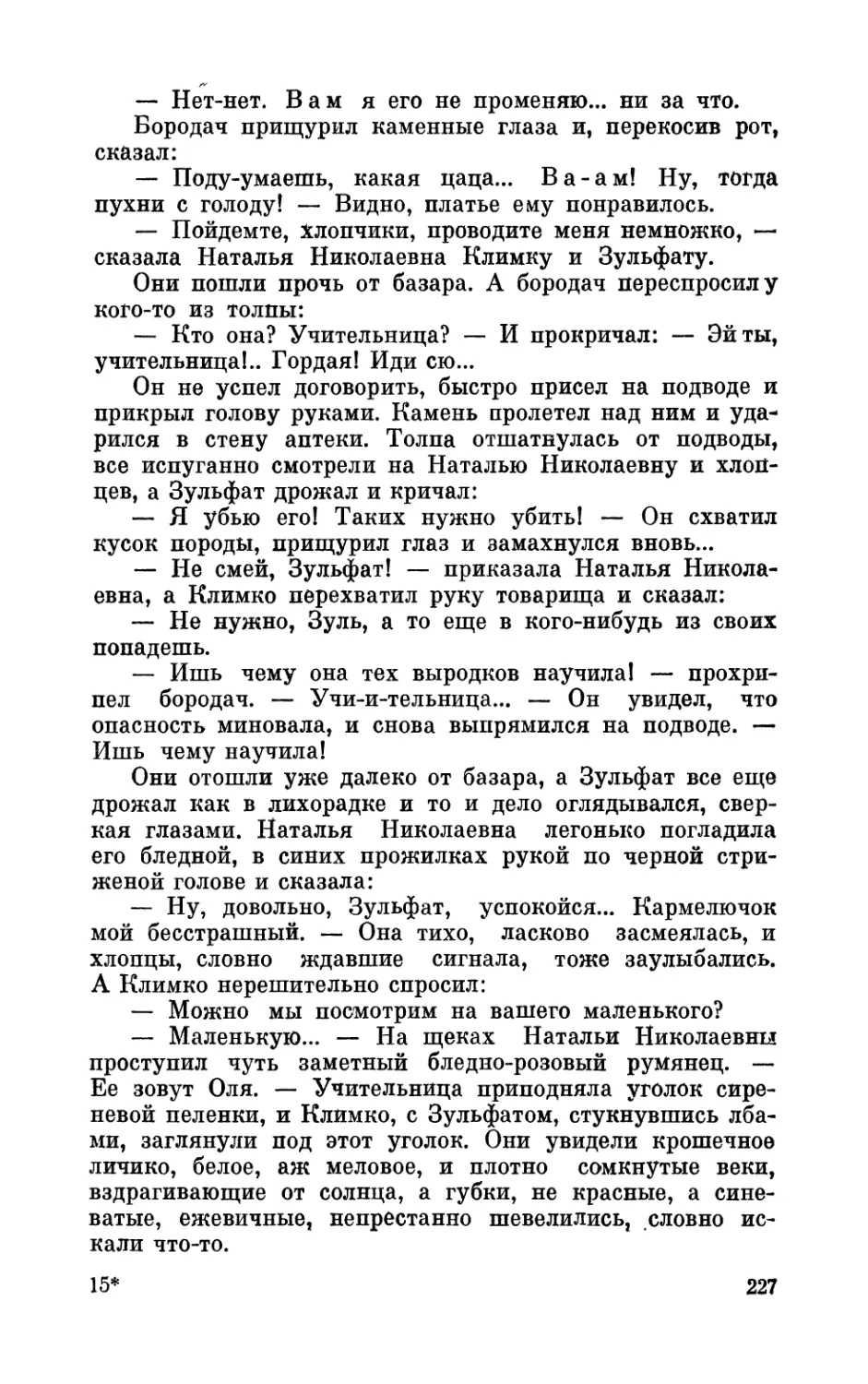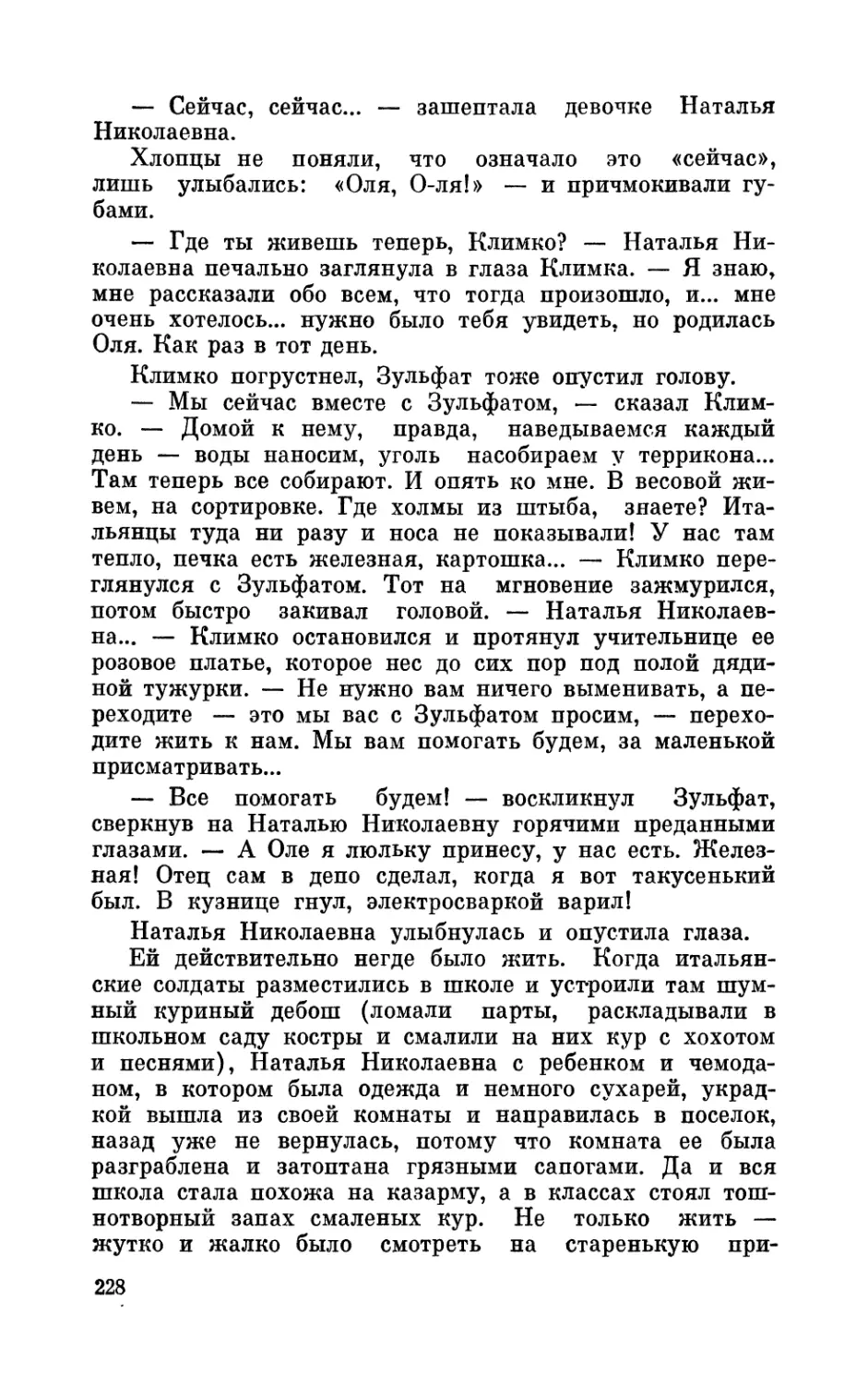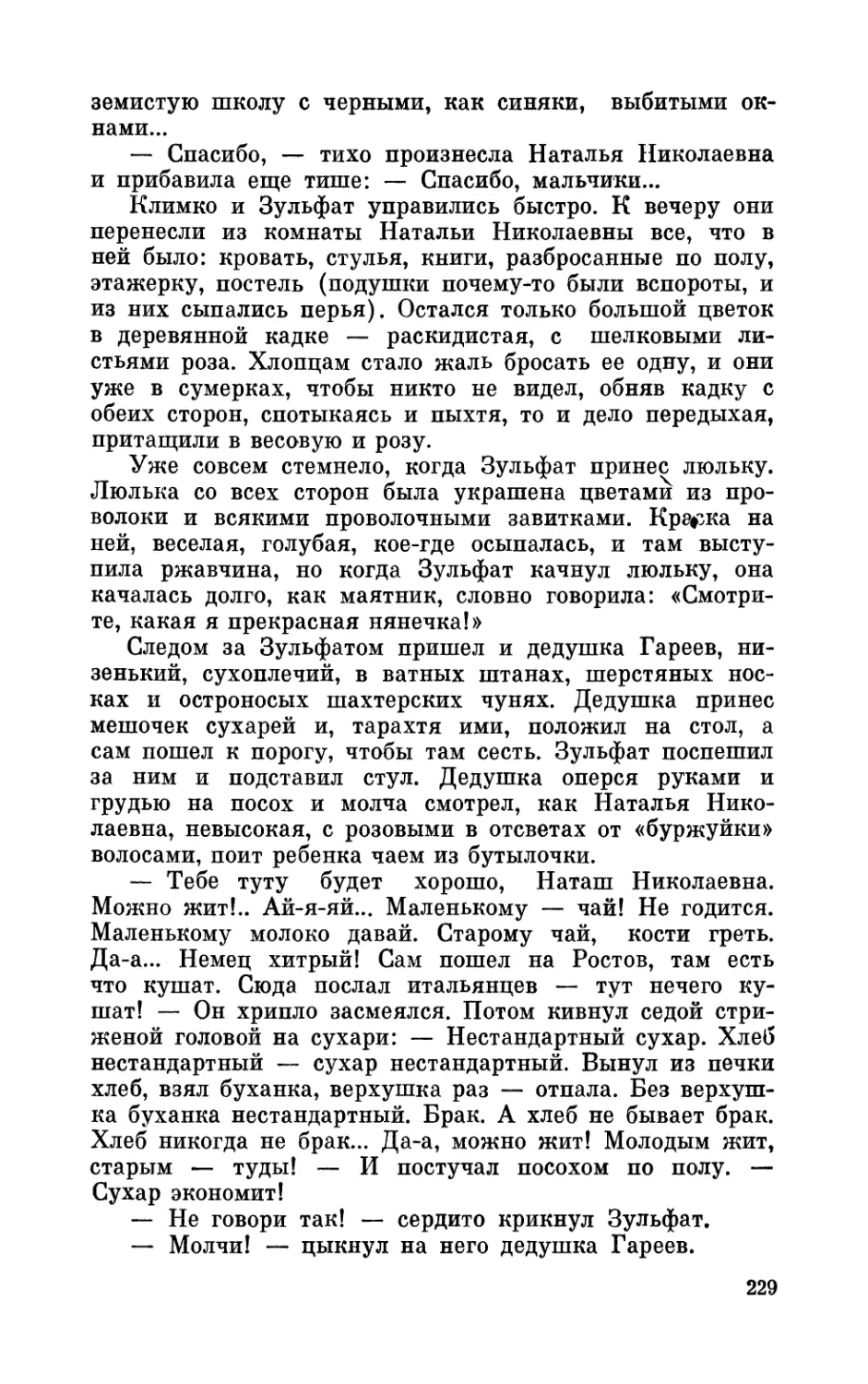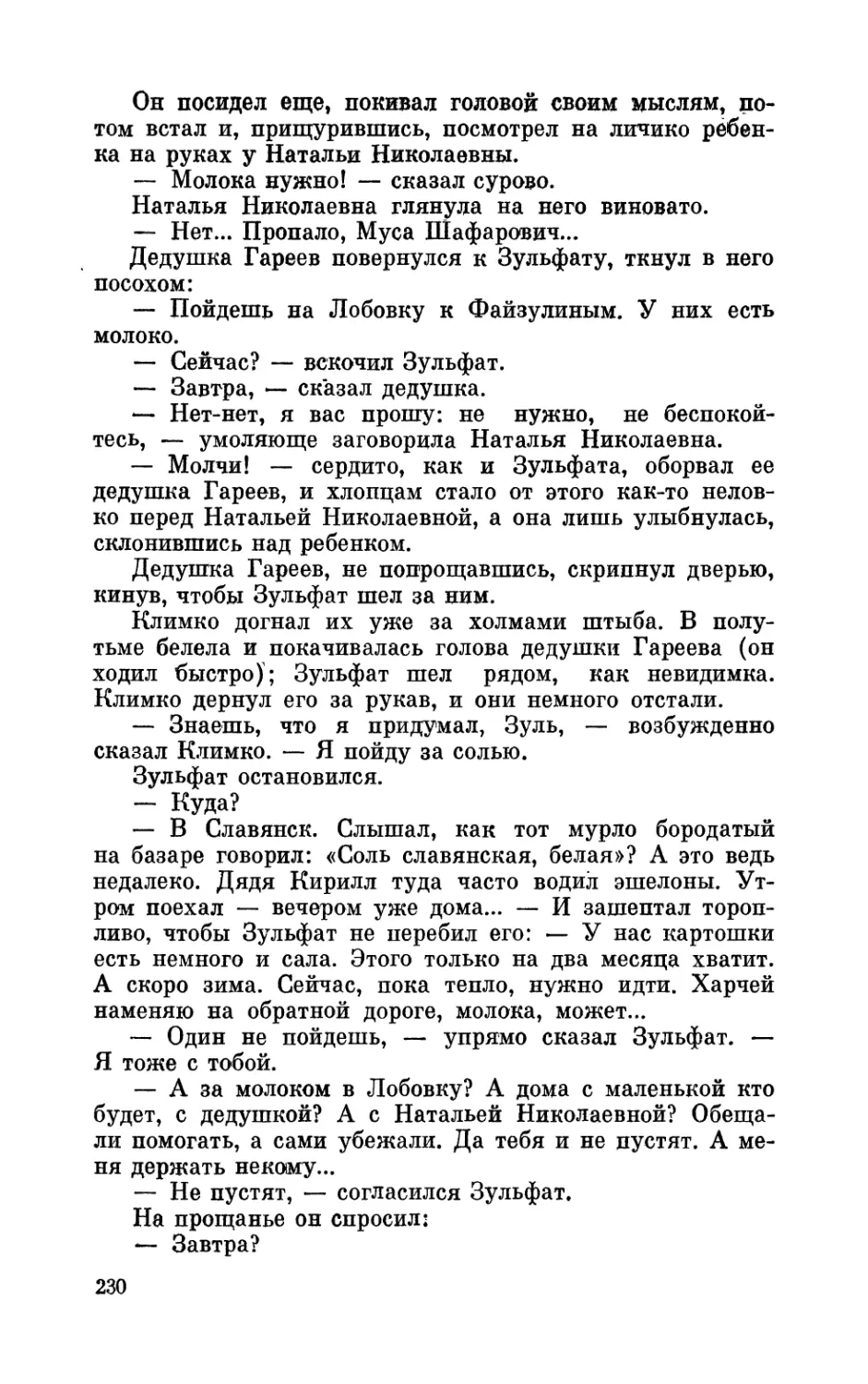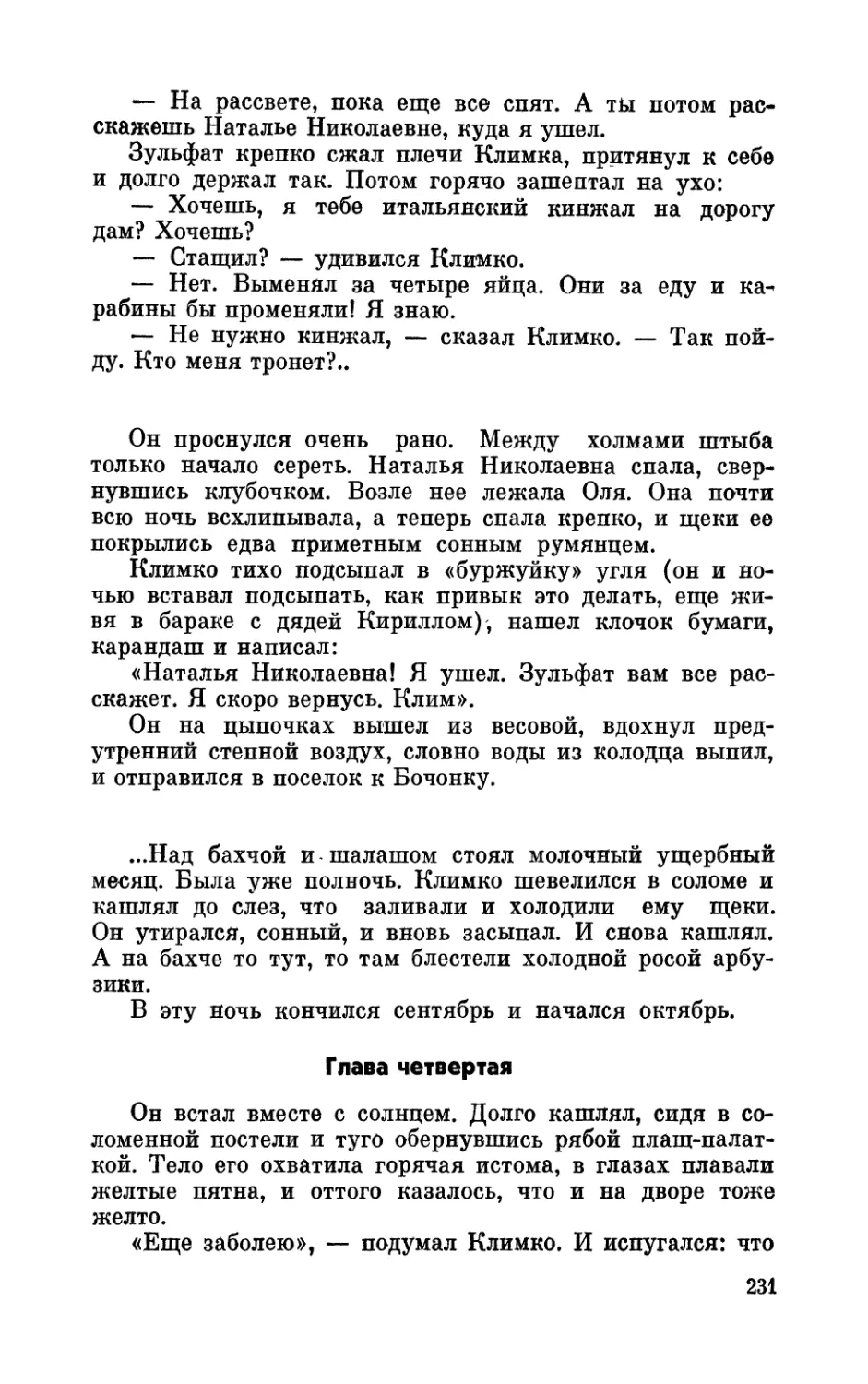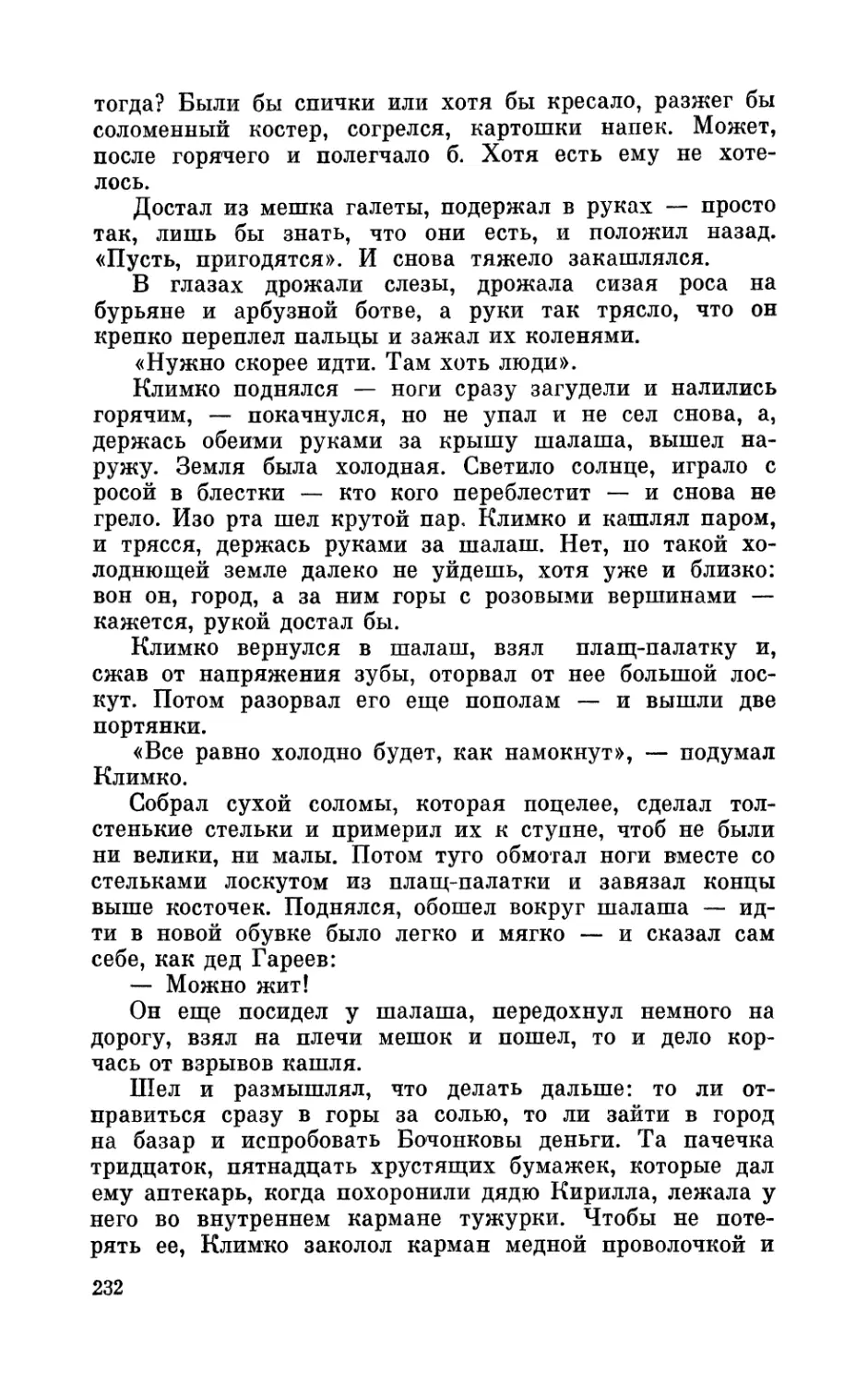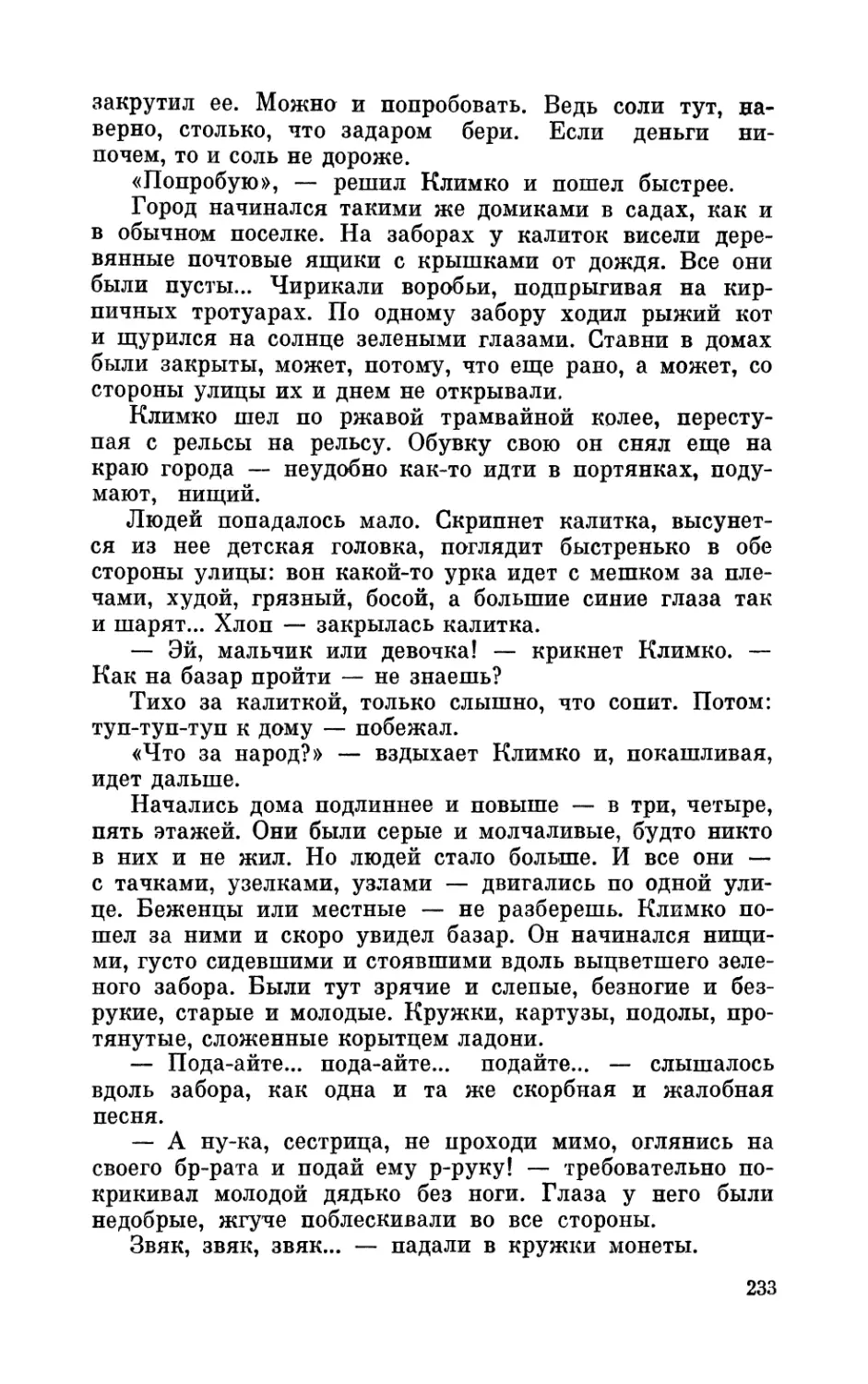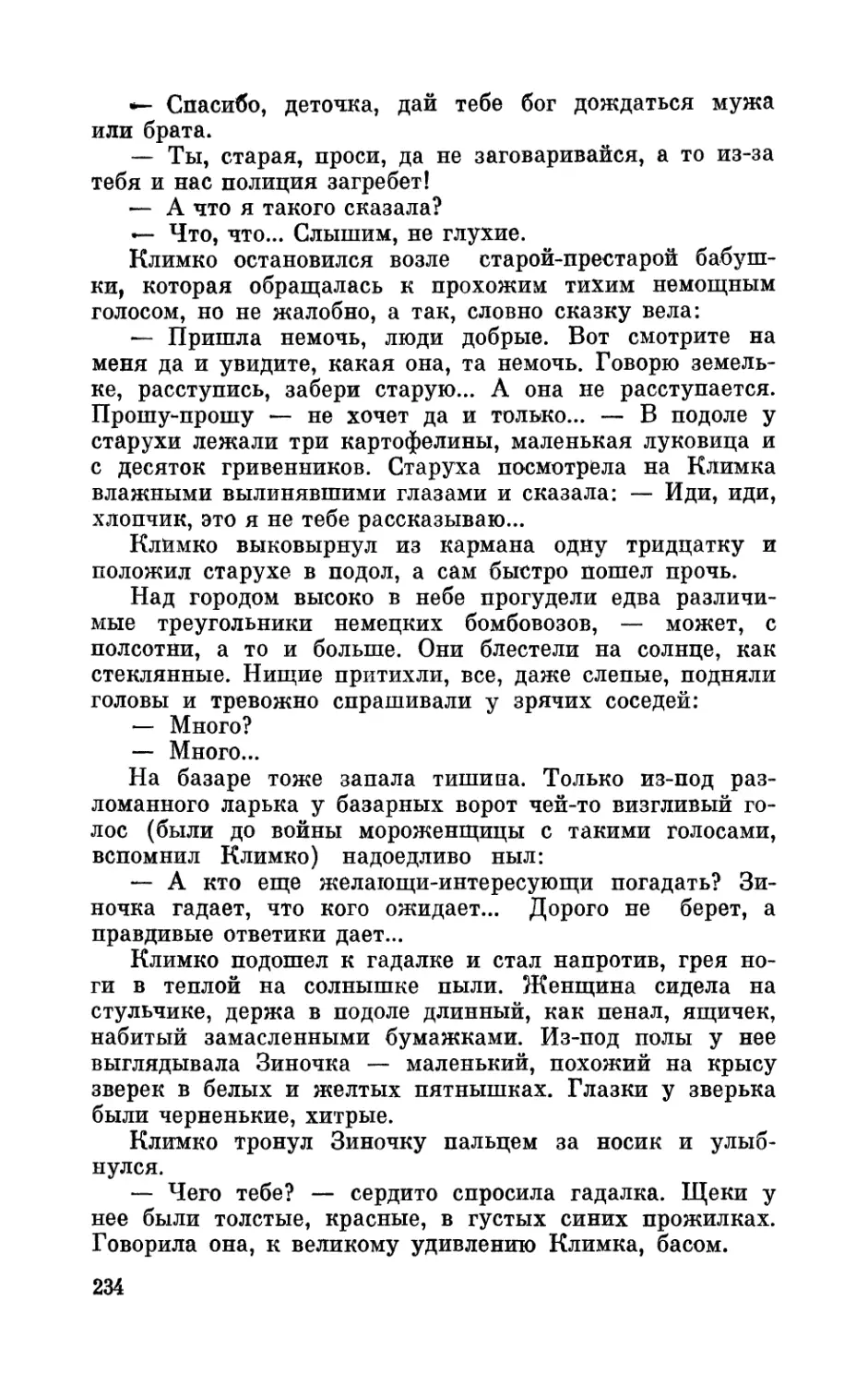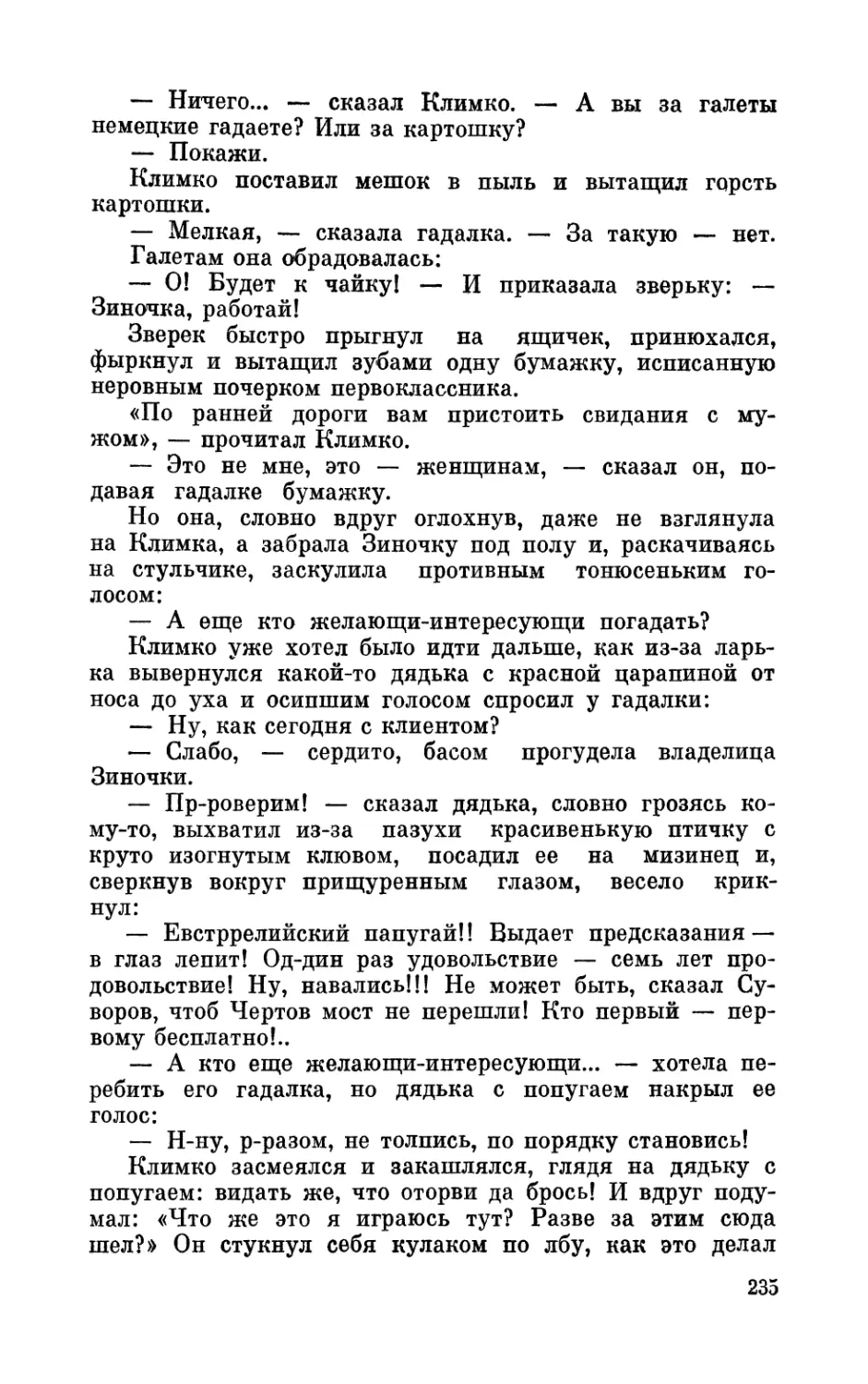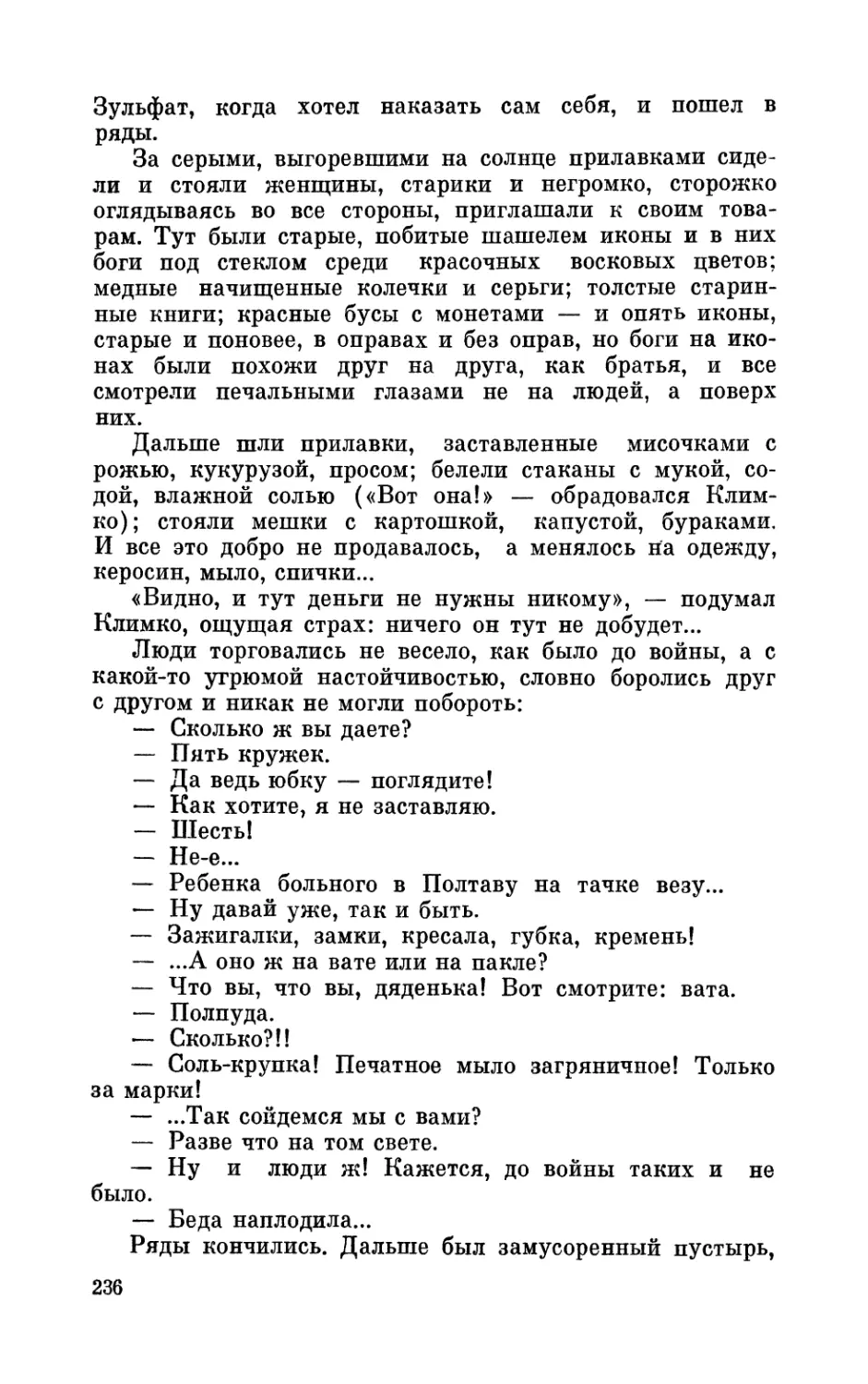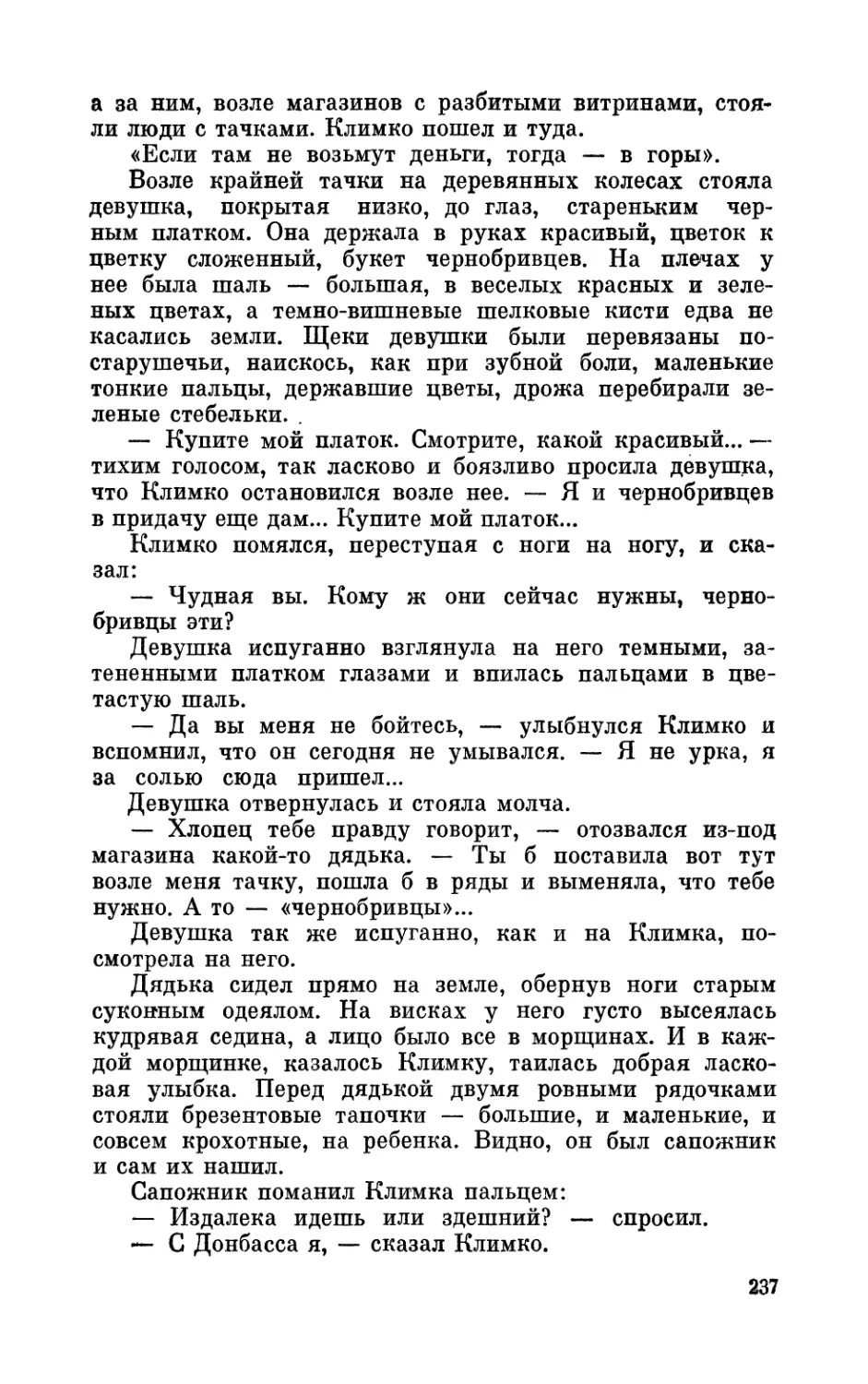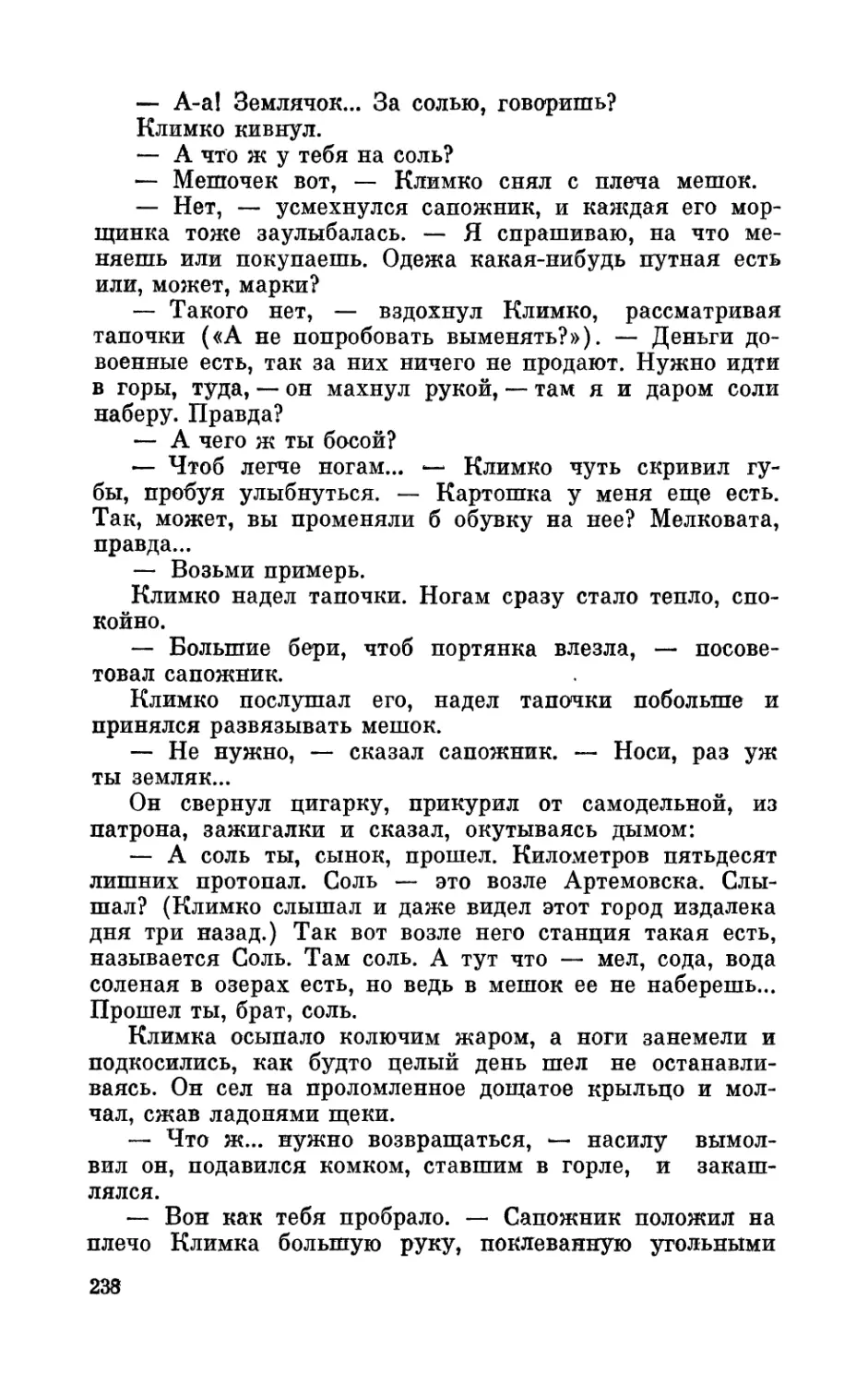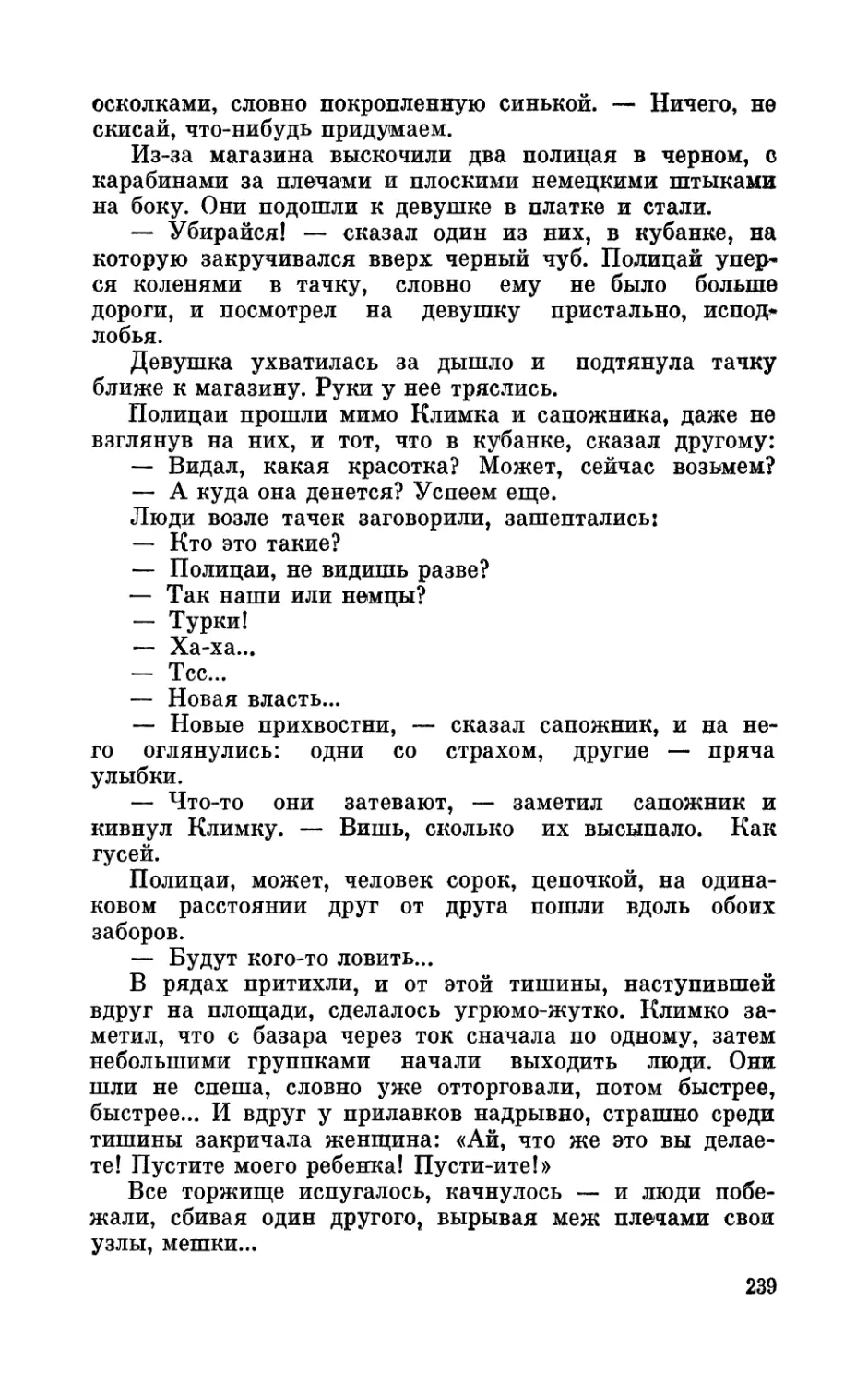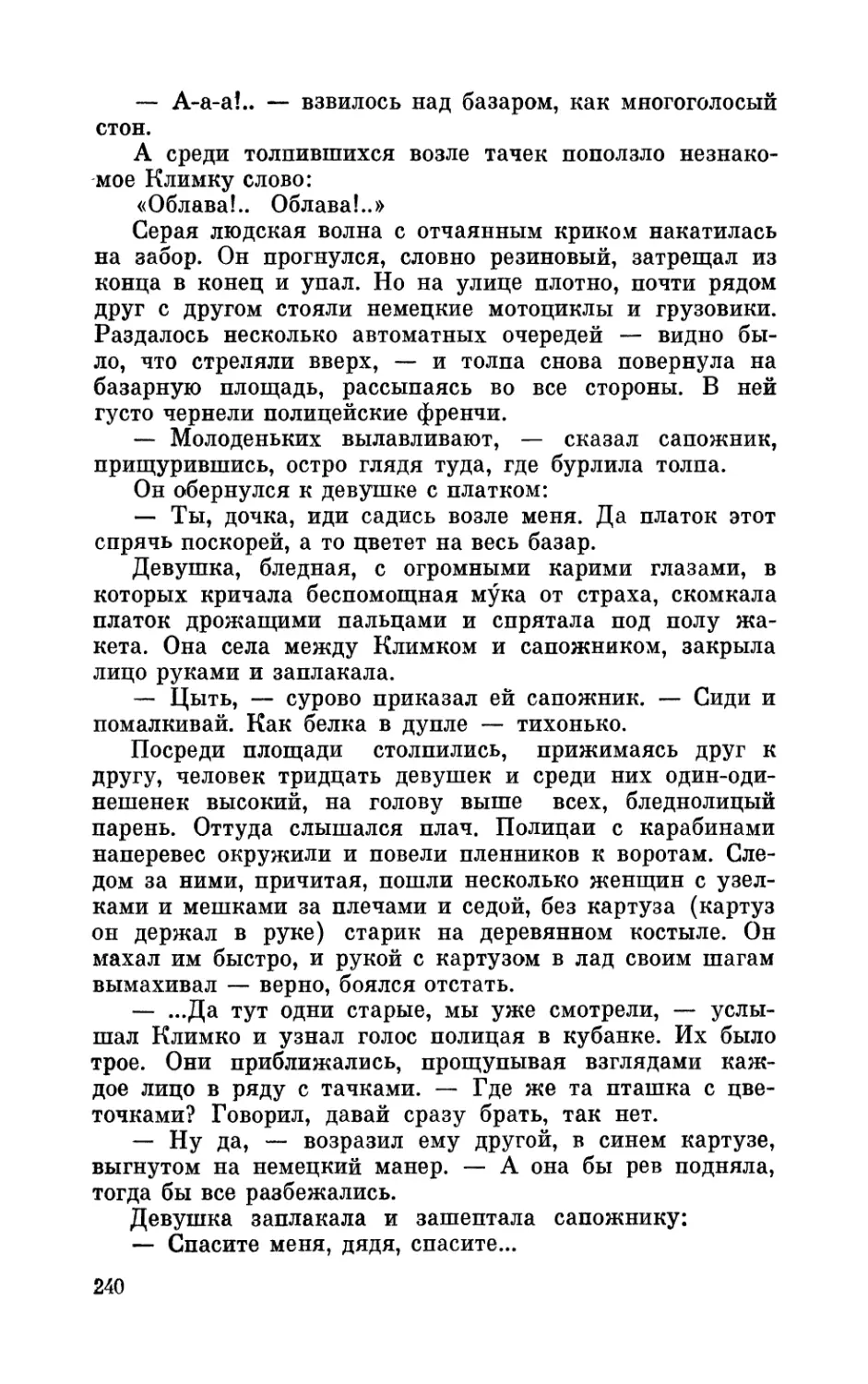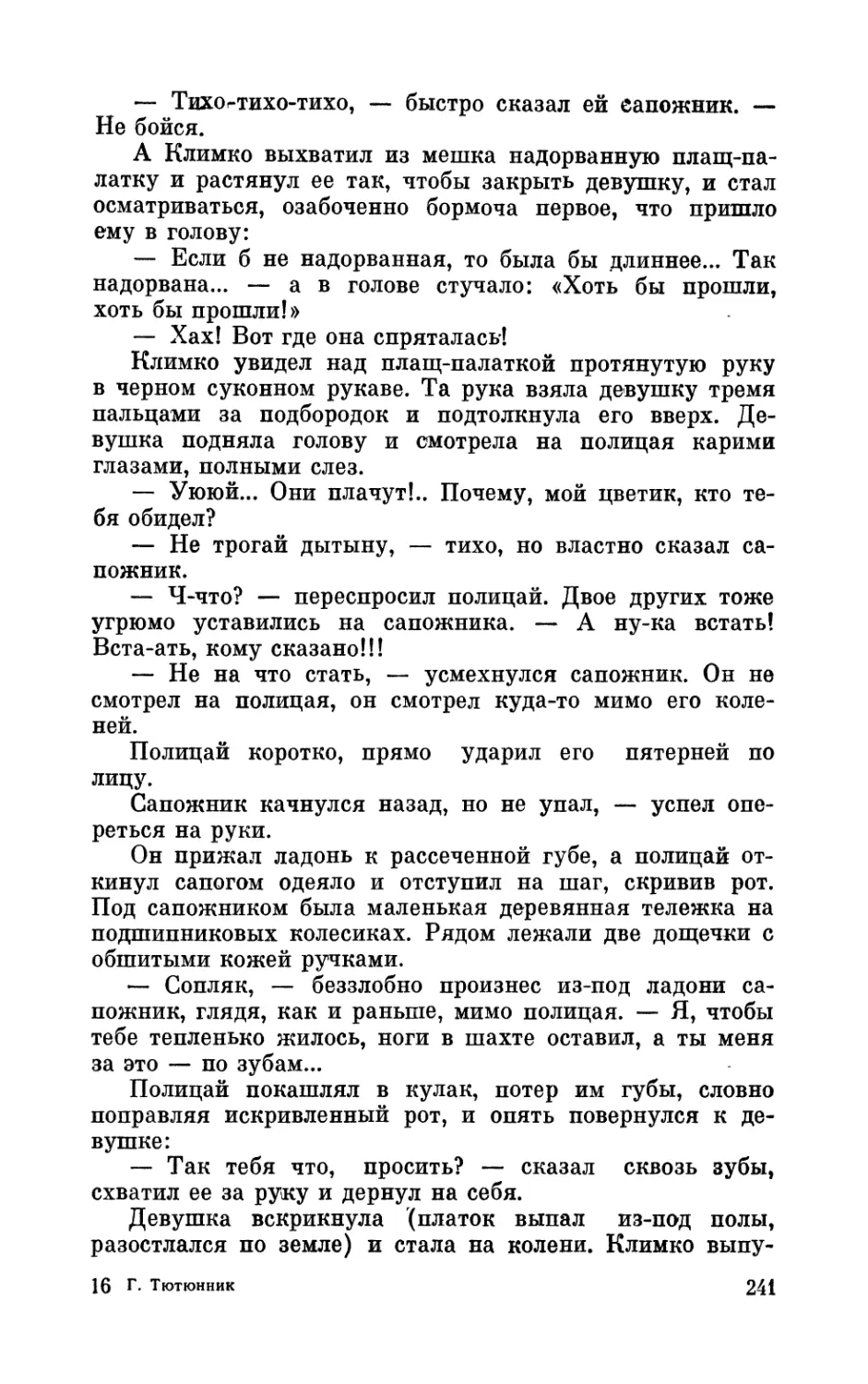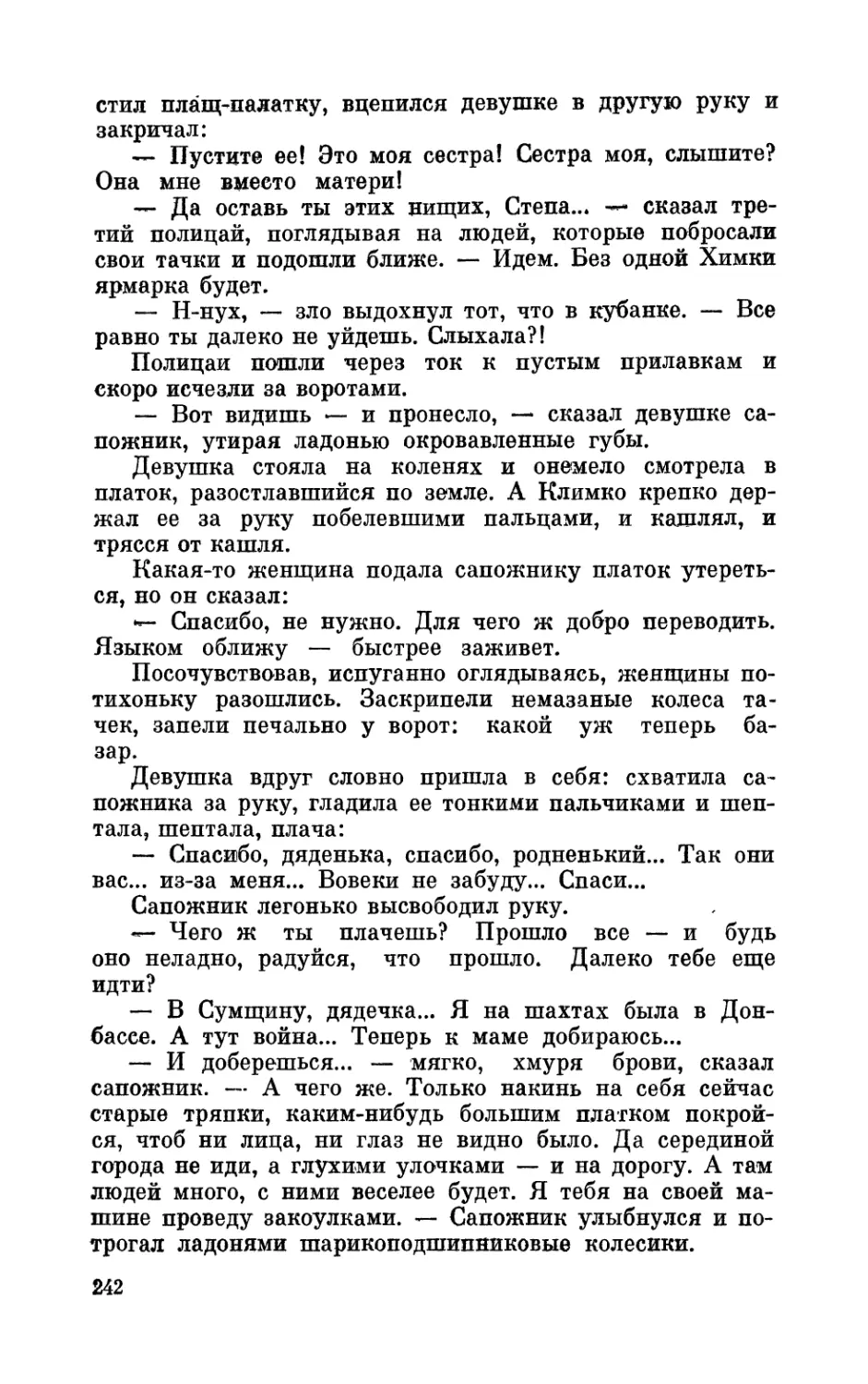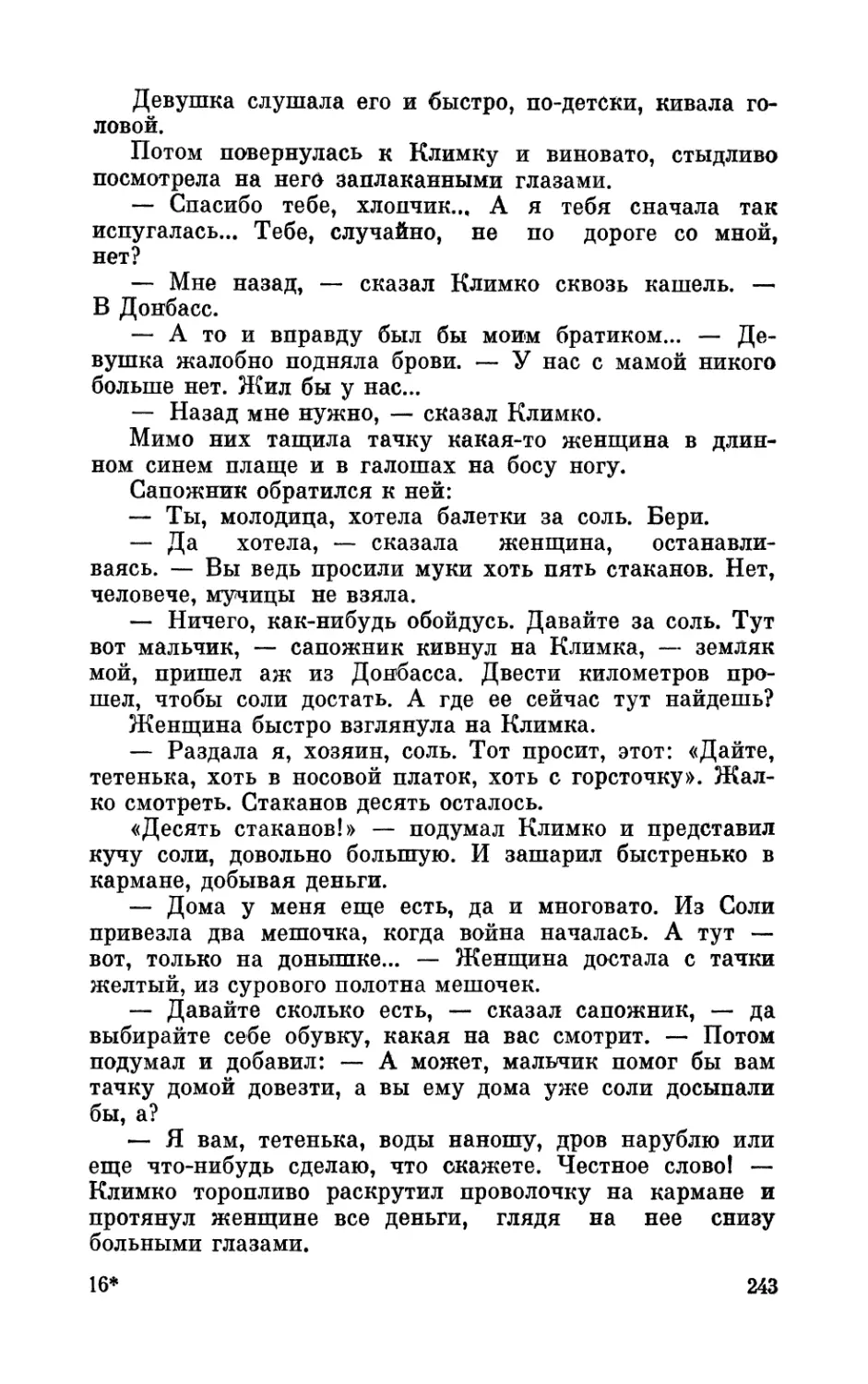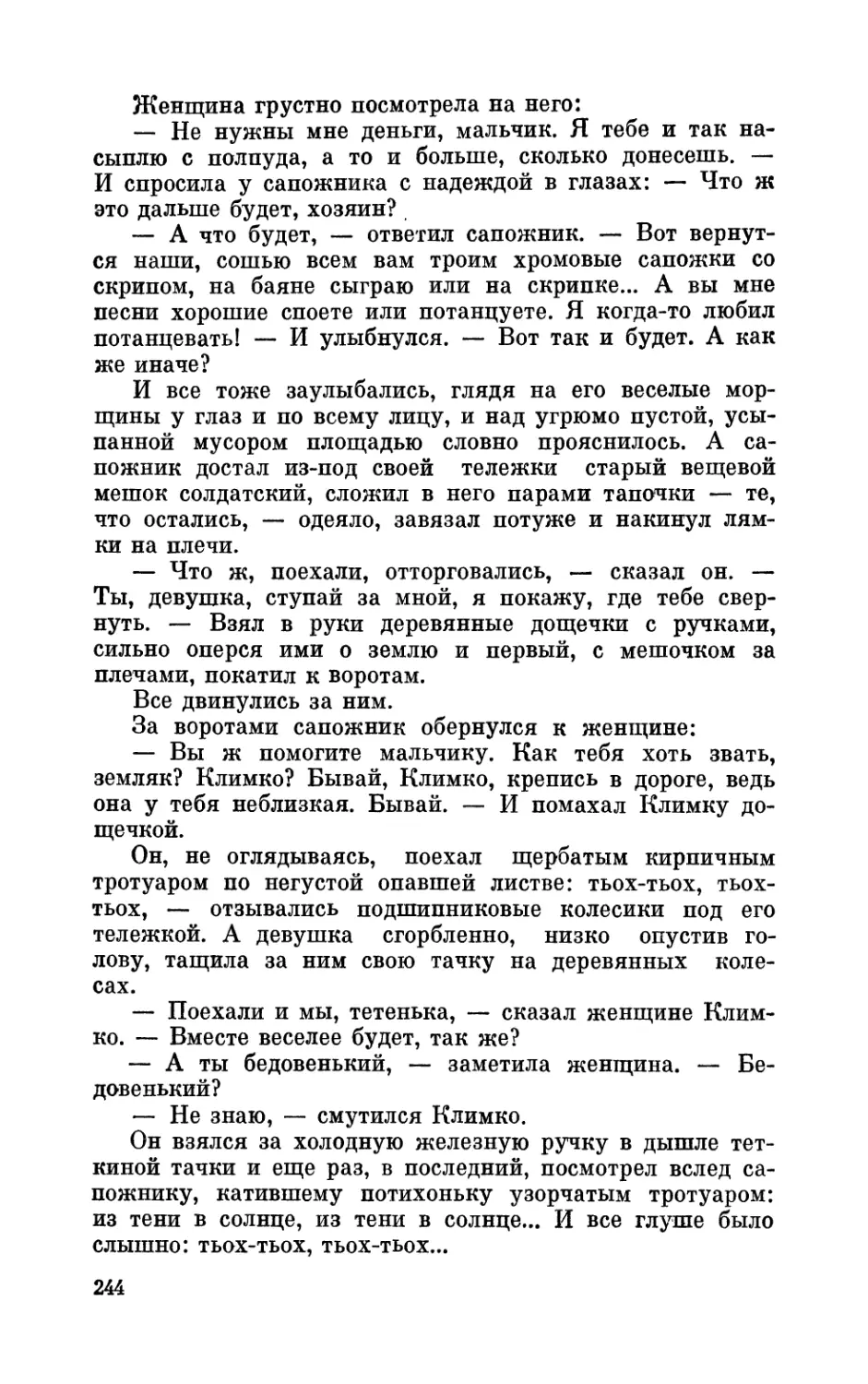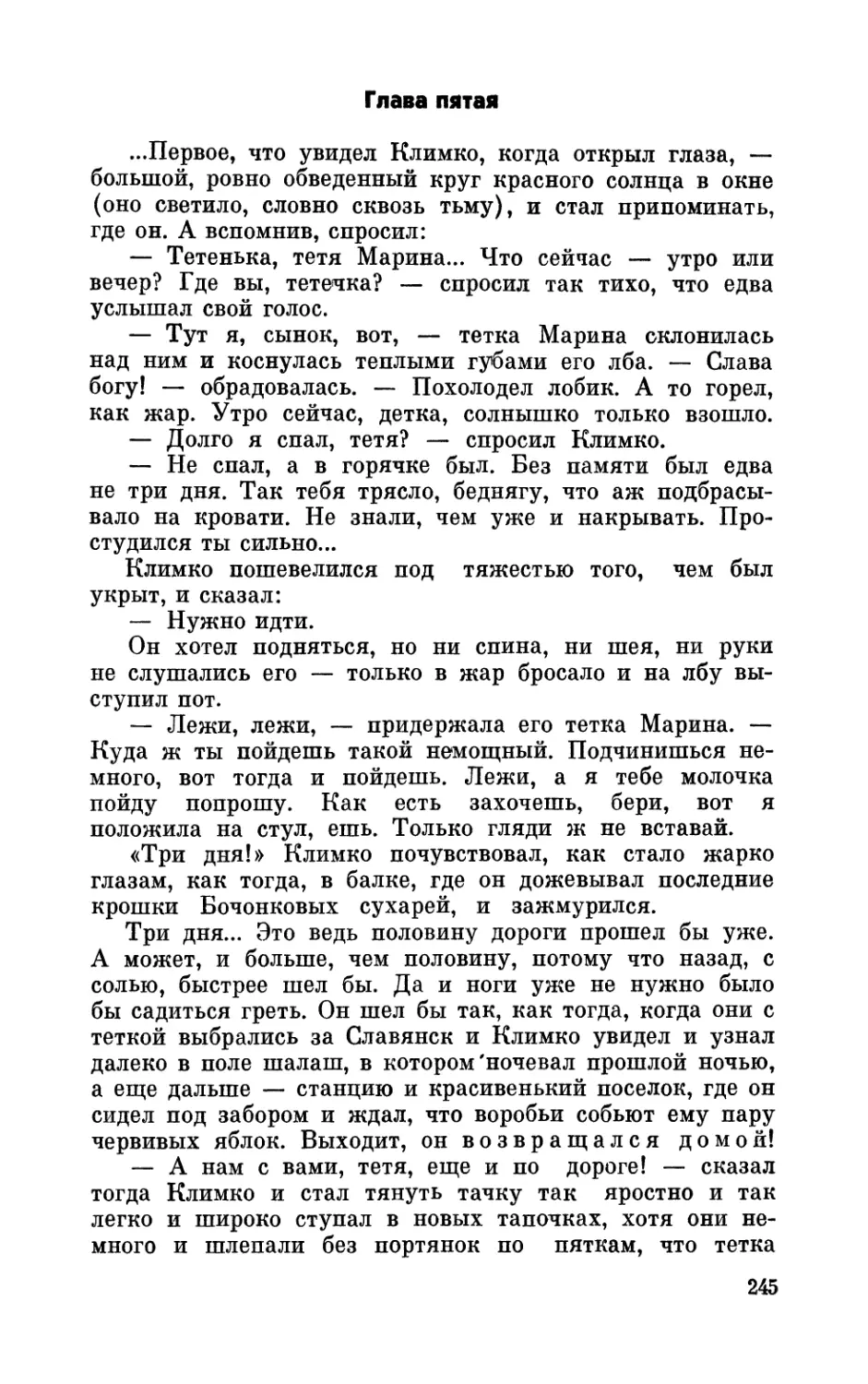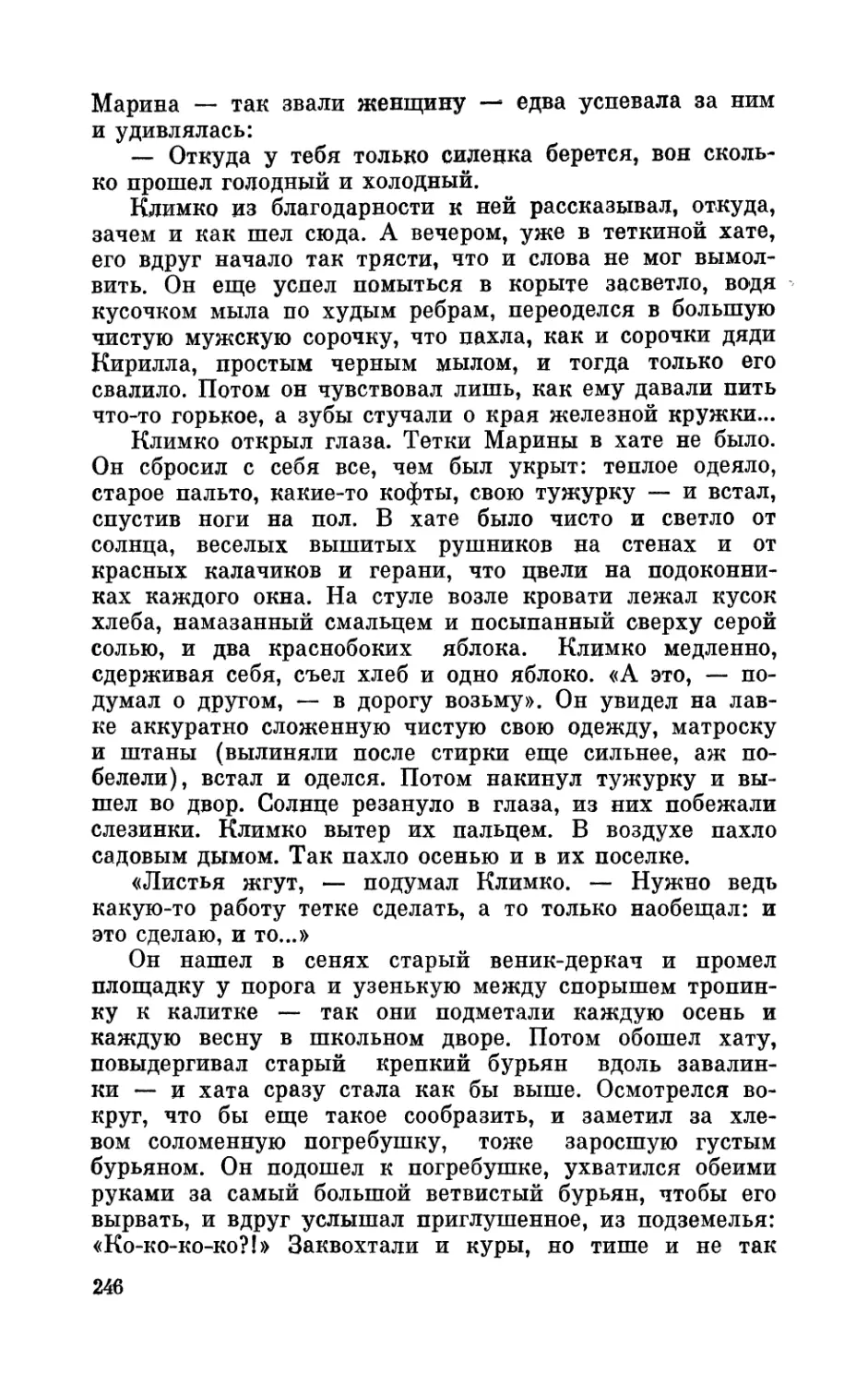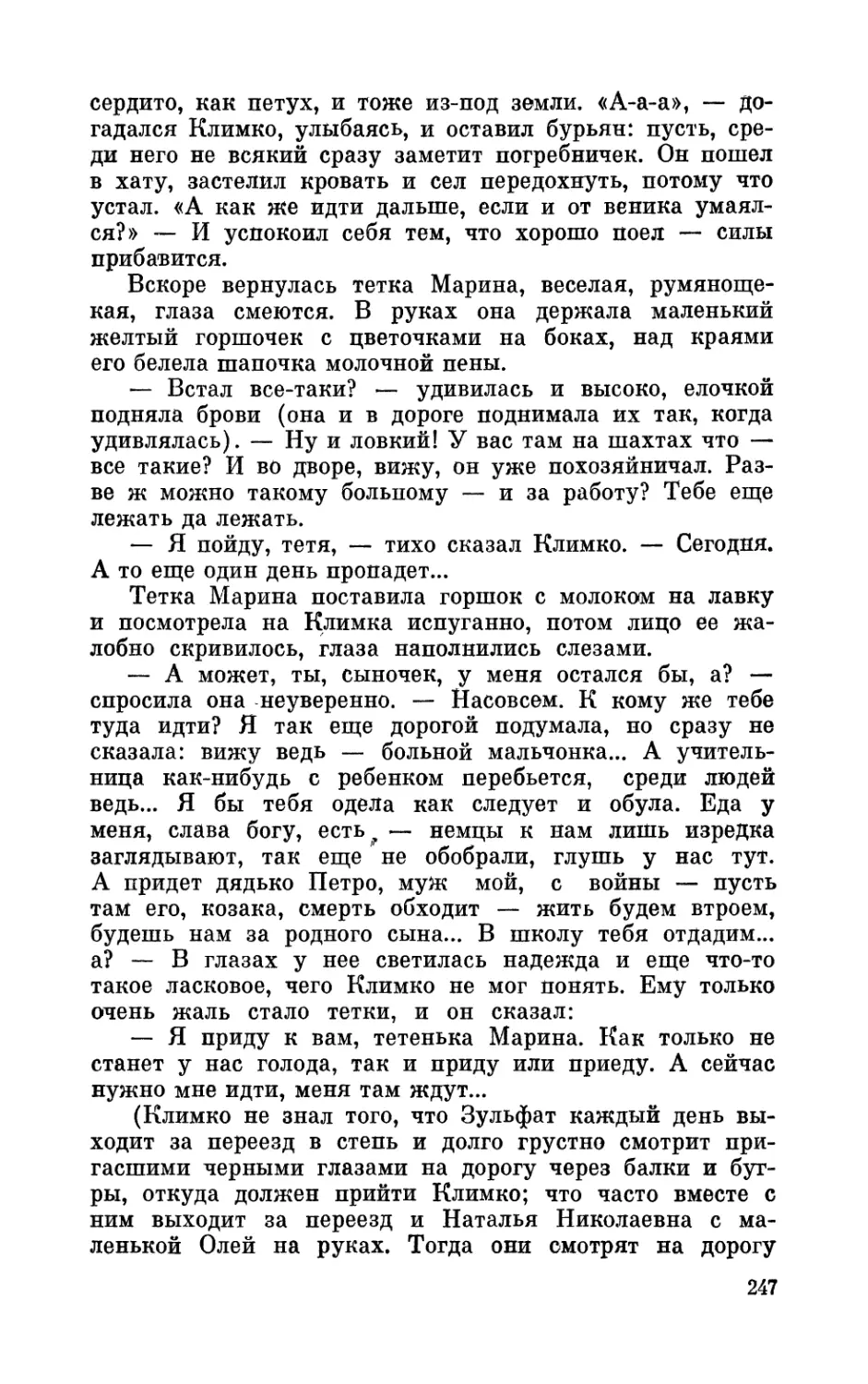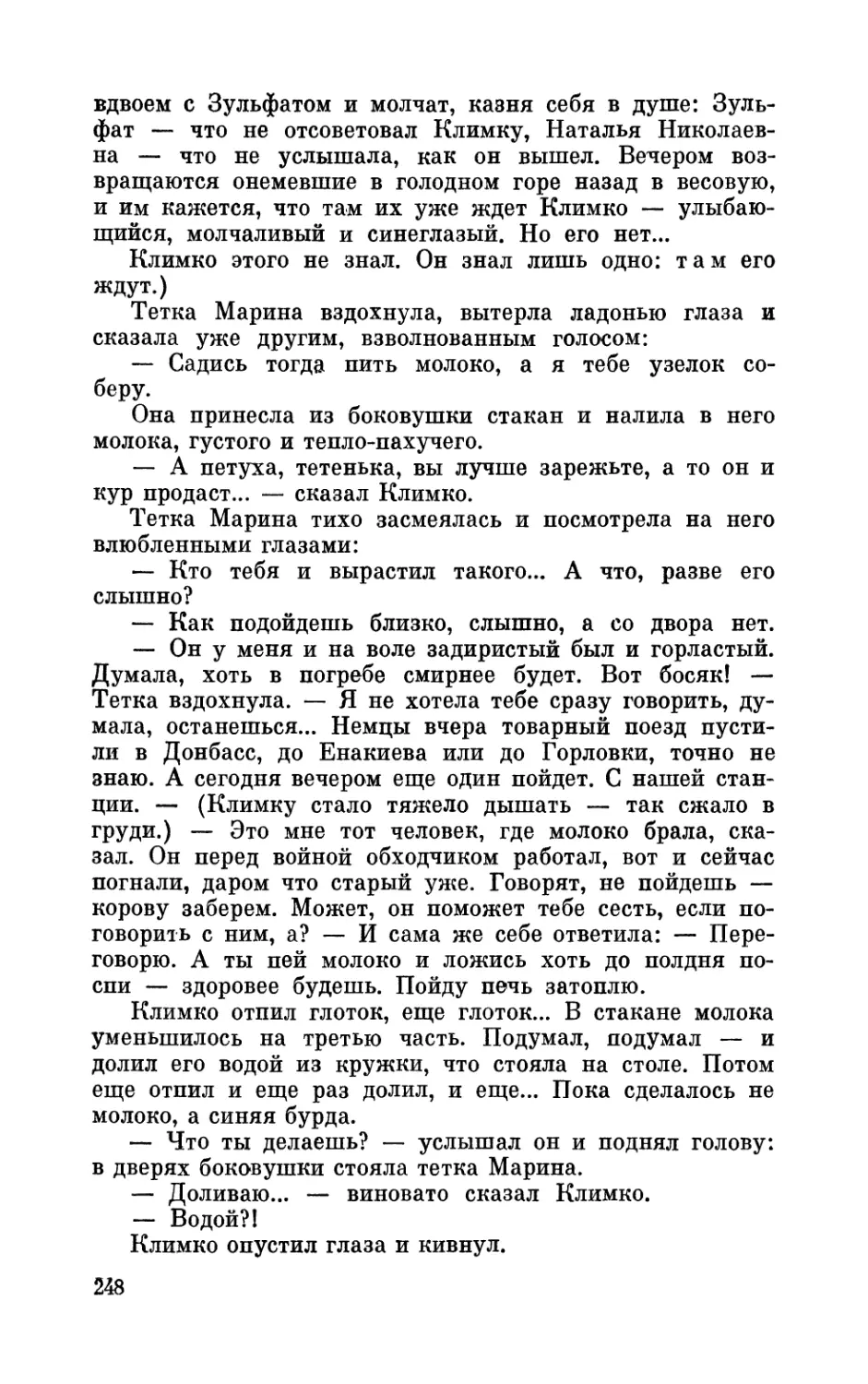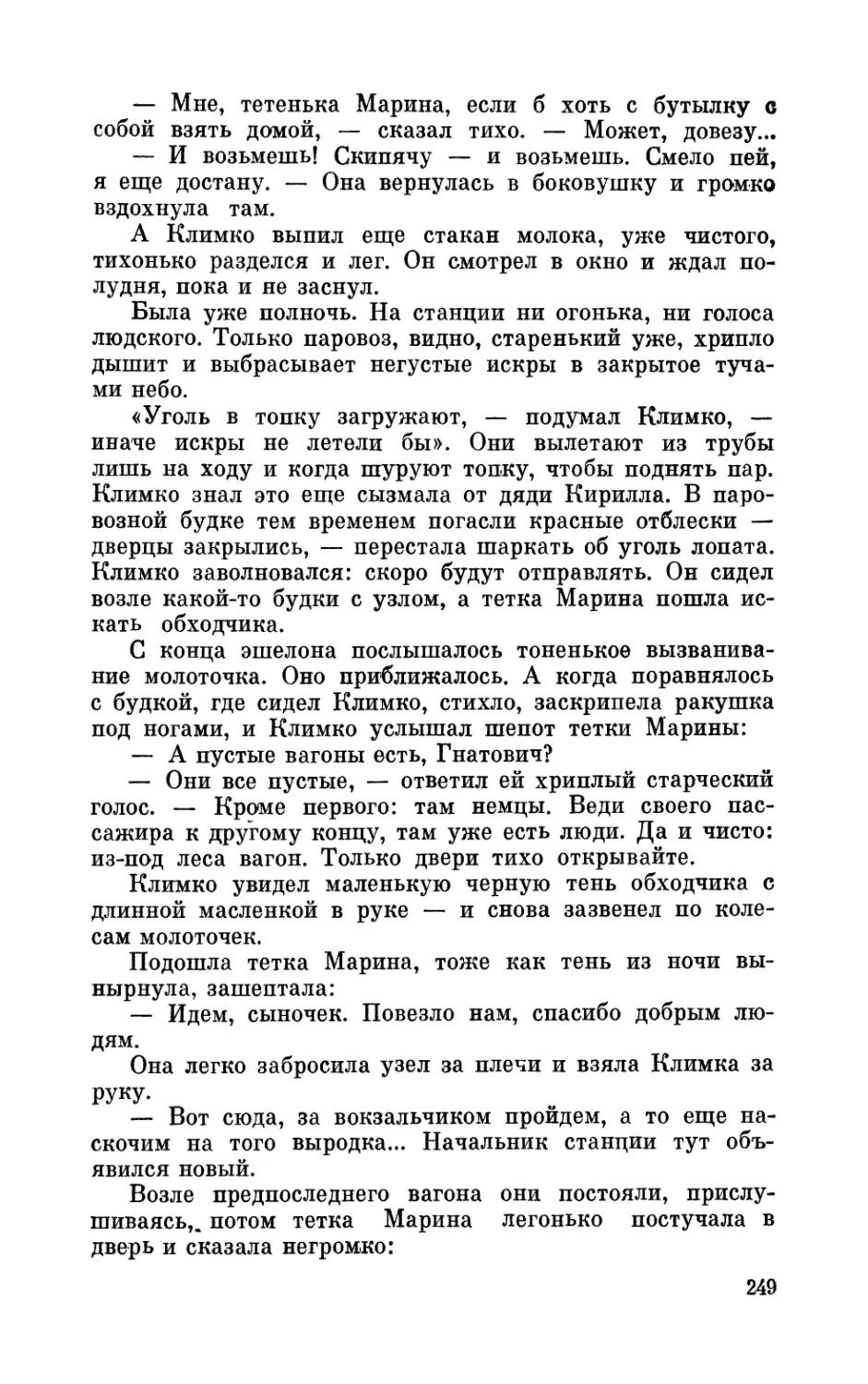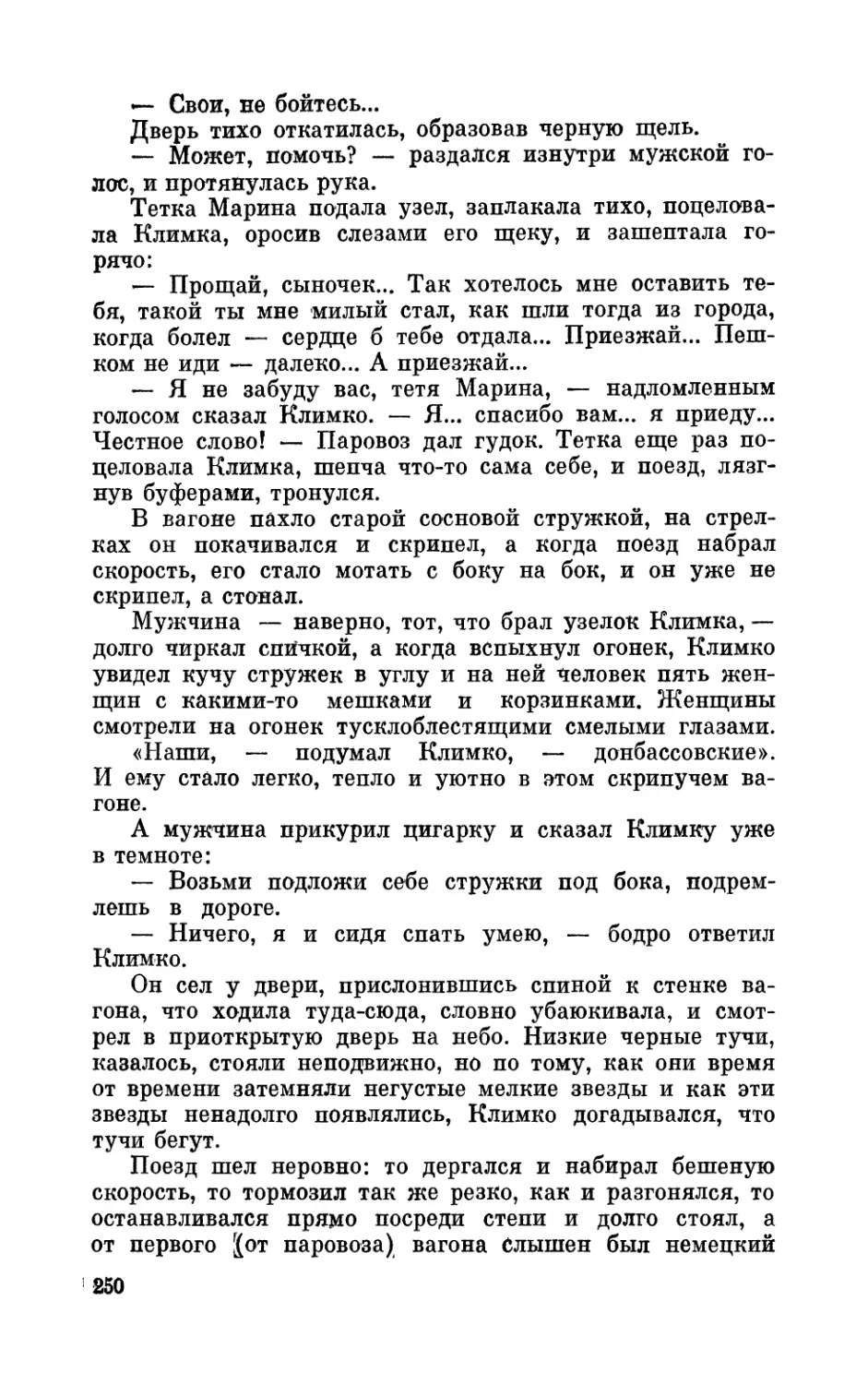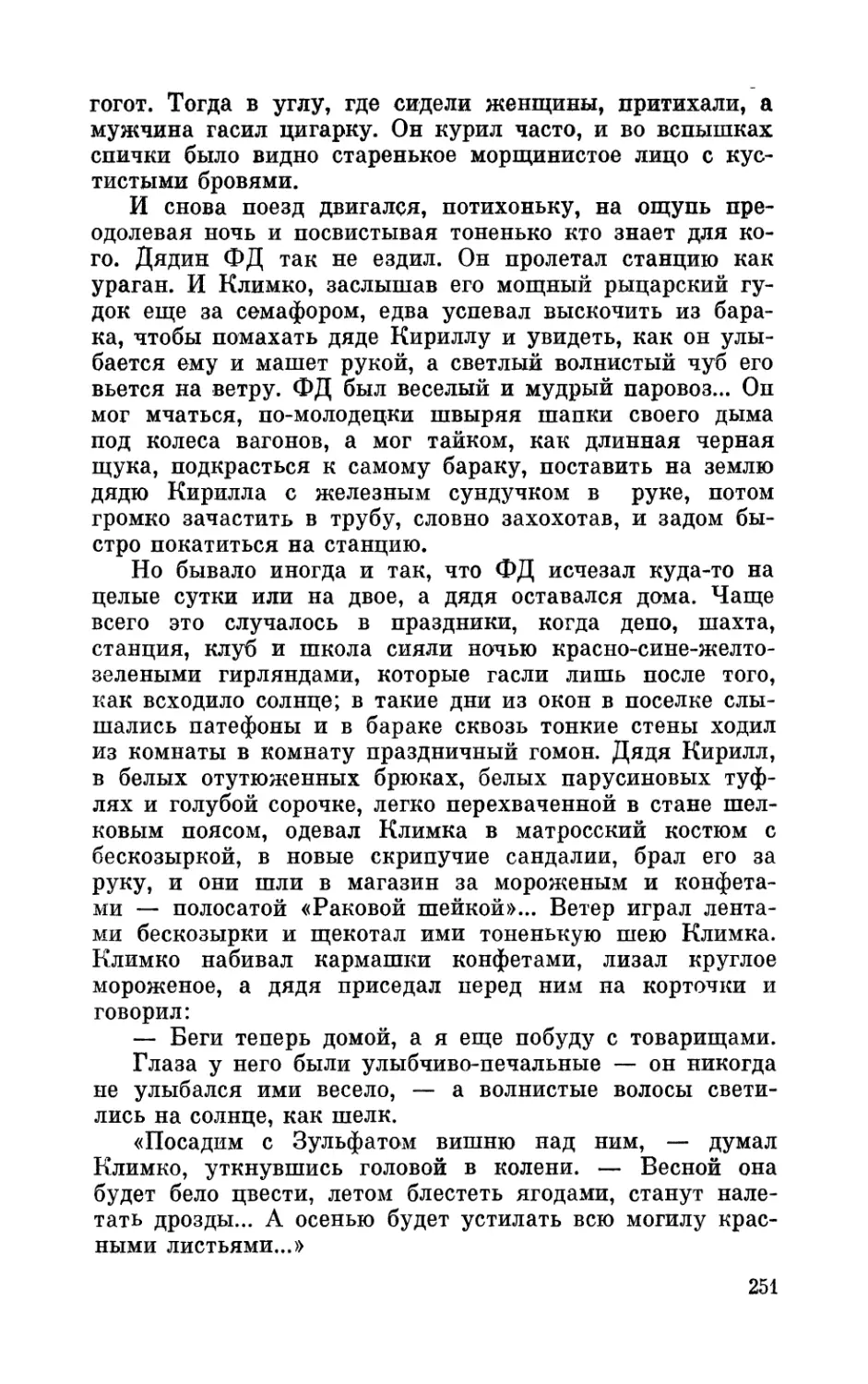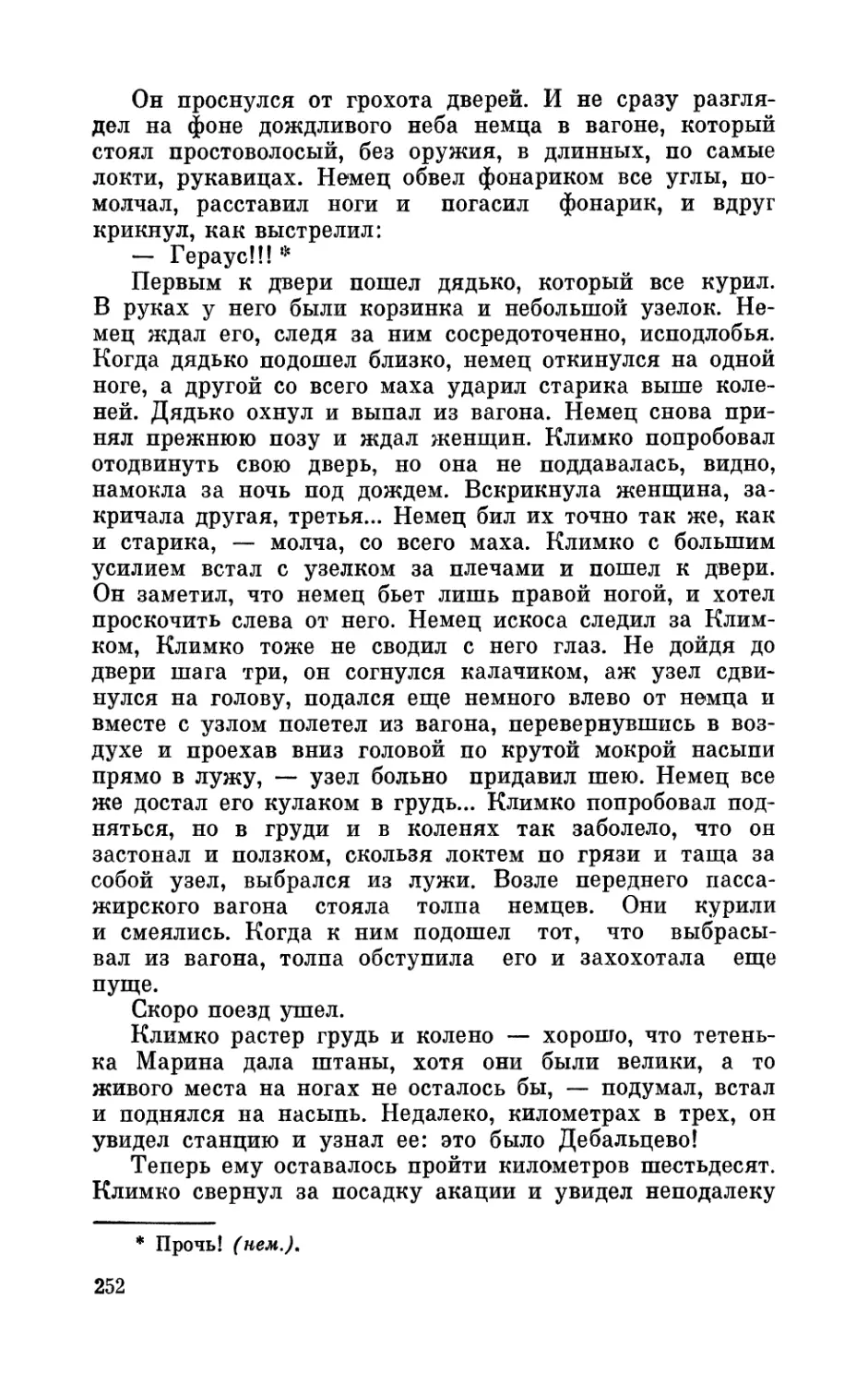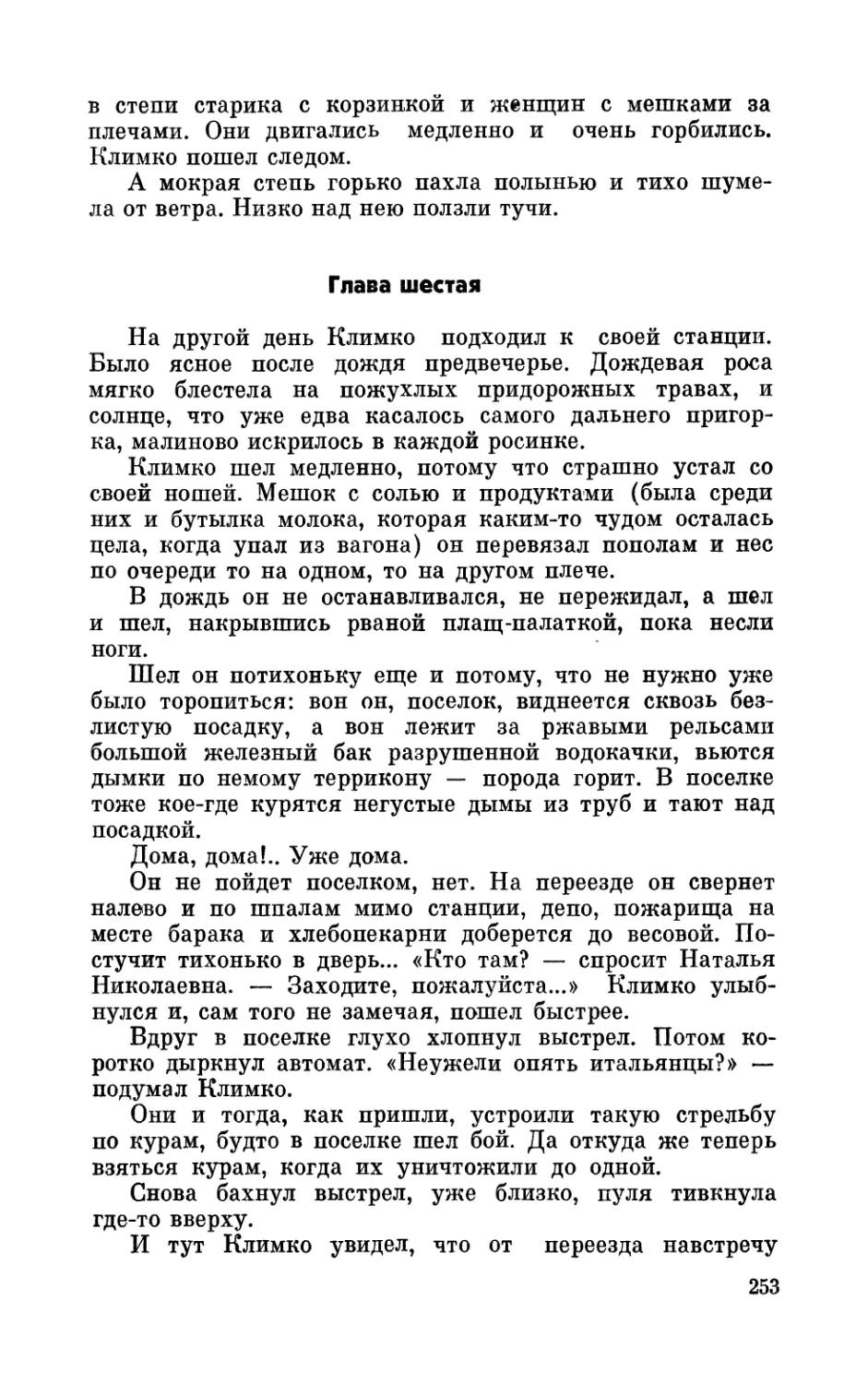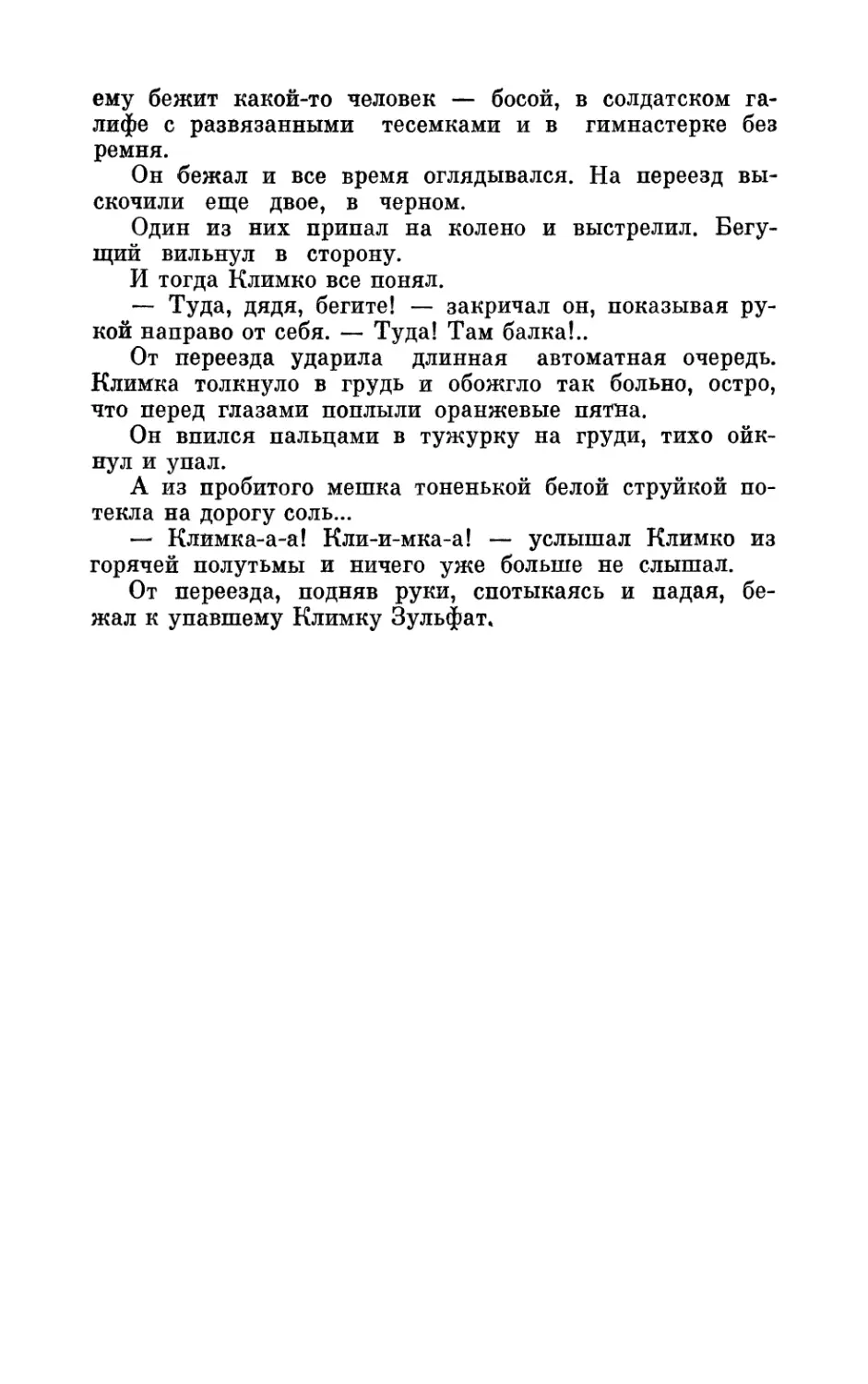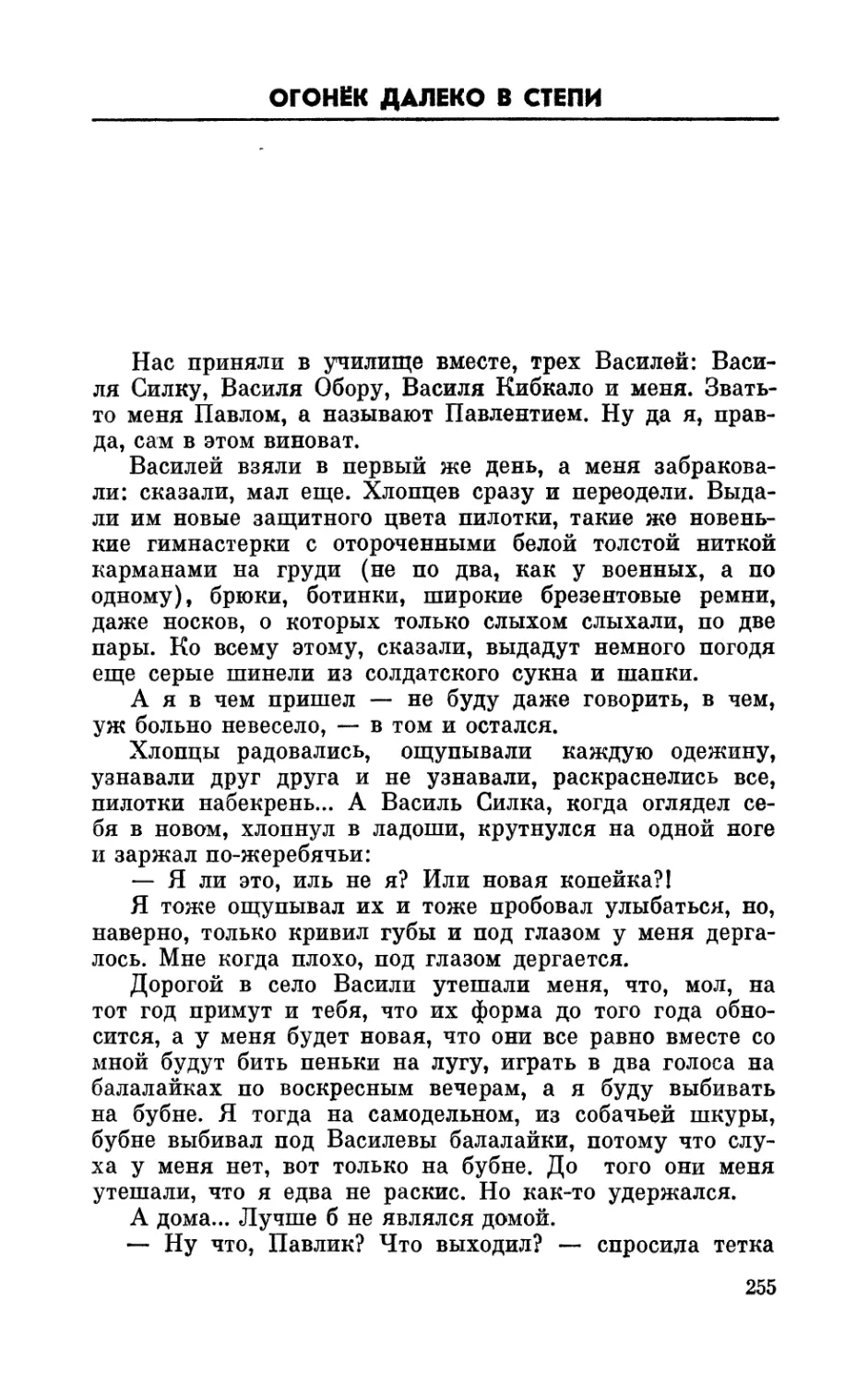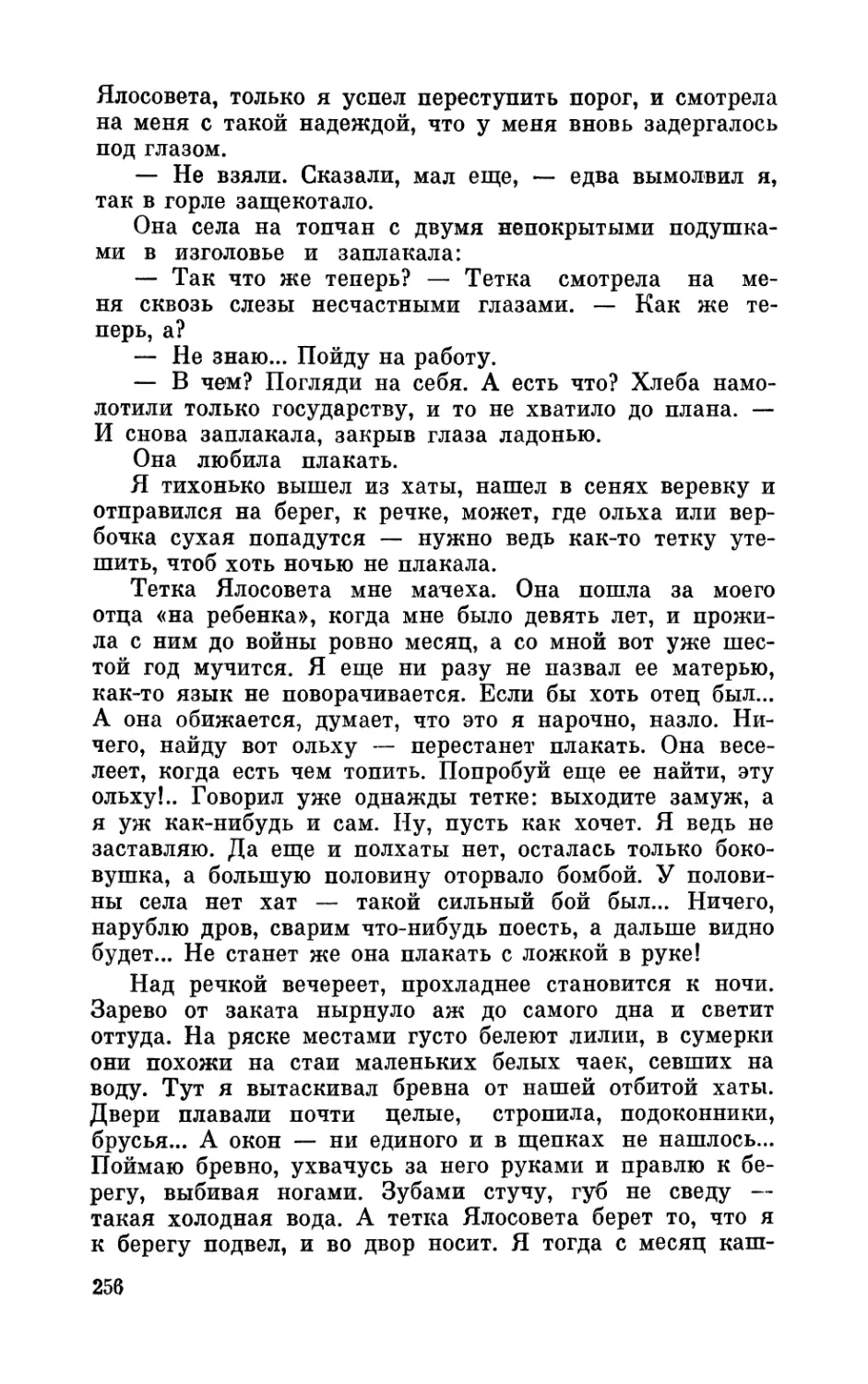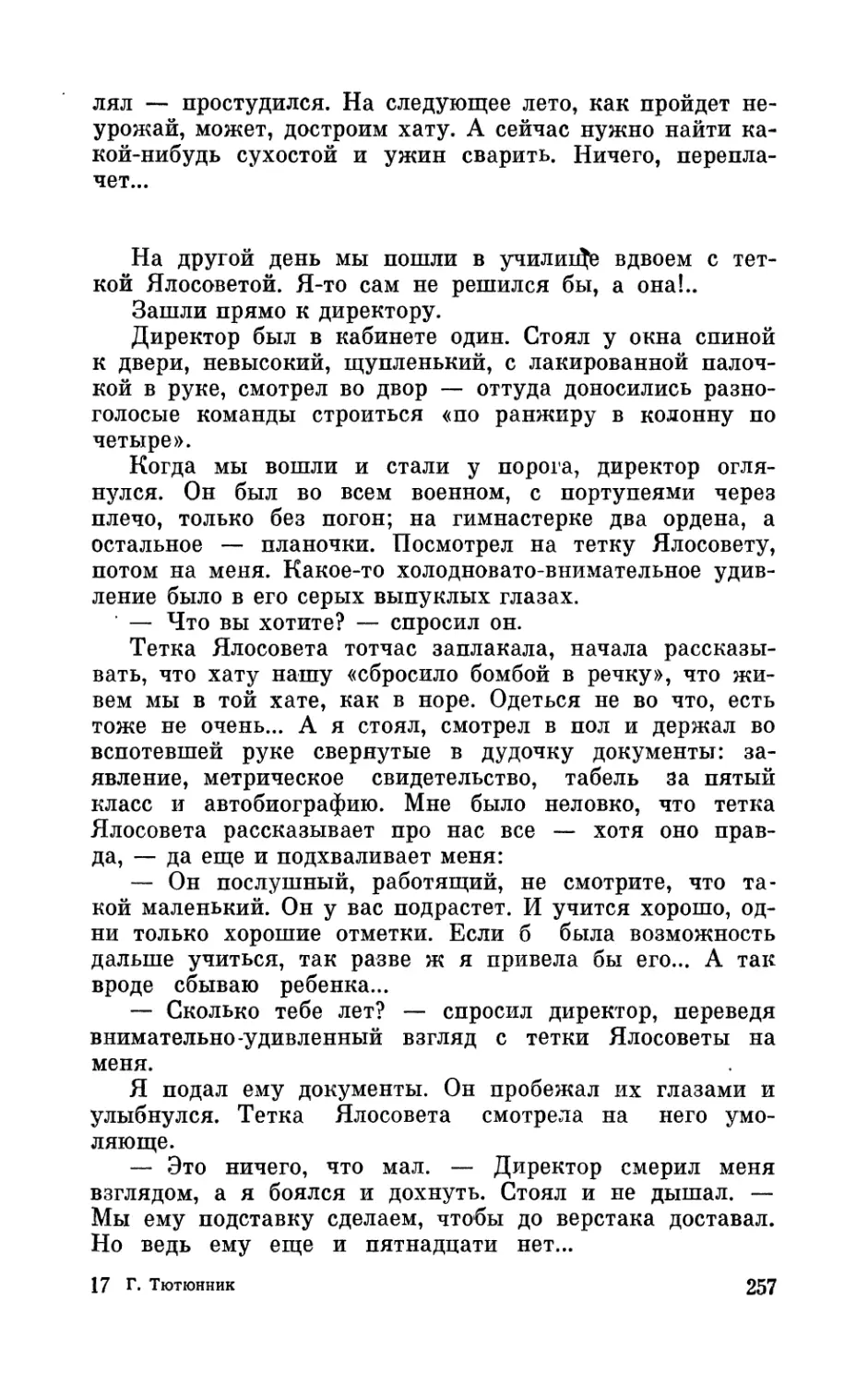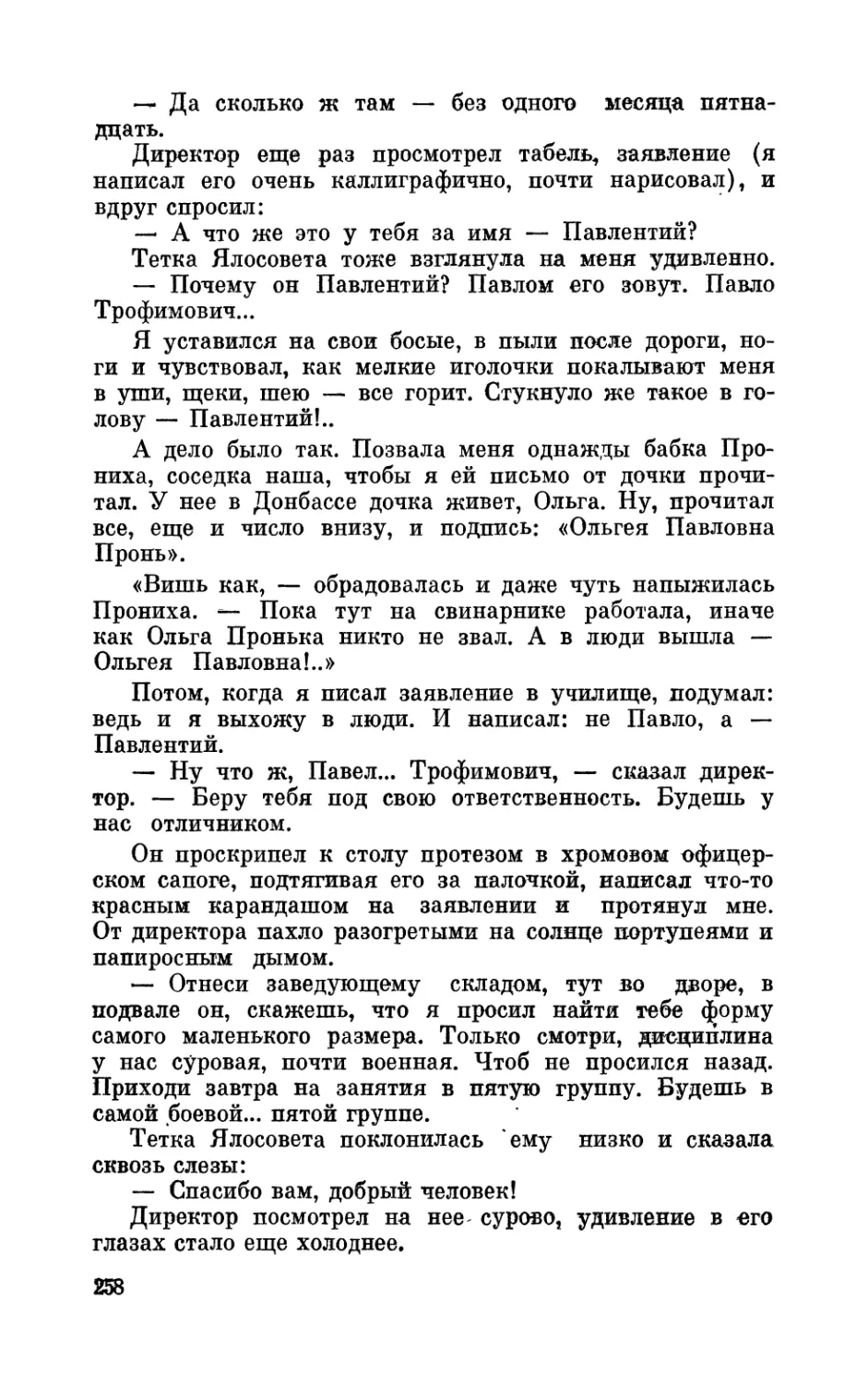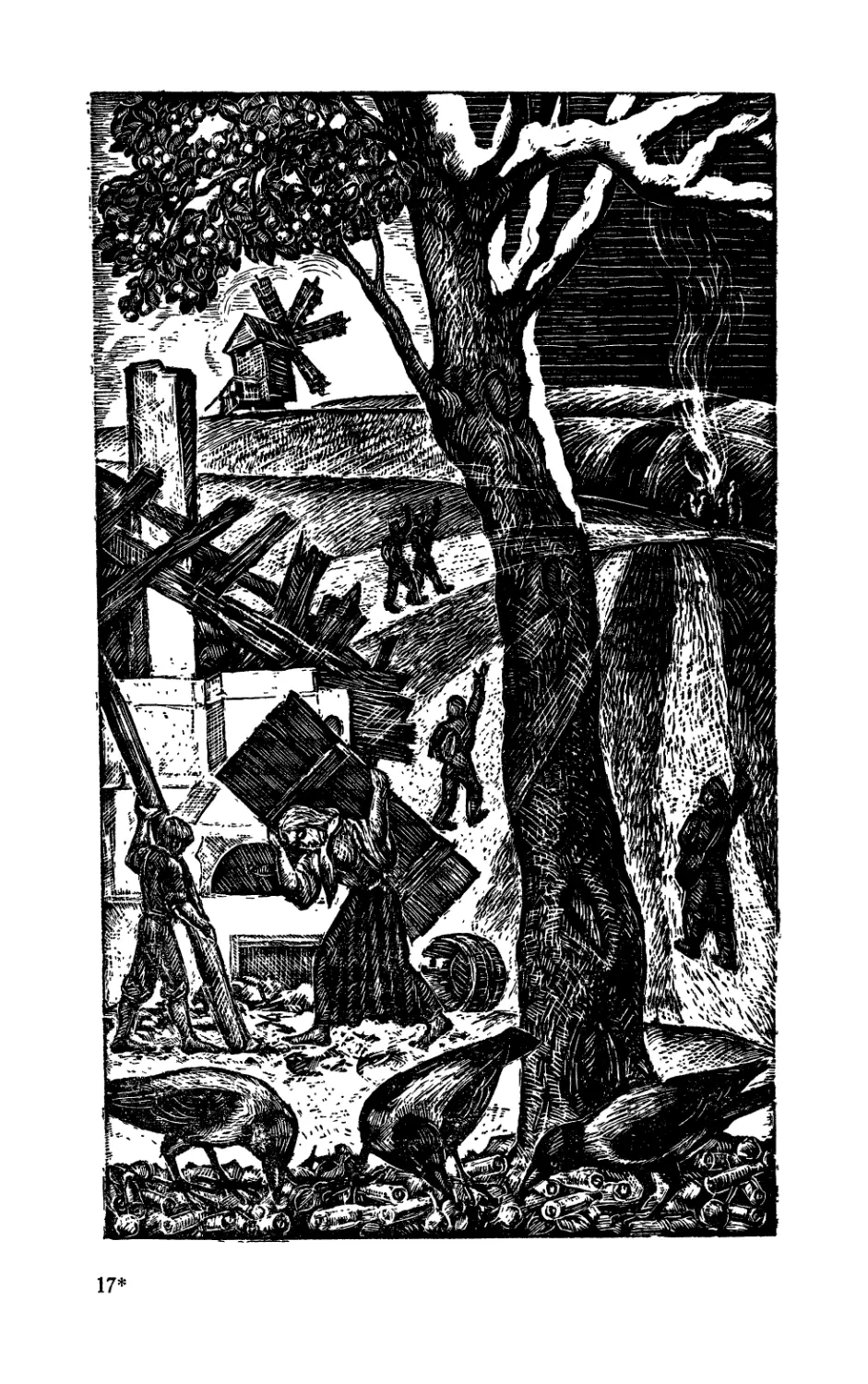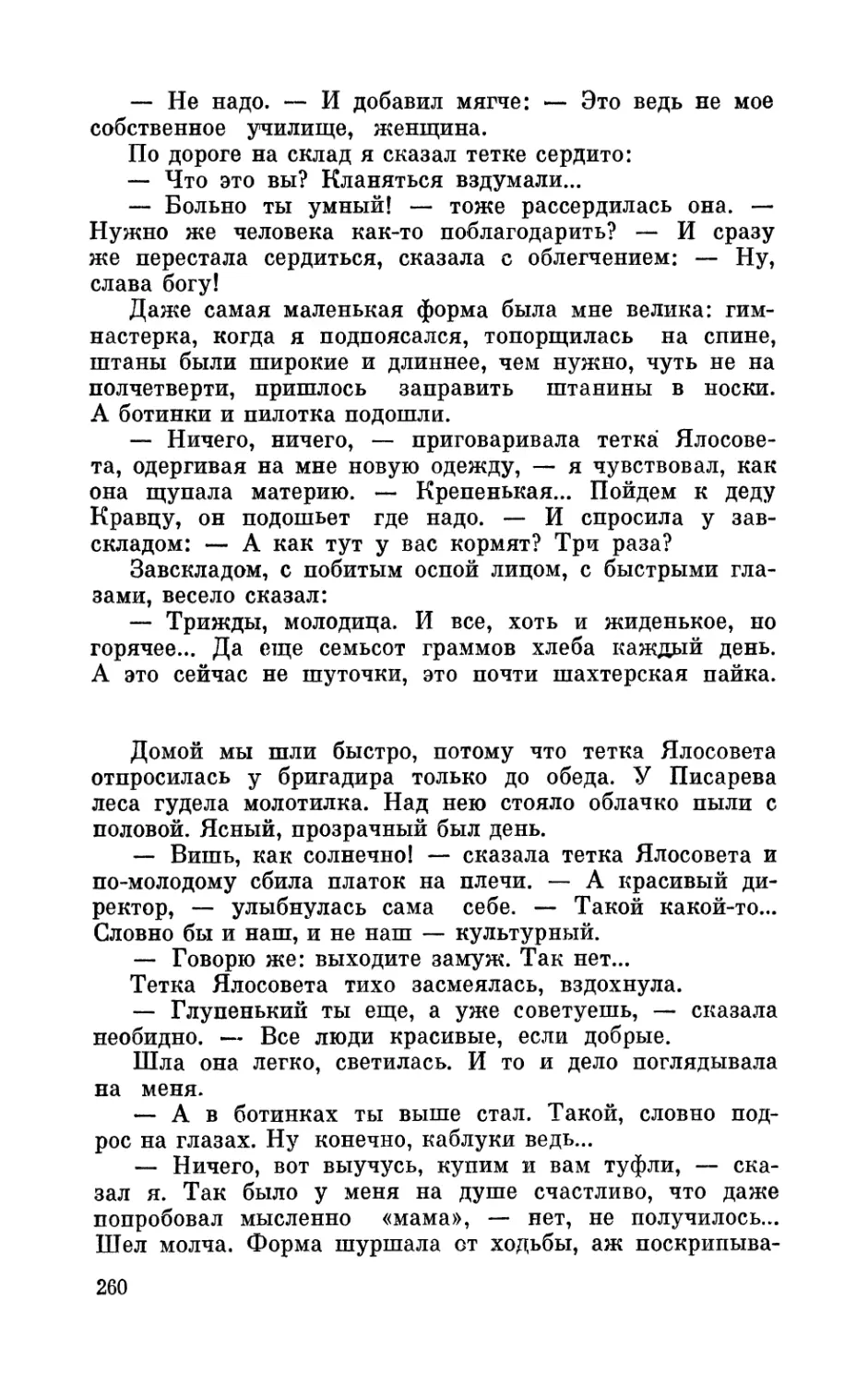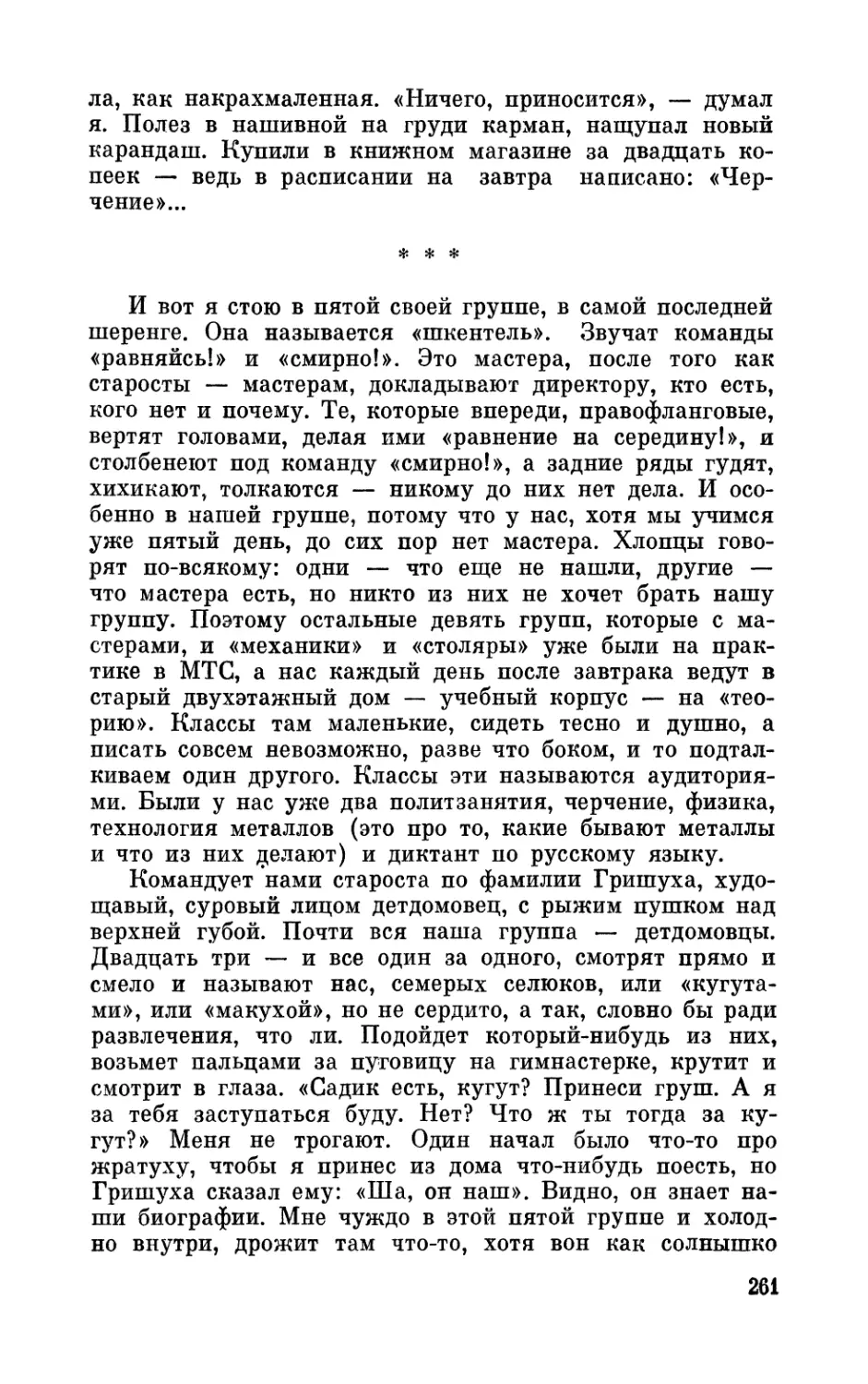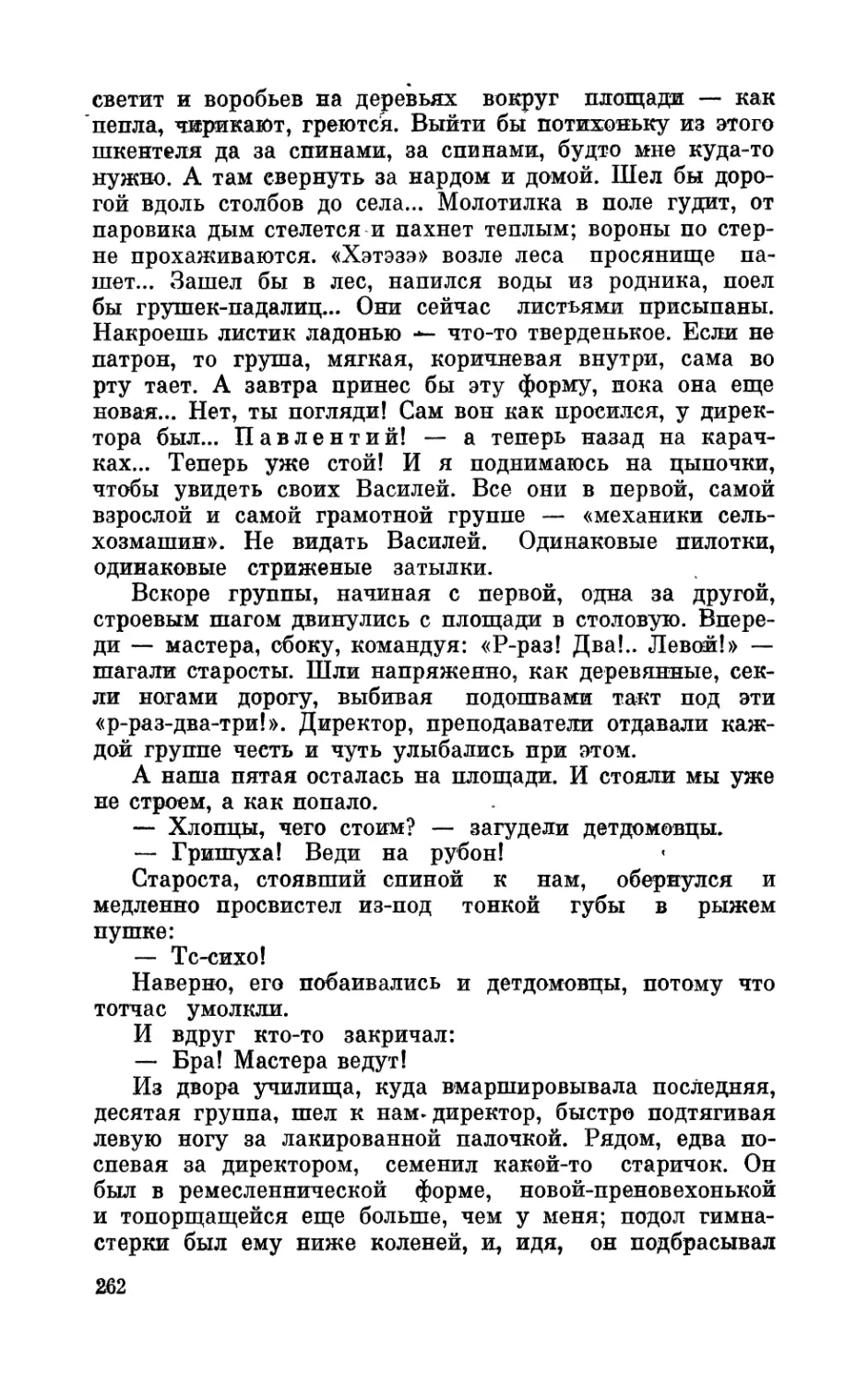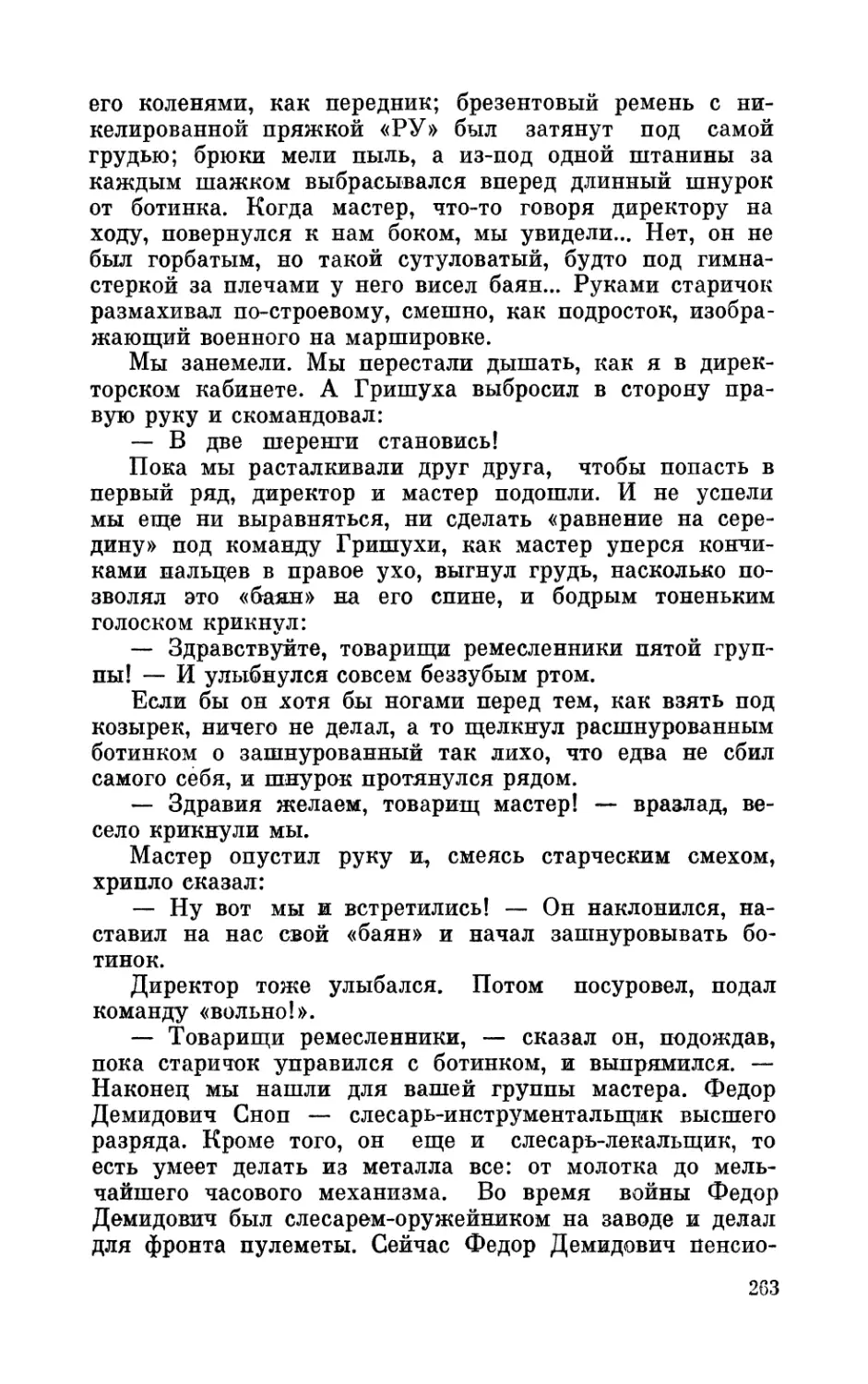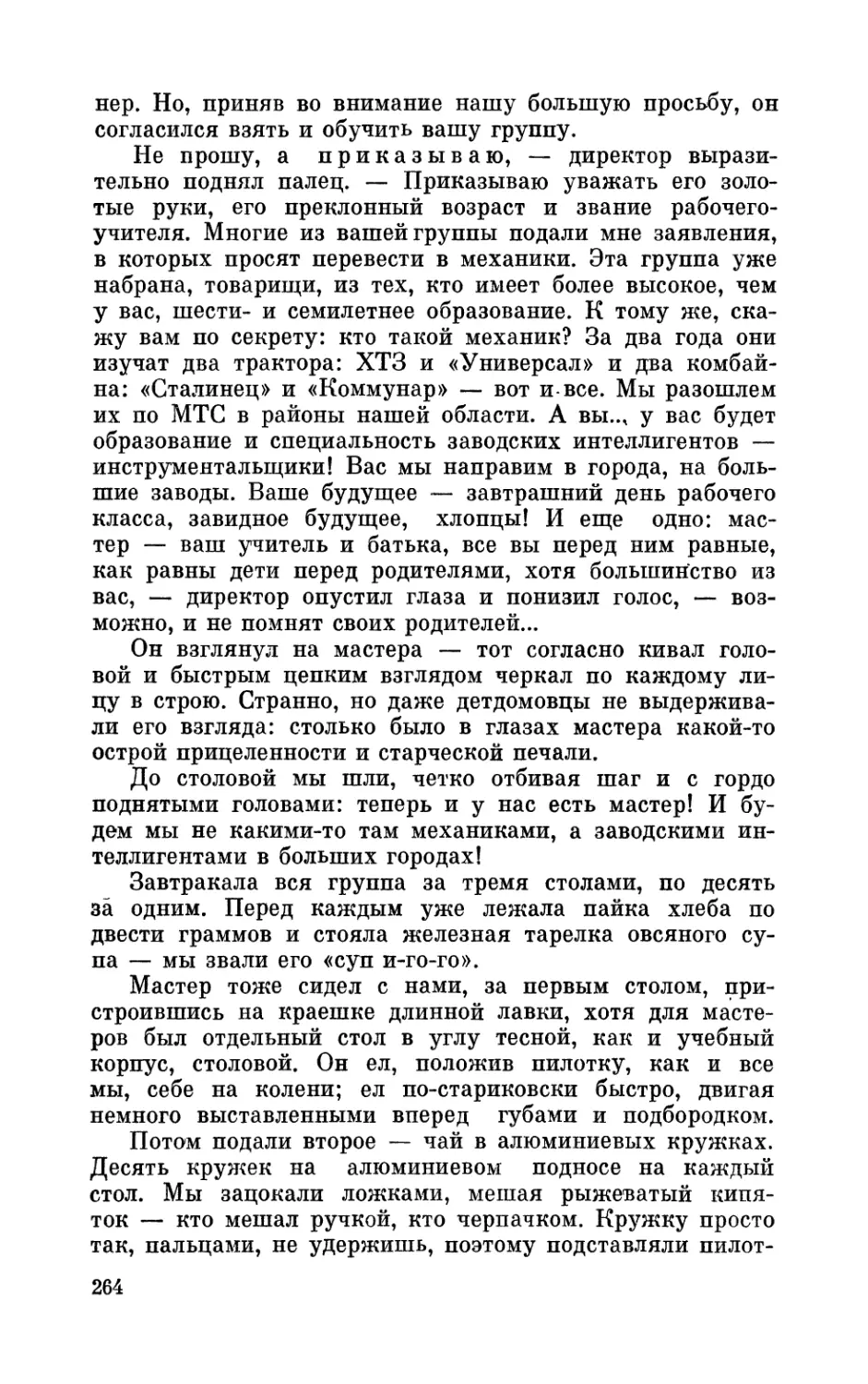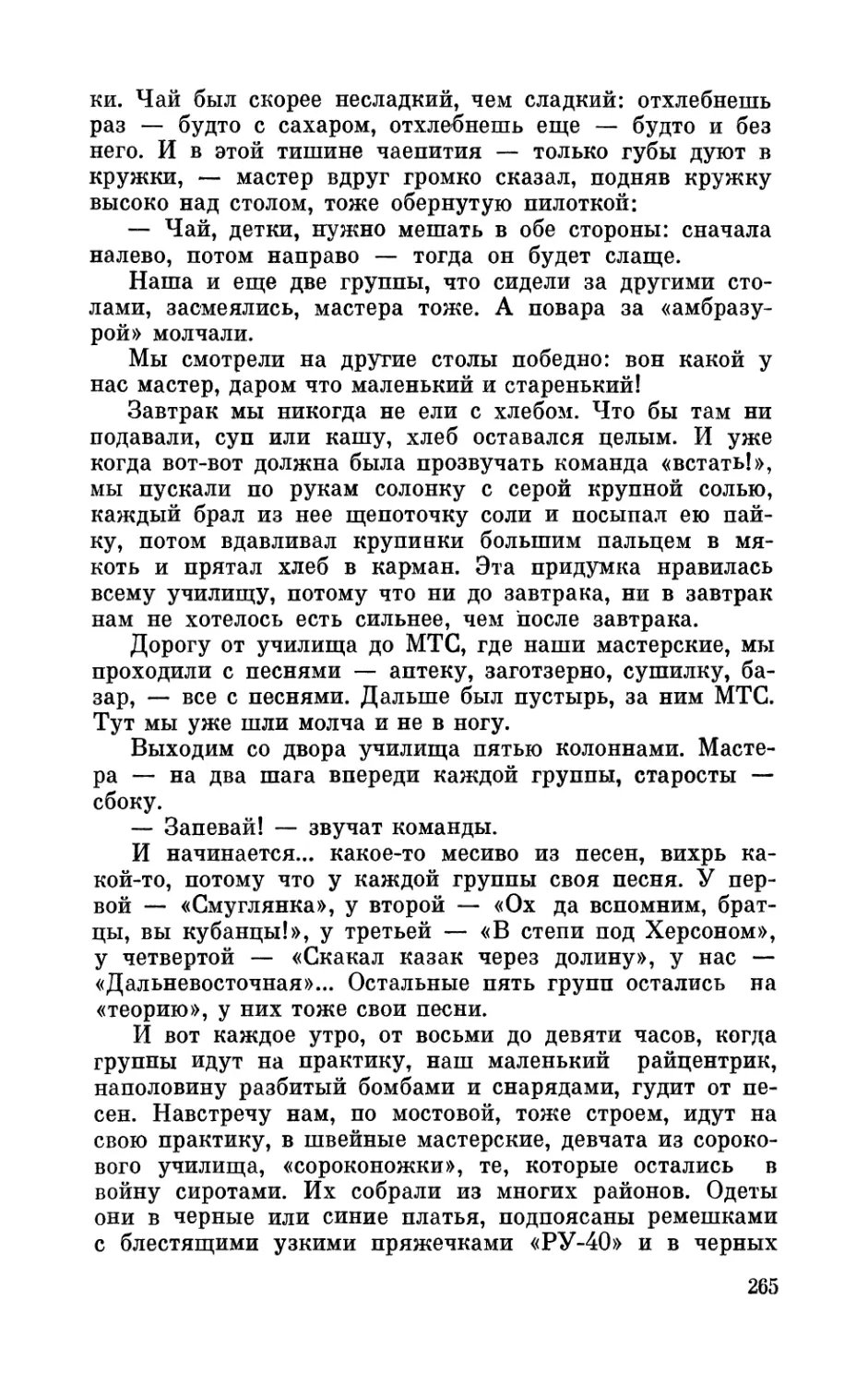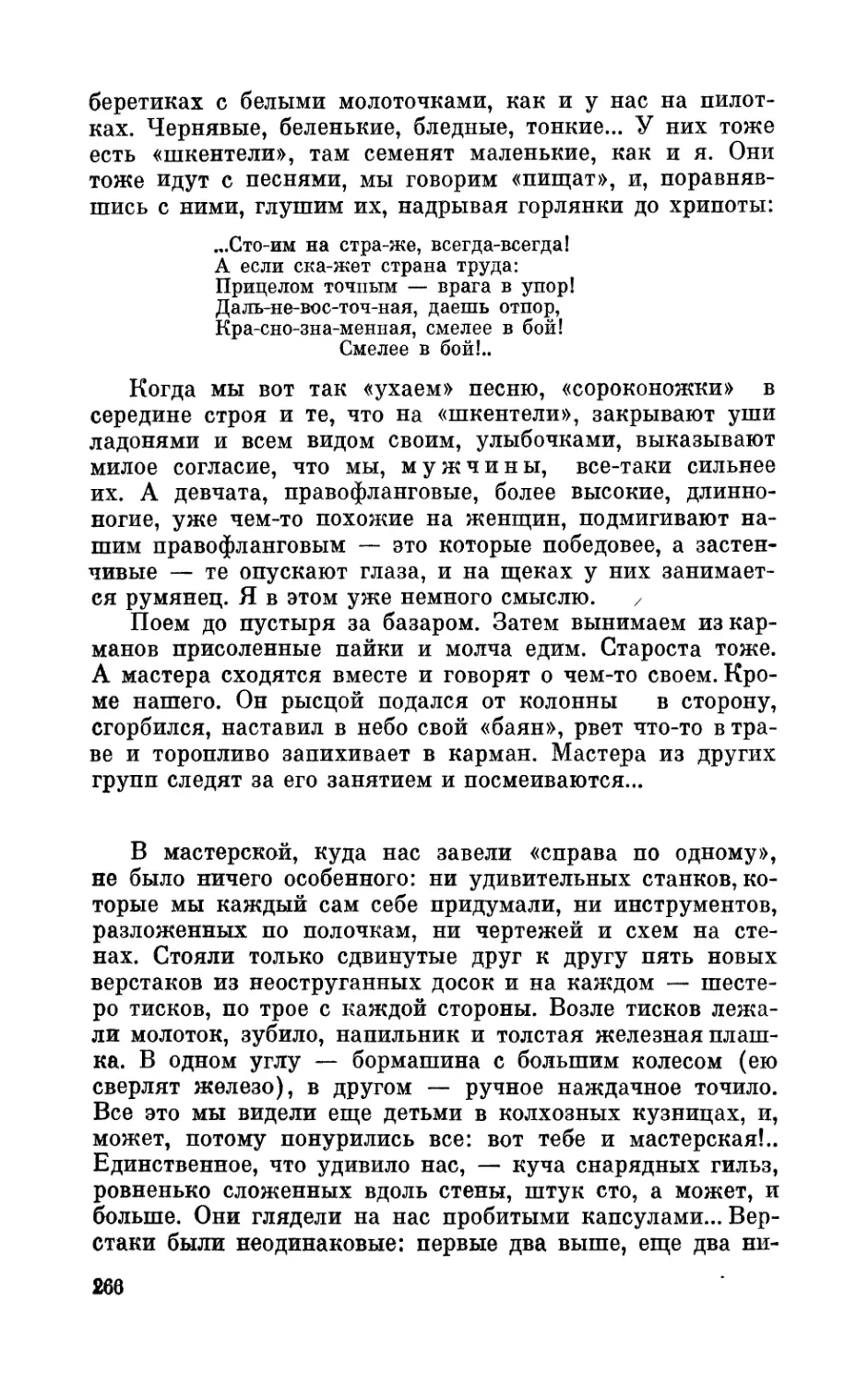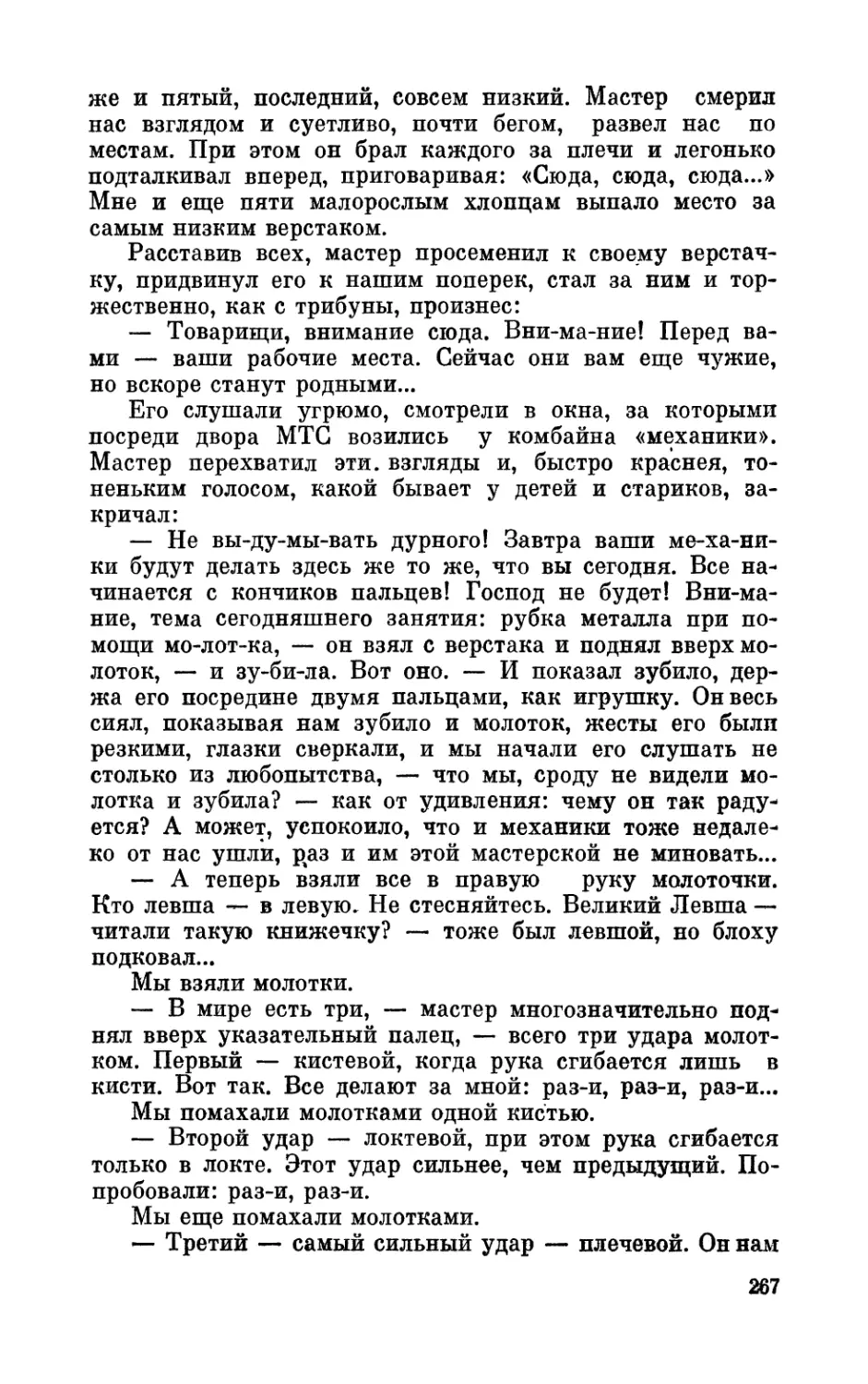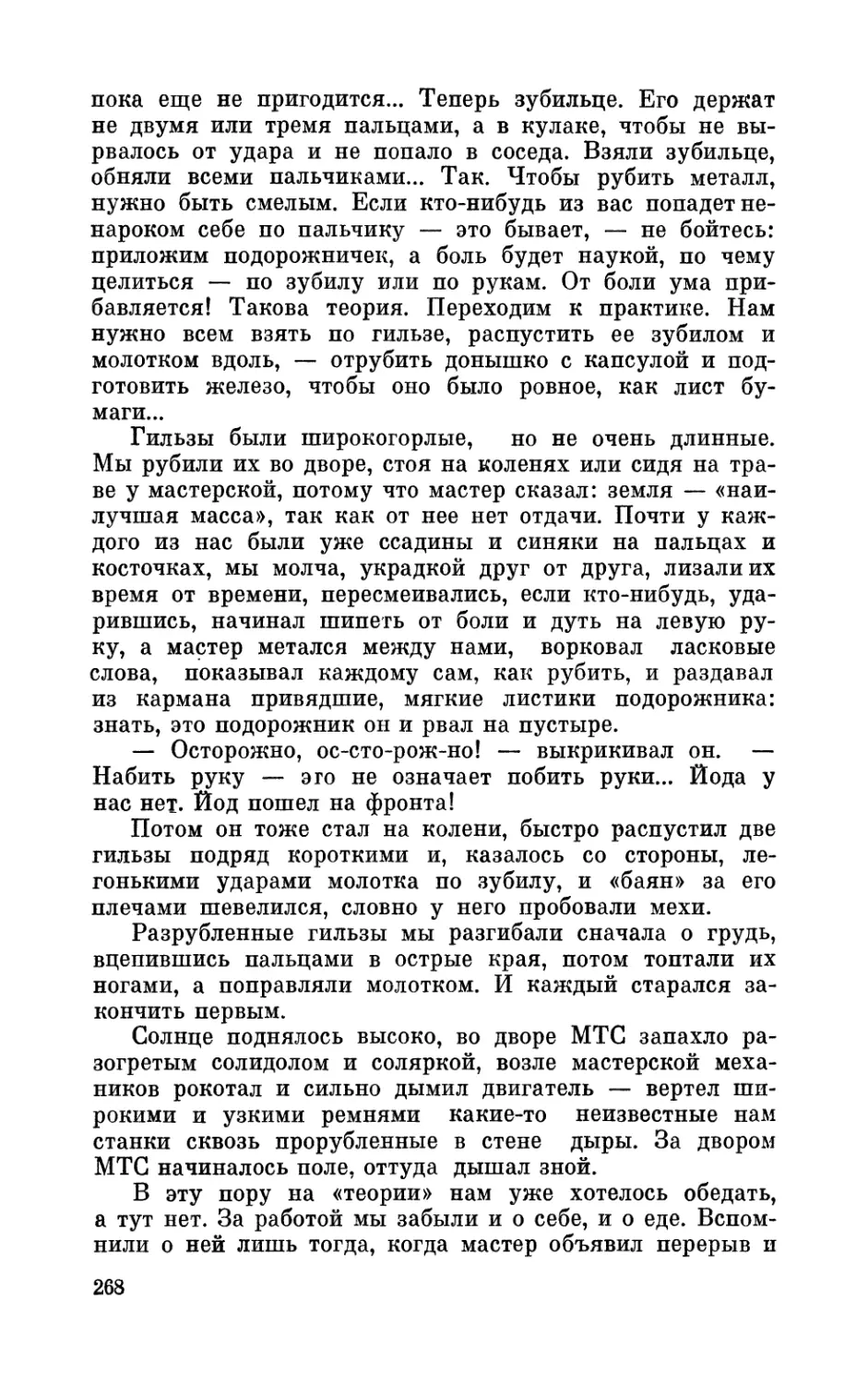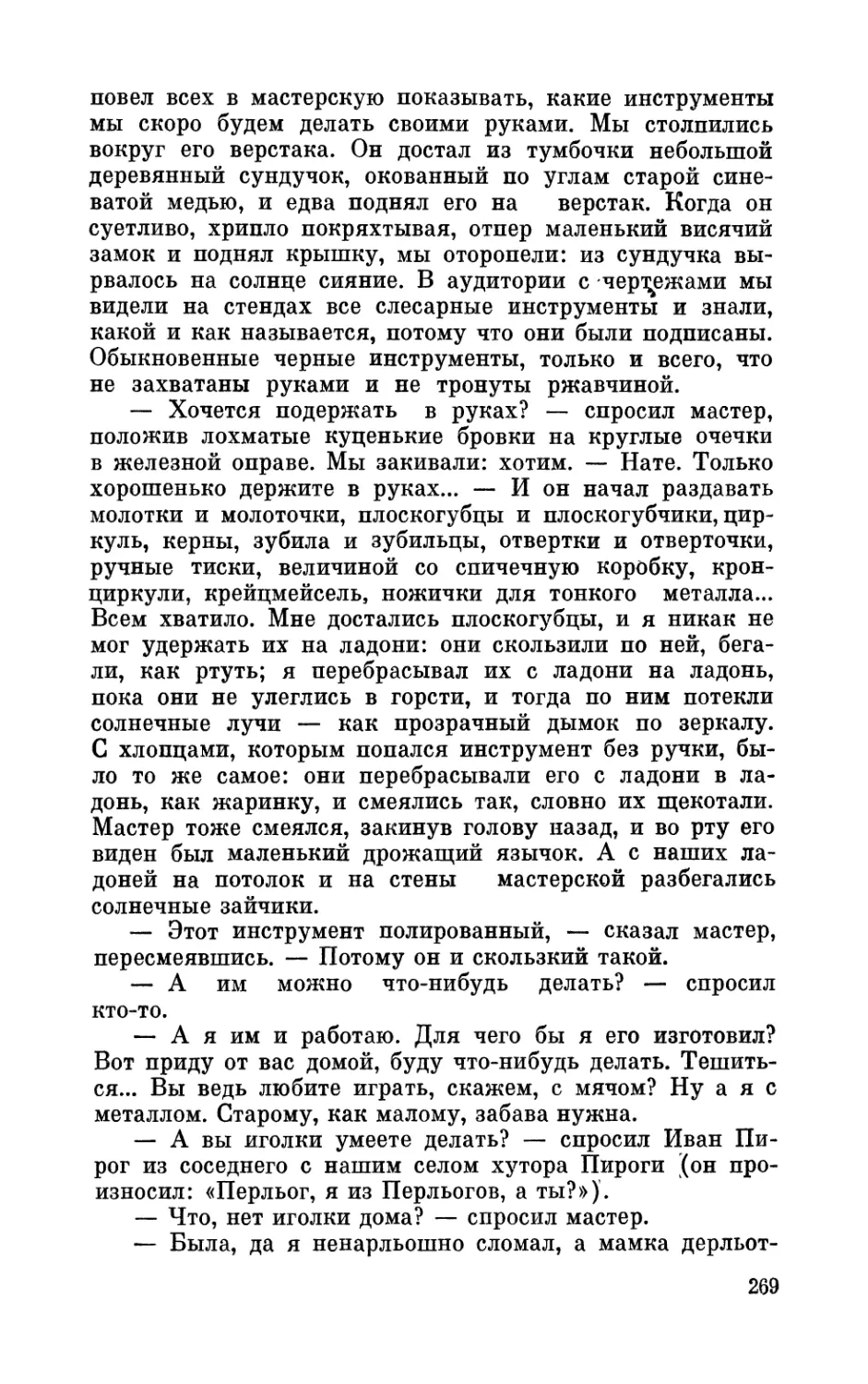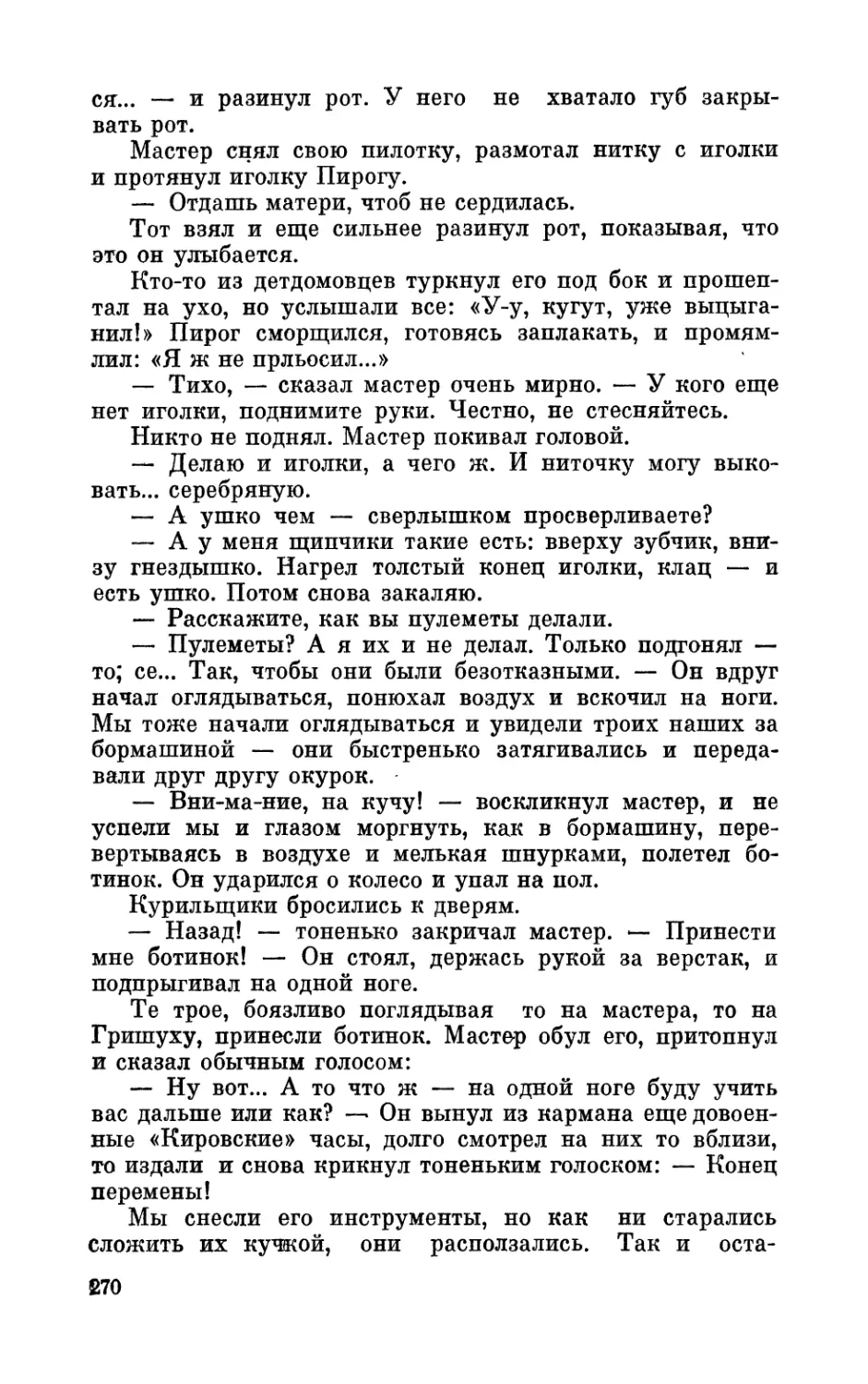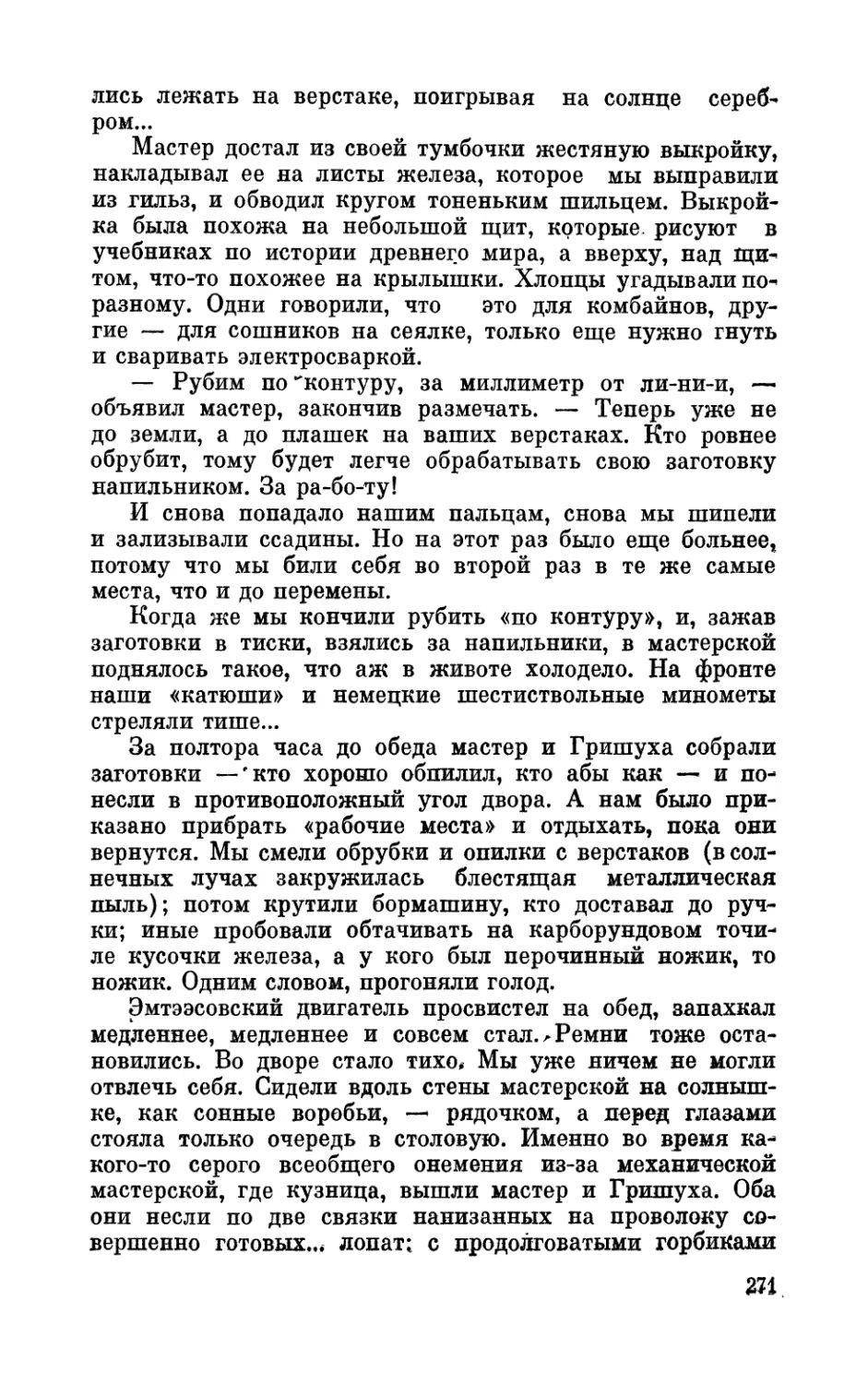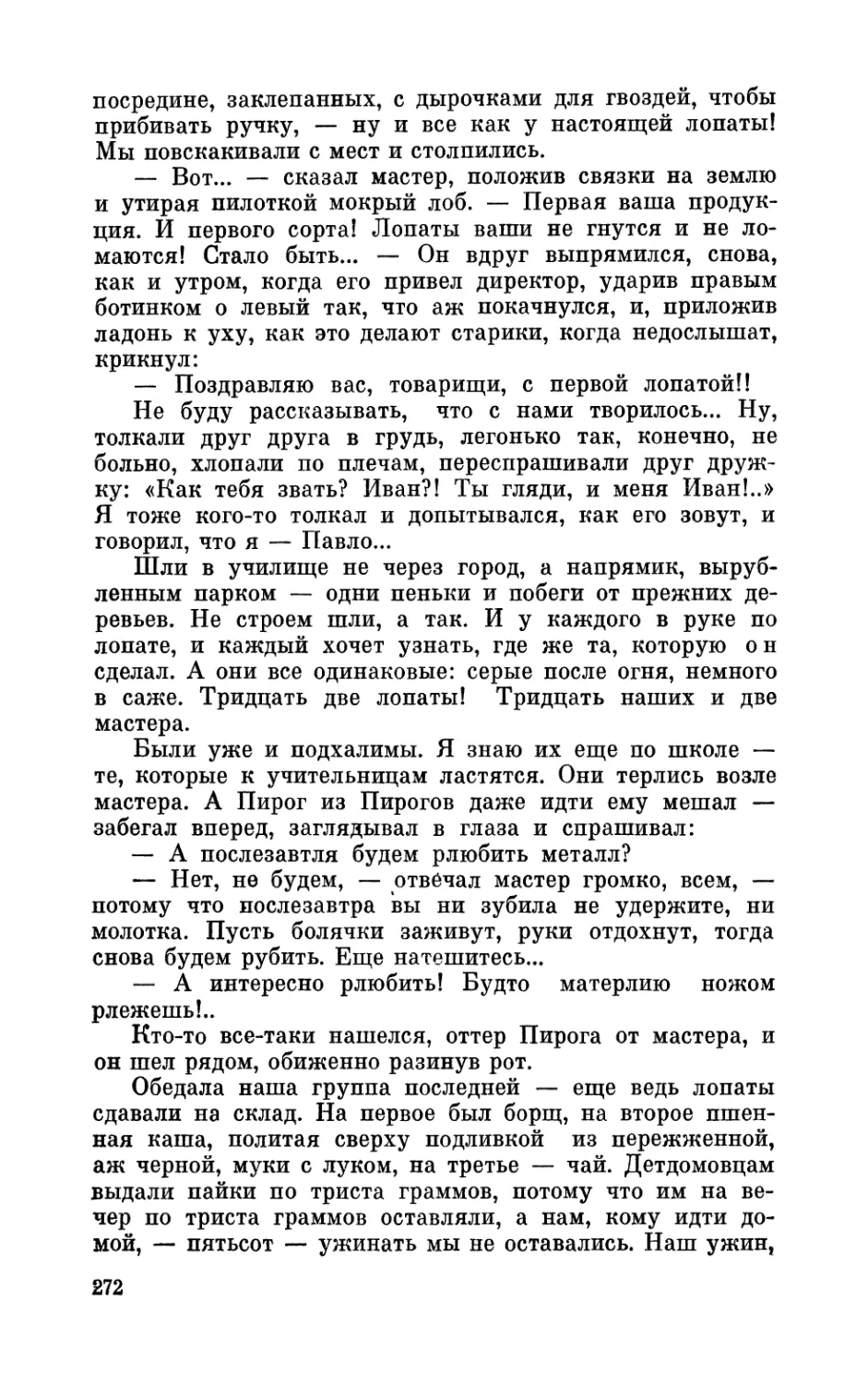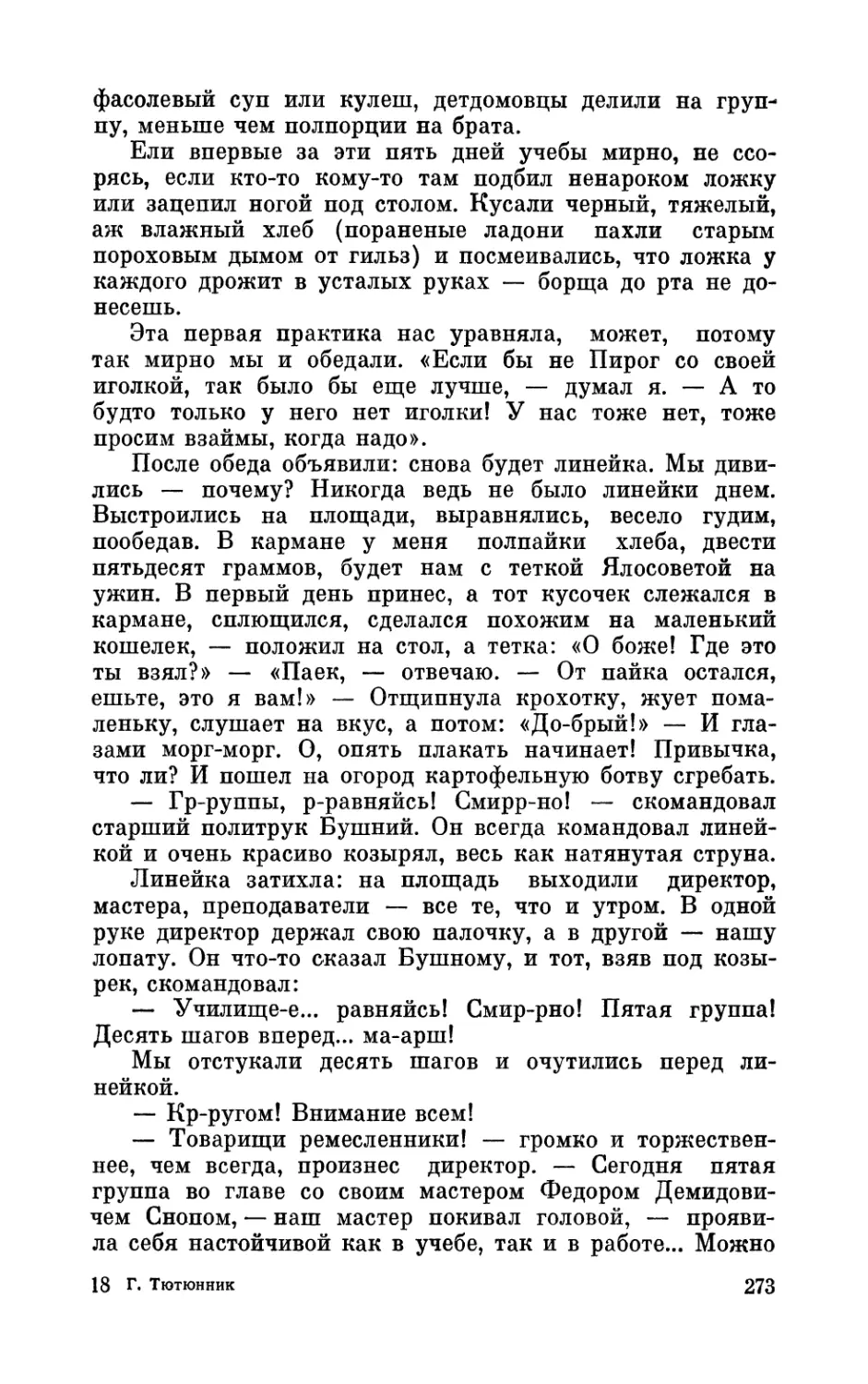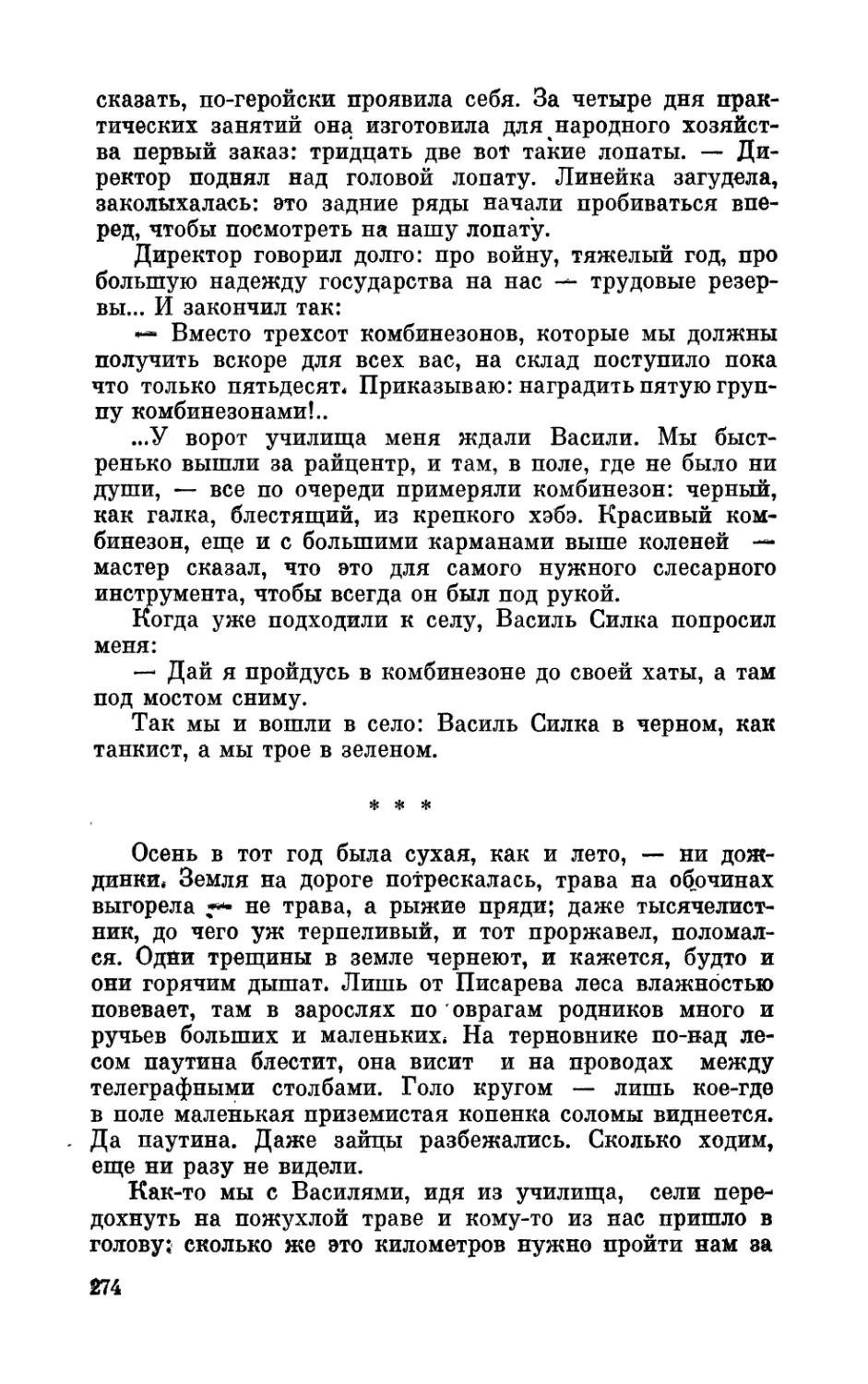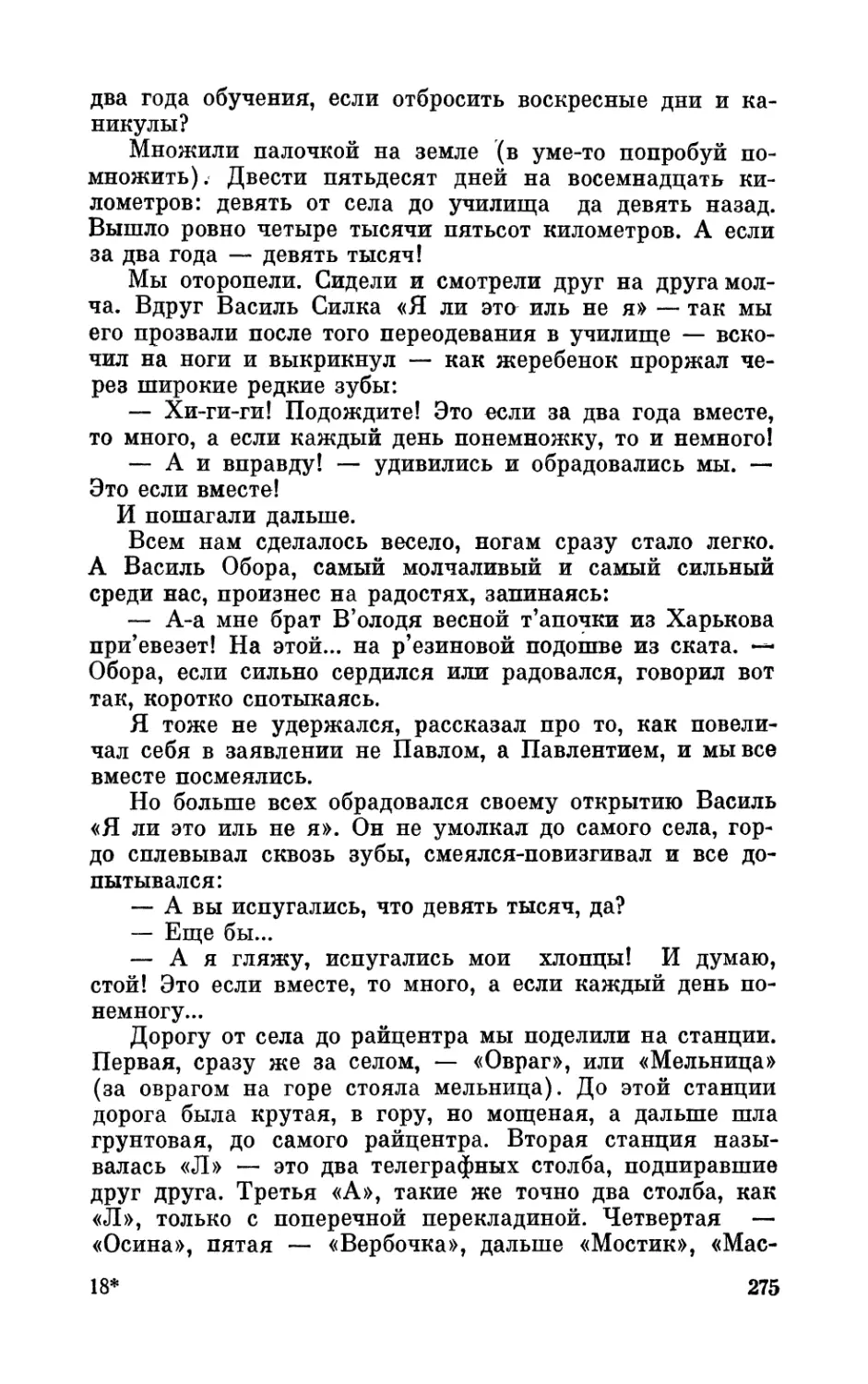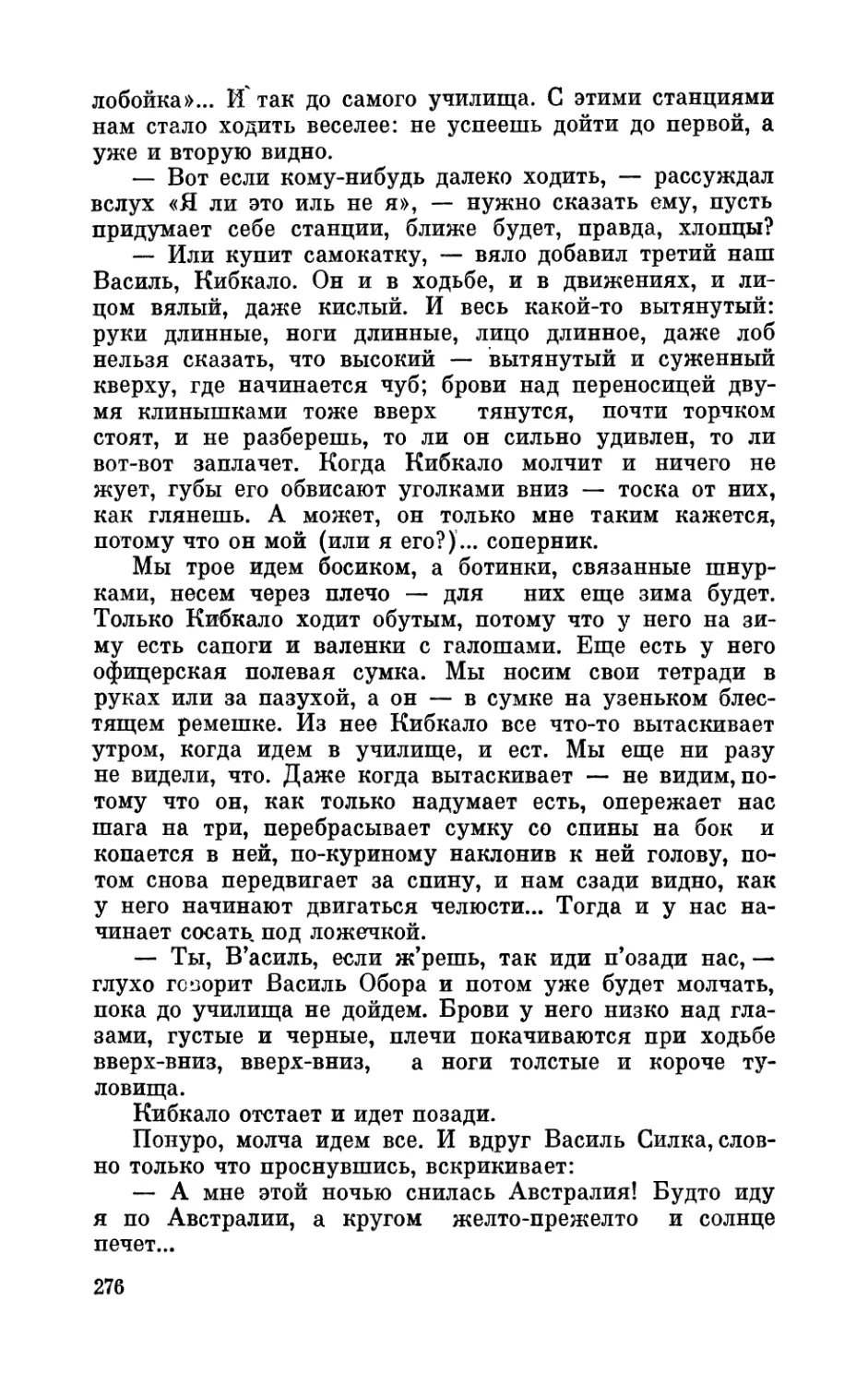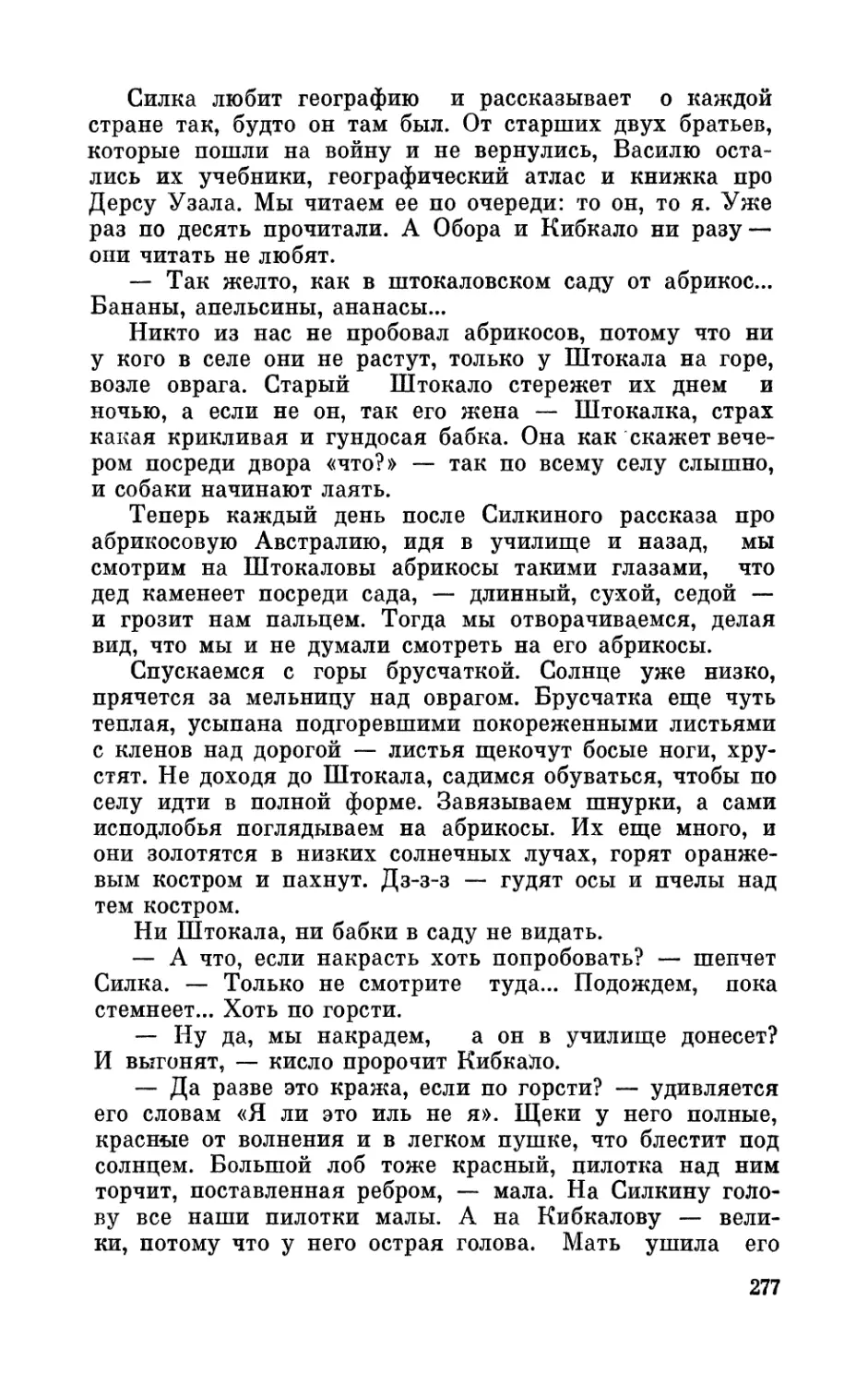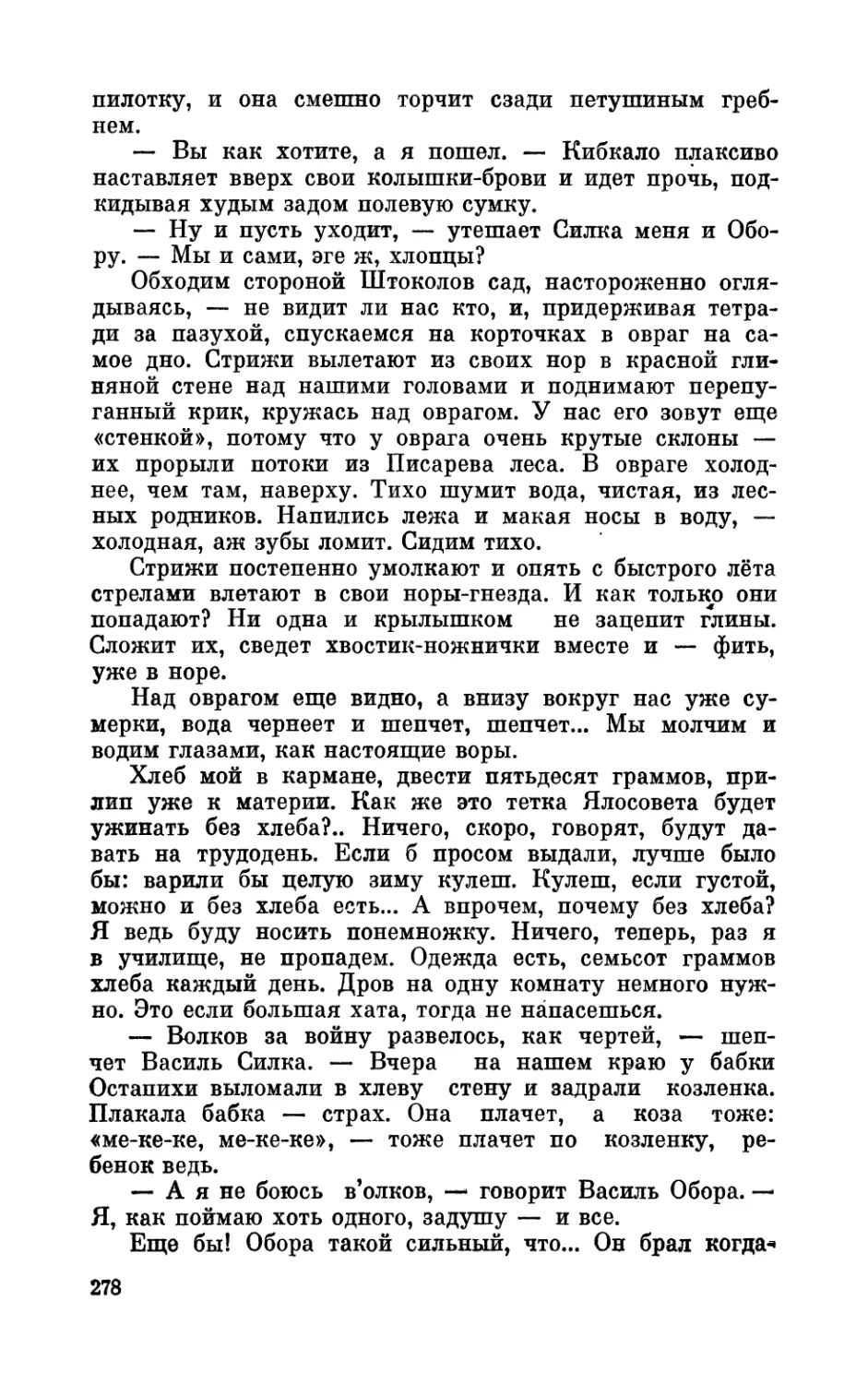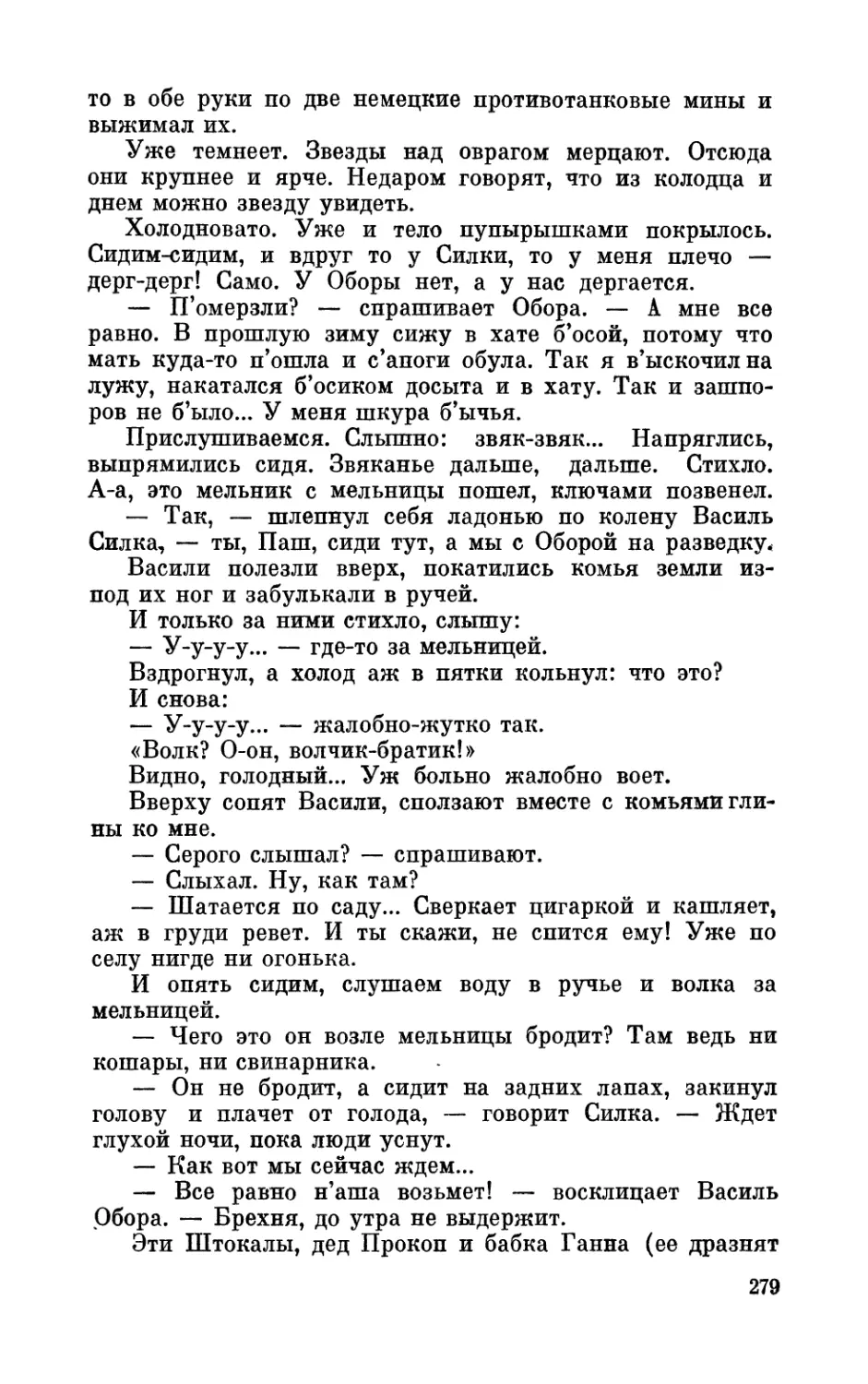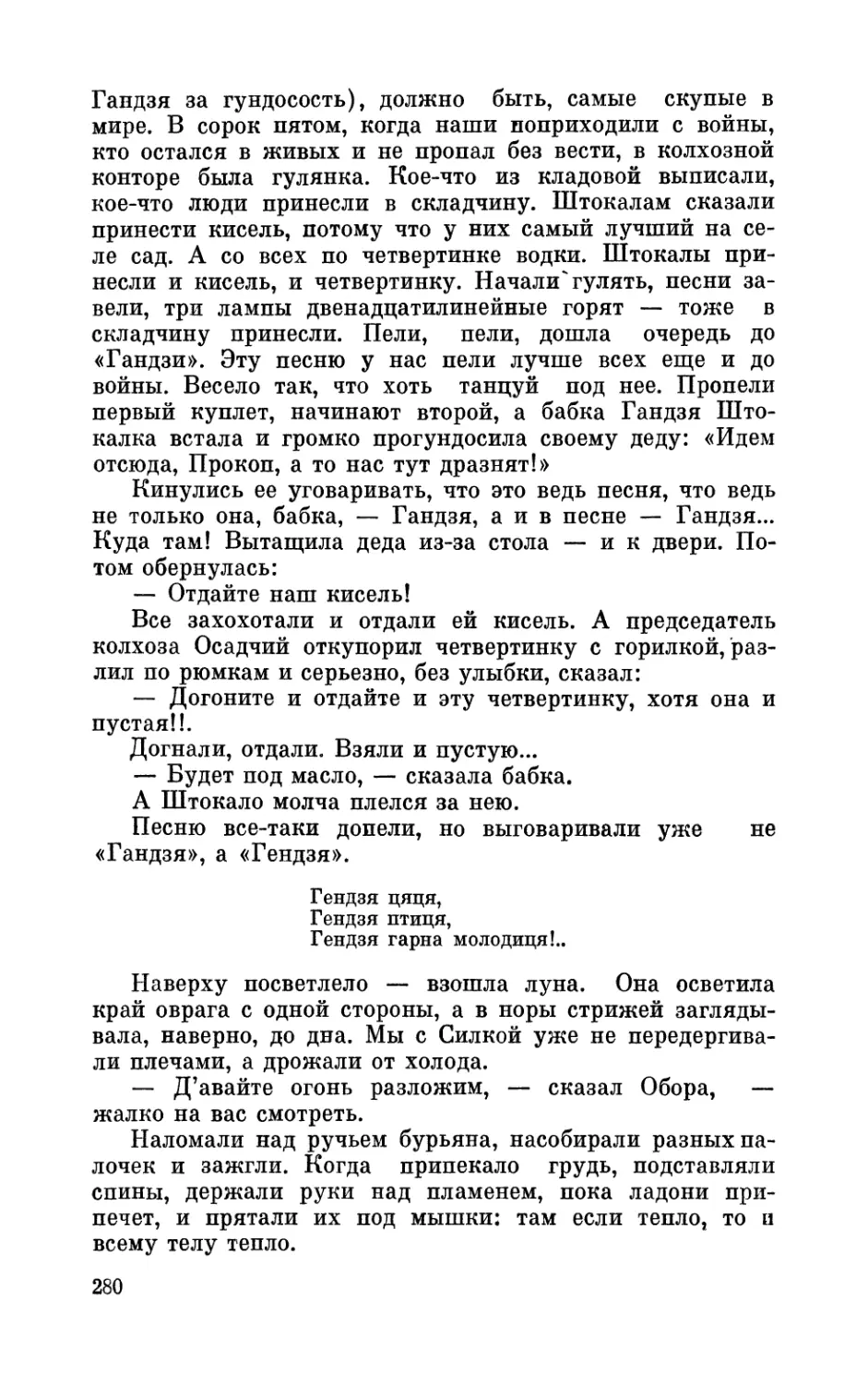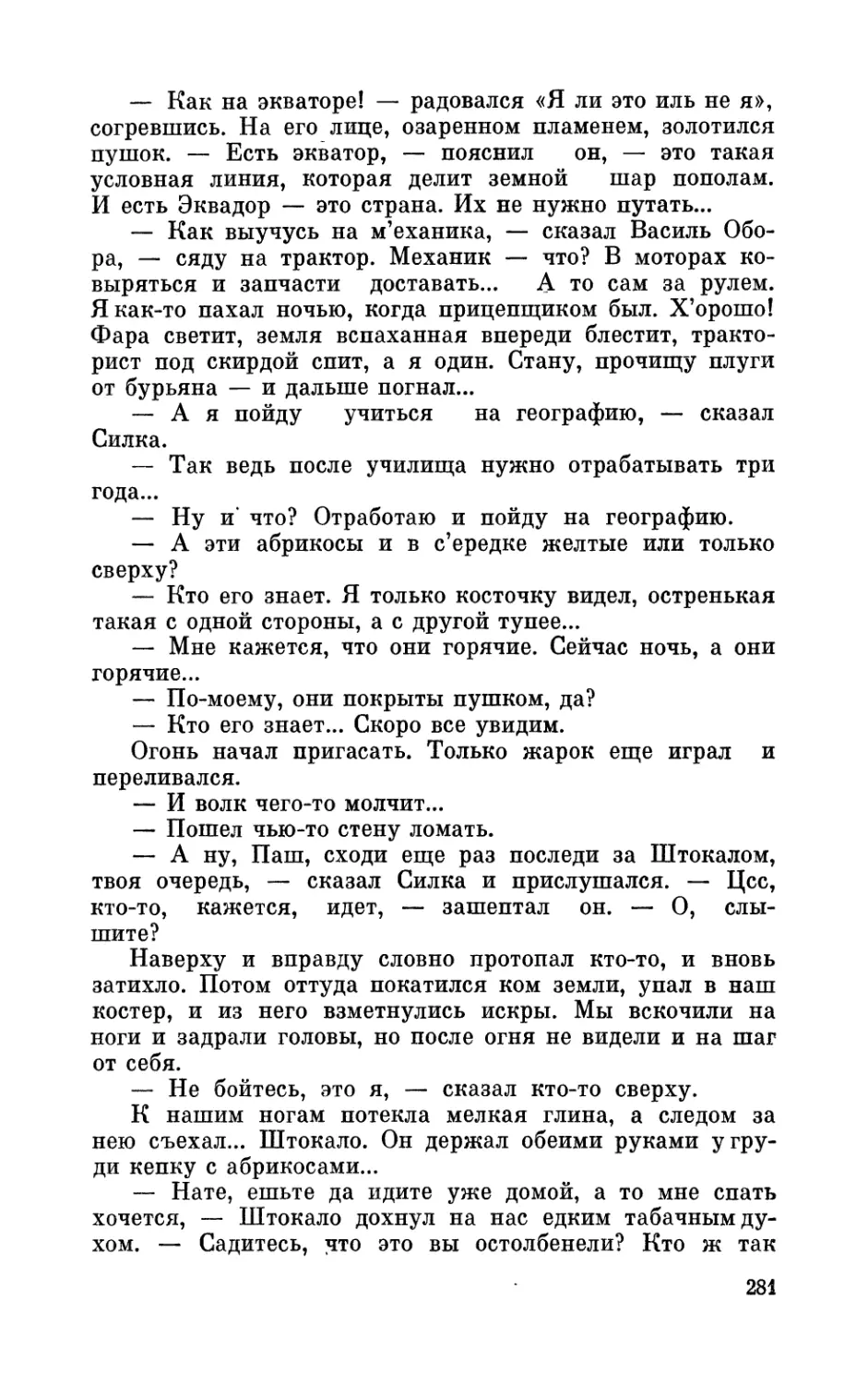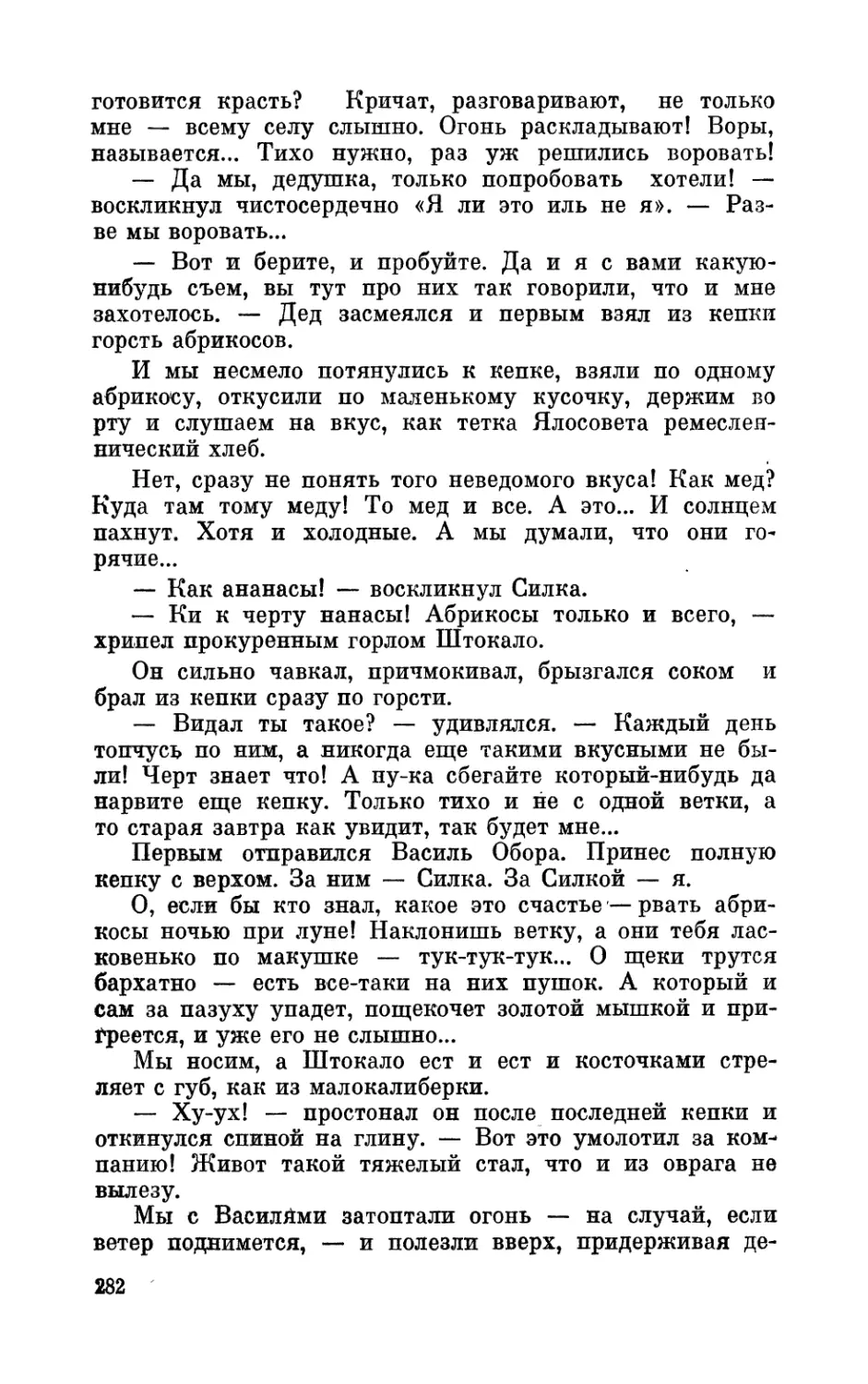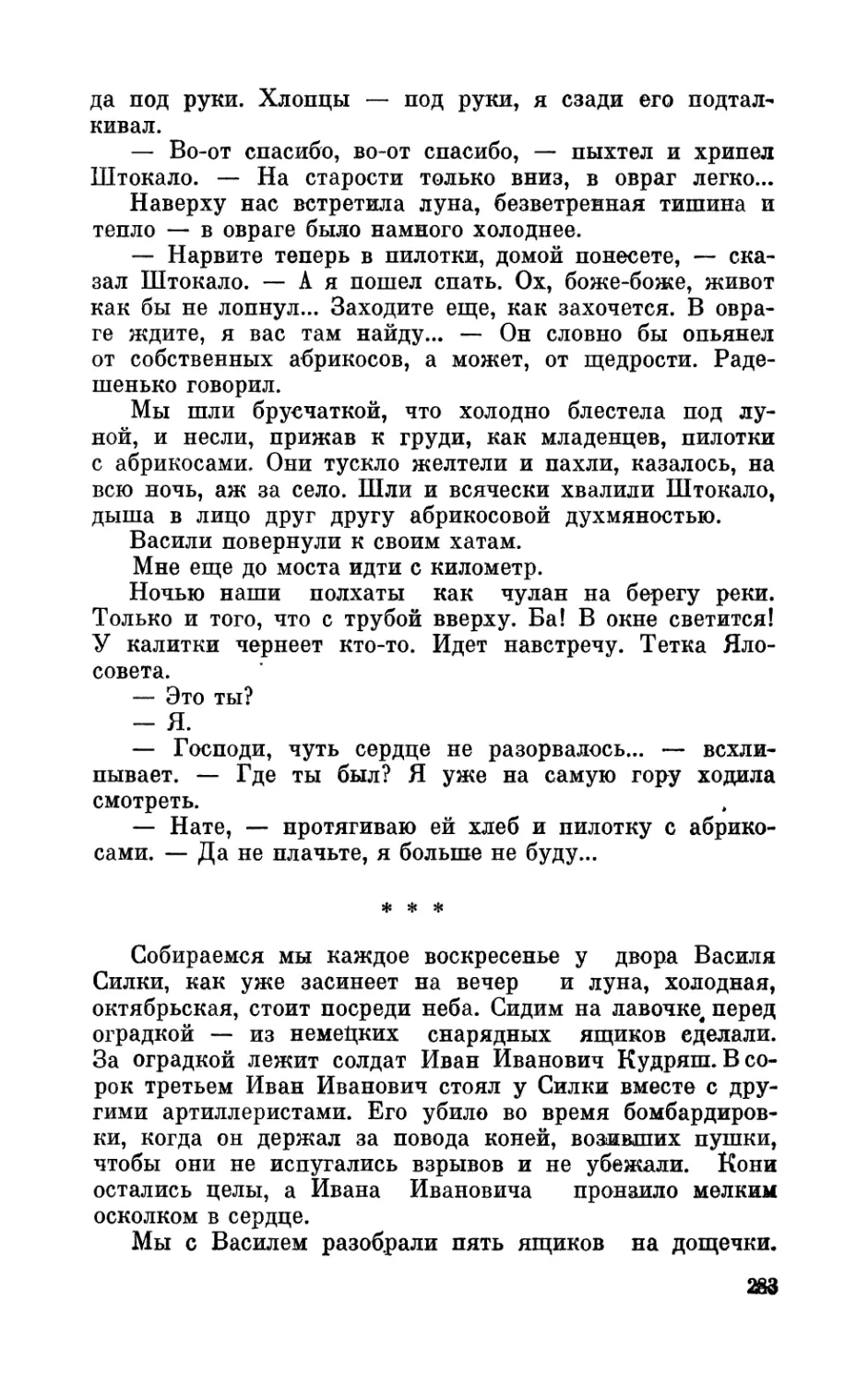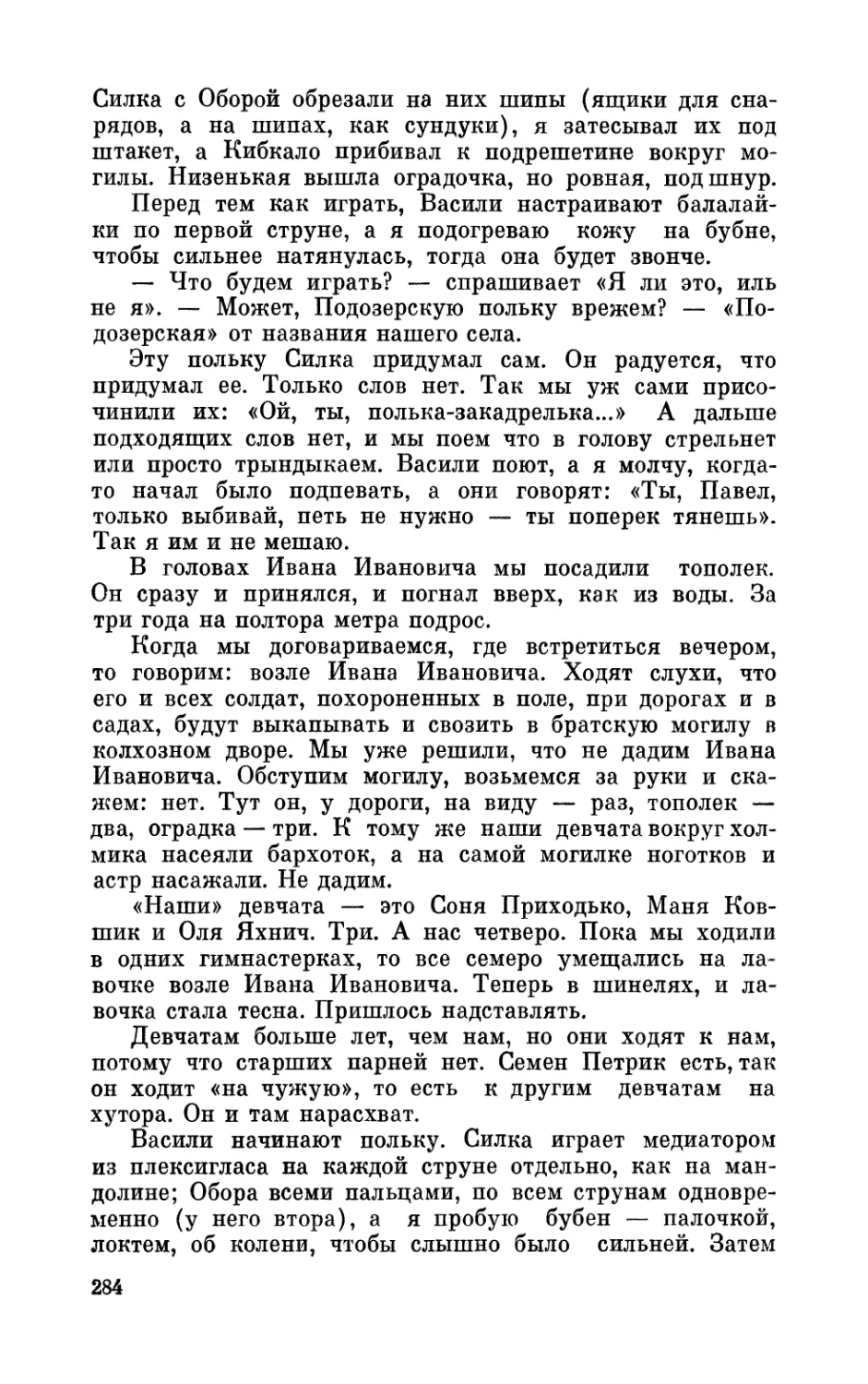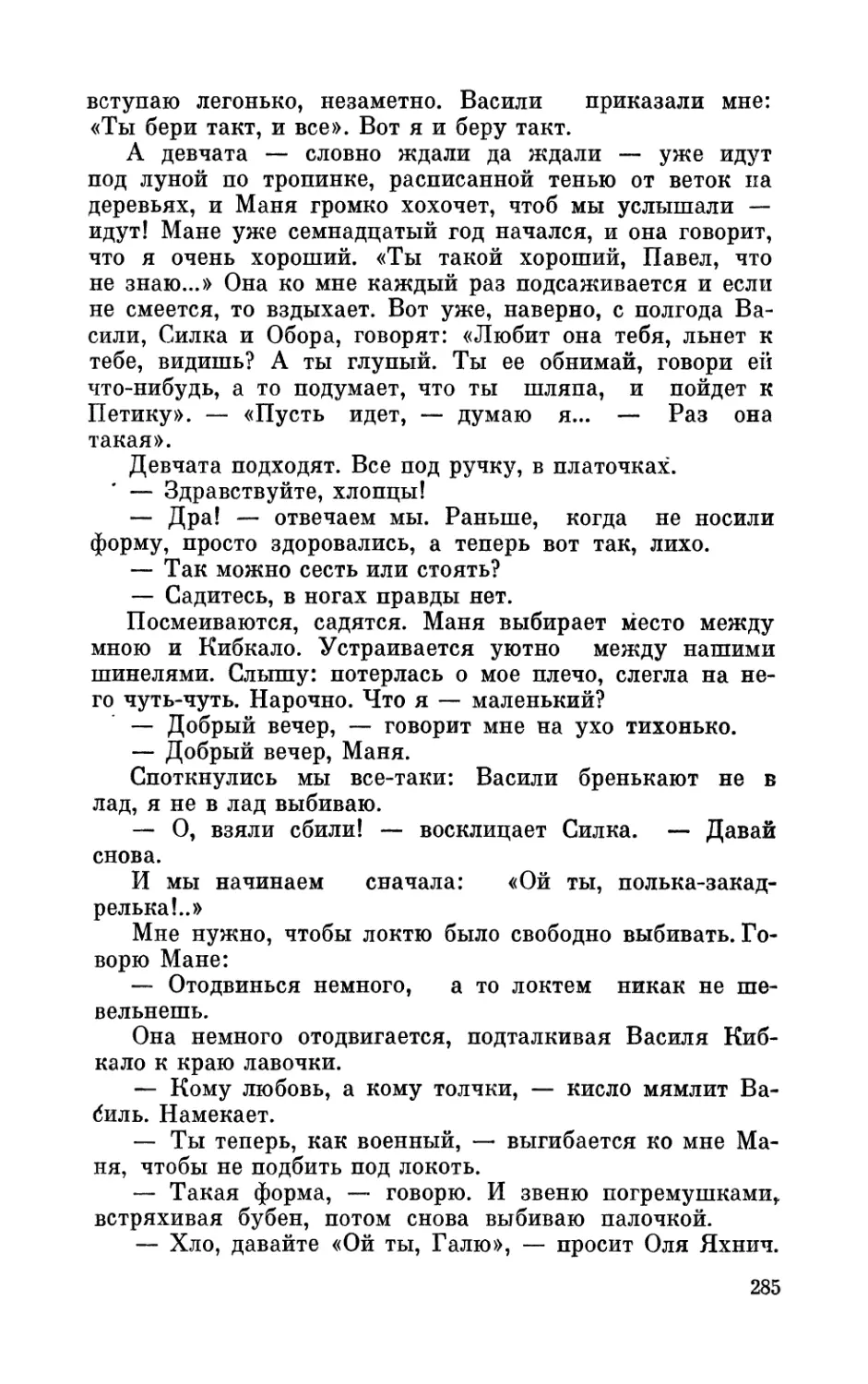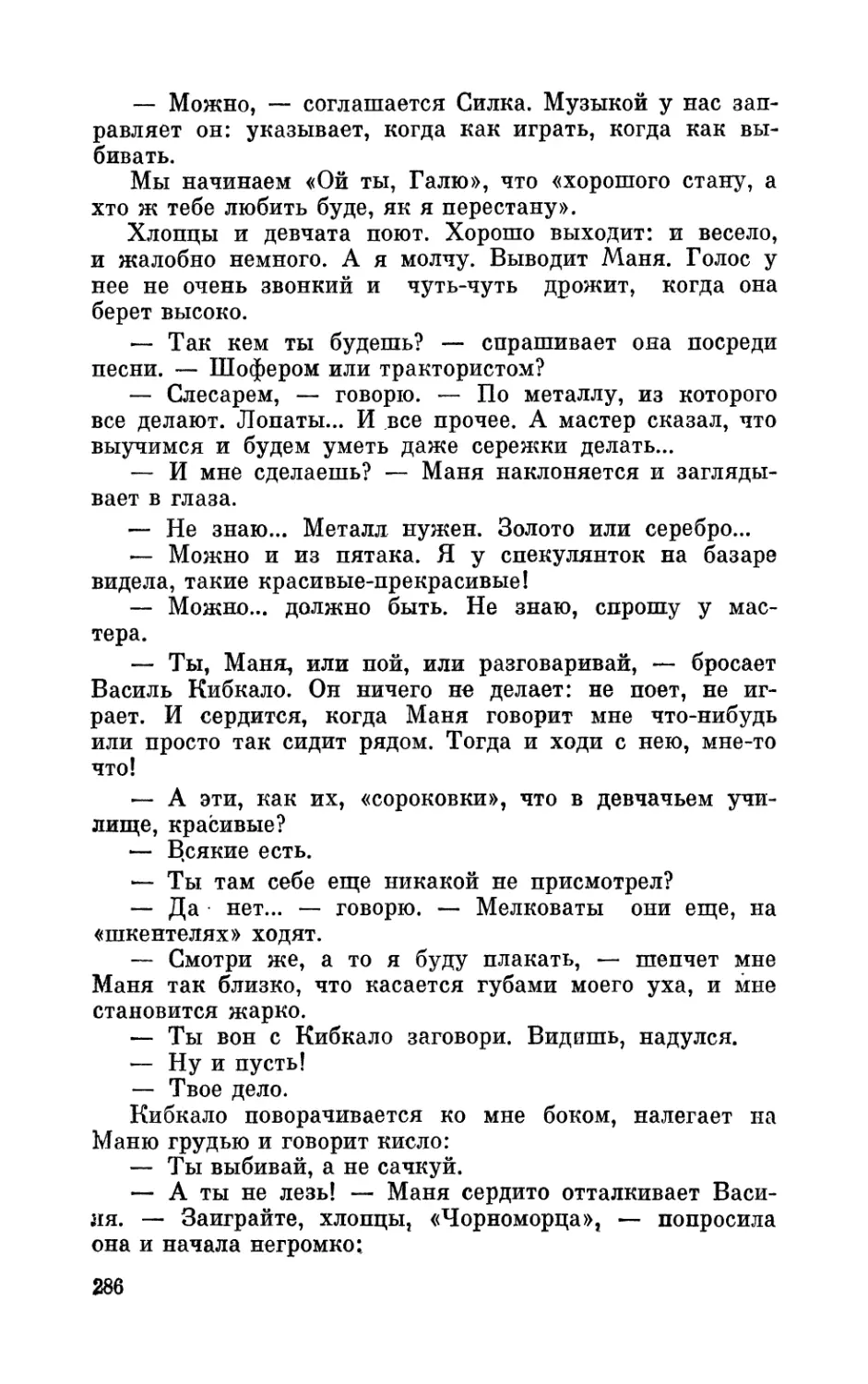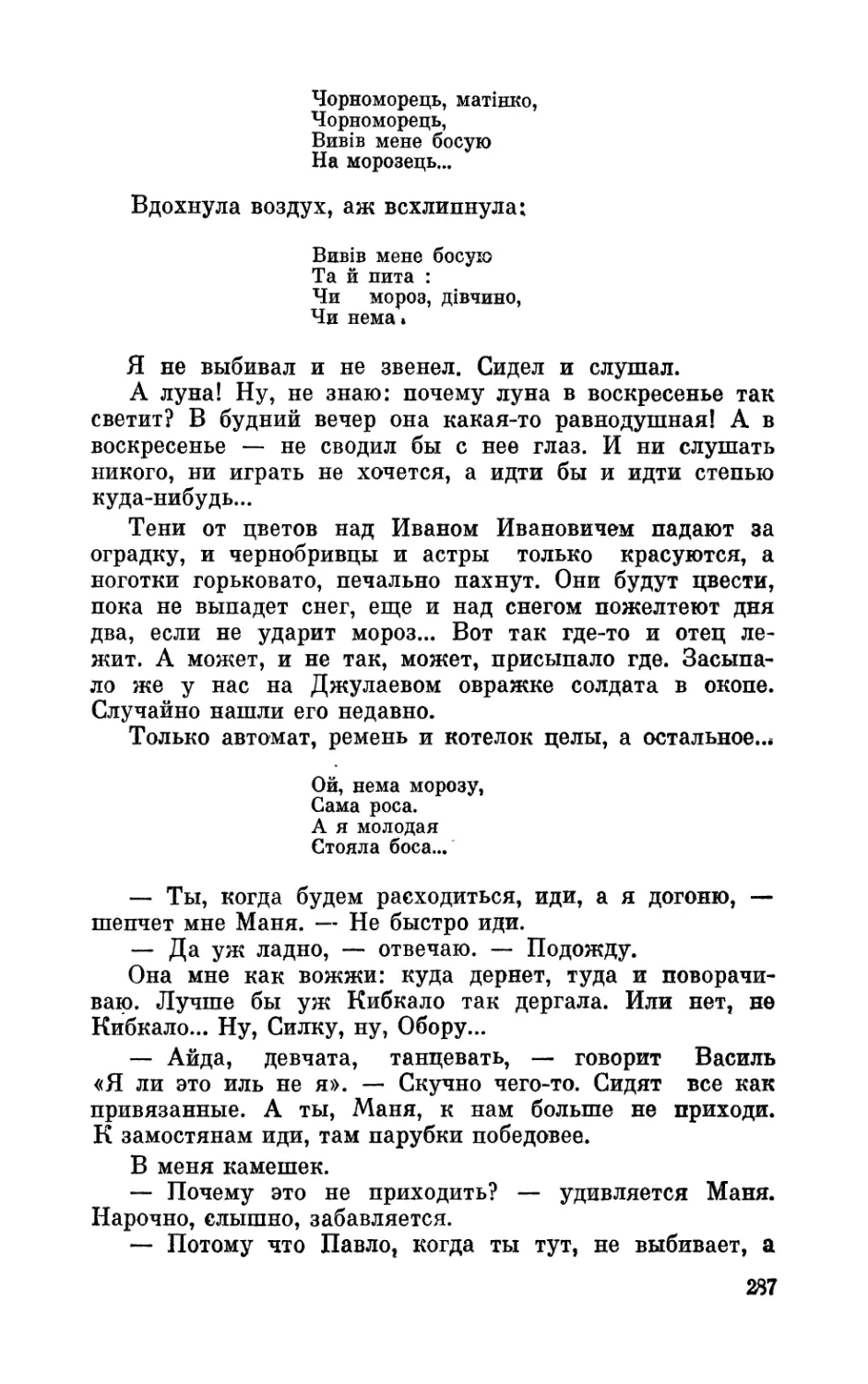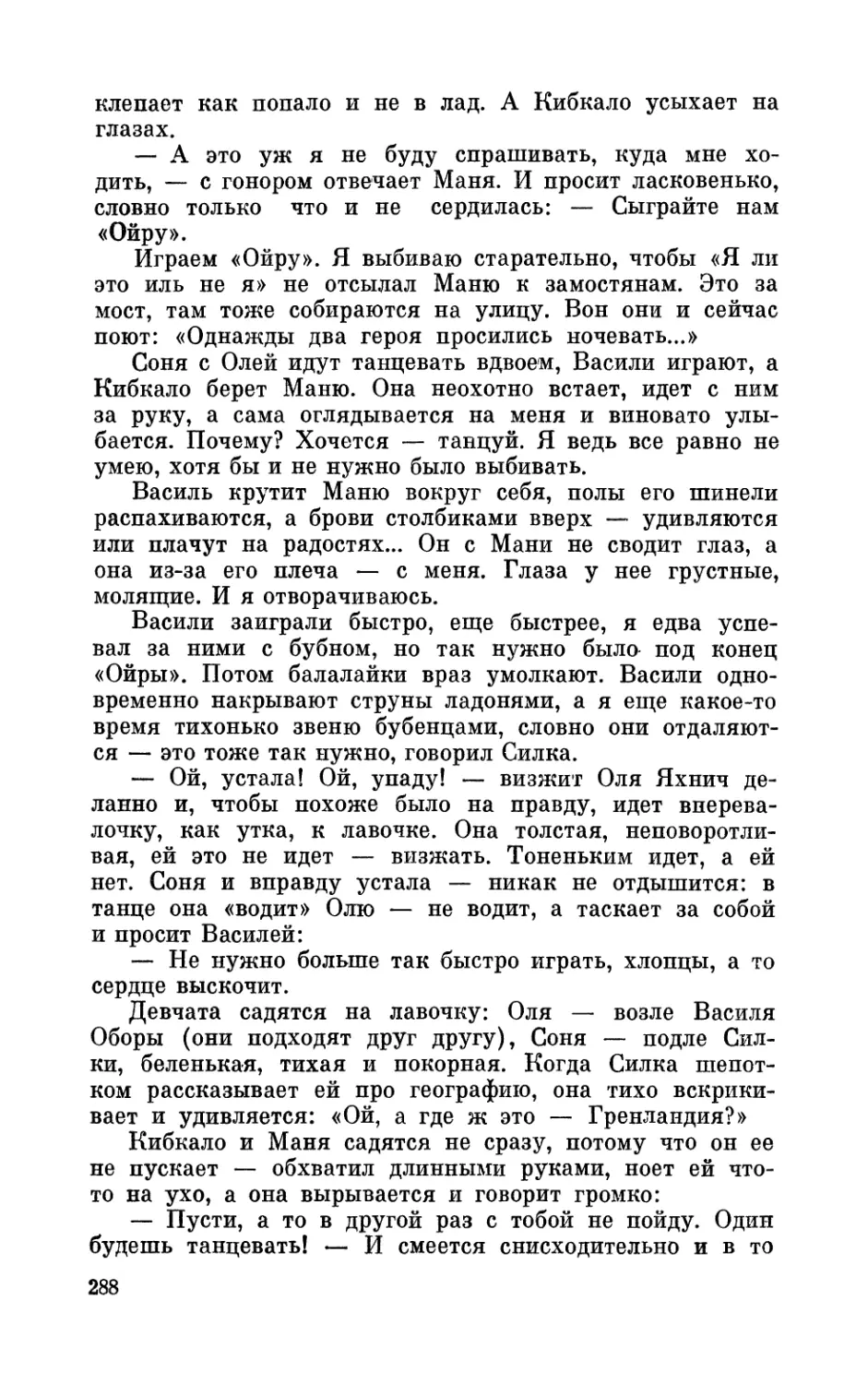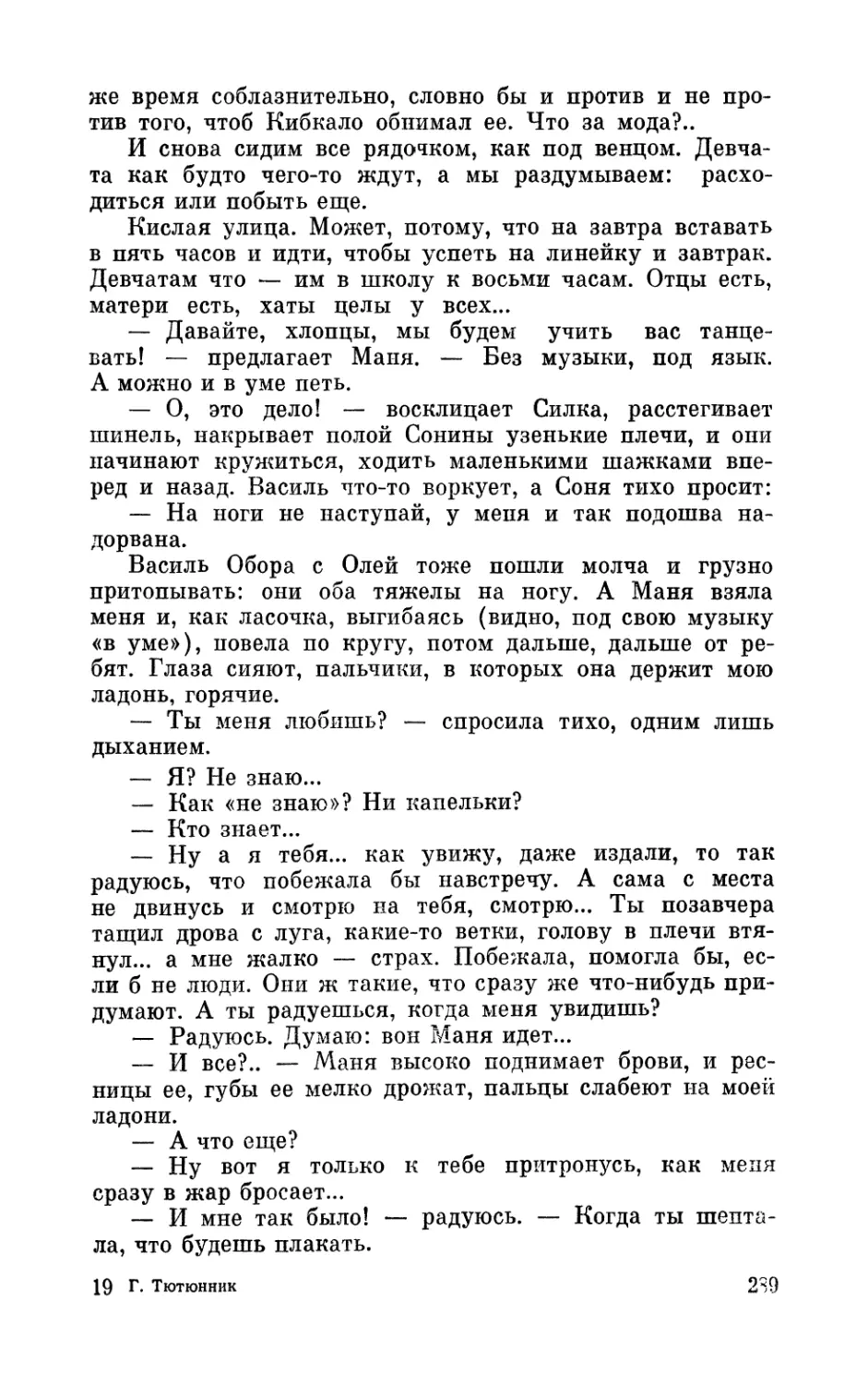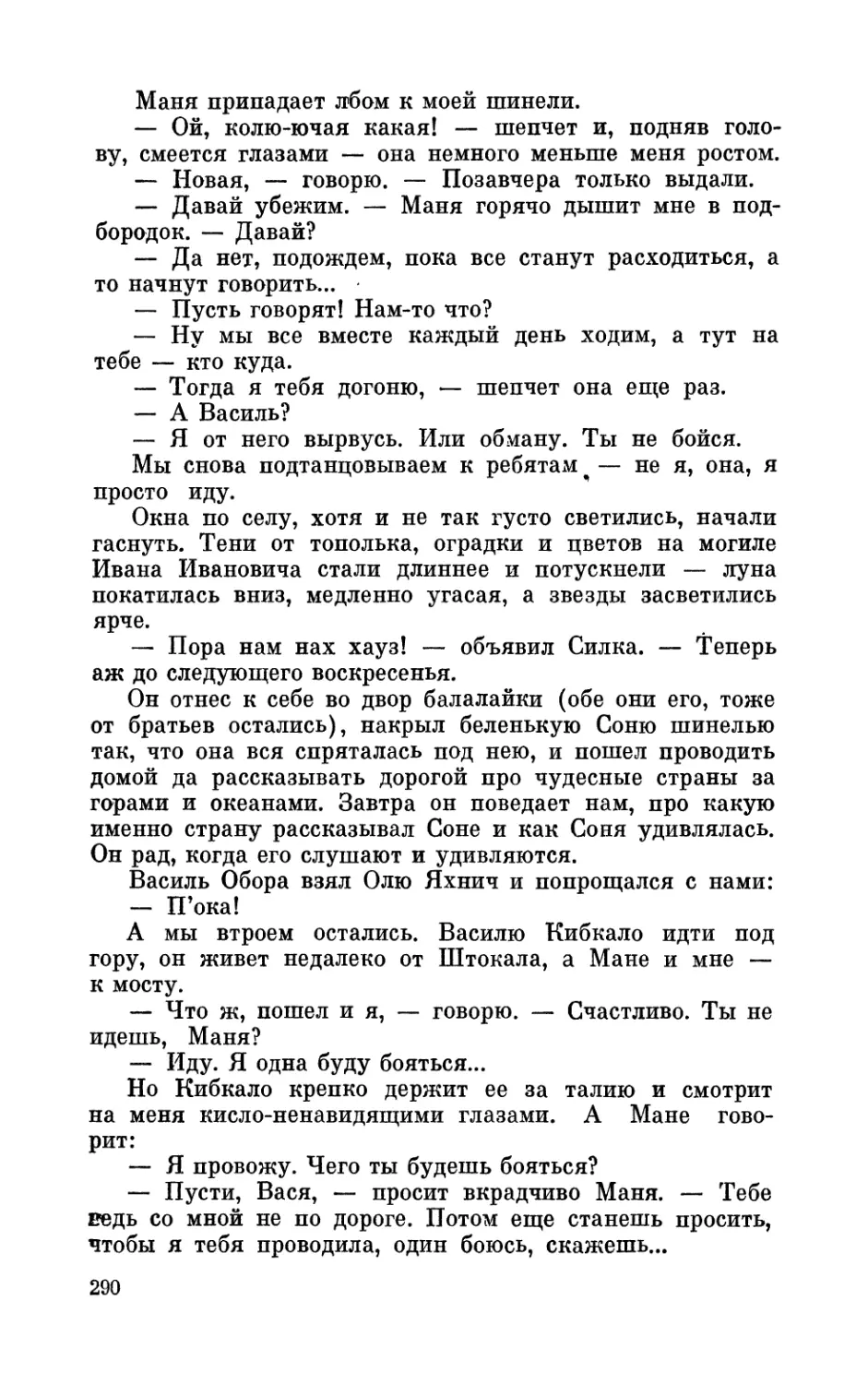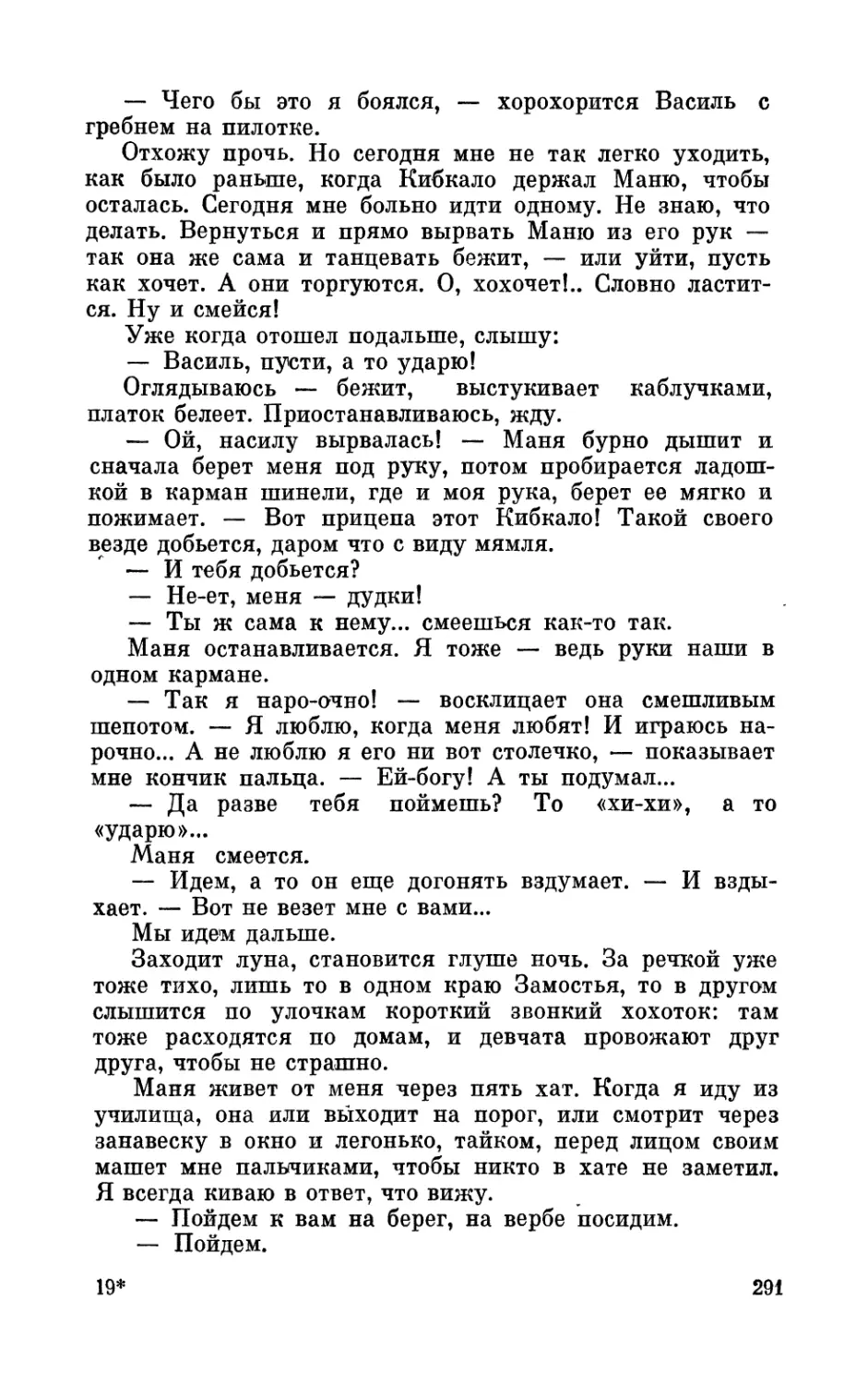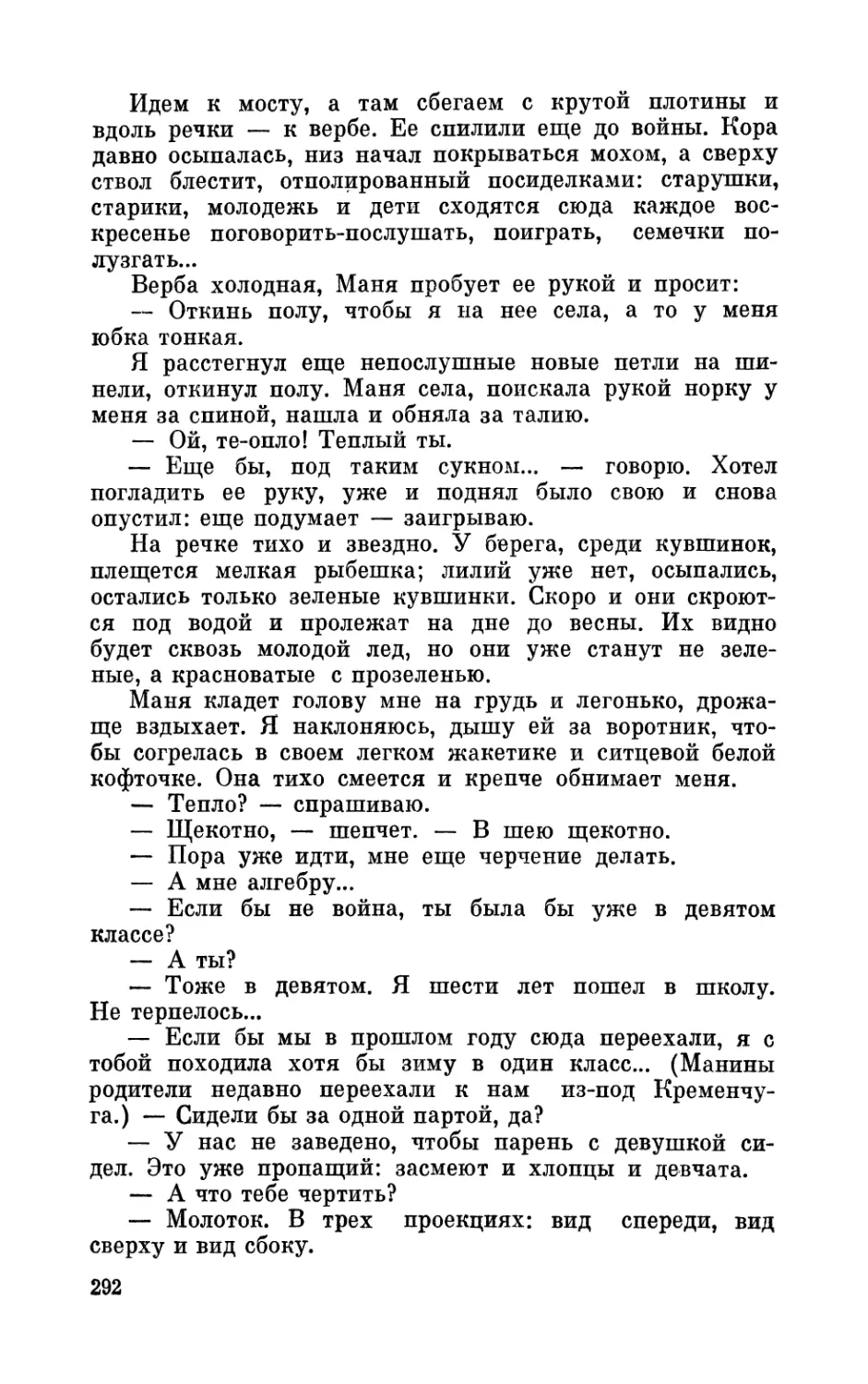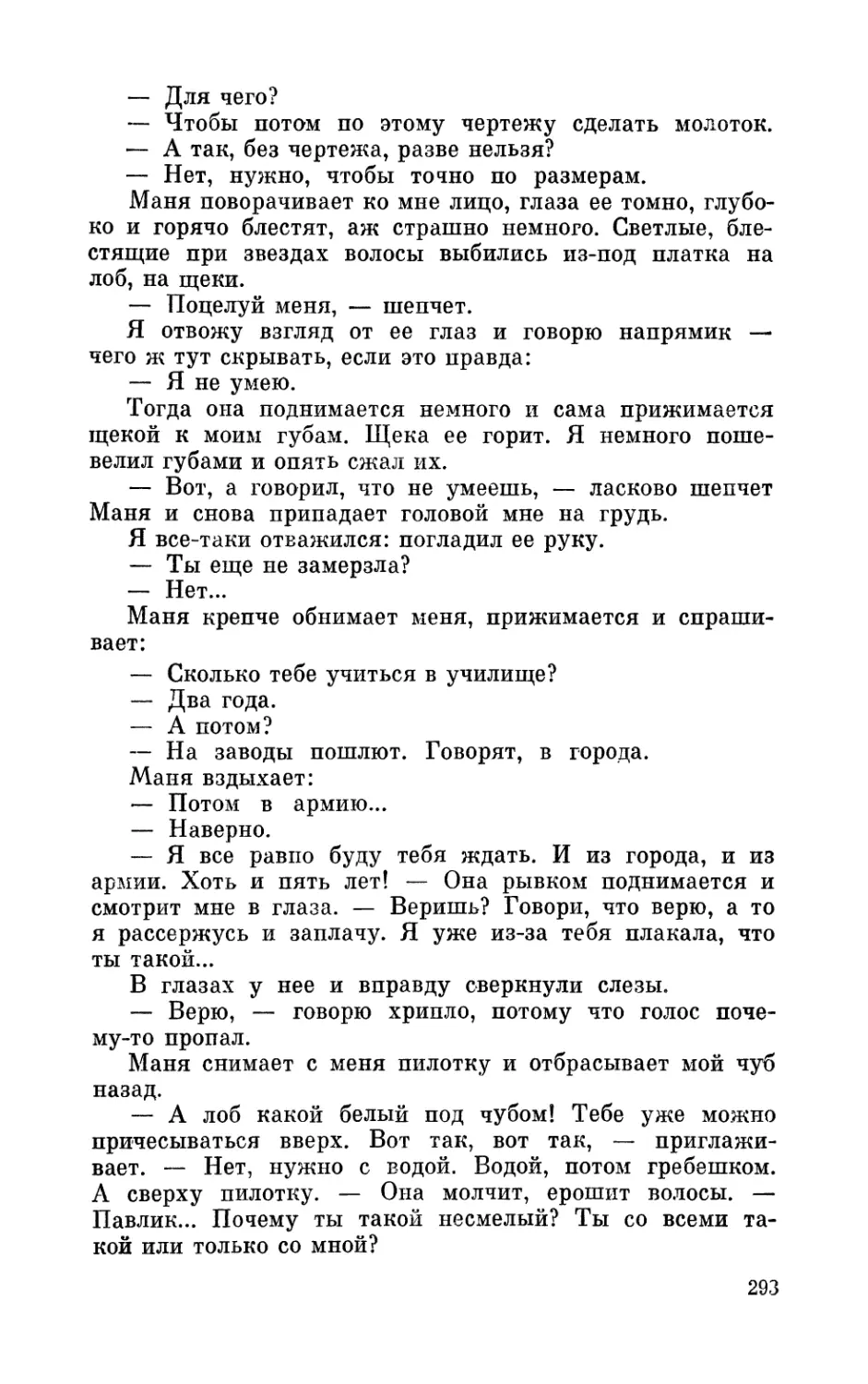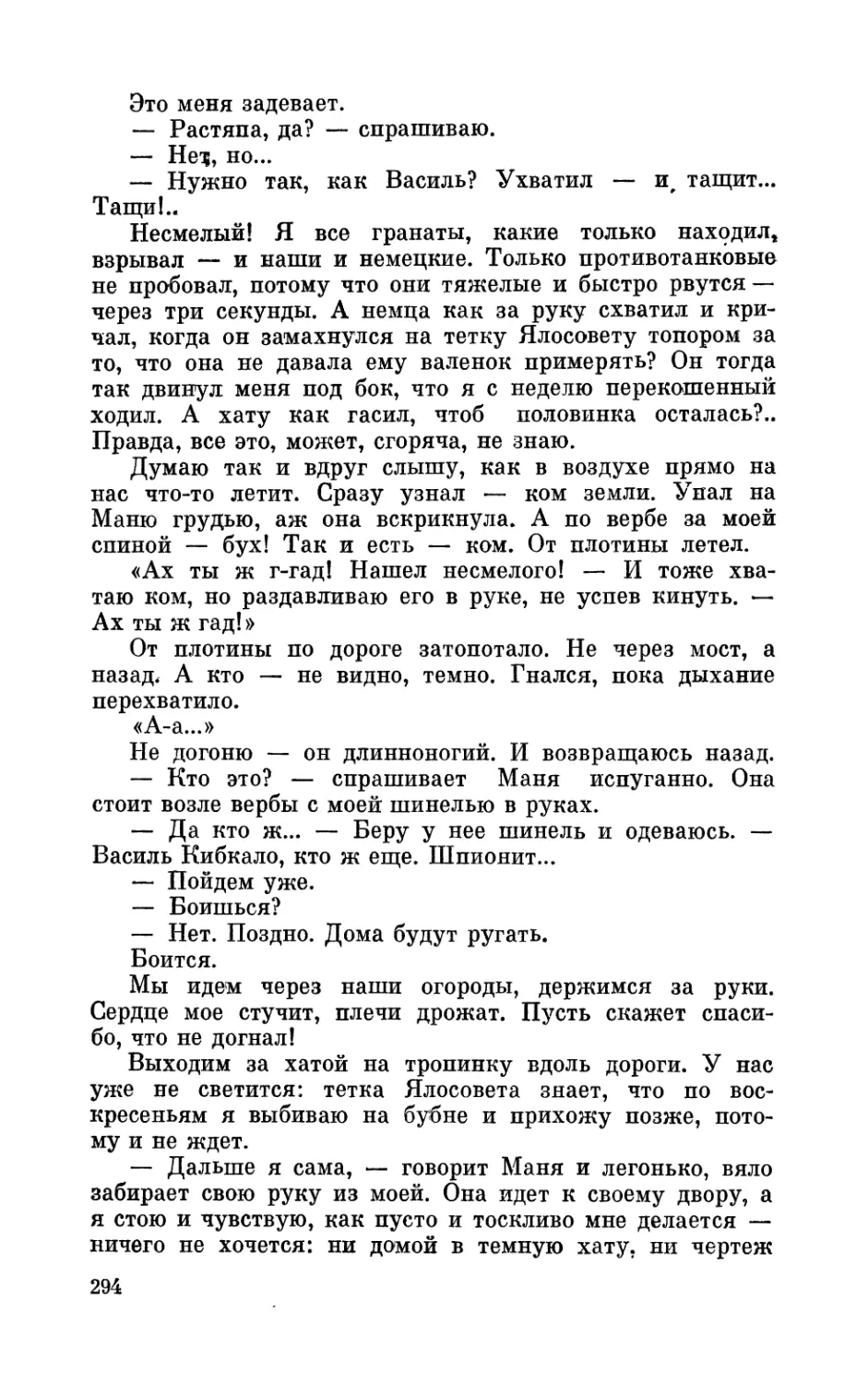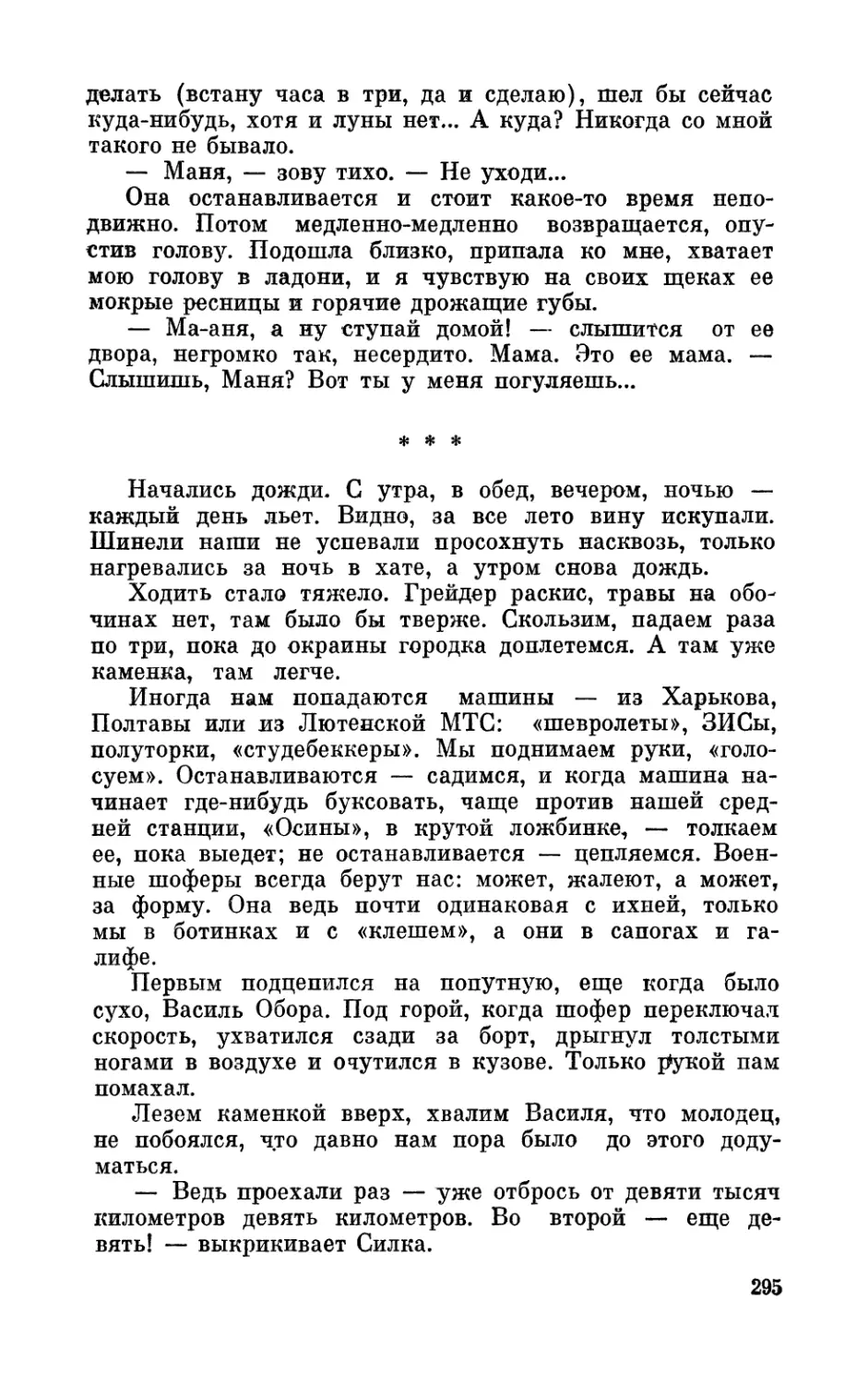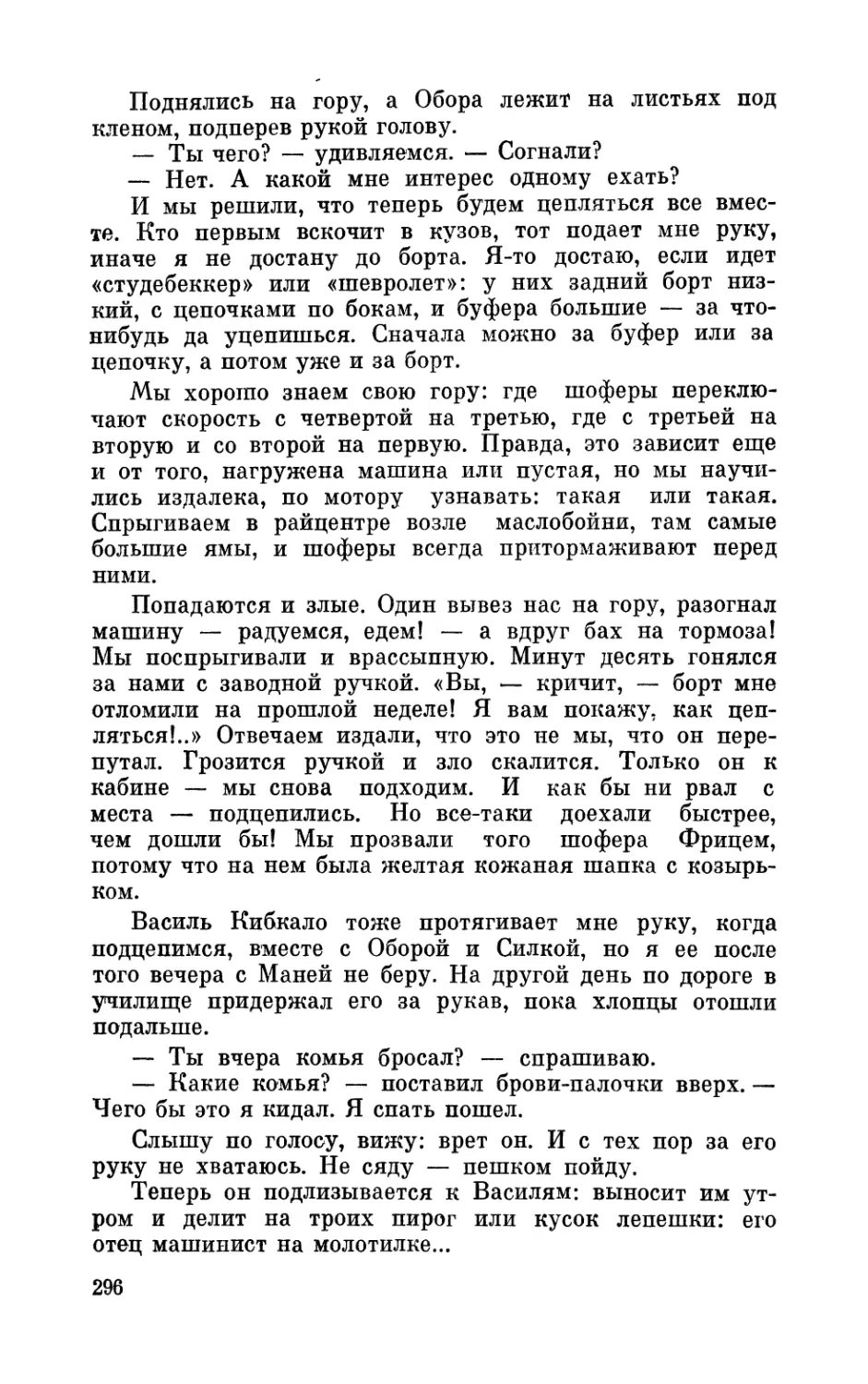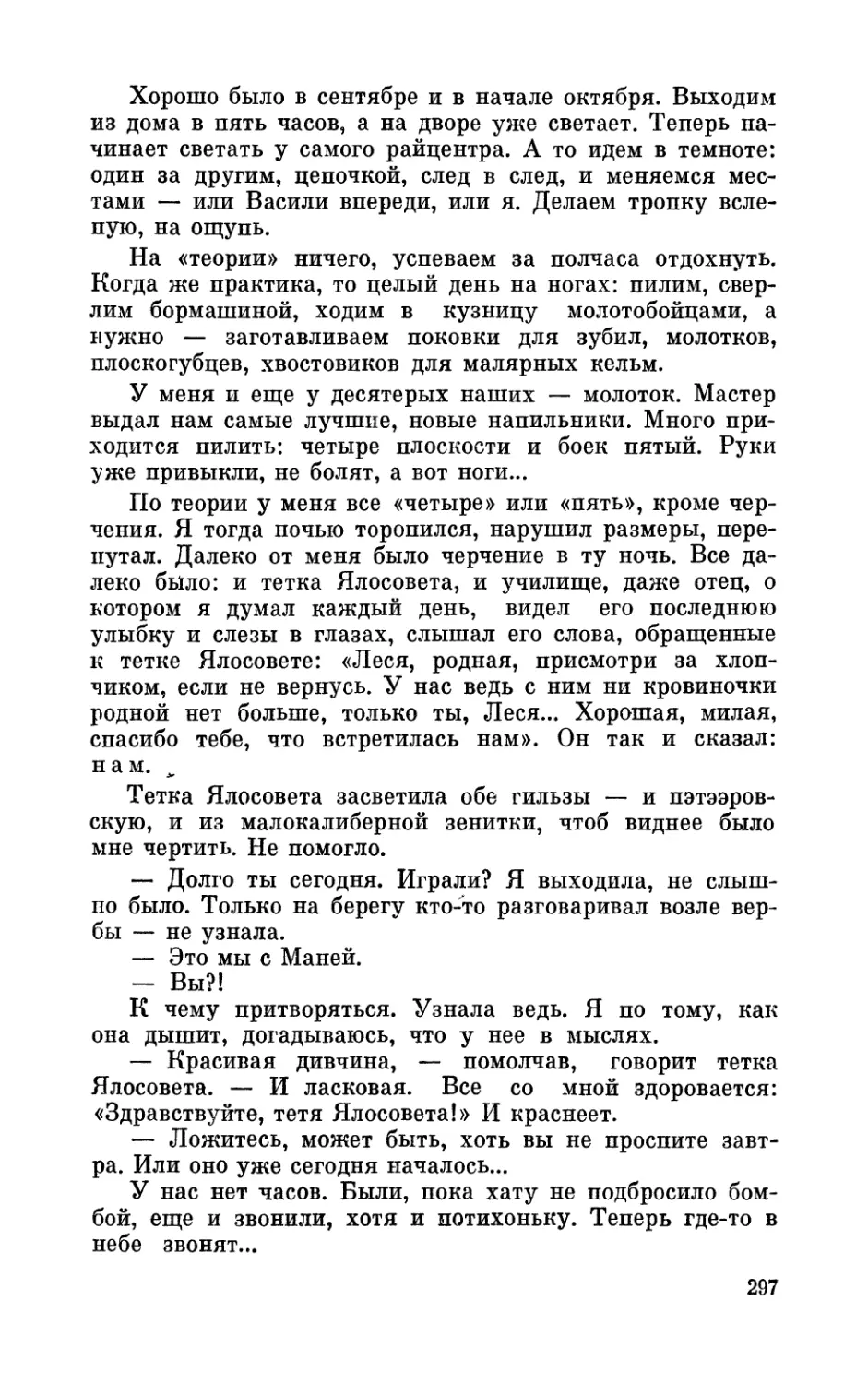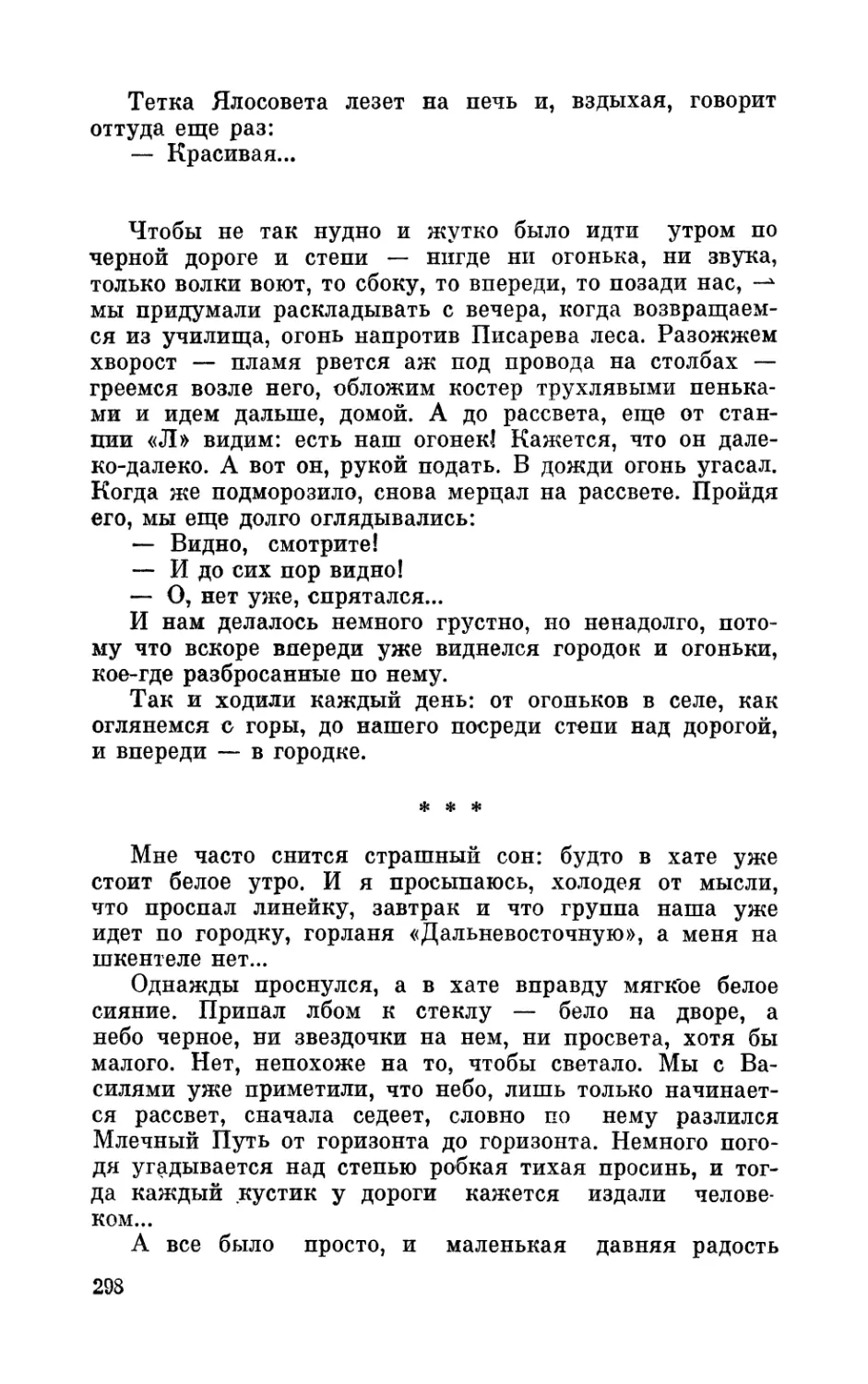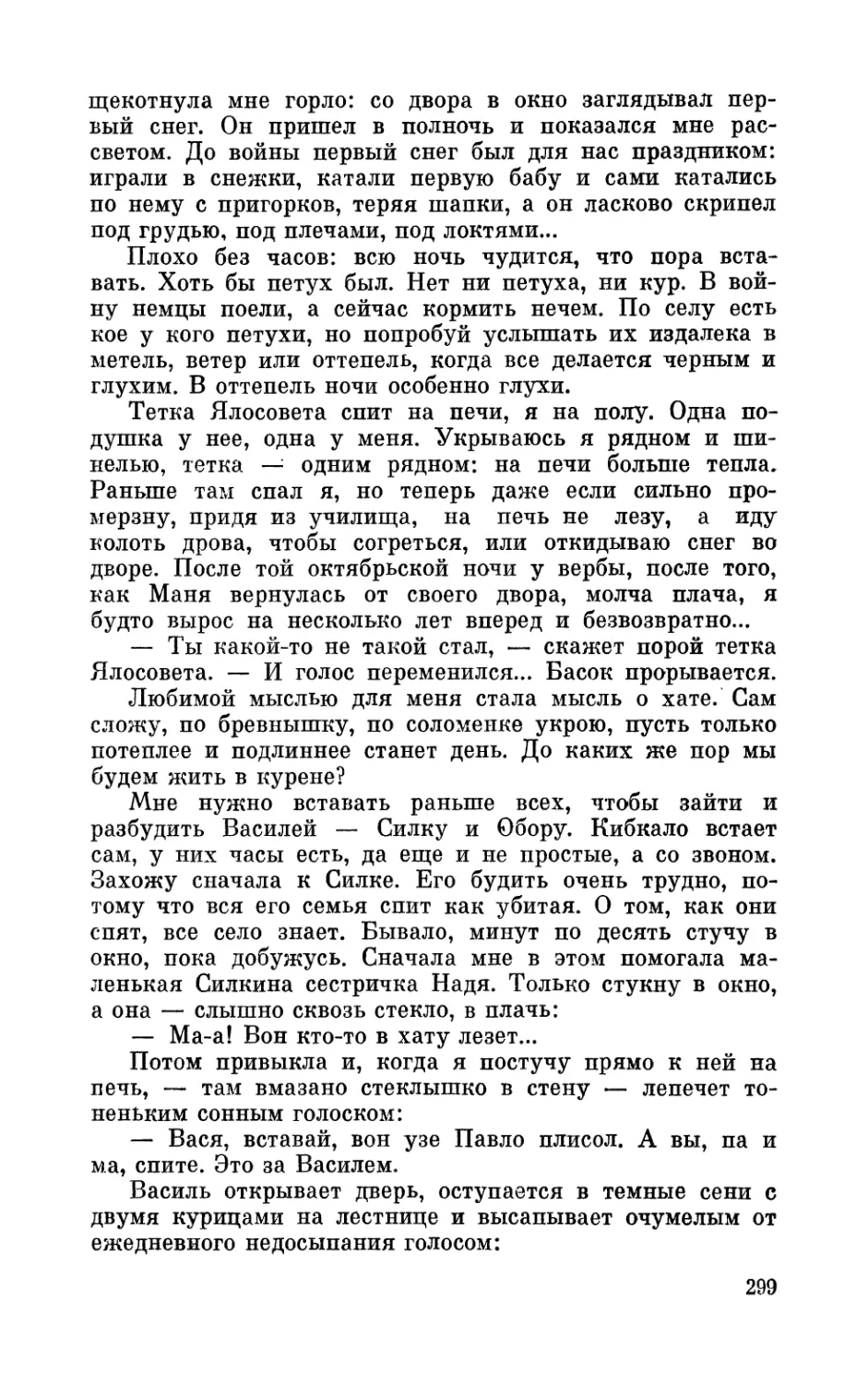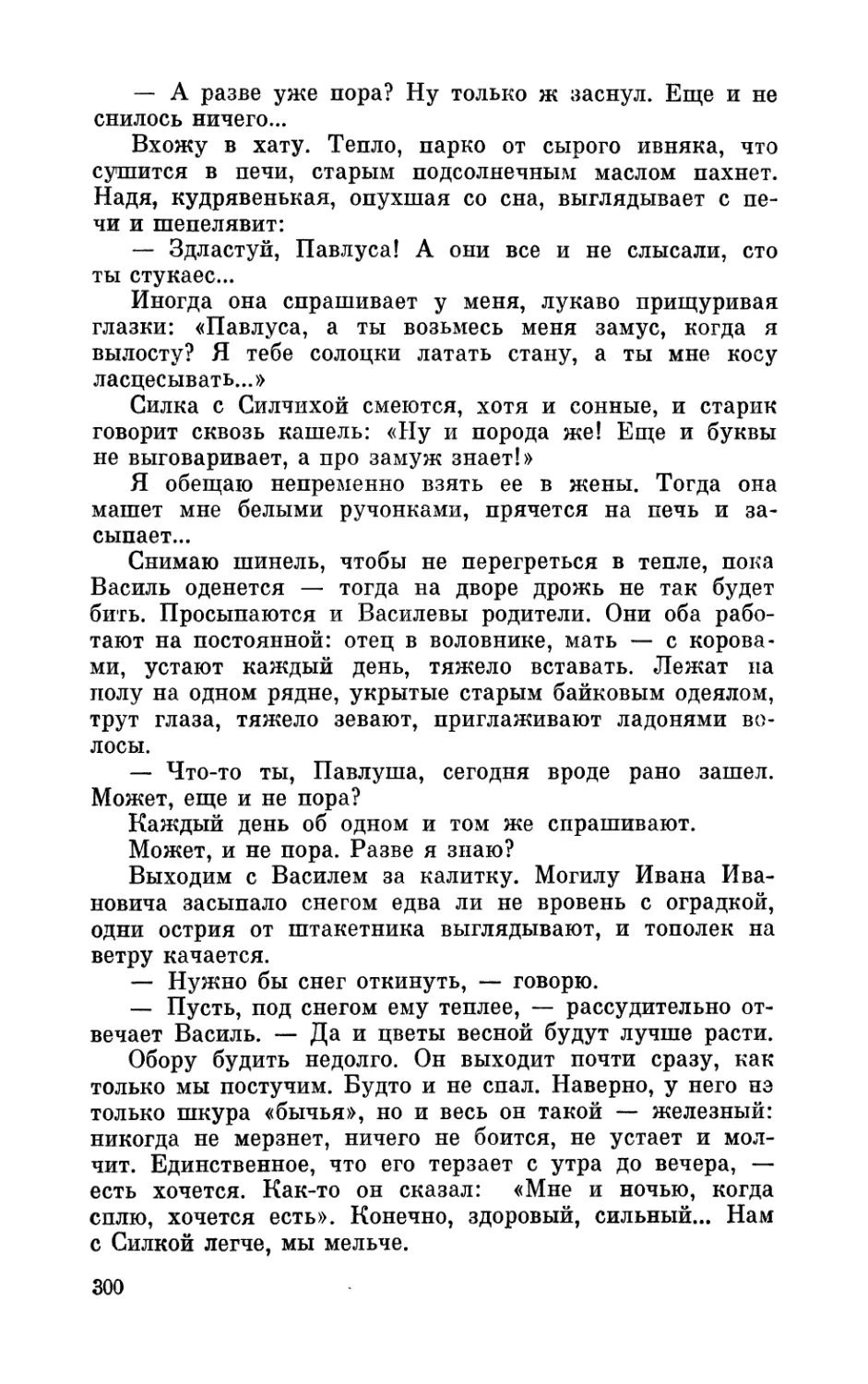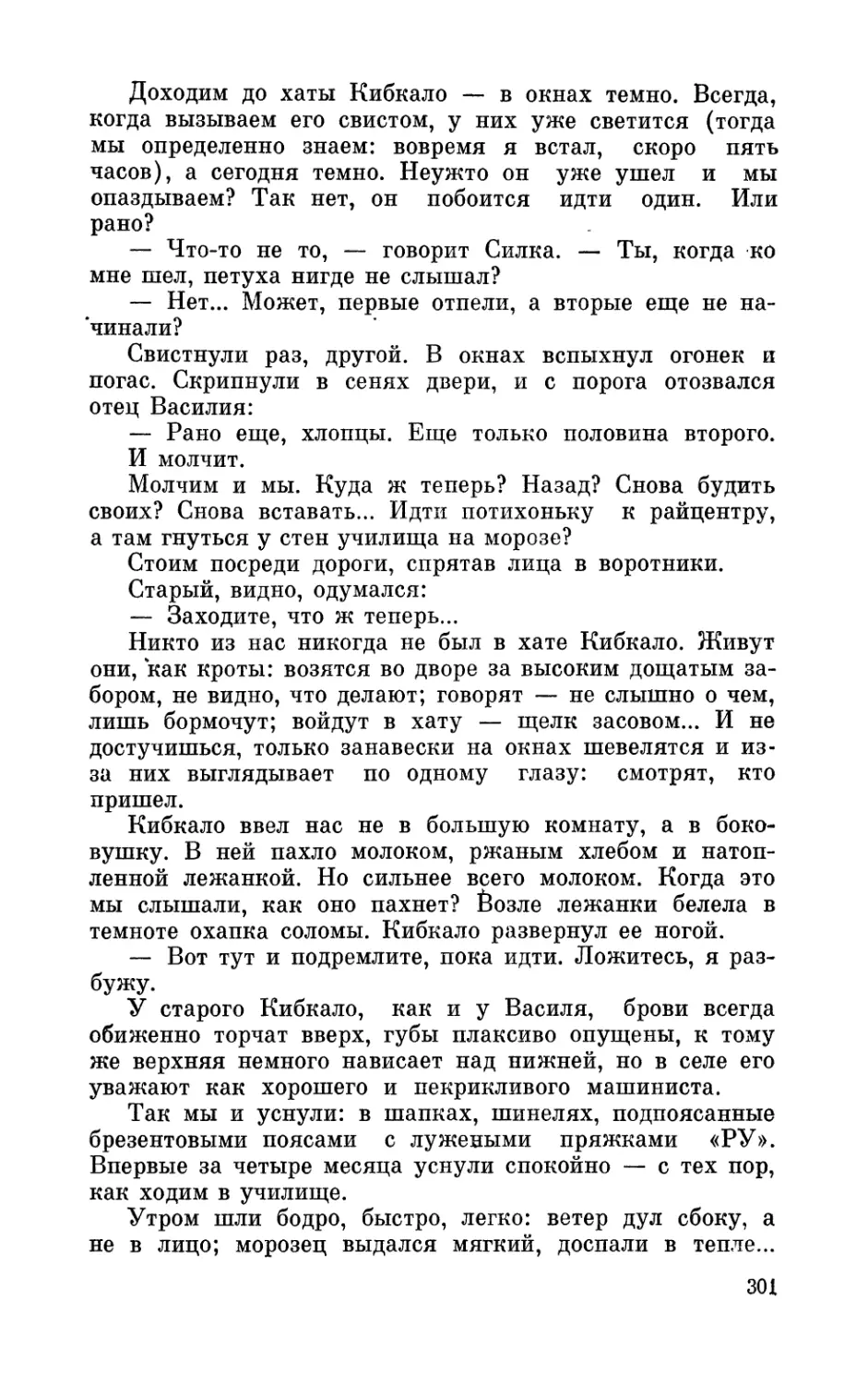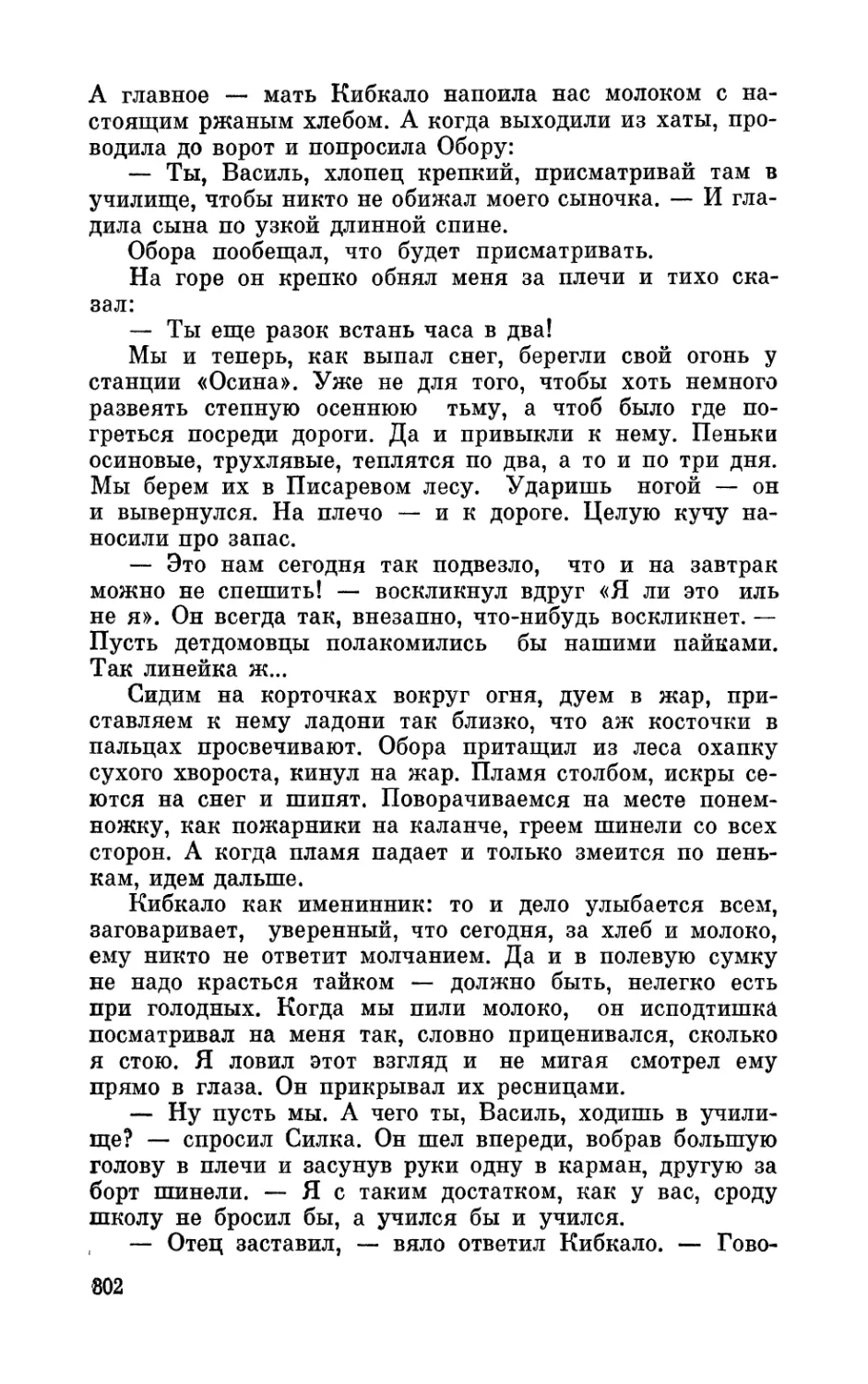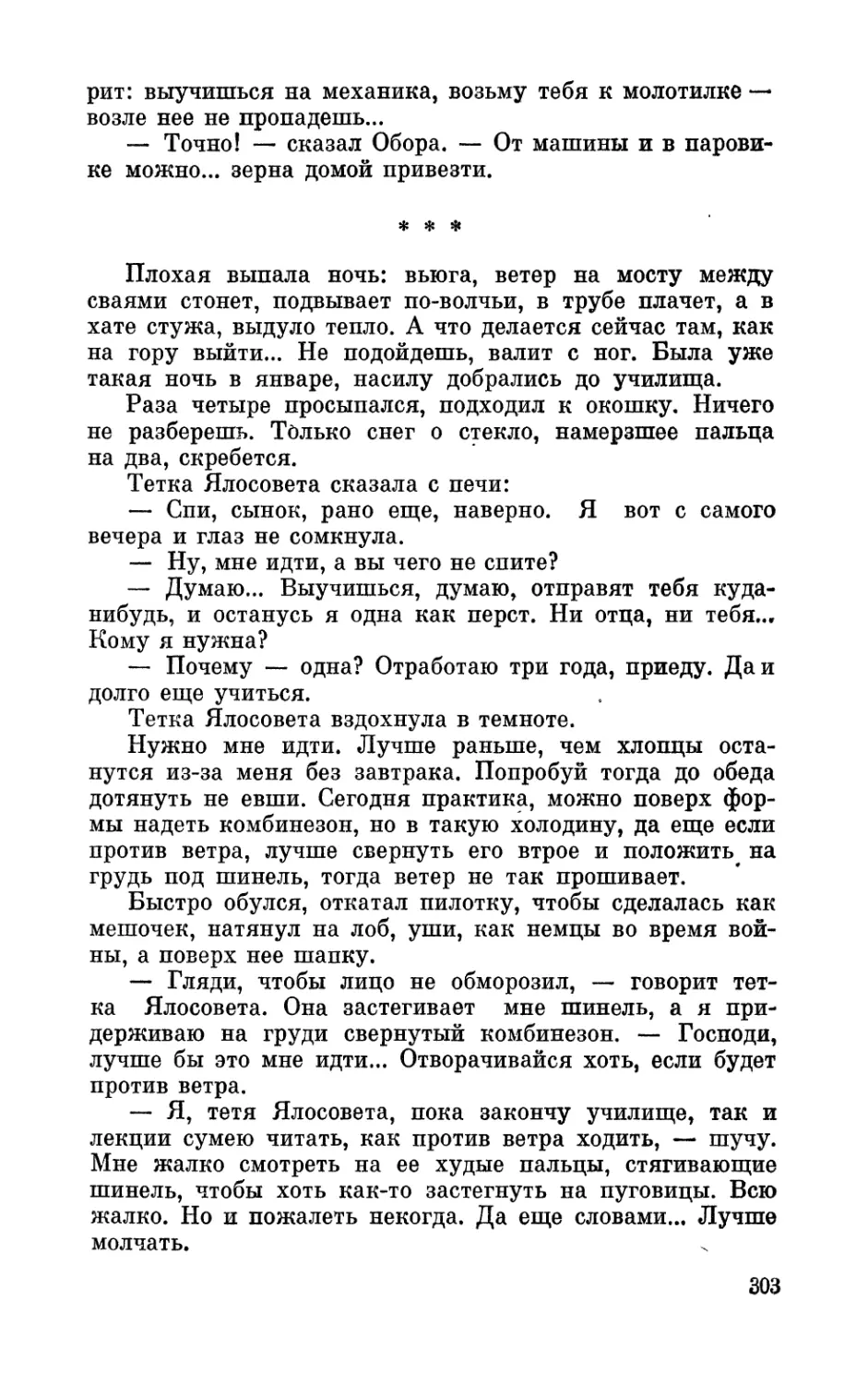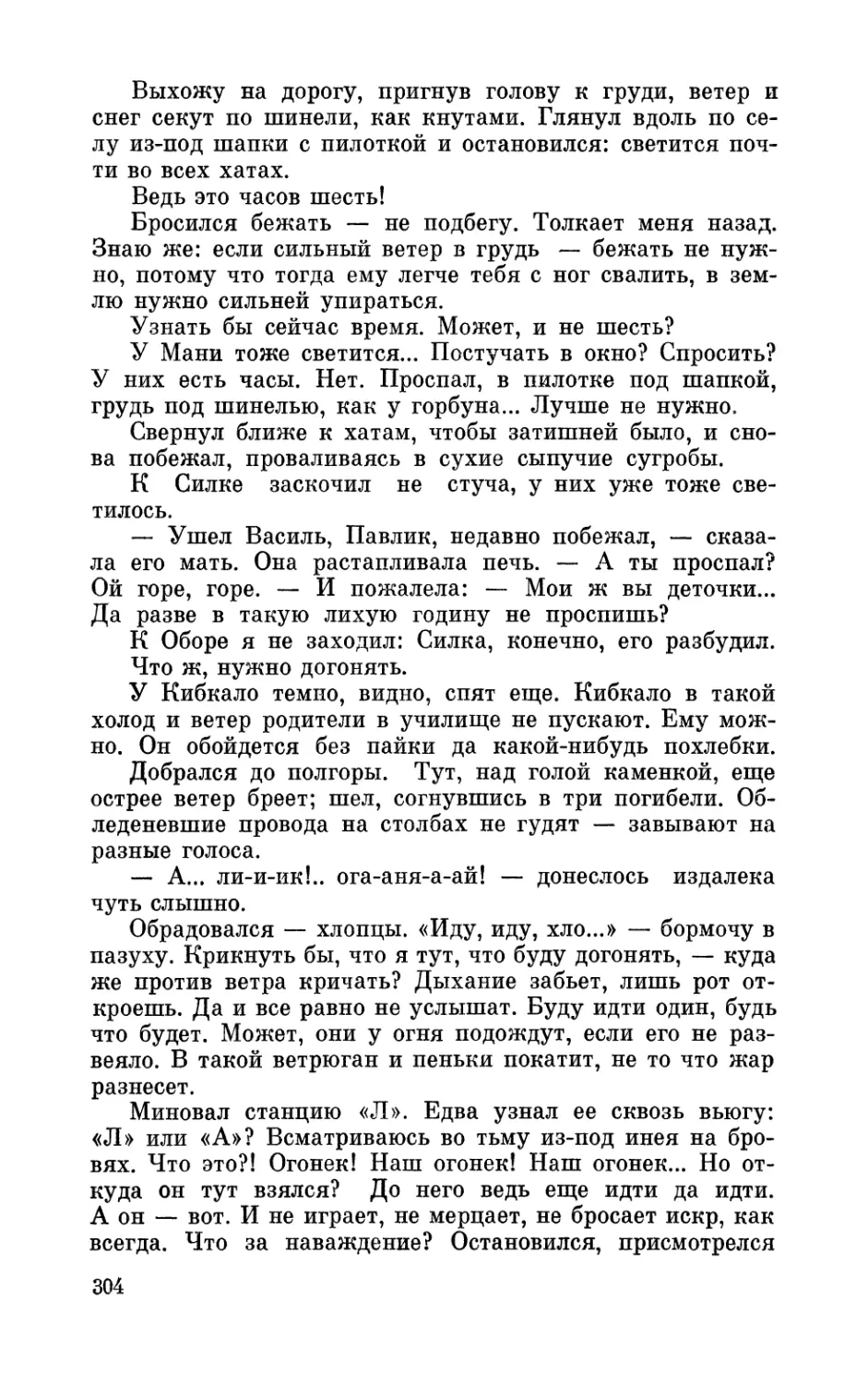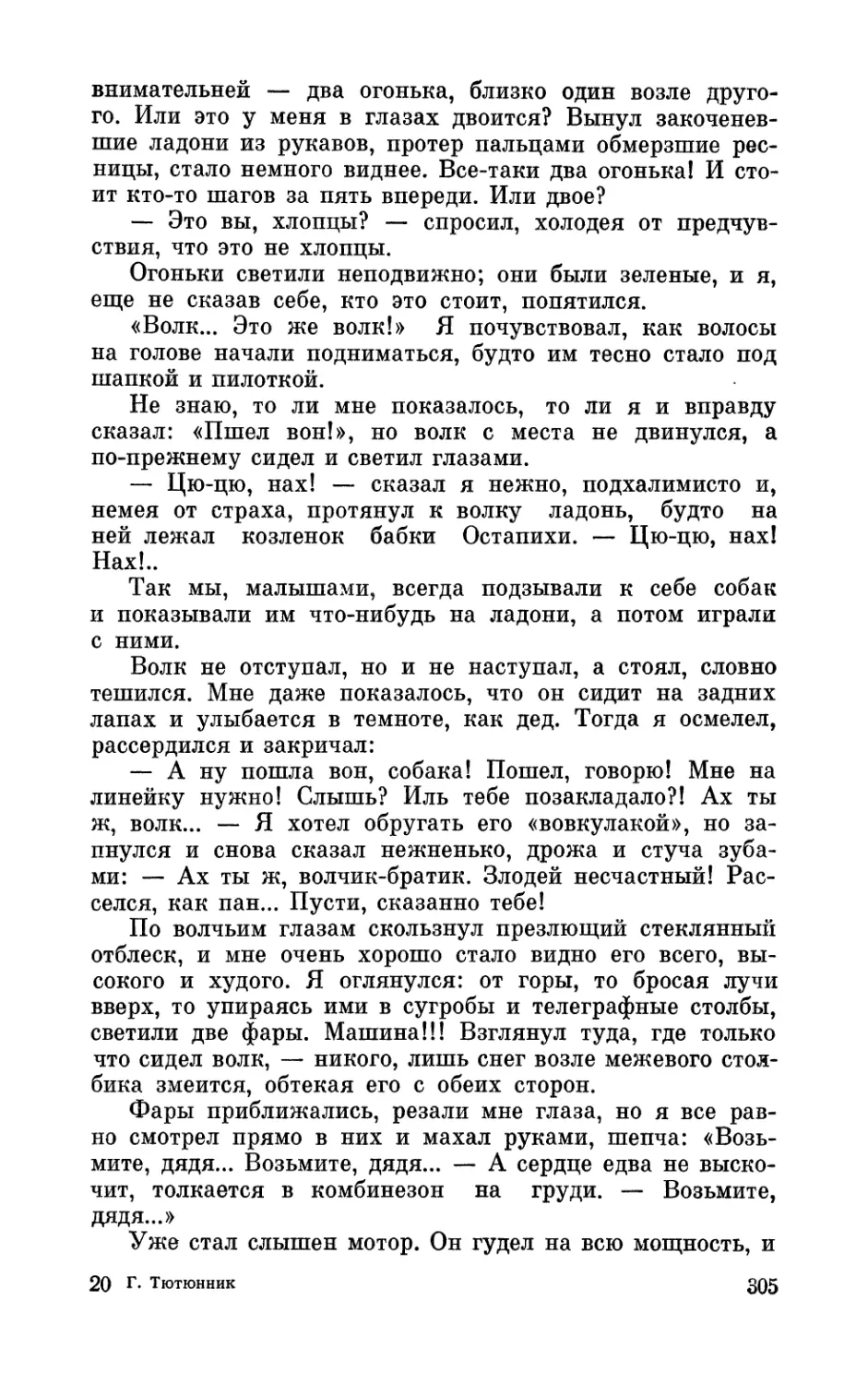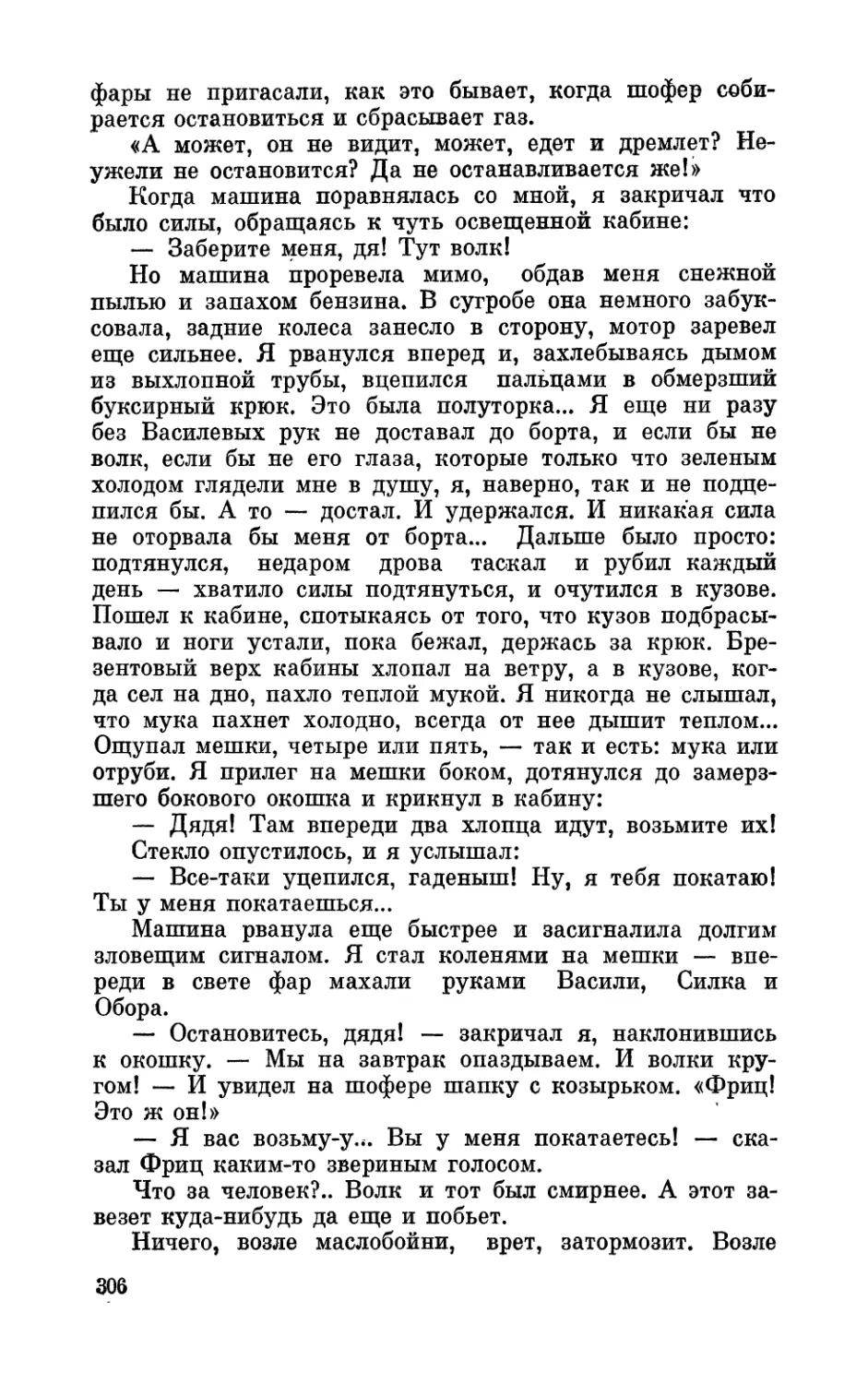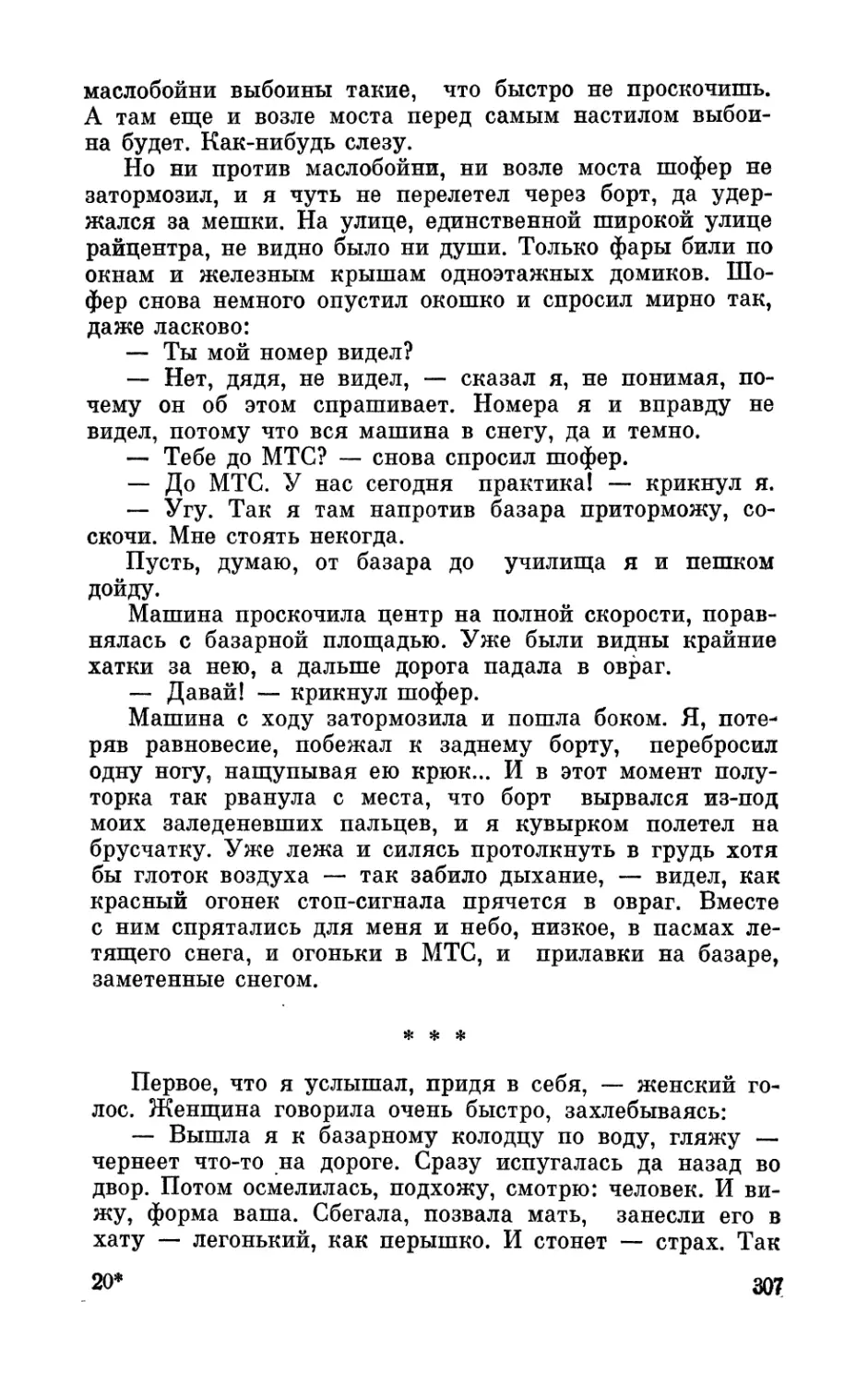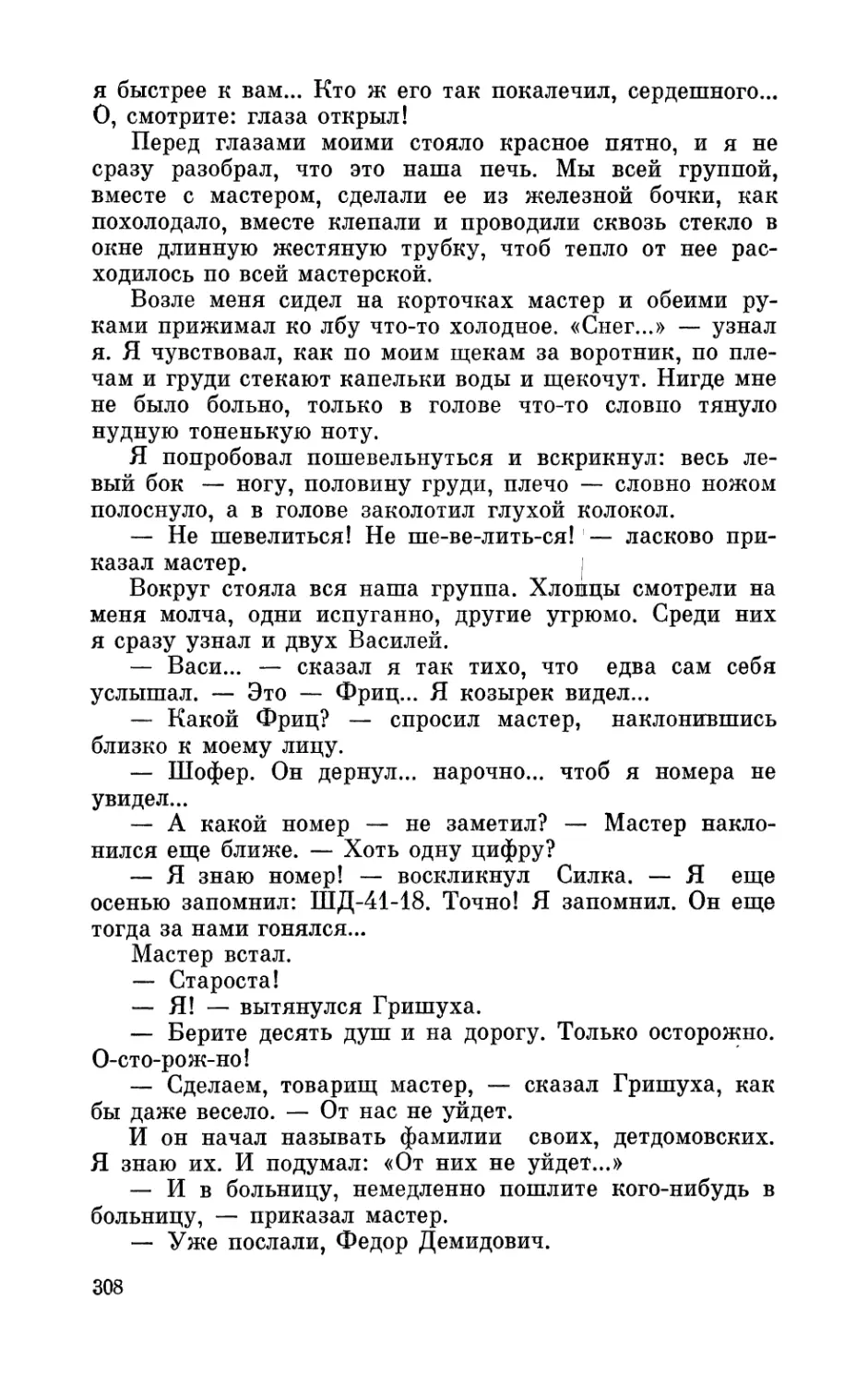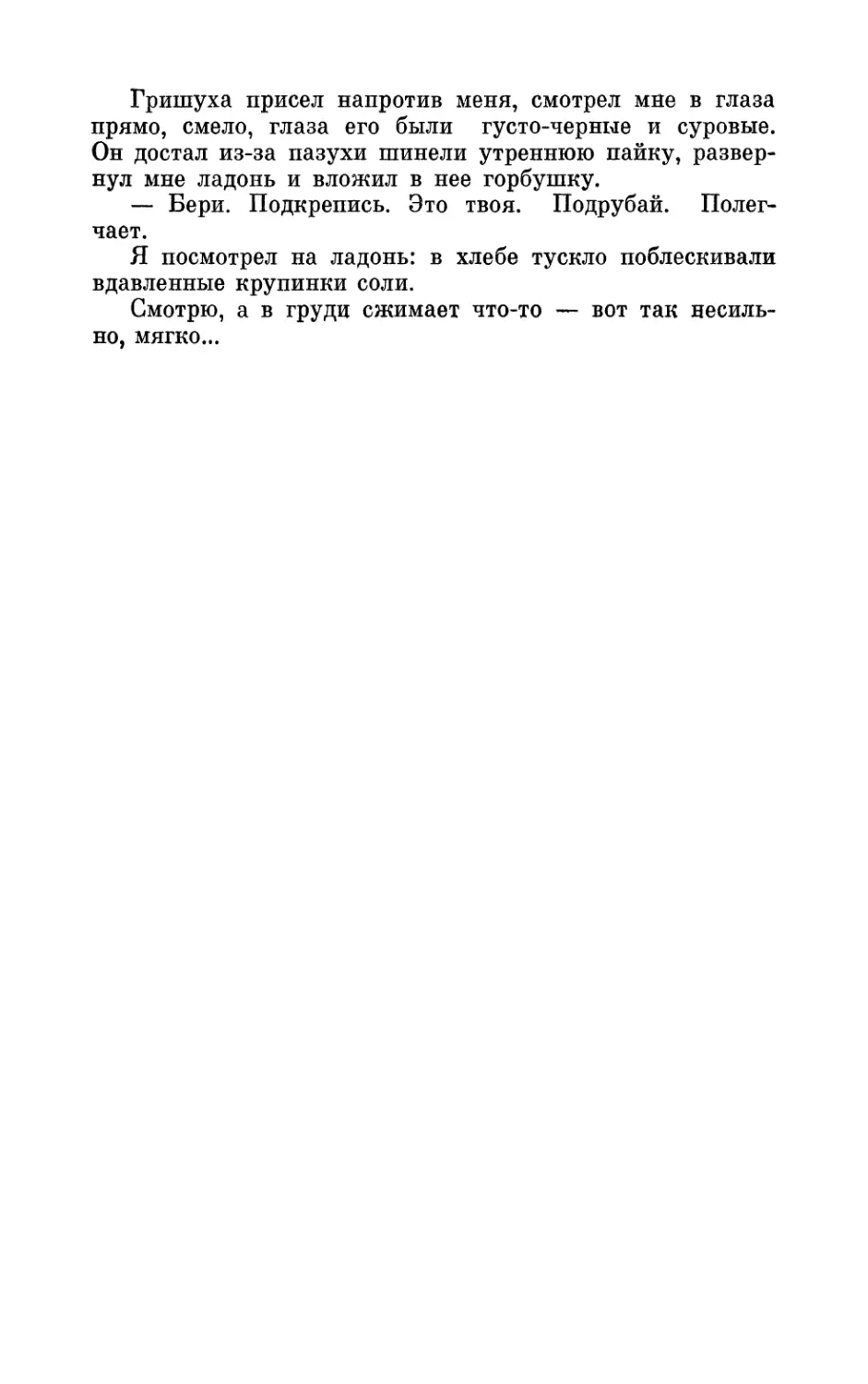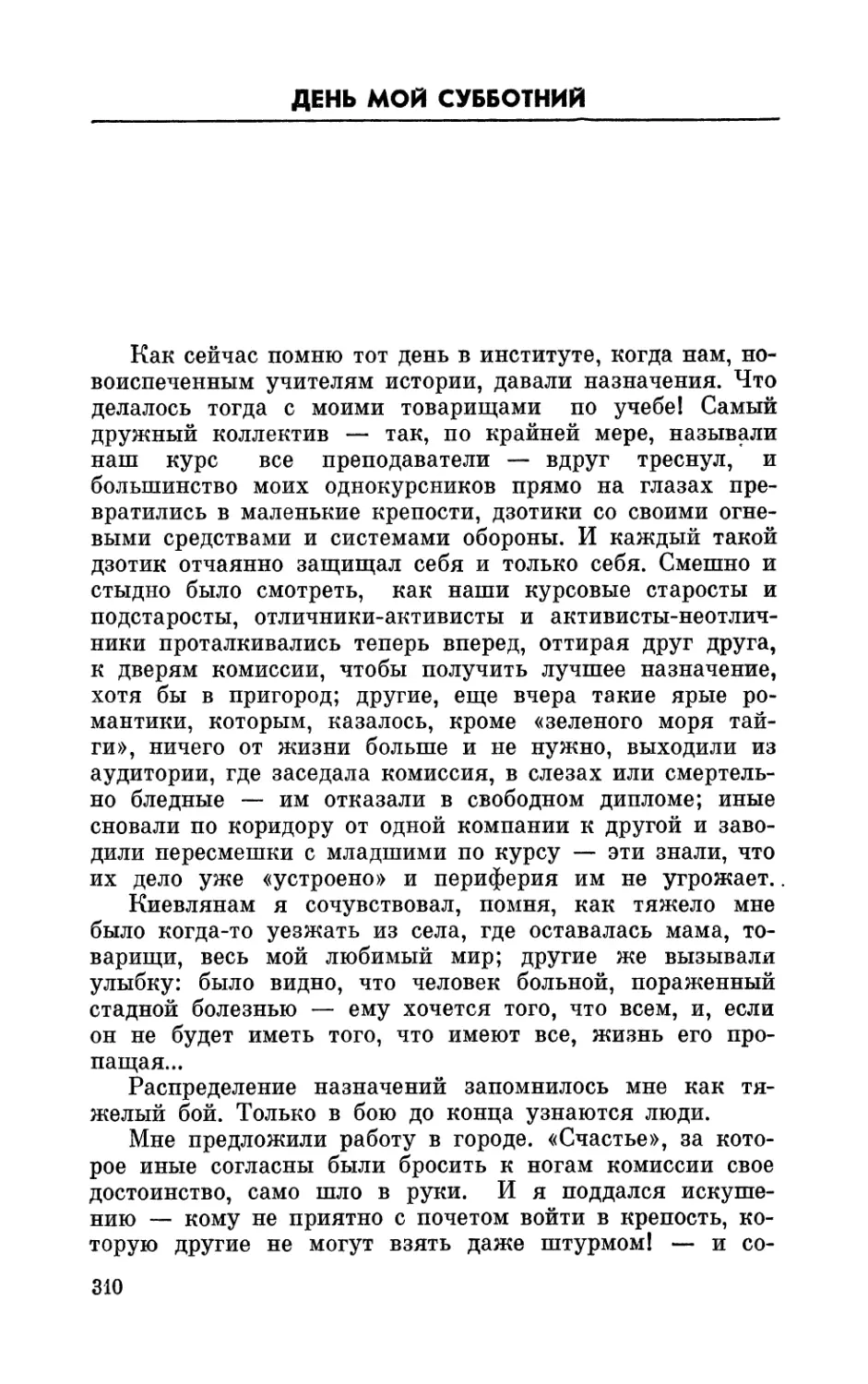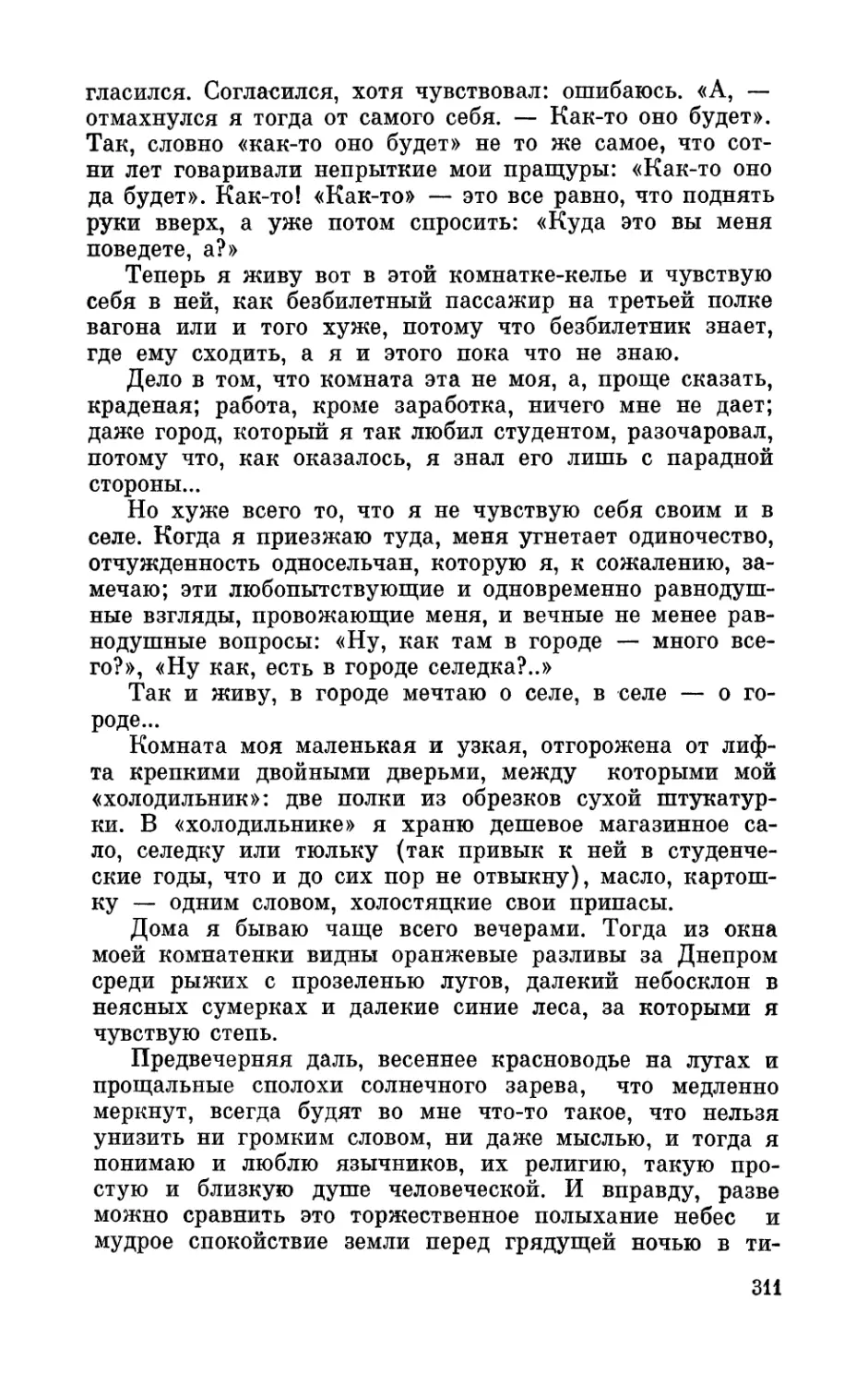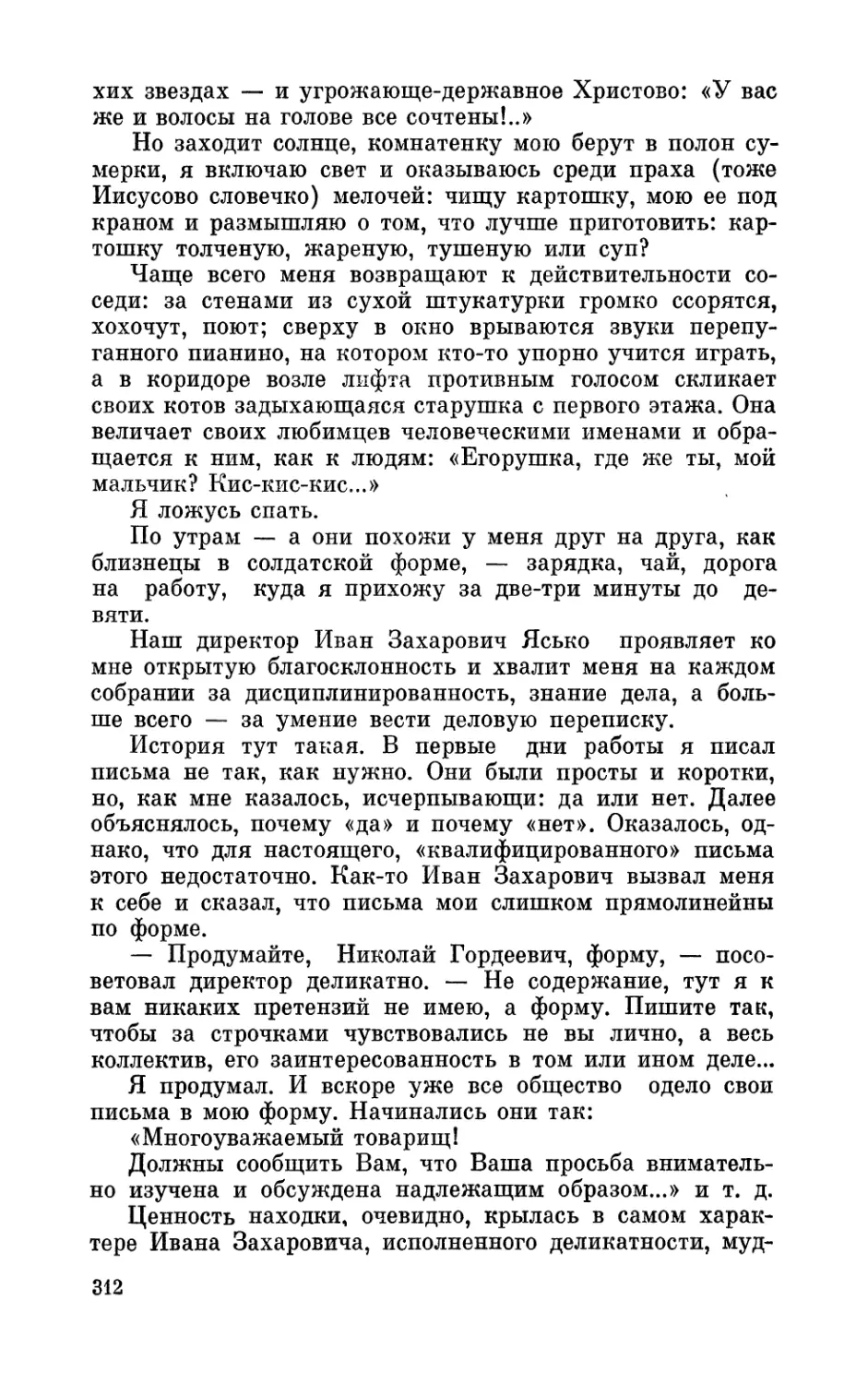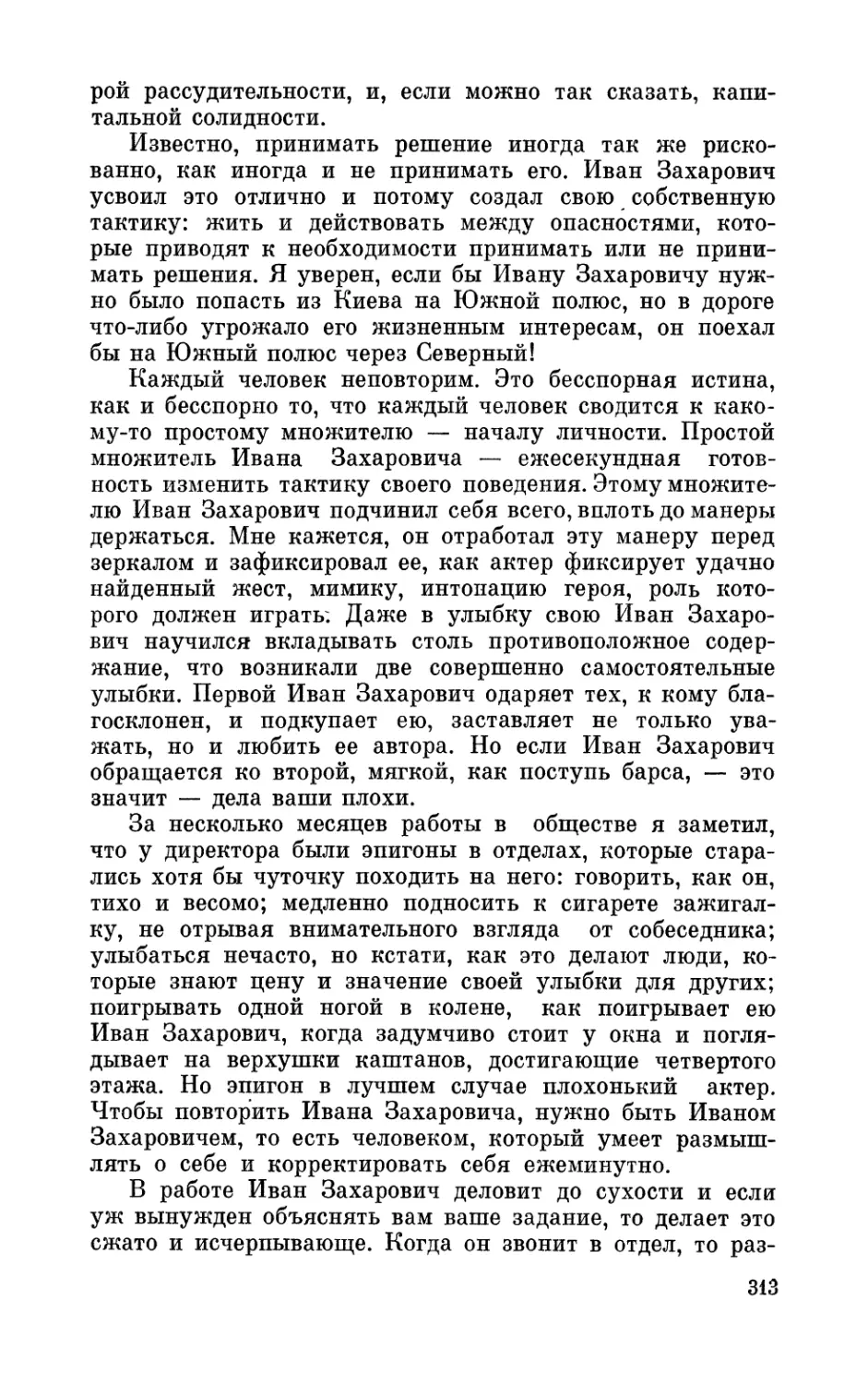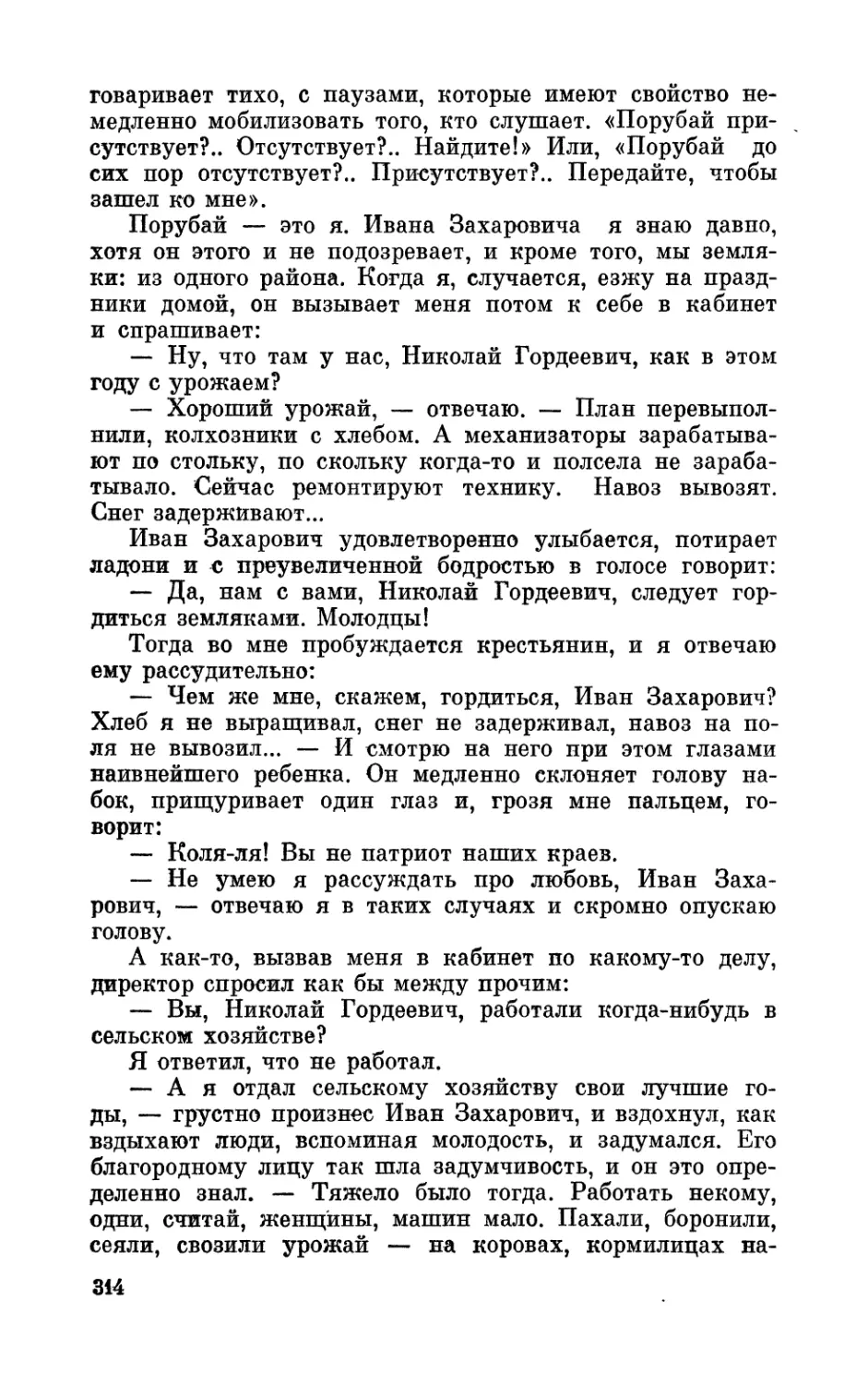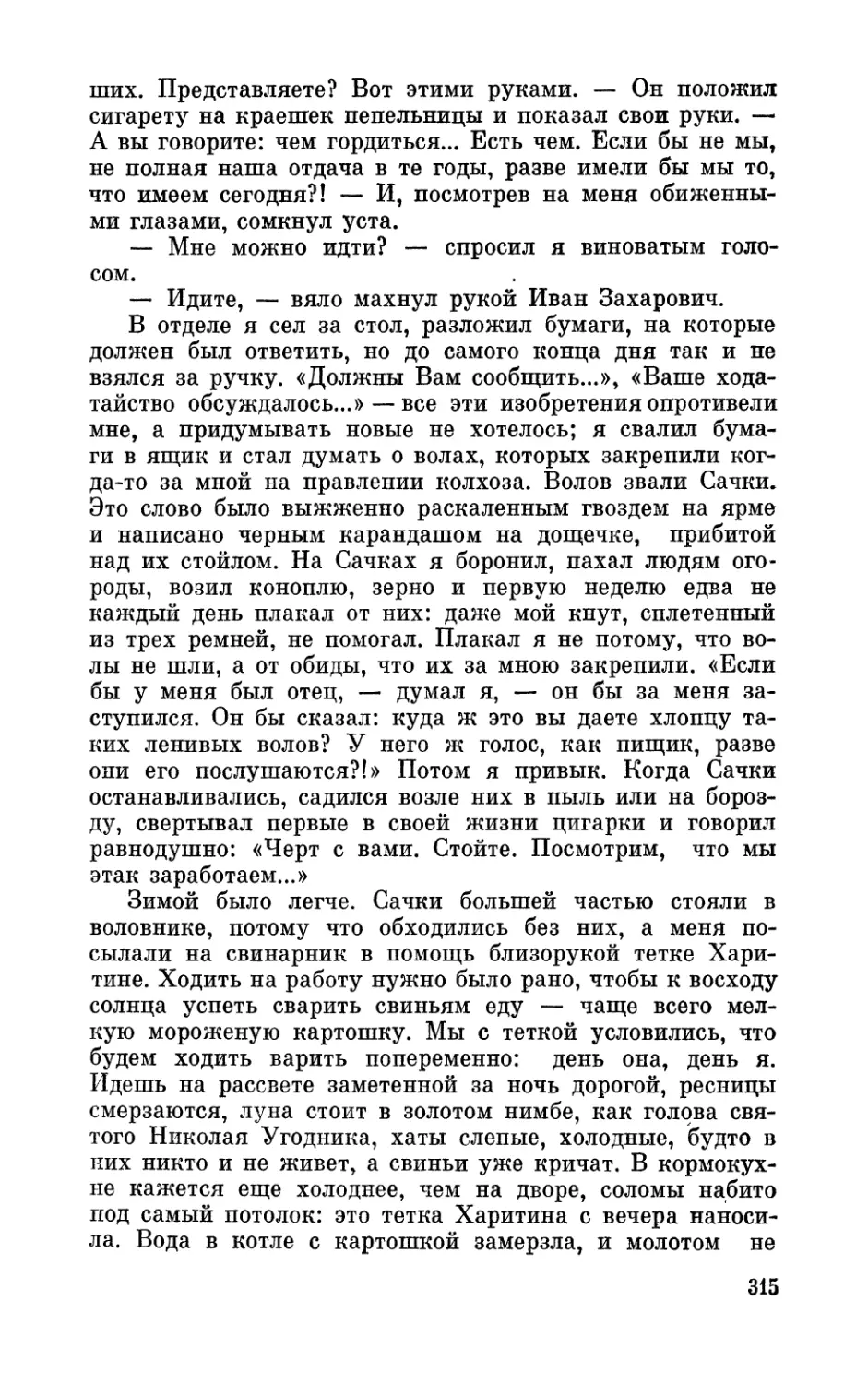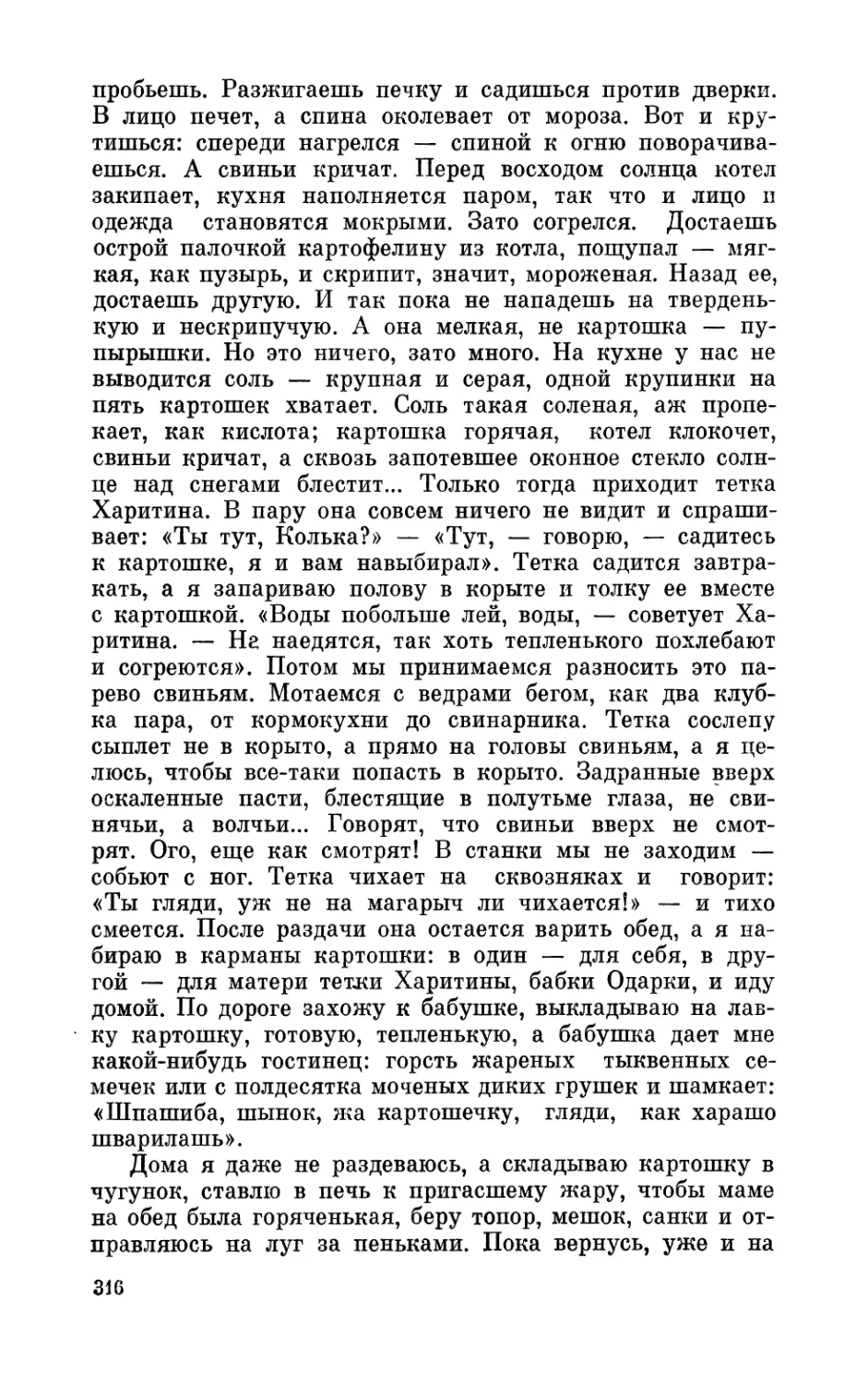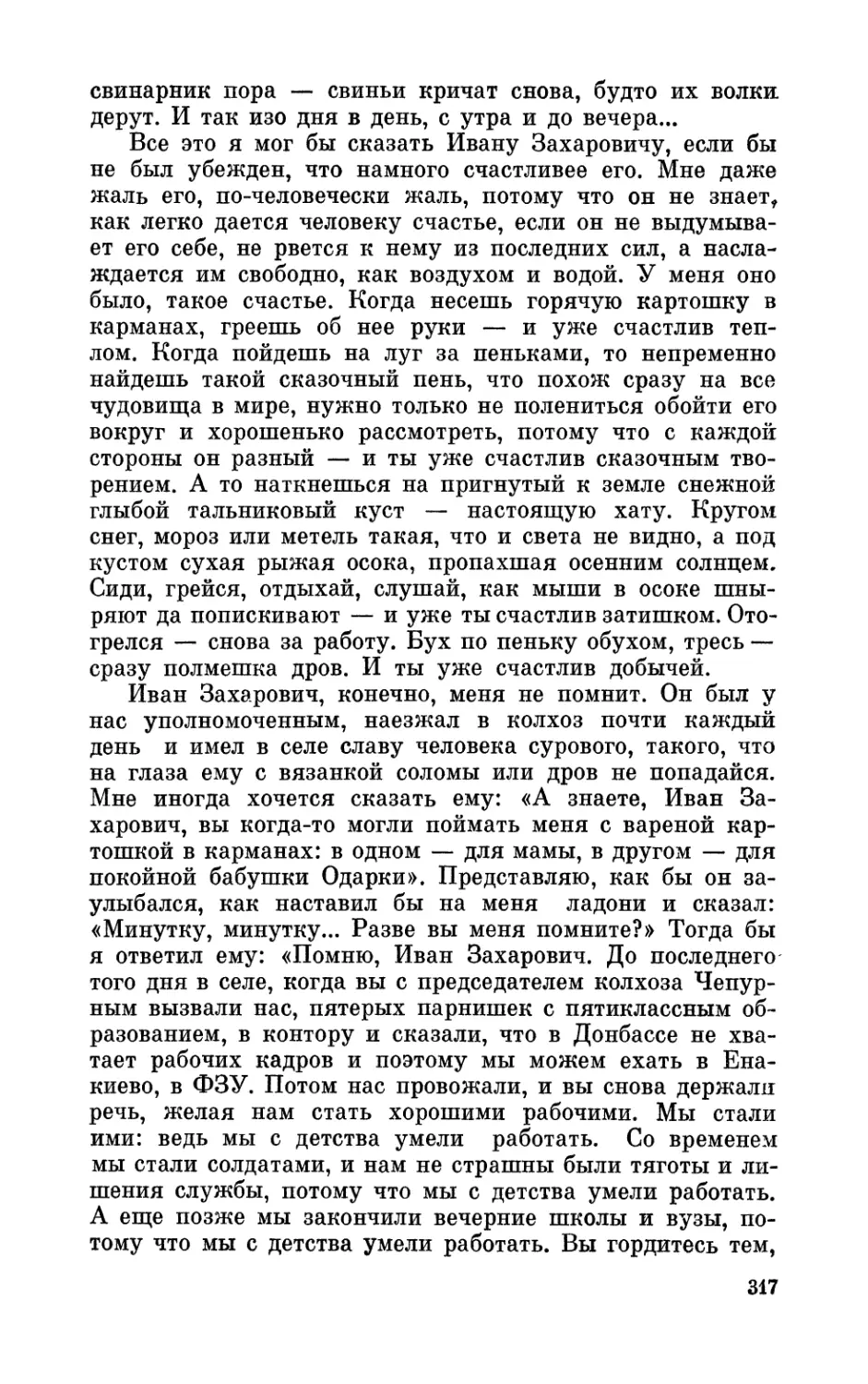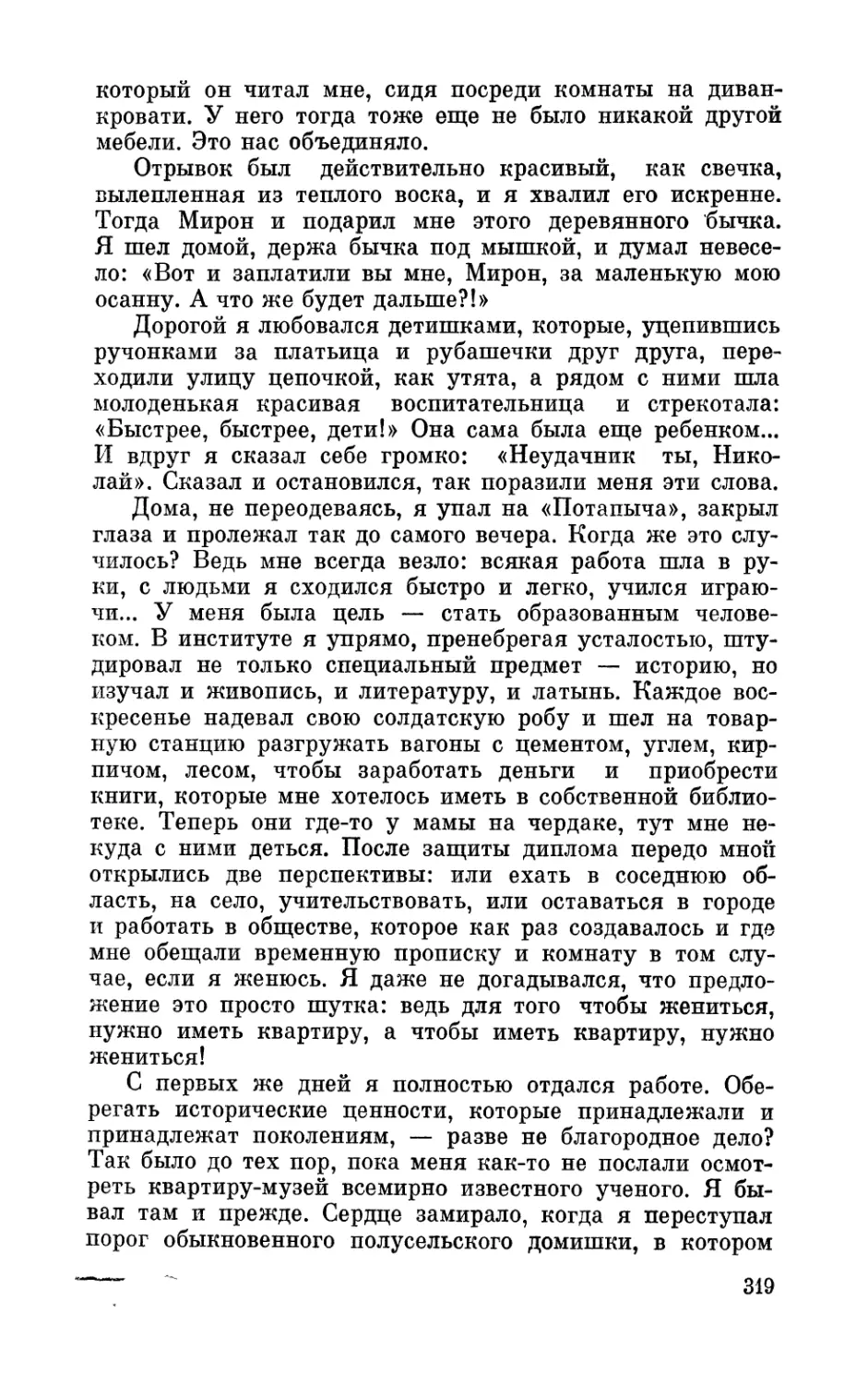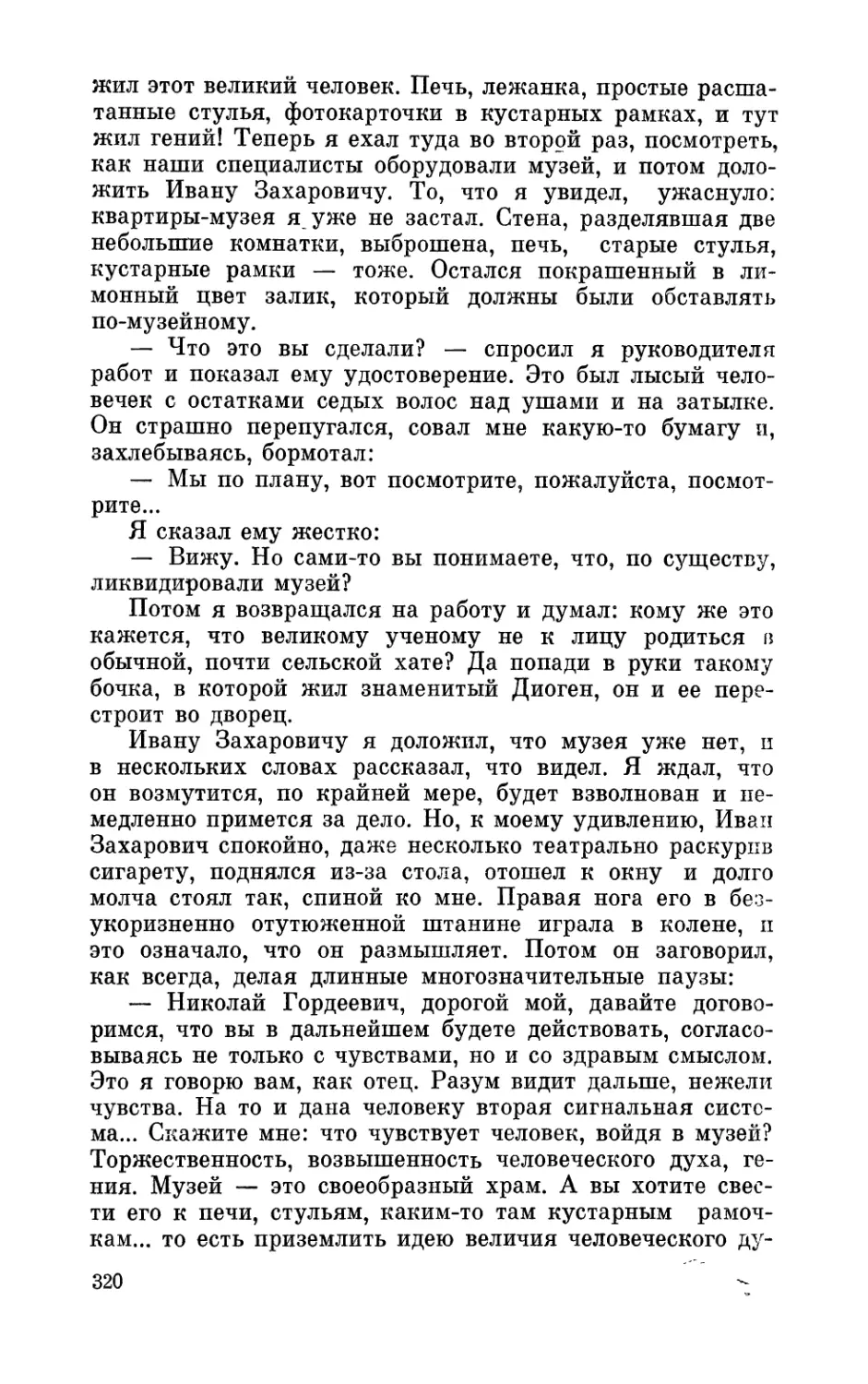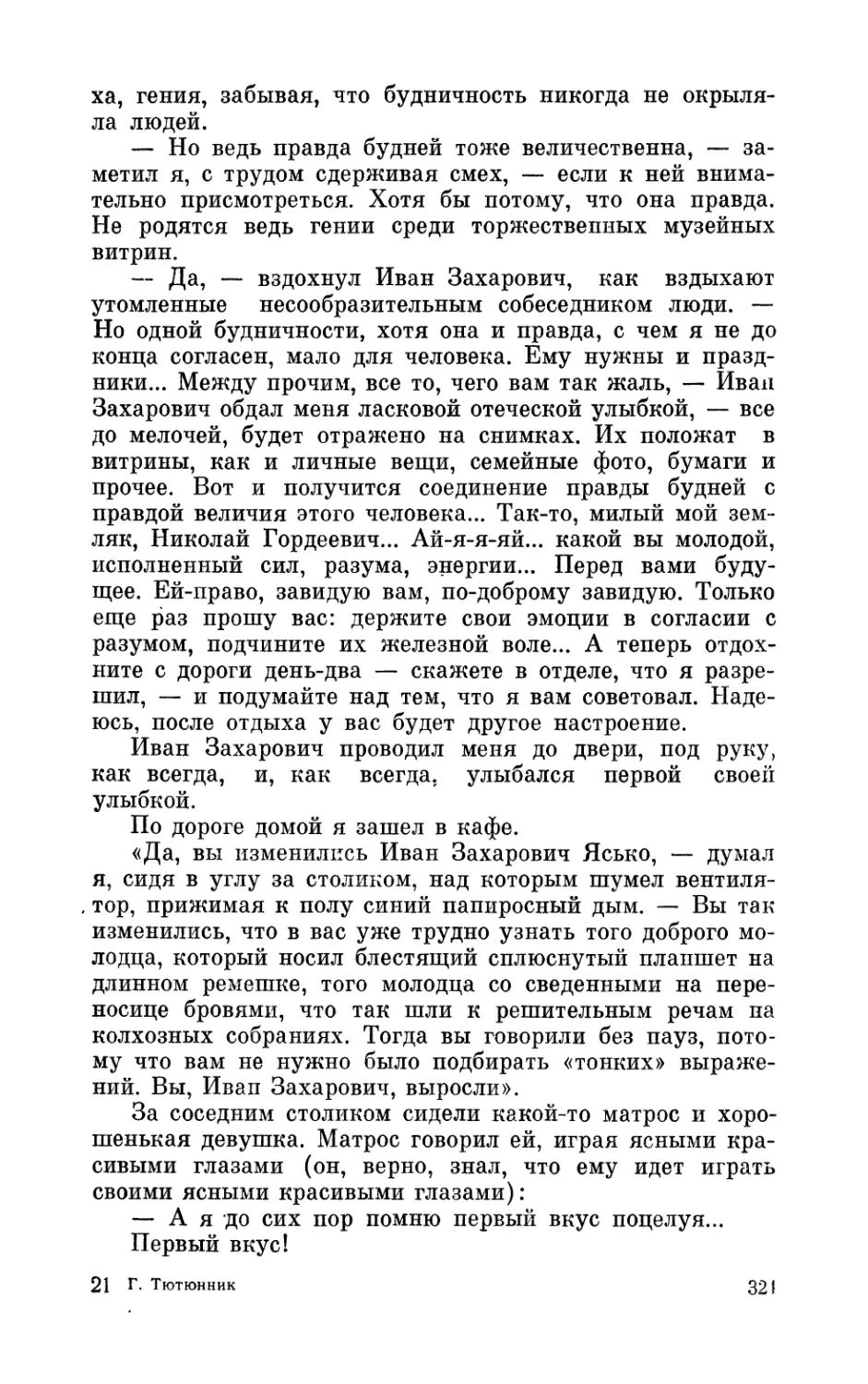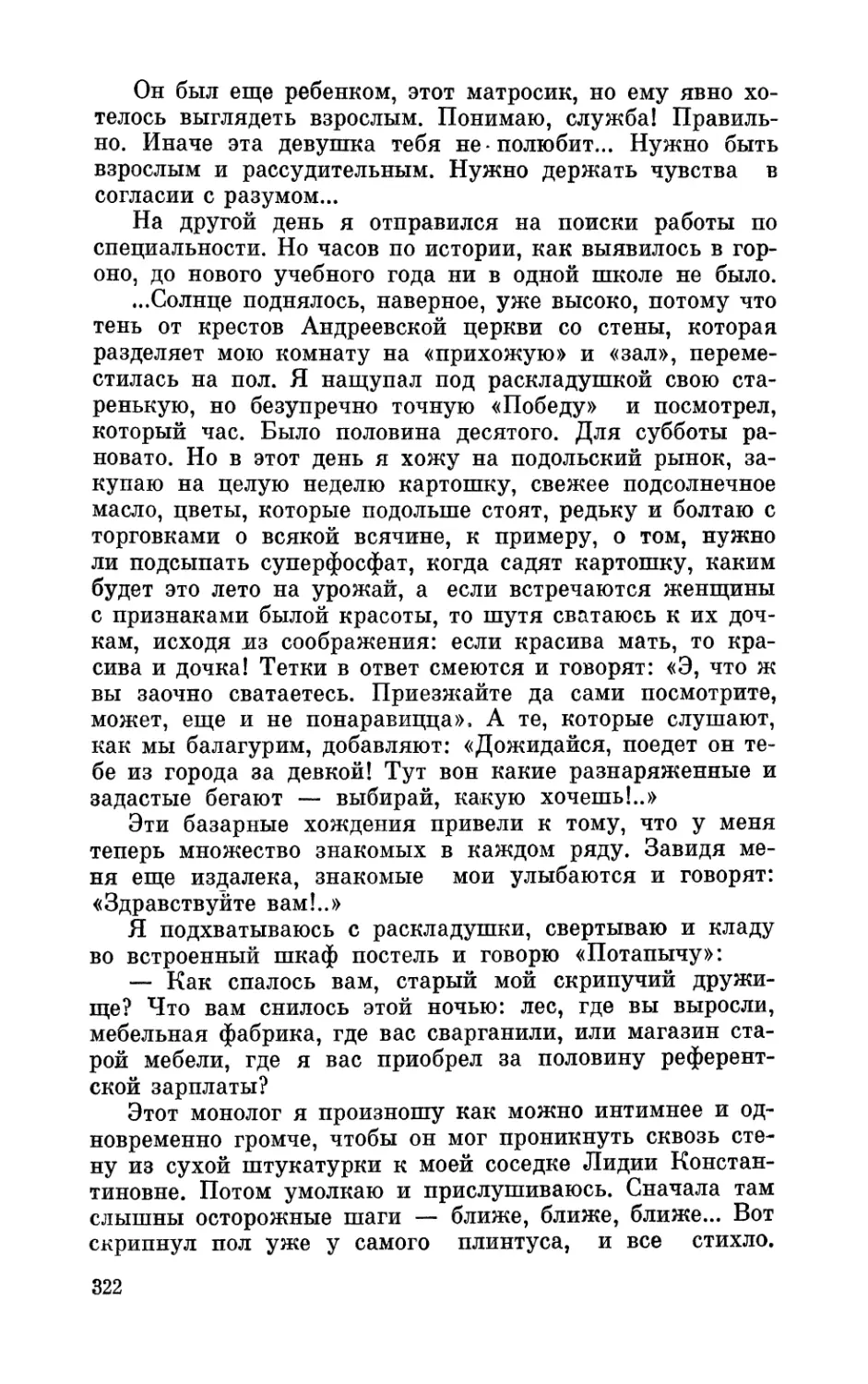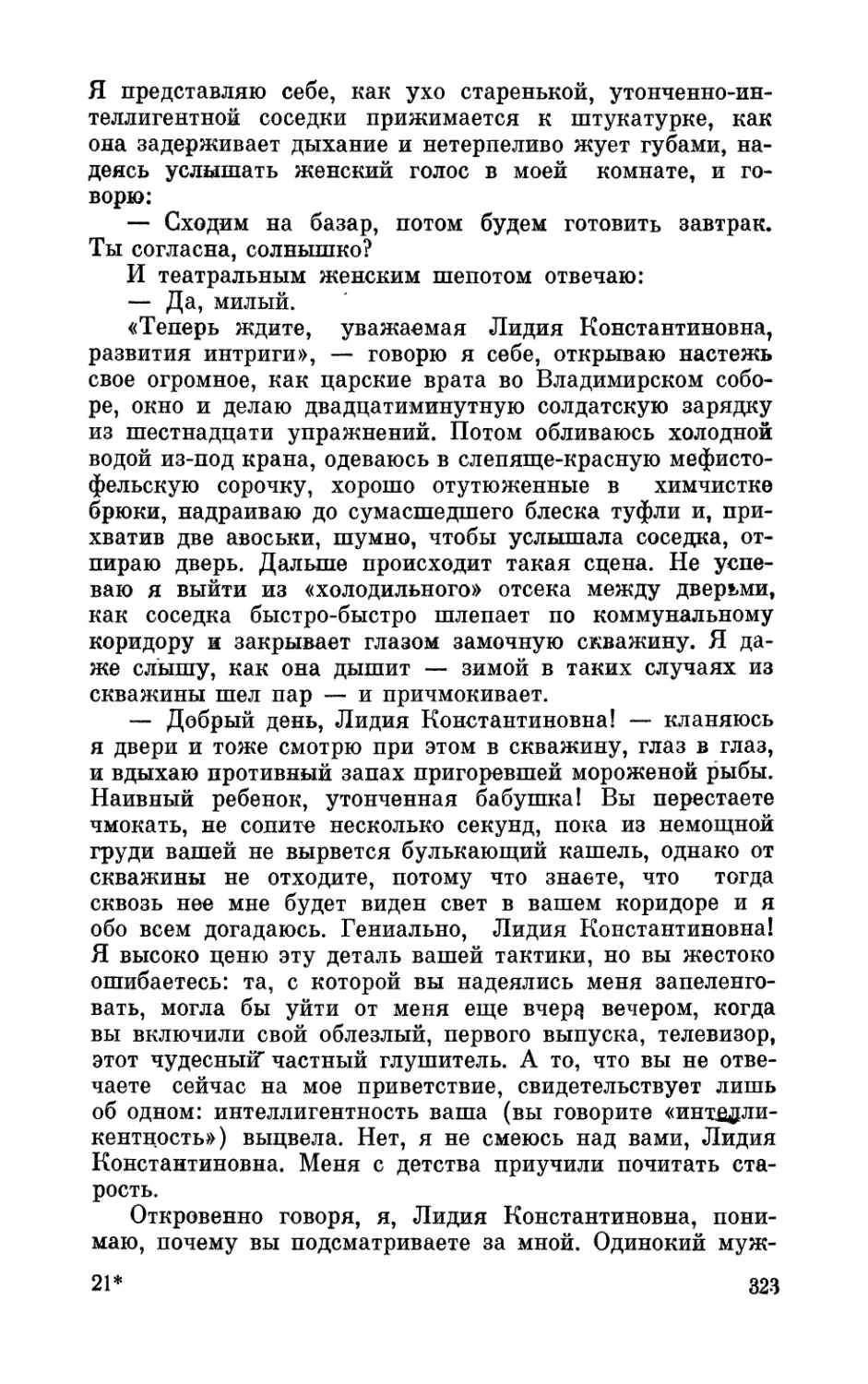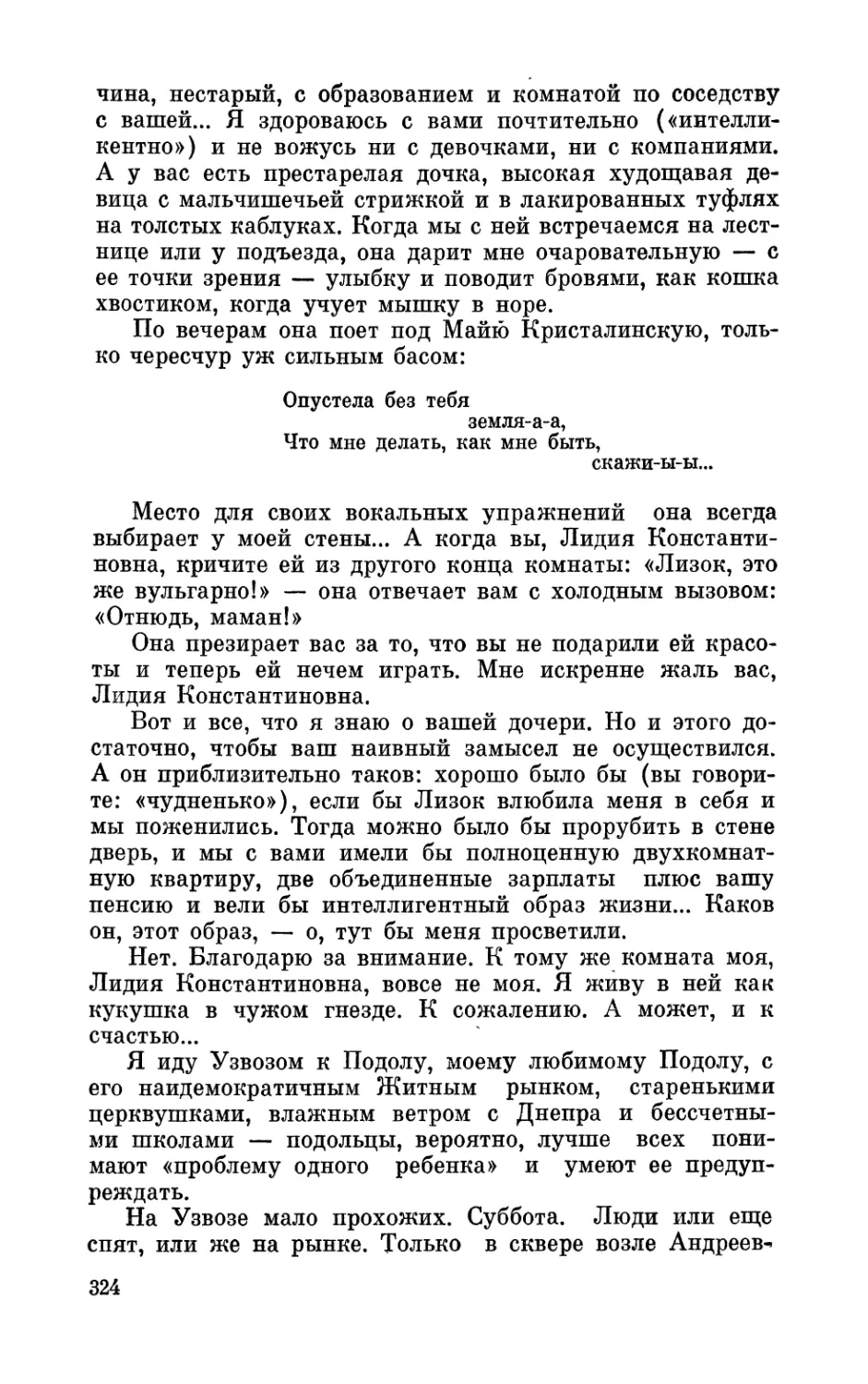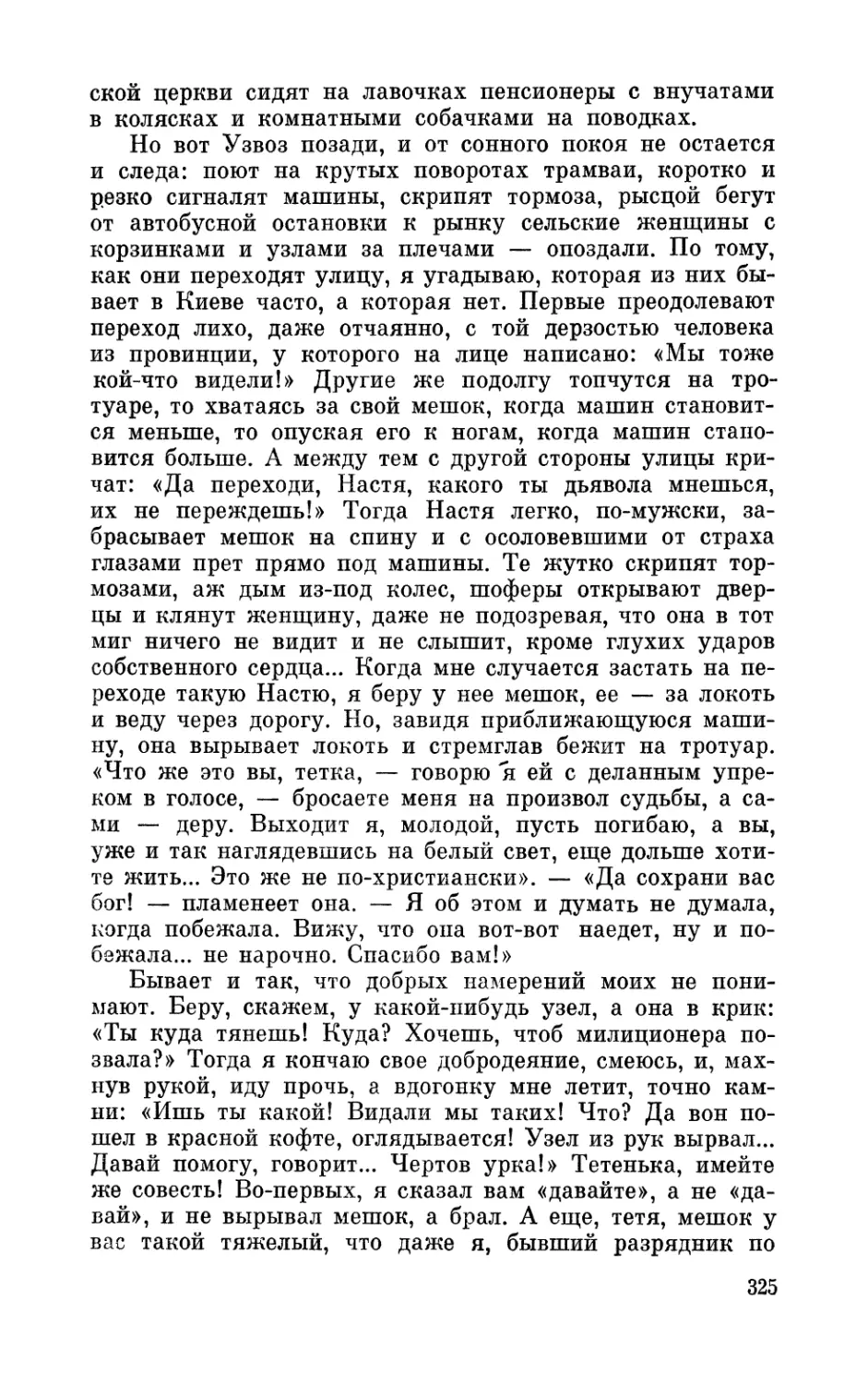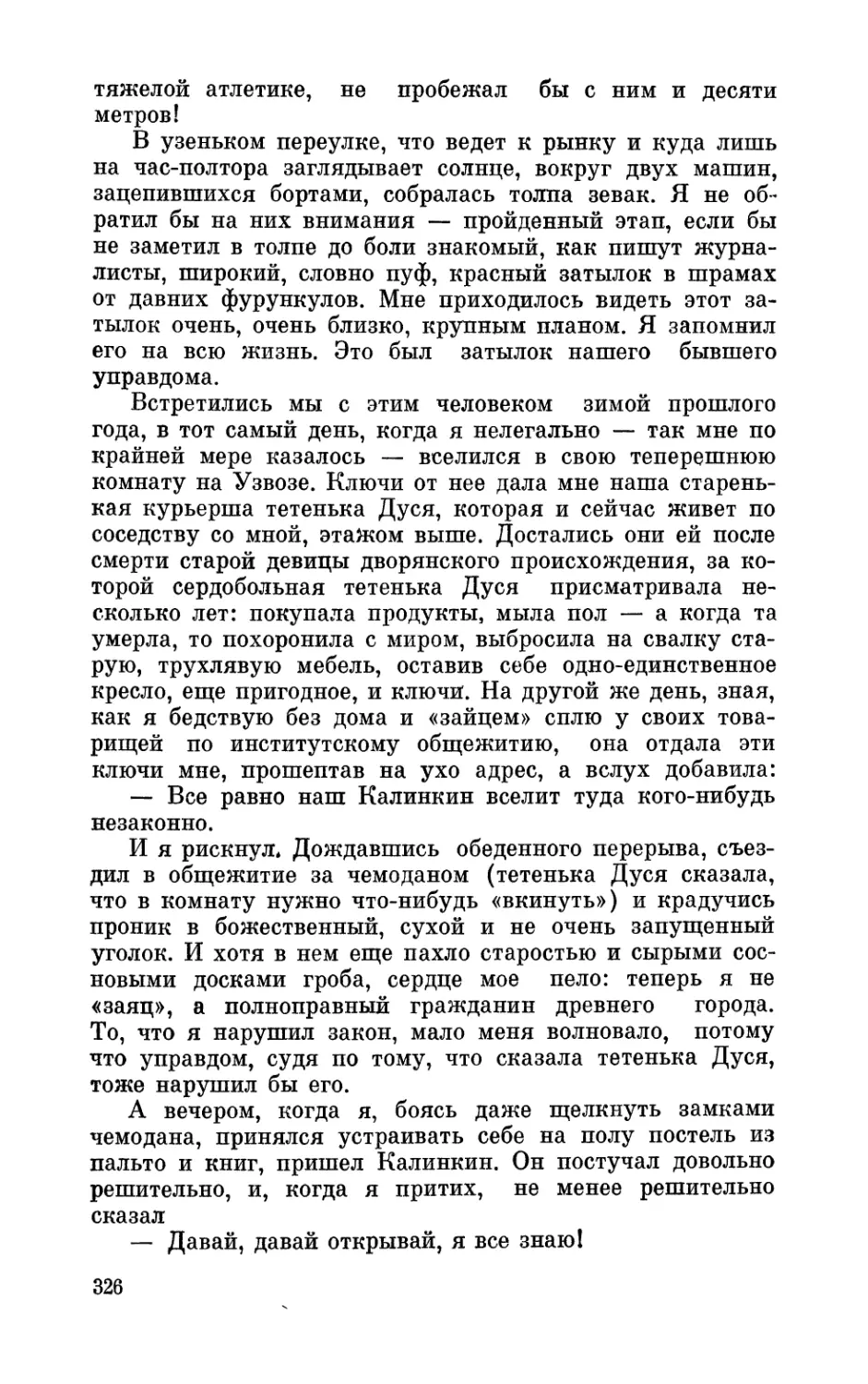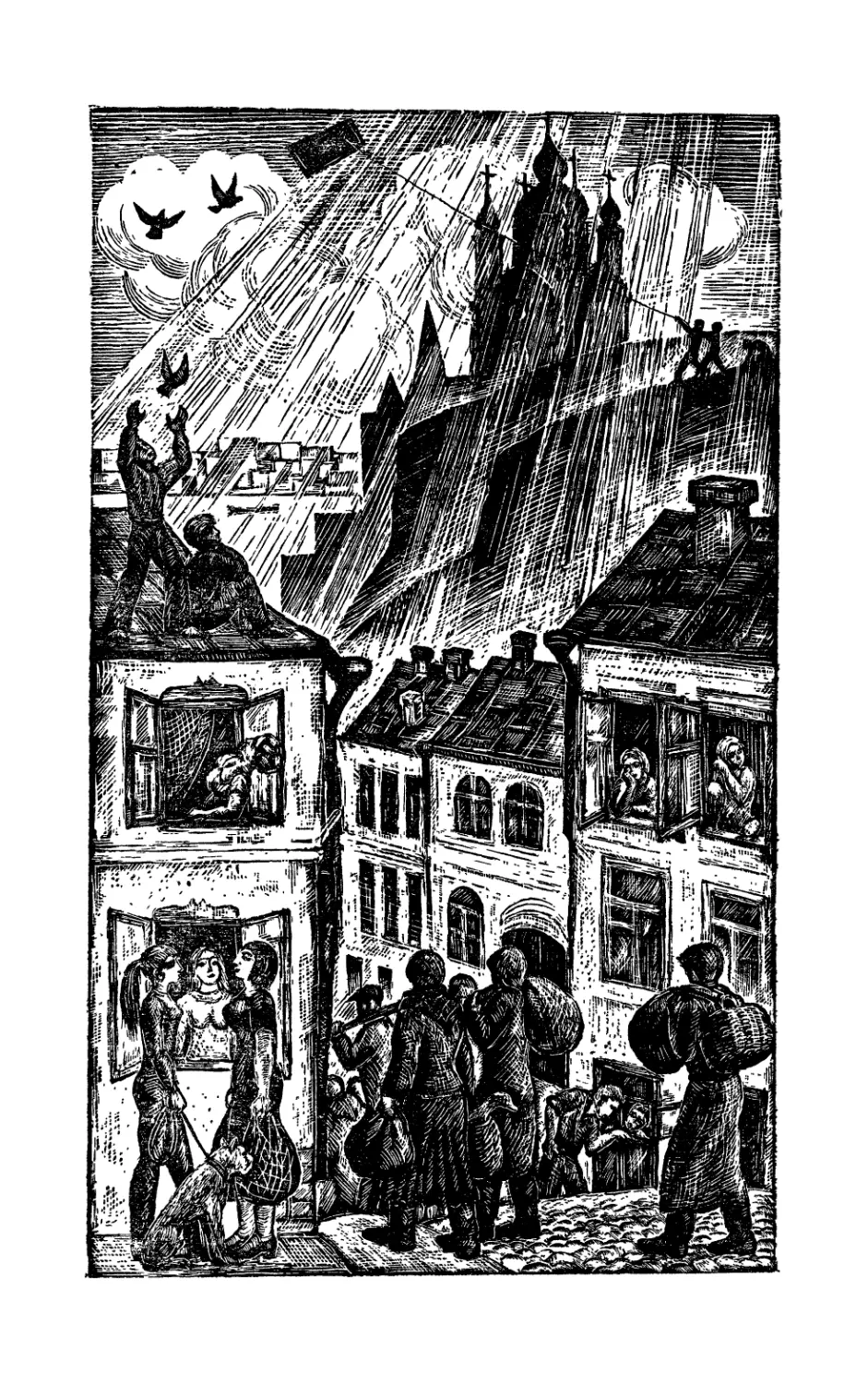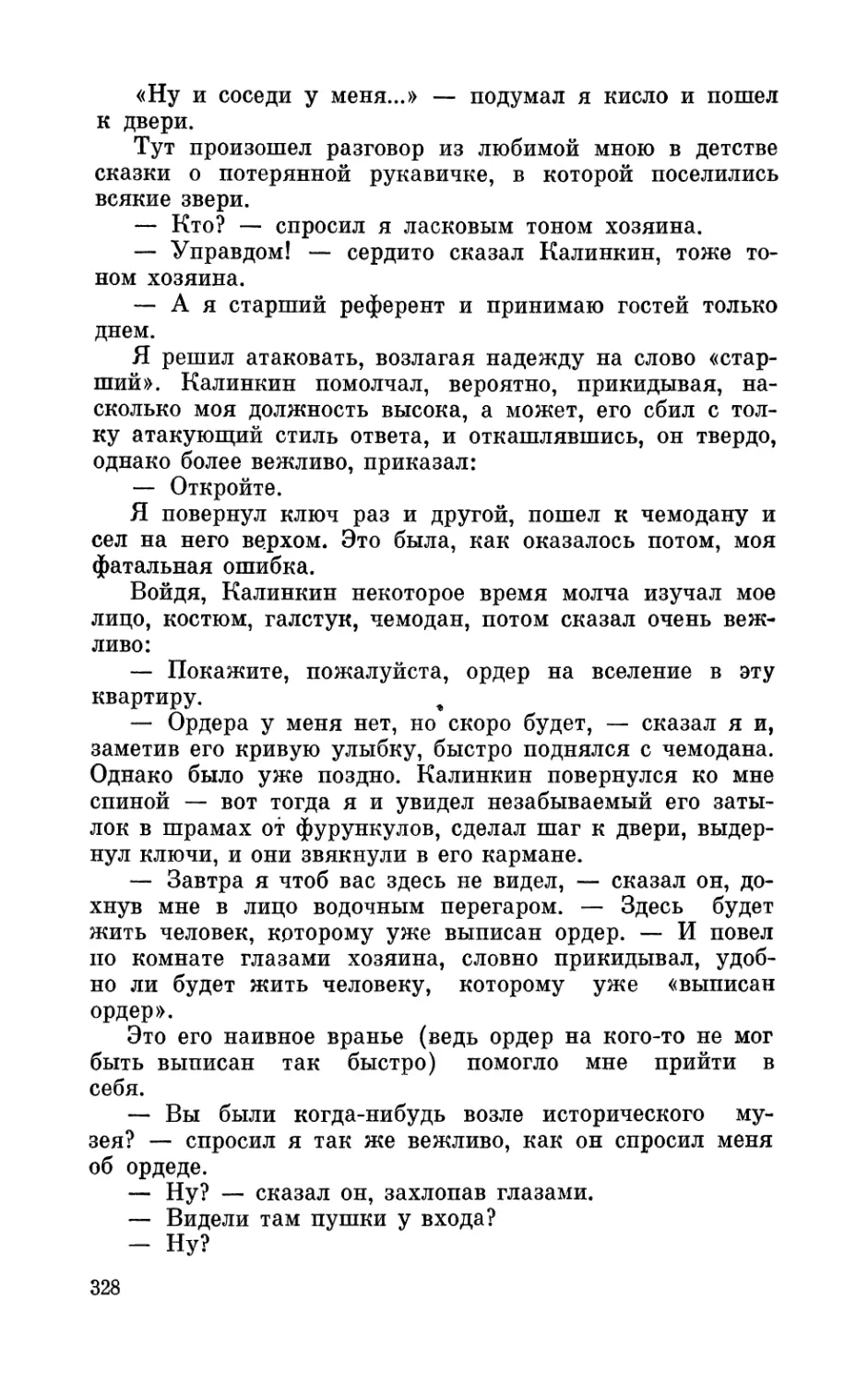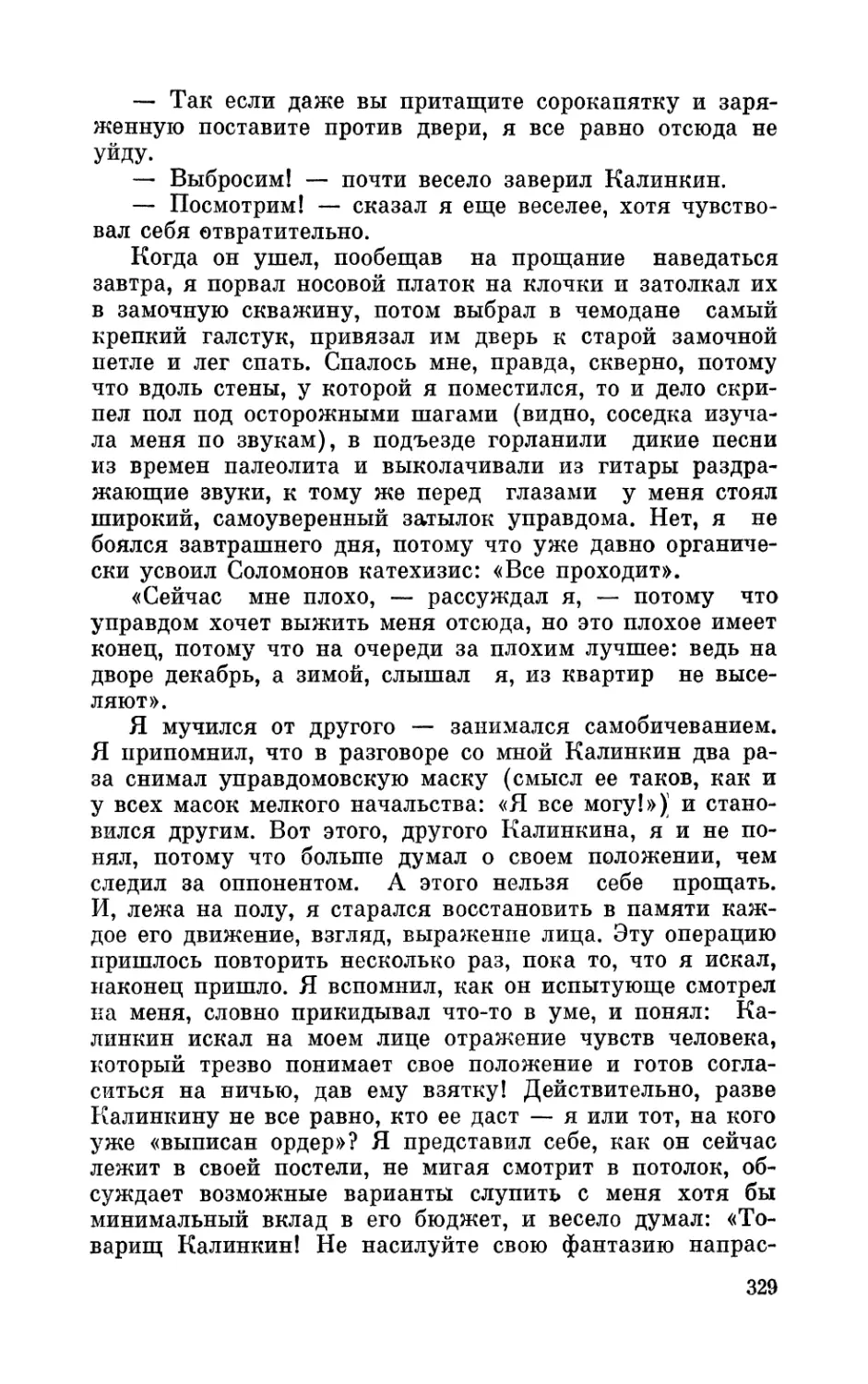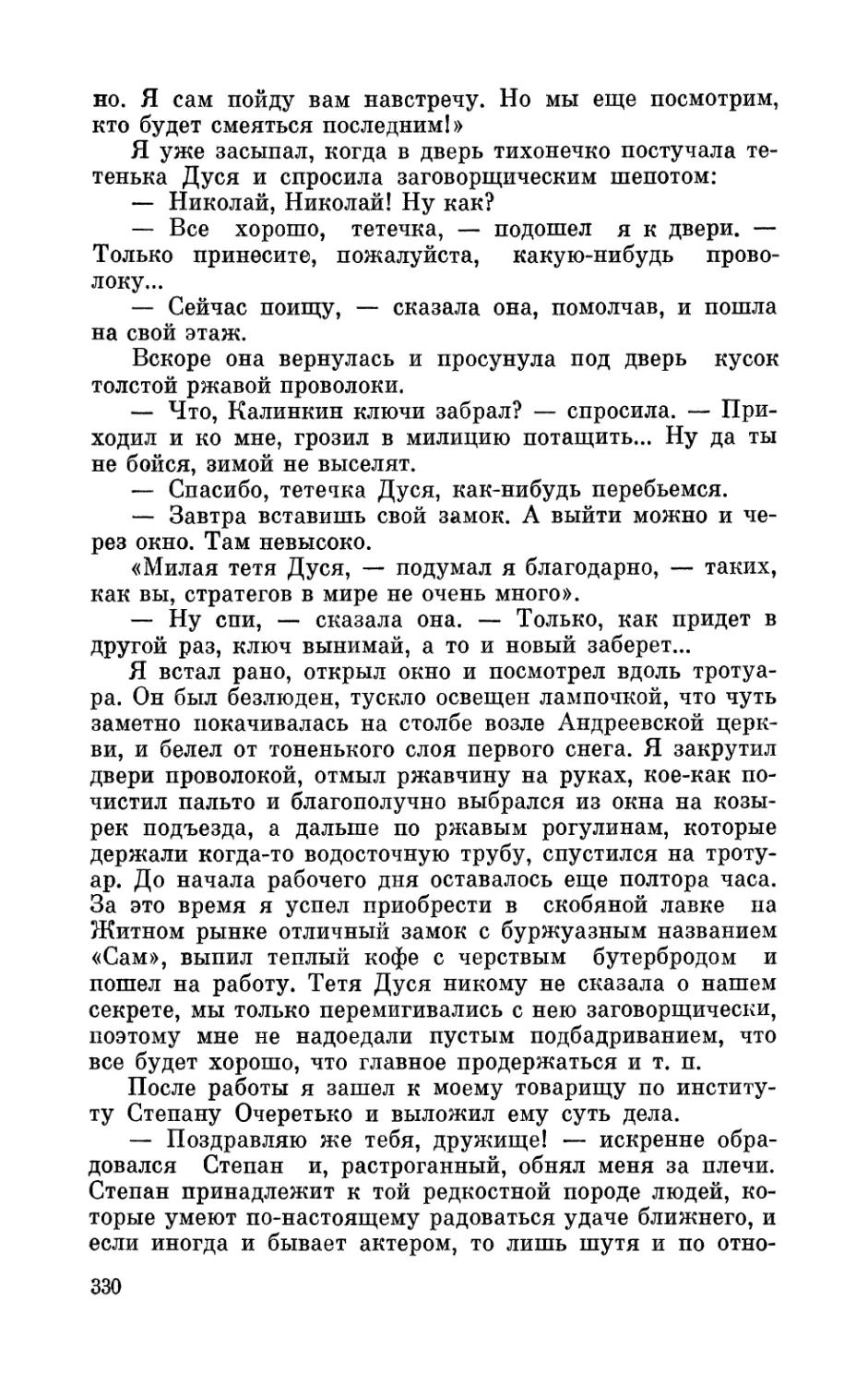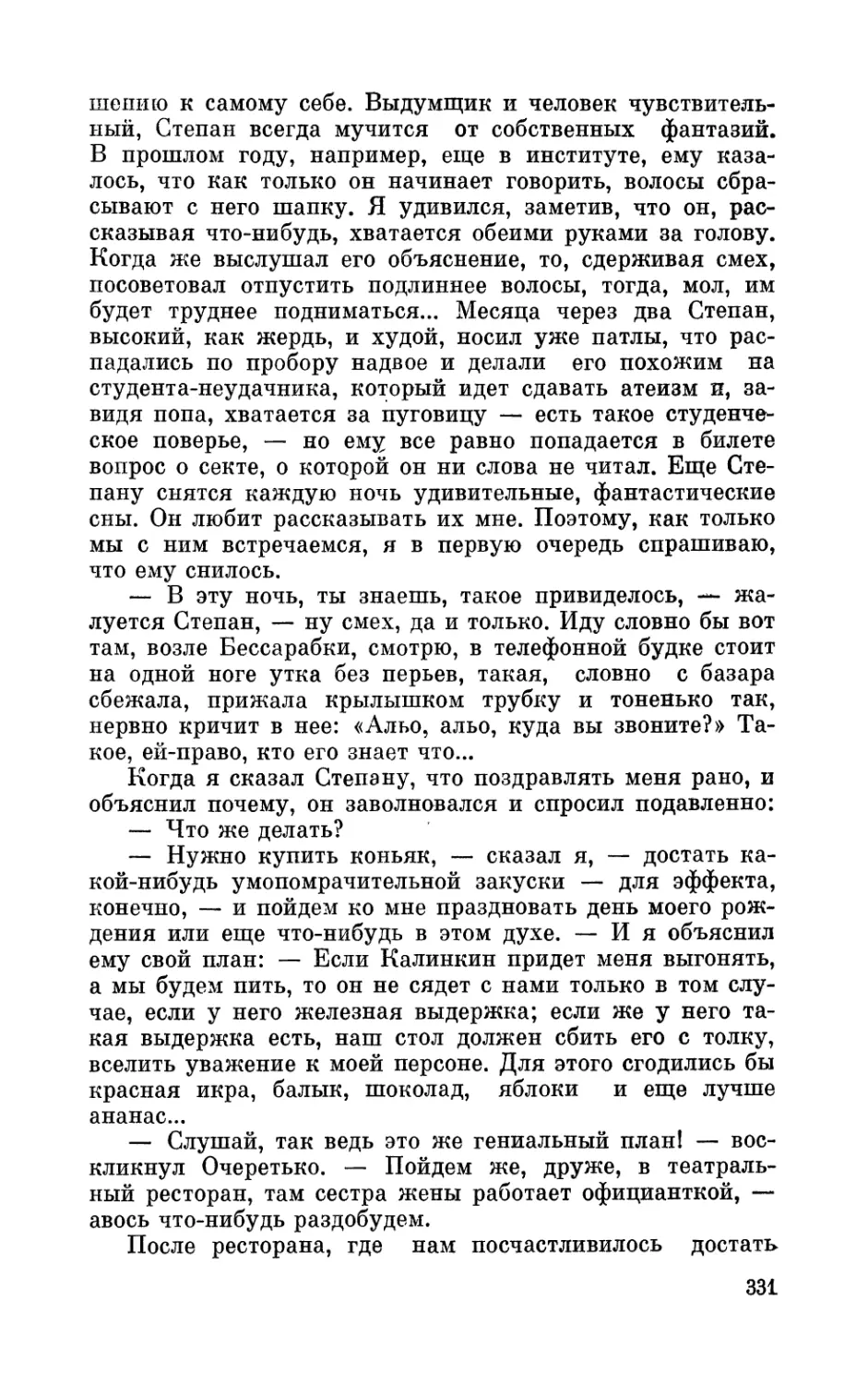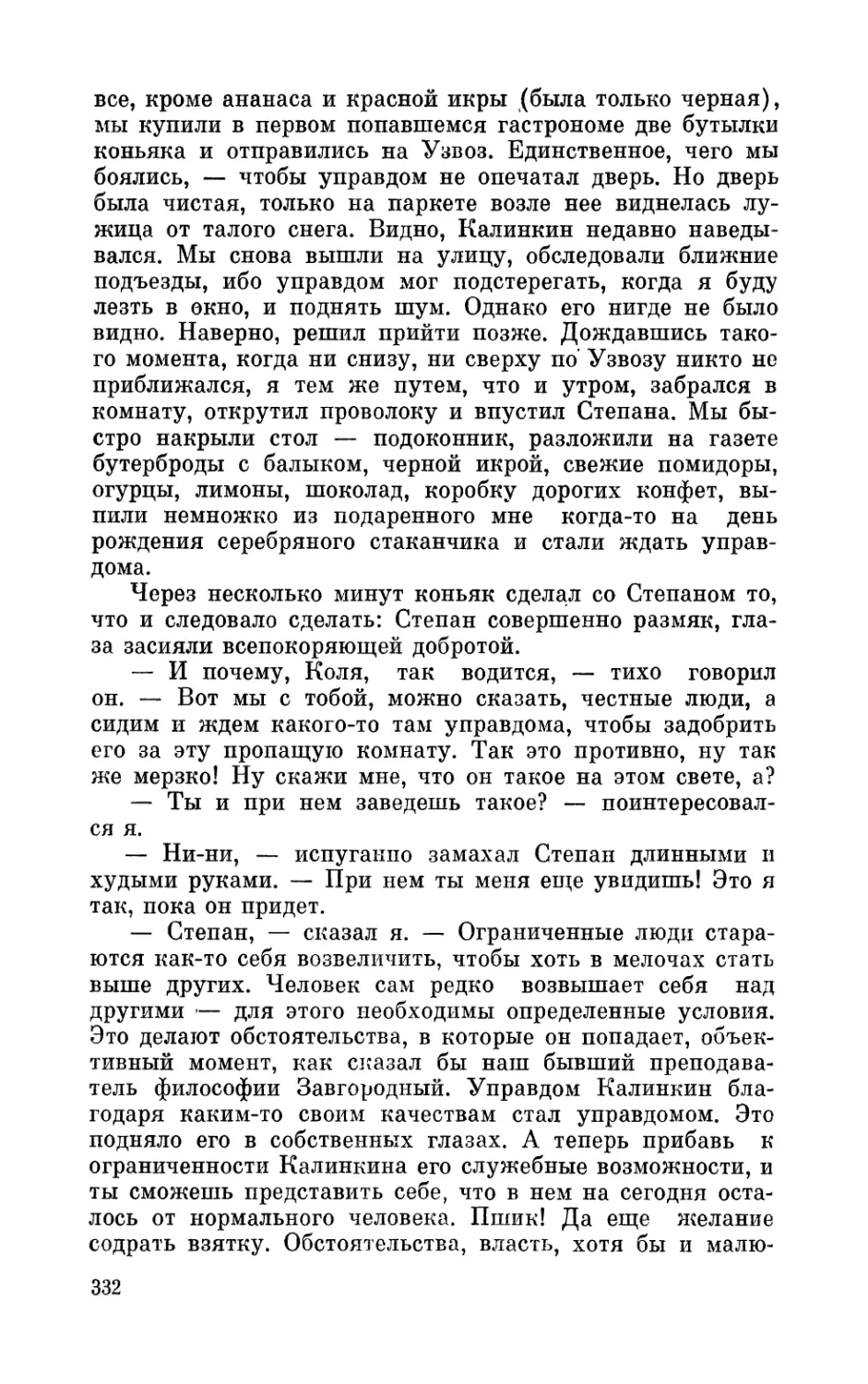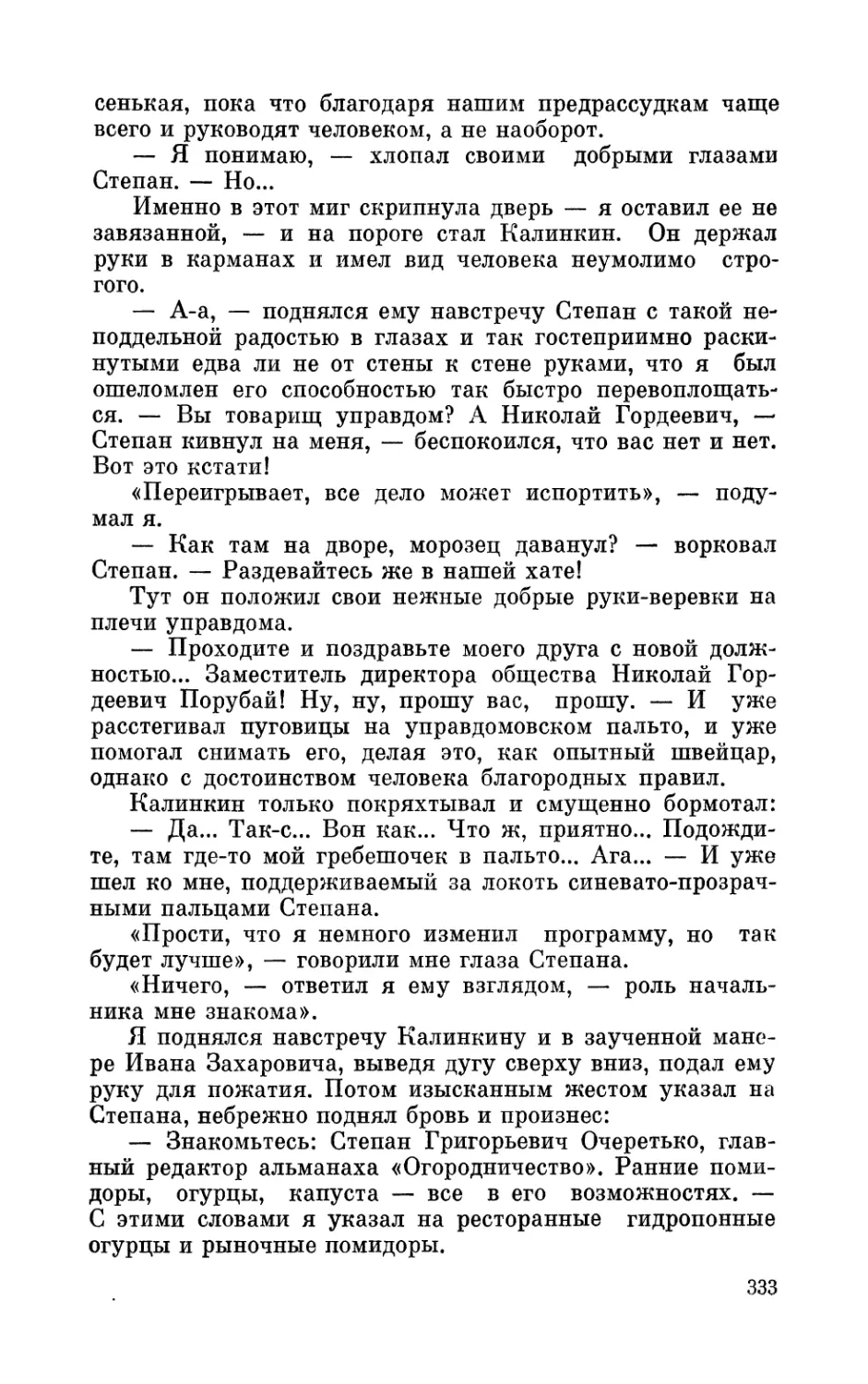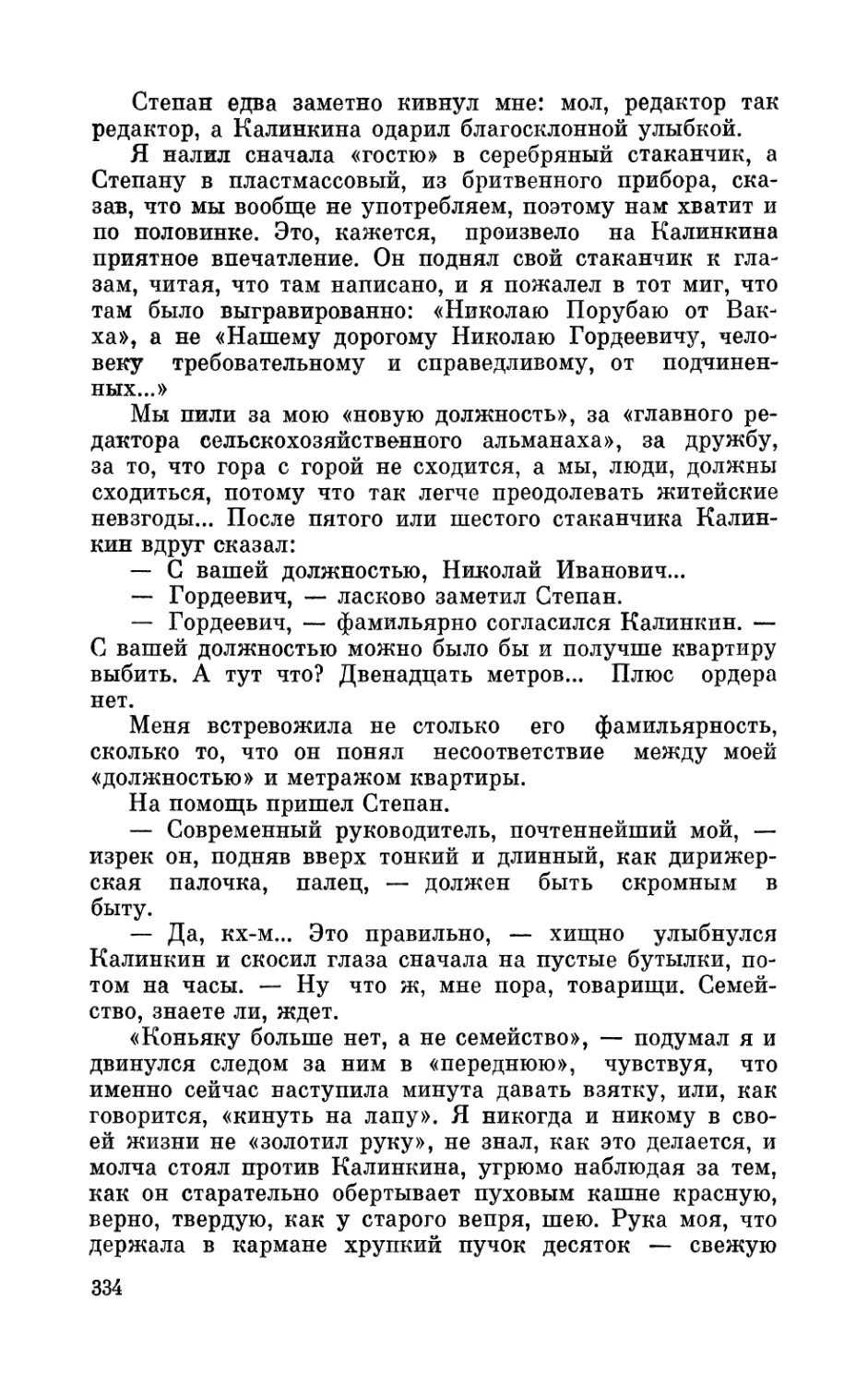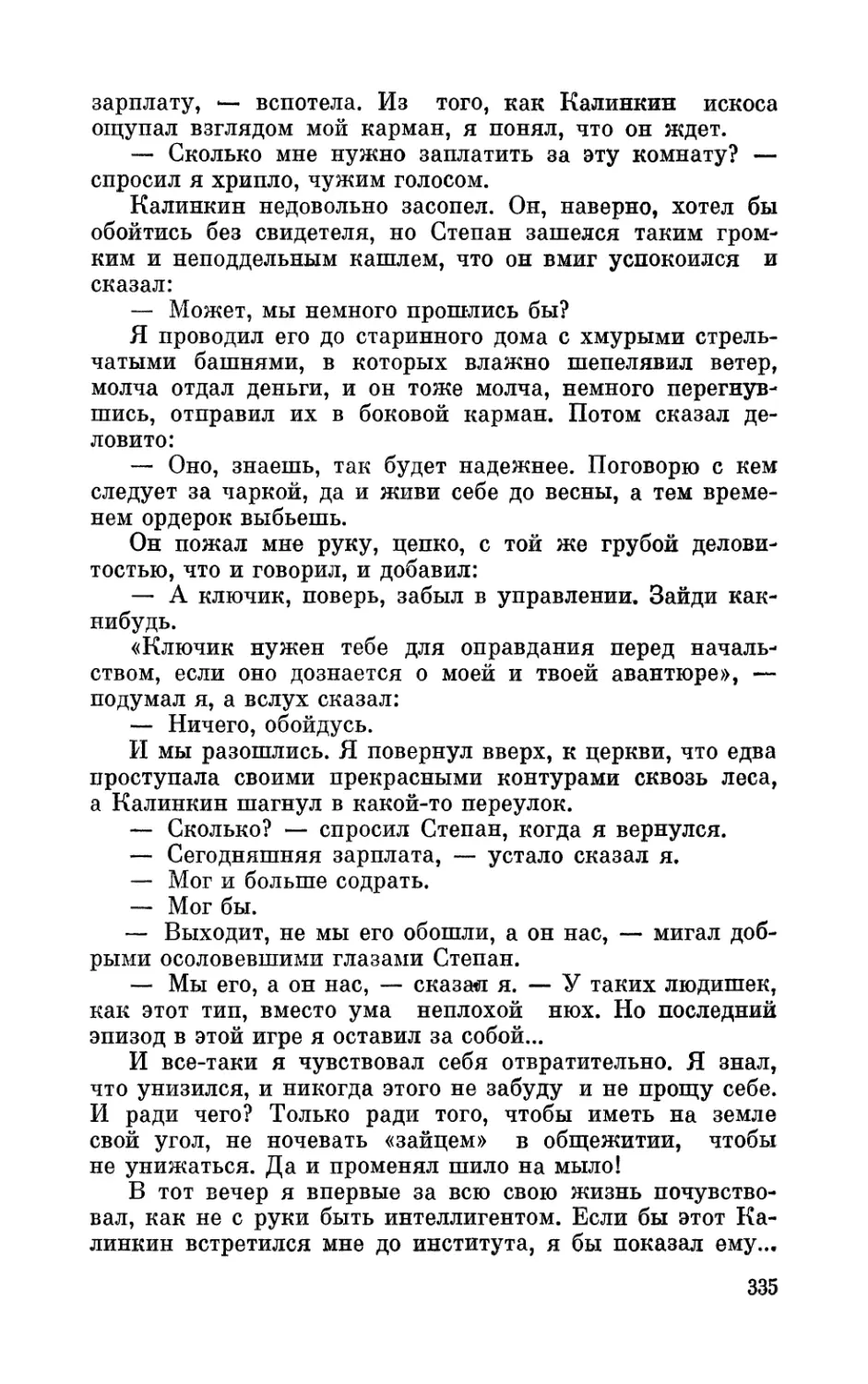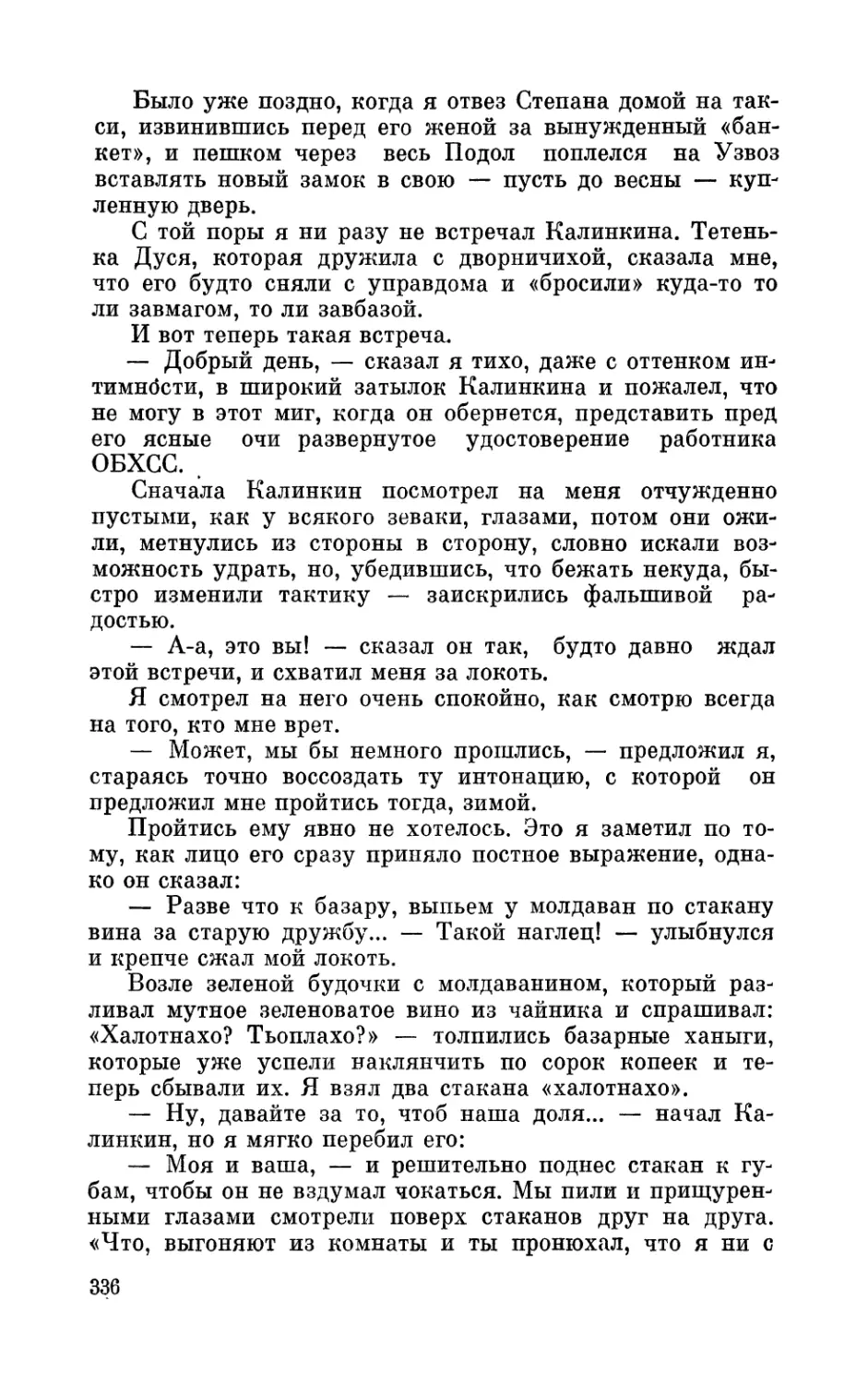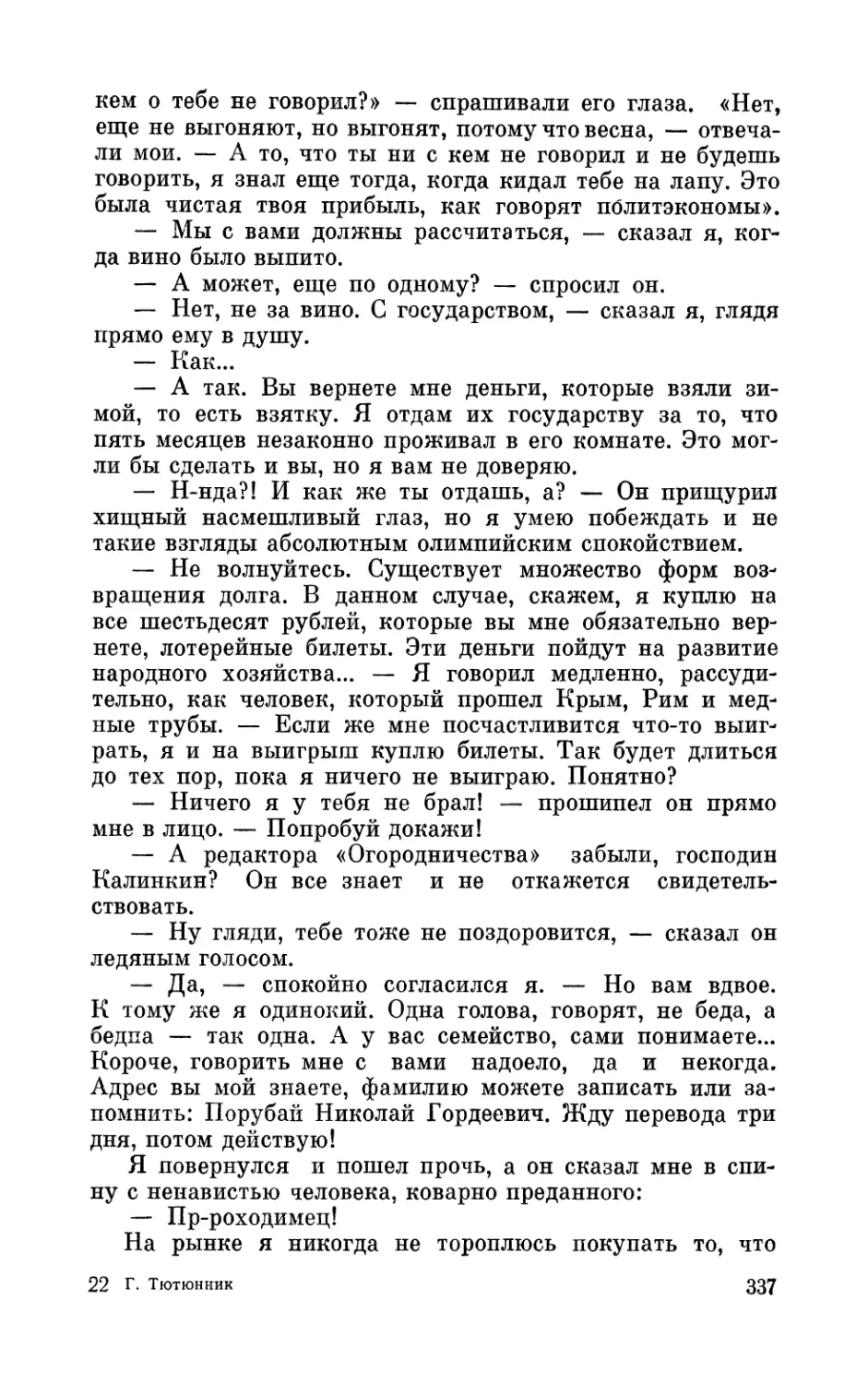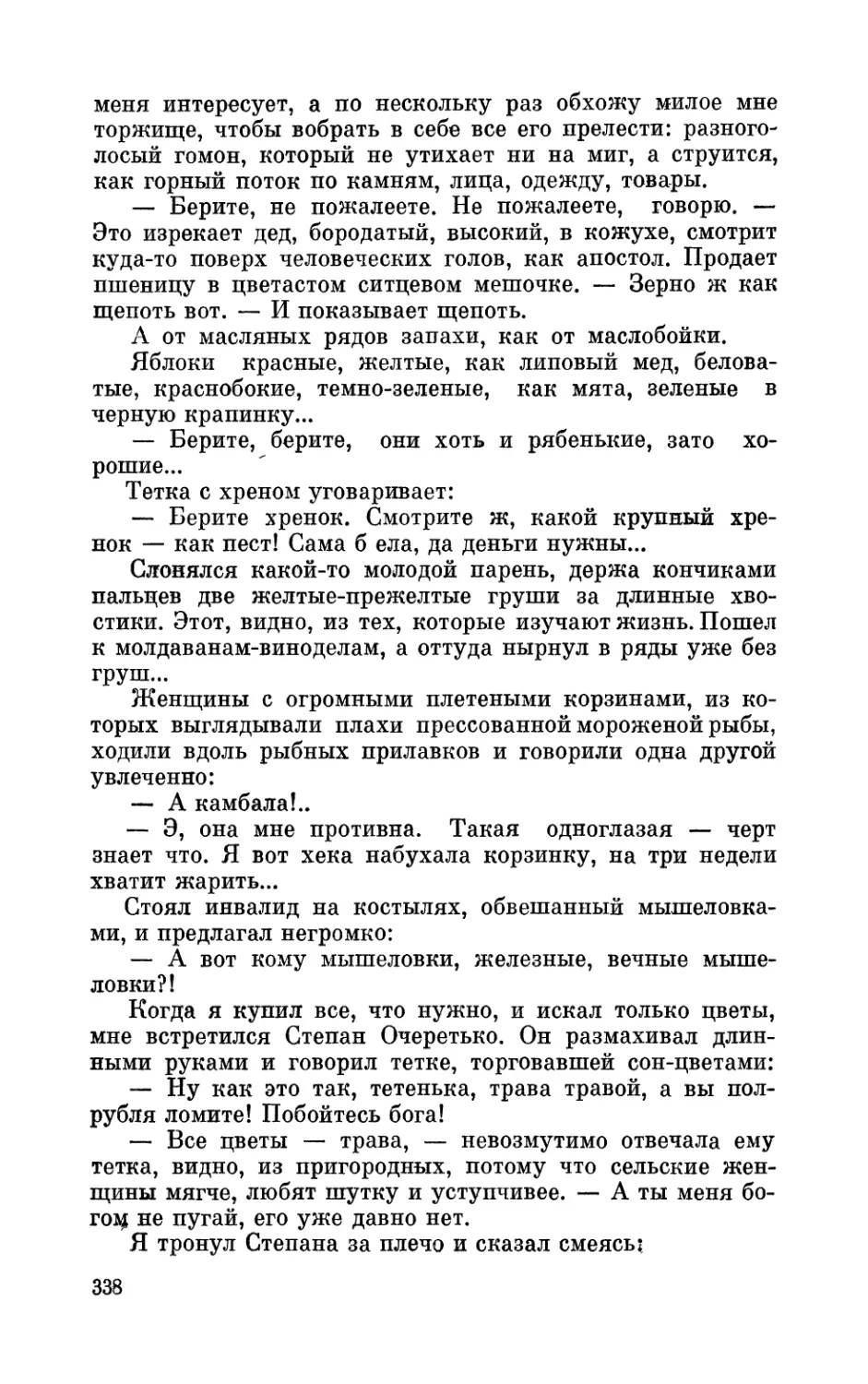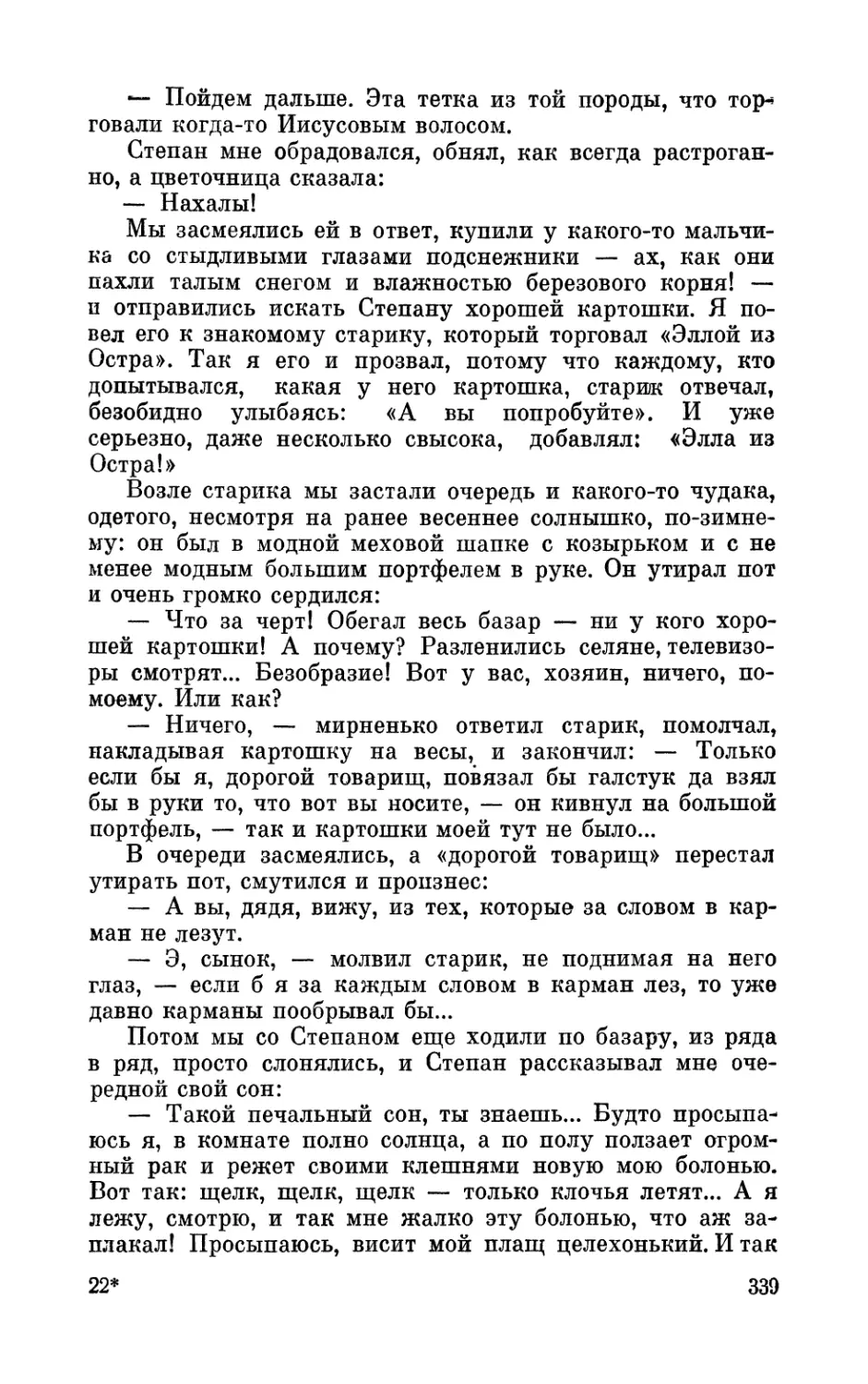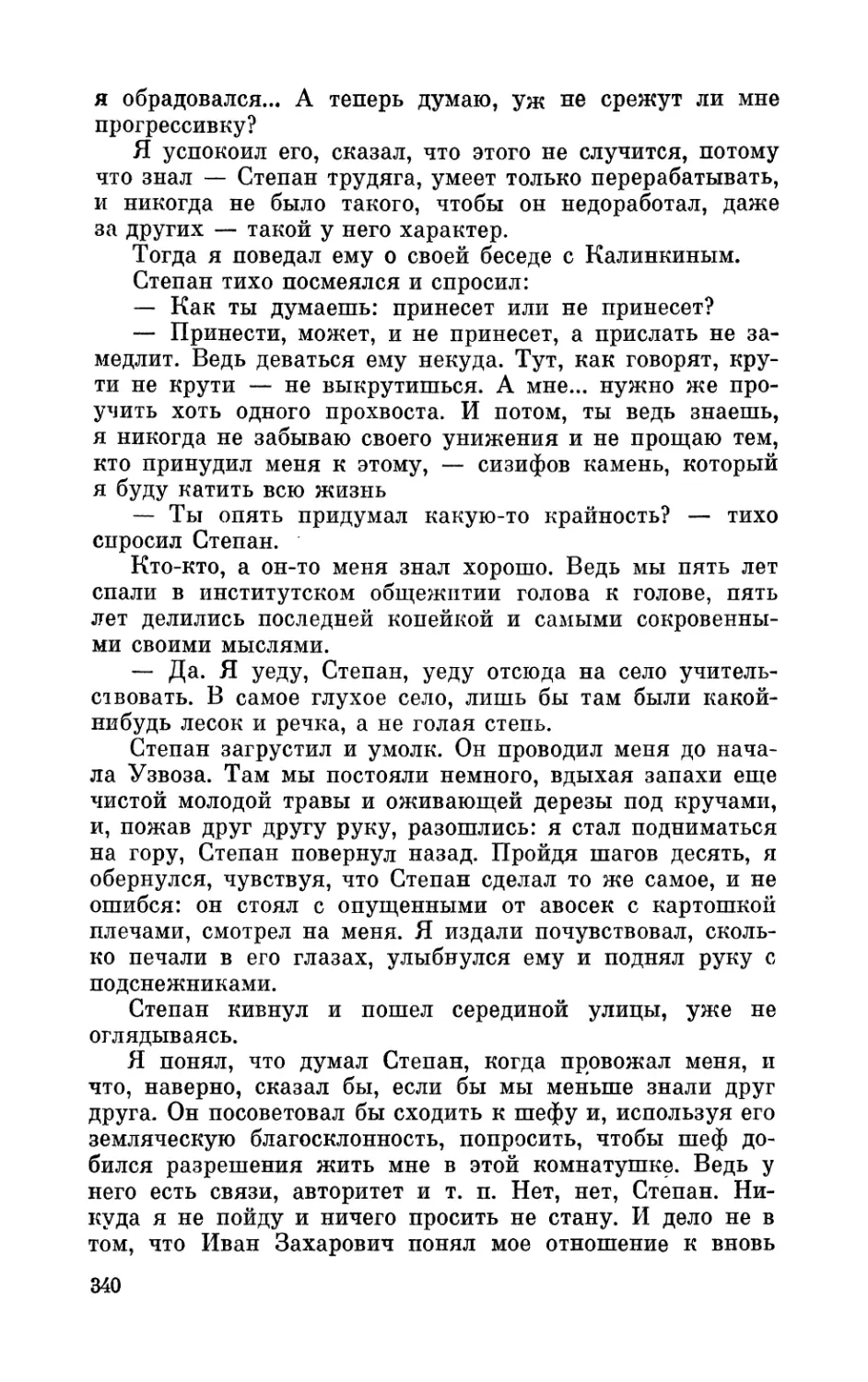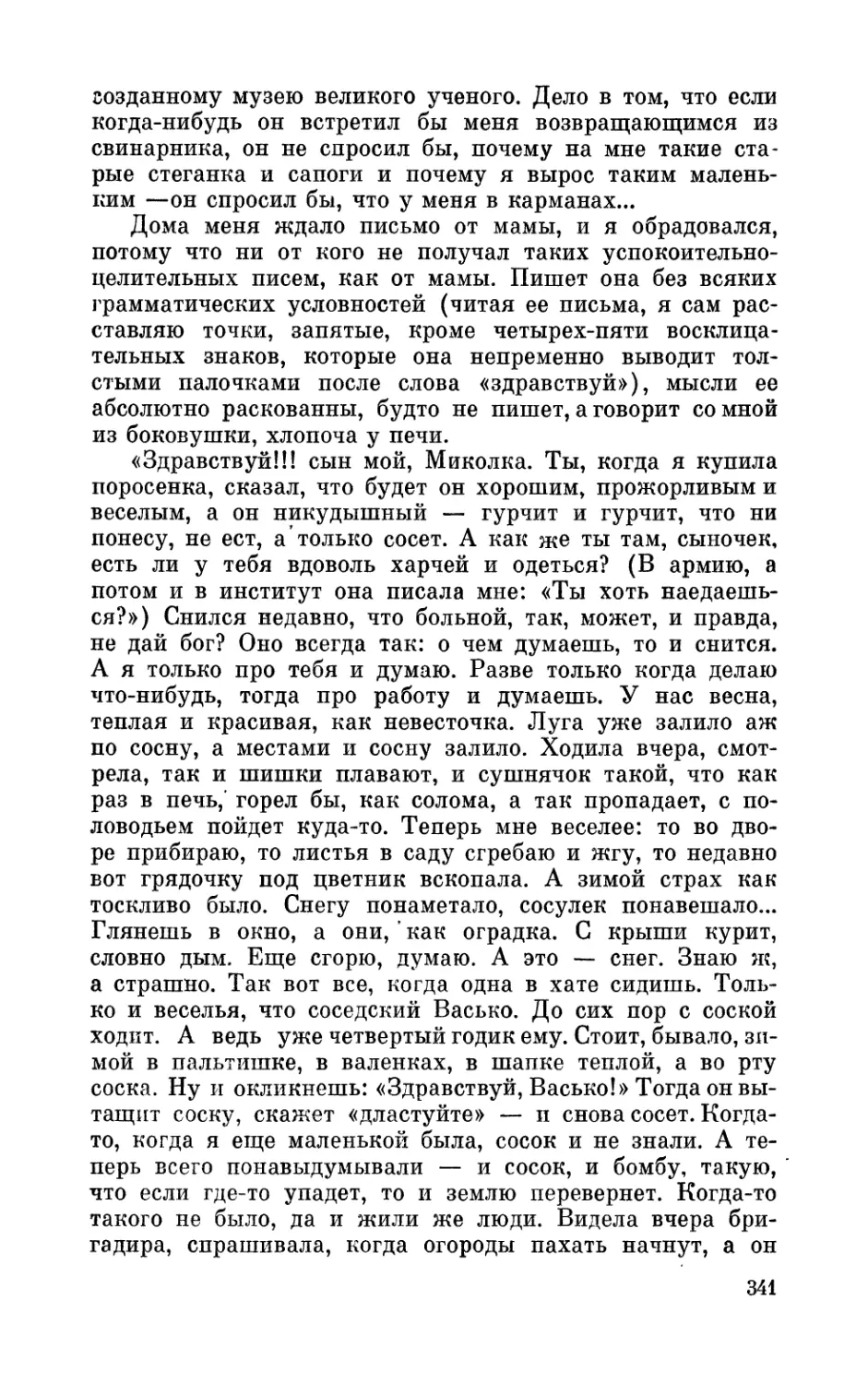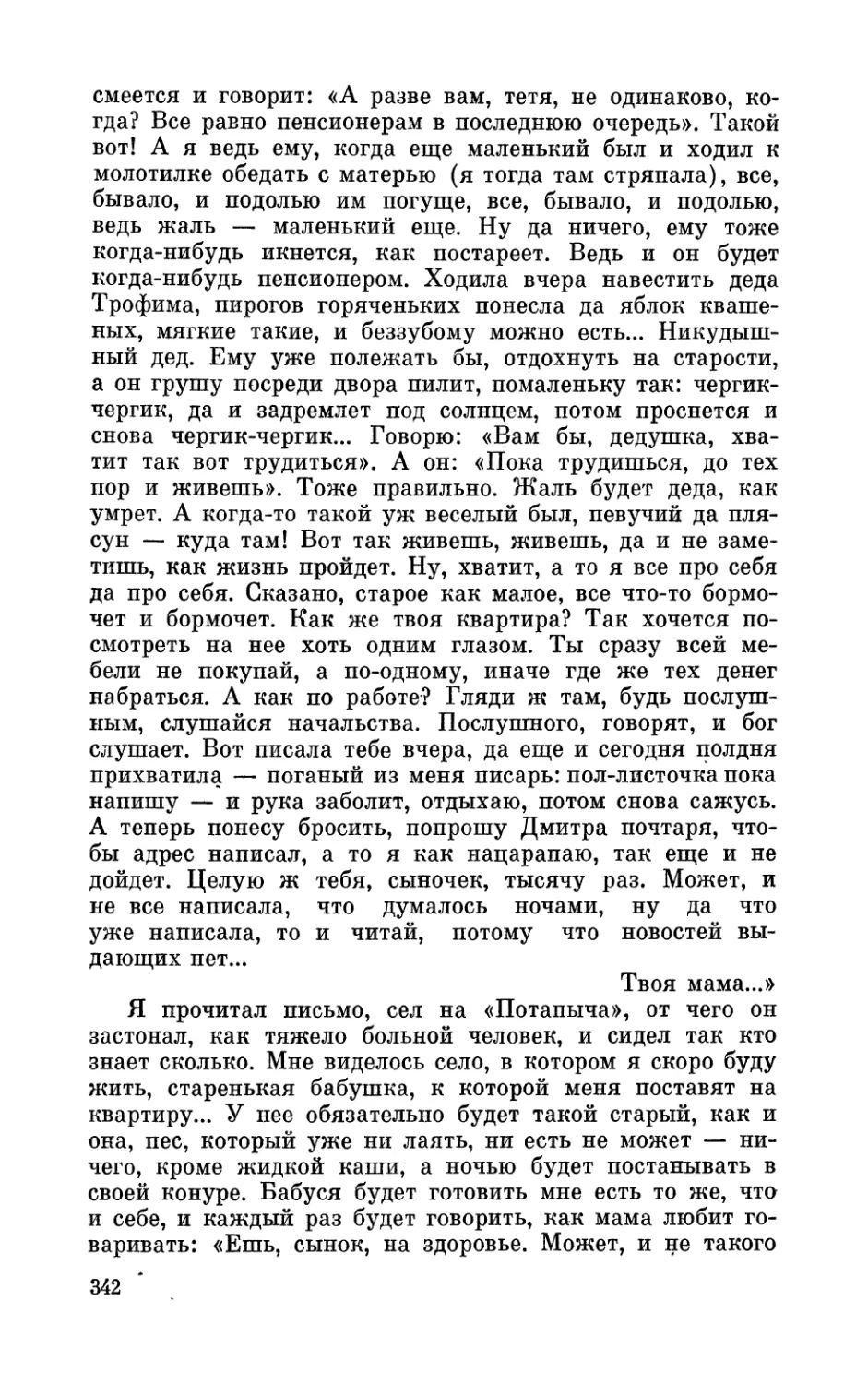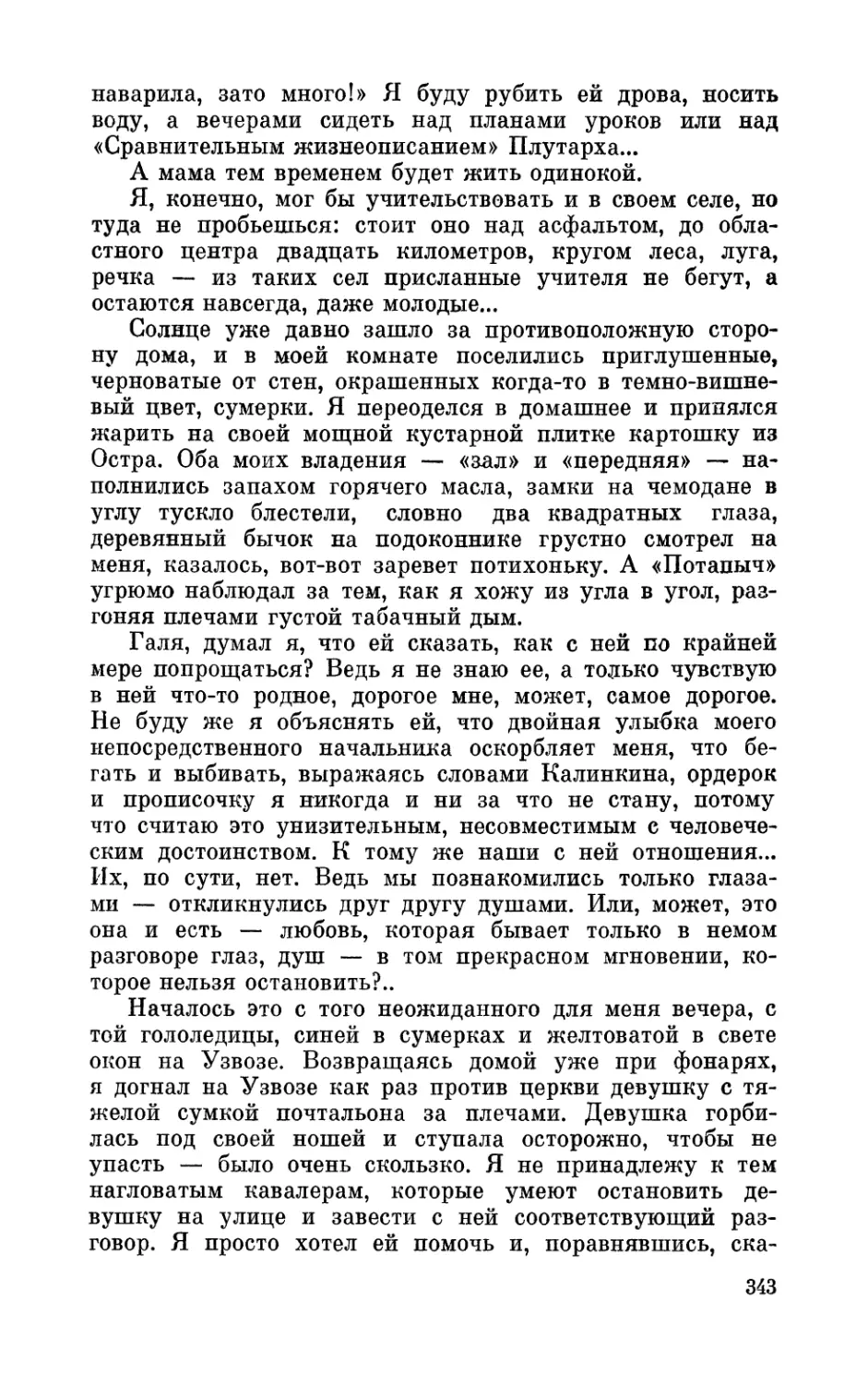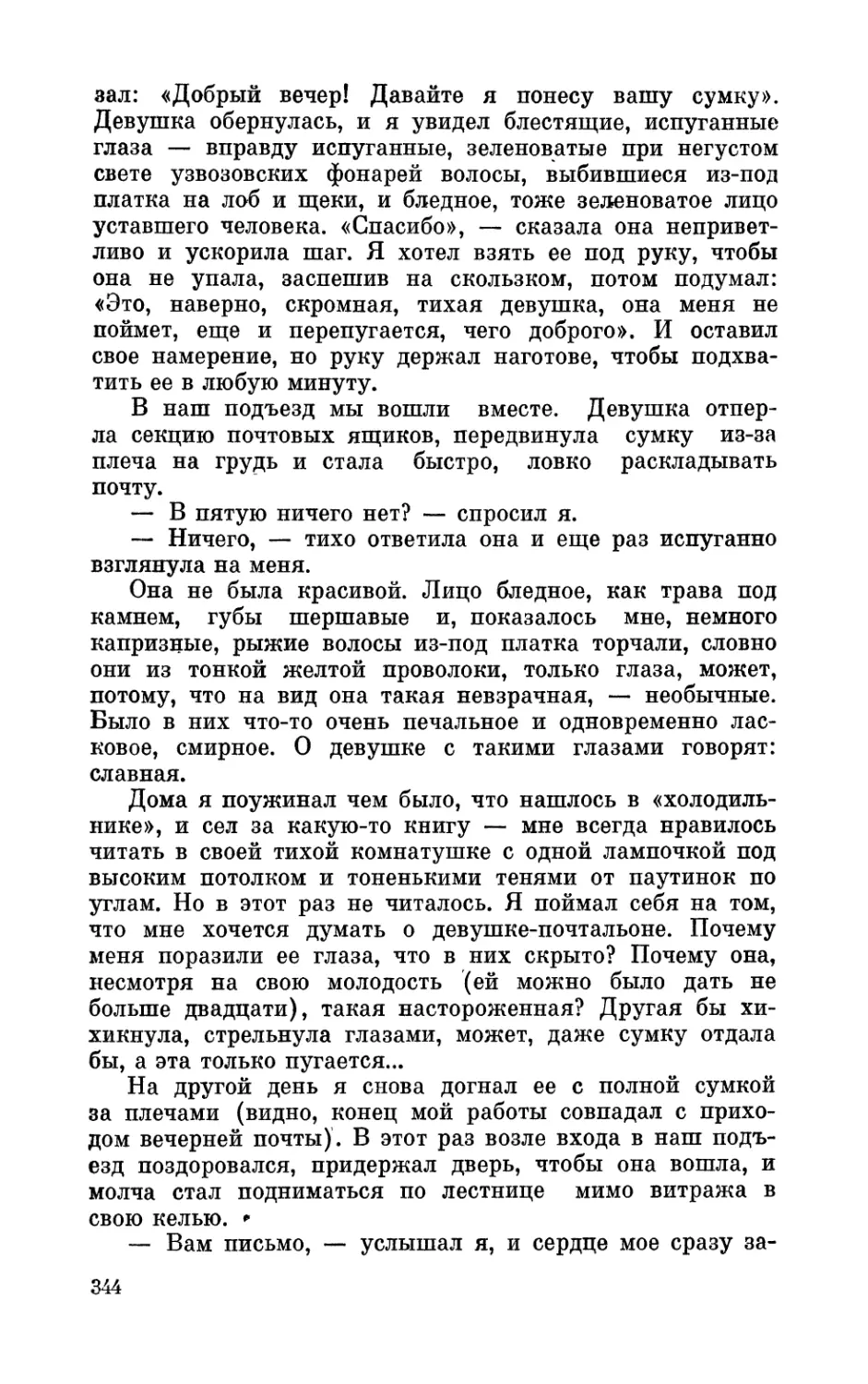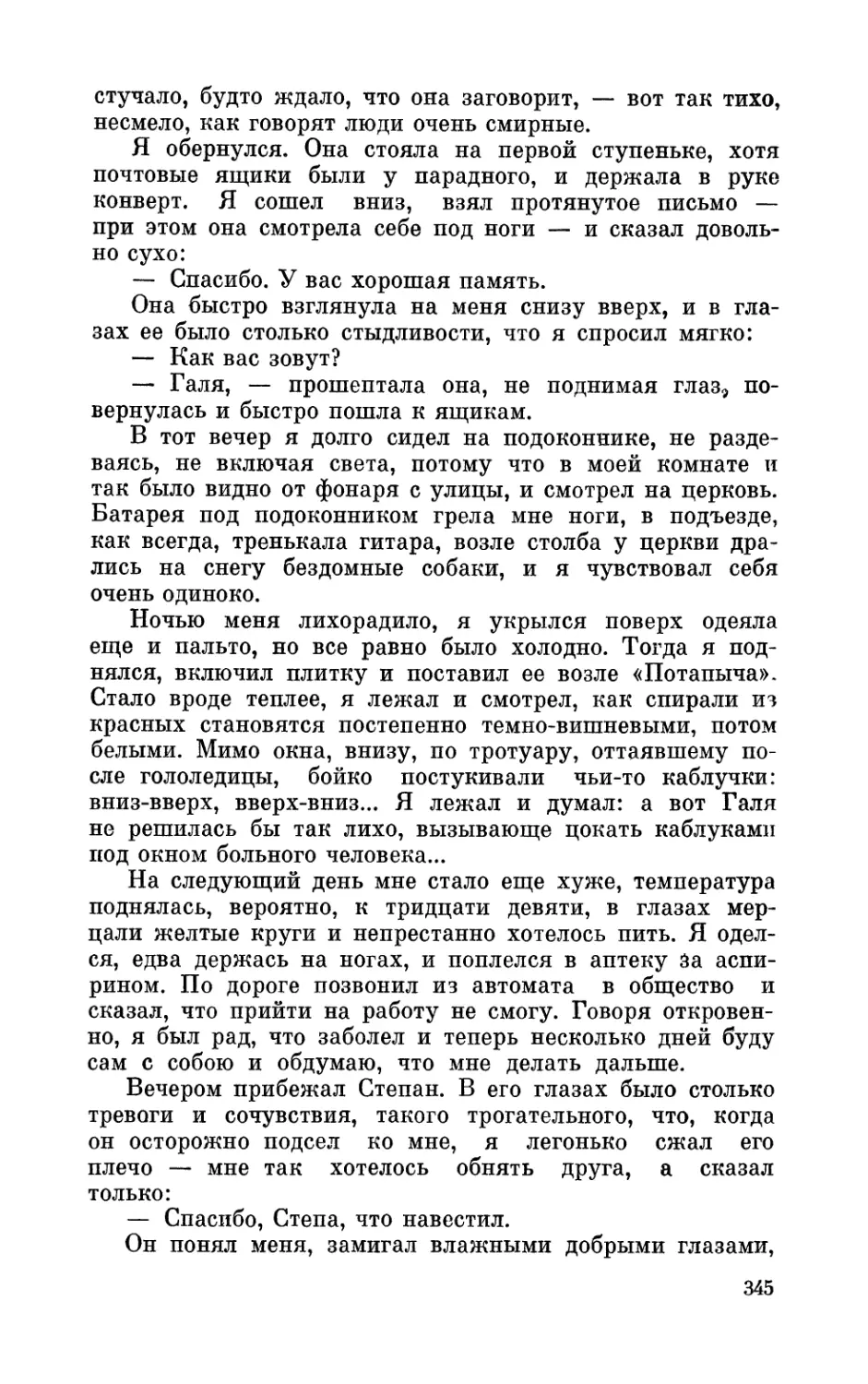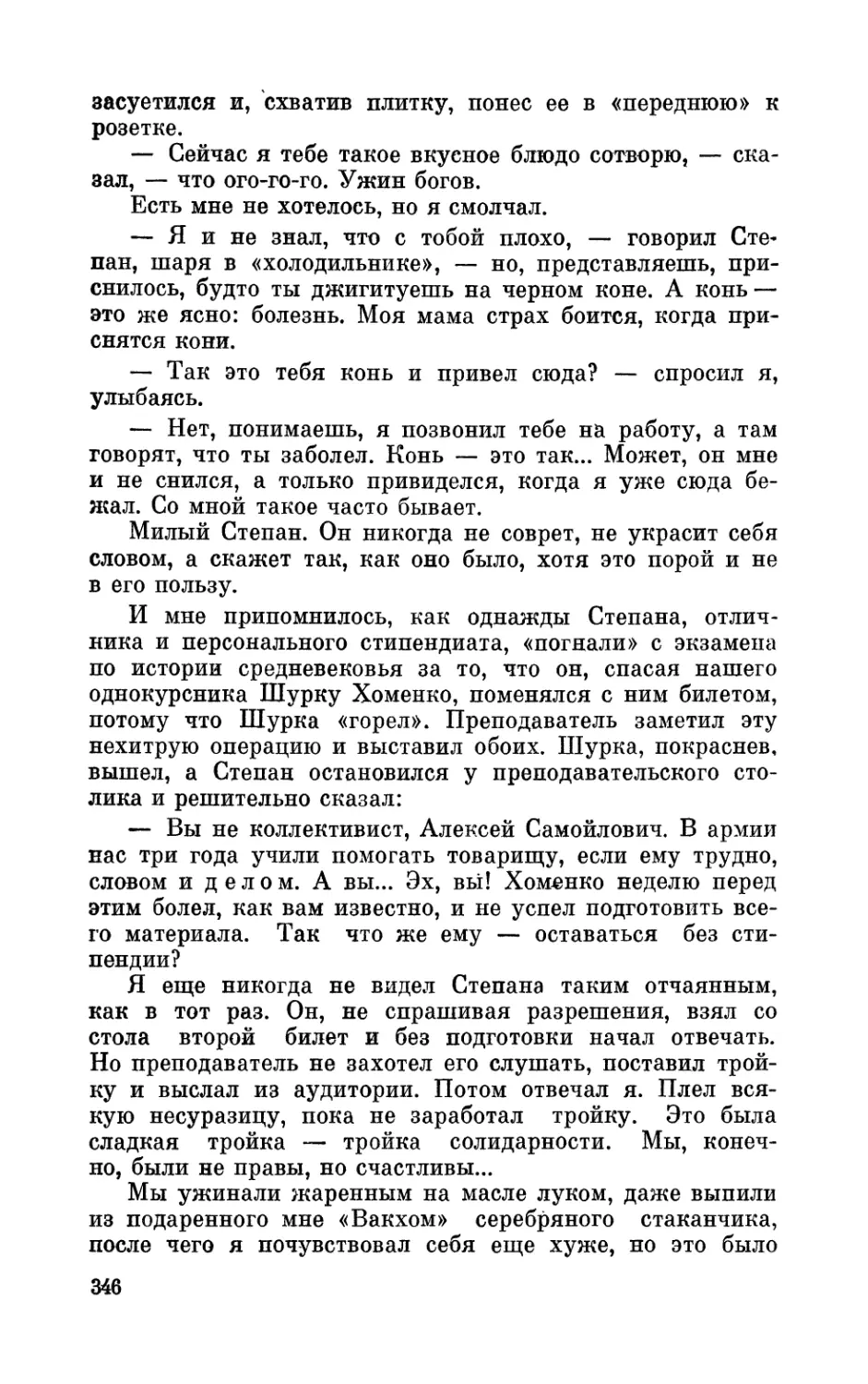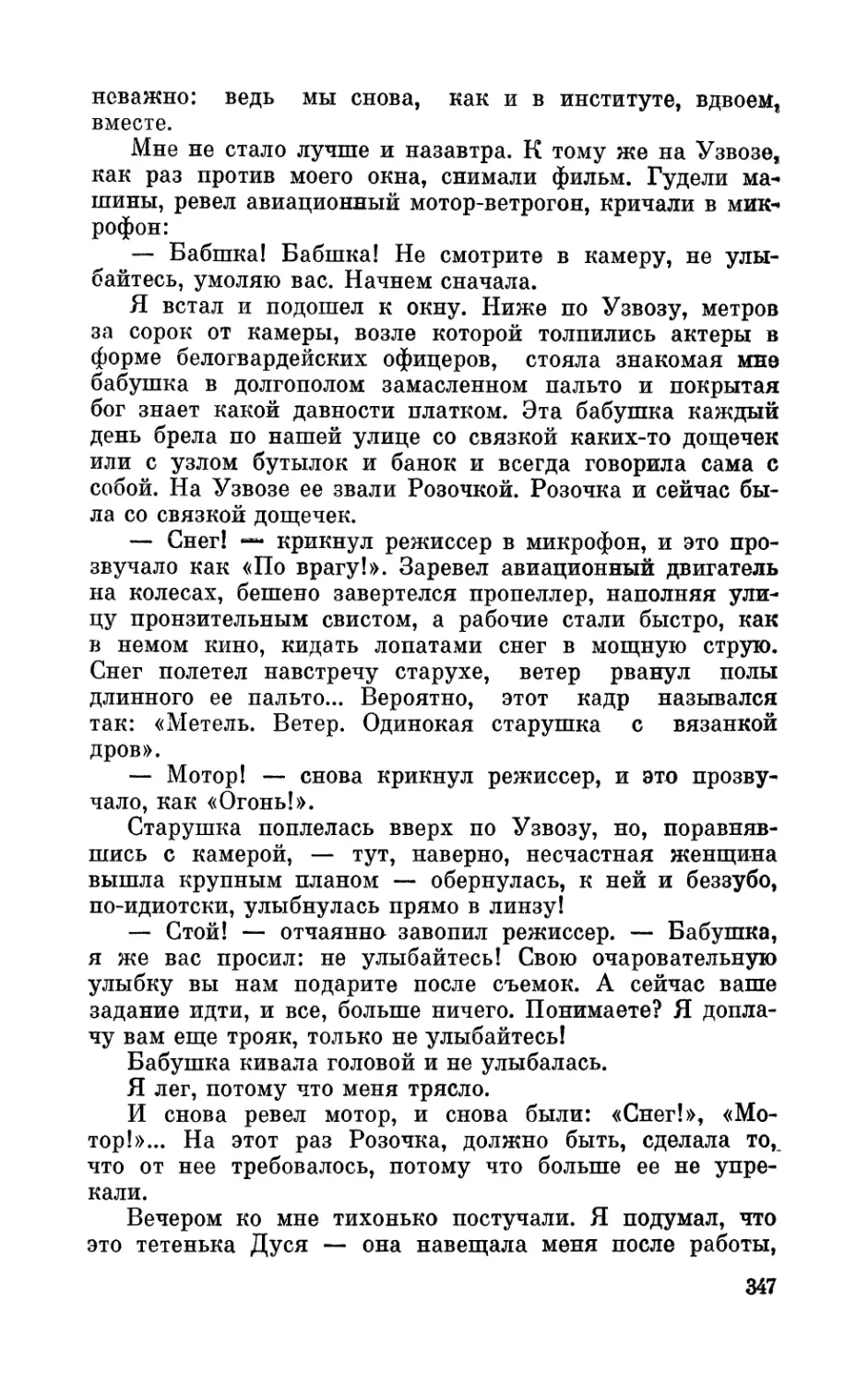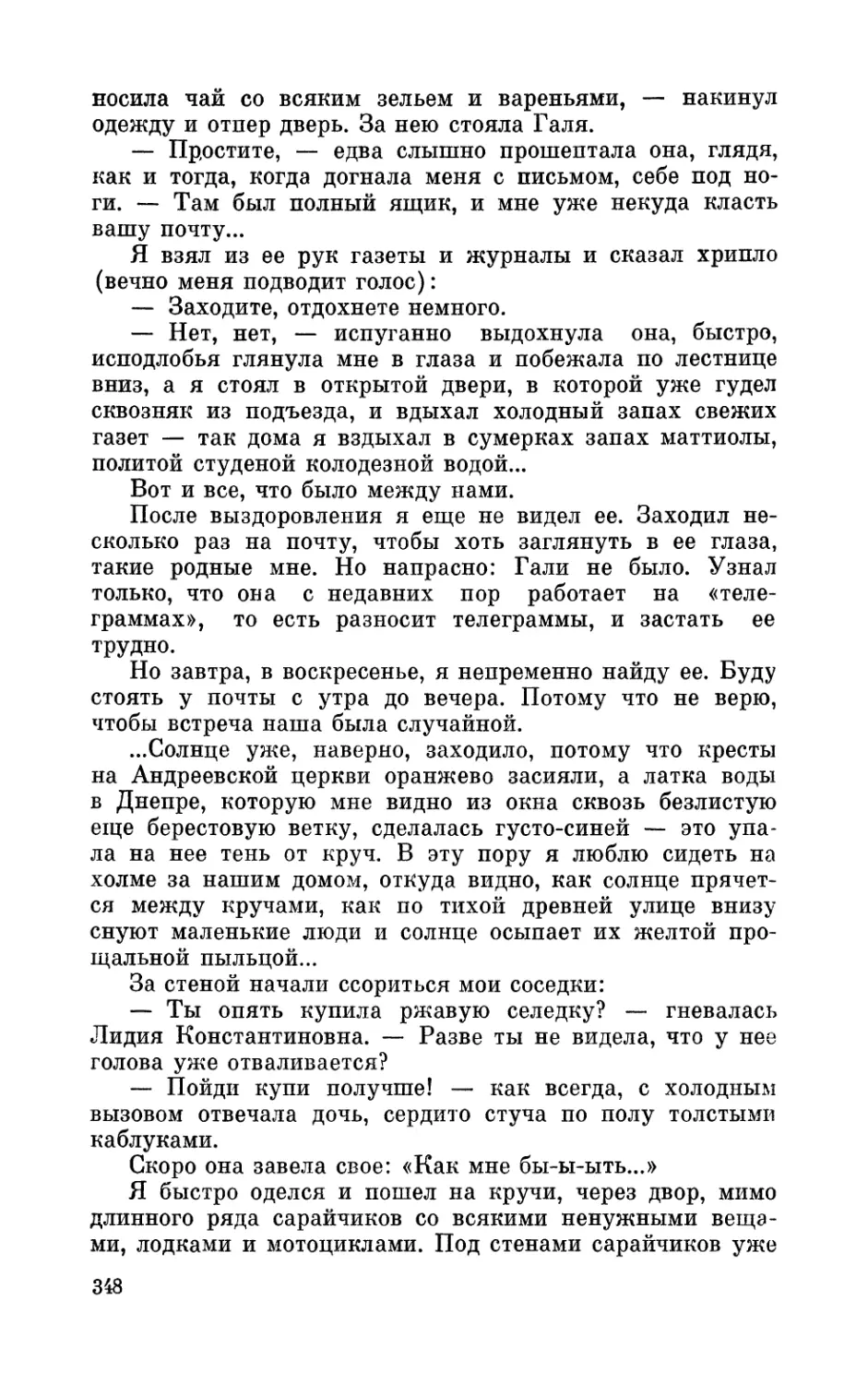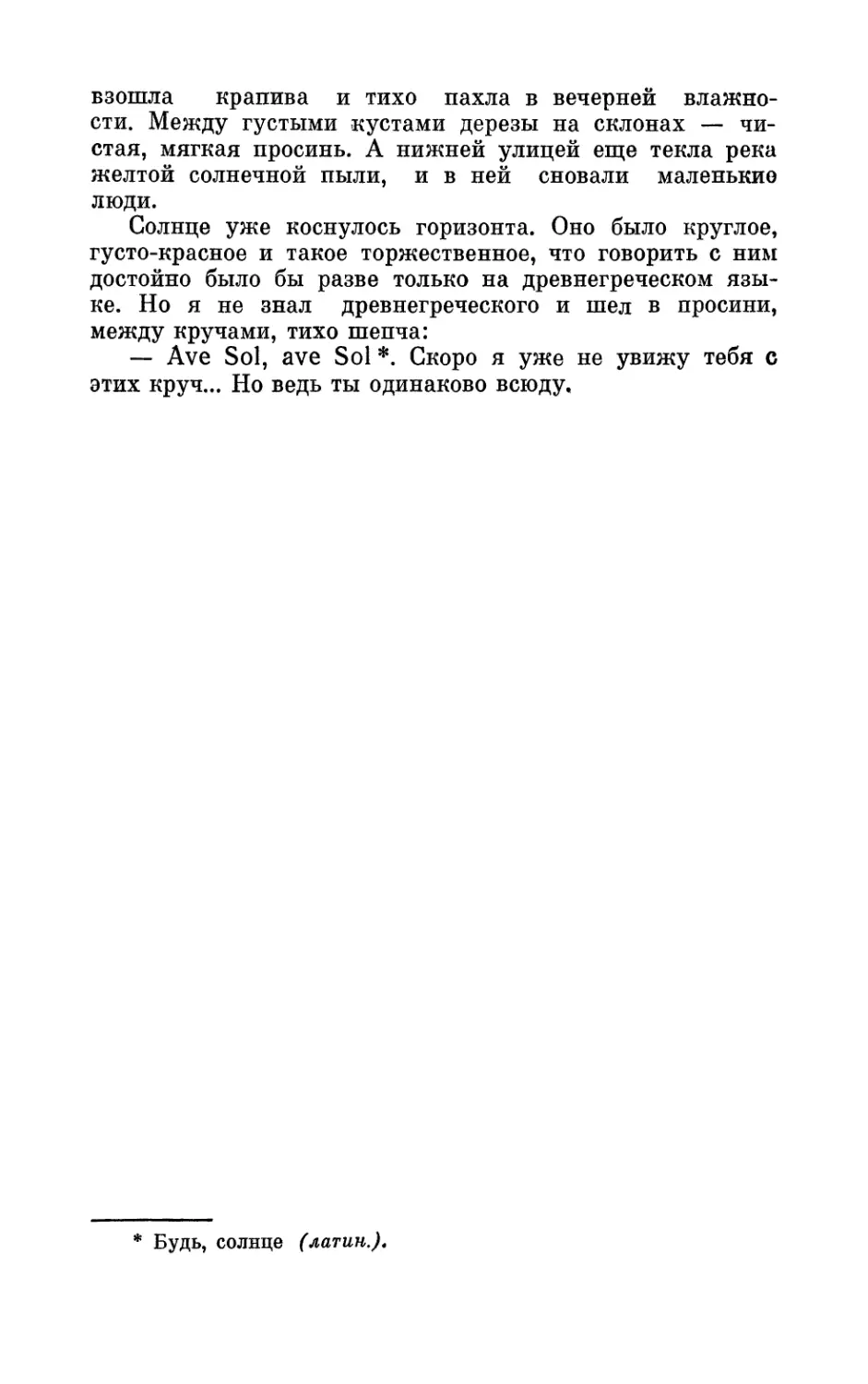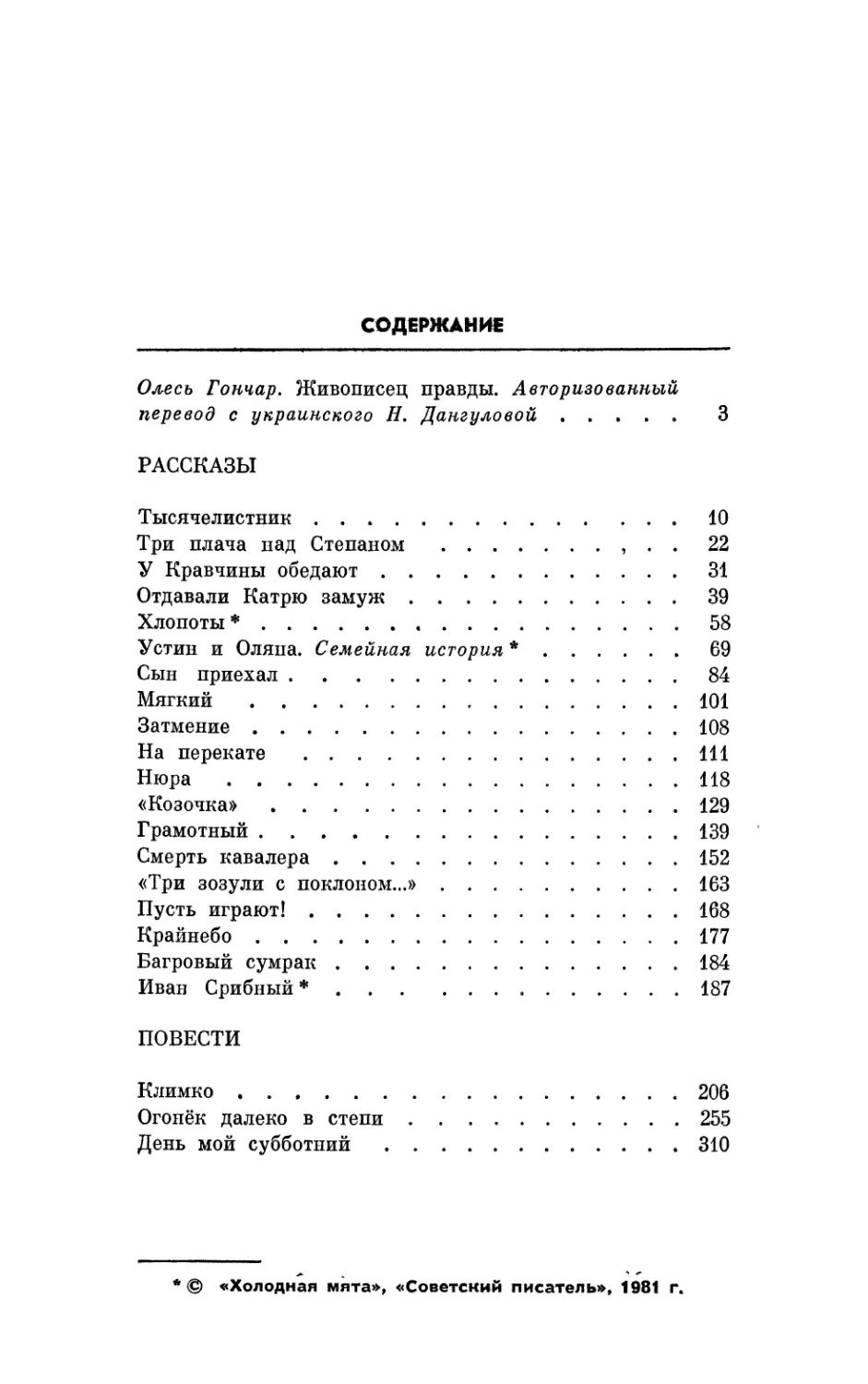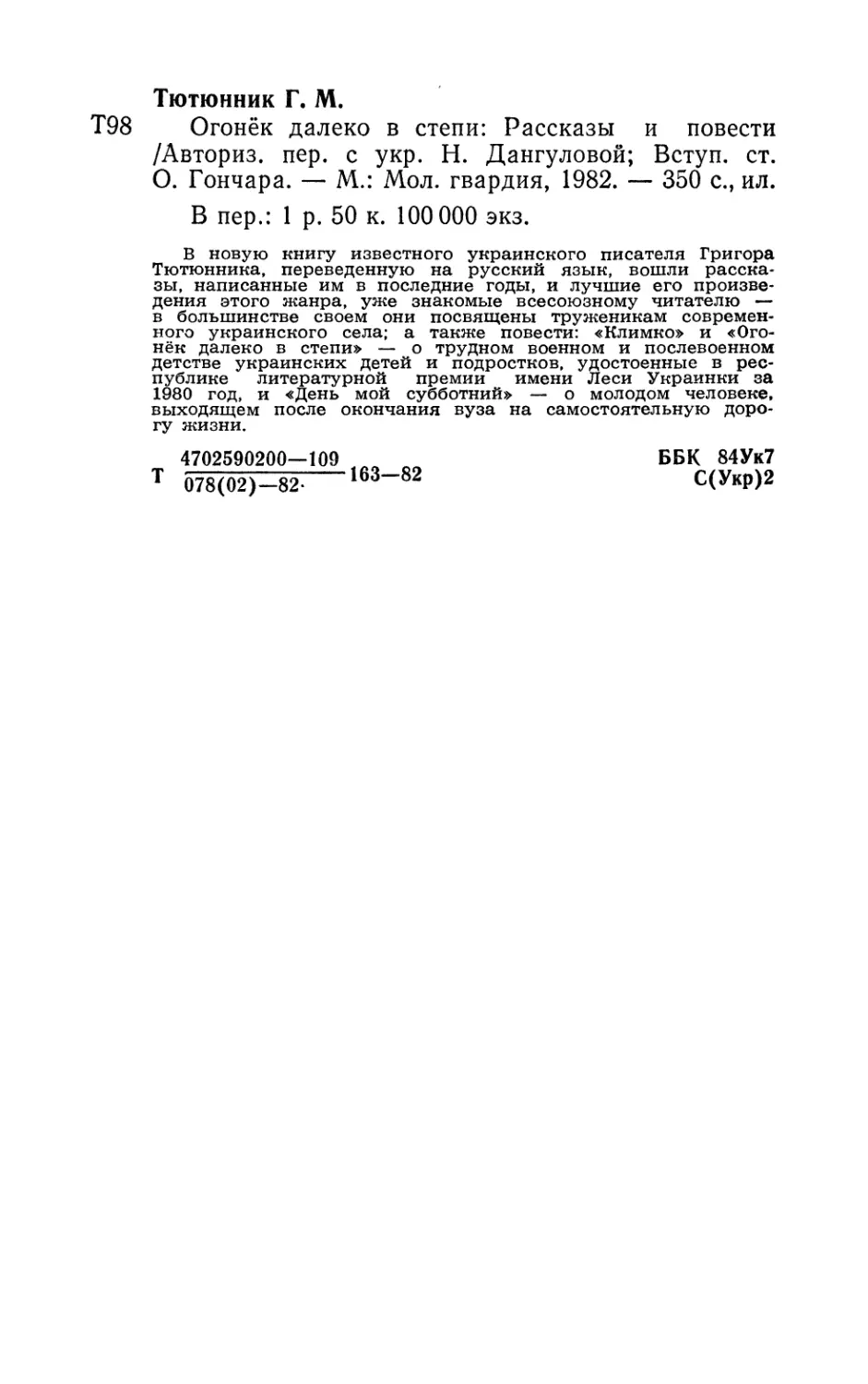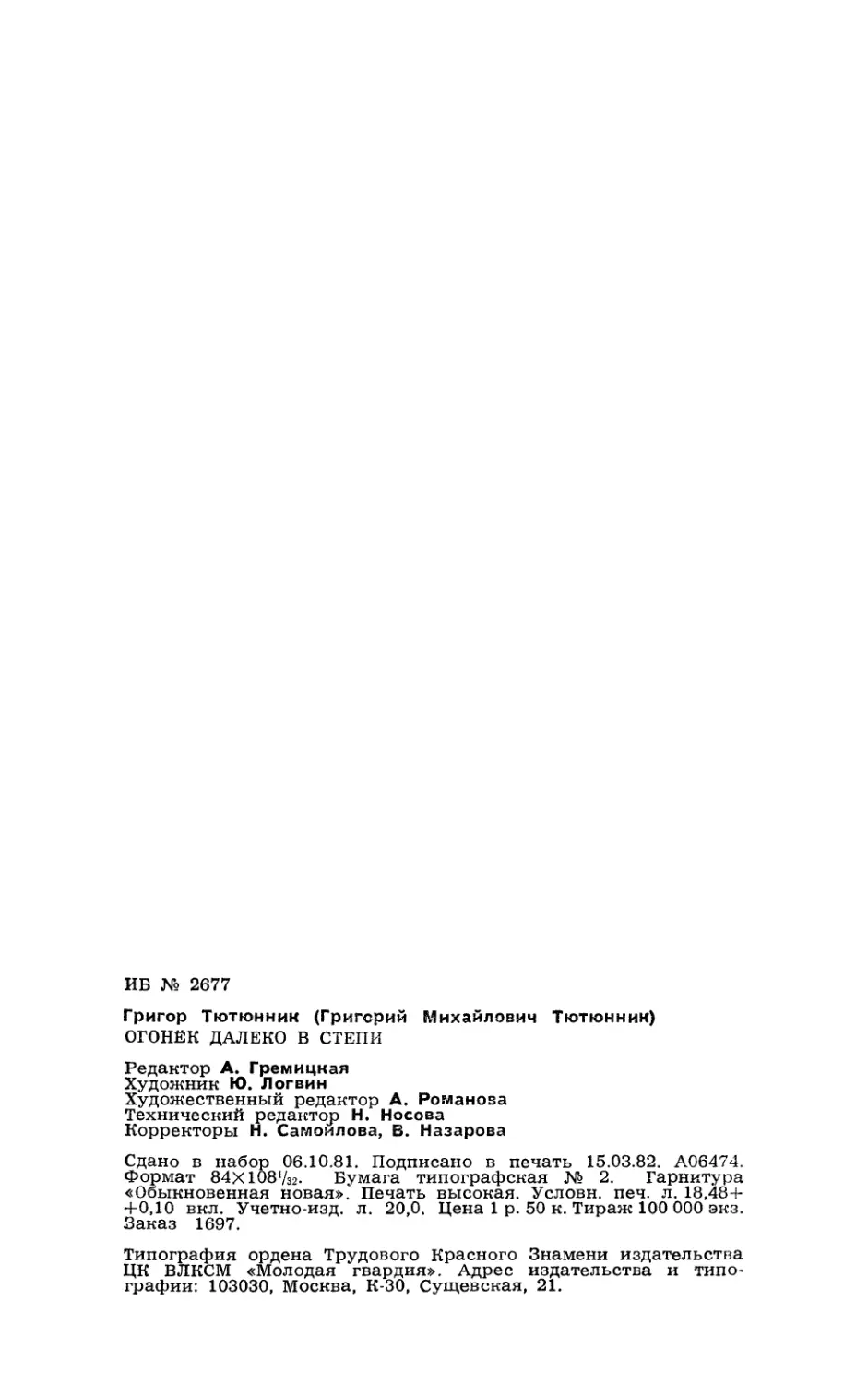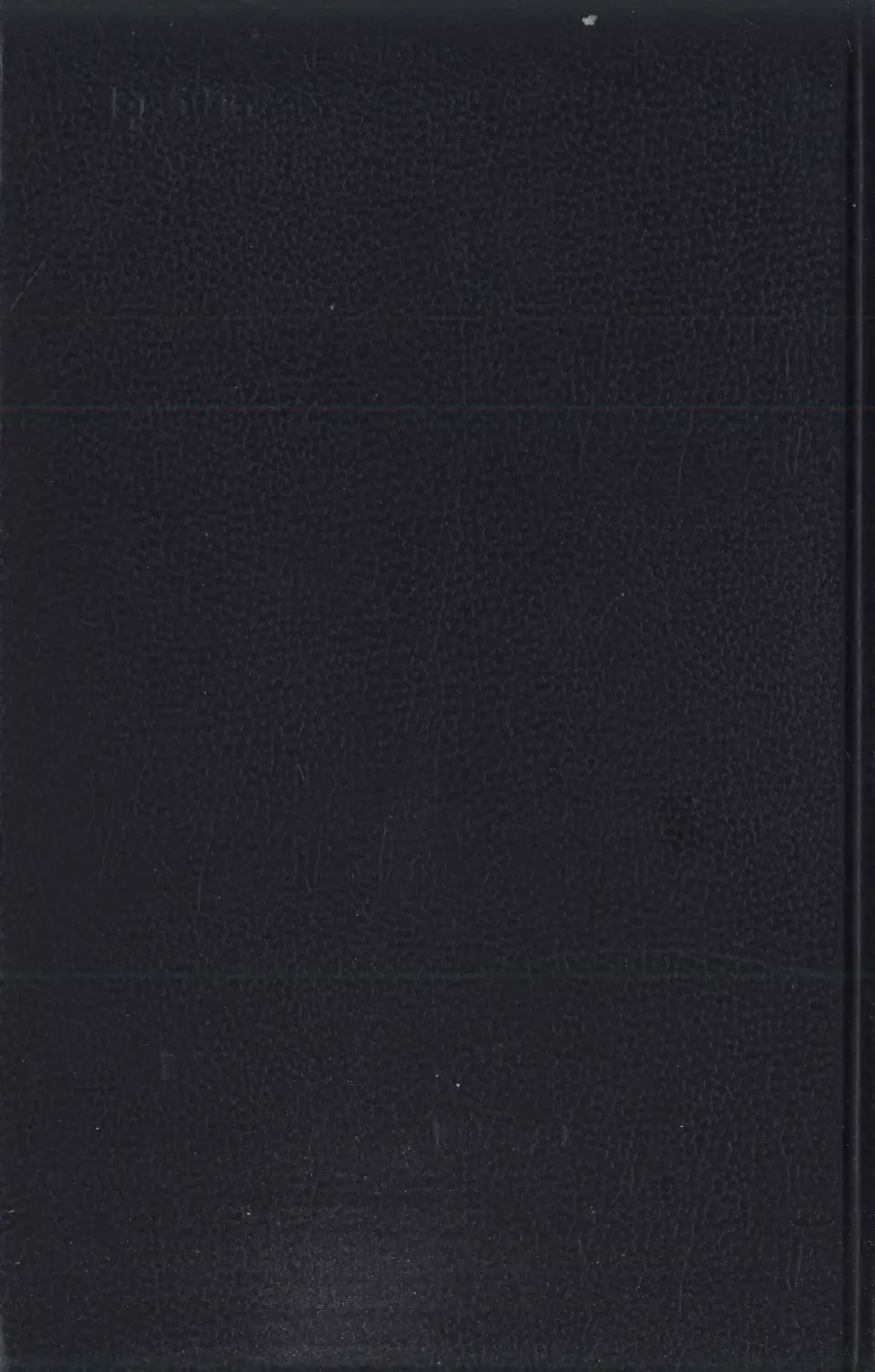Текст
ГРИГОР
тютюнник
ОГОНЁК ДАЛЕКО
В СТЕПИ
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
Авторизованный перевод с украинского
Н. ДАНГУЛОВОЙ
Москва
«Молодая гвардия»
1982
84Ук7
Т98
4702590200-109
Т 078(02)-82
© «Крайнебо», «Молодь», 1975 г.; «Климко», «Веселка», 1976 г.;
«КорЖня», «Дншро», 1978 г.; «Вогник далеко в степу»,
«Веселка», 1979 г.
Перевод на русский язык, вступительная статья, иллюстрации.
Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.
ЖИВОПИСЕЦ ПРАВДЫ
Блестящим писателем — авторам новелл и
повестей вошел в сознание современного читателя Гри-
гор Тютюнник.
Украинскую художественную прозу сегодня
невозможно представить без его пусть и небольшого по
объему, но истинно весомого литературного наследия.
Григор Тютюнник ушел из жизни
преждевременно и трагически. Но для многих, кто его знал, он так
и останется писателем молодым, чья юность
пришлась на трудные послевоенные годы, когда рано
мужали характеры, когда даже подросткам с
избытком доставалось житейских нагрузок — еще не
получив паспорта» брали они на себя нелегкую ношу
взрослых. Собственно, о Григоре можно сказать, что
он из поколения космонавтов: ведь, как и первые
наши космонавты, будущий писатель начинал свою
трудовую жизнь с ремесленного училища, откуда
одних судьба посылала на околоземные орбиты, на
звездные трассы,-а других призвало небо иных
испытаний — небо художественного творчества.
Вот коротко — по автобиографической справке —
жизнеописание Григора Тютюнника: родился 5
декабря 1931 года в селе Шиловке Зиньковского района на
Полтавщине в крестьянской семье. Учился в
семилетней школе, закончил Зиньковское ремесленное
училище, приобрел специальность слесаря, работал на
заводе, в колхозе, на строительстве. С 1951 по 1955 год
служил в рядах Советской Армии. После
демобилизации работал в депо и учился в вечерней школе.
В 1962 году окончил Харьковский университет...
Сжатые, скупые строки, но как много они
вмещают! Какая за ними напряженная жизнь...
Чувствуется, как человек, пробиваясь сквозь трудности и
невзгоды послевоенных тяжких лет, в ранних
испытаниях, в труде суровом «ковал» себя, становился лич-
ностью. Ничто, наверно, не могло бы так крепко
сроднить будущего писателя с трудовой средой, дать
юноше такое глубокое ощущение органического единства
с родным народом, как именно эти испытания, годы
становления, когда все замечалось остро, вбиралось в
душу надолго, когда для молчаливого, с колючим,
ершистым характером подростка безмерно значили и
брошенный кем-то испытующий взгляд, и мудрое
предостережение, и дорогое проявление заботы —
переданный ли с оказией узелок из дома от матери,
теплая ли рука деповского наставника на твоем еще не
окрепшем плече... О жизни послевоенных ремесленни-
-ков, об этих маленьких тружениках нашего народа
написано немало, но в книгах Григора Тютюнника им
повезло едва ли не больше, чем у кого-либо, —
кажется, нигде их переживания не воссозданы с такой
душевной щемящей интонацией, с таким
психологическим проникновением. Иногда говорят в таких
случаях, что он воспевал своих ровесников, однако
выражение «воспевал» как-то не подходит к творческой
манере этого писателя, ведь обращается Григор к
читателю словом чаще всего сдержанным, будничным,
нередко слегка насмешливым, — а в общем-то в
чеканных эпизодах его новелл порой есть что-то от того
кованого металла, с которым автору приходилось
иметь дело не раз. Ирония, иногда горькая, —
неотъемлемый элемент стиля писателя. Но писательская
строка светлеет, когда в ней сквозь суровость вдруг
проблеснет словно бы стыдливая улыбка человека,
который способен заметить то, что скрыто от других,
способен в «самом рядовом из рядовых» ощутить
движение человеческого, угадать* в ближнем своем его
внутреннюю жизнь, жажду поддержки или сочувствия.
Самые^ искренние, сердечные симпатии Григора
Тютюнника отданы скромным строителям жизни, тем
людям труда, чьи души писатель так доподлинно
знал, — ведь и сам он был одним из них. С раннего
детства узнал он цену трудного, отпускаемого
по карточкам хлеба, горечь обид и жгучесть
несправедливости, но так же точно с ранних лет открыл он
для себя и цену дружбы, внимания коллектива,
понял, что есть в природе лучи целительного
человеческого тепла, которое ничем не заменишь. Этим
писатель умел дорожить. По пути ему было с теми, кто
выступал против всяческих рвачей и выжиг, с теми,
чья совесть чиста, поэтому-то образ
человека-труженика, щедрого душой коллективиста, верного
товарища в произведениях Тютюнника предстает таким
ярким. Да и не самого ли автора узнаем мы в образе
молодого рабочего Ивана Срибного из одноименного
рассказа — скромного трудягу, который, чтобы не
нарушать друзьям праздник, берется разгружать вагон
с досками и делает это не ради похвалы, а из чувства
совести и дружбы — именно это чувство помогает
ему совершить за несколько часов то, что, казалось,
совсем не под силу одному человеку.
Не внешняя эффектность поведения, не громкие
слова, а дело человека, его жизнь, его отношение к
матери, к товарищам, к своему общественному
долгу — вот что в глазах художника было
определяющим для оценки человека, его сущности, жизненной
надежности. Этот вообще мягкий, склонный к теплым
лирическим тонам писатель нередко становился
беспощадным, это тоже известно. Каким огнем сарказма
и презрения бушевал он, когда речь шла об
антиподе трудящегося человека, о ком-нибудь из тех нищих
духом, кто, поправ моральные нормы коллектива,
затоптав собственную совесть и мудрость народного
национального обычая, поправ законы нравственности,
приспособился жить бездуховной, насквозь эгоистической
жизнью хапуги, рвача и нахлебника трудового
социалистического общества! Григор Тютюнник понимал, что
литература, возвеличивая достойных, одновременно
призвана развенчивать приспособленцев, нахлебников
общества, скажем, под прицелом у нее должен быть
и вот такой довольно распространенный тип
современного пустослова, воинствующего мещанина, крикуна,
любящего драть горло, который иногда на протяжении
многих лет живет псевдодеятельностью — показной,
никому, кроме него самого, не нужной суетой...
В творчестве своем Григор Тютюнник избрал жанр,
традиционный для пашей литературы, — рассказ,
короткая повесть. Этот выбор, мне кажется, определен
и характером самого писателя: он хотел быть
«традиционным», взял за правило работать неторопливо,
предельно требовательно, не давая себе никаких
профессиональных поблажек, как это можно иногда
наблюдать нынче, когда проза порой становится водянистой
скорописью, когда и творчество, бывает, перестает
быть творчеством, тем действительно высоким заняти-
ем, святым призванием, которое требует всей души,
явленной в горенье, в безупречной правдивости л
чистоте помыслов. Не бросаться в погоню за легким
успехом, долго выкашивать строку за строкой — для
этого нужно было глубоко уважать литературу и свою
работу в ней.
При чтении новелл Григора Тютюнника, среди
которых есть подлинно художественные жемчужины,
вспоминаются не раз и Василь Стефаник, и Александр
Куприн, Архип Тесленко и Лесь Мартович... А еще о
Тютюннике можно иногда услышать: «Наш
современный Косинка» или «Наш украинский Шукшин». И
сказано это, думаю, тоже не без оснований. Однако
именно творчество автора «Отчих порогов» и «Крайнеба»
убедительно свидетельствует, что перед нами не
повторитель пройденного, а писатель вполне
своеобразный, как может быть своеобразным только настоящий
художник.
Вобрав в себя лучшие черты отечественной
классики, реализм Григора Тютюнника в то же время
является реализмом современным, таким, в котором
безошибочно угадывается мироощущение писателя новой,
социалистической эпохи, писателя-гражданина, для
которого правдивое отображение народной жизни
является одновременно идейной гуманистической
верой в преобразующую силу искусства, в его
созидательную миссию.
Правдивость изображения характеров людей,
художественное мастерство в воспроизведении жх
поступков, чувств — это то, чем особенно привлекают
читателя произведения Григора Тютюнника. Тот, кого он
изображает, правдив каждым своим жестом,
психологической деталью, предельно краткой репликой,
взглядом, выражением лица. Диалоги героев Тютюнника
привлекают именно естественностью, точностью,
несомненной достоверностью. И внутренняя жизнь их
вызывает наше доверие тоже именно этими
наипервейшими для художника качествами: правдивостью и
естественным развитием мысли, достоверной
эмоциональной реакцией на ту или иную жизненную
ситуацию.
Живописец правды — так можно было бы
определить и творческие принципы писателя, и весь строй
его души, а затем и его стиль, отмеченный
действительно яркой индивидуальностью.
Художественная живопись Григора Тютюнника
возникла на почве народной жизни, именно отсюда у
писателя приметные черты его героев, сюжеты и
богатство языка. Он весь из жизни. Как-то не
представляется мне Григор в роли, скажем, курортника
или скучающего туриста на истоптанных маршрутах,
но как легко воображение рисует его в забое вместе
с шахтерами, или на какой-нибудь ферме среди
девчат-шутниц, или в сельском клубе, где этот чубатый
парень ничем бы не выделялся среди смуглых
хлопцев-механизаторов, своих земляков. Возвращаясь
после лета на Полтавщине в Киев, Григор был каждый
раз заметно взбодрен, привозил какое-нибудь
редкостное, выловленное в живой народной речи словцо,
чувствовалось, он чем-то воодушевлен — видно, с
хорошими людьми были у эего встречи и разговоры в
дороге или где-то у рыбацкого костра на Ворксле или
на Пеле.
Он любил товарищество, любил людей
мужественных, веселых, и сам был таким; внутреннее мужество
его, казалось, не имеет границ, но, должно быть,
только сам он знал, сколь легко он раним, как бывает
не защищена от боли его словно бы никаким ударам
не поддающаяся душа.
А еще он любил слово (это ведь так видно по его
рассказам!), любил его как голос родной земли, как
зов того, что завещано матерью, что передано тебе
из глубин веков, ведь каждый язык — это источник
творческой духовности, ума, опыта народного, тот
запас генетической силы и красоты, который народ
завещает тебе, своему сыну, чтобы ты был, чтобы не
стал немым, безголосым.
Думая сейчас о книгах, оставленных нам Григором
Тютюнником (а это были главным образом книги
рассказов), еще раз убеждаюсь, как много можно
сказать о жизни, о своем времени даже на нескольких
страничках, если все в них художественно
целесообразно, емко, значительно, если явленная из-под пера
строка вдохновлена правдой, живой образностью, если
произнесенное слово излучает искренность и силу
чувств. Тогда и так называемая «малая проза»
становится прозой большой, и созданные ею характеры
могут стать в ряд с образами романными.
Глубиной, значительностью и филигранной
отточенностью формы — этим прежде всего выделяется клас-
сический рассказ, и эти же качества присущи лучшим
современным рассказам многонациональной советской
литературы, в которой заслуженно утвердилось имя
Григора Тютюнника. В произведениях его пульсирует
горячая кровь современности, этим-то они и
завоевывают чем дальше, тем большую популярность,
выходят в переводах на братские языки народов
Советского Союза, охотно их переводят также и в
зарубежных странах.
Григору Тютюннику было свойственно
исключительно серьезное отношение к своей работе.
Он нес в литературу лишь то, что считал крайне
необходимым людям, то, что видел в жизни своим
зорким и проницательным взглядом. Это был писатель,
чьи новые рассказы мы всегда ждали, мы находили в
его произведениях живые страсти, современные
характеры, самобытные, колоритные, которые нередко
оказывались художественными открытиями.
Вспоминается последняя встреча с Григором Тю-
тюнником. Поздним зимним вечером зашел он ко мне
домой после только что проведенной встречи с
читателями. Был он чрезвычайно взволнован, возбужден,
рассказывал, как хорошо его встречали слушатели —
учителя и студенты, признавался, какое это
удивительное, чудесное и благодарное чувство — духовное
единение с аудиторией. Оставил мне свой рассказ,
который он читал на вечере. Рассказ назывался «Три
зозули с поклоном...».
Не каждому из тех, кто пишет, удается завоевать
признание современников. Не все из прочитанного
оставляет глубокий след в сердце человека. Григор
Тютюнник пришел к своим читателям честно,
надежно, надолго.
Пришел, чтобы не расставаться.
ОЛЕСЬ ГОНЧАР
РАССКАЗЫ
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
Как только тихие вешние воды сойдут с лугового
понизовья, оставив на молодой траве рыжий скользкий ил,
занесенный невесть откуда, с каких земель, Данило
Коряк, мужик худой, длинноногий, плоскогрудый, но
широкий в кости — рубаха на его плечах распята,
словно кроличья шкурка на рогатине, — снаряжается в путь.
Идти ему недалеко, в питомник, который раскинулся меж
руслом Пела и крутой правобережной горой, — это
километров за шесть от села. Собираться Даниле
приятно, хотя и хлопотно, потому как нужно захватить не
только то необходимое, что в прошлом году брал, но еще
и то, что зимой надумал, без чего прошлым летом и
обходился кое-как, а нынче уже не обойдется. Все это у
него записано долгими зимними вечерами на листе из
школьной тетради, аккуратненько, в столбик,
старательно наслюненным химическим карандашом и
пронумеровано:
«1. Сетки рыбачьей не пять метров взять, а два с
лишком, потому что ров стал уже, высыхает с годами.
2. Лопатку саперскую у Кошкалды выпросить. Она
хоть и старая, да удобная, потому что складывается.
3. Секач в лавке купить или топорик, только обух
чтоб не литой был, а клепаный.
4. Торбу табака у Ивана выпросить бы, потому что
свой в эту зиму выветрился, не продирает.
5. Нож Антипу заказать из рессоры, потому лавочные
или мягкие, или сухие — ломаются. В прошлом году два
сломал.
Ну вот как будто и все. А ежели надумаю еще что-
нибудь, так запишу.
6. Эге ж, а про тысячелистник забыл. Нужно взять
пучок, пока молодой вырастет: желудь хоть и пахнет, но
не так».
К тысячелистнику у Данилы страсть, мало кому
понятная, и то, что он больше всего любит его запах, объ-
10
ясняют одним: сызмала Коряк дубильным делом
занимался с отцом и привык, чтобы в хате крепким, колючим,
как нашатырь, дубовым настоем пахло. Сам же Данило
говорит: «Мне оно что моченый дуб, что
тысячелистник — как ладан, только лучше, потому что здоровья
прибавляет...»
В питомнике Данило сторожует. Не так днем, как
ночью, когда дикие свиньи выходят из берлог пастись:
желуди роют в питомнике вот уже несколько лет, а
лесникам убыток. Вот и наняли Данилу в сторожа. Оп
хоть и плохо видит, зато слышит как сова: уж
проползет где-нибудь неподалеку — услышит и скажет: «Вон
там уж не спит». А на глаза слаб. И удивляется: «Ну но
наказание ли? На две сажени все мне словно в тумане,
а звезды вижу, хоть какие бы маленькие ни были!»
Дальнозорок он.
Набив мешок всем необходимым, Данило выносит его
во двор, закуривает на дорогу, потом возвращается в
хату и говорит жене:
— Ну, я пошел, значит...
— Ты ж ночью там смотри, без ружья не
выходи, — наказывает она, покрываясь платком., так как
должна проводить его до парома и переправить, чтоб
сослепу в воду не упал. И больше ничего не добавляет,
зная, что дорогой, если будет в том нужда, успеют обо
всем переговорить.
И выходят. Данило с мешком и берданкой за
плечами, она с беленьким узелком, в котором на неделю
харчей собрано. Данило в стеганке и резиновых сапогах, и
Полька (хотя уже давно не Полька, а Пелагея) в
стеганке и резиновых сапогах. Только и разницы всей, что
у нее голенища как раз по ноге, крепко икры
обхватывают, а у него хлопают: тонконогий Данило как быстро
идет или бежит, так крылья старых суконных
галифе обхлестывают ноги выше коленей, аж
присвистывают...
Данило шагает широко и смотрит куда-то перед
собой, а Полька — под ноги. Случится ли где лужа или
канавка, обводит Данилу за руку, как поводырь,
приговаривая:
— Сюда, сюда... Вот так!
А он идет-идет, да вдруг и остановится, ткнет
пальцем вдаль:
— Гляди-ка, вон клюв аиста над туманцем краснеет.
— Ну да, так я и увижу... — говорит Полька, ибо
а
знает, что и вправду не увидит: раз Данило видит что-
то, так это уж невесть как далеко.
Потом луга кончаются, и они шагают по лесной
тропке. Лес низовой, набрякший душной влагой и запахом
разбухшей почки. И оба они, вдыхая его, думают об
одном и том же: «Жить бы только и жить, да вот —
старость...» — и вздыхают, и крепче держатся за руки,
обходя лужи, как жених и невеста вокруг аналоя.
На солнечных полянах травы такие, что уже и на
выпас годились бы, да какая от них сытость? Вода
водой. В тени под орешником (рыбаки тут каждую осень
удилища себе режут) прозрачно-зеленые стрелки
ландыша, крапива из-под прошлогодней листвы лезет,
молоденькая, еще не жгучая, как раз на борщ, тут и там
торчат замшелые пни, пахнущие, если их вывернуть,
старыми грибами и чуточку йодом.
Идут, а вокруг желтые цветы — аж кипят. Это
жабье мыло. Ранней весной, когда еще не цветут
ландыши, петушки и стройные сокирки, ребятишки носят в
школу эти желтые, сочные цветы — ведь и они веселые,
даром что не пахнут, лишь водой отдают, сырой землей и
водяным маком.
Вот и сейчас школьники ватагой идут навстречу
Даниле и Польке, только что с парома, видать. Хохочут,
шлепают по лужам, разбрызгивают на них солнце, а в
руках у каждого желтые букеты — жабье мыло...
— Добрый день, дядьку и титко! — уступают тропку.
— А, здрасьте, здрасьте! Никак в школу?
— Угу...
— Ишь ты, кавалеры... — улыбается самым
маленьким Данило.
Они ему тоже улыбаются.
— Мы не кавалеры...
— Вон как! Ну, тогда... мужики!
— Ха-ха, хи-хи... Такое скажут!
— Паром с той стороны?
— Угу...
— Ишь ты, зайцы...
И расходятся. Детишки — бегом лугом, Данило и
Полька — неторопливо, нащупывая сапогами твердь.
А навстречу им еще двое лет по шестнадцать, а может, и
по семнадцать. За руки взялись, друг на дружку не
смотрят, и цветов ни у него, ни у нее — эти уже боятся
желтого... Завидя старших, пошли порознь, низко
наклонив головы, глаза прячут.
12
— Добрый день, — тихонько сказали, а миновав
стариков, оглянулись и снова за руки взялись.
Полька улыбается тихо, под ноги себе, молодеет
лицом. Потом:
— Когда-то, может, помнишь, как мы в такую вот
пору гуртом в ладушки на лугах играли. Ты уже тогда
на вечеринки похаживал, а меня в сумерки еще и за
ворота отец не пускал...
— Это вон там, на Кудининой пуще?
— Ага. Тогда я тебя догнала, отдала ладку..,
— Потому и отдала, что я не хотел убегать...
— Может, и так... А домой пришла, целый вечер ту
ладонь, которой тебя тронула, к сердцу прикладывала.
Господи, глупые мы тогда были.
— Не глупые, а молодые, — как можно
значительней произносит Данило и бровями этак пошевеливает —
то вверх их поднимет, то на глаза напустит —
улыбается. Потом вздыхает: — Было, было, да уже не
будет...
И обоим им становится немножко грустно — знают,
что и вправду не будет, потому и молчат.
Впереди слышны удары топора, эхо над водою
разносится. Это паромщик чинит паром после зимы — пока
есть время и никто не подоспел, чтобы переправиться на
другой берег. Завидя Данилу и Польку, он снимает
шапку и кланяется им, потому что долго не виделись.
— Живы-здоровы?
— Да слава богу!
— Что там у вас, в Верхней?
— Весна...
— А новенького?
И разговорятся на часок, хотя это новенькое известно
всем троим. А уже когда солнышко вымахнет из-за
деревьев и настил на пароме задымит серебристым
паром, просыхая, двинутся на ту сторону. За проволоку,
что переброшена с берега на берег и провисла
серединой в воду, берутся двое, паромщик и Полька, а Данило
садился на мешок и смотрит вдаль по реке. К проволоке
его не подпускают, чтоб не оступился как-нибудь да в
воду не упал или руку в шкив не воткнул — уж такой он
истовый в работе, суетливый.
И плывут: скрип-скрип, тьох-тьох, — выпевает
проволока, а вода паром обтекает и шелестит — упругое
весной течение, воды много.
Пристав к берегу, Данило и Полька выходят, стоят
13
некоторое время молча, посматривают в ту сторону, куда
Даниле идти, потом Полька ему:
— Ну, ты ж берегись там...
А он:
— Смотри ж там за хозяйством... — Это так, по
привычке, потому что хозяйства, считай, нет: куры, да
наседка, да трое гусей остались с зимы на развод.
Дальше Данило идет сам, а Полька с паромом
медленно отплывает на ту сторону, не оглядываясь. Он тоже
ни разу не оглянется, только прислушивается, как
проволока над водой высвистывает, забрасывает поудобнее
мешочек на плечо и шагает петлистой тропкой, не
обходя луж.
В питомнике ни души, даже следов человеческих
нет — нетронутая земля. Только ровненькие,
посаженные под шнур кленочки, тополя, дубки, ясени к
солнцу тянутся и напрягаются в почках — вот-вот они
лопнут. На краю плантации под старой, побитой молнией
вербою жмется хата, точнее — не хата, а курень о
четырех стенах. Это и сторожка, и хранилище для семян,
и приют для добрых людей в непогоду. В прошлом году
беленькая, подмазанная Полькой хата почернела за
зиму, стекло в окнах покрылось желто-красными
разводами и кружочками, радугой против солнца играет.
Данило открыл дверь, вдохнул сырой погребной тьмы,
напоенной запахом подопревшего сена на топчане да
прошлогодних семян акации, оставшихся невысеянными,
и сел на порожке, чувствуя, что уже ни за что на свете,
до смерти, до слепоты, не уйдет отсюда, с питомника,
что только и жил всю зиму мечтой об этой минуте...
И хотя его ждало много работы: нужно было вынести
из хаты сено и желобки из-под семян, чтобы просыхали
на солнце, протереть окна, разложить пожитки, чтобы
всякая вещь свое место знала, поставить сеть на ручье,
растыкать под потолком тысячелистник, чтобы укрепить
влажный весенний дух в загородке, где стоял топчан, —
он сидел на порожке неподвижно, улыбаясь, и шевелил
пальцами дрожащих мелкой дрожью рук, сложенных на
острых коленях, в которых еще гудела усталость от
далекой, непривычной после зимы ходьбы.
Наконец поднялся, наломал дровишек из усохшего
куста черемухи и разжег костришко. Тоненькая струйка
дыма медленно поднялась над сторожкой, над ветвями
14
деревьев и разостлалась над ними прозрачным
облачком. А немного погодя на горе, голо возвышавшейся за
лесом, пронеслось, как над пропастью:
— А-га-га-га...
«О, уже хуторяне пасеку привезли, — подумал Да-
нило. — Опять на то место, что и в прошлом году. Ну оно
и правильно: в этом краю, если взять по Пслу, больше
всего дикой яблони, а еще ж и терну, и черемухи
сколько...»
— Это ты, Данило?.. — звонко спросили с горы.
«А кто ж еще», — ответил мысленно Коряк, решив,
что горланить ему, старому человеку, не к лицу, а если
кому-то нужно убедиться, он это или не он, придут
сюда.
Ходил к нему всегда старший хуторской пасечник дед
Прокипко — не про что-нибудь там мелочное поболтать,
а про жизнь.
Он и разговор так начинал:
— Давай-ка, Данило, о жизни потолкуем... О каких
чудесах за зиму слыхивал, а может, видел что-нибудь
этакое необыкновенное?..
Коряк любил такой зачин, однако первый разговора
не заводил, считая, что Прокипко старше его на целых
пятнадцать лет, а значит, и мудрее, стало быть, за ним
ti первое слово.
— М-да... — начинал пасечник, свертывая цигарку
из Даниловского крепачка. — Жизнь наша что колесо:
катится, катится с горы на гору, с горы на гору, потом
цоп — упало...
И начинался разговор.
— Ну, как эту зиму сторожевалось? —
интересовался Прокипко, устраиваясь под вербой так, чтобы о ствол
спиной опереться.
— Э, не спрашивайте, — отвечал Данило и
принимался степенно, с длинными многозначительными
паузами рассказывать, какое с ним недавно вот, уже
весною, происшествие было. — Сижу как-то ночью под
амбаром, курю, прислушиваюсь, что где творится. В
правлении как раз совещание закрылось, люди расходятся.
Чую, и ко мне кто-то направляется. Подошло, слышу,
постояло, посопело. Хотел отозваться, спросить кто, а
потом думаю: если ему нужно от меня что-то, скажет, не
нужно — пойдет себе дальше...
При словах «постояло, посопело» Прокипко
настораживался, поднимал на собеседника глаза, что делал очень
16
редко, ожидая чего-то необычного, какого-то чуда, а Да-
нило, помолчав, продолжал:
— Отсторожевал я, пошал домой, сел завтракать...
Вдруг в двери стук — посыльный. Так и так, товарищ
председатель вас вызывают. Прихожу. Только на порог,
а он: «Так вы, Данило Кондратьевич, может, скажете
председателю в глаза, откровенно, что не уважаете его,
что он для вас не авторитет?» — «Почему? С какой
стати?» — спрашиваю. «Ну как, — отвечает, — подошел
вчера к вам, а вы курите, глазами смотрите и ни
«здравствуйте», ни «до свидания». Я все ж таки
председатель...» Говорю ему: «Слыхал, что подходил кто-то, а
здороваться не здоровался, потому что не признал — вижу
плохо». — «Ну да, — смеется, — звезды на небе, сами
же говорили, видите, а председателя и за шаг не
признали?» — «Да, — говорю, — может быть, и признал,
если б немного дальше стояли». Обиделся...
Прокипко на то ни слова, попыхкает дымом,
покачает головой да и подастся на гору на пасеку. А уже на
другой день, снова заглянув к Коряку, скажет:
— Так, говоришь, обиделся... Угу... Ну пусть пооби-
жается. А ты мне лучше объясни, ты ведь моложе,
грамотней, почему оно так, что у нас двенадцать месяцев в
году, а у калмыков тринадцать?
И это уже ему до вечера хватит рассуждать да
удивляться, почему ж оно так...
Вообще Данило за много лет дружбы с пасечником
заметил, что тот не любит былей («Я такое и без тебя
знаю, насмотрелся»), а все подводит разговор к чему-
нибудь необычному, удивительному, хотя оно и
придуманное, если не кем-то, так самим Прокипком.
Погрев над костром руки, занемевшие от мешка, и
колени — они у него всегда мерзнут, — Данило
вынимает сеть и идет на ручей ставить: до вечера, пока
явится Прокипко, нужно ухи сварить.
В ручье воды мало, на вершок-два, но рыба есть, в
большинстве вязь, который выходит в половодье пастись
на луга, а когда вода спадает, возвращается в речку.
Данило, считай, не ловит его и никогда не скажет, что
ходил рыбу ловить, а скажет: «Перехватил двух на
ужин».
Когда сеть выставлена — зияет вверху дырами,
только внизу целая, заштопана суровой ниткой, — Коряк
возвращается в сторожку, выметает из нее прелые грибы,
поросшие по углам и под топчаном еще осенью, сушит,
2 Г. Тютюнник 17
перетряхивает сено, раскладывает на полочках свое
снаряжение, но самая приятная для него работа —
развязать снопик тысячелистника и бережно, по одному
стебельку, украсить им стены, низенький потолок,
холодные темные уголки, а потом сесть на корытце,
опрокинутое вверх дном, и дышать, дышать так роскошно,
глубоко, что аж в груди пощипывает... Только после
этого он может сказать леснику, Польке или Прокипке, что
уже обжился и до самой осени даже и не помышляет в
село возвращаться, разве что в воскресенье или когда
гости из Харькова прибудут — дочь, зять да внучка.
О, то время для Данилы милое да желанное.
Копается себе в питомнике, там бурьян выдернет, там саженец
к палке привяжет, чтобы ровненько рос, ан глядь —
мальчонка по тропке бежит и еще издали: «Дядьку,
дядьку! Сказали тетка Полька, чтоб вы домой шли, ваши,
хе-хе-ху... — никак не отдышится, — гости из Харькова
приехали!»
Тогда уже Данилу не удержат возле сторожки ни
дождь, ни град, ни камни с неба. Бежит за маленьким
посланцем, хекает по-детски и гостинец ему на бегу
тычет: молодых орешков, меду сотового, завернутого в
широкий кленовый лист, или леща, пойманного на
рассвете, — что под руку попалось, а галифе обматывается
крыльями выше коленей: хльось, хльось... «Хоть бы
паром по эту сторону был!»
И не так ему дочка мила — хоть, конечно, кто ж
родное дитя не любит? — как зять Игорь и внучка. Дочка —
та больше к матери льнет, про тряпки шепчутся и про-
свои дела женские, а то, глядишь, и на карты кинут,
когда никого из мужчин поблизости нет, а зять — о, то
хлопец! Простой, добрый, непьющий и образованный —
инженер...
Приехал впервые в позапрошлом году — кто знает,
что за человек, не виделись, не говорили, только
приветы в дочкиных письмах приписывал. Словом, и свое
будто бы, и чужое. Вошел в хату, подождал, пока жена
с отцом и матерью наобнимается, сердитенький,
правда, немного показался, брови так сдвинуты, губы лишь
чуть-чуть в улыбке дрожат. Потом ребенка жене
передал: «Здравствуйте, тату! Здравствуйте, мамо! —
обнял, поцеловал трижды. — Так вот он и сам зять...» —
сказал и так улыбнулся, что... как же ты его не
полюбишь! Неразговорчивый только. Встанет утром, умоется,
позавтракает — и за книжки, которые с собой же и при-
18
вез. Одно их читает, одно читает да карандашом что-то
черкает, а то закинет руки за голову и думает что-то.
— Разве ж, сынок, так отдыхают? — не утерпел как-
то Данило. — Наелся, напился — и на боковую. На
Маню вон посмотри, — про дочку. — Ни забот ей, ни
печали, как говорится. Вот так нужно!
А он улыбнулся, тестя за плечо крепенько к себе
прижал и так негромко:
— Тату, вы только не подумайте ничего такого...
плохого, не в осуждение скажу ни вам, ни маме, ни жене,
а ради истины: Маня, хоть она и ваша дочь, а моя
подруга, и я ее люблю, не так живет, как мне — и, наверно,
не только мне — хотелось бы. Для нее, тату, — только
поймите меня верно — для нее благо то, что лежит
совсем рядом, что можно взять, потрогать рукой, купить,
съесть, надеть или можно внешне себя и свое гнездо
украсить, внешне — слышите? И она не одна такая.
Пока что — и это особенно заметно, понятно, в городе —
таких немало. Почему именно там? Потому что вы,
например, понимаете и знаете лес не только как зеленый
массив, но и дух его жизни; землю не только как точку
опоры, а как живое существо, речку, травы. Вот. И
любите не для развлечения, а органически, с пеленок, как
ребенок мать свою. А вот для Мани это развлечение,
удобства, отдых, и не больше. Обыватель, тату, как
сорока: любит все блестящее и забывает о собственных
крыльях, а если и пользуется ими, то механически и
опять-таки во имя поживы или для поисков блестящего.
Вы меня понимаете?
Они сидели в сарае среди запахов слежавшегося
разнотравья и сухого прошлогоднего тысячелистника — он
висел в пучках под низкими балками — и ласточкиных
гнезд, у которых хлопотали ласточки, шугая сквозь
двери во двор и со двора, из солнца на солнце. Игорь
прижимал плечи тестя к се'бе все крепче и крепче, аж они
хрустели в суставах.
«Крепкий хлопец, — подумал Коряк. — А
посмотреть — такой хрупкий да маломощный...» Вслух же
сказал:
— Понимаю, сынку, понимаю. Пересказать не
перескажу, потому что слов таких, как ты, не знаю, однако
понимаю, ей-богу, понимаю, а чего ж там?
— Это хорошо, это прекрасно, — шептал Игорь,
пристукивая кулаком себе по колену и глядя куда-то мимо
всего, что было перед глазами, — вдаль, как Данило,
2* 19
когда случалось выходить на простор. — Я сразу
почувствовал в вас что-то такое... и полюбил, как отца, —
своего родного я не знал, погиб. Но я говорю сложно, и
вам трудно понять все, до капельки... Тогда вот так!
Погодите, погодите... У человека, кроме тела, есть душа —
ум и сердце... Вы воевали... Вспомните, когда вы шли
в атаку, к вам приходило... ну, как бы вам сказать...
самозабвение? Перед боем вы думали: вернусь или в
последний раз иду? И наверно, — это абсолютно естественно —
боялись. А потом, когда двигались все, плечом к плечу,
«ура!» в «ура!», вы думали о себе, о собственной
смерти? Нет! Вы видели перед собой всех и были уже не
собою, а каплей всех, а в каждом вашем товарище была
капля вас! Вы были одно целое! Вы были тогда людьми
людей! Такими должны быть мы, люди, мыслящие существа,
всегда.
После этого разговора Данило, привыкший ложиться
рано, если оставался дома, долго не мог заснуть. И хотя
зять играл после обеда с ребенком, учил Маню ездить
па велосипеде, крепко, одной рукой держа его за седло,
и кричал по-мальчишечьи: «Право руля! Перед собой
смотри, не в колесо!» — и смеялся радостно, и потирал
удовлетворенно руки, когда Маня сама проехала весь
двор, не упав, Даниле он уже казался не таким, как
раньше, — вежливым, простым, работящим, «нашим
Игорьком». А еще было немного страшно за дочку...
«Чего ему еще? — печально рассуждал старик, лежа
рядом с зятем на сене, — готовились на рыбалку, так
легли в сарае, чтобы женщин не тревожить до света. —
Работа — лучшей не сыщешь: чистая, культурная...
Одеты оба как с иголочки... Квартира, ребенок, еды вдоволь.,.
Разве так живут, как мы когда-то?.. Вернулся с войны —
не то что хлеба, хаты нет, негде притулиться. Сгорело все
дотла.
«Люди людей...», «Как вы в бой ходили?..» Вот так и
ходили... Бежишь на пули, волосы дыбом встают,
пилотку сбрасывают, глаза, как луковицы, со лба прут, а
бежишь, потому что все бегут, а душа та как струна —
коснись и перервется... Разве там было когда думать?..»
Решил, что скажет зятю на рыбалке, как будет на то
удобная минута: «Ты/ сынок, про всех не очень пекись,
а про себя больше заботься, потому что никто о тебе не
позаботится».
Но так и не сказал, хотя и намеревался не раз: то
клев перебьет, то не хотелось взгляда Игорева от по-
20
плавка отрывать — сосредоточенного такого, серьезного,
а потом решил, что неудобно образованному человеку
советовать что б там ни было, помялся, помялся да и
смолчал: пусть живут как хотят, им виднее.
Вот уж и солнце село за гору. От нее на лес, на
черемуховый цвет, который кое-где уже проклюнулся
белыми глазками, легла широкая, до самого Пела,
тень.
Данило стал на колени, хотел заглянуть в котелок,
да только дыма набрал в глаза, зажмурился и так,
зажмуренный, мешал щербатой деревянной ложкой запашис-
тую уху из двух вязей — остальных выпустил, —
раздумывая о том, что уж время бы и Прокипу прийти.
И как раз в этот момент на тропке, ведущей с горы
к сторожке, послышался хруст сухого хвороста, а вскоре
из дыма, покашливая, вышел и сам Прокипко с палкой
в руке, в длинной стеганке, в той же шапке кожаной,
потрескавшейся, что и в прошлом году. Но постарел, сдал
пасечник: сгорбился сильней, верхняя губа с жиденькими,
тронутыми прозеленью усами сильней запала...
— Добрый вечер, Данило! — руки не подал — не
было у него такой привычки. — А что оно видать, что
слыхать на белом свете? — Высидел целую зиму на
печи, поглупел дед, так не терпится какое-нибудь чудо
услышать, чтоб мозги расшевелить...
— Да какие ж там чудеса, — не спеша, степенно
молвил Коряк. — Перезимовали, вот и слава богу. Теперь
лето пережить надобно.
— И то верно... — Прокипко снял шапку, положил
под вербой и стал усаживаться так, чтобы в спину не
давило. — А знаку на небе никакого не приходилось
видеть, как сторожевая? Говорят — я-то не слыхал, а
люди поговаривают, — что летают сейчас в небе какие-то
чудища и светятся, и сквозь них видно, как там в
середине едят, пьют, гопака выбивают... Не слыхал? Гм... А я
верю, потому что чудес на свете много было да и еще
будет...
Потом они ели уху, подставляя под ложки высохшие
старческие ладони, курили крепкий табак, занятый
Данилой у соседа Ивана, и молчали. А солнечные лучи
угасали над горой, где пасека; небо раздвоилось на синее —
от степи, ночное, и красное — от горы, вечернее; с реки,
где паром, доносился гомон и хохот (ученики как раз
21
возвращались из школы, чтобы на этой стороне, лесом
разбрестись тропками по нагорным хуторам) —
надвигалась ночь.
Когда внизу меж стволами деревьев аа рекой
показался красный круг луны, Данило вошел в сторожку,
нащупал топчан и лег — пока дикие свиньи выйдут
пастись, можно немного отдохнуть. И думалось ему о том,
что сейчас делает Полька, о чудищах, которые летают —
или не летают — в небе, бог с ними, про детей и внучку
где-то там, в далеком неведомом Харькове: хотя бы они
пожили по-человечески, в мире, тишине и покое.
А в сторожке пахло солнцем, которое целый день
грело земляной пол и стены, сухими теплыми ящиками
из-под семян и тысячелистником. И грудь дышала легко,
просторно, только щемило там что-то на самом донышке...
ТРИ ПЛАЧА НАД СТЕПАНОМ
Еще Степану Деревянко яе было тридцати пяти, как
он умер. Доконала человека неизлечимая болезнь.
В пятницу к вечеру приехал из Кременчуга, поужинал
молоком, так как ничто ему уже не шло, кроме молока,
прилег полежать с дороги, изнемогший (иль после ужина
телу томительно стало), и сказал жене:
— Видать я, Маня, сегодня не буду машину в гараж
отгонять. Переночует и у ворот. Пойди, если не очень
устала, подмети в кабине и дверцы заодно запрешь, — и
протянул жене ключи от машины.
Маня, жена Степана, уже давно не любила мужа, как
прежде: раз человек слабеет из года в год, день ото дня,
то где уж там любви быть. За жалостью нет ей места в
душе. А жалость эта каждодневная — и к нему, и к себе.
Бывает, и уставшая придет Маня с фермы — известно,
какая там работа, — а нет-нет и взглянет в зеркало:
брови еще молодые, блестят просинью (такие черные), в
стане тонка, даже под сношенным мужниным пиджаком
угадаешь, что тонка; груди высокие, девичьи совсем
(одного лишь ребенка и родила за двенадцать лет
замужества) — жить бы да любиться...
Иная уже давно, конечно, подпустила бы к себе кого-
нибудь из парней (разве мало теней в садах лунной
ночью!) да и доцветала бы потихоньку: хоть и краденая, а
все отрада. Так ведь это иная, не Маня. Не слушалось
22
ее сердце разума, хотя тот, бывало, и искушал томными
весенними ночами: никого не принимало.
— Чудная ты... — гудел ей как-то прямо в лицо и
потупленные глаза Сергей Батюк, самый молодой из
бригадиров, недавний солдат. — Думаешь, я не вижу, как тебе
живется... — И крутил пальцами пуговицу на Манинои
жакетке, расстегивая.
Было это вечером, в телятнике. Наклонилась к яслям
последнего теленка привязать, а Сергей — откуда
только и взялся — схватил за стан обеими руками, и пальцы
дрожащие к груди побежали...
Потом расстегивал пуговицу. Долго, только вчера
крепко ее пришила. А когда расстегнул и груди стало
просторно, сказала:
— Пусти.
И ушла. А уже от ворот обернулась:
— Теленка привяжи. Не то сбежит, сам искать
будешь...
В тот вечер пришел с работы Степан вконец
уставший и захотел искупаться. К тому же была суббота.
В корыте мкшея. И Маня, натирая ему спину
намыленным носовым платком, закусывала губу, чтобы не
заплакать: так и спотыкалась рука о Степановы косточки, а
колени его торчали из корыта такие острые, что хоть
стреляй из них. Не заплакала, однако. Ведь все поймет...
Взяла ключи, веник, тряпку и пошла к машине.
Степан был шофер (как и хозяин) отменный. Все под его
руками так и пело: двор подметет — не двор будет, а
светлица; хлевок сделает — так это уже терем; яблоню
посадит — так это уже будут яблоки, а не одно название.
Такой. А машина? Что она, если подумать, — цацка?
Куча железа, да и только. Ан нет: каждую пылинку
сдует, прежде чем за руль сесть. И моет каждый день. Если
не сам, то ее, Маню, позовет, чтобы помогла. А может,
чтобы вдвоем, чтобы и она рядышком. Но бывало это
редко. Чаще сам управлялся. «Ты и без того устала», —
скажет. И гладит, гладит-ее глазами. Спиной к нему
повернешься — и спиной чувствуешь — гладит...
Подмела кабину, сиденье, приборы, стекло протерла,
заперла дверцы (научил как-то) и пошла в хату.
А через минуту выметнулась на крыльцо, новенькое,
струганое, зеленое под вечерней луной, и упала.
— Ой, люди добрые!.. Ой, людоньки! — только и вы-
стонала.
Услышали соседи — хаты ведь рядышком, набежали
23
со всей улицы. Кто протолпился — в светлицу, кто нет —
к окошкам прильнули. И смотрели молча. На диване,
застланном чистым ряднышком, в серой сорочке с
белыми пуговицами — вечная та сорочка! — лежал Степан.
Руки сложены на груди (любил так отдыхать), а глаза
в потолок, только в потолок смотрят...
Закрыли ему глаза — кто-то из старших женщин.
А мужчины кинулись к Мане, подняли бесчувственную,
отнесли на руках в боковушку. И дочку, тоже Маню, иг-*
равшую с детьми в другом конце улочки, позвали.
С того и начались похороны.
Кто-то побежал к председателю колхоза домой
сказать, что так, мол, и так, что нужен гроб и духовой
оркестр; кого-то послали за матерью Степана — она жила
за мостом — и наказывали шепотом: «Ты ж, гляди там,
сгоряча не говори, а намеком». Кому же дела никакого
не досталось, те еще долго стояли за воротами,
вздыхали, сокрушались над Маниным горем — такая молодая и
уже вдова — и вспоминали Степана. Уже
вспоминали.
— Еще вчера прихожу, а он как раз вишни кропит в
саду веником. «Одолжи, — говорю, — гвоздочков шале-
вочных». — «Сейчас, — говорит, — дядя, сколько вам?»
Потом еще и перебрал: который негодный — погнутый
или шляпка сбита — откинул, а хорошие дал. Такой
молодец. Другой не признался бы, что они у него есть...
— А я как-то гляжу: несет в мешке саженец груши,
верхушечка выглядывает. А самого уже ветром качает.
Для кого ж ты, думаю, человече, эту грушку сажать
будешь, если сам плода ее не попробуешь?..
— Ну ты это уж зря, Галя (такие сейчас были
чуткие, что не Галька, а Галя). Разве только для себя
живешь?
И расходились потихоньку, вздыхая, по лунной
улице. Только машина Степана осталась у ворот, и от ее
мотора еще исходило тепло.
А через день с утра копали землекопы яму Степану.
Выкопают на штык и садятся передохнуть: твердая
земля, суглинок, стенка идет как цементированная.
Садятся* закуривают и молчат. Это до завтрака. А как
позавтракали, с доброй чаркой, известно, веселее копали и
чаще становились на перекур — до полудня ведь было
еще далеко,
24
Желтела глина вокруг ямы, светило солнце из-за
соснового бора, что чуть слышно шумел у самого
кладбища, и пахла белая акация. А пчел, пчел на ее цветах —
каждая гроздь словно позолотой живой покрыта, —
шевелится.
— Неудачную пору выбрал Степан, — заговорит кто-
нибудь из землекопов просто так, чтобы не молчать. —
Пора-то какая, пора! Хотя бы до осени продержался»
— Будто он сам выбирал.
— Скажи ты, как оно получается, — вздохнет кто-
то. — Одному выпадет целая жизнь, еще и пенсия, а
другой и не наработается досыта.
— А это уже кому каким аршином отмерено: одному
длинным, другому коротким, а третьему четверть.
— Может, хлопцы, кто-нибудь в генделик
смотается? — «Генделик» — буфет над дорогой против
кладбища. — А то, понимаешь, тоска...
— Айв самом деле...
— Да и я такой, что не против...
— За Степанов новый дом...
— Вестимо...
— Валяй, Иванько, ты самый младший.
И долго звенят мелочишкой: кому ж интересно трояк
или рублевку показывать...
До полудня, однако, яма выкопана и подчищена, и
землекопы, закинув лопаты на плечи, с дымом в глазах
(после генделиковой) и негромким разговором
двигаются к Степанову двору: попрощаться ведь нужно.
Издали Степанова усадьба словно в свадебном
торжестве. Людей во дворе и у двора полным-полно, и все
в белом (парко); цветы, красные и желтые,4белые и
синие, взывают к солнцу в самодельных венках из
сосновых веток, машина с_ опущенными бортами в красном —
его, Степанова, машина. Венчает Степана с землей...
Землекопы, дойдя до ворот, снимают кепки, ставят
лопаты под забор, и толпа, расступаясь, дает им дорогу
к хате. Глаз хлопцы не прячут: у всех они сейчас
красные, так и не разберешь отчего.
Попрощались,♦вышли, вновь лопаты в руки взяли.
— Выносить будут... — шепот по толпе. — Вон духа-
чи готовятся. «*
Нетутошние «духачи». Привезли из районной
автобазы. У одного труба желтая, у другого белая, та старая,
та новая, а барабан украшен по ободу крест-накрест
вишневой бархатной тесьмой: вроде как цирковой. Му-
25
зыканты тоже, как и трубы, и барабан, — с бору да с
сосенки: один, старый, лысый, все потеет да утирается
рукой; другой, парнишка еще, хорошенький,
румянощекий, стережет испуганными глазами дверь, откуда будут
выносить покойника; третий, дебелый парень, выбритый
до синевы, а на шее щетина и не тронута (поленился
побрить и шею), шарит глазами по молодицам, а в
глазах — полынная одурь. Поведет шеей сюда, поведет
туда — щетина о воротник вжикает. Труба у него белая,
в царапинах и самая большая.
Но вот на крыльце стал председатель, молодой еще,
стриженный под низкую круглую крестьянскую польку,
сверкнул вставными зубами на солнце, словно
улыбнулся, и сказал устало:
— Значит, так, хлопцы-шофера, давай заходи на
вынос тела.
Люди зашевелились.А лысый «духач» повернулся к
своим, приложил трубу к губам, и вся его капелла тоже
приложила.
Тем временем в хате затопали сапогами, из открытых
окон, от которых исходил запах горящих свечей,
выплеснулись во двор прощальные причитания, лысый топнул
ногой, вот так, с присядкой, и полилась жалоба над
селом, в поле, на молодую рожь и пшеницу, в сосну,
разомлевшую на солнце... Закрылись женщины белыми
платочками, понурились мужчины, а поднятые венки
запахли молоденькой живицей. Сухо шелестели бумажные
цветы, всхлипывали люди, а председатель стоял на
выходе из ворот и распоряжался деловитой тихой
скороговоркой:
—- Пара за парой с венками выходи, пара за парой,
потихоньку и в ногу старайтесь, тогда совсем другой
вид...
А оркестр, хотя немного и вразноголосицу, надрывал
свою медную душу, глушил плачи, и гроб со Степаном
немо плыл над головами, словно сам собою.
— Да хозяин же ты мой дорогой! — закричала Маня
таким нечеловеческим криком, что, пожалуй, не
заглушили бы его все оркестры мира, и забилась в руках у
женщин. — Зачем же переступаешь ты в последний раз
порожечек родной, тобой струганный, тобой слаженный,
твоими ноженьками благословенный?.. Не оставляй нас,
родной, не оставляй одними-одинешенькими на свете!
— Ой, папочка миленький! — крикнула
Маня-маленькая, бледная и охрипшая, тоже черным неподруб-
26
ленным (видно, от матери оторванным) платочком
покрытая, в чистом, хоть и неглаженом платьице в красный
горошек. Ее подхватили на руки и стали утешать.
— Ведь никогда ж и никому, — захлебывалась Маня-
жена, — не сказал ты ни слова лживого, ни слова
лукавого, ни хитрости какой... Да никто ж не запомнит, чтоб
ты полдела сделал, все до конца, все до конца, добрая
душа моя, хозяин мой и заступник...
И люди печально кивали головами и думали каждый
про себя: «Чем дорожила, то и оплакивает... Не мужа,
вишь, а хозяина», И не было в этих мыслях
осуждения.
А Степан плыл вверху торжественно-равнодушный и
кудрявый. И был на нем лучший, ни разу не надеванный
за каждодневной работой и молчаливым ожиданием
смерти костюм и вышитая синим — к синим глазам —
сорочка, и брови черные на маленьком усохшем лице,
гордо заломленные, шелком поблескивали на солнце.
Когда гроб поравнялся с воротами, Маня закричала
умоляюще-отчаянно:
— Ой, не выносите его, не выносите его, люди
добрые, за ворота, ведь это же навеки... — И умолкла,
повисла на руках, поддерживающих ее, как подломленная
ветвь.
— Ой сынку, сынку, — тихо и ласково, уже без слез,
причитала мать Степана, закрыв глаза черной против
седины рукой, — прости меня, мое дитятко, что в такую
недолгую жизнь тебя вывела... Да если бы я знала, если
б ведала твой недуг,, то день и ночь себе его у бога
вымаливала бы... Да пусть же никто не узнает, как тяжко
дитя хоронить, а матери оставаться... Ох, сынку, сынку...
Ты ж, бывало, придешь навестить, да еще с порога:
«Может, вам, мама, дровец наколоть, может, водички
свеженькой вытащить, может,, торфу сухонького
прикупить...» А сам, господи, как паутиночка светишься...
Недаром же ты мне, сыночек, каждую ночь виделся, с
малых лет и до последнего дня... И все только головушка
твоя, только головушка: то на леваде среди конопли, то
на лугу среди желтых одуванчиков играясь, то в" саду
среди вишневых веточек в белом цвету, то склоненная
над рубаночком, то над внученькой в кроватке, то над
моей старой сединой... Недаром же, недаром виделось все
это, господи...
И умолкла, как родник, отдавший воду.
Тогда заговорил Манин отец, маленький, сутуловатый
27
человечек в старинной сорочке с манишкой и в больших
кирзовых сапогах:
— Зачем же было, сынок Степа, так подводить меня,
а? — спрашивал он с ласковой укоризной в немощном,
почти женском голосочке. — Ведь ты, когда просил у
меня Маню, обещал: «И жалеть женушку буду, и любить,
и перетрудиться не дам», а теперь покинул, как есть...
Для чего ж было такую надежду непрочную давать мне,
старому, а?..
А впереди венков несли портрет молодого еще,
живого Степана. Улыбающийся, при погонах, солдат
кудрявый; в глазах искры добрые и веселые, а за ними печаль
далекая.
Тужили по Степану товарищи, идя по обеим сторонам
машины, положив руку на кузов или просто так, головы
склонив. Тужили молча, только в горле закаменело:
первого однолетка хоронили, первую разлуку
товарищескую переживали. Ведь выросли с ним, как в одной
семье с братом, в недостатках и работе, по лугам пеньки
сбивая на топливо, солому среди ночи в самые лютые
вьюги воруя, песни вечерами девчатам напевая про
матушку, что
Як общать сщаб,
Та й ложечки считав...
Одна ложка лишня е...
Десь у Hei дитя е...
Одбилося од роду,
Як той камшь у воду...
Тих был Степан в компании и молчалив, как тень.
Однако без него всегда и компания не компания: ни хо-
дится, ни поется, ни с девками не играется. И все-то он
делал всякий раз молча, неожиданно: выбился из сил
товарищ, санки с дровами таща через сугробы, Степан
свои бросил, вернулся, подпрягся молчком, тянет изо
всех сил, а за ним и все бегут помочь; некому песню
вывести высокую, Степан берет первым голосом, хотя у
него и баритон, а взяв, уж выведет; тонет кто-нибудь в
проруби, провалившись на коньках по шею, Степан
первым к* нему подползает с ремнем в зубах. Потом все
смеются и выхваляются, как тащили беднягу, и Степан
со всеми улыбается — молча...
Шли, склонив головы, терлись у кузова и жалели,
что не на плечах несут друга, а машиной везут, потому
что так сказано было: выносить будут шоферы, товарищи
по работе, а повезет машина — Степан на ней работал,
28
так пусть она и проводит своего хозяина в последний
путь. А за руль Ленька Одаркин сядет, ученик Степана.
И Ленька, правду сказать, хорошо вел машину,
ровненько, не дергая, не подгазовывая без надобности.
Возле ямы духовой оркестр умолк. Гроб тихо сняли с
кузова десятки рук, так как теперь шоферам помогали
и Степановы товарищи, и стало очень тихо вокруг,
только люди вздыхали, да стонала обессилевшая Маня, да
пчелы звенели над ямой. Одна даже села на кисею,
покрывавшую Степана, поползла-поползла к рукам,
сложенным на груди, коснулась их жальцем и взлетела...
А председатель тем временем достал из кармана
сложенный вчетверо листок, кашлянул в тишине и сказал:
— Товарищи! Сегодня мы прощаемся с лучшим
шофером нашего колхоза Степаном Тимофеевичем Деревян-
ко. Шофер первого класса, заведующий гаражом,
чуткий товарищ и советчик по работе, Степан Тимофеевич
неоднократно отмечался премиями правления колхоза,
был награжден радиолой и пятью грамотами, а портрет
его не сходил с доски Почета — и нашей и районной.
Кроме того, Степан Тимофеевич был прекрасным
учителем и воспитателем молодых водителей. — Тут
председатель поднял глаза от бумаги, поискал учеников Степана
в толпе и сказал: — Вот и Ленька у него учился, и Ра-
тушный Микола, и Гузий Олекса без Степанова совета не
обходился, чуть какая неисправность, правда ж, Федор?
Ну, об этом хлопцы сами скажут. — И вновь стал читать
про то, что «самые ответственные дальние поездки
правление колхоза поручало Степану Тимофеевичу Деревянко
и было уверено, что он никогда не подведет», что
«машина его в любую погоду, днем и среди ночи была на ходу,
как часы» и т. п. — Печально, очень печально,
товарищи, — сказал председатель, складывая бумажку, — но
ничего не поделаешь: смерть не спрашивает. Спи
спокойно, наш товарищ и друг, Степан Тимофеевич! Ты
будешь вечно жить в нашей памяти...
— Да где ж он будет жить, где ж он будет жить! —
вскрикнула Маня-жена, словно сквозь сон. — Если нет
уже его, нет!
— Я говорю: в памяти будет жить, — смутился
председатель, кашлянул, выпрямился и произнес громко: —
Слово имеет Ратушный Микола.
Ратушный боком вышел из толпы, стал у Степанова
изголовья и сказал, запинаясь и перекладывая кепку из
руки в руку:
29
— Я знаю товарища Деревянно еще сызмальства, а
как пришел из армии, так и работали вместе. Встретил
как-то, я тогда в клуб в кино пришел, еще в солдатской
форме, помню, встретил и говорит: «Куда собираешься
на работу, Микола?» А я говорю: «Не знаю, еще не
думал». А он: «Иди, — говорит, — шофером, если хочешь,
я тебя сам и научу, а потом поедешь и сдашь на права.
А хочешь — на курсы поступай...» Ну, я возле него,
считай, и научился, как-никак дома. А в Полтаве только
экзамены сдал на права, ведь так просто не дают их...
Вот. А как-то помню: разобрал карбюратор, а собрать не
могу, это дело морочливое... А тут как раз и Степан
Тимофеевич случился. «Давай, — говорит, — сюда...» Не
успел я и закурить, гляжу, раз-раз — уже собрал.
Поставили, завелась... Вот. Руганью не брал, а все добрым
словом умел как-то. Потому и слушались все... — Ратушный
умолк и быстро-быстро мял пальцами кепку, потом
повел по толпе взглядом, словно искал у нее совета:
говорить дальше или хватит? И решился: — А если от себя
сказать, от души, то... всяких людей много на свете —
в армии видел, у нас тут и везде, но таких, как Степан,
не избыток... Не знаю, как это сказать, ну... Лучше было
бы сказать «на здоровье», чем «вечная память». — И так
же боком, с кепкой в обеих руках, пошел в толпу.
А в тишине, залегшей на миг, среди затаенного
дыхания слышен был шепот:
— Говорю, не завалялось ли у тебя, Степан,
гвоздочков шалевочных с десяток? А он: «Сейчас, дядя...»
— Может, еще кто скажет, товарищи? — спросил
председатель. — Может, ты, Ленька?
Ленька наклонил голову и покраснел:
— Не умею я на людях говорить... — произнес тихо.
— Ну, тогда что ж, — вздохнул председатель и
скосил глаза на гроб. — Тогда пусть родные прощаются.
И ударил оркестр и вопли разом, и снялись галки с
кладбищенских деревьев, рванулись в небо и стали
кружить, а пчелы, как и прежде, хлопотливо и работяще
пили цвет акации и шевелились в нем живым золотом.
— Ой, Степочка!.. Ой, хозяин мой, заботушка!..
— Дяденька, родненький, не накрывайте папу!..
— Ой, сынку мой, орлик!..
И тут гулко застучали по гвоздям молотки,
посыпалась земля в яму, и гроб закачался на рушниковом
полотне, погружаясь.
Рвалась из рук родичей и соседей Маня-жена, падала
30
коленями на глину, сдирала безумными пальцами платок
с головы и просила-выстанывала:
— Ребенка, Маню, уведите, пусть она не видит, пусть
не слышит...
А сама, одеревеневшая, угоревшая от горя, с
воронено-черными бровями на побледневшем лице, сухими, аж
жгущими карими глазами и большими синими тенями
под ними, чувствовала на себе взгляд Сергея Батюка и
гнала, гнала его лихорадочной мыслью: «И не стыдно!..
Ой, что же это такое?.. А Степан, а горе, а память?!»
Сергей, бригадир, и вправду стоял напротив, и
вправду смотрел на нее меж головами, только на нее, и хотя
в глазах его стояла печаль, Маня чувствовала, помнила
его испуганное дыхание и настойчивые, сильные молодые
его руки.
«Ой, проклятые они, проклятые!.. — словно бы
утопала в горячей мгле, шепча: — Разве так можно,
господи?..»
Кто-то набрал ей в ладонь земли и высыпал в яму,
кто-то отводил от гроба и утешал:
— Перестань, моя деточка... Себя пожалей, ведь
никто не поможет и никто его не вернет.
Падала и падала земля в яму — из рук и с лопат, и
падал вместе с нею шепот;
— Царство небесное...
— Пухом...
— Царство...
— Пухом...
Потом на месте ямы вырос желтый холмик, укрылся
запахом живицы от венков, и люди стали потихоньку
расходиться по всему кладбищу.
А Степан остался под сосновыми венками в
самодельных цветах, и осталась вместе с ним тихая улыбчивая
его любовь, про которую он не раз и не одному говорил,
бывало, в сердечной беседе:
«Так люблю, когда на яблоню в спелых яблоках
слепой дождь идет... Тогда они и плачут словно бы, и
смеются... Страх люблю!..»
У КРАВЧИНЫ ОБЕДАЮТ
Усадьба Юхима Кравчины у самого луга, каждый год
заливается паводком, и ничего стоящего на ней не
родится, разве что кормовые бураки да еще конопля — вы-
31
сокая, толстая, как лоза, годная не на пряжу, а скорее
на топливо. Про картошку и говорить нечего:
никудышная, кормовая картошка. Юхим каждую осень продает ее
в районном городке или в Полтаве — горожанам лишь
бы крупная, — а себе покупает полевую,
разваристую.
Зато сено у Кравчины самое лучшее — густое, буйное,
косу не потянешь, как вызреет. К тому же из всякой
травы. Не сено — чай.
«Сейчас так: у кого сено, у того и деньги», —
рассуждает среди мужиков Юхим и, довольный собою, своим
умением хозяйничать, улыбается, глядя в землю, и
подбородок легонько пальцами поглаживает.
С ним соглашаются, потому что каждый может
помножить четыре-пять копен сена и две-три отавы на
шестьдесят, а то и семьдесят рублей. С огорода таких
денег не выручишь. Соглашаются, похваливают Юхима
в глаза. А за глаза смеются: что ж это за хозяин, если
не помалкивает о какой-то своей выгоде. Разве умные
так делают? Если ты умный, то, построив, к примеру,
новую крепкую хату, не хвались, а лучше поплачься: «Не
хата получилась — шалашик, холодно зимой, хоть собак
гоняй. Кирпич, видать, недожженный (или
пережженный). Черт его знает». Вырастил хорошие помидоры,
говори: «Никудышные в этом году помидоры, завязалось
такое — одни пупырышки». Все знают, что это вранье,
однако уважают, потому что считают такого человека
разумным. Хозяин! А то вот еще. Есть у тебя в
загашнике деньги, а тут пришли занять, божись: «Да нет, мил
человек, даже на соль, пусть меня гром побьет!»
Проводи просителя из хаты да еще и с порога, вдогонку ему
скажи: «Были бы, так разве я что — пожалел? С
дорогой душой бы...»
Юхим этого не любит. Юхим любит наоборот. Поце-
пятся на его одной-единственной яблоне-райке десятка
три яблочек, хвастается в компании: «Ну и яблок же у
меня нынче уродило... Листьев не видать. Словно
пчелиный рой обсел — золотистые такие да краснобокие...»
Или: «Ну и бураки ж у меня в этом году... Один — на
пуд тянет... Как ведра». Пойдет рыбу удить, поймал не
поймал, а прихвастнет: «Сегодня на зорьке рыбачил.
Недолго и сидел, а на две сковороды набралось».
Незлобивые мужики на это лишь головами согласно
кивают, а те, кто полукаве, пряча занудливую улыбку,
спрашивают, будто и не коварно, а с искренним любо-
32
пытством: «Расскажи-ка, Юхим, как ты мйня в
позапрошлом году ловил...»
Юхим свертывал цигарку и неторопливо так заводил:
«А-а, то было. Пошел я как-то на рассвете туда, за Оступ,
только закинул снасть, стал закуривать, гляжу, поплавка
нет, как и не было, уже и конец удилища в воде.
Подсек, тяну. Чувствую, крупненькое что-то. Вытащил, а там
одна голова от мйня... То ли я сильно подсек?!»
Тут уж все слушатели, даже почтенные мужики,
смеются. А тот, кто спрашивал, еще и присолит: «Я бы
на твоем месте, Юхим, эти твои райские яблочки давно
бы обтрусил, а то ведь ветки поломает ко всем чертям...»
И ну хохотать: и над тем, что у Юхима, кроме яб-
лоньки-райки, ничего больше не растет (сколько ни
сажал — вымокает), и над тем, что сена у него родят, и
над пудовыми бураками, и над рыбой...
Юхим обиженно моргает обгоревшими у горна
рыжими ресницами, бросает компанию и, ссутулясь, идет в
кузницу, а вслед ему: «Га-га-га! Ках-ках-ках!» Чтоб
знал, как хвастаться, чтоб знал!
А Юхим разводит погасшее за болтовней горно, пша-
кает мехом так, что искры аж из трубы летят, и
бормочет: «Смешно им, видишь ли, смешно. Кугутня чертова!
Вот придет который да попросит: «Сделай, Юхим, то,
сделай се, шиш сделаю».
Однако проходит день-два, Юхим забывает обиду и
никому ни в чем не отказывает. И заказчики знают, как
легко к нему подкатиться. Нужно только стать на
пороге кузницы, кашлянуть раз-другой и сказать эдак
ласково, вроде бы от души: «Здравствуй, Евдокимович! Как
оно сегодня куется-клепается? Слава ли богу? А я вот
шел улицей, слышу, молоточек твой так и поет, так и
поет... Вот уж послал тебе бог дар в кузнечном деле!»
Это лукавые. А кто хитрить не хочет или не умеет, тот
скажет: «Ты, Юхим, за вчерашнее не сердись. Мы ведь
не со зла, а так, по глупости, можно сказать...»
«Да я что ж, не понимаю, что ли, — мирно отвечает
Юхим, а самому так сладостно, так приятно на душе
становится. — Давай, что там у тебя». И мастерит между
делом, что бригадир по наряду дал, тому щеколду, тому
петли дверь навесить, тому тяпку стальную — «вечную».
А если нет срочной работы, закрывает кузницу и идет
в сосновый бор — «хоть там подышать не чадом да
окалиной». Бор начинается сразу же за кузницей и тянется
косогорами над рекой до самого дальнего села Бирок.
3 Г. Тютюнник од
Юхим увязает в песке, чувствует под подошвами сапог
каждую шишку и прислушивается к постукиванию дятла
где-то поблизости. Останавливается, закуривает и
смотрит, как тот вертит головкой и орудует клювом.
«Экий кузнец-молодец», — думает Юхим, пыхкая
дымом. И дальше идет, к понизовью, поросшему
ольшаником, от которого тянет болотом и перемокшим в воде
сушняком: тут ему легче всего дышится и прохладно
после кузницы. Потом при случае Юхим ни с того ни с
сего спросит у собеседника:
«А знаешь ли ты, какая птица самая работящая?
Нет? Так я скажу. Дятел. — И постучит твердым, давно
не стриженным ногтем по наковальне. — Воробей — это
босяк. Налетел во двор, прыг-скок между курами,
поклевал-поклевал, нахватался и улетел. Голубь — ленивый,
выпятит зоб и ходит, ждет, когда накормят. Сорока —
ворюга, на живое бросается. Сойка — цыганка: что
увидела, то и стащила, спрятала на зиму. Скворец — как
враг на сады налетает. А дятел — ууу... Трудяга. Изо
дня в день, и летом, и зимой, все стук да стук, как
плотник долотцом или, как я вот, молотком. И скажи, как у
него голова не болит!..»
У Кравчины едва ли не самое большое во всей округе
семейство: он с женой Мотрей, которая еще девочкой
прибилась в двадцатые годы в Чернечью слободу из
Екатеринослава, когда там был неурожай, пятеро
детей — это только младших, которые еще не вылетели из
родительского гнезда, — да старая, как мир, Кравчини-
ха, Юхимова бабушка. И все обуты, одеты, сыты (из-за
редкости кузнечного ремесла Кравчина хорошо
зарабатывает), все с покладистым характером, а дети к тому
же хорошо учатся: младшие в слободской школе,
старшие — в районной десятилетке. Юхим любит
похваляться детьми, как и своим хозяйничаньем, однако не
при них.
«Маслом кашу не испортишь, а детей похвалой —
мигом», — ласково поучает он Мотрю да старших своих
сыновей и дочерей, которые уже обзавелись семьями.
Это когда у Юхима хорошее настроение. А бывает он
таким постоянно, если только не голоден. Если же
голодный, то злее человека во всей слободе не найдешь.
Поэтому в предобеденный час, когда из колхозного двора
через луга доносится перезвон Юхимова молотка в
кузнице, дома у него уже начинается суета: выносится во
двор низенький круглый столик, потому что Кравчина
34
летом, при хорошей погоде, обедает под яблоней в
холодке; вытаскивается из колодца ведро холодной воды
(если борщ покажется отцу горячим, то миску ставят на
ведро, чтобы борщ быстрее стыл); перемываются и
перетираются крашеные деревянные ложки, хотя они и без
того чистые; приготавливается чистый рушник отцу на
колени и ставится к столу отцова скамеечка. Только
тогда Мотря велит самому младшему сыну Кольке бежать
на кладбище и выглядывать, когда будет идти отец.
Колька, худенький, чисто одетый мальчик с умными
глазенками, шлепает босыми ногами по тропке между
подсолнечниками и гудит, как машина. Высматривать отца
на обед — это самая большая для него радость,
наипочетнейшая обязанность, которая досталась ему от
старших братьев и сестер. Колька выбегает на кладбище,
самое высокое место в слободе, садится на горячий от
солнца чебрец между могилами, смотрит на колхозную
усадьбу по ту сторону лощины и напряженно
прислушивается. Вот уже молоток в кузнице перестал
вызванивать. Колька видит, как отец запирает дверь, чуть
слышно щелкая запорами, но бежать домой не торопится:
ждет, когда Юхим достигнет лощины. Кравчина идет
медленно, заложив руки за спину, не глядя по сторонам и не
останавливаясь со встречными: не до разговоров —
наработался и проголодался. Когда же он опускается в
лощину, сначала по колено, потом по грудь, по плечи,
потом прячется с головой, Колька вскакивает, как
перепуганный заяц, и несется по тропке назад, только
кресты и памятники мелькают у него перед глазами.
— Идет отец! Слышите, ма?! Идет! — кричит,
запыхавшись, Колька, а глаза горят как жаринки: он
первым увидел отца!
Детвора ищет свои стульчики, сделанные отцом,
ставит к столику, однако никто не садится. Мотря
выносит кувшин с теплой водой, полотенце, мыло и кусочек
гладенького обтертого кирпича.
Войдя во двор, Юхим обводит суровым взглядом все
семейство и, заметив, что кого-то из детей нет,
спрашивает:
— А где же Поля?
— У нее сегодня шесть уроков, — отвечает
кто-нибудь из школьников.
Юхим закатывает рукава — руки у него по запястье
синевато-рыжие от дыма и окалины, а выше белые:
некогда им загорать, — берет из рук Мотри мыло, кир-
3* 35
пичик и отмывает копоть. Дети молча, почтительно
смотрят, как отец, стиснув зубы, трет руки кирпичом, а кто-то
из старших говорит:
— Может/ папа, вам жесткую мочалочку купить?
В городе есть.
— Тверже кирпича ничего нет, — отвечает Юхим.
Умывшись, он первым садится за столик, за ним
бабка Кравчиниха, сухонькая, согбенная девятью десятками
лет, тонкорукая, одетая, как всегда, опрятно, во все
длинное и просторное. А уже потом усаживаются дети,-
Юхим пробует борщ и, если он не очень остывший и
не очень горячий, спрашивает:
— А где перец?
Кто-нибудь из детей подает ему стручок перца,
который лежал под чьей-то ложкой, и говорит радостно:
— Вот, папа. Спрятался!
Юхим отламывает темно-красный кусочек перца,
кидает в миску, потом высыпает с ладони еще и зернышки.
— Не много ли, отец? — замечает Мотря. — Детвора
языки попечет.
— Кому много будет, тот попросится, — отвечает
Юхим.
Детвора ест молча: кто же «попросится», если отец
такой борщ ест!
Юхим зачерпывает полную ложку, медленно подносит
ко рту и какое-то время смотрит на нее, как на врага,
потом — хлеб! — громко, сердито и коротко, словно
кнутом щелкнул, — и ложка сухая. Хлеб! Хлеб! Хлеб! —
медленно и ожесточенно. Если кому-то из старших детей
попадется куриный пуп или печенка, Юхим скажет,
перестав хлебать:
— Отдай, Маня, находку Кольке, он ведь меньше
тебя.
А Мотря при этом еще и добавит:
— Он у нас сегодня молодец, маме дров к печке
наносил и отца бегал выглядать.
Юхим молчит: маленького иногда не мешает и
похвалить.
Бабушка ест из отдельной мисочки, потому что ей
нужно долго разжевывать. Юхим никогда не обходит ее
вниманием за столом и, если она, бывает, не доест
борща, или тушеной картошки, или каши молочной,
спрашивает:
— Что это вы, бабуля, так плохо сегодня едите?
— Доживешь до моего, — отвечает Кравчиниха, — и
36
тебе еда не будет в радость, моя детка. Раньше, когда
помоложе была, хотелось есть, да нечего было, теперь
вдоволь, да не хочется.
Детворе чудно, что бабуся называет отца деткой, и
кто-нибудь из старших спрашивает, почтительно
улыбаясь:
— Разве папа — детка?
— Все мы, детки, дети. И старые, и малые, —
отвечает бабушка и смеется — немо, без единого звука.
Это «мирный» обед. А бывает и так, что Мотря чем-
то не угодит Юхиму. И чаще всего — очень горячим
борщом. Тогда на Кравчину находит голодное бешенство.
Он хватает миску, бегает с нею вокруг хаты, ища ветра,
а найдя, принимается веять ложкой борщ, как веют
зерно для помола, и кричит так, что соседские собаки лай
поднимают.
— Мало меня у горна печет?! А? Мало?!
Если же ветра нет, Юхим подхватывает на руки чуть
ли не ведерный чугун с борщом и тащит к колодцу.
— Опускай в воду! В воду, говорю! — командует
Мотре и обвязывает чугун так, чтобы дужка была.
«Что там за суматоха?» — удивляются те, кто не
часто бывает на этом краю села.
«Да у Кравчины обедают», — равнодушно поясняют
соседи кузнеца, привыкшие к этому. Они так привыкли,
что, если кто-то на кого-то кричит, ему говорят: «Чего
ты вопишь, будто горячего хлебнул!»
После обеда Юхим сразу же добреет и становится
еще ласковей и разговорчивей, чем всегда.
— Про что тебе на завтра урок задали? — воркует
он сыну или дочке и гладит чуб или косички.
— Про перпетуум-мобиле, папа.
— А что ж это такое?
— Вечный двигатель, папа.
— Гм, — произносит Юхим и надолго
задумывается. — И что же, есть такой двигатель?
— Нет, папа.
— Правильно, нет такого! — радуется Юхим. —
Ничего вечного нет.
— А вы, папа? — мигает глазенками Колька.
Юхим хохочет и говорит:
— А я, сыночек, вечный. Я как тот перепетмо-
биле! И ты подрастешь — и ты будешь вечным
двигателем. Кто работает, тот и двигатель.
37
— А кто не работает? — допытывается Колька.
— А кто не работает, тот свистит, — смеется Юхим.
Но больше всего любит он учить младшенького
сына, еще не школьника, грамоте. Станет смирно, как
солдат, прижмет растопыренные пальцы к бедрам и
Кольке:
— А ну-ка, скажи, какая это буква?
Колька склоняет голову набок, прищуривает
умненькие глазенки и быстро-быстро отвечает:
— «И», папа, только без точечки вверху.
— А это? — Юхим выбрасывает руку в сторону.
— «Ге», папа.
— А это? — радуется Юхим и как можно круглее
ставит руки на пояс.
— А это «фе».
— А это ж какая?! — уже выкрикивает в счастливом
азарте Юхим и ставит только одну, левую руку на
пояс.
— А это, папа... — Колька нарочно делает паузу, а
Юхим напряженно ждет, и, когда на лице у него
появляется уже чуть приметная тень досады, Колька, смеясь,
говорит:
— А это, папа, «э-э-эр»!
Старшие дети, которые тоже прошли по очереди
отцовскую «школу», обнимают Кольку и хвалят, а Юхим
вдруг хмурится и говорит:
— Ну хватит. Марш за уроки, а я пошел на работу.
Дети неохотно расходятся каждый к своему делу —
не так уж часто выпадает побыть с отцом, а Юхим,
заложив чистые, отмытые кирпичом руки за спину, идет
в свою кузницу. Дорогой он с удовольствием
останавливается поговорить, если кто случится навстречу, сам
напрашивается сделать что-то такое, чего, кроме него,
кузнеца, никто в слободе сделать не сумеет: если Кравчина
не голоден, он каждому рад услужить, каждому не
пожалеет доброго слова или совета, даже насмешникам
своим. И потом до самых сумерек вызванивает его
молоток по наковальне — веселенько и ловко, словно
зазывает людей в прокопченную кузницу у соснового бора.
А если умолкнет, это значит — притомился Юхим, снял
свой жесткий брезентовый фартук, побитый искрами, и,
растирая правую руку — она уже частенько стала
неметь, — пошел к понизовью подышать ольховой
прохладой.
38
ОТДАВАЛИ КАТРЮ ЗАМУЖ
Поздней осенью, когда листья в садах уже опали и
остались только на сирени да на верхушках тополей,
к хуторскому завмагу Степану Безверхову приехала из
Донбасса младшая из трех дочерей, Катря, и объявила,
что выходит замуж. Катря пробыла в Донбассе, верно,
около года — работала в шахтерской столовой то ли
буфетчицей, то ли официанткой, — однако никто на хуторе,
где всё и про всех знают, не надеялся, чтобы она так
быстро нашла себе пару.
Родителей это известие не очень обрадовало, однако
не так уж и опечалило, потому что подходящих женихов
среди хуторских хлопцев было негусто, а Катре
повернуло уже на третий десяток — как ни жаль, отдавать
замуж когда-то нужно. Расспрашивали только, когда и где
будет свадьба, кем работает будущий зять и каков он
собой. Катря устало отвечала, что свадьбу желательно
было бы сыграть здесь, на хуторе, — ей все же веселей
будет; как-никак среди своих; что избранник ее работает
на шахте инженером-экономистом, а о том, каков он
собой, сказала:
— Приедет, — ему шахта дает «Волгу» на два
дня, — сами увидите. Мне нравится. А вам... Вам ведь с
ним не жить.
Спокойно сказала, но с такой недевичьей печалью в
глазах, что родители поняли: каким бы там хлопец этот
ни был, а отговаривать дочку или затягивать со
свадьбой не следует...
Катрю положили спать в светлице на ее еще девичью
кровать, с горой подушек, чуть не вровень с рисованным
ковром на стене.
На том ковре из старого байкового одеяла заезжий
маляр изобразил синее круглое озеро, двух долгошеих
лебедей, которые целовались клювами, и все это обсадил
большими красными и желтыми цветами — тоже
круглыми.
В светлице было чисто и уютно, как бывает только в
хатах, где не сыны, а дочки. На стенах, украшенные
рушниками, висели портреты всех трех Степановых девчат —
тонколицых, кудрявых, с чуть испуганными глазами:
видно, что фотографировались впервые в жизни. Они были
похожи друг на дружку, как близнецы, может, потому,
что фотограф-портретист из Полтавы подрисовал им
брови всем одинаково ровно.
39
Катря блуждала взглядом от портрета к портрету,
мечтательно улыбалась, потом сказала отцу и матери,
сидевшим рядышком на лавке против кровати и
печально смотревшим на дочку:
— Он ничего. Только строгий и неразговорчивый.
Вы, когда он приедет, не очень приставайте к нему с
разговорами да расспросами, а то еще что-нибудь не так
скажете... Это я прошу.
Степан промолчал, только суетливее, чем обычно,
зашарил по карманам, ища папиросы, а Степаниха
сказала тихо:
— Да что ж мы, враги своему дитяти? Уж как-нибудь
постараемся угодить.
Когда дочь задремала, старики тихо вышли в другую
комнату и уселись на теплой лежанке рядышком, так же,
как сидели в светлице. Долго молчали, Степаниха
вздыхала, а Степан курил. Потом сказал:
— Видать, штука!
— Да уж какой попался, — печально ответила
Степаниха.
Свет не включали. Степаниха на ощупь постелила
постель — себе на железной кровати, которая горела в
войну, однако еще держалась, мужу — на лежанке. Степан
тем временем пошел в хлев, бросил корове в ясли охапку
сена, что-то сердито бормоча, потом ни с того ни с сего
ударил корову навильником и сказал:
— Повернись, стерва собачья! — И сразу у него
отлегло от души, стало жаль и корову, и жену, которая
все умела терпеть и никогда не ссорилась, а только
вздыхала, и дочку — последнее свое утешение. Думалось,
приведет в дом хорошего парня, хозяина молодого, и будут
жить на всем готовом, для них же приобретенном, а им
с женой будет к кому на старости голову приклонить,
потому что старшие дочки, тоже не дождавшись сватов в
хату, поехали искать свое счастье — одна в Сибирь, по
вербовке, другая на целину. Ехали ненадолго, а остались
там навсегда. Повыходили замуж, обзавелись детьми,
теперь только письма кое-когда шлют да дописывают
после «До свиданья» «Целуем вас, папа и мама, семья
Андреевых». Это старшая. А средняя, характером помягче да
поласковей: «Целуем вас, дорогие папочка и мамочка,
семья Евтушенковых». Приезжали как-то с детишками и
мужьями. Ничего хлопцы. Бойкие, разговорчивые, собой
хороши. Внуков и внучек навезли полдвора — щебетун-
чиков маленьких. «Дедушка, а это как называется?» —
40
«Цеп». — «А что им делают?» — «Молотят». — «Как?» —
«А вот так».
«Бабушка, а кому это такой большой чугун
картошки?» — «Паци, деточка». — «Паци? А кто это?
Поросенок?!» И хлопают в ладошки да подпрыгивают: «Паця-
паця, паця-паця!»
Говорил зятьям: «Оставайтесь, хлопцы, тут. Хаты
вам всем хутором поставим в одно лето, приусадебные
участки колхоз нарежет такие, что сады за два-три года
выгонит, как из воды; телочку, поросят дам на развод,
на новое хозяйство». А они: «У нас, папаша, там родные,
там квартиры, заработки неплохие, — чего же еще?»
Правильно, конечно. Кто ж свое родное бросит или
от добра добро искать станет?
Теперь и Катря вылетает из родительского гнезда.
Оставайтесь, папа-мама, ни с чем, живите как знаете.
«Мы вам на старости все вместе помогать будем, а если
захотите — к себе заберем». Спасибо, дети. Вот только
кто воды подаст, как захвораем, кто деда дедом назовет
и на плечо кто попросится, чтобы повозил, как лошадка,
кто бабке дров наколет или попросит сказку рассказать,
кто за садом присмотрит, чтоб не захирел, а
цвел-разрастался каждую весну, кто отцовскую да материнскую
песню запоет зимними вечерами?
«Заберем». Вон Килину Волоховскую забрали было
дети. Хата два лета пустая стояла, ребрами светила,
стекла радугой переливались, словно их кто дегтем
намазал, садик по самые ветви бурьяном зарос. Не двор,
а заброшенная могила, только ежи по ночам в бурьяне
хрюкали да одичавшие коты глазами светили. Продать
бы, но кто ж ее купит, если все в странствия пустились.
А этим летом вернулась Килина. «Тут родилась — тут и
умру, — сказала дочке и зятю. — Если хотите, чтоб мать
дольше прожила, не вывозите меня никуда, не трогайте
с места». И снова ожила усадьба, сад стал чистым, хата
белыми стенами красуется, а ежи и коты исчезли.
«Заберем»... Эге-ге! Разве что мертвых. Тогда — все
равно.
Корова шуршала сеном, похрустывала сухими
стебельками и похлестывала Степана хвостом. Степан уже
не сердился на нее, отмяк душой. Еще немного постоял
посреди двора, прислушиваясь, как набирает силы ветер.
Голые деревья в саду не шумели, а трубили в осенние
свои трубы.
Не спали долго. Решили со старой, что завтра нужно
41
позвать Кузьму Белокобыльского, мастера резать свиней,
и заколоть годовалого кабана пораньше, чтобы к вечеру
уже и с колбасами управиться — до субботы ведь
осталось всего три дня, а холодца можно будет и в четверг
наварить; масло подсолнечное решили взять готовым,
обменяв на маслобойне на семечки; мука была своя. Сте-
паниха прикидывала, кого позовет стряпать, а Степан
рассуждал вслух, сколько нужно будет самогонки, если
пригласить на свадьбу всех родственников и хуторян:
— Андрюшка выгнал сегодня две бутыли. Давал
пробовать — хороша: в ложке горит и на пол капнет —
горит. Скажу, чтоб придержал. Завтра Мотря Решетков-
ская собирается гнать, думаю, не пожалеет на такое
дело. Да и Федор, брат, без своей не живет. А еще в
лавке возьму ящик, ведь сваты тоже, наверно, приедут.
Так за хлопотами забылась и печаль.
— Одним словом, как-нибудь утрясется, — сказал
Степан, зевая, и вскоре уснул, а Степаниха еще долго
ворочалась, вздыхала, тихонько всхлипывала и
задремала уже перед первыми петухами.
— Как же, дочка, свадьбу будем играть? — спросил
утром Степан, свежуя уже внесенного в хату кабана. •—
По-старому или по-новому?
Катря одной рукой помогала матери хлопотать у
печи, а другой придерживала под грудью концы большого
цветастого платка. В этом платке, старинном, еще
бабкином, сберегаемом на дне сундука, как самое
драгоценное сокровище, которое каждой осенью перекладывали
листьями ореха от моли и для запаха, Катря была
похожа на хорошенького обиженного ребенка с глазами
огромными, полными взрослой печали.
— По-новому, папа. Посидят люди, погуляют и
разойдутся.
— А может, и дружек поводила бы да пригласила
людей на свадьбу, хотя бы родичей, тех, кто поближе? —
несмело спросила Степаниха.
— Какие там дружки, мама, — улыбнулась Катря. —
Да и кто тут из моих ровесников остался...
— Ну хоть фату наденешь?
— Надену, если хотите.
— И то слава богу, — обрадовалась Степаниха.
— Теперь такая мода пошла, что по-нашему уже
ничего не делают, — подкинул резчик Кузьма Белокобыль-
£2
ский, прищуривая единственный свой глаз. Он резал
сало на широкие полосы, потом ровненько делил на куски
и, густо посыпая солью, складывал в крепко слаженный
немецкий ящик из-под мин. — Теперь так: раз, два — и
в дамках! А бывает, сегодня свадьбу отгуляли, а
завтра — га-га! — глядишь, молодую уже и в родилку
отвезли!
Катря покраснела, низко наклонила голову и вышла
в светлицу. А Степаниха сказала сердито:
— И такое же смелет при дитяти, что, господи,
прости и помилуй.
— А что, разве не правда? — обиделся Кузьма. Он
был добрый человек, подначивать не любил, а всегда
говорил простосердечно, как думал, потому и не понял,
за что на него рассердились.
— Хватит вам, — вмешался Степан. — Подавай, мать,
свежину * на стол да будем завтракать.
После доброй чарки Кузьма растрогался и раза три
пожелал Катре, чтоб ей с мужем «жилось, как с горы
катилось», чтоб детей «навела» побольше да не забывала
отца с матерью в «чужом, далеком краю». Кузьме
казалось, что Донбасс где-то за морями да горами высокими.
Катря прилегла бочком на подушки, закрыла глаза
платком и заплакала, а Степан, побагровев после стакана
«домашней», часто заморгал, быстренько завязал в
узелок резчику на гостинец кусок грудинки, два куска сала
и, поблагодарив за помощь, выпроводил Кузьму за
ворота.
— Перестань хныкать! — прикрикнул с порога на
жену, заметив на ее щеках красные от печного огня
слезы. — Что это тебе: свадьба или похороны?!
Степаниха быстренько утерлась и сказала так, словно
и не она только что плакала:
— Без тебя знаю, что свадьба. Ты вон с утра
нализался, так тебе и все равно, а матери, может, и
поплакать хочется.
Степан смолчал, как всегда, когда бывал навеселе,
прошел в светлицу, погладил дочку по голове, как
гладил когда-то маленькую, и сказал:
— Не плачь, Катюша, не горюй. Тут, видишь, такое
дело: не век же тебе жить при родителях. Достань-ка
лучше мне одежу, пойду лавку открою, потому уже и
так поздно.
* Свежина — свежее жареное мяса.
43
В лавку Степан пришел, как новая копейка: в
широких галифе прочного синего сукна, хромовых сапогах
и куртке из той же материи, что и галифе. Еще и
тонкими дочкиными духами благоухал — Катря
попрыскала ему воротник.
Люди, толпившиеся у лавки, встретили Степана веж-
ливенькими приветствиями, а не руганью, как это
бывало всегда, когда завмаг опаздывал, — знали все: у
человека хлопоты.
— Хлеба набирайте, чтоб хватило до самого
понедельника, — объявил Степан. — Потому как мне
некогда будет, сами понимаете. А еще дочка просила —
да и мы со старухой просим, — чтоб приходили в это
воскресенье на свадьбу.
Хуторяне учтиво благодарили, расспрашивали, где
будет гулянье да кто жених.
— На дворе посидим, если погода будет стоять, чтоб
все поместились. А жених — главный инженер на
шахте, — приврал Степан, думая, что «Волга», на которой
приедет зять, свое дело сделает: кому б еще дали гнать
такую машину за четыреста километров, как не
главному инженеру...
Люди почтительно кивали головами, те, которые
жили ближе к Степану, обещали одолжить столы, стулья
и посуду, и все брали хлеба с избытком.
Женщины сразу же расходились, а мужчины
терлись у прилавка и, когда последняя молодица, нагрузив
полную корзину хлебом и ситро, вышла, вроде бы
полушутя, с улыбочками да подмигиванием, заегозили
возле Степана:
— Может, Кондратович, ради такого случая того...
до десяти... — И начали шарить по карманам, доставая
мятые рубли, а кое-кто копался за пазухой для вида:
мол, чего спешить поперек батьки в пекло, может,
завмаг на радостях и свою выставит.
Степан и вправду отмел ладонью кучку денег,
сказав: «Заберите, я угощаю», накинул на двери крюк и
достал из-под прилавка две бутылки «Столичной».
После двух пили еще и третью, закусывая
консервами из камбалы, хлебом и пряниками, похваливая всех
Степановых дочек за красоту и за то, что вот так ловко
сумели «пристроицца» в жизни, пока Петра Малинюков-
ского, знаменитого хуторского певца, не потянуло на
песню. Тогда Степан легонько хлопнул ладонью по
прилавку и сказал:
— Хватит, хлопцы, у меня еще работы да работы.
Мужчины, кто пошатываясь, кто ступая тверже, чем
нужно, разошлись, а Степан запер лавку и отправился
в село приглашать брата Федора, музыкантов и
председателя колхоза, рассудив, что телевизора молодым он,
конечно, не подарит, потому что они не колхозники, а
соломы корове на подстилку или дров при случае
выписать не откажет.
Из села Степан вернулся навеселе, и так ему стало
жаль Катрю и себя с женой, что он заплакал. Однако
бодрая мыслишка о том, что выдает дочь не за
кого-нибудь, а за главного инженера шахты (повторив свою
выдумку брату, председателю колхоза и еще нескольким
селянам, Степан и сам поверил в нее), успокоила, он
умолк, вытер пьяные слезы и заснул, как был — в
сапогах, праздничных галифе и шелковой рубахе.
В воскресенье с самого утра во дворе у Степана уже
толклись люди: родственники, соседи, старухи. Ставили
в ряд столы от самых ворот до сада, мастерили лавки
из желтых, хорошо выструганных досок, а в боковушке и
сенях все, даже пол, было заставлено мисками с
холодцом, узваром и киселями. В светлице на столе,
обставленный свечками из чистого воска и украшенный
калиной, красовался каравай; на кровати были разложены
новенькое белое как снег платье невесты, фата,
прозрачно-матовая, как березовая ветка в инее, венок и белые
туфельки, еще не вынутые из коробки. Все это привезла
Катря.
Свечки тихо горели, пламя на них колебалось, когда
кто-нибудь открывал дверь в светлицу, и в хате стоял
церковный дух. Катря сидела в красном углу,
покрытая уже не по-девичьи, а как замужняя, тем же
бабушкиным платком, и. не мигая смотрела на свечи.
Стряпухи, возившиеся в боковушке, улучив минутку, когда Сте-
паниха выходила за чем-нибудь в погреб или кладовку,
перешептывались меж собой:
— А Катря сидит, как с креста снятая.
— Видать, не очень сладкое будет замужество...
— Да и жениха нет, а ему еще вчера пора бы
приехать...
На дворе распоряжался Федор, младший брат
Степана, высокий, крупный мужчина с такими же, как и
у Степана, тугими румяными щеками и острыми карими
глазами, правда, более скрытными, чем у старшего бра-
45
та, — может, потому, что Федор часто прищуривал их,
словно целился в кого-то.
— Вон тот большой стол посредине застелите самой
лучшей скатертью, там будут сидеть жених с невестой
и гости, — командовал женщинами Федор. — А вот те
два, что по бокам, можно застелить и теми, что похуже,
там посадим родителей и родичей. Дальше — для всех,
можно и клеенками: не велики господа!
Голос у Федора был громкий и веселый, парубоцкий
голос. Женщины охотно покорялись ему, хихикали и
старались быть ближе к Федору, а он не упускал
удобного случая одну ущипнуть, другую обнять за плечи и
скользнуть пальцами по натянутой грудью кофте или
шлепнуть пониже поясницы. Жена Федора, бедовая,
нарядная, быстрая в работе, видела все это, однако не
сердилась на мужа, а смеялась вместе со всеми и
щебетала:
— Федя, ты бы и меня хоть разочек обнял, как вон
Гальку, что аж дух у молодицы захватило!
— С тобой я и дома наобнимаюсь!
— Э, дома оно не так приятно! А в темненьких
сенях — будто чужой!
Пора стояла, как в бабье лето. Из-за сада сквозь
голые ветви желто сияло солнце, пахло еще не
подгнившей, росяной листвой, холодной после ночи — она
лежала под каждым деревом пышными кучами, а с поля
тянуло ароматом вспаханной земли и осенней стерни.
Степан хлопотливо метался по двору, то показывая,
где что нужно взять, то высылал мальчишек по очереди
бегать за хутор и выглядывать, не видно ли от дороги
легковой машины, то ходил вокруг столов и, тыча
пальцем да шевеля губами, уже в который раз подсчитывал,
сколько людей поместится.
К обеду начали сходиться гости, и у каждого под
полой если не бутылка, то две, а то и целая четверть.
Пришли и музыканты из села: Иванушка-скрипаль, у
которого верхняя челюсть выдавалась вперед, а нижняя
немного запала; глаза у Иванушки были большие, серые
и глядели на мир с доверчивой добротой; Шурко —
баянист и завклубом, белочубый и застенчивый хлопец,
который зимними вечерами, если в клубе никого не было,
сидел в пустом фойе и сочинял свою музыку; Василь
Кривобок — мастер играть на сопилке и конюх в
больнице, который привез с войны один-единственный
трофей — фабричную сопилку отличной работы; четвертым
46
музыкантом был Мишко Мышлык, бубнист и колхозный
шофер, который мог выбивать на бубне локтями,
коленями, подбородком, головою и выкрикивал под гопак,
краснея и вытаращивая глаза: «А давай-давай-давай!
Гоп-ца! Га-ца-ца!» Музыканты, потихоньку
переговариваясь меж собой, пробовали инструменты, а Иванушка и
Шурко настраивали скрипку: Шурко давал ноту, ведя
ее долго, а Иванушка побренькивал струнами, то
подтягивая их, то отпуская. Потом, для пробы, проиграли
одно коленце из белорусской польки, сложили
инструменты на скамье возле хаты и закурили: Степан не
велел играть, пока не приедет жених.
К двенадцати часам двор был полон народу.
Мужчины, видя, что свадьба затягивается, сели за крайние
от сада столы и принялись играть в карты. Все они, как
один, были в теплых выходных куртках, желтых или
черных кожаных шапках, галифе и хромовых сапогах.
Женщины цвели цветастыми платками, как маковая грядка,
а детвора играла в латки, шныряя между взрослыми,
как воробьи между голубями, за хатой, за хлевом и
погребом.
Но вот прибежал запыхавшийся мальчик, посланец
Степана, и крикнул:
— Едут, едут!
Мужчины быстро собрали и припрятали карты,
поднялись и следом за детворой да женщинами двинулись
к воротам. Тут уже стояли четверо хлопцев из тех,
которые еще не женаты, пересмеивались и перемигивались,
ожидая жениха: они должны были брать магарыч и
чувствовали себя немного неловко. Степан вертелся возле
них и шептал то одному, то другому:
— Вы ж, хлопцы, глядите, того... делайте дело
ладком да мирком, чтоб, не дай бог, драки не затеяли, а
если что, я вам своей ведерко выставлю.
— Своей, дяденька, неинтересно!
— Ты, Кондратович, не мешай хлопцам. Что ж то
за свадьба без магарыча за молодую.
В конце хутора поднялась пыль — ленивая, осенняя;
куры, раскинув крылья, метнулись с дороги под плетни,
и «Волга» на полной скорости подскочила ко двору.
Толпа притихла, подалась вперед так дружно, что ворота
затрещали. Из машины вышли трое: два молодых
человека, среди которых трудно было опознать жениха, потому
что оба они были одеты одинаково хорошо: в белых
нейлоновых сорочках с галстуками, сурово-торжественных
47
черных костюмах и новеньких «болоньях». Третьей
была женщина, видно, мать жениха, сильно напудренная
и с ярко накрашенными губами.
«Ишь ты какая пани сваха у Безверхих...», «Который
же из них жених, а который боярин?» — зашептали
в толпе, проталкиваясь вперед либо становясь на
цыпочки.
Хлопцы-магарычники тоже растерялись: с которого
же требовать магарыч?
— Просим дорогих гостей во двор, — поклонился
Федор и обеими руками указал на калитку.
«Невеста!» — крикнул кто-то в тишине, и все
обернулись к хате: там на крыльце стояла Катря — в белом
просторном платье, скрывающем талию, калиново-се-
ребряном венке над короной аккуратно причесанных
волос и длинной фате, которую, словно волну тумана,
держали на руках девочки и молодицы в старинных
вышитых рубахах и цветных платках с длинными
шелковыми кистями — румяные, улыбающиеся, взволнованно-
любопытные, им не терпелось поскорее увидеть жениха:
кому навстречу вывели такую красавицу? Катря стояла,
опустив руки вдоль тела, от чего ее узенькие плечи стали
еще уже, белая тонкая шея, которой словно никогда не
касался солнечный луч, стала еще длиннее; голову
Катря чуть наклонила и исподлобья смотрела через головы
хуторян туда, на улицу. Глаза Катри сияли тихой
смущенной улыбкой, а губы дрожали от волнения (сроду
на нее не смотрело столько людей), она прикрыла их
пальцами и не пошла — поплыла к воротам, как
пава.
— Гляди, какую красавицу вырастил Степан, —
зашептали женщины.
— Дева непорочная — да и только...
— И куда наши хлопцы глядели?..
— А что б она тут делала — за свиньями ходила?..
— Вон, вон жених, гляди: к калитке идет!..
Жених — это был хлопец лет двадцати восьми, с
жиденьким чубом, зачесанным наискосок редкой расческой,
чуть ли не ниже Катри, однако широкий в плечах,
суровый лицом, немного изнеженным и бледным, — чуть
улыбнулся Катре и протянул было руку, чтобы открыть
калитку. Но тут один из парней заступил ему дорогу,
набычил голову и буркнул:
— На магарыч давайте.
— Что? — не понял тот.
48
— На магарыч, говорю, давайте. Нашу девку берете,
нужно выкупать.
— Это, извините, так у нас заведено, — объяснил
Федор, щуря на жениха улыбающиеся глаза, — ставить
магарыч за дивчину.
— Гм, — гмыкнул жених и высоко поднял одну
бровь. — Что ж, пожалуйста. — Достал из кармана
кошелек, медленно перебрал деньги и протянул хлопцу
новенькие, еще не бывшие в употреблении пятьдесят
рублей.
— Вот так! — восторженно выдохнула толпа, а
хлопец спрятал хрустящую бумажку и сказал уже
милостивее:
— Теперь заходите.
Молодой взял Катрю под руку и повел к хате
узеньким коридором, потому что хуторяне не очень
расступались: каждому хотелось поглядеть на приезжих вблизи.
У порога уже постелили коврик — новое рядно в
черную и красную полоску, тканное еще до войны, а за ним
стояли Степан с миской зерна и серебряных монет и
Степаниха, она немного сгорбившись, а он —
навытяжку, как солдат, с двумя орденами и полдюжиной медалей,
приколотых негусто, чтобы их казалось больше. Катря
трижды поклонилась родителям, а жених лишь голову
склонил. Степан посыпал молодых зерном и деньгами,
потом сказал как можно торжественнее:
— Живите, дети, в мире и согласии.
Степаниха тоже что-то прошептала, поцеловала
Катрю и зятя, который стоял, все так же склонив голову, и
закрыла глаза платочком.
Музыканты лихо ударили «Ойру» — и молодые
двинулись в хату.
— К чему эта комедия? — недовольно шепнул жених
Катре на ухо. — Собрались бы родственники, скромно,
тихо...
— Пусть делают как хотят, — кротко ответила Катря.
Пока родичи толпились в светлице, знакомясь, —
приезжая сваха при этом ни с кем целоваться не
пожелала, а только подавала руку, называя себя Клавдией
Константиновной, — стряпухи быстренько накрывали
столы, выставляя пироги и сметану, соленья, вареную
капусту, свежую колбасу в кольцах, а девочки и молодицы,
которые держали Катре фату, вынесли каравай. Свечки
сразу же погасли, зато калина непорочно рдела в
солнечном луче, как свадебное знамя. Федор выстазлял на
4 Г. Тютюнник 49
столы самогонку в трехлитровых бутылях — сизую,
синеватую, чистую, как слеза, — и вскоре над столами
словно туман отстоялся — так много было бутылей. А над
туманом тем, напротив каравая, где должны были сесть
молодые, словно церковки с серебряными куполами,
возвышались три бутылки шампанского.
Когда на порог вышли молодые и сваты, музыканты
грянули туш, потому что ничего другого подходящего не
придумали, а это было знакомое: на торжественных
собраниях играли, когда колхозникам вручали премии и
грамоты.
Первому, как представителю власти, дали слово
председателю колхоза.
— Дорогие товарищи, — сказал председатель, худой
мужчина с длинным носом смирного человека и с
глубоко запавшими щеками, — это хорошо, что мы выдаем
сегодня Катрю Безверхову, но это и плохо. Хорошо, что
человек нашел свое счастье — тут не радоваться нельзя,
и плохо, потому что не Катря привела мужа в наш
коллектив, а ее от нас забирают. Это минус. Вот я и
говорю: товарищи девчата и молодицы, которые не
замужем, принимайте приймаков! — Тут председатель и сам
засмеялся вместе со всеми, даже жених передернул
губами, словно улыбаясь. — Заманивайте мужчин в наш
колхоз! А мы, со своей стороны, будем строить вам хаты
и давать лучшие участки. Вон в старом колхозном
саду — разве не земля? Да там, как писал наш земляк
Николай Васильевич Гоголь, воткни дышло, а вырастет
тарантас! Так что милости просим. За это и выпьем!
— Правильно! — загудели мужчины, наливая себе
в стаканы прямо из бутылей. — Говорит, как другой по
бумаге читает.
— Правильно! — закричали женщины, те, что
позадорнее, тянулись рюмками к молодым, к председателю,
осторожно, чтобы не залить закуску, а музыканты еще
раз проиграли туш.
Потом пили за родителей невесты и жениха, причем
кто-то из подвыпивших, верно, еще до свадьбы,
задиристо выкрикнул:
— А где ж это сват донбассовский? Или, может,
посаженого отца молодому выберем, а?
— Свата нашего дорогого, — поднялся с рюмкой
Степан, — срочно вызвали на совещание в Ворошиловград!
Так что он отсутствует по государственным делам, и я
пью за него заочно!
50
Степан сказал это так торжественно, а сваха, Клавдия
Константиновна, так важно сложила ярко-красные уста
свои, что кое-кто из хуторян наклонил голову, пряча
улыбку...
Жених поморщился и что-то шепнул Катре, а та
умоляюще посмотрела на отца: мол, я же вас просила...
Воспользовавшись тишиной, которая залегла на миг,
из-за крайнего от сада стола поднялся Омелькович,
грузчик при сельпо и первейший выступала на всех
колхозных собраниях. Брат Омельковича работал где-то в
Астрахани юристом, летом наезжал в село и консультировал
всех обиженных, вот и Омелькович взял моду говорить
грамотно и официально.
— Тарщи! — громко и уверенно изрек
Омелькович. — Фактицски, юридицски и практицски перед нами
уже не жених и невеста, а муж и жена!..
Катря залилась румянцем и спрятала глаза, жених
высоко поднял бровь и смотрел на оратора с
нескрываемым презрением, а остроязыкая жена Федора быстро-
быстро застрекотала:
— Что ты, Омелькович, несешь-то? Ну как скажет,
ей-богу, так словно в пепел дунет!
За столами грянул хохот, а Омелькович придурковато
заморгал и сказал:
— Юридицски они уже расписаны, значит — все,
возврата к холостой жизни нет, разве только через развод.
Вот что я хотел сказать!.. — И победно сел.
Музыканты, хоть и были навеселе (перед их скамьей
поставили две табуретки с самогонкой и холодцом),
поняли, что речь Омельковича нужно как-то замять,
перемигнулись и врезали польку-бабочку, но тут поднялся
дед Лавро, знаток и блюститель свадебного обряда,
махнул музыкантам, чтоб затихли, и сказал, дождавшись
полной тишины:
— Кхи, а почему это ты, Катря, не перевязала
жениха платком? Разве ты не хочешь привязать его к
своему сердцу?..
— Верно! — зашумели женщины. — Это как следует!
А за столами, где разместились мужчины (если
сядешь рядом с женой, разве выпьешь по-человечески!),
загудели:
— Ежели захочет в гречку скакнуть *, так и на
веревке не удержишь, ги-ги-ги!..
* Скакнуть в гречку — изменить жене.
4* 61
— Что-то очень манежится. Такое пфе только газеты
читает да телевизор смотрит...
Катря медленно встала, выдернула тоненькими
пальцами платочек из-под рукава — новый, шелковый,
заглаженный в ровный квадратик, — ласково улыбнулась
нареченному. Тот поднялся, подставил руку, словно для
укола. Когда платочек на его рукаве сверкнул шелковым
клинышком, свадебная компания, словно сговорившись,
дружно крикнула:
— Горь-ко!.. Горь-ко!.. Горь-ко!..
Катря всем телом потянулась к жениху, готовая,
казалось, хмелем обвиться вокруг него, закрыть глаза и
лететь в поцелуе, как в пропасть... А жених, напрягшись
в шее так, что аж воротник врезался, едва дотянулся
сжатыми губами до Катриной щеки и коснулся ее —
горячей, как огонь.
— Не та-ак! — завопили женщины.
— Так, как впервые, давай!
— Как наедине!
— Горько!
— Покажи, как инженеры целуются!
— Ха-ха-ха!..
— И-и-ги-ги!..
— Язычники, — тихо сказал Катре жених, когда они,
поцеловавшись, сели, и пригубил из рюмки — она
дрожала в его руке, а Катря выпила свою до дна и ответила
мирненько:
— Люди как люди. Ты лучше выпил бы, как все.
Жених сурово взглянул на нее сбоку, однако
промолчал и еще крепче сжал губы.
Женщины завели песню, простую, не свадебную,
потому что понимали: если «у нашей княгини» еще как-то
подходит невесте, то «у нашего князя» уж никак не
подходит жениху. Такой напыщенный — и князь?! Нет!
Катря, осмелевшая после двух рюмок шампанского,
тоже пристала к песне, сначала потихоньку, словно
сама себе напевала, когда же мужчины могучими басами
заглушили запевавшую, взяла вдруг первым, звонким и
чистым, как фонтанчик на дне криницы, голосом:
Ой, братшу, сокшоньку,
Ой, братшу, сокшоньку,
Та в1зьми ж мене на зимоньку...
От песни этой старинной, до краев налитой печалью
песни, с которой выросло не одно поколение хуторян и
52
не одно поколение ушло на тот свет, у женщин дрожали
на ресницах слезы, мужчины хмурились, глядели
грустно, трезвели, словно и не пили, а Грицко Байрачанский
витал своим дрожащим тенором высоко-превысоко, как-
одинокая птица под облаками. Казалось, не десятки
людей пели эту песню, а одна многоголосая душа... Еще
вчера Алексей Цурка слонялся возле клуба пьяненький,
ища «врага» своего, чтобы отвести душу, а найдя* (то
был бывший бригадир), подходил к парнишкам и умолял
первого попавшегося: «Ванька, пойди затронь
бригадира, пусть он тебя ударит, а я ему морду набью...» Еще
недавно Параска Жмуркова с пеной на губах грызлась
с соседкой Ялосоветой Крамаренчихой за межу, когда
пахали на зиму... А сегодня все они плечом к плечу
сидели за столами и пели песню, знакомую еще с детства,
и были похожи на послушных детей одних отца-матери.
Они это были — и не они.
— Вот дают хохлы! — восхищенно сказал жениху
парень, приехавший вместе с ним на «Волге». Громко
сказал, надеясь, должно быть, что его за песней не
услышат. Однако Федор Безверхий, сидевший неподалеку за
семейным столом, все-таки услышал, прищурил острые
глаза и спросил:
— А вы сами, извините, откуда будете?
— О, я, папаша, издалека, — снисходительно ответил
молодой человек. — Я из Винницы. То есть родители
оттуда. А я коренной донбассовец.
— А-а, это далеко, — хохотнул Федор. — Это у вас,
в Виннице, говорят «рабый», вместо «рябый»?..
— Когда-то говорили, а сейчас — нет.
— Ну, тогда давайте выпьем за ваши края, —
осклабился Федор. — По полному, чтоб дома не журились,
как говорится.
Выпил, утерся платком и крикнул певцам:
— А чего это мы такую грустную завели? Разве
веселее нет для такого дня?
— Ну, давайте «1з сиром пироги...». Давайте?
Но тут снова поднялся дед Лавро и сказал:
— Кхи, эту песню на моей памяти никто у нас
никогда не пел. И не нужно. Потому что, если б казаки
бились за девчинонёк и пироги, так мы уже были бы
турками. Пусть лучше музыканты играют, а то зачем же
их позвали...
— Мне мою, хлопцы, — выбрался из-за стола Лука
Илькович Власенко, бывший кавалерист и ротный повар,
53
а теперь сторож при сельмаге. Всю свою жизнь, и
довоенную и послевоенную, Лука Илькович танцевал на
гульбищах только «Барыню». «Барыней» его и прозвали,
а свой рассказ о прошлом он начинал так: «Когда
служил я в кавалерии, то шашка у меня была длинная и
на колесике...»
— Грей, Мишка, бубен, — распорядился Иванушка-
скрипаль.
Мишка-бубнист поджег клочок газеты, немного
подержал над пламенем свой самодельный инструмент из
собачьей кожи — и бубен загудел, как колокол.
Иванушка прижал скрипку подбородком к плечу, поднял
смычок, Василь-сопилкар послюнил языком мундштук
сопилки, Шурко-баянист взял аккорд, а Лука Илькович
стал в свою любимую позицию: положил ладонь правой
руки на затылок, левой подбоченился и выставил вперед
укороченную раненую ногу. Потом сплюнул сквозь зубы
и сказал:
- Ну?!
Иванушка коротко взмахнул смычком — и баянист
медленно, чеканя каждый такт, на одних басах заиграл
выход. К басам незаметно подкралась скрипка и,
сладенько вскрикивая, как лукавая молодица, пошла с ними
в паре; за нею ручейком влилась в мелодию и сопилка,
только бубен молчал, выжидая удобного случая...
Лука Илькович крадучись пошел по кругу, припадая
на левую раненую ногу, а правую выбрасывая перед
собой ровно, как аист, — глаза прищурены, короткие седые
усы встопорщены, — подпирал верхнюю губу нижней,
представляя капризницу-барыню. А Мишка-бубнист,
будто насмехаясь над той великой пани, скривил набок
большой рот и приговаривал в такт музыки:
Е-е-е ба-ри-ня ла-са, ла-са
до лю-бо-Bi, у-да-ла-ся,
ба-ри-ня цяпь-ка,
ба-ри-ня киць-ка...
Их-их, и-хи-хих — залились смехом медные
погремушки на бубне и сразу умолкли.
Що не Benip, то й новий, —
захохотал бубен.
Що не Benip, то й другий!
И мгновенно мелодия закружилась, словно вихрь.
54
Бариия — кицька!
Барипя — ласка!
— А давай-давай-давай! — не своим голосом завопил
Мишка, краснея и выпучивая глаза. — Гоп-ца! Га-ца-ца!..
Лука Илькович и сам что-то выкрикивал, молол
ногами пыль, взмахивал руками, как ветряк крыльями на
сильном ветру, выгибал тело и туда и сюда, и так и сяк,
и казалось, не танцует он, а кувырком ходит... Потом
цоп — стал как вкопанный, и все, даже те, которые
видели старого в танце не раз и не два, подумали: все,
устал, конец. А Лука Илькович, выждав нужный такт,
пустился вдруг снова, с такой яростью шлепая себя
ладонями по икрам, бедрам, груди, по шее и подошвам, что
уже и музыки не было слышно, а только одни хлопки.
(«После каждой «Барыни», — жаловался не раз Лука
Илькович дядькам, — у меня все тело в синяках, и
ладони, и пальцы — чурки не удержишь. Тьфу!»)
— Ну, дают! — выкрикивал сквозь смех «коренной
донбассовец» и толкал жениха под бок.
Тот тоже смеялся — уже не скупо, искренне, и
оказалось, что смех у него тихий, мягкий, как у восторженного
парнишки, а зубы ровные и белые. Он обнимал Катрю за
талию, чувствовал под пальцами ее остренький твердый
живот, и приятная теплая волна отцовской радости
омывала его.
— Выпьем, Катюша? Вдвоем. Выпьем за... — сказал
тихо.
Она догадалась за кого, опустила глаза и снова
подняла их на него — грустные, прекрасные, влюбленные
до самозабвения, и кивнула:
— Я капельку, мне ведь уже нельзя, а ты все.
Ей хотелось обнять сейчас и дядьку Луку, и
музыкантов, и всех гостей за то, что ее любимый снова стал
таким ласковым и добрым, как в первые дни их
знакомства...
— Молодец, дядько! — закричали гости, когда
музыка умолкла и Лука Илькович, покачиваясь от усталости,
направился к столу. — Качать танцора!
— Качайте, — согласился Лука Илькович, — только
глядите не упустите, а то, если и другую ногу покалечу,
тогда конец «барыням»...
Сильные хлопцы-трактористы несколько раз
подбросили дядька выше стрехи, под всеобщий хохот хуторян,
отнесли к столу и налили полный стакан — как премию.
Музыканты тоже уселись вокруг своих табуреток с холод-
55
цом и водкой. А за столами, где сидели мужчины, был
слышен вкрадчивый голос известного на весь сельсовет
трепача Самойла Шкурпела:
— Поньмаш, черт, забегаю я, значить, в Берлин и
спрашиваю: «Где тут Гитлер?» Гляжу, трясется один
в толпе среди немчуков, усы вот так вот столбиком,
чубчик набок и с белым флажком в руках... А сам в
штатском... Гляжу: бочком, бочком, за спины прячется. «Хен-
де хох! — говорю. — Попался, фон гад?» — и автомат ему
в грудь наставил. «Ком за мною», — говорю...
— Ну и брехло ты, Самойло. Гитлер ведь сгорел!
— Погоди, погоди, — обиделся Самойло, — ты
сначала дослушай, а потом обзывай... Вот, привожу в штаб,
а там таких, как мой, целая очередь стоит, душ триста.
Двойники, поньмаш...
— Так ты сам забежал в Берлин или с войсками?..
— С войсками, но я был в авангарде.
— ...А я, когда служил в кавалерии, — уже едва
владея языком после «премиальной», молвил Лука Илько-
вич, — то шашка у меня была длинная и на колесике...
— Да-а, — отозвался младший Самойлов брат
Семен, — когда я служил в Карелии, вызывает меня как-то
раз командир полка и говорит: «Бери, сержант
Шкурпела, семьдесят тягачей, сам во главу колонны и
аллюром в тундру за лесом, а то нечем солдатам баню
топить...»
— ...Думаешь, почему тот опошнянский Кольчик так
много зайцев в прошлом году набил и всех — с левого
дула? Потому что оно у него крестиком золотым
прострелено... И перед каждой охотой он себе глаза волчьей
желчью мажет — тогда видать ему черт-те куда...
— ...Это правильно, что внедряют воспитание
молодежи. Потому что фактицски она забыла, что к чему.
Меня, бывало, в сорок шестом Захарко вызовет в
сельсовет и говорит: «Собери хлопцев-допризывников,
построй — и марш-бросок под Зинькивскую гору». Так я
выстрою да как крикну: «Арш!» — так, брат, бояцца.
А практицски бегут. И ты бежишь. Бежишь и чувствуешь
за плечами ответственность...
— И никакой этот жених не инженер, а слесарь... —
заговорил впервые за все гулянье Данило Шкабура,
который никогда никому ни в чем не верил, а говорил
всегда: «Все это брехня».
— Как не инженер? — спросили у него.
— А так. Инженеры не такие.
56
— А какие же?
— Не такие...
Были уже и пьяненькие. Первым отвели в хату и
уложили на горелую кровать председателя- колхоза,
потому что Степан ему, как начальству, подливал
крепчайшего первача и до тех пор, пока не свалило человека со
стула. Председателю еще до того, как он упал, говорили:
«Может, пойдете, Иван Лукич, в хату да отдохнете?» Но
он обиделся: «Кто? Я? Нет-нет... Я свой взвод в бою
никогда не оставлял — и вас не оставлю!»
Алексей Цурка бродил от стола к столу, упирался
чуть ли не в каждого красными, как моченые сливы,
глазами и спрашивал: «А где бригадир?» Приставал
даже к хозяину: «А-а, Степан Кондратович... И-и сюда,
поближе... Не хочешь, боишься... Знаем, как ты торгуешь...
Пшено как продавал, а? Три кила пшена — полкила
конфет растаявших в нагрузку. А сам брал те к-конфе-
ты, тот солидол? Знаем!..»
Из-за сада, казалось, сразу за ним, поднималась
против полуденного солнца огромная, вполнеба, синяя
туча, дул холодный ветер, и вскоре пошел густой косой
снег, лапчатый и мокрый, первый снег.
Молодые пошли в хату — легко одеты были и
замерзли. К тому же пора было собираться в дорогу.
Один за другим, поблагодарив хозяев за хлеб-соль,
стали расходиться и хуторяне, в большинстве женщины
и дети. Мужчины же перенесли несколько столов в
затишек, шумели, пели охрипшими с перепоя голосами, а
кто уже был совсем пьян и тонкий на слезу, тот плакал,
вспомнив давние свои обиды, или от жалости кто знает
к кому...
Наступили сумерки, когда молодые, одетые уже
подорожному, сваха и товарищ жениха вышли из хаты и
направились к воротам, возле которых их уже ждала
заведенная «Волга». Катря и Степаниха плакали, то и
дело припадая друг к другу, жених морщился, как от
боли, а Степан, бывший под доброй чаркой, уже в
который раз твердил ему:
— Ты ж, сынок, не обижай Катрю. Она у нас жила,
как ласточка в гнездышке, ни горя, ни нужды не знала,
так гляди. Женой она тебе будет золотою — верь отцу.
А мы вам в любое время и сала, и колбасы домашней,
и курицу пришлем. А надо будет, картошки подкинем
57
багажом, сколько захотите... Веришь? Я такой. Для
своих — все!
— Верю, папаша, верю, — успокаивал его зять,
держа руки в карманах плаща. — Спасибо, не волнуйтесь,
все будет хорошо.
— А вы, сваха, — обнимая Клавдию Константиновну
и целуя ее в сухие напудренные щеки, ворковал
Степан, — глядите ж там. Если что не так будет делать,
подскажите, научите, но не обижайте. Она ж у нас... —
И махнул рукой. — А мы вам... Пишите, что нужно, —
все будет...
Молодые и гости, простившись, сели в машину.
Хлопнули дверцы, сильнее загудел мотор, и машина, срывая
снег, помчала улочкой, оставляя за собой две черные
полосы от колес:
— Да моя ж ты деточка дорогая, когда ж я теперь
тебя увижу!.. — вскрикнула Степаниха и зарыдала.
Федор с женой подхватили ее под руки и повели в
хату, а Степан, сгорбившись, пошел к столам, где гудели
мужчины.
Машина выскочила за хутор, подсвечивая фарами
чашечки на телеграфных столбах, и помчала к большаку,
а Катря все смотрела и смотрела в заднее стекло, за
которым уже едва виднелись хаты, укрытые снегом,
поблескивал кое-где свет на столбах и в окнах, а когда хутора
не стало видно, склонилась мужу на грудь и занемела,
только плечи ее мелко дрожали.
хлопоты
Выходим со двора на рассвете. Во всем селе еще не
светится ни одно окошко. Только кое-где на столбах
вдоль улицы лампочки желто и лениво мигают. Дядя
Никон открывает ворота,, прикрученные к столбикам
ржавой проволокой, так что их нужно немного приподнимать,
иначе с места не сдвинешь, а я тащу тачку с нашим
товаром: закололи вчера кабана да повезем теперь на
базар в Полтаву.
За двором я немного поджидаю, пока дядя справится
с воротами, а дальше тянем тачку вдвоем. У дяди
Никона новый, «выездной», как он говорит, протез, обутый
в ботинок, тоже новый и скрипучий; палку он оставил
дома, потому сильно хромает, дышло дергается вправо,
и тачку водит. Вот так и тащимся по селу, как два не-
68
объезженных бычка в ярме — дядя дергает дышло на
себя, а я теряю равновесие, потому что в руке слабее
дяди, и дергаю на себя.
— Если б попутная машина попалась, то лучше, —
рассуждает дядя вслух.
Это он так, лишь бы не молчать. А спроси у него,
почему лучше попутной, а не автобусом, не скажет,
потому что и сам не знает. Но я все-таки спрашиваю.
— Потому лучше, — рассудительно говорит дядя, —
что... лучше.
Ну вот, я так и знал!
Под ногами и под колесами тачки потрескивают
мерзлые, прибитые инеем, листья, шуршит твердая
щетинистая трава, тоже белая, с темной от заморозка
прозеленью, а в хлевах и на чердаках во всем селе поют
петухи — уже по-зимнему, хрипловато.
Можно было бы, конечно, поехать на базар дядиной
машиной, инвалидской, так неисправна еще с лета. Что-
то дядя так отрегулировал в моторе (он говорит
«моторе»), что, когда заведет, — дым валит, словно с
кирпичного завода, и окутывает всю машину. А он еще и кричит
из кабины:
— Ну-ка, Илья, погляди, какой там дым!
— Черный! — кричу во все горло: надо ведь гул
перекричать.
Дядя Никон глушит мотор, вылезает из кабины и
с видом механика-аса изрекает:
— Значит, бензин старый. Нужно заливать новый,
а его нету.
Или:
— А ну-ка, Илюша, толкни, попробуем завести
с ходу.
Тогда я упираюсь руками в заросший пылью задок
машины и шагов десять толкаю ее к Вишневому
оврагу, а дальше она катится сама, чихая холодным дымком
мне в колени. Бывает, что и заводится. Рады-радешеньки
такой удаче, мы, весело крича друг другу на ухо, что
все-таки наша взяла, вылетаем на полном газу из
оврага в степь и делаем «обкатку», пока не надоест. А
бывает, машина скатывается в овраг, так и не заведясь,
потому что, как оказывается после, дядя Никон забыл
включить зажигание... Тогда мы или бросаем ее в овраге,
или ждем, покуда с молочной фермы будет
возвращаться наш сосед, молоковоз, — тот уж не откажет,
притащит ее ко двору.
59
. И так каждое лето, от начала и до конца моих
каникул, разве что инспектор отберет у дяди права за
какое-нибудь нарушение. Тогда машина безвыездно стоит
во дворе, укрытая от дождя и солнца старыми ватниками
и вытертыми до фиолетового блеска теткиными
плюшевыми кофтами, а дядя томится без дела и прикидывает,
каким способом выручить права.
Но выручать их не приходится. Инспектор, наш
участковый, вскоре сам приезжает на мотоцикле* отдает дяде
права и говорит:
— Только смотрите же, Христофорович, чтоб
больше не повторялось, чтоб — гарантия... А то как же это
так: включили левый поворот, а жарите прямо...
— Да я забыл, что включил его, когда еще со двора
выезжал, чтоб ему пусто было! — покаянно вскрикивает
дядя Никон, и они идут в хату («Поглядите хоть, как
мы живем!»).
Съезжаем с кладбищенского песчаного косогора.
Песок примерз, покрылся тонкой корочкой и гулко трещит
под ногами — ломается. Сквозь реденькие сосны
проглядывает восход — узкая беловатая полоса с чуть
приметной розовой кромкой наверху. Начинает светать.
На остановке ни души. В сельском клубе, что
напротив, темно — он походил на покинутый барак, если бы
неподалеку от него в березах не светился между голыми
ветвями красный плафон на памятнике павшим воинам.
Это — Вечный огонь. Когда электрики почему-то
выключают из линии нашу бригаду, гаснет и Вечный огонь,
словно бы на отдых...
Едва мы успеваем сбросить мешок с мясом на
землю и закатить тачку за клуб (тетка истопит печь да
придет заберет ее), как от моста, поведя фарами по
вершинам сонных тополей, гудит машина. Дядя Никон, при
каждом шаге резко посылая правое плечо вперед,
выходит на асфальт, машет рукой и говорит так, будто шофер
его услышит:
— Двух... до Полтавы... подбрось... Что тебе... два
рубля на дороге валяются?
Машина шипит воздушными тормозами, из кабины,
мерцая цигаркой, лениво спрашивают:
— Куда?
— До Полтавы, говорю... — скрипит протезом
дядя. — Два рубля... А ежели до базара подбросишь, еще
и на «Беломор» добавлю!
— Давайте, только в кабину пусть садится кто-ни-
60
будь один, больше места нет. Там, в кузове, солома и
тулуп, укрыться можно. А то глядите...
Уже на ходу дядя Никон подает мне из кабины свой
пиджак из толстого грубого сукна и кричит:
— За кабиной, в затишке ложись, да гляди, чтобы
пиджак ветром не сдуло, тогда наторгуем фигу!
Я устраиваю в соломе гнездо, набрасываю на плечи
поверх ватника еще и дядин пиджак, такой' тяжелый,
что его, пожалуй, и ураган с места не сдвинет, ноги
укрываю рваным шоферским тулупом — он крепко
пахнет бензином и холодной овчиной — и блаженно
закрываю глаза: оттого что надо мною гудит ветер-свежак, а
мне тепло, как в той сказочной рукавице; что в дороге
буду видеть далеко-далеко все вокруг — старые ветряки
на буграх, посеревшие от дождей стога соломы и чем-то
напоминающие корабли, села, хутора да одинокие деревья
на горизонте.
Я и сейчас с закрытыми глазами вижу, как на
проводах от столба к столбу дремлют синекрылые ракши,
прошмыгивают через дорогу поднятые светом фар
перепуганные зайцы, как проносятся мимо машины желто-
листые дубки и осокори — печальные знамена осени...
А еще во мне до сих пор живет со вчерашнего дня
великое торжество, когда по всему селу еще с рассвета там
и сям дыбились вверх красные на фоне синего-пресинего
неба столбы пламени, между дворами тянуло уже
полузабытым соломенным дымом — резали к празднику
свиней, — и дядя Никон, веселый, озаренный костром,
шаркал ножом по бруску и напевал, словно язычник:
«Закололи, закололи, закололи кабана...»
В настроении он всегда напевает о том, о чем думает.
Если, к примеру, ему нужно в магазин, и машина
исправна, и есть деньги, то, одеваясь или ища в коробочке с
тетиными нитками ключ от зажигания, он непременно
будет напевать:
Поедем-ка,
поедем-ка,
поедем-ка в магазин...
И не потому он такой веселый, аж на песню
срывается, что купит в магазине какую-то безделицу, — нет:
потому что поедет. Торжественно этак выйдет во двор
к машине, постучит палкой по крохотным скатам (с
этого дядя Никон всегда начинает ритуал поездки), потом
садится в кабину и... Нет, сразу он не заводит мотор, а
61
сидит некоторое время неподвижно, сосредоточенно
осмысливая, что после чего должен делать водитель,
потом по-молодецки сбивает шляпу на затылок, кидает
в зубы «беломорину» и говорит:
«Отворяй, Илько, ворота — едет пан сирота!»
Когда ворота распахнуты, машина, завывая, как
аэроплан, делает несколько скачков, вылетает мимо меня на
выгон, сверкнув красным глазом «левого поворота», и
мчит селом с таким ревом, что куры не бегут впереди нее,
а летят...
Не возвращается дядя Никон, конечно, до самого
вечера. Тогда мы с теткой по очереди бегаем за ворота
выглядывать его, расспрашиваем прохожих, не видели ль
они такую-то машину, и часто тетка говорит:
«Нет, он своею смертью не умрет... Мыслимо ли, если
оно так быстро бегает, попробуй с ним совладать, да
еще безногому!»
Оно — это машина. Тетка боится ее и откровенно
ревнует к ней дядю Никона.
Однако все кончается хорошо. Дядя возвращается
живой-невредимый, еще и со взяткой: десятком груш или
яблок, арбузом или узелком.
— А это что такое? — сразу же набрасывается на
него тетка, кивая на узелок.
— Мак! — весело отвечает дядя.
— Где ж ты его взял!
— Как где? Заработал! Думаешь, даром кто даст?
Хе-ге, как бы не так! Подъехал к клубу, а там бабка
какая-то на узлах сидит. «Вам куда?» — спрашиваю.
«До Човновой, сынок». Гляжу: старая, немощная,
автобуса уже не будет... «Садитесь», — говорю. И оттарахта-
рил. Привез, а она мне — маку. Не беру — обижается.
«Скоро маковия *, наделаете коржей да и меня, старую,
вспомните». Ну, я и взял. А чего? Дают — бери, бьют —
беги!
Все эти дядькины шоферские чудачества тетка
охотно прощает, потому что он частенько потакает ее
капризам. Придет, скажем, откуда-нибудь или приедет, только
во двор, а тетка:
— Никон, а Никон! Пойди отругай Одарку, а то
сегодня от ее кур на грядках отбою не было.
Дядя Никон молча приставляет палку к завалинке
(без палки он как ребенок, смирный и беспомощный),
* Маковия — религиозный праздник.
62
подходит к соседкину тыну и — ему все равно, во дворе
Одарка или в хате, слушает его или нет, — не спеша
заводит:
— Ты, Одарка, скольк-ки разов тебе было сказано?
Это... курей в огород не пускала бы. Потому, вишь, как
ни говори, а ущерб делают, да еще и немалый. Скольк-
ки ж можно терпеть, а?
И долго так бубнит, медленно, привычно, как по
писаному, пока тетка не выглянет за порог да не скажет:
— Хватит, Никон, иди ужинать.
Тогда дядя, подхватив рукой протез выше колена,
чтобы легче было его тащить, идет к хате и устало,
будто только что махал цепом, говорит:
— Ху-ух... Что там у нас на ужин?
Но порой ему словно бы надоедает быть таким, каков
он есть. Порой в нем поселяется дух противоречия. Это
по-моему. А по-теткиному: «О, уже его какая-то нечистая
сила мордует!»
Чаще всего бывает это, когда машина не заводится.
Тогда ему ничего не говори, потому что всему будет
возражать — сердито и упрямо. Станет, бывает, у ворот,
обопрется на костыль и ждет, пока кто-нибудь
пройдет. А на лице как написано: а ну-ка, пусть кто
попробует сказать мне, что небо вверху... сразу отбрею!
А тут случился молоковоз. Кони мокрые, аж пар
с них валит, сам промок до нитки: только что полоса
дождя по ту сторону реки, где молочная ферма, прошла.
— Чего это ты, Мирон, мокрый? — дядя ему.
— Дождик намочил, — смирненько улыбается
Мирон, останавливая коней, маленький, щупленький, как
сверчок.
— Где? Какой дождь?.. — угрюмо спрашивает дядя.
— В Портновке. Хороший дождик, тепленький.
— Хе-ге! — уже зловеще вскрикивает дядя Никон. —
Не ври. Там дождя не было. Я ж видел: тучу вон
туда потянуло, — показывает костылем куда-то в
сторону.
— Да, может, и так, — смирненько соглашается
Мирон и погоняет коней, а дядя идет к хате и бормочет:
— Что я — слепой, не видел, куда туча пошла...
А как-то среди лета решили мы всем семейством
пристроить к хате веранду — «чтоб было, как у людей».
Обтесали дерево, заложили фундамент... Принялся я за
оконные рамы.
— А что это ты затеял? — не понял дядя.
63
— Рамы вяжу, — отвечаю, — чтоб стекла было куда
вставлять.
— Кие окна, кие рамы! — наежился он вдруг (тогда
его как раз «нечгштая сила мордовала»). — Все стены
будут глухие. Вон у Семена Андрияновича — все глухие.
— Так это ж веранда, а не чулан!
— Зато зимой затишек.
— И у нас будет затишек, как вставим стекла. Хату
ведь не продувает?
— Хе-ге, то хата. А это — веранда.
К вечеру дядя отошел — из города ему привезли
заряженный аккумулятор, — ходил вокруг машины и
напевал:
Пускай будут окна,
Пускай будут окна...
— Хе-ге! — доносит до меня ветер дядин голос из
кабины. — Это ты, товарищ, неправильно говоришь.
Я свою машину как вот эти пять пальцев знаю!
О! Ну, теперь мы наторгуем. Теперь дядя будет
спорить на базаре с каждым покупателем. А может, пока
доберемся, и угомонится — как-никак за прибылью едет,
а не на разорение. К тому же у него есть два «хе-ге»:
одно — доброе, второе — упрямое. Сейчас он
употребляет, кажется, доброе...
Я смотрю на небо, припаханное ровными розовыми
ломтями туч — солнце взошло, — и представляю себе
крест на Шведской могиле, что ночью, верно, белел
изморозью, а сейчас, под солнцем, сияет капельками росы;
глубоко, до самого дна груди, вдыхаю холодный и
чистый, как колодезная вода полтавских околиц, воздух.
На базаре, куда нас все-таки подбросил водитель за
пачку «Беломора», дядя Никон говорит мне:
— Значит, так: я пошел ставить печати на легких и
печенке... Чего ты смеешься? Может, наш кабанчик
больной был. Смеется! А ты иди место занимай в мясницкой
и жди меня.
Я занимаю место против свободного окошка, возле
которого уже толпится народ:
— Что у тебя, парень, свинина? Старая? Молодая?
— Придет хозяин с печатями — узнаете, — отвечаю.
Вскоре возвращается дядя, возбужденный, суетливый.
— Все! Начинаем. Сейчас найму мясоруба — и
начинаем. Я знаю, как с ними разговаривать...
Он идет в угол мясницкой, где вокруг полнощеких и
64
толстоплечих мясорубов столпились дядьки-наемщики, и
через минуту уже ведет под руку какого-то морданя в
белом переднике поверх ватника, что-то шепчет ему на
ухо, подмигивая и хлопая себя ладонью по карману, под
которым гудит протез. Потом они поворачиваются
спинами к окошку, у которого толпится народ, горбятся так,
будто прикуривают из одной ладони, и быстро
расходятся.
Дядя Никон развязывает мешок и, довольный,
заговорщицки подмигивает мне:
— Думают, ежели мужик — селянин, так им можно
ботинки зашнуровывать. Мы тоже, брат, не из опилок
сделаны... Хотел шесть, а я ему — пять!..
— За сколько наняли? — спрашивает у него какая-то
тетенька в новенькой плюшевой кофте, из-под которой
свисают длинные кисти платка. Ее хозяин, наш сосед по
окошку, уже торгует, лихо выкрикивая:
— Ну, еще кому свеженького сальца да мясца на
котлеты! Еще кому...
— За пять, — отвечает дядя с таким видом, что тут,
мол, голубка, нужно быть пооборотистее, иначе надуют...
— А мы за три! — радуется тетенька. — Это он вас
подковал!
Дядя выпрямляется над мешком и обиженно смотрит
в равнодушную спину рубщика; который острит топор,
потом оборачивается ко мне и нарочито бодро говорит:
— Ничего, зато мы его заставим рубить мясо так,
как нам угодно!
— Ничего, ничего, — соглашаюсь быстро, отводя
глаза, потому что мне страх как жаль его... Не двух рублей,
а его самого.
Дядя Никон, должно быть, понял это по-своему и
зашептал быстро-быстро:
— Да ты, Илюша, не стесняйсь. Я... чего, я
понимаю: студент, без пяти минут учитель, можно сказать,
а тут стой возле прилавка с мясом... А что поделаешь?
Жизнь такая. У этого что-то купил, тому что-то
продал, тому даром отдал... Так и выручают люди друг
друга до самой смерти... Я бы тебя и не брал, да сам
знаешь, какой из меня грамотей в арифметике.
— Ничего, ничего, — твердо говорю ему. — Будем
начинать.
Дядя перегибается через весы, открывает окошко, и
пальцы у него заметно дрожат.
Первым у окошка появляется старательно припудрен-
5 Г. Тютюнник 55
ное личико с маленькими, кругло накрашенными губами,
похожими на сургучную печать.
— У вас кабанчик или свинка?
— А разве не все равно? — удивляется дядя. —
Свинина как свинина: молодая, свежая. Вчера закололи.
А уж если хотите знать, то был кабанчик.
— Ну, старик твой сегодня наторгует... — смеется,
обращаясь ко мне, рубщик. Затем кладет свой гильотино-
вый топор на колоду и с любезной улыбкой подходит
к окошку.
— Вам, гражданочка, какой кусочек? Этот? Нет? Вот
этот? Пож-жа-луйста. Два кило триста. — И через
минуту уже подает дядьке деньги. — Вот как, хозяин,
нужно. Вежливо!
Дядя резко сбивает шапку на бровь и чистосердечно,
тоном без вины виноватого восклицает:
— Да кто ж его знает, как оно тут у вас!..
Это сделало нам лучшую рекламу. Люди,
толпившиеся у окошка, заулыбались, начали проталкиваться вперед,
и тот, который оказался первым — это был
широкоплечий парень во флотской фуражке, сшитой когда-то,
видно, из бескозырки, — могучим басом, словно в бочку,
прогудел:
— Мне, батя, вон тот кусок, сколько вытянет. Да
смелее, смелее! Учитесь торговать, сказал когда-то один
великий человек.
— Ну, еще кому на котлеты... — кисло гундосил
сосед, хмуро поглядывая в нашу сторону — его покупатели
перешли к нашему окошку. — Почти даром отдаю!..
Дядя клал мясо на весы осторожно, чтобы стрелка не
раскачивалась, чуть не каждому давал с довеском,
ласково приговаривая:
— Пожалуйста, пожалуйста. Сколько хотите, какого
хотите. — И поворачивался ко мне: — Помножил?
На него смотрели почти влюбленно, а на меня, когда
я подсчитывал, настороженно и подозрительно. Ловя эти
взгляды, я тупел, в голове туманилось, потому
подсчитывал приблизительно — лишь бы не больше... Меня
раздражали руки, которые перещупывали мясо, по
нескольку раз переворачивая каждый кусок с боку на бок,
острые треугольные ногти, длинные накрашенные ресницы,
приклеенные, наверное. Дядя, стараясь торговать
«вежливо», переспрашивал: «Скоко?», «Ище?», «Хватить?» Но
больше всего меня мучило это его — «Помножил?» Когда
остались одни обрезки, к окошку подошли две старушки,
66
у которых тряслись головы и руки, а глаза слезились.
Они спросили у дяди:
— А хвостика или косточек не осталось, хозяин?
— Какая же еда из хвостика да косточек? —
удивлялся дядя.
Старушки слепо посмотрели ему в грудь, пожевали
губами и снова спросили:
— А требушинки нет?
От них несло водкой, табаком и ношеной одеждой.
Дядя за бесценок отдал им остатки мяса, сбил шапку
на затылок и спрашивает меня:
— Что это за народ? У нас баба до последнего своего
дня копается в земле, внуков нянчит, есть варит, а эти
пьяные ходят да побираются... Черт его знает, как оно
получается!..
Я молчал — устал от всего.
Дядя Никон свернул пустой мешок, подавил ладонью
карман, чтобы деньги улеглись, потому что запихивал
их туда, комкая, и сказал:
— Позаглядывай по магазинам, может, что путное
купим да пообедаем где-нибудь.
Сразу же возле мясницкой нас окружила толпа
цыганок, растрепанных, с опавшими на плечи цветастыми
шалями, в стоптанных туфлях на босу ногу.
— Давай погадаю, хозяин, добрый, хороший, —
схватила одна из них дядю за руку. — Ты счастливый,
богатый, наторговал за свинку, не поскупись на то, что
правду скажу. Я не цыганка, я — сербиянка, вот те
крест — ей-богу!..
Дядя высвободил руку и засунул ее в карман, где
были деньги.
— Я и без тебя правду узнаю, как найду, —
хохотнул он. — А ты и на руку глядишь, а брешешь, потому
как я не свинку продал, а кабана.
Ко мне подошла молодая, красивая «сербиянка» и,
улыбаясь огромными прекрасными глазами, сказала:
— Купи, красивый, платок своей невесте. Не
платок — весна.
Она расстегнула жакетик и показала мне
полуобнаженные груди, под которыми, туго перетянув тоненький
стан, красовался черный платок в крупных
ярко-красных и зеленых цветах.
— И вам не холодно? — спросил я, отводя глаза.
— Меня кровь греет... Купишь?
— Нет.
5* 67
— Тогда скажи, пусть отец купит.
— Что тут у нее? — подошел дядя.
Цыганка прикрыла грудь, оставив на осмотр лишь
платок.
— Краденый? — спросил дядя.
— Пойди ты теперь укради! — обожгла его злым
взглядом цыганка и пошла прочь.
— Вот мошенники! — сокрушенно покачал головой
дядя. — А гляди ты, угадала, что мы мясо продали!
— Еще бы не угадала, если мы только что из мясниц-
кой вышли и мешок вон весь в пятнах кровяных!
— А и то правда! — весело согласился дядя.
В магазинах он купил только инструмент: шершепку,
рубанок, напильник, шпунт, ножовку, а потом бутылку
лимонной водки — она покорила его своим цветом
(«Попробуем еще зеленой!»).
На улице дядя не пропустил ни одного автомата с
газированной водой, осторожно, будто колеблясь,
просовывал три копейки в щелку, держал некоторое время в
ногтях, таких крепких, что ими шурупы в дерево можно
было бы ввинчивать, затем быстро отдергивал руку и,
склонив голову набок, ждал — нальет или не нальет?
Я думал, что он просто забавляется. Но после четвертого
или пятого захода дядько, уже не допив воды, сказал:
— Ты только подумай: хоть бы тебе один налил
через верх, все не доливают! Эти автоматы тоже люди
настраивают.
Мы зашли пообедать в первую попавшуюся столовую.
Выбрали свободный стол, заставленный грязной посудой
и залитый пивом, и устало уселись на стулья. Отдохнув
немного, дядя развязал узелок с домашними харчами:
свежей колбасой, мягкими, как вата, пирогами и тугими
помидорами недавнего засола.
— Ты как хочешь, ешь это, а я себе чего-нибудь
городского возьму.
Он вынул из кармана пухлую пачку денег и принялся
пересчитывать их, разглаживая ладонью и складывая
отдельными кучками: десятки к десяткам, трояки к
троякам и т. д.
— Сто сорок, — сказал наконец. — А мы
планировали наторговать сто семьдесят? Недобрали чуток. Ну да
грець с ними. Скажем тетке, что пустили дешевле, мол,
богатый привоз был...
После бутылки лимонной, которую мы осушили до
дна и тайком отдали уборщице, нам стало так весело,
68
что мы, забыв, где сидим, громко, перебивая друг друга
на полуслове, стали рассказывать — дядя мне, а я
дяде, — как мы торговали.
— Н-ну, той первой в-вы отрезали! — восклицал я
восторженно.
— А вот та... ты видел: краля одна подходила, на
тебя все поглядывала. Глаза — вот такие, ресницы —
вот такие!.. Что? Не видел?! У-у, гром-девка!
— А вы, дядя... еще и того... поглядываете?
— Хе-ге! Любви, говорят, все возрасты покорны!
Правильно говорят. Может, еще одну осушим, а? Или
хватит, а то приедем домой без шапок...
Дорогой до автобусной остановки нас водило, как
утром с тачкой. Но и это очень потешало нас, и,
поддерживая друг друга, мы болтали обо всем на свете, сразу
же забывая, о чем именно. Уже в автобусе, вспомнив
молодую цыганку, я сказал дяде:
— Дураки мы, дядя.
— Верно,, дураки! — быстро согласился он, сидя
с закрытыми глазами. И долго молчал. Потом поднял
голову, посмотрел на меня посоловевшими глазами и
спросил: — А почему дураки?
— Потому что не купили тетке тот платок.
— На что он ей сдался?
— А инструмент?
— Хе-ге, то ж дело. Платок, чтоб красоваться, а
инструмент — дело делать.
— Что же мы им будем делать?
— Веранду покроем шалевкой...
— Она ведь уже покрыта.
— То вдоль. А теперь еще и поперек. Под шпунт.
— Зачем?
— Потому что поперек — лучше, я видел в Полтаве,
когда туда ехали.
Дядя прячет подбородок в воротник, мурлычет что-
то, — наверное, о том, что будем обшивать веранду еще
и поперек, и вскоре засыпает.
УСТИН И ОЛЯНА
Семейная история
Устин сидел против печи на низенькой скамеечке и
чистил картошку, а на печи позевывала Оляна и, отзе-
вавшись, спрашивала квелым, как у больной, голосом:
69
— Устин... опять толсто чистишь?
— А тебе что, сквозь печь видно? — улыбался Устин,
показывая два верхних зуба, потому что больше зубов
у него не было.
— Да я же слышу, как в ведро бухает, будто корки
арбузные, — стонала Оляна и вновь принималась
зевать, долго, со сладким изнеможением. — О господи, вот
прицепилось-то... — удивлялась. — И что такое с
человеком творится? Ах-ха-ха-ха-ха-ха-а-а... Тьфу! Видно,
пора уж мне помирать.
И умолкала. И долго лежала, прислушиваясь, что
скажет Устин.
Устин ничего не говорил. Только очищенные
картофелины в чугунок с водой шлепались.
Печь уже топилась, в ней тихо шипело, потрескивало,
и в хате пахло холодным дымком: дрова только
разгорались, трухлявые, мокрые; когда Устин колол их на
рассвете, из-под топора пена брызгала.
Уже года три, как Устину не спится. То ревматизм
разбудит, то сон дурной. Не та мешанина из видений и
реальности, что всем снится и Устину тоже снилась,
пока был молод, а какие-то отрывки из того, что пережил.
Видеть все это не хотелось, поэтому Устин вставал,
одевался и шел хлопотать по хозяйству: выводил козу в
леваду и привязывал на травке позеленей, колол дрова,
вытаскивал из колодца никем еще не початую после ночи
воду (еще, гляди, и звезда или серпик старого месяца
блеснет в ведре, когда высаживает его на сруб), а
управившись, растапливал печь. Не для того, чтобы
угодить Оляне, об этом Устин даже не думал никогда,
просто он любил начинать день любой работой еще до
света.
Просыпался Устин, и шевелилась на печи Оляна,
зевала, постанывала и бубнила сердито: «Поменьше нужно
книжек тех глотать, тогда и спаться будет». И, как
только Устин выходил из хаты, снова засыпала.
Устин и вправду читал много и каждый день. Чаще
всего это были учебники для пятого класса, которые
остались от сыновнего учения: география, естествознание,
история... Даже арифметику Устин читал, не все, правда,
а задачки. Сядет за стол, сложит руки, будто ученик, и
четко, как перед учителем: «Вес сливок составляет
шестнадцать процентов от веса молока. Сколько сливок
получится из двенадцати тонн молока?» Прочитает и
задумается на минуту. Потом вскинет голову, радостно, как
70
ребенок, засмеется и скажет: «Да сколько же? Должно
быть, уйма!»
Попадались Устину и книжки про жизнь. Он читал
их так же старательно, как и учебники, но ни одной не
верил. «Ловко накручено!» — только и скажет, бывало.
Или молча отдаст библиотекарше и попросит: «Мне что-
нибудь такое, чтоб не выдуманное...»
Уже рассвело до синего в окнах, и стекла будто
зацвели предутренним небом. Оляна слезла с печи на
лежанку и принялась зевать еще и на лежанке. При этом
она подперла щеку рукой, будто приготовилась петь,
вдохнула полную грудь воздуха так, что тело все
затряслось, и с тем же сладким изнеможением протяжно
зевнула. «Зевки», как называла свой недуг Оляна,
начинались у нее с икоты, что нападаед1 на людей после сытного
обеда, а потом уже шли сплошные «ах» да «хо-хо-оуу».
Кончалось тем, что Оляна, вздохнув и тупо уставившись
в пол, говорила: «Опять зевки напали, теперь целый день
голова болеть будет...»
И теперь уже до вечера она станет
прислушиваться к самой себе: начнет болеть голова или не
начнет?
— Вроде как светает, — сказала Оляна с лежанки.
— Так, как и вчера было, — отвечал Устин
рассудительно. — Сначала ночь, потом утро, а потом уже
день, — и глядел на картофелину, которую чистил, и
улыбался, ссутулив узкие плечи.
Иногда же, если ночью Устина не крутил ревматизм,
прибавлял и такое, к примеру:
— Удирает ночь-ворона, потому рассвет на нее
свистнул... — И брови его, куцые, серенькие, коэыречками,
вздрагивали.
В хате стояла молочно-синяя мгла и едва ощутимая
прохлада, что вкрадывается под осень в хаты, где пол не
деревянный, а земляной и стены утлые, только на глине
и держатся. Говорил сын Петро, добрый ласковый
хлопец, худой и востроносенький, как и Устин (он работал
в Полтаве шофером на молоковозе): «Давайте, папа, я
хату кирпичом обложу. Все теплее будет, да и со стороны
красивее». Но Устин не согласился: зачем хлопцу
тратиться? Сошлись на том, чтобы крышу перекрыть,
потому что в селе под соломой хат уже не было. И выходило,
будто Устин беднее всех...
И перекрыли. Шифером. А когда пошли на леваду
поглядеть издали, как оно теперь, то увидели, что труба,
71
красная, глазурованная, наклонилась и хата словно
сгорбилась...
Петро порывался лезть поправить, а Устин смеялся
и говорил: «Пусть так! Ровно поставь, подумают, что тут
молодые живут, здоровые, а так сразу видать —
никудышные!..»
Устин дочистил картошку, положил нож на пол и
закурил. Не закурил — припал к цигарке и кашлял,
утирая слезы скрюченными пальцами, и счастливо
улыбался — то цигарке, то картошке в чугунке, то пламени
в печи. Это была первая его цигарка сегодня, такая
желанная, такая крепкая, что от первой же затяжки он
вроде бы захмелел. А тут еще рассвет выдался ясный,
прозрачный, не утро, а точно веселый такой мальчонка.
На дворе повсюду лежала роса: на пожухлой осенней
траве, под стрехой в хлеву на паутине, что пауки с
вечера наткали, на капусте в огороде... А левада вся была
сизая.
Устин любил погожие рассветы. И часто про эту свою
любовь говорил: «Мне, ежели рассвет ясный, так жизнь
будто сызнова начинается! Будто я еще такой вот! — и
показывал ладонью, какой он ростом от земли паренек. —
Да еще как приснится что-нибудь хорошее, а не дурное,
тогда мне рай земной...»
А стекла нежно румянились, и в хате словно
потеплело — вот-вот взойдет солнце над степью.
Оляна, постанывая, добралась до лавки, села и руки
в подол сложила. Долго сидела так, блуждая взглядом
по хате. Узко прищуренные глаза ее, казалось, не
видели, а сама она лишь прислушивалась к тому, что
делается в ее, Олянином, теле: в груди, в пояснице, в ногах,
в животе... Оляна любила и умела слушать свое тело. Но
сегодня оно молчало. Нигде ничто не крутило, не
кололо, и кровь в жилах не «бухкала», как это часто Оляне
чудилось.
— О, уже давится, давится той цигарякой, — скривив
рот, посмотрела на Устина, который снова надсадно
закашлял... т
Этими словами она каждый день начинала ссору.
Устин только улыбался и молчал. Он был счастлив и не
хотел» разлучаться со своим счастьем вот так, с утра.
Потому и молчал. Но чаще выходил из хаты и кашлял
во дворе, и смотрел сквозь слезы на солнце, на росы,
близкие и далекие, и улыбался всему, что видел.
72
— Когда-то люди вставали рано богу молиться, а ты
ругаться, — сказал Устин и опять закашлял.
Но Оляна уже не слушала его, смотрела в окно.
Во дворе на колышке висел закопченный горшок. Все
вроде бы, как и вчера было, и вдруг горшок.
— Кто это повесил нам горшок на кол? — спросила
Оляна.
Устин поднялся со скамеечки — штаны под
коленками гармошкой, суставы хрусь, хрусь, словно два сухих
сучка отломились — тоже взглянул в окно.
— Да, видно ж, кто-то принес и повесил, раз висит, —
шевельнул бровями-козыречками.
Оляна прищуренными глазами уставилась на него,
уголки рта презрительно дрогнули.
— Прине-ес, пове-есил, — передразнила. — Какой
же это дурак принес бы его тебе и повесил! Это ж наш
горшок, я в нем курам варю!
— А чего ж тогда спрашиваешь? — усмехнулся
Устин. — Раз наш, значит, наш.
— Потому что сразу не узнала, а теперь узнала. Иди
козленка перевяжи, ему пастись уже не на чем.
Пове-есил...
Устин накинул старенький солдатский бушлат, что
сын когда-то из армии принес, взял скамеечку под
мышку и отправился на леваду, радуясь, что пришла ему
благодать: солнце красное, дымы из труб, трава
по-осеннему холодом пахнет... Кури досыта, беседуй с
козленком, если молча сидеть надоест. А то еще наставишь ему
ладонь, он лбом в нее целится безрогим, встает на дыбки
и целится. Недавно вылупился, а уже норовит драться.
Целый день вот так сидел бы на леваде и любовался
белым светом, если б кости не мерзли...
Здоровье Устиново еще тридцать лет назад забрали
войны — одна с немцами, другая, без передышки, с
японцами. И так его побило в первом же бою на Дальнем
Востоке, что еле-еле отлежался. Дослуживал уже не
как солдат, а как полсолдата — охранял пленных
японцев.
Вернулся домой в сорок шестом и от полустанка шел
до села пешком. Степью шел. В куцей шинели (длинные
все были на Устина широки, а те, что как раз,
короткие), в кирзовых сапогах с просторными голенищами,
такими просторными, что ветер в них гулял, да тугим,
полным под завязку вещмешком за плечами. Шел и то
улыбался, оглядывая все вокруг, то смахивал слезы.
73
«Бегут, и все, и ничего им не сделаешь!»
Дважды тяжело раненный и один раз почти убитый,
Устин только здесь, в степи, поверил, что уцелел и идет
вот домой.
Идти было далековато, двенадцать километров, и
Устин шагал широко, разбрызгивая большими сапогами
рыжие лужицы: видно, недавненько пробежал степью
дождь. Впереди в предвечернем мареве виднелся
Безводный колодец с журавлем, похожим на одинокую унылую
птицу. Устин хорошо знал Безводный колодец — стерег
когда-то возле него коров, ночевавших в загоне, а днем
возил молоко на молочарню. Неглубокий, засоренный
всем, что ветер несет в непогоду, Безводный колодец и
в самом деле был издавна сухим — ушел из него
родник. Однако на цепи от журавля еще висело деревянное
ведро, окованное ржавыми обручами, старое, рыжее от
высохшего мха. В ветреные дни ведро тихо и жалобно
пело, а когда шли дожди, в нем собиралась вода и долго
скатывалась по капле на дно колодца.
«Что-то не видно ведра. Украли, должно быть, или
осколком отбило...»
Чуть правее Безводного колодца увидел Устин и Жов-
нирову мельницу, что так же, как и до войны, одиноко
стояла посреди степи на высоком кургане. Издалека
видно, не мелет и сейчас, как и прежде не молола.
Солнце уже коснулось земли и сеяло на степь
красную пыльцу. Вот-вот спрячется! Да оно и лучше прийти
домой вечером, рассуждал Устин, меньше глазеть будут.
Правду говоря, ему неловко было за куцую, измятую
в дороге шинелишку, за длинные тонкие свои ноги в
широких кирзовых голенищах. Можно бы, конечно, снять
шинель и нести ее на руке, пусть бы видели люди
новешенькую гимнастерку с орденом и пятком боевых
медалей, но тоже как-то...
«Нет, уж лучше в сумерки прийти».
И, подумав так, побежал длинноного,
по-журавлиному, и сидор тяжело подскакивал у него на спине. Село
хотелось увидеть засветло хотя бы издали, хату свою
обгоревшую (писала Оляна, что до сих пор не покрыли,
потому что некому и нечем, а накидали сверху соломы
и вывели стожком, лишь бы дожди не залили). Так и
шел дальше то крупным шагом, то бегом, то бежком.
А грудь побитая хрипела и поскрипывала.
И все-таки увидел: и хату свою, уже с верхом,
надшитую новой желтой соломой, и село внизу под лиловым
74
заревом — солнце уже зашло, и синеватые дымы
в желтых садах и над всем понизовьем.
Воспоминание это — как шел степью, как бежал на
закат, как дохнуло на него вдруг влажной прохладой
с левад — было самым дорогим в жизни, и он часто
согревал им уставшее уже сердце. А дальше вспоминать не
хотелось, и, может, оттого все, что было потом, что гнал
от себя работой, цигарками с кашлем и разговорами,
приходило к нему ночью: мол, ты от меня бежишь, так я
тебя во сне догоню! И догоняло, и крутило вместе с
ревматизмом и ранами старыми, пока Устин не просыпался
и не принимался за какую-нибудь работу. А может, то
и не сон был, а лишь забытье, иначе как же так: спишь
п чувствуешь, как пахнет вишневый цвет, что еще в
сумерки вошел в хату...
Добрался до села, когда уже стемнело. В хате не
светилось. На лавке сидел Петько и плакал. Устин
дрожащими пальцами расстегнул шинель, снял ее вместе с
вещмешком и пошел к Петьку.
— А чего это хлопчик плачет? — еле вымолвил
сквозь давящий клубок в горле. — А чего плачет этот
хлопчик, а?
Петько, притихший, как только Устин переступил
порог, съежился на лавке у окна и сказал,
всхлипывая:
— Штрашно...
— Чего ж тебе страшно?
— Ночи...
Устин взял его на руки, обцеловал стриженую
головку и прижал к щеке. А дышать было так трудно...
— Это ведь тато твой пришел, — поднял пальцем
подбородочек сына. — Гляди, тато! Не узнаешь, а?
А где ж наша мама?
— Козу Маньку пошла доить, — заикаясь, сказал
Петько.
И тут вошла Оляна. Стала у порога, вся в черном
пли сером, с белой крынкой в руках...
— Ой, боженька... — обронила глухо, и в голосе ее
послышалась Устину не радость, а испуг.
«Отвыкла», — подумал нежно. Подошел, взял из ее
рук теплую от молока крынку, поставил возле ведра с
водой на лавке. И только тогда обнял женины плечи.
Чужие какие-то они были. И руки чужие, вялые. Да
и Устин обнял неуклюже, словно мальчишка.
«Оба мы отвыкли...»
75
Зажгли свет. Орден и медали Устиновы тускло
заблестели в щербатом свете коптилки — она горела лишь
одним уголком фитиля. Оляна положила на грудь Усти-
на руки — они пахли козьим молоком, — прижалась
к ним лицом и заплакала.
— Ну, будет, будет, — голос Устина дрогнул. —
Живой ведь...
Потом все трое сидели за столом, и Устин
выкладывал то, что принес за плечами с войны: плоский
немецкий котелок, в котором что-то позванивало, флягу в
шерстяном чехле, алюминиевую ложку с вилкой, что
складывались пополам, карманный ножик, при котором тоже
были куцые ложка и вилка, и пилочка, чтоб ногти
спиливать; четыре метра материи байковой, которую выдавали
на зимние портянки/ и столько же материи на портянки
летние; два казенных полотенца, галифе синее
(командир роты, который прошел с ним обе войны, подарил на
прощание); два форменных ремня, брезентовый и
кожаный, пилотку, двупалые рукавицы. Все было новое,
блестело и пахло новым. Напоследок Устин достал из
мешка две банки рыбных консервов, шесть селедок,
завернутых в хрустящую бумагу, и сухую, потрескавшуюся
солдатскую буханку.
— Ты, что ли, и не ел в дороге ничего? — спросила
Оляна.
— Кабы не ел, так и не добрался бы! — весело
сказал Устин и наклонился к Петьку. — Ну-ка, сынок,
давай сюда кармашки живо!
Петько, несмело улыбаясь (зубик один у него был
щербатый, и улыбка выходила жалкая), наставил
карман.
Устин высыпал в него красные кедровые орешки.
— Вишь какие! Это каленые. Вон еще что есть на
свете! Белочки любят их грызть и дети, маленькие и
большие, как ты! Грызи...
Потом схватил новую пилотку, ловко надел ее на
стриженую головку, сунул руку в котелок, достал оттуда
блестящую, как из золота, медаль и, взволнованно сопя,
пришпилил к рубашке Петька.
Ужинали долго и вкусно. Оляна внесла из сеней
кусок сала холодного, полбутылки горилки (от
кровельщиков осталось, сказала), нарезала свежего хлеба, а
буханку солдатскую убрала прочь.
— Это пусть на сухари будет.
— А я думал, у вас тут голодуха. Всюду сейчас не
76
густо у людей, — говорил Устин и ел, ел, краснея в
скулах от радости, от чарки и от всего.
— Я ж козлят продала недавно, да и прикупила
хлеба мешочек да сала два куска. А так людям да еще тем,
кто хитрить не умеет, хоть зубы на полку клади... —
рассказывала Оляна.
Петько тем временем залез на печь, щелкал орешки,
украдкой поглядывал на отца и затаив дыхание
слушал, как позванивают его медали.
— Коза выручает, — хвалилась Оляна. — И молочка
понемногу дает, и козлят двух-трех каждый год
приводит. Немцы козьего мяса не любили, потому и не
забрали... Курица есть одна рябенькая. Может, заквохчет на
весну, цыплят высидит. А больше ничего...
— Выкрутимся, — бодро сказал Устин. — Главное —
живы...
На другой день Устин с Оляной и Петьком вышли на
люди. Устин обошел вокруг хату, оглядел верх. Ладно
сделано, на совесть. Дерево хорошее, не палочки какие-
ю, ушито гладко, и стреха подстрижена ровно.
— Кто же делал? — спросил.
— Да... всем миром, — смутилась вроде Оляна. —
Колхозом.
— Ничего, живы будем, отработаем.
И двинулись через выгон в село, к лавке, к конторе
колхозной, туда, где людей погуще. Устин был в новом
галифе с красными кантами, что блестели на солнце,
в темно-зеленой гимнастерке, туго подпоясанной
широким кожаным ремнем (брезентовый, тот пусть на
будни), при ордене и медалях, в пилотке набекрень, из-под
которой торчал вверх густой завиток рыжеватого
чуба.
Оляна и Петько тоже были в чистом, хоть и не
новом. Оляна несла в узелке материю к портнихе, чтобы
заказать из байки кофту себе, а из тонкого — две
рубашки для Петька. Устин вел сына за руку, то и дело
наклонялся к нему, говорил всякие ласковые слова, а глаза,
серые, ясные, как и у Петька, сияли счастьем и доверием
ко всему миру.
Петько крепко держал отца за руку и посматривал
на него снизу, потом, не выпуская руки, забежал
немного вперед и, уловив отцовскую улыбку, сказал:
— А к нам Филипп ходил!
78
Устин, как улыбался сыну, так и не успел погасить
улыбки.
— Какой Филипп, сыноша?
— Да какой там, к ляду, Филипп, — засмеялась Оля-
на и, прищурившись, посмотрела на Петька. — Мелет
бог знает что, а* ты слушаешь. Хату крыли, вот и
ходили люди.
Петько насупился и умолк.
Устину, однако, в тот же день рассказали, какой
Филипп, когда и зачем приходил в его хату...
— Что ж ты хочешь, если у него ключи от
колхозной кладовой, — кричал в самое ухо Устину довоенный
еще товарищ его Сергей „Левый (под конец войны
Сергея ранило и контузило, так что стал, он глуховат) и
нервно подергивал куцей культей в рукаве выношенного
синего пиджака. — Он, гад, этими ключами не одну хату,
где подходящая молодка была, отомкнул... Стервец...
И ключи те языком заработал, стервец. Все люди на
собраниях как люди: сидят, слушают, что им говорят.
А он как выступит, как начнет: мы обещаем, мы
залечим раны, мы берем на себя... Ясно, на себя! А кто ж
за нас тут что сделает, спросить бы? Думал я, что хоть
после войны болтунов меньше будет, а оно одинаково...
Ну, ему ключи, бери, залечивай раны!.. Наел, напил рожу
красную, чуть не лопнет, теперь парубкует. Ха! Брови
подбривает, стервец! Одним словом, плюнь и отвернись,
у тебя дите. Вот оно твое. Пошли выпьем за встречу, за
то, что живы-здоровы, хоть я, вишь, с одной клешней
остался...
Ночевать домой Оляна не пришла, и только тогда
Устин, оглушенный выпивкой и тем, что услышал,
понял: Левый, да и не только он, говорил правду. Не спал
всю ночь, ждал: вот-вот скрипнет дверь, войдет жена
с сыном и скажет, что были они у тетки на хуторе, да и
задержались. А еще скажет, что про Филиппа — злой
наговор, зависть людская: как-никак хату, почитай,
заново поставила и кусок хлеба есть. Ну, бывало, заходил,
пробовал увиваться... Хату помог покрыть, чтобы как-то
ее завлечь... А больше ничего такого...
Устин поверил бы. Он и ждал ее чуть ли не до
третьих петухов, чтобы поверить. Не простить — поверить, да
на том и конец.
На другой день не выходил, даже во дворе никто его
не видел. Сидел в хате, заперев дверь, чтобы тоже никого
не видеть. Приходили соседи, известно для чего — рас-
79
сказать... Не открыл. Прибегал Левый, должно, чтобы
выпить и потом надоедливо, до черной тоски утешать. Он
добрый мужик, чистосердечный до глухоты.
Оляна и вправду была у тетки на хуторе. И тоже
сидела при запертых дверях. Боялась, что вот-вот Устин
нагрянет. Петька выслала во двор поиграть: если
наскочит, то пусть первым увидит сына.
«Бог даст, — утешала тетка Оляну, — обойдется.
Побесится, побесится, а потом еще и просить придет. Вот
увидишь. Он только со стороны глянуть — мужик, а тут
вот, — тыкала себя пальцем в грудь, — ягненок божий.
Погладь, приголубь, и заблеет...»
Устин не пришел ни в тот день, ни на следующий, и
Оляна отважилась наведаться домой. Да и тетка
советовала: «Иди, потому вчера он за то кипел, а завтра
рассердится, что долго нет, еще хуже будет. Сегодня
как раз идти и нужно. — И добавила скороговоркой: —
Ты Петька, Петька ему сразу на очи...»
Двери были закрыты, и в окнах темно. Оляна,
деревенея, толкая впереди себя Петька, вошла в хату.
Никого. Шинели на гвоздике у двери нет, пахнет табаком,
кучка денег на столе...
Села на лавку, прижала к себе Петька и
запричитала:
— Ушел батько, сыночек... Бросил нас, окаянный...
Чтоб ему добра не было, как вот так над дитем... над
родным дитем так издеваться... О-о...
Петько тоже плакал и дрожал.
А Устин шел степью, той, что и позавчера, и нес
в глазах не людскую — собачью обиду. На все и на
всех.
Никто в селе не сочувствовал Оляне, узнав, что
Устин ушел из дома, ни женщины, ни тем более мужчины,
и это ее злило еще сильнее.
Встретила как-то Филиппа, спросил: «Что, бросил? —
Посмотрела на него моляще из-под низко повязанного
платка, совета и сочувствия ожидая. — Ха-х! Нужно
было держать!» — и пошел. Галифе туго обтягивает икры
над приспущенными хромовыми голенищами,
широкозадый и толстоплечий, а холка над воротничком, как репа,
тугая. Кобель!..
С той поры Оляна стала напускать на себя всяческие
хворобы и плакать. И плакать ведь не тишком, а на лю-
80
дях: на работе, перед соседями... Люди не железные,
к тому же Устин где-то, а Оляна вот она, рядом, мучится.
Стали ее жалеть, утешать, и скоро уже не она, а Устин
был виноват во всем. Ну, погонял бы там день, два или
запил на неделю. Это по-нашему. А он сразу бросать.
Да еще с дитем. Видал, куражится! И кто бы подумал,
до войны такой тихоня был...
И Оляна вновь ожила. Начала покрывать голову
высоко, по-девичьи, как и раньше, смеялась, пела, когда
заводили песни, возвращаясь с поля, и, чтобы отвернуть
людей от доброй памяти об Устине, рассказывала
женщинам, как весь хутор не пускал ее за него замуж и как
Устин ее добивался.
— Ведут меня к нему, а наши, хуторские — и
подруги мои, и бабы постарше — плачут да за фату меня
держат: «Не ходи, Оляночка, не ходи. Да погляди ж,
какой он долговязый да зубастый...» Не послушала,
дуреха, пожалела. Бегал ведь следом, как собачонка, на
коленях просил... — и вздыхала.
А женщины, те, что слушали, хоть и охочи
посочувствовать беде сестринской, прятали коварные усмешечки,
теперь уже над Оляной — ну, уж если Оляна
красавица...
Зимой Оляна получила от Устина триста рублей и
примолкла. А когда поздней ночью Филипп трижды
легонько постучал в окно, не открыла.
Устин работал на заводе кочегаром, потому что
никакой профессии не имел. Да и здоровье после ранений
было такое, что на лучшее место не станешь. А в
кочегарке хоть и тяжело смену отжариться, зато потом двое
суток отдыха. И подработать можно на товарной
станции, или на складах, или в магазинах, где с грузчиками
туговато. Не себе добывал лишнюю копейку — на
работе спецовку давали, в выходные военное носил, — домой
хотелось как можно больше послать. Он и думал, и
говорил всегда так: дома, домой. И тогда сердце его ныло,
Петько... Хлопчик стриженый, щербатеяький на один
зубок, медалькой играет...
Попадалась ему и молодка. Заводская. Ужин в
кочегарку носила, беседовали. Сердечная женщина, но...
Ни разу не откликнулось ей Устинове сердце — сидела
в нем щербатенькая Петькова улыбка.
На работе Устина уважали. Молчаливый, работящий,
6 Г Тютюнник g£
покладистый. Нужно отработать две смены, как бы ни
устал, не откажется. Выйти на субботник или в цеху
помочь в последние дни месяца, если там запарка, как
не помочь людям. И таскает тачкой мусор или стружку
из-под станков, как усердный конь...
Один недостаток знали за Устином: не любил тех,
которые на собраниях выступают. Если кто по делу, еще
терпел, и то не всегда.
— А ты возьмись сам и сделай! — кричит с места. —
Или мне скажи, я сделаю. Трибунщик!..
Это терпели: правильно.
Но, лишь только кто-нибудь выступал с обещанками,
Устин словно с цепи срывался. Проталкивался вперед,
махал кепкой и кричал:
— Стоп! Ты чего хочешь, а? Чего ты хочешь? —
а глаза бешеные, сам дрожит, чуб дыбом, как шерсть
у волка на загривке. — Хочешь об ноги потереться, чего
размурлыкался? В командиры норовишь прорваться?
Скажи! Вот так прямо и скажи всем: хочу! А то: я, мы...
Ямыкало!
Собрание одобрительно гудело, а те, кто сидел в
президиуме, наклонялись друг к другу и перешептывались,
строго кивая головами. Это поначалу. А когда
привыкли, улыбались: что поделаешь, болезнь у человека, тоже
выступить хочется, хотя бы уж вот так...
— Товарищ Хомченко, вы давайте по существу, про
дело, — скажут из президиума.
— А он про дело? — кричал Устин. — Вот дело! —
и протягивал свои длиннющие руки.
— Ну хорошо, хорошо. Вы сядьте и успокойтесь, —
поднимался из-за стола председательствующий и
деловито объявлял: — Слово имеет...
Устин шел на свое место, и собрание провожало его
сочувственными улыбками, а если попадал в точку
(бывало, что и ошибался от злости), хлопали. Однако
в праздничные дни Устина не обходили ни грамотами,
ни премиями: трудяга, ничего не скажешь.
К кочегарке, пропахшей углем, паром и шлаком,
Устин привык больше, чем к койке в общежитии. Шуруй
топки, нагоняй «атмосферы», а выпадет передых, сиди,
на огонь гляди, а перед глазами рассвет над низиной
у реки, над болотами и болотцами. Над большими и
туманы больше и гуще, над меньшими и туманы меньше,
прозрачнее. Кусты боярышника — как шатры между
ними. А осень как отзовется... Осень Устину по сравне-
82
нию с весной — картинка. Все тогда не вянет, а цветет!
Леса — красным боярышником, седыми осокорями, твер-
дожелтыми листьями на дубах и густо-зелеными на
берестах, а солнце — как подсолнух, так низко, что, кажется,
рукой бы достал. И земля осенью пахнет лучше, чем
всегда. Усталостью пахнет. Разве не устанешь, вон сколько
народивши — и людям, и всему живому. Попробуй!
На третью весну Устин получил письмо от Петька.
Буквы большие, как жуки.
«Здравствуйте, тату!!! — прочитал Устин и
закашлял. — Перо мое заскрипело, а сердце мое заболело!
(«Это, поди, та лиса научила», — подумал Устин про
Олянину тетку.) Тату! Приезжайте! Я вас буду ждать!
Я буду ждать вас возле лавки. Там все встают. И вы
вставайте там. До свидания! Петро Устинович Хом-
ченко!»
Устин, наверно, так и состарился бы в кочегарке, а
может, устав жить одиноким, пристал бы в приймы
к какой-нибудь заводской вдове и доживал свой век
с тоской в обнимку, если бы не то Петьково письмо,..
Вечером, как придет кто на посиделки, Устин
рассказывает про японцев.
— У них не так вот, как у нас, ложки. У них
палочки. И так они быстро ими орудуют... Клац-клац-
клац — глядишь, мисочку и подчистил. Да еще если б
лапша или макароны, тут и я, и всякий сумеет палочками
взять. А то рис! Поди-ка зернышко ухвати ими. А
командир роты у нас был чудак такой, веселый хлопец.
Поехал в город и привез мешок ложек. Пусть, говорит,
попробуют ложками, раздайте им ложки. Сумеют ли?
Раздали им ложки — едят не хуже нашего! Да все
подхваливают: «Рус холосо, рус холосо!» Еще бы не хорошо.
В ложку-то больше наберешь. Потом — это как мы уже
начали их понемножку домой, в Японию, отпускать —
который уезжает, так и ложку с собой берет. «Лозка са-
мать холосо!» — и смеется.
— Садись-ка ужинать, — прищурившись, смотрит на
него Оляна, — а то этими японцами голову мне так
забил, что целую ночь будет болеть. А может, еще и
завтра.
Устин подвигается к столу, заглядывает в миску и
улыбается. Есть он любит. Не наедаться, а есть. Когда
набирает в ложку, брови-козыречки поднимаются вверх,
6* 83
такие напряженные, что аж дрожат, а когда несет ко
рту, губы тянутся ей навстречу и улыбаются.
Оляна снимает кофту, постанывает, охает, зевает и
взбирается на печь. А Устин берет растрепанный,
пухлый учебник ботаники и вычитывает шепотом ученые
слова в житии грунтов, трав, деревьев и вод.
Потом, уже в постели, он будет долго размышлять
о мудрости земли, забываясь в полусне и снова
просыпаясь с ласковой надеждой услышать хрипловатый после
дремоты петушиный голосишко...
СЫН ПРИЕХАЛ
Ивану Чендею
В начале августа, когда в Ковбыши, большое село,
лежащее на берегах узенькой речки в зарослях камыша
и чернотала, съезжаются к родителям все бывшие ков-
бышевцы, что вскоре после войны подались из дому
искать постоянного заработка и выходных по
воскресеньям, когда во дворах только и слышно: «Папа, как у вас
теперь напрямик в магазин ходят?», и отец, захмелевший
от радости, бодро объясняет: «Да как? Так вот прямо
огородами и шагай. А там левадой. Ты что, забыл?»,
или: «Мама, как у вас насчет стирального порошка?
Нет? Так я пришлю по приезде» и т. п. — в начале
августа, солнечным субботним утром, приехали гости и
к Никифору Дзякуну и Параске Дзякунке: сын Павло,
рыжий, пучеглазый, уже с брюшком и в капроновой
шляпе в мелких дырочках; невестка Рита, толстенькая,
румянощекая и угодливая (про таких говорят: «Только
в хату — уже своя»), и годовалый внук Борька,
некрикливый, глазастый бутуз с реденьким, как у отца,
чубчиком.
— Ну вылитый папка! — счастливо стрекотала Дзя-
кунка, обцеловывая внука. — Гляди, Никифор, и нозд-
рички такие, как у Павлуши маленького были, и попка
тяжеленькая... — Параска тоже была рыжей, как огонь,
сын Павел пошел в нее, а внук в ПавлаГ оттого и
радовалась. А натешившись с Борькой, принялась целовать
невестку да благодарить ее, что так угодила, что внука
такого «хорошенького» подарила.
Приехал Павло не поездом и не автобусом, как
многие другие ковбышевцы, а собственным «Москвичом»
табачного цвета. «Москвич» был новый, и все в нем бле-
стело: краска, стекло, никелированные буфера,
циферблаты на приборах... Сиденья были застланы двумя
легкими коврами, а заднее и боковые стекла завешены
репсовыми шторками. Все это Павло приобрел загодя, когда
первые детали для его будущей машины 'еще только
отливались где-то на заводах.
Из-за «Москвича» Павло и не женился так долго,
хотя было ему уже за тридцать. Сначала думал: брать
жену на сто пятьдесят рублей в месяц, да еще живя
в общежитии, не годится. Когда же дали ему за стаж и
молчаливое трудолюбие комнату в новом доме и
перевели из слесарей в мастера, рассуждал так: соберу денег
на машину и все, что к ней нужно — ковры, шторки,
брезент и металлические канистры под бензин и масло,
тогда и жену можно искать, а если жениться сейчас, то
машины уже не купишь, ухнут деньги на мебель, одежду
и всякие мелочи, что вздумаются жене, потому что
женщины все такие.
Даже в отпуск к родителям не ездил три последних
года. Ведь, чтобы поехать, крути не крути, а полторы-две
сотни плакали: дорога, подарки, новый костюм... Не
заявишься ведь в поношенном! Поэтому брал отпускные,
клал на книжку и снова работал.
Теперь Павло имел все: квартиру, жену, машину,
сына, двести рублей заработка вместе с премией, и
чувствовал себя так, как ему хотелось: спокойно, уверенно и
независимо.
«Москвича» к отцу во двор тотчас не завел, а оставил
у ворот, только стекла закрыл брезентовыми
фартучками, специально для этого сшитыми, и колеса накрыл
обрезками, что остались от тех фартучков, чтоб не
жарились на солнце.
— Ты, Павел, туда бы его, под грушу, в холодок,
поставил, — советовал старый Дзякун, любовно и
осторожно поглаживая «Москвич» ладонью.
— Ничего, пусть пока тут постоит, чтоб под рукой
был, — важно отвечал Павло.
Отец понял и умолк, только покашливал значительно,
подпушивал большим пальцем усы и улыбался тонко:
правильно, пусть люди видят, через выгон со всех
сторон видно.
Пока в хате варилось и жарилось, мужчины время от
времени выходили со двора к машине, медленно
похаживали вокруг нее или просто стояли, как два аиста
у гнезда с аистятами.
85
— Так сколько же людей под твоим
руководительством? — спросил сына Никифор.
— Вся смена, отец. Двадцать семь человек.
— О-о! — подбрасывая брови вверх, сказал Дзя-
кун. — Немало. Ты ж с ними ладь, потому люди — это
такое: не угодишь одному, другому — съедят.
— За это будьте уверены. Я еще в полковой школе
научился с ними обращаться, когда был помкомвзвода
по строевой подготовке. Тоже тридцать душ было. И все
слушались... У меня так: делаешь свое дело — делай.
А нет — покаешься...
Мимо машины и отца с сыном в новых шляпах (Пав-
ло привез старику точно такую же шляпу, как у
самого) проходили люди, почтительно здоровались, на что
Павло отвечал, глядя поверх их голов на речку: «Засеете!»
Кое-кто и останавливался, поздравлял гостя с
приездом, Никифора с гостями, расспрашивал, где и кем
Павло работает, какие деньги зарабатывает, а
напоследок обходил машину, заглядывал в кабину сквозь щели
между шторками и интересовался, сколько «это добро»
стоит.
— Ну-ка, Павлуша, скажи! — трогал сына локтем
Никифор и напряженно-радостно ждал ответа: сумма-то
не шуточная!
— Все деньги, — с холодной улыбкой, мало похожей
на улыбку, отвечал Павло и смотрел своими
неподвижными рыбьими глазами мимо любопытного дядька.
Одет он был в новенький костюм, почти такого же
цвета, как и «Москвич», обут в новенькие желтые туфли
на толстой белой подошве, а тугую, в рыжих конопати-
нах, шею крепко стягивал воротник нейлоновой сорочки.
Когда он разговаривал с дядьками, руки держал
сложенными на груди и медленно и независимо
раскачивался, становясь то на носки, то на каблуки новых своих
туфель, причем разрез на пиджаке сзади то сходился, то
расходился.
Тем временем в хате не умолкал разговор.
— Павлушу на работе ценят, — рассказывала Рита,
подметая пол мокрым веником. — Премия каждый
месяц идет, две грамоты получил...
— Да он у нас такой, что и сделает, и промолчит,
если нужно, и старшего послушается, — радовалась Дзя-
кунка. Лицо ее, освещенное пламенем из печи, казалось
румяным. — И сызмала такой.
— В квартире у нас, — продолжала Рита, — все есть:
86
гарнитур житомирский, холодильник «Донбасс»,
телевизор «Огонек», стиральная машина «Нистра», пылесос
«Буран», правда, потому что «Ракет» в это время в
магазинах не было. Денег хватает и на каждый день, и на
книжку Павлуша в зарплату кладет каждый месяц.
А бывает, в субботу и воскресенье проскочит в Ростов или
Ворошиловград — все равно ведь делать нечего.
Глядишь, десятку, а то и две подработал. Нужно ведь как-то
машину окупить. Да и на бензин...
— А как же, — соглашалась Дзякунка. — И людям
услужит, и копейку заработает. Оно так: копейка рубль
бережет! Ешь, Боренька, ешь, мой сластенушка, гам, —
нежно щебетала внуку, который стоял у лавки, брал
двумя пальчиками кружочки жареной картошки,
разложенной на газете, чтобы остыла быстрее, и молча,
сосредоточенно отправлял их в рот. Когда картошка кончалась,
Борька оборачивался к бабушке, устремив на нее
неподвижные отцовские глаза, и говорил:
— Есе атоськи.
Дзякунка хватала со сковороды, шипевшей на жару,
подрумяненные кружочки и, перебрасывая их с ладони
на ладонь, бегом несла внуку.
— Сейчас нельзя гамочки, моя крошечка, —
раскладывала картошку рядочками и дула на нее. — Остынет,
тогда — гам»
И спрашивала у невестки:
— Где же вы, доченька, крестили внучка-то моего
сахарного? Есть у вас там церковь поблизости?
— Нигде не крестили, — ответила Рита. — Кумовьев
назвали, так, шутя. Павлушиного начальника цеха и его
жену, а не крестили.
Дзякунка аж руками всплеснула.
— Боже ж мой, выходит, он у вас так некрещеным и
живет?
— Так и живет, — смутилась Рита. — А что же тут
дурного?
— Э, дочка, нельзя так. Не годится. Не щенок ведь,
а человек. Нет, нет. Завтра, даст бог, воскресенье,
поедем в Опошню или Покровское и окрестим. Как же без
этого... Без этого никак нельзя...
— Да я и не против, — поколебавшись, сказала
Рита. — Только Павлуше не говорите, нельзя ему.
— Ну, раз нельзя, так нельзя, — перешла на шепот
Дзякунка. — Автобусом съездим, тут недалеко. Мы
скоренько. А скажем — на базар.
87
...Обедали долго и со значением: Павло принес из
багажника старательно завернутую бутылку «Российской»,
сам разлил всем поровну, сам и гост провозгласил:
— Ну, за встречу!
— И чтобы все было хорошо, — вставила Дзякунка.
— Все в наших руках, — сказал Павло.
— Если умеешь жить, то все хорошо и будет, —
многозначительно изрек Дзякун.
— За здоровье наших родителей: и моих, и твоих,
Павлуша, — сказала Рита и чокнулась со свекром и
свекровью.
Выпили и принялись за еду: жареную картошку с
малосольными огурцами, холодный куриный борщ на
сливках и желтках, пышные пироги со всякой начинкой и
сметану. Только Борька уже не ел, молча влез деду на
колени, трогал его за усы и сосредоточенно сопел.
Дзякун растрогался, легонько прикусил новыми, недавно
вставленными зубами розовый палец внука, а невестке
сказал поучительно:
— Теперь, дочка, твои родители — и Павлушины
родители, а Павлушины родители — и твои.
— Уж так хочется сватов увидеть, хоть одним
глазком, — медовым голосом пропела Дзякунка. Она уж и
захмелела, и чуть было не проговорилась о завтрашних
крестинах, да вовремя спохватилась. — А тут ведь и
недалеко. Сколько, старый, от нас до Шишак?
— Напрямик верстов семьдесят будет, — прикинул
Ники фор.
— А я вот сколько ни наблюдаю в жизни, —
медленно и таким тоном, что принуждает слушать, сказал
Павло, — так сделал вывод: жениным и мужниным
родителям видеться не следует. Эти не понравятся тем, те —
этим, слово по слову... Те нашепчут дочке, эти — сыну.
И пошло: ругань, ссоры...
Никифор даже подкашлянул удовлетворенно: аи да
умница, шельмец! В самом деле, кто бы это гнал
новенькую машину грунтовой дорогой до Шишак и обратно?
Что она, даром досталась? А сваты, ежели захотят ближе
познакомиться, приедут и автобусом.
После обеда Павло торжественно открыл чемодан и
раздал подарки: матери черную с фиолетовым отливом
плюшевую жакетку, так густо посыпанную нафталином,
что и в хате тотчас запахло промтоварным магазином,
и глубокие галоши на красной подкладке, а отцу серый
в елочку костюм за шестнадцать рублей и сорок две ко-
пейки. Рита подарила свекру зеленую нейлоновую
рубашку с твердым, словно лубяным, воротничком, а
свекрови вязаную кофту и донской пуховый платок — все
дорогое и красивое.
Никифор тут же все и надел: пусть смотрят люди, что
дети привезли. А Дзякунка спрятала свое добро в
сундук, сожалея, что не может и она, как муж, нарядиться
в новое — не сезон.
Потом Рита укачала Борьку, взяла тяпку и
отправилась на огород, хотя ее и отговаривали, а Павло завел
машину под грушу, переоделся и пошел в сарай
отдохнуть на душистом, нынешнего года, сене.
Когда в сарай на цыпочках вошел Никифор, чтобы
посмотреть, хорошо ли сыну лежится да не продувает ли
его через какую-нибудь щель, Павло спросил у него
сквозь дрему:
— А рыба, отец, в нашей речке есть?
— Есть, сынок. Щучки, караси, лини... Раки
случаются, но мало. Если хочешь, возьму завтра сети у Семена
Портновского, и пойдешь с кем-нибудь из хлопцев
потешиться.
— Я и один поймаю. Лишь бы сеть хорошая,
нерваная.
— И то дело, — согласился Никифор, рассуждая про
себя, что и тут правда на стороне сына: сам что
поймал, то и твое, а ежели вдвоем, на двоих и делить
нужно.
В хате Дзякунка торопливым шепотом рассказала
мужу, что внук их некрещеный, что завтра они с Ритой —
только чтобы Павлуша, упаси бог, не узнал — поедут
в Опошню или в Покровское прямо домой к
священнику и что Рита на это согласилась.
— Вот какую жену Павлуша нашел, —
захлебывалась радостным шепотом Дзякунка. — Такая уж умница,
такая культурная, да еще и простая!
— Павлушка наш ни в чем промашки не даст, —
рассудительно молвил Никифор. — У него и на работе
порядок, и дома, и в машине. Видела, как там все
застелено и блестит? О-о-о!
И радовались оба.
Потом решили: позовут на завтра Дзякункину сестру-
бобылку, чтобы печь истопила и приготовила" все к
столу, будто просто так, ради гостей. А еще условились, кого
звать: только своих, родичей. И пересчитали всех по
пальцам. Набралось немало, душ пятнадцать, так пяте-
89
рых, из хутора, забраковали: услышат от кого — пооби-
жаются да и забудут, а не услышат — еще лучше.
Кончили совет тем, что Дзякун сказал:
— Купишь в Опошне мяса. Нажарим под картошку
котлет штук сорок. Я когда-то, как был в районе, ел
в чайной, хорошо.
Никифор отсчитал из своего кошелька десять рублей
от пенсии и дал их жене.
— А сумеем ли? — обеспокоилась Параска.
— Почему же это не сумеем, — ответил Никифор. —
Я попрошу у директора машинку и мясо прокручу, а вы
с Ритой слепите. Не велика мудрость.
Потоптался по хате и двинулся к двери.
— Пойду посмотрю, как там машина.
На другой день, как только солнце поднялось над
опошнянскими крутоярами, Дзякунка и Рита с Борькой
на руках, празднично одетые, были уже на базаре.
Купили все быстро, и Дзякунка между делом расспросила
у местных торговок, где лучше окрестить ребенка — тут
или в Покровском. Бабы наперебой советовали ехать
в Покровское: там батюшка молодой, бас у него хороший
да и молитву читает всю. А тутошний уже такой старый
хрыч, что только кряхтит да кашляет и ни читать не
видит, ни по памяти не вчешет — забывает.
Покровского попа застали дома. Он стоял на крыльце
в хромовых офицерских сапогах и новой, видать,
воскресной рясе, сыпал курам пшеницу из ковша и рокотал
басом:
— Цыпоньки-цыпоньки, путь-путь-луть...
Завидя прихожан, он нисколько не смутился, кивнул
приветливо и сыпал курам до тех пор, пока не кончилось
зерно. Потом отнес ковш на веранду, вернулся и сказал:
— Пожалуйте.
Батюшка и вправду был молод, красив лицом, хорошо
выбритым вокруг желтоватой, с золотистым блеском
бородки, еще и духами крепко пах. Последнее Дзякун-
ке не понравилось. «Надушился, как жених», —
подумала.
В светлице, завешанной иконами — в рушниках и
без рушников, стоял полумрак, потому что окна с
солнечной стороны были закрыты ставнями, в красном углу
тихо горела лампадка, и пахло пирогами с капустой.
Рита с Борькой, посапывавшим во сне, остановилась
90
у порога и спрятала глаза под ресницами. А Дзякунка
трижды перекрестилась на иконы, что едва мерцали
в свете лампадки, потом сказала:
— Мальчика, святый отче, привезли окрестить. Не
откажите, пожалуйста, а то мы издалека.
— Кума? — спросил поп, взглянув на Риту.
— Невестка, батюшка. А это внук — Борька, —
поторопилась с ответом Дзякунка.
— Угу. Креститься умеете? — поинтересовался
батюшка у Риты. — Нет? — вздохнул не тяжело и не
печально, а как человек, которому это не в новинку,
включил электрическую плитку и поставил на нее большую
эмалированную миску с водой. Потом подошел к Рите,
заглянул в лицо Борьке и сказал ласково:
— Спит младенец. Пусть поспит, пока вода согреется.
А креститься, женщина, нужно так: складываете
троеперстие, осеняете им лоб. Потом на живот, на правое и
левое плечо. Попробуйте. — И чуть улыбнулся.
Рита подняла руку, ставшую вдруг тяжелой, и
перекрестилась.
— Вот так, — удовлетворенно прогудел отец. —
Просто и красиво. Обычаи предков своих нужно знать.
И обратился уже к Дзякунке:
— Кто же будет держать младенца? Вам, вы ведь
знаете, нельзя. Матери тоже.
— А если матушку попросить? Может, она... Мы ведь
в такую даль забрались... Уважьте, святый отче, — стала
просить Дзякунка.
— Хорошо, — согласился поп. Попробовал пальцем
воду, снял миску и поставил ее на стул, ближе к
иконостасу.
— Крижмо есть? — спросил, идя к двери, за которой
позванивала посуда и бубнило радио.
— Есть, отче, есть, — торопливо ответила Дзякунка
и вынула из корзинки свернутый ситец.
Через минуту батюшка вернулся и надел епитрахиль,
тускло сиявшую серебром и золотом, и в светлице стало
еще торжественней. Потом вошла и матушка во всем
темном, поздоровалась тихо, взяла из рук Риты Борьку и
улыбнулась ему ласково.
Батюшка правил службу на память и быстро, как
бы хороший плотник тесал. Бас его приглушенно
рокотал и то становился громче, то переходил в
проникновенный шепот; время от времени он трижды крестился,
упруго и размашисто (тогда крестилась и матушка), и
91
кланялся иконам — только головой, как избалованный
вниманием публики актер или старорежимный
офицер.
Борька, голенький, завернутый лишь в ситец —
«крижмо», глазел на лампадку и не рвался из
матушкиных рук.
Но вот батюшка умолк, взял со столика ножницы и
выстриг в Борькином чубчике крестик, приговаривая:
«Во имя отца, и сына, и святага духа». Затем матушка
разоблачила Борьку, подала голенького на руки
батюшке, и тот окунул его ножки в воду — раз, второй,
третий, приговаривая через паузы: «Во имя отца... и сына...
и святага духа. Аминь».
Рита чувствовала себя словно в полусне, будто в том,
что свершалось сейчас, замкнулся весь мир и не было
на дворе ни солнца, ни поповских кур, ни накатанной
до ослепительного блеска дороги из Опошни в Покров-
ское.
— Дар божий, — мягко пробасил батюшка и чем-то
намазал Борьке лобик, ножки, ручки.
— Отрекаетесь ли от дьявола? — строго спросил у
матушки, чуть повернув к ней голову.
— Отрекаюсь, — покорно прошептала матушка.
— Дуньте и плюньте.
Матушка трижды легонько дунула и трижды
легонько сплюнула. А когда священник пропел: «Елице во
Христе креститеся и влекотеся», — отдала Борьку Рите
и сказала:
— Можно одевать. А крижмо возьмите себе... Далеко
вам ехать? Ничего, скоро будет автобус, — потрогала
бледным пальчиком Борькин нос, улыбнулась и, кивнув
свекрови и невестке, вышла.
— Сколько с нас? — шепотом спросила Дзякунка.
— Как со всех, так и с вас, — вздохнул батюшка. —
Пять. А если ребенка держит матушка — восемь.
Дзякунка достала из-за пазухи белый узелок,
развязала его зубами и пальцами подала попу теплую де-
десятку.
«Ишь отхватил за какие-нибудь полчаса», — подумала
неприязненно и попросила смиренным голоском:
— За упокой, батюшка, запишите Никиту, Марфу и
новопреставленного Семена.
— Хорошо, — пообещал поп, даже не пробуя
запомнить имена усопших, откинул полу рясы и достал из
кармана хорошо отутюженных брюк сдачу.
92
Когда очутились за воротами, Рита сказала, чуть
прищурив влажные желудевые глаза:
— Такой красивый, приветливый...
Дзякунка заметила тот девичий прищур.
— Еще бы! За десятку можно и в ангела
обернуться, — сказала сердито. — Аида быстрее к автобусу, а то
печет так, что и мясо пропахнет, будут тогда нам
крестины.
И впервые подумала о невестке нехорошо:
«Ишь ты, как быстро пригляделась. Для такой
хорошую уздечку нужно...»
Павло проснулся поздно и, пока отец ходил за сетью,
успел собрать одежду на рыбалку: нашел в сарае старую
отцовскую рубаху, рваную на локтях, латаные,
отцовские же, штаны, не сходившиеся ему в поясе (пришлось
добавить петельку из веревочки), да ссохшиеся сапоги
с отставшей подошвой.
Так в рваном и к речке надумал было идти, но отец
отговорил:
— Нет, сынок, ни к чему это... Мужику, конечно, и
в таком можно было бы выгон проскочить. А тебе, при
твоей должности, при своей машине, костюм вон какой —
и в такую рвань рядиться... Ты лучше бери сеть, а я это
обмундирование пронесу под полой. Торбу-то захватил?
Павло показал большую брезентовую сумку, сшитую
одновременна с фартучками на стекла, — воду в
радиатор заливать.
И двинулись: впереди Павло в новом костюме,
туфлях и шляпе, позади Никифор с торбой, тряпьем и
сапогами под полой.
— Если бы солнышко сильнее припекло, — говорил
Дзякун, — вода быстрее бы потеплела, и рыба стала под
берег, а сейчас она гуляет.
— Я и гулящую поймаю, — сказал Павло.
У реки он переоделся в лохмотья и сразу стал
никаким не заводским мастером и не солидным гостем,
а обыкновенным ковбышевским дядьком. Так мгновенно
опростился, что даже хохотнул, оглядев себя. А Ники-
фору аж обидно стало от этого сыновнего вида: словно
обратился Павло из пана в холопа...
«Хоть бы никто не увидел», — подумал он и
посоветовал сыну:
— Ты вон там, между Хвойливскими камышами,
93
лови. Там линьки водятся, и с берега не видно, как оно
да что. А я потом приду с одежей.
И поспешил домой помогать жениной сестре
хозяйничать, потому что знал, какая из нее повариха ахов-
ская. Разве не опрокинула как-то на рождество чугун
холодца! Потом оправдывалась жалобно и гундосо: «Да
оно ж, тут печет, а там течет, а тут еще и ухват
слетел». Никифор даже сплюнул сердито, вспомнив
тогдашний случай, и почти рысцой махнул в село.
Павло забрел" в воду, ахнул сразу по грудь и весело
заржал, так она была холодна. «Плохо, что штаны не
застегиваются. Нужно было все-таки свой комбинезон
надеть, — покаялся. — Да ведь новенький совсем еще...»
В первую заставку попалась в сак щука, зеленая и
быстрая. Павло несколько раз хватал ее, но все
неудачно, щука выскальзывала из рук, пока не плюхнулась
в воду.
— Вот уже и нет одной, — сердито пробормотал
Павло. — Так наловишь, разиня!
А тут вдобавок обожгло в паху, словно старой
крапивой так, что ахнул и процедил сквозь зубы: «У-у,
дубина. Пожалел комбинезон, пропади он пропадом!»
Поставил еще раз и долго толок ногами, поднимая ил
со дна и приговаривая: «Давай-давай!» Потом рывком
вытащил снасть — пусто, только ряска, тина, камышовые
дудки да улитки. Солнце светило прямо в сеть, и все это
зеленое добро из водяного царства ослепило глаза
колкими, хрустальными лучиками. Павло стал медленно
перегребать пятерней тину и вдруг: ляп-ляп — карась,
широкий, в ладонь, и красный, словно из меди. Не
рассматривая, отправил в брезентовую торбу, что намокла и
тарахтела.
Потом он уже не чувствовал, кусало его или н,ет,
а тихо крался между кувшинками, раздвигая их грудью,
неслышно погружал сеть, орудовал ногами и весело, по-
мальчишечьи, выкрикивал: «Валяй в сеть,
щучка-паршивка! Валяй, говорю!»
Когда поймал вторую щуку, подумал: «С той было
бы уже две».
Иногда останавливался передохнуть и слушал, как
позади него шипят, укладываясь на свое место, листья
кувшинки, как солнышко греет сухие плечи, а вода под
берегом уже не студит грудь, облепленную рубахой, а
согревает, нежит мягко, что так бы вот и заснул в ее
теплых объятиях. В тихих закоулках у самого берега вода
94
была такая прозрачная, что просматривалось дно,
нежно-зеленая водяная травка, мелкая рыбешка, стоящая
косячками против тихого, чуть приметного течения.
Неподалеку, на чистоводье, оставляя за собой два
тонких водяных уса, плыл уж. В груди у Павла
похолодело, но он вдруг вспомнил, что ужи не кусаются, что
еще в детстве носил их, холодные, гибкие веретена, за
пазухой, и успокоился. От первого этого воспоминания
о детстве проснулись и другие... Как голышом ловил
старой корзиной без ручек вьюнов и окуней, как едва не
каждый день летом и зимой продирался по лесу сквозь
заросли с топориком за поясом, и каждый пень был для
него не просто пень, а счастливая находка; как пас
коровье стадо вот тут, на приречных лугах, и пек в кизяч-
ном жаре степную картошку, такую песчанистую, что и
хлеба к ней не нужно было; как ходил лунными
вечерами со своими однокашниками сосновым бором посреди
села — «парубкувал», — а так как девчонки-подростки
охотнее льнули к старшим хлопцам, они, младшая
братия, сделали себе бубен, раздобыли где-то старенькую
балалайку и сманивали их этим нехитрым оркестром
к себе, хотя еще и понятия о том, как целоваться, не
имели, а только хорохорились: тарахтели в бубен,
тренькали на балалайке, горланили парубоцкие песни и
затягивались по очереди фабричной папиросой.
Потом его провожали в ФЗУ, и девчушки пели ему
под бубен с балалайкой прощальную:
Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...
И Настя Кушнировская пела, выговаривая не
«друзья», а «друздя». А когда прощались за руку, чего
никогда прежде не делали, и расходились, Настя сунула ему
в ладонь надушенный дешевыми духами платочек с
двумя буквами, вышитыми зеленой ниткой: Н + П. Выходит,
любила... А он, вместо того чтобы обнять, приласкать
девушку, ставил ей подножку, когда шли бором, так, будто
нечаянно, или толкал плечом на молодую сосенку и при-
дурковато~~хохетдл..^ Да^^Видел ее однажды, когда
приезжал три года назад к отцугЗа офицера вышла.
Красивая стала, полненькая, щеки блестят... Ну да и он не
прогадал. Рита жена хорошая, хотя и погуливала в
прошлом, слышал от хлопцев по работе. Зато сейчас ни-ни.
Оно и лучше, если смолоду покрутит, замужем смирнее
будет. Дурь-то выветрится!..
95
— Эге, что же это я стою, — упрекнул самого себя. —
Там первую щуку прозевал, теперь размечтался. За это
время уже, пожалуй, с десяток поймал бы.
И принялся ловить: то молча, то с радостными
восклицаниями, если попадалось что-нибудь подходящее.
В полдень пришел Никифор с костюмом, туфлями и
шляпой. Только тогда Павло вышел на берег и, ощущая
томительную дрожь в ногах, помылся и переоделся.
— Во набрал! — удивился Никифор, поднимая торбу
с рыбой. А сам подумал: «За что ни возьмется, чертов
хлопец, все у него получается!»
Назад шли не спеша, потому что Павло здорово
натрудил ноги, едва переставлял их и думал с
сожалением: «Если б та, первая, не ушла, как раз нормально
было бы. Пятнадцать штук. А так только четырнадцать».
И та, первая — пятнадцатая, щука казалась ему сейчас
самой большой.
— Если уж звать кого-нибудь из чужих, так только
нужных людей, полезных, — сказал Павло. —
Председателя колхоза или еще кого, кто вам пригодится.
— А что председатель, — осторожно возразил Дзя-
кун. — Пока на работу ходили, и председатель —
председатель. А сейчас ему до нас дела нет, а нам до него.
Пшеницу у механизаторов покупаем, пенсия по закону
идет. Разве что лесника, Митрия Лободу, позвать. Это
такой человек, что без него не обойдешься: дров нужно —
к Митрию, сена корове на зиму — к Митрию, коней
огород вспахать или торфу привезти — опять к Митрию.
Так и порешили: звать лесника да еще директора
школы с директоршей. Последних Павло пожелал. Как-
никак люди они культурные, уважаемые в селе, к тому
же, если бы не директор, быть бы Павлу и до сих пор
простым слесарем. Разве не директор тащил его до
седьмого класса, можно сказать за уши: просил, умолял,
заставлял — и все-таки вывел в люди? Он. Ведь первое,
о чем спросили у Павла, когда выдвигали в мастера, —
какое образование. Семь класдов-. Не пятьг и не шесть,
а семь! Может, это и выручило, потому что кандидатур
на бригадирство было три.
И еще договорились: родичи сойдутся и сами, а
Митрия Лободу и директора с директоршей следует привезти
машиной. Это раз. Второе: родичи, как люди свои, будут
пить и самогонку, чужим нужно взять магазинной, по*
96
тому что «неудобно». Митрий, правда, такой, что и
горячую смолу на дурницу будет пить, а директора и
директоршу следует угостить по-культуршму...
К вечеру стали сходиться гости, близкие и дальние
родственники Дзякунов: братья, сестры, племянники и
племянницы, даже один внук, сержант сверхсрочной
службы. Женщины, перецеловавшись, скоренько
развязывали узелки и совали Борьке гостинцы, со всех сторон
осматривали Риту, новую свою родственницу, и
удовлетворенные, принялись помогать потрошить рыбу,
накрывать столы. Мужчины же уселись под грушей, возле
«Москвича», задымили ради воскресенья и предстоящей
гулянки дорогими папиросами и завели свой разговор:
расспрашивали Павла про тот край, где он живет, про то,
есть ли и до сих пор в Ростове знаменитые ростовские
урки, про работу, квартиру и опять-таки про заработки.
И за всем этим у каждого таился главный вопрос: где
можно взять такие деньги, чтобы купить машину?
Однако об этом молчали, считая, что это «не нашего ума
дело». Только сержаит-сверхсрочник ни о чем Павла не
расспрашивал, а сам, улучив минутку, когда все
умолкли, порывался рассказать и начинал издалека: «А вот
в нашей части, где я в данный момент служу...» Сержант
только что приехал в отпуск и теперь с нетерпением
ждал, когда он кончится: ведь в части его уже, наверное,
оформили на новое, непривычное и красивое звание —
прапорщик! Однако сержанта слушали не так
внимательно, как Павла, — каждый служил в свое время — и
часто прерывали.
Когда солнце коснулось камышей над рекою, Павло
расчехлил машину и поехал за почетными гостями,
размышляя дорогой, как быть: забрать директора с
директоршей и Лободу вместе или привезти отдельно. И что
купить: коньяк и шампанское или водку и вино. Так,
сомневаясь, и в магазин вошел.
В магазине было многолюдно, как и в любое
воскресенье; мужики брали по «маленькой» и шли к реке
«потолковать»; бабы раскошеливались на рыбпые консервы
и миргородскую воду; детвора толпилась за конфетами.
Павло поздоровался со всеми своим «засеете» и,
чувствуя, что все смотрят н,а него, неожиданно для самого
себя сказал продавщице:
— Две — коньяка, две — шампанского.
И выложил на прилавок четыре десятки, хотя нужно
было три.
7 Г. Тютюнник 97
Когда выходил с бутылками, услышал за спиной
шепоток, от которого приятно заныло в груди:
— Кто это?
— Да Павло Дзякунов, не узнал, что ли?
— Ишь ты, каким козырем стал.
— Денежный, поди, черт рыжий!..
Директор школы Иван Лукич, а по-ковбышевски
просто Лукович, встретил Павла во дворе с помойным
ведерком в руках — кормил поросят, растрогался вмиг,
как всегда, до слез и стал извиняться, что не может в
таком виде обнять дорогого гостя. Лукович был человеком
мягкого, даже нежного характера, больше всего любил
деятельность и имел в селе множество обязанностей:
директорствовал, читал лекции на фермах и полевом
стане, собирал местный фольклор, заведовал народным
музеем, пел в клубном хоре, играл главные роди в пьесах,
которые сам же и ставил, редактировал «Комсомольский
прожектор», был членом сельисполкома и председателем
товарищеского суда, а если ковбышевским футболистам
нужно было защищать честь колхоза, бегал в длинных
трусах по полю, сияя седым чубом, и пронзительно
свистел в судейский свисток...
Выслушав приглашение Павла ехать в гости на
машине, Лукович умоляюще замахал руками:
— Что ты, что ты, Павлик, мы люди негордые,
придем и пешком. Сколько ж тут ехать!
И закричал жене, копавшейся в огороде:
— Наташа Филипповна! Бросай тяпку да
переодевайся, Павлуша вот зовет нас в гости.
Он проводил Павла к машине и все говорил:
— Повырастали мои орлики, разлетелись по миру. Вот
и ты мужчина уже, полноценный гражданин. Да так оно
и должно быть. — И прибавил по-латыни любимую
свою, заученную еще в институте фразу: — Tempora
rnutantur, et nos mutamur in illis *.
Митрий Лобода, уже заметно хмельной, согласился
ехать не сразу.
— Мне сегодня звонили из области, представитель
едет. Работу будет проверять, — сказал и посмотрел
вдоль улицы так, будто «представитель» вот-вот должен
был показаться из-за крайней хаты. В селе знали, что
Митрия хлебом не корми, а дай повеличаться службой.
Если к нему, например, обращался за помощью кто-ни*
* Меняются времена, и мы меняемся вместе с ними.
будь из рядовых селян, Митрий говорил: «Некогда
сегодня. Жду представителя из района»; если же кто
поважнее — председатель кооперации, бригадир или
продавец из магазина, брал выше — «из области».
Так и стояли перед воротами: Митрий не торопился
идти во двор, Павло — садиться за руль, зная, что
«полезные люди» любят показать характер. И чем ниже
должностью, тем больше.
— Ну что ж... — начал Павло после долгого
молчания и шагнул к машине. — Если такое дело, то...
— А может, его сегодня и не будет, черт-ть его
знает! — быстро сказал Митрий.
Через минуту он уже хлопнул дверцей, опустил
стекло и откинулся на спинку сиденья.
— Гони! — кинул небрежно, будто Павло был его
собственным шофером.
Павло не обиделся. Привык терпеть подобных людей,
потому лишь улыбнулся и погнал машину.
— Много бензина жрет? — спросил Митрий так,
будто он тоже имел машину и она «жрала» много бензина.
— Смотря какая дорога, — ответил Павло.
Дальше не нашлось о чем говорить, даром что
когда-то вместе учились в школе, писали чернилами из
бузины, играли в снежки, ухаживали за девчатами,
приманивая их балалайкой, обклеенной газетами, чтобы не
рассыпалась, и самодельным бубном.
Когда это было!
Гулянки-крестия, однако, не вышло. Началось с того,
что Домаха, Дзякункина сестра, которая командовала
у печи, забыла про рыбу, и та пригорела одним боком.
Промахнулся и Дзякун, подпоивши лесника в кладовке,
пока договаривались с ним об ольхе на шалевку. А так
как разговор предстоял откровенный, то и сам выпил.
Митрий, опьянев, стал угрюм и задирист, ни с того ни
с сего обиделся, что перед ним не поставили, как перед
директором, коньяка, и с вызовом, сухо блестя глазами,
пил домашнюю рюмку за рюмкой, причем только с
сержантом.
— Служба! — кричал через стол. — Давай
вдвоем! За армию. Люблю армию! Там нет сильно
грамотных и сильно культурных. Там все равны! Пьем за
армию.
Директор, чтобы как-то образумить своего бывшего
7* 99
ученика, пересел к нему, гладил по плечу, шептал на ухо,
наверно, что-то ласковое и примирительное, — лицо его
так и светилось отцовской лаской, но это, кажется, еще
сильнее разъярило Лободу, он вырвался из объятий и,
в упор глядя на Павла, спросил:
— Ты, хамаршельда! Слышишь? Признавайся: на
чем имеешь навар, что таким паном прикатил, а?
Заработал? БреХня! Молчишь! Тот-то и оно!.. Солдат,
начинай:
Дальн-невосточна-я,
Опор-pa прочная-я...
— Ты закусывай, Митрий, — холодно сказал Павло.
— Что — Митрий? У Митрия, думаешь, денег
меньше, чем у тебя? Дудки! У Митрия, если хочешь знать,
на каждом дубу хромовые сапоги висят! И на каждой
ольхе!!!
— Не нужно, не нужно, Митенька, — ворковал
директор. — Висят, верим. Вот и хорошо. А теперь споем.
Помогай, Наташа Филипповна.
И начал чистейшим тенором:
Ой, гаю мш, гаю,
Зелений мш гаю,
Чом на To6i, гаю,
Листя — листячка немае?..
Митрий и в самом деле притих, словно ребенок,
склонил голову на грудь и тихо заплакал.
— ...А вот в нашей части, где я в данный момент слу-
ЖУ» — рассказывал Рите сержант, перекрикивая
песню, — у каждого младшего командира, как и у офицеров,
три формы: парадная, выходная и рабочая. В данный
момент на мне парадная...
— А почему бы мне не выпить, Лукович, скажите? —
с пьяной деликатностью допрашивал директора Дзякун,
когда песня кончилась. — Почему? Ежели ко мне сын
приехал? Да еще какой! Вы ведь не дадите соврать:
если б не такое время, как тогда было, разве не выучился
бы мой Павел на инженера или еще на кого? Выучился
бы. У него и сейчас двадцать семь душ. И все
слушаются. Потому что умеет...
— Павлуша — золото, — соглашался директор,
лакомясь неподгоревшим рыбьим боком, — уважительный,
выдержанный... Золото!
Услышав этот разговор, Митрий Лобода выбрался из-
100
за стола, нетвердой походкой подошел к Павлу и
крепко, как арканом, обнял его за шею.
-— А помнишь, друг Павло, как мы с тобой... У-у-у!
Не вспоминай! Думаешь, я забыл? Нет! Это твоя
молодица? — ткнул пальцем в Риту. — Эй, молодица,
приезжая! Хочешь я тебе расскажу, каким твой муж в
детстве, еще до ФЗУ, был?.. Ну? Рыжий, скупой, пучегла-
аътй... И стервец! Только ты, Павлуша, не обижайся, я по-
дружески... — Митрий засмеялся хрипло. — Ей-богу,
не вру! А теперь гляди: пан, хамаршельда! Нет, скажи
хоть ты, потому что он не хочет, на чем он навар
имеет, а?
— Домой, Митенька, домой. Спать, — ласково
советовал Лукович. — А завтра со свежими силами за
работу.
— Нет, пусть скажет! — пьяно хохотал Митрий и так
сжал Павлу шею, что тот побагровел, поднялся с
лесником на плечах и потащил его из хаты.
Очутившись за воротами на лавочке, Митрий скрип-
пул зубами, глубоко вздохнул и сказал уже сквозь сон:
— Нас не проведешь... Не-е-ет...
На дворе, низко над полтавским шляхом, светила
полная луна. От хаты и сарайчиков лежали на земле
длинные тени. Под завалинкой, облитые светом из окна,
цвели и по-ночному свежо пахли желтые гвоздики, а под
грушей прохладно блестел «Москвич».
Павло постоял посреди двора, прислушиваясь к не-
мотной тишине в селе, и пошел к машине снимать
аккумулятор, рассуждая, что тут, конечно, можно было бы
этого и не делать, но кто его знает, на грех, как
говорится, и курица свистнет...
В хате запели хором про «Ой ти, Галю», и Павло.
отвинчивая аккумулятор, тоже подпевал:
ПоТхали з нами,
3 нами, козаками,
Краще To6i буде,
Шж у рщной мами...
МЯГКИЙ
Каждое воскресенье дядя Лукьян, который обычно
спит допоздна, обняв «Обломова» на том месте, где Илье
Ильичу и во сне хочется спать, говорит мне разнеженш-
хрипловато спросонья:
101
— Захар, подай мне платье, пойдем, тее-то, как его,
к Мягкому.
Юмористически настроенный — а он редко когда
теряет этот настрой даже после нескольких ночных
операций, — дядя почти не бывает самим собой, а всегда кого-
то играет: Возного, Собакевича, Карася, Обломова, своих
бывших односельчан и единственного нашего земляка,
который живет тут, н^ шахте, Микиту Норовца,
прозванного — опять же им — Мягкий.
Микита приехал к нам года через два после войны.
Е заношенной солдатской одежде: шапке, бушлате и
галифе к кирзовым ботинкам, высокий и худой, он втащил
в комнату перевязанный мешок с торчащей из него
красной грушевой ручкой фугаьша, сел у порога на
корточки и, даже не поздоровавшись, заплакал.
Дядя Лукьян, как раз ужинавший, побледнел,
отложил ложку и тихо спросил:
— Кто ты, добрый человек?
— Не узнал... — поднял на него Микита кроткие, как
у ребенка, глаза. — Я так и думал, что не узнаешь. Кто
теперь кого узнает.
— Неужели ты, Микита? — еще тише спросил дядя.
Микита быстро закивал головой и снова заплакал.
Дядя подбежал к нему, схватил под руки и повел
к столу, приговаривая:
— Боже мой, Микита, друг, какими судьбами,
откуда ты?
Микита уже за столом стянул с головы мокрую от
дождя и снега шапку, вывернул ее и подкладкой вытер
глаза. Потом сказал с виноватой улыбкой:
— Ты меня... мягкий, сначала подкорми с дороги, как
есть чем, а потом уже и расспрашивай.
Мы жили в то время в старом, построенном еще
шахтовладельцем Мордвиновым, пристанционном доме.
Со всех сторон, его поддерживали бетонные подпоры, и
все же, когда мимо проходили поезда, ветхие стены его
дрожали, словно живые, а с потолка падали на
облезший пол меловые лепешки. В ту ночь я часто просыпался
не от поездов, а от тяжелых воловьих вздохов Микиты
и звяканья конфорок на кухне. Должно быть, дядя
Лукьян варил еще один ужин.
— Мне как бы так, чтоб к земле поближе, —
громко шептал Микита. — Не могу я, Лукьян, без
земли, без грядочек возле хаты. В совхоз куда-нибудь,
что ли...
102
— Совхозов тут поблизости нет, — гудел дядя Лукь-
ян. — Может, на шахту к коням пойдешь?
— Да мне, чтоб хоть возле живого, теплого...
В комнате было светло: в нее текли станционные
огни — красные, белые, синие, зеленые — и разрисовывали
стены, словно цветами; пахло котельным паром и
паровозным дымом; то ближе, то дальше, а то и под самыми
окнами дудел в свою дуду стрелочник и лязгали буфера.
— Ну и жизнь у вас тут... мягкий, — шептал Мики-
та. — Гудит, сверкает, земля дрржит... Как в пекле!
— Ничего, поживешь — привыкнешь, — отзывался
дядя, на что Мягкий тяжело вздыхал. Через несколько
дней Микита уже работал конюхом в больнице. А
вскоре вынес на наш поселковый базарчик невиданные тут
салотовки *, продолговатые, как лодочки, селянские
ложки и половники, с ручками в виде рыбок, деревянные
лошадки на выпиленных из кругляка колесиках,
покрашенные в разные цвета повозки для малышей — и
стоял рядом с прилавком на морозном ветру, грел
дыханием покореженные руки и моргал кроткими глазами на
удивленных покупателей и торговцев — что, мол, за
чудак объявился?
— Сколько просишь? — спрашивали у него, тыча
пальцем то в этот, то в другой его товар,
припорошенный снегом.
— Сколько не жалко, — улыбался Мягкий
замерзшими губами.
Покупатели пожимали плечами, отходили прочь, и он
снова стоял сиротливо.
Однако к Миките скоро привыкли, оценили его
нехитрое рукоделие или, может, безобидный характер и за
бесценок — сколько кому «не жалко» — раскупали товар.
Так и прижился Микита на шахте. Когда же в
больнице не стало коней и вместо них прислали старенькую,
верно, еще фронтовую полуторку с красным крестом на
кабине, его взяли под землю к слепым шахтным вагоновозам.
Со временем и их спровадили на поверхность. Тогда
Микита стал понемногу выпивать, женился на бедовой,
острой на язык казачке Марусе, которая торговала на
базаре ряженкой из козьего молока в поллитровых банках
и тоже была охоча до чарки, перешел в навалоотбойщики
(видно, по Марусиному наказу) и теперь частенько
сворачивал на станцию попить ровенского пива с четвертин-
кой, или, как у нас говорят, «с прицепом».
* Салотовки — деревянные ступки для толчения сала.
103
Оттуда он непременно заходил к нам, брал стул, нес
его к порогу и уже там садился. Он мог сидеть молча час
и два, водя по комнате блестящими от «прицепа»
добрыми глазами, и медленно улыбаться, потом сказать:
— Лукьян... мягкий. Если б ты только знал, как я
тебя люблю. Так люблю, что и не передать.
Он никогда не произносил этих слов и не восклицал,
а просто говорил, только нежности в голосе было
больше, чем всегда.
— Как там оно в шахте? Привык хоть немного? —
спрашивал его дядя Лукьян.
— Черно... мягкий, в шахте, — переставал улыбаться
Микита. — Как усядемся с хлопцами передохнуть, так я
зажмурюсь, чтоб не так черно было, а перед глазами:
хаты, речка наша, грядки, сенокосец... Его как раз на пять
ручек было коротеньких, еще и гривка с пол-аршина
оставалась, — вновь начинал улыбаться Микита. — Выйдешь
утром — роса кругом аж глаза режет. При солнце. А если
солнце еще не взошло — седая...
И надолго умолкал. А прощаясь, мял в руках шапку и
говорил:
— Так я пошел уже, мягкий, к своей пилочке...
Чтобы добраться до Микиты напрямик, нам с дядей
нужно было перейти колеи, блестящие от светофоров —
красно, бело, сине, зелено, обогнуть цепочку вагонных
колес в деповском тупике, а дальше под кучами штыба
возле сортировки Микитина хатка. Он построил ее своими
силами из старых шпал и вагонных досок. Ими же и
огородился, поэтому весь забор был в номерах и печатных
надписях: «Крюковский в. з.», «Средний ремонт -— ст. Ште-
ровка» и т. п.
Первое, что мы делаем, выйдя из дома, — заходим в
железнодорожный магазин и покупаем две четвертинки,
потому что Мягкий никогда из поллитра не пьет и
называет его «смертью», а четвертинку — «полусмерть».
Между кучами штыба, что слежался, перепрел и горит внутри,
неподвижно стоит густой вонючий дым, и мы не дыша
перебегаем сквозь него от кучи к куче...
— Ты думаешь, что он сейчас делает? — говорит
дядя, подходя к Микитиной хате. — Лежит пьяный. Лежит
и смотрит в потолок. А руки сложены на груди, как у
покойника. Он, когда мы еще пастушками были, ляжет,
бывало, на спину, упрется глазами в небо и водит по нему
пальцем. «Что ты, Микита, делаешь?» — спрашиваю,
бывало. А он: «Тучи рисую...» — и умолкнет на целый день.
104
Дядя на цыпочках подкрадывается к освещенному
окну, заглядывает в него краем глаза и манит меня пальцем
к себе:
— Смотри!
Мягкий и вправду лежит навзничь на деревянной
самодельной кровати и смотрит в потолок, пальцы сцеплены
на груди и не шевелятся, так что можно было бы
подумать, что он неживой, если б на губах его не блуждала
чуть заметная улыбка.
Дядя легонько стучит в стекло и прижимается к нему
ухом. Не меняя позы, даже не скосив глаз на окно, только
еще больше заулыбавшись, Микита глухо спрашивает:
— Это ты, Лукьян? Заходр1... мягкий.
Мы входим в душно натопленную хату, пропахшую
штыбной пылью от сортировки и козьим молоком.
Приложив руку к сердцу, дядя Лукьян от порога кланяется
стенам и уже потом обращается к хозяину:
— А не видится, не кажется вам, кум-брат, что вы
залежались и не пора хотя бы пошевелиться?!
Дядько Микита улыбается уже во все лицо, большие
пальцы его рук оживают и по очереди касаются
пуговицы на застегнутой до самого подбородка сорочке, а глаза
уставлены в потолок.
— Гляжу вот уже, должно быть, дня три на того вон
паука в углу, как он сети плетет. А ведь мудрый... мягкий,
хорошо свою науку знает.
— Читая, тее-то, как его, благость в глазах твоих, —
ведет свое дядя Лукьян, — открой мне хотя в срок, пар-
тикулярно, резолюцию: чокнешься ли ты сегодня чаркой
с земляками или нет?
— А ты «полсмерти» принес? — спрашивает Микита,
не отводя глаз от угла с пауком, хотя все пальцы на
груди зашевелились.
— Ну да, ну да! Хи-хи-хи!.. — слышен с кухни
въедливый Марусин голос.
Не переставая улыбаться, Микита медленно спускает
на пол одну, потом другую ногу и только тогда
разъединяет пальцы — сначала указательные, потом средние,
потом безымянные — и поднимается с кровати, не сгибаясь
в спине, а только в пояснице.
— Подай нам, Маруся... — Он замолкает,
раздумывая, назвать ее мягкой или нет. — Подай нам что-нибудь
на стол.
— Ну да, ну да! — уже яростно восклицает Маруся.
Тогда Микита вытаскивает из-под кровати деревян-
105
ный, окрашенный в черное чемодан на большом амбарном
замке, достает оттуда кусок сала, луковицу, краюху
черствого хлеба и кладет на стол.
— Это как на нее найдет, — поясняет негромко, —-
так я себе корма припасаю.
На Марусю находит не всегда. Иногда она встречает
нас как долгожданных гостей, быстренько готовит
закуску, щебечет безугомонно про то-се, а выпив, начинает
пританцовывать посреди комнаты и напевать:
Не пей вина,
Оно бешеное,
То назад, то вперед
Перевешивает!
Или еще низенько кланяется нам с дядей и говорит
медовым голоском:
— Спасибо вам, полтавцы родные, за муженька тако-
то. Уж до чего добрый, до чего добрый, Кьян Силич (то
есть Лукьян Васильич)! Иной раз поругаться с ним до
смерти хочется, а он молчит, каналья, да ухмыляецца.
Ей-право! Ах ты ж хохольчик мой ненаглядный, неза-
менный!
— А уж как бы не так, — улыбается в ответ Микита
и смотрит в стол. — Скажи лучше, что выпить хочется, а
не за что, — козы не доятся.
Марусино лицо внезапно наливается презрением, она
быстро выпивает еще одну чарку, перед кем бы та ни
стояла, идет на кухню и затихает там или время от времени
выкрикивает:
— Ну да, ну да!
После первой же чарки глаза Микиты застилаются
слезой и излучают столько нежности и грусти, что сердце
щемит, как встретишься с ними.
— А я вот лежал... мягкий, да и вспоминал дом
родной, — начинает он. — Выйдешь, бывало, во двор, как
солнце на ниве встанет, — улочка тенями от хат и
садочков узорами покрыта, крапива, бузина пахнут так, что
не продохнешь. Только смеркнет — уже и роса упадет.
И каждая капля больше бусинки... А у ворот, у вербы —
ты... мягкий, помнишь нашу вербу? Слышно: чирк-чирк-
чирк. Воловье око порхает в ветках — птичка такая, с
мизинчик. И где, скажи, голос берется в таком тельце
маленьком? Или пойдешь на огород — картошка поднялась
на росу, цветет. Нет для меня лучшего духа, как от хлеба
и картофельного цвета.
106
Дядя Лукьян слушает, опершись локтем на стол и
обхватив пятерней высокий сморщенный лоб (прошлой
ночью он сделал две тяжелые операции), чадит цигаркой,
дым аж в его чубе теряется, и молчит. Он тоже часто
вспоминает наше село, от которого в моей памяти остались
только рвы с бурными весенними водами, однако делает
это весело, не так, как Микита, — словно вот-вот
заплачет.
— Возьму когда-нибудь вот этот чемодан, —
показывает глазами под кровать, — и махну назад.
— Ну да, ну да, — уже без вызова и злости, а
обиженно-мягко отзывается Маруся. — Глупый потому што...
Когда обе «полусмерти» уже давно выпиты и в хате
надолго залегает молчание, только козы возятся в
загородке за стеной, мы с дядей поднимаемся, чтобы идти
домой. Мягкий надевает новую крепкую брезентовую
куртку-робу, натягивает на лоб тяжелый суконный картуз и
идет нас провожать. Недалеко от поселка, на терриконе,
мерцает цепочка огней, что наискось тянутся вверх, меж
звездами, гудит шахтный вентилятор, без которого у нас
и тишина не тишина, а над балками всходит туманец, как
над озерками...
Дядько Микита идет молча, лишь изредка вздыхает и
поглядывает на небо — должно быть, и оно ему тут не
такое...
— Может, ты, брат, и вправду назад вернулся бы, —
кладет ему руку на плечо дядя Лукьян. — Теперь там
жить можно. Выкладут люди глиняные стены, натянешь
верх — вот тебе и хата.
— Э-э, нет... мягкий, — вздыхает и, определенно,
улыбается Микита. — Оторванного не надставишь. А хоть и
надставишь, шов будет тереть. Разве что умирать туда
поеду. Потому что* тут... Был как-то на красную горку на
кладбище — никогошеньки. У нас там кутью выносят,
крашенки кладут на могилы, чтоб детишки забрали,
посидят, поговорят в траве меж крестами и памятничками,
еще и запоют, как чарку добрую выпьют... А тут —
ничегошеньки. Только земля от поездов дрожит, мягкий, так,
что аж гребки раздвигаются. Как на пенсию выйду, так и
махну...
На кучах штыба мы прощаемся с Мягким до
следующего воскресенья или пока он не заглянет на станцию
выпить пива, причем они с дядей обнимаются, целуются и
желают друг другу столько добра и здоровья, что его не на
неделю, а на год хватило бы. Потом мы сбегаем вниз, в
107
дым, а Микита еще долго, пока его видно, стоит на куче
штыба, освещенный мерцающими пристанционными
огнями, и машет нам картузом.
ЗАТМЕНИЕ
Во всех окнах села погас свет. А у Волохов, кроме
лампочки под выбеленым сволоком, горел еще и каганец.
В эту ночь должна была опороситься свинья. У печи уже
лежал снопик соломы, сухой и теплой, — на подстилку
поросятам.
Заложив руки за спину и шумно потирая ладони,
Антон Волох вышагивал по хате — от стола к двери и
обратно. И хотя был Антон смолоду сутуленький, плечи держал
ровно и не шаркал ногами по полу, как всегда, а ставил
их четко, как солдат.
— Теперь, — говорил, обращаясь к жене, лежавшей
на печи, — и мы, Палажка, заживем. И на кофту тебе
будет, и на платок большой, роменский — хе-хе, —
соберемся...
Палажке делалось неловко и даже немного томно от
этих слов. Она стыдливо ерзала на лежанке, стараясь
отозваться в лад, чтобы не испортить хорошего
хозяйственного разговора.
— А как же с теми деньгами, что на трудодень в
марте дадут, как? — спрашивала несмело.
— Поглядим, — отвечал Антон неторопливо, будто и
не думал раньше, как, действительно, с теми деньгами
обернуться. — Поглядим. Может, солдату нашему
прикупим гражданские штаны на демобилизацию, а мо,
кожушок мне. Брат Мефодий писал же, что в Астрахани они
нипочем. Одним словом, продадим приплод, а дальше оно
само покажет...
Подошел к стоявшему на столе каганчику, снял
тряпкой горячее закопченное стекло и начал дышать в него.
— А ну, старая, — сказал ласковенько, —
наведайся к свинье, а я стекло почищу.
Палажка скоренько, по-девичьи, спрыгнула с печи,
казалось бы, уже давно забытым, игривым женским
движением накинула платок, на этот раз не пряча под ним
ясных карих глаз. Заметив это движение, Антон озорно
осклабился и ущипнул жену за талию.
— А ты у меня еще и молодица — хе-хе — хоть
куда...
108
Палажка сладко вскрикнула и, пряча улыбку в
платок, гибко откачнулась от мужа.
— Может, ты, отец, каганчик погасил бы, — щебетну-
ла уже от порога. — А то и лампочка горит, и
каганец...
При других обстоятельствах Антон, конечно,
накричал бы на жену или сказал: «А ну не гавкать!» — но
сегодня, как бывало в сочельник, брань не шла на язык.
— Ничего, — отозвался смиренно, — пусть горит.
Авось, не обеднеем...
Палажка вышла, а Антон надел стекло и вновь
засновал по хате, размышляя над сложными хозяйственными
делами.
Еще задолго до опороса он ходил в городок на базар.
Приценивался к поросятам, разговаривал с мужиками,
продававшими их:
— Оно сейчас, пока метелит, — говорил то одному, то
другому, — цены настоящей не возьмешь. Холодно. А
туда, ближе к весне, рублей по двадцать будут давать за
милую душу. — И как бы между прочим добавлял: —
Моя первенькая весной даст приплод...
Кое-кто слушал его внимательно и соглашался, другие
жаловались, что нет покупателя, а были и такие, что
говорили Антону в сердцах:
— Ступай себе, человече...
Антон на них не обижался, потому что сочувствовал.
И чем сильнее сочувствовал, тем больше радовался за
себя: у него уже таких хлопот не будет...
Вошла Палажка и внесла в хату терпкие запахи
весенней ночи.
— Уже стелется свинка, — сказала весело. — Такая
хлопотунья!
Антон остановился посреди хаты, тернул ладонью о
ладонь и подтянул штаны.
— Стелется, говоришь? Угу. А ты ж не забыла, как
это оно, как стелется?
— Да чего ж бы это я забыла, — обиделась
Палажка. — Ведь та, что у нас перед войной была, тоже так
делала: солому носом разбрасывает, разбрасывает... Это в
обед. А в полдень уже и принесла. Разве ты забыл?
— Хе, забыл, — возразил Антон. — Кабы забыл, так
и теперь не знал бы, что делать. А так все как у людей —
уж и подстилка готова...
Присел к столу и принялся ощупывать каганец:
поправил стекло, хотя оно и без того было хорошо надето,
109
выкрутил для чего-то фитиль, а потом снова его вкрутил,
напевая при этом что-то веселенькое.
— Вот вишь, как она, жизнь, оборачивается, — сказал
немного погодя, поднимая к потолку пророческий
взгляд. — Недаром сказано: «То высоко поднимет
человека, то в бездну кинет...» Так оно и есть. Возьми
опять-таки того ж Федая. В сорок седьмом, когда в правление
пролез, таким уж разумником стал, что и куда тебе...
— Ага, так уж нос задрал, — вставила Палажка.
— У людей беда, — продолжал Антон, — а он одно:
поросят на базар возит да деньги дерет... Встретил меня
как-то пьяный да: «На тебе, Антон, пятерку, хоть на дур-
ницу выпьешь, а то ведь у тебя ни черта хозяйской
смекалки».
— Вот стервец! — возмущенно воскликнула
Палажка. — А сам же, прости господи, мотню набок носил...
— Га-га-га! — засмеялся Антон. — Точно, набок.
— Кривомотный! — подсыпала Палажка, тоже
закипая злорадным смехом.
— Бга-га-га... Кривомотный! — закашлялся Антон.
— Хи-хи-хи-и... — зашлась Палажка, наливаясь от
напряжения девичьим румянцем. — Растяпа
несчастный...
Смеялись долго, умолкая лишь на какую-нибудь
минуту, чтобы глотнуть воздух или влепить еще какое-нибудь
хлесткое слово про Федая.
Потом устали и, икая, высморкались оба.
— Так как же ты, отец, планируешь с поросятами? —
немного погодя спросила Палажка.
Антон шевельнул бровями и соединил их на
переносице.
— Да как... — положил руку на колено и, начиная с
мизинца, стал по очереди загибать рыжие короткие
пальцы. — Значит, одного — Ио-о-осипу, Федорке
сестре — пару. К-о-нонову — кабанчика... А остальных на
продажу.
На дворе начинало сереть. В окна заглянула высокая
густая голубизна. Свет от каганца сделался желтым и
коротким.
— Должно быть, пора идти, — сказал Антон. —
Давай мне коробку иди что ты там устроила?
Палажка сняла с печи коробку, застланную тряпьем.
— Влезут ли? — спросила.
— Да должны бы. А нет, так двумя заходами
перенесем. — Антон, как, бывало, парнем, накинул на плечи
НО
тужурку, спрятал под полу каганец, чтобы не погас на
ветру, и вышел.
А Палажка принялась растапливать печь. Ей было
немного грустно и жаль этой ночи. Вспомнилась
молодость, и ласковые разговоры с мужем, и еще что-то
хорошее, чего она никак не могла вспомнить...
Уже когда рассвело, скрипнула дверь в сенях. У Па-
лажки похолодело в груди, а сердце забилось, как перед
сватами.
Антон споткнулся о порог и выматерился. В
пригоршне у него возился и повизгивал маленький красный
поросенок.
— Что, не уместились? — дернулась Палажка. —
Я так и знала...
И остолбенела, увидя глаза мужа, — красные от
бессонницы и страшно выпученные.
— Вот и все, — сказал Антон. — Нет больше.
— Как это нет?
— Как, как, — передразнил Антон. — Если б ты не
гавкала!.. А то: «Кононову двух, Федорке — пару»...
Зараза! Вошел, а она уже шестерых разорвала...
Палажка залезла на печь и заплакала.
— А, чтоб тебе пусто было! — крикнул Антон и
ударил ногой по снопу.
Потом укутал поросенка в рядно и полез с ним на
лежанку.
Сонный, стонал, мычал что-то и ворочался с боку на
бок. Поросенок лез ему под руку, хлопотливо хрюкал,
ища материну титьку. Антон спросонья сердито оттолкнул
его. А ночью, перевертываясь на другой бок, налег
плечом и задушил...
Вскоре на дворе тихо заиграли багрянцы и полезли в
окна. Взошло красное мартовское солнце.
НА ПЕРЕКАТЕ
Немой сидел в лодке, не в силах перевести дух. По его
твердой, как жернов, груди, налитой дикой молодой
силой, скатывались капельки воды, поблескивали в густых,
сведенных к переносице бровях и на плечах, что остывали
от недавнего еще напряжения и чуть заметно дрожали.
Немой доставал с рубцеватого песчаного дна на
перекате круглобокие, отшлифованные быстроводьем камни,
на лодке свозил их к берегу и складывал под кручами —
111
эти камни станут фундаментом будущей хаты. Чьей
именно -~ немому было все равно: ему нужны были деньги.
Над рекой стояла тишина, лишь время от времени в
лесу трещал на сухом длинном суку дятел — то ли звал
самку, то ли | тешился, обласканный солнцем; густо
гудели осы, поселившиеся в прошлом году в старых вербовых
дуплах над самой водой. Лодку, привязанную цепью к
тальнику, слегка водило на излучине, прижимало бортом
к берегу и снова тянуло на быстрину; вода на перекате
чуть слышно шепелявила, терлась о высокие черные
валуны и отдавала колодезной свежестью.
Немой наклонился к корме, где лежала его одежда и
снопик осоки, в которой была спрятана бутылка молока,
достал холодную краснобокую кислицу и стал есть,
тяжело двигая внезапно одеревеневшими челюстями.
Из-за кустов на круче донеслись голоса — мужской и
женский, заскрипели на твердом песке колеса, однако
немой этого не слышал, а достав из картуза цигарку,
свернутую еще на берегу, закурил, затягиваясь с такой силой,
что щеки западали глубокими ямками.
Подвода остановилась как раз напротив лодки, и
сверху закричали:
— Ага-га, Павлентий! Где ты?!
Потом зашелестели кусты, с кручи покатились и
забулькали возле лодки комья земли — и только тогда
немой оглянулся, широко заулыбался дядьке, стоявшему
наверху с кнутом за голенищем, и жестами показал, что
он, мол, отдыхает, а камней уже натаскал — вон где они.
Выпрыгнул из лодки и принялся выбрасывать валуны на
кручу, напрягая каждый мускул, каждую жилочку на
загорелом, орошенном брызгами теле и показывая на
пальцах, сколько стоит каждый камень: вот этот,
небольшой, пуда на три (три пальца) — тридцать копеек, а вот
этот, побольше, пуда на четыре (четыре пальца), — сорок
копеек.
Дядько с женой складывали каждый камень в мешок
и, сгорбившись, кряхтя и останавливаясь, сносили к
подводе. А немой, глядя на них, смеялся, прищелкивая
языком, и сочувственно кивал головой.
Когда рассчитывались, дядько долго копался в
карманах, вздыхал, морщил лоб, перещупывая мокрые, смятые,
облепленные табачной трухой рубли, и клал их в
широкую ладонь Павлентия, приговаривая веселой
скороговоркой:
— Двенадцать камешков по тридцать копеек — это
112
два рубля. Да пять по сорок — рупь сорок... Так что как
раз на поллитра! Бери — и по рукам! Где на-Die не
пропадало...
Немой, делая вид, будто недоволен, сердито поводил
плечами и шел к лодке, а когда подвода трогалась с
места, догонял дядька, совал ему рубль сдачи и громко
шлепал того по спине; мол, Павлентий лишнего не берет, —
хотя и знал, что получил лишь половину заработанного...
Ему нужны были только два рубля — на вечер. И он
каждый день терпеливо ждал минуты, когда солнце
коснется горы на той стороне реки, привязывал лодку и
лугами напрямик шел в село, посвистывая на аистов, что
вышагивали в покосах, гоняясь за ящерицами.
Дома он надевал чистую сорочку — она аж
потрескивала на его натруженных мышцах, суконные галифе,
хромовые сапоги и шел в лавку.
Купив четвертинку и сто граммов дорогих конфет,
немой прятался во дворе за груду ящиков и пустых бочек
из-под керосина, из горлышка выпивал водку и, завернув
конфеты в холодный лопух, чтобы не растаяли в кармане,
шел к клубу. Там уже играли на баяне, танцевали на
круглой цементированной площадке, наяривали частушки,
завезенные студентами, приезжавшими недавно полоть
картошку.
По проспекту ветер веет,
Время к ночи клоницца,
Парень девушку целует —-
Хочет познакомицца...
Немой сразу узнавал свою дивчину, полненькую
розовощекую Ганю, крепко брал ее за руку и выводил из
круга. Ганя потихоньку смеялась; щекотно и мягко
пробовала, как водится, высвободить руку, а когда отходили от
толпы и свет, падавший с двух столбов на площадку,
оставался позади, припадала головкой к его плечу и
закрывала покорные ласковые глаза: веди, мол, куда
хочешь, куда вздумается...
Потом они ходили лугами, ели конфеты и обнимались,
завороженные запахами скошенного сена, пока на востоке
не прояснялась большая, как яблоко, предрассветная
звезда...
А на другой день немой снова ворочал камни или
выкапывал из круч над водою черные, тяжелые, словно
отлитые из чугуна дубы, подмытые рекой еще несколько
столетий назад, — местные столяры раскошеливались за
8 Г. Тютюнник ЦЗ
эти дубки иногда на десятку, а то и на две, потому что из
них выходила отличная мебель, подоконники, косяки, а
если дуб попадался длинный, то и сволоки — матицы, —
перевозил на лодке сено с лесного берега на присельский
или тряс кислицы — на узвар зимой, зарабатывал себе на
вечер два рубля, а то и больше — лишь бы в лавку было
с чем сходить...
Однако сегодня Павлентий домой не спешил, хотя
солнце уже давненько зашло и вода на перекате зашумела
тише и таинственней, а под кручами в заворотах, где
темнее, начали вскидываться сомята.
Немой ждал своего давнего врага — бывшего
объездчика, потом председателя кооперации, потом заготовителя
яиц и приемщика металлолома — нынешнего лесника За-
хария Шашло.
В полдень, отдыхая в лодке на сене, которым было
устлано днище, Павлентий видел, как Шашло с ружьем
за плечами переправился на лодке из лесничества через
реку и исчез в зарослях — видно, пошел на колхозную
пасеку, к которой, как хозяин леса, подставил и свои три
улья... Но вдруг Шашло выскочил на кручу, постоял
минуту насторожившись и опрометью кинулся в кусты.
Вскоре неподалеку от него зашевелился в верхушках
ракитник, и на берег вышли двое хлопчиков с вязанками
ободранного тальника — должно быть, на верши * или
корзинки нарезали. Они шли прямо на засаду, о чем-то
разговаривая и смеясь.
Немой поднялся и, уцепившись руками за борта лодки,
напрягся, словно зверь перед прыжком. Из горла
вырвалось что-то похожее на клекот старого вяхиря, но
хлопчики на той стороне не услышали его. И в тот же миг из-за
куста, под которым засел Шашло, выхватилось пламя;
сверкающее под солнцем тиховодье покрылось большими
и маленькими кругами — это всплеснулась от выстрела
рыба. Хлопчики оторопело остановились, бросили
вязанки — по десятку хворостин, прыгнули с перепугу в воду,
и течение понесло их вниз, к перекату. Шашло выскочил
из засады, кричал им что-то и размахивал дробовиком,
потом забрал вязанки и скрылся в кустах.
Немой, редко налегая на весла, погнал лодку за
ребятами, легко, одной рукой, повытаскивал их из воды,
высадил на берег и, пока они что есть духу мчались к селу, за-
* Верша — один из видов ятера, сплетенного из тоненьких
лозинок.
114
думчиво смотрел им вслед, и в горле у него
перекатывались какие-то нежные, никому не понятные звуки...
Теперь немой сидел в лодке и ждал, когда Шашло
вернется, еще и сам не зная, как отомстит ему — и за себя,
и за ребятишек с большими испуганными глазами, —
ждал, забыв даже о Гане и о душистых ночах на лугу с
большой, как яблоко, звездой на краю неба...
* * *
Это случилось давно, когда немому было десять или
одиннадцать лет, когда он, как и все дети, пас стадо и,
как все дети, бегал на стернище за колосками.
Осень в тот год выпала дождливая; вымоченная
дождем и пожженная солнцем стерня почернела, колоски
лежали на земле, словно впечатанные в нее — так их
прибило ливнями, и уже вот-вот должны были прорасти —
пахли солодом. Павлушка собирал их в старенький
мешочек, набивал ногой, чтобы заодно и обмолачивались, —
дома будет меньше работы, — и снова собирал, ползая от
колоска к колоску и увязая в рыхлой сырой земле.
Далеко в степи за скирдами соломы вставала,
поднимаясь все выше и выше и распухая, черная грозовая туча.
Она то и дело заливалась красными молниями, а немного
погодя над стерней прокатывался гром, глухой, далекий и
нестрашный. Павлушка торопился, — мешок был еще не
полон, а туча надвигалась быстро — он почти не
поднимал головы, торопливо выбирал среди пожухлой стерни
тяжелые, отсыревшие от дождя колоски, пока ему больно,
словно огнем, не обожгло спину. Павлушка упал с
перепугу на землю: подумал сначала, что его ударила молния, а
когда поднял горячие от слез глаза вверх — увидел
верхом на коне колхозного объездчика Захария Шашло с
кнутиком в одной руке и несколькими пустыми
мешочками в другой, — съежился и припал к земле, как
перепеленок. Захарий что-то кричал и гарцевал вокруг него, а
когда замахнулся во второй раз, Павлушка вскочил на
ноги и, волоча за собой мешочек, не оглядываясь побежал
к селу.
Дома он не плакал и не жаловался матери, а
обмолотив качалкой колоски, провеял на порывистом
предгрозовом ветру зерно и забился на печь, даже не поужинав.
А ночью, ворочаясь с боку на бок, шипел, скулил от боли
и лихорадочно, спросонья царапал ногтями стену...
С той поры немой, завидя Шашло, не улыбался ему
8* 115
доверчиво и кротко, как делал это при встрече с
односельчанами, а сводил к переносице густые широкие брови и
светил на бывшего объездчика такими дикими,
недобрыми глазами, что тот, не выдержав как-то, схватил хлопца
за плечо и, повернув к себе лицом, сказал:
— Ты гля, какой бешеный и злопамятный? Пойми,
дурачок безъязыкий: сказано мне было гнать — я и
гнал... Всех, пойми, всех! Кхе-х-хе... А ты думал, только
тебя? Всех, брат, всех... Ну вот видишь! Приходи, я тебо
сладких яблок натрясу... И свисток сделаю. Так хоть
свистеть будешь, коли бог речи лишил...
По тому, как он льстиво смеялся и причмокивал
толстыми, словно сытые пиявки, губами, и потому, как
заискивающе заглядывал ему в глаза, немой понял, что Шаш-
ло боится его — тогда уже сильного, дебелого хлопца — и
хочет помириться.
С тех пор немой уже не поглядывал на Шашло
исподлобья недобрыми таинственными глазами. Теперь в них
было больше презрения. Но и улыбаться — единственно,
чем немой выказывал свою симпатию к знакомым и
незнакомым, — тоже не улыбался, а смотрел чаще всего
куда-то мимо Шашло...
* * *
На реку легла ночь — сухая и теплая, как перед
грозой. Смелее стали вскидываться сомы, шлепая хвостами то
тут, то там; зашелестели крыльями какие-то ночные
птицы, а немой сидел в лодке, пристально всматриваясь в
противоположный берег, весь напряженный и зоркий, как
беркут на охоте... Потом тихо причалил к лодке лесника,
которую тот никогда не привязывал, и, столкнув ее с
берега, пустил по воде. Лодка сразу исчезла во тьме; было
слышно, как она звонко билась на перекате о камни;
трещала, а потом захлебнулась водой, и на реке снова стало
тихо. Немой пристал к своему берегу, как раз напротив
того места, откуда должен был появиться Шашло, и
закурил.
Вскоре на том берегу раздвинулись кусты, и на
синеватой при звездах песчаной косе появилась четко
очерченная человеческая фигура. Немой сразу заметил ее и
порывисто, глубоко затянулся цигаркой.
— Х-ет^ояерти! — пробубнил Шашло. — Опять
сперли лодку... Ищи теперь... Эй, кто там сверкает? А ну, друг,
перевези! Это я, Шашло, лесник!..
116
Павлентий почувствовал, что его зовут, однако не
торопился, а попыхивал дымом и недобро улыбался.
— Ты гля, уж не немой ли, случаем? — догадался
Шашло, подкинул ружье и выстрелил.
Только тогда немой оттолкнулся веслом от кручи и,
беря немного против течения, двинулся к
противоположному берегу.
— О, я так и знал, что это ты! — обрадовался Заха-
рий. — Кричу, кричу, а ты, брат, ни гугу...
Он ухватил лодку за носок, втащил на косу, потом
осторожно уставил в сено горшочек — Павлентий
догадался, что это мед, — кинул две вязанки тальника,
связанных теперь в одну, и, раскачивая лодку, уселся сам.
— Паняй, — махнул рукой.
Немой выгреб на течение, положил весло на колени, и
лодка, набирая скорость, боком пошла на перекат.
Всходила луна, и было видно, как над водой
переливается прозрачными прядками молоденький туман, а в
кустах взблескивает мелкая, еще не полная роса...
Сомята уже не вскидывались и не чмокали под берегами —
испугались света.
Шашло сначала сидел спокойно, думая, что Павлентий
хочет его высадить как можно ближе к селу, однако,
когда до переката осталось палкой докинуть и вода под
лодкой зловеще зашипела — тут уже было мелко, стал на
колени и закричал:
— Ты что, сдурел? Поворачивай к берегу!
Поворачивай, говорю, зараза немая!
Павлентий выпрыгнул из лодки, качнулся от натиска
сильного течения, что аж подламывало ему ноги в
коленях, однако не упал, а лишь оперся на весло, чувствуя,
как ступни погружаются в холодный режущий песок. Он
видел, как лодку — его лодку! — ударило кормой о
валун, повернуло, снова ударило и с еще большей скоростью
понесло на целую низку камней, зеленоватых при
неяркой луне.
— А-а-а!.. — истошно завопил Шашло уже где-то
далеко внизу. Потом оттуда донесся треск, буйное, победное
завывание течения, которое будто мгновенно перекрыли
плотиной, и все стихло.
Немой выбрался на берег и сел на круче.
Немного погодя мимо него, тоскливо подвывая и
всхлипывая, пробежал Шашло. В стволах дробовика,
болтавшегося у него за плечами, хлюпала вода.
Вскоре в селе залаяли собаки и долго еще не затиха-
117
ли. Немой достал из картуза кисет, кусок газеты и
принялся свертывать цигарку спокойными, бестрепетными
пальцами.
НЮРА
— Снилось, вр-роде бы тер-рн рву и ем. Уже и
спелый вр-роде, а тер-рпкий... К чему бы это, не слыхала? —
говорил жене Нюра, узкоплечий и сухогрудый мужчина,
лицо которого, казалось, никогда не знало ни радости, ни
гнева, ни печали, а имело одно лишь постоянное
выражение — давней пугливой покорности, словно кто-то топнул
когда-то на Нюру ногой и сказал: «Не смей!» С той поры
он и не смел.
Говорил Нюра медленно, старательно произнося
слова, и по-детски чеканил «р», точно пробовал раскусить во-
лошский орех.
Еще нравилось Нюре слово «вроде», и лепил он его
всюду, где только оно лепилось. Не потому, однако, что
слово это навязло, а чтобы тот, кто слушает, не подумал,
будто бы Нюра именно так и мыслит. Именно так
мыслить Нюра никогда в жизни не отваживался, даже по
мелочам. Пойдет, к примеру, дождь — Нюра будет долго
всматриваться робкими глазами в мокрые стекла,
почерневшие ветви в саду, увешанные каплями, вымытую до
блеска железную крышу соседской хаты, потом скажет:
«Дождик вр-роде пустился...» Станет солнце низко над
землей, и тени от хат лягут поперек улицы — Нюра, если
он во дворе, будет долго внюхиваться в закат, затем
изречет: «Вр-роде бы солнышко садится...» Несут
покойника, духовой играет так, что не в одном, а сразу в трех-че-
тырех селах слышно, и в хатах, и в садах — Нюра
поведает жене, причмокивая тонкими бабьими губами:
«Вр-роде бы помер-р человек...»
Нюра только что проснулся, сидел на высокой
кровати, свесив босые ноги, по очереди шевелил большими
пальцами, свернутыми набок, к мизинцам, и по очереди
рассматривал их.
— Так к чему бы это — тер-рн? — переспросил чуть
громче, нежели в первый раз, и не мигая смотрел
постными глазами на жену, стоявшую к нему спиной. Она
месила тесто, и плечи ее, едва ли не вдвое шире и толще Ню-
риных, мощно вздрагивали, и тесто в макитре
постанывало.
118
— Тер-рн, да еще и тер-рпкий, не к добр-ру —
сказала она, твердо выговаривая слова и также с ореховым
треском на «р».
— Ас кем плохо, как думаешь? — съежился Ню-
ра, словно от холода. — С Манькой, Ольгой или Еленой?
— Конечно, с Манькой, — быстро, уверенно ответила
Нюриха. — В пр-рошлое воскресенье, когда пр-риезжала,
видел, как она ела? Ложка над бор-рщом, а думка кто
знает где.
Нюра словно бы задумался — перестал шевелить
пальцами и смотрел мимо них в пол. Кровать, на которой
он сидел, была деревянная, украшенная по филенчатым
спинкам резьбой, изображавшей кленовые листья, и
двумя темно-красными петухами, которые то ли
вознамерились петь, то ли уже пели. Петухов нарисовали, должно
быть, давно, стойкой, не теперешней краской, но местами
она уже облупилась, поэтому у одного петуха не хватало
ноги, у другого — полхвоста и одной шишки на гребне.
Это, однако, не очень портило рисунок: видно было, что
сотворил его человек с искрой божьей, а не какой-нибудь
маляришка бродячий, и каждый, кто взглянул бы сейчас
на вялое, словно стоячая вода, Нюрино лицо, на
пугливые руки его, глаза, брови, даже уши, — ни за что не
поверил бы, что молодцеватых этих петухов, напряженных
в шеях, спинах и ногах, вывела когда-то рука смирного
хлопца Ивана Кирячка, того самого, который, идя по
селу, обходил каждую букашку на тропке, чтобы не
повредить ей, и каждую ухабинку, чтобы не повредить себя.
Идет, бывало, а глаза так и говорят хатам и собакам,
людям и заборам, гусям и цветам вдоль завалинок:
«Плохонький я. Не троньте меня...»
Не стал Кирячок бедовее после того, как женила его
на себе пришлая с донецких степей всеумеющая и
всезнающая дивчина Нюра, а еще будто сильнее сжался
душой и перенимал от супруги каждый ее кивок и все —
вплоть до этого дребезжащего «р», за которым у Нюры-
жены угадывалась отчаянная решимость одолеть любую
житейскую неурядицу, любую беду, а у Нюры-мужа —
лишь беззаветную преданность своей супруге. Поэтому
если кто-нибудь из селян заведет разговор про Нюрино
семейство, то непременно так: «Видел вчера Нюру»,
«Одолжил у Нюрихи» или: «Вон идут Нюры».
«Одевайся да идем в лавку, наберем мне на сар-ра-
фан», — скажет, бывало, Нюриха мужу. Кирячок
послушно оденется, снимет, как и жена, каждую пылинку
119
на пальто или пиджаке, обдует со всех сторон новую ха-
ковую фуражку, торжественно двумя руками водворит
на голову, и идут. Она впереди — твердой поступью и по-
лошадиному выбрасывая перед собой колени, он
позади — стелет мелкие осторожные шажки, словно не по
земле идет, а по тонкому льду, под которым бездна, еще
и руки ладошками вниз поставит — не идет, а плывет,
как девица-неженка.
В магазине Нюриха быстро и деловито перещупает
сукна и штапели, разложенные рулонами на прилавке,
потом вытрет платком губы (так солдат клацнет
затвором перед тем, как крикнуть: «Стой! Стрелять буду!») и,
уставившись в продавщицу настырными черными
глазами, скажет:
— А что это вы, девчата, так затор-рговались, что уже
у вас и на сар-рафан тетке ничего нет? А ну, пор-рой-
тесь-ка под пр-рилавком...
Тем временем Нюра легонько перетрогает мизинцем
товар, тот самый, что и жена, станет рядом с нею, хотя
немного и позади, и промолвит:
— Что же это вы, девчата, так затор-рговались, что
уже у вас вр-роде и на сар-рафан тетке нет ничего? А ну,
пор-ройтесь-ка под пр-рилавком...
Назад возвращались с товаром. Из-под прилавка.
И Нюра, семеня за Нюрихой, довольный сам собою,
говорит:
— Такой пр-родавец пошел, что не пр-рикр-рикнешь,
так вр-роде и из р-рук не выр-рвешь. — И заглядывает
жене в лицо, причем ему приходится очень наклоняться,
потому что Нюриха приземиста.
— Зайдем к Пр-роням, — говорит она, не
прислушиваясь к речам мужа, потому что дело уже сделано и
материя на «сар-рафан» крепко зажата у нее под
мышкой, — да скажем спасибо за молоко, может, еще р-раз
пр-ринесут.
И сворачивают к Проням.
— Здр-равствуйте, — говорит Нюриха, став посреди
проновского двора, как оккупант, и быстро ощупывая
цепким взглядом все дворовое хозяйство. — Пр-ришли
сказать, что вкусное у вас молоко. Такое вкусное, что аж
сладкое. Чем это вы кор-рову кор-рмите? Даже не вер-
рится, что пр-ростым сеном.
А Нюра из-за плеча:
— Да, да, такое вкусное, что вр-роде аж сладкое.
Думаем, чем это вы кор-рову кор-рмите?..
120
И прощаются.
— Будьте ж здор-ровы, пор-pa нам домой, заходите,
ежели будет чего, — говорит Нюриха.
— Вр-роде пор-pa нам. домой, — берется пальцами за
козырек своей хаковой фуражки и Нюра.
Дорогой Нюриха скажет:
— Теперь вр-рут, пр-ринесут еще как-нибудь...
Нюра молчит, только цедит сквозь тонкие губы
мудрую улыбку человека, который знает, как нужно жить на
свете, а уже в хате, раздеваясь, скажет жене:
— Теперь вр-рут, пр-ринесут еще как-нибудь...
Дома Нюра, с тех пор как женился, никогда и ничего
по хозяйству не делал, потому что сначала жена, а со
временем и все три дочери, Манька, Ольга и Елена,
считали его человеком ученым и к черной работе не
допускали. Так было, когда Нюра еще работал счетоводом в
колхозе, так держалось и теперь, после того, как вышел
на пенсию. Единственное, что он и знал и умел в
жизни — считать на счетах, даже не глядя на косточки, и
носить в руке портфельчик так, чтобы он слегка кивал.
Еще умел Нюра одеваться не как все селяне, а как
счетовод, человек нерядовой: летом — в хаковый костюм с
накладными карманами на груди и брюками навыпуск, под
туфли; зимой — в длинное, чуть ли не до пят драповое
пальто со смушковым воротником и белые, словно из
лебяжьего пуха, — непременно белые — валенки. И ко
всему этому — портфельчик. Хотя и ученический, давний,
однако новый, потому что береженый. Оденется, оберет
на себе каждую пушинку, Нюриха или кто-либо из
дочерей подаст ему в руки портфельчик — и засеменит он в
контору, помигивая белыми из-под пальто валенками.
Если на дворе слякоть и Нюре придется где-то
ухватиться рукой за плетень, чтобы не упасть, он
останавливается и долго обтирает носовым платком испачканную
о мокрый хворост ладошку. Потом он еще осторожнее
будет переставлять ноги и высматривать каждую
лужицу на тропке, чтобы вовремя ее обойти...
Теперь Нюра уже не ходит в контору. И вообще
редко бывает на улице, особенно зимой. А если и
выберется, то лишь для прогулки. Выйдет, станет посреди двора,
повернется спиной к ветру, чтобы холода не наглотаться,
спрячет голову в поднятый воротник и выстаивает — один
носик из воротника да из-под шапки выглядывает, как
скворец из скворечни. Если же ему захочется оглянуться
вокруг, то воротник он не опускает и шеи не напрягает,
121
а медленно и долго всем туловищем поворачивается, куда
ему нужно. И снова стоит, неподвижный, словно
плащаница *, поставленная на попа. А руки — ладошками к
земле. Причем на правой три меньших пальца поджаты,
а большой и указательный растопырены, словно бы для
того, чтобы считать на счетах, и когда в поле или над
селом замаячит птичья стая, Нюрияы пальцы сами собой
откидывают невидимые косточки: цок, цок, цок... Считает.
Бывает, что и наклонится и выковырнет что-то пальцами
из-под снега, медленно поднимет к глазам и
рассматривает. Если это что-нибудь стоящее, отнесет его
неторопливо в сени, положит и точно так же важно вернется на
свое место; если же попадутся тряпка, ржавая проволока
или прутик, опять обронит на снег, брезгливо растопырив
пальцы, и снова замрет. Дышит «морозным духом». А
надышавшись, идет в хату, и посреди двора остается в
снегу круглое, втоптанное валенками гнездышко.
В хате Нюра скажет Нюрихе: «Вр-роде пр-рогулялся
чуток», — и, раздеваясь, станет обирать, как и перед
прогулкой, каждую пушинку на пальто, шапке,
валенках — тех, в которых когда-то бухгалтерствовал, белых.
Селяне — люд работящий, завистливый и
непочтительный с теми, кто никогда тяжело не работал, а
пенсию имеет большую, чем они. Те самые селяне, которые,
когда Нюра еще был счетоводом, здоровались с ним
почтительно, звали по имени-отчеству и откровенно
заискивающе улыбались при встрече, теперь откровенно
презирали Нюру, а заодно и все его семейство, часто и
обидно высмеивали его меж собою, эти его «прогулки», белые
валенки, портфельчик (и то, вишь, не забыли!) и всегда
сходились на одном мнении; «Живут Нюры, как коты!»
И ни один из них даже не догадывался — разве кто из
более рассудительных да помягче сердцем понимал, как
живется Нюре и Нюрихе с тремя перезревшими, никому
не нужными дочерьми. Особенно зимой или осенью, когда
в селе то в той, то в другой хате зацветают свадьбы,
разъезжают по улицам грузовики и председательский
«Москвич», обвитые красными лентами, сплетаются в
хмельной венок свадебные песни и бубен гудит до самого утра...
Тогда Нюра с женой, украдкой (она в хате, он в
боковушке или наоборот) льнут лбами к оконным стеклам
и следят за шумными свадебными караванами. А как
сойдутся вместе, делают вид, что им совсем неинтересны эти
* Плащаница — изображение Иисуса Христа в гробу.
122
всколыхнувшие все село празднества. Разве что Нюриха
скажет про молодых:
— Он еще ничего собой, а она как выдр-ра.
Тогда Нюра обрадованно подхватит:
— Он вр-роде бы и ничего, а она точно, настоящая
выдр-ра...
— Поставь р-рядом с нашей Маней, так и смотр-реть
не на что... — добавит Нюриха.
— До нашей Мани ей вр-роде еще тянуться и
тянуться, — еще сильнее обрадуется Нюра.
О старших, Ольге и Елене, молчат, а все про Маню.
Она и вправду самая привлекательная из всех нюринских
девчат: ростом, как и Нюриха, низенькая, дебелая, глаза
черные, хотя и без материного огня в зрачках, а
характер отцовский — мягкий и пугливый. Одним не взяла:
когда идет, колени слишком вперед выбрасывает.
А про старших и говорить нечего: широкоплечие, как
мужики, сухогрудые и, когда улыбаются, показывают все
десны, бледные и некрасивые, — обе в отца.
Только и утешения, что все трое хорошо зарабатывают
и живут в городе. Старшие ремонтируют асфальт на
улицах, а Маня бетонщицей на строительном заводе.
— Там тепер-рь столько умников р-развелось, что наши
за ними к р-работе покультур-рнее не пр-ротолпятся, —
скажет, бывает, Нюриха мужу, когда лягут спать. И
Нюра долго потом ворочается на кровати с петухами и
вздыхает тихонько, будто он тому виною.
Зато; когда односельчане допытываются у Нюры, где
и кем работают его девчата, он отвечает твердо, даже с
воинственной гордостью:
— Мои там, где гоеудар-рству сейчас нужнее всего:
чер-рнор-рабочими, — и кивает указательным и большим
пальцами: цок...
С ним и не спорят, потому что неинтересно. Да и
какой из Нюры собеседник, если он ничего в жизни не
смыслит. Разве что сидит возле мужиков (бывает это очень
редко и лишь в теплую погоду), слушает разговоры да
улыбается тонко, а в подходящий момент, когда
собеседники умолкнут и только курят, глядишь, изречет:
— Читал я в календар-ре, что помидор-ры и ар-рбузы
вр-роде бы лучше ночью р-растут.
.Или такое:
— Клубнику советуют в календар-ре каждую весну
пр-рор-реживать...
По субботам нюровские девчата, чаще всего старшие,
123
приезжают домой, привозят родителям сладкий хлеб с
изюмом, селедку, нежирную колбасу, хлеб черный
ржаной, которым Нюра любит полакомиться с борщом, и
прочие городские лакомства. И Нюра с Нюрихой,
рассказывая им сельские новости, о свадьбах, хотя и не
сговаривались, молчат.
А как-то месяца три назад приехали все три дочки.
Старшая и средняя, как всегда, с магазинными
гостинцами, а Маня с хлопцем — в рабочей одежде, кирзовых
сапогах и выгоревшем берете, из-под которого во все
стороны кудрявились рыжие волосы.
— Привет, папаша! — сказал гость, лихо улыбаясь во
весь рот.
И не успел Нюра даже руки поднять, как его хрупкая
ладошка хрустнула в сильной пятерне хлопца.
— Добр-рого здор-ровья, — едва смог вымолвить
Нюра и поднялся с кровати, на которой отдыхал после
прогулки, а гость уже пожимал руку Нюрихе и говорил очень
весело:
— Привет, мамаша! Ого, рука у вас — я вам скажу!
И уже снимал свою куртку, берет, и уже вешал их на
вешалку у двери, а голова его так и пылала красными
вихрами. Губы у хлопца были большие, толстые и тоже
красные, как жабры у только что пойманной рыбины.
— Значит, так, папаша и мамаша, — стал посреди
хаты, улыбаясь во все стороны. — Без лишних всяких
переговоров. Зовут меня Ильком. Мы с Маней дружим.
Уже третий месяц. Так что сами понимаете... — И
захохотал, словно ветром по хате дунул, так беззаботно, так
просто, что и Нюра с Нюрихой, и старшие Нюровны, и
Маня, стыдливо жавшаяся к двери, краснея и пряча
глаза, — все смущенно и в то же время радостно
заулыбались.
— А ты, хлопец, гляжу, такой, как и я: долго бр-роду
не ищешь, — твердо, сквозь улыбку сказала Нюриха.
— Вр-роде бы не ищет, •— растянул тонкие губы и
Нюра.
— Я, папаша и мамаша, люблю так: без всяких пара-
до>в. С работы— прямо к вам. Прилизываться ни к чему.
Какой есть. Правильно я говорю? — И подмигнул
девчатам, которые тихонько хихикали, закрывая рты ладонями.
Дальше разговор вязался сам собой, будто этот Илько
никогда и не был чужим, только долго не приезжал. Он
принялся рассматривать карточки на стенах, узнал Нюру
и Нюриху еще молодыми, до свадьбы («Это вы, папаша?
124
А это вы, мамаша? Ну?»), тыкал пальцем в головастых и
большеглазых девчушек, что облепили Нюриху со всех
сторон и диковато таращились в аппарат. «Это Елена. Это
Оля. А это моя, уши наставила!»
И хохотал, и с ним хохотали все. А Нюра, немного
оправившись от теплых, щекочущих «папаша» и
«мамаша», незаметно закрыл подушкой безногого и полухво-
стого петуха на кровати...
Покончив с фотографиями, Илько озарил всех своей
красногубой улыбкой и сказал Нюре:
— Значит, так: разговор разговором, а дело делать
нужно. Где тут у вас, папаша, магазин?
— Вр-роде бы найдем! — бодро молвил Нюра,
показывая все свои десны, и заторопился одеваться, чего
прежде за ним не водилось.
А женщины выпорхнули в боковушку и там
зашептались, засуетились, загремели посудой, и за всем этим
чувствовалась радостная суета людей, которые не
привыкли, не умеют как следует принять гостя.
В магазин Нюра шел не под заборами, тропкой, а
серединой улицы, плечом к плечу с Ильком, и все говорил
ему что-то и улыбался, наклоняясь, как и к Нюрихе,
потому что Илько был хлопец невысокий, и все поглядывал
на окна хат, мимо которых проходили, словно приглашая
глазами, и улыбкой, и бодрой уверенной походкой: а
глядите-ка, люди, кто со мной! И едва сдерживайся, чтобы
не похлопать Илька по плечу, как своего. И пусть все это
видят, пусть несут новость из края в край села, чтобы все
до единого узнали!
Тем временем Илько громко, чуть ли не на всю
улицу рассказывал, что работает он на бетономешалке, что
родители его из Яготинского района, что живет он, как и
Маня, в холостяцком общежитии и зарабатывает
неплохо: имеет два выходных костюма, плащ, пальто,
транзистор, баян, еще и родителям («старикам») помогает.
Одним словом: «Жить можно, а чо? Правда, папаша?»
И пока они шли — казалось бы, сколько там ходьбы
от хаты до магазина! — Нюра успел уже полюбить
хлопца как родного и даже прозвище ему, шуточное, конечно,
придумал за эти его красные, веселые, хотя немного и
крупноватые, губы: краснопер!
«А каков кр-раснопер!» — думал, улыбаясь, и уже на
подходе к магазину, где кучками стоял народ, осмелился
все-таки похлопать Илька ладонью по плечу — вот так:
чуть-чуть, вот так ласковенько, аж нежно.
125
Народу в магазине было немало, и Нюра громко
сказал продавщице:
— Нам вон той, с красной полосочкой. «Экстра»,
или как там ее?
— Подождите, папаша, — сказал Илько, порывшись
в карманах, и, превесело улыбаясь, подал Нюре еще
трояк. — Берите две рядовых водки. Дешево и сердито!
— И то пр-равда, — мигнул деснами Нюра. — Дешево
вр-роде и сер-рдито. Две водки нам, девушка...
Ужинали чуть ли не до полуночи. И все пили. Даже
Нюра, который за всю свою жизнь ни разу не оросил
губы хмельным зельем, опрокинул чарочку, опьянел,
смеялся громко и уже смело, по-свойски, хлопал Илька но
плечу, и то и дело наказывал дочкам и Нюрихе:
— А подбавьте-ка нам с Ильюшей погр-ребной
капусты холодненькой!
— А ну, девчата, достаньте нам, мужикам, соленого
ар-рбузика, пр-росвежимся немного! Да не все бегите,
Маня пусть останется...
Женщины опрометью кидались к погребу, а Маня
оставалась за столом, онемевшая, замершая от счастья, и
пьяненький уже Илько, нисколько не стыдясь Нюры,
тискал румянощекую, смущенную чуть не до слез, но
покорную Маню своей могучей рукой за талию. Потом
Илько предложил спеть. И пел неплохо, выпуская из
округленного, как у рыбины, красногубого рта густые «а-а-а»
и «у-у-у», но все Нюры потянули не туда, и песню
пришлось оставить.
Утром молодые уехали, сказав, что у них билеты в
какое-то очень интересное кино.
Однако нюровский праздник на этом не кончился.
Дня через три Нюра с Нюрихой, одетые
по-праздничному, с гостинцами в двух корзинах (несла их Нюриха),
отправились в Яготин.
Гостевали почти двое суток, а вернувшись, ходили по
селу от одних добрых знакомых к другим — к
сожалению, было их немного — и рассказывали про сватов.
— Она такая, как вот я, — охотно рассказывала
Нюриха. — Только р-рыженькая и толще. Если бы нам с
нею, скажем, пр-ришлось набир-рать чего-нибудь недор-
рогого на юбки, то мне нужно было бы на пять р-рублей
бр-рать, а ей — на семь с копейками.
— А он какой, сват-то? — любопытствовали
знакомые.
—• А он такой, как я, — опережал жену Нюра, чего
126
раньше с ним не бывало. — Высокий, худенький и тоже
гр-рамотный — учетчиком при тр-ракторах. И хвор-робы
у нас с ним похожие: у меня гастр-рит, и у него язва.
Однако хозяин хор-роший...
Теперь Нюра только тем и жил, что ждал будущей
субботы. Бывало, лежит на кровати после прогулки или
стоит посреди двора, прогуливаясь, глядишь, улыбнулся
сам себе, промолвил тихо: «Дешево и сер-рдито...
Придумал же... Кр-раснопер-рик этакий!»
Илько, однако, больше не показывался. И старшие
Нюровны, и Маня, которая за эти два месяца наведалась
домой только раз, говорили родителям, что ему теперь
некогда ездить. Экзамены сдает в техникум при заводе.
Нюра с этим охотно смирился, хвалил Илька
(«Гр-рамотный вр-роде, всюду пр-робьется»), хотя и было немного
грустно: скучал по простецкой улыбке зятя, по его
веселому и молодцеватому «Привет, папаша!». Нюриха же
молчала, только присматривалась к девчатам твердыми
черными зрачками.
Уезжая, Маня прятала глаза от родителей и тихо
обещала, что в самый ближайший выходной приедет
вместе с Ильком...
Теперь этот терновый сон...
И Нюра, глядя мимо пальцев на ногах в пол,
припомнил, что Маня и вправду в прошлое воскресенье была не
такой, как всегда, — смешливой, ласково послушной и
внимательной, а будто уставшая и ко всему равнодушная.
Припомнил и испугался:
— А может, этот тер-рен и не в р-руку! — сказал,
однако, как можно бодрее. — Это если пер-ред пятницей
снится что-нибудь такое, тогда в р-руку? А это пер-ред
субботой...
— Может, и не в р-руку, — тверже, чем всегда,
ответила Нюриха.
Наконец приехала Маня, уже под вечер, хотя должна
была быть с утра. Тихо, словно крадучись, вошла в хату
и, обессиленная, бледная, оперлась плечом о дверной
косяк. Нюра улыбнулся ей, босиком встал с кровати на пол
и так стоял, прислушиваясь, не слышно ли топота в сенях.
Но в сенях было тихо.
— А где ж это... «дешево и сер-рдито»? — спросил.
И смотрел на Маню сначала растерянно, затем
требовательно, даже гневно. — Илько где?
Маня шагнула к матери, которая пошла ей
навстречу, и уткнулась головой ей в грудь,
127
Нюра молча оделся, равнодушно, как слепой, обошел
жену и дочку и вышел во двор.
Там была весна. Журчали ручьи вдоль дворов на
улице, светило низкое предзакатное солнце, плыли в
вечернем небе журавлиные ключи, но Нюра словно не видел
их и пальцами, указательным и большим, не двигал, как
всегда, считая синекрылых птиц. Он стоял посреди двора
ссутуленный, с опущенными вдоль пальто руками и
невидящими глазами смотрел куда-то мимо хат, садов,
огородов, даже мимо самого неба.
И все же изредка он чуть заметно улыбался и шептал
что-то, тогда глаза его оживали, щурились на солнце и
вновь делались невидящими.
Ужинали молча. Нюра ел быстро и сердито, а не
смаковал, как привык это делать всегда. И когда Нюриха
несла какое-то блюдо от печи к столу, выкидывая колени
далеко вперед, сказал вдруг ядовито:
— Чего это ты выкидываешь колени, а?
Нюриха посмотрела на него испуганно, дрожащими
руками поставила миску на стол и медленно пошла в
боковушку, а Маня положила ложку и заплакала.
Нюра не утешал ее, а продолжал есть.
Ночью, уже где-то перед рассветом, Нюриха, спавшая
с Маней в боковушке, прокралась к постели мужа в
светлицу, прилегла рядом и стала гладить Нюрины плечи,
голову, руки. Потом сказала, впервые за всю жизнь
плача:
— Если б бедовее была, то бр-рехня... удер-ржала бы.
А так, видишь... забр-раковал...
— Если б инженер-рша или вр-рачиха, так не
забр-раковал бы, — обронил Нюра во тьму. — Человека те-
перь-рь никто не видит.
Он сказал это так, словно знал это давно. Безо всяких
«вроде бы». Знал!..
А на другой день, провожая Маню к автобусу, Нюра
тайком от чужих глаз — даже оглянулся вокруг —
торопливо достал из кармана новенький складной ножик с
красной колодочкой и блестящим никелированным
набором: шильцем, двумя лезвиями, большим и меньшим,
ножницами и пилочкой, вложил Мане в руку и
заговорщически зашептал:
— На... передай. Скажешь, подарок от папаши.
Только смотри не потеряй.
Маня взяла ножик и закусила дрожащие губы.
— Так и скажешь: от папаши, мол... Подарок.
128
«КОЗОЧКА»
На пятьдесят седьмом году жизни Степан Секремент
разошелся с женой. И можно сказать, что по глупой
случайности. Забрел как-то под вечер в лесопосадку, недалеко
от села, вырубить держак к лопате — старый
переломился, — да ища подходящее деревцо и наткнулся на женку
свою Дарку с каким-то шофером или комбайнером — из
тех, что приезжают каждый год помогать с уборкой
урожая. Шофер или комбайнер рванул меж деревьями —
Степан не успел даже рассмотреть лицо, а Дарка
осталась. Сидела в траве на прошлогодних листьях, прижав
руку к расстегнутой кофтенке, и смотрела на -мужа
хмельными от недавней любви глазами. Степан привел ее
домой под конвоем, с топором на плече, — молча привел.
А дома, даром что был мужичишкой мелкой породы,
побил Дарку, хотя она и оборонялась по-звериному.
Не столько бил, однако, сколько кулаками размахивал.
Потом метался по хате запыхавшийся, исцарапанный, в
разодранной на плече сорочке, жадно затягивался
цигаркой, едва попадая ею в губы — так руки дрожали, — и
выкрикивал, заикаясь
— Вон!.. В-во-он!..
Дарка, хотя и плакала, скорее от жалости к себе, чем
от боли, однако не испугалась этого «вон», а умолкла,
глянула на Степана ненавидящими, в слезах, глазами и
сказала:
— Сам вон.
— Что-о?!
Степан остолбенел посреди хаты. А Дарка сидела на
полу в изодранной кофте и упрямо смотрела мимо него в
угол. Потом поплакала еще немного и кинула:
— Слабак!
Если бы она не сказала такое слово, Степан, может, и
стерпел бы, и простил, как, бывало, раньше. Он и прежде
знал за женой грешки. Правда, на горячем не застукивал,
как сегодня, но люди передавали. То шла из райцентра с
каким-то престарелым парубком, видели, шла с обеда до
сумерек, хотя райцентр — вон он на буграх («Автобуса
не захотела ждать, вот и пошла... Что ж тут такого?»); то
дерево в лесничестве рубила да отлучилась с лесником на
часок («Воду ходила пить под Браварскую гору... Что ж
тут такого?»). Она произносила это «что ж тут такого?»
не виновато, а вызывающе, даже с презрением, и
смеялась каким-то коротким деланным смешком и щурила
9 Г. Тютюнник ^29
глаза, глядя мимо Степана, — еще ясные, горячие и
тупые от этого жара. Степан уже давненько не пробивал
своим взглядом этой горячей тупости в ее глазах, лишь
размахивал кулаками после каждой ее выходки и «вон-
кал». Но прежде Дарка не говорила так, не бросалась
уничтожающим словом. Вообще, ничего, кроме своего
презрительного «что ж тут такого?», не говорила, и
Степан, выпив после ссоры, подобрев, размякнув, гордый от
своей власти над женой, провозглашал ей прощение —
торжественно, величественно, как султан какой-нибудь.
— Живи! — тыкал пальцем перед собой и немного
вверх, широко водил рукой из стороны в сторону, будто
показывал необозримые свои богатства и в хате, и за
хатой: кровать, шкаф с одеждой, рушники с голубями на
стенах, бумажные цветы в зеленой вазочке на столе,
телевизор, два велосипеда, старый и новый, хлев с коровой
и телкой, сарайчик с кабаном, колодец на два ворота... —
Живи! Только... Чтоб была мне шелк-ковая! Чтоб глухо
мне было, как... в танке. — (В войну Степан
ремонтировал подбитые танки.) — Чтоб я больше не слышал того
и не видел!.. —- И лысая от затылка до лба голова
Степана блестела в слабом свете лампочки, висевшей под
потолком, как у настоящего султана, когда он снимаем
чалму...
Степан долго стоял посреди хаты, уставившись на
Дарку, — ждал, что она вот-вот поднимет на него
молящие глаза и заплачет покаянно, но Дарка по-прежнему
упрямо смотрела в угол.
— Значит, так? — сказал Степан, и губы его
жалобно дрогнули. — Значит, я вон? Я слабак. Ага... Ну что
ж... Тогда оставайся лавка с товаром! — Степан
засуетился, полез в шкаф, выхватил для чего-то новые Дарки-
ны сапоги, выходную свою капроновую шляпу, подушку
и кинулся к двери. — Ты ж гляди! Выходит, что я
валялся на траве?.. — У порога он заметался, зашарил по
карманам, ища спички, нашел, чиркнул торопливо,
прикурил. — Тогда на черта мне ты такая сдалась!
— На чертей — цепи, а на тебя — веревка, —
ответила Дарка мстительно. Мстительно за то, что вот так по-
глупому она попалась. И снова заплакала со зла на свою
промашку.
Степан выбежал, хлопнув дверью, она открылась
настежь, и со двора потянуло прохладой. Была уже ночь.
Неделю жил Степан в лесу возле речки с каким-то
рыболовом. Копал ему червей, учил, как ловить сомов
130
ночью, спал вместе с ним в палатке, с краешку, на своей
подушке, варил уху, бегал на хутор за «продуктами», а
вечером у костра смотрел исподлобья на огонь и
рассказывал про Дарку.
— Она молодая еще... Ей еще только сорок девять и
два месяца, а мне вот осенью пятьдесят семь будет.
Известно, пожилой... Ну, как бы другая, так она бы мне,
хоть я и лысый, и все там — ноги мыла б... Я хаты крою,
как никто не умеет. Железом. Кружева всякие вырежу —
на веранду, на гребень, на водосточные трубы. Не хата
стоит, а модистка. Мою работу издалека узнаешь. Деньги
есть... А что? Сейчас покрыть хату две, а, если большая,
то и две с половиной сотни стоит. Под твердое железо,
под мягкое — там цены разные... Молодая она у меня
еще, вот и пустилась во все тяжкие... Губы красные, ще--
ки румяные, тело, как тот сапог, блестит. — Степан
кивнул на Даркины сапоги, что лежали возле палатки и по-»
блескивали от огня. — Вот она и бьет копытом, не удер*
жишь...
Рыболов повернулся к костру, деликатно улыбнулся,
— Любите вы ее.
— Вот это вы точно попали! — ткнул пальцем в
рыболова Степан. — Тут ваша правда. — Степан умолк и
понурился. А в голове стучало: «Слабак!.. Слабак!..»
Рыболову было жаль мужика, хотелось как-то помочь
ему, и он сказал:
— А вы знаете что? Вы поищите в ней что-нибудь
такое... Ну, как бы вам сказать... Плохое что-нибудь.
Вспомните, к примеру, какие у нее недостатки. У всех
людей ведь есть. Ну, там, как она ходит, ест, смеется,
чихает... Что-нибудь такое... Какую-нибудь отрицательную
черту. Это поднимет вас над нею, даст вам превосходство,
и вам станет легче.
— Нет в ней ничего плохого! — ответил Степан, не
задумываясь, и глаза его сверкнули. — Нет!.. — Он снова
уставился в костер и проговорил в задумчивости: —
Молодая она у меня еще... А может, я сдурел...
На шестой или седьмой день примчался в лес на
велосипеде парнишка Ванькб, сынок Даркиной сестры.
Зимой Ванько ходил в школу, а летом подрабатывал в
колхозе — бегал курьером с утра до вечера. Ванько
поздоровался, запыхавшись, видно, крутил быстро.
— Хух! Насилу нашел вас, дя!
Степан как раз готовил на костерке обед. Был он в
выходной своей шляпе — солнце припекало лысину.
9* 131
Увидел Ванька, и в груди сладко защемило: «Прислала
позвать...» — И спросил, вставая навстречу племяннику;
— Что, Ванько, дядьку искать погнали?
— Угу, — тряхнул чубчиком Ванько и улыбнулся. —
Сказал председатель, чтоб вы шли уже, потому что
гараж, говорят, пора перекрывать: железо новое привезли.
Степан сдвинул брови.
— А больше никто ничего не говорил?
— Не, дя...
Степан отвернулся и долго смотрел на реку. Потом,
не поворачиваясь, сказал:
— Передай председателю, что не приду.
— Почему, дя?
— Потому что... раз они со мной так, то и я с ними
так.
— Кто, дя? — не понял Ванько.
— Все вместе. Я им там только для работы и
нужен... был. Теперь пусть те, приезжие, кроют.
Ванько пожал плечами, постоял еще немного,
вздохнул неумело, по-детски, и поехал.
Вечером Степан и рыболов снова сидели у костра.
Степан молча смотрел на огонь. Смотрел и думал:
«Помощнички, секремент!..»
Этим словом он ругался всегда, вслух и про себя.
А ночью, осторожно кашлянув, разбудил рыболова,
поблагодарил за хлеб-соль, пристанище и пошел в село.
Было за полночь, тучи зачернили все до одной звезды
в небе, деревья в лесу слились в черное, только подушка
белела у Степана под мышкой.
«Покрою гараж, — думал Степан, присматриваясь к
тусклой полоске тропы под ногами, — это рублей
пятьсот, не меньше. Куплю какую-нибудь хибару... Хе! Так-
то вот: своя хата как колокол стоит, а ты, Степан,
слоняйся глухой ночью по лесу, как бездомный пес!..» —
И его внезапно так ошеломила эта мысль, что он
остановился, швырнул Даркины сапоги на землю и выругался:
— Вот же стерва!
Потом нащупал в темноте сапоги, зажал их под
мышкой и пошел дальше.
Ночь он досыпал в колхозной столярной на верстаке,
положив под голову сапоги, а поверх них подушку.
Вскоре Степан и Дарка делились.
Собственно, делился не Степан — он даже ни разу об
этом и не подумал, а Дарка. Как-то позвали Степана от
гаража, где он кроил железо, в сельсовет. В кабинете
132
председателя сидели сам, председатель, худой, высокий,
недавно приехавший из Донбасса человек, — что-то
было неважно у него со здоровьем и врачи посоветовали ему
жить в селе — и Дарка. Председатель улыбнулся
Степану, несколько официально пожал его красную от
ржавчины руку. Дарка смотрела в окно.
— Радчич Степан Силович? — спросил председатель
и заглянул в какую-то бумажку. И еще раз улыбнулся. —
Я, сами понимаете, не всех еще людей в селе знаю.
— Так точно, — сказал Степан. — А что?
— Тут, видите ли... — председатель посмотрел на
Дарку, затем на Степана, — ваша жена настаивает на
том, чтобы разделиться с вами, то есть поделить общее
имущество и разойтись... — Председатель помолчал. —
Кстати, вы расписаны?
— Были когда-то расписаны, да расписку
потеряли, — криво усмехнулся Степан. И спросил у Дарки, все
так же криво усмехаясь: — Что это тебе приспичило
делиться? — Внутри у него — в груди, в животе — все
дрожало, будто он перемерз. — Боишься, что на твоих
тех «вон» от нашего с тобой хлеба икотка нападет?
— И тебе отзовется, врешь! — кинула Дарка через
плечо и еще круче отвернулась к окну. Она была в новой
пестрой кофте, повязана праздничным цветастым
платком, низко и через щеку, словно у нее болела голова, —
печально, по-вдовьи повязана.
Степан это заметил, крутнул головой, а в горле у
него что-то пискнуло: «Ну и штучка ж!..»
— Будешь знать, как руку подымать на живого
человека, навек запомнишь.
— Товарищи! — Председатель легонько постучал
пальцем по краешку стола. — Вы ведь в сельсовете, а
не... на выгоне. Призываю вас к порядку.
Дарка повернулась к нему и выстонала так болезно-
искренне, что Степана будто током по душе ударило.
— Да ведь не было ничего такого, товарищ
председатель! Ничегошеньки не было. Ну шла с человеком
вместе с работы, с поля, лесопосадкой шли... Что ж тут
такого? А он сразу на тебе — с ревностями своими да с
кулаками. Разве ж так можно жить в одной хате,
подумайте?
Степан торопливо достал «беломорину», чиркнул
спичкой раз, другой, третий — переломил и сидел так, жуя
незакуренную папиросу. Чего-чего, но такого поворота
он не ждал. Ему даже привиделось на миг, что вот идут
133
лесопосадкой какой-то мужчина и Дарка, просто идут,
и все.
«Тьфу! Сдурел уже, что ли?..»
— А кто этот человек, если не секрет? — спросил у
Дарки председатель. — Как его зовут, фамилия? Может,
мы его вызовем, выясним все, да и живите себе как
жили?
Дарка снова отвернулась к окну.
— Да разве я знаю, как там его... Да и уехал он уже*
Председатель кашлянул в кулак.
А Дарка выпалила:
— Нужен он мне!..
Степан смял папиросу и встал.
— Так что будем делать? — спросил председатель
Он смотрел на Степана и спрашивал только его.
— Пошел я, — сказал Степан. — Пусть что хочет,
то и делает. Все равно уже... с-секремент!
— Что? — удивился председатель.
— Слово такое есть. — И Степан вышел.
На другой день председатель с двумя свидетелями
делили Степаново и Даркино добро. А Степан сидел на
гараже, клепал швы. В обед его позвали, чтоб шел домой.
Это «домой» больно резануло. Он до сих пор жил в
столярной. Приходил туда поздно вечером, засыпал на
верстаке, подмостив под бока стружки. Вставал рано,
затемно, прятал в бурьяне за столяркой подушку и сапоги
и шел делать заготовки на день.
Степан прибрел к своей — до недавнего — хате, сел
на крыльцо, на нижнюю ступеньку, смотрел через луга
на далекий лес, который видел отсюда каждый день уже
тридцать лет, и слушал чужой говор в светлице сквозь
приоткрытую дверь.
-— Этот костюм покупала ему я, — слышался голос
Дарки, — еще после войны, когда нигде ничего не
было.
— И он до сих пор новый? — удивленно спросил
кто-то из свидетелей. (Степан узнал по голосу
молоденькую депутатку сельсовета Маню Скорик.)
— А куда б он его надевал — на работу? Он в
праздники военное свое носил,
— Так как же костюм записывать — вам или ему?
— Если отдаст мои сапоги, пусть забирает...
— Запиши: «Костюм мужской, новый, ненадеван^
ный».
— Для чего ж «ненадеванный», если «новый»?
134
— Ты пиши. Чтоб точно, — гудел другой свидетель,
тоже депутат, плотник дядько Лука. Он единственный в
селе умел делать деревянные колеса.
Потом председатель и свидетели вышли во двор.
Степан отодвинулся в сторону, давая дорогу. Председатель
поздоровался с ним за руку, как тогда, в сельсовете,
свидетели тоже поздоровались, Дарка даже не
взглянула. Только, когда сходила с крыльца, зацепила юбкой
Степанову шляпу, и она сдвинулась набок. Степан
поправил.
Обошли двор. Дарка впереди. Открывала двери — в
хлев с коровой и телкой, в сарайчик с кабаном, в
дровяник с ровненько напиленными, поленце к поленцу,
дровами...
—■ Кто дрова рубил? — спросил председатель,
любуясь работой. До сих пор он молчал.
— Да кто ж... — Дарка смутилась. — Хозяин...
бывший.
Председатель посмотрел на нее исподлобья. Даркины
румяные, но уже с темными тоненькими прожилками
щеки еще сильнее покраснели.
Рассудили так.
За Даркой остается хата и все, что в хате, телка,
надворные постройки, вся женская одежда и новый
велосипед.
За Степаном — корова, кабан, старый велосипед и
мужская одежда.
— Пусть сапоги отдаст, тогда и берет свое, — сказала
Дарка.
— Пойди возьми там вон, за столяркой, в бурьяне! —
кинул Степан, все так же сидевший на ступеньке. Он не
ходил по двору, а курил и улыбался. — Только подушку
не трогай, а то по-настоящему побью! Хоть раз...
— Ну-ну, — сурово сказал председатель. — Вы это
оставьте.
Молоденькая Маня-свидетель строго взглянула на
Степана, а плотник Лука шевельнул усы улыбкой.
Когда уже выходили за ворота, и Степан вместе с
ними, Дарка крикнула:
— Товарищ председатель! А колодец? — Дарка
стояла посреди двора, сложив руки на груди, дебелая,
однако не раздавшаяся в талии, загоревшие ноги блестели
на солнце.
— Что? — не понял председатель.
— Колодец кому?
135
Председатель растерялся, посмотрел на свидетелей,
те — на председателя...
— И колодец пополам! — крикнул Степан, подняв
два пальца с папиросой вверх. — Ты будешь тащить
воду левым воротом, я — правым. А как надоест,
поменяемся: тебе будет правый, мне — левый.
И свидетели и председатель засмеялись.
Когда отошли от двора, Степан сказал:
— Напрасно голову морочили. Я у нее все равно
ничего не возьму. Раз жизнь кончилась, то все —
остается один секремент! Я в этом деле без предтендзий!..
Степан, когда, бывало, выйдет из себя или выпьет,
любил ввернуть словцо необычное и обязательно очень
грамотное...
Теперь Степан живет одиноко.
Отлежал в госпитале (рана открылась на ноге),
вышел на военную пенсию.
«Хвбару» он себе купил за гаражную крышу:
померла бабка Ганна, та, что до последнего дня читала книжки
и с книжкой и вздохнула последний раз. А внучка ее
продала Степану хату за триста рублей, вместе с
мышами, гнездом аиста и астрами под окнами.
— Живу как бог! — хвастается Степан. — Только вот
беда: мыши лысину ночью щекочут!
Он теперь только так и говорит с людьми —
посмеиваясь над собой, над своей сорочкой, у которой стоячий
воротник скатался в качалочку, над галифе, вытертым
до того, что сквозь заднюю штанину против солнца не
поглядишь — в глаза режет. К ним бы еще
лампасы.
Вот так-то. Лишь бы то, что на душе, от людей
скрыть.
Это когда он на людях. Дома Степан спокойнее. Но
домой он приходит только переночевать на единственном
своем наследстве от прошлой жизни — подушке.
Сельские молодицы говорят Дарке:
— Отнеси ему хоть его одежку!
— Сам заберет, как припечет, — равнодушно
отвечает Дарка.
А Степана не припекает.
Торчит возле кооперации (шляпа, сломанная о по-
рушку» — Степан в ней спит — свисает полями на уши),
рассказывает что-то мужикам, а они смеются.
136
Постепенно даже те из селян, кто уважал Степана за
незлобивый характер, за руки золотые и любовь ко
всякой работе, начали обходить его, иначе непременно
привяжется с болтовней. А если кто и не захочет его
слушать, тому он бросит в спину с вызовом: «Нет! Ты у
Жукова не служил!! У Жукова таких замухрышек не
было!»
Те, кому нужно было перекрыть хату, приглашали
Степана, обещая хорошую плату и питание, даже из
других сел приходили. Но Степан отвечал им одно:
«Пока не провожу своих аистов в теплые края, не возьмусь
ни за холодную воду! Мне за аистами присматривать
нужно».
С аистами он разговаривал терпеливее, чем с
людьми, и не хвастался. Гудел им ласково, а птицы
смотрели на него сверху вниз и клювами не щелкали —
привыкли к бабке Ганне.
Дарку Степан не видел с тех пор, как их делили. И в
чайную приходил не для того, чтобы напиться — «душу
согреть». А с надеждой: может, «та вертихвостка» в лавку
придет за хлебом или еще за чем-нибудь. Передавали,
худая сделалась, как щука... Степан ждал, что она
придет каяться и проситься.
Дарка не приходила. И на глаза не попадалась.
Увидит издали, что он маячит возле чайной, пойдет другой
дорогой или повернет назад.
Только одна душа в селе не обходила Степана, не
смеялась над ним — Стеха Жирафа, худая долговязая
женщина. Работала она трактористкой еще с девичьих
лет, еще с тех пор, когда выпахивали в полях бомбы и
мины. Жила Стеха одна и делала все сама. К примеру,
придет на стан, когда уборка в колхозе уже закончится:
«Хлопцы, у кого комбайн гуляет? Свое смолотить
нужно». — «Поехали, тетка!» — «Нужен ты мне. Я и сама
смолочу». — Садится за руль, заводит комбайн — и
покатила. Смолотит, пригонит комбайн на место:
«Спасибо... Там у тебя люфт большой был, педаль аж падала.
Так я отрегулировала». Косить, вязать, дрова рубить,
погреб выкопать и выложить его кирпичом — все умела
Стеха, молча, ловко, по-мужски. Только хату перекрыть
пригласила Степана. И если б не нужно было
кровельщику варить обед, наверно, не отходила бы от него ни
на минуту: смотрела и смотрела бы, как он ласкает
деревянным молоточком железо, как вяжут его зубильце и
ножницы причудливые кружева, вытирала бы ему пот
137
с круто выгнутой черной брови, в которой уже
поблескивала сединка.,.
Когда дообедали, с водочкой, Стеха сказала:
— Ты ляг, отдохни немножко, я швы сама заклепаю.
Степан засмеялся:
— А что люди скажут, подумала? Засмеют! Да и не
сумеешь ты.
— Сумею! Мы с тобой, Степан, город вдвоем
построили бы...
Тогда Степан жил еще с Даркой, и Стешкины
ухаживания только тешили его.
Теперь Стеха встречалась ему почти каждый день.
Подойдет, когда он стоит возле чайной, и смотрит,
смотрит... А в глазах мука.
— Что, Стеха? — дурковато улыбается Степан. —
Жалко пропащую душу Степанову? Ю-рен-да-ци-я!
Переживем!..
А однажды в воскресенье — тогда был праздник
урожая и весь колхоз гулял — Стеха пришла к чайной в
шелковом платье, белых модельных туфлях, с платком
роскошным на плечах и чадом в глазах. Степан терся
под освещенными окнами чайной в изломанной своей
шляпе и с буханкой под мышкой: у него не было денег.
Подошла, взяла его голову в ладони, прижала к груди и
заплакала.
— Горе, Степа, горе...
— Горе, — сказал Степан. — Горе, Стешка, только
глупое...
— Хочешь, я тебе «козочку» станцую? Я умею.
В чайной шумели, кто-то заводил песню.
— Станцуй, Стеша! Ударим гопака, секр-ремент,
чтоб аж гудело!
Стеха подняла над головой руку, заломила ее
ладонью вверх, другой подбоченилась, повела локотком
туда-сюда и пошла на носках, покачиваясь в стане...
Платье шелковое, ну совсем не к лицу пожилой женщине,
шелестело по острым коленкам, зуб железный от света
из окон поблескивал... Она и вправду чем-то была
похожа на козу, ставшую на задние копыта, да и улыбалась
как-то по-козьему...
— Гоп, Стеха, гоп! — Степан дернул одной ногой,
ударил в ладоши. — Гоп, гоп! — Буханка упала в пыль.
Он не заметил.
— Идем, Степа!.. — Стеха остановилась, взяла
Степана за плечо.
138
— Нет, — сказал Степан и перестал бить в ладопщ«
Ему даже смешно стало, что они так вот дурачились по-»
среди улицы, и он пьяненько захохотал,
Стеха закрыла лицо руками и пошла прочь.
Дома она присела к столу и заплакала:
— Еще и артачится! Был бы и накормленный, и
ухоженный. Чего еще нужно? Ходит как привидение,
голову теряет по ней... прости господи! Думаешь, ты мне
нужен? Не нужен ты мне... Мне хоть бы дух мужской в
хату, хоть бы цигарку кто скурил в этих стенах...
А Степан искал в пыли буханку и бормотал:
— Обходит она, прячется! Хоть бы борща раз в пол-*
года пришла сварила. Ведь один хлеб ем! А этот будет
еще и с пылью...
Нашел буханку, обдул со всех сторон, вытер рукавом,
зажал под рукой и поплелся домой.
Проснулся в полночь трезвый. Только в голове шу*
мело и мыши бегали по хате. Долго смотрел на луну, что
медленно опускалась, опускалась... А перед глазами —
вот она, Дарка: бежит от госпитальной проходной, цла-
ток сбился на плечи, глаза сияют сквозь слезы жалостью
и любовью, в руках узелок белый... Пришла из села за
сто семьдесят километров, пешком, разыскала. А он,
широкоплечий, бледный, оттого еще чернобровей, не
шел — бежал на костылях ей навстречу в белой нижней
сорочке, расхристанный...
«Эх, навоевался, изработался, постарел, Степан, —
один пшик остался...»
«Н-ет, Дарка не пошла бы «козочку» танцевать...
Не стала бы на пальчики ни перед кем... Она прошла б
мимо всякого из тех своих, как бы они за нею
ни гонялись! Прошла б мимо, как сто чертовок!»
Луна исчезла.
А Степан еще долго смотрел в потолок. Потом сказал
громко, аж мыши прыснули во все стороны:
— На черта мне тот держак понадобился? Ну на
черта?!
ГРАМОТНЫЙ
Яков Брус, по прозвищу Ява, за тридцать послевоеэ*
ных лет занимал попеременно несколько разных
должностей: то бригадирствовал, то замещал председателя колхо-»
за, то «брал в руки» ферму, то снова возвращался на бри-
138
гадирство. Его бросали на прорывы, как танковый
корпус на фронте, и он быстро с теми прорывами
управлялся — не смекалкой или трудолюбием, а чугунным своим
характером. Яву побаивались даже мужики и тайком
радовались, если кому-нибудь подвертывался случай
угостить бригадира без свидетелей. Раз Ява принял от вас
рюмку, считайте, что вам повезло: он вам и коней даст
(даже машину, если нужно), и на работу нетрудную, но
прибыльную поставит (к примеру, весовщиком или
учетчиком), и трактор пришлет, чтобы вы раньше всех
приусадебный участок вспахали... И так вам будет везти до
тех пор, пока к Яве не подкатится ваш сосед. Тогда
считай пропало — ваша карта бита. Скажете, к примеру,
бригадиру негромко, словно и не сказали ничего, а так
себе — стояли рядом с ним и смотрели в туманную даль:
«Купил три тонны брикета на станции, Яков Нестеро-
вич, нужно как-то привезти».
«Привози, — ответит Ява. — Кто ж тебе не дает».
«Так если бы машину...»
«Я тебе давал машину на целых полдня. Чего ты
ворон ловил?» — угрюмо спросит Ява и толкнет вас в грудь
твердым чугунным взглядом из-под низкого,
почерневшего на солнце лба.
«Тогда на станции брикета не было, Яков Нестерович»,
Однако бригадир уже не слушает вас, повернется и
пойдет прочь, молча, показывая вам гладкую тяжелую
спину.
А вечером, глядь, — сосед ваш пригнал себе во двор
машину брикета, гудит веселенькую песенку, орудуя
лопатой, и посылает вам через тын злорадные улыбочки: ты,
мол, роскошествовал, теперь Ява мой! Тогда вам ничего
не остается делать, как тоже позлорадствовать над
соседом, подумав так: «Погоди, погоди, он и тебе скоро спину
покажет!» Но от этого не легче. И вы кидаете соседу ежа
за пазуху:
«Ты не очень-то махай лопатой. Не видишь, что ли:
всю пыль в мой двор несет. Дышать нечем!» ,
«А я тебе что — ветер в другую сторону поверну? —
удивленно вытаращится сосед. — Дьтгаа-ать ему нечем,
барину!..»
Дальше — больше. И поссорились. Ни здравствуйте,
ни прощайте и вообще «чтоб ты пропал!».
Но дня через два-три сосед первым кивнет вам от
своих ворот и, нервно дергая веком и жуя цигарку,
скажет:
140
«Слыхал? Миките Щурику трактор нынешней ночью
прицеп навоза на огород притащил. Семь тонн!»
И, чувствуя кошачье царапанье в груди — семь
тонн! —- вы, теперь уже вместе с соседом, ненавидите
Микиту Щурика!
А Яков тем временем сидит еще у кого-то, на другом
краю села, сидит и пьет. Ни на разговор, ни на песню
его при этом не тянет. Молча ест, молча наливает, молча
пьет, лишь воздух носом громко забирает... Даже по хате
глазом не ведет. Упрется взглядом в стол и не отрывает,
пока не уйдет.
«Думаю завтра на маслобойку, Нестерович...
Отлучиться б как-то нужно», — скажет хозяин после угощения,
провожая Яву и забегая наперед, чтобы калитку перед
ним открыть.
«Завтра — нет, — смотрит Ява в звездную высоту,
и звезды ему двоятся и троятся от угощения. — Завтра
всем скирдовать сено. Во вторник поедешь». — И, не
попрощавшись (это означало: хватит и того, что я тебя на
маслобойку пускаю), идет домой спать.
Были в селе и такие, что не кланялись бригадиру.
О таких Яков думал угрюмо-насмешливо: «Гордые... Ну и
ешьте свою гордость!» И если кто-нибудь из таких
обращался к Яве с каким-либо делом, он отвечал, медленно
закрыв глаза:
«А я тут хто! Я тебе тут нуль без палочки... Иди к
председателю». И так же медленно открывал глаза, глядя
не на просителя, а сквозь него.
И вот сегодня Якова должны судить. Хотя и не
настоящим, государственным, судом — товарищеским, но
ведь принародно, перед теми, кто еще недавно заискивал,
льстил ему. (Зимой Яве исполнилось шестьдесят, и он
вышел на пенсию, хотя председатель колхоза и
уговаривал остаться.) Возле клуба на фанерном щите для
кинорекламы висело объявление, которое составил сельский
киномеханик — он же и завклубом, и баянист, и
художник по лозунгам — Мишко Чирва. В объявлении,
выполненном густыми фиолетовыми чернилами, оповещалось:
ВНИМАНИЕ!!!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 18.00 В ПОМЕЩЕНИИ С/КЛУБА
СОСТОИТСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД НАД Я. БРУСОМ
И ПОТЕРПЕВШЕЙ
БОРОЗНЯК МОТРЕЙ КОНДРАТЬЕВНОЙ.
ПОСЛЕ СУДА - ТАНЦЫ.
Мишко писал объявление с похмелья, и буквы — одна
круглая, роскошная, другая тощая, дохлая, третья
повалилась набок — едва дотоняли друг дружку. Однако то, что
он назвал бабушку Борознячку «потерпевшей», еще и по
батюшке повеличал, а Яве даже имя урезал («Хватит с
тебя и одной буквы!» — хохотнул он в пустой
гримировочной), красноречиво свидетельствовало о том, на чьей
он, Мишко, стороне.
В воскресенье после полудня к клубу стали сходиться
люди, в большинстве старики, потому что молодые были
еще на работе: выбирали свеклу, пасли стадо на осенних
лугах, а председатель товарищеского суда Николай
Николаевич Матяш, директор сельской восьмилетки, ломал
с учениками кукурузу в поле. Старики шествовали
медленно, опираясь на палки, долго, щуря слабые уже глаза,
вычитывали по буквам, кто знал грамоту, объявление и
рассаживались на длинной скамейке возле старенького
клуба, сложив на палках высушенные солнцем и ветрами
руки. Товарищеский суд был в селе впервые, и никто
доподлинно не знал, что это такое.
— Думал, думал я, но так и не пойму, — шамкал дед
Свирид Мишлик, у которого жил на шее вечный
фурункул и гнул ее набок. — Сказано: товарищеский суд.
Выходит, что Ява и я — товарищи...
— А то нет? — смотрел куда-то поверх палки мало-
видящими, в слезе, глазами Павлентий Шкурпела,
Свиридов однолеток. — Ты, когда был моложе, косил, а он...
кряхтел. Выходит, товарищи... — И засмеялся, кахкая,
словно старый безголосый селезень. Потом закашлялся с
бульканьем и писком в груди и умолк, чтобы силу для
собрания приберечь.
— Так что, разве в городе теперь суда нету? —
допытывалась у мужиков беззубая бабушка Вухналька,
лучшая в районе, а когда-то в уезде шептуха и косто-
правша.
— Есть, бабушка, суд и в городе, — растолковывали
ей. — Теперь два будет! Два, говорю, бабушка, два!
Ходят слухи — скоро судьи по дворам ходить будут...
Придут ш «Ну-ка, бабушка, признавайсь, кто Семену
Бузкому в позапрошлом году ногу сложил так, что он и
досе в колхозе кроликов крадет и за четушками в лавку
галопом скачет, — ты? Так плати, бабуля, штраф! И за
ногу, и за кроликов!..»
И смеялись.
Бабуля Вухналька испугалась, согнулась на лавочке
142
чуть не до земли, жевала, жевала запавшими губами,
бессмысленно глядя в землю.
— Слышишь, придут и скажут: ну-ка, бабушка...
И смеялись еще сильнее. Пока не надоело.
К заходу солнца приехали с поля машины, привезли в
школу учеников и председателя товарищеского суда
Николая Николаевича Матяша, проскочили на мотоциклах
один за другим механизаторы с полевого стана, а Мишко
Чирва включил радиолу — как на выбора или
праздники, — и она завопила на все село, оглушив стариков.
— Везут! — сказал кто-то. — Илько бабу Мотрю
везет.
Все, кто был возле клуба, зашевелились и напрягли
зрение. Илько, родной внук бабки Мотри Борознячки,
«потерпевшей», завидя людей, еще издали начал
притормаживать машину и подкатил к клубу траурно-медленно.
Он взял бабулю, слабенькую, господи, что паутинка, на
руки и поставил на землю. Затем подвел к лавочке —
бабуля тихонько постанывала — и посадил с краешку.
— Здравствуйте, люди добрые, — немощным голосоч-»
ком обратилась Мотря ко всем и поклонилась большой,
закутанной едва ли не в десять платков головою так, что
были видны лишь глаза.
К ней придвинулись, подошли со всех сторон — и
молчали.
А она попросила:
— Скажите... пусть ото не играет, бо головочка ж
моя... распадется, расколется, недоколенная...
Но Мишко Чирва сам увидел бабку Мотрю и
выключил радиолу.
— Бабо, вот послушайте, что я вам скажу, —
наклонился к Мотре Сема Кухта, грузчик из магазина и
знаток всех законов. — Вы, бабо, вот что: сходите сейчас...
или пусть Илько отвезет вас в больницу, и пусть вам
снимут экспертизу с головы. Мы этого гада полосатого в
тюрьму упечем!
— Да может, оно, сынок, и само... без той спертизы
заживет... Я подорожничек приложила, ватки...
— Экспертиза — это не лекарство, — пояснил
Кухта. — И не уколы. Вам только рану обмерят и справку
дадут — про побой.
— О-о-ох, нет, сынок, не хочу, — закачала головой
баба Мотря. — Оно и так печет... а как еще мерить
начнут... Может, оно и само перестанет... Я ж подорожничку
приложила...
Ш
. Сема рассердился, закурил и сказал:
— Гад полосатый. Тронул бы он меня! — И повел
худыми острыми плечами. — Тронул бы он, слышь, меня!
А к клубу шли и шли люди, со всех концов села, даже
с хуторов, что жались к нему, — по одному и
небольшими группами, все, кто был днем на работе. Шли, хотя
дома ждали дела неотложные, и детей одних оставив...
Пусть. Ведь судить будут не кого-то там, а самого ЯВУ!!!
Один за одним прошли в клуб, не останавливаясь
возле людей, озабоченные и сосредоточенные (как и
надлежит судьям) члены товарищеского суда: заведующий
кооперацией Тельнов, в военном галифе офицерского покроя
и штатском кителе с медалью «За Победу»; за Тельновым
сердито процокотала каблучками по цементированным
ступенькам молоденькая и красивая девушка Соня
Касьян, звеньевая — передовичка с орденом «Знак Почета»
(бровки Сонины были так по-детски нахмурены, так
гневно дрожали, что посторонний подумал бы: новенькую
прокуроршу прислали); за Соней прошел и директор
школы, председатель товарищеского суда Николай
Николаевич Матяш, человек почтительный, не только по долгу,
но и по характеру: он кланялся каждому персонально.
Судей не очень дарили вниманием — ждали Яву.
А когда наконец завидели его еще за мостом, умолкли все.
Ява шел не один, а со своим товарищем и тайным
советником Иваном Ивановичем Шпугой — суфлером
драмкружка, вечным колхозным объездчиком, а ныне
пенсионером. Шпуга говорил очень быстро и очень четко — так
стучит дятел по сухому дереву, за что его и прозвали
«Ваня-Ваня». Он был не только хорошим суфлером, но
еще умел и наблюдать за грехами человеческими, как
никто в селе, а может, и в целом свете. Даже сейчас, когда
грех перестал быть насущным для односельчан Вани-
Вани, он не забыл своего второго после суфлерства
ремесла. Стоит у своего двора и водит головкой (дятловской)
сюда-туда, туда-сюда, так же быстро, как и говорит. Идет
из лавки молодица, тащит полную корзину с хлебом и
ситро, здоровенькая, грудастая... а Ваня-Ваня
внимательно щурит на нее глаза, и ему кажется, что там, под
плюшкой, у нее не грудь, а мешочки с рожью или бураки.
— Ты-много-не-говори-с-ними, а-молчи, — стучит
Ваня-Ваня, задирая голову к Явиному уху. — Скажешь: не
нарочно, в сердцах. Не заметил, как. Нервы подвели.
Ява медленно закрыл глаза и сказал:
— Знаю.
144
И снова открыл глаза, и ничего больше не сказал, а
смотрел на людей у клуба. «Ишь сползлись...» — подумал
хмуро. И уже не слушал, что выстукивает ему
Ваня-Ваня. Он знал, теперь он уже знал, что сделает после суда.
Ява ни с кем не поздоровался, а только обвел всех
взглядом из-под припухших век, словно пулю каждому в
грудь загнал: «Не вы ли... ты, ты, ты бегали за мной, как
цуцики?.. А теперь судить пришли...» Многие не
выдерживали взгляда Явы и опускали голову или отводили
глаза.
Потом приехали в одном «бобике» председатель
колхоза и председатель сельсовета, такие же озабоченные,
как и члены товарищеского суда, и председатель колхоза
сказал, обращаясь ко всем:
— Заходите, товарищи, будем начинать.
Ни он, ни председатель сельсовета даже не взглянули
на Яву. На бабку Мотрю тоже.
И суд начался.
Бабу Мотрю (женщины ввели ее в зал под руки)
посадили на переднюю скамью, а Яву у окна, далеко от
бабы Мотри, но тоже впереди, возле сцены.
— Эй, а почему бабуле — лавка, а тому урке —
стул?! — крикнул Мишко Чирва в окошко, из которого
идет кино.
В зале зашумели.
Председатель суда Матяш поднялся на освещенной
сцене из-за стола, застланного красным (по обеим
сторонам его сидели Тельнов и Соня Касьян), постучал
карандашом по графину с водой и сказал:
— Прошу тишины, товарищи, и порядка, иначе
получится не суд, а ругань... А вы, товарищ Брус, сядьте,
пожалуйста, вон там, на скамью, как положено по нашему
уставу.
Ява пожал плечами, скрипнул стулом и пересел в
первый ряд слева.
— Так вот, дорогие товарищи, — выждав, пока Ява
пересядет, продолжал директор Матяш. — Приступим к
рассмотрению дела. Кхм... Вы, наверно, уже знаете, что
произошло со всеми нами уважаемым до недавнего
времени Яковом Нестеровичем Брусом... Тише, товарищи!
А произошло такое, что тень упала на весь наш дружный
коллектив односельчан. В пятницу вечером товарищ
Брус Яков Нестерович ударил... кхм.... по голове Мотрю
Кондратьевну Борозняк и нанес ей рану. Чем ударил и
при каких обстоятельствах это произошло, нам расскажет
Ю Г. Тютюнник 145
сама Мотря Кондратьевна. Итак, давайте послушаем ее.
И прошу не перебивать.
В зале стало так тихо, что слышно было, как на
бересте за клубом воркует дикий голубь.
Баба Мотря поднялась, повернулась к людям и, тихо
плача, начала раскутывать голову. Она сняла по одному
все платки.
— Голову показывать необязательно, — сказал ей со
сцены Тельнов. — Тут, бабушка, не больница.
— Да нет, я покажу... Пусть люди посмотрят... —
Мотря наклонила голову к залу и, разгребая пальцами
спутавшуюся седину, говорила, захлебываясь плачем: —
Поглядите, люди добрые, что он со мной сделал...
поглядите... Он же меня убил...
Женщины в зале ахнули, мужчины загудели, Ява
отвернулся к окну, а Сема Кухта крикнул:
— Гад полосатый!
— Прошу не оскорблять подсудимого, — снова
постучал карандашом по графину директор Матяш. — Тут суд!
А баба Мотря жалобно выстанывала:
— Веду я, люди добрые, корову межой... За налыгач
держу. А она, известно, скотина несмышленая... Дернула
меня с налыгачем... аж я чуть не упала... и откусила
корова полшапки подсолнуха с его, — баба кивнула на
Яву, — огорода... Полшапочки... Так разве за это убивают?..
А он как раз картошку копал. — Баба снова кивнула на
Яву: — Да хоть бы что сказал, пусть бы уже выругал или
еще что... А то — хвать корешок подсолнечника,
прошлогодний, с землей, — и по голове меня... Упала ж я, лю-
доньки милосердные... — тут кое-кто из женщин тоже
заплакал в платочки,— и белый свет мне кругом пошел.
Опомнилась, аж когда Параска Останова с того свету
достала и в хату повела. Ведет, а у меня в глазах будто
сажа кругом сыплется... И ноги как веревочные. Убил
окаянный...
Ява закрыл глаза и хмыкнул:
— Если б убил, то вы тут не стояли б...
Однако его мало кто услышал, лишь те, кто сидел
неподалеку, но они промолчали. А Ваня-Ваня — он сидел
сразу за Яковом — просуфлировал:
— Тихо-тихо-молчи!
— Да разве его здесь судить! — крикнул из
кинобудки Мишко Чирва. — В народный суд его сдать! В капе-
зе!!! Пусть штаны расстегнутыми поносит, без пуговичек!
— Это решит товарищеский суд, куда его сдать, —
146
тоненько, фальцетом крикнул Мишку в будку Тедьнов,
покраснев от натуги.
— Сейчас пуговичек на штанах не срезают, — громко
заметил всезнающий Семен Кухта. — Только ремни
отбирают.
— Мотря Кондратьевна, такой вопрос к вам, —
напустив бровки на носик, сказала заседательница Соня
Касьян. — Вы врача вызывали?
—- Нет, моя деточка, — вздохнула баба Мотря. Она
уже выплакалась и снова, один за другим, надевала
платки. — Подорожничек прикладывала с Параской, спасибо
ей, да ватки сверху, так оно и отпустило. Для чего ж
людей беспокоить, если и так полегчало... Да и, сказать
правду, боюсь я уколов, дочка...
— Все равно укол нужен, — заявил Семен Кухта. —
Иначе столбняк шарахнет — и хана.
На него зашикали, сказав, чтоб у него «язык отсох».
— Что ж, товарищи, тут все ясно. Информация
потерпевшей исчерпана, — сказал директор. — Послушаем
другую сторону, обвиняемого. Что скажете вы, Яков Нес-
терович?
Брус грузно поднялся, став одним боком к судьям,
другим к залу, медленно опустил веки и не открывал глаз
до конца своей речи:
— А что тут говорить? Ну, оцарапал подсолнухом
сгоряча, в сердцах... Было такое. Так пусть не зарабатывает,
Я что, свой огород сажаю для того, чтоб чужим коровам
скармливать? Раз половинку, второй — половинку
подсолнуха... Пусть корову проулком гоняет, а не мимо
чужого огорода.
— Так, может, над нами и небо твое, Яков? —
прошамкал дед Свирид Мишлик, криво (от фурункулов на
шее) склонив голову на плечо.
Люди заулыбались и с любопытством поглядывали то
на деда, то на Бруса.
Ява помолчал, не открыв на Свирида даже
полглаза, и сказал:
— Над моими грядками... и небо мое.
В зале притихли, судьи удивленно и сурово смотрели
со сцены вниз на Яву, а он медленно открыл глаза и сел.
— Разрешите сказать, — поднялся председатель
колхоза Титар, худой, долговязый, в простой спецовке. —
Стыдно, товарищи. Не то что говорить про этот позорный
факт — подумать стыдно. А что про нас с вами,
товарищи, в районе скажут, когда узнают? Вырастили такой
Ю* 147
урожай проса, кукурузы, свеклы и вот вам,
пожалуйста, такой ляпсус... Это с одной стороны. А с другой,
нам нужно рассудить так, чтобы не нарубить сгоряча
дров. Все мы, товарищи, знаем, что Яков Нестерович
Брус отдал много сил и энергии для поднятия нашего
хозяйства. Не было такого участка, за который бы он взялся
и завалил бы. Да и каждому из вас, кто здесь
присутствует, Яков Нестерович сделал немало добра. Не было
такого дня, чтобы он не просил у меня лично: кому
машину, кому лошадей, кому трактор — и никто из вас за это
в колхозную кассу трешек не носил...
— Он натурой брал! — выкрикнула какая-то
молодица, и в зале захохотали.
— И у тебя, Настя, брал?...
— Брал, паразит!
— Тише, товарищи, тише!
— Пусть расскажет, как он на работу посылал! Он же
никогда никого по имени не называл, а постучит кнутом
в окно: «Тебе — на свинарник!» — хлестнул жеребца и
поехал. И попробуй скажи ему хоть слово...
Ява вдруг встал, повернулся к залу, закрыл глаза и
сказал:
— Ас вами иначе и нельзя. С вами только так и
нужно. Ибо по-хорошему, вы наработаете — черта пухлого!
Вон Ванька Хуторной, — Ява с полузакрытыми глазами
кивнул на парня в солдатской гимнастерке, своего
преемника по бригадирству. — Тот с вами и так, и этак... по-
культурному: Фекла Панасьевна, Настя Григорьевна... не
пошли бы вы сегодня на свеклу? Вежливый... Ну а толку?
Свекла вон и до сих пор в земле сидит. А при мне вы б
про нее уже давно и думать забыли бы. Так что я вас
знаю. Я насчет вас грамотный! — Брус хмыкнул, не
разжимая губ, открыл глаза и сел.
— А-что-неправда? — застрочил Ваня-Ваня. —
Правда!
— Скажи ты, Иванько, — зашептали молодому
бригадиру те, кто сидел рядом с ним.
— Отпаяй, Ванюша! — крикнул из кинобудки Мишко
Чирва.
Парень бригадир встал, хорошенький, румяный, как
девушка (Соня Касьян, заседательница, сверкнула на него
из-под тоненьких бровей), и сказал Яве:
— Там, где я служил, дядя Яков, есть такая
поговорка: «Хитрый Митрий — умер, а глядит...» Я, конечно, не
желаю вам смерти ни нормальной, ни от корешка подсол-
148
нечника. Живите себе на здоровье... А свеклу мы выберем
своевременно без вашего кнута!
Ивану захлопали в ладоши, и он сел, юно, стыдливо
улыбаясь.
— Давайте по существу дела, товарищи, — заметил
председатель суда Николай Николаевич. — Мы не на
собрании. Слово предоставляется свидетельнице Параске
Остаповне Кныш.
Параска, соседка Мотри Борознячки, начала с того, что
заплакала и, проглатывая слова, затараторила:
— Гляжу я — упала тетка Мотря, как травиночка
скошенная. А корова сама ко двору идет... А он, —
ткнула пальцем в Явину спину сердито, словно штыком, —
лопату на плечо и пошел в хату. Хоть бы подняться
помог, вовкулак, хоть бы оглянулся. Подбегаю ж я к тетке,
а она лежит и ртом вот так, вот так — словно зевнуть
хочет... И корень подсолнуха возле нее валяется. А кровь
из головы так и льет... Ухватила я ее...
— Ну, дальше ясно, — перебил Параску Тельнов.
И напрасно перебил.
— Что ясно? — сверкнула на него сухими-пресухи-
ми глазами Параска (только что ведь плакала!). — Ты
ящиками из лавки таскаешь себе все, так тебе и ясно!
А нам темненько. Тюльки, гадство, не купишь, как
захочется. Ясно ему... Тебе тоже там вон, возле Якова, место!
— Это пр-рывокация!!! — закричал Тельнов,
перегибаясь через красный стол к залу.
— Может, и провокация, но правда, — тоже
подхватился с места грузчик из магазина Сема Кухта. — Только
ящики он не таскает, а казенными, кооперативными
лошадьми возит. Я не раз видел, но не догнал. Разве коня
перескачешь?..
— Это он от тебя убежал, — зло улыбнулась
Параска. — А я бы его догнала!
Хлопцы механизаторы, что столпились под «галеркой»
и пыхкали цигарками, засмеялись, кто-то из них крикнул
весело-поощряющим баском:
— Так его, Парася, крой, чтоб аж дым шел!
Мишко Чирва переливчато свистнул из своей будки.
Баба Вухналька спросила у соседки:
— Кого это они хотят бить?
Председатель суда Николай Николаевич стучал по
графину и говорил быстро-быстро:
— Товарищи, товарищи, это уже не суд, а базар и...
какая-то круговая порука. Да-да-да!
149
«Да-да-да» он произнес с угрозой в голосе, и она не
шла ни к его светло-серому костюму, ни к галстуку в
горошек.
А Ява прогудел, закрыв глаза:
— Ну что, поговорили с ними? Разве с ними так
говорить? С ними не такую грамоту нужно знать! — И
смеялся, не разжимая губ, одним носом.
И тут, подняв руку над головой, встал председатель
сельсовета Круглик, мужчина еще молодой, но с
авторитетом на лице. Председателя прислали недавно из
соседнего сокращенного района.
— То, что творилось только что в зале, — сказал он,
и все сразу притихли, потому что любили послушать
нового человека, — называется анархизмом. А это такое
дело, про которое сказано, что оно нехитрое. Если
действительно завкооперацией возит себе домой товары, то
что ж за ним пешком гоняться? У меня есть служебный
мотоцикл... и я никогда его для доброго дела не пожалею.
Но давайте, товарищи, решим сначала одно дело — о
поступке Якова 1|руса.
— Пусть заплатит бабе Мотре за голову пятьдесят
рублей! — вырвался первым Сема Кухта.
— Нет такого штрафа, — успокоил его председатель
суда. — Это за мелкое браконьерство берется пятьдесят
рублей. А за недостойное отношение к женщине есть
такие виды наказания, зачитываю: предупреждение,
общественное порицание, общественный выговор, извинение,
штраф в размере десяти рублей. И штраф этот, товарищ
Кухта, вносится в государственную кассу, а не
разбрасывается во все стороны... Это справка для тех, кто не
знает устава товарищеского суда. А сейчас коллегия суда
идет на совещание. Прошу встать, товарищи.
Кто встал, кто нет, кто направился к выходу на
перекур. В зале загудели, заговорили, а судьи пошли в
гримировочную и закрылись там.
На дворе давно уже стемнело, умолк дикий голубь на
сухом бересте, улетев в гнездо к своей голубке, в фойе
прохаживалась парочками молодежь, ожидая танцев —
суд ей был неинтересен и казался смешным, — а в
глухом, под галеркой, углу зала какая-то хуторская
молодица, торопливо облизывая губы, рассказывала женщинам:
— Похоронили в Саевичах недавно одного деда...
А после похорон кинулась родня: сберкнижку забыли у
деда из костюма вытащить... Откопали могилу, а она
пустая.... Ни деда, ни костюма, ни книжки...
150
— ...Да не нужно мне его денег, лишь бы только го-
ловочка эажила, огород же убирать нужно...
— ...Чем же вы, дедушка, едите?
— Да когда-то деснами ел, а теперь уже и десен
нет.
— ...Вот увидишь, ничего ему не будет. Дуль целых,
дуль десятых, как сказал один простуженный.
— Да нет, мы ему рога сегодня чуток пообломали!
— Чудаки вы!..
Вскоре из гримировочной вышли судьи, и
председатель-директор прочитал решение: обязать товарища Бруса
извиниться перед товарищем Борозняк и оштрафовать его
на десять рублей.
— Деньги заплачу, — сказал Ява, не вставая с
места. — Если хотите, то и больничные заплачу, сколько
она там лежать будет — неделю, две. А на коленки
становиться не буду: пусть улицей корову гоняет, тогда
никто ее не тронет.
И первым пошел к выходу.
Его проводили молчанием.
Только кто-то сказал, будто сам над собой смеялся:
— А что — взяли?!
На мосту Ява остановился, чтобы подождать Ваню-
Ваню, сплюнул в черную осеннюю речку — только
кувшинки под берегами чуть поблескивали в полутьме — и
буркнул:
— Я с вами еще поговорю...
А от клуба в спину ему лихо покрикивала радиола:
Как у нас в садочке,
Как у нас в садочке
Розы расцвели...
И смеялась молодежь.
Придя домой, Ява выгнал жену в боковушку, чтобы
не приставала с расспросами, сел за стол и написал
заявление, в котором давал правлению колхоза свое согласие
вернуться на прежнюю должность бригадира или даже
более ответственную — старшим бригадиром, чтобы и
дальше приносить «общую пользу». Потом выпил
поллитровку, придавил заявление донышком пустой бутылки и
лег спать.
151
СМЕРТЬ КАВАЛЕРА
Егорка почувствовал сквозь сон, как по глиняному
полу зашлепали материны босые ноги, и проснулся.
В хате стоял густой предутренний сумрак, окна за ночь
намерзли так, что их и не видно было. Только в одном, с
подветренной стороны, мерцала синеватая лунка. Сквозь
нее заглядывала в хату расколотая на блестки звезда.
— Ишь ты, холодище какой, — сказала мать и
принялась громко дышать в стекло. Лунка округлилась, стала
больше, впустила в хату еще одну звездочку. — Вставай,
Егор, светает.
Егорка заворочался, пощупал лежанку, угадывая по
ней: пора подниматься или нет. Лежанка совсем остыла,
как и всегда перед рассветом, из-под рядна удушливо
пахло сухой глиняной пылью и выветренной сажей. Пора.
Пока мать зажигала коптилку и, гремя заслонкой у
холодной печи, доставала завтрак, Егорка еще немного
полежал, по-детски зажав коленями ладони и громко
дыша за пазуху, чтобы согреться на дорогу. Вдруг вспомнил
о своей радости и окончательно проснулся.
— А к нам, мама, нового заместителя прислали, —
похвалился, натягивая на худенькие плечи измятую
защитную гимнастерку. — С орденом! Прямо с фронта.
Директор говорит про него: наш кавалер...
— Вон как! — удивилась Приська. — Герой, да еще,
вишь, и молодой...
— Да нет, мама, кавалер — это кто имеет награду.
Приська высыпала в миску остатки вчерашних
галушек. Вместе с юшкой выпали синяя картофелина и две
галушки глиняного цвета.
— Может, вас и кормить теперь будут лучше, раз
герой?
— Да говорили хлопцы, приварок гуще будет, а там
кто знает...
Егорка присел к столу, колупнул кусочек
картофелины, съел галушку и, поймав ложкой несколько
желтоватых масляных блесточек, запил юшкой.
— А это, мама, вам, я ведь в училище еще раз
позавтракаю, — сказал, отодвигая миску на середину стола.
И, может, потому, что галушки были холодные, а от окна
студило спину, голос у него дрожал.
— Давайте мне обувку.
Приська вынула из предпечья загрубевшие ботинки,
152
надетые на тонкие поленья, пару больших портянок из
мешковины и целый пучок жестких, как проволока,
завязок. Егорка разложил все это на лавке кучками и
принялся обуваться. Сначала натянул старые, без пяток,
носки — чтобы не выглядывала босая нога и нигде не терло,
потом обернул ботинки портянками и обвязал туго-натуго,
чтобы не перевязывать дорогой. Главное — добраться хотя
бы до полпути. А там портянки обмерзнут, заледенеют
и уже не размотаются до самого города. Там их все
равно нужно снимать, потому что такая обувка не по
форме.
— Экий ты у меня несмелый... — вздохнула мать,
помогая Егорке. — И ботинок тебе не досталось... В отца
пошел. Он, поди, и погиб, казак, потому, что вот так где-
то чего-то не посмел. Те, кто половчее, вернулись...
— Ботинки, мама, давали только сиротам из
патроната, — ответил Егорка.
— А шапку?
Егорка быстро замигал и отвернулся в угол.
По хате разгуливали сквозняки, коптилка выписывала
на потолке черные петли, тени по углам дышали, как
живые.
С шапкой Егорке и вправду не повезло: большая
попалась, да еще и со штампом почти на самом лбу: «БУ».
У других хлопцев на шапках тоже были штампы, но ведь
не спереди, а сбоку или где-нибудь на подкладке.
Теперь, как только Егорка появлялся вечером у клуба,
Васюта Скорик, тоже ремесленник (он был старостой
группы и носил новую офицерскую шапку без штампа),
обнимая девчонок — обязательно двух сразу, — начинал
всем подмаргивать и напевать:
Ой дайте меш,
Що думали дати, —
Чорно! кожушины
Шапку налатати...
Девчонки падали со смеху, извиваясь в объятиях Ва-
сюты, а он в это время щупал их.
— Дай ему по морде! — советовали Егорке старшие
ребята и тоже смеялись, потому что знали: он Скорика не
одолеет.
Егорка и не пытался драться. Жался молча в каком-
нибудь углу, пряча в темноте не так себя, как шапку со
штампом... Но однажды не утерпел. Подошел к Васюте
вплотную и сказал:
153
— Ты... Слышишь? Ты... не дразнись... Может, в этой
шапке моего отца убили... Слышал? Д-дурак! — И вновь
забился в угол.
Однако с той поры в клуб больше не ходил и перестал
забегать поутру к Васюте, чтобы вместе идти в
город.
...У кого-то запел петух. Сначала весело, лихо, но
вдруг на полуноте захлебнулся морозом и умолк.
Егорка, в старом платке под шапкой, в серой шинели,
подпоясанный брезентовым ремнем, припал к окну.
На дворе была ночь, но Егорка знал, что так только
кажется после коптилки, а на самом деле светает. Вон
уже и звезда низко — блестит, острыми иглами
постреливает во все стороны. А стекла потихоньку гудят от
ветра, словно под ними дратву навощивают.
— Так я пойду, мама, не то на завтрак опоздаю.
— Ты ж там слушай мастера, Егор, — сказала Прись-
ка, провожая сына до сеней. — И учителей слушай.
Всех. Да лицо не обморозь, сегодня тебе против ветра
будет...
— Да уж постараюсь, — пообещал Егорка,
переступая остренький сугроб у порога. — Буду беречься...
И, захлебнувшись морозом, как петух, что недавно
пел, закашлялся и пошел к выгону.
II
Идти Егорке тепло. Ноги аж горячие. Только в спину
покалывает да в носу пощипывает — крутой воздух на
морозе, не продохнешь, повернется Егорка спиной к
ветру: ка-хи, ка-хи... Были бы на этом краю собаки, всех бы
побудил. Но их нет. Как еще в войну перестреляли
немцы, так до сих пор и не развелись. Глухо по дворам. И в
селе глухо. Поскрипывает ветер деревьями, старыми
хлевами, изгородями, насвистывает в пряслах и мерзлых
ветвях.
Егорке хорошо видно, где снег давний, а где намело за
ночь. Старый чернее, затянут ледком и гудит под
ногами, как пустая кадка. А сугробы белые-белые,
сложены в складку и покрыты зелеными тенями — луна
взошла.
В хате Скорика светится. Видно, и Васюта уже встал.
Ничего, нужно будет — догонит. Он всегда догоняет,
потому что один ходить боится. Это он только возле клуба
герой...
154
За селом ветер так и строгает. Нет хат — нет
затишка. Только телефонные столбы да луна далеко в степи над
скирдой соломы. Горбится Егорка, глубже засовывает
руки в рукава потертой шинели.
Гух, гух, гух — отзывается под ногами старый снег.
А метель навстречу по земле змеями извивается, шипит,
трется об ноги.
Интересно, что сейчас Валерий Максимович делает?
Наверно, уже проснулся, умывается. А на стуле —
китель, ордена и медали блестят. Много-премного! Если бы
на его, Егоркину, грудь, — и не уместились бы...
А вчера Валерий Максимович и его заметил, и даже
заговорил с ним. Сидел с хлопцами в красном уголке,
про войну рассказывал. И мастер группы Полуляк там
был. Ростом он еще выше, чем новый заместитель,
потому и в моряках служил. И ордена носит не так, как
Валерий Максимович, а наискосок. На лбу у мастера
ямочка от осколка, и белый рубец, кажется, так и
дышит.
Егорка, по правде сказать, не все и слышал, что
рассказывалось, потому что стоял далеко. Если бы не шапка,
ближе подошел бы, а то...
— Кем же вы начинали войпу? — спросил мастер у
Валерия Максимовича.
А тот лишь улыбнулся:
— Сержантом, — говорит. — Мы, украинцы, все
потенциальные сержанты, потому что любим и командовать
немного, и подчиняться...
Тут мастер засмеялся и головой закивал... И
хлопцы засмеялись, хотя и не поняли: как это —
потенциально?
Потом Валерий Максимович начал рассказывать, как
сразу четыре танка поджег....
Вот это да! А рассказывает, будто и не он это сделал,
а другой кто-то...
Егорка прислушивался, прислушивался, потом взял да
и подошел ближе. Тут Валерий Максимович его и
заметил. Говорит:
— Что ты, мальчик, так на меня смотришь?
И все сразу на Егорку поглядели странно как-то,
будто впервые увидели...
А Егорка и растерялся.,*.
— Да... — насилу вымолвил, — интересно ведь... Если
немцев было вон сколько, а вы один!
Валерий Максимович улыбнулся:
155
— Хороший ты, видно, паренек, — сказал. — Только
вот шапка у тебя, брат, подкачала...
А ему вовсе и не обидно было, и не стыдно за шапку.
Разве он виноват, что на складе лучших нет?..
— Ничего, орлы, — сказал Валерий Максимович
всем. — Вот мы вам на лето выхлопочем форму и
фуражки черные, с молоточками. Как твоя фамилия,
мальчик?
— Човновый... Егор Човновый.
— Так вот как будет, Човновый. Красиво, правда?
Еще бы, если и фуражка с молоточками...
,..Бух, бух, бух — весело отзывается под ногами
старый снег. Метель утихла. Луна уж совсем отбелилась,
будто отошла на морозе. Впереди из прозрачной дымки
выступил городок: пожарная каланча с грибком снега на
крыше, несколько кирпичных домов между голыми,
унизанными гнездами тополями, а дальше хаты и хаты —
новые и покосившиеся, под соломой и черепицей, как в
селе.
У мостика, за которым начиналась городская мостовая,
Егорку догнал Васюта Скорик.
— Не зашел?.. — засопел над ухом. — Ну и шиш
тебе, а не вторая порция. Вот сегодня хуторские, говорили,
не придут, так я их порции патронацким отдам, а тебе
шиш...
От Васюты пахло рыбными консервами и запекшейся
корочкой топленого молока. Так пахло, что Егорке даже
привиделась эта корочка — румяная, хрусткая, и белая
каемочка по краям... Ну-ка, если у него отец завфермой,
а мать в магазине торгует...
Васюта закурил пахучую папиросу и заложил руки,
как директор училища: одну за борт шинели, вторую в
кармап.
— А я вчера был в клубе, — похвалился Васюта
немного погодя. — С Натусей Налисной обнимался...
Маленькая, а целуется, стерва, как пьявка. До сих пор
губы щемит... — плюнул через щербатый зуб и запел:
Ах, зачем ты меня ядом напои-ла-а-а... Ха-ха!
На каланче забили в рельсу: бем-бем-бем... Восемь
часов.
Вот и училище. Запахло горячим черным хлебом и
постным паром из кухни.
Егорка присел на твердый сугроб и принялся
разматывать обмерзшие портянки.
156
Ill
Возле училища, в затишке — толкотня. Заложив руки
под мышки, хлопцы толкают друг друга плечами, трутся
в толпе, приплясывают, лишь бы как-нибудь согреться.
А в скверике, прячась от мастеров, патронацкие продают
женщинам вчерашние пайки хлеба, чтобы выручить на
табак или теплые портянки. За ночь пайки усохли, на
двести граммов уже не тянут. Женщины взвешивают
краюшки на ладонях, мнутся. А продавцы возле них туп-
туп, прыг-скок. Губы синие, глаза слезятся.
— Так сколько же здесь? — спрашивает женщина.
— Двести граммов, тетя, как в аптеке на весах!
— А просишь сколько?
— Тридцатку, тетенька.
— А если за десятку?
— Хо-го!
А мороз печет, аж ресницы слипаются. Однако в
помещение никто не идет: во-первых, туда до линейки
никого не пускают, во-вторых, все ждут Василя Титу,
городского дурачка. Вон уже плетется. Высокий, худой. В
немецкой шинели с облезшим бархатным воротником, а на
шапке — красная широкая лента наискось... Толпа
ремесленников срывается с места и с гоготом движется ему
навстречу.
— Ура партизану! — выкрикивает кто-то,
приветствуя Титу.
— Ура-а-а! — горланят все.
Тита останавливается, вытягивается по команде
«смирно» и прикладывает к виску красную грязную
ладонь. Глаза у него жутковато-серьезные, губы плотно
сжаты.
— Хлопцы, да он босой! — замечают в толпе.
— Ура-а-а!
— Тита, ну-ка айда на «тигра»! — предлагает Васюта
Скорик.
Дурачок поднимает кверху скорченный палец.
— Аймомент! — И босиком лезет на обмерзший танк,
что стоит посреди улицы, уткнувшись в сугроб.
— На линейку-у! — кричат от училища, и
ремесленники, оставив забаву, бегут на площадь.
...Группы строятся быстро, потому что всем хочется
поскорее попасть в столовую. А Егорка забыл, что и ноги
замерзли, — то и дело становится на цыпочки, чтобы
увидеть за шапками Валерия Максимовича. Вот он. Стоит
157
посреди площади с мастерами и преподавателями. Те все
в черном, а он в новенькой серой шинели, с портупеей.
Что-то говорит Полуляку и улыбается.
Но вот из-за штабеля досок показался директор
училища Сахацкий. Он всегда появляется внезапно, и на
какой-то миг все оторопели: и ремесленники и мастера.
А Валерий Максимович — нисколечко!
— Училище, р-роняйсь! — завопил военрук Витков-
ский, крепко прижимая к бедру протез левой руки.
Линейка замерла. Головы рывком повернулись
направо, но шапки у многих так и остались на месте — не тот
размер...
— Псирна-а! — И триста шестьдесят носов снова
слились в одну линию с пятиконечными следами звездочек
на шапках.
— Здравствуйте, товарищи ремесленники! — тихо,
чтобы все прислушались, сказал директор. Шея у него
толстая и короткая, щеки лежат на воротнике — красные,
натертые сукном. А глаза косые, разбегаются в разные
стороны, поэтому каждому ремесленнику кажется, что
директор смотрит именно на него — и всем чуточку не
по себе.
— Здра-жла-таш-дирек!.. — рявкнула линейка,
взрываясь белым паром.
Началась утренняя поверка. А вскоре все училище
двинулось к столовой.
— За-пе-ва-ай! — скомандовал военрук Витковский.
И ремесленники разноголосо, растягивая песню, до
самого хвоста длинной колонны, загорланили:
Я дулемет-чи-ком ро-дил-ся!
Я пулемет-чи-ком пом-ру!
Потом впереди начали второй, более суровый куплет
о судьбе пулеметчика, а позади еще веселее дотягивали
первый:
...и-ком пом-ру!..
Возле столовой колонна разбрелась: одни стали
заглядывать в окно хлеборезки, следя, много ли недовешивают;
другие толпились у кухни и кричали в открытые двери:
— Зинка, вынеси мяса!
— Эй, Подоляк, кинь горбушку. Я когда дежурил,
так... Помнишь?
Егорка стоял в очереди в столовую, потому что его
группа всегда входила следом за двумя первыми. Но се-
158
годня ее почему-то не впускали. Сквозь окно, затянутое
марлей, было слышно, как гремели железные миски, по^
том кто-то крикнул, и в столовой зашумели, грохнула на
пол скамья, за углом зазвенело и посыпалось на обледе-*
невшую землю стекло...
Те, кто был на дворе, притихли. Но вот двери столовой
с грохотом отлетели к стене, из густого пара стали выска^
кивать раскрасневшиеся, возбужденные ремесленники.
— Не ешь, братва! — крикнул кто-то.
— До каких пор нас будут обкрадывать?!
— Не входи, хлопцы!
Микола Чмутик, из третьей группы, прославленный в
училище мастер присвистывать в песне про «соловья-пта*
шечку», что «жалобно поет», заложил в рот четыре
грязных, как у Титы, пальца и пронзительно свистнул. Толпа
нервно захохотала, колыхнулась из стороны в сторону,
Егорку больно прижали к стене, толкнули, и он очутился
в столовой. В давке видел лишь перед собой Васютино
лицо и оскаленные щербатые зубы.
— Заходи, хлопцы, — испуганно бормотал Скорик. —
Нам погуще дадут! Нам — вкуснее... Заходи! Вкуснее,
говорю, дадут... Эх, кугуты...
— Вон! — хрипло простонал Егорка и хотел
высвободить руку, чтобы оттолкнуть Васюту, но не смог:
прижали. — Выслужиться хочешь, морда, вон!
И сразу умолк, увидя Валерия Максимовича. Тот стоял
в противоположном углу столовой, заложив руку за
портупею, и улыбался в спину начпрода... А начпрод,
растопырив руки, метался между опрокинутыми столами и
дверью и растерянно лопотал:
— Стой! Куда прешь?.. Дай столы поднять... Да что
же это делается?.. Валерий Максимович-
Потом Егора снова толкнули. Позади кто-то испуганно
крикнул: «Директор!» — и вся группа попятилась назад,
затопала в сенях.
Стало тихо.
— Что здесь происходит? — услышал Егор и только
тогда увидел директора. Он стоял возле нового своего
заместителя, грозно набычив голову и заложив руки за
спину. — Я спрашиваю у вас, Валерий Максимович...
Валерий Максимович сделал шаг к нему и посуровел:
— Об этом же я хотел спросить у вас.
Сахацкий резко откинул голову назад — на шее стали
видны натертые воротником красные полосы*
— Вы понимаете, что это бунт?,
159
Валерий Максимович тонко улыбнулся.
— Не понимаю... Мне кажется, что это всего лишь
протест обкраденных.
— Ах, вон как... — выдохнул Сахацкий и вдруг
крикнул так громко, что Егорку встряхнуло. — Вы еще тут
порядки свои заводите, свол-л...
Егорка замер: Валерий Максимович резко качнулся
вперед и скользнул рукой по ремню у правого кармана.
— Что вы сказали?! Ах, ты, кр-рыса...
Директор чуть вздрогнул и проговорил очень тихо:
— Спокойно, товарищ герой. «Шашки вон» — прошло
то время. Прошло!
Сахацкий резко крутнулся на каблуках и пошел к
двери. Косые глаза его налились кровью, и взгляд стал
тупым, как у незрячего.
IV
На каланче пробило десять. Солнце поднялось над
городком и заиграло, зазвенело в сосульках под железными
крышами. Однако мороз не слабел. Остро блестели окна
главного корпуса, поскрипывали деревья в городском
сквере, из колодца во дворе, запруженном ремесленниками,
поднимался белый пар.
Ни одна группа не подходила к столовой. Хлопцы
искали солнечных затишков. Старост не было: их вызвали к
директору. Мастеров и преподавателей тоже. Именно это
безвластие сильнее всего угнетало ребят.
— Теперь будут доискиваться заводил... —
перешептывались в толпе.
— Выгонять начнут...
— За что?
— Вот увидишь...
Во дворе появился Тита: думал, наверное, что завтрак
уже кончился и ему что-нибудь перепадет с кухни. Он
ходил от толпы к толпе, прикладывал руку к шапке с
красной лентой, кротко улыбался хлопцам, но на него никто
не обращал внимания... Все следили за парадным.
Наконец показался военрук Витковский. Руки, живая
и протезная, вытянуты точно по команде «смирно», губы
торжественно сомкнуты, голову держит высоко.
— На площадь! — хлестнул короткой командой.
Дальше команды посыпались одна за другой, почти
без интервалов.
— Р-ренясь!
160
— Псирна!
— Этставить!..
— Р-ренясь!
— Псирна!
— Этставить...
Ремесленники с немой покорностью крутили головами
туда и сюда.
Первыми из главного корпуса прибежали старосты.
Как и всякое мелкое начальство, они были сердиты и в
то же время горды тем, что спрашивали именно с них.
«Вот видите, — говорили они всем своим видом, — вам
бы все дурака валять, а нам — плечи подставляй...»
Хлопцы начали шепотом спрашивать у них, что теперь
будет, но тут на площадь вышел директор в
сопровождении мастеров и по линейке снова хлестнула команда:
— Псирна!
Мастера быстро разбежались вдоль первой шеренги и
стали каждый у своей группы. Перед линейкой остались
только заместитель, военрук Витковский и директор.
В руках у него бился и шуршал на ветру лист
исписанной в колонку бумаги. Директор выступил вперед и
тяжело, с приглушенной хрипотой в голосе,
заговорил:
— Товарищи ремесленники... То, что произошло
сегодня в столовой, является тяжелым преступлением перед
народом, который одевает вас и обувает... Стыдно,
товарищи, за вас, чьи отцы только вчера полегли смертью
храбрых во имя...
Он говорил долго, время от времени поднимая взгляд
к верхушкам деревьев в сквере, с которых звонко
осыпалась наледь, оббивая на дубах белые вымороженные
листья...
— Так вот, — закончил директор, — те, кто сорвал
сегодня занятия, должны понести суровое наказание.
Ответить перед дирекцией, а также перед своими
товарищами.
Егорка увидел, как Валерий Максимович опустил
голову и отошел в сторону. Сахацкий подозвал к себе
военрука и, когда тот, держа руку «под козырек», рысцой
подбежал к директору, подал ему исписанный лист, а сам
вновь впился глазами в линейку.
— Первая группа, слушай! — выкрикнул военрук
Витковский. — Чабан, Тихонович, Приходько, Рева —
два шага вперед!
Ремесленники зашевелились, из задних рядов стали
И Г. Тютюнник 161
проталкиваться в первые, левое крыло линейки подалось
вперед, создавая большую дугу.
— Третья группа, слушай!
Мастер Полуляк сделал несколько шагов вперед и,
вытянувшись по-военному, сказал:
—- В третьей группе нарушителей нет, товарищ
директор. Мои даже не успели войти в столовую...
Но ему никто не ответил. А Васюта украдкой
оглянулся на Егорку и еще сильнее выпятил грудь.
— Третья группа... — продолжал Витковский. — Чму-
тик, Сябро, Човновый — два шага...
Услышав свою фамилию, Егорка быстро огляделся
вокруг, словно ища защиты у кого-то позади себя. Но там
никого не было. Те, которые стояли за ним, давно
протиснулись вперед. Позади, в сугробе под молодой осиной,
топтался лишь Василь Тита.
— Човновый!
Егорка протолкался сквозь толпу и стал рядом с
мастером перед линейкой. Полуляк чуть наклонился к нему,
зашептал:
— Что случилось, Егор? Что ты натворил? Ах ты ж
беда... Это Скорик... Больше некому...
В это время проштрафившимся скомандовали
«направо» и повели к складу. «Размундировывать...» — думал
Егорка, потому что в прошлом году с двумя
ремесленниками так и поступили, и прикусил губу, чтобы не
заплакать. Но слезы выступили сами, в глазах стало двоиться.
И когда Егорка оглянулся на заместителя, ему
показалось, что перед линейкой их стояло двое — два Валерия
Максимовича...
Возле штабеля досок, из-за которого любил внезапно
появляться директор, Егорка споткнулся о горбыль,
торчавший из-под снега, упал и потерял ботинок.
— Догоняй! — сердито крикнул Витковский.
Егорка сел под штабелем, начал лихорадочно
натягивать ботинок, но руки тряслись и так горячо-слепо было
в глазах, что он никак не мог справиться со шнурками.
Подбежал Полуляк, присел на корточки помочь и тепло
задышал Егорке в ухо:
— Ничего, Егор, ничего. — А ямка на лбу дышит,
бьется, как пульс: тип-тип-тип... — Сейчас я поговорю с
Валерием Максимовичем... Он уладит... Ничего... Все ж
таки — фронтовик... Послушают...
— Фронтовик! — крикнул Егорка, вскакивая на
ноги. — Какой же он фронтовик?!
162
Рванулся назад, к линейке, ударился головой о доску
и что было сил закричал:
— Вы... Вы... Вы... Слышите... Вы?!
И в тот же миг Полуляк поймал Егорку, прижал к
себе, Егоркино лицо ткнулось Полуляку в грудь.
— Цыц, глупый, цыц!.. Ах ты ж беда... Захворал
хлопец... Ну что ты будешь делать? Захворал...
«ТРИ ЗОЗУЛИ * С ПОКЛОНОМ...»
Любви всевышней посвящается
В новеньком дешевом костюме (три вагона кирпича
разгрузил с хлопцами-однокурсниками, вот и купил), с
чемоданчиком в руке я огибаю клуб и первое, что вижу,
хату Карпа Яркового. А перед нею сосенки ровными
рядами на желтом песке. На крылечке стоит Марфа Ярко-
вая и не отрывает от меня взгляда. Она без платка, седая,
пышноволосая. Когда-то ее волосы сияли золотом, теперь
не сияют. Видно, думаю, волосы умирают раньше,
нежели человек.
Подойдя ближе, я кланяюсь Марфе и говорю через
молоденькие сосны:
— Здравствуйте, тетя.
Марфа шевелит губами и провожает меня дальше,
пока я не войду в сосну «большую», у нас ее называют
еще «та, что твой отец сажал».
Дома меня встречает мама, радуется, плачет и
подставляет для поцелуя синие губы.
— Мама, — спрашиваю после того, как новости
студенческие рассказаны (сессию сдал, костюм вот
купил), — а почему Марфа Ярковая так на меня смотрит?
Мама долго молчит, потом вздыхает.
— Она любила твоего отца. А ты на него похож...
Марфа, тогда ее в селе за малый рост называли
«маленькая Марфа», сердцем чуяла, когда от моего отца
(порой он ездил на заработки) письмо приходит. Она
чувствовала его, это письмо, должно быть, еще издалека, еще
с полдороги. И ждала. Придет к почте, сядет на
деревянные ступеньки — тоненькая, хрупкая, в старенькой,
местами она просвечивается, вышитой сорочке и сборчатой
юбке над босыми ногами — и сидит, сияет желтыми куд-
* Зозуля — кукушка. В украинских народных думах и
песнях — вестница разлуки и печали.
11* 163
рями из-под черного платка: убежала от молотилки или
от косаря, за которым вязала, или с луга, где сено
скирдуют.
Сидит, обрывает лепестки с ромашки и шепчет:
«Есть — нет, есть — нет...»
Когда из-за почты выходил наш почтальон дядько
Левко, высоченный, худой, как сама худоба, с брезентовой
сумкой через остро поднятое вверх плечо, Марфа
вскакивала ему навстречу и спрашивала тихо, умоляюще
заглядывая снизу в его глаза:
— Дяденька Левко, есть письмецо от Мишка?
— Нет, — отвечал Левко, блуждая глазами поверх
золотых Марфиных волос, выбившихся из-под платка.
— Неправду говорите, дяденька. Есть...
— Ну есть! Есть... Дак не тебе, а Софии.
— Дяденька Левко! Дайте я его хоть в руках
подержу...
— Нельзя. Чужие письма нельзя никому давать.
Запрещено.
— Я только в руках подержу, дяденька, и отдам.
Синие Марфины глаза полнятся слезами и светят на
дядьку Левка еще синее.
Левко оглядывается вокруг, вздыхает немощной худой
грудью и манит пальцем Марфу за почту* Там он достает
из сумки конверт и протягивает ей.
— На. Только никому не говори,, что давал, а то...
выгонят меня.
— Не-не-не, дяденька! — задыхается Марфа. — Вот
вам крест святой!
Она хватает письмо, слезы катятся по щекам,
прижимает его к груди, целует обратный адрес...
— Чернила слезами' не размажь, — говорит Левко и
отворачивается — ждет.
Марфа, если поблизости не видно людей, не скоро
отдает ему письмо и шепчет, шепчет:
— Ну вот видите, ничего я ему и не сделала... Теперь
несите Софии. Я ж ничего ему не сделала... Спасибо,
дяденька, родненький... Нате вам вот, выпейте за4 здоровье
Мишка, — Марфа достает из-за пазухи скомканный рубль
и вкладывает Левку в ладонь.
— Разве что за его здоровье, — бормочет Левко, —
а так ни за что не взял бы...
И шагает селом, подняв вверх острое плечо с почти
пустой сумкой (тогда не очень-то люди писали друг
другу).
164
А Марфа бежит на работу, птицей летит, чтобы
отработать до вечера свою норму, и ветер сушит не
высушит слезы.
— А кто вам об этом рассказывал, мама? Дядько
Левко?
— Нет, он молчал. Сама видела и слышала. Я ведь
тоже следом за ней с работы убегала. Оврагом, оврагом —
и на почту. Гляжу, она уже на порожке сидит ждет...
Она каждый раз первой чуяла, когда отец отзовется.
— И вы на нее не сердились?
— В горе, сынок, ни на кого сердца нет.
Только горе.
— Почему ж она чуяла, а вы нет?
— Кто знает, сынок. Сердце у всех людей
неодинаковое. У нее, видишь, такое, а у меня другое... Она
намного моложе отца твоего была. Ему тридцать три, а ей
девятнадцать. Два года прожила она с Карпом своим, а
нажилась за сто. Отец же... он как-то и не старел^
одинаковым был и в двадцать лет, и в тридцать... сокол был,
статный, лицом смуглый, глаза так и жгут, чернющие*
Глянет, бывало, просто глянет, и все, а в груди так и
замрет. Может, потому, что редко он поднимал глаза.
Больше ладонью их прикроет и думает о чем-то. А в
последний раз, как видела его (ходила в самые Ромныг их туда
повезли), уже не жгли, а только голубили — такие
печальные. Глядит — как из тумана.
Они к нам на посиделки ходили, Карпо и Марфа.
Каждый вечер. И говорим, бывало, втроем или поем
потихоньку. Отец баритоном, я вторым ему помогаю, а Марфа
первым ведет. Голосок у нее тогда такой был, как и сама
она, вот-вот будто переломится, но красивый. А Карпа
хоть выбрось. Сидит, в потолок смотрит. Или в усы дует,
то в один, то в другой — распушает. Так я ему галушек
миску горячих (он есть страх как любил), ложку в
руки — ешь, Карпо! И уплетает, как за себя кидает.
Мы поем, а он усами пар ловит и сопит так, что каганец
на столе того и гляди погаснет. Я, говорит* картошку
в галушках люблю. Картошки нужно больше кидать в
галушки. Толстощекий был, толстоногий. И рыжжй,
господи... Как старая солома. Марфа супротив вего — перепе-
лочка. Бывало, глянет, как он с галушками раежравляет-
ся, вздохнет посреди песни и отвернетсят а слезы в
глазах —- будто две свечки голубые. К отцу... Я ведь вижу.
166
А он прикроет глаза ладонью и поет. Или тебе — а ты
в люльке — улыбается и покачивает легонько.
«Ты, Миша, — скажу, бывало, — хоть бы разочек на
нее глянул. Видишь, как Марфа при тебе светится».
А он:
«Зачем же человека мучить, если он и без того
мучается».
Глаза у мамы сухи«, голос не дрогнет, и я чувствую:
воспоминания не вызывают боль — закаменели.
Последнее письмо от отца
«София! Соня!
Вчера дал мне товарищ осколок зеркальца, я глянул
и сам себя не узнал. Не только голова вся, но и брови
поседели. Сперва подумал: может, иней (это на дворе
было, не в землянке), потер ладонью, нет, не иней...
Больше смотреть не буду.
Часто снится мне моя работа, вроде я окна делаю,
двери филенчатые, столы, скамьи. И так у меня потом
руки зачешутся, что, как выпадет минута тихая, ложки
хлопцам режу...
Плохо все выходит, сердце болит, как подумаю, что это
ведь из моих рук выходит такое. Дерево хорошее, в
нашей стороне из него белые палаты бы ставить. Но сырое.
Да и инструмент не тот, что у меня был. Ты его еще не
продала? Коли придется туго, не жалей. Вернусь если,
новым разживемся. Соня, знала бы ты, как хочется
выжить. Не так-то и далеко я зашел, да далеко
возвращаться.
Ты спрашиваешь, как нас кормят, как одевают зимой.
Кормят такой вкусной кашей, что Карпо Ярковой
пятнадцать мисок умолотил бы, еще и добавки попросил бы!
Одежда обыкновенная, военная, нам к ней не привыкать.
Нынешней ночью — даже перестрелки не было,
тихо — снилась мне моя сосна. Она сейчас, должно быть,
уже по колено, а может, и выше... Сосна, а за нею речки
синее крыло... Ни ты, ни сынок, мой колосок, почему-то
давно уже не снитесь, только грезитесь.
Сосед мой по землянке молится во сне, а бога не
называет. Кому молится?..
Соня!
Не суди меня горько. Но я никогда никому не говорил
неправды и сейчас не скажу: каждый день я чую, что где-
то тут, возле меня, витает Марфина душа несчастная.
Соня, пойди к Марфе и скажи, что я послал ей, как пел
167
на Зиньковских ярмарках бандурист слепенький, три
зозули с поклоном, да не знаю, перелетят ли они мир
неисходимый или упадут от мороза.
(«Мир неисходимый» было нерешительной рукой
зачеркнуто густыми черными чернилами, а сверху той же
рукой написано вновь: «Мир неисходимый».)
Пойди к ней, моя единственная в свете Соня! Может,
она покличет свою душу назад, и тогда ко мне придет
забытье хоть на минутку.
Обнимаю тебя и несу на руках колыбель с сыном
моим, пока жив буду...»
Когда это было... А я до сих пор думаю:
«Как могли они чувствовать друг друга — Марфа и
отец? Как?..»
И еще думаю:
«Почему они не поженились, так чувствуя друг
друга?»
В ответ шумит отцовская сосна:
«Тебя тогда бы не было... Не было б тебя...»
ПУСТЬ ИГРАЮТ!
В Вороньем овраге завывала машина. То засветит
фары и бьет белыми лучами по мокрым черным деревьям
у дороги, то погасит и воет впотьмах. И так каждый раз:
выпадет хотя бы маленький дождик — в Вороньем
рев.
— Порвут машину, — хрипло говорит Олекса Помазан
своему товарищу Сергуне Чабану, который идет рядом и
свистит.
— Пущай рвется. Это железо, — отвечает Чабан.
И опять насвистывает. Красиво, тонко и правильно ведет
песню про Байду. Он и поет хорошо, но нечасто, и, когда
поет, плачет.
— Это председатель газует, — хрипит Олекса
Помазан.
— А ты почем знаешь?
— Потому что на газ давит робко, как мадамочка.
Наши хлопцы-шоферы те так: газанул, рванул и
выдернул. Пускай кузов в овраге остался, лишь бы кабина
выскочила. Может, сходим поможем?
— Давай. Дуракам силы не жалко.
168
И вправду это был председатель колхоза Юхимович,
родом из соседнего села, образованный (агроном), щуп-
ленький, хрупкий человечек, похожий на девушку в очках.
Он был немного выпивши, дохнул на мужиков
горяченьким — проселками между здешними селами инспекция не
часто мотается, разве что лисица дорогу перебежит.
— Был в гостях у стариков, а тут дождь, — виновато
улыбается Юхимович из кабины, очки его тоже виновато
поблескивали. — Помогите чуток.
— Мы ее и так, без мотора можем вынести! —
хохотнул Олекса Помазан. Ему понравилось, что председатель
был «под мухой», значит, свой человек, негордый» —
Ну-ка, Серега, взялись!
Мужики уперлись обеими руками в грязные бока
«Волги», поднатужились так, что у каждого в правом
глазу потемнело (еще в детстве и у Сергуни, и у Олексы
какая-то злая болезнь отняла левый глаз).
— Р-р-разо-о-ом! — скомандовал чудесным тенором
Сергуня Чабан, председатель поддал газу, и машина
выскочила на песчаную твердь.
— Ну и силища у вас, хлопцы! — восхитился
Юхимович, высунувшись из машины. — Спасибо. Только... вы
там смотрите сегодня, чтоб «мир и тишина», как в той
песне поется.
Сергуня и Олекса смущенно покашляли, однако
промолчали. А когда председатель поехал, нашли лужу, что
едва мерцала при звездах, помыли руки, вытерли о
стеганки, и Олекса Помазан прохрипел:
— Уже кто-то донес. Ты ж гляди, какое гадство, и
ночью не спят! Поймать бы да отметелить.
Но Сергуня думал не об этом.
— Помогли на свою голову, — заговорил он не
скоро. — Теперь Юхимович скажет: здоровые битюги,
а затесались в сторожа. Пусть идут силос
заготавливать!
— Не имеет права. Мы инвалиды! — так горячо и
страшно прохрипел Помазан, что в ближнем дворе сонно
зарычал пес.
Они закурили и пошли дальше, пуская по ветру искры
от цигарок. 4
Уже три года Олекса и Сергуня, рано (по
инвалидности) выйдя на пенсию, сторожили фермы. Олекса —
коровник и телятник, Сергуня*— все остальное: кур, гусей,
свинарник и конюшню с четырьмя клячами.
— Ну как, сегодня играем или... малость отдохнем
169
после вчерашнего? — спросил Помазан и угодливо
посветил фонариком под ноги Чабану, чтобы тот обо
что-нибудь не споткнулся. Он еще с малых лет был у Сереги
вроде бы подручным, хотя и не уступал ему в силе, да
и был не из трусливых. — Только, чур, не так, как вчера.
Ну его к черту, так играть.
— А ты не заводись, — сказал Чабан. — Ты в игре
дурной.
— Х-ха, ты лучше... Сразу за грудки хватаешь...
— Ш-ш-то? Так ты ж меня первый схватил! —
остановился Сергуня пораженный.
— Я тебя только за плечо тронул. Забыл?
— Н-ну дает!.. — Сергуня несколько раз громко
хмыкнул, делая вид, будто крайне удивлен, возмущен и
почти ошеломлен, и дальше они пошли молча,
припоминая, кто все-таки кого взял вчера первым за грудки.
Возле сторойкки — пристроенной к гаражу хатенки —
Помазан сказал:
— Ну, хоть теперь-то ты вспомнил, что мы разом
вцепились друг в друга — ты в меня, а я в тебя?
— Словом, играем. Что было, то прошло, —
примирительно сказал Сергуня.
В сторожке, что успевала остыть за короткий осенний
день, они обычно ненадолго присаживались, отдыхая от
волнения и напряженно глядя один другому в правый
глаз; так два петуха-соперника обходят друг дружку,
черкая крылом землю, перед тем, как начать битву.
Дальше все делалось молча, в добром братском
согласии: один шел осматривать фермы — все, от коровника до
гусятника, второй подметал сторожку, расставлял по
местам стол, табуретки, лавку, разбросанные во время
вчерашней потасовки. Только телефон в углу на тумбочке,
черный, блестящий, официально молчаливый, оставался
там, где и был, даже в самой ожесточенной стычке, когда
все летело вверх тормашками, телефон оставался
неприкосновенным: его установили в сторожке недавно, и
Сергуня с Олексой боялись его и одновременно уважали как
символ порядка и закона.
Потом растапливали «буржуйку» соломкой, белыми
осиновыми дровишками, что гудели и постреливали в
чугунном чреве печки. Сизый дровяной дымок поднимался к
потолку, ходил под ним волной, робкое первое тепло
ощупывало холодные глиняные стены; чуть слышно
позванивало оконное стекло от ветра, значит, от речки дует,
из-за сосны, северный...
170
Они играли и прежде. Но в карты. В
обыкновеннейшего дурака. Да и ?о лишь для забавы, чтобы ночь,
нудную, осеннюю, с дождем да стоном в голых деревьях,
как-то обмануть. Играли, можно сказать, мирно.
Случалось иногда, что и поспорят, не без того, однако до
потасовки не доходило.
— Чем ты ударил? — спрашивает, бывало, Помазан,
низко наклоняя голову к побитой карте.
— А ты посмотри, посмотри! — выкрикивает Чабан
задорным тенорком, за которым слышится смешок, а сам
думает: «Высмотрел, вр-ражья кровь!»
— Вижу, король бубновый... А козырь что? Что
козырь, спрашиваю?
Тогда, точно так же склонив голову, чтоб нацелить
глаз, а еще затем, чтобы спрятать лукавую улыбку,
заглядывал в карту Сергуня.
— Гляди-ка ты, правда, бубновый... А мне казалось,
червонный... Ну что ж, тогда я забрал. Твоя взяла.
Бывало и наоборот, Сергуня ловил Помазана.
— Погоди! Че это у тебя осталась одна карта, а у
меня две? Семерку червовую куда затырил?
— Какую семерку? — хрипит Помазан и
закашливается, чтобы успеть придумать, как выкрутиться. — Я ж
тебе ее ходил, помнишь? Ты же ее побил!
— Когда побил?! — закипает Чабан и бычится из-под
густой черной брови на Помазана. — Чем побил?!
— Ну, пошарь в отбое...
И, прижавшись ухом к уху, они перещупывают
каждую карту в отбое, а семерка червей лежит у Помазана
в кармане.
— Н-ну? Где она? Говори! — высоким, как натянутая
струна, голосом кричит Сергуня, и молоденькие петушки
на птичнике вторят ему хрипловатыми альтами.
— Где, где! — тоже будто начинает сердиться
Помазан. — Может, под стол упала. Если б ты отбрасывал по-
человечески, а то швыряет, швыряет...
Чабан, гневный, как огонь, ныряет под стол, а
Помазан тем временем выхватывает из кармана семерку и
быстро сует ее в колоду...
Словом, не игра, а баловство. Сами же потом и
смеялись, признавшись друг другу, когда и как мошенничали.
Так бы оно и дальше шло, если бы однажды зимней
ночью — мороз тогда на речке лед колол, и там ухкало,
как в грозу, — не прибился бы в сторожку хлопец,
студент из Харькова. Он шел от большака к матери на со-
171
седний хутор, одетый как в теплую осень: в легоньком
пальтишке, шляпке и хромовых туфельках. «За
картошкой», — сказал хлопец, с трудом растягивая в улыбке
одубевшие губы.
Отогревшись у «буржуйки», он тоже подсел играть,
быстро, к тому же строго придерживаясь очереди, навешал
обоим мужикам по шесть «погон», нахохотал им
полные уши, подкрепился ужином сторожей —'печеной
картошкой с солью — и сказал: «Карты — чепуха.
Неинтеллектуальная игра. То есть глупая. В шахматы нужно
играть. Да! Если хотите, научу».
Нашли шахматы в конторе. Студент расставил фигуры
и показал, которая как ходит.
«Вот это знакомый вам с детства конь. Он ходит и
бьет буквой «г». Вот так: хоп-хоп-хоп-хоп — и уже
угрожает королю, вот этому высокому дядьке. Конь — фигура
быстрая и агрессивная. Тура сметает перед собой все в
обе стороны по прямой, как бульдозер или танк.
Мощная фигура. Ферзь, вот эта красавица в короне, она еще
зовется королевой, фигура всевластная и
всемогущественная, как и всякая женщина, это вы не раз испытали на
собственной шкуре... — Тут Сергуня и Олекса захохотали,
сверкнув стеклянными глазами, и подумали каждый про
себя: умен, стервец, все знает! Они стали коленями на
табуретки, легли грудью на стол и старательно, порой
затаив дыхание, следили за ловкими пальцами студента,
которые быстро и уверенно переставляли фигуры с места
на место. — А вот эти хлопцы называются офицерами.
Они ходят наискось по одной четко обозначенной линии,
как и надлежит людям военным. Теперь о самой главной
персоне — короле. Миссия, то есть задача короля в игре,
паразитическая, потому что он почти ничего не делает, а
заботится лишь о своей шкуре: или убегает, или
закрывает себя другими фигурами. Король — это лишь
затравка для игры. Если другие фигуры не выстояли, тогда и
королю крышка. Вот смотрите: шах королю! Куда ему
деваться? Некуда. Мат! Только не тот, что вы
употребляете и от избытка чувств, и от искренней глупости, а
безвыходное положение. — При этих словах студента сторожа
хохотнули так, что табачный дым в сторожке качнулся
между стенами. — Ну, а пешка как пешка, — хлопец
вздохнул. — Пешка — человек простой, как вот мы с
вами. И цель у нас у всех простая: пешке передвигаться
с клетки на клетку вперед, ваша — стеречь коллективное
добро, моя — привезти рюкзак картошки, чтоб и дальше
172
набираться знаний... Пешка бьет наискось в обе стороны
и только сблизи, когда противника можно достать
кулаком...»
Прощаясь, студент поблагодарил за тепло, хлеб-соль
и уже от двери сказал: «Прошу не забывать, что
шахматы — игра маршалов. А маршалы бреются каждый день».
Олекса и Сергуня пощупали свои небритые подбородки,
а студент помолчал, улыбаясь, и нырнул в
густо-белую морозную волну, что кругло вкатилась в
сторожку.
«Вот стервец?! — воскликнул Сергуня. — Навешал
«погон», наелся, согрелся, еще и отчитал».
«Ученый. Это тебе не шуточки», — прохрипел
Помазан.
Недели через две после той ночи они, чисто выбритые
и одетые — под маршалов! — в новые стеганки и
картузы, двигали фигуры по шахматной доске, перекрикивая
друг друга в табачном дыму и чаду, заучивали то, что
показал студент:
«Куда ж ты коня прешь?! Буквой «г», забыл?»
«А разве это не «г»?! Гляди: хоп... хоп...»
И все-таки набили руку, заиграли.
С той поры и началась беда.
...Когда Сергуня вернулся с фермы, Помазан уже
прибрал в сторожке, расставил фигуры на доске и сидел над
ними, стратегическим оком адмирала Нельсона изучая
поле будущей битвы.
— Ну, — сказал он Сергуне, — начали, что ли?
Чабан ревниво оглядел шахматы, будто Помазан успел
их сглазить, настроить против него, Сергуни, пока тот
обходил фермы, но фигуры стояли как фигуры,
деревянно-равнодушные. Помазан взял две пешки, белую и
черную, спрятал руки за спину и долгонько держал их,
перекладывая пешки из ладони в ладонь, потом
неожиданно (это тоже была тактика!) ткнул Сергуне чуть ли не
под самый нос два своих кулачища.
— Выбирай.
Чабан минуту-две колебался, переводя взгляд с одного
кулака на другой, несколько раз поднимал ладонь, чтобы
шлепнуть ею по правому кулаку Помазана, и вдруг
шлепнул по левому — это была его контртактика!
Олекса тяжко вздохнул и разжал пальцы: там была белая
пешка, а это означало, что первый ход за Сергуней.
И началась настоящая маршальская игра. Оба
противника важно закурили, закашлялись от крепкого табака и
173
волнения и выпустили дым на фигуры, словно маскируя
свои армии дымовой завесой. Они хорошо видели лишь
правые фланги своего войска, а левые, выпадавшие из
поля зрения, оставались на произвол судьбы, поэтому
битва развивалась несколько кособоко: каждый громил то,
что было на виду.
Играли молча. Только дым клубился над столом, да
ветер бился и гудел под железной крышей на гараже, да
лисица скулила возле гусятника.
— Пришла кумушка, — веселым тенорком пропел
Сергуня — он выигрывал.
— Пришла, — едва прохрипел Помазан — он
проигрывал и совсем потерял голос. Так бывало всегда, когда
Олекса проигрывал.
— Пойду прогоню, а ты подумай. Хотя я на твоем
месте уже давно сдался бы...
— Да нет, мы еще схлестнемся! — пообещал Помазан.
Вскоре Сергуня вернулся, веселый, красный,
распаленный и погоней за лисой, и сильным ветром в лицо, и
победой над Помазаном: еще ход-два — и хана ему!
— Ну, сдаешься? — спросил снисходительно и чуть
насмешливо, оглядел свои фигуры раз, второй, третий...
и вдруг закипел, наливаясь адской злостью: — Где мой
левый офицер? Черный офицер где? Что по черному
ходит?
Олекса тоже насмешливо, уже не хрипло, а шепотом
прошелестел:
— Ты что, сдурел, за лисицей бегавши? Я ж его еще
на четвертом ходу убил. Ты ж под моего коня его
подставил. Под «г». Забыл?
Сергуня очумело посмотрел на кучку побитых фигур.
Там лежал и его офицер.
— Поставь назад, — сказал он вяло, почти
обессиленный вероломством Помазана.
— Ну на, забери его, — преспокойненько произнес
Олекса, подавая Сергуне офицера. — Забери. И играй сам,
как самашедший в психбольнице. — Он смел ладонью
фигуры с шахматной доски и дрожащими пальцами,
будто его страшно и ни за что обидели, скрутил цигарку.
— Расставь, как было, — процедил сквозь зубы
Сергуня.
— Расставляй, если ты такой умный, что помнишь,
где они стояли.
— Расставь, говорю!..
И сцепились. Таскают друг друга по сторожке, стирая
174
новыми «маршальскими» стеганками мел со стен до
самой серой глины.
Не дерутся, а просто бухаются спинами о стены и
опрокидывают все, что попадается под ноги.
И молча. Только пыхтят.
Разве что:
— Погоди, вон телефон звонит...
— Пусть звонит... Ты фигуры на место поставь, а то...
Убью!
— Попробуй...
— Х-х-хот дурной...
— Кто ж тебе виноват...
Уже в конце заседания правления председатель
колхоза Юхимович сказал:
— Еще один вопрос, товарищи. Что будем делать с
нашими сторожами Олексой Помазаном и Сергеем
Чабаном? Хорошо, конечно, что у этих товарищей есть, кроме
прямых обязанностей, еще и культурные, умственные,
так скажем, интересы — шахматы. Такое явление
нужно только приветствовать. Но ведь вы знаете, что с ними
делается, во что это увлечение вылилось. В драку,
понимаете. Ну, согласимся с тем, что азарт есть азарт. Но...
Вот последние наши данные: позапрошлой ночью
товарищи Помазан и Чабан так подрались... — председатель
улыбнулся, как улыбаются, говоря о детских шалостях, —
так подрались, что потеряли эти... ну, вставные, как вам
известно, глаза. — Тут заулыбались все правленцы. —
Вот. И ездили вчера в Полтаву в больницу вставлять
новые. Ну, это их частное дело, личное, можно сказать,
если бы это произошло не на рабочем месте. А с другой
стороны, мы ведь тоже люди, жалко товарищей. —
Юхимович вспомнил, как Сергуня с Олексой вынесли его
машину из оврага, как они виновато покашливали, когда
он им намекнул на ночные битвы, и, обведя правленцев
усталым за очками взглядом, спросил: — Какие,
товарищи, будут предложения по этому вопросу?
Наверно, считая это своим долгом — выступать
первым, сразу после председателя, поднялся заместитель
Юхимовича Гнат Карпуша. Он ни на кого не взглянул и
вообще ни на что не смотрел (это было постоянное
выражение его глаз — смотреть в никуда) и сказал так
медленно и так весомо, будто уже не день и не два
обдумывал свою идею:
175
— Мое предложение — забрать у них шахматы.
Конфисковать от имени правления, — и сел, точно так же
глядя поверх никуда.
— Так ведь они купят себе другие! — звонко
засмеялась первая в селе хохотунья и активистка Катюня
Рогоза.
— И другие конфисковать, — не поворачиваясь к Ка-
тюне, сказал Карпуша. — И третьи. И так далее. Не
накупятся.
— Это не выход, — заговорил председатель
сельсовета Панченко, играя летчицким шлемом (он ездил на
мотоцикле с коляской и со шлемом никогда не
расставался). — Это не выход... Я предлагаю такую меру:
отрезать свет от сторожки и выдать им «летучие мыши».
При таком свете не очень-то поиграешь и с хорошим
зрением... — И, поняв, что сказал не то, Панченко
рассердился. — А что?!
Тогда поднялся бригадир первой бригады Петро
Середа, мужчина здоровенный, угрюмый и
неразговорчивый.
— Что тут долго раздумывать, — сказал он, недобро
щуря глаза. — Послать их на рядовые работы. Там
некогда будет дурака валять.
Председатель Юхимович постучал карандашом по
столу.
— Нет, нет, мы не имеем права этого делать. И
товарищ Помазан, и товарищ Чабан — инвалиды,
пенсионеры. И сторожатони по собственной воле, сами
предложили колхозу свои услуги, а мы к ним с дубинкой. Так
нельзя, товарищи. Тем паче, что мы за три года не
списали ни одной курицы или гуся на лисицу, у нас не
пропало за это время ни одного новорожденного теленка, а вы
знаете, товарищи, что сторожа приняли их не один
десяток. Словом, колхоз по вине сторожей не понес ни
единого убытка. Какие же у нас могут быть к ним претензии с
государственной точки зрения? По-моему, товарищи, —
тут председатель улыбнулся, — пусть они играют! Будем
надеяться, что их азарт со временем притупится и все
будет хорошо. Как вы думаете? Ну, вот и договорились.
Можно расходиться, товарищи, время уже позднее.
И правленцы разошлись.
А в сторожке Помазан, прижав Сергуню Чабана к
стене, хрипел ему в лицо:
— Поставь на место левого коня!..
176
КРАЙНЕБО
Проследок *
Поднимаюсь глинистым взвозом от глухой пристани к
крайнебу, что, кажется, вот оно, близко уже, стоит
между днепровскими кручами, словно в гигантских воротах,
торжественно праздничное перед грядущей ночью, и на
нем тоненькая сиреневая подковка молодого месяца с
единственной звездой в паре, тоже сиреневой.
Смеркается.
На седой от росы траве в долине пасутся кони. Двое:
один белый, другой каурый. Это кони лесника. Вот и
хата его видна над кручей, и двор просторный с возом сена
у калитки. А посреди двора костер горит, и над ним
закопченный рыбацкий котелок — ужин варится.
Мне слышно, как кони похрустывают молодой
травкой, неторопливо, ласково...
— Здравствуйте, кони! — говорю им негромко.
Они поднимают головы, долго смотрят на меня, и
глаза у них лунные^ добрые, как у всякого работяги.
Идти мне далеко. Однако не беда. Зато нагляжусь и
наслушаюсь.
Увижу стежки, старые и молодые, весенние, что,
словно ветви от ствола, тянутся от большой дороги во все
стороны — к селам, хуторам, к Днепру и глубоким
оврагам, падающим к воде; в них тутошние рыбаки режут
удилища из орешника, старые люди ищут травы целеб-
пые, а детвора*осенью орехи, весной щиплет щавель на
борщ; молодежь ходит сюда по ландыши или просто
подальше от любопытных глаз односельчан.
Услышу песни, потому что сегодня воскресенье и уж
кто-нибудь да запоет. А когда буду проходить Шепелев-
ку, сельцо небольшое, придорожное, услышу в тени
садов за плетнями шепот. Они совсем еще юные, почти
дети, школьники, а вот шепчутся. Громко говорить не
станут, нет... Потому что шепот вечерний — это зов
совершеннолетия, потому что шепот — тайна, шепот —
робкая радость любви...
Потом в молочно-голубой мгле пойдут озера и озерца,
поросшие у берегов камышами и осокой. Озерца эти
будут говорить о себе загодя, еще невидимые; ударят
крылья о воду, крякнет испуганная утка и полетит прямо на
месяц, на свет его сиреневый.
* Проследок — чуть заметный след.
12 Г. Тютюнник 177
Дальше я собьюсь с дороги. Заберу влево или вправо.
И если не обрадуюсь такому приключению, то и
печалиться не стану: куда же теперь мне податься? Все
кругом засыпает или спит, а мне вот дорогу искать нужно —
ложиться грудью на землю, еще теплую, еще чуточку
пахнущую солнцем, и долго смотреть над травами вдаль...
Когда взгляд мой обострится, глаза привыкнут к ночным
туманцам над ложбинами, тогда я снова увижу крайнебо
за Казачьей могилой, уже едва заметной среди равнины, и
снова пойду.
Вот так, шагая на ощупь, наткнусь на изгородь и
глинобитную сторожку дядька Егора. Из-за ограды
пышет теплом, молочным духом, вздыхают во сне коровы,
лежа под пряслами, а дядько Егор сидит в своей
хижине и плетет корзины из тальника. Или раскрашивает
уже сплетенные в зеленое и красное. Зеленое — по
венчику корзины, красное — опояска. Или наоборот. Лишь
бы веселенько выходило. Корзины — дядькина забава и
доходишко.
— Как гармонисту на свадьбе: и наиграется досыта, и
угостят. А сторожеванье — это законная, сказать бы, моя
работа, как у всех. — Так он говорит.
Дядька Егора я люблю, хотя и не знаю. Даже имени
его не знаю. Это я уж сам придумал: Егор. Потому что
все Егоры, какие только есть на свете, представляются
мне людьми умными и ласковыми. Можно, конечно, было
бы расспросить его, как жизнь прожил, да не хочется
приставать к человеку, молчаливому и работящему,
стыдно, как пить воду из чужого колодца, не испросив
разрешения у хозяина, как стать и послушать, о чем
шепчутся юнцы в саду.
Знаю я лишь слово, которое дядько Егор подарил мне
ненароком, вовсе не думая о том, что дарит. В слове, а
еще в том, как он его произнес, слышится мне человек
добрый. А разве этого мало, чтобы его уважать?
Туман тогда стоял такой густой, что плотно укрыли
землю, и Днепр. Я шел незнакомой дорогой, те видя ее,
наугад шел. Навстречу мне вынырнул из тумана дядькос
вязкой новых корзин за плечами, с седыми бровями из-
под старенького суконного картуза, большими руками,
похожими на кузнечные молоты, и мальчишечьими
нежно-голубыми глазами.
—- Тут есть какая-нибудь тропка к большаку
напрямик? — спросил я, поздоровавшись.
Дядько сбросил вязку разрисованных в красное и зе-
178
леное корзин, снял картуз и, утерев ладонью вспотевший
лоб и седой негустой чуб, снова надел его. И только
тогда сказал:
— А что, скоро нужно, да?
— Нужно.
— Тропки нет, а проследок, если присмотришься,
найдешь.
— Корзины на базаре купили?
— На что мне их столько? Наплел, раскрасил и —
«купи, так продам»! Домой несу, а то в моей мазанке уже
негде складывать. Там возле ограды мазанка моя.
— Ну, спасибо вам,»— сказал я.
— Да не спасибо, а подай вязку, — ответил дядько
и, когда вязка была уже у него на плечах, улыбнулся. —
Когда-то говаривали: господи, помоги. А сейчас: вот так
и говори, только и сам помоги. Ну, бывай здоров.
И, отойдя шагов на десять (скрип-скрип — корзинки
за плечами, — скрип-скрип...), оглянулся. И глаза у него
были нелукаво умные.
— Проследком иди, не забыл?
Нет, дядьку. До сих пор не забыл. Ни проследка, ни
вашего картуза старого над седыми бровями, ни глаз
ваших нелукавых.
Груши из криницы
У бабушки Марфы две сестры-однолетки: груша и
криница. Криницу вырыл и грушу посадил еще первый
муж ее Улас, который погиб аж в ту германскую войну.
— Это ж мне от него, молоденького, подарок до самой
смерти. Груша родит, еще и сейчас родит, колодец не
мелеет, и вода близко, ключом достаю.
Когда я впервые зашел к бабушке Марфе, чтобы
напиться, то вытаскивал воду тем «ключом» — тонкой
жердью акациевой, к которой был приделан крючок,
закрученный, как ус, чтобы ведерко в воду не уронить.
Тогда был сентябрь, и жара стояла такая крутая, что
идешь и млеешь.
— Нельзя ли у вас напиться? — спросил я
старушку, которая сидела под грушей и вышивала сорочку.
— Если бы нельзя, так для чего мне тут и жить
было бы!
Она быстренько поднялась, положила шитье на траву
и клубочком покатилась в хату за кружкой («Сейчас
кружку вынесу»). Старушка была сильно сгорбленная,
12* 179
будто наклонилась когда-то к грядке выдернуть
луковицу, да уже и не выпрямилась.
Когда я тащил воду, ведерко сначала глухо стукнуло
о груши, плавающие в воде, и только потом
наполнилось, а когда пил из деревянной кружки, бабушка
сказала так ласковенько, так любенько, как у нас на Украине
говорят, лаская слова:
— Пей на здоровье. Да в такую пору идти разве не
устанешь, ведь солнышко нынче горяченькое. — И
смотрела на меня снизу, из-под своей согбенности, и
улыбалась мудро, как улыбаются лишь старенькие и дети.
Вместе с водой я вытащил из криницы две груши.
— Сами, что ли, падают в воду? — спросил я.
— Которая и сама упадет, а то и я брошу, чтобы
остыли... Вот в полдень школьники будут идти с ученья,
так все до одной вытащут, лакомки маленькие!
Угощайтесь на дорогу. Да ловите еще, а то горячие они не
такие смачные.
Она снова сидела под грушей и вышивала. Без очков.
И я спросил, хорошо ли она видит.
— А так, как и смолоду, — сказала она, не поднимая
головы. — Правда, когда было мне семьдесят или уже
без одного семьдесят пять, плохо видела, так плохо, что
очечки покойный сосед мой Терешко, царство ему
небесное, купил было, как ездил в Киев. А теперь вижу как
девка! — Бабушка Марфа засмеялась тихонько, уютно
как-то и закивала головой над красными крестиками на
сорочке.
— Сколько ж вам, мамочко, сейчас?
— Так если по-моему, то без одного сто. А если б кто
пограмотней прикинул, то, может, и сто с хвостиком
набралось бы. Давно живу, забыла уже, с каких пор...
Трех мужей своих, голубчиков, пережила.
Скоро-скоренько и я к ним пойду. Пойду, похожу там, всех троих
проведаю.
— А какого... больше всех хотелось бы увидеть?
— Всех, сынок. А останусь возле последнего. К
первому пойду, так он меня и не узнает — молоденький ведь
был, когда ушел.
Бабушка Марфа засмеялась, даже лбом шитья
коснулась.
— Второму бы в ножки поклонилась... Он тут
недалеко лежит, в Гребенях... Под берегом сердечного
нашли, пробитого насквозь... Это когда вторая война была.
Я сама его и похоронила... Третий мне пара, зютя тоже
180
младше меня уже. Ковал в кузнице. Выйдешь, бывало,
из хаты и слышишь его молоточек... Уж и не очень
годился для работы, а ковал. Потом плохо ему, плохо враз
сделалось... Сказали мне люди, бегу к кузнице, а его уже
и навстречу несут... Рядом с ним лягу. Он узнает,
подвинется...
— Себе вышиваете?
— Себе, моя деточка, я уже все вышила. Людям.
Пусть носят да вспоминают бабку.
Падают вокруг старухи желтые грушки — гуп-гуп,
гуп-гуп — мягко в траву. Горячие. Она откладывает
шитье, собирает их и бросает в криницу, а красные
крестики на сорочке сияют, смеются солнцу.
Когда я шел со двора, бабушка Марфа провожала
меня до ворот и быстро-быстро всовывала мне в карманы
желтые горячие грушки («Они не помешают!»), а за
нами шел красный петух в красных «штанах» и говорил,
как хозяин, токо-токо!
...Цветет под звездами груша бабушки Марфы,
чернеет зеленым мхом соломенная крыша на низенькой
хатенке, а в окнах ночь... Я стою у покосившихся ворот, и
смотрю во двор, и слушаю так внимательно, что
только сердце свое слышу. Неужели ушла бабушка
Марфа?..
И вдруг: токо-токо-токо — петух в сарайчике за
грушей, — токо-токо!
Людям на добро
Теперь уже не встречу сел вдоль проселочной дороги.
Будут лишь днепровские кручи да тихий говор волн с
берегом за кручами. Будет тихо скулить в овраге лисица
у своей норы, будут пахнуть илом воды, что, пробиваясь
из подземного царства, бегут в Днепр, на простор, а
дальше — в море.
«Все реки текут в море, а оно не полнится».
Эти слова любил повторять самому себе старый Те-
решко, великий молчун и нелюдим. Тот самый Терешко,
который раз в жизни побывал в Киеве и купил бабушке
Марфе «очечки», сосед ее знаменитый. Знаменитый
своей криницей-самородком и ремеслом своим, древним,
как мир.
Терешко знал дерево. Знал каждую его жилу и
прожилку на вес и по запаху, от корня до верхушки, будто
сам пошел из ростка, а пойдя из него, породнился со
181
всеми деревьями, что росли когда-то и еще остались в
этом краю. Терешко занимался резьбой по дереву. Он
резал не украшения, а то, что нужно людям на каждый
день: ложки и кружки кленовые, которые называл
квартами.
Никто никогда не видел старого на базаре со своими
изделиями. Наделав кварт из тончайших клепак и двух
плетеных обручей с фантастическими дужками,
похожими на змеек — головка в кружку заглядывает, будто
воды просит, — да несколько десятков ложек
(маленьких — для детей, больших — для отцов и матерей,
половников — для стряпух) г Терешко раскладывал все свое
добро на лавочке возле криницы и шел в сарай резать
дальше или к Днепру искать прибившееся к берегу
дерево.
Случится прохожий, идущий от села к селу или к
городку,, напьется воды из криницы, отдохнет на лавочке,
выберет понравившуюся кварту или десяток ложек, каких
нужно, и^ положив кучкой мелкие деньги,, белые или
желтые, или те и другие, пойдет себе дальше.
Когда Терешко увидит, что возле криницы уже не
желтеют сокровища, вышедшие из его рукг выносит еще
и еще, а монеты сметает в ладонь, не перещупывая и не
приглядываясь к каждой, как это делают торговцы на
базаре.
— Людям на добро, а мне в помощь, — сказал как-то
Терешко бабушке Марфе. Уже седым как лунь сказал.
Сказал раз. Это был, наверно, его завет. А завет говорят
только раз.
Ночью Терешко ходил на кручу днепровскую
смотреть, как месяц прокладывает длинный красный мостик
через воду, такой густо-красный, такой твердый в тихую
ночь без волны, что ступи на него и иди, и иди до
самого края, до края жизни...
Терешко уже давно ушел по тому мостику. А на
роднике-кринице разостлалась молодая шелковая трава и
дышит, дышит вместе с водой, что то поднимется горбоч-
ком, то опадет, чуть слышно говоря что-то ночи в
звездах, запахам молодой осоки и глухому духу
тысячелистника, выветрить который у зимы не хватило
сил.
Терешко уже давно ушел и стоит теперь сухим
берестом на круче, где крайнебо с месяцем и звездой. Стоит
седой — осыпалась кора с береста — и держит в руках
белую кварту памяти.
182
Колыска
Туман пахнул сиренью. А когда начал расходиться,
сквозь его тонкую синеватую дымку проступили по горе
сиреневые валы, заросли вишняка и старые яблони,
наклоненные еще смолоду буйными ветрами с Днепра.
А над кручей из красной глины цвели терны.
Меж сиреневыми валами, округлыми, пышными,
стоял солдат в орошенной туманом плащ-палатке, с
опущенным автоматом и смотрел на Днепр, возле которого
последний раз в жизни потрудился тяжко и до конца.
От солдата вниз к воде с клочьями последних туман-
цев спадала тропинка. Ею медленно взбирался на кручу
рыболов, придерживая на плече доску и мокрый мешок с
рыбой поверх нее.
Выбравшись на кручу, поздоровался степенно, как это
делают у нас старые люди:
— Здоров! були! — хотя было ему тридцать с
небольшим, очистил палочкой сапоги, испачканные глиной всех
цветов радуги, и сел лицом к Днепру передохнуть.
— Поймали что-нибудь?
— Малость, — ответил рыболов. — Двух лещей и вот
эту доску.
Он улыбнулся и снова стал смотреть на Дненр.
•-— Далеко вам до €ела с такой ношей?
— Нет, может, с километр, а может, и того не будет.
— Почему же солдат не в селе, а тут стоит?
Рыболов вздохнул.
— И тут село. Только хат нету. Как сбило в войну с
круч, так никто уже на старом месте и не селился.
Видно нас тут со всех сторон. Потому и отодвинулись
подальше, глубже в балку... Я, правда, не очень помню,
мать рассказывала, как их сюда посвозили. — Он
взглянул на солдата. — Целый день возили подводами. А
вечером поминали. Впервые после войны. Вот тут, где мы
сейчас с вами, люди рядочками друг против друга
сидели... Председатель речь сказал — памятник тогда
деревянный был, не этот, — раздали всем по пирогу, по
миске борща, каши... Едят люди и плачут... А мы,
ребятишки, тоже притихли, тихонько в ложки еду набираем.
Отчего люди плачут? Было...
Солнце уже взошло, коснулось воды сначала под этим
берегом, а затем под низовым, и Днепр зарозовел вверх и
вниз по течению. Весь.
— А там понаносило паводком! — по-мальчишечьи
183
восхищенно воскликнул рыболов. — Всякого добра кучи!
Та коряга на лисицу похожа, а ветка — на цаплю на
одной ноге, а один пень с корнями — на беса стоголового!
И у каждой головы рога, глазища, волосья — глянуть
страшно!..
И засмеялся. Потом осмотрел доску, желтую, новую,
погладил ее ладонью.
— Ишь ты, как отполировало волной да на косах
песками, и строгать не нужно. Только воды набралось
много, тяжелая, сушить надо.
— Для чего она вам?
— А на качель детям. У меня их аж четверо, и как
раз такие, что только дай покачаться. Повесил одну ко-
лыску под яблоней, никак не поделят: то одни лезут
первыми, то другие. Попробуй усмири. Так вот сделаю
теперь общую, на всех четверых!
Он поднялся, легко взвалил доску вместе с мешком на
плечо, взял удилище, как посох, и, попрощавшись —
«На работу пора уже», — пошел по узенькому проулку
меж дерезой с будущей колыской на плече.
А солдат в розовой на солнце росе смотрел на Днепр
и за низовой Днепр в песчаных косах да сосновых борах,
и тихо, мягко сияло над ним его крайнебо.
Мне же еще идти к своему, которое, наверно, уже
близко между кручами-воротами с месяцем и звездой у
самой земли.
БАГРОВЫЙ СУМРАК
Мы сидим под кручей, положив удочки на шаткие
рогачики, и разговариваем. Солнце зашло, и черная вода
рассосала тени от удилищ. Под красноталом и в осоке
ткется ночь — она, верно, единственная в мире
рождается тайком.
Но вот из припселянских лугов прискакал ветерок,
принес надерганный из копен запах слежавшегося сена,
раскроил тишину и понесся дальше, будоража сонную
птицу. Ярче зарделись цигарки рыбаков на той стороне
реки.
Ветер промчался, улегся, и надречье подернулось
сединой: поднимался туман.
— Э, сегодня уже*дела не будет, — отозвался кто-то
за кустами. — Раз уж туман, так рыбы и не жди.
184
— Почему? — спросил мой сосед Иван Мефодиевич.
— В такую ночь ей душно бывает.
Рыбаки один за другим исчезают, трещит хворост под
их ногами, пустеют устланные сеном запруды. А туман
отрывается от воды, упирается боками в кручи и
замирает.
Клева нет. Наши удочки торчат, словно в колодце.
Однако мы не пойдем домой до самого утра, потому что в
полночь должны брать сомы.
Иван Мефодиевич старше меня на пятнадцать лет.
У него большие и чуточку грустные глаза. Смотрит он на
меня всегда с такой преданностью, что кажется: упади я,
одним этим взглядом подхватил бы меня...
Мы с ним, конечно, не рыбаки, а так себе, как
говорит моя мама: «И наш Хомка хлеб комкает».
Над урочищем начало сереть, как перед восходом
солнца. На небе чеканились неровные линии облаков,
подбитых красной каемкой, туман уплотнился и зарозовел.
Всходила луна.
Иван Мефодиевич глянул в ту сторону, вздрогнул и
что-то прошептал. На миг я увидел в зеленоватой
полутьме его бледное лицо со скорбными морщинами у рта.
Он засмеялся. Жутко как-то, потому что в этом* смехе не
было чувства, а только звуки, похожие на детскую икоту.
— Не могу видеть, как л-луна всходит, — сказал он
запинаясь и полез в карман за папиросами.
Закурил, покашлял и продолжал:
— Удивительная все-таки штука — человек. Есть в
нем что-то такое, что живет в нем до случая незаметно,
безболезненно, как дыхание. А потом, глядишь, так тебя
тряхнет, что аж ноги подламываются...
Я не люблю слушать о печальном. И мне не терпится,
чтоб хоть какая-нибудь мелочь начала клевать. Но рыбе,
должно быть, и вправду душно... Даже лещи не
вскидываются...
Над урочищем всплыла луна — красная и глубокая,
будто кратер в пылающей бездне. Облака и капельки
воды на кустах, песок на берегу и туман над рекой
набухли густым багровым сумраком.
— Тогда тоже вот так красно было, — словно
обращаясь к самому себе, заговорил Иван Мефодиевич. —
Это в сорок четвертом, в Белоруссии. Тебя тогда,
наверно, еще и на свете не было... Выбрались)мы из болота и
в полночь наткнулись на островок. Десятеро нас было.
Так, скажем, если б это я, ты и еще восьмеро. Хлопцы
185
все молодые, с норовом... Увидели какую-то хату — одну-
разъединственную — и к ней. А ведь то и остров не
остров, а какая-то купина посреди леса — выкошена,
еще и сено в валках лежит. Лес кругом, болото и ночь,
хоть глаз коли. Куда уж тут спать...
Так нет же: поспим, говорят мои хлопцы,
какой-нибудь часок, а перед рассветом окопаемся.
Стоят на своем, да и только... А я ж его как
облупленного знаю: не сжег хату — значит, для ориентира
оставил. И уже не приказываю им, а уговариваю: не идите,
хлопцы, на черта вам та хата, когда сена вон сколько.
Так они: «А может, там девки есть...» И зубами сверкают.
Стрелять буду, говорю, черти, в первого, кто с места
двинется.
Смеются: «Стрелять, Ванька, нельзя — немцы
услышат!» — и пошли-позвенели медалями...
А тут как раз луна взошла, вот как сейчас. И прямо
над самой хатой, будто из трубы вылезла...
Слышу над головой: ляп-ляп, — пролетело что-то и
село на той же трубе. Головой туда-сюда повело, да как
захохочет. Пугач. Видно, как и клюв раздирает, гад.
Я уже было начал окоп себе рыть, а как услышал
этот хохот — оторопел, лопата в руки так и вмерзла.
Я еще в детстве про него, проклятого, наслушался, да
не верил.
Тогда этот прожектор — блись, прямо в ту хату
впился. Аж стену белую сквозь стекла видно, гвоздик в
стене и паутину в углу закопченную. Я до сих пор и
паутину ту, и гвоздик вижу...
Посветил, а потом как оглушит из минометов...
И близко ж, брат ты мой... слышно даже, как они хохочут
и матерятся по-нашему. Вот так влипли! А мины во
дворе одна за другой. Пристрелялся, видать, еще днем.
Занялась крыша, плетень, копенка. Луна в дыму словно аж
перевертывается. Болото между деревьями красной
юшкой блестит... И сено пахнет.
«Хлопцы, — кричу, — братцы, назад!» А немцы еще
сильней смеются. «Думен», — кричат. Дураки, значит...
Потом — как отрезало: замолчали, видно, спать
легли или ушли.
Я по тому островку до утра, как призрак, бродил.
Тихо кругом, и хата горит, словно свечка.
Вот тогда, должно быть в первый и в последний раз
за всю войну, я одурел от страха. Не смерти боялся, нет.
Одиночества, брат, боялся...
186
Неподалеку от берега зачмокала вода, звонко
хрустнули корни краснотала, и в реку ухнул кусок кручи —
подмыло. Вдоль тумана покатилась волна, ударилась о тот
берег, выплеснулась на песчаную косу и умерла.
— Перед рассветом вхожу в те сени — брат ты мой...
Тот в сенях лежит, тот посреди хаты, а один через
подоконник висит, видно, хотел через окно, казак... А на
обмотках еще и грязь не обсохла...
За ту ночь мне орден дали: материальную часть, мол,
спас и защитил позицию... На фронте я еще носил его на
глазах у начальства, а вернулся домой — велел жене
спрятать в сундук* чтоб и самому не видеть, и людям не
показывать.
И с той поры — уж двадцать лет прошло — не могу я
видеть, как луна всходит. Трясет меня всего, так трясет,
что потом дня три все тело болит, как после судороги
или тяжелой работы...
Иван Мефодиевич умолк. Прилег на орошенное сено и
накрыл лицо старой военной фуражкой. А перед моими
глазами еще долго стояла красная грязь ночи и посреди
нее девятеро хлопцев — смеются и звенят медалями.
А вокруг высвистывают осколки. Я еще отродясь не
слышал, как они свистят по-настоящему. Или так, как и в
кино?..
Начинало сереть. Луна побледнела и стала какой-то
совсем ненужной. На удилищах заблестела роса, вдоль
берега проступила узенькая кромка ила — наверно, вода
за ночь спала.
Подул ветерок, туман качнулся, двинулся с места и
поплыл вниз.
ИВАН СРИБНЫЙ
На пристанционной улице за сверкающими на солнце
путями играла музыка, кто-то охрипло срывался на
песню, еще кто-то залихватски выкрикивал под баян в лад
с танцем, и Иван подумал, что, наверно, там свадьба.
«Не эта ли школьница выскакивает за своего
танкиста?»
Иван вспомнил девушку, совсем юную, похоже,
восьмиклассницу, не старше. На ней было коричневое
платьице с белым кружевным воротничком и туфельки на
низком каблуке. Иван танцевал с ней в прошлое
воскресенье под радиолу в деповском красном уголке, который
187
и правду был красным от лозунгов, диаграмм и
плакатов.
Девушка пришла не одна, а с демобилизованным
солдатом в танкистских погонах, в черном рубчатом
шлеме и желтых крагах по локоть.
«Как на маневры приоделся», — подумал Иван.
Играли танго, и танкист прямо от порога, обняв
девушку крагой за тоненькую талию и закинув голову
назад, верно, для того, чтобы смотреть на нее чуть сверху
(он был невысок), закружился в танце. По тому, как он
улыбался, уверенно и небрежно, как выделывал ногами
всякие кренделя, видно было, что солдат и в танце, и
перед девушкой, и перед всеми чувствовал себя первым
парнем на селе. На него и вправду смотрели все:
девчушки восхищенно, хлопцы, которые еще не служили,
благоговейно...
Ивану не досталось пары, и он блуждал взором от
лозунга к лозунгу, читая их. Заметив, что новенькая
смотрит на него через плечо танкиста, Иван отвернулся
и вновь принялся читать. Однако заметил, что глаза у
девушки карие, с золотом в зрачках и взгляд ее наивно
доверчив.
Потом объявили «белый» вальс. Девушка, пряча
глаза от солдата, который курил у двери и уже шагнул
было ей навстречу, подошла к Ивану и, глядя в пол,
сказала:
— Потанцуйте со мной...
Ее звали Наташей, и она ни разу не посмотрела
Ивану в глаза. Даже когда он спросил, как ее зовут.
Девушка танцевала не так легко и свободно, как с
танкистом, а лишь послушно, даже покорно, и, кружась,
Иван почти носил ее на руках. Она была легонькой. И
платьице ее школьное едва уловимо пахло нафталином.
«Дите», — подумал Иван.
Когда он вернулся на свое место, танкист подсел к
нему, нервно пошлепал себя крагой по колену и сказал,
контуженно передернув губами:
— Давай выйдем, друг...
Иван поднялся и первым пошел к двери.
«Начинается, — подумал, — штатская жизнь...»
Он работал в депо всего четыре дня после
демобилизации, на том же станке, что и до службы. Ходил на
работу во флотской робе «хэбэ», которую сэкономил (среди
188
матросов это называлось «засундучить»), и бескозырке
с новенькими лентами и якорями на них. Бескозырку он
снимал в раздевалке и прятал в свой шкафчик, чтобы не
замарать,мазутом: пусть будет память. Так и работал у
станка с непокрытой головой, подвязав белый волнистый
чуб куском мягкой проволоки.
На дворе было звездно и тихо. Лишь в котельной за
сборочным цехом шипел пар и тускло поблескивали под
фонарями вагонные колеса, которые Иван обточил
вчера на старом своем «дейчланде».
Эта огромная шарманка иногда работала как вол,
целую смену и после смены, если нужно было
«выручать» план, и Иван оставался на работе дотемна, иногда
же, будто ей нашептали, внезапно останавливалась, и
запустить ее было так же невозможно, как сдвинуть с
места уставших волов. Рассердившись, Иван хватал
полупудовый резец и запускал им в станок, а сам шел в
соседний кузнечный цех, потому что станок и после
взбучки молчал, лишь скорбно глядел на Ивана стертой
никелированной табличкой:
«Deutschland, 1936...»
В кузнечном Иван молча забирал у молотобойца
молот и бил им так бешено, что кузнец, старенький дядько
Сашко Буряк, уговаривал его мирным баском:
— Полегче, сынок, полегче, а то мы с тобой из оси
саблю выкуем... — И, пританцовывая молотком то по
наковальне, то по нагретой до соломенного цвета оси,
спрашивал: — Что, станок обижает? Беда с нами,
старыми работягами... Мне еще тридцати годочков не было,
когда его привезли из самой Германии... Ну да пусть он
отдышится немного, тогда и поладите, тогда он тебя и
послушается...
Когда Иван возвращался в токарный, у станка уже
топтался начальник депо, сутуловатый человечек, у
которого на висках вечно блестели капельки пота. Свири-
дович — так все звали начальника депо — почти никогда
не ходил, а бегал, и казалось, что он катится.
— Опять * бил станок? — тонкоголосо напускался
Свиридович на Ивана. — Варвар! Лудист! Не смей! —
И катился ругать еще кого-то.
Нашептывал на Ивана коротконогий и низкорослый
Сергей Тарануха, который точил всякую мелочь: гайки,
винты, шайбы. Он был сварлив, придирчив и мелочен,
как и детали, выходившие с его станка. Еще Тарануха
189
любил торчать в получку у окошка кассы, чтобы
подсмотреть в ведомости, кто сколько заработал.
Тарануха горбился над своим низеньким станком,
скалясь, поглядывал на Ивана через плечо и был похож
при этом на таракана, шевелящего усами. Иван
нажимал на кнопку электродвигателя, ласково шепча: «Ну,
давай, старик, давай»,— и станок, мирно ворча, как
дядько Сашко, начинал крутить колесо, снимая толстую,
раскаленную стружку, от которой валил густой мазутный
дым...
Танкист вышел не сразу и не один, а с двумя
корешами. Они сверкали папиросами и держали руки в
карманах.
— Слушай, полундра... — танкист грубо положил
Ивану на плечо руку в краге, — я не хочу с тобой
заводиться — ты служил, я служил, но знай: Натаха — моя
королева, я хожу с ней уже вторую неделю... Так что
отчаль...
Иван убрал с плеча его крагу и сказал:
— Прогони своих ассистентов. Иначе разговора не
будет...
— Уф-ф, какой ор-рел, — деланно удивился один из
юнцов. — Боря, — обратился он к танкисту почти
умоляюще, — дай пощупать его за перышки.
— А может, отведем немного подальше? —
предложил другой неустоявшимся еще баском. — А то он тут
еще писк поднимет. Пусть наши, спокойно потанцуют.
Оба они затягивались папиросами и старались
выпускать дым Ивану в лицо.
— Брысь! — сказал Иван, чувствуя, как мышцы его
наливаются каменной твердостью. — Не то заброшу на
депо и лестницы не подставлю.
Танкист хохотнул, будто озяб.
— Словом, договорились, море, — сказал
примирительно.
— Ты с «королевами» договаривайся, а со мной, если
хочешь, постой покури... молча.— Иван достал
папиросы, протянул танкисту. — И сними ты эти дурацкие
краги. Тебе что — холодно?
Он повернулся, чтобы идти, но юнцы с папиросами в
зубах заступили ему дорогу и вынули руки из карманов.
— Что, козлики, хочется рожки попробовать? —
спросил Иван. — Ладно, только чур не пищать...
190
Он ловко схватил в охапку обоих сразу, точно
обручем сковал, подержал минуту. «Положить на землю —
еще ум отшибу!..» — и швырнул юнцов на кучу
высушенного для пескоструйного аппарата песка.
Уже в дощатом коридорчике, который вел в красный
уголок, услышал:
— Ну, чу-удак, шуток не понимает!..
Танкист весь вечер танцевал только с той девушкой,
недовольно гудел ей что-то на ухо, а она смотрела ему
в глаза так жалостно, что Иван подумал с неприязнью:
«Сестра милосердия...»
После танцев девушка быстро, не оглядываясь, пошла
через пути, и танкист — краг он так и не снял —
поспешил за ней следом. Отдаляясь, они мелькали по
очереди то в желтом, то в красном свете на стрелках —
она впереди, он позади.
Иван туже натянул бескозырку, чтобы ветер не
сорвал на буграх из штыба — там всегда было ветрено,—
и, засунув руки в карманы, посвистывая, напрямик
пошел домой. На буграх он постоял, слушая, как от На-
гольчанской шахты, тяжело пыхтя, старый паровоз
толкает перед собой четыре вагона с углем. Вагоны были
гружены с верхом, и куски антрацита сверкали от
желтоватого света паровозного фонаря.
«Подсесть бы да сбросить парочку кусков пуда на
полтора», — подумал Иван и улыбнулся: в детстве это
была его работа и забава: подцепиться — и на вагон,
столкнуть ногами несколько глыб антрацита напротив
барака, в котором они жили вдвоем с матерью и еще
десятком семей, а потом пробежаться рядом с паровозом,
крича машинисту: «Дядя, пустите пар! Дядя, что вам —
жалко?!» Пар этот пахнул горячей паровозной утробой
и сшибал с ног сильной струей...
После службы на флоте Иван чувствовал себя в
поселке еще не совсем своим и теперь заново узнавал и
свою комнату в бараке, и старенький этот паровоз «Серго
Орджоникидзе», и людей: сверстников своих, пришедших
из армии раньше него (кое-кто даже успел жениться);
школьных учителей, постаревших, как ему казалось, за
эти годы; молодых женщин, которые еще так недавно,
помнил он, были девочками, и он кружил с ними по
аллеям парка, не чувствуя ни к одной из них ничего
такого...
Он знал здесь каждую улочку и переулок,
усыпанные шлаком дорожки вдоль заборов, чтобы не тонуть в
191
осенней и весенней грязи, каждый дубок и куст
боярышника в овраге с ручьем по дну. Но больше всего
анал и любил эти вот бугры из штыба на месте бывшей
сортировки, разбитой в войну. Между буграми,
твердыми, слежавшимися, поросшими бурьяном, он играл с
ребятами в прятки, разбойников, в войну и приходил
домой черный, как шахтер после смены. Летом из-за штыб-
ных бугров всходило солнце и сияло в окне их комнаты,
уютной, чистой, с портретом отца на стене, совсем еще
молоденького, в форме горного спасателя...
За путями, напротив депо, возле колодца стояла
очередь с ведрами и коромыслами, и тот, кто брал воду,
долго крутил ворот: колодец был глубокий. Иван знал
это, потому что и сам, как подрос, каждый день бегал
за пути по воду, и мать каждый раз наказывала
ему:
— Гляди ж, сынок, под вагоны не лезь!
Разве могла она знать, какое это счастье, замирая
сердцем (вдруг поезд тронется!), нырнуть под вагоны и
очутиться как раз напротив колодца.
Где-то за колодцем жила эта девчушка с
милосердием взрослой женщины в глазах. И, поймав себя на
воспоминании о златоглазой девушке, Иван снова угрюмо-
насмешливо подумал: «Сестра милосердия...»
Он шел на станцию к десятичасовому
пассажирскому поезду. К этому поезду каждое воскресенье
выходило столько народу, что перрон становился похож на
городской бульвар. Так уж издавна повелось в поселке —
выходить к пассажирскому. Это стало обычаем,
праздничным ритуалом. К пассажирскому шли, чтобы бросить
письмо в ящик почтового вагона, встречать и провожать,
шли высматривать его, чтобы, первым заметив
тоненькую струйку дыма за семафором, воскликнуть: «Идет!»
Но большей частью к пассажирскому выходили
отдохнуть, показать себя и посмотреть на других, а может,
еще и затем, чтобы стряхнуть с души будничное
однообразие поселковой жизни, ощутить дорогу, движение и
если уж самому не отправиться в странствие, то хотя бы
утешиться мечтой о дальних далях, пожить ею шесть
минут, пока стоит поезд. Потом проводить взглядом
прощальный красный фонарь на последнем вагоне, что
удаляется в степь, пойти выпить пива в тесном,
многолюдном привокзальном буфете. Пиво было не
последним поводом для того, чтобы выйти к пассажирскому,
особенно для людей пожилых.
192
Молодежь ходила на станцию к молодежи, к
беззаботным улыбкам и смеху, к взглядам значительным,
стыдливо прячущимся под ресницами, к мороженому и
Шурке Гвоздеву, широкоплечему парню в батистовой
сорочке, сквозь которую просвечивался каждый Шуркин
мускул, словно из гранита изваянный. Шурка приходил
на перрон с баяном собственной работы и настройки.
Блестели никелированные уголки на мехах баяна и
перламутровые лады на планках, блестела золотая Шурки-
на «фикса» и собственные его зубы, тоже
перламутровые («фиксу» он вставил, чтобы улыбка была
ослепительней), и пел баян голосом, не похожим ни на какой
иной баянный голос в мире. За Шуркой рядочками
ходили под руку поселковые девчата, одетые, будто на
смотрины, в лучшие свои платья и туфельки, а хлопцы
вразвалочку прохаживались отдельно, по двое, по трое,
с видом, независимым ни от девчат, ни от Шурки, ни от
его стоголосого баяна...
Так бывало весной и летом. А поздней осенью, когда
наступали пасмурные, серые дни и туманы и когда в
степи за терриконами -г- их пирамиды едва виднелись
сквозь пепельную мглу,— завывали холодные ветры или
срывались метели, к пассажирскому никто без
надобности не выходил, и, постояв в сиротском одиночестве свои
шесть минут, поезд двигался дальше.
Провожали его лишь дежурный по станции в красной
фуражке и с круглым жезлом в руке да вороны на голых
пристанционных деревьях.
Иван шел к пассажирскому, чтобы увидеть знакомую
проводницу. Поначалу думал: забудется. Однако прошло
уже три недели, как он вернулся домой, сошел с этого
поезда, а она не забывалась. У нее были большие
густокарие глаза и смуглое лицо — без красок. Скромное,
тихое лицо.
Иван хорошо помнил свою мать еще молодою, когда
она работала плитовой на Нагольчанской шахте.
Белокурая, пышноволосая и синеглазая, мама была самой
красивой, когда покрывала чистый, высокий лоб красной
косынкой, низко, по самые брови, и туго, чтобы
шахтная пыль не набивалась в волосы, поверх красной — еще
одну, а третью, рабочую, дома не покрывала, а несла в
узелке вместе с «тормозком».
Если же мама, хотя случалось это и нечасто, шла в
гости или в кино, пудрилась и подкрашивала губы, Иван
хмурился и молчал или ложился на кровать и отвора-
13 Г. Тютюнник 193
чивался к стене: ему казалось, что она равнодушная и
чужая ему перед этим своим зеркальцем.
Мама замечала это, склонялась над ним, гладила по
голове (Иван сердито отталкивал ее руку) и говорила
тихо, виновато:
— Я ненадолго, сыночек. Я скоро вернусь. Ты не
будешь бояться, нет? Ты ведь у меня мужчина, такой
милый, такой надутый ежик.
Ей не было еще и тридцати пяти, ей хотелось хоть
изредка быть молодой и красивой.
Проводница чем-то напоминала Ивану мать, ту, в
красной косынке над бровями. От Волновахи Иван ехал
в купе один, и она в пролетах между станциями
рассказывала ему о себе, о своей матери, которая так же, как
и мать Ивана, работала в шахте, пока там не хватало
мужчин, а теперь на пенсии и любит пить пиво по
воскресеньям с такими же, как и она, пенсионерами.
Рассказывая о пиве, девушка тихо смеялась, цо-детски
вскидывая подбородок и глядя на Ивана из-под своих
длинных ресниц. Работать она начала после окончания
десятого класса, чтобы добавлять к материнской пенсии и
свою копейку. Потом вышла замуж, быстро, сгоряча,
так, как это делают сейчас почти все, и теперь у нее
ребенок, девочка. Он, недавний ее муж, предлагает сойтись
вновь, надоедает, но она не хочет: хватит. Так и живет
с мамой.
На прощание, уже в тамбуре, Иван обнял ее. Она
едва коснулась губами его щеки и, сгорая в румянце,
сказала, что после отпуска, в воскресенье (она смотрела
на календарчик), то есть сегодня, снова будет
сопровождать свой пятый вагон. Иван стоял тогда с нею, пока не
тронулся поезд, чувствуя себя виноватым перед
матерью — за эти шесть минут он был бы уже дома, — но
и уйти, не видеть эти шесть минут ее погрустневших
глаз, ее горячего румянца, так и не угасшего после
поцелуя-прикосновения, тоже не мог.
Все три недели Иван ждал этого воскресенья и
забывал о нем разве что на работе, потому что «дейчланд» и
после капитального ремонта не изменил своего нрава —
работал как ему вздумается.
Еще не оборачиваясь на шаги, по крепкому запаху
«Шипра» Иван узнал Станислава Викентьевича Тура,
нового начальника депо.
— Мечтаем? — спросил Тур, протягивая Ивану
руку.
194
Одет он был парадно: в форменный инженерский
костюм стального цвета с несколькими черными
звездочками на рукавах кителя и петлицах, в фуражке с
блестящими молоточками (видно, начищенными). Был
он только что подстрижен, выбрит и припудрен.
— Свадьбу слушаю, — неохотно ответил Иван.
Он, как и все деповцы, недолюбливал нового
начальника. Старый, сутуловатый Свиридович был работягой и
оборотистым хозяином. Он мог и умел призанять у
людей, которые строились, досок на ремонт вагонов,
потому что вовремя леса почти никогда не присылали:
перемотать электромотор, чтобы не везти в центральные
мастерские за сотню километров и ждать его потом целый
месяц, а то и полтора; он вертелся как белка в колесе и
всегда выкручивался, «вытягивая» план, а заодно и
прогрессивку, которую и сам ждал каждый квартал,
откровенно радуясь, что она будет: Свиридович имел семью
из девяти душ. Не дать план на сто с лишним означало
для деповцев обидеть старика, подвести, предать...
Тур, возможно, потому, что стал начальником легко
и быстро — из десятого класса в институт, из
института в депо — жил еще в себе, в своем инженерном
звании, в своей должности, довольно высокой для
небольшого поселка. Начальник шахты, главный врач,
начальник депо — вот и все видные фигуры...
Чтобы подписать Ивану справку с места работы для
вечерней школы, велел позвать его от станка к себе в
кабинет и сказал важно, поигрывая то одной, то другой
бровью:
— Это похвально, что вы, Срибный, хотите учиться.
Я —- за. Учитесь. Хоть в академии. Но не забывайте:
главное — производство. Мне нужны колеса.
— Вам? — весело удивился Иван.
Тур покраснел, но сказал упрямо:
— Да, мне, поскольку я отвечаю за план.
Он был старше Ивана, может, на год-два.
Тура не любили за чрезмерно начальнические
интонации, за приторный запах «Шипра», что и в кабинете и
в цехах исходил от него, как пар из котла. Деповцы
прозвали Тура просто и ехидно — «начальник». «Сделаем,
начальник», «Не знаю, начальник», «Ша! Начальник
идет!..»
Ехидства он, однако, не замечал. А может, хотел
одолеть его молчанием.
Тур какое-то время прислушивался к свадебному
13* 195
шуму, потом сказал, раскачиваясь на носках
безукоризненно начищенных туфель:
— Наша пара женится, деповская. Нужно было бы
сходить поздравить молодых. Как вы думаете, Срибный?
— Почему — поздравить. Вы же не председатель
поселкового Совета, — сказал Иван. — Пойдите
посидите за столом, выпейте, песню спойте, потанцуйте, если
умеете.
— Некогда мне петь, товарищ Срибный, — вздохнул
Тур и перестал раскачиваться. — Вон возле столярного
цеха вагон с досками еще со вчерашнего вечера стоит,
а разгружать некому. Не освобожу вагон сегодня, завтра
плати штраф за простой. Сутки — шестьсот рублей.
А чем их потом покрывать, а, Срибный? — с нажимом
спросил Тур, мол, ты меня тогда в кабинете уколол,
помню, а что бы ты делал на моем месте сейчас? —
Придется взять человек четырех со свадьбы...
Иван взглянул на часы. Через десять минут должен
был прийти пассажирский.
«А ведь снимет, гусак, испортит людям свадьбу!» —
подумал, но вслух сказал:
— Не нужно никого снимать. Я один разгружу.
— Ну-у... — снисходительно улыбнулся Тур. —
Четырехосный пульман — это, Срибный, шестьдесят тонн.
Пусть дерево меньше потянет, пятьдесят. Представляете?
— Представляю, — ответил Иван и пошел к станции.
— Слушайте, Срибный! — уже вдогонку ему крикнул
Тур. — Если вы действительно беретесь... Я завтра же
оформлю вам наряд на сто рублей. Согласны?
— Посмотрим!.. — засмеялся Иван, засмеялся не
обещанию Тура (он знал, что такого наряда нормировщик
ни за что не подпишет), а от радостного
предчувствия встречи с нею, вот сейчас, через несколько минут.
Пока он бежал, пока пролез под тремя товарняками,
пассажирский уже пришел. На перроне, как всегда в
воскресенье, было многолюдно, пел Шуркин баян,
прохаживалась парами и молодежь, мелькал и танкист в
сбитом набекрень шлеме, но уже без краг...
Иван увидел ее еще от тепловоза, у того же пятого
вагона, в котором он тогда ехал. Увидел и снова
побежал. Потом пошел медленным шагом: она была не одна,
из вагона вышел высокий, лысоватый мужчина в
блестящем на солнце светло-сером костюме, курил и,
улыбаясь, говорил что-то. Он держал за руку девочку,
крохотную горошинку с крылатым красным бантом на го-
196
ловке. Иван остановился под акацией в конце перрона
и смотрел то на нее, то на девочку — маленькую
кареглазую маму. Иван видел, что она ищет его в толпе, что
она не слушает улыбающегося мужчину, даже на дочку,
когда та ухватилась за ее юбку и что-то лепетала ей,
не взглянула.
«Муж, — догадался Иван, — сопровождает...»
Зазвенел звонок, загудел тепловоз...
Она увидела его уже из тамбура, прижала свободную
от флажка руку к груди и смотрела на него,
страдальчески, жалобно, улыбаясь. Лучше бы она не улыбалась!
Поезд миновал станцию, во всех тамбурах
спрятались желтые флажки, остался только в одном.
Когда поезд выписал дугу, поворачивая в степь, Иван
еще раз увидел ее в открытом тамбуре с прижатой к
груди рукой, снял к чему-то бескозырку, снова надел и,
рассеянно поблуждав взглядом по перрону, пошел назад
к депо. Шел и будто смотрел ей в глаза, говорил: «Пока
ездила, пока в работе была, еще жилось как-то, да?..
А в отпуске заскучала... Или мать уговорила
помириться? Или он наобещал златые горы?.. Теперь едет с тобой
в Одессу на Привоз набрать вяленых бычков к пиву для
тещи за то, что она помогла тебя окрутить... Или на одес-
ску$о толкучку — купить тебе платье из кримплена,
любовь новенькую купить, солнце незаходящее... Да? Что ж,
пойдем вкалывать, раз такое дело... Не везет в любви,
повезет в труде!.. Новый лозунг для красного уголка!
Да?.. Ну, счастливо, счастливого плавания по жизни!
Руби швартовые!..»
В котельной за черным от копоти самодельным
столиком сидел дядько Буряк и гудел какую-то только ему
известную песню. Он перешел в кочегары, еще когда
Иван приезжал в отпуск.
— Постарел, сынок, кузня уже не по мне. Руки
дрожат, вижу плохо... Пусть молодые куют.
В воскресенье дядько Сашко дежурил в котельной не
один, а с четушкой. Топил чуть-чуть, лишь бы дымок с
трубы — ведь баня пустая, — прикладывался к четушке,
выпивая по глоточку, оживлялся и улыбался сам себе
или гудел песни без слов. Потом дремал и снова
прикладывался.
Иван поздоровался, сел у столика на блестящую от
давнего мазута скамеечку и закурил.
— Вагон буду разгружать, — сказал дядьке
Сашко. — Переодеться нужно, откройте мне баню.
197
— На кой черт тебе этот вагон! Жилы молодые
рвать? — Дядько Сашко недавно дернул, был еще
горяченький, бедовый и говорливый.
— Сто рублей начальник пообещал. Как раз на
пальто... А кто ему такой наряд подпишет? Никто!
— Ни за что! — воскликнул дядько Сашко. —
И плюнь ты на вагон! Давай-ка лучше по граммульке
на душу капнем ради воскресенья.
— Нет, — Иван поднялся. — В другой раз, дядько
Сашко.
— Так ты что, один думаешь тыщу досок выкинуть?
Ведь тыщу раз пальцем шевельнуть, и тот онемеет, а это
же доски ворочать. Эх! Молодость наша — глупость
наша.
— Иначе штраф, — сказал Иван. — Шестьсот
рублей... Он со свадьбы хотел забрать людей.
— Дело твое. Валяй. Помогать не приду, потому
нечем, сам из вагона скоро выпаду! — Лицо дядьки Сашка,
поклеванное кузнечной окалиной, сморщилось в
улыбке. — Выпаду из вагона, а вы, молодые, поедете дальше.
Другой, слышь, говорит: пойду домой. А я никогда так
не говорю. Я говорю: пойду на квартиру. Потому что
все мы в жизни — квартиранты. Домой — это уже
повезут...
Дядько Сашко засмеялся, закивал головой и пошел
отпирать баню.
Иван разделся, аккуратно, как привык это делать на
службе, сложил форму и спрятал в шкаф для
«комсостава» — так называли в депо начальнический шкаф.
Потом надел грязную, холодную от бетонных стен и
пола тельняшку, штаны, кирзовые ботинки, подвязал
волосы веревочкой и пошел к вагону.
Дядько Сашко семенил за ним и гудел:
— До тыщщи будет. Я знаю. Сам когда-то дурной
был... Знаешь, дурость от чего? От здоровья!
Слабосильный человек умнее, ей-богу. Ты, Ванько, только не
спеши, а потихоньку. И как выберешь столько, что нужно
будет уже вверх бросать, тогда закладывай в петли
возле дверей длинненький ломик, на него надевай
трубу—я все найду — и шуруй: одним концом клади доску
на трубу, за другой берись — и пуляй! Веселее пойдет.
Я знаю. Нет, сто рублей не дадут. Нормировщик,
очкарик этот, не подпишет. Двадцать пять от силы. И то
скулить будет. Да ты на пальто, Ванько, еще триста раз
заработаешь!
198
Иван сорвал пломбу, толкнул дверь.
Дядько Сашко заглянул в вагон и вскрикнул:
— Ай-я-я, сынок! Сырая доска. Ну, правильно. Сухих
нам еще никогда не привозили. Так что затягивай ремень
потуже, не то грыжу схватишь...— И пошел в кочегарку,
сокрушенно качая головой.
Иван влез в вагон, и в грудь ему полился
крепчайший дух сырой пихты, такой густой и вольный, что он
улыбнулся и сказал:
—• Тайга!
Пятиметровые доски, холодные, пропитанные
сибирской осенью и липкие от живицы, показались ему
сначала легкими, как щепки, и за минуту он их выбрасывал
по пять, а то и по шесть. Однако дальше они
становились все тяжелее, тельняшка прилипла к спине, рукам,
груди, и он снял ее. Силы будто прибавилось. К тому же
солнце стало клониться к полудню, крыша вагона,
откуда давила упругая горячая волна, поостыла, дышалось
легче. Иван насчитал триста досок, которые выбрал
одним духом, — так ему казалось, потом перестал
считать, смекнув, что это утомляет, и решил только
работать, кидать и все, впрячься и кидать. И думать только
о чем-нибудь бодром.
Веселее всего жилось ему на тральщике, по крайней
мере беззаботно. Там не нужно было каждый день учить
уроки и переживать за каждую тройку, а случалось, что
и двойку. Не за себя переживал: почти все хлопцы в его
классе не любили «прилизанных» пятерок и считали
«нормальную» тройку достойной всякого мужчины
оценкой. Иван жалел маму, ее усталые руки, листающие
дневник, красные от шахтной пыли и сквозняков глаза,
обиженные до слез его «нормальными» тройками. Потому
восьмой класс он закончил едва ли не на похвальную v
грамоту. И все же бросил школу, пошел в депо сначала
буксомойщиком, потом учеником токаря.
Позже, когда он уже служил, мама написала, что
женщин из шахты вывели и теперь она работает на
поверхности лебедчицей, поднимает вагонетки с породой
на террикон. Заработок, конечно, не тот, что в шахте,
но ей, одной душою живя, больше и не нужно. Она часто
присылала ему посылки с папиросами и яблоками, и
папиросы всегда пахли яблоками, а яблоки —-
папиросами...
Виделась бухта меж береговыми скалами, в которой
они стояли со своими тральщиками, виделась в штили,
199
такая гладенькая, ласковая, залитая солнцем, и
вздыбленная штормом: свинцово-тяжелые волны, мглистая
стена серого горизонта, и ветер такой, что они
завязывали ленточки под подбородком, иначе сорвет бескозырку,
понесет в небо, как черную птицу, бросит белым
баранам на гребнях свинцовых волн.
Под грохот шторма доски казались легче...
Вспомнился товарищ, родной, как брат, Саня Бэглых
из Забайкалья, невысокий, дебелый хлопец, гитарист,
баянист, заядлый танцор и спортсмен-пятиборец. Не
давались ему так же, как и Ивану, только прыжки в воду.
И все же, когда спортивной команде, защищавшей честь
их экипажа на флотских соревнованиях, грозил «ноль»
в графе «прыжки в воду», они с Саней согласились
прыгать. И шарахались с пяти-, потом с десятиметровой
вышки, перевертываясь в воздухе под раскатистый
хохот судей и спортсменов-прыгунов, пока не закончились
соревнования. Бэглых набил о воду синяки на груди,
бедрах, икрах. Иван был весь синий, потому что был
тяжелее Сани. Им засчитали несколько очков, даже больше,
чем следовало бы: за волю к победе, сказали судьи,
смеясь...
Саня любил «выбивать» для Ивана ДП —
дополнительные порции. Схватит алюминиевую миску,
протолкается к камбузному окошку: «Давай!» — приказывает
коку. «Тебе?» — снисходительно спрашивает тот, пожмет
могучими плечами и отвернется. «Корешу моему, —
показывает Саня большим пальцем через плечо.— Ваньке
Срибному». — «А-а... — Кок накладывает полную миску
плова и подает в окошко. — Я думал, тебе, пшлинг!»
Семен по-настоящему страдал от того, что ему не
разрешали ходить в строю правофланговым рядом
с Иваном, а отсылали на «шкентель» — в последний
ряд...
Когда досок осталось меньше, чем полвагона, Иван
сел передохнуть и закурил: после папиросы не так
хотелось есть. Сбегать бы домой перекусить — грязный,
как трубочист: в вагоне перед досками был уголь, и
сквозняком (Иван открыл и другие двери, чтобы ветерок
дышал) вздымало черную пыль, а помыться и
переодеться — жаль было терять время.
Солнце уже пряталось за желтую гору досок возле
вагона и золотило угольную пыль, поднимаемую
ветерком. Предвечерье пахло осенью, подгоревшей на солнце
листвой желтой акации, стынущей землей. Прошел
200
рабочий поезд. Люди, ездившие в город на базар и
потолкаться по магазинам, переговариваясь, двинулись
со станции в поселок. А из открытых дверей кочегарки
было слышно, как гудит дядько Буряк:
Накры-ылся он се-е-рою-уу шине-е-ллю
И ти-ихо-о родных спо-омина-ал...
В войну, когда наши уже возвращались назад,
дядька Сашко тяжело ранило под селом Ребриковом, тут
недалеко, и он едва не умер, накрытый вместо серой
шинели сырой землей от взрыва. Выпив четвертинку или за
кружкой пива дядько не раз рассказывал Ивану, как
ему тогда лежалось.
— Как в яме, сынок... Хлопчики меня тогда нашли,
ребятишки ребриковские...
Может, и песню эту он стал петь с той поры.
И, опечалившись, Иван вновь принялся кидать доски.
Теперь уже вверх: куча выросла едва ли не вровень с
крышей вагона.
Вскоре пришел дядько Сашко, притащил трубу и
длинный прут двухдюймового железа. С этим нехитрым
блоком кидать стало намного легче, только толкай, но
медленнее наполовину. Впрочем, Иван быстрее уже не
мог: мышцы будто свело, они уже не болели, их
нестерпимо жгло.
— Пойду разведу тебе пары да картошки испеку в
топке у дверцы. Ты ж, поди, до сих пор ничего не ел?
У-у, я, хоть бы и годочков десять мне скинуло, после
сотой доски упал бы. Эх, молодость наша, жеребеночек
брыкливый, куда ты убежал?..
— Где там солнце? — спросил Иван. — Мне не видно.
— Заходит солнце, Ванько. Земли вот-вот
коснется, — гудел дядько Сашко из-за кучи. •— Хороший день
нынче выпал, а тебе, должно быть, самый лучший!..
Иван прикинул, что работы осталось на час-полто-
ра, досок сто с лишним. А если хорошенько приналечь —
последние ведь! — то и за час можно управиться. Он по
себе, еще со службы знал, что такое второе дыхание,
хотя знал и то, как нелегко оно дается.
— Ой, погодите там, дайте пройти! — услышал
звонкий, веселый девичий голос, оставил доску, которую
уже нацелился было запустить почти вертикально в небо,
и оперся руками на трубу.
«Поглядим, что там за красотка...»
Он чувствовал, как по спине катятся капельки потаг
201
как дрожат ноги и бухкает в груди сердце. Чуб давно
выскользнул из-под веревочки, кольцами повис над
глазами и щекочет лоб.
Из-за кучи досок вышла девушка, та самая, что
танцевала с танкистом, в том же коричневом платьице
с белым воротничком и в платке, повязанном по-женски.
Она чуть согнулась набок, держа в руке полную авоську
бутылок.
— Ой, это вы?.. — улыбнулась смущенно. —
Добрый вечер...
— Добрый, — сказал Иван. — Что, не хватает? —
кивнул на бутылки и тоже улыбнулся. — Уж не свань
кой ли на свадьбе?
— Нет. — Девушка сверкнула на него золотистыми
глазами. — Светилкою * у братика. А у вас разве не
выходной?
— А у нас воскресник, — сказал Иван, закуривая,
прищурился от дыма и спросил: — Мордвиновские
бараки знаешь?
Она быстро кивнула, не сводя с него глаз.
— Ну, если ты не гуляешь, а на побегушках,
мотнулась бы ко мне домой и принесла какой-нибудь «тормо-
зок». Есть хочу, а сестренки под рукой, чтобы за едой
послать, нет...
Он сказал это шутя, лишь бы что-то сказать —
надоело молчать целый день. А еще ему не хотелось, чтобы
она вот так сразу ушла.
Девушка спросила потупясь:
— А кто у вас дома?
— Мама.
Она покачала головой.
— Нет.
И, не попрощавшись, даже не взглянув больше на
Ивана, пошла, почти побежала с тяжелой авоськой в
руке.
Иван посмотрел ей вслед: «Светилка... махонькая».
И вновь принялся за работу.
...Он выбрасывал уже последнюю доску, когда
услышал от противоположных дверей вагона:
— Подайте мне руку, а то я сама не влезу.
Она стояла с белым узелком в руках, в темной
одежде и смотрела на него снизу вверх.
— Вот, — подняла узелок, — «тормозок» вам...
Иван спрыгнул на землю, стал против нее и молчал
* Светилка — сестра жениха.
202
растерянно. Потом легонько взял ее за плечи — она
отвернулась и смотрела в землю, — улыбнулась ласково:
— Ты... Вы что, и вправду подумали? Я ведь
пошутил! — Иван поискал подходящее слово и добавил: —
Пошутил я... сестрица. Ей-богу!
— Нет-нет, я вижу. Вы вон даже похудели. Поешьте,
а я доски покидаю. Хорошо?
Только теперь Иван заметил, что она в рабочей
одежде, и засмеялся:
— Уже все. Вагон пустой. И я скоро пойду ужинать
домой. Так что спасибо.
— Но ведь то домашнее, а это свадебное...
угощение, — сказала она и, развязав узелок, подала Ивану.
— Ну, если угощение, тогда попробуем.— Иван сел
на деревянный ящик для запчастей и крупного
вагоноремонтного инструмента и быстро, хотя руки и не очень
слушались его, управился со свадебным лакомством.
— А это что за штука? — спросил, рассматривая
пышный, душистый цветок с румяными лепестками.
Девушка засмеялась тихо, сияя белыми зубами.
— Шишка. На свадьбу такое пекут: шишками
называется. Я сама такую придумала — чтобы цветочком —
и испекла тайком, потому что светилкам нельзя шишки
делать.
— Почему?
— Не знаю... Говорят так.
— Разве вы уже работаете, что у вас спецовка
есть? — спросил Иван.
— Тут, в сборочном цехе. На кране. Вы заходили к
нам, когда на работу поступали. Я несу деталь, а вы
прямо под нее идете... Звонила, звонила — даже не
глянули.
— Сколько же вам лет? — удивился Иван.
— Семнадцать. И четыре месяца... Завтра будет.
В котельной заскрипели двери, загудел дядько Сашко,
потом умолк, верно, прислушиваясь, и позвал:
— Эй, Ванько! Ты уже отвоевался? Иди поешь
картошку, пока горячая. И — в баню. Я тебе такого пара
напустил, что аж кипит.
— Иду, — отозвался Иван, поднимаясь. — Спасибо,
маленькая, — сказал девушке. — На свадьбе оттанцую...
За станционными деревьями всходила луна, там было
красно и сквозь листву виднелись сонные вороньи
гнезда.
— Можно, я вас подожду? — спросила девушка тихо.
203
...На другой день, утром, Иван стоял у станка,
окутанного прозрачным синеватым дымом и сверкавшей
под осенним солнцем металлической пылью.
Тур подошел к нему, улыбаясь глазами, обдав
привычным «Шипром» и несколько торжественно пожав
руку, сказал:
— Спасибо, Срибный. Молодчага вы. Только
понимаете... Нормировщик не подписывает наряд на сто
рублей. На двадцать пять, не больше... Я подписал, а он...
Да и главбух против: нарушение финансовой
дисциплины.
— А штраф? — улыбнулся Иван. — Шестьсот
рублей, как?
Тур улыбнулся в ответ:
— Штраф — это было бы законно.
— Ничего, переживем! — сказал Иван.
— Ну, нет, я кое-что придумал, — возразил Тур. —
Выключайте-ка станок и пойдемте со мной...
Он привел Ивана на склад, красный вагон без колес,
и сказал ушастому, долговязому кладовщику:
— Выдайте, пожалуйста, товарищу Срибному
форменную шинель. Под мою ответственность. — Подумал,
поиграл бровями, поднимая то одну, то другую, и
добавил значительно: — Вы не возражаете, если, так
сказать, в знак дружбы будете носить такую же, как и у
меня, шинель?.. Солидарность, так сказать.
— Солидарность? Что вы, начальник!..
Иван перекинул через плечо шинель и направился
было к цеху. Потом обернулся. Тур стоял в дверях
склада тоже с шинелью на руке, красный и обиженный.
— Не то, Станислав Викентьевич... Извините,
конечно... Но я скажу. Свою солидарность со мной вы имели
возможность продемонстрировать вчера. Проще
было бы...
И пошел к станку, прислушиваясь к радостному
пению кранового звонка в сборочном.
ПОВЕСТИ
климко
Глава первая
Климко проснулся от холодной росы, упавшей ему
на босые ноги (видно, метался во сне), и увидел над
собой окаменело-сиреневое небо, каким оно бывает лишь
осенью на восходе солнца — без жаворонков, без
легких с позолотой облачков по горизонту, без улыбчивой
радости пробуждения. Климко подобрал ноги под полы
тужурки, чтоб согрелись, и онемевшей дрожащей рукой
разобрал солому у глаз — он спал в скирде.
Солнце, должно быть, только взошло, потому что от
скирды через ток и еще дальше на стерне лежала
длинная тень в сизой росе, сладко пахло втоптанной в землю
набухшей рожью, уже выбросившей ростки, и сухими
мышиными гнездами. Вечером мыши щекотали Климка,
прыгали по рукам и ногам, пищали, развлекаясь, и
Климко прогонял их: сучил ногами, шикал сердито — пока не
заснул.
Ночью ему снилась огромная стая желтых ворон с
желтыми воробьями вперемежку. Но это была не стая
и не ночное привидение — это был вихрь из больших
кленовых и маленьких вишневых листьев, поднявшийся
над поселком, когда Климко вышел в степь за станцию
и последний раз оглянулся назад. Лиственный столб все
выше и выше поднимался в поднебесье, а потом
рассыпался и исчез с глаз.
Где сели эти листья? Илж, может, кружатся до сих пор?
Климко приподнялся на локте, чтобы лучше была
видна дорога, по которой ему идти дальше, и его
затрясло, даже зубы застучали от застоявшегося во всем
теле холода.
«Ничего, — подумал он, — пробегусь немного,
согреюсь».
В степи было.тихо. Блестели под солнцем стерня и
ковыль над дорогой, серебрилась тяжелая, увешанная
капельками росы паутина. Вдалеке, между
телеграфными столбами и некрутыми буграми, виднелись розовые,
206
словно всполохи костров, меловые горы. Где-то там, у
этих гор, слышал Климко, был большой город Славянск,
а меж горами, прямо на земле, лежала глыбами соль —
бери сколько унесешь. Еще слышал Климко, что за
стакан соли можно выменять всякое добро: мисочку или
две кукурузы, ведерко картошки и даже настоящий хлеб.
Климко шел босой, в куцых штанишках^ старой
матроске, что была когда-то голубой, а теперь стала серой,
и в тужурке дяди Кирилла. Этой тужурке, как говорил
дядя, было «сто лет», и не рвалась она лишь потому,
что заскорузла от давнего мазута. Не брали ее ни дождь,
ни снег, ни солнце. Пахла тужурка паровозом. Ночью
она остывала, а днем аж дымилась на солнце, пахла еще
сильнее и жгла плечи и спину.
Климко жил вдвоем с дядей Кириллом с тех пор, как
осиротел. Жили они в железнодорожном бараке у самых
путей. И, когда мимо грохотал тяжелый эшелон, барак
тоже будто срывался с места: дрожали стены, дрожал
пол, дребезжали стекла в окнах, а барак мчал и мчал.
Потом, когда эшелон удалялся, грохоча тише и тише,
барак останавливался и стоял, как и прежде, и под
окнами его снова чирикали воробьи.
Дядя Кирилл был машинистом большого паровоза ФД
и ходил на работу когда как: то утром, то днем, то
посреди ночи, когда Климко уже спал. Возвращался он
всегда неожиданно — в руках железный сундучок,
глаза уставшие и улыбка, обращенная к Климку.
— Как тут мой помощничек? Не боялся ночью
один? — спрашивал, бывало, снимая кожаный картуз
с белыми молоточками, от которого на лбу оставалась
красная тугая полоса, никогда не успевавшая сойти до
следующей смены.
Потом дядя умывался над большим медным тазом,
долго, с хрустом в пальцах растирал руки, хотя и сам
он, и Климко знали, что руки все равно не отмоются.
—- Вот подрастешь, Климко, и айда к нам на
паровоз, — говорил дядя. — Выучим тебя на помощника
машиниста и заживем: вместе на работу, вместе с
работы... А так не вижу, когда ты у меня и растешь.
Умывшись, дядя надевал чистую сорочку и садился
за стол.
— А давай-ка свои грамматики-арифметики,
поглядим, что там у тебя с науками.
Это было самой большой радостью для Климка:
положить перед дядей аккуратно исписанные тетради, а са-
207
мому приняться за уборку: вынести таз с мазутной
водой, вытереть пол, где набрызгано, и тихонько, чтобы
дядя не обернулся, налить ему супу — сам сварил, —
горячего и вкусно пахнущего. За тетради он никогда
не боялся, потому что только по письму получал
изредка «посредственно».
—- О! — удивлялся дядя, выпрямляясь над столом.—
А это что? Нужно было написать «холодно», а у тебя
«хохолодно»...
Климко на это смущенно отвечал:
— Это у меня, дя, после большой перемены руки
сильно озябли, вот оно и хохокнуло.
Дядя, довольный, что нашел ошибку, откладывал
тетради и принимался за суп.
— Ах и хорош, — хвалил, чуть отхлебнув из
ложки. — У-у-у, такой не всякая и кухарка сварит. Возьми
ж там, в сундучке, гостинец.
Климко знал, что дядя непременно скажет эти слова,
однако всегда волновался: а что, как нет? Что, как
забудет?
В сундучке, пахнувшем так же, как и дядина
тужурка, и картуз, и сам дядя, лежали блестящие ключи и
ключики. Климко никогда их не трогал, потому что это
были дядины ключи от паровоза, а только рассматривал
их. Еще был в сундучке молоток, клочок мягкой белой
пакли, большая кружка, чтобы набирать на станциях
кипяток и чаевничать с кусочком сахара, и складной
ножик — резать хлеб. В кружке Климко и находил
гостинец: пригоршню серебристых пряников, или букет
прозрачных петушков на палочках, связанных ниткой,
или еще что-нибудь.
На следующий день дядя Кирилл, чистый, гладко
выбритый и ясный, снова шел на станцию со своим
сундучком, а Климко провожал его до самого паровоза.
ФД стоял на запасном пути, еще горячий от недавнего
рейса. Из трубы чуть-чуть курился дым, синел пар из
патрубков и окутывал уставшие колеса — ФД отдыхал,
сияя масляными черными боками и начищенной медью.
Возле него и зимой было тепло.
— Ты ж там хозяйничай, Климко. А ночью спи и
не бойся, — говорил дядя. — Ночью все, как и днем,
только и того, что темно.
И пока Климко бежал потом назад к бараку, дядя
улыбался ему уже из паровозной будки и махал рукой —
вот так, одними пальцами.
208
Климко и не боялся ночей, потому что барак почти
никогда не спал сразу весь. В нем жило много людей,
все они работали на станции, ходили на работу и
возвращались с нее кто когда, оттого в бараке всегда кто-то
не спал. К тому же барак стоял на таком веселом
месте, что его со всех сторон освещали огни: со станции,
из вагоноремонтных мастерских и от шахты, — и он
плыл каждую ночь в тех огнях, словно корабль в лунном
море.
А сколько звуков жило на станции ночью! Лязгали
стальными тарелками вагонные буфера, перекликались
дудари-стрелочники, свистели в свои свистки и
взмахивали фонарями сцепщики вагонов, вызванивали
молоточками по колесам обходчики поездов, и, словно где-то
вверху, над станцией, постоянно одним голосом
зуммерил шахтный вентилятор. В бараке всегда стоял запах
шпал, штыба, котельного пара и полыни, росшей под
окнами. А освещение рисовало на стене напротив
постели Климка большие яркие цветы: красные маки,
синие васильки, желтые подсолнечники, они переливались
и дрожали, как на ветру в степи... Это были сказочные,
самые счастливые в жизни Климка ночи.
Он так бы и вырос среди этих украшенных цветами
ночей, если бы не настали ночи иные, ночи без огней.
Остались лишь звуки, те, прежние, но в темноте они
помрачнели, стали глуше и долетали словно из глубокой
пропасти. В эти черные ночи поезда шли чаще и
быстрее, чем раньше, но от них уже не веяло сосновым
духом или теплой пшеницей, мокрым, только что вынутым
из шахты углем или кирпичной пыльцой из открытых
вагонов. От них пахло лекарствами, дымом солдатских
кухонь, горячими на солнце обломками самолетов и
пушек...
И в одну из таких ночей не вернулся на станцию
ФД дяди Кирилла, хотя его давно уже ждала новая
смена машинистов. Климко тогда целую ночь пробродил
по поселку, вслушиваясь в далекие испуганные гудки
паровозов, но так и не услышал знакомого. Он был один
во всем мире — гудок дядиного ФД Климко узнал бы
среди тысячи...
На рассвете на станцию прикатила дрезина-рель-
совоз и привезла дядю Кирилла, его помощника, старика
Кондратовича, и кочегара — Славку-гармониста.
Дрезину окружили со всех сторон — дежурные обходчики,
смазчики, стрелочники, и Климко никак не мог про-
14 Г. Тютюнник 209
биться сквозь толпу. Увидев, что все сняли картузы и
склонили головы, он закричал, застучал кулаками в
согбенные спины:
— Пустите меня!
Его узнали и расступились... Климко увидел только
седой дядин чуб, выбившийся из-под брезента,
уцепился за борт кузова, чтобы подняться вверх, но кто-то
придержал его за плечи и сказал:
— Сейчас, сынок, сейчас увидишь вблизи. Снимем —
и увидишь.
— Прямое попадание... — торопливо рассказывал
кто-то. — В тендер. Их углем побило...
Дядю хоронили на закате дня. В открытые настежь
двери барака врывался ветер. В коридоре шуршали
первые осенние листья из пристанционного сквера и
забивались в тихие уголки. Входили молчаливые усталые
железнодорожники в пропитанных мазутом робах,
снимали картузы, прощались шепотом с дядей и снова шли
на работу; вздыхали и потихоньку всхлипывали
барачные женщины, а тетка Мотя из поселка плакала громко
и припадала щекой к черным — так и не отмыли —
дядиным рукам, сложенным на груди. Она частенько
приносила дяде чистые, выглаженные сорочки, пахнущие
серым хозяйственным мылом.
В головах у дяди лежали пучочки живых и сухих
цветов: чернобривцы с деповской клумбы и астры из
чьего-то сада, сухой тысячелистник и ковыль. От цветов
исходил мягкий ладанный запах, а дядин новый костюм
напомнил Климку выходные дни.
На кладбище Климко не плакал, лишь вздрагивал от
холода в груди и хрипло вздыхал. Красно, заплывая
розовым предвечерним мраком, заходило солнце. А ветер
обрывал с молодых топольков пожелтевшие листья и
разбрасывал между могилами. Они застревали в оградках,
прилипали к памятникам или улетали в степь, разрывая
на своем пути тонкую, еще не отвердевшую по-осеннему
паутину.
На могилу дяди положили его кожаный картуз с
белыми молоточками.
После похорон тетка Мотя довела Климка до барака,
заплакала у порога и сказала:
— Может, ты ко мне перешел бы? Куда же тебе
деваться теперь? Кто присмотрит?
210
Климко покачал головой и вошел в барак. Ухаживать
за собой: сварить поесть, убрать в комнате, выстирать
одежину — он умел и сам. Давно умел...
Климко вытер застывшими грязными пальцами глаза
и сел в своем соломенном гнезде. На дороге не было
видно ни души. Только за перелогом, откуда он вчера
пришел к этой скирде, слышалось по-утреннему гулкое
громыхание подвод. Оно то стихало, когда подводы
спускались в отрог, то вновь усиливалось, когда они
выезжали на пригорок. А вскоре вдоль телеграфных столбов
замаячил длинный немецкий обоз. Сытые куцехвостые
кони ломовики дышали паром. Кованые фуры с
тормозами в передках стучали тяжелыми колесами по
укатанной земле. На последней подводе, немного отставшей
от обоза, ссутулившись, сидел на передке солдат и,
видно, дремал — пилотка сдвинулась на ухо, плечи
обвисли, — уткнувшись в расстегнутую вверху, с поднятым
воротником, шинель. Напротив скирды он поднял голову,
сказал что-то коням, и они остановились... Климко на
всякий случай поглубже зарылся в солому, а солдат
неловко спрыгнул с фуры, оглянулся на солнце
красно блеснувшими очками и двинулся к скирде. Но,
сделав несколько шагов, вернулся и прихватил
карабин.
Он ступал медленно, как ворон. Климко хорошо
видел сквозь солому небритое морщинистое лицо, толстую
отвисшую нижнюю губу и высоко поднятое плечо с
карабином на ремне. Он был уже пожилой, этот солдат,
и, верно, шел к скирде, чтобы набрать соломы под свое
хилое тело. Климко понял это, когда солдат приставил
к скирде карабин и попробовал подергать солому, что-то
бормоча. Потом увидел копнушку уже надерганной —
ночлег Климка — и пошел к ней. Климко замер, не
зная, что делать: вскочить, крикнуть, пошевелиться?..
И когда солдат занес твердый черный ботинок, чтобы
сбросить мокрый от росы верхняк с убежища Климка, он,
уже ничего не думая и ничего не видя перед собой,
кроме блестящей подковы на каблуке, вскочил на
колени — грязный, нестриженый, в остюках. Солдат на миг
застыл с поднятой ногой, потом тоненько взвизгнул и
отпрыгнул в сторону. Он схватил карабин и наставил
его далеко перед собой на Климка. Климко онемело
смотрел в маленькое черное отверстие карабинного ствола —
оно дрожало, нацеленное ему в переносицу, — потом
разжал кулаки и показал солдату худые синие ладони.
14* 211
— Не стреляйте, дядя, — сказал, запинаясь от
холода. — Видите, у меня ж ничего в руках нет.
Тот по-бычьи фыркнул и громко вздохнул, однако
карабина не опустил.
— Нет, говорю, — Климко еще раз показал ладони
и даже пальцы растопырил.
— О-У» — сказал солдат, подняв над очками
жидкие брови, и засмеялся. Сначала мелко, по-бабьи, потом
захохотал так громко, что синие птицы голубокрылки
снялись со столбов над дорогой и перелетели дальше.
А Климко смотрел с коленей на разинутый его рот с
подковой прокуренных зубов вверху и тоже пробовал
засмеяться, но получалась икотка.
Успокоившись окончательно, солдат протер пальцем
глаза под стеклами очков и спросил:
— Кто ты есть?
Климко молчал, удивленный странной, непохожей на
немецкую речью солдата.
Тогда солдат зажал коленями карабин и, загибая
пальцы на свободной руке, стал перечислять:
— Иван, Александер, Петер...
— Нет, — сказал Климко. — Меня зовут Клим.
— О-у, Клим Ворошилоф! — хохотнул солдат. —
Клим! Розумем... Тут есть твой дом?
— Нет, — покачал головой Климко. — Я тут только
ночевал. Дома у меня нигде нет.
— Так, — произнес солдат и застрекотал что-то
быстро-быстро. Он говорил долго, тыкал в Климка пальцем,
как пистолетом: «Пуф! Пуф!» — и несколько раз
повторил слово «партизан». Только тогда Климко понял, что
этот солдат боится каких-то партизан и чуть не
застрелил его, Климка, невзначай.
— Я иду за солью, вон туда, — Климко показал на
белые горы. — Мне нужна соль. — И как бы посыпал
кончиками пальцев себе на ладонь. — Соль.
— А-а, соль! Розумем... Хлеб-соль!..
Он глянул на ноги Климка, осыпанные цыпками,
грязные и посиневшие от холода, велел подождать и
дошел на дорогу, к фуре.
Солнце поднялось по ту сторону скирды, тень от нее
стала короче и теплее.
Горы над степью вдалеке стояли белые, словно
пушистые, к погоде, облака.
Солдат вернулся уже без карабина, держа в руках
212
сверток из выгоревшей плащ-палатки в рыжих и зеленых
пятнах, и протянул его Климку.
Затем набрал охапку соломы, еще раз оглянулся на
Климка, покачал головой: «Война, война... Плохо...» — я
пошел к коням, сгорбленный, в тяжелых, не по
стариковской ноге, ботинках.
Подвода тронулась вдогонку за обозом, который был
уже далеко, и скоро скатилась в балку.
Климко развернул сверток. В нем лежала пачка
сухих — они тарахтели — зеленоватых галет в прозрачной
хрустящей бумаге и круглая черная коробочка соли —
может, с горсть. Климко разорвал бумагу, достал одну
галету, надкусил и начал быстро жевать. Во рту
сделалось терпко и холодно. Под ложечкой тошнотворно
засосал голод. Климко понюхал галету и перестал жевать:
она пахла мятно и ладанно, как сухие цветы в головах у
дяди Кирилла. Голод мгновенно улегся, исчез, от него
осталась лишь тупая резь в животе.
Климко поднялся, присыпал галеты соломой и быстро,
с плащ-палаткой и солью под мышкой, пошел к дороге,
коля ноги холодной от росы стерней. Он отошел уже
довольно далеко, потом бегом вернулся к скирде, отрыл в
соломе галеты и завернул в плащ-палатку. «Может, за
них соль дадут или еще что-нибудь», — подумал.
Он пересек дорогу, что чуть отзывалась на грохот
удалявшегося обоза, и пошел проселком прямо на белые
горы.
Глава вторая
Климко шел уже восьмые сутки.
В первый день ему шлось легко, даже весело.
Глубокая пыль на дороге грела босые ноги, в карманах дядиной
тужурки лежало шесть больших белых сухарей и
достаточно вместительный мешок для соли. А тут еще степь,
солнца кругом полным-полно. Ветерок щекочет ковыль-
траву, тревожит полынь, чтобы она сильнее пахла. И ни
души. Только ящерицы шмыгают в траве и меж теплыми
камнями на голых пригорках.
Сухарей дал Климку в дорогу дед Бочонок,
станционный аптекарь и приятель дяди Кирилла. Дед Бочонок —
так звала аптекаря вся детвора в поселке и на станции —
целыми днями, даже в воскресенье, просиживал в
поселковой аптеке возле базара и (это было видно через
окно) развешивал на крохотных весах какие-то лекарства
213
или стоял за прилавком, упершись в него торчащим
животом. Он знал всех, и его тоже знали все. Седой,
усатый и кругло-толстый, как настоящий бочонок, аптекарь
любил прохаживаться утром по базару — в широких
полосатых штанах, в длинной, чуть ли не до коленей,
синей косоворотке, подпоясанной витым шелковым поясом
с белыми кистями. На ногах у него были огромные
желтые ботинки. Бочонок никогда ничего не покупал, а лишь
весело переговаривался с торговавшими и хохотал басом
из-под белых распушенных усов: «Гу-гу-гу! Кха-кха-кха!
О, мое вам почтеньице!» И снова хохотал, причем живот
его вздымался, как большая упругая подушка, и дрожал.
Шелковые кисти на поясе тоже дрожали. Ему тут же,
прямо посреди базара, жаловались на всякие недуги, и он
важно отвечал: «Куальцексс, куальцексс принимайте, мой
друг». Или: «Аспирини, аспирини пейте, моя милая.
Трижды в день по одной таблетке. Мела не
жалко!»
Были, однако, и такие, кому Бочонок назначал
лекарства, особенные по своей загадочности и торжественности:
— Я приготовлю вам капли датского короля, мой
почтенный. Загляните как-нибудь.
Пробегая утром мимо базара в школу, Климко
частенько сворачивал в ряды лишь ради того, чтобы
хвостом походить за Бочонком и услышать от него
таинственные слова — «куальцексс», «хина», «аспирини»...
Больше всего ему нравилось в них «а»: круглое,
глубокое, оно, словно эхо из колодца, перекатывалось в горле
аптекаря — тоже как бочоночки...
На другой день после того, как не стало дяди
Кирилла, дед Бочонок пришел к Климку в барак, молча
заплакал, прижавшись толстым плечом к дверному косяку, и,
утерев слезы, присел возле Климка на стул, что так и
ахнул под тяжелым телом. Потом достал из кармана
широченных своих штанов пачку красных кредиток и положил
перед Климком на стол:
— Может, хоть буханку хлеба купишь. На все. Ведь
сейчас они без цены... А еще лучше, подался бы ты на
сёла, пристал к какой-нибудь старушке в помощники и
перебыл бы эту лихую годину. Я тебе харчей на
дорогу дам.
Климко сказал, что получает на станции дядин паек,
так что жить можно. И в школе скоро начнутся занятия.
— Уже не начнутся, — вздохнул дед Бочонок. —
Немцы вот-вот придут...
214
Вскоре немецкие самолеты разбомбили станцию.
Климко бегал в тот день с поселковыми ребятами за
балку смотреть сбитый наш ястребок и видел издалека, как
бомбы попадали в депо, в вагоны, как покачнулась и
медленно рухнула водонапорная башня, а в воздухе над
пламенем и дымом после каждого взрыва жутко
завывали обломки рельсов. Бомба попала и в барак, и его
развалило, разбросало в стороны, а остатки стен и
простенков сгорели у Климка на глазах — полыхнули, как
щепки. Пожара никто не гасил, потому что станция горела
вся, горели депо и шахта, а два паровоза, успевшие
отойти за посадку у кладбища, призывно и грустно
гудели в два неодинаковых гудка.
Так и остался Климко в чем был, в чем и шел сейчас.
...Солнце поднялось уже высоко и пригревало спину,
а земля была холодная, ступни занемели и сделались как
деревянные. Когда они мерзли так, что не было уже
терпения идти дальше, Климко садился прямо посреди
дороги и оттирал их руками, дышал, поднимая ко рту, то на
одну, то на другую, и снова тер.
Впереди показался лесок, одни верхушки деревьев.
То ли балка, то ли еще что. А может, низовое село. Над
верхушками, желтыми и зелеными, заметил Климко,
тоненькой струйкой поднимался вверх дымок. Не таял и не
падал набок, как бывает при ветре, а лишь чуть-чуть
покачивался в утреннем покое. Климко обрадовался дымку.
Костер тлел неподалеку от проселка, на картофельной
грядке, между пожелтевшими осинками и кленами.
Огород был небольшой, по краям его лежали кучки старых,
почерневших от моха камней — видно, когда-то не день
и не два трудился здесь кто-то, освобождая землю от
камней, чтобы посадить в нее какое-нибудь ведерко
картошки. Возле костра лежала куча примятой картофельной
ботвы, смешанной с опавшими листьями, и виден был
глубокий след от тачки. Картошку выбрали, наверно, вчера
вечером, потому что земля в лунках еще не просохла.
Климко разворошил палкой костер — из него
выкатились две черные, как уголь, картофелины. Кожура на
них сильно пригорела, даже отстала от сердцевины,
розовой и пахучей. И тогда ему так захотелось есть, что
слезы сами выступили на глазах. Он вытряхнул из уголков
в карманах тужурки крошки сухарей, легонько сдул с них
остюки и соломенную труху и еще немного полакомился.
216
Последнюю половинку сухаря он съел вчера утром и с
тех пор у него не было во рту ни росинки. Правда, в
одном леске над дорогой ему попался куст боярышника,
густо усеянный ягодами. Климко оборвал его до
последней ягодки и ел до тех пор, пока не затошнило.
Сухарей хватило бы еще на какое-то время, если бы
они были не червивые, если бы ему дал их сам дед
Бочонок, а не его жена — худая, злющая и скупая Бочони-
ха. Климку всегда, когда они бывали с дядей Кириллом
в гостях у Бочонков, казалось, что Бочониха не ставит
тарелки с праздничной едой на стол, а кидает их, на что
дед Бочонок только покашливал и ерзал на стуле,
однако молчал.
Когда Климко забежал к аптекарю и сказал, что
уходит из села (о соли он промолчал, боясь, чтобы Бочонок
не стал отговаривать его или еще хуже — не оставил
жить у себя), тот вышел на кухню и долго несмелым
баском разговаривал о чем-то с Бочонихой. Климко хотел
уже было потихоньку улизнуть, но тут аптекарь вернулся
с Бочонихой, которая несла перед собой миску борща,
она кинула ее на стол и снова ушла на кухню.
— Я не голодный, — сказал Климко, отодвигая
миску, и опустил голову, чтобы не смотреть на борщ.
— Ешь, — попросил Бочонок, виновато моргая и
хватая себя то за один, то за другой ус. — Ты на бабу не
гляди. Она такая и есть.
Климко даже не пошевельнулся.
В комнате пахло лекарствами. На полу лежал
толстый ковер, на стенах висели большие красивые
картины в золоченых рамах, на высокой кровати возле
подушек спал кот с пушистым хвостом, а из кухни пахло
горячим хлебом.
В окно со двора кто-то легонько постучал, аптекарь
тяжело поднялся, выглянул поверх занавески и закивал.
Он вышел на веранду, не прикрыв за собой дверь, и
Климко услышал измученный женский голос:
— Не лучше ему, Карпович... Горит весь. Вы бы еще
что-нибудь дали ему, такое, чтоб помогло... А вам за это
вот яички, сальца четвертинка...
— Нет-нет, это вы с хозяйкой, с хозяйкой, А
лекарства я сейчас вынесу.
— Кто там? — выглянула из кухни Бочониха.
— За лекарствами человек пришел. Мужу плохо.
— Человек, человек, — передразнила Бочониха. —
И всем даром дай.
217
— Почему это даром? — сердито ответил Бочонок. —
Пойди возьми там «подаяние».
— Яички... Сальце вот... — снова услышал Климко.
Потом скрипнула дверь в кладовку, — видно, Бочо-
ниха пошла прятать «подаяние» за лекарства.
Когда Климко уже вышел на крыльцо, она догнала
его с шестью сухарями в фартуке, быстро, мелко
перекрестила перед самыми глазами и прошептала что-то
сама себе тонкими сердитыми губами.
Бочонок вывел Климка за ворота и сказал:
— Будь осторожен в дороге. А лучше — пристань к
каким-нибудь добрым людям, беженцам, — среди
несчастных есть много добрых, — да и иди вместе с ними.
Их теперь тьма-тьмущая движется во все концы. —
И сокрушенно посмотрел на босые ноги Климка. —
Нашел бы я тебе и обувку, как же так осенью идти босому,
да нога у меня большая, ты в один мой ботинок весь с
головой спрячешься.
На прощанье он поцеловал Климка, прижав к своему
торчащему животу и пощекотав усами, вынул из
кармана платок и стал макать им в каждый глаз по очереди...
Первый сухарь Климко разломил, когда отошел от
станции километров за двадцать пять и сел
передохнуть — гудели ноги, жгло ступни, натруженные о мелкие
камешки, попадавшиеся в пыли, да и все тело ныло от
усталости. Разломил и увидел, что внутри сухаря кишмя
кишат мелкие белые черви. Сморщившись от отвращения,
Климко выковырнул их соломинкой, еще раз разломил
сухарь и еще повыковыривал... Есть пришлось уже
крошки. Но это было не самое страшное. Самое страшное
случилось тогда, когда он, отдохнув, поднялся, чтобы идти,
и упал: ноги не удержали. Их словно отняло. Как ни
встанет — упадет и упадет. Он испугался, стал
растирать икры, бедра, бил по ним кулаками и кричал: «А ну
идите! А ну идите мне сейчас же!»
Он все-таки поднялся и пошел, едва-едва
переставляя ноги в крутой пыли.
Так было после каждой передышки, и Климко
сообразил, что лучше идти медленнее, но идти и идти без
остановки, чем спешить и через каждые пять-шесть
километров падать, обессиленному, на землю.
Особенно сильно болели ноги утром после сна.
Но Климко уже знал, что бить их не следует, а нужно
легонько растереть, пошлепать ладонями и первые
несколько километров идти потихоньку. Дальше они уже
218
не болели, шли послушно, только немо звенели каждой
жилкой.
Климко подбросил в костер картофельной ботвы,
раздул жарок и долго отогревал ступни, время от времени
подставляя их пламени. Нагреет, потрет хорошенько и
снова сует к пламени. Пока не согрел окончательно.
Потом взял палку, которой разворошил костер, и побрел по
картофельному полю, раскапывая лунку за лункой.
— Одна! — воскликнул радостно, найдя первую
картофелину. — О! Вторая!.. О! Третья!
Солнце уже припекало — не сильно, однако,
по-осеннему, но Климко работал так азартно, что матроска
прилипла к спине. Он снял тужурку и вновь принялся за
дело. У самой межи нашел несколько невыкопанных,
притоптанных детскими ногами кустов («Вон кто
картошечку пек!») и, разрывая их палкой, приговаривал:
— А, что, спрятались, а? От меня спрячетесь!
До обеда Климко накопал пятьдесят семь
картофелин — больших, маленьких и совсем мелких.
Двенадцать, самых мелких, испек. Ел не торопясь, макая в
коробочку с солью: не торопясь, чтобы дольше, да и
живот чтоб не заболел. А то вон боярышника переел — и
стошнило. Понемножку нужно было...
На дорогу он еще раз хорошенько согрел ноги,
закинул за плечи мешочек с картошкой и двинулся дальше
через балку: может, где вода случится. По дну балки
между камнями и вправду бежал ручеек, мыл камням
бока, полоскал зеленую-зеленую травку, что ложилась на
воду ровными чубчиками, и нес желтые листья. Климко
стал на колени, припал к воде — холодная и вкусная! —
потом умылся и утерся галстуком матроски. А вверху
над ручьем дремала на ветвях оранжевая тишина осени
и словно во сне роняла листья. Было так мягко и уютно
в этой балке над поющей меж камнями водой, что
Климко не тотчас поднялся с коленей, а стоял и стоял...
Сразу же за балкой на пригорке начинался какой-то
городок: нарядные, выстланные брусчаткой улицы,
белые домики в небольших пожелтевших садах, дальше —
грибок водокачки, клубящиеся дымы над нею; тоненько
и коротко свистнул паровоз «кукушка»... Климко даже
остановился, растерянный и испуганный: уж не
вернулся ли он, кружа незнакомыми дорогами, назад, на свою
станцию. Так нет же, нет. Ведь их водокачку свалило
бомбой, а тут целая. Не видно и шахтного террикона, да
и мостовой в их поселке не было. Ее сделали перед са~
219
мой войной только от станции — мимо базара к
магазинам и парикмахерской. А так все похоже. И, идя с
мешком за плечами вдоль заборов по незнакомой улице,
Климко вспоминал свою станцию, каждый день ее
жизни и каждый час.
Будили его по утрам, еще задолго до того, как идти в
школу, хлебовоз и водовоз. Первым мимо барака,
медленно погромыхивая колесами по мостовой, ехал в пекарню
пустой зеленый фургон, запряженный парой маленьких
(гораздо меньше, чем у немцев) сытых лошадок. При
тихой погоде от фургона оставался в воздухе хлебный дух,
который долго не расходился. На фургоне было написано
большими белыми буквами: «ХЛЕБ». Впереди, на
высоком сундучке, сидел дядько в черном халате — его тоже
звали хлебовозом — и досыпал недоспанную ночь,
кивая головой, а кони шли сами — знали дорогу.
Немного погодя к бараку с грохотом и хлюпаньем в
длинном бочонке на четырех колесах подъезжал
водовоз и веселым певучим голосом (хотя был уже
старенький) протяжно выкрикивал: «Во-ода-а, вода-вода! Во-
да-а, вода-вода!» В бараке одновременно распахивались
все двери, звенели ведра, слышен был бодрый говор
возле бочонка и шутки, обращенные к водовозу. Воду
всегда набирали весело, — может, потому, что водовоз был
всегда веселый, с буйно-красным лицом, а вода, что так
и сверкала под утренним солнцем, была чиста и холодна,
словно из-подо льда. Зимой водовоз привозил воду на
обмерзших санях, в серебряных сосульках. Усы у него
тоже были обмерзшие и тоже в маленьких сосульках.
Подождав, пока Климко нацедит воды, он брал у него
ведра и относил в комнату. «Дзядзька Кирилл-та игдзе, на
рабоце? — спрашивал. — Приэцик яму пирадаш, как
вярньоцца. Ад дзядзьки Симьона, мол...» Зимой, когда в
такую раннюю пору на дворе еще темно, от станции
через рельсы и до самого поселка мерцали подвижные
желтые огоньки, похожие на светлячков: это возвращались
домой с ночной смены шахтеры.
Но вот от вагоноремонтных мастерских, сначала
хрипло, с шипением, а дальше все чище и мощнее,
доносился гудок, сзывающий людей на работу. Климко
отправлялся в школу — мимо шахтной сортировки,
запыленной штыбом, затем мимо шумного людного базара и
аптеки. Возле клуба, напротив кинобудки, он
останавливался и слушал, как там шуршит-поет кинопленка:
механик перематывал ее после вечернего сеанса — «Думу
220
про казака Голоту», или «Щорса», или «Чапаева». Как
недавно, всего лишь два месяца назад, это было, а теперь
казалось, что давно-предавно, когда еще и не учился в
школе...
Возле какого-то двора Климко остановился: на улицу
через забор и желтую акацию свисала большая
яблоневая ветка. На ней между редкими уже листьями висели
два сморщенных яблочка, слипшиеся вместе, — видно,
червяк сточил. В акации на солнышке собрался целый
воробьиный базар. «Тепло нашли, — подумал Климко. —
Нет на вас кота!»
Воробьи, гоняясь друг за другом, ныряли в ветки и
оббивали крылышками листья. Яблоки тоже
покачивались от воробьиного озорства вместе с тоненькой
веточкой, на которой росли. Климко положил мешок с
картошкой под забор и сел на него, сказав себе: «Передохну
немного», — а сам не сводил глаз с яблок.
Он просидел так, задрав голову, довольно долго, пока
шея не заболела. Воробьи аж кишели в яблоневых
ветках, а яблоки качались и не падали, словно их
привязали ниткой. Климко встал, закинул мешок за плечи и,
вздохнув, еще раз посмотрел на сморщенные яблочки.
«Нет, должно быть, они еще не скоро упадут... Ну и
пусть». И зашагал вдоль заборов дальше, уже не
поглядывая вверх на садовые ветви — а то, чего доброго, еще
где-нибудь захочется «передохнуть»...
За городком снова была степь и степь. Солнце
свернуло с полдня, светило косо, и тень Климка с мешком
ползла по придорожному бурьяну. Горы — теперь они
были желтыми в предвечерних лучах — приближались и
приближались, становились выше и уже казались
оранжевыми. Вскоре Климко увидел большой город в долине,
остановился и стал оглядываться вокруг, щуря глаза от
солнца. Оно уже пело свою тихую красную вечернюю
песню, и Климко все растерянней смотрел по сторонам:
пора на ночь остановиться, ведь в городе где пристанешь?
Далеко в поле, гонов за десять, он разглядел
низенькую черную копенку сена или соломы, верно,
прошлогодней, и свернул с дороги...
Глава третья
Это была не копенка, а старый шалаш на бахче с
нривядшими уже ботвой и мелкой, с яблоко, не больше,
поздней завязью арбузиков. Климко разбивал их о коле-
221
но и смаковал бледно-розовую холодную мякоть: гляди,
не успело еще солнце закатиться, а земля уже стынет.
Осень...
В шалаше было много соломы, твердой,
слежавшейся — сторожа утрамбовали. Климко снял с того
логовища тугой пласт соломы, чтобы укрыться, а остаток
разворошил, чтобы мягче было, завернулся в плащ-палатку и
лег. Сначала дрожал, не столько от предвечерней
прохлады, сколько от арбузиков, потом надышал себе в пазуху,
согрелся и притих в тепле. Он смотрел на солнце,
заходившее как раз напротив шалаша, красно-пепельное я
большое. Оно заходило за горы, и горы с этой стороны
потемнели, покрылись голубой тенью.
«Скоро из-под них начнется ночь, — думал
Климко, — и пойдет-постелется степью дальше и дальше, во
все стороны. И до станции дойдет, до черного пожарища
на том месте, где был барак, а теперь лишь куча пепла
вперемешку с головешками осталась...»
В тот удушливый от пламени и дыма августовский
день, когда сгорела станция, Климко нашел себе приют в
небольшой комнатке на шахтной сортировке, где была
когда-то весовая. Толстые каменные стены весовой и
снаружи и внутри были густо покрыты черной копотью:
снаружи от угольной пыли и штыба, что лежал тут же,
сразу за весовой, высокими кучами; изнутри — от дыма
ез круглой чугунной печки-«буржуйки», ржавая труба
которой выходила во двор через железную форточку в
окне. Еще в весовой стоял старый конторский стол, за
которым сидел когда-то весовщик и взвешивал вагоны с
углем; стол пестрел большими и маленькими
чернильными пятнами.
Климко перенес из общего барачного погреба запасы,
они были у них с дядей заготовлены на зиму: шесть
ведер мелкой картошки «розовки», два куска сала,
старого, желтого сверху, да с десяток луковиц, — и зажил в
весовой один. А впрочем, он редко оставался один в
закопченных стенах: частенько у него — бывало, что и до
ночи — засиживалась мальчишечья школьная
компания — бедовые непоседливые поселковые мальчишки,
А Зульфат Гареев, внук дедушки Гареева из
хлебопекарни, тот и ночевать едва не каждую ночь оставался.
Хлопцам нравилось быть в низенькой каменной хижине Клим-
ка среди глухих штыбовых холмов на отшибе от
поселка — словно на Робинзоновом острове... Усядутся на
полу, сложив ноги по-турецки, и говорят — без света, сре-
222
ди радуг от накаленной до вишневого цвета чугунной
«буржуйки». Или вдруг умолкнут все вместе, не
сговариваясь, и слушают, слушают далекий грохот ночного боя.
Но это было уже потом. А первые два дня Климку
жилось в весовой так неуютно, так одиноко, прямо жуть.
Из подвала, где стояли огромные весы, тянуло через
щели в старом деревянном полу прелой сыростью, а вдоль
стен шныряли ночью крысы; тепло от «буржуйки», пока
на ней не обгорела ржавчина, шло чадное и удушливое.
Когда Климко хорошо накалял ее, воздух вверху делался
одуряюще горячим, от него ломило голову, а внизу ходил
волнами густой подвальный холод.
Две ночи Климко спал на голом столе и отбивался от
крыс палкой, стуча ею по стене. Крысы, видно, давно
привыкшие хозяйничать тут, пугались и притихали, а
немного погодя, еще Климко не успевал и веки смежить,
снова заводили визгливый, с топотом и скрежетом,
шабаш.
Лишь на третью ночь Климко заснул спокойно —
крысы уже не докучали. Спровадил их из весовой Зуль-
фат Гареев, давний товарищ Климка. Он нашел Климка
по дыму из трубы, выходившей через окно во двор.
Прибежал запыхавшись, с горячим румянцем на острых
смуглых скулах, и так обрадовался встрече, что схватил
Климка в объятия и носил его, до хруста сжимая ребра.
Зульфат был сильный хлопчик, хотя и ниже Климка,
считай, на целую голову.
— А я бегал-бегал по поселку, — быстро слепливая
слова, заговорил Зульфат. — Сюда-туда... фух!..
Спрашиваю: где Климка? Кто видел Климку? Нет Климки,
никто не видел... А ты вон где! Хорошо! У-у-у, хорошо!
Климко в ответ лишь улыбался. Он очень обрадовался
Зульфату и молчал только потому, что всегда был
неразговорчив в компании. Он любил слушать и тихо
улыбался или напрягался весь, представляя то, о чем
рассказывал товарищ.
— Крысы у меня тут, — сказал Климко. — Такие
здоровые, что топочут...
Узкие черные глаза Зульфата на миг закрылись (так
он делал всегда, если ему нужно было подумать) и вдруг
горячо сверкнули:
— А хочешь, их сейчас не будет, хочешь? —
вскрикнул задорно. — Всех выгоню пастись в степь! Хочешь?
Он быстро нашел все крысиные ходы и выходы,
выгреб из «буржуйки» в ведерко угольный жар и принялся
223
заталкивать палкой в каждую нору, утирая слезы от
горячего едкого дыма.
— Теперь породой бути их, породой, чтоб дым не
выходил! — кричал он Климку. — Вот так! О, слышишь?
Чихают. Нате вам еще, нате! — И сам чихал то и дело и
смеялся сквозь слезы.
Потом они наносили из шахтной циркулярки опилки и
толстым слоем устлали пол, чтобы не тянуло из подвала;
нашли в барачном сарае старую кровать с
никелированными шарами на спинках, перенесли в весовую и
устроили постель из сена, которое не успели доесть шахтные
кони: шахту давно затопили водой, а коней забрали на
войну. К вечеру угрюмое жилище Климка как-то
посветлело, нагрелось, а желто-медовые опилки запахли сосной.
Чтобы отпраздновать новоселье, как полагается
настоящим хозяевам, хлопцы сварили на ужин картошку в
мундире к старому соленому салу.
Это был настоящий праздник!..
А через полмесяца — случилось это утром — после
короткого боя на станцию из степи пришли итальянцы.
Они целый день гонялись по поселку за курами,
стреляли по ним из карабинов и автоматов и кричали, как
цыгане. (До их прихода ни Климко, ни Зульфат не знали,
что куры могут летать не хуже любой птицы, только
невысоко.) Съев кур, итальянцы группами, не меньше чем
по двое, ходили от двора к двору и искали себе еду за
деньги.
— Марка, марка!.. — выкрикивали они.
Никто в поселке не понимал, что это означает, и те, у
кого завалялись марки для конвертов, выносили их
итальянцам. Они сердились и то по-своему, то по-немецки
кричали, вытаращив черные цыганские глаза:
— Дураки! Сольдато итальяно... дать вам маркен...
Денаро деля... Гросдойчен Райхес, унд зи мюссен... ви
дольжни дать... фюр дизес вертфолле гельд: лютте — моль-
ко, бурро — масльо, формаджо — сир... Манджяре!
Эссен! Есть!..
Об этом рассказал Климку Зульфат, потому что
итальянцы приходили и к ним. Дед Гареев сказал
солдатам:
— У нас есть уголь... Больше ничего у нас нет.
Тогда итальянцы бросились грабить и брали не
только еду, но и одежду, где получше.
Через неделю они пошли дальше, а в поселке начался
голод.
224
На маленькой базарной площади с утра до вечера
стояли молчаливые люди, держа в руках все, что у них
было самое новое: костюмы и пальто, платья и отрезы
материи, ботинки и «Кировские» часы на узеньких
ремешках... И все это не продавалось, а менялось на какую-
нибудь еду. Но чаще всего в толпе слышалось: «Соли...
Соли ни у кого нет? Отдаю за стакан соли...»
Как-то, покружив вокруг хлебопекарни, где еще так
недавно с желтых деревянных лотков выскальзывали,
как из рукава, горячие буханки и где еще до сих пор
пахло хлебом, Климко с Зульфатом зашли на базар.
Может, они и не свернули бы туда — насмотрелись уже на
измученных голодом людей с какой-то детской
жалостной надеждой в глазах, — если бы там не поднялся шум.
Возле старых деревянных прилавков, увидели они,
стояла подвода. Ее окружили со всех сторон и кричали,
поднимая над головой у кого что было:
— Возьми у меня! Новенькое, погляди!..
— Бери костюм. Шевиотовый, не надеванный ни
разу...
— Ботинки хромовые нужны?..
—- Драп на пальто... Попробуй, какой тяжелый.
Вечное будет пальто!
На подводе, запряженной парой коней, стоял
здоровенный бородатый дядько и гудел примиряюще,
ощупывая глазами товары:
— Тихо, тихо... Что мне нужно, все возьму. Сам
выберу. Только тиха, граждане. Ша! А ну отойди, не
щупай мешков, а то кнутом врежу. Щупает тоже... Ты, с
драпом, давай. Что тебе? Мука есть, кукуруза, соль
белая, славянская...
Толпа снова загудела, заколыхалась.
— Были бы наши шахтерики, они б тебя одели и
обули, еще бы и подпоясали... — негромко сказала
какая-то женщина. В руках у нее было ношеное детское
пальтишко.
Бородач услышал ее, нашел каменными глазами в
толпе и сказал:
— А ты вообще можешь тут не стоять. Вообще не
подходи, я у тебя и золота не возьму, хоть бы оно у тебя
и было. Их пожалей, привези, а они еще и зубами
скрежещут...
На женщину несердито зацыкали, словно просили ее
молчать.
И тут Климко увидел свою учительницу Наталью
15 Г. Тютюнник 225
Николаевну. Она стояла с ребенком на руках, прижав к
себе вместе с младенцем розовое, словно сто роз,
платье, Климко вддел Наталью Николаевну в этом цлатье
лишь два раза в году: первого сентября и в последний
день занятий. Наталья Николаевна каждый раз так
волновалась, встречая их, своих учеников, и провожая на
каникулы, что розы с розового платья зацветали у нее
на щеках. А минувшей весной на последнем уроке она
сказала, печально улыбаясь: «Вот уйдете вы в юность,
уже с другими учителями, а я снова вернусь к
маленьким, таким грибочкам, какими были вы, когда пришли в
первый класс. Помнцте?» — И слезы, две слезинки,
покатились из ее глаз, однако она не замечала их и
улыбалась. Потом сказала: «Урок окончен, до свиданья,
дети...» И отвернулась к окну. А они стояли и стояли за
партами, хотя в коридоре уже поднялся радостный
шумок: закончился учебный год, солнца на дворе полная
чаша, до самого поднебесья — кто же не будет
радоваться!
Наталья Николаевна стояла в стороне от толпы,
закрывшей подводу, и, маленькая, бледная, смотрела на
бородача широко открытыми глазами. В них не было ни
презрения, ни гнева, а лишь испуганное удивление. Одна
ее бровь, тронутая золотом утреннего солнца, поднялась
вверх и мелко-мелко дрожала. Климко с Зульфатом
подошли к ней (она их не заметила) и, заикаясь от
волнения, сказали, перебивая друг друга:
— Добрый день, Наталья Николаевна...
Она вздрогнула и выпустила из рук розовое платье.
Климко с Зульфатом подхватили его, легонькое, как пух,
и так стояли с ним, смущенно и счастливо улыбаясь.
— Климко?.. Зульфат?.. Ой, как вы меня испугали... —
И осияла их взглядом таких ласковых, таких родных
глаз, что им обоим показалось на миг, будто все вокруг
так, как и когда-то было, что нет и не было никогда
войны, и угрюмого бородача на подводе, и выбитых окон в
магазинах, и холодной неживой пекарни за серым
дощатым забором; что вот сейчас на станции отзовется
гудком паровоз и звонок за клубом, где школа, позовет их
на первый урок...
— Эй ты, молодица! — крикнул бородач. — С
красным платьем. Подходи, я беру твой товар.
Наталья Николаевна медленно повернулась к нему и
сказала тихо, но так, что все в толпе услышали и
оглянулись:
226
— Нет-нет. Вам я его не променяю... ни за что.
Бородач прищурил каменные глаза и, перекосив рот,
сказал:
— Поду-умаешь, какая цаца... Ва-ам! Ну, тогда
пухни с голоду! — Видно, платье ему понравилось.
— Пойдемте, хлопчики, проводите меня немножко, —-
сказала Наталья Николаевна Климку и Зульфату*
Они пошли прочь от базара. А бородач переспросил у
кого-то из толпы:
— Кто она? Учительница? — И прокричал: — Эй ты,
учительница!.. Гордая! Иди сю...
Он не успел договорить, быстро присел на подводе и
прикрыл голову руками. Камень пролетел над ним и
ударился в стену аптеки. Толпа отшатнулась от подводы,
все испуганно смотрели на Наталью Николаевну и хлой-
цев, а Зульфат дрожал и кричал:
— Я убью его! Таких нужно убить! — Он схватил
кусок породы, прищурил глаз и замахнулся вновь...
— Не смей, Зульфат! — приказала Наталья
Николаевна, а Климко перехватил руку товарища и сказал:
— Не нужно, Зуль, а то еще в кого-нибудь из своих
попадешь.
— Ишь чему она тех выродков научила! —
прохрипел бородач. — Учи-и-тельница... — Он увидел, что
опасность миновала, и снова выпрямился на подводе. —
Ишь чему научила!
Они отошли уже далеко от базара, а Зульфат все еще
дрожал как в лихорадке и то и дело оглядывался,
сверкая глазами. Наталья Николаевна легонько погладила
его бледной, в синих прожилках рукой по черной
стриженой голове и сказала:
— Ну, довольно, Зульфат, успокойся... Кармелючок
мой бесстрашный. — Она тихо, ласково засмеялась, и
хлопцы, словно ждавшие сигнала, тоже заулыбались.
А Климко нерешительно спросил:
— Можно мы посмотрим на вашего маленького?
— Маленькую... — На щеках Натальи Николаевны
проступил чуть заметный бледно-розовый румянец. —
Ее зовут Оля. — Учительница приподняла уголок
сиреневой пеленки, и Климко, с Зульфатом, стукнувшись
лбами, заглянули под этот уголок. Они увидели крошечное
личико, белое, аж меловое, и плотно сомкнутые веки,
вздрагивающие от солнца, а губки, не красные, а
синеватые, ежевичные, непрестанно шевелились, словно
искали что-то.
15* 227
— Сейчас, сейчас... — зашептала девочке Наталья
Николаевна.
Хлопцы не поняли, что означало это «сейчас»,
лишь улыбались: «Оля, О-ля!» — и причмокивали
губами.
— Где ты живешь теперь, Климко? — Наталья
Николаевна печально заглянула в глаза Климка. — Я знаю,
мне рассказали обо всем, что тогда произошло, и... мне
очень хотелось... нужно было тебя увидеть, но родилась
Оля. Как раз в тот день.
Климко погрустнел, Зульфат тоже опустил голову.
— Мы сейчас вместе с Зульфатом, — сказал
Климко. — Домой к нему, правда, наведываемся каждый
день — воды наносим, уголь насобираем у террикона...
Там теперь все собирают. И опять ко мне. В весовой
живем, на сортировке. Где холмы из штыба, знаете?
Итальянцы туда ни разу и носа не показывали! У нас там
тепло, печка есть железная, картошка... — Климко
переглянулся с Зульфатом. Тот на мгновение зажмурился,
потом быстро закивал головой. — Наталья
Николаевна... — Климко остановился и протянул учительнице ее
розовое платье, которое нес до сих пор под полой
дядиной тужурки. — Не нужно вам ничего выменивать, а
переходите — это мы вас с Зульфатом просим, —
переходите жить к нам. Мы вам помогать будем, за маленькой
присматривать...
— Все помогать будем! — воскликнул Зульфат,
сверкнув на Наталью Николаевну горячими преданными
глазами. — А Оле я люльку принесу, у нас есть.
Железная! Отец сам в депо сделал, когда я вот такусенький
был. В кузнице гнул, электросваркой варил!
Наталья Николаевна улыбнулась и опустила глаза.
Ей действительно негде было жить. Когда
итальянские солдаты разместились в школе и устроили там
шумный куриный дебош (ломали парты, раскладывали в
школьном саду костры и смалили на них кур с хохотом
и песнями), Наталья Николаевна с ребенком и
чемоданом, в котором была одежда и немного сухарей,
украдкой вышла из своей комнаты и направилась в поселок,
назад уже не вернулась, потому что комната ее была
разграблена и затоптана грязными сапогами. Да и вся
школа стала похожа на казарму, а в классах стоял
тошнотворный запах смаленых кур. Не только жить —
жутко и жалко было смотреть на старенькую при-
228
земистую школу с черными, как синяки, выбитыми
окнами...
— Спасибо, — тихо произнесла Наталья Николаевна
и прибавила еще тише: — Спасибо, мальчики...
Климко и Зульфат управились быстро. К вечеру они
перенесли из комнаты Натальи Николаевны все, что в
ней было: кровать, стулья, книги, разбросанные по полу,
этажерку, постель (подушки почему-то были вспороты, и
из них сыпались перья). Остался только большой цветок
в деревянной кадке — раскидистая, с шелковыми
листьями роза. Хлопцам стало жаль бросать ее одну, и они
уже в сумерках, чтобы никто не видел, обняв кадку с
обеих сторон, спотыкаясь и пыхтя, то и дело передыхая,
притащили в весовую и розу.
Уже совсем стемнело, когда Зульфат принес люльку.
Люлька со всех сторон была украшена цветами из
проволоки и всякими проволочными завитками. Кратка на
ней, веселая, голубая, кое-где осыпалась, и там
выступила ржавчина, но когда Зульфат качнул люльку, она
качалась долго, как маятник, словно говорила:
«Смотрите, какая я прекрасная нянечка!»
Следом за Зульфатом пришел и дедушка Гареев,
низенький, сухоплечий, в ватных штанах, шерстяных
носках и остроносых шахтерских чунях. Дедушка принес
мешочек сухарей и, тарахтя ими, положил на стол, а
сам пошел к порогу, чтобы там сесть. Зульфат поспешил
за ним и подставил стул. Дедушка оперся руками и
грудью на посох и молча смотрел, как Наталья
Николаевна, невысокая, с розовыми в отсветах от «буржуйки»
волосами, поит ребенка чаем из бутылочки.
— Тебе туту будет хорошо, Наташ Николаевна.
Можно жит!.. Ай-я-яй... Маленькому — чай! Не годится.
Маленькому молоко давай. Старому чай, кости греть.
Да-а... Немец хитрый! Сам пошел на Ростов, там есть
что кушат. Сюда послал итальянцев — тут нечего ку-
шат! — Он хрипло засмеялся. Потом кивнул седой
стриженой головой на сухари: — Нестандартный сухар. Хлеб
нестандартный — сухар нестандартный. Вынул из печки
хлеб, взял буханка, верхушка раз — отпала. Без
верхушка буханка нестандартный. Брак. А хлеб не бывает брак.
Хлеб никогда не брак... Да-а, можно жит! Молодым жит,
старым — туды! — И постучал посохом по полу. —
Сухар экономит!
— Не говори так! — сердито крикнул Зульфат.
— Молчи! — цыкнул на него дедушка Гареев.
229
Он посидел еще, покивал головой своим мыслям,
потом встал и, прищурившись, посмотрел на личико
ребенка на руках у Натальи Николаевны.
— Молока нужно! — сказал сурово.
Наталья Николаевна глянула на него виновато.
— Нет... Пропало, Муса Шафарович...
Дедушка Гареев повернулся к Зульфату, ткнул в него
посохом:
— Пойдешь на Лобовку к Файзулиным. У них есть
молоко.
— Сейчас? — вскочил Зульфат.
— Завтра, — сказал дедушка.
— Нет-нет, я вас прошу: не нужно, не
беспокойтесь, — умоляюще заговорила Наталья Николаевна.
— Молчи! — сердито, как и Зульфата, оборвал ее
дедушка Гареев, и хлопцам стало от этого как-то
неловко перед Натальей Николаевной, а она лишь улыбнулась,
склонившись над ребенком.
Дедушка Гареев, не попрощавшись, скрипнул дверью,
кинув, чтобы Зульфат шел за ним.
Климко догнал их уже за холмами штыба. В
полутьме белела и покачивалась голова дедушки Гареева (он
ходил быстро)1; Зульфат шел рядом, как невидимка.
Климко дернул его за рукав, и они немного отстали.
— Знаешь, что я придумал, Зуль, — возбужденно
сказал Климко. — Я пойду за солью.
Зульфат остановился.
— Куда?
— В Славянск. Слышал, как тот мурло бородатый
на базаре говорил: «Соль славянская, белая»? А это ведь
недалеко. Дядя Кирилл туда часто водил эшелоны.
Утром поехал — вечером уже дома... — И зашептал
торопливо, чтобы Зульфат не перебил его: — У нас картошки
есть немного и сала. Этого только на два месяца хватит.
А скоро зима. Сейчас, пока тепло, нужно идти. Харчей
наменяю на обратной дороге, молока, может...
— Один не пойдешь, — упрямо сказал Зульфат. —
Я тоже с тобой.
— А за молоком в Лобовку? А дома с маленькой кто
будет, с дедушкой? А с Натальей Николаевной?
Обещали помогать, а сами убежали. Да тебя и не пустят. А
меня держать некому...
— Не пустят, — согласился Зульфат.
На прощанье он спросил:
— Завтра?
230
•—■ На рассвете, пока еще все спят. A Tti потом
расскажешь Наталье Николаевне, куда я ушел.
Зульфат крепко сжал плечи Климка, притянул к себе
и долго держал так. Потом горячо зашептал на ухо:
— Хочешь, я тебе итальянский кинжал на дорогу
дам? Хочешь?
— Стащил? — удивился Климко.
— Нет. Выменял за четыре яйца. Они за еду и
карабины бы променяли! Я знаю.
— Не нужно кинжал, — сказал Климко. — Так
пойду. Кто меня тронет?..
Он проснулся очень рано. Между холмами штыба
только начало сереть. Наталья Николаевна спала,
свернувшись клубочком. Возле нее лежала Оля. Она почти
всю ночь всхлипывала, а теперь спала крепко, и щеки ее
покрылись едва приметным сонным румянцем.
Климко тихо подсыпал в «буржуйку» угля (он и
ночью вставал подсыпать, как привык это делать, еще
живя в бараке с дядей Кириллом), нашел клочок бумаги,
карандаш и написал:
«Наталья Николаевна! Я ушел. Зульфат вам все
расскажет. Я скоро вернусь. Клим».
Он на цыпочках вышел из весовой, вдохнул
предутренний степной воздух, словно воды из колодца выпил,
и отправился в поселок к Бочонку.
...Над бахчой и шалашом стоял молочный ущербный
месяц. Была уже полночь. Климко шевелился в соломе и
кашлял до слез, что заливали и холодили ему щеки.
Он утирался, сонный, и вновь засыпал. И снова кашлял.
А на бахче то тут, то там блестели холодной росой арбу-
зики.
В эту ночь кончился сентябрь и начался октябрь.
Глава четвертая
Он встал вместе с солнцем. Долго кашлял, сидя в
соломенной постели и туго обернувшись рябой
плащ-палаткой. Тело его охватила горячая истома, в глазах плавали
желтые пятна, и оттого казалось, что и на дворе тоже
желто.
«Еще заболею», — подумал Климко. И испугался: что
231
тогда? Были бы спички или хотя бы кресало, разжег бы
соломенный костер, согрелся, картошки напек. Может,
после горячего и полегчало б. Хотя есть ему не
хотелось.
Достал из мешка галеты, подержал в руках — просто
так, лишь бы знать, что они есть, и положил назад.
«Пусть, пригодятся». И снова тяжело закашлялся.
В глазах дрожали слезы, дрожала сизая роса на
бурьяне и арбузной ботве, а руки так трясло, что он
крепко переплел пальцы и зажал их коленями.
«Нужно скорее идти. Там хоть люди».
Климко поднялся — ноги сразу загудели и налились
горячим, — покачнулся, но не упал и не сел снова, а,
держась обеими руками за крышу шалаша, вышел
наружу. Земля была холодная. Светило солнце, играло с
росой в блестки — кто кого переблестит — и снова не
грело. Изо рта шел крутой пар, Климко и кашлял паром,
и трясся, держась руками за шалаш. Нет, по такой хо-
лоднющей земле далеко не уйдешь, хотя уже и близко:
вон он, город, а за ним горы с розовыми вершинами —
кажется, рукой достал бы.
Климко вернулся в шалаш, взял плащ-палатку и,
сжав от напряжения зубы, оторвал от нее большой
лоскут. Потом разорвал его еще пополам — и вышли две
портянки.
«Все равно холодно будет, как намокнут», — подумал
Климко.
Собрал сухой соломы, которая поцелее, сделал
толстенькие стельки и примерил их к ступне, чтоб не были
ни велики, ни малы. Потом туго обмотал ноги вместе со
стельками лоскутом из плащ-палатки и завязал концы
выше косточек. Поднялся, обошел вокруг шалаша —
идти в новой обувке было легко и мягко — и сказал сам
себе, как дед Гареев:
— Можно жит!
Он еще посидел у шалаша, передохнул немного на
дорогу, взял на плечи мешок и пошел, то и дело
корчась от взрывов кашля.
Шел и размышлял, что делать дальше: то ли
отправиться сразу в горы за солью, то ли зайти в город
на базар и испробовать Бочонковы деньги. Та пачечка
тридцаток, пятнадцать хрустящих бумажек, которые дал
ему аптекарь, когда похоронили дядю Кирилла, лежала у
него во внутреннем кармане тужурки. Чтобы не
потерять ее, Климко заколол карман медной проволочкой и
232
закрутил ее. Можна и попробовать. Ведь соли тут,
наверно, столько, что задаром бери. Если деньги
нипочем, то и соль не дороже.
«Попробую», — решил Климко и пошел быстрее.
Город начинался такими же домиками в садах, как и
в обычном поселке. На заборах у калиток висели
деревянные почтовые ящики с крышками от дождя. Все они
были пусты... Чирикали воробьи, подпрыгивая на
кирпичных тротуарах. По одному забору ходил рыжий кот
и щурился на солнце зелеными глазами. Ставни в домах
были закрыты, может, потому, что еще рано, а может, со
стороны улицы их и днем не открывали.
Климко шел по ржавой трамвайной колее,
переступая с рельсы на рельсу. Обувку свою он снял еще на
краю города — неудобно как-то идти в портянках,
подумают, нищий.
Людей попадалось мало. Скрипнет калитка,
высунется из нее детская головка, поглядит быстренько в обе
стороны улицы: вон какой-то урка идет с мешком за
плечами, худой, грязный, босой, а большие синие глаза так
и шарят... Хлоп — закрылась калитка.
— Эй, мальчик или девочка! — крикнет Климко. —
Как на базар пройти — не знаешь?
Тихо за калиткой, только слышно, что сопит. Потом:
туп-туп-туп к дому — побежал.
«Что за народ?» — вздыхает Климко и, покашливая,
идет дальше.
Начались дома подлиннее и повыше — в три, четыре,
пять этажей. Они были серые и молчаливые, будто никто
в них и не жил. Но людей стало больше. И все они —
с тачками, узелками, узлами — двигались по одной
улице. Беженцы или местные — не разберешь. Климко
пошел за ними и скоро увидел базар. Он начинался
нищими, густо сидевшими и стоявшими вдоль выцветшего
зеленого забора. Были тут зрячие и слепые, безногие и
безрукие, старые и молодые. Кружки, картузы, подолы,
протянутые, сложенные корытцем ладони.
— Пода-айте... пода-айте... подайте... — слышалось
вдоль забора, как одна и та же скорбная и жалобная
песня.
— А ну-ка, сестрица, не проходи мимо, оглянись на
своего бр-рата и подай ему р-руку! — требовательно
покрикивал молодой дядько без ноги. Глаза у него были
недобрые, жгуче поблескивали во все стороны.
Звяк, звяк, звяк... — падали в кружки монеты.
233
*- Спасибо, деточка, дай тебе бог дождаться мужа
или брата.
— Ты, старая, проси, да не заговаривайся, а то из-за
тебя и нас полиция загребет!
— А что я такого сказала?
— Что, что... Слышим, не глухие.
Климко остановился возле старой-престарой
бабушки, которая обращалась к прохожим тихим немощным
голосом, но не жалобно, а так, словно сказку вела:
— Пришла немочь, люди добрые. Вот смотрите на
меня да и увидите, какая она, та немочь. Говорю
земельке, расступись, забери старую... А она не расступается.
Прошу-прошу — не хочет да и только... — В подоле у
старухи лежали три картофелины, маленькая луковица и
с десяток гривенников. Старуха посмотрела на Климка
влажными вылинявшими глазами и сказала: — Иди, иди,
хлопчик, это я не тебе рассказываю...
Клймко выковырнул из кармана одну тридцатку и
положил старухе в подол, а сам быстро пошел прочь.
Над городом высоко в небе прогудели едва
различимые треугольники немецких бомбовозов, — может, с
полсотни, а то и больше. Они блестели на солнце, как
стеклянные. Нищие притихли, все, даже слепые, подняли
головы и тревожно спрашивали у зрячих соседей:
— Много?
— Много...
На базаре тоже запала тишина. Только из-под
разломанного ларька у базарных ворот чей-то визгливый
голос (были до войны мороженщицы с такими голосами,
вспомнил Климко) надоедливо ныл:
— А кто еще желающи-интересующи погадать?
Зиночка гадает, что кого ожидает... Дорого не берет, а
правдивые ответики дает...
Климко подошел к гадалке и стал напротив, грея
ноги в теплой на солнышке пыли. Женщина сидела на
стульчике, держа в подоле длинный, как пенал, ящичек,
набитый замасленными бумажками. Из-под полы у нее
выглядывала Зиночка — маленький, похожий на крысу
зверек в белых и желтых пятнышках. Глазки у зверька
были черненькие, хитрые.
Климко тронул Зиночку пальцем за носик и
улыбнулся.
— Чего тебе? — сердито спросила гадалка. Щеки у
нее были толстые, красные, в густых синих прожилках.
Говорила она, к великому удивлению Климка, басом.
234
— Ничего... — сказал Климко. — А вы за галеты
немецкие гадаете? Или за картошку?
— Покажи.
Климко поставил мешок в пыль и вытащил горсть
картошки.
— Мелкая, — сказала гадалка. — За такую — нет.
Галетам она обрадовалась:
— О! Будет к чайку! — И приказала зверьку: —
Зиночка, работай!
Зверек быстро прыгнул на ящичек, принюхался,
фыркнул и вытащил зубами одну бумажку, исписанную
неровным почерком первоклассника.
«По ранней дороги вам пристоить свидания с му-
жом», — прочитал Климко.
— Это не мне, это — женщинам, — сказал он,
подавая гадалке бумажку.
Но она, словно вдруг оглохнув, даже не взглянула
на Климка, а забрала Зиночку под полу и, раскачиваясь
на стульчике, заскулила противным тонюсеньким
голосом:
— А еще кто желающи-интересующи погадать?
Климко уже хотел было идти дальше, как из-за
ларька вывернулся какой-то дядька с красной царапиной от
носа до уха и осипшим голосом спросил у гадалки:
— Ну, как сегодня с клиентом?
— Слабо, — сердито, басом прогудела владелица
Зиночки.
— Пр-роверим! — сказал дядька, словно грозясь
кому-то, выхватил из-за пазухи красивенькую птичку с
круто изогнутым клювом, посадил ее на мизинец и,
сверкнув вокруг прищуренным глазом, весело
крикнул:
— Евстррелийский напугай!! Выдает предсказания —
в глаз лепит! Од-дин раз удовольствие — семь лет
продовольствие! Ну, навались!!! Не может быть, сказал
Суворов, чтоб Чертов мост не перешли! Кто первый —
первому бесплатно!..
— А кто еще желающи-интересующи... — хотела
перебить его гадалка, но дядька с попугаем накрыл ее
голос:
— Н-ну, р-разом, не толпись, по порядку становись!
Климко засмеялся и закашлялся, глядя на дядьку с
попугаем: видать же, что оторви да брось! И вдруг
подумал: «Что же это я играюсь тут? Разве за этим сюда
шел?» Он стукнул себя кулаком по лбу, как это делал
235
Зульфат, когда хотел наказать сам себя, и пошел в
ряды.
За серыми, выгоревшими на солнце прилавками
сидели и стояли женщины, старики и негромко, сторожко
оглядываясь во все стороны, приглашали к своим
товарам. Тут были старые, побитые шашелем иконы и в них
боги под стеклом среди красочных восковых цветов;
медные начищенные колечки и серьги; толстые
старинные книги; красные бусы с монетами — и опять иконы,
старые и поновее, в оправах и без оправ, но боги на
иконах были похожи друг на друга, как братья, и все
смотрели печальными глазами не на людей, а поверх
них.
Дальше шли прилавки, заставленные мисочками с
рожью, кукурузой, просом; белели стаканы с мукой,
содой, влажной солью («Вот она!» — обрадовался Клим-
ко); стояли мешки с картошкой, капустой, бураками.
И все это добро не продавалось, а менялось на одежду,
керосин, мыло, спички...
«Видно, и тут деньги не нужны никому», — подумал
Климко, ощущая страх: ничего он тут не добудет...
Люди торговались не весело, как было до войны, а с
какой-то угрюмой настойчивостью, словно боролись друг
с другом и никак не могли побороть:
— Сколько ж вы даете?
— Пять кружек.
— Да ведь юбку — поглядите!
— Как хотите, я не заставляю.
— Шесть!
— Не-е...
— Ребенка больного в Полтаву на тачке везу...
— Ну давай уже, так и быть.
— Зажигалки, замки, кресала, губка, кремень!
—- ...А оно ж на вате или на пакле?
— Что вы, что вы, дяденька! Вот смотрите: вата.
— Полпуда.
— Сколько?!!
— Соль-крупка! Печатное мыло загряничное! Только
за марки!
— ...Так сойдемся мы с вами?
— Разве что на том свете.
— Ну и люди ж! Кажется, до войны таких и не
было.
— Беда наплодила...
Ряды кончились. Дальше был замусоренный пустырь,
236
а за ним, возле магазинов с разбитыми витринами,
стояли люди с тачками. Климко пошел и туда.
«Если там не возьмут деньги, тогда — в горы».
Возле крайней тачки на деревянных колесах стояла
девушка, покрытая низко, до глаз, стареньким
черным платком. Она держала в руках красивый, цветок к
цветку сложенный, букет чернобривцев. На плечах у
нее была шаль — большая, в веселых красных и
зеленых цветах, а темно-вишневые шелковые кисти едва не
касались земли. Щеки девушки были перевязаны по-
старушечьи, наискось, как при зубной боли, маленькие
тонкие пальцы, державшие цветы, дрожа перебирали
зеленые стебельки. .
— Купите мой платок. Смотрите, какой красивый... —
тихим голосом, так ласково и боязливо просила девушка,
что Климко остановился возле нее. — Я и чернобривцев
в придачу еще дам... Купите мой платок...
Климко помялся, переступая с ноги на ногу, и
сказал:
— Чудная вы. Кому ж они сейчас нужны, черно-
бривцы эти?
Девушка испуганно взглянула на него темными,
затененными платком глазами и впилась пальцами в
цветастую шаль.
— Да вы меня не бойтесь, — улыбнулся Климко и
вспомнил, что он сегодня не умывался. — Я не урка, я
за солью сюда пришел...
Девушка отвернулась и стояла молча.
— Хлопец тебе правду говорит, — отозвался из-под
магазина какой-то дядька. — Ты б поставила вот тут
возле меня тачку, пошла б в ряды и выменяла, что тебе
нужно. А то — «чернобривцы»...
Девушка так же испуганно, как и на Климка,
посмотрела на него.
Дядька сидел прямо на земле, обернув ноги старым
суконным одеялом. На висках у него густо высеялась
кудрявая седина, а лицо было все в морщинах. И в
каждой морщинке, казалось Климку, таилась добрая
ласковая улыбка. Перед дядькой двумя ровными рядочками
стояли брезентовые тапочки — большие, и маленькие, и
совсем крохотные, на ребенка. Видно, он был сапожник
и сам их нашил.
Сапожник поманил Климка пальцем:
— Издалека идешь или здешний? — спросил.
— С Донбасса я, — сказал Климко.
237
— А-а! Землячок... За солью, говоришь?
Климко кивнул.
— А что ж у тебя на соль?
— Мешочек вот, — Климко снял с плеча мешок.
— Нет, — усмехнулся сапожник, и каждая его
морщинка тоже заулыбалась. — Я спрашиваю, на что
меняешь или покупаешь. Одежа какая-нибудь путная есть
или, может, марки?
— Такого нет, — вздохнул Климко, рассматривая
тапочки («А не попробовать выменять?»). — Деньги
довоенные есть, так за них ничего не продают. Нужно идти
в горы, туда, — он махнул рукой, — там я и даром соли
наберу. Правда?
— А чего ж ты босой?
— Чтоб легче ногам... — Климко чуть скривил
губы, пробуя улыбнуться. — Картошка у меня еще есть.
Так, может, вы променяли б обувку на нее? Мелковата,
правда...
— Возьми примерь.
Климко надел тапочки. Ногам сразу стало тепло,
спокойно.
— Большие бери, чтоб портянка влезла, —
посоветовал сапожник.
Климко послушал его, надел тапочки побольше и
принялся развязывать мешок.
— Не нужно, — сказал сапожник. — Носи, раз уж
ты земляк...
Он свернул цигарку, прикурил от самодельной, из
патрона, зажигалки и сказал, окутываясь дымом:
— А соль ты, сынок, прошел. Километров пятьдесят
лишних протопал. Соль — это возле Артемовска.
Слышал? (Климко слышал и даже видел этот город издалека
дня три назад.) Так вот возле него станция такая есть,
называется Соль. Там соль. А тут что — мел, сода, вода
соленая в озерах есть, но ведь в мешок ее не наберешь...
Прошел ты, брат, соль.
Климка осыпало колючим жаром, а ноги занемели и
подкосились, как будто целый день шел не
останавливаясь. Он сел на проломленное дощатое крыльцо и
молчал, сжав ладонями щеки.
— Что ж... нужно возвращаться, — насилу
вымолвил он, подавился комком, ставшим в горле, и
закашлялся.
— Вон как тебя пробрало. — Сапожник положил на
плечо Климка большую руку, поклеванную угольными
238
осколками, словно покропленную синькой. — Ничего, не
скисай, что-нибудь придумаем.
Из-за магазина выскочили два полицая в черном, с
карабинами за плечами и плоскими немецкими штыками
на боку. Они подошли к девушке в платке и стали.
— Убирайся! — сказал один из них, в кубанке, на
которую закручивался вверх черный чуб. Полицай
уперся коленями в тачку, словно ему не было больше
дороги, и посмотрел на девушку пристально, испод*
лобья.
Девушка ухватилась за дышло и подтянула тачку
ближе к магазину. Руки у нее тряслись.
Полицаи прошли мимо Климка и сапожника, даже не
взглянув на них, и тот, что в кубанке, сказал другому:
— Видал, какая красотка? Может, сейчас возьмем?
— А куда она денется? Успеем еще.
Люди возле тачек заговорили, зашептались:
— Кто это такие?
— Полицаи, не видишь разве?
— Так наши или немцы?
— Турки!
— Ха-ха...
— Тсс...
— Новая власть...
— Новые прихвостни, — сказал сапожник, и на
него оглянулись: одни со страхом, другие — пряча
улыбки.
— Что-то они затевают, — заметил сапожник и
кивнул Климку. — Вишь, сколько их высыпало. Как
гусей.
Полицаи, может, человек сорок, цепочкой, на
одинаковом расстоянии друг от друга пошли вдоль обоих
заборов.
— Будут кого-то ловить...
В рядах притихли, и от этой тишины, наступившей
вдруг на площади, сделалось угрюмо-жутко. Климко
заметил, что с базара через ток сначала по одному, затем
небольшими группками начали выходить люди. Они
шли не спеша, словно уже отторговали, потом быстрее,
быстрее... И вдруг у прилавков надрывно, страшно среди
тишины закричала женщина: «Аи, что же это вы
делаете! Пустите моего ребенка! Пусти-ите!»
Все торжище испугалось, качнулось — и люди
побежали, сбивая один другого, вырывая меж плечами свои
узлы, мешки...
239
— А-а-а!.. — взвилось над базаром, как многоголосый
стон.
А среди толпившихся возле тачек поползло
незнакомое Климку слово:
«Облава!.. Облава!..»
Серая людская волна с отчаянным криком накатилась
на забор. Он прогнулся, словно резиновый, затрещал из
конца в конец и упал. Но на улице плотно, почти рядом
друг с другом стояли немецкие мотоциклы и грузовики.
Раздалось несколько автоматных очередей — видно
было, что стреляли вверх, — и толпа снова повернула на
базарную площадь, рассыпаясь во все стороны. В ней
густо чернели полицейские френчи.
— Молоденьких вылавливают, — сказал сапожник,
прищурившись, остро глядя туда, где бурлила толпа.
Он обернулся к девушке с платком:
— Ты, дочка, иди садись возле меня. Да платок этот
спрячь поскорей, а то цветет на весь базар.
Девушка, бледная, с огромными карими глазами, в
которых кричала беспомощная мука от страха, скомкала
платок дрожащими пальцами и спрятала под полу
жакета. Она села между Климком и сапожником, закрыла
лицо руками и заплакала.
— Цыть, — сурово приказал ей сапожник. — Сиди и
помалкивай. Как белка в дупле — тихонько.
Посреди площади столпились, прижимаясь друг к
ДРУГУ, человек тридцать девушек и среди них
один-одинешенек высокий, на голову выше всех, бледнолицый
парень. Оттуда слышался плач. Полицаи с карабинами
наперевес окружили и повели пленников к воротам.
Следом за ними, причитая, пошли несколько женщин с
узелками и мешками за плечами и седой, без картуза (картуз
он держал в руке) старик на деревянном костыле. Он
махал им быстро, и рукой с картузом в лад своим шагам
вымахивал — верно, боялся отстать.
— ...Да тут одни старые, мы уже смотрели, —
услышал Климко и узнал голос полицая в кубанке. Их было
трое. Они приближались, прощупывая взглядами
каждое лицо в ряду с тачками. — Где же та пташка с
цветочками? Говорил, давай сразу брать, так нет.
— Ну да, — возразил ему другой, в синем картузе,
выгнутом на немецкий манер. — А она бы рев подняла,
тогда бы все разбежались.
Девушка заплакала и зашептала сапожнику:
— Спасите меня, дядя, спасите...
240
— Тихог-тихо-тихо, — быстро сказал ей сапожник. —
Не бойся.
А Климко выхватил из мешка надорванную
плащ-палатку и растянул ее так, чтобы закрыть девушку, и стал
осматриваться, озабоченно бормоча первое, что пришло
ему в голову:
— Если б не надорванная, то была бы длиннее... Так
надорвана... — а в голове стучало: «Хоть бы прошли,
хоть бы прошли!»
— Хах! Вот где она спряталась!
Климко увидел над плащ-палаткой протянутую руку
в черном суконном рукаве. Та рука взяла девушку тремя
пальцами за подбородок и подтолкнула его вверх.
Девушка подняла голову и смотрела на полицая карими
глазами, полными слез.
— Уююй... Они плачут!.. Почему, мой цветик, кто
тебя обидел?
— Не трогай дытыну, — тихо, но властно сказал
сапожник.
— Ч-что? — переспросил полицай. Двое других тоже
угрюмо уставились на сапожника. — А ну-ка встать!
Вста-ать, кому сказано!!!
— Не на что стать, — усмехнулся сапожник. Он не
смотрел на полицая, он смотрел куда-то мимо его
коленей.
Полицай коротко, прямо ударил его пятерней по
лицу.
Сапожник качнулся назад, но не упал, — успел
опереться на руки.
Он прижал ладонь к рассеченной губе, а полицай
откинул сапогом одеяло и отступил на шаг, скривив рот.
Под сапожником была маленькая деревянная тележка на
подшипниковых колесиках. Рядом лежали две дощечки с
обшитыми кожей ручками.
— Сопляк, — беззлобно произнес из-под ладони
сапожник, глядя, как и раньше, мимо полицая. — Я, чтобы
тебе тепленько жилось, ноги в шахте оставил, а ты меня
за это — по зубам...
Полицай покашлял в кулак, потер им губы, словно
поправляя искривленный рот, и опять повернулся к
девушке:
— Так тебя что, просить? — сказал сквозь зубы,
схватил ее за руку и дернул на себя.
Девушка вскрикнула (платок выпал из-под полы,
разостлался по земле) и стала на колени. Климко выпу-
16 Г. Тютюнник 241
стил плащ-палатку, вцепился девушке в другую руку и
закричал:
— Пустите ее! Это моя сестра! Сестра моя, слышите?
Она мне вместо матери!
— Да оставь ты этих нищих, Степа... — сказал
третий полицай, поглядывая на людей, которые побросали
свои тачки и подошли ближе. — Идем. Без одной Химки
ярмарка будет.
— Н-нух, — зло выдохнул тот, что в кубанке. — Все
равно ты далеко не уйдешь. Слыхала?!
Полицаи пошли через ток к пустым прилавкам и
скоро исчезли за воротами.
— Вот видишь — и пронесло, — сказал девушке
сапожник, утирая ладонью окровавленные губы.
Девушка стояла на коленях и онемело смотрела в
платок, разостлавшийся по земле. А Климко крепко
держал ее за руку побелевшими пальцами, и кашлял, и
трясся от кашля.
Какая-то женщина подала сапожнику платок
утереться, но он сказал:
*— Спасибо, не нужно. Для чего ж добро переводить.
Языком оближу — быстрее заживет.
Посочувствовав, испуганно оглядываясь, женщины
потихоньку разошлись. Заскрипели немазаные колеса
тачек, запели печально у ворот: какой уж теперь
базар.
Девушка вдруг словно пришла в себя: схватила
сапожника за руку, гладила ее тонкими пальчиками и
шептала, шептала, плача:
— Спасибо, дяденька, спасибо, родненький..* Так они
вас... из-за меня... Вовеки не забуду... Спаси...
Сапожник легонько высвободил руку.
*— Чего ж ты плачешь? Прошло все — и будь
оно неладно, радуйся, что прошло. Далеко тебе еще
идти?
— В Сумщину, дядечка... Я на шахтах была в Дон-
басее. А тут война... Теперь к маме добираюсь...
— И доберешься... — мягко, хмуря брови, сказал
сапожник. — А чего же. Только накинь на себя сейчас
старые тряпки, каким-нибудь большим платком
покройся, чтоб ни лица, ни глаз не видно было. Да серединой
города не иди, а глухими улочками — и на дорогу. А там
людей много, с ними веселее будет. Я тебя на своей
машине проведу закоулками. — Сапожник улыбнулся и
потрогал ладонями шарикоподшипниковые колесики.
242
Девушка слушала его и быстро, по-детски, кивала
головой.
Потом повернулась к Климку и виновато, стыдливо
посмотрела на него заплаканными глазами.
— Спасибо тебе, хлопчик.., А я тебя сначала так
испугалась... Тебе, случайно, не по дороге со мной,
нет?
— Мне назад, — сказал Климко сквозь кашель. ■—
В Донбасс.
— А то и вправду был бы моим братиком... —
Девушка жалобно подняла брови. — У нас с мамой никого
больше нет. Жил бы у нас...
— Назад мне нужно, — сказал Климко.
Мимо них тащила тачку какая-то женщина в
длинном синем плаще и в галошах на босу ногу.
Сапожник обратился к ней:
— Ты, молодица, хотела балетки за соль. Бери.
— Да хотела, — сказала женщина,
останавливаясь. — Вы ведь просили муки хоть пять стаканов. Нет,
человече, мучицы не взяла.
— Ничего, как-нибудь обойдусь. Давайте за соль. Тут
вот мальчик, — сапожник кивнул на Климка, — земляк
мой, пришел аж из Донбасса. Двести километров
прошел, чтобы соли достать. А где ее сейчас тут найдешь?
Женщина быстро взглянула на Климка.
— Раздала я, хозяин, соль. Тот просит, этот: «Дайте,
тетенька, хоть в носовой платок, хоть с горсточку».
Жалко смотреть. Стаканов десять осталось.
«Десять стаканов!» — подумал Климко и представил
кучу соли, довольно большую. И зашарил быстренько в
кармане, добывая деньги.
— Дома у меня еще есть, да и многовато. Из Соли
привезла два мешочка, когда война началась. А тут —
вот, только на донышке... — Женщина достала с тачки
желтый, из сурового полотна мешочек.
— Давайте сколько есть, — сказал сапожник, — да
выбирайте себе обувку, какая на вас смотрит. — Потом
подумал и добавил: — А может, мальчик помог бы вам
тачку домой довезти, а вы ему дома уже соли досыпали
бы, а?
— Я вам, тетенька, воды наношу, дров нарублю или
еще что-нибудь сделаю, что окажете. Честное слово! —
Климко торопливо раскрутил проволочку на кармане и
протянул женщине все деньги, глядя на нее снизу
больными глазами.
16* 243
Женщина грустно посмотрела на него:
—- Не нужны мне деньги, мальчик. Я тебе и так
насыплю с полпуда, а то и больше, сколько донесешь. —
И спросила у сапожника с надеждой в глазах: — Что ж
это дальше будет, хозяин?
— А что будет, — ответил сапожник. — Вот
вернутся наши, сошью всем вам троим хромовые сапожки со
скрипом, на баяне сыграю или на скрипке... А вы мне
песни хорошие споете или потанцуете. Я когда-то любил
потанцевать! — И улыбнулся. — Вот так и будет. А как
же иначе?
И все тоже заулыбались, глядя на его веселые
морщины у глаз и по всему лицу, и над угрюмо пустой,
усыпанной мусором площадью словно прояснилось. А
сапожник достал из-под своей тележки старый вещевой
мешок солдатский, сложил в него парами тапочки — те,
что остались, — одеяло, завязал потуже и накинул
лямки на плечи.
—• Что ж, поехали, отторговались, — сказал он. —
Ты, девушка, ступай за мной, я покажу, где тебе
свернуть. — Взял в руки деревянные дощечки с ручками,
сильно оперся ими о землю и первый, с мешочком за
плечами, покатил к воротам.
Все двинулись за ним.
За воротами сапожник обернулся к женщине:
— Вы ж помогите мальчику. Как тебя хоть звать,
земляк? Климко? Бывай, Климко, крепись в дороге, ведь
она у тебя неблизкая. Бывай. — И помахал Климку
дощечкой.
Он, не оглядываясь, поехал щербатым кирпичным
тротуаром по негустой опавшей листве: тьох-тьох, тьох-
тьох, — отзывались подшипниковые колесики под его
тележкой. А девушка сгорбленно, низко опустив
голову, тащила за ним свою тачку на деревянных
колесах.
— Поехали и мы, тетенька, — сказал женщине
Климко. — Вместе веселее будет, так же?
— А ты бедовенький, — заметила женщина. — Бе-
довенький?
— Не знаю, — смутился Климко.
Он взялся за холодную железную ручку в дышле
теткиной тачки и еще раз, в последний, посмотрел вслед
сапожнику, катившему потихоньку узорчатым тротуаром:
из тени в солнце, из тени в солнце... И все глуше было
слышно: тьох-тьох, тьох-тьох...
244
Глава пятая
...Первое, что увидел Климко, когда открыл глаза, —
большой, ровно обведенный круг красного солнца в окне
(оно светило, словно сквозь тьму), и стал припоминать,
где он. А вспомнив, спросил:
— Тетенька, тетя Марина... Что сейчас — утро или
вечер? Где вы, тетечка? — спросил так тихо, что едва
услышал свой голос.
— Тут я, сынок, вот, — тетка Марина склонилась
над ним и коснулась теплыми губами его лба. — Слава
богу! — обрадовалась. — Похолодел лобик. А то горел,
как жар. Утро сейчас, детка, солнышко только взошло.
— Долго я спал, тетя? — спросил Климко.
— Не спал, а в горячке был. Без памяти был едва
не три дня. Так тебя трясло, беднягу, что аж
подбрасывало на кровати. Не знали, чем уже и накрывать.
Простудился ты сильно...
Климко пошевелился под тяжестью того, чем был
укрыт, и сказал:
— Нужно идти.
Он хотел подняться, но ни спина, ни шея, ни руки
не слушались его — только в жар бросало и на лбу
выступил пот.
— Лежи, лежи, — придержала его тетка Марина. —
Куда ж ты пойдешь такой немощный. Подчинишься
немного, вот тогда и пойдешь. Лежи, а я тебе молочка
пойду попрошу. Как есть захочешь, бери, вот я
положила на стул, ешь. Только гляди ж не вставай.
«Три дня!» Климко почувствовал, как стало жарко
глазам, как тогда, в балке, где он дожевывал последние
крошки Бочонковых сухарей, и зажмурился.
Три дня... Это ведь половину дороги прошел бы уже.
А может, и больше, чем половину, потому что назад, с
солью, быстрее шел бы. Да и ноги уже не нужно было
бы садиться греть. Он шел бы так, как тогда, когда они с
теткой выбрались за Славянск и Климко увидел и узнал
далеко в поле шалаш, в котором'ночевал прошлой ночью,
а еще дальше — станцию и красивенький поселок, где он
сидел под забором и ждал, что воробьи собьют ему пару
червивых яблок. Выходит, он возвращался домой!
— А нам с вами, тетя, еще и по дороге! — сказал
тогда Климко и стал тянуть тачку так яростно и так
легко и широко ступал в новых тапочках, хотя они
немного и шлепали без портянок по пяткам, что тетка
245
Марина — так звали женщину — едва успевала за ним
и удивлялась:
— Откуда у тебя только силецка берется, вон
сколько прошел голодный и холодный.
Климко из благодарности к ней рассказывал, откуда,
зачем и как шел сюда. А вечером, уже в теткиной хате,
его вдруг начало так трясти, что и слова не мог
вымолвить. Он еще успел помыться в корыте засветло, водя
кусочком мыла по худым ребрам, переоделся в большую
чистую мужскую сорочку, что пахла, как и сорочки дяди
Кирилла, простым черным мылом, и тогда только его
свалило. Потом он чувствовал лишь, как ему давали пить
что-то горькое, а зубы стучали о края железной кружки...
Климко открыл глаза. Тетки Марины в хате не было.
Он сбросил с себя все, чем был укрыт: теплое одеяло,
старое пальто, какие-то кофты, свою тужурку — и встал,
спустив ноги на пол. В хате было чисто и светло от
солнца, веселых вышитых рушников на стенах и от
красных калачиков и герани, что цвели на
подоконниках каждого окна. На стуле возле кровати лежал кусок
хлеба, намазанный смальцем и посыпанный сверху серой
солью, и два краснобоких яблока. Климко медленно,
сдерживая себя, съел хлеб и одно яблоко. «А это, —
подумал о другом, — в дорогу возьму». Он увидел на
лавке аккуратно сложенную чистую свою одежду, матроску
и штаны (вылиняли после стирки еще сильнее, аж
побелели), встал и оделся. Потом накинул тужурку и
вышел во двор. Солнце резануло в глаза, из них побежали
слезинки. Климко вытер их пальцем. В воздухе пахло
садовым дымом. Так пахло осенью и в их поселке.
«Листья жгут, — подумал Климко. — Нужно ведь
какую-то работу тетке сделать, а то только наобещал: и
это сделаю, и то...»
Он нашел в сенях старый веник-деркач и промел
площадку у порога и узенькую между спорышем
тропинку к калитке — так они подметали каждую осень и
каждую весну в школьном дворе. Потом обошел хату,
повыдергивал старый крепкий бурьян вдоль
завалинки — и хата сразу стала как бы выше. Осмотрелся
вокруг, что бы еще такое сообразить, и заметил за
хлевом соломенную погребушку, тоже заросшую густым
бурьяном. Он подошел к погребушке, ухватился обеими
руками за самый большой ветвистый бурьян, чтобы его
вырвать, и вдруг услышал приглушенное, из подземелья:
«Ко-ко-шько?!» Заквохтали и куры, но тише и не так
246
сердито, как петух, и тоже из-под земли. «А-а-а», —
догадался Климко, улыбаясь, и оставил бурьян: пусть,
среди него не всякий сразу заметит погребничек. Он пошел
в хату, застелил кровать и сел передохнуть, потому что
устал. «А как же идти дальше, если и от веника
умаялся?» — И успокоил себя тем, что хорошо поел — силы
прибавится.
Вскоре вернулась тетка Марина, веселая,
румянощекая, глаза смеются. В руках она держала маленький
желтый горшочек с цветочками на боках, над краями
его белела шапочка молочной пены.
— Встал все-таки? — удивилась и высоко, елочкой
подняла брови (она и в дороге поднимала их так, когда
удивлялась). — Ну и ловкий! У вас там на шахтах что —
все такие? И во дворе, вижу, он уже похозяйничал.
Разве ж можно такому больному — и за работу? Тебе еще
лежать да лежать.
— Я пойду, тетя, — тихо сказал Климко. — Сегодня.
А то еще один день пропадет...
Тетка Марина поставила горшок с молокам на лавку
и посмотрела на Климка испуганно, потом лицо ее
жалобно скривилось, глаза наполнились слезами.
— А может, ты, сыночек, у меня остался бы, а? —
спросила она неуверенно. — Насовсем. К кому же тебе
туда идти? Я так еще дорогой подумала, но сразу не
сказала: вижу ведь — больной мальчонка... А
учительница как-нибудь с ребенком перебьется, среди людей
ведь... Я бы тебя одела как следует и обула. Еда у
меня, слава богу, есть? — немцы к нам лишь изредка
заглядывают, так еще не обобрали, глушь у нас тут.
А придет дядько Петро, муж мой, с войны — пусть
там его, козака, смерть обходит — жить будем втроем,
будешь нам за родного сына... В школу тебя отдадим...
а? — В глазах у нее светилась надежда и еще что-то
такое ласковое, чего Климко не мог понять. Ему только
очень жаль стало тетки, и он сказал:
— Я приду к вам, тетенька Марина. Как только не
станет у нас голода, так и приду или приеду. А сейчас
нужно мне идти, меня там ждут...
(Климко не знал того, что Зульфат каждый день
выходит за переезд в степь и долго грустно смотрит при-
гасшими черными глазами на дорогу через балки и
бугры, откуда должен прийти Климко; что часто вместе с
ним выходит за переезд и Наталья Николаевна с
маленькой Олей на руках. Тогда они смотрят на дорогу
247
вдвоем с Зульфатом и молчат, казня себя в душе: Зуль-
фат — что не отсоветовал Климку, Наталья
Николаевна — что не услышала, как он вышел. Вечером
возвращаются онемевшие в голодном горе назад в весовую,
и им кажется, что там их уже ждет Климко -—
улыбающийся, молчаливый и синеглазый. Но его нет...
Климко этого не знал. Он знал лишь одно: там его
ждут.)
Тетка Марина вздохнула, вытерла ладонью глаза и
сказала уже другим, взволнованным голосом:
— Садись тогда пить молоко, а я тебе узелок
соберу.
Она принесла из боковушки стакан и налила в него
молока, густого и тепло-пахучего.
— А петуха, тетенька, вы лучше зарежьте, а то он и
кур продаст... — сказал Климко.
Тетка Марина тихо засмеялась и посмотрела на него
влюбленными глазами:
— Кто тебя и вырастил такого... А что, разве его
слышно?
— Как подойдешь близко, слышно, а со двора нет.
— Он у меня и на воле задиристый был и горластый.
Думала, хоть в погребе смирнее будет. Вот босяк! —
Тетка вздохнула. — Я не хотела тебе сразу говорить,
думала, останешься... Немцы вчера товарный поезд
пустили в Донбасс, до Енакиева или до Горловки, точно не
знаю. А сегодня вечером еще один пойдет. С нашей
станции. — (Климку стало тяжело дышать — так сжало в
груди.) — Это мне тот человек, где молоко брала,
сказал. Он перед войной обходчиком работал, вот и сейчас
погнали, даром что старый уже. Говорят, не пойдешь —
корову заберем. Может, он поможет тебе сесть, если
поговорить с ним, а? — И сама же себе ответила: —
Переговорю. А ты пей молоко и ложись хоть до полдня
поспи — здоровее будешь. Пойду печь затоплю.
Климко отпил глоток, еще глоток... В стакане молока
уменьшилось на третью часть. Подумал, подумал — и
долил его водой из кружки, что стояла на столе. Потом
еще отпил и еще раз долил, и еще... Пока сделалось не
молоко, а синяя бурда.
— Что ты делаешь? — услышал он и поднял голову:
в дверях боковушки стояла тетка Марина.
— Доливаю... — виновато сказал Климко.
— Водой?!
Климко опустил глаза и кивнул.
248
— Мне, тетенька Марина, если б хоть с бутылку с
собой взять домой, — сказал тихо. — Может, довезу...
— И возьмешь! Скипячу — и возьмешь. Смело пей,
я еще достану. — Она вернулась в боковушку и громко
вздохнула там.
А Климко выпил еще стакан молока, уже чистого,
тихонько разделся и лег. Он смотрел в окно и ждал
полудня, пока и не заснул.
Была уже полночь. На станции ни огонька, ни голоса
людского. Только паровоз, видно, старенький уже, хрипло
дышит и выбрасывает негустые искры в закрытое
тучами небо.
«Уголь в топку загружают, — подумал Климко, —
иначе искры не летели бы». Они вылетают из трубы
лишь на ходу и когда шуруют топку, чтобы поднять пар.
Климко знал это еще сызмала от дяди Кирилла. В
паровозной будке тем временем погасли красные отблески —
дверцы закрылись, — перестала шаркать об уголь лопата.
Климко заволновался: скоро будут отправлять. Он сидел
возле какой-то будки с узлом, а тетка Марина пошла
искать обходчика.
С конца эшелона послышалось тоненькое
вызванивание молоточка. Оно приближалось. А когда поравнялось
с будкой, где сидел Климко, стихло, заскрипела ракушка
под ногами, и Климко услышал шепот тетки Марины:
— А пустые вагоны есть, Гнатович?
— Они все пустые, — ответил ей хриплый старческий
голос. — Кроме первого: там немцы. Веди своего
пассажира к другому концу, там уже есть люди. Да и чисто:
из-под леса вагон. Только двери тихо открывайте.
Климко увидел маленькую черную тень обходчика с
длинной масленкой в руке — и снова зазвенел по
колесам молоточек.
Подошла тетка Марина, тоже как тень из ночи
вынырнула, зашептала:
— Идем, сыночек. Повезло нам, спасибо добрым
людям.
Она легко забросила узел за плечи и взяла Климка за
Руку.
— Вот сюда, за вокзальчиком пройдем, а то еще
наскочим на того выродка... Начальник станции тут
объявился новый.
Возле предпоследнего вагона они постояли, прислу-
шиваясь,, потом тетка Марина легонько постучала в
дверь и сказала негромко:
249
<— Свои, не бойтесь...
Дверь тихо откатилась, образовав черную щель.
— Может, помочь? —- раздался изнутри мужской
голос, и протянулась рука.
Тетка Марина подала узел, заплакала тихо,
поцеловала Климка, оросив слезами его щеку, и зашептала
горячо:
— Прощай, сыночек... Так хотелось мне оставить
тебя, такой ты мне милый стал, как шли тогда из города,
когда болел —- сердце б тебе отдала... Приезжай...
Пешком не иди — далеко... А приезжай...
— Я не забуду вас, тетя Марина, — надломленным
голосом сказал Климко. — Я... спасибо вам... я приеду...
Честное слово! — Паровоз дал гудок. Тетка еще раз
поцеловала Климка, шепча что-то сама себе, и поезд,
лязгнув буферами, тронулся.
В вагоне пахло старой сосновой стружкой, на
стрелках он покачивался и скрипел, а когда поезд набрал
скорость, его стало мотать с боку на бок, и он уже не
скрипел, а стонал.
Мужчина — наверно, тот, что брал узелок Климка, —
долго чиркал спичкой, а когда вспыхнул огонек, Климко
увидел кучу стружек в углу и на ней человек пять
женщин с какими-то мешками и корзинками. Женщины
смотрели на огонек тусклоблестящими смелыми глазами.
«Наши, — подумал Климко, — донбассовские».
И ему стало легко, тепло и уютно в этом скрипучем
вагоне.
А мужчина прикурил цигарку и сказал Климку уже
в темноте:
— Возьми подложи себе стружки под бока,
подремлешь в дороге.
-— Ничего, я и сидя спать умею, — бодро ответил
Климко.
Он сел у двери, прислонившись спиной к стенке
вагона, что ходила туда-сюда, словно убаюкивала, и
смотрел в приоткрытую дверь на небо. Низкие черные тучи,
казалось, стояли неподвижно, но по тому, как они время
от времени затемняли негустые мелкие звезды и как эти
звезды ненадолго появлялись, Климко догадывался, что
тучи бегут.
Поезд шел неровно: то дергался и набирал бешеную
скорость, то тормозил так же резко, как и разгонялся, то
останавливался прямо посреди степи и долго стоял, а
от первого Jot паровоза) вагона слышен был немецкий
250
гогот. Тогда в углу, где сидели женщины, притихали, а
мужчина гасил цигарку. Он курил часто, и во вспышках
спички было видно старенькое морщинистое лицо с
кустистыми бровями.
И снова поезд двигался, потихоньку, на ощупь
преодолевая ночь и посвистывая тоненько кто знает для
кого. Дядин ФД так не ездил. Он пролетал станцию как
ураган. И Климко, заслышав его мощный рыцарский
гудок еще за семафором, едва успевал выскочить из
барака, чтобы помахать дяде Кириллу и увидеть, как он
улыбается ему и машет рукой, а светлый волнистый чуб его
вьется на ветру. ФД был веселый и мудрый паровоз... Он
мог мчаться, по-молодецки швыряя шапки своего дыма
под колеса вагонов, а мог тайком, как длинная черная
щука, подкрасться к самому бараку, поставить на землю
дядю Кирилла с железным сундучком в руке, потом
громко зачастить в трубу, словно захохотав, и задом
быстро покатиться на станцию.
Но бывало иногда и так, что ФД исчезал куда-то на
целые сутки или на двое, а дядя оставался дома. Чаще
всего зто случалось в праздники, когда депо, шахта,
станция, клуб и школа сияли ночью красно-сине-желто-
зелеными гирляндами, которые гасли лишь после того,
как всходило солнце; в такие дни из окон в поселке
слышались патефоны и в бараке сквозь тонкие стены ходил
из комнаты в комнату праздничный гомон. Дядя Кирилл,
в белых отутюженных брюках, белых парусиновых
туфлях и голубой сорочке, легко перехваченной в стане
шелковым поясом, одевал Климка в матросский костюм с
бескозыркой, в новые скрипучие сандалии, брал его за
руку, и они шли в магазин за мороженым и
конфетами — полосатой «Раковой шейкой»... Ветер играл
лентами бескозырки и щекотал ими тоненькую шею Климка.
Климко набивал кармашки конфетами, лизал круглое
мороженое, а дядя приседал перед ним на корточки и
говорил:
— Беги теперь домой, а я еще побуду с товарищами.
Глаза у него были улыбчиво-печальные — он никогда
не улыбался ими весело, — а волнистые волосы
светились на солнце, как шелк.
«Посадим с Зульфатом вишню над ним, — думал
Климко, уткнувшись головой в колени. — Весной она
будет бело цвести, летом блестеть ягодами, станут
налетать дрозды... А осенью будет устилать всю могилу
красными листьями...»
251
Он проснулся от грохота дверей. И не сразу
разглядел на фоне дождливого неба немца в вагоне, который
стоял простоволосый, без оружия, в длинных, по самые
локти, рукавицах. Немец обвел фонариком все углы,
помолчал, расставил ноги и погасил фонарик, и вдруг
крикнул, как выстрелил:
— Гераус!!! *
Первым к двери пошел дядько, который все курил.
В руках у него были корзинка и небольшой узелок.
Немец ждал его, следя за ним сосредоточенно, исподлобья.
Когда дядько подошел близко, немец откинулся на одной
ноге, а другой со всего маха ударил старика выше
коленей. Дядько охнул и выпал из вагона. Немец снова
принял прежнюю позу и ждал женщин. Климко попробовал
отодвинуть свою дверь, но она не поддавалась, видно,
намокла за ночь под дождем. Вскрикнула женщина,
закричала другая, третья... Немец бил их точно так же, как
и старика, — молча, со всего маха. Климко с большим
усилием встал с узелком за плечами и пошел к двери.
Он заметил, что немец бьет лишь правой ногой, и хотел
проскочить слева от него. Немец искоса следил за Клим-
ком, Климко тоже не сводил с него глаз. Не дойдя до
двери шага три, он согнулся калачиком, аж узел
сдвинулся на голову, подался еще немного влево от немца и
вместе с узлом полетел из вагона, перевернувшись в
воздухе и проехав вниз головой по крутой мокрой насыпи
прямо в лужу, — узел больно придавил шею. Немец все
же достал его кулаком в грудь... Климко попробовал
подняться, но в груди и в коленях так заболело, что он
застонал и ползком, скользя локтем по грязи и таща за
собой узел, выбрался из лужи. Возле переднего
пассажирского вагона стояла толпа немцев. Они курили
и смеялись. Когда к ним подошел тот, что
выбрасывал из вагона, толпа обступила его и захохотала еще
пуще.
Скоро поезд ушел.
Климко растер грудь и колено — хорошо, что
тетенька Марина дала штаны, хотя они были велики, а то
живого места на ногах не осталось бы, — подумал, встал
и поднялся на насыпь. Недалеко, километрах в трех, он
увидел станцию и узнал ее: это было Дебальцево!
Теперь ему оставалось пройти километров шестьдесят.
Климко свернул за посадку акации и увидел неподалеку
* Прочь! (нем.),
252
в степи старика с корзинкой и женщин с мешками за
плечами. Они двигались медленно и очень горбились.
Климко пошел следом.
А мокрая степь горько пахла полынью и тихо
шумела от ветра. Низко над нею ползли тучи.
Глава шестая
На другой день Климко подходил к своей станции.
Было ясное после дождя предвечерье. Дождевая роса
мягко блестела на пожухлых придорожных травах, и
солнце, что уже едва касалось самого дальнего
пригорка, малиново искрилось в каждой росинке.
Климко шел медленно, потому что страшно устал со
своей ношей. Мешок с солью и продуктами (была среди
них и бутылка молока, которая каким-то чудом осталась
цела, когда упал из вагона) он перевязал пополам и нес
по очереди то на одном, то на другом плече.
В дождь он не останавливался, не пережидал, а шел
и шел, накрывшись рваной плащ-палаткой, пока несли
ноги.
Шел он потихоньку еще и потому, что не нужно уже
было торопиться: вон он, поселок, виднеется сквозь
безлистую посадку, а вон лежит за ржавыми рельсами
большой железный бак разрушенной водокачки, вьются
дымки по немому террикону — порода горит. В поселке
тоже кое-где курятся негустые дымы из труб и тают над
посадкой.
Дома, дома!.. Уже дома.
Он не пойдет поселком, нет. На переезде он свернет
налево и по шпалам мимо станции, депо, пожарища на
месте барака и хлебопекарни доберется до весовой.
Постучит тихонько в дверь... «Кто там? — спросит Наталья
Николаевна. — Заходите, пожалуйста...» Климко
улыбнулся и, сам того не замечая, пошел быстрее.
Вдруг в поселке глухо хлопнул выстрел. Потом
коротко дыркнул автомат. «Неужели опять итальянцы?» —
подумал Климко.
Они и тогда, как пришли, устроили такую стрельбу
по курам, будто в поселке шел бой. Да откуда же теперь
взяться курам, когда их уничтожили до одной.
Снова бахнул выстрел, уже близко, пуля тивкнула
где-то вверху.
И тут Климко увидел, что от переезда навстречу
253
ему бежит какой-то человек — босой, в солдатском
галифе с развязанными тесемками и в гимнастерке без
ремня.
Он бежал и все время оглядывался. На переезд
выскочили еще двое, в черном.
Один из них припал на колено и выстрелил.
Бегущий вильнул в сторону.
И тогда Климко все понял.
— Туда, дядя, бегите! — закричал он, показывая
рукой направо от себя. — Туда! Там балка!..
От переезда ударила длинная автоматная очередь.
Климка толкнуло в грудь и обожгло так больно, остро,
что перед глазами поплыли оранжевые пятна.
Он впился пальцами в тужурку на груди, тихо
ойкнул и упал.
А из пробитого мешка тоненькой белой струйкой
потекла на дорогу соль...
— Клймка-а-а! Кли-и-мка-а! — услышал Климко из
горячей полутьмы и ничего уже больше не слышал.
От переезда, подняв руки, спотыкаясь и падая,
бежал к упавшему Климку Зульфат*
ОГОНЁК ДАЛЕКО В СТЕПИ
Нас приняли в училище вместе, трех Василей: Васи-
ля Силку, Василя Обору, Василя Кибкало и меня. Звать-
то меня Павлом, а называют Павлентием. Ну да я,
правда, сам в этом виноват.
Василей взяли в первый же день, а меня
забраковали: сказали, мал еще. Хлопцев сразу и переодели.
Выдали им новые защитного цвета пилотки, такие же
новенькие гимнастерки с отороченными белой толстой ниткой
карманами на груди (не по два, как у военных, а по
одному), брюки, ботинки, широкие брезентовые ремни,
даже носков, о которых только слыхом слыхали, по две
пары. Ко всему этому, сказали, выдадут немного погодя
еще серые шинели из солдатского сукна и шапки.
А я в чем пришел — не буду даже говорить, в чем,
уж больно невесело, — в том и остался.
Хлопцы радовались, ощупывали каждую одежину,
узнавали друг друга и не узнавали, раскраснелись все,
пилотки набекрень... А Василь Силка, когда оглядел
себя в новом, хлопнул в ладоши, крутнулся на одной ноге
и заржал по-жеребячьи:
— Я ли это, иль не я? Или новая копейка?!
Я тоже ощупывал их и тоже пробовал улыбаться, но,
наверно, только кривил губы и под глазом у меня
дергалось. Мне когда плохо, под глазом дергается.
Дорогой в село Васили утешали меня, что, мол, на
тот год примут и тебя, что их форма до того года
обносится, а у меня будет новая, что они все равно вместе со
мной будут бить пеньки на лугу, играть в два голоса на
балалайках по воскресным вечерам, а я буду выбивать
на бубне. Я тогда на самодельном, из собачьей шкуры,
бубне выбивал под Василевы балалайки, потому что
слуха у меня нет, вот только на бубне. До того они меня
утешали, что я едва не раскис. Но как-то удержался.
А дома... Лучше б не являлся домой.
— Ну что, Павлик? Что выходил? — спросила тетка
255
Ялосовета, только я успел переступить порог, и смотрела
на меня с такой надеждой, что у меня вновь задергалось
под глазом.
— Не взяли. Сказали, мал еще, — едва вымолвил я,
так в горле защекотало.
Она села на топчан с двумя непокрытыми
подушками в изголовье и заплакала:
— Так что же теперь? — Тетка смотрела на
меня сквозь слезы несчастными глазами. — Как же
теперь, а?
— Не знаю... Пойду на работу.
— В чем? Погляди на себя. А есть что? Хлеба
намолотили только государству, и то не хватило до плана. —
И снова заплакала, закрыв глаза ладонью.
Она любила плакать.
Я тихонько вышел из хаты, нашел в сенях веревку и
отправился на берег, к речке, может, где ольха или
вербочка сухая попадутся — нужно ведь как-то тетку
утешить, чтоб хоть ночью не плакала.
Тетка Ялосовета мне мачеха. Она пошла за моего
отца «на ребенка», когда мне было девять лет, и
прожила с ним до войны ровно месяц, а со мной вот уже
шестой год мучится. Я еще ни разу не назвал ее матерью,
как-то язык не поворачивается. Если бы хоть отец был...
А она обижается, думает, что это я нарочно, назло.
Ничего, найду вот ольху — перестанет плакать. Она
веселеет, когда есть чем топить. Попробуй еще ее найти, эту
ольху!.. Говорил уже однажды тетке: выходите замуж, а
я уж как-нибудь и сам. Ну, пусть как хочет. Я ведь не
заставляю. Да еще и полхаты нет, осталась только
боковушка, а большую половину оторвало бомбой. У
половины села нет хат — такой сильный бой был... Ничего,
нарублю дров, сварим что-нибудь поесть, а дальше видно
будет... Не станет же она плакать с ложкой в руке!
Над речкой вечереет, прохладнее становится к ночи.
Зарево от заката нырнуло аж до самого дна и светит
оттуда. На ряске местами густо белеют лилии, в сумерки
они похожи на стаи маленьких белых чаек, севших на
воду. Тут я вытаскивал бревна от нашей отбитой хаты.
Двери плавали почти целые, стропила, подоконники,
брусья... А окон — ни единого и в щепках не нашлось...
Поймаю бревно, ухвачусь за него руками и правлю к
берегу, выбивая ногами. Зубами стучу, губ не сведу —
такая холодная вода. А тетка Ялосовета берет то, что я
к берегу подвел, и во двор носит. Я тогда с месяц каш-
256
лял — простудился. На следующее лето, как пройдет
неурожай, может, достроим хату. А сейчас нужно найти
какой-нибудь сухостой и ужин сварить. Ничего,
переплачет...
На другой день мы пошли в училихф вдвоем с
теткой Ялосоветой. Я-то сам не решился бы, а она!..
Зашли прямо к директору.
Директор был в кабинете один. Стоял у окна спиной
к двери, невысокий, щупленький, с лакированной
палочкой в руке, смотрел во двор — оттуда доносились
разноголосые команды строиться «по ранжиру в колонну по
четыре».
Когда мы вошли и стали у порога, директор
оглянулся. Он был во всем военном, с портупеями через
плечо, только без погон; на гимнастерке два ордена, а
остальное — планочки. Посмотрел на тетку Ялосовету,
потом на меня. Какое-то холодновато-внимательное
удивление было в его серых выпуклых глазах.
— Что вы хотите? — спросил он.
Тетка Ялосовета тотчас заплакала, начала
рассказывать, что хату нашу «сбросило бомбой в речку», что
живем мы в той хате, как в норе. Одеться не во что, есть
тоже не очень... А я стоял, смотрел в пол и держал во
вспотевшей руке свернутые в дудочку документы:
заявление, метрическое свидетельство, табель за пятый
класс и автобиографию. Мне было неловко, что тетка
Ялосовета рассказывает про нас все — хотя оно
правда, — да еще и подхваливает меня:
— Он послушный, работящий, не смотрите, что
такой маленький. Он у вас подрастет. И учится хорошо,
одни только хорошие отметки. Если б была возможность
дальше учиться, так разве ж я привела бы его... А так
вроде сбываю ребенка...
— Сколько тебе лет? — спросил директор, переведя
внимательно-удивленный взгляд с тетки Ялосоветы на
меня.
Я подал ему документы. Он пробежал их глазами и
улыбнулся. Тетка Ялосовета смотрела на него
умоляюще.
— Это ничего, что мал. — Директор смерил меня
взглядом, а я боялся и дохнуть. Стоял и не дышал. —
Мы ему подставку сделаем, чтобы до верстака доставал.
Но ведь ему еще и пятнадцати нет...
17 Г. Тютюнник 257
— Да сколько ж там — без одного месяца
пятнадцать.
Директор еще раз просмотрел табель^ заявление (я
написал его очень каллиграфично, почти нарисовал), и
вдруг спросил:
—- А что же это у тебя за имя — Павлентий?
Тетка Ялосовета тоже взглянула на меня удивленно.
— Почему он Павлентий? Павлом его зовут. Павло
Трофимович...
Я уставился на свои босые, в пыли после дороги,
ноги и чувствовал, как мелкие иголочки покалывают меня
в уши, щеки, шею — все горит. Стукнуло же такое в
голову — Павлентий!..
А дело было так. Позвала меня однажды бабка Про-
ниха, соседка наша, чтобы я ей письмо от дочки
прочитал. У нее в Донбассе дочка живет, Ольга. Ну, прочитал
все, еще и число внизу, и подпись: «Ольгея Павловна
Пронь».
«Вишь как, — обрадовалась и даже чуть напыжилась
Прониха. — Пока тут на свинарнике работала, иначе
как Ольга Пронька никто не звал. А в люди вышла —
Ольгея Павловна!..»
Потом, когда я писал заявление в училище, подумал:
ведь и я выхожу в люди. И написал: не Павло, а —
Павлентий.
— Ну что ж, Павел... Трофимович, — сказал
директор. — Беру тебя под свою ответственность. Будешь у
нас отличником.
Он проскрипел к столу протезом в хромовом
офицерском сапоге, подтягивая его за палочкой, написал что-то
красным карандашом на заявлении и протянул мне.
От директора пахло разогретыми на солнце портупеями и
папиросным дымом.
— Отнеси заведующему складом, тут во дворе, в
подвале он, скажешь, что я просил найтя тебе форму
самого маленького размера. Только смотри, дисциплина
у нас суровая, почти военная. Чтоб не просился назад.
Приходи завтра на занятия в пятую группу. Будешь в
самой боевой... пятой группе.
Тетка Ялосовета поклонилась ему низко и сказала
сквозь слезы:
— Спасибо вам, добрый человек!
Директор посмотрел на нее сурово, удивление в его
глазах стало еще холоднее,
258
17*
— Не надо. — И добавил мягче: — Это ведь не мое
собственное училище, женщина.
По дороге на склад я сказал тетке сердито:
— Что это вы? Кланяться вздумали...
— Больно ты умный! — тоже рассердилась она. —
Нужно же человека как-то поблагодарить? — И сразу
же перестала сердиться, сказала с облегчением: — Ну,
слава богу!
Даже самая маленькая форма была мне велика:
гимнастерка, когда я подпоясался, топорщилась на спине,
штаны были широкие и длиннее, чем нужно, чуть не на
полчетверти, пришлось заправить штанины в носки.
А ботинки и пилотка подошли.
— Ничего, ничего, — приговаривала тетка Ялосове-
та, одергивая на мне новую одежду, — я чувствовал, как
она щупала материю. — Крепенькая... Пойдем к деду
Кравцу, он подошьет где надо. — И спросила у зав-
складом: — А как тут у вас кормят? Три раза?
Завскладом, с побитым оспой лицом, с быстрыми
глазами, весело сказал:
— Трижды, молодица. И все, хоть и жиденькое, но
горячее... Да еще семьсот граммов хлеба каждый день.
А это сейчас не шуточки, это почти шахтерская пайка.
Домой мы шли быстро, потому что тетка Ялосовета
отпросилась у бригадира только до обеда. У Писарева
леса гудела молотилка. Над нею стояло облачко пыли с
половой. Ясный, прозрачный был день.
— Вишь, как солнечно! — сказала тетка Ялосовета и
по-молодому сбила платок на плечи. — А красивый
директор, — улыбнулась сама себе. — Такой какой-то...
Словно бы и наш, и не наш — культурный.
— Говорю же: выходите замуж. Так нет...
Тетка Ялосовета тихо засмеялась, вздохнула.
— Глупенький ты еще, а уже советуешь, — сказала
необидно. — Все люди красивые, если добрые.
Шла она легко, светилась. И то и дело поглядывала
на меня.
— А в ботинках ты выше стал. Такой, словно
подрос на глазах. Ну конечно, каблуки ведь...
— Ничего, вот выучусь, купим и вам туфли, —
сказал я. Так было у меня на душе счастливо, что даже
попробовал мысленно «мама», — нет, не получилось...
Шел молча. Форма шуршала gt ходьбы, аж поскрипыва-
260
ла, как накрахмаленная. «Ничего, приносится», — думал
я. Полез в нашивной на груди карман, нащупал новый
карандаш. Купили в книжном магазине за двадцать
копеек — ведь в расписании на завтра написано:
«Черчение»...
И вот я стою в пятой своей группе, в самой последней
шеренге. Она называется «шкентель». Звучат команды
«равняйсь!» и «смирно!». Это мастера, после того как
старосты — мастерам, докладывают директору, кто есть,
кого нет и почему. Те, которые впереди, правофланговые,
вертят головами, делая ими «равнение на середину!», и
столбенеют под команду «смирно!», а задние ряды гудят,
хихикают, толкаются — никому до них нет дела. И
особенно в нашей группе, потому что у нас, хотя мы учимся
уже пятый день, до сих пор нет мастера. Хлопцы
говорят по-всякому: одни — что еще не нашли, другие —
что мастера есть, но никто из них не хочет брать нашу
группу. Поэтому остальные девять групп, которые с
мастерами, и «механики» и «столяры» уже были на
практике в МТС, а нас каждый день после завтрака ведут в
старый двухэтажный дом — учебный корпус — на
«теорию». Классы там маленькие, сидеть тесно и душно, а
писать совсем невозможно, разве что боком, и то
подталкиваем один другого. Классы эти называются
аудиториями. Были у нас уже два политзанятия, черчение, физика,
технология металлов (это про то, какие бывают металлы
и что из них делают) и диктант по русскому языку.
Командует нами староста по фамилии Гришуха,
худощавый, суровый лицом детдомовец, с рыжим пушком над
верхней губой. Почти вся наша группа — детдомовцы.
Двадцать три — и все один за одного, смотрят прямо и
смело и называют нас, семерых селюков, или «кугута-
ми», или «макухой», но не сердито, а так, словно бы ради
развлечения, что ли. Подойдет который-нибудь из них,
возьмет пальцами за пуговицу на гимнастерке, крутит и
смотрит в глаза. «Садик есть, кугут? Принеси груш. А я
за тебя заступаться буду. Нет? Что ж ты тогда за
кугут?» Меня не трогают. Один начал было что-то про
жратуху, чтобы я принес из дома что-нибудь поесть, но
Гришуха сказал ему: «Ша, он наш». Видно, он знает
наши биографии. Мне чуждо в этой пятой группе и
холодно внутри, дрожит там что-то, хотя вон как солнышко
261
светит и воробьев на деревьях вокруг площади — как
"пепла, чирикают, греются. Выйти бы потихоньку из этого
шкентеля да за спинами, за спинами, будто мне куда-то
нужно. А там свернуть за нардом и домой. Шел бы
дорогой вдоль столбов до села... Молотилка в поле гудит, от
паровика дым стелется и пахнет теплым; вороны по
стерне прохаживаются. «Хэтэзэ» возле леса просянище
пашет... Зашел бы в лес, напился воды из родника, поел
бы грушек-падалиц... Они сейчас листьями присыпаны.
Накроешь листик ладонью — что-то тверденькое. Если не
патрон, то груша, мягкая, коричневая внутри, сама во
рту тает. А завтра принес бы эту форму, пока она еще
новая... Нет, ты погляди! Сам вон как просился, у
директора был... Павлентий! — а теперь назад на
карачках... Теперь уже стой! И я поднимаюсь на цыпочки,
чтобы увидеть своих Василей. Все они в первой, самой
взрослой и самой грамотной группе — «механики
сельхозмашин». Не видать Василей. Одинаковые пилотки,
одинаковые стриженые затылки.
Вскоре группы, начиная с первой, одна за другой,
строевым шагом двинулись с площади в столовую.
Впереди — мастера, сбоку, командуя: «Р-раз! Два!.. Левой!» —
шагали старосты. Шли напряженно, как деревянзные,
секли ногами дорогу, выбивая подошвами такт под эти
«р-раз-два-три!». Директор, преподаватели отдавали
каждой группе честь и чуть улыбались при этом.
А наша пятая осталась на площади. И стояли мы уже
не строем, а как попало.
— Хлопцы, чего стоим? — загудели детдомовцы.
— Гришуха! Веди на рубон!
Староста, стоявший спиной к нам, обернулся и
медленно просвистел из-под тонкой губы в рыжем
пушке:
— Тс-сихо!
Наверно, его побаивались и детдомовцы, потому что
тотчас умолкли.
И вдруг кто-то закричал:
— Бра! Мастера ведут!
Из двора училища, куда вмаршировывала последняя,
десятая группа, шел к нам- директор, быстро подтягивая
левую ногу за лакированной палочкой. Рядом, едва
поспевая за директором, семенил какой-то старичок. Он
был в ремесленнической форме, новой-преновехонькой
и топорщащейся еще больше, чем у меня; подол
гимнастерки был ему ниже коленей, и, идя, он подбрасывал
262
его коленями, как передник; брезентовый ремень с
никелированной пряжкой «РУ» был затянут под самой
грудью; брюки мели пыль, а из-под одной штанины за
каждым шажком выбрасывался вперед длинный шнурок
от ботинка. Когда мастер, что-то говоря директору на
ходу, повернулся к нам боком, мы увидели... Нет, он не
был горбатым, но такой сутуловатый, будто под
гимнастеркой за плечами у него висел баян... Руками старичок
размахивал по-строевому, смешно, как подросток,
изображающий военного на маршировке.
Мы занемели. Мы перестали дышать, как я в
директорском кабинете. А Гришуха выбросил в сторону
правую руку и скомандовал:
— В две шеренги становись!
Пока мы расталкивали друг друга, чтобы попасть в
первый ряд, директор и мастер подошли. И не успели
мы еще ни выравняться, ни сделать «равнение на
середину» под команду Гришухи, как мастер уперся
кончиками пальцев в правое ухо, выгнул грудь, насколько
позволял это «баян» на его спине, и бодрым тоненьким
голоском крикнул:
— Здравствуйте, товарищи ремесленники пятой
группы! — И улыбнулся совсем беззубым ртом.
Если бы он хотя бы ногами перед тем, как взять под
козырек, ничего не делал, а то щелкнул расшнурованным
ботинком о зашнурованный так лихо, что едва не сбил
самого себя, и шнурок протянулся рядом.
— Здравия желаем, товарищ мастер! — вразлад,
весело крикнули мы.
Мастер опустил руку щ смеясь старческим смехом,
хрипло сказал:
— Ну вот мы ж встретились! — Он наклонился,
наставил на нас свой «баян» и начал зашнуровывать
ботинок.
Директор тоже улыбался. Потом посуровел, подал
команду «вольно!».
— Товарищи ремесленники, — сказал он, подождав,
пока старичок управился с ботинком, и выпрямился. —
Наконец мы нашли для вашей группы мастера. Федор
Демидович Сноп — слесарь-инструментальщик высшего
разряда. Кроме того, он еще и слесарь-лекальщик, то
есть умеет делать из металла все: от молотка до
мельчайшего часового механизма. Во время войны Федор
Демидович был слесарем-оружейником на заводе и делал
для фронта пулеметы. Сейчас Федор Демидович пенсио-
263
нер. Но, приняв во внимание нашу большую просьбу, он
согласился взять и обучить вашу группу.
Не прошу, а приказываю, — директор
выразительно поднял палец. — Приказываю уважать его
золотые руки, его преклонный возраст и звание рабочего-
учителя. Многие из вашей группы подали мне заявления,
в которых просят перевести в механики. Эта группа уже
набрана, товарищи, из тех, кто имеет более высокое, чем
у вас, шести- и семилетнее образование. К тому же,
скажу вам по секрету: кто такой механик? За два года они
изучат два трактора: ХТЗ и «Универсал» и два
комбайна: «Сталинец» и «Коммунар» — вот и-все. Мы разошлем
их по МТС в районы нашей области. А вы.., у вас будет
образование и специальность заводских интеллигентов —
инструментальщики! Вас мы направим в города, на
большие заводы. Ваше будущее — завтрашний день рабочего
класса, завидное будущее, хлопцы! И еще одно:
мастер — ваш учитель и батька, все вы перед ним равные,
как равны дети перед родителями, хотя большинство из
вас, — директор опустил глаза и понизил голос, —
возможно, и не помнят своих родителей...
Он взглянул на мастера — тот согласно кивал
головой и быстрым цепким взглядом черкал по каждому
лицу в строю. Странно, но даже детдомовцы не
выдерживали его взгляда: столько было в глазах мастера какой-то
острой прицеленности и старческой печали.
До столовой мы шли, четко отбивая шаг и с гордо
поднятыми головами: теперь и у нас есть мастер! И
будем мы не какими-то там механиками, а заводскими
интеллигентами в больших городах!
Завтракала вся группа за тремя столами, по десять
за одним. Перед каждым уже лежала пайка хлеба по
двести граммов и стояла железная тарелка овсяного
супа — мы звали его «суп и-го-го».
Мастер тоже сидел с нами, за первым столом,
пристроившись на краешке длинной лавки, хотя для
мастеров был отдельный стол в углу тесной, как и учебный
корпус, столовой. Он ел, положив пилотку, как и все
мы, себе на колени; ел по-стариковски быстро, двигая
немного выставленными вперед губами и подбородком.
Потом подали второе — чай в алюминиевых кружках.
Десять кружек на алюминиевом подносе на каждый
стол. Мы зацокали ложками, мешая рыжеватый
кипяток — кто мешал ручкой, кто черпачком. Кружку просто
так, пальцами, не удержишь, поэтому подставляли пилот-
264
ки. Чай был скорее несладкий, чем сладкий: отхлебнешь
раз — будто с сахаром, отхлебнешь еще — будто и без
него. И в этой тишине чаепития — только губы дуют в
кружки, — мастер вдруг громко сказал, подняв кружку
высоко над столом, тоже обернутую пилоткой:
— Чай, детки, нужно мешать в обе стороны: сначала
налево, потом направо — тогда он будет слаще.
Наша и еще две группы, что сидели за другими
столами, засмеялись, мастера тоже. А повара за
«амбразурой» молчали.
Мы смотрели на другие столы победно: вон какой у
нас мастер, даром что маленький и старенький!
Завтрак мы никогда не ели с хлебом. Что бы там ни
подавали, суп или кашу, хлеб оставался целым. И уже
когда вот-вот должна была прозвучать команда «встать!»,
мы пускали по рукам солонку с серой крупной солью,
каждый брал из нее щепоточку соли и посыпал ею
пайку, потом вдавливал крупинки большим пальцем в
мякоть и прятал хлеб в карман. Эта придумка нравилась
всему училищу, потому что ни до завтрака, ни в завтрак
нам не хотелось есть сильнее, чем после завтрака.
Дорогу от училища до МТС, где наши мастерские, мы
проходили с песнями — аптеку, заготзерно, сушилку,
базар, — все с песнями. Дальше был пустырь, за ним МТС.
Тут мы уже шли молча и не в ногу.
Выходим со двора училища пятью колоннами.
Мастера — на два шага впереди каждой группы, старосты —
сбоку.
— Запевай! — звучат команды.
И начинается... какое-то месиво из песен, вихрь
какой-то, потому что у каждой группы своя песня. У
первой — «Смуглянка», у второй — «Ох да вспомним,
братцы, вы кубанцы!», у третьей — «В степи под Херсоном»,
у четвертой — «Скакал казак через долину», у нас —
«Дальневосточная»... Остальные пять групп остались на
«теорию», у них тоже свои песни.
И вот каждое утро, от восьми до девяти часов, когда
группы идут на практику, наш маленький райцентрик,
наполовину разбитый бомбами и снарядами, гудит от
песен. Навстречу нам, по мостовой, тоже строем, идут на
свою практику, в швейные мастерские, девчата из
сорокового училища, «сороконожки», те, которые остались в
войну сиротами. Их собрали из многих районов. Одеты
они в черные или синие платья, подпоясаны ремешками
с блестящими узкими пряжечками «РУ-40» и в черных
265
беретиках с белыми молоточками, как и у нас на
пилотках. Чернявые, беленькие, бледные, тонкие... У них тоже
есть «шкентели», там семенят маленькие, как и я. Они
тоже идут с песнями, мы говорим «пищат», и,
поравнявшись с ними, глушим их, надрывая горлянки до хрипоты:
.,.Сто-им на стра-же, всегда-всегда!
А если ска-жет страна труда:
Прицелом точным — врага в упор!
Далъ-не-вос-точ-ная, даешь отпор,
Кра-сно-зна-менная, смелее в бой!
Смелее в бой!..
Когда мы вот так «ухаем» песню, «сороконожки» в
середине строя и те, что на «шкентели», закрывают уши
ладонями и всем видом своим, улыбочками, выказывают
милое согласие, что мы, мужчины, все-таки сильнее
их. А девчата, правофланговые, более высокие,
длинноногие, уже чем-то похожие на женщин, подмигивают
нашим правофланговым — это которые победовее, а
застенчивые — те опускают глаза, и на щеках у них
занимается румянец. Я в этом уже немного смыслю. /
Поем до пустыря за базаром. Затем вынимаем из
карманов присоленные пайки и молча едим. Староста тоже.
А мастера сходятся вместе и говорят о чем-то своем.
Кроме нашего. Он рысцой подался от колонны в сторону,
сгорбился, наставил в небо свой «баян», рвет что-то в
траве и торопливо запихивает в карман. Мастера из других
групп следят за его занятием и посмеиваются...
В мастерской, куда нас завели «справа по одному»,
не было ничего особенного: ни удивительных станков,
которые мы каждый сам себе придумали, ни инструментов,
разложенных по полочкам, ни чертежей и схем на
стенах. Стояли только сдвинутые друг к другу пять новых
верстаков из неоструганных досок и на каждом —
шестеро тисков, по трое с каждой стороны. Возле тисков
лежали молоток, зубило, напильник и толстая железная
плашка. В одном углу — бормашина с большим колесом (ею
сверлят железо), в другом — ручное наждачное точило.
Все это мы видели еще детьми в колхозных кузницах, и,
может, потому понурились все: вот тебе и мастерская!..
Единственное, что удивило нас, — куча снарядных гильз,
ровненько сложенных вдоль стены, штук сто, а может, и
больше. Они глядели на нас пробитыми капсулами...
Верстаки были неодинаковые: первые два выше, еще два ни-
же и пятый, последний, совсем низкий. Мастер смерил
нас взглядом и суетливо, почти бегом, развел нас по
местам. При этом он брал каждого за плечи и легонько
подталкивал вперед, приговаривая: «Сюда, сюда, сюда...»
Мне и еще пяти малорослым хлопцам выпало место за
самым низким верстаком.
Расставив всех, мастер просеменил к своему
верстачку, придвинул его к нашим поперек, стал за ним и
торжественно, как с трибуны, произнес:
— Товарищи, внимание сюда. Вни-ма-ние! Перед
вами — ваши рабочие места. Сейчас они вам еще чужие,
но вскоре станут родными...
Его слушали угрюмо, смотрели в окна, за которыми
посреди двора МТС возились у комбайна «механики».
Мастер перехватил эти. взгляды и, быстро краснея,
тоненьким голосом, какой бывает у детей и стариков,
закричал:
— Не вы-ду-мы-вать дурного! Завтра ваши ме-ха-ни-
ки будут делать здесь же то же, что вы сегодня. Все
начинается с кончиков пальцев! Господ не будет! Вни-ма-
ние, тема сегодняшнего занятия: рубка металла при
помощи мо-лот-ка, — он взял с верстака и поднял вверх
молоток, — и зу-би-ла. Вот оно. — И показал зубило,
держа его посредине двумя пальцами, как игрушку. Он весь
сиял, показывая нам зубило и молоток, жесты его были
резкими, глазки сверкали, и мы начали его слушать не
столько из любопытства, — что мы, сроду не видели
молотка и зубила? — как от удивления: чему он так
радуется? А может, успокоило, что и механики тоже
недалеко от нас ушли, даз и им этой мастерской не миновать...
— А теперь взяли все в правую руку молоточки.
Кто левша — в левую. Не стесняйтесь. Великий Левша —
читали такую книжечку? — тоже был левшой, но блоху
подковал...
Мы взяли молотки.
— В мире есть три, — мастер многозначительно
поднял вверх указательный палец, — всего три удара
молотком. Первый — кистевой, когда рука сгибается лишь в
киети. Вот так. Все делают за мной: раз-и, раз-и, раз-и...
Мы помахали молотками одной кистью.
— Второй удар — локтевой, при этом рука сгибается
только в локте. Этот удар сильнее, чем предыдущий.
Попробовали: раз-и, раз-и.
Мы еще помахали молотками.
— Третий — самый сильный удар — плечевой. Он нам
267
пока еще не пригодится... Теперь зубильце. Его держат
не двумя или тремя пальцами, а в кулаке, чтобы не
вырвалось от удара и не попало в соседа. Взяли зубильце,
обняли всеми пальчиками... Так. Чтобы рубить металл,
нужно быть смелым. Если кто-нибудь из вас попадет
ненароком себе по пальчику — это бывает, — не бойтесь:
приложим подорожничек, а боль будет наукой, по чему
целиться — по зубилу или по рукам. От боли ума
прибавляется! Такова теория. Переходим к практике. Нам
нужно всем взять по гильзе, распустить ее зубилом и
молотком вдоль, — отрубить донышко с капсулой и
подготовить железо, чтобы оно было ровное, как лист
бумаги...
Гильзы были широкогорлые, но не очень длинные.
Мы рубили их во дворе, стоя на коленях или сидя на
траве у мастерской, потому что мастер сказал: земля —
«наилучшая масса», так как от нее нет отдачи. Почти у
каждого из нас были уже ссадины и синяки на пальцах и
косточках, мы молча, украдкой друг от друга, лизали их
время от времени, пересмеивались, если кто-нибудь,
ударившись, начинал шипеть от боли и дуть на левую
руку, а мастер метался между нами, ворковал ласковые
слова, показывал каждому сам, как рубить, и раздавал
из кармана привядшие, мягкие листики подорожника:
знать, это подорожник он и рвал на пустыре.
— Осторожно, ос-сто-рож-но! — выкрикивал он. —
Набить руку — эго не означает побить руки... Йода у
нас нет. Йод пошел на фронта!
Потом он тоже стал на колени, быстро распустил две
гильзы подряд короткими и, казалось со стороны,
легонькими ударами молотка по зубилу, и «баян» за его
плечами шевелился, словно у него пробовали мехи.
Разрубленные гильзы мы разгибали сначала о грудь,
вцепившись пальцами в острые края, потом топтали их
ногами, а поправляли молотком. И каждый старался
закончить первым.
Солнце поднялось высоко, во дворе МТС запахло
разогретым солидолом и соляркой, возле мастерской
механиков рокотал и сильно дымил двигатель — вертел
широкими и узкими ремнями какие-то неизвестные нам
станки сквозь прорубленные в стене дыры. За двором
МТС начиналось поле, оттуда дышал зной.
В эту пору на «теории» нам уже хотелось обедать,
а тут нет. За работой мы забыли и о себе, и о еде.
Вспомнили о ней лишь тогда, когда мастер объявил перерыв и
268
повел всех в мастерскую показывать, какие инструменты
мы скоро будем делать своими руками. Мы столпились
вокруг его верстака. Он достал из тумбочки небольшой
деревянный сундучок, окованный по углам старой
синеватой медью, и едва поднял его на верстак. Когда он
суетливо, хрипло покряхтывая, отпер маленький висячий
замок и поднял крышку, мы оторопели: из сундучка
вырвалось на солнце сияние. В аудитории с чертежами мы
видели на стендах все слесарные инструменты и знали,
какой и как называется, потому что они были подписаны.
Обыкновенные черные инструменты, только и всего, что
не захватаны руками и не тронуты ржавчиной.
— Хочется подержать в руках? — спросил мастер,
положив лохматые куценькие бровки на круглые очечки
в железной оправе. Мы закивали: хотим. — Нате. Только
хорошенько держите в руках... — И он начал раздавать
молотки и молоточки, плоскогубцы и плоскогубчики,
циркуль, керны, зубила и зубильцы, отвертки и отверточки,
ручные тиски, величиной со спичечную коробку,
кронциркули, крейцмейсель, ножички для тонкого металла...
Всем хватило. Мне достались плоскогубцы, и я никак не
мог удержать их на ладони: они скользили по ней,
бегали, как ртуть; я перебрасывал их с ладони на ладонь,
пока они не улеглись в горсти, и тогда по ним потекли
солнечные лучи — как прозрачный дымок по зеркалу.
С хлопцами, которым попался инструмент без ручки,
было то же самое: они перебрасывали его с ладони в
ладонь, как жаринку, и смеялись так, словно их щекотали.
Мастер тоже смеялся, закинув голову назад, и во рту его
виден был маленький дрожащий язычок. А с наших
ладоней на потолок и на стены мастерской разбегались
солнечные зайчики.
— Этот инструмент полированный, — сказал мастер,
пересмеявшись. — Потому он и скользкий такой.
— А им можно что-нибудь делать? — спросил
кто-то.
— А я им и работаю. Для чего бы я его изготовил?
Вот приду от вас домой, буду что-нибудь делать.
Тешиться... Вы ведь любите играть, скажем, с мячом? Ну а я с
металлом. Старому, как малому, забава нужна.
— А вы иголки умеете делать? — спросил Иван
Пирог из соседнего с нашим селом хутора Пироги (он
произносил: «Перльог, я из Перльогов, а ты?»).
— Что, нет иголки дома? — спросил мастер.
— Была, да я ненарльошно сломал, а мамка дерльот-
269
ся... — и разинул рот. У него не хватало губ
закрывать рот.
Мастер снял свою пилотку, размотал нитку с иголки
и протянул иголку Пирогу.
— Отдашь матери, чтоб не сердилась.
Тот взял и еще сильнее разинул рот, показывая, что
это он улыбается.
Кто-то из детдомовцев туркнул его под бок и
прошептал на ухо, но услышали все: «У-у, кугут, уже
выцыганил!» Пирог сморщился, готовясь заплакать, и
промямлил: «Я ж не прльосил...»
— Тихо, — сказал мастер очень мирно. — У кого еще
нет иголки, поднимите руки. Честно, не стесняйтесь.
Никто не поднял. Мастер покивал головой.
— Делаю и иголки, а чего ж. И ниточку могу
выковать... серебряную.
— А ушко чем — сверлышком просверливаете?
— А у меня щипчики такие есть: вверху зубчик,
внизу гнездышко. Нагрел толстый конец иголки, клац — и
есть ушко. Потом снова закаляю.
— Расскажите, как вы пулеметы делали.
— Пулеметы? А я их и не делал. Только подгонял —
то; се... Так, чтобы они были безотказными. — Он вдруг
начал оглядываться, понюхал воздух и вскочил на ноги.
Мы тоже начали оглядываться и увидели троих наших за
бормашиной — они быстренько затягивались и
передавали друг другу окурок.
— Вни-ма-ние, на кучу! — воскликнул мастер, и не
успели мы и глазом моргнуть, как в бормашину,
перевертываясь в воздухе и мелькая шнурками, полетел
ботинок. Он ударился о колесо и упал на пол.
Курильщики бросились к дверям.
— Назад! — тоненько закричал мастер. — Принести
мне ботинок! — Он стоял, держась рукой за верстак, я
подпрыгивал на одной ноге.
Те трое, боязливо поглядывая то на мастера, то на
Гришуху, принесли ботинок. Мастер обул его, притопнул
и сказал обычным голосом:
— Ну вот... А то что ж — на одной ноге буду учить
вас дальше или как? — Он вынул из кармана еще
довоенные «Кировские» часы, долго смотрел на них то вблизи,
то издали и снова крикнул тоненьким голоском: — Конец
перемены!
Мы снесли его инструменты, но как ни старались
сложить их кучкой, они расползались. Так и оста-
270
лись лежать на верстаке, поигрывая на солнце
серебром...
Мастер достал из своей тумбочки жестяную выкройку,
накладывал ее на листы железа, которое мы выправили
из гильз, и обводил кругом тоненьким шильцем.
Выкройка была похожа на небольшой щит, которые, рисуют в
учебниках по истории древнего мира, а вверху, над
щитом, что-то похожее на крылышки. Хлопцы угадывали по-
разному. Одни говорили, что это для комбайнов,
другие — для сошников на сеялке, только еще нужно гнуть
и сваривать электросваркой.
— Рубим по "контуру, за миллиметр от ли-ни-и, —*
объявил мастер, закончив размечать. — Теперь уже не
до земли, а до плашек на ваших верстаках. Кто ровнее
обрубит, тому будет легче обрабатывать свою заготовку
напильником. За ра-бо-ту!
И снова попадало нашим пальцам, снова мы шипели
и зализывали ссадины. Но на этот раз было еще больнее,
потому что мы били себя во второй раз в те же самые
места, что и до перемены.
Когда же мы кончили рубить «по контуру», и, зажав
заготовки в тиски, взялись за напильники, в мастерской
поднялось такое, что аж в животе холодело. На фронте
наши «катюши» и немецкие шестиствольные минометы
стреляли тише...
За полтора часа до обеда мастер и Гришуха собрали
заготовки —'кто хорошо обпилил, кто абы как — и
понесли в противоположный угол двора. А нам было
приказано прибрать «рабочие места» и отдыхать, пока они
вернутся. Мы смели обрубки и опилки с верстаков (в
солнечных лучах закружилась блестящая металлическая
пыль); потом крутили бормашину, кто доставал до
ручки; иные пробовали обтачивать на карборундовом
точиле кусочки железа, а у кого был перочинный ножик, то
ножик. Одним словом, прогоняли голод.
Эмтээсовский двигатель просвистел на обед, запахкал
медленнее, медленнее и совсем стал, г Ремни тоже
остановились. Во дворе стало тихо, Мы уже ничем не могли
отвлечь себя. Сидели вдоль стены мастерской на
солнышке, как сонные воробьи, — рядочком, а перед глазами
стояла только очередь в столовую. Именно во время
какого-то серого всеобщего онемения из-за механической
мастерской, где кузница, вышли мастер и Гришуха. Оба
они несли по две связки нанизанных на проволоку
совершенно готовых... лопат; с продолговатыми горбиками
271
посредине, заклепанных, с дырочками для гвоздей, чтобы
прибивать ручку, — ну и все как у настоящей лопаты!
Мы повскакивали с мест и столпились.
— Вот... — сказал мастер, положив связки на землю
и утирая пилоткой мокрый лоб. — Первая ваша
продукция. И первого сорта! Лопаты ваши не гнутся и не
ломаются! Стало быть... — Он вдруг выпрямился, снова,
как и утром, когда его привел директор, ударив правым
ботинком о левый так, что аж покачнулся, и, приложив
ладонь к уху, как это делают старики, когда недослышат,
крикнул:
— Поздравляю вас, товарищи, с первой лопатой!!
Не буду рассказывать, что с нами творилось... Ну,
толкали друг друга в грудь, легонько так, конечно, не
больно, хлопали по плечам, переспрашивали друг
дружку: «Как тебя звать? Иван?! Ты гляди, и меня Иван!..»
Я тоже кого-то толкал и допытывался, как его зовут, и
говорил, что я — Павло...
Шли в училище не через город, а напрямик,
вырубленным парком — одни пеньки и побеги от прежних
деревьев. Не строем шли, а так. И у каждого в руке по
лопате, и каждый хочет узнать, где же та, которую он
сделал. А они все одинаковые: серые после огня, немного
в саже. Тридцать две лопаты! Тридцать наших и две
мастера.
Были уже и подхалимы. Я знаю их еще по школе —
те, которые к учительницам ластятся. Они терлись возле
мастера. А Пирог из Пирогов даже идти ему мешал —
забегал вперед, заглядывал в глаза и спрашивал:
— А послезавтля будем рлюбить металл?
— Нет, не будем, — отвечал мастер громко, всем, —
потому что послезавтра вы ни зубила не удержите, ни
молотка. Пусть болячки заживут, руки отдохнут, тогда
снова будем рубить. Еще натешитесь...
— А интересно рлюбить! Будто матерлию ножом
рлежешь!..
Кто-то все-таки нашелся, оттер Пирога от мастера, и
он шел рядом, обиженно разинув рот.
Обедала наша группа последней — еще ведь лопаты
сдавали на склад. На первое был борщ, на второе
пшенная каша, политая сверху подливкой из пережженной,
аж черной, муки с луком, на третье — чай. Детдомовцам
выдали пайки по триста граммов, потому что им на
вечер по триста граммов оставляли, а нам, кому идти
домой, — пятьсот — ужинать мы не оставались. Наш ужин,
272
фасолевый суп или кулеш, детдомовцы делили на
группу, меньше чем полпорции на брата.
Ели впервые за эти пять дней учебы мирно, не
ссорясь, если кто-то кому-то там подбил ненароком ложку
или зацепил ногой под столом. Кусали черный, тяжелый,
аж влажный хлеб (пораненые ладони пахли старым
пороховым дымом от гильз) и посмеивались, что ложка у
каждого дрожит в усталых руках — борща до рта не
донесешь.
Эта первая практика нас уравняла, может, потому
так мирно мы и обедали. «Если бы не Пирог со своей
иголкой, так было бы еще лучше, — думал я. — А то
будто только у него нет иголки! У нас тоже нет, тоже
просим взаймы, когда надо».
После обеда объявили: снова будет линейка. Мы
дивились — почему? Никогда ведь не было линейки днем.
Выстроились на площади, выравнялись, весело гудим,
пообедав. В кармане у меня полпайки хлеба, двести
пятьдесят граммов, будет нам с теткой Ялосоветой на
ужин. В первый день принес, а тот кусочек слежался в
кармане, сплющился, сделался похожим на маленький
кошелек, — положил на стол, а тетка: «О боже! Где это
ты взял?» — «Паек, — отвечаю. — От пайка остался,
ешьте, это я вам!» — Отщипнула крохотку, жует
помаленьку, слушает на вкус, а потом: «До-брый!» — И
глазами морг-морг. О, опять плакать начинает! Привычка,
что ли? И пошел на огород картофельную ботву сгребать.
— Гр-руппы, р-равняйсь! Смирр-но! — скомандовал
старший политрук Бушний. Он всегда командовал
линейкой и очень красиво козырял, весь как натянутая струна.
Линейка затихла: на площадь выходили директор,
мастера, преподаватели — все те, что и утром. В одной
руке директор держал свою палочку, а в другой — нашу
лопату. Он что-то сказал Бушному, и тот, взяв под
козырек, скомандовал:
— Училище-е... равняйсь! Смир-рно! Пятая группа!
Десять шагов вперед... ма-арш!
Мы отстукали десять шагов и очутились перед
линейкой.
— Кр-ругом! Внимание всем!
— Товарищи ремесленники! — громко и
торжественнее, чем всегда, произнес директор. — Сегодня пятая
группа во главе со своим мастером Федором Демидови-
чем Снопом, — наш мастер покивал головой, —
проявила себя настойчивой как в учебе, так и в работе... Можно
18 Г. Тютюнник 273
сказать, по-геройски проявила себя. За четыре дня
практических занятий она изготовила для народного
хозяйства первый заказ: тридцать две бот такие лопаты. —
Директор поднял над головой лопату. Линейка загудела,
заколыхалась: это задние ряды начали пробиваться
вперед, чтобы посмотреть на нашу лопату.
Директор говорил долго: про войну, тяжелый год, про
большую надежду государства на нас — трудовые
резервы... И закончил так:
— Вместо трехсот комбинезонов, которые мы должны
получить вскоре для всех вас, на склад поступило пока
что только пятьдесят* Приказываю: наградить пятую
группу комбинезонами!..
...У ворот училища меня ждали Басили. Мы
быстренько вышли за райцентр, и там, в поле, где не было ни
души, — все по очереди примеряли комбинезон: черный,
как галка, блестящий, из крепкого хэбэ. Красивый
комбинезон, еще и с большими карманами выше коленей —
мастер сказал, что это для самого нужного слесарного
инструмента, чтобы всегда он был под рукой.
Когда уже подходили к селу, Василь Силка попросил
меня:
— Дай я пройдусь в комбинезоне до своей хаты, а там
под мостом сниму.
Так мы и вошли в село: Василь Силка в черном, как
танкист, а мы трое в зеленом.
* * *
Осень в тот год была сухая, как и лето, — ни
дождинки. Земля на дороге потрескалась, трава на обочинах
выгорела «*- не трава, а рыжие пряди; даже
тысячелистник, до чего уж терпеливый, и тот проржавел,
поломался. Одйи трещины в земле чернеют, и кажется, будто и
они горячим дышат* Лишь от Писарева леса влажностью
повевает, там в зарослях по оврагам родников много и
ручьев больших и маленьких* На терновнике по-над
лесом паутина блестит, она висит и на проводах между
телеграфными столбами. Голо кругом — лишь кое-где
в поле маленькая приземистая копенка соломы виднеется*
Да паутина. Даже зайцы разбежались. Сколько ходим,
еще ни разу не видели.
Как-то мы с Василями, идя из училища, сели
передохнуть на пожухлой траве и кому-то из нас пришло в
голову; сколько же это километров нужно пройти нам за
274
два года обучения, если отбросить воскресные дни и
каникулы?
Множили палочкой на земле (в уме-то попробуй
помножить). Двести пятьдесят дней на восемнадцать
километров: девять от села до училища да девять назад.
Вышло ровно четыре тысячи пятьсот километров. А если
за два года — девять тысяч!
Мы оторопели. Сидели и смотрели друг на друга
молча. Вдруг Василь Силка «Я ли эта иль не я» — так мы
его прозвали после того переодевания в училище —
вскочил на ноги и выкрикнул — как жеребенок проржал
через широкие редкие зубы:
— Хи-ги-ги! Подождите! Это если за два года вместе,
то много, а если каждый день понемножку, то и немного!
— Аи вправду! — удивились и обрадовались мы. —
Это если вместе!
И пошагали дальше.
Всем нам сделалось весело, ногам сразу стало легко.
А Василь Обора, самый молчаливый и самый сильный
среди нас, произнес на радостях, запинаясь:
— А-а мне брат В'олодя весной т'апочки из Харькова
при'евезет! На этой... на р'езиновой подошве из ската. —
Обора, если сильно сердился или радовался, говорил вот
так, коротко спотыкаясь.
Я тоже не удержался, рассказал про то, как
повеличал себя в заявлении не Павлом, а Павлентием, и мы все
вместе посмеялись.
Но больше всех обрадовался своему открытию Василь
«Я ли это иль не я». Он не умолкал до самого села,
гордо сплевывал сквозь зубы, смеялся-повизгивал и все
допытывался:
— А вы испугались, что девять тысяч, да?
— Еще бы...
— А я гляжу, испугались мои хлопцы! И думаю,
стой! Это если вместе, то много, а если каждый день
понемногу...
Дорогу от села до райцентра мы поделили на станции.
Первая, сразу же за селом, — «Овраг», или «Мельница»
(за оврагом на горе стояла мельница). До этой станции
дорога была крутая, в гору, но мощеная, а дальше шла
грунтовая, до самого райцентра. Вторая станция
называлась «Л» — это два телеграфных столба, подпиравшие
друг друга. Третья «А», такие же точно два столба, как
«Л», только с поперечной перекладиной. Четвертая —
«Осина», пятая — «Вербочка», дальше «Мостик», «Мас-
18* 275
лобойка»... Ж так до самого училища. С этими станциями
нам стало ходить веселее: не успеешь дойти до первой, а
уже и вторую видно.
— Вот если кому-нибудь далеко ходить, — рассуждал
вслух «Я ли это иль не я», — нужно сказать ему, пусть
придумает себе станции, ближе будет, правда, хлопцы?
— Или купит самокатку, — вяло добавил третий наш
Василь, Кибкало. Он и в ходьбе, и в движениях, и
лицом вялый, даже кислый. И весь какой-то вытянутый:
руки длинные, ноги длинные, лицо длинное, даже лоб
нельзя сказать, что высокий — вытянутый и суженный
кверху, где начинается чуб; брови над переносицей
двумя клинышками тоже вверх тянутся, почти торчком
стоят, и не разберешь, то ли он сильно удивлен, то ли
вот-вот заплачет. Когда Кибкало молчит и ничего не
жует, губы его обвисают уголками вниз — тоска от них,
как глянешь. А может, он только мне таким кажется,
потому что он мой (или я его?)... соперник.
Мы трое идем босиком, а ботинки, связанные
шнурками, несем через плечо — для них еще зима будет.
Только Кибкало ходит обутым, потому что у него на
зиму есть сапоги и валенки с галошами. Еще есть у него
офицерская полевая сумка. Мы носим свои тетради в
руках или за пазухой, а он — в сумке на узеньком
блестящем ремешке. Из нее Кибкало все что-то вытаскивает
утром, когда идем в училище, и ест. Мы еще ни разу
не видели, что. Даже когда вытаскивает — не видим,
потому что он, как только надумает есть, опережает нас
шага на три, перебрасывает сумку со спины на бок и
копается в ней, по-куриному наклонив к ней голову,
потом снова передвигает за спину, и нам сзади видно, как
у него начинают двигаться челюсти... Тогда и у нас
начинает сосать, под ложечкой.
— Ты, В'асиль, если ж'решь, так иди п'озади нас, —
глухо говорит Василь Обора и потом уже будет молчать,
пока до училища не дойдем. Брови у него низко над
глазами, густые и черные, плечи покачиваются при ходьбе
вверх-вниз, вверх-вниз, а ноги толстые и короче
туловища.
Кибкало отстает и идет позади.
Понуро, молча идем все. И вдруг Василь Силка,
словно только что проснувшись, вскрикивает:
— А мне этой ночью снилась Австралия! Будто иду
я по Австралии, а кругом желто-прежелто и солнце
печет..*
276
Силка любит географию и рассказывает о каждой
стране так, будто он там был. От старших двух братьев,
которые пошли на войну и не вернулись, Василю
остались их учебники, географический атлас и книжка про
Дерсу У зала. Мы читаем ее по очереди: то он, то я. Уже
раз по десять прочитали. А Обора и Кибкало ни разу —
они читать не любят.
— Так желто, как в штокаловском саду от абрикос...
Бананы, апельсины, ананасы...
Никто из нас не пробовал абрикосов, потому что ни
у кого в селе они не растут, только у Штокала на горе,
возле оврага. Старый Штокало стережет их днем и
ночью, а если не он, так его жена — Штокалка, страх
какая крикливая и гундосая бабка. Она как скажет
вечером посреди двора «что?» — так по всему селу слышно,
и собаки начинают лаять.
Теперь каждый день после Силкиного рассказа про
абрикосовую Австралию, идя в училище и назад, мы
смотрим на Штокаловы абрикосы такими глазами, что
дед каменеет посреди сада, — длинный, сухой, седой —
и грозит нам пальцем. Тогда мы отворачиваемся, делая
вид, что мы и не думали смотреть на его абрикосы.
Спускаемся с горы брусчаткой. Солнце уже низко,
прячется за мельницу над оврагом. Брусчатка еще чуть
теплая, усыпана подгоревшими покореженными листьями
с кленов над дорогой — листья щекочут босые ноги,
хрустят. Не доходя до Штокала, садимся обуваться, чтобы по
селу идти в полной форме. Завязываем шнурки, а сами
исподлобья поглядываем на абрикосы. Их еще много, и
они золотятся в низких солнечных лучах, горят
оранжевым костром и пахнут. Дз-з-з — гудят осы и пчелы над
тем костром.
Ни Штокала, ни бабки в саду не видать.
— А что, если накрасть хоть попробовать? — шепчет
Силка. — Только не смотрите туда... Подождем, пока
стемнеет... Хоть по горсти.
— Ну да, мы накрадем, а он в училище донесет?
И выгонят, — кисло пророчит Кибкайо.
— Да разве это кража, если по горсти? — удивляется
его словам «Я ли это иль не я». Щеки у него полные,
красные от волнения и в легком пушке, что блестит под
солнцем. Большой лоб тоже красный, пилотка над ним
торчит, поставленная ребром, — мала. На Силкину
голову все наши пилотки малы. А на Кибкалову —
велики, потому что у него острая голова. Мать ушила его
277
пилотку, и она смешно торчит сзади петушиным
гребнем.
— Вы как хотите, а я пошел. — Кибкало плаксиво
наставляет вверх свои колышки-брови и идет прочь,
подкидывая худым задом полевую сумку.
— Ну и пусть уходит, — утешает Силка меня и
Обору. — Мы и сами, эге ж, хлопцы?
Обходим стороной Штоколов сад, настороженно
оглядываясь, — не видит ли нас кто, и, придерживая
тетради за пазухой, спускаемся на корточках в овраг на
самое дно. Стрижи вылетают из своих нор в красной
глиняной стене над нашими головами и поднимают
перепуганный крик, кружась над оврагом. У нас его зовут еще
«стенкой», потому что у оврага очень крутые склоны —
их прорыли потоки из Писарева леса. В овраге
холоднее, чем там, наверху. Тихо шумит вода, чистая, из
лесных родников. Напились лежа и макая носы в воду, —
холодная, аж зубы ломит. Сидим тихо.
Стрижи постепенно умолкают и опять с быстрого лёта
стрелами влетают в свои норы-гнезда. И как только они
попадают? Ни одна и крылышком не зацепит глины.
Сложит их, сведет хвостик-ножнички вместе и — фить,
уже в норе.
Над оврагом еще видно, а внизу вокруг нас уже
сумерки, вода чернеет и шепчет, шепчет... Мы молчим и
водим глазами, как настоящие воры.
Хлеб мой в кармане, двести пятьдесят граммов,
прилип уже к материи. Как же это тетка Ялосовета будет
ужинать без хлеба?.. Ничего, скоро, говорят, будут
давать на трудодень. Если б просом выдали, лучше было
бы: варили бы целую зиму кулеш. Кулеш, если густой,
можно и без хлеба есть... А впрочем, почему без хлеба?
Я ведь буду носить понемножку. Ничего, теперь, раз я
в училище, не пропадем. Одежда есть, семьсот граммов
хлеба каждый день. Дров на одну комнату немного
нужно. Это если большая хата, тогда не напасешься.
— Волков за войну развелось, как чертей, —
шепчет Василь Силка. — Вчера на нашем краю у бабки
Остапихи выломали в хлеву стену и задрали козленка.
Плакала бабка — страх. Она плачет, а коза тоже:
«ме-ке-ке, ме-ке-ке», — тоже плачет по козленку,
ребенок ведь.
— А я не боюсь в'олков, — говорит Василь Обора. —
Я, как поймаю хоть одного, задушу — и все.
Еще бы! Обора такой сильный, что... Он брал когда-»
278
то в обе руки по две немецкие противотанковые мины и
выжимал их.
Уже темнеет. Звезды над оврагом мерцают. Отсюда
они крупнее и ярче. Недаром говорят, что из колодца и
днем можно звезду увидеть.
Холодновато. Уже и тело пупырышками покрылось.
Сидим-сидим, и вдруг то у Силки, то у меня плечо —
дерг-дерг! Само. У Оборы нет, а у нас дергается.
— П'омерзли? — спрашивает Обора. — А мне все
равно. В прошлую зиму сижу в хате б'осой, потому что
мать куда-то п'ошла и с'апоги обула. Так я в'ыскочилна
лужу, накатался б'осиком досыта и в хату. Так и зашпо-
ров не б'ыло... У меня шкура б'ычъя.
Прислушиваемся. Слышно: звяк-звяк... Напряглись,
выпрямились сидя. Звяканье дальше, дальше. Стихло.
А-а, это мельник с мельницы пошел, ключами позвенел.
— Так, — шлепнул себя ладонью по колену Василь
Силка, — ты, Паш, сиди тут, а мы с Оборой на разведку.
Басили полезли вверх, покатились комья земли из-
под их ног и забулькали в ручей.
И только за ними стихло, слышу:
— У-у-у-у... — где-то за мельницей.
Вздрогнул, а холод аж в пятки кольнул: что это?
И снова:
— У-у-у-у... — жалобно-жутко так.
«Волк? О-он, волчик-братик!»
Видно, голодный... Уж больно жалобно воет.
Вверху сопят Басили, сползают вместе с комьями
глины ко мне.
— Серого слышал? — спрашивают.
— Слыхал. Ну, как там?
— Шатается по саду... Сверкает цигаркой и кашляет,
аж в груди ревет. И ты скажи, не спится ему! Уже по
селу нигде ни огонька.
И опять сидим, слушаем воду в ручье и волка за
мельницей.
— Чего это он возле мельницы бродит? Там ведь ни
кошары, ни свинарника.
— Он не бродит, а сидит на задних лапах, закинул
голову и плачет от голода, — говорит Силка. — Ждет
глухой ночи, пока люди уснут.
— Как вот мы сейчас ждем...
— Все равно н'аша возьмет! — восклицает Василь
фбора. — Брехня, до утра не выдержит.
Эти Штокалы, дед Прокоп и бабка Ганна (ее дразнят
279
Гандзя за гундосость), должно быть, самые скупые в
мире. В сорок пятом, когда наши поприходили с войны,
кто остался в живых и не пропал без вести, в колхозной
конторе была гулянка. Кое-что из кладовой выписали,
кое-что люди принесли в складчину. Штокалам сказали
принести кисель, потому что у них самый лучший на
селе сад. А со всех по четвертинке водки. Штокалы
принесли и кисель, и четвертинку. Начали^ гулять, песни
завели, три лампы двенадцатилинейные горят — тоже в
складчину принесли. Пели, пели, дошла очередь до
«Гандзи». Эту песню у нас пели лучше всех еще и до
войны. Весело так, что хоть танцуй под нее. Пропели
первый куплет, начинают второй, а бабка Гандзя Што-
калка встала и громко прогундосила своему деду: «Идем
отсюда, Прокоп, а то нас тут дразнят!»
Кинулись ее уговаривать, что это ведь песня, что ведь
не только она, бабка, — Гандзя, айв песне — Гандзя...
Куда там! Вытащила деда из-за стола — и к двери.
Потом обернулась:
— Отдайте наш кисель!
Все захохотали и отдали ей кисель. А председатель
колхоза Осадчий откупорил четвертинку с горилкой,
разлил по рюмкам и серьезно, без улыбки, сказал:
— Догоните и отдайте и эту четвертинку, хотя она и
пустая!!.
Догнали, отдали. Взяли и пустую...
— Будет под масло, — сказала бабка.
А Штокало молча плелся за нею.
Песню все-таки допели, но выговаривали уже не
«Гандзя», а «Гендзя».
Гендзя цяця,
Гендзя птиця,
Гендзя гарна молодиця!..
Наверху посветлело — взошла луна. Она осветила
край оврага с одной стороны, а в норы стрижей
заглядывала, наверно, до дна. Мы с Силкой уже не
передергивали плечами, а дрожали от холода.
— Д'авайте огонь разложим, — сказал Обора, —
жалко на вас смотреть.
Наломали над ручьем бурьяна, насобирали разных
палочек и зажгли. Когда припекало грудь, подставляли
спины, держали руки над пламенем, пока ладони
припечет, и прятали их под мышки: там если тепло, то и
всему телу тепло.
280
— Как на экваторе! — радовался «Я ли это иль не я»,
согревшись. На его лице, озаренном пламенем, золотился
пушок. — Есть экватор, — пояснил он, — это такая
условная линия, которая делит земной шар пополам.
И есть Эквадор — это страна. Их не нужно путать...
— Как выучусь на м'еханика, — сказал Василь
Обора, — сяду на трактор. Механик — что? В моторах
ковыряться и запчасти доставать... А то сам за рулем.
Я как-то пахал ночью, когда прицепщиком был. Х'орошо!
Фара светит, земля вспаханная впереди блестит,
тракторист под скирдой спит, а я один. Стану, прочищу плуги
от бурьяна — и дальше погнал...
— А я пойду учиться на географию, — сказал
Силка.
— Так ведь после училища нужно отрабатывать три
года...
— Ну и' что? Отработаю и пойду на географию.
— А эти абрикосы и в с'ередке желтые или только
сверху?
— Кто его знает. Я только косточку видел, остренькая
такая с одной стороны, а с другой тупее...
— Мне кажется, что они горячие. Сейчас ночь, а они
горячие...
— По-моему, они покрыты пушком, да?
— Кто его знает... Скоро все увидим.
Огонь начал пригасать. Только жарок еще играл и
переливался.
— И волк чего-то молчит...
— Пошел чью-то стену ломать.
— А ну, Паш, сходи еще раз последи за Штокалом,
твоя очередь, — сказал Силка и прислушался. — Цсс,
кто-то, кажется, идет, — зашептал он. — О,
слышите?
Наверху и вправду словно протопал кто-то, и вновь
затихло. Потом оттуда покатился ком земли, упал в наш
костер, и из него взметнулись искры. Мы вскочили на
ноги и задрали головы, но после огня не видели и на шаг
от себя.
— Не бойтесь, это я, — сказал кто-то сверху.
К нашим ногам потекла мелкая глина, а следом за
нею съехал... Штокало. Он держал обеими руками у
груди кепку с абрикосами...
— Нате, ешьте да идите уже домой, а то мне спать
хочется, — Штокало дохнул на нас едким табачным
духом. — Садитесь, что это вы остолбенели? Кто ж так
281
готовится красть? Кричат, разговаривают, не только
мне — всему селу слышно. Огонь раскладывают! Воры,
называется... Тихо нужно, раз уж решились воровать!
— Да мы, дедушка, только попробовать хотели! —
воскликнул чистосердечно «Я ли это иль не я». —
Разве мы воровать...
— Вот и берите, и пробуйте. Да и я с вами какую-
нибудь съем, вы тут про них так говорили, что и мне
захотелось. — Дед засмеялся и первым взял из кепки
горсть абрикосов.
И мы несмело потянулись к кепке, взяли по одному
абрикосу, откусили по маленькому кусочку, держим во
рту и слушаем на вкус, как тетка Ялосовета
ремесленнический хлеб.
Нет, сразу не понять того неведомого вкуса! Как мед?
Куда там тому меду! То мед и все. А это... И солнцем
пахнут. Хотя и холодные. А мы думали, что они
горячие...
— Как ананасы! — воскликнул Силка.
— Ки к черту нанасы! Абрикосы только и всего, —
хрипел прокуренным горлом Штокало.
Он сильно чавкал, причмокивал, брызгался соком и
брал из кепки сразу по горсти.
— Видал ты такое? — удивлялся. — Каждый день
топчусь по ним, а никогда еще такими вкусными не
были! Черт знает что! А ну-ка сбегайте который-нибудь да
нарвите еще кепку. Только тихо и не с одной ветки, а
то старая завтра как увидит, так будет мне...
Первым отправился Василь Обора. Принес полную
кепку с верхом. За ним — Силка. За Силкой — я.
О, если бы кто знал, какое это счастье — рвать
абрикосы ночью при луне! Наклонишь ветку, а они тебя лас-
ковенько по макушке — тук-тук-тук... О щеки трутся
бархатно — есть все-таки на них пушок. А который и
сам за пазуху упадет, пощекочет золотой мышкой и
пригреется, и уже его не слышно...
Мы носим, а Штокало ест и ест и косточками
стреляет с губ, как из малокалиберки.
— Ху-ух! — простонал он после последней кепки и
откинулся спиной на глину. — Вот это умолотил за
компанию! Живот такой тяжелый стал, что и из оврага не
вылезу.
Мы с Василйми затоптали огонь — на случай, если
ветер поднимется, — и полезли вверх, придерживая де-
282
да под руки. Хлопцы — под руки, я сзади его
подталкивал.
— Во-от спасибо, во-от спасибо, — пыхтел и хрипел
Штокало. — На старости только вниз, в овраг легко...
Наверху нас встретила луна, безветренная тишина и
тепло — в овраге было намного холоднее.
— Нарвите теперь в пилотки, домой понесете, —
сказал Штокало. — А я пошел спать. Ох, боже-боже, живот
как бы не лопнул... Заходите еще, как захочется. В
овраге ждите, я вас там найду... — Он словно бы опьянел
от собственных абрикосов, а может, от щедрости.
Радешенько говорил.
Мы шли брусчаткой, что холодно блестела под
луной, и несли, прижав к груди, как младенцев, пилотки
с абрикосами. Они тускло желтели и пахли, казалось, на
всю ночь, аж за село. Шли и всячески хвалили Штокало,
дыша в лицо друг другу абрикосовой духмяностью.
Басили повернули к своим хатам.
Мне еще до моста идти с километр.
Ночью наши полхаты как чулан на берегу реки.
Только и того, что с трубой вверху. Ба! В окне светится!
У калитки чернеет кто-то. Идет навстречу. Тетка Яло-
совета.
— Это ты?
— Я.
— Господи, чуть сердце не разорвалось... —
всхлипывает. — Где ты был? Я уже на самую гору ходила
смотреть.
— Нате, — протягиваю ей хлеб и пилотку с
абрикосами. — Да не плачьте, я больше не буду...
* * *
Собираемся мы каждое воскресенье у двора Василя
Силки, как уже засинеет на вечер и луна, холодная,
октябрьская, стоит посреди неба. Сидим на лавочке, перед
оградкой — из немецких снарядных ящиков еделали.
За оградкой лежит солдат Иван Иванович Кудряш. В
сорок третьем Иван Иванович стоял у Силки вместе с
другими артиллеристами. Его убило во время
бомбардировки, когда он держал за повода коней, возивших пушки,
чтобы они не испугались взрывов и не убежали. Кони
остались целы, а Ивана Ивановича пронзило мелким
осколком в сердце.
Мы с Василем разобрали пять ящиков на дощечки,
283
Силка с Оборой обрезали на них шипы (ящики для
снарядов, а на шипах, как сундуки), я затесывал их под
штакет, а Кибкало прибивал к подрешетине вокруг
могилы. Низенькая вышла оградочка, но ровная, под шнур.
Перед тем как играть, Басили настраивают
балалайки по первой струне, а я подогреваю кожу на бубне,
чтобы сильнее натянулась, тогда она будет звонче.
— Что будем играть? — спрашивает «Я ли это, иль
не я». — Может, Подозерскую польку врежем? — «По-
дозерская» от названия нашего села.
Эту польку Силка придумал сам. Он радуется, что
придумал ее. Только слов нет. Так мы уж сами
присочинили их: «Ой, ты, полька-закадрелька...» А дальше
подходящих слов нет, и мы поем что в голову стрельнет
или просто трындыкаем. Басили поют, а я молчу, когда-
то начал было подпевать, а они говорят: «Ты, Павел,
только выбивай, петь не нужно — ты поперек тянешь».
Так я им и не мешаю.
В головах Ивана Ивановича мы посадили тополек.
Он сразу и принялся, и погнал вверх, как из воды. За
три года на полтора метра подрос.
Когда мы договариваемся, где встретиться вечером,
то говорим: возле Ивана Ивановича. Ходят слухи, что
его и всех солдат, похороненных в поле, при дорогах и в
садах, будут выкапывать и свозить в братскую могилу в
колхозном дворе. Мы уже решили, что не дадим Ивана
Ивановича. Обступим могилу, возьмемся за руки и
скажем: нет. Тут он, у дороги, на виду — раз, тополек —
два, оградка — три. К тому же наши девчата вокруг
холмика насеяли бархоток, а на самой могилке ноготков и
астр насажали. Не дадим.
«Наши» девчата — это Соня Приходько, Маня
Ковшик и Оля Яхнич. Три. А нас четверо. Пока мы ходили
в одних гимнастерках, то все семеро умещались на
лавочке возле Ивана Ивановича. Теперь в шинелях, и
лавочка стала тесна. Пришлось надставлять.
Девчатам больше лет, чем нам, но они ходят к нам,
потому что старших парней нет. Семен Петрик есть, так
он ходит «на чужую», то есть к другим девчатам на
хутора. Он и там нарасхват.
Басили начинают польку. Силка играет медиатором
из плексигласа на каждой струне отдельно, как на
мандолине; Обора всеми пальцами, по всем струнам
одновременно (у него втора), а я пробую бубен — палочкой,
локтем, об колени, чтобы слышно было сильней. Затем
284
вступаю легонько, незаметно. Васили приказали мне:
«Ты бери такт, и все». Вот я и беру такт.
А девчата — словно ждали да ждали — уже идут
под луной по тропинке, расписанной тенью от веток на
деревьях, и Маня громко хохочет, чтоб мы услышали —-
идут! Мане уже семнадцатый год начался, и она говорит,
что я очень хороший. «Ты такой хороший, Павел, что
не знаю...» Она ко мне каждый раз подсаживается и если
не смеется, то вздыхает. Вот уже, наверно, с полгода
Васили, Силка и Обора, говорят: «Любит она тебя, льнет к
тебе, видишь? А ты глупый. Ты ее обнимай, говори ей
что-нибудь, а то подумает, что ты шляпа, и пойдет к
Петику». — «Пусть идет, — думаю я... — Раз она
такая».
Девчата подходят. Все под ручку, в платочках.
' — Здравствуйте, хлопцы!
— Дра! — отвечаем мы. Раньше, когда не носили
форму, просто здоровались, а теперь вот так, лихо.
— Так можно сесть или стоять?
— Садитесь, в ногах правды нет.
Посмеиваются, садятся. Маня выбирает место между
мною и Кибкало. Устраивается уютно между нашими
шинелями. Слышу: потерлась о мое плечо, слегла на
него чуть-чуть. Нарочно. Что я — маленький?
— Добрый вечер, — говорит мне на ухо тихонько.
— Добрый вечер, Маня.
Споткнулись мы все-таки: Васили бренькают не в
лад, я не в лад выбиваю.
— О, взяли сбили! — восклицает Силка. — Давай
снова.
И мы начинаем сначала: «Ой ты, полька-закад-
релька!..»
Мне нужно, чтобы локтю было свободно выбивать.
Говорю Мане:
— Отодвинься немного, а то локтем никак не
шевельнешь.
Она немного отодвигается, подталкивая Василя
Кибкало к краю лавочки.
— Кому любовь, а кому толчки, — кисло мямлит Ва-
биль. Намекает.
— Ты теперь, как военный, — выгибается ко мне
Маня, чтобы не подбить под локоть.
— Такая форма, — говорю. И звеню погремушками,
встряхивая бубен, потом снова выбиваю палочкой.
— Хло, давайте «Ой ты, Галю», — просит Оля Яхнич.
285
— Можно, — соглашается Силка. Музыкой у нас
заправляет он: указывает, когда как играть, когда как
выбивать.
Мы начинаем «Ой ты, Галю», что «хорошого стану, а
хто ж тебе любить буде, як я перестану».
Хлопцы и девчата поют. Хорошо выходит: и весело,
и жалобно немного. А я молчу. Выводит Маня. Голос у
нее не очень звонкий и чуть-чуть дрожит, когда она
берет высоко.
— Так кем ты будешь? — спрашивает она посреди
песни. — Шофером или трактористом?
— Слесарем, — говорю. — По металлу, из которого
все делают. Лопаты... И все прочее. А мастер сказал, что
выучимся и будем уметь даже сережки делать...
— И мне сделаешь? — Маня наклоняется и
заглядывает в глаза.
— Не знаю... Металл нужен, Золото или серебро...
— Можно и из пятака. Я у спекулянток на базаре
видела, такие красивые-прекрасивые!
— Можно... должно быть. Не знаю, спрошу у
мастера.
— Ты, Маня, или пой, или разговаривай, — бросает
Василь Кибкало. Он ничего не делает: не поет, не
играет. И сердится, когда Маня говорит мне что-нибудь
или просто так сидит рядом. Тогда и ходи с нею, мне-то
что!
— А эти, как их, «сороковки», что в девчачьем
училище, красивые?
— В.сякие есть.
—■ Ты там себе еще никакой не присмотрел?
— Да нет... — говорю. — Мелковаты они еще, на
«шкентелях» ходят.
— Смотри же, а то я буду плакать, — шепчет мне
Маня так близко, что касается губами моего уха, и мне
становится жарко.
— Ты вон с Кибкало заговори. Видишь, надулся.
— Ну и пусть!
— Твое дело.
Кибкало поворачивается ко мне боком, налегает на
Маню грудью и говорит кисло:
— Ты выбивай, а не сачкуй.
— А ты не лезь! — Маня сердито отталкивает Васи-
ля. — Заиграйте, хлопцы, «Чорноморца», — попросила
она и начала негромко;
286
Чорноморець, мат1нко,
Чорноморець,
BnBiB мене босую
На морозець...
Вдохнула воздух, аж всхлипнула;
Вив1в мене босую
Та й пита :
Чи МОрОЗ, Д1ВЧИН0,
Чи нема»
Я не выбивал и не звенел. Сидел и слушал.
А луна! Ну, не знаю: почему луна в воскресенье так
светит? В будний вечер она какая-то равнодушная! А в
воскресенье — не сводил бы с нее глаз. И ни слушать
никого, ни играть не хочется, а идти бы и идти степью
куда-нибудь...
Тени от цветов над Иваном Ивановичем падают за
оградку, и чернобривцы и астры только красуются, а
ноготки горьковато, печально пахнут. Они будут цвести,
пока не выпадет снег, еще и над снегом пожелтеют дня
два, если не ударит мороз... Вот так где-то и отец
лежит. А может, и не так, может, присыпало где.
Засыпало же у нас на Джулаевом овражке солдата в окопе.
Случайно нашли его недавно.
Только автомат, ремень и котелок целы, а остальное..*
Ой, нема морозу,
Сама роса.
А я молодая
Стояла боса...
— Ты, когда будем расходиться, иди, а я догоню, —
шепчет мне Маня. — Не быстро иди.
— Да уж ладно, — отвечаю. — Подожду.
Она мне как вожжи: куда дернет, туда и
поворачиваю. Лучше бы уж Кибкало так дергала. Или нет, не
Кибкало... Ну, Силку, ну, Обору...
— Аида, девчата, танцевать, — говорит Василь
«Я ли это иль не я». — Скучно чего-то. Сидят все как
привязанные. А ты, Маня, к нам больше не приходи,
К замостянам иди, там парубки победовее.
В меня камешек.
— Почему это не приходить? — удивляется Маня.
Нарочно, слышно, забавляется.
— Потому что Павло, когда ты тут, не выбивает, а
287
клепает как попало и не в лад. А Кибкало усыхает на
глазах.
— А это уж я не буду спрашивать, куда мне
ходить, — с гонором отвечает Маня. И просит ласковенько,
словно только что и не сердилась: — Сыграйте нам
«Ойру».
Играем «Ойру». Я выбиваю старательно, чтобы «Я ли
это иль не я» не отсылал Маню к замостянам. Это за
мост, там тоже собираются на улицу. Вон они и сейчас
поют: «Однажды два героя просились ночевать...»
Соня с Олей идут танцевать вдвоем, Басили играют, а
Кибкало берет Маню. Она неохотно встает, идет с ним
за руку, а сама оглядывается на меня и виновато
улыбается. Почему? Хочется — танцуй. Я ведь все равно не
умею, хотя бы и не нужно было выбивать.
Василь крутит Маню вокруг себя, полы его шинели
распахиваются, а брови столбиками вверх — удивляются
или плачут на радостях... Он с Мани не сводит глаз, а
она из-за его плеча — с меня. Глаза у нее грустные,
молящие. И я отворачиваюсь.
Васили заиграли быстро, еще быстрее, я едва
успевал за ними с бубном, но так нужно была под конец
«Ойры». Потом балалайки враз умолкают. Васили
одновременно накрывают струны ладонями, а я еще какое-то
время тихонько звеню бубенцами, словно они
отдаляются — это тоже так нужно, говорил Силка.
— Ой, устала! Ой, упаду! — визжит Оля Яхнич
деланно и, чтобы похоже было на правду, идет
вперевалочку, как утка, к лавочке. Она толстая,
неповоротливая, ей это не идет — визжать. Тоненьким идет, а ей
нет. Соня и вправду устала — никак не отдышится: в
танце она «водит» Олю — не водит, а таскает за собой
и просит Василей:
— Не нужно больше так быстро играть, хлопцы, а то
сердце выскочит.
Девчата садятся на лавочку: Оля — возле Василя
Оборы (они подходят друг другу), Соня — подле
Силки, беленькая, тихая и покорная. Когда Силка
шепотком рассказывает ей про географию, она тихо
вскрикивает и удивляется: «Ой, а где ж это — Гренландия?»
Кибкало и Маня садятся не сразу, потому что он ее
не пускает — обхватил длинными руками, ноет ей что-
то на ухо, а она вырывается и говорит громко:
— Пусти, а то в другой раз с тобой не пойду. Один
будешь танцевать! — И смеется снисходительно и в то
288
же время соблазнительно, словно бы и против и не
против того, чтоб Кибкало обнимал ее. Что за мода?..
И снова сидим все рядочком, как под венцом.
Девчата как будто чего-то ждут, а мы раздумываем:
расходиться или побыть еще.
Кислая улица. Может, потому, что на завтра вставать
в пять часов и идти, чтобы успеть на линейку и завтрак.
Девчатам что — им в школу к восьми часам. Отцы есть,
матери есть, хаты целы у всех...
— Давайте, хлопцы, мы будем учить вас
танцевать! — предлагает Маня. — Без музыки, под язык.
А можно и в уме петь.
— О, это дело! — восклицает Силка, расстегивает
шинель, накрывает полой Сонины узенькие плечи, и они
начинают кружиться, ходить маленькими шажками
вперед и назад. Василь что-то воркует, а Соня тихо просит:
— На ноги не наступай, у меня и так подошва
надорвана.
Василь Обора с Олей тоже пошли молча и грузно
притопывать: они оба тяжелы на ногу. А Маня взяла
меня и, как ласочка, выгибаясь (видно, под свою музыку
«в уме»), повела по кругу, потом дальше, дальше от
ребят. Глаза сияют, пальчики, в которых она держит мою
ладонь, горячие.
— Ты меня любишь? — спросила тихо, одним лишь
дыханием.
— Я? Не знаю...
— Как «не знаю»? Ни капельки?
— Кто знает...
— Ну а я тебя... как увижу, даже издали, то так
радуюсь, что побежала бы навстречу. А сама с места
не двинусь и смотрю на тебя, смотрю... Ты позавчера
тащил дрова с луга, какие-то ветки, голову в плечи
втянул... а мне жалко — страх. Побежала, помогла бы,
если б не люди. Они ж такие, что сразу же что-нибудь
придумают. А ты радуешься, когда меня увидишь?
— Радуюсь. Думаю: вон Маня идет...
— И все?.. — Маня высоко поднимает брови, и
ресницы ее, губы ее мелко дрожат, пальцы слабеют на моей
ладони.
— А что еще?
— Ну вот я только к тебе притронусь, как меня
сразу в жар бросает...
— И мне так было! — радуюсь. — Когда ты
шептала, что будешь плакать.
19 Г. Тютюнник 289
Маня припадает лбом к моей шинели.
— Ой, колю-ючая какая! — шепчет и, подняв
голову, смеется глазами — она немного меньше меня ростом.
— Новая, — говорю. — Позавчера только выдали.
— Давай убежим. — Маня горячо дышит мне в
подбородок. — Давай?
— Да нет, подождем, пока все станут расходиться, а
то начнут говорить...
— Пусть говорят! Нам-то что?
— Ну мы все вместе каждый день ходим, а тут на
тебе — кто куда.
— Тогда я тебя догоню, — шепчет она еще раз.
— А Василь?
— Я от него вырвусь. Или обману. Ты не бойся.
Мы снова подтанцовываем к ребятам щ — не я, она, я
просто иду.
Окна по селу, хотя и не так густо светились, начали
гаснуть. Тени от тополька, оградки и цветов на могиле
Ивана Ивановича стали длиннее и потускнели — луна
покатилась вниз, медленно угасая, а звезды засветились
ярче.
— Пора нам нах хауз! — объявил Силка. — Теперь
аж до следующего воскресенья.
Он отнес к себе во двор балалайки (обе они его, тоже
от братьев остались), накрыл беленькую Соню шинелью
так, что она вся спряталась под нею, и пошел проводить
домой да рассказывать дорогой про чудесные страны за
горами и океанами. Завтра он поведает нам, про какую
именно страну рассказывал Соне и как Соня удивлялась.
Он рад, когда его слушают и удивляются.
Василь Обора взял Олю Яхнич и попрощался с нами:
— П'ока!
А мы втроем остались. Василю Кибкало идти под
гору, он живет недалеко от Штокала, а Мане и мне —
к мосту.
— Что ж, пошел и я, — говорю. — Счастливо. Ты не
идешь, Маня?
— Иду. Я одна буду бояться...
Но Кибкало крепко держит ее за талию и смотрит
на меня кисло-ненавидящими глазами. А Мане
говорит:
— Я провожу. Чего ты будешь бояться?
— Пусти, Вася, — просит вкрадчиво Маня. — Тебе
еедь со мной не по дороге. Потом еще станешь просить,
чтобы я тебя проводила, один боюсь, скажешь...
290
— Чего бы это я боялся, — хорохорится Василь с
гребнем на пилотке.
Отхожу прочь. Но сегодня мне не так легко уходить,
как было раньше, когда Кибкало держал Маню, чтобы
осталась. Сегодня мне больно идти одному. Не знаю, что
делать. Вернуться и прямо вырвать Маню из его рук —
так она же сама и танцевать бежит, — или уйти, пусть
как хочет. А они торгуются. О, хохочет!.. Словно
ластится. Ну и смейся!
Уже когда отошел подальше, слышу:
— Василь, пусти, а то ударю!
Оглядываюсь — бежит, выстукивает каблучками,
платок белеет. Приостанавливаюсь, жду.
— Ой, насилу вырвалась! — Маня бурно дышит и
сначала берет меня под руку, потом пробирается
ладошкой в карман шинели, где и моя рука, берет ее мягко и
пожимает. — Вот прицепа этот Кибкало! Такой своего
везде добьется, даром что с виду мямля.
— И тебя добьется?
— Не-ет, меня — дудки!
— Ты ж сама к нему... смеешься как-то так.
Маня останавливается. Я тоже — ведь руки наши в
одном кармане.
— Так я наро-очно! — восклицает она смешливым
шепотом. — Я люблю, когда меня любят! И играюсь
нарочно... А не люблю я его ни вот столечко, — показывает
мне кончик пальца. — Ей-богу! А ты подумал...
— Да разве тебя поймешь? То «хи-хи», а то
«ударю»...
Маня смеется.
— Идем, а то он еще догонять вздумает. — И
вздыхает. — Вот не везет мне с вами...
Мы идем дальше.
Заходит луна, становится глуше ночь. За речкой уже
тоже тихо, лишь то в одном краю Замостья, то в другом
слышится по улочкам короткий звонкий хохоток: там
тоже расходятся по домам, и девчата провожают друг
друга, чтобы не страшно.
Маня живет от меня через пять хат. Когда я иду из
училища, она или выходит на порог, или смотрит через
занавеску в окно и легонько, тайком, перед лицом своим
машет мне пальчиками, чтобы никто в хате не заметил.
Я всегда киваю в ответ, что вижу.
— Пойдем к вам на берег, на вербе посидим.
— Пойдем.
19* 291
Идем к мосту, а там сбегаем с крутой плотины и
вдоль речки — к вербе. Ее спилили еще до войны. Кора
давно осыпалась, низ начал покрываться мохом, а сверху
ствол блестит, отполированный посиделками: старушки,
старики, молодежь и дети сходятся сюда каждое
воскресенье поговорить-послушать, поиграть, семечки
полу згать...
Верба холодная, Маня пробует ее рукой и просит:
— Откинь полу, чтобы я на нее села, а то у меня
юбка тонкая.
Я расстегнул еще непослушные новые петли на
шинели, откинул полу. Маня села, поискала рукой норку у
меня за спиной, нашла и обняла за талию.
— Ой, те-опло! Теплый ты.
— Еще бы, под таким сукном... — говорю. Хотел
погладить ее руку, уже и поднял было свою и снова
опустил: еще подумает — заигрываю.
На речке тихо и звездно. У берега, среди кувшинок,
плещется мелкая рыбешка; лилий уже нет, осыпались,
остались только зеленые кувшинки. Скоро и они
скроются под водой и пролежат на дне до весны. Их видно
будет сквозь молодой лед, но они уже станут не
зеленые, а красноватые с прозеленью.
Маня кладет голову мне на грудь и легонько,
дрожаще вздыхает. Я наклоняюсь, дышу ей за воротник,
чтобы согрелась в своем легком жакетике и ситцевой белой
кофточке. Она тихо смеется и крепче обнимает меня.
— Тепло? — спрашиваю.
— Щекотно, — шепчет. — В шею щекотно.
— Пора уже идти, мне еще черчение делать.
— А мне алгебру...
— Если бы не война, ты была бы уже в девятом
классе?
— А ты?
— Тоже в девятом. Я шести лет пошел в школу.
Не терпелось...
— Если бы мы в прошлом году сюда переехали, я с
тобой походила хотя бы зиму в один класс... (Манины
родители недавно переехали к нам из-под
Кременчуга.) — Сидели бы за одной партой, да?
—- У нас не заведено, чтобы парень с девушкой
сидел. Это уже пропащий: засмеют и хлопцы и девчата.
— А что тебе чертить?
— Молоток. В трех проекциях: вид спереди, вид
сверху и вид сбоку.
292
— Для чего?
— Чтобы потом по этому чертежу сделать молоток.
— А так, без чертежа, разве нельзя?
— Нет, нужно, чтобы точно по размерам.
Маня поворачивает ко мне лицо, глаза ее томно,
глубоко и горячо блестят, аж страшно немного. Светлые,
блестящие при звездах волосы выбились из-под платка на
лоб, на щеки.
— Поцелуй меня, — шепчет.
Я отвожу взгляд от ее глаз и говорю напрямик —
чего ж тут скрывать, если это правда:
— Я не умею.
Тогда она поднимается немного и сама прижимается
щекой к моим губам. Щека ее горит. Я немного
пошевелил губами и опять сжал их.
— Вот, а говорил, что не умеешь, — ласково шепчет
Маня и снова припадает головой мне на грудь.
Я все-таки отважился: погладил ее руку.
— Ты еще не замерзла?
— Нет...
Маня крепче обнимает меня, прижимается и
спрашивает:
— Сколько тебе учиться в училище?
— Два года.
— А потом?
— На заводы пошлют. Говорят, в города.
Маня вздыхает:
— Потом в армию...
— Наверно.
— Я все равно буду тебя ждать. И из города, и из
армии. Хоть и пять лет! — Она рывком поднимается и
смотрит мне в глаза. — Веришь? Говори, что верю, а то
я рассержусь и заплачу. Я уже из-за тебя плакала, что
ты такой...
В глазах у нее и вправду сверкнули слезы.
— Верю, — говорю хрипло, потому что голос
почему-то пропал.
Маня снимает с меня пилотку и отбрасывает мой чуб
назад.
— А лоб какой белый под чубом! Тебе уже можно
причесываться вверх. Вот так, вот так, —
приглаживает. — Нет, нужно с водой. Водой, потом гребешком.
А сверху пилотку. — Она молчит, ерошит волосы. —
Павлик... Почему ты такой несмелый? Ты со всеми
такой или только со мной?
293
Это меня задевает.
— Растяпа, да? — спрашиваю.
— Hei, но...
— Нужно так, как Василь? Ухватил — и, тащит...
Тащи!..
Несмелый! Я все гранаты, какие только находил»
взрывал — и наши и немецкие. Только противотанковые
не пробовал, потому что они тяжелые и быстро рвутся —
через три секунды. А немца как за руку схватил и
кричал, когда он замахнулся на тетку Ялосовету топором за
то, что она не давала ему валенок примерять? Он тогда
так двинул меня под бок, что я с неделю перекошенный
ходил. А хату как гасил, чтоб половинка осталась?..
Правда, все это, может, сгоряча, не знаю.
Думаю так и вдруг слышу, как в воздухе прямо на
нас что-то летит. Сразу узнал — ком земли. Упал на
Маню грудью, аж она вскрикнула. А по вербе за моей
спиной — бух! Так и есть — ком. От плотины летел.
«Ах ты ж г-гад! Нашел несмелого! — И тоже
хватаю ком, но раздавливаю его в руке, не успев кинуть. —
Ах ты ж гад!»
От плотины по дороге затопотало. Не через мост, а
назад* А кто — не видно, темно. Гнался, пока дыхание
перехватило.
«А-а...»
Не догоню — он длинноногий. И возвращаюсь назад.
— Кто это? — спрашивает Маня испуганно. Она
стоит возле вербы с моей шинелью в руках.
— Да кто ж... — Беру у нее шинель и одеваюсь. —
Василь Кибкало, кто ж еще. Шпионит...
— Пойдем уже.
— Боишься?
— Нет. Поздно. Дома будут ругать.
Боится.
Мы идем через наши огороды, держимся за руки.
Сердце мое стучит, плечи дрожат. Пусть скажет
спасибо, что не догнал!
Выходим за хатой на тропинку вдоль дороги. У нас
уже не светится: тетка Ялосовета знает, что по
воскресеньям я выбиваю на бубне и прихожу позже,
потому и не ждет.
— Дальше я сама, — говорит Маня и легонько, вяло
забирает свою руку из моей. Она идет к своему двору, а
я стою и чувствую, как пусто и тоскливо мне делается —
ничего не хочется: ни домой в темную хату, ни чертеж
294
делать (встану часа в три, да и сделаю), шел бы сейчас
куда-нибудь, хотя и луны нет... А куда? Никогда со мной
такого не бывало.
— Маня, — зову тихо. — Не уходи...
Она останавливается и стоит какое-то время
неподвижно. Потом медленно-медленно возвращается,
опустив голову. Подошла близко, припала ко мне, хватает
мою голову в ладони, и я чувствую на своих щеках ее
мокрые ресницы и горячие дрожащие губы.
— Ма-аня, а ну ступай домой! — слышится от ее
двора, негромко так, несердито. Мама. Это ее мама. —
Слышишь, Маня? Вот ты у меня погуляешь...
* # *
Начались дожди. С утра, в обед, вечером, ночью —
каждый день льет. Видно, за все лето вину искупали.
Шинели наши не успевали просохнуть насквозь, только
нагревались за ночь в хате, а утром снова дождь.
Ходить стало тяжело. Грейдер раскис, травы на
обочинах нет, там было бы тверже. Скользим, падаем раза
по три, пока до окраины городка доплетемся. А там уже
каменка, там легче.
Иногда нам попадаются машины — из Харькова,
Полтавы или из Лютенской МТС: «шевролеты», ЗИСы,
полуторки, «студебеккеры». Мы поднимаем руки,
«голосуем». Останавливаются — садимся, и когда машина
начинает где-нибудь буксовать, чаще против нашей
средней станции, «Осины», в крутой ложбинке, — толкаем
ее, пока выедет; не останавливается — цепляемся.
Военные шоферы всегда берут нас: может, жалеют, а может,
за форму. Она ведь почти одинаковая с ихней, только
мы в ботинках и с «клешем», а они в сапогах и
галифе.
Первым подцепился на попутную, еще когда было
сухо, Василь Обора. Под горой, когда шофер переключал
скорость, ухватился сзади за борт, дрыгнул толстыми
ногами в воздухе и очутился в кузове. Только р*укой нам
помахал.
Лезем каменкой вверх, хвалим Василя, что молодец,
не побоялся, что давно нам пора было до этого
додуматься.
— Ведь проехали раз — уже отбрось от девяти тысяч
километров девять километров. Во второй — еще
девять! — выкрикивает Силка.
295
Поднялись на гору, а Обора лежит на листьях под
кленом, подперев рукой голову.
— Ты чего? — удивляемся. — Согнали?
— Нет. А какой мне интерес одному ехать?
И мы решили, что теперь будем цепляться все
вместе. Кто первым вскочит в кузов, тот подает мне руку,
иначе я не достану до борта. Я-то достаю, если идет
«студебеккер» или «шевролет»: у них задний борт
низкий, с цепочками по бокам, и буфера большие — за что-
нибудь да уцепишься. Сначала можно за буфер или за
цепочку, а потом уже и за борт.
Мы хорошо знаем свою гору: где шоферы
переключают скорость с четвертой на третью, где с третьей на
вторую и со второй на первую. Правда, это зависит еще
и от того, нагружена машина или пустая, но мы
научились издалека, по мотору узнавать: такая или такая.
Спрыгиваем в райцентре возле маслобойни, там самые
большие ямы, и шоферы всегда притормаживают перед
ними.
Попадаются и злые. Один вывез нас на гору, разогнал
машину — радуемся, едем! — а вдруг бах на тормоза!
Мы поспрыгивали и врассыпную. Минут десять гонялся
за нами с заводной ручкой. «Вы, — кричит, ■— борт мне
отломили на прошлой неделе! Я вам покажу, как
цепляться!..» Отвечаем издали, что это не мы, что он
перепутал. Грозится ручкой и зло скалится. Только он к
кабине — мы снова подходим. И как бы ни рвал с
места — подцепились. Но все-таки доехали быстрее,
чем дошли бы! Мы прозвали того шофера Фрицем,
потому что на нем была желтая кожаная шапка с
козырьком.
Василь Кибкало тоже протягивает мне руку, когда
подцепимся, вместе с Оборой и Силкой, но я ее после
того вечера с Маней не беру. На другой день по дороге в
училище придержал его за рукав, пока хлопцы отошли
подальше.
— Ты вчера комья бросал? — спрашиваю.
— Какие комья? — поставил брови-палочки вверх. —
Чего бы это я кидал. Я спать пошел.
Слышу по голосу, вижу: врет он. И с тех пор за его
руку не хватаюсь. Не сяду — пешком пойду.
Теперь он подлизывается к Василям: выносит им
утром и делит на троих пирог или кусок лепешки: его
отец машинист на молотилке...
296
Хорошо было в сентябре и в начале октября. Выходим
из дома в пять часов, а на дворе уже светает. Теперь
начинает светать у самого райцентра. А то идем в темноте:
один за другим, цепочкой, след в след, и меняемся
местами — или Басили впереди, или я. Делаем тропку
вслепую, на ощупь.
На «теории» ничего, успеваем за полчаса отдохнуть.
Когда же практика, то целый день на ногах: пилим,
сверлим бормашиной, ходим в кузницу молотобойцами, а
нужно — заготавливаем поковки для зубил, молотков,
плоскогубцев, хвостовиков для малярных кельм.
У меня и еще у десятерых наших — молоток. Мастер
выдал нам самые лучшие, новые напильники. Много
приходится пилить: четыре плоскости и боек пятый. Руки
уже привыкли, не болят, а вот ноги...
По теории у меня все «четыре» или «пять», кроме
черчения. Я тогда ночью торопился, нарушил размеры,
перепутал. Далеко от меня было черчение в ту ночь. Все
далеко было: и тетка Ялосовета, и училище, даже отец, о
котором я думал каждый день, видел его последнюю
улыбку и слезы в глазах, слышал его слова, обращенные
к тетке Ялосовете: «Леся, родная, присмотри за
хлопчиком, если не вернусь. У нас ведь с ним ни кровиночки
родной нет больше, только ты, Леся... Хорошая, милая,
спасибо тебе, что встретилась нам». Он так и сказал:
нам.
Тетка Ялосовета засветила обе гильзы — и пэтээров-
скую, и из малокалиберной зенитки, чтоб виднее было
мне чертить. Не помогло.
— Долго ты сегодня. Играли? Я выходила, не слыш-
по было. Только на берегу кто-то разговаривал возле
вербы — не узнала.
— Это мы с Маней.
— Вы?!
К чему притворяться. Узнала ведь. Я по тому, как
она дышит, догадываюсь, что у нее в мыслях.
— Красивая дивчина, — помолчав, говорит тетка
Ялосовета. — И ласковая. Все со мной здоровается:
«Здравствуйте, тетя Ялосовета!» И краснеет.
— Ложитесь, может быть, хоть вы не проспите
завтра. Или оно уже сегодня началось...
У нас нет часов. Были, пока хату не подбросило
бомбой, еще и звонили, хотя и потихоньку. Теперь где-то в
небе звонят...
297
Тетка Ялосовета лезет на печь и, вздыхая, говорит
оттуда еще раз:
— Красивая...
Чтобы не так нудно и жутко было идти утром по
черной дороге и степи — нигде ни огонька, ни звука,
только волки воют, то сбоку, то впереди, то позади нас, -*
мы придумали раскладывать с вечера, когда
возвращаемся из училища, огонь напротив Писарева леса. Разожжем
хворост — пламя рвется аж под провода на столбах —
греемся возле него, обложим костер трухлявыми
пеньками и идем дальше, домой. А до рассвета, еще от
станции «Л» видим: есть наш огонек! Кажется, что он
далеко-далеко. А вот он, рукой подать. В дожди огонь угасал.
Когда же подморозило, снова мерцал на рассвете. Пройдя
его, мы еще долго оглядывались:
— Видно, смотрите!
— И до сих пор видно!
— О, нет уже, спрятался...
И нам делалось немного грустно, но ненадолго,
потому что вскоре впереди уже виднелся городок и огоньки,
кое-где разбросанные по нему.
Так и ходили каждый день: от огоньков в селе, как
оглянемся е горы, до нашего посреди степи над дорогой,
и впереди — в городке.
Мне часто снится страшный сон: будто в хате уже
стоит белое утро. И я просыпаюсь, холодея от мысли,
что проспал линейку, завтрак и что группа наша уже
идет по городку, горланя «Дальневосточную», а меня на
шкентеле нет...
Однажды проснулся, а в хате вправду мягк'ое белое
сияние. Припал лбом к стеклу — бело на дворе, а
небо черное, ни звездочки на нем, ни просвета, хотя бы
малого. Нет, непохоже на то, чтобы светало. Мы с Ва-
силями уже приметили, что небо, лишь только
начинается рассвет, сначала седеет, словно по нему разлился
Млечный Путь от горизонта до горизонта. Немного
погодя угадывается над степью робкая тихая просинь, и
тогда каждый кустик у дороги кажется издали
человеком...
А все было просто, и маленькая давняя радость
298
щекотнула мне горло: со двора в окно заглядывал
первый снег. Он пришел в полночь и показался мне
рассветом. До войны первый снег был для нас праздником:
играли в снежки, катали первую бабу и сами катались
по нему с пригорков, теряя шапки, а он ласково скрипел
под грудью, под плечами, под локтями...
Плохо без часов: всю ночь чудится, что пора
вставать. Хоть бы петух был. Нет ни петуха, ни кур. В
войну немцы поели, а сейчас кормить нечем. По селу есть
кое у кого петухи, но попробуй услышать их издалека в
метель, ветер или оттепель, когда все делается черным и
глухим. В оттепель ночи особенно глухи.
Тетка Ялосовета спит на печи, я на полу. Одна
подушка у нее, одна у меня. Укрываюсь я рядном и
шинелью, тетка —; одним рядном: на печи больше тепла»
Раньше там спал я, но теперь даже если сильно
промерзну, придя из училища, на печь не лезу, а иду
колоть дрова, чтобы согреться, или откидываю снег во
дворе. После той октябрьской ночи у вербы, после того,
как Маня вернулась от своего двора, молча плача, я
будто вырос на несколько лет вперед и безвозвратно...
— Ты какой-то не такой стал, — скажет порой тетка
Ялосовета. — И голос переменился... Басок прорывается.
Любимой мыслью для меня стала мысль о хате. Сам
сложу, по бревнышку, по соломенке укрою, пусть только
потеплее и подлиннее станет день. До каких же пор мы
будем жить в курене?
Мне нужно вставать раньше всех, чтобы зайти и
разбудить Василей — Силку и Обору. Кибкало встает
сам, у них часы есть, да еще и не простые, а со звоном.
Захожу сначала к Силке. Его будить очень трудно,
потому что вся его семья спит как убитая. О том, как они
спят, все село знает. Бывало, минут по десять стучу в
окно, пока добужусь. Сначала мне в этом помогала
маленькая Силкина сестричка Надя. Только стукну в окно,
а она — слышно сквозь стекло, в плачь:
— Ма-а! Вон кто-то в хату лезет...
Потом привыкла и, когда я постучу прямо к ней на
печь, — там вмазано стеклышко в стену — лепечет
тоненьким сонным голоском:
— Вася, вставай, вон узе Павло плисол. А вы, па и
ма, спите. Это за Василем.
Василь открывает дверь, оступается в темные сени с
двумя курицами на лестнице и высапывает очумелым от
ежедневного недосыпания голосом:
299
— А разве уже пора? Ну только ж заснул. Еще и не
снилось ничего...
Вхожу в хату. Тепло, парко от сырого ивняка, что
сушится в печи, старым подсолнечным маслом пахнет.
Надя, кудрявенькая, опухшая со сна, выглядывает с
печи и шепелявит:
— Здластуй, Павлуса! А они все и не слысали, сто
ты стукаес...
Иногда она спрашивает у меня, лукаво прищуривая
глазки: «Павлуса, а ты возьмесь меня замус, когда я
вылосту? Я тебе солоцки латать стану, а ты мне косу
ласцесывать...»
Силка с Силчихой смеются, хотя и сонные, и старик
говорит сквозь кашель: «Ну и порода же! Еще и буквы
не выговаривает, а про замуж знает!»
Я обещаю непременно взять ее в жены. Тогда она
машет мне белыми ручонками, прячется на печь и
засыпает...
Снимаю шинель, чтобы не перегреться в тепле, пока
Василь оденется — тогда на дворе дрожь не так будет
бить. Просыпаются и Василевы родители. Они оба
работают на постоянной: отец в воловнике, мать — с
коровами, устают каждый день, тяжело вставать. Лежат на
полу на одном рядне, укрытые старым байковым одеялом,
трут глаза, тяжело зевают, приглаживают ладонями
волосы.
— Что-то ты, Павлуша, сегодня вроде рано зашел.
Может, еще и не пора?
Каждый день об одном и том же спрашивают.
Может, и не пора. Разве я знаю?
Выходим с Василем за калитку. Могилу Ивана
Ивановича засыпало снегом едва ли не вровень с оградкой,
одни острия от штакетника выглядывают, и тополек на
ветру качается.
— Нужно бы снег откинуть, — говорю.
— Пусть, под снегом ему теплее, — рассудительно
отвечает Василь. — Да и цветы весной будут лучше расти.
Обору будить недолго. Он выходит почти сразу, как
только мы постучим. Будто и не спал. Наверно, у него нз
только шкура «бычья», но и весь он такой — железный:
никогда не мерзнет, ничего не боится, не устает и
молчит. Единственное, что его терзает с утра до вечера, —
есть хочется. Как-то он сказал: «Мне и ночью, когда
сплю, хочется есть». Конечно, здоровый, сильный... Нам
с Силкой легче, мы мельче.
300
Доходим до хаты Кибкало — в окнах темно. Всегда,
когда вызываем его свистом, у них уже светится (тогда
мы определенно знаем: вовремя я встал, скоро пять
часов), а сегодня темно. Неужто он уже ушел и мы
опаздываем? Так нет, он побоится идти один. Или
рано?
— Что-то не то, — говорит Силка. — Ты, когда ко
мне шел, петуха нигде не слышал?
— Нет... Может, первые отпели, а вторые еще не на-
'чинали?
Свистнули раз, другой. В окнах вспыхнул огонек и
погас. Скрипнули в сенях двери, и с порога отозвался
отец Василия:
— Рано еще, хлопцы. Еще только половина второго.
И молчит.
Молчим и мы. Куда ж теперь? Назад? Снова будить
своих? Снова вставать... Идти потихоньку к райцентру,
а там гнуться у стен училища на морозе?
Стоим посреди дороги, спрятав лица в воротники.
Старый, видно, одумался:
— Заходите, что ж теперь...
Никто из нас никогда не был в хате Кибкало. Живут
они, как кроты: возятся во дворе за высоким дощатым
забором, не видно, что делают; говорят — не слышно о чем,
лишь бормочут; войдут в хату — щелк засовом... И не
достучишься, только занавески на окнах шевелятся и из-
за них выглядывает по одному глазу: смотрят, кто
пришел.
Кибкало ввел нас не в большую комнату, а в
боковушку. В ней пахло молоком, ржаным хлебом и
натопленной лежанкой. Но сильнее всего молоком. Когда это
мы слышали, как оно пахнет? Ёозле лежанки белела в
темноте охапка соломы. Кибкало развернул ее ногой.
— Вот тут и подремлите, пока идти. Ложитесь, я
разбужу.
У старого Кибкало, как и у Василя, брови всегда
обиженно торчат вверх, губы плаксиво опущены, к тому
же верхняя немного нависает над нижней, но в селе его
уважают как хорошего и некрикливого машиниста.
Так мы и уснули: в шапках, шинелях, подпоясанные
брезентовыми поясами с лужеными пряжками «РУ».
Впервые за четыре месяца уснули спокойно — с тех пор,
как ходим в училище.
Утром шли бодро, быстро, легко: ветер дул сбоку, а
не в лицо; морозец выдался мягкий, доспали в тепле...
301
А главное — мать Кибкало напоила нас молоком с
настоящим ржаным хлебом. А когда выходили из хаты,
проводила до ворот и попросила Обору:
— Ты, Василь, хлопец крепкий, присматривай там в
училище, чтобы никто не обижал моего сыночка. — И
гладила сына по узкой длинной спине.
Обора пообещал, что будет присматривать.
На горе он крепко обнял меня за плечи и тихо
сказал:
— Ты еще разок встань часа в два!
Мы и теперь, как выпал снег, берегли свой огонь у
станции «Осина». Уже не для того, чтобы хоть немного
развеять степную осеннюю тьму, а чтоб было где
погреться посреди дороги. Да и привыкли к нему. Пеньки
осиновые, трухлявые, теплятся по два, а то и по три дня.
Мы берем их в Писаревом лесу. Ударишь ногой — он
и вывернулся. На плечо — и к дороге. Целую кучу
наносили про запас.
— Это нам сегодня так подвезло, что и на завтрак
можно не спешить! — воскликнул вдруг «Я ли это иль
не я». Он всегда так, внезапно, что-нибудь воскликнет. —
Пусть детдомовцы полакомились бы нашими пайками.
Так линейка ж...
Сидим на корточках вокруг огня, дуем в жар,
приставляем к нему ладони так близко, что аж косточки в
пальцах просвечивают. Обора притащил из леса охапку
сухого хвороста, кинул на жар. Пламя столбом, искры
сеются на снег и шипят. Поворачиваемся на месте
понемножку, как пожарники на каланче, греем шинели со всех
сторон. А когда пламя падает и только змеится по
пенькам, идем дальше.
Кибкало как именинник: то и дело улыбается всем,
заговаривает, уверенный, что сегодня, за хлеб и молоко,
ему никто не ответит молчанием. Да и в полевую сумку
не надо красться тайком — должно быть, нелегко есть
при голодных. Когда мы пили молоко, он исподтишка
посматривал на меня так, словно приценивался, сколько
я стою. Я ловил этот взгляд и не мигая смотрел ему
прямо в глаза. Он прикрывал их ресницами.
— Ну пусть мы. А чего ты, Василь, ходишь в
училище? — спросил Силка. Он шел впереди, вобрав большую
голову в плечи и засунув руки одну в карман, другую за
борт шинели. — Я с таким достатком, как у вас, сроду
школу не бросил бы, а учился бы и учился.
— Отец заставил, — вяло ответил Кибкало. — Гово-
рит: выучишься на механика, возьму тебя к молотилке *—
возле нее не пропадешь...
— Точно! — сказал Обора. — От машины и в
паровике можно... зерна домой привезти.
* * *
Плохая выпала ночь: вьюга, ветер на мосту между
сваями стонет, подвывает по-волчьи, в трубе плачет, а в
хате стужа, выдуло тепло. А что делается сейчас там, как
на гору выйти... Не подойдешь, валит с ног. Была уже
такая ночь в январе, насилу добрались до училища.
Раза четыре просыпался, подходил к окошку. Ничего
не разберешь. Только снег о стекло, намерзшее пальца
на два, скребется.
Тетка Ялосовета сказала с печи:
— Спи, сынок, рано еще, наверно. Я вот с самого
вечера и глаз не сомкнула.
— Ну, мне идти, а вы чего не спите?
— Думаю... Выучишься, думаю, отправят тебя куда-
нибудь, и останусь я одна как перст. Ни отца, ни тебя...
Кому я нужна?
— Почему — одна? Отработаю три года, приеду. Дай
долго еще учиться.
Тетка Ялосовета вздохнула в темноте.
Нужно мне идти. Лучше раньше, чем хлопцы
останутся из-за меня без завтрака. Попробуй тогда до обеда
дотянуть не евши. Сегодня практика, можно поверх
формы надеть комбинезон, но в такую холодину, да еще если
против ветра, лучше свернуть его втрое и положить на
грудь под шинель, тогда ветер не так прошивает.
Быстро обулся, откатал пилотку, чтобы сделалась как
мешочек, натянул на лоб, уши, как немцы во время
войны, а поверх нее шапку.
— Гляди, чтобы лицо не обморозил, — говорит
тетка Ялосовета. Она застегивает мне шинель, а я
придерживаю на груди свернутый комбинезон. — Господи,
лучше бы это мне идти... Отворачивайся хоть, если будет
против ветра.
— Я, тетя Ялосовета, пока закончу училище, так и
лекции сумею читать, как против ветра ходить, — шучу.
Мне жалко смотреть на ее худые пальцы, стягивающие
шинель, чтобы хоть как-то застегнуть на пуговицы. Всю
жалко. Но и пожалеть некогда. Да еще словами... Лучше
молчать.
303
Выхожу на дорогу, пригнув голову к груди, ветер и
снег секут по шинели, как кнутами. Глянул вдоль по
селу из-под шапки с пилоткой и остановился: светится
почти во всех хатах.
Ведь это часов шесть!
Бросился бежать — не подбегу. Толкает меня назад.
Знаю же: если сильный ветер в грудь — бежать не
нужно, потому что тогда ему легче тебя с ног свалить, в
землю нужно сильней упираться.
Узнать бы сейчас время. Может, и не шесть?
У Мани тоже светится... Постучать в окно? Спросить?
У них есть часы. Нет. Проспал, в пилотке под шапкой,
грудь под шинелью, как у горбуна... Лучше не нужно.
Свернул ближе к хатам, чтобы затишней было, и
снова побежал, проваливаясь в сухие сыпучие сугробы.
К Силке заскочил не стуча, у них уже тоже
светилось.
— Ушел Василь, Павлик, недавно побежал, —
сказала его мать. Она растапливала печь. — А ты проспал?
Ой горе, горе. — И пожалела: — Мои ж вы деточки...
Да разве в такую лихую годину не проспишь?
К Оборе я не заходил: Силка, конечно, его разбудил.
Что ж, нужно догонять.
У Кибкало темно, видно, спят еще. Кибкало в такой
холод и ветер родители в училище не пускают. Ему
можно. Он обойдется без пайки да какой-нибудь похлебки.
Добрался до полгоры. Тут, над голой каменкой, еще
острее ветер бреет; шел, согнувшись в три погибели.
Обледеневшие провода на столбах не гудят — завывают на
разные голоса.
— А... ли-и-ик!.. ога-аня-а-ай! — донеслось издалека
чуть слышно.
Обрадовался — хлопцы. «Иду, иду, хло...» — бормочу в
пазуху. Крикнуть бы, что я тут, что буду догонять, — куда
же против ветра кричать? Дыхание забьет, лишь рот
откроешь. Да и все равно не услышат. Буду идти один, будь
что будет. Может, они у огня подождут, если его не
развеяло. В такой ветрюган и пеньки покатит, не то что жар
разнесет.
Миновал станцию «Л». Едва узнал ее сквозь вьюгу:
«Л» или «А»? Всматриваюсь во тьму из-под инея на
бровях. Что это?! Огонек! Наш огонек! Наш огонек... Но
откуда он тут взялся? До него ведь еще идти да идти.
А он — вот. И не играет, не мерцает, не бросает искр, как
всегда. Что за наваждение? Остановился, присмотрелся
304
внимательней — два огонька, близко один возле
другого. Или это у меня в глазах двоится? Вынул
закоченевшие ладони из рукавов, протер пальцами обмерзшие
ресницы, стало немного виднее. Все-таки два огонька! И
стоит кто-то шагов за пять впереди. Или двое?
— Это вы, хлопцы? — спросил, холодея от
предчувствия, что это не хлопцы.
Огоньки светили неподвижно; они были зеленые, и я,
еще не сказав себе, кто это стоит, попятился.
«Волк... Это же волк!» Я почувствовал, как волосы
на голове начали подниматься, будто им тесно стало под
шапкой и пилоткой.
Не знаю, то ли мне показалось, то ли я и вправду
сказал: «Пшел вон!», но волк с места не двинулся, а
по-прежнему сидел и светил глазами.
— Цю-цю, нах! — сказал я нежно, подхалимисто и,
немея от страха, протянул к волку ладонь, будто на
ней лежал козленок бабки Остапихи. — Цю-цю, нах!
Нах!..
Так мы, малышами, всегда подзывали к себе собак
и показывали им что-нибудь на ладони, а потом играли
с ними.
Волк не отступал, но и не наступал, а стоял, словно
тешился. Мне даже показалось, что он сидит на задних
лапах и улыбается в темноте, как дед. Тогда я осмелел,
рассердился и закричал:
— А ну пошла вон, собака! Пошел, говорю! Мне на
линейку нужно! Слышь? Иль тебе позакладало?! Ах ты
ж, волк... — Я хотел обругать его «вовкулакой», но
запнулся и снова сказал нежненько, дрожа и стуча
зубами: — Ах ты ж, волчик-братик. Злодей несчастный!
Расселся, как пан... Пусти, сказанно тебе!
По волчьим глазам скользнул презлющий стеклянный
отблеск, и мне очень хорошо стало видно его всего,
высокого и худого. Я оглянулся: от горы, то бросая лучи
вверх, то упираясь ими в сугробы и телеграфные столбы,
светили две фары. Машина!!! Взглянул туда, где только
что сидел волк, — никого, лишь снег возле межевого
столбика змеится, обтекая его с обеих сторон.
Фары приближались, резали мне глаза, но я все
равно смотрел прямо в них и махал руками, шепча:
«Возьмите, дядя... Возьмите, дядя... — А сердце едва не
выскочит, толкается в комбинезон на груди. — Возьмите,
дядя...»
Уже стал слышен мотор. Он гудел на всю мощность, и
20 г- Тютюнник 305
фары не пригасали, как это бывает, когда шофер
собирается остановиться и сбрасывает газ.
«А может, он не видит, может, едет и дремлет?
Неужели не остановится? Да не останавливается же!»
Когда машина поравнялась со мной, я закричал что
было силы, обращаясь к чуть освещенной кабине:
— Заберите меня, дя! Тут волк!
Но машина проревела мимо, обдав меня снежной
пылью и запахом бензина. В сугробе она немного
забуксовала, задние колеса занесло в сторону, мотор заревел
еще сильнее. Я рванулся вперед и, захлебываясь дымом
из выхлопной трубы, вцепился пальцами в обмерзший
буксирный крюк. Это была полуторка... Я еще ни разу
без Василевых рук не доставал до борта, и если бы не
волк, если бы не его глаза, которые только что зеленым
холодом глядели мне в душу, я, наверно, так и не
подцепился бы. А то — достал. И удержался. И никакая сила
не оторвала бы меня от борта... Дальше было просто:
подтянулся, недаром дрова таскал и рубил каждый
день — хватило силы подтянуться, и очутился в кузове.
Пошел к кабине, спотыкаясь от того, что кузов
подбрасывало и ноги устали, пока бежал, держась за крюк.
Брезентовый верх кабины хлопал на ветру, а в кузове,
когда сел на дно, пахло теплой мукой. Я никогда не слышал,
что мука пахнет холодно, всегда от нее дышит теплом...
Ощупал мешки, четыре или пять, — так и есть: мука или
отруби. Я прилег на мешки боком, дотянулся до
замерзшего бокового окошка и крикнул в кабину:
— Дядя! Там впереди два хлопца идут, возьмите их!
Стекло опустилось, и я услышал:
— Все-таки уцепился, гаденыш! Ну, я тебя покатаю!
Ты у меня покатаешься...
Машина рванула еще быстрее и засигналила долгим
зловещим сигналом. Я стал коленями на мешки —
впереди в свете фар махали руками Басили, Силка и
Обора.
— Остановитесь, дядя! — закричал я, наклонившись
к окошку. — Мы на завтрак опаздываем. И волки
кругом! — И увидел на шофере шапку с козырьком. «Фриц!
Это ж он!»
— Я вас возьму-у... Вы у меня покатаетесь! —
сказал Фриц каким-то звериным голосом.
Что за человек?.. Волк и тот был смирнее. А этот
завезет куда-нибудь да еще и побьет.
Ничего, возле маслобойни, врет, затормозит* Возле
маслобойни выбоины такие, что быстро не проскочишь.
А там еще и возле моста перед самым настилом
выбоина будет. Как-нибудь слезу.
Но ни против маслобойни, ни возле моста шофер не
затормозил, и я чуть не перелетел через борт, да
удержался за мешки. На улице, единственной широкой улице
райцентра, не видно было ни души. Только фары били по
окнам и железным крышам одноэтажных домиков.
Шофер снова немного опустил окошко и спросил мирно так,
даже ласково:
— Ты мой номер видел?
— Нет, дядя, не видел, — сказал я, не понимая,
почему он об этом спрашивает. Номера я и вправду не
видел, потому что вся машина в снегу, да и темно.
— Тебе до МТС? — снова спросил шофер.
— До МТС. У нас сегодня практика! — крикнул я.
— Угу. Так я там напротив базара приторможу,
соскочи. Мне стоять некогда.
Пусть, думаю, от базара до училища я и пешком
дойду.
Машина проскочила центр на полной скорости,
поравнялась с базарной площадью. Уже были видны крайние
хатки за нею, а дальше дорога падала в овраг.
— Давай! — крикнул шофер.
Машина с ходу затормозила и пошла боком. Я,
потеряв равновесие, побежал к заднему борту, перебросил
одну ногу, нащупывая ею крюк... И в этот момент
полуторка так рванула с места, что борт вырвался из-под
моих заледеневших пальцев, и я кувырком полетел на
брусчатку. Уже лежа и силясь протолкнуть в грудь хотя
бы глоток воздуха — так забило дыхание, — видел, как
красный огонек стоп-сигнала прячется в овраг. Вместе
с ним спрятались для меня и небо, низкое, в пасмах
летящего снега, и огоньки в МТС, и прилавки на базаре,
заметенные снегом.
Первое, что я услышал, придя в себя, — женский
голос. Женщина говорила очень быстро, захлебываясь:
— Вышла я к базарному колодцу по воду, гляжу —
чернеет что-то на дороге. Сразу испугалась да назад во
двор. Потом осмелилась, подхожу, смотрю: человек. И
вижу, форма ваша. Сбегала, позвала мать, занесли его в
хату — легонький, как перышко. И стонет — страх. Так
20* щ
я быстрее к вам... Кто ж его так покалечил, сердешного...
О, смотрите: глаза открыл!
Перед глазами моими стояло красное пятно, и я не
сразу разобрал, что это наша печь. Мы всей группой,
вместе с мастером, сделали ее из железной бочки, как
похолодало, вместе клепали и проводили сквозь стекло в
окне длинную жестяную трубку, чтоб тепло от нее
расходилось по всей мастерской.
Возле меня сидел на корточках мастер и обеими
руками прижимал ко лбу что-то холодное. «Снег...» — узнал
я. Я чувствовал, как по моим щекам за воротник, по
плечам и груди стекают капельки воды и щекочут. Нигде мне
не было больно, только в голове что-то словно тянуло
нудную тоненькую ноту.
Я попробовал пошевельнуться и вскрикнул: весь
левый бок — ногу, половину груди, плечо — словно ножом
полоснуло, а в голове заколотил глухой колокол.
— Не шевелиться! Не ше-ве-лить-ся!— ласково
приказал мастер. I
Вокруг стояла вся наша группа. Хлошцы смотрели на
меня молча, одни испуганно, другие угрюмо. Среди них
я сразу узнал и двух Василей.
— Васи... — сказал я так тихо, что едва сам себя
услышал. — Это — Фриц... Я козырек видел...
— Какой Фриц? — спросил мастер, наклонившись
близко к моему лицу.
— Шофер. Он дернул... нарочно... чтоб я номера не
увидел...
— А какой номер — не заметил? — Мастер
наклонился еще ближе. — Хоть одну цифру?
— Я знаю номер! — воскликнул Силка. — Я еще
осенью запомнил: ШД-41-18. Точно! Я запомнил. Он еще
тогда за нами гонялся...
Мастер встал.
— Староста!
— Я! — вытянулся Гришуха.
— Берите десять душ и на дорогу. Только осторожно.
О-сто-рож-но!
— Сделаем, товарищ мастер, — сказал Гришуха, как
бы даже весело. — От нас не уйдет.
И он начал называть фамилии своих, детдомовских.
Я знаю их. И подумал: «От них не уйдет...»
— И в больницу, немедленно пошлите кого-нибудь в
больницу, — приказал мастер.
— Уже послали, Федор Демидович.
308
Гришуха присел напротив меня, смотрел мне в глаза
прямо, смело, глаза его были густо-черные и суровые.
Он достал из-за пазухи шинели утреннюю пайку,
развернул мне ладонь и вложил в нее горбушку.
— Бери. Подкрепись. Это твоя. Подрубай.
Полегчает.
Я посмотрел на ладонь: в хлебе тускло поблескивали
вдавленные крупинки соли.
Смотрю, а в груди сжимает что-то — вот так
несильно, мягко...
ДЕНЬ МОЙ СУББОТНИЙ
Как сейчас помню тот день в институте, когда нам,
новоиспеченным учителям истории, давали назначения. Что
делалось тогда с моими товарищами по учебе! Самый
дружный коллектив — так, по крайней мере, называли
наш курс все преподаватели — вдруг треснул, и
большинство моих однокурсников прямо на глазах
превратились в маленькие крепости, дзотики со своими
огневыми средствами и системами обороны. И каждый такой
дзотик отчаянно защищал себя и только себя. Смешно и
стыдно было смотреть, как наши курсовые старосты и
подстаросты, отличники-активисты и
активисты-неотличники проталкивались теперь вперед, оттирая друг друга,
к дверям комиссии, чтобы получить лучшее назначение,
хотя бы в пригород; другие, еще вчера такие ярые
романтики, которым, казалось, кроме «зеленого моря
тайги», ничего от Жизни больше и не нужно, выходили из
аудитории, где заседала комиссия, в слезах или
смертельно бледные — им отказали в свободном дипломе; иные
сновали по коридору от одной компании к другой и
заводили пересмешки с младшими по курсу — эти знали, что
их дело уже «устроено» и периферия им не угрожает..
Киевлянам я сочувствовал, помня, как тяжело мне
было когда-то уезжать из села, где оставалась мама,
товарищи, весь мой любимый мир; другие же вызывали
улыбку: было видно, что человек больной, пораженный
стадной болезнью — ему хочется того, что всем, и, если
он не будет иметь того, что имеют все, жизнь его
пропащая...
Распределение назначений запомнилось мне как
тяжелый бой. Только в бою до конца узнаются люди.
Мне предложили работу в городе. «Счастье», за
которое иные согласны были бросить к ногам комиссии свое
достоинство, само шло в руки. И я поддался
искушению — кому не приятно с почетом войти в крепость,
которую другие не могут взять даже штурмом! — и со-
310
гласился. Согласился, хотя чувствовал: ошибаюсь. «А, —
отмахнулся я тогда от самого себя. — Как-то оно будет».
Так, словно «как-то оно будет» не то же самое, что
сотни лет говаривали непрыткие мои пращуры: «Как-то оно
да будет». Как-то! «Как-то» — это все равно, что поднять
руки вверх, а уже потом спросить: «Куда это вы меня
поведете, а?»
Теперь я живу вот в этой комнатке-келье и чувствую
себя в ней, как безбилетный пассажир на третьей полке
вагона или и того хуже, потому что безбилетник знает,
где ему сходить, а я и этого пока что не знаю.
Дело в том, что комната эта не моя, а, проще сказать,
краденая; работа, кроме заработка, ничего мне не дает;
даже город, который я так любил студентом, разочаровал,
потому что, как оказалось, я знал его лишь с парадной
стороны...
Но хуже всего то, что я не чувствую себя своим и в
селе. Когда я приезжаю туда, меня угнетает одиночество,
отчужденность односельчан, которую я, к сожалению,
замечаю; эти любопытствующие и одновременно
равнодушные взгляды, провожающие меня, и вечные не менее
равнодушные вопросы: «Ну, как там в городе — много
всего?», «Ну как, есть в городе селедка?..»
Так и живу, в городе мечтаю о селе, в селе — о
городе...
Комната моя маленькая и узкая, отгорожена от
лифта крепкими двойными дверьми, между которыми мой
«холодильник»: две полки из обрезков сухой
штукатурки. В «холодильнике» я храню дешевое магазинное
сало, селедку или тюльку (так привык к ней в
студенческие годы, что и до сих пор не отвыкну), масло,
картошку — одним словом, холостяцкие свои припасы.
Дома я бываю чаще всего вечерами. Тогда из окна
моей комнатенки видны оранжевые разливы за Днепром
среди рыжих с прозеленью лугов, далекий небосклон в
неясных сумерках и далекие синие леса, за которыми я
чувствую степь.
Предвечерняя даль, весеннее красноводье на лугах и
прощальные сполохи солнечного зарева, что медленно
меркнут, всегда будят во мне что-то такое, что нельзя
унизить ни громким словом, ни даже мыслью, и тогда я
понимаю и люблю язычников, их религию, такую
простую и близкую душе человеческой. И вправду, разве
можно сравнить это торжественное полыхание небес и
мудрое спокойствие земли перед грядущей ночью в ти-
311
хих звездах — и угрожающе-державное Христово: «У вас
же и волосы на голове все сочтены!..»
Но заходит солнце, комнатенку мою берут в полон
сумерки, я включаю свет и оказываюсь среди праха (тоже
Иисусово словечко) мелочей: чищу картошку, мою ее под
краном и размышляю о том, что лучше приготовить:
картошку толченую, жареную, тушеную или суп?
Чаще всего меня возвращают к действительности
соседи: за стенами из сухой штукатурки громко ссорятся,
хохочут, поют; сверху в окно врываются звуки
перепуганного пианино, на котором кто-то упорно учится играть,
а в коридоре возле лифта противным голосом скликает
своих котов задыхающаяся старушка с первого этажа. Она
величает своих любимцев человеческими именами и
обращается к ним, как к людям: «Егорушка, где же ты, мой
мальчик? Кис-кис-кис...»
Я ложусь спать.
По утрам — а они похожи у меня друг на друга, как
близнецы в солдатской форме, — зарядка, чай, дорога
на работу, куда я прихожу за две-три минуты до
девяти.
Наш директор Иван Захарович Ясько проявляет ко
мне открытую благосклонность и хвалит меня на каждом
собрании за дисциплинированность, знание дела, а
больше всего — за умение вести деловую переписку.
История тут такая. В первые дни работы я писал
письма не так, как нужно. Они были просты и коротки,
но, как мне казалось, исчерпывающи: да или нет. Далее
объяснялось, почему «да» и почему «нет». Оказалось,
однако, что для настоящего, «квалифицированного» письма
этого недостаточно. Как-то Иван Захарович вызвал меня
к себе и сказал, что письма мои слишком прямолинейны
по форме.
— Продумайте, Николай Гордеевич, форму, —
посоветовал директор деликатно. — Не содержание, тут я к
вам никаких претензий не имею, а форму. Пишите так,
чтобы за строчками чувствовались не вы лично, а весь
коллектив, его заинтересованность в том или ином деле...
Я продумал. И вскоре уже все общество одело свои
письма в мою форму. Начинались они так:
«Многоуважаемый товарищ!
Должны сообщить Вам, что Ваша просьба
внимательно изучена и обсуждена надлежащим образом...» и т. д.
Ценность находки, очевидно, крылась в самом
характере Ивана Захаровича, исполненного деликатности, муд-
312
рой рассудительности, и, если можно так сказать,
капитальной солидности.
Известно, принимать решение иногда так же
рискованно, как иногда и не принимать его. Иван Захарович
усвоил это отлично и потому создал свою собственную
тактику: жить и действовать между опасностями,
которые приводят к необходимости принимать или не
принимать решения. Я уверен, если бы Ивану Захаровичу
нужно было попасть из Киева на Южной полюс, но в дороге
что-либо угрожало его жизненным интересам, он поехал
бы на Южный полюс через Северный!
Каждый человек неповторим. Это бесспорная истина,
как и бесспорно то, что каждый человек сводится к
какому-то простому множителю — началу личности. Простой
множитель Ивана Захаровича — ежесекундная
готовность изменить тактику своего поведения. Этому
множителю Иван Захарович подчинил себя всего, вплоть до манеры
держаться. Мне кажется, он отработал эту манеру перед
зеркалом и зафиксировал ее, как актер фиксирует удачно
найденный жест, мимику, интонацию героя, роль
которого должен играть; Даже в улыбку свою Иван
Захарович научился вкладывать столь противоположное
содержание, что возникали две совершенно самостоятельные
улыбки. Первой Иван Захарович одаряет тех, к кому
благосклонен, и подкупает ею, заставляет не только
уважать, но и любить ее автора. Но если Иван Захарович
обращается ко второй, мягкой, как поступь барса, — это
значит — дела ваши плохи.
За несколько месяцев работы в обществе я заметил,
что у директора были эпигоны в отделах, которые
старались хотя бы чуточку походить на него: говорить, как он,
тихо и весомо; медленно подносить к сигарете
зажигалку, не отрывая внимательного взгляда от собеседника;
улыбаться нечасто, но кстати, как это делают люди,
которые знают цену и значение своей улыбки для других;
поигрывать одной ногой в колене, как поигрывает ею
Иван Захарович, когда задумчиво стоит у окна и
поглядывает на верхушки каштанов, достигающие четвертого
этажа. Но эпигон в лучшем случае плохонький актер.
Чтобы повторить Ивана Захаровича, нужно быть Иваном
Захаровичем, то есть человеком, который умеет
размышлять о себе и корректировать себя ежеминутно.
В работе Иван Захарович деловит до сухости и если
уж вынужден объяснять вам ваше задание, то делает это
сжато и исчерпывающе. Когда он звонит в отдел, то раз-
313
говаривает тихо, с паузами, которые имеют свойство
немедленно мобилизовать того, кто слушает. «Порубай
присутствует?.. Отсутствует?.. Найдите!» Или, «Порубай до
сих пор отсутствует?.. Присутствует?.. Передайте, чтобы
зашел ко мне».
Порубай — это я. Ивана Захаровича я знаю давно,
хотя он этого и не подозревает, и кроме того, мы
земляки: из одного района. Когда я, случается, езжу на
праздники домой, он вызывает меня потом к себе в кабинет
и спрашивает:
— Ну, что там у нас, Николай Гордеевич, как в этом
году с урожаем?
— Хороший урожай, — отвечаю. — План
перевыполнили, колхозники с хлебом. А механизаторы
зарабатывают по стольку, по скольку когда-то и полсела не
зарабатывало. Сейчас ремонтируют технику. Навоз вывозят.
Снег задерживают...
Иван Захарович удовлетворенно улыбается, потирает
ладони и £ преувеличенной бодростью в голосе говорит:
— Да, нам с вами, Николай Гордеевич, следует
гордиться земляками. Молодцы!
Тогда во мне пробуждается крестьянин, и я отвечаю
ему рассудительно:
— Чем же мне, скажем, гордиться, Иван Захарович?
Хлеб я не выращивал, снег не задерживал, навоз на
поля не вывозил... — И смотрю на него при этом глазами
наивнейшего ребенка. Он медленно склоняет голову
набок, прищуривает один глаз и, грозя мне пальцем,
говорит:
— Коля-ля! Вы не патриот наших краев.
— Не умею я рассуждать про любовь, Иван
Захарович, — отвечаю я в таких случаях и скромно опускаю
голову.
А как-то, вызвав меня в кабинет по какому-то делу,
директор спросил как бы между прочим:
— Вы, Николай Гордеевич, работали когда-нибудь в
сельском хозяйстве?
Я ответил, что не работал.
— А я отдал сельскому хозяйству свои лучшие
годы, — грустно произнес Иван Захарович, и вздохнул, как
вздыхают люди, вспоминая молодость, и задумался. Его
благородному лицу так шла задумчивость, и он это
определенно знал. — Тяжело было тогда. Работать некому,
одни, считай, женщины, машин мало. Пахали, боронили,
сеяли, свозили урожай — на коровах, кормилицах на-
314
ших. Представляете? Вот этими руками. — Он положил
сигарету на краешек пепельницы и показал свои руки. —
А вы говорите: чем гордиться... Есть чем. Если бы не мы,
не полная наша отдача в те годы, разве имели бы мы то,
что имеем сегодня?! — И, посмотрев на меня
обиженными глазами, сомкнул уста.
— Мне можно идти? — спросил я виноватым
голосом.
— Идите, — вяло махнул рукой Иван Захарович.
В отделе я сел за стол, разложил бумаги, на которые
должен был ответить, но до самого конца дня так и не
взялся за ручку. «Должны Вам сообщить...», «Ваше
ходатайство обсуждалось...»—все эти изобретения опротивели
мне, а придумывать новые не хотелось; я свалил
бумаги в ящик и стал думать о волах, которых закрепили
когда-то за мной на правлении колхоза. Волов звали Сачки.
Это слово было выжженно раскаленным гвоздем на ярме
и написано черным карандашом на дощечке, прибитой
над их стойлом. На Сачках я боронил, пахал людям
огороды, возил коноплю, зерно и первую неделю едва не
каждый день плакал от них: даже мой кнут, сплетенный
из трех ремней, не помогал. Плакал я не потому, что
волы не шли, а от обиды, что их за мною закрепили. «Если
бы у меня был отец, — думал я, — он бы за меня
заступился. Он бы сказал: куда ж это вы даете хлопцу
таких ленивых волов? У него ж голос, как пищик, разве
они его послушаются?!» Потом я привык. Когда Сачки
останавливались, садился возле них в пыль или на
борозду, свертывал первые в своей жизни цигарки и говорил
равнодушно: «Черт с вами. Стойте. Посмотрим, что мы
этак заработаем...»
Зимой было легче. Сачки большей частью стояли в
воловнике, потому что обходились без них, а меня
посылали на свинарник в помощь близорукой тетке Хари-
тине. Ходить на работу нужно было рано, чтобы к восходу
солнца успеть сварить свиньям еду — чаще всего
мелкую мороженую картошку. Мы с теткой условились, что
будем ходить варить попеременно: день она, день я.
Идешь на рассвете заметенной за ночь дорогой, ресницы
смерзаются, луна стоит в золотом нимбе, как голова
святого Николая Угодника, хаты слепые, холодные, будто в
них никто и не живет, а свиньи уже кричат. В
кормокухне кажется еще холоднее, чем на дворе, соломы набито
под самый потолок: это тетка Харитина с вечера
наносила. Вода в котле с картошкой замерзла, и молотом не
315
пробьешь. Разжигаешь печку и садишься против дверки.
В лицо печет, а спина околевает от мороза. Вот и
крутишься: спереди нагрелся — спиной к огню
поворачиваешься. А свиньи кричат. Перед восходом солнца котел
закипает, кухня наполняется паром, так что и лицо и
одежда становятся мокрыми. Зато согрелся. Достаешь
острой палочкой картофелину из котла, пощупал —
мягкая, как пузырь, и скрипит, значит, мороженая. Назад ее,
достаешь другую. И так пока не нападешь на твердень-
кую и нескрипучую. А она мелкая, не картошка —
пупырышки. Но это ничего, зато много. На кухне у нас не
выводится соль — крупная и серая, одной крупинки на
пять картошек хватает. Соль такая соленая, аж
пропекает, как кислота; картошка горячая, котел клокочет,
свиньи кричат, а сквозь запотевшее оконное стекло
солнце над снегами блестит... Только тогда приходит тетка
Харитина. В пару она совсем ничего не видит и
спрашивает: «Ты тут, Колька?» — «Тут, — говорю, — садитесь
к картошке, я и вам навыбирал». Тетка садится
завтракать, а я запариваю полову в корыте и толку ее вместе
с картошкой. «Воды побольше лей, воды, — советует
Харитина. — На наедятся, так хоть тепленького похлебают
и согреются». Потом мы принимаемся разносить это па-
рево свиньям. Мотаемся с ведрами бегом, как два
клубка пара, от кормокухни до свинарника. Тетка сослепу
сыплет не в корыто, а прямо на головы свиньям, а я
целюсь, чтобы все-таки попасть в корыто. Задранные вверх
оскаленные пасти, блестящие в полутьме глаза, не
свинячьи, а волчьи... Говорят, что свиньи вверх не
смотрят. Ого, еще как смотрят! В станки мы не заходим —
собьют с ног. Тетка чихает на сквозняках и говорит:
«Ты гляди, уж не на магарыч ли чихается!» — и тихо
смеется. После раздачи она остается варить обед, а я
набираю в карманы картошки: в один — для себя, в
другой — для матери тетли Харитины, бабки Одарки, и иду
домой. По дороге захожу к бабушке, выкладываю на
лавку картошку, готовую, тепленькую, а бабушка дает мне
какой-нибудь гостинец: горсть жареных тыквенных
семечек или с полдесятка моченых диких грушек и шамкает:
«Шпашиба, шынок, жа картошечку, гляди, как харашо
шварилашь».
Дома я даже не раздеваюсь, а складываю картошку в
чугунок, ставлю в печь к пригасшему жару, чтобы маме
на обед была горяченькая, беру топор, мешок, санки и
отправляюсь на луг за пеньками. Пока вернусь, уже и на
316
свинарник пора — свиньи кричат снова, будто их волки,
дерут. И так изо дня в день, с утра и до вечера...
Все это я мог бы сказать Ивану Захаровичу, если бы
не был убежден, что намного счастливее его. Мне даже
жаль его, по-человечески жаль, потому что он не знает,
как легко дается человеку счастье, если он не
выдумывает его себе, не рвется к нему из последних сил, а
наслаждается им свободно, как воздухом и водой. У меня оно
было, такое счастье. Когда несешь горячую картошку в
карманах, греешь об нее руки — и уже счастлив
теплом. Когда пойдешь на луг за пеньками, то непременно
найдешь такой сказочный пень, что похож сразу на все
чудовища в мире, нужно только не полениться обойти его
вокруг и хорошенько рассмотреть, потому что с каждой
стороны он разный — и ты уже счастлив сказочным
творением. А то наткнешься на пригнутый к земле снежной
глыбой тальниковый куст — настоящую хату. Кругом
снег, мороз или метель такая, что и света не видно, а под
кустом сухая рыжая осока, пропахшая осенним солнцем.
Сиди, грейся, отдыхай, слушай, как мыши в осоке
шныряют да попискивают — и уже ты счастлив затишком.
Отогрелся — снова за работу. Бух по пеньку обухом, тресь —
сразу полмешка дров. И ты уже счастлив добычей.
Иван Захарович, конечно, меня не помнит. Он был у
нас уполномоченным, наезжал в колхоз почти каждый
день и имел в селе славу человека сурового, такого, что
на глаза ему с вязанкой соломы или дров не попадайся.
Мне иногда хочется сказать ему: «А знаете, Иван
Захарович, вы когда-то могли поймать меня с вареной
картошкой в карманах: в одном — для мамы, в другом — для
покойной бабушки Одарки». Представляю, как бы он
заулыбался, как наставил бы на меня ладони и сказал:
«Минутку, минутку... Разве вы меня помните?» Тогда бы
я ответил ему: «Помню, Иван Захарович. До последнего
того дня в селе, когда вы с председателем колхоза Чепур-
ным вызвали нас, пятерых парнишек с пятиклассным
образованием, в контору и сказали, что в Донбассе не
хватает рабочих кадров и поэтому мы можем ехать в Ена-
киево, в ФЗУ. Потом нас провожали, и вы снова держаля
речь, желая нам стать хорошими рабочими. Мы стали
ими: ведь мы с детства умели работать. Со временем
мы стали солдатами, и нам не страшны были тяготы и
лишения службы, потому что мы с детства умели работать.
А еще позже мы закончили вечерние школы и вузы,
потому что мы с детства умели работать. Вы гордитесь тем,
317
что наши земляки перевыполнили план по хлебосдаче,
задерживают снег и вывозят на поля навоз... А я привык
гордиться только тем, что сделано моими руками».
А пока что Иван Захарович благоволит ко мне.
Возможно, потому, что я исправно выполняю свои
обязанности, разбираюсь в тонкостях формы, а может, только
потому, что мы земляки. Выходит, в какой-то мере я для
него исключение. Коллеги по обществу завидуют тому,
что директор «выделяет» меня среди других (меня это
смешит), но и уважают, потому что я еще не задел
ничьего самолюбия и умею довольно удачно копировать
того же директора: внушительно поднимаюсь со стула,
изображая на лице благосклонную улыбку, выхожу из-
за стола и, всем туловищем подаваясь вперед, с
полупоклоном протягиваю руку мнимому посетителю. Затем
неторопливо возвращаюсь к столу, сажусь на свой
расшатанный стул и устало потираю ладонью лоб, как это делает
Иван Захарович после сложного разговора. Мои коллеги
тогда взрываются хохотом. Однажды после такого
лицедейства шеф вызвал меня и, погрозив пальцем,
улыбнулся первой своей улыбкой, но не сказал ни слова.
...Кроме «холодильника», есть у меня еще диван, но я
на нем не сплю, потому что он ужасно скрипит. Скрипит
даже тогда, когда я еще не шевелюсь, а только думаю
пошевелиться. Я называю его «Потапычем» и разговариваю
с ним иногда, но он все равно скрипит и будит меня
ночью. Пришлось купить раскладушку. Теперь я отдыхаю
на «Потапыче» только днем и держу его исключительно
для мебели, как говорят. А как же иначе — старший
референт уважаемого общества, и не имеет стоящей
мебели. Если бы еще не старший, тогда другое дело...
Есть у меня, кроме дивана и раскладушки,
вырезанный из дерева бычок, красивый такой, грустный, смотрит
куда-то вдаль и, кажется, вот-вот заревет претоскливо.
Я держу его на подоконнике, потому что стола еще не
купил. Столом мне служит тот же подоконник, широкий и
крепкий. Когда-то, еще до революции, в этом доме,
рассказывала мне старенькая, на вид интеллигентная
соседка, жил какой-то генерал (она почтительно назвала его
фамилию, имя и отчество), он то и повелел строителям
возвести не обычный дом, а что-то подобное замку, в
котором умирал Наполеон. Потому и стены толстые и
подоконники широкие.
Бычка подарил мне знакомый писатель, можно
сказать, приятель, за то, что я похвалил один его отрывок,
318
который он читал мне, сидя посреди комнаты на диван-
кровати. У него тогда тоже еще не было никакой другой
мебели. Это нас объединяло.
Отрывок был действительно красивый, как свечка,
вылепленная из теплого воска, и я хвалил его искренне.
Тогда Мирон и подарил мне этого деревянного бычка.
Я шел домой, держа бычка под мышкой, и думал
невесело: «Вот и заплатили вы мне, Мирон, за маленькую мою
осанну. А что же будет дальше?!»
Дорогой я любовался детишками, которые, уцепившись
ручонками за платьица и рубашечки друг друга,
переходили улицу цепочкой, как утята, а рядом с ними шла
молоденькая красивая воспитательница и стрекотала:
«Быстрее, быстрее, дети!» Она сама была еще ребенком...
И вдруг я сказал себе громко: «Неудачник ты,
Николай». Сказал и остановился, так поразили меня эти слова.
Дома, не переодеваясь, я упал на «Потапыча», закрыл
глаза и пролежал так до самого вечера. Когда же это
случилось? Ведь мне всегда везло: всякая работа шла в
руки, с людьми я сходился быстро и легко, учился
играючи... У меня была цель — стать образованным
человеком. В институте я упрямо, пренебрегая усталостью,
штудировал не только специальный предмет — историю, но
изучал и живопись, и литературу, и латынь. Каждое
воскресенье надевал свою солдатскую робу и шел на
товарную станцию разгружать вагоны с цементом, углем,
кирпичом, лесом, чтобы заработать деньги и приобрести
книги, которые мне хотелось иметь в собственной
библиотеке. Теперь они где-то у мамы на чердаке, тут мне
некуда с ними деться. После защиты диплома передо мной
открылись две перспективы: или ехать в соседнюю
область, на село, учительствовать, или оставаться в городе
и работать в обществе, которое как раз создавалось и где
мне обещали временную прописку и комнату в том
случае, если я женюсь. Я даже не догадывался, что
предложение это просто шутка: ведь для того чтобы жениться,
нужно иметь квартиру, а чтобы иметь квартиру, нужно
жениться!
С первых же дней я полностью отдался работе.
Оберегать исторические ценности, которые принадлежали и
принадлежат поколениям, — разве не благородное дело?
Так было до тех пор, пока меня как-то не послали
осмотреть квартиру-музей всемирно известного ученого. Я
бывал там и прежде. Сердце замирало, когда я переступал
порог обыкновенного полусельского домишки, в котором
*""—- ^ 319
жил этот великий человек. Печь, лежанка, простые
расшатанные стулья, фотокарточки в кустарных рамках, и тут
жил гений! Теперь я ехал туда во второй раз, посмотреть,
как наши специалисты оборудовали музей, и потом
доложить Ивану Захаровичу. То, что я увидел, ужаснуло:
квартиры-музея я уже не застал. Стена, разделявшая две
небольшие комнатки, выброшена, печь, старые стулья,
кустарные рамки — тоже. Остался покрашенный в
лимонный цвет залик, который должны были обставлять
по-музейному.
— Что это вы сделали? — спросил я руководителя
работ и показал ему удостоверение. Это был лысый
человечек с остатками седых волос над ушами и на затылке.
Он страшно перепугался, совал мне какую-то бумагу и,
захлебываясь, бормотал:
— Мы по плану, вот посмотрите, пожалуйста,
посмотрите...
Я сказал ему жестко:
—- Вижу. Но сами-то вы понимаете, что, по существу,
ликвидировали музей?
Потом я возвращался на работу и думал: кому же это
кажется, что великому ученому не к лицу родиться в
обычной, почти сельской хате? Да попади в руки такому
бочка, в которой жил знаменитый Диоген, он и ее
перестроит во дворец.
Ивану Захаровичу я доложил, что музея уже нет, и
в нескольких словах рассказал, что видел. Я ждал, что
он возмутится, по крайней мере, будет взволнован и
немедленно примется за дело. Но, к моему удивлению, Иван
Захарович спокойно, даже несколько театрально раскурив
сигарету, поднялся из-за стола, отошел к окну и долго
молча стоял так, спиной ко мне. Правая нога его в
безукоризненно отутюженной штанине играла в колене, и
это означало, что он размышляет. Потом он заговорил,
как всегда, делая длинные многозначительные паузы:
— Николай Гордеевич, дорогой мой, давайте
договоримся, что вы в дальнейшем будете действовать,
согласовываясь не только с чувствами, но и со здравым смыслом.
Это я говорю вам, как отец. Разум видит дальше, нежели
чувства. На то и дана человеку вторая сигнальная
система... Скажите мне: что чувствует человек, войдя в музей?
Торжественность, возвышенность человеческого духа,
гения. Музей — это своеобразный храм. А вы хотите
свести его к печи, стульям, каким-то там кустарным
рамочкам... то есть приземлить идею величия человеческого ду-
320
ха, гения, забывая, что будничность никогда не
окрыляла людей.
— Но ведь правда будней тоже величественна, —
заметил я, с трудом сдерживая смех, — если к ней
внимательно присмотреться. Хотя бы потому, что она правда.
Не родятся ведь гении среди торжественных музейных
витрин.
— Да, — вздохнул Иван Захарович, как вздыхают
утомленные несообразительным собеседником люди. —
Но одной будничности, хотя она и правда, с чем я не до
конца согласен, мало для человека. Ему нужны и
праздники... Между прочим, все то, чего вам так жаль, — Иван
Захарович обдал меня ласковой отеческой улыбкой, — все
до мелочей, будет отражено на снимках. Их положат в
витрины, как и личные вещи, семейные фото, бумаги и
прочее. Вот и получится соединение правды будней с
правдой величия этого человека... Так-то, милый мой
земляк, Николай Гордеевич... Ай-я-я-яй... какой вы молодой,
исполненный сил, разума, энергии... Перед вами
будущее. Ей-право, завидую вам, по-доброму завидую. Только
еще раз прошу вас: держите свои эмоции в согласии с
разумом, подчините их железной воле... А теперь
отдохните с дороги день-два — скажете в отделе, что я
разрешил, — и подумайте над тем, что я вам советовал.
Надеюсь, после отдыха у вас будет другое настроение.
Иван Захарович проводил меня до двери, под руку,
как всегда, и, как всегда, улыбался первой своей
улыбкой.
По дороге домой я зашел в кафе.
«Да, вы изменились Иван Захарович Ясько, — думал
я, сидя в углу за столиком, над которым шумел вентиля-
> тор, прижимая к полу синий папиросный дым. — Вы так
изменились, что в вас уже трудно узнать того доброго
молодца, который носил блестящий сплюснутый планшет на
длинном ремешке, того молодца со сведенными на
переносице бровями, что так шли к решительным речам на
колхозных собраниях. Тогда вы говорили без пауз,
потому что вам не нужно было подбирать «тонких»
выражений. Вы, Иван Захарович, выросли».
За соседним столиком сидели какой-то матрос и
хорошенькая девушка. Матрос говорил ей, играя ясными
красивыми глазами (он, верно, знал, что ему идет играть
своими ясными красивыми глазами):
— А я до сих пор помню первый вкус поцелуя...
Первый вкус!
21 Г. Тютюнник 32}
Он был еще ребенком, этот матросик, но ему явно
хотелось выглядеть взрослым. Понимаю, служба!
Правильно. Иначе эта девушка тебя не-полюбит... Нужно быть
взрослым и рассудительным. Нужно держать чувства в
согласии с разумом...
На другой день я отправился на поиски работы по
специальности. Но часов по истории, как выявилось в гор-
оно, до нового учебного года ни в одной школе не было.
...Солнце поднялось, наверное, уже высоко, потому что
тень от крестов Андреевской церкви со стены, которая
разделяет мою комнату на «прихожую» и «зал»,
переместилась на пол. Я нащупал под раскладушкой свою
старенькую, но безупречно точную «Победу» и посмотрел,
который час. Было половина десятого. Для субботы
рановато. Но в этот день я хожу на подольский рынок,
закупаю на целую неделю картошку, свежее подсолнечное
масло, цветы, которые подольше стоят, редьку и болтаю с
торговками о всякой всячине, к примеру, о том, нужно
ли подсыпать суперфосфат, когда садят картошку, каким
будет это лето на урожай, а если встречаются женщины
с признаками былой красоты, то шутя сватаюсь к их
дочкам, исходя из соображения: если красива мать, то
красива и дочка! Тетки в ответ смеются и говорят: «Э, что ж
вы заочно сватаетесь. Приезжайте да сами посмотрите,
может, еще и не понаравицца», А те, которые слушают,
как мы балагурим, добавляют: «Дожидайся, поедет он
тебе из города за девкой! Тут вон какие разнаряженные и
задастые бегают — выбирай, какую хочешь!..»
Эти базарные хождения привели к тому, что у меня
теперь множество знакомых в каждом ряду. Завидя
меня еще издалека, знакомые мои улыбаются и говорят:
«Здравствуйте вам!..»
Я подхватываюсь с раскладушки, свертываю и кладу
во встроенный шкаф постель и говорю «Потапычу»:
— Как спалось вам, старый мой скрипучий
дружище? Что вам снилось этой ночью: лес, где вы выросли,
мебельная фабрика, где вас сварганили, или магазин
старой мебели, где я вас приобрел за половину референт-
ской зарплаты?
Этот монолог я произношу как можно интимнее и
одновременно громче, чтобы он мог проникнуть сквозь
стену из сухой штукатурки к моей соседке Лидии
Константиновне. Потом умолкаю и прислушиваюсь. Сначала там
слышны осторожные шаги — ближе, ближе, ближе... Вот
скрипнул пол уже у самого плинтуса, и все стихло.
322
Я представляю себе, как ухо старенькой,
утонченно-интеллигентной соседки прижимается к штукатурке, как
она задерживает дыхание и нетерпеливо жует губами,
надеясь услышать женский голос в моей комнате, и
говорю:
— Сходим на базар, потом будем готовить завтрак.
Ты согласна, солнышко?
И театральным женским шепотом отвечаю:
— Да, милый.
«Теперь ждите, уважаемая Лидия Константиновна,
развития интриги», — говорю я себе, открываю настежь
свое огромное, как царские врата во Владимирском
соборе, окно и делаю двадцатиминутную солдатскую зарядку
из шестнадцати упражнений. Потом обливаюсь холодной
водой из-под крана, одеваюсь в слепяще-красную
мефистофельскую сорочку, хорошо отутюженные в химчистке
брюки, надраиваю до сумасшедшего блеска туфли и,
прихватив две авоськи, шумно, чтобы услышала соседка,
отпираю дверь. Дальше происходит такая сцена. Не
успеваю я выйти из «холодильного» отсека между дверьми,
как соседка быстро-быстро шлепает по коммунальному
коридору и закрывает глазом замочную скважину. Я
даже слышу, как она дышит — зимой в таких случаях из
скважины шел пар — и причмокивает.
— Добрый день, Лидия Константиновна! — кланяюсь
я двери и тоже смотрю при этом в скважину, глаз в глаз,
и вдыхаю противный запах пригоревшей мороженой рыбы.
Наивный ребенок, утонченная бабушка! Вы перестаете
чмокать, не солите несколько секунд, пока из немощной
груди вашей не вырвется булькающий кашель, однако от
скважины не отходите, потому что знаете, что тогда
сквозь нее мне будет виден свет в вашем коридоре и я
обо всем догадаюсь. Гениально, Лидия Константиновна!
Я высоко ценю эту деталь вашей тактики, но вы жестоко
ошибаетесь: та, с которой вы надеялись меня
запеленговать, могла бы уйти от меня еще вчерз вечером, когда
вы включили свой облезлый, первого выпуска, телевизор,
этот чудесныйГ частный глушитель. А то, что вы не
отвечаете сейчас на мое приветствие, свидетельствует лишь
об одном: интеллигентность ваша (вы говорите «интедли-
кентность») выцвела. Нет, я не смеюсь над вами, Лидия
Константиновна. Меня с детства приучили почитать
старость.
Откровенно говоря, я, Лидия Константиновна,
понимаю, почему вы подсматриваете за мной. Одинокий муж-
21* 323
чина, нестарый, с образованием и комнатой по соседству
с вашей... Я здороваюсь с вами почтительно («интелли-
кентно») и не вожусь ни с девочками, ни с компаниями.
А у вас есть престарелая дочка, высокая худощавая
девица с мальчишечьей стрижкой и в лакированных туфлях
на толстых каблуках. Когда мы с ней встречаемся на
лестнице или у подъезда, она дарит мне очаровательную — с
ее точки зрения — улыбку и поводит бровями, как кошка
хвостиком, когда учует мышку в норе.
По вечерам она поет под Майю Кристалинскую,
только чересчур уж сильным басом:
Опустела без тебя
земля-а-а,
Что мне делать, как мне быть,
скажи-ы-ы...
Место для своих вокальных упражнений она всегда
выбирает у моей стены... А когда вы, Лидия
Константиновна, кричите ей из другого конца комнаты: «Лизок, это
же вульгарно!» — она отвечает вам с холодным вызовом:
«Отнюдь, маман!»
Она презирает вас за то, что вы не подарили ей
красоты и теперь ей нечем играть. Мне искренне жаль вас,
Лидия Константиновна.
Вот и все, что я знаю о вашей дочери. Но и этого
достаточно, чтобы ваш наивный замысел не осуществился.
А он приблизительно таков: хорошо было бы (вы
говорите: «чудненько»), если бы Лизок влюбила меня в себя и
мы поженились. Тогда можно было бы прорубить в стене
дверь, и мы с вами имели бы полноценную
двухкомнатную квартиру, две объединенные зарплаты плюс вашу
пенсию и вели бы интеллигентный образ жизни... Каков
он, этот образ, — о, тут бы меня просветили.
Нет. Благодарю за внимание. К тому же комната моя,
Лидия Константиновна, вовсе не моя. Я живу в ней как
кукушка в чужом гнезде. К сожалению. А может, и к
счастью...
Я иду Узвозом к Подолу, моему любимому Подолу, с
его наидемократичным Житным рынком, старенькими
церквушками, влажным ветром с Днепра и
бессчетными школами — подольцы, вероятно, лучше всех
понимают «проблему одного ребенка» и умеют ее
предупреждать.
На Узвозе мало прохожих. Суббота. Люди или еще
спят, или же на рынке. Только в сквере возле Андреев^
324
ской церкви сидят на лавочках пенсионеры с внучатами
в колясках и комнатными собачками на поводках.
Но вот Узвоз позади, и от сонного покоя не остается
и следа: поют на крутых поворотах трамваи, коротко и
резко сигналят машины, скрипят тормоза, рысцой бегут
от автобусной остановки к рынку сельские женщины с
корзинками и узлами за плечами — опоздали. По тому,
как они переходят улицу, я угадываю, которая из них
бывает в Киеве часто, а которая нет. Первые преодолевают
переход лихо, даже отчаянно, с той дерзостью человека
из провинции, у которого на лице написано: «Мы тоже
кой-что видели!» Другие же подолгу топчутся на
тротуаре, то хватаясь за свой мешок, когда машин
становится меньше, то опуская его к ногам, когда машин
становится больше. А между тем с другой стороны улицы
кричат: «Да переходи, Настя, какого ты дьявола мнешься,
их не переждешь!» Тогда Настя легко, по-мужски,
забрасывает мешок на спину и с осоловевшими от страха
глазами прет прямо под машины. Те жутко скрипят
тормозами, аж дым из-под колес, шоферы открывают
дверцы и клянут женщину, даже не подозревая, что она в тот
миг ничего не видит и не слышит, кроме глухих ударов
собственного сердца... Когда мне случается застать на
переходе такую Настю, я беру у нее мешок, ее — за локоть
и веду через дорогу. Но, завидя приближающуюся
машину, она вырывает локоть и стремглав бежит на тротуар.
«Что же это вы, тетка, — говорю "я ей с деланным
упреком в голосе, — бросаете меня на произвол судьбы, а
сами — деру. Выходит я, молодой, пусть погибаю, а вы,
уже и так наглядевшись на белый свет, еще дольше
хотите жить... Это же не по-христиански». — «Да сохрани вас
бог! — пламенеет она. — Я об этом и думать не думала,
когда побежала. Вижу, что она вот-вот наедет, ну и
побежала... не нарочно. Спасибо вам!»
Бывает и так, что добрых намерений моих не
понимают. Беру, скажем, у какой-нибудь узел, а она в крик:
«Ты куда тянешь! Куда? Хочешь, чтоб милиционера по-
ззала?» Тогда я кончаю свое добродеяние, смеюсь, и, мах-
ИУВ рукой, иду прочь, а вдогонку мне летит, точно
камни: «Ишь ты какой! Видали мы таких! Что? Да вон
пошел в красной кофте, оглядывается! Узел из рук вырвал...
Давай помогу, говорит... Чертов урка!» Тетенька, имейте
же совесть! Во-первых, я сказал вам «давайте», а не
«давай», и не вырывал мешок, а брал. А еще, тетя, мешок у
вас такой тяжелый, что даже я, бывший разрядник по
325
тяжелой атлетике, не пробежал бы с ним и десяти
метров!
В узеньком переулке, что ведет к рынку и куда лишь
на час-полтора заглядывает солнце, вокруг двух машин,
зацепившихся бортами, собралась толпа зевак. Я не
обратил бы на них внимания — пройденный этап, если бы
не заметил в толпе до боли знакомый, как пишут
журналисты, широкий, словно пуф, красный затылок в шрамах
от давних фурункулов. Мне приходилось видеть этот
затылок очень, очень близко, крупным планом. Я запомнил
его на всю жизнь. Это был затылок нашего бывшего
управдома.
Встретились мы с этим человеком зимой прошлого
года, в тот самый день, когда я нелегально — так мне по
крайней мере казалось — вселился в свою теперешнюю
комнату на Узвозе. Ключи от нее дала мне наша
старенькая курьерша тетенька Дуся, которая и сейчас живет по
соседству со мной, этажом выше. Достались они ей после
смерти старой девицы дворянского происхождения, за
которой сердобольная тетенька Дуся присматривала
несколько лет: покупала продукты, мыла пол — а когда та
умерла, то похоронила с миром, выбросила на свалку
старую, трухлявую мебель, оставив себе одно-единственное
кресло, еще пригодное, и ключи:. На другой же день, зная,
как я бедствую без дома и «зайцем» сплю у своих
товарищей по институтскому общежитию, она отдала эти
ключи мне, прошептав на ухо адрес, а вслух добавила:
— Все равно наш Калинкин вселит туда кого-нибудь
незаконно.
И я рискнул* Дождавшись обеденного перерыва,
съездил в общежитие за чемоданом (тетенька Дуся сказала,
что в комнату нужно что-нибудь «вкинуть») и крадучись
проник в божественный, сухой и не очень запущенный
уголок. И хотя в нем еще пахло старостью и сырыми
сосновыми досками гроба, сердце мое пело: теперь я не
«заяц», а полноправный гражданин древнего города.
То, что я нарушил закон, мало меня волновало, потому
что управдом, судя по тому, что сказала тетенька Дуся,
тоже нарушил бы его.
А вечером, когда я, боясь даже щелкнуть замками
чемодана, принялся устраивать себе на полу постель из
пальто и книг, пришел Калинкин. Он постучал довольно
решительно, и, когда я притих, не менее решительно
сказал
— Давай, давай открывай, я все знаю!
326
«Ну и соседи у меня...» — подумал я кисло и пошел
к двери.
Тут произошел разговор из любимой мною в детстве
сказки о потерянной рукавичке, в которой поселились
всякие звери.
— Кто? — спросил я ласковым тоном хозяина.
— Управдом! — сердито сказал Калинкин, тоже
тоном хозяина.
— А я старший референт и принимаю гостей только
днем.
Я решил атаковать, возлагая надежду на слово
«старший». Калинкин помолчал, вероятно, прикидывая,
насколько моя должность высока, а может, его сбил с
толку атакующий стиль ответа, и откашлявшись, он твердо,
однако более вежливо, приказал:
— Откройте.
Я повернул ключ раз и другой, пошел к чемодану и
сел на него верхом. Это была, как оказалось потом, моя
фатальная ошибка.
Войдя, Калинкин некоторое время молча изучал мое
лицо, костюм, галстук, чемодан, потом сказал очень
вежливо:
— Покажите, пожалуйста, ордер на вселение в эту
квартиру. ^
— Ордера у меня нет, но скоро будет, — сказал я и,
заметив его кривую улыбку, быстро поднялся с чемодана.
Однако было уже поздно. Калинкин повернулся ко мне
спиной — вот тогда я и увидел незабываемый его
затылок в шрамах от фурункулов, сделал шаг к двери,
выдернул ключи, и они звякнули в его кармане.
— Завтра я чтоб вас здесь не видел, — сказал он,
дохнув мне в лицо водочным перегаром. —- Здесь будет
жить человек, которому уже выписан ордер. — И повел
по комнате глазами хозяина, словно прикидывал,
удобно ли будет жить человеку, которому уже «выписан
ордер».
Это его наивное вранье (ведь ордер на кого-то не мог
быть выписан так быстро) помогло мне прийти в
себя.
— Вы были когда-нибудь возле исторического
музея? — спросил я так же вежливо, как он спросил меня
об ордеде.
— Ну? — сказал он, захлопав глазами.
— Видели там пушки у входа?
— Ну?
328
— Так если даже вы притащите сорокапятку и
заряженную поставите против двери, я все равно отсюда не
уйду.
— Выбросим! — почти весело заверил Калинкин.
— Посмотрим! — сказал я еще веселее, хотя
чувствовал себя отвратительно.
Когда он ушел, пообещав на прощание наведаться
завтра, я порвал носовой платок на клочки и затолкал их
в замочную скважину, потом выбрал в чемодане самый
крепкий галстук, привязал им дверь к старой замочной
петле и лег спать. Спалось мне, правда, скверно, потому
что вдоль стены, у которой я поместился, то и дело
скрипел пол под осторожными шагами (видно, соседка
изучала меня по звукам), в подъезде горланили дикие песни
из времен палеолита и выколачивали из гитары
раздражающие звуки, к тому же перед глазами у меня стоял
широкий, самоуверенный затылок управдома. Нет, я не
боялся завтрашнего дня, потому что уже давно
органически усвоил Соломонов катехизис: «Все проходит».
«Сейчас мне плохо, — рассуждал я, — потому что
управдом хочет выжить меня отсюда, но это плохое имеет
конец, потому что на очереди за плохим лучшее: ведь на
дворе декабрь, а зимой, слышал я, из квартир не
выселяют».
Я мучился от другого — занимался самобичеванием.
Я припомнил, что в разговоре со мной Калинкин два
раза снимал управдомовскую маску (смысл ее таков, как и
у всех масок мелкого начальства: «Я все могу!»)' и
становился другим. Вот этого, другого Калинкина, я и не
понял, потому что больше думал о своем положении, чем
следил за оппонентом. А этого нельзя себе прощать.
И, лежа на полу, я старался восстановить в памяти
каждое его движение, взгляд, выражение лица. Эту операцию
пришлось повторить несколько раз, пока то, что я искал,
наконец пришло. Я вспомнил, как он испытующе смотрел
ка меня, словно прикидывал что-то в уме, и понял:
Калинкин искал на моем лице отражение чувств человека,
который трезво понимает свое положение и готов
согласиться на ничью, дав ему взятку! Действительно, разве
Калинкину не все равно, кто ее даст — я или тот, на кого
уже «выписан ордер»? Я представил себе, как он сейчас
лежит в своей постели, не мигая смотрит в потолок,
обсуждает возможные варианты слупить с меня хотя бы
минимальный вклад в его бюджет, и весело думал:
«Товарищ Калинкин! Йе насилуйте свою фантазию напрас-
329
но. Я сам пойду вам навстречу. Но мы еще посмотрим,
кто будет смеяться последним!»
Я уже засыпал, когда в дверь тихонечко постучала
тетенька Дуся и спросила заговорщическим шепотом:
— Николай, Николай! Ну как?
— Все хорошо, тетечка, — подошел я к двери. —
Только принесите, пожалуйста, какую-нибудь
проволоку...
— Сейчас поищу, — сказала она, помолчав, и пошла
на свой этаж.
Вскоре она вернулась и просунула под дверь кусок
толстой ржавой проволоки.
— Что, Калинкин ключи забрал? — спросила. —
Приходил и ко мне, грозил в милицию потащить... Ну да ты
не бойся, зимой не выселят.
— Спасибо, тетечка Дуся, как-нибудь перебьемся.
— Завтра вставишь свой замок. А выйти можно и
через окно. Там невысоко.
«Милая тетя Дуся, — подумал я благодарно, — таких,
как вы, стратегов в мире не очень много».
— Ну спи, — сказала она. — Только, как придет в
другой раз, ключ вынимай, а то и новый заберет...
Я встал рано, открыл окно и посмотрел вдоль
тротуара. Он был безлюден, тускло освещен лампочкой, что чуть
заметно покачивалась на столбе возле Андреевской
церкви, и белел от тоненького слоя первого снега. Я закрутил
двери проволокой, отмыл ржавчину на руках, кое-как
почистил пальто и благополучно выбрался из окна на
козырек подъезда, а дальше по ржавым рогулинам, которые
держали когда-то водосточную трубу, спустился на
тротуар. До начала рабочего дня оставалось еще полтора часа.
За это время я успел приобрести в скобяной лавке на
Житном рынке отличный замок с буржуазным названием
«Сам», выпил теплый кофе с черствым бутербродом и
пошел на работу. Тетя Дуся никому не сказала о нашем
секрете, мы только перемигивались с нею заговорщически,
поэтому мне не надоедали пустым подбадриванием, что
все будет хорошо, что главное продержаться и т. п.
После работы я зашел к моему товарищу по
институту Степану Очеретько и выложил ему суть дела.
— Поздравляю же тебя, дружище! — искренне
обрадовался Степан и, растроганный, обнял меня за плечи.
Степан принадлежит к той редкостной породе людей,
которые умеют по-настоящему радоваться удаче ближнего, и
если иногда и бывает актером, то лишь шутя и по отно-
330
шедию к самому себе. Выдумщик и человек
чувствительный, Степан всегда мучится от собственных фантазий.
В прошлом году, например, еще в институте, ему
казалось, что как только он начинает говорить, волосы
сбрасывают с него шапку. Я удивился, заметив, что он,
рассказывая что-нибудь, хватается обеими руками за голову.
Когда же выслушал его объяснение, то, сдерживая смех,
посоветовал отпустить подлиннее волосы, тогда, мол, им
будет труднее подниматься... Месяца через два Степан,
высокий, как жердь, и худой, носил уже патлы, что
распадались по пробору надвое и делали его похожим на
студента-неудачника, который идет сдавать атеизм и,
завидя попа, хватается за пуговицу — есть такое
студенческое поверье, — но ему все равно попадается в билете
вопрос о секте, о которой он ни слова не читал. Еще
Степану снятся каждую ночь удивительные, фантастические
сны. Он любит рассказывать их мне. Поэтому, как только
мы с ним встречаемся, я в первую очередь спрашиваю,
что ему снилось.
— В эту ночь, ты знаешь, такое привиделось, —
жалуется Степан, — ну смех, да и только. Иду словно бы вот
там, возле Бессарабки, смотрю, в телефонной будке стоит
на одной ноге утка без перьев, такая, словно с базара
сбежала, прижала крылышком трубку и тоненько так,
нервно кричит в нее: «Альо, альо, куда вы звоните?»
Такое, ей-право, кто его знает что...
Когда я сказал Степану, что поздравлять меня рано, и
объяснил почему, он заволновался и спросил подавленно:
— Что же делать?
— Нужно купить коньяк, — сказал я, — достать
какой-нибудь умопомрачительной закуски — для эффекта,
конечно, — и пойдем ко мне праздновать день моего
рождения или еще что-нибудь в этом духе. — И я объяснил
ему свой план: — Если Калинкин придет меня выгонять,
а мы будем пить, то он не сядет с нами только в том
случае, если у него железная выдержка; если же у него
такая выдержка есть, наш стол должен сбить его с толку,
вселить уважение к моей персоне. Для этого сгодились бы
красная икра, балык, шоколад, яблоки и еще лучше
ананас...
— Слушай, так ведь это же гениальный план! —
воскликнул Очеретько. — Пойдем же, друже, в
театральный ресторан, там сестра жены работает официанткой, —
авось что-нибудь раздобудем.
После ресторана, где нам посчастливилось достать
331
все, кроме ананаса и красной икры (была только черная),
мы купили в первом попавшемся гастрономе две бутылки
коньяка и отправились на Узвоз. Единственное, чего мы
боялись, — чтобы управдом не опечатал дверь. Но дверь
была чистая, только на паркете возле нее виднелась
лужица от талого снега. Видно, Калинкин недавно
наведывался. Мы снова вышли на улицу, обследовали ближние
подъезды, ибо управдом мог подстерегать, когда я буду
лезть в окно, и поднять шум. Однако его нигде не было
видно. Наверно, решил прийти позже. Дождавшись
такого момента, когда ни снизу, ни сверху по' Узвозу никто не
приближался, я тем же путем, что и утром, забрался в
комнату, открутил проволоку и впустил Степана. Мы
быстро накрыли стол — подоконник, разложили на газете
бутерброды с балыком, черной икрой, свежие помидоры,
огурцы, лимоны, шоколад, коробку дорогих конфет,
выпили немножко из подаренного мне когда-то на день
рождения серебряного стаканчика и стали ждать
управдома.
Через несколько минут коньяк сделал со Степаном то,
что и следовало сделать: Степан совершенно размяк,
глаза засияли всепокоряющей добротой.
— И почему, Коля, так водится, — тихо говорил
он. — Вот мы с тобой, можно сказать, честные люди, а
сидим и ждем какого-то там управдома, чтобы задобрить
его за эту пропащую комнату. Так это противно, ну так
же мерзко! Ну скажи мне, что он такое на этом свете, а?
— Ты и при нем заведешь такое? —
поинтересовался я.
— Ни-ни, — испуганно замахал Степан длинными и
худыми руками. — При нем ты меня еще увидишь! Это я
так, пока он придет.
— Степан, — сказал я. — Ограниченные люди
стараются как-то себя возвеличить, чтобы хоть в мелочах стать
выше других. Человек сам редко возвышает себя над
другими — для этого необходимы определенные условия.
Это делают обстоятельства, в которые он попадает,
объективный момент, как сказал бы наш бывший
преподаватель философии Завгородный. Управдом Калинкин
благодаря каким-то своим качествам стал управдомом. Это
подняло его в собственных глазах. А теперь прибавь к
ограниченности Калинкина его служебные возможности, и
ты сможешь представить себе, что в нем на сегодня
осталось от нормального человека. Пшик! Да еще желание
содрать взятку. Обстоятельства, власть, хотя бы и малю-
332
сенькая, пока что благодаря нашим предрассудкам чаще
всего и руководят человеком, а не наоборот.
— Я понимаю, — хлопал своими добрыми глазами
Степан. — Но...
Именно в этот миг скрипнула дверь — я оставил ее не
завязанной, — и на пороге стал Калинкин. Он держал
руки в карманах и имел вид человека неумолимо
строгого.
— А-а, — поднялся ему навстречу Степан с такой
неподдельной радостью в глазах и так гостеприимно
раскинутыми едва ли не от стены к стене руками, что я был
ошеломлен его способностью так быстро
перевоплощаться. — Вы товарищ управдом? А Николай Гордеевич, —
Степан кивнул на меня, — беспокоился, что вас нет и нет.
Вот это кстати!
«Переигрывает, все дело может испортить», —
подумал я.
— Как там на дворе, морозец даванул? — ворковал
Степан. — Раздевайтесь же в нашей хате!
Тут он положил свои нежные добрые руки-веревки на
плечи управдома.
— Проходите и поздравьте моего друга с новой
должностью... Заместитель директора общества Николай
Гордеевич Порубай! Ну, ну, прошу вас, прошу. — И уже
расстегивал пуговицы на управдомовском пальто, и уже
помогал снимать его, делая это, как опытный швейцар,
однако с достоинством человека благородных правил.
Калинкин только покряхтывал и смущенно бормотал:
— Да... Так-с... Вон как... Что ж, приятно...
Подождите, там где-то мой гребешочек в пальто... Ага... — И уже
шел ко мне, поддерживаемый за локоть
синевато-прозрачными пальцами Степана.
«Прости, что я немного изменил программу, но так
будет лучше», — говорили мне глаза Степана.
«Ничего, — ответил я ему взглядом, — роль
начальника мне знакома».
Я поднялся навстречу Калинкину и в заученной
манере Ивана Захаровича, выведя дугу сверху вниз, подал ему
руку для пожатия. Потом изысканным жестом указал на
Степана, небрежно поднял бровь и произнес:
— Знакомьтесь: Степан Григорьевич Очеретько,
главный редактор альманаха «Огородничество». Ранние
помидоры, огурцы, капуста — все в его возможностях. —
С этими словами я указал на ресторанные гидропонные
огурцы и рыночные помидоры.
333
Степан едва заметно кивнул мне: мол, редактор так
редактор, а Калинкина одарил благосклонной улыбкой.
Я налил сначала «гостю» в серебряный стаканчик, а
Степану в пластмассовый, из бритвенного прибора,
сказав, что мы вообще не употребляем, поэтому нам хватит и
по половинке. Это, кажется, произвело на Калинкина
приятное впечатление. Он поднял свой стаканчик к
глазам, читая, что там написано, и я пожалел в тот миг, что
там было выгравированно: «Николаю Порубаю от
Вакха», а не «Нашему дорогому Николаю Гордеевичу,
человеку требовательному и справедливому, от
подчиненных...»
Мы пили за мою «новую должность», за «главного
редактора сельскохозяйственного альманаха», за дружбу,
за то, что гора с горой не сходится, а мы, люди, должны
сходиться, потому что так легче преодолевать житейские
невзгоды... После пятого или шестого стаканчика Калин-
кин вдруг сказал:
— С вашей должностью, Николай Иванович...
— Гордеевич, — ласково заметил Степан.
— Гордеевич, — фамильярно согласился Калинкин. —
С вашей должностью можно было бы и получше квартиру
выбить. А тут что? Двенадцать метров... Плюс ордера
нет.
Меня встревожила не столько его фамильярность,
сколько то, что он понял несоответствие между моей
«должностью» и метражом квартиры.
На помощь пришел Степан.
— Современный руководитель, почтеннейший мой, —
изрек он, подняв вверх тонкий и длинный, как
дирижерская палочка, палец, — должен быть скромным в
быту.
— Да, кх-м... Это правильно, — хищно улыбнулся
Калинкин и скосил глаза сначала на пустые бутылки,
потом на часы. — Ну что ж, мне пора, товарищи.
Семейство, знаете ли, ждет.
«Коньяку больше нет, а не семейство», — подумал я и
двинулся следом за ним в «переднюю», чувствуя, что
именно сейчас наступила минута давать взятку, или, как
говорится, «кинуть на лапу». Я никогда и никому в
своей жизни не «золотил руку», не знал, как это делается, и
молча стоял против Калинкина, угрюмо наблюдая за тем,
как он старательно обертывает пуховым кашне красную,
верно, твердую, как у старого вепря, шею. Рука моя, что
держала в кармане хрупкий пучок десяток —- свежую
334
зарплату, *~ вспотела. Из того, как Калинкин искоса
ощупал взглядом мой карман, я понял, что он ждет.
— Сколько мне нужно заплатить за эту комнату? —
спросил я хрипло, чужим голосом.
Калинкин недовольно засопел. Он, наверно, хотел бы
обойтись без свидетеля, но Степан зашелся таким
громким и неподдельным кашлем, что он вмиг успокоился и
сказал:
— Может, мы немного прошлись бы?
Я проводил его до старинного дома с хмурыми
стрельчатыми башнями, в которых влажно шепелявил ветер,
молча отдал деньги, и он тоже молча, немного
перегнувшись, отправил их в боковой карман. Потом сказал
деловито:
— Оно, знаешь, так будет надежнее. Поговорю с кем
следует за чаркой, да и живи себе до весны, а тем
временем ордерок выбьешь.
Он пожал мне руку, цепко, с той же грубой
деловитостью, что и говорил, и добавил:
— А ключик, поверь, забыл в управлении, Зайди как-
нибудь.
«Ключик нужен тебе для оправдания перед
начальством, если оно дознается о моей и твоей авантюре», —
подумал я, а вслух сказал:
— Ничего, обойдусь.
И мы разошлись. Я повернул вверх, к церкви, что едва
проступала своими прекрасными контурами сквозь леса,
а Калинкин шагнул в какой-то переулок.
— Сколько? — спросил Степан, когда я вернулся.
— Сегодняшняя зарплата, — устало сказал я.
— Мог и больше содрать.
— Мог бы.
— Выходит, не мы его обошли, а он нас, — мигал
добрыми осоловевшими глазами Степан.
— Мы его, а он нас, — сказав я. — У таких людишек,
как этот тип, вместо ума неплохой нюх. Но последний
эпизод в этой игре я оставил за собой...
И все-таки я чувствовал себя отвратительно. Я знал,
что унизился, и никогда этого не забуду и не прощу себе.
И ради чего? Только ради того, чтобы иметь на земле
свой угол, не ночевать «зайцем» в общежитии, чтобы
не унижаться. Да и променял шило на мыло!
В тот вечер я впервые за всю свою жизнь
почувствовал, как не с руки быть интеллигентом. Если бы этот
Калинкин встретился мне до института, я бы показал ему...
335
Было уже поздно, когда я отвез Степана домой на
такси, извинившись перед его женой за вынужденный
«банкет», и пешком через весь Подол поплелся на Узвоз
вставлять новый замок в свою — пусть до весны —
купленную дверь.
С той поры я ни разу не встречал Калинкина.
Тетенька Дуся, которая дружила с дворничихой, сказала мне,
что его будто сняли с управдома и «бросили» куда-то то
ли завмагом, то ли завбазой.
И вот теперь такая встреча.
— Добрый день, — сказал я тихо, даже с оттенком ин-
тимнбсти, в широкий затылок Калинкина и пожалел, что
не могу в этот миг, когда он обернется, представить пред
его ясные очи развернутое удостоверение работника
ОБХСС. ш
Сначала Калинкин посмотрел на меня отчужденно
пустыми, как у всякого зеваки, глазами, потом они
ожили, метнулись из стороны в сторону, словно искали
возможность удрать, но, убедившись, что бежать некуда,
быстро изменили тактику — заискрились фальшивой
радостью.
— А-а, это вы! — сказал он так, будто давно ждал
этой встречи, и схватил меня за локоть.
Я смотрел на него очень спокойно, как смотрю всегда
на того, кто мне врет.
— Может, мы бы немного прошлись, — предложил я,
стараясь точно воссоздать ту интонацию, с которой он
предложил мне пройтись тогда, зимой.
Пройтись ему явно не хотелось. Это я заметил по
тому, как лицо его сразу приняло постное выражение,
однако он сказал:
— Разве что к базару, выпьем у молдаван по стакану
вина за старую дружбу... — Такой наглец! — улыбнулся
и крепче сжал мой локоть.
Возле зеленой будочки с молдаванином, который
разливал мутное зеленоватое вино из чайника и спрашивал:
«Халотнахо? Тьоплахо?» — толпились базарные ханыги,
которые уже успели наклянчить по сорок копеек и
теперь сбывали их. Я взял два стакана «халотнахо».
— Ну, давайте за то, чтоб наша доля... — начал
Калинкин, но я мягко перебил его:
— Моя и ваша, — и решительно поднес стакан к
губам, чтобы он не вздумал чокаться. Мы пили и
прищуренными глазами смотрели поверх стаканов друг на друга.
«Что, выгоняют из комнаты и ты пронюхал, что я ни с
336
кем о тебе не говорил?» — спрашивали его глаза. «Нет,
еще не выгоняют, но выгонят, потому что весна, —
отвечали мои. — А то, что ты ни с кем не говорил и не будешь
говорить, я знал еще тогда, когда кидал тебе на лапу. Это
была чистая твоя прибыль, как говорят политэкономы».
— Мы с вами должны рассчитаться, — сказал я,
когда вино было выпито.
— А может, еще по одному? — спросил он.
— Нет, не за вино. С государством, — сказал я, глядя
прямо ему в душу.
— Как...
— А так. Вы вернете мне деньги, которые взяли
зимой, то есть взятку. Я отдам их государству за то, что
пять месяцев незаконно проживал в его комнате. Это
могли бы сделать и вы, но я вам не доверяю.
— Н-нда?! И как же ты отдашь, а? — Он прищурил
хищный насмешливый глаз, но я умею побеждать и не
такие взгляды абсолютным олимпийским спокойствием.
— Не волнуйтесь. Существует множество форм
возвращения долга. В данном случае, скажем, я куплю на
все шестьдесят рублей, которые вы мне обязательно
вернете, лотерейные билеты. Эти деньги пойдут на развитие
народного хозяйства... — Я говорил медленно,
рассудительно, как человек, который прошел Крым, Рим и
медные трубы. — Если же мне посчастливится что-то
выиграть, я и на выигрыш куплю билеты. Так будет длиться
до тех пор, пока я ничего не выиграю. Понятно?
— Ничего я у тебя не брал! — прошипел он прямо
мне в лицо. — Попробуй докажи!
— А редактора «Огородничества» забыли, господин
Калинкин? Он все знает и не откажется
свидетельствовать.
— Ну гляди, тебе тоже не поздоровится, — сказал он
ледяным голосом.
— Да, — спокойно согласился я. — Но вам вдвое.
К тому же я одинокий. Одна голова, говорят, не беда, а
бедна — так одна. А у вас семейство, сами понимаете...
Короче, говорить мне с вами надоело, да и некогда.
Адрес вы мой знаете, фамилию можете записать или
запомнить: Порубай Николай Гордеевич. Жду перевода три
дня, потом действую!
Я повернулся и пошел прочь, а он сказал мне в
спину с ненавистью человека, коварно преданного:
— Пр-роходимец!
На рынке я никогда не тороплюсь покупать то, что
22 Г. Тютюнник 337
меня интересует, а по нескольку раз обхожу милое мне
торжище, чтобы вобрать в себе все его прелести:
разноголосый гомон, который не утихает ни на миг, а струится,
как горный поток по камням, лица, одежду, товары.
— Берите, не пожалеете. Не пожалеете, говорю. —
Это изрекает дед, бородатый, высокий, в кожухе, смотрит
куда-то поверх человеческих голов, как апостол. Продает
пшеницу в цветастом ситцевом мешочке. — Зерно ж как
щепоть вот. — И показывает щепоть.
А от масляных рядов запахи, как от маслобойки.
Яблоки красные, желтые, как липовый мед,
беловатые, краснобокие, темно-зеленые, как мята, зеленые в
черную крапинку...
— Берите, берите, они хоть и рябенькие, зато
хорошие...
Тетка с хреном уговаривает:
— Берите хренок. Смотрите ж, какой крупный
хренок — как пест! Сама б ела, да деньги нужны...
Слонялся какой-то молодой парень, держа кончиками
пальцев две желтые-прежелтые груши за длинные
хвостики. Этот, видно, из тех, которые изучают жизнь. Пошел
к молдаванам-виноделам, а оттуда нырнул в ряды уже без
груш...
Женщины с огромными плетеными корзинами, из
которых выглядывали плахи прессованной мороженой рыбы,
ходили вдоль рыбных прилавков и говорили одна другой
увлеченно:
— А камбала!..
— Э, она мне противна. Такая одноглазая — черт
знает что. Я вот хека набухала корзинку, на три недели
хватит жарить...
Стоял инвалид на костылях, обвешанный
мышеловками, и предлагал негромко:
— А вот кому мышеловки, железные, вечные
мышеловки?!
Когда я купил все, что нужно, и искал только цветы,
мне встретился Степан Очеретько. Он размахивал
длинными руками и говорил тетке, торговавшей сон-цветами:
— Ну как это так, тетенька, трава травой, а вы
полрубля ломите! Побойтесь бога!
— Все цветы — трава, — невозмутимо отвечала ему
тетка, видно, из пригородных, потому что сельские
женщины мягче, любят шутку и уступчивее. — А ты меня бо-
тоц не пугай, его уже давно нет.
Я тронул Степана за плечо и сказал смеясь:
338
— Пойдем дальше. Эта тетка из той породы, что tojh
говали когда-то Иисусовым волосом.
Степан мне обрадовался, обнял, как всегда
растроганно, а цветочница сказала:
— Нахалы!
Мы засмеялись ей в ответ, купили у какого-то
мальчика со стыдливыми глазами подснежники — ах, как они
пахли талым снегом и влажностью березового корня! —
и отправились искать Степану хорошей картошки. Я
повел его к знакомому старику, который торговал «Эллой из
Остра». Так я его и прозвал, потому что каждому, кто
допытывался, какая у него картошка, старик отвечал,
безобидно улыбаясь: «А вы попробуйте». И уже
серьезно, даже несколько свысока, добавлял: «Элла из
Остра!»
Возле старика мы застали очередь и какого-то чудака,
одетого, несмотря на ранее весеннее солнышко,
по-зимнему: он был в модной меховой шапке с козырьком и с не
менее модным большим портфелем в руке. Он утирал пот
и очень громко сердился:
— Что за черт! Обегал весь базар — ни у кого
хорошей картошки! А почему? Разленились селяне,
телевизоры смотрят... Безобразие! Вот у вас, хозяин, ничего, по-
моему. Или как?
— Ничего, — мирненько ответил старик, помолчал,
накладывая картошку на весы, и закончил: — Только
если бы я, дорогой товарищ, повязал бы галстук да взял
бы в руки то, что вот вы носите, — он кивнул на большой
портфель, — так и картошки моей тут не было...
В очереди засмеялись, а «дорогой товарищ» перестал
утирать пот, смутился и произнес:
— А вы, дядя, вижу, из тех, которые за словом в
карман не лезут.
— Э, сынок, — молвил старик, не поднимая на него
глаз, — если б я за каждым словом в карман лез, то уже
давно карманы пообрывал бы...
Потом мы со Степаном еще ходили по базару, из ряда
в ряд, просто слонялись, и Степан рассказывал мне
очередной свой сон:
— Такой печальный сон, ты знаешь... Будто
просыпаюсь я, в комнате полно солнца, а по полу ползает
огромный рак и режет своими клешнями новую мою болонью.
Вот так: щелк, щелк, щелк — только клочья летят... А я
лежу, смотрю, и так мне жалко эту болонью, что аж
заплакал! Просыпаюсь, висит мой плащ целехонький. И так
22* 339
я обрадовался... А теперь думаю, уж не срежут ли мне
прогрессивку?
Я успокоил его, сказал, что этого не случится, потому
что знал — Степан трудяга, умеет только перерабатывать,
и никогда не было такого, чтобы он недоработал, даже
за других — такой у него характер.
Тогда я поведал ему о своей беседе с Калинкиным.
Степан тихо посмеялся и спросил:
— Как ты думаешь: принесет или не принесет?
— Принести, может, и не принесет, а прислать не
замедлит. Ведь деваться ему некуда. Тут, как говорят,
крути не крути — не выкрутишься. А мне... нужно же
проучить хоть одного прохвоста. И потом, ты ведь знаешь,
я никогда не забываю своего унижения и не прощаю тем,
кто принудил меня к этому, — сизифов камень, который
я буду катить всю жизнь
— Ты опять придумал какую-то крайность? — тихо
спросил Степан.
Кто-кто, а он-то меня знал хорошо. Ведь мы пять лет
спали в институтском общежитии голова к голове, пять
лет делились последней копейкой и самыми
сокровенными своими мыслями.
— Да. Я уеду, Степан, уеду отсюда на село
учительствовать. В самое глухое село, лишь бы там были какой-
нибудь лесок и речка, а не голая степь.
Степан загрустил и умолк. Он проводил меня до
начала Узвоза. Там мы постояли немного, вдыхая запахи еще
чистой молодой травы и оживающей дерезы под кручами,
и, пожав друг другу руку, разошлись: я стал подниматься
на гору, Степан повернул назад. Пройдя шагов десять, я
обернулся, чувствуя, что Степан сделал то же самое, и не
ошибся: он стоял с опущенными от авосек с картошкой
плечами, смотрел на меня. Я издали почувствовал,
сколько печали в его глазах, улыбнулся ему и поднял руку с
подснежниками.
Степан кивнул и пошел серединой улицы, уже не
оглядываясь.
Я понял, что думал Степан, когда провожал меня, и
что, наверно, сказал бы, если бы мы меньше знали друг
друга. Он посоветовал бы сходить к шефу и, используя его
земляческую благосклонность, попросить, чтобы шеф
добился разрешения жить мне в этой комнатушке. Ведь у
него есть связи, авторитет и т. п. Нет, нет, Степан.
Никуда я не пойду и ничего просить не стану. И дело не в
том, что Иван Захарович понял мое отношение к вновь
340
созданному музею великого ученого. Дело в том, что если
когда-нибудь он встретил бы меня возвращающимся из
свинарника, он не спросил бы, почему на мне такие
старые стеганка и сапоги и почему я вырос таким
маленьким —он спросил бы, что у меня в карманах...
Дома меня ждало письмо от мамы, и я обрадовался,
потому что ни от кого не получал таких успокоительно-
целительных писем, как от мамы. Пишет она без всяких
грамматических условностей (читая ее письма, я сам
расставляю точки, запятые, кроме четырех-пяти
восклицательных знаков, которые она непременно выводит
толстыми палочками после слова «здравствуй»), мысли ее
абсолютно раскованны, будто не пишет, а говорит со мной
из боковушки, хлопоча у печи.
«Здравствуй!!! сын мой, Миколка. Ты, когда я купила
поросенка, сказал, что будет он хорошим, прожорливым и
веселым, а он никудышный — гурчит и гурчит, что ни
понесу, не ест, а только сосет. А как же ты там, сыночек,
есть ли у тебя вдоволь харчей и одеться? (В армию, а
потом и в институт она писала мне: «Ты хоть
наедаешься?») Снился недавно, что больной, так, может, и правда,
не дай бог? Оно всегда так: о чем думаешь, то и снится.
А я только про тебя и думаю. Разве только когда делаю
что-нибудь, тогда про работу и думаешь. У нас весна,
теплая и красивая, как невесточка. Луга уже залило аж
по сосну, а местами и сосну залило. Ходила вчера,
смотрела, так и шишки плавают, и сушнячок такой, что как
раз в печь, горел бы, как солома, а так пропадает, с
половодьем пойдет куда-то. Теперь мне веселее: то во
дворе прибираю, то листья в саду сгребаю и жгу, то недавно
вот грядочку под цветник вскопала. А зимой страх как
тоскливо было. Снегу понаметало, сосулек понавешало...
Глянешь в окно, а они,' как оградка. С крыши курит,
словно дым. Еще сгорю, думаю. А это — снег. Знаю ж,
а страшно. Так вот все, когда одна в хате сидишь.
Только и веселья, что соседский Васько. До сих пор с соской
ходит. А ведь уже четвертый годик ему. Стоит, бывало,
зимой в пальтишке, в валенках, в шапке теплой, а во рту
соска. Ну и окликнешь: «Здравствуй, Васько!» Тогда он
вытащит соску, скажет «дластуйте» — и снова сосет. Когда-
то, когда я еще маленькой была, сосок и не знали. А
теперь всего понавыдумывали — и сосок, и бомбу, такую,
что если где-то упадет, то и землю перевернет. Когда-то
такого не было, да и жили же люди. Видела вчера
бригадира, спрашивала, когда огороды пахать начнут, а он
341
смеется и говорит: «А разве вам, тетя, не одинаково,
когда? Все равно пенсионерам в последнюю очередь». Такой
вот! А я ведь ему, когда еще маленький был и ходил к
молотилке обедать с матерью (я тогда там стряпала), все,
бывало, и подолью им погуще, все, бывало, и подолью,
ведь жаль — маленький еще. Ну да ничего, ему тоже
когда-нибудь икнется, как постареет. Ведь и он будет
когда-нибудь пенсионером. Ходила вчера навестить деда
Трофима, пирогов горяченьких понесла да яблок
квашеных, мягкие такие, и беззубому можно есть...
Никудышный дед. Ему уже полежать бы, отдохнуть на старости,
а он грушу посреди двора пилит, помаленьку так: чергик-
чергик, да и задремлет под солнцем, потом проснется и
снова чергик-чергик... Говорю: «Вам бы, дедушка,
хватит так вот трудиться». А он: «Пока трудишься, до тех
пор и живешь». Тоже правильно. Жаль будет деда, как
умрет. А когда-то такой уж веселый был, певучий да
плясун — куда там! Вот так живешь, живешь, да и не
заметишь, как жизнь пройдет. Ну, хватит, а то я все про себя
да про себя. Сказано, старое как малое, все что-то
бормочет и бормочет. Как же твоя квартира? Так хочется
посмотреть на нее хоть одним глазом. Ты сразу всей
мебели не покупай, а по-одному, иначе где же тех денег
набраться. А как по работе? Гляди ж там, будь
послушным, слушайся начальства. Послушного, говорят, и бог
слушает. Вот писала тебе вчера, да еще и сегодня полдня
прихватила — поганый из меня писарь: пол-листочка пока
напишу — и рука заболит, отдыхаю, потом снова сажусь.
А теперь понесу бросить, попрошу Дмитра почтаря,
чтобы адрес написал, а то я как нацарапаю, так еще и не
дойдет. Целую ж тебя, сыночек, тысячу раз. Может, и
не все написала, что думалось ночами, ну да что
уже написала, то и читай, потому что новостей
выдающих нет...
Твоя мама...»
Я прочитал письмо, сел на «Потапыча», от чего он
застонал, как тяжело больной человек, и сидел так кто
знает сколько. Мне виделось село, в котором я скоро буду
жить, старенькая бабушка, к которой меня поставят на
квартиру... У нее обязательно будет такой старый, как и
она, пес, который уже ни лаять, ни есть не может —
ничего, кроме жидкой каши, а ночью будет постанывать в
своей конуре. Бабуся будет готовить мне есть то же, что
и себе, и каждый раз будет говорить, как мама любит
говаривать: «Ешь, сынок, на здоровье. Может, и не такого
342
наварила, зато много!» Я буду рубить ей дрова, носить
воду, а вечерами сидеть над планами уроков или над
«Сравнительным жизнеописанием» Плутарха...
А мама тем временем будет жить одинокой.
Я, конечно, мог бы учительствовать и в своем селе, но
туда не пробьешься: стоит оно над асфальтом, до
областного центра двадцать километров, кругом леса, луга,
речка — из таких сел присланные учителя не бегут, а
остаются навсегда, даже молодые...
Солнце уже давно зашло за противоположную
сторону дома, и в моей комнате поселились приглушенные,
черноватые от стен, окрашенных когда-то в
темно-вишневый цвет, сумерки. Я переоделся в домашнее и принялся
жарить на своей мощной кустарной плитке картошку из
Остра. Оба моих владения — «зал» и «передняя» —
наполнились запахом горячего масла, замки на чемодане в
углу тускло блестели, словно два квадратных глаза,
деревянный бычок на подоконнике грустно смотрел на
меня, казалось, вот-вот заревет потихоньку. А «Потапыч»
угрюмо наблюдал за тем, как я хожу из угла в угол,
разгоняя плечами густой табачный дым.
Галя, думал я, что ей сказать, как с ней по крайней
мере попрощаться? Ведь я не знаю ее, а только чувствую
в ней что-то родное, дорогое мне, может, самое дорогое.
Не буду же я объяснять ей, что двойная улыбка моего
непосредственного начальника оскорбляет меня, что
бегать и выбивать, выражаясь словами Калинкина, ордерок
и прописочку я никогда и ни за что не стану, потому
что считаю это унизительным, несовместимым с
человеческим достоинством. К тому же наши с ней отношения...
Их, по сути, нет. Ведь мы познакомились только
глазами — откликнулись друг другу душами. Или, может, это
она и есть — любовь, которая бывает только в немом
разговоре глаз, душ — в том прекрасном мгновении,
которое нельзя остановить?..
Началось это с того неожиданного для меня вечера, с
той гололедицы, синей в сумерках и желтоватой в свете
окон на Узвозе. Возвращаясь домой уже при фонарях,
я догнал на Узвозе как раз против церкви девушку с
тяжелой сумкой почтальона за плечами. Девушка
горбилась под своей ношей и ступала осторожно, чтобы не
упасть — было очень скользко. Я не принадлежу к тем
нагловатым кавалерам, которые умеют остановить
девушку на улице и завести с ней соответствующий
разговор. Я просто хотел ей помочь и, поравнявшись, ска-
343
зал: «Добрый вечер! Давайте я понесу вашу сумку».
Девушка обернулась, и я увидел блестящие, испуганные
глаза — вправду испуганные, зеленоватые при негустом
свете узвозовских фонарей волосы, выбившиеся из-под
платка на лоб и щеки, и бледное, тоже зеленоватое лицо
уставшего человека. «Спасибо», — сказала она
неприветливо и ускорила шаг. Я хотел взять ее под руку, чтобы
она не упала, заспешив на скользком, потом подумал:
«Это, наверно, скромная, тихая девушка, она меня не
поймет, еще и перепугается, чего доброго». И оставил
свое намерение, но руку держал наготове, чтобы
подхватить ее в любую минуту.
В наш подъезд мы вошли вместе. Девушка
отперла секцию почтовых ящиков, передвинула сумку из-за
плеча на грудь и стала быстро, ловко раскладывать
почту.
— В пятую ничего нет? — спросил я.
— Ничего, — тихо ответила она и еще раз испуганно
взглянула на меня.
Она не была красивой. Лицо бледное, как трава под
камнем, губы шершавые и, показалось мне, немного
капризные, рыжие волосы из-под платка торчали, словно
они из тонкой желтой проволоки, только глаза, может,
потому, что на вид она такая невзрачная, — необычные.
Было в них что-то очень печальное и одновременно
ласковое, смирное. О девушке с такими глазами говорят:
славная.
Дома я поужинал чем было, что нашлось в
«холодильнике», и сел за какую-то книгу — мне всегда нравилось
читать в своей тихой комнатушке с одной лампочкой под
высоким потолком и тоненькими тенями от паутинок по
углам. Но в этот раз не читалось. Я поймал себя на том,
что мне хочется думать о девушке-почтальоне. Почему
меня поразили ее глаза, что в них скрыто? Почему она,
несмотря на свою молодость (ей можно было дать не
больше двадцати), такая настороженная? Другая бы
хихикнула, стрельнула глазами, может, даже сумку отдала
бы, а эта только пугается...
На другой день я снова догнал ее с полной сумкой
за плечами (видно, конец мой работы совпадал с
приходом вечерней почты). В этот раз возле входа в наш
подъезд поздоровался, придержал дверь, чтобы она вошла, и
молча стал подниматься по лестнице мимо витража в
свою келью. *
— Вам письмо, — услышал я, и сердце мое сразу за-
344
стучало, будто ждало, что она заговорит, — вот так тихо,
несмело, как говорят люди очень смирные.
Я обернулся. Она стояла на первой ступеньке, хотя
почтовые ящики были у парадного, и держала в руке
конверт. Я сошел вниз, взял протянутое письмо —
при этом она смотрела себе под ноги — и сказал
довольно сухо:
— Спасибо. У вас хорошая память.
Она быстро взглянула на меня снизу вверх, и в
глазах ее было столько стыдливости, что я спросил мягко:
— Как вас зовут?
— Галя, — прошептала она, не поднимая глаз9
повернулась и быстро пошла к ящикам.
В тот вечер я долго сидел на подоконнике, не
раздеваясь, не включая света, потому что в моей комнате и
так было видно от фонаря с улицы, и смотрел на церковь.
Батарея под подоконником грела мне ноги, в подъезде,
как всегда, тренькала гитара, возле столба у церкви
дрались на снегу бездомные собаки, и я чувствовал себя
очень одиноко.
Ночью меня лихорадило, я укрылся поверх одеяла
еще и пальто, но все равно было холодно. Тогда я
поднялся, включил плитку и поставил ее возле «Потапыча».
Стало вроде теплее, я лежал и смотрел, как спирали из
красных становятся постепенно темно-вишневыми, потом
белыми. Мимо окна, внизу, по тротуару, оттаявшему
после гололедицы, бойко постукивали чьи-то каблучки:
вниз-вверх, вверх-вниз... Я лежал и думал: а вот Галя
не решилась бы так лихо, вызывающе цокать каблуками
под окном больного человека...
На следующий день мне стало еще хуже, температура
поднялась, вероятно, к тридцати девяти, в глазах
мерцали желтые круги и непрестанно хотелось пить. Я
оделся, едва держась на ногах, и поплелся в аптеку За
аспирином. По дороге позвонил из автомата в общество и
сказал, что прийти на работу не смогу. Говоря
откровенно, я был рад, что заболел и теперь несколько дней буду
сам с собою и обдумаю, что мне делать дальше.
Вечером прибежал Степан. В его глазах было столько
тревоги и сочувствия, такого трогательного, что, когда
он осторожно подсел ко мне, я легонько сжал его
плечо — мне так хотелось обнять друга, а сказал
только:
— Спасибо, Степа, что навестил.
Он понял меня, замигал влажными добрыми глазами,
345
засуетился и, схватив плитку, понес ее в «переднюю» к
розетке.
— Сейчас я тебе такое вкусное блюдо сотворю, —
сказал, — что ого-го-го. Ужин богов.
Есть мне не хотелось, но я смолчал.
— Я и не знал, что с тобой плохо, — говорил
Степан, шаря в «холодильнике», — но, представляешь,
приснилось, будто ты джигитуешь на черном коне. А конь —
это же ясно: болезнь. Моя мама страх боится, когда
приснятся кони.
— Так это тебя конь и привел сюда? — спросил я,
улыбаясь.
— Нет, понимаешь, я позвонил тебе на работу, а там
говорят, что ты заболел. Конь — это так... Может, он мне
и не снился, а только привиделся, когда я уже сюда
бежал. Со мной такое часто бывает.
Милый Степан. Он никогда не соврет, не украсит себя
словом, а скажет так, как оно было, хотя это порой и не
в его пользу.
И мне припомнилось, как однажды Степана,
отличника и персонального стипендиата, «погнали» с экзамена
по истории средневековья за то, что он, спасая нашего
однокурсника Шурку Хоменко, поменялся с ним билетом,
потому что Шурка «горел». Преподаватель заметил эту
нехитрую операцию и выставил обоих. Шурка, покраснев,
вышел, а Степан остановился у преподавательского
столика и решительно сказал:
— Вы не коллективист, Алексей Самойлович. В армии
нас три года учили помогать товарищу, если ему трудно,
словом и делом. А вы... Эх, вы! Хоменко неделю перед
этим болел, как вам известно, и не успел подготовить
всего материала. Так что же ему — оставаться без
стипендии?
Я еще никогда не видел Степана таким отчаянным,
как в тот раз. Он, не спрашивая разрешения, взял со
стола второй билет и без подготовки начал отвечать.
Но преподаватель не захотел его слушать, поставил
тройку и выслал из аудитории. Потом отвечал я. Плел
всякую несуразицу, пока не заработал тройку. Это была
сладкая тройка — тройка солидарности. Мы,
конечно, были не правы, но счастливы...
Мы ужинали жаренным на масле луком, даже выпили
из подаренного мне «Вакхом» серебряного стаканчика,
после чего я почувствовал себя еще хуже, но это было
346
неважно: ведь мы снова, как и в институте, вдвоем^
вместе.
Мне не стало лучше и назавтра. К тому же на Узвозе,
как раз против моего окна, снимали фильм. Гудели
машины, ревел авиационный мотор-ветрогон, кричали в
микрофон:
— Бабшка! Бабшка! Не смотрите в камеру, не
улыбайтесь, умоляю вас. Начнем сначала.
Я встал и подошел к окну. Ниже по Узвозу, метров
за сорок от камеры, возле которой толпились актеры в
форме белогвардейских офицеров, стояла знакомая мне
бабушка в долгополом замасленном пальто и покрытая
бог знает какой давности платком. Эта бабушка каждый
день брела по нашей улице со связкой каких-то дощечек
или с узлом бутылок и банок и всегда говорила сама с
собой. На Узвозе ее звали Розочкой. Розочка и сейчас
была со связкой дощечек.
— Снег! — крикнул режиссер в микрофон, и это
прозвучало как «По врагу!». Заревел авиационный двигатель
на колесах, бешено завертелся пропеллер, наполняя
улицу пронзительным свистом, а рабочие стали быстро, как
в немом кино, кидать лопатами снег в мощную струю.
Снег полетел навстречу старухе, ветер рванул полы
длинного ее пальто... Вероятно, этот кадр назывался
так: «Метель. Ветер. Одинокая старушка с вязанкой
дров».
— Мотор! — снова крикнул режиссер, и это
прозвучало, как «Огонь!».
Старушка поплелась вверх по Узвозу, но,
поравнявшись с камерой, — тут, наверно, несчастная женщина
вышла крупным планом — обернулась, к ней и беззубо,
по-идиотски, улыбнулась прямо в линзу!
— Стой! — отчаянно завопил режиссер. — Бабушка,
я же вас просил: не улыбайтесь! Свою очаровательную
улыбку вы нам подарите после съемок. А сейчас ваше
задание идти, и все, больше ничего. Понимаете? Я
доплачу вам еще трояк, только не улыбайтесь!
Бабушка кивала головой и не улыбалась.
Я лег, потому что меня трясло.
И снова ревел мотор, и снова были: «Снег!»,
«Мотор!»... На этот раз Розочка, должно быть, сделала то,_
что от нее требовалось, потому что больше ее не
упрекали.
Вечером ко мне тихонько постучали. Я подумал, что
это тетенька Дуся — она навещала меня после работы,
347
носила чай со всяким зельем и вареньями, — накинул
одежду и отпер дверь. За нею стояла Галя.
— Простите, — едва слышно прошептала она, глядя,
как и тогда, когда догнала меня с письмом, себе под
ноги. — Там был полный ящик, и мне уже некуда класть
вашу почту...
Я взял из ее рук газеты и журналы и сказал хрипло
(вечно меня подводит голос):
— Заходите, отдохнете немного.
— Нет, нет, — испуганно выдохнула она, быстро,
исподлобья глянула мне в глаза и побежала по лестнице
вниз, а я стоял в открытой двери, в которой уже гудел
сквозняк из подъезда, и вдыхал холодный запах свежих
газет — так дома я вздыхал в сумерках запах маттиолы,
политой студеной колодезной водой...
Вот и все, что было между нами.
После выздоровления я еще не видел ее. Заходил
несколько раз на почту, чтобы хоть заглянуть в ее глаза,
такие родные мне. Но напрасно: Гали не было. Узнал
только, что она с недавних пор работает на
«телеграммах», то есть разносит телеграммы, и застать ее
трудно.
Но завтра, в воскресенье, я непременно найду ее. Буду
стоять у почты с утра до вечера. Потому что не верю,
чтобы встреча наша была случайной.
...Солнце уже, наверно, заходило, потому что кресты
на Андреевской церкви оранжево засияли, а латка воды
в Днепре, которую мне видно из окна сквозь безлистую
еще берестовую ветку, сделалась густо-синей — это
упала на нее тень от круч. В эту пору я люблю сидеть на
холме за нашим домом, откуда видно, как солнце
прячется между кручами, как по тихой древней улице внизу
снуют маленькие люди и солнце осыпает их желтой
прощальной пыльцой...
За стеной начали ссориться мои соседки:
— Ты опять купила ржавую селедку? — гневалась
Лидия Константиновна. — Разве ты не видела, что у нее
голова уже отваливается?
— Пойди купи получше! — как всегда, с холодным
вызовом отвечала дочь, сердито стуча по полу толстыми
каблуками.
Скоро она завела свое: «Как мне бы-ы-ыть...»
Я быстро оделся и пошел на кручи, через двор, мимо
длинного ряда сарайчиков со всякими ненужными
вещами, лодками и мотоциклами. Под стенами сарайчиков уже
348
взошла крапива и тихо пахла в вечерней
влажности. Между густыми кустами дерезы на склонах —
чистая, мягкая просинь. А нижней улицей еще текла река
желтой солнечной пыли, и в ней сновали маленькие
люди.
Солнце уже коснулось горизонта. Оно было круглое,
густо-красное и такое торжественное, что говорить с ним
достойно было бы разве только на древнегреческом
языке. Но я не знал древнегреческого и шел в просини,
между кручами, тихо шепча:
— Ave Sol, ave Sol*. Скоро я уже не увижу тебя с
этих круч... Но ведь ты одинаково всюду.
* Будь, солнце (латин.).
СОДЕРЖАНИЕ
Олесь Гончар. Живописец правды. Авторизованный
перевод с украинского Н. Дангуловой 3
РАССКАЗЫ
Тысячелистник 10
Три плача над Степаном , . . 22
У Кравчины обедают 31
Отдавали Катрю замуж 39
Хлопоты * 58
Устин и Оляпа. Семейная история * 69
Сын приехал 84
Мягкий 101
Затмение 108
На перекате 111
Нюра 118
«Козочка» 129
Грамотный 139
Смерть кавалера 152
«Три зозули с поклоном...» 163
Пусть играют! 168
Крайнебо 177
Багровый сумрак 184
Иван Срибный * 187
ПОВЕСТИ
Климко 206
Огонёк далеко в степи 255
День мой субботний 310
«Холодная мята», «Советский писатель», 1981 г.
Тютюнник Г. М.
Т98 Огонёк далеко в степи: Рассказы и повести
/Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой; Вступ. ст.
О. Гончара. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 350 с, ил.
В пер.: 1 р. 50 к. 100 000 экз.
В новую книгу известного украинского писателя Григора
Тютюнника, переведенную на русский язык, вошли
рассказы, написанные им в последние годы, и лучшие его
произведения этого жанра, уже знакомые всесоюзному читателю —
в большинстве своем они посвящены труженикам
современного украинского села; а также повести: «Климко» и
«Огонёк далеко в степи» — о трудном военном и послевоенном
детстве украинских детей и подростков, удостоенные в
республике литературной премии имени Леси Украинки за
1980 год, и «День мой субботний» — о молодом человеке,
выходящем после окончания вуза на самостоятельную
дорогу жизни.
4702590200—109 ББК 84Ук7
Т 078(02)-82- 163~82 С(Укр)2
ИБ № 2677
Григор Тютюнник (Григорий Михайлович Тютюнник)
ОГОНЁК ДАЛЕКО В СТЕПИ
Редактор А. Гремицкая
Художник Ю. Логвин
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Н. Носова
Корректоры Н. Самойлова, В. Назарова
Сдано в набор 06.10.81. Подписано в печать 15.03.82. А06474.
Формат 84Х1087з2- Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,48+
+0,10 вкл. Учетно-изд. л. 20,0. Цена 1 р. 50 к. Тираж 100 000 экз.
Заказ 1697.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и
типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.