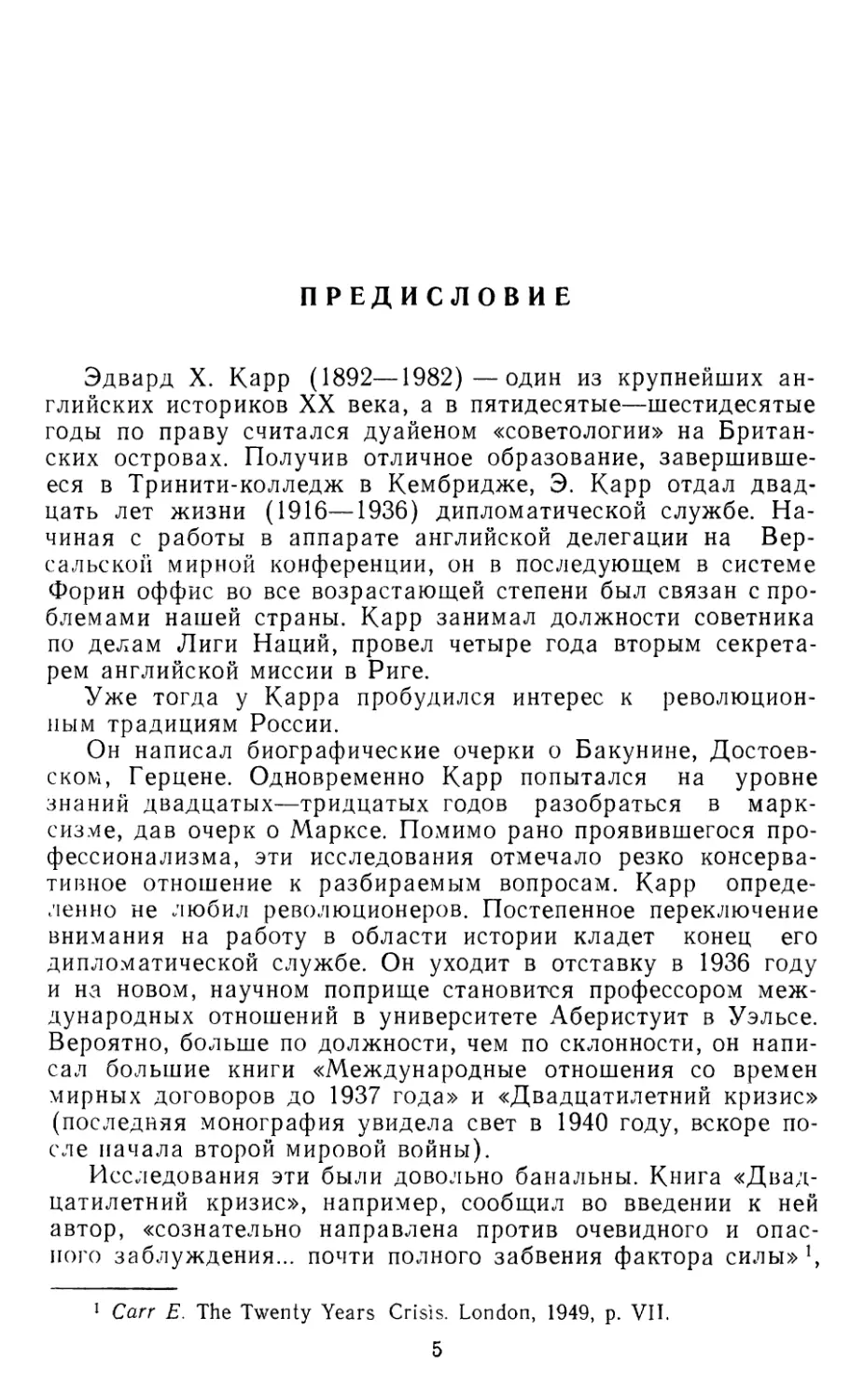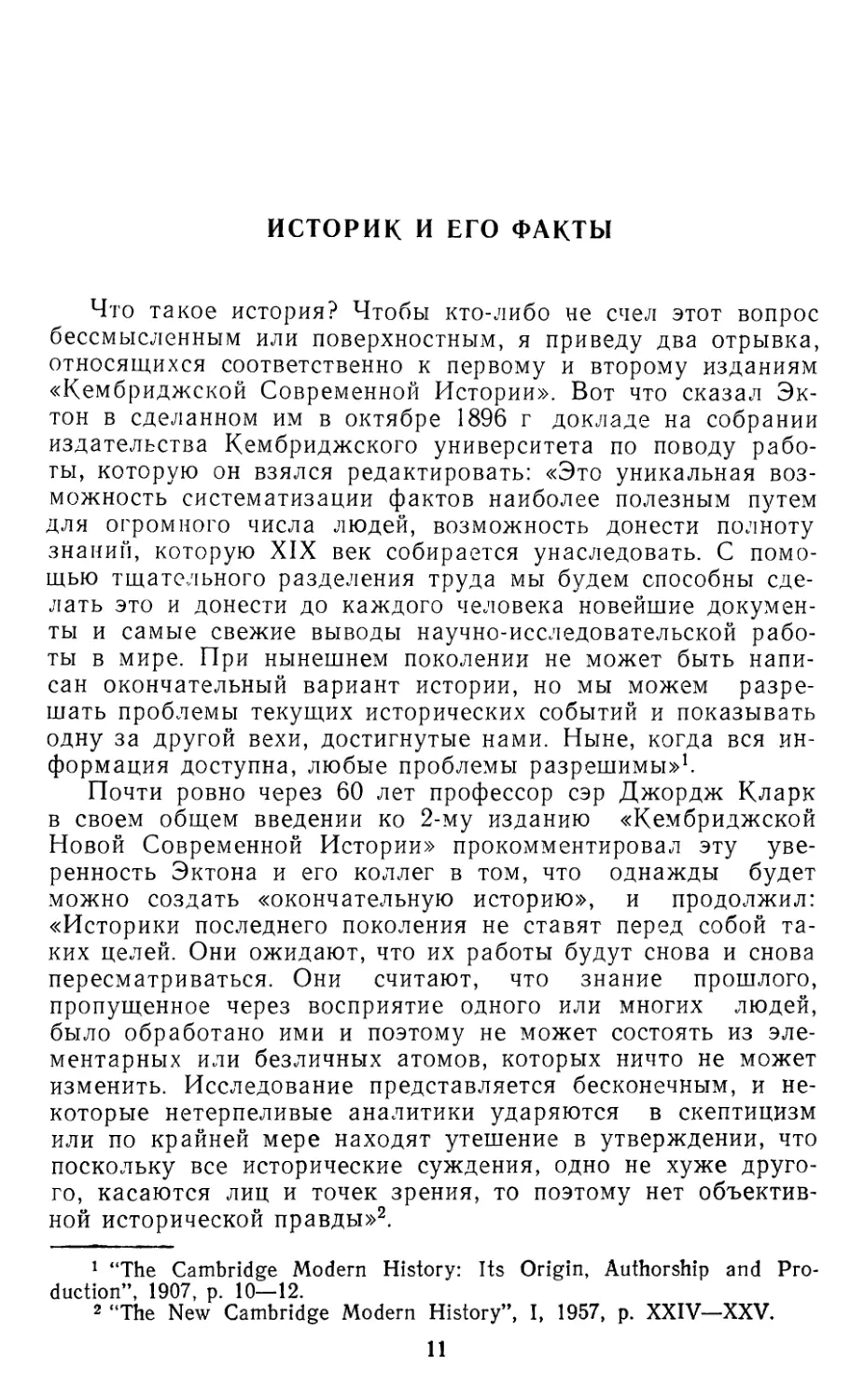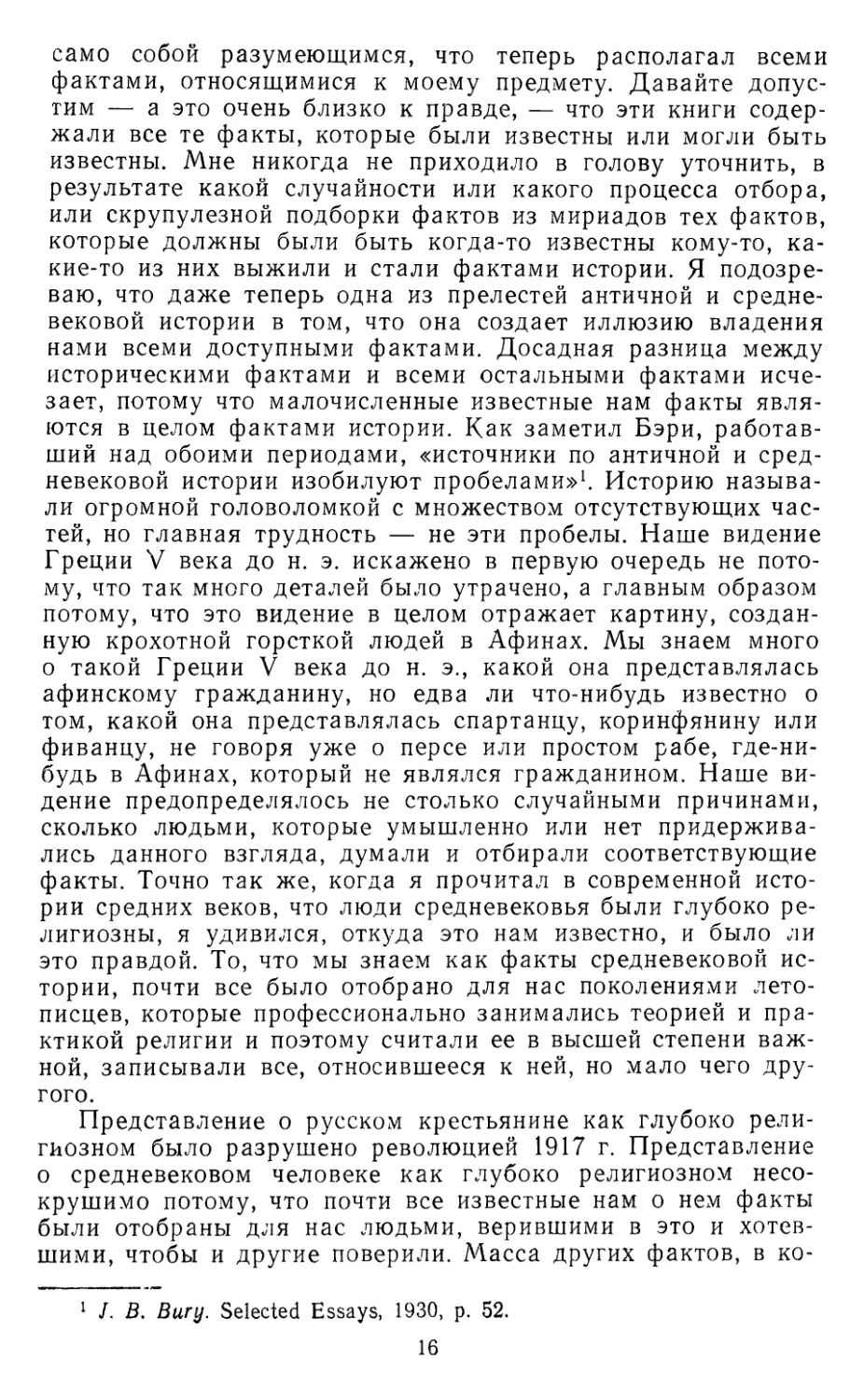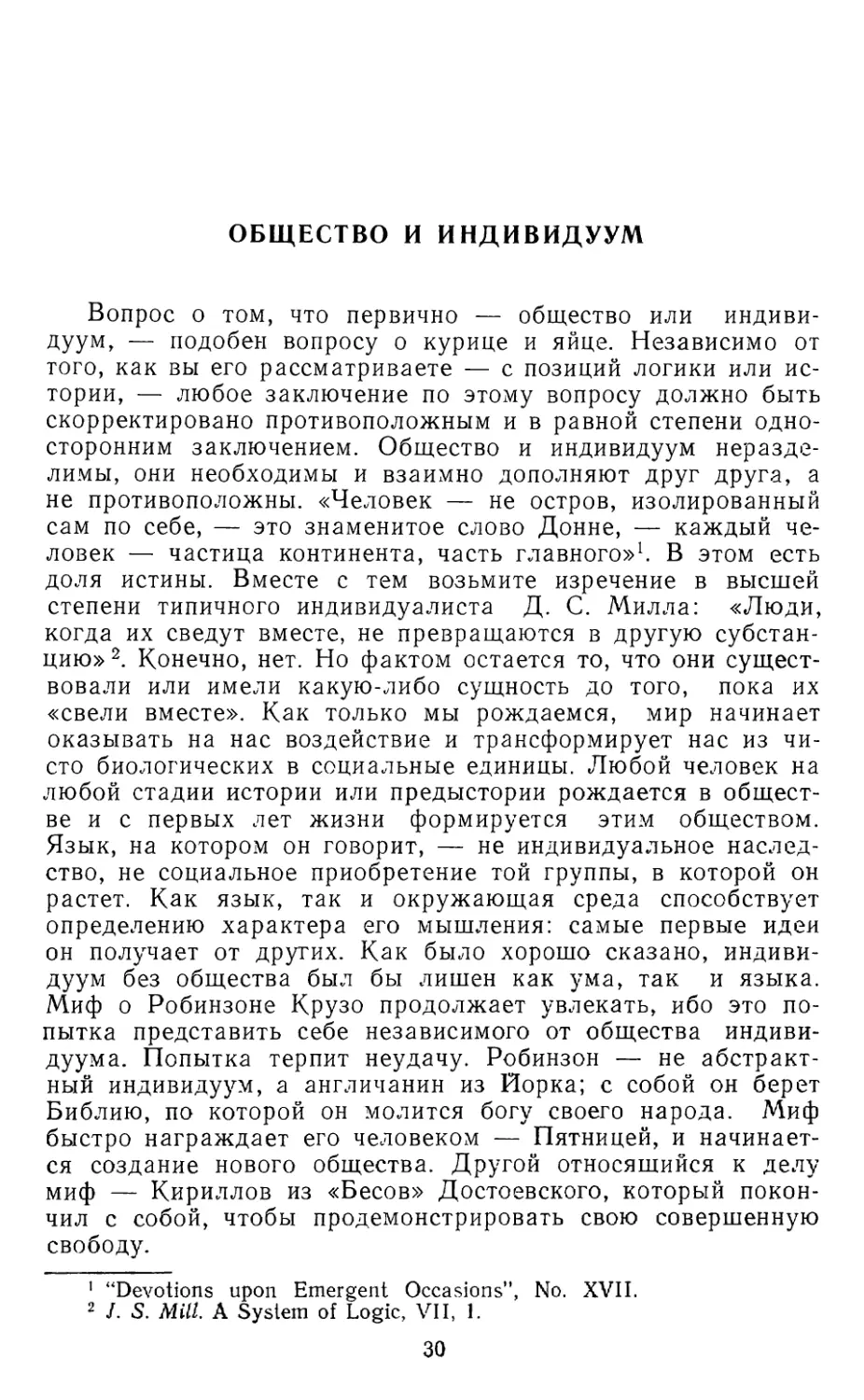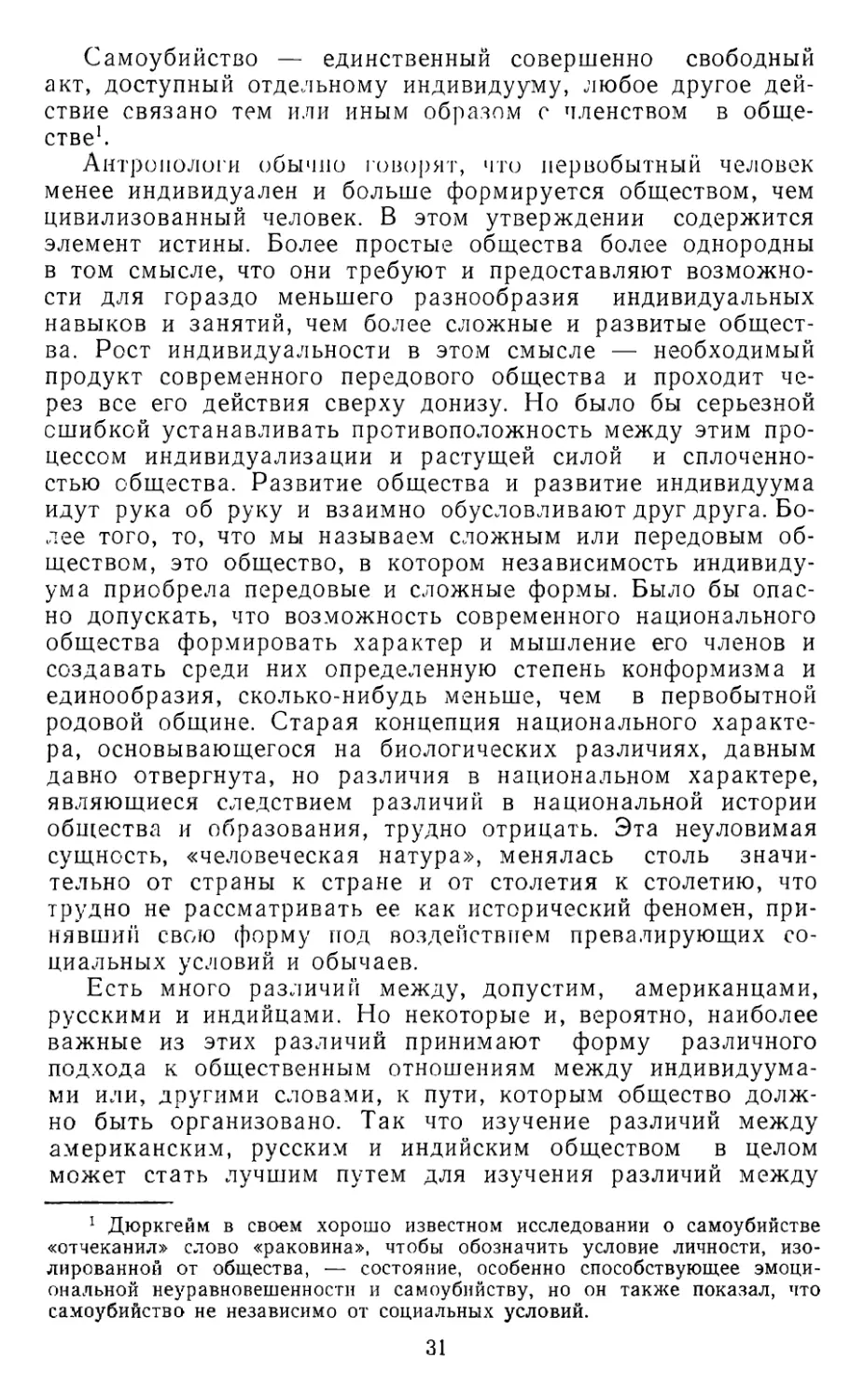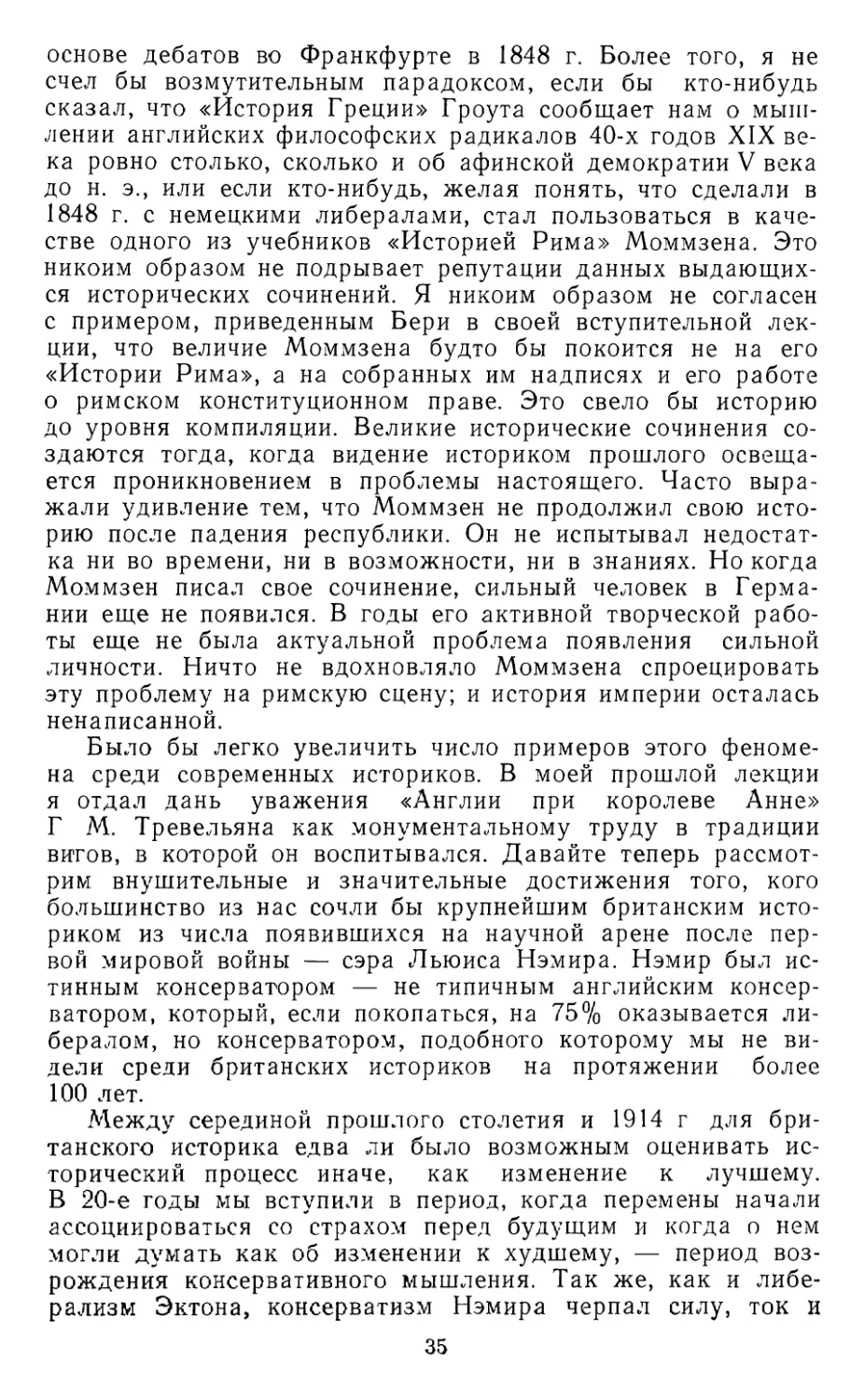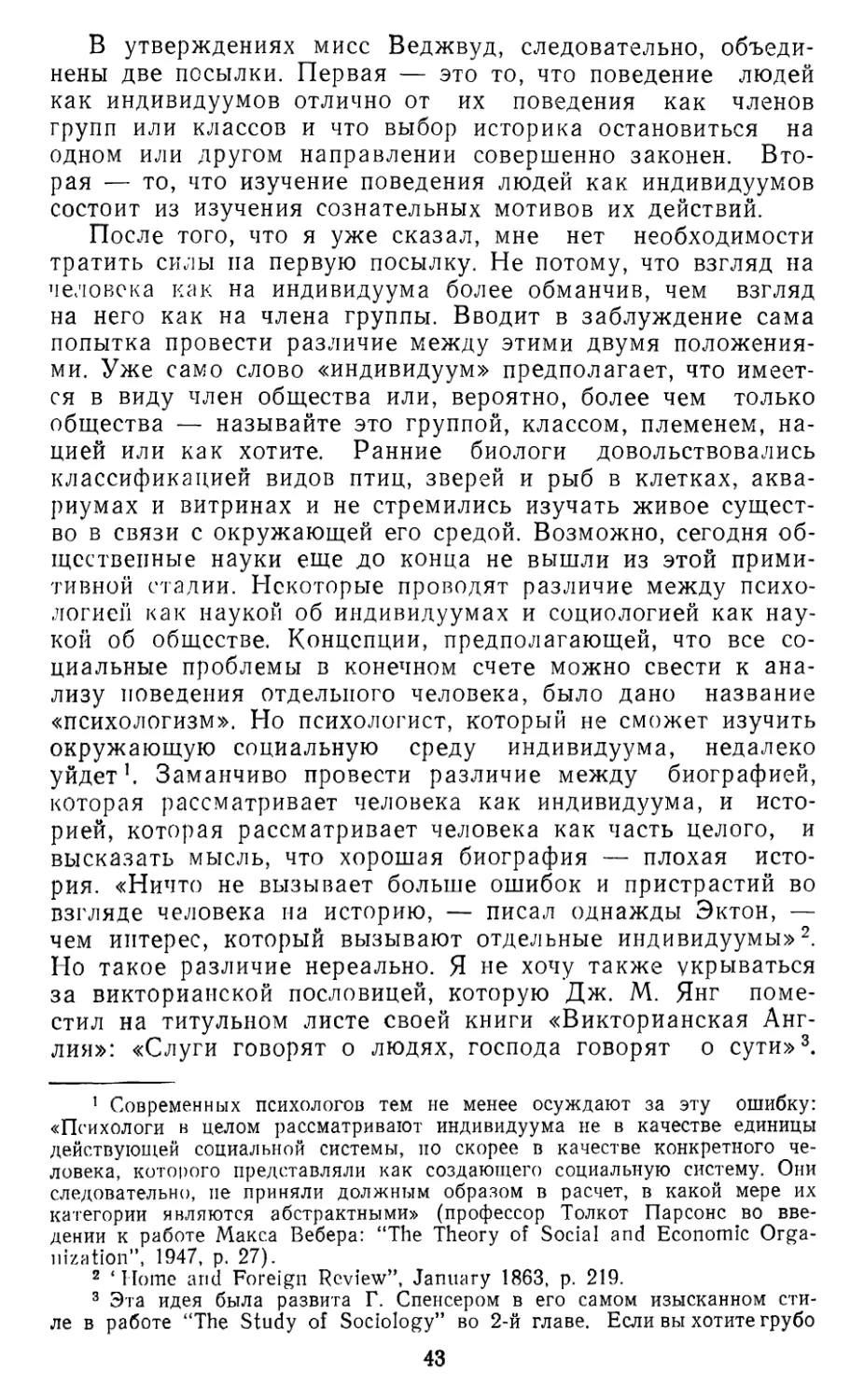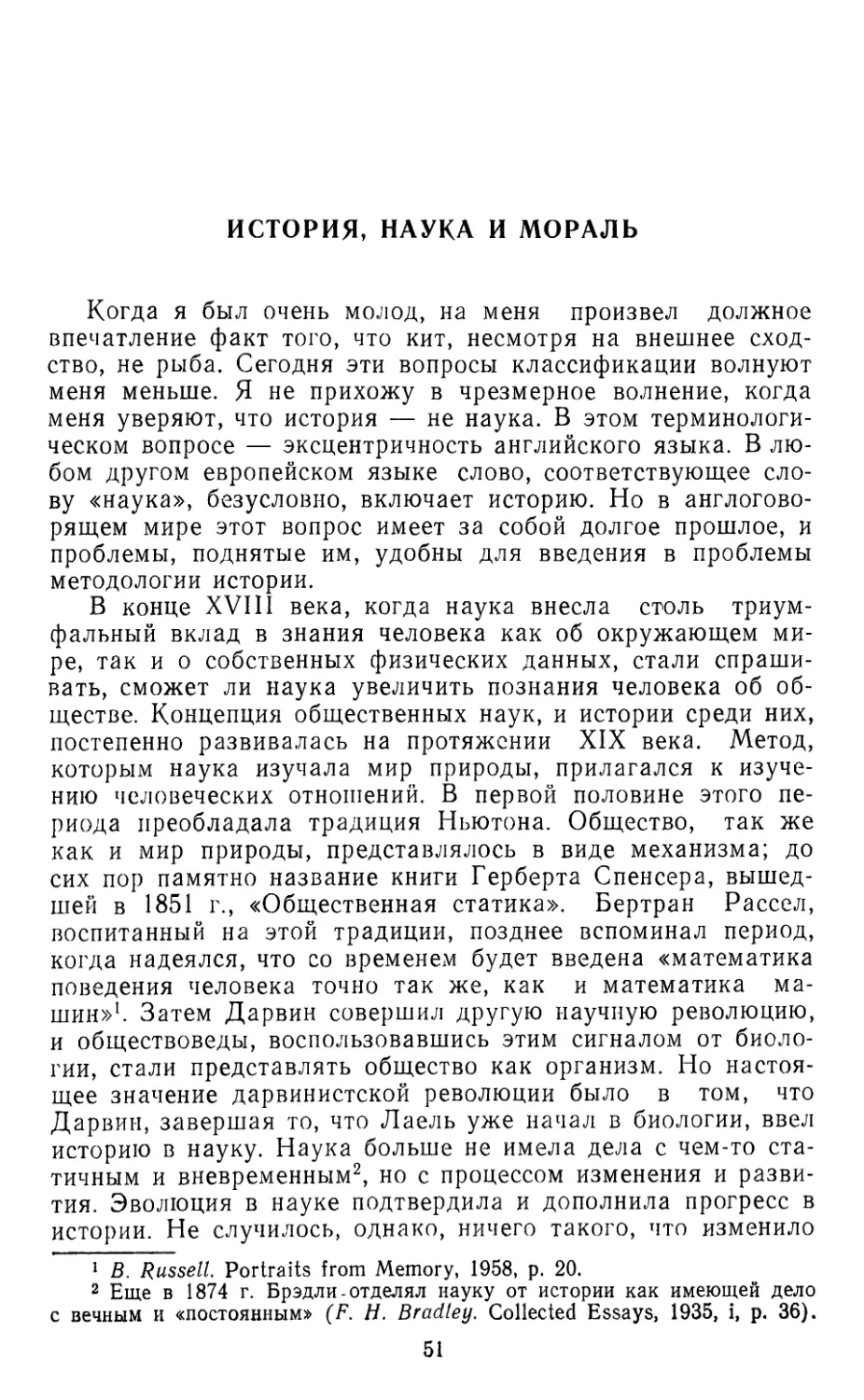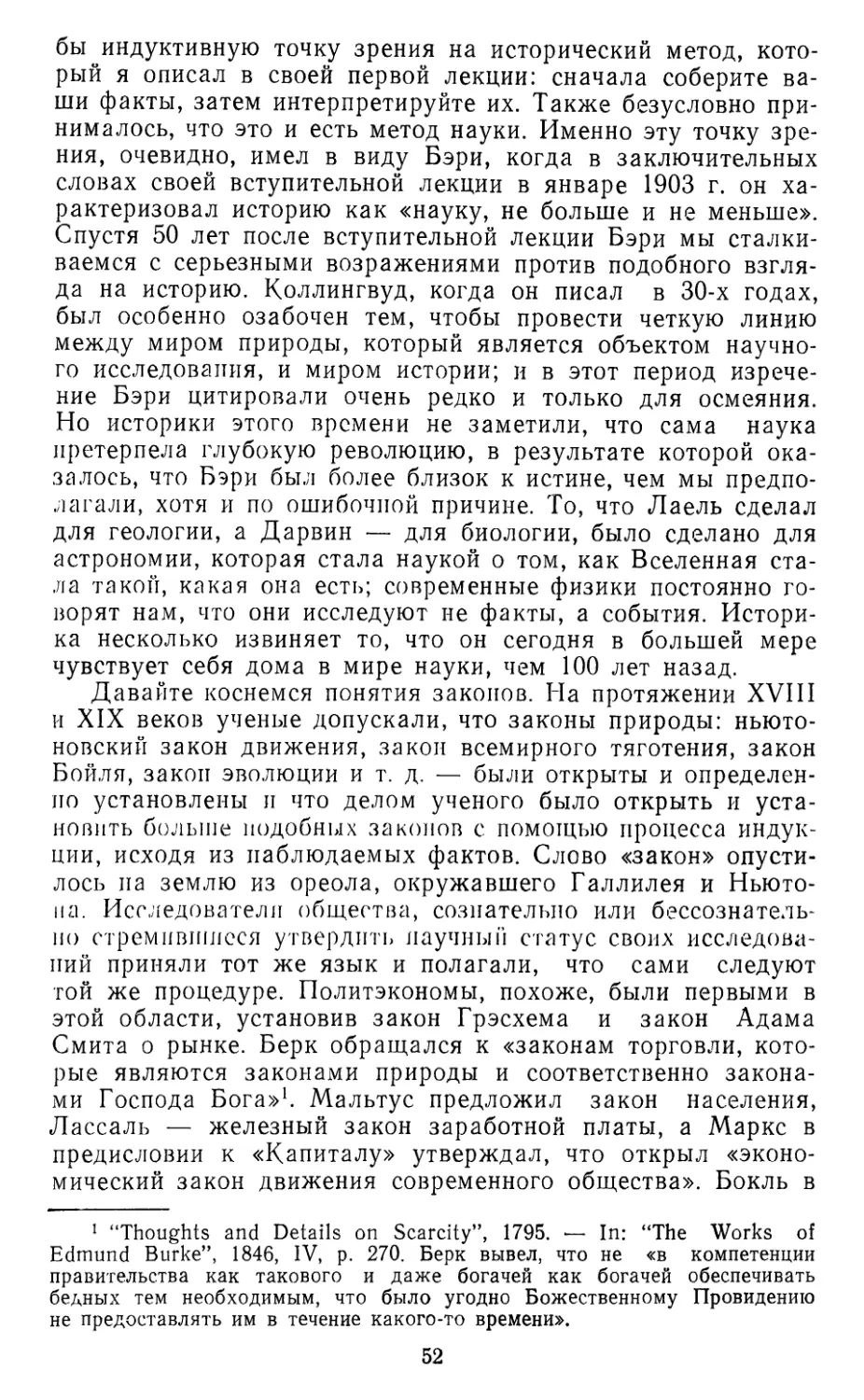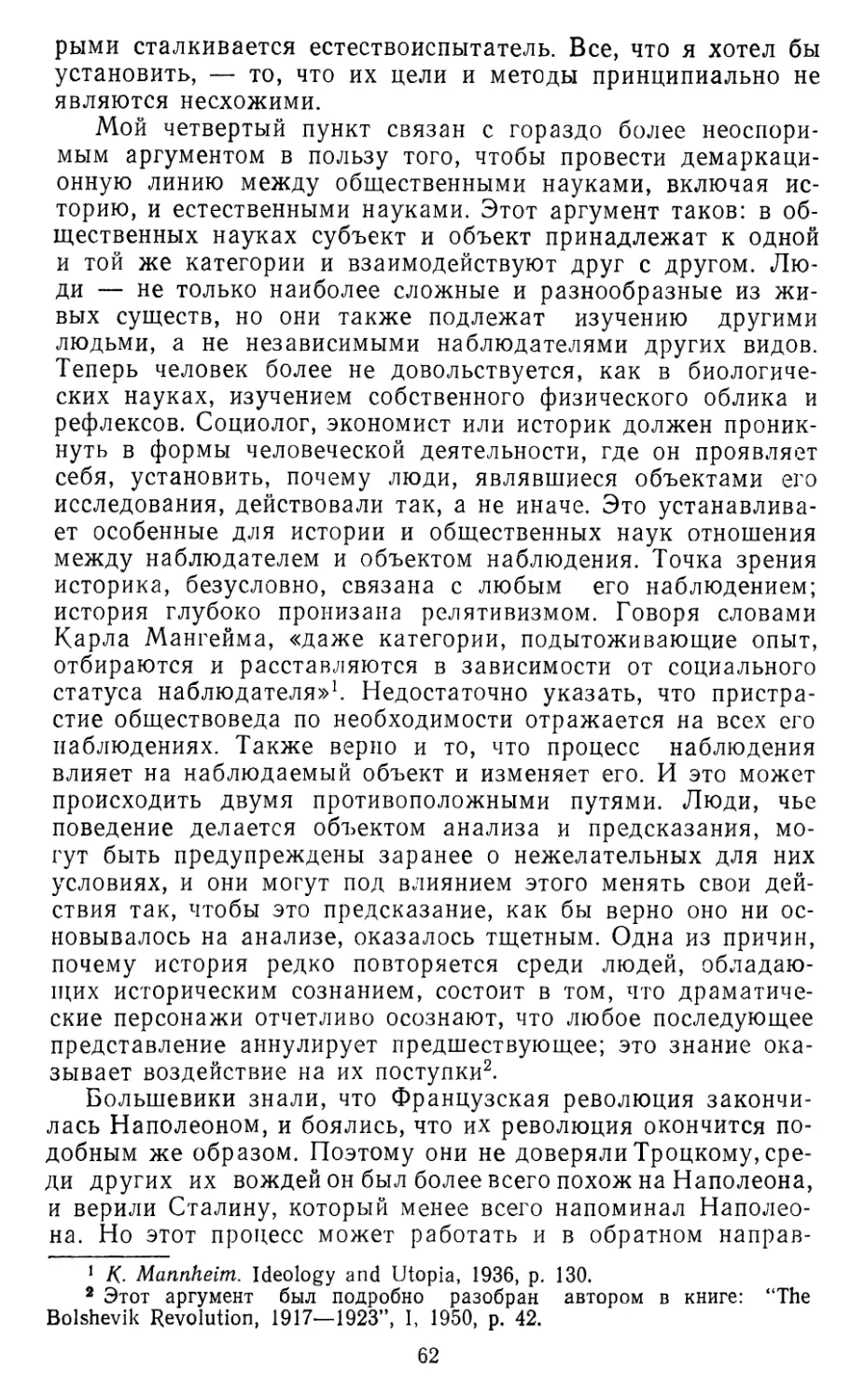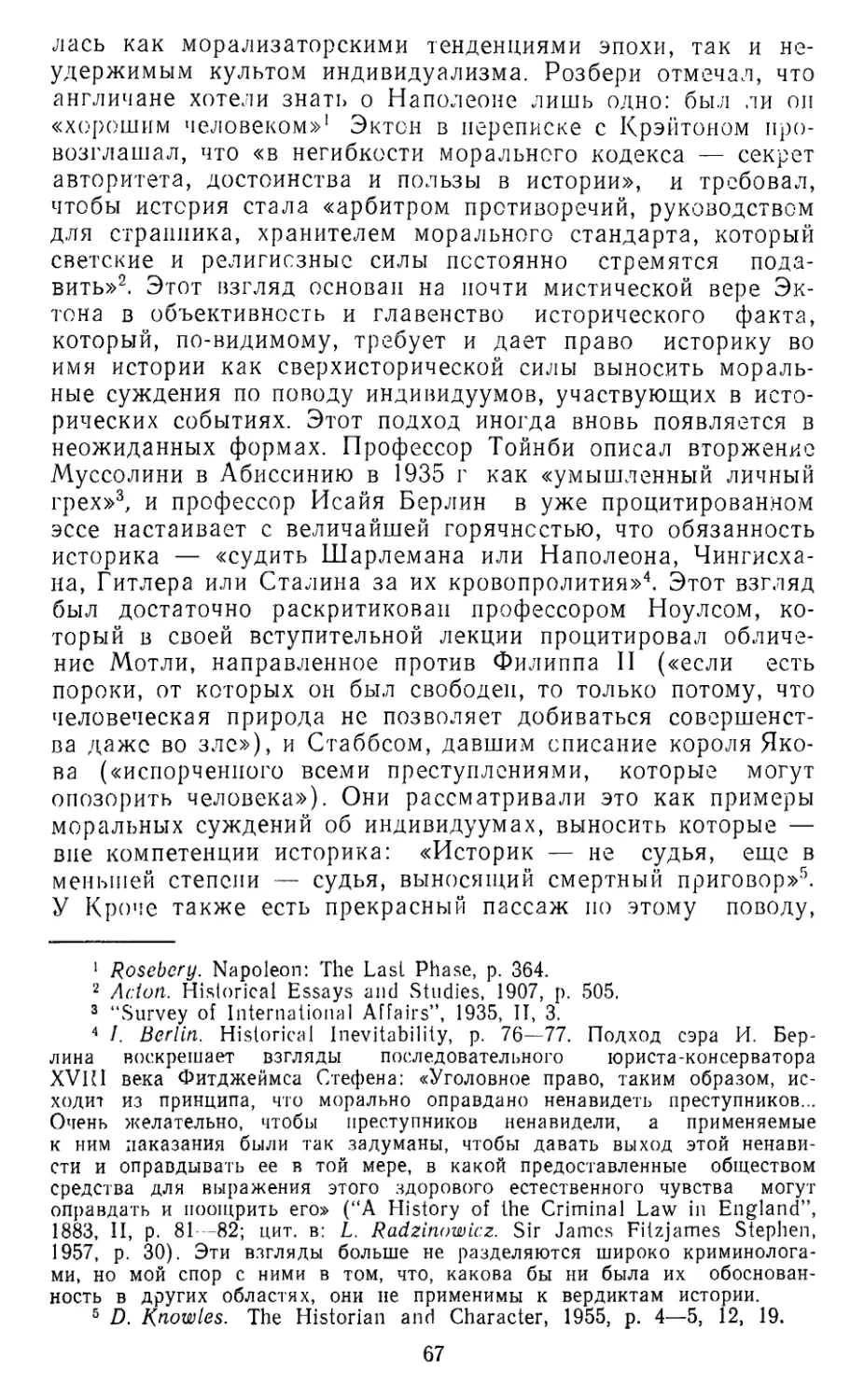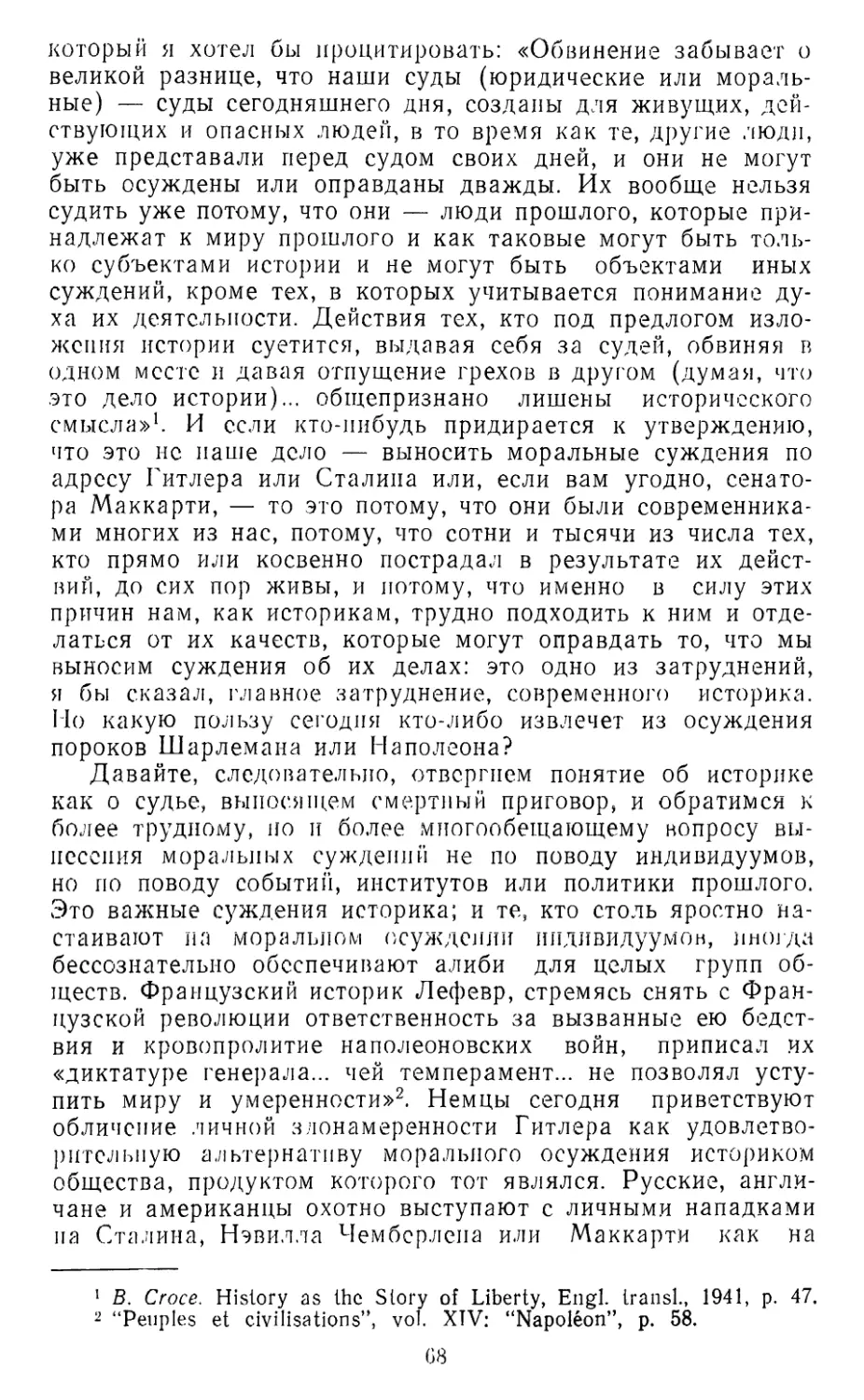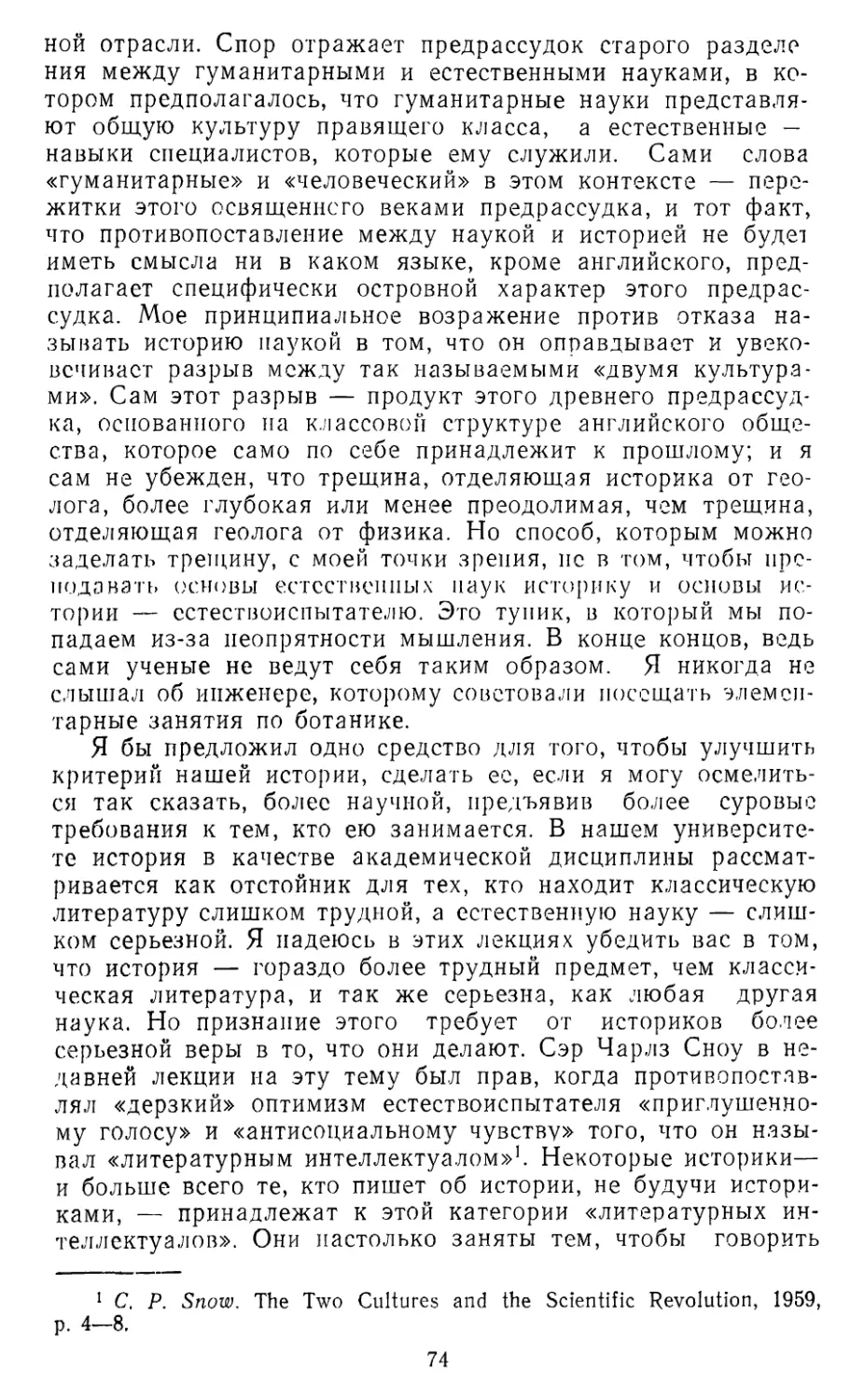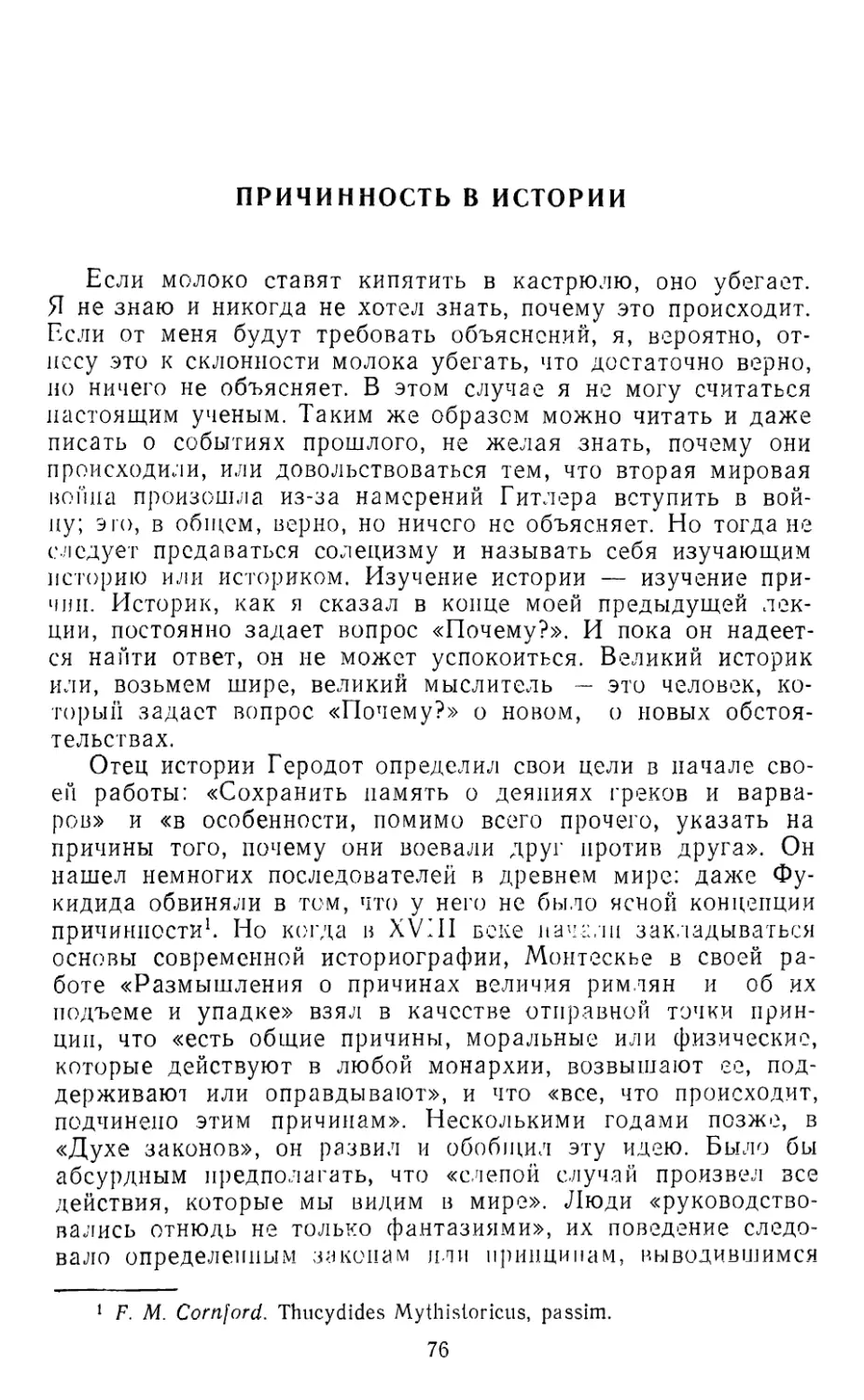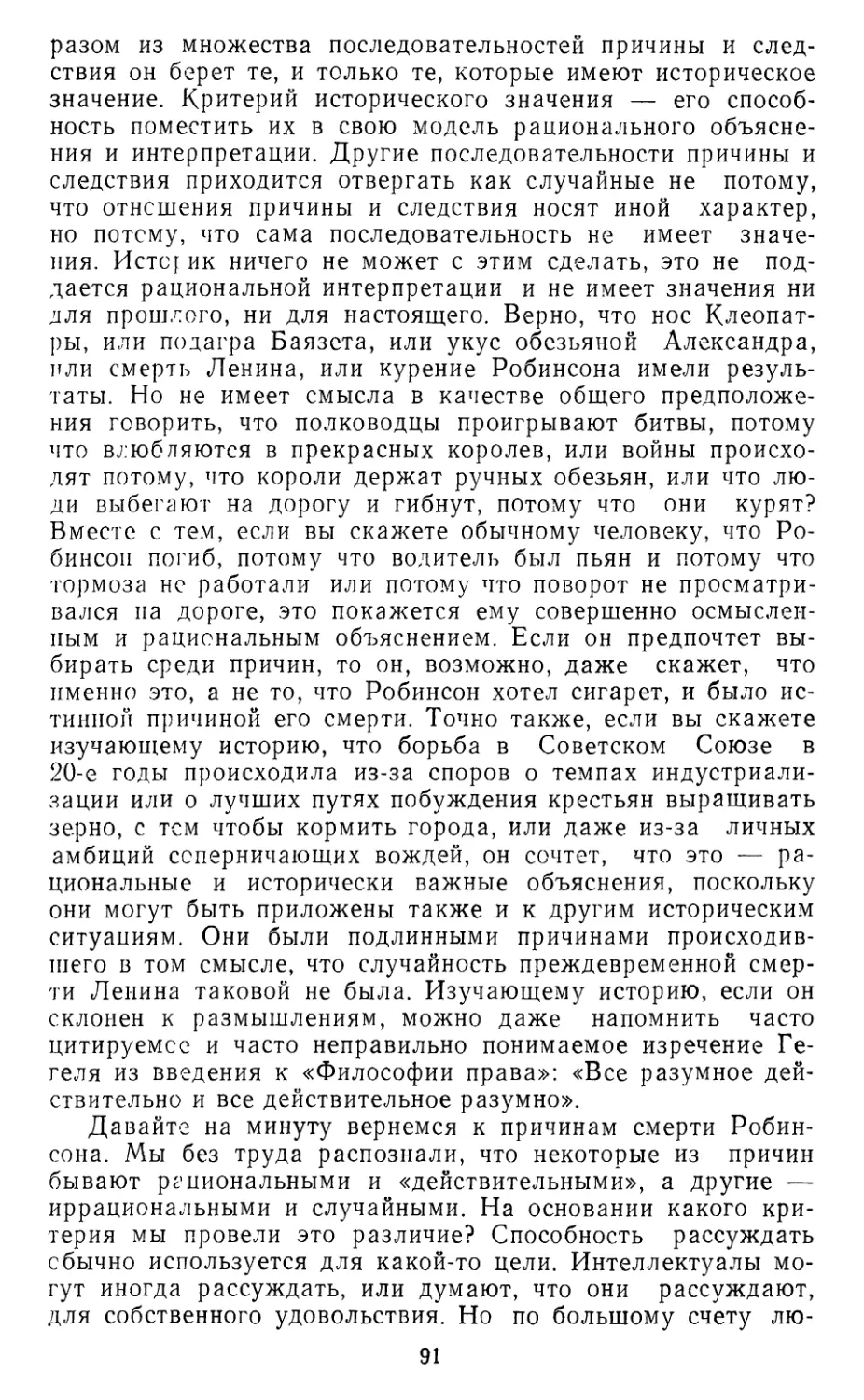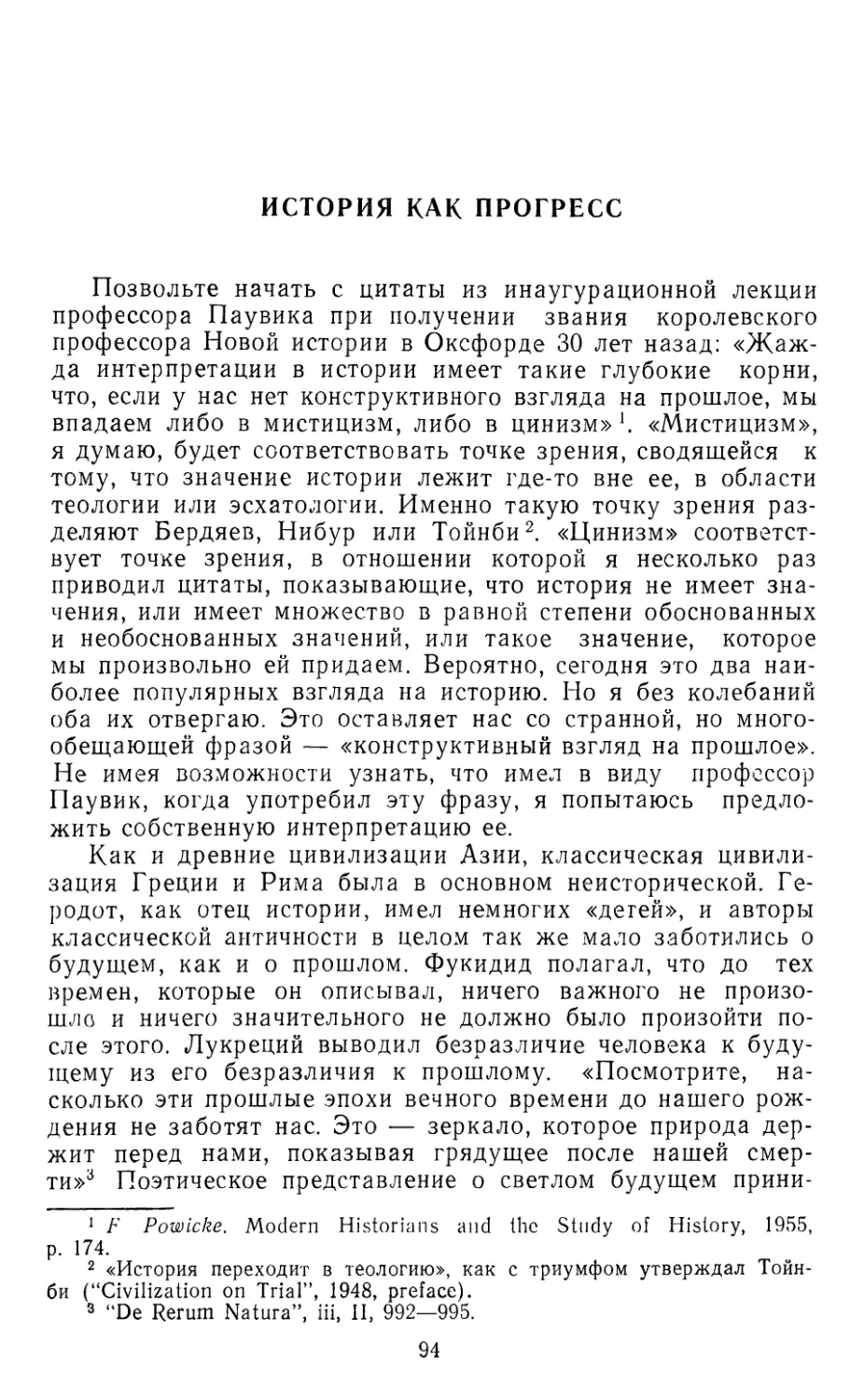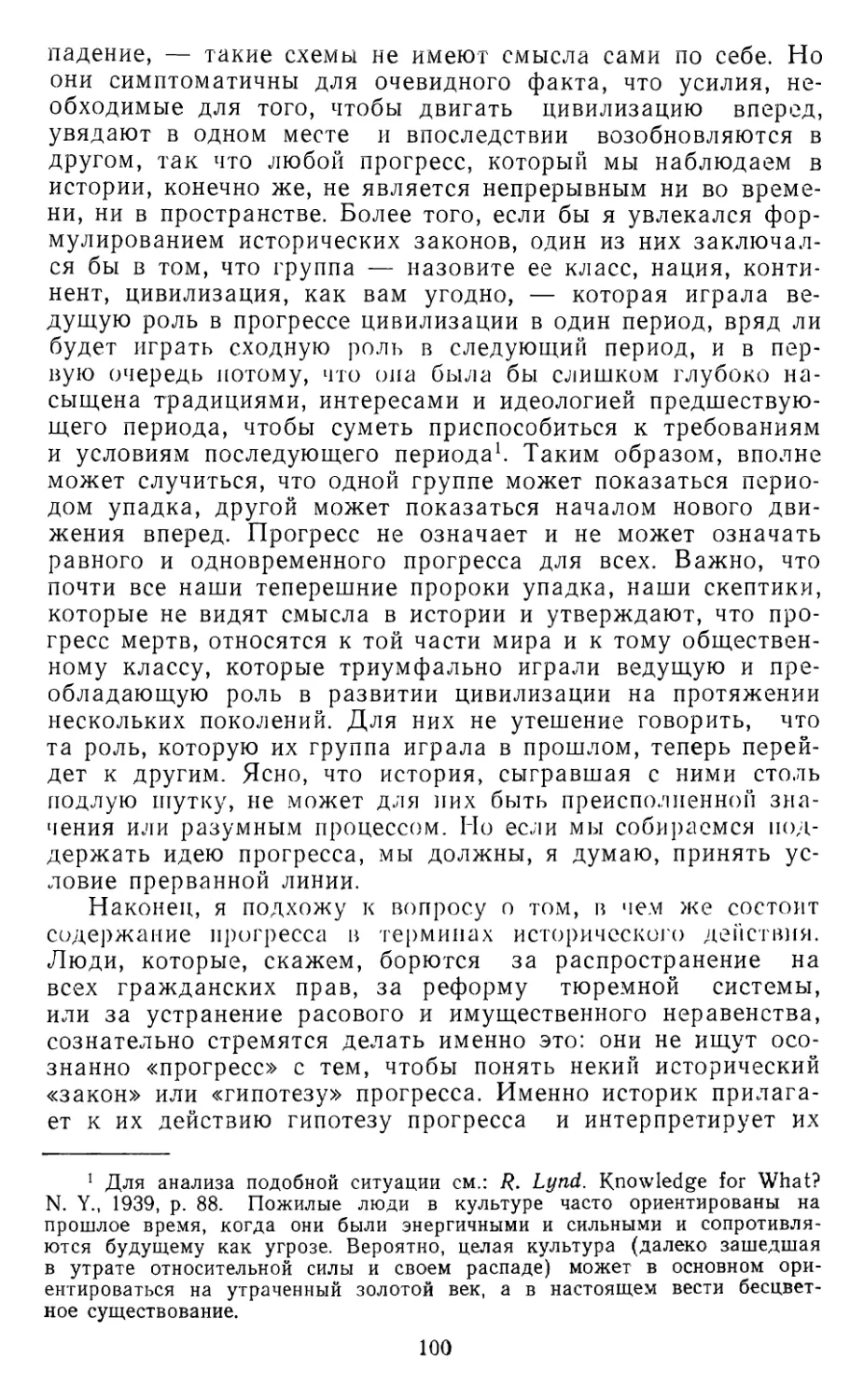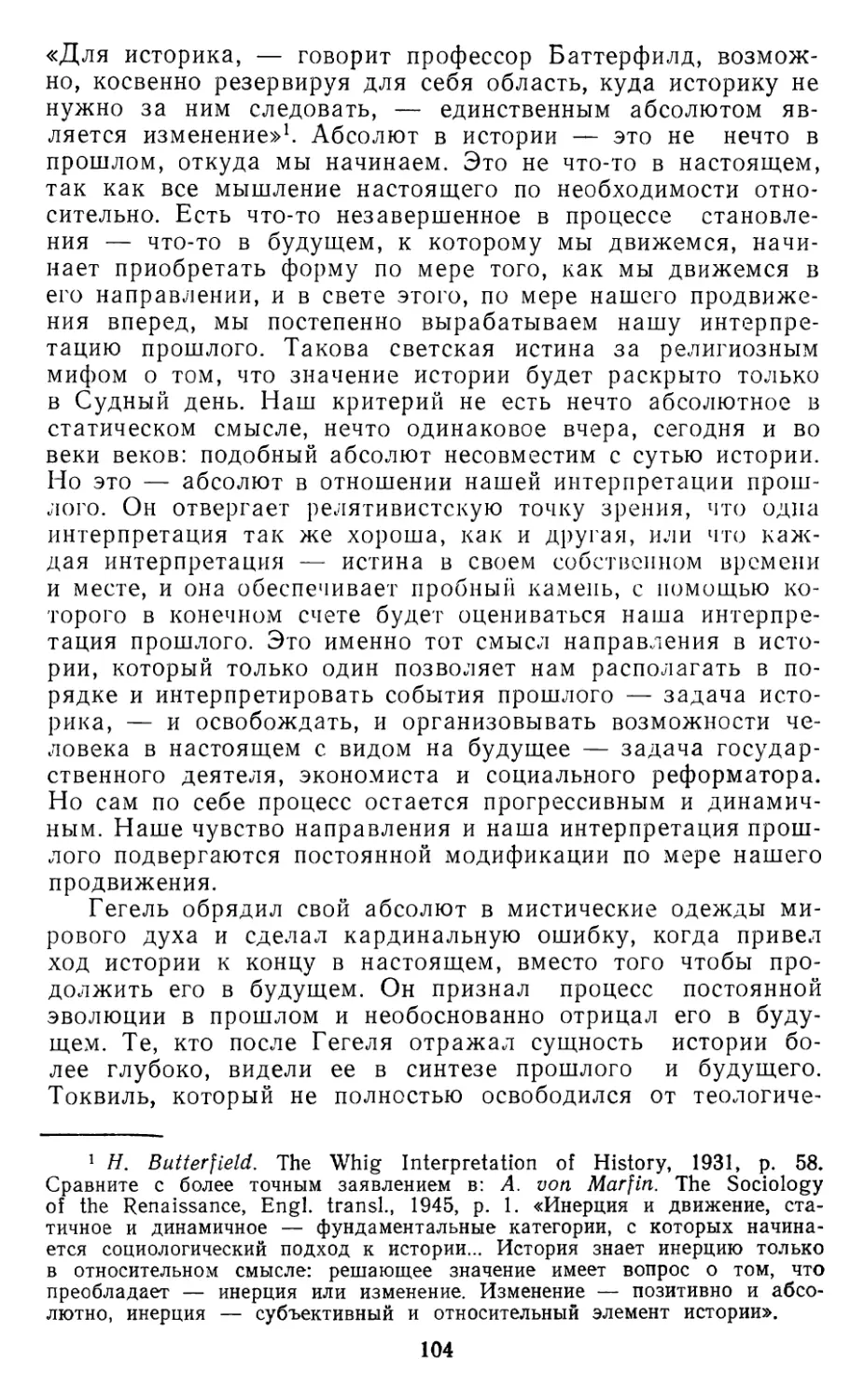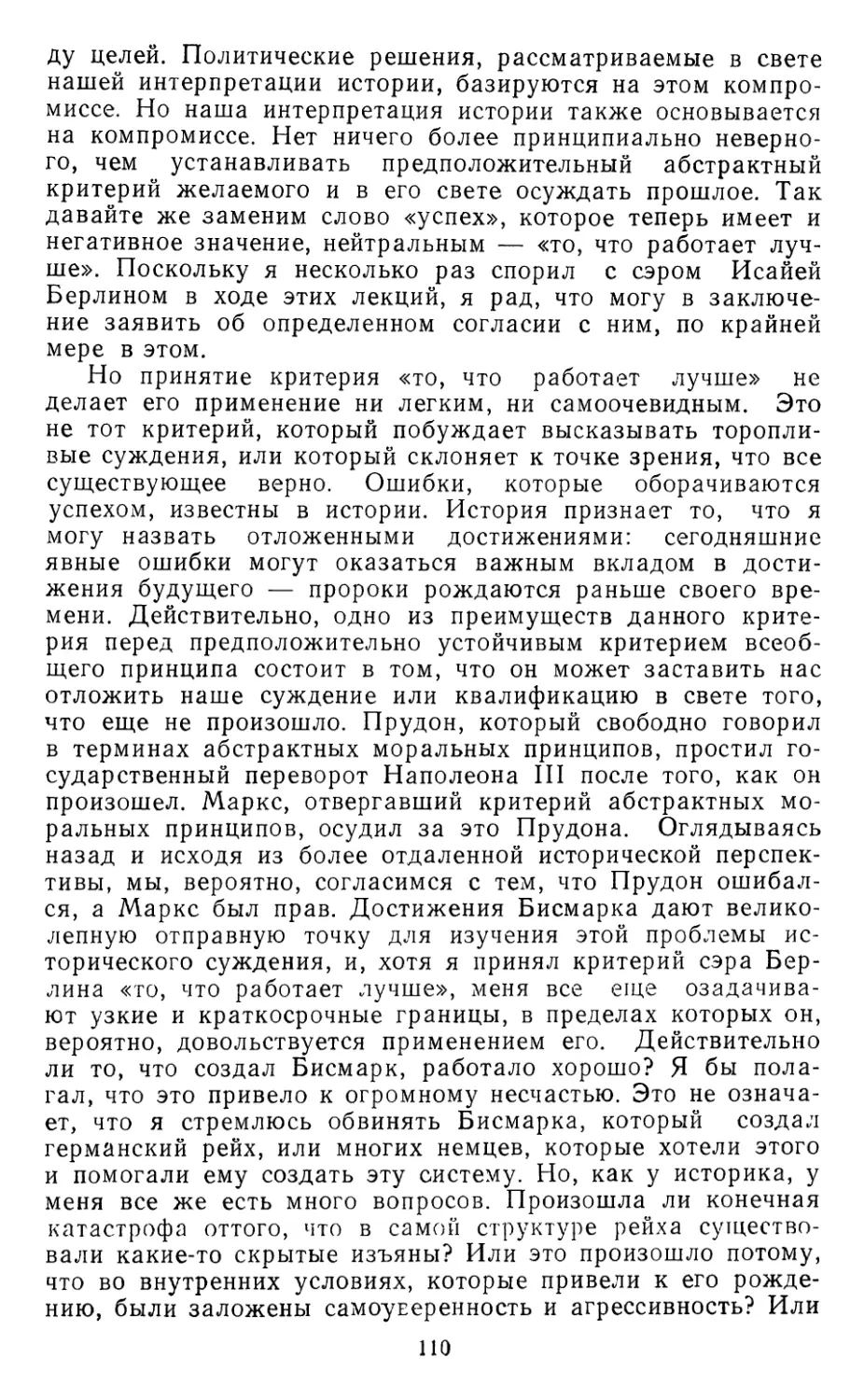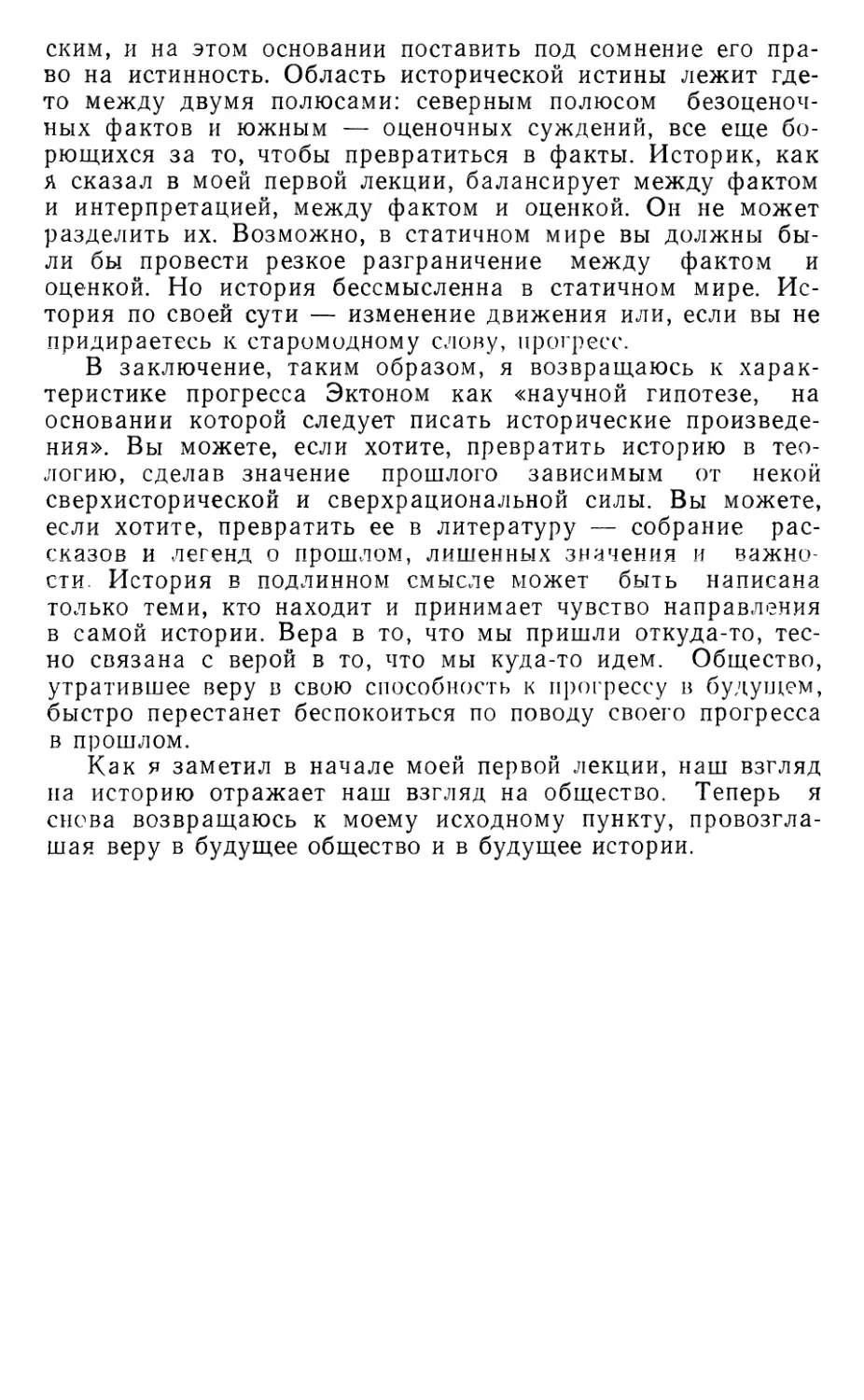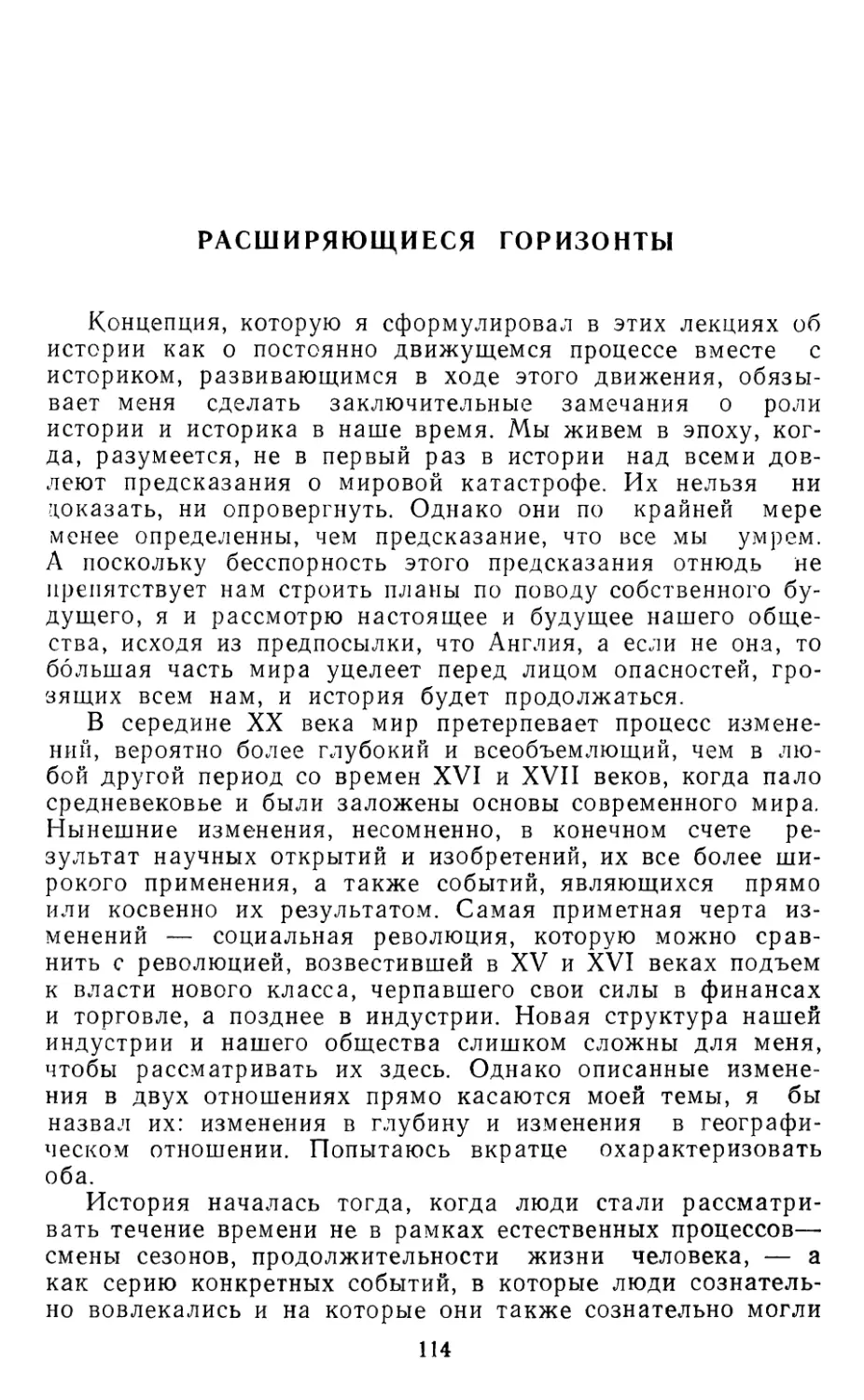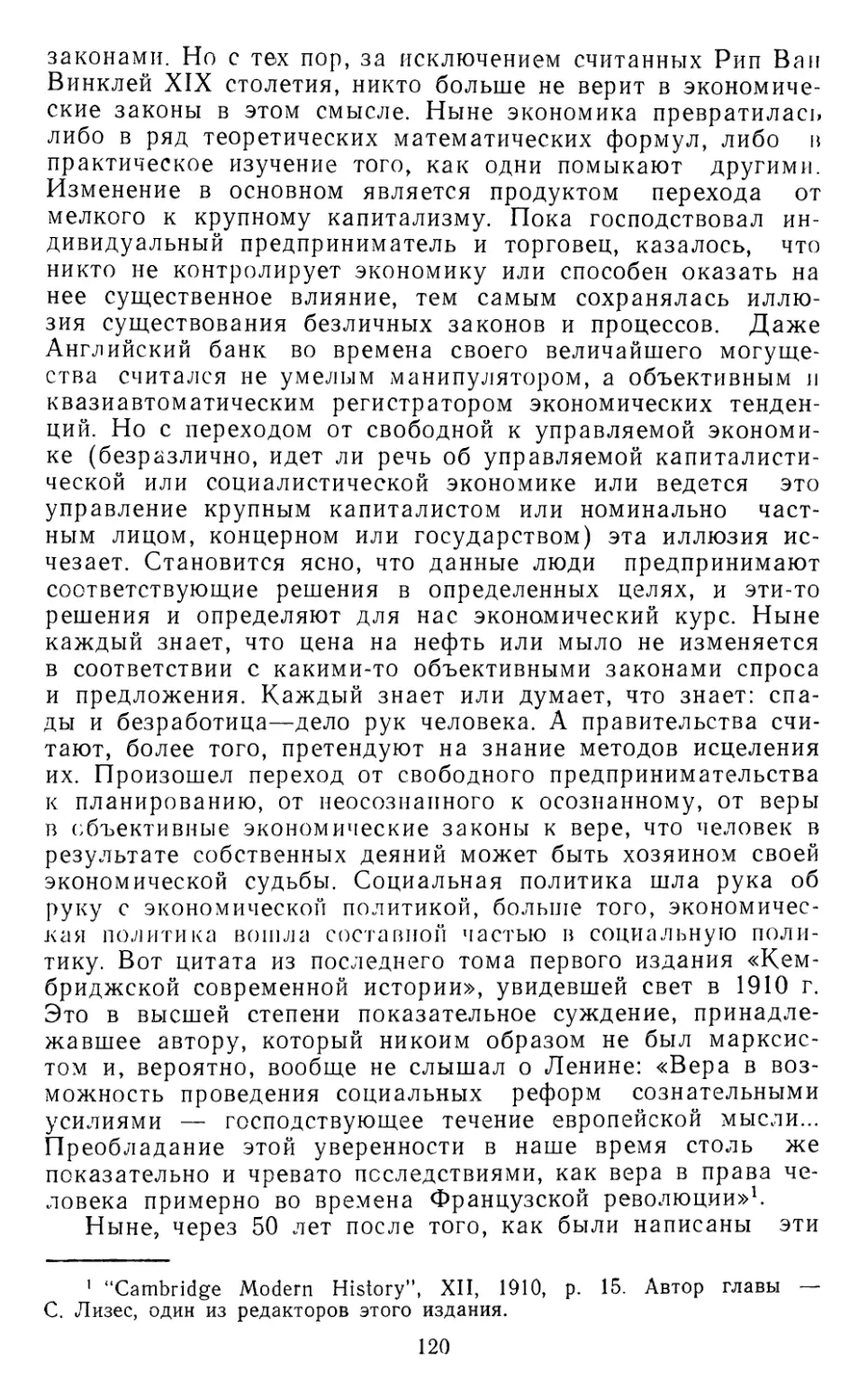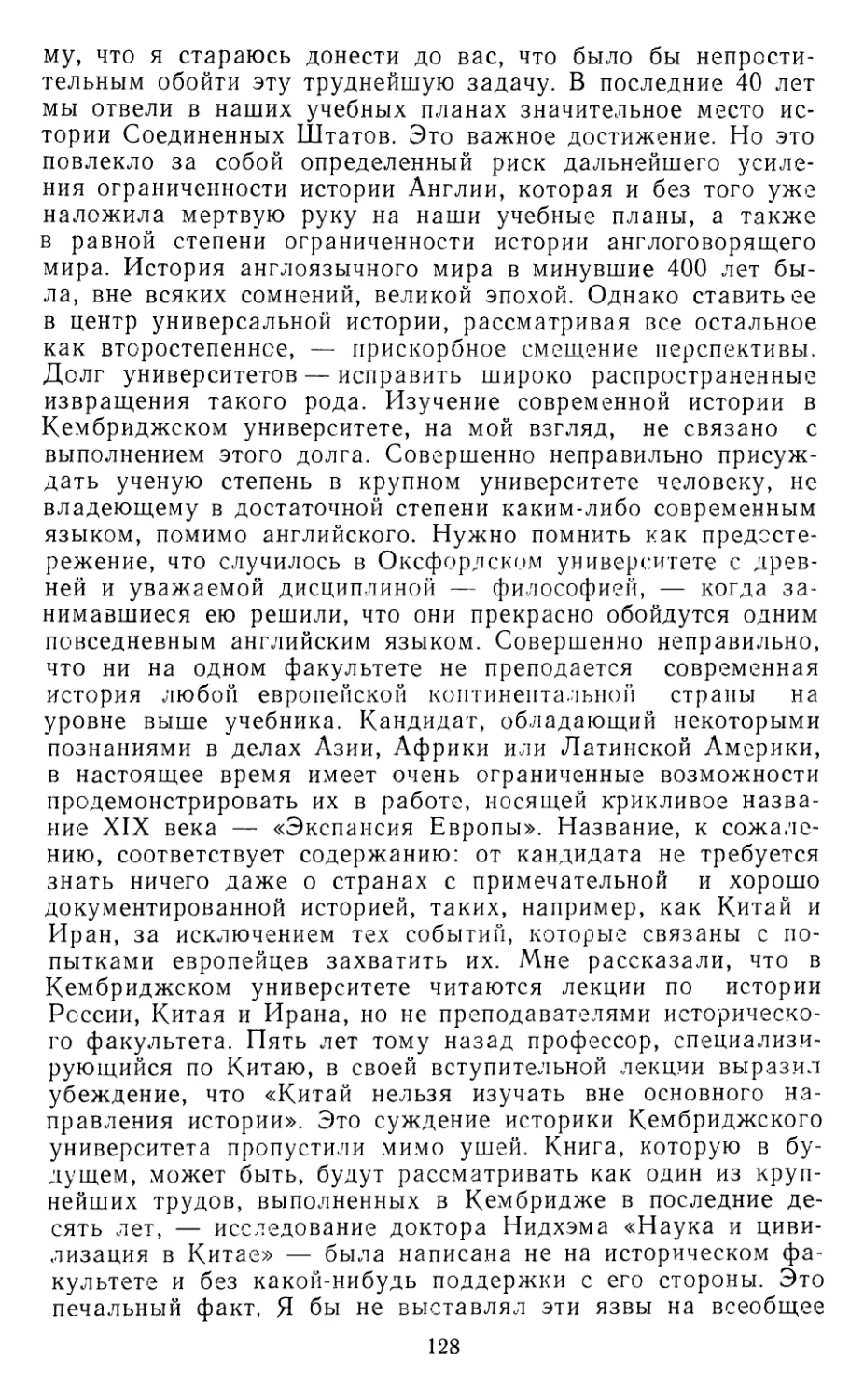Текст
Э. КАРР
ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?
Перевод с английского
Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
1988
Е. Н. CARR
WHAT IS HISTORY?
London
Macmillan
1961
Penguin Books
1964, 1965, 1967, 1968, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
Историк и его факты 11
Общество и индивидуум 30
История, наука и мораль 51
Причинность в истории 76
11стория как прогресс ... . 94
Расширяющиеся горизонты 114
Э. КАРР
ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?
Технический редактор Л. Н. Шупейко Корректор Н. И. Петраченкова
Сдано в набор 27.09 1988 г. Подписано в печать 26.10 1988 г.
Формат 60Х901/1б. Бумага типографская № 1
Гарнитура литературная. Печать высокая.
Уел. печ. л. 8,25. Уел. кр.-отт. 8,75 Уч-изд. л. 8,53.
Изд. № 24/45486. Заказ № 48
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «ПРОГРЕСС»
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
119847, Зубовский бульвар, 17
С/Ц
Общая редакция и предисловие
доктора исторических наук
Н. Н. ЯКОВЛЕВА
Редактор Н. С. СЕРЕГИН
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эдвард X. Карр (1892—1982)—один из крупнейших ан¬
глийских историков XX века, а в пятидесятые—шестидесятые
годы по праву считался дуайеном «советологии» на Британ¬
ских островах. Получив отличное образование, завершивше¬
еся в Тринити-колледж в Кембридже, Э. Карр отдал двад¬
цать лет жизни (1916—1936) дипломатической службе. На¬
чиная с работы в аппарате английской делегации на Вер¬
сальской мирной конференции, он в последующем в системе
Форин оффис во все возрастающей степени был связан с про¬
блемами нашей страны. Карр занимал должности советника
по делам Лиги Наций, провел четыре года вторым секрета¬
рем английской миссии в Риге.
Уже тогда у Карра пробудился интерес к революцион¬
ным традициям России.
Он написал биографические очерки о Бакунине, Достоев¬
ском, Герцене. Одновременно Карр попытался на уровне
знаний двадцатых—тридцатых годов разобраться в марк¬
сизме, дав очерк о Марксе. Помимо рано проявившегося про¬
фессионализма, эти исследования отмечало резко консерва¬
тивное отношение к разбираемым вопросам. Карр опреде¬
ленно не любил революционеров. Постепенное переключение
внимания на работу в области истории кладет конец его
дипломатической службе. Он уходит в отставку в 1936 году
и на новом, научном поприще становится профессором меж¬
дународных отношений в университете Аберистуит в Уэльсе.
Вероятно, больше по должности, чем по склонности, он напи¬
сал большие книги «Международные отношения со времен
мирных договоров до 1937 года» и «Двадцатилетний кризис»
(последняя монография увидела свет в 1940 году, вскоре по¬
сле начала второй мировой войны).
Исследования эти были довольно банальны. Книга «Двад¬
цатилетний кризис», например, сообщил во введении к ней
автор, «сознательно направлена против очевидного и опас¬
ного заблуждения... почти полного забвения фактора силы»1,
1 Carr Е. The Twenty Years Crisis. London, 1949, p. VII.
5
чем, на взгляд Карра, грешили политики Запада в обозре¬
ваемый период. В 1941 году Карр стал заместителем редак¬
тора «Таймс» и ушел из газеты только с окончанием войны,
в 1946 году. Он не вернулся в университет, посвятив остав¬
шуюся жизнь написанию монументальной «Истории Совет¬
ской России», значительно разросшейся по сравнению с пер¬
воначальными наметками и в конечном счете воплотившей¬
ся в 14 объемистых томах. Эта работа, посвященная пример¬
но первым полутора десяткам лет существования Советского
государства, и сделала Эдварду X. Карру имя на Западе.
Пристальное изучение именно истории Советского Союза
отнюдь не было обусловлено свободным выбором Карра.
Едва лк есть сомнения, что обращение к ней по горячим сле¬
дам второй мировой войны диктовалось повелительной не¬
обходимостью попытаться понять, почему в горниле неслы¬
ханных испытаний социалистическая система не только ус¬
тояла, но и взяла верх. И разумеется, извлечь из этого вы¬
воды на будущее.
Карр приступил к работе над эпохальной темой зрелым
ученым и публицистом, разменявшим шестой десяток лет.
Прошлый опыт неизбежно наложил отпечаток на манеру
письма Карра. Крупный «советолог» американский про¬
фессор У. Лакер имел все основания заметить: «Взгляды
Карра обычно нелегко проследить — навыки дипломата,
помноженные на естественную сдержанность высокообразо¬
ванного англичанина того поколения, часто затрудняют рас¬
крытие подхода Карра, независимо от того, пишет ли он о
Макиавелли или Ленине, о Гитлере или Невилле Чемберлене.
Нет никакого сомнения в том, что у него есть четкие идеи
по широкому кругу вопросов, но они редко акцентируются,
а по большей части только подразумеваются. Не в его мане¬
ре лихие суждения, резкие заявления, колоритные фразы;
Карр всегда предпочитает сознательно неэмоциональный
подход. Быть может, с преувеличенной скромностью он на¬
писал во введении к своей «Истории Советской России», что
он не марксист и не происходит из России. Это, конечно, вер¬
но в том смысле, что Карр родился не в России и никогда не
был членом коммунистической партии. Но и при беглом взгля¬
де на его сочинения, даже до 1950 года, видно — Россия и в
меньшей степени марксизм и коммунизм всегда привлекали
его» Г
Исполинский труд Э. Карра, издание которого за рубе¬
жом затянулось на двадцать восемь лет, с 1950 года, когда
появился первый том, естественно, привлек на Западе при¬
стальное внимание, далеко выходившее за пределы акаде¬
Laqueur W. The Fate of the Revolution. Interpretation of Soviet
History. N. Y. 1967, p. 112.
6
мических кругов, хотя только там могли появиться компе¬
тентные отзывы. Созданное Карром обычно сравнивают с
«Историй консульства и империи», написанной Л. Тьером,
двадцать томов которой вышли в 1845—1862 гг. Для прове¬
дения аналогии есть веские причины, в основном методоло¬
гического характера. Пока выходили эти многотомные «Ис¬
тории», разделенные примерно веком, претерпевал сущест¬
венные изменения мир, а следственно, и взгляды авторов.
Революция 1848 года внесла серьезные коррективы во взгля¬
ды Тьера; в результате — они изложены в предисловии толь¬
ко к 12-му тому, а не во введении ко всему изданию. Равным
образом кредо Карра помещено во вступлении к 5-му тому
труда, открывающему серию «Социализм в одной стране». Г од
выхода этого тома — 1958 — объясняет, почему Карру на¬
стоятельно потребовалось объясниться с читателями и ис¬
следователями.
Ему пришлось трактовать непосредственно послеленин-
ский период в годы, когда в Советском Союзе — после смер¬
ти Сталина — на XX съезде был развенчан «культ лично¬
сти». Оказалось необходимым расстаться со сложившейся у
него интеллектуальной привычкой «преувеличивать Сталина
в Ленине», по словам известного биографа Троцкого И. Дой-
чера. Как написал Лакер: «Ни один историк не может соз¬
нательно изолировать себя от газет и радио, отрезать себя
от связей с внешним миром, избежать «заражения» теку¬
щими событиями. Последние годы жизни и деятельности
Сталина сковывали историков как внутри, так и вне Совет¬
ского Союза. Тень Сталина не только всегда маячила где-то
на заднем плане в первых томах труда Карра, но и оказыва¬
ла сковывающее влияние на весь его подход и даже стиль»1.
Во времена раздумий в конце пятидесятых у Карра, по-
видимому, и появилась мысль ответить всем им, почитате¬
лям и критикам, сразу, объяснив исчерпывающим образом
свою философию истории, в первую очередь применительно
к истории нашей страны. Что он и сделал в лекциях, прочи¬
танных в Кембриджском университете в 1961 году и объеди¬
ненных в предлагаемой книге «Что такое история?».
Выяснилось, что взгляды Карра претерпели известные
изменения: «Я глубоко уверен в том, что, если кто-нибудь
возьмет на себя труд проследить, что я писал до, во время
войны и после нее, ему будет совсем не сложно убедить ме¬
ня в противоречиях и несовместимостях... Не только события
постоянно меняются. Сам историк постоянно меняется. Ког¬
да вы берете историческое сочинение, недостаточно посмот¬
реть на имя автора на титульном листе: посмотрите также
на дату публикации или написания — иногда это имеет боль¬
1 Laquer W Op. cit., р. 121.
7
шее значение». Теоретический орган Коммунистической пар¬
тии Великобритании «Марксизм тудэй» посвятил книге Кар¬
ра большую статью, в которой говорилось, что эта работа—
«мощный и меткий залп по историческому обскурантизму».
Редакция журнала отметила громадную помощь, которую
его читатели «теперь получили от одного из самых извест¬
ных английских академических историков и одного из самых
способных и умных людей, работающих в области историче¬
ской науки» 1
Карр исходит из того, что — нравится это или не нравит¬
ся кому-либо на Западе — марксистско-ленинская идеоло¬
гия существует и оказывает воздействие на всемирно-истори¬
ческий процесс, мир находится в состоянии непрерывного из¬
менения, а западная историческая наука оказалась неспособ¬
ной объяснить причины этого. Э. Карр напомнил слова Гёте:
«Когда эпохи приближаются к закату, все тенденции субъек¬
тивны, но вместе с тем, когда вызревают предпосылки для
повои эпохи, все тенденции объективны». Карр подчеркивал,
что страны, говорящие на английском языке, не поспевают
за стремительным развитием мира. «Говорят, что Николаи I
издал в России указ, запрещавший слово «прогресс». Ныне
философы и историки Западной Европы и даже Соединен¬
ных Штатов запоздало пришли к согласию с ним».
Он настойчиво рекомендовал внимательно изучать марк¬
сизм и на протяжении всех шести своих лекций неоднократ¬
но критиковал невежественные представления своих коллег
о марксистской теории. Так, с фактами в руках он доказы¬
вает, что марксисты вовсе не отрицают роли случая в исто¬
рии, хотя сам не соглашается с марксистской трактовкой
этого вопроса. Он выражал величайшее неудовлевторечие
постановкой изучения коммунизма в Англии, саркастически
замечая: «Легче обозвать коммунизм «выдумкой Карла
Маркса» (я подобрал этот перл из циркуляра биржевых мак¬
леров), чем анализировать его происхождение и характер,
легче приписывать большевистскую революцию тупости Ни¬
колая II и германскому золоту, чем глубоко изучать ее соци¬
альные причины». Главная задача исторической науки, по
его словам, попытаться объективно отобразить окружающий
мир и происходящие в нем процессы.
Если эта задача будет поставлена, то, по мнению Карра,
из трудов западных историков сам по себе исчезнет крайний
субъективизм. Мысль о такой возможности, однако, наивна,
ибо, подчеркивает автор, «история была полна смысла для
британских историков до тех пор, пока она представлялась
идущей по нашему пути. В настоящее время, поскольку она
Hobsbawn Е. Progress in History. — “Marxism Today”, February
1962, p. 47.
8
приняла неверное направление, вера в смысл в истории
стала ересью».
Вот таким языком заговорил Карр в самом начале шести¬
десятых, отражая в большой степени нараставшие настрое¬
ния по крайней мере интеллектуальной элиты в англоязыч¬
ных странах. Ведь то было время Спутника, первых полетов
человека в космосе, где неоспоримо лидировал Советский
Союз, а лозунги перегнать в кратчайшие, причем в конкрет¬
но обозначенные сроки Соединенные Штаты, нередко не
ставились под сомнение. Темпы роста и развития социали¬
стической системы представлялись иными, чем оказались в
действительности.
По существу, Карр в то время бил тревогу по поводу обо¬
значившегося отставания капитализма перед лицом социа¬
лизма. Он резко осуждал тех в Англии, кто не видел дальше
своего носа. Пресловутая его сдержанность в буре тогдаш¬
них событий уступила место тону пророка.
Именно так он заканчивал свои лекции: «Пожалуй, ни¬
когда не было слышно столько поверхностных разговоров о
происходящих вокруг нас изменениях. Примечательно, одна¬
ко, что изменения больше не считают свидетельством дости¬
жений, возросших возможностей, прогресса, — их боятся.
Когда наши политические и экономические мудрецы дают
советы, им нечего предложить нам, кроме предостережений
не доверять радикальным и далеко идущим идеям, остере¬
гаться всего отдающего революцией и идти вперед, если уж
это нужно, максимально медленно и осторожно. В эпоху,
когда мир меняет свое лицо быстрее и радикальнее, чем в
какое-либо другое время в последние 400 лет, это представ¬
ляется мне поразительной слепотой, дающей основание опа¬
саться того, что остановится не движение, охватывающее
весь мир, а Великобритания, и, быть может, другие англого¬
ворящие страны могут отстать от общего движения вперед
и оказаться беспомощно и безропотно в каких-то ностальги¬
ческих застойных водах».
Задача перед обществознанием в западных странах, как
виделась она Карру, заключалась в том, чтобы объективно
выявить глубинные процессы, происходящие в Советском
Союзе. В 1950 году на первых страницах головного тома
своего честолюбивого 14-томного предприятия Карр предос¬
терег: «Ни один разумный человек не соблазнится измерить
Россию Ленина, Троцкого и Сталина аршином, заимствован¬
ным в Англии Макдональда, Болдуина и Черчилля или в
Америке Вильсона, Гувера или Франклина Рузвельта»1.
Прошло десятилетие, и Карр замечает, что предостережение
пропущено мимо ушей, не перестроились. С большим песси¬
1 Carr Е, The Bolshevic Revolution. London, 1950, p. V.
9
мизмом он повторяет в своих лекциях, собранных в книге
«Что такое история?»: «Многое из того, что за последние
10 лет было написано в англоязычных странах о Советском
Союзе... пронизано именно такой неспособностью достичь
даже самого элементарного понимания того, что происходит
в умах представителей другой стороны». Он, однако, не по¬
терял надежду научить.
В томах «Истории Советской России», последовавших —
по хронологии своего выхода в свет — за книгой «Что такое
история?», по описанным причинам уделялось все большее
внимание государственному и экономическому строительст¬
ву в нашей стране. При ретроспективном взгляде этот ак¬
цент понятен — Карр стремился адекватно, правильно ис¬
следовать и описать истоки тех процессов, которые через де¬
сять лет с небольшим принесли нам победу в Великой Оте¬
чественной войне, а через три десятилетия вывели социализм
в космос. Мотивы Карра коллеги все же не всегда понима¬
ли. Написал же в 1966 году компетентный во многих отно¬
шениях профессор Дж. Биллингтон (правда, имея в виду
главным образом первые тома труда Карра): «Работа в
высшей степени честная и точная в самых мельчайших де-
гелях, однако взгляд в целом остается взглядом сдержан¬
ного, но восторженного протоколиста ленинского Централь¬
ного Комитета»1. Карр, конечно, никогда не претендовал на
такую роль, а остался в истории, по не очень удачному эпи¬
тету «Нью-Йорк тайхмс», «ключевым английским историком»2.
Труды Карра по истории Советского Союза, несомненно,
среди тех источников, которые учитываются при планирова¬
нии и проведении политики англоязычных стран в отноше¬
нии Советского Союза. Учет написанного Карром и другими
в том же ключе, несомненно, послужил катализатором со¬
циально-экономических сдвигов в ведущих западных странах
после феномена советского Спутника. Ознакомление с рабо¬
той полезно для прогнозирования и понимания мотивов по¬
литики Запада в наше время.
Я. Я. Яковлев,
доктор исторических наук
1 Billingtori /. Six Views on the Russian Revolution, ■— “World Poli¬
tics”, April 1966, p. 463.
2 “The New York Times”, November 6, 1982.
10
ИСТОРИК и ЕГО ФАКТЫ
Что такое история? Чтобы кто-либо не счел этот вопрос
бессмысленным или поверхностным, я приведу два отрывка,
относящихся соответственно к первому и второму изданиям
«Кембриджской Современной Истории». Вот что сказал Эк-
тон в сделанном им в октябре 1896 г докладе на собрании
издательства Кембриджского университета по поводу рабо¬
ты, которую он взялся редактировать: «Это уникальная воз¬
можность систематизации фактов наиболее полезным путем
для огромного числа людей, возможность донести полноту
знаний, которую XIX век собирается унаследовать. С помо¬
щью тщательного разделения труда мы будем способны сде¬
лать это и донести до каждого человека новейшие докумен¬
ты и самые свежие выводы научно-исследовательской рабо¬
ты в мире. При нынешнем поколении не может быть напи¬
сан окончательный вариант истории, но мы можем разре¬
шать проблемы текущих исторических событий и показывать
одну за другой вехи, достигнутые нами. Ныне, когда вся ин¬
формация доступна, любые проблемы разрешимы»1.
Почти ровно через 60 лет профессор сэр Джордж Кларк
в своем общем введении ко 2-му изданию «Кембриджской
Новой Современной Истории» прокомментировал эту уве¬
ренность Эктона и его коллег в том, что однажды будет
можно создать «окончательную историю», и продолжил:
«Историки последнего поколения не ставят перед собой та¬
ких целей. Они ожидают, что их работы будут снова и снова
пересматриваться. Они считают, что знание прошлого,
пропущенное через восприятие одного или многих людей,
было обработано ими и поэтому не может состоять из эле¬
ментарных или безличных атомов, которых ничто не может
изменить. Исследование представляется бесконечным, и не¬
которые нетерпеливые аналитики ударяются в скептицизм
или по крайней мере находят утешение в утверждении, что
поскольку все исторические суждения, одно не хуже друго¬
го, касаются лиц и точек зрения, то поэтому нет объектив¬
ной исторической правды»2.
1 “The Cambridge Modern History: Its Origin, Authorship and Pro¬
duction”, 1907, p. 10—12.
2 “The New Cambridge Modern History”, I, 1957, p. XXIV—XXV.
11
Когда между мудрецами возникают столь глубокие про¬
тиворечия, проблему надлежит исследовать. Надеюсь, я до¬
статочно современен, чтобы признать, что все написанное в
90-е годы прошлого века — глупость. Но я еще не настоль¬
ко передовой, чтобы согласиться, что все написанное в 50-х
годах XX века по необходимости разумно. Более того, вам
уже могло прийти в голову, что это исследование, вероятно,
отклонится и затронет нечто более широкое, чем характер
истории. Столкновение между Эктоном и сэром Джорджем
Кларком — отражение изменения нашего взгляда на обще¬
ство в период между этими двумя высказываниями. Эктон
выражает положительную веру, ясную самоуверенность
поздней викторианской эпохи, сэр Джордж — неуверенность
и раздраженный скептицизм утомленного поколения.
Когда мы пытаемся ответить на вопрос «Что такое исто¬
рия?», наш ответ сознательно или бессознательно отражает
наше собственное положение во времени и является состав¬
ной частью ответа на более широкий вопрос — каков наш
взгляд на общество, в котором мы живем? Я совершенно не
опасаюсь, что мой предмет может показаться при более
близком изучении тривиальным. Я боюсь только того, чтобы
меня не сочли самонадеянным, так как я затронул столь об¬
ширную и важную проблему.
XIX век был великой эпохой фактов. «Чего я хочу, —
сказал Грэдринд в «Трудных временах», — это фактов.
В жизни хотят только фактов». Историки XIX века в целом
соглашались с ним. Когда Ранке в 30-х годах XIX столетия
в законном протесте против морализирования истории за¬
метил, что задача историка состоит в том, чтобы просто
«показать, как это было в действительности», этот не столь
глубокий афоризм имел потрясающий успех. Три поколения
германских, британских и даже французских историков шли
в бой, скандируя: «Просто показать, как это было в дейст¬
вительности». Они повторяли это заклинание, предназначен¬
ное, как и все заклинания, для того, чтобы избавиться от
скучной необходимости думать самим. Позитивисты, озабо¬
ченные тем, чтобы заявить свои права на историю как на
науку, добавили к такому культу фактов вес своего влияния.
Сначала выясните факты, говорили позитивисты, затем де¬
лайте из них свои выводы. В Великобритании подобный
взгляд на историю полностью соответствовал традиции эм¬
пириков, доминировавшей на протяжении всей британской
философии от Локка до Бертрана Рассела. Эмпирическая
теория познания предполагает полнее отделение объекта от
субъекта. Факты как результаты восприятия чувств воздей¬
ствуют на наблюдателя извне и независимы от его сознания.
Процесс восприятия человека — пассивный: получив факты,
он далее действует в соответствии с ними. Краткий Оксфорд-
12
екий словарь английского языка — полезная, но тенденци¬
озная работа эмпирической школы. Однако в ней ясно ука¬
зывается, что оба процесса разделены, и факт определяется
как «опыт, в отличие от умозаключения». Это то, что может
быть названо взглядом на историю с позиции здравого
смысла. История состоит из свода установленных фактов.
Факты доступны историку в виде документов, надписей и
т. д., так же как рыба на лотке торговца. Историк собирает
их, относит к себе, готовит и преподносит их так, как ему
нравится. Эктон, чьи кулинарные вкусы отличались аскетиз¬
мом, предпочитал, чтобы их подавали просто. В своих ука¬
заниях сотрудникам 1-го издания «Кембриджской Современ¬
ной Истории» он выдвинул требование, «чтобы наше описа¬
ние Ватерлоо было таким, чтобы удовлетворить французов
и англичан, равно как немцев и голландцев, чтобы никто не
мог сказать, не изучив списка авторов, где епископ Оксфорда
отложил перо и где Фэирбейн или Гаскет, Либерманн или
Гаррисон подобрали его»1. Даже сэр Джордж Кларк, хотя
он и критически относился к подходу Эктона, противопостав¬
лял «твердую сердцевину фактов в истории» «окружающей
мякоти спорных интерпретаций»2, возможно, забывая о том,
что мякоть плода дает больше, нежели жесткая сердцевина.
Сначала установите ваши факты, затем рискните погрузить¬
ся в зыбучие пески толкования — такова основная мудрость
эмпирической школы здравого смысла относительно истории.
Она напоминает любимое изречение великого либерального
журналиста С. П. Скотта: «Факты священны, мнение —
свободно».
Теперь это явно не подойдет Я не буду пускаться в фи¬
лософскую дискуссию о сущности наших знаний о прошлом.
Давайте признаем для нынешних целей: факт того, что Це¬
зарь перешел Рубикон, и факт того, что стол находится в
середине комнаты, — факты одного и того же или сопоста¬
вимого порядка; они оба достигают нашего сознания одним
и тем же сходным образом и оба носят один и тот же объек¬
тивный характер по отношению к знающему о них лицу. Но
даже на основании этого смелого и не очень правдоподоб¬
ного предположения с нашим допущением мы попадем в
затруднение, ибо далеко не все сведения о прошлом — ис¬
торические факты или считаются историками таковыми. Ка¬
ков критерий, отделяющий исторические факты от других
сведений о прошлом?
Что такое исторический факт? Это решающий вопрос,
который мы должны рассмотреть немного более подробно.
Согласно общепринятой точке зрения, есть определенные ос¬
1 Acton. Lectures on Modern History, 1906, p. 318.
2 Цит. no: “Listener1’, 19 June 1952, p. 992.
13
новополагающие факты, общие для всех историков, которые
составляют, так сказать, хребет истории, — например, тот
факт, что битва при Гастингсе была в 1066 г. Но этот взгляд
требует двух замечаний. Во-первых, историк в первую оче¬
редь имеет дело не с такими фактами. Несомненно, важно
знать, что великая битва была в 1066, а не в 1065 или 1067 г.
и что она была при Гастингсе, а не при Истборне или Брай¬
тоне. Историк не должен ошибаться в таких вещах. Но ког¬
да поднимаются вопросы такого рода, я вспоминаю замеча¬
ние Хаусмена, что «точность — обязанность, а не достоинст¬
во»1. Хвалить историка за его точность — то же самое, что
хвалить архитектора за использование хорошо выдержанно¬
го дерева или правильно замешанного бетона при строитель¬
стве здания. Это необходимое условие работы, но не основ¬
ная его функция. Именно в этих случаях историк имеет
право полагаться на то, что называется «вспомогательными
историческими дисциплинами» — археологию, эпиграфику,
нумизматику, хронологию и т. д. Историку не обязательно
обладать специальными навыками, дающими эксперту воз¬
можность определить происхождение и время обломка ке¬
рамики или мрамора, расшифровать тайнопись или сделать
сложные астрономические расчеты, для того чтобы устано¬
вить точную дату. Эти так называемые основные факты, од¬
ни и те же для всех историков, обычно принадлежат к ка¬
тегории сырого материала скорее для историка, нежели для
самой истории. Другим обстоятельством является то, что
необходимость в установлении этих основных фактов бази¬
руется не на каких-либо свойствах самих фактов, а на ап¬
риорном решении историка. Несмотря на лозунг С. П. Скот¬
та, сегодня любой журналист знает, что самый эффективный
путь воздействовать на общественное мнение — правильно
выбрать и выстроить соответствующие факты. Обычно счи¬
тают, что факты сами говорят за себя. Это, конечно же, не¬
верно. Факты говорят только тогда, когда историк обращает¬
ся к ним: именно он решает, каким фактам предоставить
место, в каком порядке и в каком контексте. Один из персо¬
нажей Пиранделло, насколько мне помнится, сказал, что
факт подобен мешку — он не будет стоять, пока вы в него
не положите что-нибудь. Единственная причина, по какой
нам интересно знать, что битва при Гастингсе была в
1066 г., — то, что историки считают ее важным историческим
событием. Именно историк по своим соображениям решил,
что пересечение Цезарем этой крохотной речушки, Рубико¬
на, — исторический факт, в то время как пересечение Руби¬
кона миллионами людей не интересовало решительно нико¬
го. Тот факт, что вы пришли в этот дом полчаса назад пеш¬
1 М. Manilii. Astronomicon: Liber Primus, 2nd ed., 1937, p. 87,
14
ком, или приехали на велосипеде, или на машине, — такой
же факт прошлого, как и то, что Цезарь перешел Рубикон.
По он, вероятно, будет проигнорирован историками. Профес¬
сор Толкотт Парсонс однажды назвал науку «избиратель¬
ной системой познавательных ориентаций к действительно¬
сти»1. Вероятно, это может быть выражено проще. Но исто¬
рия, помимо прочих вещей, такова. Историк по необходимо¬
сти избирателен. Вера в твердую сердцевину исторических
фактов, существующих объективно и независимо от интер¬
претации историка, — нелепая ошибка, однако ее очень
трудно искоренить.
Давайте рассмотрим процесс, при котором простой факт
прошлого превращается в исторический факт. В Стэлбридж-
Уэйкс в 1850 г. продавец имбирных пряников после мелкой
ссоры был забит толпой до смерти. Является ли это исто¬
рическим фактом? Год назад я без колебаний сказал бы
«нет». Это было описано очевидцем в малоизвестных мемуа¬
рах2, но я никогда не рассматривал это как стоящее упоми¬
нания любого историка. Год назад д-р Китсон Кларк сослал¬
ся на этот случай в своих фордовских лекциях в Оксфорде3.
Становится ли данный случай после этого историческим
фактом. Полагаю, что еще нет. Его теперешний статус, я
думаю, сводится к тому, что этот случай предложили, так
сказать, членам избранного клуба исторических фактов. Те¬
перь он ожидает, чтобы на него еще раз сослались и одобри¬
ли к включению в этот клуб. Возможно, что в течение сле¬
дующих нескольких лет этот факт появится сначала в снос¬
ках, затем в тексте статей и книг об Англии XIX века и что
через 20 или 30 лет он может стать хорошо установленным ис¬
торическим фактом. Может быть и другой вариант — ни¬
кто не подберет его, и в этом случае он снова окажется на
свалке исторических фактов о прошлом, откуда д-р Китсон
Кларк любезно попытался извлечь его. Что решит, какая
из этих двух альтернатив возобладает? Это будет зависеть,
я думаю, от того, будет ли тезис, в поддержку которого
д-р Китсон Кларк привел этот случай, принят как веский и
значительный другими историками. Его статус как историче¬
ского факта будет зависеть от интерпретации. Так элемент
интерпретации входит в любой исторический факт.
Могу я позволить себе личное воспоминание? Когда мно¬
го лет назад в университете я изучал древнюю историю, у
меня был специальный курс «Греция в период войн с Пер¬
сией». Я собрал на своих полках 15 или 20 книг и считал
1 Т Parsons and Е. Shils. Towards a General Theory of Action,
3rd ed., 1954, p. 167.
2 George Sanger Seventy Years a Showman, 2nd ed., 1926,
p. 188—189.
3 Kiisori Clark. The Making of Victorian England, 1962.
15
само собой разумеющимся, что теперь располагал всеми
фактами, относящимися к моему предмету. Давайте допус¬
тим — а это очень близко к правде, — что эти книги содер¬
жали все те факты, которые были известны или могли быть
известны. Мне никогда не приходило в голову уточнить, в
результате какой случайности или какого процесса отбора,
или скрупулезной подборки фактов из мириадов тех фактов,
которые должны были быть когда-то известны кому-то, ка¬
кие-то из них выжили и стали фактами истории. Я подозре¬
ваю, что даже теперь одна из прелестей античной и средне¬
вековой истории в том, что она создает иллюзию владения
нами всеми доступными фактами. Досадная разница между
историческими фактами и всеми остальными фактами исче¬
зает, потому что малочисленные известные нам факты явля¬
ются в целом фактами истории. Как заметил Бэри, работав¬
ший над обоими периодами, «источники по античной и сред¬
невековой истории изобилуют пробелами»1. Историю называ¬
ли огромной головоломкой с множеством отсутствующих час¬
тей, но главная трудность — не эти пробелы. Наше видение
Греции V века до н. э. искажено в первую очередь не пото¬
му, что так много деталей было утрачено, а главным образом
потому, что это видение в целом отражает картину, создан¬
ную крохотной горсткой людей в Афинах. Мы знаем много
о такой Греции V века до н. э., какой она представлялась
афинскому гражданину, но едва ли что-нибудь известно о
том, какой она представлялась спартанцу, коринфянину или
фиванцу, не говоря уже о персе или простом рабе, где-ни¬
будь в Афинах, который не являлся гражданином. Наше ви¬
дение предопределялось не столько случайными причинами,
сколько людьми, которые умышленно или нет придержива¬
лись данного взгляда, думали и отбирали соответствующие
факты. Точно так же, когда я прочитал в современной исто¬
рии средних веков, что люди средневековья были глубоко ре¬
лигиозны, я удивился, откуда это нам известно, и было ли
это правдой. То, что мы знаем как факты средневековой ис¬
тории, почти все было отобрано для нас поколениями лето¬
писцев, которые профессионально занимались теорией и пра¬
ктикой религии и поэтому считали ее в высшей степени важ¬
ной, записывали все, относившееся к ней, но мало чего дру¬
гого.
Представление о русском крестьянине как глубоко рели¬
гиозном было разрушено революцией 1917 г. Представление
о средневековом человеке как глубоко религиозном несо¬
крушимо потому, что почти все известные нам о нем факты
были отобраны для нас людьми, верившими в это и хотев¬
шими, чтобы и другие поверили. Масса других фактов, в ко¬
1 /, В. Bury. Selected Essays, 1930, р. 52.
16
торых мы, возможно, могли бы найти свидетельства в поль¬
зу противоположного, утеряна безвозвратно. Мертвая рука
ушедших поколений историков, переписчиков и летописцев
определила, исключив возможность пересмотра, ход собы¬
тий прошлого.
«История, которую мы читаем, — пишет профессор Бар-
раклаф, специалист по истории средневековья, — хотя и ос¬
новывается на фактах, строго говоря, вообще не фактологич¬
на, а представляет собой серию принятых суждений»1. Одна¬
ко давайте обратимся к другому, но столь же серьезному
затруднению современного историка. Историк античности
или средневековья может быть благодарен за огромный от¬
сеивающий процесс, который с течением лет предоставил в
его распоряжение такое количество фактов, которое можно
обозреть. Как сказал в своей шутливой манере Литтон Стрэ-
чи, «незнание — первое требование к историку, незнание, ко¬
торое упрощает и проясняет вопрос, которое отбирает и упу¬
скает детали»2. Когда меня искушает, а иногда действитель¬
но искушает, зависть к необычайной компетенции коллег, за¬
нятых историей античности или средних веков, я нахожу уте¬
шение в размышлении, что они столь компетентны главным
образом потому, что они столь же невежественны в своей
области. Современный историк не пользуется ни одним из
преимуществ этого встроенного невежества. Он должен куль¬
тивировать это необходимое невежество для себя тем боль¬
ше, чем ближе он подходит к его собственной эпохе. Он
имеет двоякую задачу: обнаружить несколько важных фак¬
тов и превратить их в исторические факты, а также отбро¬
сить многие незначительные факты как неисторические. Но
это как раз противоположно ереси XIX века о том, что ис¬
тория состоит из собирания максимального числа бесспорных
и объективных фактов. Каждый, кто поддастся этой ереси,
будет вынужден или расстаться с профессией историка как
скверной и заняться коллекционированием марок или дру¬
гой формой коллекционирования, или кончит сумасшедшим
домом. Именно эта ересь в течение последних 100 лет про¬
извела столь опустошительное воздействие на современную
историю, способствуя возникновению в Германии, Велико¬
британии и США огромного и всевозрастающего количест¬
ва унылых фактологических исторических сочинений, скру¬
пулезных специализированных монографий, написанных по¬
тенциальными историками, познающими все больше о все
меньшем, канувшем без следа в океане фактов. Я подозре¬
ваю, что именно эта ересь скорее, чем конфликт между вер¬
ностью либерализму или католицизму, погубила Эктона как
историка.
1 G. Barraclough. History in a Changing World, 1955, p. 14.
2 Lytton Strachey. Preface to “Eminent Victorians”.
17
В раннем эссе он сказал о своем учителе Доллинджере:
«Он не стал бы писать по несовершенным материалам, а для
него все материалы были всегда несовершенными»1. Эктон
в данном случае, конечно, предвосхитил приговор самому се¬
бе, ибо он стал выразителем странного феномена, когда ис¬
торик, которого многие считали наиболее выдающимся из
лиц, когда-либо занимавших в этом университете Королев¬
скую кафедру современной истории, не написал ни одного
исторического сочинения. И Эктон написал свою собствен¬
ную эпитафию во введении к первому тому «Кембриджской
Современной Истории», вышедшей в свет сразу после его
смерти, где он сокрушался, что требования, предъявляемые
к историку, «грозят превратить его из ученого в составите¬
ля энциклопедии»2. Что-то не получилось. Не получилось из-
за веры, что это неустанное и бесконечное собирание фак¬
тов — основа истории, из-за веры в то, что факты говорят
сами за себя и у нас не может быть слишком много фактов.
Из-за того, что лишь немногие историки считали необходи¬
мым тогда, а некоторые все еще не считают необходимым
сейчас задавать себе вопрос: «Что такое история?»
Фетишизм фактов XIX века дополнялся и оправдывался
фетишизмом документов. Документы были алтарем в храме
фактов. Преподобный историк приближался к ним со скло¬
ненной головой и говорил с ними в благоговейных тонах. Ес¬
ли вы нашли это в документах, это так и есть. Но что, когда
мы займемся этим, что все эти документы—декреты, догово¬
ры, списки доходов, синие книги, официальная переписка,
частные письма и дневники — говорят нам? Ни один доку¬
мент не может сказать больше, чем думал его автор, боль¬
ше того, что, как он думал, произошло, что, как он думал,
должно было произойти или произойдет, и, возможно, того,
что он хотел, чтобы другие подумали, что он думает, и да¬
же просто того, что он считал, будто думает так. Все это ни¬
чего не означало, пока историк пе приступил к работе и не
расшифровал этого. Факты, найденные в документе или нет,
все равно должны быть обработаны историком, прежде чем
он сможет извлечь из них какую-либо пользу: польза, кото¬
рую он из них извлекает, это, если я могу так сказать, про¬
цесс обработки.
Позвольте мне проиллюстрировать то, что я хочу ска¬
зать, примером, который я как раз хорошо знаю. Когда Гус¬
тав Штреземан, министр иностранных дел Веймарской рес¬
публики умер в 1929 г., он оставил после себя огромное ко¬
личество — 300 полных ящиков — бумаг: официальных, по¬
луофициальных и частных; почти все они относились к шес¬
1 Цит. по: G. Р Gooch. History and Historians in the Nineteenth
century, p. 385.
2 “Cambridge Modern History’’, I, 1902, p. 4.
18
ти годам его пребывания на посту министра иностранных
дел. Его родственники и друзья, естественно, думали, что ну¬
жно воздвигнуть памятник столь великому человеку. Его
верный секретарь Бернард приступил к работе, и в три года
появились три больших тома, около 600 страниц каждый,
избранных документов под впечатляющим заголовском «За¬
вещание Штреземана».
При обычном порядке вещей документы были бы свалены
в каком-нибудь подвале или на чердаке и исчезли бы на¬
всегда; или, возможно, через сотню лет или около того ка¬
кой-нибудь любопытный исследователь извлек бы их и стал
бы сравнивать с текстом Бернарда. То, что случилось, было
куда более драматичным. В 1945 г. документы попали в ру¬
ки официальных властей Великобритании и США, которые
распорядились сфотографировать их, и исследователи полу¬
чили доступ к фотокопиям в Государственном архиве в Лон¬
доне и в Национальном архиве в Вашингтоне. Так что, об¬
ладая терпением и любознательностью, можно точно выяс¬
нить, что сделал Бернард. То, что он проделал, не было ни
необычным, ни постыдным. Когда Штреземан умер, казалось,
что его западная политика была увенчана серией блиста¬
тельных успехов: Локарно, прием Германии в Лигу Наций,
планы Дауэса и Юнга и американские займы, вывод союз¬
ных оккупационных войск из Рейнской зоны. Все это пред¬
ставлялось важной и ценной частью внешней политики
Штреземана, и было естественно, что это было более чем
представлено в сделанной Бернардом подборке документов.
Вместе с тем восточная политика Штреземана, его отноше¬
ния с Советским Союзом, казалось, ни к чему особенному
и не привели. И, так как масса документов о переговорах,
давших только незначительные результаты, была не столь
интересной, ничего не добавилось к репутации Штреземана.
Процесс отбора документов в этом случае мог бы быть более
суровым. В действительности же Штреземан уделял значи¬
тельно больше внимания отношениям с Советским Союзом,
и они играли гораздо большую роль в его внешней полити¬
ке в целом, нежели мог представить читатель по подборке
Бернарда. Но тома Бернарда выигрывают, я подозреваю, по
сравнению со многими изданными собраниями документов,
на которые обычные историки безоговорочно полагаются.
Это не конец моего рассказа. Вскоре после выхода в свет
томов Бернарда пришел к власти Гитлер. Имя Штреземана
в Германии было предано забвению, и тома исчезли из об¬
ращения: возможно, большинство экземпляров было унич¬
тожено. Сегодня «Завещание Штреземана», пожалуй, ред¬
кая книга. Но на Западе репутация Штреземана была высо¬
ка. В 1935 г. английский писатель опубликовал сокращенный
перевод работы Бернарда — выдержки из подборки Бернар¬
19
да; вероятно, треть оригинала была опущена. Саттон, изве¬
стный переводчик с немецкого, выполнил свою работу со
знанием дела. Английский вариант, объяснял он в предисло¬
вии, был «несколько сжат, но ценой исключения того, что,
как представлялось, было более преходящим... представляв¬
шим меньший интерес для английских читателей и исследова¬
телей»1. Это опять-таки довольно естественно. Но результат
таков, что восточная политика Штреземана, уже недостаточ¬
но представленная Бернардом, еще больше исчезает из по¬
ля зрения, и вопросы, связанные с Советским Союзом, пред¬
ставляются случайными и нежелательными вкраплениями
во внешнюю политику Штреземана, в основном ориентиро¬
ванную на Запад.
Следовательно, можно утверждать, что для всех на За¬
паде, за исключением горстки специалистов, подборка Сат¬
тона, а не Бернарда (и тем более не документы) представ¬
ляет истинный голос Штреземана.
Если бы документы погибли во время бомбардировок
1945 г. и если бы уцелевшие тома Бернарда исчезли, под¬
линность подборки Саттона и его авторитет никогда бы не
стояли под вопросом. Многие опубликованные собрания до¬
кументов, с благодарностью принятые историками в отсутст¬
вие оригинала, основывались не на более солидной базе,
чем эта.
Но я хотел бы сделать еще один шаг. Давайте забудем
о Бернарде и Саттоне и будем благодарны за то, что мы
можем, если захотим, обратиться к подлинным документам
одного из ведущих участников важнейших событий недавней
европейской истории. Что документы говорят нам? Помимо
прочего, они содержат записи сотен бесед Штреземана с со¬
ветским послом в Берлине и примерно дюжины — с Чичери¬
ным. Эти записи имеют одну общую черту. Они отводят
Штреземану львиную долю в переговорах и представляют
его доводы как неизменно хорошо изложенные и ясные, в то
время как доводы его партнеров как правило выглядят
скудными, путаными и неубедительными. Это знакомая ха¬
рактерная черта всех записей дипломатических переговоров.
Документы не сообщают нам, что в действительности прои¬
зошло, а только то, что, по мнению Штреземана, произошло.
Либо то, в чем он хотел убедить других или, возможно, убе¬
дить самого себя. Не Саттон или Бернард, а Штреземан на¬
чал процесс селекции. И если у нас были бы, допустим, за¬
писи Чичерина о тех же самых переговорах, мы все же уз¬
нали бы из них только то, о чем думал Чичерин, а то, что
происходило в действительности, должно было бы все же
“Gustav Stresemann. His Diaries, Letters and Papers”, I, 1935,
Editor’s Note.
20
восстанавливаться историком. Несомненно, факты и доку¬
менты важны для историка. Но не следует превращать их в
фетиш. Сами по себе они не составляют историю; сами по
себе они не дают готовый ответ на этот утомительный воп¬
рос: «Что такое история?»
В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов по по¬
воду того, почему историки XIX века были, в общем, безраз¬
личны к философии истории. Этот термин ввел в оборот
Вольтер, и с тех пор он использовался в различных смыс¬
лах, но я применяю его, если уж вообще пользоваться им,
для ответа на вопрос «Что такое история?»
XIX век был для интеллектуалов Западной Европы удоб¬
ным временем, источавшим уверенность и оптимизм. Факты
были в делом удовлетворительными: намерение задавать во¬
просы и отвечать на них было соответственно слабым. Ран¬
ке свято верил в то, что божественное провидение позаботит¬
ся о смысле истории, если он заботился о фактах, а Бурхард
с оттенком цинизма, более соответствующим современности,
заметил, что «нас посвящают в цели высшей мудрости».
Профессор Баттерфилд даже в 1931 г. отметил с видимым
удовлетворением, что «историки мало изображают сущность
вещей и даже сущность их собственного предмета»1. Но мой
предшественник по этим лекциям доктор А. Л. Роуз, подхо¬
дивший с более справедливой критикой к этому вопросу, пи¬
сал по поводу «Мирового кризиса» сэра Уинстона Черчилля
(его книги о первой мировой войне), что, хотя она равнозна¬
чна «Истории русской революции» Троцкого в описании лич¬
ности, ясности и жизненности, она уступает в одном плане:
«В ней не содержится философия истории»2.
Британские историки отказывались углубляться в эту
проблему не потому, что они считали историю не имеющей
смысла, но потому, что полагали ее смысл самим собой ра¬
зумеющимся и очевидным. Либеральный взгляд XIX века на
историю был очень близок к экономической доктрине lais¬
sez-faire (невмешательства. — Ред.), которая также явля¬
лась результатом спокойного и уверенного взгляда на мир.
Пусть каждый занимается своим делом — и невидимая ру¬
ка позаботится о всеобщей гармонии. Сами по себе факты
истории были демонстрацией высшего факта благодеятель¬
ного и, по-видимому, бесконечного прогресса на пути к выс¬
шим ценностям. Это был век невинности, историки разгули¬
вали в саду Эдема без фигового листа философии, чтобы
прикрыть себя, нагие и не испытывавшие стыда перед бо¬
гом истории. С тех пор мы познали грех и испытали паде¬
ние, и те историки, которые сегодня претендуют на то, что¬
1 Н. Butterfield. The Whipr Interpretation of History, 1931, p. 67.
2 A. L. Rowse. The End of an Epoch, 1947, p. 282—283.
21
бы обойтись без философии истории, просто пытаются, тщет¬
но и неловко, как члены нудистской колонии, воссоздать сад
Эдема на своем пригородном участке.
Сегодня щекотливый вопрос больше нельзя обходить. В
течение последних 50-ти лет много серьезной работы было
проделано в связи с вопросом «Что такое история?». Именно
из Германии, из страны, которой немало суждено было сде¬
лать, чтобы опрокинуть приятное правление либерализма,
был брошен в 80-е и 90-е годы XIX века первый вызов док¬
трине первенства и автономии исторических фактов. От фи¬
лософов, бросивших этот вызов, остались лишь имена. Сре¬
ди них Дильтей — единственный из тех, кто получил недав¬
но в Великобритании некоторое запоздалое признание. В
конце века процветание и уверенность в Англии были слиш¬
ком велики, чтобы уделять какое-либо внимание еретикам,
атаковавшим культ фактов. Но в начале нового столетия
факел переместился в Италию, где Кроче начал выдвигать
философию истории, которая явно была во многом обязана
германским учителям. Вся история является «современной
историей», провозгласил Кроче1, подразумевая, что история,
по-существу, состоит из видения прошлого глазами настоя¬
щего и в свете его проблем и что главная задача историка—
не записывать, а оценивать, так как если он не оценивает,
откуда он узнает, что стоит записывать?
В 1910 г. американский историк Карл Беккер заявлял в
нарочито вызывающем духе, что «не существует фактов ис¬
тории, пока историк не создаст их»2. Эти вызовы на какое-то
время были почти не замечены. Только после 1920 г. Кроче
стал приобретать значительную популярность во Франции и
Великобритании. Возможно, это происходило не потому, что
Кроче был более острым мыслителем или лучшим стилистом,
чем его немецкие предшественники, но потому, что после
первой мировой войны факты стали выказывать нам мень¬
шую благосклонность, нежели в годы, предшествовавшие
1914 г., и мы поэтому были более восприимчивы к филосо¬
фии, которая стремилась уменьшить их престиж. Кроче
оказал значительное влияние на оксфордского историка и
философа Коллингвуда, единственного британского мысли¬
теля текущего столетия, сделавшего серьезный вклад в фи¬
лософию истории. Он не дожил до того, чтобы написать си¬
1 Точный текст этого замечательного афоризма следующий: «Прак¬
тические требования, которые лежат в основании любого исторического
суждения, придают всей истории характер «современной истории» пото¬
му, что сколь бы отдаленными не казались во времени события, история
в действительности обслуживает нынешние обстоятельства, в которых и
звучат эти события (В. Croce. History as the Story of Liberty, 1941,
p. 19).
2 “Atlantic Monthly”, October 1910, p. 528.
22
стематический трактат, как он планировал, но его опублико¬
ванные и неопубликованные статьи по этому вопросу были
собраны после его смерти в книге, озаглавленной «Идея ис¬
тории» и вышедшей в 1945 г.
Идеи Коллингвуда заключаются в следующем. Филосо¬
фия истории не связана ни с «самим по себе прошлым», ни
с самими по себе «мыслями историка о нем», но с «взаимо¬
отношениями этих двух объектов». (Этот принцип отража¬
ет два теперешних значения слова «история» — исследова¬
ние, выполняемое историком, и цепь событий прошлого, ко¬
торую он анализирует.) «Прошлое, которое изучает исто¬
рик — не мертвое прошлое, но прошлое, которое в некото¬
ром смысле все еще живет в настоящем». Но событие про¬
шлого мертво, то есть бессмысленно для историка, пока он
не поймет мышления, лежащего за ним. Отсюда «вся исто¬
рия является историей мышления», «история — воплощение
в уме историка мышления, чью историю он изучает». Воссоз¬
дание прошлого в уме историка зависит от эмпирических
данных. Но сам по себе это не эмпирический процесс, и он
не может состоять просто из перечисления фактов. Напро¬
тив, процесс воссоздания управляет отбором и интерпрета¬
цией фактов. Именно это превращает их в исторические фак¬
ты. «История, — говорит профессор Оукшот, который в
этом вопросе близок к Коллингвуду, — это опыт историка,
она никем не «сделана» за исключением историка: писать
историю — единственный способ «делать» ее»1. Это сокру¬
шительная критика, хотя она и требует ряда серьезных ого¬
ворок, высвечивает некоторые истины, которые игнорирова¬
лись.
Во-первых, исторические факты никогда не доходят до
нас «чистыми»; таковых нет, они не могут существовать в
чистом виде. Они всегда преломляются в уме того, кто их
регистрирует. Из этого следует, что, когда мы берем работу
по истории, в первую очередь мы должны обратить вним-
ние не на содержащиеся в ней факты, а на написавшего ее
историка. Позвольте мне взять в качестве примера великого
историка, в честь которого были учреждены эти лекции и чье
имя они носят.
Г М. Тревельян, как он говорит в своей автобиографии,
был «вскормлен на определенной степени преувеличенной
вигской традиции»2, и он не будет, я надеюсь, отказываться
от титула, если я назову его последним по порядку, но не
последним но значению среди великих английских истори¬
ков вигского направления. Не случайно, что он вспоминает
свое генеалогическое древо от великого историка-вига Джор¬
1 М. Oakeshott. Experience and Its Modes, 1933, p. 99.
2 G. M. Trevelyan. An Autobiography, 1949, p. 11.
23
джа Отто Тревельяна до Маколея, крупнейшего из вигских
историков. Самая лучшая и зрелая работа Тревельяна «Ан¬
глия при королеве Анне» была написана на этом фоне. Чи¬
татель сможет полностью оценить ее значимость только с
учетом этого обстоятельства. Больше того, автор не извинит
читателя, если он не сделает этого. Ибо, если, следуя при¬
емам любителей детективных повестей, вы сначала прочи¬
таете конец, то найдете на последних страницах третьего то¬
ма изложенную в самом лучшем известном мне виде суть
того, что сегодня называют вигской интерпретацией истории;
вы увидите, что Тревельян пытается исследовать происхож¬
дение и развитие вигской традиции, оценить ее бесприс¬
трастно и объективно в годы, последовавшие за смертью
ее основателя Вильгельма III. Хотя это, вероятно, и не един¬
ственное возможное объяснение событий правления короле¬
вы Анны, оно является обоснованным и в руках Тревельяна
плодотворным объяснением. Но чтобы оценить его полно¬
стью, вы должны понять, что делает историк. Если, по сло¬
вам Коллингвуда, историк должен повторить в уме то, что
происходило в уме его героя, то и читатель должен в свою
очередь повторить то, что происходило в уме историка.
Изучите историка, прежде чем вы начнете изучать факты.
Это в конце концов не так уж трудно для понимания. Это то,
что уже делает смышленый младшекурсник, который, ког¬
да ему рекомендуют прочесть работу великого исследовате¬
ля Джонса из колледжа св. Иуды, идет к приятелю в этот
колледж и спрашивает, что за тип этот Джонс. Когда вы чи¬
таете историческую работу, всегда обращайте внимание на
се тональность. Если вы ничего не обнаруживаете, то либо
вы глухи, либо ваш историк никуда не годится. Факты —
это не рыбы на лотке торговца. Они, как рыбы, плавающие
в огромном и иногда безбрежном океане; и то, что поймает
историк, будет зависеть частично от удачи, но главным об¬
разом от того, какую часть океана он выберет для ловли, и
от того, какую снасть он будет использовать, — два факто¬
ра, обусловленные тем, какую рыбу он хочет поймать. В об¬
щем, историк найдет факты того рода, которые нужны.
История означает интерпретацию. Если, ставя сэра
Джорджа Кларка на голову, я назову историю «твердой
сердцевиной интерпретации, окруженной мякотью спорных
фактов», мое заявление будет, несомненно, односторонним
и вводящим в заблуждение, но не более, осмелюсь думать,
чем исходное заявление.
Второй пункт более знаком. Это необходимость для исто¬
рика в образном представлении об умах людей, с которыми
он имеет дело, о мыслях, стоящих за их действиями. Я гово¬
рю об «образном понимании», а не «симпатии», чтобы сим¬
патию не истолковали как влекущую за собой согласие.
24
В XIX пеке слабо разбирались в средневековье, потому
что историков слишком отталкивали средневековые суеве¬
рия и вызванные ими жестокости. Поэтому не было четкого
представления о людях средневековья. Или возьмите эмо¬
циональное замечание Буркхардта о Тридцатилетней войне:
«Позор, когда вера, католическая или протестантская, буду¬
чи неприкосновенной, ставится выше здравых интересов на¬
ции»1. Либеральным историкам XIX века, выросшим на ве¬
ре в то, что справедливо и достойно похвалы убивать ради
защиты 41 ей-либо страны, но нехорошо и неверно убивать
ради защиты чьей-либо религии, было чрезвычайно трудно
проникнуть в умы тех, кто сражался в Тридцатилетней вой¬
не. Эта трудность особенно остро проявляется в той области,
в которой я сейчас работаю.
Многое из того, что за последние 10 лет было написано
в англоязычных странах о Советском Союзе и в Советском
Союзе об англоязычных странах, было пронизано именно та¬
кой неспособностью достичь самого элементарного понима¬
ния того, что происходит в умах представителей другой сто¬
роны; слова и дела других представлялись всегда пронизан¬
ными злым умыслом, бессмысленными или лицемерными. Ис¬
торическая работа не может быть написана, пока историк
не достигнет определенного контакта с умами тех, о ком он
пишет.
Третий пункт — это то, что мы можем видеть прошлое
и достичь нашего понимания прошлого только глазами на¬
стоящего. Историк — человек своего времени и привязан к
нему условиями своего существования как человек. Те сло¬
ва, которые он использует, такие, как «демократия», «вой¬
на», «революция», имеют современное значение, от которых
он не может их оторвать. Историки античности стали ис¬
пользовать слова «полис» и «плебс», чтобы показать, что
они не попали в эту ловушку. Это не помогает им. Они так¬
же живут в настоящем и не могут переместиться в прошлое,
используя незнакомые или вышедшие из употребления сло¬
ва; они не могут стать греческими или римскими историка¬
ми времен античности, даже если будут читать лекции в
хламидах или тогах. Термины, с помощью которых француз¬
ские историки поколение за поколением характеризовали
парижские толпы, сыгравшие столь значительную роль в ре¬
волюции: санкюлоты, народ, канальи — предназначались
для тех, кто знает правила игры, и служили выражениями
политической симпатии и конкретной интерпретации. Тем
не менее историк должен выбирать: использование языка не
позволяет ему быть нейтральным. Это не только дело слов.
В течение последних 100 лет изменившийся баланс сил в
Европе изменил отношение английских историков к Фридри¬
1 /. Burckhardt. Judgements on History and Historians, 1959, p. 179.
25
ху Великому. Изменившийся баланс сил в пределах христи¬
анских церквей между католицизмом и протестантством глу¬
боко изменил и отношение к таким фигурам, как Лойола,
Лютер и Кромвель. Достаточно только самого поверхност¬
ного знания работ французских историков последних 40 лет
о Французской революции, чтобы увидеть, какое глубокое
влияние на них оказала русская революция 1917 года. Исто¬
рик принадлежит не только прошлому, но и настоящему.
Профессор Тревор-Ропер говорит нам, что «историк должен
любить прошлое»1. Это сомнительное предписание. Любовь
к прошлому легко может быть выражением ностальгическо¬
го романтизма стариков и состарившихся обществ, симпто¬
мом утраты веры и интереса в настоящем и будущем. Если
уж использовать клише, я предпочитаю клише об освобожде¬
нии от «мертвой руки прошлого». Задача историка состоит
не в том, чтобы любить прошлое или стремиться освободить¬
ся от него, но в том, чтобы владеть им и видеть в нем ключ
к пониманию настоящего. Если эти положения относятся к то¬
му, что я мог бы назвать взглядом Коллингвуда на исто¬
рию, то подошло время рассмотреть некоторые опасности,
таящиеся в них. Подчеркивание роли историка в создании
истории, при доведении до логического конца, приводит к
отрицанию любой объективной истории вообще: историю со¬
здает историк. Коллингвуд, по-видимому, однажды в неопу¬
бликованной записи, процитированной его издателем, при¬
шел к этому заключению: «Св. Августин рассматривал исто¬
рию с точки зрения раннего христианина; Тилламон — с точ¬
ки зрения француза XVII века, Гиббон — англичанина
XVIII века, Моммзен — немца XIX века. Нет смысла спра¬
шивать, какая точка зрения правильна. Каждая из них бы¬
ла единственно возможной для разделявшего ее человека»2.
Это равносильно полному скептицизму, вроде замечания
Фруда, что история — это «детская азбука, из которой мы
можем составить любое слово»3 Коллингвуд в его реакции
против «компилятивной истории», против взгляда на исто¬
рию как только на компиляцию фактов, подходит опасно
близко к рассмотрению истории как к чему-то выводимому
из человеческого мозга и ведет назад к выводу, на который
ссылался сэр Джордж Кларк в отрывке, цитированном о
том, что «нет объективной исторической правды». Вместо
теории о том, что история не имеет смысла, здесь нам пред¬
лагают теорию о бесконечности значений, не более правиль¬
ную, чем любая другая, которая приводит во многом к тому
же.
1 Введение к книге: / Burckhardi. Judgements on History and Histo¬
rians, 1959, p. 17.
2 R. Collingwood. The Idea of History, 1946, p. XII.
3 A. Froude. Short Studies on Great Subjects, I, 1894, p. 21,
26
Вторая теория, конечно, столь же несостоятельна, как и
первая. Из того, что гора принимает различные очертания
при разных углах наблюдения, не следует ни то, что она
объективно вообще не имеет очертаний, ни то, что их бес¬
конечно много. Из того, что интерпретация играет необходи¬
мую роль в установлении исторических фактов, и из того,
что ни одна существующая интерпретация не является пол¬
ностью объективной (одна интерпретация столь же хороша,
как другая), не следует, что факты истории в принципе не
поддаются объективной интерпретации. Далее мне придется
рассмотреть, что точно понимается под объективностью в
истории.
Еще большая опасность скрывается в гипотезах Коллинг-
вуда. Если историк необходимо смотрит на свой период гла¬
зами своего времени и изучает проблемы прошлого как
ключ к проблемам современности, не впадет ли он в чисто
прагматическое видение фактов и не придет ли к выводу,
что критерий верной интерпретации — ее удобство для се¬
годняшних целей? По этой гипотезе, факты истории — ничто,
интерпретация — все. Ницше уже провозгласил этот прин¬
цип: «Для нас ошибочность мнения — не основание, чтобы
его отвергнуть. Суть в том, насколько оно способствует жиз¬
ни, сохранению жизни, сохранению особей, возможно, созда¬
нию особей»1. Американские прагматики шли, выражаясь
менее ясно и менее искренне, в том же направлении. Знание
есть знание для некоторой цели. Ценность знания зависит
от ценности цели. Но даже там, где такая теория открыто
не признавалась, практика оказывалась не менее тревожной.
В моей собственной сфере исследования я видел слишком
много примеров сумасбродной интерпретации, самоуправст¬
ва с фактами, чтобы на меня не произвела впечатления ре¬
альность этой опасности. Не удивительно, что внимательное
изучение некоторых наиболее крайних работ советской и ан¬
тисоветской историографических школ иногда вызовет оп¬
ределенную ностальгию по этому иллюзорному убежищу чи¬
сто фактической истории XIX века.
Как в XX веке, мы должны определить обязанность ис¬
торика по отношению к его фактам? Полагаю, что в послед¬
ние годы я затратил достаточное количество времени на ро¬
зыск и тщательное прочтение документов и на насыщение
моих исторических повествований фактами с должными снос¬
ками, чтобы избежать обвинения в слишком вольном обра¬
щении с фактами и документами. Обязанность историка ува¬
жать свои факты не исчерпывается обязанностью следить,
чтобы его факты были точными. Он должен стремиться ис¬
пользовать все относящиеся к делу известные факты в том
1 "Beyond Good and Evil”, Ch. I.
27
или ином смысле по теме, которой он занимается и по пред¬
ложенной интерпретации. Если он стремится описать ан¬
гличанина викторианской эпохи как нравственное и рацио¬
нальное существо, он не должен забывать, что случилось в
Стэлбридж-Уэйксе в 1850 г. Но это в свою очередь не озна¬
чает, что он может устранить интерпретацию, составляющую
кровь истории. Непрофессионалы, мои друзья, не являющие¬
ся учеными, или друзья, занимающиеся другими науками,
иногда спрашивают меня, как историк приступает к работе,
когда пишет исследование. Самым распространенным пред¬
ставлением оказывается то, что историк делит свою работу
па две четко определенные фазы, два периода. Сначала он
проводит длительный предварительный период за чтением
источников и наполнением своих тетрадей фактами; затем,
когда с этим покончено, он откладывает источники, берет
свои записи и пишет книгу от начала и до конца. Для меня
это неубедительная и неправдоподобная картина. Для ме¬
ня, как только я начал работать с некоторыми из тех источ¬
ников, которые я беру в качестве основных, искушение ста¬
новится столь велико, что я начинаю писать. Не обязатель¬
но сначала, но откуда-нибудь, откуда угодно, а затем чтение
и написание идут одновременно. К написанному добавляют¬
ся или изымаются отдельные строки, написанное переделы¬
вается, зачеркивается, по мере то как я продолжаю чтение.
Чтение направляется и становится плодотворным под воз¬
действием процесса написания — чем больше я пишу, тем
больше я знаю о том, что мне надо искать, тем лучше я по¬
нимаю значение и уместность того, что я нахожу. Некото¬
рые историки, вероятно, проделывают это предварительное
написание в голове, не используя перо, бумагу или пишу¬
щую машинку, так же как некоторые люди играют в шах¬
маты в уме, не обращаясь к доске и фигурам. Это талант,
которому я завидую, по не могу подражать. Но я убежден,
что для любого стоящего историка два процесса, которые
экономисты называют «вложением» и «отдачей», протекают
одновременно и являются на практике частями единого про¬
цесса. Если вы попытаетесь разделить их или дать одному
преимущество перед другим, вы впадете в одну из двух
ересей. Вы напишите компилятивную работу, не обладаю¬
щую значением и важностью, или пропагандистскую работу,
или историческую фантазию, или просто используете факты
прошлого, чтобы приукрасить сочинение, не имеющее ничего
общего с историей.
Наше исследование отношения историка к историческим
фактам застает нас в явно рискованном положении, в осто¬
рожном плавании между Сциллой непригодной теории ис¬
тории как беспристрастного собирания фактов, неограничен¬
ного преимущества фактов над интерпретацией, и Харибдой
28
столь же непригодной теории истории как субъективного
продукта ума историка, который устанавливает исторические
факты и овладевает ими через процесс интерпретации, меж¬
ду взглядом на историю как имеющую центр тяжести в
прошлом и взглядом на историю как имеющую центр тя¬
жести в настоящем. Но наше положение — менее шаткое,
чем представляется.
Мы снова столкнемся с той же самой дихотомией факта
и интерпретации в этих лекциях в других обличиях — в осо¬
бенном и в общем, эмпирически и теоретически, объективно
и субъективно. Затруднения историка — отражение приро¬
ды человека. Человек, за исключением, вероятно, раннего
детства и глубокой старости, не полностью вовлечен в ок¬
ружающую среду и не безусловно подчинен ей. Вместе с тем
он никогда не бывает полностью независимым от нее и ни¬
когда не является безусловным хозяином этого окружения.
Отношение человека к окружающей среде — это отношение
историка к его теме. Историк не является ни покорным ра¬
бом, ни тираническим хозяином своих фактов. Отношения
между историком и его фактами — отношения равенства и
взаимности. Кик знает любой работающий историк, если он
перестанет отражать то, что он делает, как он думает и как
он пишет, то он вовлекается в длительный процесс подгонки
своих фактов под свою интерпретацию и своей интерпрета¬
ции под свои факты. Невозможно определить первенство од¬
ного по отношению к другому.
Историк начинает с предварительной селекции фактов и
предварительной интерпретации, в свете которой и сделана
эта селекция — как другими, так и им самим. По мере того
как он работает, интерпретация и селекция, порядок фактов
подвергаются тонким и, возможно, отчасти бессознательным
изменениям через взаимные воздействия. И это взаимное
воздействие также включает взаимодействие между совре¬
менностью и прошлым, так как историк — часть настоящего,
а факты принадлежат прошлому.
Историк и исторические факты необходимы друг другу.
Историк без своих фактов не имеет корней и терпит крах.
Факты без историка — мертвы и лишены смысла.
Таким образом, мой первый ответ на вопрос «Что такое
история?» таков: это непрерывный процесс взаимодействия
между историком и его фактами, бесконечный диалог меж¬
ду настоящим и прошлым.
ОБЩЕСТВО И ИНДИВИДУУМ
Вопрос о том, что первично — общество или индиви¬
дуум, — подобен вопросу о курице и яйце. Независимо от
того, как вы его рассматриваете — с позиций логики или ис¬
тории, — любое заключение по этому вопросу должно быть
скорректировано противоположным и в равной степени одно¬
сторонним заключением. Общество и индивидуум неразде¬
лимы, они необходимы и взаимно дополняют друг друга, а
не противоположны. «Человек — не остров, изолированный
сам по себе, — это знаменитое слово Донне, — каждый че¬
ловек — частица континента, часть главного»1. В этом есть
доля истины. Вместе с тем возьмите изречение в высшей
степени типичного индивидуалиста Д. С. Милла: «Люди,
когда их сведут вместе, не превращаются в другую субстан¬
цию»2. Конечно, нет. Но фактом остается то, что они сущест¬
вовали или имели какую-либо сущность до того, пока их
«свели вместе». Как только мы рождаемся, мир начинает
оказывать на нас воздействие и трансформирует нас из чи¬
сто биологических в социальные единицы. Любой человек на
любой стадии истории или предыстории рождается в общест¬
ве и с первых лет жизни формируется этим обществом.
Язык, на котором он говорит, — не индивидуальное наслед¬
ство, не социальное приобретение той группы, в которой он
растет. Как язык, так и окружающая среда способствует
определению характера его мышления: самые первые идеи
он получает от других. Как было хорошо сказано, индиви¬
дуум без общества был бы лишен как ума, так и языка.
Миф о Робинзоне Крузо продолжает увлекать, ибо это по¬
пытка представить себе независимого от общества индиви¬
дуума. Попытка терпит неудачу. Робинзон — не абстракт¬
ный индивидуум, а англичанин из Иорка; с собой он берет
Библию, по которой он молится богу своего народа. Миф
быстро награждает его человеком — Пятницей, и начинает¬
ся создание нового общества. Другой относящийся к делу
миф — Кириллов из «Бесов» Достоевского, который покон¬
чил с собой, чтобы продемонстрировать свою совершенную
свободу.
1 “Devotions upon Emergent Occasions”, No. XVII.
2 J. S. Mill. A System of Logic, VII, 1.
30
Самоубийство — единственный совершенно свободный
акт, доступный отдельному индивидууму, любое другое дей¬
ствие связано тем или иным образом с членством в обще¬
стве1.
Антропологи обычно говорят, что первобытный человек
менее индивидуален и больше формируется обществом, чем
цивилизованный человек. В этом утверждении содержится
элемент истины. Более простые общества более однородны
в том смысле, что они требуют и предоставляют возможно¬
сти для гораздо меньшего разнообразия индивидуальных
навыков и занятий, чем более сложные и развитые общест¬
ва. Рост индивидуальности в этом смысле — необходимый
продукт современного передового общества и проходит че¬
рез все его действия сверху донизу. Но было бы серьезной
сшибкой устанавливать противоположность между этим про¬
цессом индивидуализации и растущей силой и сплоченно¬
стью общества. Развитие общества и развитие индивидуума
идут рука об руку и взаимно обусловливают друг друга. Бо¬
лее того, то, что мы называем сложным или передовым об¬
ществом, это общество, в котором независимость индивиду¬
ума приобрела передовые и сложные формы. Было бы опас¬
но допускать, что возможность современного национального
общества формировать характер и мышление его членов и
создавать среди них определенную степень конформизма и
единообразия, сколько-нибудь меньше, чем в первобытной
родовой общине. Старая концепция национального характе¬
ра, основывающегося на биологических различиях, давным
давно отвергнута, но различия в национальном характере,
являющиеся следствием различий в национальной истории
общества и образования, трудно отрицать. Эта неуловимая
сущность, «человеческая натура», менялась столь значи¬
тельно от страны к стране и от столетия к столетию, что
трудно не рассматривать ее как исторический феномен, при¬
нявший свою форму под воздействием превалирующих со¬
циальных условий и обычаев.
Есть много различий между, допустим, американцами,
русскими и индийцами. Но некоторые и, вероятно, наиболее
важные из этих различий принимают форму различного
подхода к общественным отношениям между индивидуума¬
ми или, другими словами, к пути, которым общество долж¬
но быть организовано. Так что изучение различий между
американским, русским и индийским обществом в целом
может стать лучшим путем для изучения различий между
1 Дюркгейм в своем хорошо известном исследовании о самоубийстве
«отчеканил» слово «раковина», чтобы обозначить условие личности, изо¬
лированной от общества, — состояние, особенно способствующее эмоци¬
ональной неуравновешенности и самоубийству, но он также показал, что
самоубийство не независимо от социальных условий.
31
американцем, русским и индийцем как индивидуумами. Ци¬
вилизованный человек, так же как и первобытный, форми¬
руется обществом так же эффективно, как и общество фор¬
мируется им. Нельзя получить яйцо без курицы, а курицу —
без яйца.
Не было бы необходимости подробно задерживаться на
этих весьма очевидных истинах, если бы не тот факт, что
они были скрыты от нас замечательным и исключительным
историческим периодом, из которого западный мир начина¬
ет выходить. Культ индивидуализма — один из наиболее
убедительных современных исторических мифов. Согласно
знакомой оценке, данной Буркхардтом в книге «Цивилиза¬
ция Возрождения в Италии», вторая часть которой озаглав¬
лена «Развитие индивидуума», культ индивидуума начался
в эпоху Возрождения, когда человек, который до этого «со¬
знавал себя только как член расы, народа, партии, семьи
или корпорации», наконец стал «одухотворенной личностью
и осознал себя таковым». Впоследствии культ был связан
с подъемом капитализма и протестантизма, с началом про¬
мышленной революции и доктринами невмешательства. Пра¬
ва человека и гражданина, провозглашенные Французской
революцией, были правами индивидуума. Индивидуализм
был основой великой философии утилитаризма XIX века.
Очерк Морли «О компромиссе», характерный документ вик¬
торианского либерализма, назвал индивидуализм и утили¬
таризм «религией человеческого счастья и благосостояния».
«Грубый индивидуализм» был лейтмотивом человеческого
прогресса. Это может быть совершенно правильный и цен¬
ный анализ идеологии данной исторической эпохи. Но что
я хочу сделать ясным — это то, что рост индивидуализма, кото¬
рым сопровождалось становление современного мира, был нор¬
мальным процессом развивающейся цивилизации. Социаль¬
ная революция привела к власти новые общественные груп¬
пы. Она действовала, как всегда, через инидивидуумы и
предлагала новые возможности для индивидуального разви¬
тия. Так как на ранних стадиях капитализма средства про¬
изводства и распределения были главным образом в руках
отдельных индивидуумов, идеология нового общественного
устройства делала сильный акцент на роль в нем личной
инициативы. Но весь процесс был социальным процессом,
представлявшим специфический этап исторического разви¬
тия. Он не может быть объяснен в терминах бунта индиви¬
дуумов против общества или освобождения индивидуумов
от налагаемых обществом ограничений.
Есть много признаков того, что даже в западном мире,
который был очагом данных событий и такой идеологии,
этот исторический период подошел к концу: здесь мне нет
необходимости указывать на подъем того, что называется
32
массовой демократией, или на постепенное замещение рас¬
пространенных индивидуальных форм преобладающими кол¬
лективными формами экономического производства и орга¬
низации. Но идеология, выработанная в этот долгий и плодо¬
творный период, все еще остается доминирующей силой в
западном мире и во всех англоговорящих странах. Когда мы
абстрактно рассуждаем о трениях между свободой и равен¬
ством или между индивидуальной свободой и социальной
справедливостью, мы склонны забывать о том, что между
абстрактными идеями борьба не происходит. Это не битвы
между индивидуумами как таковыми и обществом как та¬
ковым, но между группами индивидуумов в обществе. При
этом каждая группа стремится проводить социальную поли¬
тику, благоприятствующую ей, и наносить поражение поли¬
тике, враждебной ей. Индивидуализм в определенном смыс¬
ле является уже не великим социальным движением, а лож¬
ным противопоставлением индивидуума и общества. Сегод¬
ня он стал лозунгом заинтересованной группы и в силу
своего противоречивого характера барьером на пути пони¬
мания нами происходящего в мире. Мне нечего сказать про¬
тив культа индивидуума как протеста против такого извра¬
щенного положения вещей, когда индивидуум рассматрива¬
ется как средство, а общество и государство — как цель.
Но мы никогда не поймем ни прошлого, ни настоящего, ес¬
ли будем исходить из концепции абстрактного индивидуума,
стоящего вне общества.
И это, наконец, приводит нас к сути моего длительного
отступления. Общепринятый взгляд на историю рассматрива¬
ет ее как нечто, написанное индивидуумами об индивиду¬
умах. Этот взгляд был, конечно же, взят и поддержан либе¬
ральными историками XIX века, и по сути он не является
неверным. Но теперь он выглядит упрощенным и неадекват¬
ным, нам нужно идти вглубь. Знания историка не являются
его исключительной личной собственностью: в их собирании,
вероятно, участвовали люди многих поколений из разных
стран. Люди, действия которых изучает историк, не были
изолированными индивидуумами, жившими в вакууме: они
действовали в контексте и под влиянием прошлого общества.
В моей предыдущей лекции я говорил об истории как о про¬
цессе взаимодействия, как о диалоге между историком в на¬
стоящем и фактами в прошлом. Теперь я хочу исследовать
относительный вес индивидуальных и общественных элемен¬
тов в обеих частях уравнения. В какой мере историки высту¬
пают как отдельные индивидуумы и насколько они продук¬
ты своего общества и своего времени? В какой мере истори¬
ческие факты представляют собой факты об отдельных лич¬
ностях и насколько они — социальные факты?
Итак, историк — это какой-то отдельно взятый человек.
33
Как и другие индивидуумы, он также социальный феномен,
продукт и сознательный или бессознательный представитель
общества, которому он принадлежит, именно в этом качест¬
ве он подходит к фактам исторического прошлого. Мы иног¬
да говорим о ходе истории как о «движущейся процессии».
Эта метафора достаточно справедлива при условии, что она
не будет соблазнять историка считать себя орлом, обозре¬
вающим пейзаж с одинокой скалы, или необычайно важным
деятелем на трибуне. Ничего подобного. Историк — только
еще одна малозаметная фигура, движущаяся в другой части
процессии. И так как процессия извивается, отклоняясь то
вправо, то влево, и иногда возвращается обратно, относи¬
тельное положение различных частей процессии постоянно
меняется, так что, может быть, совершенно верным будет
сказать, например, что сейчас мы ближе к эпохе средневе¬
ковья, чем наши прадеды 100 лет назад, или что эпоха Це¬
заря ближе к нам, чем эпоха Данте. Новые перспективы,
новые углы зрения постоянно появляются, по мере того как
процессия и историк вместе с ней пребывают в дви¬
жении. Историк — часть истории. То место в процессии, где
он находится, определяет угол зрения, под которым он ви¬
дит прошлое.
Этот трюизм не менее верен, когда изучаемый историком
период отдален от его эпохи. Когда я изучал историю ан¬
тичности, классическими работами по этому периоду были—
и, вероятно, остаются таковыми — «История Греции» Троута
и «История Рима» Моммзена. Гроут, просвященный радикаль¬
ный банкир, писавший в 40-е годы XIX века, воплощал воззре¬
ния поднимавшегося и политически прогрессивного британско¬
го среднего класса, создавая идеализированную картину афин¬
ской демократии, в которой Перикл фигурирует как утили¬
таристский реформатор, а Афины по рассеянности допустили
возникновение империи. Отнюдь не будет нереальным пред¬
положить, что игнорирование Троутом проблемы рабства в
Афинах отражало неспособность группы, к которой он при¬
надлежал, понять и проблемы нового английского промыш¬
ленного пролетариата. Моммзен был немецким либералом,
разочарованным беспорядками и унижениями революции
1848—1849 гг. в Германии. Работая в 50-е годы XIX века —
в десятилетие, в котором зародились название и идея Real
politic, — Моммзен тосковал о сильной личности, которая
расчистила бы хаос, образовавшийся из-за неспособности
немецкого народа реализовать свои политические устремле¬
ния; и мы никогда не поймем его историю, если не осозна¬
ем, что его хорошо известная идеализация Цезаря — резуль¬
тат его жажды по сильному человеку, который бы поднял
Германию из руин, и что образ адвоката-политикана Цице¬
рона, этого пустого болтуна и ловкого копуши, возник на
31
основе дебатов во Франкфурте в 1848 г. Более того, я не
счел бы возмутительным парадоксом, если бы кто-нибудь
сказал, что «История Греции» Гроута сообщает нам о мыш¬
лении английских философских радикалов 40-х годов XIX ве¬
ка ровно столько, сколько и об афинской демократии V века
до н. э., или если кто-нибудь, желая понять, что сделали в
1848 г. с немецкими либералами, стал пользоваться в каче¬
стве одного из учебников «Историей Рима» Моммзена. Это
никоим образом не подрывает репутации данных выдающих¬
ся исторических сочинений. Я никоим образом не согласен
с примером, приведенным Бери в своей вступительной лек¬
ции, что величие Моммзена будто бы покоится не на его
«Истории Рима», а на собранных им надписях и его работе
о римском конституционном праве. Это свело бы историю
до уровня компиляции. Великие исторические сочинения со¬
здаются тогда, когда видение историком прошлого освеща¬
ется проникновением в проблемы настоящего. Часто выра¬
жали удивление тем, что Моммзен не продолжил свою исто¬
рию после падения республики. Он не испытывал недостат¬
ка ни во времени, ни в возможности, ни в знаниях. Но когда
Моммзен писал свое сочинение, сильный человек в Герма¬
нии еще не появился. В годы его активной творческой рабо¬
ты еще не была актуальной проблема появления сильной
личности. Ничто не вдохновляло Моммзена спроецировать
эту проблему на римскую сцену; и история империи осталась
ненаписанной.
Было бы легко увеличить число примеров этого феноме¬
на среди современных историков. В моей прошлой лекции
я отдал дань уважения «Англии при королеве Анне»
Г М. Тревельяна как монументальному труду в традиции
вигов, в которой он воспитывался. Давайте теперь рассмот¬
рим внушительные и значительные достижения того, кого
большинство из нас сочли бы крупнейшим британским исто¬
риком из числа появившихся на научной арене после пер¬
вой мировой войны — сэра Льюиса Нэмира. Нэмир был ис¬
тинным консерватором — не типичным английским консер¬
ватором, который, если покопаться, на 75% оказывается ли¬
бералом, но консерватором, подобного которому мы не ви¬
дели среди британских историков на протяжении более
100 лет.
Между серединой прошлого столетия и 1914 г для бри¬
танского историка едва ли было возможным оценивать ис¬
торический процесс иначе, как изменение к лучшему.
В 20-е годы мы вступили в период, когда перемены начали
ассоциироваться со страхом перед будущим и когда о нем
могли думать как об изменении к худшему, — период воз¬
рождения консервативного мышления. Так же, как и либе¬
рализм Эктона, консерватизм Нэмира черпал силу, ток и
35
глубину в том, что имел корни в континентальной традиции1.
В отличие от Фишера или Тойнби, Нэмир не имел корней в
либерализме XIX века и не испытывал ностальгию по нему.
Когда первая мировая война и неудавшийся мир показали
банкротство либерализма, реакция могла наступить только
в двух формах — социализма или консерватизма. Нэмир вы¬
ступил как консервативный историк. Он работал в двух
избранных областях, и выбор каждой из них был знамена¬
телен. В английской истории он вернулся к последнему пе¬
риоду, в котором правящий класс мог заниматься разумным
обеспечением места и власти для себя в упорядоченном и в
основном статичном обществе. Кое-кто обвинял Нэмира в
том, что он устранил из истории разум2. Возможно, это не
очень удачная фраза, но можно представить себе главное,
что имели в виду критики. Политика во время восшествия
на престол Георга III все еще обладала иммунитетом про¬
тив фанатизма идей и той страстной веры в прогресс, кото¬
рая обрушилась на мир с момента Французской революции
и возвестила о наступлении столетия триумфального либера¬
лизма. Нет идей, нет революции, нет либерализма: Нэмир
предпочел дать нам блестящий портрет эпохи, все еще сво¬
бодной, хотя ей недолго было оставаться свободной от всех
этих опасностей.
Но выбор Нэмиром следующего объекта был столь же
значительным. Он прошел мимо великих революций ■— ан¬
глийской, французской и русской, — он не написал ничего
существенного о какой-либо из них и предпочел дать нам
глубокое исследование европейской революции 1848 г., ре¬
волюции, потерпевшей неудачу повсюду и задержавшей в
масштабе всей Европы поднимающиеся надежды на либера¬
лизм, ставшей демонстрацией бессилия идей перед лицом
военной силы, когда демократам противостоят солдаты.
Вторжение идей в серьезное политическое дело бесполезно
и опасно: Нэмир втирал в раны эту мораль, называя эту
унизительную неудачу «революцией интеллектуалов».
Наше заключение не сводится только к догадке, ибо, хотя
Нэмир ничего не написал законченного о философии истории,
он выразился со своей обычной ясностью и проницательностью
в очерке, опубликованном несколько лет назад. «Чем мень¬
1 Возможно, стоит упомянуть, что единственный другой значительный
британский консервативный историк межвоенного периода Т. С. Элиот
также пользовался преимуществом небританской традиции. Никто из
числа тех, чье становление проходило в Великобритании до 1914 г., не
сумел избежать заразительного воздействия либеральной традиции.
2 Впервые критика содержалась в неподписанной статье в литера¬
турном приложении к газете «Таймс» от 28 августа 1955 г. «Взгляд Нэ¬
мира на историю», в которой говорилось: «Дарвин был обвинен в том,
что удалил разум из Вселенной, и сэр Льюис был Дарвином политиче¬
ской истории еще в большей степени».
36
ше, следовательно, — писал он, — человек обременяет сво¬
бодную игру своего ума политической доктриной и догмой,
тем лучше для его мышления». И далее, упоминая, но не
опровергая обвинение в том, что он устранил из истории
разум, он продолжал: «Некоторые политические философы
жалуются на «наскучившее затишье» и отсутствие в Велико¬
британии дискуссии по вопросам общей политики; практи¬
ческие решения ищутся для конкретных проблем, в то вре¬
мя как программы и идеалы забыты обеими партиями. Но
для меня этот подход означает большую зрелость нации, и
я могу только пожелать, чтобы этот процесс подольше про¬
должался без вмешательства политических философов»1
Я не хочу пока вступать в спор с этим взглядом, я ос¬
тавлю это для следующей лекции. Моя цель здесь — только
проиллюстрировать две важные истины: во-первых, вы не
можете полностью понять или оценить работу историка, по¬
ка не усвоите точку зрения, с которой он сам подходит к ней,
во-вторых, то, что сама эта точка зрения имеет корни в по¬
литической и исторической почве. Не забывайте, что, как
однажды сказал Маркс, учитель должен сам научиться. На
современном жаргоне это означает, что мозги того, кто про¬
мывает мозги, должны быть промыты. Историк, прежде чем
он начнет писать исследование, — сам продукт истории.
Историки, о которых я только что говорил — Гроут и
Моммзен, Тревельян и Нэмир, — каждый из них был, так
сказать, отлит в единой социальной и политической форме,
между их ранними и поздними работами не прослеживает¬
ся заметных изменений взглядов. Но некоторые историки в
период быстрых перемен отразили в своих работах не одно
общество и не один общественный порядок, но последова¬
тельность разных порядков. Лучший из известных мне при¬
меров — пример выдающегося германского историка Мей-
неке, который прожил и работал очень долго и охватил се¬
рию революционных и катастрофических перемен в судьбах
его страны. В сущности, мы имеем трех различных Мейнеке,
каждый из которых выражал разные исторические эпохи,
что отражено в любой из его трех крупных работ. В книге
«Мировая буржуазия и национальное государство», вышед¬
шей в 1907 г., Мейнеке с уверенностью констатирует реали¬
зацию германского национального идеала в бисмарковском
рейхе. Как многие мыслители XIX века, начиная с Маззини и
далее, он идентифицирует национализм с высшей формой
универсализма: это продукт вильгельмовского барокко, об¬
разовавшийся после эпохи Бисмарка. В книге «Идея госу¬
дарственности», вышедшей в 1925 г., Мейнеке обнажает рас¬
колотое и озадаченное мышление Веймарской республики:
1 L. Namier. Personalities and Powers, 1955, p. 5, 7.
37
мир политики стал ареной неразрешенного конфликта меж¬
ду интересами государства и моралью, которая чужда по¬
литике, и не может в конечном счете стать выше жизни и
безопасности государства. Наконец в книге «Возникновение
историзма», вышедшей в 1936 г., когда нацистская волна
смыла с него академические награды, он издает крик отчая¬
ния, отвергая историзм (который, по-видимому, признает,
что «все существующее — разумно»), и в замешательстве
мечется между исторической относительностью и сверхра¬
циональным абсолютом. В последствии, когда Мейнеке в
старости стал свидетелем военного разгрома страны, более
сокрушительного, чем в 1918 г., он в книге «Катастрофа
Германии», вышедшей в 1946 г., пришел к беспомощному
заключению о том, что в истории господствует слепой, без¬
жалостный случай1 Психолога или биографа заинтересова¬
ло бы здесь развитие Мейнеке как личности. Историка же
интересует то, каким образом Мейнеке отражает три или
даже четыре последовательных и резко контрастировавших
периода настоящего в историческом прошлом.
Давайте возьмем более близкий нам известный пример.
В иконоборческие 30-е годы нашего века, когда либеральная
партия только что перестала быть эффективной силой в
британской политике, профессор Баттерфилд написал книгу
«Вигская интерпретация истории», которая пользовалась
большим и заслуженным успехом. Эта книга была замеча¬
тельна во многих отношениях. Не в последнюю очередь по¬
тому, что, хотя там на 130 страницах осуждалась вигская
интерпретация, в ней не был назван (насколько я мог су¬
дить без помощи указателя) ни один из вигов, кроме Фок¬
са, который не был историком, и ни один историк, кроме
Эктона, который не был вигом2. Но отсутствие деталей и
точности изложения компенсировалось содержащимся в ней
яростным обвинительным заключением. У читателя не оста¬
валось сомнений в том, что вигская интерпретация — дрянь,
и одним из видвинутых против нее обвинений было то, что
она «изучает прошлое с позиций сегодняшнего дня». По это¬
му вопросу профессор Баттерфилд был категоричен и су¬
ров: «Изучение прошлого, так сказать, с оглядкой на совре¬
менность — источник всех грез и софистики в истории... Это
Я здесь обязан великолепному анализу эволюции Мейнеке, сде¬
ланному доктором В. Старком в его введении к английскому переводу
книги «Идея государственного интереса», вышедшей в оригинале под
заголовком «Маккиавелизм» в 1954 г.; вероятно, доктор Старк переоце¬
нивает свеохрациональный элемент в третьем периоде жизни Мейнеке.
2 И Butterfield. The Whig Interpretation of History, 1931.
Ha c. 67 автор признается, что испытывает «здоровое недоверие» к «без-
личностной аргументации».
38
суть того, что мы подразумеваем под термином „неисторич-
ность”» 1.
Прошло 12 лет. Мода на иконоборчество прошла. Родина
профессора Баттерфилда сражалась в войне, о которой ча¬
сто говорили, что она шла в защиту конституционных сво¬
бод, воплощенных в вигской традиции, под руководством ве¬
ликого вождя, который постоянно взывал к прошлому, «так
сказать, с оглядкой на современность».
В небольшой книге под названием «Англичанин и его
история», вышедшей в 1944 г., профессор Баттерфилд не
только решил, что вигская интерпретация истории была
«английской» интерпретацией, но и с энтузиазмом говорил о
«союзе англичанина с историей» и о «браке между прошлым
и настоящим»2. Обращая внимание на эти изменения взгля¬
дов, я отнюдь не занимаюсь недружественной критикой. Моя
цель не в том, чтобы опровергать первичного Баттерфилда
с помощью вторичного Баттерфилда или противопоставлять
пьяного профессора Баттерфилда трезвому. Я глубоко уве¬
рен в том, что, если кто-нибудь возьмет на себя труд просле¬
дить, что я писал до, во время войны и после нее, ему будет
совсем не сложно убедить меня в противоречиях и несов¬
местимостях, по крайней мере так же бросающихся в глаза,
как и те, которые я обнаружил у других. Более того, я не
уверен в том, что позавидую любому историку, который мог
бы честно претендовать на то, что он прожил во времена
потрясающих событий последних 50 лет без определенных
радикальных изменений своих взглядов. Моя цель — просто
показать, как четко работа историка отражает общество, в
котором он работает. Не только события постоянно меняют¬
ся. Сам историк постоянно меняется. Когда вы берете ис¬
торическое сочинение, недостаточно посмотреть на имя ав¬
тора на титульном листе: посмотрите также на дату публи¬
кации или написания — иногда это имеет большее значение.
Если философ прав в том, что мы никогда не сможем дваж¬
ды войти в одну и ту же реку, то это, видимо, верно и по
той причине, что две книги не могут быть написаны абсо¬
лютно одним и тем же историком.
И если мы на минуту перейдем от отдельного историка
к тому, что может быть названо общими чертами в истори¬
ческом сочинении, степень, в которой историк является про¬
дуктом своего времени, станет еще более явной. В XIX веке
британские историки, за ничтожным исключением, считали
ход истории демонстрацией принципа прогресса: они выра¬
жали идеологию общества в состоянии замечательно быст¬
рого прогресса. История была полна смысла для британ¬
1 Я. Butterfield. Op. cit., р. П, 31—32.
2 И Butterfield. The Englishman and His History, 1944, p. 2, 4—5.
39
ских историков, до тех пор пока она представлялась идущей
по нашему пути. В настоящее время, поскольку она приня¬
ла неверное направление, вера в смысл в истории стала
ересью. После первой мировой войны Тойнби сделал отча¬
янную попытку заменить представление об истории как о
линейном процессе теорией циклов — характерная идеоло¬
гия общества периода упадка1. Со времени неудачи Тойнби
британские историки по большей части довольствовались
тем, что заламывали руки и объявляли, что в историческом
процессе вообще нет единого начала. Банальное замечание
Фишера в этом смысле2 получило почти столь же широкую
популярность, как и афоризм Ранке прошлого века. Если
кто-либо скажет мне, что британские историки в минувшие
30 лет испытали это изменение чувств как результат глубо¬
ких личных размышлений и полуночных раздумий в своих
уединенных кабинетах, я не сочту нужным оспаривать этот
факт. Но я буду продолжать считать все эти личные раз¬
мышления и полуночные бдения социальным феноменом, ре¬
зультатом фундаментального изменения в характере и
взглядах нашего общества, происшедшего после 1914 г. Нет
более важного показателя характера общества, чем те исто¬
рические работы, которые оно создает или в создании ко¬
торых терпит неудачу. Голландский историк Джейл в своей
увлекательной работе, переведенной на английский язык
под названием «Наполеон: за и против», показывает, как
последовательные суждения французских историков XIX ве¬
ка о Наполеоне отражали меняющиеся и противоречивые
тенденции политической жизни и мысли во Франции в XIX
веке. Мышление историков, так же как и других людей, оп¬
ределяется окружением — временем и местом. Эктон, ко¬
торый полностью признал эту истину, искал выход из нее в
самой истории: «История, — писал он, — должна освобож¬
дать нас не только от недолжного влияния других времен,
но и от недолжного влияния нашего времени, от тирании ок¬
ружающей среды и давления воздуха, которым мы дышим»3.
Быть может, это слишком опитимистичная оценка роли ис¬
тории, но я рискну предположить, что историк, который луч¬
ше осознает свое собственное положение, также более спо¬
собен к тому, чтобы выйти за его пределы, и больше спосо¬
бен к тому, чтобы оценить сущность различий между его
обществом и взглядами и обществами и взглядами других
времен и других стран, чем историк, который громко заяв¬
1 Марк Аврелий на закате Римской империи утешал себя размыш¬
лением: «Все, что сейчас происходит, уже случалось в прошлом и повто¬
рится в будущем» («К себе», X, с. 27). Как хорошо известно, Тойнби
заимствовал свою идею из «Заката Европы» Шпенглера.
2 Предисловие, датированное 4. 12. 1934, к «Истории Европы».
3 Acton. Lectures он Modern History, 1906, р. 33.
40
ляет, что он индивидуум, а не социальный феномен. Способ¬
ность человека подняться над своим социальным и истори¬
ческим положением, по-видимому, обусловлена тем, в какой
степени он осознает свою зависимость от всего этого.
В мсей первой лекции я сказал: прежде чем изучать ис¬
торическую работу, изучите историка. Теперь я бы добавил:
прежде чем вы изучите историка, изучите его историческое
и социальное окружение. Историк, будучи индивидуумом,
также продукт истории и общества, и именно в этом двой¬
ном свете тот, кто изучает историю, должен научиться оце¬
нивать историка.
Давайте теперь оставим историка и рассмотрим другую
сторону моего уравнения — исторические факты — в свете
той же самой проблемы. Является ли объектом историчес¬
кого исследования поведение отдельных индивидуумов или
действие социальных сил? Здесь я следую по хорошо про¬
топтанной дороге. Когда сэр Исайя Берлин выпустил не¬
сколько лет назад блестящее и популярное эссе, озаглав¬
ленное «Историческая неизбежность», к главному тезису
которого я вернусь позже в этих лекциях, он предварил его
девизом — «огромные безличные силы», — взятым из работ
Т. С. Элиота, и во всем этом эссе он высмеивает верящих в
то, что «огромные безличные силы, а не индивидуумы явля¬
ются решающим фактором в истории». То, что я бы назвал
теорией истории «плохого короля Джона» (убеждение, что
история занимается изучением лишь характеров и поведе¬
ния отдельных индивидуумов), имеет громадную родослов¬
ную. Желание объявлять гений одного человека движущей
силой истории характерно для примитивных этапов истори¬
ческого самосознания. Древние греки любили навешивать
на достижения прошлого имена мифических героев, кото¬
рые якобы были ответственны за них, приписывали свой
эпос Гомеру, а свои законы и общественные институты —
Ликургу или Солону. Та же склонность вновь появляется в
эпоху Возрождения, когда Плутарх, биограф-моралист, был
гораздо более популярной и влиятельной фигурой в класси¬
ческом Возрождении, чем историки античности. В Англии
все мы выучили эту теорию, когда еще под стол пешком хо¬
дили. И сегодня мы, вероятно, признали бы, что в этом есть
что-то детское или по крайней мере похожее на детское. В
этой теории было некоторое правдоподобие в дни, когда об¬
щество было проще, и казалось, что общественные дела
управлялись горсткой известных индивидуумов. Это явно
не подходит к более сложному обществу наших дней. Рож¬
дение в XIX веке новой науки — социологии — было отве¬
том на эту растущую сложность. Однако старая традиция
отмирает с трудом. В начале нашего столетия принцип «ис¬
тория — это биография великих людей» пользовался ува¬
41
жением. Всего 10 лет назад выдающийся американский ис¬
торик обвинял своих коллег, возможно, не очень серьезно, в
«массовом убийстве исторических деятелей», ибо они счита¬
ли их «марионетками социальных и экономических сил» Г
Адепты этой теории ныне не так речисты, но после некоторых
поисков я обнаружил великолепное современное выражение
этой тенденции во введении к одной из книг мисс Веджвуд:
«Поведение людей как индивидуумов,—пишет она,—для ме¬
ня более интересно, чем их поведение как групп или клас¬
сов. Историю можно писать с креном в одну или другую
сторону, один крен не вводит в большее заблуждение, чем
другой. Эта книга... попытка понять, что чувствовали эти
люди и почему, по их собственной оценке, они действовали
именно так, а не иначе»1 2. Это совершенно четкое утвержде¬
ние, а поскольку мисс Веджвуд — популярная писательни¬
ца, многие, я уверен, думают так же. Доктор Роуз говорит
нам, например, что елизаветинская система рухнула потому,
что Яков I не был способен понять ее и что английская ре¬
волюция XVII века была «случайным» событием, происшед¬
шим из-за тупости двух первых Стюартов3 Даже сэр
Джеймс Нил, более строгий историк, чем доктор Роуз, ино¬
гда, похоже, в большей мере желает выказать свое восхи¬
щение королевой Елизаветой, нежели объяснить, за что
стояла монархия Тюдоров. А сэр Исайя Берлин в эссе, ко¬
торое я только что процитировал, ужасно обеспокоен тем,
что историки как-то не осудят Чингисхана и Гитлера как
плохих людей4. Теория о «плохом короле Джоне» и «хоро¬
шей королеве Бесс» особенно расцветает, когда мы подхо¬
дим к недавней истории. Легче обозвать коммунизм выдум¬
кой Карла Маркса (я подобрал этот перл из недавнего цир¬
куляра биржевых маклеров), чем анализировать его проис¬
хождение и характер, легче приписывать большевистскую
революцию тупости Николая II или германскому золоту,
чем глубоко изучать ее социальные причины, и легче видеть
в двух мировых войнах этого столетия результат злых умыс¬
лов Вильгельма II и Гитлера, чем глубинного провала си¬
стемы международных отношений, обусловленного серьез¬
ными причинами.
1 “American Historical Review”, No. 1, January 1951, p. 270.
2 С. V. Wedgwood. Tile King’s Peace, 1955, p. 17.
3 A. L. Rowse. The England of Elizabeth, 1950, p. 261—262, 382.
Справедливости ради надо отметить, что в своем более раннем эссе Роуз
осудил историков, которые думали, что Бурбоны не сумели восстановить
монархию во Франции после 1870 г. только из-за «привязанности Генри¬
ха V к маленькому белому флагу» (“The End of an Epoch”, 1949 p. 275).
Возможно, у него есть подобного рода объяснение и для английской ис¬
тории.
4 I. Berlin. Historical Inevitability, 1954, р. 42.
42
В утверждениях мисс Веджвуд, следовательно, объеди¬
нены две посылки. Первая — это то, что поведение людей
как индивидуумов отлично от их поведения как членов
групп или классов и что выбор историка остановиться на
одном или другом направлении совершенно законен. Вто¬
рая — то, что изучение поведения людей как индивидуумов
состоит из изучения сознательных мотивов их действий.
После того, что я уже сказал, мне нет необходимости
тратить силы на первую посылку. Не потому, что взгляд на
человека как на индивидуума более обманчив, чем взгляд
на него как на члена группы. Вводит в заблуждение сама
попытка провести различие между этими двумя положения¬
ми. Уже само слово «индивидуум» предполагает, что имеет¬
ся в виду член общества или, вероятно, более чем только
общества — называйте это группой, классом, племенем, на¬
цией или как хотите. Ранние биологи довольствовались
классификацией видов птиц, зверей и рыб в клетках, аква¬
риумах и витринах и не стремились изучать живое сущест¬
во в связи с окружающей его средой. Возможно, сегодня об¬
щественные науки еще до конца не вышли из этой прими¬
тивной стадии. Некоторые проводят различие между психо¬
логией как наукой об индивидуумах и социологией как нау¬
кой об обществе. Концепции, предполагающей, что все со¬
циальные проблемы в конечном счете можно свести к ана¬
лизу поведения отдельного человека, было дано название
«психологизм». Но психологист, который не сможет изучить
окружающую социальную среду индивидуума, недалеко
уйдет1. Заманчиво провести различие между биографией,
которая рассматривает человека как индивидуума, и исто¬
рией, которая рассматривает человека как часть целого, и
высказать мысль, что хорошая биография — плохая исто¬
рия. «Ничто не вызывает больше ошибок и пристрастий во
взгляде человека на историю, — писал однажды Эктон, —
чем интерес, который вызывают отдельные индивидуумы»2.
Но такое различие нереально. Я не хочу также укрываться
за викторианской пословицей, которую Дж. М. Янг поме¬
стил на титульном листе своей книги «Викторианская Анг¬
лия»: «Слуги говорят о людях, господа говорят о сути»3.
1 Современных психологов тем не менее осуждают за эту ошибку:
«Психологи в целом рассматривают индивидуума не в качестве единицы
действующей социальной системы, но скорее в качестве конкретного че¬
ловека, которого представляли как создающего социальную систему. Они
следовательно, не приняли должным образом в расчет, в какой мере их
категории являются абстрактными» (профессор Толкот Парсонс во вве¬
дении к работе Макса Вебера: “The Theory of Social and Economic Orga¬
nization”, 1947, p. 27).
2 ‘Home arid Foreign Review”, January 1863, p. 219.
3 Эта идея была развита Г. Спенсером в его самом изысканном сти¬
ле в работе “The Study of Sociology” во 2-й главе. Если вы хотите грубо
43
Некоторые биографии являются серьезным вкладом в исто¬
рию: биографии Сталина и Троцкого, написанные Исааком
Дойчером, являются выдающимися примерами. Другие при¬
меры относятся к литературе, когда речь идет об историче¬
ских романах. «Для Литтона Стрэчи, — пишет профессор
Трэвор-Ропер, — исторические проблемы всегда были толь¬
ко проблемами индивидуального поведения и индивидуаль¬
ной эксцентричностью... Он никогда не пытался отвечать или
хотя бы задавать вопросы, связанные с проблемами истории
политики или общества»1. Никто не обязан писать или чи¬
тать исторические сочинения; могут быть написаны велико¬
лепные книги о прошлом, которые не являются историчес¬
кими работами. Но я думаю, что мы имеем право условить¬
ся — ия предлагаю сделать это в моих лекциях, — зарезер¬
вировать слово «история» для процесса исследования
прошлого человека в обществе.
Второй пункт — то есть то, что история должна выяс¬
нять, почему индивидуумы, по их собственной оценке, дейст¬
вовали так, а не иначе, — на первый взгляд кажется чрез¬
вычайно странным; я подозреваю, что мисс Веджвуд так же,
как и другие разумные люди, не поступает в соответствии
с тем, что она проповедует. Если бы она это делала, она
должна была написать довольно странное сочинение. Сегод¬
ня каждый знает, что люди не всегда или, возможно, даже
случайно действуют в соответствии с мотивами, которые они
полностью осознают или которые они хотят открыто при¬
знать. Исключить проникновение в бессознательные или не
признаваемые открыто мотивы, без сомнения, путь к тому,
чтобы работать, умышленно закрыв один глаз. Именно так, по
мнению некоторых, и должны поступать историки. Дело об¬
стоит следующим образом. Пока вы ограничиваетесь тем,
что король Джои был плох своей жадностью или тупостью,
или желанием быть тираном, вы говорите об индивидуаль¬
ных качествах, которые понятны даже на уровне детской ис¬
тории. Но как только вы начинаете говорить, что король
Джон был бессознательным орудием определенных интере¬
сов, противостоящих росту могущества феодальных баронов,
вы не только вводите более сложный и утонченный взгляд
на дурные качества короля Джона, но и оказывается, что
вы говорите о том, что исторические события определяются
не сознательными действиями индивидуумов, но некими
оценить чей-либо умственный уровень, наилучший способ для этого —
вывести соотношение общих положений общими местами отзывов о
лицах в его речи — насколько простые истины об индивидуумах заме¬
няются истинами, извлеченными из многообразной деятельности людей.
И когда вы проанализируете таким образом многих, вы обнаружите, что
только очень немногие выходят за рамки биографического подхода к
людским делам.
1 Н R. Trevor-Roper Historical Essays, 1957, р. 281.
44
внешними и всемогущими силами, направляющими их бес¬
сознательную волю. Это, конечно, абсурд. Что касается ме¬
ня, то я не верю ни в Божественное Провидение, ни в Миро¬
вой Дух, ни в Предначертание судьбы, ни в Историю с боль¬
шой буквы — в общем, ни в одну из тех абстракций, кото¬
рые, как иногда считали, направляли ход событий. Я безого¬
ворочно поддерживаю замечание Маркса: «История не дела¬
ет ничего, она «не обладает никаким необъятным богат¬
ством», она «не сражается ни в каких битвах»! Не «история»,
а именно человек, действительный, живой человек — вот кто
делает все это, всем обладает и за все борется»1. Два заме¬
чания, которые я должен сделать по этому вопросу, не име¬
ют никакого отношения к какому-либо абстрактному взгля¬
ду на историю и основываются на чисто эмпирическом на¬
блюдении.
Во-первых, история в значительной степени — дело чи¬
сел. Карлайлу принадлежит неуместное заявление, что «ис¬
тория — биография великих людей». Но послушайте, что он
писал в наиболее красноречивой и крупнейшей среди его
исторических работ: «Голод, нищета и кошмарное угнетение,
тяжко давящие на двадцать пять миллионов сердец, а не
уязвленные тщеславия или противоречия защитников раз-
тичных философий, богатых торговцев, земельной аристокра¬
тии были первопричиной Французской революции, и так же
будет во всех революциях, во всех странах»2. Или, как го¬
ворил Лепин: «Политика начинается там, где миллионы; не
там, где тысячи, а там где миллионы, там только начинается
серьезная политика...»3 Миллионы Карлайла и Ленина были
миллионами индивидуумов: в них не было ничего безлично¬
го, В дискуссиях по этому вопросу иногда путают аноним¬
ность с безличностью. Народы не перестают быть народами
или индивидуумы индивидуумами, оттого что мы не знаем
их имен. «Огромные безличные силы» Элиота были индиви¬
дуумами, которых Кларсидон, дерзкий и откровенный кон¬
серватор, называет «грязными людьми без имени»4. Эти бе¬
зымянные миллионы были индивидуумами, действовавшими
более или менее бессознательно, сообща, и они представля¬
ли собой социальную силу. Историк не будет при обычных
условиях обращать внимание на отдельного недовольного
крестьянина или недовольную деревню. Но миллионы недо¬
вольных крестьян в тысячах деревень — фактор, который
не проигнорирует ни один историк. Причины, которые удер¬
1 К• Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 102.
2 “History of the French Revolution”, III, Ш, Ch. 1.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, с. 16—17.
4 Clarendon. A Brief View and Survey of the Dangerous and Pernicio¬
us Errors to Church and Stale in Hobhes’ Book entitled Leviathan, 1676,
p. 320,
45
живают Джона от женитьбы, не интересуют историка. Но
если те же причины удержат от женитьбы тысячи индиви¬
дуумов в поколении Джона и приведут к значительному
снижению числа браков, то в этом случае они вполне могут
иметь историческое значение. Равным образом нас не долж¬
ны беспокоить банальные утверждения, что любое движе¬
ние начинает меньшинство. Все действенные движения име¬
ли немногих лидеров и множество последователей; но это не
означает, что массы не имеют значения для их успеха. Чис¬
ла имеют значение в истории.
Мое второе наблюдение еще лучше фундировано. Авторы,
принадлежавшие ко многим различным научным школам,
сходились в том, что действия отдельных людей часто имели
результаты, которых не имели в виду и не желали не только
действующие лида, но и никакие другие индивидуумы. Хри¬
стианин верит, что индивидуум, сознательно действующий
в своих зачастую эгоистических целях — бессознательный
проводник целей Всевышнего. Положение Мэндвилла «грех
одного — благо для всех» было давнишним и умышленно
парадоксальным выражением этого открытия. «Скрытая ру¬
ка» Адама Смита и «изворотливость разума» Гегеля — ко¬
торые заставляют индивидуума работать для того, чтобы
служить их целям, хотя индивидуумы полагают, что испол¬
няют свои личные желания, — настолько хорошо знакомы,
что не нуждаются в цитировании. «В общественном произ¬
водстве своей жизни, — писал Маркс в предисловии к «Кри¬
тике политической экономии», — люди вступают в опреде¬
ленные, необходимые, от их воли не зависящие отношения»1.
«Человек живет сознательно для себя, — писал Толстой в
«Войне и мире», вторя Адаму Смиту, — но является бессоз¬
нательным орудием в достижении всеобщих исторических
целей человечества». Итак, завершим эту антологию, которая
уже достаточно длинна, цитатой профессора Баттерфилда:
«Есть что-то в сущности исторических событий, что повора¬
чивает ход истории в таком направлении, которого не имел
в виду никто из людей»2. С 1914 г., после столетия только не¬
больших локальных войн, мы имели две большие мировые
войны. Не было бы правдоподобным объяснением этого фе¬
номена утверждение, что в первой половине XX века по
сравнению с тремя последними четвертями XIX века боль¬
шинство индивидуумов хотело войны, а мира — меньшин¬
ство. Трудно предположить, что какой-либо индивидуум хо¬
тел или желал великой экономической депрессии 30-х годов.
Хотя несомненно, что она была вызвана действиями инди¬
видуумов, каждый из которых сознательно преследовал со¬
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 6.
2 Я. Butterfield. The Englishman and His History, 1944, p. 103.
46
вершенно различные цели. Анализ противоречий между на¬
мерениями индивидуума и результатами его действий не
всегда должен ждать своего ретроспективного освещения в
истории. «Он не собирается вступать в войну, — писал
Лодж о Вудро Вильсоне в марте 1917 г.,—но я думаю, что
его вовлекут туда события1». Всему историческому опыту про¬
тиворечит утверждение, что историческая работа может быть
написана на основе «объяснения в терминах человеческих
намерений»2 или рассказа об их мотивах из уст самих дей¬
ствующих лиц, либо объяснения, «почему, по их собственной
оценке, они действовали так, а не иначе». Исторические фак¬
ты — это факты об индивидуумах, но не о действиях инди¬
видуумов, совершенных в изоляции, и не о мотивах, реаль¬
ных или воображаемых, исходя из которых эти индивидуумы,
по их предположению, действовали. Это факты об отноше¬
ниях индивидуумов друг к другу в обществе и об обществен¬
ных силах, которые вызваны действиями индивидуумов и
которые в результате отличаются, а иногда и противоречат
тем результатам, которые сами индивидуумы намеревались
достичь.
Одной из серьезных ошибок Коллингвуда при взгляде
на историю (я освещал это в предыдущей лекции) было
предположение, что мысль следует за действием. И мысль,
которую историк был призван исследовать, была мыслью
отдельного действующего лица. Это ложное допущение. Ис¬
торик призван исследовать то, что лежит за пределами дей¬
ствия. К этому сознательное мышление или мотивы индиви¬
дуума могут не иметь никакого отношения.
Теперь я сказал бы кое-что о роли в истории бунтовщи¬
ка или диссидента. Изображать популярную картину инди¬
видуума, восставшего против общества, значит восстанавли¬
вать ложную антитезу между обществом и индивидуумом.
Ни одно общество не является полностью гомогенным. Каж¬
дое общество — арена социальных конфликтов, и те инди¬
видуумы, которые восстают против существующих властей,—■
продукты и отражения общества не в меньшей степени, чем
те, которые его поддерживают. Ричард II и Екатерина Ве¬
ликая представляли мощные социальные силы в Англии
XIV века и России XVIII века, но таковыми были и Уот
Тайлер и Пугачев, вождь великого восстания крепостных.
Как монархи, так и повстанцы, были продуктами специфиче¬
ских условий своего времени и своей страны. Изображать
Уота Тайлера и Пугачева как индивидуумов, восставших
против общества, — ошибочное упрощение. Если бы они бы¬
ли только таковыми, историки бы никогда не услышали о
1 Цит. но: В. W Tuchtnan. The Zimmerman Telegram. N. Y., 1958,
p. 180.
2 Цит. no: I. Berlin. Historical Inevitability, 1954, p. 7.
47
них. Они обязаны своей ролью в истории массе своих после¬
дователей и имеют значение только как социальный фено¬
мен.
Давайте возьмем выдающегося бунтаря и индивидуали¬
ста на более изысканном уровне. Немногие люди противо¬
стояли обществу своего времени и своей стране так яростно
и радикально, как Ницше. Тем не менее Ницше был пря¬
мым продуктом европейского и в особенности германского
общества — феномен, который не мог бы произойти в Китае
или Перу. Через поколение после смерти Ницше яснее, чем
для его современников стало видно, как сильны были евро¬
пейские и в особенности германские общественные силы, вы¬
ражением которых был этот индивидуум, и Ницше превра¬
тился в более значительную фигуру для потомков, чем для
своего поколения.
Роль бунтаря в истории в чем-то сходна с ролью велико¬
го человека. Теория истории, основанная на роли великого
человека — конкретный пример школы «хорошей королевы
Бесс», — вышла в последние годы из моды, хотя она иног¬
да еще «поднимает свою неприглядную голову». Редактор
популярной серии книг для чтения по истории, начатой по¬
сле второй мировой войны, пригласил своих авторов «рас¬
крыть важную историческую тему через биографию велико¬
го человека», и А. Д. Тэйлор сказал нам в одном из своих
небольших эссе, что «история современной Европы может
быть очерчена в пределах трех титанов: Наполеона, Бисмар¬
ка и Ленина»1, хотя в своих более серьезных произведени¬
ях он не брался за выполнение столь опрометчивого замыс¬
ла. Какова роль великого человека в истории? Великий че¬
ловек есть индивидуум, и, являясь выдающимся индивиду¬
умом, он также социальный феномен выдающегося значе¬
ния. «Это очевидная истина, — заметил Гиббон, — что эпо¬
хи должны соответствовать выдающимся личностям и что
гений Кромвеля или Реца мог сегодня исчезнуть в безвест¬
ности»2. Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бо¬
напарта» поставил диагноз обратного феномена, заявив, что
классовая борьба во Франции создала условия и отношения,
которые позволили величайшей посредственности прошест¬
вовать в одеянии героя. Если бы Бисмарк родился в
XVIII веке — абсурдное предположение, потому что тогда
он не был бы Бисмарком, — он не мог бы объединить Гер¬
манию и вообще вряд ли стал бы великим человеком. Но
не следует, я думаю, как это делает Толстой, низводить ве¬
ликого человека к не более, чем «ярлыкам, дающим назва¬
ния событиям». Иногда, конечно, культ великого человека
1 Л. !. Р. Taylor From Napoleon to Stalin, 1950, p. 74.
2 Gibbon. Decline and Fall of the Roman Empire, Ch. IX.
48
может иметь зловещие последствия. Сверхчеловек Ницше—
отталкивающая фигура. У меня нет необходимости возвра¬
щаться к феномену Гитлера и к страшным последствиям
«культа личности» в Советском Союзе. Моя цель не в том,
чтобы лишать великих людей их величия, но вместе с тем
я не хочу и подписываться под утверждением, что «великие
люди — всегда плохие люди». Однако я хотел бы предосте¬
речь от точки зрения, которая рассматривает великих лю¬
дей вне истории или как стоящих над историей в силу соб¬
ственного величия, как «чертиков из табакерки, которые та¬
инственно появляются из неизвестности, чтобы прервать
реальный ход истории» \ Даже сегодня я не думаю, что мы
можем превзойти классическое описание Гегеля: «Великий
человек эпохи тот, который может воплотить в словах волю
своей эпохи, сказать своей эпохе, в чем ее воля и выполнить
ее. То, что он делает —сердцевина и суть его эпохи, через
него проявляется эпоха»1 2. Доктор Ливис подразумевает что-
то вроде этого, когда говорит, что великие писатели «име¬
ют значение с точки зрения человеческого сознания, кото¬
рое они пробуждают»3. Великий человек всегда представи¬
тель или существующих сил, или сил, созданию которых он
способствует, бросая вызов существующей власти. Но выс¬
шей степенью творчества могут, вероятно, в большей мере
обладать такие великие люди, которые, подобно Кромвелю
и Ленину, помогали сформировать силы, принесшие им ве¬
личие, чем те, кто, как Наполеон или Бисмарк, въехали в
величие на спине уже существующих сил. Не должны мы
забывать и великих людей, стоявших настолько далеко впе¬
реди своего времени, что их величие было признано только
последующими поколениями. Что представляется мне суще¬
ственным — это необходимость признать великого человека
выдающимся индивидуумом, который представляет собой
продукт и действующее лицо исторического процесса, явля¬
ясь одновременно представителем и создателем обществен¬
ных сил, которые изменяют облик мира и сознание людей.
История, следовательно, в обоих значениях слова — как
исследование, выполняемое историком, и как факты прош¬
лого, которые он исследует, — является социальным про¬
цессом, в котором индивидуумы участвуют как обществен¬
ные существа, и воображаемое противопоставление между
обществом и личностью — только приманка, отвлекающая
наше внимание от обсуждаемого вопроса, с тем чтобы сму¬
тить наше мышление. Обоюдный процесс взаимодействия
между историком и его фактами, который я назвал диало¬
гом между настоящим и прошлым, есть диалог не между
1 V. G. Childe. History, 1947, р. 43.
2 “Philosophy of Right”, English transl., 1942, p. 295.
3 F. R. Leavis. The Great Tradition, 1948, p. 2,
49
абстрактными и изолированными индивидуумами, но между
обществом сегодняшнего дня и обществом вчерашнего дня.
История, по словам Буркхардта, «запись того, что одна эпо¬
ха считает стоящим или нет в другой эпохе»1. Прошлое по¬
нятно нам только в свете настоящего, и мы можем полно¬
стью понять настоящее только в свете прошлого. Дать че¬
ловеку возможность понять общество прошлого, увеличив
его господство над обществом настоящего, — в этом и со¬
стоит двойная функция истории.
1 J Burckhardt. Judgements on History and on Historians, 1959,
p. 158.
ИСТОРИЯ, НАУКА И МОРАЛЬ
Когда я был очень молод, на меня произвел должное
впечатление факт того, что кит, несмотря на внешнее сход¬
ство, не рыба. Сегодня эти вопросы классификации волнуют
меня меньше. Я не прихожу в чрезмерное волнение, когда
меня уверяют, что история — не наука. В этом терминологи¬
ческом вопросе — эксцентричность английского языка. В лю¬
бом другом европейском языке слово, соответствующее сло¬
ву «наука», безусловно, включает историю. Но в англогово¬
рящем мире этот вопрос имеет за собой долгое прошлое, и
проблемы, поднятые им, удобны для введения в проблемы
методологии истории.
В конце XVIII века, когда наука внесла столь триум¬
фальный вклад в знания человека как об окружающем ми¬
ре, так и о собственных физических данных, стали спраши¬
вать, сможет ли наука увеличить познания человека об об¬
ществе. Концепция общественных наук, и истории среди них,
постепенно развивалась на протяжении XIX века. Метод,
которым наука изучала мир природы, прилагался к изуче¬
нию человеческих отношений. В первой половине этого пе¬
риода преобладала традиция Ньютона. Общество, так же
как и мир природы, представлялось в виде механизма; до
сих пор памятно название книги Герберта Спенсера, вышед¬
шей в 1851 г., «Общественная статика». Бертран Рассел,
воспитанный на этой традиции, позднее вспоминал период,
когда надеялся, что со временем будет введена «математика
поведения человека точно так же, как и математика ма¬
шин»1. Затем Дарвин совершил другую научную революцию,
и обществоведы, воспользовавшись этим сигналом от биоло¬
гии, стали представлять общество как организм. Но настоя¬
щее значение дарвинистской революции было в том, что
Дарвин, завершая то, что Лаель уже начал в биологии, ввел
историю в науку. Наука больше не имела дела с чем-то ста¬
тичным и вневременным2, но с процессом изменения и разви¬
тия. Эволюция в науке подтвердила и дополнила прогресс в
истории. Не случилось, однако, ничего такого, что изменило
1 В. Russell. Portraits from Memory, 1958, p. 20.
2 Еще в 1874 г. Брэдли-отделял науку от истории как имеющей дело
с вечным и «постоянным» (F. Н. Bradley. Collected Essays, 1935, i, p. 36).
51
бы индуктивную точку зрения на исторический метод, кото¬
рый я описал в своей первой лекции: сначала соберите ва¬
ши факты, затем интерпретируйте их. Также безусловно при¬
нималось, что это и есть метод науки. Именно эту точку зре¬
ния, очевидно, имел в виду Бэри, когда в заключительных
словах своей вступительной лекции в январе 1903 г. он ха¬
рактеризовал историю как «науку, не больше и не меньше».
Спустя 50 лет после вступительной лекции Бэри мы сталки¬
ваемся с серьезными возражениями против подобного взгля¬
да на историю. Коллингвуд, когда он писал в 30-х годах,
был особенно озабочен тем, чтобы провести четкую линию
между миром природы, который является объектом научно¬
го исследования, и миром истории; и в этот период изрече¬
ние Бэри цитировали очень редко и только для осмеяния.
Но историки этого времени не заметили, что сама наука
претерпела глубокую революцию, в результате которой ока¬
залось, что Бэри был более близок к истине, чем мы предпо¬
лагали, хотя и по ошибочной причине. То, что Лаель сделал
для геологии, а Дарвин — для биологии, было сделано для
астрономии, которая стала наукой о том, как Вселенная ста¬
ла такой, какая она есть; современные физики постоянно го¬
ворят нам, что они исследуют не факты, а события. Истори¬
ка несколько извиняет то, что он сегодня в большей мере
чувствует себя дома в мире науки, чем 100 лет назад.
Давайте коснемся понятия законов. На протяжении XVIII
и XIX веков ученые допускали, что законы природы: ньюто¬
новский закон движения, закон всемирного тяготения, закон
Бойля, закон эволюции и т. д. — были открыты и определен¬
но установлены н что делом ученого было открыть и уста¬
новить больше подобных законов с помощью процесса индук¬
ции, исходя из наблюдаемых фактов. Слово «закон» опусти¬
лось на землю из ореола, окружавшего Галлилея и Ньюто¬
на. Исследователи общества, сознательно или бессознатель¬
но стремившиеся утвердить научный статус своих исследова¬
ний приняли тот же язык и полагали, что сами следуют
той же процедуре. Политэкономы, похоже, были первыми в
этой области, установив закон Грэсхема и закон Адама
Смита о рынке. Берк обращался к «законам торговли, кото¬
рые являются законами природы и соответственно закона¬
ми Господа Бога»1. Мальтус предложил закон населения,
Лассаль — железный закон заработной платы, а Маркс в
предисловии к «Капиталу» утверждал, что открыл «эконо¬
мический закон движения современного общества». Бокль в
1 “Thoughts and Details on Scarcity”, 1795. — In: “The Works of
Edmund Burke”, 1846, IV, p. 270. Берк вывел, что не «в компетенции
правительства как такового и даже богачей как богачей обеспечивать
бедных тем необходимым, что было угодно Божественному Провидению
не предоставлять им в течение какого-то времени».
52
заключительных словах своей «Истории цивилизации» выра¬
зил убеждение в том, что ход дел человека был «проникнут
славным принципом всеобщей и непреклонной гармонии».
Сегодня эта терминология звучит также старомодно, как и
самонадеянно, причем для физика она звучит почти столь
же старомодно, как и для обществоведа. За год до того,
когда Бэри произнес свою вступительную лекцию, француз¬
ский математик Анри Пуанкаре выпустил небольшую книгу
под названием «Наука и гипотеза», с которой началась ре¬
волюция в научном мышлении. Главным тезисом Пуанкаре
было то, что общие предложения, провозглашаемые там, где
они не были всего лишь определениями или скрытыми ус¬
ловностями о применении языка, были гипотезами, предназ¬
наченными для того, чтобы придать форму и организовать
последующее мышление, и подлежали верификации, модифи¬
кации или опровержению. Все это теперь стало общим ме¬
стом. Хвастовство Ньютона сегодня звучит банальностью, и,
хотя ученые и даже обществоведы все еще иногда говорят о
законах ради того, чтобы, так сказать, лишь упомянуть
прошлое, они больше не верят в их существование в том
смысле, в котором ученые XVIII и XIX веков без исключе
ния верили в них. Признано, что ученые совершают откры¬
тия и приобретают новые знания не путем установления точ¬
ных и всеобщих законов, но путем выдвижения гипотез, от¬
крывающих путь к новым исследованиям. Стандартный
учебник по научной методологии, написанный двумя аме¬
риканскими философами, описывает научный метод как по
существу круговой: «Мы собираем данные для законов, об¬
ращаясь к эмпирическому материалу, к тому, что якобы яв¬
ляется фактом, и мы отбираем, анализируем и интерпре¬
тируем эмпирический материал на основе законов» \ Слово
«взаимный», вероятно, было бы более предпочтительным,
чем «круговой», так как результат — не вернуться на преж¬
нее место, но двигаться вперед к новым открытиям через
процесс взаимодействия между законами и фактами, меж¬
ду теорией и практикой. Все мышление требует принятия
определенных посылок, основанных на наблюдении, кото¬
рые делают возможным научное мышление, но сами
подлежат пересмотру в свете этого мышления. Эти гипотезы
могут быть вполне обоснованными в некоторых случаях
или для определенных целей, хотя могут оказаться необос¬
нованными в других. Проверка во всех случаях — эмпири¬
ческая, то есть действительно ли они эффективны в получе¬
нии новых данных и приращении наших знаний. Методы
Резерфорда были недавно описаны одним из его наиболее 11 М. R. Cohen and Е. Nagel. Introduction to Logic and Scientific
Metod, 1934, p. 596.
53
выдающихся учеников и коллег: «Им двигало всепоглощаю¬
щее желание познать, в чем состоит ядерное явление, в том
смысле, в каком говорят о том, чтобы знать, что делается на
кухне. Я не думаю, что он искал объяснения в классической
манере теории, использующей определенные основные зако¬
ны, пока он знал, что происходит, он был доволен» К Это
описание в равной степени подходит и для историка, кото¬
рый прекратил поиск основных законов и удовлетворяется
тем, чтобы выяснить, что происходит.
Статус гипотезы, использованной историком в процессе
его исследования, представляется замечательно сходным со
статусом гипотезы, использованной естествоиспытателем.
Возьмите, например, знаменитый диагноз Макса Вебера об
отношениях между протестантизмом и капитализмом. Никто
сегодня не назвал бы его определение законом, хотя, воз¬
можно, оно могло считаться таковым в более ранний пери¬
од. Эта гипотеза, обновленная до некоторой степени в ходе
исследований, стимулированных ею, несомненно, увеличила
наши познания в области как капитализма, так и проте¬
стантизма.
Обратим внимание на утверждения, подобные высказы¬
ванию Маркса о том, что ручная мельница дает нам общест¬
во с феодальным синьором, паровая мельница — общество
с промышленным капиталистом* 2. Это не закон, по современ¬
ной терминологии, хотя Маркс, вероятно, считал его тако¬
вым, но плодотворная гипотеза, указывающая путь к даль¬
нейшему исследованию и новому пониманию. Такие гипоте¬
зы — необходимые инструменты познания. Известный не¬
мецкий экономист начала XX века Вернер Зомбарт признался
в «тревожном ощущении», которое настигало тех, кто отка¬
зывался от марксизма. «Когда, — писал он, — мы утрачива¬
ем удобные формулы, которые были до этого нашим руко¬
водством среди сложностей бытия... мы чувствуем себя тону¬
щими в океане фактов, пока мы не найдем новую точку
опоры или не научимся плавать»2. Споры по поводу перио¬
дизации в истории подпадают под эту категорию. Разделе¬
ние истории на периоды — не факт, но необходимая гипо¬
теза или инструмент мышления. Эта гипотеза действенная в
той мере, в какой она обеспечивает восприятие, и ее обосно¬
ванность зависит от интерпретации. Историки, которые рас¬
ходятся в вопросе, когда окончилось средневековье, нахо¬
дятся в противоречии по поводу интерпретации определен¬
ных событий. Речь идет не о факте как таковом, хотя и это
Сэр Чарльз Эллис в: “Trinity Review” Cambridge, Lent Term,
1960, p. 14.
2 W Sombarf. The Quintessence of Capitalism, Engl. transL 1915,
p. 354.
54
имеет определенное значение. Разделение истории на гео¬
графические секторы также не факт, а гипотеза: говорить о
европейской истории — обоснованная и плодотворная гипо¬
теза в одних случаях, но неверная и вредная — в других.
Большая часть историков допускает, что Россия — часть Ев¬
ропы, некоторые яростно отрицают это. О пристрастности
историка можно судить по гипотезам, которые он выдвига¬
ет. Стоит сослаться на общее высказывание по поводу ме¬
тодов общественных наук, поскольку оно принадлежит очень
крупному обществоведу, который раньше был физиком.
Джордж Сорел, в прошлом инженер-практик, начал писать о
проблемах общества. Он подчеркивал необходимость выде¬
лять определенные элементы в той или иной ситуации, даже
идя на чрезмерные упрощения: «Надо идти вперед, — пи¬
сал он, — ощупью, надо пробовать вероятные и частичные
гипотезы и удовлетворяться временными приближениями,
чтобы всегда держать дверь открытой для последующей кор¬
ректировки»1. Как далеко это утверждение от концепций, бы¬
товавших в XIX столетии, когда такие ученые и историки,
как Эктон, предвкушали, что в результате сбора хорошо
проверенных фактов будет создана умозрительная картина
познания, разрешающая раз и навсегда все спорные вопросы.
Ныне как ученые, так и историки питают более скромную
надежду на поступательное движение от одной фрагментар¬
ной гипотезы к другой, выделяя факты с помощью своих
интерпретаций и проверяя свои интерпретации с помощью
фактов. Способы, которыми они это делают, не представ¬
ляются мне в корне различными. В моей первой лекции я
процитировал замечание профессора Барраклауха о том,
что «история — вообще не фактология, а серия принятых
суждений». Когда я готовил эти лекции, физик из нашего
университета — д-р Зиман — в передаче Би-би-си определил
научную истину как «утверждение, которое было публично
принято специалистами»2. Ни одна из этих формулировок не
является полностью удовлетворительной по причинам, кото¬
рые прояснятся тогда, когда я перейду к рассмотрению во¬
проса объективности. Но было поразительно обнаружить,
что историк и ученый-физик независимо друг от друга сфор¬
мулировали аналогичную проблему почти в одних и тех же
словах.
Аналогии, однако, — печально известная ловушка для
неосторожных. И я хочу тщательно рассмотреть аргументы
в пользу веры в то, что такое же огромное фундаменталь¬
ное различие, как между точными и естественными науками
или в пределах категорий различных естественных наук, су¬
1 G Sorel. Materiaux d’une theorie du proletariat, 1919, p. 7
2 "The Listener”, 18 August I960.
55
ществует между этими науками и историей и что из-за это¬
го различия ошибочно называть историю и, возможно, дру¬
гие так называемые общественные дисциплины наукой. Вот
вкратце мои возражения (некоторые из них, наверно, более
убедительны, другие — менее): 1) история имеет дело ис¬
ключительно с особенным, естественная наука — со всеоб¬
щим; 2) из истории нельзя извлечь уроков; 3) историю мо¬
жно использовать для предсказания; 4) история — необхо¬
димо субъективна, поскольку человек наблюдает сам себя и
5) история, в отличие от естественных наук, включает вопро¬
сы религии и морали. Я попытаюсь рассмотреть по порядку
каждый из этих пунктов.
Во-первых, утверждается, что история имеет дело с осо¬
бенным и частичным, а наука — с общим и всеобщим. Мож¬
но сказать, что эта точка зрения восходит к Аристотелю, ко¬
торый заявлял, что поэзия была «более философской» и «бо¬
лее серьезной», чем история, так как поэзия имела дело с
общей истиной, а история — с частной1. Множество последу¬
ющих авторов, вплоть до Коллингвуда2, проводили такое же
различие между историей и наукой. Как представляется, это
основывается на недоразумении. Знаменитое изречение Гоб¬
бса все еще не потеряло силы: «Ничто в мире не является
всеобщим, кроме названий, так как каждый из предметов,
имеющих название, индивидуален и единственен»3. Это, бе¬
зусловно, верно для естественных наук: ни две геологические
формации, ни два животных одного и того же вида, ни
два атома не являются идентичными. Точно так же нет
двух идентичных исторических событий. Но настаивание на
уникальности исторических событий оказало такое же пара¬
лизующее влияние, как и банальность, заимствованная Му¬
ром от епископа Батлера. Одно время она была излюблен¬
ной фразой философов-лингвистов: «Все есть то, что оно
есть, и ничто иное». Пустившись по этому курсу, вы скоро
впадете в нечто вроде философской нирваны, в которой не
говорится ничего существенного ни о чем.
Само использование языка толкает историка, как и есте¬
ствоиспытателя, к обобщениям. Пелопонесская война и вто¬
рая мировая война были совершенно различны, каждая из
них была особенной. Но историк называет и ту, и другую
войнами, и только доктринер будет возражать против этого.
Когда Гиббон писал об установлении христианства Констан¬
тином и о возникновении ислама как о революциях, он обоб¬
щал два уникальных события4. Современные историки посту¬
пают точно так же, когда пишут об английской, француз¬
1 Poetics, Ch. IX.
2 R. G. Collingwood. Historical Imagination, 1935, p. 5.
3 “Leviathan”, I, IV.
4 “Decline and Fall of the Roman Empire”, Ch. XX, Ch. 1.
56
ской, русской и китайской революциях. Историк на деле за¬
интересован не в особенном, а в том, что есть общего в осо¬
бенном. В 20-е годы дискуссии историков о причинах войны
1914 г. обычно базировались на предпосылке, что она разра¬
зилась либо из-за неумения дипломатов, работавших в об¬
становке секретности и вне контроля со стороны обществен¬
ного мнения, либо из-за прискорбного разделения мира на
территориально суверенные государства. В 30-е годы в ос¬
нове дискуссий была предпосылка, что причина войны за¬
ключалась в распрях между империалистическими держава¬
ми за передел мира под давлением клонящегося к упадку
капитализма. Все эти дискуссии включали обобщения о при¬
чинах войн или по крайней мере войн в условиях XX столе¬
тия. Историк постоянно использует обобщения, чтобы прове¬
рить свои данные. Если не ясны данные о том, действитель¬
но ли Ричард умертвил принцев в Тауэре, историк спросит
себя — возможно, скорее бессознательно, чем сознательно,—
а была ли у правителей той эпохи привычка ликвидировать
потенциальных претендентов на престол, и на его суждение
совершенно справедливо повлияет это обобщение.
Читатель исторической работы так же, как и ее автор,
склонен к обобщениям, применяя выводы историка к другим
историческим ситуациям, с которыми он знаком, или, воз¬
можно, к его собственной эпохе. Когда я читал «Француз¬
скую революцию» Карлайла, я снова и снова обнаруживал,
что обобщаю его замечания, обращаясь к русской револю¬
ции, которая является объектом моих исследований. Коснем¬
ся темы террора. Он «страшен для тех стран, которые были
знакомы с принципом равенства перед законом, но отнюдь
не противоестественен в тех государствах, которые никогда
не знали такого равенства». Или, что еще более важно:
«Прискорбно, хотя естественно, что история этого времени
писалась в истерике. Преувеличения изобилуют, проклина¬
ют, вопят, а в целом — тьма»1. Или другое, на этот раз из
Буркхардта, о росте современного государства в XVI веке:
«Чем позже возникла власть, тем меньше она может оста¬
ваться неизменной. Во-первых, потому, что те, кто создали
ее, привыкли к быстрому дальнейшему движению, и потому,
что они есть и будут новаторами сами по себе. Во-вторых,
потому, что силы, поднятые или подавленные ими, могут быть
использованы только через дальнейшие акты насилия»2. Глу¬
по утверждать, что обобщение чуждо истории. История рас¬
цветает на обобщениях. Как Элтон точно замечает в томе
«Кембриджской Современной Истории»: «Историка отлича¬
ет от сборщика исторических фактов обобщение»3. Он мог
1 “History of the French Revolutions”, I, V, Ch. 9; III, I, Ch. 1.
2 /. Burckhardt. Judgements on History and Historians, 1959, p. 34.
3 “Cambridge Modern History”, II, 1958, p. 20.
57
бы добавить, что то же самое отделяет естествоиспытателя
от натуралиста или коллекционера. Но не следует предпо¬
лагать, что обобщение позволяет нам создавать некую гро¬
мадную историческую схему, в которую должны быть втис¬
нуты конкретные события. И поскольку Маркс — один из
тех, кого часто обвиняют в создании такой схемы или веры
в подобную схему, я процитирую одну выдержку (путем
суммирования абзацев) из его письма, которая показывает
должную перспективу: «...События поразительно аналогич¬
ные, но происходящие в различной исторической обстановке,
привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую
из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, лег¬
ко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нель¬
зя достичь этого понимания, пользуясь универсальной от¬
мычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской
теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надыс-
торичности»1 История имеет дело с отношениями меж¬
ду отдельным и общим. Как историк вы не в большей
степени можете разделить их, или дать одному преимущест¬
во перед другим, чем вы можете разделить факт и интерпре¬
тацию.
Возможно, здесь уместно короткое замечание об отноше¬
ниях между историей и социологией. Социология сейчас
сталкивается с двумя основными опасностями — опасностью
стать ультратеоретической и опасностью стать ультраэмпи-
рической. Первая — опасность потеряться в абстрактных и
бессмысленных обобщениях об обществе в целом. Понятие
«Общество» с большой буквы — столь же обманчиво и оши¬
бочно, как и «История» с большой буквы. К этой опасности
приближаются те, кто возлагает на социологию чрезмерную
задачу обобщения отдельных событий, описанных историей;
даже предполагалось, что социо.тогия отличается от истории
тем, что имеет законы2. Другую опасность предвидел Карл
Мангейм почти поколением раньше, и это сегодня звучит
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 121. Письмо, из которого
процитирован этот абзац, появилось в «Отечественных записках» в 1877 г.
Профессор Поппер, похоже, выступает за то, чтобы ассоциировать Марк¬
са с «центральной ошибкой историзма», заключающейся в признании то¬
го, что исторические тенденции, или направления, «могут быть немедлен¬
но выведены только из всеобщих законов» (“The Poverty of Historicism”,
1957, p. 128—129). Однако это как раз то, что Маркс отрицал.
2 Таков, по-видимому, взгляд профессора Поппера (“The Open
Society”, 1952, II, р. 322. Совсем прискорбно, что он дает нам пример
социологического закона: «Всюду, где свобода мысли и обмен мыслями
эффективно защищены судами и законами, обеспечивающими свободу
обсуждения, происходит научный прогресс». Это было написано в 1942
и 1943 гг., очевидно, под влиянием веры в то, что западные демократии
в силу своих законодательных установок будут оставаться в авангарде
технического прогресса, вера, с тех пор развеянная или жестоко ог¬
раниченная достижениями Советского Союза. Будучи далеким от того,
чтобы быть законом, этот тезис не был даже серьезным обобщением.
58
очень актуально — опасность раскола социологии на серию
отрывочных технических проблем социального назначения1.
Социология имеет дело с историческими обществами, каж¬
дое из которых является уникальным, обусловленным спе¬
цифическими историческими предпосылками и условиями.
Но попытка избежать обобщения и интерпретации, ограни¬
чиваясь так называемыми техническими проблемами пере¬
числения и анализа, означает просто бессознательный аполо-
гетизм статичного общества. Социология, если ей предстоит
стать плодотворной областью знаний, должна, как и исто¬
рия, иметь дело с отношениями между отдельным и общим.
Она должна также стать динамичной: заниматься изучением
не неподвижного общества (таких просто не бывает), но
анализом социальных изменений и развития. Наконец я ска¬
зал бы так: чем больше история становится социологиче¬
ской, а социология исторической, тем лучше для обеих.
Пусть граница между ними будет широко открыта для двух¬
стороннего движения.
Вопрос обобщения тесно связан с моим вторым вопро¬
сом — уроками истории. Суть обобщения в том, что с его
помощью мы стараемся научиться у истории использовать
урок, полученный на основе одного набора событий, в при¬
менении к другому набору событий. Когда мы обобщаем, мы
сознательно или бессознательно стараемся делать это. Те,
кто отвергают обобщения и настаивают на том, что история
имеет дело только с отдельными фактами, следуя логике,
отрицают, что у истории можно чему-либо научиться. Но до¬
пущение, что человек ничему не учится у истории, противо¬
речит множеству очевидных фактов. Исторический опыт но¬
сит всеобщий характер. В 1919 г. я присутствовал в качест¬
ве малозначительного участника британской делегации на
Парижской мирной конференции- Каждый член делегации
верил в то, что мы можем извлечь уроки из Венского конгрес¬
са, последнего крупного европейского мирного конгресса,
проходившего столетием раньше. Некий капитан Вебстер, то¬
гда работавший в военном министерстве, а ныне—сэр Чарлз
Вебстер, выдающийся историк, написал очерк о том, каковы
же были эти уроки. Два из них остались в моей памяти.
Первый предупреждал, что было опасным, переделывая кар¬
ту Европы, пренебрегать принципами самоопределения. Вто¬
рой — что было опасным бросать секретные документы в
корзины для мусора, содержание которых будет наверняка
куплено секретной службой какой-нибудь другой делегации.
Данные уроки истории были приняты за истину и определя¬
ли наше поведение. Это пример недавний и тривиальный.
Но было бы легко проследить в сравнительно отдаленной
1 К. Mannheim. Ideology and Utopia, Engl, transl., 1936, p. 228.
59
истории следы более давнего прошлого. Каждый знает о
влиянии Древней Греции на Рим. Но я не уверен, что какой-
нибудь историк пытался сделать точный анализ тех уроков,
которые римляне извлекли или полагали, что извлекли, из
истории Эллады. Изучение уроков, извлеченных в Западной
Европе в XVII, XVIII, XIX веках из исторических аспектов
Ветхого завета, может дать плодотворные результаты. Без
этого не может быть до конца понята английская пуритан¬
ская революция; концепция избранного народа была важ¬
ным фактором в подъеме современного национализма.
В XIX веке классическое образование в значительной степе¬
ни формировало мировоззрение британского правящего клас¬
са. Гроут, как я уже отмечал, указал на Афины как на при¬
мер новой демократии, и я хотел бы увидеть исследование
об обширных и важных уроках, сознательно или бессозна¬
тельно усвоенных создателями Британской империи из исто¬
рии Римской империи. Что касается области моей работы,то
надо отметить, что творцы русской революции находились под
глубоким впечатлением, можно даже сказать, были одержи¬
мы уроками Французской революции, революции 1848 г и
Парижской Коммуны 1871 г Ыо я напомню здесь оговорку,
вызванную двойственным характером истории. Извлечение
уроков из истории никогда не бывает просто односторонним
процессом. Узнавать о настоящем в свете прошлого означа¬
ет также узнавать о прошлом в свете настоящего. Функция
истории — обеспечить более глубокое понимание как прош¬
лого, так и настоящего через взаимоотношения между ними.
Мой третий пункт — роль предвидения в истории: ника¬
ких уроков, говорят, нельзя извлечь из истории, так как
она, в отличие от науки, не может предсказывать будущее.
Этот вопрос запутался в паутине непонимания. Как мы ви¬
дели, естествоиспытатели больше не горят таким желанием,
как раньше, говорить о законах природы. Эти так называе¬
мые законы наук, которые воздействуют на нашу обычную
жизнь, на деле есть указания на тенденции, указания на то,
что случится при прочих равных или в лабораторных
условиях. Они не претендуют на то, чтобы предсказать то,
что случится в конкретных ситуациях. Закон тяготения не
утверждает, что именно это яблоко упадет на землю: кто-
нибудь может поймать его в корзину. Закон оптики о том,
что свет распространяется по прямой линии, не утверждает,
что именно этот луч света не будет преломлен или рассеян
какой-либо помехой. Но эго не означает, что эти законы бес¬
полезны или что они в принципе недействительны. Современ¬
ные физические теории, говорят нам, имеют дело только с
вероятностями происходящих событий. Сегодня наука более
склонна считать, что индукция может логически вести толь¬
ко к вероятностям или к обоснованным предположениям и
60
более сводится к тому, чтобы рассматривать свои заявления
как общие правила или указания, обоснованность которых
может быть проверена только в специфическом действии.
Как говорит Конт, «наука ведет к предвидению, предвиде¬
ние — к действию»1. Ключ к вопросу о предвидении в исто¬
рии лежит в этом различии между общим и специфическим,
между всеобщим и особенным. Историк, как мы видели, обя¬
зан обобщать, и, делая это, он дает общие указания для бу¬
дущих действий, которые, хотя и не являются специфиче¬
скими предвидениями, как обоснованны, так и полезны. Но
он не может предсказывать конкретные события, поскольку
конкретное — уникально и поскольку в него входит
элемент случайности. Это различие, которое волнует
философов, совершенно ясно обычному человеку. Если
у двух или трех детей в школе появилась корь, вы сде¬
лаете вывод, что начнется эпидемия, и это предвидение, ес¬
ли вы позаботитесь так его назвать, основывается на выво¬
де из прошлого опыта и является обоснованным и полезным
руководством к действию. Но вы не можете конкретно пред¬
сказать, что Чарльз или Мэри подхватят корь. Историк дей¬
ствует таким же образом. Люди не ждут от историка пред¬
сказания, что в следующем месяце в Руритании начнется ре¬
волюция. Вывод, который они хотели бы получить, частично
исходя из знания именно руританской обстановки и частич¬
но из знания истории, таков, что условия в Руритании имен¬
но те, в соответствии с которыми революция, вероятно, про¬
изойдет в ближайшем будущем, если кто-либо даст ей тол¬
чок или если кто-либо со стороны правительства не сможет
остановить ее. Этот вывод может сопровождаться оценками,
основанными частично на аналогиях с другими революция¬
ми, на позициях, которые могут занять различные группы
населения. Предсказание, если оно может быть названо та¬
ковым, может быть реализовано только через повторение от¬
дельных событий, которые сами по себе не могут быть пред¬
сказаны. Но это не означает, что выводы, сделанные из ис¬
тории относительно будущего, бесполезны или что они не
обладают относительной ценностью, которая служит как
руководством к действию, так и ключом к нашему понима¬
нию того, как было дело. У меня нет желания предполагать,
что выводы социолога или историка могут тягаться по точ¬
ности с выводами естествоиспытателя в области предвиде¬
ния или что их неполноценность в этом отношении обуслов¬
лена только большим отставанием в общественных науках.
Человек с любой точки зрения — наиболее сложный из из¬
вестных нам организмов, и изучение его поведения может
вполне предполагать затруднения, отличные от тех, с кото¬
1 “Cours de philosophie positive”, I, p. 51.
61
рыми сталкивается естествоиспытатель. Все, что я хотел бы
установить, — то, что их цели и методы принципиально не
являются несхожими.
Мой четвертый пункт связан с гораздо более неоспори¬
мым аргументом в пользу того, чтобы провести демаркаци¬
онную линию между общественными науками, включая ис¬
торию, и естественными науками. Этот аргумент таков: в об¬
щественных науках субъект и объект принадлежат к одной
и той же категории и взаимодействуют друг с другом. Лю¬
ди — не только наиболее сложные и разнообразные из жи¬
вых существ, но они также подлежат изучению другими
людьми, а не независимыми наблюдателями других видов.
Теперь человек более не довольствуется, как в биологиче¬
ских науках, изучением собственного физического облика и
рефлексов. Социолог, экономист или историк должен проник¬
нуть в формы человеческой деятельности, где он проявляет
себя, установить, почему люди, являвшиеся объектами его
исследования, действовали так, а не иначе. Это устанавлива¬
ет особенные для истории и общественных наук отношения
между наблюдателем и объектом наблюдения. Точка зрения
историка, безусловно, связана с любым его наблюдением;
история глубоко пронизана релятивизмом. Говоря словами
Карла Мангейма, «даже категории, подытоживающие опыт,
отбираются и расставляются в зависимости от социального
статуса наблюдателя»1. Недостаточно указать, что пристра¬
стие обществоведа по необходимости отражается на всех его
наблюдениях. Также верно и то, что процесс наблюдения
влияет на наблюдаемый объект и изменяет его. И это может
происходить двумя противоположными путями. Люди, чье
поведение делается объектом анализа и предсказания, мо¬
гут быть предупреждены заранее о нежелательных для них
условиях, и они могут под влиянием этого менять свои дей¬
ствия так, чтобы это предсказание, как бы верно оно ни ос¬
новывалось на анализе, оказалось тщетным. Одна из причин,
почему история редко повторяется среди людей, обладаю¬
щих историческим сознанием, состоит в том, что драматиче¬
ские персонажи отчетливо осознают, что любое последующее
представление аннулирует предшествующее; это знание ока¬
зывает воздействие на их поступки2.
Большевики знали, что Французская революция закончи¬
лась Наполеоном, и боялись, что их революция окончится по¬
добным же образом. Поэтому они не доверяли Троцкому, сре¬
ди других их вождей он был более всего похож на Наполеона,
и верили Сталину, который менее всего напоминал Наполео¬
на. Но этот процесс может работать и в обратном направ¬
1 К. Mannheim. Ideology and Utopia, 1936, p. 130.
2 Этот аргумент был подробно разобран автором в книге: “The
Bolshevik Revolution, 1917—1923”, I, 1950, p. 42.
62
лении. Экономист, который, исходя из научного анализа су¬
ществующих экономических условий, предсказывает прибли¬
жающийся подъем или спад, может, если его авторитет ве¬
лик и его аргументы убедительны, внести самим фактом
своего предсказания вклад в возможность совершения со¬
бытия, которое он предугадал. Политолог, который в силу
исторических наблюдений питает убеждение в том, что дес¬
потизм — краткосрочен, может внести вклад в падение дес¬
пота. Каждый знаком с поведением кандидатов на выборах,
которые предсказывают собственную победу с сознательной
целью обеспечить наиболее вероятное выполнение своих
предсказаний. По-видимому, экономисты, политологи и ис¬
торики, когда они дерзают делать предсказания, иногда по¬
буждаются к этому неосознанной надеждой ускорить реали¬
зацию их предсказания. Очевидно, без опасения можно оха¬
рактеризовать эти сложные отношения как взаимодействие
между наблюдателем и объектом наблюдения, между обще¬
ствоведом и его данными, между историком и его фактами,
которые непрерывно и постоянно меняются; именно в этом
отличительная черта истории и других общественных наук.
Я хотел бы отметить здесь то, что в последние годы не¬
которые физики говорили о своей науке в терминах, кото¬
рые, как обнаруживается, дают возможность провести бо¬
лее чем поразительные аналогии между физической Вселен¬
ной и миром историка. Во-первых, говорят, что их резуль¬
таты включают принцип неопределенности или отсутствия
детерминизма. Я в моей следующей лекции коснусь харак¬
тера и пределов, то есть детерминизма, в истории. Незави¬
симо от того, коренится ли отсутствие детерминизма совре¬
менной физики в характере самой Вселенной или является
просто показателем нашего сегодняшнего дня, нашего несо¬
вершенного знания (этот вопрос остается спорным), я буду
сомневаться в возможностях нахождения существенных ана¬
логий с нашей способностью делать исторические предсказа¬
ния, подобные тем, которые несколько лет назад были сде¬
ланы по поводу попыток неких энтузиастов найти подтверж¬
дение действия свободной воли во Вселенной. Во-вторых,
нам говорят, что в современной физике расстояния и тече¬
ние времени измеряются в зависимости от движения «наблю¬
дателя». В современной физике все измерения подчинены
скрытым изменениям вследствие невозможности установле¬
ния постоянного взаимоотношения между «наблюдателем» и
объектом наблюдения. Как «наблюдатель», так и наблю¬
даемое — как субъект, так и объект, — входят в конечный
результат наблюдения. Но пока эти характеристики будут
с минимальными изменениями применяться к отношениям
между историком и объектом его наблюдений, я не убеж¬
ден, что суть этих взаимоотношений хоть в каком-то реаль-
63
ном смысле сравнима с природой отношений между физи¬
ком и его Вселенной. И хотя я в принципе склонен скорее
преуменьшать, нежели преувеличивать различия, отличаю¬
щие подход историка от подхода естествоиспытателя, нельзя
разделаться с этими разногласиями, прибегая к несовершен¬
ным аналогиям.
Тем не менее, я думаю, стоит сказать, что углубление
обществоведа или историка в объект его изучения происхо¬
дит иначе, чем у естествоиспытателя, и вопросы, поднимае¬
мые отношениями между субъектом и объектом неизмеримо
сложнее, причем этим дело не исчерпывается. Классические
теории познания, превалировавшие на протяжении XVII—
XIX веков, признавали коренную дихотомию между познаю¬
щим субъектом и известным объектом познания. Как бы ни
осознавали процесс, модель, созданная философами, пока¬
зывала субъект и объект, человека и внешний мир, разде¬
ленными и обособленными. Это была великая эпоха рожде¬
ния и развития науки; и теории познания находились под
сильным влиянием взглядов первопроходцев науки. Человек
резко противостоял внешнему миру. Он боролся против не¬
го как против чего-то непокорного и потенциально враждеб¬
ного — непокорного, потому что он был труден для пони¬
мания, потенциально враждебного, потому что им трудно
было овладеть. С успехами современной науки этот взгляд
претерпел радикальную модификацию. Сегодня ученый го¬
раздо менее склонен рассматривать силы природы как неч
то враждебное, нежели как то, с чем можно сотрудничать и
использовать в своих целях. Классические теории познания
больше не подходят к современной науке, и менее всего —
к физике. Неудивительно, что в течение последних 50 лет
философы начали ставить их под сомнение и признавать,
что процесс познания не только не разделяет субъект и
объект, но и включает в себя определенную степень взаимо¬
отношений и взаимозависимости между ними. Это, однако,
чрезвычайно важно для общественных наук. В моей первой
лекции я высказал мысль, что изучение истории было труд¬
но совместить с традиционной эмпирической теорией позна¬
ния. Теперь я хотел бы высказаться в пользу того, что об¬
щественные науки в целом — в силу того что в них входит
человек в качестве как субъекта, так и объекта, как иссле¬
дователя, так и того, что подлежит исследованию, — несов¬
местимы с любой теорией познания, которая провозглаша¬
ет резкий разрыв между субъектом и объектом. Социология
в попытках установить свою стройную концептуальную ос¬
нову совершенно справедливо основала отрасль под назва¬
нием «социология познания». Эта отрасль, однако, не очень
развилась, главным образом, как я полагаю, потому, что
довольствовалась вращением в замкнутом кругу, в рамках
64
традиционной теории познания. Если философы, сначала
под воздействием современной физики, затем — современной
науки об обществе, начинают выходить из этого круга и со¬
здавать ряд более современных моделей процесса познания,
чем старая модель «бильярдного шара», то есть воздейст¬
вия данных на пассивное сознание, это доброе предзнамено¬
вание для общественных наук и истории в особенности. Дан¬
ное положение имеет определенную важность. Я к этому
позже вернусь, когда перейду к рассмотрению того, что мы
подразумеваем под объективностью в истории.
Последним по порядку, но не последним по значимости
я должен рассмотреть подход, основывающийся на предпо¬
ложении о том, что история, будучи тесно связанной с во¬
просами религии и морали, отделена от науки вообще и,
возможно, даже от других общественных наук. По поводу
отношения истории к религии я скажу ровно столько, сколь¬
ко необходимо для того, чтобы прояснить мою позицию.
Быть серьезным астрономом совместимо с верой в Бога, ко¬
торый создал и упорядочил Вселенную. Но это несовмести¬
мо с верой в Бога, который по своей воле вмешивается, что¬
бы изменить ход планет, задержать затмение или изменить
правила космической игры. Таким же образом предполагает¬
ся, что серьезный историк может верить в Бога, который в це¬
лом основал ход истории и придал ему смысл, хотя он не мо¬
жет верить в Бога Ветхого заведа, который вмешивается,
чтобы устроить резню Амалекитов, или подделывает кален¬
дарь, чтобы продлить время дня в пользу армии Иосифа.
Также он не может призывать на помощь Бога для объяс¬
нения конкретных исторических событий. Священник д’Арки
в недавно вышедшей книге попытался провести это разли¬
чие: «Для исследователя не нужно отвечать на каждый во¬
прос. в истории, говоря, что это был перст Господний. Толь¬
ко тогда, когда мы разберемся со светскими делами и дра¬
мой существования человека, нам будет позволено учитывать
более широкие соображения»1. Грубость этого взгляда в том,
что он рассматривает религию как джокер в колоде карт,
зарезервированный для важных ходов, которые нельзя сде¬
лать никаким другим путем. Лютеранский теолог Карл Барт
куда более преуспел, когда провозгласил полное отделение
божественной истории от светской и передал последнюю в
светские руки. Профессор Баттерфилд, если я его понял,
имеет в виду то же самое, когда говорит о «технической ис¬
тории». Техническая история — единственный вид истории,
1 М. С. D’Arcy. The Sense of History: Secular and Sacred, 1959,
p. 164. Полибий предвосхитил его: «Если есть возможность установить
причину того, что происходит, не следует прибегать к ссылкам на богов»
(К, von Friiz. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. N. Y.,
1954, p. 390).
65
который вы или я едва ли когда-либо напишем, как не на¬
пишет и он сам. Но, используя этот странный эпитет, он
резервирует право верить в тайную или провиденциальную
историю, которая не должна быть предметом заботы всех
нас. Исследователи типа Бердяева, Нибура и Мэритэйна
претендуют на то, чтобы поддерживать автономный статус
истории, но настаивают, что конечная цель истории лежит вне
ее. Лично я нахожу затруднительным совместить честность
истории с верой в некую сверхисторическую силу, от кото¬
рой зависят ее значение и важность, — будет ли это сила
Господа избранного народа, христианского Бога, Скрытой
Руки деиста или Мирового Духа Гегеля. Для целей этих
лекций я буду исходить из постулата, что историк должен
решить свои проблемы, не прибегая к фокусам типа deus ex
rnachina, что история — игра, в которую играют, так ска¬
зать, без джокера в колоде.
Отношение истории к морали более сложное, и дискуссии
по этому поводу в прошлом страдали от ряда двусмыслен¬
ностей. Едва ли надо сегодня доказывать, что от историка
не требуется выносить моральные суждения о личной жизни
персонажен его работы. Отправные точки историка и мора¬
листа не идентичны. Генрих VIII мог быть плохим мужем и
хорошим королем. Но историк заинтересован в первом из
его качеств ровно настолько, насколько оно влияло на исто¬
рические события. Если его моральные проступки, как у Ген¬
риха II, имели незначительное воздействие на общественные
дела, историку не следует беспокоиться о них. Верно это как
для достоинств, так и пороков. Пастер и Эйнштейн, как го¬
ворят, были людьми примерными, даже святыми, в своей
личной жизни. Но, если предположить, что они были невер¬
ными мужьями, жестокими родителями и беспринципными
коллегами, стали ли бы их исторические достижения менее
значительными? Это именно то, что занимает историка. Го¬
ворят, ч'ю Сталии вел себя жестоко и бессердечно по отно¬
шению ко второй жене, по как историк, изучающий Совет¬
ский Союз, я не думаю, что это меня существенно затраги¬
вает. Это не означает, что частная мораль не важна или что
история морали не является законной частью истории. Но
историк не отклоняется от своего изложения, чтобы вынести
моральные суждения по поводу личной жизни индиви¬
дуумов, появляющихся на страницах его произведений. У не¬
го есть чем заняться помимо этого.
Более серьезная двусмысленность возникает вокруг во¬
проса о моральных суждениях по поводу общественных дей¬
ствий. Вера в обязанность историка выносить моральные
суждения по поводу действующих лиц в его сочинениях
имеет длительную родословную. Но она нигде не была так
сильна, как в Великобритании в XIX веке, где она усилива¬
66
лась как морализаторскими тенденциями эпохи, так и не¬
удержимым культом индивидуализма. Розбери отмечал, что
англичане хотели знать о Наполеоне лишь одно: был ли он
«хорошим человеком»1 Эктон в переписке с Крэйтоном про¬
возглашал, что «в негибкости морального кодекса — секрет
авторитета, достоинства и пользы в истории», и требовал,
чтобы история стала «арбитром противоречий, руководством
для странника, хранителем морального стандарта, который
светские и религиозные силы постоянно стремятся пода¬
вить»2. Этот взгляд основан на почти мистической вере Эк-
тона в объективность и главенство исторического факта,
который, по-видимому, требует и дает право историку во
имя истории как сверхисторической силы выносить мораль¬
ные суждения по поводу индивидуумов, участвующих в исто¬
рических событиях. Этот подход иногда вновь появляется в
неожиданных формах. Профессор Тойнби описал вторжение
Муссолини в Абиссинию в 1935 г как «умышленный личный
грех»3, и профессор Исайя Берлин в уже процитированном
эссе настаивает с величайшей горячностью, что обязанность
историка — «судить Шарлемана или Наполеона, Чингисха¬
на, Гитлера или Сталина за их кровопролития»4. Этот взгляд
был достаточно раскритикован профессором Ноулсом, ко¬
торый в своей вступительной лекции процитировал обличе¬
ние Мотли, направленное против Филиппа II («если есть
пороки, от которых он был свободен, то только потому, что
человеческая природа не позволяет добиваться совершенст¬
ва даже во зле»), и Стаббсом, давшим списание короля Яко¬
ва («испорченного всеми преступлениями, которые могут
опозорить человека»). Они рассматривали это как примеры
моральных суждений об индивидуумах, выносить которые —
вне компетенции историка: «Историк — не судья, еще в
меньшей степени — судья, выносящий смертный приговор»5.
У Кроче также есть прекрасный пассаж по этому поводу,
1 Rosebery. Napoleon: The Last Phase, p. 364.
2 Acton. Historical Essays and Studies, 1907, p. 505.
3 “Survey of International Affairs”, 1935, II, 3.
4 /. Berlin. Historical Inevitability, p. 76—77. Подход сэра И. Бер¬
лина воскрешает взгляды последовательного юриста-консерватора
XVIII века Фитджеймса Стефена: «Уголовное право, таким образом, ис¬
ходит из принципа, что морально оправдано ненавидеть преступников...
Очень желательно, чтобы преступников ненавидели, а применяемые
к ним наказания были так задуманы, чтобы давать выход этой ненави¬
сти и оправдывать ее в той мере, в какой предоставленные обществом
средства для выражения этого здорового естественного чувства могут
оправдать и поощрить его» (“A History of the Criminal Law in England”,
1883, II, p. 81 —82; цит. в: L. Radzinowicz. Sir James Fitzjames Stephen,
1957, p. 30). Эти взгляды больше не разделяются широко криминолога¬
ми, но мой спор с ними в том, что, какова бы ни была их обоснован¬
ность в других областях, они не применимы к вердиктам истории.
5 D. Knowles. The Historian and Character, 1955, p. 4—5, 12, 19.
67
который я хотел бы процитировать: «Обвинение забывает о
великой разнице, что наши суды (юридические или мораль¬
ные) — суды сегодняшнего дня, созданы для живущих, дей¬
ствующих и опасных людей, в то время как те, другие люди,
уже представали перед судом своих дней, и они не могут
быть осуждены или оправданы дважды. Их вообще нельзя
судить уже потому, что они — люди прошлого, которые при¬
надлежат к миру прошлого и как таковые могут быть толь¬
ко субъектами истории и не могут быть объектами иных
суждений, кроме тех, в которых учитывается понимание ду¬
ха их деятельности. Действия тех, кто под предлогом изло¬
жения истории суетится, выдавая себя за судей, обвиняя в
одном месте и давая отпущение грехов в другом (думая, что
это дело истории)... общепризнано лишены исторического
смысла»1. И если кто-нибудь придирается к утверждению,
что это нс наше дело — выносить моральные суждения по
адресу Гитлера или Сталина или, если вам угодно, сенато¬
ра Маккарти, — то это потому, что они были современника¬
ми многих из нас, потому, что сотни и тысячи из числа тех,
кто прямо или косвенно пострадал в результате их дейст¬
вий, до сих пор живы, и потому, что именно в силу этих
причин нам, как историкам, трудно подходить к ним и отде¬
латься от их качеств, которые могут оправдать то, что мы
выносим суждения об их делах: это одно из затруднений,
я бы сказал, главное затруднение, современного историка.
Мо какую пользу сегодня кто-либо извлечет из осуждения
пороков Шарлемана или Наполеона?
Давайте, следовательно, отвергнем понятие об историке
как о судье, выносящем смертный приговор, и обратимся к
более трудному, но и более многообещающему вопросу вы¬
несения моральных суждений не по поводу индивидуумов,
но по поводу событий, институтов или политики прошлого.
Это важные суждения историка; и те, кто столь яростно на¬
стаивают па моральном осуждении индивидуумов, иногда
бессознательно обеспечивают алиби для целых групп об¬
ществ. Французский историк Лефевр, стремясь снять с Фран¬
цузской революции ответственность за вызванные ею бедст¬
вия и кровопролитие наполеоновских войн, приписал их
«диктатуре генерала... чей темперамент... не позволял усту¬
пить миру и умеренности»2. Немцы сегодня приветствуют
обличение личной злонамеренности Гитлера как удовлетво¬
рительную альтернативу морального осуждения историком
общества, продуктом которого тот являлся. Русские, англи¬
чане и американцы охотно выступают с личными нападками
па Сталина, Нэвилла Чемберлена или Маккарти как на
1 В. Croce. History as the Story of Liberty, Engl, transl., 1941, p. 47.
2 “Penples et civilisations”, vol. XIV: “Napoleon”, p. 58.
G8
козлов отпущения за их коллективные недобрые деяния.
Более того, хвалебные моральные суждения об индивидуумах
могут быть столь же ошибочными и обманчивыми, как и мо¬
ральные обличения. Признание того, что отдельные рабо¬
владельцы были благородными, постоянно использовалось
как извинение за то, что рабство не осуждалось как амо¬
ральное. Макс Вебер ссылается на «рабство без хозяина,
которым капитализм опутывает рабочего или должника», и
справедливо утверждает, что историк должен выносить мо¬
ральные суждения по адресу общественного института, но не
индивидуумов, которые его создали1. Историк не делает
суждения в отношении определенного восточного деспота.
Но от пего не требуется, чтобы он оставался индифферент¬
ным и беспристрастным к различиям, скажем, между во¬
сточным деспотизмом и общественными институтами Афин
времен Перикла. Он не будет выносить суждения по адре¬
су отдельного рабовладельца. Но это не мешает ему осуж¬
дать рабовладельческое общество. Исторические факты, как
мы видели, предполагают известную меру интерпретации; и
историческая интерпретация всегда включает моральные
суждения — или, если вы предпичилаетс б<»лее нейтрально
звучащий термин — оценочные суждения.
Это, однако, только начало наших трудностей. История—
процесс борьбы, в которой результаты, считаем ли мы их
хорошими или плохими, достигаются некоторыми лруппамн
прямо или косвенно и чаще прямо, нежели косвенно, —
за счет других. Проигравшие платят. Страдания неотъемле¬
мы от истории. Каждый великий период истории имеет свои
жертвы так же, как и своих победителей. Это чрезвычайно
сложный вопрос, потому что мы не имеем меры, коюрзя
позволила бы нам сопоставлять большее добро для одних
с жертвами других: все же какой-то баланс должен бьиь
найден. Это не только историческая проблема. В обыденной
жизни мы гораздо чаще, чем утруждаем себя признать,
связаны с необходимостью выбора меньшего зла или того,
чтобы через зло добиться добра. В истории этот вопрос
иногда обсуждается под рубрикой «цена прогресса» или
«цепа революции». Это вводит в заблуждение. Как говорит
Бэкон в эссе «О новшествах», «чрезмерное сохранение обычая
вносит такое же беспокойство, как и новшество». Цена со¬
хранения старого столь же тяжко отражается на неимущих,
как и цена новшества на тех, кто /лишается своих привиле¬
гий. Тезис о том, что благо одних оправдывает страдания
других, подразумевается во всех формах правления и явля¬
ется в равной степени как консервативным, так и радикя.
ным, Доктор Джонсон без оглядки аргументировал необхо¬
1 “From Max Weber: Essays in Sociology”, 1947, p. 58.
69
димость меньшего зла, чтобы оправдать существующее нера¬
венство: «Лучше, чтобы кто-то оказался несчастным, чем
никто не был бы счастливым, что произойдет в случае вве¬
дения общего равенства»1.
Но именно в периоды радикальных перемен проблема
появляется в наиболее драматической форме; и именно здесь
легче всего изучить отношение к ней историка. Возьмем ис¬
торию индустриализации Великобритании между, скажем,
1780 и 1870 гг Поистине каждый историк будет рассматри¬
вать промышленную революцию, вероятно, не ставя под сом¬
нение ее великое и прогрессивное достижение. Он также
опишет отлучение крестьян от земли, скучивание рабочих на
вредных для здоровья фабриках и в антисанитарных домах,
эксплуатацию детского труда. Он, вероятно, скажет, что в
работе системы случались злоупотребления, что одни пред¬
приниматели были более жестоки, чем другие, и обратится
с некоторым благоговением к медленному росту гуманисти¬
ческого сознания по мере упрочнения системы. Но он будет
исходить из того, вероятно, нс говоря об этом, что меры при¬
нуждения и эксплуатации, по крайней мере на первых эта¬
пах, были неотъемлемой частью цены индустриализации.
Я также не слышал об историке, который, сказал бы, что
ввиду цены, было бы лучше остановить прогресс и не вести
индустриализацию; если таковой существует, он, несомнен¬
но, принадлежит к школе Честертона и Беллока и совер¬
шенно справедливо не может приниматься всерьез солидны¬
ми историками. Этот пример представляет для меня особый
интерес, ибо я вскоре надеюсь в моей истории Советской
России рассмотреть проблему коллективизации крестьянст¬
ва как части цены индустриализации. И я хорошо знаю, что
если, следуя примеру историков британской промышленной
революции, я буду сожалеть о жестокостях и злоупотребле¬
ниях коллективизации, но рассматривать процесс как часть
неизбежной цены нежелательной и необходимой политики
индустриализации, то я навлеку на себя обвинения в циниз¬
ме и в том, что смотрю сквозь пальцы на причиняемое зло.
Историки смотрят сквозь пальцы на колонизацию в XIX веке
западными странами Азии и Африки не только на основа¬
нии ее огромного воздействия на мировую экономику, но
и ее долговременных последствий для отсталых народов
этих континентов. В конце концов, заявляют они, современ¬
ная Индия — дитя британского правления, а современный
1 Boswell. Life of Doctor Johnson, 1776 (Everyman ed., II, p. 20).
Это суждение по крайней мере искренно. Буркхардт (“Judgements on
History and Historians”, p. 85) проливает слезы над «молчаливыми сто¬
нами» жертв прогресса, которые, как правило, ничего не хотели, кроме
законной части, но сам молчит по поводу стонов жертв «старого режи¬
ма», которым, как правило, нечего было сохранять.
70
Китай — продукт западного империализма XIX века в со¬
четании с продуктом влияния русской революции. К сожа¬
лению, не китайские рабочие, которые трудились на запад¬
ных предприятиях и в портах, в южноафриканских шахтах
или на западном фронте во время первой мировой войны,
были теми, кто выжил, чтобы наслаждаться славой или вы¬
годой, которые могут происходить от китайской революции.
Те, кто платят цену, редко бывают теми же, кто пожинает
выгоды. Увы, как не бестактна пышная цитата из Энгельса,
она уместна здесь: «...История, пожалуй, самая жестокая
из всех богинь, влекущая свою триумфальную колесницу
через горы трупов, не только во время войны, но и в перио¬
ды «мирного» экономического развития. А мы, люди, к не¬
счастью, так глупы, что никак не можем найти в себе муже¬
ство осуществить действительный прогресс, если нас к это¬
му не принудят страдания, которые представляются почти
непомерными»1 Знаменитый жест вызова Ивана Карамазо¬
ва — героическое заблуждение. Мы рождаемся в обществе,
мы рождаемся в истории. Не бывает момента, когда нам
предлагают входной билет с правом принять его или отка¬
заться. Историк, пе более чем теолог, имеет неубедительный
ответ на вопрос о страдании. Он так же прибегает к тезису
о меньшем зле и большем добре.
Но не подразумевает ли то, что историк в отличие от ес¬
тествоиспытателя вовлекается в вопросы морального сужде¬
ния, подчинения истории надисторическому стандарту цен¬
ностей? Думаю, что нет. Давайте допустим, что абстрактные
концепции вроде «добра» и «зла» (и их более утонченных
производных) лежат вне рамок истории. Но даже в этом
случае эти абстракции играют в изучении исторической мо¬
рали во многом ту же роль, какую математические и логи¬
ческие формулы играют в физике. Они необходимые катего¬
рии мышления; но они лишены значения или применения
до тех пор, пока в них не вкладывается специфическое со¬
держание. Если вы предпочитаете другую метафору, то мо¬
ральные предписания, к которым мы обращаемся в истории
или повседневной жизни, как чеки в банке: они имеют напе¬
чатанную и рукописную части. Напечатанная часть состоит
из абстрактных слов вроде «свобода», «равенство», «спра¬
ведливость» и «демократия». Это существенные категории.
Но чеки не обладают ценностью, пока мы не заполним дру¬
гую часть, которая устанавливает, сколько и кому свободы
мы собираемся дать, кого мы признаем равными себе и в
какой мере. То, каким образом мы время от времени запол¬
няем чеки, дело истории. Процесс, в ходе которого спе¬
цифическое историческое содержание придается абстрякт-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 35.
71
ным моральным концепциям — исторический процесс; более
того, наши моральные суждения делаются в пределах кон¬
цептуальной структуры, которая сама — создание истории.
Излюбленная форма современных международных споров
по моральным вопросам — схватка между соперничающи¬
ми представлениями о свободе и демократии. Концепции яв¬
ляются абстрактными и всеобщими. Но содержание, кото¬
рое в них вкладывалось, менялось с ходом истории, время
от времени и от места к месту, любой практический вопрос
их применения может пониматься и обсуждаться только в
исторических терминах. Можно взять несколько менее по¬
пулярный пример: была сделана попытка использовать
концепцию «экономической рациональности» как объектив¬
ный и бесспорный критерий, по которому можно проверять
и судить о желательности экономической политики. Попыт¬
ка тут же провалилась. Теоретики, вскормленные на законах
классической экономики, принципиально осуждают планиро¬
вание как иррациональное вторжение в рациональный эко¬
номический процесс; например, в своей политике ценообра¬
зования сторонники планирования отказываются быть свя¬
занными с законом предложения и спроса, и при планирова¬
нии цены не могут иметь рациональной основы. Конечно,
может быть правдой, что сторонники планирования часто
ведут себя иррационально и поэтому нелепо. Но критерий,
по которому о них надо судить, должен быть связан не со
старой «экономической рациональностью» классической эко¬
номики. Лично у меня больше симпатий к обратному аргу¬
менту, что именно неконтролируемая, неорганизованная эко¬
номика невмешательства была особенно иррациональной и
что планинирование — это попытка ввести «экономическую
рациональность» в этот процесс. Но единственное замечание,
которое я сейчас хочу сделать, невозможность сооруже¬
ния абстрактного и надисторического критерия, по которо¬
му можно судить об исторических действиях. Обе стороны
неизбежно вносят в этот стандарт конкретное содержание,
соответствующее их собственным историческим условиям и
устремлениям.
Это реальный обвинительный акт тем, кто стремится воз¬
двигнуть надисторический критерий, в свете которого выно¬
сятся суждения по поводу исторических событий или ситуа¬
ций, — выводится ли критерий от некоей божественной вла¬
сти, утверждаемой теологами, или от статичной Причины
или Природы, утверждавшейся философами Просвещения.
Дефект заключается не в применении критерия или погреш¬
ностей в самом критерии. Именно попытка воздвигнуть по¬
добный критерий неисторична и противоречит самой сути
истории. Она дает догматический опыт на вопросы, которые
историк в связи со своей профессией обязан постоянно зада¬
72
вать: историк, который заранее принимает ответы на эти во¬
просы, приступает к работе с завязанными глазами и отре¬
кается от своей профессии. История есть движение, а движе¬
ние подразумевает сравнение. Поэтому историки склонны
выражать свои моральные суждения словами сравнительно¬
го типа, такими, как «прогрессивный» и «реакционный», ско¬
рее чем бескомпромиссными терминами вроде «хороший» и
«плохой». Это попытки определить различные общества или
исторические феномены не в отношении к какому-либо абсо¬
лютному критерию, но в их отношении друг к другу. Более
того, когда мы исследуем эти предположительно абсолютные
и надисторические ценности, мы находим, что они также ко¬
ренятся в истории. Появление конкретной ценности или
идеала в данном месте и времени объясняется исторически¬
ми условиями времени и места. Практическое содержание
гипотетических абсолютов вроде равенства, свободы, спра¬
ведливости или естественного закона меняется от эпохи к
эпохе или от континента к континенту. Каждая группа име¬
ет собственные ценности, которые коренятся в истории. Каж¬
дая группа защищается от вторжения чуждых и неумест¬
ных ценностей, которые она клеймит оскорбительными эпи¬
тетами — «буржуазный» и «капиталистический», или «не¬
демократический» и «тоталитарный», или — еще более гру¬
бо — «неанглийский» и «неамериканский». Абстрактный кри¬
терий, отделенный от общества и от истории, такая же ил¬
люзия, как и абстрактный индивидуум. Серьезный историк
тот, кто признает исторически обусловленный характер всех
ценностей, а не тот, кто требует своих собственных ценно¬
стей и объективности вне пределов истории. Верования, ко¬
торых мы придерживаемся, и критерии суждений, которые
мы устанавливаем, — части истории и субъекты историче¬
ского исследования в той же мере, как и любой другой ас¬
пект человеческого поведения. Считанные науки сегодня —
и менее всего общественные науки — будут претендовать
на полную независимость. Но история не имеет фундамен¬
тальной зависимости от чего-либо вне ее, что отделяло бы
ее от любой другой науки.
Позвольте мне просуммировать то, что я пытался ска¬
зать о претензии истории быть включенной в число наук.
Слово «наука» уже включает столь много различных отрас¬
лей знания, использующих столь многообразные методы и
приемы, что кажется, ответственность должна быть, ско¬
рее, возложена на тех, кто стремится исключить историю,
чем на тех, кто стремится включить ее. Важно, что аргумен¬
ты в пользу исключения исходят не от ученых-естественни-
ков, озабоченных тем, чтобы исключить историков из своего
избранного общества, а от историков и философов, озабо¬
ченных тем, чтобы отстаивать статус истории как гуманитар¬
73
ной отрасли. Спор отражает предрассудок старого разделе
ния между гуманитарными и естественными науками, в ко¬
тором предполагалось, что гуманитарные науки представля¬
ют общую культуру правящего класса, а естественные —
навыки специалистов, которые ему служили. Сами слова
«гуманитарные» и «человеческий» в этом контексте — пере¬
житки этого освященного веками предрассудка, и тот факт,
что противопоставление между наукой и историей не будет
иметь смысла ни в каком языке, кроме английского, пред¬
полагает специфически островной характер этого предрас¬
судка. Мое принципиальное возражение против отказа на¬
зывать историю наукой в том, что он оправдывает и увеко¬
вечивает разрыв между так называемыми «двумя культура¬
ми». Сам этот разрыв — продукт этого древнего предрассуд¬
ка, основанного па классовой структуре английского обще¬
ства, которое само по себе принадлежит к прошлому; и я
сам не убежден, что трещина, отделяющая историка от гео¬
лога, более глубокая или менее преодолимая, чем трещина,
отделяющая геолога от физика. Но способ, которым можно
заделать трещину, с моей точки зрения, нс в том, чтобы пре¬
подавать основы естественных паук историку и основы ис¬
тории — естествоиспытателю. Это тупик, в который мы по¬
падаем из-за неопрятности мышления. В конце концов, ведь
сами ученые не ведут себя таким образом. Я никогда не
слышал об инженере, которому советовали посещать элемен¬
тарные занятия по ботанике.
Я бы предложил одно средство для того, чтобы улучшить
критерий нашей истории, сделать ее, если я могу осмелить¬
ся так сказать, более научной, предъявив более суровые
требования к тем, кто ею занимается. В нашем университе¬
те история в качестве академической дисциплины рассмат¬
ривается как отстойник для тех, кто находит классическую
литературу слишком трудной, а естественную науку — слиш¬
ком серьезной. Я надеюсь в этих лекциях убедить вас в том,
что история — гораздо более трудный предмет, чем класси¬
ческая литература, и так же серьезна, как любая другая
наука. Но признание этого требует от историков более
серьезной веры в то, что они делают. Сэр Чарлз Сноу в не¬
давней лекции на эту тему был прав, когда противопостав¬
лял «дерзкий» оптимизм естествоиспытателя «приглушенно¬
му голосу» и «антисоциальному чувству» того, что он назы¬
вал «литературным интеллектуалом»1. Некоторые историки—
и больше всего те, кто пишет об истории, не будучи истори¬
ками, — принадлежат к этой категории «литературных ин¬
теллектуалов». Они настолько заняты тем, чтобы говорить
1 С. Р. Snow. The Two Cultures and the Scientific Revolution, 1959,
p. 4—8.
74
нам, что история — не наука, и объяснять, чем она не мо¬
жет и не должна быть или что она не может или не должна
делать, что у них не остается времени на осмысление ее до¬
стижений и возможностей.
Другой путь преодолеть разрыв — обеспечить более глу¬
бокое понимание тождества целей между естествоиспытате¬
лями и историками, и в этом главная ценность нового и ра¬
стущего интереса к истории и философии науки.
Естествоиспытатели, обществоведы и историки — все
заняты в различных отраслях одного и того же последствия
воздействия исследования, исследования человека и окру¬
жающей его среды. Цель исследования одна и та же: уве¬
личить понимание человеком окружающей его среды и сте¬
пень владения ею. Предпосылки и методы физика, геолога,
психолога и историка широко различаются в деталях. Я не
хочу присоединяться к предложению о том, чтобы историк
более тесно следовал методам физики, чтобы быть более
научным. Но историк и физик объединены фундаментальной
целью поиска и объяснения, фундаментальной процедурой
вопроса и ответа. Историк, как и любой другой ученый, су¬
щество, непрерывно задающее вопрос «Почему?», В моей сле¬
дующей лекции я рассмотрю, как он задает этот вопрос и
как он старается на него ответить.
ПРИЧИННОСТЬ В ИСТОРИИ
Если молоко ставят кипятить в кастрюлю, оно убегает.
Я не знаю и никогда не хотел знать, почему это происходит.
Если от меня будут требовать объяснений, я, вероятно, от¬
несу это к склонности молока убегать, что достаточно верно,
но ничего не объясняет. В этом случае я не могу считаться
настоящим ученым. Таким же образом можно читать и даже
писать о событиях прошлого, не желая знать, почему они
происходили, или довольствоваться тем, что вторая мировая
война произошла из-за намерений Гитлера вступить в вой¬
ну; эго, в общем, верно, но ничего нс объясняет. Но тогда не
следует предаваться солецизму и называть себя изучающим
историю или историком. Изучение истории — изучение при¬
чин. Историк, как я сказал в конце моей предыдущей лек¬
ции, постоянно задает вопрос «Почему?». И пока он надеет¬
ся найти ответ, он не может успокоиться. Великий историк
или, возьмем шире, великий мыслитель — это человек, ко¬
торый задаст вопрос «Почему?» о новом, о новых обстоя¬
тельствах.
Отец истории Геродот определил свои цели в начале сво¬
ей работы: «Сохранить память о деяниях греков и варва¬
ров» и «в особенности, помимо всего прочего, указать на
причины того, почему они воевали друг против друга». Он
нашел немногих последователей в древнем мире: даже Фу¬
кидида обвиняли в том, что у него не было ясной концепции
причинности1. Но когда в XVHI веке начали закладываться
основы современной историографии, Монтескье в своей ра¬
боте «Размышления о причинах величия римлян и об их
подъеме и упадке» взял в качестве отправной точки прин¬
цип, что «есть общие причины, моральные или физические,
которые действуют в любой монархии, возвышают ее, под¬
держивают или оправдывают», и что «все, что происходит,
подчинено этим причинам». Несколькими годами позже, в
«Духе законов», он развил и обобщил эту идею. Было бы
абсурдным предполагать, что «с,тепой случай произвел все
действия, которые мы видим в мире». Люди «руководство¬
вались отнюдь не только фантазиями», их поведение следо¬
вало определенным законам пли принципам, выводившимся
1 F. М. Cornjord. Thucydides Mythistoricus, passim.
76
из природы вещей»1 В течение почти 200 лет после этого
историки и философы истории деловито занимались попыт¬
ками организовать прошлый опыт человечества, открыв при¬
чины исторических событий и законы, которые управляли
ими. Иногда причины и законы представлялись как механи¬
ческие, иногда как биологические, порой как метафизические,
порой как экономические, а иногда как психологические.
Однако была принята доктрина, констатирующая, что нау¬
ка истории состоит из изложения событий прошлого при упо¬
рядоченной последовательности причины и следствия. «Ес¬
ли вам нечего больше сказать нам, — писал Вольтер в ста¬
тье об истории для «Энциклопедии», — кроме того, что одно
варварское племя сменило другое на берегах Оксуса и Джа¬
карты, то какое нам дело до этого?» В последние годы кар¬
тина несколько изменилась. Мы ныне но причинам, рассмот¬
ренным в моей предыдущей лекции, больше не говорим об
исторических «законах», и само слово «причина» вышло из
моды, частично из-за определенных философских двусмыс¬
ленностей, в которые я не хочу углубляться, частично бла¬
годаря его предполагаемой ассоциации с детерминизмом, к
которому я сейчас перехожу. Некоторые поэтому говорят
не о «причине» в истории, а об «объяснении», или «интер¬
претации», или о «логике ситуации» (это идет от Дицея),
или внутренней логике событий, или отвергают причинный
подход (почему это произошло) в пользу функционального
подхода (как это произошло), хотя представляется, что это
неизбежно включает вопрос, как это могло произойти, то
есть снова ведет к вопросу «Почему?». Другие проводят раз¬
личия между разными видами причин: механических, био¬
логических, психологических и так далее — и считают ис¬
торическую причину категорией самой по себе. Хотя некото¬
рые из этих различий до известной степени обоснованы, для
наших целей может оказаться более полезным подчеркнуть,
что объединяет, а не разделяет все виды причин. Что касает¬
ся меня, я удовлетворюсь использованием слова «причина»
в популярном смысле, пренебрегая всеми этими нюансами.
Давайте начнем с того, что спросим: что историк прак¬
тически делает, когда он сталкивается с необходимостью оп¬
ределения причин событий? Первая особенность подхода ис¬
торика к проблеме причинности в том, что он обычно выбе¬
рет несколько причин для одного и того же события. Эконо¬
мист Маршалл однажды писал, что «люди должны быть пре¬
дупреждены всеми возможными средствами против рассмот¬
рения действия какой-либо одной причины... без учета дру¬
гих, действия которых смешиваются с ее действием»2. Экза¬
1 “De l'esprit des lois”, Preface and ch. 1.
2 A. C. Pigou (ed.). Memorials of Alfred Marshal, 1925, p. 428.
77
менующийся, который в ответ на вопрос: «Почему в России
в 1917 г. произошла революция?» — указал бы только одну
причину, был бы счастлив получить три балла. Историк име¬
ет дело со множеством причин. Если ему потребуется рас¬
смотреть причины большевистской революции, он может на¬
звать серию военных поражений России, крах русской эко¬
номики под тяжестью войны, действенную пропаганду боль¬
шевиков, неудачу царского правительства в решении аграр¬
ной проблемы, концентрацию обнищавшего и эксплуатируе¬
мого пролетариата на фабриках Петрограда, факт того, что
Ленин осознавал свои намерения, и никто на противополож¬
ной стороне не осознавал, короче — будет выявлена беспо¬
рядочная смесь экономических, политических, идеологичес¬
ких и личных причин, долгосрочных и краткосрочных факто¬
ров.
Но это немедленно подводит нас ко второй особенности
подхода историка. Экзаменующийся, который в ответ на наш
вопрос довольствовался бы тем, что выдал одну за другой
дюжину причин русской революции и на этом остановился,
мог получить четверку, но едва ли пятерку. «Хорошо инфор¬
мирован, но лишен воображения» — таков, вероятно, был
бы вердикт экзаменаторов. Истинный историк, столкнувшись
с подобным списком причин, почувствовал бы профессио¬
нальную необходимость привести их в порядок, установив
некую иерархию причин, которая зафиксировала бы их от¬
ношение друг к другу. Возможно, он решил бы, какая при¬
чина или какая категория причин рассматривалась бы в
«крайнем случае» или «в конечном счете» (любимые фразы
историка) как первопричина, причина всех причин. Такова
была бы его интерпретация предмета. Об историке судят по
тем причинам, которые он указывает. Гиббон отнес закат и
падение Римской империи на счет триумфа варварства и
религии. Английские историки—виги XIX века относили
рост британской мощи и богатства на счет развития полити¬
ческих институтов, воплощающих принципы конституцион¬
ной свободы. Гиббон и английские историки XIX века сегод¬
ня выглядят старомодными, ибо они игнорировали экономи¬
ческие причины, выдвинутые современными историками на
первый план. Каждый спор в истории вращается вокруг во¬
проса о приоритете причин.
Анри Пуанкаре в работе, которую я процитировал в моей
прошлой лекции, отметил, что наука продвигалась одновре¬
менно к «разнообразию и сложности», к «единству и про¬
стоте» и что этот дуалистический и,очевидно,противоречивый
процесс был необходимым условием познания1. Это не менее
верно для истории. Историк, расширяя и углубляя свои ис¬
1 Н. Poincare. La Science et l’hypoiliese, 1902, p. 202—203.
78
следования, постоянно собирает все больше и больше отве¬
тов на вопрос «Почему?». Отпочкование в последние годы
экономической, социальной, культурной и юридической исто¬
рии, не говоря о новейших концепциях, учитывающих слож¬
ность политической истории, и новых приемах в области пси¬
хологии и статистики привели к огромному увеличению чис¬
ла и расширению круга наших ответов. Когда Бертран Рас¬
сел отметил, что «каждый шаг в науке уводит нас дальше
от грубого конформизма к большой дифференциации при¬
чин и следствий и умножению причин, признаваемых как
имеющих отношение к делу»1, он точно описал положение в
исторической науке. Но историк в силу своего побуждения
понять прошлое одновременно вынужден, как и ученый, уп¬
рощать множество своих ответов, подчинять один ответ дру¬
гому и вводить порядок и единство в хаос событий и в хаос
конкретных причин. «Один Бог, один Закон, одна Первоос¬
нова или отдаленное божественное событие» или поиски Ген¬
ри Адамсом «некоего большого обобщения, которое завер¬
шит потребность быть всесторонне образованным»2 3, — все
это звучит сегодня старомодной шуткой. Но факт остается
фактом, что историк должен прибегать к упрощению, так
же как и к умножению причин. В истории, как и в науке,
движение вперед осуществляется в ходе двойственного и
внешне противоречивого процесса.
Здесь мне придется с величайшей неохотой отвлечься,
чтобы разобраться с двумя отвратительными выдумками, ко¬
торые встретились на нашем пути. Одна под названием «де¬
терминизм в истории», или «испорченность Гегеля», а дру¬
гая — «случай в истории», или «нос Клеопатры». Сначала я
должен сказать пару слов о том, как они появились. Про¬
фессор Карл Поппер, который в 30-е годы нашего века на¬
писал в Вене увесистую книгу, посвященную новому взгля¬
ду па науку (недавно переведенную на английский язык под
названием «Логика научного исследования»), во время вой¬
ны опубликовал на английском языке две книги более попу¬
лярного характера: «Открытое общество и его враги» и «Ни¬
щета историцизма» а Они были написаны под сильным эмо¬
циональным воздействием реакции против Гегеля, который
наряду с Платоном рассматривался как духовный предтеча
нацизма, а также против довольно поверхностного марксиз¬
ма, присущего британским левым в 30-е годы. Главными
целями были якобы детерминистские философии истории Ге¬
геля и Маркса, объединенные под ругательным ярлыком —
1 Б. Russell. Mysticism and Logic, 1918, p. 188.
2 “The Education of Henry Adams” Boston, 1928, p. 224.
3 «Нищета историцизма» впервые вышла отдельной книгой в 1957 г.,
по состояла из статей, первоначально напечатанных в 1944 и 1945 гг.
79
«историцизм»1. В 1954 г. сэр Исайя Берлин выпустил эссе
«Историческая неизбежность». Он отказался от нападок на
Платона, вероятно, руководствуясь остатками уважения к
древнему столпу оксфордского истэблишмента, и добавил к
обвинительному акту аргумент, которого нет у Поппера, что
«историцизм» Гегеля и Маркса — спорный, потому что, объ¬
ясняя человеческие действия в причинных терминах, он под¬
разумевает отрицание свободной воли человека и побужда¬
ет историка уклоняться от своей предполагаемой обязаннос¬
ти (о которой я говорил в моей предыдущей лекции) выно¬
сить моральные суждения по поводу шарлеманов, наполео¬
нов и Сталиных в истории. В других отношениях изменилось
немногое. Но сэр Исайя Берлин — заслуженно популярный
и широко читаемый автор. За последние пять или шесть лет
почти каждый в Великобритании или в США, кто написал
статью об истории или даже серьезный обзор исторической
работы, показал со знанием дела нос Гегелю, Марксу и де¬
терминизму и подчеркнул абсурдность непризнания роли
случая в истории. Вероятно, несправедливо возлагать на сэ¬
ра Берлина ответственность за его учеников. Даже говоря
глупость, он заслуживает снисходительного отношения по¬
тому, что говорит ее в обаятельной и привлекательной мане¬
ре. Ученики повторяют глупость, но не могут сделать ее
привлекательной. Во всяком случае, во всем этом нет ниче¬
го нового. Чарлз Кингсли, не самый выдающийся из наших
профессоров Новой истории, который, вероятно, никогда не
читал Гегеля и не слышал о Марксе, говорил в своей всту¬
пительной лекции 1860 г. о «таинственной власти человека
нарушать законы собственного бытия» как о доказательстве
1 Я избегал использовать слово «историцизм» за исключением одно¬
го или двух случаев, где не требуется точность, так как широко читае¬
мые сочинения профессора Поппера по этому вопросу лишили термин
точного значения. Постоянная настойчивость на точном определении тер¬
минов — педантизм. Но надо знать, о чем говоришь, а профессор Поп¬
пер использует «историцизм» как уловку для каждого мнения по пово¬
ду истории, которое ему не нравится. Некоторые из этих мнений кажут¬
ся мне правильными, другие, я думаю, сегодня не разделяются ни одним
серьезным автором. Как он признает («Нищета историцизма»), он изоб¬
ретает «историчные» аргументы, которые никогда не использовал никто
из известных «приверженцев историзма». В его сочинениях историзм
покрывает как доктрины, приравнивающие историю к науке, так и док¬
трины, резко противопоставляющие их. В «Открытом обществе» Гегель,
который избегал предсказаний, рассматривается как первосвященник ис¬
торицизма; во введении к «Нищете историцизма» историцизм описывает¬
ся как «подход к общественным наукам, который допускает, что исто¬
рическое предсказание — их главная цель». До этого «историцизм» ши¬
роко применялся как английский вариант немецкого историзма, теперь
профессор Поппер отделил «историцизм» от «историзма» и, таким обра¬
зом, внес еще больший элемент путаницы в уже запутанное применение
термина. М. С. D’Arcy (“The Sense of History: Secular and Sacred”, 1959,
p. 11) использует слово «историцизм» как идентичный философии исто¬
рии.
80
того, что в истории не может существовать никакой «неиз¬
бежной последовательности»1. Но, к счастью, мы позабыли о
Кингсли. Именно профессор Поппер и сэр Исайя Берлин со¬
вместными усилиями придали видимость жизни этой мертвой
идее. Только со временем мы сможем в этом разобраться.
Итак, позвольте мне остановиться на детерминизме, ко¬
торый я определю, надеюсь, бесспорно, как веру в то, что
все происходящее имеет причину или причины и не могло
произойти по-другому, пока что-либо не менялось, если что-
либо в причине или причинах не было другим2. Детерми¬
низм — проблема не истории, а всего поведения человека.
Человек, действия которого не имеют причины и, таким об¬
разом, не определены, — такая же абстракция, как и инди¬
видуум вне общества, которого мы обсудили в ходе прошлой
лекции. Утверждение профессора Поппера, что «в человече¬
ских делах все возможно»3, или бессмысленно, или ложно.
В обычной жизни никто не может поверить и не верит в это.
Аксиома, что все имеет причину, — условие нашей способно¬
сти понять происходящее вокруг нас4. Кошмарная особен¬
ность новелл Кафки заключается в том, что происходящее
не имеет видимой причины или любой причины, которая мо¬
жет быть установлена: это ведет к полному распа¬
ду личности человека, которая основана на уверенно¬
сти в том, что события имеют причины. Достаточное число
этих причин можно установить, чтобы построить в уме че¬
ловека модель прошлого и настоящего, достаточную для то¬
го, чтобы служить руководством к действию. Обыденная
жизнь была бы невозможна без признания, что поведение
человека определяется причинами, которые в принципе мо¬
жно установить. Когда-то некоторые люди думали, что вни¬
кать в причины природных явлений — богохульство, так как
их, очевидно, определяла божественная воля. Возражение сэ¬
ра Исайи Берлина против нашего объяснения того, почему
люди действовали так, а не иначе, на основании признания,
что их действия определялись их же волей, принадлежит к
тому же разряду идей и, возможно, показывает, что общест¬
1 С. Kingsley. The Limits of Exact Science as Applied to History,
1860, p. 22.
2 «Детерминизм... означает... что если данные именно таковы, то, что
бы ни случалось, случается определенно и не может быть другим. Счи¬
тать, что это могло быть, означает, что это было бы, если бы данные
были другими» (5. W Alexander — In: “Essays Presented to Ernst Cas¬
sirer, 1936й, p. 18).
3 K- R. Popper. The Open Society, 2nd ed., 1952, ii, p. 197.
4 «Закон причинности не возложен на нас миром», но «вероятно, для
нас это самый удобный метод приспособления к миру» (/ Rueff. From
the Physical to the Social Sciences. Baltimore, 1929, p. 52). Сам профес¬
сор Поппер (“The Logic of Scientific Enquiry”, p. 248) называет веру в
причинность «метафизическим гипотезированием хорошо обоснованного ме¬
тодологического правила».
81
венные науки сегодня находятся на той же стадии развития,
в которой были и естественные науки, когда против них бы¬
ла направлена подобная аргументация.
Давайте посмотрим, как мы решаем эту проблему в па¬
шей повседневной жизни. Когда вы идете по своим делам,
вы привыкли встречать Смита. Вы приветствуете его любез¬
ным, но бессмысленным замечанием о погоде или о том, как
идут дела в колледже или университете, он отвечает столь
же дружественным и бессмысленным замечанием о погоде
или о том, как у него обстоят дела. Но представьте себе,
что в одно прекрасное утро Смит, вместо того чтобы отве¬
тить па ваше замечание в обычной манере, разразился бы
резкой обвинительной речью против вашей внешности или
характера. Пожмете ли вы плечами и отнесетесь к этому как
к убедительному доказательству свободы воли Смита и фак¬
ту того, что в человеческих делах все возможно? Подозре¬
ваю, что нет. Напротив, вы, вероятно, скажете что-нибудь в
таком роде: «Бедняга Смит! Вы, конечно, знаете, что его
отец умер в сумасшедшем доме», или «Бедняга Смит! У него,
наверное, еще большие неприятности с женой!» Другими
словами, вы попытаетесь поставить диагноз причины явно
беспричинного поведения Смита в твердой уверенности в том,
что должна быть какая-то причина. Боюсь, что, действуя по¬
добным образом, вы навлечете гнев сэра Исайи Берлина,
который стал бы горько жаловаться на то, что давая при¬
чинное объяснение поведению Смита, вы исходите из детер¬
министических посылок Гегеля и Маркса и увильнули от
обязанности назвать Смита хамом. Но в обычной жизни ни¬
кто не придерживается подобного взгляда и не предполага¬
ет, что па карту ставится или детерминизм, или моральная
ответственность. Логическая дилемма о свободной воле и де¬
терминизме не возникает в реальной жизни. Неверно, что
одни действия человека свободны, а другие предопределены.
Факт в том, что все действия человека и свободны, и предо¬
пределены в зависимости от той точки зрения, с которой они
рассматриваются. На практике вопрос идет о другом. Дей¬
ствия Смита имели причину или ряд причин. Но в той мере,
в какой они были вызваны не каким-то внешним раздражи¬
телем, а его собственным раздражителем, он несет мораль¬
ную ответственность, поскольку нормальные взрослые люди
морально ответственны за себя; это условие общественной
жизни. Делать или нет его ответственным в этом конкрет¬
ном случае — дело вашего практического суждения. Но ес¬
ли вы это делаете, это не означает, что вы считаете его дей¬
ствия беспричинными: причина и моральная ответствен¬
ность — различные категории. В нашем университете недав¬
но были учреждены Институт и кафедра криминологии. Я
уверен, что никому, занятому расследованием причин прес¬
82
тупления, не придет в голову предположить, что это возла¬
гает на них обязательства отрицать моральную ответствен¬
ность преступника.
Давайте взглянем теперь на историка. Как и обычный че¬
ловек, он верит, что действия людей имеют причины, кото¬
рые в принципе можно установить. История, как и обыден¬
ная жизнь, была бы невозможна, если бы не делалось это
допущение. Именно в исследовании этих причин специфиче¬
ская функция историка. Можно считать, что особый инте¬
рес у него вызывает выяснение причинного аспекта поведе¬
ния человека. Но он не отвергает свободную волю, за ис¬
ключением несостоятельной гипотезы о том, что доброволь¬
ные действия не имеют причины. Он также не озабочен и
вопросом неизбежности. Историки, как и другие люди, ино¬
гда настраиваются на риторический лад и говорят о слу¬
чайности как о «неизбежной», просто когда они имеют в ви¬
ду то, что сочетание факторов, дающих основание ожидать
этого, было чрезвычайно сильным. Недавно я просмотрел
свое собственное сочинение, чтобы найти это самое негод¬
ное слово, и у меня нет оснований для полного оправдания:
в одном месте я написал, что после революции 1917 г. столк¬
новение между большевиками и православной церковью бы¬
ло «неизбежно». Несомненно, было бы правильнее ска¬
зать — «чрезвычайно вероятно». Но извиняет ли меня то,
что внесенная мною поправка несколько педантична? На
практике историки не допускают, что события неизбежны,
пока они не произойдут. Они часто обсуждают альтернатив¬
ные линии поведения действующих лиц на основании пред¬
положения о возможности выбора. Но они продолжают так¬
же совершенно правильно объяснять, почему в конечном
счете было отдано предпочтение той, а не иной линии по¬
ведения. В истории ничего не является неизбежным. В фор¬
мальном смысле для того, чтобы что-то произошло по-дру¬
гому, должны были быть иными предшествующие причины.
Как историк я совершенно готов к тому, чтобы обойтись без
эпитетов «неизбежное» и даже «неотвратимое». Жизнь была
бы скучнее, по оставим это поэтам и метафизикам.
Обвинение против неизбежности оказывается бесплодным
и бессмысленным, но настолько велика страсть, с которой
оно преследовалось в последние годы, что, я думаю, мы дол¬
жны поискать за этим скрытые мотивы. Я полагаю, что его
главным источником можно назвать школу мышления, или
скорее эмоций, основанных на принципе «могло бы быть».
Такой подход существует почти исключительно в современ¬
ной истории. В прошлом семестре здесь, в Кембридже, я ви¬
дел объявление какого-то общества о диспуте под названи¬
ем «Была ли неизбежной русская революция?». Я уверен,
что был задуман совершенно серьезный диспут. Но если вы
83
увидели бы объявление о диспуте под названием: «Были ли
неизбежны войны Алой и Белой розы?», вы сразу бы запо¬
дозрили какую-то шутку. Историк пишет о завоевании нор¬
маннов или об американской войне за независимость: как
будто го, что произошло, должно было произойти, и как
будто его делом было просто объяснить, что и как случи¬
лось; и никто не обвиняет его в том, что он детерминист и
не смог обсудить альтернативную возможность, например, о
том, что Вильгельм Завоеватель или американские повстан¬
цы могли потерпеть поражение. Когда, однако, я пишу о
русской революции 1917 г. именно подобным образом —
единственным верным для историка образом, — я оказыва¬
юсь под огнем критики за то, что я изобразил произошед¬
шее как нечто такое, что должно было произойти, и не су¬
мел рассмотреть все прочее, что могло бы произойти. Пред¬
положим, говорят, что у Столыпина было бы время завер¬
шить аграрную реформу или что Россия не вступила бы в
войну, тогда, мол, революция могла бы не произойти; или,
допустим, правительство Керенского делало бы добро, а ру¬
ководство революцией взяли бы меньшевики, а не больше¬
вики. Эти предположения теоретически понятны; можно за¬
няться салонной игрой по поводу того, что «могло бы быть»
в истории. Но это не имеет ничего общего с детерминизмом,
ибо детерминист ответил бы только, что, для того чтобы эти
события могли произойти, причины должны бы быть иными.
Это также не имеет никакого отношения к истории. Дело в
том, что сегодня никто серьезно не собирается ревизовать ре¬
зультаты норманнских завоеваний или американской независи¬
мости или бурно протестовать против этих событий, и никто не
возражает, когда историк рассматривает их как закончен¬
ную главу. Но множество людей, прямо или косвенно по¬
страдавших от результатов большевистской победы или все
еще опасающихся ее отдаленных последствий, стремятся за¬
фиксировать своп протест против нее. Это выражается в
такой форме: когда они читают исторические сочинения, то
дают волю своему воображению, представляя более желан¬
ные события, которые могли бы произойти; и они недоволь¬
ны, когда историк, выполняющий точно свою работу, объяс¬
няет то, что происходило и почему их желанные мечты не
осуществились. Беда новейшей истории в том, что люди еще
помнят время, когда существовали различные возможности.
Для этих людей затруднительно принятие подхода историка,
считающего эти события свершившимся фактом. Это чисто
эмоциональная и неисторическая реакция. Но она обеспечи¬
ла больше всего топлива для огня недавней кампании про¬
тив предполагаемой доктрины «исторической неизбежности».
Давайте избавимся от этой выдумки раз и навсегда.
Другой источник нападок — знаменитая уловка, извест¬
84
ная как «нос Клеопатры». Это концепция, согласно которой
история обусловливается непредвиденными стечениями об¬
стоятельств, сериями событий, предопределенных случайно¬
стями, порожденными самыми тривиальными причинами.
Исход битвы при Акциуме был предопределен не теми при¬
чинами, на которые обычно ссылаются историки, а безрас¬
судной страстью Антония к Клеопатре. Когда во время про¬
движения по Центральной Европе Баязета охватил приступ
подагры, Гиббон заметил, что «дурное настроение, вызван¬
ное одной причиной у одного человека, может предотвратить
или задержать унижение народов»1. Когда греческий ко¬
роль Александр умер осенью 1920 г от укуса ручной обезъя-
ны, это происшествие дало толчок цепи событий, которые
дали сэру Уинстону Черчиллю основание заметить, что «чет¬
верть миллиона людей умерли от этого укуса обезьяны»2.
Или возьмите замечание Троцкого по поводу малярии, ко¬
торую он подхватил во время охоты на уток и которая вы¬
вела его из игры в критический момент спора с Зиновье¬
вым, Каменевым и Сталиным осенью 1923 г.: «Можно пред¬
видеть революцию или войну, но невозможно предвидеть
последствия осенней охоты на диких уток»3 Во-первых, на¬
до сделать ясным то, что этот вопрос не имеет ничего обще¬
го с детерминизмом. Безрассудная страсть Антония к Клео¬
патре, или приступ подагры у Баязета, или малярия Троц¬
кого были точно так же причинно обусловлены, как и все,
что происходит. Было бы в высшей степени неучтиво по от¬
ношению к красоте Клеопатры предполагать, что страсть Ан¬
тония нс имела причины. Связь между красотой женщины и
страстью мужчины — одна из наиболее обычных последо¬
вательностей причины и следствия, наблюдаемых в повсед¬
невной жизни. Эти так называемые случайности в истории
представляют последовательность причины и следствия, на¬
рушающих и, так сказать, противоречащих последователь¬
ности, которую историк прежде всего обязан исследовать.
Бэри совершенно справедливо говорит о «столкновении двух
независимых причинных цепей»4. Сэр Исайя Берлин, откры¬
вающий свое эссе об «исторической неизбежности» похва¬
лой в адрес статьи Бернардо Беренсона «О роли случайно¬
сти в истории», — один из тех, кто путает случайность в
этом смысле с отсутствием причинной предопределенности.
Но, помимо этой путаницы, у нас на руках серьезная проб¬
лема. Как можно обнаружить в истории понятную последо¬
вательность причины и следствия, как мы можем найти зна-
1 “Decline and Fall of the Roman Empire”, ch. XIV
2 W Churchill. The World Crisis: The Aftermath, 1929, p. 386.
:3 /,. Trotsky. My Life, Engl, transl., 1930, p. 425.
4 Аргументацию Бэри по этому вопросу см.: “The Idea of Progress”,
1920, p. 303—304.
85
чсние истории, когда наша последовательность в любой мо¬
мент может быть нарушена или отклонена в сторону какой-
то другой или не относящейся, с нашей точки зрения, к делу
последовательностью?
Нам следует на минуту остановиться здесь, чтобы про¬
следить происхождение настойчиво распространяемой в по¬
следнее время версии о роли случая в истории. Полибий,
по-видимому, был первым историком, который занимался
этим в какой-то мере систематическим образом, и Гиббон
быстро раскрыл причину этого. «Греки, — замечал Гиб¬
бон, — после того как их страна была низведена до провин¬
ции, приписали триумфы Рима не доблести, а удаче респуб¬
лики» 1 Другой историк античности, Тацит, историк перио¬
да заката его страны, тоже находил утешение в бесконечных
размышлениях по поводу случая. Возобновившаяся настой¬
чивость английских авторов по поводу случайности в исто¬
рии имеет отправной точкой рост настроений неуверенности
и спасения, которые зародились в текущем столетии и ста¬
ли заметны после 1914 г. Первым английским историком,
после долгого перерыва подхватившим эту ноту, по-видимо¬
му, был Бэри, который в вышедшей в 1905 г статье «Дар¬
винизм в истории» привлек внимание к «элементу случайно¬
сти», который в большой степени «помогает предопределить
события в социальной эволюции», и в 1916 г этой теме бы¬
ла посвящена отдельная статья под названием «Нос Клео¬
патры»2 3. X. А. Л. Фишер в уже процитированном абзаце,
который отражает его разочарование по поводу краха ли¬
беральных надежд после первой мировой войны, просит своих
читателей признать «игру случайного и непредвиденного в
истории»1* Популярность в Великобритании теории исто¬
рии как непредвиденного стечения обстоятельств совпала
с ростом во Франции философской школы, которая пропове¬
довала, что само существование — я цитирую знаменитое
1 «История упадка и разрушения Римской империи», гл. XXXVIII.
Интересно отметить, что греки, после того как их завоевали римляне, так¬
же утешались игрой в то, «как могло бы быть» — любимое утешение по¬
бежденных: если бы Александр Великий не умер молодым, говорили они
себе, он завоевал бы Запад, и Рим был бы подчинен греческим королям»
(К. von Fritz. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. N. Y.,
1954, p. 395).
2 Обе статьи перепечатаны в: / В. Bury. Selected Essays, 1930.
Комментарии Коллингвуда по поводу взглядов Бэри см.: “The Idea of
History”, p. 148—150.
3 Этот абзац см. выше, с. 43. Цитирование Тойнби высказывания Фи¬
шера (“A Study of History”, V, р. 414) обнаруживает полное непонима¬
ние: он считает его продуктом «современной западной веры во всемогу¬
щество случая», которая «породила» лэссафферизм. Теоретики лэссаффе-
ризма верили не в случай, но в скрытую руку, которая вводила благо¬
деятельную систему в разнообразие деятельности человека; и замечание
Фишера — не продукт лэссафферистского либерализма, но его краха в
20-е и 30-е годы XX века.
86
«Бытие или ничто» Сартра — «не имело ни причины, ни ос¬
нования, ни необходимости». В Германии ветеран историче¬
ской науки Мейнеке, как мы уже отмечали, к концу своей
жизни находился под впечатлением роли случая в истории.
Он упрекал Ранке за то, что он не уделял этому достаточно¬
го внимания. И после второй мировой войны он отнес на¬
циональные бедствия последних 40 лет на счет серии слу¬
чайностей, тщеславия кайзера, избрания Гинденбурга пре¬
зидентом Веймарской республики, одержимости Гитлера и
так далее. Так произошел крах великого историка под воз¬
действием бедствий его страны1 В отдельном государстве
или в группе стран, переживающих спад, а не находящихся
на гребне исторических событий, окажутся превалирующи¬
ми теории, которые подчеркивают роль случая в истории.
Убеждение, что результаты экзаменов — лотерея, всегда
будет популярным среди троечников.
Но установить источники верования — не означает от¬
делаться от него, и нам все еще приходится точно выяснять,
что делает нос Клеопатры на страницах исторических работ.
Монтескье был, видимо, первым, кто пытался защитить за¬
коны истории против этого вторжения. «Коли в результате
конкретной причины, например случайного исхода битвы,
уничтожено государство, — писал он в своей работе о вели¬
чии и упадке римлян, — то есть и общая причина, которая
сделала возможным уничтожение государства и результате
одной-единственной битвы». У марксистов также есть неко¬
торые затруднения в этом вопросе. Маркс писал об этом
только однажды и только в письме: «...История носила бы
очень мистический характер, если бы «случайности» не иг¬
рали никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и са
ми составной частью в общий ход развития, уравновешива¬
ясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в
сильной степени зависят от этих «случайностей», среди ко¬
торых фигурирует также и такой «случай», как характер
людей, стоящих вначале во главе движения»2 3 * *. Маркс, таким
образом, оправдывал значение случая в истории «по трем
направлениям». Во-первых, он был не очень важным:
он мог «ускорить» или «задержать», по не мог, как подра¬
зумевалось, радикально изменить ход событий. Во-вторых,
один случай компенсировался другим, так что в конце кон¬
цов они аннулировали друг друга. В-третьих, случаи осо¬
бенно проявлялись в характере индивидуумов6 Троцкий
1 Уместные абзацы процитированы В. Старком в его введении к кни¬
ге Ф. Мейнеке «Макиавеллизм», с. 35—36.
2 К. Маркс а Ф. Энгельс. Сом. т. 33, с. 175.
3 Толстой в I части эпилога «Войны и мира» приравнял «случай» и
«гений» как термины, выражающие неспособность человека понять основ¬
ные причины.
87
усилил теорию компенсирующих и аннулирующих друг дру¬
га случайностей остроумной аналогией: «Весь исторический
процесс — преломление исторического закона через слу¬
чайный. Говоря языком биологии, мы могли бы сказать, что
исторический закон реализуется через естественный отбор
случайностей»1. Признаюсь, что нахожу эту теорию неудов¬
летворительной и неубедительной. Роль случайности в ис¬
тории сегодня сильно преувеличена теми, кто заинтересован
в том, чтобы подчеркнуть ее значение. Но она существует,
и сказать, что она только ускоряет или задерживает, но не
изменяет, означает жонглировать словами. Я не вижу так¬
же никаких оснований полагать, что случайное событие —
скажем, преждевременная смерть Ленина в возрасте
54 лет — было автоматически компенсировано какой-либо
другой случайностью таким образом, чтобы восстановить
баланс исторического процесса.
В равной степени неадекватна точка зрения, что случай¬
ность в истории — всего лишь мера нашего невежества —
просто название того, чего мы не можем понять2. Несом¬
ненно, так иногда и случается. Планеты получили свое на¬
звание, при этом, конечно же, подразумевалось, что они
«блуждающие», поскольку считалось, что их движение по
небу спонтанно, и регулярность их движения не была по¬
нята. Описать что-либо как несчастный случай — излюб¬
ленный способ освободиться от утомительной обязанности
исследовать причину. Когда кто-либо говорит мне, что исто¬
рия — цепь непредвиденных стечений обстоятельств, я скло¬
нен подозревать его в интеллектуальной лености или в низ¬
кой интеллектуальной способности.
Серьезные историки обычно указывают, что то, что рань¬
ше считалось случайным, было вовсе не случайным; оно мо¬
жет быть рационально объяснено и включено, как сущест¬
венное, в более широкую модель событий. Но это также не
дает исчерпывающего ответа на наш вопрос. Случайность—
не просто то, что мы не можем понять. Решение проблемы
случайности в истории должно, как я полагаю, быть найдено
в совершенно ином порядке идей.
Мы уже уяснили, что история начинается с отбора и рас¬
положения историком фактов, с тем чтобы они стали исто¬
рическими фактами. Но не все факты являются историчес¬
кими. Различие между историческими и неисторическими
фактами не является жестким и постоянным. Любой факт
может быть, так сказать, возведен в статус исторического
1 L. Trotsky. Му Life, 1930, р. 422.
2 Толстой разделял этот взгляд: «Мы вынуждены обращаться к фор¬
мализму как к объяснению иррациональных событий, так сказать, собы¬
тий, рациональность которых мы не понимаем. («Война и мир», гл. 1, 9,
см. также сноску 3 на предыдущей странице.)
88
факта, если он признан уместным и значимым. Теперь мы
видим, в чем-то сходный процесс происходит и в отношении
подхода историка к причинам. Отношение историка к при¬
чинам носит такой же дуалистический и взаимный харак¬
тер, как и отношение историка к фактам. Причины определяют
его интерпретацию исторического процесса, и его интерпре¬
тация определяет подбор и порядок расстановки причин.
Иерархия причин, относительная важность одной причины
или группы причин по отношению к другой, суть его ин¬
терпретации. И это дает ключ к пониманию проблемы слу¬
чайности в истории. Форма носа Клеопатры, приступ по¬
дагры Баязета, укус обезьяны, убивший короля Александра,
смерть Ленина — это были случайности, которые изменили
ход истории. Бесполезно пытаться отделаться от них или
считать, что тем или иным образом они не имели последст¬
вий. Вместе с тем в той степени, в какой они были случай¬
ными, они не входят в какую-либо рациональную интерпре¬
тацию истории или в иерархию значительных причин исто¬
рика. Профессора Поппер и Берлин — я снова ссылаюсь на
них как на наиболее выдающихся и широко читаемых пред¬
ставителей этой школы — исходят из того, что попытка ис¬
торика найти значение в историческом процессе и сделать
из него выводы равноценна попытке свести «весь опыт» к
симметричному порядку и что наличие случайности в исто¬
рии обрекает любую подобную попытку на провал. Но ни
один нормальный историк не претендует на столь фантасти¬
ческое, как охват «всего опыта». Он не может охватить
больше, чем мгновенное состояние фактов даже в избран¬
ной им области или аспекте истории. Мир историка, так же
как и мир естествоиспытателя, не фотография реального ми¬
ра, но скорее работающая модель, позволяющая ему более
или менее эффективно понимать этот мир и овладевать им.
Историк выделяет из опыта прошлого или из большей ча¬
сти опыта прошлого, доступной ему, ту часть, которую он
признает поддающейся рациональному объяснению и интер¬
претации и из которой он делает заключения, могущие слу¬
жить руководством к действию. Современный популярный
автор, говоря о достижениях науки, подчеркнуто ссылается
на процесс мышления человека, который, роясь в корзине
старья наблюдаемых фактов, отбирает, выделяет и выстраи¬
вает наблюдаемые «уместные» факты вместе, отвергая «не¬
уместные», пока не сшивает вместе логическую и рацио¬
нальную ткань «познания» *. С некоторой оговоркой на
чрезмерный субъективизм, я приму это как картину того,
как работает ум историка.
Эта процедура может поставить в тупик и поразить фи- 11 L. Paul. The Annihilation of Man, 1944, p. 147.
89
лософов и даже некоторых историков. Но она вполне зна¬
кома обычным людям, занимающимся практическими жиз¬
ненными делами. Позвольте мне проиллюстрировать. Джонс,
возвращаясь с вечеринки, где он принял большую, чем обыч¬
но, дозу спиртного, на машине, чьи тормоза оказались неис¬
правными, на повороте, где видимость отъявленно плохая,
сбивает насмерть Робинсона, который пересекал дорогу,
чтобы купить сигарет в магазине на углу. После того как
недоразумение выясняется, мы встречаемся, скажем, в ме¬
стном полицейском участке, чтобы выяснить причины про¬
исшествия. Произошло ли оно из-за того, что водитель был
в полупьяном состоянии и в этом случае возникли основа¬
ния для уголовного преследования? Или оно произошло из-
за неисправных тормозов и тогда кое-что можно сказать о
гараже, в котором машина прошла осмотр всего за неделю
до этого? Или это произошло из-за обстановки на данном
повороте, и, следовательно, внимание администрации, наблю¬
давшей за состоянием дорог, может быть обращено на этот
случай? Пока мы обсуждаем эти практические вопросы, два
достойных джентльмена — я не пытаюсь назвать их •—
врываются в комнату и начинают говорить нам многоречи¬
во и убедительно, что, если бы Робинсон не выбежал за си¬
гаретами этим вечером, он не пересекал бы дорогу и не по¬
гиб бы, и то, что Робинсону захотелось закурить, явилось,
таким образом, причиной его смерти. Любое расследова¬
ние, которое проигнорирует это, будет тратой времени, а
любые выводы, сделанные без учета происшедшего, окажут¬
ся бесполезными. Ну, что мы должны делать? Как только
мы сможем прервать поток их красноречия, мы вежливо, но
твердо выставим этих двух визитеров за дверь. Мы дадим
указания привратнику ни под каким видом больше не пу¬
скать их и продолжим наше расследование. Но какой ответ
есть у нас для тех, кто нас прервал? Конечно, Робинсон по¬
гиб, потому что был курильщиком. Все, что говорят привер¬
женцы случая и непредвиденных обстоятельств в истории,
совершенно верно и совершенно логично. Это именно та
безжалостная логика, которую мы находим в книгах «Али¬
са в стране чудес» и «Через увеличительное стекло». Но по¬
ка я не уступаю никому в моем восхищении этими выдаю¬
щимися примерами оксфордской эрудиции, я предпочитаю
держать различные виды логики в разных досье. Доджосо-
нианский метод — не метод истории.
История, таким образом, — процесс отбора в терминах
исторической важности. Если снова обратиться к фразе
Толкотта Парсонса, история — «избирательная система»
не только познавательных, но и причинных ориентаций в
действительности. Из безграничного океана фактов историк
отбирает те, которые важны для его цели. И таким же об¬
90
разом из множества последовательностей причины и след¬
ствия он берет те, и только те, которые имеют историческое
значение. Критерий исторического значения — его способ¬
ность поместить их в свою хМодель рационального объясне¬
ния и интерпретации. Другие последовательности причины и
следствия приходится отвергать как случайные не потому,
что отношения причины и следствия носят иной характер,
но потому, что сама последовательность не имеет значе¬
ния. Историк ничего не может с этим сделать, это не под¬
дается рациональной интерпретации и не имеет значения ни
лля прошлого, ни для настоящего. Верно, что нос Клеопат¬
ры, или подагра Баязета, или укус обезьяной Александра,
пли смерть Ленина, или курение Робинсона имели резуль¬
таты. Но не имеет смысла в качестве общего предположе¬
ния говорить, что полководцы проигрывают битвы, потому
что влюбляются в прекрасных королев, или войны происхо¬
дят потому, что короли держат ручных обезьян, или что лю¬
ди выбегают на дорогу и гибнут, потому что они курят?
Вместе с тем, если вы скажете обычному человеку, что Ро¬
бинсон погиб, потому что водитель был пьян и потому что
тормоза не работали или потому что поворот не просматри¬
вался па дороге, это покажется ему совершенно осмыслен¬
ным и рациональным объяснением. Если он предпочтет вы¬
бирать среди причин, то он, возможно, даже скажет, что
именно это, а не то, что Робинсон хотел сигарет, и было ис¬
тинной причиной его смерти. Точно также, если вы скажете
изучающему историю, что борьба в Советском Союзе в
20-е годы происходила из-за споров о темпах индустриали¬
зации или о лучших путях побуждения крестьян выращивать
зерно, с тем чтобы кормить города, или даже из-за личных
амбиций соперничающих вождей, он сочтет, что это — ра¬
циональные и исторически важные объяснения, поскольку
они могут быть приложены также и к другим историческим
ситуациям. Они были подлинными причинами происходив¬
шего в том смысле, что случайность преждевременной смер¬
ти Ленина таковой не была. Изучающему историю, если он
склонен к размышлениям, можно даже напомнить часто
цитируемое и часто неправильно понимаемое изречение Ге¬
геля из введения к «Философии права»: «Все разумное дей¬
ствительно и все действительное разумно».
Давайте на минуту вернемся к причинам смерти Робин¬
сона. Мы без труда распознали, что некоторые из причин
бывают рациональными и «действительными», а другие —
иррациональными и случайными. На основании какого кри¬
терия мы провели это различие? Способность рассуждать
сбычно используется для какой-то цели. Интеллектуалы мо¬
гут иногда рассуждать, или думают, что они рассуждают,
для собственного удовольствия. Но по большому счету лю¬
91
ди рассуждают с целью. И когда мы признали одни объяс¬
нения рациональными, а другие — не рациональными, мы,
как я полагаю, провели различия между объяснениями, ко¬
торые служили какой-то цели, и объяснениями, которые ей
не служили. В рассматриваемом случае есть смысл предпо¬
ложить, что ограничение потребления алкоголя водителями
или более строгий контроль за состоянием тормозов машин,
или улучшение в устройстве дорог могут служить цели со¬
кращения числа несчастных случаев. Но совсем нет смысла
предполагать, что число несчастных случаев можно сокра¬
тить, не давая людям курить сигареты. Таков был критерий,
в соответствии с которым мы провели наше различие. То же
самое относится к нашему подходу к причинам в истории.
Здесь мы также проводим различие между рациональными
и случайными причинами. Первые, в силу того что они по¬
тенциально применимы к другим странам, другим эпохам,
другим условиям, ведут к плодотворным обобщениям, и из
них можно извлечь уроки; они служат цели расширения и
углубления нашего понимания1. Случайные причины нельзя
обобщить; и так как они в полном смысле слова уникальны,
из них нельзя извлечь уроков и они не ведут к умозаклю¬
чениям. Но здесь я должен сделать другую оговорку. Имен¬
но то, что мы усматриваем цель, дает ключ к нашему раз¬
бору причинности в истории; а это по необходимости влечет
за собой оценки ценностей. Интерпретация в истории, как
мы уже убедились, всегда связана с оценками ценностей, а
причинность связана с интерпретацией. Говоря словами
Мейнеке, великого Мейнеке, Мейнеке 20-х годов, поиск
«причин в истории невозможен без ссылки па ценности...
За поиском причин всегда прямо или косвенно следует по¬
иск ценностей»2. И это возвращает к тому, что я говорил
раньше, о двойственной и взаимосвязанной функции исто¬
рии способствовать нашему пониманию прошлого в свете
настоящего и настоящего в свете прошлого. Все, что подоб¬
но страсти Антония к носу Клеопатры, не может способство¬
вать этой двойной цели и является, с точки зрения истори¬
ка, мертвым и бесплодным.
В этой связи мне пора признаться в том, что я пришел к
1 Для профессора Поппера это стало камнем преткновения; он не
понял этого. Признав «множество интерпретаций, которые фундаменталь¬
но находятся на одном и том же уровне предположительности и произ¬
вольного отбора (чего бы эти слова в точности ни означали), он добав¬
ляет в скобках, что «некоторые из них могут быть определены по их пло¬
дотворности — по их значению» (“The Poverty of Historicism”, p. 151).
Это не просто пункт, имеющий некоторое значение. Это именно тот пункт,
который доказывав что «историцизм» (в некоторых значениях этого
термина), в конце концов, вовсе не так плох.
2 “Kausalitaten und Werte in der Geschichte”, 1928. — In; F Stern.
Varieties of History, 1957, p. 268, 273.
92
довольно избитой уловке. Но так как вам будет нетрудно
распознать ее и так как в нескольких случаях она позволи¬
ла мне сократить и упростить то, что я хотел сказать, вы,
вероятно, будете достаточно снисходительны, чтобы рас¬
сматривать ее как уместное сокращение. До сих пор я по¬
следовательно употреблял обычные выражения — прош¬
лое и настоящее. Но, как мы все знаем, настоящее — не
более чем условное существование, воображаемая линия
раздела между прошлым и будущим. Говоря о настоящем,
я уже один раз включил в спор другое временное измере¬
ние. Я думаю, что было бы легко показать, что так как
прошлое и будущее — части одного и того же временного
промежутка, интерес в прошлом и интерес в будущем
взаимосвязаны. Демаркационная линия между предыстори-
ческим и историческим временем пересекается, когда люди
перестают жить в настоящем и начинают осознанно инте¬
ресоваться как своим прошлым, так и будущим. История
начинается с передачи традиции, а традиция означает пере¬
несение привычек и уроков прошлого в будущее. Записи о
прошлом сохраняют для блага грядущих поколений. «Исто¬
рическое мышление, — пишет голландский историк Хейзин¬
га, — всегда телеологическое»1 Сэр Чарлз Сноу недавно
написал о Резерфорде, что, «как все ученые... почти не заду¬
мываясь об этом, он носил будущее в самом себе». Я пола¬
гаю, что хорошие историки, думают они об этом или пет,
носят будущее в себе2.
Кроме вопроса «Почему?», историк также задает вопрос
«Куда?».
J Huizinga. — In: F Stern (ed.). Varieties of History; 1957, p. 293.
2 John Raymond (ed.). The Baldwin Age, 1960, p. 246.
ИСТОРИЯ КАК ПРОГРЕСС
Позвольте начать с цитаты из инаугурационной лекции
профессора Паувика при получении звания королевского
профессора Новой истории в Оксфорде 30 лет назад: «Жаж¬
да интерпретации в истории имеет такие глубокие корни,
что, если у нас нет конструктивного взгляда на прошлое, мы
впадаем либо в мистицизм, либо в цинизм»1. «Мистицизм»,
я думаю, будет соответствовать точке зрения, сводящейся к
тому, что значение истории лежит где-то вне ее, в области
теологии или эсхатологии. Именно такую точку зрения раз¬
деляют Бердяев, Нибур или Тойнби2. «Цинизм» соответст¬
вует точке зрения, в отношении которой я несколько раз
приводил цитаты, показывающие, что история не имеет зна¬
чения, или имеет множество в равной степени обоснованных
и необоснованных значений, или такое значение, которое
мы произвольно ей придаем. Вероятно, сегодня это два наи¬
более популярных взгляда на историю. Но я без колебаний
оба их отвергаю. Это оставляет нас со странной, но много¬
обещающей фразой — «конструктивный взгляд на прошлое».
Не имея возможности узнать, что имел в виду профессор
Паувик, когда употребил эту фразу, я попытаюсь предло¬
жить собственную интерпретацию ее.
Как и древние цивилизации Азии, классическая цивили¬
зация Греции и Рима была в основном неисторической. Ге¬
родот, как отец истории, имел немногих «дегей», и авторы
классической античности в целом так же мало заботились о
будущем, как и о прошлом. Фукидид полагал, что до тех
времен, которые он описывал, ничего важного не произо¬
шло и ничего значительного не должно было произойти по¬
сле этого. Лукреций выводил безразличие человека к буду¬
щему из его безразличия к прошлому. «Посмотрите, на¬
сколько эти прошлые эпохи вечного времени до нашего рож¬
дения не заботят нас. Это — зеркало, которое природа дер¬
жит перед нами, показывая грядущее после нашей смер¬
ти»3 Поэтическое представление о светлом будущем прини¬
1 F Powicke. Modern Historians and the Study of History, 1955,
p. 174.
2 «История переходит в теологию», как с триумфом утверждал Тойн¬
би (“Civilization on Trial”, 1948, preface).
3 “De Rerum Natura”, iii, II, 992—995.
94
мает форму рассмотрения возврата к прошлому золотому
веку — циклический взгляд, который подчинил историчес¬
кий процесс природному процессу. История никуда не дви¬
галась, так как не было смысла в прошлом, в равной сте¬
пени не было смысла и в будущем. Только Вергилий в сво¬
ей четвертой эклоге, давшей классическую картину возвра¬
та к золотому веку, на мгновение сумел в «Энеиде» выр¬
ваться за пределы циклической концепции: Imperium Sine
fine dedi. Это была наиболее неклассическая мысль, кото¬
рая позже дала Вергилию признание как квазихристиан-
скому пророку.
Именно иудеи, а вслед за ними и христиане, ввели со¬
вершенно новый элемент, утверждая цель, к которой дви¬
жется исторический процесс, — теологический взгляд на ис¬
торию. История, таким образом, приобрела значение и цель,
но ценой утраты своего светского характера. Достижение
цели истории автоматически означало бы конец истории:
сама история становится теологией. Таков был средневеко¬
вый взгляд на историю. Эпоха Возрождения восстановила
классическую антропоцентрическую точку зрения на мир и
примат разума, за исключением того, что классический пес¬
симистический взгляд на будущее был заменен оптимисти¬
ческим взглядом, выводившимся из иудаистско-христиан-
ской традиции. Время, которое раньше признавалось враж¬
дебным и разлагающим, теперь стало дружественным и со¬
зидательным. Положение «Damnosa quid non imminuit
dies?» (Чего не умаляет губительное время?), выдвинутое
Горацием, противопоставляется положению «Veritas tempo
ris filia», выдвинутому Бэконом. Рационалисты Просвеще¬
ния, которые были основателями современной историо¬
графии, сохранили иудаистско-христианскую теологическую
точку зрения, но сделали цель светской; таким образом, они
получили возможность восстановить рациональный харак¬
тер исторического процесса как такового. Историю стали
понимать как прогресс с целью совершенства человека на
земле. Величайшему из историков Просвещения, Гиббону,
характер его занятий не помешал прийти к тому, что он на¬
звал «приятным заключением, что каждая мировая эпоха
увеличивала и все еще увеличивает реальное богатство,
счастье, знания и, возможно, добродетель человеческой ра¬
сы»1. Культ прогресса достиг наивысшего подъема, когда
1 Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 38.
Возможность этого отступления была связана с падением западной им¬
перии. Критик в «Литературном приложении» к «Таймс» от 18 ноября
1960 г., цитируя этот абзац, спрашивал, имел ли Гиббон в виду именно
это. Конечно, имел. Точка зрения автора скорее отражает период, в кото¬
ром он живет, чем тот, о котором он пишет, — истина, которая хорошо
иллюстрируется этим критиком, стремящимся перенести собственный
скептицизм середины XX века на автора конца XVIII века.
95
процветание, мощь и самоуверенность Великобритании до¬
стигли вершины, причем британские авторы и историки бы¬
ли среди наиболее горячих приверженцев этого культа. Дан¬
ный феномен слишком знаком, для того чтобы он нуждался
в иллюстрации; и мне нужно только процитировать один
или два абзаца, чтобы показать, как совсем недавно вера в
прогресс оставалась постулатом всего нашего мышления.
Эктон в докладе, сделанном в 1896 г. по поводу проекта
«Кембриджской Новой истории», выдержки из которого я
процитировал в первой лекции, указал на историю как на
«прогрессивную науку» и во введении к первому тому этой
истории писал, что «в качестве научной гипотезы, на осно¬
вании которой следует писать исторические работы, мы
склонны принять прогресс в делах человека». В последнем
томе этой истории, вышедшем в 1910 г., Дампир, бывший мо¬
им преподавателем в колледже, когда я был студентом, не
испытывал ни малейшего сомнения в том, что «будущие эпо¬
хи не увидят предела росту власти человека над ресурсами
природы и их разумному использованию для процветания
человечества»1. Ввиду того что я собираюсь сказать, стоит
отметить, что такова была атмосфера, в которой я получал
образование. Я мог бы безоговорочно подписаться под сло¬
вами Бертрана Рассела, который старше меня на полвека.
Он сказал: «Я вырос в период расцвета викторианского оп¬
тимизма, и., я сохранил кое-что от тогдашних надежд»2.
В 20-х годах, когда Бэри написал свою книгу «Идея про¬
гресса», наступили более мрачные времена, вину за кото¬
рые он возложил, следуя тогдашней моде, на «доктринеров»,
установивших нынешний режим террора в России, хотя он
все еще изображал прогресс как «вдохновляющую и на¬
правляющую идею западной цивилизации»3. О последнем
стали помалкивать. Говорят, что Николай I издал в России
указ, запрещающий слово «прогресс». Сегодня философы и
историки Западной Европы и даже США запоздало пришли
к согласию с ним. Идея прогресса была отвергнута. Упадок
Запада стал настолько привычной фразой, что цитат боль¬
ше не требовалось. Но что, помимо всех этих воплей, дейст¬
вительно произошло? Кем формировалось это новое тече¬
ние общественной мысли? Недавно я был поражен, натолк¬
нувшись на единственное, очевидно, замечание Бертрана
Рассела, виденное мною, в котором проявлялось ощущение
своего класса: «В целом в мире сейчас гораздо меньше сво¬
боды, чем сто лет назад»4. У меня нет аршина для свободы,
1 “Cambridge Modern History: Its Origin, Authorship, and Production”,
1907, p. 13; “Cambridge Modern History”, I, 1902, p. 4; XII, 1910, p. 791.
2 B. Russell. Portraits From Memory, 1956, p. 17.
3 J. B. Bury. The Idea of Progress, 1920, p. VII—VIII.
4 B. Russell. Portraits From Memory, 1956, p. 124.
96
и я не знаю, как соотнести меньшую свободу для немногих
с большей свободой для многих. Но, с точки зрения любой
системы измерения, я могу рассматривать данное утвержде¬
ние как фантастически неверное. Меня больше привлекает
одно из тех пленительных замечаний, которым А. Д. Тейлор
иногда вводит нас в академическую жизнь Оксфорда. Весь
этот разговор об упадке цивилизации, пишет он, означает
только то, что университетские профессора раньше имели
домашнюю прислугу, а теперь сами делают ее работу1.
Несомненно, что для бывшей прислуги мытье посуды
профессорами может быть символом прогресса. Утрата пре¬
обладания белых в Африке, которая беспокоит имперских
лоялистов, буров и тех, кто вложил средства в акции золо¬
тых и медных рудников, может выглядеть как прогресс. Я
не вижу, почему по этому вопросу о прогрессе я должен
предпочесть мнение 50-х годов XX века мнению 90-х годов
XIX века, мнение англоговорящего мира мнению России,
Азии и Африки или мнение интеллектуала среднего класса
мнению простого человека, который, согласно Макмиллану,
никогда так хорошо не жил. Давайте на минуту отложим
суждение по вопросу, живем ли мы в период прогресса или
упадка, и рассмотрим несколько более внимательно, что за¬
ключается в концепции прогресса; на каких посылках она
основывается или насколько эти посылки пригодны.
Во-первых, я хотел бы прояснить путаницу между про¬
грессом и эволюцией. Мыслители Просвещения разделяли
две явно несопоставимые точки зрения. Они стремились ут¬
вердить положение человека в мире природы: законы исто¬
рии отождествлялись с законами природы. С другой сторо¬
ны, они верили в прогресс. Но какие основания были, для
того чтобы рассматривать природу как прогрессивную, по¬
стоянно стремящуюся к цели? Гегель разрешил эту труд¬
ность тем, что резко отделил историю, которая была про¬
грессивной, от природы, которая таковой не являлась. Дар¬
винистская революция, по-видимому, устранила все затруд¬
нения, поставив знак равенства между эволюцией и про¬
грессом: природа, как и история, в конечном счете оказалась
прогрессивной. Но это открыло путь к более серьезному за¬
блуждению, перепутав биологическую наследственность, ко¬
торая была источником эволюции, с процессом социального
приобретения, который был источником прогресса в истории.
Различие привычно и очевидно. Поместите европейского
младенца в китайскую семью, и ребенок вырастет белым, но
будет говорить по-китайски. Цвет кожи — биологическая
наследственность, язык — социальное приобретение, переда¬
ваемое посредством человеческого мышления. Эволюцию пу¬
1 “The Observer”, 21 June, 1959.
97
тем наследственности приходится измерять тысячелетиями
или миллионами лет, с начала письменной истории с чело¬
веком не произошло каких-либо заметных биологических из¬
менений. Прогресс путем приобретения измеряется поколе¬
ниями. Суть человека как разумного существа в том, что он
развивает свои потенциальные возможности путем накопле¬
ния опыта прошлых поколений. Говорят, что современный
человек не обладает ни большим мозгом, ни большей внут¬
ренней способностью мышления, чем его предок 5 тысяч лет
назад. Но эффективность его мышления была многократно
умножена образованием, усвоением опыта поколений за эти
тысячи лет Передача приобретенных признаков, отвергаемая
биологами, — основа социального прогресса. История — это
прогресс путем передачи приобретенных навыков от одного
поколения к другому.
Во-вторых, нам не следует, и мы не будем представлять
себе прогресс как имеющий окончательные начало и конец.
Популярная менее 50 лет назад вера в то, что цивилиза¬
ция была основана в долине Нила в 4-м тысячелетии до н. э.,
ныне заслуживает не большего доверия, чем хронология, от¬
носившая основание мира к 4004 г. до н. э. Цивилизация,
рождение которой мы, вероятно, можем взять в качестве от¬
правной точки нашей гипотезы прогресса, была, конечно же,
не изобретением, а бесконечно медленным процессом разви¬
тия, в котором, вероятно, время от времени происходили
эффективные скачки. Нам не нужно беспокоить себя вопро¬
сом, когда начались прогресс или цивилизация. Гипотеза ко¬
нечного предела прогресса привела к более серьезному не¬
пониманию Гегеля справедливо упрекали за то, что он ви¬
дел вершину прогресса в прусской монархии — явный ре¬
зультат слишком натянутой интерпретации его взгляда о не¬
возможности предвидения. Но ошибку Гегеля увенчал вы¬
дающийся викторианский историк Арнольд Рэгби, который
в лекции при вступлении в чолжнооть королевского профес¬
сора Новой истории в 1841 г. думал, что тогдашняя совре¬
менная история будет последней стадией в истории человече¬
ства. «На ней, по-видимому, лежит печать завершения всего
и вся, как будто дальше не будет истории»1. Предсказание
Маркса о том, что пролетарская революция реализует конеч¬
ную цель бесклассового общества, была логически и мораль¬
но менее уязвимой. Но утверждение, что история имеет ко¬
нец, означало эсхатологически заколдованный круг, более
подобавший теологу, чем историку, и возвращавший заблуж¬
дение о цели вне истории. Несомненно, что конечный предел
привлекателен для ума человека, и видение Эктоном хода
1 Т Arnold. An Inaugural Lecture on the Study of Modern History,
1841, p. 38.
98
истории как бесконечного прогресса к свободе представля¬
ется более сухим и неопределенным. Но если историк дол¬
жен спасти свою идею прогресса, я думаю, он должен быть
готов рссматривать ее как процесс, в котором требования
и условия последующих периодов наложат свое специфиче¬
ское содержание. Это именно то, что подразумевается в те¬
зисе Эктона: история — не только запись прогресса, но
«прогрессивная наука», или, если вам угодно, история в обе¬
их смыслах слова — как ход событий и как запись этих со¬
бытий — прогрессивна. Давайте вспомним, как Эктон гово¬
рил о наступательном марше свободы в ходе истории.
«Именно совместными усилиями слабых, не имевших иного
выбора, как сопротивляться власти силы и постоянным при¬
теснениям, наблюдавшимся в ходе частых изменений, но
медленного прогресса на протяжении последних четырехсот
лет, свобода сохранялась, обеспечивалась, распространялась,
и в конце концов была понята»1. История, как ход собы¬
тий, рассматривалась Эктоном в виде прогресса к свободе.
История, как запись этих событий, рассматривалась в виде
прогресса к пониманию свободы. Две стороны развивались
бок о бок2. Философ Брэдли, писавший в эпоху, когда в мо¬
де были аналогии с эволюцией, заметил, что «для религиоз¬
ной веры конец эволюции представляется как то, что... уже
развилось»3.
Для историка конец прогресса еще не «развит». Он мо¬
жет быть бесконечно отдаленным, и указатели к нему появ¬
ляются в поле зрения только по мере нашего продвижения.
Это не умаляет его значения. Компас для нас — ценный и,
более того, необходимый указатель. Но это не карта ну¬
ги. Содержание истории может быть понято только так,
как мы ее знаем по опыту.
Третий момент моих замечаний связан с тем, что ни один
нормальный человек никогда не верил в прогресс, который
развивался бы по непрерывной прямой линии без движения
вспять, отклонений и разрывов преемственности, сознавая,
что самое решительное движение вспять не обязательно фа¬
тально для этой веры. Ясно, что есть периоды регресса, так
же как и периоды прогресса. Более того, было бы необду¬
манно предполагать, что после отступления продвижение
вперед было бы возобновлено с того же места или в том
же направлении. Четыре или три цивилизации Гегеля или
Маркса, двадцать одна цивилизация Тойнби, теория жизнен¬
ного цикла цивилизаций, проходящих через подъем, закат и
1 Acton. Lectures он Modern History, 1006, р. 51.
2 Манхейм также ассоциирует желание человека придать истории
форму с возможностью понять ее. См.: К. Mannheim. Ideology and Utopia,
Engl, transl., 1936, p. 236.
3 F. H. Bradley. Ethical Studies, 1876, p. 293.
99
падение, — такие схемы не имеют смысла сами по себе. Но
они симптоматичны для очевидного факта, что усилия, не¬
обходимые для того, чтобы двигать цивилизацию вперед,
увядают в одном месте и впоследствии возобновляются в
другом, так что любой прогресс, который мы наблюдаем в
истории, конечно же, не является непрерывным ни во време¬
ни, ни в пространстве. Более того, если бы я увлекался фор¬
мулированием исторических законов, один из них заключал¬
ся бы в том, что группа — назовите ее класс, нация, конти¬
нент, цивилизация, как вам угодно, — которая играла ве¬
дущую роль в прогрессе цивилизации в один период, вряд ли
будет играть сходную роль в следующий период, и в пер¬
вую очередь потому, что она была бы слишком глубоко на¬
сыщена традициями, интересами и идеологией предшествую¬
щего периода, чтобы суметь приспособиться к требованиям
и условиям последующего периода1. Таким образом, вполне
может случиться, что одной группе может показаться перио¬
дом упадка, другой может показаться началом нового дви¬
жения вперед. Прогресс не означает и не может означать
равного и одновременного прогресса для всех. Важно, что
почти все наши теперешние пророки упадка, наши скептики,
которые не видят смысла в истории и утверждают, что про¬
гресс мертв, относятся к той части мира и к тому обществен¬
ному классу, которые триумфально играли ведущую и пре¬
обладающую роль в развитии цивилизации на протяжении
нескольких поколений. Для них не утешение говорить, что
та роль, которую их группа играла в прошлом, теперь перей¬
дет к другим. Ясно, что история, сыгравшая с ними столь
подлую шутку, не может для них быть преисполненной зна¬
чения или разумным процессом. Но если мы собираемся под¬
держать идею прогресса, мы должны, я думаю, принять ус¬
ловие прерванной линии.
Наконец, я подхожу к вопросу о том, в чем же состоит
содержание прогресса в терминах исторического действия.
Люди, которые, скажем, борются за распространение на
всех гражданских прав, за реформу тюремной системы,
или за устранение расового и имущественного неравенства,
сознательно стремятся делать именно это: они не ищут осо¬
знанно «прогресс» с тем, чтобы понять некий исторический
«закон» или «гипотезу» прогресса. Именно историк прилага¬
ет к их действию гипотезу прогресса и интерпретирует их
1 Для анализа подобной ситуации см.: R. Lytid. Knowledge for What?
N. Y., 1939, p. 88. Пожилые люди в культуре часто ориентированы на
прошлое время, когда они были энергичными и сильными и сопротивля¬
ются будущему как угрозе. Вероятно, целая культура (далеко зашедшая
в утрате относительной силы и своем распаде) может в основном ори¬
ентироваться на утраченный золотой век, а в настоящем вести бесцвет¬
ное существование.
100
действия как прогресс. Но это не умаляет ценности концеп¬
ции прогресса. По этому вопросу я рад согласиться с сэром
Исайей Берлином в том, что «прогресс и реакция, как бы
ни злоупотребляли этими словами, — не пустые концепции».
Это предполагает, что человек способен извлечь пользу из
опыта своих предшественников (вне зависимости от того,
извлечет ли он ее действительно) и что прогресс в истории,
в отличие от эволюции в природе, основывается на передаче
приобретенных качеств. Эти качества включают как мате¬
риальные богатства, так и способность овладеть, трансфор¬
мировать и использовать окружающее. Более того, два фак¬
тора тесно взаимосвязаны и действуют друг на друга: Маркс
рассматривает труд человека как фундамент всего здания, и
эта формула представляется приемлемой, если в термин
«труд» вкладывается достаточно широкий смысл. Но просто
аккумуляция ресурсов не дает пользы, пока она не повле¬
чет за собой не только увеличения технических, социальных
знаний, опыта, но и большего овладения человеком окру¬
жающей средой в широком смысле. В настоящее время, я
думаю, немногие люди будут ставить под сомнение факт
прогресса в накоплении как материальных ресурсов, так и
научных знаний, в овладении окружающей средой в техно¬
логическом смысле. Ставится под сомнение, был ли в XX ве¬
ке какой-либо прогресс в упорядочении нашего общества, в
пашем владении социальной окружающей средой, националь¬
ной или международной. Не произошел ли в действительно¬
сти явный регресс? Не отставала ли фатально эволюция че¬
ловека как социального существа от прогресса технологии?
Симптомы, которые побуждают задавать этот вопрос, оче¬
видны. Но тем не менее я думаю, что он задан неправильно.
История знала много поворотных пунктов, когда лидерство
и инициатива переходили от одной группы к другой, от од¬
ной части мира к другой: период становления современного
государства и перемещение центра власти из Средиземно¬
морья в Западную Европу и период Французской революции
были наиболее характерными из примеров современной ис¬
тории. Такие эпохи — всегда периоды насильственных пере¬
воротов и борьбы за власть. Старые власти ослабевают,
прежние ориентиры исчезают; возникает новый порядок из
резкого столкновения амбиций и противоречий. Я хотел бы
предположить, что сейчас мы проходим через такую эпоху.
Мне кажется попросту неверным говорить, что наше пони¬
мание проблем социального устройства или нашей доброй
воли организовать общество в свете этого понимания озна¬
чает движение назад; более того, я бы осмелился сказать,
что они в огромной степени увеличились. Дело не в том, что
наши способности уменьшились или исчезли наши мораль¬
ные качества. Но эта эпоха конфликта и переворота в кото-
101
рую мы живем, наступившая благодаря перемещению балан¬
са сил между континентами, нациями и классами, в ог¬
ромной степени увеличила напряжение этих способностей и
качеств и ограничивает и делает бесполезным их эффектив¬
ность для позитивных достижений. Хотя я не хочу недооце¬
нивать силу вызова вере в прогресс в западном мире на
протяжении последних 50 лет, я все же не убежден, что про¬
гресс в истории пришел к концу. Но если вы будете дальше
расспрашивать меня о сути прогресса, я думаю, что смогу
только повторить что-либо вроде этого. Понятие конечной
и ясно определенной цели прогресса в истории, столь часто
постулировавшееся мыслителями XIX века, оказалось не¬
применимым и бесплодным. Вера в прогресс означает не ве¬
ру в какой-либо автоматический или неизбежный прогресс,
но в прогрессивное развитие человеческих возможностей.
Прогресс — абстрактный термин, и конкретные цели, пресле¬
дуемые человечеством, время от времени возникают из хода
истории, а не из источника вне ее. Я не исповедую веры в
усовершенствование человека или в будущий рай земной.
В этом отношении я согласился бы с теологами и мистика¬
ми, утверждающими, что окончательное совершенствование
в ходе истории недостижимо. Но я удовлетворился бы воз¬
можностью безграничного прогресса или прогресса, не ог¬
раниченного какими-либо рамками, которые мы могли бы
или которые нам следовало бы предусмотреть на пути к це¬
лям; последние могут быть определены только по мере на¬
шего к ним приближения, причем их ценность может быть
проверена только при их достижении. Я также не знаю, как
без каких-то концепций прогресса общество может выжить.
Каждое цивилизованное общество требует жертв от живу¬
щего поколения во имя еще не родившихся поколений. Оп¬
равдывать эти жертвы именем лучшего мира в будущем —
светская концепция оправдания во имя какой-либо божест¬
венной цели. Говоря словами Бэри, «принцип долга перед
потомством — естественное следствие идеи прогресса»1. Воз¬
можно, этот долг не требует оправдания, а если требует,
то я не знаю другого пути оправдать его.
Это приводит меня к знаменитой загадке объективности
в истории. Само по себе слово вводит в заблуждение и вы¬
зывает вопросы. В предыдущей лекции я уже утверждал, что
общественные науки, в том числе и история, не могут при¬
способиться к теории познания, ставящей субъект и объект
порознь и проводящей жесткое разграничение между наблю¬
дателем и наблюдаемым явлением. Нам нужна новая мо¬
дель, которая будет учитывать сложный процесс их взаимо¬
отношений и взаимодействия. Исторические факты не могут
/. В. Bury. The Idea of Progress, 1920, p. IX.
102
i
быть чисто объективными, так как они становятся истори¬
ческими фактами в силу того значения, которое им придает
историк. Объективность в истории — если мы будем по-преж¬
нему использовать обычный термин — не может быть объек¬
тивным фактом. Она может проявляться только в отноше¬
нии, — отношении между фактом и интерпретацией, между
прошлым, настоящим и будущим. Мне не нужно возвра¬
щаться к причинам, которые привели меня к тому, чтобы
отвергнуть как неисторическую попытку судить об истори¬
ческих событиях с помощью создания абсолютного критерия
ценностей вне истории и вне зависимости от нее. Но кон¬
цепция абсолютной истины так же несвойственна миру ис¬
тории или, я полагаю, миру науки. Только простейшее ис¬
торическое утверждение может быть оценено как абсолют¬
но истинное или абсолютно ложное. При более глубоком
изучении историк, который, скажем, оспаривает мнение од¬
ного из своих предшественников, обычно осудит его не как
абсолютно ложное, но как неадекватное, или односторон¬
нее, или вводящее в заблуждение, как продукт точки зрения,
которая стала устаревшей или неуместной в свете после¬
дующих данных. Говорить, что русская революция произо¬
шла из-за тупости Николая II или благодаря гениальности
Ленина, в равной степени неадекватно. Это может ввести
в заблуждение. Но эти утверждения не могут быть назва¬
ны совершенно ложными. Историк нс имеет дела с абсолю¬
тами подобного рода.
Давайте вернемся к прискорбному случаю смерти Робин¬
сона. Объективность нашего расследования этого события
зависит не от истинности фактов — они были бесспорны, но
от проведения различия между настоящими или существен¬
ными фактами, которые должны привлекать наше внима¬
ние, и случайными фактами, которые мы могли позво¬
лить себе проигнорировать. Нам оказалось легче провести
это различие потому, что наш критерий или оценка значи¬
мости были ясны и прямо связаны с преследовавшейся
целью: сокращением смертей на дорогах. Но историк — ме¬
нее счастливый человек, чем следователь, имеющий перед
собой простую и ясную конечную цель сокращения числа
жертв дорожных происшествий. Историк в своей задаче ин¬
терпретации также нуждается в шкале оценок, которая од¬
новременно является его критерием для проведения разли¬
чия между существенным и случайным. И он может устано¬
вить эту шкалу только в связи с поставленной перед собой
задачей. Но это по необходимости эволюционирующая цель,
так как эволюционирующая интерпретация прошлого — не¬
обходимая функция истории. Традиционное допущение, что
перемена всегда должна объясняться в терминах чего-то ус¬
тановленного и неизменного, противоречит опыту историка.
103
«Для историка, — говорит профессор Баттерфилд, возмож¬
но, косвенно резервируя для себя область, куда историку не
нужно за ним следовать, — единственным абсолютом яв¬
ляется изменение»1. Абсолют в истории — это не нечто в
прошлом, откуда мы начинаем. Это не что-то в настоящем,
так как все мышление настоящего по необходимости отно¬
сительно. Есть что-то незавершенное в процессе становле¬
ния — что-то в будущем, к которому мы движемся, начи¬
нает приобретать форму по мере того, как мы движемся в
его направлении, и в свете этого, по мере нашего продвиже¬
ния вперед, мы постепенно вырабатываем нашу интерпре¬
тацию прошлого. Такова светская истина за религиозным
мифом о том, что значение истории будет раскрыто только
в Судный день. Наш критерий не есть нечто абсолютное в
статическом смысле, нечто одинаковое вчера, сегодня и во
веки веков: подобный абсолют несовместим с сутью истории.
Но это — абсолют в отношении нашей интерпретации прош¬
лого. Он отвергает релятивистскую точку зрения, что одна
интерпретация так же хороша, как и другая, или что каж¬
дая интерпретация — истина в своем собственном времени
и месте, и она обеспечивает пробный камень, с помощью ко¬
торого в конечном счете будет оцениваться наша интерпре¬
тация прошлого. Это именно тот смысл направления в исто¬
рии, который только один позволяет нам располагать в по¬
рядке и интерпретировать события прошлого — задача исто¬
рика, — и освобождать, и организовывать возможности че¬
ловека в настоящем с видом на будущее — задача государ¬
ственного деятеля, экономиста и социального реформатора.
Но сам по себе процесс остается прогрессивным и динамич¬
ным. Наше чувство направления и наша интерпретация прош¬
лого подвергаются постоянной модификации по мере нашего
продвижения.
Гегель обрядил свой абсолют в мистические одежды ми¬
рового духа и сделал кардинальную ошибку, когда привел
ход истории к концу в настоящем, вместо того чтобы про¬
должить его в будущем. Он признал процесс постоянной
эволюции в прошлом и необоснованно отрицал его в буду¬
щем. Те, кто после Гегеля отражал сущность истории бо¬
лее глубоко, видели ее в синтезе прошлого и будущего.
Токвиль, который не полностью освободился от теологиче¬
1 Н. Butterfield. The Whig Interpretation of History, 1931, p. 58.
Сравните с более точным заявлением в: A. von Marfin. The Sociology
of the Renaissance, Engl, transl., 1945, p. 1. «Инерция и движение, ста¬
тичное и динамичное — фундаментальные категории, с которых начина¬
ется социологический подход к истории... История знает инерцию только
в относительном смысле: решающее значение имеет вопрос о том, что
преобладает — инерция или изменение. Изменение — позитивно и абсо¬
лютно, инерция — субъективный и относительный элемент истории».
104
ского языка своего времени и очень сузил содержание своего
абсолюта, тем не менее понимал, в чем суть дела.
Говоря о развитии равенства как о всеобщем и постоянном
феномене, он отмечал: «Если люди нашего времени могли бы
видеть медленное и прогрессивное развитие равенства одновре¬
менно в прошлом и в будущем своей истории, то одно только
это открытие придало бы этому развитию священный харак¬
тер воли их Господа и Творца»1. Важная глава истории мог¬
ла бы быть написана по этой все еще незавершенной теме.
Маркс, разделявший некоторые из опасений Гегеля по пово¬
ду заглядывания в будущее и в основном заботившийся о
том, чтобы прочно обосновать свое учение в прошлой исто¬
рии, был вынужден в связи с характером своих задач спрое¬
цировать в будущее свой абсолют бесклассового общества.
Бэри охарактеризовал идею прогресса несколько неловко,
но явно с тем же намерением, как «теорию, включающую
синтез прошлого и пророчество будущего»2. Историки, гово¬
рит Нэмир в нарочито парадоксальной фразе, которую он
иллюстрирует своим обычным богатством примеров, «вооб¬
ражают прошлое и помнят будущее»3. Только будущее мо¬
жет дать ключ к интерпретации прошлого, и только в этом
смысле мы можем говорить о конечной объективности в ис¬
тории. Это одновременно и суждение, и объяснение истории:
прошлое бросает свет на будущее, и будущее бросает свет
на прошлое.
Что же в таком случае мы имеем в виду, когда хвалим
историка за объективность или когда говорим, что один ис¬
торик более объективный, чем другой? Не за то, конечно,
что он правильно использует факты, но, скорее, за то, что
он выбирает правильные факты или, другими словами, при¬
меняет верный критерий значимости. Когда мы называем
историка объективным, я думаю, мы имеем в виду две ве¬
щи. Во-первых, мы полагаем, что он обладает способностью
подняться выше ограниченного взгляда своего поколения на
общество и историю, — качество, которое, как я подчерки¬
вал ранее, частично зависит от его способности признать, в
какой мере он зависит от конкретных обстоятельств, то есть
признать невозможность полной объективности.
Во-вторых, мы подразумеваем, что он может спроециро¬
вать свое видение в будущее таким образом, что это даст
ему более глубокое и более длительное проникновение в
прошлое, чем у тех историков, взгляд которых полностью
связан с их сиюминутным положением. Ни один историк в
наши дни не будет вторить заявлениям Эктона о «возмож¬
1 De Tocqueville. Предисловие к работе “Democracy in America”
2 /. В. Bury. The Idea of Progress, 1920, p. 5.
3 L. B. Namier. Conflicts, 1942, p. 70.
105
ности написания окончательной истории». Но некоторые ис¬
торики пишут исторические работы, которые являются более
долговременными и в большей степени имеют окончательный
и объективный характер, чем другие. Это историки, у кото¬
рых есть то, что я могу назвать долговременным видением
прошлого и будущего. Историк прошлого может подойти к
объективности только по мере того, как он подходит к по¬
ниманию будущего.
Таким образом, я ранее говорил об истории как о диало¬
ге между прошлым и настоящим, но я должен был бы ско¬
рее назвать его диалогом между событиями прошлого и не¬
уклонно появляющимися будущими целями. Интерпретация
историком прошлого, отбор им значительных и относящих¬
ся к делу материалов развиваются с появлением новых це¬
лей. Простейший пример: пока главной целью оказывается
установление конституционных свобод и политических прав,
историк интерпретирует прошлое в конституционных и по¬
литических терминах. Когда экономические и социальные
цели начинают вытеснять конституционные и политические
цели, историк обращается к экономическим и социальным
интерпретациям прошлого. В ходе этого процесса скептик
может правдоподобно утверждать, что новая интерпретация
не более верна, чем прошлая, каждая соответствует своей
эпохе. Тем не менее, поскольку изучение экономических и со¬
циальных целей представляет собой более широкую и совер¬
шенную стадию в развитии человечества, нежели интерес
преимущественно к политическим и социальным проблемам,
можно утверждать, что экономическая и социальная интер¬
претация истории представляет собой более передовой этап
в истории, нежели исключительно политическая интерпрета¬
ция. Прежняя интерпретация не отвергается, но включается
в новую и перекрывается ею.
Историография — развивающаяся наука в том смысле,
что она стремится обеспечить постоянно расширяющееся и
углубляющееся проникновение в ход событий, которые раз¬
виваются сами по себе. Это именно то, что я имел бы в ви¬
ду, говоря, что нам нужен «конструктивный взгляд на прош¬
лое». Современная историография формировалась на протя¬
жении последних двух столетий в этой двойственной вере в
прогресс и не может жить без нее, ибо эта вера обеспечи¬
вает ей критерий значимости, ее пробный камень, для того
чтобы отличить существеннее от случайного. Гёте в одной
из бесед в конце своей жизни довольно резко разрубил этот
гордиев узел: «Когда эпохи приближаются к закату, все тен¬
денции субъективны, но вместе с тем, когда вызревают пред¬
посылки для новой эпохи, все тенденции объективны»1
1 Цит. по: / Huizinga. Men and Ideas, 1959, p. 50.
106
Никто не обязан верить ни в будущее истории, ни в бу¬
дущее общества. Вполне возможно, что наше общество мо¬
жет быть уничтожено и погибнет от медленного упадка или
что история может впасть в теологию, словом, в изучение
не достижений человека, но божественной цели, или займет¬
ся исследованием литературы, а это, так сказать, повество¬
вание преданий и легенд без цели и значения. Но это не бы¬
ла бы история в том смысле, в котором мы знаем ее на про¬
тяжении последних 200 лет.
До сих пор мне приходилось иметь дело со знакомым и
популярным возражением против любой теории, стремя¬
щейся найти окончательный критерий исторического сужде¬
ния в будущем. Подобная теория, как говорят, предполага¬
ет, что успех является конечным критерием разумности. И
не то, что есть, а то, что будет, правильно. За последние
200 лет большинство историков не только признали направ¬
ление, в котором движется история, но и сознательно или
бессознательно поверили в то, что это направление в целом
было верным, что человечество шло от худшего к лучшему,
от низшего к высшему. Историк не только выяснил направ¬
ление, но и поддержал его. Критерий значимости, который
он использовал в своем подходе к прошлому, был не только
чувством направления, по которому шла история, но и чув¬
ством его собственного морального участия в этом ходе.
Пресловутая дихотомия между «есть» и «должно», между
фактом и ценностью была решена. Это была оптимистиче¬
ская точка зрения, продукт огромной уверенности в будущем;
виги и либералы, гегельянцы и марксисты, теологи и рацио¬
налисты оставались более или менее явно и последователь¬
но преданными ей. На протяжении 200 лет она могла без
большого преувеличения считаться признанным и безогово¬
рочным ответом на вопрос: «Что такое история?» Реакция
против нее возникла в условиях распространения настроений
опасения и пессимизма, ибо дала свободу рук теологам,
ищущим смысл истории за ее пределами, и скептикам, кото¬
рые вообще не видят в истории смысла. Нас уверяют со
всех сторон и с огромной страстностью, что дихотомия меж¬
ду «есть» и «должно» абсолютна и не может быть разреше¬
на, ибо «ценности» не могут выводиться из «фактов». Я ду¬
маю, что это ложная попытка. Давайте посмотрим, что не¬
сколько выбранных более или менее спонтанно историков
или тех, кто пишет об истории, думают по этому вопросу.
Гиббон оправдывает громадное внимание, уделяемое им
в своем исследовании победам ислама, тем, что «ученики
Магомета до сих пор владеют светской и религиозной вла¬
стью в восточном мире». Но, добавляет он, подобные дости¬
жения было бы несправедливо возлагать на толпы дикарей,
которые в период с VII по XII век пришли с долин Скифии,
107
ибо «величие трона Византии отразило эти беспорядочные
нападения и Византия выжила»1. Это не представляется
необоснованным. История в целом — фиксация того, что де¬
лали люди, а не того, что им не удалось сделать; в этом
смысле она неизбежно история успеха. Профессор Тойнби за¬
мечает, что историки придают видимость неизбежности су¬
ществующему порядку, «ставя на возвышение те силы, ко¬
торые одержали победу, и задвигая на задний план те, ко¬
торым нанесено поражение»2.
Но не в этом ли чувство сути работы историка? Историк
не должен переоценивать сопротивления, он не должен пред¬
ставлять победу как легкую прогулку, в смысле «раз, два и го¬
тово». Иногда те, кто потерпел поражение, вносят в оконча¬
тельный результат такой же вклад, как и победители. Это ак¬
сиомы, знакомые каждому историку. Но по большей части
историк занимается теми — были ли они победителями или
побежденными, — кто чего-либо достиг. Я не специалист
по истории крикета. Но ее страницы, по-видимому, усеяны
именами тех, кто добился победы, чем тех, кто проиграл и
вышел из игры. Знаменитое утверждение Гегеля, что в ис¬
тории «в сферу нашего внимания могут попасть только те
люди, которые создают государство»3, справедливо подвер¬
галось критике за то, что оно придавало исключительную
ценность только одной форме организации общества и про¬
кладывало путь к отвратительному преклонению перед го¬
сударством. Но в принципе то, что Гегель пытается сказать,
верно и отражает знакомое различие между предысторией
и историей; только те народы, которые преуспевают в орга¬
низации своего общества, в некоторой степени перестают
быть примитивными дикарями и входят в историю. Кар¬
лайл в своей «Французской революции» назвал Людови¬
ка XV «воплощением мирового солецизма». Ему явно пон¬
равилась эта фраза, так как он позже расширил ее в более
длинном абзаце: «В чем же заключается новый круговорот
всеобщего движения институтов, социальных взаимосвязей
индивидуумов, которые когда-то сотрудничали друг с дру¬
гом, а теперь сталкиваются между собой? Это неизбежно.
Так происходит развал мирового социализма, наконец, ис¬
черпавшего себя»4.
Критерий вновь более историчен: то, что подходило од¬
ной эпохе, стало солецизмом в другой и по этой причине
осуждается. Даже сэр Исайя Берлин, когда он нисходит с
высот философской абстракции и рассматривает конкрет-
1 Gibbon. The Decline Fall of the Roman Empire, Ch. IV.
2 R. H. Tawney. The Agrarian Problem in the Sixteenth Century,
1912, p. 177
3 “Lectures on the Philosophy of History”, English transl., 1884, p. 40.
4 T Carlyle. The French Revolution, I, i, Ch. 4; I, ill, Ch. 7.
108
пые исторические ситуации, по-видимому, соглашается с
этой точкой зрения. В беседе по радио вскоре после публи¬
кации его эссе об «Исторической неизбежности» он, не¬
смотря на нравственные недостатки, восхвалял Бисмарка
как «гения» и «величайший пример в прошлом веке, пример
политика, обладающего громадными способностями выне¬
сения политического суждения», и выгодно противопостав¬
лял его таким людям, как австрийский Иосиф II, Ленин,
Робеспьер и Гитлер, которые не сумели реализовать «свои
позитивные цели». Я нахожу это мнение странным. Но в
данный момент меня интересует критерий суждения. Бис¬
марк, говорит сэр Исайя, понимал материал, с которым ра¬
ботал, других уводили в сторону абстрактные теории, кото¬
рые не срабатывали. Мораль в том, что «неудача происхо¬
дит от сопротивления тому, что срабатывает лучше всего, и
делается выбор в пользу некоего систематического метода
или принципа, который претендует на всеобщую пригод¬
ность»1 Другими словами, критерий суждения в истории —
это не принцип, который претендует на «всеобщую пригод¬
ность», но то, что срабатывает лучше.
Мне едва ли стоит говорить, что не только при анализе
прошлого мы используем критерий «то, что лучше всего
срабатывает». Если кто-нибудь сказал бы вам, что, по его
мнению, при нынешнем положении дел было бы желатель¬
но объединение Великобритании и США в единое государ¬
ство под объединенным управлением, вы могли бы согла¬
ситься, и это была бы вполне благоразумная точка зрения.
Если бы он продолжал, что конституционная монархия как
форма правления более предпочтительна, чем президент¬
ская демократия, вы могли бы также согласиться. И это то¬
же было бы вполне благоразумно. Но представьте, что он
далее сказал бы вам, что желает посвятить себя кампании
за воссоединение двух стран под британской короной. Вы,
возможно, ответили бы, что он зря теряет время. Если бы
вы попытались объяснить свое решение, вы, вероятно, ска¬
зали бы ему, что вопросы подобного рода следует обсуж¬
дать не на основе какого-либо принципа, имеющего всеоб¬
щее применение, а на основе принципа, соответствующего
данным историческим условиям. Вы могли бы даже взять
на душу великий грех, говоря об Истории с большой буквы
и сказав, что история — против него. Дело политики — рас¬
сматривать не только то, что было бы морально или теоре¬
тически желательно, но также рассматривать существующие
в мире силы и то, как их можно направить или управлять
ими для вероятной частичной реализации имевшихся в ви¬
1 Передача об «Исторической неизбежности» по 3-й программе Би-би-
си, 13.6.1957.
109
ду целей. Политические решения, рассматриваемые в свете
нашей интерпретации истории, базируются на этом компро¬
миссе. Но наша интерпретация истории также основывается
на компромиссе. Нет ничего более принципиально неверно¬
го, чем устанавливать предположительный абстрактный
критерий желаемого и в его свете осуждать прошлое. Так
давайте же заменим слово «успех», которое теперь имеет и
негативное значение, нейтральным — «то, что работает луч¬
ше». Поскольку я несколько раз спорил с сэром Исайей
Берлином в ходе этих лекций, я рад, что могу в заключе¬
ние заявить об определенном согласии с ним, по крайней
мере в этом.
Но принятие критерия «то, что работает лучше» не
делает его применение ни легким, ни самоочевидным. Это
не тот критерий, который побуждает высказывать торопли¬
вые суждения, или который склоняет к точке зрения, что все
существующее верно. Ошибки, которые оборачиваются
успехом, известны в истории. История признает то, что я
могу назвать отложенными достижениями: сегодняшние
явные ошибки могут оказаться важным вкладом в дости¬
жения будущего — пророки рождаются раньше своего вре¬
мени. Действительно, одно из преимуществ данного крите¬
рия перед предположительно устойчивым критерием всеоб¬
щего принципа состоит в том, что он может заставить нас
отложить наше суждение или квалификацию в свете того,
что еще не произошло. Прудон, который свободно говорил
в терминах абстрактных моральных принципов, простил го¬
сударственный переворот Наполеона III после того, как он
произошел. Маркс, отвергавший критерий абстрактных мо¬
ральных принципов, осудил за это Прудона. Оглядываясь
назад и исходя из более отдаленной исторической перспек¬
тивы, мы, вероятно, согласимся с тем, что Прудон ошибал¬
ся, а Маркс был прав. Достижения Бисмарка дают велико¬
лепную отправную точку для изучения этой проблемы ис¬
торического суждения, и, хотя я принял критерий сэра Бер¬
лина «то, что работает лучше», меня все еще озадачива¬
ют узкие и краткосрочные границы, в пределах которых он,
вероятно, довольствуется применением его. Действительно
ли то, что создал Бисмарк, работало хорошо? Я бы пола¬
гал, что это привело к огромному несчастью. Это не означа¬
ет, что я стремлюсь обвинять Бисмарка, который создал
германский рейх, или многих немцев, которые хотели этого
и помогали ему создать эту систему. Но, как у историка, у
меня все же есть много вопросов. Произошла ли конечная
катастрофа оттого, что в самой структуре рейха существо¬
вали какие-то скрытые изъяны? Или это произошло потому,
что во внутренних условиях, которые привели к его рожде¬
нию, были заложены самоуверенность и агрессивность? Или
110
это произошло потому, что, когда рейх был создан, европей¬
ская и мировая сцены были настолько переполнены, а аг¬
рессивные тенденции среди великих держав настолько силь¬
ны, что появление еще одной агрессивной великой державы
было достаточным, чтобы вызвать серьезнейшее столкнове¬
ние, в результате чего вся система рухнула и обратилась в
руины? По поводу последней гипотезы, может быть, невер¬
но возлагать ответственность на Бисмарка и немецкий на¬
род или делать только их ответственными за катастрофу —
нельзя возлагать ответственность на последнюю соломинку.
Но объективное суждение о шагах Бисмарка и о том, ка¬
кое они имели значение, историкам еще предстоит вынести.
И я не уверен, что они уже могут четко ответить на все по¬
ставленные вопросы. По моему мнению, историки 20-х го¬
дов нашего века были ближе к объективному суждению,
чем историки 80-х годов прошлого века, а сегодняшние ис¬
торики — ближе, чем историки 30-х годов; историки 2000 г.
могут оказаться еще ближе. Это иллюстрирует мой тезис о
том, что объективность в истории не покоится и не может
покоиться на некоем установленном и неподвижном крите¬
рии суждения, установленном раз и навсегда, но только на
критерии, который связан с будущим и вступает в действие
по мере того, как развивается история. История требует
значения и объективности только по мере того, как она ус¬
танавливает прочные отношения между прошлым и буду¬
щим.
Давайте теперь посмотрим с другой стороны на эту
мнимую дихотомию между фактом и оценкой. Оценки
нельзя извлечь из фактов. Это утверждение отчасти ис¬
тинно, отчасти ложно. Стоит только изучить систему
ценностей, преобладавших в любую эпоху в любой стране,
чтобы понять, в какой значительной мере ее формируют
факты окружения. В прошлой лекции я привлек внимание
к изменению исторического смысла в таких оценочных тер¬
минах, как «свобода», «равенство» или «справедливость».
Или возьмите христианскую церковь, как институт, по боль¬
шей части занятый пропагандой моральных ценностей.
Сравните ценности раннего христианства с ценностями
средневекового папства, или ценности средневекового пап¬
ства с ценностями протестантских церквей XIX века. Или
сравните ценности, распространяемые сегодня, скажем,
христианской церковью в Испании с теми, которые распро¬
страняются христианскими церквами в США. Эти различия
в ценностях происходят из различий в историческом факте.
Или возьмите исторические факты, которые в минувшие
150 лет привели к тому, что рабство, или расовое неравен¬
ство, или использование детского труда — когда-то счи¬
тавшиеся морально нейтральными или достойными уваже¬
111
ния, — в общем были оценены как аморальные. Предполо¬
жение, что ценности не могут быть производными от фак¬
тов, по крайней мере односторонне и ошибочно. Или да¬
вайте посмотрим на утверждение с обратной стороны. Фак¬
ты нельзя извлечь из ценностей. Это отчасти верно, но
также может оказаться ошибочным, и требует особого под¬
хода.
Когда мы стремимся узнать факты, вопросы, которые мы
задаем, и соответственно ответы, которые мы получаем,
подсказываются нашей системой ценностей. Наше представ¬
ление о фактах нашего окружения формируется нашими
ценностями, то есть категориями, через которые мы подхо¬
дим к фактам, и это представление является одним из важ¬
ных фактов, которые нам приходится принимать в расчет.
Оценки входят в факты и являются их существенной ча¬
стью. Наши оценки — существенная часть нашего багажа
как разумных существ. Именно через наши ценности мы
способны адаптироваться к окружению и адаптировать ок¬
ружение к нам, овладевать нашим оружием так, что
история превращается в летопись прогресса. Но, драмати¬
зируя борьбу между человеком и его окружением, не надо
выдвигать ложный антитезис и проводить ложное отделение
фактов от ценностей. Прогресс в истории достигается через
взаимозависимость и взаимодействие фактов и ценностей.
Объективный историк тот, кто наиболее глубоко проникает
в этот процесс взаимодействия.
Ключ к этой проблеме фактов и ценностей дает наше
обычное использование слова «истина» — слова, которое
относится как к миру фактов, так и к миру ценностей и со¬
ставлено из элементов их обоих. Это не особенность стиля
английского языка. Слово «истина» на латыни, немецкое
«Wahrheit», русское «правда»1 — все они носят двойствен¬
ный характер. Оказывается, что каждому языку требуется
это слово для обозначения истины, которое не только ут¬
верждение факта и не только оценочное суждение, но слово,
охватывающее оба элемента. Может быть фактом, что я
приехал в Лондон на прошлой неделе. Но вы обычно не
назовете это истиной: это утверждение лишено какого-ли¬
бо оценочного содержания. С другой стороны, возьмем слу¬
чай, когда отцы-основатели США в Декларации независи¬
мости сослались на самоочевидную истину, что все люди
созданы равными. Вы можете почувствовать, что оценочное
содержание этого утверждения преобладает над фактиче¬
1 Случай со словом «правда» особенно интересен, поскольку есть и
другое старое русское слово — «истина». Но различие не между правдой
как фактом и как ценностью. «Правда» — человеческая истина в обоих
аспектах, «истина» — божественна; истина о боге и истина, открываемая
богом.
112
ским, и на этом основании поставить под сомнение его пра¬
во на истинность. Область исторической истины лежит где-
то между двумя полюсами: северным полюсом безоценоч-
ных фактов и южным — оценочных суждений, все еще бо¬
рющихся за то, чтобы превратиться в факты. Историк, как
л сказал в моей первой лекции, балансирует между фактом
и интерпретацией, между фактом и оценкой. Он не может
разделить их. Возможно, в статичном мире вы должны бы¬
ли бы провести резкое разграничение между фактом и
оценкой. Но история бессмысленна в статичном мире. Ис¬
тория по своей сути — изменение движения или, если вы не
придираетесь к старомодному слову, прогресс.
В заключение, таким образом, я возвращаюсь к харак¬
теристике прогресса Эктоном как «научной гипотезе, на
основании которой следует писать исторические произведе¬
ния». Вы можете, если хотите, превратить историю в тео¬
логию, сделав значение прошлого зависимым от некой
сверхисторической и сверхрациональной силы. Вы можете,
если хотите, превратить ее в литературу — собрание рас¬
сказов и легенд о прошлом, лишенных значения и важно¬
сти. История в подлинном смысле может быть написана
только теми, кто находит и принимает чувство направления
в самой истории. Вера в то, что мы пришли откуда-то, тес¬
но связана с верой в то, что мы куда-то идем. Общество,
утратившее веру в свою способность к прогрессу в будущем,
быстро перестанет беспокоиться по поводу своего прогресса
в прошлом.
Как я заметил в начале моей первой лекции, наш взгляд
на историю отражает наш взгляд на общество. Теперь я
снова возвращаюсь к моему исходному пункту, провозгла¬
шая веру в будущее общество и в будущее истории.
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ГОРИЗОНТЫ
Концепция, которую я сформулировал в этих лекциях об
истории как о постоянно движущемся процессе вместе с
историком, развивающимся в ходе этого движения, обязы¬
вает меня сделать заключительные замечания о роли
истории и историка в наше время. Мы живем в эпоху, ког¬
да, разумеется, не в первый раз в истории над всеми дов¬
леют предсказания о мировой катастрофе. Их нельзя ни
доказать, ни опровергнуть. Однако они по крайней мере
менее определенны, чем предсказание, что все мы умрем.
А поскольку бесспорность этого предсказания отнюдь не
препятствует нам строить планы по поводу собственного бу¬
дущего, я и рассмотрю настоящее и будущее нашего обще¬
ства, исходя из предпосылки, что Англия, а если не она, то
большая часть мира уцелеет перед лицом опасностей, гро¬
зящих всем нам, и история будет продолжаться.
В середине XX века мир претерпевает процесс измене¬
ний, вероятно более глубокий и всеобъемлющий, чем в лю¬
бой другой период со времен XVI и XVII веков, когда пало
средневековье и были заложены основы современного мира.
Нынешние изменения, несомненно, в конечном счете ре¬
зультат научных открытий и изобретений, их все более ши¬
рокого применения, а также событий, являющихся прямо
или косвенно их результатом. Самая приметная черта из¬
менений — социальная революция, которую можно срав¬
нить с революцией, возвестившей в XV и XVI веках подъем
к власти нового класса, черпавшего свои силы в финансах
и торговле, а позднее в индустрии. Новая структура нашей
индустрии и нашего общества слишком сложны для меня,
чтобы рассматривать их здесь. Однако описанные измене¬
ния в двух отношениях прямо касаются моей темы, я бы
назвал их: изменения в глубину и изменения в географи¬
ческом отношении. Попытаюсь вкратце охарактеризовать
оба.
История началась тогда, когда люди стали рассматри¬
вать течение времени не в рамках естественных процессов—
смены сезонов, продолжительности жизни человека, — а
как серию конкретных событий, в которые люди сознатель¬
но вовлекались и на которые они также сознательно могли
114
воздействовать. История, указывает Буркхардт, является
«разрывом с природой в результате пробуждения созна¬
ния» 1. По этой причине история — долгая борьба человека
с целью понять свое окружение и воздействовать на него.
Однако в наше время произошло революционное расшире¬
ние этой борьбы. Человек ныне стремится не только понять
свое окружение и соответствующим образом действовать, но
и понять самого себя, а это придает, так сказать, новое зна¬
чение как мышлению, так и истории. Мы живем в эпоху, в
которую как никогда ранее велико значение истории. Сов¬
ременный человек в беспрецедентной степени осознает себя
и, следовательно, историю. Он пристально вглядывается на¬
зад, в сумерки, откуда пришел в надежде, что слабые лучи
осветят мрак, в который он идет, или его надежды и трево¬
ги по поводу грядущего пути помогут разобраться с тем,
что было в прошлом. Прошлое, нынешнее и будущее связа¬
ны воедино бесконечной цепью истории.
Начало изменений в современном мире, а именно разви¬
тие у человека самосознания, можно, пожалуй, отнести к
Декарту, который первый определил человека как сущест¬
во, способное не только думать, но и думать о собственных
думах, способное наблюдать за собой в процессе наблюде¬
ния. Следовательно, человек одновременно субъект и объ¬
ект мышления и наблюдения. Но этот подход полностью
развился к концу XVIII столетия, когда Руссо обнажил но¬
вые глубины самопонимания и самоосознания человека и
дал людям новый взгляд на мир природы и традиционную
цивилизацию. Французская революция, говорил Токвиль,
вдохновлялась «верой в то, что нужно было заменить слож¬
ный комплекс традиционных привычек, доминировавших над
тогдашним социальным порядком, простыми, элементарными
правилами, выведенными из работы разума человека и ес¬
тественного права»2. «Никогда до той поры, — писал Эк-
тон в одной из своих рукописных заметок, — люди не стре¬
мились к свободе, зная, к чему именно они стремятся»3. Для
Эктона, как и для Гегеля, свобода и разум никогда не раз¬
делялись. А с Французской революцией была связана аме¬
риканская революция.
«87 лет тому назад наши отцы дали рождение на этом
континенте новой нации, зачатой в свободе и присягнувшей
принципу — все люди созданы равными».
То было, как видно из приведенных слов Линкольна,
уникальное событие — первый случай в истории, когда лю¬
ди целенаправленно и сознательно сплотились в нацию, а
1 I. Burckhardt. Reflections on History, 1959, p. 31.
2 A. de Tocquevilte. De l’Ancien Regime, III, Ch. I.
3 “Cambridge University Library: Add. MSS.: 4870”.
115
затем целенаправленно и сознательно взялись включать в
нее других людей. В XVII и XVIII столетиях люди уже пол¬
ностью осознали, что вокруг них существует мир со своими
законами. То уже были не загадочные предписания непо¬
стижимого провидения, а законы, достойные познанию ра¬
зумом. Но речь шла о законах, для которых люди были
субъектами, а не законах, созданных ими. На следующей
стадии развития человеку суждено полностью познать свою
силу над окружением и над собой и свое право создавать
законы, по которым ему предстоит жить.
Переход от XVII столетия к современному миру был дли¬
тельным и постепенным. Представительными философами
этой эпохи были Гегель и Маркс, причем оба занимали дву¬
смысленную позицию. Гегель исходил из того, что законы
провидения превращаются в законы разума. Мировой дух
Гегеля крепко держит одной рукой провидение, а дру¬
гой — разум. Он как эхо идей Адама Смита. Индивидуумы
«удовлетворяют собственные интересы, однако тем самым
достигается нечто большее, чем таится в их действиях, хо¬
тя и не присутствует в их сознании». О рациональной цели
мирового духа он пишет, что люди «в процессе ее достиже¬
ния пользуются случаем удовлетворить свои желания, со¬
держание которых отлично от этой цели». Речь идет о про¬
стой гармонии интересов, переведенных на язык немецкой
философии1. Гегелевский эквивалент «скрытой руки» Сми¬
та — знаменитая «уловка разума», которая побуждает лю¬
дей работать ради не осознаваемых ими целей. Тем не менее
Гегель был философом Французской революции, первым
философом, осознавшим суть реальности в изменениях в
истории и в углублении самопознания человека. Поступа¬
тельные шаги в истории означают движение в направлении
концепции свободы. Но после 1815 г. вдохновение Француз¬
ской революции угасло в реакции реставрации. Гегель был
политически слишком робок и к старости оказался слишком
связанным с истэблишментом своего времени, чтобы внести
конкретный смысл в свои метафизические построения. За¬
мечание Герцена о доктринах Гегеля как «алгебре револю¬
ции» очень метко. Гегель создал условное обозначение, но
не ввел в него практического содержания. На долю Маркса
выпало ввести арифметику в алгебраические формулы Ге¬
геля.
Ученик как Адама Смита, так и Гегеля, Маркс начал с.
концепции мира, управляемого рациональными законами
природы. Подобно Гегелю (но на этот раз в практической и
конкретной форме), он эволюционировал к концепции мира,
управляемого законами, который развивается в ходе рацио¬
1 Цитаты взяты из «Философии истории» Гегеля.
116
нального процесса в ответ на революционные инициативы че¬
ловека. Согласно конечному синтезу Маркса, значение исто¬
рии заключено в трех положениях, неразрывно связанных
между собой и составляющих слитное и рациональное целое:
развитие событий в соответствии с объективными, в основном
экономическими, законами; соответственное развитие мысли
через диалектический процесс; соответствующие действия в
форме классовой борьбы, которая приводит в соответствие и
объединяет теорию и практику революции. В сущности, Маркс
предложил синтез объективных законов и сознательных дейст¬
вий с тем, чтобы перевести их в практику, что иногда (хотя и
ошибочно) именуется детерминизмом и волюнтаризмом.
Маркс постоянно писал о законах, которым повиновались
люди, не осознавая этого. Он неоднократно обращал внима¬
ние на то, что именовал «ложным сознанием» тех, кто повя¬
зан капиталистической экономикой и капиталистическим
обществом. Они имеют «представления о законах производ¬
ства, которые совершенно отклоняются от этих законов...»1.
Но в трудах Маркса можно найти яркие примеры призывов
к осознанным революционным действиям. «Философы лишь
различным образом объясняли мир, — гласят знаменитые
тезисы о Фейербахе, — но дело заключается в том, чтобы
изменить его»2. «Пролетариат, — провозглашается в «Ма¬
нифесте Коммунистической партии», — использует свое по¬
литическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии
шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия
производства в руках государства...»3 А в работе «Восем¬
надцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркс говорил об ин¬
теллектуальном самосознании, растворяющем на протяже¬
нии 100 лет все традиционные идеи4. На долю пролетариа¬
та выпадает растворить ложное сознание капиталистичес¬
кого общества и внести подлинное сознание бесклассового
общества. Но неудача революций 1848 г. была серьезной
и драматической, сорвала наступление событий, которые
представлялись неизбежными, когда Маркс начинал свою
работу. В конце XIX века все еще превалировала атмосфе¬
ра благосостояния и безопасности. Только в конце столетия
мы завершили поворот к современному периоду истории, в
котором главная функция разума больше не сводится к по¬
знанию объективных законов, руководящих поведением лю¬
дей в обществе, а скорее состоит в том, чтобы перестроить
общество и индивидуумов, из которых оно состоит, осознан¬
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. 1, с. 343.
2 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 4.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 446.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 119—122.
117
ными действиями. По Марксу, «класс», хотя точно и не он
ределенный, остается в целом объективной концепцией соз¬
данной на основании экономического анализа. Ленин пере¬
нес акцент с «класса» на «партию», которая является аван¬
гардом класса и вносит в него необходимый элемент клас¬
сового сознания. У Маркса «идеология» — негативный тер¬
мин, продукт ложного самосознания капиталистического об¬
щества. У Ленина «идеология» становится либо нейтраль¬
ной, либо позитивной — вера, которую культивирует элита
классово сознательных лидеров в массе потенциально клас¬
сово сознательных пролетариев. Формирование классового
сознания отныне больше не является автоматическим про¬
цессом, а является задачей, которую нужно выполнить.
Другим великим мыслителем, который расширил пред¬
ставление о разуме, в наши дни был Фрейд. Он и поныне
остается в какой-то мере загадочной фигурой. По образова¬
нию и жизненному опыту Фрейд был индивидуалистом, ли¬
бералом XIX века, который безоговорочно принимал всеоб¬
щую, увы, ложную предпосылку о коренном противоречии
между индивидуумом и обществом. Подходя к человеку
скорее как к биологической, а не социальной единице,
Фрейд имел тенденцию рассматривать социальное окруже¬
ние как нечто исторически дарованное, а не находящееся в
постоянном процессе создания и трансформации самим че¬
ловеком. Он подвергался непрерывным нападкам со сторо¬
ны марксистов за подход к социальным проблемам с точки
зрения индивидуума и по этой причине осуждался как ре¬
акционер. Это обвинение, лишь частично оправданное в от¬
ношении самого Фрейда, куда более обоснованно примени¬
тельно к нынешней неофрейдистской школе в США, считаю¬
щей, что неполадки таятся не в структуре общества, а в са¬
мом человеке, и рассматривающей его приспособление к об¬
ществу как важную функцию психологии. Другое широко
распространенное обвинение в адрес Фрейда состоит в том,
что он-де расширил значение иррационального в людских
делах. Но оно совершенно неверно и основывается на гру¬
бейшем смешении признания иррационального элемента в
поведении человека с культом иррациональности. К сожа¬
лению, справедливо, что в англоговорящем мире ныне су¬
ществует культ иррациональности — в основном в форме
обесценивания достижений и потенциала разума, это часть
современной волны пессимизма и ультраконсерватизма, о
которой я скажу далее. Однако источником всего этого ни¬
как не был Фрейд, являвшийся безоговорочным и довольно
примитивным рационалистом. Фрейд, в сущности, проделал
следующее: он расширил горизонты наших знаний и позна¬
ние, открыв подсознательные истоки поведения осознанному
и рациональному исследованию. То было расширение царст¬
ва разума, расширение способностей человека понимать и
контролировать как себя, так и свое окружение. Это было
революционное и прогрессивное достижение. В данном от¬
ношении Фрейд дополняет Маркса, а не противоречит ему
Фрейд принадлежит к современному миру в том смысле,
что хотя сам и не ушел полностью от концепции раз и на-
навсегда установленной и неизменной натуры человека, но
все же дал инструментарий для более глубокого понимания
корней поведения человека и тем самым для его сознатель¬
ного изменения рациональными методами.
Для историка особое значение Фрейда носит двоякий
характер. Во-первых, Фрейд вбил последний гвоздь в гроб
старых иллюзий о том, что мотивов действий людей, на ко¬
торые они ссылаются или верят, достаточно для адекватно¬
го объяснения их действий. Это негативное достижение оп¬
ределенной значимости, хотя претензии некоторых энтузиас¬
тов пролить свет на деяния великих людей в истории мето¬
дами психоанализа следует принимать с определенной до¬
зой скептицизма. Процедура психоанализа состоит в пере¬
крестном допросе исследуемого пациента, но нельзя под¬
вергнуть такому допросу мертвых. Во-вторых, Фрейд, под¬
крепив работу Маркса, поощрил историка исследовать себя
и свое положение в истории, мотивы (вероятность и скры¬
тые мотивы), по которым были выбраны тема или период,
осуществлены отбор и интерпретация фактов, а также те
национальные и социальные факторы, которые определили
его угол зрения, концепцию будущего, которая формирует
его концепцию прошлого. Со времен работы Маркса и
Фрейда у историка нет решительно никаких извинений
представлять себя изолированным индивидуумом, стоящим
вне общества и вне истории. Наш век — век самосознания,
поэтому историк может и должен знать то, что он делает.
Переход к тому, что я именую современным миром —
распространение на новые сферы функций и силы разума,—
еще не завершился. Это часть революционных изменений,
через которые проходит XX век. Давайте рассмотрим неко¬
торые из главных симптомов этого перехода.
Начнем с экономики. До 1914 г вера в объективные эко¬
номические законы, управляющие поведением людей и на¬
ций в сфере экономики, которым они могли бросить вызов
только в ущерб себе, была практически незыблемой. Циклы
деловой активности, колебания цен, уровень безработицы
определялись в соответствии с этими законами. Даже в
1930 г., когда уже разразился мировой экономический кри¬
зис, этот взгляд все еще преобладал. Затем бег событий ус¬
корился. В 30-е годы заговорили о «конце человека эконо¬
мики», имея в виду того, кто последовательно преследовал
свои экономические цели в соответствии с экономическими
119
законами. Но с тех пор, за исключением считанных Рип Ван
Винклей XIX столетия, никто больше не верит в экономиче¬
ские законы в этом смысле. Ныне экономика превратилась
либо в ряд теоретических математических формул, либо в
практическое изучение того, как одни помыкают другими.
Изменение в основном является продуктом перехода от
мелкого к крупному капитализму. Пока господствовал ин¬
дивидуальный предприниматель и торговец, казалось, что
никто не контролирует экономику или способен оказать на
нее существенное влияние, тем самым сохранялась иллю¬
зия существования безличных законов и процессов. Даже
Английский банк во времена своего величайшего могуще¬
ства считался не умелым манипулятором, а объективным и
квазиавтоматическим регистратором экономических тенден¬
ций. Но с переходом от свободной к управляемой экономи¬
ке (безразлично, идет ли речь об управляемой капиталисти¬
ческой или социалистической экономике или ведется это
управление крупным капиталистом или номинально част¬
ным лицом, концерном или государством) эта иллюзия ис¬
чезает. Становится ясно, что данные люди предпринимают
соответствующие решения в определенных целях, и эти-то
решения и определяют для нас экономический курс. Ныне
каждый знает, что цена на нефть или мыло не изменяется
в соответствии с какими-то объективными законами спроса
и предложения. Каждый знает или думает, что знает: спа¬
ды и безработица—дело рук человека. А правительства счи¬
тают, более того, претендуют на знание методов исцеления
их. Произошел переход от свободного предпринимательства
к планированию, от неосознанного к осознанному, от веры
в объективные экономические законы к вере, что человек в
результате собственных деяний может быть хозяином своей
экономической судьбы. Социальная политика шла рука об
руку с экономической политикой, больше того, экономичес¬
кая политика вошла составной частью в социальную поли¬
тику. Вот цитата из последнего тома первого издания «Кем¬
бриджской современной истории», увидевшей свет в 1910 г.
Это в высшей степени показательное суждение, принадле¬
жавшее автору, который никоим образом не был марксис¬
том и, вероятно, вообще не слышал о Ленине: «Вера в воз¬
можность проведения социальных реформ сознательными
усилиями — господствующее течение европейской мысли...
Преобладание этой уверенности в наше время столь же
показательно и чревато последствиями, как вера в права че¬
ловека примерно во времена Французской революции»1.
Ныне, через 50 лет после того, как были написаны эти
1 “Cambridge Modern History”, XII, 1910, р. 15. Автор главы —
С. Лизес, один из редакторов этого издания.
120
строки, более чем через 40 лет после русской революции и
через 30 лет после мирового экономического кризиса, эта
вера стала обыденной. Переход от подчинения объективным
экономическим законам (которые, будучи якобы рациональ¬
ными, были вне контроля человека) к вере в способность
человека контролировать свою экономическую судьбу осоз¬
нанными действиями представляется мне шагом вперед в
применении разума к делам человеческим. Это означает
увеличение возможности человека понимать и быть хозяи¬
ном как себя, так и своего окружения. Я готов назвать это
в случае необходимости старомодным термином «прогресс».
У меня нет возможности детально рассматривать анало¬
гичные процессы в других областях. Даже в науке, как мы
видели, ныне куда менее заботятся о том, чтобы заниматься
исследованиями в интересах выяснения объективных зако¬
нов природы, чем вырабатывать рабочие гипотезы, с помо¬
щью которых человек использует природу в своих целях и
преобразует свое окружение. Еще более знаменательно то,
что человек начал путем сознательного использования разу¬
ма не только преобразовывать свое окружение, но и самого
себя. В конце XVIII века Мальтус в эпохальном труде попы¬
тался выяснить объективные законы народонаселения, кото¬
рые действуют неосознанно, подобно законам рынка, по Ада¬
му Смиту. Теперь никто не верит в существование подобного
рода объективных законов, контроль над ростом населения
проводится на путях рациональной и осознанной социальной
политики. В наше время мы свидетели того, как усилиями
человека возрастает продолжительность жизни и изменяется
соотношение между удельным весом различных возрастных
групп в народонаселении. Мы слышали о том, что осознан¬
но применяются медикаменты для изменения поведения лю¬
дей. Изменились как человек, так и общество, и эти изме¬
нения произошли на наших глазах в результате осознанной
деятельности людей. Однако, вероятно, самые значительные
изменения из всех описанных произошли в результате раз¬
работки и применения современных методов убеждения и
психологической обработки. Деятели просвещения на всех
уровнях все более и более ныне озабочены тем, чтобы со¬
действовать формированию данного облика общества, выра¬
ботав у подрастающего поколения позицию, приверженность
и мировидение, свойственные их типу общества. Политика в
области образования является неотъемлемой частью любой
рационально разработанной социальной политики. Первосте¬
пенная функция разума применительно к человеку в обще¬
стве связана в большей степени не с исследованием, а с
преобразованием. Вот это возросшее осознание силы челове¬
ка в улучшении ведения его социальных, экономических и
политических дел путем применения рациональных процес¬
121
сов и представляется мне одним из главных аспектов рево¬
люции двадцатого столетия.
Такое расширение возможностей разума всего-навсего
часть процесса, который в одной из предшествующих лекций
я назвал «индивидуализацией»: большее разнообразие от¬
дельных процессов, занятий и возможностей, что идет рука
об руку с развитием цивилизации. Быть может, самым дале¬
ко идущим последствием промышленной революции было про¬
грессивное увеличение числа тех, кто учился думать, ис-
пользовать свой разум. В Великобритании при нашей при¬
верженности к постепенности этот процесс иногда был едва
заметным. Мы почивали на лаврах всеобщего начального
образования большую часть столетия и до сих пор далеко
или быстро не продвинулось к введению всеобщего высшего
образования. Это не имело большого значения в те времена,
когда мы лидировали в мире. Но значение этого возрастает,
когда нас обгоняют те, кто спешит больше нас, когда тем¬
пы развития везде подталкивают технологические измене¬
ния. Социальная, технологическая, научная революция —
неотъемлемые части одного и того же процесса. Если вам
угодно привести академический пример процесса индивидуа¬
лизации, задумайтесь над громадней диверсификацией в по¬
следние пятьдесят—шестьдесят лет всей науки или любой ее
отрасли и колоссальным их возрастанием в результате ин¬
дивидуальной специализации. Более тридцати лет тому на¬
зад высокопоставленный немецкий офицер, посетивший Со¬
ветский Союз, выслушал весьма поучительную сентенцию из
уст советского офицера, занимавшегося строительством крас¬
ной авиации:
«Нам, русским, приходится иметь дело пока с примитив¬
ным человеческим материалом. Мы вынуждены приспосаб¬
ливать летательные аппараты к тем пилотам, которыми мы
располагаем. По мере создания нового типа человека будет
совершенствоваться также и техника. Оба фактора взаимо¬
зависимы. Примитивным людям нельзя доверять сложные
машины»1.
В наше время, через жизнь всего одного поколения, мы
знаем, что русские машины больше не примитивны, и миллио¬
ны русских мужчин и женщин, планирующих, строящих и
управляющих этими машинами, отнюдь не примитивны. Как
историка, меня в большей степени интересует последний фе¬
номен. Рационализация производства влечет за собой куда
более важные последствия — рационализацию человека. Ны¬
не по всему миру примитивные люди учатся использовать
сложные машины и в ходе этого процесса учатся думать,
использовать свой ум. Революция, которую по справедливо¬
1 Vierteljahrshefie fur Zeitgeschiehte”, Munich, I, 1953, S. 38.
122
сти можно назвать социальной и которую в нынешних об¬
стоятельствах я называю расширением возможностей разу¬
ма, только начинается. Однако она развивается бешеными
темпами, с тем чтобы быть на уровне бешеных технологи¬
ческих достижений последнего поколения. Все это и пред¬
ставляется мне одним из главных аспектов нашей революции
XX века.
Некоторые из наших пессимистов и скептиков наверняка
призовут меня к ответу, если я при этом не укажу на опас¬
ности и двусмысленность роли, отведенной разуму в совре¬
менном мире. В одной из прошлых лекций я указал, что воз¬
растающая индивидуализация в описанном смысле отнюдь
не подразумевает какого-либо ослабления социального дав¬
ления в пользу конформизма и унификации. Именно здесь
таится один из парадоксов нашего сложного современного
общества. Образование, само по себе необходимый и могу¬
щественный инструмент в развитии индивидуальных способ¬
ностей и возможностей и, следовательно, в углублении ин¬
дивидуализации, является еще и могущественным инстру¬
ментом в руках заинтересованных групп обеспечения соци
ального униформизма. Частые обращения с просьбами обес¬
печить более ответственное радиовещание и телевидение или
более ответственную прессу направлены в первую очередь
против некоторых негативных их сторон, которые легко осуж¬
дать, Однако эти обращения быстро превращаются в требо¬
вания использовать эти могущественные средства массового
убеждения для насаждения желательных вкусов и жела¬
тельных мнений, а критерии этой желательности коренятся
во вкусах и мнениях, принятых в обществе. Такие кампании
в руках их организаторов превращаются в умышленные и
рациональные процессы, имеющие в виду реорганизацию об¬
щества путем формирования его отдельных членов в жела¬
тельном направлении. Яркие примеры в данном отношении
связаны с лицами, занимающимися торговой рекламой, и
политическими пропагандистами. Больше того, обе роли не¬
редко совмещаются, открыто — в США и довольно застен¬
чиво — в Великобритании, Партии и кандидаты прибегают
к услугам профессионалов рекламы, чтобы добиться успеха.
Оба процесса, однако, даже когда они формально различны,
удивительно схожи. Профессионалы рекламы и главы уп¬
равлений пропаганды крупных политических партий очень
умные люди, мобилизующие для выполнения своих задач все
интеллектуальные ресурсы. Разум, как мы видели в других
рассмотренных случаях, используется не для простого иссле¬
дования, а конструктивно, не статически, а в динамике. Для
профессионалов рекламы и менеджеров политических кам¬
паний сами факты не играют первостепенной роли. Их инте¬
ресует то, во что поверят потребитель или избиратель или
123
по крайней мере во что можно побудить умелым манипу¬
лированием потребителя или избирателя поверить. Больше
того, проводимые ими исследования массовой психологии
показали им, что самый эффективный способ обеспечить со¬
гласие с их взглядами связан с обращением к иррациональ¬
ному в мировидении покупателя и избирателя. В результа¬
те перед нами складывается картина, когда элита промыш¬
ленников или партийных лидеров, прибегая к беспрецедент¬
но усовершенствованным рациональным процессам, дости¬
гает своих целей, поняв и использовав иррационализм масс.
Обращаются отнюдь не только к разуму. Зачастую дейст¬
вуют методами, которые Оскар Уайльд назвал «ударом по¬
ниже интеллекта». Я несколько сгустил краски, дабы меня не
упрекнули в недооценке опасности1. Однако в целом эта
картина соответствует действительности и легко применима
в других областях. Правящие группы в любом обществе
применяют более или менее принудительные меры для ор¬
ганизации и контроля над массовым сознанием. Этот метод
хуже других, ибо влечет за собой злоупотребление разумом.
При ответе па это серьезное и хорошо обоснованное об¬
винение я располагаю только двумя аргументами. Первый
хорошо известен, а именно: на протяжении всей истории
любое изобретение, нововведение или новая техника имели
как негативные, так и позитивные последствия. Эту цену
кому-то всегда приходилось оплачивать. Я не знаю, через
какое время после изобретения книгопечатания критики на¬
чали указывать, что это облегчило распространение оши¬
бочных суждений. Ныне стало привычным оплакивать не¬
счастные случаи на дорогах, вызванные использованием ав¬
томобилей, а некоторые ученые даже сожалеют по поводу
открытых ими способов использования атомной энергии из-за
того, что ее использовали и могут использовать в ужасаю¬
щих целях. Такого рода возражениями не удалось в прош¬
лом и, по-видимому, не удастся в будущем остановить новые
открытия и изобретения. То, что мы узнали о технике и по¬
тенциале массовой пропаганды, нельзя просто стереть из
памяти. Вернуться к крайне индивидуалистской демократии
по рецептам Локка или либеральной теории, частично осу¬
ществленной в Великобритании в середине XIX века, так же
невозможно, как вернуться к временам лошади и тележки
или раннему свободному капитализму. Но правильный ответ
заключается в том, что описанное зло влечет с собой и соб¬
ственное исцеление. Это противоядие отнюдь не в культе
иррационального или отказе от возрастания роли разума в
современном обществе, а в растущем осознании как снизу,
1 Этот вопрос более подробно рассмотрен в четвертой главе моей
работы «Новое общество» (1951).
124
так и сверху той роли, которую может сыграть разум. Это
не утопическая мечта в то время, когда вся наша технологи¬
ческая и научная революция заставляет нас увеличить ис¬
пользование интеллекта на всех уровнях общества. Как и
любой другой крупный шаг вперед в истории, он имеет свою
цену и издержки, которые нужно оплатить, и влечет за со¬
бой опасности, которые надлежит встретить. Тем не менее,
вопреки мнению скептиков, умников и пророков катастрофы,
особенно среди интеллектуалов тех стран, которые утрати¬
ли свое привилегированное положение, я не постыжусь на¬
звать это ярким примером прогресса в истории. Вероятно,
мы имеем дело в данном случае с самым ярким и револю¬
ционным феноменом нашего времени.
Второй аспект нарастающей революции, через которую
мы проходим, — изменение облика мира. Великую эпоху
XV и XVI столетий, когда средневековый мир наконец рух¬
нул и лежал в руинах, отметило открытие новых континен¬
тов и перемещение центра тяжести мира с берегов Среди¬
земноморья на берега Атлантики. Даже меньший по масшта¬
бам переворот — Французская революция — имел продол¬
жение в географическом отношении. Новый Свет был при¬
зван выправить баланс сил в Старом Свете. Однако измене¬
ния, происшедшие в результате революции XX века, дале¬
ко оставили за собой все, что случалось со времен XVI ве¬
ка. После 400 лет центр тяжести определенно схместился с
Западной Европы, которая вместе с прилежащими частями
англоговорящего мира превратилась в придаток Североаме¬
риканского континента. А если угодно, в агломерат, в кото¬
ром США являются центром мощи и контроля. Причем это
не единственное, но, возможно, самое примечательное из¬
менение. Совсем не ясно, пребывает ли ныне центр тяжести
мира или будет долго пребывать в англоговорящем мире
со своим западноевропейским филиалом. Кажется, ныне тон
в мировых делах задает громадная масса суши Восточной
Европы и Азии со своим продолжением в Африке. Выраже¬
ние «неизменный Восток» в наши дни стало устаревшим кли¬
ше.
Давайте вкратце рассмотрим, что случилось в Азии в
нынешнем столетии. Начало этому положил англо-японский
союз 1902 г., приведший к тому, что впервые азиатское госу¬
дарство было допущено в избранный круг европейских вели¬
ких держав. Можно считать совпадением, что Япония отме¬
тила повышение своего статуса, бросив вызов и нанеся по¬
ражение России, тем самым выбила первую искру великой
революции XX столетия. Французские революции 1789 и
1848 гг. нашли своих подражателей в Европе. Первая рус¬
ская революция 1905 г. не отозвалась эхом в Европе, но
нашла своих подражателей в Азии: в последующие несколь¬
125
ко лет случились революции в Иране, Турции и Китае. Пер¬
вая мировая война, строго говоря, была не мировой войной,
а европейской гражданской войной (если считать, что суще¬
ствовало единое понятие Европы) с последствиями по всему
миру, включая стимулирование промышленного развития во
многих азиатских странах, рост настрсенией против иностран¬
цев в Китае, подъем национализма в Индии и рождение
арабского национализма. Русская революция 1917 г. дала
новый и решающий импульс. Для нее примечательно то, что
ее лидеры упорно, но тщетно ожидали последователей в
Европе, однако нашли их в конечном итоге в Азии. «Неиз¬
менной» стала Европа, в го время как Азия оказалась на
марше. Мне нет необходимости прослеживать развитие этих
известных событий вплоть до сегодняшнего дня. Историк
пока еще не в состоянии оценить размах и значение азиат¬
ской и африканской революций. Но распространение совре¬
менной технологии и методов промышленного производства,
пробуждение самосознания в области образования и поли¬
тики среди миллионов людей в Азии и Африке изменяют
лицо этих континентов. Хотя я не могу предсказывать буду¬
щее, мне неизвестны какие-либо иные критерии, кроме одно¬
го, позволяющего рассматривать все это как прогрессивное
развитие в перспективе мировой истории. Изменение конту¬
ров мира в результате списанных событий повлекло за со¬
бой, несомненно, относительное уменьшение веса Великобри¬
тании, а быть может, и англоговорящих стран в целом в
мировых делах. Но относительное падение не есть абсолют¬
ное падение, меня тревожит не прогресс в Азии и Африке,
а тенденция господствующих групп в нашей стране и, воз¬
можно, в некоторых других, которая направлена на то, что¬
бы игнорировать или не вникать в эти события, занимать в
отношении их позицию, колеблющуюся между недоверчивым
презрением и внешней снисходите, пел rio, if отступать к па¬
рализирующей ностальгии по прошлому.
То, что я назвал расширением разума в нашей револю¬
ции XX столетия, имеет особые последствия для историка,
ибо это расширение значения интеллекта, по существу, озна¬
чает появление в истории групп, классов, народов и континен¬
тов, которые до тех пор были вне ее. В моей первой лекции
я высказывал предположение, что тенденция историксв-ме-
диевистов рассматривать средневековое общество поре: оч¬
ки религии объясняется своеобразным характером их источ¬
ников. Я разовью дальше мою аргументацию. На мой взгляд,
правильно, хотя и несколько преувеличено, утверждение
о том, что христианская церковь была «слнпственным ра¬
циональным институтом в средние века»1 Как единственный
1 A. von Martin. The Sociology of the Renaissance, Engls. transl.,
1945, p. 18.
126
рациональный институт, она одновременно была единствен¬
ным историческим институтом, а следовательно, единствен¬
ным субъектом рационального хода развития, который мо¬
жет быть понят историком. Церковь формировала и органи¬
зовывала светское общество, которое не имело собственной
рациональной жизни. Масса народа, включая людей доисто¬
рического периода, принадлежала скорее природе, чем ис¬
тории. Современная история начинается с того, что все
больше и больше людей обретают социальное и политиче¬
ское самосознание, соответственные группы начинают осо¬
знавать себя как исторические сообщества, имеющие прош¬
лое и будущее, и полностью вступают в историю. Пожалуй,
только в последние двести лет даже в немногих передовых
странах социальное, политическое и историческое самосозна¬
ние начало распространяться на большинство населения.
Лишь ныне стало возможным впервые вообще представлять
мир как состоящий из народов, в полном смысле этого сло¬
ва вступивших в историю, которыми занимаются уже не ко¬
лониальные администраторы или антропологи, а историки.
Это революция в нашей концепции истории. В XVIII сто¬
летии история оставалась историей элит. В XIX столетии
английские историки начали с паузами и спазматически дви¬
гаться к взгляду на историю как историю всей нации. До¬
вольно банальный историк Дж. Р Грин прославился, напи¬
сав первую «Историю английского народа». В XX веке каж¬
дый историк на словах воздаст должное этой концепции, и,
хотя их достижения не всегда профессиональны, я пройду
мимо этих недостатков, ибо меня куда больше тревожит
наша неспособность как историков проанализировать рас¬
ширяющиеся горизонты вне нашей страны и Западной Евро¬
пы. Выступая с докладом в 1896 г. Эктон говорил об уни¬
версальной истории, «отличной от объединенной истории
всех стран». Он продолжал: «При последовательном созда¬
нии такой истории история отдельных народов носит вспо¬
могательный характер. Их историю разрабатывают не ради
нее, но в связи и подчинении высшему замыслу, в соответ¬
ствии со временем и степенью их вклада в общую судьбу
человечества»1.
Для Эктс-на представлялось само собой разумеющимся,
что задуманная им универсальная история — дело каждо¬
го серьезного историка. Что же мы делаем ныне, чтобы об¬
легчить подход к универсальной истории в этом смысле?
Я не намеревался в этих лекциях касаться постановки
изучения истории в Кэмбриджском университете. Однако
рассмотрение этого дает такие поучительные примеры к то-
1 “Cambridge Modern History: Its Origin, Authrship and Production”,
1907, p. 14.
127
му, что я стараюсь донести до вас, что было бы непрости¬
тельным обойти эту труднейшую задачу. В последние 40 лет
мы отвели в наших учебных планах значительное место ис¬
тории Соединенных Штатов. Это важное достижение. Но это
повлекло за собой определенный риск дальнейшего усиле¬
ния ограниченности истории Англии, которая и без того уже
наложила мертвую руку на наши учебные планы, а также
в равной степени ограниченности истории англоговорящего
мира. История англоязычного мира в минувшие 400 лет бы¬
ла, вне всяких сомнений, великой эпохой. Однако ставить ее
в центр универсальной истории, рассматривая все остальное
как второстепенное, — прискорбное смещение перспективы.
Долг университетов — исправить широко распространенные
извращения такого рода. Изучение современной истории в
Кембриджском университете, на мой взгляд, не связано с
выполнением этого долга. Совершенно неправильно присуж¬
дать ученую степень в крупном университете человеку, не
владеющему в достаточной степени каким-либо современным
языком, помимо английского. Нужно помнить как предосте¬
режение, что случилось в Оксфордском университете с древ¬
ней и уважаемой дисциплиной — философией, — когда за¬
нимавшиеся ею решили, что они прекрасно обойдутся одним
повседневным английским языком. Совершенно неправильно,
что ни на одном факультете не преподается современная
история любой европейской континентальной страны на
уровне выше учебника. Кандидат, обладающий некоторыми
познаниями в делах Азии, Африки или Латинской Америки,
в настоящее время имеет очень ограниченные возможности
продемонстрировать их в работе, носящей крикливое назва¬
ние XIX века — «Экспансия Европы». Название, к сожале¬
нию, соответствует содержанию: от кандидата не требуется
знать ничего даже о странах с примечательной и хорошо
документированной историей, таких, например, как Китай и
Иран, за исключением тех событий, которые связаны с по¬
пытками европейцев захватить их. Мне рассказали, что в
Кембриджском университете читаются лекции по истории
России, Китая и Ирана, но не преподавателями историческо¬
го факультета. Пять лет тому назад профессор, специализи¬
рующийся по Китаю, в своей вступительной лекции выразил
убеждение, что «Китай нельзя изучать вне основного на¬
правления истории». Это суждение историки Кембриджского
университета пропустили мимо ушей. Книга, которую в бу¬
дущем, может быть, будут рассматривать как один из круп¬
нейших трудов, выполненных в Кембридже в последние де¬
сять лет, — исследование доктора Нидхэма «Наука и циви¬
лизация в Китае» — была написана не на историческом фа¬
культете и без какой-нибудь поддержки с его стороны. Это
печальный факт, Я бы не выставлял эти язвы на всеобщее
128
обозрение, если бы не считал, что они типичны для большин¬
ства других английских университетов и английских интел¬
лектуалов середины XX века. Заплесневелая, старая шутка
о нашем островном положении во времена королевы Викто¬
рии — «стоит разразиться шторму — и континент изолиро¬
ван» — ныне приобретает неприятный смысл. В окружаю¬
щем нас мире бушуют штормы, а мы, англоязычные стра¬
ны, сбиваемся в тесную группку и рассказываем друг другу
на простом английском языке, что вот опять другие страны
и континенты в результате своего необычного поведения
изолируются от благ нашей благословенной цивилизации.
Но иногда дело выглядит так, что мы в результате нашей
неспособности или нежелания понять происходящее изоли¬
руемся от реальной действительности.
Уже во вводных фразах моей первой лекции я привлек
внимание к резкому различию в мировоззрении середины
XX века от мировоззрения последних лет XIX столетия.
В заключение я хочу еще более оттенить этот контраст, и
если в этом контексте я использую слова «либеральная»
или «консервативная», то нетрудно понять, что я употреб¬
ляю их не в качестве ярлыков для обозначения английских
политических партий. Когда Эктон говорил о прогрессе, он
не представлял его в терминах популярной английской кон¬
цепции «постепенности». «Революция или, как мы скажем,
либерализм» — вот поразительная фраза из письма 1887 г.
«Методом современного прогресса, — заявил он спустя де¬
сять лет в лекции о современной истории, — была револю¬
ция», а в другой лекции он говорил «о приходе общих идей,
которые мы именуем революцией». Это объясняется в одной
из его неопубликованных рукописных заметок: «Виги прави¬
ли на основе компромисса, либералы дают возможность
царствованию идей»1 Эктон верил, что «царствование идей»
означает либерализм, а либерализм означает революцию.
Во время жизни Эк'юна либерализм еще не исчерпал свою
силу, направленную на динамичные социальные изменения.
В наше время то, что осталось от либерализма, преврати¬
лось везде в консервативный фактор истории. Ныне бессмыс¬
1 См. эти цитаты: Acion. Selections from Correspondense, 1917, p. 278;
“Lectures on Modern History”, 1906, p. 4, 32; Плюс рукописный фонд
MSS. 4949 (Библиотека Кембриджского университета). В процитирован¬
ном выше письме 1887 г. Эктон отмечает изменения от «старых» к «но¬
вым» вигам (то есть либералам), что означает «открытие сознания», а
«сознание» в этом случае, очевидно, связано с развитием «осознания»
(см. р. 115 и выше) и соответствует «царствованию идей». Стаббс также
разделил современную историю на два периода по грани французской
революции: «первый период — история власти, силы и династий, вто¬
рой — история того, как идеи овладевают правами и формами»
(W Siubbs. Seventeen Lectures on the Study of Mediaeval and Modern
History, 3rd ed., 1900, p. 239).
129
ленно проповедовать возврат к Эктону. Но дело историка,
во-первых, выяснить позицию Эктона, во-вторых, противопо¬
ставить ее позиции современных мыслителей и, в-третьих,
выяснить, какие элементы в его позиции сохранили значение
в наши дни. Несомненно, поколение Эктона страдало от из¬
бытка невероятной самоуверенности и оптимизма и недоста¬
точно осознавало шаткость структуры, на которой покоилась
эта вера. Однако это поколение обладало двумя вещами, в
которых мы теперь остро нуждаемся, — считало изменение
прогрессивным фактором в истории и верило в разум как
руководство для понимания ее сложностей.
Теперь послушаем некоторые голоса 50-х годов. В одной
из предшествующих лекций я сослался на то, что сэр Льюис
Нэмир выразил удовлетворение по следующему поводу: хо¬
тя «практические решения» ищут для «конкретных проблем»,
«программы и идеалы предаются забвению обеими партия¬
ми», и он отозвался об этом как с симптоме «национальной
зрелости». Я не люблю аналогий между продолжительностью
жизни индивидуумов и наций, но если к такой анало¬
гии прибегают, тогда возникает соблазн спросить все же, что
последует за тем, когда мы пройдем этап «зрелости». Меня
интересует резкий контраст, проводимый между превозноси¬
мой конкретной практичностью и «программами и идеала¬
ми», которые осуждаются. Это восхваление практических
действий по сравнению с идеалистическим теоретизировани¬
ем, вне всяких сомнений, отличительный признак консерва¬
тизма. В мировоззрении Нэмира это голос XVIII столетия,
голос Англии времен восшествия Георга III, времен проте¬
ста против грядущего нашествия революций Эктона и цар¬
ствования идей. Но аналогичные знакомые выражения край¬
него консерватизма в форме резкого эмпиризма в высшей
степени распространены в наши дни. В самой популярной
форме их можно обнаружить в сентенции профессора Тре¬
вора-Ропера о том, что, «когда радикалы кричат о своей бес¬
спорной победе, разумные консерваторы бьют их по носу»1 2
Профессор Оакшот предлагает нам более сложную вер¬
сию этого модного эмпиризма: в наших политических забо¬
тах, говорит он нам, мы «пускаемся в плавание по безгра¬
ничному и бездонному морю», где нет «ни пункта отправле¬
ния, ни предуказанного направления», и где наша единствен¬
ная цель, возможно, сводится к тому, чтобы «остаться на
плаву, избежав крена». Мне нет необходимости ворошить
списки недавних авторов, которые поносили политический
«утопизм» и «мессианство», таковы современные термины,
1 “Encounter”, VII, No. 6, June 1957, р. 17.
2 Af. Oakeshott. Political Education, 1951, p. 22.
130
означающие одобрение далеко идущих радикальных идей о
будущем обществе. Я не буду пытаться разбирать и новей¬
шие тенденции в США, где истерики и политические теоре¬
тики имеют меньше сдерживающих мотивов, чем их англий¬
ские коллеги, чтобы открыто декларировать свою привер¬
женность консерватизму. Я процитирую только замечание
одного из самых выдающихся и самых умеренных американ¬
ских консервативных историков, профессора Гарвардского
университета Сэмюэля Морисона, который в своем прези¬
дентском обращении к Американской исторической ассоциа¬
ции в декабре 1950 г. заявил, что пришло время выступить
против «линии Джефферсона — Джэксона — Франклина
Д. Рузвельта», п высказался за то, чтобы история США
«была написана со здравей консервативной точки зрения»1 2.
Профессор Поппер, по крайней мере в Великобритании,
еще раз выразил это осторожнее консервативное мировоззре¬
ние в самой ясной и самой бескомпромиссной форме. Вторя
Нэмиру, отвергающему «программы и идеалы», он обрушил¬
ся на политику, которая будто бы нацелена на «перестрой¬
ку» всего общества «по определенному плану». Он превоз¬
носит то, что он именует «постепенной социальной инжене¬
рией», и, по-видимому, не останавливается перед тем, что¬
бы бросать тень на «постепенное латание дыр» и «кое-как
доводить дело до конца»2. По одному вопросу я обязан воз¬
дать должное профессору Попперу. Он остается стойким за¬
щитником разума и не примирится ни с прошлыми, ни теку¬
щими экскурсами в иррационализм. Однако, если вникнуть
в его рецепты «постепенной социальной инженерии», видно,
какую заметную роль он отводит разуму.
Хотя определение «постепенной социальной инженерии»
расплывчато, нам специально разъясняют: критика «це¬
лей» исключается, а осторожные примеры, которыми он ил¬
люстрирует ее законную деятельность, — «конституционная
реформа», «тенденция к выравниванию доходов» — ясно по¬
казывают, чго речь идет о действиях, предполагающих сохра¬
нение нашего существующего общества3. Статус интеллекта
в системе профессора Поппера, по существу, напоминает по¬
ложение английского гражданского служащего, располагаю¬
щего полномочиями проводить политику правительства, стоя¬
щего у власти и даже могущего вносить рекомендации про¬
ведения практических улучшений, чтобы усовершенствовать
ее, однако не могущего ставить под сомнение ее корен¬
ные предпосылки или конечные цели. Это полезная работа,
я знаю: в свое время и я был гражданским служащим. Но
1 “American Historical Review”, January 1951, p. 272—273.
2 К. Popper. The Poverty of Historicism, 1957, p. 67, 74.
3 Ibid., p. 64, 68.
это подчинение разума потребностям существующего поряд¬
ка представляется мне в конечном итоге неприемлемым. Не
такую роль Эктон отводил разуму, когда он проповедовал
свою формулу: революция = либерализация = царствование
идей. Прогресс в делах людей независимо от того, идет ли
речь о науке, истории или обществе, достигается главным
образом смелой решимостью не ограничиваться достижени¬
ем постепенных изменений в ведении дел, но бросать реши¬
тельный вызов во имя разума нынешнему образу действия
и признанным или тайным предпосылкам, на которых он ос¬
новывается. Я предвкушаю наступление такого времени,
когда историки, социологи и политические мыслители англо¬
язычного мира вновь обретут мужество для решения этой
задачи.
Однако больше всего меня беспокоит не ослабление веры
в разум среди интеллигенции и политических мыслителей
англоязычного мира, а утрата всепоглощающего ощущения
того, что мир пребывает в постоянном движении. На первый
взгляд, это выглядит парадоксально, ибо, пожалуй, никогда
не было слышно столько поверхностных разговоров о происхо¬
дящих вокруг нас изменениях. Примечательно, однако, что
изменения больше не считают достижениями, возможностями
или прогрессом — их боятся. Когда наши политические и
экономические мудрецы дают советы, им нечего предложить
нам, кроме предостережений не доверять радикальным и
далеко идущим идеям, остерегаться всего отдающего рево¬
люцией и идти вперед, если уж это нужно, максимально
медленно и осторожно. В эпоху, когда мир меняет свое ли¬
цо быстрее и радикальнее, чем в какое-либо другое время
в последние 400 лет, это представляется мне поразительной
слепотой, дающей основание опасаться того, что остановится
не движение, охватывающее весь мир, а Великобритания, и,
быть может, другие англсговорящие страны могут отстать
от общего движения вперед и оказаться беспомощными и
безропотными в ностальгических застойных водах. Что
касается меня, то я остаюсь оптимистом. И когда сэр Льюис
Нэмир предостерегает меня избегать программ и идеалов,
а профессор Оакшот говорит мне, что, собственно, мы никуда
не движемся, а все дело в том, чтобы не раскачивать лодку,
профессор Поппер хочет ездить все на той же милой его
сердцу старой модели «форда», подремонтировав ее неболь¬
шой «постепенной инженерией», профессор Тревор-Ропер
лупит кричащих радикалов по носу, профессор Морисон тре¬
бует, чтобы историю писали в здравом консервативном духе,
я взгляну на мир в смятении, на мир в трудах и отвечу по¬
рядком истертыми словами великого ученого: «И все-таки
она вертится».