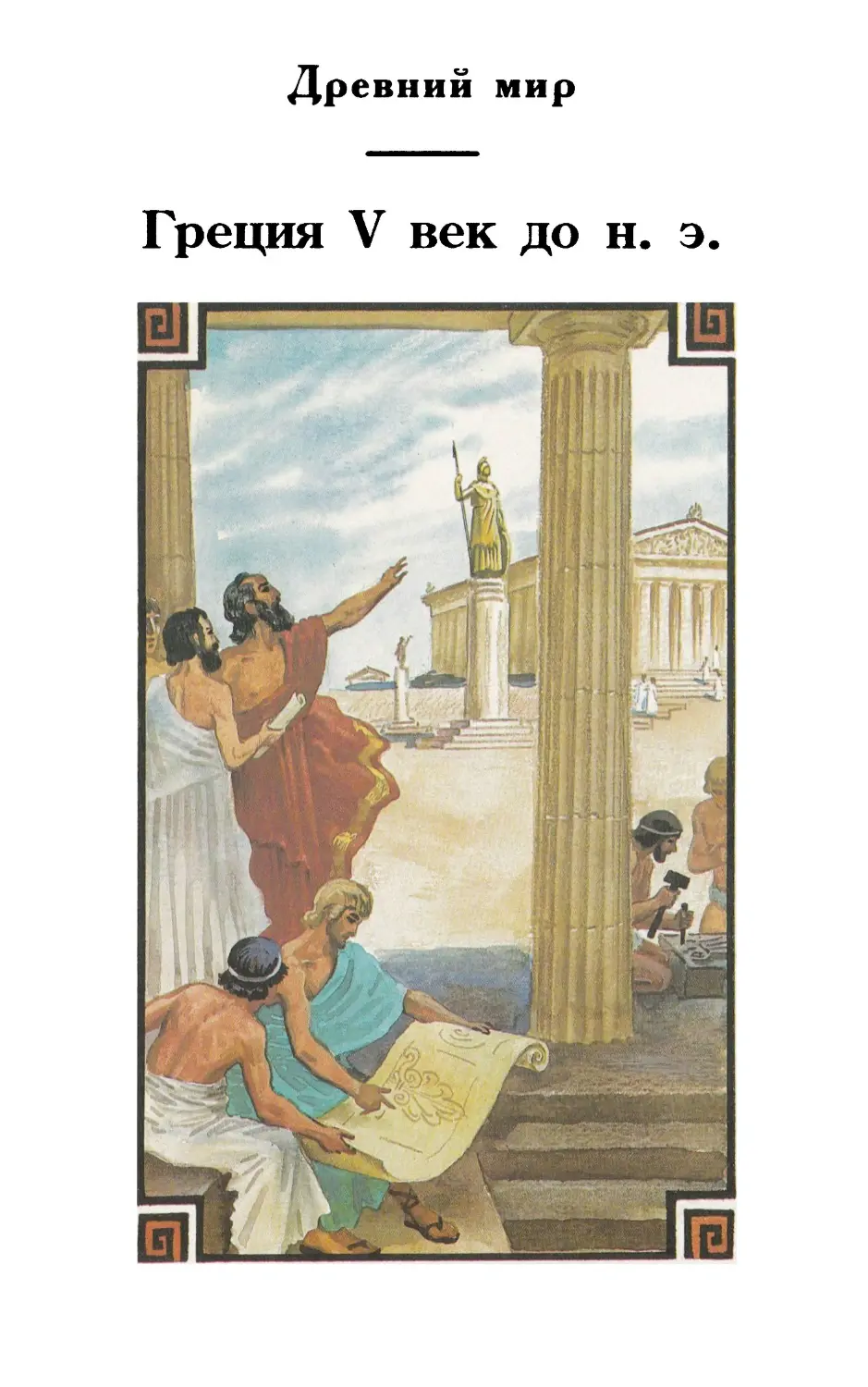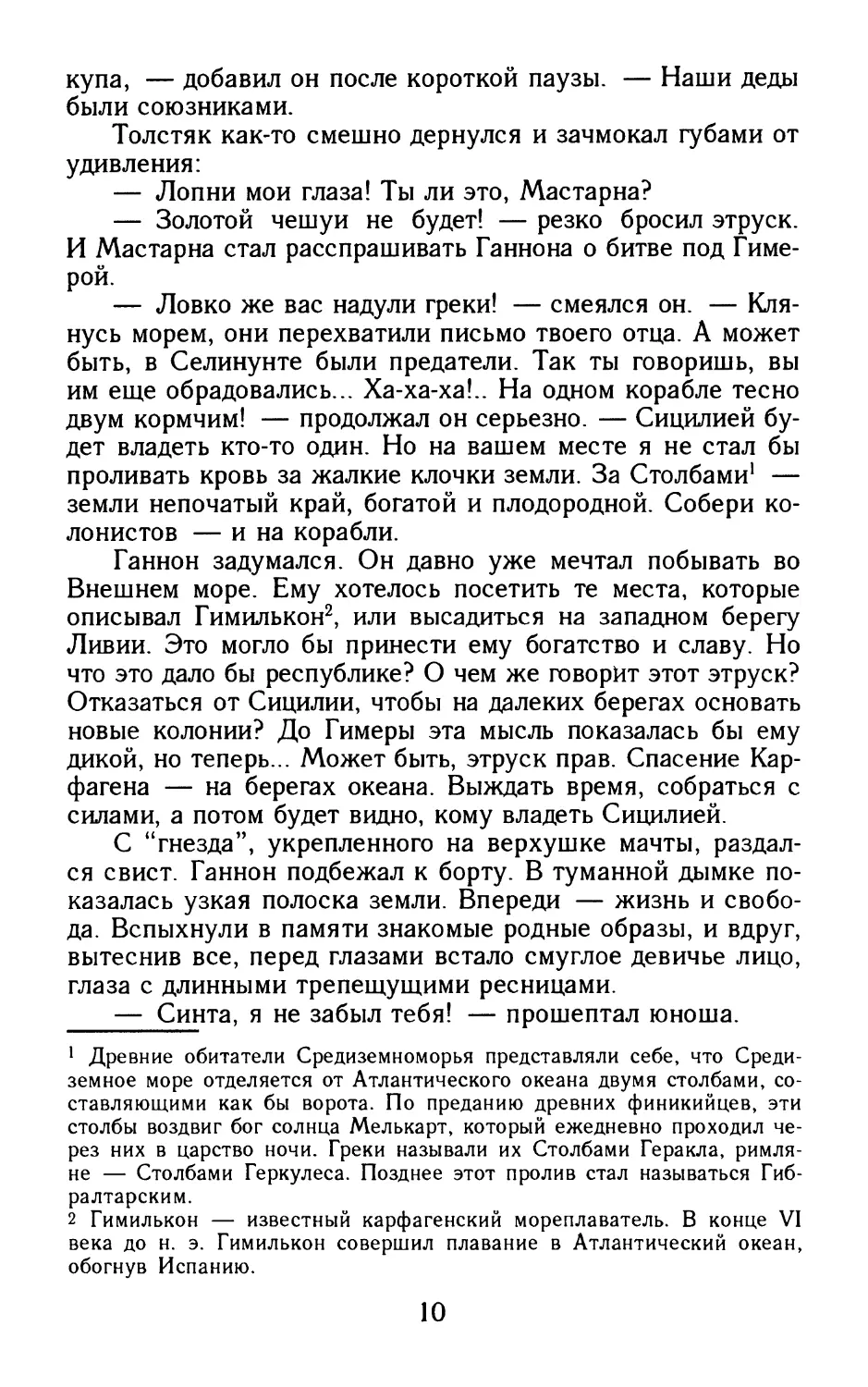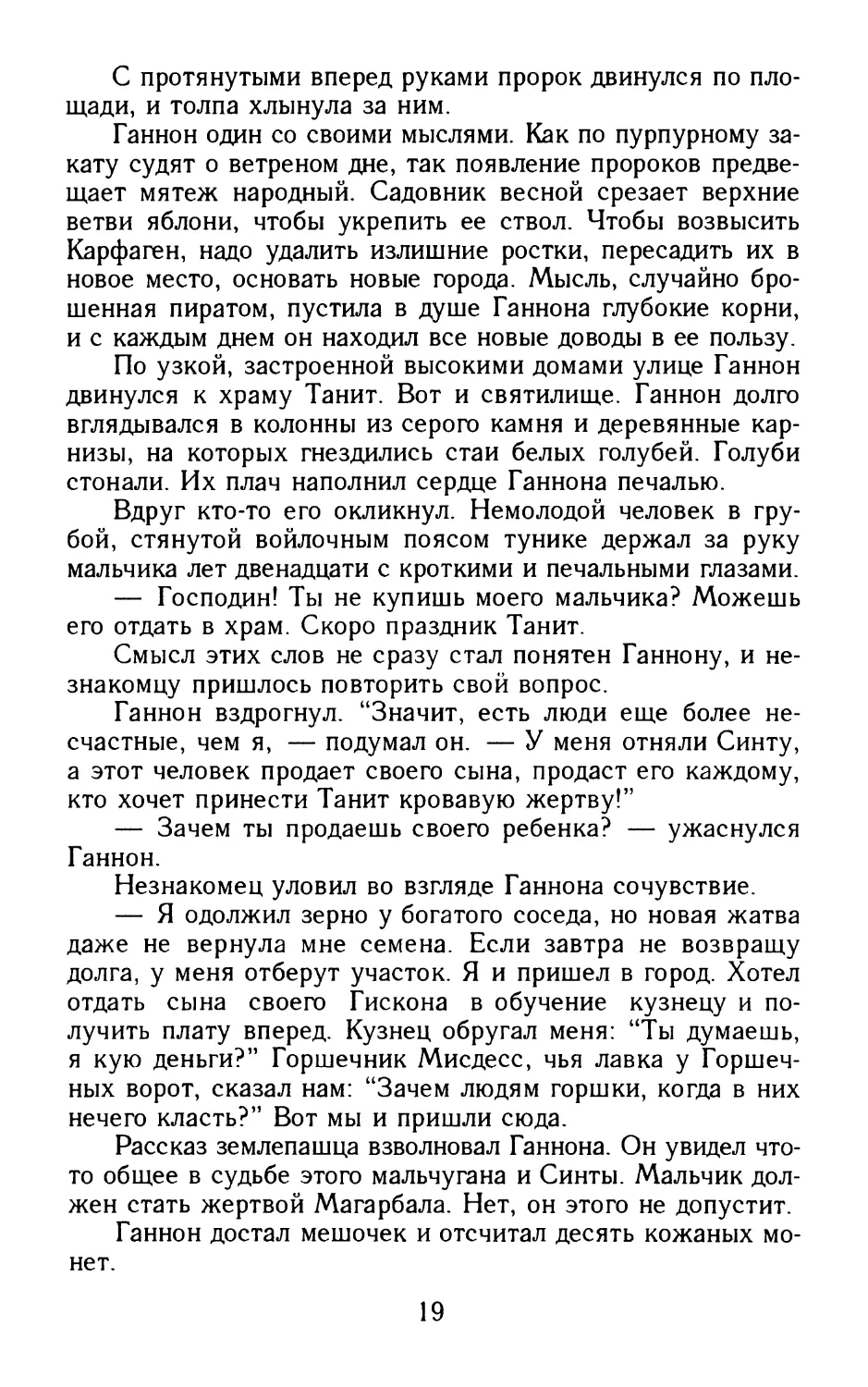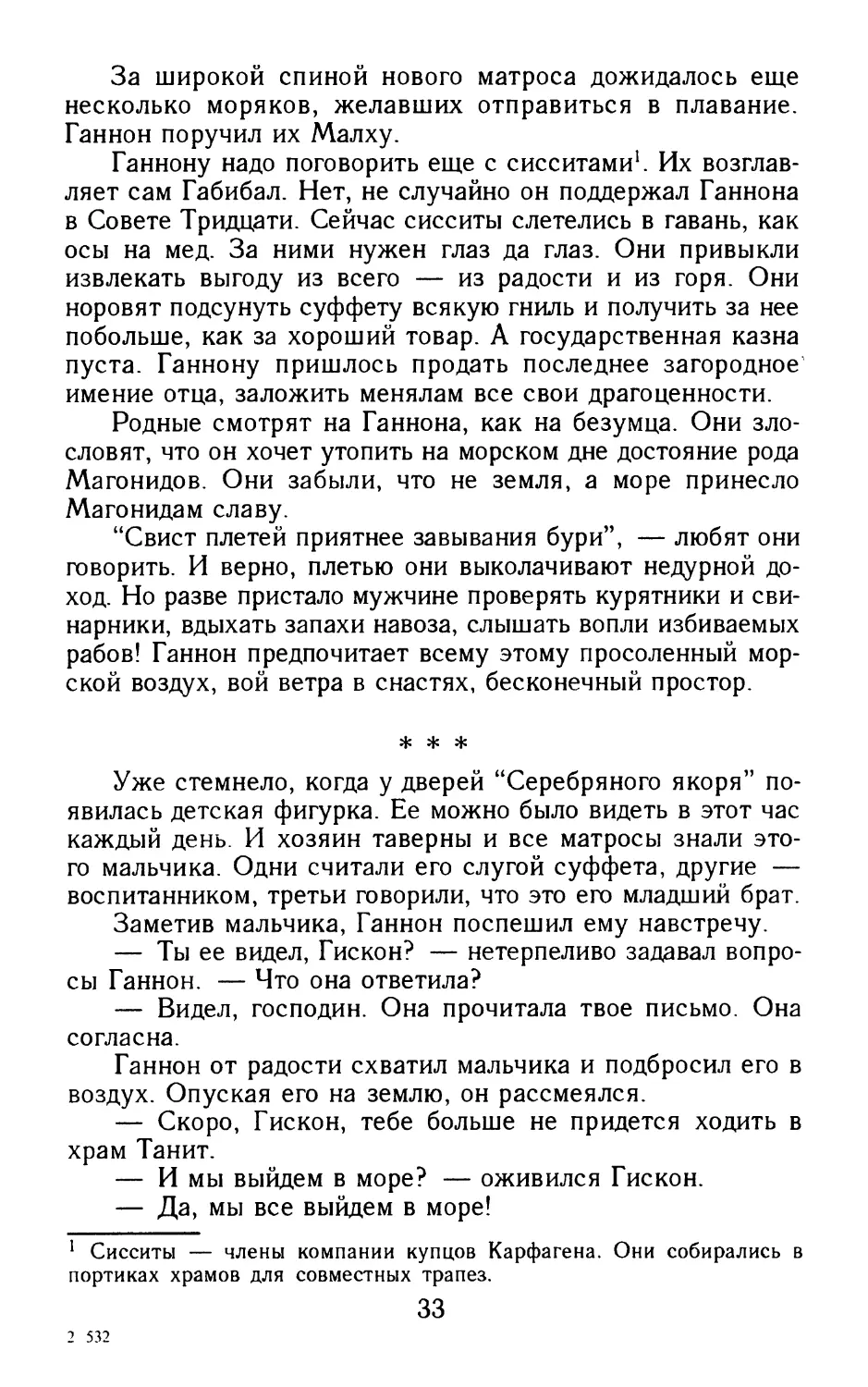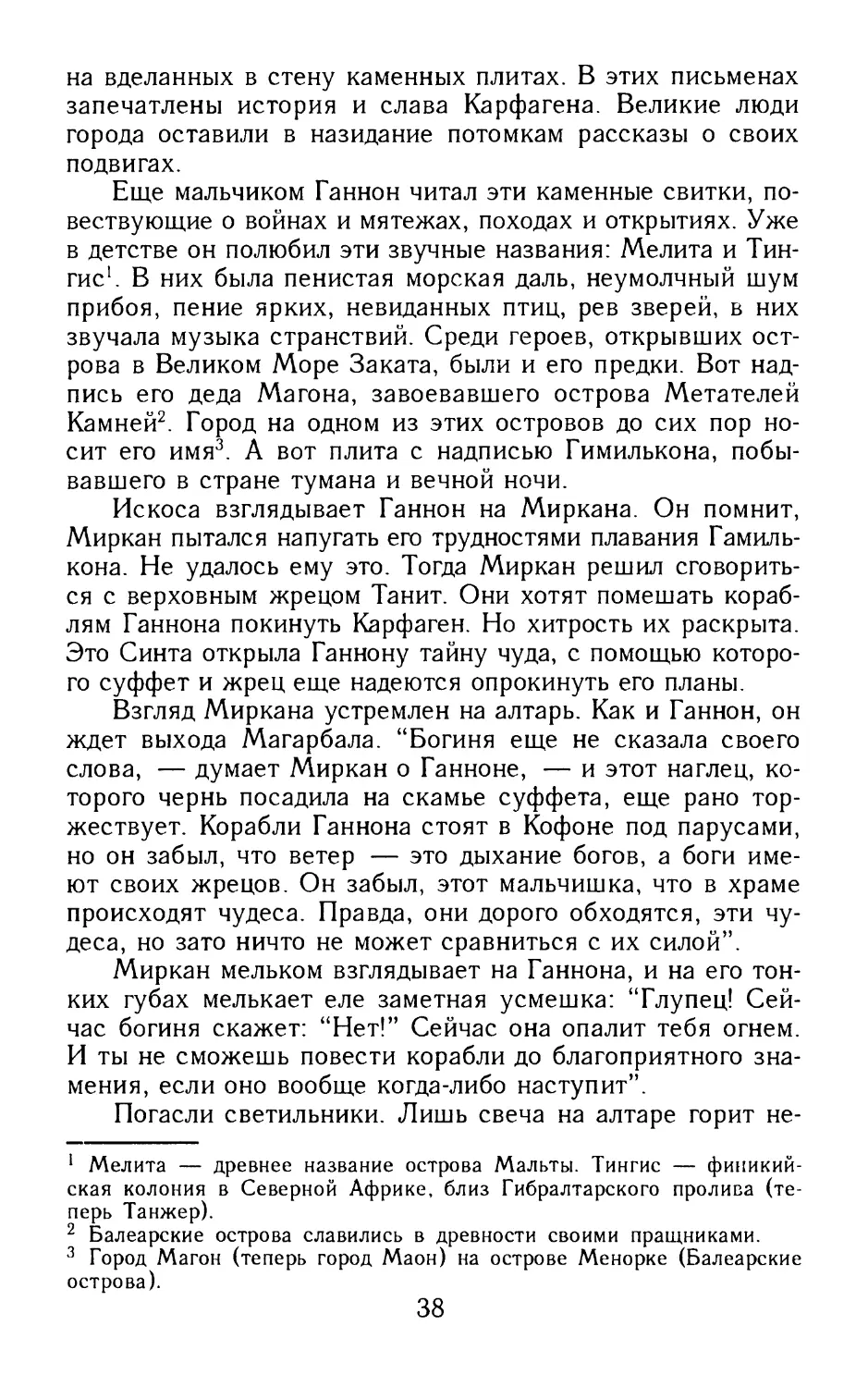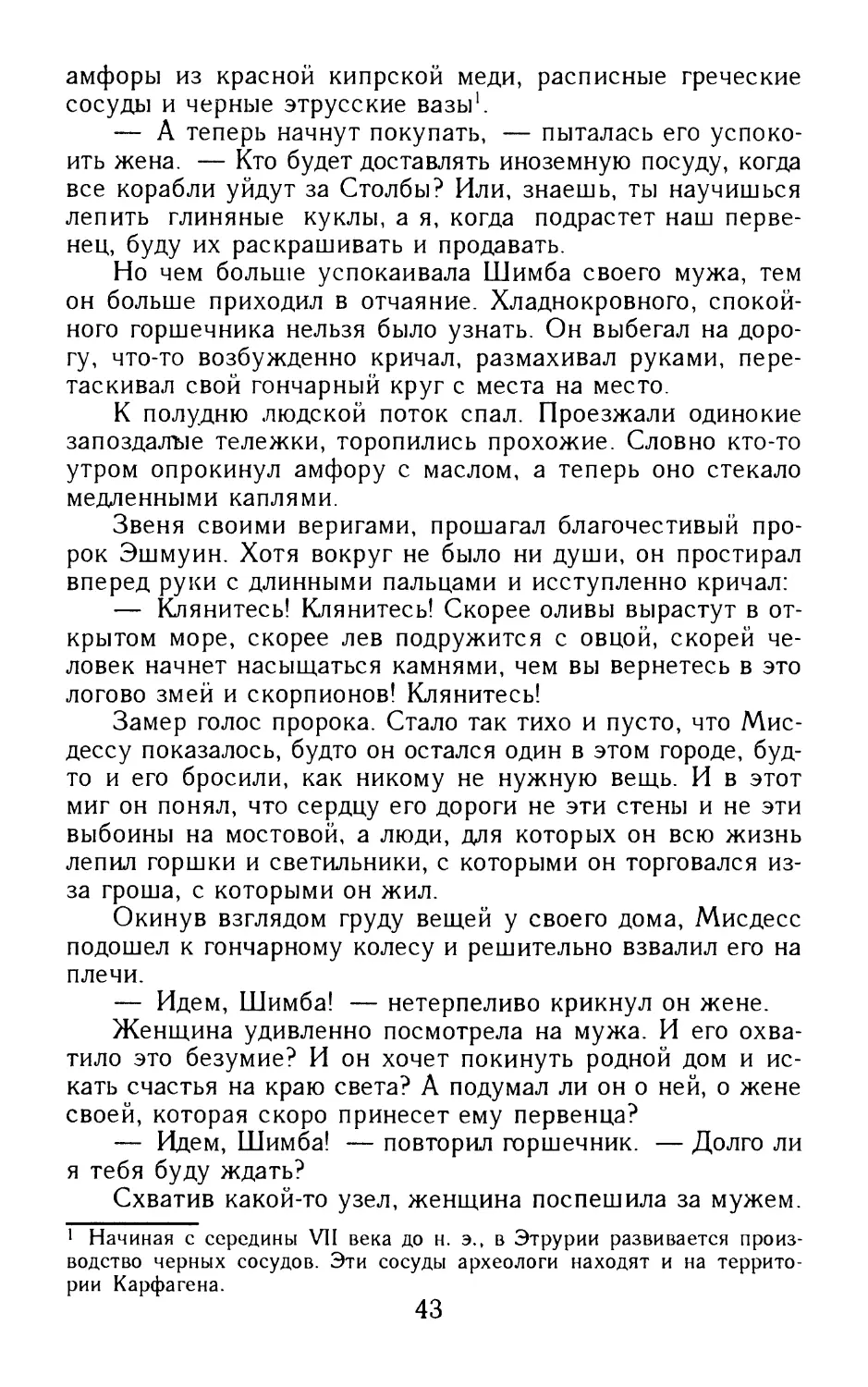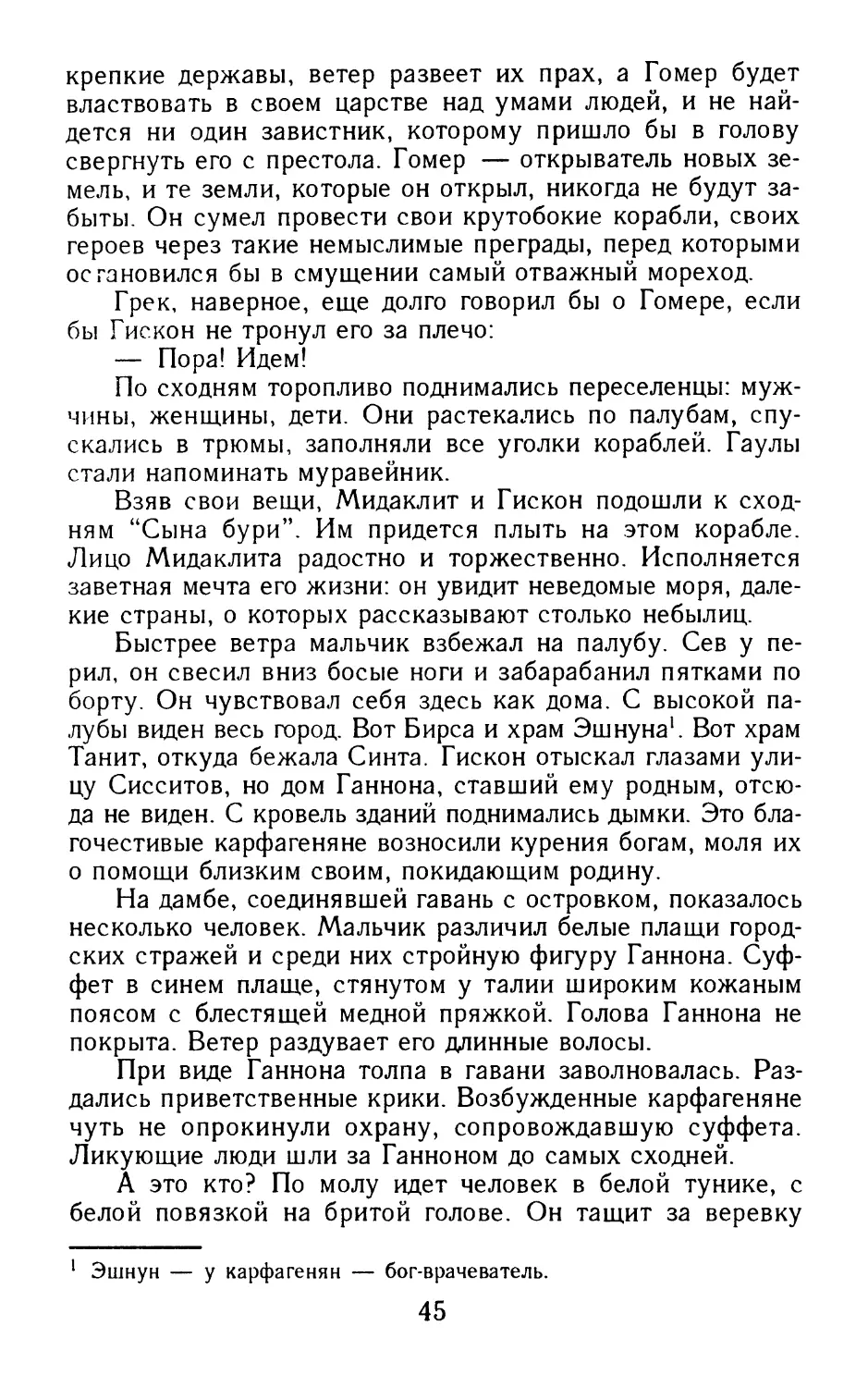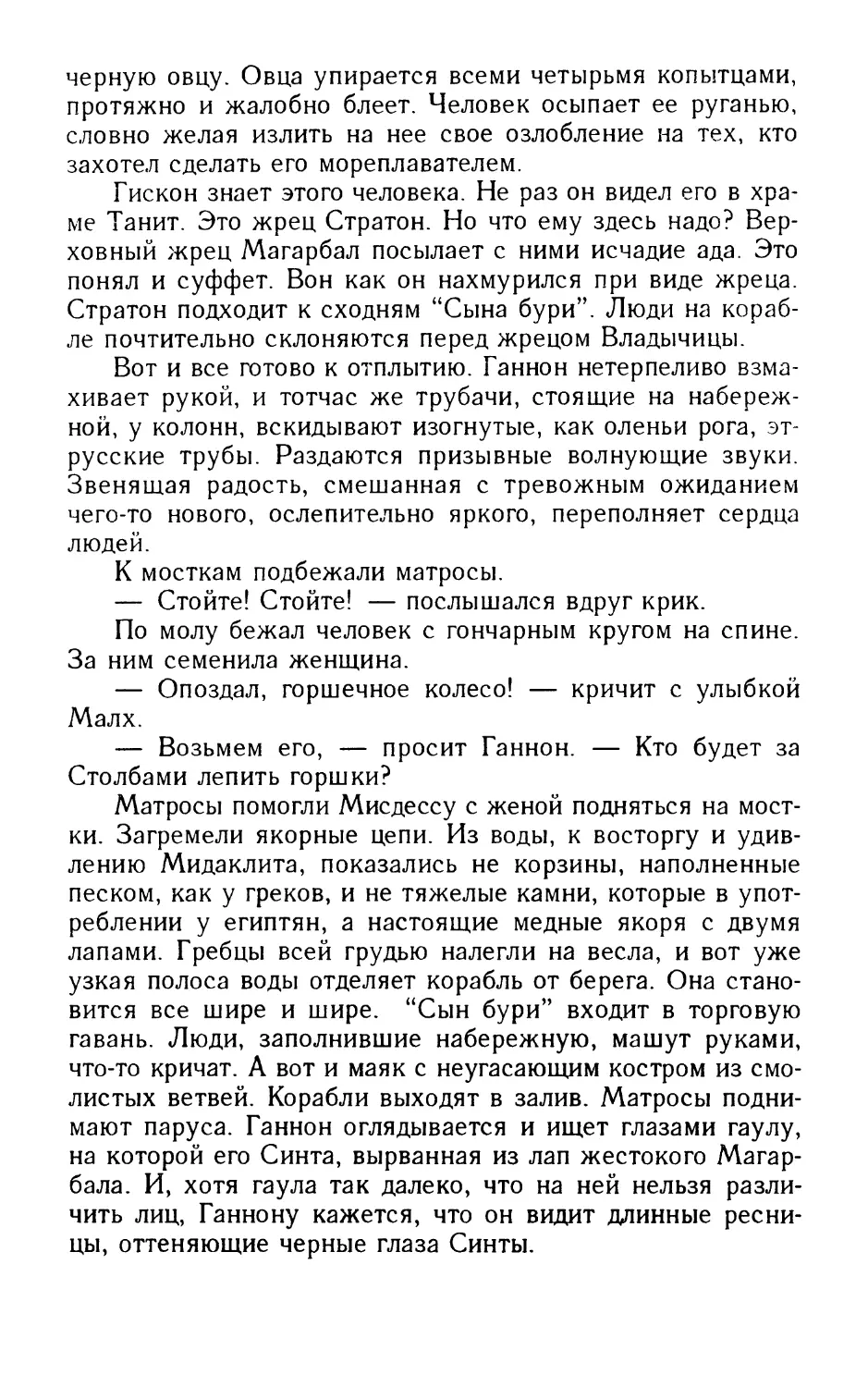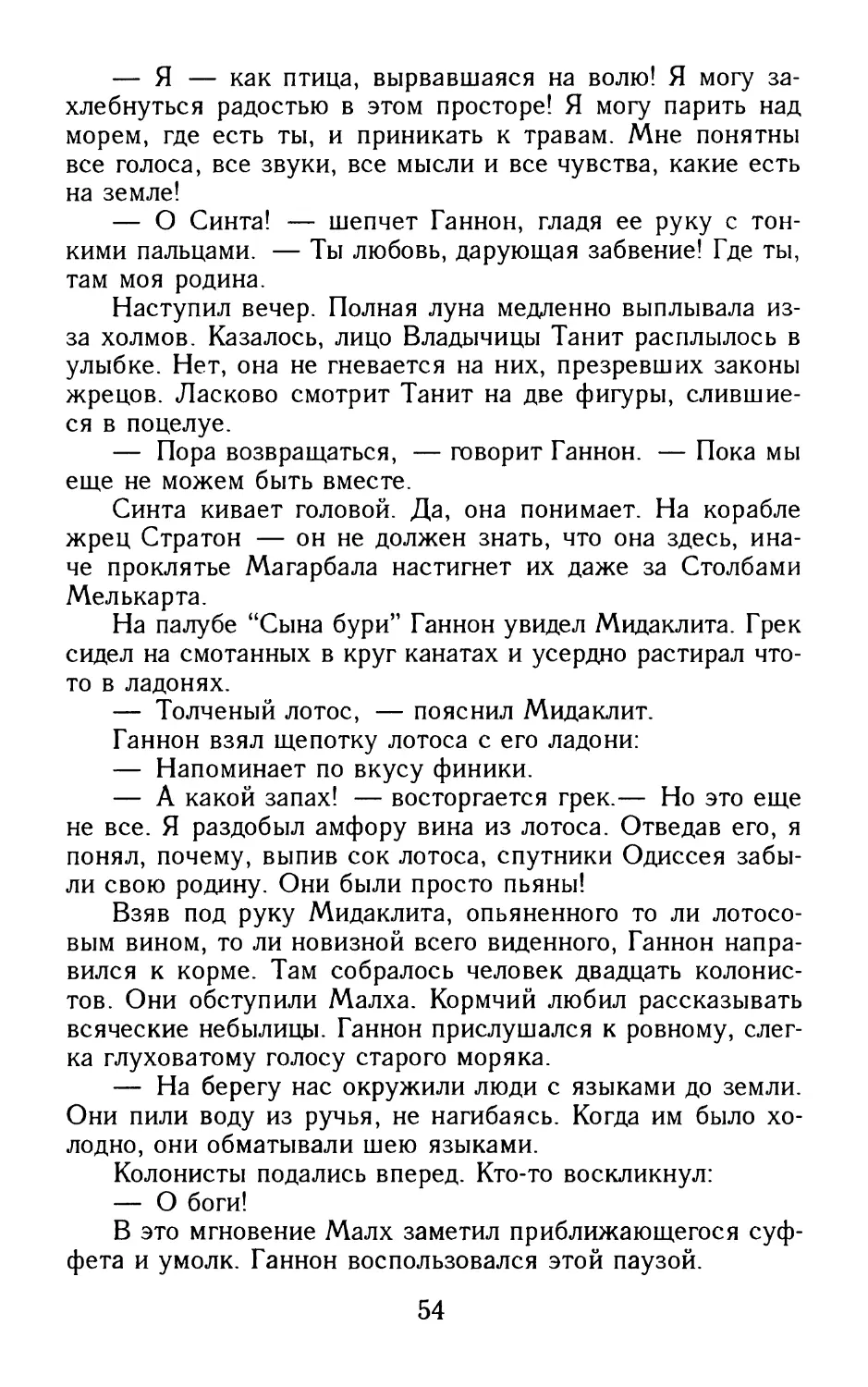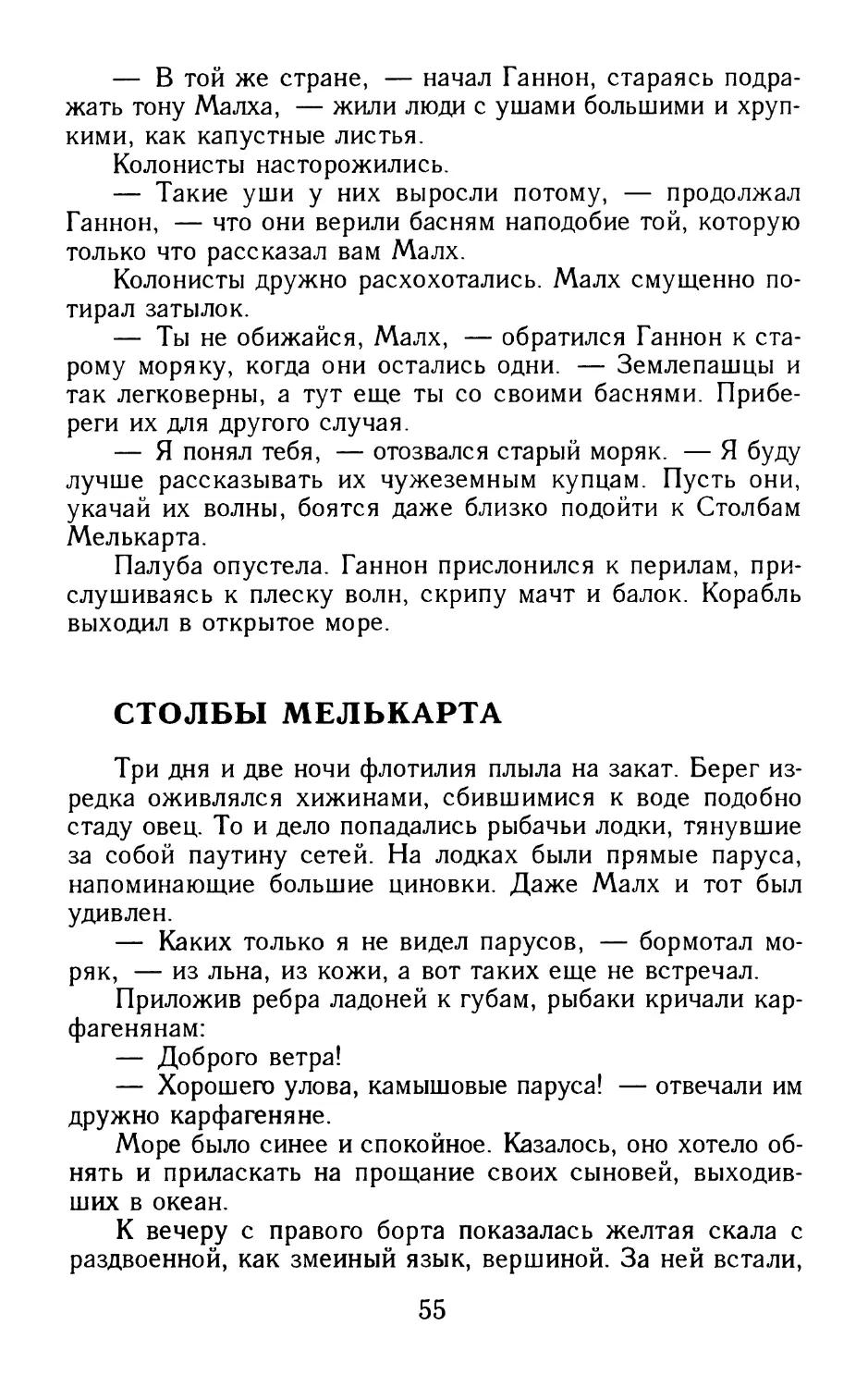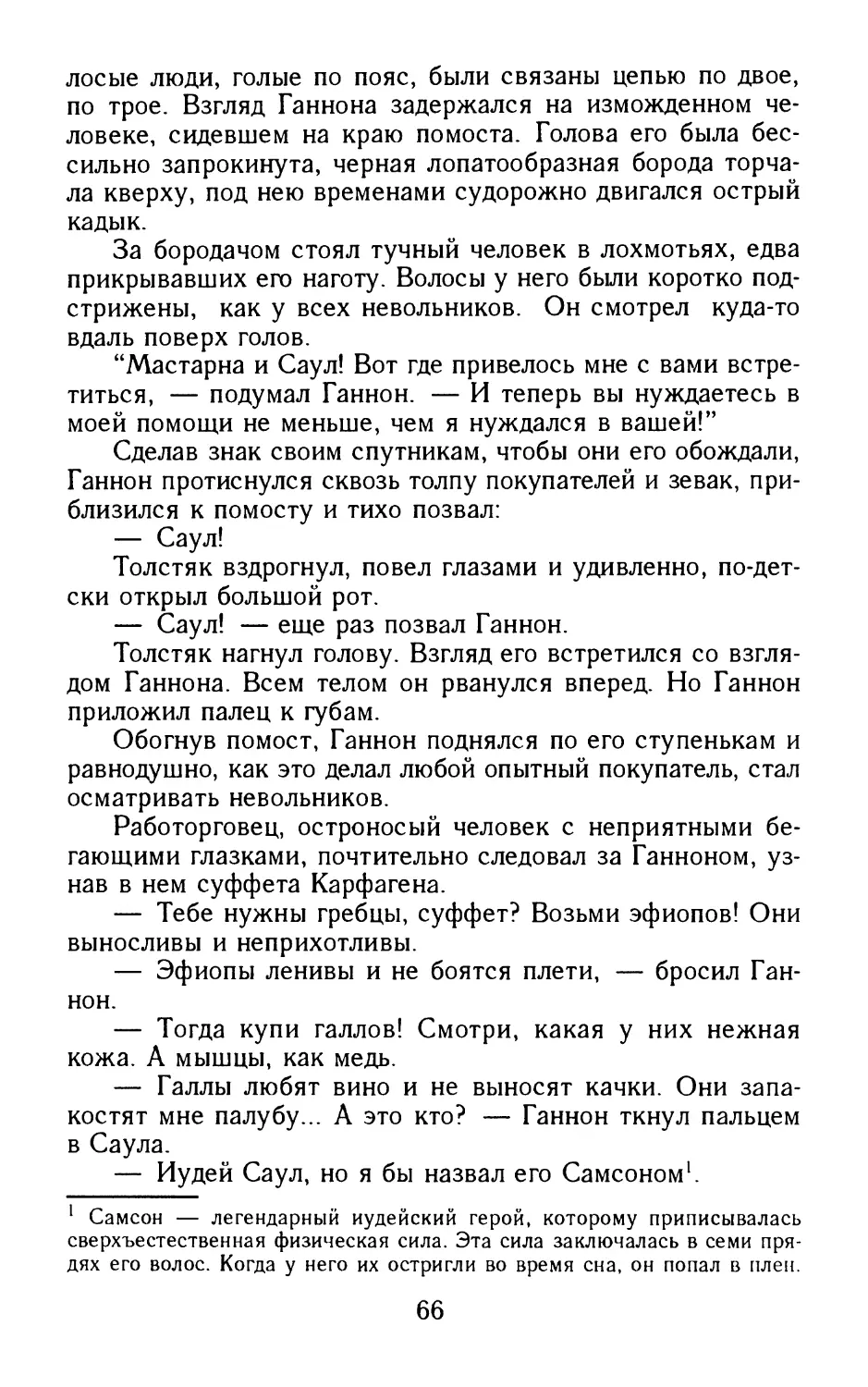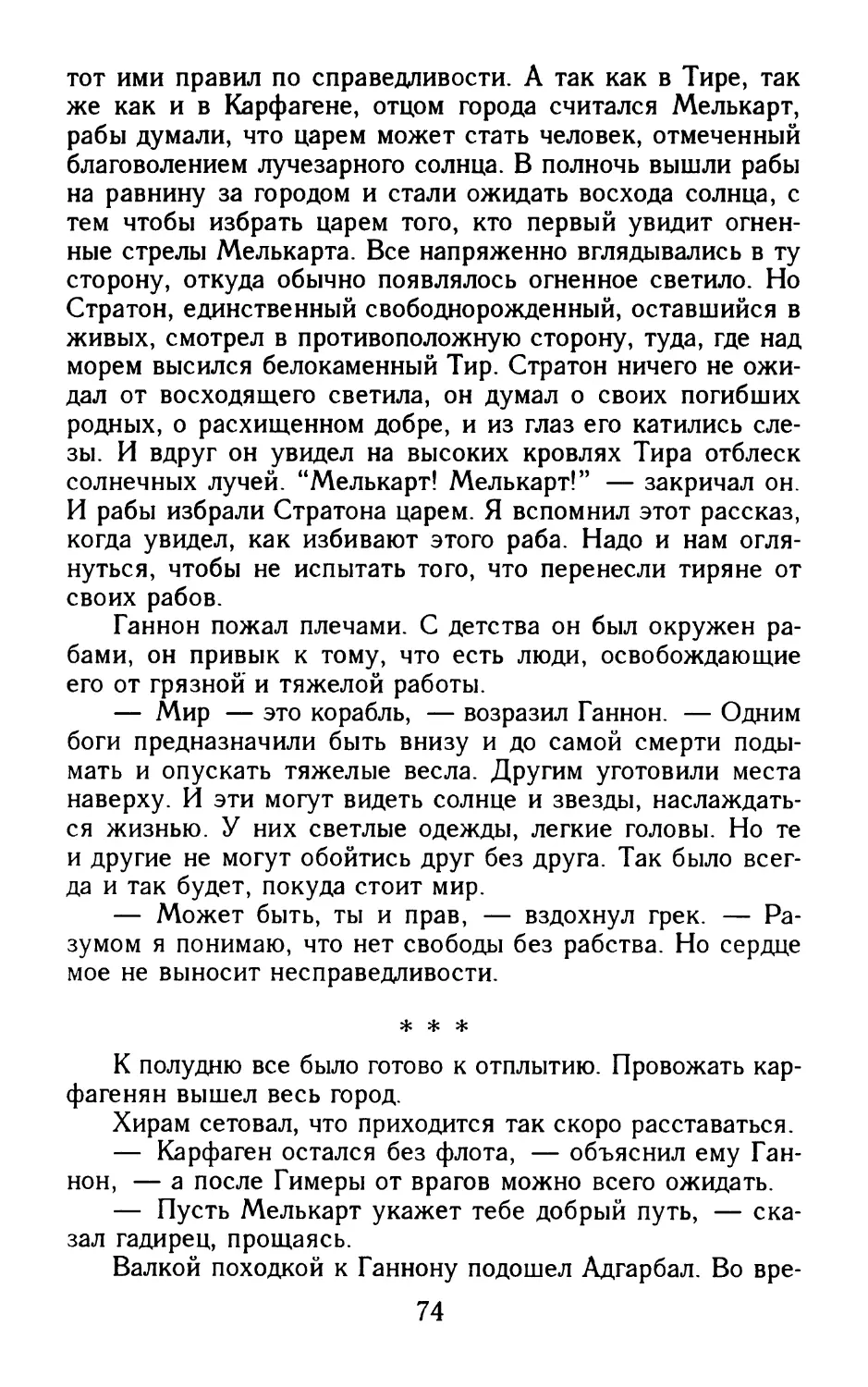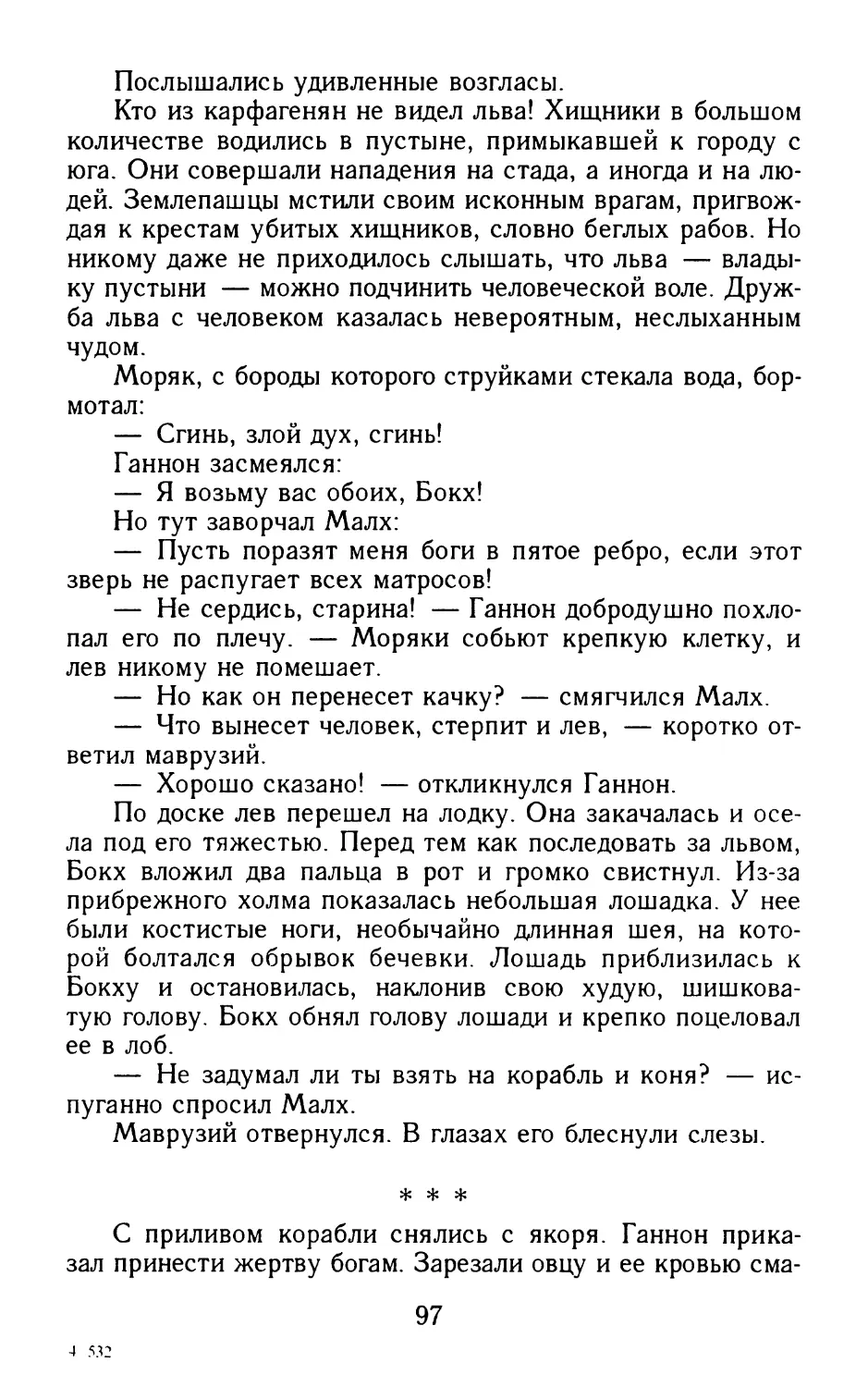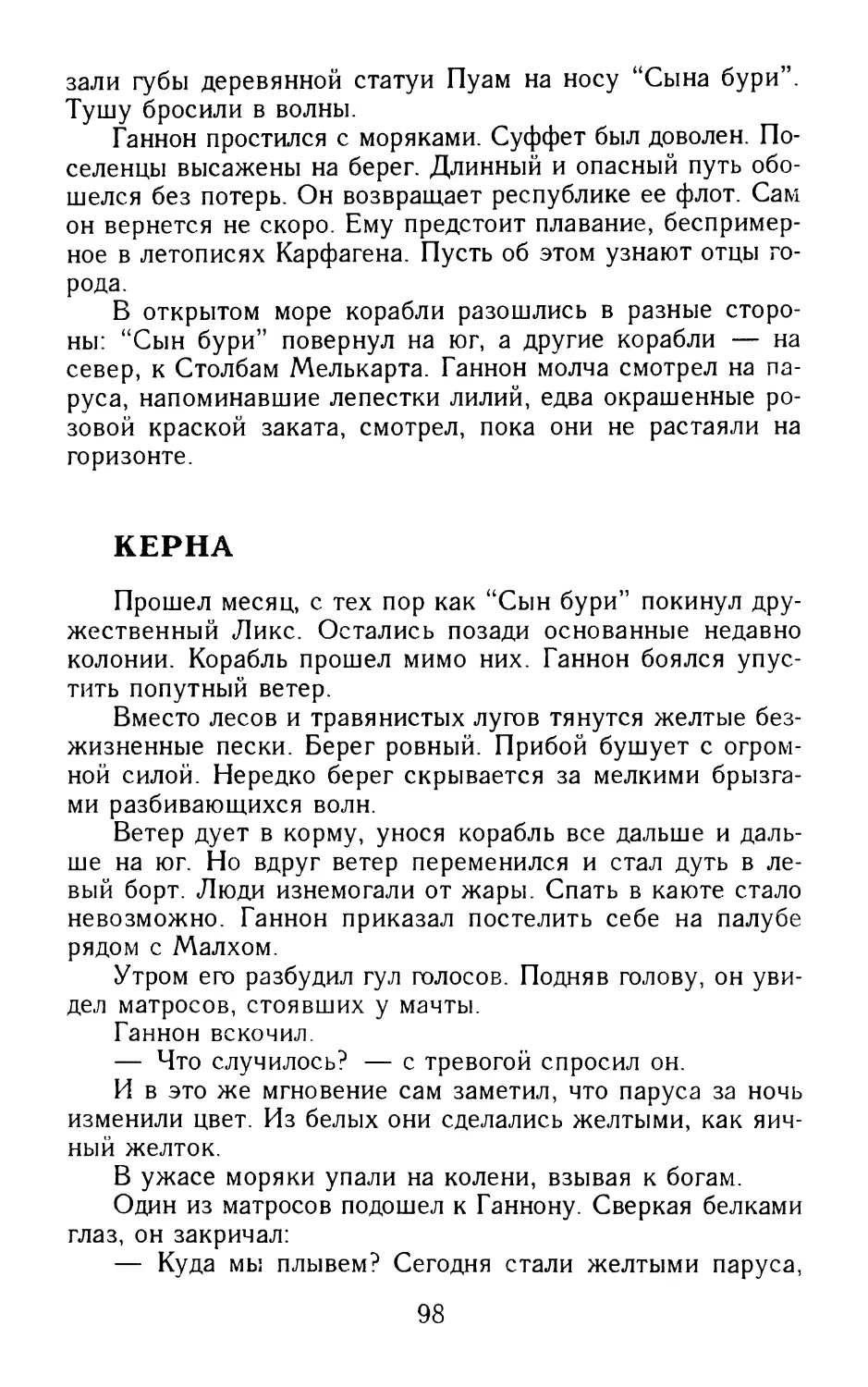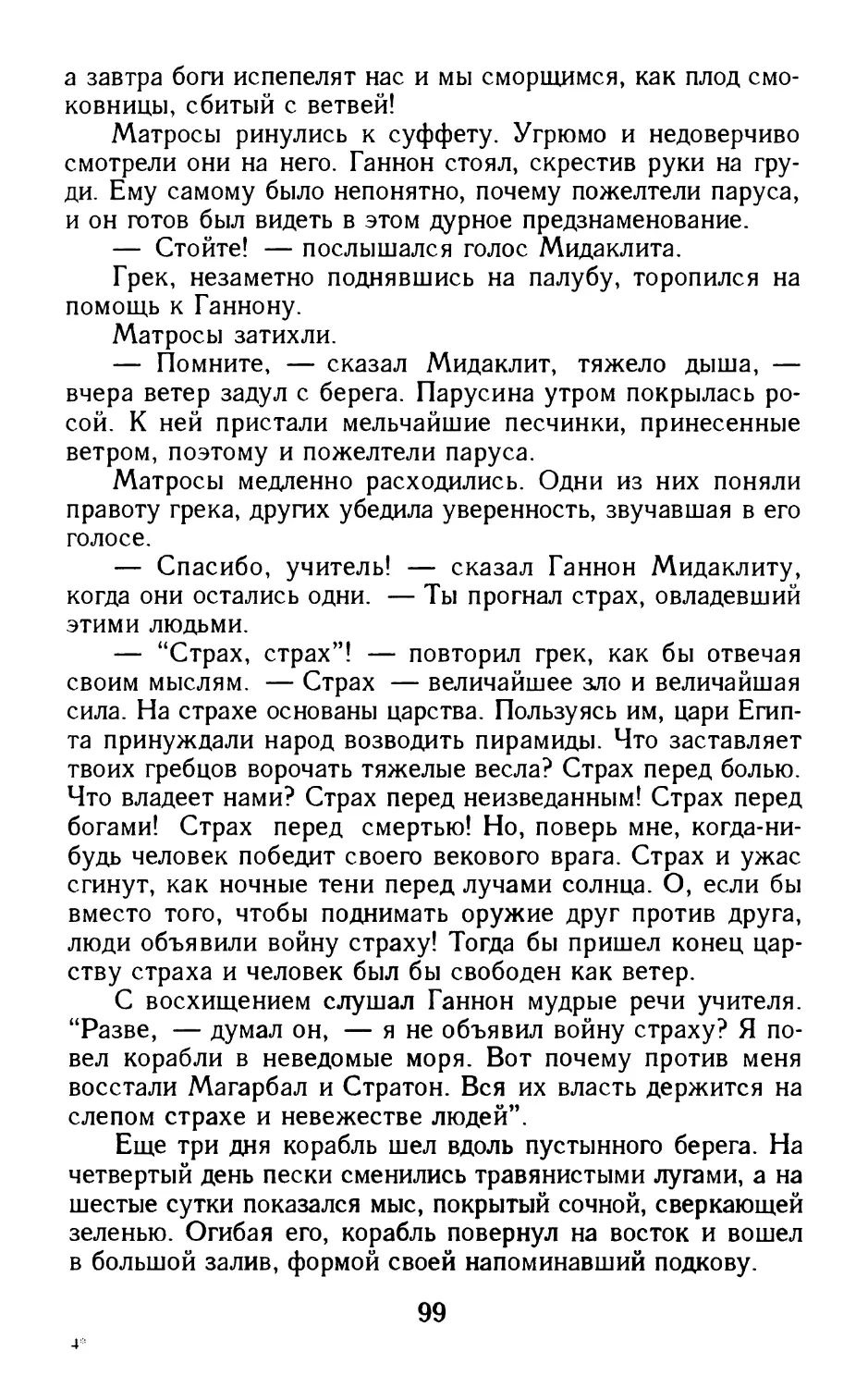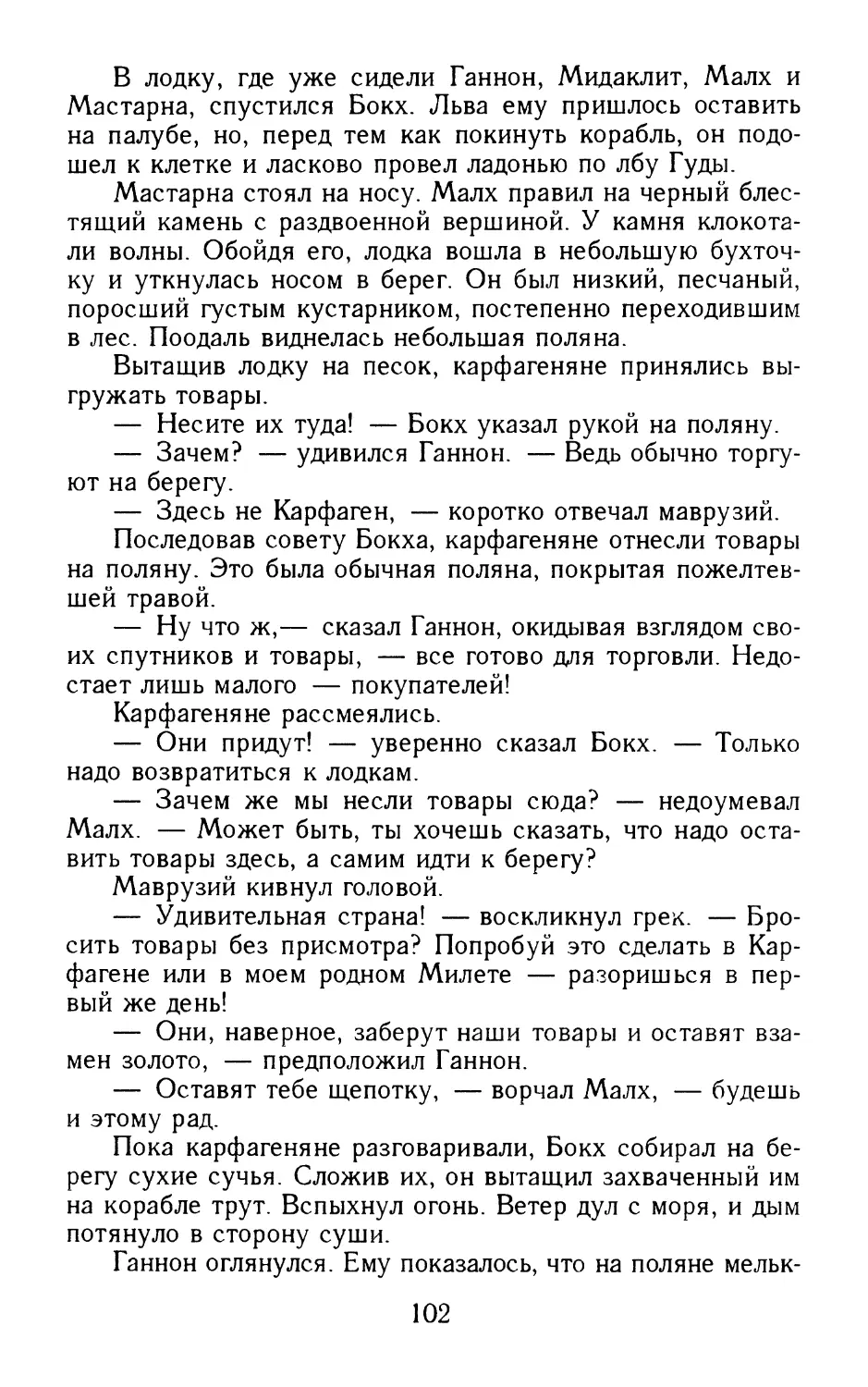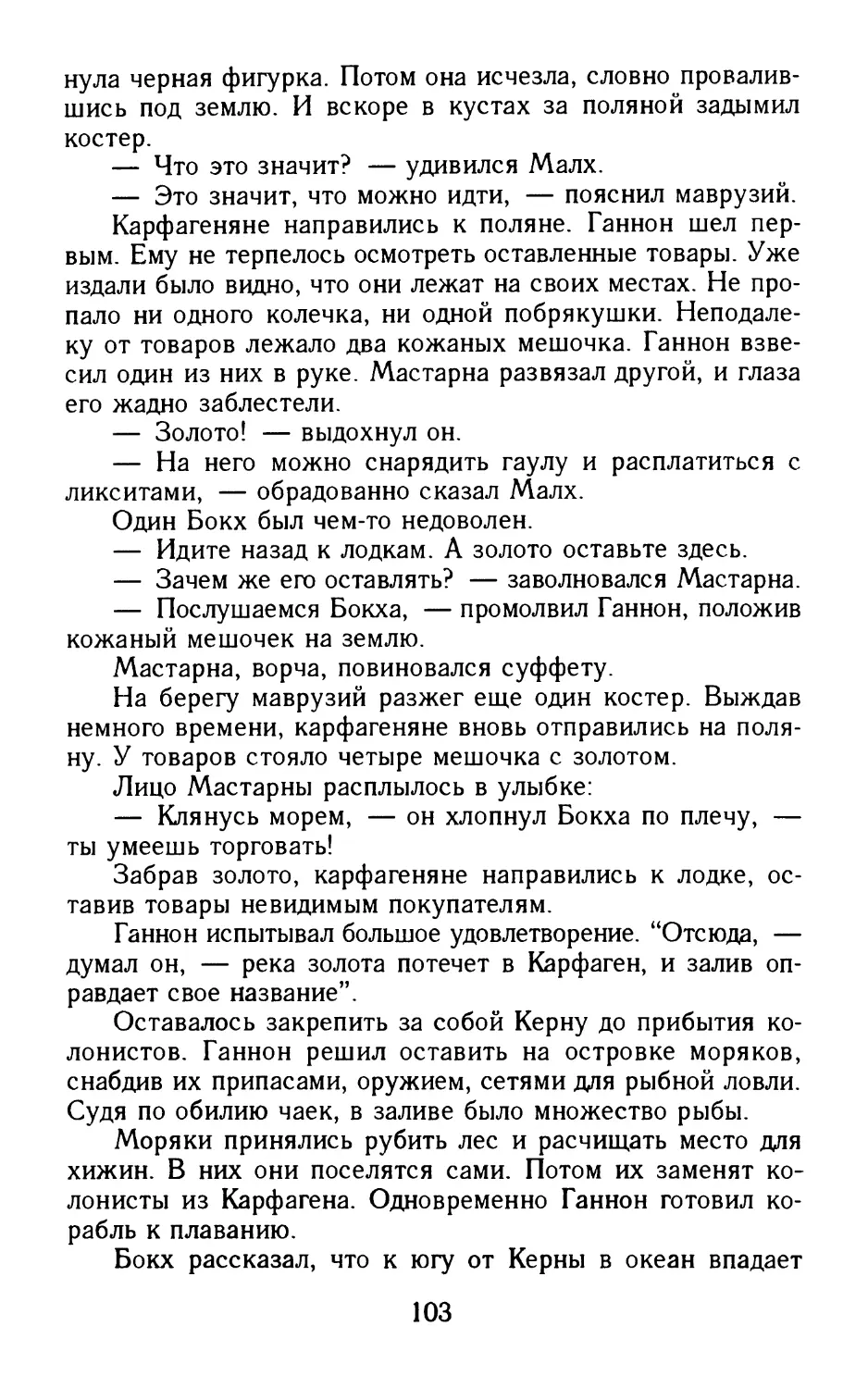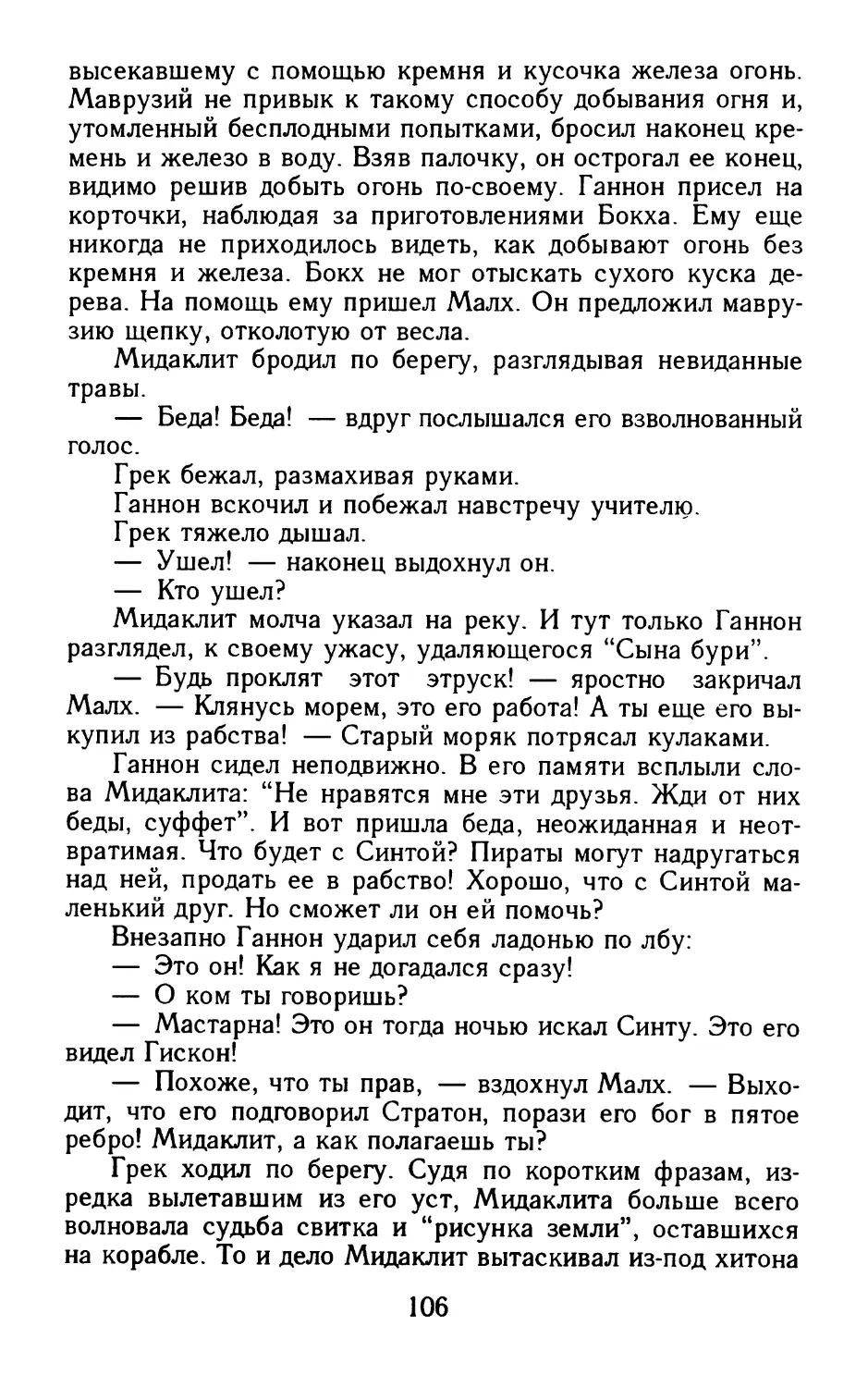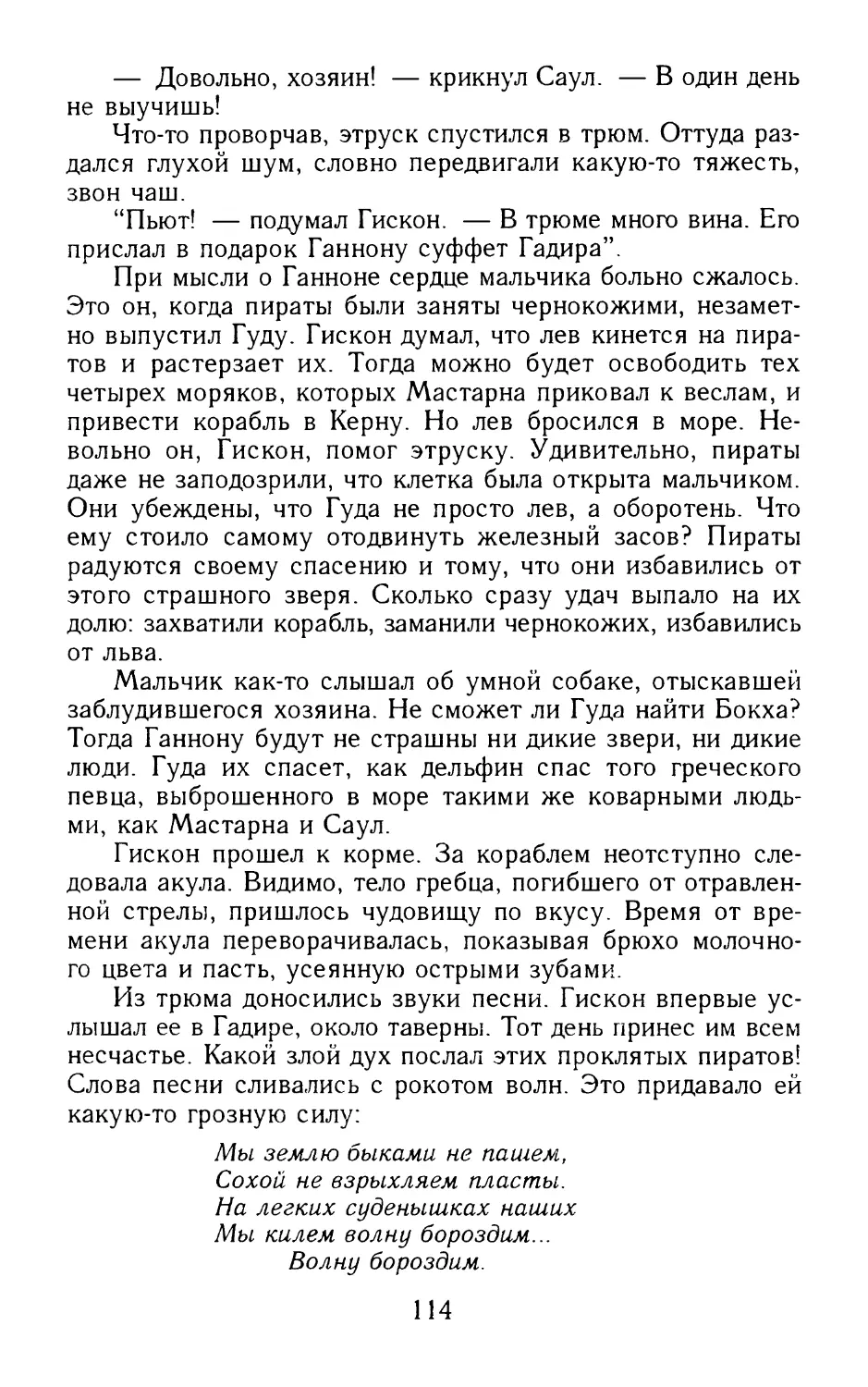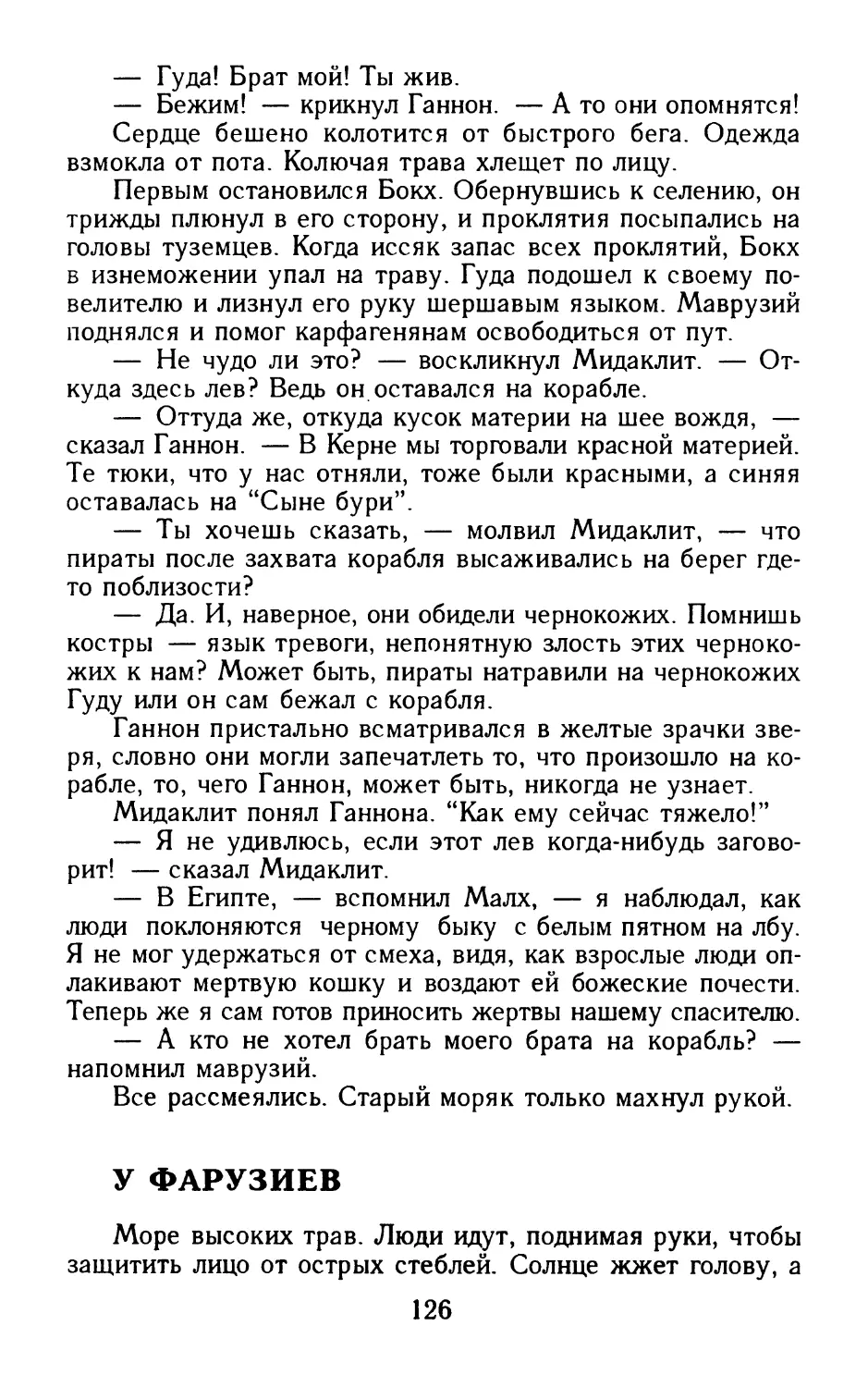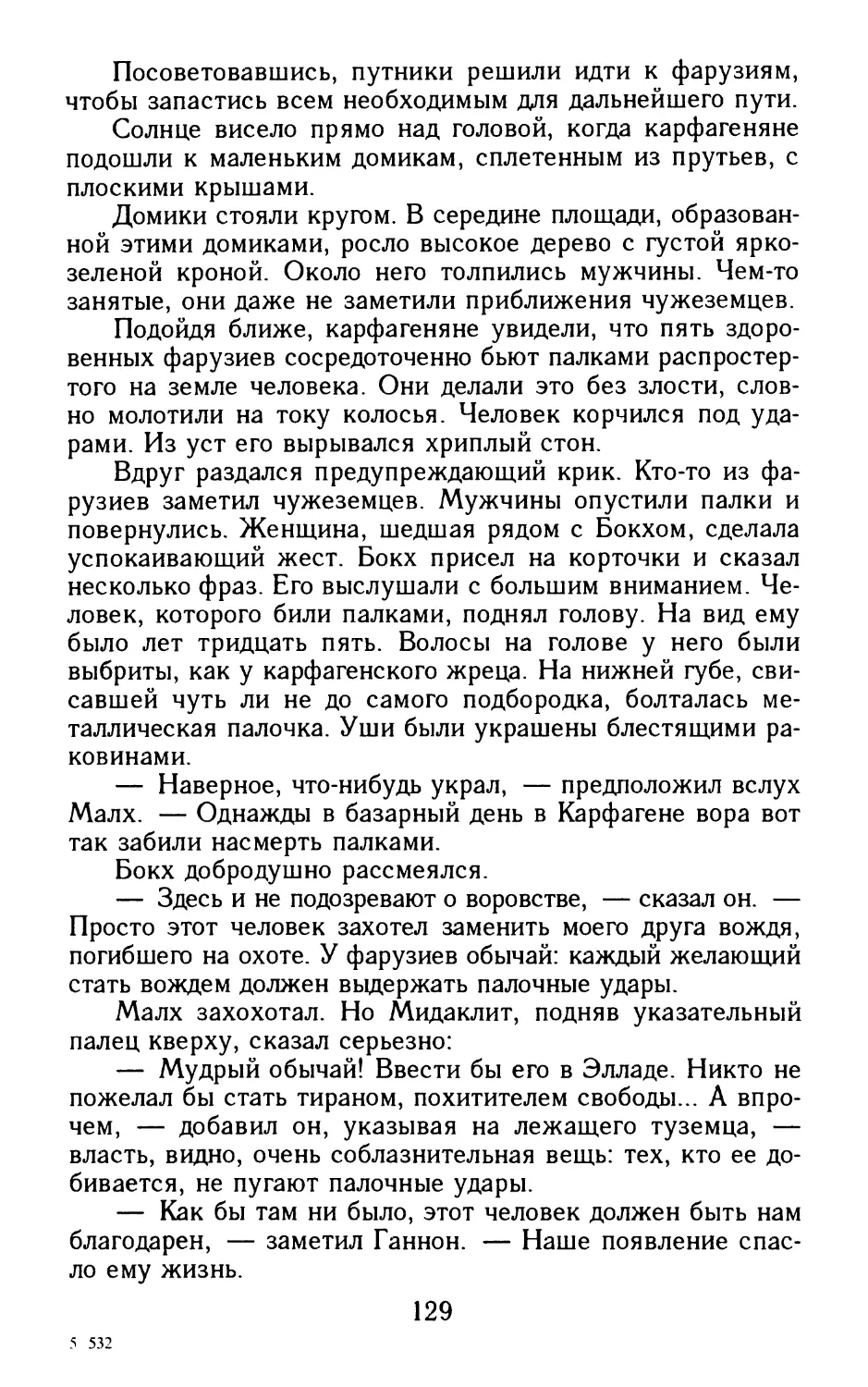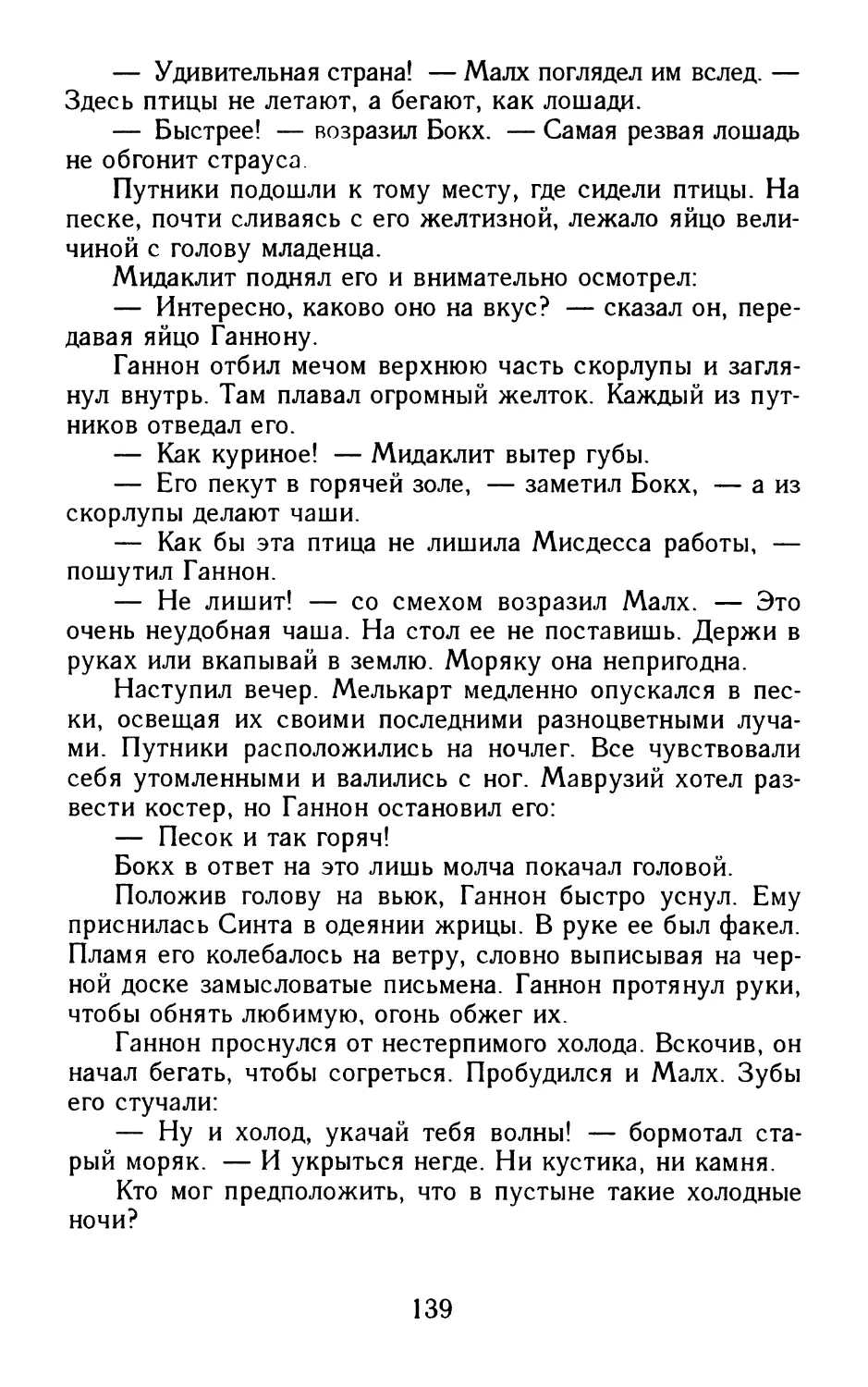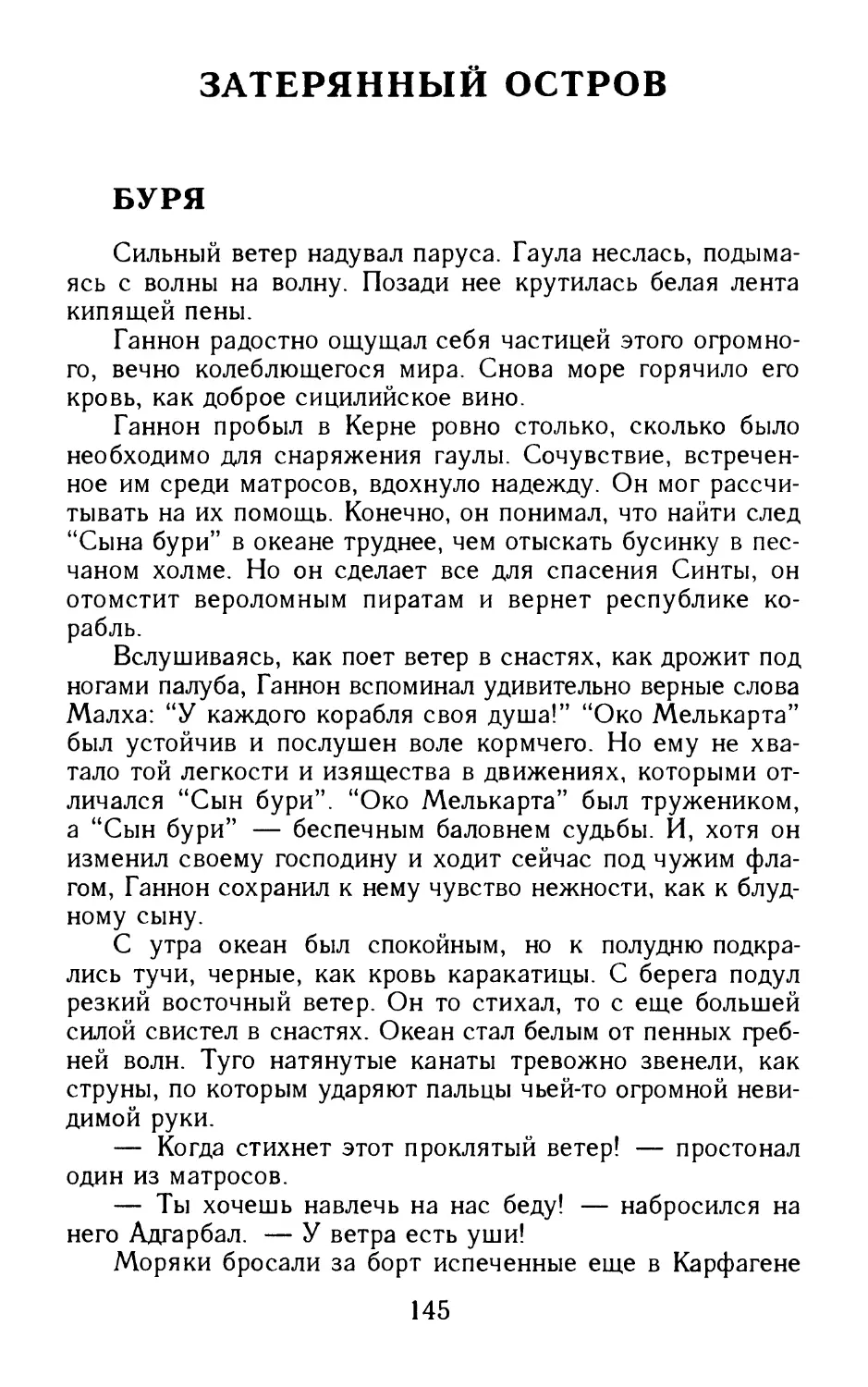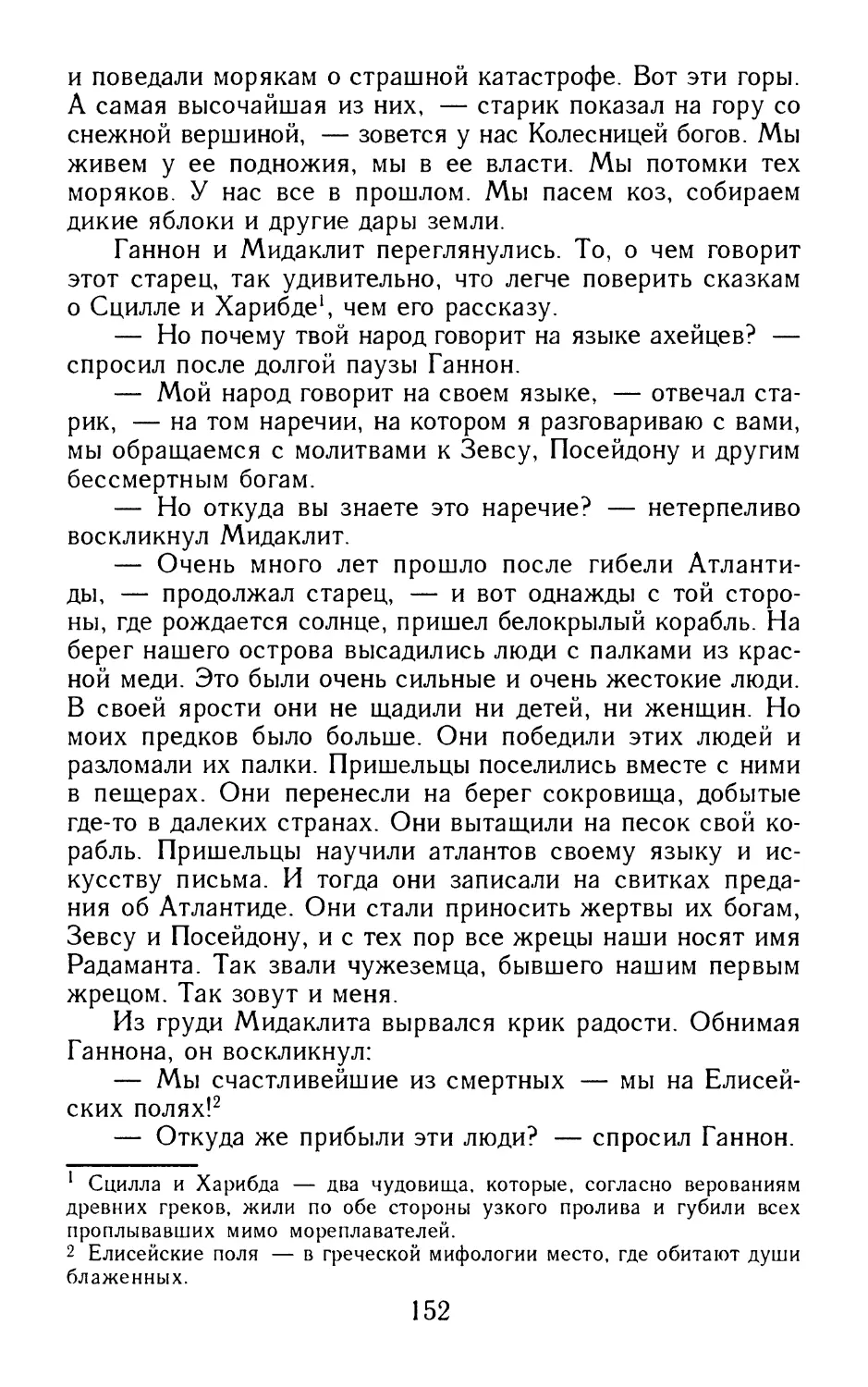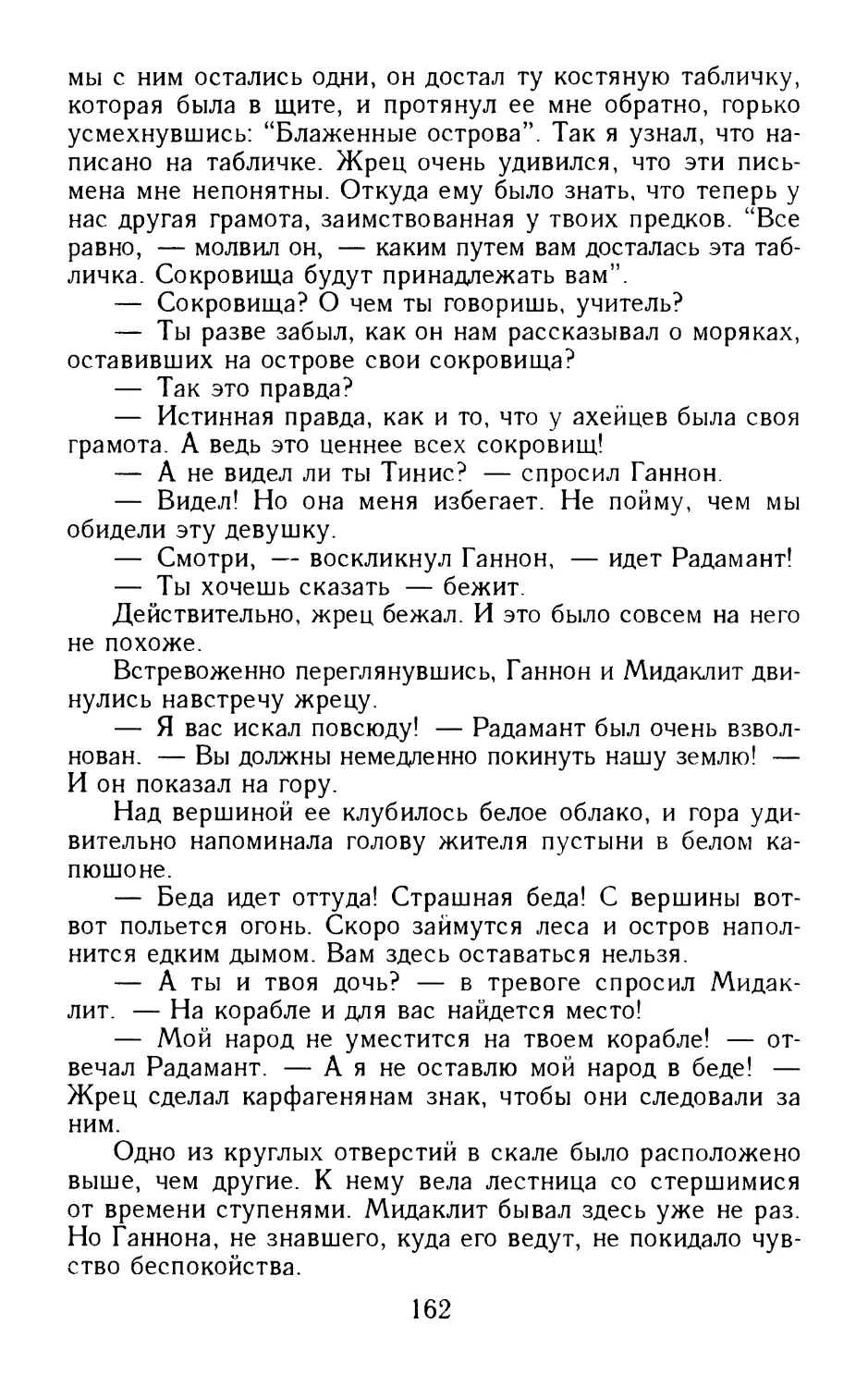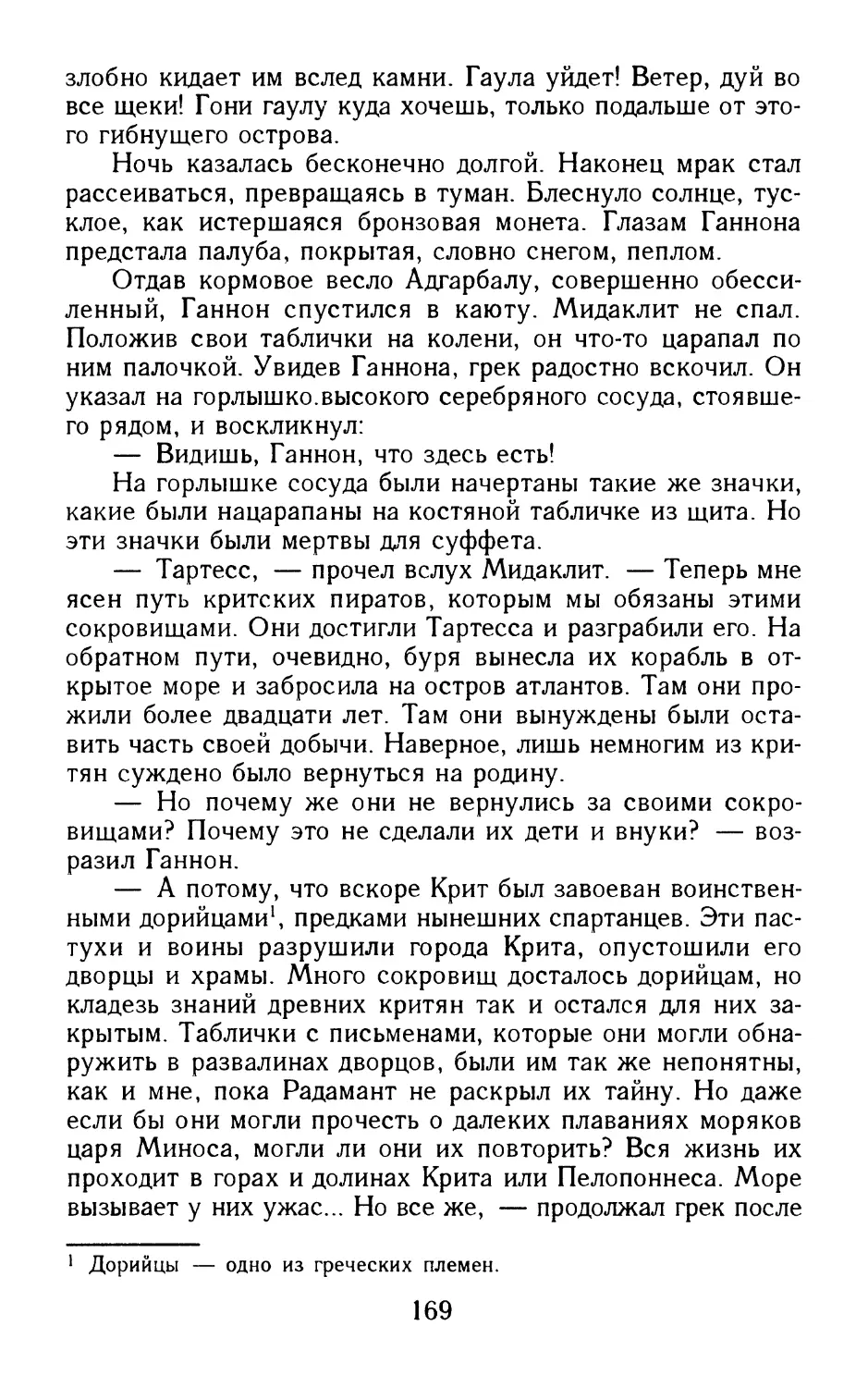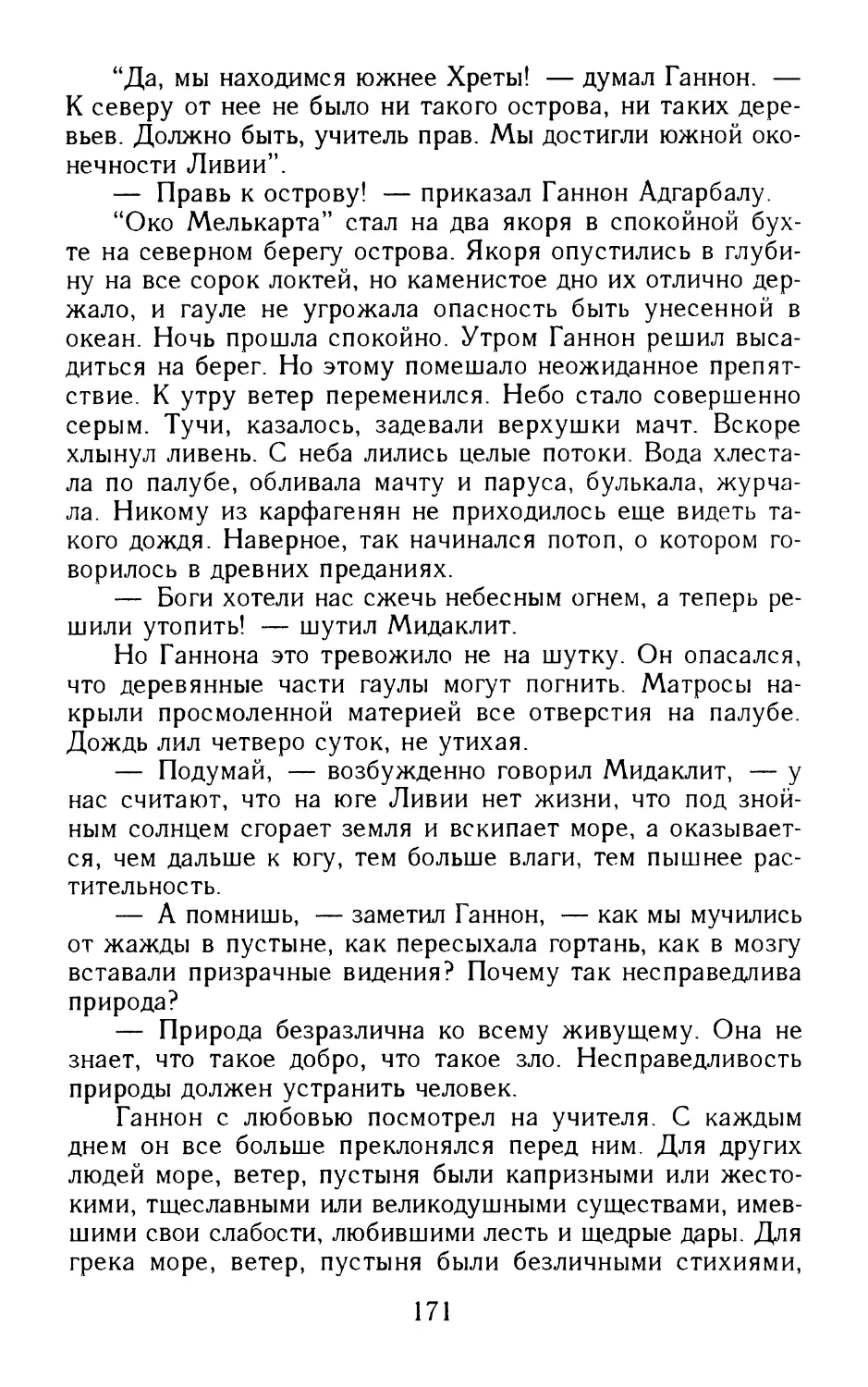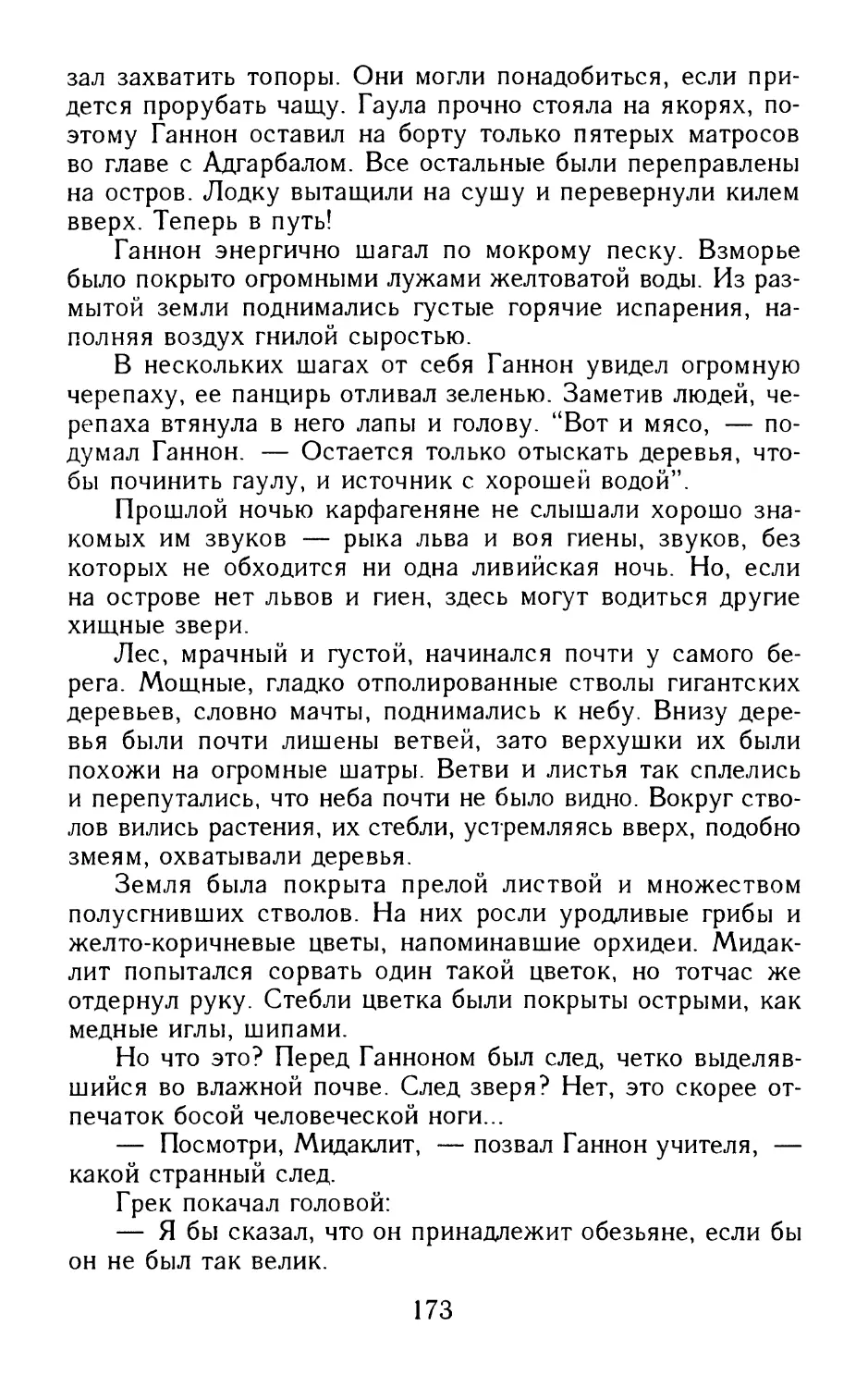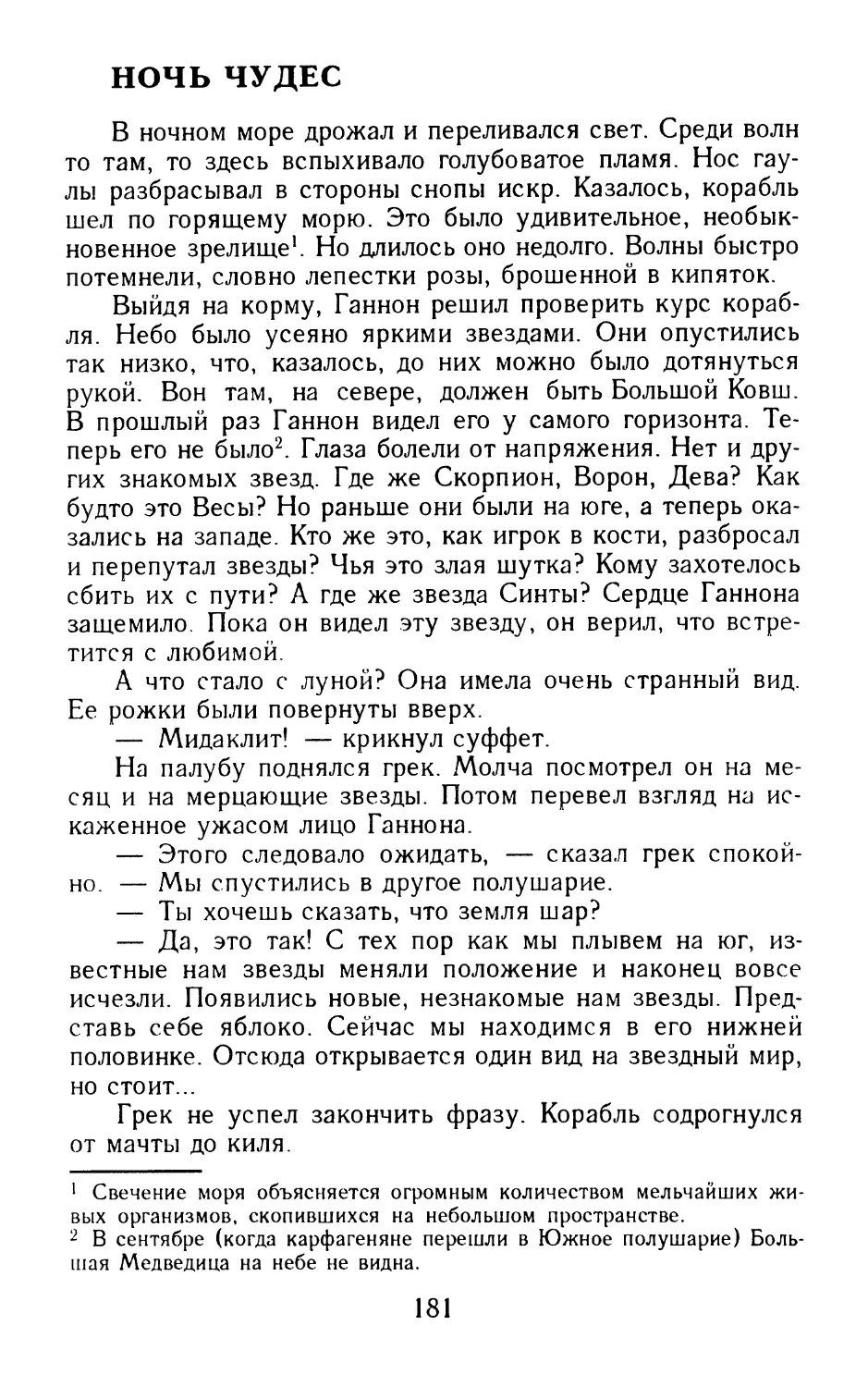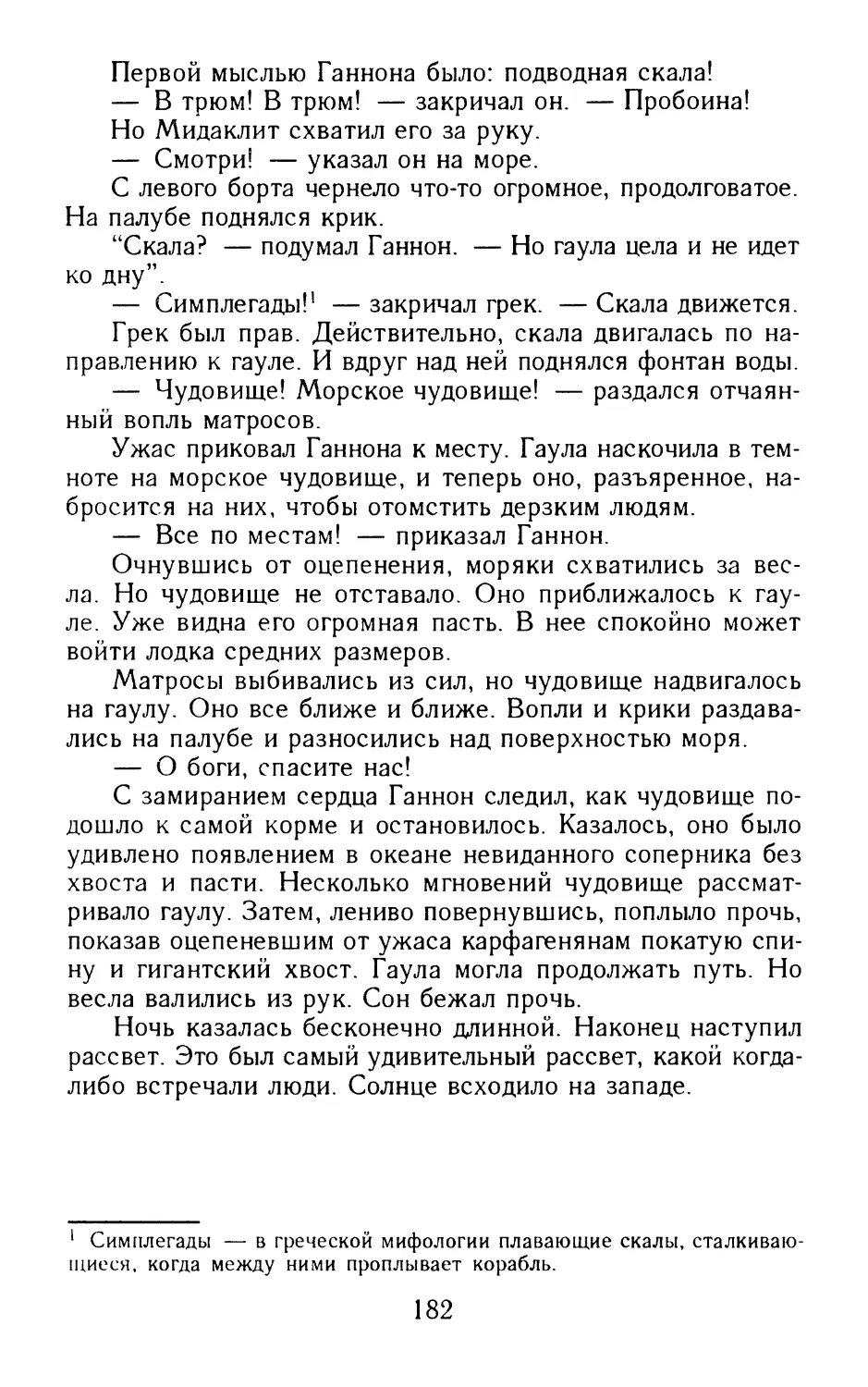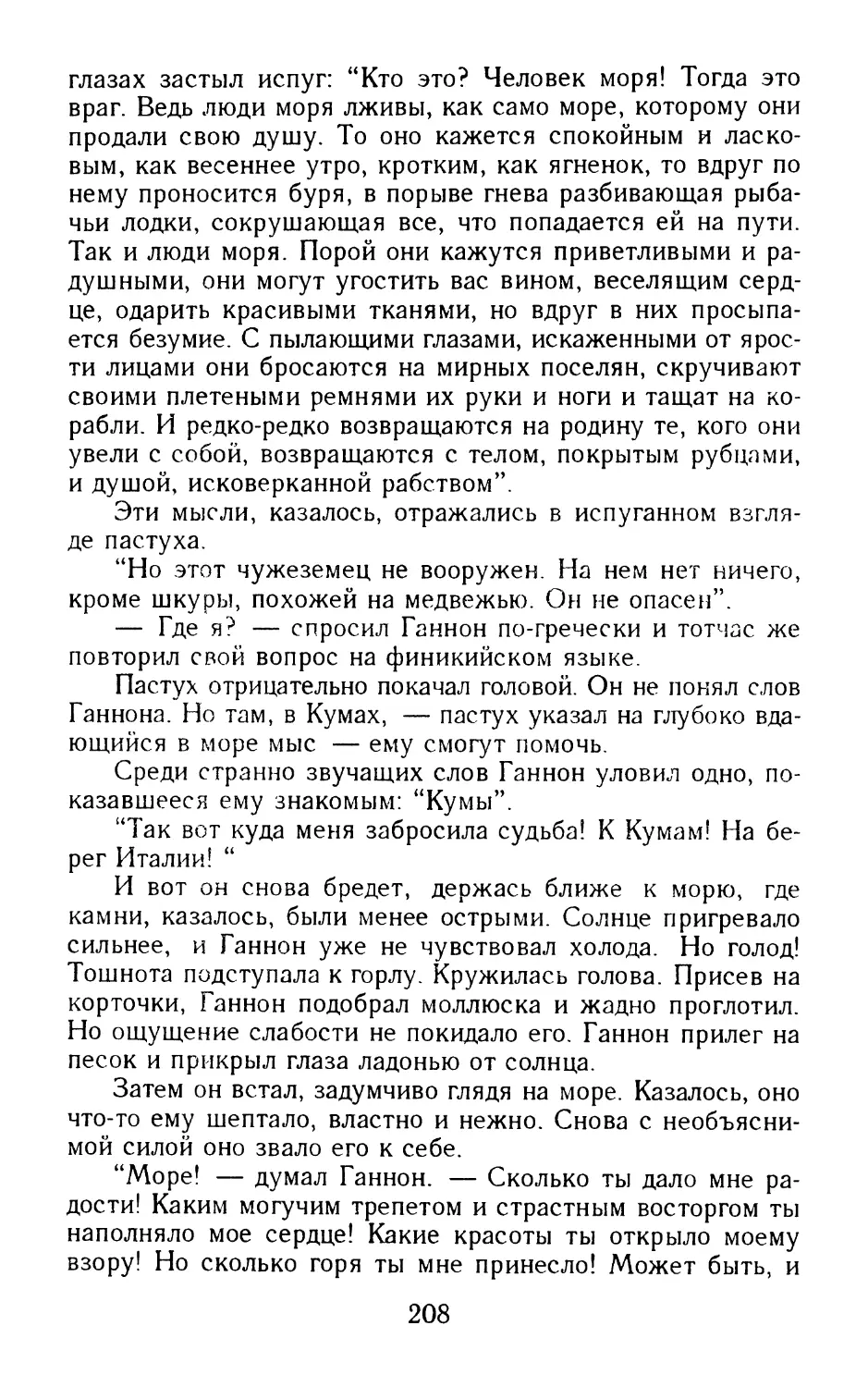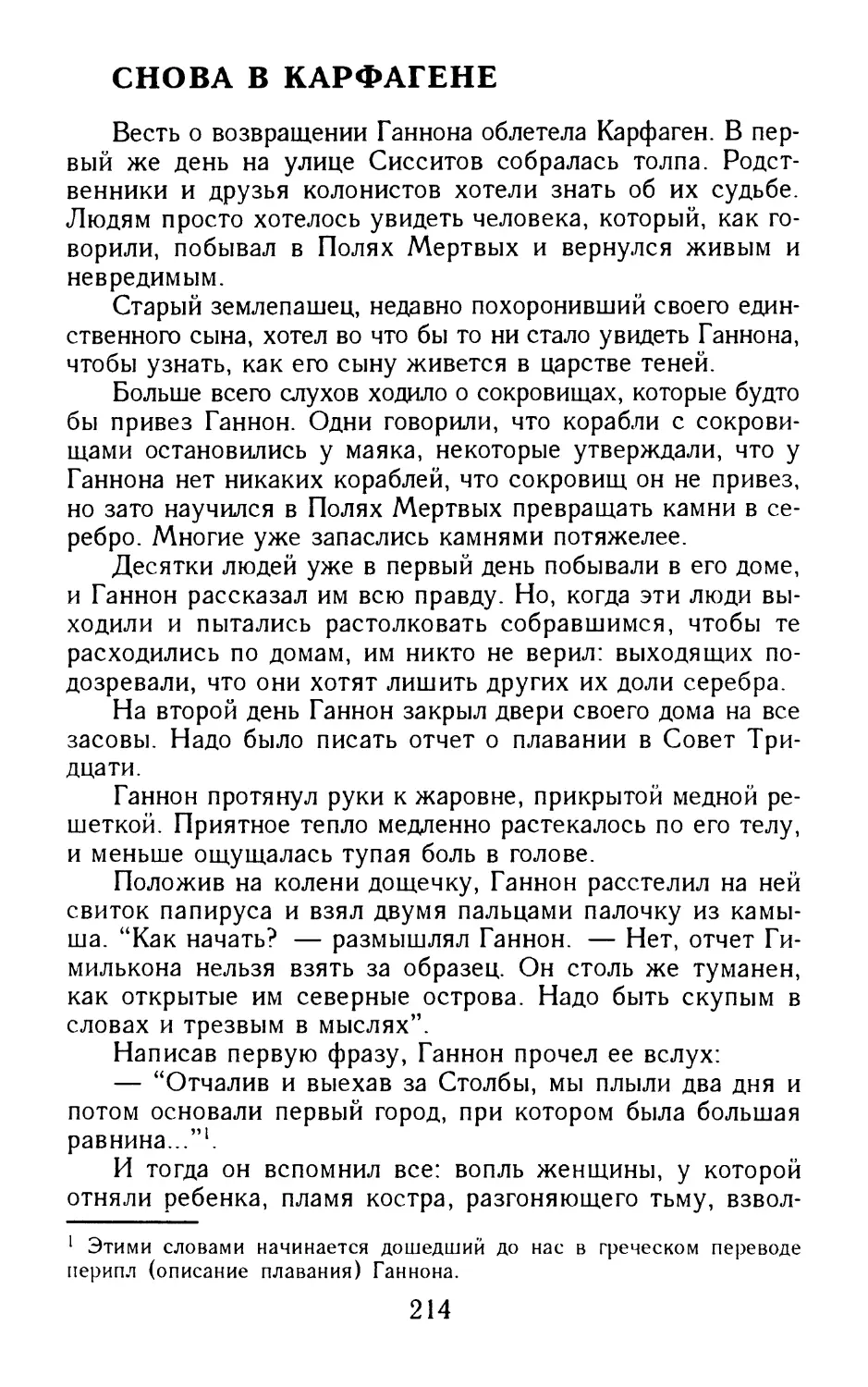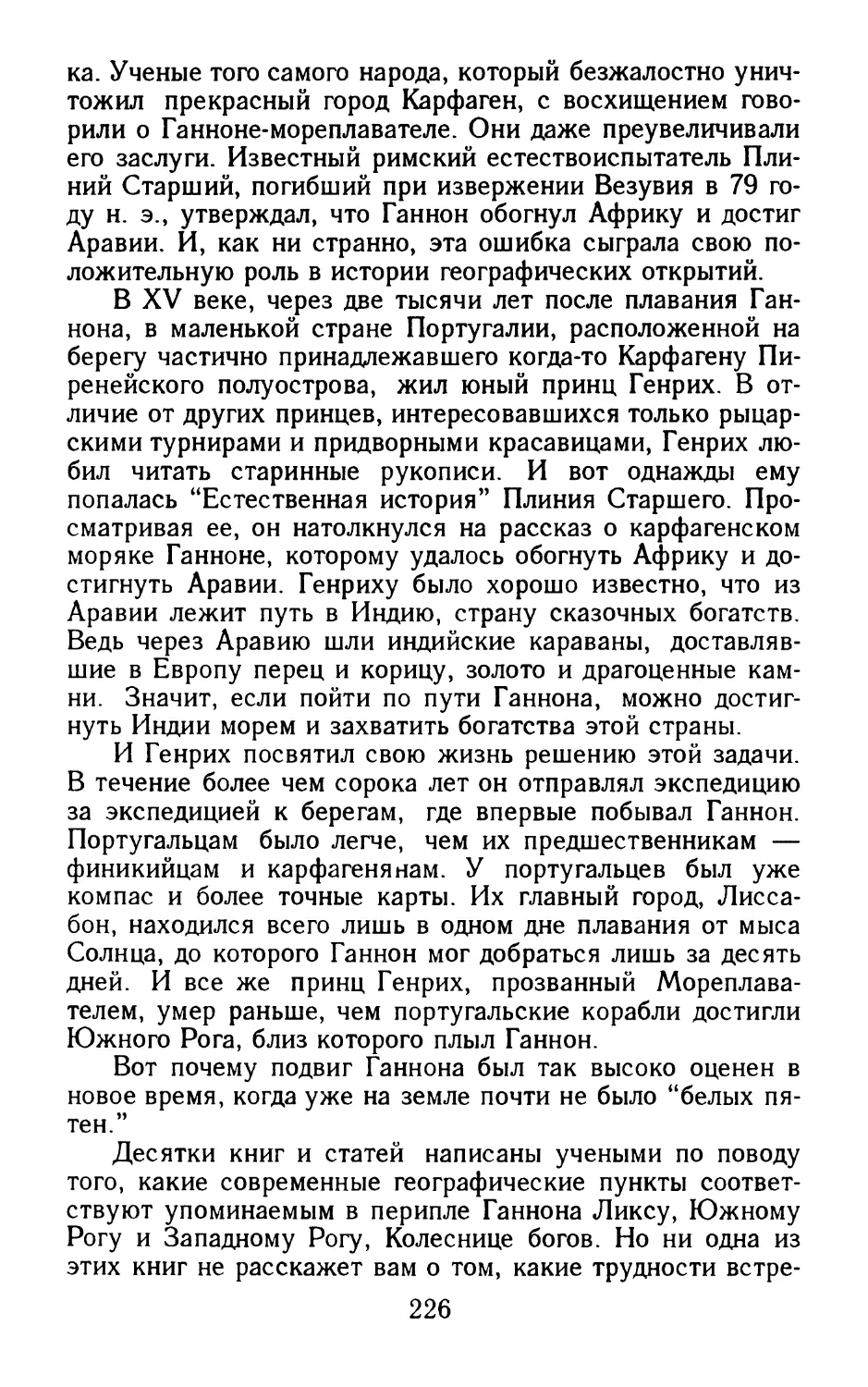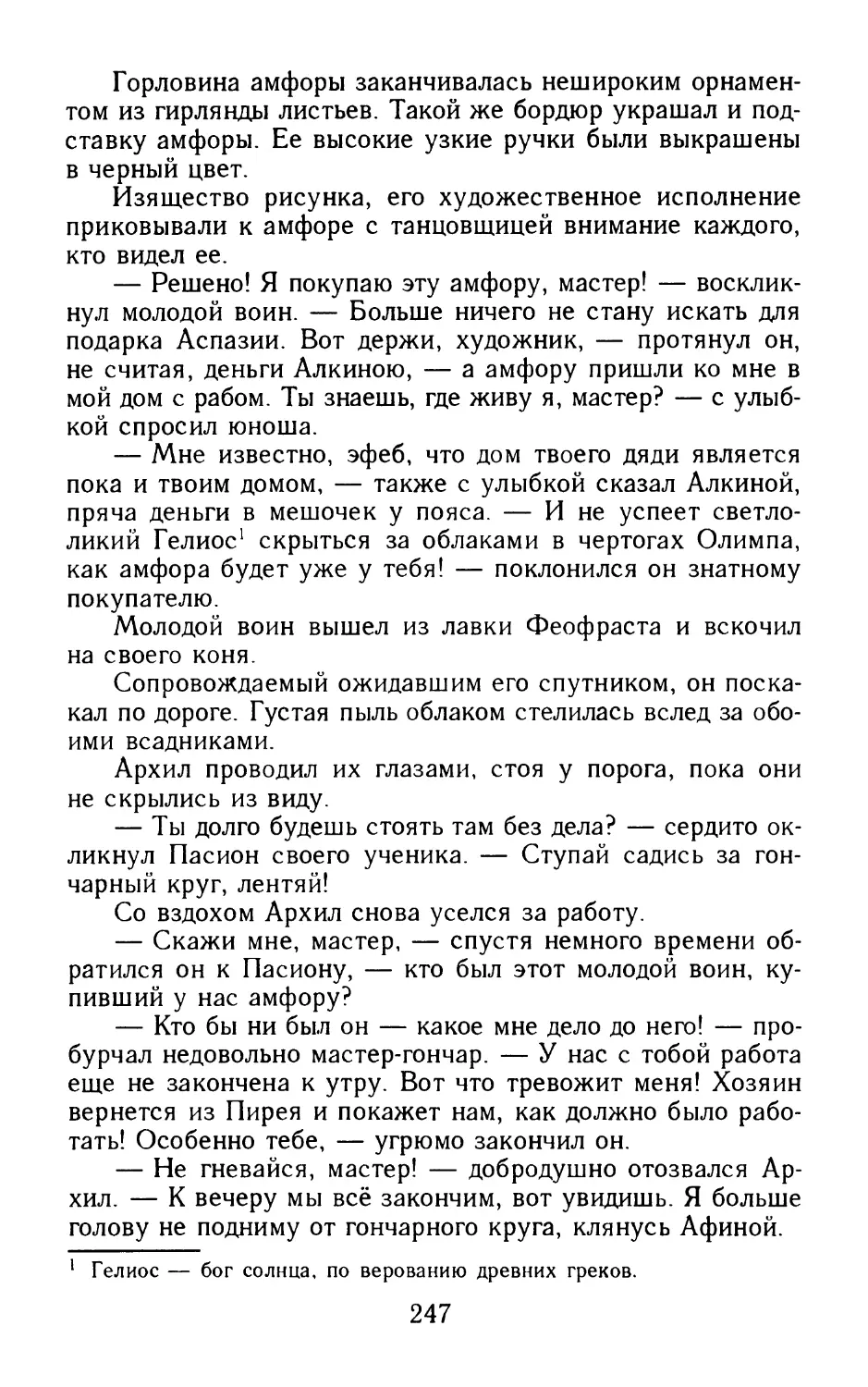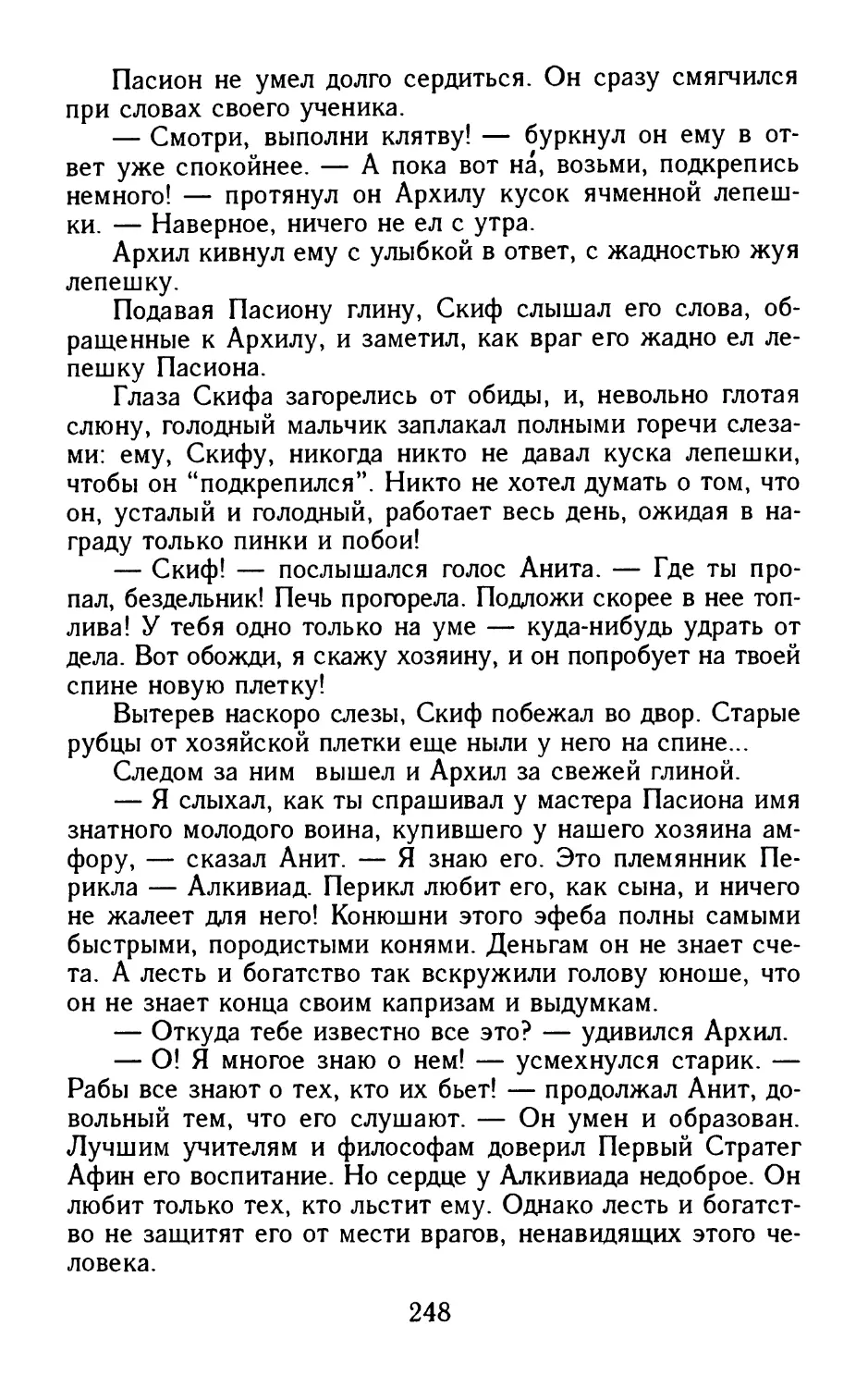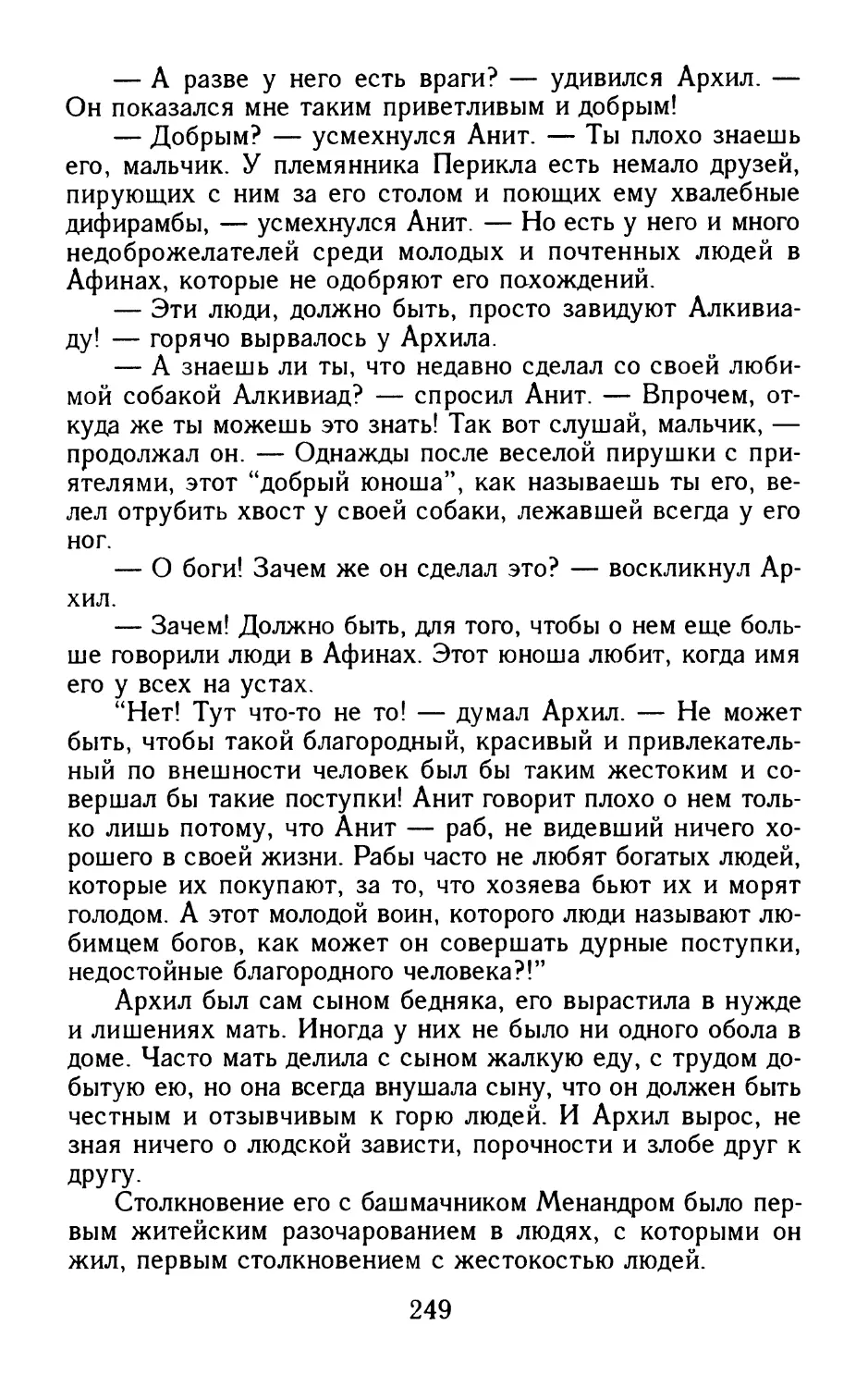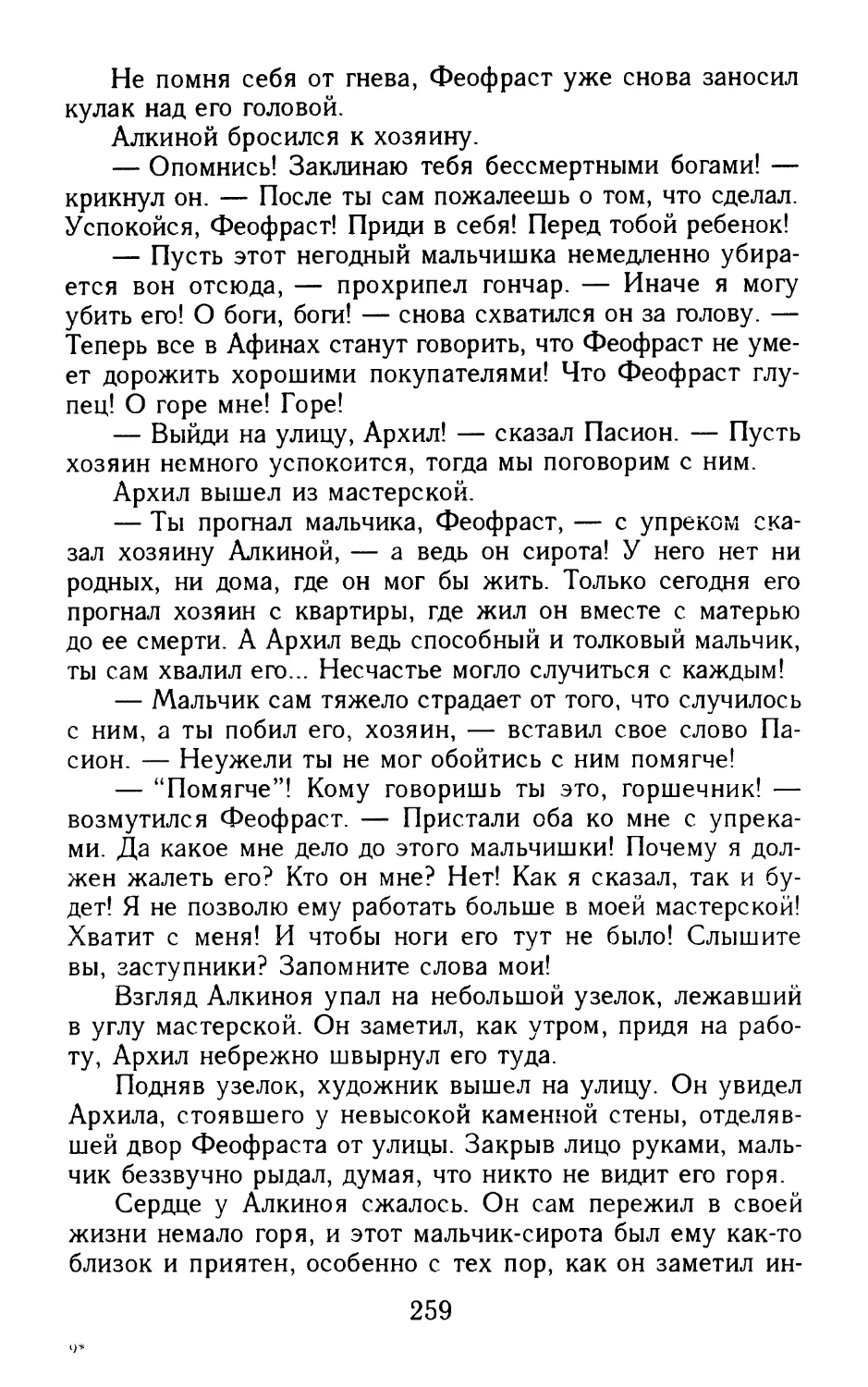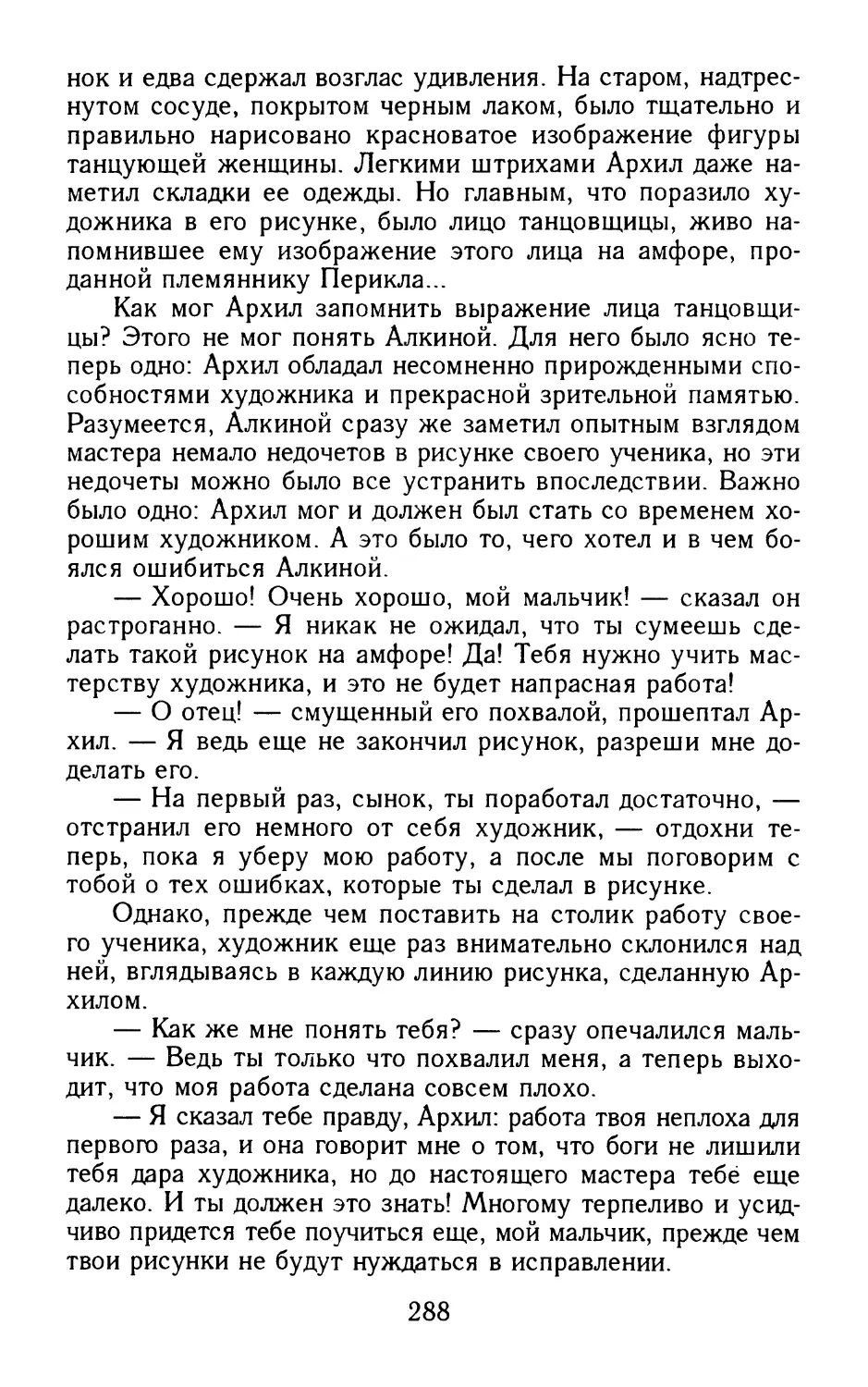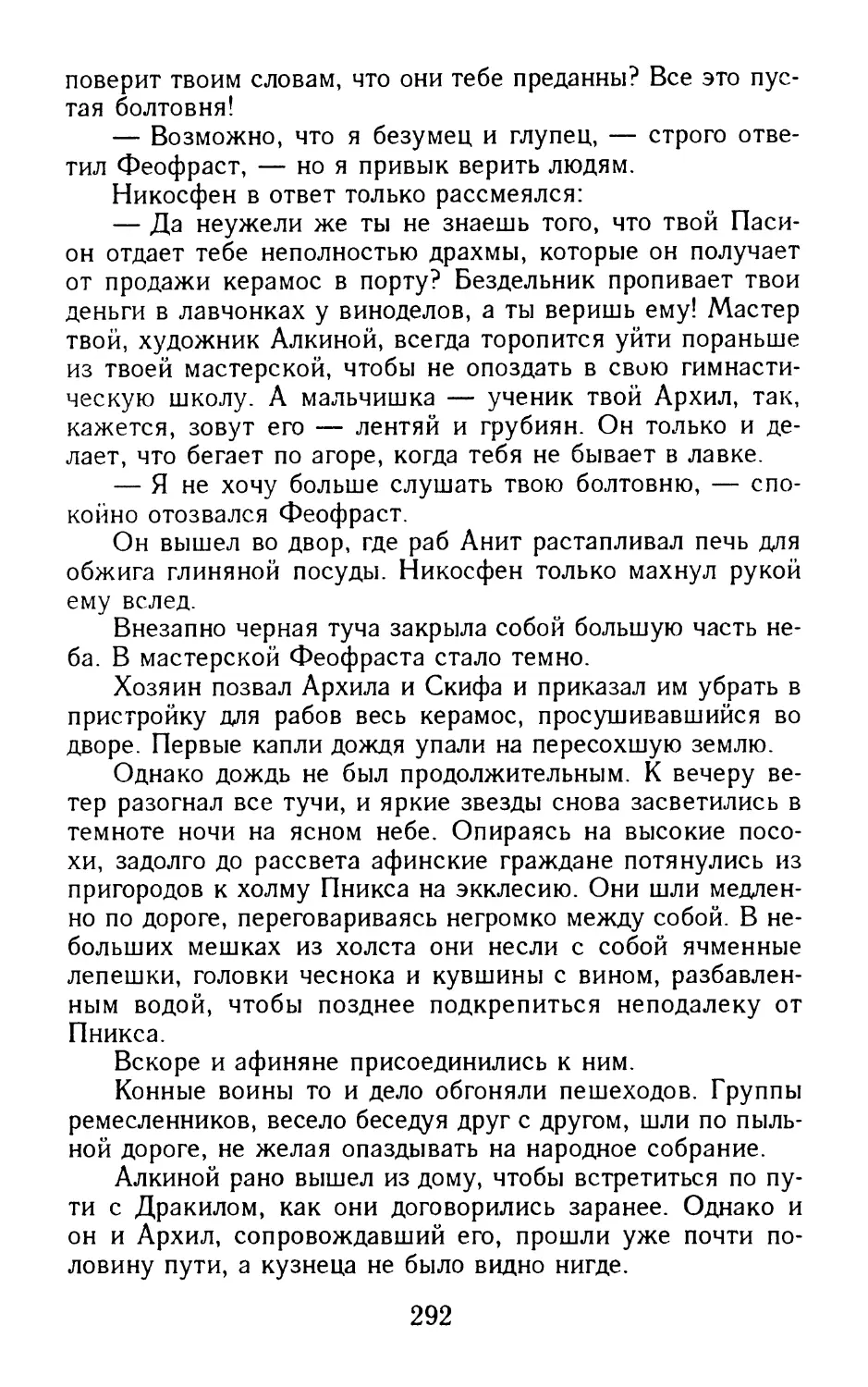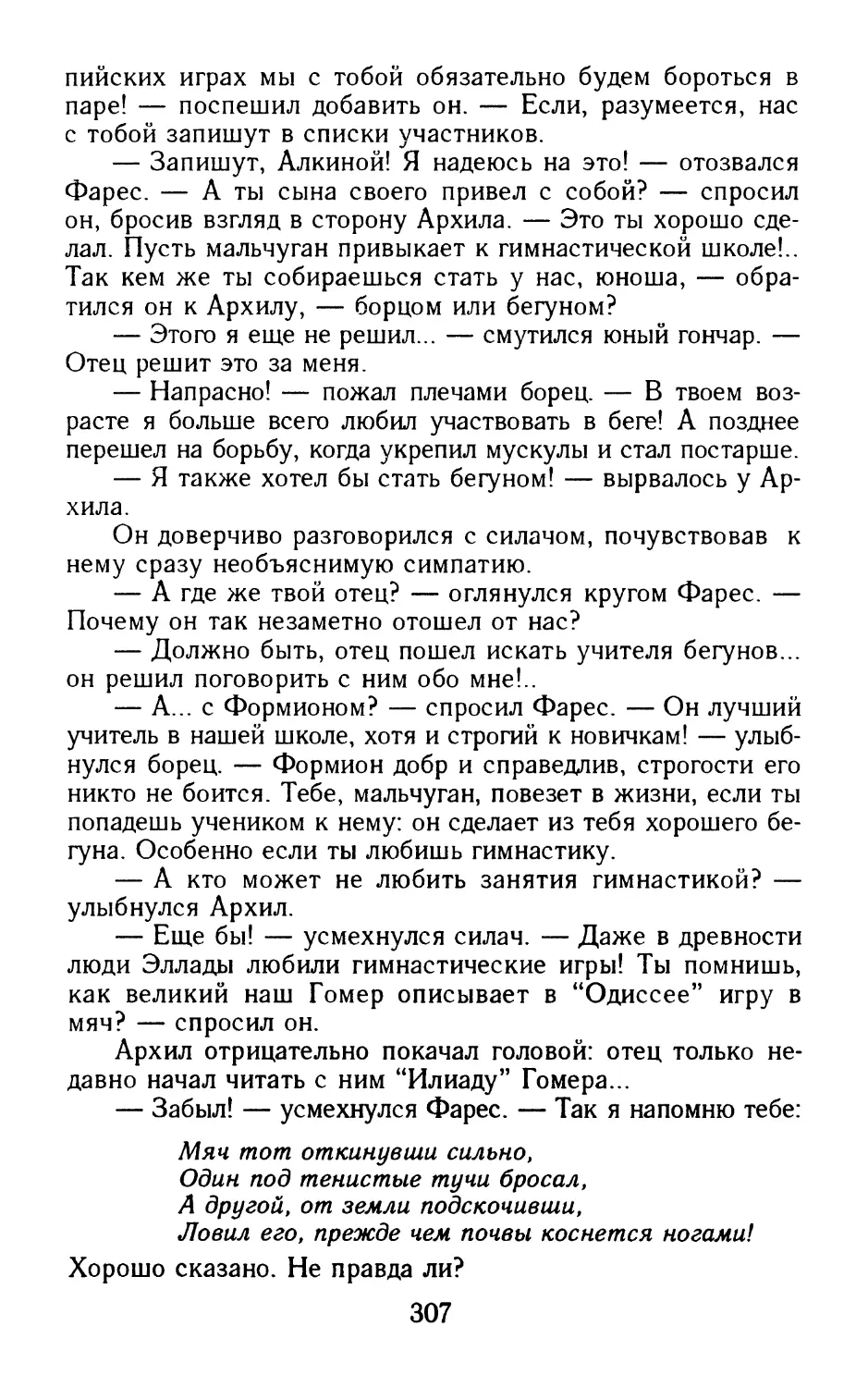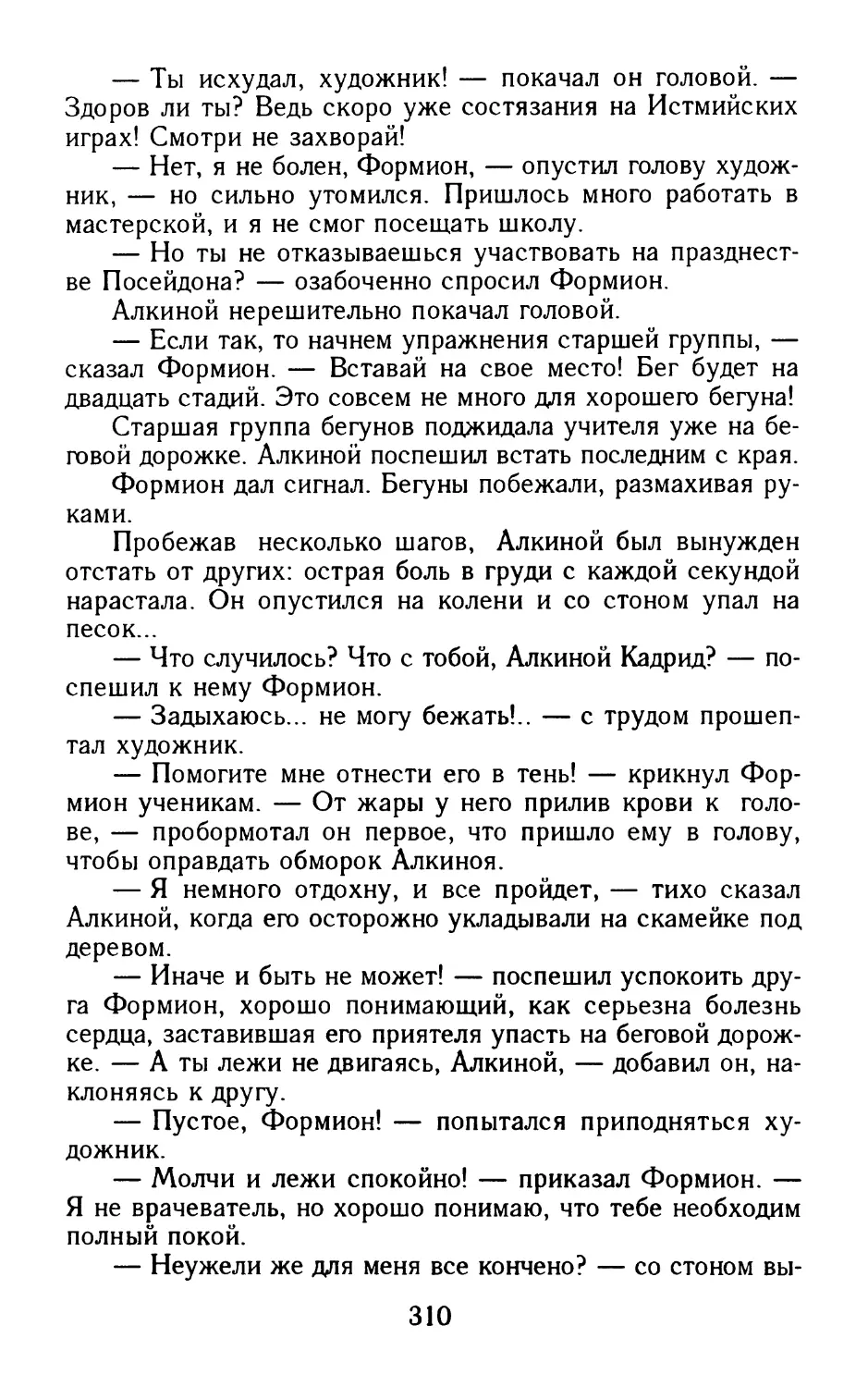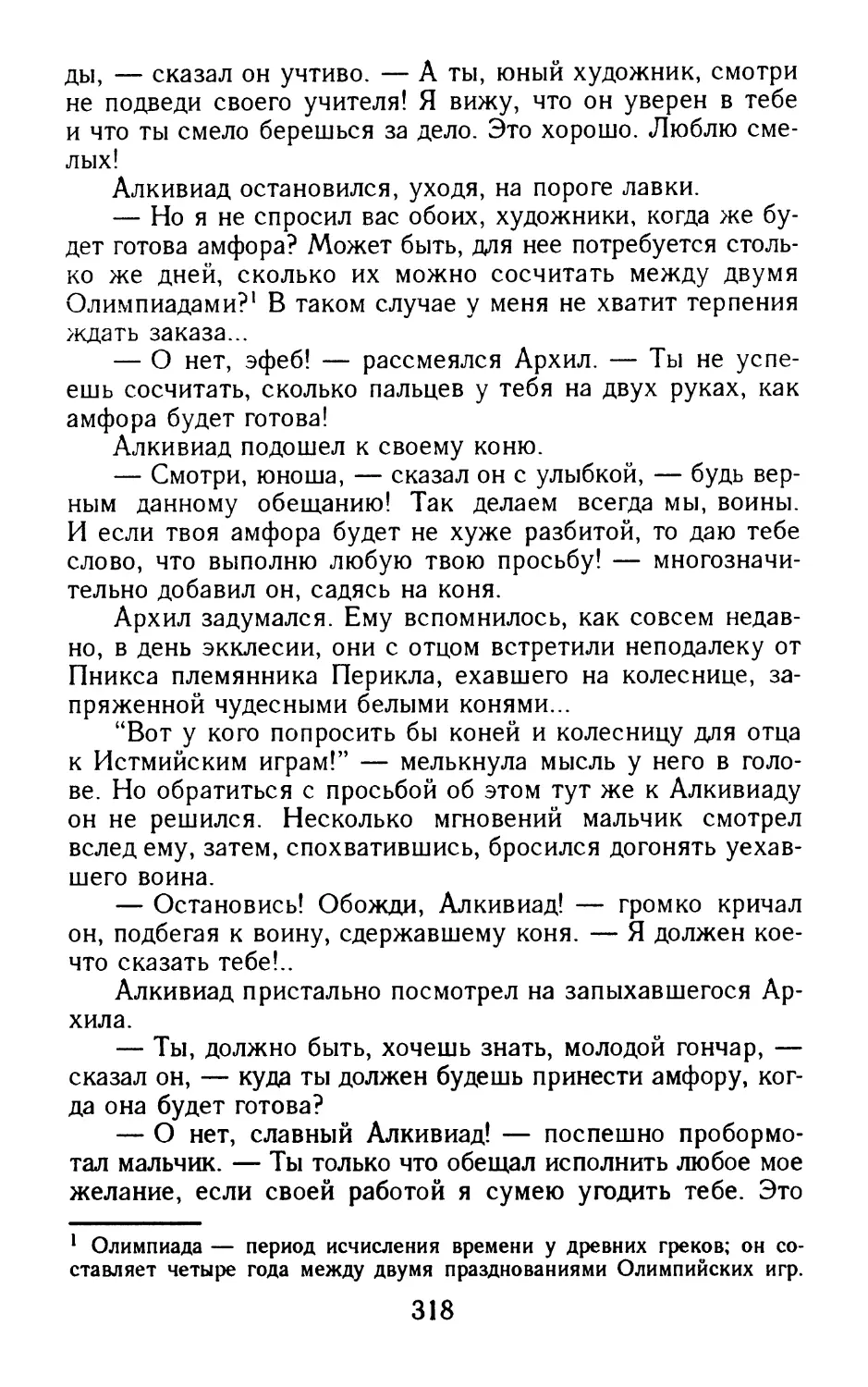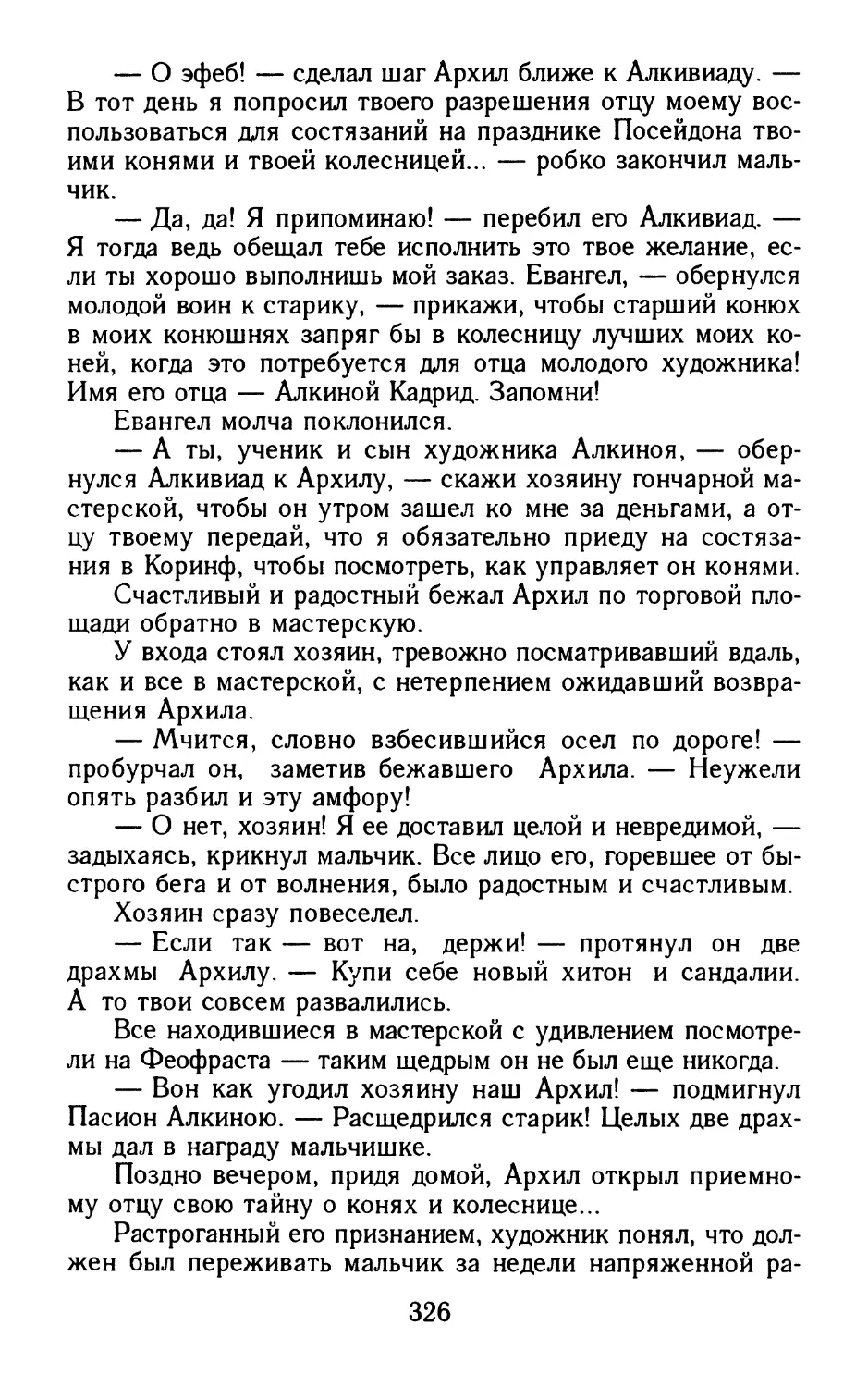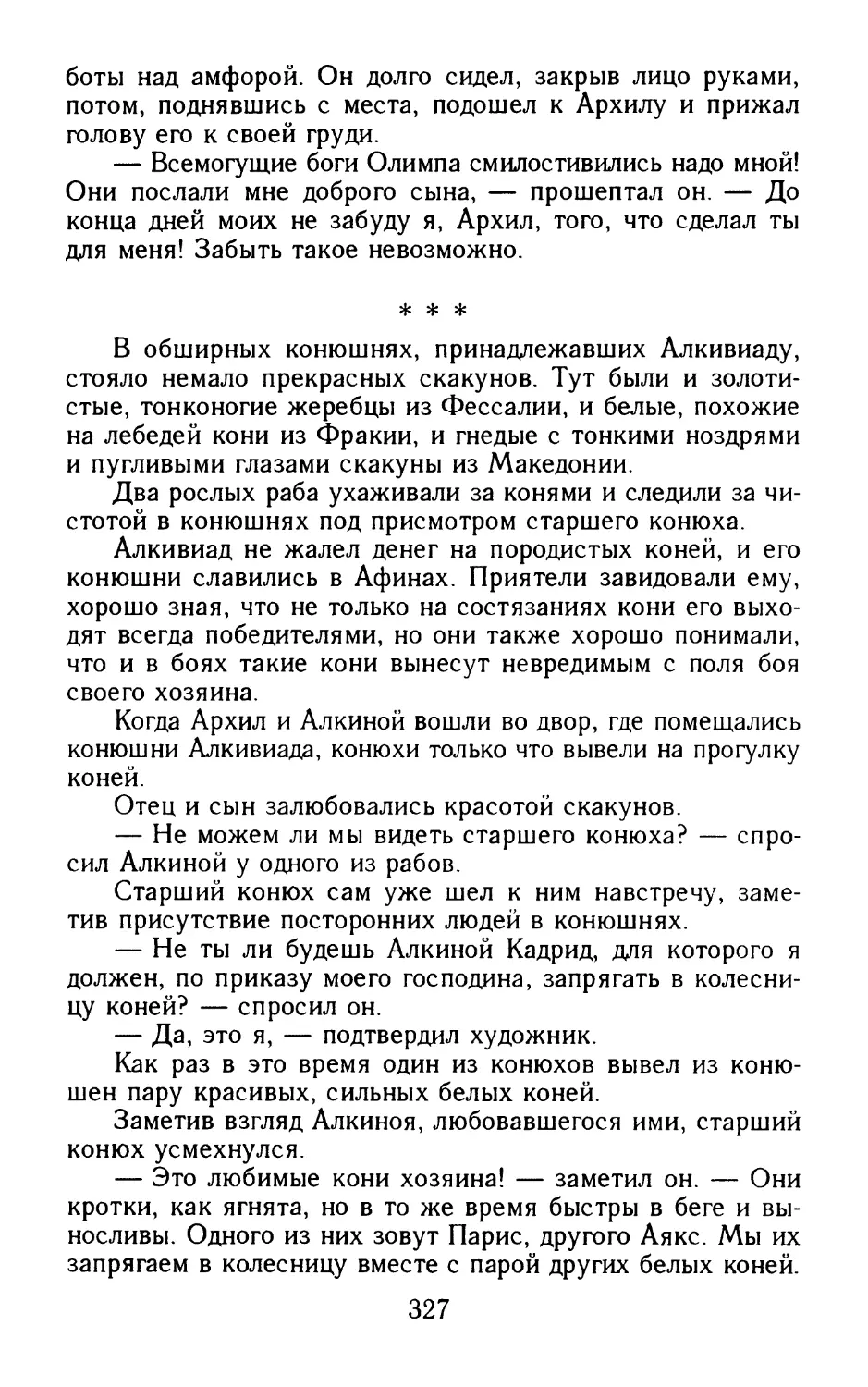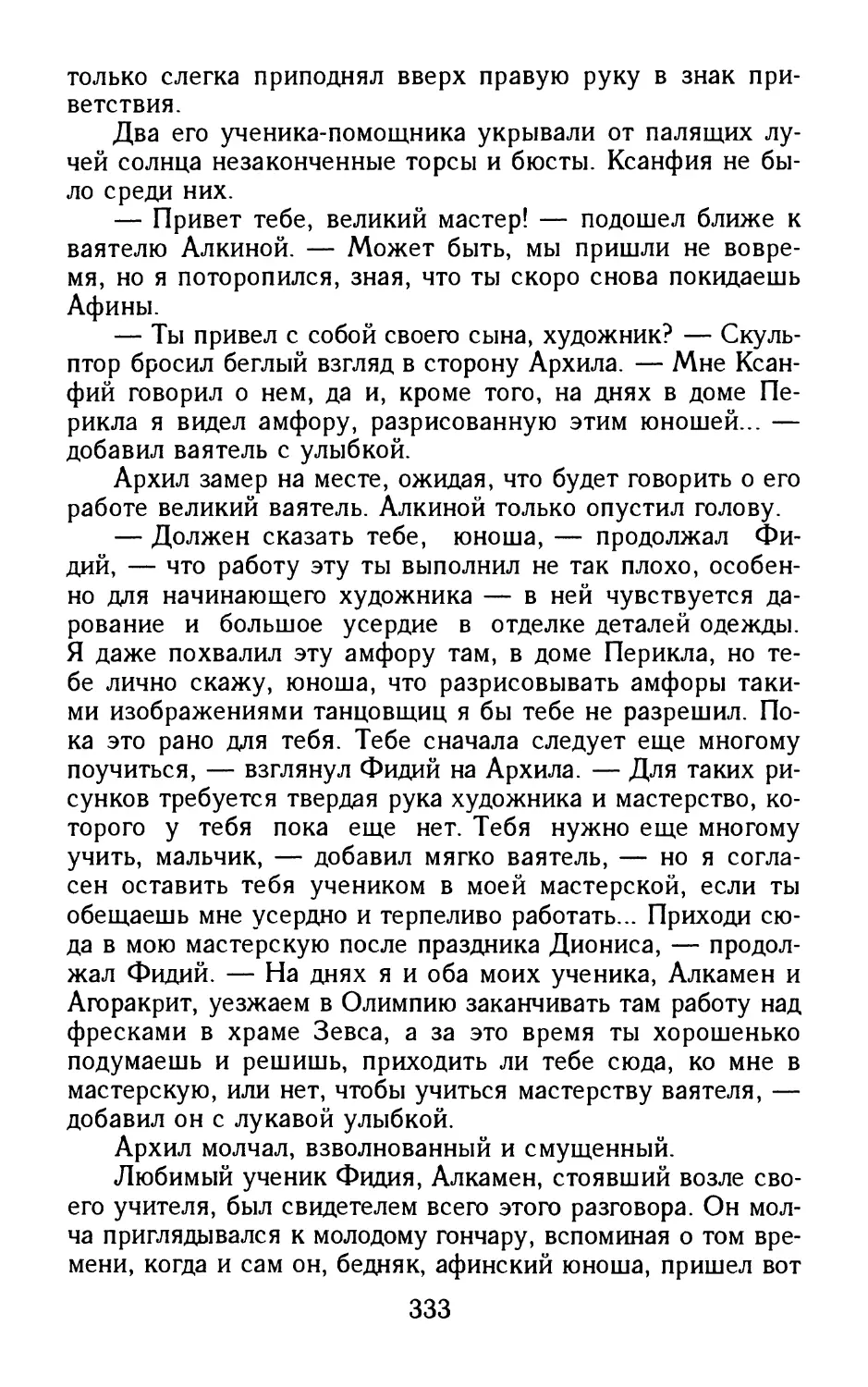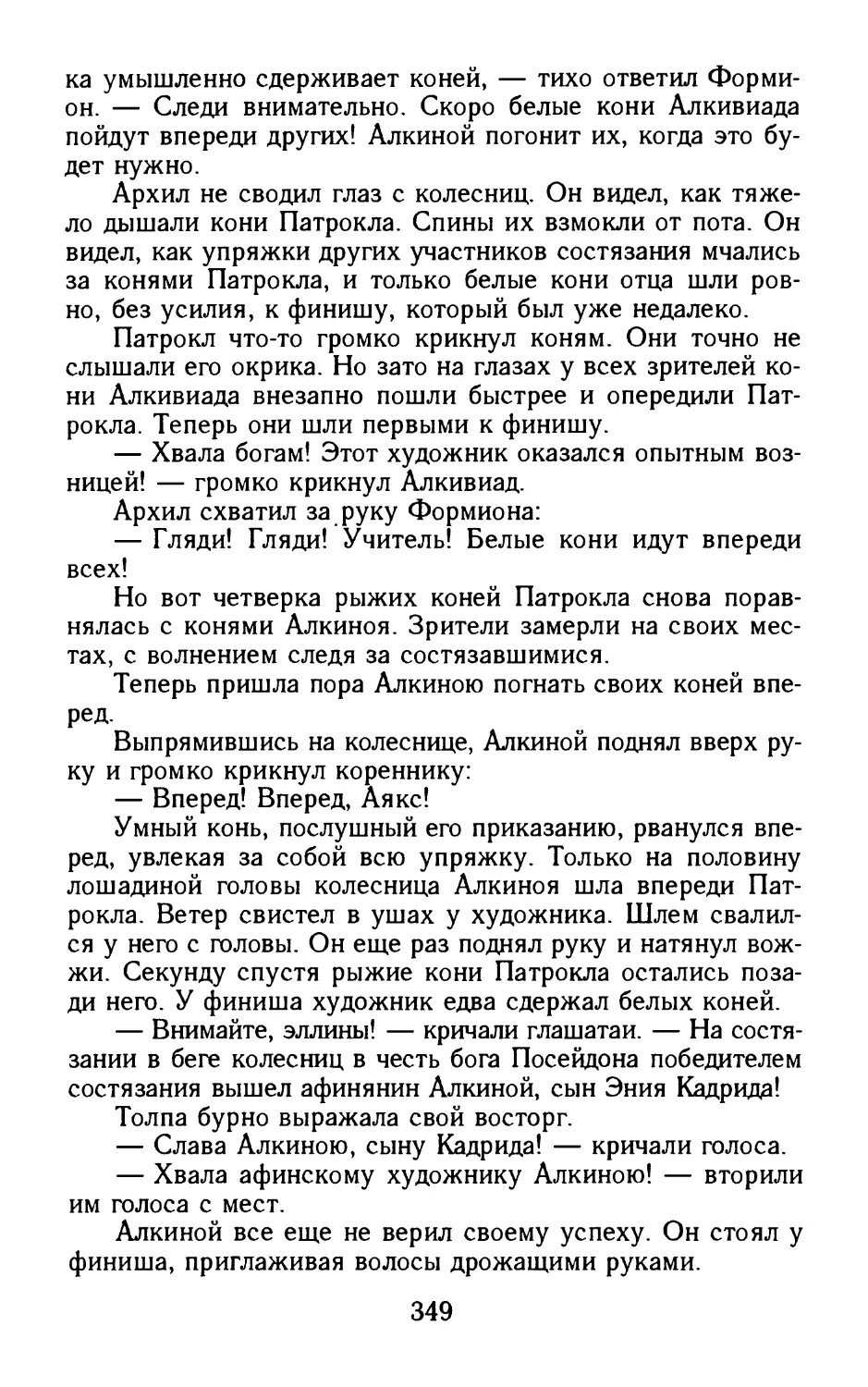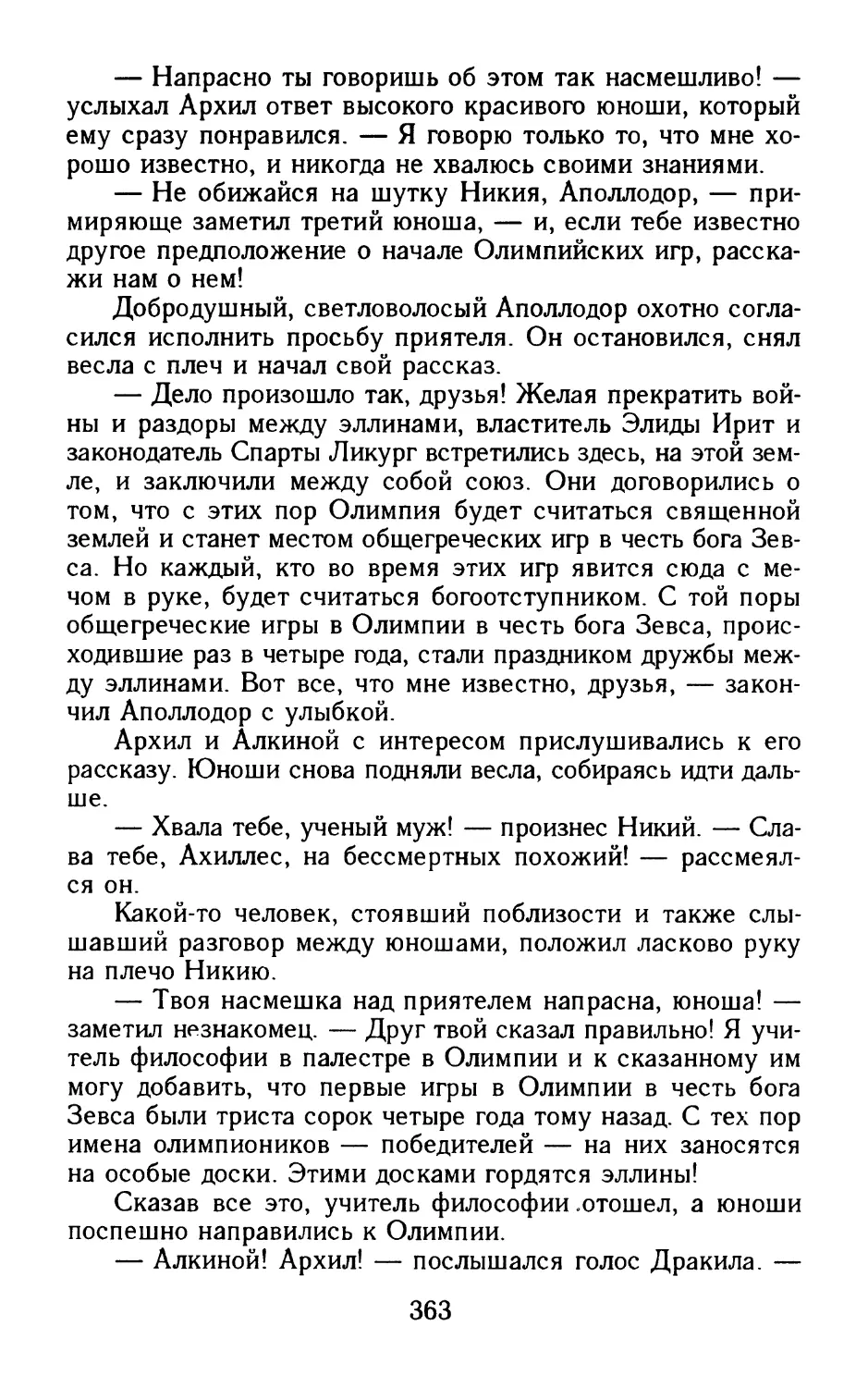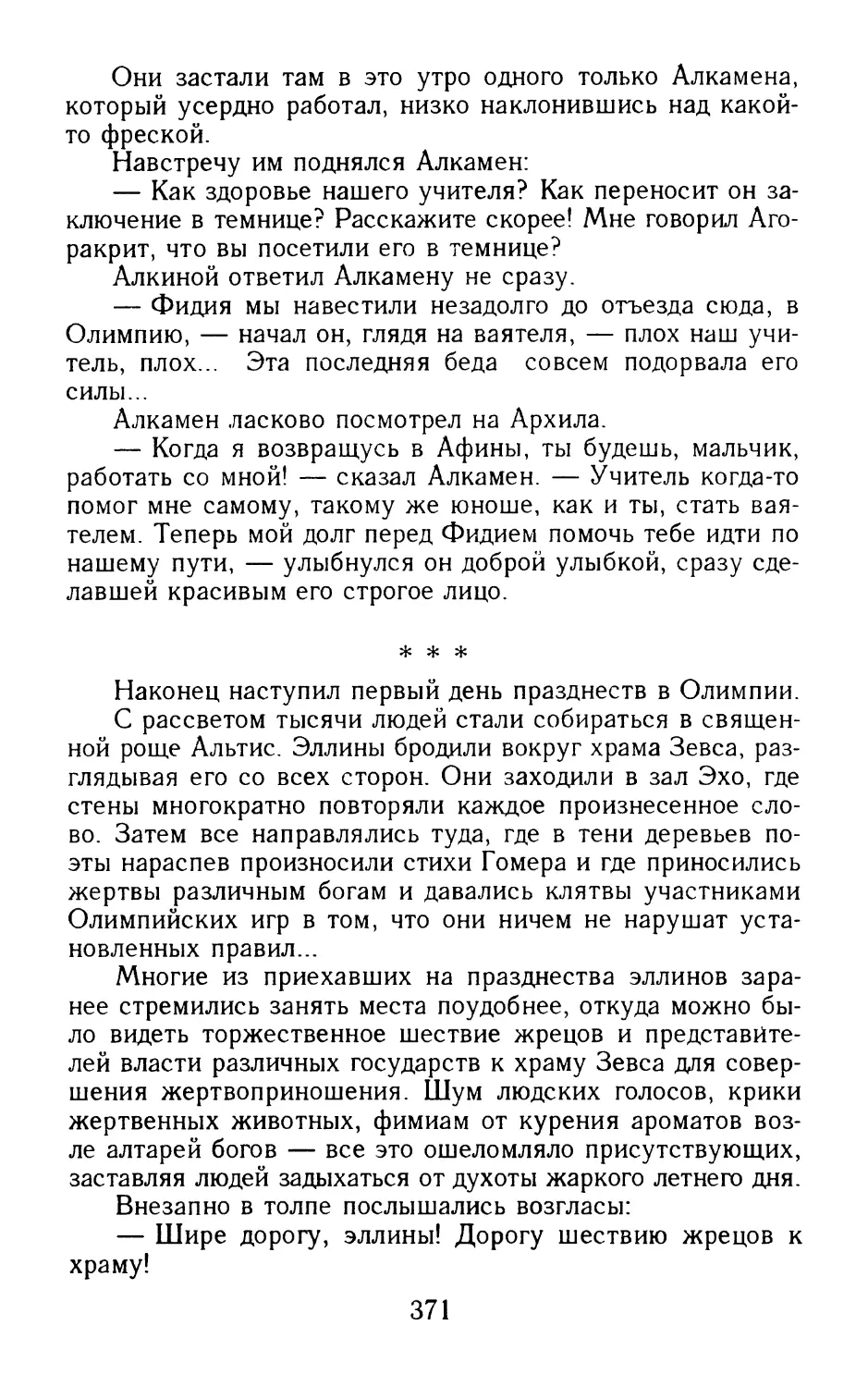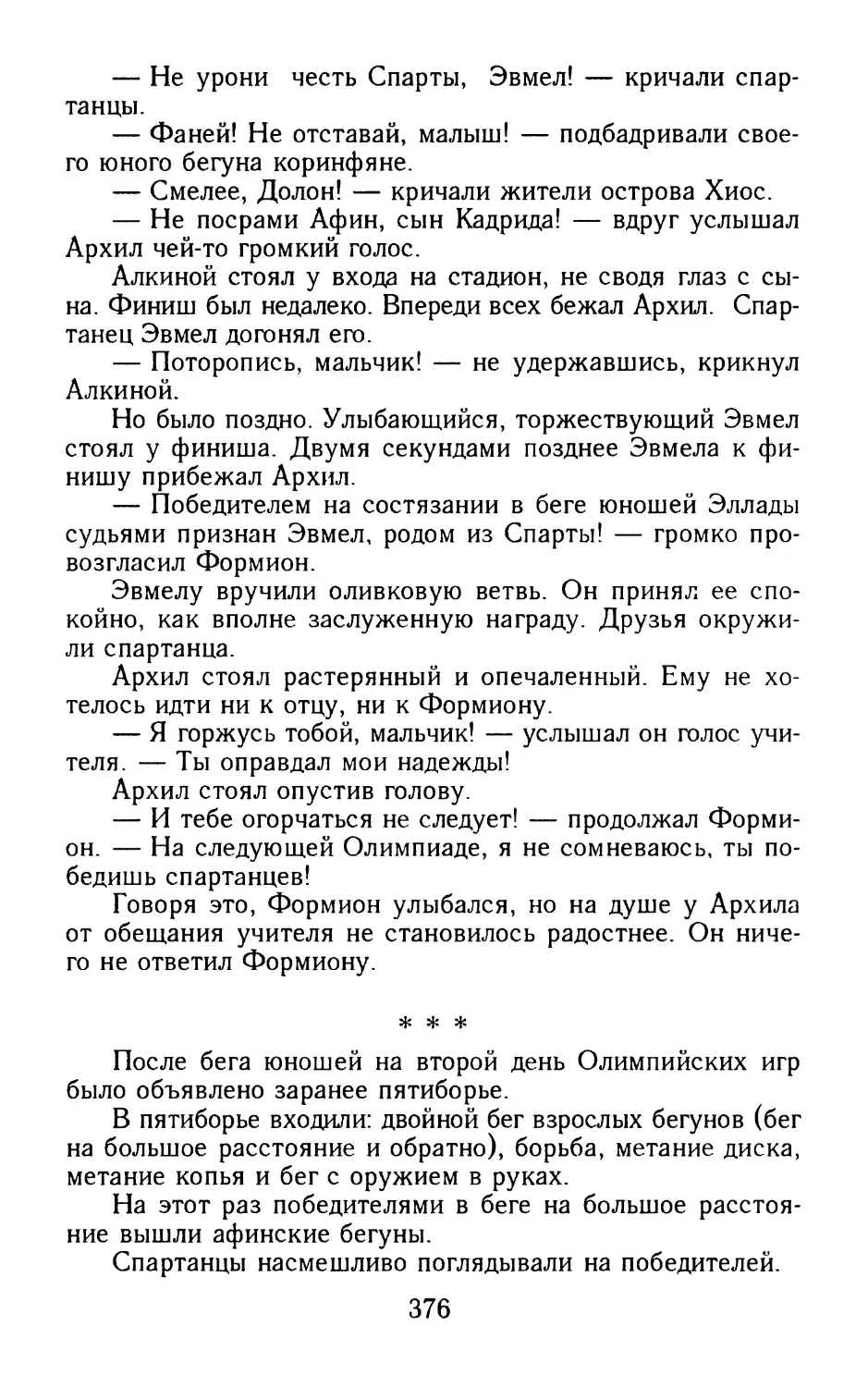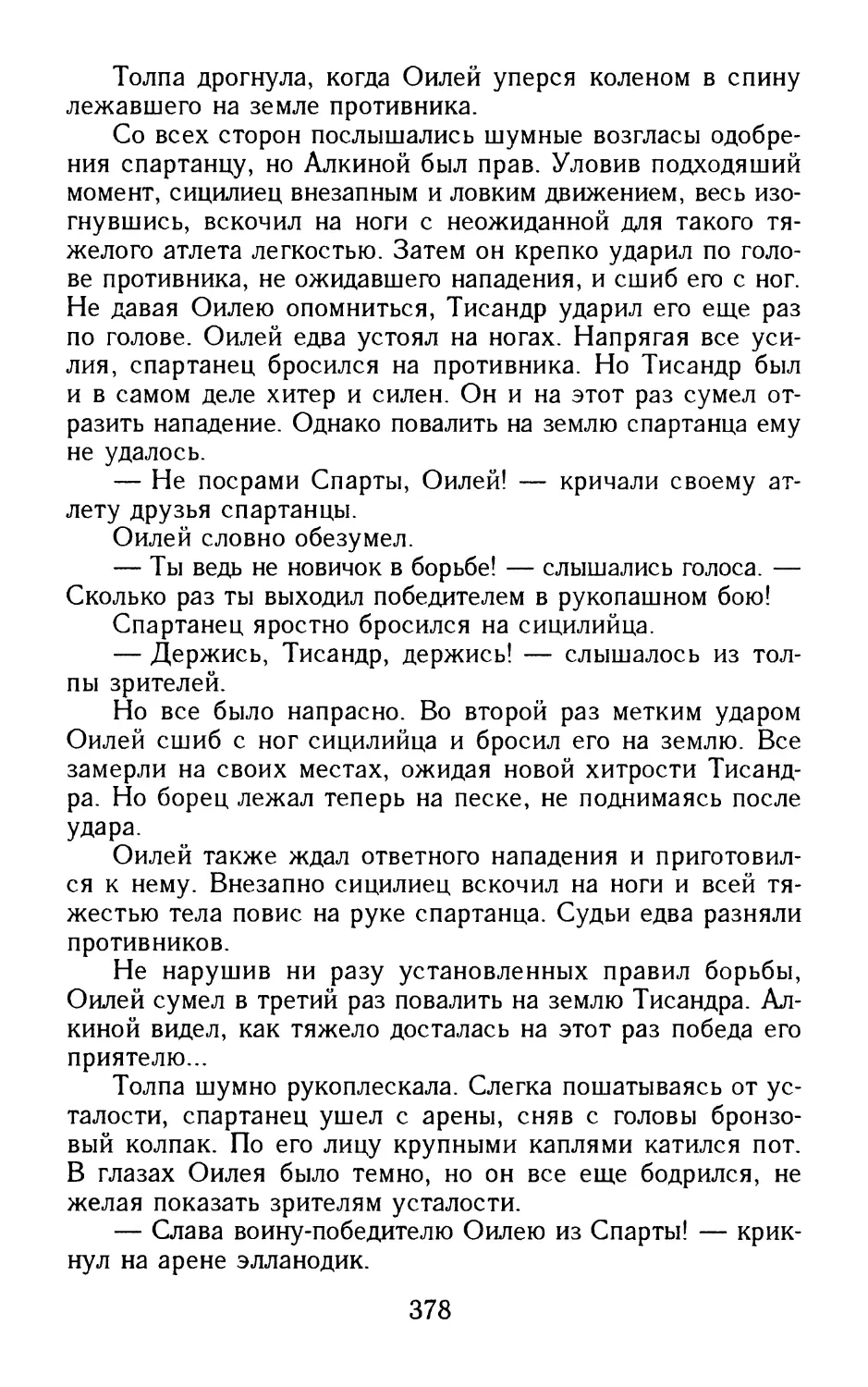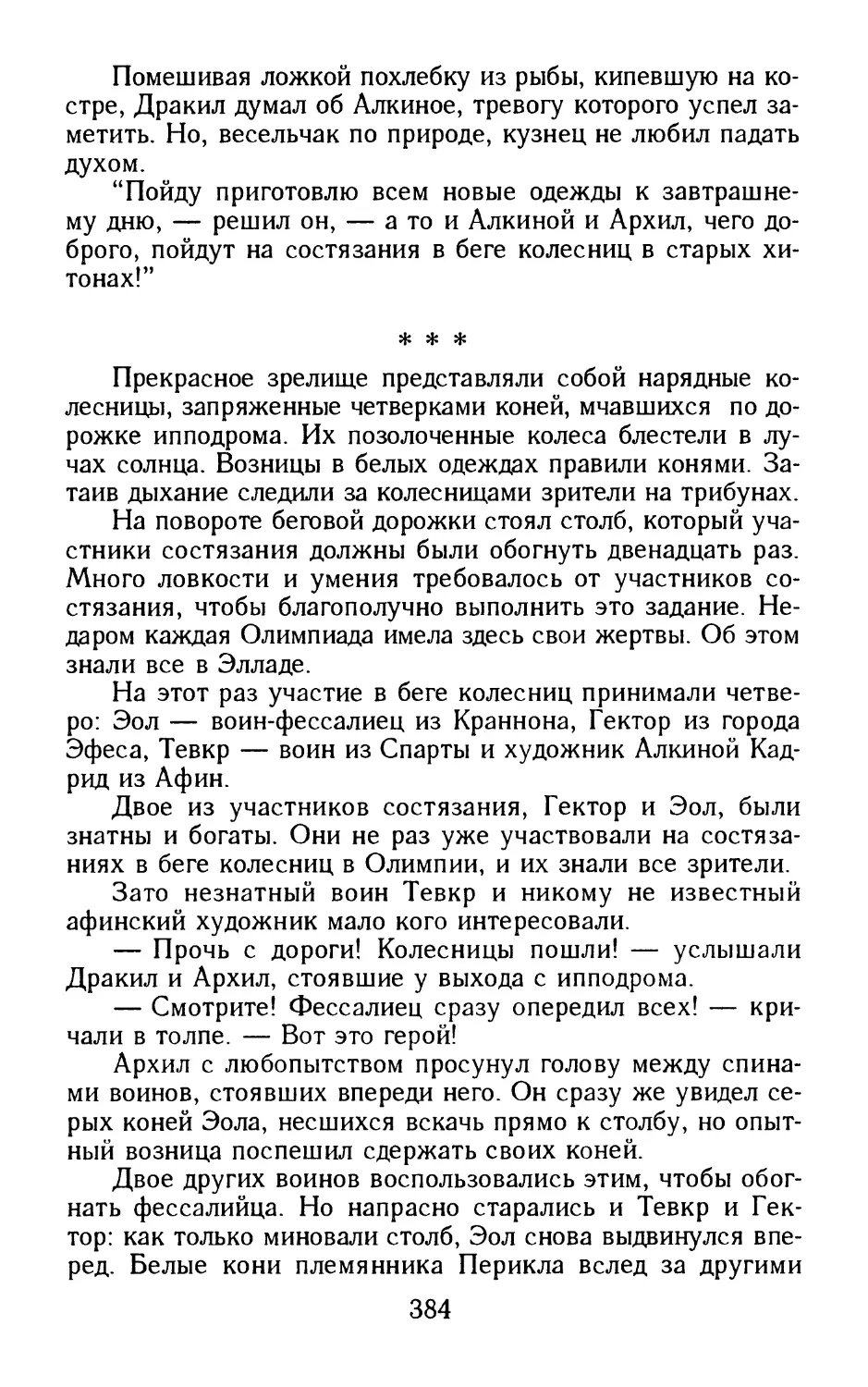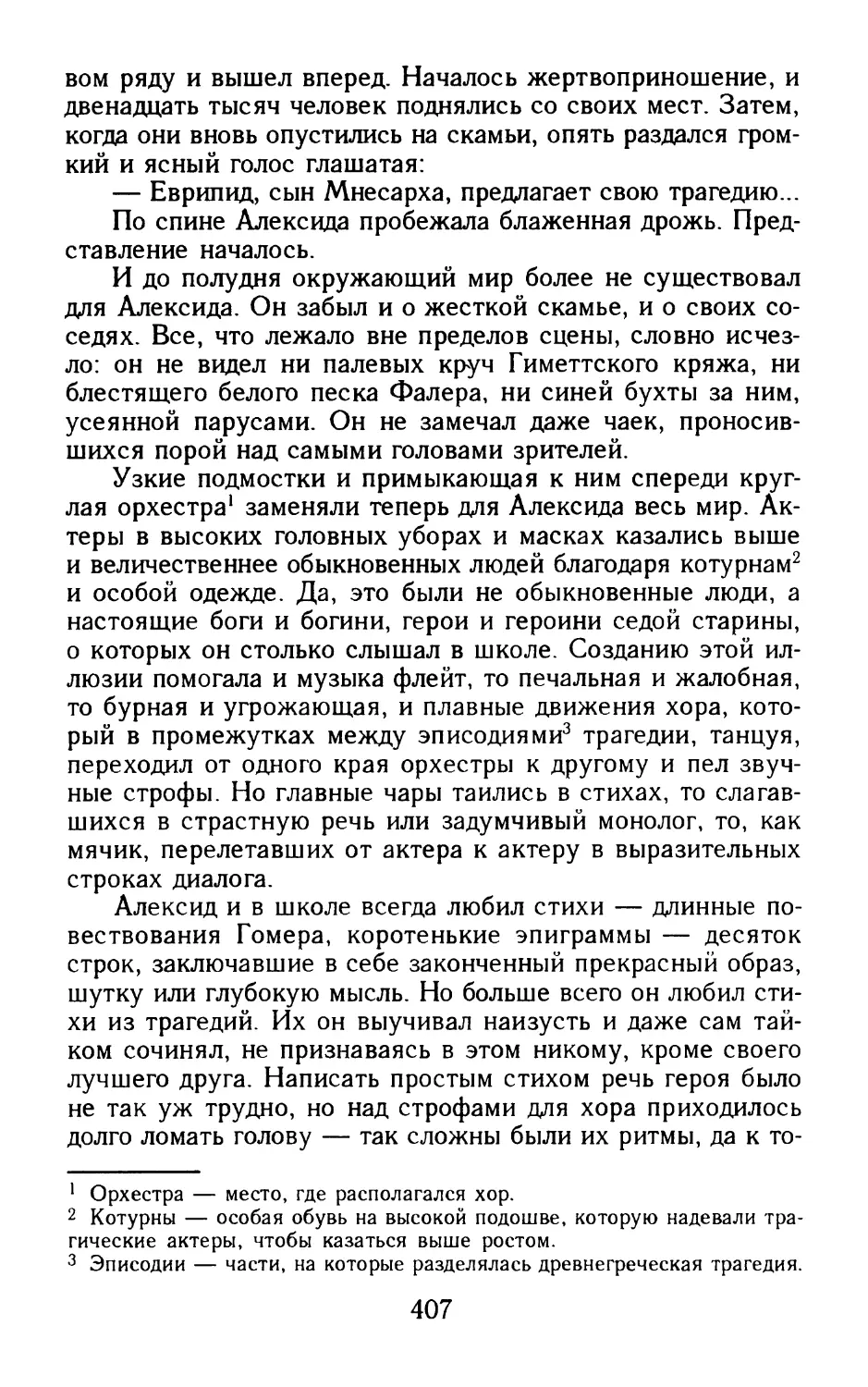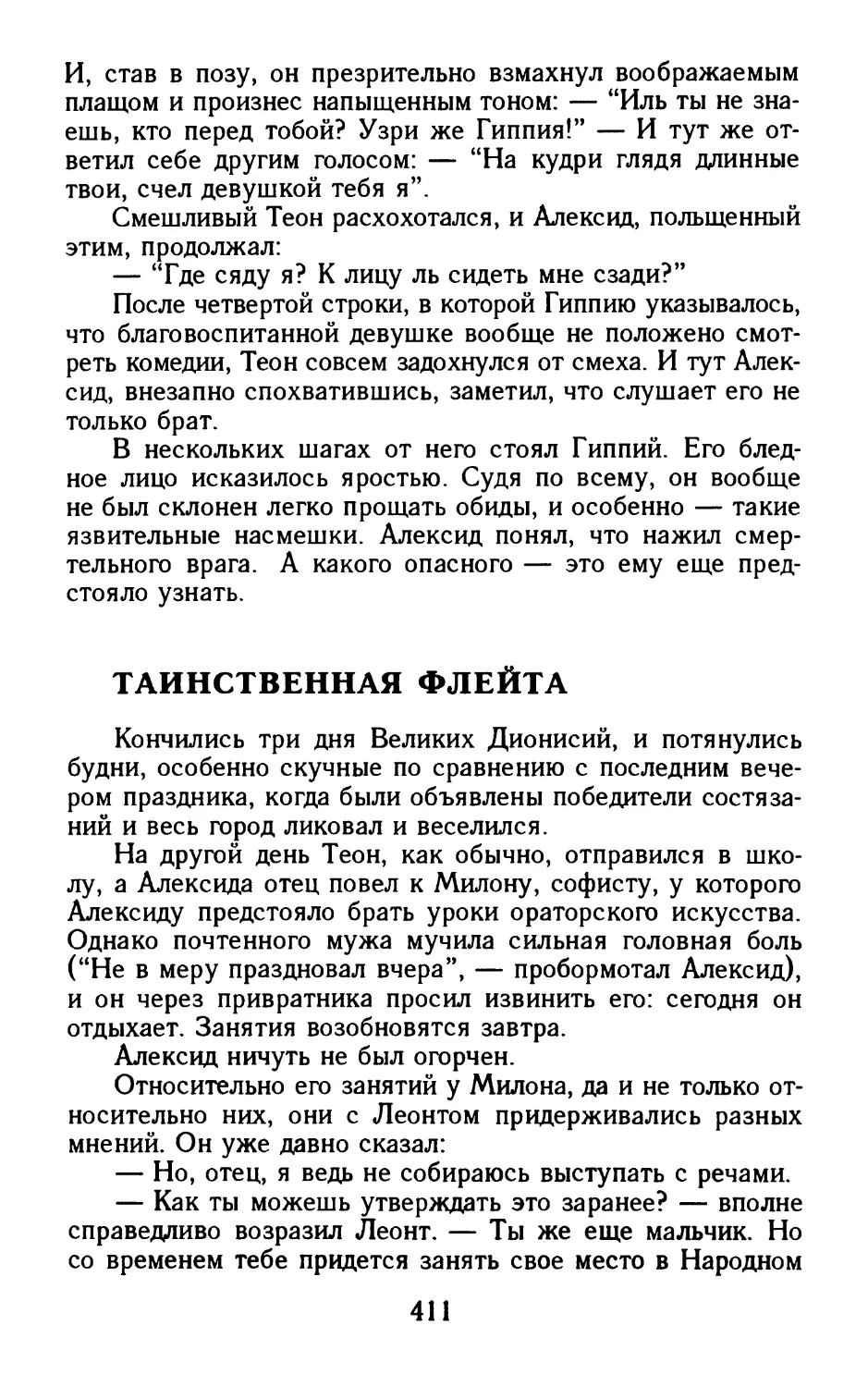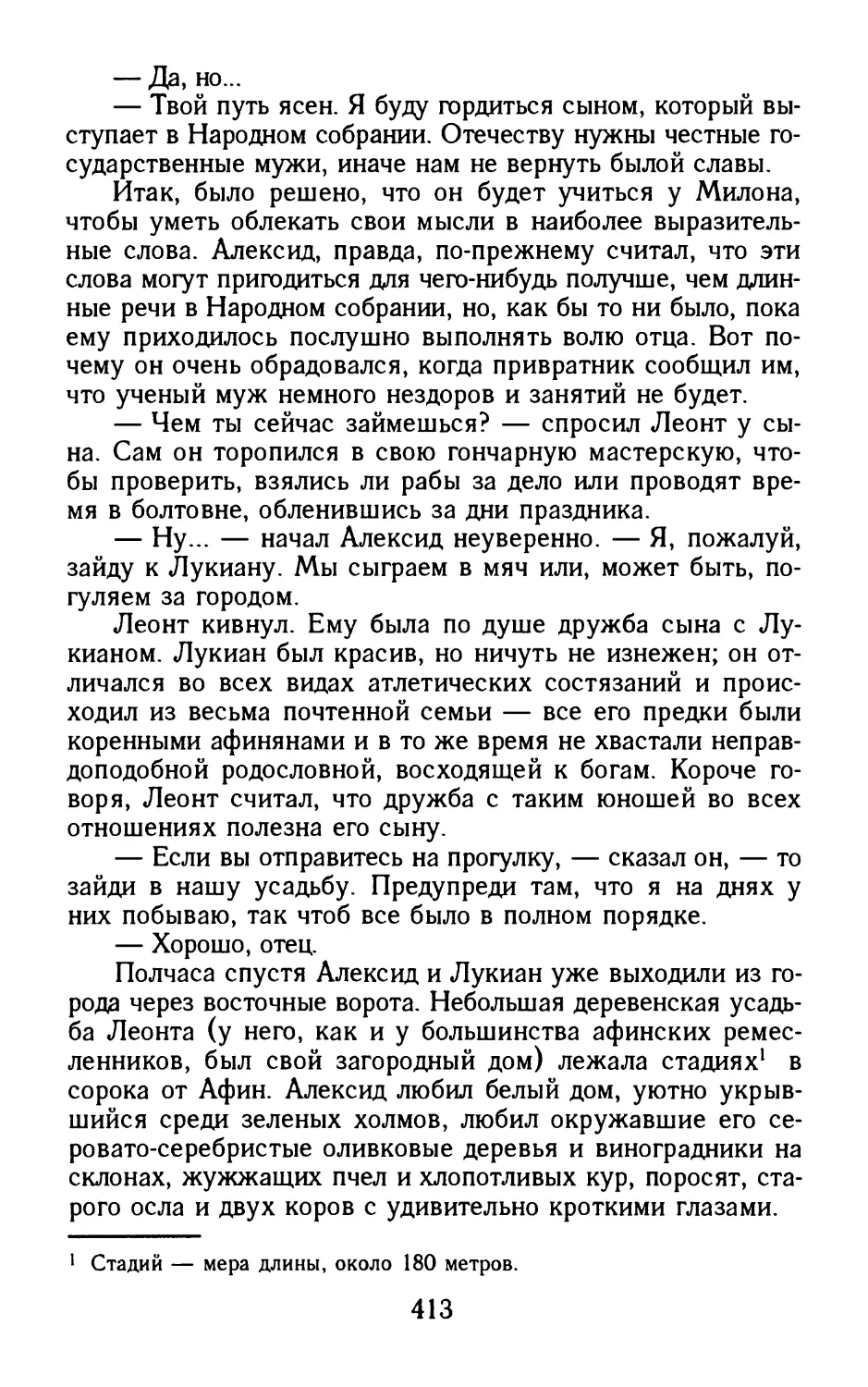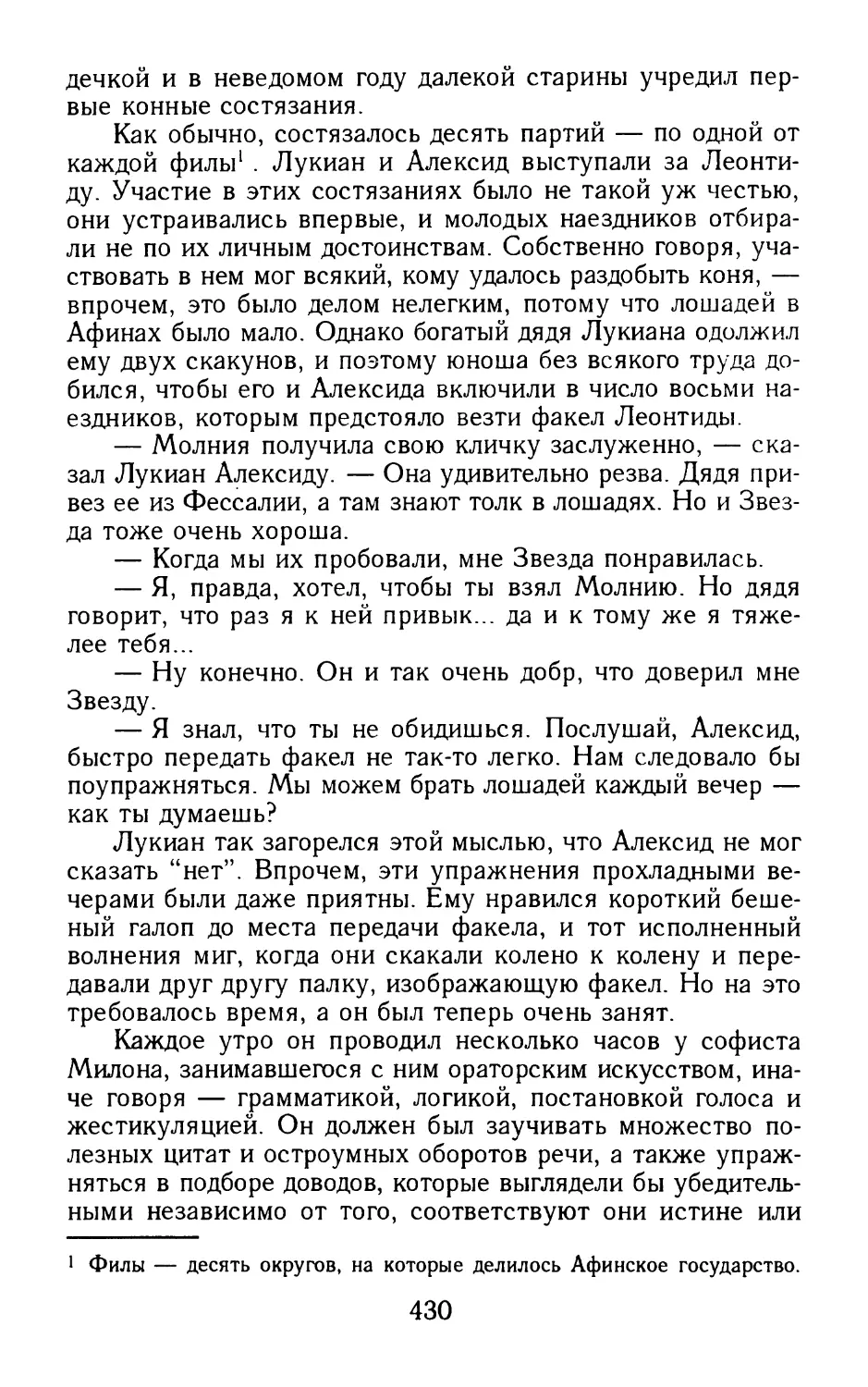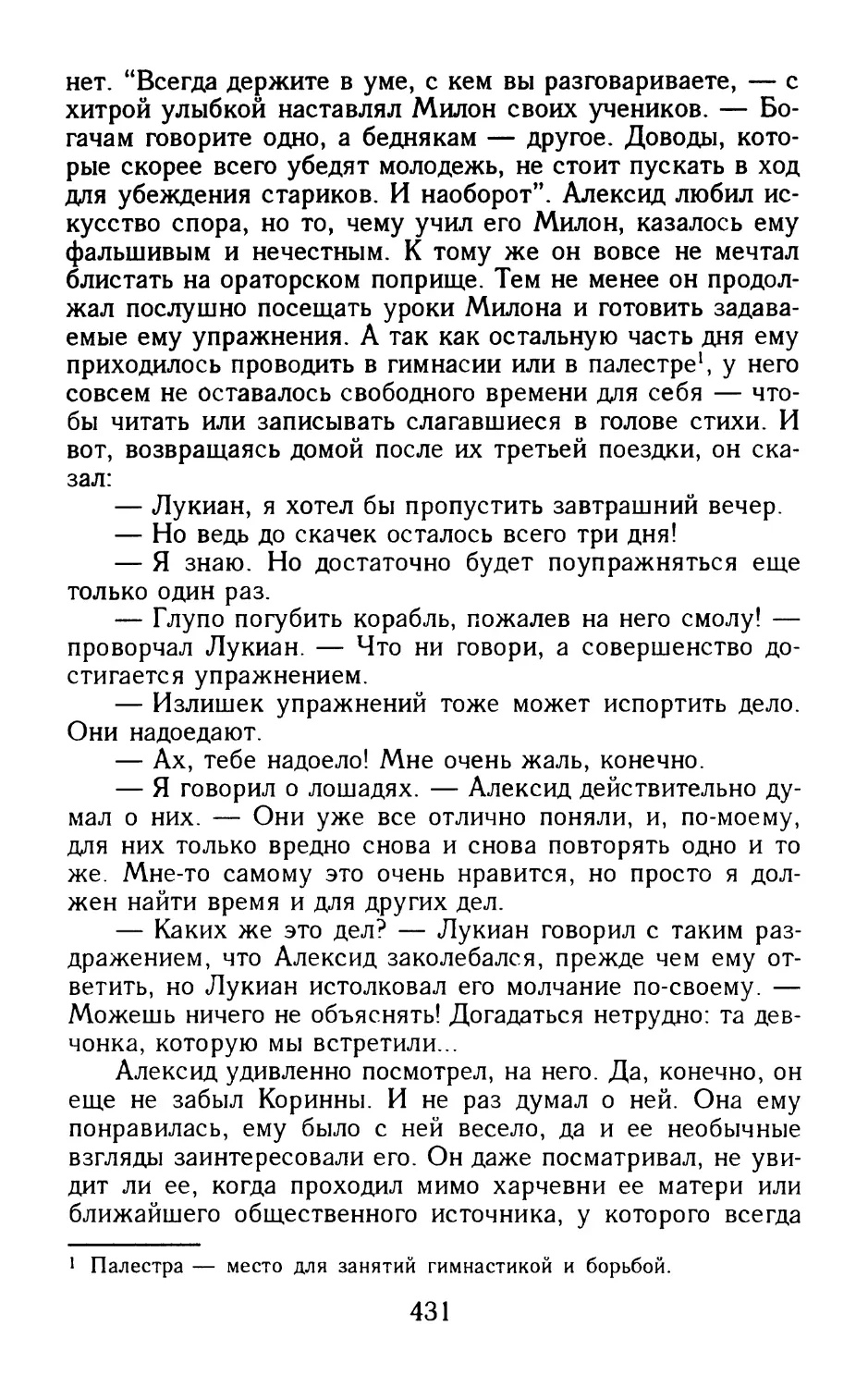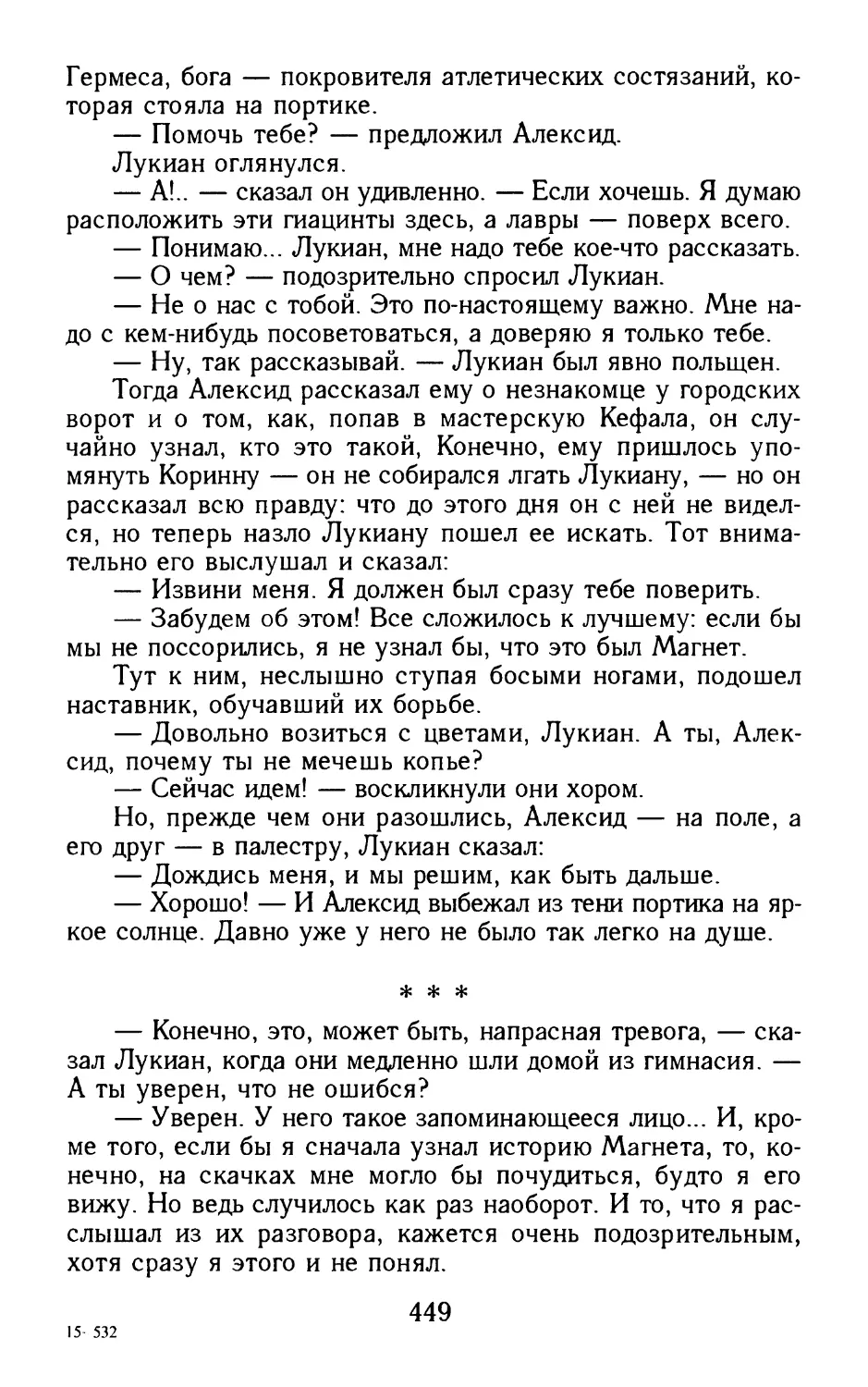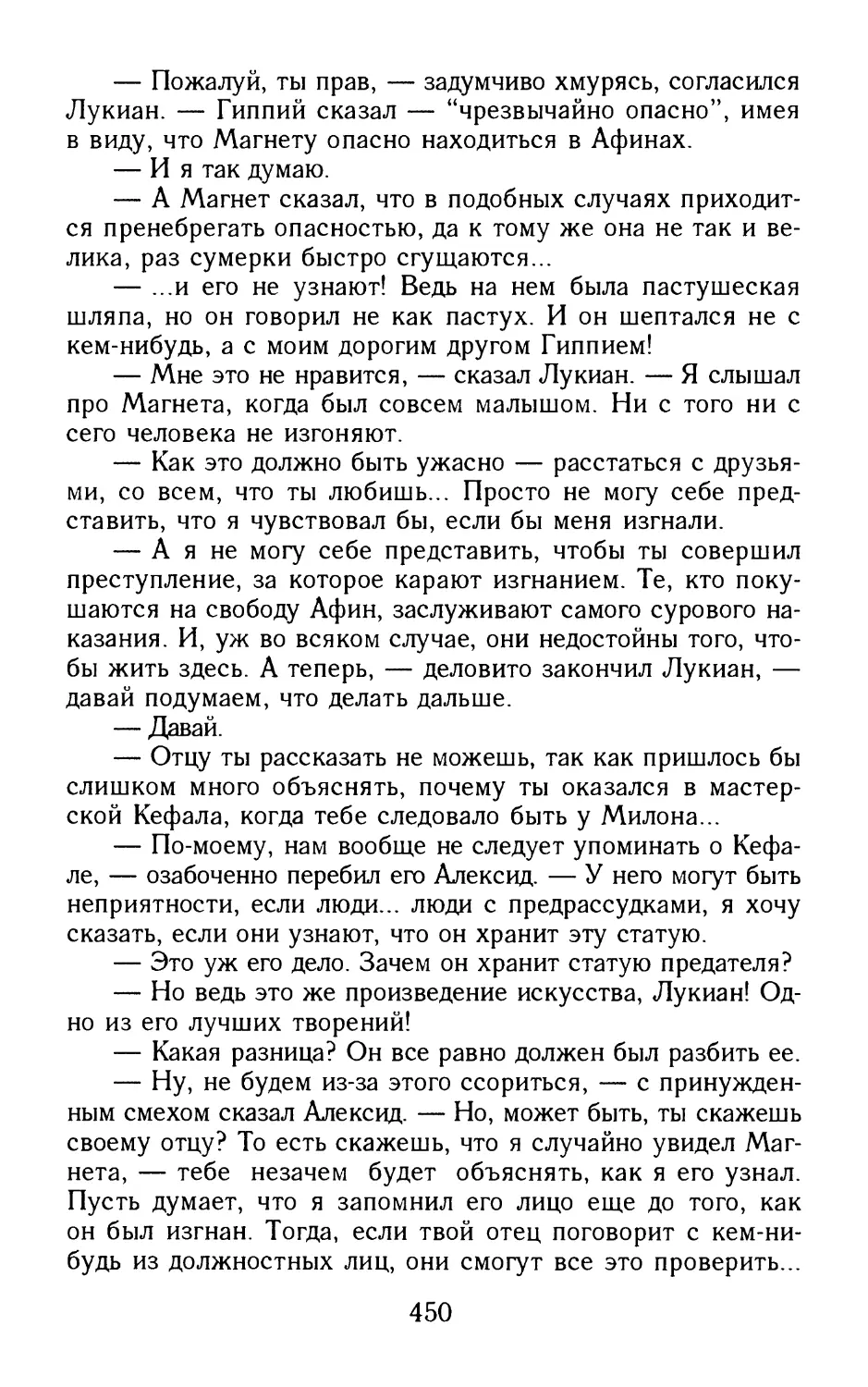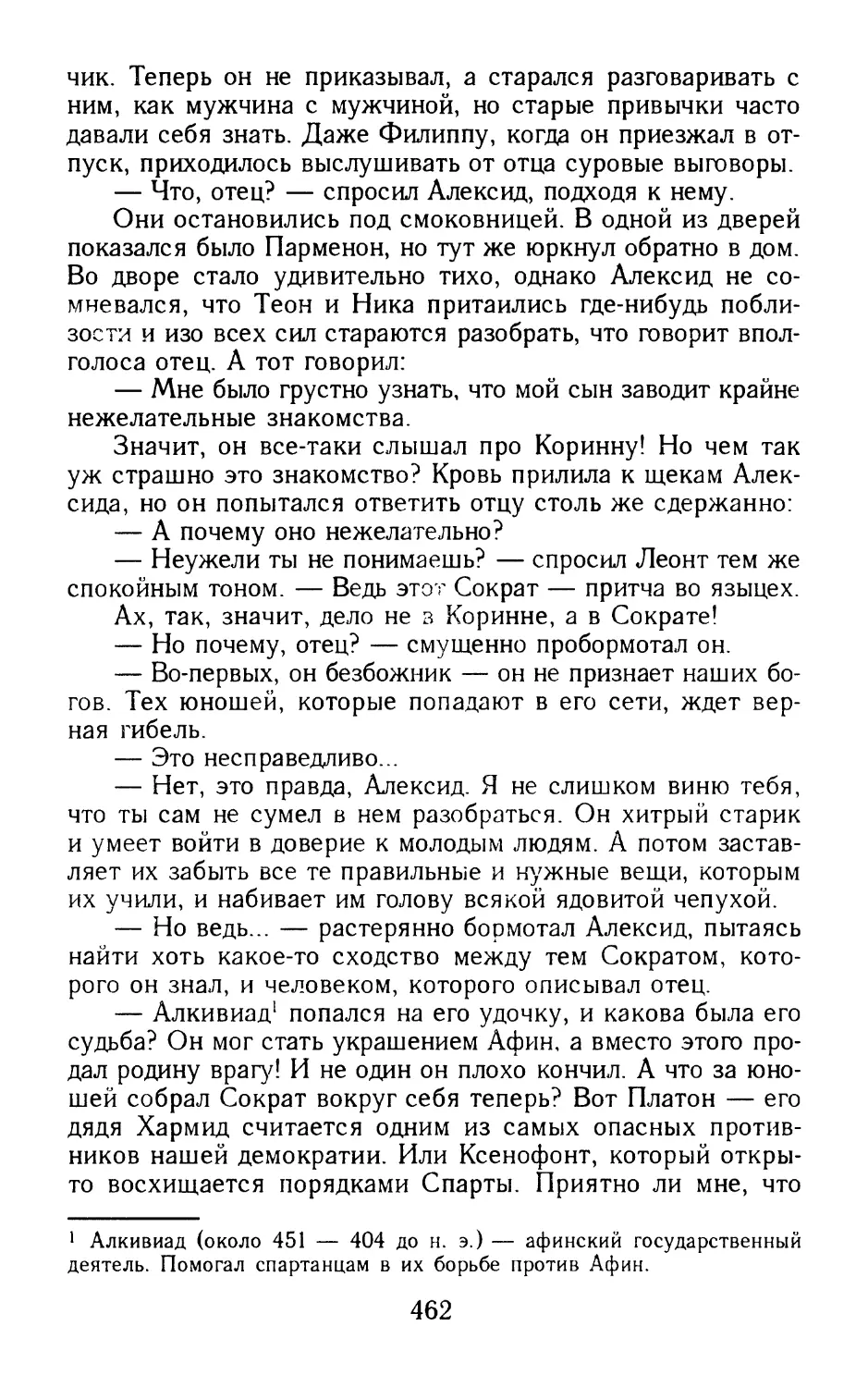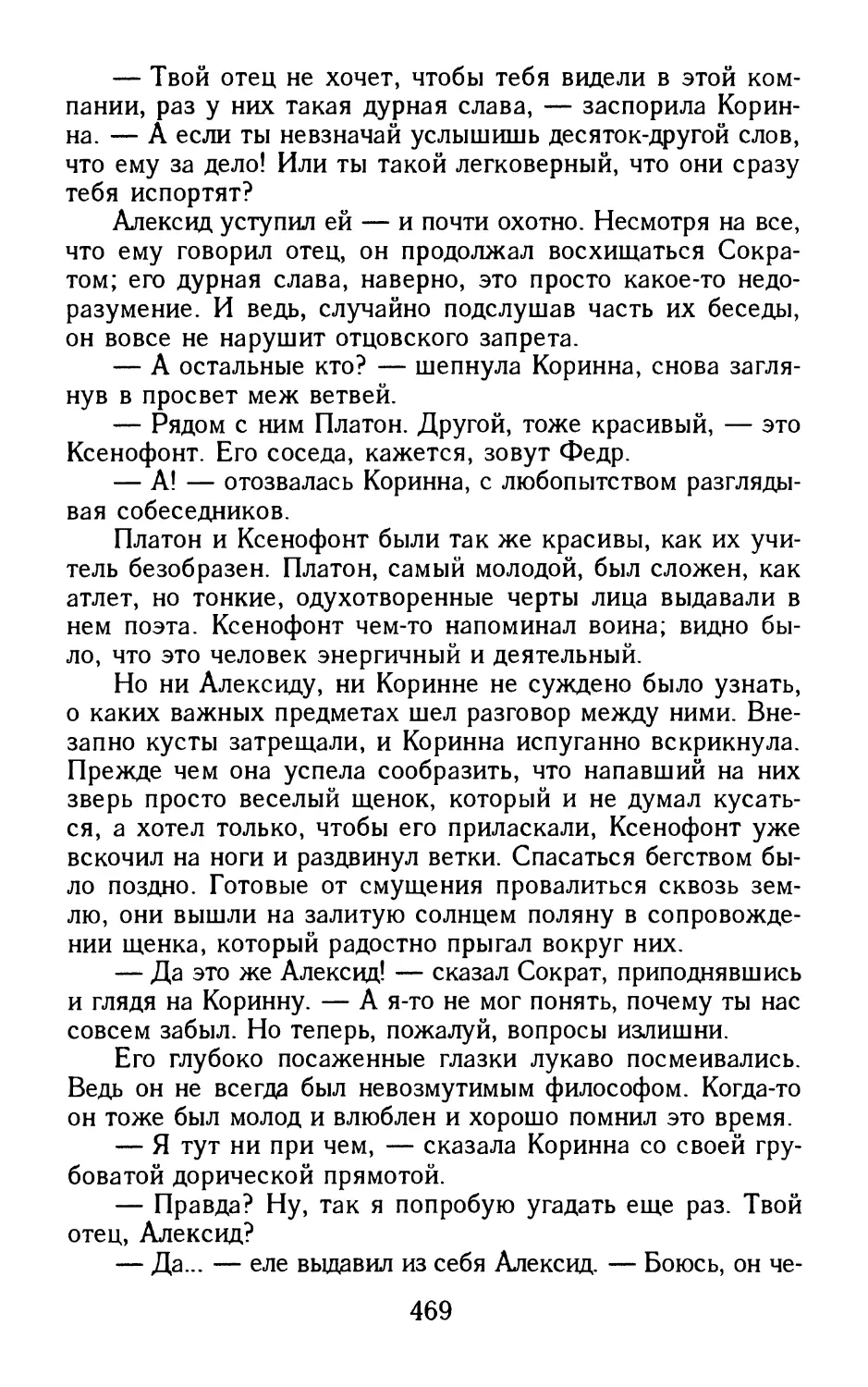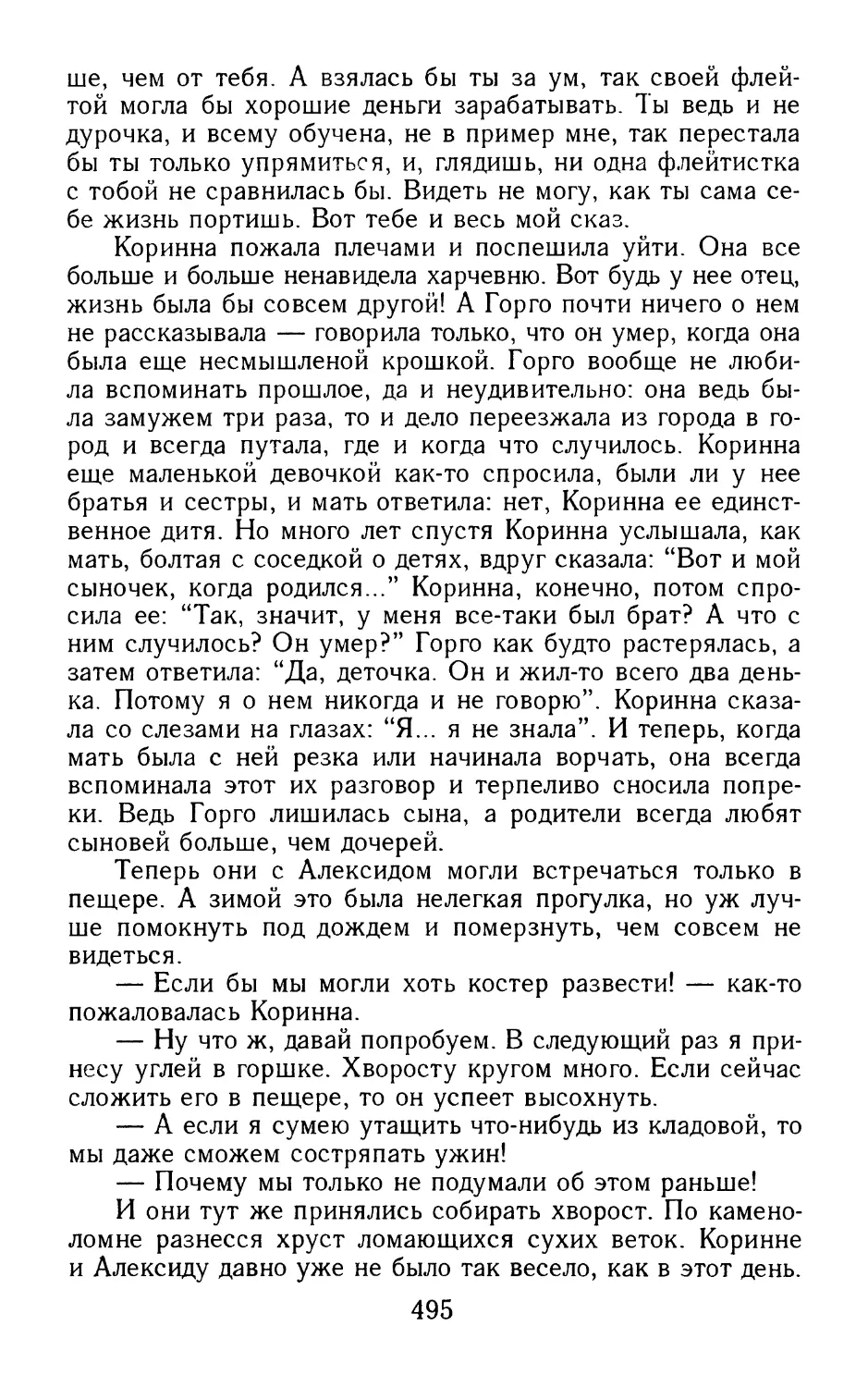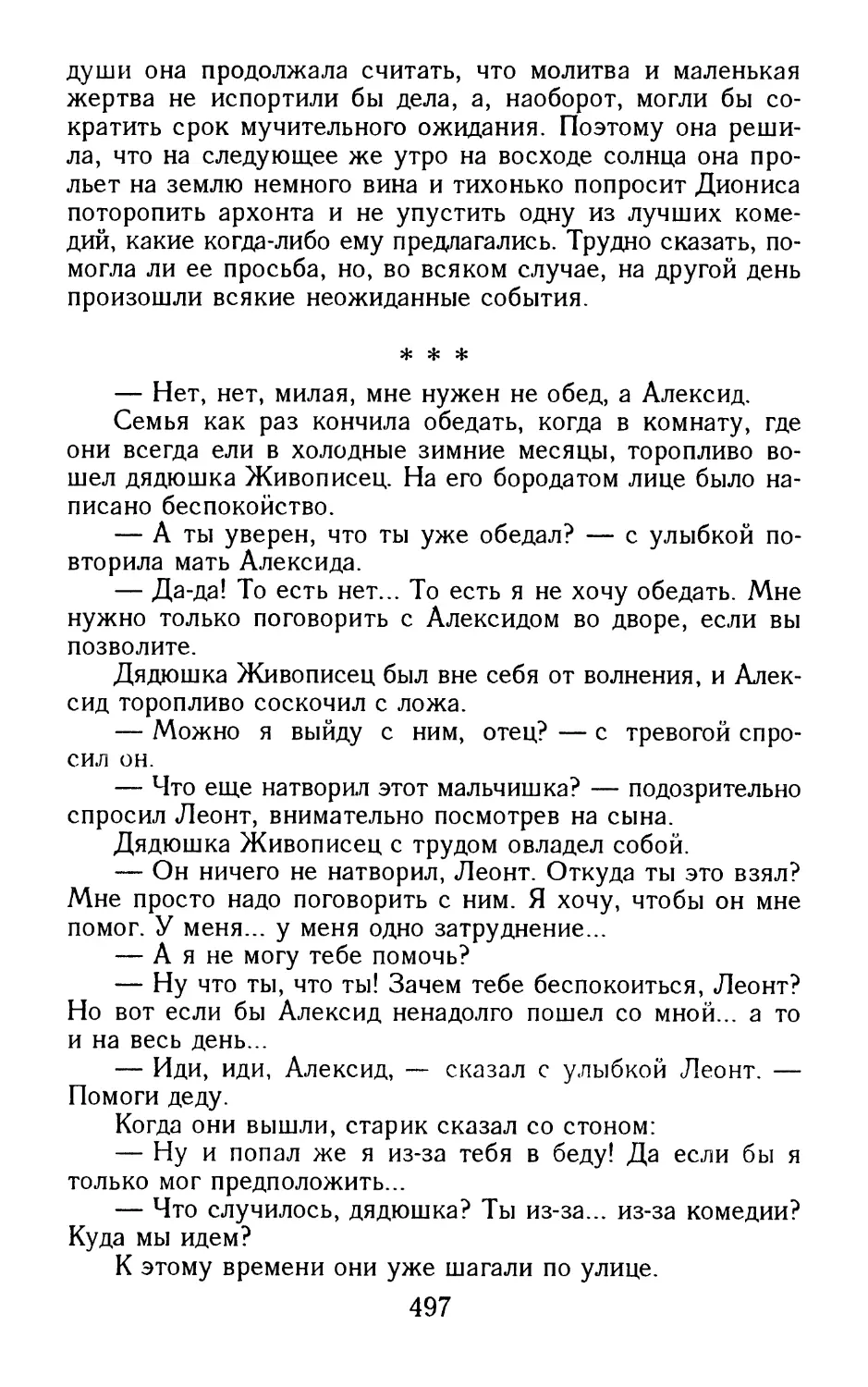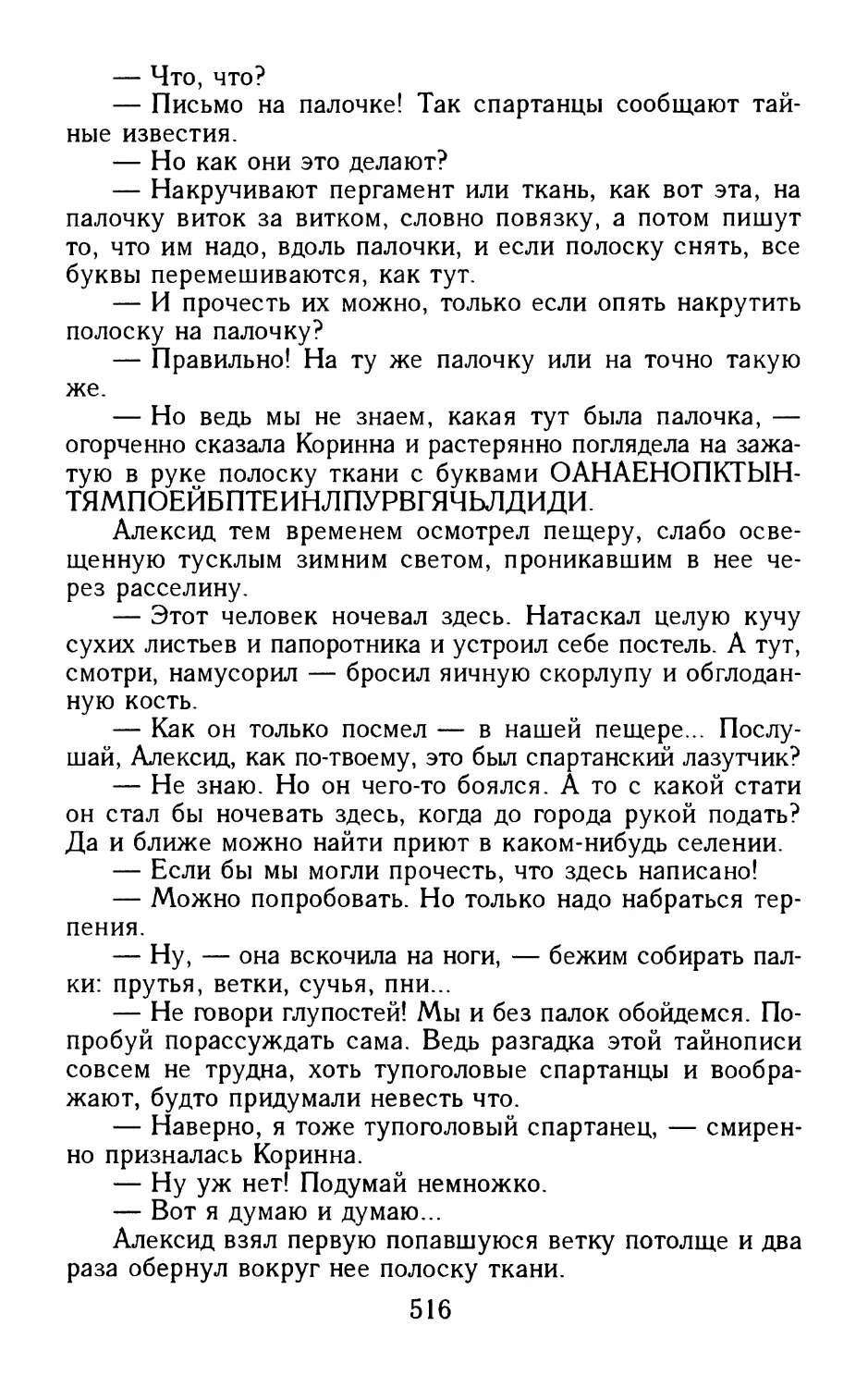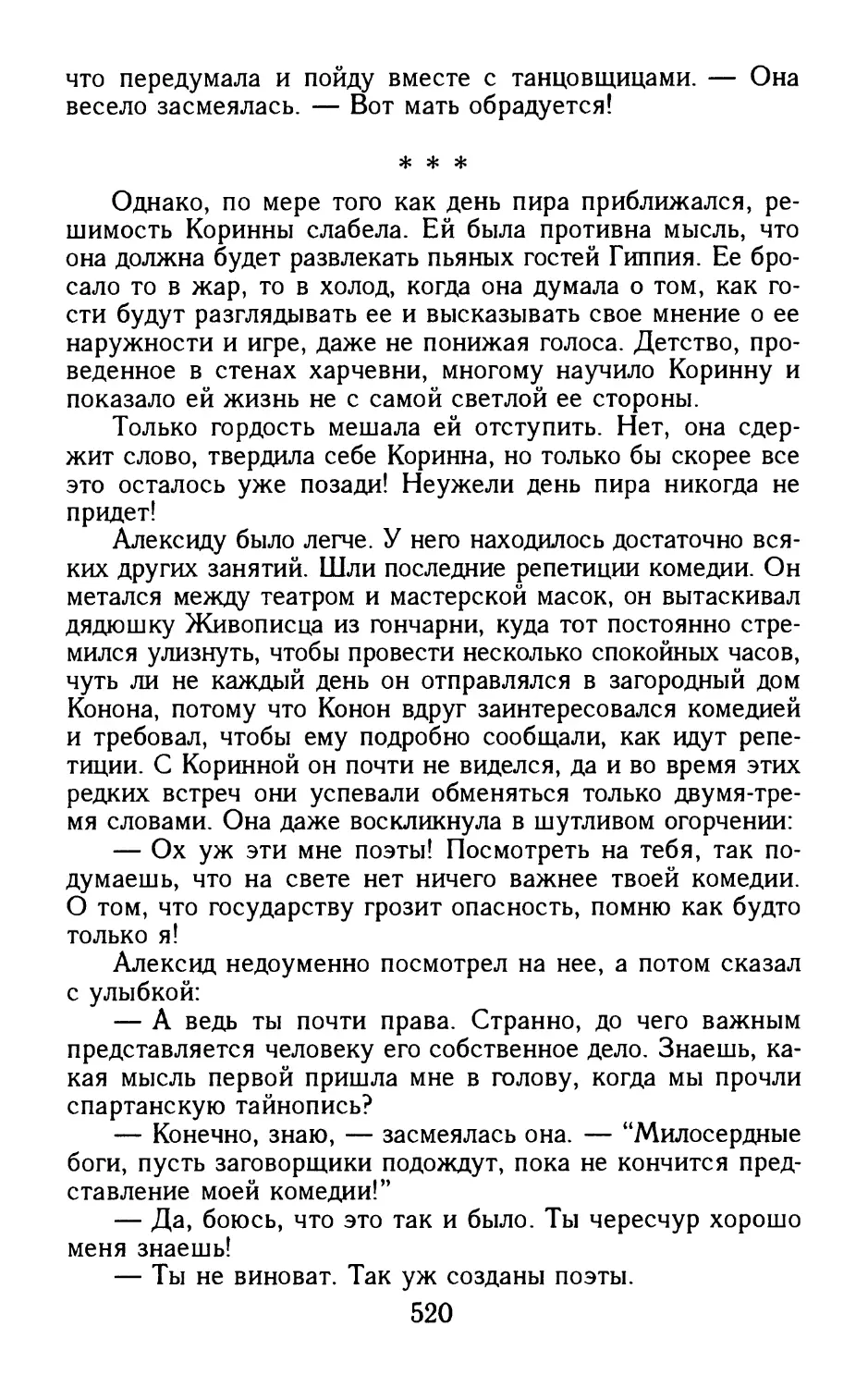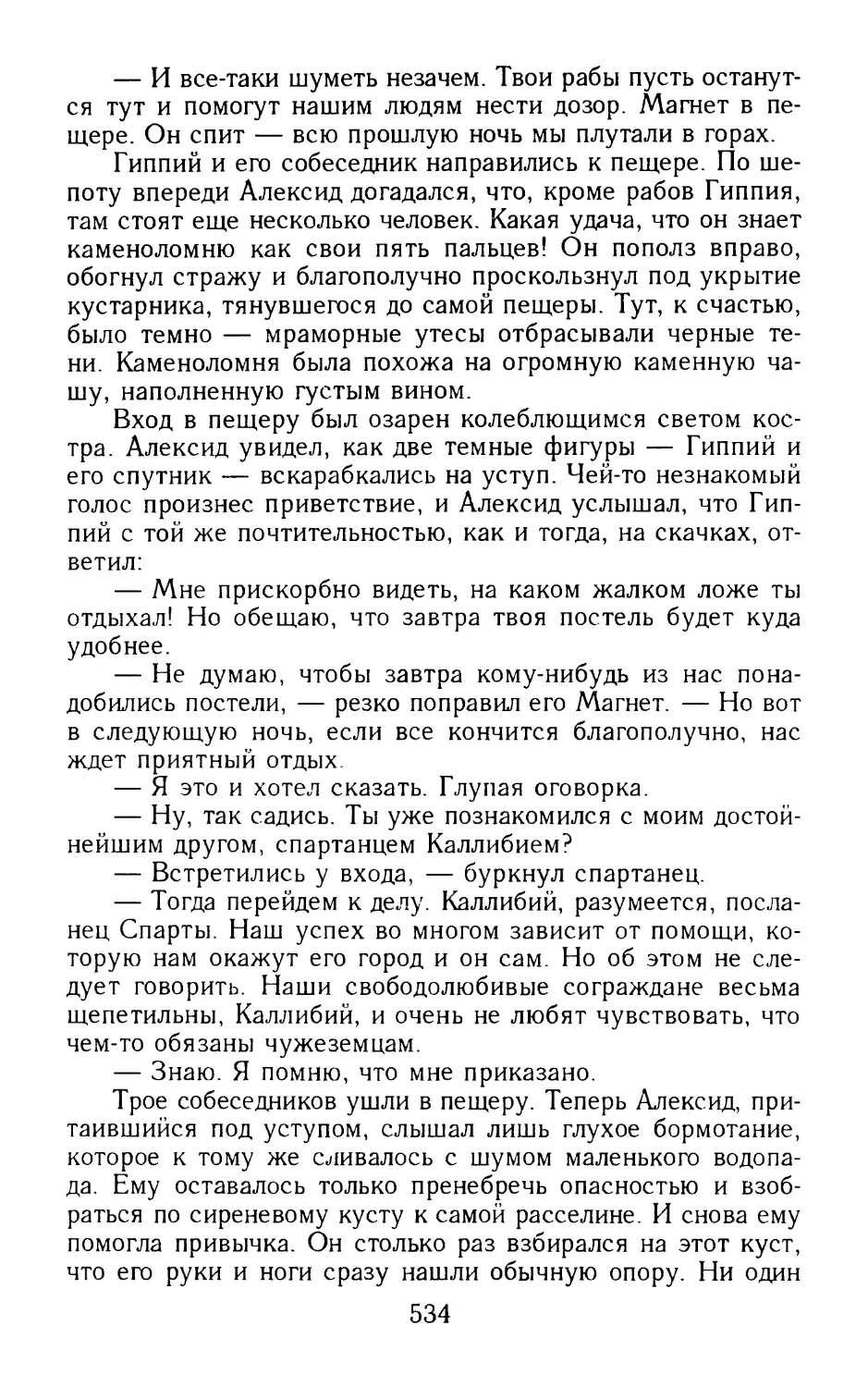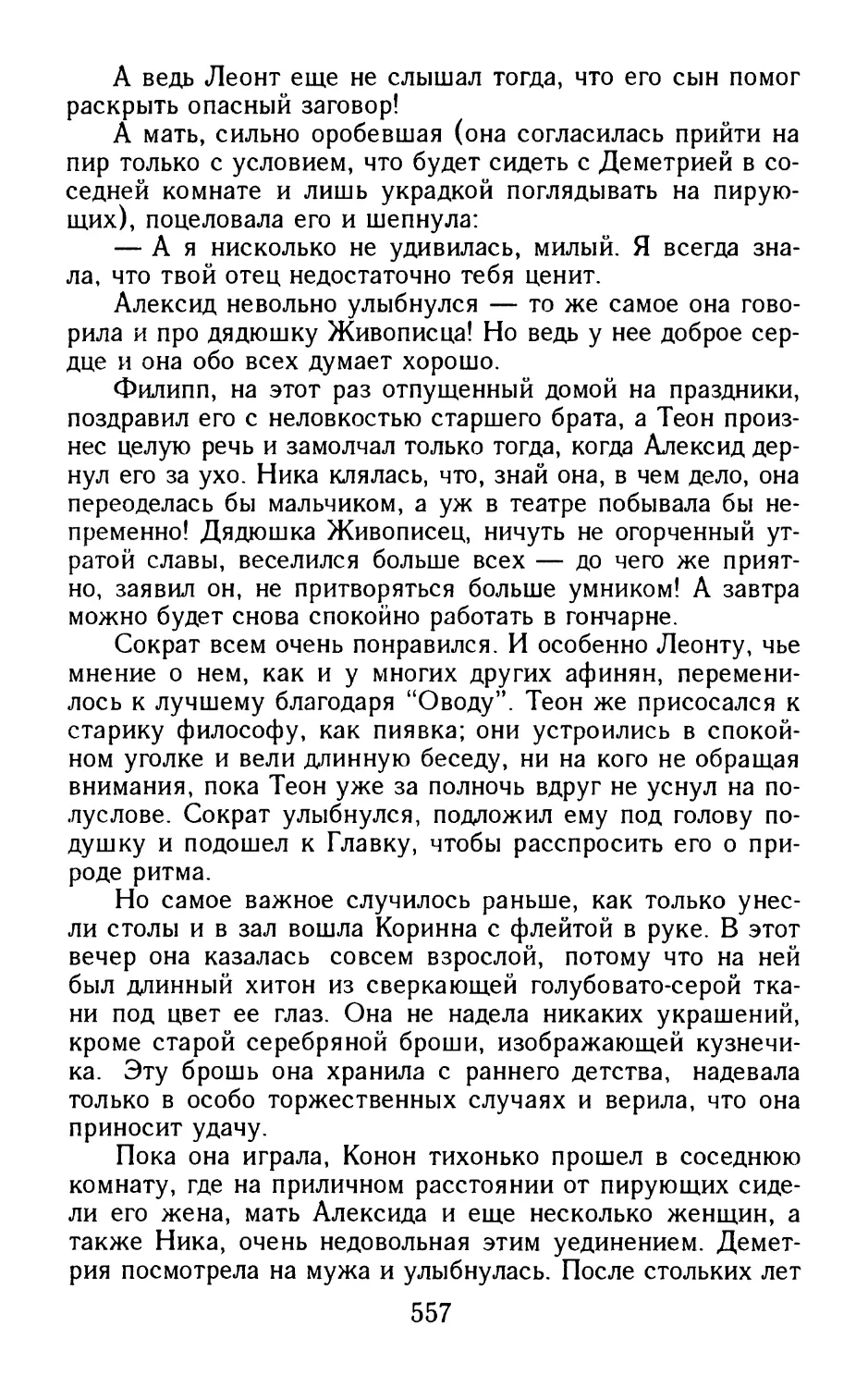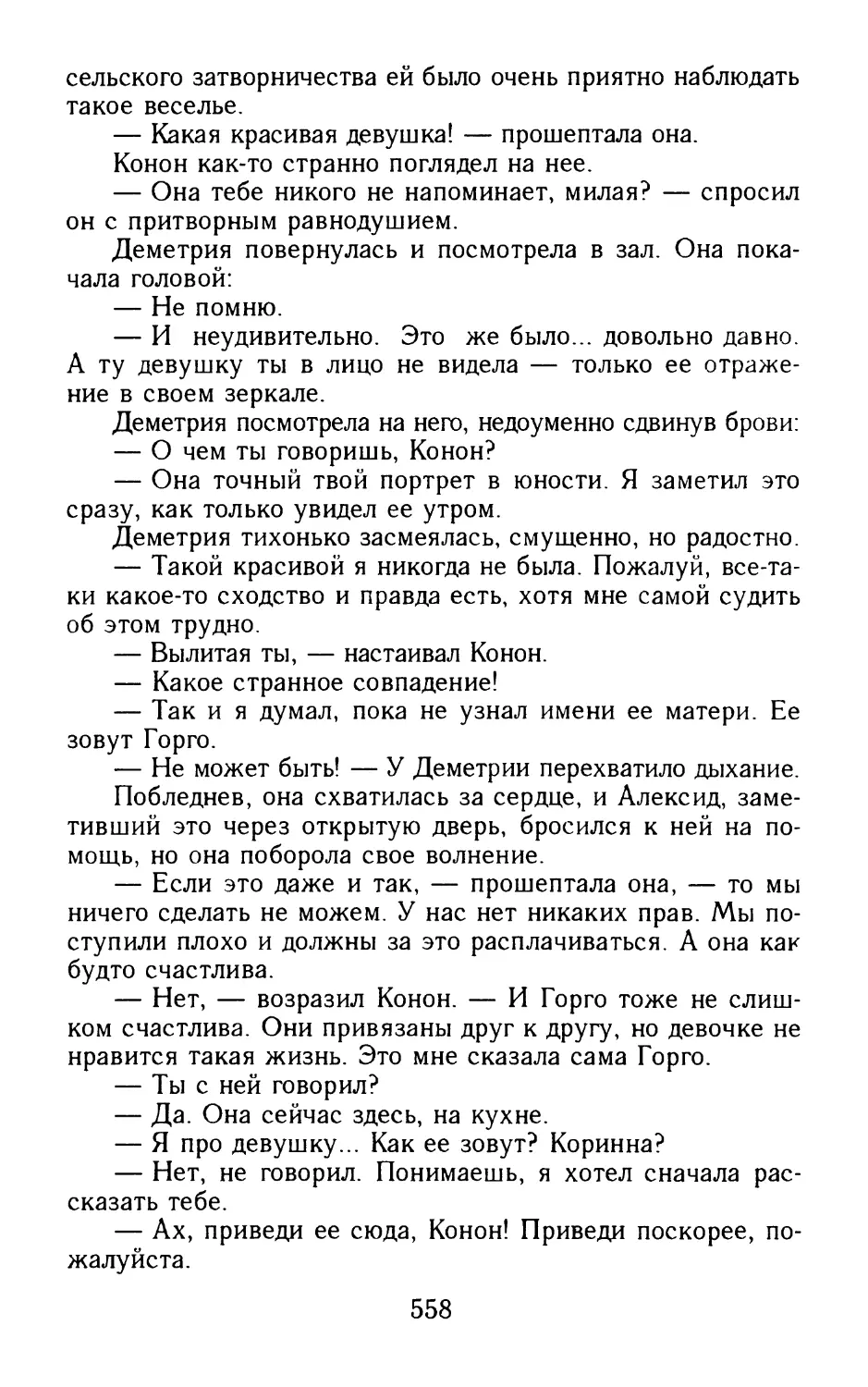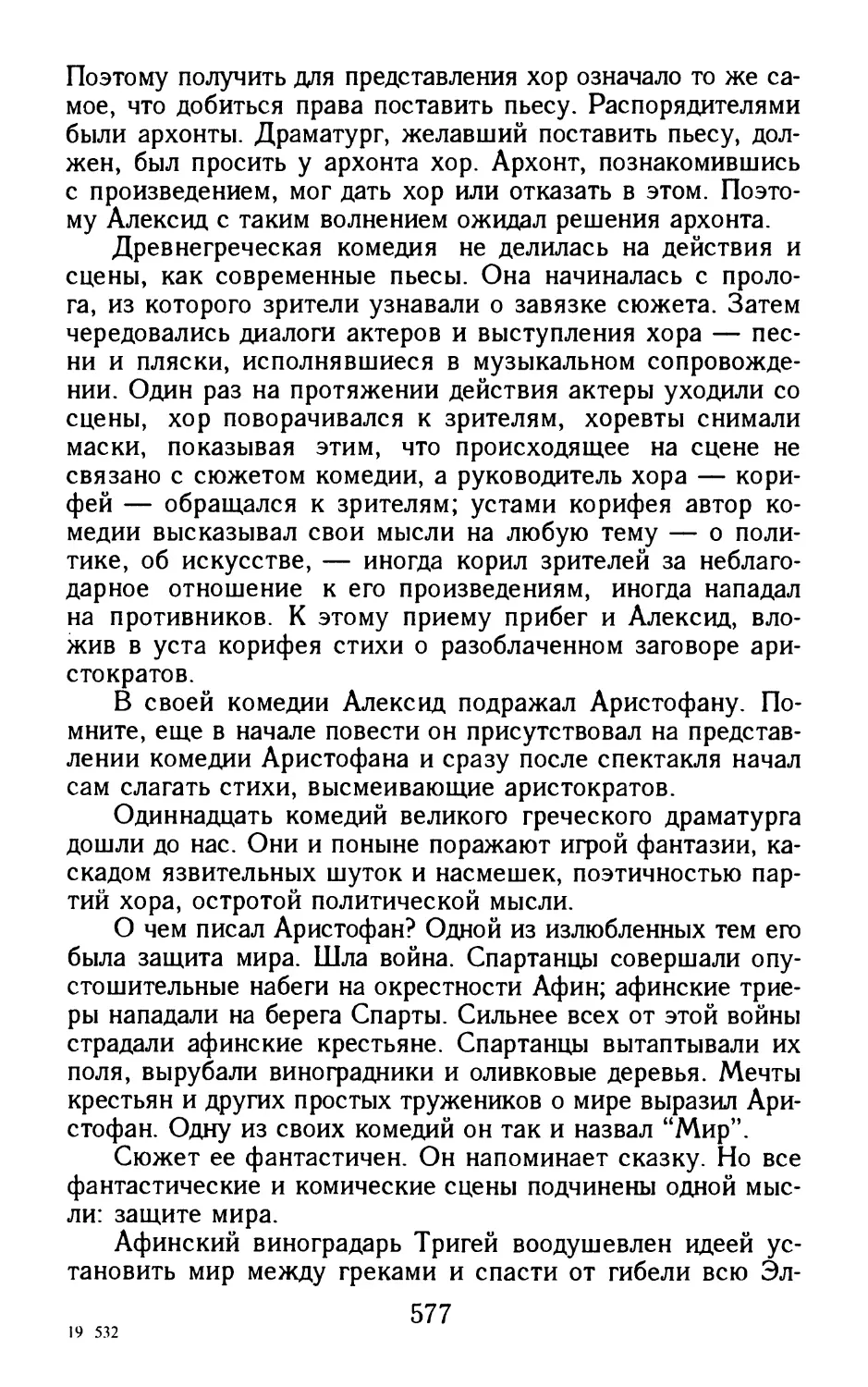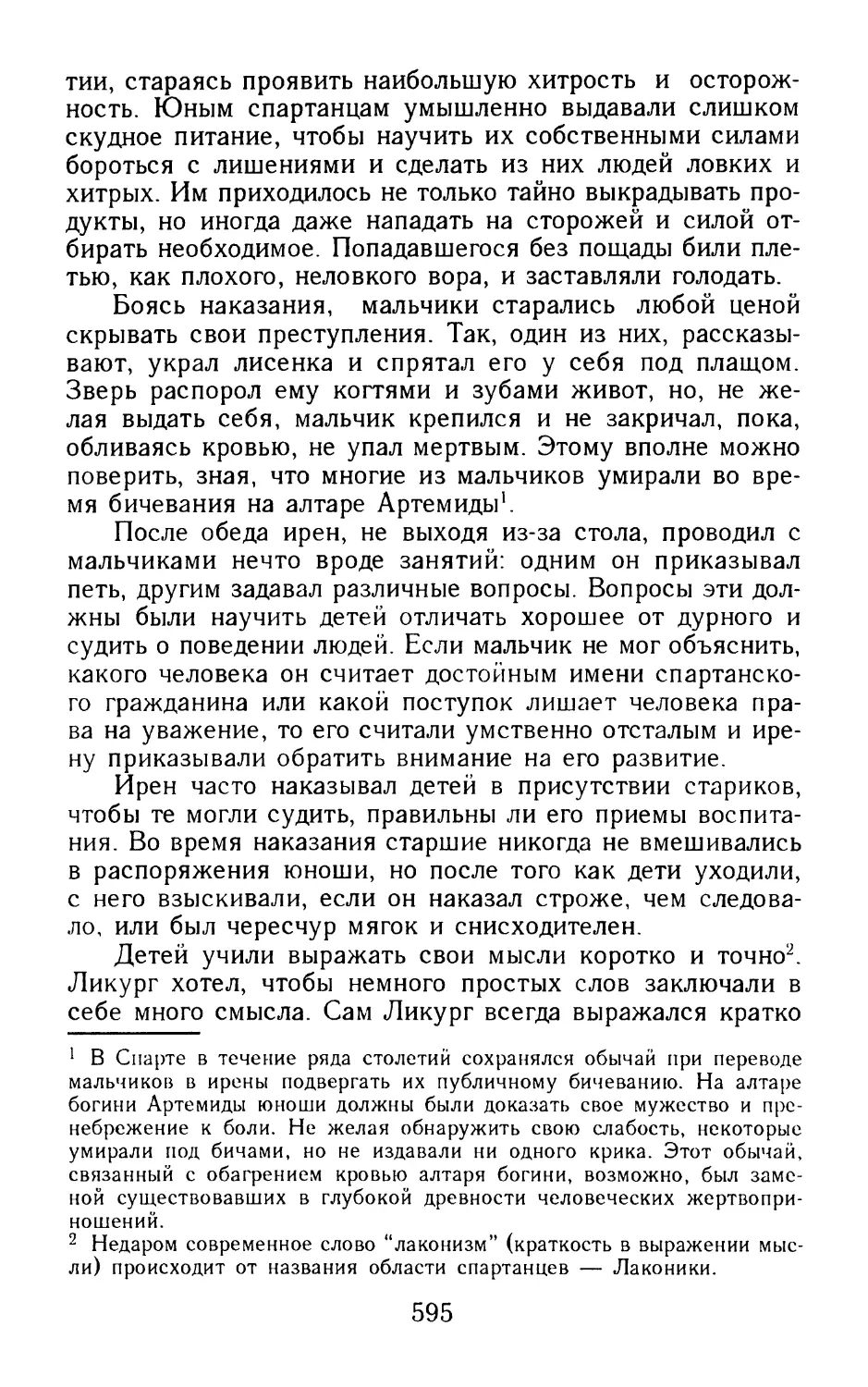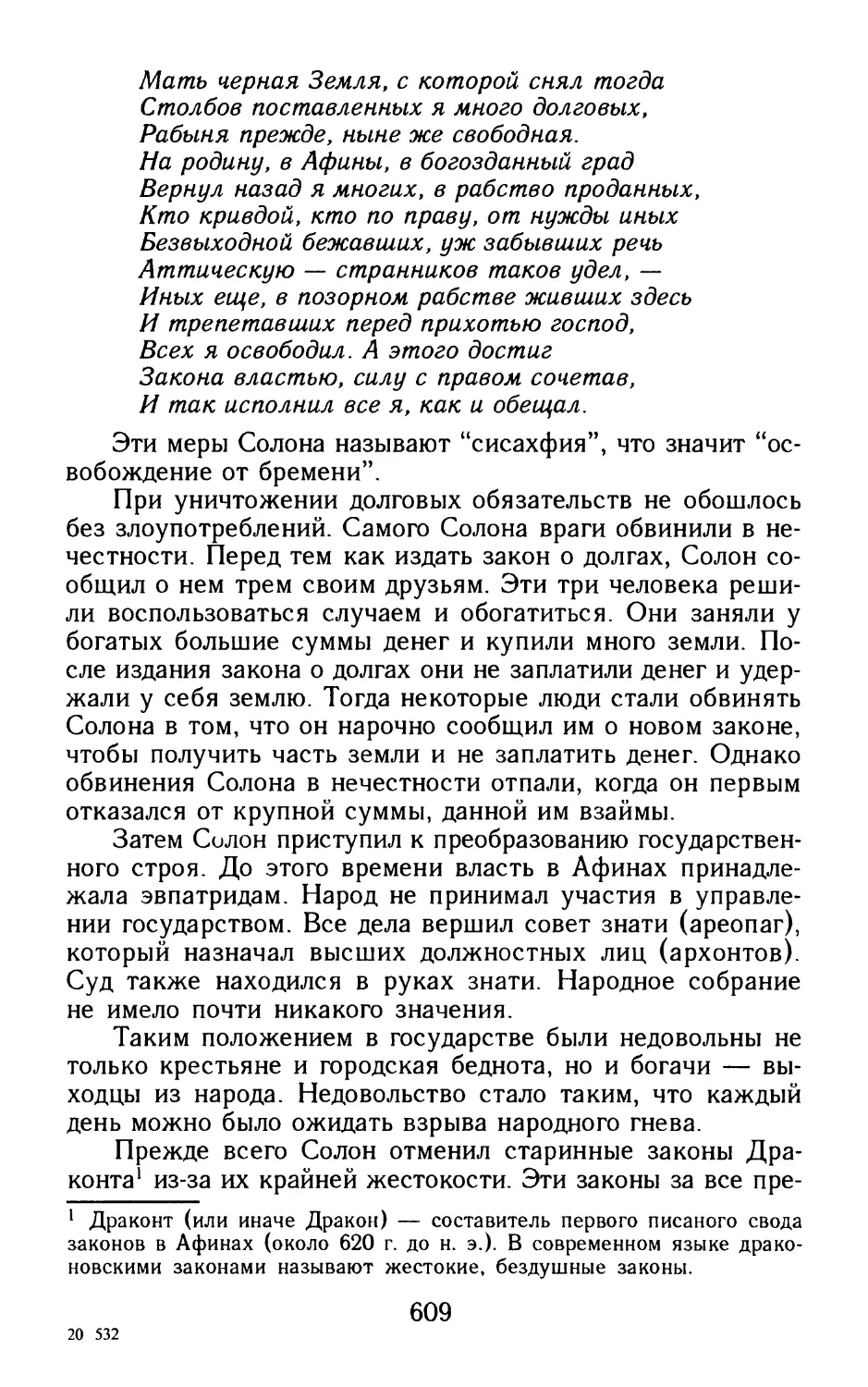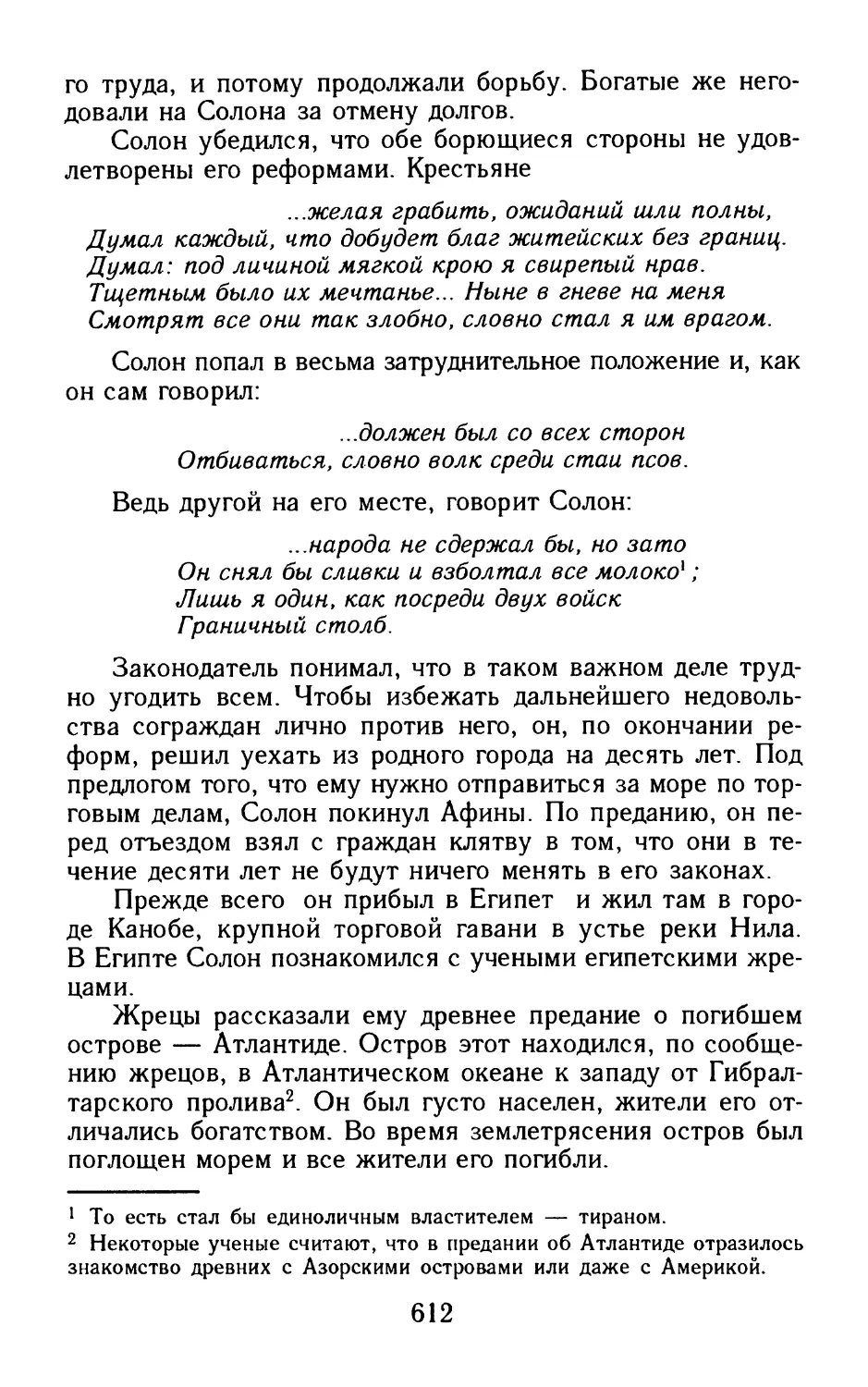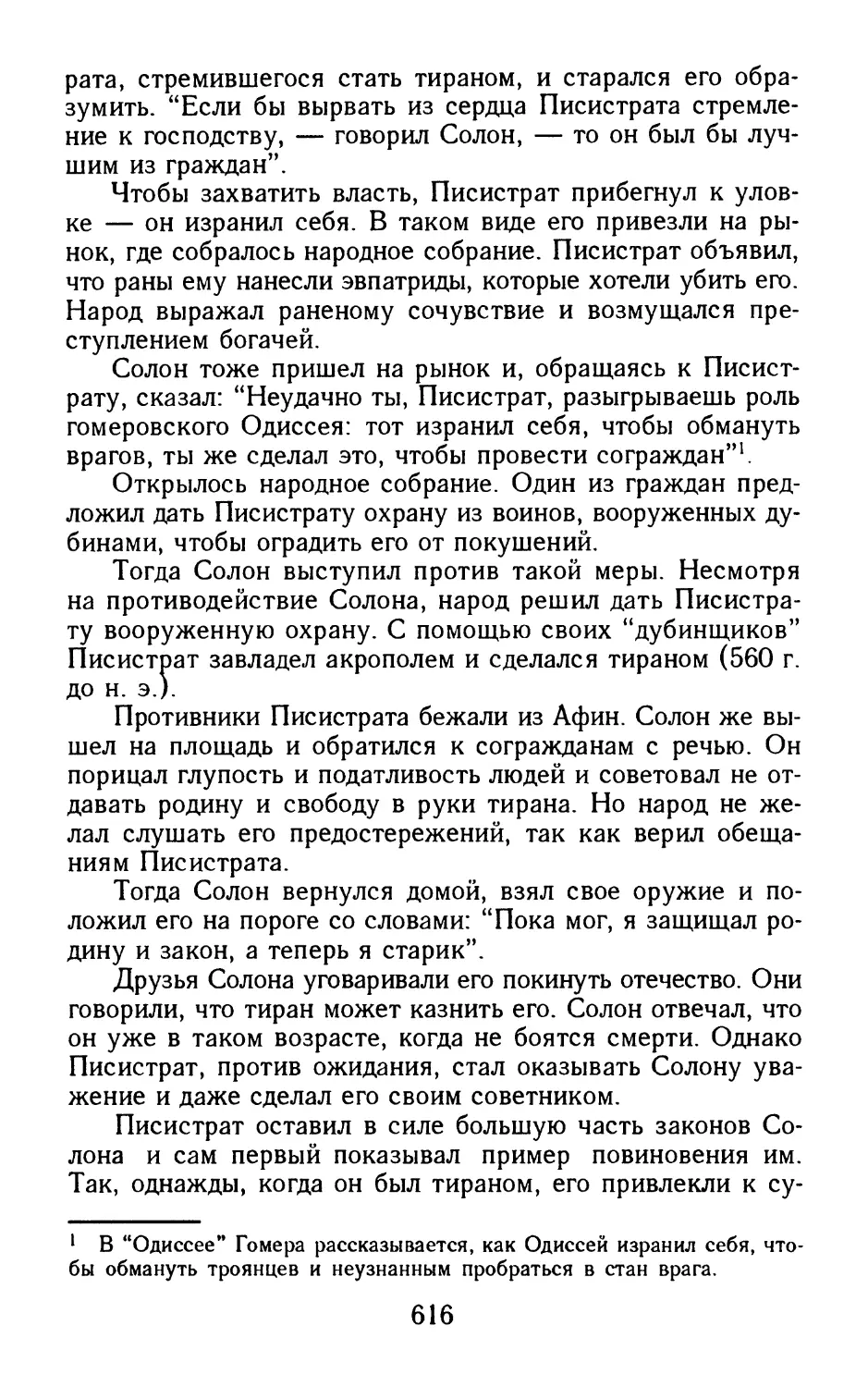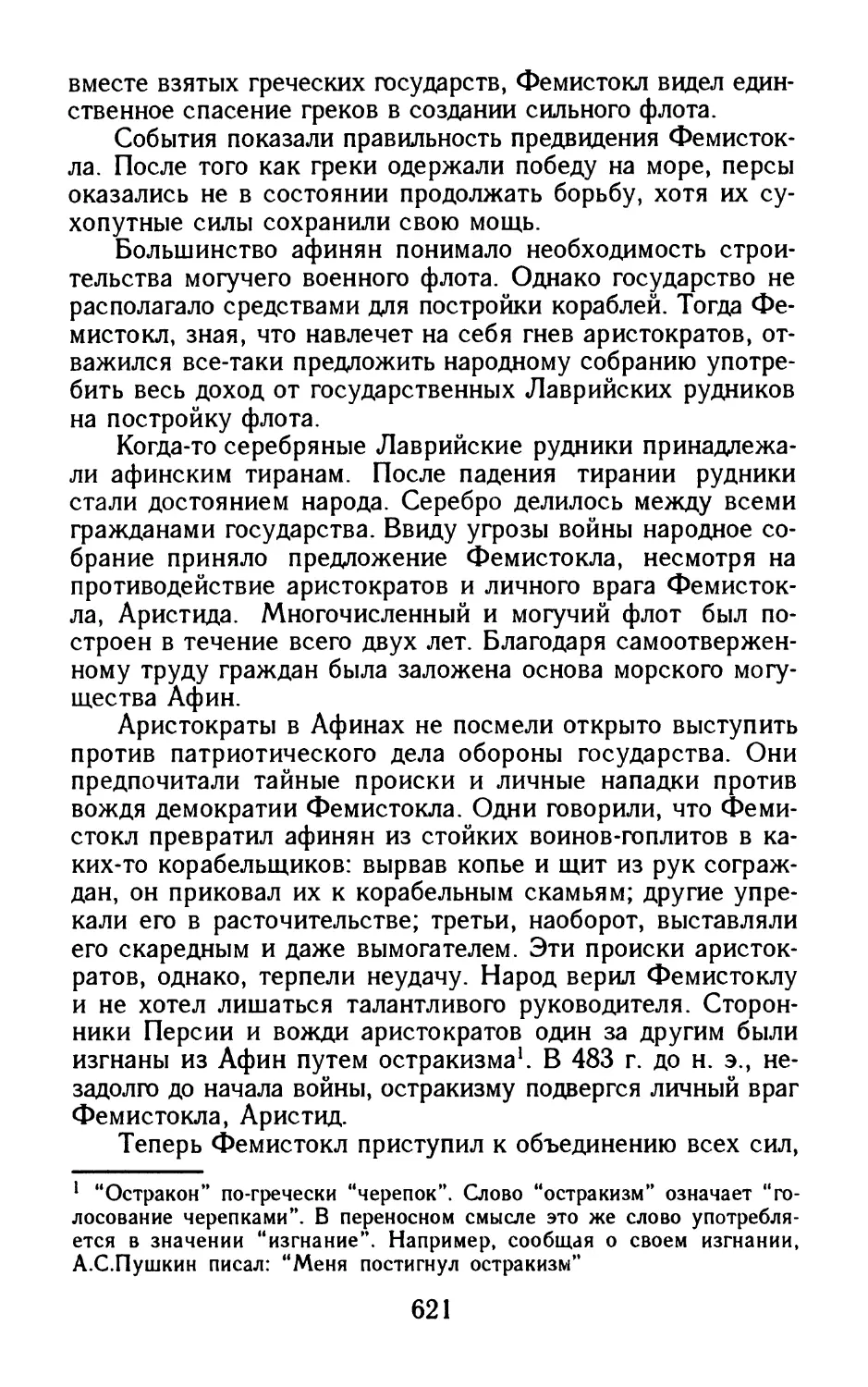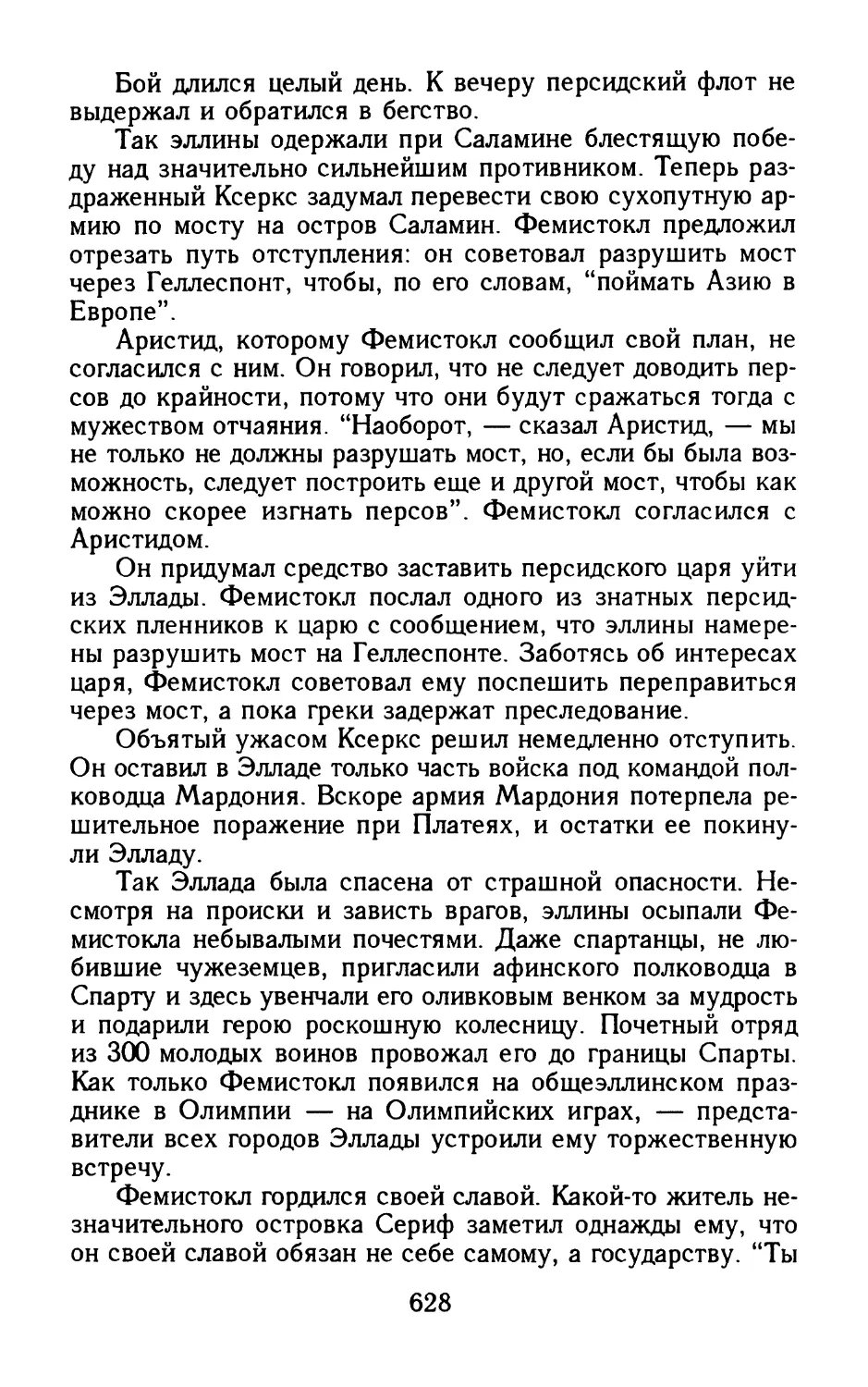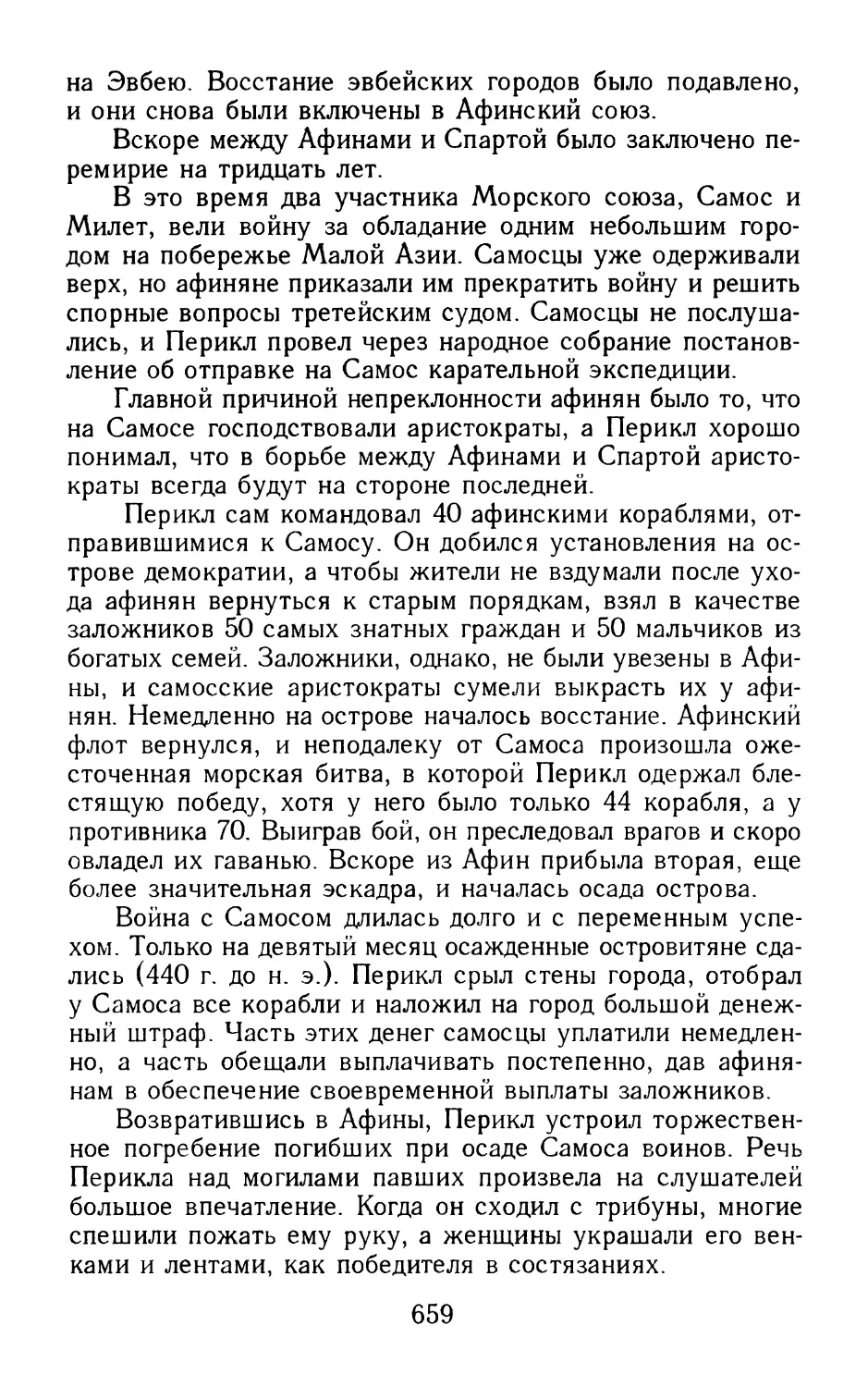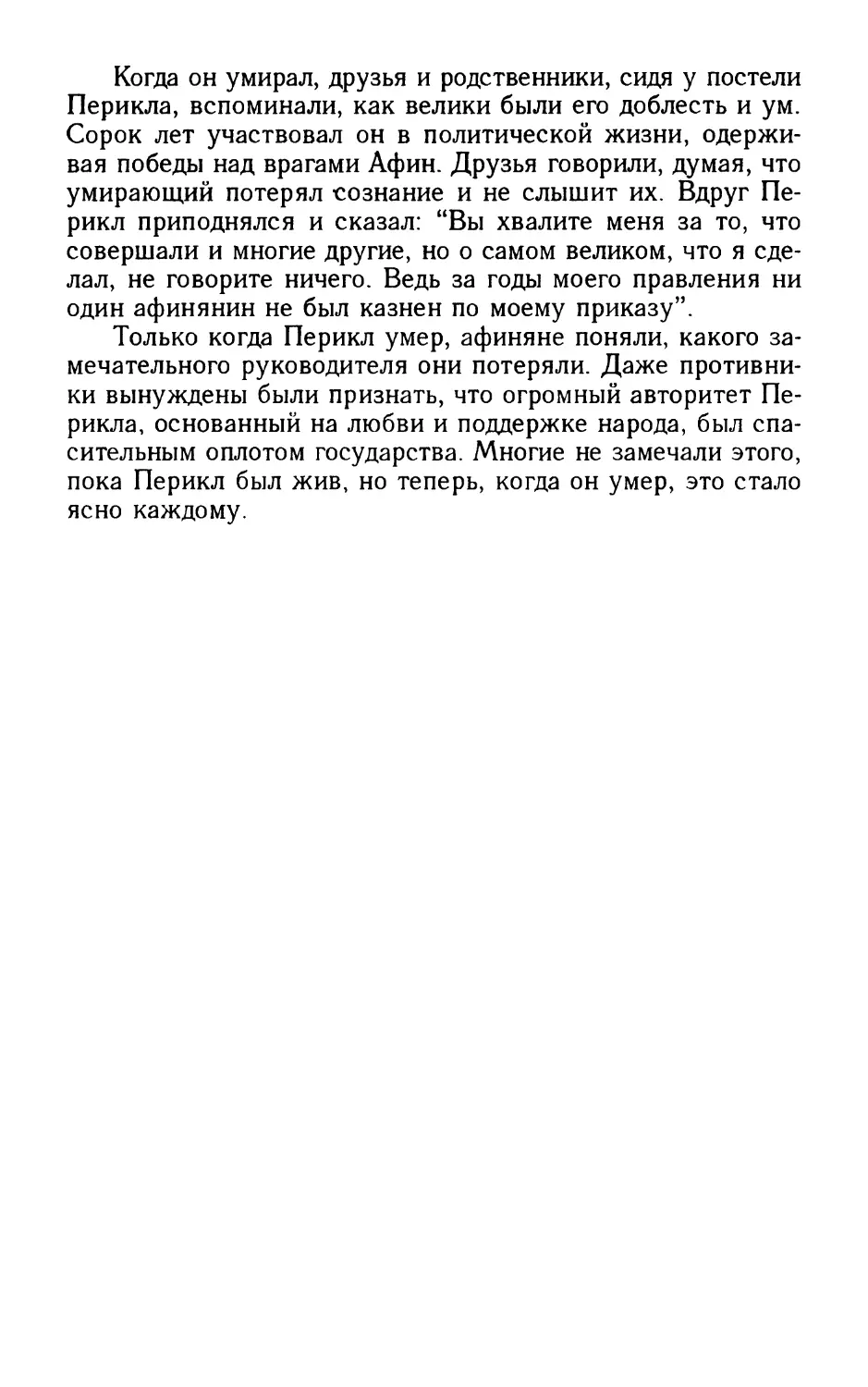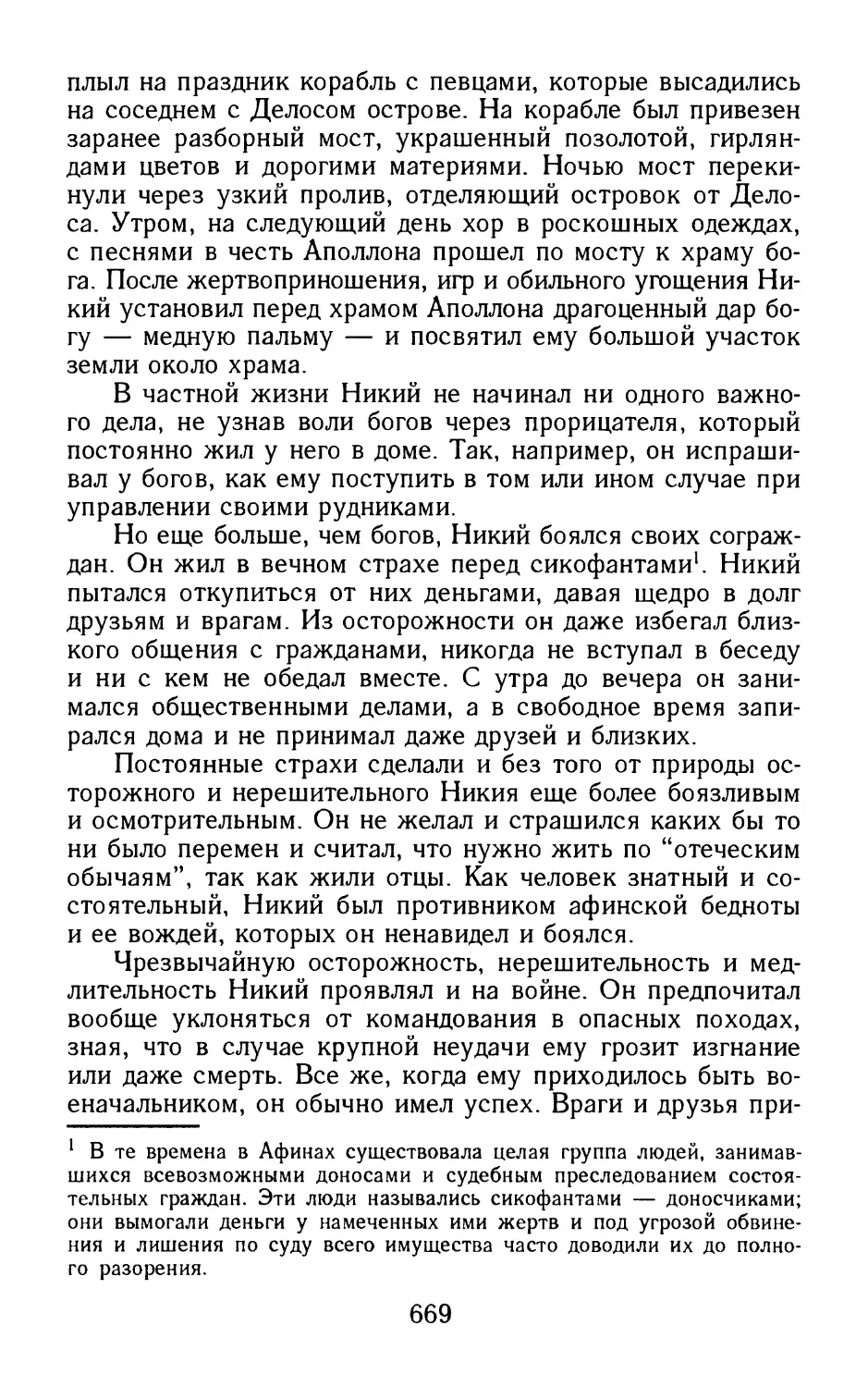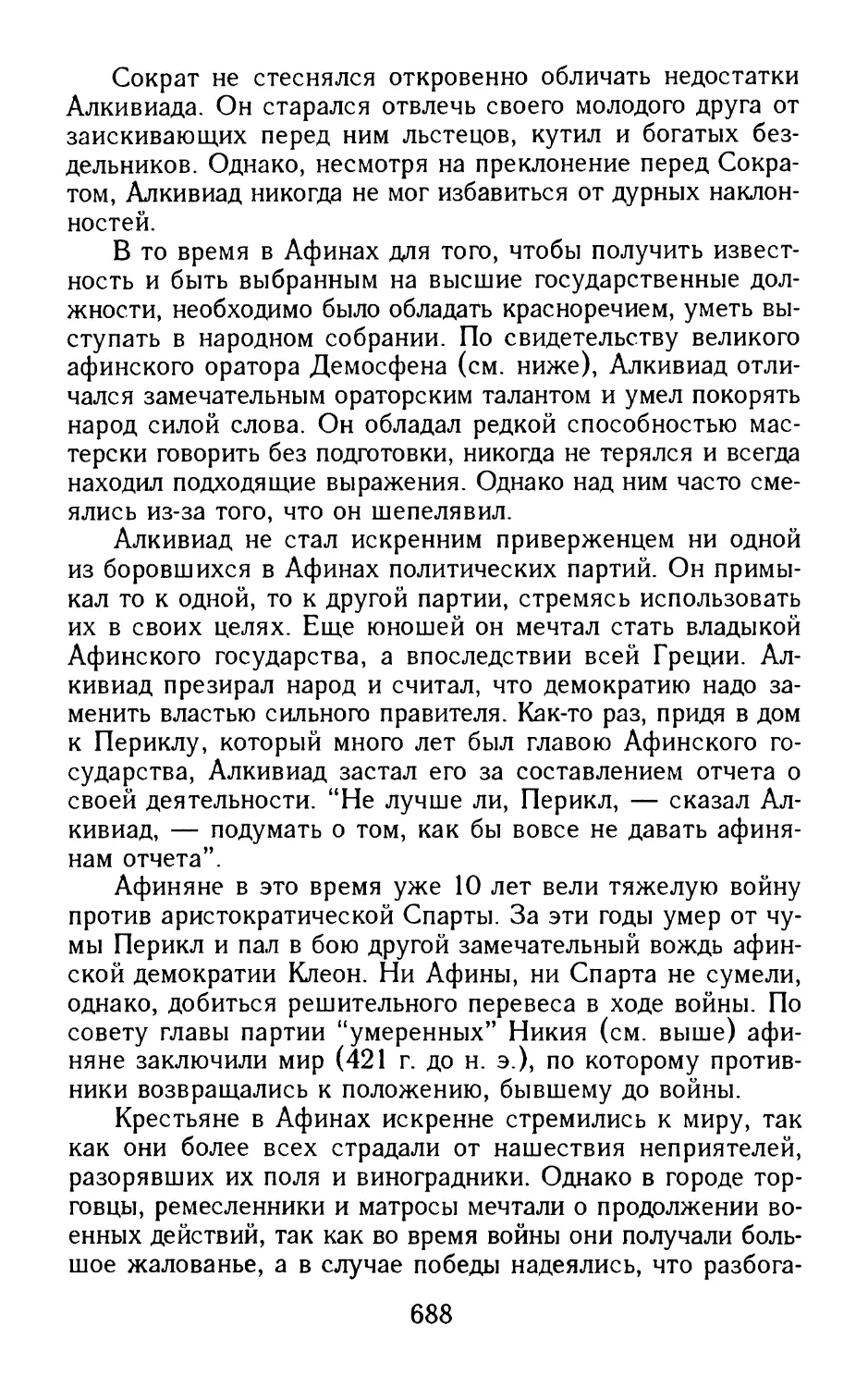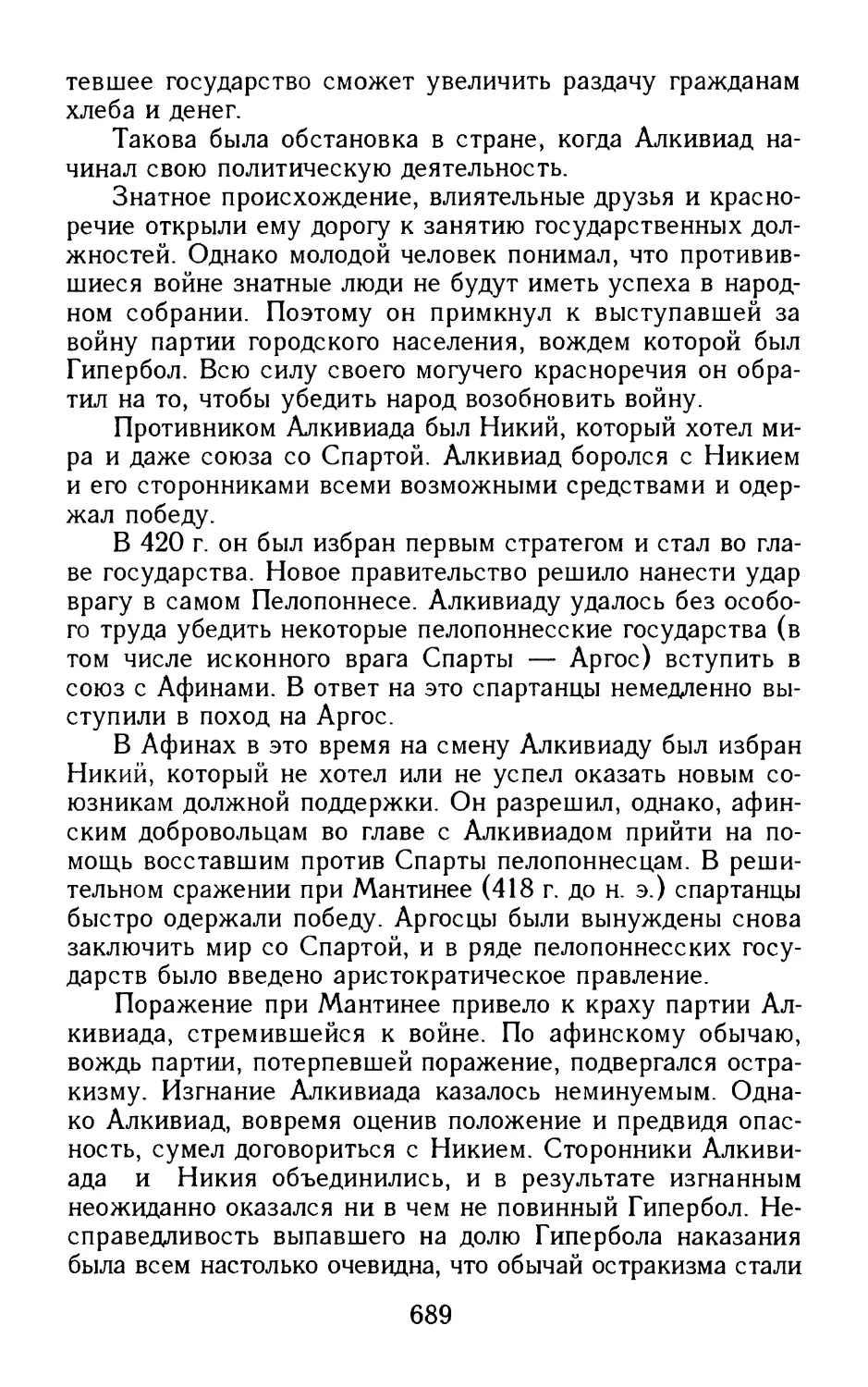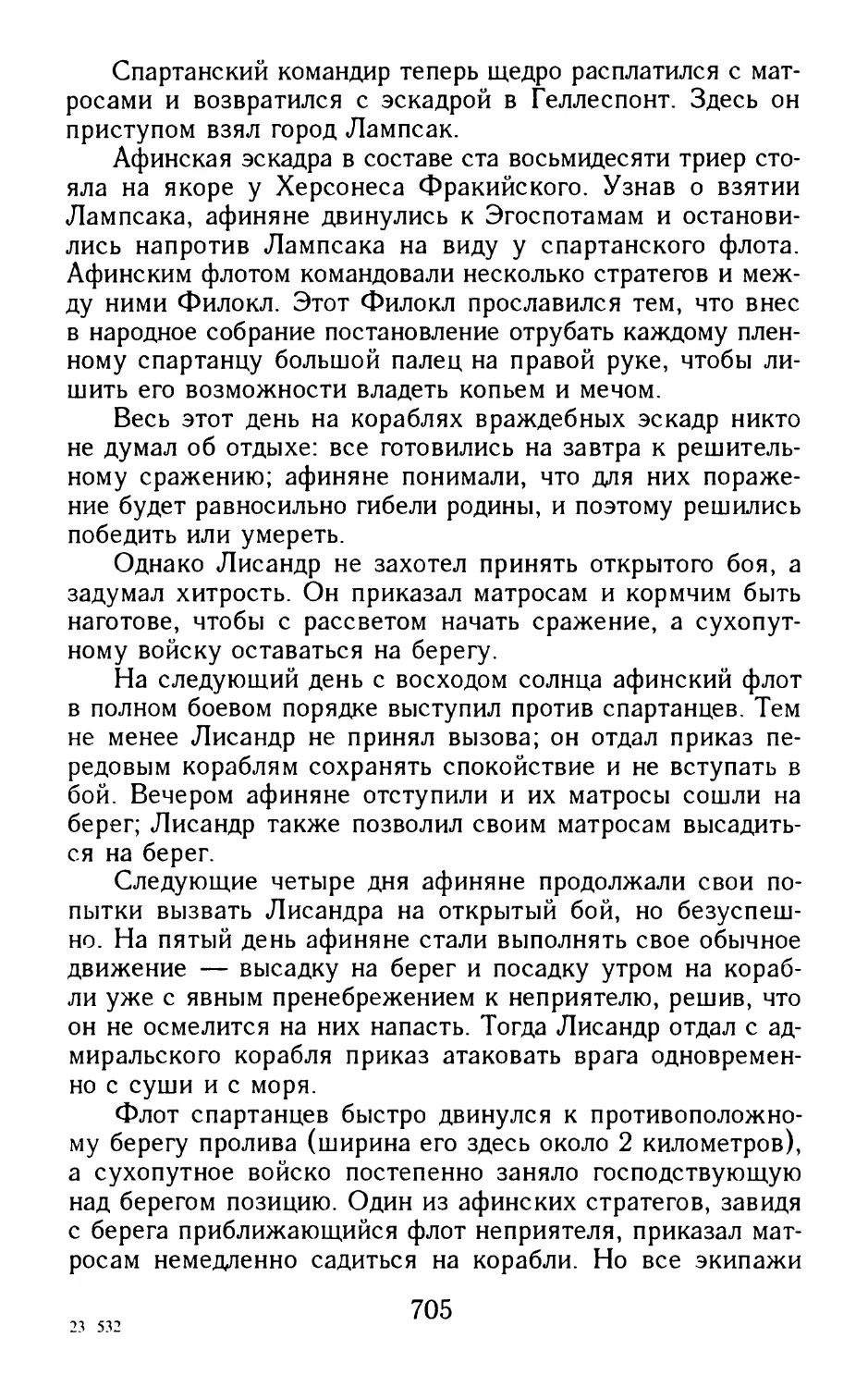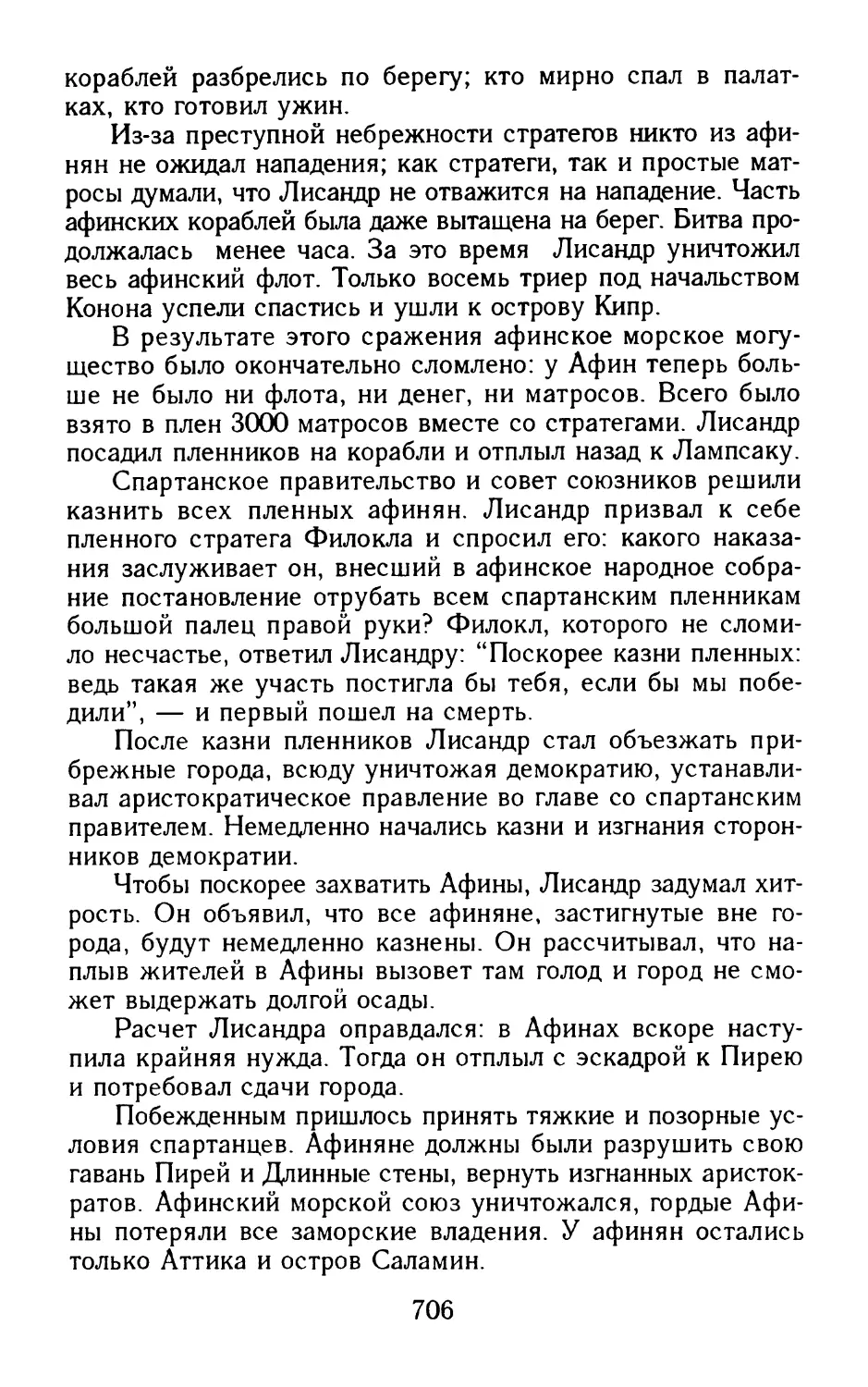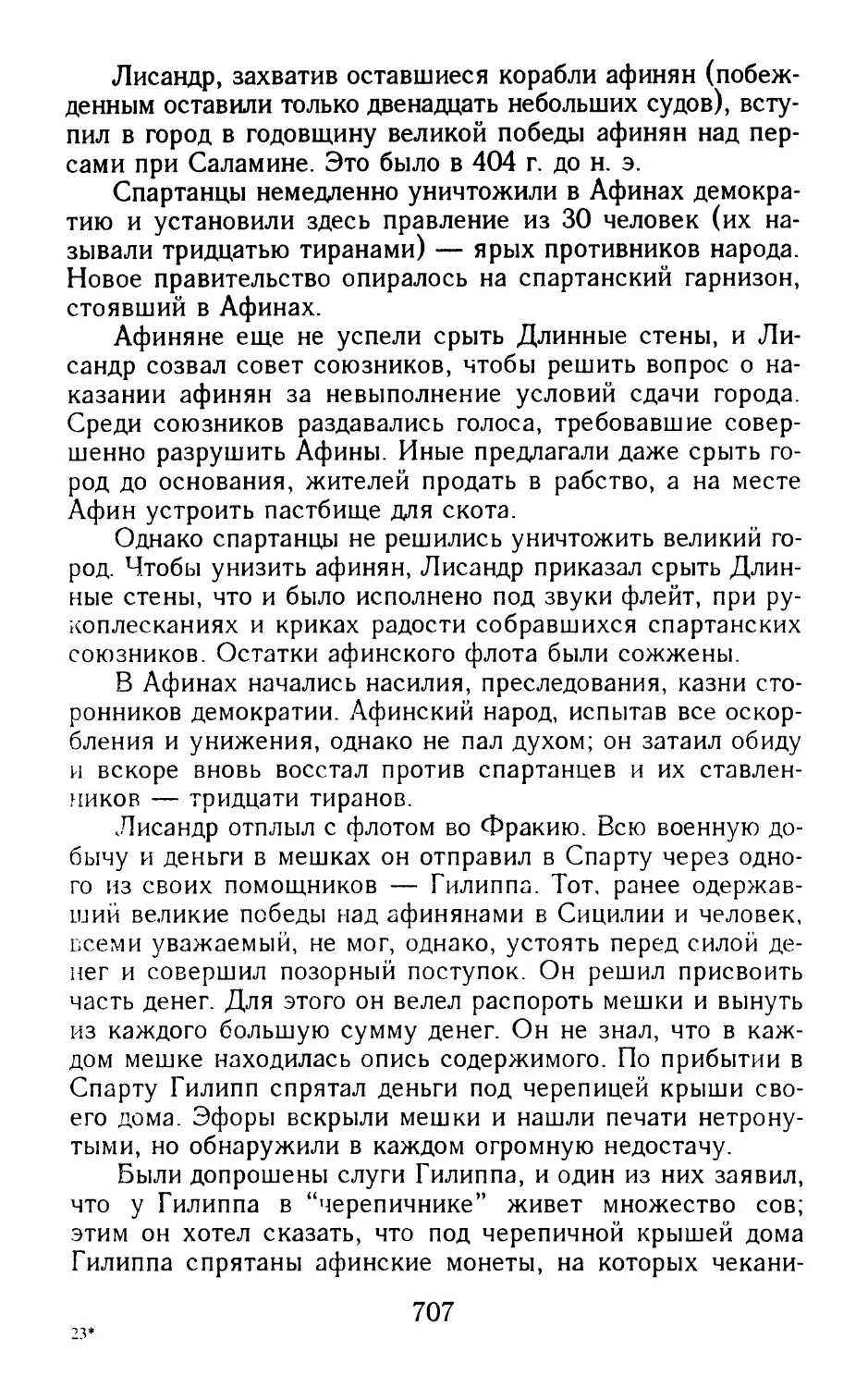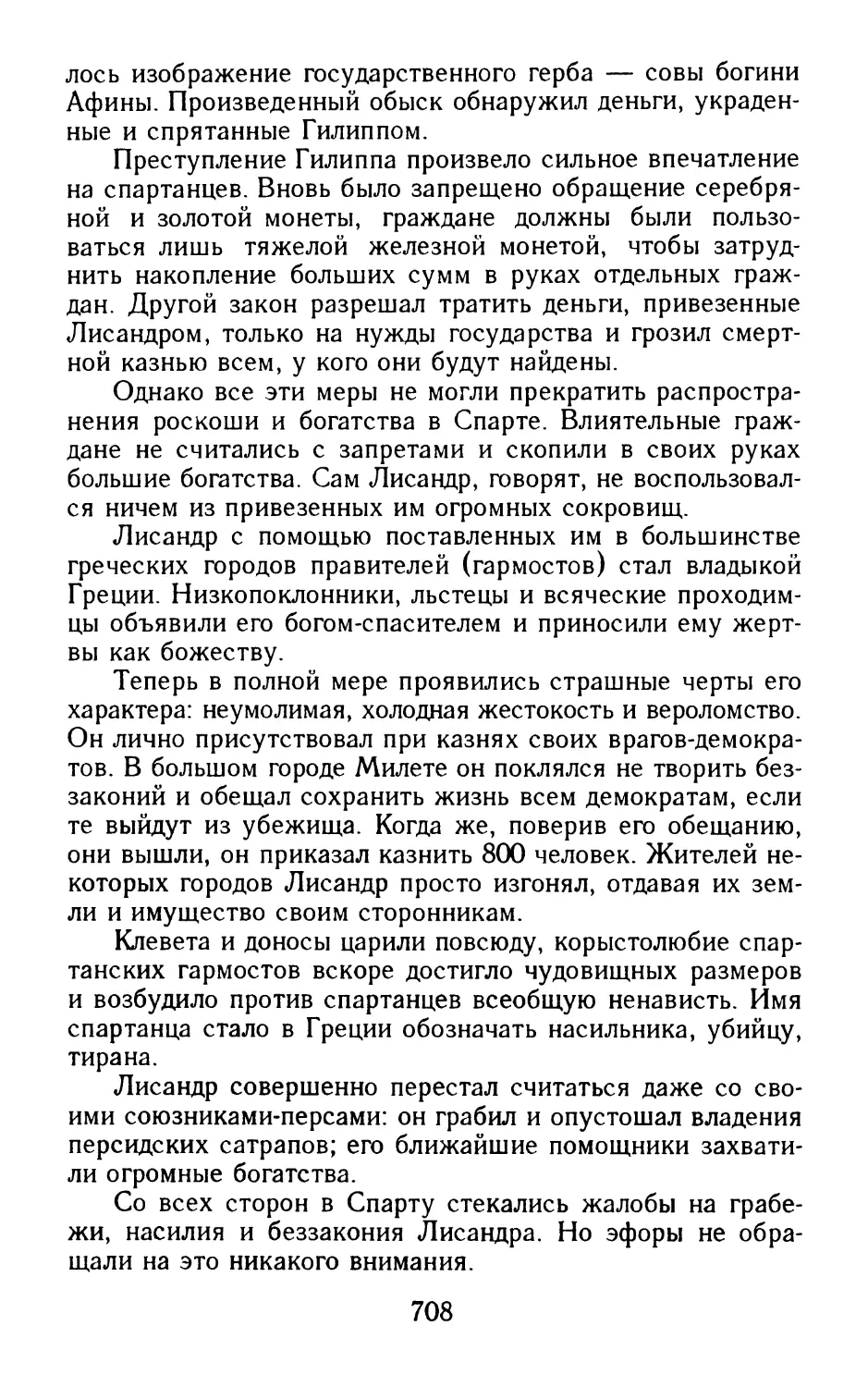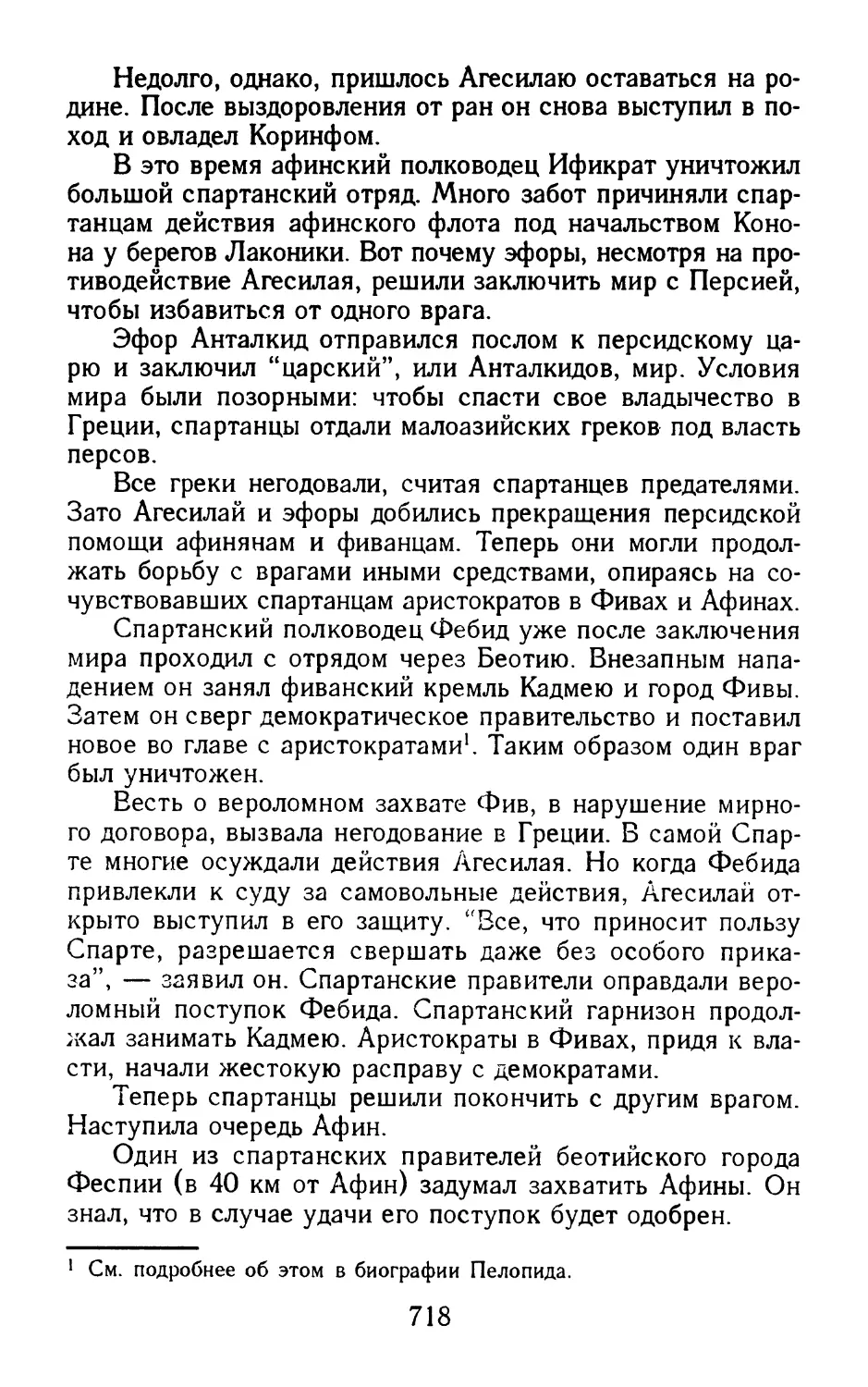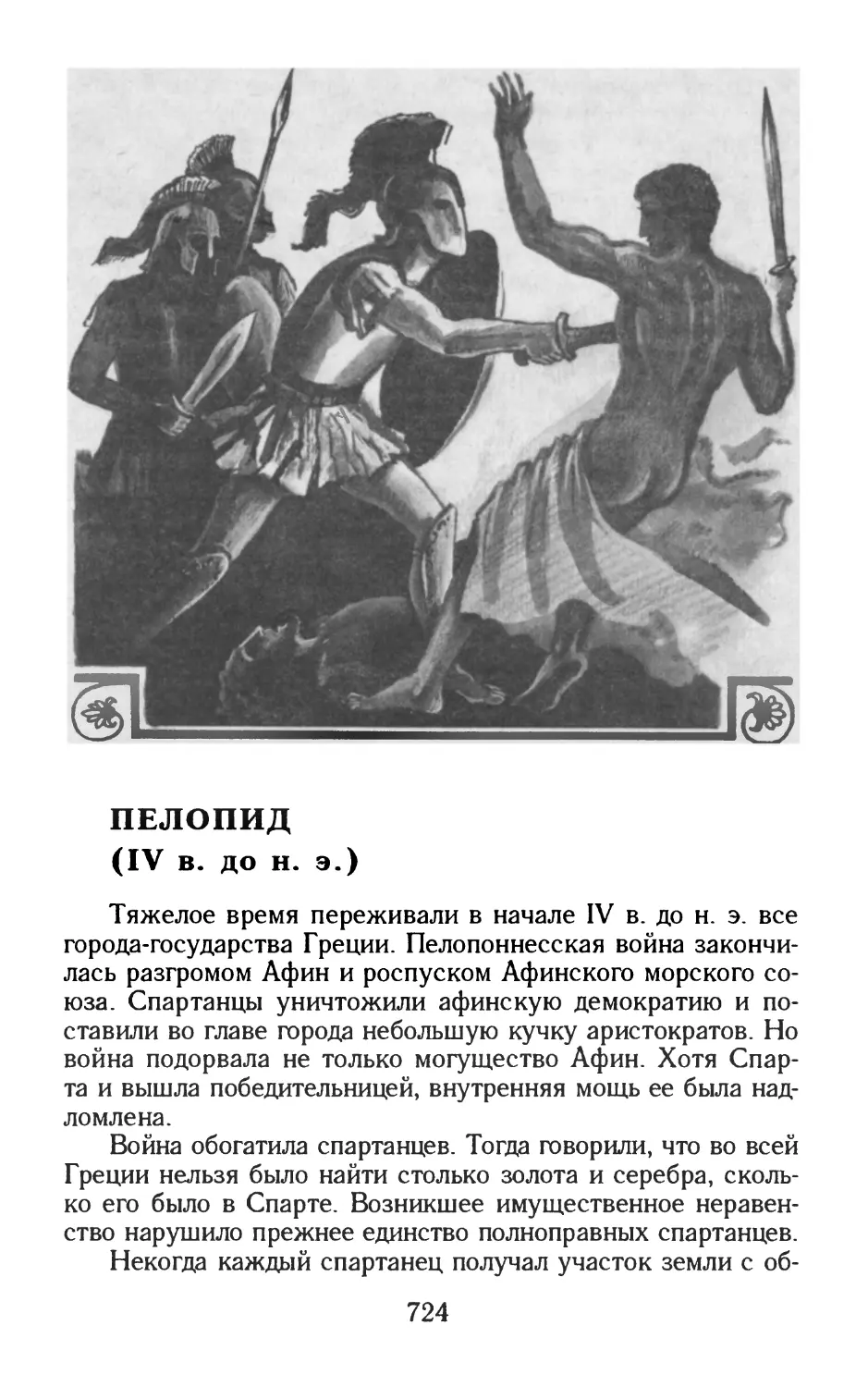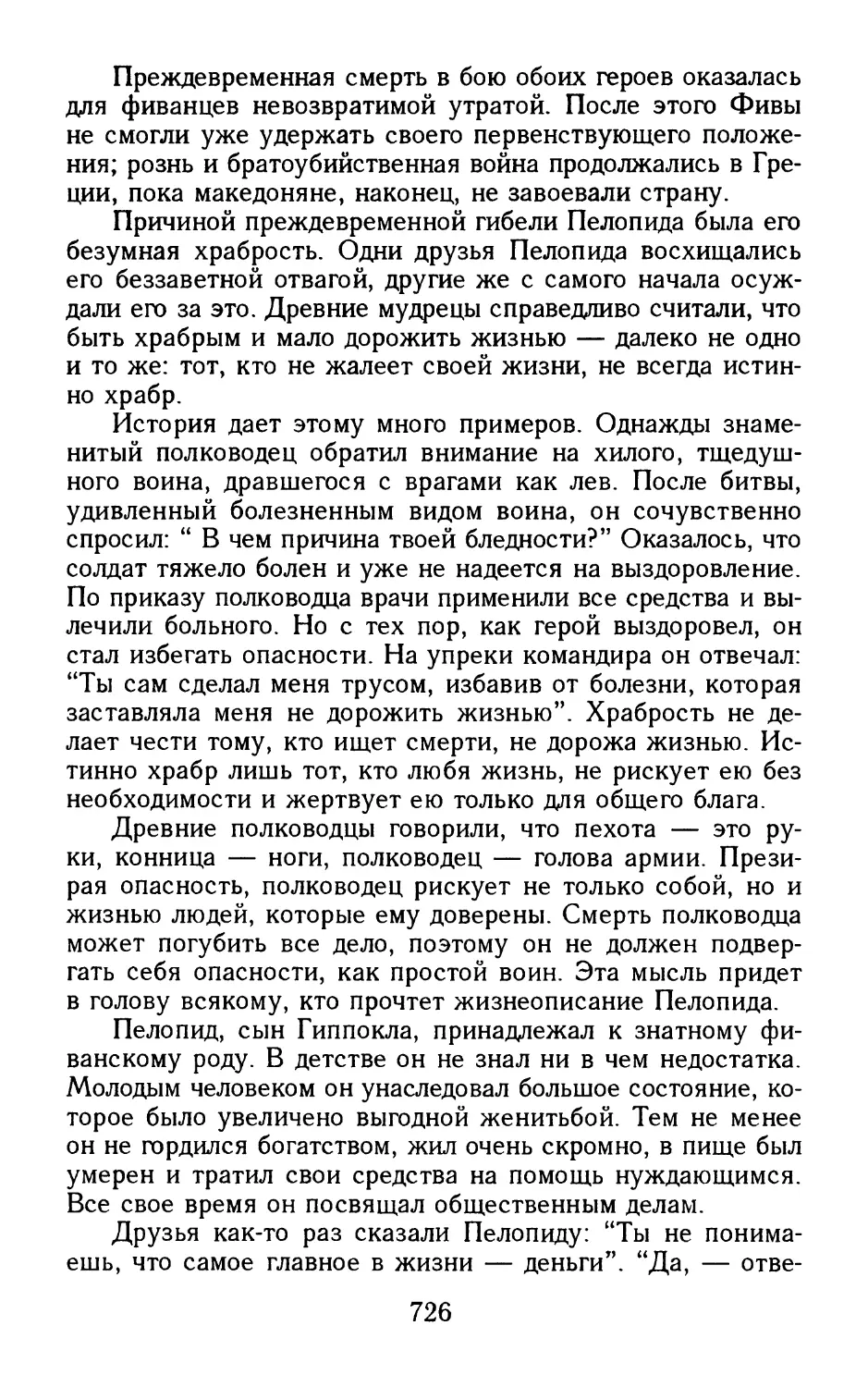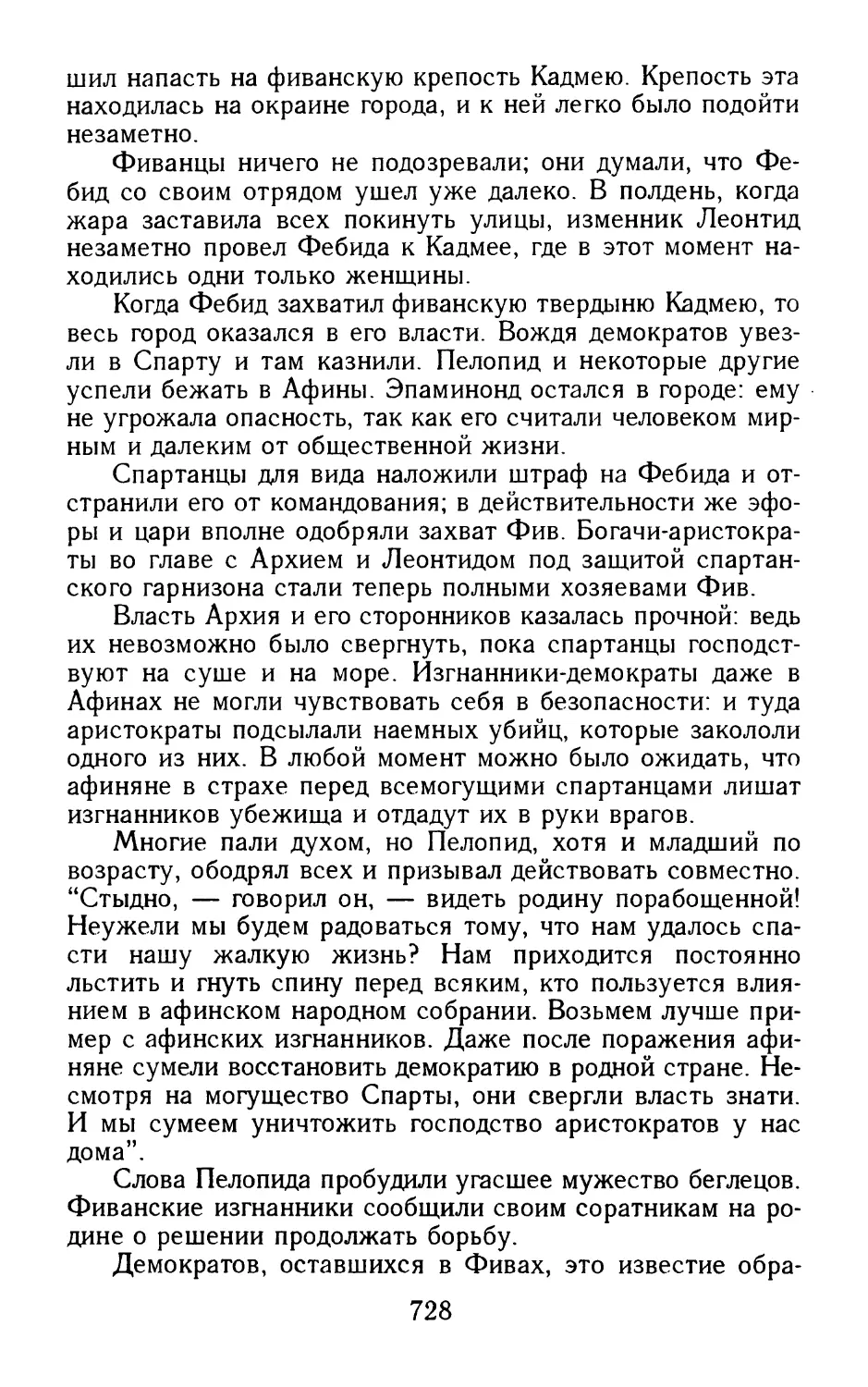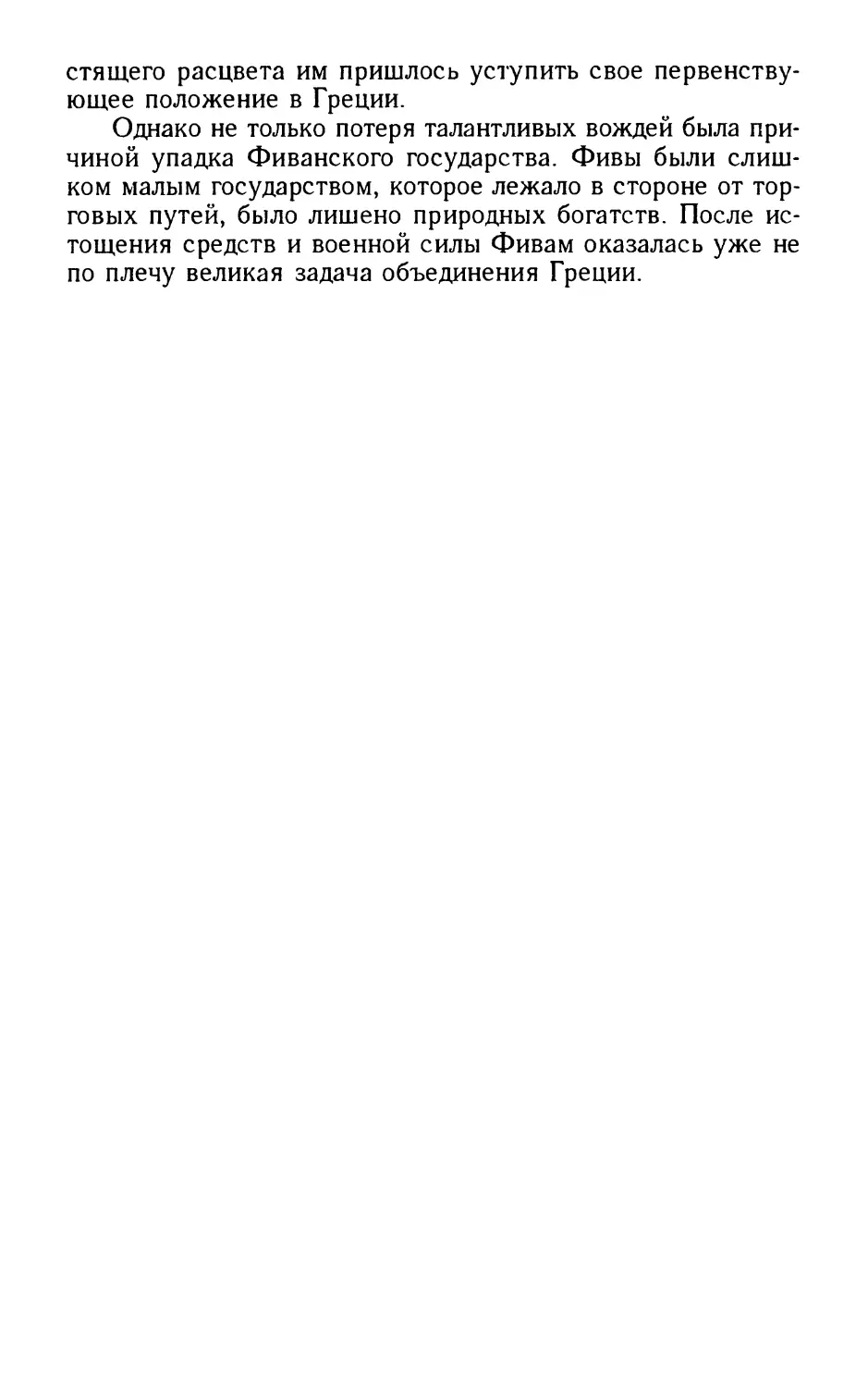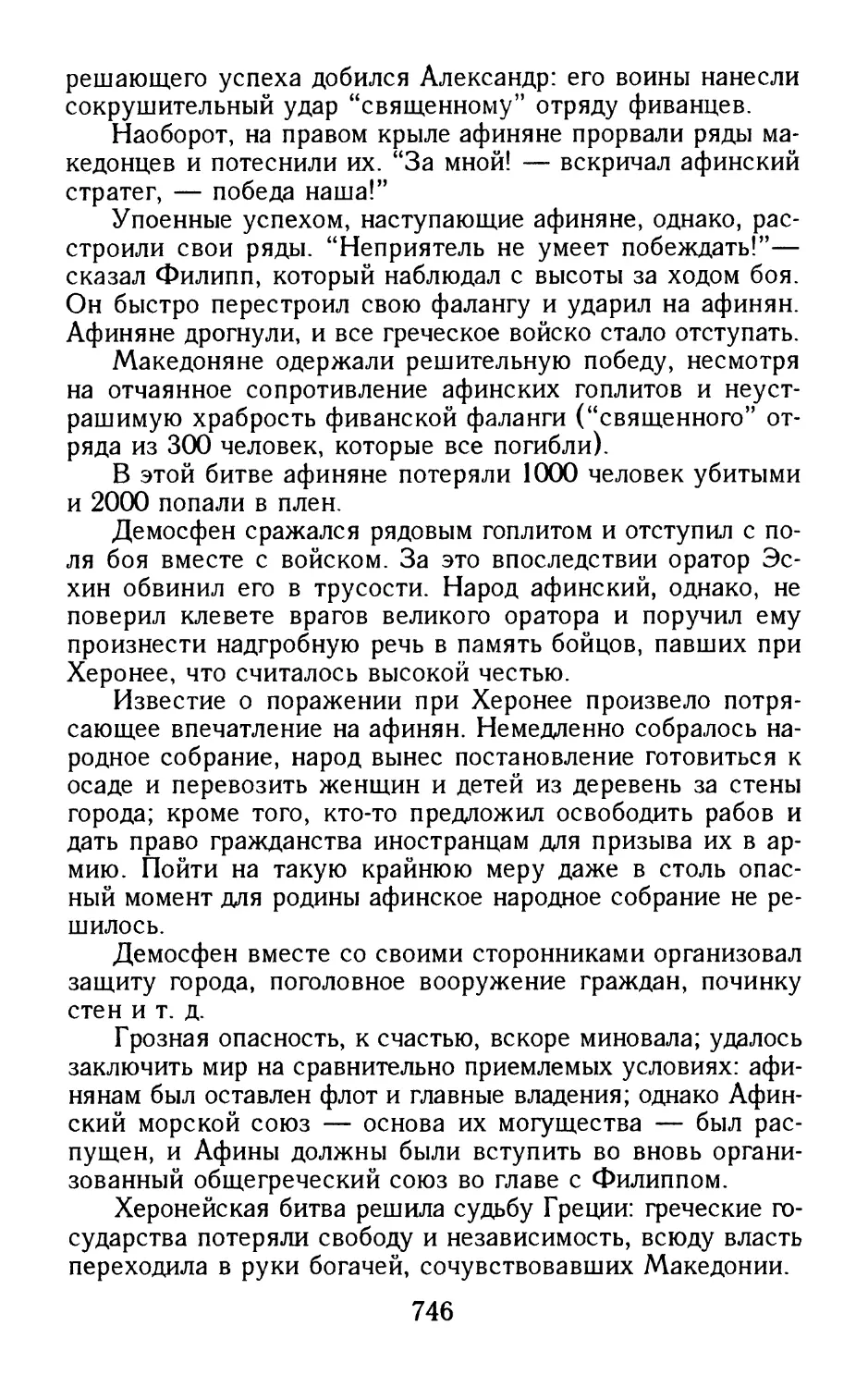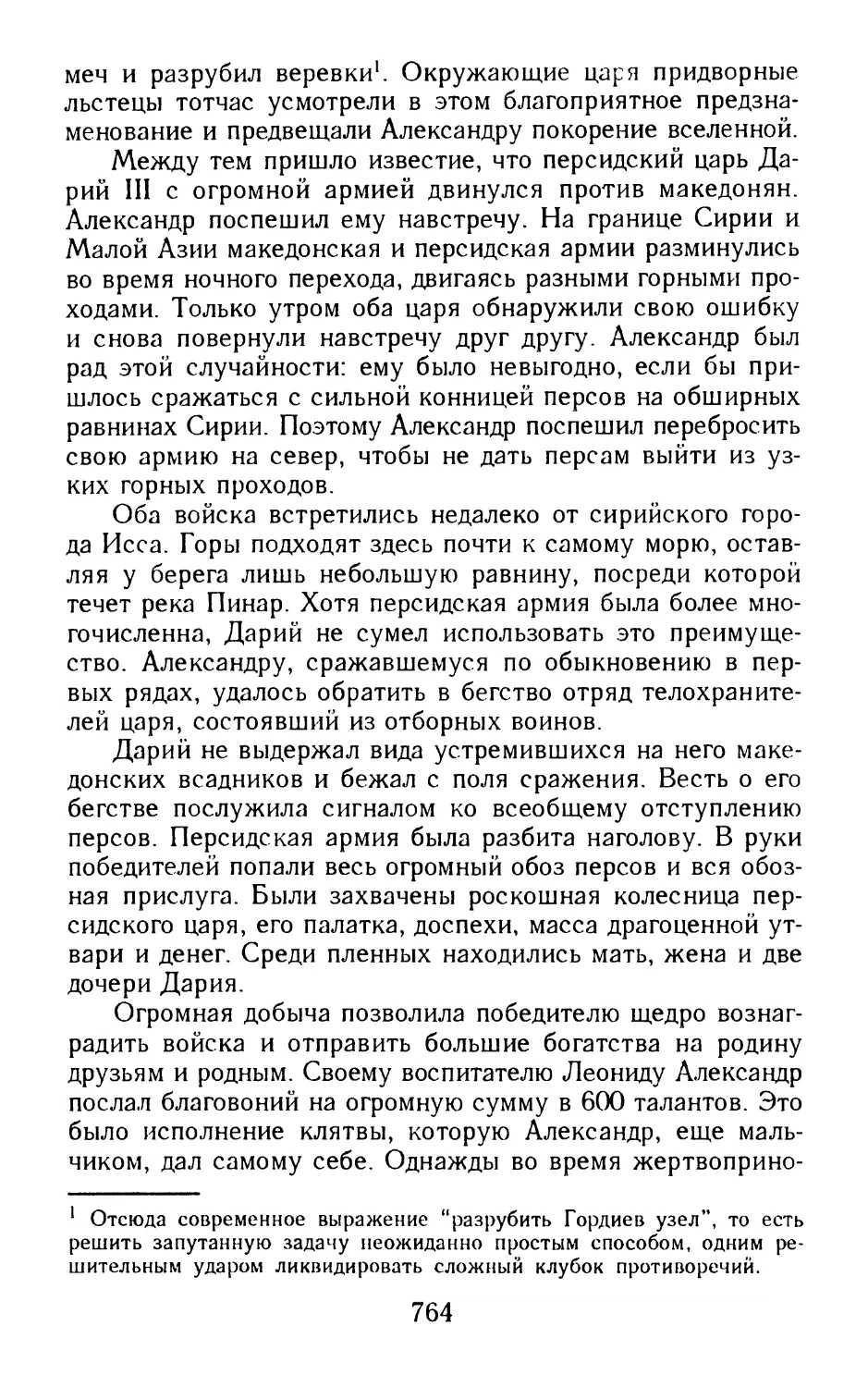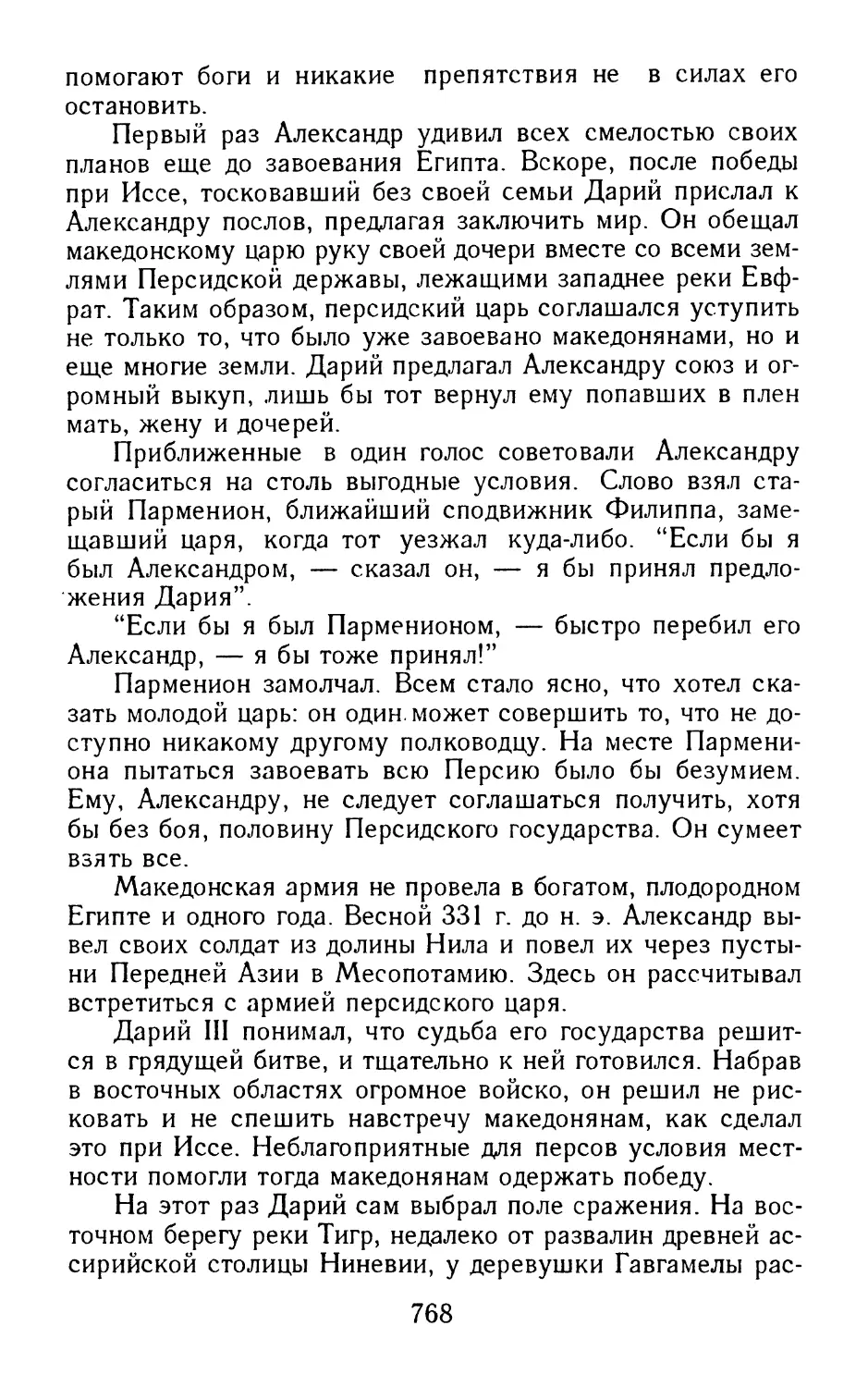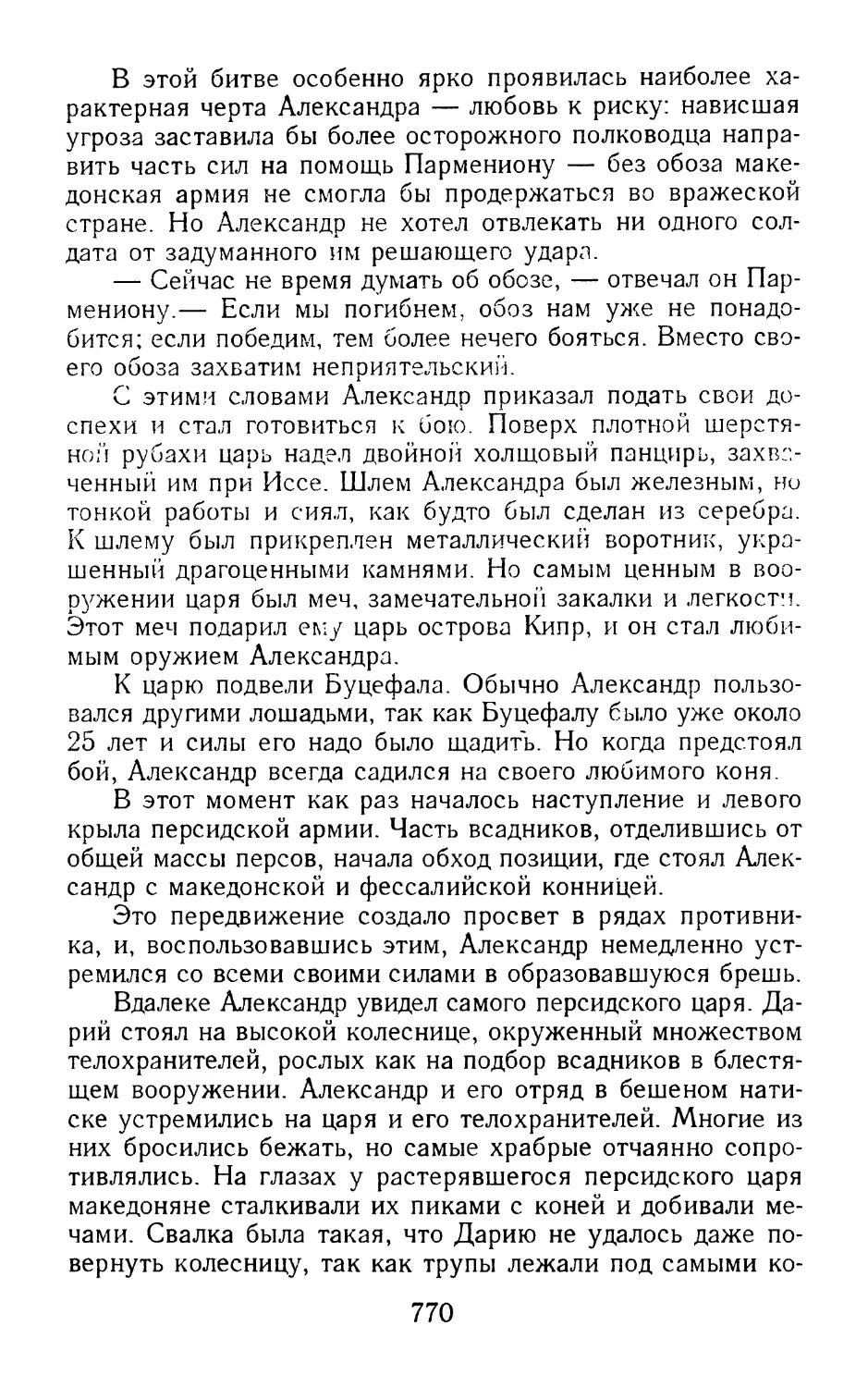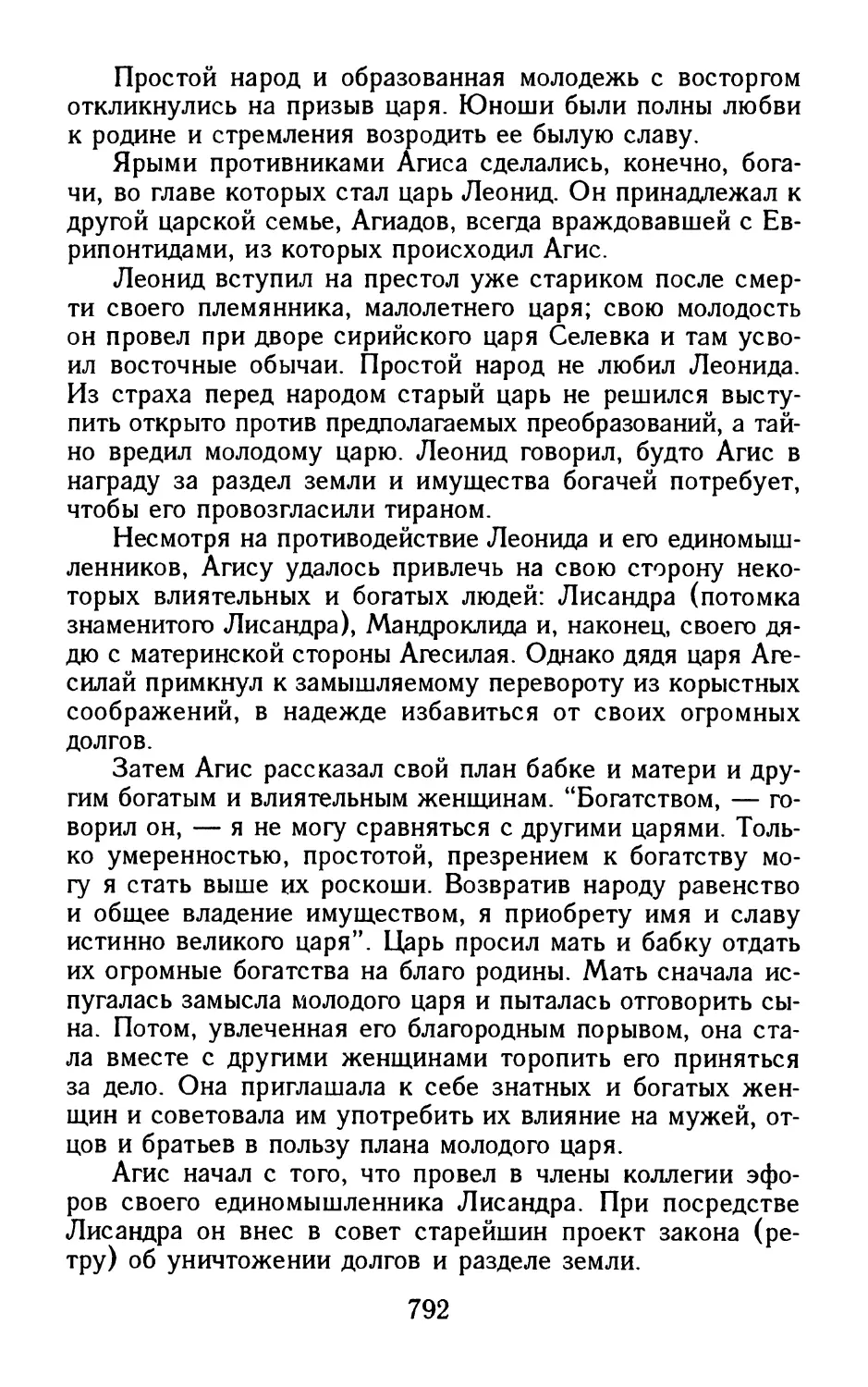Автор: Ботвинник М. Немировский А. Усова А. Триз Д. Стратановский Г.
Теги: художественная литература древняя греция древний мир историческая проза
ISBN: 5-86697-024-4
Год: 1997
Текст
БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРОЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
А. Немировский
За Столбами
Мелькарта
А. Усова
Маленький гончар
из Афин
Д. Триз
1алковый венец
М. Ботвинник
Г. Стратановский
Знаменитые греки
Scan Kreyder -12.03.2018 - STERLITAMAK
БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
Древний мир
Греция V век до н. э.
А. Немировский
За Столбами Мелькарта
А. Усова
Маленький гончар
из Афин
Д. Триз
Фиалковый венец
М. Ботвинник
Г. Стратановский
Знаменитые греки
Издательство детской книги «^никум.»
Москва - 1997
ББК 84Р7-4
Н 50
Произведения, собранные в настоящем томе,
посвящены Древней Греции V века до н. э. Периоду
расцвета ее культуры, искусства, науки.
Юный Читатель, Вы отправитесь в
длительное и опасное мореплавание к неведомым берегам под
названием Столбы Мелькарта, переживете шторма
и непогоду, радость открытий и горечь лишений,
грохот сражений и мужество в бою. Вы очутитесь
в древних Афинах и своими глазами увидите, как
создавались бессмертные творения человеческих рук,
которыми мы восхищаемся до сих пор. Вы станете
очевидцем и участником настоящих Олимпийских
игр, происходивших некогда в Греции, и даже
промчитесь на колеснице, вздымая белую пыль
античного города. Вы также познакомитесь с наиболее
известными людьми того времени, дела и судьбы
которых поистине достойны удивления.
Пересказ биографий Ликурга, Аристида, Перик-
ла и Александра Македонского по Плутарху сделан
М. Н. Ботвинником, а биографий Солона, Феми-
стокла, Никия, Алкивиада, Лисандра, Агесилая,
Пелопида, Демосфена, Агиса и Клеомена - Г. А. Стра-
тановским.
Художник Борис Михайлович Косульников
ISBN 5-86697-024-4 © Составление, оформление
ISBN 5-86697-003-1 (сер.) «Уникум», 1997
А. Немировский
ЗА СТОЛБАМИ
МЕЛЬКАРТА
© Б. Косульников
© А. Немировский
ГАННОН КАРФАГЕНЯНИН
ЧЕЛОВЕК В МОРЕ
Волны бежали бесконечной чередой. Среди них,
словно скорлупка, покачивалась человеческая голова. Иногда
пловец выбрасывал тело из воды, так что показывались его
загорелые плечи, и быстро, жадным взглядом окидывал
море. И делал он это все чаще и чаще. В полдень он
увидел вдали парус, но на корабле его не заметили. Судьба и
боги отвернулись от него.
В его глазах еще плясало пламя горящих кораблей, в
ушах звенел последний крик на берегу: Таннон, вернись!"
Хорошо, что он не внял этому призыву. Лучше
погибнуть в море!
Два месяца назад у берегов благословенного богами
острова Сицилия1 показался огромный флот. Им командовал
сам суффет2 Гамилькар. Половина Сицилии принадлежала
Смотри карту на стр. 48—49.
1
2 Суффет — высшее должностное лицо в Карфагене. Суффеты в
числе двух избирались ежегодно из наиболее знатных родов.
5
Карфагену. Многие города подчинились его власти.
Только Сиракузы осмелились ей противостоять. Они обещали
помочь жителям города Гимеры, восставшим против
карфагенян. Карфаген решил проучить мятежников и заодно
их покровителей сиракузян. У Гимеры были высажены
карфагеняне и тысячи наемников: балеарцев, ливийцев,
иберийцев, галлов. Гимеряне отразили первое нападение. Тогда
Гамилькар приказал втащить корабли на сушу. Началась
осада, долгая и безуспешная. Люди устали и потребовали
замены. Вскоре распространилась радостная весть, что
моряков сменят селинунтские всадники1.
Сегодня на заре из оливковой рощи показался большой
конный отряд. Всадники приветственно размахивали
оружием и кричали. Карфагенские моряки высыпали из
своих шатров и бросились им навстречу. Они приняли их за
селинунтцев. Ничего не подозревая, моряки бежали
навстречу всадникам, радостными выкриками отвечая на их
приветствия. Но вдруг те издали воинственный вопль: "Эйаа!"
В карфагенян полетели тучи копий, стрел, дротиков, и си-
ракузяне, союзники Гимеры, с ликующим ревом
набросились на ошеломленных карфагенян. Враги подожгли
корабли, и они, рассохшиеся от долгого пребывания на суше,
запылали, как факелы.
Вскоре почти все карфагенские моряки были перебиты
или лежали на песке со связанными руками и ногами. Только
один Ганнон еще защищался от наседавших со всех сторон
сиракузян. Он стоял спиной к морю, размахивал обломком
весла. Враги могли убить Ганнона, но им хотелось взять его
живым. Сиракузян становилось все больше, и Ганнон под
их напором медленно отступал в море. Когда вода покрыла
его колени, он швырнул весло в лицо врагам и бросился в
море. Вскоре он уже был далеко от берега и людей,
яростно грозивших ему кулаками. Вот тогда кто-то из лежавших
на песке пленников и крикнул пловцу: "Ганнон, вернись!"
Но он плыл все дальше и дальше в надежде добраться
до одного из прибрежных островков или встретить какой-
нибудь корабль. По его расчетам, он должен был уже давно
достигнуть земли или хотя бы увидеть ее, но вокруг него
было море. Тогда отчаяние охватило Ганнона. Он еще раз
выбросил тело из воды и вдруг увидел совсем недалеко тре-
Селинунт — город на юге Сицилии, подчиненный карфагенянам.
угольный голубоватый парус. На этот раз пловца
заметили, и вскоре, тяжело дыша, он лежал на палубе. Ручейки
стекали с его тела и расплывались лужицами вокруг.
— Лопни мои глаза, глоток вина ему не помешает! —
услышал Ганнон над собой веселый голос.
Засыпая, он чувствовал, как чьи-то руки приподняли его
голову и в рот полилась обжигающая влага.
Когда он проснулся, ослепительно сверкало солнце.
Переливающиеся на волнах блики резали глаза, а спину жгло
так, словно он находился рядом с гончарной печью. Сколько
он проспал? День или неделю?
Повернувшись на бок, Ганнон окинул взглядом
корабль. Невысокая съемная мачта была как на египетских
судах, но изгиб кормы был крутым, как у греческих
кораблей. Голубой парус оглушительно хлопал, и это хлопанье
сливалось с ласковым шепотом волн, потрескиванием
снастей. Это была давно знакомая и любимая Ганноном музыка
моря. Внимая ей, Ганнон чувствовал, как к его вискам
приливает жаркий поток крови и руки наполняются силой. Но
вдруг им овладела тревога: "Чей это корабль? Почему у него
голубой парус, издали сливающийся с волнами?"
Ганнон поднялся. На корме, в тени паруса, он увидел
двух обнаженных до пояса людей. Один был худой с узким
лицом и прямой, как лопата, бородой. Другой — толстяк с
круглым лицом. Они сидели друг против друга. Между ними
лежала связка каких-то растений, и оба размеренными
движениями рук, в которых поблескивали ножи, рубили
стебли на куски и с видимым наслаждением высасывали их.
— Отоспался? — спросил бородач по-гречески и
внимательным взглядом узких, глубоко сидящих глаз осмотрел
спасенного с ног до головы.
Ганнон достаточно знал греческий язык, чтобы по
произношению определить, что бородач не грек.
— Ты беглый раб? — спросил бородач, играя ножом.
По тону Ганнон догадался, что имеет дело с
владельцем судна, и коротко рассказал о Гимере.
— Так ты карфагенянин? — не то с удивлением, не
то с радостью воскликнул бородач.
Эти слова были произнесены на ломаном финикийском
языке.
Оживился и толстяк. Схватив Ганнона за руку, он
загоготал:
— Славная рыбка нам попалась! Лопни мои глаза, если
мы не соскребем с нее золотую чешую!
Он довольно хлопнул себя ладонями по коленям и
подмигнул бородачу.
— Не торопись, Саул, — спокойно возразил тот,
засовывая в рот кусок стебля.
Выплюнув полуразжеванную массу, он неожиданно
повернулся к Ганнону:
— Я Мастарна, сын Тархны. Говорит тебе что-нибудь
это имя?
С нескрываемым любопытством смотрел Ганнон на
своего собеседника. Неужели это сын царя, изгнанного
восставшими римлянами, знатный этруск1, который стал
пиратом. Его именем жены рыбаков и пастухов пугают
детей. Он отваживается нападать даже на военные корабли.
Ему платят дань четырнадцать портовых городов только за
Этруски — могущественный и культурный народ, живший в VIII—V
веках до н. э. в Средней и Северной Италии. Начиная с VI века
этруски вели постоянные войны с греками за обладание Южной Италией и
прилегающими к ней островами. Славились своими пиратскими набегами.
8
то, чтобы он не заходил в их гавани. Говорят, что Мастар-
на бывает и в Карфагене. И не в Этрусском квартале, где
живут его земляки, а в храме Таниг, где ведет какие-то
дела со жрецами. Но Ганнон этому никогда не верил. Мало
ли что рассказывают о Мастарне!
— Что же ты молчишь? — спросил бородач. —
Говори! Кто ты?
— Я Ганнон, сын суффета Гамилькара.
— Сын суффета! — Толстяк раскрыл от удивления рот.
Ганнон молча кивнул.
— Мы едем в Карфаген, — проворчал бородач. — Тебе
повезло.
— Какое дело ведет тебя в мой город? — спросил
Ганнон.
Но этруск, казалось, не расслышал этого вопроса.
— Моя "Мурена"2 идет в Карфаген, — повторил он,
засовывая нож за пояс. — Я высажу тебя на берег без вы-
1 Танит — богиня плодородия и любви, лунное божество. В V веке
до н. э. Танит была главным божеством Карфагена.
2 Мурена — хищная рыба в Средиземном море. Здесь — название
корабля.
купа, — добавил он после короткой паузы. — Наши деды
были союзниками.
Толстяк как-то смешно дернулся и зачмокал губами от
удивления:
— Лопни мои глаза! Ты ли это, Мастарна?
— Золотой чешуи не будет! — резко бросил этруск.
И Мастарна стал расспрашивать Ганнона о битве под Гиме-
рой.
— Ловко же вас надули греки! — смеялся он. —
Клянусь морем, они перехватили письмо твоего отца. А может
быть, в Селинунте были предатели. Так ты говоришь, вы
им еще обрадовались... Ха-ха-ха!.. На одном корабле тесно
двум кормчим! — продолжал он серьезно. — Сицилией
будет владеть кто-то один. Но на вашем месте я не стал бы
проливать кровь за жалкие клочки земли. За Столбами1 —
земли непочатый край, богатой и плодородной. Собери
колонистов — и на корабли.
Ганнон задумался. Он давно уже мечтал побывать во
Внешнем море. Ему хотелось посетить те места, которые
описывал Гимилькон2, или высадиться на западном берегу
Ливии. Это могло бы принести ему богатство и славу. Но
что это дало бы республике? О чем же говорит этот этруск?
Отказаться от Сицилии, чтобы на далеких берегах основать
новые колонии? До Гимеры эта мысль показалась бы ему
дикой, но теперь... Может быть, этруск прав. Спасение
Карфагена — на берегах океана. Выждать время, собраться с
силами, а потом будет видно, кому владеть Сицилией.
С "гнезда", укрепленного на верхушке мачты,
раздался свист. Ганнон подбежал к борту. В туманной дымке
показалась узкая полоска земли. Впереди — жизнь и
свобода. Вспыхнули в памяти знакомые родные образы, и вдруг,
вытеснив все, перед глазами встало смуглое девичье лицо,
глаза с длинными трепещущими ресницами.
— Синта, я не забыл тебя! — прошептал юноша.
1 Древние обитатели Средиземноморья представляли себе, что
Средиземное море отделяется от Атлантического океана двумя столбами,
составляющими как бы ворота. По преданию древних финикийцев, эти
столбы воздвиг бог солнца Мелькарт, который ежедневно проходил
через них в царство ночи. Греки называли их Столбами Геракла,
римляне — Столбами Геркулеса. Позднее этот пролив стал называться
Гибралтарским.
2 Гимилькон — известный карфагенский мореплаватель. В конце VI
века до н. э. Гимилькон совершил плавание в Атлантический океан,
обогнув Испанию.
10
МУТ И МЕЛЬКАРТ
Широко расставив ноги, Ганнон стоял на Языке1 и
жадно вдыхал соленый морской воздух. Ветерок шевелил
длинные черные волосы. Тихо набегала волна, заливая ноги по
щиколотки. Чудовище, которое чуть не поглотило его,
ластилось, как собачонка, прося прощения.
Ганнон прикрыл глаза ладонью. Как нежный голубой
цветок, на горизонте цвел и покачивался парус. Это
уходил корабль Мастарны. Пират высадил Ганнона на Языке
и направил свою "Мурену" к противоположному берегу
залива, где были укромные бухточки. Ганнон поймал себя
на том, что любуется ловкостью и быстротой, с какой
пираты повернули свое судно против ветра. И впрямь можно
было подумать, что это не корабль, а настоящая мурена,
хищная и увертливая. Вправе ли Ганнон интересоваться
делами пиратов? Его высадили на сушу и даже не взяли
выкупа. Как это не похоже на все то, что слышал он о
жадности и жестокости Мастарны! А может быть, ему придется
встретиться со своими спасителями? Тогда они убедятся,
что Ганнон умеет быть благодарным.
Ганнон зашагал, оставляя на влажном песке глубокие
следы. Как ни любил он море, ему всегда приятно было
возвращение в родной город. Смутные, неясные ощущения
охватили его душу.
Вдруг он увидел большую толпу, спускающуюся на
песчаную отмель. Люди — в потертых плащах, подпоясанных
простыми веревками, в поношенных туниках2, в
выгоревших на солнце широкополых шляпах. В руках у многих
серпы. За толпою громыхал возок, запряженный парой
круторогих волов. Он был накрыт широким белым холстом. Края
холста раздувались при каждом порыве ветра.
По песчаному взморью важно ходили вороны. Вот они
лениво поднялись в воздух, и черная туча на миг затмила
солнце. Карканье слилось с шумом моря. Запрокинув
головы, землепашцы смотрели на птиц и прислушивались к их
крикам. Потом они упали на колени и семь раз погрузили
серпы в морскую влагу. Простирая руки к морю, они запели:
1 Языком называлась песчаная коса внешней, торговой гавани
Карфагена.
2 Туника — одежда в виде рубашки, шившаяся из цельного куска
материи.
11
— О Мелькарт! Благостный бог, податель жизни, явись
к нам тучей, разразись светлым дождем. О Мелькарт!
С возка сорвали холст. Показались двое. Сильные,
широкоплечие юноши. Один в голубом, другой в черном плаще.
Какой-то мальчик громко спросил у сутулого
бородатого человека с худым, обожженным солнцем лицом:
— Отец, кто это?
— Мелькарт и Мут, — ответил тот шепотом.
Двое на возке обхватили друг друга. Окружив возок,
землепашцы напряженно следили за схваткой сил смерти
и жизни. Победит черный — значит, на дождь нечего
рассчитывать и смерть возьмет их всех к себе. Одолеет
голубой — можно ждать и надеяться.
Черный подтащил голубого к самому краю возка.
Сейчас он его опрокинет! Но голубой ловко вывернулся и под
радостный крик толпы сбросил черного, и тот покатился к
морю.
— О Мелькарт! Слава тебе, о Мелькарт! —
послышались возгласы.
Люди медленно потянулись к дороге. Ганнон проводил
их взглядом. Не раз еще в детстве следил он за
священной схваткой. Тогда это было для него интересной игрой.
Но теперь он знает, что значит для этих отчаявшихся
людей дождь. Бог Мут послал на его родину засуху и
бесплодие. А тут еще Гимера! Правильно говорят в народе:
беда не приходит одна.
Ганнон взглянул на море. Оно лежало у его ног,
бесконечное, сияющее, прекрасное. Много сотен лет назад
высадились здесь, на песчаной косе, люди страны Ханаан1,
прадеды этих бедняков.
Они вдохнули жизнь в каменистую землю, прорыли
каналы, насадили пальмы и смоковницы. Они построили
дворцы и храмы, воздвигли эти неприступные, подымающиеся
двумя ярусами стены, квадратные грозные башни. Они
спустили на воду сотни кораблей, которые теперь
покачиваются на волнах Кофона2 или бороздят моря, доставляя своим
владельцам сказочные сокровища. Эти люди создали
славу и величие Нового города3, но боги не дали им счастья.
1 Ханаан — территория современной Сирии и Палестины,
заселенная в древности племенами ханаанеев. Эти племена были
известны грекам под именем финикийцев.
2 Кофон — внутренняя искусственная гавань Карфагена.
3 Новый город — имеется в виду Карфаген, или Кархадашт, как
его называли сами карфагеняне.
12
Путь Ганнона лежит через Магару, предместье,
заселенное богатыми купцами и землевладельцами. Казалось,
здесь не властен всеиссушающий Мут. Сады, щедро
орошаемые водой каналов, сверкают веселой, яркой зеленью.
Пахнет миндалем и мятой. С ветвей, дразня глаз, свисают
крупные, сочные плоды. На плоских черепичных крышах
под огромными пестрыми зонтами нежатся владельцы всех
этих богатств, равнодушные ко всему на свете, кроме
собственной выгоды. А внизу, у глиняных пифосов1, с вином
и маслом, суетятся рабы. Большие рыжие псы
исступленно лают на Ганнона, словно от него исходит угроза этому
миру сытости и довольства.
СИНТА
В храме полумрак. Свет едва проникает сквозь
круглые оконца с разноцветными стеклами и ложится на гладкие
квадратные плиты пола, на серые гранитные колонны.
Между колоннами пробирается Синта. Розовая туника
плотно облегает стройное тело и делает девушку похожей
на бабочку, нечаянно залетевшую в храм и мечущуюся в
поисках выхода.
Лишь вчера отец увел Синту из дома. Припав к ногам
отца, девушка умоляла: "Лучше убей меня!" Но Миркан
был неумолим. "Ты должна это сделать ради брата, —
говорил он. — Магарбал хочет принести его в жертву
Владычице Танит. Спасти его можешь только ты!"
Девушке внезапно представилось: над нежной шеей
Шеломбала навис кривой медный нож. Толпа,
взбудораженная страшным зрелищем, кричит: "Крови! Крови!"
Может ли она это вынести? Она готова на все: "Отец,
веди меня к Магарбалу!"
Какие страшные глаза у этого аспида! Когда он
смотрит на тебя, кажется, что в жилах останавливается кровь.
Что она должна делать в храме? Вот этим ножом
обрезать фитили храмовых светильников.
Внезапно жрец схватил ее за плечо, что-то блеснуло у
висков, и длинные волосы волною легли на пол.
При воспоминании об этом из глаз Синты вновь хлы-
1 Пифос — огромный глиняный чан для хранения вина, масла, меда
и воды.
13
нули слезы. Нет кос, которые так любил Ганнон! Что бы
он сделал, узнав, что его невеста отдана в храм? Но Ганнон
далеко, и теперь она, жрица Танит, должна навсегда
забыть о любимом.
Синта подходит к статуе Танит. В длинных,
скрещенных на груди руках богини — полумесяц. Каменное лицо
Владычицы величаво и торжественно. Тронут ли ее
девичьи слезы? Никогда еще не видела Синта так близко
богиню. В те дни, когда храм наполнялся верующими, даже
знатная девушка не могла находиться у ног Госпожи. Но
теперь они одни — богиня и ее служительница, любовь и
ее жрица, — и Синта может рассказать ей все, что
тревожит ее сердце. Упав на колени, целуя воспаленными
губами холодный камень статуи, Синта страстно шепчет:
— О Владычица Танит! Всемогущая, освещающая
землю в часы мрака! Облегчи душу от сомнений! Отец отдал
меня тебе, но я...
Девушка замолкла и замерла. Ее тонкий слух уловил
еле слышные шаги и позвякивание ключей. Так звенят
ключи на поясе Магарбала. Но верховный жрец не один. Кто
же с ним? Девушка скользнула за одну из колонн и
прижалась к ней.
— Ты хотел поговорить со мной наедине, —
прохрипел Магарбал. — Я тебя слушаю.
Наступила тишина. Ее нарушил вкрадчивый, мягкий
голос. Девушка чуть не вскрикнула и еще теснее прижалась
к холодному камню. Она узнала голос своего отца, Мир-
кана. "Может быть, отец пришел за мной?" — мелькнула
мысль.
— Чернь неспокойна, о жрец Танит! — начал Мир-
кан. — Толпу волнуют темные слухи. Исступленные
пророки предсказывают новые бедствия. Они призывают
народ бросать все и плыть за Столбы Мелькарта. Вчера
землепашцы пришли к морю просить дождя, а завтра они могут
прийти за попутным ветром. А если они покинут
Карфаген, кто будет управлять парусами, ковать мечи, лепить
посуду и возделывать поля? Кто будет воздавать жертвы богам
в наших храмах? Хорошо, если мы овладеем Гимерой.
А если нет? Тогда нас может спасти лишь чудо.
— Чудо?.. Ты прав, суффет. Чудо, явленное в доме
Владычицы, не раз уже спасало Карфаген.
У входа в святилище послышался шум. Гулко
отдавался топот ног. Кто-то звал:
14
— Суффет, суффет!
У алтаря человек остановился, видимо не решаясь
сказать, что привело его в храм.
— Что же ты молчишь? Проглотил язык? — грубо
спросил Миркан, недовольный тем, что прервали его
разговор с Магарбалом.
— Беда, суффет! — тихо сказал страж. — Наш флот
у Гимеры сожжен. Моряки в плену! Вернулся один Ганнон.
МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ
Синта — в храме Танит! Несколько дней Ганнон не
выходил из дому, предаваясь горестным размышлениям.
В памяти вставали картины детства, и оно теперь ему
казалось таким далеким, как гавань в безбрежном море.
Вот здесь, по плитам этой улицы, он катал обруч.
Обруч закатился во двор. Вскарабкавшись на высокую
каменную стену, Ганнон увидел в тени смоковницы девочку с
большой глиняной куклой в руках. Синта чем-то
неуловимым напомнила ему покойную мать, хотя у матери были
светлые волосы и серые глаза, а у этой девочки —
черные волосы и глаза, как у него самого... Ганнон и Синта
вместе бродили по садам, вдоль берега быстрого и
говорливого Баграда1, лежали на горячем песке Языка и
плескались в волнах Кофона. Детская дружба переросла в
любовь, глубокую и сильную. Синта стала невестой Ганнона.
Миркан, казалось, относился к этому благосклонно. Свадьба
была отложена до возвращения Ганнона из Сицилии. Как
он ждал встречи с любимой! А теперь его надежды
обмануты. Синта — вечная пленница храма Танит.
Наследнику Миркана, его сыну Шеломбалу, угрожал жертвенный
нож. Но разве такой богатый человек, как Миркан, не мог
найти какого-нибудь раба, похожего на его сына, чтобы
принести его в жертву Танит? Магарбал посмотрел бы на этот
обман сквозь пальцы. Но Миркану казалось почетнее иметь
дочь — жрицу. Ганнон стиснул зубы, чтобы сдержать
готовый вырваться крик.
Ганнон поднял голову. Взгляд его упал на бронзовое
зеркало, висевшее в углу. Он с трудом узнал себя. Сухие глаза
1 Баград — река, текущая с гор Нумидии. Впадает в море близ
Карфагена.
16
потускнели, как светильник без масла, щеки запали. Горе
наложило на лицо свою печать.
Всюду разбросаны глиняные амфоры из-под вина.
Ганнон машинально их пересчитал. Одна, две, три... Совсем
недавно, до краев наполненные вином, они стояли на
столе, как танцовщицы, готовые пуститься в пляс. А вокруг
бушевало веселье. Сколько планов было у каждого из его
друзей! Веселый, жизнерадостный Мерибал грезил о
воинской славе. Глаза его, горевшие блеском молодости,
наверное, уже выклевали сицилийские коршуны. А Эшмунзар,
мечтавший стать зодчим! Где он теперь? Может быть, в
страшных сиракузских каменоломнях? Из-под Гимеры в
Карфаген возвратился лишь один Ганнон, вернулся, чтобы
испить горькую чашу одиночества.
Отец Ганнона, Гамилькар, не вынес позора Гимеры. Он
бросился в огонь жертвенника. Об этом Ганнон узнал уже
здесь, в Карфагене. Суровый воин Гамилькар провел всю
жизнь в походах и возвращался в Карфаген только для того,
чтобы отчитаться перед Советом. "Мой дом там, где бой!" —
любил он говорить. Но мальчику было приятно, что у него
такой отец. Он ждал его возвращения, ценил его скупую
мужскую ласку. В этом году Гамилькар взял Ганнона с
собой. Ганнону исполнилось двадцать лет, и отец поручил ему
корабль. И он не раскаялся в этом. На пути в Гимеру
карфагенский флот был застигнут бурей. Многие корабли
потонули. Ганнон же доставил свое судно в гавань
невредимым. "Отец, ты погиб в огне, как подобает слуге Мелькар-
та1, — думал Ганнон. — В память о твоих заслугах Совет
приказал воздвигнуть тебе статую. Но на твое имущество
покушаются шакалы-ростовщики. Городской дом и
загородное поместье — вот и все, что осталось от твоих владений!..
Да, жизнь бессмысленна, как эта опорожненная амфора".
Ганнон с силой ударил по сосуду ногой. Амфора разлетелась
на куски. Ганнон подбежал к окну. Он услышал далекий
будоражащий шум города. Его потянуло к людям.
И вот он уже на главном базаре, у торговой гавани.
Пестрая, разноязычная толпа бурлит на площади, переливаясь
на соседние улицы.
Кричали разносчики:
1 На языке карфагенян Гамилькар — слуга Мелькарта, бога солнца.
Согласно карфагенским верованиям, Мелькарт погиб в огне.
17
— Аи, лепешки! Что за лепешки! Отведай их —
проглотишь язык!
Слышались пронзительные голоса:
— Вот угли! Кому угли!
Продавцы тканей развертывали куски окрашенной
пурпуром материи, и ткань надувалась ветром, как парус
сказочного корабля. Менялы бесцеремонно останавливали
прохожих и что-то им доверительно шептали. Нет, Ганнону не
нужно ни углей, ни тканей, ни сицилийских серебряных
монет. В городском шуме, в базарной сутолоке он хочет
найти покой, как в вине ищут забвения.
Покинув Большой базар, Ганнон направился к
Кузнечным воротам. В городской стене — двенадцать ворот, и у
каждых ворот живут ремесленники: гончары, мукомолы,
валяльщики. Отсюда ворота и получили свои названия.
У Кузнечных ворот шумно. Полуобнаженные кузнецы
бьют огромными молотами по раскаленному металлу, и
голубые искры, как брызги, разлетаются во все стороны. По
неровным камням мостовой громыхают повозки. Стражник,
преградив дорогу ослику, нагруженному какими-то
мешками, кричит землепашцу:
— Не пущу! Плати пошлину!
Четверо чернокожих с блестящими от пота спинами
тащат носилки, в них восседает человек. Его щеки
трясутся, как студень, а на голове прыгает красный колпак.
Впереди носилок бегут сухопарые смуглые нумидийцы.
Они неистово вопят:
— Прочь!
На площади молчаливая толпа горожан окружила
какого-то изможденного человека в черном волосяном плаще
и с железными цепями на шее. Глаза его сверкают. Он
исступленно кричит:
— Кайся! Оскудеет земля ваша, иссякнут ручьи и реки,
высохнут сады! Луга и нивы покроются сыпучими
песками! Кайся! Враги придут с моря и суши. Они разрушат
дома, где поселилась неправда. Огонь поглотит сокровища
и богатства. Кайся! Будут поруганы храмы. В них поселятся
шакалы и змеи. Море поглотит ваши корабли, и даже имя
ваше будет стерто без остатка. Кайся!
— Кто это? — спрашивает Ганнон.
— Эшмуин, благочестивый пророк, — шепчет сосед
Ганнона. — Днем и ночью он бродит по городу.
18
С протянутыми вперед руками пророк двинулся по
площади, и толпа хлынула за ним.
Ганнон один со своими мыслями. Как по пурпурному
закату судят о ветреном дне, так появление пророков
предвещает мятеж народный. Садовник весной срезает верхние
ветви яблони, чтобы укрепить ее ствол. Чтобы возвысить
Карфаген, надо удалить излишние ростки, пересадить их в
новое место, основать новые города. Мысль, случайно
брошенная пиратом, пустила в душе Ганнона глубокие корни,
и с каждым днем он находил все новые доводы в ее пользу.
По узкой, застроенной высокими домами улице Ганнон
двинулся к храму Танит. Вот и святилище. Ганнон долго
вглядывался в колонны из серого камня и деревянные
карнизы, на которых гнездились стаи белых голубей. Голуби
стонали. Их плач наполнил сердце Ганнона печалью.
Вдруг кто-то его окликнул. Немолодой человек в
грубой, стянутой войлочным поясом тунике держал за руку
мальчика лет двенадцати с кроткими и печальными глазами.
— Господин! Ты не купишь моего мальчика? Можешь
его отдать в храм. Скоро праздник Танит.
Смысл этих слов не сразу стал понятен Ганнону, и
незнакомцу пришлось повторить свой вопрос.
Ганнон вздрогнул. "Значит, есть люди еще более
несчастные, чем я, — подумал он. — У меня отняли Синту,
а этот человек продает своего сына, продаст его каждому,
кто хочет принести Танит кровавую жертву!"
— Зачем ты продаешь своего ребенка? — ужаснулся
Ганнон.
Незнакомец уловил во взгляде Ганнона сочувствие.
— Я одолжил зерно у богатого соседа, но новая жатва
даже не вернула мне семена. Если завтра не возвращу
долга, у меня отберут участок. Я и пришел в город. Хотел
отдать сына своего Гискона в обучение кузнецу и
получить плату вперед. Кузнец обругал меня: "Ты думаешь,
я кую деньги?" Горшечник Мисдесс, чья лавка у
Горшечных ворот, сказал нам: "Зачем людям горшки, когда в них
нечего класть?" Вот мы и пришли сюда.
Рассказ землепашца взволновал Ганнона. Он увидел что-
то общее в судьбе этого мальчугана и Синты. Мальчик
должен стать жертвой Магарбала. Нет, он этого не допустит.
Ганнон достал мешочек и отсчитал десять кожаных
монет.
19
— Возьми! — сказал он, протягивая деньги. — Отдай
долг.
Широко раскрыв глаза, бедняк смотрел на Ганнона.
Десять кожаных монет! Их хватит не только на уплату долга
с процентами, но и на покупку зерна для нового урожая.
— Так это мои деньги? — недоверчиво спросил
землепашец.
— Ну да, твои! — Ганнон положил монеты в его руку.
Повернувшись, Ганнон хотел было идти, но землепашец
поспешно тронул его за плечо.
— А мальчик? Почему ты не берешь мальчика?
— Мне ничего не нужно от Танит, — ответил
Ганнон. — Я уже принес на ее алтарь дар, самую дорогую
жертву.
— Может быть, тебе нужен слуга?
— Мне не надобны слуги, — молвил Ганнон. —
К тому же я не кузнец и не горшечник, — добавил он,
прочитав недоумение на лице землепашца. — Какому
ремеслу я могу обучить твоего сына? Я ведь моряк.
Услышав слово "моряк", мальчик, все время
безучастно слушавший разговор отца с незнакомцем, встрепенулся:
— О господин, — взмолился он, — научи меня
морскому делу! Возьми меня к себе!
Ганнон взглянул на святилище. В глазах его блеснул
огонек. "Не сами ли боги посылают мне этого
мальчика?" — подумал он и положил руку на худенькое детское
плечико:
— Ну что ж, Гискон, идем! Я сделаю из тебя моряка!
ТАИНСТВЕННАЯ ТАБЛИЧКА
Ганнон стоял в углу, спиной к двери, и перебирал
щиты. Под Гимерой Ганнон потерял все свое оружие, и вот
теперь он отправился в оружейную лавку, чтобы купить
меч и щит.
Ганнону понравился меч лидийской работы со слегка
изогнутой рукояткой. А вот щит по своему вкусу он никак
не может найти.
— А нет ли у тебя какого-нибудь металлического
щита? — обратился он к оружейнику, услужливо
державшему перед ним светильник.
20
— Есть один, — как-то нерешительно отозвался
оружейник и, чуть помедлив, удалился в заднюю комнату,
служившую ему жилищем.
Он вынес оттуда продолговатый щит, завернутый в
кусок холста. В бронзу, позеленевшую от времени, были
искусно вставлены кусочки серебра, золота и слоновой кости.
Мозаика из металла! Ганнон подошел к двери, поставил щит
на ребро, так, что на его поверхность упали солнечные лучи,
и его взору открылось море, покрытое мелкими
чешуйками волн. Из воды поднимались две скалы. Между ними, в
самой середине щита, проходил корабль. Его борт был
выложен из маленьких кусочков серебра, а квадратный
парус — из олова. На палубе можно было разглядеть
крошечные фигурки моряков. На изогнутом, как лебединая
шея, носу — женщина. Она вдвое больше человечков. Ее
длинные волосы развеваются на ветру. В обнаженных
руках женщина держит двух змей. В верхней части щита, у
самого обода, — золотой солнечный диск, наполовину
затонувший в волнах.
— Откуда у тебя этот щит? — воскликнул в
восхищении Ганнон.
— Мне оставил его в залог незнакомый греческий
моряк, — отвечал оружейник. — Это было года два назад.
Он просил год не продавать щит. Обещал не только
вернуть залог, но и дать столько серебра, сколько весит этот
щит.
— Моряку нелегко держать свое слово, — заметил
Ганнон,— под его ногами не твердая земля, а
колеблющиеся волны. На долю моряка выпадает столько опасностей!
Против него и бури, и подводные камни, и морские
чудовища.
— Да, — согласился оружейник. — Я тоже думаю, что
этого грека давно уже сожрали рыбы. Чего же лежать
щиту? Купи его, если он тебе нравится.
Рассчитавшись с оружейником, Ганнон взял свои
покупки и отправился домой. Повесив меч на стену над своей
постелью, он позвал Гискона. Мальчик уже более недели
жил в его доме.
— Вот тебе и занятие, — обратился к Гискону Ганнон,
передавая щит. — Почисть его, чтобы блестел. Только
смотри не поломай. Это древний щит и очень дорогой.
— Хорошо, господин! — радостно отозвался мальчик.
21
Ему было приятно хоть чем-нибудь быть полезным Ган-
нону.
Ганнон прилег и сразу же сомкнул глаза. Его разбудил
крик:
— Господин! Господин!
Лицо мальчика выражало огорчение. Ганнон встрево-
женно поднял голову:
— Что случилось?
— Господин! — Мальчуган смотрел на него глазами,
полными слез. — Я не виноват. В задней стенке щита
прогнила дощечка. Выпало вот это. — Гискон протянул белую
пластинку.
Одна сторона этой костяной пластинки была гладкой,
а на другой в две строки были нацарапаны какие-то
значки. Под ними стояло по-гречески: "Атлантида". Эти знаки
ни о чем не говорили Ганнону. Буквы ли это какого-то
неизвестного письма, или просто забавные рисунки? Ганнон
разглядел человечков, животных и птиц. "А что означает
слово "Атлантида"? Может быть, это женское имя или
название какой-нибудь страны? Один Мидаклит может
раскрыть смысл этого слова", — подумал Ганнон, накидывая
на плечи плащ.
МИДАКЛИТ
За столом сидит пожилой человек. Седые волосы
ниспадают на высокий лоб. Человек настолько углублен в
чтение, что не замечает вошедшего в комнату Ганнона.
Мидаклит — учитель Ганнона, и живет он в
Карфагене с того дня, как его родной город Милет был разрушен
персами1.
Он поселился в предместье, заселенном греческими
купцами и ремесленниками. Бабушка Ганнона, гречанка из
Мессаны2, хотела обучить внука языку своих отцов и
пригласила Мидаклита к себе в дом. Гамилькар поддержал
намерение своей матери. Ганнону запомнились его слова:
"Греки — наши враги и соперники. Ты должен знать язык
1 Милет — греческая колония на побережье Малой Азии. Милет
поднял восстание против персидского ига и был разрушен в 494 году до
н. э.
2 Мессана — греческая колония в Сицилии.
22
врагов Карфагена". И Ганнон научился греческому языку,
как этого хотел отец. Более того: он полюбил этот
красивый, звучный язык. После смерти бабушки Ганнон все реже
встречался с учителем, а с того времени, как вышел в море,
не видел его ни разу.
В своем маленьком, наполовину вросшем в землю
домике Мидаклит проводил время за египетскими,
финикийскими, еврейскими свитками. Он не относился, подобно многим
своим соотечественникам, презрительно ко всему
негреческому. Он не называл египтян, карфагенян, евреев
варварами. Мидаклит хорошо знал, что в то время, когда
египтяне сооружали свои пирамиды и храмы, его собственные
предки еще были дикарями и, одетые в звериные шкуры,
бродили по горам. Ему было известно, что задолго до
Гомера жили вавилонские певцы, слагавшие гимны о богах
и героях, и что ассирийцы умели определять солнечные
затмения за четыреста лет до Фалеса1. Он знал также и о том,
что в то время, как греки верили сказкам, что Столбы
Геракла — предел света, финикийцы вышли в океан.
"Многому можно поучиться у варваров", — любил повторять
Мидаклит. Особенно понял он это здесь, в Карфагене.
— Над чем ты задумался, учитель? — послышалось
вдруг.
Мидаклит обернулся.
— Это ты, Ганнон? — радостно воскликнул грек,
поднимаясь навстречу гостю. — Как я рад, что ты не забыл
дорогу к моему дому!
— Я ее найду и с закрытыми глазами, учитель, —
улыбнулся Ганнон. — Это дорога моего детства, а тогда я
был так счастлив!
— Я слышал о бедах, свалившихся на твои плечи.
Пусть боги вдохнут в тебя мужество!
— Не будем об этом говорить. — Ганнон
нахмурился. — Я принес тебе одну вещь. Думаю, она тебя
заинтересует. Вот! — и он протянул греку табличку.
Мидаклит взял табличку, перевернул ее, поднес к
глазам. Ганнон видел, как задрожали его руки, а кончики
пальцев, державшие пластинку, побелели.
1 Фалес — знаменитый древнегреческий ученый и мыслитель конца
VII и начала VI века до н.э. Ему принадлежит ряд выдающихся
научных открытий. Особую славу ему принесло предсказание солнечного
затмения 585 года до н. э.
23
— Откуда она? — выдохнул грек.
— Из этого щита. Выпала.
Грек взял щит обеими руками, и на лице его появилось
выражение восторга и удивления. Выставив вперед правую
руку, он стал читать нараспев:
Щит из пяти сложил он листов, и на круге широком
Много чудесного бог, творец вдохновенный, представил.
Изобразил он и землю, и синее небо, и море,
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими увенчано небо.
— Твой любимый Гомер? — с улыбкой спросил Ган-
нон.
Он знал страстную любовь учителя к этому греческому
певцу и немного посмеивался над ней. Многое из того, что
Ганнон слышал от Мидаклита о войнах и странствиях,
описанных Гомером, казалось ему вымыслом, красивой сказкой.
— Да, — отвечал грек, — и щит, который ты мне
принес, может быть, столь же древен, как доспехи,
выкованные для Ахилла1 и воспетые Гомером. Только на этом щите
изображены не сельские труды и не сечи, как на
Ахилловом щите, а великий подвиг мореходов, вышедших за
Столбы Геракла.
— За Столбы Геракла? — воскликнул Ганнон. В голосе
его прозвучало недоверие.
— Да, за Столбы Геракла! — подтвердил грек. — Или
за Столбы Мелькарта, как называете их вы, карфагеняне.
Видишь, как искусно художник изобразил две скалы,
встающие из волн? Это и есть рубеж Внутреннего моря и
океана, обтекающего землю2. Корабль плывет на запад,
дорогой солнца. Великое светило наполовину погружено в
царство ночи.
— Но что это за люди? Чей это корабль? — спросил
Ганнон. — Ведь это не финикийский корабль! Смотри,
какой у него парус и корма. А между тем все знают, что
мои предки первыми вышли в океан.
— Я плохо разбираюсь в кораблях, — сказал грек. —
Для меня они все похожи друг на друга. Но смотри, какой
1 Ахилл, или Ахиллес — в греческой мифологии могущественный из
героев, осаждавших город Трою. Ссора Ахилла с предводителем
ахейцев Агамемноном и его победа над троянцами составляют главное
содержание "Илиады" Гомера.
2 Согласно географическим представлениям древних, вся суша была
окружена великим потоком — океаном.
24
странный наряд у этой девы со змеями. Туника у нее до
щиколоток, а груди обнажены. Это богиня. Но не
финикийская... И не греческая, — добавил он после некоторой
паузы.
— Почему же ты думаешь, что это богиня?
— Видишь, она выше других людей. Змеи — это
признак божественной власти. Наша богиня Афина часто
изображается со змеями.
— На алтаре Владычицы Танит тоже нарисованы
змеи, — вспомнил Ганнон.
— Богиня указывает мореходам путь, — продолжал
грек. — Но куда? Может быть, в Атлантиду?
— Атлантида — это страна? — спросил Ганнон,
присаживаясь на коврик. — Я ничего о ней не слышал. И ты
мне о ней не рассказывал.
Грек подошел к столу и достал оттуда свиток,
перевязанный синей тесьмой.
— Этот свиток, — начал Мидаклит, садясь рядом с
Ганноном, — недавно попал в мои руки. Его написал
греческий мудрец Солон.
— Не тот ли это Солон, который дал афинянам
законы, а после отправился в добровольное изгнание?1
— Да, это он, — подтвердил грек. — У тебя хорошая
память... Солон, — продолжал Мидаклит, — много
путешествовал и однажды побывал в самой древней стране
мира, в Египте. От жрецов египетского города Саиса Солон
узнал о существовании большого острова,
расположенного к западу от Столбов Геракла, и записал все, что ему
рассказали египтяне. Остров этот, или, вернее, материк, был
заселен мудрым и деятельным народом — атлантами. Ими
управляли цари. Атланты, как и древние египтяне,
перерезали свою страну каналами, и она расцвела, как
весенний цветок. Они возвели прекрасные дворцы и храмы богу
моря. На своих судах они совершали далекие плавания. Не
было на земле народа богаче и счастливее атлантов. Но
однажды послышался страшный подземный гул. Земля под
ногами атлантов разверзлась. Хлынули волны, и
Атлантида исчезла в пучине океана.
1 Солон — знаменитый афинский мудрец и политический деятель.
В 594 году до н. э. провел законы, отменявшие долговую кабалу и
нанесшие удар по родовой аристократии. Солону не удалось удовлетворить
требований враждующих группировок, и он вынужден был покинуть
Афины.
26
— У наших жрецов, — заметил Ганнон, — ты
услышишь и не такие басни. Где это видано, чтобы целый
материк исчез под водой! Должно же было что-нибудь от него
остаться. И почему об Атлантиде ничего не знают в
Карфагене?
— По словам Солона, — возразил Мидаклит, —
катастрофа произошла десять тысяч лет назад. Тогда не было
ни Карфагена, ни его отца — древнего Тира1. Поэтому твой
народ и не слышал об Атлантиде. Египтяне же древнее вас.
Остатки Атлантиды надо искать за Столбами.
— Что ж, давай их поищем с тобой?
— Ты смеешься над своим старым учителем! Думаешь,
я не знаю, что грекам под страхом смерти запрещено
выходить за Столбы? Ведь закон этот принят по настоянию
твоего родителя, да будут к нему милостивы подземные
боги.
— Я не смеюсь над тобой. — Ганнон взял грека за
руку. — Закон грозит смертью греческим купцам, а не тебе.
Я не смеюсь, учитель! Ты знаешь, что я задумал? Мы
обоснуем на землях Ливии колонии, а после этого на
нескольких кораблях выйдем в океан. Мы должны узнать, можно
ли обогнуть Ливию. Мы поищем твою Атлантиду! Поедешь
со мной?
Вместо ответа Мидаклит заключил Ганнона в объятия.
В СОВЕТЕ ТРИДЦАТИ
За длинным прямоугольным столом сидят раби2, с
каждой стороны по четырнадцать. В зале жарко. Лица
советников покрыты капельками пота. Многие дышат, как рыбы,
вытащенные из воды.
У узкой стороны стола — два сиденья со спинками из
слоновой кости. На одном из них восседает Миркан.
В одежде суффета он кажется еще более тучным. Место
другого суффета пустует: новый суффет, вместо погибшего
Гамилькара, еще не избран. Выборы должны состояться
через несколько дней.
Распахнулись двери из желтого кедра. На пороге по-
1 Тир — финикийский город, основавший ряд колоний в западной
части Средиземноморья, в том числе Карфаген.
2 Раби — старейшины Карфагена.
27
явился Ганнон. Приветствуя советников почтительным
поклоном, он произносит:
— Да снизойдут на вас милость и благословение богов!
— Что тебе нужно от Совета? — спрашивает Миркан,
не поворачивая головы.
— О мудрейшие из мудрых! — еще раз поклонившись,
начинает Ганнон. — В Сицилии мне пришлось пережить
горький день Гимеры. На родине я узнал страдания народа
нашего. Знойный ветер иссушил поля. Люди насытились
горем и напились слезами, как вином. Город не может помочь
своим сыновьям. У нас нет хлеба. У нас нет серебра и
золота, чтобы купить хлеб. Но за Столбами лежат
благодатные земли. Там хватит места для всех, и там много золота.
Если вы дадите мне корабли, я поведу людей в эти земли.
Я увезу бедняков и привезу золото — столько золота, что
можно будет нанять тысячи наемников. У Карфагена будет
могущественная армия, и он сотрет Сиракузы с лица земли!
Он покорит ливийцев, угрожающих нашему городу с юга.
Наступило долгое молчание. Раби ждали, что скажет
суффет, а Миркан не мог никак собраться с мыслями. Как
ответить этому мальчишке, едва не ставшему его зятем?
Мысль об основании новых колоний очень притягательна.
Стоит ее высказать — и народ пойдет за Ганноном, как
стадо баранов за вожаком, и снова род Магонидов, к
которому принадлежит Ганнон, возвысится, и тогда сыну Мир-
кана Шеломбалу не видать кресла суффета, как
собственных ушей. Надо уговорить Ганнона, надо убедить его
отказаться от своего замысла.
— Отцы раби! — начал Миркан. — Вы выслушали
Ганнона. Я его знаю больше, чем вы, и поэтому
утверждаю, что он храбрый юноша. Сердце его обращено к добру,
но он еще молод и горяч. Ганнон призывает вывезти
людей за Столбы сейчас, когда враги осмелели. Сегодня мы
отправим корабли к Столбам, а завтра греки подступят к
стенам нашего обезлюдевшего города, и ливийцы сразу же
придут им на помощь. Ганнон обещает нам привезти
золото. Да, нам нужно золото, много золота. Но можем ли мы
ради него рисковать кораблями? Вспомните, что говорит
мореход Гимилькон о плавании за Столбы. Вспомни и ты,
Ганнон! Ведь это пишет твой дядя. И, может быть, ты
поверишь ему больше, чем мне. Сердце содрогается, когда
слышишь о блуждающих кораблях, о туманах, о горах изо
льда, выступающих из моря. Ганнон! Откажись от своей
28
безумной затеи! Отправляйся в Сицилию. Мы дадим тебе
наемников. Отомсти за смерть своего отца, удостоенного
высшего в республике почета. Заверши его дело, и ты по
праву займешь его место. — Картинным жестом Миркан
указал на пустующее сиденье суффета.
Вслед за Мирканом заговорил купец Габибал. Ганнон
немало слышал о его несметных богатствах, нажитых
торговлей с Гадиром1.
— Отцы! — промолвил купец. — Я позволю себе
показать вам эту лампу. — Он поднял над головой простой
глиняный светильник с двумя клювами.2 — Если вы
заглянете внутрь этого светильника, то увидите на дне его
осадок. Такой осадок есть и в нашем городе. Это чернь,
источник вечных волнений и беспокойств. Суффет Миркан
советует оставить этот осадок за стенами нашего города.
Но всякий знает, что от этого лампа будет чадить. Надо
вычерпать чернь со дна нашего славного города. Пусть едет
себе на край света! Поможем ей в этом. Избавившись от
черни, город и все благонамеренные люди только выиграют.
Последние слова купца потонули в шуме
неодобрительных возгласов.
Ганнон понял, что Совет Тридцати его не поддержит.
Но еще народ не сказал своего последнего слова.
Домой Ганнон почти бежал. Лицо его горело. Руки
невольно сжимались в кулаки. Неудача не сломит его! Он
пойдет к кузнецам и валяльщикам, пекарям и
горшечникам, он отправится к землепашцам, стонущим от податей
и налогов. Они должны его понять! Они помогут ему!
НА ПЛОЩАДИ СОБРАНИЙ
Огромная площадь Собраний с утра запружена
народом. Сегодня выборы второго суффета. В толпе больше
всего ремесленников. Они пришли с улицы Пекарей и площади
Валяльщиков, от Горшечных и Кузнечных ворот. Их одежда
в муке и саже. Немало в толпе и землепашцев в рваных
туниках.
У самого помоста кучкой стоят отцы города.
1 Гадир, или Гадес, — колония финикийского города Тира близ
южного берега Испании (теперь город Кадикс).
2 Глиняные светильники с двумя носиками в виде клювов были
широко распространены в Карфагене в V веке до н. э.
29
Тучный человек в красном колпаке, косясь на толпу,
говорит Миркану:
— Зачем сюда позвали этих людей? Горшечники
вертят ногами свой деревянный круг, и мысли их вращаются
вокруг сосуда. Откуда они могут быть мудрыми? Дым
иссушает тела кузнецов, жар изнуряет их головы, удары
молота оглушают их. Как может стать мудрым тот, кто
правит плугом и погоняет волов? Он разговаривает со своими
волами и смыслит в управлении государством не больше,
чем они.
— Ты прав, — отвечает Миркан. — Но, клянусь Та-
нит, никто не звал сюда этих людей. Они пришли сами.
И я не помню, чтобы на площади Собраний было
когда-нибудь столько народа.
В толпе шныряют какие-то юркие, надоедливые люди.
Они нашептывают землепашцам и ремесленникам: "Не
голосуйте за беглеца!.."
Но их никто не слушает. Имя Ганнона у всех на
устах. Ему готовы простить и то, что он принадлежит к
этому заносчивому роду Магонидов, и даже то, что он был под
Гимерой, которая наложила на всех моряков Карфагена
черное пятно.
Ганнон обещал народу, что, если его изберут суффетом,
он снарядит корабли за Столбы Мелькарта и доставит всех,
кто только пожелает, в благодатные края. Там не дуют
жаркие, иссушающие ветры. По ночам не крадутся к загонам
львы. По каменистым склонам там вьется виноград, и его
завязям не угрожают прожорливые черви. В тенистых
лесах живут непуганые звери, и янтарный мед стекает из
дупел. С горных высот бегут говорливые струи. Там не надо
платить за воду, там нет изгородей и запруд. Взрыхляй
тучную почву, бросай в нее зерна и радуйся щедрости земли!
Говорил ли им об этом Ганнон? Нет. Он просто
обещал повезти их за Столбы Мелькарта. Рассказы о
благодатных землях передавались из уст в уста, обрастая
новыми яркими подробностями. Тот, кто вчера рассказывал о
них соседу, сегодня выслушивал от него свой же
собственный рассказ и не узнавал его.
Но вот на помост поднялись глашатаи. Призывно
загудели рога. Заколыхалось море голов. Люди устремились к
мосткам. Проходя по ним, они бросали камешки в
стоявшие внизу пифосы.
Пифосы стояли по обе стороны мостков, но те, что
30
слева, были полны камешками до краев, а в тех, что
справа, проглядывало дно.
Отцы города еще теснее прижались к помосту,
потрясенные и напуганные невиданным проявлением воли
народа. Им было ясно, что Ганнона изберут суффетом. И тогда
ему без труда удастся провести через народное собрание
любой закон. Это они понимали. И это внушало им страх.
Внезапно раздался крик:
— Ганнон!
Звук, наподобие громового раската, прокатился по
площади Собраний, прокатился, подхваченный тысячами
голосов, на всех шести улицах, выходящих на эту площадь, и
замер у стен Бирсы1. Люди рукоплескали, что-то кричали.
Они радовались победе своей мечты.
"СЕРЕБРЯНЫЙ ЯКОРЬ"
Четыре месяца прошло с того дня, как Ганнон стал
суффетом. Почти все время Ганнон проводил в Кофоне. Здесь
готовился к далекому и трудному пути карфагенский флот.
Все надо проверить самому: крепки ли канаты и паруса,
хорошо ли законопачены щели в бортах. Нужно подобрать
матросов. В море трусливый и неопытный спутник
опаснее мачты с трещиной или прогнившей килевой доски. Вот
почему Ганнон так придирчив и требователен к тем, кого
он должен взять с собой в море. Шестьдесят кораблей —
свыше тысячи моряков. И с каждым надо поговорить,
узнать, что это за человек и можно ли на него положиться.
Правда, ему помогает кормчий Малх, достойный потомок
древних финикийских мореходов. Малх еще служил у Ма-
гона2. Тогда ему было всего лишь пятнадцать лет. А теперь
ему все пятьдесят. Он так долго плавал по морю, что,
кажется, его грудь и руки покрылись вместо волос морским
мхом и водорослями.
В таверне "Серебряный якорь" часто можно увидеть
Ганнона и Малха в окружении моряков или купцов. Вот и
сейчас оба потягивают вино из толстых кружек. Напротив
1 Бирса — верхняя часть Карфагена. По преданию, древнейшая
часть города.
2 Магон — суффет Карфагена в VI веке до н. э., отец Гамилькара, дед
Ганнона, способствовал укреплению морского и военного могущества
Карфагена.
31
них сидит человек лет тридцати, с загорелым и
мужественным лицом и широко расставленными глазами. Его
огромные, как глиняные гири, кулаки лежат на столе.
— Ну, а дальше? — говорит нетерпеливо Малх,
отставляя пустую кружку.
— Потом пираты меня продали тирянам, —
продолжает свой рассказ незнакомец. — Они заставили меня
спускаться на дно за раковинами-багрянками. Из них выделы-
вается вот эта драгоценная краска. — И человек бережно
касается края плаща Ганнона, окрашенного в пурпур. —
Мои товарищи утверждали, что легче быть каменотесом,
мельником, чем ныряльщиком. Но у нас было одно
преимущество: нас не держали в оковах. Я не думаю, что хозяин
пожалел бы для нас железа. Палок ведь ему не было жалко.
Просто он понимал, что под водой нужны свободные руки.
Однажды я воспользовался этим и уплыл в море. Меня
подобрал греческий корабль. Кормчий продал меня купцам,
промышлявшим добычей губок. Год я вылавливал эти
губки. Греки верят, что губки, повешенные у постели
больного, приносят ему исцеление. Я спал на этих губках, но,
заболев однажды, чуть не умер. Меня отходила добрая
рабыня. Да будут к ней милостивы подземные боги! Хозяин
засек ее до смерти. В год, когда на Грецию напал
персидский царь Ксеркс1, мне удалось бежать. Грекам было не до
рабов. И вот я здесь. Иной раз поможешь нагрузить
корабль. Кому сейчас нужны ныряльщики! — Незнакомец
вздохнул, видимо думая о Гимере, где был уничтожен флот
Карфагена. — Возьми меня, Ганнон! — взмолился он. —
Я могу продержаться под водой столько времени, сколько
понадобится, чтобы заделать пробоины на днище. Я могу
срезать незаметно якоря вражеских кораблей. И с
парусами справляюсь неплохо.
— Как твое имя? — спрашивает Ганнон.
— Адгарбал, — отвечает ныряльщик.
— Ты его знаешь, Малх? — обратился Ганнон к
старому моряку.
— Я слышал о нем, — отозвался тот. — В гавани
зовут его угрем за ловкость.
— Хорошо. Запиши его в команду "Ока Мелькарта", —
распорядился Ганнон.
1 Ксеркс — царь древней Персии (486 — 465 годы до н. э.); в 480 году
совершил поход в Грецию и потерпел там поражение.
32
За широкой спиной нового матроса дожидалось еще
несколько моряков, желавших отправиться в плавание.
Ганнон поручил их Малху.
Ганнону надо поговорить еще с сисситами1. Их
возглавляет сам Габибал. Нет, не случайно он поддержал Ганнона
в Совете Тридцати. Сейчас сисситы слетелись в гавань, как
осы на мед. За ними нужен глаз да глаз. Они привыкли
извлекать выгоду из всего — из радости и из горя. Они
норовят подсунуть суффету всякую гниль и получить за нее
побольше, как за хороший товар. А государственная казна
пуста. Ганнону пришлось продать последнее загородное
имение отца, заложить менялам все свои драгоценности.
Родные смотрят на Ганнона, как на безумца. Они
злословят, что он хочет утопить на морском дне достояние рода
Магонидов. Они забыли, что не земля, а море принесло
Магонидам славу.
"Свист плетей приятнее завывания бури", — любят они
говорить. И верно, плетью они выколачивают недурной
доход. Но разве пристало мужчине проверять курятники и
свинарники, вдыхать запахи навоза, слышать вопли избиваемых
рабов! Ганнон предпочитает всему этому просоленный
морской воздух, вой ветра в снастях, бесконечный простор.
* * *
Уже стемнело, когда у дверей "Серебряного якоря"
появилась детская фигурка. Ее можно было видеть в этот час
каждый день. И хозяин таверны и все матросы знали
этого мальчика. Одни считали его слугой суффета, другие —
воспитанником, третьи говорили, что это его младший брат.
Заметив мальчика, Ганнон поспешил ему навстречу.
— Ты ее видел, Гискон? — нетерпеливо задавал
вопросы Ганнон. — Что она ответила?
— Видел, господин. Она прочитала твое письмо. Она
согласна.
Ганнон от радости схватил мальчика и подбросил его в
воздух. Опуская его на землю, он рассмеялся.
— Скоро, Гискон, тебе больше не придется ходить в
храм Танит.
— И мы выйдем в море? — оживился Гискон.
— Да, мы все выйдем в море!
1 Сисситы — члены компании купцов Карфагена. Они собирались в
портиках храмов для совместных трапез.
33
2 532
БЕГСТВО
Со стен Бирсы, освещенных бледным сиянием луны,
упал тяжелый удар колокола. Человек, закутанный с
головой в плащ, прислушивался к этому звуку, пока он не
замер в ночи, осадившей спящий город подобно вражескому
полчищу. Рядом с человеком в плаще у ограды храма Та-
нит — тонкая детская фигурка. Человек в плаще поднял
ее обеими руками, и через мгновение она исчезла за
решеткой храмового сада.
Много опасностей пережил на своем веку Ганнон. Его
окружали враги, он плыл в безбрежном море, он был на
палубе пиратского корабля. Но, кажется, сердце его никогда
еще не сжималось так, как теперь.
Гискон на цыпочках пробирался к окну, на которое ему
указал Ганнон. Храмовый сад полон шорохов. Деревья
склоняют над мальчиком свои ветви, словно хотят его схватить.
Таинственно блестит священный пруд. Мальчику кажется,
что из воды высовывают головы какие-то рыбы с
выпученными глазами. Или, может быть, это лунные блики? Путь
до храмовой пристройки, где живут жрицы Танит,
кажется бесконечным.
Но вот наконец окно, в котором мелькнул огонек, окно
Синты. Вчера в письме Ганнон просил ее зажечь свечу.
Окно высоко, и мальчику до него не дотянуться. Но, к
счастью, рядом растет изогнутое дерево. Нижняя ветвь его чуть
не задевает подоконник. Гискон карабкается вверх.
Уцепившись за ветку, мальчик подтягивается и взбирается на нее
обеими ногами. С легким скрипом растворяется окно.
Пригнувшись, мальчик делает несколько шагов по направлению
к стене и прыгает.
Едва лишь Гискон касается подоконника, как горячие
нежные руки подхватывают его, и вот он в полутемной
комнате. Эти же руки подняли его, и поцелуй ожег лоб Гис-
кона.
— Идем, госпожа! — шепчет мальчик. — Идем
скорее. Вот веревка. А стражи спят крепко: они напились вина,
которое им дал господин.
— Подожди! — шепчет в ответ Синта. — Нам еще
нужно побывать в храме. Ты не боишься темноты?
Боится ли Гискон темноты? А кто ее не боится? Но
ради Ганнона он готов не только пойти в храм ночью, но
даже пройти через кладбище, где, как говорят, в полночь
из могил встают злые духи.
34
— Нет, я не боюсь темноты! — храбро отвечает
мальчик.
— Тогда идем, — говорит Синта и кладет руку на его
голову.
Они выходят из комнаты. Как скрипят половицы
коридора!
— Осторожнее! — шепчет Синта. — Сейчас будет
порог.
Еле слышно открывается дверь. Мальчик перешагнул
порог. И вот они оба ступают по гладким каменным
плитам. Темно так, как может быть темно только в храме.
Пахнет благовонными маслами, ими здесь кропят стены.
Синта идет уверенно. Она знает здесь каждый камень.
"Справа сейчас должна быть статуя Танит", — Синта
замедляет шаг. Она протягивает вперед руки, и ее пальцы
нащупывают веревку. Синта достает нож. Взмах рукой —
и веревка ослабла... В это время хлопает дверь. Вдали
мерцает огонек. Синта роняет нож, хватает Гискона за руку и
тащит его куда-то в сторону.
Огонек все приближается. Это горит светильник в
руках верховного жреца Танит, но свет его так слаб, что Гис-
кону и Синте нечего бояться, что их обнаружат. Но, когда
тишину храма нарушает скрипучий голос одного из
вошедших, Гискон чувствует, как Синта вся дрожит.
— Ты все приготовил, Стратон? — звучит властный
голос верховного жреца.
— Все, мой господин! — следует ответ. — Недавно я
пробовал крепость веревки. Можно проверить еще.
— Не надо. Помни, как только я прикоснусь лбом к
алтарю, ты должен дернуть за веревку.
Тонкий звон замер в глубине храма. Последнее, что
слышал Гискон, это был шум поворачиваемого в двери ключа.
Затем наступила тишина.
— Мы в ловушке! — прошептал Гискон.
— Не бойся! — успокоила его Синта и нащупала руку
мальчика.
Молча двинулись они в дальний угол святилища. Вот
Синта остановилась перед нишей, в которой белеет какая-
то статуя. Девушка прикоснулась к ее бедрам, и статуя
отступила, приоткрыв темный вход в подземелье.
Нагнувшись, Синта входит в узкий проход. Здесь
совершенно темно. Гискон идет за Синтой, не отрывая руки
35
от холодной, влажной стены. Пахнет плесенью и еще чем-
то неприятным. Вдруг мальчик увидел в углу красную
точку. Она становится все ярче. Это в каменной нише горит
светильник. Здесь коридор сворачивает вправо. В углу —
огромная куча тряпья.
— Что это? — спрашивает шепотом Гискон.
— Одежды жертвователей!
Мальчик слышал о том, что люди, терпящие бедствия
на море и суше, часто обещают в дар богине свои одежды
и отдают их в храм, если приходит спасение. Но кто бы
мог подумать, что эти одежды, в которые можно было одеть
тысячи бедняков, без пользы гниют в подземелье дома
Владычицы!
По обеим сторонам коридора — большие пустые
сосуды. Гискон не знает, для чего они предназначены. И
Синта этого ему не скажет. В этих пифосах хранится не вино
и не масло, как может предположить мальчик. Это сосуды
для детских тел. Жрецы говорят, что ни один вновь
построенный дом не будет прочен, если в его основание не
вложить сосуда с жертвой. И люди верят жрецам.
Удивительно, чему только не верят люди! Сколько обманщиков и
плутов пользуются человеческим легковерием! Не раз мудрецы
разоблачали этих обманщиков, но их сменяли другие, более
искусные и ловкие, и люди, как раб из басни, каждый раз
спотыкаются об один и тот же камень.
Еще долго Синта и Гискон идут по коридору. Вот
взметнулась стая летучих мышей, чуть не задев их головы
крыльями. Никогда еще Гискону не было так страшно.
Потолок становится все ниже и ниже. Приходится идти
полусогнувшись. Наконец коридор заканчивается. Перед ними
стена. Синта долго шарит по ней руками, пока не
нащупывает небольшой рычаг. Сильным движением она дергает
его на себя.
Стена отступает, как статуя у входа в подземелье.
Пахнуло свежим воздухом. Засверкал клочок неба с
рассыпанными на нем звездами. Ползком Синта и Гискон вылезли
наружу. Луна освещает белые каменные конусы —
квадратные плиты с полустершимися надписями. Да ведь это
храмовое кладбище! Но после подземелья кладбище уже
не могло испугать Гискона. Хорошо, что их никто не
заметил. Можно было умереть от страха, увидев, как из земли
вырастают двое в белом. Конечно, их бы приняли за злых
духов!
36
А где же Ганнон?
Ганнон стоит у храмовой ограды. Он ждет.
Воображение рисует картину будущего счастья. Оно встает перед
ним, как берег в бескрайнем бурном море.
Кто-то легко дотрагивается до его плеча. Синта! Как им
удалось выбраться из храма? Тише! Где-то в глубине
храмового сада стучит колотушка сторожа.
Темной улицей Ганнон, Синта и Гискон пробираются в
гавань. Вот и укромное место — груда больших глиняных
сосудов из-под зерна.
Ганнон усаживает Синту и долго смотрит на девушку,
гладит ее руки. Как она изменилась за эти несколько
месяцев! Бледное лицо. Нет кос, которые ниспадали до
самого пояса. И, может быть, поэтому она смущена.
— Ничего, милая! — в радостном порыве, не помня
себя от счастья, говорит Ганнон. — Отрастут твои
волосы, забудутся обиды и огорчения.
— Да, — шепчет Синта. — Мы теперь вместе, и нас
разлучит только смерть.
Меркнут звезды. Загорается край неба, и его отблеск
озаряет Синту. Девушка становится еще прекрасней.
Ганнон с беспокойством оглядывается вокруг. Тревога
передается Синте.
— Идем на корабль, — торопит Ганнон. — Нас пока
еще не должны видеть вместе. К тебе будет приходить
Гискон. Скажи, что это твой брат. Ты согласен, Гискон?
Гискон послушно кивает головой.
Синта крепко обнимает Ганнона. Как трудно
расставаться, когда любишь! На глазах у девушки слезы. Губы ее
дрожат. Со страхом смотрит она на бледный лик луны. Не
гневается ли Владычица на свою рабыню, презревшую
законы храма ради любви?
ГНЕВ МАГАРБАЛА
В храме Танит людно. У алтаря стоят раби в своих
лиловых плащах. За ними — море черных тиар. Их одевают
на головы во время молитвы.
Миркан и Ганнон мирно сидят на скамье у колонн.
Ничто не выдает, что их разделяет старинная вражда двух
родов. В ожидании церемонии Ганнон перечитывает надписи
37
на вделанных в стену каменных плитах. В этих письменах
запечатлены история и слава Карфагена. Великие люди
города оставили в назидание потомкам рассказы о своих
подвигах.
Еще мальчиком Ганнон читал эти каменные свитки,
повествующие о войнах и мятежах, походах и открытиях. Уже
в детстве он полюбил эти звучные названия: Мелита и Тин-
гис1. В них была пенистая морская даль, неумолчный шум
прибоя, пение ярких, невиданных птиц, рев зверей, в них
звучала музыка странствий. Среди героев, открывших
острова в Великом Море Заката, были и его предки. Вот
надпись его деда Магона, завоевавшего острова Метателей
Камней2. Город на одном из этих островов до сих пор
носит его имя3. А вот плита с надписью Гимилькона,
побывавшего в стране тумана и вечной ночи.
Искоса взглядывает Ганнон на Миркана. Он помнит,
Миркан пытался напугать его трудностями плавания Гамиль-
кона. Не удалось ему это. Тогда Миркан решил
сговориться с верховным жрецом Танит. Они хотят помешать
кораблям Ганнона покинуть Карфаген. Но хитрость их раскрыта.
Это Синта открыла Ганнону тайну чуда, с помощью
которого суффет и жрец еще надеются опрокинуть его планы.
Взгляд Миркана устремлен на алтарь. Как и Ганнон, он
ждет выхода Магарбала. "Богиня еще не сказала своего
слова, — думает Миркан о Ганноне, — и этот наглец,
которого чернь посадила на скамье суффета, еще рано
торжествует. Корабли Ганнона стоят в Кофоне под парусами,
но он забыл, что ветер — это дыхание богов, а боги
имеют своих жрецов. Он забыл, этот мальчишка, что в храме
происходят чудеса. Правда, они дорого обходятся, эти
чудеса, но зато ничто не может сравниться с их силой".
Миркан мельком взглядывает на Ганнона, и на его
тонких губах мелькает еле заметная усмешка: "Глупец!
Сейчас богиня скажет: "Нет!" Сейчас она опалит тебя огнем.
И ты не сможешь повести корабли до благоприятного
знамения, если оно вообще когда-либо наступит".
Погасли светильники. Лишь свеча на алтаре горит не-
1 Мелита — древнее название острова Мальты. Тингис —
финикийская колония в Северной Африке, близ Гибралтарского пролива
(теперь Танжер).
2 Балеарские острова славились в древности своими пращниками.
3 Город Магон (теперь город Маон) на острове Менорке (Балеарские
острова).
38
ровным, дрожащим пламенем. Люди затаили дыхание.
Распахнулся багровый полог. Предстала Владычица Танит.
Призрачно и грозно ее каменное лицо.
Магарбал вышел в длинном черном плаще с
вытканными на нем мерцающими звездами. Белая повязка
закрывает часть его голой, как яйцо, головы. В правой руке у жреца
золотая чаша в виде лодочки, а в левой — посох, на
ручке которого бронзовая змеиная голова. Жрец поднялся на
ступеньки алтаря.
Под сводами глухо прозвучал его голос:
— О Танит, мудрая и прекрасная! Освещающая в часы
мрака землю, рождающая росу, смиряющая злых духов!
О Владычица! Твои рабы идут в царство Мелькарта. О
великая! Если ты не хочешь этого, сотвори чудо!
Магарбал медленно наклоняется, прикасаясь лбом к
прохладному дереву алтаря. Он знает: сейчас Стратон
дернет за веревку, опрокинется свеча и ярко вспыхнет
горючее вещество, которым наполнена голова богини. Жрец
ждет. Кровь прилила к его вискам. Снова и снова
прикасается он лбом к алтарю...
Довольные моряки шумно покидали храм, а верховный
39
жрец все колотил кулаком об алтарь, словно хотел вбить
его в землю.
Когда храм опустел, Магарбал дал волю ярости. Он
набросился на своего помощника Стратона, угрожая ему
всеми страшными карами:
— Я прикажу содрать с тебя шкуру, сын ехидны!
Я волью тебе в глотку расплавленную медь! Тебя закидают
каменьями!
— О, не гневайся, господин мой! — молил Стратон. —
Я не виноват. Кто-то перерезал веревку, и свеча, которую
она придерживала, не опрокинулась. Горючая жидкость не
вспыхнула.
Магарбал схватил светильник и молча двинулся вокруг
статуи Танит. Да, веревка перерезана. Но кто это мог
сделать?
Нагнувшись, Стратон что-то поднял с пола.
— Смотри! — указал он. — Это ее нож.
— Синта! — заревел Магарбал. — Приведи ее!
Стратон удалился. Тяжело опустившись на ступеньку
алтаря, Магарбал придумывал наказание для Синты. Он
прикажет ее бичевать. Нет, лучше он посадит ее в бочку
со змеями.
Незаметно появился Стратон.
— Синты нет в храме, — сказал он тихо. — Комната
ее пуста. Вещи разбросаны. На полу — длинная веревка.
— Слушай меня, Стратон! — Великий жрец
задыхался от прости. — Ты пойдешь в дом Миркана и передашь
ему, что, если он сейчас же не выдаст свою дочь, я
возьму у него младшего сына в жертву Владычице Танит, как
хотел сделать раньше.
Стратон возвратился, когда уже стемнело. За ним шел
сам Миркан. Лицо его было покрыто капельками пота.
— Клянусь богами, — еще в дверях закричал
Миркан, — в моем доме нет Синты! Я ни разу не видел дочери
с тех пор, как привел ее в твой храм.
— Где же она? — Магарбал подступал к суффету,
яростно потрясая кулаками. — Я тебя спрашиваю, где тбоя
дочь?
— Я уверен, что дочь мою похитил Ганнон, --
отвечал Миркан.
— Ганнон? Почему ты так думаешь?
— Я обещал отдать ему Синту в жены, — тихо и как
бы виновато проговорил Миркан.
40
— Вот оно что! — прошипел Магарбал. — Теперь я
понимаю, почему ты вызвался отдать свою дочь в храм. Ты
просто не хотел, чтобы она стала женой Ганнона.
Миркан опустил голову. "Да, я не предупредил Магар-
бала, — думал он, — ив этом я виноват. Дочь я
обманул, чтобы ей легче было уйти из дому и забыть Ганнона.
Конечно, я мог бы заменить на алтаре Танит Шеломбала
молодым рабом или сыном какого-нибудь бедного
землепашца. Голод и нужда заставляют их продавать своих детей.
Но тогда я должен был бы отдать Синту в жены Ганнону.
Как я был предусмотрителен, когда не хотел породниться
с Магонидами! Теперь, после Гимеры, пришел конец
могуществу этого рода. Иметь дочь жрицей Танит для меня
выгоднее и почетнее. Но что делать теперь? Не потребует ли
обманутый Магарбал в жертву Танит сына?"
"Во всем виноват Ганнон! Он, Магарбал,
могущественнее всех жрецов Карфагена, а этот отпрыск Магонидов
осмелился посягнуть на его авторитет! Он забыл, что теперь
не времена царя Малха, распинавшего жрецов на кресте,
как беглых рабов1. Что же теперь делать? Надо сначала
вернуть Синту. А Ганнон сам явится за ней. Синта будет
приманкой, как ягненок при охоте на льва".
Магарбал перевел свой взгляд на Стратона.
— Иди в гавань, — приказал он. — Скажи Ганнону,
что я тебя назначил жрецом нового храма за Столбами
Мелькарта. Выследи Синту!
Как только Стратон и Миркан скрылись из виду,
верховный жрец в исступлении поднял вверх иссохшие
костлявые кулаки, и из его груди вырвался вопль. В нем
соединились ярость и бессилие.
— Разруби его мечом, о Танит! — кричал жрец. —
Сожги его огнем! Размели пепел мельничными жерновами
и разбросай по ветру!
У ГОРШЕЧНЫХ ВОРОТ
Множество повозок, запряженных осликами, и просто
пешеходов с сумами за плечами стремились в этот день
1 Карфагенский царь Малх (VI век до н. э.) жестоко расправился со
жрецами, составившими против него заговор.
41
попасть в город через Горшечные ворота. Это будущие
колонисты, их близкие и просто любопытные. Это жители
предместий и окрестных деревень, мужчины, женщины и
дети. К Мисдессу, лавка которого была почти у самых
ворот, без конца прибегали соседи и незнакомые люди,
откуда-то узнавшие его имя. Каждый из них приносил какую-
нибудь вещь и, ставя ее перед горшечником, говорил:
— Возьми, Мисдесс! Ты остаешься здесь! Возьми! Тебе
это пригодится!
Вскоре низенькой лавки Мисдесса почти не было видно
из-за груды столов, детских люлек, колес, умывальников,
переносных жаровен, светильников. Вещи эти были совсем
хорошие, и достались они своим хозяевам с таким трудом!
Они были свидетелями рождения и смерти, горя и
радости, смеха и слез. А теперь их бросали, как казалось
Мисдессу, без всякого сожаления.
Этого Мисдесс никак не мог понять. Как он оставит
свой дом, свою маленькую мастерскую, бедное кладбище
за Магарой, где под пирамидками из белого камня вечным
сном покоятся его благочестивые родители, люди,
подарившие ему жизнь? Как он покинет этот город, где ему знаком
каждый камень, каждая выбоина на мостовой? Что он
будет делать, если проснется и не увидит перед собой этих
белых стен, этих квадратных башен? При одной мысли об
этом Мисдессу делалось страшно. Он чувствовал себя
маленьким и беззащитным, как тогда, в детстве, когда отец
привел его к старому бородатому горшечнику, никогда не
расстававшемуся с длинной гибкой палкой.
На пороге дома показалась Шимба, жена Мисдесса. Она
только что просила у Танит первенца, и на кистях ее рук
со вздувшимися голубыми жилками блестели запястья из
лунных камней.
Указывая на бесконечный людской поток, Мисдесс в
ужасе всплеснул руками:
— Смотри, Шимба! Куда они все идут? Кто же будет
теперь покупать мои горшки?
— Разве ты не видишь, Мисдесс? — рассудительно
отвечала женщина. — Хотят уехать Т£, у кого нет денег.
Богачи остаются. Они и будут покупать твою посуду, твои
глиняные светильники.
— Много ты понимаешь! — возразил Мисдесс. —
Зачем понадобятся богачам мои горшки? Они берут дорогие
42
амфоры из красной кипрской меди, расписные греческие
сосуды и черные этрусские вазы1.
— А теперь начнут покупать, — пыталась его
успокоить жена. — Кто будет доставлять иноземную посуду, когда
все корабли уйдут за Столбы? Или, знаешь, ты научишься
лепить глиняные куклы, а я, когда подрастет наш
первенец, буду их раскрашивать и продавать.
Но чем больше успокаивала Шимба своего мужа, тем
он больше приходил в отчаяние. Хладнокровного,
спокойного горшечника нельзя было узнать. Он выбегал на
дорогу, что-то возбужденно кричал, размахивал руками,
перетаскивал свой гончарный круг с места на место.
К полудню людской поток спал. Проезжали одинокие
запоздалые тележки, торопились прохожие. Словно кто-то
утром опрокинул амфору с маслом, а теперь оно стекало
медленными каплями.
Звеня своими веригами, прошагал благочестивый
пророк Эшмуин. Хотя вокруг не было ни души, он простирал
вперед руки с длинными пальцами и исступленно кричал:
— Клянитесь! Клянитесь! Скорее оливы вырастут в
открытом море, скорее лев подружится с овцой, скорей
человек начнет насыщаться камнями, чем вы вернетесь в это
логово змей и скорпионов! Клянитесь!
Замер голос пророка. Стало так тихо и пусто, что Мис-
дессу показалось, будто он остался один в этом городе,
будто и его бросили, как никому не нужную вещь. И в этот
миг он понял, что сердцу его дороги не эти стены и не эти
выбоины на мостовой, а люди, для которых он всю жизнь
лепил горшки и светильники, с которыми он торговался из-
за гроша, с которыми он жил.
Окинув взглядом груду вещей у своего дома, Мисдесс
подошел к гончарному колесу и решительно взвалил его на
плечи.
— Идем, Шимба! — нетерпеливо крикнул он жене.
Женщина удивленно посмотрела на мужа. И его
охватило это безумие? И он хочет покинуть родной дом и
искать счастья на краю света? А подумал ли он о ней, о жене
своей, которая скоро принесет ему первенца?
— Идем, Шимба! — повторил горшечник. — Долго ли
я тебя буду ждать?
Схватив какой-то узел, женщина поспешила за мужем.
1 Начиная с середины VII века до н. э., в Этрурии развивается
производство черных сосудов. Эти сосуды археологи находят и на
территории Карфагена.
43
В ГАВАНИ
Солнечные лучи отражались на блестящей
поверхности колонн, охвативших гавань большим полукружием.
Вдали громоздились городские строения, а над ними,
упираясь в небо, высился величественный акрополь Бирса.
Прикрепленные канатами к кольцам мола, стояли длинные
военные корабли и широкие гаулы1 с опущенными
парусами. В порту кипела работа. Полуголые рабы, согнувшись
под тяжестью груза, проходили по гнущимся доскам.
Мелькали тела — черные, желтые, бронзовые, белые.
Слышался свист плетей. Доносились крики:
— Живей! Заноси! Пускай!
Гискон и Мидаклит сидели на пустых глиняных
сосудах у сходен и смотрели на корабль с развевающимся на
носу флагом суффета. Это "Сын бури", главный корабль,
гордость всего карфагенского флота. На его постройку
пошли кедры ливанских гор — из них вытесали эту стройную
мачту; италийские сосны — из них сбили палубу;
корсиканский бук — из него сделали весла; кипрская медь —
из нее выковали таран; драгоценное черное дерево — из
него вырезали карлика Пуам2, того, что красуется на носу
чуть повыше тарана.
Выпученные глаза карлика устремлены вдаль. На
выпуклых щеках, на волосах, покрытых позолотой, блестят
брызги. Гискон слышал когда-то от отца, что Пуам научил
людей добывать огонь и ковать железо. "Вот почему у Пуа-
ма надуты щеки", — думает мальчик.
— На моей родине этих карликов называют
пигмеями, — заметил грек. — Гомер говорит, что пигмеи живут
на берегу Южного океана.
"Опять Гомер! — подумал мальчик. — О чем бы ни
шла речь, ученый грек всегда сводит ее к своему Гомеру.
Наверное, этот Гомер какой-нибудь могущественный
греческий царь или завоеватель, а может быть, такой же
мореход, как Ганнон".
— Расскажи мне о Гомере! — просит мальчик.
— Гомер? Как тебе объяснить получше... — отзывается
Мидаклит. — Гомер — царь поэтов. Он завоевал весь мир,
но не мечом, а своими звучными стихами. Рассыплются
1 Гаулами карфагеняне называли широкие парусные суда, служившие
для перевозки грузов.
2 Пуам — по-финикийски "бог молотка".
44
крепкие державы, ветер развеет их прах, а Гомер будет
властвовать в своем царстве над умами людей, и не
найдется ни один завистник, которому пришло бы в голову
свергнуть его с престола. Гомер — открыватель новых
земель, и те земли, которые он открыл, никогда не будут
забыты. Он сумел провести свои крутобокие корабли, своих
героев через такие немыслимые преграды, перед которыми
остановился бы в смущении самый отважный мореход.
Грек, наверное, еще долго говорил бы о Гомере, если
бы Гискон не тронул его за плечо:
— Пора! Идем!
По сходням торопливо поднимались переселенцы:
мужчины, женщины, дети. Они растекались по палубам,
спускались в трюмы, заполняли все уголки кораблей. Гаулы
стали напоминать муравейник.
Взяв свои вещи, Мидаклит и Гискон подошли к
сходням "Сына бури". Им придется плыть на этом корабле.
Лицо Мидаклита радостно и торжественно. Исполняется
заветная мечта его жизни: он увидит неведомые моря,
далекие страны, о которых рассказывают столько небылиц.
Быстрее ветра мальчик взбежал на палубу. Сев у
перил, он свесил вниз босые ноги и забарабанил пятками по
борту. Он чувствовал себя здесь как дома. С высокой
палубы виден весь город. Вот Бирса и храм Эшнуна1. Вот храм
Танит, откуда бежала Синта. Гискон отыскал глазами
улицу Сисситов, но дом Ганнона, ставший ему родным,
отсюда не виден. С кровель зданий поднимались дымки. Это
благочестивые карфагеняне возносили курения богам, моля их
о помощи близким своим, покидающим родину.
На дамбе, соединявшей гавань с островком, показалось
несколько человек. Мальчик различил белые плащи
городских стражей и среди них стройную фигуру Ганнона. Суф-
фет в синем плаще, стянутом у талии широким кожаным
поясом с блестящей медной пряжкой. Голова Ганнона не
покрыта. Ветер раздувает его длинные волосы.
При виде Ганнона толпа в гавани заволновалась.
Раздались приветственные крики. Возбужденные карфагеняне
чуть не опрокинули охрану, сопровождавшую суффета.
Ликующие люди шли за Ганноном до самых сходней.
А это кто? По молу идет человек в белой тунике, с
белой повязкой на бритой голове. Он тащит за веревку
1 Эшнун — у карфагенян — бог-врачеватель.
45
черную овцу. Овца упирается всеми четырьмя копытцами,
протяжно и жалобно блеет. Человек осыпает ее руганью,
словно желая излить на нее свое озлобление на тех, кто
захотел сделать его мореплавателем.
Гискон знает этого человека. Не раз он видел его в
храме Танит. Это жрец Стратон. Но что ему здесь надо?
Верховный жрец Магарбал посылает с ними исчадие ада. Это
понял и суффет. Вон как он нахмурился при виде жреца.
Стратон подходит к сходням "Сына бури". Люди на
корабле почтительно склоняются перед жрецом Владычицы.
Вот и все готово к отплытию. Ганнон нетерпеливо
взмахивает рукой, и тотчас же трубачи, стоящие на
набережной, у колонн, вскидывают изогнутые, как оленьи рога,
этрусские трубы. Раздаются призывные волнующие звуки.
Звенящая радость, смешанная с тревожным ожиданием
чего-то нового, ослепительно яркого, переполняет сердца
людей.
К мосткам подбежали матросы.
— Стойте! Стойте! — послышался вдруг крик.
По молу бежал человек с гончарным кругом на спине.
За ним семенила женщина.
— Опоздал, горшечное колесо! — кричит с улыбкой
Малх.
— Возьмем его, — просит Ганнон. — Кто будет за
Столбами лепить горшки?
Матросы помогли Мисдессу с женой подняться на
мостки. Загремели якорные цепи. Из воды, к восторгу и
удивлению Мидаклита, показались не корзины, наполненные
песком, как у греков, и не тяжелые камни, которые в
употреблении у египтян, а настоящие медные якоря с двумя
лапами. Гребцы всей грудью налегли на весла, и вот уже
узкая полоса воды отделяет корабль от берега. Она
становится все шире и шире. "Сын бури" входит в торговую
гавань. Люди, заполнившие набережную, машут руками,
что-то кричат. А вот и маяк с неугасающим костром из
смолистых ветвей. Корабли выходят в залив. Матросы
поднимают паруса. Ганнон оглядывается и ищет глазами гаулу,
на которой его Синта, вырванная из лап жестокого Магар-
бала. И, хотя гаула так далеко, что на ней нельзя
различить лиц, Ганнону кажется, что он видит длинные
ресницы, оттеняющие черные глаза Синты.
ПО ВОЛНАМ ОКЕАНА
МОРЕ
Корабли плывут на закат вдоль плоского, как ладонь,
берега Ливии. Ветер дует с суши. Он доносит рокот волн,
сонно бьющих об отмели, и негромкое блеяние коз. Где-то
там, на востоке, — родной Карфаген. Осталась позади и
подвластная ему Утика, где был пополнен запас воды и
приняты на борт новые колонисты.
Много интересного узнал за эти дни Гискон! Он
заглянул в трюм, набитый до самого верха кожаными мешками
с вином и огромными, похожими на уличные тумбы
глиняными сосудами с золотым зерном и пахучим оливковым
маслом. Он наблюдал, как матросы крепят паруса и
спускают в воду тяжелый якорь. Он измерил шагами палубу,
сосчитал весла. Между носом и кормой по борту
умещается ровно двадцать три весла. Каждое из них раза в
четыре больше человеческого роста. Как справляются с ними
гребцы?
Однажды Гискон взобрался на мачту. Это было совсем
не легко. Мачта хотя и ниже финиковой пальмы, растущей
в родной деревне, но на ее тонкой раскачивающейся
верхушке кружится голова, и кажется — вот-вот упадешь.
А на палубе почти совсем не качает, и мальчик удивлен,
что мужчины, такие сильные и выносливые, осунулись,
побледнели и проклинают море, выматывающее душу.
Тяжелее всего приходится женщинам. Они сидят на корточках,
обхватив колени руками, и причитают. На их лицах ни
кровинки. "Что будет, когда начнется буря?" — говорят между
собой матросы.
У Гискона на корабле появились новые друзья. Только
на вид матросы суровы и неразговорчивы. Стоит узнать их
ближе, чтобы убедиться, что это славные и приветливые
люди. Сам кормчий Малх в свободные часы, положив на
колено мальчика покрытую шрамами, просмоленную ладонь,
не раз рассказывал ему о странах, в которых побывал, о
портах и гаванях, подводных скалах, облаках и ветрах.
Оказывается, каждый ветер, как человек, имеет свое имя.
Ветер, дующий с суши, у карфагенян называется Ливийцем.
47
ПУТЕШЕСТВИЯ ГАННОНА /
в V в. до н.э.
1-е плавание Ганнона
______ 2-е плавание Ганнона
3-е плавание Ганнона
Греки же зовут его Липсом. Он мягок и кроток, как
ягненок. А ветер, идущий из океана, именуется Гадирцем. Он
бывает свиреп, как голодная львица. Есть еще и холодный
Лигуриец, и изменчивый восточный ветер, прозванный Ха-
наанцем. Он дует из страны Ханаан — прародины
карфагенян.
Сколько удивительных вещей таит море, и как мало
знают о них люди! Неподалеку от Сицилии, рассказывал
мальчику Мидаклит, лежит островок с огнедышащими
горами. С кораблей кажется, что пламя там вырывается прямо
из воды. И зовут этот островок жилищем бога ветра Эола.
Однажды к острову Эола причалил корабль Одиссея,
который много лет не мог попасть на свой родной остров
Итака. Эол, сжалившись над Одиссеем, вручил ему мешок с
буйными ветрами, чтобы они не мешали ему вернуться на
родину. И вот наконец корабль Одиссея достиг Итаки, где
двадцать лет ждала своего супруга верная Пенелопа. Но
жадные до наживы спутники Одиссея развязали мешок
Эола, рассчитывая поживиться золотом. Буйные ветры со
свистом и ревом вырвались наружу, и корабль Одиссея
снова пригнало к острову Эола, но на этот раз бог ветров
не пожелал помочь Одиссею.
Слушая грека, Гискон вглядывался в блестящие,
словно облитые маслом волны. Столетия погони за добычей и
славой промелькнули, как тени в бронзовом зеркале, не
оставив и следа.
Много тайн хранится на самом дне моря, где в
хрустальном дворце живет длиннобородый бог Дагон, у
которого вместо ног хвост дельфина. Бог Дагон — греки
называют его Посейдоном — никогда не расстается со своим
трезубцем. Когда он им потрясает, во все стороны
расходятся волны, поднимается такая буря, что корабли
швыряет, как ореховые скорлупки.
С удивлением следит Гискон, как разбросанные чуть ли
не до самого горизонта корабли подчиняются воле Ганнона.
Видно, нелегко вести такую большую флотилию. Военные
корабли заплывают вперед, гаулы отстают. Ночью на реях
зажигаются фонари. Это Ганнон переговаривается с
кормчими всех судов. Днем фонари заменяются
разноцветными флажками. Сколько языков надо знать моряку? Язык
ветра и язык облаков, язык волн, язык фонарей и
флажков. Гискону хочется быть таким, как суффет, и он неволь-
50
но подражает ему во всем. Он уже научился ходить такой
же переваливающейся походкой, как Ганнон, закрывать от
солнца глаза ладонью. Боясь надоесть Ганнону и помешать
ему, мальчик держится в стороне от суффета, но издали
наблюдает за ним.
Вот сейчас Ганнон стоит на носу рядом с Малхом и
любовно похлопывает рукой по борту, ласкает корабль, как
живое существо:
— Какой красавец! А как слушается кормового весла!
Малх поворачивает к Ганнону свое загорелое лицо.
— Чудо, а не корабль! — восклицает он. — При
попутном ветре до Гадира за пять дней дойдем.
— Ну, это ты уж чересчур хватил, Малх, —
возражает Ганнон. — От Карфагена до Столбов не меньше семи
дней пути.
Малх хотел было ответить, но вдруг склонился над
бортом, вглядываясь в волны.
— Тунцы, тунцы! — закричал вдруг кормчий.
Все на палубе ринулись к борту, чтобы рассмотреть
удивительных рыб. Тунцы шли, как воины, по четыре в ряд,
строго держа равнение. Воистину это было прекрасное
зрелище!
Рыбы уже исчезли из виду, а Малх, окруженный
колонистами, рассказывал, возбужденно размахивая руками, о
ловле тунцов:
— Рыбаки всегда по двое выходят в море. Один
гребет, а другой держит трезубец. К нему привязана веревка.
Всадив трезубец в спину тунца, рыбаки преследуют его,
пока рыба не утомится.
— Вот как просто! — удивляется один из колонистов.
— На словах все просто, укачай тебя волны.
Попробуй попади в плывущую рыбину трезубцем — лодку
перевернешь.
К колонистам подходит Мидаклит:
— У берегов Эллады тунцов ловят в тенета.
— Вот куда они заходят!
— Они заплывают еще дальше, — поясняет грек, —
в холодные волны Понта Эвксинского1. Мне рассказывал
один моряк, что ему приходилось видеть тунцов в устье
Борисфена2.
1 Понт Эвксинский — Черное море.
2 Борисфен — древнее название Днепра.
51
Крик на корме прервал этот интересный разговор.
Оказалось, что один из землепашцев прыгнул в большой
медный бак с морской водой, чтобы освежиться, и наткнулся
там на что-то белое, скользкое и бесформенное. Под хохот
матросов голый землепашец выпрыгнул на палубу. Вот тогда
Гискон узнал, что скользкое морское животное
называется медузой, что оно не может причинить человеку вреда.
ЗЕМЛЯ ЛОТОФАГОВ
У берегов Ливии корабли бросили якоря. Пока
набирали воду, колонисты сошли на берег. Бородатые
мужчины радовались камешкам, похожим на те, какими усеяно
взморье близ Карфагена. Дети взапуски бегали по
травянистому лугу. Как ни радоваться тому, что под ногами
земля, а не это зыбкое море! Мидаклит и Гискон присели на
большой белый камень, омытый волнами. Положив руку на
плечо мальчика, Мидаклит продолжал свой рассказ об
отважном Одиссее. Ведь Одиссей побывал где-то здесь со
своими спутниками.
Мирных они лотофагов нашли здесь, и нашим посланцам
Зла лотофаги не сделали, их с дружелюбною лаской
Встретив, и лотоса дали отведать. Но только лишь
Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, родину он
Позабыл и утратил желанье вернуться...
Пока грек читал Гискону звучные строки Гомера, Ган-
нон шагал узкой тропинкой к видневшейся вдали роще. Там
его ждет Синта. Гискон уже успел предупредить ее.
На небе ни облачка. Дует легкий ветерок. Шелестят
высокие травы. В кустах щебечут, словно задыхаясь от какой-
то тревоги, невидимые глазу птицы. Тропинка изгибами
спускается к озеру. Его низкие берега заросли лотосом.
Цветы испускают сладостный, пряный запах. Над водой
носятся голубоватые мошки. Из-под ног с треском
вылетают кузнечики.
Ганнон наклонился и сорвал розоватый цветок. На
тонком прозрачном стебле выступили две крупные капли. Не
так ли сочилось кровью его сердце, когда от него оторвали
цветок его любви — Синту? Но чьи это легкие шаги?
Синта! Голос ее — как журчание воды для путника в пустыне.
52
— Я — как птица, вырвавшаяся на волю! Я могу
захлебнуться радостью в этом просторе! Я могу парить над
морем, где есть ты, и приникать к травам. Мне понятны
все голоса, все звуки, все мысли и все чувства, какие есть
на земле!
— О Синта! — шепчет Ганнон, гладя ее руку с
тонкими пальцами. — Ты любовь, дарующая забвение! Где ты,
там моя родина.
Наступил вечер. Полная луна медленно выплывала из-
за холмов. Казалось, лицо Владычицы Танит расплылось в
улыбке. Нет, она не гневается на них, презревших законы
жрецов. Ласково смотрит Танит на две фигуры,
слившиеся в поцелуе.
— Пора возвращаться, — говорит Ганнон. — Пока мы
еще не можем быть вместе.
Синта кивает головой. Да, она понимает. На корабле
жрец Стратон — он не должен знать, что она здесь,
иначе проклятье Магарбала настигнет их даже за Столбами
Мелькарта.
На палубе "Сына бури" Ганнон увидел Мидаклита. Грек
сидел на смотанных в круг канатах и усердно растирал что-
то в ладонях.
— Толченый лотос, — пояснил Мидаклит.
Ганнон взял щепотку лотоса с его ладони:
— Напоминает по вкусу финики.
— А какой запах! — восторгается грек.— Но это еще
не все. Я раздобыл амфору вина из лотоса. Отведав его, я
понял, почему, выпив сок лотоса, спутники Одиссея
забыли свою родину. Они были просто пьяны!
Взяв под руку Мидаклита, опьяненного то ли
лотосовым вином, то ли новизной всего виденного, Ганнон
направился к корме. Там собралось человек двадцать
колонистов. Они обступили Малха. Кормчий любил рассказывать
всяческие небылицы. Ганнон прислушался к ровному,
слегка глуховатому голосу старого моряка.
— На берегу нас окружили люди с языками до земли.
Они пили воду из ручья, не нагибаясь. Когда им было
холодно, они обматывали шею языками.
Колонисты подались вперед. Кто-то воскликнул:
— О боги!
В это мгновение Малх заметил приближающегося суф-
фета и умолк. Ганнон воспользовался этой паузой.
54
— В той же стране, — начал Ганнон, стараясь
подражать тону Малха, — жили люди с ушами большими и
хрупкими, как капустные листья.
Колонисты насторожились.
— Такие уши у них выросли потому, — продолжал
Ганнон, — что они верили басням наподобие той, которую
только что рассказал вам Малх.
Колонисты дружно расхохотались. Малх смущенно
потирал затылок.
— Ты не обижайся, Малх, — обратился Ганнон к
старому моряку, когда они остались одни. — Землепашцы и
так легковерны, а тут еще ты со своими баснями.
Прибереги их для другого случая.
— Я понял тебя, — отозвался старый моряк. — Я буду
лучше рассказывать их чужеземным купцам. Пусть они,
укачай их волны, боятся даже близко подойти к Столбам
Мелькарта.
Палуба опустела. Ганнон прислонился к перилам,
прислушиваясь к плеску волн, скрипу мачт и балок. Корабль
выходил в открытое море.
СТОЛБЫ МЕЛЬКАРТА
Три дня и две ночи флотилия плыла на закат. Берег
изредка оживлялся хижинами, сбившимися к воде подобно
стаду овец. То и дело попадались рыбачьи лодки, тянувшие
за собой паутину сетей. На лодках были прямые паруса,
напоминающие большие циновки. Даже Малх и тот был
удивлен.
— Каких только я не видел парусов, — бормотал
моряк, — из льна, из кожи, а вот таких еще не встречал.
Приложив ребра ладоней к губам, рыбаки кричали
карфагенянам:
— Доброго ветра!
— Хорошего улова, камышовые паруса! — отвечали им
дружно карфагеняне.
Море было синее и спокойное. Казалось, оно хотело
обнять и приласкать на прощание своих сыновей,
выходивших в океан.
К вечеру с правого борта показалась желтая скала с
раздвоенной, как змеиный язык, вершиной. За ней встали,
55
словно тени, лиловые вершины далеких гор. Слева
выплыл берег, покрытый лесом.
— Вот они, Столбы Мелькарта! — торжественно
произнес Мидаклит.
— Где же они? Я не вижу никаких Столбов! —
волновался Гискон.
Грек расправил бороду. Ему доставляло удовольствие
отвечать на вопросы мальчика.
— Лежащая под небесным сводом земля, — начал
он,— делится на три части1. Одна из них называется Азией,
другая — Ливией, а третья — Европой. Европа
отделяется от Ливии Внутренним морем. Оно так широко, что его
не пересечешь за три дня и три ночи. И только здесь, —
грек протянул вперед свою ладонь, — можно увидеть
одновременно Европу и Ливию. Только здесь! Вот он, узкий
пролив, разделяющий два материка, вот они, ворота,
соединяющие Внутреннее море с океаном. Давным-давно, когда
твои предки финикияне еще не отваживались выйти в
океан, они верили, что сразу за этими как бы встающими из
волн скалами начинается царство смерти и мрака. И до сих
пор эта земля, — Мидаклит указал вправо, —
называется Запаном, страной мрака2. Твои предки думали, что сюда,
завершая свой дневной путь, спускается бог лучезарного
солнца Мелькарт, чтобы утром выйти из других ворот,
находящихся где-то на востоке, за Индией. Поэтому и теперь
зовут эти скалы Столбами Мелькарта. Потом, когда
страсть к наживе повела финикиян в океан и на его
берегах были основаны первые колонии, моряки отодвинули
Столбы дальше на закат. Столбами стал называться
пролив, отделяющий остров, где теперь находится город Га-
дир, от страны Запан.
— Так, значит, нет никаких Столбов? — разочарованно
промолвил Гискон.
— Нет, — задумчиво ответил грек.
И, словно отвечая на какой-то другой, давно уже
волновавший его вопрос, он продолжал:
— Так же, как нет пределов для человеческих
дерзаний. Человек всегда создает воображаемые Столбы,
очерчивая ими границы своего знания. Когда его мысль пере-
1 Древние не знали о существовании Америки и Австралии.
2 От финикийского слова "Запан" происходит современное название
"Испания".
56
ходит за эти границы, он отодвигает их дальше и дальше.
И так без конца.
— И мы тоже передвинем Столбы?
— Ты понял меня, мой мальчик! — удивленно
воскликнул грек. — Может быть, это сделаем и мы, когда
откроем людям то, что им пока еще неведомо.
Корабль начало сильно качать. Рабы гребли изо всех
сил, но "Сын бури" словно застыл на месте. Казалось,
океан, ревниво оберегая свои тайны, не хотел никого
пускать в свои владения.
Взяв щепку, Ганнон бросил ее за борт. Волны
подхватили, завертели ее, и через мгновение она скрылась за
кормой.
— Какое сильное течение! — обратился Ганнон к
учителю.
— А знаешь, почему? — отозвался Мидаклит. —
Океан вливает свои воды во Внутреннее море через этот
пролив.
— Да! — согласился Ганнон. — Я слышал, что
корабли простаивали перед Столбами неделями и подчас ни с
чем возвращались в свои порты.
Край неба розовел. По небу плыли острые, как копья,
облака. Это была верная для моряков примета.
— Ветер усиливается! — весело воскликнул Ганнон. —
К утру мы выйдем в океан. Эй, на корме! Прибавить
паруса! — приказал он.
В ответ послышался топот босых ног, хлопанье
натягиваемой парусины.
Стемнело. На небе загорелись звезды. За кормой
виднелись темные силуэты с горящими огоньками. Огоньки
вздрагивали, мигали. Казалось, это были не фонари на реях,
а одноглазые чудовища, ведущие между собой непонятный
разговор.
Ганнон долго не мог уснуть. Тревожные мысли
обступили его. Они выходят в океан, в новый, неведомый мир.
Что ждет их впереди? Буря может рассеять его корабли,
как овец, у которых нет пастыря. А если ему и удастся
высадиться на западном берегу Ливии и найти
плодородные земли, сумеет ли он защитить поселенцев от ярости
тех, кому принадлежат эти земли? Сумеет ли он
оправдать надежды многих тысяч людей, покинувших родину?
Наступило утро. Из моря показался раскаленный сол-
57
нечный диск. Еще не рассеялся туман, паруса были
покрыты влагой. Ганнон провел рукой по лицу, словно стирая
остатки сна и ночных сомнений.
Палубы заполнились людьми. Они упали на колени,
обратив просветленные лица на восток, туда, где лежала
покинутая родина и молитвенно сложили руки. Люди пели.
Торжественные звуки гимна солнцу разносились над
широким простором моря, сливаясь с плеском волн:
Слава тебе, о Мелькарт, владыка,
Вышедший из царства ночи.
Слава тебе, господин всевышний,
Вечно сияющий, вечно юный.
Дай нам очей твоих ясных ласку,
Дай добротой твоей насладиться!
Веселый солнечный диск, брызжущий ослепительными
лучами, вдохнул надежду в людские сердца. Все дурное и
тяжелое осталось позади. Солнце поднялось из вод, чтобы
осветить им дорогу.
Еще долго колонисты и матросы стояли на коленях,
славя владыку Мелькарта:
Слава тебе, о Мелькарт!..
ГАДИР
Миновав Столбы Мелькарта, корабли пошли вдоль
гористого берега страны Запан. Берег, изгибающийся к
северу, был пустынным и неприветливым. Лишь изредка
виднелись стада овец и псы свирепого вида. Суда шли так
близко от берега, что нетрудно было различить лай собак.
К полудню показался глубоко вдающийся в море мыс.
Вблизи оказалось, что это два острова, отделенных друг от
друга и от материка неширокими проливами. На одном из
них уже можно различить силуэты строений и серебряный
купол храма. Это Гадир, древнейшая финикийская колония.
Почти семьсот лет назад по воле оракула жители
славного города Тира снарядили корабль и отправили его за
Мелькартовы Столбы. Дважды они приставали к
побережью страны Запан и бросали жребий. Дважды знамения
были неблагоприятны. Лишь на третий раз, когда тиряне
причалили к этому острову, выпал удачный жребий. И здесь
58
был заложен город. Это было за триста лет до появления
Карфагена. Молодому городу пришлось выдержать упорную
борьбу с могущественным Тартессом1, основанным в
незапамятные времена иберийцами, жителями страны Запан.
И в этой борьбе Гадир одержал победу. Вскоре Тартесс
был уничтожен страшным землетрясением, и на западе у
Гадира уже не было соперников. Опасность ему угрожала
только с востока, со стороны Карфагена. Не в силах
противостоять Карфагену, Гадир вынужден был ему
подчиниться. Это было лет сорок назад. С той поры карфагенские
купцы завладели богатой торговлей Гадира. Ни один
греческий, этрусский или какой-либо другой корабль не мог быть
принят в гавани Гадира. Олово, янтарь, серебро, медь —
все это досталось Карфагену. Но гадирцы сохранили
самоуправление городом. Во главе Гадира стоял выборный суф-
фет, правивший в согласии с богатыми мужами города.
Все это хорошо известно Мидаклиту. Но о Гадире
существует так много легенд, столько выдумок об
опасностях, подстерегающих на каждом шагу путешественников,
пожелавших увидеть город, что очень заманчиво взглянуть
на него своими глазами. Вот почему с таким
любопытством смотрит Мидаклит на стены Гадира, Может быть, ему
удастся отделить правду от лжи, как ветер отделяет зерно
от плевел.
В руках у грека — прямоугольная медная доска. На ее
блестящей поверхности — какие-то узоры, напоминающие
причудливую вышивку.
— Что это? — спрашивает Гискон.
— "Рисунок земли". Вот эта линия обозначает берег.
Видишь, как сходятся две черты, оставляя узкий проход?
Это и есть Столбы Мелькарта. А за ними — океан. Такие
"рисунки земли" впервые появились у вавилонян и
египтян. Делали они их на глине и папирусе. Очертания
берегов на медь перенесли твои предки — финикияне. Никто
из смертных не заплывал дальше них. Лишь восемьдесят
лет назад "рисунок земли" появился у моих
соотечественников. Почти сто лет назад его дерзнул начертить мой
земляк Анаксимандр. Другой мой соотечественник, Гекатей,
прозванный Многостранствующим, исправил и дополнил
1 Тартесс — главный город древнейшего государства в южной
Испании. Славился своими серебряными рудниками.
59
"рисунок земли", принадлежавший Анаксимандру. А я
хочу продолжить работу Гекатея. Ему ведь не пришлось
здесь побывать. Он даже не знал, что Гадир находится на
островке.
— А кому нужны эти "рисунки земли"? — прервал
грека Гискон.
— Морякам — чтобы они знали, куда плыть, купцам —
чтобы они могли найти дорогу в другие страны, путнику —
чтобы он не заблудился.
Корабли медленно сворачивали в узкий пролив между
островами. На глаз он шириной в пятьсот локтей1. Рой
лодок и барок высыпал им навстречу. На барках
покрупнее нос был украшен изображением лошадиной морды.
Набережные полны людей. Мелькают темно-бронзовые
лица, сверкающие белизной одежды. Никогда еще на
памяти гадирцев в порт не заходил такой большой флот.
К тому же его возглавляет сам суффет Карфагена.
Большой флаг республики, синий, с двумя пурпурными
полосами, гордо реет на носу идущего впереди корабля.
— Мир вам! — кричат гадирцы, а карфагеняне
приветственно машут им в ответ.
Один за другим корабли пристают к изогнутому, как
олений рог, каменному молу. Матросы ловко бросают
причальные канаты на позеленевшие деревянные сваи. Гремят
цепи. С плеском падают на воду якоря.
Когда были убраны паруса, сброшены и укреплены
сходни, моряки и колонисты сошли на берег и вскоре заполнили
почти всю набережную. Многие, упав на колени,
возносили хвалу богам.
Карфагенян окружила толпа. Их засыпали вопросами
0 Карфагене, о людях, которых никто не знал и не помнил.
Вскоре колонисты с наслаждением бродили по узким
улочкам. И всюду за ними шли говорливые, веселые
гадирцы.
Остров, в западной части которого расположен Гадир,
невелик. Дома тесно примыкают друг к другу • Низкие
двери и узкие стрельчатые окна выходят на улицу. Такие окна
называют египетскими. Плоские кровли полны любопытных.
Женщины в белых туниках с золотыми кольцами на
смуглых руках улыбаются и бросают карфагенянам цветы.
1 Локоть — мера длины у древних народов (менее метра).
60
Ганнон поймал розу и укрепил ее в складках одежды.
Гул приветствий вспыхнул с новой силой.
Ганнон в сопровождении кормчих направлялся к суф-
фету Гадира. Впереди шагал Гискон. Ему поручено было
нести жезл суффета Карфагена. Мальчик горд этим
поручением и с радостью ловит любопытные взгляды гадирцев,
обращенные на него.
От встречи с суффетом Гадира Ганнон ждет многого.
Ему нужно пополнить запасы провизии, починить корабли,
закупить товары для торговли с чернокожими туземцами
тех земель, куда лежит их путь. Во всем этом должен
помочь суффет.
У двухэтажного дома, к которому примыкал большой
фруктовый сад, стояли стражи. Увидев Ганнона и его
свиту, они вытянули вперед правую руку со щитом. Щиты
образовали ровную блестящую линию.
В дверях показался небольшого роста пожилой человек
с острой седоватой бородкой. Его карие глаза смотрели умно
и благожелательно. Это суффет Гадира — Хирам
Гискон, как ему было сказано, протянул суффету жезл,
после чего карфагенян пригласили в дом.
61
Хирам заключил Ганнона в дружеские объятия:
— Я помню твоего дядю Гимилькона. Он
останавливался у меня на пути к Эстременидам1.
Суффет пригласил гостей к столу. Ганнона усадили на
почетное сиденье с деревянной резной спинкой и
мраморными подлокотниками.
За длинным столом, уставленным серебряными
подносами с дичью, высокими амфорами из красноватой сагун-
тийской глины, беседа затянулась до огней.
Отпивая небольшими глотками терпкое вино, Ганнон
рассказывал суффету о своих планах. Хирам слушал с
выражением сочувствия и интереса. Когда Ганнон закончил
свой рассказ, Хирам заговорил:
— Мой город отделен от Карфагена многими днями
пути, но я знал о твоих неудачах и успехах и мысленно
был на твоей стороне. Ты задумал дело, достойное наших
предков. Я горжусь тем, что Гадир лежит на твоем пути.
Речь зашла о стране Запан. Хозяин дома восторженно
поведал о ее богатствах.
— Чего только здесь нет! Река Таг несет в своих
водах золото. Его добывают, промывая песок. В горах близ
реки Бетис2 много серебра. Там поят скот из серебряных
пифосов. Близ Сагунта копают легкую глину. Из нее
делают кирпичи, плавающие в воде. В горах на севере и на
юге — прекрасные пастбища. Даже в Италии нет такого
тучного скота, как у нас. Сеоими плодами, зерном, мясом
страна Запан может прокормить всех голодных людей
Карфагена. Однако хорошо, что вы хотите основать колонии
на побережье Ливии, а не здесь, — закончил свой рассказ
суффет.
— Почему? — удивился Малх.
— Туземцы свободолюбивы и воинственны. Они бы
уничтожили и Гадир, если бы имели корабли. Они не
пустят вас на свои земли. Их легче истребить, чем поработить.
Попадая в плен, они убивают себя сами.
— Я знал об этом, — сказал Ганнон, — поэтому и
решил вывести колонии на берег Ливии. Там, за
финикийским городом Ликсом, как я слышал, лежат свободные
1 Эстремениды — очевидно, полуостров Бретань.
2 Река Бетис — теперь река Гвадалквивир.
62
земли. Я надеюсь, что ликситы будут ко мне так же
благосклонны, как и ты.
— В этом я не сомневаюсь, — заверил Хирам, — но
советую, минуя Лике, сразу направиться к большой
равнине близ мыса Солнца и высадить там первых
колонистов. Оттуда плыви на север, к Ликсу, основывая на пути
города.
Это был весьма разумный совет. Он давал возможность
выиграть время и отправить освободившиеся корабли
обратно в Карфаген.
"Это мне позволит, — размышлял Ганнон, — на
одном—двух кораблях, не рискуя всем флотом, направиться
на юг".
— Но хватит ли нам наших запасов, если мы не
будем заходить в Лике? — спросил Ганнон суффета Гадира.
— Я прикажу заколоть для тебя и людей твоих скота
столько, сколько тебе потребуется. Я дам тебе живых овец
столько, сколько сможешь ты увезти.
Ганнон крепко обнял Хирама.
Суффет провожал гостей до самой гавани. Город,
освещенный луной, лежал как чеканное серебряное блюдо. На
белые дома ложились темно-синие тени. Все вокруг точно
вымерло. Двери заперты. На улицах ни души. Только на
перекрестке им встретилась тележка, нагруженная
кирпичом. Ее толкали полуголые рабы. Невольники
остановились и прижались к стене, чтобы дать пройти суффету и
его гостям.
Неподалеку от гавани Хирам подвел карфагенян к
квадратному деревянному срубу. Наклонившись над ним,
моряки смотрели в глубину колодца, где в черной как деготь
воде плавал серебристый ломоть месяца.
— Как ты думаешь, — обратился Хирам к Малху, —
сейчас прилив или отлив?
— Надо побывать на берегу, — отвечал старый моряк.
Хирам рассмеялся:
— Ты думаешь?
Наклонившись над колодцем суффет сказал:
— Сейчас прилив.
Прощаясь, Хирам поведал гостям, что во время
прилива вода в колодце убывает, а во время отлива прибывает.
Ганнон пожалел, что Мидаклит остался на корабле. Его бы,
наверное, заинтересовал этот колодец.
63
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Бог Мелькарт уже облачился в свои пурпурные
одежды и показался на горизонте во всем своем царственном
блеске. Захватив плащ, Ганнон вышел на палубу.
Матросы и колонисты спали в самых разнообразных позах,
обвеваемые нежным дыханием утреннего ветерка. Малх
сидел у будки кормчего, поклевывая носом. Услышав шаги,
он встрепенулся и приветствовал суффета. Ганнон
разбудил Мидаклита и сладко дремавшего рядом с ним Гиско-
на.
— Друзья, пойдемте осмотрим город! — предложил он.
— А что там смотреть? — возразил Малх, накидывая
плащ на свои загорелые плечи. — Гавань и отсюда видна,
а улицы — что в них толку!
— В чужом городе, — заметил Мидаклит, — путник
должен побывать в двух местах: на базаре и кладбище.
Базар — это живое лицо города, а в жилище мертвых можно
узнать его прошлое.
— Тогда на базар! — торопил Ганнон друзей. —
Оставим в покое мертвых.
У базарной площади воздух как будто стал гуще и
тяжелее. Тысячи разнообразных запахов поднимались над
землей и медленно расплывались вокруг. Аромат ливийских
смол перемешивался со сладковатыми испарениями
гниющих отбросов, благоухание пряностей не могло побороть
чад переносных жаровен с кипящим маслом. Вся эта
густая смесь колыхалась над огромной площадью,
переполненной людьми, разными по языку и цвету кожи.
На первый взгляд могло показаться, что все эти люди
топчутся на одном месте исполняя какой-то диковинный
танец. Крики торговцев, зазывающих покупателей, мычание,
ржание, блеяние, рев, скрип, свист бичей, стоны — все это
было шумной музыкой, которая сопровождала эту пляску.
Прямо на земле рядами стояли пестро раскрашенные
деревянные чаши. С возков на колесах без спиц торговали
фруктами. Какие-то низкорослые смуглые люди в
широкополых соломенных шляпах продавали бесхвостых
коренастых обезьянок с толстыми и короткими лапами. С
любопытством наблюдал Гискон за ужимками забавных
зверьков. Был поражен их удивительным сходством с человеком
64
и Мидаклит. Ладони обезьян розовые, как у младенцев, а
мордочки изборождены морщинами, как у дряхлых старцев.
А как подвижны и выразительны обезьяньи физиономии!
— А это что такое? — спрашивает Гискон, опускаясь
на корточки перед клеткой с рыжим зверьком.
У зверька длинное гибкое тело и короткая шея с
узкой головкой.
— Это египетский зверек1, — произносит Мидаклит
неуверенно.
— Вот ты и ошибся, чужеземец, — молвил торговец
раздраженно (ему было досадно, что его животное
приняли за какую-то кошку). — Перед тобой иберийский
хорек — гроза мышей и кроликов, страж наших посевов!
— Ас крысами он справится? — вступает в разговор
Ганнон.
— Еще бы! Он прекрасный крысолов.
— Тогда отнеси его ко мне на корабль.
У вороха шкур стояли смуглые люди с кривыми
мечами на поясе. Ганнон узнал их — это иберы. По
враждебно-надменному выражению их лиц было ясно, что они
питают ненависть к этому чужому городу, присосавшемуся
к их земле, как ракушка к корабельному борту. По
туникам с широкой каймой карфагеняне узнали балеарцев.
Рыбаки с островов Метателей Камней торговали рыбой.
Возле помоста, где продавали рабов, было довольно
людно. В стороне кучкой держались мрачные атаранты2 в
длинных черных плащах, подпоясанных на груди. Черные
повязки закрывали нижнюю часть лица, оставляя открытыми лоб
и глаза, сверкавшие недобрым блеском. Об атарантах шли
самые зловещие слухи. Всякий, кто пытался проникнуть в
их оазис в глубь Ливийской пустыни, не возвращался назад.
Атаранты покупали на невольничьих рынках только девушек
не старше шестнадцати лет. Сейчас рядом с ними стояло
несколько несчастных в лохмотьях, со связанными руками.
Ганнон перевел взгляд на помост. На шеях
обнаженных эфиопов резко выделялись белые таблички3. Рыжево-
1 Греки узнали о кошке лишь в V веке до н. э. от египтян, у которых
она считалась священным животным. Поэтому у греков кошка
называлась "египетским зверьком".
2 Атаранты — народность, заселявшая в древности пустынную
внутреннюю часть Африки.
3 В Гадире, так же как в Карфагене, работорговец был обязан
сообщать о возрасте и характере продаваемого невольника.
65
3 532
лосые люди, голые по пояс, были связаны цепью по двое,
по трое. Взгляд Ганнона задержался на изможденном
человеке, сидевшем на краю помоста. Голова его была
бессильно запрокинута, черная лопатообразная борода
торчала кверху, под нею временами судорожно двигался острый
кадык.
За бородачом стоял тучный человек в лохмотьях, едва
прикрывавших его наготу. Волосы у него были коротко
подстрижены, как у всех невольников. Он смотрел куда-то
вдаль поверх голов.
"Мастарна и Саул! Вот где привелось мне с вами
встретиться, — подумал Ганнон. — И теперь вы нуждаетесь в
моей помощи не меньше, чем я нуждался в вашей!"
Сделав знак своим спутникам, чтобы они его обождали,
Ганнон протиснулся сквозь толпу покупателей и зевак,
приблизился к помосту и тихо позвал:
— Саул!
Толстяк вздрогнул, повел глазами и удивленно,
по-детски открыл большой рот.
— Саул! — еще раз позвал Ганнон.
Толстяк нагнул голову. Взгляд его встретился со
взглядом Ганнона. Всем телом он рванулся вперед. Но Ганнон
приложил палец к губам.
Обогнув помост, Ганнон поднялся по его ступенькам и
равнодушно, как это делал любой опытный покупатель, стал
осматривать невольников.
Работорговец, остроносый человек с неприятными
бегающими глазками, почтительно следовал за Ганноном,
узнав в нем суффета Карфагена.
— Тебе нужны гребцы, суффет? Возьми эфиопов! Они
выносливы и неприхотливы.
— Эфиопы ленивы и не боятся плети, — бросил
Ганнон.
— Тогда купи галлов! Смотри, какая у них нежная
кожа. А мышцы, как медь.
— Галлы любят вино и не выносят качки. Они
запакостят мне палубу... А это кто? — Ганнон ткнул пальцем
в Саула.
— Иудей Саул, но я бы назвал его Самсоном1.
1 Самсон — легендарный иудейский герой, которому приписывалась
сверхъестественная физическая сила. Эта сила заключалась в семи
прядях его волос. Когда у него их остригли во время сна, он попал в плен.
66
Ганнон улыбнулся:
— Почему же он у тебя без волос?
— Боюсь, что он перевернет весь мой помост! —
отозвался гадирец.
Работорговец назначил цену за Саула. Мастарну он
отдавал в придачу.
Расплатившись с работорговцем, Ганнон прикрикнул на
толстяка:
— Ну ты, акулий корм, пошевеливайся!
Толстяк взвалил на себя бородача и двинулся вслед за
Ганноном. Когда они отошли достаточно далеко от
помоста, Мастарна вдруг пришел в себя и спрыгнул на землю.
Ганнон был поражен.
Упав на колени, этруск поднял к небу руки со
стиснутыми кулаками. Из уст его вырвались какие-то непонятные
отрывистые слова. Ганнон решил было, что этруск
благодарит своих богов за спасение, но в его голосе звучала
такая злоба, что скорее можно было подумать, что он
проклинает их. Несколько раз Мастарна повторял непонятное
слово:
— Тухалка!
Наконец, поднявшись с земли, этруск подошел к Ган-
нону и молча поклонился ему.
— Лопни мои глаза, — толстяк подмигнул Ганнону, —
ты подоспел вовремя! Еще немного — и мы протянули бы
ноги от голода.
Ганнон понял намек:
— Идем в таверну!
Мидаклит и Малх тоже обрадовались этому
приглашению. Они устали от сутолоки базара. Кроме того, им не
терпелось выведать, что это за люди, которых Ганнон
выкупил из рабства.
В ТАВЕРНЕ
В таверне, носившей странное название "Морской
петух", пахло дымом очага и соусом. На длинных дубовых
скамьях сидели подвыпившие моряки. Один из них спал,
положив голову на припертый к стене стол. Посередине
таверны на земляном полу кружилась молодая женщина в
короткой красной тунике. Звенели цепочки на ее босых за-
67
горелых ногах. В пляске ее были быстрота и
стремительность ветра, который обрушивается на страну Запан с
высоких северных гор, жар солнца, освещающего ее зеленые
виноградники и тусклые оливковые рощи, богатырская сила
прибоя, бьющего о черные скалы.
Ганнон и его друзья заняли места поближе к хозяину
"Морского петуха", горбуну с серьгой в правом ухе.
Хозяин не замедлил расставить перед новыми посетителями
амфоры с вином и плоские чаши с мясом и овощами.
— У тебя не массилийское ли вино, хозяин? —
спросил Саул, поднося к губам фиал.
— Нет, гадирское, — отвечал горбун удивленно.
— Тогда я его пью. — Иудей мгновенно осушил кубок.
Мастарна хрипло рассмеялся:
— Ты думаешь свалить вину на вино!
Повернувшись к Ганнону, этруск рассказал:
— Плыли мы близ берегов Массилии1. Захватили
купца под парусами. В трюме у него мы нашли отличное
массилийское вино, не хуже, чем это. Мои молодцы к нему
присосались, а он, — Мастарна кивнул на Саула, —
первый. Когда нас настигли массилиоты, вся команда лежала
на палубе как мертвая. Один удар тараном — и прощай
наша "Мурена"! Мы, как лягушки, барахтались в
холодной воде, пока нас не втащили на борт.
— А как же вы попали в Гадир?
— В Массилии нас купил этот шакал гадирец и
привез сюда. В Гадире рабы стоят дороже.
— Он угощал нас одними плетьми! — добавил
Саул. — Порази его бог в пятое ребро!
— А как попал в Гадир ты? — обратился этруск к
Ганнону.
— Я здесь не один. Со мной флот с карфагенскими
переселенцами. Хочу основать колонии к югу от Ликса.
Мастарна улыбнулся:
— Помнишь наш разговор?
— Помню, — кивнул дружелюбно Ганнон. — Ты был
прав. Чтобы удержать сицилийский щит, нам нужны
крепкие воины, а не хилые, истощенные от голода бедняки. Нам
1 Массилия — греческая колония на южном побережье Галлии
(современная Франция). Основана выходцами из города Фокеи в 600 году
до н. э. Жители этой колонии, массилиоты, принимали деятельное
участие в торговле с Карфагеном.
68
необходимы золото и слоновая кость, чернокожие
невольники и железное дерево. И все это мы возьмем здесь, по
эту сторону Столбов. И после этого мы поставим врагов
наших на колени, — закончил Ганнон жестко.
— Клянусь морем, — воскликнул этруск, распрямляя
плечи, — если бы я не был Мастарной, сыном Тархны, то
хотел бы поплавать под твоим флагом!
При имени "Мастарна" Малх удивленно повернул
голову. Грек застыл с куском лепешки во рту. Неужели перед
ними тот самый Мастарна, неуловимый пират, гроза морей?
Тот самый Мастарна, чей отец был последним царем Рима?
Римляне его называли Тарквинием Надменным. Но откуда
они знают друг друга, Ганнон и Мастарна?
— Там, где поместилось много тысяч, найдется
местечко и еще для двух, — сказал Ганнон. — Едем с нами!
Мастарна переглянулся с иудеем.
— Я не люблю есть хлеб даром! — заявил он.
— А какое занятие тебе по душе? — вмешался Малх.
— На корабле я могу быть кормчим. Но если место
кормчего занято, то, может быть, у тебя найдется
свободная плеть? У меня тяжелая рука, и гребцы у меня не
будут лениться.
— Лопни мои глаза, — воскликнул иудей, поднимая
кулак, — рука у меня не легче твоей, и я поплыву хоть в
царство теней, если на корабле найдется доброе вино!
Но вот выпито и съедено все, что можно только съесть
и выпить. Отяжелев, люди с трудом оторвались от стола,
уставленного пустой посудой. Ганнон бросил горбуну
несколько монет и, подойдя к двери, толкнул ее ногой.
После чада таверны на улице показалось особенно
свежо. Пахло морем, тем особым острым запахом, который
опьяняет сильнее вина. Мидаклит, наклонившись,
поправлял завязки сандалий. Малх, опираясь на плечо Гискона,
рассказывал ему что-то, и мальчик заразительно смеялся.
Пираты стояли, прислонившись к стене. Ноздри
крючковатого носа Мастарны раздувались, и этруск стал
удивительно похож на ястреба.
— Малх! — обратился Ганнон к старому моряку. —
Ты отведешь моих друзей на корабль. Мы осмотрим храм
и вернемся. И ты, Гискон, — добавил он, — иди тоже с
ними. Тебе хотелось побывать у своей сестры.
69
Мальчик понял: Ганнон посылает его к Синте.
Пираты, пошатываясь, пошли за Малхом. Когда они
были у поворота, Ганнон уловил звуки песни. Ее пел Саул
на своем языке, но он был так близок к финикийскому, что
Ганнон без труда разобрал:
Мы вечные странники моря,
Нас кормит и поит оно.
Сулит нам и радость и горе,
Дарует и хлеб и вино...
— Откуда ты знаешь этих людей? — спросил грек,
когда звуки песни утонули вдали.
— Я обязан им жизнью, — отвечал Ганнон. — Они
подобрали меня в море близ Гимеры и без выкупа доставили
в Карфаген.
— Да, они поступили благородно, — согласился грек, —
но все же они мне не по душе. Посмотри в глаза этому тир-
сену1 и сразу поймешь правильность поговорки: "Глаза —
окна души". Душа у него черная и жестокая.
Ганнон недоуменно пожал плечами.
— Впрочем, — добавил грек, — твой спаситель,
наверное, не более жесток, чем его соотечественники. Я
слышал, что тирсены под звуки флейт засекают до смерти
своих рабынь, что они заставляют юношей-пленников
убивать друг друга на похоронах своих лукомонов2.
— Ты несправедлив, учитель, — возразил Ганнон. —
Этруски не более жестоки, чем другие народы. Они ведь
не приносят в жертву младенцев, как это делают наши
жрецы. Не потому ли вы, греки, так невзлюбили этрусков,
что они стали на вашем пути к океану, что они разоряют
ваши колонии, нападают на ваши корабли?
Мидаклит усмехнулся:
— Да, тирсены сильный народ, они заслужили славу
безжалостных пиратов. Но их владычеству приходит конец.
Только гибель им принесут не греки.
— А кто же? — спросил Ганнон.
— Римляне, — сказал уверенно Мидаклит. — Уже
тридцать лет, как они изгнали тирсенских правителей и
1 Тирсенами греки называли этрусков.
2 Лукомон — этрусский аристократ. На похоронах лукомонов
устраивались кровавые сражения рабов. Отсюда ведет начало обычай
гладиаторских боев в Риме.
70
установили у себя республику. Сколько ни бьются тирсе-
ны, им до сих пор не удалось вернуть свое господство.
Тем временем друзья вышли на узкую улицу,
застроенную низкими, покосившимися домами. Ветер окреп и гнал
по улице сучья. За поворотом во всю ширь неба
красовался серебряный купол храма.
В ХРАМЕ МЕЛЬКАРТА
Храм Мелькарта находился в восточной части острова,
на скале, круто обрывающейся к морю. В этом месте
остров наиболее приближался к материку, образуя пролив
шириной в один стадий1.
Еще в Карфагене Ганнон слышал о древнем храме Мель-
карта, о странных обычаях, свято соблюдаемых его
почитателями. Верховным жрецом этого храма всегда был суффет
города. Все жрецы храма не имели права вступать в брак.
Ни одна женщина не могла переступить порог этого
святилища. Ганнон задумался: "Значит, здесь никому не грозит
участь Синты".
Большие надежды на посещение храма возлагал Мидак-
лит. "Если Солон узнал об Атлантиде от жрецов Саиса, так
далеко расположенного от Столбов, то почему бы мне не
узнать о ней в храме Мелькарта, находящегося почти
рядом с Атлантидой?"
Храм был сложен из огромных квадратных камней. Его
гладкие стены составляли как бы продолжение скалы, на
которой он высился, а купол, освещенный лучами
вечернего солнца, делал храм похожим на огромную рыбу,
высунувшую голову из моря.
Омыв руки в большом медном тазу и сняв сандалии,
Ганнон и Мидаклит переступили порог святилища. В
притворе2 они увидели Хирама. Суффет возвращался после
дневной молитвы. Он был в одежде жреца храма
Мелькарта — в длинной льняной тунике без пояса, отделанной
широкой красной каймой. Его тщательно расчесанная
бородка благоухала розовым маслом. Во всем его облике было
1 Стадий — мера длины, впервые введенная на Востоке (в древнем
Вавилоне), а затем принятая греками. Длина стадия в переводе на
метры колебалась у разных народов от 194 до 230 метров.
2 Притвор — помещение в храме перед залом для молящихся.
71
такое радушие, что лица карфагенян сами расплылись в
ответных улыбках.
— Буду рад тебя сопровождать! — сказал Хирам Ган-
нону, когда тот поведал ему о целях посещения храма. —
В доме бога есть немало поучительного.
Карфагеняне вступили в высокий зал с потолком
овальной формы. Прямо против двери стояла статуя Мелькарта
с луком в руках и колчаном со стрелами на боку. Стрелы
были сделаны из серебра и напоминали пучок солнечных
лучей. За статуей возвышались две медные колонны
локтей в восемь высоты. Они были испещрены письменами.
Ганнон, Мидаклит и Хирам остановились около одной
из колонн.
— Здесь написано по-финикийски! — воскликнул
Мидаклит.
Всматриваясь в полустершиеся письмена, Ганнон
прочел:
— "Мы, купцы города Тира, на десятый год
правления царя Керета снарядили корабли и доставили богу
нашему Мелькарту триста кедровых стволов с гор Ливана,
десять талантов меди из Кипра, два таланта египетского
золота".
— И это все?.. — разочарованно протянул грек.
— А что бы тебе хотелось услышать еще, чужеземец? —
произнес обиженно Хирам. — Эти колонны — свидетели
древности нашего города, они повествуют о благочестивом
даре его основателей, отважных купцов Тира.
— Я хотел бы узнать что-либо об Атлантиде,
огромном острове, что лежит где-то к югу от страны Запан.
— Южнее здесь нет ни одного большого острова, —
возразил Хирам. — Большие острова находятся севернее
Гадира.
— Сейчас нет, но он существовал. Об этом узнал
афинянин Солон от египетских жрецов. Я думал, что об этом
известно и жрецам Гадира.
— Нет, — сказал Хирам. — Об Атлантиде не слышали
ни жрецы, ни кто-либо другой в Гадире. Да и не мог бы
такой большой остров исчезнуть бесследно.
— Хирам прав, — заметил Ганнон. — К югу от
страны Запан нет никаких островов.
— Это еще неизвестно, — возразил Мидаклит. —
В этих водах мало кто плавал.
72
В ПУТЬ
Как всегда перед поднятием якорей в гавани царила
суматоха. Раздавался стук, свист, скрип, крики. По сходням
к гаулам, уже стоящим под парусами, спешили рабы с
кожаными мешками на голых загорелых плечах. Стражи
пронесли блестящий серебряный якорь — подарок Хирама.
Матросы натягивали вдоль перил кожи для защиты от волн,
привязывали купленные в Гадире лодки.
Колонисты сидели у гаулы, вытащенной кормой на
берег. Судно называлось "Око Мелькарта". По пути из
Карфагена гаула дала течь. Гадирцы обещали ее починить. Без
мачт и парусов "Око Мелькарта" напоминало мертвое
морское чудовище, выброшенное на берег бурей.
Вот на корабли потащили живых баранов. Один из
рабов оступился и упал вместе со своей ношей в море.
Баран, у которого были связаны ноги, камнем пошел ко дну.
Раб выбрался на берег. Его окружили надсмотрщики.
Среди них был и Мастарна с длинной плетью в руках.
Наотмашь он ударил ею по обнаженной спине раба.
Ганнон и Мидаклит стояли на палубе. Суффет мельком
взглянул на своего учителя. У того было страдальческое
выражение лица. Казалось, свистящие удары плетей ранят его
самого.
— Надо посмотреть и в другую сторону! — сказал грек
глухо.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Ганнон.
— А вот послушай! Произошло это в Тире незадолго
до того, как царицей Дидоной1 был основан Карфаген.
Разбогатев от торговли, тиряне приобрели множество рабов.
Они заставляли их спускаться в рудники и каменоломни,
возделывать свои поля, сады и виноградники. Притом они
дурно обращались с рабами, держали их впроголодь,
истязали за малейшую провинность. Долго терпели рабы, но
потом терпение их иссякло. Они тайком сговорились между
собой и перебили своих хозяев. Лишь одному из
свободных удалось спастись, переодевшись в одежду раба. Этого
человека звали, как и нашего жреца, Стратоном. Решили
освободившиеся рабы избрать из своей среды царя, чтобы
1 По преданию, Карфаген был основан царицей Дидоной, сестрой
финикийского царя Пигмалиона.
73
тот ими правил по справедливости. А так как в Тире, так
же как и в Карфагене, отцом города считался Мелькарт,
рабы думали, что царем может стать человек, отмеченный
благоволением лучезарного солнца. В полночь вышли рабы
на равнину за городом и стали ожидать восхода солнца, с
тем чтобы избрать царем того, кто первый увидит
огненные стрелы Мелькарта. Все напряженно вглядывались в ту
сторону, откуда обычно появлялось огненное светило. Но
Стратон, единственный свободнорожденный, оставшийся в
живых, смотрел в противоположную сторону, туда, где над
морем высился белокаменный Тир. Стратон ничего не
ожидал от восходящего светила, он думал о своих погибших
родных, о расхищенном добре, и из глаз его катились
слезы. И вдруг он увидел на высоких кровлях Тира отблеск
солнечных лучей. "Мелькарт! Мелькарт!" — закричал он.
И рабы избрали Стратона царем. Я вспомнил этот рассказ,
когда увидел, как избивают этого раба. Надо и нам
оглянуться, чтобы не испытать того, что перенесли тиряне от
своих рабов.
Ганнон пожал плечами. С детства он был окружен
рабами, он привык к тому, что есть люди, освобождающие
его от грязной и тяжелой работы.
— Мир — это корабль, — возразил Ганнон. — Одним
боги предназначили быть внизу и до самой смерти
подымать и опускать тяжелые весла. Другим уготовили места
наверху. И эти могут видеть солнце и звезды,
наслаждаться жизнью. У них светлые одежды, легкие головы. Но те
и другие не могут обойтись друг без друга. Так было
всегда и так будет, покуда стоит мир.
— Может быть, ты и прав, — вздохнул грек. —
Разумом я понимаю, что нет свободы без рабства. Но сердце
мое не выносит несправедливости.
К полудню все было готово к отплытию. Провожать
карфагенян вышел весь город
Хирам сетовал, что приходится так скоро расставаться.
— Карфаген остался без флота, — объяснил ему
Ганнон, — а после Гимеры от врагов можно всего ожидать.
— Пусть Мелькарт укажет тебе добрый путь, —
сказал гадирец, прощаясь.
Валкой походкой к Ганнону подошел Адгарбал. Во вре-
74
мя плавания ныряльщик показал себя опытным моряком.
Теперь Ганнон поручил ему проследить за починкой "Ока
Мелькарта" и доставить гаулу в одну из колоний.
— Держись подальше от берега, чтобы не разбить судно
0 камни, — наставлял Адгарбала Ганнон. — Запаси
провизию в Гадире. В Лике не заходи. В самой южной колонии
жди меня. В Карфаген поплывем вместе.
Адгарбал понимающе кивал головой.
Ганнон приказал поднимать сходни и вытаскивать
якоря. Один за другим корабли отваливали от мола. Пролив,
разделявший острова, становился все шире. На северном
берегу острова, лежащего против Гадира, Ганнон увидел
финиковые пальмы. Тонкие коричневые стволы изгибались
под ветром и приветливо махали темно-зелеными
перистыми листьями.
Финиковая пальма — священное дерево Танит1.
Предки Ганнона, отправляясь в дальнее плавание, брали с
собой финики, и там, где они селились, поднимались
молодые поросли пальм. Веками финиковые пальмы давали
людям жизнь, приносили им радость. Финиковые пальмы —
это хлеб и вино, одежда и сети для рыбной ловли. Из
стволов высохших пальм делались столбы и двери хижин, а
крыши покрывались пальмовыми листьями. Финиковая
пальма — бессмертие народа Ганнона, бессмертие его предков.
Пройдут тысячелетия, бесследно исчезнут финикийские
поселения, забудутся их имена, но пальма будет качаться
над раскаленными песками, как символ вечной жизни.
Увлеченный своими мыслями, Ганнон не заметил, как
с левого борта показались остроносые челны. Малх, подойдя
к Ганнону, положил ему руку на плечо. Ганнон вздрогнул.
— Смотри! — кормчий указывал на лодки.
Ганнон внимательно оглядел лодки и высоких
белокурых людей, ловко управляющих веслами.
При виде кораблей они стали быстро грести к берегу.
— Боятся нас! — разочарованно протянул Миддклит. —
А как хотелось бы увидать их вблизи и расспросить!
— Гей, укачай тебя волны! — бросил Малх. — В море
человек опаснее бури и подводных камней. Кому хочется
попасть на невольничий рынок?
1 Карфагеняне считали богиню Танит покровительницей пальмы. На
каменных карфагенских плитах часто встречаются изображения
пальмы как символа Танит.
75
— Клянусь Мелькартом, — воскликнул Ганнон, — эти
челноки не из дерева!
— Ты прав, суффет, — подтвердил Малх, — они из
кожи, натянутой на обручи.
— Надо предложить Большому Совету, — пошутил
Ганнон, — делать деньги из дерева, а лодки — из кожи.
Все рассмеялись, представив себе, что вместо привычных
кожаных монет в мешочках будут стучать деревяшки.
— Кто же эти отважные люди? — не унимался Ми-
даклит. — Наверное, рыбаки прибрежных селений.
Малх покачал головой:
— Нет, это жители туманных Эстременид. Туда
проложил путь еще Гимилькон.
Ганнон вспомнил каменную плиту в храме Танит.
"Почему брат моего отца так много говорит о чудовищах
Северных морей и так мало о людях далеких земель
Альбиона и Гиберны?1 Почему он не рассказывает о рудниках, где
добывают драгоценное олово и тяжелый свинец? Почему в
его отчете так мало сказано о Янтарном береге2, где
прямо в песке находят куски желтого твердого камня? Его
называют золотом севера. Как мало мы знаем о море! —
думал Ганнон. — Мы окружили Внутреннее море, как
лягушки пруд, а за нашими спинами океан. Как он беспределен!"
НА КОРАБЛЕ
Сильный и ровный ветер шумит в снастях. Уже
неделю он дует в корму, и корабли летят, как стая белых
лебедей. Океан обрамлен высоким бирюзовым куполом. По нему
плывут белоснежные облачка. Словно кто-то поднял и
изогнул огромное зеркало, на котором отразились и морская
синева и паруса флотилии.
Ганнон охвачен хорошо знакомым чувством движения.
Кажется, что крылья вырастают за плечами, голова ясна,
мышцы крепки, как медь. Нет ничего на свете, что было
бы тебе не под силу.
Ганнон обводит взглядом корабль. Гребцы положили
свои обритые головы на борт и дремлют. Другие что-то
жуют. Весла подтянуты к борту. Не свистит бич Мастар-
1 Альбион и Гиберна — Британия и Ирландия.
2 Янтарный берег — южное побережье Балтики.
76
ны. За всех трудится ветер Великого моря. Корабль идет
на одних парусах.
На корме, прислонившись спиной к мачте и выставив
вперед босые ноги, сидит Саул. На голове у него повязка,
скрывающая короткие волосы, — признак недавнего
рабства. Полными горстями иудей вынимает из плетеной
корзины финики и засовывает их в рот.
Ганнон не может удержаться от улыбки. Он подходит
ближе и садится на сверток канатов рядом с Мастарной,
играющим своей плетью.
Из группы колонистов выходит невысокий тощий
человек. Это горшечник Мисдесс. Ганнон уже знает многих
переселенцев по именам, а этого запомнил еще с
Карфагена, когда он запоздал на корабль.
— Не позавидую тому, — обращается Мисдесс к
Саулу, — кто разделит с тобой кровлю: он погибнет от голода.
— Молчи, горшечное колесо, — невозмутимо
произносит толстяк. — Бог, вылепивший меня, отпустил мне
вместительное брюхо, а на тебя пожалел глины и насадил на
плечи дырявый горшок.
Ропот возмущения прокатился по толпе переселенцев.
Ганнон знает, эти люди не любят чужеземцев, неизвестно
откуда появившихся на борту "Сына бури". Но Ганнону это
чувство чуждо. Мастарна и Саул — пираты. Но разве не
был морским разбойником его дед, прославивший род Маго-
нидов? Когда надо, он торговал, а предоставлялась
возможность — грабил. Наверное, он был таким же смелым и
бесшабашным человеком, как этот иудей Саул. Нет, Ганнон
нисколько не жалеет, что взял чужеземцев на корабль.
Море — их стихия. В случае опасности они могут
оказать немалую помощь. С одним только Ганнон не может
примириться: они так бесчеловечно жестоки с гребцами. А
ведь новых гребцов в океане не найти. "Надо сказать об
этом Мастарне!" — решил Ганнон.
— Друзья, — обратился он к пиратам, — идемте за
мной!
Саул вскочил, не забыв, однако, прихватить и
корзинку с финиками. Мастарна перекинул плеть за спину и
лениво поднялся с канатов.
— Как вам живется у меня на корабле? — спросил
Ганнон, когда они остались одни.
77
— Еда хорошая, а вино... — Иудей причмокнул
губами. — Такого не пил и царь Соломон!
— Пахаря кормит плуг, воина — копье, а нас — вот
это! — Мастарна взмахнул плетью.
— Боюсь, что вы слишком усердствуете, — проговорил
Ганнон укоризненно. — Здесь гребцы дороже серебра.
— Рыбам нужно почаще чесать хребет, — заявил
убежденно этруск. — А впрочем, хозяин здесь ты. Прикажешь,
я дам плети отдых.
— Да, пусть она отдохнет, — согласился Ганнон. —
Я найду вам другое занятие. Не сегодня-завтра мы будем
у берегов Ливии. Говорят, нигде на земле нет такого
сильного прибоя, как там.
— Положись на нас, суффет! — Саул поправил
повязку на голове. — Лопни мои глаза, если разобьется хоть
одна лодка!
— Прибой у берегов Ливии силен, — подтвердил
Мастарна, — но нам он не страшен. Вот тебе моя рука!
ПЕРВАЯ КОЛОНИЯ
Солнце еще не успело рассеять утренний туман, как
вдали показались берега Ливии. Карфагеняне с жадностью
смотрели на землю, которая должна была заменить им
родину. Берега не были такими голыми и неприветливыми,
как в стране Запан. Густой лес покрывал вершины холмов
и кое-где спускался к самому морю.
Но как высадиться на этот берег? Оглушительно
ревел прибой. Бешеные валы, догоняя друг друга, катились
к прибрежным камням. Их белые гребни напоминали
огромную стаю птиц, охваченных ужасом. Моряки
переглядывались в немом удивлении.
— Пусть будет спокойно твое сердце, суффет, —
сказал Мастарна, став рядом с Ганноном. — Не бойся этих
волн. Надо дождаться отлива.
В ожидании отлива корабли стали на якоря,
беспрерывно кланяясь громадным волнам. Ганнон передал
приказание готовиться к спуску челнов. По совету Мастарны, для
каждого из них были приготовлены длинные канаты. Один
их конец прочно укреплялся на специально вбитом в
носовую часть лодки медном кольце, другой должен был на-
78
ходиться в руках опытного моряка, которому можно было
доверить челн и людей.
За приготовлением к высадке на берег незаметно
прошло время. Начался отлив. С кораблей спустили лодки,
сбросили веревочные лестницы- Моряки и колонисты
занимали свои места. Ганнон взмахнул флажком. От "Сына
бури" отделилась первая лодка. На веслах сидели Мастар-
на и Малх. Саул, примостившийся на носу, зорко
всматривался в берег, подыскивая место, где удобнее было
высадиться.
Ганнон видел, как лодка вошла в грохочущую линию
прибоя и пробилась к берегу. Стоя по колени в воде, то и
дело закрываемый грохочущими валами, Саул ловил
концы и вытягивал челны один за другим на сушу. Любо было
смотреть, с какой сноровкой он это делал! Мастарна и Малх
помогали людям выходить из лодок. Женщин и детей они
переносили на плечах.
Полдня ушло на выгрузку колонистов и необходимых
им до ближайшего урожая припасов.
Ожидая Ганнона, еще остававшегося на корабле, Гис-
кон и Мидаклит бродили по берегу- Отлив обнажил
местами каменистое дно. Гискон увидел между камнями что-
то яркое, напоминавшее большой цветок с длинными
тонкими лепестками.
— Морская роза! — воскликнул Мидаклит, опускаясь
на корточки. — Смотри, вот ее щупальца.
— Так это не цветок, а животное! — удивился Гискон.
— Разумеется. В море обитают самые удивительные
существа. Какую только форму и окраску они не
принимают! Вот это существо напоминает розу, а ведь в его жилах
течет кровь, как и у нас с тобой. Из этой крови
приготавливают мазь, она помогает при укусе скорпиона. Я никогда
не расстаюсь с баночкой этой мази.
— Какая тебе мазь! — вмешался подошедший Саул.
Он уже вытащил на сушу последний челн и теперь ходил
по берегу, нетерпеливо поглядывая в сторону костров:
оттуда доносился вкусный запах похлебки. — От укуса
скорпиона помогает лишь молитва. А морскую розу варят в
соленой воде и поливают маслом. Это хорошо возбуждает
аппетит!
— А разве у тебя плохой аппетит? — спросил,
улыбаясь, грек.
80
— Недурной. Но, перед тем как съесть быка, мне надо
закусить десятью морскими розами и выпить две амфоры
вина.
Тем временем Ганнон и колонисты поднялись на
невысокий зеленый холм. С него открывался вид на равнину,
окаймленную на горизонте грядой синеватых гор. Широким
жестом Ганнон обвел всю равнину, и этот жест, казалось,
превратил дикое, не обжитое людьми место во что-то
необыкновенное и прекрасное.
— Эти горы, — говорил убежденно Ганнон, —
защитят поля от иссушающего дыхания пустыни. Равнину
покроют финиковые и оливковые рощи, поднимутся сады, и
с ветвей будут свисать золотые яблоки.
Рассказ Ганнона был прерван появлением жреца.
Стратон поднимался на холм. За ним на веревке
тащилась черная овца. Сейчас начнется священная церемония.
Боги должны указать место для будущего города.
Жрец отвязал овцу. Животное, почуяв свободу,
спустилось с холма. Сотни глаз следили за ним. Куда пойдет
овца? Животное остановилось у подножия холма и стало
щипать траву. "Овца простоит здесь до утра, — с ужасом
подумал Ганнон, — а люди нуждаются в отдыхе".
Колонисты молчали. Произнести даже одно слово в момент
священной церемонии — страшный грех. Боги любят тишину.
Овца между тем, пощипывая траву, медленно
направлялась к берегу. Люди испуганно переглядывались. Нельзя
же основать город на прибрежном песке!
На берегу трава была более редкой, и овца снова
стала взбираться на холм. На самой его вершине она легла.
— Здесь! — вырвался облегченный вздох из сотен
грудей.
— Разве это гаданье! — сказал Мастарна,
презрительно скривив губы.
— А чем оно тебе не по душе? — спросил Ганнон.
— Жди, пока глупой овце вздумается лечь! На моей
родине у этой овцы разрезали бы живот и вынули бы ее
печень. По форме печени можно сразу же сказать, как
относятся к твоему выбору боги. А если ты не желаешь
резать овцу, гадай по полету птиц.
* * *
Место для города выбрано, но надо его еще освятить,
принеся кровавую жертву. Стратон накинул на себя свя-
81
щенный плащ черного цвета с красной бахромой внизу,
прикрепил ко лбу с помощью шнура блестящую медную
бляху. Кто-то стал копать ровик.
На холм поднимались трое. Когда они приблизились,
можно было узнать двух надсмотрщиков, они вели под руки
женщину, прижимавшую к груди ребенка. Ее голова была
непокрыта. Она поминутно останавливалась, о чем-то
просила своих провожатых.
Карфагеняне молились подземным богам и топали
ногами. Стратон сделал знак одному из своих помощников. Тот
подскочил к женщине и выхватил из ее рук ребенка.
Женщина закричала. Надсмотрщик толкнул ее в грудь, и она
упала. Подхватив ребенка, тот быстро передал его жрецу.
Стон женщины заглушил грохот прибоя. Он долго
звучал в ушах людей, потрясенных горем матери.
Блеснул медный нож. На одежду Стратона брызнула
кровь. Надсмотрщик подставил глиняный бочонок, и
безжизненное детское тельце исчезло в его глубине. Стратон
опустил бочонок на дно ровика.
Каждый из колонистов должен был бросить в могилу
горсть земли.
Стратон простер руки к небу:
— Прими нашу жертву, о Мелькарт! Пей алую кровь
и дай крепость стенам города Тимитерия. Пусть погибнет
всякий, кто вздумает разрушить его стены!
Женщина, у которой отняли ребенка, больше не
кричала. Она была неподвижна. К ней подошел Мисдесс. Лицо
его было белее морской пены. Губы дрожали.
— Вставай, Шимба! — Горшечник склонился над
женой и гладил ее волосы. — Не гневи богов! Они взяли
нашего первенца, но они дадут счастье городу, а нам — много
сыновей.
Люди молча спускались к берегу. Ганнон с
содроганием вспоминал чудовищный обряд жертвоприношения.
Здесь, у берегов Великого моря, он показался ему
особенно диким, но Ганнон не смел помешать этому обряду. Таков
закон жрецов, и горе тому, кто вздумает его нарушить.
У КОСТРОВ
Возвращаться на корабли было уже поздно. Моряки
стали устраиваться на ночлег. Гискон присоединился к
82
Мисдессу и Шимбе. Мальчик утешал бедную женщину как
мог, но она смотрела на него безучастными, пустыми
глазами. Из груди ее вырывались тяжелые стоны.
— Мой птенчик! — без конца повторяла она.
Наступила ночь. Ветер раскачивал верхушки деревьев,
и шум их сливался с плеском волн. На берегу суетились
люди, готовясь ко сну. Они расстилали одеяла, собирали
сучья и сухую траву для костров. Гискон лежал на спине
и рассматривал небо, усыпанное звездами. Он вспоминал
наставления Малха. Моряк, не знающий звезд, слеп.
Гискон решил отыскать те созвездия, которые ему указал
кормчий. Вот эти звезды в виде ковша так и называются
Большим Ковшом. По ним легко определить, где север.
Эти четыре звезды, чуть повыше и левее Большого Ковша,
называются почему-то Вороном. Нет, они совсем не
похожи на птицу. У них нет ни крыльев, ни клюва. Они
скорее напоминают квадратное отверстие бездонного колодца.
А разве похожа эта вереница звезд на льва? А ведь их
называют созвездием Льва. А где же Скорпион и Весы?
Услышав шаги, мальчик повернулся на бок.
— Ты не спишь? — удивился Мидаклит.
— Нет, — ответил Гискон. — Я совсем запутался в
этих звездах и не могу найти Скорпиона и Весы.
— Смотри, эти пять звездочек и есть Скорпион. А там
же, на юге, и Весы.
— А почему все эти звезды так странно называются?
— Люди, которые первыми наблюдали звезды, видели
в них вестников богов. А богами почитались почти все
животные и насекомые, которые окружали человека. И до сих
пор в Карфагене и на моей родине есть немало людей,
считающих, что по звездам можно предсказать не только жару,
бурю, затмение луны и солнца, но и судьбу каждого
человека: будет ли этот человек богат или беден, счастлив или
несчастлив, когда он женится, сколько у него будет детей.
Эти люди почему-то считают, что Юпитер и Венера — это
добрые планеты, а Сатурн и Марс злые...
Как ни интересен показался мальчику рассказ о
звездах, но усталость взяла свое, и он забылся.
Почти в то же время у другого костра происходила
другая беседа.
— Наконец мы с тобой можем потолковать, Мастарна, с
глазу на глаз, — сказал Стратон, подбрасывая в огонь ветку.
83
— Да, жрец, — проговорил этруск, — ловко мы с
тобой притворялись. Скажу правду, увидев тебя в первый
раз, я чуть не ахнул. Такой сухопутный воробей — и стал
мореплавателем!
Этруск расхохотался.
— А я думал, — добавил он с издевкой, — что вы с
Магарбалом собираете дань с моря только у себя дома!
— А я всегда полагал, — отвечал ему в тон Стратон, —
что имел дело с кормчим, а не с надсмотрщиком на чужом
корабле.
— Таково уж мое ремесло, — мрачно промолвил
этруск. — То богат, а то гол, как зубы. "Мурена" моя
вместе со всей добычей досталась твоему Дагону. Я ведь
слышал, что ты теперь жрец бога моря!
Стратон сочувственно покачал головой:
— Пират без корабля — все равно что жрец без
языка. А Магарбал ждет тебя с добычей!
— Храм Танит обойдется и без меня, — бросил
этруск. — У Магарбала и так много доходов.
— Нет, Мастарна, — прошептал Стратон, — даже без
корабля ты можешь оказать Магарбалу большую услугу.
И он не останется в долгу.
На лице Мастарны появилось выражение интереса.
— Не крути хвостом, говори прямо, что тебе надо!
— Есть одно дельце: надо выкрасть девчонку.
Привезешь ее в Карфаген — получишь десять амфор серебра.
Мастарна подозрительно посмотрел на жреца:
— Десять амфор серебра? Да за него можно купить га-
улу! Ты хитришь, жрец! Выкладывай, что это за девчонка.
— Это жрица нашего храма. Ее увез Ганнон. Зовут ее
Синтой.
— Кто она ему? Сестра?
— Невеста.
— Так бы ты и сказал сразу, старая крыса! —
закричал Мастарна. — Я пират, а не предатель.
"Набивает цену", — подумал жрец.
— Какое тут предательство? Ведь не предатель тот и
не вор, кто возвращает господину беглого раба. А Син-
та — рабыня Владычицы.
Мастарна нерешительно покачал головой:
— Рыба не стоит крючка. Большой риск.
— За риск ты получишь еще пять амфор серебра, —
уговаривал жрец.
84
— Десять! — отозвался Мастарна. Он наклонился
вперед, ноздри его раздувались. — Всего двадцать амфор.
— Видят боги, ты получишь их, когда беглянка будет
в Карфагене! — торжественно произнес Стратон.
— Но как я ее доставлю в Карфаген, когда у меня нет
корабля? — возразил Мастарна.
— Не мне тебе советовать. Ты ведь Мастарна!
— Но ты хоть покажешь мне эту девушку? —
настаивал этруск.
— Покажу, если смогу- А если не покажу, сам
увидишь. Как только я останусь в какой-нибудь из новых
колоний, Ганнон не будет скрывать Синту и возьмет ее к себе
на корабль. Тогда и действуй... А впрочем, — добавил
он, — поищем ее здесь, на берегу. Может быть, она сейчас
где-нибудь у костра.
— Саул! — крикнул Мастарна. — Ты спишь, собака!
Он подбежал к иудею и изо всех сил тряхнул его.
Саул поднял голову и промычал что-то невнятное.
— Оставь его, — сказал Стратон. — Пусть спит.
Пойдем вдвоем...
Гискон проснулся от холода. Костер еле тлел, а плащ,
которым Мидаклит накрыл мальчика, свалился. Гискон
протянул руку к плащу и замер, услышав
приближающиеся шаги.
— Не она ли это? — послышался чей-то шепот.
— Сейчас посмотрим.
Мальчик мог бы поклясться, что эти последние слова
произнес Стратон. Его голос нельзя было ни забыть, ни
перепутать с каким-либо другим.
Ну конечно, это жрец. Он наклонился над спящей Шим-
бой, и Гискон услышал его злобный шепот:
— Опять не она!
— Клянусь морем, — произнес другой, — Ганнон
прячет ее на корабле. Тебе придется подождать.
"Жрец ищет Синту! — ужаснулся Гискон. — Но кто
это с ним рядом, с головой закутанный в плащ?"
Двое скрылись в темноте, и Гискон, дождавшись, когда
стихнут шаги, вскочил. Он должен узнать, с кем был
Стратон. Крадучись, двинулся Гискон в направлении, где исчезли
двое. Но ночь словно поглотила их.
85
Мальчик вернулся к костру. Подбросив сучьев в огонь,
он прилег. Тревожные мысли не покидали его. "Этот
человек, наверное, моряк, раз он клянется морем. Но кто из
моряков изменил Ганнону?"
Наступил рассвет. Тонкие струйки дыма стлались по
земле, щекотали ноздри спящих. Люди поднимались. В
тумане двигались закутанные фигуры. Мальчик бросился на
поиски Ганнона. Суффет спал рядом с Малхом на ложе из
ветвей тополя. Он широко раскинул руки. Лицо его было
спокойное и ясное, как у человека, видящего хороший сон.
Мальчику жаль будить суффета, но он должен это сделать.
"Надо его предупредить об опасности", — думал Гискон.
Внимательно выслушал Ганнон рассказ мальчика. Он,
конечно, предполагал, что Стратон будет искать Синту: ведь
недаром Магарбал послал Стратона вместе с колонистами.
Но вот они уже почти у цели, а Стратону даже не
известно, на каком корабле Синта. Что же теперь предпримет
жрец? Ведь он останется здесь, а Синта поплывет вместе
с ним, Ганноном. Она станет недосягаемой для жреца.
Правда, у жреца есть сообщник. Кто он? Но, если даже этот
человек окажется с ним на одном корабле, будет ли он
опасен?
— Благодарю тебя, Гискон. — Ганнон положил руку
на плечо мальчику. — То, что ты узнал, для меня очень
важно. Я буду искать этого человека. И ты мне в этом
поможешь.
— Господин! — взмолился Гискон. — Возьми Синту
на свой корабль! Я, если ты это прикажешь, не отойду от
нее ни на шаг.
Ганнон улыбнулся:
— Хорошо! Отправляйся к ней. И, как только мы
снимемся с якорей, скажешь кормчему, чтобы он спустил челн.
Я буду ждать вас обоих на "Сыне бури".
Мальчик бросился к лодкам.
МЫС СОЛНЦА
Весь день стучали топоры. Удары их повторяло на все
лады эхо. Казалось, люди и скалы перекликались друг с
другом, как кормчие на плывущих в тумане кораблях.
Моряки и колонисты рубили лес и подтаскивали его к
86
мысу Солнца. На этом глубоко вдающемся в море клочке
земли и решили воздвигнуть храм Дагону. Стратон будет
верховным жрецом нового храма.
В полночь, когда многие уже спали, а Ганнон с Мидак-
литом сидели у костра, вдруг стало совершенно темно.
— Смотрите, что делается с луной! — закричал кто-то.
Диск луны покрылся тенью, которая стала быстро
расти. Вскоре на небе сверкал лишь один узенький серп.
Ганнон знал, что затмение предвещает страшные
бедствия, кровавую войну, мор или неурожай. Тогда жрецы
заявляли, что Танит сердится на людей, и устраивали
молебствия и жертвоприношения, чтобы умилостивить
богиню. Кладовые храма наполнялись новыми богатствами.
"Чего доброго, — думал в тревоге Ганнон, — Стратон может
объявить, что богиня Танит гневается на карфагенян за то,
что они похитили ее жрицу, он может потребовать ее
выдачи. Жрец еще может заявить, что мыс Солнца —
неудачное место для храма, и откажется покинуть корабль".
Был взволнован и Мидаклит, но совсем по другой
причине:
— Она кругла, она кругла...
— О чем ты, учитель? — спросил в тревоге Ганнон.
— Тень на луне кругла! — воскликнул грек. — Какой
же я глупец, что раньше не придавал этому значения!
Теперь я понимаю, почему она кругла.
— Почему же? Отвечай.
Грек задумался.
— Пока я тебе ничего не скажу. Надо понаблюдать за
звездами, и, если мои предположения подтвердятся, тогда
я не напрасно проделал весь этот путь.
Ганнон огорченно вздохнул.
Ночь прошла в тревожном ожидании.
Что принесет утро?
И вот наступил час утренней молитвы. Стратон
молился наравне со всеми. После окончания молитвы жрец
подошел к Ганнону и попросил у него людей для работы.
Ганнон облегченно вздохнул. "Может быть, Стратон
проспал затмение?" — подумал он.
Но вскоре им вновь овладела тревога. "Нет, Стратон,
конечно, знает о затмении, — думал Ганнон. — Но, если
он его не использует в своих целях, значит, у него есть
какой-то другой план захвата Синты, план, в котором глав-
87
ная роль будет принадлежать не ему, а тому, кто клялся
тогда морем. Кто же он?"
В полдень храм был освящен. Моряки и колонисты с
обнаженными головами окружили святилище. Оно еще без
кровли и стен, но в центре его, как это полагается в каждом
храме, возвышались два деревянных столба. Они
означают ворота, через которые каждодневно входит и выходит
солнце! Это Столбы Мелькарта!
— Я слышал, — сказал Мидаклит, — что в храме
Тира колонны сделаны из золота, а верхушки их — из
смарагда.
— И эти колонны я заменю столбами из золота, —
торжественно произнес Ганнон. — Пусть славится этот храм.
Пусть он соперничает с самыми прославленными
святилищами. Недаром он воздвигнут там, где еще не ступала нога
карфагенянина.
Стратон бормотал слова молитвы и поливал колонны
водой из священного сосуда.
Торжественно звучали в тишине слова гимна солнцу:
Слава тебе, о Мелькарт, владыка,
Слава тебе, господин Вселенной!
* * *
Колонисты ставили перед храмом глиняные фигуры овец
и свиней. Их вылепил Мисдесс. Священными обычаями
предков разрешалось заменять приносимых в жертву
животных их изображениями.
Моряки бросали на землю браслеты, серьги, ножные
кольца. Мелодично звенело серебро. Перед выходом в океан
они не скупились. Они платили морю добровольную дань,
чтобы оно, как жестокий властелин, не вырвало ее силой.
Звучал рог, сзывающий людей к лодкам. Ганнон
простился со Стратоном. Глаза жреца светились недобрым
блеском, уголки губ были опущены.
Когда Ганнон поднялся на борт "Сына бури", гребцы
уже сидели у весел. Мастарна что-то кричал им,
размахивая плетью. Матросы поднимали из воды якоря,
подтягивали реи, привязывали плетеными ремнями паруса.
Задвигались весла. Под килем шумели волны. Люди на
берегу махали руками, что-то кричали.
Ганнон смотрел на оставшихся колонистов с чувством
грусти. За время плавания он сдружился со многими. Как
88
теперь сложится их жизнь? Только со Стратоном Ганнон
расстался без всякого сожаления.
Суффет подал сигнал. Корабль развернулся, чтобы
встретить челнок, спущенный с ближайшей к нему гаулы.
Синта поднимается на палубу. В ее длинных черных
ресницах трепещут солнечные лучи. Счастье, ты явилось!
Невесту Ганнона окружают моряки. Лица их
приветливы.
— Да будет между вами вовеки любовь, — говорит
Малх, прикладывая ладонь к груди. — Человек без любви
как лодка без весел, как гаула без парусов.
С поздравлением явились Мастарна и Саул. Этруск
посмотрел на девушку каким-то странным, слишком
внимательным взглядом. Лицо иудея растянулось в улыбке. Губы
стали похожи на створку морской раковины.
— Лопни мои глаза, — прорычал он, — такую
красавицу взял бы в жены сам царь Соломон!
Синта густо покраснела.
БИТВА С АКУЛОЙ
Попутный ветер сменился встречным. Теперь "Сын
бури11 и все корабли флотилии шли на веслах. Опять
свистит плеть Мастарны, и корабль сотрясают вопли рабов.
Берег пустынен. Зато океан полон жизни. Вода кишит
мириадами живых существ разного цвета и формы. Из
каждой волны взвиваются в воздух рыбки с
ярко-красными перьями. Одна из них шлепнулась с размаху на палубу.
— Смотри, как богато здесь море, — обращается Ми-
даклит к Гискону. — Рыба сама идет в руки.
Мальчик с любопытством разглядывает летающую рыбу,
но его внимание отвлекают дельфины. Они резвятся,
описывая вокруг корабля правильную дугу, выскакивают из
воды и, как бы хвастаясь своей ловкостью,
переворачиваются в воздухе на бок.
— Скажи, Малх, — спрашивает мальчик у
кормчего, — как ловят этих рыб?
На лице моряка выражение неподдельного ужаса.
— Кто же позволит себе поднять руку на дельфина! —
восклицает он. — Дельфин — лучший друг моряка. Боги
89
наделили его разумом. Во время бури он помогает
морякам найти путь в гавань. Говорят, что дельфины понимают
человеческую речь.
— И музыку, — добавляет Мидаклит, присаживаясь
рядом с Малхом. — У нас рассказывают о певце Арионе.
Его обучил искусству пения сам бог Аполлон, которого вы,
карфагеняне, называете Резхефом. Много лет Арион
прожил на чужбине и приобрел большое состояние. Решив
возвратиться на родину, он нанял в Таренте1 судно и,
погрузив свои богатства, вышел в открытое море. Жадный
кормчий решил завладеть сокровищами Ариона и
приказал матросам выбросить певца за борт. "Разреши мне перед
смертью взять свою кифару и спеть!" — взмолился
Арион. "Пой! — отвечал ему жестокий кормчий. — Только
тебе не удастся меня разжалобить!" Арион надел лучший
свой хитон, взял в руки кифару и стал на корме. Боги
наделили Ариона чудесным даром, и он запел прекрасную
песню. Эта песня могла растрогать и каменное сердце. Но
кормчий и матросы не слушали Ариона. Вытащив на
палубу его богатства, они делили их, ссорясь и осыпая друг
друга проклятиями. Арион пел. Из бурных волн моря
высунулась черная голова дельфина. Арион пел, и дельфин
плыл за кораблем, зачарованный песней. И, когда певец
бросился в море, дельфин подставил ему свою спину.
Кормчий и матросы этого даже не видели. Разделив сокровища
певца, они привели свою гаулу в город Коринф2. Каково же
было их удивление, когда в гавани Коринфа их встретил
Арион, окруженный многими горожанами и стражами!
Дельфин доставил певца в Коринф. Кормчий и матросы упали
на колени, моля о прощении. Могли ли они понять, что все
богатства, все сокровища — золото, серебро, драгоценные
камни — ничто перед божественным даром песни!
Мальчик перегнулся за борт. "Хорошо бы оседлать этого
дельфина, — думал он. — И поплыть впереди корабля,
прокладывая ему путь. Тогда бы нам не были страшны ни бури,
ни подводные скалы".
Но вот Саулу захотелось искупаться, и не в этой
жалкой лохани, что стояла на корме, а в море. "Корабли
плывут медленно, и меня всегда сумеют поднять на борт в
случае опасности", — решил он. Саул не слушал угово-
1 Тарент — греческая колония на юге Италии.
2 Коринф — крупный торгово-ремесленный город древней Греции.
Расположен на берегу Эгейского моря.
90
ров Мастарны. И вот он уже за бортом и весело плещется
в волнах. Глядя на его довольное, улыбающееся лицо,
изнемогающие от жары моряки завидуют ему, а кое-кто уже
сбрасывает одежду, чтобы последовать его примеру. Как
вдруг локтях в двадцати от пловца мелькнул острый косой
плавник. Акула! Вот плавник исчез под водой и снова
мелькнул, но уже ближе к Саулу. Иудей заметил
опасность и поплыл к кораблю. Люди замерли. Быстрее всех
справился с оцепенением Мастарна. Он выхватил из-за
пояса кривой иберийский нож, полученный им у Малха
вместе с одеждой, и, сильно размахнувшись, швырнул его
в море. Нож шлепнулся рядом с Саулом, и тот успел его
подхватить. Еще мгновение — и было бы уже поздно:
акула показалась локтях в пяти от пловца. Ее острый
плавник вспарывал волны.
Саул повернулся на бок, чтобы встретить опасность
лицом к лицу. Мелькнул акулий плавник, напоминающий
серп. Зубастая пасть нависла над головой Саула. Но Саул
сделал рывок всем телом и с размаху полоснул ножом по
брюху чудовища. Волны окрасились кровью. Брошенный
Малхом конец каната опустился в нескольких локтях от
91
пловца. Вот он уже держится за канат, и моряки
вытягивают Саула на палубу.
Кто-то подносит ему воду. Саул долго и жадно пьет.
— Ну как, испугался? — спрашивает презрительно
Мастарна. — Побывал в лапах у Тухалки?
Всем на корабле уже известно, что Тухалка — это злой
демон этрусков. К нему часто взывает Мастарна.
Лицо у иудея белее паруса, но он пытается шутить:
— Лопни мои глаза! Если бы не нож, у акулы была
бы хорошая закуска!
Мастарна помог Саулу спуститься на нижнюю палубу.
Все смолкло, и вдруг Ганнон услышал раздающийся
оттуда свист плети и вопль раба.
"Изливает злость на гребцах", — с неудовольствием
подумал суффет.
Спустись он в этот момент вниз, ему предстала бы
странная картина: Саул изо всех сил колотил плетью по
скамейке, а ближайший к нему гребец вопил так, словно
его режут. Другие гребцы сдерживались, чтобы не
расхохотаться, улыбался и сам Саул, только у Мастарны было
серьезное лицо. Он стоял у лестницы, ведущей на верхнюю
палубу, и прислушивался, не идет ли кто.
лике
Прошло два месяца. Пять раз за это время корабли
бросали якоря. Было основано пять новых колоний. Идя на
север вдоль побережья, карфагеняне снова приближались
к Столбам Мелькарта. В двух днях пути от Мелькартовых
Столбов находилась древняя финикийская колония Лике.
Сюда и держал путь Ганнон. Из Ликса он пошлет корабли
обратно в Карфаген, а на "Сыне бури" отправится на юг,
в неведомые земли.
На рассвете с правого берега показалась небольшая
бухта. В нее впадала река, розовевшая под косыми
солнечными лучами. На высоком ее берегу привольно
раскинулся Лике. Белые дома были окружены садами,
тянувшимися до синеющих на горизонте гор.
Начался прилив. Ганнон приказал править в устье.
Вскоре все суда стали на якоря. Зыбь тихо и равномерно
покачивала "Сына бури". Он то поклевывал острым носом, то
92
опускался на воду своей крутой кормой. Ганнон не сводил
глаз с туго натянутых якорных канатов.
Затем приказал:
— Спускать лодки!
Лике не имел гавани. На песчаной отмели сушились
сети, лежали килем вверх рыбачьи челны. Город
просыпался. Слышались негромкие, однообразные удары.
— Ручные мельницы! — сказал Малх шагавшему
рядом с ним Гискону.
Эти звуки напомнили карфагенянам далекую родину,
милых сердцу женщин с перепачканными мукой руками,
свежую, хрустящую корочку пшеничной лепешки.
На берегу карфагенянам встретился лишь рыбак с
ивовой корзиной на плече. На дне ее шевелили хвостами
жирные окуни. Но близлежащая улица была полна людей, с
тревогой и любопытством наблюдавших за пришельцами.
К Ганнону подошел человек в полотняной одежде.
Склонив голову, он передал Ганнону приглашение городского
старейшины посетить его дом.
Путь их лежал мимо невысокого здания с круглыми
колоннами из черного негниющего дерева. В Карфагене
этому дереву, называемому цитрусом, не было цены. Из него
делали самые дорогие столы.
На пороге здания люди в белых плащах курили
благовония. Догадавшись, что перед ним храм, Ганнон
молитвенно поднял ладони вверх.
Другие дома имели два этажа, нижний — каменный,
верхний — деревянный, из того же цитруса. Стены были
украшены резными изображениями виноградной лозы.
Городской старейшина встретил Ганнона у дверей
своего дома. Это был немолодой сухощавый человек с
прищуренными внимательными глазами и крючковатым носом.
— Мир тебе, мир дому твоему! — приветствовал он
Ганнона и жестом пригласил его войти внутрь.
Тростниковые завесы на окнах были опущены, в
комнате стоял полумрак. Пол был покрыт ковром. Кроме
низкого сиденья без спинки, в жилище старейшины не было
никакой мебели. "Как у меня в доме!" — подумал Ганнон.
Хозяин указал на сиденье, а сам опустился прямо на
ковер.
Узнав, что Ганнон сын самого Гамилькара,
старейшина почтительно произнес:
93
— Имя твоего отца и его подвиги известны в моем
городе. Мы все скорбим о его гибели.
Старейшина хлопнул в ладоши, и рабы внесли поднос
с жареным гусем. И гость и хозяин ели гуся руками,
изредка вытирая их о хлебный мякиш. Ликсит бросал кости
прямо на ковер, где вертелась черная собачонка.
— В твоем городе она бы угодила сюда! — указал он
на поднос.
— У каждого народа свои обычаи, — отозвался Ган-
нон. — У троглодитов, что живут под землей, любимая
еда — сушеная саранча. Северные варвары питаются
коровьим маслом, один вид которого может у меня вызвать
рвоту. Мы же любим жареных собачек.
— Ты упомянул троглодитов, — сказал городской
старейшина. — Их поселения находятся и у нас, близ гор.
Однажды я спустился к ним в жилище и чуть не задохся
от вони.
— Да, — согласился Ганнон. — Они ведь живут
вместе со скотом и домашней птицей. Но удивительнее всего,
что, вырастая в подземельях, они не становятся хилыми.
Троглодит бежит быстрее лошади.
— И язык их отличается от речи других людей. Они
шипят, как летучие мыши, — заметил ликсит.
Рабы принесли вино. Протянув фиал Ганнону,
старейшина спросил:
— Долго ли собираешься у нас гостить?
— Недели две. Надо запастись провизией и водой,
подыскать человека, знающего языки местных племен.
— Я знаю такого человека. Зовут его Бокхом.
— Странное имя! — удивился Ганнон.
— Его носит каждый третий маврузий1. Бокх хорошо
знает Ливию. Мы его всегда берем с собой в Керну.
— Что это за Керна?
— Небольшой островок. Там мы вымениваем у
чернокожих золото.
— А слышал ли ты что-нибудь об Атлантиде? —
поинтересовался Ганнон.
Ликсит отрицательно покачал головой.
— Впервые слышу... Советую тебе, — сказал он после
короткой паузы, — плыть к Керне. Там ты добудешь много
1 Маврузий — общее название племен, населявших в древности
Марокко.
94
золота и легко расплатишься за провизию, которую
возьмешь у меня.
Ганнон покинул дом гостеприимного старейшины.
Слова ликсита о Керне не выходили у него из головы.
Остров, расположенный в заливе, — лучшее место для
колонии. Самые богатые поселения возникли на таких
островах. У финикийцев — Гадир, у греков — Кумы и
Сиракузы. И у карфагенян должна быть такая колония. На
первое время будет достаточно оставить на островке человек
пятьдесят моряков, а потом сменить их колонистами.
БРАТ ЛЬВА
Чернели непокрытые головы. Пестрые одежды
сливались в многокрасочный узор, как на лидийском ковре.
Сегодня корабли снимаются с якорей, поэтому люди
спустились на берег. Кто знает, скоро ли им еще придется
ступить на твердую землю.
Ветер качал верхушки пальм, и они отбрасывали
узорчатые тени. Несколько матросов под пальмами азартно
играли в кости, другие подзадоривали их выкриками.
Синта расчесывала волосы и пела песню о Лине1:
И плакал он горько о Лине, о сыне,
И слезы владыки землю прожгли.
Ганнон лежал на песке, подложив под голову
загорелые руки. Он прислушивался к грустной мелодии и
задумчиво следил за белыми облаками: они, подобно пышной
одежде, обволакивали небо. С реки доносились
равномерные глухие удары: корабельные мастера вбивали в борт
медные кольца для крепления снастей.
Ганнон перебирал в памяти все, что им погружено на
"Сына бури" в Ликсе: двадцать мешков сушеных
фиников, сорок мешков ячменной муки, сто пшеничных хлебов,
тридцать амфор с маслом, десять амфор пальмового вина,
пять амфор финикового меда. Всего этого хватит на два
месяца, на путь в Керну и обратно. Кроме того, можно
пополнить запасы свежей рыбой.
Вдруг Ганнон вскочил: он услышал крик, вырвавший-
1 Песню о Лине, по словам греческого историка Геродота (V век до
н. э.), пели финикияне, жители Кипра, египтяне и греки.
95
ся из десятков грудей. Люди бежали к воде. Игроки,
разбросав свои костяшки, в ужасе карабкались на деревья.
С холма спускался лев.
Не обращая внимания на переполох, вызванный его
появлением, лев шел, мягко ступая огромными лапами и
встряхивая гривой.
— Синта!
Первой мыслью Ганнона было искать спасения в воде.
Но, вспомнив рассказы о благородстве царя зверей, никогда
не нападающего на лежащих, Ганнон бросился плашмя на
песок, увлекая за собой Синту. Когда он поднял голову, то
увидел льва локтях в десяти от себя, а рядом с ним —
незнакомца, треплющего зверя за гриву.
Люди стали выходить из воды. Они поняли, что перед
ними прирученный лев. Посылая проклятия, матросы
спускались с пальм.
С удивлением смотрел Ганнон на повелителя льва. Это
был человек лет двадцати пяти, смуглый, с вьющимися
волосами. Тело его покрывала полотняная одежда, с шеи на
обнаженную грудь спускалось ожерелье из волчьих зубов,
а на руках, ниже локтей, блестели серебряные браслеты.
За поясом у него был нож с грубой рукояткой из рога
буйвола.
Повелитель льва двигался легко, видимо привыкнув
шагать по холмам и долинам.
— Привет тебе, суффет! — проговорил незнакомец,
подходя к Ганнону. — Пусть тебе во всем сопутствует успех.
— Ты Бокх? — воскликнул Ганнон. Он уже
догадался, что перед ним человек, о котором говорил старейшина
Ликса.
— Да, так меня называют ликситы. Дружественные фа-
рузии1 зовут меня Братом Льва, а троглодитам я известен
под именем Вихрь. Меня послал к тебе старейшина
Ликса. Я поеду с тобой, если ты возьмешь на корабль Гуду.
Бокх повернулся ко льву, не спускавшему глаз со
своего повелителя.
— Гуда никого не обидит. Гуда послушен. Правда, Гуда?
Он взмахнул рукой, и лев, как собачонка, сел на задние
лапы.
1 Фарузии — племя, обитавшее в древности на западном побережье
Африки, южнее маврузиев. Впоследствии фарузии разрушили колонии
Карфагена.
96
Послышались удивленные возгласы.
Кто из карфагенян не видел льва! Хищники в большом
количестве водились в пустыне, примыкавшей к городу с
юга. Они совершали нападения на стада, а иногда и на
людей. Землепашцы мстили своим исконным врагам,
пригвождая к крестам убитых хищников, словно беглых рабов. Но
никому даже не приходилось слышать, что льва —
владыку пустыни — можно подчинить человеческой воле.
Дружба льва с человеком казалась невероятным, неслыханным
чудом.
Моряк, с бороды которого струйками стекала вода,
бормотал:
— Сгинь, злой дух, сгинь!
Ганнон засмеялся:
— Я возьму вас обоих, Бокх!
Но тут заворчал Малх:
— Пусть поразят меня боги в пятое ребро, если этот
зверь не распугает всех матросов!
— Не сердись, старина! — Ганнон добродушно
похлопал его по плечу. — Моряки собьют крепкую клетку, и
лев никому не помешает.
— Но как он перенесет качку? — смягчился Малх.
— Что вынесет человек, стерпит и лев, — коротко
ответил маврузий.
— Хорошо сказано! — откликнулся Ганнон.
По доске лев перешел на лодку. Она закачалась и
осела под его тяжестью. Перед тем как последовать за львом,
Бокх вложил два пальца в рот и громко свистнул. Из-за
прибрежного холма показалась небольшая лошадка. У нее
были костистые ноги, необычайно длинная шея, на
которой болтался обрывок бечевки. Лошадь приблизилась к
Бокху и остановилась, наклонив свою худую,
шишковатую голову. Бокх обнял голову лошади и крепко поцеловал
ее в лоб.
— Не задумал ли ты взять на корабль и коня? —
испуганно спросил Малх.
Маврузий отвернулся. В глазах его блеснули слезы.
* * *
С приливом корабли снялись с якоря. Ганнон
приказал принести жертву богам. Зарезали овцу и ее кровью сма-
97
4 532
зали губы деревянной статуи Пуам на носу "Сына бури".
Тушу бросили в волны.
Ганнон простился с моряками. Суффет был доволен.
Поселенцы высажены на берег. Длинный и опасный путь
обошелся без потерь. Он возвращает республике ее флот. Сам
он вернется не скоро. Ему предстоит плавание,
беспримерное в летописях Карфагена. Пусть об этом узнают отцы
города.
В открытом море корабли разошлись в разные
стороны: "Сын бури" повернул на юг, а другие корабли — на
север, к Столбам Мелькарта. Ганнон молча смотрел на
паруса, напоминавшие лепестки лилий, едва окрашенные
розовой краской заката, смотрел, пока они не растаяли на
горизонте.
КЕРНА
Прошел месяц, с тех пор как "Сын бури" покинул
дружественный Лике. Остались позади основанные недавно
колонии. Корабль прошел мимо них. Ганнон боялся
упустить попутный ветер.
Вместо лесов и травянистых лугов тянутся желтые
безжизненные пески. Берег ровный. Прибой бушует с
огромной силой. Нередко берег скрывается за мелкими
брызгами разбивающихся волн.
Ветер дует в корму, унося корабль все дальше и
дальше на юг. Но вдруг ветер переменился и стал дуть в
левый борт. Люди изнемогали от жары. Спать в каюте стало
невозможно. Ганнон приказал постелить себе на палубе
рядом с Малхом.
Утром его разбудил гул голосов. Подняв голову, он
увидел матросов, стоявших у мачты.
Ганнон вскочил.
— Что случилось? — с тревогой спросил он.
И в это же мгновение сам заметил, что паруса за ночь
изменили цвет. Из белых они сделались желтыми, как
яичный желток.
В ужасе моряки упали на колени, взывая к богам.
Один из матросов подошел к Ганнону. Сверкая белками
глаз, он закричал:
— Куда мы плывем? Сегодня стали желтыми паруса,
98
а завтра боги испепелят нас и мы сморщимся, как плод
смоковницы, сбитый с ветвей!
Матросы ринулись к суффету. Угрюмо и недоверчиво
смотрели они на него. Ганнон стоял, скрестив руки на
груди. Ему самому было непонятно, почему пожелтели паруса,
и он готов был видеть в этом дурное предзнаменование.
— Стойте! — послышался голос Мидаклита.
Грек, незаметно поднявшись на палубу, торопился на
помощь к Ганнону.
Матросы затихли.
— Помните, — сказал Мидаклит, тяжело дыша, —
вчера ветер задул с берега. Парусина утром покрылась
росой. К ней пристали мельчайшие песчинки, принесенные
ветром, поэтому и пожелтели паруса.
Матросы медленно расходились. Одни из них поняли
правоту грека, других убедила уверенность, звучавшая в его
голосе.
— Спасибо, учитель! — сказал Ганнон Мидаклиту,
когда они остались одни. — Ты прогнал страх, овладевший
этими людьми.
— "Страх, страх"! — повторил грек, как бы отвечая
своим мыслям. — Страх — величайшее зло и величайшая
сила. На страхе основаны царства. Пользуясь им, цари
Египта принуждали народ возводить пирамиды. Что заставляет
твоих гребцов ворочать тяжелые весла? Страх перед болью.
Что владеет нами? Страх перед неизведанным! Страх перед
богами! Страх перед смертью! Но, поверь мне,
когда-нибудь человек победит своего векового врага. Страх и ужас
сгинут, как ночные тени перед лучами солнца. О, если бы
вместо того, чтобы поднимать оружие друг против друга,
люди объявили войну страху! Тогда бы пришел конец
царству страха и человек был бы свободен как ветер.
С восхищением слушал Ганнон мудрые речи учителя.
"Разве, — думал он, — я не объявил войну страху? Я
повел корабли в неведомые моря. Вот почему против меня
восстали Магарбал и Стратон. Вся их власть держится на
слепом страхе и невежестве людей".
Еще три дня корабль шел вдоль пустынного берега. На
четвертый день пески сменились травянистыми лугами, а на
шестые сутки показался мыс, покрытый сочной, сверкающей
зеленью. Огибая его, корабль повернул на восток и вошел
в большой залив, формой своей напоминавший подкову.
99
Из воды высовывались острые камни, похожие на
головы каких-то диковинных зверей. Виднелись отмели, над
которыми кружили чайки. В их черных клювах блестели
серебряные рыбки.
Ганнон приказал спустить паруса и двигаться на
веслах. Перегнувшись за борт, Малх длинным шестом
проверял дно. Лишь к вечеру корабль подошел к небольшому
островку в глубине залива.
— Керна! — крикнул Бокх, протягивая вперед руку.
Ганнон приказал спустить носовой якорь. Якорь
скользнул под воду. Начавшийся отлив натянул якорную цепь, и
"Сын бури", развернувшись из-за сильного течения, стал
кормой к островку.
Между тем Мидаклит принес из каюты "рисунок
земли". Склонившись над медной доской, грек наносил острым
стержнем дугу залива и Керну — точку у самого берега.
Потом он стал по "рисунку земли" измерять расстояние,
пройденное кораблем от Карфагена.
— Смотри! — воскликнул он, повернувшись к Ганно-
ну. — Какой мы проделали путь! Он вдвое превышает
расстояние от Карфагена до Столбов. Ни один корабль не
заплывал еще так далеко!
— А где же твоя Атлантида? — с улыбкой
проговорил Ганнон. — Теперь ты понимаешь, что это сказка.
— Я и сам готов был бы так думать, если бы не щит
и костяная табличка, выпавшая из него. Океан велик: кому
известно, что там? — Грек указал рукой на закат.
Огненный диск солнца медленно обволакивался
влажным туманом, в последний раз празднично вспыхнули
волны, торжественно загорелись облака. Ветер доносил с
берега запахи огромного, таинственного материка.
Быстро, как всегда на юге, наступила ночь. Узкая
серебряная полоса протянулась от кормы до горизонта. Она
становилась все шире и светлее. Небо покрылось звездами,
бледными, как медузы. Большой Ковш спустился к
самому морю, словно чья-то рука накренила его, чтобы
зачерпнуть воду.
Послышались легкие шаги. Синта стала рядом с Ган-
ноном. Корабль качало. Ганнону казалось, что их поднимают
волны счастья, что звезды сочувственно смотрят на них с
высоты.
— Вот моя звезда! — Синта указала на Сириус. —
100
Когда я родилась, она взошла на небе. Отец говорил, что
это злая звезда. Она несет на землю зной.
— А по мне, это самая счастливая звездочка. Смотри,
как она дрожит и трепещет! Как она прекрасна! Она
принесла на свет тебя.
Опустела палуба. На корабле все стихло.
* * *
После полуночи у скамьи гребцов мелькнули две тени.
Негромко звякнули цепи.
— Скоро ли? — послышался приглушенный шепот.
— Ждите! — последовал ответ. — Ваша свобода — в
моем кулаке.
— А ты нас не обманешь?
— Слово Мастарны крепче камня!
Пираты поднимались на палубу. Мастарна что-то
шепнул на ухо Саулу, и тот залился раскатистым смехом.
— Аи да хозяин! — выдохнул Саул, потирая руки. —
С тобой не пропадешь!
Внезапно зарычал Гуда. Прислушиваясь к звукам
человеческого голоса, лев колотил хвостом по своим бокам
и глухо рычал.
Иудей пригрозил льву кулаком:
— Смотри! Спихну тебя в море!
— Какой храбрый, когда лев в клетке, — смеялся
Мастарна.
Смолк и лев. И только с берега доносился рокот волн
и крики морских птиц, резкие и унылые.
НЕМОЙ ТОРГ
В каюту постучали. Синта отложила в сторону
вышивку и открыла дверь. Вошел Мастарна.
— Ну что ж, будем торговать, суффет? — спросил он,
скомкав в кулаке бороду.
— Попробуем! — ответил ему в тон Ганнон. —
Сейчас прикажу Малху приготовить лодку.
Еще до полудня лодка была нагружена товаром:
яркими дешевыми тканями, стеклянными побрякушками,
медными и железными кольцами. Все это ценилось
туземцами, жившими на берегу обширного залива, называвшегося
почему-то Золотой рекой.
101
В лодку, где уже сидели Ганнон, Мидаклит, Малх и
Мастарна, спустился Бокх. Льва ему пришлось оставить
на палубе, но, перед тем как покинуть корабль, он
подошел к клетке и ласково провел ладонью по лбу Гуды.
Мастарна стоял на носу. Малх правил на черный
блестящий камень с раздвоенной вершиной. У камня
клокотали волны. Обойдя его, лодка вошла в небольшую
бухточку и уткнулась носом в берег. Он был низкий, песчаный,
поросший густым кустарником, постепенно переходившим
в лес. Поодаль виднелась небольшая поляна.
Вытащив лодку на песок, карфагеняне принялись
выгружать товары.
— Несите их туда! — Бокх указал рукой на поляну.
— Зачем? — удивился Ганнон. — Ведь обычно
торгуют на берегу.
— Здесь не Карфаген, — коротко отвечал маврузий.
Последовав совету Бокха, карфагеняне отнесли товары
на поляну. Это была обычная поляна, покрытая
пожелтевшей травой.
— Ну что ж,— сказал Ганнон, окидывая взглядом
своих спутников и товары, — все готово для торговли.
Недостает лишь малого — покупателей!
Карфагеняне рассмеялись.
— Они придут! — уверенно сказал Бокх. — Только
надо возвратиться к лодкам.
— Зачем же мы несли товары сюда? — недоумевал
Малх. — Может быть, ты хочешь сказать, что надо
оставить товары здесь, а самим идти к берегу?
Маврузий кивнул головой.
— Удивительная страна! — воскликнул грек. —
Бросить товары без присмотра? Попробуй это сделать в
Карфагене или в моем родном Милете — разоришься в
первый же день!
— Они, наверное, заберут наши товары и оставят
взамен золото, — предположил Ганнон.
— Оставят тебе щепотку, — ворчал Малх, — будешь
и этому рад.
Пока карфагеняне разговаривали, Бокх собирал на
берегу сухие сучья. Сложив их, он вытащил захваченный им
на корабле трут. Вспыхнул огонь. Ветер дул с моря, и дым
потянуло в сторону суши.
Ганнон оглянулся. Ему показалось, что на поляне мельк-
102
нула черная фигурка. Потом она исчезла, словно
провалившись под землю. И вскоре в кустах за поляной задымил
костер.
— Что это значит? — удивился Малх.
— Это значит, что можно идти, — пояснил маврузий.
Карфагеняне направились к поляне. Ганнон шел
первым. Ему не терпелось осмотреть оставленные товары. Уже
издали было видно, что они лежат на своих местах. Не
пропало ни одного колечка, ни одной побрякушки.
Неподалеку от товаров лежало два кожаных мешочка. Ганнон
взвесил один из них в руке. Мастарна развязал другой, и глаза
его жадно заблестели.
— Золото! — выдохнул он.
— На него можно снарядить гаулу и расплатиться с
ликситами, — обрадованно сказал Малх.
Один Бокх был чем-то недоволен.
— Идите назад к лодкам. А золото оставьте здесь.
— Зачем же его оставлять? — заволновался Мастарна.
— Послушаемся Бокха, — промолвил Ганнон, положив
кожаный мешочек на землю.
Мастарна, ворча, повиновался суффету.
На берегу маврузий разжег еще один костер. Выждав
немного времени, карфагеняне вновь отправились на
поляну. У товаров стояло четыре мешочка с золотом.
Лицо Мастарны расплылось в улыбке:
— Клянусь морем, — он хлопнул Бокха по плечу, —
ты умеешь торговать!
Забрав золото, карфагеняне направились к лодке,
оставив товары невидимым покупателям.
Ганнон испытывал большое удовлетворение. "Отсюда, —
думал он, — река золота потечет в Карфаген, и залив
оправдает свое название".
Оставалось закрепить за собой Керну до прибытия
колонистов. Ганнон решил оставить на островке моряков,
снабдив их припасами, оружием, сетями для рыбной ловли.
Судя по обилию чаек, в заливе было множество рыбы.
Моряки принялись рубить лес и расчищать место для
хижин. В них они поселятся сами. Потом их заменят
колонисты из Карфагена. Одновременно Ганнон готовил
корабль к плаванию.
Бокх рассказал, что к югу от Керны в океан впадает
103
большая река Хрета1. На ее берегах добывают золото,
которым торгуют в Керне. К Хрете и решил плыть Ганнон.
БОЛЬШАЯ РЕКА
"Сын бури" мчался к югу, и какая-то пугающая
беспечность была в легкости его движения.
После пяти дней плавания показался широкий,
окутанный дымкой залив. Воды его имели желтый цвет, и Ганнон
понял, что в залив впадает большая река. Это и была Хрета.
Чтобы войти в реку, пришлось ждать прилива. О его
приближении свидетельствовали глухой, могучий рев и
белая полоса пены.
По сравнению с Хретой все виденные Ганноном реки
могли показаться ручейками. Корабль шел посередине реки,
ее берега были едва видны.
Странное чувство овладело Ганноном: ведь здесь не был
ни один человек, родившийся на берегах Внутреннего моря.
Неведомый мир властно звал его вперед. Голова была в
тумане, сердце стучало.
На песчаных отмелях, как черные бревна, лежали
огромные ящерицы. Их пасти с острыми зубами были
раскрыты, словно в язвительной усмешке.
— Смотри, что это за чудовище! — воскликнул Гискон.
Мидаклит радостно потирал руки:
— Это крокодил, или, как его называют египтяне, ха-
мис. Крокодилы в Хрете! Гекатей уверяет, что они
водятся только в Ниле!
— А можс г быть, эта река и есть рукав Нила? —
предположил Га км;.*?
— Возможно, ты и прав. Нил и эта река могут иметь
общие истоки2.
Морякам встретились и бегемоты. Одно из чудовищ
проплыло возле самого корабля.
Мидаклит и Ганнон ринулись к борту, чтобы
рассмотреть речного гиганта. Он был в длину не менее десяти
локтей. Кожа на его боках обвисала толстыми складками.
1 Хрета — теперь река Сенегал.
2 Вплоть до середины XIX века европейцы не знали, что Нил берет
начало в озерах Центральной Африки. Многие древние авторы
считали, что Нил вытекает из океана.
104
— Гиппопотам! — сказал Мидаклит по-гречески1.
— А мне кажется, — возразил Ганнон, — бегемот
скорее похож на речную свинью.
— И мясо у него как у свиньи, — вставил Малх. —
Давайте его убьем!
— Как ты это сделаешь, если его шкура толще, чем
обшивка на твоем корабле, и из воды торчит только один нос!
— Не только нос, но уши и глаза! — поправил
Мидаклит. — Он слышит, и видит, и нюхает, но почти весь в
воде.
Корабль подошел ближе к берегу и стал на якорь.
В лодку спустились Малх, Мидаклит, Бокх, Саул и Мас-
тарна.
— Возьмите и меня! — попросил Гискон.
Ганнон сделал мальчику знак, чтобы он оставался на
корабле, и, махнув на прощание Синте, вышедшей его
проводить, спустился в лодку.
Берег, на который они высадились, был покрыт
высокой болотной травой и огромными стволами деревьев,
видимо сваленных бурей. Высохшая верхушка одного дерева
лежала прямо на воде, и Мастарна решил привязать к ней
лодку.
При его приближении, поднимая тучи брызг, в воду
бросился крокодил. Саул погрозил ему кулаком:
— Проваливай, а то я спущу с тебя шкуру и сделаю
из нее отличную плеть! Такая плеть сможет поднять и
мертвого! — И он подмигнул Мастарне.
— Не отнести ли нам товары туда? — Мастарна
указал на песчаную отмель шагах в двухстах от того места,
где они высадились. — Тут сыро!
— А пока вы перенесете товары, мы с Мастарной
поедем за новой партией, — предложил Саул.
— Обернемся мигом! — добавил тот, заметив, что
Ганнон колеблется.
Мастарна сделал знак Саулу, чтобы тот следовал за
ним. Оба прыгнули в лодку и налегли на весла.
Карфагеняне перенесли товары на песчаную отмель и стали
собирать сучья для костра. Это оказалось не легким делом.
Поваленные стволы деревьев, так же как и трава, были
пропитаны влагой. Собрав сучья, Ганнон отнес их к Бокху,
1 Гиппопотам — по-гречески "речной конь".
105
высекавшему с помощью кремня и кусочка железа огонь.
Маврузий не привык к такому способу добывания огня и,
утомленный бесплодными попытками, бросил наконец
кремень и железо в воду. Взяв палочку, он острогал ее конец,
видимо решив добыть огонь по-своему. Ганнон присел на
корточки, наблюдая за приготовлениями Бокха. Ему еще
никогда не приходилось видеть, как добывают огонь без
кремня и железа. Бокх не мог отыскать сухого куска
дерева. На помощь ему пришел Малх. Он предложил мавру-
зию щепку, отколотую от весла.
Мидаклит бродил по берегу, разглядывая невиданные
травы.
— Беда! Беда! — вдруг послышался его взволнованный
голос.
Грек бежал, размахивая руками.
Ганнон вскочил и побежал навстречу учителю.
Грек тяжело дышал.
— Ушел! — наконец выдохнул он.
— Кто ушел?
Мидаклит молча указал на реку. И тут только Ганнон
разглядел, к своему ужасу, удаляющегося "Сына бури".
— Будь проклят этот этруск! — яростно закричал
Малх. — Клянусь морем, это его работа! А ты еще его
выкупил из рабства! — Старый моряк потрясал кулаками.
Ганнон сидел неподвижно. В его памяти всплыли
слова Мидаклита: "Не нравятся мне эти друзья. Жди от них
беды, суффет". И вот пришла беда, неожиданная и
неотвратимая. Что будет с Синтой? Пираты могут надругаться
над ней, продать ее в рабство! Хорошо, что с Синтой
маленький друг. Но сможет ли он ей помочь?
Внезапно Ганнон ударил себя ладонью по лбу:
— Это он! Как я не догадался сразу!
— О ком ты говоришь?
— Мастарна! Это он тогда ночью искал Синту. Это его
видел Гискон!
— Похоже, что ты прав, — вздохнул Малх. —
Выходит, что его подговорил Стратон, порази его бог в пятое
ребро! Мидаклит, а как полагаешь ты?
Грек ходил по берегу. Судя по коротким фразам,
изредка вылетавшим из его уст, Мидаклита больше всего
волновала судьба свитка и "рисунка земли", оставшихся
на корабле. То и дело Мидаклит вытаскивал из-под хитона
106
костяную табличку с дорогой его сердцу надписью
"Атлантида" и смотрел на нее с таким видом, словно хотел
сказать: "У меня осталось только это".
Услышав, что его зовут, грек подошел.
— Вы хотите знать, что я думаю обо всем этом? Так
слушайте. Двое пиратов не могли сами захватить корабль.
У них были сообщники. Чудес не бывает. Им помочь могли
только рабы!
— Рабы? — воскликнул Ганнон. — Но ведь пираты с
ними так жестоко обращались!
— Нет, ты не послушался моего совета, — вздохнул
Мидаклит. — Ты не счел нужным посмотреть в обратную
сторону!
— Седая борода прав, — вступил в разговор мавру-
зий. — Плохие люди мало били рабов, а те сильно
кричали.
— Не будем терять времени, — предложил Ганнон. —
Надо решать, как нам быть.
— До Керны можно добраться сушей или морем, —
рассуждал Мидаклит.
— У нас нет лодки! — возразил Ганнон.
— Ее можно соорудить! — Грек взглянул на Малха,
ожидая его поддержки.
— Чем мы ее будем делать? — вздохнул старый
моряк. — Мы должны срубить и выдолбить дерево,
изготовить весла — на это уйдет не менее двадцати дней. А за
это время, если позволят боги, можно добраться до Керны
пешком.
Доводы Малха показались всем убедительными. Было
решено не мешкая держать путь в Керну. Карфагеняне
рассчитали, что путь до Керны займет не менее месяца. Ведь
придется идти только днем.
Взвалив на спину тюки материи, которые теперь имели
неизмеримо большую ценность, чем все золото Хреты, они
тронулись в путь.
В СТРАНЕ ЧУДЕС
БУНТ
Гискон ничком лежал у мачты. Голова гудела, как
корабельный колокол, в который бьют во время бури.
Мальчик приподнялся. В глаза ему бросились обломки весел,
сломанные древки копий. Сначала Гискон не мог понять,
где он, что с ним случилось. Но вот память мгновенно
возвратила его к прошлому.
Да, началось это с того, что к судну подошла лодка.
На палубу поднялся Мастарна и стал подтаскивать к
борту корабля товары. Потом Мастарна наклонился над
бортом и крикнул Саулу:
— Перемени весла!
Иудей привязал лодку к веревочной лестнице, вытянул
весла из петель и передал их Мастарне. Потом, быстро
поднявшись на корабль, спустился на нижнюю палубу.
Гискон знал, что там, рядом со скамьей гребцов, хранятся
запасные весла.
Но что это за крики, звон и шум? Может быть, Саул
снова бьет гребцов? Нет, это гребцы выбегают на палубу.
В руках у них цепи и весла. Они вопят. Лица их
искажены яростью.
— Бунт! Бунт! — закричал один из матросов, но
тотчас же свалился под ноги Мастарне.
Этруск мгновенно раскроил ему череп.
И только тогда Гискон понял, что гребцы не сами
освободились от оков, что все происходящее на его глазах —
дело рук пиратов, задолго до этого дня готовившихся к
нападению.
— Лопни мои глаза! — кричал Саул. — Сдавайтесь!
Но только двое матросов бросились плашмя на
палубу, моля о пощаде. Несколько человек кинулось в трюм,
где хранилось оружие. Но под ними рухнула лестница.
Видимо, ее подпилили заранее. Один моряк спасаясь от
ярости гребцов, взбирался на мачту, но руки его
соскользнули, и он упал. Разъяренные гребцы окружили его.
В это время один из матросов выхватил у гребца
весло и ловким ударом свалил его с ног. Саул с грозным ре-
108
вом бросился на матроса. И вот тогда Гискон решил, что
и он может принять участие в схватке. Как кошка, он
прыгнул на иудея.
Но Саул просто отмахнулся от него, как от надоедливой
мухи. Гискон покатился по палубе. Тюк материи спас ему
жизнь: он смягчил силу удара.
Что же произошло дальше? Этого Гискон не знал. Уже
смеркалось. Гискон понял, что он долго был без сознания.
И вдруг им овладела мучительная мысль: "Пираты
захватили корабль! А где же Ганнон и Мидаклит? Где Малх?
Они остались в чужой стране. Что их ждет? Как им
помочь? Где Синта?"
— Лопни мои глаза, а ведь рыбка клюнула! —
раздался вдруг знакомый голос над головой Гискона.
Гискон стиснул зубы.
— Наживка была что надо! — самодовольно ответил
этруск. — Пусть они теперь добираются пешком до своей
Керны!
— Не надо было их выпускать! — проворчал Саул.
— А вдруг они спасутся? Тогда нам несдобровать!
— Будь они во время схватки на корабле, неизвестно,
как бы все обернулось, — возразил этруск.
— Лопни мои глаза! Представляю, как они скулили,
увидев, что корабль ушел. Хотел бы я на них посмотреть!
— Опоздал! Их уже, наверное, сожрали звери.
Послышались тяжелые шаги, скрип лестницы. Потом
все стихло.
Превозмогая боль, мальчик поднялся и взглянул на
клетку, где сидел Гуда.
Клетка со львом стояла на прежнем месте. Лев
ходил из угла в угол, с тоской вглядываясь в грозно
шумевшее море.
"Где же Синта? — думал Гискон. — Во время
схватки ее не было на палубе... Так это Мастарна! —
вспыхнула в его мозгу мысль. — Вот кто был ночью у костра
вместе со Стратоном. Это жрец подговорил пиратов захватить
Синту, чтобы вернуть ее в храм Танит".
Гискон спустился по деревянной лестнице. В каюте
Ганнона было тихо. Гискон осторожно приоткрыл дверь и
отшатнулся. Он увидел Синту: ноги и руки ее были
затянуты веревками, голова с распущенными волосами
наклонена, глаза закрыты.
109
— Синта! — прошептал мальчик, переступая порог.
Синта вздрогнула. Увидев Гискона, она рванулась к
нему и упала на ковер. В этот момент мальчик
почувствовал, что чьи-то жесткие пальцы больно стиснули ему ухо.
— Щенок! — шипел Мастарна. — Еще раз войдешь
сюда — задушу. А тебе, — обратился он к Синте, нагло
улыбаясь, — советую быть поласковее. Твой хозяин
теперь я!
ГОСТИ МАСТАРНЫ
Прошло несколько дней. За это время Гискон узнал, что
после схватки на корабле в живых осталось лишь четверо
матросов. Они посажены за весла. Освобожденные
пиратами гребцы помогают им с неохотой. Мастарна и Саул,
видимо, этим озабочены. Они постоянно шепчутся и
смотрят на берег, словно ищут там спасения.
Вчера Мастарна подвел корабль к самому берегу и
приказал спустить паруса. Это стоило немалых трудов. Со
спущенными парусами "Сын бури" вошел в устье небольшой
речки, возможно рукава Хреты. На правом ее берегу,
шагах в двухстах от воды, виднелось несколько десятков
жалких шалашей. Мастарна жадно и нетерпеливо глядел на
них, потирая руки.
Появление корабля вызвало ужас у обитателей хижин.
Они попрятались в кустах. Но, убедившись, что
пришельцы мирно бродят по берегу, чернокожие осмелели. По двое,
по трое они подходили к песчаной косе, близ которой
стоял на якоре "Сын бури". Здесь они находили оставленные
для них разноцветные кусочки материи, стекляшки и
дешевые медные фибулы1. От радости туземцы щелкали
языком, хлопали себя по животу, подпрыгивали.
На следующее утро Мастарна приказал развесить на
перилах и реях яркие ткани. Судно стало напоминать
персидский базар. На воду была спущена лодка, также
украшенная тканями. С лодки на косу были переброшены
сходни. Гискон понял коварный замысел пиратов: они хотели
заманить чернокожих на корабль.
У сходен собралось человек двадцать туземцев, но никто
Фибулы — большие булавки для скрепления одежды.
ПО
из них не решался взойти на диковинное сооружение,
полное заманчивых вещей. Многие почему-то указывали
пальцами вверх.
"Они, наверное, считают, что корабль упал с неба!" —
решил Гискон.
Наконец мальчик лет десяти, с курчавыми волосами,
совершенно голый, с тугим, как барабан, животом ступил на
сходни и сделал первый шаг. Он оглянулся, посмотрел на
своих соплеменников. Чернокожие стояли не шевелясь,
затаив дыхание.
— Не бойся, малыш, иди сюда! — кричал ему Мастар-
на, протягивая целый кусок материи.
Мальчик догадался, что белый бородатый человек
хочет подарить ему эту чудесную раскрашенную шкуру,
кусочки которой он видел еще вчера на берегу- Неужели ему
одному будет принадлежать это богатство? Он разрежет эту
шкуру кремневым ножом на мелкие полоски и повяжет
вокруг шеи, рук и ног. Он раздаст их своим братьям и
сестрам. И, уже не колеблясь, мальчик взбежал на корабль
и прижал к животу протянутый ему Мастарной кусок
материи. Раздался восхищенный крик чернокожих. Обгоняя
друг друга, они бросились на корабль. Вот они
расхаживают по палубе, заглядывают в каюты и трюм, всему
поражаются. Особенно удивительно большое бронзовое
зеркало, которое вынес для них Саул. Трудно удержаться от
смеха, видя, как они в ужасе отскакивают от своего
собственного изображения, а потом, осмелев, пытаются его
схватить.
Пираты дружески хлопают дикарей по плечам,
угощают вином и финиками. Чернокожие довольно щелкают
языком. Угощение им нравится.
Несколько дикарей остановились у клетки с Гудой. Лев
ходил из угла в угол, колотил хвостом по своим бокам.
Чернокожие упали на колени. Лев, их самый страшный враг,
покорен этими белолицыми колдунами! Какой же они
должны обладать властью над людьми?
Увлеченные новыми для них вещами, обманутые
ласковым обращением, туземцы не заметили, как матросы
подняли сходни и корабль стал медленно отходить от берега.
Первым это обнаружил мальчик, которому Мастарна
подарил кусок материи. Он хотел сойти на берег, унести свое
сокровище, но сходен не было. Полоса воды отделяла ко-
111
рабль от берега. Мальчик вздрогнул, как перепел от тени
ястреба, и издал жалобный крик.
Дикари в ужасе метались по кораблю. Но пираты
ловкими ударами свалили их на палубу и живо скрутили им
руки и ноги плетеными ремнями. Одному чернокожему
удалось прыгнуть за борт. Мастарна приказал Саулу убить
пловца. Но чернокожий, увидев дротик в руках иудея, с
головой погрузился в воду. Он вынырнул у самого берега,
вышел на берег, отряхнулся от воды, как утка, и, не
оглядываясь, бросился к хижинам.
Пока пираты приковывали пленников к веслам
ржавыми цепями, Мастарна вслух подсчитывал добычу:
— Девятнадцать мужчин и один мальчишка!
На берег высыпала толпа разъяренных туземцев. Они
грозили кораблю кулаками, исступленно кричали. В руках
у них были палки, камни и изогнутые луки.
Град камней обрушился на "Сына бури". Камни
ударялись о борт корабля, о перила, но не причиняли пиратам
никакого вреда.
Пленники увидели своих сородичей. Они пытались
разорвать цепи руками, перегрызть их. Яростный вопль
ужаса и бессилия сотрясал корабль.
А тем временем гребцы под наблюдением Саула
натягивали паруса. Был прилив, и корабль мог выйти в море.
Вдруг один из гребцов упал. Лицо его исказилось
предсмертной судорогой. На синих вывернутых губах
показалась пена.
Саул бросился к упавшему. Оперенное древко
небольшой стрелки торчало в его бедре.
— Отравленные стрелы! — в ужасе завопил иудей и
стремглав побежал к другому борту.
Человек тридцать чернокожих кинулись в воду. Вот они
уже подплывают к кораблю и хватаются за его весла.
В это время послышался страшный рев. Над палубой
мелькнуло огромное огненное тело. Это был Гуда. Сделав
гигантский прыжок, лев оказался на берегу среди
мечущихся в панике чернокожих.
К вечеру "Сын бури" был уже далеко от того места,
где были предательски захвачены туземцы. Шум волн
заглушался тяжелыми ударами весел, свистом хлыста и
воплями чернокожих. Мастарна учил новых гребцов
обращению с веслами.
112
— Довольно, хозяин! — крикнул Саул. — В один день
не выучишь!
Что-то проворчав, этруск спустился в трюм. Оттуда
раздался глухой шум, словно передвигали какую-то тяжесть,
звон чаш.
"Пьют! — подумал Гискон. — В трюме много вина. Его
прислал в подарок Ганнону суффет Гадира".
При мысли о Ганноне сердце мальчика больно сжалось.
Это он, когда пираты были заняты чернокожими,
незаметно выпустил Гуду. Гискон думал, что лев кинется на
пиратов и растерзает их. Тогда можно будет освободить тех
четырех моряков, которых Мастарна приковал к веслам, и
привести корабль в Керну. Но лев бросился в море.
Невольно он, Гискон, помог этруску. Удивительно, пираты
даже не заподозрили, что клетка была открыта мальчиком.
Они убеждены, что Гуда не просто лев, а оборотень. Что
ему стоило самому отодвинуть железный засов? Пираты
радуются своему спасению и тому, что они избавились от
этого страшного зверя. Сколько сразу удач выпало на их
долю: захватили корабль, заманили чернокожих, избавились
от льва.
Мальчик как-то слышал об умной собаке, отыскавшей
заблудившегося хозяина. Не сможет ли Гуда найти Бокха?
Тогда Ганнону будут не страшны ни дикие звери, ни дикие
люди. Гуда их спасет, как дельфин спас того греческого
певца, выброшенного в море такими же коварными
людьми, как Мастарна и Саул.
Гискон прошел к корме. За кораблем неотступно
следовала акула. Видимо, тело гребца, погибшего от
отравленной стрелы, пришлось чудовищу по вкусу. Время от
времени акула переворачивалась, показывая брюхо
молочного цвета и пасть, усеянную острыми зубами.
Из трюма доносились звуки песни. Гискон впервые
услышал ее в Гадире, около таверны. Тот день принес им всем
несчастье. Какой злой дух послал этих проклятых пиратов!
Слова песни сливались с рокотом волн. Это придавало ей
какую-то грозную силу:
Мы землю быками не пашем,
Сохой не взрыхляем пласты.
На легких суденышках наших
Мы килем волну бороздим...
Волну бороздим.
114
Мы вечные странники моря
Нас кормит и поит оно.
Сулит нам и радость и горе,
Дарует и хлеб и вино...
И хлеб и вино.
Трепещет лазоревый парус,
Гаула, как чайка, быстра.
Как буря, страшна наша ярость
Ведь смерть нам родная сестра...
Родная сестра.
ГЛАЗА ЛЕОПАРДА
Люди шли к морю. Впереди был маврузий, самый
опытный и сильный, за ним шагали Малх и Мидаклит.
Шествие замыкал Ганнон. Одиночные кусты, поднимавшиеся
среди сероватой травы, вскоре превратилась в чащу. На
влажной земле виднелись следы каких-то зверей. Деревья
были оплетены колючими растениями. Все имело такой
зловещий вид, словно боги хотели преградить путникам
дорогу в этот лес. Приходилось пробираться через колючую
чащу, рвалась в клочья одежда. Руки и ноги были в
крови. Людей, привыкших к просторам моря, быстро утомил
душный и влажный воздух этого леса. По спинам тек
горячий пот.
Лишь вечером путники вышли к морю. Оно встретило
их рокотом огромных валов. Валы накатывались на низкий
отлогий берег. Неподалеку виднелся холм, заросший сочной
травой. Ганнон поднялся на него. Он долго всматривался
в морскую даль, словно надеялся увидеть крыло паруса. Но
море было пустынным. Солнце медленно опускалось за
линию горизонта.
Здесь же решили заночевать. Небо покрылось
бесчисленными звездами. Из лесу доносился звериный рев и хохот.
Только один Бокх мог различать в нем голоса
отдельных животных — льва, гиены, шакала. По рыку льва он
знал, что царь зверей уже насытился и лежит около
растерзанной туши какого-нибудь животного, а шакалы стоят
поодаль в нетерпеливом ожидании, как голодные рабы перед
пиршественным столом.
— Веселая музыка! — вздохнул Ганнон,
поворачиваясь на бок.
115
— Там! Там! — раздался взволнованный шепот грека.
Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Мидаклит.
Локтях в двадцати от них, в кустах, они разглядели два
горящих огонька.
— Леопард! — закричал Малх, хватаясь за дротик.
Еще через мгновение его дротик полетел в хищника.
Ганнон невольно вздрогнул. Сейчас зверь с ревом
обрушится на них. Люди замерли. Но что это? Горящие зрачки не
двигались. Словно зверь хотел сначала испытать их
терпение, а потом уж расправиться с ними.
— Ха-ха! — раздался вдруг смех маврузия. —
Хотите, я принесу вам один глаз леопарда?
Бокх смело шагнул в темноту и слился с нею.
Слышно было, как он шарит в кустах. Вот трещат ветки под его
ногами. Маврузий возвращается. И там, где раньше
горели два огонька, теперь сверкал лишь один.
— Вот вам и глаз леопарда! — Бокх, смеясь,
протянул ладонь.
На ней лежал черный комочек. Это был
просто-напросто светящийся жучок.
— Как же это ты? — посмеивался над Малхом
маврузий. — Дал себя обмануть таким маленьким козявкам.
Возьми свой дротик!
Укутавшись в плащ, Ганнон лежал с сомкнутыми
глазами. Он надеялся быстро уснуть, но сон бежал от него.
К полуночи его одолела усталость, и он забылся.
ВТОРАЯ ЗАРУБКА
Умывшись морской водой, путники закусили
моллюсками. После них захотелось пить, но пресной воды
поблизости не было.
Грек предложил набрать моллюсков в дорогу.
— Зачем? — возразил ему Малх. — Если держаться
берега, мы их найдем везде. Нас прокормит море.
— Посмотрел бы я, как ты станешь есть всю дорогу
моллюсков, — улыбнулся Ганнон.
Но старый моряк не слушал Ганнона. Он пристально
вглядывался в море, еще подернутое утренним туманом.
— Проклятье! Парус! — вдруг закричал он.
— Где? Где?
116
— Видите? Вон там! Пират издевается над нами. Ох,
попадись он мне в руки!
— А почему ты думаешь, что это именно "Сын
бури"? — спросил Ганнон.
— А кому еще быть в этих водах? — удивился
старый моряк.
— Ты забыл про "Око Мелькарта". Гадирцы могли
починить его, Адгарбал узнал, что мы поплыли к Керне, и
последовал за нами.
— Но Керна далеко на севере. Адгарбал не стал бы
рисковать гаулой. Хоть он и ныряльщик, но человек
осторожный.
— Посмотрите, куда держит путь этот корабль! —
воскликнул грек. — На юг. Это Мастарна. Может быть, он
ищет Атлантиду?
Теперь Ганнон и Малх накинулись на грека.
— Клянусь морем, — вскричал Малх, — я больше не
могу слышать об этой Атлантиде!
Один Бокх не принимал участия в споре. Казалось, его
вовсе не интересовало, что это за корабль. Углубившись в
кусты, он срезал тонкую ровную палочку и засунул ее за
пояс.
К полудню путники подошли к озеру. Оно отделялось
от океана широкой песчаной полосой. Берега озера
заросли высоким тростником и растениями, напоминающими
олеандры. Растения цвели и источали одуряющий аромат.
Ганнон вытащил из ножен меч, стал расчищать им
дорогу к воде. Он рубил стебли, словно сражался с целым
полчищем врагов. Кровавые головы цветов падали к его
ногам, и Ганнон шагал по ним, а вслед за Ганноном шли
его друзья.
Вода пахла гнилью. Ганнон выпил лишь два глотка и,
вытерев ладонью губы, присел на поваленное дерево.
По озеру с громким кряканьем плыли утки и гуси.
— Смотрите! Смотрите! — воскликнул Мидаклит.
Сквозь кусты пробирался огромный бык с толстым,
заострявшимся кверху рогом, но не на голове, а на носу. Бык
спустился к воде. Он не смотрел на людей, словно не
удостаивая их вниманием.
— Это носорог! — восторженно шептал грек. —
Самый загадочный зверь Ливии и самый крупный после
слона. Египтяне считают, что его рог обладает целебной
силой. А порошок из этого рога излечивает любую болезнь.
117
— Я бы предпочел его мясо, — заметил Малх. —
Говорят, чем толще у зверя кожа, тем нежнее его мясо.
— Выкинь это из головы! — набросился на него Ган-
нон. — Надо выбирать добычу по силам. Вот, например,
этот гусь. Мне кажется, из него выйдет недурное жаркое.
С этими словами Ганнон метнул дротик в гуся.
Дротик угодил гусю в грудь. Вода мгновенно окрасилась
кровью. Птица бешено заколотила крыльями, затем бессильно
опустила голову.
— Хороший удар! — похвалил Бокх. — Но как мы его
достанем?
Это оказалось нелегким делом. Лишь после долгих
усилий Ганнону удалось подцепить птицу.
И снова карфагеняне пустились в путь. Уже вечерело,
когда путники подошли к огромному дереву. Оно имело
высоту не более двадцати локтей, но ветви его
простирались на все сто. Они были усеяны плодами в виде
стручков акаций и красивыми белыми цветами1. Среди них,
сверкая ярким оперением, мелькали птицы.
— Не дерево, а целая роща! — воскликнул Мидаклит.
— Если мы все возьмемся за руки, нам не обхватить
его ствол. — восторгался Малх. — Какую лодку можно из
него выдолбить!
— У нас называют его вечным деревом, — пояснил
Бокх. — Я слышал, что оно живет до пяти тысяч лет.
— Значит, оно старше египетских пирамид! —
восторженно промолвил грек. — Воистину это страна чудес! —
Прикоснувшись к рыхлой коре дерева, он добавил: — На
Крите мне показывали платан. Под ним будто бы нашла
убежище дочь финикийского царя Агенора — Европа2,
похищенная громовержцем Зевсом. В Додоне3 я стоял под
священным дубом. По шелесту его листьев жрецы
предсказывали будущее. Но лишь перед этим великаном я готов
склонить голову. Он переживет тысячелетия. Его увидят
люди далекого будущего.
— А почему бы нам не послать весть о себе в эти
1 Путники увидели баобаб.
2 Европа — в греческой мифологии дочь финикийского царя
Агенора. Зевс явился Европе, игравшей с подругами на берегу моря, в виде
белого быка и, похитив ее, увез на остров Крит. Сыновьями Европы и
Зевса считались Минос и Радамант.
3 Додона — древнейшее святилище в Западной Греции со
знаменитым оракулом — священным дубом.
118
далекие времена? — предложил Малх. — Пусть люди
будущего узнают о нас, если мы не можем узнать о них. Не
вырезать ли нам что-нибудь на коре этого великана?
— Ты замечательно придумал! — обрадовался грек. —
Пусть дойдет до потомков хотя бы одно это имя...
С этими словами он взял у Малха нож и вырезал на
коре заглавную букву. За нею появились другие. И вот уже
можно прочесть слово "Ганнон".
— Жаль, что я ничего не смыслю в значках костяной
таблички, — вздохнул грек, передавая нож Малху, — я
бы написал это имя и на языке атлантов.
— И задержал бы нас еще на целый час! —
недовольно проворчал Ганнон. — Какое мне дело до того, будут ли
знать мое имя через пять тысяч лет или не будут! Мне не
нужна слава. Мне хочется узнать только одно: что с Син-
той и Гисконом. Живы ли они?..
Стемнело. Путники остановились на отдых. Бокх
подобрал сухой кусок дерева и сел на корточки. Вынув свою
палочку, которую приготовил утром, он просверлил
отверстие в дереве. Вставив туда палочку, Бокх стал быстро
вращать ее ладонями. Подложив к отверстию сухой мох, он
начал крутить палочку с еще большей силой, пока из-под
мха не показалась струйка дыма. Тогда Бокх наклонился
и осторожно подул на мох. Метнулся крохотный язычок
пламени.
И вот уже пылает костер. Все повеселели:
— Теперь мы стали сильнее во сто раз! — смеется
Малх, протягивая к огню ноги.
— Ты прав, — соглашается грек. — Огонь — это
великая сила. Чем был бы человек без огня? Недаром мои
соотечественники самым благородным героем признают
Прометея: он дал огонь людям.
Ганнон ощипал и выпотрошил гуся.
Бокх ударил себя ладонью по лбу, как человек, едва
не забывший что-то очень важное. Отбежав немного в
сторону, он вскоре возвратился с пучком пахучей травы.
Засунув его в уже очищенного Ганноном гуся, маврузий
блаженно растянулся на траве.
Ганнон насадил тушку на дротик и подставил под
пламя. Вкусно запахло жареным.
— Никогда я не ел такого вкусного гуся! — заявил
Малх.
119
— Просто ты никогда так не был голоден, —
засмеялся Ганнон.
Старый моряк сделал рукой жест, который должен был
означать, что он бывал и не в таких переделках.
Поев, маврузий взялся за свою палочку. Сделав на ней
две зарубки, Бокх отложил палочку в сторону. Ганнон
догадался: зарубки обозначали дни, проведенные в пути.
Сколько еще зарубок появится на этой палочке? Много ли еще
дней даруют им боги?
НОЧНЫЕ ОГНИ
Уже несколько дней шли путники. Кончилось
редколесье. Потянулась бесконечная травянистая степь, кое-где
покрытая жидкими рощицами. Никто из карфагенян не
представлял себе, что травы могут быть так высоки. Когда
путники шли ложбиной, лишь по шелесту травы можно
было догадаться, что впереди идет человек. На равнине
травы были ниже. Здесь головы людей то возвышались над
зелеными волнами, то снова исчезали, и Ганнона все время
не покидало ощущение, что он плывет.
На травянистой равнине паслось множество животных.
Больше всего карфагенян заинтересовали звери с
длинными и тонкими передними ногами и необычайно длинной
пятнистой шеей1. Их головы с короткими рожками и
большими трубчатыми ушами поднимались даже над самой
высокой травой.
— Не удивительно ли! — воскликнул Мидаклит. — На
скалах близ Карфагена я видел рисунки древних людей.
Один из них изображал точно такое животное. Тогда мне
казалось, что это фантазия художника, но теперь я
понимаю: когда-то эти красавцы бродили и на севере Ливии.
Диковинные звери были очень доверчивы. Они
равнодушно смотрели на людей, нюхая верхушки трав. При этом
они высовывали язык, длинный и круглый, как у змей.
— Закачай меня волны, — кричал Малх. — Если
привезти эту тварь в Карфаген, можно разбогатеть, показывая
ее за деньги.
— Хорошо захватить хотя бы такую шкуру! —
мечтательно произнес Мидаклит.
1 Путники увидели жирафов.
120
Но о лишнем грузе не приходилось и думать. Может
быть, потому грек смотрел на невиданных животных с
таким вниманием, словно желал навсегда запечатлеть их в
памяти.
Карфагенянам довелось встретить и буйволов. У них
было огромное мускулистое туловище, широкие копыта и
длинные прямые рога. Глядя на этих мирно пасущихся
животных, трудно было понять тревогу Бокха.
— Нет зверя опаснее буйвола! — говорил Бокх,
уводя карфагенян подальше от стада. — В степи буйвол
владыка. Ему здесь никто не опасен.
— И лев? — спросил Мидаклит.
Маврузий замолк и нахмурился. Видимо, он вспомнил
о Гуде.
— Да, и лев! — сказал маврузий после долгой
паузы. — Раз я возвращался с охоты и увидел буйволов. Они
стояли кругом, а внутри этого круга металась львица.
Разъяренный хищник взвивался в воздух, но всюду натыкался
на острые рога. Круг постепенно смыкался. И тогда
львица нашла смерть под тяжелыми копытами. Буйволы
втоптали ее в землю. В стороне я наткнулся на львенка,
слепого и беспомощного. Это и был Гуда.
— Как же ты приручил его? — заинтересовался
Малх. — Наверное, бил?
Маврузий покачал головой:
— Гуда знал только ласку. Я стал его братом. Мы с
ним были всегда неразлучны, вместе охотились, спали
рядом. Что с ним теперь? Не бросили ли его в море
проклятые пираты?
Бокх разжег костер. Здесь же решили заночевать.
Вечерело. В потемневшем небе красиво парили
большие птицы. С завистью смотрел на них Ганнон. "Мне бы
их крылья, — думал он, — догнать бы "Сына бури"..."
На землю спустилась ночь. Малх уже спал тревожным
сном. Так всегда спят моряки, готовые по первому зову
вскочить на ноги. Бокх растянулся на траве, прикрыв лицо
краем плаща. Он дышал ровно, как ребенок. Заснул и
Мидаклит. Видимо, ему снился хороший сон, его тонкие губы
что-то тихо шептали.
Ганнон пододвинул тюк материи, положил на него
голову и погрузился в дремоту. Когда он открыл глаза, ему
предстало удивительное зрелище: слева и справа
мелькали огоньки.
121
Ганнон разбудил друзей. Молча смотрели карфагеняне
на странные, внезапно появившиеся огни.
— Что это может быть? — первым нарушил молчание
Мидаклит.
— Похоже на костры, — отозвался нерешительно Малх.
— Это костры чернокожих, — подтвердил Бокх. —
Что-то их встревожило, и они переговариваются огнями.
Спать больше не хотелось. Тревога охватила людей.
Ганнон обратил взор к небу. По его краю шествовала
огромная кровавая луна. Робкие звездочки терялись,
бледнея и вздрагивая, словно от страха, и поднимались на
самую вершину небесного купола.
— Танит! — страстно зашептал Ганнон. — Мать
всего живого! Вот моя грудь! Рази меня, только пощади Син-
ту. Даруй ей свободу и счастье!
В ПЛЕНУ
Удушливо и пряно пахли травы. Они поднимались все
выше и выше. Ганнон уже не видел Бокха, шагавшего
впереди, и только слышал его голос.
Так шли они уже несколько часов. Пекло солнце.
Ганнон остановился, чтобы поправить сползшую завязку
сандалий. Внезапно он услышал предостерегающий крик
Бокха и инстинктивно сжал рукоять меча. Но было уже поздно.
Кто-то сзади навалился на Ганнона, и он ощутил
прикосновение голого, скользкого, как рыбья чешуя,
человеческого тела. Напрягая все силы, Ганнон попытался сбросить
с себя тяжесть, но в это время трава раздвинулась и еще
кто-то бросился ему под ноги. Ганнон упал. Через несколько
мгновений отчаянной борьбы руки его были связаны.
И, только лежа на земле, тяжело дыша, он мог разглядеть
своих противников. Это были люди с могучим
телосложением. Их черная кожа блестела, словно смазанная жиром.
Белки глаз были выпучены. Белые полосы на лбу и щеках
придавали их лицам еще более свирепое выражение.
С торжествующим криком чернокожие тащили Ганнона
по земле, словно это был не живой человек, а кожаный
мешок. Колючие растения царапали его грудь и лицо.
Ганнон стиснул зубы от боли.
И вдруг Ганнон увидел своих спутников в жалком,
растерзанном виде. На груди у Бокха не было ожерелья
122
из волчьих зубов. На правом ухе вместо привычной
золотой серьги пламенела капелька крови. У Малха под глазом
был огромный синяк.
Чернокожие, видимо, о чем-то спорили. По мимике и
жестам можно было догадаться, что одни — таких было
меньшинство — хотят увести пленников в сторону моря,
а другие предлагали отправить их в глубь страны. Ссора
утихла, когда чернокожий с удивительно свирепым лицом,
видимо вождь, в шапке из леопардовой шкуры что-то
резко крикнул и сбросил со своей спины отнятые у
карфагенян тюки материи. Те, которые хотели увести пленников
к морю, подхватили эти тюки и исчезли в высокой траве.
Бокх сказал чернокожему в шапке из леопардовой
шкуры несколько слов. Тот в недоумении вытаращил глаза.
— Не понимает! — огорченно промолвил маврузий.
Два дня и две ночи чернокожие вели пленников в глубь
страны. Дикари не считались с тем, что их пленники
устали и были голодны. Если они замедляли шаг, их
подталкивали палками и кулаками. На каждого из карфагенян
приходилось не менее пяти чернокожих, и о бегстве нечего
было и помышлять.
К вечеру пленников привели в селение. Это было
несколько десятков жалких хижин с камышовыми крышами.
Женщины злобно набросились на пленников. И, если бы
карфагенян не втолкнули в какую-то хижину, эти
чернокожие фурии, наверное, растерзали бы их.
Вскоре дверь хижины отворилась, и черная рука
поставила на пол выдолбленную тыкву с водой.
Ганнон мгновенно высунул голову наружу. Хижину
огибал частокол. На кольях торчали человеческие головы,
мужские и женские. Одни, видимо, были отрублены совсем
недавно, у других же провалились глазницы и высохла
кожа. Ганнон с отвращением отпрянул от двери. Снаружи
задвинули засов. В хижине стало темно. Ганнон
прислонился к опорному столбу, поддерживавшему кровлю. Бокх, по
своему обыкновению, присел на корточки. Мидаклит и
Малх легли на листья, устилавшие пол...
ГУДА
Наступило утро. Солнечные лучи пробились сквозь щель,
освещая четырех пленников, сидящих на земляном полу.
124
Снаружи послышался протяжный гул голосов, глухие
удары. Они становились все громче и громче. Ганнон
прислушался. Видимо, чернокожие колотили в барабан.
Заскрипел отодвигаемый засов. На пороге появился
чернокожий в шапке из леопардовой шкуры. Он был
страшен, как дух смерти. На шее у вождя висел большой
кусок синей материи.
"Откуда это у него?" — промелькнула у Ганнона мысль.
Вождь сделал карфагенянам знак, и они вышли. В
мутном утреннем свете глазам пленников явилось страшное
зрелище.
Чернокожие раскачивались и изгибались в причудливой
пляске, образуя круг. Круг этот медленно сужался. Земля
гудела под их ногами. Сверкали поднятые вверх копья.
Прыгали, словно кривлялись, размалеванные маски. Эти
маски были похожи на те, которые карфагеняне кладут в
могилы своим покойникам1.
В середине круга возвышался деревянный истукан.
Туловище его было черное, а голова — цвета жгучего перца.
Их хотят принести в жертву этому Мелькарту
чернокожих!
Двое схватили Бокха за плечи и подтолкнули к
истукану. Вперед вышел чернокожий гигант. В руках он
держал дубину.
— Прощай, Ганнон! Прощайте, друзья! — закричал
маврузий.
И, как бы в ответ на его слова, раздался протяжный
львиный рев. Среди чернокожих поднялось смятение.
Видимо, царь зверей никогда еще не приближался днем к их
жилью. Прошло еще несколько томительных мгновений.
Львиный рев послышался совсем близко.
Люди не успели опомниться, как огромный огненный
шар метнулся через частокол. С диким воплем чернокожие
бросились врассыпную.
Площадь опустела. На земле валялись маски, они уже
не внушали страха. Рядом с поверженным в пыль
истуканом лежала дубина — орудие казни, так и не
пригодившееся палачу. Несколько поодаль распластался кусок
синей материи: вождь бежал первым.
Маврузий опустился на колени.
1 В могилах карфагенян археологи находят погребальные маски.
125
— Гуда! Брат мой! Ты жив.
— Бежим! — крикнул Ганнон. — А то они опомнятся!
Сердце бешено колотится от быстрого бега. Одежда
взмокла от пота. Колючая трава хлещет по лицу.
Первым остановился Бокх. Обернувшись к селению, он
трижды плюнул в его сторону, и проклятия посыпались на
головы туземцев. Когда иссяк запас всех проклятий, Бокх
в изнеможении упал на траву. Гуда подошел к своему
повелителю и лизнул его руку шершавым языком. Маврузий
поднялся и помог карфагенянам освободиться от пут.
— Не чудо ли это? — воскликнул Мидаклит. —
Откуда здесь лев? Ведь он оставался на корабле.
— Оттуда же, откуда кусок материи на шее вождя, —
сказал Ганнон. — В Керне мы торговали красной материей.
Те тюки, что у нас отняли, тоже были красными, а синяя
оставалась на "Сыне бури".
— Ты хочешь сказать, — молвил Мидаклит, — что
пираты после захвата корабля высаживались на берег где-
то поблизости?
— Да. И, наверное, они обидели чернокожих. Помнишь
костры — язык тревоги, непонятную злость этих
чернокожих к нам? Может быть, пираты натравили на чернокожих
Гуду или он сам бежал с корабля.
Ганнон пристально всматривался в желтые зрачки
зверя, словно они могли запечатлеть то, что произошло на
корабле, то, чего Ганнон, может быть, никогда не узнает.
Мидаклит понял Ганнона. "Как ему сейчас тяжело!"
— Я не удивлюсь, если этот лев когда-нибудь
заговорит! — сказал Мидаклит.
— В Египте, — вспомнил Малх, — я наблюдал, как
люди поклоняются черному быку с белым пятном на лбу.
Я не мог удержаться от смеха, видя, как взрослые люди
оплакивают мертвую кошку и воздают ей божеские почести.
Теперь же я сам готов приносить жертвы нашему спасителю.
— А кто не хотел брать моего брата на корабль? —
напомнил маврузий.
Все рассмеялись. Старый моряк только махнул рукой.
У ФАРУЗИЕВ
Море высоких трав. Люди идут, поднимая руки, чтобы
защитить лицо от острых стеблей. Солнце жжет голову, а
126
мокрые обувь и одежда не просыхают. Сандалии
пришлось перевязать тряпками, оторванными от одежды. Ноги
покрылись ссадинами и распухли, но люди идут и идут, а
за ними царственной походкой шагает лев.
Только однажды на пути встретилось одинокое дерево.
Ганнон залез на него, чтобы осмотреться. С высоты ему был
виден темнеющий на горизонте край леса, небольшие
озера и висящие над ними тучи птиц. А это что такое?
Шатры с коническими крышами!
— Там поселок чернокожих, — сказал Ганнон, слезая
с дерева. — Надо его обойти.
Бокх с ловкостью дикой кошки взобрался на
верхушку дерева, и оттуда вдруг раздался его смех. Так весело
он смеялся лишь тогда, когда Малх принял светляков за
глаза леопарда.
— Над чем ты потешаешься? — удивился Ганнон.
— Ты принял жилища белых муравьев1 за хижины
чернокожих!
— Наверное, ты хочешь сказать, что муравьи
поселились в брошенных человеком жилищах? — заметил Ми-
даклит.
— Нет, — возразил маврузий, — это жилища самих
белых муравьев.
Путники остановились шагах в ста от конических
строений.
— Никогда не поверю, что муравьи могут соорудить
нечто подобное! — Малх недоверчиво покачал
головой. — Чего доброго, ты еще скажешь, что они могут
строить корабли и управлять ими, как люди!
— Подойдем ближе! — Маврузий взял Малха за рукав.
И вот карфагеняне стоят перед пологой стеной из
красноватой глины, сглаженной так хорошо, словно над ней
трудились лучшие каменщики.
— Совсем как здание Совета в Карфагене, —
воскликнул пораженный Мидаклит.
— Только без окон и дверей, — заметил Ганнон.
— Дверь есть, — коротко сказал маврузий.
Он обошел муравьиный дом и показал на круглое
отверстие, чуть возвышающееся над землей.
Старый моряк просунул туда руку, нащупал ячейки и
даже вытащил мертвую личинку.
1 Белые муравьи — термиты.
127
— Да, ты прав, — обратился он к маврузию. — Но
кто поверит мне в Карфагене, если я расскажу об этих
муравейниках! Легче поверить басне о людях с языками до
земли или глазами на груди.
Мидаклит пытался отколупнуть кусок глины от
муравейника, чтобы унести его с собой, но это ему не удалось
сделать.
— Прочен, как камень! — удивился он. — А где же
сами строители? Я хочу на них взглянуть.
Бокх улыбнулся:
— Вряд ли бы ты обрадовался встрече с ними. Белые
муравьи передвигаются полчищами, уничтожая все на
своем пути. Лучше встретить взбесившегося слона, чем этих
муравьев.
В этот же день у небольшого озерца путники
разглядели несколько человеческих фигурок.
— Это женщины! — шепнул Бокх. — Оставайтесь
здесь, чтобы их не напугать. Гуда! Лежать! — приказал он
льву.
Лев неохотно опустился на землю, протянув вперед
лапы.
Занятые сбором моллюсков, женщины не сразу
заметили Бокха. Маврузий вышел на открытое место, присел на
корточки в знак мирных намерений и что-то крикнул. Увидев
его, женщины испуганно отшатнулись, но одна из них, в
переднике из листьев, смело вышла навстречу Бокху.
Карфагеняне с замиранием сердца ожидали, поймет ли
женщина Бокха. От этого зависела их судьба.
Бокх и женщина дружелюбно потерлись носами и
стали о чем-то говорить, размахивая руками.
— Понимает! Понимает! — радостно зашептал
Мидаклит.
Бокх возвратился. Он рассказал, что они находятся
неподалеку от одного из селений фарузиев и что женщина, с
которой он только что говорил, — жена погибшего на охоте
вождя.
— Мы были с ним дружны, как два ствола на одном
корне, — сказал Бокх. — Но его возлюбили боги и взяли
к себе.
128
Посоветовавшись, путники решили идти к фарузиям,
чтобы запастись всем необходимым для дальнейшего пути.
Солнце висело прямо над головой, когда карфагеняне
подошли к маленьким домикам, сплетенным из прутьев, с
плоскими крышами.
Домики стояли кругом. В середине площади,
образованной этими домиками, росло высокое дерево с густой ярко-
зеленой кроной. Около него толпились мужчины. Чем-то
занятые, они даже не заметили приближения чужеземцев.
Подойдя ближе, карфагеняне увидели, что пять
здоровенных фарузиев сосредоточенно бьют палками
распростертого на земле человека. Они делали это без злости,
словно молотили на току колосья. Человек корчился под
ударами. Из уст его вырывался хриплый стон.
Вдруг раздался предупреждающий крик. Кто-то из
фарузиев заметил чужеземцев. Мужчины опустили палки и
повернулись. Женщина, шедшая рядом с Бокхом, сделала
успокаивающий жест. Бокх присел на корточки и сказал
несколько фраз. Его выслушали с большим вниманием.
Человек, которого били палками, поднял голову. На вид ему
было лет тридцать пять. Волосы на голове у него были
выбриты, как у карфагенского жреца. На нижней губе,
свисавшей чуть ли не до самого подбородка, болталась
металлическая палочка. Уши были украшены блестящими
раковинами.
— Наверное, что-нибудь украл, — предположил вслух
Малх. — Однажды в базарный день в Карфагене вора вот
так забили насмерть палками.
Бокх добродушно рассмеялся.
— Здесь и не подозревают о воровстве, — сказал он. —
Просто этот человек захотел заменить моего друга вождя,
погибшего на охоте. У фарузиев обычай: каждый желающий
стать вождем должен выдержать палочные удары.
Малх захохотал. Но Мидаклит, подняв указательный
палец кверху, сказал серьезно:
— Мудрый обычай! Ввести бы его в Элладе. Никто не
пожелал бы стать тираном, похитителем свободы... А
впрочем, — добавил он, указывая на лежащего туземца, —
власть, видно, очень соблазнительная вещь: тех, кто ее
добивается, не пугают палочные удары.
— Как бы там ни было, этот человек должен быть нам
благодарен, — заметил Ганнон. — Наше появление
спасло ему жизнь.
129
5 532
Жена погибшего вождя пригласила карфагенян в
хижину. Пахло какими-то засушенными травами. Пучки их
висели на голых стенах. Люди блаженно растянулись на
шкурах, которыми был застлан пол. Впервые за много дней над
их головами была дружественная кровля. Им не угрожало
ни неожиданное нападение, ни голодная смерть.
С благодарностью посмотрел Ганнон на Бокха. Верная
гибель ожидала их, если бы он не был с ними рядом.
ЦЕЗИ
Ганнон проснулся от шума. Гремел барабан,
раздавались воинственные крики. Площадь между хижинами была
полна людей. Мужчины в плащах из леопардовых шкур, с
короткими, но широкими копьями и с кусками какой-то
толстой кожи вместо щитов направлялись к большому
дереву. За людьми послушно, как собаки, брели маленькие
лошадки.
У дерева, которое, по-видимому, почиталось священным,
на корточках сидел совсем голый человек. По
металлической палочке в его нижней губе и кровоподтекам на спине
карфагеняне признали в нем того самого фарузия,
которого лишь два дня назад у этого же дерева били палками.
На его голове была небольшая шапочка из львиной
шкуры, которую мог носить только вождь.
— Смотри, что он делает! — воскликнул грек.
Вождь разгладил ладонью насыпанный у корней песок
и указательным пальцем начертил какую-то фигуру.
— Клянусь Гераклом, это слон! — произнес Мидаклит,
подавшись вперед, чтобы лучше разглядеть рисунок.
Вождь вскочил на ноги, словно подброшенный тетивой.
Он то подходил к рисунку, то отступал от него. Он
подпрыгивал, смешно перебирая пятками, бил себя в грудь.
Кто-то из толпы протянул ему копье, и он с размаху вонзил
его в песок, в то самое место, где был рисунок.
Раздался ликующий вопль.
Ганнон пожал плечами.
— Ты что-нибудь понимаешь? — обратился он к Ми-
даклиту.
— Мне кажется, — сказал грек, — они собираются
охотиться на слонов. Они верят, что пляска вождя прине-
130
сет им удачу... Как бы мне хотелось увидеть эту охоту! —
добавил он после недолгой паузы.
— Ты прав, это должно быть очень интересно. Пойду
отыщу Бокха!
И вот карфагеняне шагают вместе с охотниками к
тянущемуся на горизонте лесу. Узнав о желании
чужеземцев увидеть охоту на слонов, вождь сначала заколебался,
но, когда Бокх поклялся, что его друзья не выдадут
охотничьих секретов племени, согласился их взять.
Дорога шла между небольшими лощинами, поросшими
кустарником. Изредка в одиночку возвышались узловатые
деревья, похожие на яблони, но на них не было листьев.
На голых ветвях виднелись небольшие розоватые цветки.
К полудню охотники вступили в густой лес. Земля под
ногами стала мягче. Она была усеяна багровыми
мясистыми ягодами и не менее яркими грибами. Чувствовалось, что
неподалеку река или озеро.
Охотники, шедшие впереди, остановились. Заблестели
острия поднятых вверх копий.
— Здесь! — сказал Бокх, садясь на корточки.
И тогда карфагеняне увидели глубоко вдавленные в
землю следы. Мидаклит наклонился. Через центр следа
прошло почти два локтя.
— Да, — промолвил грек, выпрямляясь, — слон,
оставивший этот след, настоящий великан. Он ростом в
одиннадцать локтей.
— Как ты это узнал? — поинтересовался Ганнон.
— Очень просто! Помножил разрез следа на шесть.
Я слышал, что так делают индийцы.
— Тебе, наверное, известно все на свете, Мидаклит! —
воскликнул Ганнон, с уважением глядя на учителя.
— Нет! Каждый раз я узнаю что-нибудь новое.
Сегодня я увидел дерево, которое сначала цветет, а потом
покрывается листьями. Вчера узнал о мудром обычае
выбора вождей. Часто я говорю себе: "Как ты мало видел,
Мидаклит! Какой ты невежда, Мидаклит!"
— Смотри! Что они делают? — закричал Малх,
показывая на туземцев.
Фарузии брали что-то горстями и натирали себе лицо
и руки.
— Слоновий навоз, — пояснил Бокх. — Он
приносит счастье в охоте на слонов.
131
Ганнон подошел к огромной лепешке:
— Я бы не сказал, что это дурно пахнет!
— Конечно! — согласился Мидаклит. — Ведь слоны
кормятся листьями и ароматными травами.
По знаку вождя охотники побежали к краю леса. На
большой поляне, спускающейся к озеру, виднелись
брошенные жилища белых муравьев. Бокх повел к ним
карфагенян.
Ждать пришлось довольно долго. В полдень, объяснил
Бокх, слоны стоят у воды или в тени деревьев и покидают
их лишь тогда, когда спадает жара. Уже смеркалось, когда
один из охотников подал с дерева знак.
— Цези!1 — раздался приглушенный шепот Бокха.
Ганнон приподнялся на локтях. Издалека послышался
шум, похожий на грохот перекатывающихся по трюму
глиняных сосудов. Шум шел со стороны чащи. И вот
показался первый слон. Гигант шагал величавой, уверенной
поступью. Иногда он глубоко втягивал воздух, выпрямлял
хобот, и тогда можно было увидеть огромную пасть с отвислой
нижней губой и два длинных бивня, казавшихся розовыми
1 Цези — на языке маврузиев слоны.
132
в свете вечернего солнца. Это был вожак. За вожаком шла
слониха со слоненком. Слоненок был ростом с лошадь, но
резвился, как щенок, терся о ноги матери, прыгал,
смешно крутя своим коротким хвостом. Когда он попытался
отбежать в сторону, слониха слегка шлепнула его хоботом.
Издав звук, напоминающий хрюканье, слоненок послушно
подбежал к матери и чинно зашагал с нею рядом. За
слонихой шли гуськом еще пять слонов.
Из лесу на конях выскочило двое охотников. Они
неслись на вожака, издавая воинственные крики и потрясая
копьями. Вожак остановился, коротко и тревожно
прогудел. Остановились и другие слоны.
Один из охотников приблизился к животному.
Карфагеняне поняли: он должен отвлечь его внимание.
Казалось, слон вот-вот обрушит на смельчака свой хобот. Но
другой охотник с удивительной ловкостью спешился,
подскочил к слону и обеими руками вонзил в живот великана
длинное копье. Слон поднял кверху хобот, и из его пасти
вырвался глубокий, яростный стон, перешедший в рев.
Казалось, этот звук издавало не животное, а отставший воин,
застигнутый врасплох врагами. Прижав к губам свой рог,
133
он трубит и зовет на помощь. Вдруг раненое животное
бросилось бежать. Древко копья задевало землю, кусты. Его
острие еще глубже впивалось в рану.
В это время к бегущему слону приблизился первый
охотник. Но конь его споткнулся, и всадник вместе с ним
оказался на земле. С поразительной быстротой разъяренный
слон схватил охотника хоботом за туловище и со страшной
силой ударил о землю.
Крик ужаса вырвался из уст фарузиев.
Гигант, расправившись с охотником, стал топтать коня,
но вдруг пошатнулся, повалился на колени и рухнул на бок.
Хобот его колотил землю. Но, когда подбежали охотники,
животное уже затихло. В его маленьких черных глазах,
казалось, светился укор.
Взявшись за руки, фарузии плясали вокруг слоновьей
туши. Потом по одному они подходили к ней и,
наклонившись, целовали слона в лоб, чтобы испросить у его
могущественного духа прощение.
Ганнон оглянулся. Он отыскал глазами останки
охотника и его коня. Бокх перехватил взгляд Ганнона:
— У нас говорят: "Кто идет с копьем на слона, не знает,
умрет он или слон".
Охотники внезапно замолкли и остановились как
вкопанные. В тишине прозвучал голос вождя.
— Делят мясо! — пояснил Бокх. — Голова и правая
задняя нога достанутся тому, кто нанес слону первую рану.
Остальное мясо поделят поровну.
— А бивни? — заинтересовался Ганнон.
Маврузий не успел ответить. Вождь взмахнул рукой,
и охотники со сверкающими в руках ножами ринулись к
туше. Каждый заранее облюбовал себе кусок.
Уже стемнело. Было решено заночевать здесь. Вскоре
загорелись костры. В их свете блестели обнаженные
смуглые спины охотников. Карфагеняне расположились у одного
из костров. Ганнон задумчиво глядел на прыгающие языки
пламени.
Послышались шаги. Бокх принес кусок хобота.
Переворачивая мясо над огнем, он что-то шептал и покачивал
головой. "Благодарит богов за удачную охоту", — подумал
Ганнон.
Жареный хобот оказался превосходным угощением.
Даже Мидаклит, обычно равнодушный к еде, без конца хва-
134
лил блюдо, а Малх клялся, что слоновий хобот вкуснее
тунца.
Завернувшись в плащи, карфагеняне легли прямо на
землю. Сон быстро взял их в свои объятья. Они не
слышали ни воя шакалов, привлеченных запахом крови и мяса,
ни заунывного пения фарузиев, охранявших спящих и
добычу.
Когда Ганнон проснулся, охотники уже накалывали на
палки куски слоновьего мяса. К удивлению Ганнона,
знавшего, что слоновая кость ценится наравне с золотом,
никто не дотронулся до бивней. Они валялись на измятой и
окровавленной траве. Карфагенян поразили их чудовищные
размеры. Правый слоновий зуб имел в длину почти шесть
локтей и был так тяжел, что одному человеку поднять его
было не под силу. Левый бивень был короче и легче.
Конец его казался стертым.
Фарузии даже не представляли, сколько красивых
вещей можно было вырезать из этих бивней. По словам Бок-
ха, они делали из них подпорки для хижин, когда
поблизости не было леса.
К полудню охотники возвратились в селение. Старики,
женщины и дети встретили их ликующими криками. Теперь
племя было надолго обеспечено пищей.
ЗОЛОТАЯ ДОРОГА
Еще три дня оставались путники у фарузиев. За это
время они побывали во многих хижинах.
Узнав от Бокха, что дурные люди похитили у
карфагенян большую лодку, фарузии удивленно покачивали
головами. Им трудно было понять, как пришельцы, которым
было оказано гостеприимство, могли причинить хозяевам
зло.
Ганнон удивился, каким вниманием пользуются в
племени старики. Им уступали дорогу, давали лучшие куски
пищи, усаживали на почетные места. Вождь не принимал
ни одного решения, не посоветовавшись со старцами, и их
совет являлся для него законом.
Фарузии были довольны своей жизнью. Каждый род
получал равную долю добычи, которая затем справедливо
делилась.
135
Фарузии не имели откупщиков, от которых так
страдали бедняки Карфагена. У них не было наемников, так
дорого обходившихся республике. Оружие носили все
мужчины с шестнадцати лет. Перед тем как дать юноше
оружие, его подвергали суровым испытаниям: заставляли
бежать до изнеможения, прыгать через огонь с завязанными
глазами, костяной иглой на его спине и груди выкалывали
узоры. И, когда они убеждались, что юноша ловок и смел,
что он умеет переносить боль, ему вручали копье с
железным наконечником, лук и стрелы, давали ему коня.
У женщин было пять занятий: они готовили пищу,
кормили детей, лепили посуду, плели циновки, шили одежду.
Но это не делало их рабынями отца или мужа. Отец не мог
продать свою дочь, муж — поднять руку на жену.
Фарузии обходились без рабов. И это больше всего
поражало карфагенян, привыкших на каждом шагу
пользоваться услугами невольников. И, может быть, поэтому
фарузии были так честны и трудолюбивы.
Из беседы с вождем Ганнон узнал, что до Керны всего
лишь одиннадцать дней пути, из них семь дней придется
на пустыню. Надо только выйти на Золотую дорогу. Она
ведет с гор Хреты к Керне. До этой дороги вождь обещал
дать Ганнону проводников.
Ганнон жадно слушал вождя. Особенно его
заинтересовал рассказ о Великой дороге, пересекающей всю
Ливийскую пустыню1 с юга на север. Эта дорога вела через
оазис Гарамантсв и оканчивалась близ города у Большой воды.
По описанию вождя можно было заключить, что город у
Большой воды — это и есть Карфаген.
Ганнону и раньше приходилось слышать о торговле,
которую вели карфагенские купцы с жителями пустыни.
Эта торговля была, конечно, менее выгодной, чем
морская торговля, но все же доставляла немалый доход.
Главным ее преимуществом была безопасность. Не надо
рисковать ни людьми, ни кораблями. Номады2 сами
доставляли товары в Карфаген. Покупая золото и драгоценные камни,
купцы мало интересовались людьми, проделавшими
огромный путь через пустыню. Они ничего не знали об их
странах, об их обычаях.
"Возможно, — думал Ганнон, — среди людей в стран-
1 Ливийская пустыня — теперь пустыня Сахара.
2 Номады — кочевники.
136
ных одеяниях, которых я сам видел на карфагенском
базаре, были и фарузии. Нет, мы напрасно пренебрегаем
этими людьми. Может быть, с их помощью Карфаген найдет
путь к сокровищам Ливии более короткий и верный, чем
через Мелькартовы Столбы".
Вождь дал карфагенянам четыре вместительных
бурдюка для воды, мешок вяленого слоновьего мяса, двух
лошадей и оружие. Карфагеняне вооружились копьями с
широкими железными наконечниками.
— Как будто мы отправляемся в плавание! — шутил
Малх, глядя, как к брюху лошадей привязывают
бурдюки. — Воду берем с собой.
Фарузии провожали карфагенян далеко за селение.
Прощаясь с ними, Ганнон машинально нащупал под
плащом мешочек с деньгами. Но намерение одарить
гостеприимных хозяев кусочками кожи показалось ему самому
смешным. Что они будут делать с этими кожаными
кружочками?
Карфагеняне уходили, унося с собой воспоминание об
отваге и благородстве этих людей.
Звенели погремушки на шеях лошадей. Животные,
напуганные близостью Гуды, бежали, и это было поводом для
шуток.
— С твоим другом, Бокх, — смеялся Ганнон, — можно
обойтись без палки.
Мидаклит рассказывал о виденных им у себя на
родине удивительно уродливых, но в то же время на редкость
выносливых животных — верблюдах, могущих почти
неделю обходиться без воды.
— Я их тоже видел, — заметил Малх. — Египтяне
называют их кораблями пустыни. И, клянусь морем,
лучшего названия для них не придумать. Раскачиваясь, как
гаулы, они бредут чрез пески. Будь у нас верблюды, путь
до Керны показался бы нам прогулкой.
Дорога шла местностью, покрытой кустарником и
маленькими колючими деревцами, похожими на акации. Ее
сменила степь. То там, то здесь виднелись пучки травы, а
в промежутке между ними — голая земля. Ветер катал
сухие клубки репейника. "Не так ли нас гонит по свету
судьба?" — думал Ганнон.
К вечеру путники вышли к большим желтым холмам с
острыми вершинами. Маленький караван остановился на
137
привал между двумя холмами, напоминающими задранные
вверх собачьи головы.
Бокх развьючил коней. Он привязал их к большому
камню, подбросив им по пуку соломы.
— Что же ты так далеко положил солому? —
удивлялся Мидаклит. — Они же ее не достанут.
Маврузий рассмеялся.
— Сразу видно, седая борода, что у тебя не было коней.
Мы, маврузий, заставляем наших коней тянуться за
кормом. Оттого у них такие длинные и гибкие шеи.
Наутро маленький караван снова тронулся в путь.
Дорога шла по засохшему извилистому руслу реки, как бы
текущему песчаному потоку, отклоняясь от него то в одну,
то в другую сторону.
Копыта коней увязали в сыпучем песке. Солнце жгло
немилосердно. От его лучей некуда было укрыться. Путь
становился все труднее и труднее.
Лишь изредка встречались кусты тамариска и какие-
то светло-голубые растения. Маврузий уверял, что от их
сока на коже открываются язвы. Но только с вершины
холма пустыня могла показаться мертвой. То и дело на глаза
попадались ящерицы темно-желтого цвета и небольшие
зверьки с крысиным хвостом и длинными задними ногами.
Бокх поймал одного из них и, ободрав, съел. Карфагеняне
с отвращением отказались от этой пищи.
Локтях в ста от дороги путники увидели какое-то
странное двуногое животное с длинной тощей шеей. У
животного была птичья голова и тело с черными, как уголь,
перьями. Другое такое животное, покрытое коричневатыми
перьями, сидело на песке.
— Так это ведь страус! — воскликнул Мидаклит.
Карфагеняне много слышали об этой гигантской птице.
На памяти их отцов страус жил в степи к югу от
Карфагена. Но богатые карфагенянки питали неумеренную страсть
к страусовым перьям. И вот уже в окрестностях
Карфагена не увидишь страуса.
— Гекатей, — захлебываясь, продолжал Мидаклит, —
утверждает, что самка страуса, если она сидит на яйцах,
не убегает при опасности.
Но, видимо, в этом Гекатей ошибался. Когда путники
приблизились, обе птицы побежали, распустив крылья, как
парус.
138
— Удивительная страна! — Малх поглядел им вслед. —
Здесь птицы не летают, а бегают, как лошади.
— Быстрее! — возразил Бокх. — Самая резвая лошадь
не обгонит страуса
Путники подошли к тому месту, где сидели птицы. На
песке, почти сливаясь с его желтизной, лежало яйцо
величиной с голову младенца.
Мидаклит поднял его и внимательно осмотрел:
— Интересно, каково оно на вкус? — сказал он,
передавая яйцо Ганнону.
Ганнон отбил мечом верхнюю часть скорлупы и
заглянул внутрь. Там плавал огромный желток. Каждый из
путников отведал его.
— Как куриное! — Мидаклит вытер губы.
— Его пекут в горячей золе, — заметил Бокх, — а из
скорлупы делают чаши.
— Как бы эта птица не лишила Мисдесса работы, —
пошутил Ганнон.
— Не лишит! — со смехом возразил Малх. — Это
очень неудобная чаша. На стол ее не поставишь. Держи в
руках или вкапывай в землю. Моряку она непригодна.
Наступил вечер. Мелькарт медленно опускался в
пески, освещая их своими последними разноцветными
лучами. Путники расположились на ночлег. Все чувствовали
себя утомленными и валились с ног. Маврузий хотел
развести костер, но Ганнон остановил его:
— Песок и так горяч!
Бокх в ответ на это лишь молча покачал головой.
Положив голову на вьюк, Ганнон быстро уснул. Ему
приснилась Синта в одеянии жрицы. В руке ее был факел.
Пламя его колебалось на ветру, словно выписывая на
черной доске замысловатые письмена. Ганнон протянул руки,
чтобы обнять любимую, огонь обжег их.
Ганнон проснулся от нестерпимого холода. Вскочив, он
начал бегать, чтобы согреться. Пробудился и Малх. Зубы
его стучали:
— Ну и холод, укачай тебя волны! — бормотал
старый моряк. — И укрыться негде. Ни кустика, ни камня.
Кто мог предположить, что в пустыне такие холодные
ночи?
139
ПЕСНЯ ПЕСКОВ
Уже несколько дней длился путь через пустыню. Люди
постепенно привыкли к дневным переходам. Казалось, что
цель близка. На шестой день после полудня ясный
горизонт пустыни омрачился, словно на него опустилась пелена
тумана. Бокх с тревогой и беспокойством смотрел вдаль.
Хотя было еще светло, пришлось остановиться. Кони
легли на песок. Люди сели спинами к ветру, но все равно
мелкая песчаная пыль набивалась в глаза, нос и рот.
Слышался лишь шелест песчинок и завывание ветра.
Но вот раздались еще какие-то звуки, тоскливые,
пугающие, похожие на вздохи какого-то огромного животного.
Кони зафыркали и заколотили копытами. Люди вскочили.
Только Гуда царственно лежал на песке и невозмутимо
облизывал огромным розовым языком лапу.
Сколько ни вглядывался Ганнон, ничего не было видно,
кроме известковых скал вдали и песчаного вихря. Вихрь
приближался.
Звуки усилились. Они стали тоньше и выше. И вдруг
внезапно оборвались.
Малх закрыл голову руками и застонал:
— Духи пустыни пришли за нами! О горе!
Маврузий несколько мгновений молча смотрел вдаль.
Потянув носом воздух, он промолвил:
— Поют пески, зовут красный ветер, вместе с ним
придет Мут!
Вершина огромной дюны, возвышавшейся над
путниками, ожила. Легким желтым облачком закурился песок.
Бурая мгла закрыла солнце, и оно куда-то покатилось
огненным шаром. Послышался нарастающий глухой шум. Словно
что-то огромное падало с неба. Все поплыло и закружилось
перед глазами. Бокх закрыл голову плащом и лег ничком
на песок. Карфагеняне последовали его примеру. Ветер
неистово выл. Не хватало воздуха. Ганнон захотел отбросить
свой плащ, но не смог. Ему показалось, что он сделан из
камня.
Сколько прошло после этого времени, день или
неделя, никто не мог сказать. Бокх первым почувствовал
прикосновение к своему лицу чего-то горячего и шершавого.
Это был язык его друга Гуды.
Маврузий выплюнул набившийся в рот песок и
огляделся. Была ясная лунная ночь. На небе сияли звезды.
140
Серебристый свет озарял горизонт.
Карфагеняне были покрыты песком, как саваном. Бокх
принялся их откапывать. Песок сыпался между пальцами.
Ноги подкашивались и скользили.
Сначала Мидаклит, а потом Ганнрн открыли глаза. Они
увидели Бокха, стоящего на коленях возле распростертого
тела Малха. Маврузий тер ему лицо, дул в ноздри, но все
было напрасно. Старый моряк, перенесший на море
десятки штормов, не вынес одной песчаной бури.
Горе как бы придавило Ганнона к земле. У него не было
сил говорить и двигаться. Какие-то бессвязные слова
приходили на ум: пустыня, пустота.
Солнечный шар поднялся из-за холмов, окрасив в
розовый свет бескрайные пески. Только он, всевидящий бог
Мелькарт, был свидетелем горя людей, потерявших друга.
Только он видел их слезы, слышал их рыдания. Трое
окружили невысокий песчаный холмик.
— Сердце твое было открыто людям, как корни для
воды, — глухо сказал маврузий.
Он положил свой кривой нож на песок. Бокх не
сомневался, что в царстве мертвых есть пустыни и леса,
заселенные душами хищных зверей, реки и моря, полные
чудовищ. Охотник и там не должен быть безоружен.
Ганнон начал читать молитву. Слезы подступали к
горлу. Не закончив молитвы, он бросился на песчаный
холмик, скрывавший тело Малха. "Нет, Малх, тебе уже не
придется рассказывать об удивительных чудесах этой
страны. Но что все эти чудеса перед человеческой
привязанностью и дружбой!"
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД
И вот они снова идут, преследуемые горем, мучимые
жаждой. Песчаная буря разлила и высушила всю их воду.
Лишь на дне одного бурдюка чудом сохранилось
несколько глотков воды. Ее разделили поровну. И Гуда получил
свою долю.
Голова невыносимо болела. Глаза слезились. Сухие губы
потрескались. Кожа лица воспалилась. Даже Гуда,
животное пустыни, страдал от жажды. Он плелся рядом с мав-
рузием, тяжело дыша, высунув запекшийся язык. Бокх
разговаривал со львом, как с человеком:
141
— Терпи, Гуда! Мы скоро отыщем колодец. Там будет
много воды. Ты наклонишься и увидишь льва, своего
брата. Ты будешь пить из его уст.
Какие-то странные видения отягощали мозг Ганнона. Он
видел скалы с раскачивающимися пальмами, строения,
напоминавшие ему храм Танит, откуда он похитил Синту. Он
протягивал руки, и пальмы и строения исчезали, как
письмена, смытые влажной губкой. То ему казалось, что он на
корабле. Волны бьют в борта, и соленые брызги обдают
лицо Ганнона. "Поднять паруса!" — кричит он. Но нет, это
не палуба корабля, а колеблющийся под ногами песок, не
брызги, а сухие, колкие песчинки. Ганнон еле передвигал
ноги. Смерть казалась ему желанной.
Но вот песчаные дюны остались позади. Люди медленно
поднимались по склону. Белая едкая пыль при малейшем
порыве ветра била им в лицо. Ноги скользили. Мидаклит
падал. И каждый раз ему помогал подняться Бокх.
Наконец Ганнон и его спутники поднялись на холм. Их глазам
предстала голубая волнистая полоса. Они шли к ней, а она
не исчезала, не таяла в раскаленном воздухе.
— Море! — крикнул Ганнон, но вместо крика из его
воспаленной гортани вырвались какие-то хриплые звуки.
Издали море казалось неподвижным, волны блестели,
как чешуйки слюды на изломе камня.
Мидаклит простирал вперед руки, что-то беззвучно
шептал.
— Деревья! — Маврузий показал рукой вправо.
Да, там был лес, а где лес, там вода. Мысли о смерти,
только что одолевавшие каждого из путников, мгновенно
исчезли.
Вскоре они пили холодную, прозрачную воду из
впадавшего в море ручья. Бокх, сбросив одежду, лег в ручей,
чтобы иссушенная солнцем кожа впитала влагу.
Карфагеняне прислушивались к журчанию воды, внимали ее
вечной, прекрасной песне.
Вода! Нет слов, чтобы тебя описать и прославить. Ты
самое большое богатство на земле, ты счастье, ты сама
жизнь!
— Только в пустыне, — говорил Мидаклит слабым
голосом, — я понял правоту мудреца Фалеса. А он говорил,
что в основе жизни лежит вода.
Весь этот день путники провели у ручья, дав себе от-
142
дых. С горечью вспоминали они о Малхе, взятом
пустыней. Как бы радовался он морю!
Еще два дня пути, и карфагеняне стояли на берегу
залива. На этой поляне совсем лишь недавно они
раскладывали товары для немого торга. Вон там стояла их лодка.
Еще не развеялся пепел их костра! Но сколько бед
обрушилось на их головы. Как на ладони была видна Керна. Лес
не давал возможности увидеть дома колонистов и
крохотную бухточку, в которой стоял тогда "Сын бури". Надо
держаться правее.
— Что это там? Корабль со спущенными парусами?
— "Сын бури"! — воскликнул Мидаклит.
— "Око Мелькарта", — произнес Ганнон с дрожью в
голосе.
Нельзя было понять, радуется ли он тому, что Адгар-
бал выполнил его приказ и благополучно привел гаулу, или
скорбит, что не произошло чуда и у Керны нет "Сына бури".
Утром колонисты Керны и моряки с "Ока Мелькарта"
увидели на берегу залива дымок. Решив, что чернокожие
привезли золото для обмена, карфагеняне быстро
снарядили лодку с товарами. Каково же было их удивление, когда
они увидели на берегу Ганнона и его друзей!
— Какая удача! — Адгарбал обнимал Ганнона. — Мы
рассчитывали на золото, а встретили друзей. Но почему ты
без корабля?
Молча выслушали карфагеняне рассказ Ганнона.
— Как же двум пиратам удалось увести корабль? —
недоуменно воскликнул Адгарбал, когда суффет закончил
свою грустную повесть.
— Все дни я думаю об этом, — вздохнул Ганнон. —
В одном лишь я не сомневаюсь. Мастарне помогли
гребцы. Ключи от оков у него. Рабов легко соблазнить
обещанием свободы. Что могли сделать моряки?
— Не горюй, суффет! — ободрил его Адгарбал. —
Теперь у тебя есть гаула. Мы поплывем, куда ты
прикажешь. Мастарне от нас не уйти. У него мало людей. А у
Столбов Мелькарта — наши корабли!
— Но он поплыл на юг, — перебил Адгарбала
Мидаклит. — Мы сами видели корабль, плывущий к югу. И если
ты не был южнее Керны, то это мог быть только "Сын
бури".
— Мы найдем этого Мастарну хоть в царстве теней! —
воскликнул Адгарбал.
143
Ганнон с благодарностью взглянул на ныряльщика. "Нет,
я не ошибся в этом человеке", — думал он.
Этот день принес еще одну неожиданность. Лев не
захотел садиться в лодку. Гуда впервые вышел из
повиновения. Он грозно рычал и колотил себя по бокам кисточкой
хвоста.
Маврузий подошел к Ганнону:
— Прощай! Мой брат, — он показал на Гуду, не
спускавшего с хозяина глаз, — не хочет больше плыть по
Большой воде. Боги создали его для лесов и пустыни, а не для
волн и бурь.
Ганнон понял: маврузий не покинет своего
четвероногого друга, море им обоим так же чуждо и враждебно, как
ему самому чужда пустыня. Подойдя к маврузию, он крепко
обнял его.
Бокх проводил карфагенян до самой лодки. Еще
мгновение, и она уже качалась на волнах. Адгарбал греб
плавными, однообразными движениями, а Ганнон и Мидаклит
не отрываясь смотрели на уходящий берег. Там остались
их друзья, которым они были обязаны жизнью. Долго
виднелся неподвижный силуэт Бокха и сидящего рядом с ним
льва. Лодка подошла к островку и, обогнув его, причалила
к борту "Ока Мелькарта".
ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ
БУРЯ
Сильный ветер надувал паруса. Гаула неслась,
подымаясь с волны на волну. Позади нее крутилась белая лента
кипящей пены.
Ганнон радостно ощущал себя частицей этого
огромного, вечно колеблющегося мира. Снова море горячило его
кровь, как доброе сицилийское вино.
Ганнон пробыл в Керне ровно столько, сколько было
необходимо для снаряжения гаулы. Сочувствие,
встреченное им среди матросов, вдохнуло надежду. Он мог
рассчитывать на их помощь. Конечно, он понимал, что найти след
"Сына бури" в океане труднее, чем отыскать бусинку в
песчаном холме. Но он сделает все для спасения Синты, он
отомстит вероломным пиратам и вернет республике
корабль.
Вслушиваясь, как поет ветер в снастях, как дрожит под
ногами палуба, Ганнон вспоминал удивительно верные слова
Малха: "У каждого корабля своя душа!" "Око Мелькарта"
был устойчив и послушен воле кормчего. Но ему не
хватало той легкости и изящества в движениях, которыми
отличался "Сын бури". "Око Мелькарта" был тружеником,
а "Сын бури" — беспечным баловнем судьбы. И, хотя он
изменил своему господину и ходит сейчас под чужим
флагом, Ганнон сохранил к нему чувство нежности, как к
блудному сыну.
С утра океан был спокойным, но к полудню
подкрались тучи, черные, как кровь каракатицы. С берега подул
резкий восточный ветер. Он то стихал, то с еще большей
силой свистел в снастях. Океан стал белым от пенных
гребней волн. Туго натянутые канаты тревожно звенели, как
струны, по которым ударяют пальцы чьей-то огромной
невидимой руки.
— Когда стихнет этот проклятый ветер! — простонал
один из матросов.
— Ты хочешь навлечь на нас беду! — набросился на
него Адгарбал. — У ветра есть уши!
Моряки бросали за борт испеченные еще в Карфагене
145
ячменные лепешки. Они срывали со своих ушей серьги,
снимали ожерелья, все, что им было дорого и напоминало
о доме, и кидали на палубу. Волны слизывали эти дары
своими языками. Море и ветер казались людям ненасытными
чудовищами. Их нельзя было смягчить слезами или
мольбами. Их ярость можно утолить только жертвами. Но как
часто они, обуреваемые жаждой разрушения и смерти,
отвергают бескровные жертвы!
Ветер все усиливался. Страшно было разомкнуть губы.
Казалось, вихрь ворвется внутрь и разорвет тебя на
куски. Застонала мачта. Короткий и жалобный звук казался
криком боли. Высоко над головой, как крылья огромной
птицы, бешено захлопали паруса. Знаками Ганнон показал,
что пора их снимать. Матросы подтянули паруса к реям,
вынули мачту из гнезда и укрепили ее и реи на палубе
дубовыми брусьями. На нижней палубе они привязали
весла, сняли уключины. Отвели гребцов в трюм.
Волны поднимались все выше и с грохотом
обрушивались на палубу. Гаула зарывалась носом в волны. Люди уже
работали по колено в воде. И, хотя из-за брызг нельзя было
различить человеческие лица, Ганнон чувствовал на себе
взгляды моряков, полные мольбы и укора.
Ночь прошла в борьбе с волнами. Было так темно, будто
черная смола растеклась и залила луну и звезды. Одного
матроса смыло волной за борт. Ганнону в реве волн все
время чудились крики о помощи. "Еще одна жертва! —
думал суффет. — Океан берет себе сам кого захочет и
когда захочет".
К утру ветер стал слабеть и волны утихли. Корабль,
истерзанный бурей, крутился, как пес с перешибленным
позвоночником. По небу быстро неслись тучи, но сквозь них
кое-где уже пробивались блестящие мечи Мелькарта. Люди
в мокрой, прилипшей к плечам одежде поднялись на
верхнюю палубу. С надеждой следили они за этой схваткой
света и мрака, жизни и смерти. Силясь перекричать
волны, они взывали к солнечному божеству, молили его о
помощи.
Вскоре уже можно было ходить по палубе без
опасения быть смытым в море. Матросы принялись
вычерпывать воду из трюма, убирать обломки весел. Мокрые паруса
разложили на корме для просушки. Солнце вышло из-за туч.
Ганнон провел рукой по щеке и ощутил кристаллики соли.
146
Вокруг, куда ни глянь, расстилался вздыбленный
волнами океан. Где они сейчас? Куда их угнала буря?
И, как бы в ответ на этот вопрос, раздалось:
— Земля! Земля!
Ганнон подбежал к Адгарбалу. Это он разглядел узкую
полоску в океане. Земля! И она в той стороне, куда
садится солнце! Значит, это не покинутая ими Ливия! Не
родной их материк!..
Вся команда высыпала на палубу. Люди до боли в
глазах вглядывались в лежащий по ветру берег. И сразу
вспыхнули споры. Одни уверяли, что впереди остров, другие по
каким-то им лишь известным признакам утверждали, что
гаула приближается к неведомому материку.
— Что вы спорите о тени осла! — улыбнулся
Ганнон. — Даже сам Малх на таком расстоянии не смог бы
ничего сказать об этом береге.
Матросы замолкли. Авторитет Малха был среди них
велик.
"Остров это или материк, — подумал Ганнон, — но он
появился вовремя. Без парусов и без пресной воды до
Ливии нам не дойти".
Земля росла. Казалось, она шла навстречу гауле.
Яснее становились очертания берегов.
— Смотрите, гора! — крикнул один из матросов.
— Белая, а над нею дымок, — заметил другой.
Солнце уже наполовину погрузилось в океан, когда
корабль подошел к незнакомому берегу. Трепет, всегда
испытываемый в новых местах, овладел Ганноном. Он
потянулся вперед. Словно его притягивали к себе эти
выступающие из волн утесы, напоминающие башни огромной
крепостной стены.
Ночь прошла в борьбе с течением, сносившим корабль
в открытое море. Люди устали. Их мучила жажда.
Подкрепить силы было нечем. Все припасы испортила
просочившаяся в трюм вода.
Снова из волн поднялось солнце. Его лучи осветили
крутой берег, кое-где голый, а местами покрытый кустами
и редкими деревьями. С унынием смотрели на него
моряки. Неужели они найдут гибель в этих скалах? Как
подвести корабль к берегу?
— Бухта! — вдруг закричал Адгарбал, вглядываясь в
прибрежные кусты.
147
— Где? Где?
— Там! Правее сломанного дерева.
Действительно, слева по борту был узкий вход в
бухту. Но войдет ли в него гаула?
— Надо послать вперед лодку, — решил Ганнон.
В лодку сели трое матросов во главе с Адгарбалом.
Вооружившись шестами, они обследовали горловину
бухты. Известие было обнадеживающим: в бухту можно
пройти!
"Око Мелькарта" медленно входил в бухту. Она имела
форму амфоры. Берега ее были гористы. Отмель,
расположенная против горловины, была песчаная и низкая.
— Клянусь ветром, — воскликнул один из матросов, —
там люди!
— Белолицые! — протянул другой. — Вот чудо!
— И они нас не боятся! — радостно воскликнул Ми-
даклит. — Смотрите, они нам машут руками!
— Словно они ничего не знают о пиратах и
работорговцах, — заметил со вздохом Ганнон.
— А может быть, и не знают! — промолвил грек. —
148
Ведь мы уже побывали в стране непуганых зверей, а
теперь, может быть, попали в край доверчивых людей.
Защищая глаза от солнца, Ганнон долго всматривался
в берег. Он искал лодку, какой-нибудь челнок, которым
должны были пользоваться эти прибрежные жители. Но
берег был пустынен. И это удивляло Ганнона. На берегу
не заметно было и сетей, которые обычно сушат рыбаки,
развешивая их на кольях. "А почему эти люди не
подходят к воде? — удивлялся Ганнон. — Боятся замочить
ноги?"
Песчаная отмель позволяла посадить корабль кормой на
берег, но из предосторожности Ганнон приказал бросить
якорь локтях в сорока от берега.
Послышался плеск, и якорь исчез под водой. Спустили
лодку. Ганнон первым сошел в нее по лестнице,
сплетенной из кожаных ремней. Вместе с ним в лодку сели Ми-
даклит и трое матросов, вооруженных одними ножами.
Остальным Ганнон приказал оставаться на борту и быть
наготове.
Вскоре челн уткнулся носом в берег. Заскрипел по
песку киль. Ударили по борту мокрые весла. Медленно и не-
149
решительно вышли моряки на сушу. Люди на берегу
кричали, но к воде по-прежнему не подходили.
ПОТОМКИ АТЛАНТОВ
Ганнон и Мидаклит медленно шли по берегу. Его
устилало множество каменных обломков и раковин
невиданных форм и цветов. Ганнон также заметил огромные
черепашьи щиты, разложенные в каком-то определенном
порядке, один против другого.
От толпы отделился человек в ярко-красном плаще.
"И здесь добывают пурпур", — подумал Ганнон, но сразу
же отбросил эту мысль: ведь на берегу не было ни одной
лодки. В нескольких шагах от карфагенян человек
остановился и скрестил руки на груди. Догадавшись, что их
приветствуют, Ганнон и Мидаклит повторили жест незнакомца.
Перед ними стоял пожилой человек с седеющими
редкими волосами. На лбу его теснились морщины. Тонкие,
крепко сжатые губы придавали лицу несколько суровое
выражение. Серые, глубоко запавшие глаза пристально
следили за Ганноном и Мидаклитом, но в них можно было
уловить лишь любопытство, а не неприязнь.
— Хайре! — услышал вдруг Ганнон и вздрогнул от
неожиданности.
Греческое приветствие — здесь, на земле, затерянной
в океане!
Грек еле сдерживался, чтобы не броситься к своему
соотечественнику, волею судеб оторванному от матери
Эллады.
— Приветствую вас, о ахейцы! — продолжал
незнакомец, как-то странно выговаривая слова. — Мой народ
ожидал вас семьсот пятьдесят лет.
Обращение "ахейцы", странное произношение
греческих слов, самый их смысл — все это насторожило
карфагенян.
Старец указал на черепашьи щиты, приглашая
расположиться на них.
И вот они сидят друг против друга, как подобает
хозяину и гостям.
— Откуда вы? — спросил старец, высоко взметнув
брови.
150
— Из Карфагена! — отвечал Ганнон по-гречески,
стараясь как можно отчетливее произносить слова.
Но так как его речь не произвела на старика никакого
впечатления, он счел нужным разъяснить:
— Карфаген — мать городов, рассыпанных от Сицилии
до океана. Корабли Карфагена бороздят все моря, разнося
о нем славу.
На тонких губах незнакомца появилось какое-то подобие
снисходительной улыбки.
— Что вы, молодые народы, знаете о городах земли?
Вы, как козы, бездумно пасетесь на пажитях истории. Что
твой Карфаген перед великим городом атлантов?
Сердце Мидаклита бешено забилось.
— Где же они? Где этот город? — нетерпеливо
прервал он незнакомца.
Тот медленно повернул к нему свое лицо. Грек прочел
на нем выражение какой-то отрешенности.
— Рождение и смерть — таков закон, которому
подвластно все, что есть на земле и на небе... — начал
старец торжественно.
Ганнон и Мидаклит не заметили, как их окружила
молчаливая толпа, с интересом рассматривавшая пришельцев.
Внимая словам старца, люди поднимали вверх руки,
словно молились.
— Рождаются и умирают люди, — продолжал
старец, — погружаются на дно океана материки и всплывают
новые. Звезды сгорают, как факелы. Вон там, — и он
протянул руку к морю, — лежала когда-то земля моих
предков — великая Атлантида. Ею управляли могущественные
правители. Им платили дань народы всех четырех стран
света. Слава о могуществе атлантов заполнила весь мир.
Атланты открыли свойства растений, им удалось
проникнуть в тайны неба. Понятен был им и язык грома, и язык
молнии. Они поднимались к облакам на крыльях,
опускались на дно океана. Не было предела их желаниям,
дерзким мечтам. Но морской владыка Посейдон жестоко их
покарал. Он внезапно погрузил страну моих предков под воду
вместе со всеми ее городами и храмами. Когда моряки,
посланные к далеким восточным островам, вернулись на
родину, они увидели вместо огромной родной земли один лишь
остров. Это были горы погрузившейся на дно Атлантиды.
Из всех атлантов уцелело небольшое племя горцев, они-то
151
и поведали морякам о страшной катастрофе. Вот эти горы.
А самая высочайшая из них, — старик показал на гору со
снежной вершиной, — зовется у нас Колесницей богов. Мы
живем у ее подножия, мы в ее власти. Мы потомки тех
моряков. У нас все в прошлом. Мы пасем коз, собираем
дикие яблоки и другие дары земли.
Ганнон и Мидаклит переглянулись. То, о чем говорит
этот старец, так удивительно, что легче поверить сказкам
0 Сцилле и Харибде1, чем его рассказу.
— Но почему твой народ говорит на языке ахейцев? —
спросил после долгой паузы Ганнон.
— Мой народ говорит на своем языке, — отвечал
старик, — на том наречии, на котором я разговариваю с вами,
мы обращаемся с молитвами к Зевсу, Посейдону и другим
бессмертным богам.
— Но откуда вы знаете это наречие? — нетерпеливо
воскликнул Мидаклит.
— Очень много лет прошло после гибели
Атлантиды, — продолжал старец, — и вот однажды с той
стороны, где рождается солнце, пришел белокрылый корабль. На
берег нашего острова высадились люди с палками из
красной меди. Это были очень сильные и очень жестокие люди.
В своей ярости они не щадили ни детей, ни женщин. Но
моих предков было больше. Они победили этих людей и
разломали их палки. Пришельцы поселились вместе с ними
в пещерах. Они перенесли на берег сокровища, добытые
где-то в далеких странах. Они вытащили на песок свой
корабль. Пришельцы научили атлантов своему языку и
искусству письма. И тогда они записали на свитках
предания об Атлантиде. Они стали приносить жертвы их богам,
Зевсу и Посейдону, и с тех пор все жрецы наши носят имя
Радаманта. Так звали чужеземца, бывшего нашим первым
жрецом. Так зовут и меня.
Из груди Мидаклита вырвался крик радости. Обнимая
Ганнона, он воскликнул:
— Мы счастливейшие из смертных — мы на Елисей-
ских полях!2
— Откуда же прибыли эти люди? — спросил Ганнон.
1 Сцилла и Харибда — два чудовища, которые, согласно верованиям
древних греков, жили по обе стороны узкого пролива и губили всех
проплывавших мимо мореплавателей.
2 Елисейские поля — в греческой мифологии место, где обитают души
блаженных.
152
— С острова, которым управлял могущественный царь
Минос.
— Так это же Крит! — закричал грек, и из уст его сами
полились волшебные строки Гомера:
Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный,
Тучный, отовсюду объятый волнами, людьми изобильный...
— Что же стало с чужеземцами? — спросил Ганнон,
перебивая грека.
— Они прожили у нас двадцать лет и еще два года, —
продолжал старец. — Об этом мы знаем из наших
свитков. Пришельцы говорили, что, хотя наша земля богаче их
далекого острова, сердце их не может выдержать разлуки
с трижды желанной родиной. Их корабль вскоре сгнил, и
они соорудили лодку. Сокровища свои они оставили на
нашем острове, пообещав, что вернутся за ними. Мои
предки вручили им костяную табличку и завещали нам отдать
сокровища тем, кто покажет эту табличку. С тех пор
никто не появлялся у наших берегов.
Мидаклит, казалось потерявший дар речи, вытащил из
хламиды костяную табличку и протянул ее Радаманту. Тот
взял табличку из его рук, поднес к глазам и поднял
высоко над головой. Потом он что-то крикнул на непонятном
языке.
Толпа подхватила карфагенян и с ликующим ревом
понесла их на руках в глубь острова.
ДОЧЬ РА ДАМ АНТ А
И вот они на поляне, освещенной ярким полуденным
солнцем. Впереди виднеется невысокая скала. Ее вершина
поросла лесом, отвесный склон покрыт зеленью вьющихся
растений. Подойдя ближе, карфагеняне разглядели
наполовину скрытые свисающими ветвями круглые и продолговатые
отверстия. Это были жилища их гостеприимных хозяев.
Из одной пещеры наружу выпорхнула стайка девушек.
Передники и накидки оставляли открытой грудь. Руки
девушек не были украшены золотыми или медными
кольцами, без которых не покажется людям ни одна
карфагенянка. На ногах у них не было сандалий. Но здесь это, видимо,
не являлось признаком бедности или траура, как в Карфа-
153
гене. Одна девушка была выше и стройнее других.
Волосы ее отливали золотом.
При виде чужеземцев девушки остановились и
потупились. Замер их звонкий смех. Но золотоволосая, гордо
запрокинув голову, направилась к ним. Подойдя к Радаман-
ту, она коснулась его одежды своими легкими пальцами и
с любопытством и вызовом взглянула на Ганнона. Глаза у
девушки были ясные, как утреннее море.
Жрец нахмурился. Он сказал девушке что-то на
незнакомом карфагенянам языке, отчего она съежилась и
поникла, как роза под палящими солнечными лучами.
Взяв Ганнона за руку, Радамант повел его к пещерам.
Казалось, он хотел увести гостей от юной красавицы.
У пещеры стояла большая тростниковая корзина. Из нее
высовывалась кудлатая собачья голова. Собака даже не
залаяла, увидев незнакомцев, только зевнула, обнажив белые
клыки и розовое нёбо. В глубине корзины Ганнон
разглядел нескольких щенков, тыкавшихся своими мордочками в
брюхо матери. Эта картина напомнила Ганнону далекое
детство. Вот таких же щенят принесли в подарок его матери.
Повар на кухне уже точил ножи, но Ганнон и Синта
унесли щенков и спрятали их в старом, высохшем колодце. Они
таскали своим пленникам еду. Ласкали и утешали их. Когда
же взрослые раскрыли их тайну, уже было поздно.
Наступило время летнего поста. А после поста щенята
превратились в собак.
Первая детская тайна сблизила Ганнона и Синту, а
потом пришла любовь. Ее тоже нужно было скрывать от
взрослых: ведь они принадлежали к враждующим родам. Но
вскоре тайное стало явным. Миркан, отец Синты, казался
благосклонным. И, может быть, их жизнь сложилась бы иначе,
если бы не Гимера. Миркан воспользовался тем, что Ганнон
отправился в Сицилию. Он отдал свою дочь в храм. А
разве он не мог поступить, как все отцы города — заменить
сына на жертвенном ложе каким-нибудь юным рабом?..
Вслед за жрецом карфагеняне вошли в пещеру.
Факелы освещали закопченный потолок и стены, украшенные
изображениями каких-то фантастических животных, грубо
сколоченные столы и низкие скамьи. В углу трещало
пламя очага, наполняя пещеру ароматом смол.
Усадив гостей, Радамант оставил их одних. Ганнон
успел переброситься с Мидаклитом несколькими фразами.
154
— Вот мы и на пороге тайны.
— Мне кажется, я вижу чудесный сон, — отозвался
восторженно грек.
Вошли двое юношей с тонкими, как у девушек,
талиями. Каждый из них нес плетеную корзину. На столе
появились фрукты и деревянные чаши с вином.
Гостям поднесли воду и золу для умывания.
— Как у нас в Карфагене, — шепнул Ганнон.
Вошел Радамант и сел рядом с Мидаклитом.
— Так и живем, — сказал он, обводя пещеру
грустным взглядом. — Только по свиткам из козьей шкуры мы
знаем о равнинах, изрезанных каналами, о людных городах,
о мудрых правителях и вдохновенных певцах Атлантиды.
— Откуда же эти свитки? — поинтересовался Мидак-
лит.
— Я уже говорил, что в те давние времена, когда на наш
остров высадились люди с палками из красной меди, память
об Атлантиде была еще жива. О ней пели старцы на пирах,
матери рассказывали о ней своим детям. Радамант Первый
приказал записать эти предания на твоем языке.
Жрец подошел к нише в стене и достал оттуда
высокую амфору. Он вынул из нее свиток и протянул Мидак-
литу.
Грек дрожащими руками развернул свиток и впился в
него глазами. Лицо его разочарованно вытягивалось.
Радамант молча следил за Мидаклитом. Внезапно он выхватил
свиток из его рук и, перевернув, снова ему подал.
— Ничего не понимаю! — шепнул Мидаклит. — Жрец
говорит, что их предания записаны на моем языке, но это
же не греческие письмена!
— Не подавай виду, — прошептал Ганнон. — Нас
могут принять за самозванцев.
— Скорее за невежд, — грустно сказал Мидаклит. —
Я держал свиток вверх ногами.
— Скажи, Радамант, — обратился Ганнон к жрецу. —
Мы приплыли к тебе с востока, а что лежит к западу от
твоей земли?
— Море и еще раз море, — отвечал Радамант, — а
за морем — материк. Так говорится в свитке, который
держит твой друг. Атланты не раз бывали на этом материке.
После катастрофы мои предки вздумали туда
переселиться. Но их постигла неудача. Они наткнулись на густые во-
155
доросли, опутавшие весла. Они поняли: боги хотят, чтобы
они остались на родине. Вернувшись на остров, моряки
сожгли свои корабли и дали обет никогда не выходить в море.
Этой клятве верны и мы, их потомки.
Пора было возвращаться на корабль. После
происшествия с "Сыном бури" беспокойство за корабль никогда не
покидало Ганнона.
Суффет поднялся и, по обычаю своей родины, низким
поклоном поблагодарил хозяина за гостеприимство. Мидак-
лит передал жрецу свиток и в знак благодарности
приложил правую руку к сердцу.
— У меня не выходит из головы, — обратился грек к
Ганнону, когда они остались одни, — слова жреца о
непроходимом море к западу от острова. Ведь об этом же море
писал Солон со слов саисских жрецов. Только это море,
оказывается, было непроходимо из-за водорослей, а не из-
за окаменелой грязи, как написано у Солона.
— Да, это удивительно! — согласился Ганнон. —
Предание атлантов стало известно в Греции.
— А разве менее удивительно, что старинный критский
щит попал в Карфаген?
Тропинка спускалась к ручью. Увлеченные разговором,
путники не заметили, как оказались рядом с
золотоволосой девушкой. Она стояла с амфорой на плече. Так носят
воду и на их родине.
Увидев Ганнона, девушка поставила амфору на траву
и медленными неверными шагами приблизилась к юноше.
Сняв со своей головы венок, она возложила его на голову
карфагенянина.
— Я Тинис, дочь Радаманта, — сказала она тихо.
Ганнон остановился в смущении. Он не знал, как ему
поступить. Решив, что так принято знакомиться на
острове, он взял маленькую ладонь Тинис и молвил:
— Я Ганнон, сын Гамилькара.
Закрыв лицо руками, девушка пятилась к ручью.
Наткнувшись на амфору, она опрокинула ее. Вода полилась
на землю. Девушка скрылась. Все это произошло в одно
мгновение.
— Какие странные обычаи у этих людей! — удивился
Ганнон. — Я подал ей руку, а она отшатнулась от меня,
словно я ее оскорбил.
— Когда я впервые прибыл в Карфаген, — сказал
156
грек, — для меня было не менее странным видеть, как вы
вызываете дождь, размахивая ивовыми прутьями. Я был
поражен, когда узнал, что египтяне месят тесто ногами, а
глину — руками. В Гадире мы с тобой видели людей,
проклинающих солнце. У каждого народа свои обычаи. То, что
для одного хорошо, у другого вызывает отвращение.
На берегу карфагеняне лишний раз убедились в
справедливости этих слов. Один из матросов, охранявших
лодку, вздумал искупаться. Он сбросил с себя плащ и ринулся
в волны. Это вызвало ужас у стоявших на берегу
островитян. Они бросились без оглядки бежать к своим пещерам.
— Боятся моря! — сказал Мидаклит. — Помнишь, что
рассказал жрец о клятве уцелевших атлантов? Море
поглотило Атлантиду, уничтожило все, что они имели. Отсюда
ненависть к морю и страх перед ним.
На гауле Ганнон снял с головы венок и положил его
перед собой. Запахло весенней свежестью. Как хорошо
остаться одному со своими мыслями! Увидеть прошлое,
которое несешь в себе и которое не нужно никому, кроме
тебя. Услышать голоса, которые, может быть, никогда
больше не прозвучат. Синта! Где ты? Повесть нашей любви так
же грустна, как песня, которую ты так любила:
И плакал он горько о Лине, о сыне,
И песня владыки душу прожгла.
КОЛЕСНИЦА БОГОВ
Прошел месяц с той поры, как "Око Мелькарта"
бросил якоря в бухте Амфоры. Матросы готовили гаулу к
плаванию. Они поставили новую мачту и реи, смазкой из
толченых раковин и оливкового масла заделали щели борта.
Радамант прислал Ганнону три кожаных мешка с красной
краской. Эту краску добывали из сока исполинских
деревьев, растущих на склонах высокой горы, вершина
которой была покрыта снегом. Ганнон приказал выкрасить этой
краской паруса. Это привело моряков в восторг. Пурпур
так дорог, что только цари могут себе позволить носить
багряную одежду и жить в шатрах, окрашенных им.
— Чтобы добыть несколько багрянок, — вспоминал Ад-
гарбал, — нас заставляли спускаться на глубину в три-
157
дцать, а то и сорок локтей. Вынырнешь и ухватишься за
край лодки. Дышишь, как рыба. Силы покидают тебя,
надсмотрщик бьет плетью по рукам. Ныряй! На берегу еще
секут, если мало выловил. Смотришь на яркие ткани и
думаешь: нет, не пурпуром, а кровью они окрашены.
Краски было так много, что матросы выкрасили ею
борта гаулы и весла. Некоторые окрасили и свою одежду и
стали весьма живописно выглядеть в своих лохмотьях. Не
успел Ганнон опомниться, как в мешках не осталось уже
ни капли драгоценной краски, которую он решил привезти
в Карфаген. Конечно, он мог бы попросить у Радаманта еще
пару кожаных мешков с краской, и жрец, наверное, ему
бы не отказал, но ему хотелось посмотреть на само
дерево, источающее пурпур. Если привезти его семена и
высадить где-нибудь близ Карфагена, его родина обогатится. Не
надо будет платить серебром и золотом иноземным купцам
за пурпурные ткани. Их можно будет выделывать в самом
Карфагене для себя и на продажу. Вот почему, выбрав
погожий день, Ганнон решил отправиться за краской и
семенами исполинских деревьев. Он взял с собой Мидакли-
та. Оба несли по кожаному мешку.
— Основать бы здесь колонию! — Ганнон задумчиво
глядел на берег, на гору со снеговой шапкой. — Я не знаю
лучшего места на земле. Мягкий климат, тучная земля.
Здесь можно будет посадить пальмы, по склонам горы
разбить виноградники, у пещер построить город.
Мидаклит неодобрительно покачал головой:
— Ты не подумал о том, что вместе с колонистами
прибудут сюда и алчные купцы или наглые пираты вроде Мас-
тарны. Они сделают доверчивых островитян своими рабами.
— Да, ты прав, — согласился Ганнон. — Я об этом
не подумал. Сюда надо пустить только избранных,
благородных людей.
Грек, видимо, хотел что-то возразить, но возглас Ганнона
отвлек его:
— Смотри, как странно ведет себя эта собака!
Мидаклит обернулся. За время пребывания на острове
карфагеняне успели приглядеться к огромным
четвероногим, напоминающим молосских псов ростом и длинной
желтоватой шерстью, только эти псы были совершенно
беззлобны. Эти животные почитались здесь священными
существами, подобно быкам у ливийцев и крокодилам у египтян.
158
У собаки, попавшейся им на глаза, был какой-то жалкий
и растерянный вид. В зубах она тащила щенка. Тревога
животного никак не гармонировала со спокойствием,
разлитым вокруг.
Путники вышли на луг, пестревший яркими,
невиданными цветами. Среди них выделялись оранжевые
колокольчики и папоротник с вейями, отливающими золотом.
— Если бы эти цветы росли в Элладе, кто бы стал
украшать себе голову лавром, а вазы и амфоры плющом? —
С этими словами грек сорвал несколько растений и
бережно, чтобы не смять, положил их за край своего плаща.
Луг манил к себе.
— Отдохнем, — предложил Ганнон. — Полдень еще
не скоро.
Друзья растянулись на траве. Вдыхая утреннюю
свежесть и аромат цветов, Ганнон задумчиво глядел на
плывущие по небу причудливые облака. Счастье уплыло от
него, рассеялось, как призрачное видение в пустыне.
Остаться бы здесь, на этом чудесном острове с Синтой, и ему
не нужны ни власть, ни богатство, ни слава.
К шелесту трав прибавился какой-то новый звук.
Приподнявшись на локтях, Ганнон увидел, что со скал,
огибающих луг большим полукружием, спускались козы. Они так
ловко прыгали, что их можно было принять за диких. Но
вот из-за поворота показался пастух. Он играл на свирели.
Стадо приближалось. Козы шли прямо на людей,
нисколько не пугаясь их.
— И козы здесь так же доверчивы, как и люди, —
вздохнул Мидаклит. — Звуки свирели заменяют свист бича.
Когда пастух и стадо скрылись из виду, путники
встали и двинулись тропой, извивающейся между скалами.
Легкий ветер ласкал лицо, трепал волосы Ганнона.
— Ты смеешься над своим учителем за его любовь к
Гомеру, — молвил Мидаклит, — но не Гомер ли описал
этот чудесный остров, не он ли поведал нам о
златовласом Радаманте:
Ты за пределы земли на поля Елисейские будешь
Послан богами, туда, где живет Радамант златовласый.
Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни холода люди не знают,
Где сладкошумно летающий веет Зефир океаном,
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным.
159
Ганнон уже не раз слышал эти строки, но лишь теперь
он осознал их пророческую силу. Как мог поэт, никогда не
бывавший здесь, дать такое проникновенное описание
природы острова Атлантов? Откуда он слышал о Радаманте?
К полудню путники вступили в сосновый лес. Пахло
хвоей и смолой.
— Смотри, какие длинные иглы у этих сосен! —
восторгался грек. — Здесь все не так, как у нас в Элладе.
А птички с красной спинкой и желтым брюшком! Видел
ли ты нечто подобное?
Солнце уже клонилось к западу, когда путники
остановились у огромного дерева. Толщиной своего ствола оно
не уступало исполинскому дереву Страны Высоких Трав,
но было выше его. Ствол его был совершенно гладкий, без
всяких ветвей, и только на самой его макушке ветви
образовали густой пучок наподобие вычурной прически
карфагенской модницы или букета цветов. В сероватой коре
дерева были пробуравлены отверстия, из которых вытекали
алые капли. Трава у подножия дерева была красной.
— Пурпурное дерево! — воскликнул грек.
Мидаклит вытащил нож и стал ковырять им кору.
— Не хочешь ли ты и здесь начертать мое имя? —
пошутил Ганнон. Но сразу по его лицу пробежала тень.
Ведь в Стране Высоких Трав их было четверо. Нет Малха
и Бокха...
Грек не успел ответить. Послышался какой-то гул,
переходящий в грохот. Казалось, дребезжа, катилась с горы
колесница. Ведь Радамант назвал гору со снежной вершиной
Колесницей богов. Раньше это название казалось Мидакли-
ту странным, а теперь... Мидаклит еще в детстве испытал
землетрясение в своем родном Милете. Ему вспомнились
развороченные мостовые, развалины, мечущиеся люди...
— Бежим! — крикнул грек. — Здесь оставаться
опасно!
Что было сил они побежали к морю. Сзади гремело, с
треском валились деревья. Катились обломки скал. И вдруг
все стихло. Только волны поднимались так высоко, что,
казалось, вот-вот они поглотят остров.
— Вот чего боялась собака! — промолвил Ганнон,
опускаясь на траву. — Природа наделила это животное
удивительным чутьем!
Грек тяжело дышал. Приложив ухо к земле, он прислу-
160
шивался к доносившимся из земных глубин ударам.
Казалось, там, внизу, кузнецы бьют молотами по наковальням.
На лице Мидаклита появилось выражение тревоги.
— Эта гора, — сказал он, — напоминает мне
сицилийскую Этну1. На голове ее снег, а в груди огонь.
ПЕЩЕРА СОКРОВИЩ
Прошла еще неделя. Матросы были заняты тем, что
ловили рыбу и сушили ее на солнце. Сушеная рыба должна
была в пути заменить морякам мясо.
С ужасом смотрели потомки атлантов, как матросы
вытаскивали на берег тяжелые сети и потрошили рыбу, перед
тем как ее разложить для сушки. Ганнона это уже лереста-
ло удивлять, но Адгарбал возмущенно размахивал руками:
— Я могу понять египтян и иудеев, готовых лучше
умереть, чем съесть кусочек свинины. Но что может быть чище
рыбы!
Мидаклит совсем редко появлялся на гауле. Он
проводил все дни у Радаманта, слушая предания о древних
городах Атлантиды, о ее поэтах и мудрецах. Рассказы
Радаманта во многом совпадали с тем, что Мидаклит уже знал из
свитка Солона, но то, что там ему казалось красивой
сказкой, здесь выступало во всем могуществе достоверности.
На этот раз Мидаклит был особенно возбужден.
Усадив Ганнона на чистый прибрежный песок, он стал чертить
пальцем какие-то знаки.
— На каком языке я пишу? — спрашивал он,
загадочно улыбаясь.
Ганнон пожал плечами:
— Откуда мне знать?
— Я пишу по-гречески! — воскликнул Мидаклит. —
По-гречески, — повторил он, быстро начертив еще какой-
то значок. — Пятьдесят лет я прожил на свете, прочел
тысячи свитков, беседовал с ученнейшими людьми, но даже
не слышал, что у греков до Гомера было свое письмо.
И где я узнал об этом? На острове, затерянном в океане!
— Тебе это сказал Радамант?
— Да. Сегодня он был как-то особенно печален. Когда
1 Этна — вулкан на острове Сицилия. Извержения Этны известны
человечеству на протяжении многих тысячелетий.
6 532
мы с ним остались одни, он достал ту костяную табличку,
которая была в щите, и протянул ее мне обратно, горько
усмехнувшись: "Блаженные острова". Так я узнал, что
написано на табличке. Жрец очень удивился, что эти
письмена мне непонятны. Откуда ему было знать, что теперь у
нас другая грамота, заимствованная у твоих предков. "Все
равно, — молвил он, — каким путем вам досталась эта
табличка. Сокровища будут принадлежать вам".
— Сокровища? О чем ты говоришь, учитель?
— Ты разве забыл, как он нам рассказывал о моряках,
оставивших на острове свои сокровища?
— Так это правда?
— Истинная правда, как и то, что у ахейцев была своя
грамота. А ведь это ценнее всех сокровищ!
— А не видел ли ты Тинис? — спросил Ганнон.
— Видел! Но она меня избегает. Не пойму, чем мы
обидели эту девушку.
— Смотри, — воскликнул Ганнон, — идет Радамант!
— Ты хочешь сказать — бежит.
Действительно, жрец бежал. И это было совсем на него
не похоже.
Встревоженно переглянувшись, Ганнон и Мидаклит
двинулись навстречу жрецу.
— Я вас искал повсюду! — Радамант был очень
взволнован. — Вы должны немедленно покинуть нашу землю! —
И он показал на гору.
Над вершиной ее клубилось белое облако, и гора
удивительно напоминала голову жителя пустыни в белом
капюшоне.
— Беда идет оттуда! Страшная беда! С вершины вот-
вот польется огонь. Скоро займутся леса и остров
наполнится едким дымом. Вам здесь оставаться нельзя.
— А ты и твоя дочь? — в тревоге спросил
Мидаклит. — На корабле и для вас найдется место!
— Мой народ не уместится на твоем корабле! —
отвечал Радамант. — А я не оставлю мой народ в беде! —
Жрец сделал карфагенянам знак, чтобы они следовали за
ним.
Одно из круглых отверстий в скале было расположено
выше, чем другие. К нему вела лестница со стершимися
от времени ступенями. Мидаклит бывал здесь уже не раз.
Но Ганнона, не знавшего, куда его ведут, не покидало
чувство беспокойства.
162
На верхней ступени Радамант снял плетеные сандалии.
Ганнон и Мидаклит последовали его примеру и, нагнувшись,
чтобы не задеть головой нависший камень, шагнули вслед
за жрецом. Они очутились в храме.
Пещеру освещали прикрепленные к стене бронзовые
светильники. Стены ее были гладкие, а пол неровный, с
протоптанными на нем дорожками. Одна из них вела к
мраморному жертвеннику, сделанному в виде огромной чаши
с высокими загнутыми краями. В нише, вырубленной у
подножия жертвенника, лежали докрасна раскаленные угли,
мерцавшие, как глаза каких-то сказочных чудовищ.
Радамант зажег факел и высоко поднял его. Красное
пламя закачалось над головой жреца. Отблески этого
пламени пробежали по белому мрамору жертвенника. Ганнон
не удержался и заглянул через край чаши внутрь алтаря.
На его дне копошились, сцепившись в клубок, змеи. Свет
факела отражался на их чешуе и неподвижных желтых
глазах. Встревоженные светом, они раскрывали свои рты и
высовывали длинные языки.
Ганнон содрогнулся. "Змеи в храме! Это для них
пылает священное пламя. Для них совершаются
жертвоприношения. Но что это за жертвы? У алтаря не белеют
кости животных".
Радамант приблизился к двери, обитой позеленевшими
бронзовыми листами. "Откуда здесь металл?" — подумал
Ганнон.
Жрец нажал на какой-то рычаг, и дверь медленно
открылась. Ганнона обдало затхлостью.
Они оказались в небольшом помещении. Его можно
было принять за кладовую храма. На полу свалены в кучи
какие-то предметы.
— Вот они, сокровища людей с палками из красной
меди! — прозвучал голос Радаманта. — Теперь эти
сокровища принадлежат вам!
Издав радостное восклицание, Мидаклит бросился в
угол пещеры. И вот он держит в руках продолговатый щит.
На нем изображен корабль с распущенными парусами. На
палубе — фигурки людей в высоких головных уборах, на
носу — богиня со змеями в руках.
Ганнон смотрел на Радаманта. Жрец стоял, опустив
голову и закрыв лицо руками. Во всем его облике были скорбь
и отчаяние. Внезапно он протянул руку к щиту и взял его
163
у Мидаклита. Затем он перевернул щит. Видимо, что-то в
рисунке на щите было ему неприятно.
Подняв над головой факелы, Ганнон и Мидаклит
наклонились над грудой сокровищ. Сверкали золотые и
серебряные кубки, украшенные узорами. Они изображали
мужчин с двойными топорами в руках, быков, опустивших рога,
дельфинов, извивающихся осьминогов, птиц, парящих в
воздухе и сидящих на деревьях. Под кубками лежали
слитки золота, драгоценные камни. Одни из них были светлы
и прозрачны, как вода, другие искрились, как вино.
Вот хорошо знакомые Ганнону бериллы и калхедоны.
Их привозят в Карфаген из пустынной страны Гарамантов1.
Этими драгоценными камнями украшают свои пальцы
богатые купцы Карфагена. А это, наверное, бриллианты,
которыми славится сказочная Индия. А этот молочно-белый
камень, кажется нефрит, столь ценимый египтянами. А вот
кроваво-красный рубин. А этот зеленый камень —
изумруд. Его доставляют из далекой Скифии.
Мидаклит и Ганнон стояли как зачарованные, не в
силах оторваться от этого зрелища. Они думали о людях,
когда-то, в давние времена, бороздивших моря в погоне за
этими бесценными богатствами. Жажда добычи гнала их в
океан. На что не шли эти люди, лишь бы только
заполучить эти яркие камешки! Но их сокровища остались на
затерянном в океане острове, не нужные никому.
Голос жреца заставил карфагенян вздрогнуть:
— Торопитесь! Вас ждет море!
С этими словами жрец покинул храм. Карфагеняне
решили: одному идти к лодке за матросами, другому
остаться в пещере, чтобы отобрать наиболее ценные сокровища.
В пещере остался Ганнон. Укрепив на полу факел, он
стал откладывать золотые и серебряные кубки,
драгоценные камни. Камни он решил сложить на щит. Ганнон еще
раз взглянул на него. Как две капли воды, он был похож
на щит, купленный им в Карфагене.
Шорох заставил его обернуться. В нескольких шагах
от него стояла Тинис. Она была в длинной белой тунике.
Сейчас Тинис ничем не напоминала ту девушку, которую
Ганнон встретил у ручья. Всем своим гордым обликом она
1 Гараманты — кочевое племя, жившее в пустынной части Африки,
к югу от Карфагена.
164
походила на богиню. Несколько мгновений Ганнон
удивленно смотрел на дочь Радаманта.
Потом приблизился к ней. Но Тинис жестом
остановила его.
— Ты мой суженый! — сказала она, с трудом
подбирая слова. — Я подарила тебе венок. Почему ты
оскорбил меня рукопожатием?
Теперь Ганнон понял все. Венок — это не просто дар,
это признание в любви.
— Ты должен был вернуть венок, если не любишь
меня, — продолжала Тинис.
И вдруг какой-то порыв охватил Ганнона. Сердце его
затрепетало, как парус во время внезапно налетевшей бури.
"Вот оно, сокровище, которое мне посылает Танит!"
Ганнон снял со своего пальца серебряное кольцо с
квадратной печаткой и надел его на палец девушки. Ее руки
были холодны, как мрамор.
— Уже поздно! — произнесла Тинис. — Поздно!
Снаружи послышался шум голосов. Тинис вздрогнула
всем телом и отступила к двери. Еще мгновение, и она
исчезла во мраке.
— Тинис! Тинис! — звал Ганнон, и его голос гулко
разносился под сводами.
Ганнон выбежал из пещеры.
Все пространство перед скалой было заполнено людьми.
Мужчины, женщины и дети выходили из пещер и шли к
морю. На Ганнона никто не обращал внимания. Он искал
глазами Тинис, но ее не было видно, не было и Радаманта.
Небо покрылось тучами. С моря подул сильный ветер.
Со свистом он проникал в расщелины скал, шумел в
кронах деревьев, клокотал в ручье.
— Тинис! Тинис! — звал Ганнон.
И, словно дразня его, откликалось эхо:
'Тинис! Тинис!"
И тогда Ганнон увидел Мидаклита. Волосы его
развевались по ветру.
— Скорее! Скорее! — кричал грек. — Сокровища уже
на корабле! Сейчас за нами придет лодка!
Мидаклит бросился к берегу. И в этот миг Ганнон
увидел Радаманта. Высокий и безмолвный, он стоял,
окруженный несколькими островитянами. В руках у жреца была
амфора.
166
Ганнон рванулся к Радаманту:
— Где Тинис?
Лицо жреца потемнело. Он отвел взгляд от Ганнона.
— Передай это другу, — произнес Радамант,
протягивая Ганнону амфору. — Здесь самое дорогое, что у меня
есть, — свитки.
— Где твоя дочь? — настаивал Ганнон.
Жрец молчал и медленно удалялся, окруженный
безмолвными островитянами. На их лицах не было тревоги,
скорее светилась покорность судьбе.
Адгарбал и Мидаклит подхватили Ганнона под руки и
силой усадили его в лодку. Весла ударили по воде, и вот
уже Ганнон на палубе гаулы. Загремела, заскребла по
сердцу якорная цепь. Забился, затрепетал на рее парус.
Зашумели под килем волны.
И тогда Ганнон увидел на утесе одинокую женскую
фигурку. Хотя до утеса было никак не меньше двухсот
локтей, Ганнон сразу узнал Тинис. Девушка стояла лицом к
морю. В руках ее извивались змеи.
— Ифигения1 из Атлантиды! — воскликнул Мидаклит.
Ганнон молча взглянул на учителя. "Ифигения? Что ты
этим хочешь сказать?" — говорил его взгляд.
— Когда ты был в храме, — промолвил грек, — я
узнал о страшном обычае островитян. Здесь девушки
приносят себя в жертву подземным богам, чтобы отвести их гнев.
— Подземным богам?
— Да, подземные боги у них почитаются в образе змей.
Ганнон не отрываясь смотрел на утес. Ему показалось
что одна змея, как черная плеть, скользнула по груди
Тинис. Мучительно жаль было эту девушку, ее отца, весь этот
народ, обреченный на гибель. Образ Тинис слился с
образом Синты, как в тигле сплавляются два драгоценных
металла. Ганнон протянул вперед руки, но на утесе уже
никого не было. Словно все, что он видел мгновение назад,
было сном.
Гаула выходила в открытое море.
1 Ифигения — в греческой мифологии дочь царя Аргоса Агамемнона.
Согласно легенде, она была обречена отцом в жертву богине
Артемиде, чтобы с ее помощью начать поход греческого флота в Трою.
В ЗАЛИВЕ ЮЖНОГО РОГА
СНОВА В МОРЕ
Каюта была полна кубками, амфорами с драгоценными
камнями и другими сокровищами из храма Радаманта.
Мидаклит сидел рядом со спящим Ганноном. В руках
его шелестел свиток. Врывавшийся сквозь щели ветер
колебал пламя светильника. Мидаклиту казалось, что между
строчками древней рукописи он видит солнечный свет и
сияние моря, корабли входят в порт чудесного города
атлантов. Их встречают статуи из красного металла и люди
в белых одеждах.
Страшный грохот заставил Ганнона вскочить на ноги.
Выбежав на палубу, он увидел огненный сноп,
поднимавшийся из глубин темного моря. Багровым пламенем он
осветил все вокруг. Его отблеск лег на волны, пронизал
паруса. "Горит Колесница богов", — подумал Ганнон.
Огромный столб дыма взметнулся над морем, слившись
с багровыми облаками. Временами ветер менял
направление, и тогда можно было увидеть огненный поток лавы,
растекающийся среди пламени.
"Рождение и смерть — таков закон, которому подвластно
все, что есть на земле и на небе. Рождаются и умирают люди,
погружаются на дно материки и всплывают новые!" —
звучали в голо^ Ганнона слова сурового и благородного
Радаманта. Тол кг> теперь он осознал беспощадную мудрость этих
слов. Настанет время, когда люди уже ничего не будут
знать ни о ве.пиком городе Карфагене, ни об этой
маленькой гауло, глуждающей сейчас в океане. Забудутся имена
отважных Перед лицом времени и человек и даже город из
вечного кзчня — как мотылек, живущий один день.
Сгуспм^ч мрак. Словно наступила последняя вечная
ночь. С Tj. .цом пробрался Ганнон к кормовому веслу и
сменил Адгарйала. Вдруг на палубу что-то посыпалось частым
тяжелым г^Чаем. Это был пепел. Под Гимерой он сам видел
огнедышащую Этну и слышал о том, что эта гора
извергает пепел. Случалось, что целые города были погребены под
ним. Но гор* да ведь не имели парусов, как "Око Мелькар-
та"\ Пусть яростно грохочет Колесница богов, пусть она
168
злобно кидает им вслед камни. Гаула уйдет! Ветер, дуй во
все щеки! Гони гаулу куда хочешь, только подальше от
этого гибнущего острова.
Ночь казалась бесконечно долгой. Наконец мрак стал
рассеиваться, превращаясь в туман. Блеснуло солнце,
тусклое, как истершаяся бронзовая монета. Глазам Ганнона
предстала палуба, покрытая, словно снегом, пеплом.
Отдав кормовое весло Адгарбалу, совершенно
обессиленный, Ганнон спустился в каюту. Мидаклит не спал.
Положив свои таблички на колени, он что-то царапал по
ним палочкой. Увидев Ганнона, грек радостно вскочил. Он
указал на горлышко.высокого серебряного сосуда,
стоявшего рядом, и воскликнул:
— Видишь, Ганнон, что здесь есть!
На горлышке сосуда были начертаны такие же значки,
какие были нацарапаны на костяной табличке из щита. Но
эти значки были мертвы для суффета.
— Тартесс, — прочел вслух Мидаклит. — Теперь мне
ясен путь критских пиратов, которым мы обязаны этими
сокровищами. Они достигли Тартесса и разграбили его. На
обратном пути, очевидно, буря вынесла их корабль в
открытое море и забросила на остров атлантов. Там они
прожили более двадцати лет. Там они вынуждены были
оставить часть своей добычи. Наверное, лишь немногим из
критян суждено было вернуться на родину.
— Но почему же они не вернулись за своими
сокровищами? Почему это не сделали их дети и внуки? —
возразил Ганнон.
— А потому, что вскоре Крит был завоеван
воинственными дорийцами1, предками нынешних спартанцев. Эти
пастухи и воины разрушили города Крита, опустошили его
дворцы и храмы. Много сокровищ досталось дорийцам, но
кладезь знаний древних критян так и остался для них
закрытым. Таблички с письменами, которые они могли
обнаружить в развалинах дворцов, были им так же непонятны,
как и мне, пока Радамант не раскрыл их тайну. Но даже
если бы они могли прочесть о далеких плаваниях моряков
царя Миноса, могли ли они их повторить? Вся жизнь их
проходит в горах и долинах Крита или Пелопоннеса. Море
вызывает у них ужас... Но все же, — продолжал грек после
Дорийцы — одно из греческих племен.
169
короткой паузы, — открытия древних критян не были
вовсе забыты. На пирах слепые певцы, и Гомер среди них,
вспоминали о Тартессе, об океане. И последние капли
истины потонули в волнах поэтического вымысла. Тартесс,
лежащий за вратами лучезарного бога солнца, за
Столбами Мелькарта, превратился у Гомера в царство мрака и
смерти Тартар. Всеобъемлющее море с его приливами и
отливами, столь удивительными для каждого, кто его видит
впервые, превратилось в реку-океан. Остров в океане,
заселенный потомками атлантов, сделался полями
Блаженных...
Сквозь дрему Ганнон слышал, как грек что-то говорил
о Радаманте. Потом Ганнон забылся.
ЮЖНЫЙ РОГ
Целую неделю гаулу носило по бурному морю.
Временами волны с такой силой обрушивались на борта "Ока
Мелькарта", что они трещали. Гаулу метало из стороны в
сторону, и, казалось, вот-вот она станет поперек волн.
Огромные вздыбленные валы пугали даже такого
бывалого моряка, как Адгарбал. Мореходы предпочитали
лучше разбиться о берег, чем потерять его из виду. Вот и
теперь они напряженно всматривались в горизонт, и каждое
облако превращалось в их воображении в спасительную
землю.
Ветер дул в южном направлении, и сколько ни
прилагали люди усилий, им никак не удавалось повернуть корабль
на восток, где, как они предполагали, находился ливийский
берег. Мощное течение все дальше уносило гаулу. Только
на восьмой день блужданий в океане волны уже не были
так яростны. Влажный туман рассеялся. И тогда моряки
увидели землю.
Гаула быстро неслась к берегу.
— Смотри! — воскликнул грек. — Мыс этот имеет
форму рога. А за ним берег уходит к востоку. Это,
наверное, и есть южная оконечность Ливии.
Из синих вод океана, как зеленый цветок, выплыл
остров. Какими огромными деревьями он покрыт! Высочайшие
пальмы, какие когда-либо приходилось видеть Ганнону, были
много ниже этих исполинов.
170
"Да, мы находимся южнее Хреты! — думал Ганнон. —
К северу от нее не было ни такого острова, ни таких
деревьев. Должно быть, учитель прав. Мы достигли южной
оконечности Ливии".
— Правь к острову! — приказал Ганнон Адгарбалу.
"Око Мелькарта" стал на два якоря в спокойной
бухте на северном берегу острова. Якоря опустились в
глубину на все сорок локтей, но каменистое дно их отлично
держало, и гауле не угрожала опасность быть унесенной в
океан. Ночь прошла спокойно. Утром Ганнон решил
высадиться на берег. Но этому помешало неожиданное
препятствие. К утру ветер переменился. Небо стало совершенно
серым. Тучи, казалось, задевали верхушки мачт. Вскоре
хлынул ливень. С неба лились целые потоки. Вода
хлестала по палубе, обливала мачту и паруса, булькала,
журчала. Никому из карфагенян не приходилось еще видеть
такого дождя. Наверное, так начинался потоп, о котором
говорилось в древних преданиях.
— Боги хотели нас сжечь небесным огнем, а теперь
решили утопить! — шутил Мидаклит.
Но Ганнона это тревожило не на шутку. Он опасался,
что деревянные части гаулы могут погнить. Матросы
накрыли просмоленной материей все отверстия на палубе.
Дождь лил четверо суток, не утихая.
— Подумай, — возбужденно говорил Мидаклит, — у
нас считают, что на юге Ливии нет жизни, что под
знойным солнцем сгорает земля и вскипает море, а
оказывается, чем дальше к югу, тем больше влаги, тем пышнее
растительность.
— А помнишь, — заметил Ганнон, — как мы мучились
от жажды в пустыне, как пересыхала гортань, как в мозгу
вставали призрачные видения? Почему так несправедлива
природа?
— Природа безразлична ко всему живущему. Она не
знает, что такое добро, что такое зло. Несправедливость
природы должен устранить человек.
Ганнон с любовью посмотрел на учителя. С каждым
днем он все больше преклонялся перед ним. Для других
людей море, ветер, пустыня были капризными или
жестокими, тщеславными или великодушными существами,
имевшими свои слабости, любившими лесть и щедрые дары. Для
грека море, ветер, пустыня были безличными стихиями,
171
управляемыми вечными, железными законами, доступными
человеческому уму. И уверенность в незыблемости этих
законов сочеталась в Мидаклите с наивным пристрастием
к красивым и нелепым сказкам его родины.
Битва при Гимере перевернула всю жизнь Ганнона.
Если бы не гибель отца, вго судьба сложилась бы иначе.
Ему бы надо было ненавидеть каждого эллина, видеть в
каждом из них смертельного врага. Не раз ловил суффет
неприязненные взгляды матросов, обращенные к Мидакли-
ту. Казалось, из их душ поднималось что-то грязное и
черное, как осадок со дна амфоры. Глаза их мутнели. Лица
искажались злобой. Но в душе Ганнона не было этой
ненависти.
— Как мы назовем этот мыс? — вслух рассуждал Ми-
даклит. — Мысом Дождей или мысом Надежды?
— Южным Рогом, — предложил Ганнон.
Учитель обрадованно закивал головой.
ЛЕСНЫЕ ЧУДОВИЩА
Дождь прекратился так же внезапно, как и начался.
Палуба стала просыхать. К небу поднимались струйки пара.
Ветерок доносил с острова приторный и густой аромат,
который испускали, по-видимому, исполинские деревья.
Людьми овладевало ощущение какой-то новизны и свежести,
словно ливень смыл без остатка все, что их связывало с
прошлым.
Надо было подумать о дальнейшем пути. Если Мидак-
лит прав и корабль находится у южной оконечности Ливии,
то какой смысл возвращаться старой дорогой, через Мель-
картовы Столбы? Не проще ли обогнуть Ливию, как это
сделали финикийцы по повелению египетского фараона
Нехо?1 Можно будет высадиться в Аравии, а оттуда сушей
достигнуть Тира.
Но, чтобы продолжать плавание, надо пополнить
запасы провизии, тщательно подготовить гаулу и, главное, дать
отдохнуть людям.
В этот же день моряки сошли на берег. Ганнон прика-
1 По преданию, египетский фараон Нехо (около 600 г. до н. э.)
приказал финикийским морякам обогнуть Африку. Полагают, что им удалось
это осуществить.
172
зал захватить топоры. Они могли понадобиться, если
придется прорубать чащу. Гаула прочно стояла на якорях,
поэтому Ганнон оставил на борту только пятерых матросов
во главе с Адгарбалом. Все остальные были переправлены
на остров. Лодку вытащили на сушу и перевернули килем
вверх. Теперь в путь!
Ганнон энергично шагал по мокрому песку. Взморье
было покрыто огромными лужами желтоватой воды. Из
размытой земли поднимались густые горячие испарения,
наполняя воздух гнилой сыростью.
В нескольких шагах от себя Ганнон увидел огромную
черепаху, ее панцирь отливал зеленью. Заметив людей,
черепаха втянула в него лапы и голову. "Вот и мясо, —
подумал Ганнон. — Остается только отыскать деревья,
чтобы починить гаулу, и источник с хорошей водой".
Прошлой ночью карфагеняне не слышали хорошо
знакомых им звуков — рыка льва и воя гиены, звуков, без
которых не обходится ни одна ливийская ночь. Но, если
на острове нет львов и гиен, здесь могут водиться другие
хищные звери.
Лес, мрачный и густой, начинался почти у самого
берега. Мощные, гладко отполированные стволы гигантских
деревьев, словно мачты, поднимались к небу. Внизу
деревья были почти лишены ветвей, зато верхушки их были
похожи на огромные шатры. Ветви и листья так сплелись
и перепутались, что неба почти не было видно. Вокруг
стволов вились растения, их стебли, устремляясь вверх, подобно
змеям, охватывали деревья.
Земля была покрыта прелой листвой и множеством
полусгнивших стволов. На них росли уродливые грибы и
желто-коричневые цветы, напоминавшие орхидеи. Мидак-
лит попытался сорвать один такой цветок, но тотчас же
отдернул руку. Стебли цветка были покрыты острыми, как
медные иглы, шипами.
Но что это? Перед Ганноном был след, четко
выделявшийся во влажной почве. След зверя? Нет, это скорее
отпечаток босой человеческой ноги...
— Посмотри, Мидаклит, — позвал Ганнон учителя, —
какой странный след.
Грек покачал головой:
— Я бы сказал, что он принадлежит обезьяне, если бы
он не был так велик.
173
— А не след ли это какого-нибудь дикаря? —
предположил Ганнон.
— У человека не может быть так оттопырен большой
палец! — возразил Мидаклит. — А впрочем, — добавил
он после короткой паузы, — что мы будем гадать? Вот если
бы с нами был Бокх, он сразу разрешил бы наш спор.
Кроме странного следа, ничто не напоминало об
обитателях этого девственного леса. Но даже самый малейший
звук или шорох отдавался под огромными кронами
деревьев, словно под сводами храма. Это вызывало страх и
уныние у людей, привыкших к открытым просторам, к
бесконечному шепоту волн. Они старались держаться поближе
друг к другу. Лишь Мидаклит изредка отходил в сторону,
чтобы рассмотреть какое-нибудь диковинное растение.
— Взгляни, — обратился он к Ганнону. — Я сорву и
засушу этот цветок, я покажу его тем, кто утверждает,
будто жизнь на юге Ливии невозможна.
Вдруг раздался странный звук. Вначале он имел
отдаленное сходство с прерывистым собачьим лаем, а потом
перешел в глухое рокотание, напоминающее раскат грома.
Путники остановились. Кровь застыла в их жилах.
Ганнон судорожно стиснул рукоятку меча.
Все смолкло. Выждав некоторое время, люди снова
двинулись вперед.
Неожиданно кусты расступились и оттуда показалось
какое-то огромное существо, поросшее короткой черной
шерстью. Нос у него был приплюснут. Из-под скошенного
лба смотрели маленькие свирепые глазки.
Прежде чем люди успели опомниться, существо это
поднялось во весь свой огромный рост. У него была широкая
грудь, курчавившаяся шерстью, длинные мускулистые руки.
— Хозяин леса! — в ужасе крикнул кто-то из
матросов.
В чудовище полетели дротики. Но лишь один из них
задел плечо лесного великана. Он яростно заревел, колотя
себя в грудь огромными кулаками. Волосатая грудь его
гудела, напоминая эфиопский барабан. Короткая щетина на
голове шевелилась.
Ганнон бросился к лесному чудовищу и мечом
наотмашь ударил его по голове. Великан опрокинулся на
землю. Подбежавший на помощь Ганнону матрос вонзил нож
в спину чудовища.
174
В это время из-за кустов выскочило еще трое лесных
великанов. Ганнон не успел оглянуться, как один из
матросов уже лежал на земле с раздробленным черепом, а
кости другого хрустели в объятиях чудовища. Матросы
поспешили на помощь своему товарищу, и вот другой великан
свалился под ударами их мечей и дротиков.
— Бежим отсюда! — крикнул Ганнон.
Двое матросов подхватили убитого товарища, еще двое
помогли подняться раненому. Но Мидаклит словно прирос
к месту. Не отрываясь смотрел он на лесных чудовищ.
Сколько мучений ему доставляло сознание, что он не имел
шкуры длинношеих животных из Страны Высоких Трав!
Неужели и сейчас, когда они на корабле, он не сможет
захватить с собой шкуры этих чудовищ. Ганнон понял
мысли учителя. Он приказал двум матросам дотащить до
берега одного из убитых великанов. Но это им оказалось не
под силу. Пришлось срубить змеевидные растения и
обвязать ими туловище зверя.
Обратный путь показался Ганнону короче. Вскоре сквозь
зелень сверкнул яркий солнечный луч. Впереди открылась
небольшая поляна, а за нею море. Наконец можно было
выпрямить согнутую, ноющую спину! Больше не надо
сражаться с ползучими растениями, перелезать через
полусгнившие стволы, скользить по влажной земле.
У лодки карфагеняне внимательнее осмотрели свою
добычу. Плечи лесного чудовища имели необычайную
ширину — полтора локтя. Толстые, как бревна, лапы были
покрыты темно-бурой шерстью. Шерсть на груди и спине
отливала серебром. Чудовище имело четыре с половиной
локтя в высоту. Оно было на целую голову выше самого
рослого матроса на корабле. Несомненно, это была
обезьяна, но подобных обезьян не видел еще ни один смертный.
Мертвая, она обнаруживала еще более разительное
сходство с человеком. У нее была ладонь с крупным большим
пальцем, а не коротышкой, как у обезьянок из Гадира. Уши
имели небольшую мочку и очень напоминали человеческие.
Мощные тяжелые челюсти были снабжены крупными
зубами, отличавшимися от человеческих лишь большей
величиной.
Матросы рыли могилу для своего погибшего товарища.
Молча окружили ее люди. Тело, обернутое в белый холст,
опустили в сырую землю. Ганнон на коленях прочел корот-
176
кую молитву. Каждый бросил в могилу ком земли, а когда
яма сравнялась с землей, сверху положили тяжелый камень.
И вот на берегу высится пирамидка. "Если когда-нибудь кто-
то захочет определить путь, проделанный нами, — думал
Ганнон, — его вехами будут могилы". Ганнону вспомнилась
пустыня и песчаный холмик над могилой Малха. А где Синта
и Гискон? Может быть, их уже нет в живых? И некому было
их похоронить и оплакать по обычаям предков. А сколько
еще впереди невозвратимых потерь!
СЛЕД КОРАБЛЯ
Две недели прошли незаметно. Каждому нашлось дело.
Многие были заняты рубкой леса и починкой корабля.
Деревья, росшие на острове, были так тверды, что все
топоры, имевшиеся на гауле, пришлось употребить на то,
чтобы срубить лишь одно, самое тонкое. Оно пошло на
переднюю мачту, давшую трещину во время последней бури.
Матросы выкорчевали пенек и притащили его на корабль.
Он был так тяжел, что мог вполне заменить железный
якорь. Щели заделывали высушенными водорослями.
Запасы смолы, к сожалению, иссякли. Мидаклит предложил
заменить смолу клейким соком исполинского дерева,
прозванного карфагенянами "плачущим". В этом соке вымочили и
канаты, чтобы уберечь их от гниения. Корабль пропитался
запахами девственного леса.
Часть матросов занялась сбором черепашьих яиц и
ловлей черепах.
Черепахи лежали среди камней, огромные, зеленовато-
черные. Медленно они вытягивали свои морщинистые шеи
и слезящимися на солнце глазами следили за людьми.
Черепах переворачивали на спину и, взвалив на носилки из
ветвей, перекладывали в лодку, а из лодки поднимали на
гаулу. Ганнон приказал очистить для них место в трюме.
В поисках черепах матросы разошлись по всему
взморью. Уже смеркалось, когда кто-то закричал:
— Смотрите, что я нашел!
По голосу Ганнон узнал Адгарбала. Он бежал к лодке,
держа в руках какой-то предмет. Это оказался обломок
весла. Весло здесь, на необитаемом острове! Судя по
размерам, им могли пользоваться только на большой гауле. Лет
177
сто назад финикийцам удалось обогнуть Ливию. Но это
весло не могло принадлежать им. За это время дерево должно
было сгнить. А на весле виден свежий излом. Значит,
здесь недавно побывал какой-то корабль. Но какое судно
могло оказаться в этих водах, кроме "Сына бури"? Может
быть, он потерпел здесь кораблекрушение?
— Идем! — торопливо бросил Ганнон Адгарбалу. —
Ты мне покажешь, где его нашел.
Ганнон с Адгарбалом стояли у большого
остроконечного камня.
— Вот здесь, — указал Адгарбал.
Ганнон взглядом измерил расстояние до моря. "Будет
не меньше ста локтей, — подумал он. — Сюда волны не
могли забросить обломок весла. Значит, корабль
причаливал к берегу. Но тогда должны быть и другие следы".
Весь следующий день Ганнон вместе с матросами
искал эти следы. Но больше ничего не было найдено. Видимо,
все смыл ливень.
Находка вызвала у Ганнона новый прилив энергии.
Значит, "Сын бури" находится где-то поблизости. Синта и Гис-
кон ждут его! Нельзя медлить!
— Поднять якоря! — приказал суффет.
Матросы забегали по палубе. Одни бросились к
якорным канатам, другие принялись натягивать паруса.
Подгоняемый попутным ветром, "Око Мелькарта" покинул остров.
Ганнон решил обогнуть Южный Рог, держа курс на восток.
"Если Мастарна достиг Южного Рога, — думал Ганнон, —
то, разумеется, он хотел обогнуть Ливию. Может быть, он
опасался встречи с военными судами Карфагена?"
С неохотой плыли матросы вдоль неведомого берега,
густо заросшего лесом. Есть ли ему конец? Что влечет
Ганнона все дальше и дальше? Будь проклят этот обломок
весла, из-за него Ганнон решил не возвращаться к Мель-
картовым Столбам! А может быть, во всем виноват этот
грек? Он околдовал суффета, вселил в него неутолимую
жажду новых странствий.
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК
Безветрие.
Пышные пурпурные облака плывут над морем. Паруса
178
безжизненно обвисли. Не слышно тихого журчания воды
у носа. Деревья на пустынном берегу стоят неподвижно,
как нарисованные. Солнце пылает, яростное и бледное.
Казалось, корабль идет через огонь. Металлические части
раскалились. При желании на них можно печь лепешки, как
на сковороде. Даже дерево жжет, как железо. Дышать
нестерпимо тяжело. Слепит глаза.
Двое матросов, сбросив одежду, окатывают друг друга
водой из кожаных ведер. Впервые за много дней на
палубе слышится смех. Акулы, привлеченные необычными
звуками, высовывают из воды пасть.
Дни сменялись ночами, а берег, вопреки
предсказаниям грека, все не поворачивал на север. Он тянулся все в
том же направлении на восток. И это все больше волновало
Ганнона. Вода, запасенная на острове Лесных Чудовищ,
протухла. Перед тем как ее пить, нужно было затыкать
пальцами нос. Но и эта вода была на исходе. Ганнон
приказал развесить на рее овечьи шкуры. За ночь они
покрывались росой, и утром, выжав их, можно было получить
несколько глотков воды.
О высадке на сушу нечего было и думать. Белая
линия пены обрисовывала цепь прибрежных камней, а
прибой превосходил своей силой все ранее виденное1.
Сегодняшний день тоже принес разочарование. Линия
берега повернула на юг. Значит, Южный Рог вовсе не
крайняя оконечность Ливии, как полагал Мидаклит. Значит, гау-
ла находится в огромном заливе. Команда встретила эту
новость глухим ропотом. Матросов можно было понять.
Бледные и исхудалые, они еле передвигались по палубе.
У многих распухли десны, во рту появились нарывы.
Людей одолевали кошмары. Грезились города, колодцы,
пальмы. Когда матросы приходили в сознание, они
стонали и звали на помощь.
Ганнон приказал принести в жертву Эшнуну самую
большую черепаху. Но жертва не помогла. Может быть,
бог-врачеватель гнушается черепашьим мясом и ему по
вкусу лишь бараны и свиньи?
Вечерело. Подул свежий ветерок. Жара спадала. И в
это время все увидели стадиях в десяти гаулу. Да, это была
гаула, а не военный корабль, как "Сын бури".
1 Морской берег в Гвинейском заливе усеян опасными подводными
скалами. Прибой здесь отличается страшной силой.
179
"Может быть, — думал Ганнон, — люди на гауле
наведут его на след похищенного корабля?"
Ганнон бросился к кормовому веслу, но Адгарбал
решительно преградил ему путь. Ганнон остановился в
недоумении. Что это? Бунт?
— Не пущу, — резко сказал кормчий. — Это корабль
Бальзанара.
— Бальзанар! Что за Бальзанар? — раздались крики.
— Как! Вы не знаете о Бальзанаре! — воскликнул
Адгарбал. — Тогда слушайте!.. Бальзанар был мореходом, —
начал Адгарбал. — Жил он двести лет назад. Он
объездил все моря, побывал во всех гаванях. Всюду ему
сопутствовало счастье. Его гаула благополучно избегала
подводных камней, уходила от бурь и этрусских пиратов.
Бальзанара называли счастливцем. Однажды корабль Бальзанара
застигло бурей. Никогда еще не было такой страшной бури.
Гаулу швыряло, как щепку. Волнами сбило мачты и
унесло весла. Тогда Бальзанар взмолился богу Дагону. Он
обещал ему принести в жертву своего первенца, если спасется.
Буря стала утихать. Бальзанару удалось добраться до
берега и вернуться в Карфаген. Его встретили жена и сын.
Вспомнил Бальзанар о своем обете, но у него не хватило
мужества сдержать слово. Когда он снова вышел в море,
волны разверзлись, и показался великан с трезубцем в
руках. "Ты меня обманул, Бальзанар!" — закричал великан
громовым голосом и взмахнул трезубцем. И гаула
Бальзанара исчезла, растворилась в тумане. Невидимая, она
поныне странствует по морям. Бывает, матросы в тумане
слышат стоны и крики. Это Бальзанар проклинает свою судьбу.
Но иногда корабль Бальзанара становится зримым для
смертных. Бог Дагон показывает гаулу Бальзанара тем, кто
нарушил данную ему клятву, чтобы они видели, какая участь их
ожидает.
С ужасом выслушали матросы рассказ Адгарбала.
Гаула исчезла на горизонте. Взгляд Ганнона напрасно ловил
ее. Появление корабля в этих водах действительно
казалось чудом. Не этот ли корабль они видели тогда на
берегу? Не за ним ли они гнались, принимая его за "Сына
бури"? Не его ли весло они нашли на острове Лесных
Чудовищ?
180
НОЧЬ ЧУДЕС
В ночном море дрожал и переливался свет. Среди волн
то там, то здесь вспыхивало голубоватое пламя. Нос гау-
лы разбрасывал в стороны снопы искр. Казалось, корабль
шел по горящему морю. Это было удивительное,
необыкновенное зрелище1. Но длилось оно недолго. Волны быстро
потемнели, словно лепестки розы, брошенной в кипяток.
Выйдя на корму, Ганнон решил проверить курс
корабля. Небо было усеяно яркими звездами. Они опустились
так низко, что, казалось, до них можно было дотянуться
рукой. Вон там, на севере, должен быть Большой Ковш.
В прошлый раз Ганнон видел его у самого горизонта.
Теперь его не было2. Глаза болели от напряжения. Нет и
других знакомых звезд. Где же Скорпион, Ворон, Дева? Как
будто это Весы? Но раньше они были на юге, а теперь
оказались на западе. Кто же это, как игрок в кости, разбросал
и перепутал звезды? Чья это злая шутка? Кому захотелось
сбить их с пути? А где же звезда Синты? Сердце Ганнона
защемило. Пока он видел эту звезду, он верил, что
встретится с любимой.
А что стало с луной? Она имела очень странный вид.
Ее рожки были повернуты вверх.
— Мидаклит! — крикнул суффет.
На палубу поднялся грек. Молча посмотрел он на
месяц и на мерцающие звезды. Потом перевел взгляд на
искаженное ужасом лицо Ганнона.
— Этого следовало ожидать, — сказал грек
спокойно. — Мы спустились в другое полушарие.
— Ты хочешь сказать, что земля шар?
— Да, это так! С тех пор как мы плывем на юг,
известные нам звезды меняли положение и наконец вовсе
исчезли. Появились новые, незнакомые нам звезды.
Представь себе яблоко. Сейчас мы находимся в его нижней
половинке. Отсюда открывается один вид на звездный мир,
но стоит...
Грек не успел закончить фразу. Корабль содрогнулся
от мачты до киля.
1 Свечение моря объясняется огромным количеством мельчайших
живых организмов, скопившихся на небольшом пространстве.
2 В сентябре (когда карфагеняне перешли в Южное полушарие)
Большая Медведица на небе не видна.
181
Первой мыслью Ганнона было: подводная скала!
— В трюм! В трюм! — закричал он. — Пробоина!
Но Мидаклит схватил его за руку.
— Смотри! — указал он на море.
С левого борта чернело что-то огромное, продолговатое.
На палубе поднялся крик.
"Скала? — подумал Ганнон. — Но гаула цела и не идет
ко дну".
— Симплегады!1 — закричал грек. — Скала движется.
Грек был прав. Действительно, скала двигалась по
направлению к гауле. И вдруг над ней поднялся фонтан воды.
— Чудовище! Морское чудовище! — раздался
отчаянный вопль матросов.
Ужас приковал Ганнона к месту. Гаула наскочила в
темноте на морское чудовище, и теперь оно, разъяренное,
набросится на них, чтобы отомстить дерзким людям.
— Все по местам! — приказал Ганнон.
Очнувшись от оцепенения, моряки схватились за
весла. Но чудовище не отставало. Оно приближалось к
гауле. Уже видна его огромная пасть. В нее спокойно может
войти лодка средних размеров.
Матросы выбивались из сил, но чудовище надвигалось
на гаулу. Оно все ближе и ближе. Вопли и крики
раздавались на палубе и разносились над поверхностью моря.
— О боги, спасите нас!
С замиранием сердца Ганнон следил, как чудовище
подошло к самой корме и остановилось. Казалось, оно было
удивлено появлением в океане невиданного соперника без
хвоста и пасти. Несколько мгновений чудовище
рассматривало гаулу. Затем, лениво повернувшись, поплыло прочь,
показав оцепеневшим от ужаса карфагенянам покатую
спину и гигантский хвост. Гаула могла продолжать путь. Но
весла валились из рук. Сон бежал прочь.
Ночь казалась бесконечно длинной. Наконец наступил
рассвет. Это был самый удивительный рассвет, какой когда-
либо встречали люди. Солнце всходило на западе.
1 Симплегады — в греческой мифологии плавающие скалы,
сталкивающиеся, когда между ними проплывает корабль.
182
"НАЗАД!"
Стая чудовищ покачивалась на волнах стадиях в двух
от гаулы.
— Пусть сожрут меня рыбы, — воскликнул Ганнон, —
если чудовища не сговорились против нас!
— Что ж, подождем, пока им надоест нас стеречь, —
отозвался Мидаклит.
Матросы занялись уборкой корабля, починкой одежды.
Двое вытащили из трюма черепаху и, опрокинув ее на
спину, стали с помощью топоров отделять нижний панцирь.
Другие наблюдали за ними. Это была последняя черепаха
на гауле. С ней кончались запасы мяса на корабле.
Около полудня Ганнон вышел на палубу. Он застал Ми-
даклита за странным занятием. Грек заглядывал себе
через плечо.
— Что ты ищешь, учитель? — поинтересовался Ганнон.
— Собственную тень! — отвечал грек.
Приглядевшись, Ганнон убедился, что ни мачта, ни
какой-либо другой предмет не отбрасывают тени.
Ганнон только махнул рукой. Можно ли удивляться, что
исчезла тень, если пропали звезды, мерцавшие
тысячелетиями, а солнце свернуло со своего неизменного пути!
Но матросам исчезновение тени показалось страшнее,
чем любое из совершавшихся на их глазах чудес. Они
ощупывали друг друга. "Живы ли мы или уже сами
превратились в тени? Тени не имеет только тень. Или мы попали в
царство мертвых?"
— Назад! — кричали они. — Назад...
И Ганнон понял, что никто и ничто не могло бы теперь
заставить этих людей хотя бы на один локоть
продвинуться к югу.
— Назад к Столбам Мелькарта!
Тяжелое раздумье овладело Ганноном. Бессонные ночи,
полные тревожных мыслей, дни без питья под яростным
солнцем — все это оказалось напрасным.
Надо возвращаться!
Страшно подумать, какое огромное расстояние
отделяло их теперь от Столбов! Сколько дней и ночей придется
плыть вдоль этого чужого, негостеприимного берега! Какие
чудовища еще могут встретиться на пути? И никто не
поспешит на помощь. Никто!
183
ПРОТИВ ВЕТРА
К вечеру забросили в море сеть. Не прошло и
нескольких минут, как вся площадка кормы была заполнена
трепещущей рыбой.
— Я теперь понимаю этих атлантов, — говорил Адгар-
бал, с отвращением глядя, как один из моряков
разжевывал кусок сырой рыбы. — Что может быть отвратительнее
этой еды!
— Была бы соль! — вздохнул моряк.
— Неподалеку от Утики, где я родился, — вспоминал
кормчий, — добывают соль. Там вокруг нет леса, и люди
живут в домиках из соляных глыб, белых и красных. Сюда
бы такой домик!
На палубу вышел Мидаклит. Он следил, как по краю
неба торжественно плыли семь ярких звезд Большого
Ковша.
Кто-то тронул грека за плечо.
— Ганнон, это ты! — радостно воскликнул грек. —
Видишь звезды? Они вернулись на свои места. А помнишь
затмение луны? Какую форму имела тогда тень?
— Она была круглая.
— Так вот... Тень, передвигающаяся по лунному
диску, — это тень земли, ибо земля лежит между луной и
солнцем. А скажи, какое тело имеет круглую тень?
— Шар, — произнес в раздумье Ганнон. — Ты, учитель,
совершил великое открытие, и имя твое не будет забыто.
— Не преувеличивай моих заслуг, — скромно
отозвался грек. — Еще двадцать лет назад Пифагор1 утверждал,
что Земля должна иметь самую совершенную,
шарообразную форму.
— Твой Пифагор пустой болтун, — заметил Ганнон. —
Легко ему было рассуждать о шарообразной форме,
полеживая на боку с чашей разбавленного вина! Попробовал
бы он проделать наш путь!
— Ты неправ, — возразил Мидаклит. — Пусть
Пифагор и не плавал за Геракловы Столбы. Его мысль
опередила наш корабль, и он заслуживает уважения не меньше,
чем отважный мореход.
1 Пифагор (VI век до н. э.) — греческий мыслитель и ученый.
Пифагор первый чисто умозрительным путем пришел к выводу, что Земля
шарообразна.
184
Гаула подошла к острову Лесных Чудовищ. Трюм
снова заполнили черепахами. В шутку их стали называть
корабельными баранами.
И снова в путь. Ветер изменился. Теперь он задул в
нос. Пришлось идти на веслах. Словно налитые свинцом,
они скрипели в истершихся петлях. Руки моряков
покрылись волдырями. Несколько человек заболело. Несмотря на
жару, они никак не могли согреться, и зубы у них
стучали. Бледные, чудовищно худые, они казались духами,
вышедшими из царства теней.
Через месяц корабль вошел в большой залив. Перед
людьми открылась широкая водная гладь со множеством
островков. Залив замыкался далеко уходящим на запад
мысом, покрытым высокими зелеными деревьями1.
— Назовем его Западным Рогом, — предложил Мидак-
лит.
Очевидно, в залив впадала какая-то большая река, так
как вода местами имела желтоватый оттенок. Но входить
в устье этой реки за пресной водой — значило
задержаться здесь лишний день. "А нет ли пресной воды на этом
большом острове?" — подумал Ганнон и тотчас же приказал
Адгарбалу править к острову.
Надвигались сумерки. Тени окутали берег. На небе
показалась луна. Она осветила бухту, удобную для стоянки.
— Спустить якоря! — приказал Ганнон.
Люди рассыпались по берегу. После недолгих поисков
им удалось обнаружить в глубине острова небольшое
озеро. Адгарбал лег на живот и зачерпнул ладонью воду, но
тотчас же вскочил, отплевываясь:
— Соленая!
— Поищем пресную, когда наступит рассвет, —
предложил Ганнон.
Не успел он это проговорить, как послышались какие-
то глухие удары и резкие крики. На противоположном
берегу озера загорелись огни.
— Бежим к гауле! — крикнул Ганнон.
Подняв якоря, "Око Мелькарта" покинул
негостеприимный остров. Люди настолько ослабели, что нечего было
и думать о борьбе с неизвестными врагами. "Сколько еще
тайн скрывает этот материк!'' — думал Ганнон, вглядываясь
в берег.
1 Моряки находились близ Зеленого Мыса.
185
— Придется плыть в устье реки! — вздохнул Адгар-
бал. — Воды не осталось ни капли.
К вечеру гаула вошла в устье широкой реки1, медленно
катившей свои воды в океан. Устье перегораживали
желтые песчаные отмели. Пронзительные крики птиц наполняли
воздух.
По отмели бродили ибисы. Ганнон слышал, что
египтяне считают их священными. Смерть угрожала каждому,
кто поднимал на них руку. У самой воды стояли какие-то
большие белые птицы с кривыми черными клювами.
— А вот и журавли! — воскликнул Мидаклит. — Но
ведут они себя совсем мирно.
— Разве журавль — воинственная птица? —
удивился Ганнон.
Грек улыбнулся:
— Гомер рассказывает, что каждое лето журавли
летят на юг Ливии, где ведут войну с маленькими черными
человечками.
— Вот видишь, какой выдумщик твой Гомер. Здесь нет
никаких черных человечков.
— А может быть, это они нас так напугали три дня
назад! — возразил грек.
Вода здесь была еще солоноватая. Пришлось
дождаться прилива. Вместе с приливом гаула преодолела песчаные
отмели. Берега стали выше и круче. Яркие зеленые кусты
спускались к самой воде. Где-то в глубине их раздался рык
льва. Ганнон обрадованно вздохнул. Что-то родное
послышалось ему в этом рыканье. Таинственная тишина
острова Лесных Чудовищ была для него страшнее.
Подведя гаулу ближе к берегу, моряки набрали воды.
Здесь же забросили сети. С первого же раза удалось
вытащить десятка два больших рыб. На берегу весело
запылал костер. Вот уже в медном котле бурлит вода. Вкусно
пахнет свежей рыбой. Но карфагенянам так и не
пришлось полакомиться ухой.
— Змея! Змея! — раздался вопль.
В нескольких шагах от костра извивалась огромная
змея. Зеленоватого цвета, она была почти незаметна в
яркой траве. Встревоженное пламенем костра, чудовище
длиною не меньше чем в шесть локтей ползло прямо на
людей. Из его пасти высовывался длинный, тонкий язык.
1 Это была река Гамбия.
186
Бросив котел с ухой, карфагеняне поспешили на
корабль.
Снова потянулся берег, окаймленный, словно зеленая
туника, белой полосой пены.
После нескольких недель пути корабль достиг устья
Хреты. Молча смотрел Ганнон на берег. В памяти оживали
картины прошлого. Отсюда они двинулись пешком к
Керне. Тогда с ними был Малх. Ганнон еще надеялся
отыскать "Сына бури", спасти Синту и Гискона. Теперь же в
его душе лишь тень былой надежды. Он мечтает лишь о
том, чтобы добраться до ближайшего карфагенского
поселения и дать людям отдых.
Встречный ветер становился все сильнее и сильнее.
Путь к Керне отнял целый месяц.
Вот он наконец, этот маленький островок. Он должен
стать богатейшей колонией Карфагена, ее золотым дном.
Но что это? Почему нет никого на берегу? Почему никто
не встречает гаулу?
Страшное предчувствие зашевелилось в душе Ганнона.
Керна пуста. Все это время люди жили надеждой
добраться до этого островка. Неужели надежда обманет их?
Едва якорь коснулся дна, Ганнон приказал спустить
лодку. Вот моряки уже на берегу, они идут, с трудом
передвигая опухшие ноги. Но дома колонистов пусты. Что же
с ними стало? Не чернокожие ли напали на них? Нет, дома
не разрушены, и нет никаких следов насилия.
— Нашел! Нашел!
Ганнон поспешил навстречу Мидаклиту.
Учитель потрясал над головой чем-то белым.
— Вот! — И грек протянул Ганнону лист папируса. —
Они покинули остров. Я подобрал это вон в том доме.
Ганнон схватил свиток. В нем говорилось, что целый
год колонисты ждали Ганнона и, отчаявшись, построили
корабль и отплыли на нем к мысу Солнца.
"Неужели прошло больше года, как мы оставили
Керну? — думал Ганнон. — Колонисты уже потеряли
надежду меня увидеть. А Синта? Бывают дни, когда я о тебе не
думаю. Но чувствую, что ты всегда со мной. Ты слышишь
меня, Синта?"
Подошли моряки.
— Друзья, не надо отчаиваться, — твердо сказал
Ганнон. — Колонисты покинули Керну. Они отправились в
187
Тимитерий. Поплывем туда и мы. Но не будем
торопиться. Над нашими головами здесь кровля. Мы починим гау-
лу, отдохнем.
Иного выхода не было. "Око Мелькарта" вытащили на
сушу. Бедная гаула, что с тобой стало! Днище твое
покрылось толстым слоем ракушек, доски бортов сгнили, паруса
истрепались! Нет, нелегкий ты проделала путь! А какое
огромное расстояние еще отделяет тебя от Карфагена!
Целых две недели отняла починка гаулы. К счастью, на
острове было много леса, а для людей — свежая вода и
обилие пищи. Здесь люди отдохнули от душной и влажной
жары, преследовавшей их начиная с острова Лесных
Чудовищ. Когда "Око Мелькарта" был спущен на воду,
моряки занялись заготовкой провизии: сушили рыбу,
собирали моллюсков, охотились на черепах.
Один из матросов тяжело заболел. Он все время
бредил, выкрикивал какие-то имена. Адгарбал вылепил из
глины человечка и принес его в жертву Эшнуну. Но жертва
не помогла. Моряк скончался, так и не придя в сознание.
На берегу Керны появилась пирамидка из камня.
— Видимо, такова судьба каждого Одиссея — терять
спутников! — глухо сказал Мидаклит.
И снова в путь. В ночном небе взошло созвездие
Ориона. Во Внутреннем море восхождение этих звезд
предвещало бурю. Но здесь лишь переменился ветер. Он стал дуть
в корму. Впервые за много месяцев гаула шла на парусах.
Вскоре показался мыс Солнца. Эта кровля под
высокими деревьями — храм Дагона. Как он мал! А в
воображении людей храм рисовался огромным, величественным.
Обогнув мыс Солнца, "Око Мелькарта" подошел к Ти-
митерию.
На берегу много народа. Но люди настороженно
выжидают.
— Их пугает наш парус! — воскликнул Адгарбал.
Верно! Ведь ни один корабль карфагенского флота не
имел алых парусов.
— Спустить паруса! — приказал Ганнон.
И, как только эта команда была выполнена, берег
огласился приветственными криками.
К лодке, доставившей на берег моряков, бежит
человек в широкополой шляпе. Конечно, это Мисдесс!
Успокойся, Мисдесс, Ганнон посетит твой дом. Ты узнаешь о его
188
странствиях, как узнают о них все карфагеняне. Но
моряки сами засыпают колонистов вопросами.
— Где Стратон? — спрашивает Ганнон.
— Исчез!
— Исчез? Как может исчезнуть жрец? Как он может
покинуть свой храм?
— Не проходил ли здесь "Сын бури"? — слышится
другой вопрос.
— Нет. Его здесь не видели. Но у мыса Солнца
останавливалась чья-то гаула. В ту ночь у храма горел костер.
Наверное, гаула захватила Стратона.
"Все это было странно и непонятно. "Сын бури"
затерялся в океане, а какая-то гаула все время встречается мне
на пути, — думал Ганнон. — Нет, это не корабль Бальза-
нара, не призрак, если он может плыть на костер,
зажженный людьми. Тут какая-то тайна. И жрец никогда не
решился бы покинуть храм, не будь на это воли Магарбала.
Значит, Стратону больше нечего было делать на берегу
океана. И он знал о том, что Синта в руках пиратов.
Может быть, сейчас Синта в подземельях храма Танит? Кто
ей там поможет? Даже Миркан может не знать, что его
дочь в Карфагене. Скорее в путь! Скорее!"
После короткого отдыха Ганнон решил осмотреть
колонию. Дома колонистов уже не напоминали те убогие
постройки, которые оставил здесь Ганнон. Это были прочные
сооружения из камня и бревен. Их покрывал камыш,
имевшийся в изобилии поблизости. Вокруг домов зеленели
молодые сады. Город был наполовину обнесен стеной и окружен
рвом. Над стеной уже кое-где поднимались башни. Стена
и ров отделяли город от равнины, превращенной в
пастбище и пашню. На постройке стены работали смуглые,
тощие люди. Звенели цепи на их ногах. Это были рабы,
захваченные во время набегов на соседние поселения
троглодитов и маврузиев.
Мисдесса Ганнон застал в мастерской. Он стоял у
гончарной печи. Багровые отблески пламени ложились на его
суровое лицо, Мисдесс бросил на гончарный круг липкий
бесформенный кусок глины, и он замелькал в воздухе.
— Рад ввдеть тебя! — воскликнул горшечник,
останавливая круг.
— И я тоже рад встретиться с тобой, Мисдесс. Я
слышал, что боги милостивы к тебе.
189
— Боги нам дали руки, чтобы лепить горшки, —
отвечал горшечник. — В этом их милость. Сколько
требуется посуды такому маленькому городу, как наш? —
продолжал он. — Я бы смог ее вылепить за неделю. Но горшки
нужны жителям других колоний. Они нужны нашим
соседям, пастухам и охотникам. Люди несут мне сыр и шерсть,
шкуры и мясо, а я для них выделываю горшки и глиняные
светильники.
На пороге показалась женская фигура. Шимба! Но
сколько на ее руках и ногах серебряных колец! А в ноздрях
блестит даже золотое! Можно подумать, что это жена какого-
нибудь богатого карфагенского купца. Цепляясь за край
туники, рядом с нею стоял крохотный мальчуган. При виде
незнакомого человека он спрятался за спину матери.
Поклонившись до пояса, Шимба пригласила гостя в дом.
За оградой дома бродило множество кур.
— С ними спокойнее, — сказал горшечник, показывая
на птиц. — Они не пропустят во двор скорпионов. Мы так
боимся за нашего маленького Мутумбала!
Внутри жилище горшечника имело богатый вид. Пол
устилали сшитые львиные шкуры. Стол ломился от яств,
немыслимых для карфагенского ремесленника. Тут были
жареная утка с аппетитно подрумянившейся корочкой,
лепешки из белой муки, сушеные смоквы и плоды Владычицы1.
Лицо горшечника сияло. Как всякий человек,
выбившийся из нужды, он любил похвастать, что живет на широкую
ногу. Теперь же он принимал у себя самого суффета. Пусть
соседи лопнут от зависти!
Помолившись богам, хозяин и гость сели за стол.
Шимба, по старинному обычаю, стояла возле гостя.
— Свои? — спросил Ганнон, указывая на гранаты.
— Из Ликса, — отвечал Мисдесс. — Свои деревья еще
не плодоносят. У меня пятнадцать яблонь, четыре груши и
одно дерево Владычицы. Нужде не найти дверь в мой дом.
Как приятно было Ганнону слышать эти слова! Как
отрадно видеть благополучие этой семьи! Нет, его труд не
пропал даром. Если боги не дали ему своей семьи, то они
принесли счастье сотням семей бедняков,
переселившихся сюда, на край света.
1 Гранаты. — Гранатовое дерево находилось под особым
покровительством богини плодородия Танит, поэтому гранаты называли плодами
Владычицы.
ЧАША ГНЕВА
СМЕРТЬ СИНТЫ
В те дни, когда "Око Мелькарта" блуждал в южных
водах, захваченный пиратами "Сын бури" подходил к Га-
диру.
Мастарна стоял на носу. Его лицо с развевающейся на
ветру бородой дышало властной силой. Глубоко
спрятанные глаза смотрели вдаль не мигая — зоркие, хищные
зрачки морской птицы.
Этруска пугала встреча с карфагенским или гадирским
военным кораблем. Чтобы остаться незамеченным,
Мастарна приказывал поднимать на ночь черные паруса. Да,
встреча с военным кораблем могла бы окончиться ддя
него плачевно. Что бы он делал со своей горе-командой? Ему
нужно скорее попасть в Италию. Там он наберет таких
удальцов, что ему никто не будет страшен. Но до Италии
без двух десятков свежих гребцов не дойти. И Мастарна
решил направить корабль к берегам страны Запан. Там, в
устье большой реки Бетис, он сумеет прикупить рабов и
провизию, набрать свежей воды. Места эти ему хорошо
знакомы. Однажды он напал на рудники Бетиса и увез
оттуда все серебро. Правда, пришлось поделиться добычей с
жадным Магарбалом. Но золота Керны жадный жрец не
получит ни крупинки. И Синту он ему тоже не отдаст.
Гискон издали наблюдал за Мастарной. Все чаще
мальчик мысленно возвращался к тому страшному мгновению,
когда корабль попал в руки пиратов. Покрытые багровыми
рубцами спины матросов Мастарны объяснили ему секрет
успеха этруска. Многие годы гребцы были прикованы к
веслам, по их спинам гулял узловатый конец плети. Только
смерть могла их избавить от мук. Мастарна все это
понимал. Он бросил этим людям надежду, как собаке кидают
кость. Они ее схватили не задумываясь, как сделал бы на
их месте каждый.
В последнее время пираты часто ссорились. Гискону
однажды удалось подслушать обрывок их разговора.
— Я ее оставлю у себя или выброшу акулам! —
говорил Мастарна.
191
— Хе, хозяин, — прохрипел в ответ Саул, — зачем
тебе эта дикая кошка? Старая лисица даст за нее столько
серебра, что можно будет купить сто молодых и красивых
рабынь...
Вскоре после этого на корму, где Гискон обычно
чистил рыбу, прибежала Синта. Она была взволнована. Лицо
ее горело.
Положив руки на плечи Гискону, она посмотрела на
него долгим, внимательным взглядом.
— Прощай, Гискон! — сказала Синта, и на глазах ее
показались слезы. — Танит зовет меня в свое царство1, но
ты увидишь Ганнона. Обязательно увидишь. Передай ему,
что позор не коснулся его Синты...
— Что ты, Синта! — воскликнул с испугом мальчик. —
И ты увидишь Ганнона!
Синта вздохнула:
— Мне не нужна жизнь такой ценой... Я беру этот
нож... Ты когда-нибудь поймешь меня, мальчик... Прощай!
Синта! Что же задумал жестокий этруск? Кто придет
здесь на помощь? Чем можно помочь Синте? И о каком
позоре говорила она? Гискон долго переворачивался с
боку на бок и наконец заснул тяжелым, тревожным сном.
Его разбудили крики. Сначала ему показалось, что опять
истязают чернокожих. Но потом послышался какой-то плеск.
И сразу все смолкло. Затем тишину вновь разорвало:
— Несите его на палубу!
— Дайте ему воды!
Гискон бросился наверх, на палубе он увидел бледного,
окровавленного Мастарну. Пират дико поводил глазами,
зажимая правой рукой рану в боку.
— Я же тебе говорил, — раздался голос Саула, — не
связывайся с этой дикой кошкой!
Этруск тяжело дышал.
— Почему же ты ее не схватил? — выговорил он
наконец.
— Лопни мои глаза, она сразу же бросилась за борт!..
Гискон вскрикнул. Проклятие вырвалось из его уст. Он
повернулся к изборожденному волнами морю. Это оно
поглотило Синту.
1 Карфагеняне верили в загробное царство, где богиня Танит
властвовала над душами умерших.
192
— Синта! Вернись! Где ты, Синта? — кричал мальчик,
простирая руки к морю.
Из морских глубин поднимался полный диск луны.
Владычица неба Танит шествовала над миром, освещая море
и качающегося на волнах "Сына бури".
Гискон не слышал, как Саул шепнул, указывая на него
пальцем:
— Синта была у него! Мальчишка дал ей нож.
Свяжите его!
Двое матросов бросились к Гискону, скрутили ему
руки веревкой и привязали к мачте.
Он не сопротивлялся. К чему? Синты нет. Кто
поможет ему, когда кругом враги! Как в полусне, он слышал
злобный голос Мастарны:
— Свезите его на берег! Пусть он узнает цену серебра!
Прошла ночь. Гискон почувствовал резкий утренний
холод. Как клинок на точильном камне, зазвенела якорная
цепь.
— Вставай, рыбий корм! — раздался грубый голос
Саула.
Гискон поднял голову. Корабль стоит на якоре
неподалеку от гористого берега. Волны потеряли свой
зеленоватый оттенок и стали желтовато-мутными.
иМы в устье реки", — подумал Гискон.
Саул приказал матросам спустить на воду лодку.
И вот Гискон лежит на ее дне. Высокие борта
позволяют ему видеть только небо.
— Погоди! — донесся приглушенный голос
Мастарны — Возьми и этого. Продашь обоих!
Послышался шум падающего тела и легкий стон.
Потом Гискон ощутил прикосновение чьей-то руки.
Чернокожий мальчик склонился над ним. Ударяя себя ладонью в
грудь, он несколько раз повторил: "Дауд!" — и доверчиво
прижался к Гискону.
До сих пор ему казалось, что все эти белые люди,
которые заманили его братьев на корабль и привязали их
гремящими веревками к веслам, одинаково жестоки. Но этот
белокожий мальчик так же страдает, как и он сам. Его тоже
связали и куда-то везут. Как ему сказать, чтобы он понял
слова: "Будь моим братом!" Он улыбнулся — он понял.
Значит, белые люди умеют не только бить и кричать, но и
улыбаться.
194
Лодка отчалила. Раздался какой-то стук, сменившийся
ровным поскрипыванием весел, вдали замирала песня:
Ведь смерть нам родная сестра...
Родная сестра...
Гискон втянул ноздрями воздух. Кожа Дауда пахла
чесноком. Это был запах дома и пылающего очага. Какое-то
теплое чувство шевельнулось в сердце Гискона. Еще на
родине он видел эфиопов и слышал, как о них говорили:
"Черная кожа, черная душа". Нет! У этого чернокожего
мальчика светлая душа! Он один пожалел его!
Лодка ткнулась носом в берег. Саул вытащил Гискона
и Дауда и швырнул их на прибрежные камни. Тотчас же
подбежали какие-то люди. Они перевернули Гискона, как
мешок с песком, и стали ощупывать его мускулы. Они
яростно торговались.
Потом карфагенянина и маленького эфиопа бросили в
большую лодку. На дне ее лежали, не шевелясь, двое
белокурых людей со связанными руками и ногами. Они о чем-
то говорили, странно выпячивая губы. Только одно слово
в их речи понял Гискон: "Бетис!"
ПОГАСШИЙ ФИТИЛЬ
В нише чадила лампа. Гискон за полгода работы в
рудниках знает, что эта лампа заменяет солнечные часы.
Догорит масло, потухнет фитиль — и кончится смена.
Утомленные рабы смогут подняться наверх. Там их ждет
похлебка из прогнившего ячменя и отдых на голой земле, а
тех, у кого ящик не полон рудой, — плети из
крокодиловой кожи.
Ящик был изобретением хозяина рудников, его
гордостью. Он избавлял от необходимости держать внизу
надсмотрщиков. Надсмотрщики были свободными людьми. Они
дорого брали за то, что спускались под землю, где каждую
минуту грозила опасность обвала или смерть от руки
строптивого раба... Под землей был лишь один надсмотрщик, а
остальные находились наверху — у ящиков.
Ящиков было пятьдесят — столько, сколько взрослых
рабов. На каждого взрослого раба приходилось четверо
подручных, мальчиков или девочек. Они пролезали на четве-
195
реньках там, где не пройти взрослому, оттаскивали
породу на волокушах, поднимали ее наверх в корзинах и
наполняли ею ящик. К концу работы главный надсмотрщик
знал, кто плохо работал, а раб и его подручные понимали,
что их ждет, если ящик будет неполным.
Понимал это и сириец Силен, вместе с которым
работали Гискон и Дауд. Гискон слышал, что Силен считался
когда-то силачом. Но теперь этого не скажешь. Вот он опять
закашлялся и никак не может остановиться. Он держится
руками за впалую грудь. Оковы на его ногах звенят.
Говорит он дрожащим голосом:
— Таким я стал после неудачного побега. Меня били
пятеро надсмотрщиков, обливали водой и снова били...
Отдышавшись, он берется за кирку. Но, видно, в
руках его совсем нет сил. Кирка отбила лишь несколько
небольших кусочков породы. Но все же ящик Силена будет
сегодня полным, потому что другие, более сильные рабы
помогут ему.
Подтаскивая к выходу тяжелые куски породы, которые
ему украдкой подбрасывали другие рабы, Гискон думал о
том, как несправедливы те, кто не считает рабов за людей.
Правда, ведь и он так думал, пока не стал рабом сам.
В забое тихо. Гискон подносит фонарь к лицу Силена.
Глаза его закатились, но губы, покрытые пеной, что-то
шепчут.
"Пить... пить'*, — услышал карфагенянин и,
повернувшись, побежал к люку. Воды в шахте не оказалось.
Просунув голову в отверстие, откуда лился скупой свет,
Гискон попросил, чтобы в шахту спустили воду.
Пока Гискон с амфорой бежал к забою, лампа-часы уже
успела погаснуть, и надсмотрщик неторопливо колотил в
железный щит, подвешенный к потолку. Удары глухо
отдавались по подземным коридорам.
Гискон торопился. Споткнувшись о кусок породы, он
упал и больно ушиб колено. У входа в забой он увидел
распростертое на земле тело Силена.
Гискон наклонился над сирийцем и приложил ухо к его
груди. Сердце Силена уже не билось.
Справа и слева по подземным коридорам шли,
согнувшись, люди. Маленький фонарь, прикрепленный ко лбу
обручем, делал их похожими на одноглазых великанов. Об
этих великанах рассказывал как-то Мидаклит. Где теперь
196
этот ученый грек? Что стало с суффетом? Удалось ли им
добраться до Керны?
Наверх Гискон поднялся последним. Щуря глаза от
яркого света, он смотрел на окруживших его надсмотрщиков.
— Силен умер! — сказал он им.
— Его счастье, — бросил равнодушно один из
надсмотрщиков, — но ты получишь его долю.
Гискон вздрогнул. И вот жесткие руки схватили его, и
жгучие удары обрушились на плечи и голову мальчика.
СУФФЕТ ХИРАМ
Гискон поправлялся. Силы его восстанавливались.
Заботливые рабыни приносили ему хлеб, испеченный из
дубовых желудей. Дауд по вечерам растирал ему спину
оливковым маслом и пел песни на своем языке. У этих песен
была такая грустная, щемящая сердце мелодия! Она
уводила в далекие травянистые степи, где живут свободные
как ветер смелые охотники. Они ставят ловушки на
зверей, делают засады на слонов, но никогда не поднимут руку
на пришельца.
Все чаще Гискон с тоской вглядывался в
поднимающиеся за рудниками холмы. За этими холмами к востоку жили
вольные племена. Рабы называли их кемпсами. Но как
добраться до этих кемпсов, если на каждом шагу у тебя
стража и огромные псы, обученные охоте за людьми!
Гискон вспомнил поразивший его в свое время
рассказ суффета Гадира о серебряных пифосах, из которых
поят скот. Суффет не упомянул о колодках из серебра, в
которые заковывают пойманных беглецов. Серебро!
Раньше ему нравилось звонкое звучание этого слова, холодные
переливы составляющих его звуков. А теперь он в нем
слышит бряцание оков, грубую брань надсмотрщиков,
надрывный кашель. Серебро! Вот твоя цена!
Грубый голос заставил Гискона вздрогнуть:
— Вставай, падаль!
Гискон с трудом поднялся и двинулся вслед за
надсмотрщиком. Но куда его ведут? Неужели опять в
рудники? Нет, дорога ведет к реке. Несколько десятков рабов
кирками и лопатами чинят дорогу. А вот и Дауд.
Надсмотрщик молча показал Гискону на лежащую близ дороги ло-
197
пату. Мальчик взял ее. Лопата показалась ему очень
тяжелой, словно вся она сделана была из свинца. И только
тут он понял, насколько ослабел за эти страшные месяцы
неволи.
— Чего это им вдруг понадобилось исправлять
дорогу? — ворчал один из рабов, настолько худой, что ребра
выпирали у него на груди.
— Наверное, кого-то ждут, — предположил другой.
И он оказался прав. В полдень со стороны реки
показалась толпа. Побросав свои кирки и лопаты, рабы отошли
в сторону. Четверо чернокожих несли открытые носилки.
Их сопровождали стражники. Когда носилки проплывали
мимо Гискона, тот бросил взгляд на возлежавшего в них
человека. Гискон замер. Это был суффет Гадира. Это ему
тогда, в Гадире, Гискон вручал по приказу Ганнона
грамоту. Это в его доме он присутствовал на приеме моряков-
карфагенян. И вот Гискон — у носилок Хирама. Стражи
преграждают дорогу рабу, но он с силой толкает одного из
них и, упав на колени, кричит:
— Повелитель Хирам! Повелитель Хирам!
Суффет делает знак, чтобы спустили носилки, и, когда
Гискон приближается к нему, спрашивает:
— Кто ты, раб, и откуда тебе известно мое имя?
— Я свободнорожденный карфагенянин, воспитанник
суффета Карфагена Ганнона. Меня продали в рабство
пираты.
При имени Ганнона в глазах Хирама блеснула
заинтересованность.
— Ты назвал имя Ганнона? Кто ты?
И тогда, торопясь и волнуясь, Гискон рассказал о том,
как он плыл вместе с Ганноном на одном корабле, как
пираты захватили их корабль, а его и маленького чернокожего
привезли сюда и продали на рудники.
— Так это ты тот самый мальчик, который был у меня
вместе с Ганноном? — воскликнул суффет. — Как же!
Я тебя помню. Но как ты вырос и похудел!
Суффет сделал знак стражнику и, когда тот
приблизился, приказал:
— Отвести их обоих на корабль.
Так Гискон и Дауд оказались на гауле суффета
Гадира. Это была беспалубная гаула с резным изображением
лошади на носу. Гискон знал, что такие суда называются
198
"конями". В другое время он вспомнил бы уроки Малха и
осмотрел бы судно и оснастку его, но теперь ему было не
до того. Неожиданно пришла свобода — она потрясла и
ошеломила его. Теперь, когда он свободен, он сделает все,
чтобы найти Ганнона. И тогда уж они сумеют отомстить
Мастарне и Саулу!
К вечеру на гаулу вернулся Хирам. Вспомнив о Гиско-
не и Дауде, он позвал их к себе. Гискону он приказал
рассказать все, что ему было известно о судьбе Ганнона. Дауда
он расспросил о его племени, о торговле золотом.
Последнее, видимо, больше всего интересовало суффета.
Рано утром "конь" поднял якоря и двинулся вниз по
течению реки. Река становилась все шире. К полудню
Гискон был уже в Гадире. Он не узнал города. Гавань
опустела. На причале покачивалось несколько "коней". На
улицах не было ни души. Вместе с уходом карфагенского
флота город покинуло оживление, владевшее жителями в те
дни.
ПЕРСИДСКИЙ КОРАБЛЬ
Уже два месяца Гискон и Дауд жили в доме суффета.
Они еще больше сдружились. Каждый день приносил
чернокожему мальчику много нового. Он видел дома, в
которых обитают белые люди, удивительные вещи, которыми
они пользуются. А Гискон рассказывал ему о Карфагене,
о его высоких каменных стенах, величественных храмах.
Об огромном, сделанном руками людей озере, где
теснятся корабли со всех частей света.
Часто Гискон и Дауд ходят в гавань расспрашивать
моряков о Ганноне. Но никто ничего не знает о суффете.
Зато о Мастарне говорит весь Гадир. Этруск снова
появился во Внутреннем море. Говорят, он набрал самых
смелых, самых отчаянных и искусных моряков. Он нападает
на купеческие гаулы и пускает их ко дну. Как дух
смерти, витает он над волнами, и встреча с ним страшнее бури
и подводных камней. Мачта его большого корабля несет
полотнище. На нем изображено какое-то чудовище с
человеческим лицом, рогами на голове и змеей вместо
языка. Это Тухалка — дух разрушения. И корабль Мастар-
ны называют теперь "Тухалкой".
Говорят, Мастарна собирает большой флот, чтобы
отправить ко дну все корабли италийских и сицилийских
199
греков, что он уже не помышляет о захвате Рима, а хочет
обосноваться в греческой колонии Кумах.
Гискон знает, что в этих рассказах немало вымысла.
И часто трудно ему понять, почему эти купцы, плавающие
во Внутреннем море, не объединятся и не уничтожат
дерзких пиратов!
Однажды в гавань Гадира зашел большой корабль с
косыми белыми парусами. На носу его, там, где у
карфагенских кораблей рисунок глаза, был изображен солнечный диск
с расходящимися во все стороны лучами. Любопытные
горожане высыпали на набережную. И в первых рядах были
Гискон и Дауд, не пропускавшие ни одного корабля.
Напрасно Гискон пытался прочитать название гаулы,
выписанное чуть пониже отверстия для якорной цепи. Буквы
были незнакомы Гискону. Но какой-то старый моряк пояснил:
— Это персидский корабль. Он, кажется, прибыл из
Ликса.
Недолго думая, Гискон бросился к Хираму. Он умолял
суффета разрешить ему побывать на судне. Может быть,
его моряки слышали о Ганноне. Разделяя волнение и
любопытство мальчика, Хирам сам собрался в гавань.
— Пойдешь со мной, — сказал он Гискону, когда они
подошли к сходням.
На борту суффета встретил человек с безволосым,
сморщенным, как печеное яблоко, лицом. Он молча провел
Хирама и Гискона в каюту, увешанную яркими коврами. Там
их ждал мужчина, одетый сообразно восточному обычаю,
в лазоревую тунику и красные шаровары. Он
приветствовал гостя низким поклоном:
— Привет тебе, о владыка Гадира! Да ниспошлют
милостивые боги счастье и богатство тебе и твоим женам!
После ответного приветствия суффета перс усадил его
рядом с собой на ковер.
— Я Сатасп, слуга царя царей Ксеркса, начальник над
его кораблями. После битвы при Саламине1, где коварные
греки потопили наши лучшие корабли, гнев обуял моего
владыку. Перед дворцом в Персеполе он приказал вбить
сотни кольев. На них корчились в страшных муках
мужчины и женщины, жертвы его беспричинной ярости.
Каждый в городе с ужасом ждал своего конца. Однажды но-
1 В битве под Саламином (480 год до н. э.), п|юисшедшей, по
преданию, в тот же день, что и сражение при Гимере, греки нанесли
сокрушительный удар персидскому флоту.
200
чью меня привели во дворец. Я уже заранее простился с
жизнью. Но, когда я на животе подполз к трону, его
величество милостиво разрешил мне облобызать его ногу.
До сих пор мое сердце преисполнено гордости! Ведь никто
из предков моих не удостаивался такой великой милости!
"Послушай, Сатасп, — промолвил царь царей. — Все
думают, что главный наш враг — эти жалкие греки. О нет!
Стоит мне только захотеть, и я могу превратить их всех
в пыль и развеять по ветру. Главный мой враг — море.
Это оно уничтожило мост, который я перебросил из Азии
в Европу. В гневе я приказал высечь его плетьми, а оно,
как строптивый раб, отомстило мне Саламином. Но я
отплачу ему! Мой звездочет рассказал мне, что когда-то
финикийцы обогнули Ливию. Я затмлю их славу и покажу
морю, что мне не страшны его козни. Возьми в Тире
лучшее судно и плыви на запад. Я буду ждать тебя в
Вавилоне. И, если ты не прибудешь вовремя в Вавилон, помни:
тебя ждет смерть на колу".
Тяжело вздохнув, перс продолжал:
— Итак, я вышел в море. По милости Ахурамазды1,
Столбы Мелькарта остались позади. Ветер погнал корабль
на юг. Бури обходили нас стороной. Я плыл вдоль
бесконечного берега, пока не кончилась пресная вода. Я проник
в устье какой-то большой реки. Там мои матросы
заметили маленьких чернокожих человечков. Я приказал поймать
одного из них в подарок царю царей, но, как только мои
люди высадились на берег, человечки исчезли в высокой
траве и засыпали нас стрелами. Потом корабль наш попал
в такое сильное течение, что я вынужден был
возвратиться. Обратный путь продолжался целый год. И вот уже
приближается срок моей гибели. Может быть, ты, о мудрый
владыка, утешишь душу мою советом?
Хирам задумался. Хитрая улыбка скользнула по его
губам.
— Скажи, что для тебя будет легче: обогнуть Ливию
или пройти каналом фараона Нехо в Красное море? —
спросил Хирам.
— Сравнил муравья с верблюдом! — воскликнул
перс. — Пройти в Красное море мне ничего не стоит!
Только не на этой гауле.
— Так вот, подари свою гаулу гадирскому Мелькарту,
1 Ахурамазда — верховное божество древних персов.
201
а я тебе взамен дам своего "коня". Возьми преданных
моряков и плыви в устье Нила под видом купца. А там по
каналу, прорытому фараоном Нехо, сверни в Красное море.
Оттуда тебе ничего не стоит добраться до Вавилона.
Перс смотрел на Хирама широко раскрытыми глазами.
Мысль гадирца поразила его. Он скажет в Вавилоне, что
буря разбила его корабль и он из его обломков построил
себе другой, меньших размеров. Матросы подтвердят его
слова. Царь будет доволен, а он вернется к своим женам
и сыновьям. Конечно, больше всех выгадает эта хитрая га-
дирская лиса, но другого выхода у него нет.
— Ахурамазда дал тебе частицу своего разума, —
сказал перс. — Я принимаю твой совет к сердцу. Подготовь
мне своего "коня" и одежду цдя моих людей. Пусть пока
их принимают за карфагенян.
Хирам улыбнулся:
— К завтрашнему дню все будет готово... Скажи, —
добавил он, взглянув на стоящего у двери Гискона, — не
встречал ли ты на своем пути какой-нибудь корабль или
его обломки? Не слышал ли ты что-нибудь о Ганноне?
— Корабля не встречал, — ответил перс,
рассматривая свои ярко окрашенные ногти, — а о Ганноне слышал
от карфагенского мага. Я взял его на борт у мыса Солнца.
— Где же этот маг? — спросил Хирам.
— Он сошел в Тингисе1, чтобы пересесть на
карфагенскую гаулу.
Больше Хирам не стал ничего расспрашивать.
Хирам и Гискон покинули корабль.
— Отправь нас быстрее в Карфаген, — взмолился
Гискон. — Может быть, там я узнаю о Ганноне.
— Тебе нужно плыть в Карфаген, — одобрил Хирам
намерение юноши. — Ты должен будешь рассказать отцам
города все, что знаешь о Ганноне. Пусть они пошлют на
его поиски гаулу.
ВО ВЛАСТИ ВОЛН
Ночи становились короче. Все реже шли дожди.
Месяц булькающих капель Бул2 был на исходе. В свежей про-
1 Тингис — финикийская колония в Северной Африке, близ
Гибралтарского пролива.
2 Бул — месяц дождей.
202
зрачности воздуха уже ощущалось дыхание близкой
весны. Из земли поднимались тоненькие изумрудные
травинки. Волны, бушевавшие несколько месяцев подряд, стали
спокойнее, словно их усмирили, заворожили своей лаской
лучи Мелькарта.
Ганнон с грустью смотрел на удерживаемую якорями
гаулу. Каждый легчайший порыв ветра приводил ее в
движение, заставлял дрожать от киля до верхушки мачты. Так
человека, обращенного в рабство, волнует лишь одна
мысль о свободе. Нетерпение корабля передавалось
людям, утомленным вынужденным бездельем. С нежностью
вспоминали моряки о родном Внутреннем море, не
знающем приливов и отливов1, об островах, ведущих корабль,
как ребенка, делающего первый шаг, от берега к берегу.
Они забывали о гневной ярости этого моря, как муж,
давно покинувший дом, не помнит о ссорах со своей
строптивой женой.
О Внутреннем море мечтал и Ганнон. Там он надеялся
отыскать след "Сына бури". Напрасно старейшина города
советовал Ганнону подождать еще несколько дней, Ганнон
приказал поднимать паруса.
Явились жрецы Мелькарта. Стоя по колени в воде, они
зарезали овцу, вынули ее внутренности, сложили их в
лодку и, по местному обычаю, трижды обогнули корабль. И
теперь уже никакой смерч, что часто бушевал между
Столбами Мелькарта, не будет им страшен. Так уверяли жрецы.
За один день гаула дошла до Столбов. Ганнон знал, что
признаком смерча были густые, низкие облака. К счастью,
небо было безоблачным. "Жертва в Ликсе спасла нас'\ —
говорили моряки.
Чем больше Ганнон узнавал моряков, тем он больше
удивлялся владевшими ими суевериями. Они скорее
согласились бы лишиться правой руки, чем плюнуть в море.
Чихнуть на правой стороне корабля они считали хорошим
предзнаменованием, на левой же дурным. Никто бы не мог их
заставить покинуть порт, если на палубу села ласточка. Они
верили в златокудрых сирен, привлекающих людей своим
пением. Будто стоит моряку услышать таинственный и
зовущий голос сирены, он забывает обо всем и бросается за
борт. Безумца можно спасти, лишь привязав к мачте.
1 Приливы и отливы есть и во Внутреннем море, но они почти
незаметны.
203
Столбы Мелькарта остались позади. После океанских
валов волны Внутреннего моря казались маленькими,
совсем игрушечными. Моряки предвкушали ради, ть встречи
с близкими им людьми. Ведь до Карфагена осталось не
больше трех дней пути.
К полудню поднялся свежий ветер. Небо затянулось
пятнистыми полосами и стало похоже на шкуру леопарда.
— Сегодня корабль попляшет! — молвил Л пгарбал.
— Да, скоро налетит Гадирец! — согласился Ганнон
и приказал спускать паруса.
Канат сдирал кожу с ладоней, ветер бил гю лицу
мокрым углом паруса. Наконец паруса были слушаны. Но га-
ула не замедляла хода. Она неслась, как беш^ мый,
непослушный узде конь. Стаи буревестников, этич зловещих
птиц, с криком носились над морем. Стало сове} ченно
темно. Небо было, как черный щит, а молнии сверк ти и
перекрещивались, словно мечи. Казалось, сказочныг великаны
вступили между собой в бой.
Ганнон приказал всем спуститься в трюм ч плотно
закрыть люки. Море кипело. Огромные волны приступом
брали гаулу, а она, как ласточка, взмывала в высоту, чтобы
затем погрузиться в черную пропасть. Ветер рвался
вперед, опережая звуки, им порожденные.
Второй день свирепствовала буря. С грохотом неслись
по палубе волны, смывая все, что встречалось им на пути.
Люди выбивались из сил, они теряли надежду на спасение,
каждый миг ожидая конца. Чрево корабля было наполнено
воплями, стонами, плачем, заглушаемыми грохотом моря.
Может быть, впервые в жизни Ганнон чувствовал себя
совершенно беспомощным перед разбушевавшейся
стихией. Он вспомнил, что говорили старые моряки: "Бог Дагон
мстителен. Не для того ли он пощадил нас в океане,
чтобы погубить здесь, у берегов родины?"
Никто не знал, сколько дней они были в плену у волн
и куда их занесла буря. Но вот она понемногу начала
стихать. В сердцах людей загорелась искра надежды.
Открыли люк. Страшная картина предстала взору.
Обломки рей, удерживаемые канатами, свисали с обоих
бортов гаулы. Мачта была вырвана из гнезда и снесена в море.
Море зловеще гудело.
Ганнон вылез на палубу, удерживаясь за кольцо люка.
И в этот момент он ощутил страшный удар, а затем мгно-
204
венно погрузился в ледяную воду. Волна подхватила его и
отбросила от гаулы, закружила и понесла к прибрежным
скалам. Сквозь мглу Ганнон разглядел черную гряду.
"Смерть, вот где ты!" — пронеслось в его мозгу.
Но море словно играло со своей жертвой. Оно
подняло ее на гребень волны и со страшной силой швырнуло
между двумя скалами. На миг Ганнон потерял сознание.
Волна покрыла его с головой. Последним усилием воли
Ганнон заставил себя приподняться и сделать несколько
шагов. Если бы не это, новая волна смыла его в море.
Когда он очнулся, на небе сияло солнце. Незнакомый
берег имел форму огромного полукруга. В глубине его
виднелась высокая зеленая гора с остроконечной вершиной.
Море успокоилось, но гребни волн еще белели.
Казалось, море скалит зубы, недовольное, что хоть одно живое
существо ускользнуло от его ярости.
Ганнон долго всматривался в даль, как будто хотел
отыскать корабль, затерявшийся в беспредельных просторах. Но
море было пустынно.
— О боги! — прошептал Ганнон. — Вы отняли у меня
друзей! Нет, вы не так жестоки! Где Мидаклит? Верните
мне учителя! Где все мои друзья!
Ганнон шагал по берегу в надежде найти кого-нибудь,
чтобы оказать помощь. Но берег был усеян лишь обломками
досок. На одной из них Ганнон различил полустершийся
рисунок глаза. Там, на носу, этот глаз казался оком
всевидящего божества. Он прогонял страх и вселял надежду
в сердца моряков. А теперь на исковерканном обломке
доски этот глаз был так же жалок и беспомощен, как
человек перед разбушевавшейся стихией. "Зачем мне боги
сохранили жизнь! — думал Ганнон. — Чтобы она окончилась
позором? Кто мне поверит, что я был в Стране Высоких
Трав, что я видел широкие реки, втекающие в океан? Кто
подтвердит, что мы посетили те места, где ничто не имеет
тени, где нет знакомых нам звезд, где солнце идет другой
дорогой? Надо мной будут смеяться, когда я скажу, что
видел потомков атлантов, и я не смогу бросить в лицо
насмешникам кубок из Пещеры сокровищ. Враги будут
показывать на меня пальцами: "Вот он, лгун! Вот он,
растративший государственную казну! Он потерял два корабля и
привез вместо золота одни небылицы!"
Оглянувшись, Ганнон увидел рядом с собой среди об-
205
ломков досок что-то коричневое. На первый взгляд ему
показалось, что это пучки морской травы. Но приглядевшись
внимательно, Ганнон убедился, что это шкура лесного
человека. Ганнон подполз к ней и взял ее в руки. Жалкий
трофей! Прихотливое море с презрением выплюнуло его на
берег, а золото, серебро и драгоценные камни взяло себе.
"Бедный Мидаклит! Ты погиб, прижимая к груди свой
свиток. Ты унес с собой тайну Атлантиды. Я должен
исполнить свой последний долг — похоронить тебя по обычаям
предков. Ведь греки говорят, что душа покойного,
оставшегося без погребения, мучается и блуждает по свету!"
Ганнон стоял, оглядывая разбросанные камни. Когда на
глаза ему попадался ровный и плоский камень, он поднимал
его и нес туда, где лежала шкура лесного человека.
Ганнон хотел соорудить гробницу там, где море
выбросило его самого, где песок еще сохранил отпечаток его тела.
Хотя бы этим он будет ближе к душе своего друга!
От слабости подкашивались ноги, но Ганнон, стиснув
зубы, таскал и таскал камни.
Уже стемнело, когда на песке выросла большая куча
камней. Но это была только половина работы. Острым
206
камнем Ганнон нацарапал на песке прямую линию в
четыре локтя длиной. Под прямым углом к ней он прочертил
другую линию. Опустившись на колени, он стал по этим
линиям укладывать камни, выбирая их из кучи. Когда были
готовы две стенки высотой в локоть, он сел на шкуру и
вытер тыльной частью ладони вспотевший лоб. Долго и
мучительно он вспоминал, как греки называют пустую
гробницу, сооружаемую людям, погибшим в море. Так и не
вспомнив, он принялся снова за работу. Наконец
каменный прямоугольник был готов. Ганнон накрыл его сверху
обломками досок. На одной из них он нацарапал
по-гречески: "Мидаклит".
В глаза Ганнону глянул бледный лик луны, взошедшей
над волнами. Ему показалось, что богиня Танит все видит.
Это она отомстила ему за похищение Синты. Владычица
наказала его одиночеством.
Превозмогая боль и усталость, Ганнон двинулся в путь.
Ноги ... слушались его, тело казалось каким-то чужим,
словно сделанным из камней, как кенотаф (наконец он
вспомнил, как называются эти пустые гробницы!).
Пройдя несколько шагов, Ганнон оглянулся и зашагал
обратно. У шкуры лесного человека он остановился в
раздумье. Потом взвалил ее на спину. Шкура была мокрой и
скользкой. Даже соленые волны не смыли одуряющего
запаха, который она испускала. Ганнон брезгливо отвернул
голову, но шкуры не бросил.
Всю ночь он шел не останавливаясь, остерегаясь лишь
встречи с людьми. Он не знал, куда его выбросило море и
что его ждет одного на этом чужом берегу.
МОРСКОЙ БОЙ
Первые проблески зари легли на волны. Море уже
успокоилось и тихо колыхалось между горизонтом и
прибрежными скалами, как вино в поднятой чаше.
С мрачным упорством Ганнон брел по пустынному
берегу. Острые камни ранили его босые ноги. Вскоре он
совсем выбился из сил и присел на обломок скалы. И вдруг
он услышал тонкое блеяние. Оглянувшись, шагах в
десяти от себя он увидел человека с большой суковатой палкой
в руках. Поодаль щипали траву овцы.
Пастух стоял неподвижно, как статуя. В его голубых
207
глазах застыл испуг: "Кто это? Человек моря! Тогда это
враг. Ведь люди моря лживы, как само море, которому они
продали свою душу. То оно кажется спокойным и
ласковым, как весеннее утро, кротким, как ягненок, то вдруг по
нему проносится буря, в порыве гнева разбивающая
рыбачьи лодки, сокрушающая все, что попадается ей на пути.
Так и люди моря. Порой они кажутся приветливыми и
радушными, они могут угостить вас вином, веселящим
сердце, одарить красивыми тканями, но вдруг в них
просыпается безумие. С пылающими глазами, искаженными от
ярости лицами они бросаются на мирных поселян, скручивают
своими плетеными ремнями их руки и ноги и тащат на
корабли. И редко-редко возвращаются на родину те, кого они
увели с собой, возвращаются с телом, покрытым рубцами,
и душой, исковерканной рабством".
Эти мысли, казалось, отражались в испуганном
взгляде пастуха.
"Но этот чужеземец не вооружен. На нем нет ничего,
кроме шкуры, похожей на медвежью. Он не опасен".
— Где я? — спросил Ганнон по-гречески и тотчас же
повторил свой вопрос на финикийском языке.
Пастух отрицательно покачал головой. Он не понял слов
Ганнона. Но там, в Кумах, — пастух указал на глубоко
вдающийся в море мыс — ему смогут помочь.
Среди странно звучащих слов Ганнон уловил одно,
показавшееся ему знакомым: "Кумы".
"Так вот куда меня забросила судьба! К Кумам! На
берег Италии! "
И вот он снова бредет, держась ближе к морю, где
камни, казалось, были менее острыми. Солнце пригревало
сильнее, и Ганнон уже не чувствовал холода. Но голод!
Тошнота подступала к горлу. Кружилась голова. Присев на
корточки, Ганнон подобрал моллюска и жадно проглотил.
Но ощущение слабости не покидало его. Ганнон прилег на
песок и прикрыл глаза ладонью от солнца.
Затем он встал, задумчиво глядя на море. Казалось, оно
что-то ему шептало, властно и нежно. Снова с
необъяснимой силой оно звало его к себе.
"Море! — думал Ганнон. — Сколько ты дало мне
радости! Каким могучим трепетом и страстным восторгом ты
наполняло мое сердце! Какие красоты ты открыло моему
взору! Но сколько горя ты мне принесло! Может быть, и
208
правы те, что говорят, будто ты ревниво? Ты поглотило всех
моих друзей, всех, кого я любил".
Взгляд Ганнона блуждал, но вдруг остановился на одной
точке. На горизонте показались корабли.
— Один, два, три... — считал он вполголоса. —
Десять кораблей!
Это были одномачтовые триеры1. Из воды, как хищные
клювы, выдавались тараны. На носу первой триеры белела
статуя. Да, это греческие суда. Они направляются к
берегу. Наверное, хотят высадиться. Нет, триеры повернули и
пошли вдоль берега. Зачем же они это сделали?
Но вот из-за мыса, на который указал Ганнону пастух,
показалась другая эскадра. Длинные суда с узкой и
заостренной кормой. Треугольные паруса. "Что же это?" —
подумал Ганнон. Эскадру замыкал большой корабль, очень
вытянутый, с высоким носом и изогнутой, как гусиная шея,
кормой. Квадратные паруса! Ганнон вздрогнул. Этот корабль
он узнал бы из тысячи. Ведь это "Сын бури"! Правда, его
борта выкрашены в голубой, излюбленный пиратами цвет и
на носу укреплен шест с каким-то полотнищем, но все
равно это он, его корабль! Значит, этруску удалось привести
"Сына бури" к себе в Этрурию. Может быть, и сейчас этот
вероломный пират ведет его корабль и на борту "Сына бури"
Синта и Гискон? Или он успел уже выдать их Магарбалу?
Продать в рабство! Сердце Ганнона захлестнула острая боль.
"А другие корабли? Тоже этрусские? Целых двадцать
кораблей. Плохо же придется грекам!"
Но вот по сигналу с "Сына бури" этруски повернули
свои корабли к берегу. Да, они хотят перехватить
греческие суда! А на них — он это ясно видит — матросы
убирают паруса, снимают мачты. Значит, они хотят принять
бой. Но "Сын бури" идет с гордо развевающимися
парусами. Огромный, с высокими бортами, он кажется среди
других кораблей целой крепостью.
Этруски уже почти настигли греков. Но что это? На
горизонте новая флотилия. Корабли выстроены в две линии.
Их не меньше сорока. Да, это греческие суда.
И только тут Ганнон разгадал план греческого навар-
ха2 — прижать этрусков к берегу, бросить их на
прибрежные камни. Десять греческих триер были только приман-
1 Триера — древнегреческий боевой корабль с тремя рядами весел.
2 Наварх — по-гречески начальник над кораблями, адмирал.
209
кой. Этруски бросились за нею, как лев за ягненком, а в
это время вышли охотники.
С интересом ждал Ганнон, что предпримут этруски. Им
ничего не оставалось делать, как выброситься на берег. Но
нет! "Сын бури", развернувшись, двинулся на греческую
триеру. Он ловко лавирует, меняя каждый раз
направление, и за ним, как волчья стая за вожаком, следуют
другие этрусские корабли.
Маневр "Сына бури" застиг, видимо, греков врасплох.
Они еще не успели убрать паруса, и это было уже поздно
делать. Фланги греческих кораблей выдвинулись вперед, и
теперь они шли двумя полукружиями. На их палубах
моряки размахивали мечами, топорами, крючьями,
устрашающе кричали. Но этруски не думали отступать.
"Сын бури" приближался к греческой триере. Казалось,
сейчас они столкнутся носами, но в последнее мгновение
этруски развернули корабль, и он прошел борт о борт с
триерой. Раздался треск ее весел. Теперь греческое судно
вышло из строя и не могло гнаться за "Сыном бури", который
шел на парусах и на веслах. Это был хорошо известный Ган-
нону прием. Но этруски проделали его так ловко, что
возглас восхищения невольно вырвался из уст Ганнона.
"Сын бури" прорвал первую линию вражеских
кораблей, но за нею была вторая. На этот раз греки решили не
допустить прорыва. Они сгустили свой строй. "Сын бури"
заметался, как волк среди стаи псов. Абордаж ему не
страшен, так как у него высокие борта. Но, чтобы идти
самому на абордаж, надо было спустить паруса. И этим
занялись этруски.
Но паруса еще не были спущены и наполовину, как
одной из греческих триер удалось подойти к корме
этрусского корабля. С разгону она ударила тараном ниже
кормового весла. Треск напомнил удар грома. "Сын бури"
накренился. Мачта с полуспущенными парусами легла на
воду. Киль задрался кверху.
"Сына бури" несло к берегу. И вот до Ганнона
донеслась песня: ее мелодия была хорошо ему знакома.
Трепещет лазоревый парус,
Гаула, как чайка, быстра.
Как буря, страшна наша ярость —
Ведь смерть нам родная сестра...
Родная сестра...
210
Ганнон стоял у самого берега. Ему нечего была
прятаться! Пусть его видят! Пусть знают: это его корабль! Он
отдал ему все лучшее, что у него было. Он сам готовил его
к плаванию, сам, своими руками, ощупывал на нем
каждый медный гвоздь, каждую доску. Этот киль разрезал
волны океана! Эти паруса окрашивал ветер пустыни. По этой
палубе ходила Синта, его Синта! Может быть, она и
сейчас на нем, а он, ее супруг, ничем не может ей помочь!
— Проклятый этруск!..
Ганнон закричал, и крик его слился с плеском волн, с
воплями тонущих, с ударами весел.
Корабль тонул. Нос его уже вошел в воду, как меч в
ножны. На корме еще держалось несколько человек. Но
вот уже не видно и их. Греки спустили лодки. Но они и
не думали спасать вражеских моряков. Они подплывали к
ним и веслами отправляли ко дну.
Бой еще продолжался, но взгляд Ганнона был
прикован к нескольким доскам — это было все, что осталось от
"Сына бури". Ганнон упорно чего-то ждал от моря, а оно
подбрасывало на своих волнах мертвецов.
"Вот и конец, — размышлял Ганнон. — Целых сто лет
боролись этруски и греки за эту приморскую плодородную
долину, называемую Счастливой Кампанией! И исход
борьбы решился на море. Этрусский флот разбит! Теперь
греки станут еще сильнее. Нет, я был прав: не в Сицилии и
не в Италии наше будущее, а на берегах океана, там, где
так много богатств! Протяни руку и возьми их: и золото, и
слоновую кость, и железное дерево, и черных невольников!"
Но что делают греки? Вот они вылавливают крючьями
обломки кораблей и свозят их на прибрежный скалистый
островок. Там они сооружают из этих обломков пирамиду.
Ганнон давно уже слышал об этом греческом обычае. Это
у них называется "водружать трофей". Греки считают свою
победу неполной, если в честь ее не воздвигнут памятник
из обломков вражеских кораблей или оружия — если бой
происходил на суше.
Пропев хвалу богам, греки возвратились на корабли,
расцвеченные победными флагами. С поднятыми парусами
триеры уходили в открытое море.
Долго стоял Ганнон на берегу. Затем он медленно
двинулся в путь. Неподалеку он увидел бревно, выброшенное
212
на берег волнами. На бревне сидел небольшой рыжий
зверек. Да, это был хорек, купленный им в Гадире. При
приближении человека хорек спрыгнул на берег и скрылся в
кустах.
Ганнон смотрел ему вслед. Ему вспомнился тот
жаркий день, когда он вместе с Мидаклитом, Малхом и Гис-
коном бродил по базару Гадира. Тогда все было у него
впереди. Тимера и Кумы, — думал Ганнон, — вас
разделяет шесть лет1. Какие это были годы! И неужели все жертвы
оказались напрасными?"
Все ближе и ближе были Кумы. Ганнон знал обычаи
прибрежных жителей. Они считали все, что выбросят
волны на их берег, своей добычей. Они ожидали бури или
морского сражения, как землепашцы ждут жатвы. Порой они
во время бури разжигали костры, чтобы привлечь корабли
на прибрежные скалы, а потом вылавливали баграми
доски, кожи, парусину — все, что оставалось от корабля.
Если кому-нибудь из моряков удавалось избежать гибели,
они продавали его на ближайшем невольничьем рынке.
Люди суши, они мстили морю.
Единственным спасением Ганнона было найти в Кумах
карфагенскую купеческую гаулу. Они, как ему было
известно, нередко заходили в гавань этой греческой колонии. Но
как ему незамеченным пробраться в гавань?
Уже вечерело, когда Ганнон увидел лепившиеся по
холмам, точно улитки на скалах, белые домики греческих
колонистов. Сойдя с тропы, он укрылся в винограднике.
Утоляя голод и жажду сочными ягодами, он пристально
вглядывался вдаль и прислушивался. Шумели морские волны.
Откуда-то слышалось блеяние овец. Но почему не видно
людей?
Но вот холмы озарились факелами. Послышались пение
и радостные крики.
И тогда Ганнон понял все. Люди возвращались из
гавани. Там они приветствовали греческих моряков,
вернувшихся с победой над этрусками. Сейчас они еще будут пить
вино, петь, а потом свалятся в изнеможении. Тогда он
выйдет из своего убежища и проникнет в гавань. Если там
окажется купеческий карфагенский корабль — он спасен.
1 Битва при Кумах произошла в 474 году до н. э.
213
СНОВА В КАРФАГЕНЕ
Весть о возвращении Ганнона облетела Карфаген. В
первый же день на улице Сисситов собралась толпа.
Родственники и друзья колонистов хотели знать об их судьбе.
Людям просто хотелось увидеть человека, который, как
говорили, побывал в Полях Мертвых и вернулся живым и
невредимым.
Старый землепашец, недавно похоронивший своего
единственного сына, хотел во что бы то ни стало увидеть Ганнона,
чтобы узнать, как его сыну живется в царстве теней.
Больше всего слухов ходило о сокровищах, которые будто
бы привез Ганнон. Одни говорили, что корабли с
сокровищами остановились у маяка, некоторые утверждали, что у
Ганнона нет никаких кораблей, что сокровищ он не привез,
но зато научился в Полях Мертвых превращать камни в
серебро. Многие уже запаслись камнями потяжелее.
Десятки людей уже в первый день побывали в его доме,
и Ганнон рассказал им всю правду. Но, когда эти люди
выходили и пытались растолковать собравшимся, чтобы те
расходились по домам, им никто не верил: выходящих
подозревали, что они хотят лишить других их доли серебра.
На второй день Ганнон закрыл двери своего дома на все
засовы. Надо было писать отчет о плавании в Совет
Тридцати.
Ганнон протянул руки к жаровне, прикрытой медной
решеткой. Приятное тепло медленно растекалось по его телу,
и меньше ощущалась тупая боль в голове.
Положив на колени дощечку, Ганнон расстелил на ней
свиток папируса и взял двумя пальцами палочку из
камыша. "Как начать? — размышлял Ганнон. — Нет, отчет Ги-
милькона нельзя взять за образец. Он столь же туманен,
как открытые им северные острова. Надо быть скупым в
словах и трезвым в мыслях".
Написав первую фразу, Ганнон прочел ее вслух:
— "Отчалив и выехав за Столбы, мы плыли два дня и
потом основали первый город, при котором была большая
равнина...'4.
И тогда он вспомнил все: вопль женщины, у которой
отняли ребенка, пламя костра, разгоняющего тьму, взвол-
1 Этими словами начинается дошедший до нас в греческом переводе
перипл (описание плавания) Ганнона.
214
нованный шепот Гискона, рассказывающего о своем
ночном видении.
Рука Ганнона снова заскользила по папирусу.
Камышовая палочка чертила одну букву за другой, слово за словом:
"Затем, направившись к западу, прибыли к Солоенту,
ливийскому мысу, покрытому густым лесом. Здесь
основали храм богу моря и снова двинулись на восток... Мы
прибыли к большой реке Ликсу, текущей из Ливии".
Вот он, песчаный берег, заполненный моряками. В ушах
его еще звучит песня, которую пела его Синта:
/У плакал он горько о Лине, о сыне,
И слезы владыки землю прожгли.
Вытерев рукой глаза, он снова писал, и в памяти его
вставали гигантские валы, обрушивающиеся на берег
Ливии: высокие травы, колышущиеся под ветром; поющие
пески, засыпавшие тело Малха; зовущий взор Тинис и
огненные потоки, выливающиеся в море; девственный лес и
ни с чем не сравнимые крики лесных людей; свист ветра,
несущего корабль на скалы.
Как найти слова, которые смогли бы передать чувства
215
людей, впервые увидевших неведомые земли и острова, их
восторг, их радость, их страх? А впрочем, зачем все это
знать раби, для которых он пишет свой отчет? Их,
наверное, интересует, много ли в этих местах золота и во сколько
обойдется снаряжение новой экспедиции за Столбы.
Взглянув на песочные часы, Ганнон понял, что ему пора
уже идти. Его ожидает Совет. Ганнон свернул в трубку лист
папируса и заткнул его за край плаща. Потом взял что-то
завернутое в полотно и быстро покинул дом.
Карфаген нисколько не изменился за время отсутствия
Ганнона: та же толпа, в которой редко увидишь хорошо
одетого человека. Больше всего людей в изорванной одежде,
бледных, истощенных.
"И этот город считают самым богатым на берегах
Внутреннего моря!" — с горечью подумал Ганнон.
Улица Сисситов вывела Ганнона на площадь,
вымощенную квадратными плитами. Это была площадь Собраний.
Когда-то ее переполняли люди, с восторгом выкрикивавшие
его имя. А теперь она пуста!
У Дома Совета появился новый памятник. Фигура из
серого мрамора. Высокий лоб, широко расставленные глаза,
что-то удивительно знакомое в лице!
Ганнон вздрогнул. Ведь это его отец! Гамилькар
предстал перед Ганноном таким, каким он видел его в
последний раз, под Гимерой, мужественным, сильным.
Что бы сказал его отец сейчас?
Дом Совета показался Ганнону особенно
величественным в холодной роскоши своих колонн, в массивности своих
стен. Каким далеким представилось то время, когда он
входил сюда окрыленный надеждой!
Ганнон поднялся по лестнице, прошел мимо
безмолвных стражей, зорко охранявших эту крепость богачей, и
медленно двинулся по длинному коридору, освещенному
спрятанными в нишах светильниками. Свет их выхватывал
из темноты то одну, то другую часть его лица — широко
раскрытые, устремленные вперед глаза, крепко сжатые губы.
СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ...
Сегодня Совет Тридцати решает судьбу Ганнона.
Впрочем, судьба его уже решена, но не здесь. Сразу же после
прибытия Ганнона великий жрец Магарбал позвал к себе
216
суффета Миркана. Кипя злобой, жрец требовал, чтобы
мореход немедленно был заключен в Дом Стражи. Миркану
стоило немалого труда уговорить Магарбала отказаться от
этого замысла. "Так мы возбудим чернь против нас, —
предостерегал Миркан. — Я потребую у нечестивца отчета в
Совете, и, если он через месяц не вернет сделанных
республикой затрат, он все равно окажется в Доме Стражи".
Раскрылись двери. Шум умолк. Все взгляды обращены
к Ганнону. Голова его высоко поднята. Нет, он не
изменился, этот дерзкий и непокорный отпрыск Магонидов. Он
держится так, словно не чувствует за собой никакой вины,
словно пришел сюда победителем.
Ганнон остановился против Миркана. В правой руке его
свиток, в левой — какой-то сверток.
Злобно взглянув на Ганнона, Миркан произнес:
— Совет ждет твоего отчета!
Положив на пол свой сверток, Ганнон развернул
папирус и начал медленно его читать. Изредка он поднимал
голову, чтобы увидеть, какое впечатление производят его
слова. Раби слушали внимательно, но лица их были
непроницаемы. Но вот Ганнон кончил читать и выпрямился, как
воин перед лицом врага.
— Есть ли вопросы у раби? — раздался голос,
напоминающий бой треснувшего колокола, то был голос Миркана.
— Есть! — послышалось откуда-то сзади.
Это Габибал. Тогда он поддержал Ганнона, предлагая
вычерпать чернь со дна города. Что же скажет он теперь?
— Да, у меня есть вопрос: много ли сицилийского вина
сегодня выпил Ганнон? Или, может быть, он привез вино
с берегов океана, от которого он совсем обезумел?
В зале послышались выкрики:
— Молодец, Габибал! Довольно нас обманывать! Пусть
Магонид вернет золото!
Ганнон стиснул зубы. Как ему хотелось плюнуть в лицо
этим тупицам, думающим только о золоте!
Сдерживая себя, Ганнон отвечал:
— Вот уже год, как у меня во рту не было ни капли
вина. А порой мне не хватало и воды. Да, я обещал вам
золото. Я бы мог засыпать золотым песком весь пол этого
зала, этот стол рухнул бы под тяжестью сокровищ
Атлантиды, но мой корабль поглотило море.
— Мы уже сыты твоими баснями, Ганнон! — восклик-
217
нул Миркан. — Чем ты можешь подтвердить, что все
сказанное тобою правда?
Ганнон опустил голову.
— У меня нет корабля, нет моих друзей, вместе со
мной побывавших там, где еще не был никто из смертных.
У меня осталось лишь вот это. — И Ганнон развернул
сверток. — Члены Совета, — продолжал он, — могут
убедиться в существовании лесных людей.
Ганнон протянул шкуру Миркану, но тот брезгливо ее
оттолкнул.
— Это и есть сокровища, которые ты обещал
Совету? — Лицо Миркана вспыхнуло от гнева. — Шкура
какого-то мерзкого животного! Не ею ли ты хочешь
расплатиться за потерю "Сына бури" и "Ока Мелькарта"?
Раздались выкрики: "Правильно!", "Пусть он
расплатится!" И вдруг их заглушил звонкий голос:
— Стойте! Знаете ли вы, кого судите? — Это говорил
совсем юный раби.
"Этот юноша здесь, в Совете? — Ганнон знал, что
только большие заслуги отца могли позволить человеку такого
возраста занимать почетное место в Совете. — К какому
218
же роду принадлежит этот юноша? Почему лицо его
кажется мне знакомым?"
— Знаете ли вы, кого судите? — повторил юноша. —
Человека, чьим именем будет гордиться Карфаген, пока
стоят его каменные стены. Что нам было известно о западном
береге Ливии до Ганнона? Для нас он кончался Ликсом.
Ганнон проник туда, куда не знают пути птицы. Он
передвинул Столбы Мелькарта к мысу Солнца. Он видел ночи,
полные неведомых звезд. Смерть преследовала его на воде
и на суше. Никто не мог поспешить ему на помощь. Он
основал новые колонии. Разве это не дороже золота,
которого требует ваша жадность?..
Голос молодого раби потонул в гуле враждебных
выкриков:
— Долой! Молчи, Шеломбал!
Ганнон вздрогнул. Так это Шеломбал! Брат Синты!
Особенно неистовствовал Миркан. Лицо его
побагровело, как стручок перца под солнечными лучами. Он
протягивал костлявые руки к сыну, как бы желая его задушить.
А Шеломбал стоял, гордо выпрямившись, словно радуясь
буре, которую он вызвал.
219
Ганнон с восхищением и благодарностью смотрел на
него. Этот юноша вернул ему веру в людей. Даже здесь
нашелся человек, сердце которого открыто для правды.
И это сын Миркана! Какое бы решение ни принял Совет,
все равно справедливость пробьет себе дорогу. Время
отделит правду от лжи, как огонь отделяет серебро от олова,
как ветер отделяет зерно от плевел.
Внезапно в зале наступила тишина. Взгляды всех
устремились к Миркану.
— Велика вина Ганнона перед республикой, — начал
Миркан. — За подобные преступления других мы сразу
приговаривали к распятию на кресте. Но, чтя память Га-
милькара, я лишь предлагаю, чтобы Ганнон в месячный срок
вернул в казну взятые им деньги. В противном случае с
ним поступят по законам республики...
Шумные возгласы одобрения покрыли последние
слова суффета.
Медленно покинул Ганнон зал Совета. Площадь перед
зданием Совета, лишь час назад пустовавшая, теперь
была запружена народом. Бедняки Карфагена узнали, что
люди, которых Ганнон повез за Столбы, счастливы. Теперь
они пришли просить Ганнона отвезти их туда же. Весть,
что Совет Тридцати осудил их любимца, уже разнеслась
по площади. В толпе поднялся ропот, перешедший в дикий
гул. Тысячекратные крики подобно грому разносились по
площади. Откуда-то появились стражи. Они шли на
толпу, выставив острия копий.
Огромная толпа, как море в час отлива, медленно, с
глухим шумом откатывалась на соседние улицы. На
опустевшей площади остался лишь один пророк Эшмуин, которого
стражники не решились тронуть. Простирая вперед руку,
сухую и узловатую, как ветвь смоковницы, пророк кричал:
— И свернутся небеса, как свиток папируса! Звезды
упадут, как увядший лист! Земля обветшает, как одежда!
Переполнилась чаша гнева! Горе тебе, Карфаген!
ВСТРЕЧА В ПОРТУ
Ганнон сидел на коврике спиной к двери. В
"Серебряном якоре", как и пять лет назад, было людно. Изредка
Ганнон ловил взгляды незнакомых ему людей. В них не
220
было недоброжелательности. С жалостью и сочувствием
смотрели матросы и ремесленники на человека,
пытающегося утопить свое горе в амфоре вина.
Через открытые двери таверны доносился плеск волн,
крики, грохот сбрасываемых на землю ящиков. И вдруг эти
звуки заглушил колокольный звон. Дозорные извещали о
прибытии корабля.
Встречать входящие в гавань корабли с недавних пор
стало привычкой Ганнона. Заслышав удары колокола, он
шел к причалам. Стоя в стороне, он молча смотрел, как
корабль приставал к берегу, как спускали доски, как по
ним сходили моряки. По запаху и другим знакомым ему
приметам Ганнон определял, откуда пришел корабль. Гау-
лы из Египта и страны Ханаан пахли нардом1. Триеры из
Италии приносили в гавань удушливую вонь овчинных шкур
и запахи сосновой смолы. Сицилийские корабли пахли
серой и рыбой. Кипрские суда источали аромат кипариса,
которым стелют пол, и кедра, которым покрывают стены.
Когда разгрузка заканчивалась и сходни поднимались
на борт, Ганнон, волоча по земле ноги, возвращался домой
или шел к своей амфоре в "Серебряный якорь". Что его
заставляло встречать чужие корабли? Если бы его об этом
спросили, Ганнон, наверное, не смог бы объяснить. "Сын
бури" погиб у Кум на его глазах. Но была ли Синта на
корабле во время сражения? Этого Ганнон не знал. В
глубине души еще теплилась надежда, что его любимая жива.
И он жил этой надеждой.
Вот и теперь, оставив недопитым вино, Ганнон встал и
пошел навстречу кораблю, рассекающему черные воды Ко-
фона своим крутым носом. Это была купеческая гаула,
широкая, с глубокой осадкой. Такие корабли ходили по
волнам Внутреннего моря от Тира до Массилии. Ганнон
наблюдал, как матросы, ловко поймав канаты, заматывали
их вокруг свай, как корабль подтянули к берегу и
укрепили сходни. По одежде и говору моряков Ганнон догадался,
что гаула прибыла из Гадира. Ему вспомнилось то
счастливое время, когда ликующий Гадир встречал его корабли.
Ганнон бросил взгляд на трап. По нему спускались
чернокожий мальчик и худой, бледный юноша в просторном
плаще с чужого плеча.
1 Нард — растение, из которого на Востоке изготавливали
ароматное масло.
221
Тискон!" Ганнон бросился навстречу другу. Оба
обнимались и плакали от счастья.
— А Синта? Где же Синта? — нетерпеливо
спрашивал Ганнон.
И вот он уже слышит о том, что произошло на палубе
захваченного пиратами корабля.
— Она просила передать тебе, что позор не коснулся
ее! — Гискон едва сдерживался, чтобы не зарыдать.
Веки Ганнона опущены, губы плотно сжаты. Только по
побелевшим кончикам пальцев, сжимавших край стола,
можно догадаться об охвативших его чувствах.
— Итак, после Хреты Мастарна повел корабль сразу
на север? Но как этруск заставил своих гребцов снова сесть
за весла?
Гискон рассказал о том, как Мастарна высадился на
берег, как вероломно захватил чернокожих.
Ганнон взглянул на Дауда:
— И он был среди них?
Гискон кивнул:
— Да, и он. Мы вместе с ним переносили и голод и
боль. Рабство сделало меня и Дауда братьями.
Чернокожий мальчик улыбнулся, показав белые, как
морская пена, зубы.
— Дауд и Гискон — братья, — сказал он, медленно
выговаривая слова.
— Я обещал Дауду помочь вернуться на родину...
— На родину... — в раздумье повторил Ганнон. —
Помнишь, Мидаклит рассказывал о моряках, позабывших
родину. Они выпили сок лотоса и опьянели. Какие только
вина я ни пью, но не могу забыть мою родину! Но я не
могу и забыть о том, как она ко мне несправедлива.
Ганнон тряхнул головой. Казалось, он хотел сбросить
тяжелые мысли, захлестнувшие его.
— А мы гнались за какой-то гаулой, приняв ее за "Сына
бури", — сказал он вдруг. — Вам она не встречалась?
— В море нет, — ответил Гискон, — но я видел ее в
Гадире. Это персидский корабль.
— Удивительно! — промолвил Ганнон, после того как
Гискон рассказал ему о Сатаспе. — Прихоть деспота погнала
его туда, где не бывал еще ни один моряк. Судьба была
благосклонна к этому персу. Его пощадила буря, а к нам боги
были беспощадны. Мы с тобой остались одни. Одни!
222
ЗОВ ОКЕАНА
В последний раз Ганнон оглянулся на город, на его
кровли и купола, на протянувшуюся по откосу холмов ленту
стен. Там прошли его детство и юность, там созрела его
душа для подвигов и любви. Там он впервые встретил Синту
и там же узнал о ее гибели. А теперь... Никогда еще ему
Карфаген не казался таким чужим и далеким.
Вчера к нему пришел Шеломбал. Ему удалосъ узнать
о коварных замыслах Магарбала, в руках которого суффет
Миркан был лишь игрушкой. Великий жрец обвинял Ган-
нона в кощунстве. В последние дни Стратон обходит
советников, рассказывая каждому, что он видел на корабле
Ганнона жрицу Танит — Синту, что Ганнон вопреки воле
жреца основал храм в ночь после затмения. Магарбал
рассчитывает, что Ганнон не сможет опровергнуть эти
обвинения. Да и кто поверит человеку, уже однажды
обличенному в обмане! Кто из знатных станет на его защиту?
Разве они забыли, что отец Ганнона, Гамилькар, пользовался
почти царской властью.
Шеломбал советовал Ганнону не дожидаться судилища,
бежать в Утику, где он и его друзья смогут сесть на гау-
лу, отплывающую в Гадир.
Что ж, Ганнон выполнит совет Шеломбала. Океан...
Он уже слышал грохот прибоя, видел ярких птиц,
взлетающих с озер в розовое небо. На берегах Внешнего моря
его ждут колонисты. На губах Ганнона улыбка...
Эта улыбка напомнила Гискону прежнего суффета,
сильного и отважного. Во взгляде его — блеск незнакомых звезд,
в руках — крепость ползучих растений, оплетавших
огромные стволы. За таким человеком можно идти хоть в
царство теней. Чувство любви к Ганнону переполнило все
существо Гискона. "Что я знал и видел до встречи с ним?" —
думал юноша.
И вот они идут по дороге в Утику.
Дауд напевает песню на своем никому не понятном
языке. Зубы его сверкают, как жемчужное ожерелье. Таких
веселых песен Дауд еще не пел ни разу с тех пор, как
белолицые люди увезли его на крылатой лодке. Он поет об
огромных хижинах, которые выше жилищ белых муравьев, об
удивительных вещах, которыми обладают обитатели этих
хижин. Он поет и радуется тому, что его руки свободны от
223
гремящих веревок, что над его головой нет каменной
стены, а небо такое же светлое, как на его далекой родине. Он
поет о матери и отце, братьях и сестрах. Он скоро увидит
их и расскажет обо всем, что узнал и пережил!
Ганнон остановился:
— Ты знаешь, Гискон, Шеломбал вчера рассказал о
судьбе этого перса Сатаспа. Евнух, что был с ним на
корабле, выдал обман Сатаспа, и Ксеркс приказал казнить его.
— Значит, тебе еще посчастливилось, — отозвался
юноша. — Ведь и тебя отцы города объявили
обманщиком. И тебя они не прочь казнить.
Ганнон махнул рукой. Этот жест означал и презрение
к людям, захватившим в Карфагене власть, и уверенность
в своей правоте. Нет, он еще вернется в Карфаген, но не
один. Золото Керны даст ему корабли и наемников. Это
золото принесет ему власть, а его родине — могущество.
И снова они идут по дороге в Утику, двое карфагенян
и чернокожий мальчик.
Вечерело.
Мелькарт прятал в ножны свей огненные мечи.
ОТ АВТОРА
Наш рассказ о Ганноне карфагенянине окончен. Какова
же его дальнейшая судьба? Удалось ли Ганнону уйти от
своих преследователей и достигнуть основанных им
колоний? Вернулся ли Ганнон в Карфаген?
Это я предоставляю решать вам, мои читатели. И, если
вы это сделаете, ни я, ни кто-либо другой не сможет
сказать, что вы ошиблись.
О судьбе Ганнона нам ничего не известно, память о нем
стерлась, как пенистый след его кораблей. Мы не знаем, был
ли у него маленький друг Гискон и учитель Мидаклит.
Ученые даже спорят о том, был ли Ганнон суффетом. А между
тем о подвиге Ганнона до нас дошло больше сведений, чем
о каком-либо другом плавании древних. Ведь сохранился
перипл — описание морского берега Западной Африки —
в греческом переводе. Из этого документа ученые узнали,
что Ганнон повел шестьдесят кораблей за Столбы Мелькар-
та и основал на побережье современного Марокко семь
карфагенских колоний. Крайней из этих колоний была Керна,
расположенная на маленьком островке в глубине большого
залива. Из Керны Ганнон на нескольких кораблях
совершил плавание к югу, достигнув мест, где до него не бывал
ни один мореход. Это было плавание, которое можно
сопоставить с величайшими открытиями нового времени.
Без сомнения, соотечественники Ганнона хорошо
знали о мореплавателе и гордились им.
Нам известно, что в одном из храмов Карфагена
сохранялись шкуры диковинных животных, так удивительно
похожих на людей. Их привез Ганнон. Это были шкуры
огромных обезьян — горилл, о которых европейцы узнали
лишь в XIX веке.
В 146 году до н. э. огромный, культурный город
Карфаген был безжалостно сожжен и разрушен римскими
завоевателями. Семнадцать дней горел Карфаген. Рушились
арки и своды храмов, возведенные руками трудолюбивых
финикийских строителей, гибли здания, простоявшие
сотни лет и достойные того, чтобы стоять еще века. Пламя,
поглотившее храм Танит, где хранились шкуры
диковинных чудовищ, не пощадило и свитков, в которых
содержался рассказ о жизни Ганнона. Но оно не могло
уничтожить память о великом подвиге этого карфагенского моря-
225
S 532
ка. Ученые того самого народа, который безжалостно
уничтожил прекрасный город Карфаген, с восхищением
говорили о Ганноне-мореплавателе. Они даже преувеличивали
его заслуги. Известный римский естествоиспытатель
Плиний Старший, погибший при извержении Везувия в 79
году н. э., утверждал, что Ганнон обогнул Африку и достиг
Аравии. И, как ни странно, эта ошибка сыграла свою
положительную роль в истории географических открытий.
В XV веке, через две тысячи лет после плавания Ган-
нона, в маленькой стране Португалии, расположенной на
берегу частично принадлежавшего когда-то Карфагену
Пиренейского полуострова, жил юный принц Генрих. В
отличие от других принцев, интересовавшихся только
рыцарскими турнирами и придворными красавицами, Генрих
любил читать старинные рукописи. И вот однажды ему
попалась "Естественная история" Плиния Старшего.
Просматривая ее, он натолкнулся на рассказ о карфагенском
моряке Ганноне, которому удалось обогнуть Африку и
достигнуть Аравии. Генриху было хорошо известно, что из
Аравии лежит путь в Индию, страну сказочных богатств.
Ведь через Аравию шли индийские караваны,
доставлявшие в Европу перец и корицу, золото и драгоценные
камни. Значит, если пойти по пути Ганнона, можно
достигнуть Индии морем и захватить богатства этой страны.
И Генрих посвятил свою жизнь решению этой задачи.
В течение более чем сорока лет он отправлял экспедицию
за экспедицией к берегам, где впервые побывал Ганнон.
Португальцам было легче, чем их предшественникам —
финикийцам и карфагенянам. У португальцев был уже
компас и более точные карты. Их главный город,
Лиссабон, находился всего лишь в одном дне плавания от мыса
Солнца, до которого Ганнон мог добраться лишь за десять
дней. И все же принц Генрих, прозванный
Мореплавателем, умер раньше, чем португальские корабли достигли
Южного Рога, близ которого плыл Ганнон.
Вот почему подвиг Ганнона был так высоко оценен в
новое время, когда уже на земле почти не было "белых
пятен."
Десятки книг и статей написаны учеными по поводу
того, какие современные географические пункты
соответствуют упоминаемым в перипле Ганнона Ликсу, Южному
Рогу и Западному Рогу, Колеснице богов. Но ни одна из
этих книг не расскажет вам о том, какие трудности встре-
226
тились мореходам, что они чувствовали, что они
переживали, о чем они между собой говорили, о чем думали.
И мне захотелось написать именно такую книгу.
История сохранила лишь одно имя Ганнона и рассказ о
его плавании. А ведь нужно было наделить мореплавателя
мыслями, чувствами, сделать Ганнона живым человеком.
Хорошо известная по описаниям древних авторов
битва при Гимере в 480 г. до н. э. была для меня гаванью, из
которой я повел своих героев в путь по неизведанным
морям. Битва при Гимере не только дала обоснование цели
экспедиции Ганнона, но и помогла нарисовать образ
самого морехода и его спутников.
Карфагенское войско под Гимерой возглавлял суффет
Гамилькар. В повести рассказано почти все, что известно
о Гамилькаре. Да, его отцом был Магон, а матерью —
гречанка из Мессаны. После поражения при Гимере
Гамилькар бросился в огонь жертвенника, и в Карфагене ему был
воздвигнут памятник. Ученым также известно, что сыном
Гамилькара был Ганнон. Это и позволило ввести героя в
гущу политической борьбы в Карфагене после Гимеры,
показать соперничество враждующих родов и последующий
упадок рода Магонидов, возвышение жрецов храма Танит.
А как возник образ маленького друга Гискона?
Древние писатели сохранили рассказ о бедняках Карфагена,
которые продавали своих детей богачам, желавшим принести
кровавую жертву богам. Археология подтвердила
справедливость этого рассказа. В 1921 году на месте бывшего
Карфагена археологами были раскопаны подземелья храма
Танит и обнаружены сотни глиняных сосудов, на дне
которых сохранились детские кости. А почему не мог
Ганнон спасти какого-нибудь мальчика от этой участи и взять
его с собой? Так появился образ Гискона.
И для создания образа учителя Ганнона, грека Мидак-
лита, тоже существовали некоторые реальные предпосылки.
В V веке до н. э., когда Ганнон совершил свое плавание,
связи греков с океаном были прерваны. Столбы Мелькар-
та находились в руках Карфагена. Современник Ганнона,
греческий поэт Пиндар, даже утверждал, что проникнуть
за Столбы Мелькарта вообще невозможно. И в то же самое
время история сохранила имя одного грека, побывавшего
в океане в V веке до н. э. Имя этого грека — Мидаклит.
Зная о том, что в V веке многие греки жили в Карфагене,
я соединил судьбу Ганнона и Мидаклита, исходя из того,
227
что грек мог побывать в океане лишь с согласия
карфагенян. Устами Мидаклита я попытался высказать мысли,
которые развивали греческие философы-материалисты того
времени. Они высоко ценили культуру Востока и учились
у египтян, вавилонян, финикийцев. Уже в то время они
пришли к убеждению, что Земля имеет форму шара.
Вас, мои читатели, наверное, интересует,
существовала ли страна Атлантида, о которой так много думал грек
Мидаклит. Об Атлантиде сообщает греческой философ
Платон, ссылаясь на рукопись афинянина Солона,
слышавшего об Атлантиде от египтян. Многие ученые склоняются к
мысли, что в основе предания об Атлантиде лежит
реальное существование какого-то большого острова, затонувшего
в океане. Основываясь на этом, я и рассказал об обломке
Атлантиды, маленьком острове, к берегам которого был
заброшен корабль Ганнона. В перипле Ганнона
действительно описывается вулкан Колесница богов. Его трудно
отождествить с какой-либо вершиной на африканском берегу,
и скорее всего Колесница богов находилась на острове.
Ганнон был человеком рабовладельческой эпохи. В его
сознание не укладывалось, что человечество сможет когда-
нибудь обойтись без рабства. Помните, как он говорит в
повести: "Мир — это корабль. Одним боги
предназначили быть внизу и до самой смерти поднимать и опускать
тяжелые весла. Другим уготовили места наверху... Так было
всегда, и так будет, покуда стоит мир".
И если мы не знаем о судьбе Ганнона, то нам известна
судьба основанных им колоний. Они вскоре были
разрушены местными племенами. Такая участь впоследствии постигла
и других завоевателей, сменивших карфагенян, — римлян.
Остатками их былого могущества являются развалины
городов, полузасыпанных песками. Однако подвиг отважных
мореходов, впервые открывших западный берег "черного
материка", не может не вызвать у нас чувство восхищения.
Мужественные и стойкие карфагенские мореплаватели
показали путь другим первооткрывателям Земли.
Александра Усова
МАЛЕНЬКИЙ
ГОНЧАР
ИЗ
АФИН
© Б. Косульников
© А. Усова
В МАСТЕРСКОЙ
ГОНЧАРА ФЕОФРАСТА
Было раннее утро. Солнце, еще не жаркое, не
обжигающее лучами, медленно поднималось над древними
Афинами1. Оно осветило стены Акрополя2 и скользнуло
дальше по блестящим белым колоннам Пропилеев3. Лишь на
короткое время лучи его задержались, словно
восхищенные красотой постройки, на чудесном храме богини Девы
и скользнули дальше за край небольшой тучки,
скрываясь за облаком.
Легкий утренний ветерок, в котором ясно чувствовалось
приближение весны, пробежал по верхушкам гранатовых
деревьев и затих в кустах возле домов.
На пригородных улицах Афин давно уже слышался
громкий крик ослов и мулов, на которых жители
окрестных селений везли на торговую площадь города —
агору — вино, ячмень, овощи и фрукты.
1 Афины — главный город Аттики, области на юго-востоке Греции.
2 Акрополь — крепость города, возвышенная и укрепленная часть его,
где находились замечательные постройки Афин: храмы богини Афины,
Эрехтея и богини победы Нике, а также вход в Акрополь.
3 Пропилеи — вход в афинский Акрополь.
231
Афинские ремесленники — каменщики, кожевники,
сапожники, литейщики, кузнецы и кондитеры — обгоняли эти
повозки селян, торопясь на работу в мастерские,
расположенные неподалеку от агоры.
Одетые в льняные хитоны1, они шли по улицам с
непокрытой головой, зябко поеживаясь от утренней
свежести.
Литейщики шагали быстрым, размеренным шагом,
широко размахивая мускулистыми руками, привычными к
тяжелому молоту.
Весельчаки и шутники кондитеры шли, улыбаясь
встречным прохожим, обмениваясь на ходу с друзьями
приветствиями и шутками. Их светлая одежда хранила на себе
следы теста и аромат свежеиспеченных медовых лепешек и
пирожков, который жадно вдыхали дети, стоявшие у края
дороги.
Зато сапожники несли с собой едкий острый запах
кожи, из которой они шили обувь. Этот запах был настолько
стойким, что долго еще оставался в воздухе, когда
сапожники уже были далеко.
Внезапно громкие голоса, послышавшиеся из-за
поворота улицы, привлекли к себе внимание прохожих. Какой-
то человек в рваной одежде выбежал из-за угла и,
испуганно оглядываясь по сторонам, побежал вверх по улице.
Несколько мужчин, гнавшихся за ним, осыпали его бранью
и проклятиями.
Торговка рыбой, спешившая со своим товаром на
торговую площадь, остановилась и с любопытством посмотрела
на бежавших людей.
— Отец, — обратилась она к старику, стоявшему
возле одного из домов, — не знаешь ли ты, за кем гнались
эти люди?
Старик покачал головой:
— Я не знаю этого человека, но не сомневаюсь, что это
был беглый раб, спешивший к храму на агоре, чтобы
отдать себя под защиту божества...
— Почему ты так думаешь? — спросил его
ремесленник, проходивший мимо.
— Человек бежал прямо к храму Тесея!..2 Разве ты не
1 Хитон — длинная одежда, перехваченная поясом.
2 Храм Тесея был прибежищем беглых рабов. Человек, "отдавший
себя под защиту божества", считался неприкосновенным в храме.
232
обратил на это внимания? — ответил старик. — Да и
одежда на нем была грязная и рваная — такую одежду носят
только рабы. Кроме того, я успел заметить несколько
рубцов на его теле. Это были следы от ременной плетки.
— Ты прав, — согласился ремесленник.
В это время новое происшествие обратило на себя
внимание прохожих.
Дверь дома башмачника Менандра с шумом
распахнулась. Небольшой узелок, брошенный кем-то, упал прямо на
пыль каменистой улицы. Вслед за узелком волосатая рука
башмачника вытолкнула за дверь дома мальчика лет
четырнадцати в заплатанной хламиде и рваных сандалиях.
— О, не гони меня, Менандр! — громко протестовал
мальчик. — Где же теперь я буду жить? Дай мне сказать
тебе...
Но дверь с шумом захлопнулась.
Мальчик некоторое время растерянно постоял возле
дома. Потом он стал яростно стучать в дверь кулаками,
крича с отчаянием в голосе:
— Открой, Менандр! Ты ведь даже не захотел отдать
мне вещи моей матери!
233
— Оглох ты, что ли, сосед? — подошел к дому
башмачника каменщик Геронтий. — Открой мальчишке дверь
и отдай немедленно ему вещи, о которых он говорит! Если
ты этого не сделаешь, Менандр, то, клянусь богами, будешь
иметь дело со мной! А я уж сумею заставить тебя
поступить как нужно!
В ответ на эту угрозу дверь в доме башмачника слегка
приоткрылась, и на улицу выглянуло бородатое лицо
Менандра.
— А тебе-то какое дело до этого мальчишки? — с
гневом спросил башмачник. — Ты поступил бы много умнее,
если бы не совал носа в чужие дела!
Башмачник резко обернулся в сторону подростка,
которого он выгнал из дома.
— Ступай прочь отсюда, бездельник, — прохрипел он, —
и запомни: даром держать тебя в своем доме я не стану!
И без того перед смертью твоя мать задолжала мне за угол
три драхмы!1 С кого теперь я их получу! Я не богач! У
меня у самого дети! Какое дело мне до тебя!
— Обожди, не горячись, Менандр! — обеими руками
ухватился за дверь мальчик. — Ведь вчера вечером я уже
отдал тебе в уплату долга десять оболов!..2 Это было все,
что я имел, что заработал за неделю. Клянусь Афиной, у
меня больше не осталось ничего... Я не могу даже купить
себе ячменную лепешку!
— К чему ты мне говоришь все это? — пожал
плечами башмачник. — Я тебе ясно сказал: пока ты не
заплатишь мне полностью долга, я не отдам тебе тряпки твоей
матери! И не смей больше стучаться в дверь моего дома!
Я все равно больше не открою ее тебе! Уходи отсюда прочь!
— Нельзя быть таким жестоким, Менандр! — покачал
головой каменщик. — Пойми — мальчику теперь негде
приклонить голову на ночь. А ведь Архил недавно стал
работать в гончарной мастерской учеником у Феофраста.
Мастер Пасион доволен им. Я уверен, что Архил скоро
выплатит тебе долг. Оставь мальчика на время у себя! Ведь у
тебя самого есть дети! Да и дом у тебя поместительный —
хватит в нем места для всех!
— Клянусь собакой3 — очень легко быть добрым и ми-
1 Драхма — денежная серебряная монета в древней Элладе.
2 Обол — также монета, только более мелкая.
3 Иногда афиняне, избегавшие клясться богами, клялись животными.
234
лосердным за счет других! — грубо усмехнулся
башмачник. — Я могу сам дать тебе совет: бери мальчишку к
себе и корми его бесплатно. Ты ведь такой добрый!
Дверь снова закрылась. Прохожие понемногу стали
расходиться. Каменщик и мальчик остались одни.
— Не горюй, Архил, — ласково сказал каменщик, —
мы что-нибудь придумаем. Вечером приходи ночевать ко
мне. Тесновато, правда, в доме у меня, но место для тебя
найдется. А теперь беги в свою гончарную мастерскую.
Каменщик скрылся за углом. Архил уныло пошел вдоль
улицы, прижимая к груди узелок.
— Геронтий неплохой человек, — услышал он голос за
спиной, — плохо только то, что он сам бедняк и что у
него в доме не часто едят бобовую похлебку.
Архил обернулся.
Это был приятель его, уличный фокусник Клеон, с
детских лет разделявший с ним все его мальчишеские
радости и горести.
— Не падай духом! — хлопнул Клеон Архила по
плечу. — Хочешь, я поговорю со своей матерью? Она
наверняка разрешит тебе ночевать у нас, пока ты не найдешь
для себя жилье.
— О нет, Клеон, не говори матери ничего! — перебил
друга Архил. — У нее и без меня много забот. Я лучше
попрошу нашего старого раба Анита. Он, может быть,
разрешит мне ночевать в пристройке к мастерской, где
ночуют рабы хозяина.
— Скажи, Архил, — первым нарушил молчание
Клеон, — не легко месить ногами глину, а после лепить из нее
плошки, гидрии1 и кувшины?
Архил ответил не сразу.
Не ожидая его ответа, фокусник задумался уже о
другом.
— Признайся откровенно... — взглянул он пытливо на
приятеля, — хозяин мастерской часто бьет тебя?
— Что-о?.. — вспыхнул от негодования Архил. — Да
разве позволил бы я бить себя кому-нибудь! Плохо же ты
знаешь меня!
Уже произнеся эти слова, мальчик смутился, вспомнив
0 тумаках, которыми наградил его в это утро башмачник
Менандр.
1 Гидрия — сосуд для воды.
235
— Я потому спросил тебя об этом, — поспешил
оправдаться Клеон, заметив гаев и смущение приятеля, — что
слышал много раз, как бьют в ремесленных мастерских
хозяева и мастера-феты1 своих учеников...
Архил хмуро молчал.
— Вот потому-то я и не хотел работать учеником ни в
одной из ремесленных мастерских! — продолжал Клеон. —
То ли дело — ходить по улицам города с ковриком и со
змеей! Я не знаю никаких хозяев, никаких мастеров. Я сам
себе хозяин. Так я и отцу сказал, — добавил он весело. —
И отец согласился со мной, даже купил мне змею.
Архил рассеянно слушал друга. Он думал о словах Кле-
она.
— Знаешь, Архил, — переменил Клеон тему, —
бывают дни, когда я неплохо зарабатываю! В такие дни я
приношу матери с агоры то десять, а то и больше оболов!
— Но бывает, что ты ничего не приносишь, — хмуро
перебил его Архил.
— Бывает, — добродушно согласился Клеон.
— Чем же тут хвастаться! — упрекнул его приятель. —
Вот каменщик Геронтий мне не раз говорил, что всякому
человеку нужно знать какое-нибудь ремесло, чтобы иметь
крышу над головой и не голодать... Наверное, поэтому он
и предложил мне пойти работать учеником в гончарную
мастерскую. Я не жалею о том, что послушался его и
нанялся туда: научусь делать из глины всякую посуду и стану
хорошим гончаром!
Клеон не обратил внимания на его слова.
— А знаешь, Архил, что пришло мне в голову? —
внезапно оживленно воскликнул он. — Не отправиться ли нам
с тобой с одним из кораблей на остров Эвбея? Мне
говорили, что жители этого острова любят фокусников и
заклинателей змей. Я там смог бы заработать немало денег!
— А что бы стал делать я на Эвбее? — улыбнулся
Архил.
— Ты? А разве ты не умеешь ходить по канату? —
удивился Клеон. — Ты всегда делал это лучше всех мальчи-
1 Феты — бедняки ремесленники, работавшие по найму у хозяев в
ремесленных мастерских, в порту и гребцами на кораблях. Феты имели
в Афинах права гражданства, но не могли быть избираемыми на
государственные должности. Фетов избирали только на должность гели-
астов в суд присяжных.
236
шек на нашей улице. И потом ты знаешь столько хороших
песенок! Ты не был бы голодным на Эвбее, я уверен! —
заглянул он в лицо приятелю.
Но лицо Архила больше уже не улыбалось. И,
смущенный его серьезностью, Клеон сразу умолк.
— Глупая затея! — неожиданно для Клеона проговорил
Архил.
— Почему же глупая? — обиделся фокусник.
— Да так! — продолжал Архил. — Зачем мне ехать с
тобой на остров Эвбея? Я привык работать в гончарной
мастерской, полюбил делать из глины керамос1. Ты даже не
можешь представить себе, Клеон, — оживился мальчик, —
как приятно видеть, когда в твоих руках кусок сырой
глины превращается постепенно то в гидрию, то в
какую-либо другую посуду, нужную в хозяйстве! А недавно мастер
Пасион сказал мне: "Работай прилежно, мальчик, —
скоро я дам тебе нашу лучшую глину и научу тебя делать из
нее дорогие сосуды-амфоры и вазы". Ведь такой керамос
после разрисовывает в нашей мастерской художник Алки-
ной! Подумай только! Как хорошо нужно сделать вазу из
глины, чтобы он взял ее для разрисовки!
Клеон ничего не ответил. Увлечение приятеля своей
работой в горшечной мастерской было непонятным для него.
— Чудак! — пробурчал фокусник. — Ведь как хорошо
ты ни научился бы делать керамос из глины, все равно
хозяин не станет платить тебе за твою работу больше
оболов, чем платит теперь, да и угол тебе для ночлега он не
даст! Нет, такая работа не по сердцу мне! Я согласился бы
лучше на твоем месте поехать на остров Эвбея, чем до
поздней ночи вертеть гончарный круг и жить всегда голодным.
Поедем со мной, Архил! Не пожалеешь! На Эвбее мы
заработаем с тобой много больше, чем здесь, в Афинах!..
А какой виноград там растет, на острове! — неожиданно
восторженно сказал Клеон. — Какие чудесные румяные
яблоки привозят к нам оттуда — объедение! Поверь моему
слову. Однажды я попробовал такое яблочко.
Но Архил продолжал молчать, равнодушный к
восторгам своего друга.
1 Керамос — изделия из обожженной глины, которыми славились
древние Афины. Ремесло гончаров и художников по разрисовке глиняной
посуды и ваз не считалось почетным в древней Греции, хотя им часто
восторгались. И гончаров презрительно называли горшечниками.
237
— Нет! Это все пустое! Мне хочется совсем другого
добиться в жизни... — наконец задумчиво произнес он.
— Чего же? — удивился Клеон. — Стать хорошим
горшечником?
— О нет, совсем не этого! — отозвался Архил. — Об
этом нечего мечтать — это придет само собой, если я
буду усердно работать, а вот знаешь, Клеон, — сказал он,
немного подумав, — есть у нас в Афинах такие школы для
подростков, как мы с тобой. Там учат мальчиков всяким
гимнастическим упражнениям: прыгать с шестом, метать
диск и копье, учат борьбе и быстрому бегу.
— Слыхал я о таких школах. Они как будто бы
называются гимнасиями? — сказал, махнув рукой, Клеон. — Но
я и без школы умею неплохо прыгать, бросать обручи и
ходить по канату, а борьба мне не нужна вовсе! Но для
чего же все-таки в гимнасиях обучают юношей всему
этому? Наверное, готовят из них хороших воинов? —
заинтересовался он.
— Да, ты не ошибся, — подтвердил Архил. — И они
выходят из школы закаленными, смелыми и ловкими.
Иногда такие юноши участвуют в состязаниях на празднествах...
Да ты должен помнить это. Мы с тобой однажды были на
состязаниях афинских юношей в Коринфе!
— Помню! — кивнул головой Клеон. — Но разве легко
попасть учеником в такую школу? Нет, не так-то просто.
— В том-то и дело, что это не легко! — отозвался
охотно Архил. — Я давно уже мечтаю попасть в такую школу,
но мне говорили, что для меня, бедняка, это почти
невозможно. Там учатся только сыновья богатых родителей. За
обучение в такой школе ведь нужно платить немало драхм!
— О, какой же ты глупец! — рассмеялся добродушно
Клеон. — Ты мечтаешь попасть в гимнастическую школу,
где обучаются богачи! Но кто же будет платить за тебя туда
драхмы? Подумал ты об этом?
Архил нахмурился. Его приятель был прав.
— Не будем больше говорить об этом, — сказал
Архил после короткого молчания, — и забудем о наших
мечтах. Продолжай лучше бродить по городу с твоим
ковриком и со змеей, а я с утра до ночи буду по-прежнему
вертеть гончарный круг! Вот и все.
За разговором друзья незаметно подошли к торговой
площади, в другом конце которой находилась гончарная
мастерская.
238
— Прощай, Клеон! — произнес Архил. — Мы с тобой
теперь не скоро увидимся. — Не оборачиваясь, он понуро
пошел по дороге.
Клеон с грустью смотрел вслед другу. Звать его к себе
он больше не решался, а придумать, чем помочь ему в
беде, он никак не мог.
* * *
Торговая площадь Афин — агора — была полна народа.
Торговцы располагались с товаром на отведенных для
них местах: продавцы свежей рыбы и мяса спешили в
мясные и рыбные ряды, торговцы овощами и фруктами
направлялись со своими повозками поближе к одному из храмов,
рассчитывая на то, что тень от колонн закроет от палящих
лучей солнца сочный золотистый виноград, фиги и яблоки.
Архил невольно замедлил шаги, проходя мимо этих
повозок с плодами. Он видел, как виноделы подкатывали
бочонки с виноградным вином к своему ряду, где их уже
поджидали нетерпеливые покупатели, спешившие обменять на
вино звенящие оболы. Шум и говор людских голосов все
увеличивались, смешиваясь с криками мулов и ослов, с
которых хозяева снимали мешки с ячменем и корзины с
рыбой и овощами.
Бродячие торговцы, предлагавшие прохожим жареную
рыбу, бобы и румяные ячменные лепешки, ловко и быстро
сновали в толпе с веселыми шутками, громко расхваливая
свой товар.
Архил торопливо шел по агоре, пробираясь в толпе к
мастерской. Мальчик теперь уже старался не смотреть на
соблазнительные, прохладные, желтевшие на солнце
гроздья винограда, на куски жареной рыбы, на румяные
ячменные лепешки. Запах жареной кефали заставлял его
ощущать еще мучительнее чувство голода, терзавшее его с
утра. Но о том, чтобы купить ячменную лепешку или хотя
бы небольшую кисточку винограда, нечего было и думать!
Он уплатил вчера Менандру в счет старого долга свой
недельный заработок, и теперь приходилось забыть о голоде
до позднего вечера, когда после работы он сможет поискать
здесь, на агоре, среди отбросов, выброшенные торговцами
овощи и фрукты, а если посчастливится, то и кусочек
рыбы, брошенный покупателем.
На одно мгновение мальчик остановился, пропуская ми-
239
мо повозку, которую тащили два тощих мула. В это время
луч солнца, выглянувший из-за облака, ярко осветил белые
колонны храмов в Акрополе, видневшихся на высоком
холме. И Архил невольно залюбовался ими.
"Как хорошо было бы вместо того, чтобы спешить в
мастерскую, пойти бы теперь вверх по той дорожке, где идут
путники в Акрополь, чтобы вместе с ними посмотреть на
храм богини Афины!" — пронеслось в голове у юного
гончара. Немало рассказов в мастерской Феофраста слышал он
об этом новом, чудесном храме, недавно построенном в
Акрополе, где знаменитый афинский ваятель Фидий поставил
свою чудесную статую богини Девы, сделанную из золота и
слоновой кости. Люди приезжают теперь в Афины
издалека, чтобы только посмотреть на эту статую, а он, афинянин,
до сих пор еще не видал ее! Но когда и как мог он пойти
посмотреть на статую богини? Ведь каждый день он должен
был работать в гончарной мастерской от зари до зари.
Архил только с досадой махнул рукой и стремительно
побежал по торговой площади дальше, вспомнив, что
запаздывает на работу.
Когда Архил пересекал площадь, два всадника
преградили ему дорогу, и он снова вынужден был остановиться.
Красота лица и богатая одежда одного из этих всадников
привлекли к себе его внимание, но разглядеть как следует
этого воина он не успел, так как тот хлестнул плетью своего
коня и поскакал дальше, пропустив встречную повозку.
— Какой красавец этот Алкивиад! — громко заметил
винодел, мимо лавчонки которого проходил Архил. —
Никто в Афинах не может сравниться с этим счастливчиком
щедрыми дарами, которыми наградили его боги! Мало
того, что он знатен, богат и красив, он еще обладает таким
красноречием, что даже дядю своего способен бывает
затмить, когда выступает на народных собраниях!
— А кто же его дядя? — спросил Архил у винодела. —
И кто он сам?
Но винодел не успел ответить. Его отвлекли покупатели.
— А ты, юноша, разве не знаешь этого эфеба?1 — с
улыбкой спросил у Архила проходивший мимо продавец
ячменных лепешек. — Ведь его знают все Афины! Весь
народ восторгается его щедростью и красотой!
1 Эфеб — юноша, достигший совершеннолетия (восемнадцати лет).
Эфебы несли службу воинов в Афинах по охране границ.
240
— Нет, я не знаю его! — покачал головой Архил. —
Прошу тебя, скажи мне его имя.
Но продавец лепешек уже скрылся в толпе. Архилу
ничего больше не оставалось, как только бежать дальше.
Мучительное чувство голода не оставляло его.
— Опять ты, лентяй, приходишь последним на
работу, — грубо встретил своего ученика хозяин, стоявший у
входа в гончарную мастерскую. — Придется мне, как
видно, попробовать на твоей спине мою новую плетку. Ты этого
дождешься!
Архил молча уселся за свой гончарный круг и стал
вращать его, придавая куску сырой глины форму сосуда.
Мастер, сидевший напротив, только бросил в его
сторону сердитый взгляд.
— Меньше по сторонам зевай! — пробурчал он. —
Я сегодня дал тебе для работы хорошую глину. Старайся!
Заказ мы должны закончить до наступления вечера.
Иначе хозяин выполнит свою угрозу и попробует плетку на
твоей спине.
Архил и на это ничего не ответил, он только еще
проворнее стал крутить гончарный круг.
241
Пасион с невольной улыбкой отвернулся. Он любил
своего ученика и знал, что если Архил постарается хорошо
работать, то способный помощник не подведет его. Заказ
будет закончен вовремя.
— Взгляни, Алкиной, — подошел хозяин к столу
другого своего мастера-художника, — как ловко работает этот
мальчишка! Я слежу за ним и вижу, как быстро сырая глина
в его руках превращается в гидрию! Способный ученик у
Пасиона — работа так и горит у него в руках! Не зря я
взял его учеником, когда его привел каменщик Геронтий!
Мне думается, что со временем из него мог бы
получиться неплохой гончар. Но Архил не будет горшечником!
Я иначе решил судьбу мальчика.
— Иначе? — Алкиной с удивлением взглянул на хозяина.
— Да! Да! — повторил Феофраст, внимательно
рассматривая вазу, которую разрисовывал художник. — Мне в
моей мастерской нужнее будет второй художник, чем
второй гончар. Так что ты возьмешь к себе учеником Архила.
— Художником не всякий может быть, хозяин, —
сухо ответил Алкиной, — для этого человек должен получить
особый дар от богов.
— Ну, ну! — погрозил пальцем хозяин. — Я хорошо
знаю, что вы, художники, не очень-то любите открывать
другим тайны мастерства. Но все же Архила ты, Алкиной,
обучишь разрисовывать вазы и амфоры1. Я так уже решил.
Феофраст вышел во двор, где старик Анит привязывал
корзины с посудой к спине осла. Осел брыкался, не желая
стоять на месте.
— Если сам не можешь справиться с ослом, позвал бы
на помощь себе кого-нибудь, — сердито сказал Феофраст
старику. — Из-за тебя я могу опоздать на торг в Пирей!
— Сосед наш, гончар Никосфен, давно уже
отправился на торг, хозяин, — сказал вышедший из мастерской
Пасион, — так что ты поспеши.
— "Поспеши"! — повторил с досадой слова его
хозяин. — Все вы любите давать советы другим, а вот помочь
старику привязать корзины к спине осла ты не догадался.
Я из-за вашей нерадивости должен терпеть одни убытки!
Лодыри все вы и лентяи!
1 Амфора — сосуд, служивший часто для украшения жилища богатых
эллинов. Амфоры без художественной росписи часто употреблялись для
вина и оливкового масла.
242
— А что ты собираешься покупать в Пирее, хозяин? —
поспешил переменить разговор Пасион. — Неплохо было
бы купить еще одного взрослого раба в помощь старику
Аниту, чтобы растапливать печь для обжига и месить
глину. Анит становится уже старым, а мальчишка Скиф еще
слишком молод для такой тяжелой работы.
— Много болтаешь лишнего! — сурово прервал Паси-
она хозяин. — Недавно я купил в помощь Аниту
мальчишку-варвара. Пусть справляются вдвоем у печи! Да и
забота о рабах для моей мастерской — не твоя забота!
Запомни это. Смотри лучше за своим учеником, чтобы он не
болтался без дела.
Пасион пожал плечами и, ничего не ответив хозяину,
ушел снова в мастерскую и уселся за гончарный круг.
— Алкиной! — окликнул уже с улицы Феофраст
художника. — Ты остаешься за старшего! Смотри, чтобы работа
была вся окончена в срок! Завтра рано утром я повезу ке-
рамос в Пирей для отправки в Сицилию.
Подгоняя хворостиной осла, хозяин тронулся в путь.
Алкиной посмотрел вслед хозяину, затем поправил узкий
ремешок на голове и уселся поближе к свету за разрисовку
сосудов.
* * *
День близился к полудню. Работа в гончарной
мастерской шла как обычно. Пасион вращал без устали свой
гончарный круг, то и дело снимая с него готовые изделия и
отправляя их во двор для обжига. Архил старался не
отставать от него, хотя спина у него давно уже ныла от
усталости.
Алкиной сосредоточенно накладывал орнамент на
покрытую черным лаком вазу, рисунок на которой был уже
закончен. Роспись на этой вазе поражала своей красотой:
красноватая фигура фавна, играющего на свирели для двух
пляшущих нимф, отличалась художественностью рисунка
и тонкостью отделки.
Старик Анит, сняв с себя хитон и оставшись в одном
набедренном поясе, носил без устали к печи для обжига
керамики доски с глиняной посудой, которую делали
Пасион и Архил.
Невольник Скиф месил во дворе ногами глину для гон-
243
чаров. Мальчик очень устал, но об отдыхе он не
осмеливался даже думать, опасаясь сердитых окриков старого Анита.
Пряди густых, смоченных потом волос прилипли к его
худому, грязному лицу.
Только недавно варвар Скиф научился понимать язык
людей, с которыми работал, но это мало радовало его. Что,
кроме брани и угроз, слышал он от окружающих! Хозяина
он боялся, Анита за его окрики не любил, но больше всех
остальных недолюбливал он Архила, завидуя ему.
"Почему Архила никто не заставляет месить весь день
ногами глину? — подумал Скиф. — Хозяин жалеет его, он
любит этого мальчишку! Хозяин хочет сделать из него
хорошего горшечника! А ведь и я также смог бы делать из
глины неплохую посуду, если бы и меня учили этому!" —
пришла в голову ему мысль. Он со злорадством подумал о
том, что, если бы он стал учеником Пасиона, а Архилу
хозяин приказал бы месить ногами глину, он, Скиф, также
приказывал бы строго и повелительно приносить глину для
работы.
Но, увы, это были лишь мечты мальчика-раба.
Действительность была совсем иной... И, сердясь на
несправедливость к нему судьбы, юный невольник часто умышленно
"забывал" приносить сырую глину для работы обоим
гончарам.
— Долго я буду ждать, пока этот бездельник принесет
мне глину? — кричал сердито Пасион.
— Скиф! Неси глину мастеру! Да живее
поворачивайся, лентяй! — выбегал во двор Архил.
Стиснув зубы от бессильной ярости, невольник
приносил со двора требуемый материал для глиняных изделий
мастеру-гончару и его помощнику, избегая смотреть на
своего "врага".
В то утро, когда хозяин отправился с товаром в порт
Пирей, около его лавки остановились два всадника. Один
из них остался охранять коней, другой, молодой, стройный
красавец, вошел в мастерскую.
Архил замер на месте. Обоих этих всадников он недавно
видел на торговой площади, когда бежал утром в
мастерскую. Он хорошо запомнил свежее, румяное лицо
молодого воина, вошедшего теперь в лавку Феофраста. Это был
244
тот самый юноша, о котором с похвалой отзывались и
винодел, и уличный продавец лепешек.
Теперь Архил мог разглядеть его как следует. Не
отрывая глаз, смотрел мальчик на знатного покупателя.
Таких красивых людей он еще не видел в своей жизни.
Голубые блестящие глаза юноши улыбались. Небрежно
облокотившись на столб, поддерживающий крышу мастерской,
он приветливо говорил, немного картавя, что-то мастеру Ал-
киною, встретившему покупателя поклоном.
— Архил, помоги мастеру Алкиною достать с полки ке-
рамос! — негромко сказал Пасион.
Мальчик с радостью бросился исполнять его приказание.
— Взгляни, эфеб! — между тем говорил Алкиной
покупателю, показывая ему одну из лучших ваз. — Рисунок
на этом кратере1 изображает бой афинян с персами у
острова Саламина. Как видишь, фигуры наших воинов
отчетливо выделяются на темном фоне сосуда. Тебе, как воину,
такой рисунок должен быть особенно по вкусу!
Но на лице покупателя не отразилось ни удивления, ни
одобрения.
— А вот на этом сосуде, — протянул Алкиной еще один
кратер юному воину, — изображена битва Ахиллеса с
Гектором — тоже неплохой рисунок. Или вот взгляни на эту
вазу, — достал художник сосуд с полки, — здесь, как
видишь, битва при Марафоне... Враг бежит, разбитый
эллинами, к своим кораблям, на которых он думает укрыться
от преследования..
— О-о! Я вижу, ты, художник, любишь воспроизводить
на своих рисунках картины мастера Полигнота! Узнаю его
прекрасные картины на твоих вазах! И, надо сказать, что
делаешь ты это мастерски.
Алкиной смущенно опустил голову.
— Но, увы, — продолжал знатный воин, — все
показанные тобой сосуды не подходят для меня!.. Я ищу совсем иное.
— Тогда я покажу тебе вот эту амфору, эфеб, —
улыбнулся художник. — На ней рисунок носит уже
совершенно иной характер. Ты видишь на амфоре сатира,
обучающего играть на флейте ребенка... Такую амфору не совестно
было бы принести в дар даже Первому Стратегу для
украшения его дома!
1 Кратер — особый вид вазы, в котором древние греки смешивали вино
с водой, перед тем как подать его на стол, — таков был обычай.
245
— Согласен с тобой. Только, к сожалению, и эта
амфора не подходит для меня, — покачал головой покупатель, —
хотя должен сознаться, что роспись сделана на ней
прекрасно! Но, видишь ли, мастер, — улыбнулся юноша, — я ищу
подарок жене моего дяди, прекрасной Аспазии. А для
такого подарка я хочу найти нечто совсем особенное, чего не
отыскалось бы больше ни у одного гончара в Афинах!
Архил с волнением прислушивался к их разговору.
"Неужели покупатель так и не купит ничего в
мастерской? — думал мальчик. — Почему же мастер Алкиной не
показывает ему чудесную амфору с танцовщицей, нашу
лучшую амфору, которой любуются все, кто видит ее?"
На улице возле мастерской нетерпеливо бил копытом
0 землю один из коней. Архил бросил взгляд в сторону
второго воина, державшего повод коня.
Это был также молодой воин в блестящем шлеме на
голове и в плаще на плечах, как и покупатель, стоявший
в лавке, но он не отличался ни красотой одежды, ни
привлекательностью своего спутника.
Мальчик подошел ближе к покупателю.
"Какой замечательный шлем! — бросился в глаза ему
блестящий головной убор воина. — Наверное, он сделан
из чистого золота, иначе разве мог бы он так блестеть!
А какой чудесный теплый плащ у этого эвпатрида!1 —
думал Архил с невольной завистью. — В таком плаще не
может быть холодно в такие дни, как сегодня, когда дует
холодный ветер!"
Громкий возглас покупателя привлек его внимание,
заставив забыть о шлеме молодого воина и об его плаще, —
прекрасная амфора с танцовщицей была в руках у Алкиноя.
— Для подарка жене твоего дяди я могу предложить
тебе, эфеб, только вот эту амфору! — сказал Алкиной.
На темном фоне амфоры, покрытой черным блестящим
лаком, была изображена светлая фигура танцующей
женщины. Эта женщина была полна грации и красоты.
Далеко откинута назад была голова танцовщицы, отягощенная
узлом волос, перехваченных золотым обручем. Одежда
танцующей женщины длинная, спадающая до небольших
ее ног, вся, до единой складочки, была мастерски
вычерчена художником. Каждая складка ее одежды отчетливо
выделялась на темном фоне сосуда.
1 Эвпатрид — знатный человек, аристократ.
246
Горловина амфоры заканчивалась нешироким
орнаментом из гирлянды листьев. Такой же бордюр украшал и
подставку амфоры. Ее высокие узкие ручки были выкрашены
в черный цвет.
Изящество рисунка, его художественное исполнение
приковывали к амфоре с танцовщицей внимание каждого,
кто видел ее.
— Решено! Я покупаю эту амфору, мастер! —
воскликнул молодой воин. — Больше ничего не стану искать для
подарка Аспазии. Вот держи, художник, — протянул он,
не считая, деньги Алкиною, — а амфору пришли ко мне в
мой дом с рабом. Ты знаешь, где живу я, мастер? — с
улыбкой спросил юноша.
— Мне известно, эфеб, что дом твоего дяди является
пока и твоим домом, — также с улыбкой сказал Алкиной,
пряча деньги в мешочек у пояса. — И не успеет
светлоликий Гелиос1 скрыться за облаками в чертогах Олимпа,
как амфора будет уже у тебя! — поклонился он знатному
покупателю.
Молодой воин вышел из лавки Феофраста и вскочил
на своего коня.
Сопровождаемый ожидавшим его спутником, он
поскакал по дороге. Густая пыль облаком стелилась вслед за
обоими всадниками.
Архил проводил их глазами, стоя у порога, пока они
не скрылись из виду.
— Ты долго будешь стоять там без дела? — сердито
окликнул Пасион своего ученика. — Ступай садись за
гончарный круг, лентяй!
Со вздохом Архил снова уселся за работу.
— Скажи мне, мастер, — спустя немного времени
обратился он к Пасиону, — кто был этот молодой воин,
купивший у нас амфору?
— Кто бы ни был он — какое мне дело до него! —
пробурчал недовольно мастер-гончар. — У нас с тобой работа
еще не закончена к утру. Вот что тревожит меня! Хозяин
вернется из Пирея и покажет нам, как должно было
работать! Особенно тебе, — угрюмо закончил он.
— Не гневайся, мастер! — добродушно отозвался
Архил. — К вечеру мы всё закончим, вот увидишь. Я больше
голову не подниму от гончарного круга, клянусь Афиной.
1 Гелиос — бог солнца, по верованию древних греков.
247
Пасион не умел долго сердиться. Он сразу смягчился
при словах своего ученика.
— Смотри, выполни клятву! — буркнул он ему в
ответ уже спокойнее. — А пока вот на, возьми, подкрепись
немного! — протянул он Архилу кусок ячменной
лепешки. — Наверное, ничего не ел с утра.
Архил кивнул ему с улыбкой в ответ, с жадностью жуя
лепешку.
Подавая Пасиону глину, Скиф слышал его слова,
обращенные к Архилу, и заметил, как враг его жадно ел
лепешку Пасиона.
Глаза Скифа загорелись от обиды, и, невольно глотая
слюну, голодный мальчик заплакал полными горечи
слезами: ему, Скифу, никогда никто не давал куска лепешки,
чтобы он "подкрепился". Никто не хотел думать о том, что
он, усталый и голодный, работает весь день, ожидая в
награду только пинки и побои!
— Скиф! — послышался голос Анита. — Где ты
пропал, бездельник! Печь прогорела. Подложи скорее в нее
топлива! У тебя одно только на уме — куда-нибудь удрать от
дела. Вот обожди, я скажу хозяину, и он попробует на твоей
спине новую плетку!
Вытерев наскоро слезы, Скиф побежал во двор. Старые
рубцы от хозяйской плетки еще ныли у него на спине...
Следом за ним вышел и Архил за свежей глиной.
— Я слыхал, как ты спрашивал у мастера Пасиона имя
знатного молодого воина, купившего у нашего хозяина
амфору, — сказал Анит. — Я знаю его. Это племянник Пе-
рикла — Алкивиад. Перикл любит его, как сына, и ничего
не жалеет для него! Конюшни этого эфеба полны самыми
быстрыми, породистыми конями. Деньгам он не знает
счета. А лесть и богатство так вскружили голову юноше, что
он не знает конца своим капризам и выдумкам.
— Откуда тебе известно все это? — удивился Архил.
— О! Я многое знаю о нем! — усмехнулся старик. —
Рабы все знают о тех, кто их бьет! — продолжал Анит,
довольный тем, что его слушают. — Он умен и образован.
Лучшим учителям и философам доверил Первый Стратег
Афин его воспитание. Но сердце у Алкивиада недоброе. Он
любит только тех, кто льстит ему. Однако лесть и
богатство не защитят его от мести врагов, ненавидящих этого
человека.
248
— А разве у него есть враги? — удивился Архил. —
Он показался мне таким приветливым и добрым!
— Добрым? — усмехнулся Анит. — Ты плохо знаешь
его, мальчик. У племянника Перикла есть немало друзей,
пирующих с ним за его столом и поющих ему хвалебные
дифирамбы, — усмехнулся Анит. — Но есть у него и много
недоброжелателей среди молодых и почтенных людей в
Афинах, которые не одобряют его пахождений.
— Эти люди, должно быть, просто завидуют Алкивиа-
ду! — горячо вырвалось у Архила.
— А знаешь ли ты, что недавно сделал со своей
любимой собакой Алкивиад? — спросил Анит. — Впрочем,
откуда же ты можешь это знать! Так вот слушай, мальчик, —
продолжал он. — Однажды после веселой пирушки с
приятелями, этот "добрый юноша", как называешь ты его,
велел отрубить хвост у своей собаки, лежавшей всегда у его
ног.
— О боги! Зачем же он сделал это? — воскликнул Ар-
хил.
— Зачем! Должно быть, для того, чтобы о нем еще
больше говорили люди в Афинах. Этот юноша любит, когда имя
его у всех на устах.
"Нет! Тут что-то не то! — думал Архил. — Не может
быть, чтобы такой благородный, красивый и
привлекательный по внешности человек был бы таким жестоким и
совершал бы такие поступки! Анит говорит плохо о нем
только лишь потому, что Анит — раб, не видевший ничего
хорошего в своей жизни. Рабы часто не любят богатых людей,
которые их покупают, за то, что хозяева бьют их и морят
голодом. А этот молодой воин, которого люди называют
любимцем богов, как может он совершать дурные поступки,
недостойные благородного человека?!"
Архил был сам сыном бедняка, его вырастила в нужде
и лишениях мать. Иногда у них не было ни одного обола в
доме. Часто мать делила с сыном жалкую еду, с трудом
добытую ею, но она всегда внушала сыну, что он должен быть
честным и отзывчивым к горю людей. И Архил вырос, не
зная ничего о людской зависти, порочности и злобе друг к
другу.
Столкновение его с башмачником Менандром было
первым житейским разочарованием в людях, с которыми он
жил, первым столкновением с жестокостью людей.
249
В мастерской гончара Феофраста, куда устроил его на
работу учеником приятель его отца каменщик Геронтий, Ар-
хилу было неплохо. Хотя хозяин и покрикивал на него
частенько, угрожая побоями, но не бил ни разу.
Гончарная работа пришлась по душе мальчику. Гончар
Пасион охотно обучал его своему ремеслу, и Архил
платил ему за это искренней привязанностью.
Теперь слова старого Анита и его рассказы об Алкиви-
аде приоткрывали какую-то новую завесу в жизни людей,
и это новое пугало его.
— Архил! — окликнул задумавшегося мальчика
художник Алкиной. — Оставь-ка на время работу и подойди ко
мне!
Художник стоял возле своего столика, держа в руках
амфору, купленную племянником Перикла.
— Я уже договорился с Пасионом, — сказал он Архи-
лу, — мастер разрешает тебе оставить работу и отнести в
дом Первого Стратега вот эту амфору. Иди с ней по
дороге не спеша, осторожно, мальчик! Алкивиад уплатил нам
за нее немало драхм. Когда передашь сосуд кому-нибудь из
слуг в доме Перикла, поторопись обратно в мастерскую —
нам нужно будет закончить работу до возвращения
хозяина из Пирея!
Архил кивнул ему головой в ответ на его слова и,
поставив осторожно амфору на плечо, вышел из мастерской.
МЕСТЬ МАЛЕНЬКОГО РАБА
Во второй раз за этот день Архил шагал по пыльной
дороге торговой площади Афин. Большое огненно-красное
солнце стояло еще высоко над городом, но было заметно,
что оно уже медленно подвигалось к закату.
Торговцы на агоре начинали постепенно складывать в
свои повозки не проданные за день продукты, собираясь
возвращаться домой. Народу на торговой площади было уже
не так много, как утром, зато множество голодных собак
бродило между рядами, подбирая отбросы пищи и пугливо
шарахаясь в сторону при угрозах торговцев.
Запряженные мулами и осликами повозки с фруктами
и овощами, скрипя колесами, медленно двигались по
дороге к пригороду. Хозяева этих повозок шагали не торопясь
250
рядом с ними, беседуя друг с другом о новостях,
услышанных ими днем в городе, о налогах и об ожидаемом урожае
винограда.
Кусок ячменной лепешки, данный утром Пасионом,
ничуть не утолил чувства голода.
Мальчик с грустью думал о том, что в эту ночь он был
лишен крова над головой, и если раб Анит не разрешит
ему ночевать вместе с ним в пристройке, то придется
провести ночь под открытым небом. Левое плечо, на котором
он нес амфору, давно ныло от усталости под тяжестью
тяжелого сосуда, но остановиться и переставить амфору на
правое плечо было невозможно: повозки с поклажей то и
дело обгоняли его. Нужно было продолжать идти дальше,
пока он не выйдет на более безлюдную улицу города.
Наконец агора осталась далеко позади. Теперь
каменистая дорога круто поднималась в гору. По обеим сторонам
ее тянулись заборы и дома афинской бедноты. В этот час
дня улица казалась совсем безлюдной.
Архил остановился и немного наклонился, чтобы снять
с плеча свою ношу. Внезапный толчок в спину заставил
его пошатнуться. Невольно он выпустил из рук амфору, и
она, упав на землю, разбилась на множество кусков.
С немым отчаянием Архил опустился на колени, глядя
на осколки драгоценного сосуда. Затем, оглянувшись назад,
он увидел Скифа, поспешно убегавшего по дороге к агоре.
Вскочив на ноги, Архил бросился за ним вдогонку. Ему,
как хорошему бегуну, ничего не стоило быстро догнать
мальчишку и схватить его за плечо.
Тщетно слабый Скиф пытался вырваться из цепких
пальцев юного гончара. Рука Архила крепко держала его,
пригибая к земле.
— Ах ты, негодяй! — раздраженно крикнул Архил. —
Говори, злой мальчишка, зачем ты толкнул меня?
Скиф пытался вырваться и убежать. Архил занес
было уже кулак над его головой.
— Отвечай же, долго я буду ждать? — угрожающе
произнес он.
Скиф с ненавистью смотрел ему прямо в лицо.
— Я нарочно... да, да, нарочно толкнул тебя, чтобы ты
выронил из рук сосуд и разбил его! — горячо и быстро
забормотал маленький раб. — Я давно уже искал случая
отомстить тебе. И вот теперь доволен: я сделал то, чего
хотел! Хозяин будет бить тебя плеткой, а я буду стоять и
251
громко смеяться от радости, что тебя бьют. Теперь уже
никто больше не станет хвалить тебя и давать ячменных
лепешек! Да! Да!
Архил с удивлением смотрел на горевшее злобой лицо
маленького раба, радовавшегося его несчастью.
— Ты хотел давно отомстить мне? — спросил он. — Но
за что же? Разве я когда-нибудь бил, обижал тебя?
— Это верно, ты не бил меня, — ответил Скиф, — но
разве ты не кричал на меня, не смеялся надо мной, не
бранил меня? Ты постоянно приказывал приносить в
мастерскую глину, и я должен был месить ногами весь день
глину и приносить ее вам для работы, а вечерами, когда все
вы шли домой отдыхать, я еще долго убирал мастерскую и
двор вместе с Анитом, таскал кувшины родниковой воды,
растапливал печь для ужина... Я падал от усталости, а ты
шел отдыхать! Меня никто в мастерской не жалел.
Никогда! Меня только били. А за что? Потому что я раб, а ты
свободный? Но ведь и я рабом стал недавно, после того как
морские разбойники украли меня у отца и продали в
рабство! Разве прежде я жил голодным? Разве меня
заставляли так работать, как заставляют теперь? За все это я
ненавижу тебя! Чем ты лучше меня? Скажи! Если бы не
было тебя, хозяин приказал бы Пасиону учить меня делать
посуду на гончарном круге! Счастье твое, что ты не раб!
Архил вдруг ясно представил себе, что было бы с ним,
если бы он стал таким же рабом, как Скиф... От одного этого
представления ему стало страшно. Никогда прежде не
задумывался он над судьбой и над тяжелой жизнью рабов.
— Послушай, Скиф... — тихо проговорил он, не глядя
на маленького раба, — не бойся меня и не считай меня
своим врагом. Я тебя не трону, не стану бить за то, что
ты сделал. Давай лучше подумаем, что сказать нам в
мастерской, чтобы нас не били за разбитую амфору...
— А зачем мне думать! — озлобленно крикнул Скиф. —
Это твоя забота! Кто меня станет бить за разбитую
амфору? Кто видел на улице, как она разбилась? Никого из
прохожих не было рядом, когда ты уронил сосуд. Бить хозяин
будет только тебя!
"Мальчишка прав! — подумал Архил. — Никто этого
не видел. Но, если сказать все, как было, мне поверят в
мастерской: я ведь никогда не лгал! И все будут тогда
жестоко бить ременной плеткой Скифа: и хозяин, и Анит, и
даже, может быть, Алкиной. Что же делать?"
252
В душе Архила шла борьба между чувством
справедливости и жалостью к маленькому рабу, не знакомая ему
прежде.
"Скажу, что я сам споткнулся, упал и выронил из рук
амфору", — решил он.
Рука его разжалась сама собой. Почувствовав себя
свободным, Скиф снова бросился со всех ног бежать по улице.
А Архил еще долго стоял, глядя на черепки амфоры,
лежавшие у него под ногами. Возвращаться обратно в
мастерскую ему не хотелось.
Наклонившись, он поднял один из черепков, на
котором уцелело изображение головы танцовщицы, и стал
вглядываться в ее прекрасное лицо, точно стараясь запомнить
это лицо на всю жизнь.
* * *
Художник Алкиной задумчиво выслушал рассказ
Архила о том, как он споткнулся и упал на улице, как выронил
из рук амфору и она разбилась о камни дороги.
— Боги послали тебе такую неудачу! Что поделаешь!
В жизни каждого из смертных бывает так, — сказал, помол-
253
чав немного, Алкиной. — Я верю, что в случившемся нет
твоей вины, знаю, что ты не дрался ни с кем по пути и не
баловался с другими мальчишками... Споткнуться о камень
может всякий, а сосуд был тяжелым. И все же мы с тобой
должны обо всем случившемся рассказать хозяину...
При этих словах художника сердце у Архила сжалось
от страха. Он знал, каким жестоким и горячим может быть
Феофраст в гневе. Но что мог ответить он художнику,
который всегда хорошо относился к нему!
— И, кроме того, — продолжал Алкиной, — придется
теперь как можно скорее делать новую, такую же амфору
для Алкивиада. Но скоро ее не сделаешь! И я не знаю, что
скажем мы нашему покупателю, чем объяснить ему
причину, почему я не послал его покупку в дом Первого
Стратега.
Наступило молчание.
Алкиною вспомнился утренний разговор с Феофрастом
об Архиле.
"Если бы еще у мальчугана оказались способности к
росписи керамос, — думал художник, — я смог бы
уговорить хозяина подождать немного, пока он научится
раскрашивать сосуды, тогда он быстро возместил бы убыток Фео-
фрасту. Но получил ли Архил такой дар от богов?"
— Скажи мне, Архил, — ласково обратился Алкиной
к юному гончару, стоявшему перед ним с опущенной
головой, — ты пробовал когда-нибудь чертить мелом или углем
на камнях фигуры зверей и людей?
Лицо Архила сразу оживилось.
— О да! — воскликнул он. — Соседние дети на той
улице, где жили мы с матерью, часто просили меня
рисовать на больших белых камнях, лежавших возле дороги,
птиц и собак, но чаще им хотелось, чтобы я рисовал для
них углем лошадей и всадников, и я делал это всегда с
удовольствием!
— И эти изображения нравились тебе самому? — с
улыбкой спросил художник. — Были они похожими на
живых людей и животных?
Казалось, что своими словами Алкиной затронул в
душе мальчика что-то дорогое для него. Он покраснел и
смутился.
— Я не могу сказать тебе этого, но мне казалось, что
они были похожими, да и все кругом, видевшие их, гово-
254
рили, что из меня когда-нибудь выйдет хороший художник.
Моя мать думала так же.
— Это хорошо, — уже серьезно сказал Алкиной, —
теперь ты сможешь доказать, что все они, а также и твоя
мать не ошибались: я попробую учить тебя расписывать ке-
рамос. Кто знает, может быть, и в самом деле когда-нибудь
ты станешь художником! Но это будет не скоро, —
поспешил добавить он. — Прежде, еще долгое время мне
придется учить тебя всему тому, что умеет делать ддя себя
каждый художник по росписи керамос: выбирать нужные,
без изъянов, сосуды, подготовлять их терпеливо ддя
росписи, наносить на них сначала легкие, а затем более
сложные рисунки и делать еще многое другое, о чем рано пока
говорить. Скажи только заранее: согласен ли ты, Архил,
терпеливо учиться всему тому, что делаю я, подготовляя
сосуд к росписи?
— О мастер Алкиной! — радостно воскликнул юный
гончар. — Пусть будут милостивыми к тебе божества
Олимпа за твою доброту! Я даже не смел и мечтать о таком
счастье! Вот только Феофраст — он ведь не разрешит тебе
тратить время на обучение меня росписи керамос! — с
огорчением спохватился Архил. — Как же нам быть?
— О Феофрасте я сам позабочусь, — прервал его
Алкиной, — а теперь садись поближе ко мне и внимательно
смотри, что я буду делать. Когда ты научишься, как
нужно подготовлять сосуд для росписи, я попробую дать тебе
самому сделать на нем небольшой рисунок, но
предупреждаю: это будет еще не скоро, Архил! — с улыбкой
добавил художник.
— Я терпеливо буду ждать! — покорно ответил
мальчик, глядя на него с благодарностью.
* * *
Солнце уже было близко к закату. К вечеру стало
заметно холоднее. Несмотря на то что у всех в мастерской
окоченели ноги и руки, никто не думал бросать работу,
торопясь закончить заказ к утру.
Этот заказ хозяин должен был везти в порт Пирей,
чтобы погрузить посуду на один из кораблей, отплывавший в
Сицилию.
Пасион сам наблюдал во дворе за обжигом посуды.
Алкиной дорисовывал последнюю вазу. Архил убирал в мас-
255
терской и следил за тем, как работал художник. Он
невольно удивлялся быстроте и легкости, с которой работал Ал-
киной.
Под его умелыми пальцами узор, едва намеченный
ранее на глиняном сосуде, постепенно превращался то в
корабль, плывущий по морю, то в героя, сражающегося со
страшным чудовищем.
Особенно поразило мальчика лицо одного из таких
героев. Это лицо было красиво и вместе с тем величаво. Он
задумчиво слушал игру на кифаре1 молодой девушки,
сидевшей у его ног.
— Скажи, мастер, кто этот человек, которого так
тщательно ты рисуешь? — спросил Архил. — Мне кажется,
что я видел его где-то.
— Это изображение Зевса Олимпийского, — улыбнулся
художник.
Он немного помолчал. Архил продолжал стоять возле
него, наблюдая за его работой.
— Архил, — вдруг внимательно посмотрел на
мальчика Алкиной, — умеешь ли ты читать и писать?
Архил отрицательно покачал головой.
— Нет, не умею, мастер! — сознался он. — Ведь я сын
бедняков, кто мог бы научить меня этому? Мать хотела
только, чтобы я научился какому-нибудь ремеслу и смог бы
зарабатывать хотя немного денег, чтобы не голодать. Да я
и не думал никогда о том, чтобы научиться читать и
писать. Вот копье бросать, прыгать с шестом в руке, стать
бегуном или борцом, как этому учат юношей в палестре2, —
об этом я часто мечтал.
— Вот как! — удивился художник, больше он ничего
не добавил.
Со двора послышался голос хозяина, возвратившегося
из Пирея. Громко кричал осел, с которого Анит снимал все
то, что купил на торгу хозяин, а затем послышался голос
Пасиона, уверявшего Феофраста в том, что заказ уже почти
готов.
— Хвала богам, если так! — ответил ему Феофраст,
1 Кифара — музыкальный инструмент у древних греков,
напоминающий лиру.
2 Палестра — школа для мальчиков 13—15 лет в Афинах, где их
учили бегу, борьбе, прыжкам, метанию копья и диска и другим
гимнастическим упражнениям.
256
вошедший в мастерскую и принявшийся подсчитывать
выручку от продажи товара.
Внезапно он окинул внимательным взглядом всех
бывших в мастерской.
— Однако отчего это все вы стоите, словно
пораженные громом Зевса? — с удивлением спросил он. —
Почему никто — ни Пасион, ни ты, Алкиной, не рассказываете
мне, как шла работа? Были ли в лавке покупатели?
При его словах Пасион еще ниже опустил голову над
своим гончарным кругом.
Алкиной не подошел, как это всегда бывало прежде, к
хозяину, а принялся доканчивать торопливо свою работу.
Сообщить вспыльчивому, горячему хозяину о том, что
случилось с амфорой, купленной Алкивиадом, он не
торопился.
Скиф, притаившийся у выхода во двор, не сводил глаз
с Архила. Он ждал, что "враг" его вот-вот упадет на
колени перед строгим хозяином и станет молить о пощаде,
рассказав, почему он выронил из рук и разбил дорогой сосуд.
Но Архил, к его удивлению, не трогался с места.
Между тем Архил стоял, с ужасом ожидая, когда
художник начнет рассказывать хозяину все случившееся с ним.
Сердце у него колотилось так громко, что мальчику казалось,
будто все бывшие в мастерской слышат его удары.
Алкиной решился. Поднявшись с места, он подошел к
хозяину.
— Вот, возьми! — протянул он драхмы, оставленные
молодым воином. — Эти драхмы оставил тебе за амфору с
танцовщицей Алкивиад, племянник Перикла.
— Ого! Не поскупился эфеб! — улыбнулся горшечник,
пересчитывая деньги. — Что же, он присылал раба за
амфорой? — спросил он.
— Нет, хозяин! — хмуро продолжал художник. —
Благородный Алкивиад велел прислать амфору к нему домой.
И я выполнил его просьбу, но боги не были милостивыми
к тебе на этот раз, — не глядя на хозяина, закончил он.
— Чего же ты остановился? — вскочил с места Фео-
фраст. Лицо у него побагровело. — Какую же еще беду
послали мне боги? Говори!
В мастерской наступила-напряженная тишина.
— Я приказал Архилу отнести амфору в дом
Перикла, — продолжал спустя некоторое время художник, —
но... мальчик по дороге споткнулся... упал... и разбил
амфору!..
257
9 532
Обхватив голову руками, Феофраст опустился на сиденье.
— О боги! — прошептал он. — Что же теперь скажу
я племяннику Первого Стратега? Недаром в эту ночь мне
снился дурной сон! О горе мне! Горе! — Внезапно он
резко поднялся с места. — А где же негодяй, причинивший
мне такое горе? — прохрипел хозяин.
Архил побледнел. У Скифа похолодели руки и ноги.
"Теперь Архил расскажет обо всем хозяину! —
подумал мальчик. — И хозяин станет жестоко бить плеткой
меня, Скифа!"
Представляя себе ясно то, что произойдет, Скиф даже
закрыл лицо руками.
Бледный, но внешне спокойный, Архил сделал шаг
вперед.
— Ты даже не просишь у меня прощения за свой
проступок! — пришел в ярость хозяин. — Ты что же, не
понимаешь той беды, которую причинил мне? Говори!
Архил продолжал молчать.
— Убирайся вон из моей мастерской! — крикнул
хозяин. — И чтобы я никогда больше не видел тебя здесь!
О боги! — простонал он. — А я еще жалел этого
мальчишку. Хотел сделать из него мастера-художника. Вот как
отплатил он мне за мое доброе отношение к нему!
"Почему молчит Архил?" — недоумевал Скиф.
"Почему мальчик не просит хозяина простить ему его
вину? Ведь такое несчастье могло случиться с каждым! —
недоумевал Алкиной. — Тут что-то не то. Архил скрыл
правду от меня! — промелькнула у него мысль, но тотчас
же он отогнал ее от себя. — А что же другое могло с ним
случиться? — сказал он самому себе. — Нет! Архил
боится говорить с Феофрастом, вот и все".
— Так ты продолжаешь молчать, негодяй! — крикнул
хозяин. — Хорошо же! Тогда получай то, что ты заслужил!
Внезапно подняв руку, Феофраст ударил мальчика по
щеке.
Если бы гром загремел над мастерской гончара и
молния сожгла бы его крышу, присутствующие меньше бы
удивились этому, чем тому, что произошло.
В глазах у Архила стало темно. Руки его сжались в
кулаки, но он сдержал себя. Он только приложил ладонь к
горевшей щеке и отвернулся.
258
Не помня себя от гнева, Феофраст уже снова заносил
кулак над его головой.
Алкиной бросился к хозяину.
— Опомнись! Заклинаю тебя бессмертными богами! —
крикнул он. — После ты сам пожалеешь о том, что сделал.
Успокойся, Феофраст! Приди в себя! Перед тобой ребенок!
— Пусть этот негодный мальчишка немедленно
убирается вон отсюда, — прохрипел гончар. — Иначе я могу
убить его! О боги, боги! — снова схватился он за голову. —
Теперь все в Афинах станут говорить, что Феофраст не
умеет дорожить хорошими покупателями! Что Феофраст
глупец! О горе мне! Горе!
— Выйди на улицу, Архил! — сказал Пасион. — Пусть
хозяин немного успокоится, тогда мы поговорим с ним.
Архил вышел из мастерской.
— Ты прогнал мальчика, Феофраст, — с упреком
сказал хозяину Алкиной, — а ведь он сирота! У него нет ни
родных, ни дома, где он мог бы жить. Только сегодня его
прогнал хозяин с квартиры, где жил он вместе с матерью
до ее смерти. А Архил ведь способный и толковый мальчик,
ты сам хвалил его... Несчастье могло случиться с каждым!
— Мальчик сам тяжело страдает от того, что случилось
с ним, а ты побил его, хозяин, — вставил свое слово
Пасион. — Неужели ты не мог обойтись с ним помягче!
— "Помягче"! Кому говоришь ты это, горшечник! —
возмутился Феофраст. — Пристали оба ко мне с
упреками. Да какое мне дело до этого мальчишки! Почему я
должен жалеть его? Кто он мне? Нет! Как я сказал, так и
будет! Я не позволю ему работать больше в моей мастерской!
Хватит с меня! И чтобы ноги его тут не было! Слышите
вы, заступники? Запомните слова мои!
Взгляд Алкиноя упал на небольшой узелок, лежавший
в углу мастерской. Он заметил, как утром, придя на
работу, Архил небрежно швырнул его туда.
Подняв узелок, художник вышел на улицу. Он увидел
Архила, стоявшего у невысокой каменной стены,
отделявшей двор Феофраста от улицы. Закрыв лицо руками,
мальчик беззвучно рыдал, думая, что никто не видит его горя.
Сердце у Алкиноя сжалось. Он сам пережил в своей
жизни немало горя, и этот мальчик-сирота был ему как-то
близок и приятен, особенно с тех пор, как он заметил ин-
259
терес у Архила к его работе, к тому, что составляло смысл
жизни самого Алкиноя.
Выйдя вслед за художником на улицу, Скиф наблюдал
за тем, что будет делать он дальше. Первое, что
почувствовал Скиф, когда хозяин больно ударил Архила по щеке,
была радость. Гроза пронеслась над собственной его
головой. Теперь можно было спокойно идти ужинать в
пристройку вместе с Анитом, но почему-то у него, у Скифа,
пропала всякая охота идти ужинать. Странное чувство смятения
было в душе у него.
Самого его, Скифа, никто никогда в жизни не жалел,
даже там, в родном поселке. С детства научился Скиф
следовать в жизни двум правилам: если ты голоден — учись сам
добывать себе пищу. Если тебя кто обижает — умей
защищаться от обидчика сам, не ожидая помощи со стороны.
И теперь юный невольник никак не мог понять,
почему Архил не сказал хозяину всей правды. Почему он не
защищался? Почему вместо того, чтобы свалить всю вину
на Скифа, он защитил его от наказания, от жестокого
наказания злого хозяина? Почему так? Неужели Архил
пожалел его? И внезапно в сердце у Скифа что-то дрогнуло.
Так мог поступить только друг, настоящий друг. Ведь
Архил был таким же одиноким, как он, Скиф, и Архилу
стало жаль его. Вот оно что. Значит, с этого дня он станет
считать Архила другом, а не врагом, как считал прежде.
"Архил не знает еще этого, нужно поскорее ему это
сказать", — думал мальчик-раб. Но сделать этого Скиф не мог.
Он видел, как художник Алкиной, подойдя к Архилу, что-
то говорил ему. Архил взял у него из рук свой узелок и
прижал его к груди. Подойдя поближе, Скиф расслышал
слова Алкиноя:
— Архил, скажи мне: есть ли у тебя угол, где ты смог
бы ночевать?
Архил отрицательно покачал головой.
Алкиной немного подумал. Он знал хорошо, что значит,
когда человек голоден и когда у него нет пристанища для
ночлега.
— Обожди меня немного здесь, — сказал он
мальчику, ласково кладя руку ему на плечо. — Я уберу свою
работу и возвращусь. Мы пойдем вместе ко мне домой. Я
живу недалеко отсюда, в Керамике. Ты переночуешь у меня,
а потом мы придумаем, что делать дальше.
260
* * *
Они шагали рядом по дороге, удаляясь немного в
сторону от агоры к предместью Афин, где жили афинские
гончары. Как не похожи были лачуги бедных ремесленников
на дома в центре города, где жили богачи! Афинская
беднота ютилась в убогих домишках, стены которых были
сделаны из морской гальки, смешанной с глиной. Крайняя
стена дома часто примыкала к выступу скалы. Пол в таких
домах заменяла каменистая земля. Над нижней комнатой,
где помещалась семья ремесленника, иногда бывала
надстройка наверху, соединявшаяся приставной лестницей с
нижней комнатой.
В квартале бедняков ремесленников, в Керамике,
было грязно и неуютно. Убого обставленная комната, где жила
семья гончара, освещалась по вечерам коптившей
светильней. Там было тесно и грязно. Грязь была также и на
улице возле дома, так как хозяйки выбрасывали мусор и
отбросы прямо на улицу.
Подойдя к одному из домиков, который был заметно
чище других, Алкиной остановился.
— Скажи, мальчик, — с улыбкой спросил он,
посмотрев на Архила, — хотелось бы тебе поесть горячей
бобовой похлебки?
Архил с удивлением посмотрел на него.
— Я уже позабыл вкус этой похлебки, — с грустью
отозвался он. — Мать умела варить вкусную бобовую
похлебку, но с тех пор как ее не стало...
Архил не договорил, низко опустив голову.
— Я спросил тебя об этом только лишь потому, —
мягко обнял его за плечи художник, почувствовав все то, что
переживает мальчик, — что жена моя, Дорида, обещала
сварить на ужин такую похлебку. Мы с тобой проголодались
за день, и поесть горячей похлебки было бы не худо!..
В ответ Архил только молча кивнул ему головой. Но
ласковые слова художника после всего того, что пришлось
пережить ему в этот злосчастный день, так напомнили ему
горе его утраты, что он зарыдал. Слезы градом катились
по его худому лицу. И он был только рад тому, что
темнота наступающей ночи помешала художнику Алкиною
увидеть горькие слезы бездомного подростка.
261
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ СПУСТЯ
Светильня чадила, догорая. Сидевшие за столом Алки-
ной и приятель его, кузнец Дракил, старались говорить
тихо, чтобы не разбудить уснувших Дориду и Архила.
— Скажи мне, Алкиной, — придвинулся ближе к
художнику Дракил, — кто этот мальчик, появившийся в твоем
доме, откуда он взялся?
— Я сам мало знаю о нем, — тихо ответил Алкиной. —
Однажды он сказал мне только, что отец его был
бедняком ремесленником и что он рано умер, оставив его совсем
маленьким с матерью. Мать Архила, одинокая женщина,
у которой никого не было в Афинах из родственников,
должна была продавать на агоре сырую рыбу, чтобы
прокормить скудным заработком себя и сына. Жили они
впроголодь. Недавно мать Архила умерла, и он остался совсем
сиротой. Друг его отца, каменщик Геронтий, привел
мальчика к нам, в мастерскую Феофраста, и попросил хозяина
взять его учеником. Феофраст согласился. Мальчик
оказался способным и шустрым на работу, и все были довольны,
но тут случилась неожиданная беда: Архил нечаянно
разбил сосуд, купленный у нас племянником Перикла, и
хозяин в гневе жестоко побил его и прогнал из мастерской.
С этого дня я приютил мальчика у себя. Куда же ему
было идти без заработка и без крова над головой!
Разговаривающие замолчали. Дракил медленно отпивал
вино из кружки. Алкиной смотрел на своего друга, думая
о чем-то своем.
Первым нарушил молчание кузнец.
— Плохие дела! — сказал он, качая головой. — Что же
мальчик теперь будет делать? Ты небогатый человек, твоего
заработка едва хватало на вас двоих с женой. На что же
теперь втроем будете существовать? Мальчик должен
понимать сам это и искать работу, чтобы не быть вам в тягость.
— У меня нет сына, Дракил, — тихо сказал
художник. — О нас с Доридой некому будет заботиться в
старости и, по обычаю, приносить погребальные жертвы богам
после нашей смерти... Вот мы и решили усыновить
Архила. Скажи, ты одобряешь наше решение?
Немного подумав, кузнец кивнул головой в знак согласия:
— Но только Архил должен помогать тебе. Разве он не
видит нужды в твоем доме? Почему он не ищет себе работу?
262
— О, Архил видит все! — прервал его Алкиной. —
И мальчик старается быть полезным в доме чем может, а
работу найти в Афинах ведь нелегко, Дракил! Ты хорошо
это знаешь.
— Не взять ли мне его к себе в кузницу? —
предложил кузнец.
— Обождем немного, друг, — положил ему руку на
плечо художник. — Мне думается, что Архил сможет
вернуться к привычной для него работе. Я хочу попросить Феоф-
раста, чтобы он разрешил мальчику возвратиться в
мастерскую.
— Да пошлют тебе боги удачу! — пожелал Дракил. —
Но захочет ли мальчуган пойти снова к горшечнику работать?
— Я его уговорю, — улыбнулся Алкиной.
В углу комнаты, где спал мальчик, послышалось
легкое движение. Разговаривающие умолкли.
— Однако уже поздно. Мне пора домой, — поднялся
с места кузнец, — проводи меня немного, Алкиной. По
дороге поговорим о моих делах.
Мужчины вышли из дома. В комнате стало совсем
темно, и никто не мог увидеть, как Архил, приподнявшись на
постели, посмотрел им вслед.
"А ведь кузнец прав! — подумал он. — Работу мне
искать необходимо, и как можно скорее! Но как ее найти?
Где?"
Он сел на постели, обхватив руками голову.
"Может быть, пойти к Клеону? — промелькнула у
него мысль. — Клеон придумает что-нибудь. Он всегда
находит выход из беды!"
Но ночью уйти из дома было нельзя, приходилось ждать
до утра. Немного спустя пришел Алкиной и, осторожно
шагая по комнате, улегся в постель. Вскоре его спокойное
дыхание показало Архилу, что он спит.
Сам он уже не мог больше уснуть, взволнованный
невольно услышанным разговором друзей. Сомнения и думы
терзали Архила.
"Как это случилось, что я, пригретый лаской в этом
доме, не подумал прежде о том, что я им в тягость! — с
тоской думал он. — И вот чужой человек сказал мне об этом!"
Ночь тянулась долгая, мучительная для Архила.
Только под утро он забылся коротким сном и не слыхал, как
уходил на работу Алкиной.
263
Проснувшись, мальчик поспешно поднялся с постели
и ушел из дома, ничего не сказав Дориде.
Он долго поджидал на агоре приятеля. Клеон радостно
бросился к нему навстречу.
— Почему ты не в мастерской? — удивился фокусник
и вдруг все понял. — Феофраст прогнал тебя с работы? —
спросил он дрогнувшим голосом.
— Да, — кивнул головой Архил, — но этого мало! —
совсем неожиданно вырвалось у него. — Он еще побил
меня, Клеон! Ты понимаешь — он побил меня! Ударил по лицу
кулаком!
— Да за что же? — пробормотал растерянно Клеон.
— Тебе только одному я могу рассказать всю правду! —
шепотом ответил Архил. — Но этой правды не должен
знать никто! Меня толкнул в спину раб Скиф, когда я нес
амфору племяннику Перикла. Амфора упала и разбилась.
Вот и все. И хозяин за это прогнал меня из мастерской,
да еще и побил.
— Но почему же он бил тебя, а не Скифа? —
удивился Клеон.
— Я не сказал никому, что это он толкнул меня на
улице! — упавшим голосом сказал Архил. — Мне стало жаль
маленького раба: ведь за это хозяин жестоко избил бы его!
Клеон с удивлением посмотрел на него.
— Ничего не понимаю, — признался он. — Ты
пожалел этого негодяя? Но, по крайней мере, ты побил его как
следует?
Ответ Архила еще больше удивил фокусника.
— Нет, я его пальцем не тронул. Но сначала я хотел
побить его, — поспешил добавить Архил. — А потом, Клеон,
я подумал о том, что он моложе меня, что его все бьют и
бранят, а ведь еще совсем недавно он жил у себя на
родине свободным, как и я. Морские пираты похитили его и
продали в рабство, и в сердце у этого мальчишки растет злоба
и обида, особенно когда он сравнивает мою жизнь со своей
судьбой. Когда я это понял, руки мои опустились. Но дело
не в этом, — поспешил добавить Архил. — Видишь ли,
Клеон, вчера вечером один из друзей Алкиноя, думая, что я
сплю, сказал, что мне нужно непременно искать работу и
не быть в тягость Алкиною и его жене: ведь они сами
бедняки! Тогда я решил посоветоваться с тобой. Где же мне
искать работу? А жить у них, не платя за угол и еду, нельзя,
Клеон, ведь и ты не смог бы так жить, правда?
264
— Правда, — согласился фокусник, — необходимо
искать для тебя скорее работу!
— Может быть, мне пойти в мастерские к другим
гончарам, сказать им, что я уже умею делать из глины
кратеры, пифосы и гидрии? Тогда они согласятся взять меня к
себе учеником, как думаешь?
— Нет, Архил! — покачал головой Клеон. — Мне
думается, что любой хозяин-гончар скорее наймет к себе на
работу взрослого и более опытного горшечника, чем
ученика. Ведь ты же не сможешь еще работать так, как
работает Пасион?
— Нет, не смогу.
— Тогда вот что, — немного подумав, предложил
фокусник, — пойдем вместе в порт Пирей. Я буду там на
торговой площади показывать свои фокусы со змеей и с
кольцами, а ты будешь носить грузы на склады с кораблей. Наш
сосед работает грузчиком в Пирее и кормит всю семью.
Неужели ты не сможешь там заработать себе на кусок
жареной рыбы и на ячменную лепешку!
— Разумеется, сумею, — согласился Архил. — Я ведь
сильный! Но где мы с тобой будем ночевать в порту?
— Ночевать? Это пустое дело, — махнул рукой
Клеон. — Возле складов, под открытым небом, найдется
много места для нас с тобой!
— Тогда пойдем в Пирей! Я согласен! — решительно
отозвался Архил. — Только я схожу предупредить мастера Ал-
киноя о своем уходе, а то он будет тревожиться обо мне.
— Вот уж это совсем напрасно, — пожал плечами
Клеон. — Он еще начнет тебя отговаривать. Да и почему ему
беспокоиться о тебе? Что он, отец тебе! Мы уже не
маленькие, Архил, — беспечно добавил фокусник, —
сумеем заработать себе на еду!
— Ты прав, — согласился Архил, — идем! Чего нам
медлить тут, в Афинах!
Клеон живо подхватил свои вещи и первым зашагал
вперед.
* * *
Мальчики бодро шли к "длинным стенам" Пирея,
соединявшим Афины с его морским портом.
Идя рядом с молчаливым в это утро Клеоном вдоль
длинного коридора этих стен, Архил вспоминал рассказ Ал-
265
киноя о постройке "длинных стен" Пирея, после того как
персидский царь Ксеркс напал на город и разрушил его.
Ворвавшись в Акрополь, ожесточенный враг стал все
уничтожать на своем пути. Женщины, дети, старики и
афинские воины были увезены на кораблях на остров Саламин,
и лишь горсточка храбрецов осталась защитниками
Акрополя. Дым от пожарищ в Афинах был виден
морякам-афинянам, готовившимся к бою с врагом на острове Саламин.
Архилу хорошо запомнился и дальнейший рассказ
художника Алкиноя. После победы афинян над персами в тот
раз, когда миновала опасность нового вторжения врага,
граждане Афин взялись за восстановление своего города.
Прежде всего решено было укрепить надежно его стены,
а ддя этого нужно было связать Афины с Пиреем и создать
защиту Афин от врага с моря. Много людей потребовалось
тогда для работы на постройке этих стен! На помощь
строителям сюда пришли старики, женщины и подростки из
города. Они подтаскивали кирпичи, дробили камень,
замешивали растворы извести для фундамента стен. Каждый
делал то, что был в силах делать. Стены росли на глазах у
всех, на мощном фундаменте из кирпичей, с окнами
между зубцами стенок, к которым прикрепляли бронзовые
ставни. На повозках строителям стен подвозили каменные
плиты для прохода.
Пять лет шла работа над "длинными стенами"
афинского порта. Это строительство было завершено уже при Пе-
рикле. И вот теперь Архил и его приятель свободно
шагали вдоль коридора этих стен, даже не задумываясь над тем,
сколько трудов положили люди для создания мощной
защиты Афин от нападения врага в случае новой войны.
Архил взглянул на задумчивое лицо друга.
— Почему ты умолк, Клеон? Что встревожило тебя? —
спросил он.
— Ничто меня не тревожит, — покачал головой
фокусник. — Я только думал о том, где нам с тобой лучше
будет поискать работу: на торговой площади порта или
возле причалов. Вот и все.
— И что же ты решил? — улыбнулся Архил. — На мой
взгляд, это безразлично, лишь бы нам удалось заработать
хотя несколько оболов, чтобы купить немного рыбы.
Признаюсь тебе, что я очень голоден!
— Заработаем! — беспечно махнул рукой Клеон.
266
Они подошли к Пирею.
Благодаря тому что Афины после войны с персами
сделались хозяевами моря и стали могучей морской державой,
они вели торговлю со многими государствами, городами,
островами и странами Востока. Множество кораблей
приходило в торговый порт Пирей. Они привозили афинянам
товары, которые трудно было достать в другом месте: зерно
и папирус из Египта, слоновую кость из Африки,
драгоценные ковры и ароматические масла из Аравии и Персии,
зерно, пшеницу и плоды из Финикии, медь и бронзу с
островов Эгейского моря, соленую рыбу и строительный лес из
колоний. Но одним из главных товаров, который
привозили торговцы на кораблях в Афины, были рабы.
На пристани Пирея выставлялись образцы всех
привозимых в Афины товаров для осмотра покупателями. Тут же
толпились и многочисленные менялы и ростовщики,
дававшие торговцам деньги в залог под их товары.
В Пирейский порт стекалась яркая, пестрая толпа
людей, говоривших на разных языках, кричащая,
бранившаяся, торговавшая привезенным товаром, расспрашивавшая
о новостях, жадная до всяких происшествий и рассказов
о кораблекрушениях и о морских разбоях.
Люди жадно ловили здесь всякий слух.
"Ти нестерон?" (Что нового?) — слышалось повсюду в
торговом порту.
Особые камни у причалов с надписью указывали
место торговым кораблям для причала. Для хранения товаров
имелись склады, находившиеся немного поодаль от торговой
площади порта, неподалеку от харчевен и гостиниц для
приезжающих.
Одного не хватало в Пирее — пресной питьевой воды,
и ею бойко торговали мальчишки-подростки, дети бедняков
из Афин.
В порту длинной вереницей тянулись грузчики,
разгружавшие трюмы кораблей. Они несли на плечах и на
голове корзины и тюки с товарами на склады. Загорелые
худые лица их были покрыты потом. От привычки носить на
спине грузы они шли согнувшись, даже возвращаясь
обратно от складов к причалам.
Мальчики, с трудом проталкиваясь в толпе,
отыскивали удобное свободное место, где бы мог разложить свой
коврик Клеон.
267
У большого помоста, где стояли рабы всех возрастов,
выставленные хозяевами на продажу, они немного
задержались. Здесь была такая теснота, что сразу пробраться
дальше было невозможно.
Со связанными за спиной руками, уныло и безучастно
стояли невольники на помосте на виду у покупателей. Они
знали одно — у богатого хозяина будет сытнее житься, чем
у ремесленника. А на рудниках их ждет работа более
тяжелая, чем на поле у хозяина земледельца...
Часто они ошибались в своих расчетах: несчастные,
лишенные свободы люди не могли предугадать, какая ждет
их судьба.
Покупатели в Пирее разглядывали рабов на помостах
как скот: они щупали мускулы у мужчин, считали зубы во
рту, старались купить для себя наиболее выносливых,
сильных и знающих какое-либо ремесло невольников.
В конце помоста какой-то бородатый афинянин
поспешно выбирал несколько мальчиков-подростков для своей
ремесленной мастерской. Отбирая рабов, он долго и упорно
торговался с рабовладельцем.
— Я хорошо даю тебе за этих мальчишек! — говорил
он. — Ты получаешь от меня двух волов и одного осла.
Клянусь богами, больше ты не получишь в доплату за них ни
одного обола!
— Двух волов и одного осла за стольких рабов! Да ты
смеешься надо мной, должно быть, хозяин! Ты только
посмотри хорошенько на этих подростков! Ведь это же
сильные, рослые мальчишки! Они справятся с любой работой
и в мастерской, и на поле не хуже взрослых рабов, —
спорил работорговец.
Но покупатель не захотел больше торговаться, он
отошел в сторону.
— Сегодня большой торг в Пирее, — говорили люди
кругом. — Много рабов привезли на продажу. И поэтому
нужно пользоваться случаем — рабы сегодня дешевы!
К причалам подходили всё новые и новые корабли. Одни
из них разгружали грузы в Афинах и забирали взамен в
свои трюмы афинскую керамику, оливковое масло,
виноградное вино и мраморные плиты.
Некоторые корабли задерживались в Пирее ненадолго.
Уплатив пошлины, они следовали дальше в другие
торговые пункты.
268
Толпы людей возле причалов все увеличивались.
Афинские торговцы зорко приглядывались к товарам, которые
проносили мимо них грузчики на склады. Продавцы
жареной рыбы и лепешек сновали в толпе, предлагая свой
товар. От множества голосов в порту было так шумно, что
трудно было расслышать голос человека, стоявшего рядом.
Архил и Клеон побежали дальше к сходням одного из
кораблей, бросившему якорь у причала.
— Что вы тут забыли? — грубо крикнул им пожилой
лысый человек в рваном хитоне. — Нет здесь для вас работы!
Ступайте отсюда! У нас уже наняты люди носить грузы.
— Идем на рыночную площадь! — предложил Клеон. —
Там найдется для нас работа.
— Вот уж не думал я, что в порту будет так же трудно
найти работу, как и в Афинах! — огорченно сказал Архил.
— Не унывай! — старался ободрить приятеля
фокусник. — День ведь только еще начинается.
Черные глаза Клеона весело блестели. Проворно
расстелив свой коврик, он стал звуками трубы привлекать
внимание прохожих. Вскоре вокруг него собралась большая
толпа любопытных.
Встав на руки, высоко подняв вверх ноги, фокусник
прошелся по кругу и перекувырнулся. Затем, проворно
схватив обручи, он начал быстро подкидывать их вверх и ловить
на глазах у зрителей. Проделывал он это ловко и красиво.
Несколько матросов с корабля прошли совсем близко
от Клеона и остановились у его коврика.
— А на голове ты умеешь стоять? — спросил один из них.
Вместо ответа Клеон быстро встал на голову,
продолжая подкидывать и ловить кольца ногами.
— Ловко! Молодец! — похвалил его моряк.
— А ну-ка пройдись по кругу на руках! — предложил
другой.
Клеон исполнил его просьбу.
— Неплохо, мальчуган! — снисходительно заметил
матрос и отошел от фокусника, не бросив ни одного обола в
его чашку, стоявшую у края коврика.
— Почему он ничего не дал тебе за твои фокусы? —
удивился Архил. — Ведь ты проделывал их для него!
Хочешь, я побегу и скажу ему?
— Нет, не делай этого, — остановил друга Клеон, —
а то они еще побьют тебя!
269
— Тогда зачем же ты исполнял все то, о чем они
просили, не понимаю? — с негодованием воскликнул Архил. —
Ведь выходит так, что они просто издевались над тобой!
— Не стоит огорчаться! — беспечно заметил Клеон и
добродушно добавил: — Пойдем на торговую площадь! Там
мы попытаем счастья — и вот увидишь, быстро
заработаем себе на обед!
На торговой площади Пирея было так же многолюдно,
как и на причале порта.
Клеон выбрал наиболее свободное место и предложил
приятелю:
— Не унывай, Архил! Смотри веселее! Становись-ка вот
здесь и начинай свою любимую песенку про богачей и
бедняков, а я буду подыгрывать тебе на флейте. Начинай!
Но Архил продолжал молчаливо стоять возле него. Он
уже потерял надежду на то, что им удастся что-либо
заработать здесь. Видя, что друг его не поет, Клеон запел сам,
надеясь его этим подзадорить:
Не обижай никого, а потерпишь обиду — не ссорься,
Остерегайся убийства и битв. Будь скуп на раздумья,
В меру себя утруждай, чтобы после не каяться тяжко.
Пой, флейта, пой!
Юный фокусник заиграл припев на флейте,
посматривая на Архила. Друг его продолжал уныло стоять, опустив
голову. Тогда Клеон продолжал:
Лето, зима и весна протекут. Их смена от века.
Есть и у солнца закат, и для ночи исход предуказан!
Не домогайся узнать, откуда вода или солнце.
Лучше узнай, где купить венки и елея.
Пой, флейта, пой!
Клеон перешел на другую сторону своего коврика и
продолжал:
Есть ли мера богатства и есть ли бедности мера?
Кто из людей указал предел для богатства в мире?
Пусть накопил он добра — еще большего алчет недобрый!
И богач на земле не менее жалок, чем нищий!
Пой, флейта, пой!
Песенка была окончена, но мало кто проявил к ней
интерес, и в чашке фокусника не было заметно ни одного обола.
— Я не стану здесь петь, Клеон, — пробормотал уны-
270
ло Архил, не глядя на приятеля. — Не хочется петь,
когда тебя не желают слушать! Пойду лучше к складам,
попрошу грузчиков взять меня помощником носить грузы!
— Что же, ступай, — согласился Клеон, — а я
останусь здесь со змеей. Может быть, еще удастся заработать
нам на еду! А когда кончишь носить грузы, приходи на это
место. Я буду ждать тебя.
— Приду, — угрюмо согласился Архил.
Он долго стоял возле складов. Мимо него грузчики то
и дело проносили грузы и складывали их в помещении
склада, но на его робкую просьбу никто ничего ему даже не
ответил.
Тогда Архил решил снова пойти к причалу, возле
которого остановился еще один корабль. У причала кипела
работа. Архил остановился возле одного из кораблей.
Матросы разгружали трюм.
Мимо Архила пробежали несколько мальчишек. Он
поспешил за ними, уверенный, что здесь сразу же найдет
работу.
Подростки стали взбираться на корму корабля.
— Эй ты, разиня! — громко крикнул кто-то с другого
корабля, бросившего якорь рядом. — Чего стоишь
вытаращив глаза? Держи канат!
Метким движением матрос бросил Архилу конец
веревки. Мальчик ухватился за нее и изо всех сил стал тянуть
на себя канат. Внезапно чьи-то грубые руки выхватили у
него веревку.
— Чего суешься на чужой причал? — задорно кричал
рыжий вихрастый мальчишка. — На этом причале
работаем мы, афиняне! Нас еще вчера наняли носить грузы на
склады! Понял? А теперь проваливай отсюда! Не то я
покажу тебе, как отбивать у других работу. Кулаки у меня
крепкие!
Неожиданный удар сбил с ног Архила.
Поднявшись с земли, юный афинский гончар с
ожесточением бросился на обидчика. Но ему не дали
возможности пустить в ход кулаки. Двое подростков, постарше чем
он, схватили его сзади за руку.
— Глупец, ты еще вздумал драться с Киттом! —
сказал один из них. — А ну-ка, живо убирайся отсюда, пока
цел! И чтобы я тебя больше никогда тут не видел! —
решительно добавил подросток.
272
— Я ищу работу, чтобы не голодать, как делаете это и
вы все, — ответил Архил, гневно смотря на говорившего. —
Да и кто ты такой, чтобы распоряжаться здесь? Плевать
мне на тебя!
— Попробуй плюнь, — угрожающе произнес один из
подростков, — тогда ты сразу поймешь, кто я такой! В
порту все побаиваются моих крепких кулаков!
В это время с корабля спустили трап. Приехавшие
устремились на берег. Позабыв про Архила, мальчишки
бросились к трапу, предлагая приезжим свои услуги.
— Чего рот разинул? — подтолкнул Архила локтем в бок
один из проходивших мимо него ремесленников. — Гляди,
вон там на палубе стоит женщина с ребенком на руках...
У ног ее корзина... Беги! Корзина тяжелая. Ей трудно
поднять ее. Отнеси корзину в порт — она заплатит тебе.
Позабыв про угрозы мальчишек, Архил взбежал
быстро по трапу и отыскал на палубе женщину с ребенком на
руках.
— Куда тебе нести корзину? — спросил он.
— Как хорошо, что ты подошел ко мне, мальчик! —
обрадовалась женщина. — Я приезжая, никого здесь не знаю...
Помоги мне добраться до Афин. Я хорошо заплачу тебе за
это.
— Иди за мной. Я провожу тебя, — улыбаясь,
произнес Архил.
— Ты опять тут, негодяй! — внезапно появился снова
перед ним Китт. — Берите у него корзину, — кивнул он
головой двум мальчишкам, стоящим позади. — Несите ее
в порт. А я покажу этому мальчишке, как отбивать у
других работу!
Внезапный удар кулаком по голове ошеломил на
мгновение ученика афинского гончара. Но, быстро опомнившись,
он яростно бросился на противника.
На песке у причала завязалась драка. Нападавший на
Архила был старше и сильнее его, но афинянин был
подвижнее и увертливее противника. Друзья вожака юных
грузчиков поспешили к нему на помощь. На Архила
нападали теперь уже несколько мальчишек.
Моряки, привыкшие к дракам на берегу, равнодушно
смотрели на происходившее. Только когда силы боровшихся
оказались неравными, некоторые из них поспешили разнять
дравшихся. Хромая на ногу, зашибленную в драке, и вы-
273
тирая кровь с лица, Архил медленно поплелся по торговой
площади порта. Теперь ему оставалось лишь отыскать Кле-
она и устроиться где-нибудь вместе с ним на ночлег. Но
Клеона не было видно нигде. На улице заметно темнело.
Голод мучил мальчика. Он растерянно остановился
посреди площади, не зная, что делать дальше.
Измученный всеми событиями прошедшего дня, Архил
присел возле старой высокой стены у проезжей дороги.
Закрыв глаза, он представил себе, как друзья его в
гончарной мастерской, закончив работу, расходятся по домам.
Ему вспоминалось строгое, красивое лицо художника Ал-
киноя, добродушная улыбка гончара Пасиона. Он подумал
и о старом рабе Аните, который всегда так приветливо и
ласково относился к нему.
От этих воспоминаний на душе у мальчика стало еще
тоскливее.
"Все они любили меня, помогали мне чем могли! А я
не ценил их, не дорожил ими... — думал он. — Зачем я
послушал Клеона и ушел из Афин, даже не попрощавшись
с мастером Алкиноем! — с огорчением подумал Архил. —
Вот какой я неблагодарный..."
С моря дул холодный ветер. Возле сырой стены было
неприятно сидеть. Архил попробовал приподняться и
наступить на опухшую ногу, но тотчас же со стоном
опустился снова на землю.
В порту постепенно становилось все темнее и
безлюднее. Поеживаясь от холода, Архил поплотнее прижался к
стене, решившись дождаться здесь утра, чтобы на заре с
одной из первых повозок возвратиться обратно в Афины.
"Теперь Клеон, наверное, давно уже дома! — думал
он. — Он разумно сделал, что ушел: как видно, в порту
еще труднее найти заработок, чем в Афинах".
Архил глубоко вздохнул.
"Завтра я возвращусь к мастеру Алкиною, —
продолжал думать мальчик. — Чистосердечно расскажу ему обо
всех моих мыслях и сомнениях, и он, по своей доброте,
простит меня... А Дорида, — он даже улыбнулся при
мысли о жене Алкиноя, — Дорида поспешит сварить мне
бобовую похлебку!"
Глаза у Архила смыкались сами собой. Незаметно он
задремал.
274
Возвратившись вечером из мастерской, Алкиной, к
своему удивлению, узнал от жены, что мальчик ушел с утра,
ничего не сказав, и не вернулся домой.
— Может быть, ты чем-нибудь обидела его, Дорида? —
предположил художник. — Хотя я знаю, как привязалась
ты к Архилу, да и чем ты могла бы настолько огорчить его,
что он решил уйти из нашего дома?
— Он еще вернется! — пыталась успокоить тревогу
мужа добрая женщина. — Не мог мальчик не оценить нашей
заботы о нем.
Алкиной молчал.
— Если он не захочет вернуться в наш дом, —
наконец сказал он с горечью, — то остается думать, что
мальчику больше по душе было бродяжничать, чем усидчиво
работать и спокойно жить в семье.
Художник даже не притронулся к ужину, который
подала ему Дорида.
Надвигалась ночь. Архила все не было. Беспокойство
Алкиноя росло.
"Куда идти искать его? — думал он. — Может быть,
приятель Архила, Клеон, знает, где скрывается его друг?
Но идти с расспросами в чужой дом ночью неудобно.
Придется ждать до утра".
Всю эту ночь ни художник, ни жена его, полные
тревоги и огорчения, не сомкнули глаз.
* * *
Клеон долго поджидал в порту Архила. Становилось
прохладно. Небо покрылось тучами. Друга его не было видно
нигде.
"Должно быть, он ушел с грузом кого-либо из
приехавших торговцев в Афины, — решил фокусник, — а потом
уже не успел возвратиться в порт".
Ждать дальше Архила Клеону казалось лишним. Собрав
свои вещи и захватив коврик, он не спеша отправился в
Афины.
На рассвете голоса проходивших мимо рыбаков
разбудили Архила.
275
Два рыбака стояли перед ним. Старик держал на
плече кувшин с пресной водой, неся в правой руке корзинку.
Молодой рыбак нес за плечами сети.
— Эй, проснись! Заспался, друг! — со смехом сказал
молодой рыбак, наклонившись над Архилом. — Пора вставать.
Солнце давно уже взошло. За работу надо приниматься!
— Оставь его, он еще совсем дитя... — мягко сказал
старик, — видишь, как крепко уснул мальчуган возле
самой дороги. Должно быть, у бедняги нет даже угла, где он
мог бы выспаться ночью. Сирота, наверное.
— Тем лучше для нас, отец, если он сирота, —
улыбнулся молодой рыбак, — возьмем его помогать нам рыбачить.
Он поможет нам вытаскивать сети, если улов будет
хорошим. — Рыбак снова наклонился над Архилом. — Да ну,
просыпайся же, лентяй! — тронул он за плечо мальчика.
— Я давно уже был бы на ногах, если бы у меня не
болело так сильно колено, — приподнялся Архил. — Я с
трудом могу наступать на правую ногу.
— Покажи мне твое колено, — уже серьезно сказал
сын рыбака.
Архил приподнял больную ногу обеими руками. Она
была разбита в кровь, и на ней видны были большие
ссадины.
— Здорово! — усмехнулся молодой рыбак. — В драке
подбили? — сочувственно спросил он. — Ну, не беда.
Скоро заживет. Обопрись о мое плечо! Пойдешь с нами
рыбачить? До бухты, где стоит наша лодка, совсем недалеко.
Пошли! Ступай смелее! Дойдешь?
— Обожди, сынок, — остановил его старик, — ведь
мальчуган еще не дал тебе согласия идти с нами в море.
Да он, как видно, голоден. Пусть поест сначала. — И
старый рыбак протянул Архилу кусок лепешки и вяленую
рыбу, достав все это из своей корзинки. — Возьми, поешь
немного, дружок, а после потолкуем.
— Ты сирота? — спросил у Архила молодой рыбак,
поправляя сети, чтобы их было удобнее нести.
Он бросил пристальный взгляд на Архила, с жадностью
доедавшего рыбу.
— Мать недавно умерла, — коротко ответил мальчик, —
а отца я почти не помню... его нет уже давно.
— Как же ты живешь один? — поинтересовался
старый рыбак.
— Я работал учеником у горшечника Феофраста в
Афинах, — начал было Архил, — но...
276
— Ладно. Подробно расскажешь все нам потом, а то
время уходит, — перебил его сын старика. — Так поедешь
с нами? — спросил он.
— Не знаю... — нерешительно отозвался мальчик. —
Обожди немного, я поговорю с твоим хозяином, —
деловито сказал он и, хромая, подошел к старику. — Скажи
мне, ты не против того, чтобы взять меня с собой
рыбачить? — спросил он. — Только знай, я ничего не умею
делать: ни сети забрасывать, ни рыбу солить. Мне никогда
этого не приходилось делать.
— Научим, — ласково усмехнулся старик. — На-ка
вот, неси эту корзину и кувшин с водой, а я возьму часть
сетей у сына.
— Голодать не будешь! — засмеялся молодой рыбак. —
Рыбной похлебки на твою долю хватит. Ну, пошли!
Попутного ветра нам остается пожелать, — добавил он.
Не говоря больше ни слова, Архил поставил на плечо
глиняный кувшин и, прихрамывая, поплелся позади
рыбаков, шагавших к лодке у причала.
Утро было ясным и безоблачным. Лодка скользила по
морской глади, оставляя за собой темную полосу. Над по-
277
верхностью водяного простора проносились птицы,
гортанными криками нарушавшие окружающую тишину. Ни
одного встречного корабля не было заметно в это утро на
горизонте. Архил, сидевший на корме лодки, заглядывал в
глубину прозрачной воды, поражался красоте морского
мира, ласковому шепоту волн, ослепительному блеску
солнца. Множество мелких рыб проплывали, проворно работая
плавниками, мимо борта лодки, нисколько не пугаясь
ударов весел по воде. Они то резвились на прозрачной
поверхности воды, то вдруг ныряли в глубину моря.
Мальчик с жадностью вдыхал живительный морской
воздух моря, насыщенный свежестью утра и запахом
водорослей и рыбы. И на сердце у него становилось все
спокойнее и радостнее. Забывались тревоги и волнения,
казавшиеся еще вчера такими сложными и тяжелыми.
Рыбаки старались не отходить слишком далеко от
берега, рассчитывая бросить якорь и сети неподалеку от
мыса Суния.
Невольно Архил запел песенку о весне, которую он пел
редко, только когда на душе у него было особенно радостно:
И звенят и гремят вдоль проезжих дорог
За каймою цветов многоголосые
Хоры птиц на дубах. С близких гор и лагун
Вода с высоты льется студеная,
Голубеющих лоз — всходов кормилица.
Он пел про камыш, стоявший у берега в зеленых
шапках, про кукушку, громко певшую о приходе весны.
— Неплохо поёшь, мальчуган, — заметил старый
рыбак. — Когда-то и я был мастер петь хорошие песни. А
теперь вот все позабыл.
— Евр1 поднимается с востока! — строго заметил
молодой рыбак отцу. — Чем слушать песни мальчика,
велика лучше ему готовить парус! Объясни, как нужно
прикреплять его к мачте, а я один пока буду грести.
— Зря торопишься, сынок, — спокойно ответил старик,
прикладывая руку к глазам и вглядываясь в даль. — Плыть
нам осталось уже недалеко, а ветер на море часто меняет
направление. Я больше опасаюсь Нота2, чем Евра. — Нот
1 Евр — бог восточного ветра.
2 Нот — бог южного и юго-восточного ветра, приносящий туманы и
дождь.
278
принесет нам туман и дождь, но и это еще трудно
предвидеть. Пока еще дует утренний Зефир1 и на небе не видно
ни облачка.
И все же старый рыбак сложил свои весла и принялся
объяснять Архилу, как нужно натягивать парус на мачту.
Он озабоченно поглядывал на восток, при этом следя за
направлением ветра.
— Пожалуй, ветер-то скоро будет дуть с запада, —
заметил он, покачивая головой.
— Тем хуже для нас! — коротко отозвался его сын. —
Тогда улов будет хуже, чем мы ожидали. Погода
изменится к худшему.
Архил с удивлением прислушивался к их разговору. На
небе не было по-прежнему ни облачка. Трудно, казалось
ему, предсказывать изменение погоды к худшему, как
опасались рыбаки. Он следил за птицами, беззаботно
летавшими над лодкой с громкими криками.
— Почему вы оба ожидаете, что погода изменится к
худшему? — спросил он у рыбаков. — Море ведь
совершенно спокойно. И птицы беззаботно кружатся над нашей
головой.
— Ты новичок в этих делах, — не сразу ответил
старик, — где тебе знать капризы моря!
— И запомни, мальчик, — строго добавил молодой
рыбак, — как раз то, что птицы кружатся над нашей
головой, и говорит о том, что погода может измениться. Они
это часто предсказывают... Пора ставить парус, — сказал
он. — Смотри, мальчик, как его надо закреплять, —
подозвал он к себе Архила. — Рыбаки и птицы редко
ошибаются в предсказаниях погоды, — продолжал он немного
погодя, снова садясь на свое место. — Ветер мы любим, но
вместе с тем и боимся его. Много бед приносит ветер нам,
морякам! Особенно, когда мы выходим в открытое море.
Неподалеку от мыса Суния рыбаки бросили якорь.
Лодка теперь стояла неподвижно.
— Пора приниматься за работу! — строго сказал
старик Архилу. — Доставай конец сетей, подтаскивай их к
борту лодки.
Сети были заброшены в море. Рыбаки убрали мачту и
парус на дно лодки.
1 Зефир — западный ветер, приносящий весну.
279
— Мы долго будем стоять у этого мыса? —
поинтересовался Архил, принявшийся по приказанию молодого
рыбака вычерпывать воду из лодки.
— Придется нам запастись терпением, — коротко
ответил старый рыбак. — До захода солнца времени еще
много. А там посмотрим, как пойдет рыба.
* * *
Архилу казалось, что весь этот день, проведенный с
рыбаками, на всю жизнь останется для него памятным днем.
Улов был хороший. Рыбаки уверяли, что это он
принес им счастье, и от всего сердца радовались, что он
поехал с ними.
Вечером, когда на берегу разожгли костер и в котелке
закипела похлебка, глаза у Архила совсем смыкались. Он
едва смог поесть немного похлебки, как уснул тут же, у
костра, на траве, под убаюкивающий прибой волн.
* * *
— Почему бы тебе не остаться жить с нами
постоянно? — спустя два дня молодой рыбак говорил Архилу,
положив руку ему на плечо. — Ведь в Афинах, ты сам
говорил, у тебя нет родных. Почему же ты так часто
вспоминаешь о городе и торопишься вернуться туда?
Архил опустил голову.
— Ты сказал верно, — отозвался он, — в городе у
меня нет родных, но там живут мои друзья, они тревожатся
обо мне и, наверное, ждут меня...
Говоря так, он думал об Алкиное и Клеоне.
— А нам с сыном жалко расставаться с тобой, —
выбрасывая на песок рыбу из сетей, пробурчал старый
рыбак, — хотя всего несколько дней прошло, как мы живем
вместе, но ты пришелся нам по сердцу. И нам обоим
кажется, что знаем мы тебя давным-давно... Мы успели
привыкнуть и привязаться к тебе, мальчуган. Да и дело у нас
в рыбачьем поселке нашлось бы для тебя. Ведь сын мой
не только рыбак, он еще и кузнец! Ты мог бы обучиться у
него кузнечному делу.
Архил молчал. Дни, прожитые им с приветливыми
рыбаками, многому научили его. Они заставили его узнать
труд, которого прежде он совсем не знал, научили его вы-
280
держке, которой было так мало в его характере, заставили
его не теряться при опасности и при неожиданных
осложнениях. А главное — эти дни научили его любить море,
морской простор, запах водорослей.
И все же привыкшему к работе в гончарной мастерской
Архилу было в то же время почему-то тоскливо на
сердце. Ему не терпелось сесть снова за свой гончарный круг,
хотелось послушать веселые шутки Пасиона. Ему хотелось
снова увидеть серьезное, строгое лицо своего друга Алки-
ноя, его неудержимо тянуло возвратиться в скромный
домик художника, где он встретил столько ласки и
заботливого отношения к себе, одинокому сироте.
Однажды, когда поздно вечером рыбаки разожгли на
берегу костер, чтобы варить ужин, Архил ушел подальше по
берегу моря, чтобы побыть одному.
Волны с глухим, все нараставшим рокотом набегали на
крутой берег, яростно ударялись в него и, рассыпаясь
белой пеной, словно нехотя возвращались обратно в морскую
пучину. Архилу казалось, что это ударяется о берег не
вода, а кто-то сильный и могучий хочет выбраться из глубин
моря на берег, но берег сурово и резко отбрасывает его
назад, заставляя бессильно отступать.
Долго мальчик стоял так, вглядываясь в прибой волн,
и думал. Новые мысли и чувства охватывали его душу.
— Вот так и в жизни бывает! — словно читая его
мысли, проговорил старый рыбак, незаметно подойдя к
Архилу. — Так же вот, как волна, и человек стремится к чему-
то заветному, лучшему в жизни, а жестокая, тяжелая жизнь
грубо отбрасывает его обратно в пучину.
Архил внимательно посмотрел на старика.
— Ведь и у меня когда-то была заветная мечта, —
продолжал старик, — хотелось мне стать хорошим мореходом,
плавать по незнакомым морям, видеть чужие земли, да вот
не удалось и теперь приходится всю жизнь рыбачить у мыса
Суния.
Они постояли молча некоторое время, наблюдая за
прибоем, думая каждый о своем.
— А у тебя, Архил, была когда-нибудь своя, заветная
мечта? — неожиданно спросил старик.
— Была, — не сразу ответил мальчик. — Мне хотелось
прежде стать хорошим бегуном или борцом, но теперь я
думаю уже о другом... — поспешил добавить он.
281
— О чем же? — коротко спросил рыбак. — Расскажи
мне...
— Поймешь ли ты меня, не знаю, — немного замялся
Архил. — Но я все равно скажу тебе. Слушай! Я хочу стать
большим, хорошим художником, которому дано богами
изобразить все то, что видят его глаза, что чувствует его
сердце... Понятно это тебе?
— Так, так, — покачал с сомнением и удивлением
головой старый рыбак, — вот ты какой! Ну что же, —
добавил он, немного помолчав, — старайся добиться, мальчик,
того, что хочет твое сердце. Это тебе будет нелегко. Как
вот эту морскую волну, будет жизнь ударять и
отбрасывать тебя назад, а ты все же не отступай. Борись! Нужно
быть упорным и сильным! Только тогда ты победишь в
борьбе и с людьми и с жизнью! А я вот не сумел — сдался!
И поэтому никогда не быть мне мореходом!
— Отец, — послышался голос молодого рыбака, —
похлебка готова. Ступайте ужинать!
— Я не хочу есть! — вздохнул Архил. — Я еще
немного побуду здесь на берегу!
— Оставайся. Я пойду один, — сказал рыбак. — А
слова мои ты запомни, сынок! Они тебе в жизни пригодятся.
И оставлять тебя рыбачить с нами больше я не стану... иная
дорога, как я вижу, у тебя... Что же, иди по своему пути!
Может быть, твои друзья в Афинах помогут тебе больше,
чем мы, простые рыбаки... но ты все же помни, —
остановился старик, отойдя немного, — в рыбачьем поселке,
неподалеку от Пирея, у тебя теперь тоже есть друзья,
которые всегда тебя примут охотно в своем доме.
Оставшись один, Архил подошел еще ближе к самой
воде. Ветер изменил направление, и прибой стал
мало-помалу затихать. Волна уже не ударялась больше с такой
силой о берег. Из-за облака вышла большая светлая луна, и
золотая широкая полоска пролегла от нее по морю.
Архил не мог отвести глаз от этой дорожки, задумавшись
о том, что прежде никогда не приходило ему в голову.
Наступил день, когда лодка рыбаков, нагруженная
рыбой, подошла к своему причалу поблизости от Пирейского
порта. Новые друзья сердечно простились, и Архил весе-
282
ло зашагал к Афинам, неся на плече тяжелую корзину с
рыбой, которую рыбаки посылали в подарок Алкиною.
— Архил! Мальчик мой! — неожиданно услыхал он
знакомый голос.
Архил замер на месте.
Руки Алкиноя обнимали его.
— Где пропадал ты все эти дни? Ведь я каждый день
приходил после работы в порт искать тебя!
— Ты искал меня в порту? — удивился Архил. —
Наверное, Клеон рассказал тебе, что мы с ним ушли сюда из
Афин, чтобы искать тут работу, — сообразил он.
— Обожди, я все объясню тебе! — прервал его
художник. — Но прежде ты должен мне искренне сказать, что
заставило тебя уйти из моего дома. Кто обидел тебя? Ведь
мы с Доридой не спали эти ночи, ожидая твоего
возвращения.
— Я расскажу тебе обо всем, — мальчик опустил
голову, — и ты поймешь, почему я ушел от тебя. Не понять
ты не можешь.
Уже совсем стемнело, когда они оба, переговорив обо
всем, что лежало на сердце у обоих, радостно и быстро
шагали по предместью Афин, приближаясь к родному дому.
— А ведь мы с Доридой мечтали, Архил, — говорил Ал-
киной, — что ты заменишь нам нашего рано умершего
сынишку. И радовались, веря в твою привязанность к нам
обоим, — тихо сказал он, — но ты ушел от нас, даже не
подумав, сколько тревог ты причинишь нам своим уходом!
— Я не хотел огорчать вас, верь мне! — покачал
головой мальчик. — Я постараюсь стать для вас неплохим сыном.
— Еще одну новость не сказал я тебе, — улыбнулся Ал-
киной. — После твоего ухода я сделал новую амфору для
племянника Перикла, и хозяин был доволен. Он согласился
снова взять тебя учеником в свою мастерскую. Он все
забыл, Архил. Забудь и ты то, что было. Прости ему обиду.
— Я сделаю это, отец, ради тебя, — взволнованно
произнес Архил, называя впервые Алкиноя отцом.
* * *
На другой день в гончарной мастерской Архила и
Алкиноя все встретили так, как будто бы ничего не произошло.
— Садись-ка, молодой гончар, поскорее за работу! —
торопил Архила Пасион.
283
— Нет, мальчик больше не будет твоим учеником! —
подошел к ним хозяин. — Придется тебе, Пасион, отдать
его в ученики Алкиною. Пусть он учится разрисовывать ке-
рамос, а тебе я дам в ученики варвара Скифа, — с
улыбкой добавил Феофраст.
Пасион только пожал в ответ плечами.
— Твоя воля. Ты хозяин. Выходит только, что я зря
потратил время, обучая Архила своему мастерству!
Хозяин ничего не ответил ему и направился к столику
художника Алкиноя.
— Смотри, сын художника, — обратился он к Архи-
лу, — прилежно трудись. И я и твой приемный отец — оба
мы хотим добра тебе! И теперь только от тебя зависит стать
таким же хорошим мастером, как Алкиной.
Усевшись на полу на циновке возле столика
художника, Архил усердно принялся растирать краски. После
всего, что пришлось пережить за последнее время, жизнь снова
казалась ему веселой и радостной. И Архилу не терпелось
доказать друзьям, что он стал теперь совсем иным, чем был
прежде.
— Архил! — неожиданно услышал он тихий голос
позади. — Я хочу сказать тебе кое-что...
Он с удивлением обернулся. Позади него стоял Скиф.
— Я очень скучал без тебя, — продолжал невольник.—
И еще... — Скиф тяжело вздохнул, — я понял, что
ошибался, считая тебя врагом. Ты не захотел того, чтобы
хозяин бил меня, хотя я был виноват. И ты пожалел меня.
Так мог поступить только друг. Теперь я все понял: ты
хороший. Ты друг мне! Прости меня.
Мальчик-невольник торопился высказать Архилу все,
что накопилось за эти дни у него на сердце, он задыхался
от волнения, не находя слов, чтобы выразить свои мысли
и чувства.
— К чему вражда между нами, Скиф! — пожал
плечами Архил. — Да, я пожалел тогда тебя, я понял, как
тяжело тебе живется, вот и все. И дружить с тобой я
согласен. Мы оба ученики в мастерской нашего хозяина, оба
бездомные сироты, почему нам не жить как братья?
— Братья? — удивился Скиф. — Но ты забыл, Архил,
что я теперь стал рабом, а ты свободный!
— Нет! Я ничего не забыл, — покачал головой
Архил. — Но ты моложе меня годами и слабее силами, и я с
этого дня беру тебя под свою защиту. Понял?
284
Скиф ничего не успел ответить.
— Ступай на свое место, Скиф! — послышался сердитый
голос Пасиона. — Работа не ждет, болтать будешь после.
Скиф отошел от Архила и торопливо уселся на то
место возле гончарного круга, которое совсем недавно Архил
считал своим местом в мастерской хозяина.
* * *
Жизнь Архила постепенно входила в прежнюю колею.
На рассвете каждого дня он шагал рядом с Алкиноем
на работу в гончарную мастерскую Феофраста, а
вечерами возвращался вместе с ним домой, в маленький уютный
домик на Керамике.
Теперь у Архила была своя семья и свой дом, где,
приходя с работы, он всегда встречал заботу приемной
матери, чинившей его одежду, кормившей его сытным обедом.
Часто, наблюдая за работой своего приемного отца в
мастерской Феофраста, Архил думал о том, что давно уже
не выходило у него из головы:
"Каким счастьем было бы для меня научиться так же
легко и красиво разрисовывать керамос, как делает это
отец! Но разве научусь я этому, если сам никогда не
пробовал сделать ни одного рисунка на сосуде... Отец говорит,
что мне рано думать об этом".
Архил припоминал все рисунки, сделанные Алкиноем
за то время, как он, Архил, работал в мастерской
Феофраста. Одни из них были обыкновенными, как ему казалось,
не обращали на себя особого внимания, зато были и
такие, от которых невозможно было оторвать глаз, хотя бы
амфора с танцовщицей.
"Как хотелось бы мне самому, — думал мальчик, —
попробовать нарисовать такой рисунок, хотя бы на одной из
старых, негодных для продажи ваз!"
Архил огорченно вздохнул.
— Рано тебе начинать с таких рисунков, — заметил
однажды Алкиной на его просьбу об этом.
"Но ведь он обещал мне проверить как-нибудь, смогу
ли я когда-нибудь стать художником! — думал мальчик. —
Нет! Не нужно этого откладывать надолго. Попрошу еще
раз отца сегодня же позволить мне сделать самому
рисунок на одном из сосудов!" — решил Архил.
Думая об этом, Архил совсем позабыл о той работе,
которую поручил ему художник.
285
Алкиной давно уже наблюдал за Архилом. Его
волнение не укрывалось от внимательных глаз художника.
— Какие мысли так увлекли тебя, сынок, что ты совсем
позабыл о кратере, который я просил тебя отшлифовать.
— О отец! — смутился мальчик, подавая ему кратер. —
Я не могу больше ждать! Разреши мне, прошу тебя,
самому разрисовать один из сосудов. Ты ведь хотел убедиться,
выйдет ли из меня когда-нибудь художник. Мне и самому
не терпится узнать это. Разреши, отец, попробовать, —
совсем тихо повторил Архил.
Алкиной немного подумал.
— Хорошо, Архил, — наконец согласился он, —
ступай, выбери себе один из сосудов, лежащих под полкой в
углу и начни рисовать на нем, подготовив его так же, как
готовишь ты сосуды для меня. Рисунок выбери по своему
вкусу.
Долго искал юный гончар для себя сосуд. Когда
наконец выбор его остановился на одной из амфор, он уселся
с ней скромно в углу и принялся за работу. Тонкой
кистью мальчик нанес на красноватый фон амфоры фигуру
танцующей женщины, а затем осторожно покрыл фон сосуда
черным лаком. После этого Архил тонкими штрихами стал
отделывать детали одежды и лица танцовщицы.
Время шло совсем незаметно для Архила.
В гончарной мастерской становилось все темнее и
темнее. День подходил к концу. Но, увлеченный работой,
Архил не замечал этого. Он совсем согнулся над столиком,
держа на коленях амфору. Мальчик ни у кого не
спрашивал советов и указаний. Он решил сделать работу сам, как
сможет. Лицо его от напряжения было покрыто мелкими
каплями пота. Ноги затекли от долгого сидения в
неудобной позе, но и этого не замечал Архил, стараясь
нарисовать как можно лучше хотя бы часть рисунка.
— Пора кончать работу, друзья! — сказал громко
Алкиной, в этот день снова остававшийся за старшего в
мастерской Феофраста.
Пасион тотчас же стал убирать свою работу. Скиф
побежал за свежей родниковой водой для похлебки, которую
собирался варить для них на ужин старый Анит. Архил
продолжал неподвижно сидеть, низко склонившись над своей
работой.
Подойдя ближе к нему, Алкиной взглянул на его рису-
286
нок и едва сдержал возглас удивления. На старом,
надтреснутом сосуде, покрытом черным лаком, было тщательно и
правильно нарисовано красноватое изображение фигуры
танцующей женщины. Легкими штрихами Архил даже
наметил складки ее одежды. Но главным, что поразило
художника в его рисунке, было лицо танцовщицы, живо
напомнившее ему изображение этого лица на амфоре,
проданной племяннику Перикла...
Как мог Архил запомнить выражение лица
танцовщицы? Этого не мог понять Алкиной. Для него было ясно
теперь одно: Архил обладал несомненно прирожденными
способностями художника и прекрасной зрительной памятью.
Разумеется, Алкиной сразу же заметил опытным взглядом
мастера немало недочетов в рисунке своего ученика, но эти
недочеты можно было все устранить впоследствии. Важно
было одно: Архил мог и должен был стать со временем
хорошим художником. А это было то, чего хотел и в чем
боялся ошибиться Алкиной.
— Хорошо! Очень хорошо, мой мальчик! — сказал он
растроганно. — Я никак не ожидал, что ты сумеешь
сделать такой рисунок на амфоре! Да! Тебя нужно учить
мастерству художника, и это не будет напрасная работа!
— О отец! — смущенный его похвалой, прошептал
Архил. — Я ведь еще не закончил рисунок, разреши мне
доделать его.
— На первый раз, сынок, ты поработал достаточно, —
отстранил его немного от себя художник, — отдохни
теперь, пока я уберу мою работу, а после мы поговорим с
тобой о тех ошибках, которые ты сделал в рисунке.
Однако, прежде чем поставить на столик работу
своего ученика, художник еще раз внимательно склонился над
ней, вглядываясь в каждую линию рисунка, сделанную Ар-
хилом.
— Как же мне понять тебя? — сразу опечалился
мальчик. — Ведь ты только что похвалил меня, а теперь
выходит, что моя работа сделана совсем плохо.
— Я сказал тебе правду, Архил: работа твоя неплоха для
первого раза, и она говорит мне о том, что боги не лишили
тебя дара художника, но до настоящего мастера тебе еще
далеко. И ты должен это знать! Многому терпеливо и
усидчиво придется тебе поучиться еще, мой мальчик, прежде чем
твои рисунки не будут нуждаться в исправлении.
288
* * *
— Нелегка наша работа по росписи керамос, сынок! —
немного спустя говорил Алкиной своему ученику. — Очень
много терпения и любви к этому делу требует она. Кроме
одаренности, художнику необходимо еще развить у себя
легкость руки, точность глазомера, наблюдательность ко всему
окружающему. Нужно постичь умение проводить палочкой
и кистью тончайшие линии на лицах людей, на рисунке их
одежды. Немало самых сложных узоров должен заставить
хороший учитель нарисовать своего ученика, украшая
рисунок орнаментом, прежде чем доверить ему рисовать на
сосудах фигуры и лица. Он должен привыкнуть сначала
выполнять тщательно детали рисунка. Самую сложную
работу по разрисовке ваз и амфор хороший художник долго не
доверит даже самому способному ученику. Без терпения
и навыка стать хорошим мастером невозможно.
Архил внимательно слушал своего друга и учителя.
Было уже совсем темно, когда художники, отец и его
юный сын, покинули мастерскую Феофраста и направились
домой.
У ХОЛМА ПНИКСА
Толпа мальчишек с громкими криками бежала по
улицам города, поднимая ногами тучи пыли:
— Глашатаи!1 Глашатаи идут!
Их крики разбудили афинян. У калиток домов стали
появляться люди.
— Странно, почему это Совет Пятисот с раннего утра
послал по улицам Афин глашатаев? Наверное, случилось
что-то необычное! — взволнованно спрашивали друг у друга
жители города.
— Должно быть, глашатаи посланы сообщить об эк-
клесии!2 Только и всего! — зевая, говорили мужчины.
— Но ведь в Афинах у нас давно уже установлен
порядок, что об экклесиях сообщается заранее надписями на
больших камнях на перекрестках дорог! — возражали
некоторые из афинских граждан. — Если теперь Совет
Пятисот послал своих вестников, то, должно быть, экклесия
будет особо важной и срочной.
1 Глашатай — вестник, посылавшийся возвестить важное событие.
2 Экклесия — народное собрание в древней Элладе.
289
10 532
Глашатаи приближались. Зазвучали звуки трубы,
призывая к тишине и порядку. Волнение на улицах города
нарастало.
Внезапно трубы умолкли. Глашатаи остановились на
скрещении дорог.
— Граждане Афин, — громко начали они, —
внимайте нашим словам!
Толпа людей, окружившая их, мгновенно утихла.
— С рассветом нового дня спешите все на экклесию,
кроме метеков1, а также кроме женщин и рабов! Вы,
почтенные старцы, — обратились глашатаи к старикам, — и
вы, юноши Афин, достигнувшие совершеннолетия,
спешите на холм Пникса на экклесию!
Толпа расступилась, давая им дорогу.
Возле портиков храмов, где обычно толпилось много
народу, чтобы побеседовать с философами, глашатаи еще раз
повторили свое сообщение. Затем они поспешили в ту часть
площади, где работали ремесленники.
— Внимайте! Внимайте словам нашим, граждане
Афин! — громко провозглашали они по пути. — Как
только на небе появится розовоперстая Эос2, спешите все на
холм Пникса на экклесию! Но не зовите туда с собой ни
рабов, ни метеков, ни женщин, ни детей!
Их тотчас же окружили со всех сторон.
— О чем будут говорить на экклесии? — спросил
старик ремесленник.
— Там будет объявлено решение суда о метеках Ясоне
и Лисандре, присвоивших себе звание афинских граждан.
Кроме того, будет объявлено о введении в права наследства
Антея из рода Фесторидов и Леонида, сына Леагора.
— Только и всего? — послышались разочарованные
возгласы.
— А что, имущество осужденных передадут в казну?
— И их обоих, наверное, вышлют в Клерухии?3
Новые вопросы сыпались со всех сторон.
— Узнаете, граждане, все на экклесии! — крикнул
глашатай.
1 Метеки — чужеземцы, поселившиеся в Афинах, занимавшиеся
ремеслами и торговлей. Они не имели прав афинских граждан, но несли
государственные повинности.
2 Розовоперстая Эос — утренняя заря.
3 Клерухии — колонии, земли союзников Афин. Переселение туда
граждан из Афин и метеков было мерой политического и военного
контроля над союзниками.
290
— Первый Стратег, Перикл, на этот раз будет
выступать на экклесии? — спросил один из ремесленников.
— Да. Первый Стратег наш даст на экклесии отчет
демосу1 в израсходовании им средств на постройку храмов в
Афинах! — последовал короткий ответ глашатая.
Толпа сразу зашумела:
— Давно бы так!
— Демос ждет отчета от Перикла!
Люди на торговой площади Афин еще долго
обсуждали все услышанное ими в это утро, а глашатаи были уже
далеко от агоры, торопясь в пригородные селения.
* * *
Возвращаясь из порта в свою мастерскую, богатый
горшечник метек Никосфен остановился возле лавки соседа
гончара Феофраста. Некоторое время он молча наблюдал
за тем, как шла работа у соседа. Никосфену казалось
удивительным, как это хозяин не кричал на рабов, не бил их
кнутом, не угрожал своим гончарам-фетам прогнать их из
своей мастерской, чтобы заставить быстрее работать?
— Скажи по совести, Феофраст, — спросил он
соседа, — как это тебе удалось найти для своей гончарной
мастерской таких фетов, которые работают на тебя без
понукания? И еще объясни мне, как у тебя получается, что
твои рабы работают без кнута? Или ты фетам платишь
больше оболов, чем другие горшечники? А что касается
работы, то еще ведь великий Гомер сказал:
Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу сам не возьмется охотой.
Или ты позабыл слова Гомера?
Феофраст рассмеялся:
— Ошибаешься, Никосфен! Гомера читал я не раз.
Наизусть знаю много его стихов. И все же держусь своего
мнения: фетам плачу столько, сколько они заслуживают,
а рабов кормлю досыта и не бью. И они за это преданны
мне.
— Противно слушать! — гневно воскликнул
Никосфен. — Своими словами ты только подтверждаешь то, что
говорят о тебе в Афинах: будто ты безумец и глупец. Да
кто же не знает, что рабы прожорливы и нерадивы? Кто
1 Демос — народ, свободные граждане древнегреческих общин.
291
поверит твоим словам, что они тебе преданны? Все это
пустая болтовня!
— Возможно, что я безумец и глупец, — строго
ответил Феофраст, — но я привык верить людям.
Никосфен в ответ только рассмеялся:
— Да неужели же ты не знаешь того, что твой Паси-
он отдает тебе неполностью драхмы, которые он получает
от продажи керамос в порту? Бездельник пропивает твои
деньги в лавчонках у виноделов, а ты веришь ему! Мастер
твой, художник Алкиной, всегда торопится уйти пораньше
из твоей мастерской, чтобы не опоздать в свою
гимнастическую школу. А мальчишка — ученик твой Архил, так,
кажется, зовут его — лентяй и грубиян. Он только и
делает, что бегает по агоре, когда тебя не бывает в лавке.
— Я не хочу больше слушать твою болтовню, —
спокойно отозвался Феофраст.
Он вышел во двор, где раб Анит растапливал печь для
обжига глиняной посуды. Никосфен только махнул рукой
ему вслед.
Внезапно черная туча закрыла собой большую часть
неба. В мастерской Феофраста стало темно.
Хозяин позвал Архила и Скифа и приказал им убрать в
пристройку для рабов весь керамос, просушивавшийся во
дворе. Первые капли дождя упали на пересохшую землю.
Однако дождь не был продолжительным. К вечеру
ветер разогнал все тучи, и яркие звезды снова засветились в
темноте ночи на ясном небе. Опираясь на высокие
посохи, задолго до рассвета афинские граждане потянулись из
пригородов к холму Пникса на экклесию. Они шли
медленно по дороге, переговариваясь негромко между собой. В
небольших мешках из холста они несли с собой ячменные
лепешки, головки чеснока и кувшины с вином,
разбавленным водой, чтобы позднее подкрепиться неподалеку от
Пникса.
Вскоре и афиняне присоединились к ним.
Конные воины то и дело обгоняли пешеходов. Группы
ремесленников, весело беседуя друг с другом, шли по
пыльной дороге, не желая опаздывать на народное собрание.
Алкиной рано вышел из дому, чтобы встретиться по
пути с Дракилом, как они договорились заранее. Однако и
он и Архил, сопровождавший его, прошли уже почти
половину пути, а кузнеца не было видно нигде.
292
— Тебе пора, Архил, возвращаться обратно! — строго
заметил художник. — Иначе ты можешь опоздать в
мастерскую и хозяин будет бранить тебя. Ступай, мальчик!
Архилу очень хотелось послушать, что будет говорить
на Пниксе Перикл.
— Позволь мне, отец, на этот раз немного задержаться
здесь, — робко попросил он, когда они с Алкиноем уже
подходили к решетке, отделявшей равнину у храма от холма.
С живым интересом Архил разглядывал равнину, на
которой граждане Афин собирались на народные собрания.
Неподалеку от входа он увидел жертвенник, на котором
всегда перед собранием приносились жертвы богам;
недалеко от жертвенника лежал большой белый камень,
служивший обычно трибуной для ораторов.
Много людей толпилось возле него, отыскивая места
поудобнее.
Мальчик с удивлением взглянул на отца, медлившего
с ответом.
— Ты говоришь вздор, Архил! — наконец сказал
строго художник. — Ты только опоздаешь на работу в
мастерскую. Да и кто дал тебе право присутствовать на эккле-
сии? Вот когда станешь эфебом, когда тебя внесут в
списки афинских граждан, тогда ты сможешь и даже должен
будешь смело идти на народное собрание. Всему приходит
свое время, мальчик!
Топот конских копыт заставил их посторониться.
Мимо художника и его сына пронеслась небольшая
колесница, запряженная четверкой белых коней.
Молодой воин стоял у передка колесницы, управляя
конями.
Архил проводил его глазами, полными восхищения.
— Ты узнал этого воина? — с улыбкой спросил Алки-
ной сына.
— Он проехал так быстро, что я не разглядел его
лица. Но правит конями он хорошо. Кажется, что кони его
не бегут, а просто летят по дороге, — сказал Архил.
— Это же был племянник Первого Стратега, купивший
у нас амфору с танцовщицей! — покачал головой художник.
Архил все еще смотрел вслед промчавшимся коням.
Казалось, он не слыхал слов отца.
— Должно быть, нелегко управлять четверкой коней! —
задумчиво произнес мальчик вслух свою мысль.
293
— Это совсем не трудно, сынок, для того, кто с детских
лет привык править конями, — снова улыбнулся
художник. — Мой отец вот так же обучал меня с юного
возраста езде на конях верхом и в колеснице, — вырвалось у
него, — а наших афинских юношей обучают умению
править конями в военных школах, где обучаются эфебы.
— Кем же был твой отец? — с удивлением посмотрел
на Алкиноя Архил. — И почему обучал он тебя управлять
колесницей? Разве он был эвпатридом? А я считал, что ты
всю жизнь был бедняком.
— Нет, я родился в зажиточной семье, — нахмурился
художник, досадуя, что невольно вспомнил свое прошлое, —
да разве я тебе не рассказывал о своей юности? Мой отец
сам был воином, и ему хотелось, чтобы я, младший,
любимый сын, последовал его примеру: учил меня с детства
метать копье, бороться, править колесницей, но, как видишь,
мечтам моего отца не суждено было сбыться. Он рано умер,
а я стал не воином, а простым ремесленником! — с горечью
закончил Алкиной.
— Я ничего не знал об этом! — пристально посмотрел
на него мальчик. — Расскажи мне.
— Лучше не будем вспоминать об этом тяжелом
прошлом! — прервал его Алкиной.
* * *
Колесница правителя Афин, Перикла, запряженная
золотистыми конями, одной из последних остановилась у
решетки, неподалеку от храма.
Выглянувшее из-за облака восходящее солнце
осветило холм Пникса и многочисленных людей, собравшихся
возле камня и жертвенника.
Внезапно толпа людей дрогнула и подалась назад. Один
из руководителей экклесией начал проверять по спискам
имена людей, явившихся в это утро на народное собрание.
Жрец терпеливо ждал, когда можно будет приступить к
жертвоприношению. Большой тонкорунный баран, опустив
голову с крутыми рогами, понуро стоял возле жертвенника.
Несколько ремесленников вместе с Дракилом и Паси-
оном разглядывали жертвенное животное.
Отойдя в сторону от них, Алкиной неожиданно
столкнулся с тремя богато одетыми людьми,
приветствовавшими его небрежным кивком головы.
294
— Обожди немного, художник, — обратился к нему
один из этих людей, — ты лучше, чем кто-нибудь другой,
сможешь разрешить наш спор.
Алкиной остановился.
— Скажи нам, сын Эния Кадрида, — продолжал
молодой эвпатрид, — сколько тысяч драхм присвоил себе из
казны архэ приятель Перикла, пройдоха Фидий? Он,
думается мне, не дешево взял с Перикла за свою статую богини
Афины для храма в Акрополе?
Говорить с этими людьми о неподкупной честности, о
благородстве великого ваятеля Фидия не имело смысла.
И Алкиной ответил коротко:
— Афинские граждане всегда стояли за справедливость.
Они не станут напрасно обвинять людей, преданных
родине, в нечестных поступках!
Взволнованный и негодующий, Алкиной поспешил
отойти от людей, не умевших ценить ничего, кроме денег и
знатности рода.
— Как могло случиться такое, что наш художник
затесался в толпу бездельников, да еще вступил в спор с
ними? — с улыбкой спросил Пасион у подошедшего Алки-
ноя. — Я давно следил за тобой, мастер, — продолжал
он, — и заметил, что эти люди чем-то взволновали и
расстроили тебя. Признавайся-ка откровенно: почему ты не
отчитал их, как они того заслуживают?
Пожав плечами, Алкиной ничего не ответил
горшечнику. Он все еще не мог прийти в себя от гнева.
Начавшаяся экклесия прервала разговор ремесленников.
Поднявшись на камень, притан объявил решение суда о
метеках Ясоне и Лисандре. Накануне в городе было так
много разговоров о них, что присутствующие молча
выслушали приговор и никто не захотел выступить публично.
При голосовании большинство бросило черные
камешки (осуждения) в урну возле жертвенника. Оба этих
человека приговором суда лишались имущества и высылались
на жительство в колонии.
После этого объявили о введении в права наследства
двух афинских граждан, имена которых все знали. Не
делая перерыва, притан спросил собравшихся о желании
выступить с какими-либо вопросами общественного порядка.
И тотчас же на камень с трудом взобрался горбатый
человек. С его худого лица угрюмо смотрели маленькие
недобрые глаза. Он негромко сказал несколько слов притану.
295
— Ты хочешь взять слово, Хризипп?
— Дайте возможность говорить горбуну! —
послышались голоса в толпе.
— Граждане! Лишите слова горбуна! — послышался чей-
то громкий голос с той стороны, где стояла молодежь. —
Хризипп начнет, как всегда, сыпать проклятиями и
угрозами. Он не знает, на кого ему излить злобу за то, что боги
лишили его красоты и наградили уродством.
— Запретите, граждане, разевать рты безбородым! —
злобно отозвался горбун на выкрики молодежи.
Распорядитель развел руками ему в ответ:
— Каждый гражданин архэ имеет право высказывать
свое мнение. Лишать слова на народном собрании мы
никого не можем.
С трудом был восстановлен порядок.
— Говори, гражданин Хризипп! — обратился притан к
горбуну. — Вот тебе венок из миртовых листьев, —
протянул он Хризиппу пышный зеленый венок.
Хризипп надел его на голову и, напрягая голос, начал:
— Я говорю не только за себя самого, граждане Афин.
Я буду высказывать мнение демоса. Мы хотим высказать
наше порицание Первому Стратегу. Действия его вредны
для нашего архэ!
— Ого! Смело говорит горбун! — негромко сказал,
обращаясь к соседу, один из ремесленников.
— Ничего, Перикл сумеет оправдать свои поступки! Он
твердо стоит на ногах, и врагам трудно положить его на
лопатки! — Тскч же тихо ответил с улыбкой сосед.
Алкиной и друзья его пробрались поближе к камню, на
котором говорил оратор.
— Я обращаюсь к тебе, Первый Стратег! — обернулся
лицом Хризипп в ту сторону, где находились архонты1 и
стратеги и где стоял Перикл. — Боги даровали тебе власть и
почет в Афинах. Но они позабыли наделить тебя даром
бережливости. Ответствуй нам здесь, Перикл: кто дал тебе право
расходовать с такой щедростью средства государства и
союзников на строительство храмов в Афинах? Союзники
наши ведь 5а.пи нам эти средства на защиту их от Брага.
А что делаешь ты? Вместо того чтобы надежно укреплять
Афины и стсэить триеры2, ты строишь роскошные храмы,
1 Архонты — должностные лица, выполнявшие судебные функции.
2 Триера — дт^негреческий военный корабль, с тремя рядами гребцов.
296
ставишь в них статуи бессмертных богов из золота и
слоновой кости, как видно забывая совсем, что на Афины
надвигается страшное бедствие войны! А война уже несется
к нам в Аттику из Пелопоннеса. Об этом знают все
граждане Афин. Так где же твоя совесть, Первый наш Стратег,
избранный народом? Где забота твоя о том, чтобы оградить
родину от разорения врага? О чем же ты думаешь?
Толпа на Пниксе притихла, напряженно ожидая
ответа от Перикла.
Немного помолчав, горбун продолжал:
— Спарта давно уже объединяет вокруг себя все
аристократические государства, стремясь с их помощью и
поддержкой против нас захватить власть в Пелопоннесе.
Спартанцы давно готовятся к войне! Их воины сильны, ловки и
хорошо вооружены. И спартанцы строят корабли на
случай войны с нами. А мы? Как готовятся афиняне к
надвигающейся войне? Мы даже не думаем об этом бедствии для
нашего народа. Мы заняты постройкой новых храмов в
Афинах! Мы щедро тратим золото на статуи богов! Мы дорого
оплачиваем труд зодчих и художников! Не считая драхм,
мы оплачиваем строителей этих храмов! Безумие! От лица
всего афинского демоса я требую ответа от тебя, Перикл!
Скажи нам: верно говорю я или нет? Наши союзники
доверили тебе свою казну на защиту их от врага. Куда же
расходуешь ты эти деньги, Первый Стратег Афин? Говори!
Взгляд Хризиппа был прикован к лицу Перикла.
Взоры всех граждан также были обращены к Первому
Стратегу.
— Ждем твоего ответа, Перикл!
Горбун снял венок с головы и отошел в сторону.
Толпа расступилась. К камню шел Перикл.
Глаза вождя демоса были задумчивы и грустны. Он не
смотрел на окружавших его людей. Хорошо сложенный,
стройный, невысокого роста, Первый Стратег Афин легко
поднялся на камень ораторов. Теперь он стоял на виду у
всех, уверенный и спокойный.
Выждав, пока толпа немного затихнет, он начал говорить,
обращаясь прямо к Хризиппу. На Пниксе стало тихо.
— Мне наскучило слушать от некоторых моих
сограждан, — начал Перикл, — обвинения в том, что я строю в
Афинах слишком много храмов и расходую на их
постройки и на статуи бессмертных богов большие средства. Я взял
297
слово на этом собрании демоса, чтобы дать ответ
афинянам. Но прежде я хочу ответить тебе, Хризипп, на твои
вопросы, так как знаю, что ты сторонник моих самых
злейших врагов и пришел на экклесию, чтобы бросить мне
обвинение перед лицом всего демоса.
Перикл остановился и бросил взгляд на горбуна.
— Ты утверждаешь, Хризипп, — продолжал он, — что
граждане Афин находят чрезмерными мои затраты на
постройку храма Парфенон в Акрополе. Если это так, то я
соглашаюсь покрыть все эти расходы из моих личных
средств. Но тогда на одном из камней храма в честь
богини-покровительницы Афин будет высечено мое имя как
строителя храма. Согласны ли вы, граждане, с таким
решением?
Перикл окинул взглядом толпу, стоявшую перед ним.
Всего лишь несколько секунд на Пниксе царило молчание.
Потом взрыв гневных голосов прервал тишину:
— Такого позора для нашего архэ мы не допустим!
— Постройка храма в честь покровительницы нашего
города не может быть оплачена из средств отдельных граждан!
— Афины берут на себя расходы по постройке храма
Парфенон!
— А как же быть с союзниками? — послышался
голос. — Как мы сможем обеспечить им защиту от нападения
врага, когда мы расходуем деньги на постройку храмов?
Перикл бросил взгляд в сторону говорившего:
— Нашим союзникам в случае нападения на них
врага мы дадим корабли, дадим войско — наших гоплитов* и
стрелков из лука, так как своего войска у них нет. У
нашего архэ войска хватит! Мы дадим нашим союзникам, если
Спарта нападет на них, все, что потребуется им для
защиты от врага, но отчета в израсходовании денег мы давать
не будем! — уверенно прозвучал голос Перикла.
Несколько секунд он молчал, ожидая возражений, но
их не последовало. Тогда он продолжал:
— Вот ты обвиняешь меня, гражданин Хризипп, в
беззаботном отношении к надвигающемуся на нас бедствию —
к войне с Пелопоннесом!.. Но разве тебе неизвестно, что
на верфях Пирея давно уже строятся легкие военные
триеры? Да и, повторяю, войска у Афин в случае войны со
1 Гоплиты — тяжеловооруженные воины с копьями, с короткими
мечами, в панцирях и шлемах. Это войско нападает на врага
фалангами — сомкнутыми рядами.
298
HI!
Спартой вполне достаточно! А гимнастические наши
школы готовят нам новых борцов, стрелков из лука, новых
гоплитов, да и конница у нас неплохая. Об этом хорошо
знают все те наши граждане, которые бывают на
гимнастических играх и состязаниях. Верно я говорю?
Гул голосов был ответом ему. В этих голосах
слышалось подтверждение и одобрение Первому Стратегу.
— Со стороны моря для защиты Афин нами давно уже
построена крепкая, надежная стена Пирейского порта. Или
ты позабыл об этой стене, Хризипп? Как видишь, я
забочусь не только о постройке храмов! Кроме храмов, я строю
также еще палестры — школы для наших детей. Бани,
гимнастические школы для афинян. Разве это тоже
заслуживает порицания?.. Может быть, вы спросите меня,
граждане Афин, — продолжал Перикл, немного помолчав, —
ради чего расходую я так много денег на постройки? Да. Денег
я трачу много. Но я плачу их беднякам ремесленникам
нашим с целью уменьшить их нужду. Я хочу, чтобы их дети
и престарелые родители не голодали. Поэтому и зову их
работать на постройках вместо рабов, а на это
расходуются большие средства. Так вот, теперь скажите мне вы,
граждане Афин, разумно поступаю я или нет?
Шумные возгласы одобрения встретили его слова.
Когда они немного стихли, Перикл снова взглянул в
сторону Хризиппа:
— Ты прав в одном, гражданин Хризипп! — сказал он
горбуну. — Да, я трачу немало тысяч драхм, стараясь
сделать прекрасными наши Афины. Я хочу, чтобы наш город
затмил своей красотой все города Эллады. Поэтому я
украшаю его храмами, поэтому я зову к нам в Афины
философов, ученых мужей, поэтов и художников, ваятелей. Но
разве плохо, что я к этому стремлюсь? Разве это достойно
порицания, граждане? В моих начинаниях мне помогают
друзья мои — философы Анаксагор и Сократ, ваятель
Фидий, поэты Эллады и ее художники. Так скажите же вы,
граждане Афин, разве мои мечты расходятся с вашими?
Разве мое желание сделать Афины жемчужиной Эллады
расходится с желанием всего афинского демоса?
Ему едва дали договорить. Восторженные крики
одобрения раздались со всех сторон.
Перикл улыбнулся.
— Я был уверен, что действия мои найдут одобрение
300
у вас, афиняне! — Он поднял обе руки в знак
приветствия. — Да иначе и быть не могло, — продолжал он
затем, — ведь для всех нас, афинских граждан, одинаково
дороги благополучие и слава нашей родины!
— Какой он замечательный оратор! — вырвалось у Ал-
киноя.
Художник бросил взгляд на Хризиппа, стоявшего
неподалеку от жертвенника. Горбун казался расстроенным.
Внезапно какой-то человек в богатой одежде
приблизился к камню, на котором стоял Перикл.
— Стыдись, благородный Перикл! — с гневом
обратился он к Первому Стратегу. — Как ты унижаешь себя перед
чернью! Гнев гложет мне печень1, когда я вижу, как
заискиваешь ты перед демосом, стараясь вызвать его одобрение!
Позор! Ты подобен парусу корабля, уступающему движению
ветра. Опомнись! Где твоя гордость! Знай, Перикл,
заигрывание с демосом не принесет тебе ни славы, ни пользы!
— Напрасно, Леагор, ты допускаешь, чтобы гнев так
туманил тебе голову, — спокойно взглянул на
говорившего Первый Стратег. — Я никогда не унижал себя перед
народом! И мне незачем "заигрывать с демосом", как ты
выразился. Меня и афинский демос объединяет одно: общая
любовь к нашей родине и желание ей добра. А я всю мою
жизнь стремился и стремлюсь только воспитать в моих
согражданах чувство справедливости и умение разумно
мыслить. И еще стремлюсь я к тому, чтобы афинянам была
доступна любовь ко всему прекрасному. Мне остается
только пожалеть, что тебе, Леагор, непонятно все это.
— Слава Первому Стратегу Афин!
— Хвала Периклу!
Разнеслись по всей долине громкие крики народа,
достигавшие до самых холмов Пникса, где звонкое эхо
вторило им.
Перикл спустился с камня.
— Кто хочет еще говорить, граждане? — спрашивали
пританы. — Может быть, кто-нибудь не согласен со
словами Первого Стратега?
— Кто еще берет слово?
Но в толпе все молчали. На камень больше не
поднялся никто.
1 Поговорка древних эллинов (Аристофан).
301
Лишь друзья Хризиппа, окружавшие его, пытались что-
то еще кричать, позорящее Первого Стратега, но их никто
больше не хотел слушать.
ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Прошло несколько недель. В одно летнее солнечное
утро, свободное от работы в гончарной мастерской, Алкиной
поднялся с восходом солнца, чтобы до наступления жары
немного поработать возле дома. Ему давно хотелось
посадить у входа в дом два гранатовых дерева.
Накануне вечером они решили с Архилом после
завтрака пойти вместе в гимнастическую школу, которую
художник посещал изредка после работы уже много лет.
Эта школа находилась в рощах за городом, и прогулка
туда, а также занятия гимнастическими упражнениями всегда
заставляли Алкиноя забывать и об усталости после долгого
рабочего дня, и обо всех невзгодах. Теперь ему хотелось
повести туда Архила, чтобы постараться устроить своего
приемного сына в группу младших бегунов-мальчиков, с
которыми занимался приятель его Формион. Он был уверен, что
Архил полюбит гимнастическую школу, как любил он ее сам,
да и занятия гимнастикой помогут мальчику легче
переносить усталость после работы в гончарной мастерской.
Гимнастическая школа в Афинах, открытая на
средства богатых граждан для беднейшего населения Афин,
была большой радостью в жизни тружеников-ремесленников.
Алкиной часто с увлечением рассказывал Архилу о своих
занятиях в этой школе, где он сам был борцом и бегуном
и где недавно ему поручили вести занятия гимнастикой с
подростками. И сын его с нетерпением ждал дня, когда они
вместе отправятся туда.
— Поторопись, сынок, — донесся до Архила голос
Алкиноя со двора, — нам пора уже трогаться в путь, пока
ясноликий Гелиос еще не поднялся выше. Я закончил свою
работу. Деревья посажены!
Архил не заставил себя долго ждать. Он уже нес с
собой завтрак, заранее приготовленный Доридой.
С улыбкой смотрела жена Алкиноя, как поднимались
в гору ее муж и их приемный сын, которого она успела
полюбить как родного.
302
Муж ее шагал легкой походкой бегуна. Архил
старался не отставать от него. Прохожие на улице с улыбкой
смотрели им вслед. По дороге между Алкиноем и Архилом шла
оживленная беседа о прошлом родного города, по
которому они проходили. Алкиной рассказывал мальчику то,
чего он совсем не знал, — о войнах эллинов с персами. Персы
не могли простить афинянам, что они отказались прислать
им по их требованию "землю и воду" в знак покорности
перед их силой завоевателей, как это сделали многие
государства Малой Азии, северной и средней Греции и
островов Эгейского моря.
— И вот, чтобы наказать "непокорных" и разорить их
землю, персидский царь двинулся на Аттику с
многочисленным войском. На помощь нашей родине пришли тогда
другие государства Эллады, — говорил Алкиной сыну, —
и в том числе союзники Афин — спартанцы... Началась
длительная жестокая война.
С большим вниманием слушал Архил его рассказ об
этом страшном прошлом Афин. Он ясно представлял себе
победу афинян над врагом при Марафоне, мужественную
борьбу защитников Фермопильского прохода. Он тяжело
переживал предательство изменника, помогшего персам
прорваться в Аттику, чтобы сжечь и разорить Афины...
Архил представлял себе, как огонь бушевал по городу,
уничтожая все строения, оставляя неприкосновенными
только высокие стены афинского Акрополя, из которого
афиняне поспешно вывозили ночью на лодках женщин,
стариков, детей и зерно на острова Саламин и Эгину.
А Алкиной уже описывал ему жестокий бой,
разгоревшийся на море у острова Саламин между афинянами и
персами.
— Легкие греческие боевые триеры, — рассказывал
Алкиной, — ударялись медными носами о бока тяжеловесных,
неповоротливых персидских кораблей, и эти корабли тонули
в море один за другим. Только щепки от них всплывали
на поверхности волн. Вода морская стала красной от
крови убитых воинов. И персы дрогнули. Сражение под Сала-
мином было ими проиграно!..
Художник остановился, вытирая рукой пот,
катившийся у него со лба. Архил замер на месте, погруженный в
глубокую задумчивость.
— Однако нам пора двигаться дальше, — с улыбкой по-
303
ложил ему руку на плечо Алкиной. — Идем, Архил!
Сегодня тебя ожидает в гимнастической школе еще немало
новых интересных впечатлений.
Они как раз проходили мимо статуи молодого
дискобола, изваянной ваятелем Мироном, стоявшей у входа в
школу.
— Взгляни, мой мальчик, на статую этого юноши, —
указал сыну Алкиной, — чудесная фигура! Как красиво и
верно передал ваятель его позу и движение руки,
готовящейся бросить диск! Запомни его позу и это движение, Ар-
хил! — продолжал художник. — Кто знает, может быть,
когда-нибудь и ты будешь стоять сам в такой же позе,
готовясь бросить диск!
С замирающим сердцем Архил оторвал взгляд от
дискобола и переступил порог гимнастической школы вслед за
своим приемным отцом. Мечта его жизни сбывалась.
* * *
В здании гимнастической школы их оглушил шум
множества голосов. Мимо них пробежали четверо обнаженных
загорелых подростков и скрылись в одной из аллей школы.
— Это мои ученики, — с улыбкой заметил Алкиной,
отвечавший на приветствие юношей, — теперь с ними
занимается упражнениями в беге Формион. Мальчики спешили
на занятия — значит, он здесь. Это хорошо. Но прежде нам
следует найти учителя дискоболов и поговорить с ним. Я
плохо его знаю, он недавно работает у нас в школе.
Они вошли в помещение школы и направились к
группе людей, беседовавших в глубине зала.
— Привет тебе, художник Алкиной! — послышался
громкий голос. — Почему ты редко стал заходить в
школу? Работы, что ли, много было в мастерской гончара?
Немолодой мужчина с лысой головой стоял против них,
пытливо заглядывая в лицо Алкиною.
— Должно быть, ты позабыл, Алкиной, что скоро Ист-
мийские игры?1 — спросил он. — А ведь ты участвуешь в
состязаниях в беге.
— О нет, Никий! — улыбнулся Алкиной. — Я не забыл
о состязаниях. Но ты прав: работы было много и у меня не
1 Истмийскиг игры в честь бога Посейдона происходили раз в два
года неподалеку от Коринфа.
304
оставалось времени для школы, поэтому я пришел сказать,
что вряд ли смогу принять участие в состязаниях.
— Уж не сына ли своего привел ты на этот раз с
собой? — спросил Никий, внимательно разглядывавший Ар-
хила. — Юноша похож на тебя!
— Угадал — это мой сын! — с гордостью ответил Ал-
киной. — И нам нужно найти учителя молодых
дискоболов. Не знаешь ли, где найти его?
— А его и искать нечего, — усмехнулся Никий. — Вон
там, в конце аллеи, он обучает метать диск новичков, —
указал он жестом на дорожку, посыпанную песком.
Алкиной и Архил направились к концу аллеи.
Несколько полуобнаженных подростков, стоявших на
большом расстоянии друг от друга, упражнялись в
метании диска.
Невысокий человек с лохматой головой и злыми
глазами грубо бранил новичков, не умевших правильно держать
диск в руке.
— Скажи, осел, — кричал он на одного из мальчиков,
стоявших перед ним, — зачем пришел ты сюда? Тебе нужно
на каменоломне работать, а не заниматься гимнастикой!
Разве я так учил тебя бросать диск!
Мальчик покраснел от смущения. Он стоял, низко
опустив голову.
На подошедших к нему Алкиноя и Архила учитель
дискоболов даже не взглянул.
— Ясон, — крикнул он, отталкивая в сторону
неловкого ученика, — покажи этому ослу, как надо бросать диск!
Юноша смело шагнул вперед и легко и красиво, как
казалось Архилу, далеко отбросил диск.
Но сердитый учитель был недоволен и на этот раз.
— Скажи, Ясон, где у тебя красота в движении?
Разве я так учил тебя бросать диск? Ты бросаешь его, как
девочки бросают камень в воду! Нет! — развел учитель
руками. — Куда легче самому приготовиться к состязаниям,
чем обучить вас чему-нибудь!
Миновав еще одну аллею, Алкиной и Архил вышли
снова к помещению школы. Там в одном из залов какие-то
люди учились прыгать через барьер. Дальше на светлой
площадке шел рукопашный бой между двумя борцами.
— На это тебе будет интересно посмотреть, Архил, —
сказал художник. — Подойдем поближе. Следи вниматель-
305
но. Победителем в борьбе двух этих людей будет
считаться тот, кто положит своего противника на спину.
Позабыв обо всем, они оба некоторое время смотрели
на борьбу с живым интересом. Лицо Алкиноя горело от
возбуждения. Одна пара борцов сменила другую.
Алкиной вдруг спохватился:
— Однако нам пора поискать Формиона, пока он не
ушел!.. Идем, Архил! Ведь мы еще должны снять верхнюю
одежду и натереть тело наше маслом, иначе по правилам
гимнастической школы мы не можем появляться на тех
участках, где происходят состязания.
Они прошли в просторное помещение для отдыха, где
вдоль стен стояли многочисленные скамьи. На них сидели
люди, закончившие упражнения, а также только что
пришедшие в школу, подготовлявшиеся к бегу и к борьбе.
Алкиной, заняв место на скамье, проворно сбросил с себя
хитон и стал натирать тело оливковым маслом, как делали
это другие. Архил последовал его примеру.
— Что это тебя давно не было видно в школе,
художник? — подошел к Алкиною какой-то бородатый мужчина
также в набедренном поясе. — Тебе, наверное, работа не
дала возможности принимать участие в состязании на
стадионе?
— Ты угадал, Фарес, — коротко отозвался Алкиной, —
я был очень занят в мастерской все последнее время.
— А мы с Формионом не раз вспоминали тебя, —
добродушно продолжал Фарес, — и даже тревожились, здоров
ли ты. Скоро уже праздник Посейдона. Ведь ты же
принимаешь участие в беге на празднествах, кажется?
— На этот раз мне придется отказаться от участия в
состязаниях! — с грустью отозвался Алкиной. — Не
хватило времени подготовиться к ним!
— Жаль. Ведь дистанция для бегунов дана небольшая —
всего двадцать стадий!1 — заметил Фарес. — Ну, а как
насчет борьбы, друг? Я ведь не искал для тебя противника,
привык бороться с тобой!..
Алкиной улыбнулся.
— Привычка — большое дело, Фарес! Это я хорошо
знаю! — ответил он. — Но и с борьбой у меня плохо
обстоит дело на этот раз! — покачал он головой. — Грудь
почему-то стала болеть... устал, должно быть. Но на Олим-
1 Стадий — мера длины.
306
пийских играх мы с тобой обязательно будем бороться в
паре! — поспешил добавить он. — Если, разумеется, нас
с тобой запишут в списки участников.
— Запишут, Алкиной! Я надеюсь на это! — отозвался
Фарес. — А ты сына своего привел с собой? — спросил
он, бросив взгляд в сторону Архила. — Это ты хорошо
сделал. Пусть мальчуган привыкает к гимнастической школе!..
Так кем же ты собираешься стать у нас, юноша, —
обратился он к Архилу, — борцом или бегуном?
— Этого я еще не решил... — смутился юный гончар. —
Отец решит это за меня.
— Напрасно! — пожал плечами борец. — В твоем
возрасте я больше всего любил участвовать в беге! А позднее
перешел на борьбу, когда укрепил мускулы и стал постарше.
— Я также хотел бы стать бегуном! — вырвалось у Ар-
хила.
Он доверчиво разговорился с силачом, почувствовав к
нему сразу необъяснимую симпатию.
— А где же твой отец? — оглянулся кругом Фарес. —
Почему он так незаметно отошел от нас?
— Должно быть, отец пошел искать учителя бегунов...
он решил поговорить с ним обо мне!..
— А... с Формионом? — спросил Фарес. — Он лучший
учитель в нашей школе, хотя и строгий к новичкам! —
улыбнулся борец. — Формион добр и справедлив, строгости его
никто не боится. Тебе, мальчуган, повезет в жизни, если ты
попадешь учеником к нему: он сделает из тебя хорошего
бегуна. Особенно если ты любишь гимнастику.
— А кто может не любить занятия гимнастикой? —
улыбнулся Архил.
— Еще бы! — усмехнулся силач. — Даже в древности
люди Эллады любили гимнастические игры! Ты помнишь,
как великий наш Гомер описывает в "Одиссее" игру в
мяч? — спросил он.
Архил отрицательно покачал головой: отец только
недавно начал читать с ним "Илиаду" Гомера...
— Забыл! — усмехнулся Фарес. — Так я напомню тебе:
Мяч тот откинувши сильно,
Один под тенистые тучи бросал,
А другой, от земли подскочивши,
Ловил его, прежде чем почвы коснется ногами!
Хорошо сказано. Не правда ли?
307
Архил не успел ответить ему.
— Поспешим к Формиону, сынок! — сказал
подошедший Алкиной. — Он дал согласие взять тебя в свою
младшую группу бегунов. Сейчас начнутся упражнения в беге.
Поспешим. Формион ждать не любит! Он хотел убедиться
в твоих способностях, о которых я говорил ему
У входа на беговую дорожку трое подростков в
возрасте Архила уже приготовились было к бегу, но, заметив
приближавшихся Алкиноя и его сына, Формион дал им
сигнал задержаться.
Кивком головы учитель указал Архилу встать крайним
в ряд юных бегунов. Они замерли на месте наготове к
бегу, опираясь одним коленом и концами пальцев в песок
дорожки.
По сигналу Формиона они побежали.
Алкиной взволнованно стал следить за каждым
движением сына. Вначале Архил немного отставал от своих
соседей, затем он стал нагонять их.
Опытный глаз учителей сразу же отметил все
недостатки в его беге, но мальчик несомненно обладал силой и
ловкостью. Держался он свободно и уверенно. Приближаясь
308
к финишу, Архил вдруг резким рывком подался вперед и
обогнал других бегунов.
Формион с неудовольствием покачал головой.
— Бежишь ты неплохо, сын Алкиноя, — сказал он,
когда мальчики подошли к нему, — но посмотри, как тяжело
ты дышишь! А этого быть не должно у хорошего бегуна.
И еще знай, юноша! — строго добавил он. — Такие
рывки в беге делать не разрешается. Ты новичок, правил
школы не знаешь еще. Но обратил ли ты внимание, как ровно
и красиво бежал рядом с тобой Орест? Взгляни на него!
Он дышит ровно и спокойно. И без особого усилия
пришел бы к черте... Бери с него пример.
Голос учителя был строгим, но глаза смотрели ласково
и доброжелательно.
— Я постараюсь, учитель, хорошо запомнить все, что
ты сказал, — покорно произнес мальчик.
— Я не сомневаюсь в этом, — улыбнулся Формион,
положив ему руку на плечо, — а теперь ступай одеваться!
Нам с твоим отцом нужно еще переговорить кое о чем.
Подожди его там.
Когда Архил отошел, Формион пристально посмотрел
на Алкиноя.
309
— Ты исхудал, художник! — покачал он головой. —
Здоров ли ты? Ведь скоро уже состязания на Истмийских
играх! Смотри не захворай!
— Нет, я не болен, Формион, — опустил голову
художник, — но сильно утомился. Пришлось много работать в
мастерской, и я не смог посещать школу.
— Но ты не отказываешься участвовать на
празднестве Посейдона? — озабоченно спросил Формион.
Алкиной нерешительно покачал головой.
— Если так, то начнем упражнения старшей группы, —
сказал Формион. — Вставай на свое место! Бег будет на
двадцать стадий. Это совсем не много для хорошего бегуна!
Старшая группа бегунов поджидала учителя уже на
беговой дорожке. Алкиной поспешил встать последним с края.
Формион дал сигнал. Бегуны побежали, размахивая
руками.
Пробежав несколько шагов, Алкиной был вынужден
отстать от других: острая боль в груди с каждой секундой
нарастала. Он опустился на колени и со стоном упал на
песок...
— Что случилось? Что с тобой, Алкиной Кадрид? —
поспешил к нему Формион.
— Задыхаюсь... не могу бежать!.. — с трудом
прошептал художник.
— Помогите мне отнести его в тень! — крикнул
Формион ученикам. — От жары у него прилив крови к
голове, — пробормотал он первое, что пришло ему в голову,
чтобы оправдать обморок Алкиноя.
— Я немного отдохну, и все пройдет, — тихо сказал
Алкиной, когда его осторожно укладывали на скамейке под
деревом.
— Иначе и быть не может! — поспешил успокоить
друга Формион, хорошо понимающий, как серьезна болезнь
сердца, заставившая его приятеля упасть на беговой
дорожке. — А ты лежи не двигаясь, Алкиной, — добавил он,
наклоняясь к другу.
— Пустое, Формион! — попытался приподняться
художник.
— Молчи и лежи спокойно! — приказал Формион. —
Я не врачеватель, но хорошо понимаю, что тебе необходим
полный покой.
— Неужели же для меня все кончено? — со стоном вы-
310
рвалось из груди Алкиноя. — Неужели никогда я не
смогу больше принимать участия в состязаниях?
Он с мольбой и испугом смотрел на Формиона,
ожидая его ответа. Честный и прямой Формион не умел
лукавить и говорить неправду.
— Если это так тревожит тебя, — не сразу сказал
он, — то скажу прямо и искренне тебе: останешься
учителем новичков в школе, Алкиной. А на празднике в честь
Посейдона ты смог бы принимать участие в состязаниях в
беге колесниц. Нужно только достать у кого-либо из твоих
прежних друзей коней и колесницу.
— Ты, должно быть, смеешься надо мной! — с горечью
посмотрел на него Алкиной. — Где же у меня такие
приятели, которые решились бы поддерживать дружбу с
бедняком ремесленником! Да и кто сказал тебе, Формион, что
я умею править конями?
— Мне не нужно было говорить об этом, — отозвался
Формион. — Полтора десятка лет тому назад я был
свидетелем того, как по улицам Афин, правя колесницей с
четырьмя золотистыми конями, проезжал младший сын
военачальника Эния Кадрида! Или ты позабыл об этом, Алкиной?
— Не люблю вспоминать прошлого! Я стараюсь забыть
о нем, — хмуро ответил Алкиной. — Отца моего давно уже
нет на свете, а его конюшнями завладел мой старший брат,
лишивший меня наследства после смерти отца. С тех пор
родственники Эния Кадрида и все друзья нашей семьи
перестали узнавать его младшего сына, встречая меня на
улицах Афин: в их глазах я жалкий ремесленник — фет,
достойный презрения и насмешки.
— Все в жизни бывает! — задумчиво сказал
Формион. — Но главное — это не отчаиваться и не падать
духом! Я еще раз повторяю тебе: для тебя совсем не
потеряно все в жизни. В нашей школе тебя знают, ценят и
любят. А коней и колесницу все же постараемся достать для
тебя! — решительно закончил Формион.
— Я знаю, что ты мне друг, — благодарно взглянул на
него Алкиной, — и вижу, что ты стараешься поддержать
и утешить меня, как мать утешает свое больное дитя, но
разве ты не понимаешь, как мне трудно примириться с тем,
что я уже не смогу заниматься больше гимнастическими
упражнениями! Ведь они давали мне столько радости и
утешения!..
— Хотел бы помочь тебе, — опустил голову Форми-
311
он, — но Зевс мне свидетель, что я бессилен в этом. А о
твоем участии в состязании колесниц все же нужно
хорошенько подумать! Может быть, — оживился он, — мне
следует пойти к твоему брату и рассказать ему то, что
случилось с тобой?..
— О нет! Нет! Только не это! — прервал его
взволнованный художник. — Помощи у брата просить я не буду
никогда в жизни! У меня есть одно богатство каждого
честного бедняка — моя незапятнанная совесть и чувство
моего достоинства, и унижаться ни перед кем я не стану.
— Что же, может быть, в этом ты и прав! — согласился
Формион. — Тогда буду искать другие пути, чтобы достать
для тебя коней и колесницу.
Художник молчал, опустив голову.
* * *
— Как долго тебя не было, отец! — бросился к Алки-
ною Архил, когда художник показался при входе в
помещение, где он оставил свою одежду. При виде бледного,
осунувшегося лица Алкиноя, мальчик испугался. — О боги!
Что случилось, отец?
— После, сынок, после!.. — махнул рукой Алкиной. —
Помоги мне дойти до лавки и прилечь.
Архил заботливо уложил его и сел рядом с ним.
— Тебя обидели в школе? Скажи мне! — просил
мальчик, расстроенный и огорченный.
— Никто не обижал меня, Архил. Мне стало внезапно
худо, и я упал на беговой дорожке... вот и все, — с
трудом произнес художник.
Новый приступ удушья заставил его умолкнуть.
Архил растерянно суетился возле него, стараясь помочь
больному.
— День был слишком жаркий... Лежи, отец,
спокойно! — наклонился он к Алкиною. — Я схожу за
родниковой водой и смочу тебе голову, ты почувствуешь сразу
облегчение.
Только спустя некоторое время Алкиной смог
подняться на ноги, чтобы добраться до дома.
Солнце клонилось уже к закату, когда они с Архилом
вышли из гимнастической школы и направились к Афинам,
минуя оливковые рощи и виноградники.
Архил с тревогой поглядывал на отца, опасаясь нового
312
приступа удушья у Алкиноя. Но художник хотя и
медленно, но все же уверенно и твердо шагал по улицам города.
"Как не похоже наше возвращение домой на начало
прогулки ранним утром!" — с тоской думал Архил.
— Почему ты молчишь, отец? — робко спросил он. —
Тебе снова худо?
— О нет! Боль уже покинула меня, сынок, —
успокоил его художник. — Но мне тяжко сознавать, что теперь
в школе для меня все потеряно: ни борцом, ни бегуном я
уже не смогу быть! Вот Формион еще пытается утешить
меня, — невесело усмехнулся он, — говорит, что на
празднествах в честь Посейдона я смог бы еще принять участие
на состязаниях в беге колесниц, если бы сумел найти для
себя коней и колесницу. Чудак, Формион! Он не хочет
понять того, что никто не доверит бедняку ремесленнику
коней и колесницу! Пустые мечты!
— Но ты теперь смог бы править колесницей, отец? —
спросил мальчик, припоминая свой разговор с отцом по
дороге к холму Пникса после встречи с Алкивиадом.
— Не будем говорить об этом! — прервал его художник.
Остальную часть пути они шли молча, думая каждый
о своем.
Когда, миновав людные улицы, они подошли к
предместью гончаров, где жил Алкиной, художник остановился.
— Уже совсем темно стало, Архил, — сказал он, —
бедняжка Дорида заждалась нас с тобой. Наверное,
тревожится, что мы так задержались... Вот что, мальчик, —
сказал он со вздохом, — давай не будем ей рассказывать
того, что случилось со мной в гимнастической школе.
Скажем только, что Формион дал мне совет принять участие
на Истмийских играх. В состязании колесниц... Хорошо?
И что мы с тобой теперь ищем для этого коней и
колесницу. Зачем ее огорчать!
Архил кивнул головой.
Утомленный прогулкой и недомоганием, Алкиной в этот
вечер рано улегся в постель. Дорида вышла подышать
свежим воздухом во двор.
— Мать, — окликнул ее Архил, — не запирай дверь!
Я пойду к Клеону. Мы с ним давно не видались.
— Ступай, сынок! — ласково ответила женщина. —
Только будь там недолго. Ночью непременно соберется
гроза.
Последних ее слов Архил уже не слыхал, он торопли-
313
во поднимался в гору. Ему не терпелось поскорее
поделиться с приятелем всеми событиями этого дня.
Увидев издали приближавшегося Архила, Клеон
побежал ему навстречу.
— Я все эти дни ждал тебя! — улыбаясь, сказал он.
Но улыбка тотчас же пропала с его лица, как только он
заметил расстроенное лицо друга. — Что случилось, Ар-
хил? — участливо наклонился он к нему. — Говори
скорее! Снова беда у тебя?
— Пойдем под наше любимое дерево во дворе, —
предложил Архил, — у меня много новостей, и я хотел
рассказать тебе о них.
Они уселись на бревне.
— Ну рассказывай, — торопил друга юный фокусник.
Большая темная туча надвигалась на город, но
мальчики не тревожились при виде быстро приближавшейся
грозы.
— Знаешь, Клеон... — начал Архил, — мастер Алки-
ной усыновил меня, и я теперь его приемный сын.
Работаем мы снова вместе у гончара Феофраста...
— Это хорошо, — немного подумав, отозвался
Клеон, — но тебе, значит, опять придется с раннего утра до
наступления темноты вертеть до изнеможения твой
гончарный круг! — добавил он с участием.
— О нет! — рассмеялся Архил. — Отец говорит, что
боги одарили меня чудесным даром художника, и поэтому
он стал обучать меня разрисовывать керамос. Это, Клеон,
много интереснее, чем лепить из глины посуду.
— Хорошая новость! — улыбнулся юный фокусник. —
Но почему тогда я вижу следы печали на твоем лице?
— Я пока не радуюсь этому! — неожиданно ответил
Архил.
— Не радуешься? — удивился Клеон. — Чего тогда
тебе еще надо? Ведь ты же можешь стать художником, как
и твой приемный отец!
— Это так, но он говорит, что мне еще долго и много
придется обучаться этому мастерству, прежде чем я
смогу стать мастером...
— Понимаю, — улыбнулся Клеон, — а тебе не
хочется долго учиться мастерству! Лентяй ты, Архил! Я вот
только одного понять не могу, — добавил он, — как
решаешься ты огорчать человека, так много сделавшего для тебя,
неблагодарный!
314
— Почему же я неблагодарный? — спросил обиженно
Архил. — Я ведь не говорил тебе, что не хочу терпеливо
обучаться у моего отца мастерству разрисовывать керамос.
Хотя Архил и оправдывался, но упреки друга были
справедливыми, и мальчик это понимал отлично.
— Я знаю, сколько добра сделал для меня приемный
отец, и я искренне хочу быть ему добрым сыном, тем
более после того, как с ним случилась беда, и он так тяжело
ее переживает!
— А что случилось с мастером Алкиноем? —
испуганно спросил Клеон. — Неужели он сломал руку и не
может больше работать?.. Говори скорее!
— Обожди! — нетерпеливо остановил его Архил. —
Я все расскажу тебе по порядку, слушай!
И он стал рассказывать приятелю все, что случилось в
этот день в гимнастической школе.
— Знаешь, Клеон! — закончил Архил свой рассказ. —
Теперь я буду ходить заниматься упражнениями в беге и
в метании диска в гимнастическую школу, которая
находится за городом. Как это чудесно! Помнишь, ведь мы с
тобой мечтали о гимнастической школе!
— Помню! — кивнул головой Клеон. — Но я никак не
могу прийти в себя после того, что ты рассказал мне о
мастере Алкиное... Почему неумолимые богини судьбы так
жестоко наказали его? Ведь он добрый и честный человек, он
сделал для тебя столько добра!
— Ты прав, Клеон, — сказал Архил печально, — но чем
могу я вознаградить его за все, что сделал он для меня?
И как мне помочь ему в беде? Поверь, что я охотно сделал
бы все, что только смог, и облегчил бы ему горе,
постигшее его!
Мальчики немного помолчали.
Небо внезапно стало совсем темным от
надвинувшейся тучи. Где-то вдали сверкнула молния, и тотчас же
послышался раскатистый удар грома.
— Гроза приближается! — сказал Клеон. — Ты не
успеешь быстро добраться до дома!
— Я не боюсь грома, — улыбнулся Архил, — и
знаешь, что пришло мне только что в голову? Не поговорить
ли о тебе с учителем в гимнастической школе, который взял
меня сегодня в свою группу новичков? Может быть, он
согласится взять также и тебя? Мы с тобой ходили бы
вместе на занятия. Да и для тебя это было бы полезно!
315
— Чудак, — рассмеялся Клеон, — а кто же тогда
будет помогать отцу кормить семью? — с грустью сказал
он. — Ведь у нас большая семья и отцу одному
приходится трудно с его небольшим заработком. Нет! Лучше
ничего не говори учителю обо мне!
Снова удар грома, более сильный, чем первый,
раздался над их головой.
Архил вскочил с бревна.
— Теперь мне пора бежать, пока не хлынул дождь, —
проговорил он, — а то мать будет тревожиться. Ну,
прощай, Клеон! — кивнул он головой приятелю. — Я забегу
к тебе скоро и расскажу, как идут мои дела в
гимнастической школе! — крикнул он уже с улицы.
Крупные капли дождя смочили землю, высохшую от
зноя. Кое-где дождевая вода успела образовать лужи.
Остановившись на секунду, Архил наскоро снял
сандалии и босиком побежал к дому.
Яркие зигзаги молнии бороздили небо. Гром, не
умолкая, гремел над его головой. Тонкий хитон Архила стал
совсем мокрым от дождя.
АМФОРА С ТАНЦОВЩИЦЕЙ
Две недели спустя, когда гончара Феофраста не было
в мастерской, около нее снова остановились неожиданно
кони племянника Перикла, Алкивиада.
Соскочив с седла, молодой воин подошел прямо к Ал-
киною:
— Хвала богам, художник! Я рад, что застал тебя за
разрисовкой сосудов. Твои амфоры и вазы так хороши, что
о них все отзываются с похвалой.
Поднявшись с места, Алкиной поклоном приветствовал
знатного посетителя.
— Я также воздаю хвалу богам всякий раз, когда
вижу твое мужественное лицо, Алкивиад! — вежливо
ответил он на приветствие воина. — Однако я вижу, что
какая-то забота омрачает тебя. И думается мне, эфеб, что
только события большой важности привели тебя так
поздно, перед заходом солнца, к нам в мастерскую...
— Ты близок к истине, мастер! — улыбнулся
Алкивиад, окидывая внимательным взором полки, на которых кра-
316
совалась приготовленная к продаже разрисованная
посуда. — Я охотно поделюсь с тобой, художник, моей
заботой. Видишь ли, у вас, наших афинских гончаров, я
должен отыскать нечто такое, что могло бы утешить жену
моего дяди.
— Прости за нескромный вопрос... — почтительно
отозвался Алкиной, — но какая же печаль посетила
прекрасную Аспазию?
— Я скажу тебе об этом, — посмотрел на него Алки-
виад, — тем более что ты, лучше чем кто-либо другой,
сможешь помочь мне. Рабыня, убиравшая спальню госпожи,
разбила нечаянно ту прекрасную амфору, что была мной
недавно куплена у тебя. В тот раз я угодил своим
подарком Аспазии. Чтобы утешить ее, мне пришлось пообещать
найти точно такую же амфору у афинских гончаров. — Ал-
кивиад остановился и покачал головой:
— Но, увы, легче всегда бывает пообещать, чем
выполнить обещание. В мастерской твоего хозяина, мне
помнится, не было больше амфоры, похожей на ту, что я купил,
и мне пришлось теперь объехать все гончарные мастерские
в поисках чего-нибудь похожего на тот сосуд. Но ни у
гончара Никосфена, ни у других афинских гончаров я не
нашел того, что мне нужно!..
Алкиной улыбнулся.
— Как видно, ты не знал того, что мы не только
продаем наш готовый керамос, эфеб! — сказал он. — Наш
хозяин принимает заказы покупателей на любые изделия из
лучшей глины. И, ежели ты пожелаешь, мы сделаем для
тебя точно такую же амфору, какой была купленная тобой.
Мой ученик Архил разрисует ее ддя тебя под моим
наблюдением.
Говоря это, Алкиной бросил взгляд на смутившегося Ар-
хила. Молодой воин также посмотрел на юного гончара и
с сомнением покачал головой:
— Не могу поверить, чтобы этот мальчик, хотя он и
твой ученик, мастер, справился бы с такой работой! Для
этого он мне кажется еще слишком молодым и неопытным...
Алкиной нахмурился.
— Работу поручаю ему я! — сказал он строго. — И сам
буду наблюдать за тем, как он ее выполнит!
— Ну, если так, — развел руками Алкивиад, — будем
надеяться, что твой ученик, мастер, оправдает твои надеж-
317
ды, — сказал он учтиво. — А ты, юный художник, смотри
не подведи своего учителя! Я вижу, что он уверен в тебе
и что ты смело берешься за дело. Это хорошо. Люблю
смелых!
Алкивиад остановился, уходя, на пороге лавки.
— Но я не спросил вас обоих, художники, когда же
будет готова амфора? Может быть, для нее потребуется
столько же дней, сколько их можно сосчитать между двумя
Олимпиадами?1 В таком случае у меня не хватит терпения
ждать заказа...
— О нет, эфеб! — рассмеялся Архил. — Ты не
успеешь сосчитать, сколько пальцев у тебя на двух руках, как
амфора будет готова!
Алкивиад подошел к своему коню.
— Смотри, юноша, — сказал он с улыбкой, — будь
верным данному обещанию! Так делаем всегда мы, воины.
И если твоя амфора будет не хуже разбитой, то даю тебе
слово, что выполню любую твою просьбу! —
многозначительно добавил он, садясь на коня.
Архил задумался. Ему вспомнилось, как совсем
недавно, в день экклесии, они с отцом встретили неподалеку от
Пникса племянника Перикла, ехавшего на колеснице,
запряженной чудесными белыми конями...
"Вот у кого попросить бы коней и колесницу для отца
к Истмийским играм!" — мелькнула мысль у него в
голове. Но обратиться с просьбой об этом тут же к Алкивиаду
он не решился. Несколько мгновений мальчик смотрел
вслед ему, затем, спохватившись, бросился догонять
уехавшего воина.
— Остановись! Обожди, Алкивиад! — громко кричал
он, подбегая к воину, сдержавшему коня. — Я должен кое-
что сказать тебе!..
Алкивиад пристально посмотрел на запыхавшегося Ар-
хила.
— Ты, должно быть, хочешь знать, молодой гончар, —
сказал он, — куда ты должен будешь принести амфору,
когда она будет готова?
— О нет, славный Алкивиад! — поспешно
пробормотал мальчик. — Ты только что обещал исполнить любое мое
желание, если своей работой я сумею угодить тебе. Это
1 Олимпиада — период исчисления времени у древних греков; он
составляет четыре года между двумя празднованиями Олимпийских игр.
318
правда? — пытливо заглянул Архил в лицо эфеба. Может
быть, говоря так, ты только пошутил надо мной?..
— Зачем было мне шутить над тобой! — пожал
плечами молодой воин.
— А если это так, — живо продолжал Архил, —
когда я принесу тебе выполненный мной заказ, разреши мне...
то есть не мне, — поправился поспешно он, — а отцу
моему взять на время твоих коней и колесницу!.. Это нужно
ему для участия в состязаниях на празднике Посейдона!
— Что слышу я! Странная просьба! — удивился Алки-
виад. — Да кто же твой отец, юноша? И почему он сам
не обратился ко мне с подобной просьбой, а послал тебя?
Ничего не понимаю!
— Отца моего ты хорошо знаешь, — решительно
сказал Архил. — Имя его Алкиной. Он художник в
мастерской нашего хозяина. И он даже не знает о моей просьбе!
Поверь мне! Это я сам решился просить тебя о конях и
колеснице для него!
Воин еще с большим удивлением посмотрел на Архила.
— Разумеется, художника Алкиноя я знаю хорошо, —
произнес он, — но зачем понадобились ему кони для
участия в состязаниях? Для такого состязания нужен опыт и
умение править конями.
— И опыт, и умение править конями есть у моего
отца, эфеб! — стал уверять Алкивиада Архил. — А
понадобились кони ему потому, что у него болит грудь и он не
может больше быть ни борцом, ни бегуном! А он всегда
принимал участие в состязаниях. Учитель в гимнастической
школе, Формион, сказал, что ему осталось только
участвовать в беге колесниц на празднике Посейдона. Я все
сказал тебе, Алкивиад! — умоляюще закончил Архил. — Верь
мне, что я сказал правду!
— Я верю тебе! — все еще с сомнением в голосе
покачал головой Алкивиад. — Но, повторяю, для этого нужен
опыт воина. Нужна привычка управлять конями!
— И я повторяю тебе, что у моего отца есть и опыт, и
умение! Он сам говорил мне.
— Может быть, это и так, — задумчиво сказал
Алкивиад. — Но пока обещать тебе ничего не буду — прежде
ты выполни хорошо мой заказ! А там посмотрим!
Воин хлестнул плетью коня и ускакал. Архил долго еще
стоял на дороге, смотря ему вслед.
319
"Если он выполнит свое обещание, то я добуду для
отца коней и колесницу, — думал мальчик. — А это
главное! Теперь нужно постараться только, чтобы новая
амфора понравилась Алкивиаду. Отец поможет мне", —
подумал Архил и побежал обратно в мастерскую, решив хранить
от всех в тайне свою беседу с племянником Перикла.
* * *
Шли день за днем. Под наблюдением Алкиноя Архил
работал над амфорой для Алкивиада. Все в мастерской, кто
чем мог, старались помогать Архилу.
Лицо у молодого художника осунулось и побледнело.
Он мало спал по ночам, торопясь с рассветом в гончарную
мастерскую. Там он сразу же принимался за работу,
забывая обо всем на свете, даже о занятиях в гимнастической
школе, которые обещал Формиону не пропускать.
— Сходим вечером в школу вместе, Архил! — сказал
ему однажды Алкиной, желая немного развлечь своего
приемного сына и дать отдохнуть мальчику от усидчивой
работы.
Но Архил ничего не ответил, он только еще ниже
склонился над работой.
В этот вечер, возвращаясь вместе с отцом домой
после работы, мальчик заметил, как изменился за последнее
время Алкиной. Он уже не шагал бодро и прямо, как
бывало прежде, по улице, а шел медленно, слегка
сгорбившись, заложив руки за спину. Лицо его казалось бледным
и похудевшим. В выразительных глазах художника исчез
блеск, придававший ему бодрый и моложавый вид.
Казалось, что он словно постарел на несколько лет.
Сердце у Архила сжалось от тревоги.
"Как тяжело отец переживает свалившуюся так
неожиданно на него беду! — подумал он. — Ведь за последние дни
отец не ходит уже больше даже в гимнастическую школу!"
На другое утро Архил еще усерднее принялся работать
над заказом племянника Перикла. Но сомнения не
покидали его.
"А вдруг я не сумею угодить капризному эвпатриду? —
приходила ему в голову мысль. — Что делать тогда?!"
— Отец, скажи, неужели моя работа очень плоха? Как
ты думаешь, походит моя танцовщица на черной амфоре на
танцовщицу, которой любовался в тот день племянник Пе-
320
рикла, когда купил амфору у нас? — остановил он
проходившего мимо него Алкиноя.
Алкиной пристально посмотрел на своего ученика.
Лицо мальчика было полным тревоги и сомнений. Он с
нетерпением ожидал ответа строгого мастера, своего отца.
— Не падай духом и работай спокойно, мальчик, —
сказал Алкиной, — твоя амфора, я уверен, будет нисколько
не хуже той, которую я продал знатному покупателю!
После ободряющих слов отца Архил с новым рвением
принимался за работу, усердно отделывая каждую
складку на одежде танцовщицы.
И вот наступил день, когда работа молодого
художника-гончара была окончена.
Со страхом и нескрываемым волнением мальчик
поставил амфору на прилавок перед строгим, взыскательным
хозяином.
Феофраст долго и придирчиво всматривался в рисунок
на амфоре. Но даже его опытный глаз не нашел в этом
рисунке ничего, к чему можно было бы придраться.
— Работа неплохая, Архил! — сказал гончар,
пристально посмотрев на него. — Напрасно твой отец доказывал
мне, что тебе придется немало времени потрудиться, прежде
чем ты сможешь выполнять заказы наших покупателей. Но
ты ошибся, мастер, на этот раз! — погрозил он лукаво
пальцем художнику.
— Я сказал тебе тогда истину, хозяин, — строго
ответил Алкиной, — и теперь могу повторить то же самое! Ар-
хилу нужно еще немало труда и усидчивости, пока он
почувствует в себе уверенность в работе настоящего
мастера. А для этого потребуется много времени.
— Пусть будет по-твоему! Тебе виднее! Но художника из
него ты мне все же сделаешь! — усмехнулся Феофраст. —
А ты, Архил, — обернулся он к мальчику, — завтра
пораньше с утра отнеси заказ в дом Первого Стратега и передай его
Алкивиаду!.. Посмотрим, что нам скажет заказчик!
* * *
Счастливые и радостные возвращались после работы
домой Алкиной и его приемный сын. Он был горд своим уче-
321
11- 532
ником. Наконец-то сбылись его заветные мечты — он
сможет передать теперь в надежные руки все особенности, весь
опыт своего мастерства. Архил оказался даже способнее,
чем он того ожидал.
Юный художник-гончар шагал рядом с отцом,
торжествующий и удовлетворенный похвалой хозяина. Правда,
завтра предстояло ему еще немало пережить волнений,
вручая заказ требовательному молодому воину. От этого ведь
зависело также и то, сможет ли он, Архил, помочь отцу
достать коней и колесницу. Но Архил отгонял от себя все
тревожившие его мысли, не решаясь поделиться ими с отцом.
— Жена! — радостно обратился художник к Дориде. —
Наш сынок сегодня славно поработал! Я дал ему задание,
оно было нелегким, но мальчик справился с ним. Поэтому
ты должна накормить за это его медовыми лепешками.
— Хвала богам! Недаром я всегда говорила, что
мальчик внес радость и счастье в наш дом! — обняла Архила
добрая женщина. — Ну, садитесь же к столу. Ужин
дожидается вас. А лепешки тем временем я испеку.
Архил взглянул на Алкиноя. Лицо художника словно
помолодело от радости. Таким довольным и улыбающимся
давно уже никто не видел его в семье.
— Идем, мать! — ласково обратился мальчик к
Дориде. — Я помогу тебе сначала разжечь очаг, а после сяду
уже за стол!
Дорида со счастливой улыбкой смотрела на мужа и на
сына.
* * *
Загородный дом, в котором жил Первый Стратег Пе-
рикл, был обширным и хорошо построенным. Пройдя
вдоль забора, Архил дошел до калитки и постучал
металлическим молотком во входную дверь. Тотчас же
привратник отворил дверь и пригласил его войти в дом.
— Обожди тут! — сказал он, войдя в широкий проход,
освещенный светильнями на высоких подставках. — Я
пойду скажу о твоем приходе. — Он скрылся за внутренней
дверью.
Архил остался один. Он оглянулся. По обеим сторонам
прохода были выходы. Один из них вел в помещение
привратника, другой был ходом в конюшни, ворота из
которых выходили на улицу.
322
Послышались шаги. Дверь распахнулась. Перед
мальчиком стоял старик, одетый в богатые одежды. Его
длинная борода свисала почти до половины груди. Движения
старика были неторопливыми, полными достоинства.
Жестом руки он пригласил Архила следовать за ним.
— Я пришел... я принес эфебу Алкивиаду заказ,
который он сделал в горшечной мастерской моего хозяина, —
робко начал Архил, смущенный молчанием старика, —
поэтому прошу тебя, эвпатрид... скажи Алкивиаду, что заказ
его готов...
Старик улыбнулся.
— Я это все понял, юноша, прежде чем ты сказал мне
об этом, — произнес он учтиво. — Но только ты ошибся,
назвав меня эвпатридом, я всего лишь раб моего
господина, Первого Стратега Афин... Имя мое — Евангел. Идем! —
пригласил он Архила следовать за собой.
Они вошли в просторный двор дома, находившийся под
открытым небом, служивший обычно хозяевам столовой и
местом приема гостей. Вокруг двора была прекрасная
колоннада, а в центре двора находился жертвенник богу Зевсу.
Все это Архил успел заметить, восхищенный тем, что
представилось его глазам.
— Обожди меня здесь, юноша, — продолжал
Евангел, — я скажу молодому господину о твоем приходе.
Архил снова остался один, когда Евангел скрылся за
массивной дверью.
"Там, за этими дверями, наверное, находятся жилые
комнаты семьи Первого Стратега!.. — с любопытством
посмотрел мальчик вслед старому рабу. — Вот бы заглянуть
в них!" Но тут же он со стыдом и смущением опустил
голову. Немного освоившись, Архил заметил богатое
убранство помещения, в котором находился. Между колоннами
стояли высокие ложа, покрытые коврами. А за ними
виднелись несколько алтарей богам, покровителям Афин и
этого дома.
"Как удивилась бы мать, если бы заглянула сюда! —
пронеслось в голове мальчика. — Сколько тут ковров и цветов!"
Откуда-то сверху солнце освещало дорогие вазы,
украшавшие алтари богов и цветы, лежавшие перед ними. До
его слуха донеслись громкие голоса и звон посуды.
"Там, наверное, приготовляют пищу! — решил
Архил. — Интересно, сколько нужно иметь рабов, чтобы дер-
323
жать в порядке такие покои, готовить пищу и ходить за
конями в доме Первого Стратега?!"
Размышления мальчика были прерваны шумом шагов
и голосами входящих людей. Он испуганно замер на
месте. Дверь, которая вела во внутренние покои, распахнулась.
На пороге ее стоял Алкивиад.
— Привет тебе, сын Алкиноя! — дружелюбно произнес
он. — Ты оказался верным своему слову. Тебе не так много
потребовалось времени, чтобы выполнить мой заказ. Теперь
давай посмотрим, как сделал ты работу. Мы с Евангелом
будем твоими судьями.
Сердце у Архила замерло. В горле у него пересохло от
волнения. Приближалось самое страшное. Но он ничего не
ответил Алкивиаду, только протянул ему амфору.
Алкивиад с улыбкой взял в руки сосуд и стал его
разглядывать.
— Взгляни-ка, Евангел, — подозвал он старого
домоправителя своего дяди, — не кажется ли тебе, что эта
амфора походит, как двойник, на ту, что недавно разбила в
спальне Аспазии неосторожная Эрите?
Евангел почтительно приблизился к воину.
— Что же ты молчишь, старик? — удивился молодой
хозяин. — Или ты находишь, что я неправ? Что, работа не
заслуживает похвалы?
Архил побледнел. Но ни молодой воин, ни Евангел,
казалось, не замечали его волнения.
— О нет, господин мой! — наконец произнес
негромко старый раб. — Я долго любовался прекрасным
рисунком, сделанным художником на этой амфоре, и думал о
том, что только щедро одаренный дарами богов человек
смо сделать такой тонкий и красивый рисунок на сосуде!..
— Прекрасна твоя оценка, старик! — рассмеялся
Алкивиад. — А ведь у тебя глаз искушенный!.. Тебе пришлось
в твоей жизни видеть немало хороших картин и
разрисованной керамики в доме моего дяди. Так что ты можешь
гордиться такой оценкой твоей работы, юноша! —
посмотрел молодой воин на юного гончара.
Вздох облегчения вырвался из груди Архила.
Алкивиад заметил этот вздох и улыбнулся.
— За такую работу ты заслуживаешь награды,
юноша! — продолжал он. — Ты как будто бы просил меня о
чем-то тогда, когда мастер Алкиной поручил тебе
разрисовать эту амфору? Напомни мне, о чем была твоя просьба?
324
— О эфеб! — сделал шаг Архил ближе к Алкивиаду. —
В тот день я попросил твоего разрешения отцу моему
воспользоваться для состязаний на празднике Посейдона
твоими конями и твоей колесницей... — робко закончил
мальчик.
— Да, да! Я припоминаю! — перебил его Алкивиад. —
Я тогда ведь обещал тебе исполнить это твое желание,
если ты хорошо выполнишь мой заказ. Евангел, — обернулся
молодой воин к старику, — прикажи, чтобы старший конюх
в моих конюшнях запряг бы в колесницу лучших моих
коней, когда это потребуется для отца молодого художника!
Имя его отца — Алкиной Кадрид. Запомни!
Евангел молча поклонился.
— А ты, ученик и сын художника Алкиноя, —
обернулся Алкивиад к Архилу, — скажи хозяину гончарной
мастерской, чтобы он утром зашел ко мне за деньгами, а
отцу твоему передай, что я обязательно приеду на
состязания в Коринф, чтобы посмотреть, как управляет он конями.
Счастливый и радостный бежал Архил по торговой
площади обратно в мастерскую.
У входа стоял хозяин, тревожно посматривавший вдаль,
как и все в мастерской, с нетерпением ожидавший
возвращения Архила.
— Мчится, словно взбесившийся осел по дороге! —
пробурчал он, заметив бежавшего Архила. — Неужели
опять разбил и эту амфору!
— О нет, хозяин! Я ее доставил целой и невредимой, —
задыхаясь, крикнул мальчик. Все лицо его, горевшее от
быстрого бега и от волнения, было радостным и счастливым.
Хозяин сразу повеселел.
— Если так — вот на, держи! — протянул он две
драхмы Архилу. — Купи себе новый хитон и сандалии.
А то твои совсем развалились.
Все находившиеся в мастерской с удивлением
посмотрели на Феофраста — таким щедрым он не был еще никогда.
— Вон как угодил хозяину наш Архил! — подмигнул
Пасион Алкиною. — Расщедрился старик! Целых две
драхмы дал в награду мальчишке.
Поздно вечером, придя домой, Архил открыл
приемному отцу свою тайну о конях и колеснице...
Растроганный его признанием, художник понял, что
должен был переживать мальчик за недели напряженной ра-
326
боты над амфорой. Он долго сидел, закрыв лицо руками,
потом, поднявшись с места, подошел к Архилу и прижал
голову его к своей груди.
— Всемогущие боги Олимпа смилостивились надо мной!
Они послали мне доброго сына, — прошептал он. — До
конца дней моих не забуду я, Архил, того, что сделал ты
для меня! Забыть такое невозможно.
* * *
В обширных конюшнях, принадлежавших Алкивиаду,
стояло немало прекрасных скакунов. Тут были и
золотистые, тонконогие жеребцы из Фессалии, и белые, похожие
на лебедей кони из Фракии, и гнедые с тонкими ноздрями
и пугливыми глазами скакуны из Македонии.
Два рослых раба ухаживали за конями и следили за
чистотой в конюшнях под присмотром старшего конюха.
Алкивиад не жалел денег на породистых коней, и его
конюшни славились в Афинах. Приятели завидовали ему,
хорошо зная, что не только на состязаниях кони его
выходят всегда победителями, но они также хорошо понимали,
что и в боях такие кони вынесут невредимым с поля боя
своего хозяина.
Когда Архил и Алкиной вошли во двор, где помещались
конюшни Алкивиада, конюхи только что вывели на прогулку
коней.
Отец и сын залюбовались красотой скакунов.
— Не можем ли мы видеть старшего конюха? —
спросил Алкиной у одного из рабов.
Старший конюх сам уже шел к ним навстречу,
заметив присутствие посторонних людей в конюшнях.
— Не ты ли будешь Алкиной Кадрид, для которого я
должен, по приказу моего господина, запрягать в
колесницу коней? — спросил он.
— Да, это я, — подтвердил художник.
Как раз в это время один из конюхов вывел из
конюшен пару красивых, сильных белых коней.
Заметив взгляд Алкиноя, любовавшегося ими, старший
конюх усмехнулся.
— Это любимые кони хозяина! — заметил он. — Они
кротки, как ягнята, но в то же время быстры в беге и
выносливы. Одного из них зовут Парис, другого Аякс. Мы их
запрягаем в колесницу вместе с парой других белых коней.
327
Протянув руку, Алкиной провел ею ласково по шее Аяк-
са. В этом движении сразу почувствовалась вся его любовь
к животным.
Старший конюх следил за ним.
— Если хозяин разрешит, я запрягу для тебя в
колесницу эту четверку белых коней, — заметил он.
— Хозяина несколько дней не будет в Афинах, и кони
ему не будут нужны, — вмешался в их разговор один из
рабов.
— Это очень кстати! — сказал Алкиной. — Если так,
то прошу тебя — вели запрячь для меня в колесницу
четверку белых коней! Мне хотелось бы сегодня же, не
откладывая, сделать коням проездку за городом...
Белые кони были вскоре запряжены в нарядную
колесницу. Уверенно ухватившись одной рукой за поручни,
Алкиной легко вскочил на нее. Конюхи широко распахнули
ворота конюшни.
Сердце замерло в груди у Архила. Момент был
решительный. Мальчика страшила мысль, что после
длительного перерыва отец его не сможет уже справиться с
четверкой быстроногих, сильных коней Алкивиада...
Но, взмахнув ему с улыбкой рукой в знак приветствия,
Алкиной выехал из ворот. Колесница помчалась вдоль
улицы. Архил успел заметить, как уверенно и спокойно отец
его стоял у передка ее.
Мальчик сразу успокоился. Теперь он уже больше не
тревожился за отца.
— Я вижу, отец твой, юноша, опытный возница! —
заметил стоящий рядом с ним старший конюх. — Он
уверенно, как настоящий воин, держится на колеснице!
— Ты прав! — вежливо согласился с ним Архил. —
Мой отец был прежде воином. Он привык управлять
колесницей.
Кивнув на прощание головой конюху, Архил вышел из
конюшен Алкивиада.
* * *
Архил делал большие успехи в росписи керамики.
Алкиной теперь все чаще и чаще задумывался о том, что
мальчика следует учить ремеслу художника не в гончарной
мастерской. На свои знания и опыт в этом деле Алкиной, при
всей его скромности, не решался рассчитывать. Он считал,
328
что руководить обучением его сына должен был настоящий,
большой мастер-художник.
Но среди хорошо знакомых Алкиною художников в
Афинах не было таких мастеров.
Однажды на улице Алкиноя окликнул чей-то знакомый
голос. Художник обернулся. Позади него стоял старый
учитель его юных лет, Ксанфий.
— Тебя ли вижу я, Алкиной Кадрид? — Старик
протянул к нему руки, чтобы обнять его. — Вот неожиданная
встреча! А ведь я долго разыскивал тебя. Мечтал о
встрече с тобой. Наконец-то ты отыскался! — Все лицо старого
художника дышало радостью.
Алкиной с не меньшей радостью обнял Ксанфия.
— Учитель! Дорогой мой учитель! — воскликнул он. —
Я ведь также долго искал тебя повсюду и даже думал, что
ты уже не живешь больше в Афинах!
— Ты не ошибся, мой мальчик, — по-прежнему ласково
и сердечно ответил старик, называя Алкиноя по-старому
"своим мальчиком"... — Я теперь редко приезжаю сюда из
Олимпии, где работаю на постройке храма Зевсу
Олимпийскому вместе с ваятелем Фидием. Мы с ним бываем в
Афинах всегда случайно и всегда ненадолго. Вот и теперь мы
приехали за необходимыми для нас материалами и хотели
прихватить с собой еще двух-трех художников. Ну, а ты,
дружок мой, как живешь, где работаешь? Рассказывай
скорее! Я хочу все знать о тебе!
В коротких, скупых словах Алкиной рассказал своему
старому другу и учителю обо всем пережитом за
последние годы.
— Значит, похоронив собственного сынишку, ты решил
усыновить своего ученика? Хвалю за это решение! —
одобрил старик Ксанфий. — Плохо только одно, Алкиной, —
строго заметил он, — как мог ты, с твоими
способностями, согласиться работать в гончарной мастерской! А я
возлагал когда-то на тебя ведь большие надежды!
— Не осуждай меня, учитель! — опустил голову
художник. — Я долго не мог найти работу... Мы с женой и
ребенком голодали!.. И тогда я согласился расписывать вазы
и амфоры у Феофраста... Теперь мой приемный сын
учится у меня этому делу и делает большие успехи. Я
убедился, Ксанфий, что мальчику боги дали большие
способности, наградив его бесценным даром творчества... Беда только
329
в том, что у меня самого не хватает опыта, чтобы развить
его дарование, сделать из него лучшего мастера, чем я сам...
— Как все повторяется в жизни! — улыбнулся Ксан-
фий. — Было время, когда и я сам думал так же, обучая
росписи керамос юного Алкиноя Кадрида! Да, да! Это так!
Не качай головой, художник!
— О учитель, помоги мне найти для моего сына
опытного мастера-учителя! Среди твоих знакомых и друзей
тебе нетрудно отыскать такого, — попросил Алкиной.
Старик подумал немного.
— Хорошо! — ответил он. — Я смогу помочь тебе
довести доброе дело до конца. Вот что, Алкиной, —
пристально посмотрел он в лицо своему бывшему ученику, —
отдай твоего сына в мастерскую ваятеля Фидия!
— Чтобы Архил стал ваятелем, как его учитель, а не
художником! О нет, Ксанфий! — горячо ответил
Алкиной. — Я совсем иного хотел для моего сына!
— Обожди! Не торопись отказываться, — остановил его
старик. — Фидий ведь не только ваятель, но еще и
прекрасный художник. Да и у него в мастерской работает
немало художников. Тебе следует поговоригь с Фидием и
выслушать его совет. Это будет лучшим, что я могу тебе
посоветовать, Алкиной!
— О Ксанфий, — вздохнул художник, — если бы ты
только знал, как полюбил я моего приемного сына и как
хочу я для него удачи в жизни! Не славы, нет! Только
удачи и достижения большого мастерства в любимом деле!
— Это мне хорошо знакомо, друг мой! — улыбнулся
старик. — Я тоже огорчаюсь тем, что мой любимый
ученик не достигнул того, о чем я мечтал для него. Но все
же попробуем посоветоваться с Фидием. Он как-то
говорил мне однажды, что хочет взять несколько
юношей-учеников к себе в мастерскую. Я скажу ему, что одного
такого юношу, способного к разрисовке керамос и
трудолюбивого, я нашел для него. Хочешь ты этого?
— О Ксанфий, ты всегда был отзывчивым и добрым
человеком! И то, что ты предлагаешь теперь мне, было бы
поистине добрым делом для нас с Архилом!
— Тогда идем теперь же вместе со мной к Фидию! —
решительно заявил старик. — Я много раз рассказывал
Фидию о моем ученике Алкиное Кадриде, которого никак не
могу отыскать в Афинах, и он охотно уделит тебе свое
время для беседы. Пошли!
330
— Обожди, дорогой учитель! — остановил его Алки-
ной. — Прежде чем идти к Фидию, я должен поговорить с
Архилом и сказать хозяину, почему я должен буду
опоздать на работу. Но к ваятелю мы пойдем с Архилом! Это
я обещаю тебе! А ты заранее поговори с ним и узнай его
решение.
Ксанфий с досадой махнул рукой.
— Твоя нерешительность и несмелость в важных
делах всегда были причиной твоих неудач в жизни! —
проворчал он. — Но на этот раз я готов уступить тебе.
Потолкуй с мальчуганом, предупреди хозяина, что завтра с
утра задержишься немного, и я встречу тебя возле дома
ваятеля. Согласен?
Они простились. Довольный этой неожиданной
встречей со старым другом, Алкиной поспешил на стадион.
* * *
В это утро на Афинском стадионе собрались все
молодые воины, которые выразили желание участвовать в беге
колесниц на празднике в честь Посейдона. Среди них
было немало сыновей архонтов и стратегов, гордых своим
знатным происхождением и богатством.
Когда художник Алкиной пришел на стадион,
аристократы стояли неподалеку от входа, готовясь к проездке коней.
Некоторые из них пренебрежительно посмотрели на Ал-
киноя.
— Ума не приложу, как мог затесаться этот художник
из лавки горшечника Феофраста на стадион! — насмешливо
заметил один из молодых воинов.
— Пусть тебя это не тревожит, Патрокл! Скромный вид
и бедная одежда этого человека еще не говорят о том, что
он не происходит из знатного рода!.. Кстати, этот
художник, как мне говорили, сын доблестного Эния Кадрида, —
рассмеялся приятель молодого аристократа, — того
самого, который участвовал в бою у Саламина и погиб в бою.
Его имя хорошо известно в Афинах!
— Тогда объясни мне, почему же сын славного
стратега, прославившего своей доблестью Афины, унизил себя до
того, что стал простым ремесленником? — удавился Патрокл.
— Говорят, что старший брат лишил этого художника
наследства при разделе имущества после смерти отца, и
Алкиной Кадрид стал бедняком.
331
— Слова твои близки к истине, Орест, — заметил один
из воинов, стоявший рядом с Патроклом. — Иначе зачем бы
племянник Перикла решился доверить этому человеку
своих белых коней и колесницу для участия в состязаниях?
Алкиной не слышал их разговора. Он стоял возле
коней, на которых готовился ехать, и поглаживал их гривы.
— Взгляни, Патрокл, — обратился к сыну архонта Пе-
лея один из молодых воинов, — как заботится этот
художник о конях своего благодетеля! Он разглаживает им
гривы, смотрит, как они подкованы...
— Еще бы! — насмешливо отозвался тот, кого
называли Патроклом. — Хотел бы я посмотреть, что сделал бы
Алкивиад с этим человеком, с этим сыном Эния Кадрида,
если бы с одним из белых коней случилась беда!
Молодые воины засмеялись.
— Да, ты прав! — отозвался один из них. — Мне
даже жаль этого Кадрида... Ведь при всей его внешней
обходительности Алкивиад часто бывает груб и жесток! Я
немало слышал рассказов о том, как поступал он с теми, кто
не сумел угодить ему.
— А я не верю этим рассказам! — взволнованно
заметил один из молодых воинов — Мегакл. — Алкивиад мне
друг. И у него так много завистников, которые осыпают его
сплетнями и всякими выдумками. Я не спорю, Алкивиад
бывает иногда несдержан и честолюбив, но он добр и щедр
в помощи другим! Недаром его так любит Сократ! Да и Пе-
рикл не чает в нем души!
— Ну, своей расточительностью, положим, Алкивиад
любит щегольнуть, — усмехнулся Патрокл, — а вот в
искренность его доброты я не верю! Однако я понимаю
тебя, Мегакл... — обнял он молодого воина. — Ты друг Ал-
кивиада, и ты находишься под обаянием его
обходительности с друзьями, а, кроме того, ты поэт... и тебе свойственно
восторженное преклонение перед красотой, а что твой друг
красив — об этом спорить с тобой никто не будет! В
Афинах нет человека, пожалуй, красивее Алкивиада!
Юноша смущенно умолк.
Началась проездка коней, и воины должны были
прервать свой разговор.
* * *
Фидий работал в своей мастерской, когда к нему
вошли Алкиной и Архил. Весь испачканный глиной, ваятель
332
только слегка приподнял вверх правую руку в знак
приветствия.
Два его ученика-помощника укрывали от палящих
лучей солнца незаконченные торсы и бюсты. Ксанфия не
было среди них.
— Привет тебе, великий мастер! — подошел ближе к
ваятелю Алкиной. — Может быть, мы пришли не
вовремя, но я поторопился, зная, что ты скоро снова покидаешь
Афины.
— Ты привел с собой своего сына, художник? —
Скульптор бросил беглый взгляд в сторону Архила. — Мне Ксан-
фий говорил о нем, да и, кроме того, на днях в доме Пе-
рикла я видел амфору, разрисованную этим юношей... —
добавил ваятель с улыбкой.
Архил замер на месте, ожидая, что будет говорить о его
работе великий ваятель. Алкиной только опустил голову.
— Должен сказать тебе, юноша, — продолжал
Фидий, — что работу эту ты выполнил не так плохо,
особенно для начинающего художника — в ней чувствуется
дарование и большое усердие в отделке деталей одежды.
Я даже похвалил эту амфору там, в доме Перикла, но
тебе лично скажу, юноша, что разрисовывать амфоры
такими изображениями танцовщиц я бы тебе не разрешил.
Пока это рано для тебя. Тебе сначала следует еще многому
поучиться, — взглянул Фидий на Архила. — Для таких
рисунков требуется твердая рука художника и мастерство,
которого у тебя пока еще нет. Тебя нужно еще многому
учить, мальчик, — добавил мягко ваятель, — но я
согласен оставить тебя учеником в моей мастерской, если ты
обещаешь мне усердно и терпеливо работать... Приходи
сюда в мою мастерскую после праздника Диониса, —
продолжал Фидий. — На днях я и оба моих ученика, Алкамен и
Агоракрит, уезжаем в Олимпию заканчивать там работу над
фресками в храме Зевса, а за это время ты хорошенько
подумаешь и решишь, приходить ли тебе сюда, ко мне в
мастерскую, или нет, чтобы учиться мастерству ваятеля, —
добавил он с лукавой улыбкой.
Архил молчал, взволнованный и смущенный.
Любимый ученик Фидия, Алкамен, стоявший возле
своего учителя, был свидетелем всего этого разговора. Он
молча приглядывался к молодому гончару, вспоминая о том
времени, когда и сам он, бедняк, афинский юноша, пришел вот
333
так же в мастерскую великого ваятеля, умоляя Фидия взять
его, Алкамена, учеником к себе.
"А терпения учиться мастерству ваятеля хватит у
тебя, юноша? — спросил у него Фидий строго и
придирчиво. — Я лентяев учениками к себе не хочу брать! Мне
нужны трудолюбивые и способные помощники!"
"Терпения у меня хватит, мастер!" — твердо и
коротко ответил тогда юный Алкамен. И он сдержал свое
слово. Долгие годы трудился он в мастерской ваятеля Фидия.
И вот теперь он сам стал ваятелем. Немало забот и
внимания уделил ему его учитель, пока имя ваятеля
Алкамена, ученика знаменитого Фидия, не стало известным
людям, пока его статуи богинь Афродиты и Геры не
украсили лучших храмов Эллады.
Теперь учитель поручил ему отделку одной из фресок
храма Зевса в Олимпии. Это была срочная и почетная
работа... Немало потрудился над этой фреской Алкамен, и
теперь его учитель и друг должен был поехать вместе с ним
в Олимпию, чтобы оценить и принять от него эту работу.
Алкамен перевел взгляд на Алкиноя, стоявшего немного
поодаль от ваятеля. Лицо художника по росписи
керамики понравилось Алкамену привлекательностью и
выражением ума, воли и вместе с тем благородства и мягкости,
которые молодой ваятель любил замечать у людей.
— Требования нашего великого учителя, может быть,
покажутся нелегкими твоему сыну, художник, — сказал
Алкамен с легкой улыбкой Алкиною, — но, если в нем
кроется хотя бы искра дарования, юноша поймет, что мастер
Фидий хочет ему добра... и он придет сюда непременно, в
нашу мастерскую.
— Да пошлют тебе удачу в твоих делах бессмертные
боги, великий мастер! Сын мой почтет за великую честь
обучаться у тебя твоему мастерству! — сказал Алкиной,
обращаясь к Фидию.
Не оглядываясь больше, художник вышел из мастерской
Фидия. Следом за ним вышел его сын.
* * *
Несколько дней спустя, поздно вечером, когда Алкиной
уже возвратился домой из гончарной мастерской Феофра-
ста, кто-то осторожно постучал в дверь его дома.
334
Это был, к удивлению художника, старик Ксанфий, его
бывший учитель.
— Как? Разве ты не уехал вместе с Фидием в
Олимпию? — удивился Алкиной, приветствуя старика.
— Человек задумывает одно, Алкиной, а боги
посылают ему другое... — невесело отозвался Ксанфий. — Не
бывать, видно, долго нашему учителю, великому мастеру
Фидию, в Олимпии! — покачал он головой. — Я пришел к тебе
от его ученика Алкамена, чтобы оповестить тебя, что
Фидий взят своими врагами и врагами Перикла под стражу и
находится со вчерашнего дня в темнице Афин...
— Но за что же его заключили в темницу? Что мог
совершить дурного этот прекрасный человек?! — всплеснул
руками Алкиной.
— Враги обвинили его в богохульстве!
— Этого еще не хватало! Фидия, творца замечательных
статуй бессмертных богов, обвинить в богохульстве! —
возмутился Алкиной.
Ксанфий только развел руками. Он не мог говорить от
волнения. Алкиною едва удалось уговорить старика
выпить немного виноградного вина, чтобы согреться и
прийти в себя.
Немного успокоившись, Ксанфий продолжал:
— Статуя богини Афины для Парфенона была ведь
недавно только окончательно отделана Фидием... Ты это
знаешь, Алкиной! — сказал он. — Так вот, враги его и
Перикла теперь обвиняют Фидия в том, что ваятель из
богохульства изобразил на щите богини в виде старика с камнем
в руках самого себя, а в лице Тесея, сражающегося с
амазонкой, будто бы отразил черты Перикла!
— Ну так что же из того! — с недоумением
посмотрел на него Алкиной. — Художники иногда совершенно без
всякого умысла изображают в своих работах и в лицах
героев собственные черты...
— Не то! Не то ты говоришь! — с досадой прервал его
Ксанфий. — Как же ты не понимаешь... Враги и
завистники Фидия говорят на суде, что ваятель умышленно хотел
оскорбить богиню изображением на ее щите собственного
лица и лица Перикла, считая себя и своего друга гениями,
достойными преклонения наравне с бессмертными богами!
Такое обвинение в глазах демоса, разумеется, является
святотатством и преступлением... и враги именно на это и
335
рассчитывают! Поэтому знаменитый и не повинный ни в
чем ваятель заключен в темницу!
Старик Ксанфий, говоря это, горестно закрыл лицо
руками. Архил, слышавший весь разговор отца с Ксанфием,
подошел ближе к столу, за которым они сидели.
— Алкамен послал меня к тебе, Алкиной, —
продолжал после долгого молчания Ксанфий, — он просил тебя
навещать в темнице нашего несчастного друга, пока он сам
будет находиться в Олимпии, куда он отправляется завтра.
В мастерской учителя он оставляет меня и своего
приятеля — ваятеля Агоракрита, которому поручил Фидий
закончить в Афинах их совместную работу. — Ксанфий
вздохнул. — Фидий просил своего ученика обучать терпеливо
и усердно искусству ваяния твоего сына Архила и еще
одного мальчика, которого он взял к себе в мастерскую.
Я пришел сказать тебе, художник, об этом, передавая волю
нашего общего друга.
— Скажи великому ваятелю Фидию, Ксанфий, —
подошел ближе к старику Архил, — что я во всем последую
его воле и, может быть, когда-нибудь сумею оправдать
надежды великого ваятеля. Я постараюсь прилежно и
усердно работать вместе с его учениками.
ДНИ ДИОНИСИЙ
Радовался ли Архил после встречи с ваятелем Фидием
предстоящей перемене в его жизни? И да, и нет... Сам
Фидий с его мастерством, с его мягким и сердечным
отношением к людям произвел на Архила неизгладимое
впечатление чего-то высокого, необычайно ценного и располагающего
к себе. Он был строг и требователен к своим ученикам,
но это не пугало мальчика нисколько. Архил понимал, что
только искреннее желание развить способности ученика,
сделать из него хорошего мастера заставляли великого
ваятеля быть требовательным и строгим... Но Фидия больше
уже не было в его мастерской. Фидий своими врагами был
взят под стражу. Оставались в мастерской великого
творца Афины Парфенос и Зевса Олимпийского его ученики.
И эти ученики брали, по просьбе их учителя, его, Архила,
под свое наблюдение. А сумеет ли он, юный афинский
гончар, угодить этим двум ваятелям? Помогут ли они ему до-
336
биться того, к чему стремится он всем сердцем? Как мог
он быть в этом уверен! И в то же время Архилу хотелось
учиться у них их мастерству, создавать из мрамора и
слоновой кости изображения богов и героев.
— Скажи мне, отец, — однажды спросил он Алкиноя, —
что же лучше: умение хорошо разрисовывать вазы и
амфоры, как делаешь это ты, или мастерство ваятеля?
— Почему ты задал мне такой вопрос, мальчик? —
удивился Алкиной.
— Я с детства любил лепить из глины фигурки людей
и животных, — признался Архил, — наверное, поэтому мне
сразу пришлась по душе работа в гончарной мастерской,
но теперь, когда я думаю о том, что ученики Фидия берут
меня охотно к себе в мастерскую, чтобы научить меня
мастерству ваятеля, мне становится страшно и в то же
время сердце мое замирает от радости. Мне кажется, что нет
на свете ничего лучше, чем стать ваятелем!..
— Большое счастье для человека заниматься тем, что
по душе ему, но не всем дано бессмертными богами
создавать то, что прекрасно, — сказал художник. — И видишь
ли, дружок, — продолжал Алкиной, — ваятели создают из
мертвого камня изображения богов и героев. Зодчие
строят величественные храмы, в которых люди воздают хвалу
богам. Художники рисуют в красках то, что видят глаза их
в окружающем мире. И все это одинаково ценно и нужно
людям!
Некоторое время они оба молчали, обдумывая то, что
волновало каждого из них.
— Однажды я пережил то, что переживаешь теперь
ты! — улыбнулся Алкиной. — Я был так же молод тогда
и так же, как и ты, думал, что умение расписывать
сосуды — великое счастье! Разве ты совсем недавно не думал
так, Архил, заканчивая свою амфору для Алкивиада?
Архил понимал, что отец прав. Понимал он также
хорошо и то, что Алкиною как мастеру немного обидна
теперь "измена"' сына его делу.
— Так вот, — между тем продолжал художник, — в те
годы я однажды увидел новую работу Фидия — статую
Афины Парфенос, сделанную из слоновой кости. Я был
поражен ее красотой. На меня, точно ожившая чудом,
взирала гордая, властная дочь Зевса. На прекрасной голове
Афины был надет золотой шлем воина. Одной рукой она
337
опиралась на щит, другой держала небольшую статую
богини победы Нике. А у ног богини, как символ ее
мудрости, притаилась змея.
Мне казалось, что искусство ваятеля значительно
нужнее и прекраснее всего остального на свете. И оно
настолько ценно, что ему одному должны учиться люди.
Уж не помню, как добрался я до жилья моего учителя
и друга Ксанфия. Придя домой, я тотчас же схватил в
руки кусок сырой глины и стал пытаться воспроизвести по
памяти то, что в это утро видел в мастерской ваятеля.
"Я добьюсь, чего бы мне это ни стоило, что моя
фигура богини из глины будет походить на статую Фидия!" —
говорил я самому себе. Я работал, забыв обо всем...
— И ты добился, чего хотел, отец? — тихо спросил Ар-
хил.
— Нет, мой мальчик! Я ничего не добился, — покачал
головой Алкиной. — Мой учитель молча наблюдал все
время за мной. И только потом он сурово и коротко заметил:
"Тебе даны богами большие способности по росписи кера-
мос. Если ты еще немного подучишься этому делу, то из
тебя выйдет неплохой художник. Но не разбрасывайся
попусту! Вот тебе мой совет — лучше быть хорошим
художником по росписи керамос, чем плохим ваятелем!
Запомни слова мои! Я вижу ясно, что тебе не дано богами
умение вдохнуть жизнь в созданное тобой творение, подобно
хорошему ваятелю".
Я чувствовал, что учитель мой не ошибался. И я
поверил его словам. С тех пор я еще усерднее принялся
рисовать то, что он указывал мне на вазах и амфорах, как
делал это он сам долгую жизнь.
* * *
Наступили дни весеннего празднества в честь сына
Зевса, бога Диониса — бога веселья, виноделия, покровителя
рощ и нив. В первый день празднества были принесены
жертвы сыну Зевса в храме Диониса в Афинах. Празднование
Дионисий и веселье началось со второго дня.
Под звуки свирелей, с пением гимнов жрецы и юноши,
одетые в козьи шкуры, направились к храму Диониса.
— Эво-эй! Эво-эй! — слышались повсюду радостные
возгласы в толпе афинян, сопровождавших процессию.
338
— Ио-эй! — кричали бежавшие по улицам дети в
венках из цветов с гирляндами зелени в руках.
Вслед за процессией жрецов и юношей должны были
туда же привести жертвенного быка, чтобы еще раз
совершить жертвоприношение в святилище бога — Ленайон.
— Ведут! Ведут быка! — радостно закричали дети.
Одетые в козьи шкуры юноши показались в конца
улицы. Они торжественно вели украшенного цветами и
гирляндами из зелени жертвенного быка.
Стоявшие по обе стороны дороги афиняне запели гимн
в честь Диониса:
О гряди, Дионис благой,
В храм Элей, в храм святой!
Хотя ты и склонен к пляскам и к пению
И не для битв рожден.
Не мастер ты наносить удары,
Но равен ты мощью и в войне и в мире!
Юноши, ведущие быка, остановились возле святилища
бога Диониса.
Жрецы стали приготовлять все для жертвоприношения,
они пели теперь хором гимн в чеегь Диониса:
Ты оплетаешь реки потоками!
Ты укрощаешь море Индийское!
Ты, хмелея, волосы нимф
Перетягиваешь узлом змеиным!
Толпа повторила припев гимна:
Ты, хмелея, волосы нимф
Перетягиваешь узлом змеиным!
Вместе с толпой Алкиной, Дорида, Архил и Дракил
медленно приближались к святилищу бога Диониса.
Испуганная шумом и криками толпы, Дорида
растерянно жалась ближе к мужу, боясь потерять его в людском
потоке.
— Архил, отойдем в сторону! Мне нужно сказать тебе
кое-что! — окликнул друга испуганный Клеон.
— Ну что случилось? Говори! Сейчас начнется самое
интересное — жертвоприношение!
— Архил, конюх из конюшен Алкивиада разыскивает
повсюду твоего отца! — пробормотал фокусник. —
Случилась какая-то беда...
339
— Поспешим к конюху! — сразу же ответил Архил. —
Где он?
— Да вон там, в толпе, — указал Клеон. — Бежим,
пока он не ушел дальше.
— Говори! Что случилось? — торопил Архил раба. —
Что-нибудь произошло с конями? Они захромали?
— Нет, хвала богам, кони здоровы! — покачал головой
конюх. — Но я пришел сказать отцу твоему, юноша, что
он не сможет взять коней и колесницу, так как господин
мой сам поедет на этих конях на праздник Посейдона в
Коринф...
— Что же делать? — вырвалось у Архила. — Ну вот
что, — сказал он, немного подумав, — я сам пойду
немедленно к Алкивиаду и скажу ему, что нечестно нарушать
данное обещание и обманывать людей. А ведь он афинский
воин! Позор! Ступайте за мной! — позвал он Клеона и
конюха.
С трудом пробираясь в толпе, они все трое зашагали
по улицам города к загородному дому Перикла.
Возле дома Архил остановился.
— Жди меня здесь, Клеон, — сурово сказал он,
отпустив конюха в конюшни. — Я войду в дом, — продолжал
Архил, — и постараюсь там все высказать Алкивиаду...
— А ежели его нет дома? — робко заметил Клеон. —
Ведь сегодня все афиняне на празднестве.
— Буду ждать, пока он не вернется! — прервал его
Архил. — Все равно другого сделать я ничего не могу! —
твердо добавил он.
Архил направился к входной двери. Клеон остался ждать
друга на улице.
Приотворив незапертую дверь дома, мальчик смело
вошел в уже знакомое ему помещение. Миновав его, он
пошел далее к портику, откуда доносились веселые мужские
голоса пирующих людей. Архил огляделся и остановился.
Внутри просторного двора, из которого двери вели во
внутренние комнаты жилья, у жертвенника богу Зевсу была
зажжена светильня. Никого из слуг не встретив, юный
гончар решительно сделал дальше несколько шагов.
Необычное зрелище, которое он увидел, немного
смутило его. Но он тут же поборол смущение ради той цели,
с которой спешил в этот дом.
На завешенных коврами галереях с колоннами стояли
340
столы со всякой едой. Вокруг столов возлежали на ложах
воины с венками на головах. Все они громко чему-то
смеялись. Один из них запел вдруг приятным голосом:
О блестящий, венком из фиалок увенчанный,
Песнью прославленный, славный город Афины!
Ты — твердыня Эллады могучая!
Это был пир, на который собрались друзья Алкивиада.
Архил сразу понял это. Вскоре он увидел и того, кого
искал. Племянник Перикла возлежал среди гостей на ложе.
В руке он держал большую чашу с вином.
Гирлянда из зелени, одетая на шее у мальчика, от
резкого движения соскользнула на пол. Архил отпихнул ее
небрежно ногой.
— Смотрите, друзья, — воскликнул один из
пирующих, — откуда же взялся этот юноша, подобный
разгневанному Дионису?
— Кто бы ни был он, налей, Антей, поскорее этому
богоподобному мальчику вина в чашу! Пусть выпьет и
пропоет нам гимн в честь Бромия!1
— Он, может быть, голоден, — заметил другой воин
постарше. — На, бери пирожки с медом, юноша! —
протянул он блюдо Архилу. — Не смущайся — в этом доме
хватит на всех вкусной еды!
Архил с гневом оттолкнул от себя его руку.
Алкивиад приподнялся на своем ложе и, пошатываясь,
приблизился к мальчику.
— Кто посмел впустить тебя сюда, сын художника? —
сказал он с раздражением. — Здесь я пирую с моими
друзьями!
— Я вошел в дом твой, эфеб, потому что двери его были
открыты! — покраснев от обиды, ответил Архил. — А
зачем пришел я к тебе — ты это скоро узнаешь!
Архил сделал шаг ближе к племяннику Перикла.
— Ответь мне, эвпатрид! — сказал он, глядя строго в
упор на молодого воина. — Почему нарушил ты слово
афинского воина? Разве не говорил мне ты сам, что
воины-афиняне всегда остаются верными данным ими обещаниям?
Гости приподнялись на своих местах, прислушиваясь
к разговору мальчика с хозяином дома.
1 Бромий — один из эпитетов, который давали древние греки богу
Дионису. Он означал "шумливый".
341
— Что сделал плохого тебе, юноша, мой лучший друг Ал-
кивиад? — подошел к разговаривающим один из приятелей
племянника Первого Стратега. — Да еще в такой радостный,
праздничный для всех нас, афинян, день Дионисий?
— В этот радостный для всех афинян день, как сказал
ты, эвпатрид, твой друг Алкивиад отнял последнюю радость
у бедного художника, моего отца, лишив его возможности
участвовать в беге колесниц на Истмийских играх! —
ответил Архил.
— Слова твои не понятны никому из нас! —
зашумели гости за столом. — Поясни их, расскажи нам: что
случилось?
— Эфеб Алкивиад дал мне слово воина, что он
позволит отцу моему, Алкиною, взять на празднества его коней
и колесницу, а я за это выполнил его заказ в гончарной
мастерской. Но эфеб нарушил свое обещание. Скажите,
благородные друзья Алкивиада, честен ли поступок его и
достоин ли он воина?
— Почему ты молчишь, Алкивиад? Значит, мальчик
говорит правду? Тогда ты должен объяснить нам причину
своего поступка! — дотронулся до плеча приятеля воин,
стоявший рядом с племянником Перикла.
— Если же юноша говорит неправду, если он
напрасно обвинил тебя в нарушении данного тобой слова, —
гони его вон отсюда и дай ему хорошего тумака, чтобы в
другой раз он не осмелился нарушать веселья пирующих! —
поднялся из-за стола один из воинов. — Говори,
Алкивиад, а то я сам расправлюсь с этим наглецом! — продолжал
воин.
— Пустая болтовня! — небрежно поднял руку
Алкивиад. — Этот дерзкий сын гончара-художника напрасно
оклеветал меня! Я хотел только пошутить немного над ним, —
усмехнулся недоброй усмешкой племянник Перикла, —
никаких обещаний я ему не давал, верьте моему слову, друзья!
Архил побледнел и смог произнести только несколько
слов:
— О Алкивиад! Какой бесчестный поступок! А ведь ты,
эфеб, афинский воин!
— Обожди! Не горячись, мальчуган! — окружили Ар-
хила гости Алкивиада. — Мы заставим твоего обидчика
взять обратно свои слова и исполнить то, что обешал
тебе, если он и в самом деле что-то обещал.
342
— О! Клянусь вам бессмертными богами, афинские
воины, что я сказал правду! — вырвалось у Архила так
искренне и правдиво, что у всех присутствующих не
оставалось больше сомнений в том, что он говорит правду.
— Ха-ха-ха! — внезапно засмеялся Алкивиад. —
Хорошую забаву придумал я, чтобы развлечь вас, друзья! —
сказал он. — Однако хватит шуток! — сдвинул он
брови. — Чтобы вы не подумали плохо обо мне, я расскажу
вам, в чем дело, и докажу, что никогда не нарушаю
обещаний, данных мной... Вот, держи этот перстень, —
протянул он дорогой перстень Архилу, сняв его с пальца, —
ступай в мои конюшни и покажи перстень старшему
конюху. Скажи ему, что я подтверждаю мое распоряжение
дать коней твоему отцу. Ты, надеюсь, понял меня? Ступай!
Перстень можешь оставить себе. Ха-ха! — снова
рассмеялся он пьяным смехом.
Алкивиад смеялся, гости также смеялись вместе с ним,
но глаза Алкивиада, прекрасные голубые глаза, которыми
любовались афиняне, были полны злобы и презрения...
— А теперь беги скорее в конюшни, шутка окончена!
Жаль, что ты не понимаешь шуток, сын художника! —
махнул он рукой и стал жадно пить вино из поданной ему чаши.
— Плоха и жестока такая шутка, эвпатрид, которая
причиняет горе беднякам! — с горечью крикнул Архил.
На улице Клеон бросился к нему навстречу:
— Ну как, Архил? Удалось тебе уговорить эвпатрида
дать коней мастеру Алкиною?
— Да, мне удалось добиться этого! — с грустью
ответил юный гончар.
Глухие рыдания вырвались из его груди. Клеон с
испугом и удивлением смотрел на своего друга.
* * *
Народ спешил к театру, находившемуся неподалеку от
Акрополя. В дни празднества там разыгрывалось актерами
представление о жизни и смерти Диониса.
Толпа хлынула в помещение театра, занимая места,
вырубленные прямо в скале. Алкиной, Дракил и Дорида
пришли туда вместе со всеми. На площадке посредине
театра, где обычно помещался хор во время представления
трагедий поэта Эсхила, стоял жертвенник богу Зевсу. Там же
теперь сидел на троне "всемогущий" Зевс. Дочь его, Афи-
344
на, протягивала отцу трепещущее сердце брата своего
Диониса, убитого злыми титанами1, врагами Зевса. И Зевса
и дочь его Афину играли мужчины — актеры с масками
на лицах.
— Я не вижу Архила! — вдруг забеспокоилась
Дорида. — А ведь мальчик только что был возле меня. Куда он
девался?
— Не тревожься о нем, — старался успокоить Алки-
ной Дориду, — он уже не маленький! Сидит, наверное, где-
нибудь в театре вместе со своим другом Клеоном. Смотри
лучше представление!
Актеры между тем продолжали разыгрывать драму. Зевс
поднялся с трона, выхватил сердце сына из рук Афины и
движением руки возродил Диониса к жизни по-прежнему
юным и прекрасным. Страшные, громадные, вышли
титаны из недр земли и ринулись в бой с Зевсом. Гневный и
могущественный, он взмахнул своим жезлом. И тотчас же
оглушительный гром загрохотал со всех сторон. Все
заколебалось. Казалось, что содрогнулась земля под ногами у
зрителей. Замелькали ослепительные молнии. Как огненные
стрелы, стали поражать они титанов. Испуганные зрители
трепетали от ужаса перед гневом Зевса Громовержца.
Дрогнули и враги его титаны. Поверженные молниями
на землю, они молили о пощаде. Сила их была сломлена.
Хор запел хвалебные гимны в честь Зевса и Диониса.
Так заканчивалось представление о смерти и
возрождении к жизни бога Диониса.
Алкиной и Дракил, отыскав Дориду у входа,
поспешили с народом в рощи за город.
По дороге к рощам уже шло шествие. Актер,
изображавший Пана2, ехал, окруженный толпой людей, на осле.
Его сопровождала молодежь с пением гимнов.
Промчались, обгоняя толпу, колесницы афинских
воинов. Они бросали цветы и гирлянды зелени на пути Пану.
Их сопровождали восторженные возгласы толпы.
В этой толпе, позади всех, шли Архил и Клеон,
отыскивая Алкиноя и Дориду.
В горах за городом, ближе к рощам, где обычно
паслись стада коз и овец, хоровод девушек встретил Пана. Он
заиграл на свирели веселую песню. Начались пляски. Толпа
1 Титаны — дети Урана — неба и Геи — земли.
2 Пан — бог лесов и полей, покровитель стад.
345
проводила бога лесов и долин к большому пню, на
котором он и уселся, продолжая играть на свирели.
Девушки, изображавшие нимф, окружили его.
— Спой нам песню, Пан! — просили они. — Твои
песни сладки, как мед. Спой нам, козлоногий бог, под звуки
твоей чудесной свирели.
И любимец молодежи, Пан, запел. Вокруг него тотчас
же закружился хоровод молодых нимф.
Клеон первым заметил в толпе, окружавшей Пана,
Дориду и Алкиноя.
— Я нашел их! Вон они! — радостно закричал он,
зовя Архила.
Алкиной при взгляде на сына сразу же заметил, что
мальчик рассеян и невнимателен ко всему, что его
окружает.
"Что случилось с Архилом? — подумал он. —
Мальчик чем-то расстроен..."
Когда Алкиной и его семья, сопровождаемая Дракилом
и Клеоном, возвращались в Афины, было уже совсем
темно. Над их головой раскинулось небо, усеянное звездами.
Ярче других звезд блестел Сириус, возвещавший
знойное лето.
— Скажи мне, мастер, — задумчиво спросил Клеон
Алкиноя, шагавшего рядом с ним, — почему одни звезды
блестят на небе ярче, а другие едва светятся, точно угасают?
— Не знаю, что тебе ответить на твой вопрос, Клеон.
Я ведь неученый, — покачал головой Алкиной. — Могу
только передать тебе одно древнее предание о том, как
появилось на небе яркое созвездие, о котором рассказывал
мне еще мой отец, когда я был ребенком...
— Расскажи! Расскажи! — стали просить Алкиноя его
спутники.
— Ну, тогда слушайте! Давно это было, — начал
Алкиной. — В Аттике жил пастух Икарий, все свои дни
проводивший на пастбище, где он пас овец и коз своего
хозяина. Не один раз в своей долгой жизни Икарий был
свидетелем того, как прекращался рост травы на пастбищах, как
деревья сбрасывали засохшие, пожелтевшие листья со
своих ветвей, а трава стелилась по земле, поблекшая и сухая.
Прекращался рост в садах сочных, душистых плодов,
жизнь кругом замирала. И тогда он должен был угонять
свои стада на зимние загоны.
346
Но старик Икарий бывал свидетелем и другого: когда,
спустя некоторое время, положенное для отдыха природе,
лучезарный Гелиос — солнце — снова появлялся на небе
на своей золотой колеснице и, прерывая сон плодоносной
земли, посылал на нивы и в леса яркие снопы горячих лучей.
Под живительными лучами Гелиоса оживала и зеленела
трава снова на нивах, покрывались нежными весенними
листьями деревья в лесах, расцветали цветы вокруг, и тогда
Икарий опять выгонял волов, коз и овец на пастбища,
радуясь вместе с оживающей природой ее пробуждению.
Однажды в лесу Икарий встретил юношу, державшего
в руке небольшие зеленые кустики, каких старик до того
не видел нигде.
"Откуда ты, богоподобный юноша? — спросил он. —
И где нашел ты эти зеленые кусты, которые несешь в руке?"
"Ты не узнал меня, Икарий? — улыбнулся юноша. —
Я — Дионис, сын Зевса! А за твою любовь к лесам, к
нивам и ко всем живым существам на земле я хочу сделать
тебе подарок! Эти кустики, что видишь ты в руках у
меня, — виноградные лозы. Я научу тебя растить их и
разводить виноград! Ты уже слишком стар, чтобы бродить со
стадами по горам. Теперь ты станешь первым виноделом в
Аттике и будешь жить спокойно, выращивая гроздья
сочного винограда. А после станешь выжимать из этих
гроздей ароматный сок, веселящий людские сердца... И скоро
наступит такой день, старик, когда все люди в Элладе
воздадут хвалу тебе за это!"
Так пастух Икарий научился разводить виноград.
Пастухи с соседних пастбищ зашли в один из дней к
Икарию, чтобы взглянуть поближе на диковинные плоды,
которые они видели на его винограднике.
Икарий радушно принял гостей и угостил их соком этих
плодов: он отжал его из гроздей винограда незадолго до этого.
Опьяневшие от виноградного сока пастухи решили, что
старик отравил их, и они убили из мести, по злобе, его
самого, дочь его Эригону, и даже верного пса Икария — Майра.
Когда бог Дионисий узнал о поступке пастухов, он,
разгневавшись, наказал людей безумием хмеля, и с той поры
охваченные опьянением люди стали совершать дурные
поступки, наносить близким своим зло и обиды. А когда на
небе появилась в своей колеснице, запряженой черными
быками, богиня ночи Нюкте, Дионис воскликнул:
347
"Я хочу наградить тебя, Икарий, за зло, причиненное
тебе людьми, — отныне я вознесу дух твой высоко над
землей вместе с духом дочери твоей, а также и твоего пса!
И оттуда станете вы светиться мерцающим светом во тьме
ночи, окутывающей землю!"
Так он и сделал, как обещал Икарию.
И с тех пор на темном ночном небе появилось новое,
мерцающее во тьме созвездие Волопаса, Девы и Пса. Это
созвездие мирно сияет над спящей землей, пока не
начинает светлеть восток и на нем не появляется Утренняя
заря — Эос!..
Алкиной умолк.
— Какая красивая сказка, мастер! — воскликнул Кле-
он. — Я всегда завидовал людям, которым боги дали дар
придумывать прекрасные сказки.
Алкиной ничего не ответил ему, он только взглянул на
сына, хмуро шагавшего рядом с ними.
* * *
Приближался праздник в Коринфе в честь бога
Посейдона, сопровождавшийся играми на стадионе и на
ипподроме. Этот праздник проводился через каждые два года.
Афиняне — бегуны, борцы и участвовавшие в беге
колесниц — отправились за несколько дней до начала
празднования в Коринф во главе с Формионом — лучшим
учителем афинской гимнастической школы. Среди них
находились Алкиной и Архил, сопровождавший отца.
Алкиной заметно волновался.
Наступил день состязаний. Стоя возле четверки белых
коней Алкивиада, которых заблаговременно привели конюхи
молодого воина в Коринф, он ласково поглаживал шею
коренника Аякса.
Формион и Архил заняли места в стороне от
участников состязаний. Оба они смотрели на Алкиноя,
тревожились за него.
Наконец глашатаи возвестили о начале бега колесниц.
Сердце замерло в груди Архила. Белые кони Алкиноя
рванулись было вперед, но он сдержал их. Они пошли
медленно и отстали от других.
— Смотри, Формион! — схватил Архил за руку
своего учителя. — Что же это? Кони отца отстают!
— Не тревожься: твой отец опытный возница! Он по-
348
ка умышленно сдерживает коней, — тихо ответил Форми-
он. — Следи внимательно. Скоро белые кони Алкивиада
пойдут впереди других! Алкиной погонит их, когда это
будет нужно.
Архил не сводил глаз с колесниц. Он видел, как
тяжело дышали кони Патрокла. Спины их взмокли от пота. Он
видел, как упряжки других участников состязания мчались
за конями Патрокла, и только белые кони отца шли
ровно, без усилия, к финишу, который был уже недалеко.
Патрокл что-то громко крикнул коням. Они точно не
слышали его окрика. Но зато на глазах у всех зрителей
кони Алкивиада внезапно пошли быстрее и опередили
Патрокла. Теперь они шли первыми к финишу.
— Хвала богам! Этот художник оказался опытным
возницей! — громко крикнул Алкивиад.
Архил схватил за руку Формиона:
— Гляди! Гляди! Учитель! Белые кони идут впереди
всех!
Но вот четверка рыжих коней Патрокла снова
поравнялась с конями Алкиноя. Зрители замерли на своих
местах, с волнением следя за состязавшимися.
Теперь пришла пора Алкиною погнать своих коней
вперед.
Выпрямившись на колеснице, Алкиной поднял вверх
руку и громко крикнул кореннику:
— Вперед! Вперед, Аякс!
Умный конь, послушный его приказанию, рванулся
вперед, увлекая за собой всю упряжку. Только на половину
лошадиной головы колесница Алкиноя шла впереди
Патрокла. Ветер свистел в ушах у художника. Шлем
свалился у него с головы. Он еще раз поднял руку и натянул
вожжи. Секунду спустя рыжие кони Патрокла остались
позади него. У финиша художник едва сдержал белых коней.
— Внимайте, эллины! — кричали глашатаи. — На
состязании в беге колесниц в честь бога Посейдона победителем
состязания вышел афинянин Алкиной, сын Эния Кадрида!
Толпа бурно выражала свой восторг.
— Слава Алкиною, сыну Кадрида! — кричали голоса.
— Хвала афинскому художнику Алкиною! — вторили
им голоса с мест.
Алкиной все еще не верил своему успеху. Он стоял у
финиша, приглаживая волосы дрожащими руками.
349
— Хвала тебе, художник Алкиной! Я горжусь тобой! —
сказал подошедший к нему Алкивиад. — Признаюсь
откровенно, я не мог поверить твоему умению управлять
четверкой коней! Если бы ты еще был воином, тогда...
— А я был в юности воином, эфеб! — перебил его
Алкиной.
— Вот как? Не знал этого! — удивился племянник Пе-
рикла. — И должен сказать тебе: если бы не настойчивое
требование сына твоего, я, может быть, даже и не дал бы
тебе моих лучших коней на Истмииские игры.
— Я не понимаю слов твоих, эфеб! — посмотрел на
молодого воина Алкиной. — При чем же мой сын?
— Сын твой на праздник Диониса пришел ко мне в
дом, — усмехнулся Алкивиад, — и обвинил меня в том, что
я нарушил слово воина и что я бесчестный человек. А
вышло так потому, что я решил подшутить над ним и заявил,
что не хочу дать тебе на состязание своих белых коней, так
как поеду на них сам. Но сын твой, как я в этом убедился,
не умеет понимать шуток! Коней я тебе, разумеется, дал бы
для состязания, только не этих, художник. Но твой Архил
обвинил меня в нечестном поступке в присутствии многих
350
моих друзей, и я тогда решил не брать у тебя белых коней...
Теперь я об этом уже не жалею. Оказывается, ты правишь
конями совсем как опытный возница!
— Ты удивил меня немало своим рассказом, эфеб! —
растерянно ответил Алкиной. — Но должен сказать тебе все же,
что ты напрасно опасался! В юности я правил много раз
конями моего отца, когда был таким же эфебом, как ты теперь.
— Это хорошо, художник! На Олимпийских играх ты
смело можешь надеяться получить опять моих коней!
Теперь я могу доверить их тебе!
— На Олимпийских играх? — удивился Алкиной. — Но
имя мое не объявлено даже в списках участников!
— Твое имя будет внесено в списки! — уверенно
отозвался Алкивиад. — Стоит мне сказать только несколько
слов о тебе в гимнастической школе, — небрежно добавил
он, — тебя скоро известят, художник, о том, что имя твое
уже внесено в списки участников! Значит, все в порядке!
Что же касается коней и колесницы, то ты получишь
снова то и другое в моих конюшнях.
— Какое счастье, отец! Я слышал все, что обещал
тебе Алкивиад! — подбежал к отцу Архил.
351
— Обожди радоваться, мальчик! — прервал его
Формион. — Племянник Первого Стратега, должно быть, позабыл,
что, в случае победы твоего отца на состязаниях в
Олимпии, — олимпиоником1 будет считаться владелец коней, на
которых он состязался, а не Алкиной. Таковы правила!
— Об этом я не подумал. Ты прав, Формион, —
сказал, слегка смутившись, Алкивиад, — но это дело
поправимое! — уверенно закончил он. — В случае, если ты снова
выйдешь победителем в Олимпии, как и на Истмийских
играх, то кони, которыми ты будешь править, вместе с
колесницей станут твоими. Я подарю их тебе!
Возглас изумления вырвался из груди присутствующих.
— Ох, до чего же хитер Алкивиад! — пробормотал,
качая головой, Патрокл. — Всеми путями старается он
добиться популярности в Афинах.
— По стопам дядюшки своего идет! Стратегом в
Афинах хочет быть после него! — усмехнулся один из
приятелей Патрокла.
Обняв Архила, Алкиной вышел с ипподрома в
сопровождении друзей. В ушах у него еще продолжали звучать
слова, сказанные Алкивиадом. Он и верил и не верил этим
словам.
— Теперь мне понятно, что переживал ты в дни
празднества Диониса, сынок! — ласково наклонился он к Архи-
лу. — А я никак не мог понять, что случилось с тобой!
Теперь я знаю все, что произошло в доме Перикла.
— О отец, это было нелегко мне пережить! — со
вздохом прошептал Архил.
Формион внимательно прислушивался к их разговору,
не спрашивая ни о чем. Поступок Архила и удивил и
порадовал его.
Ему захотелось чем-нибудь вознаградить за этот
поступок мальчика.
— Ну, вот что, сын Алкиноя, — сказал он, прощаясь
с друзьями, — я сегодня не собирался говорить об этом,
но в такой радостный день не могу молчать. Я уже внес
твое имя, Архил, в списки участников в беге моей
младшей группы на Олимпийских играх. Но для этого
придется тебе немало поработать. Скажи мне, обещаешь ли ты
часто приходить ко мне на занятия в гимнастическую
школу, когда станешь учеником Фидия.
1 Олимпионик — победитель на Олимпийских играх.
352
— Обещаю, учитель! — радостно воскликнул мальчик.
Алкиной только положил руку на плечо своего друга.
— У меня нет слов благодарности для тебя, Форми-
он! — сказал он растроганно.
— А мне этого и не нужно! — тепло улыбнулся Фор-
мион.
Нахлынувшая толпа афинян разъединила их.
— Хвала Алкиною Кадриду! Хвала победителю! —
кричали в толпе.
— Слава нашему Алкиною! — громко сказал какой-то
ремесленник, обнимая художника.
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ
Всего несколько месяцев оставалось до обще
греческого праздника в честь бога Зевса, происходившего в
Олимпии раз в четыре года.
Эллины приурочивали этот праздник между 11 и 15
числами священного месяца Иеромении, справлявшегося в
конце июня — в начале июля месяца, — это были ближайшие
дни к летнему солнцестоянию.
Особые послы выезжали из Олимпии, чтобы
своевременно оповестить всех жителей Эллады о приближении
Олимпиады — праздника в честь бога Зевса.
Они сообщали о том, что этот праздник состоится, как
всегда, у подножия холма Кроноса, в селении Олимпия, где
в храме Зевса будут совершаться торжественные
жертвоприношения, после которых состоятся игры-состязания —
Олимпийские игры.
Во всех городах и селениях Эллады послы Афин
оповещали жителей о приближении празднества с высоких
помостов, построенных для них заранее.
После этого для афинских послов устраивалось
пиршество в пританеях1 городов, затем послов с честью
провожали в дальнейший путь. Послам Афин предстояло
объехать со своим сообщением все города, острова, где
обитали эллины, а также греческие колонии, побывать в Понте
1 Пританеи — здание, где происходили торжественные приемы гостей
и чествования героев и где обычно собирались должностные лица
города для обсуждения дел государственной важности.
353
12 532
Эвксинском, в Лидии, Сицилии, Египте, Италии, Испании
и проехать по всему побережью Эгейского моря.
Когда послы Афин уезжали из города, жители его
тотчас же начинали спешно готовиться к путешествию на
праздник Зевса в далекую Олимпию, находившуюся на
юго-западной части Пелопоннесского полуострова.
Особенно волновались и готовились к состязаниям те,
чьи имена были внесены в списки участников игр:
дискоболы, бегуны, борцы, метатели копья. С этого дня они почти
не покидали стадионов при гимнастических школах своего
государства.
Поэты и рапсоды Эллады, недавно только получившие
право выступать на состязаниях в Олимпии, старались
превзойти друг друга в мастерстве стихосложения, чтобы
получить одобрение на празднестве.
Жители Эллады покупали новую праздничную одежду,
запасались деньгами и всем необходимым для далекого
путешествия к храму Зевса Олимпийского.
Торговцы отбирали лучшие товары для ярмарки в
Олимпии, происходившей на берегу реки Алфея.
Вся Эллада напоминала бурное море. Она шумела и
волновалась.
Учитель афинской гимнастической школы Формион
волновался не менее самых юных своих учеников, впервые
отправлявшихся на состязания в Олимпию.
— Помните, юноши Афин, — говорил он, — недалеко
то время, когда все вы станете ловкими и сильными
воинами нашего архэ! Помните — Афинам завидуют все
государства Эллады. Кто, кроме нас, обладает такой красотой
своего города, своих храмов, как Афины? И мы, афиняне,
должны не уронить честь нашего государства. Кроме того, мы
должны показать всем эллинам нашу мощь и силу, чтобы
враги Афин знали, что ожидает их в случае войны.
Вместе с другими молодыми учениками Формиона Ар-
хил не раз слышал эти слова своего учителя, и все же ему
часто казалось, что Формион относится к нему
требовательнее и строже, чем к другим юношам.
— Как держишь ты копье, сын Алкиноя! — сердился
учитель. — Разве так учил я тебя заносить руку с
копьем? Поверни туловище левым плечом в сторону метания!
Ну! Чего ждешь? Бросай копье! Нет! Опять ты делаешь это
.не так, как нужно! — с отчаянием восклицал Формион. —
354
Почему ты не оттолкнулся левой ногой при метании копья?
Беда мне с тобой!
Покрытый потом от напряжения, Архил покорно
повторял неудавшийся ему прием. Но Формион все же
оставался недовольным.
— Отец, учитель несправедлив ко мне! — жаловался
мальчик вечером Алкиною. — Я бросаю копье не хуже
других, а бегаю я быстрее многих его учеников, почему же он
только и делает, что бранит меня!
— Ты напрасно обижаешься, мой мальчик! —
улыбался художник. — Учитель добивается красоты и ловкости
в твоих движениях! Вспомни фигуру дискобола у входа в
гимнастическую школу. Сколько раз любовался ты этой
фигурой! А ты думаешь, юноше, с которого ваятель лепил
этого дискобола, стоило мало труда добиться красоты в
движениях?
В последние недели перед Олимпийскими
празднествами толпы людей со всех концов Эллады потянулись к
храму Зевса. Путники, шагавшие пешком по дорогам Эллады,
а также и те эллины, которые плыли в Олимпию морем,
считались в пути неприкосновенными для разбойников и
врагов.
Во время священного перемирия — экихирии,
объявленного за три месяца до начала празднеств, всякий
нарушивший это перемирие подвергался строгому наказанию
властями и лишался права участия в Олимпийских играх.
В Элладе настало время тишины и покоя. Раздоры и
войны прекратились на время перемирия. Грабежи и
разбои на дорогах жестоко карались.
* * *
В семье Алкиноя шли сборы в дальнюю дорогу.
Решено было отправиться в Олимпию за месяц до начала
празднеств. Путь был намечен кораблем из Пирейского порта
к Истмийскому1 перешейку, затем дальше по
Ионическому морю до устья реки Алфея, с тем чтобы потом пешком
добираться до Олимпии.
В последнюю ночь художник и жена его увязывали в
узлы одежду, походную палатку, собирали в мешок еду на
дорогу и запасали пресную воду в двух кувшинах. Все это
1 Истмийский перешеек — древнее название Коринфского перешейка.
355
12*
должен был тащить на спине небольшой ослик, которого
недавно купил Алкиной.
Но, когда Архил стал привязывать утром корзину к
спине животного, осел стал отчаянно брыкаться и пронзительно
кричать. Он вырвался из рук мальчика и бросился бежать
по дороге. Архилу потребовалось немало усилий, чтобы
догнать и привести осла обратно домой.
— Натерпишься ты беды по дороге с этим упрямцем! —
улыбался кузнец Дракил, пришедший проводить друзей. —
Теперь это животное не желает спокойно стоять на месте,
а потом он вдруг уляжется посреди дороги и не захочет
идти дальше! Я уже испытал такое однажды. Мне пришлось
самому ложиться на дороге рядом с моим ослом, —
смеялся кузнец, — и тогда глупое животное внезапно
вскочило и в испуге бросилось так быстро бежать, что я едва
догнал его.
— О нет! — сердито ответил Алкиной. — Я не
собираюсь ложиться в пыль рядом с этим упрямцем! Поэтому
заранее приобрел для него хорошую палку.
— Тебе это не поможет, — покачал головой Дракил, —
тут нужно умение обращаться с ослами. Придется, как
видно, мне поехать вместе с вами, чтобы выручать вас из беды.
— И правда, Дракил. А почему бы тебе не
отправиться в Олимпию вместе с нами? — подошел ближе к другу
художник. — Так было бы и лучше, и приятнее для всех
нас!..
— Я не подумал об этом, да и денег не взял заранее
на дорогу у хозяина. Кроме того, у меня нет плаща, а как
без плаща пускаться в такой далекий путь!
— Денег я достану, — успокоил его Алкиной, — еды
и пресной воды мы взяли с собой достаточно, а в
Олимпии купим тебе новый гематион1. Решайся, друг!
Дракил все еще колебался. Но желание ехать вместе
с Алкиноем на празднества взяло верх.
— Еду! — наконец решительно заявил он. — Пойду
только достану денег да прихвачу из дому кое-что из еды.
Я догоню вас в порту. Ждите меня!
— Не торопись! — крикнул ему вслед Алкиной. — Ведь
еще будут грузить в трюм коней и осла. Для этого
потребуется немало времени. Да и солнце стоит еще высоко.
1 Гематион — плащ.
356
С улицы послышались чьи-то торопливые шаги. В
калитку вбежал запыхавшийся Скиф.
— Еще не уехали? — пробормотал он. — Какое счастье!
Подбежав к Архилу, он стал таинственно совать ему
что-то в руку. Это был небольшой грязный комочек,
завернутый в тряпицу.
— Бери, прячь скорее... Это амулет! — шептал
маленький варвар. — Ты мне друг! А для друга ничего нельзя
жалеть... Этот амулет не раз спасал мне жизнь. Он и тебе
принесет счастье и удачу.
Архил колебался.
— Зачем отдаешь ты мне то, чем так дорожишь? Нет!
Я не хочу брать твой амулет! Оставь его у себя, —
покачал он головой.
Скиф опечалился.
— Я же сказал, что мой амулет принесет тебе удачу!
Я хорошо это знаю! — бормотал невольник. — Прошу
тебя, возьми его, Архил! — Скиф чуть не плакал. — Ведь
ты же говорил, что мы с тобой теперь друзья! —
настаивал он. — Знай, Архил, боги непременно пошлют тебе
удачу, если ты наденешь на себя мой амулет! Возьми его,
прошу тебя!
— Где ты, Архил? — послышался голос Алкиноя. —
Привязаны ли вещи к спине осла? Нам пора трогаться в
путь!
— У меня все готово, отец! — отозвался юноша,
поспешно засовывая священный амулет Скифа за ворот хитона.
Убедившись, что новый друг принял его подарок, Скиф
торопливо побежал обратно в мастерскую Феофраста,
опасаясь, что сердитый хозяин будет бранить его за долгую
отлучку.
На прощание Алкиной еще раз обнял жену.
— Не тоскуй без нас, Дорида! — ласково сказал он. —
Я очень опечален тем, что женщинам не разрешается
присутствовать на Олимпийских празднествах и играх, а то я
непременно взял бы тебя с собой туда!
— Ты всегда был добрым со мной, муж мой! —
ответила Дорида, с любовью глядя на Алкиноя.
— И я! И я еду с вами! — внезапно прервал их
беседу звонкий голос фокусника Клеона. — Мой отец
согласился отпустить меня вместе с вами в Олимпию! Он думает,
что там на ярмарке я сумею заработать много денег!
357
Алкиной взял в руки палку и погнал своего осла по
дороге в порт. За ним все тронулись в путь.
* * *
В порту давно уже поджидали отъезжающих оба
рыбака — друзья Архила, пожелавшие проводить своего юного
приятеля в далекий путь.
— Желаю тебе успеха на играх! И тебе также,
художник, отец нашего Архила! — сказал на прощание старший
рыбак. Сын его в это время совал в руки Архилу
корзинку с вяленой рыбой. — Пусть дуют вам попутные ветры! —
произнес он искренне лучшее пожелание жителя моря.
Посадка закончилась. Корабль был готов к отплытию.
Гребцы налегли на весла. Медленно и плавно судно вышло
из порта в море. Стая чаек с громкими криками неслась
за ним, то немного отставая от корабля, то опережая его.
Путешественники долго еще стояли у борта, посылая
последние приветствия остающимся в порту.
Миновав Истмийский залив, корабль вышел в
открытое море. Под лучами заходившего солнца море казалось
покрытым серебристой рябью. Гребцы убрали весла и
подняли паруса. Волны разбегались от носа судна прямыми
складками и исчезали у кормы его. На небе не было ни
облачка. Попутный ветер раздувал паруса. Изредка
навстречу путешественникам попадались лодки рыбаков. Они
быстро проплывали мимо корабля и исчезали вдали.
Гребцы запели песню. К их песне прислушивались все:
и жрецы, дремавшие до того, и торговцы, ехавшие на
ярмарку в Олимпию, и воины, торопившиеся на состязания,
и юноши из гимнастических школ, впервые участвовавшие
в Олимпийских играх на празднестве Зевса.
Расположившись у кормы, Алкиной, Архил и Клеон с
живым интересом наблюдали за волнами, разбегавшимися
от борта плывущего корабля.
Каждый из них думал о своем.
Художнику вспоминалась его жизнь в юности в доме
отца...
"Боги благосклонны к моему Алкиною! — часто
говорил отец, ласково проводя рукой по волнистым светлым
волосам сына. — Удача следует за ним, как верный пес!
Мальчику все дается легко!" Он быстрее своих
сверстников выучился читать и писать. Ребенком он уже умел иг-
358
рать на кифаре и пел песенки, которые придумывал сам...
Учителя не могли нахвалиться им. После, уже обучаясь
воинским наукам в гимнасии, Алкиной мечтал вместе с
отцом о воинской славе, о походах против персов... А затем
все это рассеялось, как сон... Жизнь младшего сына Эния
Кадрида пошла совсем по иному пути...
Со смертью отца юноша лишился сразу всего, о чем
мечтал. Вспоминать о прошлом Алкиною было нелегко, и
он избегал думать об этом, однако всякий раз, когда ему
приходилось сталкиваться с прежними друзьями его семьи
или слышать рассказы посторонних людей об его отце,
художнику становилось тяжело. Несмотря на все усилия
воли, он долго не мог тогда вернуть себе обычное
спокойствие и сдержанность...
Что теперь ожидало его здесь, в Элиде, куда плыл он
за месяц до начала празднества, чтобы пройти в Олимпии
последнюю подготовку перед состязаниями, как того
требовали правила?
Только после этого будут объявлены окончательные
списки участников игр. Сердце у художника тревожно
замирало при этой мысли.
Фокусник Клеон с большим интересом следил за всем,
что встречалось в пути. Все было любопытным для него,
никогда не видавшего Афины. Он мало думал о
наставлениях отца заработать побольше денег на празднествах,
охваченный новыми впечатлениями.
Архилу первые дни путешествия казались интересными,
но скоро он устал от однообразия жизни на корабле. Думая
о своем недолгом пребывании на море с рыбаками, он
сравнивал впечатления тех дней с путешествием на корабле, и
ему казалось, что жизнь на море с рыбаками была и
веселее и приятнее, чем теперь. Припоминались костры на
берегу, на которых варилась вкусная рыбная похлебка; он
вспоминал о работе в море с рыбаками, песни и рассказы
новых друзей. С невольным вздохом Архил подумал о том, что
не скоро теперь сможет вновь повидаться с ними...
Корабельщики запели песню:
Счастье и удача не любят бедняков!
Лови, человек, свое счастье.
А ежели ты его уже поймал,
Держи крепко! Как только сумеешь!
Прислушиваясь к словам песни, Алкиной усмехнулся:
359
"Счастье и удача — редкие гости в доме бедняка! Да
и как возможно удержать их, если они даже заглянут в твой
дом? Наивные люди! Они верят в то, что это возможно!" —
думал он и невольно вспомнил о судьбе ваятеля Фидия,
которого еще так недавно прославляла вся Эллада и
который теперь томился, больной и убитый горем, в темнице.
Вечером, сидя на канатах на корме корабля, мальчики
вели тихую беседу.
— Расскажи мне что-нибудь интересное, Архил, —
просил Клеон своего друга. — Ты такой мастер рассказывать
мифы о героях!
— Хорошо. Я охотно расскажу тебе миф о Прометее,
который недавно слышал от отца, — кивнул головой Ар-
хил. — Слушай! Это было в далекие времена. Могучий
Прометей похитил у Гефеста огонь и научил людей
пользоваться им. Многому еще научил он людей, желая, чтобы людям
легче жилось на земле! Но олимпийские боги прогневались
за это на него, испугавшись, что, узнав так много, люди
станут слишком сильными и перестанут бояться богов и
повиноваться им. И вот за смелость и своеволие Зевс
приказал Гефесту приковать Прометея к скале железными
цепями. Гефест должен был повиноваться своему отцу.
Архил вздохнул и умолк.
— Какой же несчастный человек был этот Прометей! —
вырвалось у Клеона. — Должно быть, он сильно страдал,
будучи прикованным к скале тяжелыми цепями.
— Ты слушай, что было дальше, — перебил его
Архил. — То, что сделал потом с этим несчастным Зевс, было
еще ужаснее. Зевс посылал каждый день большого
страшного орла, который своим клювом клевал печень героя,
причиняя ему невыносимые муки. Но Прометей не хотел все
же подчиняться Зевсу. Он не стал его молить о пощаде. Он
страдал и терпел. И тогда жестокий Зевс одним ударом
сокрушил скалу и сбросил в бездну несчастного Прометея.
Я не знал прежде этого мифа, Клеон, — закончил свой
рассказ сын Алкиноя, — и никогда не думал раньше, что
олимпийские боги такие жестокие! — вырвалось у него.
— Тише говори! — остановил друга Клеон. — Твои
слова может услышать Зевс и накажет тебя за них!
— Не знаю, накажет ли Зевс Архила за то, что он без
должного уважения говорит о богах, — сказал подошедший
360
к мальчикам Алкиной, — но люди не простят ему этого.
Ах, Архил! — покачал он головой. — Сколько раз учил я
тебя сдерживать свое волнение и как можно меньше
говорить громко о своих мыслях и чувствах, чтобы не нажить
себе большой беды!
Какой-то человек в одежде жреца приблизился к ним
и остановился против Архила.
— Воздай хвалу бессмертным богам, юноша, что у
тебя мудрый отец! — сказал он. — Иначе за твои
богохульные слова я должен был бы отвести тебя к верховному
жрецу в храме Зевса, и он отправил бы тебя обратно на твою
родину! Разве все мы не стремимся к святилищу Зевса,
чтобы воздать ему хвалу? Для чего же ты, утративший веру
в доброту и мудрость богов, направился в Олимпию
вместе с другими?
Испуганный и растерянный Архил опустил голову.
Алкиной подошел к жрецу и, притронувшись к краю
его одежды, отвел жреца в сторону.
— Не суди строго этого юношу! — сказал он жрецу. —
Мальчик — участник Олимпийских игр. Неосторожные и
неразумные слова вызваны лишь его молодостью и
впечатлительной душой. Учитель этого юноши — великий Фидий
может подтвердить тебе то, что он никогда до того не
произносил хулы на бессмертных богов.
Как и рассчитывал Алкиной, имя Фидия произвело
большое впечатление на жреца. Служитель Зевса поспешил
скрыться в передней части корабля.
Когда Алкиной вернулся на корму, он застал там
одного Клеона.
— А где же Архил? — удивился он.
— Ему стало совестно, мастер, что он причинил тебе
огорчение, — пробормотал фокусник, — и поэтому он ушел
ночевать в трюм к коням, ожидая, пока остынет гнев в
твоем сердце.
* * *
Настал последний день путешествия. Все волновались.
Легкий морской ветерок уже доносил с долины Алфея
аромат зеленых рощ и свежей травы. Гребцы стали убирать
паруса.
— Скоро виден будет храм бога Зевса! — сказал кто-
то на корабле.
361
И действительно, спустя некоторое время,
путешественники заметили вдали знаменитую Олимпию, где
происходили празднества в честь отца олимпийских богов Зевса.
Увидели они издали и храм Зевса, украшенный портиком
с белыми колоннами. Путешествие близилось к концу.
Корабль отдал якорь в устье реки Алфея. Спустили
сходни. Все засуетились вокруг Алкиноя и его друзей.
Нужно было выходить на берег и выгружать коней и ослика.
Это взял на себя Дракил. Кузнец и Клеон направились к
трюму.
Алкиной и Архил взяли вещи, чтобы отнести их на
берег и ждать там друзей с конями.
Разгрузка корабля продолжалась долгое время.
Продавцы бобов и ячменных лепешек сновали среди приехавших
эллинов, предлагая им свой товар. Люди толпились у
сходней и расходились кто куда. Одни торопились скорее
попасть в Олимпию на ярмарку и договаривались с
грузчиками, которые могли отнести туда их товар, привезенный
с собой, другие спешили, пока не соберется много людей,
попасть в священную рощу к храму бога Зевса.
Дракил и Клеон не шли.
К причалу, возле которого стояли Архил и Алкиной,
незаметно подплыла небольшая лодка. Из нее вышли на
берег трое юношей, продолжая оживленный разговор,
начатый ими ранее, очевидно, еще в лодке.
— Я продолжаю утверждать, — говорил один из
юношей, — что Олимпийские игры были установлены в
Элладе в далекой древности сыном Зевса — Гераклом!
— Ты, Никий, повторяешь старые предания, —
горячился другой юноша, — и поэтому ты удаляешься от истины!
Этот юноша был высокий и стройный, и Архил
залюбовался и его внешним видом, и той горячностью, с
которой он спорил со своим приятелем.
— Пойдемте на стадион — там нам помогут разрешить
наш спор! — успокаивал своих друзей третий юноша. —
Ну посудите сами, чего мы будем стоять тут и спорить!
Юноши подняли весла на плечи и двинулись к
Олимпии, продолжая разговор. Они поравнялись с Алкиноем и
Архилом.
— Ты действительно ученый муж, как называли тебя,
Аполлодор, в гимнасии! — насмешливо продолжал Никий,
обращаясь к приятелю.
362
— Напрасно ты говоришь об этом так насмешливо! —
услыхал Архил ответ высокого красивого юноши, который
ему сразу понравился. — Я говорю только то, что мне
хорошо известно, и никогда не хвалюсь своими знаниями.
— Не обижайся на шутку Никия, Аполлодор, —
примиряюще заметил третий юноша, — и, если тебе известно
другое предположение о начале Олимпийских игр,
расскажи нам о нем!
Добродушный, светловолосый Аполлодор охотно
согласился исполнить просьбу приятеля. Он остановился, снял
весла с плеч и начал свой рассказ.
— Дело произошло так, друзья! Желая прекратить
войны и раздоры между эллинами, властитель Элиды Ирит и
законодатель Спарты Ликург встретились здесь, на этой
земле, и заключили между собой союз. Они договорились о
том, что с этих пор Олимпия будет считаться священной
землей и станет местом общегреческих игр в честь бога
Зевса. Но каждый, кто во время этих игр явится сюда с
мечом в руке, будет считаться богоотступником. С той поры
общегреческие игры в Олимпии в честь бога Зевса,
происходившие раз в четыре года, стали праздником дружбы
между эллинами. Вот все, что мне известно, друзья, —
закончил Аполлодор с улыбкой.
Архил и Алкиной с интересом прислушивались к его
рассказу. Юноши снова подняли весла, собираясь идти
дальше.
— Хвала тебе, ученый муж! — произнес Никий. —
Слава тебе, Ахиллес, на бессмертных похожий! —
рассмеялся он.
Какой-то человек, стоявший поблизости и также
слышавший разговор между юношами, положил ласково руку
на плечо Никию.
— Твоя насмешка над приятелем напрасна, юноша! —
заметил незнакомец. — Друг твой сказал правильно! Я
учитель философии в палестре в Олимпии и к сказанному им
могу добавить, что первые игры в Олимпии в честь бога
Зевса были триста сорок четыре года тому назад. С тех пор
имена олимпиоников — победителей — на них заносятся
на особые доски. Этими досками гордятся эллины!
Сказав все это, учитель философии .отошел, а юноши
поспешно направились к Олимпии.
— Алкиной! Архил! — послышался голос Дракила. —
363
Поспешите сюда! Помогите нам выьссти осл~ из трюма. Он
не хочет выходить оттуда.
Как и всегда, кузнец шутил, но в его голосе Алкиной
на этот раз уловил раздражение.
— Идем, Архил! — сказал он, решительно шагая к
причалу.
Когда все было улажено и путешественники двинулись
дальше вместе с конями и ослом, Алкиной озабоченно
сказал:
— Очень сомневаюсь, друзья, что в поселке мы сможем
достать теперь помещение для всех нас. Дома жителей
Олимпии и жилища жрецов давно уже заняты приехавшими
раньше нас богачами. Поэтому разобьемте-ка палатку на берегу
реки, здесь и будем ночевать на свежем воздухе. Ну,
друзья, ожидаю вашего решения, — улыбнулся весело
художник. Он остановился и опустил на землю поклажу, которую
нес на плече.
Все остальные тоже остановились. Алкиной
неожиданно громко рассмеялся, поглядывая на мальчиков. Он
ожидал, что они обрадуются его предложению. И Алкиной не
ошибся.
— Верно! Как хорошо будет ночевать на берегу реки! —
первым отозвался Клеон.
— Да и пастбище для коней даже легче будет найти
на берегу! — немного подумав, заметил деловито Архил.
Из всех этих замечаний Алкиной понял, что его
предложение было принято без возражений.
— Для коней можно будет сделать навес из холста! —
предложил конюх Алкивиада, сопровождавший коней
своего господина.
Вдвоем с Алкиноем они отправились выбирать место
ддя палатки.
* * *
На протяжении трех лет у подножия холма Кроноса в
священной роще Альтис стояла никем не нарушаемая
тишина. Зато на четвертый год тысячи людей съезжались сюда
со всех концов Эллады.
Каменная стена, построенная, по преданию, Гераклом,
отделяла священную рощу Альтис и храм Зевса от
остального селения Олимпии, расположенного неподалеку от
святилища. С запада эта стена проходила вдоль течения реки
364
Кладея, притока Алфея, на юг она проходила выше русла
Алфея и на востоке примыкала к стадиону. В стене было
несколько калиток-выходов. Выходные, главные, ворота ее
открывались только в дни празднеств и в дни
торжественных процессий.
Возле святилища Зевса росло масличное дерево,
которое считалось священным. Из ветвей этого дерева дети
срезали золотым ножом ветки и плели венки для победителей
на Олимпийских играх.
Храм Зевса, окруженный террасой, украшенный
статуями, поражал красотой всякого, кто останавливался возле
него.
На высоком пьедестале стоял трон "властителя неба и
земли", украшенный драгоценными камнями и тончайшей
золотой резьбой. Величавый и спокойный, восседал на троне
Зевс — "вершитель судеб смертных и бессмертных",
взирая на людей, толпившихся у его ног...
А неподалеку от храма, на берегу реки Алфея, в дни
празднеств двигалась и шумела многотысячная толпа
приехавших и пришедших в Олимпию людей на праздник в
честь Зевса.
Торговцы, прибывшие с товарами на ярмарку,
раскладывали товары на прилавках, привлекая покупателей.
Все приковывало внимание эллинов на этих прилавках:
прекрасные, тонкие шерстяные плащи и одежда пдя
женщин, которую воины и аристократы покупали в подарок
женам, оставшимся дома и не имевшим права присутствовать
на празднестве. Многие разглядывали музыкальные
инструменты: лютни, кифары и флейты. Некоторых
привлекали к себе чудесные вазы и амфоры из Афин,
разрисованные сценами из жизни богов и героев. Юношей влекли к
себе благовонные масла из Аравии, которыми так приятно
было умащивать тело...
Множество бродячих певцов — аэдов — громко
распевали на ярмарке сказания о древних героях. Фокусники
показывали чудеса ловкости и бесстрашия, обвивая шеи и
головы змеями. Торговцы фруктами и рыбой сновали
повсюду, расхваливая свой товар...
Вся Олимпия с раннего утра была залита ярким
солнцем, но смуглые от загара жители Эллады не замечали
дневного зноя, бродя по торгу, по священной роще Альтис, по
берегу реки, к устью которой подплывали все новые и
новые корабли.
366
До начала празднества оставалось два дня.
Алкиной и Архил уже купили для себя белые
полотняные плащи и новые сандалии. Была куплена одежда для
Дракила и Клеона, пропадавшего целые дни на торгу.
Вечером, после осмотра города и священной рощи,
Алкиной отправился отыскивать своего хозяина Феофраста,
приехавшего в Олимпию на торг с товаром, а Архил
побежал в мастерскую Фидия, находившуюся неподалеку от
храма Зевса Олимпийского.
Дракил уже давно поджидал друзей с ужином. Он
ворчал, что остывает рыбная похлебка с бобами, когда
Алкиной неожиданно появился у костра вместе с приятелем,
спартанцем Оилеем.
— Располагайся возле костра, друг! — приветливо
сказал спартанцу Алкиной. — Наш Дракил охотно угостит тебя
горячей похлебкой, которую только он один умеет так
вкусно варить.
— Мне нельзя долго задерживаться, Алкиной, —
заметил спартанец, — мы ведь даже здесь, в Олимпии, живем
как в лагере во время похода! Поэтому я должен вернуться
к вечерней перекличке. Но мне хотелось бы о многом
поговорить с тобой: мы не виделись с прошлой Олимпиады!
— Пойдем взглянуть на коней, они пасутся
неподалеку, — сказал Алкиной. — По дороге обо всем поговорим.
Спартанец тотчас же согласился.
— Ты предложил мне разделить с тобой ужин, —
немного помолчав, сказал Оилей, — но я умышленно ушел
от костра. Я заметил сразу, что твой друг, готовивший
ужин, неприветливо встретил меня, и я понял, что,
несмотря на "священное перемирие", он недолюбливает нас,
спартанцев. Скажи мне, Алкиной, ведь я не ошибся в этом?
— Дракил — ремесленник, Оилей, и у него свои
взгляды на многое, — уклончиво ответил художник, — он
хорошо знает, что у вас, в Спарте, не относятся с должным
уважением к людям труда...
Оилей немного помолчал.
— Не хочется мне говорить об этом в дни всеобщего
мира, друг, — сказал он, — но правда остается правдой.
Соперничество Афин и Спарты из-за гегемонии в Элладе
приведет к войне, которая когда-нибудь вспыхнет между
Афинами и Спартой. Вот почему нам запрещают заниматься
367
ремеслами и торговлей. Мы неохотно пускаем к себе
иноземцев. Они могут привести к нам иную жизнь, иные
взгляды на устройство государственных порядков. Наша жизнь
проста и скромна, Алкиной, — продолжал Оилей, — ведь
у нас и в мирное время приучают воинов жить, Алкиной,
как в военном лагере. И поэтому нам уже не страшны ни
войны, ни лишения. Государство теперь послало нас на
состязания в Олимпию. Но нас не страшат эти состязания —
мы давно готовы к ним. А вот вы, афиняне, вы много
занимаетесь за последнее время обучением ваших юношей
и ваших воинов в гимнастических школах.
— Зато вы, спартанцы, не умеете ценить искусство! —
сказал Алкиной. — У вас нет ни художников, ни ваятелей,
ни архитекторов, ни ученых!
— В этом ты прав, художник, — задумчиво ответил
спартанец, — но зато нам легко выходить победителями в
боях и на состязаниях.
— Скажи, а в беге колесниц у вашего Тевкра большой
опыт? — дрогнувшим голосом спросил Алкиной.
Оилей улыбнулся, понимая его волнение.
— Хорошему воину необходимо умение править
конями, — уклончиво ответил он. — На этот раз благодари
богов, Алкиной: Тевкр не страшен твоим коням!.. Мы
захватили с собой немало бегунов, метателей копья и
дискоболов, — продолжал он. — Вот этих вашим афинянам нужно
опасаться: наши юноши подготовлены хорошо!
Алкиной вздохнул, подумав об Архиле.
— А вот ты верно сказал, — улыбнулся спартанец, —
что мы не ценим и мало понимаем искусство. В этом вы в
Афинах опередили нас. У вас лучшие во всей Элладе
ваятели, художники, поэты и философы. А вот мы
предпочитаем всему этому силу наших мускулов и ловкость в
сражении. И нам кажутся пустой забавой ваши песни под
звуки кифары и стихи ваших поэтов. Повторяю тебе: наша
жизнь в Спарте проста и сурова. Мы больше воины, чем
мирные люди. А поэтому мы закаленнее и здоровее вас,
афинян. Вот мы с тобой недалеко отошли от палатки, а ты
уже тяжело дышишь, Алкиной, и у тебя выступил пот на
лбу. Взгляни на меня: я бодр и не кажусь усталым и могу
легко пройти еще далекий путь!
— У меня больное сердце, Оилей, — признался
Алкиной. — И, кроме того, сильно ослабев за последнее вре-
368
мя, я все же не бросал занятий гимнастикой, отдавая все
свободное от работы время упражнениям в гимнастической
школе!
— "Все свободное от работы время"! Но, наверно, не
каждый день ты ходил в школу, да еще утомленный после
работы! — перебил его спартанец.
— Да, работа в мастерской гончара отнимала у меня
много времени. Но ведь я должен был работать, чтобы не
голодать! — сказал художник.
— Вот в этом-то и кроется причина всех твоих
болезней! — усмехнулся Оилей. — Кто, глядя на нас с тобой,
скажет, что я старше тебя? А ведь это так!
Они немного помолчали.
— Мы пришли, — сказал Алкиной. — Давай посидим
у реки. Здесь будет немного прохладнее.
— Не возражаю. Кстати, я расскажу тебе кое-что о
нашей Спарте.
Они уселись у кустов, за которыми паслись белые
кони Алкивиада.
На вечернем небе горели звезды. Издали доносились
людские голоса. Воздух был так накален дневным зноем,
что даже вечером возле реки не чувствовалось прохлады.
Некоторое время оба приятеля молчали. Спартанец думал
о словах Алкиноя. Художник прислушивался к песне,
которую пел мужской голос. Это была та же песня, которую
он слышал от корабельщиков на закате солнца, когда их
корабль приближался к устью реки Алфея.
— Хорошая песня! — сказал он, когда певец допел ее
последние слова. — Хвала тому, кто умеет крепко держать
в руках свое счастье!
Спартанец ничего на это не ответил.
— Как можно не любить песен и искусства, Оилей! —
продолжал художник. — Один из философов сказал так:
"Искусство внушает душе вкус к добродетели". Мне
думается часто, что жизнь человека только тогда полна и
прекрасна, когда он может понимать и ценить произведения
искусства и вместе с тем постоянно заниматься
гимнастическими упражнениями. Но и без науки невозможно жить
в государстве! — сказал Алкиной. — Ведь наука, подобно
светильнику, освещает разум человека! Она разъясняет
многое непонятное нам, облегчает жизнь. Разве ты не
согласен с этим, Оилей?
369
Спартанец рассмеялся:
— Ты всегда был мечтателем, Алкиной! Но ты
художник, и тебе без этого нельзя обойтись. И я тебя понимаю.
Зато я воин, и для меня то, о чем ты говоришь, лишнее.
Вот ты слушал песню, которую пели на реке, а я
прислушивался, наклонившись к земле, к тому, как ступают по
ней твои кони. И скажу тебе, Алкиной: коренник твой плохо
подкован. У него сильные мускулистые ноги, но ему нелегко
будет завтра бежать, если с утра ты не перекуешь его.
Алкиной с удивлением взглянул на Оилея.
— Благодарю тебя за совет, друг! — сказал он. — Мне
это не пришло бы в голову.
— Не нужно благодарить меня! — улыбнулся
спартанец. — Мы, спартанцы, не знаем, что такое хитрость и
лукавство с другом. И я по-дружески предостерег тебя,
Алкиной. Вот и все. Впрочем, не все еще, — добавил
спартанец, немного подумав, — покажи мне коней, и я искренне
скажу тебе, выдержат ли они состязания. Ведь
соперниками у тебя будут и наш Тевкр — отличный возница, и фес-
салиец Эол, уже не раз выходивший победителем на играх
в Олимпии.
Алкиной и Оилей прошли за кусты, где паслись кони.
Спартанец внимательно осмотрел копыта и грудь
каждого коня.
— Добрые кони! — сказал он. — Такие кони могли бы
выдержать испытание в состязаниях даже с нашим
Кастором, а он у нас лучший воин, состязающийся в беге
колесниц! Твое счастье, Алкиной, что Кастор на этот раз не
смог поехать в Олимпию, — иначе тебе было бы нелегко
состязаться с ним!
В порыве благодарности Алкиной обнял приятеля.
По пути к походной палатке Алкиноя они простились.
Оилей торопился вовремя возвратиться в лагерь.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Ранним утром накануне начала празднеств Алкиной и
Архил побывали в храме Зевса. После этого они решили
зайти в мастерскую ваятеля Фидия, где должны были
находиться в это время его ученики, приехавшие на
празднества в Олимпию. Мастерская была расположена недалеко
от храма.
370
Они застали там в это утро одного только Алкамена,
который усердно работал, низко наклонившись над какой-
то фреской.
Навстречу им поднялся Алкамен:
— Как здоровье нашего учителя? Как переносит он
заключение в темнице? Расскажите скорее! Мне говорил Аго-
ракрит, что вы посетили его в темнице?
Алкиной ответил Алкамену не сразу.
— Фидия мы навестили незадолго до отъезда сюда, в
Олимпию, — начал он, глядя на ваятеля, — плох наш
учитель, плох... Эта последняя беда совсем подорвала его
силы...
Алкамен ласково посмотрел на Архила.
— Когда я возвращусь в Афины, ты будешь, мальчик,
работать со мной! — сказал Алкамен. — Учитель когда-то
помог мне самому, такому же юноше, как и ты, стать
ваятелем. Теперь мой долг перед Фидием помочь тебе идти по
нашему пути, — улыбнулся он доброй улыбкой, сразу
сделавшей красивым его строгое лицо.
* * *
Наконец наступил первый день празднеств в Олимпии.
С рассветом тысячи людей стали собираться в
священной роще Альтис. Эллины бродили вокруг храма Зевса,
разглядывая его со всех сторон. Они заходили в зал Эхо, где
стены многократно повторяли каждое произнесенное
слово. Затем все направлялись туда, где в тени деревьев
поэты нараспев произносили стихи Гомера и где приносились
жертвы различным богам и давались клятвы участниками
Олимпийских игр в том, что они ничем не нарушат
установленных правил...
Многие из приехавших на празднества эллинов
заранее стремились занять места поудобнее, откуда можно
было видеть торжественное шествие жрецов и
представителей власти различных государств к храму Зевса для
совершения жертвоприношения. Шум людских голосов, крики
жертвенных животных, фимиам от курения ароматов
возле алтарей богов — все это ошеломляло присутствующих,
заставляя людей задыхаться от духоты жаркого летнего дня.
Внезапно в толпе послышались возгласы:
— Шире дорогу, эллины! Дорогу шествию жрецов к
!
храму!
371
Толпа расступилась, освобождая проход для
торжественного шествия. Вскоре показались жрецы, за ними в
белых одеждах, расшитых золотом, украшенных
пурпурными лентами, шествовали властители земель Эллады и
стратеги отдельных государств. Шествие завершали рабы. Они
несли дары богам и вели к алтарю жертвенных животных.
Жрецы первыми вошли в храм и остановились против
статуи Зевса, восседавшего на золотом троне.
Прекрасное, полное благородства лицо Зевса
Олимпийского было величавым и спокойным. Волнистые волосы
обрамляли это лицо с высоким лбом и красивым носом,
заканчивающееся вьющейся, не длинной бородой. Эллины
твердо веровали в то, что Зевс посылает людям с высоты
Олимпа свои дары и утверждает на земле законы, что в
руках у него жизнь и смерть, добро и зло, счастье и
несчастье смертных и горе тому, кто нарушает
установленный Зевсом порядок на земле. Тогда грозно сдвигаются
брови "властителя неба и земли", нестерпимым блеском
загораются его глаза, тогда удары грома начинают сотрясать
все вокруг и пламенная молния сверкает по всему небу.
Гнева Зевса боялись все те, кто со страхом и
надеждой взирали теперь, присутствуя на празднестве в
Олимпии, на прекрасное лицо Громовержца, с глазами,
сиявшими огнями драгоценных камней.
Зевс, величаво восседавший на своем троне в храме,
построенном для него, взирал спокойно на смертных,
стоявших у подножия его трона, и в этот день казался людям
милостивым и доброжелательным.
Огромный мраморный бассейн, наполненный оливковым
маслом, находившийся неподалеку от статуи бессмертного
божества, отражал его фигуру, окутанную драгоценным
плащом, ниспадавшим к ногам. У ног его скромно стояла
небольшая статуя крылатой богини победы Нике, а за
спиной Зевса изображены были пляшущие Горы и Хариты.
Зевс держал в одной руке скипетр, увенчанный могучим
орлом, как символ власти. Все кругом внезапно затихло.
К алтарю божества подвели жертвенных животных.
Началось жертвоприношение.
Стоявший в толпе зрителей Алкиной вдруг
почувствовал себя совсем худо.
— Я задыхаюсь от духоты, — тихо сказал он Архилу, —
уйдем отсюда поскорее! У реки будет дышаться легче.
372
Архилу было так досадно покидать место, с которого
хорошо было видно все происходившее в храме Зевса, но
протестовать он не мог: больной вид отца испугал его.
Они с трудом стали протискиваться в толпе,
пробираясь к выходу из священной рощи. Одна из калиток в
стене, огораживавшей священную рощу, оказалась открытой,
и они смогли пройти через нее прямо к стадиону, где
должен был поджидать их в это утро Формион, чтобы
сообщить порядок игр, известный ему как одному из элланоди-
ков1 — руководителей Олимпийских игр.
От реки дул прохладный ветерок, и это сразу освежило
ослабевшего от жары Алкиноя. Он с наслаждением
растянулся на траве. Архил сел возле него, с грустью
прислушиваясь к шуму, долетавшему до них из рощи. Он никак
не мог побороть чувства досады на отца, болезнь которого
помешала ему видеть интересное зрелище, о котором он
слышал так много рассказов...
— Вернись обратно, Архил. Ты найдешь неподалеку от
калитки Дракила. Посмотришь жертвоприношение, и затем
вы оба вернетесь сюда, а я обожду Формиона у реки, —
предложил сыну Алкиной.
Но мальчик не решался оставить своего больного отца,
да и пробраться в толпе к Дракилу было бы очень трудно.
— Не говори так, отец! — нетерпеливо отозвался он с
досадой. — Я верю в то, что еще когда-нибудь в моей жизни
смогу увидеть жертвоприношение богу Зевсу в роще Аль-
тис!
Алкиной больше не настаивал.
Второй день Олимпийских игр начался коротким бегом
на длину беговой дорожки юношей Эллады.
Одетые в пурпурные одежды, элланодики первыми
перешли поле и заняли отведенные для них места.
— Смотрите! Смотрите! Элланодики уже прошли к
своим местам. Скоро начнутся состязания! — раздались голоса
среди зрителей.
Глашатаи, появившиеся на арене вслед за элланодика-
ми, громко объявили:
1 Элланодики несли судейские обязанности во время Олимпийских игр,
а также следили за порядком среди зрителей.
373
— Эллины! Приближаются жрецы и архонты!
Толпа зашумела, громко приветствуя идущих. Под
оглушительный гром медных труб на стадионе показались
правители государств и земель Эллады в сопровождении
жрецов.
Один из элланодиков вышел вперед, собираясь что-то
объявить, но шум голосов, приветствовавших правителей
государств, не дал ему говорить.
Наконец архонты и жрецы разместились на отведенных
идя них местах. На стадионе стало тихо.
Зазвучали трубы, возвещавшие начало Олимпийских
игр.
После короткого приветствия, обращенного ко всем
собравшимся на стадионе, элланодики объявили начало игр.
— Юноши Эллады — участники состязания в беге,
приготовьтесь! — громко произнес глашатай.
Алкиной обнял Архила.
— Смелее, мальчик, — негромко сказал он, —
излишнее волнение повредит тебе!
Юноши выстроились в ряд. Глашатай объявил зрите-,
лям имена, возраст и названия государств, приславших
своих участников на состязание в Олимпию. Он указал
также и то, что ни один из этих юношей не раб, не метэк и
не был осужден судом присяжных, что лишало бы его права
участвовать в Олимпийских играх.
После этого юноши направились в помещение, где они
оставили одежду, и натерли тело оливковым маслом.
Элланодики разделили их на пять групп: спартанцев, афинян,
фессалийцев, островитян, с островов Хиос и Лесбос, и
коринфян. Они предупредили соревнующихся в беге, что
победители каждой из групп после должны будут
состязаться в беге между собой на право первенства.
Снова на стадионе послышались звуки медной трубы.
На арену вышли юноши Спарты. Худощавый рыжеволосый
Эвмел первым пришел к финишу. Он спокойно подошел к
элланодику и, улыбаясь, сказал ему, что был уверен в
победе. Радостные крики друзей Эвмела долго не умолкали.
— На беговую дорожку выходят юноши Афин! —
услышал Архил голос Формиона, своего учителя.
Вместе со всей группой его учеников Архил вышел на
арену и опустился на колено, опираясь пальцами рук о песок.
— Побежали! — послышалась команда.
Зрители-афиняне взволнованно приподнялись на местах.
374
Взоры всех были прикованы к смуглым, мускулистым
телам юных соотечественников.
— Никий бежит впереди всех, — послышался чей-то
голос.
— Эсхил опередил его! Смотрите!
— Что это? Юный гончар Архил, сын художника Ал-
киноя, обгоняет Эсхила! Смотрите! Смотрите! Он
оказался впереди всех!
Зрители волновались. Финиш был близко. Еще
немного усилий, и Архил достиг его первым.
— Победителем юношей-афинян судьями признан
Архил, сын Алкиноя Кадрида! — громко провозгласил Фор-
мион.
— Слава Архилу, сыну Алкиноя Кадрида! — раздались
дружные голоса зрителей.
Стройный и рослый, Архил стоял на виду у всех.
Лицо его казалось немного смущенным. Он вытирал рукой
пот со лба. Ни усталости, ни дрожи в ногах после бега он
не ощущал.
— Ты, я вижу, горд своим успехом! — с улыбкой
подошел к нему Формион. — Но ты позабыл, как видно,
Архил, что впереди тебе предстоит еще состязание между
победителями групп. А это главное состязание.
"Учитель прав, — подумал мальчик, — я как-то
позабыл, что не все еще окончено".
Но даже при этом напоминании он уже не чувствовал
того волнения, которое ощущал перед состязанием своей
группы. Архил прошел в помещение, где подготовлялась к
бегу очередная группа юных бегунов. К нему радостно
подбежал невысокий кудрявый коринфянин Фаней, с которым
он успел подружиться за неделю жизни в Олимпии.
— Архил! — приветливо воскликнул мальчик. — Я
пришел также первым к финишу, как и ты! Поздравь меня!
Юноши дружески обнялись.
После короткого перерыва было объявлено финальное
состязание победителей отдельных юношеских групп бегунов.
И снова по звуку боевой трубы стали в ряд спартанец
Эвмел, афинянин Архил, фессалиец Палей, островитянин
Долон и маленький Фаней из Коринфа.
— Побежали! — крикнул Формион.
У Архила замерло сердце.
На этот раз среди зрителей чувствовалось
напряженное оживление.
375
— Не урони честь Спарты, Эвмел! — кричали
спартанцы.
— Фаней! Не отставай, малыш! — подбадривали
своего юного бегуна коринфяне.
— Смелее, Долон! — кричали жители острова Хиос.
— Не посрами Афин, сын Кадрида! — вдруг услышал
Архил чей-то громкий голос.
Алкиной стоял у входа на стадион, не сводя глаз с
сына. Финиш был недалеко. Впереди всех бежал Архил.
Спартанец Эвмел догонял его.
— Поторопись, мальчик! — не удержавшись, крикнул
Алкиной.
Но было поздно. Улыбающийся, торжествующий Эвмел
стоял у финиша. Двумя секундами позднее Эвмела к
финишу прибежал Архил.
— Победителем на состязании в беге юношей Эллады
судьями признан Эвмел, родом из Спарты! — громко
провозгласил Формион.
Эвмелу вручили оливковую ветвь. Он принял ее
спокойно, как вполне заслуженную награду. Друзья
окружили спартанца.
Архил стоял растерянный и опечаленный. Ему не
хотелось идти ни к отцу, ни к Формиону.
— Я горжусь тобой, мальчик! — услышал он голос
учителя. — Ты оправдал мои надежды!
Архил стоял опустив голову.
— И тебе огорчаться не следует! — продолжал
Формион. — На следующей Олимпиаде, я не сомневаюсь, ты
победишь спартанцев!
Говоря это, Формион улыбался, но на душе у Архила
от обещания учителя не становилось радостнее. Он
ничего не ответил Формиону.
После бега юношей на второй день Олимпийских игр
было объявлено заранее пятиборье.
В пятиборье входили: двойной бег взрослых бегунов (бег
на большое расстояние и обратно), борьба, метание диска,
метание копья и бег с оружием в руках.
На этот раз победителями в беге на большое
расстояние вышли афинские бегуны.
Спартанцы насмешливо поглядывали на победителей.
376
— В конце игр будет бег в полном вооружении, —
негромко говорили они, — посмотрим, кто выйдет
победителем в этом беге! Игра носит военный характер, и для нее
нужны навык и закалка.
После бега была объявлена борьба.
Она началась простой борьбой, когда противники
выходили попарно друг против друга. Победителем считался
тот, кто трижды сумел повалить на землю противника.
В кулачном бою, следовавшем за этим,
состязающиеся надевали на голову бронзовые колпаки и обматывали
кулаки кожаными ремнями. Это был жестокий бой, и он
нередко заканчивался увечьями борцов.
Как и в первый день Олимпийских игр, перед началом
состязаний была произведена перекличка атлетов. Они все
вышли на арену. Крепкие, сильно развитые мускулы
выделялись на теле у каждого из них. Среди атлетов
преобладали спартанцы, и в одном из них Алкиной сразу же
узнал своего приятеля Оилея.
Подняв вверх руку, он приветствовал спартанца. Оилей
заметил друга и кивнул ему в ответ головой.
Борьба началась.
Зрители равнодушно смотрели на атлетов,
состязавшихся в простой борьбе. Все с нетерпением ждали начала
рукопашного боя. Волнение нарастало.
Наконец элланодик объявил имена первых атлетов,
вышедших на арену в бронзовых колпаках. Шум на
стадионе сразу прекратился. Зрители замерли на местах.
— Борются спартанец Оилей и сицилиец Тисандр из
Сиракуз.
Зрители знали обоих сильных и славных борцов, уже
не раз выходивших победителями на состязаниях в
Олимпии. Алкиной пробрался поближе к арене, чтобы лучше
следить за ходом боя. Ему, бывшему борцу, интересен и
знаком был каждый прием атлетов. Стоявший рядом с ним Ар-
хил также с интересом следил за борьбой.
Он видел, как Оилей сильным ударом бросил на
землю Тисандра. Зрители зааплодировали спартанцу, но
Алкиной нахмурился.
— Спарте еще рано торжествовать победу! — шепнул
он. — Тисандр ловок и хитер. Вот увидишь, он
перехитрит Оилея, когда тот меньше всего будет этого ждать!
Я знаю этого борца из Сиракуз!
377
Толпа дрогнула, когда Оилей уперся коленом в спину
лежавшего на земле противника.
Со всех сторон послышались шумные возгласы
одобрения спартанцу, но Алкиной был прав. Уловив подходящий
момент, сицилиец внезапным и ловким движением, весь
изогнувшись, вскочил на ноги с неожиданной для такого
тяжелого атлета легкостью. Затем он крепко ударил по
голове противника, не ожидавшего нападения, и сшиб его с ног.
Не давая Оилею опомниться, Тисандр ударил его еще раз
по голове. Оилей едва устоял на ногах. Напрягая все
усилия, спартанец бросился на противника. Но Тисандр был
и в самом деле хитер и силен. Он и на этот раз сумел
отразить нападение. Однако повалить на землю спартанца ему
не удалось.
— Не посрами Спарты, Оилей! — кричали своему
атлету друзья спартанцы.
Оилей словно обезумел.
— Ты ведь не новичок в борьбе! — слышались голоса. —
Сколько раз ты выходил победителем в рукопашном бою!
Спартанец яростно бросился на сицилийца.
— Держись, Тисандр, держись! — слышалось из
толпы зрителей.
Но все было напрасно. Во второй раз метким ударом
Оилей сшиб с ног сицилийца и бросил его на землю. Все
замерли на своих местах, ожидая новой хитрости Тисанд-
ра. Но борец лежал теперь на песке, не поднимаясь после
удара.
Оилей также ждал ответного нападения и
приготовился к нему. Внезапно сицилиец вскочил на ноги и всей
тяжестью тела повис на руке спартанца. Судьи едва разняли
противников.
Не нарушив ни разу установленных правил борьбы,
Оилей сумел в третий раз повалить на землю Тисандра.
Алкиной видел, как тяжело досталась на этот раз победа его
приятелю...
Толпа шумно рукоплескала. Слегка пошатываясь от
усталости, спартанец ушел с арены, сняв с головы
бронзовый колпак. По его лицу крупными каплями катился пот.
В глазах Оилея было темно, но он все еще бодрился, не
желая показать зрителям усталости.
— Слава воину-победителю Оилею из Спарты! —
крикнул на арене элланодик.
378
— Игры не закончены! — горячились друзья Тисанд-
ра. — Тисандр будет принимать участие в состязаниях по
прыжкам в длину и по бегу в полном воинском
снаряжении. Такой воин, как Тисандр, не может не выйти
победителем на играх. Он возьмет свое!
Между тем на арене сошлись два новых борца. Один
из них снова был спартанец, другой — атлет Мемнон из
Фессалии.
Никто из зрителей даже не садился на место. Страсти
разгорались все больше и больше.
Мемнон три раза подряд положил на землю
спартанца. Спартанец был хорошим атлетом, но сильный, рослый
Мемнон превосходил его и по силе и по меткости удара.
В последней схватке борцов спартанец при падении на
землю потерял сознание. Взрыв одобрительных возгласов
со стороны сторонников Мемнона и друзей Тисандра
приветствовал победителя.
Спартанца унесли с арены на носилках.
В третьей паре состязались афинянин Фарес, когда-то
бывший противником Алкиноя, и атлет с острова Крита —
Филоктет.
Ловкий, худощавый Фарес быстро вывел из строя
тяжеловесного, неповоротливого Филоктета.
Рукопашный бой был закончен. Теперь должны были
состязаться между собой победители отдельных пар. Их
оказалось трое.
По законам Олимпийских игр, когда оставалось
нечетное число победителей, один из них — эфедр — сразу
выходил в финал по жребию.
Тотчас же была принесена на стадион урна, в которой
лежало три камешка: два черных и один белый. Три
атлета не спеша подошли к ней. Белый гладкий камешек
достался афинянину.
— Дешевая победа — выйти "эфедром" в финал! —
пренебрежительно усмехнулся Мемнон, отходя от урны.
Спартанец Оилей не проронил ни слова. Он молча
одевал на голову бронзовый колпак, готовясь к борьбе с ли-
дийцем.
Решающий бой на звание борца-олимпионика начался.
Этот бой был долгим и тяжелым. Мемнон не хотел
сдаваться. Спартанец Оилей не уступал ему ни в силе, ни в уме-
380
нии вести борьбу. Спарта победила и на этот раз. Но
никто из зрителей уже восторженно не кричал и не
приветствовал победителя Оилея.
Судьи передали Оилею оливковую ветвь и небольшую
вазу с художественной росписью, в которой, по обычаю,
было налито оливковое масло для натирания тела перед
началом борьбы.
После небольшого перерыва состязания продолжались.
На арену вышли дискоболы. Пущенные умелыми руками
диски со свистом рассекали воздух. Молодой стройный Не-
арх, лучший ученик Формиона, перебросил тяжелый
бронзовый диск на много локтей дальше указанной черты. На
лице учителя афинской гимнастической школы отразились
радость и удовлетворение. Он гордился своим учеником.
— Метатели копья, на стадион! — послышалась
команда элланодика.
— Ступай, Архил! — повелительно сказал Формион. —
Зовут группу метателей копья!
Во второй раз в этот день Архил публично выступал
на арене как ученик лучшего афинского учителя
гимнастики. Но на этот раз он уже не чувствовал ни страха, ни
волнения, как при первом выступлении. О победе в метании
копья мальчик не думал. Он помнил одно: копье должно
быть брошено как можно дальше и по всем правилам.
Только и всего.
Метатели копья выстроились в длинный ряд.
Наступила секунда напряженного молчания.
— Разбег! — послышалась команда элланодика.
Архил бросился бежать вместе со всеми. Скорость
была набрана. Размах руки — и копье брошено.
Теперь поздно было думать, правильно или
неправильно бросил он копье. Прищурясь, Архил смотрел, куда
опустится его копье: ближе или дальше намеченной черты.
До слуха мальчика донесся голос элланодика,
возвещавшего зрителям, что победителем в этом состязании вышел
Аполлодор из Коринфа.
"Аполлодор! Почему это имя кажется мне таким
знакомым?" — подумал Архил. Он стал искать глазами того,
кому уже несли для вручения оливковую ветвь
победителя. И внезапно ему вспомнилось солнечное утро на берегу
реки Алфея в день их приезда в Олимпию, трое юношей
381
спорили тогда на берегу о преданиях, связанных с
началом игр в Олимпии в честь бога Зевса. Один из этих
юношей рассказывал еще тогда своим приятелям о начале
Олимпийских игр, друзья назвали его Аполлодором и
шутя говорили, что он походит на Ахиллеса.
Улыбаясь, Архил подбежал к победителю-коринфянину
как к старому знакомому.
— Хвала тебе, Ахиллес, на бессмертных похожий! —
произнес он приветствие одного из друзей Аполлодора.
— А-а, это ты, юный афинский бегун! Привет тебе! —
в свою очередь улыбнулся юноша.
Они обнялись как старые друзья, хотя Аполлодор
казался намного старше Архила.
— Пусть будет прочной дружба между Афинами и
Коринфом! — радостно воскликнул юный гончар.
— Пусть прочной будет дружба между всеми
юношами Эллады, встретившимися здесь, на этой земле, в дни
Олимпиады! — с улыбкой ответил коринфянин.
Элланодик, стоявший с оливковой веткой в руках для
Аполлодора, с довольной улыбкой наблюдал за дружеской
встречей двух юношей-эллинов.
382
* * *
На третий день празднеств в Олимпии должны были
происходить состязания в беге колесниц. Этого дня все
эллины ждали с нетерпением и с живым интересом.
Затем впервые в Олимпии на празднествах в честь
бога богов Зевса на этот раз должны были выступать с
чтением своих од и трагедий поэты Эллады.
Заканчивались олимпийские состязания в силе и
ловкости в беге воинов в полном воинском снаряжении на
пятый день игр.
Таков был распорядок празднеств.
Накануне состязания в беге колесниц Алкиной Кадрид
с большим, хотя и тщательно скрываемым от всех
волнением готовился к состязанию. Он начищал до блеска
позолоченные части своей колесницы, заботливо проверил
целость постромок и дышла, сам водил к кузнецу
перековывать коней и под вечер шел один вдоль берега реки, желая
в одиночестве побороть свою тревогу и волнение.
Архил, наблюдавший все время незаметно за отцом,
хорошо понимал его состояние. Его так же, как и Алкиноя,
тревожил исход состязания, и мальчик опасался, что
неудача на состязании здесь, в Олимпии, может сильно
опечалить отца, недавно совсем пережившего столько
огорчений в гимнастической школе.
Мальчик с тревогой смотрел вслед уходившему Алкиною.
Ему так хотелось побежать вдогонку за ним, чтобы не
оставлять его одного в этот вечер, но Архил не решался
сделать этого, тем более, что Алкиной не позвал его с собой.
— Почему же никто из вас не подумал о том, что
давно уже пора купать коней! — внезапно вывело Архила из
задумчивости шутливое замечание Дракила. Кузнец пытался
шуткой немного разрядить напряженное настроение своих
друзей. — Я видел, как все вы чистили и мыли
колесницу!.. — продолжал он. — А вот о конях позабыли!
— Я только что собирался вести купать коней, — хмуро
отозвался Архил. — Зря упрекаешь нас, Дракил!
— Идем вместе! — предложил другу Клеон, оставшийся
в этот день ночевать с друзьями в палатке на берегу Алфея.
Мальчики ушли.
383
Помешивая ложкой похлебку из рыбы, кипевшую на
костре, Дракил думал об Алкиное, тревогу которого успел
заметить. Но, весельчак по природе, кузнец не любил падать
духом.
"Пойду приготовлю всем новые одежды к
завтрашнему дню, — решил он, — а то и Алкиной и Архил, чего
доброго, пойдут на состязания в беге колесниц в старых
хитонах!"
* * *
Прекрасное зрелище представляли собой нарядные
колесницы, запряженные четверками коней, мчавшихся по
дорожке ипподрома. Их позолоченные колеса блестели в
лучах солнца. Возницы в белых одеждах правили конями.
Затаив дыхание следили за колесницами зрители на трибунах.
На повороте беговой дорожки стоял столб, который
участники состязания должны были обогнуть двенадцать раз.
Много ловкости и умения требовалось от участников
состязания, чтобы благополучно выполнить это задание.
Недаром каждая Олимпиада имела здесь свои жертвы. Об этом
знали все в Элладе.
На этот раз участие в беге колесниц принимали
четверо: Эол — воин-фессалиец из Краннона, Гектор из города
Эфеса, Тевкр — воин из Спарты и художник Алкиной Кад-
рид из Афин.
Двое из участников состязания, Гектор и Эол, были
знатны и богаты. Они не раз уже участвовали на
состязаниях в беге колесниц в Олимпии, и их знали все зрители.
Зато незнатный воин Тевкр и никому не известный
афинский художник мало кого интересовали.
— Прочь с дороги! Колесницы пошли! — услышали
Дракил и Архил, стоявшие у выхода с ипподрома.
— Смотрите! Фессалиец сразу опередил всех! —
кричали в толпе. — Вот это герой!
Архил с любопытством просунул голову между
спинами воинов, стоявших впереди него. Он сразу же увидел
серых коней Эола, несшихся вскачь прямо к столбу, но
опытный возница поспешил сдержать своих коней.
Двое других воинов воспользовались этим, чтобы
обогнать фессалийца. Но напрасно старались и Тевкр и
Гектор: как только миновали столб, Эол снова выдвинулся
вперед. Белые кони племянника Перикла вслед за другими
384
конями также обогнули роковой поворот один раз, второй,
третий.... Сердце у Архила бурно билось. Он не спускал глаз
с четверки белых коней.
Колесницы огибали столб уже в четвертый раз.
Выдержка Алкиноя не изменила ему, несмотря на возгласы
сочувствия и сожалений, доносившихся до его слуха с трибун.
На пятом повороте спартанец Тевкр внезапно догнал
его, поравнялся с четверкой белых коней Алкивиада и
обогнал их. Его гнедые кони шли теперь рядом с серыми
конями Эола. Кони Гектора неслись вслед за ними.
Колесница Алкиноя спокойно продолжала свой бег позади других...
Зрители на трибунах уже перестали интересоваться
колесницей, запряженной белыми конями. Алкивиад,
сидевший рядом с судьями и архонтами, выходил из себя от
негодования.
— Сам я, сам виноват во всем! — твердил он
взволнованно. — Как мог я доверить своих коней какому-то
ремесленнику!
— На этот раз, Алкивиад, твои кони отстали от всех!.. —
ехидно заметил довольно громко один из архонтов. — Что
же случилось с ними? Или ты доверил их неопытному
вознице? Как же ты так ошибся: ведь твои кони всегда
приходили первыми к финишу!
Алкивиад молчал, стиснув зубы от ярости. Гнев душил
его. И вдруг совсем неожиданно ддя всех зрителей на
ипподроме на седьмом повороте "белые голуби" обогнали
Гектора и Тевкра. Впереди Алкиноя оставался теперь один
только фессалиец Эол. Белый плащ художника Алкиноя
развевался по ветру за его спиной. Ветер свистел в ушах,
поднимая на его голове светлые волосы. Впереди ожидал
художника снова страшный поворотный столб. Восьмой,
девятый раз обогнули все колесницы благополучно этот столб,
и теперь они приближались к нему в десятый раз.
Поднятая копытами коней пыль ударила в лицо Алки-
ною. Огненные круги замелькали у него перед глазами.
Прижав уши к голове, коренник Аякс рванулся вперед, не
ожидая окрика возницы. Резким ударом кнута фессалиец
послал вперед своих коней. Серые кони, потемневшие от пота,
понесли его дальше из последних сил.
— Смелее, Эол'л— неслось с трибун.
— Поторапливайся, фессалиец! — крикнул чей-то
громкий голос.
385
13-532
— Смотрите! Смотрите! Белые кони опять позади
Эола! — ревела возбужденно толпа.
— Не спи, Тевкр! — кричали спартанцы. — Не
уступай первенства никому!
Каждый из присутствовавших на ипподроме кричал свое,
и все эти крики сливались в один сплошной гул голосов.
Состязание в беге колесниц близилось к концу. К
всеобщему удивлению зрителей на трибунах, серые кони Эола
внезапно начали отставать. Зато "белые голуби" Алкивиа-
да теперь шли впереди всех...
Алкивиад успокоился. Из груди у него вырвался вздох
облегчения.
— Теперь этого художника никто уже не обгонит! — с
улыбкой прошептал он и вдруг вспомнил: "Но ведь я
обещал подарить ему моих коней, если он придет первым к
заветной черте! О боги! Что же делать теперь? — И тут же
Алкивиад усмехнулся недоброй усмешкой. — Нужно быть
глупцом, чтобы выполнить такое обещание, — подумал он, —
а меня еще ни один человек в Афинах не считал глупцом!
Да и к чему этому ремесленнику мои кони! Не нужна ему
также и слава победителя на играх! Я дам ему столько
денег, сколько он захочет, и этого вполне будет достаточно для
него! И как только мог я дать этому Алкиною такое
обещание! — покачал он с неодобрением головой. — Это было
глупо с моей стороны! Впрочем, сгоряча человек может
пообещать что угодно! — тут же успокоил самого себя
эгоистичный, легкомысленный молодой воин. — А особенно
пообещаешь все, когда на тебя с гневом в глазах смотрит
такой учитель гимнастики, как этот Формион!"
Алкивиад вдруг вспомнил о своем любимом
наставнике Сократе, без сомнения осудившем бы его за дурной нрав
и за глупую спесь.
Мнение и привязанность к нему учителя всегда были
дороги для пустого и легкомысленного юноши, и он часто
искренне каялся перед Сократом в своих дурных
поступках — каялся, чтобы тут же поступить еще хуже...
А философ Сократ верил его раскаянию... Он
заботливо, как хороший садовник, растил своего любимого
ученика, оберегая его от дурных влияний. Но на этот раз
философа Сократа не было рядом с ним, и Алкивиад недолго
мучил себя упреками совести. Он напряженно стал
вглядываться в даль, где в облаке пыли скрылись колесницы.
386
Волнение среди зрителей нарастало. Среди криков
толпы Алкивиад ясно различал имя Алкиноя. "Так кони его
продолжают идти первыми к финишу! А если все-таки
отдать моих коней художнику? — задал он себе мысленно
вопрос. — Разумеется, мне нелегко это сделать, но зато
какая слава ждала бы за такой поступок меня в Афинах! Нет!
Нет! — решительно тряхнул головой молодой воин. —
Слава олимпионика для меня дороже, чем любовь афинского
демоса!"
Поворотный столб снова был уже близко. Спартанец
нагонял Алкиноя. Вот он почти поравнялся с ним. Кони Тев-
кра пронеслись мимо Алкиноя.
Зрители замерли на своих местах. Кровь бросилась в
голову художнику. Выпрямившись, он изо всех сил
натянул вожжи. Белые кони подхватили и понеслись вперед.
Опять, уже последний на этот раз, поворот беговой
дорожки. Эол и Гектор остались далеко позади. Впереди только
один Тевкр.
Но что случилось возле страшного поворотного столба?
Алкиной этого не мог понять. Он видел только, как упало
на песок дорожки дышло упряжки Тевкра, а кони
спартанца, освободившись от колесницы, помчались дальше, таща
за собой на запутавшихся постромках Тевкра. Кони
спартанца вдруг остановились, преградив дорогу Алкиною, и
художнику пришлось свернуть в сторону от дорожки, ближе
к поворотному столбу. Резкий толчок. Алкиной ухватился
обеими руками за передок колесницы, чтобы не упасть из
нее под ноги коней. Удар чем-то острым по голове
заставил его потерять на несколько секунд сознание. Кони
остановились. Очнувшись, Алкиной опустился на колени у
передка колесницы и слабеющей рукой натянул вожжи.
Аякс рванулся вперед, увлекая за собой остальных коней.
Белые кони неслись, теперь уже одни, прямо к финишу.
Крики толпы и толчки мчавшейся колесницы
заставили Алкиноя на короткое время прийти в себя. Голова у него
нестерпимо болела, сознание туманилось.
Алкиной попытался подняться на ноги, но не мог
этого сделать и снова опустился на колени у передка
колесницы, крепко сжимая дрожащей рукой вожжи.
— Хвала афинянину Алкиною, сыну Эния Кадрида! —
донеслись до сознания художника крики толпы.
"Почему они так громко кричат? Почему прославляют
388
меня?" — пронеслось в его сознании. Последнее, что он
успел сделать, прежде чем впасть в беспамятство —
ухватиться на сколько хватило сил за передок колесницы и
намотать вожжи на руку. Самое главное, чего он опасался,
было падение с колесницы...
Гектор догонял его. Но Алкиной уже не мог думать
больше об исходе состязания. Сознание его
заволакивалось точно пеленой, и лишь инстинкт самосохранения
подсказывал еще, что нельзя выпустить из слабеющих
пальцев передок колесницы и вожжи, иначе он тотчас же
упадет под копыта коней, а это была бы верная смерть!.. По
лицу его текло что-то горячее... липкое...
"Кровь, — подумал как-то равнодушно Алкиной, — но
это пустяки! Главное — не упасть!"
Последнее, что ощутил он, был снова толчок, но уже
менее сильный, чем первый, о столб... Затем наступил
покой. Кони его остановились.
Алкиной потерял сознание.
* * *
Когда колесница, запряженная белыми конями,
столкнулась со столбом у поворота дороги, крик ужаса
вырвался из груди зрителей на трибунах. Дракил и Архил
бросились на беговую дорожку к месту происшествия.
— Назад, безумцы! — кричали им со всех сторон. —
Позади идут колесницы! Они раздавят вас!
Чьи-то руки поспешно отбросили в сторону от дороги
их обоих. Они упали в канаву. По дороге пронеслись на
полном ходу колесницы Эола и Гектора. Затем все
затихло. Беговая дорожка была пуста. Они поднялись и по краю
ее пошли к финишу.
— Белые кони первыми пришли к финишу! —
донесся до них чей-то громкий голос.
Это была правда: кони Алкивиада стояли у финиша.
— Бежим! — крикнул Дракил Архилу.
— Куда бежать?.. — отозвался мальчик. — Все уже
кончено... Отец...
Он не договорил, закрыв лицо руками.
— Перестань плакать! — резко сказал Дракил. — Кто
сказал тебе, что все кончено? Алкиной жив! Он только
ранен. Он ждет, зовет нас с тобой! Бежим к нему!
Они подбежали к тому месту, где остановились кони
389
Алкиноя. Люди осторожно снимали на носилки с
колесницы бесчувственного Алкиноя. Левая, сломанная рука
висела у него как плеть. На голове сильно кровоточила
глубокая рана, заливавшая кровью лицо...
Формион наклонился к другу.
— Очнись, Алкиной! — громко говорил он. — Пусть
радость победы даст тебе бодрость и силы! Твои белые кони
первыми пришли к финишу! Ты слышишь меня, Алкиной?
Но художник по-прежнему оставался без сознания.
— Несите скорее холодной воды и чистый холст, —
приказал Формион. — И немедля пошлите за врачевателем-
жрецом Хрисом! Прежде всего нужно остановить у
раненого олимпионика кровь!
— За Хрисом мы сразу же послали раба, — подошел
к Формиону один из судей-элланодиков, — но скажи,
Формион, почему называешь ты олимпиоником пострадавшего
участника состязания? Ведь он ехал и одержал победу в
беге колесниц не на собственных конях, а на "белых
голубях" Алкивиада, племянника Перикла?
— Замолчи! — сурово оборвал его Формион. — Нам,
судьям, надлежит всегда стоять за справедливость! Да,
коней для состязания в беге колесниц дал
художнику-афинянину Алкиною племянник Перикла, Алкивиад, но сам я был
свидетелем того, как тот же Алкивиад обещал ему
подарить своих коней, если он выйдет победителем на играх в
Олимпии! Боги свидетели того, что я говорю истину! Так
что слава олимпионика по праву принадлежит Алкиною Кад-
риду, и он вполне достоин этой славы!
— Я верю тебе, Формион! — покачал головой судья. —
Но... ты сам должен понимать: пока владелец коней в
нашем присутствии не подтвердит того, что он дарит своих
коней Алкиною Кадриду, мы не имеем права считать
Алкиноя олимпиоником. Слава его победы принадлежит по
нашим законам владельцу коней. А я не вижу здесь
Алкивиада! — оглянулся кругом озабоченно элланодик.
Формион ничего не мог возразить судье. Он имел
право так говорить. И судья также стал оглядываться
взволнованно по сторонам, отыскивая в толпе Алкивиада.
Но Алкивиада нигде поблизости не было видно.
Вместо него к раненому Алкиною Кадриду
приближались оба ученика великого ваятеля Фидия — Алкамен и
Агоракрит. Они вели с собой врачевателя-жреца Хриса.
390
— Сделай все, что в твоих силах, жрец, чтобы
возвратить силы и здоровье раненому художнику! Если ты
поставишь его на ноги, мы не пожалеем драхм для тебя! —
сказал Агоракрит врачевателю.
Хрис наклонился к носилкам, на которых лежал без
сознания Алкиной. При помощи Формиона и Дракила он
приподнял больного и тщательно осмотрел его.
— Этот человек будет жить, — наконец произнес
уверенно жрец, — но он нуждается в хорошем уходе.
Прикажи, ваятель, — обратился Хрис к Алкамену, — чтобы
рабы отнесли больного ко мне в мой дом... Я сам буду
ухаживать за ним!
Алкамен сделал знак, и рабы тотчас же осторожно
подняли носилки Алкиноя и понесли их к храму бога Зевса,
неподалеку от которого жил жрец-врачеватель.
Архил шел возле носилок отца, сжимая осторожно его
руку. Лицо мальчика казалось потемневшим от горя.
Алкамен, наблюдавший за Архилом, ласково положил
руку ему на плечо, чтобы немного ободрить его. Когда
носилки больного приблизились к ипподрому, оттуда
донеслись громкие крики толпы, приветствовавшей победителя.
Архил испуганно посмотрел на отца. Но крики толпы по-
прежнему не доходили до лежавшего без сознания Алкиноя.
Мальчик ясно представил себе, как теперь "победитель
в беге колесниц" — Алкивиад гордо выезжает на виду у
всех на беговую дорожку, на той самой колеснице,
которую отец его, рискуя собственной жизнью, довел до
заветной черты... Как Алкивиад с довольной улыбкой отвечает
на приветствия толпы... Как ему вручают венок
победителя, сплетенный из веток священного дерева...
— Низкий! Бесчестный человек! Во второй раз
нарушает он данное обещание! — прошептал в негодовании
Архил. — Однажды он готов был поступить так же
бесчестно в дни Дионисий. Но тогда я помешал ему причинить горе
отцу моему... Увы, на этот раз я не смог сделать этого!
Рука Архила сжалась в кулак. Лицо его дышало
гневом. От взгляда Агоракрита, наблюдавшего за юношей, не
укрылись его переживания. Он ничего не сказал Архилу,
только быстрее зашагал к дому жреца.
Носилки Алкиноя остановились. Рабы опустили их на
землю. От толчка раненый художник открыл глаза. Взгляд
его с испугом остановился на взволнованных лицах сына
391
и учеников Фидия, склонившихся к нему. Слабая улыбка
промелькнула на лице больного.
— Не тревожься за меня, мальчик!.. — прошептал он,
обращаясь к Архилу. — Я должен еще жить... для того
чтобы поставить тебя на ноги... а то ты погибнешь, оставшись
снова сиротой...
Ваятель Агоракрит выпрямился и поднял вверх правую
руку, как это делали эллины, давая торжественную
клятву. Он не сводил глаз с лица больного художника.
— Клянусь именем бессмертного бога Зевса, —
громко произнес он, — и я, Агоракрит, и друг мой Алкамен,
мы дали обещание нашему великому учителю Фидию, и
теперь мы оба даем также обещание тебе, Алкиной, что оба
мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сын твой Ар-
хил, ученик наш, стал бы хорошим ваятелем, как того хотел
наш общий друг Фидий... Будь спокоен за судьбу сына
твоего, Алкиной! — нагнулся к раненому художнику
Агоракрит. — Ты должен жить еще долгие годы, чтобы
радоваться вместе с нами его успехам и его славе! А я уверен в
том, что Архил добьется того и другого в жизни, если
будет терпеливо и усердно трудиться, как долгие годы
трудились мы с Алкаменом в мастерской великого Фидия,
помогая ему в работе!
Слеза медленно скатилась по щеке больного
художника. Он не мог говорить от слабости, но взгляд его,
устремленный на обоих учеников Фидия, без слов говорил им то,
чего он не мог выразить словами.
— Отец! — бросился к нему Архил, опустившись на
колени перед носилками Алкиноя. — Я никогда в жизни
не забуду этот день! Но придет и такой день, когда мое имя,
твое имя Кадрида, будет написано на лучшей из моих
статуй бессмертного Зевса!
Джефри Триз
ФИАЛКОВЫЙ
ВЕНЕЦ
© Б. Косульников
© И. Гурова
СБОРЫ В ТЕАТР
— Сегодня мы не учимся! Сегодня мы не учимся!
Алексид вздрогнул и проснулся. Какой тут сон, когда
младший братишка выкрикивает тебе в самое ухо
радостную новость!
Он сел на кровати, и ее кожаные ремни громко
скрипнули. Щурясь спросонья и от этого становясь особенно
похожим на лесного бога Пана1, он заметил, что на дворе еще
не совсем рассвело. Но и в сером сумраке было видно, что
Теон как сумасшедший носится по комнате. Зевнув,
Алексид нащупал у себя за спиной подушку.
— Сегодня мы не учимся! — восторженно распевал
Теон. — Не учимся! Не учим...
Но тут на него обрушилась подушка, и, не докончив
последнего слова, он растянулся на полу. Ничуть не
обидевшись, он вскочил на ноги, и его круглая физиономия
просияла.
1 Пан — древнегреческий бог стад и лесов. Его обычно изображали в
виде косматого человека со свирелью, с козлиными ногами и с
рожками на лбу. По поверью, встречавшиеся с ним люди впадали в
священное безумие.
395
— Может, теперь ты замолчишь? — спросил Алексид,
снова натягивая на плечи лиловое одеяло. — А если ты
посмеешь швырнуть в меня подушкой, — добавил он,
разгадав намерения Теона, — то я угощу тебя сандалией.
— Да ведь я на нее только смотрю! — возмутился
Теон. — Она же лопнула. Я весь в перьях.
— Сам виноват: незачем было кукарекать среди ночи.
— А сейчас вовсе и не ночь — небо заметно
посветлело, — важно заявил Теон, который любил уснащать свою
речь выражениями, заимствованными у взрослых. —
Неужели ты забыл, какой сегодня день?
Алексид снова сел на постели, живо сбросил одеяло и
спустил ноги на пол.
— Клянусь звездами, сегодня же начинаются Великие
Дионисии!1
Сон с него как рукой сняло, чуть раскосые карие
глаза весело заблестели.
— Да, Великие Дионисии, — подтвердил Теон. — И мы
три дня не будем учиться!
— А ты ни о чем другом и думать не можешь, лентяй
ты эдакий! — сказал Алексид, потягиваясь. — Ну, я-то с
учением покончил.
Теон ехидно улыбнулся:
— Это ты так думаешь, а не отец. И придется тебе
продолжать свое образование...
— Если ты не уймешься, твое образование я
продолжу сейчас! — И Алексид сделал вид, будто собирается дать
брату хорошего пинка; впрочем, он не думал приводить
свою угрозу в исполнение, так как еще не обулся.
Теон испустил вопль притворного ужаса и бросился
бежать, перепрыгнув через свою кровать и через пустую
кровать у двери. На ней прежде спал их старший брат
Филипп, но ему было уже девятнадцать лет, он второй год
нес военную службу на границе, и его не отпустили
домой на праздники.
На пороге Теон остановился и, чувствуя себя в полной
безопасности, вступил в переговоры.
— Захвати мое полотенце, — сказал он. — А я
достану воды из колодца.
— Ну ладно, — ворчливо отозвался Алексид.
1 Дионисии — празднества в Древней Греции в честь Диониса —
бога виноделия.
396
Он любил попугать младшего брата, но редко
переходил от слов к делу. Взяв оба полотенца, он вышел за
братом во внутренний дворик.
* * *
По всем Афинам кричали петухи. Квадрат неба над
головой из темно-синего стал перламутрово-серым, хотя
среди ветвей смоковницы еще блестел узкий серп молодого
месяца.
Теон перегибался через край колодца. Аргус — его
назвали так в честь верного пса из "Одиссеи" — ласково
тыкался носом ему в бок.
— Уйди, Аргус! — упрашивал мальчик. — Не
щекочись! У тебя нос холодный...
— Сюда, Аргус!
Аргус тотчас бросился к Алексиду, но тот добродушно
его оттолкнул:
— Лежать, Аргус! А уж если хочешь прыгать на
человека, то прежде обуйся в сандалии. Ты меня всего
исцарапал!
Теон вытащил из колодца полное ведро и перелил
воду в большой глиняный кувшин. Оставшуюся воду он
выплеснул на пса, и тот убежал за смоковницу — на его морде
было обиженное выражение, словно он хотел сказать: "Ну
ладно, царапать других нельзя, но самому-то почесаться
можно?"
Алексид поднял кувшин и налил воды в сложенные
ладони брата. Теон нагнулся, растер лицо, отфыркнулся и
ощупью нашел полотенце. Он не любил затягивать умывание.
— Давай теперь я тебе полью, — сказал он.
Даже на заре воздух в маленьком дворике не был
прохладным. Стены дома, окружавшие его со всех четырех
сторон, сохранили тепло вчерашнего дня. От ледяной
колодезной воды у Алексида перехватило дыхание. Но, промыв
глаза, он решил показать брату пример и сказал, стуча зубами:
— Остальное, если хочешь, вылей мне на голову, — и
от души пожелал, чтобы воды в кувшине было поменьше.
— Нагнись ниже, — весело потребовал Теон. — Я ведь
не такой высокий, как ты... пока.
Алексид нагнулся, словно собираясь метнуть диск. Из
кувшина вырвалась зеленовато-белая водяная дуга,
пахнущая землей. Она разбилась о его кудрявые каштановые во-
397
лосы, обдала плечи и сбежала по спине, так что
заблестели все бугорки позвонков.
— У-ух! — вырвалось у него. — А-ах!
Вода, журча, стекла в канавку и по ней, под еще
запертой дверью, — на улицу.
— Давай я зачерпну еще ведро, — предложил Теон.
Но Алексид уже убежал, размахивая полотенцем и
отряхиваясь, словно мокрая собака.
* * *
Когда Алексид надел новенький белый хитон,
украшенный зубчатой голубой каймой, он услышал, что наверху
мать будит служанок. Во дворе Теон, присмирев, лил воду
на руки отца, а седой Парменон почтительно стоял рядом
с хозяином, держа наготове чистый плащ, который тот
наденет поверх хитона, перед тем как выйти из дому. Мать
и старшая сестра Ника (ей было семнадцать лет) будут,
конечно, умываться в гинекее1. Вон Сира уже наливает
воду в их кувшины.
Сиру Алексид недолюбливал, хотя смотреть на нее
было приятно. "В доме, где подрастают мальчики, такие
хорошенькие рабыни ни к чему", — не раз загадочно
повторяла его мать.
Сира важничала и называла себя приближенной
госпожи, потому что носила за ней покупки. Фратта, вторая
служанка, работала гораздо усерднее, но разве можно
было показаться на улице в сопровождении этой косоглазой,
неуклюжей, громогласной фракиянки? Да к тому же она
говорила с таким варварским акцентом! Но Алексид
любил ее, как и вся семья.
Теперь он отправился к ней:
— А когда завтрак, Фратта, милая?
— Да некогда мне с завтраками возиться! — Не
повернув головы, она продолжала укладывать припасы в
большую корзину. — Вон хлеб. А размочить его ты и сам
сумеешь, а?
— Попробую. — С этими словами Алексид налил в
чашу немного вина и обмакнул в него хлебную корку.
В кухню вошел Теон.
— Что в корзинке? — сразу спросил он.
1 Гинекей — женская половина в древнегреческом жилом доме.
398
— Увидишь, родненький, когда ее откроют.
Фратта огляделась, схватила несколько яиц и бросила
их в корзину. Теон испуганно вскрикнул.
— Да они же крутые, дурачок, — успокоил его Алек-
сид.
— Я вижу в корзине яблоки и смоквы, — бормотал
себе под нос Теон. — Полагаю, что в ней есть медовые
лепешки, потому что вчера их пекли. Надеюсь, там лежит и
колбаса. И уж наверное — сыр. А орехи, Фратта?
— Может, парочка и найдется.
— Вот и хорошо! — Теон одобрительно кивнул. —
В театре без орехов никак нельзя.
— По-твоему, — насмешливо сказал Алексид, — без
них нельзя постичь высокое театральное искусство?
Теон недоуменно замигал, а потом радостно
улыбнулся: такие красивые слова необходимо было запомнить для
дальнейшего употребления.
— Ну да, — сказал он. — А как же?
— Что ж, — заметила Фратта, созерцая набитую
доверху корзину. — Этого вам, пожалуй, хватит. Но хоть
убейте, никогда не пойму, как вам кусок в горло лезет,
когда вы насмотритесь этих ужасов.
Фратта ни разу в жизни не видела театральных
представлений и имела о них самое превратное понятие. Ей
доводилось слышать пересказы отдельных отрывков из
разных трагедий, — конечно, самых жутких. Так, она знала,
что жена Агамемнона убила его в ванной, что Медея
прислала царевне отравленный наряд, чтобы погубить
соперницу в день свадьбы, и что Прометей был прикован к
скале, а коршун терзал его печень. Наверно, она была бы
горько разочарована, если бы попала в театр и убедилась, что
все эти страшные события происходят за сценой. Впрочем,
это не помешало Теону задать ей обычный вопрос:
— А тебе хотелось бы пойти с нами, Фратта, милая?
— Нет, родненький, театры не для рабынь. Ну ничего,
когда вы все уберетесь, нам и тут будет неплохо. А теперь
уходите из кухни. Вон госпожа и Ника ждут вас во дворе.
— Все готовы? — спросил отец.
— Все, отец, — ответил Алексид.
Когда они вот так всей семьей отправлялись
куда-нибудь, отец всегда придирчиво оглядывал их, словно на
военном смотру. Сам он был очень представительным чело-
399
веком: курчавая борода с проседью, сухощавое крепкое
тело. И держался он все так же прямо, как в те дни, когда
был гоплитом1. На его щеке и на правой руке виднелись
бледные рубцы старых ран. На улицах прохожие
указывали на него друг другу. "Это Леонт, — объясняли они
приезжим. — Он состязался в беге на Олимпийских играх".
И Алексид гордился, когда слышал этот шепот и видел, как
незнакомые люди с интересом смотрят вслед его отцу.
Мать казалась спокойной, но ее пальцы нервно
разглаживали складки темно-красного пеплоса2, а Ника в бело-
голубой одежде совсем притихла под отцовским взглядом.
Головы обеих окутывали покрывала. На этом настаивал
отец. Он был человеком старого склада и любил повторять,
что "место женщины у домашнего очага" и что добрая слава
девушки заключается в том, чтобы о ее существовании не
знал никто, кроме родных. Было просто удивительно, как
он еще позволял жене и дочери посещать театр.
Однако в это утро он особенно внимательно осматривал
сыновей. Сначала их венки из дикого винограда — такие вен-
1 Гоплит — тяжеловооруженный пеший воин.
2 Пеплос — верхняя женская одежда.
400
ки в этот день носили все в честь бога Диониса, потому что
это был его праздник, — а потом и всю их одежду.
— Поправь застежку на плече, Теон, у тебя
перекосился плащ. Ее надо сдвинуть на два пальца левее. Помни:
благородного мужа всегда можно узнать по тому, как
ниспадают складки его одежды.
— Понимаю, отец.
— А ты, Алексид, раз уж ты надел одежду мужа, то и
носи ее как подобает. Или, по-твоему, достаточно
просунуть в хитон голову и руки и перетянуть его поясом?
Расправь его. А когда мы будем в театре, не заставляй меня
то и дело толкать тебя локтем, чтобы ты не закладывал ногу
за ногу, — это неуклюже, так сидят только варвары.
— Хорошо, отец.
Наконец они отправились в путь. Леонт, держа в руке
трость, шел впереди вместе с сыновьями, мать и Ника
следовали за ним, а Парменон с корзиной и охапкой подушек
замыкал шествие. Парменон был единственным рабом,
которого брали в театр, но ведь он был педагогом1. Его обя-
1 Педагог — в Древней Греции раб, обязанностью которого было
водить детей в школу и следить за их учением.
401
занностью было провожать мальчиков в школу и в гимна-
сий1, ожидать там, пока не кончатся занятия, и
сопровождать их домой. Он хорошо читал и писал и вообще был
образованным человеком. "Еще бы ему не быть
образованным, — не раз думал Алексид, — когда он чуть ли не
полжизни провел в школе на задней скамье, из года в год
выслушивая одни и те же уроки: арифметика, музыка,
"Илиада", "Одиссея". И если уж он всего этого не помнит, так
чего они хотят от нас, мальчиков, которые посещают
школу только с семи до пятнадцати лет?"
Ну, для него самого это теперь навсегда осталось позади.
С нынешнего дня, а вернее, через три дня, когда
кончатся Дионисии, он вступает в новую жизнь. Эфебом2 он
станет только через два года, а пока будет посещать
лекции софистов3. И ходить к ним и в гимнасий он будет один.
"Как хорошо, что отец не богат! — в сотый раз повторил
он себе. — Если бы у него было больше рабов, он
приставил бы ко мне особого слугу. А Парменон не может
разорваться надвое и будет присматривать только за Теоном —
он ведь младший".
Свобода... Можно будет узнать столько нового...
Алексид, как истый афинянин, был взволнован даже
одной мыслью об этом. Сам не зная почему, он верил, что с
этих пор его жизнь станет гораздо интереснее. Его ждут
всякие приключения. Да, так будет. Непременно.
Но чего именно он желал, он сказать не мог бы и очень
удивился бы и даже испугался, если бы какой-нибудь
оракул предсказал ему, что уже в этот день начнется
приключение, которое превзойдет все его ожидания, — начнется
так же незаметно, как начинается река.
АЛЕКСИД ПРИОБРЕТАЕТ ВРАГА
Солнце уже поднялось над восточными горами. Оно
заливало ярким светом узкие улочки, играло на белых
стенах, испещренных надписями вроде: "Голосуйте за Телия!"
1 Гимнасий — общественное здание, в котором занимались
атлетическими упражнениями.
2 Эфебы — юноши от восемнадцати до двадцати лет, проходившие
военное обучение в отрядах на границах страны.
3 Софист — учитель философии и красноречия в Древней Греции.
402
или: "Архий любит Дию", и карикатурами на влиятельных
граждан. Все люди на улице спешили в одном
направлении.
— Пойдем быстрее, — приставал Теон, — а то все
лучшие места займут!
Леонт рассмеялся. Он был уже в праздничном
настроении и, вместо того чтобы напомнить сыну, что
необходимо всегда соблюдать достоинство, сказал только:
— Это ведь не марафонский бег. Да и бедняге Парме-
нону нелегко тащить такую корзину.
— А что будут представлять в этом году? Кто победит?
У нас в школе есть мальчик — его отец ужасно богат и
он хорег1 одной из сегодняшних трагедий, — так он
говорит...
Когда Теон начинал болтать, всем оставалось только
молчать. Но сейчас Алексида это скорее обрадовало: куда
интереснее обдумывать то, что видишь и слышишь вокруг
себя на улицах. Вон те люди, наверно, приезжие —
дорийцы с западных островов, а может быть, судя по их
произношению, и откуда-нибудь подальше... А эти двое смуглых
мужчин с томными черными глазами, чьи руки в лад их
беседе взлетают и опускаются, точно птицы, уж наверно
египетские купцы... Этот важный сановник, которого
сопровождают четыре служителя, надо полагать, чужеземный
посол... На праздник Великих Дионисий в Афины
съезжаются люди из многих стран.
"А как же может быть иначе?" — гордо подумал он.
Ведь Афины — самый замечательный
город-государство во всей Греции, а греки — самый образованный народ
мира. Алексид, разумеется, не мог помнить Перикла,
который создал славу Афин и сделал их "школой Греции".
Но Леонт, на всю жизнь сохранивший свое юношеское
преклонение перед Периклом, столько о нем рассказывал, что
Алексиду порой казалось, будто он сам не раз видел этого
великого государственного мужа. Леонт говорил, что после
его смерти все переменилось к худшему. При любом
плохом известии он покачивал головой и ворчал: "Будь жив
Перикл, этого не случилось бы". Со временем это его
присловье превратилось в семейную шутку, и стоило
кому-нибудь опрокинуть амфору с вином или забрызгать одежду
1 Хорег — человек, оплачивавший расходы на праздничное
театральное представление. Эта и другие подобные же повинности заменяли в
Афинах налоги.
403
жирной подливкой, как тут же раздавалось: "Будь жив Пе-
рикл, этого не случилось бы!"
Как хороши Афины в золотых лучах утреннего солнца!
У Алексида даже сердце защемило. Он был готов дергать
за плащ всех чужестранцев и спрашивать: "Как тебе
нравятся наши Афины? Есть ли на свете город великолепнее?"
Чтобы добраться до театра, им надо было обойти холм
Акрополя. Над крутыми, поросшими травой склонами
вздымались скалы из лиловатого мрамора, увенчанные
мощными стенами. Дорога была проложена прямо под ними, так
что прохожим не были видны колонны храмов на вершине
холма, — только высокие кровли да острие копья и шлем
богини Афины. Эта сверкающая бронзовая статуя высотой
в двадцать локтей1 служила путеводным знаком мореходам,
когда их корабли находились еще далеко в море.
Теперь дорога шла поперек склона. Внизу лежала
рыночная площадь, расположенная в самой оживленной
части города. Они вступили на одну из великолепнейших улиц
Афин — по обеим ее сторонам тянулись статуи и другие
памятники победителям прошлых театральных состязаний.
Отсюда за крышами домов и городскими стенами
открывался чудесный вид на север: зеленые поля и луга, среди
которых струилась река Кефис в уборе из
серебристо-серых тополей и ярко-зеленых платанов. Там и сям
виднелись сельские усадьбы и деревушки, окруженные
хлебными полями и фруктовыми садами: Колон, знаменитый
своими соловьями, а дальше — Ахарны, где живут угольщики.
За Ахарнами вздымались еще белеющие зимними снегами
горы, чьи подножия были опоясаны темными сосновыми
лесами или более светлыми дубовыми, — Эгалей, Парнет, а
позади них Киферон уходил высоко в небо, защищая
Афины от северных ветров и от вражеских набегов. Где-то там,
на одной из застав в горах, бедняга Филипп сердито
чистит свой щит и думает о том, что вот сейчас они все идут
в театр без него. А его родные — о чем думали они, когда
обогнули уступ и увидали под южной стеной Акрополя
скамьи амфитеатра, врезанного в склон холма?
— А убивать кого-нибудь будут? — приставал к отцу
Теон.
— И зачем только она носит шафрановые одежды! —
1 Локоть — мера длины, около 0,5 метра.
404
говорила Ника матери. — Этот цвет не идет к ее
землистой коже.
— Всю руку мне оттянула проклятая корзина! —
бормотал себе под нос Парменон.
А Алексид думал о том, как, наверно, чудесно стать
победителем на театральных состязаниях, чтобы тебя потом
почтили статуей, а твои слова навсегда остались в памяти
твоих соотечественников, как строки Еврипида,
восславившего Афины.
Да, писать, как Еврипид! Этим можно гордиться!
* * *
Отец заплатил за вход, и они влились в толпу,
заполнявшую крутые проходы. Передние ряды предназначались
для должностных лиц, знатных чужестранцев и
отличившихся граждан — победителей на Олимпийских играх. Если
бы Леонт победил, а не пришел вторым, отстав всего на
шаг, он до самой смерти сидел бы на почетном месте в
первых рядах. Но он не победил и поэтому теперь пошел
дальше по проходу, иногда оборачиваясь, чтобы помочь жене, —
в длинных, метущих землю одеждах не так-то просто
подниматься по высоким ступеням.
— Сядем здесь, — сказал он наконец. — Клади
подушки вот тут, Парменон.
Парменон с облегчением поставил корзину и положил
на скамью три подушки — Леонт считал, что не следует
баловать ни мальчиков, ни рабов.
Едва они уселись, как высокий молодой человек,
болтавший с приятелями, сидевшими несколькими рядами ниже,
повернулся и поспешно направился к ним. Вид у него был
очень надменный. Леонт нахмурился. Он терпеть не мог
подобных богатых юнцов: багряный плащ с тяжелой золотой
бахромой, диковинные сапожки, золотые перстни,
унизывающие пальцы почти до самых накрашенных ногтей, и
(подумать только!) длинные волосы по спартанской моде.
Алексид подтолкнул локтем Теона, чтобы тот
посмотрел на негодующее лицо отца. Но тут, к большому его
удивлению, щеголь остановился у их ряда и сказал визгливо:
— Это мое место! Тебе придется поискать другое!
Так с Леонтом, во всяком случае, разговаривать не
следовало. Человек учтивый, он не терпел грубости в других.
Посмотрев на щеголя, он сдержанно спросил:
405
— Ты обращался ко мне, юноша?
— Да, к тебе. Поищи другое место. А тут сижу я.
Все вокруг почувствовали сладкий и очень сильный
запах. Молодой щеголь жевал какую-то душистую смолу, и,
когда он открыл рот, кругом разлился приторный аромат,
Леонт смерил его строгим взглядом.
— Юноша, — сказал он, — по речи твоей я полагаю,
что ты афинянин, хотя волосы ты носишь как спартанец,
а пышностью одежды напоминаешь перса...
— Конечно, я афинянин!
— Ну, так вспомни, что Афины — демократия. Если не
считать первых рядов, каждый может сидеть где захочет.
— Но я занял это место раньше! Я только отошел
поговорить с другом. Уберешься ты отсюда или нет?
— Я никуда не уйду. — Леонт оглянулся; верхние
ряды быстро заполнялись народом. — Вон там еще свободно
отличное место. А чтобы найти шесть мест рядом, моей
жене придется подниматься на самый верх. Тебе следовало
бы оставить здесь подушку или еще что-нибудь.
— Правильно, — сказал их сосед. — Раз уходишь,
оставь что-нибудь на своем месте.
— Да кто он такой? Чего он важничает? —
поддержали сидевшие поблизости.
То же самое повторяли все вокруг. Молодой щеголь
покраснел до корней своих напомаженных волос. Никто не
слушал его надменных требований. Ему дружно
советовали поскорее сесть (только подальше отсюда), заткнуть
глотку или убраться в Спарту. Но только когда прозвучал крик
глашатая, объявившего, что сейчас начнется
жертвоприношение Дионису, открывающее праздник, щеголь наконец
сдался: презрительно взмахнув своим багряным плащом, он
направился к свободному месту в верхнем ряду.
— Отец, кто он такой? — спросила Ника испуганным
шепотом.
Леонт презрительно хмыкнул:
— Его зовут Гиппий. Он из эвпатридов1. Я знаю этих
молодчиков. Денег хоть отбавляй, тратят они их на
скаковых лошадей да на состязания, а делом заниматься не
желают. Будь жив Перикл...
— Ш-ш-ш! — прервала его жена.
Жрец Диониса встал со своего почетного места в пер-
1 Эвпатриды — афинская родовая знать.
406
вом ряду и вышел вперед. Началось жертвоприношение, и
двенадцать тысяч человек поднялись со своих мест. Затем,
когда они вновь опустились на скамьи, опять раздался
громкий и ясный голос глашатая:
— Еврипид, сын Мнесарха, предлагает свою трагедию...
По спине Алексида пробежала блаженная дрожь.
Представление началось.
И до полудня окружающий мир более не существовал
для Алексида. Он забыл и о жесткой скамье, и о своих
соседях. Все, что лежало вне пределов сцены, словно
исчезло: он не видел ни палевых круч Гиметтского кряжа, ни
блестящего белого песка Фалера, ни синей бухты за ним,
усеянной парусами. Он не замечал даже чаек,
проносившихся порой над самыми головами зрителей.
Узкие подмостки и примыкающая к ним спереди
круглая орхестра1 заменяли теперь для Алексида весь мир.
Актеры в высоких головных уборах и масках казались выше
и величественнее обыкновенных людей благодаря котурнам2
и особой одежде. Да, это были не обыкновенные люди, а
настоящие боги и богини, герои и героини седой старины,
о которых он столько слышал в школе. Созданию этой
иллюзии помогала и музыка флейт, то печальная и жалобная,
то бурная и угрожающая, и плавные движения хора,
который в промежутках между эписодиями3 трагедии, танцуя,
переходил от одного края орхестры к другому и пел
звучные строфы. Но главные чары таились в стихах, то
слагавшихся в страстную речь или задумчивый монолог, то, как
мячик, перелетавших от актера к актеру в выразительных
строках диалога.
Алексид и в школе всегда любил стихи — длинные
повествования Гомера, коротенькие эпиграммы — десяток
строк, заключавшие в себе законченный прекрасный образ,
шутку или глубокую мысль. Но больше всего он любил
стихи из трагедий. Их он выучивал наизусть и даже сам
тайком сочинял, не признаваясь в этом никому, кроме своего
лучшего друга. Написать простым стихом речь героя было
не так уж трудно, но над строфами для хора приходилось
долго ломать голову — так сложны были их ритмы, да к то-
1 Орхестра — место, где располагался хор.
2 Котурны — особая обувь на высокой подошве, которую надевали
трагические актеры, чтобы казаться выше ростом.
3 Эписодии — части, на которые разделялась древнегреческая трагедия.
407
му же каждая полустрофа должна была точно
соответствовать другой, до последнего слога.
Но как замечательно получается это у Еврипида —
словно само собой! Вот слушаешь стихи и даже не вспомнишь
о ритме, о том, что все эти строки были задуманы и
записаны много месяцев назад! Слова срываются с губ
актеров, словно только сейчас порождены их сердцами.
По правилам театральных состязаний были показаны
три трагедии. Их представление длилось до полудня, и
только тогда Алексид немного пришел в себя.
— Правда, хорошо было? — спросил Теон. — Только
лучше бы убивали прямо на сцене, вместо того чтобы
отдергивать занавеску и показывать покойников, когда уже
все кончено.
— Нет, ты не грек, а какой-то кровожадный варвар! Это
было бы уже не искусство.
— А что тут плохого?
— Убийство и всякая насильственная смерть
уродливы и безобразны. Ни один грек не захочет показать их в
театре. Есть вещи, — снисходительно закончил Алексид, —
которые лучше предоставлять воображению.
Теон собрался было заспорить, но тут, к счастью, Пар-
менон открыл корзину с едой. Кроме колбасы, крутых яиц
и сыра, в ней нашлась холодная курица и даже румяные
яблоки, сладкие смоквы, изюм, поджаристые медовые
лепешки и амфоры с вином и с водой, чтобы его разбавлять.
А орехов оказалось столько, что их должно было хватить
до конца дневного представления. Неудивительно, что у
Парменона от такой тяжести разболелась рука.
Но вот наконец даже Теон наелся досыта. Облизав
пальцы, он удовлетворенно вздохнул и сказал:
— Ну, а теперь можно посмотреть комедии. Вот
хорошо-то!
Парменон сложил в корзины пустые амфоры и чаши.
Мать и Ника встали, смахивая крошки с одежды. На лице
Ники была написана досада. Теон немедленно завладел ее
подушкой и ехидно улыбнулся:
— Бедненькая Ника! А ты была бы рада остаться, а?
Ника пожала плечами, но ничего не ответила и только
обиженно надула губы. Мать сказала поспешно:
— Разумеется, она не хочет оставаться.
Благовоспитанные девушки не смотрят комедий.
408
— А почему? — не унимался Теон.
— Потому что, — строго сказал отец, — комедии
рассказывают не о старинных легендах, а о современных делах.
Женщины же ничего не понимают в политике и только
скучали бы.
— Ты тоже скучала бы, Ника?
Его сестра встряхнула темноволосой головкой в венке
из дикого винограда.
— Откуда я знаю? — сказала она сердито. — Раз мне не
позволяют остаться!
— И не позволят! — отрезал отец.
— Конечно, — испуганно вмешалась мать. — И дело не
только в политике. Шутки в комедиях часто бывают... очень
грубыми.
— Я думаю, милая, — сказал Леонт, — вам пора идти.
Большинство женщин уже покинуло театр, и первая
комедия вот-вот начнется. Вернись, чтобы встретить нас после
представления, Парменон.
Женщины и рабы ушли, и на скамьях стало просторнее.
— По-моему, это нечестно, — пробормотал Алексид, не
сказавший во время спора ни слова.
* * *
Комедий было представлено две. Первая, хотя Теон и
хохотал до упаду, никуда не годилась, и публика открыто
выражала неодобрение. Зрители свистели, прищелкивали
языком, а те, кто сидел поближе, начали даже швырять на
сцену ореховую скорлупу и гнилые яблоки. Актерам еле
удалось доиграть до конца.
— Как им, наверно, неприятно! — сказал Алексид. — Да
и автору — каково-то ему сейчас?
— Раз они показывают всякую чепуху, — возразил его
отец, — то пусть не обижаются, если народ прямо
высказывает свое мнение. Мы, афиняне, считаем, что каждый
вправе говорить свободно.
Вторая комедия оказалась намного лучше. Ее сочинил
Аристофан, уже много лет писавший комедии и не раз
выходивший победителем на театральных состязаниях. Это
была на редкость интересная комедия со сказочным сюжетом
и нелепыми действующими лицами, которые попадали в
такие смешные положения, что Алексид просто корчился от
смеха, а по щекам его катились слезы. И какая удивитель-
409
ная смесь: тонкие, остроумные шутки, шпильки по адресу
политических деятелей, карикатуры на знаменитых
государственных мужей, пародии на строки прославленных
трагедий, поговорки, прибаутки, намеки, которые Алексид далеко
не всегда понимал, грубые площадные остроты, вроде тех,
которые его товарищи шепотом сообщали друг другу в
школе, и строфы хора, не уступавшие по красоте стиха
утренним трагедиям.
Публика просто неистовствовала, особенно когда
корифей1 подошел к самому краю орхестры и, обращаясь
прямо к амфитеатру, произнес длинную, написанную
звонкими стихами речь о самых злободневных событиях с
упоминанием всем известных лиц. После каждой строчки
зрители разражались рукоплесканиями и ревели от
восторга.
— Послушай, — шепнул Теон с благоговейным ужасом
после одного особенно дерзкого выпада против
влиятельного политического деятеля, — и как только он не боится?
— Мы, афиняне, считаем, что каждый вправе говорить
свободно, — передразнивая Леонта, с торжественной
важностью шепнул Алексид.
Теон одобрительно фыркнул, но тут же опасливо
покосился на отца. Однако тот тоже смеялся, правда — шутке
актера.
Но вот комедия закончилась (гораздо раньше, чем
хотелось бы Алексиду) буйным пиршеством, на котором
плясали мужчины в костюмах танцовщиц, и шутовской
свадебной процессией. Когда хор удалился с орхестры,
раздались громкие рукоплескания.
Теон вскочил и принялся приплясывать, разминая
затекшие ноги.
— Вот это комедия! Правда, отец? Тем, которые будут
показаны завтра и послезавтра, надо быть уж не знаю
какими, чтобы победу присудили им.
Алексид тоже встал, в его карих глазах прыгали
огоньки радостного возбуждения. От игры актеров и от стихов
он опьянел, как от вина. А в его голове уже слагались
собственные строки. Они были не слишком остроумны, но ему
самому показались отличными, и, не задумываясь, он
дернул Теона за локоть и сказал:
— Я, пожалуй, тоже напишу комедию. Вот послушай! —
1 Корифей — предводитель хора в древнегреческом театре.
410
И, став в позу, он презрительно взмахнул воображаемым
плащом и произнес напыщенным тоном: — "Иль ты не
знаешь, кто перед тобой? Узри же Гиппия!" — И тут же
ответил себе другим голосом: — "На кудри глядя длинные
твои, счел девушкой тебя я".
Смешливый Теон расхохотался, и Алекс ид, польщенный
этим, продолжал:
— "Где сяду я? К лицу ль сидеть мне сзади?"
После четвертой строки, в которой Гиппию указывалось,
что благовоспитанной девушке вообще не положено
смотреть комедии, Теон совсем задохнулся от смеха. И тут Алек-
сид, внезапно спохватившись, заметил, что слушает его не
только брат.
В нескольких шагах от него стоял Гиппий. Его
бледное лицо исказилось яростью. Судя по всему, он вообще
не был склонен легко прощать обиды, и особенно — такие
язвительные насмешки. Алексид понял, что нажил
смертельного врага. А какого опасного — это ему еще
предстояло узнать.
ТАИНСТВЕННАЯ ФЛЕЙТА
Кончились три дня Великих Дионисий, и потянулись
будни, особенно скучные по сравнению с последним
вечером праздника, когда были объявлены победители
состязаний и весь город ликовал и веселился.
На другой день Теон, как обычно, отправился в
школу, а Алексида отец повел к Милону, софисту, у которого
Алексиду предстояло брать уроки ораторского искусства.
Однако почтенного мужа мучила сильная головная боль
("Не в меру праздновал вчера", — пробормотал Алексид),
и он через привратника просил извинить его: сегодня он
отдыхает. Занятия возобновятся завтра.
Алексид ничуть не был огорчен.
Относительно его занятий у Милона, да и не только
относительно них, они с Леонтом придерживались разных
мнений. Он уже давно сказал:
— Но, отец, я ведь не собираюсь выступать с речами.
— Как ты можешь утверждать это заранее? — вполне
справедливо возразил Леонт. — Ты же еще мальчик. Но
со временем тебе придется занять свое место в Народном
411
собрании. Не говоря уж о судебных процессах. Ты, может
быть, и не станешь обращаться в суд, но это не помешает
кому-нибудь другому подать на тебя жалобу — Афины
полны завистливых сутяг, — и тебе придется произносить речь
в свою защиту. Никто за тебя этого не сделает. А когда
тебя слушают пятьсот присяжных, ты только погубишь
дело, если будешь бормотать что-то невнятное себе в бороду.
Алексид решил, что эта опасность ему пока не
угрожает: первый пушок только еще чуть-чуть пробивался на
его верхней губе. Однако такой довод вряд ли мог
переубедить отца. Но Алексид сумел выискать единственное
слабое место в рассуждениях Леонта:
— Ведь ты сам никогда не выступаешь в Народном
собрании.
— Да, я не...
— Почему же ты хочешь, чтобы выступал я?
И тут Леонт сказал удивительную вещь. Удивительную
потому, что он никогда не хвалил своих сыновей,
особенно Алексида:
— Потому что, мальчик, ты можешь поддержать честь
нашей семьи своим умом.
— Я? Но ведь...
— Не спорь. Ты никогда не станешь атлетом, как твой
брат Филипп, не говоря уж о малыше Теоне... Вот из
него, если он будет стараться, выйдет толк — только не
говори ему этого...
Суровое лицо Леонта смягчилось. Он о чем-то
задумался, и Алексиду казалось, что он читает его мысли:
заветной мечтой отца было увидеть, как его сыновья, подобно
ему самому, выступят на Олимпийских играх, но, в
отличие от него, может быть, добьются победы и будут
встречены в Афинах, как герои, чтобы до конца дней жить в
почете и уважении. "И сколько же огорчений, значит,
доставил ему я!" — с грустью подумал Алексид, вспомнив свои
более чем скромные успехи в атлетических состязаниях.
— На этом поприще ты никогда не стяжаешь лавров, —
продолжал тем временем Леонт, — но ты можешь
добиться кое-чего почти столь же хорошего... да нет, даже столь
же хорошего. У тебя светлая голова. И язык у тебя
неплохо подвешен. Сколько раз ты нас всех смешил своими
шутками! И, хоть ты еще очень молод, тебя интересуют все
важные события в жизни нашего города.
412
— Да, но...
— Твой путь ясен. Я буду гордиться сыном, который
выступает в Народном собрании. Отечеству нужны честные
государственные мужи, иначе нам не вернуть былой славы.
Итак, было решено, что он будет учиться у Милона,
чтобы уметь облекать свои мысли в наиболее
выразительные слова. Алексид, правда, по-прежнему считал, что эти
слова могут пригодиться для чего-нибудь получше, чем
длинные речи в Народном собрании, но, как бы то ни было, пока
ему приходилось послушно выполнять волю отца. Вот
почему он очень обрадовался, когда привратник сообщил им,
что ученый муж немного нездоров и занятий не будет.
— Чем ты сейчас займешься? — спросил Леонт у
сына. Сам он торопился в свою гончарную мастерскую,
чтобы проверить, взялись ли рабы за дело или проводят
время в болтовне, обленившись за дни праздника.
— Ну... — начал Алексид неуверенно. — Я, пожалуй,
зайду к Лукиану. Мы сыграем в мяч или, может быть,
погуляем за городом.
Леонт кивнул. Ему была по душе дружба сына с Лу-
кианом. Лукиан был красив, но ничуть не изнежен; он
отличался во всех видах атлетических состязаний и
происходил из весьма почтенной семьи — все его предки были
коренными афинянами и в то же время не хвастали
неправдоподобной родословной, восходящей к богам. Короче
говоря, Леонт считал, что дружба с таким юношей во всех
отношениях полезна его сыну.
— Если вы отправитесь на прогулку, — сказал он, — то
зайди в нашу усадьбу. Предупреди там, что я на днях у
них побываю, так чтоб все было в полном порядке.
— Хорошо, отец.
Полчаса спустя Алексид и Лукиан уже выходили из
города через восточные ворота. Небольшая деревенская
усадьба Леонта (у него, как и у большинства афинских
ремесленников, был свой загородный дом) лежала стадиях1 в
сорока от Афин. Алексид любил белый дом, уютно
укрывшийся среди зеленых холмов, любил окружавшие его
серовато-серебристые оливковые деревья и виноградники на
склонах, жужжащих пчел и хлопотливых кур, поросят,
старого осла и двух коров с удивительно кроткими глазами.
Стадий — мера длины, около 180 метров.
413
Друзья передали приказание Леонта старику
крестьянину, который вместе с женой присматривал за
хозяйством, немного отдохнули в тени и, напившись молока,
отправились дальше.
— Пойдем-ка вверх по реке, — предложил Лукиан.
— Ладно. Можно будет искупаться.
Они свернули с дороги и пошли через фруктовые сады
туда, где в узкой долине катил свои воды Илисс,
стремительно сбегавший со склонов Гиметта и Пентеликона.
Смуглый, черноволосый Лукиан, стройный и изящный,
как чистокровный скаковой конь, был немного выше Алек-
сида. Коренастый Алексид прыгал с камня на камень,
словно молодой козленок, встряхивая каштановыми кудрями.
Давным-давно они поклялись в вечной дружбе по
примеру Ахилла и Патрокла1. Алексид всегда немного гордился
дружбой с Лукианом — ведь тот мог выбрать себе в
друзья кого угодно. Многие мальчики набивались ему в
приятели. "Ты мне нравишься потому, — как-то признался ему
Лукиан, — что никогда ко мне не подлизывался и не
надоедал мне. И мне с тобой весело".
В дубовой роще закуковала кукушка. Молоденькая
травка на склоне пестрела фиалками. В окрестностях Афин они
зацветают в начале декабря и цветут до середины мая.
— Река еще не обмелела, — заметил Лукиан.
Летом Илисс совсем пересыхал и превращался в
цепочку мелких прудов среди белых каменных россыпей. Но пока
его все еще питали зимние снега и весенние ливни. На
камнях кипела белая пена, с высоких уступов, словно
длинные зеленые гривы, ниспадали водяные струи. Ниже
водопадов река разливалась прозрачными заводями, где можно
было разглядеть на дне самые мелкие камешки.
В одной из таких заводей они и искупались. Вода
была ледяная, так как над ней смыкался лиственный свод,
сквозь который солнечным лучам было нелегко пробиться.
Но там, где они достигали воды, на ее поверхности
плясали ослепительные пятна, расцвечивая яркими зайчиками
серые скалы над заводью. Алексид как зачарованный
следил за этой игрой красок.
Лукиан, резвясь в заводи, как дельфин, окатил его
градом брызг.
1 Ахилл и Патрокл — древнегреческие герои; их дружба и скорбь
Ахилла по убитому Патроклу описаны в поэме Гомера "Илиада".
414
— Да очнись же, Алексид! Или ты вдруг окаменел?
Еще несколько минут они гонялись друг за другом и
ныряли, а потом вылезли на залитый солнцем уступ. Их
мокрая кожа блестела, и оба были похожи на статуи —
Алексид на бронзовую, а Лукиан на вырезанную из
слоновой кости.
— Жаль, мы не захватили оливкового масла, чтобы
натереться, — недовольно проворчал Лукиан.
— Того и гляди, ты начнешь носить с собой флакон с
притираниями, — засмеялся Алексид.
— Ну, я не такой дурак. Пусть ими хвастают щеголи.
Вроде этого Гиппия.
Лукиан презрительно усмехнулся. Флаконы с
притираниями, так же как длинные волосы, ароматные смолы и
драгоценности, были непременной принадлежностью юных
отпрысков "первых афинских семей", как выражались они
сами. Сограждане, впрочем,.называли их гораздо менее
лестными словами.
— Скажи-ка мне еще раз стихи, которые ты о нем
сочинил, — попросил Лукиан.
Алексид выполнил его просьбу и добавил еще несколько
тут же сочиненных строк. Лукиан одобрительно засмеялся:
— Очень неплохо!
— Ну, это-то совсем не трудно. Такие безделки
слагаются сами собой, было бы подходящее настроение. Вот если
бы я умел сочинять настоящие стихи!
— Как Гомер?
— Нет! В наши дни нельзя писать, как Гомер.
— А как кто?
— Как Еврипид.
Лукиан, по-видимому, не ожидал такого ответа.
— Мой отец невысокого мнения о Еврипиде, — сказал
он. — Он называет его "этот проходимец". Говорят, его мать
была простой рыночной торговкой и продавала овощи, а он
развелся с женой и...
— Все это только сплетни! — Алексид порой досадовал
на друга: ну почему Лукиан всегда думает, как все, и
никогда ни в чем не сомневается? — А если это даже и правда,
его трагедии не стали от этого хуже.
— Отцу и его трагедии не нравятся. Он говорил, что они
внушают людям всякие мысли.
— Ну и что? По-моему, это-то и хорошо.
416
— Ты прекрасно понимаешь, что я хотел сказать, —
ответил Лукиан, перекатываясь на бок и подставляя солнцу
последние невысохшие капли влаги между лопатками. —
И, во всяком случае, спорить я не собираюсь. Ты всегда
ухитряешься так истолковать мои слова, будто я неправ.
Но мой отец знает, что говорит, и он постарше тебя.
— В таком случае, Еврипид мудрее нас всех, —
ответил Алексид, и в его карих глазах вспыхнули лукавые
искорки. — Ведь ему уже стукнуло семьдесят, а может, и
больше.
Освеженные купанием, друзья надели свои хитоны и
пошли дальше по ущелью, неся сандалии в руках, чтобы
переходить перекаты вброд.
— Мне тут нравится, — сказал Алексид. — Мы совсем
одни, и кругом на десятки стадиев ни одного человека.
— Что это? — Лукиан вдруг остановился, ухватившись
правой рукой за молоденькое деревце, чтобы не потерять
равновесия: в эту минуту он как раз взбирался по
крутому, нагретому солнцем склону.
Алексид прислушался, но услышал только журчание и
плеск воды на камнях.
— Наверно, опять кукушка? — спросил он.
— Нет. Какая-то музыка.
— Музыка — здесь?
— Так мне показалось. Как будто флейта или свирель.
Но ведь этого же не может быть, правда?
— Конет ло! Если только тут не скрывается сам бог Пан.
А смертных пастухов поблизости нет, — пошутил Алексид.
Но Лукиан чуть-чуть побледнел.
— Не следует говорить такие вещи, Алексид!
— Но ведь в этих местах и правда никто не пасет ни
овец, ни коз...
— Я не о том. Не следует упоминать имя бога... да еще
таким тоном. Это может плохо кончиться.
Алексид весело улыбнулся:
— Мне еще не доводилось слышать, чтобы Пан бродил
под самыми стенами Афин. Интересно было бы взглянуть
на него.
— Да замолчи ты наконец! — воскликнул Лукиан. —
На богов смотреть нельзя.
— А ты знаешь людей, которые их видели?
— Нет. Но в старину это бывало очень часто.
417
14 532
— В седую старину, — согласился Алексид. — По
правде говоря, поэтам без таких встреч пришлось бы туго.
А какая это была музыка?
— Она была... ну... какая-то нездешняя. Я такой никогда
не слыхал.
— Да твой отец, кажется, и не одобряет игру на
флейте? — лукаво спросил Алексид.
-Да-
— И мой тоже. Он не позволил мне учиться у
флейтиста. "Благородные мужи играют на лирах, — передразнил
он отца. — А флейта годится только для женщин. Эта
музыка слишком уж чувствительна".
— Вот и мой отец говорит то же самое.
— Отцы все на один лад, — вздохнул Алексид. —
И где только они набираются одинаковых мнений,
слепленных по одному образцу! Может, их выдают полноправным
гражданам вместе с табличками для голосования?
— Я больше ничего не слышу, — сухо сказал Лукиан. —
Наверно, мне померещилось.
— Наверно.
— Пойдем дальше?
— Пожалуй. Если, конечно, ты не боишься встретить
Па... э... ну, того, кто играет на свирели, и впасть в
священное безумие.
Лукиан только презрительно вскинул голову, и друзья
зашагали дальше. Они старались держаться у самой воды,
но иногда к реке с обоих берегов вплотную подступали
отвесные скалы, и тогда им приходилось сворачивать в лес
и искать окольный путь. И вот, когда, сделав крюк, они
вышли на обрыв, такой высокий, что деревья внизу совсем
скрывали от них реку, Лукиан снова остановился.
— Что случилось? Ты опять что-нибудь услышал?
— Нет. Но я что-то увидел.
— Что же?
— Как будто человеческую голову...
— Без тела? Фу, какое неприятное зрелище!
— Перестань валять дурака, Алексид! Я говорю
серьезно. Вон там внизу, среди листьев, мелькнуло что-то белое.
— Вода, разумеется.
— Нет, я готов поклясться, что видел лицо и плечо...
— Но ведь белые? А у... того, кто играет на свирели,
кожа темная, да к тому же он мохнат, как козел. А рогов
ты не видел?
418
— Перестань! Такими вещами не шутят! — прошипел
Лукиан (оба они говорили шепотом — на всякий случай). —
Неужели ты ни во что не веришь? Разве ты не веришь в
нимф?
— Да у тебя театральное несварение!
— Это еще что такое?
— За последние дни ты насмотрелся в театре всяких
богов и полубогов, а теперь они тебе повсюду чудятся,
потому что твоя печень забита мифами и...
— Послушай, — сердито сказал Лукиан. — В лесах и
реках на самом деле обитают полубоги. А если я видел не
нимфу, то кого же? Обыкновенная смертная девушка не
стала бы бродить тут в одиночестве.
— Ты прав, — согласился Алексид, вспомнив, что
Нику ни за что не выпускают из дому одну.
Правда, в Афинах были девушки, которых не
содержали в такой строгости, — девушки из семей победнее,
которым приходилось ходить на рынок и за водой к
общественным источникам, — но и они не посмели бы уйти за
городские ворота.
— Так, значит...
— Я же сказал, что тебе почудилось.
— Значит, и это мне просто чудится? — вдруг спросил
Лукиан голосом, в котором смешались страх и торжество.
Теперь и Алексид услышал музыку. Странная
тоскливая и манящая мелодия неслась к ним из зеленой
пропасти у их ног. Она звала его. И в то же время по телу его
пробегала холодная дрожь, а сердце сжималось от страха.
Губы его пересохли, ладони стали влажными от пота.
— С меня довольно, — сказал Лукиан. — Пошли назад.
— Нет.
— Ты что, собираешься спуститься туда? — Лукиан
схватил приятеля за руку.
— Пусти! Я хочу посмотреть, что это.
— Ты с ума сошел! Если там нимфа, она превратит тебя
в какого-нибудь зверя или так тебя изменит, что...
Алексид вырвался и начал спускаться с обрыва.
Отчасти Лукиан оказался прав — это мгновение
действительно что-то в нем навсегда изменило.
Лукиан несколько секунд стоял неподвижно — страх
боролся в нем с чувством долга. Но Алексид все-таки был
его лучшим другом, и он заставил себя последовать за ним
под вновь сомкнувшийся лиственный свод.
419
МРАМОРНАЯ ПЕЩЕРА
Едва Алексия раздвинул ветви олеандра, заслонявшие
от него реку, щемящая музыка сразу оборвалась. Нимфа,
сидевшая на другом берегу заводи, подняла глаза, увидела
его и, взвизгнув, вскочила на ноги. Такой визг вряд ли мог
вырваться из горла нимфы — точно так же верещала
Ника, когда Теон сунул ей за шиворот ящерицу. И Алексид
сразу перестал бояться.
— Я не хотел тебя испугать, извини, — сказал он.
— Ах! Да это... ничего... — ответила она, с трудом
переводя дыхание. Очевидно, она хотела было убежать, но
теперь передумала. Их разделяла глубокая прозрачная
заводь шириной локтей в десять. Девушка нерешительно
засмеялась: — Ты появился так неожиданно, что мне
показалось, будто ты не человек, а...
— Спасибо!
— Что же тут обидного? Ты такой коричневый... и глаза
у тебя раскосые, как у него...
— Но у меня нет рожек, — заверил он ее с улыбкой. —
И ноги самые обычные, без копыт. Вот погляди!
Он вышел из зарослей и, помахивая зажатыми в руке
ременными сандалиями, остановился у самой воды —
обыкновенный юноша в белом хитоне с голубой каймой.
Тут из кустов вышел Лукиан. Спокойные серо-голубые
глаза девушки раскрылись еще шире.
— Вас там еще много? — спросила она.
Оправившись от первого испуга, она говорила теперь
уверенно и беззаботно, не опуская глаз и не запинаясь от
смущения, как те немногие девушки, с которыми они
были знакомы. Ее голос был мелодичен, но сильный
дорический акцент резал их афинский слух.
— Нас только двое, — ответил Алексид. — Не бойся.
Она вдруг беззвучно засмеялась. Это был именно смех,
не похожий на спокойную улыбку, иногда появлявшуюся
на ее губах.
— Я не боюсь, — ответила она невозмутимо. —
Добраться сюда вы можете, только переплыв заводь, а к тому
времени меня тут уже не будет. И вы меня не разыщете.
— Лукиан с самого начала утверждал, что ты нимфа.
— А я подумала, что ты Пан. Как смешно!
Она снова села и принялась расчесывать черные куд-
420
ри, которые влажно блестели, словно она только что
купалась. Ее хитон цвета зеленых яблок был не очень новый,
да к тому же несколько пострадал от близкого знакомства
с колючим кустарником.
— Нам пора домой, — буркнул Лукиан. — Уже
поздно, и я голоден...
— Голоден? Ах, бедняжка! — прозвенел насмешливый
голосок. — Вот тебе смоква, лови! — Раздался всплеск, и
по середине реки пошли круги. — Ну вот! Какая же я
неуклюжая! Ну, ничего, смокв у меня еще много, но
бросать их я больше, пожалуй, не буду. Идите сюда, если
хотите. Я ведь вам сейчас соврала — сюда очень просто
добраться вон по тем камням.
Через минуту они уже сидели рядом с ней и с
удовольствием жевали смоквы. Алексид решил, что она их
ровесница или, может быть, моложе на год, но, уж во всяком
случае, не старше. Она была стройна, и тонкие черты ее
лица как-то не вязались с грубоватой речью. Она сказала,
что ее зовут Коринна и что она приехала в Афины совсем
недавно. А до этого ей немало пришлось постранствовать
по свету. Она жила в Сиракузах на острове Сицилии, а
прежде — в галльской Массилии.
— Но мать всегда хотела вернуться сюда, —
пояснила она.
— Вернуться? — заинтересовался Алексид. — Но ведь
вы же не афинские граждане.
— Нет, конечно. Одним только богам известно, кто мы
такие. Но я родилась в Афинах, только мы уехали отсюда,
когда я была еще совсем маленькой.
— Она из семьи метеков1, — заметил Лукиан. — Это
ясно.
— И все-таки, — спросил Алексид, не обращая
внимания на слова приятеля, — ты, наверно, была очень рада
поселиться в Афинах?
— Теперь уже не рада, — ответила загадочная
девушка. — Я их ненавижу.
— Что?!
Оба друга привскочили и с ужасом уставились на нее.
Она ненавидит Афины! И как только земля не
расступилась и не поглотила ее!
1 Метеки — так называли постоянно живших в Афинах
чужестранцев. Метекам разрешалось торговать и заниматься ремеслами, но
гражданскими правами они не пользовались.
422
— Я повидала немало городов и могу сказать одно:
такой вони, как в Афинах, нет нигде. Улицы узенькие,
грязные, а уж до того кривые, что чудится, будто ты в
лабиринт угодила! Вот Пирей совсем другое дело! Улицы
широкие и такие прямые...
— ...как кухонные вертела! — негодующе фыркнул Алек-
сид. — Что ж, Пирей, конечно, красив и совсем новый —
кстати сказать, его построили Афины, — но ведь это всего
лишь наш порт. Он не овеян святостью старины, как сам
город.
— А ты была на Акрополе? — грозно спросил Лукиан.
— Пока еще нет. Мать обещала сводить меня туда. Да
ей все некогда. Я думаю, ей просто не хочется тащиться
вверх по всем этим ступенькам.
— Нет, ты непременно поднимись на Акрополь, —
потребовал Алексид. — Во всей Греции нет храма, равного
Парфенону.
— А внутри него, — добавил Лукиан, — стоит статуя
Афины, еще выше, чем бронзовая снаружи...
— В тридцать локтей! — подтвердил Алексид.
— Одежда на ней из чистого золота...
— А руки и лицо выложены пластинками из слоновой
кости...
— Я очень хочу ее посмотреть, — заверила их Корин-
на. — И я там побываю, даже если мать так и не
выберется туда со мной. Но Афины я ненавижу и еще по
одной причине...
— По какой же? — спросил Алексид, готовясь
защищать свой любимый город.
— У девушек здесь нет никакой свободы.
— Свободы? — возмущенно повторил Лукиан. — У
девушек?!
— А что тут такого? — спокойно возразила Коринна. —
В других греческих городах девушкам живется куда
веселее. Они принимают участие в состязаниях...
— Ты что же, стоишь за спартанцев? — спросил Лукиан.
Она бросила на него презрительный взгляд.
— По-твоему, только спартанские девушки
состязаются в ловкости? Аргивянкам это тоже разрешено, а на
Хиосе они даже занимаются борьбой...
— Неужели ты тоже хочешь бороться? — спросил
Алексид, с насмешливым недоумением поднимая брови.
Он представил себе, как тоненькая Коринна схватилась с
мускулистой соперницей.
423
— Нет, не хочу. Да и не в атлетических состязаниях
тут дело. В других городах женщин не держат под замком.
Они принимают участие во всем, даже пишут стихи, если
им хочется, и мужчины разговаривают с ними как с
равными, а не так, словно они и не люди вовсе!
Лукиан презрительно сморщил свой красивый нос.
— Такие женщины есть и в Афинах, — сказал он. —
Но только не в порядочных семьях. И не в афинских, а в
метекских. Ни один афинянин не может взять себе такую
жену, даже если бы и захотел, — закон запрещает нам
жениться на чужестранках. Мой отец говорит...
— Да, кстати, об отцдх, — перебил Алексид, которому
вовсе не были интересны бесконечные поучения отца Лукиа-
на, потому что он не раз слышал то же самое от своего. —
А как твой отец смотрит на то, что ты одна бродишь по
лесам? Если бы моя сестра выкинула такую штуку...
— У меня нет отца. Он, кажется, умер, когда я была
совсем маленькой. Мать содержит харчевню — она
повариха, каких поискать. Мы снимаем харчевню совсем
рядом с рыночной площадью, как раз там, где улица
поворачивает к Акрополю.
— А, знаю. Я живу поблизости.
Наступило неловкое молчание. Конечно, они сразу
поняли, что Коринна не благовоспитанная девушка из
почтенной афинской семьи. Но дочка содержательницы
харчевни — это было уж слишком! Ни один приличный человек
не позволит себе даже зайти в харчевню. А жить в
харчевне, быть дочерью женщины, которая там стряпает!..
Лукиан снова поморщился и ничего не сказал.
— Мне там не очень нравится, — откровенно сказала
Коринна, — и, когда могу, я убегаю, чтобы побродить на
воле. Мать не обращает на это внимания. Иногда, правда,
она спохватывается и начинает меня пилить, но обычно ей
не до того. Я часто сюда прихожу. У меня тут есть
тайник. Хотите посмотреть?
— Конечно, — ответил Алексид.
— Тогда дайте торжественную клятву: поклянитесь
Землей и Океаном, что никому не расскажете.
Они поклялись. Судя по лицу Лукиана, Коринна могла
бы и не требовать от него клятвы. У него и так не было
ни малейшего желания рассказывать кому-нибудь, что он
познакомился с дочерью содержательницы харчевни.
424
Коринна повернулась и, взбежав по наклонной скале,
исчезла в чаще. Исчезла, словно ее тут и не было. Ее
зеленый хитон слился с листвой, и разве можно было
различить, где мелькают ее лицо и руки, а где пляшут
солнечные зайчики?
— Сюда! — крикнула она.
Они последовали за ней в заросли.
— Идите же! — вновь позвала Коринна, когда они в
нерешительности остановились.
И вот, перебравшись через невысокий гребень, они
оказались в небольшой круглой впадине. Алексид сразу понял,
что она создана не природой. Эту впадину в каменистом
склоне сделали люди, но так давно, что она уже вся густо
поросла кустами. Это была старая каменоломня. Под
тонким слоем красной глинистой почвы просвечивал мрамор —
лиловатый мрамор, такой же, как на холме Акрополя,
мрамор, благодаря которому Афины получили свое самое
прекрасное прозвище — "Город в фиалковом венце".
Коринна повела их дальше по дну каменоломни, через
море цветущей сирени и олеандров, которые вот-вот
должны были покрыться белыми, розовыми и красными
цветами. По уступам утеса сбегал сверкающий ручеек. И вдруг
Коринна снова исчезла. Они сделали еще несколько шагов,
раздвигая ветки и осматриваясь. Ясные, холодные и
насмешливые переливы флейты заставили их обернуться и
взглянуть вверх, на каменный обрыв.
— Сюда! — раздался голос Коринны. — Ногу надо
поставить вот сюда, на развилку. Это просто, как по лесенке!
Даже Лукиан, который влез последним, должен был
признать, что ее убежище — настоящий тайник. Это была
расселина на высоте человеческого роста, совершенно
скрытая верхушкой сиреневого куста. Стоя там плечом к
плечу и стараясь отдышаться, они вдруг увидели в просветах
между пышными кистями сирени зеленую равнину, белый
город и море вдалеке.
— Тесновато, конечно, — сказала Коринна, — но ведь
раньше меня тут никто не навещал. — Она отступила в
глубину расселины. — Дальше становится просторнее. Там
настоящая пещера.
— Теперь я понимаю, — с восхищением сказал
Алексид, — почему ты была так уверена, что легко
спрячешься от нас. Тут мы тебя ни за что не отыскали бы.
425
— Пещера как будто длинная, — сказал Лукиан. —
Надо будет прийти сюда с факелами и посмотреть, куда она
ведет.
— Не советую, — заметила Коринна. — У меня здесь
есть светильник — только масло я уже, кажется, все
сожгла. Один раз я зашла довольно далеко, но это опасно.
— Опасно?
— В одном месте потолок обрушился. А вдруг, когда
вы туда заберетесь, случится новый обвал? Мне это было
бы неприятно.
— Да и Лукиану тоже, — заметил Алексид. — А мне
хорошо и в этой привратницкой. Тут совсем не душно, а вид
на море, хотя и несколько ограниченный, очарователен.
Она рассмеялась своим почти беззвучным смехом:
— Ты забавно говоришь, Алексид! Мне это нравится.
— Если хочешь, я научу тебя говорить так же
забавно, — предложил он невозмутимо, — То есть на хорошем
аттическом наречии: ведь наречие Афин —.самое чистое в
Греции.
Она мотнула головой.
— А на что мне это? Вот если бы ты научил меня
получше читать и писать...
— А разве ты не умеешь? Ну конечно, раз твоя мать...
э... всегда так занята...
— Я многому сама научилась. Я знаю буквы и могу
вести счета, но мне бы хотелось уметь читать по-настоящему.
— Я тебя научу, — обещал он. — Но только с одним
условием.
— С каким же? — Доверчивое выражение исчезло из ее
глаз.
— Чтобы ты научила меня играть на флейте.
— Попробую.
— Мне давно этого хочется. У нас, знаешь ли, не
принято играть на флейтах. В театре, конечно, играют, и
музыканты на пирах тоже, но благородным мужам это
занятие не пристало. Флейта слишком уж чувствительна, а
кроме того, надувая щеки, трудно сохранять надлежащее
достоинство...
— Глупость какая! — перебила она.
— Послушай, — вмешался Лукиан, — уже очень
поздно. Нам надо торопиться.
Алексид посмотрел на Коринну:
426
— Ты пойдешь с нами?
— Нет, я еще побуду здесь. Я не хочу возвращаться
домой до ночи. Ты обо мне не беспокойся.
— Хорошо. (Лукиан уже спустился на землю, и Алек-
сид спрыгнул за ним.) Не забудь, что ты обещала научить
меня играть на флейте.
Когда среди удлиняющихся вечерних теней они устало
брели по обсаженной тополями дороге, Лукиан сказал:
— Ты, конечно, пошутил? Было бы неплохо слазить
туда еще раз, если бы знать заранее, что ее там нет, но ведь
ты же не хочешь в самом деле видеться с ней!
— А почему?
— Как "почему", Алексид? Она же чужестранка, живет
в грязной харчевне! Мне она показалась ужасной! Просто
уличная девчонка, и я никак не ждал...
Не ждал Лукиан звонкой пощечины, от которой левая
щека его побагровела. Спустя мгновение друзья до гроба уже
катались в пыли дороги и яростно колотили друг друга.
СКАЧКИ С ФАКЕЛАМИ
— Скажи: "Я очень сожалею"... — Лукиан, еле
переводя дух, уселся на грудь приятеля.
Алексид перестал вырываться. В короткой схватке он
сразу растратил весь свой гнев, и к нему вернулось
обычное чувство юмора.
— Я очень-очень сожалею, — с трудом выговорил он, —
что ты сидишь у меня на животе.
— Нет, ты скажи, что сожалеешь, что ударил меня.
— Ну, поскольку это и есть причина, которая привела
к вышеупомянутому следствию, — пустился в рассуждения
Алексид, — то раз я сожалею о следствии, значит, из
этого логически вытекает, что я...
— Да замолчи же! Ты, наверно, будешь
философствовать, даже если тебя повесят за ноги. Ты сожалеешь, что
ударил меня по лицу? Да или нет?
— Ну, с одной стороны...
— Да или нет? — настаивал Лукиан. — А я пока
поупражняюсь к скачкам с факелами.
Оба они через несколько дней должны были
участвовать в конных состязаниях юношей. Упражнения Лукиана
428
заключались в том, что он принялся подпрыгивать на
животе приятеля, всем весом придавливая его к земле.
— Да-а! — пропыхтел Алексид после третьего скачка.
Лукиан отпустил его, и оба поднялись на ноги.
— Однако, — тут же продолжал Алексид, — отсюда,
мой друг, следует только одно: ты сильнее меня, а это мы
знали и раньше.
Лукиан теперь благоразумно избегал упоминаний о Ко-
ринне, но, когда они снова побрели по дороге навстречу
закату, он высказал все, что думал о женщинах.
— Конечно, мужчине рано или поздно следует
обзавестись семьей, но вообще-то от женщин нет никакого
толку. Мой отец говорит, что жениться следует в тридцать лет,
а до тех пор у человека хватает и других занятий —
атлетические состязания, военная служба, друзья. Отец
говорит, что дружба — самое главное в жизни. А с
женщинами дружить нельзя, — они не умеют разговаривать об
отвлеченных предметах...
Вспомнив Коринну, Алексид усомнился в этом.
— Ну конечно, — пробормотал он.
Но Лукиан не заметил легкой иронии в его тоне. Он
продолжал рассуждать, а Алексид продолжал
отделываться ничего не значащими ответами, и так они продолжали
путь. Солнце, почти касавшееся земли, расцветило золотом
и багрянцем всю западную часть небосклона, и на этом
пылающем фоне над крышами города лиловой тенью
вздымался Акрополь.
Возможно, отец Лукиана был прав, утверждая, что
дружба — самое главное в жизни. Большинство афинян — и
мужчин и юношей — согласились бы с ним. Но дружбе
Лукиана с Алексидом, хотя они не признались бы в этом
даже самим себе, был нанесен тяжелый удар.
Скачки с факелами не поправили дела. Такие скачки с
подставами для молодых наездников устраивались впервые.
Состязание в беге с передачей факела было старинным
обычаем. Но всего два года назад кому-то пришло в голову
учредить такие же конные состязания. После этого юноши,
тоже состязавшиеся в беге с факелом, потребовали,
чтобы им и тут было дозволено подражать мужчинам.
Скачка юношей с факелами занимала главное место в
вечерних состязаниях в день Посейдоний. Ведь Посейдон
был не только повелителем моря — это он создал лошадь
и подарил ее людям, это он научил людей пользоваться уз-
429
дечкой и в неведомом году далекой старины учредил
первые конные состязания.
Как обычно, состязалось десять партий — по одной от
каждой филы1 . Лукиан и Алексид выступали за Леонти-
ду. Участие в этих состязаниях было не такой уж честью,
они устраивались впервые, и молодых наездников
отбирали не по их личным достоинствам. Собственно говоря,
участвовать в нем мог всякий, кому удалось раздобыть коня, —
впрочем, это было делом нелегким, потому что лошадей в
Афинах было мало. Однако богатый дядя Лукиана одолжил
ему двух скакунов, и поэтому юноша без всякого труда
добился, чтобы его и Алексида включили в число восьми
наездников, которым предстояло везти факел Леонтиды.
— Молния получила свою кличку заслуженно, —
сказал Лукиан Алексиду. — Она удивительно резва. Дядя
привез ее из Фессалии, а там знают толк в лошадях. Но и
Звезда тоже очень хороша.
— Когда мы их пробовали, мне Звезда понравилась.
— Я, правда, хотел, чтобы ты взял Молнию. Но дядя
говорит, что раз я к ней привык... да и к тому же я
тяжелее тебя...
— Ну конечно. Он и так очень добр, что доверил мне
Звезду.
— Я знал, что ты не обидишься. Послушай, Алексид,
быстро передать факел не так-то легко. Нам следовало бы
поупражняться. Мы можем брать лошадей каждый вечер —
как ты думаешь?
Лукиан так загорелся этой мыслью, что Алексид не мог
сказать "нет". Впрочем, эти упражнения прохладными
вечерами были даже приятны. Ему нравился короткий
бешеный галоп до места передачи факела, и тот исполненный
волнения миг, когда они скакали колено к колену и
передавали друг другу палку, изображающую факел. Но на это
требовалось время, а он был теперь очень занят.
Каждое утро он проводил несколько часов у софиста
Милона, занимавшегося с ним ораторским искусством,
иначе говоря — грамматикой, логикой, постановкой голоса и
жестикуляцией. Он должен был заучивать множество
полезных цитат и остроумных оборотов речи, а также
упражняться в подборе доводов, которые выглядели бы
убедительными независимо от того, соответствуют они истине или
1 Филы — десять округов, на которые делилось Афинское государство.
430
нет. "Всегда держите в уме, с кем вы разговариваете, — с
хитрой улыбкой наставлял Милон своих учеников. —
Богачам говорите одно, а беднякам — другое. Доводы,
которые скорее всего убедят молодежь, не стоит пускать в ход
для убеждения стариков. И наоборот". Алексид любил
искусство спора, но то, чему учил его Милон, казалось ему
фальшивым и нечестным. К тому же он вовсе не мечтал
блистать на ораторском поприще. Тем не менее он
продолжал послушно посещать уроки Милона и готовить
задаваемые ему упражнения. А так как остальную часть дня ему
приходилось проводить в гимнасии или в палестре1, у него
совсем не оставалось свободного времени для себя —
чтобы читать или записывать слагавшиеся в голове стихи. И
вот, возвращаясь домой после их третьей поездки, он
сказал:
— Лукиан, я хотел бы пропустить завтрашний вечер.
— Но ведь до скачек осталось всего три дня!
— Я знаю. Но достаточно будет поупражняться еще
только один раз.
— Глупо погубить корабль, пожалев на него смолу! —
проворчал Лукиан. — Что ни говори, а совершенство
достигается упражнением.
— Излишек упражнений тоже может испортить дело.
Они надоедают.
— Ах, тебе надоело! Мне очень жаль, конечно.
— Я говорил о лошадях. — Алексид действительно
думал о них. — Они уже все отлично поняли, и, по-моему,
для них только вредно снова и снова повторять одно и то
же. Мне-то самому это очень нравится, но просто я
должен найти время и для других дел.
— Каких же это дел? — Лукиан говорил с таким
раздражением, что Алексид заколебался, прежде чем ему
ответить, но Лукиан истолковал его молчание по-своему. —
Можешь ничего не объяснять! Догадаться нетрудно: та
девчонка, которую мы встретили...
Алексид удивленно посмотрел, на него. Да, конечно, он
еще не забыл Коринны. И не раз думал о ней. Она ему
понравилась, ему было с ней весело, да и ее необычные
взгляды заинтересовали его. Он даже посматривал, не
увидит ли ее, когда проходил мимо харчевни ее матери или
ближайшего общественного источника, у которого всегда
1 Палестра — место для занятий гимнастикой и борьбой.
431
толпились женщины с соседних улиц, — конечно, те, в чьих
домах не было собственного колодца. Но он с ней так и
не встретился, да и не искал этой встречи. Он и без того
был слишком занят.
Если бы не злые слова Лукиана, он сказал бы ему всю
правду: ему удалось достать трагедию "Медея", и теперь
он хотел скорее прочесть заветный свиток1 в каком-нибудь
спокойном уголке, где ему никто не помешает, а потом
попробовать самому написать строфы хора в манере Еврипи-
да. В этом последнем он решился бы признаться только
своему лучшему другу. Однако теперь он заметил
недоверие в глазах Лукиана, и гордость помешала сказать об этом
даже ему.
— Неужели я не могу даже час провести как хочу, не
докладывая тебе?
— О, сколько угодно! Прощай. Увидимся на празднике.
Они больше не выезжали по вечерам, и, хотя
встречались каждый день в гимнасии, Лукиан делал вид, будто не
замечает Алексида, и весело болтал с другими юношами.
У Алексида оказалось три свободных вечера, но они
принесли меньше радости, чем он ожидал. Он два раза
прочел "Медею" и выучил наизусть особо понравившиеся
ему места, а потом начал писать собственную трагедию
про Патрокла и Ахилла. Он изливал в ней свои
оскорбленные чувства, и это помогло, но не очень. И вот настал
вечер скачек.
Путь, на котором располагались подставы, имел
приблизительно форму ромба. Он начинался от маленького
святилища Посейдона на берегу Фалерского залива, далее
следовал почти прямо на север до Длинных Стен, соединявших
Афины с Пиреем, а оттуда уходил на запад, к Итонским
воротам, где поворачивал опять на юг. Там Алексид — пятая
подстава — должен был принять факел, отвезти его на
шесть стадиев по Фалерской дороге и передать Лукиану,
после которого еще двое юношей, постарше, доставят его к
святилищу морского бога. Скачки были назначены на час
заката, когда факелы будут уже видны, но сумерки не
настолько сгустятся, чтобы сделать опасной быструю езду. Самые
заинтересованные зрители — любители лошадей,
родственники и друзья участников — расположились вдоль наме-
1 Свиток — древнегреческие произведения писались на длинной и
узкой (20 — 30 см) полосе папируса. К ней с двух концов прикрепляли
палочки и читали, перематывая полосу с одной палочки на другую.
432
ченного пути и возле святилища, чтобы видеть начало и
конец скачек. Однако большинство предпочло не ходить
дальше ближайшей к городу подставы, и перед закатом у
Итонских ворот собралась большая толпа. Зрители влезали на
стену, откуда можно было увидеть вдалеке, среди кипарисов,
крышу святилища, а некоторые выходили на дорогу, чтобы
получше разглядеть лошадей.
Алексид стоял рядом со Звездой и, поглаживая
светлое пятнышко на ее каштановой морде, горько сетовал про
себя, что ему досталась именно эта подстава, где
придется брать факел под взыскательными взглядами чуть ли не
всего города. Хорошо еще, что тут нет отца! Впрочем,
разница не велика. Они с Теоном хотели посмотреть и Луки-
ана и поэтому отправились к следующей подставе. Но все
остальные родные и знакомые собрались у Итонских ворот.
Был тут и Гиппий. Ничего удивительного — где
скачки, там и он. Молодой эвпатрид с видом знатока
прохаживался среди участников состязания, иногда поднимая ногу
лошади, чтобы осмотреть копыто, иногда задавая вопрос о
родословной того или иного скакуна.
Алексид заметил, что Гиппий направляется в его
сторону, и весь подобрался. Гиппий, щеголявший в этот
вечер в серебристо-сером плаще и алых сапожках, подошел
к кобыле с другого бока и уверенно, словно хозяин,
потрепал ее по крупу холеной белой рукой.
Правда ли, что лошади умеют разбираться в людях? Лу-
киан, во всяком случае, любит это повторять. Но тогда Звезде
следовало бы прижать уши и оскалить зубы. Ничего
подобного! Наоборот, ей понравилась эта ласка, и она тихонько
потерлась носом о руку того, кто ее гладил. Нет, лошади —
плохие судьи человеческих характеров, подумал Алексид.
— Недурная кобылка... — снисходительно начал
Гиппий и умолк, узнав юношу, державшего ее уздечку.
Алексид, в свою очередь, смерил его надменным
взглядом.
— Просто удивительно, кому теперь позволяется
выступать за филы! — с наглой усмешкой пробормотал Гиппий
и отошел.
Алексид отлично понял, что он имел в виду. Самые
богатые граждане отбывали военную службу в коннице,
поставляя для этого собственных лошадей. Во время
публичных церемоний они занимали почетные места и считали
себя избранным сословием. Если бы дать волю Гиппию, в
433
скачках с факелами участвовали бы только сыновья этих
богачей.
Солнце уже спряталось за темный кряж Эгалея. В
небе угасали пурпурные и золотые краски. Оно медленно
становилось бледно-зеленым, и вот уже в вышине замерцала
первая звездочка. Скоро труба подаст сигнал к началу
скачек. Он не должен думать ни о чем другом. Надо забыть
Гиппия и его презрительные насмешки. И надо проехать
как можно лучше, чтобы показать Гиппию, что хорошим
наездником человека делают не предки и не богатство.
— Ну, милая, пора!.. Тише, тише, милая! — ласково
шепнул он кобыле.
Кто-то подставил ему колено, и вот он уже сидит на
квадратной попоне, заменяющей седло, и легонько постукивает
пятками по бокам Звезды, чтобы она вышла на дорогу.
— Расступитесь! Расступитесь! — кричали распорядители.
Но никто не обращал на них внимания. Вот когда вдали
раздастся трубный сигнал и в сумерках замелькают
огненные пятна, тогда и наступит время очистить дорогу. И
десять растерянных юношей, почти мальчиков, сидели на
своих лошадях в самой гуще шумной, колышущейся толпы.
Вдруг Алексид совсем рядом опять увидел Гиппия,
вернее — его спину. Он что-то говорил, но не визгливо и
напыщенно, как обычно, а вполголоса. Если всегда он
говорил так, словно ему было безразлично, что его слышит весь
мир, или, вернее, так, словно хотел облагодетельствовать
своими речами как можно больше слушателей, то теперь
он почти шептал, и Алексиду удалось уловить только один
загадочный обрывок фразы:
— ...чрезвычайно опасно!
Сначала Алексид решил было, что Гиппий говорит о
скачках. Кое-кто из отцов высказывал мнение, что
неопытным юнцам не следовало бы позволять мчаться в темноте
по полям сломя голову. Но ведь у Гиппия нет сына. Или,
может быть, он одолжил другу ценную лошадь, а теперь
боится за нее? Однако ответ человека, к которому
обращался молодой щеголь, показал Алексиду, что и это его
предположение неверно — в подобных случаях
приходится пренебрегать опасностью. Да в сумерках она не так уж
велика, а с каждым мгновением становится все темнее.
Как же так — чем темнее, тем безопаснее? Алексид
навострил уши, но больше ему ничего не удалось услышать.
434
Какие странные слова! И еще одна вещь, не менее
странная: на собеседнике Гиппия была широкополая
пастушеская шляпа, надвинутая на самые глаза. Какой
благородный афинянин надел бы такую шляпу? Да и любую
шляпу, если день погожий, а он не отправляется в дальнюю
поездку. Однако речь незнакомца выдавала в нем
человека образованного, да и Гиппий никогда не стал бы
обходиться так почтительно с простым пастухом.
Может быть, они задумали каким-то образом помешать
честной борьбе на скачках?
Но Алексид тут же отбросил эту мысль. Гиппий,
конечно, не побрезгует никаким обманом, лишь бы выиграть
состязание, и, возможно, он захочет, чтобы скачку
выиграла его фила, хотя этим состязаниям никто не придает
большого значения. Но, когда состязаются все десять фил
и бежит восемьдесят лошадей, каким способом, пусть
даже самым подлым, может он обеспечить победу своим? Тем
не менее Алексид решил после начала скачек не спускать
глаз с Гиппия и его собеседника.
Тут над темными полями пронесся далекий звук
трубы. Толпа зашумела.
— С дороги! — кричали распорядители, размахивая
жезлами.
— Вон, вон они! — раздавались голоса зрителей,
примостившихся на стенах. — Глядите, факелы!
Вскоре даже те, кто стоял у дороги, увидели, как в
темной дали замелькали огненные точки. То и дело
какая-нибудь из них на мгновение исчезала за купой деревьев или
в ложбине, порой две-три сливались в одну пылающую
комету, тут же вновь распадавшуюся, когда всадники
вырывались вперед или, наоборот, отставали, а иногда вдруг
огненное пятнышко замедляло движение, и наблюдатели
догадывались, что факел переходит из рук в руки на подставе.
— Отойдите! — упрашивали распорядители. — Дайте
же им место, очистите дорогу!
Передние всадники уже миновали первый поворот и
теперь скакали прямо к Итонским воротам. Факелы
становились все больше и ярче, но они сливались в один
пляшущий клубок, и невозможно было различить, кто
впереди. Теперь наконец на дороге остались только участники
состязания, а толпа расположилась за канавой — смутно
белеющая масса лиц и одежд.
— Вот они! — выкрикнул кто-то на стене.
435
Наступила тишина — все затаив дыхание ждали, что
прокричит головной всадник. Уже был слышен
нарастающий стук копыт. И тут раздался крик — торжествующий
крик юноши, ведущего скачку:
— Акамантида!
Толпа зашумела — одни досадовали, другие радовались,
а следующий всадник филы Акамантиды выехал вперед,
готовясь принять факел. Остальные юноши застыли, полные
нетерпения и беспокойства. Мучительно было ждать,
какое название будет выкрикнуто вторым, и гнать от себя
опасение, что шум толпы заглушит голос товарища.
Вот и первый всадник; летящая галопом лошадь кажется
черной тенью, но голова и плечи юноши озарены золотым
светом факела, который он держит в высоко поднятой
левой руке. Последнюю сотню шагов ему пришлось скакать
под самой городской стеной, где зрители отчаянно вопили
и размахивали руками. На время даже самые почтенные
мужи забыли о необходимости соблюдать достоинство.
— Сюда! — закричал его товарищ. — Акамантида тут!
Когда факел переходил из одной руки в другую, его
пляшущее пламя на мгновение озарило толпу у ворот. Красные
отблески легли на шелковистую шерсть холеных коней, на
вскинутые руки, вырвали из тьмы сверкающие волнением
глаза и разинутые рты, издававшие ликующие вопли.
436
И в этот миг Алексид успел разглядеть незнакомца,
стоявшего рядом с Гиппием. У него было необычное, легко
запоминающееся лицо с крючковатым носом. Даже борода
не могла скрыть властный, тяжелый подбородок, высокие
скулы...
Незнакомец быстро наклонил голову, и тень от
широких полей пастушеской шляпы скрыла его лицо, но
озаривший все это факел уже плясал, удаляясь по Фалерской
дороге. Вздрогнув, Алексид опомнился: к нему неслись
следующие двое всадников, и он в смятении сообразил, что
один из них выкрикивает название его филы. Он толкнул
Звезду коленями и выдвинулся вперед:
— Леонтида тут!
Однако ближайший всадник, на два корпуса
опередивший своего соперника, был из филы Пандиониды. Он
вылетел из мрака на гнедом жеребце, четко передал факел
и, резко повернув, осадил коня. К этому времени Алексид
уже схватил свой факел, и Звезда помчалась вперед по
дороге. Сзади замирал шум толпы.
Не так-то просто лететь в темноте отчаянным галопом,
сжимая в вытянутой руке брызжущий смолой факел,
когда вместо седла под тобой — кусок попоны, а на лошади —
никакой сбруи, кроме уздечки. Правда, факел его
соперника, скачущего впереди на серой кобыле, освещает все
437
выбоины и ямы под ногами Звезды. Но что толку? Надо
обогнать соперника, иначе Лукиан ему никогда не простит.
— Вперед, Звезда, вперед! — шепотом подбадривал он
свою лошадь.
Подчиняясь прикосновению его колен, она ускорила бег.
Серебристый хвост струился уже прямо перед ним. Он взял
левее и стал обходить серую кобылу. Вот уже лошади идут
голова в голову. Факелы рассыпают искры, и из-под копыт
вместе с градом мелких камешков тоже летят искры. Вдруг
убегающие назад черные стволы высоких тополей словно
покачнулись — поворот, возникающие из тьмы и вновь
пропадающие лица, крики, обрывающиеся на полуслове...
— Пандионида!
— Леонтида!
Внезапно Алексид понял, что его соперник тоже
кричит, отвечая толпе. Впереди чернеет людская стена — да
ведь это же подстава! Он еле-еле успел выкрикнуть
название своей филы, Звезда сделала отчаянный рывок и
опередила серую кобылу. Только тут Алексид заметил, что они
почти нагнали первого всадника — тот только еще
передавал факел в тридцати шагах от него.
— Леонтида тут! — Лукиан чуть не визжал от
нетерпения.
Алексид поравнялся с ним, почти на два корпуса
опередив соперника, но передал факел так неловко, что это
небольшое преимущество было потеряно. Когда Лукиан
поскакал, он уже отставал от Пандиониды на корпус.
— Не повезло! — сказал Леонт, хватая Звезду за
уздечку и помогая сыну остановить лошадь.
— Это я виноват! — воскликнул Алексид. — А мы еще
столько упражнялись! Но я до того волновался...
Из темноты вышел раб. Алексид узнал в нем фессалий-
ского конюха из усадьбы дяди Лукиана. Он спрыгнул со
Звезды, ласково похлопал ее по холке и передал уздечку
рабу. Он решил поскорее отыскать Лукиана и извиниться
за то, что так неудачно передал ему факел. Как только
десятый всадник проскакал мимо, Алексид зашагал вслед за
ним по темной дороге. Вскоре он услышал крики —
зрители сообщали друг другу результаты состязаний.
Пандионида достигла святилища первой, а Леонтида — почти вслед
за ней. В темноте навстречу Алексиду шли зрители,
возвращавшиеся в город. Он услышал знакомые голоса и
спросил, где Лукиан. Кто-то смущенно ответил:
438
— Кажется, он пошел другой дорогой.
— Ах, вот как! Спасибо, — ответил Алексид.
Он продолжал брести к Фалеру. Теперь это уже не
имело смысла, но ему не хотелось возвращаться вместе с
товарищами. Нет, лучше идти одному в теплом бархатном
мраке и слушать, как по обеим сторонам дороги весело
трещат кузнечики. "Впрочем, мне-то сейчас не до веселья", —
подумал он тоскливо.
СТАТУЯ В МАСТЕРСКОЙ ВАЯТЕЛЯ
Алексид решил, что сразу же, с утра, повидает Лукиа-
на и извинится за свою неуклюжесть. Жаль, конечно, что
его друг принимает подобные мелочи близко к сердцу, но, с
другой стороны, именно такие люди побеждают на войне и
совершают иные славные деяния. Он подождал на улице,
пока тот не вышел из дому, направляясь на занятия. Лукиан
учился математике (никто не понимал зачем) у старого
ученого, недавно приехавшего в Афины из Малой Азии.
— Послушай, — с запинкой начал Алексид, — мне
очень жаль, что вчера так получилось.
— Пустяки, — холодно ответил Лукиан.
— Я разволновался и...
— Забудь об этом. Перед такими состязаниями нужно
много упражняться. Если в будущем году фила опять
выставит меня, я буду упражняться куда больше. Мой отец
правильно говорит: "Если уж берешься за дело, так делай
его хорошо".
— Да, конечно.
Алексид хотел помириться с другом и поэтому не
произнес язвительных слов, которые уже вертелись у него на
языке: раз отец Лукиана так любит пословицы, почему же
он забывает излюбленную афинскую поговорку "Во всем
нужна мера"?
— Я хочу сказать вот что, — продолжал Лукиан. —
Каждый имеет право выбирать, что ему нравится. Либо
человек относится к состязаниям серьезно, либо нет. А тот,
кто предпочитает бегать за девчонками...
— Если ты это обо мне, то...
— В отличие от тебя, я не воображаю себя умником,
но все-таки я не совсем дурак.
439
— Уверяю тебя...
— Лучше не стоит. Можешь не рассказывать мне о
своих делах, я этого теперь и не жду, но лгать мне тоже
незачем. Видишь ли, они меня просто не интересуют.
И Лукиан ушел, торопясь скорее погрузиться в дебри
математики, а Алексид остался стоять на углу, багровый
от злости.
Если с человеком обходятся несправедливо, он
начинает искать сочувствия. Много лет они с Лукианом всегда
были готовы поддержать друг друга в трудную минуту.
Когда с одним из них случалась неприятность, то оба
ворчали где-нибудь в углу: "Это нечестно... Просто подлость!
Он к тебе придирается..." Сколько у них было таких
разговоров! И теперь Алексид растерялся, не зная, кому
излить свою обиду.
Вдруг его осенило: Коринна... С ней как будто можно
разговаривать, и она умеет слушать. А кроме того, он
поквитается с Лукианом. Раз он вбил себе в голову, что
Алексид с ней видится, пусть так и будет.
Конечно, надо бы пойти к Милону и выслушать
очередную порцию наставлений в ораторском искусстве...
Алексид сердито фыркнул. Если уж он не сумел доказать
своему лучшему другу, что говорит правду, то разве сумеет он
когда-нибудь найти слова, которые убедили бы Народное
собрание или присяжных? Другие ученики иногда
пропускают занятия. Сегодня он последует их примеру.
Однако теперь, когда оставалось только найти Корин-
ну, им овладела робость. Он несколько раз прошел мимо
знакомой харчевни, надеясь, что Коринна увидит его из
окна. Харчевня, выкрашенная розовой и голубой краской,
казалась чистенькой и нарядной. Алексид вспомнил
разговоры о том, что в харчевнях всегда полно клопов, и теперь
усомнился в этом. Он отправился к общественному
источнику и долго слонялся около него, надеясь, что Коринна
придет за водой. Но в конце концов он не выдержал
шуточек и хихиканья женщин и девушек, которые наполняли
кувшины под струей, вырывающейся из львиной пасти.
Когда его в третий раз спросили, кого он тут поджидает, он
решил, что лучше будет, если он соберется с духом и
прямо спросит Коринну в харчевне.
Для этого и вправду требовалось собраться с духом.
Приличные люди редко заходили в харчевни. Во время
дальних поездок они предпочитали останавливаться у знакомых.
440
Если отец узнает, что он был в харчевне, ему не избежать
хорошей нахлобучки. Размышляя об этом, Алексид не
подумал, что его приход может поставить в неловкое
положение и Коринну.
Испуганно оглядевшись по сторонам, он юркнул в
открытую дверь и оказался во внутреннем дворике. Там
пахло чем-то очень вкусным. Вот такие ароматы, подумал
он, наверно, вдыхают олимпийские боги в ожидании
пиршества.
В дверях кухни появилась великанша с большой
ложкой в руке. Она была и высока и невероятно толста.
Пылающее от кухонного жара лицо казалось очень
добродушным, а заплывшие глазки посмеивались.
— Что скажешь, душечка? — спросила она голосом,
который, наверно, разом усмирил бы бунт на корабле.
— Я ищу Коринну, — запинаясь, пробормотал он.
— Я сама только это и делаю все дни напролет. За
девочкой не уследишь — то она тут, то там, что твоя
ящерица. Правда, сегодня я знаю, что она пошла к Кефалу.
— К ваятелю?
— Ну да, к нему. На улицу Каменщиков. Погоди-ка, —
сказала она, исчезая в кухне и возвращаясь с лепешкой. —
На-ка, попробуй, душечка.
— Спасибо.
Лепешка была прямо с жару — медовая лепешка с
изюмом и орехами. Уписывая ее за обе щеки, он спросил:
— Скажи, пожалуйста, а ты мать Коринны?
— А то кто же? Звать меня Горго. И как ты
догадался? — Она залилась кудахтающим смехом. — Дочка вся
в меня, а?
— Нет, что ты! — сказал Алексид с невежливой
поспешностью: между тоненькой девушкой и этой веселой
толстухой не было ни малейшего сходства. — Я из-за
лепешки. Коринна говорила, что ты удивительно хорошо
стряпаешь.
Горго, очень довольная, закивала седой головой.
— Меня называли лучшей поварихой в Сиракузах.
А там это дело понимают, уж поверь мне. Тут у вас и
есть-то толком не умеют... Хочешь еще?
— Нет, спасибо, мне пора идти.
— Ну, как хочешь. — Горго задержалась на пороге
кухни. — Есть хорошая старая поговорка: "Не задавай
вопросов, и ты не услышишь лжи". Вот и я так думаю. — И,
снова весело закудахтав, она исчезла в полумраке.
441
"Интересно, употребляет ли эту поговорку отец Луки-
ана?" — подумал Алексид и решил, что если и
употребляет, то, уж во всяком случае, не смеется при этом таким
плутовским смехом и не подмигивает.
Он перешел рыночную площадь, это удивительное
место, где (если у тебя, конечно, достаточно денег) можно
купить все, что угодно, — от рыбы до флейты или даже
рабыни-флейтистки. Хотя кому нужна собственная
флейтистка? Для пира ее можно нанять вместе с танцовщицами.
Впрочем, Алексида интересовали не товары, ему просто
нравилось деловое и веселое оживление рынка. Ему нравилось
смотреть, как торговцы рыбой шлепают о камень
сверкающих рыб и как покупатели, толкая друг друга, бегут на звон
колокола, возвещающего, что привезли свежий улов. Он с
наслаждением прислушивался к спорам между торговками
хлебом, которые то ругали друг друга на чем свет стоит,
то начинали от души хохотать. Он любовался товаром
зеленщиков: большими золотыми тыквами, пупырчатыми
зелеными огурцами, морковью с перистыми хвостиками,
лиловыми виноградными гроздьями, горами глянцевитых яблок
и цветами — лилиями, розами, фиалками, нарциссами или
гиацинтами, в зависимости от времени года. Алексид
любил рынок, потому что он любил жизнь во всей ее полноте.
Но в это утро, опасаясь встречи с отцом или с каким-
нибудь знакомым, который мог бы сообщить отцу, что он
не пошел к Милону, Алексид постарался пройти через
рынок как можно быстрее, держась в тени портика1 ,
который окружал площадь с четырех сторон. Вскоре он уже
стучался в дверь ваятеля.
— Тут к вам должна была прийти девушка. Она еще
здесь? — спросил он раба-привратника. — Ее зовут Корин-
на. Она дочь Горго, из харчевни...
— Ты, наверно, говоришь о натурщице, господин? Иди
прямо через дворик. Она с хозяином в мастерской.
Отступать было поздно. А он ведь просто хотел узнать,
здесь ли она, и подождать, пока она освободится. Но раб,
кланяясь, уже ввел его во двор и закрыл входную дверь.
Очевидно, Кефал принимал посетителей даже во время
работы. "Да не съест же он меня, какой он там ни
знаменитый", — сказал себе Алексид. И вот, расправив плечи и
вспомнив, что он сын Леонта, известного атлета и
славного воина, он вошел в мастерскую.
1 Портик — крытая колоннада.
442
Она была очень невелика, и в ней царил величайший
беспорядок — весь пол был усеян осколками мрамора и
растоптанными комьями глины. Кефал работал и с камнем
и с металлом, о чем свидетельствовали стоявшие у стен
неоконченные статуи — одни из мрамора, другие из
бронзы. В эту минуту он лепил. Это был невысокий лысый
человек с седеющей бородой; его мускулистые руки были
обнажены по самые плечи, а удивительные пальцы, казалось,
жили сами по себе и обладали собственным умом — так
уверенно и умело мяли они глину, придавая ей требуемую
форму. Время от времени он останавливался и, наклонив
голову набок, прищурившись, смотрел на девушку,
стоявшую на возвышении.
На ней был короткий хитон с поясом, какие носят
спартанские девушки. Она словно бежала, ее рука сжимала лук,
а голова была откинута, как будто Коринна что-то
высматривала вдали.
— Артемида! — невольно воскликнул Алексид.
Коринна чуть вздрогнула, услышав его голос, но не
обернулась. Она стояла как каменная.
Но Кефал оглянулся.
— Ничего, голубушка,— сказал он тонким щебечущим
голосом. — Отдохни. Долго в таком положении никто не
выстоит. — Наклонив голову к плечу, он прищурился и
поглядел на Алексида. — Ну-ка, повернись боком. Гм!.. Да...
Я, правда, не помню, чтобы я тебя звал. Но ты можешь
пригодиться.
— Пригодиться? — растерянно переспросил Алексид.
— Как натурщик для Пана, если я захочу его изваять.
А ты разве не потому пришел?
— Нет, нет! — Смеясь, Алексид объяснил причину
своего прихода. — Но для меня будет большой честью, если
ты когда-нибудь захочешь сделать мою статую. И мой отец,
я думаю, скажет то же.
— Но это будет не твоя статуя, — поправил его
Кефал. — Так же, как я сейчас леплю не Коринну, а, как ты
отгадал, Артемиду-охотницу. Коринну же я избрал моделью,
так как она больше остальных похожа на то, что мне нужно.
Я это понял, едва увидел ее на улице. Но ты вовсе не
совершенна, голубушка, — добавил он и погрозил пальцем
девушке, которая, посмеиваясь, сидела на возвышении, — а
богиня должна быть совершенной. У тебя не ее подбородок,
444
но это не страшно — я знаю, у какой девушки взять
нужный мне подбородок. А твои уши и вовсе не подходят для
Артемиды. Мне придется взять уши у Лисиллы или у Гилы.
Коринна засмеялась своим беззвучным смехом и
притворилась обиженной:
— Если мое лицо никуда не годится, так почему ты не
попросил кого-нибудь из них позировать для всей статуи?
— Посмотрела бы ты на них, голубушка! Попробовала
бы ты себе представить, как они бегут по горам со сворой
гончих! Нет, несмотря на все твои недостатки, ты именно
то, что мне нужно.
— И на этом спасибо, — с насмешливым смирением
откликнулась она.
— Ну, на сегодня достаточно. Ты, наверно, устала, да
и мне пора на рынок. Да, да, юноша, — продолжал он,
поворачиваясь к Алексиду, который рассматривал статуи у
стен, — это одно из моих лучших творений. Ее должны
были поставить на городской площади, но, как видишь, она
так и стоит в моей мастерской с тех самых пор, как я много
лет назад ее кончил.
— А кого она изображает? — В голосе Алексида было
волнение, но он разглядывал статую, и они не видели
выражения его глаз.
— Эвпатрида Магнета. Его изгнали, как ты, может
быть, помнишь. Говорят, он тайно просил помощи у
спартанцев, чтобы уничтожить демократию и установить
тиранию1 .
— Тиранию? В Афинах?!
— После этого, разумеется, и речи не могло быть о том,
чтобы почтить его статуей. Да и глупо, конечно, — какая
уж там статуя, когда он сам не может сюда носа показать
под страхом смерти.
— Он мне не нравится, — откровенно сказала
Коринна, разглядывая лицо статуи. — А почему ты хранишь ее?
— Никто не знает будущего, голубушка. У Магнета есть
немало могущественных друзей среди эвпатридов. В
политике всякое случается. Сегодня тебя свалили, а завтра,
глядишь, ты опять наверху. Кто знает, Магнет еще может стать
тираном в Афинах, и каково тогда придется мне, если он
узнает, что я выбросил его статую, как негодный мусор?
Алексид вышел из мастерской молча. Он напряженно
1 Тирания — так в Древней Греции называлось правление тирана —
единоличного главы государства.
445
думал. Этот тяжелый подбородок, крючковатый нос и
высокие скулы он видел вчера под полями пастушеской
шляпы. Лицо статуи было лицом человека, который шептался
с Гиппием.
ОВОД
— А я-то думала, что ты пришел поговорить со мной! —
пожаловалась Коринна, но уголки ее рта лукаво
задергались. — Ведь мы уже прошли всю улицу, а ты еще не
сказал ни слова. Куда веселее болтать со статуей!
— Извини. Меня словно оглушило... — Алексид
заколебался, но потом сказал решительно: — Дело вот в чем.
3Tof Машет... ну, тот, который хотел стать тираном...
— Ах, тот! С таким ужасным лицом!
— Да. Так я готов поклясться, что видел его вчера
вечером у Итонских ворот во время скачек.
— Ну и что?
— Да разве ты не понимаешь? Ты ведь слышала, что
говорил Кефал: его же много лет назад изгнали из Афин.
— Разве? — Коринна, очевидно, не слишком
внимательно слушала разговор в мастерской, но тут и она
сообразила, в чем дело, и взволнованно воскликнула: — А! Так что
же он здесь делал?
— Я сам хотел бы это знать, — угрюмо отозвался
Алексид. — Просто не представляю, как мне быть.
— Посоветуйся с отцом.
— Гм!.. А как я объясню ему, зачем мне понадобилось
заходить в мастерскую Кефала?
— Да, отец не похвалит тебя за знакомство со мной.
— Видишь ли...
— Не оправдывайся. Афинским юношам не положено
водиться с девушками. Вот почему я чуть не свалилась с
возвышения, когда ты вошел в мастерскую. По правде
говоря, я очень обрадовалась, услышав твой голос, — я ведь ни
с кем не разговаривала по-настоящему с того дня в
пещере. Да, кстати, как поживает твой красивый друг?
— Он не очень-то мной доволен, — с принужденным
смехом ответил Алексид. — Ему наступили на его
красивую ногу — во всяком случае, так он думает.
— Кто же?
446
— Ты.
— Я?!
— Да. Видишь ли, мы очень давно дружим. Но
только... ну, ты понимаешь... нельзя же все время быть с
человеком, даже если очень его любишь. Иногда хочется
побыть одному... Ты ведь знаешь, как это бывает, правда?
Она кивнула:
— Ты видел, куда я ухожу в таких случаях.
— Так вот, Лукиан этого не понимает. Он не любит
читать и размышлять... всему предпочитает атлетические
упражнения, прогулки, верховую езду и обижается, если
другие хотят чего-то другого.
— Но при чем тут я?
— При том, что стоит мне заняться своими делами, как
он воображает, будто я провожу это время с тобой, будто
мне приятнее быть с тобой, чем с ним...
— Какая глупость! — кротко поддакнула она.
— Чистейшая нелепость! — подхватил Алексид с
большим жаром, хотя и не слишком тактично. — Я поклялся
ему, что не видел тебя с того самого первого дня, но он
так озлился, что не поверил мне. Ну, я и подумал: раз так,
пусть у него будет причина злиться, и...
— И пошел ко мне?
— И пошел к тебе.
Она остановилась как вкопанная и повернулась к
нему. Щеки ее пылали, в серых глазах сверкал гнев.
— Спасибо за откровенность! Я знаю, что афинских
девушек и за людей не считают, но над собой я не
позволю издеваться. Значит, ты пришел, чтобы позлить его, а я
только так... вот так хватают игрушку, чтобы подразнить
ребенка...
— О боги! — воскликнул Алексид с отчаянием. — Я
совсем не потому. Никто не хочет ничего понимать!
— Ну, так постараемся понять друг друга. Если мы
станем друзьями, то потому, что хотим этого, а не потому, что
нам надо кому-то досадить.
— Конечно...
— И ты не станешь задирать нос только потому, что я
девушка и чужестранка, а мать содержит харчевню?
— Нет, — твердо сказал Алексид. — Но и ты должна
дать обещание.
— Какое?
447
— Не ругать Афины. Раз ты живешь в городе,
нечестно говорить о нем плохо.
Коринна, помедлив, кивнула. Румянец гнева сбежал с
ее щек, и, когда она снова посмотрела на Алексида, в ее
взгляде было уважение.
— Обещаю. Человек должен стоять за свой родной
город. Если бы ты за него не заступился, я стала бы думать
о тебе хуже. Я не буду ругать Афины, но, — тут она
беззвучно засмеялась, — можно мне высказывать
справедливые замечания? Ведь в Афинах превыше всего ценят
свободу речи!
— Ты уже начинаешь кое-что понимать! — весело
улыбнулся Алексид. — Поживи тут годик-другой, и ты станешь
настоящей афинянкой.
Но, говоря это, он знал, что его предсказание никогда
не сбудется. Хотя Коринна и родилась в Афинах, она
чужестранка и навсегда ею останется. Метеку почти
невозможно добиться афинского гражданства, а ведь она же еще
и женщина! Закон запрещает ей даже брак с афинским
гражданином.
Они пошли дальше. Прохожие оглядывались на них. На
следующем перекрестке, где было гораздо многолюднее и
уже слышался шум рынка, Коринна сказала:
— Тут нам лучше проститься. Я знаю, тебе неловко
идти со мной...
— Ну, что ты...
— Будем честны — или нашему знакомству конец.
Таковы здешние обычаи. Я не хочу, чтобы из-за меня твой
отец рассердился на тебя. И я не хочу, чтобы ты ссорился
из-за меня с Лукианом. Обещай, что ты с ним
помиришься и не будешь обижаться на него по пустякам.
— Ладно. Но я хочу дружить и с тобой!
— Тогда приходи завтра в пещеру. Сможешь? Я буду
учить тебя играть на флейте.
— Обязательно приду.
На углу они расстались, и Алексид долго смотрел вслед
Коринне. Пусть она чужестранка, пусть ее презирают, но
она шла через толпу гордой походкой, словно богиня
Артемида.
Странная встреча с Магнетом послужила для
Алексида предлогом, чтобы заговорить с Лукианом в гимнасии.
В этот день была очередь Лукиана украшать цветами статую
448
Гермеса, бога — покровителя атлетических состязаний,
которая стояла на портике.
— Помочь тебе? — предложил Алексид.
Лукиан оглянулся.
— А!.. — сказал он удивленно. — Если хочешь. Я думаю
расположить эти гиацинты здесь, а лавры — поверх всего.
— Понимаю... Лукиан, мне надо тебе кое-что рассказать.
— О чем? — подозрительно спросил Лукиан.
— Не о нас с тобой. Это по-настоящему важно. Мне
надо с кем-нибудь посоветоваться, а доверяю я только тебе.
— Ну, так рассказывай. — Лукиан был явно польщен.
Тогда Алексид рассказал ему о незнакомце у городских
ворот и о том, как, попав в мастерскую Кефала, он
случайно узнал, кто это такой, Конечно, ему пришлось
упомянуть Коринну — он не собирался лгать Лукиану, — но он
рассказал всю правду: что до этого дня он с ней не
виделся, но теперь назло Лукиану пошел ее искать. Тот
внимательно его выслушал и сказал:
— Извини меня. Я должен был сразу тебе поверить.
— Забудем об этом! Все сложилось к лучшему: если бы
мы не поссорились, я не узнал бы, что это был Магнет.
Тут к ним, неслышно ступая босыми ногами, подошел
наставник, обучавший их борьбе.
— Довольно возиться с цветами, Лукиан. А ты,
Алексид, почему ты не мечешь копье?
— Сейчас идем! — воскликнули они хором.
Но, прежде чем они разошлись, Алексид — на поле, а
его друг — в палестру, Лукиан сказал:
— Дождись меня, и мы решим, как быть дальше.
— Хорошо! — И Алексид выбежал из тени портика на
яркое солнце. Давно уже у него не было так легко на душе.
— Конечно, это, может быть, напрасная тревога, —
сказал Лукиан, когда они медленно шли домой из гимнасия. —
А ты уверен, что не ошибся?
— Уверен. У него такое запоминающееся лицо... И,
кроме того, если бы я сначала узнал историю Магнета, то,
конечно, на скачках мне могло бы почудиться, будто я его
вижу. Но ведь случилось как раз наоборот. И то, что я
расслышал из их разговора, кажется очень подозрительным,
хотя сразу я этого и не понял.
449
15- 532
— Пожалуй, ты прав, — задумчиво хмурясь, согласился
Лукиан. — Гиппий сказал — "чрезвычайно опасно", имея
в виду, что Магнету опасно находиться в Афинах.
— И я так думаю.
— А Магнет сказал, что в подобных случаях
приходится пренебрегать опасностью, да к тому же она не так и
велика, раз сумерки быстро сгущаются...
— ...и его не узнают! Ведь на нем была пастушеская
шляпа, но он говорил не как пастух. И он шептался не с
кем-нибудь, а с моим дорогим другом Гиппием!
— Мне это не нравится, — сказал Лукиан. — Я слышал
про Магнета, когда был совсем малышом. Ни с того ни с
сего человека не изгоняют.
— Как это должно быть ужасно — расстаться с
друзьями, со всем, что ты любишь... Просто не могу себе
представить, что я чувствовал бы, если бы меня изгнали.
— А я не могу себе представить, чтобы ты совершил
преступление, за которое карают изгнанием. Те, кто
покушаются на свободу Афин, заслуживают самого сурового
наказания. И, уж во всяком случае, они недостойны того,
чтобы жить здесь. А теперь, — деловито закончил Лукиан, —
давай подумаем, что делать дальше.
— Давай.
— Отцу ты рассказать не можешь, так как пришлось бы
слишком много объяснять, почему ты оказался в
мастерской Кефала, когда тебе следовало быть у Милона...
— По-моему, нам вообще не следует упоминать о Кефа-
ле, — озабоченно перебил его Алексид. — У него могут быть
неприятности, если люди... люди с предрассудками, я хочу
сказать, если они узнают, что он хранит эту статую.
— Это уж его дело. Зачем он хранит статую предателя?
— Но ведь это же произведение искусства, Лукиан!
Одно из его лучших творений!
— Какая разница? Он все равно должен был разбить ее.
— Ну, не будем из-за этого ссориться, — с
принужденным смехом сказал Алексид. — Но, может быть, ты скажешь
своему отцу? То есть скажешь, что я случайно увидел
Магнета, — тебе незачем будет объяснять, как я его узнал.
Пусть думает, что я запомнил его лицо еще до того, как
он был изгнан. Тогда, если твой отец поговорит с
кем-нибудь из должностных лиц, они смогут все это проверить...
450
И, во всяком случае, они будут наготове, если Магнет
осмелится еще раз пробраться в Афины.
— Я придумал кое-что получше. Мой дядя — тот,
который одолжил нам лошадей, — член Совета Пятисот1. Я
расскажу ему. Ведь о делах государственной важности
положено докладывать Совету Пятисот, — торжественно
заключил Лукиан.
— Да, конечно.
И они пошли дальше, чувствуя, что приняли
правильное решение и вообще вели себя с благоразумной
рассудительностью взрослых мужчин. Но, пересекая рыночную
площадь, они увидели Гиппия, и Алексид, сам того не
замечая, вновь был втянут в опасный водоворот, который,
казалось, бурлил вокруг молодого щеголя.
* * *
— За ним надо бы следить, — таинственно прошептал
Лукиан. — Если Магнет что-то задумал, то Гиппий — его
сообщник.
— Знаешь что? А если мы сами будем за ним следить?
— Как это?
— Поглядим, куда он ходит, с кем особенно дружит.
А если заметим что-нибудь подозрительное, то расскажем
твоему дяде.
— Это ты неплохо придумал... Но только тебе
придется быть осторожным — он ведь знает тебя в лицо.
— М-м... да. Но сейчас-то мне можно посмотреть, с кем
он разговаривает, — в толпе он меня не заметит.
Гиппий стоял в небольшой кучке оживленно
беседующих людей. Среди них было несколько таких же щеголей,
как он, и два-три человека постарше, а вокруг толпились
юноши, к которым теперь незаметно присоединились и два
друга. Они ничуть не удивились, обнаружив, что спор идет
о политике. Однако они услышали вещи не совсем
привычные — разговор шел не о последних решениях Народного
собрания и не о поступках того или иного архонта или
стратега2. Обсуждались теоретические вопросы.
Гиппий с обычной самоуверенностью утверждал:
1 Совет Пятисот — высший государственный орган в Афинах.
2 Архонты — девять высших должностных лиц в Афинах. Стратеги —
десять выборных военачальников, совместно командовавших афинской
армией.
451
— Самая идея демократии никуда не годится. Она
строилась на неверной основе.
— Каким же это образом, мой уважаемый юный друг?
От Алексида и Лукиана говорившего заслоняла
колонна, но, судя по голосу, это был человек пожилой; его
мягкая, убедительная манера говорить разительно отличалась
от самоуверенной напыщенности Гиппия.
— О, это нетрудно объяснить, — небрежно бросил в
ответ Гиппий.
— Тем лучше, а то я не слишком-то понятлив.
Среди слушателей пробежал смешок. Гиппий
торопливо начал свое пояснение, опасаясь упустить благоприятный
момент:
— Ну, мы часто сравниваем управление государством
с вождением корабля и говорим о "государственном
корабле"...
— Прекрасное сравнение!
— Но мы были бы последними дураками, если бы
плавали по морю, руководствуясь "демократическими
принципами"! — Произнося последние слова, Гиппий презрительно
усмехнулся. — Если бы мы без конца обсуждали, когда
поднимать парус, а когда бросать якорь, и решали бы
голосованием, кому быть кормчим, то нами в конце концов
пообедали бы рыбы.
Слушатели опять засмеялись, на этот раз одобрительно.
— Ну, а кто же должен быть кормчим, любезный
Гиппий? Судя по тому, что ты говорил раньше, ты, вероятно,
поставил бы у руля человека, везущего самый дорогой груз?
— Ну-у-у... — Гиппий заколебался, подозревая
ловушку. — Во всяком случае, он больше других будет заботиться
о целости корабля.
— Но сделается ли он благодаря этому самым
искусным кормчим? — спросил из-за колонны мягкий голос. —
Ты когда-нибудь попадал на море в бурю, Гиппий?
— Разумеется! И не один раз.
— Я полагаю, ты в таких случаях требовал, чтобы к
рулю вместо бедняка морехода поставили самого богатого из
пассажиров, и тогда переставал опасаться за свою жизнь?
Слушатели разразились таким громким хохотом, что он
заглушил ответ Гиппия. Алексид увидел, как молодой
щеголь, совсем сбитый с толку тем, что его собственный
довод обратился против него, побагровел и начал бормотать
что-то невнятное.
452
— Кто с ним говорил? — шепнул Алексид Лукиану. —
Я хочу посмотреть.
Друзья потихоньку обошли колонну и увидели
человека, чьи кроткие, почти смиренные вопросы поставили Гип-
пия в такое глупое положение.
— А! — с неодобрением сказал Лукиан. —
Оказывается, это Сократ.
Алексид и раньше видел его — Сократа знал весь
город. Он неуклюже, как пеликан, расхаживал по улицам
босиком даже в зимние холода — смешной курносый старик
с круглым брюшком, которое не могли скрыть складки
хламиды. Но Алексид впервые видел его так близко, что мог
разглядеть насмешливые искорки, светившиеся в немного
выпученных умных глазах, и добродушные морщинки в
уголках рта. И никогда прежде он не слышал этого
голоса, про который говорили, что он околдовывает.
Гиппий рассвирепел. Он не выносил, когда над ним
смеялись.
— Мне, конечно, не надо было спорить с тобой,
Сократ, — сказал он язвительно. — Кто же не знает, что ты
самый мудрый человек в Афинах... или нет — во всем мире!
453
— Что ты! — с кроткой улыбкой упрекнул его
Сократ. — Какой же я мудрец? Хотя, быть может, в иных
отношениях я и умнее... — Тут он на мгновение умолк и
тактично закончил: — Чем некоторые из известных мне людей.
— Ах, вот как! Так, значит, есть предел и твоей
удивительнейшей скромности?
— Мудр я только в одном отношении, мой уважаемый
юный друг: я ничего не знаю, но при этом я знаю, что
ничего не знаю. А некоторые люди ничего не знают, но
воображают, будто знают очень многое.
Это было сказано так мягко и почтительно, что Гиппию
была предоставлена полная возможность выйти из спора с
честью. Но он не умел быстро справляться с собой, а
веселые смешки окружающих не способствовали улучшению
его настроения. Он скрипнул зубами, грубо буркнул, что
ему пора идти, и поспешно удалился. Сократ виновато
улыбнулся остальным своим собеседникам.
— Теперь вы, наверно, поняли, почему меня иногда
называют оводом, — сказал он и засмеялся. — Таков уж
мой удел — досаждать даже самым благородным коням и
жалить их. А потом смотреть, как они, брыкаясь, скачут
по лугу.
Алексид вдруг почувствовал, что Лукиан дергает его за
плечо.
— Пойдем, — шепнул он. — Нам тут больше незачем
оставаться.
— Да, пожалуй... — Но Алексид последовал за своим
другом с большой неохотой. Он услышал голос
волшебника Сократа и с радостью остался бы слушать его.
ПОГУБИТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ
Свобода... Новая жизнь... Алексид был прав, ожидая,
что его жизнь станет совсем другой, когда он кончит
учиться в школе. Но, лежа в темноте и прислушиваясь к
ровному дыханию сладко спящего Теона, он думал о том, что
и понятия не имел, как глубоки будут эти перемены.
Он рос в строгой, но любящей семье, и детство его
было счастливым — много игрушек, когда он еще играл в
игрушки, песни и сказки, чтобы он скорее уснул, прогулки
и всякие удовольствия в дни праздников. Однако он
всегда должен был подчиняться суровой дисциплине, уважать
454
которую до семи лет, пока он жил на женской половине,
его учила материнская сандалия, потом — палка
школьного учителя, а главное, с самого младенчества — строгий
голос отца.
Его воспитывали так, чтобы он всегда поступал и
думал, как положено юноше из почтенной афинской семьи.
Ему полагалось примерно вести себя, всегда быть учтивым
и почитать старших, в установленные дни посещать
храмы и приносить богам должные жертвы, а главное —
никогда не забывать, что он афинянин, что его родной город
находится под особым покровительством богини Афины,
которая сделала его самым могущественным и славным
среди всех греческих городов.
Все это должно было приниматься на веру. Подобные
вещи считались очевидными и само собой
разумеющимися: их незачем было доказывать даже для виду, как они в
школе доказывали теоремы вслед за учителем.
Однако в глубине души он позволял себе некоторые
сомнения, так как был прирожденным бунтарем. Почему, если
человек торопится, он не может бежать по улице бегом?
Неужели соблюдение достоинства — главное в жизни
взрослых? И почему, когда к отцу приходят гости, мать
должна ужинать в гинекее, хотя обычно вся семья ужинает
вместе? Почему считается, что женщины могут
разговаривать только о самых обыденных предметах и не способны
вести умную беседу?
Правда, задавать себе такие вопросы он стал лишь в
последнее время. В школе было не до них. В школе
приходилось зазубривать целые свитки Гомера, Пиндара и
других поэтов, узнавать из них историю богов и героев
древности и учиться, как следует себя вести и какие благородные
качества в себе развивать. Если один поэт противоречил
другому или даже самому себе, этого просто не полагалось
замечать. Надо было учить все подряд, так же как музыку и
математику. Все это истины (иначе им не стали бы
учить), и все они равно полезны.
Такая система обучения годилась для большинства. Она
подходила Лукиану. Она воспитывала благородных людей,
таких, как отец. Но в последнее время Алексиду все чаще
казалось, что для него она не подходит.
Первые серьезные сомнения зародились у него после
знакомства с Коринной.
Она явилась из мира, лежащего вне пределов Афин, и
455
каждое ее слово, каждый взгляд ее спокойных серых глаз
напоминали ему, что мир этот очень велик, полон своих
собственных чудес и незнакомых обычаев.
А теперь еще Сократ и молодые люди, составлявшие
его кружок...
После первой встречи с ним Алексид пользовался
каждым удобным случаем, чтобы еще раз услышать этот
мягкий, насмешливо-добродушный голос. Впрочем, таких
случаев представлялось множество, так как Сократ, казалось,
почти все свое время проводил на улицах в беседах с
друзьями и бывал рад каждому новому слушателю, будь он
молод или стар. И какие это были беседы! Никогда еще
Алексид не слышал ничего и вполовину столь интересного.
Сократ все подвергал сомнению. Нет, он ни с кем не
спорил, он только терпеливо и кротко задавал вопросы,
чтобы помочь людям точнее объяснить, что, собственно, они
имеют в виду. И очень часто оказывалось, что под конец
они говорили совсем не то, что намеревались сказать
сначала. Больше всего Алексиду нравилось, когда в разговор
вмешивался какой-нибудь надутый тупица и принимался
непререкаемым тоном рассуждать о предмете, в котором
считал себя знатоком. Вскоре Сократ начинал перебивать его
речь своими столь безобидными на первый взгляд
вопросами, и каждый из них, словно острый нож, вспарывал
красноречивые аргументы оратора, так что они оказывались
плоскими, как выпотрошенная рыба. Алексид всегда
интересовался звучанием слов и их смыслом, но только теперь,
услышав Сократа, он понял, какими увлекательными
могут быть поиски истины.
Истины? Старик Милон меньше всего заботился о ней,
когда обучал их ораторскому искусству. А в Сократе Алек-
сида особенно привлекала его честность. Он вовсе не
стремился выйти победителем из спора, он искренне хотел
узнать истину. А если верить Милону, то, произнося речь,
об истине как раз и не следует думать...
— Красноречие, — объяснял он своим ученикам, — это
искусство убеждать. Люди легче всего верят тому, чему им
хочется поверить. Поэтому, обдумывая свою речь, вы в
первую очередь должны взвесить, перед кем вы ее
произносите, а затем спросить себя, чему хотят верить эти люди, и
избрать соответствующие доводы. А потом надо
расположить их так, чтобы то, в чем вы хотите убедить своих слу-
456
шателей, показалось им логическим результатом ваших
рассуждений.
Алексид спросил тогда, скрывая свое негодование под
маской простодушия:
— А как же поступить в том случае, когда надо убедить
их в том, во что они верить не хотят? Ведь этого же не
избежать. Ну, например, государство окажется в
опасности или надо будет повысить налоги.
— Умный вопрос! — У Милона уже был готов ответ. —
При обычных обстоятельствах следует играть на их
желаниях, но порой приходится играть на их страхе.
Припугните их хорошенько! (Тут ученики расхохотались.)
Обрисуйте опасность самыми страшными красками, но при этом не
забудьте указать, что она никогда не возникла бы, если бы
с самого начала прислушивались к вашим советам.
Нападайте на ораторов, которые отстаивают другую точку
зрения, — это поможет вам отвлечь внимание слушателей от
неприятных истин. Докажите, что именно ваши
противники ввергли страну в беду, а то, что предлагаете вы (что бы
вы ни предлагали), — это единственный путь к спасению.
— Понимаю. — На этот раз Алексиду не удалось
полностью скрыть свои чувства, и в его голосе зазвучала
ирония, которой он научился у Сократа. — Вот, значит, как
можно стать хорошим государственным деятелем, чтобы
верно служить отечеству!
— Так можно стать прекрасным оратором, — ядовито
возразил Милон. — И мне платят, чтобы я учил вас
именно этому. Дело оружейника — ковать хорошие мечи, не
заботясь о том, ради чего их пустят в ход.
"Но он был неправ, — думал Алексид, беспокойно
ворочаясь на постели и с нетерпением ожидая, когда пение
петухов возвестит наступление утра. — Конечно, он был
неправ, только я не нашелся что ему ответить. А вот Сократ
сумел бы это сделать".
* * *
Лукиан тем временем следил за Гиппием, но не
заметил ничего подозрительного. Политические взгляды Гиппия
были известны всем. Как многие богатые юноши, Гиппий
принадлежал к аристократическому кружку, который
требовал, чтобы управление страной было передано в руки
"лучших граждан". В этом не было ничего противозакон-
457
ного, пока человек не устраивал заговор или не вступал в
тайные переговоры с правителями других государств, как
делал Магнет, которого за это и изгнали.
— Дядя осторожно поговорил кое с кем в Совете
Пятисот, — сообщил Лукиан Алексиду. — Они полагают, что ты
ошибся и это был не Магнет. Известно, что он сейчас в
Спарте. Я, правда, не думаю, чтобы это могло помешать ему
тайком пробраться в Афины, особенно в дни праздника...
— Нет, это был он.
— Во всяком случае, они предупреждены и теперь
будут настороже, — беспечно ответил Лукиан. — Им виднее,
что делать.
— Наверно, так.
Но в голосе Алексида слышалось сомнение. За
последнее время он утратил слепую веру в мудрость славных
мужей, которые управляли его родиной. Трудно сказать, кто
был в этом больше повинен — Сократ или Милон.
Если бы отец знал, что вся наука Милона строится на
ловкой лжи, он никогда не допустил бы, чтобы его сын
занимался у этого софиста. Любимый герой отца Перикл был
великим оратором, но он не следовал правилам Милона. Не
старался любой ценой угождать своим слушателям и, если
того требовала необходимость, не боялся говорить народу
неприятную правду. Если бы отец мог присутствовать на
занятиях и услышал подленькие поучения Милона, у него бы
глаза на лоб полезли. Но если он, Алексид, просто
расскажет обо всем отцу и тот в гневе бросится к Милону
требовать от него объяснений, хитрый софист без труда обведет
его вокруг пальца и еще будет жаловаться, что его
оклеветали. Милон знал назубок все приемы, какими только
можно одурачить присяжных, и для него будет детской забавой
убедить в своей правоте негодующего родителя.
И все-таки он больше не может заниматься у Милона.
Он там задыхается. Сократ сказал вчера замечательные
слова: "Ложь дурна не только сама по себе, она заражает
гнилью душу". Алексид чувствовал, что, если Милон будет
целый год наставлять его в лицемерии, он невольно начнет
следовать его урокам. Не ныряй в грязную реку — это
хорошее правило; нырнув, ты непременно запачкаешься.
Но, если он не в силах доказать отцу, что Милон плох,
может быть, удастся убедить его, что есть наставники
гораздо лучше? Но кто же? Задумавшись над этим, Алексид
458
понял, что хочет учиться только у одного человека — у
Сократа. Однако согласится ли Сократ взять его в ученики?
Трудно сказать. Сократ не похож на софистов, он вообще
ни на кого не похож.
Но ведь ничего страшного не случится, если его прямо
спросить об этом. Алексид чувствовал, что может спросить
Сократа о чем угодно.
Улучив минуту, когда старик, против обыкновения, был
на улице один — он направлялся в общественные бани, —
Алексид окликнул его:
— Мне надо поговорить с тобой, Сократ...
— Ну? — Большой лысый лоб наклонился к нему,
ласковые глаза внимательно его разглядывали. — Чем могу я
служить Алексиду, сыну Леонта?
"Так он помнит, как меня зовут! — подумал Алексид. —
Это уже немало".
Два дня назад Сократ заметил его в толпе своих
слушателей и спросил его имя.
— Я хочу, Сократ... — сказал он, запинаясь от
волнения. — Если мой отец согласится, ты не возьмешь меня в
ученики? И... э... какую плату ты берешь?
Старик рассмеялся:
— Милый юноша, неужели ты думаешь, что я беру
плату с моих молодых друзей, с которыми ты меня видел?
— Ты... ты хочешь сказать, что... Неужели ты учишь
их даром?
Лицо Алексида вытянулось. Отцу не внушит уважения
наставник, который учит даром. Он ведь любит повторять,
что даром в жизни ничто не дается. Вот почему все
считают Милона замечательным учителем — он требует за свои
уроки очень высокой платы.
Сократ заметил его разочарование и улыбнулся.
— Я ведь никого ничему не учу, — сказал он. — Так
с какой стати я буду брать с моих друзей деньги? Я еще
ни разу не позволил, чтобы мне платили.
— Но ведь ты же учишь нас! — горячо возразил
Алексид. — Только слушая тебя, я уже узнал очень много.
— Да неужели? — Сократ как будто был в
нерешительности. Будь Алексид старше и самоувереннее, ему,
пожалуй, не миновать бы града вопросов, после которых он
почувствовал бы себя ощипанным цыпленком, но Сократ
благоволил к юности и избавил его от этого испытания.
459
— Рад слышать это, — продолжал он лишь с чуть
заметной усмешкой, — но только я здесь ни при чем. Все, что
ты понял, с самого начала было вот тут, — постучал он
толстым пальцем по загорелому лбу юноши. — А я лишь
немного помогаю скрытым тут мыслям добраться до языка,
чтобы человек мог облечь их в слова и как следует проверить.
— Я... прости меня, Сократ... я ведь думал...
— Не смущайся, милый юноша. Если тебе нравится
слушать наши разговоры, слушай их сколько хочешь.
— Спасибо! Ты ведь не думаешь, что я слишком молод
или...
— Поиски мудрости долги и трудны, — снова улыбнулся
Сократ. — Если ты готов к ним, то, чем скорее ты их
начнешь, тем лучше. — И, повернувшись, он побрел дальше.
* * *
— Расскажи мне про него, — попросила через
несколько дней Коринна, когда они с Алексидом удобно
расположились на уступе у входа в пещеру.
Сирень уже отцвела, но старая каменоломня пестрела
звездами распустившихся олеандров. Только что кончился
урок игры на флейте, и теперь, прежде чем приступить к
чтению трагедии Софокла, которую Алексид принес на этот
раз, они ели смоквы и болтали.
— Ну, он довольно смешон с виду, — начал Алексид, —
и смахивает на сатира...
— И не страшно тебе говорить такие вещи здесь, в
горах? — перебила она его шутливо, но в ее голосе
чувствовалась робость.
Коринна не была такой суеверной, как Лукиан, но ей
не хватало широты взглядов, которой учился Алексид у
своих новых друзей. А вдруг сатиры и в самом деле есть?
И вот сейчас перед ними появится козлоногое чудище с
лошадиным хвостом, оскорбившись, что его сравнили с
каким-то философом.
— Не бойся, — успокоил ее Алексид. — Сократ говорит,
что их просто выдумали поэты.
— Ну, так рассказывай про него дальше.
— Он удивительный человек. Он необычайно подвижен,
несмотря на большой живот. По-моему, в молодости он был
неплохим атлетом и до сих пор не бросил упражнений. Он
отличился на войне, и ему присудили награду, но он на-
460
стоял, чтобы ее отдали кому-то другому — человеку,
которого он перед этим спас в битве.
— Он тебе сам про это рассказал?
— Ну, конечно, нет! Мне рассказали его друзья.
— А какие они — эти другие мальчики?
— Да они вовсе не мальчики, я там намного моложе
всех. Они уже взрослые люди. Вот, скажем, Ксенофонт.
Такой молодец! Только, по-моему, не слишком умный —
больше думает о лошадях, о собаках да о военной службе, —
но зато с ним интересно разговаривать. И еще Платон. Ему
двадцать лет. И он все умеет — отличается в состязаниях,
особенно в борьбе, и к тому же сочиняет стихи и
собирается написать трагедию. Как я, — добавил Алексид,
грустно вздохнув. — Да только мне и пробовать не стоит — не
могу же я тягаться с такими, как он!
— Мне Платон не понравился бы, — заметила Корин-
на, стараясь его утешить. — Он чересчур уж хорош.
— Нет, он бы тебе понравился, — сказал Алексид. —
Вы с ним смотрите на вещи одинаково.
— Как так?
— А он считает, что женщины не глупее мужчин и
должны получать такое же образование.
— Вот это правильно! — Коринна захлопала в
ладоши. — Расскажи еще что-нибудь.
И Алексид продолжал рассказывать ей о Сократе и о
замечательных молодых людях из его кружка, пока
удлинившиеся вечерние тени не напомнили им, что настало
время возвращаться в город. Алексид нес под мышкой свиток
трагедий, который они так и не развернули.
...Дома мать встретила его тревожным взглядом, а Те-
он сказал:
— Тебя искал отец.
Ника дернула его за локоть и шепнула:
— Что ты натворил, Алексид? Мне ведь никогда
ничего не рассказывают.
— Право же, Ника, я не знаю...
Но тут в дворик быстрым шагом вошел отец. Вот оно!
Алексид приготовился к худшему: кто-нибудь видел, как он
входил в харчевню, чтобы поговорить с Коринной, или...
— Алексид!
Голос отца был строг, но спокоен. Последнее время Ле-
онт старался не забывать, что Алексид уже больше не маль-
461
чик. Теперь он не приказывал, а старался разговаривать с
ним, как мужчина с мужчиной, но старые привычки часто
давали себя знать. Даже Филиппу, когда он приезжал в
отпуск, приходилось выслушивать от отца суровые выговоры.
— Что, отец? — спросил Алексид, подходя к нему.
Они остановились под смоковницей. В одной из дверей
показался было Парменон, но тут же юркнул обратно в дом.
Во дворе стало удивительно тихо, однако Алексид не
сомневался, что Теон и Ника притаились где-нибудь
поблизости и изо всех сил стараются разобрать, что говорит
вполголоса отец. А тот говорил:
— Мне было грустно узнать, что мой сын заводит крайне
нежелательные знакомства.
Значит, он все-таки слышал про Коринну! Но чем так
уж страшно это знакомство? Кровь прилила к щекам Алек-
сида, но он попытался ответить отцу столь же сдержанно:
— А почему оно нежелательно?
— Неужели ты не понимаешь? — спросил Леонт тем же
спокойным тоном. — Ведь этот Сократ — притча во языцех.
Ах, так, значит, дело не в Коринне, а в Сократе!
— Но почему, отец? — смущенно пробормотал он.
— Во-первых, он безбожник — он не признает наших
богов. Тех юношей, которые попадают в его сети, ждет
верная гибель.
— Это несправедливо...
— Нет, это правда, Алексид. Я не слишком виню тебя,
что ты сам не сумел в нем разобраться. Он хитрый старик
и умеет войти в доверие к молодым людям. А потом
заставляет их забыть все те правильные и нужные вещи, которым
их учили, и набивает им голову всякой ядовитой чепухой.
— Но ведь... — растерянно бормотал Алексид, пытаясь
найти хоть какое-то сходство между тем Сократом,
которого он знал, и человеком, которого описывал отец.
— Алкивиад1 попался на его удочку, и какова была его
судьба? Он мог стать украшением Афин, а вместо этого
продал родину врагу! И не один он плохо кончил. А что за
юношей собрал Сократ вокруг себя теперь? Вот Платон — его
дядя Хармид считается одним из самых опасных
противников нашей демократии. Или Ксенофонт, который
открыто восхищается порядками Спарты. Приятно ли мне, что
1 Алкивиад (около 451 — 404 до н. э.) — афинский государственный
деятель. Помогал спартанцам в их борьбе против Афин.
462
мой сын знается с подобными людьми? — Алексид хотел
было возразить, но Леонт поднял палец, требуя, чтобы его
не перебивали. — К счастью, ты еще очень молод. Ты
можешь больше не встречаться с ними, и все кончится
хорошо. Но помни: больше ты с ними не знаком. С этой
минуты! Сократ и его вздорное учение погибельны для
юношей. — Он ласково положил руку на плечо Алексида. —
Но с тобой ничего дурного не случится. Я этого не
допущу — ты мне слишком дорог.
ТРАГЕДИЯ... ИЛИ КОМЕДИЯ?
"Ру~У> ру-у, РУ~РУ~Ру!" — заворковал лесной голубь, и
обрывы вокруг заброшенной каменоломни ответили ему
негромким эхом. Пригнувшийся в кустах Алексид заметил на
обрыве яркое пятно. Значит, Коринна, как всегда, пришла
в пещеру раньше его. Хитон у нее был золотистый, как
цветок крокуса. Девушка стояла у края расселины и
оглядывалась по сторонам.
"Ха-ха-ха!" — раздался насмешливый крик сойки в
кустах сирени у самых ее ног. Коринна улыбнулась и
посмотрела вниз:
— Ты меня не обманешь, Алексид! Хотя, честно
говоря, я было поверила, что это и вправду ворковал голубь.
Ну, влезай же сюда.
Алексид поставил ногу на развилку, ухватился за
протянутую руку Коринны и одним прыжком очутился на
уступе рядом с ней.
Она притворилась рассерженной:
— Ты просто язва! Хорошо бы и вправду это был
лесной голубь. Я еще ни разу не видела тут голубей и не
слышала их.
Коринна вела счет птицам разных пород, которые
залетали в каменоломню. Дятел, кукушка, сорока, сойка,
сокол, куропатка — список все увеличивался. У маленького
водопада они один раз видели зимородка и не сомневались,
что где-то поблизости должен жить соловей. Они даже
собрались было как-нибудь остаться тут на всю ночь, чтобы
его послушать, но потом решили, что во всех отношениях
будет благоразумнее этого не делать.
— Мать покажет мне соловья! — с сожалением
сказала Коринна.
463
Горго не была строгой матерью, ее добродушие не
уступало ее толщине, но и она не потерпела бы ночных прс
гулок.
"Как и отец, — подумал Алексид, — хоть он даже и
не знает, что на свете есть Коринна".
— Что мы сегодня будем читать? — спросила девушка.
— Сегодня мы займемся письмом.
Из складок своего хитона Алексид извлек свиток
чистого папируса и положил рядом с ним на землю
тростниковые перья, нож, чтобы расщеплять их, и маленький
кувшинчик, в котором, когда он вытащил затычку, блеснули
черные чернила.
— Вот хорошо-то! А с чего мне переписывать?
— Я тебе продиктую... одну вещь, которую знаю
наизусть.
— Еврипида? Гомера?
— Потом узнаешь.
— Но мне же неинтересно писать неизвестно что!
— Но, может быть, тебе все-таки будет интересно.
— Ну и учитель! — Коринна показала ему язык:
жизнь в харчевне не придала ее манерам изысканности.
Алексид расщепил тростинку, заточил ее и передал
своей ученице. Она устроилась на ровном полу пещеры,
опираясь на левый локоть, и приготовилась писать.
Алексид, скрестив руки на груди, стал у входа в пещеру и
устремил глаза на город и далекое море. Затем медленно и
отчетливо он продиктовал:
— "Со скорбной вестью я пришел к тебе, Ахилл..."
Продиктовав двенадцать строк, он остановился. Чтобы
записать их, потребовалось немало времени, но Коринна с
каждым занятием, несомненно, писала и говорила все
лучше. Она выводила изящные буквы с такой любовью и
тщательностью, словно занималась вышиванием. Алексид
нагнулся и указал ей на несколько ошибок.
— Ну, что ты об этом скажешь? — спросил он небрежно.
— Что скажу? Ах, ты об этой речи! Очень неплохо.
Только чересчур уж уныло, как ты думаешь?
— Ну, а как же иначе? Это ведь из трагедии! Не хочешь
же ты, чтобы вестник за живот держался от хохота. Он же
пришел рассказать Ахиллу о смерти его лучшего друга.
— А-а... Только комедии нравятся мне гораздо больше.
Помнишь, ты приносил одну — Аристофана. О том, как все
женщины заперлись в крепости и отказывались вернуться
464
к домашним очагам, пока их мужья не обещают навсегда
прекратить войну.
— Она называлась "Лисистрата".
— Вот-вот! — Коринна заткнула кувшинчик с
чернилами и еще раз перечитала написанное.
Трудно было сказать, что ее интересует — стихи или
собственный почерк. Алексид нервно облизнул губы. Сердце
у него так и подскочило, когда она, кончив читать, сказала:
— А все-таки и это очень хорошо. Из какой трагедии
ты это взял?
— Из "Патрокла", — буркнул он.
— Я о такой и не слышала. Кто ее сочинил?
— Алексид, сын Леонта.
— Алексид... — И тут Коринна все поняла. Она
вскочила на ноги. — Ты говоришь о себе? Ах, Алексид, какой
ты умный! А мне и в голову не пришло...
Коринна говорила так искренне, что Алексид не мог
скрыть свое удовольствие.
— Я рад, что тебе понравилось! — сказал он улыбаясь.
— Нет, ты невозможен! А вдруг бы мне не
понравилось и я бы прямо так и сказала — ты бы обиделся, и...
— Потому-то я и не сказал сразу. Я хотел узнать, что
ты подумаешь на самом деле.
— А ты помнишь еще что-нибудь?
— Я помню все, что у меня готово. Стихов двести —
триста. Я ведь должен хранить их у себя в голове: если я
начну писать дома, от расспросов спасения не будет.
— Ну, так записывай здесь! Сочиняй понемножку, все
хорошенько запоминай, а когда будешь приходить сюда,
записывай. В пещере сухо, и мы можем прятать тут и
папирус, и чернила, и все, что понадобится.
— Да это... — Он хотел было сказать: "Я как раз и
собирался сделать", но вовремя спохватился. — Ты
замечательно придумала! — договорил он с жаром.
— Но сначала прочти мне все, что ты уже сочинил, —
потребовала Коринна. — Раз мне больше не надо писать,
слушать будет гораздо интереснее.
Коринна снова села, прислонилась спиной к скале и
обхватила руками колени. Она пошевелилась только тогда,
когда Алексид, кончив декламировать, произнес обычным
тоном:
— Вот и все, что я пока сочинил.
466
— Ах, Алексид! — тихо сказала она. — Как тебе,
наверно, было грустно, пока ты все это придумывал!
Он рассмеялся принужденным смехом.
— Чисто по-женски! Сразу о личных чувствах. А
стихи тебе понравились? Ведь это же не я говорю, а Ахилл,
Фетида и...
— Нет, ты! Все говоришь ты, до последнего словечка.
Он понял, что спорить с ней бесполезно.
— Последнее время мне и правда было невесело, —
признался он.
— Из-за Сократа? Из-за того, что тебе больше не
позволили его слушать?
— Да. Но не только из-за этого. Я думал, мне будет
очень весело жить, когда я перестану ходить в школу, но
ничего в этом хорошего нет. Поскорей бы стать еще старше
и пойти служить на границу! Но, конечно, и это может
оказаться мне не по душе. — Он засмеялся, на этот раз
искреннее.
— Хорошо хоть одно, — сказала она задумчиво, — ты
всегда можешь сам над собой посмеяться.
— И то правда. Я знаю, что я сам своего рода шутка.
Только, в отличие от настоящих ^ут>к, я с возрастом
делаюсь все смешнее. Ну что ж... — Он загнулся и поднял
свиток папируса. — Стихи, конечно, не бессмертные, но,
когда я все это излил, мне стало легче на душе.
— Нет, стихи хорошие. Они мне очень понравились,
хотя я не все поняла. Но лучше бы ты написал комедию.
— Нельзя писать по заказу, — объяснил он. — Надо,
чтобы замысел совсем тебя захватил, чтобы слова сами рва-
льс.ь наружу.
•Т» •!• «г»
Они провели в пещере еще часа два, играя на флейте
и болтая. Домой они отправились задолго до темноты,
чтобы идти не по пыльной дороге, а по берегу прихотливо
извивающегося Илисса.
— Я люблю деревню, — заметила Коринна.
Лето было уже в разгаре. На небольших полях
начинали золотиться колосья, а среди них пламенели маки. Тут
виднелись желтые, как хорошо начищенная медь, ноготки,
там — синий, будто небо, цикорий. В высокой траве
неумолчно трещали бесчисленные кузнечики. Алексид, поддраз-
467
нива я свою спутницу, сообщил ей чье-то изречение:
"Счастливы кузнечики — их самки лишены голоса".
— О да, — невозмутимо согласилась Коринна, — но ты
послушай, какой они сами поднимают шум! Прямо как
сборище мужчин.
Река уже обмелела, и, сняв сандалии, они зашлепали
по прохладной воде. Ветки платанов над их головами
смыкались в голубовато-зеленый тенистый свод.
— Да, я тоже люблю деревню, — сказал Алексид,
возвращаясь к началу их разговора. — На месте моего отца
я бы жил в нашем загородном доме, а в Афинах бывал бы
только на праздниках.
— Но тогда его ремесло, пожалуй, увязло бы в
деревенской глине!
— Ну, глины он не боится, он ведь гончар.
Коринна засмеялась:
— Ах да! Ты же мне говорил.
Через несколько шагов он вдруг остановился, и вода
запенилась вокруг его щиколоток.
— Там впереди какие-то люди. Слышишь голоса?
Коринна прислушалась. В неумолчное журчание реки
вплеталось прерывистое журчание человеческой речи.
— Но ведь это же... — вдруг взволнованно шепнул
Алексид, — это же голос Сократа! Не может быть...
— Почему не может быть?
— Потому что он никогда не покидает города. Он
говорит, что не интересуется природой и...
— Что ж, — сказала Коринна, которая прошла вперед
и заглянула в просвет между ветками, — если ты говоришь,
что этого не может быть, значит, не может! Но вон там на
траве лежит курносый старик, и, если это не Сократ...
Алексид растерялся. Все это время он страшился
случайной встречи с Сократом, но уж лучше бы она произошла
на людной улице, чем здесь.
— Давай тихонечко уйдем от них, — пробормотал он.
— Ты, наверно, хотел сказать: "тихонечко пойдем к
ним", — возразила она.
— Что?
— Я хочу поближе рассмотреть этого мудреца, я хочу
послушать его. Такого случая я не упущу.
— Но мой отец сказал... — Алексид почувствовал, что
говорит совсем как Лукиан.
468
— Твой отец не хочет, чтобы тебя видели в этой
компании, раз у них такая дурная слава, — заспорила Корин-
на. — А если ты невзначай услышишь десяток-другой слов,
что ему за дело! Или ты такой легковерный, что они сразу
тебя испортят?
Алексид уступил ей — и почти охотно. Несмотря на все,
что ему говорил отец, он продолжал восхищаться
Сократом; его дурная слава, наверно, это просто какое-то
недоразумение. И ведь, случайно подслушав часть их беседы,
он вовсе не нарушит отцовского запрета.
— А остальные кто? — шепнула Коринна, снова
заглянув в просвет меж ветвей.
— Рядом с ним Платон. Другой, тоже красивый, — это
Ксенофонт. Его соседа, кажется, зовут Федр.
— А! — отозвалась Коринна, с любопытством
разглядывая собеседников.
Платон и Ксенофонт были так же красивы, как их
учитель безобразен. Платон, самый молодой, был сложен, как
атлет, но тонкие, одухотворенные черты лица выдавали в
нем поэта. Ксенофонт чем-то напоминал воина; видно
было, что это человек энергичный и деятельный.
Но ни Алексиду, ни Коринне не суждено было узнать,
о каких важных предметах шел разговор между ними.
Внезапно кусты затрещали, и Коринна испуганно вскрикнула.
Прежде чем она успела сообразить, что напавший на них
зверь просто веселый щенок, который и не думал
кусаться, а хотел только, чтобы его приласкали, Ксенофонт уже
вскочил на ноги и раздвинул ветки. Спасаться бегством
было поздно. Готовые от смущения провалиться сквозь
землю, они вышли на залитую солнцем поляну в
сопровождении щенка, который радостно прыгал вокруг них.
— Да это же Алексид! — сказал Сократ, приподнявшись
и глядя на Коринну. — А я-то не мог понять, почему ты нас
совсем забыл. Но теперь, пожалуй, вопросы излишни.
Его глубоко посаженные глазки лукаво посмеивались.
Ведь он не всегда был невозмутимым философом. Когда-то
он тоже был молод и влюблен и хорошо помнил это время.
— Я тут ни при чем, — сказала Коринна со своей
грубоватой дорической прямотой.
— Правда? Ну, так я попробую угадать еще раз. Твой
отец, Алексид?
— Да... — еле выдавил из себя Алексид. — Боюсь, он че-
469
го-то не понимает... Он... он думает, что ты дурно на меня
влияешь...
— Видишь, Сократ? — перебил Ксенофонт
многозначительным тоном, словно они только что говорили об этом.
Он уже снова сидел на траве, лаская щенка.
— Но почему же мое влияние дурно, милый юноша?
— Ну, он говорит, что ты не веришь в богов.
— Он так говорит? — Сократ задумчиво покачал головой.
— Так говорят все Афины, — снова вмешался
Ксенофонт. — Это плохо для тебя кончится, Сократ.
— Присядьте же, — сказал Сократ. — Хотя бы
ненадолго, чтобы я мог объяснить.
Коринна с радостью приняла приглашение. Алексид
несколько секунд колебался. Но ведь уйти было бы
невежливо, решил он в конце концов.
— Разве ты никогда не слышал строку из Гомера,
которую я люблю повторять! "Согласно достатку ты жертву
богам приноси"? — Он усмехнулся. — Стал бы так говорить
безбожник? Мы с Ксенофонтом всю ночь провели на
пиру, и он подтвердит, что, прежде чем совершить омовение
перед завтраком, я вознес молитву Аполлону. Ты можешь
заверить своего отца, что жертвы и молитвы богам я
возношу именно так, как советует Гомер.
— Но ты иногда порицаешь и Гомера, — сказал
Ксенофонт. — Вот это-то и опасно. У нас нет священных книг,
как у некоторых варваров, но поэмы Гомера нам их почти
заменяют.
— Ну конечно, я порицаю Гомера и всех поэтов вплоть
до Еврипида! — Сократ снова повернулся к Алексиду. —
Тебя воспитали на этих поэмах, и ты судишь о богах по ним?
— Ну, само собой разумеется...
— А какими показаны боги в этих поэмах? Ведь они
ссорятся, как дети, из-за пустяков, обжираются,
перепиваются, крадут, влюбляются в чужих жен — короче говоря,
поступают так, как ни один уважающий себя смертный
поступать не станет. Разве в этих поэмах не говорится, что Зевс
силой отнял верховную власть у своего отца? Какой пример
он тебе подает? Что бы сказал на это твой отец, а?
— Не думаю, чтобы эта история ему особенно
нравилась, — засмеялся Алексид.
— Если боги вообще существуют, ведь они должны быть
лучше смертных, а не хуже? Их благородство должно пре-
470
восходить все наши представления, не правда ли? И,
значит, поэты, как бы увлекательно они ни сочиняли, просто
отъявленные лгуны. Если у вас опять когда-нибудь зайдет
об этом речь, попробуй объяснить своему отцу, что не
верить в старые сказки — еще не значит не верить в богов.
— Если бы ты мог объяснить это всем Афинам! — с
досадой воскликнул Ксенофонт.
— Я и стараюсь. Я готов толковать с каждым
встречным. Но в Афинах живет много людей, а жизнь коротка.
— Вот именно! А твоя жизнь может стать еще короче,
если ты и впредь будешь так же старательно обзаводиться
врагами.
— Я? Врагами?
— А ты думаешь, людям нравится, когда их
выставляют дураками, Сократ? Сегодня ты задеваешь Гиппия,
завтра — кого-нибудь из сторонников демократии: тебе все
равно, кто бы это ни был.
— Конечно, все равно. Меня интересуют идеи, а не
личности. И, по-моему, если людям показать, насколько их идеи
ошибочны, они будут только рады, что им помогли понять
их заблуждения.
— Но люди почему-то этого не любят, — с
глубокомысленным видом вставила Коринна.
Ксенофонт с благодарностью посмотрел на нее, а затем
сказал серьезно:
— Мы очень беспокоимся за тебя, Сократ. Если бы
люди правильно понимали твои идеи, все было бы хорошо. Но
знакомы с ними лишь немногие, а остальные полагаются на
слухи и сплетни. Кроме того, тебя высмеивают в комедиях,
и у зрителей складывается самое неверное представление о
твоих взглядах. — Он повернулся к Платону. — Ты ведь
хорошо пишешь, так почему бы тебе не написать комедию,
чтобы показать Сократа таким, какой он на самом деле?
Платон с улыбкой покачал головой:
— Этого я, боюсь, не сумею. Я пишу лирику.
Когда-нибудь, быть может, мне удастся написать трагедию. Но
только не комедию.
— Однако разница между трагедией и комедией не так
уж велика, — лукаво начал Сократ, стараясь завязать
отвлеченный спор и прекратить разговор о себе.
Но Ксенофонт не поддался на эту уловку.
471
— А все-таки тебе следует попробовать, — резко
сказал он Платону. — Эх, если бы я умел писать!1
— Мне очень жаль. Но человек должен следовать
своим естественным склонностям. Мне не под силу состязаться
с Аристофаном. Конечно, я мог бы попробовать писать
диалоги в духе Софрона, но введя в них философские идеи
Сократа...
— К несчастью, философские диалоги в духе Софрона
не показывают в театре! Нам нужна не книга — на
изготовление списков требуется время, а чернь вообще ничего
не читает, — нам нужна комедия, которую в будущем
году мог бы посмотреть каждый афинянин, комедия, которая
показала бы Сократа в истинном свете и снискала бы ему
уважение граждан.
— Что за страшная мысль! — заметил Сократ, и его
толстый живот заколыхался от смеха.
— Но она могла бы спасти тебя от беды — от
изгнания или чего-нибудь похуже. Однако, раз уже это
неосуществимо, постарайся вести себя потише и не наживай
больше врагов.
— Я ничего не могу с собой поделать, Ксенофонт.
Наверно, боги наслали меня, будто овода, будоражить
Афины, и все тут.
Алексид и Коринна с сожалением вспомнили, что им
пора идти. Они попрощались с Сократом и его друзьями и
пошли через поля к дороге — было уже слишком поздно,
чтобы следовать за извивами Илисса. Коринне не терпелось
высказать свое мнение о новых знакомых, но Алексид был
рассеян и отвечал невпопад.
— О чем ты задумался? — спросила она.
— "Овод", — сказал он медленно. — Какое хорошее
название для комедии!
ГЕЛИЭЯ2
Лето подходило к концу. На полях поблескивали серпы,
и высохшие золотые колосья с шелестом падали на землю.
1 До нас не дошло ни одно произведение Сократа. Его философские
взгляды известны нам из сочинений его учеников — Ксенофонта и
Платона.
2 Гелиэя — суд присяжных в Афинах.
472
В виноградниках по склонам гор наливались и темнели
тяжелые гроздья. Запряженные волами повозки поднимали
длинные густые облака белой пыли. Сухие, сморщившиеся
листья на неподвижных деревьях ждали осенних ветров.
Все лето Алексид писал комедию.
Он сам удивлялся, что случайная встреча с Сократом
и Ксенофонтом так на него повлияла. Словно искра зажгла
уже готовый костер. Ведь перед этим он так мечтал
сочинить трагедию — он даже постарался забыть, что
настоящую трагедию может написать только человек, много
переживший и выстрадавший, а не вчерашний школьник.
Теперь он видел, что его "Патрокл" был выспренним и
неинтересным — всего лишь старательное подражание
любимым поэтам-трагикам. Он писал "Патрокла" просто
потому, что ему хотелось писать, а не потому, что ему надо было
что-то сказать.
С "Оводом" все было по-другому. Он знал, чего он
хочет и что должен сказать: "Вот каков настоящий Сократ.
Не Сократ опасен для Афин, а те, кого он показывает в
их подлинном виде, — самодовольные и суеверные люди,
краснобаи и лицемеры".
Но сказать это просто словами было бы недостаточно.
Свою мысль он должен был выразить через нелепые
положения, в которые попадали его смешные персонажи,
воплотить ее в веселых песенках, в шутках, в игре слов, в
пародиях и острых намеках. И без всякого нажима, легко.
— Вот и со стряпней точно так же, — уверяла его Ко-
ринна. — Если у повара нет в руке легкости, он
обязательно испортит блюдо.
Она вообще ему очень помогала. Прежде чем записать
сочиненное, он декламировал ей все до последней строки.
— Проверяешь, словно на собаке, — шутила она, хотя
никакая собака не была бы такой придирчивой... —
Погоди-ка, — говорила она. — Тут у тебя получается чересчур
серьезно.
Он начинал спорить, но потом убеждался, что она
права. Он слишком увлекся, и сцена, как пирог в печке,
"подгорела". К счастью, комедию, в отличие от пирога, можно
было переделывать по кусочкам во время печения.
Можно было добавить новой начинки, а подгорелые куски
выбросить и заменить более удачными.
— По правде говоря, Алексид, я просто не понимаю, как
это у тебя получается, — сказала как-то Коринна.
473
Если она была строгим критиком, то не скупилась и на
похвалы, а ему нужна была ее поддержка. Никто больше
не знал о комедии. Лукиан был поглощен собственными
делами — он готовился к большим атлетическим
состязаниям и позировал ваятелю. Кроме того, хотя они и
помирились, прежней дружеской откровенности между ними уже
не было. Леонт все так же и слышать не хотел о Сократе
и настоял, чтобы Алексид продолжал занятия у Милона.
Таким образом, часы, которые он украдкой проводил с Ко-
ринной, иногда в их тайном убежище, иногда в
гостеприимной кухне Горго, были единственными его счастливыми
часами в это лето, если не считать тех, когда он в
одиночестве сочинял свою комедию и с головой уходил в
сказочный мир "Овода".
— Не понимаю, как ты все это придумываешь, —
сказала Коринна, — а потом соединяешь в одно целое.
Он попробовал объяснить. Это было нелегко. В школе
он основательно изучил стихи знаменитых поэтов, их
трагедии и не раз отличался в упражнениях, когда надо было
воспроизвести стиль прославленного автора, подделать его
излюбленные приемы, уловить характерные обороты речи
или же чуть-чуть изменить какую-нибудь известную
строку, но так, чтобы она получила совсем иной смысл.
— Зрители любят пародию, — уверял он Коринну с
высоты своего школьного опыта. — Больше, чем учителя, —
добавил он со смехом. — Мой учитель говорил, что я не
почитаю великих поэтов. Один раз я даже получил за это
хорошую взбучку.
Кроме того, в школе они много занимались
декламацией, и это ему всегда нравилось. Пока у него не начал
ломаться голос, он пел в хоре мальчиков на праздниках,
да и теперь принимал участие в менее торжественных
песнопениях, когда после уборки урожая юноши ходили от
дома к дому, распевая веселые песни и получая за это
подарки. Все это, а также частые посещения театра и
внимательное изучение списков трагедий и комедий, дало ему
достаточно точное представление о правилах драматургии;
однако всего этого было еще мало для того, чтобы
комедия после ее окончания не оказалась жалкой мальчишеской
стряпней, хотя и "недурной для его возраста".
Но, по мере того как недели складывались в месяцы и
первый свиток папируса уже до самого конца покрылся бле-
474
стящими черными буквами — "тридцать локтей смеха",
называла его Коринна, — юному автору начинало казаться,
что из "Овода" может получиться кое-что получше.
Коринна любила эти часы не меньше, чем он. Когда они
познакомились поближе, он понял, что и у нее есть свои
горести, но только она не хочет о них говорить. С первой
же их встречи у заводи, когда Лукиан принял ее за
нимфу, ему всегда почему-то казалось, что она и в самом деле
немножечко нимфа; пусть она была обыкновенной
смертной девушкой, любящей смеяться и есть сласти, но она,
как духи леса и воды, была свободна бродить, где ей
заблагорассудится, и поступать, как ей вздумается.
Разумеется, по сравнению с Никой и сестрами его товарищей она
действительно пользовалась большой свободой. Но и у нее
были свои тревоги.
— Не могу я жить в этой харчевне! — вырвалось у нее
однажды.
— Почему? Ведь там так интересно — кипит жизнь, все
время новые люди, суета.
Такой представлялась харчевня Алексиду. На кухне Гор-
го можно было узнать все городские сплетни, и отсюда
Алексид почерпнул немало материала для своего "Овода".
Горго и не подозревала, сколько ее сочных шуток и
язвительных насмешек запомнил и использовал потом тихий
юноша, который скромно сидел в уголке, поджидая, пока
освободится ее дочь. Ее бесконечные рассказы о
постояльцах и их рабах, ее любовь к сплетням и грубоватый юмор
помогли ему справиться с теми комическими сценами, в
которых требовалась непритязательная веселость. Алексид
знал, что его комедию могут принять ддя представления,
только если в ней будет пища на все вкусы. И тонкое
остроумие (ему особенно нравилась сатирическая сцена, в
которой длинноволосый щеголь, подозрительно смахивавший
на Гиппия, оказывался истинным врагом страны), и
исполненные чувства стихи, вложенные в уста хора, — стихи,
ради которых он собирался писать трагедию, — и, наконец,
шутки, понятные самому неискушенному сельскому зрителю.
— И было интересно, пока я была маленькой, —
ответила Коринна, шевеля пальцами обутой в сандалию ноги. —
Но теперь мне так не кажется. Я боюсь наших постояль-
475
цев. Есть такие... такие бесцеремонные! А мать говорит, что
они просто шутят, ничего дурного у них на уме нет, и еще
говорит, что я слишком много о себе понимаю, а людям
нашего положения это не пристало. Иногда мы с ней
страшно ругаемся.
Алексида это удивило. Он не раз слышал, как Горго
бранила служанку или гостя, пытавшегося улизнуть, не
расплатившись, но с Коринной она как будто всегда была
ласкова, а его самого встречала очень приветливо.
— Еще бы! — сказала Коринна.
— Почему "еще бы"?
Девушка смутилась:
— Конечно, ты ей нравишься, Алексид, очень
нравишься, но боюсь, она была бы с тобой так же приветлива,
если бы ты совсем ей не нравился.
— Не понимаю.
— Видишь ли, ты же из хорошей семьи. Твой отец —
афинский гражданин, и ты тоже через несколько лет
станешь афинским гражданином.
— Ну и что?
— Мать говорит, к гражданам нужно подлаживаться.
Где бы мы ни жили, всегда было одно и то же. "Они
могут вышвырнуть нас отсюда, — говорит она. — Мы не
должны об этом забывать. Мы ведь чужестранки, и они
считают нас хуже грязи".
— Но я не думаю так ни о тебе, ни о твоей матери! —
возмутился Алексид.
— Да, конечно. Но ты пойми, Алексид, как смотрит на
это мать. Ведь ей очень трудно живется. Она всегда была
бедна, и ей всегда приходилось бороться с нуждой. И так
будет и дальше. Видишь ли, Алексид, таким, как мы,
надеяться не на что, у нас нет будущего.
Он целую минуту молчал. Что он мог ответить?
Прежде он никогда не задумывался над этим. Теперь, сравнив
судьбу Коринны с судьбой Ники, он понял, что имела в виду
девушка.
Ему было легко представить себе будущее сестры.
Через год-два ей подыщут подходящего жениха. Этим займется
отец, хотя, конечно, он не станет выдавать ее замуж
насильно. Накануне свадьбы она торжественно посвятит
Артемиде все свои детские игрушки и девичьи украшения; на
следующий вечер ее торжественно отведут в дом жениха —
476
все будут петь и осыпать их зерном; а потом будет пир и
подношение подарков. После этого Ника станет хозяйкой
собственного дома и рабов. Потом у нее родятся дети, и в
конце концов, хоть сейчас это и кажется смешным, она
станет бабушкой, окруженной любящими и почтительными
внуками.
Но Коринну ждет другая судьба. Может быть, она и
выйдет замуж, если Горго подыщет ей жениха среди
афинских метеков, почти наверное бедняка: как ни красива Ко-
ринна, вряд ли найдется человек с положением, который
захочет взять жену из харчевни.
— Да, это, конечно, нелегко, — сказал он смущенно. —
Особенно без отца.
— Мать хочет, чтобы я ходила с флейтистками, —
пробормотала она в ответ.
Алексид тревожно посмотрел на нее. Он знал, что
человек, задумавший устроить пир, обращался к Горго и она
за вознаграждение нанимала флейтисток и танцовщиц,
чтобы развлекать его гостей. Так поступали все, и никто не
видел в этом ничего дурного, но девушек, занимавшихся
этим ремеслом, презирали, были ли они рабынями или
свободными.
— Тебе это не понравится, — сказал он.
— Можешь не беспокоиться! — крикнула она
гневно. — Я лучше умру с голода, а не пойду!
— Не понимаю, как твоя мать может требовать от
тебя этого?
— Она говорит, что мне уже пора зарабатывать свой
хлеб, а я умею только играть на флейте или исполнять
черную работу по дому, которой занимаются рабыни. Ведь мы,
девушки, ни на что другое не годимся. Правда, —
закончила она с горечью, — на флейте я играю неплохо.
Она поднесла инструмент к губам, и, слушая
жалобную мелодию, Алексид восхищенно кивнул. Да, Коринна
неплохо играла на флейте.
Иногда комедия вдруг переставала подвигаться. И
Алексид приходил в отчаяние. Она же никуда не годится!
Зачем мучиться над нею и дальше? Полторы тысячи строк!
Какой труд — и все впустую! Архонт, который отбирает
комедии для представления в театре, не станет ее и
дочитывать. Однако вскоре случилось одно событие, после
которого он решил любой ценой не только закончить комедию,
477
но и добиться, чтобы ее непременно показали на весенних
Дионисиях.
— Завтра ты не пойдешь к Милону, — сказал за
ужином отец.
— Хорошо, отец. А почему? — обрадованно спросил он.
— Я возьму тебя с собой в суд. Юношам полезно
бывать там и знакомиться с тем, как управляется
государство. С нами пойдет Лукиан. Его отец, возможно, будет
вызван, как присяжный, и я обещал присмотреть за твоим
другом.
— Вот хорошо-то! Это, наверно, интересно. А какое
дело будет рассматриваться, отец?
— О вменяемом богохульстве.
— А что такое "вменяемое богохульство"? — спросил
Теон, с наслаждением произнося эти звучные слова.
— Богохульством называются слова или поступки,
оскорбляющие богов. А "вменяемое" означает, что хотя все
говорят, будто человек в этом повинен, но это еще надо
доказать, прежде чем его наказывать.
Алексид побледнел и спросил, с трудом заставляя свой
голос звучать равнодушно:
— А кого будут судить, отец?
Он облегченно вздохнул, когда Леонт назвал
незнакомое имя.
— Это, должно быть, интересно, — продолжал Леонт. —
Подобные дела редко рассматриваются в суде. Последнее
было много лет назад. Хотя, — закончил он
многозначительно, — пожалуй, такие суды следовало бы устраивать почаще.
Сразу после завтрака они отправились на рыночную
площадь, где уже собралась большая толпа — почти все
пять тысяч присяжных, внесенных в списки на этот год.
— Их разбивают на десять коллегий, по пятьсот в
каждой, — объяснил Леонт. — И даже утром в день суда
никто еще не знает, какая коллегия будет заседать. Сейчас
как раз бросают жребий.
— А все остальные только напрасно теряют время,
являясь сюда!
— На это есть причина. Ведь если заранее
неизвестно, какие именно присяжные будут рассматривать дело, их
нельзя подкупить.
Алексид задумался, а потом спросил спокойным тоном,
чуть-чуть напоминавшим тон Сократа:
— А не лучше ли набрать в присяжные честных
людей, которых вообще нельзя было бы подкупить?
478
— Гораздо лучше, — согласился отец, — но зато и
гораздо труднее.
Тут наступила глубокая тишина, и глашатай назвал
коллегию присяжных, на которую пал жребий. В толпе
началось движение: те, кто оказались свободными, расходились
по домам, а избранные присяжные становились в очередь
за раскрашенными жезлами и черепками, дававшими им
право после суда получить плату.
— Это коллегия моего отца, — с гордостью сказал Лу-
киан. — Идемте, они всегда заседают в Среднем суде.
Сейчас мы можем занять удобные места, у самой ограды.
Прошло еще полчаса, прежде чем были закончены все
предварительные приготовления, совершено
жертвоприношение и присяжные расположились на устланных
циновками скамьях; стражники оттеснили зрителей за ограду, а
старшина присяжных занял свое место на возвышении, по
обеим сторонам которого находились два помоста пониже —
для обвинителя и обвиняемого.
— В ящичке, который открывает писец, — шепотом
объяснил Леонт, — хранятся свитки с обвинением и
уликами. Их запечатали после подачи жалобы. Этот ящичек
называют "ежом".
— Почему?
— Не знаю, — признался Леонт. — Так уж повелось.
— Я вечером спрошу у отца, — сказал Лукиан. — Уж он-
то наверное знает.
Началось разбирательство дела. К немалой радости Алек-
сида, оказалось, что, хотя его отец и не знал, почему
запечатанный ящичек зовется ежом, он прекрасно разбирался
во всех тонкостях судопроизводства. Его объяснения были
точными и ясными, и он умел ответить на любой вопрос.
Однако само дело показалось Алексиду гораздо
интереснее, чем судебная процедура. Одного школьного
учителя обвиняли в том, что он говорил своим ученикам, будто
солнце — это вовсе не бог Аполлон, который в огненной
колеснице объезжает небо, а огромный, добела
раскаленный шар, величиной чуть ли не во всю Грецию. И будто
луна тоже не богиня Артемида, сестра Аполлона, а другой
безжизненный каменный шар, отражающий свет солнца.
— Да он не в своем уме! — процедил сквозь зубы
Лукиан. — Что за чепуха!
— Пожалуй, и не в своем, если учил этому в школе, —
479
согласился Алексид. — Но, может быть, это не такая уж
чепуха.
Он постарался, чтобы отец не расслышал его
последних слов. С него было достаточно и возмущенного взгляда
Лукиана.
Обвиняемый, защищаясь, говорил, что никогда не
внушал своим ученикам, будто это предположение — истина.
Да, он упоминал о том, что такое мнение существует. Он
считает, что мальчиков надо приучать мыслить
самостоятельно, чтобы они умели сами разбираться, где правда, а
где ложь. А придумал это вовсе не он — кто угодно
может купить сочинения философа Анаксагора, где такое
мнение изложено очень подробно.
Среди присяжных послышался возмущенный ропот.
Упоминать об Анаксагоре при подобных обстоятельствах
было более чем неуместно.
— Его ведь изгнали в дни моей молодости как раз за
такие разговоры, — объяснил Леонт. — Эта история
наделала много шуму, потому что он был другом Перикла,
но даже Перикл не мог его спасти.
Разбирательство дела окончилось. Присяжные
вереницей потянулись мимо урн для голосования. У каждого
было два боба: один, черный, означал "виновен", другой,
белый, — "невиновен". Один из них опускался в первую
урну. Второй, ненужный, бросали во вторую.
Учитель был признан виновным значительным
большинством голосов. Обвинитель требовал, чтобы его приговорили
к изгнанию. Учитель, окруженный женой и детьми, — все
они были одеты в самую старую свою одежду и горько
рыдали, стараясь разжалобить судей, — просил, чтобы с
него лучше взыскали штраф.
— Но почему он называет такую большую сумму? —
удивился Лукиан.
— Присяжные должны выбрать то или иное наказание,
но назначать сумму штрафа они не могут.
— Ах, вот как! Значит, если он попросит малого
штрафа, его наверняка приговорят к изгнанию?
— Именно так.
Алексид обрадовался, когда был оглашен результат
второго голосования. Учителя приговорили к штрафу.
— Но, конечно, — заметил Лукиан, — его школе
конец. Какой же человек пошлет своего ребенка учиться у
полоумного?
480
Выйдя за ограду, они встретили отца Лукиана. Он
сказал, что голосовал за штраф.
— Видишь ли, — пояснил он своему негодующему
сыну, — этот, в конце концов, учитель мелкая рыбешка.
Судили его только для того, чтобы посмотреть, как настроен
народ.
— Значит, — спросил Алексид, и сердце его сжалось, —
будут и еще обвинения в богохульстве? Против... против
других людей?
— Этим давно пора заняться. Надо же как-то
ограждать вас, незрелых юнцов. А в наши дни болтают много
всякой опасной чепухи. Свобода речей — вещь, конечно,
прекрасная, но... — Он пожал плечами. — Тут нужна
большая осмотрительность. Эти преступления не похожи на
обычные. Все зависит от настроения народа, а оно
переменчиво. Мы можем взяться за опасных смутьянов,
только если будем заранее уверены, что их признают
виновными. Это все очень хитрые молодчики, и если есть хоть
малейшая вероятность того, что они будут оправданы, то уж
лучше вовсе их не трогать — меньше будет вреда.
— Будем надеяться, что это дело послужит
предостережением для остальных, — заметил Леонт. — Мне не по
душе, когда людям препятствуют высказывать то, что они
думают, но...
— Нет, еще нескольких таких обвинений не миновать, —
заверил их отец Лукиана. — Кое-кто ждет не дождется
проучить этих умников! — Он причмокнул от удовольствия.
А Алексид с ужасом представил себе, что перед гелиэей
стоит Сократ — перед пятьюстами присяжных, столь же
самодовольных и глухих ко всему новому, как отец Лукиана.
А ведь Сократ не станет просить о милосердии. Если уж он
предстанет перед судом, его ждет изгнание, а то и смерть.
ДЯДЮШКА ЖИВОПИСЕЦ
— Я просто не знаю, Алексид, что с тобой делать!
Леонт был очень рассержен. Он бросился на ложе
рядом со столом, на котором был накрыт ужин, но не
прикоснулся к еде. Его жена, Ника и Теон, почувствовав в
воздухе бурю, замерли на своих табуретках. Алексид,
который учился есть в полулежачем положении, как полагается
взрослым мужчинам, приподнялся на локте и с
беспокойством посмотрел на отца.
481
— Не понимаю, на что ты тратишь свое время! Во
всяком случае, не на атлетические упражнения.
— Я много гулял, отец, и купался, и...
— Он вовсе не бездельник, — заметила мать. — Но не
могут же все наши сыновья отличаться на состязаниях.
— Я этого и не требую! — Леонт наконец с неохотой
принялся за еду.
Скупо освещенную маленьким светильником комнату
наполнил аппетитный запах жареной свинины. Они не
слишком часто ели мясо, но сегодня ради праздника был
принесен в жертву поросенок. Берцовые кости и немного
жира были сожжены на алтаре, лучший кусок отдан
жрецу, все остальное попало на кухню. "И надо же было, —
думала мать, — чтобы Леонт именно сегодня вечером
повстречал этого человека! Такой вкусный ужин — и никого
он не радует!"
— Я давно уже не надеюсь, что Алексид когда-нибудь
прославится как атлет, — продолжал Леонт, — однако я
полагал, что и он по-своему станет украшением нашей
семьи. Но я, кажется, ошибся.
— В чем же я провинился на этот раз?
— В чем ты провинился на этот раз? Не смей мне
дерзить, мальчишка!
— Прости, отец, я не хотел...
— В дни моей юности мы не смели задавать вопросы
старшим. Мы помалкивали, пока нас не спрашивали. Ты
набрался этих привычек от людей вроде Сократа.
Наверно, ты опять вертишься около него, хотя я гебе давно это
запретил!
— Нет, отец! — с негодованием ответил Алексид.
Не раз, завидев Сократа и его друзей на рыночной
площади или в гимнасии, он готов был нарушить запрет, но
привычка к послушанию всегда брала верх.
— Сократ? — с интересом спросил Теон. — Это тот
старик, который всегда богохульствует?
— Да! — сказал Леонт.
— Нет! — одновременно с ним воскликнул Алексид.
Случись это в другое время, оба они, наверно,
рассмеялись бы, но теперь только обменялись гневными взглядами.
— А! — понимающим тоном произнес Теон. — Значит,
он... этот... вменяемый богохульник.
— Не вмешивайся не в свое дело, Теон! — Голос Ле-
онта, однако, не был строгим: Теон недавно выиграл состяза-
482
ние в беге, и отец пока смотрел на его выходки
снисходительно.
Он снова повернулся к тому сыну, чье поведение
радовало его гораздо меньше:
— Только что по дороге домой я встретил Милона.
— Я слушаю, отец.
— Он говорит, что ты пропускаешь занятия, готовишь
упражнения кое-как, на занятиях сидишь с отсутствующим
видом, дерзишь ему.
— Никогда не поверю, что Алексид может дерзить, —
вмешалась мать. — Хотя, конечно, Милон ему не нравится.
— Ну, а если ему скучно, — сказала Ника, зардевшись
от собственной смелости, — значит, Милону следовало бы
учить более интересно.
— Ты кончила? — спросил Леонт, сердито хмурясь. —
А теперь пусть он сам говорит. Я послал его к одному из
прославленных афинских софистов именно для того,
чтобы он научился говорить сам за себя.
— Может быть, он и самый прославленный, но уж
никак не самый лучший! — не сдержался Алексид. — Милон
просто напыщенный краснобай и обманщик. И, что еще
хуже, каждый год он плодит все новых точно таких же
краснобаев и обманщиков — скоро от них в городе тесно
станет. Разве ты не знаешь, что Гиппий тоже учился у него?
А я не хочу быть таким. Но я никогда не дерзил Милону,
чему бы он нас ни учил, я только указывал на его ошибки.
— "Указывал"! Ты еще слишком молод, чтобы
кому-нибудь указывать. Твое дело — стараться изо всех сил, не
лениться и запоминать все, чему тебя учат.
— Отец, из меня же никогда не выйдет оратора...
— А ты пробовал добиться этого? Во всяком случае,
вместо того чтобы в одиночестве шляться по горам, ты мог
бы посещать все занятия, побольше упражняться и быть
почтительным с Милоном. Или я попросту ошибся в тебе
и мне надо смириться с мыслью, что один из моих
сыновей будет никчемным неудачником вроде моего старика
дяди? Видно, имя "Алексид" приносит несчастье!
— Твой дядя Алексид очень хороший человек, —
решительно заявила его жена. — Если он беден, то лишь
потому, что всегда заботился о других, а не о себе.
— Это вы про дядюшку Живописца? — спросил Те-
он. — Я его очень люблю.
— К несчастью, — возразил Леонт, — в городе его ува-
483
жают куда меньше, чем в этом доме. Надеюсь, что все мои
сыновья добьются в жизни большего.
Дети упрямо молчали. Они все любили старого дядю
своего отца. Они давно уже прозвали его дядюшкой
Живописцем, потому что он все дни проводил в гончарной
мастерской, покрывая черным лаком готовые чаши и
амфоры и выцарапывая по нему рисунки. Это прозвище шло к
нему. "Двоюродный дедушка Алексид" звучало бы
слишком сухо.
— Как бы то ни было, — сказал Леонт, — если
Алексид решил, что лень и небрежность помогут ему
увернуться от занятий с Милоном, он заблуждается. Ему просто
придется повторить все сначала. Я уговорил Мило на — надо
сказать, он был рад сделать мне одолжение, — взять Алек-
сида в ученики и на будущий год.
* * *
На смену осени подходила зима. Под свинцовыми
тучами стаи журавлей летели в Египет. Потом начались
дожди и свирепые ветры. Блестели омытые водой скалы,
кружили в воздухе сухие листья, вздувшийся Илисс бурлил в
лощине.
— Скоро мы уже не сможем приходить в пещеру, —
вздохнув, сказала Коринна. — Будет так холодно! Да и дни
становятся такими короткими, что не успеешь прийти
сюда, как уже надо торопиться домой, пока не стемнело.
— Мы могли бы развести костер, тогда в пещере
будет тепло.
Они сидели у выхода из пещеры и смотрели, как струи
дождя хлещут по скрипящим на ветру ветвям.
— Ничего, скоро опять придет весна, — утешила его
Коринна. — Ас ней и Великие Дионисии. Тебе надо
собраться с силами и закончить свою комедию.
— Я ее закончил.
— Что? Ты сочинил и последнюю сцену?
— И новые строфы хора вместо тех, которые мне не
нравились. Я почти не спал ночь, все переделывал и
переделывал их в уме.
— Ах, вот почему ты такой бледный, как мелом
вымазанный!
— Да нет, я чувствую себя хорошо.
— А как строфы хора?
484
— Как будто ничего. Хотя теперь я не слишком в этом
уверен.
— Ну, так прочти мне.
Алексид вытащил свиток и прочел стихи, в которые он
вложил свою любовь к Афинам, всю гордость за них.
Когда он дошел до заключительных строк, его голос дрогнул:
Фиалковый венец наш город носит,
И море синее — кайма его одежд.
Коринна молчала очень долго, и Алекс ид уже решил,
что стихи ей не понравились. Наконец она сказала тихо:
— Они прекрасны! Как, наверно, приятно чувствовать
себя афинянином! Знать, что это твой родной город. Если,
услышав эти строфы, зрители не...
— Никакие зрители их не услышат, — с горечью
перебил ее Алексид и свернул свиток. — Ее не примут к
представлению.
— Но почему, Алексид? Это же так хорошо — вся
комедия, хочу я сказать. Неужели ты думаешь, что все
остальные обязательно будут лучше?
— Архонт ведь и в руки не возьмет комедию,
написанную вчерашним школьником! Я просто дурак, что не
хотел прежде взглянуть правде в глаза.
Коринна внимательно посмотрела на него. Потом
схватила за плечи и так встряхнула, что мокрые волосы упали
ему на лоб.
— Ты разговаривал с Лукианом! — строго сказала она.
— Нет, с его отцом.
— И ты рассказывал ему про нашу комедию?!
— Конечно, нет! Я расспросил его обиняками. Он
назубок знает все законы и установления. Он сказал, что
молодому человеку нечего и надеяться увидеть свою комедию
в театре. "Видишь ли, милый мальчик, — Алексид с
невеселой улыбкой передразнил отца Лукиана, — архонт
тратит на это общественные деньги и не должен забывать, что
он отвечает перед... э... теми, кто его выбрал. Какой бы
хорошей ни показалась рукопись ему, как... э... частному
лицу, как должностное лицо он проявит величайшую
осторожность и осмотрительность..."
— Какая чепуха! — со злостью сказала Коринна.
— Однако боюсь, что он прав.
— Ты уверен? Наверно, можно найти какой-нибудь
обходной путь.
486
— Конечно, я могу спрятать рукопись на несколько лет
и представить ее на состязание, когда мне исполнится
двадцать один год. Все равно шутки у меня такие старые, что
могут и еще полежать.
— Перестань зубоскалить, Алексид! Ты говоришь так,
будто тебе все равно.
— Но ведь так и следует поступать тому, кто пишет
комедии, — смотреть на все весело.
К этому времени дождь уже перестал. Тучи разошлись,
и вдруг все кругом озарилось бледным золотом осеннего
солнца. Серая даль превратилась в сине-зеленое море. Над
городскими кровлями встала лиловатая глыба Акрополя.
— Посмотри, — сказала Коринна и тихо произнесла:
Фиалковый венец наш город носит,
И море синее — кайма его одежд.
Она улыбнулась, и в глазах ее появилась глубокая
уверенность.
— Ты увидишь свою комедию в театре, — сказала она.
Однако потом она призналась, что не имела ни
малейшего понятия, как можно этого добиться.
* * *
Через два дня она придумала план действий. Ей так не
терпелось рассказать о нем Алексиду, что она решила
перехватить его, когда он отправится к Милону, — зайти к
нему домой она не решалась, опасаясь гнева его отца.
Алексида она не встретила, но зато увидела Лукиана.
Нетерпение взяло верх над осторожностью, и, подбежав к
нему, она дернула его за хитон.
— Лукиан! — окликнула она его, еле переводя дух.
Он оглянулся, и в его блестящих темных глазах
появилась досада.
— Что тебе от меня нужно?
— Мне необходимо поговорить с Алексидом! Ты ему
это передашь?
Лукиан смерил ее взглядом, и, хотя его красивое лицо
оставалось непроницаемым, ей показалось, что она без труда
читает его мысли: нежелательное знакомство... девушка, да
к тому же бедная чужестранка... следует оградить своего
лучшего друга...
Однако после некоторого колебания тот ответил:
— Хорошо, я ему передам.
487
— Спасибо тебе!
— Ну... мне пора. Я и так опаздываю, — И, нервно
оглянувшись по сторонам, багрово покрасневший Лукиан
поспешил дальше чуть ли не бегом.
Коринна вернулась в харчевню, решив никуда не
отлучаться, пока не придет Алексид.
— Нечего шляться без дела, — такими словами
встретила ее мать. — И не торчи во дворе. Зачем это ты надела
свой праздничный желтый хитон? Сразу его замажешь. Иди-
ка переоденься и берись за работу, нечего даром есть хлеб.
— Ну хорошо, хорошо.
Коринна подчинилась с большой неохотой. Не потому,
что не любила помогать матери стряпать — кухня зимой
была очень уютным местом, — но разве приятно будет, если
Алексид увидит ее в лохмотьях, красную от жара печки, с
сажей на носу? Однако Горго не терпела, чтобы ей
перечили.
Казалось, утро никогда не кончится. Но вот тени во дворе
стали совсем короткими. Приходили и уходили какие-то
люди. Заслышав шаги, Коринна спешила обтереть лицо и
осторожно выглядывала за дверь, но Алексида все не было.
Последнее разочарование постигло ее уже перед самым
обедом. В кухню заглянул богато одетый раб. Он спросил
Горго, а потом важно указал на своего хозяина,
оставшегося в дворике. Горго опытным глазом сразу оценила
дорогой плащ и щегольские сапожки и поспешила навстречу
гостю, вытирая руки о передник.
— Ты хочешь меня видеть, господин?
— Да. Если тебя зовут Горго.
— Это мое имя, господин.
— Гм! Ну, я заглянул в твое не слишком-то
благоуханное заведение потому, что хочу устроить пир и слышал,
будто ты одна из самых искусных поварих в Афинах.
Говорят, ты знаешь сиракузскую кухню и всякие тонкости.
Горго просияла:
— Уж я постараюсь угодить господину! Я прожила в
Сиракузах шесть лет, и, хоть не мне это говорить, я...
— Довольно, довольно! — Он остановил ее изящным
жестом, сверкнув перстнями. — Постарайся, любезнейшая,
ты об этом не пожалеешь. Ты можешь позаботиться и о
развлечениях для моих гостей — ну, там, музыка, танцы...
— Уж положись на меня, господин! Я подыщу для те-
488
бя самых лучших флейтисток и акробаток. Вот Хлоя — не
только танцует, но и жонглирует просто на диво; а такой
акробатки, как Праксилла, ты нигде не найдешь — просто
не понимаю, как это у нее все получается, я бы так не
смогла... Ну, правда, она потоньше будет... — Горго вся
заколыхалась от смеха, и ее маленькие глазки превратились в
узенькие щелочки.
— Ну, довольно. Я полагаюсь на твой выбор. Не
присылай старых уродин, но и не забывай, что красота — это
еще не все. Как-то у меня на пиру была флейтистка, очень
красивая, но она не умела взять ни одной верной ноты... —
Тут он заметил в дверях Коринну и указал на нее
тростью. — Это одна из твоих девушек?
— Моя дочка, господин. Уж она-то умеет играть на
флейте, как... — Тут Горго осеклась, заметив яростный
взгляд Коринны. — Только очень уж она робка. Да и
молода к тому же. Я ее еще не пускаю играть на пирах. —
Горго обычно не стеснялась говорить неправду, но на этот
раз она солгала с большой неохотой.
— Жаль, — заметил молодой человек. Затем он
сообщил, в какой день он думает устроить пир и сколько
гостей позовет.
— А как твое имя, господин?
Тут у входа показался Алексид. Увидев Коринну, он
улыбнулся ей.
— Гиппий, — ответил молодой человек, который
стоял спиной ко входу.
Ни он, ни Алексид еще не заметили друг друга.
Гиппий! Ну конечно же, самодовольный щеголь,
которого Алексид передразнил в театре! Тот самый, которого
так ловко высмеял Сократ, тот самый, который, как
думает Алексид, поддерживает тайные сношения с изгнанным
заговорщиком Магнетом!.. Коринна не стала терять
времени. Она сделала знак Алексиду скорей спрятаться. Он
сначала не понял, а потом, сообразив, в чем дело, мгновенно
исчез за углом дома, словно кролик в норе.
Гиппий удалился важной походкой в сопровождении
почтительного раба.
Горго набросилась на Коринну с упреками:
— Упустить такой выгодный случай! Другая-то мать не
посмотрела бы на твои капризы! Вот с такими богачами и
надо ладить! А от твоего мальчишки что толку? Небось его
отец в жизни не задавал этакого пира...
489
— Замолчи же, мать! — в ужасе умоляла Коринна:
к ним, улыбаясь во весь рот, подходил Алексид.
Горго удивленно уставилась на него, а затем, не
сказав больше ни слова, исчезла в кухне.
— Ловко я от него увернулся! — воскликнул
Алексид. — Лукиан сказал, что ты меня искала.
— Да! — Коринна подбежала к нему, забыв, что ее нос,
возможно, весь в саже. — Я кое-кого расспросила, —
зашептала она взволнованно. — Ты знаешь, сколько лет
было Аристофану, когда он написал свою первую комедию?
Не больше, чем тебе! А предложил он ее под чужим
именем... у него был друг актер, и вот он...
— Но у меня же нет друзей-актеров!
— А при чем здесь это? Лишь бы он был афинским
гражданином.
Алексид задумался.
— Кого бы я мог попросить? Не всякий согласится
выдать за свою комедию, которую сочинил мальчишка.
— А Ксенофонт? Он ведь хотел, чтобы кто-нибудь
написал такую комедию.
— Может, он и согласится — ради Сократа. Но ведь
он сам хочет заниматься литературой... Пожалуй, к нему
все-таки обращаться не стоит.
— Ну, подыщи кого-нибудь другого. Твой отец может
попросить своих друзей.
Алексид прикусил губу.
— Нет, — сказал он твердо, — с отцом я об этом
говорить не буду. Он только рассердится, что я тратил свое
время на пустяки.
— Ну конечно, если тебе вовсе и не хочется, чтобы
твоя комедия...
— Нет, хочется. Я просто думаю... Знаю! Я поговорю
с дядюшкой Живописцем.
Сразу же после обеда Алексид отправился к своему
двоюродному деду. В этот час послеобеденного отдыха в
гончарной никого не было. Но старик, как и ожидал Алексид,
сидел в углу и занимался своей обычной работой.
— Дядюшка! Я к тебе за помощью.
— Ну что ты еще натворил? — Старший Алексид под-
490
нял на него добрые голубые глаза, но тут же снова
опустил их на большой кратер1, который стоял перед ним.
Он уже покрыл чашу черным блестящим лаком, а
теперь принялся проводить внутри нее тонкие линии, вновь
обнажавшие красную глину. Черта за чертой — и вот уже
за нимфой в развевающихся одеждах погнался веселый
сатир. Алексид стоял и дивился уверенности, с которой его
дед выцарапывал фигуру за фигурой на вогнутой
поверхности чаши. Нельзя было заметить ни единой погрешности.
На блестящем черном фоне красиво выделялись все
мельчайшие детали: глаза, пальцы на руках и ногах. До чего
искусен дядюшка Живописец! Как же можно называть его
неудачником, когда он уже пятьдесят лет покрывает вазы
и амфоры такими вот прекрасными рисунками и, наверно,
нет ни одного города на Средиземном море, где не нашлось
бы изделия, побывавшего в его руках!
— Рассказывай же, — подбодрил его старик,
принимаясь отделывать второго сатира, который вдруг стал чуть-
чуть похож на его внука в минуту буйной веселости.
Алексид рассказал ему о своих затруднениях.
1 Кратер — большая чаша, в которой смешивали вино с водой.
491
— И, если ты согласишься, — закончил он, — это
будет самый удачный выход.
— Удачный? — Дядюшка Живописец подправил копыта
сатира, его косматые ноги и красиво изогнутый хвост. —
Но ведь я никогда ничего не писал. Я только и умею, что
подписывать имена на вазах — кто где изображен.
— Да я не об этом. Тебя ведь тоже зовут Алекс ид, а
прадедушку звали Леонтом, так что ты Алексид, сын Ле-
онта, как и я сам.
— Очень неприятное совпадение.
— Какое же это совпадение? Старших сыновей всегда
называют в честь деда. Отец был старшим, вот его и
назвали Леонтом.
— Но я-то тебе не родной дед.
— Конечно, а я — не старший сын. Мать назвала
меня в твою честь, потому что жалела, что у тебя нет своих
внуков.
— Твоя мать всегда была доброй девочкой, — заметил
дядюшка Живописец, и на чаше появилась еще одна
нимфа, стройная, и красивая, — точь-в-точь жена его
племянника в молодости.
— Так ты позволишь поставить на моей комедии твое
имя? — просил Алексид. — Это, ведь только для виду. Ее
же все равно не примут.
— Ну, уговорил. Ради нее. — Одно ловкое движение
руки, и по обнаженным плечам нимфы рассыпались
длинные кудри.
— Спасибо тебе, дядюшка Живописец!
Алексид пришел в такой восторг, что принялся
обнимать старика, и тот смог вернуться к работе, только
пригрозив внуку, что выкрасит ему нос черным лаком, если
он немедленно его не отпустит.
АРХОНТ-БАСИЛЕВС
— А сколько времени, — вкрадчиво спросил Милон, —
должна длиться хорошая речь в Народном собрании?
Алексид очнулся от задумчивости и сообразил, что
вопрос обращен к нему.
— Восемь дней, — ответил он машинально.
Все вокруг захохотали, а старый софист подошел к
нему и сказал со злой усмешкой:
492
— Да неужели, Алексид? Позволю себе заметить, что
к концу такого срока слушатели несколько устанут даже
от твоего прославленного красноречия.
Ученики захихикали.
— Прошу... прошу прощения. Я, наверно, задумался.
— Я так и предполагал. А о чем, мы лучше
спрашивать не будем. Ну, так продолжим...
"Восемь дней", — твердил про себя Алексид. Уже
восемь дней ожидания — и кто знает, когда оно кончится?
Восемь дней назад комедия была передана архонту-басилев-
су. Быть может, именно сейчас этот почтенный муж
сидит над развернутым свитком, громко хохочет, забыв о
соблюдении достоинства, и даже не глядит на другие
свитки, лежащие у его ног!
Ах, если бы! Но, конечно, это несбыточная мечта. У
архонта есть и другие дела, кроме чтения комедии. Ведь он
второе лицо в Афинах. Недаром он зовется басилевсом —
этот титул восходит к седой старине, когда городом правили
цари — басилевсы. Ему подведомственно все, что имеет
отношение к религии, — от судов над нечестивцами и
богохульниками, вроде того, на котором присутствовал
Алексид, до религиозных праздников. Весенние Дионисии
были только одним из таких праздников, а отбор комедий для
них — лишь частью необходимых приготовлений.
Да и как бы то ни было, убеждал себя Алексид, почему
он вдруг выберет "Овода"? Ему предстоит прочесть
множество комедий, а отобрать он должен только три. И одна из
них уж наверняка будет аристофановской. Ведь народ очень
любит его комедии и он так часто побеждал на
состязаниях, что архонт просто не посмеет его обойти... Значит, для
"Овода" останется только два возможных места, а не три...
— Итак, заметьте, — монотонно говорил Милон, —
когда вам приходится писать речь заранее, вы должны знать,
сколько строк надо написать, чтобы она продолжалась час,
а сколько — чтобы она продолжалась два часа или три.
Сколько примерно надо написать строк для обычной речи,
произносимой в Народном собрании? Сколько строк,
Алексид?
— А... э... две, — растерянно ответил Алексид,
подпрыгнув от неожиданности.
— Гм! Две строки? Не коротковато ли? Теперь ты
впадаешь в другую крайность. Не будешь ли ты так любезен
493
сочинить и написать речь, которую подашь мне завтра, и
не в две строки, а в двести? Темой возьми: "Народное
собрание считает, что молодежь должна внимательнее
слушать наставления старших".
— Хорошо, — ответил Алексид, подавив тяжелый вздох.
Один день сменялся другим. Алексид совсем
измучился от ожидания. И ему не с кем было поделиться своими
тревогами.
Домашним никак нельзя сказать, что он подал архонту
комедию. Эту тайну он не решался доверить даже Лукиа-
ну. Кроме него самого, она была известна только двум
.людям — дядюшке Живописцу и Коринне. Но дядюшка
Живописец не принимал все это всерьез. Он даже не прочел
комедии и видел в ней просто мальчишескую причуду,
которая скоро будет забыта. А с Коринной он почти не
виделся. Последнее время Горго встречала его уже не так
приветливо, как раньше, и, хотя в ее кухне было
по-прежнему тепло, от нее самой так и веяло холодом.
— И чего ты водишься с этим мальчишкой! —
ворчала она на Коринну. — Он болтает с тобой, будто ты ему
ровня, а ты по глупости задираешь нос. Смотреть
противно! То ли дело важные господа вроде Гиппия! С ними
сразу знаешь, как себя держать.
Но Коринна была не очень согласна с этим. Она не
забыла рассказов Алексида. Гиппий водил странные
знакомства с людьми вроде Магнета, с изгнанниками, которые не
смеют показываться на улицах Афин при свете дня. Как
бы не пришлось ее матери когда-нибудь пожалеть, если она
будет слишком привечать Гиппия!
— Хоть бы ты перестала ломаться! — продолжала
ворчать Горго. — Пошла бы вместе с другими на какой-нибудь
его пир со своей свирелью. И тебе было бы хорошо, и мне.
Совсем ты меня не жалеешь! А я-то работаю с утра до
ночи, рук не покладая. И ведь выросла, кажется, а все
никак образумиться не может, бегает по горам, словно коза
какая-нибудь!..
— Я ведь не отказываюсь работать. Только скажи, что
надо, и я все сделаю.
— И будешь своей заносчивостью отваживать от нас
гостей, гордячка ты эдакая? Нет уж, спасибо, по
хозяйству мне и рабыня поможет, да и толку от нее будет боль-
494
ше, чем от тебя. А взялась бы ты за ум, так своей
флейтой могла бы хорошие деньги зарабатывать. Ты ведь и не
дурочка, и всему обучена, не в пример мне, так перестала
бы ты только упрямиться, и, глядишь, ни одна флейтистка
с тобой не сравнилась бы. Видеть не могу, как ты сама
себе жизнь портишь. Вот тебе и весь мой сказ.
Коринна пожала плечами и поспешила уйти. Она все
больше и больше ненавидела харчевню. Вот будь у нее отец,
жизнь была бы совсем другой! А Горго почти ничего о нем
не рассказывала — говорила только, что он умер, когда она
была еще несмышленой крошкой. Горго вообще не
любила вспоминать прошлое, да и неудивительно: она ведь
была замужем три раза, то и дело переезжала из города в
город и всегда путала, где и когда что случилось. Коринна
еще маленькой девочкой как-то спросила, были ли у нее
братья и сестры, и мать ответила: нет, Коринна ее
единственное дитя. Но много лет спустя Коринна услышала, как
мать, болтая с соседкой о детях, вдруг сказала: "Вот и мой
сыночек, когда родился..." Коринна, конечно, потом
спросила ее: "Так, значит, у меня все-таки был брат? А что с
ним случилось? Он умер?" Горго как будто растерялась, а
затем ответила: "Да, деточка. Он и жил-то всего два
денька. Потому я о нем никогда и не говорю". Коринна
сказала со слезами на глазах: "Я... я не знала". И теперь, когда
мать была с ней резка или начинала ворчать, она всегда
вспоминала этот их разговор и терпеливо сносила
попреки. Ведь Горго лишилась сына, а родители всегда любят
сыновей больше, чем дочерей.
Теперь они с Алексидом могли встречаться только в
пещере. А зимой это была нелегкая прогулка, но уж
лучше помокнуть под дождем и померзнуть, чем совсем не
видеться.
— Если бы мы могли хоть костер развести! — как-то
пожаловалась Коринна.
— Ну что ж, давай попробуем. В следующий раз я
принесу углей в горшке. Хворосту кругом много. Если сейчас
сложить его в пещере, то он успеет высохнуть.
— А если я сумею утащить что-нибудь из кладовой, то
мы даже сможем состряпать ужин!
— Почему мы только не подумали об этом раньше!
И они тут же принялись собирать хворост. По
каменоломне разнесся хруст ломающихся сухих веток. Коринне
и Алексиду давно уже не было так весело, как в этот день.
495
В следующий раз Алексид, как и обещал, принес с
собой горшок с раскаленными углями.
— Как приятно! — вздохнула Коринна, прижимая
озябшие руки к его теплому глиняному боку.
Алексид высыпал угли аккуратной горкой на пол
пещеры, лег рядом и принялся их тихонько раздувать, а потом
положил на них прутья и еловые шишки.
— А вот дуть-то следовало тебе, — сказал он, еле
переводя дух и посмеиваясь.
— Почему это?
— Потому что ты привыкла дуть в свою флейту и у тебя
это получилось бы лучше.
— Я буду стряпать для тебя, разве этого
недостаточно?
— Смотря что у тебя получится, — шутливо
проворчал он.
Костер горел прекрасно. Сквозняк вытягивал дым куда-
то в глубину темного прохода, и вскоре Коринна уже
раскалила на огне гладкий камень и выливала на него жидкое
тесто, которое тут же превращалось в хрустящие лепешки.
— Ну как, хорошо? — спросила Коринна, когда,
покончив с угощением, они расположились поудобнее возле
догорающего костра.
— Очень! Вот если бы я еще знал, как кончится дело
с комедией...
— Может, мне сходить завтра в храм Диониса и
принести ему жертву, чтобы он тебе помог? — предложила
она. — Правда, много я дать не смогу — ведь у матери не
попросишь, — но...
— Спасибо, Коринна. Только пользы от этого не будет.
— А почему? Он же покровитель театра, и это его
праздник...
— Я не об этом. Правда, Сократ говорит, что в
положенное время следует приносить жертвы. Но не для того,
чтобы выпрашивать милости для себя.
— Да ведь жертвы только для этого и приносят.
— Пойми, если боги все-таки существуют, они же не
дети и не польстятся на подарки. Уж если они есть, то они
должны быть куда справедливее и неподкупнее людей.
И в таком случае Дионис захочет, чтобы для его
праздника отобрали лучшие комедии, а не те, чьи авторы не
поскупились на жертвоприношения.
Однако переубедить Коринну ему не удалось. В глубине
496
души она продолжала считать, что молитва и маленькая
жертва не испортили бы дела, а, наоборот, могли бы
сократить срок мучительного ожидания. Поэтому она
решила, что на следующее же утро на восходе солнца она
прольет на землю немного вина и тихонько попросит Диониса
поторопить архонта и не упустить одну из лучших
комедий, какие когда-либо ему предлагались. Трудно сказать,
помогла ли ее просьба, но, во всяком случае, на другой день
произошли всякие неожиданные события.
— Нет, нет, милая, мне нужен не обед, а Алексид.
Семья как раз кончила обедать, когда в комнату, где
они всегда ели в холодные зимние месяцы, торопливо
вошел дядюшка Живописец. На его бородатом лице было
написано беспокойство.
— А ты уверен, что ты уже обедал? — с улыбкой
повторила мать Алексида.
— Да-да! То есть нет... То есть я не хочу обедать. Мне
нужно только поговорить с Алексидом во дворе, если вы
позволите.
Дядюшка Живописец был вне себя от волнения, и
Алексид торопливо соскочил с ложа.
— Можно я выйду с ним, отец? — с тревогой
спросил он.
— Что еще натворил этот мальчишка? — подозрительно
спросил Леонт, внимательно посмотрев на сына.
Дядюшка Живописец с трудом овладел собой.
— Он ничего не натворил, Леонт. Откуда ты это взял?
Мне просто надо поговорить с ним. Я хочу, чтобы он мне
помог. У меня... у меня одно затруднение...
— А я не могу тебе помочь?
— Ну что ты, что ты! Зачем тебе беспокоиться, Леонт?
Но вот если бы Алексид ненадолго пошел со мной... а то
и на весь день...
— Иди, иди, Алексид, — сказал с улыбкой Леонт. —
Помоги деду.
Когда они вышли, старик сказал со стоном:
— Ну и попал же я из-за тебя в беду! Да если бы я
только мог предположить...
— Что случилось, дядюшка? Ты из-за... из-за комедии?
Куда мы идем?
К этому времени они уже шагали по улице.
497
— Мы идем к архонту-басилевсу, — сказал старик
тоном глубокого отчаяния.
— К архонту-басилевсу? — Сердце Алексида
подпрыгнуло от радости, но тут же тревожно сжалось. — Это
значит... что он догадался?
— Одни боги знают, что это значит! А я знаю только,
что ко мне пришел раб и сказал, что архонт-басилевс
хочет меня видеть. По поводу моей комедии. "Моей комедии"!
Как будто я ее хотя бы читал! Не говоря уж о том, что я
ее не писал. Что я ему скажу? — В голубых глазах
старика застыл ужас.
— Ты сначала послушай, что скажет тебе он,
дядюшка. Постарайся его провести.
— Провести? Провести архонта-басилевса?
— Я тебе помогу...
— Очень благородно с твоей стороны! Очень
великодушно!
Алексид ласково погладил его руку.
— Если дело обернется плохо, ты прямо расскажи обо
мне. Я во всем признаюсь.
— Ну, посмотрим, посмотрим. — Дядюшка Живописец
уже несколько оправился от испуга. — Что гадать, пока мы
еще ничего не знаем... Да, ты прав, надо сначала его
послушать. А я уж постараюсь не выйти из своей роли. —
Он усмехнулся. — Вот видишь, я уже заговорил, как
заправский актер. "Не выйду из своей роли" — так ведь?
— Ты молодец, дядюшка! — со смехом заверил его
Алексид.
Дядюшка Живописец гордо расправил плечи.
— Нам надо решить, как именно сыграть эту сцену, —
сказал он. — Нет, ты только послушай: "сыграть эту
сцену"! Оказывается, это вовсе и не трудно — выбирать
актерские слова, а?
— Да. Но не стоит чересчур уж перегибать палку.
Они приблизились к общественному зданию, где архонт-
басилевс и его помощники вершили дела государства.
Оставалось только решить, как вести себя там.
Архонт-басилевс оказался величественным стариком, но
в его глазах пряталась смешинка. Когда они вошли, он
встал, здороваясь с ними.
— Алексид, сын Леонта? — спросил он.
498
— Да, почтеннейший архонт, — ответил дядюшка
Живописец с уважением, но и с достоинством. Он не стал
кланяться, так как архонт, в конце-то концов, был таким же
гражданином Афин, как и он сам, и архонтом его
выбирали только на год.
— Так садись же. А кто этот юноша?
— Мой внучатый племянник. Он... он мне кое в чем
помогает.
Дядюшка Живописец сел напротив архонта, а Алексид
стал рядом с ним, настороженно прищурившись.
— Признаюсь, — заметил архонт, поглаживая
бороду, — прочитав комедию, я решил, что ее писала более
молодая рука.
— Более молодая? — удивился дядюшка
Живописец. — Ах да! Более молодая, чем моя, хотел ты сказать.
— Разумеется. Надеюсь, ты не сочтешь мои слова за
обиду, — я знаю, что старость не мешает писать хорошо.
Ведь Софокл создавал великие трагедии и тогда, когда ему
было уже за девяносто. Однако писать он начал еще
молодым. А ты, Алексид, мне кажется, уже не в тех годах,
когда человек впервые представляет свою комедию на
театральные состязания.
— Было бы сердце молодо, почтеннейший архонт!
В глазах архонта промелькнула улыбка.
— А твое сердце, по-видимому, полно юного жара. От
души поздравляю тебя. Читая "Овода", невозможно дать
его автору больше двадцати лет.
— Ну, я еще не так дряхл, как ты, кажется, думаешь.
— Отнюдь, отнюдь! Но, — продолжал архонт более
серьезным тоном, — перейдем к делу. Я никак не могу
решить, допустить твою комедию или нет. В ней,
разумеется, есть недостатки...
— Само собой, — согласился дядюшка Живописец, по
мнению Алексида, слишком уж охотно.
— Однако она обладает и незаурядными достоинствами.
— Очень лестная похвала!
Алексид застыл и только надеялся, что архонт не
посмотрит на него и не заметит, как он покраснел.
— Когда я ее читал, мне показалось, что некоторые
вещи будет не так-то просто показать в театре. Вот,
например, корову.
— Корову? — с недоумением повторил дядюшка
Живописец.
499
— Ну как же, дядюшка, — поспешно вмешался Алек-
сид. — Та смешная сцена, когда овод кусает корову и она
начинает брыкаться и бегать взад и вперед.
— Вот-вот, — сказал архонт. — Как, по-твоему,
можно будет это показать?
Дядюшка Живописец не знал, что ответить. В его
глазах опять появился испуг. Заметив, что он дергает себя за
бороду и что-то невнятно бормочет, Алексид поторопился
сказать:
— Дядюшка думал накрыть двух человек большой
пятнистой шкурой. Переднему сделать маску с рогами, а
второму — хвост...
— Так я и задумал! — подхватил дядюшка
Живописец. — Вот смеху-то будет!
— Гм!.. По-твоему, это может получиться?
— Ну конечно, — горячо воскликнул Алексид. — В
позапрошлом году в театре показывали кентавра — двух
человек, прикрытых одной шкурой.
— Неужели? — спросил архонт, бросив на него
проницательный взгляд. — Я не присутствовал на тех
Дионисиях — я командовал триерой...1 Гм, гм...
Архонт задумчиво поглаживал бороду, и Алексид боялся
даже дышать. Сумеют ли они обмануть его? Эти ласковые
глаза были очень проницательны. И, конечно, они могут
стать строгими и суровыми. Архонт привык разгадывать
козни политических интриганов и лукавство чужеземных
послов. Так неужели они с дядюшкой Живописцем сумеют
его провести? Алексида вдруг охватил ужас перед
собственной дерзостью. Почему, почему они сразу во всем не
признались? Но в таком случае комедия не была бы
допущена к представлению. Пусть она даже и понравилась
архонту, он все же не решится оскорбить афинян,
предложив им комедию, написанную безвестным мальчишкой.
Вдруг архонт поднял голову и снова обратился к
дядюшке Живописцу.
— Вот еще одно трудное место, — сказал он
медленно. — Выход египетского раба в третьей сцене.
— Ну... конечно...
— Ах, дядюшка! Почтенный архонт, вероятно, спутал
твою комедию с какой-то другой! — многозначительно
воскликнул Алексид, наклоняясь вперед и предостерегающе
1 Триера — древнегреческий военный корабль с тремя рядами весел.
500
хмуря брови. — В твоей комедии нет никакого
египетского раба! Ведь так?
— Конечно, нет, — раздраженно отозвался старик. —
Я как раз это и хотел сказать. Нет в ней никакого
египетского раба. А ты меня не перебивай.
— Значит, я ошибся, — любезно сказал архонт. — И
неудивительно — ведь мне пришлось прочесть десятка три
комедий. — Он внимательно посмотрел на Алексида. —
Твой внучатый племянник, кажется, неплохой помощник.
Комедию он как будто знает немногим хуже тебя самого.
— Я ее записывал, — объяснил Алексид скромно. —
Глаза у дядюшки уже не те, что прежде.
— Что ж, — сказал архонт. — Я хотел задать тебе еще
несколько вопросов, но, пожалуй, будет лучше, если мы
обойдемся без них. — Он встал, показывая, что разговор
окончен. — Я думаю, вы оба понимаете, что мне все
равно, написал ли комедию дряхлый старец или... — тут он с
улыбкой взглянул на Алексида, — или совсем мальчик. Но
афиняне поручили мне выбрать, а они, как вам известно,
народ обидчивый.
— Ну конечно, конечно, — добродушно отозвался
дядюшка Живописец, хотя он не имел ни малейшего
понятия, принята комедия или нет.
Алексид облизнул пересохшие губы.
— Это... это значит, что комедия никуда не годится, что
она отвергнута?
— Вовсе нет, милый юноша. Она достойна быть
представленной на празднике. Я не вижу причин, которые
могли бы этому помешать, и, — тут по его лицу снова
скользнула улыбка, — не хочу их видеть. — Он повернулся к
дядюшке Живописцу, глядевшему на него с изумлением и
тревогой. — Тебе сообщат имя твоего хорега и каких
актеров я тебе выделю. Актерам плачу я, но твой хорег оплатит
хор и возьмет на себя все другие расходы. Тебе же надо
будет вести репетиции и позаботиться об остальном...
— Мне? Но, боги...
— Если хочешь, можешь также сам сыграть
какую-нибудь роль, — любезно предложил архонт. — Вероятно, твой
внучатый племянник будет незаменим на репетициях. Он
сумеет вспомнить все, что ты забудешь, и не сомневаюсь,
покажет себя весьма изобретательным в любых
затруднениях.
— Почтеннейший архонт, я...
501
— Желаю тебе удачи. И... до свиданья.
Дядюшке Живописцу и Алексиду оставалось только
уйти, что они и сделали.
ДЯДЮШКА ЖИВОПИСЕЦ
СТАВИТ КОМЕДИЮ
Старший Алексид посмотрел на младшего и во второй
раз за этот день горестно воскликнул:
— Ну и попал же я из-за тебя в беду!
Алексид же чуть не плясал от радости.
— Дядюшка, но ведь это чудесно! Разве ты не понял?
Он же принял ее! Мою комедию! Ее покажут на
празднике Дионисий! Ущипни меня, вдруг это мне только снится?
— Я бы тебя с радостью не только ущипнул! —
Дядюшка Живописец почесал в затылке. — Что же нам теперь
делать?
— Как — что? Репетировать комедию.
— Опомнись! Да разве мы сумеем? Я же в этом
ничего не смыслю!
— Зато я смыслю!
— Вот ты и репетируй! — И дядюшка Живописец
сердито заковылял прочь, громко стуча палкой по земле,
чтобы дать исход гневу.
Алексид догнал его и принялся уговаривать:
— Но, дядюшка, актеры же и слушать не захотят
мальчишку!
— Конечно, не захотят — они, наверно, умнее меня.
— Неужели ты теперь все испортишь? Ведь тебе надо
будет просто повторять то, что я скажу.
— Надо мной будут смеяться все Афины! — ворчал
старик. — Мне проходу не дадут. "Сочинил комедию — это
он-то! А когда ты сочинишь еще одну?" Вся моя жизнь
переменится. Я никогда не искал славы — занимался
потихоньку своим делом, и ладно, а что теперь будет? Мне до
самой смерти придется играть чужую роль.
— Только до Дионисий! После праздников, если
комедия понравится зрителям, мы откроем тайну, и тебя
больше не будут тревожить.
— Если она будет одобрена! Ну, а если не будет?
Тогда нам ради архонта придется держать язык за зубами.
Алексид смущенно кивнул:
502
— Да, получается, словно мы кидаем монету: выпадет
богиня — я выиграл, выпадет жертвенник — ты проиграл.
Дядюшка Живописец вдруг остановился, стукнул
палкой о землю и сказал с неожиданной твердостью:
— Я иду к архонту и все ему расскажу!
— И комедию не допустят к представлению!
— Ты можешь через несколько лет подать ее еще раз,
от своего имени. — И дядюшка Живописец, повернувшись,
решительно зашагал обратно.
Алексид кинулся за ним и дернул его за плащ.
— Я не могу ждать несколько лет, — сказал он
умоляюще. — "Овод" устареет, он написан специально для
этих Дионисий.
— Это меня не касается, — отрезал дядюшка
Живописец и, побагровев, ускорил шаг.
Алексид прибегнул к последнему средству:
— Мать так огорчится...
Старик остановился.
— Твоя мать? Почему?
— Ну, ведь она очень обрадовалась бы, если бы
узнала, что я написал комедию, которую допустили к
представлению. Каково же ей будет узнать, что все шло так
хорошо, а ты под конец взял да и испортил дело!
Дядюшка Живописец постоял в нерешительности,
повернулся, вновь стукнул палкой о землю и пошел в
сторону своего дома.
— Очень уж ты похож на свою мать, — буркнул он.
— Как так?
— Вот она тоже всегда умела заставить меня поступать
по-своему.
* * *
На обратном пути они договорились, что пока не
станут посвящать в свою тайну никого из родных.
— Мне, конечно, неприятно обманывать твоих
родителей, — ворчал старик, — да только есть кое-что еще
неприятнее...
— Что?
— Обманывать всех остальных и знать, что твои мать
и отец видят это.
И старику пришлось скрепя сердце принимать
поздравления изумленных родственников и соседей.
— Просто не верится, дядя! — сказал Леонт.
503
— Я всегда знала, что дядюшка Живописец человек
очень одаренный, хоть вы этого и не замечали, —
укоризненно проговорила его жена.
— Молодец, дядюшка Живописец! — кричал Теон,
прыгая вокруг него. — Ты ведь пустишь меня на репетицию,
правда?
— А меня даже в театр не пустят, — уныло
вздохнула Ника.
— Мы все очень гордимся твоим успехом, господин, —
сказал Парменон с фамильярностью старого слуги.
Дядюшка Живописец совсем растерялся под этим
градом похвал и расспросов, но все же не забыл обратиться
к Леонту с просьбой, чтобы он разрешил Алексиду
пропускать занятия у Милона, если мальчик будет ему нужен
на репетициях. Леонт, конечно, не мог отказать старику, а
Алексид решил про себя, что будет "нужен" дядюшке
каждый день.
Алексиду было немножко досадно слышать, как
дядюшку Живописца хвалят и поздравляют, — ведь все эти
лестные слова по праву должны были бы говориться ему. Сам
же дядюшка, как только немного свыкся со своей ролью,
быстро вошел во вкус и забыл недавние тревоги. Без малого
семьдесят лет родные считали его неудачником, и вот теперь
он обнаружил, что купаться в лучах славы — довольно
приятное занятие. Алексид не стал ему мешать и чуть ли не
бегом направился в харчевню, чтобы поделиться новостью
с единственным человеком, который знал всю правду.
Коринна как раз выходила из дверей, неся на голове
пустой кувшин. Она чуть не уронила его, когда Алексид,
схватив ее за руку, начал бессвязно рассказывать о
случившемся.
— Как это замечательно, Алексид! — Ее лицо
просияло от радости.
Оглядевшись по сторонам, Коринна добавила:
— Проводи меня до источника. Мать ведь ждать не
любит... Ах, как я рада! И, по-моему, твой дядюшка просто
прелесть.
— Еще бы! То его терзают страхи, то он вдруг
приободряется, и тогда ему уже нравится делать вид, будто он
сочинил комедию. Одним богам известно, как мы проведем
все репетиции так, чтобы никто не догадался!
Тем временем они подошли к источнику. Коринна
подставила кувшин под струю, вырывавшуюся из львиной па-
504
сти. Прозрачная вода с журчанием наполнила кувшин, и
Коринна, грациозным движением поставив его себе на
голову, выпрямилась и повернулась, чтобы уйти.
— Если бы я могла тебе как-нибудь помочь! —
сказала она.
— Ты и так мне очень помогла, — ответил он
горячо. — Без тебя я, наверно, никогда не кончил бы "Овода".
На следующий день было официально объявлено, что
на празднике Дионисий будут показаны комедии
Аристофана, Эвполида и Алексида. Каждому из них был
назначен хорег, оплачивающий все расходы. Эта обязанность
возлагалась по очереди на всех самых богатых граждан Афин:
каждый из них должен был либо оплатить театральное
представление, либо снарядить военный корабль.
Расходы по "Оводу" должен был нести богач Конон.
Когда дядюшка Живописец услышал об этом, лицо его
вытянулось.
— В чем дело? — спросил Алексид. — Ты знаешь о нем
что-нибудь плохое?
— Не-ет, но лучше бы нам назначили кого-нибудь
другого.
— Но почему?
— Ну... — Дядюшка Живописец растерянно поскреб в
затылке. — Это трудно объяснить. Видишь ли, Конона
весельчаком не назовешь. Он редко бывает в Афинах... а в
театр не заглядывал уже много лет...
— Вот оно что! — Алексид досадливо нахмурился: вряд
ли от Конона можно было ждать большой помощи. — А
где он живет?
— У него имение под Колоном, и он его почти не
покидает. Говорят, он живет скромно, словно простой
земледелец, но денег у него, должно быть, много. Ему ведь
принадлежат серебряные рудники.
— Значит, он скряга?
— Да нет, пожалуй. В былые дни он даже славился
своей щедростью. Но последние годы он живет в деревне
настоящим затворником, и никто о нем толком ничего не
знает. Кроме, конечно, — тут дядюшка Живописец весело
усмехнулся, — государственного казначея.
— Какая таинственность! Нам надо будет сходить к
нему?
— Ну, он-то, во всяком случае, не явится в город,
чтобы повидать нас.
506
И вот в этот день вазы остались неразрисованными, а
два Алексида вышли за городские ворота в поля,
озаренные неярким солнцем. Был один из тех прозрачных
зимних дней, когда обнаженные ветви деревьев кажутся
особенно черными на фоне синего неба и одетых снегами
горных вершин. Над темной вспаханной землей с резкими
криками кружили белые чайки.
Наши путники миновали небольшой храм, прошли
через знаменитую соловьиную рощу, теперь, правда,
безмолвную, и спросили у пахаря, где им найти Конона.
— Конона? — повторил он и ткнул большим пальцем
через плечо. — А вы идите вон по той дороге — по той,
которая ведет к фиванской границе. Имение его в пяти
стадиях отсюда. Только застанете ли вы его дома... и как он
вас встретит... Ну, да сопутствует вам удача!
— И правда она нам как будто понадобится, —
пробормотал Алексид.
Эти пять стадиев показались им очень длинными.
Дядюшка Живописец, запыхавшись, остановился и тяжело
оперся на палку. Он вдруг вспомнил, что к фиванской
границе от Колона ведут две дороги. Может быть, они пошли
не по той, которую имел в виду пахарь?
— Слышишь? — сказал Алексид. — Нас нагоняет
какой-то всадник. Спросим у него, правильно ли мы идем.
Стук копыт становился все громче, и вот на фоне
синего неба и бегущих облаков над гребнем крутого холма,
с которого они только что спустились, возник всадник и
тотчас остановил своего коня, как будто удивившись при
виде путников. Он был высок и худ, лицо его казалось
высеченным из камня, а серый жеребец был словно создан
из мрамора, шелка и огня. У Алексида перехватило
дыхание: на секунду ему почудилось, что перед ним возник из
земли сам Посейдон, бог — укротитель коней.
Незнакомец собирался было повернуть коня и ускакать,
но, когда дядюшка Живописец окликнул его, он во весь
опор промчался по обрывистому склону и остановился
рядом с ними.
— Так ведь и убиться недолго, — заметил дядюшка
Живописец, поглядывая на опасную крутизну.
Всадник бросил на старика внимательный взгляд и, по-
видимому решив, что возраст дает тому право говорить все,
что угодно, ответил с сухим смешком:
507
— Если человек не боится смерти, ему ничто не
грозит. Я в этом не раз убеждался. Вы сбились с дороги?
— Да я и сам не знаю, — ответил дядюшка
Живописец. — Мы ищем имение Конона...
— Я Конон.
Алексид с интересом взглянул на всадника. Он был
моложе дядюшки Живописца, но гораздо старше Леонта.
Теперь, когда он приблизился, стало видно, что его
обветренное лицо изрезано глубокими морщинами. В далекие дни
молодости он, вероятно, был очень хорош собой. Даже
теперь его лицо хранило следы благородной красоты.
— Я Конон, — повторил он еще более резко и
перебил их, едва они начали свои объяснения. — Я знаю. Ар-
хонт-басилевс прислал ко мне утром гонца. Сколько вам
нужно?
— Ну... э... видишь ли...
— Вопрос скорее в том, — смело вмешался Алексид, —
сколько нам могут дать.
Конон в первый раз поглядел на него внимательно. Его
голос стал чуть мягче.
— А кто ты такой? Для его сына ты как будто молод. —
И он вопросительно посмотрел на дядюшку Живописца.
— Нет, нет, — торопливо ответил тот, — я не был
женат и, к моей большой печали, никогда не имел сына.
— Считай себя счастливцем. Твоя печаль могла бы
оказаться куда горше, — мрачно заметил Конон.
Воцарилось неловкое молчание, и дядюшка Живописец,
чтобы как-то прервать его, начал длинные и довольно
бессвязные объяснения:
— Это мой внучатый племянник. Он помогает мне с
комедией... У него очень ясная голова... и я взял его с собой
потому, что на его память можно положиться, а я с
годами что-то забывчив становлюсь...
— Это, пожалуй, не такая уж большая беда, как ты
полагаешь, — сказал Конон, думая, как показалось Алекси-
ду, о чем-то своем. Но потом, взяв себя в руки, он
продолжал: — Вы пришли издалека. Так отдохните у меня в
доме, и мы обо всем там поговорим.
Он повернул коня, и они пошли рядом. Чтобы нарушить
неприятное молчание, Алексид похвалил жеребца, и Коно-
ну это было, очевидно, приятно, хотя на его угрюмом лице
не появилось даже тени улыбки.
— Чем же еще заниматься в Колоне, как не разведе-
508
нием лошадей? — заметил он. — Ведь, если верить
легенде, впервые лошадь была объезжена именно здесь, и
селение было названо в честь человека, который сделал это.
Загородный дом Конона был довольно велик и стоял на
южном склоне скалистого холма. Над его кровлей
простирались ветви могучего орехового дерева, дальше тянулся
фруктовый сад — ряды старых, корявых яблонь, а
обвитая сухими виноградными лозами деревянная решетка
весной, по-видимому, превращалась в красивую беседку. Но
больше всего понравился Алексиду ручей, кипевший и
бурливший в узкой расселине.
Конон спрыгнул с коня, бросил уздечку удивленному
рабу и провел своих гостей в комнату, которая обогревалась
маленькой жаровней, полной раскаленных углей. Сидевшая
там красивая пожилая женщина молча собрала свое
рукоделие и встала, чтобы уйти, но Конон жестом остановил ее.
— Тебе незачем уходить, милая, — сказал он ласково
и, повернувшись к дядюшке Живописцу, пояснил: — Моя
жена Деметрия. Мы ведем здесь простую жизнь и не
соблюдаем городских обычаев. Не понимаю, почему хозяйка
дома должна, словно кролик, убегать из собственной
комнаты только потому, что к мужу кто-то пришел.
— Я хочу позаботиться об угощении для наших
гостей, — тихим голосом сказала Деметрия и, чуть-чуть
улыбнувшись, вышла, но вскоре вернулась в сопровождении
служанки, которая несла вино и лепешки.
— Да ведь это же одна из моих амфор! — воскликнул
дядюшка Живописец, радуясь, словно ребенок, и все
стали наперебой хвалить изящные фигуры, которыми он
украсил эту амфору двадцать лет назад.
— Мы ведем скромную жизнь, — сказала Деметрия,
садясь. — Но мой муж любит, чтобы то немногое, чем мы
пользуемся, было самым лучшим.
"Тонкая похвала", — подумал Алексид и посмотрел на
двоюродного деда, который чуть не мурлыкал от
удовольствия, удобно расположившись на мягкой подушке,
предложенной ему из уважения к его преклонным годам. Но
тут глаза Алексида встретились со спокойными серыми
глазами Деметрии.
— Возьми еще лепешку, — сказала она ласково. —
Сколько тебе лет? — И, услышав его ответ, вздохнула. —
Неужели? Через несколько месяцев и нашему было бы
509
столько же... — И, еще раз вздохнув, она склонилась над
своим рукоделием.
— Наши гости пришли поговорить со мной о
празднике. — Голос Конона вдруг снова стал резким. — А теперь,
почтенный старец, не скажешь ли ты, сколько вам от
меня нужно денег? Последние годы я не интересовался
театральными представлениями, но я готов дать столько,
сколько требуется.
— Спасибо. Ты очень добр,— ответил дядюшка
Живописец и с тревогой повернулся к Алексиду. — Э... я поручил
моему внучатому племяннику записать главные расходы.
— Вот список, — сказал Алексид, вынимая свиток из
складок хитона. — Двадцать четыре человека хора, причем
корифей получает двойную плату. Один флейтист. Ну, а
главным актерам платит архонт. Нам повезло с
жеребьевкой: все три актера очень хорошие — Дион и...
— Боюсь, что их имена мне ничего не скажут, —
быстро перебил его Конон. — Не помню, когда я в последний
раз был в театре.
— Шесть лет! — внезапно сказала его жена. — Ты ведь
знаешь, прошло шесть лет...
— Читай свой список дальше! — приказал Конон, и
лицо его совсем помрачнело.
Алексид послушно продолжал:
— Нужны будут еще и костюмы для актеров. Я
полагаю... то есть мой дедушка полагает, что их следует
сделать попестрее. Поярче. Нужны будут хитоны, плащи,
чулки, котурны, маски, накладные животы для толстяков...
И еще особый костюм для самого Овода, а потом у нас есть
"корова" с двумя людьми внутри...
— Как вы это сделаете?
— Ну, ведь есть ремесленники, которые изготовляют
актерские маски и все остальное.
— Больше ничего не потребуется?
— Это главное. Потом, конечно, могут быть
какие-нибудь непредвиденные расходы.
— Да-да, он записал все, что я ему говорил, —
вмешался дядюшка Живописец, решив, что слишком долго
оставался в тени.
— Сколько же на это потребуется денег?
Алексид назвал цифру, бросив на Конона неуверенный
взгляд. К его большому облегчению, тот сказал:
510
— Это немного. Не ограничивайте себя понапрасну.
Пусть все будет сделано как следует.
— Ты очень щедр, — сказал дядюшка Живописец.
— Я ведь не смогу взять свои деньги в могилу, не так
ли? Для чего же мне их беречь? — проворчал Конон. —
Я велю моему управляющему, чтобы он выдал вам,
сколько нужно. А если понадобится еще, дайте мне знать.
Они встали, и Конон, положив руку на плечо Алекси-
да, сказал дядюшке Живописцу:
— Ты, наверно, будешь очень занят, а от Афин сюда
путь не близкий. Можешь вместо себя посылать внука.
Я буду рад его видеть.
— Спасибо, — с немалым облегчением ответил
дядюшка Живописец. — Так, конечно, будет удобнее.
Солнце уже садилось, когда Конон вышел проводить их
и указал тропку, по которой можно было пройти прямо
через поля, сильно сократив дорогу. Небо на западе пылало
багрянцем, и на этом фоне ели, кипарисы и далекие горы
казались совсем черными.
— А он неплохой человек, если к нему
присмотреться, — сказал Алексид, когда они отошли так далеко, что
Конон уже не мог их услышать.
— Я все стараюсь вспомнить, что я такое о нем
слышал в давние времена, когда он еще был молод, —
пробормотал дядюшка Живописец. — Да-да, вот и его жена
тоже... Наверно, это тот самый...
— Какой "тот самый"?
— Помнится, один Конон удивил всех, женившись не
на молоденькой девушке, а на своей ровеснице — им
обоим было уже под тридцать. Они любили друг друга, а не
были сосватаны родителями, как это обычно делается.
— У них были дети?
— Не могу тебе сказать. Во всяком случае, долгое
время детей у них не было — я знаю это потому, что они очень
сильно горевали из-за своей бездетности. А что было
дальше, сказать не могу.
— Наверно, все-таки у них был ребенок, — заметил
Алексид. — Судя по их разговору.
— Не знаю, не знаю, — отозвался дядюшка
Живописец со стоном, так как его старые ноги уже сильно
разболелись от таких непривычных трудов.
Однако, когда они приблизились к большой дороге,
Алексид получил ответ на свой вопрос. Под темными елями
511
поблескивал в сумерках белый мрамор скромной
гробницы. Он сумел разобрать надпись на ней:
Путник, замедли свой шаг. Я, Ликомед, здесь покоюсь,
Конона сын, осенен зеленью темной ветвей.
Девять я сладостных лет пробежал по холмам
и по долам,
Ныне же кончен мой бег, ноги недвижны мои.
— Теперь я припоминаю, — тихо сказал дядюшка
Живописец, — он умер от лихорадки. Да, да, так оно и было.
Очень его жалко.
Алексид долгое время шел молча. Теперь он понял,
почему Конон шесть лет не был в театре.
...Репетиции начались через несколько дней — как
только актеры получили списки своих ролей и был нанят хор
из двадцати четырех человек. И тут-то Алексид убедился,
что именно хор доставит ему больше всего хлопот.
Актеры были достаточно опытны, и он не сомневался, что они
сумеют декламировать с должной выразительностью и
сами придумают много смешных штук. Актеров было всего
трое на семь действующих лиц — младший играл сразу
четыре второстепенные роли, — так что можно было не
заботиться о том, как размещать их на сцене. Алексиду
оставалось только предоставить их самим себе и надеяться
на лучшее.
Однако с хором дело обстояло по-другому. Хоревты
должны были двигаться медленно и размеренно,
разделяться на две половины, вновь сходиться и величественной
процессией обходить орхестру, и все это требовало
большой точности. Флейтист задавал им ритм, но все
остальное зависело от того, кто готовил представление. Алексид
очень быстро понял, что тут требуется настоящая
воинская дисциплина. Поддерживать ее было не по силам ни
дядюшке Живописцу, ни ему самому. К его огорчению, это
стало ясно с первой же репетиции. Хоревты упрямились,
исподтишка смеялись над ними, а корифей Главк
держался с дядюшкой Живописцем совсем уж дерзко.
Алексид пришел в отчаяние. Потом он сообразил, что
у него есть только один выход: Главка надо любой ценой
привлечь на свою сторону. Главк ему очень не нравился,
но Алексид понимал его точку зрения: опытному
предводителю хора не могло понравиться, что им командует новичок.
После репетиции Алексид заговорил с ним.
512
— Не надо обижаться на моего деда, — сказал он. —
Он ведь очень стар.
— Так стар, что ему нечего было браться за такое
дело, — с грубоватой откровенностью ответил Главк. — Не
могу взять в толк, как ему удалось написать эту комедию.
Сама по себе она неплоха, но он и понятия не имеет, как
репетировать с хором. Беда с этими стариками — им ведь
правды в глаза не скажешь.
— Конечно, — вкрадчиво поддакнул Алексид, — это,
должно быть, очень неприятно для человека, который, вроде
тебя, участвовал во многих представлениях и во всем
хорошо разбирается. Но вот что я придумал, Главк!
— Что же это?
— Видишь ли, меня-то он послушает. Так, может быть,
ты скажешь мне, как, по-твоему, следует вести эти танцы?
А я поговорю с дедом, да так, что он решит, будто все это
он сам придумал!
Главк засмеялся:
— А ты, как я погляжу, хитрец!
Однако он даже не догадывался, насколько хитер был
план Алексида: выслушивая замыслы Главка, он
присоединял к ним свои собственные так искусно, что корифей этого
не замечал. Дядюшка Живописец садился подальше от
сцены и, когда не мог расслышать, что говорят актеры,
начинал яростно размахивать руками. Словно для того, чтобы
поберечь свои старые ноги, он посылал к актерам Алексида,
и тот высказывал свои мысли, притворяясь, будто
исполняет поручение старика.
На дальнейших репетициях хором на деле управлял
Главк, и все пошло гладко. Конечно, говорил себе
Алексид, ничего особенного они сделать не сумеют, но, во
всяком случае, представление получится не хуже, чем у
других. И, значит, победу или поражение ему принесет сама
комедия — ее собственные достоинства или недостатки. Ну
что ж, да будет так!
У него теперь почти не было времени видеться с Ко-
ринной, но ей не терпелось узнать, как продвигаются
репетиции, и в конце концов они договорились встретиться
за городскими воротами и вместе пойти в пещеру. Недавно
выпал снег, и они с удовольствием несли по очереди теплый
горшок с углями.
514
— Бр-р-р! — сказала Коринна, дрожа от холода. — Ну
ничего, скоро наступит весна.
— Слишком скоро! До Дионисий осталось только
десять дней, а мы еще совсем не готовы.
Коринна потребовала, чтобы он рассказал ей все
подробности — от первого посещения Конона до последней
ссоры Главка с флейтистом. А что сказали в мастерской,
когда он попросил изготовить корову?
— Как все это интересно! — воскликнула она. —
Счастливец ты, Алексид! А вот мне никогда ничего...
— Ш-ш-ш! — перебил он, хватая ее за руку.
К этому времени они уже перебрались через
вздувшийся Илисс по заиндевелым камням, торчавшим из льдисто-
зеленой воды, и приблизились ко входу в пещеру. — Кто-
то побывал в нашей пещере!
Двойной след петлял между олеандрами и обрывался
у подножия скалы.
— Сейчас тут никого нет, — сказала Коринна. — Это
след одного человека. Он лазал в пещеру и вернулся.
И это случилось до того, как вчера выпал снег.
— Да, конечно, следы ведь наполовину засыпаны.
— Ну, так идем же. Это ведь наша пещера!
Они побежали через каменоломню и забрались в
расселину.
— Подумать только! — сердито сказала Коринна. — Он
разводил тут костер. Но нашего хвороста он не нашел.
Наложил сырого валежника, так что он даже и не сгорел
весь! — И она презрительно расшвыряла носком сандалии
обуглившиеся ветки.
— Погоди-ка! — воскликнул Алексид. — Что это такое?
Нагнувшись, он поднял узкую полоску опаленной
ткани шириной с мизинец.
— На ней что-то написано!
Глядя через его плечо, Коринна вслух прочла буквы:
— ОАНАЕНОПКТЫ... Какая-то бессмыслица, ничего
нельзя понять! — закончила она сердито.
— Нет, они что-то означают, — возразил Алексид. —
Только вот что?
СПАРТАНСКАЯ ТАЙНОПИСЬ
— Я знаю, что это такое! — взволнованно сказал
Алексид. — Это скитала!
515
— Что, что?
— Письмо на палочке! Так спартанцы сообщают
тайные известия.
— Но как они это делают?
— Накручивают пергамент или ткань, как вот эта, на
палочку виток за витком, словно повязку, а потом пишут
то, что им надо, вдоль палочки, и если полоску снять, все
буквы перемешиваются, как тут.
— И прочесть их можно, только если опять накрутить
полоску на палочку?
— Правильно! На ту же палочку или на точно такую
же.
— Но ведь мы не знаем, какая тут была палочка, —
огорченно сказала Коринна и растерянно поглядела на
зажатую в руке полоску ткани с буквами ОАНАЕНОПКТЫН-
ТЯМПОЕЙБПТЕИНЛПУРВГЯЧЬЛДИДИ.
Алексид тем временем осмотрел пещеру, слабо
освещенную тусклым зимним светом, проникавшим в нее
через расселину.
— Этот человек ночевал здесь. Натаскал целую кучу
сухих листьев и папоротника и устроил себе постель. А тут,
смотри, намусорил — бросил яичную скорлупу и
обглоданную кость.
— Как он только посмел — в нашей пещере...
Послушай, Алексид, как по-твоему, это был спартанский лазутчик?
— Не знаю. Но он чего-то боялся. А то с какой стати
он стал бы ночевать здесь, когда до города рукой подать?
Да и ближе можно найти приют в каком-нибудь селении.
— Если бы мы могли прочесть, что здесь написано!
— Можно попробовать. Но только надо набраться
терпения.
— Ну, — она вскочила на ноги, — бежим собирать
палки: прутья, ветки, сучья, пни...
— Не говори глупостей! Мы и без палок обойдемся.
Попробуй порассуждать сама. Ведь разгадка этой тайнописи
совсем не трудна, хоть тупоголовые спартанцы и
воображают, будто придумали невесть что.
— Наверно, я тоже тупоголовый спартанец, —
смиренно призналась Коринна.
— Ну уж нет! Подумай немножко.
— Вот я думаю и думаю...
Алексид взял первую попавшуюся ветку потолще и два
раза обернул вокруг нее полоску ткани.
516
— Это я только для примера, — сказал он. —
Посмотрим, сколько букв расположится вокруг палки. Семь.
Значит, будь-это та самая палка, за первой буквой шла бы
восьмая, а за ней пятнадцатая...
— ОПМ... Не слишком-то многообещающее начало!
— Это просто значит, что надо пропускать не семь букв,
а больше или меньше. Если, конечно, тут нет еще какой-
нибудь уловки. При таких мелких буквах промежуток не
может быть равен ни двум, ни трем, ни даже четырем буквам...
— Таких тоненьких прутьев просто не бывает?
— Вот именно. Нет, он должен быть больше пяти, но
меньше двенадцати, если только полоску не накручивали
на древесный ствол.
— Так, значит, — весело сказала Коринна, — нам
надо только посчитать буквы по-разному, пока мы не найдем
правильное сочетание?
Алексид кивнул.
— Мы знаем, что это, во всяком случае, не седьмые
буквы. Давай так: ты отсчитай шестые и меньше, а я
попробую восьмые и больше.
Они расправили полоску и принялись глухо бормотать,
словно колдуя. Но скоро Алексид испустил радостный
возглас.
— Замолчи! — возмутилась Коринна. — Ты меня сбил.
— Ничего! Я уже нашел. Надо читать восьмые буквы.
Вот смотри. — С этими словами он взял сучок и написал
буквы на песке в углу:
ОАНАЕНОП
КТЫНТЯМП
ОЕИБПТЕИ
КЛПУРВГЯ
ЧЬЛДИДИ
— Опять Гиппий! — воскликнула Коринна.
— Да, — мрачно ответил Алексид, читая столбики
сверху вниз. — "Окончательный план будет принят в доме Гип-
пия".
— План чего?
— Вот это мы и должны узнать.
Алексид вспомнил все подозрения, которые мучили его
почти год назад. Он не сомневался, что их находка как-то
связана с незнакомцем, которого он заметил на скачках с
факелами и чью статую видел затем в мастерской Кефала.
517
— Это какой-то заговор, — уверенно сказал он. — Гип-
пий, несомненно, сообщник Магнета. Говорят, Магнет
последнее время жил в Спарте, а это спартанская тайнопись.
Видишь, как тут все подбирается одно к одному? В
пещере ночевал либо сам Магнет, либо его гонец к Гиппию.
Меня очень тревожит этот "окончательный план". Они
задумали что-то недоброе.
— Захватить власть в Афинах?
Алексид кивнул.
— И это будет уже не первая такая попытка. Они
попробуют свергнуть демократию и сделать Магнета царем
или тираном. Правда, я не понимаю, как это может у них
получиться. Но, наверно, им обещали помощь спартанцы.
Спарта была бы рада уничтожить нашу демократию.
— Кому мы должны сообщить об этом? — деловито
спросила Коринна.
— В том-то и трудность. — Алексид досадливо крутил
в руке полоску с буквами. — Вот единственное наше
доказательство. А оно ведь немногого стоит. В прошлый раз
Лукиан все рассказал своему дяде, но Совет только
высмеял эти подозрения. Значит, нам надо найти какие-то более
убедительные доказательства, а уж потом сообщать им.
— Ты расскажешь Лукиану?
— Мне кажется, ему надо рассказать. Он ведь один раз
уже помогал мне. Не знаю, что он скажет теперь.
— Ну, одно он, во всяком случае, скажет непременно:
"Не рассказывай ничего этой девчонке. Ей незачем совать
нос в наши дела!" — обиженно сказала Коринна.
— Не думаю, — поколебавшись, ответил Алексид, но
про себя согласился с ней.
— Вы с Лукианом уже сделали все, что могли, —
настаивала Коринна, — а много ли было толку? Вы следили
за Гиппием и ничего не узнали. Да и что можно было
узнать на улице? Тут говорится, что все должно произойти
у него в доме, а как вы туда попадете?
— Ну, мы могли бы... могли бы как-нибудь туда
пробраться... или придумать еще что-нибудь.
— "Или еще что-нибудь"! — насмешливо передразнила
Коринна. — А девушку, которая может войти туда
совершенно открыто, не возбудив никаких подозрений, мы в
помощницы брать не хотим! Пусть не сует носа в наши дела...
— Я не понимаю, о чем ты говоришь.
— На следующей неделе перед самыми Дионисиями
518
Гиппий устраивает еще один пир. И он пригласил всех
своих влиятельных друзей. Вряд ли они попытаются захватить
власть до тех пор. Наоборот, этот пир, наверно, и
устраивается для того, чтобы они приняли свой "окончательный
план"...
— Может быть! Я попробую забраться в дом Гиппия,
спрячусь там и подслушаю...
— Перестань ребячиться, Алексид! — довольно грубо
перебила его Коринна. — Это ведь не игра. Или,
по-твоему, они не станут принимать никаких предосторожностей?
Но, конечно, если ты хочешь, чтобы тебе перерезали
глотку... В этот вечер вход в дом Гиппия непрошеным гостям
будет заказан. Если и вправду там соберутся
заговорщики, чтобы в последний раз все обсудить, то уж они
позаботятся о том, чтобы там не было никого, кроме своих.
Неужели ты не понимаешь, что единственными
посторонними там будут девушки — безмозглые дурочки, которые
годятся только на то, чтобы осыпать гостей розами и
развлекать их танцами? Или, — закончила она
многозначительно, — игрой на флейте.
— Что?! — с удивлением и испугом воскликнул
Алексид. — Не хочешь же ты...
— Почему бы и нет — ради благой цели? —
решительно ответила Коринна. — И не пугайся, пожалуйста. Со
мной ничего плохого не случится. А если, — тут она
засмеялась своим беззвучным смехом, — веселье станет
чересчур уж буйным, я пожую чесноку, и никто не подойдет
ко мне ближе чем на два шага.
— Но все-таки... — хотя Алексид не смог удержаться
от улыбки, представив себе, как гости шарахаются от
благоухающей чесноком Коринны, ее план ему очень не
нравился, и он попытался найти какое-нибудь возражение. —
Если это будет встреча заговорщиков, то на ней не будет
ни танцовщиц, ни флейтисток.
— Нет, будут, — возразила она. — Ведь это же пир,
а Гиппий всегда заботится о том, чтобы его гостей
развлекали музыкой и танцами. Если он вдруг решит обойтись
без них, могут возникнуть подозрения, и он это отлично
понимает. Наоборот, веселье наверняка будет шумнее
обычного, чтобы заговорщики могли незаметно шептаться по
углам. Да и о чем мы спорим? Он ведь уже говорил с матерью
и отдал все распоряжения. — Коринна встала и
отряхнула одежду. — Пора идти, а то нам придется перебираться
через реку в темноте. Я, как приду домой, сразу скажу,
519
что передумала и пойду вместе с танцовщицами. — Она
весело засмеялась. — Вот мать обрадуется!
Однако, по мере того как день пира приближался,
решимость Коринны слабела. Ей была противна мысль, что
она должна будет развлекать пьяных гостей Гиппия. Ее
бросало то в жар, то в холод, когда она думала о том, как
гости будут разглядывать ее и высказывать свое мнение о ее
наружности и игре, даже не понижая голоса. Детство,
проведенное в стенах харчевни, многому научило Коринну и
показало ей жизнь не с самой светлой ее стороны.
Только гордость мешала ей отступить. Нет, она
сдержит слово, твердила себе Коринна, но только бы скорее все
это осталось уже позади! Неужели день пира никогда не
придет!
Алексиду было легче. У него находилось достаточно
всяких других занятий. Шли последние репетиции комедии. Он
метался между театром и мастерской масок, он вытаскивал
дядюшку Живописца из гончарни, куда тот постоянно
стремился улизнуть, чтобы провести несколько спокойных часов,
чуть ли не каждый день он отправлялся в загородный дом
Конона, потому что Конон вдруг заинтересовался комедией
и требовал, чтобы ему подробно сообщали, как идут
репетиции. С Коринной он почти не виделся, да и во время этих
редких встреч они успевали обменяться только двумя-тре-
мя словами. Она даже воскликнула в шутливом огорчении:
— Ох уж эти мне поэты! Посмотреть на тебя, так
подумаешь, что на свете нет ничего важнее твоей комедии.
О том, что государству грозит опасность, помню как будто
только я!
Алексид недоуменно посмотрел на нее, а потом сказал
с улыбкой:
— А ведь ты почти права. Странно, до чего важным
представляется человеку его собственное дело. Знаешь,
какая мысль первой пришла мне в голову, когда мы прочли
спартанскую тайнопись?
— Конечно, знаю, — засмеялась она. — "Милосердные
боги, пусть заговорщики подождут, пока не кончится
представление моей комедии!"
— Да, боюсь, что это так и было. Ты чересчур хорошо
меня знаешь!
— Ты не виноват. Так уж созданы поэты.
520
— Просто стыдно становится за собственное
себялюбие, — сказал он огорченно. — Я ведь начал писать
"Овода", чтобы помочь Сократу. А теперь я об этом почти и не
вспоминаю. Я думаю только о том, чтобы комедия
понравилась зрителям.
— Но что же тут плохого? Чем больше она им
понравится, тем лучше будет для Сократа.
— Если бы так! — ответил он с жаром. — Мне
страшно подумать, что с ним случится что-нибудь плохое. А этот
заговор может навлечь на него еще худшую беду.
— Почему же?
— А потому, что он не хочет становиться ни на чью
сторону. Он обличает то, что считает ошибками
сторонников демократии, хотя и их противников тоже не щадит. Так
что и те и другие, вместо того чтобы уважать его за
беспристрастность, видят в нем досадную помеху. Если дело
дойдет до вооруженной схватки... — Алексид умолк, не
желая договаривать свою мысль. Он достаточно слышал о том,
как тираны захватывают власть, и знал, что в такие
времена даже греки забывают о благородстве и великодушии.
Через два дня Коринна собиралась на пир к Гиппию, в
большой дом, который он унаследовал от своего отца, эв-
патрида, расположенный недалеко от холма Ареопага. Она
горячо пререкалась с матерью.
— Я этого не надену! — решительно заявила она,
когда Горго принесла ей новый хитон.
— Что ты еще выдумываешь! — удивилась Горго,
пропуская прозрачную серебристую ткань между
мозолистыми пальцами. — Да это же настоящая косская работа!
Легче паутинки.
— Вот именно, — ответила Коринна, упрямо выставив
подбородок. — А я не муха.
— Ну, если тебе хочется выглядеть замарашкой, дело
твое. А в твои-то годы я бы глаз дала себе выколоть за
такой вот наряд. Все танцовщицы оденутся так, но тебе,
конечно, надо быть ни на кого не похожей!
Новая ссора вспыхнула из-за румян и белил. Коринна
охотно позволила завить свои темные волосы и уложить их
в затейливую прическу; не стала она спорить и когда
Горго обрызгала ее благовониями из маленького
алебастрового сосуда, хотя и улыбнулась, вспомнив про тайно
запасенный чеснок. Но, когда Горго потребовала, чтобы она натерла
лицо свинцовыми белилами, наложила румяна на щеки и
521
подвела сажей брови, как делали все другие танцовщицы
и флейтистки, она отказалась наотрез.
— Может, мне еще покрасить волосы или нацепить
парик? — насмешливо спросила она.
— А зачем, деточка? Волосы у тебя и без краски
хороши. А вот глаза не мешало бы подвести да щеки
нарумянить...
— По-моему, ты воображаешь, что я военный корабль,
который надо раскрасить на страх врагам!
— Я ведь только хочу, чтобы ты выглядела
покрасивей, — обиженно ответила Горго. — Рядом с остальными
ты покажешься просто бледным заморышем — при
светильниках-то. Да на тебя никто и внимания не обратит!
"Вот и хорошо!" — подумала про себя Коринна, а вслух
сказала, стараясь утешить мать:
— Нельзя мне краситься. Сама сообрази: когда я
долго играю на флейте, мне всегда становится жарко, да еще
среди такой толпы! Значит, я вспотею, и вся твоя краска
потечет — хороша я тогда буду, нечего сказать!
В конце концов Горго отказалась от мысли сделать
естественный румянец дочери еще более ярким, и Коринна
отправилась в дом Гиппия в своем шафраново-желтом
хитоне, совсем затерявшись в толпе накрашенных и
разряженных танцовщиц.
В ДОМЕ ГИППИЯ
Пир удался на славу, как бывало всегда, когда
хлопоты брала на себя Горго. Невысокие столы с остатками
цыплят, фазанов, перепелов, устриц, угрей и других лакомых
кушаний, изготовленных и украшенных ею по всем
правилам сиракузской кухни, были вынесены из зала. Рабы
быстро подмели пол и подали гостям воду для омовения рук,
а затем вновь поставили между ложами столы, на этот раз
ломившиеся под тяжестью блюд с фруктами, соленым
миндалем, всяческими сладостями и сырами. Внесены были и
амфоры с вином — красным, белым и желтым, — и с
чистой водой, с которой его смешивали в больших кратерах.
Гиппий стоял среди своих гостей, высоко подняв чашу
с вином, готовый выплеснуть из нее несколько капель в
честь богов, как того требовал обряд. Коринна, заглядывая
в дверь, подумала, что он как будто очень доволен и пи-
522
ром и самим собой. Его пышные локоны были, наверно, как
и ее собственные, еще совсем недавно накручены на
горячий прут. Когда он изящными жестами указывал рабам, что
делать, на его пальцах вспыхивали драгоценные перстни.
— Эй, музыку! — крикнул он, и она послушно поднесла
к губам свою флейту.
Гости хором затянули старинную песню,
знаменовавшую, по обычаю, начало второй половины пира. Едва они
умолкли, как Гиппий произнес: "Да будет нам ниспослана
удача!" — и совершил жертвенное возлияние, а затем,
перебивая шум разговоров, воскликнул:
— А теперь, любезные друзья, кого вы избираете
председателем пира?
— Гиппия! — раздался хор голосов.
Покраснев от удовольствия, польщенный хозяин дома
ответил:
— Я готов, если таково ваше желание! Решаю же я так:
сегодня мы пьем три к двум — три части воды на две
части вина — и начинаем с красного хиосского. Вы
согласны? Так наливайте же чаши, и пусть зазвучит музыка!
— Это он нам, пчелка, — раздался над ухом Коринны
хрипловатый шепот. — Идемте, девушки.
Играя веселую мелодию, Коринна стояла у дверей, пока
мимо нее одна за другой проплывали танцовщицы в
серебристых одеяниях. Затем, подавив невольный трепет,
вошла и она.
После прохладного дворика пиршественный зал
показался ей очень жарким. Кое-кто из гостей спустил с плеч
хитоны, их обнаженные по пояс тела блестели от пота, лица
побагровели, а венки на головах уже поблекли и увяли.
"И вот это-то, — подумала Коринна, отходя в самый
угол и стараясь стать как можно незаметнее, — и вот это-
то "лучшие" люди Афин!" У нее было достаточно
времени, чтобы хорошенько все рассмотреть. Играть ей
приходилось с перерывами; когда чаши вновь наполнялись вином,
музыка и танцы прекращались. Постепенно эти перерывы
стали все больше затягиваться. Некоторые гости
предпочитали болтать с танцовщицами, а не смотреть на них.
Председателю пира Гиппию уже не удавалось добиться общей
тишины, и гости постепенно разбились на несколько
оживленно беседующих групп. Коринна решила, что от тех
гостей, которые шутят с танцовщицами, она не услышит ни-
523
чего интересного, — наблюдать следует за теми, чьи лица
серьезны и чьи чаши уже давно не осушаются.
Она заметила, что Гиппий переходит от группы к
группе, перебрасываясь несколькими словами с каждой из них.
Собственно говоря, так и должен был вести себя хозяин,
однако Коринне показалось странным, что он не подходит
к тем гостям, которые собирались вокруг танцовщиц.
Кроме того, судя по выражению его лица и по тому
глубокому вниманию, с каким его слушали, он не просто
старался занять своих друзей приятной беседой.
Коринна уже не сомневалась, что именно сейчас
Гиппий прямо у нее на глазах выполняет задуманное —
отдает последние распоряжения своим сообщникам
Она любой ценой должна услышать, что он им говорит!
Но как? Гиппий вел себя очень осторожно. Хотя вино
разбавлялось сегодня мало, никто как будто не опьянел;
правда, гости шутили, поддразнивали танцовщиц, кидали друг
в друга изюмом и орехами, но все это было лишь
притворством. На самом же деле здесь происходило зловещее
собрание заговорщиков.
Только один раз Коринне удалось расслышать слова,
которые могли иметь важное значение.
— ...Гиппий спросит его при встрече.
— Да, но когда они встретятся?
524
— В ночь накануне Дионисий. Ему опасно приходить
в город, потому Гиппий отправится к нему сам
Вмешался третий голос:
— Я все-таки опасаюсь Совета Пятисот. Если они...
— Не беспокойся. Мы найдем ответ для них. Гиппий
же сказал нам: в опочивальне его супруги!
Раздался хохот, и даже на самых серьезных лицах
появилась улыбка. Коринна ничего не могла понять. В этих
словах она не увидела ничего смешного. И вдруг она
вспомнила: ведь Гиппий не женат! Однако это только еще
больше сбило ее с толку.
Она вытянула шею, стараясь расслышать как можно
больше, как вдруг, распространяя приторный запах
благовоний, к ней подошел сам Гиппий. Она вздрогнула — а
вдруг он догадался!
— А, флейтисточка! Дочка Горго? Так, значит, ты
наконец решила осчастливить нас своим искусством?
— Да, — пробормотала она.
— Прекрасно! Играла ты очень неплохо. Немного
позже подойди к моему столу, и я научу тебя пить вино. Я
хочу поболтать с тобой. Но пока я должен позаботиться о
моих гостях.
Он ущипнул ее и отошел, а Коринна стала пунцовой —
не от боли, конечно, а от негодования.
Некоторое время она сидела неподвижно, чувствуя себя
525
очень несчастной. Пока ей удалось узнать только одну
полезную вещь: накануне Дионисий Гиппий должен
встретиться с кем-то за стенами Афин — вероятнее всего, с Магне-
том. Не слишком-то много! И уж ради этого одного,
конечно, не стоило переносить столько неприятностей. Может
быть, уйти сейчас же и рассказать об этом Алексиду,
сознавшись, что она не дождалась конца пира? Ведь даже если
она и останется, ей вряд ли удастся подслушать еще что-
нибудь интересное.
Вдруг глаза ее загорелись. Какая удачная мысль! Что
за тайна связана с несуществующей супругой Гиппия, а
вернее, с ее опочивальней? Ведь комната-то эта существует,
раз в ней можно найти "ответ" на что-то.
Гиппий холостяк и, значит, не пользуется главной
спальней дома. Уверенность Коринны росла с каждым
мгновением: конечно, одно из тех доказательств, которые она
ищет, находится в этой комнате наверху. Только бы ей
удалось пробраться туда, и тогда у нее будет полное право уйти
с этого противного пира! А если Гиппий позже хватится
ее и мать начнет утром браниться, можно будет придумать
какое-нибудь оправдание, — например, что ей стало
дурно от духоты...
Приняв это решение, она подождала, чтобы Гиппий
повернулся к ней спиной, и тихонько выскользнула из зала.
Ночной воздух обжег ее разгоряченное лицо, но как
приятно было вдыхать его свежесть после приторных запахов
благовоний и вина! Дворик был полон рабов; кутаясь от
холода в плащи, они дожидались с фонарями, чтобы
проводить домой своих господ. Коринна заметила, что засов
на большой входной двери задвинут. Как же ей удастся
незаметно уйти отсюда?
Сняв сандалии, она стала осторожно взбираться по
лестнице на второй этаж, где находились спальни и помещение
для рабынь. Наверху горел один светильник, но и в его
неверном мерцающем свете можно было рассмотреть богато
украшенную дверь главной спальни. Сердце Коринны бешено
забилось, и она тихонько потянула за ремешок щеколды.
Внутри послышался легкий стук поднявшейся щеколды, но
дверь не отворилась. Она была заперта: прямо перед
глазами Коринны чернела пустая замочная скважина.
— Эй... кто там? — донесся с лестницы грубый окрик.
Коринна в ужасе оглянулась. Путь вниз был преграж-
526
ден, но рядом уходили вверх еще ступени, и она
побежала по ним. Позади слышался топот обутых в сандалии ног.
Коринна очутилась на плоской крыше. Небо было
усыпано звездами, но луна еще не взошла. Вон то бледное
пятно, должно быть, Акрополь, а вот тут, у самой стены
дома, вздымается крутой склон холма Ареопага.
— Ты что это тут делаешь? — крикнул ее
преследователь. — Воровать вздумала? Знаю я вас, бродяжек!
Коринна, повернувшись лицом к поднявшемуся на
крышу рабу, молча пятилась, пока не коснулась спиной
парапета. Что-то защекотало ее руку — она оглянулась и увидела
мохнатую вершину молодого кипариса. Коринна посмотрела
вниз. Какое счастье! С этой стороны дом почти упирается
в холм и стена не такая высокая.
Коринна бросила на землю флейту и сандалии и без ко-
527
лебаний кинулась в колючие объятия кипариса.
Несколько страшных мгновений дерево качалось, сгибалось,
словно стараясь сбросить девушку, царапало ее и отталкивало
ветвями. Она скользила по стволу, срывалась, снова
хваталась за сучья и наконец, оглушенная, вся в крови,
упала на землю. Кто-то выпрыгнул из мрака и помог ей встать.
— Ты не ушиблась? — спросил знакомый голос.
— Алексид! — Она чуть не заплакала от радости и
облегчения.
— Я бродил тут весь вечер, — сказал он хрипло. —
Очень боялся за тебя. Но, если ты не очень ушиблась, нам
лучше поскорей уйти.
— Во что превратилось мое бедное платье! — сказала
она жалобно, ощупью разыскивая свои сандалии, и
Алексид понял, что если она и ушиблась, то не очень больно.
* * *
На следующее утро они обсудили случившееся более
спокойно. Алексид был так занят последними
репетициями, что не мог выбраться в пещеру, и они договорились
встретиться на лестнице, ведущей на вершину Акрополя.
По ней непрерывно сновали люди, торопившиеся в
Парфенон и другие храмы или возвращавшиеся оттуда, и никто
не обращал внимания на юношу и девушку, которые,
опершись о парапет, серьезно беседовали вполголоса.
— Они что-то задумали, это верно, — сказала Корин-
на. — Ты должен сообщить об этом кому там полагается.
— Я знаю. — Он стиснул кулаки и тревожно
нахмурился. — Но только как их убедить? Ну посуди сама,
какие у нас есть доказательства?
— Ах, вот как? Сразу видно, что тебя не было вчера в
зале у Гиппия. Это просто в воздухе носилось.
— Так-то оно так... однако в зале не было не только
меня, но и членов Совета Пятисот, и архонта-басилевса, и
даже дяди Лукиана, и они не знают, что там носилось в
воздухе. Чтобы обратиться к ним, нам нужны
доказательства. А что у нас есть? Тряпка с тайнописью. Мы-то ее
разобрали, а вдруг они решат, что читать ее надо совсем по-
другому?
— Если человеку объяснить, как читается эта
тайнопись, а он не поверит, значит, он просто не хочет верить.
— В том-то и дело. Кое-кто из членов Совета может и
не захотеть поверить.
528
— Но почему же?
— Их же пятьсот человек! Неужели ты думаешь, что
среди них не найдется друзей Гиппия? Если бы мы могли
представить веские доказательства, Совету волей-неволей
пришлось бы принимать меры. А так эти сторонники Маг-
нета поспешат нас высмеять. Постарайся же понять, как
может взглянуть Совет на наш рассказ. Что для них слова
какого-то безбородого юнца и девушки, да еще к тому же
не афинской гражданки? Если нам не поверят, это может
плохо кончиться для тебя и твоей матери — на вас
наложат штраф, а то и изгонят.
— Я думала об этом, — устало сказала Коринна. — Это
будет последней каплей. Мать и так на меня зла. — Она
откинула темные кудри, которые ветерок, дувший с
вершины холма, сбрасывал ей на глаза. — Одним только
богам известно, почему я тревожусь за судьбу Афин. Будет
ли власть над ними принадлежать демократии или тирану,
я-то все равно останусь презираемой чужеземкой!
Алексид не обратил внимания на ее вспышку. Он
пытался привести свои мысли в порядок, как учил его Сократ.
— Какие у нас есть доказательства, кроме этой
тряпки? Несколько слов, которые ты услышала вчера. И ведь
никто даже не назвал Магнета. О том, что Магнет
замешан в заговоре, мы можем только предполагать... это
всего лишь наша догадка.
— Но ты же видел его на скачках! Вместе с Гиппием!
— Да, я так думаю. Я в этом даже совершенно уверен.
Но доказать этого я не могу. К тому же скачки были
почти год назад, а мне и тогда никто не поверил.
— Но они же вчера упоминали про Совет Пятисот!
— Конечно. Говоря о делах государства, нельзя не
упомянуть про Совет Пятисот. И ведь они не сказали ничего
подозрительного или противозаконного — о том, что они
собираются их всех убить, например.
— Они и на это способны. А то, что они говорили про
опочивальню, подозрительно. И она была заперта, не забудь.
— Ну и что тут такого? Гиппий не женат, и этой
комнатой никто не пользуется. Я говорю то, что ответят
члены Совета, — поспешно пояснил Алексид, заметив, что
Коринна обиженно нахмурилась. — А если они даже решат
осмотреть эту комнату, будь уверена, что тайные друзья
Гиппия в Совете успеют его предупредить. Когда эту дверь
529
откроют, тот, кто там скрывается, или то, что там
спрятано, будет уже где-нибудь в безопасном месте.
— Значит, я вчера только напрасно потратила время!
— Вовсе нет. Ты узнала еще одну очень важную вещь.
В ночь перед Дионисиями Гиппий должен с кем-то
встретиться — с Магнетом, конечно. До Дионисий остается
четыре дня. А пока ничего страшного не случится, это ясно.
Накануне праздника я буду следить за Гиппием.
— И пойдешь за ним?
— Да. И, если удача будет на моей стороне, я увижу,
с кем он встретится, и смогу сообщить Совету нечто
определенное.
— Я пойду с тобой...
— Ни в коем случае! — твердо сказал Алексид. — Если
человек заметит позади себя тень, это его не смутит, но
если их окажется две, то он, пожалуй, удивится. Нет,
говоря серьезно, ты сделала уже достаточно, и теперь моя
очередь. А одному мне будет легче.
НАКАНУНЕ
К вечеру накануне Дионисий Алексид совершенно
измучился или, по крайней мере, так ему казалось. Но,
когда настало время действовать, он вдруг обнаружил в себе
новые силы и решимость, о которых и не подозревал.
Последняя репетиция, как обычно, сопровождалась
множеством неприятных неожиданностей. Все шло не так.
Актеры путались или превращали бойкий диалог в подобие
заупокойной молитвы. Флейтист, наоборот, играл слишком
быстро, и хоревты сбивались в бесформенную кучу. Люди,
изображавшие корову, свалились со сцены, так как шкура
мешала им видеть как следует, и хотя, к счастью, кроме
собственного самолюбия, ничего не поранили, но согласились
продолжать репетицию лишь после долгих уговоров. Потом
заупрямился Главк и потребовал, чтобы были внесены
существенные изменения в речь, с которой он, по обычаю,
должен был в середине комедии обратиться прямо к зрителям,
пока все актеры оставались за сценой. Он заявил, что две
шутки уже устарели и это безнадежно портит всю речь.
Алексид скрипнул зубами, сделал вид, что советуется
с дядюшкой Живописцем, который, по обыкновению,
восседал в одном из задних рядов, и кое-как сочинил новые
шесть строк.
530
В довершение всего дядюшке Живописцу репетиция
очень нравилась, и он то и дело громко заявлял, что все
идет превосходно. Старик хохотал до слез и совсем забыл,
что должен делать вид, будто все это сочинено им самим.
— Авось зрителям комедия понравится так же, как она
нравится ее автору, — язвительно заметил Главк.
Алексид уже не мог поправлять ошибки, ссылаясь на
старика, — ведь все видели, с каким явным
удовольствием тот следил за представлением, не желая замечать
погрешностей. "А что будет завтра, — мрачно твердил себе
Алексид, — когда все скамьи заполнит праздничная толпа
зрителей!" Афиняне не прощают плохих представлений.
Ему оставалось только молить богов, чтобы публика
обошлась с бедным дядюшкой Живописцем снисходительно и
не обрушила на него чего-нибудь потяжелее насмешливых
слов.
Но и последняя репетиция когда-нибудь кончается,
особенно если за сценой ждут участники другой комедии,
представленной на состязание. И вот к вечеру Алексид побрел
домой и с жадностью съел обед, поджидавший его с полудня.
— Ночевать я буду у дядюшки, — сказал он матери.
— Так ли уж это нужно?
— Конечно. Мы должны быть в театре с самого
раннего утра. Ведь его комедию могут показать первой. Вдруг
случится что-нибудь непредвиденное? — ответил Алексид,
с ужасом вспоминая репетицию. — А кроме того, он
совсем измучился от этих волнений, и, по-моему, мне
следует быть рядом с ним, пока все не кончится.
— Да, милый. Разумеется, это нелегко для человека его
возраста. Но сколько же у дяди оказалось разных
талантов, о которых мы даже не подозревали!
Алексид уже предупредил дядюшку, так как
действительно собирался провести в его доме эту ночь, а вернее —
предутренние часы, когда он вернется, выследив Гиппия.
Дома же его исчезновение могли заметить. Он и так чуть
не попался в ночь пира: проводив Коринну до харчевни,
он с помощью Теона пробрался к себе, но тут залаяла
собака, отец проснулся и вышел посмотреть, в чем дело... Нет,
Алексиду не хотелось, чтобы все это повторилось еще раз.
Он ломал голову и над двумя другими задачами: как
не упустить Гиппия, когда тот выйдет из дома, и как
остаться неузнанным. К счастью, молодой эвпатрид жил на
оживленной улице, и за его дверью можно было наблюдать,
укрывшись за колоннами соседнего портика. Спросив у спе-
531
шившей куда-то рабыни, дома ли ее хозяин, и получив
утвердительный ответ, Алексид устроился в своей засаде.
Чтобы не привлекать к себе внимания и в то же время
изменить свою внешность, он вымазал лицо и руки грязью и
надел пастушескую одежду — рваную, засаленную
овчину, неуклюжие деревянные сандалии и широкополую
шляпу; рядом он положил небольшой узелок, в котором было
завязано всякое ненужное тряпье. "Полезно иметь доступ
к актерским костюмам", — подумал он с усмешкой.
Он сидел так до самой темноты, исподтишка
поглядывая на дверь Гиппия, но прохожие видели только усталого
пастуха, который отдыхает перед дальней обратной дорогой.
Если бы с ним заговорили, он готов был ответить на
настоящем деревенском наречии, но, к его большому
разочарованию, ему так и не пришлось пустить в ход эту уловку.
Отблески последних солнечных лучей скользили по
стене все выше и выше — вот они перестали озарять даже
кровли, и улица погрузилась во мглу. Небо из голубого и
розового стало зеленым. В верхних окнах замерцали
светильники. На улице заколыхались факелы. Сумерки
заливали Афины легкими лиловыми волнами.
Из дома Гиппия кто-то вышел. Это был сам Гиппий. Его
сопровождали два раба. Один из них нес факел, и у обоих
были посохи с железными наконечниками. Когда Гиппий
проходил мимо портика, на Алексида пахнуло
благовониями. Рабы следовали за хозяином на почтительном
расстоянии. Забыв усталость, Алексид вскочил, вскинул узелок на
плечо и пошел за ними.
Первые двадцать стадиев он мог идти, ничего не
опасаясь. Обсаженная деревьями дорога, которая вела от
городских ворот к восточным предгорьям, кишела людьми.
Гиппий важно шагал вперед, словно направляясь на пир в
загородный дом какого-нибудь приятеля, и, конечно, он не
мог заметить пастушка, который брел позади среди
множества таких же смутных фигур.
Но постепенно людской поток начал редеть. Над
черной глыбой Гиметтского кряжа показался лимонно-желтый
краешек луны, а вскоре из-за горы выплыл и весь ее диск.
Темнота перестала сгущаться, когда же луна поднялась еще
выше и стала серебряной, ее свет оказался куда более
ярким, чем этого хотелось бы Алексиду. Он отстал, как мог
дальше, и старательно держался в густой тени кипарисов
532
и оголенных платанов. Было так светло, что Алексия мог
любоваться мерцанием снежных вершин Гиметта и Пенте-
ликона, высоко уходящих в безоблачное небо над
уступами предгорий.
Вдруг раб Гиппия погасил факел. Алексид услышал, как
смолистое дерево зашипело в воде придорожной канавы.
Три закутанные в плащи фигуры свернули с дороги в
поля по направлению к Илиссу. Его вздувшиеся от зимних
дождей воды ревели на камнях где-то совсем близко.
Алексид последовал за ними, бросив свой узелок, —
теперь он был только помехой. Надо во что бы то ни стало
остаться незамеченным. Если Гиппий обнаружит, что его
выслеживают, так или иначе все пропало.
— Ну конечно! — с торжеством пробормотал Алексид.
Деревья и скалы вокруг были ему знакомы. Хотя обычно
они с Коринной ходили другим путем, он все же не
сомневался, что Гиппий пробирается к заброшенной
каменоломне. Да и нетрудно было догадаться, что заговорщики
условились встретиться в пещере, где была найдена полоска со
спартанской тайнописью. Теперь же Алексид был в этом
уверен.
"Если бы только знать заранее, — подумал он, —
можно было бы прийти сюда еще днем и спрятаться где-нибудь
в глубине пещеры". Но он тут же отбросил эту мысль. А
была ли пещера днем пуста? Сообщник Гиппия мог
поджидать его там с предыдущей ночи, и тогда Алексид угодил бы
в ловушку. Он вздрогнул. Вряд ли рвущиеся к власти
заговорщики пощадят попавшего к ним в руки соглядатая.
Теперь, поняв, куда они направляются, он свернул и
пошел через кусты привычным, давно знакомым путем.
Гиппий же и его рабы знали дорогу гораздо хуже, и впереди
слышался треск сухих ветвей, а молодой щеголь то и дело
испускал визгливые возгласы досады. Кравшийся в
стороне Алексид не сомневался, что среди такого шума никто
не услышит его шагов.
Когда они достигли входа в каменоломню, их кто-то
окликнул, и Гиппий назвал себя.
— Так мы и думали, — произнес грубый голос со
спартанским акцентом. — Этот шум давно возвестил о твоем
приближении.
— О боги! Ну, даже если мы и наступили на сухую
ветку, что за беда? На много стадиев вокруг нет ни единой
живой души.
533
— И все-таки шуметь незачем. Твои рабы пусть
останутся тут и помогут нашим людям нести дозор. Магнет в
пещере. Он спит — всю прошлую ночь мы плутали в горах.
Гиппий и его собеседник направились к пещере. По
шепоту впереди Алексид догадался, что, кроме рабов Гиппия,
там стоят еще несколько человек. Какая удача, что он знает
каменоломню как свои пять пальцев! Он пополз вправо,
обогнул стражу и благополучно проскользнул под укрытие
кустарника, тянувшегося до самой пещеры. Тут, к счастью,
было темно — мраморные утесы отбрасывали черные
тени. Каменоломня была похожа на огромную каменную
чашу, наполненную густым вином.
Вход в пещеру был озарен колеблющимся светом
костра. Алексид увидел, как две темные фигуры — Гиппий и
его спутник — вскарабкались на уступ. Чей-то незнакомый
голос произнес приветствие, и Алексид услышал, что
Гиппий с той же почтительностью, как и тогда, на скачках,
ответил:
— Мне прискорбно видеть, на каком жалком ложе ты
отдыхал! Но обещаю, что завтра твоя постель будет куда
удобнее.
— Не думаю, чтобы завтра кому-нибудь из нас
понадобились постели, — резко поправил его Магнет. — Но вот
в следующую ночь, если все кончится благополучно, нас
ждет приятный отдых.
— Я это и хотел сказать. Глупая оговорка.
— Ну, так садись. Ты уже познакомился с моим
достойнейшим другом, спартанцем Каллибием?
— Встретились у входа, — буркнул спартанец.
— Тогда перейдем к делу. Каллибий, разумеется,
посланец Спарты. Наш успех во многом зависит от помощи,
которую нам окажут его город и он сам. Но об этом не
следует говорить. Наши свободолюбивые сограждане весьма
щепетильны, Каллибий, и очень не любят чувствовать, что
чем-то обязаны чужеземцам.
— Знаю. Я помню, что мне приказано.
Трое собеседников ушли в пещеру. Теперь Алексид,
притаившийся под уступом, слышал лишь глухое бормотание,
которое к тому же сливалось с шумом маленького
водопада. Ему оставалось только пренебречь опасностью и
взобраться по сиреневому кусту к самой расселине. И снова ему
помогла привычка. Он столько раз взбирался на этот куст,
что его руки и ноги сразу нашли обычную опору. Ни один
534
сучок не треснул, ни один прутик не зашуршал, когда он
устроился среди веток так, что мог видеть заговорщиков,
сидевших у маленького костра, и слышать каждое их слово.
— Да, — горячо говорил Гиппий Магнету, — к
завтрашней ночи все подготовлено. Нельзя же упускать подобный
случай.
— Лучше бы вам выждать еще месяц, — проворчал
спартанец. — Нам было бы сподручнее... А впрочем... —
Он пожал плечами.
— Видишь ли, — вкрадчиво объяснил Гиппий, — нам
следует воспользоваться Дионисиями. Ты, наверно, не
видел, как их празднуют в нашем городе?
— Нет.
— Так вот: после окончания представления, когда
стемнеет, люди высыпают на улицы — это, право же,
отличный праздник, — одетые в самые разные маски: тут ты
увидишь и сатиров, и вакханок, и нимф, и граций... И,
значит, Магнету легко будет войти в город неузнанным.
Алексид недоумевал, почему Гиппий так долго внушал
ему страх. Прежде в нем, правда, чудилось что-то
значительное, но теперь, рядом с суровым, умным Магнетом и
угрюмым спартанцем он казался просто ничтожеством. Да,
Магнет куда опаснее: красные блики костра освещали его
жестокое лицо с крючковатым носом и торчащим
подбородком, похожим на таран боевой триеры, — такой
человек действительно способен захватить власть в городе,
который его изгнал.
— Я уже объяснил все это Каллибию, — перебил он
холодно, но не грубо.
"Он мирится с глупостью Гиппия, — сказал себе
Алексид, — потому что тот хоть и дурак, но не во всем. И
может быть очень полезным. И пока он полезен Магнету, тот
будет пользоваться его услугами, ну, а потом не хотел бы
я очутиться на месте Гиппия... А Магнет не только жесток,
но, очевидно, и очень умен. Он умеет ладить и с такими,
как Гиппий, и с такими, как этот спартанец, и, уж
наверное, сумеет произвести впечатление на собрание граждан..."
— Понятно, — пробурчал спартанец. — Из-за
праздника люди забудут об осторожности. Будут пить вино и
веселиться.
— Значит, Магнет войдет в город неузнанным, — как
ни в чем не бывало продолжал Гиппий. — А кроме того,
535
мы все сможем спрятать оружие под свои наряды и ждать
сигнала.
— Вот это дело! — одобрительно сказал Каллибий,
оживившись при слове "оружие". — А хватит его на всех вас?
То есть для первого нападения, пока вы не захватите
государственный склад оружия?
Гиппий снова засмеялся:
— Я позаботился об этом. У меня есть двести мечей,
столько же щитов, пятьдесят копий и много длинных
кинжалов, которые удобно прятать под одеждой...
— Где они?
— Надежно заперты в главной опочивальне моего
дома, куда никто не заходит со дня смерти моих родителей.
Алексид сильнее вцепился в гибкую ветку. Так вот
ответ на загадку, доставившую столько страданий Коринне!
Теперь все стало ясно, и его охватил страх. Еще день —
и на улицах Афин будет литься не вино, а кровь...
Забыв про усталость, накопившуюся за этот долгий и
утомительный день, не замечая судороги в ноге, зажатой в
развилке, он напрягал слух, чтобы не пропустить ни одной
подробности плана, о котором теперь рассказывал сам Магнет.
План этот предусматривал все. Магнет не упустил ни
одной мелочи.
Стойких поборников демократии решено было убить во
время праздника, но некоторых должностных лиц, не
отличающихся особым мужеством, заговорщики собирались
пощадить, чтобы превратить их в свое послушное орудие.
В городе будут распущены зловещие слухи, чтобы
народ в панике поверил, будто заговорщики гораздо
многочисленнее, чем это есть на самом деле. Так что, когда на заре
соберутся уцелевшие члены Совета Пятисот, никто не
будет знать, кому можно довериться и кто падет следующей
жертвой предательских кинжалов. И вот в эту минуту,
когда демократия останется без вождей, а заговорщики
захватят важнейшие здания города и запугают жителей,
кто-нибудь из друзей Магнета в Совете предложит, чтобы Магне-
та вернули из изгнания "ради спасения отечества". Мало кто
осмелится голосовать против такого предложения.
— А если такие и найдутся, — закончил Магнет,
презрительно кривя губы, — мы с ними разделаемся прежде,
чем они успеют повредить нам.
Но Магнет не забыл и о том, что Афины — не только
город. Отряды на границах, сказал он, будут застигнуты
536
врасплох и разоружены прежде, чем сумеют прийти на
помощь демократии. Что же касается войск, находящихся за
морем, "мы напомним им, что их семьи в наших руках, —
сказал Магнет. — И напомним об этом не только
полководцам, но и каждому воину, который вздумает упрямиться!"
Ну, а уж если заговорщики наткнутся на какое-нибудь
непредвиденное препятствие, их выручит спартанское войско.
У Алексида кровь застыла в жилах: как хитро все это
задумано!
Надо скорее бежать в Афины, разбудить архонта-баси-
левса и предупредить его о грозящей городу гибели. А
если он не поверит, пусть заставит открыть спальню в доме
Гиппия и увидит, что там хранится, прежде чем Гиппий
вернется и успеет раздать оружие своим друзьям.
Он уже готовился соскользнуть на землю, когда
Гиппий снова заговорил:
— Ах да! Я хотел бы прибавить еще одно имя к
списку тех, кого мы... уберем... завтра ночью.
— Кого же?
— Сократа. Его опасно оставлять в живых. Он не из
тех, кого можно подкупить или запугать. Он будет
говорить, что думает... и задавать свои возмутительные
вопросы... и кое-кто будет его слушать. Нам в такое время это
ни к чему.
Магнет на мгновение задумался, а потом ответил:
— Согласен. Пригодиться Сократ мне не может, а он
действительно опасен. Пожалуй, ему пора отправиться
задавать свои вопросы в подземный мир.
Алексид не стал больше слушать. Он беззвучно
скользнул вниз по стволу — прямо в объятия чьих-то сильных рук.
ЗАРЯ РОКОВОГО ДНЯ
— Кто это? — резко спросил Магнет, выходя на
уступ. — Кого ты схватил?
— Пастушонка, господин. Одежда на нем пастушья.
— Дай-ка я на него погляжу. Эй ты, почему ты
бродишь тут ночью?
Алексид перестал вырываться — раб крепко держал его,
скрутив ему руки за спиной. Быстро приняв решение, он
захныкал:
— Прости, господин. Я без всякого умысла. Прости.
537
Я не знал, кто тут, — думал, может, воры подбираются к
нашим овечкам...
— А почему ты догадался, что тут кто-то есть?
— Увидел костер, господин.
— И давно ты подслушиваешь?
— Я только сейчас подошел, господин, вот сейчас...
— Он врет, господин, — вмешался раб. — Он сидел
на дереве. Мы его потому и увидели. Его голову осветил
костер. Он глядел в пещеру. И, наверно, долго тут сидел.
Тем временем к Магнету подошли Каллибий и Гиппий.
Спартанец, выхватив из костра горящую головню,
нагнулся и осветил стоящих внизу. Гиппий вскрикнул:
— Это не пастух! Я его знаю. Это Алексид, сын Леон-
та. Он одно время болтался около Сократа. Наглый
бездельник...
— Понимаю, — тихо и грозно перебил его Магнет. —
Ну, Алексид, кто послал тебя подглядывать за нами?
— Никто, — угрюмо ответил Алексид.
— И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Так ли уж
часто афинские юноши из хороших семей бродят ночью по
горам? Почему ты не дома, не в городе?
Алексиду пришла в голову спасительная мысль.
— Тут неподалеку загородный дом моего отца, —
ответил он чистую правду. — Я часто остаюсь здесь на
несколько дней. И я люблю бродить ночью в темноте. Так я
готовлюсь к воинской службе. Неужели только спартанским
юношам позволено учиться выслеживать врага?..
— И ты для этого всегда так одеваешься? — спросил
Магнет.
— Ну... — не сразу нашелся Алексид. — Я не хотел
пачкать свою лучшую одежду, завтра ведь праздник...
— Он лжет, — сказал Каллибий. — Он опасен.
Наверно, слышал все, о чем мы говорили. Его следует...
— Нет, — ответил Магнет. — Мы не варвары. Когда
надо, мы убиваем без колебаний, но мы не проливаем кровь
напрасно. Да и к тому же он еще совсем мальчик. И
красивый, — добавил он с усмешкой, — если его
хорошенько умыть. Свяжи ему руки, Карион, и подними сюда.
— Значит, ты готов подвергнуть опасности все дело... —
сердито начал спартанец.
— Никакой опасности нет. Он останется здесь, пока все
не будет кончено, и не причинит нам никакого вреда. —
538
Магнет повернулся к Алексиду, которого тем временем уже
подняли на уступ. — Тебя хватятся сегодня ночью?
Алексид решил, что полезнее будет сказать правду.
— Нет.
— Тем лучше для тебя. Если рабы из вашего имения
начнут рыскать тут с факелами, это может кончиться плохо.
Нам, пожалуй, придется позволить им найти тебя... со
сломанной шеей. Запомни это, Алексид. Я не потерплю
никаких помех моему замыслу. Быть может, я не так склонен
проливать афинскую кровь, как мой спартанский друг, но,
если ты попробуешь сбежать, я тебя не пощажу. Ты понял?
-Да.
— Ты пробудешь здесь два дня. — Магнет вошел в
пещеру и указал на темный угол в глубине. — Ложись тут.
Свяжи ему ноги, Карион.
Алексиду очень мешали связанные руки. Он с трудом
опустился на колени и перекатился на бок, как больной
теленок. Раб связал ему ноги.
— Лежи смирно, — сказал Магнет, — и мы тебя
будем кормить, а когда все кончится, отпустим домой. Но
попробуй только крикнуть, и я выдам тебя Каллибию. Мне
некогда возиться с неблагодарными мальчишками.
Он и его друзья вернулись к выходу и продолжали
совещаться, но теперь уже шепотом. Вскоре Гиппий
попрощался и ушел. Каллибий и Магнет улеглись поперек
узкого входа в пещеру. Даже не будь Алексид связан, он не
смог бы выбраться наружу незамеченным.
Он лежал, и его томило отчаяние. Но к утру усталость
и духота взяли верх над душевной и телесной болью. Он
погрузился в тревожную дремоту, и в его снах странно
мешались театральные состязания и заговор. Вот он сам
выступает в своей комедии, скамьи битком набиты
зрителями, но только почему-то это не театр, а каменоломня. Он
хочет предостеречь зрителей, но может говорить только
стихами. И вот он начинает облекать свое предостережение в
стихи: очевидно, в его памяти были свежи усилия,
которых ему стоили изменения в монологе Главка, — во
всяком случае, еще не совсем проснувшись, он успел
сочинить несколько строк в том же размере:
Афиняне! Защитники свободы, берегитесь!
Вооружитесь и на страже будьте!
Вам враг грозит с горы, как коршун кривоклювый.
Сегодня маски прячут заговор.
540
Ждет Гиппия в опочивальне не супруга,
Но бронза острая, которая мала
Лишь заговорщикам у врат Афин!
Они звучали в его ушах так живо, словно он вовсе и
не спал; он даже услышал, как глашатай объявлял его
победителем состязаний. Все зрители кричали: "Алексид!
Але кс ид!"
Он открыл глаза и застонал, так все его тело болело
от неудобной позы.
— Алексид! Алексид!
Так, значит, это не сон? Кто-то действительно
произносил его имя — но тихим шепотом и у самого его уха.
Алексид хорошо знал Коринну и мог бы догадаться, что
она неспроста так легко смирилась и позволила ему
выслеживать Гиппия в одиночку. Она просто не стала тратить
время на бесплодные споры, решив про себя, что все равно
потихоньку пойдет за ним. Если она будет держаться поодаль,
Алексид — а уж тем более Гиппий — ничего не заметит.
Ну, а в случае беды она сможет прийти ему на выручку.
Так и вышло. Коринна добралась до самой
каменоломни, но побоялась ползти мимо стражи. Однако и оттуда она
услышала крики, когда Алексид был обнаружен, и
поняла, что его отнесли в пещеру. Но что произошло потом, ей
узнать не удалось. Когда все затихло, она решила, что
одна помочь ему не сможет, и помчалась обратно в Афины
по залитым лунным светом полям, легконогая, словно
сама охотница Артемида, — только вряд ли богиня
когда-нибудь бывала такой оборванной и перепачканной.
На ее счастье, городские ворота были открыты: из
окрестных селений в город уже начали стекаться люди, так
как театральное представление должно было начаться
сразу после восхода солнца, а каждому хотелось занять
место получше.
Коринна направилась прямо к дому Лукиана. Он все-
таки был лучшим другом Алексида. И она не знала, к
кому еще обратиться за помощью.
В доме уже проснулись. После некоторых
препирательств Коринне удалось упросить привратника сходить за
Лукианом, и тот вскоре вышел к ней, протирая глаза.
— Это ты? — возмущенно спросил он. — Да как ты...
541
— Я знаю, что ты меня не любишь, — решительно
сказала Коринна. — Но это неважно. Алексид попал в беду.
Она шепотом объяснила ему, что Гиппий виделся с Маг-
нетом в пещере и они схватили Алексида, когда он
пытался подслушать их разговор.
Лукиан забыл обо всем, кроме опасности, грозившей
его другу.
— Я сейчас же иду к отцу. Мы соберем вооруженный
отряд и...
— Нет, нет. Это может кончиться плохо... для бедного
Алексида, хочу я сказать. Они... — Она вздрогнула и,
поколебавшись, докончила: — Они что-нибудь сделают с ним.
Или оставят его заложником, если им придется силой
пробиваться к границе.
— Ты права, — ответил Лукиан и задумался.
Коринна вдруг почувствовала, что вся ее прежняя
неприязнь к нему исчезла. Как он побледнел! Наверно, он все-
таки очень любит Алексида.
— Надо подумать, — продолжал Лукиан. — Не
удастся ли нам одним спасти его?
— Можно попробовать, — ответила она и рассказала
ему свой план.
Он удивленно посмотрел на нее:
— И ты не сказала про это Алексиду?
— Нет. В первый день я не хотела вам говорить. Я ведь
не знала, как все потом обернется, и моя тайна могла мне
пригодиться. Так уж учила меня мать, — пояснила она с
виноватым видом, — не слишком-то доверять людям.
Потом я хотела рассказать Алексиду, но не решилась. Мне
не хотелось, чтобы он знал, что я тогда сказала неправду.
Лукиан затянул ремни сандалий, и они незаметно
выскользнули на улицу, где было уже почти светло.
— А почему ты сразу этого не сделала? — спросил
Лукиан.
— Опасно. Кому-нибудь надо отвлечь их от пещеры.
— Да, конечно... Ну, во всяком случае, я рад, что ты
позвала меня.
Они миновали городские ворота. Небо над Гиметтом
медленно краснело, а на его снега уже лег розовый румянец.
* * *
— Алексид! Алексид! — шептала Коринна ему на ухо.
Он пошевелился, застонал и вдруг узнал ее.
542
— Молчи, — предупредила она. — Повернись на бок.
Он подчинился, и она принялась резать ремни,
связывавшие его руки. Перед собой он видел неровный клочок
серого неба в рамке зубчатых краев расселины. Костер
давно погас. Рядом с ним валялись плащи, сандалии и пустая
амфора. Ни Магнета, ни Каллибия не было видно, но он
услышал их голоса — они о чем-то возбужденно
совещались у входа в пещеру.
— Я же развязала тебе ноги, — сердито шепнула Ко-
ринна. — Разве ты не чувствуешь? Да ведь они у тебя
совсем затекли! — Она обхватила его за плечи и помогла
встать. — Нам надо скорее уходить отсюда.
Только теперь он сообразил, в каком отчаянном
положении они находятся.
— Как ты пробралась мимо них? — хрипло прошептал
он. — Теперь и ты в ловушке! Ты слышишь их... нам не
спастись...
— Сюда! — И она потащила его в глубину пещеры.
— Что толку? — пытался спорить он. — Они начнут
искать, найдут нас, и тогда...
— Они нас не найдут. Иди за мной. Тут мы полезем
вверх. Только здесь узко. Смотри не ушиби голову.
Теперь они карабкались вверх по крутому проходу.
Алексид слышал тяжелое дыхание Коринны где-то над своей
головой. Потом чуть посветлело, и он уже мог различить
ее спину. Когда же он в следующий раз поднял глаза, то
увидел ее черный силуэт на фоне светлого пятна. Вскоре
они уже выбрались на вершину скалы. Морской ветерок
трепал их волосы, а кругом вздымались горы, одетые
блеском солнечного утра.
— Ты мне не говорила об этом проходе, — сказал
Алексид обиженно, вспомнив тот день, когда они с Лукианом
собирались осмотреть пещеру с факелами, а она напугала
их рассказом об обвале.
— Это была моя главная тайна. Я ведь тогда не знала,
какими вы окажетесь — ты и Лукиан. Да, кстати, он
сейчас где-нибудь вон там. — Она указала на лесистый склон,
круто уходивший от каменоломни туда, где среди
деревьев белели вспененные волны Илисса.
— Лукиан?!
— Да, он шумел там в кустах, чтобы выманить их из
пещеры. Мы решили, что они наверняка все кинутся туда
544
посмотреть, в чем дело. К счастью, так и вышло. А с Лу-
кианом ничего не случится. Им его ни за что не поймать.
— Конечно. Но и нам лучше уйти отсюда поскорее —
сказал Алексид. — Ведь они могут найти проход и
броситься за нами в погоню. — Он внимательно огляделся. —
Я знаю другую дорогу отсюда, которая ведет в сторону от
каменоломни. Побежали?
— Побежали! Знаешь, я совсем забыла, ведь сейчас
начинается представление. Сегодня же Великие Дионисии!
— Я думаю не об этом, — сказал он мрачно, когда они
побежали по тропке, петлявшей в лесу. — Сегодня
заговорщики попытаются захватить власть! Нам нельзя терять
ни минуты.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС
Когда они добрались до помещения ддя актеров,
празднество уже началось. До них доносился глухой гул,
напоминавший рокот моря, — это переговаривались и смеялись
зрители.
Первым они увидели дядюшку Живописца. Совсем
растерявшийся старик бросился обнимать внука:
— Слава богам! Наконец-то ты пришел! Хорошо еще,
что наша комедия самая последняя...
— Мы уже боялись, не случилось ли с тобой
чего-нибудь, — произнес спокойный, ласковый голос, и Алексид
с удивлением увидел перед собой улыбающегося Конона с
венком на голове.
Суровый хорег постепенно заинтересовался комедией,
которую оплачивал, но он не говорил о том, что
собирается покинуть свое сельское уединение, чтобы посмотреть ее.
— Я решил на этот раз нарушить свой обычай и
побывать в театре, — сказал он, словно чувствуя, что нужны
какие-то объяснения. — Я пришел пожелать тебе удачи. —
Тут он заметил одеяние Алексида и, нахмурившись,
добавил: — Но почему на тебе эти лохмотья? Ведь ты сам не
собираешься выступать? И эта девушка... — Он поглядел
на Коринну и вдруг умолк. — Кто ты? — спросил он
хрипло. — Как... как ты сюда попала?
— Нет закона, который запрещал бы женщинам бывать
в театре, это только глупый обычай, — ответила Корин-
545
18 532
на. — И у меня есть к тому же особая причина, так что
не возмущайся этим.
— Я не возмущаюсь, но благовоспитанным девушкам...
Тут его перебил Алексид. Разговор о том, почему Ко-
ринна очутилась в театре, можно отложить, у них есть
более важное дело. Необходимо сообщить должностным
лицам о заговоре, и лучше всего это мог бы сделать Конон.
Отец, дядя Лукиана и все другие его знакомые затерялись
в человеческом море на скамьях амфитеатра, а от
дядюшки Живописца толку будет немного.
— Я должен поговорить с тобой, Конон, — сказал он. —
Это очень важно.
И Алексид вполголоса начал рассказывать Конону все,
что знал о заговоре.
Конон, извинившись, опустился на табурет: он рано
ушел из дому, отвык от людских толп, и теперь у него
немного кружилась голова. Он слушал, не перебивая, и лишь
изредка кивал. Затем он встал и расправил складки
плаща; его худое лицо стало еще более суровым.
— Какая гнусность! — сказал он.
— Кому мы должны рассказать об этом? Архонту-ба-
силевсу?
Конон покачал головой.
— Это дело коллегии стратегов. Их, как ты знаешь,
десять, и они исполняют свои обязанности по очереди. Я не
знаю, кто из них командует сегодня, но это и неважно. Они
все сидят в первом ряду вместе с архонтами.
— А можно к ним подойти?
— Да, я могу это сделать. Мое место неподалеку — я
ведь хорег комедии твоего деда. Вот что, — решительно
продолжал Конон. — Я попробую поговорить с ним, когда
кончится первая комедия. Перерыв будет длинным, и я
попрошу его прийти сюда. А пока, — закончил он, бросив
многозначительный взгляд на овчину Алексида, — поищи себе
более праздничный наряд. Надо выказать Дионису больше
почтения, не так ли?
Взрыв рукоплесканий возвестил об окончании первой
комедии, и Конон ушел. Хор, едва покинув орхестру, тут
же нарушил торжественный строй, и помещение
наполнилось множеством людей: хоревты и актеры, занятые во всех
трех комедиях, не говоря уж о трех соперниках-поэтах, их
друзьях, флейтистах, театральных машинистах и прочих.
Понимая, что Конон в любую минуту может вернуться сюда
546
со стратегом, Алексид шарил повсюду, пока не нашел
наконец довольно чистый хитон, пару сандалий на не
слишком толстой подошве и свободное местечко в уголке за
дверью, где он мог быстро переодеться и навсегда сбросить с
себя овчину. Она уже сослужила свою службу.
— Тебе нужен еще венок, — сказала Коринна,
заглядывая в дверь. — Вот, держи.
— Где ты его взяла?
— Нашла, — ответила она лукаво. — Но мне лучше
отсюда уйти, на меня все косятся.
— А куда ты пойдешь? — спросил он, надевая венок. —
Где мне тебя искать, когда все кончится?
— Как — где? У меня дома! Самое место для
"благовоспитанной девушки"!.. А Конон мне очень понравился.
Он такой вежливый... Ах, вон он идет! Прощай, Алексид...
желаю тебе удачи!
Она убежала, а Алексид вышел за дверь навстречу Ко-
нону. Тот приближался к нему вместе с человеком
средних лет, в котором нетрудно было угадать опытного воина.
Разговаривать внутри было бы невозможно — в перерыве
между комедиями там стоял оглушительный шум.
— Вот этот юноша, почтенный стратег, — сказал
Конон. — Уверяю тебя, на него можно положиться.
Алексид расправил плечи и смело встретил
испытующий взгляд проницательных серых глаз.
— Сын Леонта, атлета, если не ошибаюсь? —
отрывисто сказал стратег. — Что же, юноша, ты оказал Афинам
большую услугу. Но времени терять нельзя.
Он засыпал Алексида вопросами, на которые тот
отвечал быстро и уверенно. Однако из главных заговорщиков,
кроме Гиппия, он мог назвать лишь двух-трех, которых
Коринна заметила на пиру.
— Гм! — пожевал губу стратег. — В том-то и трудность.
— Какая?
— Ну, предположим, мы после конца представления
схватим тех, кого ты назвал. А что сделают остальные? Если
они достаточно сильны, они приведут свой план в
исполнение и нанесут удар, не медля, и, значит, на улицах Афин
сегодня начнется братоубийственная резня, милый юноша,
а ее лучше бы избежать, пусть даже мы и победим
благодаря твоему своевременному предупреждению.
— Может быть, они не посмеют, — с надеждой
сказал Алексид.
547
— Тогда они затаятся, и мы так и не узнаем, кто это.
И, значит, резня начнется не сегодня, а через полгода или
через год, когда они вновь соберутся с силами. Понимаешь,
юноша? Вот если бы мы могли захватить их всех разом!
— Надо придумать какую-нибудь хитрость, — сказал
Конон, — чтобы они сами себя выдали. Я помню одно
старинное предание о царе, который знал, что среди его
приближенных есть заговорщики, но не знал, кто именно. Он
приказал рабу вбежать в пиршественный зал и закричать:
"Все открыто!" — а сам по выражению их лиц...
— Да, да, помню, — с досадливым смешком ответил
стратег. — Но не хочешь же ты, чтобы мы проделали то
же самое в театре? Ведь и Гиппий и его друзья сейчас
здесь — его я видел собственными глазами. Но мы не
можем наблюдать за выражением тысяч лиц...
— Конечно, нет, почтенный стратег. Я не говорю, что
следует пустить в ход именно эту хитрость. Надо
придумать что-нибудь более соответствующее обстоятельствам,
но, признаюсь, мне ничего не приходит в голову.
— Нашел! — вдруг воскликнул Алексид. — Если
Гиппий в театре, значит, он не знает, что я спасся. Магнет,
может быть, и послал к нему вестника, но тот не сумеет
разыскать его в этой толпе — ему придется ждать конца
представления. Но если бы Гиппия все-таки предупредили, что
заговор раскрыт, стал бы он и дальше смотреть комедию?
— Вряд ли, — сухо заметил стратег. — Думаю, что он
немедленно попробовал бы бежать в Спарту.
— И все заговорщики последовали бы его примеру, —
особенно если бы они заметили, что он очень торопится?
— Конечно! Крысы все вместе бегут с тонущей
триеры. Но как же мы можем этого достичь? Надо во что бы
то ни стало избежать беспорядков в театре. Ведь это же
праздник в честь бога Диониса!
— Мы можем предостеречь всех заговорщиков разом
и так, что никто, кроме них самих, тебя и других
стратегов, не поймет, о чем идет речь.
— Как же это можно сделать, юноша?
Глаза Алексида заблестели.
— С орхестры! Ты поставь стражу у всех выходов, и
пусть они хватают каждого, кто попробует уйти с моей
комедии. А я сочиню такие строки, что все заговорщики
кинутся без оглядки улепетывать к границе.
548
Когда Главку было приказано в последнюю минуту
выучить еще семь строк, он принялся было ворчать, но
стратег быстро его образумил. Он будет говорить то, что
велит ему младший Алексид, и не изменит ни одного слова.
И чтоб никто ничего не знал об этих новых строках до тех
пор, пока они не будут произнесены с орхестры!
— Смотри не бормочи их вслух, пока учишь, —
предупредил стратег. — Ни с кем о них не советуйся и даже
не думай о них. Только произнеси их в положенное
время, да так, чтобы их хорошо расслышали даже на самом
верху амфитеатра. Речь идет о жизни и смерти. И, если
из-за тебя что-нибудь выйдет не так, тебя будут судить за
государственную измену, это я тебе обещаю, — закончил
он грозно.
"Хорошо, — подумал Алексид, — что Главк уже
давно выступает предводителем хора: новичок до смерти
перепугался бы непонятных угроз стратега и все перепутал
бы". Но актерская гордость Главка была задета, и он с
достоинством ответил, что, разумеется, произнесет любые
порученные ему строки со всем тщанием и четкостью.
— Ну, смотри же, — сказал стратег и добавил,
обращаясь к Алексиду: — Из-за тебя, милый юноша, мне не
придется досматривать представление. Очень жаль. Мне
было бы любопытно посмотреть последнюю комедию — никак
не могу понять, кто ее сочинил.
Он ушел, чтобы заняться необходимыми
приготовлениями. Надо было расставить стражу у выходов из театра,
закрыть городские ворота, поставить охрану у всех
важнейших зданий и захватить оружие, спрятанное в доме Гип-
пия. Вторая комедия уже началась, и в его распоряжении
было не больше двух часов.
Тем временем Алексид торопливо писал на восковой
табличке. Странно, как хорошо он помнит строки,
сочиненные в полусне! Правда, они довольно корявы, но зато в них
сказано все, что нужно. Заговорщики наверняка поймут их,
узнают крючковатый нос Магнета в "кривоклювом
коршуне" и сообразят, что все их замыслы раскрыты — и захват
государственного оружия, и использование праздничных
масок, и тайный склад мечей и кинжалов. Во сне разум
способен на странные вещи. Может, Платон был и не таким
уж безумцем, когда утверждал, что дух спящего человека
бродит по неведомым мирам — сновидениям?
549
— Вот, бери, Главк, — сказал он, протягивая дощечку
корифею. — И никому ее не показывай! Помнишь, что
говорил стратег?
— Помню, — угрюмо отозвался предводитель хора.
Кончилась вторая комедия. А затем настал и миг,
который Алексид так часто рисовал в своем воображении.
Зрители умолкли, и глашатай встал, чтобы объявить
последнюю комедию. Голосом, который достигал самых
отдаленных рядов амфитеатра, он произнес обычную формулу:
"Алексид, сын Леонта, предлагает свою комедию..."
* * *
Младший Алексид был, пожалуй, единственным в
театре человеком, которому первая половина "Овода" не
доставила никакого удовольствия. Впоследствии он даже не
мог вспомнить, что, собственно, он видел. Он слишком
напряженно ожидал решительной минуты в середине
комедии, когда актеры покинут орхестру, а Главк, подойдя к
самому ее краю, произнесет речь, обращенную к зрителям.
Пока же его раздражало все, что отдаляло эту минуту, —
550
даже взрывы хохота, которые вызывали его шутки,
потому что актеры, выжидая, пока зрители немного стихнут,
бездействовали. Чтобы лучше видеть и чтобы не слышать
бессвязной болтовни взволнованного дядюшки Живописца, он
забрался на высокую площадку, где появляются актеры,
изображающие богов, вещающих с неба, и, скорчившись
так, чтобы остаться незамеченным, осторожно поглядел
вниз. Узкие подмостки были почти целиком скрыты от его
взгляда, и он не видел актеров, хотя их звучные голоса
доносились до него совершенно отчетливо. Но зато большая
круглая орхестра была видна вся, и он мог наблюдать, как
Главк и хоревты то застывали, словно статуи, то начинали
двигаться в сложном танце. За орхестрой он мог
разглядеть первый ряд амфитеатра — удобные кресла, где
посредине, на почетном месте, восседал верховный жрец
Диониса, а справа и слева от него располагались архонты и
другие высокопоставленные лица. Одно из кресел
пустовало — кресло стратега, с которым он только что
разговаривал. А дальше рядами, восходящими к великолепным
храмам Акрополя и к синему весеннему небу над ним, сиде-
551
ли тысячи и тысячи зрителей, загорелых, украшенных
венками, в пестрой праздничной одежде.
И где-то на этих переполненных скамьях сидят Гиппий
и его сообщники... Алексид сжал кулаки так, что ногти
впились в ладони. Напряжение становилось невыносимым.
Наконец-то! Главк приблизился к краю орхестры — кто
узнал бы его в этой комической маске и полосатых
чулках!. Зрители приготовились посмеяться вволю. В этой
речи поэт обращался прямо к ним от собственного имени, а
не вкладывал ее в уста своих персонажей. Одна за другой
острые шутки на злобу дня заставляли ряды зрителей
колыхаться, как ржаное поле под ветром. Упоминание о
Сократе вызвало взрыв добродушного хохота. А, старик
Сократ! Не так уж он и плох... Да он полезнее Афинам, чем
многие другие, кого мы могли бы назвать...
Но вот Главк перешел на более серьезный тон. Голос
у него был великолепный. Он гремел, заполняя огромную
чашу амфитеатра, доносясь до последнего ряда под самым
небом. Главк предупреждал зрителей, что Афинам грозит
опасность, куда более серьезная, чем поучения философа.
И наконец в мертвой тишине прозвучали
заключительные строки:
Афиняне! Защитники свободы, берегитесь!
Вооружитесь и на страже будьте!
Вам враг грозит с горы, как коршун кривоклювый.
Сегодня маски прячут заговор.
Ждет Гиппия в опочивальне не супруга,
Но бронза острая, которая мила
Лишь заговорщикам у врат Афин!
Главк отступил назад к хору. Раздались хлопки, но
довольно неуверенные. Среди зрителей послышался
недоуменный ропот, но он затих, когда на подмостки вернулись актеры
и впервые появилась "корова", вызвав неудержимый хохот.
Однако нашлись среди зрителей и такие, у которых
заключительные строки не вызвали никакого недоумения.
И они не стали любоваться проделками "коровы".
Со своего насеста Алексид видел, как по всему
амфитеатру то тут, то там поодиночке, по двое, по трое
поднимаются отдельные фигуры и начинают проталкиваться к
выходу. Их соседи негодовали, и на некоторое время внимание
зрителей было отвлечено ворчливой бранью и возгласами:
552
"Да садитесь же!" Однако "корова" какой-то проделкой,
которой Алексид не видел, вызвала новые громовые
рукоплескания, и все взгляды зрителей опять устремились на
подмостки. Непонятный уход нескольких грубиянов был
скоро забыт, и все устроились поудобнее, чтобы ничего не
упустить из второй половины комедии.
Так же поступил и ее молодой сочинитель. Хитрость
удалась. Афины были спасены.
* * *
Когда Лукиан, отыскав наконец своего друга, забрался
к нему наверх, ему пришлось дважды толкнуть Алексида,
прежде чем тот обратил на него внимание. Алексид
сердито обернулся, но резкие слова замерли у него на губах,
когда он увидел приятеля и вспомнил, чем ему обязан.
— Спасибо за помощь, — прошептал он.
— Не за что. Это было очень забавно. Ну и погонял же
я их по реке! Послушай, Алексид, а у всех выходов стоит
стража!
— Знаю. Я тебе потом все расскажу... Лукиан, —
хриплым шепотом попросил Алексид с прямотой, какая
возможна только между самыми близкими друзьями, — помолчи
пока, ладно? Надо же мне послушать мою комедию!
— Твою комедию? — недоуменно повторил Лукиан.
Но Алексид уже отвернулся и глядел на залитую
солнцем орхестру, где вновь начали ритмично двигаться хорев-
ты, похожие сверху на пестрых жуков. Лукиан не стал
повторять своего вопроса. Блаженное выражение на лице его
друга служило достаточным ответом. Полный гордости за
Алексида и любопытства, Лукиан скорчился рядом с ним,
и так, не шевелясь, они пролежали до конца представления.
Значит, все это и вправду сочинил Алексид! Шутки, от
которых покатывается весь амфитеатр, красивые строфы
хора, которые заставляли слушателей благоговейно затаить
дыхание... В горле Лукиана поднялся комок, когда
раздались заключительные строки, в которые Алексид вложил
все, что думал об Афинах, всю свою любовь к родному
городу, строки, которые еще многие годы повторяли
афиняне, в какой бы уголок земли ни занесла их судьба:
Фиалковый венец наш город носит,
И море синее — кайма его одежд!
553
Когда отзвучали последние слова и замерли звуки
флейты, зрители воздали комедии высшую дань восхищения —
несколько мгновений царила зачарованная тишина, затем
раздался единый громкий вздох и разразилась буря: все
кричали, хлопали, стучали ногами, и в чаше амфитеатра,
точно гром, перекатывалось эхо. Лукиан почувствовал, что его
глаза влажны от слез, и смущенно покосился на Алекси-
да. Но, как ни странно, в глазах Алексида он тоже
заметил слезы — а ведь он сам все это сочинил!
Пока десять судей подавали свои голоса, юноши
молчали. Толпа внизу гудела и колыхалась, как море, но
друзья были слишком измучены событиями этого утра, и им
не хотелось говорить. Наконец Лукиан привстал.
— Сейчас узнаем, — сказал он.
Внизу раздался голос глашатая:
— Награда за лучшую комедию присуждается "Оводу"
Алексида, сына Леонта...
СЕРЕБРЯНЫЙ КУЗНЕЧИК
Конон решил устроить пир, чтобы отпраздновать
победу "Овода". "И кое-какие другие радостные события", —
добавил он, и в его суровых глазах мелькнула улыбка,
хотя (как впоследствии напомнил ему Алексид), говоря это,
он и не подозревал, какое еще радостное событие
предстоит ему отпраздновать.
— Только я ничего не приготовил, — признался
Конон. — Конечно, я знал, что, по обычаю, хорег комедии,
снискавшей награду, угощает актеров и хор, но, сказать по
правде, я никак не ожидал, что мы можем победить
Аристофана! Впрочем, это дело поправимое. Один мой друг
предоставил в мое распоряжение свой городской дом.
Теперь только надо найти повара.
— Тут могу помочь я, — предложил Алексид. — Я могу
найти повара.
— Ну еще бы! — сказал Конон с непривычной
шутливостью. — Теперь, когда я знаю, что ты не только раскрыл
заговор Магнета, но и сочинил комедию твоего деда, меня
очень огорчило бы, если бы ты не сумел сделать такую
пустяковую вещь — подыскать мне повара.
554
— Видишь ли, и в том и в другом мне очень помогла
Коринна...
— Эта красивая девушка, которую я видел в театре?
— Да. И, собственно говоря, мне и тут не обойтись без
ее помощи. Ведь повар, о котором я говорю, — ее мать.
— Ну, так поговори с ней, Алексид. Пусть готовит пир
на пятьдесят человек. Хор и актеры — это уже почти
тридцать, а кроме того, твоя семья и твой друг Лукиан... Но,
может быть, ты хочешь сам кого-нибудь пригласить?
Алексид несколько мгновений в нерешительности
молчал. Но наконец он собрался с духом:
— А можно... можно, я приглашу Сократа?
— Конечно, если только он согласится. Скажи моему
рабу, где его искать.
— Наверно, он у себя дома. Видишь ли, — пояснил
Алексид, с грустью вспоминая, что "Овод" был написан
ради Сократа, — он почти никогда не ходит в театр и,
значит, не видел и моей комедии. Ну, а так как во время
представления ему не найти на улицах обычных собеседников,
он, наверно, сидит дома и ждет, чтобы праздники
кончились и было с кем поговорить.
— Ну, пусть разговаривает со мной сегодня на пиру, —
сказал Конон. — Расскажи моему рабу, где он живет, а сам
сходи к этой твоей хваленой стряпухе... как ее зовут?
— Горго.
— Горго? — недоуменно повторил Конон. — Я где-то
слышал это имя.
— Ну, это понятно: лучше ее никто в Афинах не
готовит. Но сегодня, может быть, она и свободна, потому что
в Афинах ее пока не все знают, они совсем недавно
приехали из Сиракуз...
— Так как же я мог о ней слышать? — пробормотал
Конон. — На пирах я не бывал вот уже много лет. Она,
ты говоришь, мать этой девушки?.. Ну, неважно,
неважно... — Он повернулся к рабу: — Когда пригласишь
Сократа, беги со всех ног домой и скажи госпоже, чтобы она
оделась и приехала сюда на пир. Скажи, что пир будет очень
скромный и женщины, если пожелают, останутся на своей
половине. Конечно, она отвыкла от шумного веселья, но
сегодня же все-таки Дионисии! Скажи ей, что вино будет
сильно разбавлено, что не будет ни флейтисток...
— Ты ошибаешься, — перебил его Алексид, и уголки
555
его рта лукаво задергались. — Без одной флейтистки мы
все-таки не обойдемся, или Горго откажется прийти, да и
я тоже, хотя и нижайше прошу меня простить.
Конон посмотрел на него, и его лицо стало почти
испуганным.
— Неужели эта девушка — флейтистка?
— Не такая, как другие, — но ведь и этот пир будет
не таким, как другие.
* * *
Так оно и было.
Первое, что бросилось в глаза Алексиду, когда он
вошел в дворик харчевни, была старая овчина, разбитые
деревянные сандалии и широкополая пастушеская шляпа —
все это валялось на земле.
Коринна выбежала к нему из кухни.
— Ах, Алексид, я так рада, так рада! — воскликнула
она.
— Так ты уже слышала? — спросил он с досадой. А
он-то, расставшись с Кононом, бежал всю дорогу бегом,
чтобы его никто не опередил!
— Слышала? — Коринна закинула голову и засмеялась
своим беззвучным смехом. — Неужели ты думаешь, что я
не сумела и посмотреть? — Она указала на кучу
одежды: — Можешь забрать свою старую овчину. В театре она
сослужила мне хорошую службу — она так благоухала, что
мои соседи старались отодвинуться от меня подальше!
— Значит... — в восторге начал он. — Ах ты, хитрая...
— Это еще что? — вопросила Горго, выходя из
кухни. — Что на вас нашло? В жизни я...
— Як тебе с поручением, — объяснил Алексид. —
Сегодня вечером пир на пятьдесят человек. Все самое
лучшее. Денег не жалеть. Ты согласна?
Лицо Горго расплылось от удовольствия.
— Еще бы! Я всегда говорила, господин Алексид, что
ты нам добрый друг. Все и будет только самое лучшее.
Этот вечер Алексид запомнил как самый счастливый в
своей жизни. Что могло быть приятнее минуты, когда отец
обнял его, а потом отступил на шаг и оглядел его даже с
каким-то страхом!
— Так, значит, то, о чем говорит весь город, правда?
Комедию написал ты, а не дядя Алексид? Я горжусь
тобой, сын!
556
А ведь Леонт еще не слышал тогда, что его сын помог
раскрыть опасный заговор!
А мать, сильно оробевшая (она согласилась прийти на
пир только с условием, что будет сидеть с Деметрией в
соседней комнате и лишь украдкой поглядывать на
пирующих), поцеловала его и шепнула:
— А я нисколько не удивилась, милый. Я всегда
знала, что твой отец недостаточно тебя ценит.
Алексид невольно улыбнулся — то же самое она
говорила и про дядюшку Живописца! Но ведь у нее доброе
сердце и она обо всех думает хорошо.
Филипп, на этот раз отпущенный домой на праздники,
поздравил его с неловкостью старшего брата, а Теон
произнес целую речь и замолчал только тогда, когда Алексид
дернул его за ухо. Ника клялась, что, знай она, в чем дело, она
переоделась бы мальчиком, а уж в театре побывала бы
непременно! Дядюшка Живописец, ничуть не огорченный
утратой славы, веселился больше всех — до чего же
приятно, заявил он, не притворяться больше умником! А завтра
можно будет снова спокойно работать в гончарне.
Сократ всем очень понравился. И особенно Леонту, чье
мнение о нем, как и у многих других афинян,
переменилось к лучшему благодаря "Оводу". Теон же присосался к
старику философу, как пиявка; они устроились в
спокойном уголке и вели длинную беседу, ни на кого не обращая
внимания, пока Теон уже за полночь вдруг не уснул на
полуслове. Сократ улыбнулся, подложил ему под голову
подушку и подошел к Главку, чтобы расспросить его о
природе ритма.
Но самое важное случилось раньше, как только
унесли столы и в зал вошла Коринна с флейтой в руке. В этот
вечер она казалась совсем взрослой, потому что на ней
был длинный хитон из сверкающей голубовато-серой
ткани под цвет ее глаз. Она не надела никаких украшений,
кроме старой серебряной броши, изображающей
кузнечика. Эту брошь она хранила с раннего детства, надевала
только в особо торжественных случаях и верила, что она
приносит удачу.
Пока она играла, Конон тихонько прошел в соседнюю
комнату, где на приличном расстоянии от пирующих
сидели его жена, мать Алексида и еще несколько женщин, а
также Ника, очень недовольная этим уединением. Демет-
рия посмотрела на мужа и улыбнулась. После стольких лет
557
сельского затворничества ей было очень приятно наблюдать
такое веселье.
— Какая красивая девушка! — прошептала она.
Конон как-то странно поглядел на нее.
— Она тебе никого не напоминает, милая? — спросил
он с притворным равнодушием.
Деметрия повернулась и посмотрела в зал. Она
покачала головой:
— Не помню.
— И неудивительно. Это же было... довольно давно.
А ту девушку ты в лицо не видела — только ее
отражение в своем зеркале.
Деметрия посмотрела на него, недоуменно сдвинув брови:
— О чем ты говоришь, Конон?
— Она точный твой портрет в юности. Я заметил это
сразу, как только увидел ее утром.
Деметрия тихонько засмеялась, смущенно, но радостно.
— Такой красивой я никогда не была. Пожалуй,
все-таки какое-то сходство и правда есть, хотя мне самой судить
об этом трудно.
— Вылитая ты, — настаивал Конон.
— Какое странное совпадение!
— Так и я думал, пока не узнал имени ее матери. Ее
зовут Горго.
— Не может быть! — У Деметрии перехватило дыхание.
Побледнев, она схватилась за сердце, и Алексид,
заметивший это через открытую дверь, бросился к ней на
помощь, но она поборола свое волнение.
— Если это даже и так, — прошептала она, — то мы
ничего сделать не можем. У нас нет никаких прав. Мы
поступили плохо и должны за это расплачиваться. А она как
будто счастлива.
— Нет, — возразил Конон. — И Горго тоже не
слишком счастлива. Они привязаны друг к другу, но девочке не
нравится такая жизнь. Это мне сказала сама Горго.
— Ты с ней говорил?
— Да. Она сейчас здесь, на кухне.
— Я про девушку... Как ее зовут? Коринна?
— Нет, не говорил. Понимаешь, я хотел сначала
рассказать тебе.
— Ах, приведи ее сюда, Конон! Приведи поскорее,
пожалуйста.
558
И, когда Коринна, кончив играть, с недоумевающим
видом вошла в комнату, Деметрия прошептала:
— Погляди, на ней моя брошь — серебряный кузнечик!
Коринна, побледнев, молча слушала сбивчивые
объяснения Конона и Деметрии. Конон утверждал, что во всем
виноват он, а Деметрия, перебивая его, спешила взять
вину на себя.
Как и рассказывал Алексиду дядюшка Живописец,
Конон и Деметрия полюбили друг друга с детства и
поженились против воли своих семей. Они обменялись клятвой
верности еще в ранней юности, и Деметрия отказывала всем
женихам, пока наконец Конон не смог взять ее в жены.
Много лет у них не было детей, и, когда они уже отказались от
всякой надежды, у них родился ребенок, но не
сын-наследник, которого в те дни так хотел иметь Конон, а дочь.
Врачи сказали, что у Деметрии больше не будет детей, и
оставался только один выход, к которому, впрочем, нередко
прибегали в богатых греческих семьях: обменяться детьми с
какой-нибудь женщиной, которая за вознаграждение
согласится отдать своего новорожденного сына и взять на
воспитание девочку. Им указали на Горго, и ее не пришлось
долго уговаривать. Ей нужны были деньги, она собиралась
перебраться из Афин в какую-нибудь колонию, а из девочки
она надеялась вырастить себе хорошую помощницу.
— Твоя мать была против этого, — решительно сказал
Конон. — Ты не должна ее ни в чем винить. Так решил я.
Только позднее я понял, каким это было для нее тяжким
горем. Можешь ли ты простить меня? Свою мать тебе
прощать не за что.
Коринна посмотрела на его худое, морщинистое лицо.
Она вспомнила все, что рассказывал ей о нем Алексид. Она
подумала о маленькой гробнице под темными елями — как
странно, ведь в ней покоится сын Горго! Но Конон любил
его, а он — умер. Если Конон и поступил дурно, отдав свою
дочь чужой женщине, он заплатил за это многими годами
скорби.
Так вот, значит, о чем думала Горго, когда сегодня
вечером она здесь на кухне вдруг обняла ее, громко
чмокнула в щеку и сказала:
— Ты никогда к нашей жизни не привыкнешь,
душечка. Я это вижу. Ну что ж, так тому и быть. Я ведь только
хочу тебе счастья. Но мы останемся добрыми друзьями, ведь
правда?
560
— "Значит, Горго знает. И все будет хорошо". — Ко-
ринна поцеловала отца и бросилась в объятия Деметрии...
Через несколько часов, когда все было уже давно
объяснено и с первыми лучами зари гости начали
расходиться, Алексид и Коринна остановились на улице, глубоко
вдыхая свежий утренний воздух.
— Так, значит, ты все-таки будешь благовоспитанной
афинской девушкой! — поддразнивал ее Алексид. —
Каково-то тебе придется!
— Не так плохо, как кажется, — возразила Коринна. —
Во-первых, я за одну ночь не стала благонравной и
тихонькой. А во-вторых, мы будем жить в поместье, а в деревне
у девушки больше свободы, чем в городе. Не думай,
пожалуйста, что я буду убегать в гинекей каждый раз, как ты
придешь навестить нас!
— А почему ты думаешь, что я буду вас навещать? Ведь
это не близкая прогулка.
Коринна обиженно надула губы и ничего не ответила.
Несколько мгновений они стояли молча. Запели петухи.
Запоздалые любители праздников в разорванной, покрытой
пятнами одежде, пошатываясь, неуверенно брели домой.
Вдруг небо вспыхнуло багрянцем и золотом утренней
зари, и в конце улицы над кровлями белых домов перед
ними встал холм Акрополя, одетый лиловатой дымкой, —
фиалковый венец Афин.
Коринна положила руку на плечо Алексида.
— Знаешь, — прошептала она, — это хорошо, это
очень хорошо, что я теперь афинянка!
О ДРЕВНИХ АФИНАХ, АЛЕКСИДЕ
И ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯХ
Повесть прочитана. Но вас, наверно, обступает рой
вопросов: а было ли все это на самом деле? Жил ли в
Афинах такой юноша Алексид? Правда ли, что он сумел
написать комедию и разоблачить заговорщиков?
В повести Джефри Триза изображены или
упоминаются люди, которые действительно жили в Афинах во второй
половине V века до н. э.: знаменитый мудрец Сократ,
ученый Анаксагор, политический деятель Перикл, великий
драматург Аристофан и другие. Ну, а Алексид, Коринна,
Лукиан? Не будем торопиться с ответом. Нам ведь важно
узнать не только то, что было на самом деле, но и то, что
могло быть, что не расходится с исторической правдой.
Чтобы разобраться в этом, мы не расстанемся сразу с
Алексидом и, вспоминая его занятия, разговоры и
приключения, попытаемся внимательно всмотреться в жизнь
древних Афин, города, "увенчанного фиалками" — фиолетовым
мрамором величественного Акрополя.
АРИСТОКРАТЫ И ДЕМОКРАТЫ,
СВОБОДНЫЕ И РАБЫ
Благодаря находчивости и мужеству Алексида потерпел
провал заговор аристократов. Но кто же такие эти люди:
изгнанный из города Магнет, расфранченный Гиппий и
соучастники их коварных замыслов? Оказался ли Алексид в
центре событий необыкновенных и исключительных?
О нет! Такова была повседневная жизнь Афин. Борьба
аристократической и демократической партий
пронизывает всю историю Древней Греции.
Два самых сильных государства Греции, Афины и
Спарта, различались своими политическими порядками. В
Афинах правил народ (по-гречески "демос")- В Спарте власть
принадлежала богатым и знатным гражданам —
аристократам (власть народа мы называем демократией, власть
немногих, аристократов, — аристократией). Афины повсюду
в Греции поддерживали демократию, спартанцы в подчинен-
562
ных им городах насаждали аристократические порядки.
Долгая, упорная борьба аристократов и сторонников
демократии привела к войне. Греция разделилась на два лагеря.
Одни города выступили на стороне Афин, другие поддержали
Спарту. Двадцать семь лет, то затихая, то разгораясь вновь,
продолжалась война, получившая название Пелопоннесской.
В повести Триза не рассказывается о походах и
сражениях, хотя действие ее приходится на годы
Пелопоннесской войны, на конец V века до н. э. Мы узнаем только о
происках спартанцев в Афинах, о предательских планах их
тайных пособников — афинских аристократов, готовых
отдать свой город врагам, лишь бы сокрушить ненавистное
им господство демоса.
Своеобразные порядки сложились в Афинах. Три или
четыре раза в месяц афинские граждане сходились на
Народное собрание и решали важнейшие дела. Народ избирал
должностных лиц: стратегов, архонтов, судей. Военачальников —
стратегов — выбирали открытым голосованием из числа
опытных в военном деле граждан. На все остальные
должности избирали жребием с помощью бобов. Делалось это так.
Ставили два глиняных сосуда: в одном были таблички с
именами кандидатов, в другом — соответствующее количество
белых и черных бобов. В одно время вынимали табличку и
боб. Белый боб был избирательный, черный —
неизбирательный. Каждый гражданин в Афинах, независимо от своего
богатства, мог быть избран на любую должность.
Исполнение общественных обязанностей отрывало от
занятий своими делами, и для бедных людей, живущих
своим трудом, оно могло стать обременительным. Поэтому
афинский демос добился того, что была введена плата за
отправление должностей — два или три обола в день, —
но афинскому ремесленнику или мелкому торговцу
больше за день было и не заработать. Бедным гражданам в
Афинах раздавали деньги и на посещение театра, а богатые
должны были нести общественные повинности: снаряжать
триеры, устраивать за свой счет зрелища, оплачивать хоры в
комедиях и трагедиях. Так, богатому Конону из нашей
повести пришлось оплатить расходы на содержание и
обучение хора для комедии Алексида.
Власть принадлежит демосу, говорили афиняне. Но как
далеки на деле были эти порядки от подлинной власти
народа! Ведь под народом — демосом — греки разумели не
563
всю народную массу, не все население, а только
привилегированное меньшинство — свободных, полноправных
граждан. Рабы не входили в демос. В Афинах проживало и много
свободных людей, лишенных гражданских прав. Это были
выходцы из других городов. Их называли "метеки".
Сколько бы ни прожил в Афинах метек, его дети и внуки, они
оставались неполноправными. Метеки не имели права
присутствовать на Народном собрании, занимать должности,
владеть землей или домом; браки между метеками и
гражданами были запрещены.
К такой семье переселенцев и принадлежала Коринна
(пока не нашла своих настоящих родителей). Как ни
удивляли Алексида слова Коринны о том, что ей не нравится в
Афинах, надо признать, что у нее было немало оснований
негодовать. Смелая, независимая девочка, тянувшаяся к
знаниям, к культуре, она остро переживала несправедливость
афинских законов, которые навсегда отбрасывали ее в
низший, неполноправный разряд населения. Коринну больно
задевало и неравноправное положение женщин в Афинах.
Вас, вероятно, поразило: как могли родители обменять
своего ребенка на чужого, девочку на мальчика? У греков
было разное отношение к мальчикам и девочкам. Мальчик мог
прославить свою семью подвигами на поле боя, победами
на атлетических состязаниях, выступлениями на народных
собраниях. Девушка не могла принести своей семье ни
славы, ни богатства. Жестокий обычай был у греков:
подкидывать новорожденных. Детей клали в корзину или в
глиняный горшок и оставляли на ступеньках храма. Тот, кто
подбирал ребенка, мог воспитать его, мог и превратить в
раба. И чаще такая участь выпадала на долю девочек.
Греческий писатель хладнокровно сообщал: "Сына воспитают
всегда, даже если бедны; дочь подкидывают, даже если
богаты". Конечно, лишь немногие родители бывали так
жестокосердны, но наша обаятельная сероглазая Коринна
стала жертвой такого отношения к девочкам: ее обменяли на
мальчика. Если бы не счастливый и редкий случай,
позволивший Коринне найти ее настоящих родителей (часто ли
бывало такое в жизни!), ей пришлось бы навсегда забыть
о дружбе с Алексидом. В самом деле, что могли
предпринять Алексид и Коринна, если бы решили остаться вместе?
Нарушить законы афинян под угрозой изгнания? Бежать
самим в отдаленные края, на окраину греческого мира,
навстречу опасностям и неизвестности? Но Алексид так лю-
564
бил свой город — "увенчанные фиалками, твердыню
эллинов, славные Афины"...
Слава Афин согревала не всех. Храмы, театры, дары
культуры были не для каждого. Непреодолимая стена
отделяла метеков от граждан, глубокая пропасть разделяла
свободных и рабов.
Читая повесть Джефри Триза, вы, пожалуй, не могли
составить верное представление о том, как глубока была
эта пропасть. Перед вами промелькнули рабыни-служанки
в доме Леонта, старый раб-педагог Парменон. Но далеко
не все рабы в Афинах были на положении домочадцев, как
Парменон. Они тяжко трудились в мастерских, в
каменоломнях, на рудниках, возделывали поля. Если бы не труд
рабов, свободные не могли бы воздвигнуть такие
величественные храмы и статуи, заниматься искусством,
литературой, наукой. Достижениями своими греческая культура
обязана труду рабов.
Мы очень мало узнаем о жизни рабов из повести. Алек-
сид, сын Леонта, владельца небольшой гончарной
мастерской и нескольких рабов, как и другие свободные люди в
Греции, считал рабство чем-то естественным, само собой
разумеющимся и обращал мало внимания на окружавших
его рабов. Не стоит осуждать за это афинского мальчика.
Так смотрели тогда на вещи и самые выдающиеся люди
Греции. Даже великие греческие мыслители обсуждали,
например, вопрос о том, может ли раб быть храбрым и
справедливым. Они, как видите, сомневались, обладают ли рабы
самыми обычными человеческими качествами.
Распространение рабского труда привело к тому, что
свободные стали презирать физический труд — "удел рабов".
Афинский гражданин предпочитал получить три обола за
участие в суде присяжных, чем заработать их тяжелым ручным
трудом. "Рабские натуры" — так иной раз греки говорили
о тех, кто вынужден был добывать себе на хлеб физическим
трудом. Помните, как пренебрежительно судили в доме
Леонта о его родиче, старом Алексиде, достойном человеке,
влюбленном в свою профессию расписчика глиняных ваз:
лишь потому, что он работал сам, не имел рабов.
И все же в демократических Афинах народным массам
и даже рабам жилось лучше, чем в городах, где правили
аристократы. Недаром аристократы со злобой жаловались,
что в Афинах "рабы и метеки распущенны", что здесь не
часто увидишь, как бьют раба. Аристократы утверждали,
565
что простые люди не могут управлять государством из-за
своей бедности и некультурности. Хорошие законы, по их
мнению, были лишь в тех греческих городах, где
"благородные держат в повиновении простых". Они и хотели
установить в Афинах подобные "хорошие законы".
Аристократы плели нити своих интриг, создавали
тайные общества — гетерии, — вроде той, что сложилась
вокруг Гиппия. Члены гетерий клялись: "Я буду врагом
народа и постараюсь причинить ему столько вреда, сколько
смогу".
В 404 году до н. э. (действие повести завершается до
этих событий) аристократы смогли совершить переворот в
Афинах. Им помогли спартанцы, которые победили афинян
в войне. Тридцать аристократов во главе с Критием,
дерзким, коварным, беспощадным тираном, установили свою
власть над городом. За несколько месяцев они успели
перебить полторы тысячи афинян: то, о чем мечтали в
повести Магнет и Гиппий, было проведено в жизнь. Но
ненадолго. Народ сверг тиранов, Критий и его сподвижники
были убиты. Какой ненавистью платили аристократы демосу,
видно из надписи, сделанной единомышленниками Крития
на памятнике убитым тиранам: "Сей памятник воздвигнут
мужественным людям, которые хоть на короткое время
взнуздали дерзновенную похоть проклятого афинского
народа".
Изображенные в повести Магнет, Гиппий и другие —
лица вымышленные. Но, как вы видите, смысл событий
передан в повести верно: такие, как Магнет и Гиппий,
существовали в действительности и пролили немало крови
афинских граждан.
Вот в каком переплете событий побывал Алексид. Он
оказал большую услугу городу, избавив его от
заговорщиков, но признаем, очень уж легко удалось ему провести
аристократов.
ДРЕВНИЕ БЕЗБОЖНИКИ
На суде над школьным учителем Алексид услышал об
учении Анаксагора. Этот замечательный мыслитель
древности утверждал, что солнце — не бог Гелиос, а раскаленный
шар, "почти такой же большой, как вся Греция". Вы,
очевидно, не могли скрыть улыбку: какими незначительными
566
представлялись размеры солнца Анаксагору. Но вспомним,
что он жил почти две с половиной тысячи лет назад, когда
люди были во власти мифов и религиозных суеверий, а все
силы и явления природы казались им божествами. Если бы
мы могли спросить какого-нибудь мальчика в древних
Афинах, почему восходит и заходит солнце, он наверняка
рассказал бы нам с живостью и полной уверенностью в своей
правоте (ведь так говорят взрослые, так учат в школе), что
это бог Гелиос в лучезарном венке выезжает каждое утро
на небо в золотой колеснице, запряженной четверкой
крылатых коней, а вечером, совершив свой дневной путь, он
спускается к водам океана и уплывает на золотом челне
на восток, чтобы на следующий день вновь взойти на небо
в прежнем блеске. Может быть, афинский мальчик
прочитал бы нам и строку из любимого греками Гомера:
Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном
Своде небес, чтобы сиять для бессмертных богов
и для смертных,
Року подвластных людей, на земле плодоносной
живущих.
Немалой смелостью и прозорливостью надо было тогда
обладать, чтобы выступать против мифологических
суеверий, как Анаксагор!
Ученый тяжело поплатился за свои смелые мысли.
Афиняне обвинили его в оскорблении богов и приговорили к
смертной казни. Только заступничество Перикла помогло
Анаксагору избежать казни, и он навсегда отправился в
изгнание.
Анаксагор был не единственным древнегреческим
ученым, который восставал против веры в богов. Задолго до
Анаксагора по городам Греции странствовал народный
певец Ксенофан. Он наблюдал, как люди разных племен и
разного цвета кожи по-разному представляют своих богов:
негры изображают их черными и с курчавыми волосами, а у
светлокожих фракийцев боги голубоглазые и рыжие.
Ксенофан сделал смелый вывод: не боги создали людей, а
люди выдумали богов. Если бы кони или быки, насмешливо
говорил Ксенофан, умели рисовать, то и они изображали
бы своих богов в виде коней или быков.
А в конце V века до н. э., то есть как раз в то время,
когда развертывается действие повести Триза, в городе
Абдерах жил великий греческий мыслитель Демокрит. Он
567
не верил ни в бессмертных богов, ни в чудеса. Демокрит
считал, что все предметы состоят из мельчайших, не
видимых глазом частиц, которые не имеют ни цвета, ни вкуса,
ни запаха. Эти частицы Демокрит назвал атомами.
Вселенная, учил Демокрит, — это бесконечное количество атомов
и беспредельная пустота. Она существует вечно и не
является созданием богов.
Люди были убеждены тогда, что наша Земля — центр
Вселенной. Демокрит же решительно утверждал, что
число миров бесконечно. Как странно представить себе,
пояснял он свою мысль, чтобы на ровном поле вырос один
колос, так и странно представить, чтобы в бесконечном
пространстве образовался один только мир. Миры бесчисленны
и различны по величине. В некоторых нет ни солнца, ни
луны; в других солнце и луна по размерам больше наших;
некоторые не имеют растений и животных и вовсе
лишены влаги. Хотя Демокрит еще не знал, что Земля
шарообразна, и считал ее плоской, его учение было глубоким
прозрением в природу вещей.
Демокрит не мирился с тем, что многие явления
кажутся людям необъяснимыми и чудесными, он старался найти
их естественные причины. Однажды некий лысый человек
был убит упавшей на него с неба... черепахой.
Окружающие увидели в этом наказание, посланное богами.
Демокрит же нашел простое и убедительное объяснение: мясом
черепах любят лакомиться орлы, но, когда черепаха
прячется в свой щит, орлу не достать ее оттуда; тогда орел с
черепахой взлетает высоко в небо и бросает свою добычу
вниз, на сверкающие солнцем камни, чтобы расколоть
панцирь черепахи. На этот раз орел, видимо, принял череп
лысого за камень. "Я предпочел бы открыть причину хотя бы
одного явления, нежели приобрести себе персидский
престол!" — гордо восклицал Демокрит.
Конечно, Демокрит не мог доказать в то время
правильность своего учения об атомах. Он думал, что атомы
неделимы и не поддаются никакому воздействию. Прошли
тысячелетия, прежде чем наука доказала, что мир
действительно состоит из атомов. Но еще несколько десятилетий
назад ученые считали, как и Демокрит когда-то, что атомы
неделимы. Деление атомов было открыто сравнительно
недавно, и лишь совсем недавно, накануне второй мировой
войны, удалось обнаружить деление атомных ядер — это
568
великое открытие позволило приступить к использованию
могучей силы атомной энергии.
Алексид не был знаком с учениями греческих
вольнодумцев и безбожников, но, наделенный умом острым и
наблюдательным, он не отмахнулся от того, что услышал на
суде. Афинскому мальчику делает честь уже и то, что,
узнав об идеях Анаксагора, он задумчиво заметил: "Может
быть, это не такая уж чепуха".
СОФИСТЫ
Поразмыслить над учением Анаксагора Алексиду,
однако, не пришлось. Время его было занято другим.
Алексид должен был посещать школу софиста Милона. Таково
было, вы помните, настоятельное желание его отца.
Слово "софист" соответствует нашему слову "ученый".
Так в Греции называли людей, которые за плату обучали всех
желающих наукам и красноречию. Софисты учили
решительно всему: арифметике, геометрии, астрономии, музыке,
физике, но главным предметом преподавания было словесное
искусство — красноречие. Софисты странствовали по
городам Греции и повсюду находили множество учеников и
почитателей. Нетрудно понять, чем объяснялась популярность
софистов. Гражданам Афин и других городов с
демократическим устройством приходилось выступать на народных
собраниях, в суде присяжных, произносить речи, убеждать
сограждан или защищаться от нападок и обвинений. Только
тот мог рассчитывать на успех, кто хорошо владел словом,
умел отстоять свои взгляды и убедить в своей правоте
слушателей. Ораторы, выдвинувшиеся на народных собраниях,
становились вождями афинского демоса. Недаром отец Алек-
сида, заметив способности своего сына, возмечтал о том, что
Алексид заслужит славу оратора.
Софисты изучали природу; они немало сделали для
развития грамматики. Мы без труда различаем теперь, какого рода
то или иное слово: без этого не овладеешь правилами
грамматики, не научишься правильно писать. Но мало кто
знает, что первым установил деление всех слов на три рода —
мужской, женский и средний — греческий софист Протагор.
Софисты впервые обратили внимание и на то, что в нашей
речи встречаются слова одинаковые или близкие по смыс-
569
лу, но разные по звучанию — синонимы (например,
"работать" и "делать", "хотеть" и "желать" и т. п.).
Но, чем дальше шло время, чем сильнее росла
популярность софистов, тем чаще среди них стали появляться
люди, которым было безразлично, что доказывать, в чем
убеждать, на пользу какому делу обратить свое
красноречие. Они учили красиво говорить, не заботясь об истине.
Задачу свою они видели не в том, чтобы найти истину, а
лишь в том, чтобы переговорить противника в споре,
завести его в такие хитросплетения слов, какие ему не
распутать. На красноречие они смотрели как на искусство
словесного фехтования: победит не тот, кто прав, а тот, кто
более ловко владеет словом. Своих учеников они учили
спорить против очевидности, доказывать, что черное — бело,
а белое — черно. Всякое неправое дело можно представить
правым, говорили эти софисты.
На народных собраниях произносились хвалебные
речи в честь богов, в честь героев, павших за родину, в честь
граждан, оказавших услуги народу. Софисты готовили своих
учеников к таким речам. Они считали, что надо научиться
восхвалять любого человека и даже любой предмет. Они
предлагали писать сочинения: похвала блохе, моли,
комару, лихорадке, — словом, чему угодно. И Алексид скрепя
сердце писал их.
Случалось, что софисты сами становились жертвами
своей словесной изворотливости. Предание рассказывает о
двух софистах — учителе и ученике. Ученик, научившись
ораторскому искусству, отказался уплатить своему
наставнику обещанное вознаграждение. Учитель привлек его к
суду. На суде они заспорили.
Ученик. Скажи мне, чему ты обещал научить меня?
Учитель. Искусству убеждать кого угодно.
Ученик. Но если ты выучил меня своему искусству,
то я смогу убедить тебя ничего не брать с меня за
обучение; если же я не сумею убедить тебя, то и в этом случае
ты ничего не должен брать с меня за обучение, так как не
научил тому, чему обещал научить.
Учитель. Если, научившись у меня искусству убеждать,
ты убедишь меня ничего не брать с тебя, то ты должен
отдать мне вознаграждение, так как докажешь всем, что
научился убеждать; если же ты меня не убедишь, то опять-
таки должен заплатить мне деньги, так как я тобою не
убежден не брать их с тебя.
570
Они спорили до тех пор, пока их не прервали
рассерженные члены суда присяжных.
"Софистика" — мы и теперь говорим так о речах и
рассуждениях, в которых замечаем не поиски истины, а
словесные ухищрения.
Алексиду не повезло: учитель его Милон, как видно
из повести, принадлежал именно к числу таких софистов.
Алексид, чуткий к несправедливости, скоро разочаровался
в его уроках. Мысли его привлек Сократ.
СОКРАТ
Необыкновенный это был человек. Круглый год босой,
в одном поношенном плаще, появлялся он в людных
местах и то на площади, то под мраморным портиком, то на
загородной лужайке в тени платана заводил с афинянами
беседы о поведении людей, о богах и религии. Сократ не
оставил произведений. Он учил устно. Ученики его
записали и сохранили для нас мысли афинского мудреца.
Как и софисты, Сократ учил рассуждать и спорить, но,
в отличие от софистов, его нельзя было упрекнуть и в
малейшей корысти: за уроки свои он не брал ни с кого
денег. Сократ был до глубины души предан своим идеям,
уверен в правоте их и в этой уверенности черпал свою силу,
стойкость и безразличие к житейским благам.
Сократ убеждал слушателей, что главными
достоинствами человека являются умеренность, храбрость и
справедливость. Но и Сократ был сыном своего века: поучения его
далеки от нас. Так, он нимало не сомневался в том, что
обращение в рабство жителей неприятельского города —
дело справедливое и законное.
Ученики Сократа запомнили не только рассуждения его,
но и мысли, оброненные вскользь: они всегда были
проникнуты иронией; он умел одним доводом или репликой
высмеять людей заносчивых, самовлюбленных, тупых.
Кто-то в присутствии Сократа пожаловался, что он ест
без аппетита.
— Есть хорошее лекарство от этого, — спокойно
заметил Сократ.
— Какое же? — спросил обрадованный собеседник.
— Поменьше ешь! Тогда жизнь будет и приятнее и
дешевле.
571
В другой раз кто-то говорил, что хочет попасть на
Олимпийские игры, но боится идти в Олимпию: далеко очень.
— А разве ты и дома не гуляешь целый день? —
спросил Сократ. — Если бы ты растянул в одну линию свои
прогулки в течение пяти или шести дней, то как раз и
получился бы путь от Афин до Олимпии.
Известно изречение Сократа: "Я знаю, что я ничего не
знаю". Об этих словах напоминают теперь тем, кто
почитает себя всезнайками: они говорят о скромности. Но в
устах Сократа они имели иной смысл: Сократ хотел показать,
как мало знают люди, хотя подчас и мнят себя весьма
сведущими, если даже он, прославленный многими как
мудрейший в Греции человек, ничего почти не знает.
Изречение Сократа в то время подрывало веру людей в знания.
Это было не случайно. Сократ был уверен, что люди и
не могут знать многого. Он не был безбожником, как
Анаксагор или Демокрит. Он верил в богов, в чудеса, и
исправно приносил жертвы богам. Сократ поучал: умилостивляй
богов жертвами, не жалей на это средств, угодить богам
ничем нельзя так, как возможно большим повиновением.
Сократ считал, что мир создан богами и не дело людей
пытаться проникнуть в тайны природы — "в замыслы
бессмертных". Он отговаривал изучать астрономию и другие
науки, называл глупцами тех, кто стремился понять, как
устроен мир и по каким законам происходят небесные явления.
Об этом ведают лишь одни боги, а смертным этого понять
не дано. Сократ не раз ополчался против идей Анаксагора.
Пользуясь слабостью научных знаний у людей того
времени, он опровергал гениальные догадки Анаксагора так:
"Анаксагор говорил, что огонь и солнце — одно и то же; но он
упустил из виду то, что на огонь люди легко смотрят, а на
солнце глядеть не могут, что от солнечного света люди
имеют более темный цвет кожи, а от огня нет..." Зачем изучать
природу, рассуждал Сократ: разве, познав, по каким
законам происходят небесные явления, люди могут вызвать по
своему желанию дождь, ветер, смену времен года?
Но раз люди, по мнению Сократа, не могут познать
природу и ее законы, то единственное, что им остается, — это
познать самих себя, свое поведение, свои поступки. Сократ
и ограничивался тем, что рассуждал о поступках
справедливых и несправедливых, угодных и неугодных богам.
Как сильно отличалось учение Сократа от учения
Анаксагора или Демокрита! Демокрит звал людей проникнуть
572
в тайны природы, Сократ — ограничиться человеческими
делами. Демокрит прозревал вперед, ниспровергал богов и
религию, Сократ защищал и обосновывал религиозные
взгляды. Демокрит разбивал оковы суеверий, Сократ разделял их,
как и любой невежественный афинянин. И если Сократ
высказывался против некоторых мифов о богах, рисующих
небожителей жадными, завистливыми, хвастливыми, то лишь
потому, что хотел укрепить веру в богов, представив их
мудрыми, всеведущими и добрыми к людям.
Алексид оказался во власти мыслей и обаяния
афинского мудреца. Он не мог понять, куда клонит Сократ,
кому на руку его учение.
Что ж, это неудивительно для афинского юноши того
времени. Важнее то, что автор повести, английский
писатель, не сумел верно рассказать об этом.
Сократ любил испытывать людей. Он задавал им внешне
невинные вопросы, один за другим, и в конце концов
приводил собеседника к противоречию с самим собой или к
утверждению чего-либо немыслимого или абсурдного,
доказывая этим, что собеседник не умеет рассуждать или не
знает того, в чем долгое время был уверен.
Ученик Сократа, писатель Ксенофонт, запомнил
беседы Сократа с молодым Евфидемом. Этот юноша составил
богатую библиотеку из сочинений знаменитых поэтов и
ученых и ввиду этого считал себя умнее своих сверстников;
он лелеял мечту затмить всех своим ораторским
искусством и стать руководителем государства.
— Так как ты готовишься быть во главе
демократического государства, то, без сомнения, знаешь, что такое
демократия? — словно невзначай, спросил его однажды Сократ.
— Еще бы не знать! — отвечал Евфидем.
— Что же, по-твоему, демос?
— По-моему, это бедные граждане.
— Стало быть, ты знаешь бедных? Знаешь и богатых?
— Ничуть не хуже, чем бедных.
— Каких же людей ты называешь бедными и каких
богатыми?
— У кого не хватает средств на насущные
потребности, те, я думаю, бедные, а у кого их больше, чем
достаточно, те богатые.
— А замечал ли ты, что некоторым не только хватает
самых незначительных средств, но они еще делают сбере-
573
жения, а некоторым богачам недостает даже очень
больших средств?
— Да, клянусь Зевсом! — отвечал Евфидем. —
Хорошо, что ты мне напомнил, — я знаю таких.
И Евфидем вспомнил, что даже некоторым
богачам-правителям, поработившим народ, не хватает средств и они
прибегают к незаконным поборам.
— Но если это так, — закончил Сократ спокойно, —
то таких богачей мы причислим к демосу, а владеющих
небольшими средствами, но экономных, к богатым!
Евфидем был совсем сбит с толку. В отчаянии он
махнул рукой' лучше уж я буду молчать!
Сократ, по-видимому, хотел показать Евфидему, что тот
не умеет правильно определить, кто такие богатые и кто
бедные, Евфидем подумал лишь о том, хватает или не хватает
человеку средств на жизнь, а не велики или малы эти
средства сами по себе (ведь и бедные, терпя нужду, могут
как-то прожить на свои средства). Но можно предположить
и другое, а именно: что Сократ выбрал тему о демократии
неспроста, решив поколебать уверенность Евфидема в
справедливости демократических порядков в Афинах.
"Сократ — и против демократии?!" — с удивлением
воскликнут те, кто внимательно читал повесть и запомнил, как
ловко Сократ разделал наглого аристократа Гиппия и как был
предан Сократу Алексид, враг заговорщиков-аристократов,
рисковавший жизнью, чтобы помочь своим согражданам
сохранить демократию.
Да, все, что мы знаем о Сократе, каким он был в
действительности, говорит о том, что он не был сторонником
афинской демократии, а высказывал явную благосклонность
к аристократии. В повести Джефри Триза взгляды
афинского мыслителя обрисованы неточно.
Сократ, например, говорил: "Как глупо выбирать
должностных лиц в государстве посредством бобов, тогда как
никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого,
плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную
работу, ошибки которой приносят гораздо меньше вреда, чем
ошибки в государственной деятельности". Но мы знаем, что
выборы посредством бобов были одним из главных
законов афинской демократии, позволявшим простым и бедным
людям участвовать в управлении государством. Сравните
эти слова Сократа со спором Сократа и Гиппия, как он
изложен в повести: подлинные речи Сократа напоминают не
574
слова Сократа — героя повести, а рассуждения
аристократа Гиппия. Даже во время войны Афин с
аристократической Спартой Сократ советовал афинянам взять
спартанцев за образец и завести такие же порядки, как и у них.
Демократический облик Сократа (его бедность, простота,
бескорыстие) не соответствовал смыслу его учения.
Вспомним еще разговор Алексида с отцом о Сократе.
Леонт внушал сыну, чтобы он прекратил знакомство с
Сократом, ссылаясь на то, что Сократ окружен молодыми
людьми из аристократических семей и сторонниками
спартанцев. Алексид возражал. Читатели могли решить, что прав
юный герой повести. Но это не так. Хотя отец Алексида,
может быть, и преувеличил опасное влияние Сократа на
молодежь, он верно отозвался о людях, окружавших
афинского мудреца. Учение Сократа подхватили сторонники
аристократов, как, например, бегло очерченный в повести
Платон, который действительно (как и в повести) называл
народ "чернью".
Платон, развивая мысли Сократа, всю жизнь боролся с
идеями мыслителя-безбожника Демокрита. Древние
писатели рассказывают, что он скупал сочинения Демокрита и
сжигал их. Так уже в Древней Греции началась борьба
защитников религиозных учений с учеными-безбожниками. И
зачинателем этой борьбы выступили Сократ и его ученики.
Вряд ли Алексид был полностью прав и в своей
комедии, написанной в защиту Сократа.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Очевидно, вы не раз бывали в театре и, читая повесть
Триза, сравнили то, что узнали о театре в древних Афинах,
с тем, что видели в наших театрах. Различия бросаются в
глаза: и внешний вид театра был иной, и пьесы по своему
построению отличались от современных: в них в то время
неизменно участвовал хор, актеры и хоревты (участники
хора) выступали в масках. Но чем это было вызвано?
Театр в древних Афинах был любимым зрелищем
народа. И млад и стар стремились попасть на театральные
представления. Поэтому они разыгрывались под открытым небом,
а театр представлял собой огромное полукружие с
поднимающимися вверх по склону холма скамьями для зрителей:
он вмещал тридцать тысяч человек. Внизу находилась круг-
575
лая площадка — орхестра, на которой выступали актеры и
хор. С той стороны, где не было скамей, ее замыкало
здание — скене. На фасаде его укреплялись декорации.
Отсюда произошли наши слова "сцена" и "оркестр", имеющие,
однако, иной смысл: в Греции сценой служила обычно
орхестра, но действующие лица могли появляться и на
площадке скены и даже на ее крыше. Если надо было
изобразить полет героя или появление бога с небес,
использовалась театральная машина. Это был наклонный деревянный
столб, что-то вроде нашего журавля у колодца; к нижнему
концу его прикрепляли груз для противовеса, а к верхнему —
сиденье для актера, изображающего бога.
Маски для актеров делались из дерева или полотна,
пропитанного гипсом. Маска изображала характерную черту
действующего лица, — скажем, убитого горем старика или
плутоватого раба. Благодаря маскам даже зрители верхних
рядов легко различали, какую роль играет актер. А чтобы
актеров было лучше видно, они выходили на орхестру в
обуви на высоких деревянных колодках — котурнах.
Теперь вы можете пойти в театр или кинотеатр в
любой день. В Афинах же представления устраивались один
или два раза в год. Ежегодно в конце марта — начале
апреля отмечались Великие Дионисии — праздник в честь
бога Диониса, считавшегося покровителем театра
(действие нашей повести и начинается и завершается в дни
этого праздника — оно охватывает ровно год).
Представления на празднике Великих Дионисий продолжались три
дня. Ежедневно по утрам играли три трагедии, а после
полудня — одну или две комедии. Зрители проводили в
театре целый день. Здесь они пили и ели. Все были одеты в
праздничные одежды и украшены венками.
Театральные представления в Афинах были
состязаниями драматургов, подобно тому как спортивные праздники —
состязаниями атлетов. Избранные народом судьи решали,
какая пьеса лучшая. Автора-победителя увенчивали венком из
плюща. Он был окружен почетом и уважением всех
афинян, им гордилась его семья, друзья. Так и отношение к Алек-
сиду сразу изменилось, как только стало известно, что он
одержал победу на драматургическом состязании.
В Афинах было много опытных актеров, которые могли
быстро разучить свои роли. Труднее было подготовить хор.
В комедиях он состоял из двадцати четырех человек.
576
Поэтому получить для представления хор означало то же
самое, что добиться права поставить пьесу. Распорядителями
были архонты. Драматург, желавший поставить пьесу,
должен, был просить у архонта хор. Архонт, познакомившись
с произведением, мог дать хор или отказать в этом.
Поэтому Алексид с таким волнением ожидал решения архонта.
Древнегреческая комедия не делилась на действия и
сцены, как современные пьесы. Она начиналась с
пролога, из которого зрители узнавали о завязке сюжета. Затем
чередовались диалоги актеров и выступления хора —
песни и пляски, исполнявшиеся в музыкальном
сопровождении. Один раз на протяжении действия актеры уходили со
сцены, хор поворачивался к зрителям, хоревты снимали
маски, показывая этим, что происходящее на сцене не
связано с сюжетом комедии, а руководитель хора —
корифей — обращался к зрителям; устами корифея автор
комедии высказывал свои мысли на любую тему — о
политике, об искусстве, — иногда корил зрителей за
неблагодарное отношение к его произведениям, иногда нападал
на противников. К этому приему прибег и Алексид,
вложив в уста корифея стихи о разоблаченном заговоре
аристократов.
В своей комедии Алексид подражал Аристофану.
Помните, еще в начале повести он присутствовал на
представлении комедии Аристофана и сразу после спектакля начал
сам слагать стихи, высмеивающие аристократов.
Одиннадцать комедий великого греческого драматурга
дошли до нас. Они и поныне поражают игрой фантазии,
каскадом язвительных шуток и насмешек, поэтичностью
партий хора, остротой политической мысли.
О чем писал Аристофан? Одной из излюбленных тем его
была защита мира. Шла война. Спартанцы совершали
опустошительные набеги на окрестности Афин; афинские
триеры нападали на берега Спарты. Сильнее всех от этой войны
страдали афинские крестьяне. Спартанцы вытаптывали их
поля, вырубали виноградники и оливковые деревья. Мечты
крестьян и других простых тружеников о мире выразил
Аристофан. Одну из своих комедий он так и назвал "Мир".
Сюжет ее фантастичен. Он напоминает сказку. Но все
фантастические и комические сцены подчинены одной
мысли: защите мира.
Афинский виноградарь Тригей воодушевлен идеей
установить мир между греками и спасти от гибели всю Эл-
577
19 532
ладу. Он садится на огромного навозного жука и возносится
на Олимп, чтобы вернуть на землю богиню Мира. Но
оказывается, что страшный бог войны заточил богиню Мира
в пещере и завалил вход огромным камнем. Тригей
обращается с призывом к грекам:
Теперь настало время, братья эллины,
Оставив распри, позабыв усобицы,
На волю нам богиню Мира вывести...
Эй пахари, торговцы, люд ремесленный!
Эй, рукоделы, поселенцы и метеки
И вы, островитяне, весь народ сходись!
На орхестру выходит хор. Он изображает афинских
крестьян. Хор поет:
О всеэллинское племя! Друг за друга встанем все,
Бросим гневные раздоры и кровавую вражду!
Собираются граждане греческих государств.
Вооружившись лопатами и веревками, тянут камень. Не все
работают старательно. Раздаются насмешки над жителями
городов, которые не хотели мира между Афинами и Спартой.
Наконец камень отвален. Из пещеры выходит богиня
Мира. На земле воцаряется мир.
Перед Тригеем появляются радующиеся миру
ремесленники. Они дарят ему изделия своего труда. В
растерянности торговцы оружием: что им делать со шлемами,
панцирями, копьями? Тригей издевательски предлагает им купить
панцирь, чтобы использовать его... как стульчак. Он готов
купить и копья, чтобы перепилить их надвое и сделать из
них колышки. Комедия завершается праздником. Хор
славит прелести мирной жизни.
Так Аристофан в то далекое от нас время проводил
мысль о плодотворности усилий простых людей всех
государств в борьбе за мир.
* * *
Мы вспомнили лишь некоторые эпизоды прочитанной
повести, но теперь вам должно стать яснее, что же могло
быть в действительности и почему это было именно так.
И я думаю, вас не разочарует то, что герои повести Алек-
сид, Коринна, Лукиан и их близкие — плод авторского
вымысла. От этого их приключения не стали менее интерес-
578
ными, а описания быта, занятий, развлечений древних
афинян — менее достоверными. Разве не могло быть в жизни
таких подростков?
Джефри Триз, к сожалению, не сумел дать правильную
оценку учению и деятельности афинского мыслителя
Сократа, не рассказал о тяжелой доле рабов, да и о многом
еще, что мог увидеть и пережить афинский мальчик; ему,
очевидно, было жаль Алексида и Коринну, и он "помог" им
сохранить дружбу, придумав маловероятный в той далекой
жизни счастливый конец — эпизод с нахождением
настоящих родителей. Но английский писатель, не превращая
своих героев в наших современников, наделенных
нашими мыслями и представлениями о мире, сумел сделать их
по-человечески понятными, близкими нам. И наверное,
читая повесть, вы не раз вспоминали черты знакомых ребят
из вашего класса или вашего дома.
Остроумный, находчивый Алексид обладал не только
поэтическим даром, но и крепким здравым смыслом,
заставлявшим его слегка иронически относиться к суевериям
афинян; с любопытством присматривался он к инакомыслящим
людям. Коринна, то лукавая и дерзкая, то внимательная и
заботливая, подкупает независимостью своих суждений,
глубокой преданностью дружбе. Лукиан, недалекий и
спесивый, больше полагался на силу кулаков, чем аргументов,
и, не раздумывая, придерживался всех наставлений
своего отца, ревнителя афинского благочестия. Для Лукиана
дружба с Коринной — унижение: ведь девочка из семьи
неполноправных граждан — метеков. Нарастает конфликт
между мальчиками, которые вначале разыгрывали из себя
древних героев Ахилла и Патрокла, чья дружба вошла у
греков в поговорку. Они спорят, ссорятся, дерутся.
Смогли ли вы почувствовать за этими спорами не только
разницу характеров, но и различие складывающегося взгляда
на жизнь: широкого и гуманного у Алексида и узкого,
ограниченного сословным высокомерием у Лукиана? Детская,
бездумная дружба разрушается у нас на глазах: не
верится, что Алексид и Лукиан смогут сохранить дружеские
отношения, когда вырастут, возмужают. Но в конце повести
Лукиан снова оказывается рядом с товарищем. Это
нетрудно понять: Лукиан, как и Алексид, воспитан в верности
афинскому демократическому строю. Когда над родным
городом нависла угроза, мальчики снова встали плечом к пле-
579
чу. Дружба не может быть прочной без глубокого
совпадения мыслей и отношения к жизни, но единство целей
объединяет и людей, которые не чувствуют друг к другу
дружеской привязанности.
Казалось бы, давно жили герои повести, давно ушел в
прошлое окружавший их мир — почти две с половиной
тысячи лет минуло с тех пор, — и все же не только
развалины храмов на земле древней Эллады или остатки давно
угасшей жизни, разыскиваемые археологами под землей,
напоминают нам о Древней Греции, ее людях, их мыслях и
творениях. Мы идем в театр и смотрим там пьесы
древнегреческих драматургов, мы посещаем музеи и любуемся
статуями, созданными греческими мастерами, мы читаем
произведения греческих писателей, и они по сей день
доставляют нам высокое художественное наслаждение. Наша
литература, искусство, театр, многие научные идеи
своими глубокими корнями уходят в древнегреческий мир. И,
если этот мир стал вам теперь ближе и понятнее, в этом
заслуга автора повести, английского писателя Джефри Триза.
А. С. Завадье
М. Ботвинник
Г. Стратановский
ЗНАМЕНИТЫЕ
ГРЕКИ
/ПО ПЛУТАРХУ/
© Б. Косульников
© М. Ботвинник, Г. Стратановский
ЛИКУРГ
Ни один из рассказов о знаменитом спартанском
законодателе Ликурге не может считаться вполне
достоверным. О его происхождении, государственной деятельности
и смерти существует много разноречивых известий1. Но
больше всего споров вызывает вопрос о времени его
жизни. Большинство древних ученых считали, что Ликург жил
в эпоху учреждения Олимпийских игр и даже принял уча-
1 В настоящее время многие ученые полагают, что сведения о
спартанском законодателе Ликурге настолько противоречивы, что нет
основания считать его исторической личностью. Законы, якобы
введенные Ликургом, на самом деле были установлены в Спарте частично в
VIII, но главным образом во второй половине VII в. до и. э. Несмотря
на заведомую недостоверность биографии Ликурга, она содержит
ценный материал о быте и законах спартанцев в эпоху наивысшего
могущества и расцвета их государства.
583
стие в выработке правил проведения этих общегреческих
состязаний.
Незадолго до правления Ликурга в Спарте начались
смуты. Народ был недоволен своими правителями,
богатые угнетали бедных, и часто дело доходило до открытых
уличных столкновений. В одной из таких стычек был убит
пытавшийся разнять дерущихся отец Ликурга. Он был
царем Спарты, и, согласно обычаю, его власть перешла к
старшему сыну Полидекту, брату Ликурга. Так как Поли-
дект скоро тоже скончался, не оставив детей, то Ликург
стал единственным наследником царского престола.
Однако вскоре после воцарения Ликург узнал, что царица,
жена его умершего брата, ждет ребенка. Ликург объявил, что
если ребенок его брата окажется мальчиком, он передаст
ему престол, а сам, пока ребенок не вырастет, будет
управлять государством в качестве опекуна.
Вдова брата полюбила Ликурга и хотела, чтобы он стал
ее мужем. Она предполагала, что Ликургу будет тяжело
отказаться от царского достоинства, к которому стремится
столько людей, способных ради этого на любые
преступления. Поэтому царица пообещала Ликургу, что если он
женится на ней, то она убьет своего ребенка и никто, кроме
Ликурга, не сможет притязать на престол в Спарте. Но
Ликург не хотел власти, добытой нечестным путем. Он
побоялся ответить сразу отказом на предложение царицы,
опасаясь, как бы она, обезумев от любви, не убила
ненавистного ей ребенка.
Ликург сказал царице, что он сумеет, пользуясь своей
царской властью, устранить стоящего на пути к их счастью
ребенка. Уговорив таким образом не подозревавшую
обмана царицу ничего не предпринимать без его ведома, Ликург
отправил к ней несколько преданных ему людей для того,
чтобы сразу после рождения ребенка они отняли
младенца у матери и принесли к нему.
Царица родила наследника. Когда мальчика принесли
к Ликургу, он, к удивлению родственников царицы,
знавших о ее планах, положил младенца на трон и сказал: "Вот
ваш царь, спартанцы! Давайте назовем его Харилаем, и
пусть он правит нами на радость народа!"1
За недолгое свое правление Ликург успел заслужить
1 Харилай — по-гречески значит "любезный народу".
584
любовь и уважение сограждан. Люди слушались его не
только потому, что он был правителем государства, но и
потому, что он был мудрым и справедливым человеком.
Однако у Ликурга были не только друзья, но и противники.
Особенно ненавидели его родня и приближенные отвергнутой
им царицы. Они всячески старались оклеветать его и
распространяли слухи, что царский опекун сам стремится
захватить престол.
Ликург стал опасаться, что если что-нибудь случится
с молодым царем, виновником несчастья будут считать его.
Желая избежать клеветы и подозрений, Ликург решил
покинуть родину и не возвращаться до тех пор, пока у Ха-
рилая не родится наследник. Тогда, даже в случае смерти
Харилая, Ликург не должен будет наследовать престол и
никому не придет в голову подозревать его в убийстве
царя. Отправившись путешествовать, Ликург посетил Крит.
Он внимательно изучал государственное устройство Крита
для того, чтобы, вернувшись на родину, предложить
согражданам ввести в Спарте наиболее удачные из критских
законов1.
Из Крита Ликург отплыл к берегам Малой Азии. Он
хотел сравнить простоту и суровость жизни критян с
роскошью и изнеженностью малоазийских греков. Так врач
сравнивает больной организм со здоровым, чтобы увидеть,
в чем состоит болезнь.
В Азии Ликург узнал о существовании поэм Гомера.
Эти произведения очень понравились ему, и он переписал
их, чтобы познакомить с ними земляков. В Греции в это
время уже ходили из уст в уста отрывки из "Илиады" и
"Одиссеи", но Ликург, как рассказывают, был первым из
европейских греков, кто познакомился с ними целиком. Он
считал, что содержащиеся в поэмах правила поведения и
морали будут полезны для его сограждан.
Между тем спартанцы жалели об отъезде Ликурга и
не раз приглашали его вернуться. Они говорили, что царь
должен отличаться от своих подданных не одним только
1 Рассказом о пребывании Ликурга на Крите древние писатели
пытались объяснить большое сходство в государственном устройстве
Крита и Спарты. Современная наука объясняет это сходство тем, что и
Спарта и Крит принадлежали к типу земледельческих государств
Греции, стоявших на одном уровне экономического развития.
585
титулом, что он должен обладать достаточным
авторитетом, чтобы властвовать и влиять на своих сограждан.
Ликург считал, однако, что отдельными мелкими
реформами невозможно оздоровить строй Спарты, а следует
решительно изменить все порядки в государстве. Он не был
уверен, что призывавшие его граждане дадут ему
возможность провести необходимые коренные преобразования, и
поэтому, прежде чем вернуться в Спарту, Ликург решил
узнать мнение дельфийского оракула1.
Пифия встретила входящего в храм Ликурга
следующими словами:
Вижу тебя я, Ликург, пришедшего в храм мой богатый,
Зевса любимца и всех великих богов на Олимпе.
Как мне тебя называть, я не знаю: хоть схож с человеком,
Все же тебя назову я бессмертным скорее, чем смертным.
Когда же Ликург попросил посоветовать ему лучшие эа-
коны, пифия ответила, что лучше его законов не будет
иметь ни одно государство. Это предсказание ободрило
Ликурга, и он решил вернуться в Спарту, где в это время
правил его слабохарактерный племянник Харилай и
государственные дела находились в полном беспорядке.
Прежде всего Ликург открылся своим друзьям, затем
постепенно привлек на свою сторону еще многих граждан.
Когда ему показалось, что наступил подходящий момент
и число его приверженцев достаточно велико, он с 30
вооруженными друзьями из самых знатных семей занял
городскую площадь, чтобы подавить возможное
сопротивление. Харилай, думая, что заговор направлен против него,
бежал и скрылся в храме Афины. Убедившись вскоре, что
ему нечего бояться, Харилай вышел из своего убежища и
вместе с остальными аристократами участвовал в
преобразованиях.
Важнейшим государственным органом по законам
Ликурга стала герусия — совет старейшин (по-гречески —
геронтов) из 30 человек. Герусия разрешала споры и
могла давать указания даже царям. Дело в том, что во главе
1 Дельфийский оракул — общегреческое святилище, жрецы которого,
имея обширные связи во всех государствах Греции, часто могли
давать дельные политические советы. Предсказания-оракулы давались
пифией, жрицей бога Аполлона, обычно в нарочито неясной форме и
могли быть истолкованы различно; благодаря этому почти никогда нельзя
было доказать, что предсказание не сбылось.
586
Спарты издревле стояли два царя. Они происходили из двух
постоянно враждовавших между собой родов — Агиадов
и Еврипонтидов. Так, одновременно с Харилаем,
происходившим из рода Еврипонтидов, в Спарте правил Архелай
из рода Агиадов. Оба царя ненавидели друг друга: каждый
стремился к единоличной, неограниченной власти, которую
в Греции называли деспотией. Эта вражда ослабляла
государственный строй, и, пользуясь этим, вожди простого
народа — демоса — стремились свергнуть власть знати и
установить демократию — власть народа.
Теперь, по закону Ликурга, цари сохранили свое старое
значение только на войне. В походе они по-прежнему
обладали властью над жизнью и смертью граждан. В мирное же
время спартанские цари входили в герусию в качестве
рядовых членов. Остальные 28 членов герусии выбирались
народом пожизненно из числа стариков не моложе 60 лет.
Выборы назначались, когдп кто-либо из геронтов умирал,
и таким образом общее число герусии — 30 человек,
включая царей, оставалось неизменным. Это число, по мнению
древних, определилось тем, что именно 30 аристократов
вышли некогда с Ликургом на площадь, чтобы добиться
преобразований. Эти аристократы были первыми членами
герусии. Состав герусии постоянно обновлялся, но в течение всей
истории Спарты совет старейшин сохранял
аристократический характер. Хотя по закону любой спартанец, достигший
60 лет, мог стать геронтом, но обычно в герусию выбирали
старцев из числа наиболее влиятельных семей.
Чтобы цари, геронты и народ не спорили между собой
из-за власти, Ликург составил между ними соглашение —
закон о разделении власти, который потом называли "Ли-
кургова ретра"; считали, что оно было внушено
законодателю самим богом Аполлоном.
Содержание этой ретры1 таково. "Пусть, — говорилось
1 Само слово "ретра" — устное соглашение, устный закон —
указывает на древнее происхождение этого постановления. Об этом же
говорит и тот факт, что наряду с обычным для всякого государства
разделением граждан по территориальному признаку (5 об — областей)
сохранено и старинное племенное деление (3 филы — племени). Особенно
важно, что в постановлении сохраняются характерные для
первобытнообщинного строя черты верховной власти народа, исчезнувшие
впоследствии в связи с засильем аристократии. Старинный язык документа
также доказывает, что он был составлен значительно раньше времени, к
которому относятся остальные приписываемые Ликургу реформы.
587
в законе, — народ будет разделен на филы и обы, пусть в
герусию входит вместе с царями 30 человек, а народ время
от времени собирается у реки Еврота на собрания. Там пусть
народу предлагают решения, которые он может принять или
отклонить. У народа пусть будет высшая власть и сила".
Аристократы были недовольны этим законом,
предоставлявшим окончательное решение всех вопросов народу.
После смерти Ликурга к ретре было сделано добавление:
"Если народ примет неправильное решение, геронты и
цари могут отвергнуть его и распустить народное собрание".
Чтобы убедить народ согласиться на это добавление,
сводящее на нет верховную власть народа, аристократы
говорили, что это повеление бога Аполлона, сообщенное
оракулом в Дельфах:
Высшую власть в совещаньях царям передать богоравным
Следует — дорог ведь им Спарта, прекраснейший град!
Геронтов-старцев совет на втором пусть находится
месте,
Должен в собраньях народ "да" или "нет" отвечать!
С этого времени, по-видимому, окончательно
установился порядок проведения народных собраний в Спарте.
Площадь, где проходили собрания, не была украшена: не
было здесь ни портика — галереи для защиты от солнца, ни
статуй, ни зданий, стены которых были бы украшены
картинами или скульптурами. Спартанцы боялись, как бы
удобства и красота места не породили бы в ораторах
многоречивость, что привело бы к долгим собраниям. На
открытой, не защищенной от ветра площади, где негде было даже
присесть, собрание шло быстро. Выслушав речь царя или
геронта, народ криком одобрял или отвергал внесенное
предложение. Никому, кроме царей и геронтов, не разрешалось
высказывать-свое мнение, но и выступления правителей
обычно не были длинными.
Такой порядок ведения государственных дел давал
возможность аристократам почти бесконтрольно решать все
вопросы управления. Однако народ не желал терпеть
несправедливости, и через 130 лет после правления
Ликурга, когда царем в Спарте был Феопомп1, была учреждена
1 Цари Полидор и Феопомп правили в конце VIII в. до н. э. При них
шло завоевание лежащей на запад от Лаконики плодородной Мессе-
нии. По-видимому, связанное с тяжелой войной напряжение
обострило борьбу народа и знати и вызвало учреждение эфората.
588
должность эфоров. Правда, некоторые древнейшие
писатели утверждают, что эта должность существовала еще при
Ликурге, но первоначально эфоры были просто жрецами-
прорицателями1 и не играли роли в управлении
государством. Со времени же Феопомпа начали регулярно выбирать
по одному эфору от каждой из пяти областей Лаконики, и
они стали правителями государства. В отсутствии царей
они вершили суд и расправу над гражданами. Главной их
обязанностью было проверять деятельность должностных
лиц и следить, чтобы все выполняли спартанские законы.
В случае нарушений они могли карать даже царей.
Жена упрекала Феопомпа за то, что он предоставил
эфорам слишком большую власть, говоря, что теперь он
передаст детям меньшую власть, чем сам получил от отца.
Отвечая ей, царь сказал: "Хоть и меньшую, зато более
прочную".
И действительно, контроль за поведением царей привел
к тому, что они вынуждены были больше считаться с
народом, следить, чтобы их образ жизни не вызвал народного
гнева. Может быть, именно поэтому царская власть
сохранилась в Лаконике значительно дольше, чем у народов,
населявших соседние со Спартой области Пелопоннеса.
Самым важным и смелым из преобразований,
проведенных Ликургом, был передел земли. Все богатство в это
время скопилось в руках немногих аристократов, а бедняки,
потерявшие свою землю, угрожали восстать и уничтожить
власть богачей. Ликург убедил сограждан отказаться от
владения землей в пользу государства, с тем чтобы никто
больше не мог продавать или покупать землю. Всю землю
разделили на равные участки, и каждая спартанская семья
получила равный надел2. Этим Ликург хотел уничтожить
1 Само слово "эфор" означает по-гречески "наблюдатель", "надзиратель".
Так назывались жрецы, в обязанность которых входило наблюдать за
звездами. Через определенное количество лет эфоры должны были
проверять по звездам, угодны ли богам правящие в Спарте цари. Если во время
наблюдения за ночным небом падала какая-нибудь звезда, это
означало, что один из царей должен быть смещен.
2 Передел земли и все последующие реформы, приписываемые Ликур-
гу, произошли, судя по сведениям других источников и археологическим
данным, не раньше VII в. до н. э. Нет ничего невероятного в том, что в
это время в Спарте действовал какой-то выдающийся организатор
народа и законодатель, но так как спартанские законы не были записаны, то
и имя Ликурга не встречается ни в одной надписи. Передел земли не
мог быть результатом убеждений Ликурга, а был вызван ожесточенной
классовой борьбой, в которой знать вынуждена была пойти на уступки.
589
бедность и богатство и заставить всех граждан жить в
одинаковых условиях, чтобы никто не был выше другого.
Каждый участок мог обеспечить семью ячменной мукой,
растительным маслом и вином, чего, по мнению Ликурга,
было достаточно человеку, чтобы сохранить здоровье и не
нуждаться в самом необходимом.
Чтобы окончательно уничтожить всякое неравенство,
Ликург хотел переделить не только землю, но и движимое
имущество.
Однако он понимал, что богачи никогда не согласятся
на это, и решил обмануть корыстолюбивых людей. Для
этого он убедил их признать законы, которые сделали
богатство бесполезным грузом, так что многие сами рады были
отказаться от своей собственности.
Прежде всего он запретил пользоваться золотой и
серебряной монетой и приказал принимать только железные
деньги. Чтобы сделать железо, из которого приготовлялись
новые деньги, совершенно бесполезным, Ликург приказал
опускать его раскаленным в уксус. Этим он лишал металл
твердости, делал его хрупким и совершенно негодным для
каких-либо изделий.
Эти деньги были настолько громоздки и стоили так
мало, что, для того чтобы держать дома несколько сот
рублей, нужно было строить большую кладовую и перевозить
в нее деньги на телеге.
Благодаря новой монете в Спарте прекратились
преступления: кто решился бы воровать, брать взятку или грабить,
раз нельзя было скрыть свою добычу?
Затем Ликург запретил в Спарте все бесполезные
ремесла. Впрочем, даже если бы Ликург не изгонял бы
ремесленников, они исчезли бы сами, так как их вещи не
находили сбыта. Железные деньги не шли в других
государствах: на них ничего нельзя было купить, и приезжие
ремесленники только смеялись, когда кто-либо предлагал
им заплатить железными деньгами. Таким образом, роскошь
исчезла в Спарте, и богач не имел теперь никакого
преимущества перед бедным, так как не мог использовать
своего богатства.
Третьим проведенным Ликургом преобразованием,
также направленным на уничтожение стремлений граждан к
накоплению богатств, было учреждение сисситий. Сисси-
тии (которые в Спарте назывались также фидитиями) бы-
590
ли совместными обедами свободных спартанцев. Но сисси-
тия была не просто общим обедом, это было
товарищество из 15—20 человек, называвшихся сисситами,
служивших обычно в одном военном подразделении и связанных
тесной дружбой.
Для того чтобы все члены сисситии стали друзьями и
готовы были умереть друг за друга, каждый вновь
поступающий проходил проверку. Во время обеда новичка
вводили в палатку, где ели сисситы, и раб с чашей на голове
обходил всех присутствующих. Тот, к кому подходил раб,
скатывал шарик из хлеба и кидал его в чашу, стоящую на
голове раба. Никто не мог увидеть, если кто-нибудь
опускал шарик, слегка сдавливая его пальцами. Сдавленный
шарик означал, что кто-то не хочет принять новичка, и
этого было достаточно, чтобы его просьбу отклонили.
Нельзя было допустить, чтобы хотя бы два человека в
сисситии не любили друг друга. Это могло внести раскол
в товарищество и привести к страшным последствиям,
если сисситам придется сражаться плечом к плечу на поле
боя. Каждый сиссит должен был ежемесячно вносить в
общий котел одну меру ячменя (на каждый день выходило
около 2 кг), немного сыра, фруктов, несколько кружек
вина1. Кроме того, каждый, кто приносил жертву богам,
посылал в сисситию лучшую часть убитого животного.
Охотники тоже приносили часть своей добычи.
Тот, кто опаздывал из-за жертвоприношения или
охоты, мог обедать дома, но остальные должны были
приходить к обеду вовремя. Спартанцам было запрещено
приходить на сисситии сытыми. Все строго наблюдали за тем,
чтобы никто не оставлял свою порцию несъеденной. Это
было признаком того, что сиссит поел где-то в другом
месте, а это означало, что он считает общий стол
недостаточно хорошим для себя. Такой человек подвергался
штрафу, а мог и вовсе быть исключенным из сисситии.
Любимым кушаньем сисситов была черная похлебка.
Она приготовлялась из чечевицы и бычьей крови.
Особенно любили ее старики, которые даже отказывались ради
нее от мяса, отдавая свою долю молодым.
1 Греки разбавляли вино водой, и этот напиток служил им вместо
нашего чая; разбавленное вино лучше, чем простая вода, утоляет
жажду и не вызывает опьянения.
591
Один из иноземных царей хотел попробовать похлебку
и специально для этого купил себе спартанского повара.
Повар приготовил кушанье, но царь, попробовав, стал плеваться.
— Что ты приготовил? — закричал он. — Это варево
невозможно есть!
— Царь, — ответил повар, — прежде чем есть черную
похлебку, нужно выкупаться в Евроте.
Тяжелые физические упражнения и скудость пищи
делали вкусным то, что другим грекам казалось несъедобным.
На сисситии часто приходили дети. Считалось, что им
полезно слушать разговоры и перенимать опыт старших.
Кроме того, мальчики учились высмеивать недостатки, не
оскорбляя людей. Когда мальчики впервые переступали
порог палатки, где обедали спартанцы, старший из сисситов
говорил: "За эту дверь не должно выйти ни одно
произнесенное здесь слово".
Спартанских мальчиков приучали к мысли, что
обижаться на шутку глупо и недостойно спартанца.
Находились все-таки люди, не переносившие шуток. Достаточно
было такому человеку сказать, что смех ему неприятен, и
насмешник сразу умолкал.
Вводя обязательные совместные трапезы, Ликург лишил
богачей в Спарте возможности вкусно поесть — одной из
главных радостей, которые может дать богатство. Именно
введение сисситии больше всего восстановило богачей
против Ликурга. Они до того были злы на правителя, что
однажды побили его палками и выбили ему глаз.
Народ, однако, заступился за Ликурга и наказал
богачей. Обычай обедать вместе сохранялся в Спарте в
течение многих столетий.
Кроме закона о сисситиях, Ликург издал еще ряд
законов против роскоши. Он, например, запретил
пользоваться сложными плотничьими инструментами и требовал,
чтобы дома спартанцев были сделаны при помощи топора и
пилы. Ликург понимал, что в дом, построенный таким
образом, не сможет проникнуть роскошь. К бревенчатым
стенам не подойдут пурпурные ковры, золотые кубки или
кровати на серебряных ножках.
Один из законов Ликурга запрещал долго вести войну
с одним и тем же противником. Ликург считал, что не
следует позволять врагам непрерывно упражнять войско: это
может привести к тому, что соседи не будут уступать в
воинственности самим спартанцам.
592
Законы Ликурга не были записаны. По его мнению, все,
что важно и необходимо для счастья государства, должно
войти в обычай и образ жизни граждан с самого раннего
детства. Вот почему все его заботы как законодателя
были обращены на воспитание детей.
Ликург считал, что заботу о детях надо начинать с
заботы об их матерях. Женщина должна быть здоровой и
веселой. Только тогда ее дети будут крепкими и сильными.
По законам Ликурга девушки должны были бегать,
бороться, бросать диск, метать копье. Подобно юношам, они
должны были присутствовать на праздниках, участвовать в
плясках и петь в хоре. В своих песнях девушки славили
сильных и храбрых и возбуждали у молодежи горячее желание
отличиться.
Женщины в Спарте участвовали в соревнованиях, в
которых они могли показать свое мужество и приобрести
славное имя. Вот как ответила спартанская царица Горго
одной иностранке, когда та упрекала спартанок в том, что
женщины у них распоряжаются своими мужьями. "Но ведь
мы и рожаем мужей", — сказала царица.
Оставаться холостым в Спарте считалось позорным. По
приказу властей холостяки должны были зимой
раздетыми обходить рыночную площадь и петь песню, в которой
говорилось, что они наказаны за неповиновение обычаям.
Молодые люди не оказывали холостякам тех знаков
уважения, которые принято оказывать старшим.
Рассказывают, что когда однажды холостой полководец вошел в
палатку, один молодой человек не встал, чтобы его
приветствовать. В ответ на замечание юноша сказал: "Я не обязан
вытягиваться перед тобой, ведь у тебя нет сына, который
впоследствии будет вставать передо мной". И этот ответ
признали справедливым.
В Спарте отец не имел права решать судьбу своего
ребенка. Сразу после рождения сына отец приносил его в
назначенное место, где заседали старейшины. Внимательно
осмотрев младенца, старцы, если находили его здоровым и
крепким, разрешали отцу растить ребенка и отводили
новорожденному надел земли. Если же ребенок оказывался
слабым, его приказывали бросить в пропасть, считая, что
самому ему лучше не жить и для государства полезнее
будет, когда среди граждан не будет слабых и больных.
Женщины обмывали новорожденных не водой, а вином,
593
так как существовало поверье, что дети, пораженные
падучей и другими болезнями, умирают от вина, тогда как
здоровые становятся только крепче. Детей не пеленали,
отучали от страха перед темнотой и одиночеством, от
капризов и нытья, заставляли есть всякую пищу. Дети
вырастали такими здоровыми, что спартанские няньки
славились по всей Греции.
Никто не имел в Спарте права воспитывать детей по
своему усмотрению. Купленные или наемные педагоги не
допускались к детям. В семь лет мальчиков отбирали от
родителей и, объединив в небольшие отряды,
воспитывали сообща, приучая к суровой дисциплине. Во главе
каждого отряда (который назывался агелой) стоял человек,
прославившийся рассудительностью и мужеством. Дети во всем
брали с него пример, подчинялись ему и покорно терпели
наказания. Старики наблюдали за игрой ребят и часто,
нарочно ссоря их, вызывали драки, чтобы выяснить, кто из
детей храбрее.
Грамоте мальчиков учили только в пределах
необходимости, чтобы они умели прочитать приказ или подписать
свое имя. Остальное обучение заключалось в том, чтобы
научить детей безоговорочно повиноваться, терпеливо
переносить лишения и побеждать в битвах.
По мере того как мальчики вырастали, их
воспитывали во все более суровых условиях: стригли наголо,
заставляли ходить босиком и в любую погоду играть голыми.
Когда детям исполнялось двенадцать лет, им выдавали плащ,
который они должны были носить круглый год. Горячей
водой им разрешалось мыться всего несколько раз в году.
Спали они все вместе на связках тростника, который
сами приносили с берегов Еврота, ломая его там руками.
Старшие обращали на детей большое внимание,
ходили в школы, наблюдали за занятиями. За детьми смотрел
воспитатель — "педоном", и, кроме того, они сами
выбирали в каждой агеле вожака — самого сильного и умного
юношу. Выбирались только те юноши, которые уже более
года как вышли из детского возраста. Такие юноши
назывались иренами. Двадцатилетний ирен командовал в
сражениях, которые мальчики разыгрывали, чтобы
приучиться к войне.
Дети обязаны были сами добывать себе дрова и
пропитание. Все, что они приносили, было ворованным.
Одни отправлялись в сады, другие прокрадывались на сисси-
594
тии, стараясь проявить наибольшую хитрость и
осторожность. Юным спартанцам умышленно выдавали слишком
скудное питание, чтобы научить их собственными силами
бороться с лишениями и сделать из них людей ловких и
хитрых. Им приходилось не только тайно выкрадывать
продукты, но иногда даже нападать на сторожей и силой
отбирать необходимое. Попадавшегося без пощады били
плетью, как плохого, неловкого вора, и заставляли голодать.
Боясь наказания, мальчики старались любой ценой
скрывать свои преступления. Так, один из них,
рассказывают, украл лисенка и спрятал его у себя под плащом.
Зверь распорол ему когтями и зубами живот, но, не
желая выдать себя, мальчик крепился и не закричал, пока,
обливаясь кровью, не упал мертвым. Этому вполне можно
поверить, зная, что многие из мальчиков умирали во
время бичевания на алтаре Артемиды1.
После обеда ирен, не выходя из-за стола, проводил с
мальчиками нечто вроде занятий: одним он приказывал
петь, другим задавал различные вопросы. Вопросы эти
должны были научить детей отличать хорошее от дурного и
судить о поведении людей. Если мальчик не мог объяснить,
какого человека он считает достойным имени
спартанского гражданина или какой поступок лишает человека
права на уважение, то его считали умственно отсталым и ире-
ну приказывали обратить внимание на его развитие.
Ирен часто наказывал детей в присутствии стариков,
чтобы те могли судить, правильны ли его приемы
воспитания. Во время наказания старшие никогда не вмешивались
в распоряжения юноши, но после того как дети уходили,
с него взыскивали, если он наказал строже, чем
следовало, или был чересчур мягок и снисходителен.
Детей учили выражать свои мысли коротко и точно2.
Ликург хотел, чтобы немного простых слов заключали в
себе много смысла. Сам Ликург всегда выражался кратко
1 В Спарте в течение ряда столетий сохранялся обычай при переводе
мальчиков в ирены подвергать их публичному бичеванию. На алтаре
богини Артемиды юноши должны были доказать свое мужество и
пренебрежение к боли. Не желая обнаружить свою слабость, некоторые
умирали под бичами, но не издавали ни одного крика. Этот обычай,
связанный с обагрением кровью алтаря богини, возможно, был
заменой существовавших в глубокой древности человеческих
жертвоприношений.
2 Недаром современное слово "лаконизм" (краткость в выражении
мысли) происходит от названия области спартанцев — Лаконики.
595
и отрывисто. Когда кто-то стал требовать, чтобы Ликург
ввел в государстве демократию, он сказал: " Введи сперва
демократию у себя дома".
Однажды спартанцы спросили Ликурга: "Как сделать,
чтобы соседние страны не нападали на нас?" Он отвечал:
"Оставайтесь бедными и не будьте ни в чем богаче соседей".
В другой раз он выразился об укреплении города так:
"Если город укреплен людьми, а не кирпичами, то у него
есть стены!"
Вообще спартанцы любили короткие и остроумные
ответы. Когда человек говорил умно, но некстати, ему
говорили: "Ты говоришь дело, но не к делу".
Одного философа ругали за то, что на званом царском
обеде он не сказал ни слова. Защищая его, царь заметил:
"Кто умеет говорить, умеет и выбирать для этого время".
Один человек надоел спартанскому царю вопросами, кто
лучший из спартанцев. Никто не удивился, когда царь
ответил ему: "Тот, кто меньше всего похож на тебя".
Многие восторгались беспристрастностью устроителей
Олимпийских игр при присуждении премий. "Что ж
удивительного, — сказал спартанец, — если люди один день
в четыре года умеют быть справедливыми".
Когда у царя Архидама спросили, много ли в Спарте
войска, он сказал: "Хватит, чтобы прогнать трусов".
Один афинянин высмеивал короткие спартанские
мечи. Царь Агис сказал ему: "Это, однако, не мешает нашим
коротким мечам доставать неприятеля".
Из ответов спартанцев можно составить представление
0 тех правилах поведения, которых они придерживались.
С детских лет спартанцы приучались без особой
необходимости не высказывать своих суждений и говорили
только то, что необходимо.
Одного спартанца приглашали послушать человека,
подражавшего пению соловья. "Я слышал самого соловья", —
ответил он.
Другому обещали подарить петухов, которые дрались,
пока не умирали на месте1. "Нет, — сказал он, — ты дай
мне таких, которые убивают других".
1 Одной из самых распространенных забав в Древней Греции были
петушиные и перепелиные бои. Этому зрелищу придавали большое
воспитательное значение» так как считали, что петухи показывают пример,
как следует бороться до последней возможности. Птиц для боев
специально тренировали, и хорошие боевые петухи стоили очень дорого.
596
Однажды спартанец прочел надгробную надпись на
братской могиле. После перечня имен шли слова: "Когда
они тушили пламя тирании, они пали в бою".
— Так им и надо!— неожиданно сказал спартанец.—
Не следовало тушить пламя тирании. Пусть бы сгорела
дотла!
Такое же внимание, как на точность и ясность речи, в
Спарте обращали на хоровое пение. Спартанские песни
были мужественны, просты и безыскусственны, но вместе с
тем серьезны и поучительны. Это были или хвалебные
песни, прославляющие павших за Спарту, или песни,
порицавшие трусов и призывавшие к подвигу. Вот, например,
одна из спартанских песен. Хор стариков начинал и пел:
"Когда-то мы были молоды и храбры!".
Старикам отвечал хор мужчин: "Теперь храбры мы!
Попробуй, если хочешь!"
Детский хор подхватывал: "А мы со временем храбрее
всех вас будем!"
Музыке в Спарте придавали очень большое значение.
В бой спартанцы шли под звуки флейт. Спартанский поэт
говорит: "Хорошая музыка действует на душу не меньше,
чем оружие". Считали, что спартанский царь приносил
перед сражением жертвы музам для того, чтобы напомнить
воинам необходимость совершать подвиги, достойные
прославления в песнях.
Когда юноши становились воинами, строгость их
воспитания несколько смягчалась. Им разрешали следить за
красотой платья, волос и оружия. Перед боем юноши
старались особенно тщательно украсить себя: они
расчесывали волосы и смазывали их маслом, помня изречение Ли-
курга: "Волосы красивых делают красивее, безобразных —
еще безобразнее".
В походах гимнастические упражнения молодежи
были не такими трудными, да и в остальном жизнь была
легче. Спартанцы были единственным народом, которому война
казалась отдыхом по сравнению с бесконечными
упражнениями мирного времени.
Когда войско выстраивалось перед битвой, царь
приносил жертву богам и приказывал всем воинам надеть
венки. Под звуки флейт все начинали петь военную песнь.
Величественное и торжественное зрелище представляла
шеренга людей, шагавших в такт музыке. Ряды были со-
597
мкнуты, ничье сердце не замирало от страха, они шли
навстречу опасности с песней, спокойно и весело. Царь шел
в бой рядом с воином, победившим на последних
Олимпийских играх.
Рассказывают, что одному спартанцу предлагали
большую сумму за то, чтобы он сдался и уступил своему
сопернику честь победы на Олимпийских играх. Когда он не
принял денег и после трудной борьбы одержал победу, его
спросили: "Какая польза тебе от твоей победы, что ты ради
нее отказался от возможности стать богатым человеком?"
"В сражении я пойду рядом с царем впереди войска",—
гордо ответил победитель.
Обратив неприятеля в бегство, спартанцы преследовали
его недолго и скоро возвращались. Им казалось низким и
недостойным рубить и убивать отступавших врагов. Этот
обычай был не только великодушным, но и полезным, так как
неприятельское войско, зная, что убивают лишь
сопротивляющихся, часто предпочитало бежать, а не сражаться.
Некоторые историки утверждают, что Ликург сам был
очень воинственным. Но скорее правы те, которые считают,
что Ликург не участвовал ни в каких войнах и провел свои
преобразования в те годы, когда Спарта ни с кем не
воевала. О его миролюбии свидетельствует тот факт, что ему
принадлежит мысль устраивать перемирие каждые четыре года
на то время, пока проводятся Олимпийские игры1.
По замыслу Ликурга воспитание спартанца не
заканчивалось в тот момент, когда он становился взрослым.
И зрелые люди должны были жить так, как предписывал
обычай. Спарта была похожа на лагерь, где был
установлен строго определенный образ жизни для каждого. Если
спартанцам не давалось никаких других поручений, они
смотрели за детьми, учили их чему-нибудь полезному или
сами учились у стариков.
У спартанцев было много досуга, так как заниматься
ремеслами или другим полезным трудом им было строго
запрещено и большую часть времени они проводили в гимна-
сиях или беседовали друг с другом о хороших и дурных по-
1 Обычай запрещения войн на время Олимпийских игр и других
крупных религиозных празднеств был введен, возможно, еще в VIII в. до
н. э. не только из религиозных соображений, но и с целью облегчения
международной торговли. Дело в том, что во время таких
общегреческих праздников происходили большие базары-ярмарки.
598
ступках. Танцы, игры, охота, песни и гимнастика
поглощали все время спартанцев, когда они не были заняты войной.
Когда один спартанец, побывав в Афинах, узнал, что
там осудили человека за праздность, он попросил показать
ему осужденного за любовь к свободе. Так глубоко
спартанцы презирали всякий труд, что нежелание работать они
называли "любовью к свободе"1.
Спартанцы могли жить беззаботно, потому что землю
за них обрабатывали илоты. Это были потомки
порабощенного спартанцами населения, оставшиеся жить на тех
участках земли, которыми они владели раньше. Они были
обязаны отдавать завоевателям значительную часть
урожая. Илоты и участки земли, которые они обрабатывали,
были равномерно поделены между спартанцами. Каждая
спартанская семья получала с принадлежащего ей
участка достаточное количество продуктов.
Так как илотов было значительно больше, чем самих
спартанцев, то спартанцы постоянно опасались восстаний.
Чтобы предупредить восстания илотов, и были
учреждены так называемые криптии. Это дало основание обвинять
Ликурга в жестокости и несправедливости. Криптия
заключалась в следующем. Время от времени эфоры посылали
за город юношей, вооруженных кинжалами. Днем молодые
люди скрывались, а ночью выходили на дорогу и убивали
илотов. Чтобы придать этим гнусным убийствам вид
законности, эфоры, вступая в должность, объявляли илотам
войну. Иногда они направляли большие отряды юношей в
деревни, где жили илоты, чтобы внезапным нападением
уничтожать самых сильных и смелых из них.
Рассказывают, что однажды спартанцы дали двум
тысячам отборных илотов свободу. Радостные, одев венки,
обходили илоты храмы, чтобы принести благодарность богам
за внезапное счастье. Но ночью все они исчезли, и никто
не мог рассказать, каким образом они погибли2.
1 Плутарх, как и многие писатели рабовладельческой эпохи,
идеализировал строй древней Спарты. В его описании подчеркиваются
хорошие стороны спартанского воспитания, в результате которого
вырастали мужественные, преданные своей родине, не боящиеся никаких
трудностей люди. Но даже Плутарх не мог умолчать о паразитическом
характере спартанского образа жизни, при котором праздность
рассматривалась как единственное состояние, достойное свободного человека.
2 О таинственности, которой было окружено истребление илотов,
говорит само название этого организованного убийства: "криптия" по-
гречески значит "тайное".
599
Вообще спартанцы обращались с илотами крайне
жестоко. Иногда они нарочно заставляли илотов пить
неразбавленное вино, чтобы, доведя их до отвратительного
опьянения, показать юношам, как ужасен порок пьянства.
Илотам было запрещено петь песни свободных под угрозой
столь страшных наказаний, что, даже оказавшись
однажды вне власти своих господ, за пределами Лаконики,
илоты не осмелились спеть песни спартанских поэтов.
Правильно заметили греки, что если свободный в Спарте
наиболее свободен, то и раб здесь находится в наиболее
рабском состоянии.
Однако нет оснований приписывать все эти жестокие
законы, направленные против илотов, Ликургу. Они
стали применяться много позже, когда число илотов сильно
возросло. Особенно жестоко спартанцы стали
обращаться с илотами после великого землетрясения1, когда
илоты, воспользовавшись бедствием, напали на Спарту и едва
не добились своего освобождения.
Когда важнейшие из законов Ликурга вошли в жизнь,
он созвал всех граждан на народное собрание.
Законодатель сказал, что для того, чтобы сделать всех
счастливыми, он должен провести еще одно, самое главное
преобразование. Для этого ему надо еще раз посетить дельфийский
оракул, и поэтому Ликург попросил геронтов и всех
граждан дать клятву не изменять ничего в законах до его
возвращения. Все поклялись, и Ликург уехал в Дельфы. Здесь,
однако, оракул возвестил, что законы его прекрасны и что
до тех пор, пока Спарта будет верна этим законам, она
будет процветать и господствс^вать над другими государствами.
Послав это прорицание на родину, Ликург решил
добровольно умереть, чтобы не дать возможности согражданам
когда-нибудь изменить его законы. Ведь они обещали не
проводить никаких реформ до его возвращения.
Ликург был как раз в тех годах (ему было около 85
лет), когда, по мнению древних, можно еще жить, но хо-
1 Это произошло в 465 г. до н. э. Землетрясение было настолько
сильным, что Спарта была разрушена почти полностью. Илоты напали на
уцелевших спартанцев, которые призвали на помощь афинян. Началась
Третья Мессенская война, длившаяся почти десять лет. В итоге
войны часть илотов была вынуждена вновь подчиниться спартанцам, но
некоторые покинули страну и поселились на северном берегу
Коринфского залива.
600
рошо и умереть, особенно тому, у кого все желания уже
исполнились.
Ликург считал, что смерь общественного деятеля
должна быть полезна его государству и что кончина должна
быть достойным завершением его жизни. Поэтому,
простившись с друзьями и сыном, Ликург отказался принимать
пищу и вскоре умер от голода. Он боялся, что его останки
перенесут в Спарту и граждане смогут себя считать
свободными от данной ему клятвы. Поэтому перед смертью он
приказал друзьям сжечь его труп и бросить пепел в море.
Надежды не обманули Ликурга. Несколько столетий,
пока Спарта придерживалась его законов, она оставалась
самым сильным государством в Греции. Только в конце V в.
до н. э., когда в Спарту вместе с золотом и серебром
проникли корысть и имущественное неравенство, законам
Ликурга был нанесен смертельный удар1.
См. биографии Лисандра, Агиса и Клеомена.
солон
(VI в. до н. э.)
Как рассказывали, Солон, один из "семи мудрецов",
знаменитый афинский законодатель и поэт, происходил из
знатного рода; одним из его предков был афинский царь Кодр1.
Отец законодателя был человеком небогатым.
1 По преданию, царь Кодр (VIII в. до п. э.) героически отдал свою жизнь
за родину. После его смерти, говорит легенда, афиняне решили, что
им не найти другого такого хорошего царя. Поэтому они отменили
царскую власть и установили республику. В действительности власть
перешла к представителям знатных родов
Семь мудрецов древности — выдающиеся ученые, мыслители и
законодатели, пользовавшиеся всеобщим уважением и любовью. К ним
причислялись, кроме Солона, Питтак из Митилены, Клеобул из
Линда (остров Родос), законодатель Периандр из Коринфа, спартанский эфор
Хилон, знаменитый ученый Фалес Милетский и Биант из Приены
602
О детстве и юности Солона мы ничего не знаем.
Известно лишь, что после смерти отца он остался почти без
средств. Помощь от чужих людей юноша стыдился
принимать и потому решил попытать счастье за морем. Он
отправлял в заморские страны на кораблях афинские
товары и привозил товары чужих стран.
В те времена в Афинах торговлей с заморскими
странами занимались только немногие смельчаки. Это были
богатые аристократы, а также состоятельные и
предприимчивые купцы из народа. Путешествия за море были делом
опасным, но зато одна удачная поездка могла дать большую
прибыль. К человеку, побывавшему в чужих краях,
который приобрел знания и жизненный опыт, сограждане
относились с уважением.
Однако Солон ездил за море не только ради наживы,
но и для того, чтобы поучиться мудрости, познакомиться с
разнообразными обычаями людей, повидать свет. Наживу
ради наживы Солон не ценил; он считал, что не только в
деньгах счастье. Он говорил:
Равно богаты те люди — и кто серебро в изобильи
С златом имеет, поля на хлебородной земле,
Коней и мулов, но также и тот, кто одно только может —
Досыта, вкусно поесть, вволю потом отдохнуть.
В другом месте Солон говорит:
Также стремлюсь я богатство иметь, но владеть им
нечестно
Я не хочу: наконец, Правда ведь все же придет.
Хотя Солон сам разбогател (так как его поездки были
удачны), он считал, что доблесть и доброе имя выше
богатства:
Много людей и худых богатеют, а добрые — бедны.
Но у худых ни за что не променяем своей
Доблести мы на богатство: она ведь при нас неизменно,
Деньги ж сегодня один, завтра захватит другой.
Вернувшись из путешествия на родину, Солон застал
там острую борьбу партий. Простой народ не имел земли
и находился в кабале у кучки знатных (эвпатридов).
Народ боролся против эвпатридов, требуя земли и свободы.
Солон сразу же встал на сторону народа и вскоре
приобрел его уважение; простые люди видели в нем свое-
603
го защитника. Свой чудесный дар поэта Солон отдал на
служение народу. В замечательных стихах, которые тогда
всякий знал наизусть, поэт внушал борющимся
сторонам необходимость взаимных уступок и примирения
ради блага родины, а впоследствии разъяснял смысл и цель
изданных им законов.
В это время афиняне вели долгую и тяжелую войну с
соседним городом Мегарами за остров Саламин. Остров
этот закрывает путь кораблям в Афины и из Афин. Ме-
гарцы, владевшие островом, могли мешать привозу хлеба
в Афины (своего хлеба в Афинах не хватало); городу
грозил голод. Поэтому афиняне должны были овладеть Сала-
мином, чтобы открыть свободный подвоз хлеба.
Афинскому войску удалось на короткое время захватить остров, но
внутренние волнения и борьба партий привели к тому, что
афиняне не смогли его удержать.
Богатые эвпатриды, которые правили тогда в Афинах,
не нуждались в заморской торговле. Они издали закон,
который под страхом смерти запрещал поднимать в
народном собрании вопрос о Саламине.
Простой люд — матросы, городские ремесленники,
торговцы, портовые рабочие, наоборот, стоял за
продолжение войны, так как прекращение морской торговли для них
означало разорение и нищету.
Солон во главе городского люда боролся за
возобновление войны. Чтобы обойти закон, запрещавший поднимать
вопрос о войне за Саламин, он притворился сумасшедшим.
Как-то раз афиняне увидели странного человека в
одежде глашатая1, который вприпрыжку бежал к городскому
рынку. Это был Солон. На рынке его окружила толпа
зевак, слух о его помешательстве уже распространился по
городу. Солон взошел на камень, с которого обычно
говорили глашатаи, и вместо речи стал читать нараспев свое
стихотворение;
Сам я глашатаем к вам с Саламина желанного прибыл.
Песнь — украшение слов вместо витийства2 принес.
Он говорил в этом стихотворении, что стыдится назвать
1 Глашатай — гонец, вестник, человек, объявлявший народу законы
и распоряжения властей.
2 Витийство — красноречие.
604
себя афинянином: ведь афиняне не могут удержать в
своих руках Саламин:
Скоро, глядите, про нас и молва разойдется дурная,
Скажут: из Аттики ты, предали где Саламин.
И затем Солон горячо призывает народ:
На Саламин поспешайте, сразимся за остров желанный,
Чтобы скорее с себя тяжкий позор этот снять.
Народ с радостью откликнулся на призыв Солона.
Вскоре суровый закон был отменен, и война возобновилась. Во
главе афинского войска стал Солон.
Солон отплыл вместе с Писистратом (который
впоследствии стал тираном в Афинах) к мысу против острова
Саламин. В этом месте афинские женщины справляли тогда
праздники Фесмофорий в честь богини Деметры1.
Солон приказал своим воинам переодеться в женское
платье, скрыв оружие под одеждой, а сам послал на
Саламин одного воина под видом перебежчика. Посланный
посоветовал мегарцам, если они хотят взять в плен афинских
женщин, немедленно пересечь пролив и напасть на
женщин, справляющих праздник. Мегарцы поддались на
обман; они высадились на берегу Аттики. Внезапно на них
напали из засады афиняне под предводительством Писист-
рата. Они перебили большую часть мегарцев и захватили
их корабли. Затем афиняне отплыли к Саламину и заняли
остров.
После захвата острова мегарцы, однако, не признали
себя побежденными. Война продолжалась. Наконец, обе
стороны решили обратиться к посредничеству Спарты —
наиболее сильного в то время греческого государства.
Солон искусно старался доказать спартанцам древние
права афинян на Саламин. Он ссылался на свидетельство
гомеровской поэмы "Илиады", которую все греки столь
ценили. В современном тексте "Илиады", записанном в
Афинах около времени Солона, мы читаем, что в гомеровскую
эпоху Саламин находился под властью афинян2. Однако еще
в древности считали, что это место поэмы — вставка афи-
1 Деметра — богиня-покровительница земледелия. Фесмофорий —
пятидневный праздник после окончания земледельческих работ, когда
благодарили богиню за дарованные блага.
2 Поэмы Гомера были впервые записаны в Афинах при тиране Писи-
страте (о нем см. ниже).
605
нян, сделанная ими, чтобы доказать свои права на остров
Саламин.
Пятеро спартанских судей, заслушав обе стороны,
присудили Саламин афинянам.
Торжество афинян было полным. Имя Солона
прославилось по всей Аттике. Он был признанным вождем
городского населения, а теперь и крестьяне обращались к нему за
помощью, так как они находились в тяжелом положении.
Хотя жители Аттики занимались сельским хозяйством,
во время Солона стали уже развиваться и ремесла. В
городе Афинах, кроме знатных (эвпатридов), жило много
ремесленников, моряков и торговцев, а также иностранцев
(метеков1)- Большинство богатых эвпатридов владело
старинными родовыми землями и обрабатывало их с помощью
рабов и свободных крестьян. В руках крестьян были
только мелкие участки земли (клеры). Лучшие земли
захватили эвпатриды, и крестьяне из-за скудости почвы зачастую
с трудом могли прокормить свои семьи. Приходилось
обращаться за помощью к эвпатридам, просить у них в долг
семена, волов для пахоты и земледельческие орудия.
Мало-помалу крестьяне попадали в долговую кабалу к
богачам-эвпатридам или к городским ростовщикам. Трудясь
с раннего утра до позднего вечера на своем участке,
крестьянин должен был отдавать за долги 5/6 своего урожая.
В случае неуплаты долга в срок земля переходила к эвпат-
риду или ростовщику, а работники, иногда вместе с семьей,
становились рабами.
Многие крестьяне, измученные непосильным трудом,
вынуждены были бросать участки, продавали своих детей
в рабство и бежали в город. Наиболее отважные
поднимали вооруженные восстания против ненавистных угнетате-
лей-эвпатридов, они требовали уничтожения долгов и
возвращения своей земли.
Наконец, обездоленным крестьянам удалось
объединиться с городскими ремесленниками и выбрать Солона
архонтом2 (594 г. до н. э.).
Солон стал посредником между борющимися партиями.
1 Метеки были обычно уроженцами других городов-государств Греции.
Они говорили на том же, греческом, языке, жили многие годы в
Афинах, но не могли занимать никаких должностей, не могли участвовать
в народном собрании; запрещались браки афинян и метеков.
2 Архонт — высшее должностное лицо в Афинах.
606
Он получил право "отменять или сохранять существующие
законы и вводить новые".
Обе стороны возлагали на него большие надежды.
Крестьяне считали его справедливым человеком и верили, что
он удовлетворит их нужды. Эвпатриды же полагали, что
Солон, как выходец из их среды, не даст их в обиду.
Приводили одно из его прежних изречений о том, что равенство
не влечет за собой войну. Слова эти нравились и богатым
и беднякам: одни надеялись, что получат согласно
заслугам и доблести, другие ждали от законодателя
справедливого передела земли и имущества.
Некоторые убеждали Солона сделаться единоличным
властителем (тираном) Афин. Но Солон отказался от
таких предложений. Он говорил, что тирания — это крепость,
из которой нет выхода: человек, силой захвативший власть
в родном городе, не захочет от нее отказаться и
неизбежно применит ее во зло согражданам. Впоследствии Солон,
вспоминая это время, с гордостью говорил:
...Родину свою
Пощадил я, тирании и жестокой силы в ней
Не забрал, своей же славы не позорил, не сквернил,
В том не каюсь: так скорее я надеюсь победить
Всех людей.
Однако, отвергнув тиранию, Солон не проявлял
излишней мягкости; там, где было нужно, он применял твердую
власть: он стремился соединить силу со справедливостью.
По обычаю, перед вступлением в должность Солон
испросил совета у оракула Аполлона1 в Дельфах. Ответ
жрецов от имени бога был таков:
Сев посреди корабля, выполняй ты кормчего дело.
Много афинян тогда выйдут на помощь тебе.
Однако Солон не хотел или не мог полностью
удовлетворить справедливых требований обездоленного народа. Сам
богатый человек, он считал, что простому народу нечего
равняться с эвпатридами. Несмотря на просьбы крестьян,
Солон возвратил только участки, захваченные за долги, а не
увеличил крестьянские наделы за счет богачей, иначе
говоря, он не произвел справедливого передела земли.
1 Аполлон — бог солнца, света, покровитель искусств, предсказатель
будущего.
607
Крестьян, которые требовали передела земли, он
называл "вышедшими на грабеж" и говорил, что нельзя на
родных нивах
Дать худым и благородным долю равную иметь.
С другой стороны, он убеждал богатых перестать
угнетать бедняков:
...Ныне умерить
Гордость свою мы должны, сердце свое укротить,
Будьте скромнее в желаниях, ведь мы, как вы знаете сами,
Не захотим уступить...
Солон объявил, что хочет только восстановить древний
"отеческий" порядок, а не нарушать его в пользу бедных.
Объясняя свои реформы, он говорил потом:
Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен:
Не сократил его прав, не дал и новых зато,
Так же подумал о тех, кто силу имел и богатством
Славился, чтоб никаких им не чинилось обид...
За это Солон рассчитывал на благодарность народа,
дружбу и признательность знатных. Он говорил:
Чтоб правду горькую сказать вам: никогда
Народ того, чего достиг он, и во сне
Не увидал бы...
А те из граждан, кто повыше и сильней,
Меня должны бы чтить и другом называть.
Прежде всего Солон отменил все долговые
обязательства и запретил на будущее время долговое рабство.
В Афинах существовал обычай ставить на земле
должника каменные плиты или столбы с обозначением суммы
долга. Солон приказал снять все такие столбы. Крестьян,
проданных за долги в рабство за границу, он велел разыскать
и выкупить на государственный счет.
Впоследствии Солон писал об этом с гордостью в
своих стихотворениях:
Какой же я из тех задач не выполнил,
Во имя коих я тогда сплотил народ?
О том всех лучше перед времени судом
Сказать могла б из олимпийцев1 высшая —
1 Греки почитали небесных и подземных богов. Они верили, что
небесные боги живут на вершине самой высокой горы Греции —
Олимпа (в Фессалии); поэтому боги и назывались "олимпийцами".
608
Мать черная Земля, с которой снял тогда
Столбов поставленных я много долговых,
Рабыня прежде, ныне же свободная.
На родину, в Афины, в богозданный град
Вернул назад я многих, в рабство проданных,
Кто кривдой, кто по праву, от нужды иных
Безвыходной бежавших, уж забывших речь
Аттическую — странников таков удел, —
Иных еще, в позорном рабстве живших здесь
И трепетавших перед прихотью господ,
Всех я освободил. А этого достиг
Закона властью, силу с правом сочетав,
И так исполнил все я, как и обещал.
Эти меры Солона называют "сисахфия", что значит
"освобождение от бремени".
При уничтожении долговых обязательств не обошлось
без злоупотреблений. Самого Солона враги обвинили в
нечестности. Перед тем как издать закон о долгах, Солон
сообщил о нем трем своим друзьям. Эти три человека
решили воспользоваться случаем и обогатиться. Они заняли у
богатых большие суммы денег и купили много земли.
После издания закона о долгах они не заплатили денег и
удержали у себя землю. Тогда некоторые люди стали обвинять
Солона в том, что он нарочно сообщил им о новом законе,
чтобы получить часть земли и не заплатить денег. Однако
обвинения Солона в нечестности отпали, когда он первым
отказался от крупной суммы, данной им взаймы.
Затем Солон приступил к преобразованию
государственного строя. До этого времени власть в Афинах
принадлежала эвпатридам. Народ не принимал участия в
управлении государством. Все дела вершил совет знати (ареопаг),
который назначал высших должностных лиц (архонтов).
Суд также находился в руках знати. Народное собрание
не имело почти никакого значения.
Таким положением в государстве были недовольны не
только крестьяне и городская беднота, но и богачи —
выходцы из народа. Недовольство стало таким, что каждый
день можно было ожидать взрыва народного гнева.
Прежде всего Солон отменил старинные законы Дра-
конта1 из-за их крайней жестокости. Эти законы за все пре-
1 Драконт (или иначе Дракон) — составитель первого писаного свода
законов в Афинах (около 620 г. до н. э.). В современном языке
драконовскими законами называют жестокие, бездушные законы.
609
20 532
ступления назначали только одно наказание — смерть. Так,
например, человека, укравшего на рынке овощи, казнили
так же, как и того, кто совершил зверское убийство.
Солон привлек к управлению государством не только
эвпатридов, но и богатых людей простого происхождения. Он
разделил всех граждан на четыре разряда в зависимости от
доходов. Деньги в то время были еще редки и доход
определялся в мерах зерна, вина или оливкового масла.
К первому, высшему, разряду были отнесены
граждане с доходом в 500 мер (зерна, масла и вина); их
называли пятисотмерниками; ко второму разряду — граждане с
доходом более 300 мер (трехсотмерники); в третьем
разряде считались те, кто получал свыше 200 мер; наконец, к
четвертому разряду относились все прочие (кроме рабов);
граждан этого разряда называли фетами.
Деление граждан в зависимости от имущественного
положения влияло на службу в войске. Пятисотмерники
снаряжали корабли и несли повинности по снабжению войска;
трехсотмерники должны были служить в коннице и
содержать на свои средства боевых коней (поэтому их
называли всадниками); граждане третьего разряда составляли
основную массу пехоты (гоплитов), их доходы позволяли
приобретать тяжелое вооружение; феты служили гребцами во
флоте и были легковооруженными воинами в пехоте.
Граждане первых трех разрядов могли занимать высшие
государственные должности. Феты же имели право только
участвовать в народном собрании и в судах.
Затем Солон отнял судебную власть у эвпатридов и
передал ее простому народу. Народный суд (или гелиэя) при
Солоне составлялся из всех граждан и потому стоял за
народные интересы.
Суд стал теперь доступным для всех свободных
граждан. Раньше крестьянин должен был лично являться на
заседание суда. Жители отдаленных местностей были
вынуждены подолгу отлучаться из дому и тратить рабочее время,
защищая свои права в суде. Теперь каждому гражданину
закон предоставлял право нанимать посредника, который
мог вести за него дела. Всякий, кто был чем-нибудь
обижен или оскорблен, мог сам или через посредника
преследовать обидчика по суду. Это мудрое постановление
обуздало судебный произвол эвпатридов и положило конец
множеству несправедливостей.
610
Когда Солона спросили, какое государство он считает
наиболее благоустроенным, он отвечал: "То, в котором все
граждане одинаково стоят за обиженных и преследуют и
наказывают несправедливость".
Высшей законодательной властью в Афинах теперь
стало народное собрание. Но Солон не допустил, чтобы народ
сам решал дела. Он создал особый совет четырехсот для
предварительного обсуждения законов. Народ должен был
только утверждать или отвергать предложенные ему
проекты законов. Все же народное собрание оказывало
большое влияние на ход дел, так как от него зависело
избрание высших должностных лиц. В народном собрании
могли участвовать только полноправные афинские граждане;
рабы, женщины и метеки не имели доступа в народное
собрание.
Охрана законов и наблюдение за их выполнением
поручались ареопагу.
Почва Аттики была скудной и неудобной цдя
земледелия, своего хлеба, особенно у городского населения, не
хватало. Приходилось покупать его в обмен на местные
ремесленные изделия. Поэтому тот, кто не знал какого-нибудь
ремесла или не хотел трудиться, вынужден был голодать
или просить милостыню.
Солон поощрял развитие ремесел. Для того чтобы в
стране не было нищих, он издал закон, по которому сын
мог не кормить престарелого отца, если тот не выучил его
ремеслу.
Из других законов интересен такой: во время
гражданской смуты каждый должен немедленно примкнуть к той или
другой стороне. Этим законом законодатель хотел приучить
граждан не быть равнодушными в общественных делах.
Солон требовал, чтобы каждый вступался за справедливое
дело открыто, а не ожидал, прячась, победы сильнейшего.
Законы Солона должны были действовать в течение ста
лет. Они были написаны на деревянных досках,
вставленных в четырехугольные рамки. Эти рамки вращались на оси,
чтобы удобнее было их рассматривать.
Когда законы вошли в силу, к законодателю стало
приходить много недовольных граждан.
Своими реформами Солон, однако, не угодил ни той ни
другой стороне. Бедные возмущались тем, что не добились
передела земли, не избавились от горькой нужды и тяжко-
611
20*
го труда, и потому продолжали борьбу. Богатые же
негодовали на Солона за отмену долгов.
Солон убедился, что обе борющиеся стороны не
удовлетворены его реформами. Крестьяне
...желая грабить, ожиданий шли полны,
Думал каждый, что добудет благ житейских без границ.
Думал: под личиной мягкой крою я свирепый нрав.
Тщетным было их мечтанье... Ныне в гневе на меня
Смотрят все они так злобно, словно стал я им врагом.
Солон попал в весьма затруднительное положение и, как
он сам говорил:
...должен был со всех сторон
Отбиваться, словно волк среди стаи псов.
Ведь другой на его месте, говорит Солон:
...народа не сдержал бы, но зато
Он снял бы сливки и взболтал все молоко1;
Лишь я один, как посреди двух войск
Граничный столб.
Законодатель понимал, что в таком важном деле
трудно угодить всем. Чтобы избежать дальнейшего
недовольства сограждан лично против него, он, по окончании
реформ, решил уехать из родного города на десять лет. Под
предлогом того, что ему нужно отправиться за море по
торговым делам, Солон покинул Афины. По преданию, он
перед отъездом взял с граждан клятву в том, что они в
течение десяти лет не будут ничего менять в его законах.
Прежде всего он прибыл в Египет и жил там в
городе Канобе, крупной торговой гавани в устье реки Нила.
В Египте Солон познакомился с учеными египетскими
жрецами.
Жрецы рассказали ему древнее предание о погибшем
острове — Атлантиде. Остров этот находился, по
сообщению жрецов, в Атлантическом океане к западу от
Гибралтарского пролива2. Он был густо населен, жители его
отличались богатством. Во время землетрясения остров был
поглощен морем и все жители его погибли.
1 То есть стал бы единоличным властителем — тираном.
2 Некоторые ученые считают, что в предании об Атлантиде отразилось
знакомство древних с Азорскими островами или даже с Америкой.
612
Затем Солон отплыл на остров Кипр, где ему оказал
гостеприимство один из царей острова. Солон посоветовал
царю перенести столицу в другое место и отстроить ее
красивее прежней. Царь согласился, и новый город был
построен под наблюдением Солона.
После этого Солон отправился в Лидию (в Малой Азии),
ко двору знаменитого царя Креза1.
Лидийский царь Крез прославился своими огромными
богатствами. И теперь еще говорят о богатом человеке:
"богат, как Крез".
Солон прибыл в столицу Креза Сарды. Царский дворец
блистал великолепием и роскошью, а одежда придворных
стоила целого состояния.
Во время прогулки по двору Солон увидел множество
придворных в пышных одеждах и каждого из них
принимал за царя. Наконец его привели к царю.
Крез хотел поразить гостя. Он надел на себя дорогие
разноцветные одежды, драгоценные украшения из золота
тонкой работы. Затем царь приказал открыть перед Соло-
ном свои сокровищницы и показать гостю все роскошные
покои дворца. Но Солон не выразил никакого изумления.
После осмотра дворца и сокровищ гостя привели к Крезу,
который обратился к Солону с вопросом: "Знал ли ты кого-
нибудь счастливее меня?" Царь ожидал, что чужеземец
признает его самым счастливым. Солон ответил: "Самым
счастливым человеком на свете я считаю афинянина Телла; он
был честный и порядочный человек и воспитал своих
детей честными и уважаемыми гражданами; умер же Телл
славной смертью, геройски сражаясь за родину".
Крез счел Солона чудаком; он не мог понять, как это
можно поставить жизнь простого человека выше жизни
могущественного царя. Тем не менее Крез спросил "чудака",
кто же после Телла, по его мнению, самый счастливый
человек. Он ждал, что теперь-то Солон назовет таким
счастливцем его, Креза.
Тогда Солон поведал Крезу удивительную историю о
двух юных братьях, известных своей горячей любовью к
матери, жрице богини Геры2. Юноши выросли могучими
1 Крез царствовал в 560—546 гг. до н. э.
2 Богиня Гера — супруга верховного бога Зевса — одно из главных
божеств греков.
613
богатырями и всегда выходили победителями в
гимнастических соревнованиях.
По обычаю, в праздник жрица Геры торжественно
подъезжала к храму богини в колеснице, запряженной волами.
Но в этот день упряжные волы ушли в поле и их не могли
найти. Тогда юноши сами впряглись в тяжелую колесницу
и привезли свою мать — жрицу — в город. После
праздника мать обратилась к богине с молитвой, прося наградить
своих сыновей за их подвиг высшим счастьем, возможным
для человека. Богиня исполнила просьбу матери: в этот
вечер все прославляли доблесть юношей: гордые своим
подвигом, они легли спать и на утро не проснулись Они умерли
без страданий, достигнув великой славы и уважения среди
сограждан. Разве может быть большее счастье для человека?
"Ну, а меня ты не считаешь счастливым?!" —
вскричал в гневе царь. Солон не хотел льстить царю, но вместе
с тем не желал и раздражать его. Он ответил: "Боги
наделили нас умом, который не позволяет нам предвидеть
будущее. Счастливцем можно назвать только того, кто
прожил свою жизнь до конца, не зная горя. Считать
счастливым человека еще живущего — все равно, что
провозглашать победителем еще сражающегося воина". С этими
словами Солон удалился. Крез был оскорблен словами
своего странного гостя.
В это время в городе Сардах находился также
знаменитый баснописец Эзоп1. Крез пригласил и его к своему
двору. При встрече Эзоп сказал Солону: "С царями,
Солон, или вовсе не следует говорить, или надо стараться
льстить им". "Вернее, или избегать говорить, — отвечал
Солон, — или говорить только правду".
Солон оказался прав. Спустя некоторое время Крез
потерпел поражение в войне с персидским царем Киром2.
Сарды были взяты, Крез попал в плен и был присужден к
смерти на костре.
В присутствии персидских вельмож и царя Кира Креза
возвели связанным на костер. Удрученный Крез
воскликнул: "Солон!" Удивленный Кир велел спросить, кто этот
1 Эзоп — известный греческий баснописец (VI в. до н. э.). Многие
басни Эзопа обрабатывали знаменитые баснописцы Лафонтен и
И.А.Крылов.
2 Кир Старший — основатель персидской монархии (559—529 гг.
до н. э.)
614
Солон, которого несчастный пленник призывает в
предсмертные минуты. Крез отвечал: "Это греческий мудрец,
который приезжал ко мне и предостерегал меня, говоря, что
пока человек жив, он не может считать себя счастливым, так
как не знает, что с ним случится завтра. Я не захотел
слушать его и думал только о своем богатстве, в котором
видел счастье. Мне было приятно, что слава о моем
богатстве и счастье распространилась по всему миру".
Кир даровал жизнь Крезу. Таким образом Солону
удалось спасти жизнь неразумного царя.
Между тем после отъезда Солона в Афинах снова
начались волнения и борьба партий. Несогласия между
гражданами были столь велики, что они долго не могли избрать
архонта.
Граждане разделились на три враждовавшие группы,
или партии. К первой партии принадлежали жители
плодородной равнины близ Афин, главным образом эвпатри-
ды; они хотели возвращения досолоновских порядков, то
есть желали вновь закабалить крестьян. Во второй партии
были жители приморской полосы — торговцы и
ремесленники; они стояли за новые, солоновские порядки. Наконец,
в третьей партии были крестьяне горной части Аттики,
требовавшие передела земли. К этой партии примыкали и
городская беднота и часть торговцев, смертельно
ненавидевшая богатых. Во главе партии стоял дальний родственник
Солона Писистрат, знаменитый полководец, победитель в
войне с мегарцами.
Афины еще управлялись по законам Солона, но многие
недовольные стремились к государственному перевороту.
Таким было положение в Афинах, когда возвратился из
странствований Солон. Граждане оказали ему почетный
прием, так как они помнили о его заслугах.
Солон был уже стар и не мог, а может быть, и не
хотел выступать перед народом и вмешиваться в борьбу
партий. Он по-прежнему старался примирить противников.
Вождь крестьян Писистрат, по-видимому, внимательнее
других прислушивался к словам Солона. Это был
честолюбивый, умный и деятельный человек. Он считал, что,
только взяв силой власть в свои руки, он сможет выполнить
справедливые требования бедняков.
Солон вскоре разгадал честолюбивые замыслы Писист-
615
рата, стремившегося стать тираном, и старался его
образумить. "Если бы вырвать из сердца Писистрата
стремление к господству, — говорил Солон, — то он был бы
лучшим из граждан".
Чтобы захватить власть, Писистрат прибегнул к
уловке — он изранил себя. В таком виде его привезли на
рынок, где собралось народное собрание. Писистрат объявил,
что раны ему нанесли эвпатриды, которые хотели убить его.
Народ выражал раненому сочувствие и возмущался
преступлением богачей.
Солон тоже пришел на рынок и, обращаясь к Писист-
рату, сказал: "Неудачно ты, Писистрат, разыгрываешь роль
гомеровского Одиссея: тот изранил себя, чтобы обмануть
врагов, ты же сделал это, чтобы провести сограждан'4.
Открылось народное собрание. Один из граждан
предложил дать Писистрату охрану из воинов, вооруженных
дубинами, чтобы оградить его от покушений.
Тогда Солон выступил против такой меры. Несмотря
на противодействие Солона, народ решил дать
Писистрату вооруженную охрану. С помощью своих "дубинщиков"
Писистрат завладел акрополем и сделался тираном (560 г.
до н. э.).
Противники Писистрата бежали из Афин. Солон же
вышел на площадь и обратился к согражданам с речью. Он
порицал глупость и податливость людей и советовал не
отдавать родину и свободу в руки тирана. Но народ не
желал слушать его предостережений, так как верил
обещаниям Писистрата.
Тогда Солон вернулся домой, взял свое оружие и
положил его на пороге со словами: "Пока мог, я защищал
родину и закон, а теперь я старик".
Друзья Солона уговаривали его покинуть отечество. Они
говорили, что тиран может казнить его. Солон отвечал, что
он уже в таком возрасте, когда не боятся смерти. Однако
Писистрат, против ожидания, стал оказывать Солону
уважение и даже сделал его своим советником.
Писистрат оставил в силе большую часть законов
Солона и сам первый показывал пример повиновения им.
Так, однажды, когда он был тираном, его привлекли к су-
1 В "Одиссее" Гомера рассказывается, как Одиссей изранил себя,
чтобы обмануть троянцев и неузнанным пробраться в стан врага.
616
ду по обвинению в убийстве. Он пришел в суд для своей
защиты как обычный гражданин, но обвинитель, из
страха, не явился.
Так как все действия Писистрата были направлены на
благо бедняков и простого народа, то Солон хвалил
распоряжения тирана. Народ же сохранил благодарное
воспоминание о времени правления Писистрата, как о
"золотом веке".
Под конец своей жизни Солон занялся литературой.
"Теперь я нахожу удовольствие, — писал он в одном
стихотворении, — в занятиях поэзией:
Милы теперь мне дела Афродиты, рожденной на Кипре,
И Диониса, и Муз — все, что людей веселит"\
Солон умер глубоким стариком. Он был выдающимся
государственным деятелем и поэтом.
Преобразования Солона подорвали господство родовой
знати, отдали землю в руки крестьян и спасли их от
кабалы. Но власть в государстве не перешла к народу, ее
захватили богатые рабовладельцы и крупные торговцы.
1 Афродита — богиня красоты; Дионис — бог вина, веселья и
театральных представлений; Музы — богини-покровительницы искусств.
ФЕМИСТОКЛ
(около 525—около 460 гг. до н. э.)
Греко-персидские войны выдвинули поколение
греческих борцов за родину. История сохранила нам мало
сведений о жизни и подвигах этих героев. Но жизнь
наиболее выдающихся вождей народа осталась в памяти
поколений как пример беззаветной преданности отечеству во
время освободительной войны против полчищ персидского
царя. Особенно интересна биография вождя афинских
демократов Фемистокла.
Фемистокл происходил из Фреарийского дема (округа)
Афин и по отцу принадлежал к старинному роду Ликоми-
дов. Мать его была иностранкой1. Некоторые ставили ма-
1 Дети, у которых мать была иностранкой, считались в Афинах
незаконнорожденными. Позднее, при Перикле, у них даже были отняты
права гражданства.
618
ленькому Фемистоклу в упрек его происхождение, не
признавали его полноправным афинянином и относились к
нему с презрением.
Такое отношение развило в мальчике болезненное
самолюбие.
Во всем — в играх, в гимнастических упражнениях, в
занятиях — он всегда стремился быть первым.
Талантливый мальчик мечтал прославиться, чтобы блеск подвигов
заставил всех позабыть о его происхождении. В свободные
часы, после учения, он не бездельничал, а придумывал
речи, так как знал, что в Афинах сможет выдвинуться
только тот, кто, удачно выступая в народном собрании, сумеет
повести за собой народную массу. Учитель, обратив
внимание на его способности, предсказал ему: "Из тебя,
мальчик, выйдет или что-нибудь очень хорошее, или очень
дурное. Ничтожеством ты не будешь!" Современники не раз
вспоминали эти слова наставника Фемистокла.
Не всеми науками мальчик занимался одинаково
охотно. Музыку, поэзию и другие предметы, обязательные для
образованного афинянина, он изучал только по
необходимости; зато всем, что могло пригодиться для будущего
руководителя государства, он занимался с увлечением.
Впоследствии, встречая насмешки людей, получивших по их
мнению, утонченное образование, Фемистокл гордо отвечал:
"Если я и не умею настроить лиру или сыграть на
кифаре1, зато я сумел прославить и сделать могущественными
родные Афины".
В ранней молодости Фемистокл был несдержан и
часто совершал дурные поступки. Презрение со стороны
знатных афинян бесило его, и он старался выделиться хотя бы
в дурном. Позже, став выдающимся государственным
деятелем, он сам, вспоминая о своем детстве, говорил: "Из
самых необузданных жеребят могут вырасти прекрасные
лошади: нужно только как следует их воспитать и выездить".
Поведение Фемистокла в молодости впоследствии
дало повод его врагам постоянно напоминать народу о его
прошлых ошибках, а иногда и обвинять его в вымышленных
преступлениях. Рассказывали, будто отец отрекся от
Фемистокла и лишил его наследства, а мать в отчаянии от
позорного поведения сына покончила с собой. Все это вы-
1 Лира и кифара — струнные музыкальные инструменты греков с 4 и
7 струнами.
619
мысел, но поступки молодого человека давали, очевидно,
какой-то повод к такой клевете.
Жажда славы быстро заглушила в Фемистокле дурные
страсти и, хотя отец отговаривал его, он начал выступать
в народном собрании, стремясь к активной политической
деятельности. Не боясь аристократов, он предлагал
провести коренные преобразования в армии и в государстве, и
это привлекло к нему симпатии широких народных масс.
Это было тяжелое время для родины Фемистокла.
Грозные тучи собирались на Востоке. Могущественная
Персидская держава по-прежнему угрожала независимому
существованию маленьких, разобщенных городов Эллады.
Новые завоевания были необходимы персидским царям для
поддержания и упрочения власти, и неудачи первых
походов на Грецию не могли их остановить. Даже Марафонская
битва1 , окончившаяся поражением непобедимой дотоле
армии "великого царя", не испугала персов: слишком
очевидным было превосходство сил огромной, простиравшейся от
Египта до реки Инд державы над маленьким и
свободолюбивым народом Греции.
Но в Афинах было немало людей, которые надеялись,
что война с персами не возобновится. Они не видели и не
хотели видеть угрожавшей родине опасности. Это были
главным образом аристократы, среди которых был и герой
Марафона Мильтиад. Эти люди знали, что подготовка к
войне потребует включения в армию афинских бедняков, а это
означало бы, что бедноте придется предоставить и долю в
управлении государством. Вот почему эти люди (среди
которых были и подкупленные персами предатели) не
обращали внимания на военные приготовления Персии,
призывали граждан сохранять спокойствие и не соглашаться ни
на какие перемены в государстве. Аристократы, которые
в это время стояли у власти в Афинах, считали
безнадежным делом сопротивление могущественной Персии.
Фемистокл понимал, что Марафонская битва — только
начало длительной и напряженной войны с Персией. Он
считал необходимым усиленно готовиться к обороне. Понимая,
что персидское войско раз в десять превосходит армии всех
1 В 490 г. до н. э., когда персидская армия под командованием Датиса
и Артаферна была разбита афинским ополчением, которым
командовал стратег Мильтиад.
620
вместе взятых греческих государств, Фемистокл видел
единственное спасение греков в создании сильного флота.
События показали правильность предвидения Фемисток-
ла. После того как греки одержали победу на море, персы
оказались не в состоянии продолжать борьбу, хотя их
сухопутные силы сохранили свою мощь.
Большинство афинян понимало необходимость
строительства могучего военного флота. Однако государство не
располагало средствами для постройки кораблей. Тогда
Фемистокл, зная, что навлечет на себя гнев аристократов,
отважился все-таки предложить народному собранию
употребить весь доход от государственных Лаврийских рудников
на постройку флота.
Когда-то серебряные Лаврийские рудники
принадлежали афинским тиранам. После падения тирании рудники
стали достоянием народа. Серебро делилось между всеми
гражданами государства. Ввиду угрозы войны народное
собрание приняло предложение Фемистокла, несмотря на
противодействие аристократов и личного врага
Фемистокла, Аристида. Многочисленный и могучий флот был
построен в течение всего двух лет. Благодаря
самоотверженному труду граждан была заложена основа морского
могущества Афин.
Аристократы в Афинах не посмели открыто выступить
против патриотического дела обороны государства. Они
предпочитали тайные происки и личные нападки против
вождя демократии Фемистокла. Одни говорили, что
Фемистокл превратил афинян из стойких воинов-гоплитов в
каких-то корабельщиков: вырвав копье и щит из рук
сограждан, он приковал их к корабельным скамьям; другие
упрекали его в расточительстве; третьи, наоборот, выставляли
его скаредным и даже вымогателем. Эти происки
аристократов, однако, терпели неудачу. Народ верил Фемистоклу
и не хотел лишаться талантливого руководителя.
Сторонники Персии и вожди аристократов один за другим были
изгнаны из Афин путем остракизма1. В 483 г. до н. э.,
незадолго до начала войны, остракизму подвергся личный враг
Фемистокла, Аристид.
Теперь Фемистокл приступил к объединению всех сил,
1 "Остракон" по-гречески "черепок". Слово "остракизм" означает
"голосование черепками". В переносном смысле это же слово
употребляется в значении "изгнание". Например, сообщая о своем изгнании,
А.С.Пушкин писал: "Меня постигнул остракизм"
621
способных противостоять персам. Он стремился укрепить
и расширить существовавший союз греческих государств.
На собрании делегатов союза он убедил эллинов
прекратить внутренние споры и поручить командование всеми
союзными силами спартанцам. Во главе союза стояли
спартанцы, но афиняне, благодаря сильному флоту,
пользовались теперь одинаковым с ними влиянием.
Не все греческие государства приняли участие в этом
объединении. Ближайшие соседи и исконные враги Афин
и Спарты — Беотия и Аргос не вошли в союз, а Фессалия
сразу же после начала военных действий открыто перешла
на сторону персов. Греческие государства Южной Италии
и Сицилии также не примкнули к союзу, так как
опасались нападения союзников Персии, карфагенян.
Между тем персидский царь Дарий в течение трех лет
после Марафонской битвы готовился к новой войне. Вся
Персидская держава пришла в движение. Бесчисленные
племена и народы, подвластные персам, должны были
выставить свои отборные отряды в армию "великого царя";
финикийцы, сирийцы, эллины — жители ионийских
островов — собрали и построили для персов 1200 триер1.
Численность сухопутной армии персов, по словам историков,
достигала 800 тыс. человек пехоты и 80 тыс. конницы с
огромным обозом, верблюдами и боевыми колесницами;
другие писатели называют еще большие цифры. Для
снабжения этой огромной армии были устроены
продовольственные склады в Малой Азии и во Фракии. По плану персов
их войска должны были одновременно напасть на Элладу
с моря и с суши.
Во время приготовлений к небывалому походу
внезапно умер царь Дарий. После его смерти вспыхнули
восстания в Персии, Вавилоне и, наконец, в Египте, которые с
трудом удалось подавить наследнику Дария, Ксерксу. Но
через 9 лет после Марафонской битвы персы смогли
бросить свои огромные силы против Эллады, и в первую
очередь против Афин.
Перед началом похода Ксеркс послал в Грецию послов
с требованием "земли и воды" (т.е. безусловной
покорности). Сигналом же к началу войны было прорытие
персами Афонского канала. Царь хотел избежать таким
образом катастрофы, которая постигла в прошлую войну пер-
1 Триерой называли корабль с тремя рядами весел.
622
сидский флот, когда он огибал Афонский перешеек. Для
переправы сухопутной армии из Азии в Европу Ксеркс
приказал построить мост через Геллеспонт (Дарданеллы).
Однако внезапная буря разрушила мост, возведенный с
величайшими трудами. Тогда Ксеркс, как передают
греческие историки, велел казнить строителей моста, а море
приказал бичевать и опустить на дно его цепи, в знак
того, что и Геллеспонт станет теперь рабом "великого ца-
ря".
Снова был построен мост, на этот раз более прочный,
и по нему персидская армия в течение семи дней
беспрерывным потоком переправлялась на европейский берег.
Флот персов благополучно прошел Афонский канал и
направился к берегам Фессалии. Фессалийцы открыто
перешли на сторону персов, а Беотия и Аргос изъявили царю
покорность.
Ужас объял эллинов. Население многих городов с
приближением персов садилось на корабли и отплывало в
Италию, оставляя свои города на разорение персам, только бы
избавиться от рабства.
Греческий союзный флот находился у острова Эвбеи для
поддержки сухопутной армии. Во главе флота стоял
спартанский полководец Еврибиад. Первое морское сражение
с персами произошло у северного берега Эвбеи, при мысе
Артемисия. Оно закончилось победой греков. Решающего
значения это сражение, однако, не имело, так как
греческому флоту не удалось выполнить основной задачи —
прийти на помощь сухопутной армии в Фессалии.
Греческое войско заняло сначала Темпейский проход
на севере Фессалии. Оказалось, однако, что эту позицию
можно обойти с тыла. Тогда греки отступили на юг и
заняли Фермопильский проход, отделяющий Фессалию от
Средней Греции. Фермопильское ущелье было удобным
для обороны. Отряд в несколько тысяч греков под
начальством спартанского царя Леонида занял высоты,
господствующие над узким проходом вдоль морского берега, и с
успехом выдерживал в течение нескольких дней напор
главных сил персов.
Враг убедился, что взять Фермопилы в лоб
невозможно, и решил обойти греческое войско с тыла. Среди
греков нашелся предатель по имени Эфиальт, который
провел персов по узкой горной тропичке в тыл грекам. Так
измена одного негодяя погубила войско храбрых бойцов.
623
При известии о том, что персы обошли греков, царь
Леонид понял, что сопротивление бесполезно и поведет лишь
к гибели всего греческого войска. Поэтому он отпустил всех
союзников, сам же с тремястами спартанцев, прикрывая
отступление, решил погибнуть с мечом в руке.
Героически сражаясь, все спартанцы во главе с царем
Леонидом погибли. Впоследствии спартанцев, павших при
Фермопилах, почитали как общеэллинских героев. На
могиле их были начертаны стихи поэта Симонида:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
Весть о героическом подвиге спартанцев воодушевила
эллинов. Узнав о занятии Фермопил, греческий флот
двинулся от мыса Артемисия на прикрытие берегов Аттики.
Плывя вдоль острова Эвбеи, Фемистокл оставлял в местах
возможной высадки персов надписи, приглашая ионийских
эллинов, служивших в персидском флоте, переходить на
сторону соотечественников.
Армия Ксеркса между тем, пройдя Фермопилы,
медленно приближалась к пределам Аттики, грабя и сжигая города.
Афиняне пытались убедить союзников дать
решительное сражение персам в Беотии, чтобы спасти Афины.
Однако союзники и слышать не хотели об этом. Они решили
сосредоточить все силы на Коринфском перешейке. Здесь
уже начали строить стену, чтобы остановить персов и
защитить южную часть Греции — Пелопоннес. Афины в то
время еще не имели стен, соединявших город с гаванью;
персы могли осадить Афины и с моря и с суши.
Фемистокл принял героическое решение убедить народ,
твердо положившись на свой флот, покинуть Афины и
переселиться на соседний остров Саламин и в город Трезену
(в Сароническом1 заливе). Большинство народа вначале не
хотело и слышать об этом. Люди считали, что если
придется покинуть храмы богов и могилы предков, то ни к
чему и победа и спасение.
Тогда Фемистокл решил принять крайние меры —
подействовать на народ иначе. В одном из храмов в Афинах
пропала священная змея богини Афины, покровительницы
города. Жрецы, по наущению Фемистокла, объявили, что
1 Залив у западного берега Аттики.
624
богиня покинула свой город и зовет с собой афинян к
морю. Знаменитый дельфийский оракул советовал афинянам
"спасаться за деревянными стенами". Фемистокл
истолковал загадочные слова оракула так, что "деревянные
стены" — это корабли, сев на которые афиняне одержат
победу в морском бою. Народ решился покинуть Афины,
оставив врагу на разорение цветущие виноградники и сады,
прекрасные здания, храмы богов и могилы предков.
Только немногие старцы не захотели покинуть священный
город Афины, и все потом погибли от рук разъяренных
персов. Вскоре персы опустошили Аттику и сожгли Афины.
При посадке афинян на корабли происходили
печальные сцены прощания женщин и детей с мужьями и
отцами. Город был наполнен плачем и воплями женщин и
детей, ревом и жалобным воем домашних животных,
метавшихся по опустевшему городу.
Переселением и устройством граждан на новых местах
руководил ареопаг. Фемистокл же раздобыл деньги,
необходимые для содержания флота и войска. Направляясь из
города к гавани Пирей, чтобы сесть на корабли, афиняне
увидели, что статуя богини Афины, высившаяся на
акрополе, стоит без золотого щита. "Куда пропал сверкающий
щит грозной богини?" — спрашивали недоуменно люди.
Фемистокл принялся за поиски пропавшего щита. Он не
нашел его, так как щит, видимо, был спрятан по его
приказу, но наткнулся на запрятанные богачами сокровища. Эти
ценности были взяты в казну и по распоряжению Феми-
стокла розданы афинянам.
В такой тяжелый для родины момент следовало забыть
о гражданских несогласиях, и Фемистокл предложил народу
вернуть из изгнания Аристида и вождей аристократов. Он
хотел дать и им возможность бороться за свободу Греции.
Мысль о спасении родины воодушевляла теперь всех
жителей Афин: и аристократы, и ремесленники, и
крестьяне — все думали только о том, как победить персов и
изгнать их из родной страны.
Когда сухопутная армия персов заняла Афины,
персидский флот подошел к городу и стал на якорь в фалерской
гавани. Греческий союзный флот, состоявший примерно из
380 кораблей (из них 180 было афинских), остановился у
берегов острова Саламин.
Приближался момент решительной схватки с персами.
625
Афиняне горели желанием сразиться с персами
немедленно. Союзники же во главе с главнокомандующим
флотом, спартанцем Еврибиадом, предлагали отплыть к Ист-
мийскому перешейку для поддержки сухопутных сил,
защищавших Пелопоннес. На военном совете Фемистокл
воспротивился этому. Он считал главной задачей разбить
персидский флот у берегов Аттики. Еврибиад увидел в
возражении Фемистокла неповиновение начальнику;
схватив палку, он замахнулся на Фемистокла. "Бей, но
выслушай!" — сказал ему Фемистокл, и вспыльчивый
спартанец смутился.
Коринфский стратег язвительно заметил Фемистоклу,
что ему, афинянину, утратившему родину, не подобает
побуждать тех, у кого она еще есть, оставить на произвол
судьбы свое отечество. Фемистокл резко ответил:
"Негодяй! Мы, афиняне, покинули жилища и стены, не желая
стать рабами ради бездушных вещей. Но есть город,
величайший из городов Эллады — вот эти двести афинских
кораблей перед нами, готовые помочь вам спастись, если вы
этого желаете. А если вы уйдете, снова предав нас, то мы,
афиняне, также оставим вас и отплывем в Южную
Италию. Там мы воздвигнем новый город!"
Гордый ответ Фемистокла заставил замолчать
малодушных, и Фемистоклу удалось склонить всех принять его план.
Но утренний туман рассеялся, и эллины увидели у Фале-
ра огромный неприятельский флот. Это зрелище
устрашило союзников, и они решили в ту же ночь отплыть к
Пелопоннесу. Фемистоклу все же удалось пока удержать
союзников. Он правильно считал, что следует дать бой в
узком Саламинском проливе. Здесь быстроходные корабли
эллинов имели бы преимущество над многочисленными, но
неповоротливыми судами персов.
И Фемистокл через одного близкого ему человека
сообщил персидскому царю, что эллины собираются ночью
отступить; он, Фемистокл, будто бы принял сторону
персов и советует царю напасть на эллинов немедленно, пока
они не оправились от страха.
Царь Ксеркс был уверен в победе. Он повелел тотчас
же закрыть проходы из Саламинского пролива, чтобы ни
один эллинский корабль не мог ускользнуть. В это время
Аристид, возвращавшийся из изгнания, тайком
пробирался мимо персидских кораблей в расположение эллинов. Он
626
принес сообщение, что эллинский флот окружен персами.
Теперь корабли союзников не могли покинуть афинян.
Фемистокл знал благородную душу Аристида, хотя и
не любил его. Он рассказал Аристиду о том, как послал к
персам доверенного человека, и изложил свой план. Зная,
как популярен Аристид у союзников, он просил вождя
аристократов использовать свое влияние, чтобы убедить
союзников отважиться на сражение.
Минул еще один день, и наступило утро Саламинской
битвы (480 г.). Эллины вновь увидели флот персов в
боевом порядке. В отдалении на холме под золоченым
балдахином, на золотом троне сидел царь Ксеркс. Вокруг царя
расположились приближенные и множество писцов,
которые должны были описать великую победу персов.
Афинский флот состоял из 180 быстроходных кораблей.
На палубе каждого корабля находилось 14
тяжеловооруженных воинов (гоплитов) и 4 стрелка из лука. По
свидетельству участника сражения, знаменитого поэта Эсхила, у
персов было до 1000 больших кораблей, из них
быстроходных 207.
Для начала сражения Фемистокл выбрал момент, когда
дует свежий ветер с моря. Ветер не вредил плоским с
низкими бортами судам эллинов; тяжелые же корабли персов
с высоко поднятой кормой испытывали сильную качку.
Взоры всех эллинов были направлены на Фемистокла.
С огромного корабля персов брат царя Ксеркса, опытный
флотоводец Ариамен, заметил Фемистокла и повелел метать в
него стрелы и копья. Тогда корабль афинян, плывший
рядом с триерой Фемистокла, ударил носом в триеру Ариаме-
на. Корабли противников сцепились. Ариамен во главе
своих воинов пытался вскочить на афинский корабль. Закипел
беспощадный рукопашный бой. Афиняне храбро сражались,
и персидский флотоводец пал мертвым. Нападающие персы
были перебиты, и их тела брошены в море. Смерть
командира расстроила ряды персов и лишила их мужества. Греки
же воодушевились и сражались с небывалой храбростью, они
понимали, что им остается победить или умереть.
Афинянин Ликомед первым захватил вражеский
корабль, затем афиняне захватили и потопили множество
персидских кораблей. Персы храбро сражались, но их
огромные корабли не могли противостоять нападавшим на
них с обоих бортов проворным кораблям эллинов.
627
Бой длился целый день. К вечеру персидский флот не
выдержал и обратился в бегство.
Так эллины одержали при Саламине блестящую
победу над значительно сильнейшим противником. Теперь
раздраженный Ксеркс задумал перевести свою сухопутную
армию по мосту на остров Саламин. Фемистокл предложил
отрезать путь отступления: он советовал разрушить мост
через Геллеспонт, чтобы, по его словам, "поймать Азию в
Европе".
Аристид, которому Фемистокл сообщил свой план, не
согласился с ним. Он говорил, что не следует доводить
персов до крайности, потому что они будут сражаться тогда с
мужеством отчаяния. "Наоборот, — сказал Аристид, — мы
не только не должны разрушать мост, но, если бы была
возможность, следует построить еще и другой мост, чтобы как
можно скорее изгнать персов". Фемистокл согласился с
Аристидом.
Он придумал средство заставить персидского царя уйти
из Эллады. Фемистокл послал одного из знатных
персидских пленников к царю с сообщением, что эллины
намерены разрушить мост на Геллеспонте. Заботясь об интересах
царя, Фемистокл советовал ему поспешить переправиться
через мост, а пока греки задержат преследование.
Объятый ужасом Ксеркс решил немедленно отступить.
Он оставил в Элладе только часть войска под командой
полководца Мардония. Вскоре армия Мардония потерпела
решительное поражение при Платеях, и остатки ее
покинули Элладу.
Так Эллада была спасена от страшной опасности.
Несмотря на происки и зависть врагов, эллины осыпали Фе-
мистокла небывалыми почестями. Даже спартанцы, не
любившие чужеземцев, пригласили афинского полководца в
Спарту и здесь увенчали его оливковым венком за мудрость
и подарили герою роскошную колесницу. Почетный отряд
из 300 молодых воинов провожал его до границы Спарты.
Как только Фемистокл появился на общеэллинском
празднике в Олимпии — на Олимпийских играх, —
представители всех городов Эллады устроили ему торжественную
встречу.
Фемистокл гордился своей славой. Какой-то житель
незначительного островка Сериф заметил однажды ему, что
он своей славой обязан не себе самому, а государству. "Ты
628
прав, — возразил ему герой, — я бы никогда не
прославился, будь я серифянин, как не прославился бы и ты,
если бы родился афинянином."
Как-то один из товарищей-стратегов выступил против
Фемистокла и стал сравнивать с его подвигами свои
собственные. Фемистокл рассказал товарищу басню, как
однажды с Праздником вступил в спор следующий за ним
Будний день. Будний день утверждал, что Праздник
только и знает, что хлопочет да похваляется, тогда как на
другой день все на досуге наслаждаются отдыхом.
"Правильно говоришь ты, — заметил Праздник, — но если бы я не
родился, то не было бы и тебя". "Также, — продолжал
Фемистокл, — не будь меня, где были бы вы теперь?"
Фемистокл понимал, что теперь после изгнания персов из
Греции, главный враг афинян — спартанцы. Поэтому он
убедил народное собрание немедленно приняться за постройку
стен вокруг Афин, чтобы граждане в случае опасности
могли укрыться за ними. При господстве афинян на море
стены позволили бы выдержать любую осаду на суше.
Постройка стен велась с величайшей поспешностью. В работе
принимали участие все жители Афин, включая иностранцев,
рабов, женщин и даже детей.
Но и враги афинян не дремали. Спартанцы,
подстрекаемые афинскими аристократами, со страхом и завистью
смотрели на усиление могущества афинян. Постройка стен
в Афинах встретила сопротивление спартанцев. Они
понимали, что афиняне укрепляют стены города из боязни
перед Спартой, и поэтому требовали немедленного
прекращения работ. Защищаться от вторжения персов,
говорили они, можно только в Пелопоннесе, а там уже построена
стена, перегораживающая перешеек. Все укрепления в
Средней Греции должны быть срыты, как ненужные.
Но Фемистокл обманул спартанцев. В Спарту
отправилось афинское посольство во главе с Фемистоклом. Когда
спартанцы пожаловались, что афиняне вооружаются и
обносят город стеной, он предложил отправить в Афины
послов, чтобы выяснить, как там в действительности
обстоит дело. Он предложил это, чтобы выиграть время для
постройки стены и дать в руки афинян заложников в лице
спартанских послов. Поэтому спартанцы были вынуждены
отпустить Фемистокла домой.
Фемистокл продолжал укреплять морскую мощь Афин.
629
Он строил новые корабли. По его совету союз греческих
государств был расширен. Много новых городов-государств
вступило в союз и признало главенство Афин.
Такая политика Фемистокла усилила в Афинах демос —
простой народ. Матросы, рулевые, гребцы, строители
различных специальностей, многочисленные ремесленники
стали влиятельными в народном собрании. Фемистокл сделал
афинян морским народом и, укрепив Пирей1, он "привязал
город к Пирею", сушу к морю.
Спартанцы между тем предложили исключить из
союза греческие государства, не принимавшие участия в
войне с персами (как, например, Фивы и Аргос). Фемистокл
воспротивился этому. Он понимал, что в таком случае в
союзе получат преобладание спартанцы и зависящие от них
мелкие пелопоннесские государства.
С островными государствами Фемистокл обращался
повелительно и гордо. Он требовал от них денежной дани и
безоговорочного подчинения Афинам. Так он поступил с
жителями Кариста и Пароса2. Явившись с большим флотом
к острову Андрос, он осадил его и потребовал денег,
говоря, что явился с двумя богами — Убеждением и Силой.
Кто не последует за первым, будет вынужден подчиниться
второму. Андросцам пришлось уступить. Более
значительные островные государства были вовлечены в союз путем
переговоров. В этих переговорах Фемистокл играл главную
роль. Афиняне имели теперь превосходство перед
союзниками на море.
Между тем враги Фемистокла решили нанести ему
удар. Они добились его изгнания при помощи остракизма.
Причиной изгнания Фемистокла была потеря
расположения народа. Афиняне опасались слишком решительной
политики Фемистокла, направленной против Спарты. Народ
устал от Персидской войны и не хотел новой войны со
Спартой, силы которой на суше превосходили афинян.
Изгнанный Фемистокл сначала нашел себе приют в
Аргосе. Вскоре, однако, спартанцы обвинили Фемистокла в
том, что он участвовал со спартанским царем Павсанием
в связях с персами. Всякие сношения с персами считались
тогда государственной изменой. Враги Фемистокла —
1 Пирей — афинская гавань.
2 Карист — город на острове Эвбея. Парос — один из Кикладских
островов. Андрос — один из Кикладских островов в Эгейском море.
630
афинские аристократы — поддержали это обвинение. Они
добились от народного собрания решения о том, чтобы
силой доставить Фемистокла в суд.
Получив известие об этом, Фемистокл переправился на
Керкиру (остров на Ионическом море). Но вскоре он
принужден был искать убежища у царя Адмета в Эпире (на
северо-западе Греции).
Однако и здесь Фемистокл оставался недолго.
Вынужденный покинуть Эпир, Фемистокл сел на грузовой корабль
и отплыл в Азию. Никто из спутников Фемистокла не знал,
кто он, пока корабль не пригнало ветром к острову Фасо-
су (у северных берегов Греции). Остров этот в то время
был осажден афинским флотом, и Фемистокл опасался, что
попадет в руки своих сограждан. Он открыл свое имя
капитану корабля. Ему удалось убедить капитана миновать
остров и причалить к малоазийскому берегу. Пристав к
городу Кима, Фемистокл заметил, что его здесь
подстерегают, чтобы схватить и выдать персидскому царю. За
поимку Фемистокла персидский царь объявил огромную
награду в 200 талантов.
Из Кимы Фемистокл направился в эолийский город Эги,
где его принял старый друг Никоген, связанный с ним узами
гостеприимства. Здесь Фемистокл добровольно решил
отдаться в руки персов. Он тайно отправился к персидскому
царю Артаксерксу, сыну и наследнику Ксеркса. Царь
милостиво принял Фемистокла. По прошествии года
Фемистокл изучил персидский язык и обычаи страны; тогда царь
назначил его правителем трех городов в Малой Азии: Маг-
несии, Лампсака и Миунта. В Магнесии же Фемистокл и
скончался 65 лет от роду. Обстоятельства смерти
Фемистокла неизвестны. Есть сведения, что он покончил жизнь
самоубийством, не желая сражаться против эллинов.
Скорее всего, однако, он умер от болезни.
АРИСТИД
(около 540—467 гг. до н. э.)
Аристид происходил из обедневшего аристократического
рода и всю жизнь испытывал острый недостаток в деньгах.
Вся его жизнь прошла в борьбе с вождем афинских
демократов Фемистоклом. Рассказывают, что их соперничество
началось еще в детстве. Различие в характерах приводило
к тому, что они постоянно ссорились даже в играх. Феми-
стокл был плутоватым, решительным и очень умным.
Аристид отличался благоразумием, постоянством характера,
честностью и справедливостью.
Когда Аристид и Фемистокл выросли, они получили
возможность участвовать в общественной жизни Афин. К
этому времени относится расцвет огромной Персидской
державы. Персы захватили греческие города на побережье Ма-
632
лой Азии и приближались к Балканской Греции. В момент
грозной опасности греки не были единодушны.
Материковая Греция была расчленена на ряд враждующих
государств. Некоторые из них готовы были добровольно
подчиниться Персии.
В это тяжелое время в Афинах, одном из крупнейших
городов-государств, разгорелась острая политическая борьба.
Происхождение Аристида, его приверженность к
установленным издревле порядкам побудили его примкнуть к
аристократической партии. Образцом для себя он избрал
спартанца Ликурга, которого считал лучшим политическим
деятелем, достойным подражания. Противником Аристида был
вождь демократов Фемистокл.
Как и в детстве, Аристид был необычайно честен и
справедлив. Его верность своим убеждениям и справедливость
производили сильное впечатление на современников и
даже вошли в поговорку. Современники дали Аристиду
прозвище Справедливый.
Целью своей деятельности он поставил сохранение
старых порядков. Аристид считал, что во всех нововведениях
нужно соблюдать осторожность и не нарушать старинных
установлений. В этом он был непримиримым противником
Фемистокла, призывавшего народ к серьезным переменам.
Аристид считал, что Фемистокл, придя к власти, коренным
образом изменит все установившиеся веками порядки.
Поэтому он выступал даже против, с его точки зрения,
полезных предложений Фемистокла, стремясь подорвать его
влияние, не дать ему усилиться и захватить власть.
Однажды Аристид выступил против одного из таких
предложений Фемистокла и добился победы. Предложение
было отклонено. Но успех не обрадовал Аристида. Он
понимал, что соперничество с Фемистоклом завлекло его
слишком далеко. Их борьба приносит отечеству не
пользу, а вред. Покидая народное собрание, Аристид с горечью
сказал, что государственные дела много выиграют, если и
его и Фемистокла сбросят в пропасть.
Справедливость Аристида побуждала его
беспристрастно относиться не только к другим, но и к себе. Однажды
он сам внес какое-то предложение. Оно встретило
возражения, но победа все же клонилась на его сторону.
Предложение должно было быть поставлено на голосование.
633
В результате обсуждения Аристид понял, что оно не
принесет пользы отечеству, и снял его сам.
Справедливость Аристида обеспечивала ему
безусловное доверие сограждан. В спорах между собою афиняне
больше доверяли решению Аристида, чем приговорам
судей, назначенных государством.
Как-то Аристид разбирал спор между двумя
гражданами. Один из них, желая привлечь судью на свою сторону,
напомнил, что его противник в свое время причинил
Аристиду много неприятностей.
— Почтеннейший, — спокойно сказал Аристид, —
лучше говори, чем он обидел тебя. Ведь я сужу его за твои
обиды, а не за мои.
В другой раз Аристид сам обратился в суд с жалобой
на своего врага. После речи Аристида уверенные в его
искренности и честности судьи не захотели даже выслушать
обвиняемого. Но Аристид вскочил с места, требуя дать
возможность высказаться своему противнику.
В это время персидский царь Дарий предпринял поход
против греков (490 г. до н. э.). Согласно обычаю ведение
войны с персами поручили 10 стратегам. Каждый из них
по очереди получал на один день верховное руководство.
Одним из стратегов был Аристид. Когда руководство
перешло к нему, он уступил его Мильтиаду, как самому
опытному и способному военачальнику. Аристид понимал, что
ведение войны требует единоначалия, и убедил всех
товарищей последовать его примеру.
Сосредоточив командование в своих руках, Мильтиад
расположил войско в узкой равнине у подножия гор, близ
селения Марафон. Афиняне первыми атаковали врага. Во
время сражения больше всего пострадал центр афинского
войска, принявшего удар врагов. Здесь мужественно
сражались плечом к плечу Фемистокл и Аристид.
Обратив врагов в бегство и заставив их сесть на
корабли, афиняне увидели, что персы плывут не на Восток,
а к Афинам. Опасаясь, что персы захватят город, в
котором не осталось защитников, стратеги отправили большую
часть войска быстрым маршем к Афинам. В Марафоне для
охраны пленников и добычи был оставлен только Аристид
с отрядом воинов. Он не обманул возлагавшихся на него
ожиданий. Несмотря на то, что в палатках и на земле
лежали грудами серебро, золото, роскошные одеяния и дра-
634
гоценности, ему и в голову не пришло взять что-либо из
этих богатств. Не позволил он этого и никому другому.
Спустя год после сражения при Марафоне Аристид
занял должность первого архонта1. Но прошло лишь
немного лет, и прославленного Аристида изгнали из Афин
остракизмом.
Рассказывают, что причиной этого явился возникший
в народе слух, будто Аристид, разбирая дела сам,
подрывает значение народного суда и подготавливает себе
монархическую власть2.
Остракизм не был наказанием за какие-либо нечестные
поступки. Этим средством хотели только удалить
человека, влияния и могущества которого опасались.
Остракизм происходил так. Гражданин нацарапывал на
глиняном черепке имя человека, которого считал опасным
государству. Черепки собирались и подсчитывались. Если
общее число поданных черепков было менее шести тысяч,
то остракизм считался не состоявшимся. Затем черепки с
одним и тем же именем складывали в отдельные кучки.
Тот, чье имя оказывалось написанным на наибольшем
числе черепков, объявлялся изгнанным на десять лет. Однако
он продолжал владеть своим имуществом и по
прошествии десятилетнего срока мог вернуться в Афины и снова
заняться политической деятельностью.
Рассказывают, что один неграмотный афинянин
обратился к какому-то незнакомцу с просьбой написать на его
черепке имя Аристид.
— Что плохого тебе сделал этот человек? — спросил
незнакомец, оказавшийся самим Аристидом.
1 В VIII—VI веках до н. э. в Афинах во главе государства стояли
девять архонтов. Впоследствии архонты утратили руководящую роль в
государстве, но сохраняли большое значение в общественной жизни.
2 Надо полагать, что истинные причины изгнания Аристида были
более глубокими. В это время особенно остро разгорелась борьба между
аристократами и демократами. Партия Фемистокла, представлявшая
интересы горожан, стояла за расширение морской торговли. Это
требовало увеличения афинского военного флота. В свою очередь
постройка флота приводила к усилению общественного значения беднейшего
"корабельного люда", который стал теперь широко привлекаться к
военной службе. Аристократическая партия, к которой принадлежал
Аристид, представляла интересы землевладельцев и была мало
заинтересована в развитии торговли. Поэтому аристократы были против
морской политики Фемистокла. Победа демократической партии была,
по-видимому, истинной причиной остракизма Аристида.
635
— Ничего, — ответил тот. — Я его даже не знаю. Но
мне надоело слышать, что его постоянно называют
Справедливым.
Аристид ничего не сказал и, написав свое имя на
черепке, вернул его гражданину. Аристид был изгнан на
десять лет.
Но, спустя три года, когда Ксеркс вторгся в Аттику
(480 г. до н. э.), афиняне разрешили возвратиться
изгнанникам. Многие опасались, что Аристид, изгнанный
афинской беднотой, станет на сторону врагов и это побудит
аристократов перейти к персам. Но они не понимали
этого человека. Еще до постановления о возвращении
изгнанников Аристид все время призывал эллинов бороться
против персов. После возвращения, когда Фемистокл был
избран стратегом с неограниченными полномочиями,
Аристид помогал ему во всем советом и делом, хотя сознавал,
что этим он содействует влиянию и известности своего
злейшего врага. Когда речь шла о благе родины, личные
интересы отступали для Аристида на задний план.
Положение греков было очень тяжелым. Войско
персов, пройдя Северную Грецию, сумело прорваться через
Фермопильский проход. Теперь персы беспрепятственно
заняли Среднюю Грецию и приблизились к Афинам. Все
афиняне, способные носить оружие, сели на корабли,
чтобы продолжать борьбу на море. Детей, женщин и
стариков успели вывести из Афин на лежащий у берегов
Аттики остров Саламин. Вскоре после этого персы заняли
Афины, а их флот подошел к Саламину.
Спартанские военачальники, командовавшие флотом
греков, хотели дать приказ кораблям отступать от Саламина
и оставить находившиеся на острове семьи на произвол
судьбы. Однако персидский флот ночью окружил Саламин-
ский пролив, отрезав грекам путь для отступления1.
Как раз в этот момент с острова Эгина вернулся
проживавший там Аристид. Он отважно провел свой корабль
между вражескими судами и явился ночью к палатке Фе-
мистокла. Вызвав его, Аристид сказал:
— Мы разумные люди, и нам надо прекратить пустое
и мальчишеское соперничество. Сейчас главное — спасти
Грецию, тебе — как начальнику и полководцу, а мне —
1 См. биографию Фемистокла.
636
как твоему помощнику и советнику. Ты считаешь, что
необходимо как можно скорее дать бой персам в узком
проливе. Я согласен с этим, но спартанцы мешают тебе.
Враги же как будто сами содействуют успеху твоего плана.
Вражеские корабли окружили нас со всех сторон. Грекам не
остается ничего иного, как вступить в сражение; все
дороги для бегства отрезаны.
Услышав это, Фемистокл обрадовался и попросил
Аристида, которому особенно благоволили спартанцы, убедить
их флотоводца Еврибиада в необходимости немедленно
вступить в морской бой.
Однако, когда вопрос о битве обсуждался на совете
полководцев, Аристид не взял слова. Видя это, один из
стратегов сказал, обращаясь к Фемистоклу: "Аристид тоже не
одобряет твоего плана. Видишь, он сидит и молчит."
Аристид возразил, однако, что не стал бы молчать,
если бы не считал план Фемистокла наилучшим.
Аристид деятельно участвовал в Саламинском бою. Он
обратил внимание на находившийся недалеко от Салами-
на маленький остров Пситталия, на котором было полно
вражеских воинов. Посадив на транспортные суда самых
решительных и воинственных граждан, Аристид
высадился с ними на Пситталии. Вступив в бой с персами, греки
уничтожили врагов на острове.
Несколько знатных персов были взяты в плен. Среди
пленных оказались племянники царя, которых Аристид
отослал к Фемистоклу. Персидских юношей принесли в
жертву богу Дионису1.
Аристид со своими воинами устроил засаду на острове
и подстерегал здесь спасавшихся с разбитых кораблей
персов. Оказалось, что больше всего судов скопилось именно
в этом месте и здесь завязалась самая горячая битва.
Поэтому и трофей2 был поставлен на Пситталии.
После боя Фемистокл предложил сразу же поплыть к
Геллеспонту, разрушить мост через пролив, построенный
персами, и не дать персидским войскам вернуться домой
1 Этот рассказ свидетельствует о том, что у греков даже в V в. до
н. э. еще сохранились человеческие жертвоприношения.
2 Трофей — памятник, воздвигавшийся первоначально из отобранных
у неприятеля доспехов на месте одержанной победы. В современном
языке трофей означает имущество противника, захваченное во время
войны.
637
из Европы. Аристид решительно воспротивился этому
предложению. Он хотел, чтобы персы как можно скорее ушли
из Греции. Не имея возможности вернуться, персы, по
мнению Аристида, поневоле станут ожесточенно сражаться.
После битвы при Саламине Ксеркс поспешно
отправился с частью войск в Азию, оставив в Греции своего
полководца Мардония, который надменно писал грекам:
"Вы победили на море людей сухопутных. Но теперь
перед нами широкие равнины Фессалии и Беотии, удобные
для моих всадников."
Афинянам же он отправил письмо, в котором обещал
восстановить их город, дать много денег, сделать их
владыками над всеми греками, если они заключат с персами
мир.
Спартанцы, испугавшись, что афиняне примут
предложение царя, отправили к ним посла. Они предлагали
прислать афинских детей и женщин в Спарту и обещали
обеспечить их питанием.
По предложению Аристида афиняне дали спартанцам
гордый и мужественный ответ.
— Не удивительно, — писали афиняне, — что враги
хотят купить нас. Они могут не знать, что нет такого
количества золота ни на земле, ни под землей, которое
афиняне предпочли бы свободе греков. Спартанцам же стыдно
уговаривать афинян защищать их родину за плату.
А послам Мардония Аристид сказал, указывая на
солнце:
— Пока солнце движется по своему пути, афиняне не
перестанут воевать с персами, мстя за опустошенную
страну, за оскверненные и сожженные святыни.
Когда Мардоний вторично вторгся в Аттику (479 г. до
н. э.), жители снова переправились на Саламин. По
предложению Аристида афиняне отправили послов в Спарту. Они
просили спартанцев немедленно прийти на помощь
уцелевшей части Греции. Правители Спарты послали пять тысяч
воинов, каждого из которых сопровождало семь илотов.
Аристид, избранный стратегом для руководства
афинянами в предстоящей битве, прибыл в Платеи во главе
афинских гоплитов. Здесь к нему присоединился спартанский
царь Павсаний, возглавлявший все греческое ополчение.
К ним все время подходили новые отряды из других
греческих государств. Персидский лагерь расположился вдоль
реки Асопа.
638
Тегейцы1, пришедшие из Пелопоннеса вместе со
спартанцами, вступили в спор с афинянами и требовали,
чтобы их отряду предоставили право занять левый фланг
греческого войска2. При этом они всячески восхваляли своих
предков, которые якобы всегда сражались и одерживали
победы на этом фланге. Аристид, заметив, что афиняне
возмущены этим требованием, подошел к ним и сказал:
— Сейчас не время спорить о храбрости предков.
Какое бы место в строю нам не назначили, мы постараемся
не посрамить нашей славы, приобретенной в прежних
боях. Мы пришли сюда не ссориться с союзниками, а
сражаться с врагами и проявить свое мужество перед лицом
всей Греции. Место не делает человека храбрее. Пусть
само сражение покажет, кто достоин больших почестей.
Не только несогласия союзников подрывали силы и
единство греков. Накануне битвы тревога охватила афинян.
Богатые люди, разорившиеся из-за войны, увидели, что с
богатством ушло их влияние. Они тайно собрались в Пла-
теях и организовали заговор для свержения демократов.
В случае неудачи заговорщики решили даже пойти на
измену и перейти к персам. У них было немало
сторонников, и кое-кто в войске готов был последовать за ними.
Аристид узнал о заговоре, но счел момент
неблагоприятным для расследования. Однако совсем пренебречь этим
делом тоже было невозможно. Из многих участников
заговора Аристид арестовал только восемь человек. Двое из
них, наиболее виновные, бежали из лагеря. Остальных
Аристид отпустил. Он хотел дать им возможность
раскаяться и честно искупить свою вину в предстоящем бою.
Тем временем Мардоний готовился к решающему
сражению. Он рассчитывал на свою конницу. Все греческое
войско засело в неприступных скалистых предгорьях Ки-
ферона. Лишь три тысячи мегарцев расположились
лагерем на равнине. Поэтому они попали в тяжелое
положение. На лагерь, открытый со всех сторон, обрушилась
персидская конница. Мегарцы поспешно послали гонца к
1 Город Тегея расположен в центральной части Пелопоннеса, в
Аркадии.
2 Стоять на фланге войска (занимать крайнее положение) считалось
особо ответственным и наиболее почетным. Правый фланг (самое
почетное место) был оставлен за Спартой, а на левый имело право
претендовать второе по значению государство — Афины.
639
спартанскому царю Павсанию, призывая его на помощь.
Однако царь не решился отправить спартанских гоплитов,
которые не умели сражаться с персидской конницей. Тем
временем из-за массы летящих дротиков и стрел лагерь ме-
гарцев совсем скрылся из виду.
Тогда Павсаний стал просить стоявших вокруг него
других полководцев помочь мегарцам. Никто не
откликнулся на этот призыв. Только Аристид от имени афинян
послал 300 отборных воинов. Они быстро собрались и
бегом помчались вперед.
Начальник персидской конницы Масистий, человек
замечательный своей силой и ростом, увидев афинян,
повернул коня и поскакал им навстречу. Схватка была жаркая.
Греки бились с врагом врукопашную. Конь Масистия,
раненный стрелой, сбросил седока. Персидский полководец
был в тяжелых доспехах. Сам он не мог подняться, но и
афинянам, толпившимся вокруг него, не удавалось его
прикончить. Наконец, один из них просунул древко дротика
через отверстие для глаз в шлеме и убил Масистия.
Остальные персы, бросив труп полководца, бежали.
Греки, видя уныние, охватившее персов, поняли,
насколько тяжела для них гибель Масистия. Вся равнина
наполнилась стоном и плачем, так как Масистий уступал по
доблести и мужеству лишь самому Мардонию.
После столкновения с персидской конницей бои
прекратились на долгое время. Дело в том, что гадатели
предсказали победу тем, кто будет только обороняться1, но не
нападать. Однако обстоятельства заставляли персов
торопиться. У Мардония оставалось съестных припасов всего на
несколько дней, а число греков все увеличивалось. Мардо-
ний решил не ждать больше и не откладывать битву.
В полночь к греческому лагерю тихо подъехал человек
верхом на коне. Он вызвал Аристида и сказал ему:
— Я — царь македонян Александр. Хотя это и
угрожает мне величайшей опасностью, я все же приехал пре-
1 Персам было удобнее сражаться на равнине, где они могли
использовать свою конницу. Греки же хотели дать бой в гористой
местности, где всадники персов не могли быть использованы. Понимая, что
каждой из враждующих сторон лучше всего сражаться на занимаемой
территории, персидские и греческие гадатели, выдавая свои
соображения за волю богов, предсказывали, что наступление не будет иметь
успеха.
640
дупредить: завтра Мардоний нападет на вас, так как у
него нет другого выхода. (Македония была союзницей персов.)
Сказав это, Александр попросил Аристида, чтобы тот
никому не рассказывал о его приходе.
— Я не могу скрыть твое сообщение от Павсания, но,
кроме него никто не будет об этом знать, — обещал
Аристид.
Когда царь македонян ускакал, Аристид рассказал Пав-
санию о полученных сведениях.
Призвав к себе стратегов, Павсаний приказал им
привести войска в боевую готовность. К Аристиду спартанский
царь обратился с просьбой перевести афинян на правый
фланг и выстроить их против персов. Он думал, что
афиняне сумеют лучше других сразиться с персами, так как у
них уже имелся опыт предыдущих боев. Левый фланг,
против которого стояли входившие в персидскую армию ма-
лоазийские греки, он просил уступить спартанцам.
Афинские стратеги считали, что Павсаний поступает
несправедливо, ставя их на самое опасное место. Но Аристид
согласился с предложением спартанцев. Он напомнил
своим соотечественникам, что недавно они спорили с тегей-
цами за почетное право стоять на левом фланге. Теперь же,
когда спартанцы добровольно предлагают им еще более
почетный правый фланг, они недовольны доставшейся честью.
После слов Аристида афиняне охотно поменялись со
спартанцами местами. По всему лагерю из уст в уста
передавали его смелые слова:
"Чего нам бояться?! Разве враг стал храбрее, а его
оружие лучше? Ничто не изменилось со времен
Марафонского сражения. Мы победим, как побеждали раньше!"
Мардоний узнал от перебежчиков о передвижении
греков и немедленно тоже перестроил свои войска. Он хотел,
чтобы против персов были спартанцы. Может быть, он
боялся афинян, а может быть, считал делом чести сразиться
именно со спартанцами.
Как только Павсаний заметил это, он снова поставил
афинян против персов.
И снова Мардоний переставил свои войска...
День прошел в бесполезных перемещениях. С
наступлением ночи греки решили отодвинуться подальше на
более удобные позиции. Стратеги повели войско в
намеченное место, но воины двигались неохотно.
641
21 532
От Мардония не укрылось, что греки покинули
прежние позиции. Он считал, что враги отступают, и бросил
свои войска вслед за спартанцами. Персы громко кричали
и бряцали оружием, полагая, что им предстоит не биться
с врагом, а грабить и убивать бегущих. Действительно,
чуть не случилось так, как они предполагали.
Заметив приближение персов, Павсаний приказал
привести отряды в боевую готовность. Он велел спартанцам
закрыться щитами и ждать врагов. Персидские стрелы
стали уже достигать греческого войска, но спартанцы стояли
на своих местах. Многие падали, пронзенные стрелами, но
фаланга не отступала ни на шаг. Наконец, Павсаний дал
сигнал к бою. Только теперь персы поняли, что им
придется сражаться с людьми, решившими биться до
последнего вздоха.
Устроив перед собой заграждения из многих щитов,
сплетенных из прутьев, персы выдвинули вперед лучников,
которые стали забрасывать греков стрелами.
Спартанцы вступили в бой, сохраняя сплоченный строй,
щит к щиту. Они подошли вплотную к врагу, пробили
плетеные заграждения и прорвались через них, поражая
персов копьями. Персы же, хватаясь голыми руками за копья,
большую их часть переломали. Затем, выхватив из ножен
оружие, персы пустили в ход мечи и кинжалы. Закипел
кровавый и жестокий бой.
Когда афиняне услышали крики сражающихся, то
поспешно устремились на помощь спартанцам. С громким
кличем побежали они вперед, а навстречу им двинулись
греки, бывшие на стороне персов.
Увидев соотечественников, Аристид вышел вперед и,
заклиная всеми греческими богами, просил их не участвовать
в сражении. Но те, не обращая внимания на его слова, уже
выстраивались для боя. Тогда Аристид решил не идти на
помощь спартанцам, а сразиться с этим отрядом. Враги не
выдержали натиска афинян и отступили.
Битва велась сразу в двух местах. Спартанцы скоро
победили персов и, обратив их в бегство, принудили засесть
за стены, окружавшие вражеский обоз.
Когда некоторое время спустя афиняне обратили в
бегство греков, сражавшихся на стороне персов, к ним
прибыл вестник с сообщением о том, что персы осаждены в
своем лагере. Зная, что спартанцы не умеют брать присту-
642
пом укрепления, афиняне немедленно пошли им на помощь.
Лагерь был взят сразу же по приходе афинян, и греки
перебили множество врагов. Эта битва произошла в августе
479 года до н. э. Греки потеряли меньше полутора тысяч
человек. Потери персов были значительно больше.
После битвы греческие стратеги начали спор о том,
кому присудить награду за победу. Афиняне не хотели
уступать спартанцам. Спор достиг такой остроты, что, казалось,
может быть разрешен только оружием. В этот тяжелый
момент, когда все дело освобождения могло погибнуть,
Аристид уговорил стратегов передать решение спора всему
греческому ополчению.
Все понимали, что если они присудят награду афинянам
или спартанцам, то это может повести к войне между
ними. После долгого обсуждения решили присудить награду
платейцам, на земле которых произошла великая битва.
Первым на это решение согласился от имени афинян
Аристид, а потом Павсаний от имени спартанцев.
Платейцам выделили 80 талантов, и на эти деньги они
построили храм Афине. Трофей же, каждый свой,
поставили спартанцы и афиняне.
Греки запросили дельфийского оракула, как следует им
благодарить богов за победу при Платеях. Ответ оракула
гласил, что благодарственные жертвы могут быть
принесены не раньше, чем по всей Греции потушат оскверненный
персами огонь и зажгут новый, чистый, взятый с общего
очага в Дельфах.
Тогда вожди греков заставили повсюду потушить огни.
Евхид из Платей взялся со всей возможной быстротой
доставить дельфийский огонь. Он увенчался лавровым
венком, взял огонь с алтаря и бегом пустился обратно.
Рассказывают, что Евхид вернулся в Платеи в тот же день до
захода солнца, пробежав в один день тысячу стадий
(около 180 км). Передав огонь, он тотчас упал и умер1.
Вскоре было созвано собрание представителей
греческих государств. На нем Аристид внес предложение,
чтобы в Платеи ежегодно собирались выборные от всех
греков и чтобы здесь каждые пять лет устраивались Элевте-
1 Рассказ об Евхиде маловероятен и был, по-видимому, выдумкой
дельфийских жрецов, желавших показать, что боги могут наделять своих
избранников сверхчеловеческой силой.
643
рийские состязания1. На этом же собрании решили для
дальнейшей войны с персами собрать союзное войско
из 10000 тяжеловооруженных воинов, 1000 всадников и
100 кораблей.
С этих пор территория Платей считалась у греков
неприкосновенной. На платейцев была возложена обязанность
от имени всей Греции приносить жертвы богам.
Когда Аристид вернулся в Афины, Фемистокл заявил
в народном собрании, что у него есть предложение,
полезное для государства. "Но, — сказал Фемистокл, — свое
предложение я не могу огласить открыто".
Афиняне велели Фемистоклу рассказать обо всем
наедине Аристиду, в честности и справедливости которого все
были уверены. Как выяснилось, Фемистокл задумал,
воспользовавшись тем, что корабли греческих государств
стояли в одном месте без охраны, захватить их и сжечь.
Тогда афиняне окажутся сильнее всех на море и смогут
господствовать над Грецией.
Аристид выступил в народном собрании и сказал, что
не может быть ничего полезнее для Афин, чем
предложение Фемистокла, но ничего не может быть и
безнравственнее. Услышав приговор Аристида, афиняне велели
Фемистоклу отказаться от своего замысла.
Вскоре Аристид был отправлен в должности стратега
на войну с персами. Прибыв к месту назначения, он
увидел, что Павсаний и другие спартанские полководцы грубо
и высокомерно обращаются с греками. Рядовых воинов
Павсаний приговаривал к суровым наказаниям, спартанцам
предоставлял лучшие условия за счет остальных греков, нагло
и надменно вел себя со всеми.
Аристиду удалось завоевать расположение союзников и
свести на нет первенствующее положение спартанцев.
Военачальники многих государств, особенно островных, стали
уговаривать Аристида взять на себя руководство войском.
Аристид не хотел ссориться со спартанцами, пока не был
уверен, что союзники в решающий момент поддержат его.
Чтобы доказать готовность идти за Аристидом до конца,
союзники напали на корабль Павсания. По их требованию
Павсаний вынужден был отказаться от командования.
1 Соревнования в честь освобождения от персидского нашествия. Элев-
терия по-гречески "свобода".
644
Спартанские законодатели решили не вступать в
борьбу с Афинами за руководство Союзом. Отозвав Павсания,
они не послали взамен него нового военачальника, и их
войска не принимали больше участия в войне против персов.
Спартанцы считали, что им не хватает сил сохранить власть
над илотами и удержать господство в Пелопоннесе, если
они станут оспаривать владычество на море.
Так, вместо возглавляемого Спартой антиперсидского
Союза возник Афинский морской союз (478 г. до н. э.).
Еще во время спартанского руководства было решено,
что каждое греческое государство будет вносить
определенные средства на нужды войны. Однако размеры
взносов вызывали много споров, и после перехода руководства
к Афинам было решено поручить Аристиду установить
размер податей сообразно с территорией и доходами каждого
государства.
В руках Аристида оказалась огромная власть, но он не
воспользовался ею для личного обогащения.
Справедливостью распределения взносов Аристид приобрел такую
славу, какую до него не имел ни один другой человек1.
Фемистокл высмеивал популярность Аристида. Он
говорил, что для политического деятеля главное качество не
честность, а умение добиваться выгод для своего
государства, понимать и угадывать замыслы врагов.
— Это, конечно, необходимо, Фемистокл, — отвечал
Аристид, — но не менее важно, чтобы государственный
деятель был честным человеком.
Вся жизнь Аристида служила как бы подтверждением
этих слов. Он умер в Афинах глубоким стариком,
почитаемый и любимый согражданами. Он был настолько беден,
что в его доме не нашлось даже денег на похороны, и
надгробный памятник Аристиду был сооружен на средства
государства.
1 Современник описываемых событий историк Геродот утверждает, что
взносы, установленные Аристидом, не отличались от той дани, какую
платили персам подчиненные им греческие государства. Если это
сообщение верно, то эта основная заслуга Аристида, за которую его так
прославляли позднейшие историки, не дает оснований приписывать ему
глубокую государственную мудрость. Не вызывает, однако, сомнений
исключительная личная честность Аристида.
ПЕРИКЛ
(стратег 444-
-429 гг. до н. э.)
Ксантипп, отец Перикла, и его мать Агариста
принадлежали к самым знаменитым афинским родам. Ксантипп
прославился во время греко-персидских войн. Он
командовал афинским флотом и одержал победу над персами при
мысе Микале у берегов Малой Азии. Агариста
происходила из того же рода Алкмеонидов, что и Клисфен,
знаменитый политический деятель, законы которого покончили в
Афинах с властью единоличных правителей и установили
демократию1. Уже при рождении Перикл, сильный и
здоровый ребенок, поразил всех необыкновенными размерами
1 Реформы Клисфена были проведены еще до греко-персидских войн.
Клисфен стал у власти вскоре после изгнания сыновей тирана Писи-
страта (510 г. до н. э.). По предложению Клисфена управление го-
646
и формой головы. Этот недостаток так и остался у него на
всю жизнь, и чтобы скрыть его, на портретах Перикла
всегда изображали в шлеме. Зато сочинители комедий
всячески издевались над необыкновенно большой головой
Перикла и называли его Луковицеголовый.
Перикл получил прекрасное образование. Его обучали
и музыке и стихосложению. Слушал он также лекции
философа Зенона, который был мастер спорить и умел рядом
ловких возражений поставить противника в безвыходное
положение. Но больше всего сблизился с Периклом
переехавший в Афины из Малой Азии философ Анаксагор,
которого современники прозвали "Разумом". Этот человек
утверждал, что событиями управляют не боги, а разум, при
помощи которого можно понять весь окружающий нас мир.
В своем сочинении "О природе" ученый сумел показать,
как из мельчайших частиц материи образовались земля,
моря и даже звезды, которые, по мнению суеверных греков,
появлялись тогда, когда боги брали на небо какого-либо
отличившегося на земле героя.
Чтобы понять природу звезд, Анаксагор изучал
метеориты и пришел к выводу, что свечение звезд связано с тем,
что быстро летящие "куски камня" раскаляются при
полете. Солнце, по мнению Анаксагора, вовсе не божество,
а просто раскаленный кусок камня. Вследствие
отдаленности оно кажется нам небольшим, на самом же деле оно
значительно больше всей Греции. То, что мы считаем светом
луны, — это лишь отраженный свет солнца. Поскольку
Луна не раскаленный шар, значит, она подобна Земле, и,
может быть, учил Анаксагор, на ней также живут люди.
Книга Анаксагора не оставляла места учению о богах,
и религиозные люди ненавидели ученого и мечтали изгнать
сударством было передано "совету пятисот", выбиравшемуся по
жребию из всех граждан, и десяти стратегам (военачальникам),
кандидатуры которых выдвигались и обсуждались в народном собрании. На
должность стратегов, как и на некоторые другие должности,
требующие специальных знаний, выбирали открытым голосованием,
производившимся поднятием рук. Высшая власть в государстве
принадлежала народному собранию, состоявшему из всех свободных граждан.
Реформы Клисфена окончательно ликвидировали в Афинах все
преимущества родовой знати и установили демократию — власть народа.
Нельзя, однако, забывать, что в понятие "народ" в то время не включали
ни рабов, ни женщин, ни даже греков — уроженцев других государств.
Таким образом, "народ" составлял не больше 1/8 всего населения.
647
его из Афин. Но Перикл восхищался Анаксагором и под
его руководством основательно изучил науку о небесных
явлениях.
Большие познания и природные способности сделали
выступления Перикла прекрасными по форме и
глубокими по содержанию. Походка его была размеренной,
одежда всегда лежала правильными складками, речь оставалась
неизменно спокойной и уравновешенной.
Никто не мог вывести его из себя. Однажды какой-то
распущенный человек рассердился за что-то на Перикла и
стал при всех ругать и оскорблять его. Хотя крик и
проклятия не прекращались целый день, Перикл ничего не
отвечал обидчику. Однако тот не успокаивался. Когда
вечером Перикл шел домой, этот человек отправился за ним
следом, всю дорогу продолжая громко выкрикивать
оскорбительные слова. Перикл подошел к дому, когда было уже
темно. Он приказал рабу взять факел и проводить
незнакомца до дома.
Так же, как и его учитель Анаксагор, Перикл был чужд
всяких суеверий. Однажды к нему явился гадатель и,
неся в руках отрубленную голову однорогого барана,
пророчил, что скоро вся власть в государстве сосредоточится в
руках одного человека. Действительно, Периклу вскоре
удалось устранить своего соперника, и все
государственные дела оказались в его руках. Однако Перикл не
поверил гадателю, утверждавшему, что успех был связан с
благоприятной приметой. Он поручил Анаксагору
разобраться, в чем причина уродства барана. Ученый доказал, что
из-за неправильного строения черепа второй рог не мог
вырасти и, стало быть, нет ничего чудесного в том, что
баран был однорогим.
В молодости Перикл боялся подвергнуться остракизму,
так как был богат, принадлежал к знатному роду и его
друзья были самыми влиятельными людьми в государстве.
Кроме того, говорили, что Перикл похож на некогда
правившего Афинами тирана Писистрата. Старики даже
поражались тому, насколько его голос и манера говорить
походили на речь афинского тирана.
Боязнь изгнания заставила Перикла отдалиться от
государственных дел. Но он участвовал в многочисленных
походах и отличался доблестью и отвагой.
В это время в Афинах не было выдающихся политиче-
648
ских деятелей: Аристид уже умер, Фемистокл был изгнан,
а Кимон все время находился в далеких походах. Так
случилось, что Перикл почти против своей воли оказался
вовлеченным в государственные дела и был избран на
высокие должности. Несмотря на свое знатное происхождение,
Перикл до конца жизни посвятил себя борьбе за права
бедных граждан афинского государства. Став вождем
демократической партии, он резко переменил образ жизни,
перестал встречаться со своими родственниками и прекратил
дружбу со знатными друзьями.
Перикл не часто выступал в народном собрании,
избегая произносить речи по незначительным вопросам. Он не
хотел, чтобы его выступления стали привычными для
народа. Речь Перикла была красочна и образна. Свои
природные способности он сумел развить, извлекая из наук все
полезное для искусства красноречия. За это, как считают
некоторые, Перикла прозвали "Олимпийцем"1, однако
вероятнее, что он получил это прозвище не столько за дар
красноречия, сколько за ту власть, которую он приобрел в
государстве. Перикл обладал изумительной силой
убеждения. Однажды спартанский царь спросил знаменитого
борца Фукидида, кто сильнее — он или Перикл. Фукидид
ответил: "Если даже я положу Перикла на обе лопатки, то и
тогда он докажет, что побежден я, и народ ему поверит!"
Перикл сам боялся своего красноречия. Когда он
увлекался, то легко мог сказать слишком много и повредить
самому себе. Поэтому перед каждым выступлением он
просил богов, чтобы с его уст не сорвалось ни одного
необдуманного слова. В то время речей не записывали. Все, что
сохранилось от замечательного красноречия Перикла, — это
постановления, принятые на основе его речей.
Когда Перикл был еще молод, вождем демократической
партии был Эфиальт, по предложению которого был лишен
власти аристократический совет — ареопаг. Перикл был
ближайшим другом Эфиальта и держался тех же
политических убеждений. Эфиальт был страшен для
аристократов и безжалостен с людьми, совершившими преступления
перед народом. Как выразился один аристократический
писатель, Эфиальт потчевал народ "несмешанной свободой",
1 На горе Олимп, по представлениям греков, жили всемогущие боги,
которых и называли "олимпийцами".
649
и после этого угощения народ уже не захотел слушать
своих старых вождей1.
Враги подослали к Эфиальту наемного убийцу, и вождь
демократов пал от его руки. Во главе демократической
партии остался один Перикл. Вождь аристократов Кимон,
сторонник спартанских порядков, был изгнан остракизмом за
организацию похода в помощь Спарте, воевавшей с
восставшими илотами. Народ не принял во внимание даже его
блестящие победы над персами.
Не успел еще окончиться срок изгнания Кимона, как
завязалась война Спарты с Афинами. Большое
спартанское войско вторглось в пограничную с Аттикой Беотию.
Афиняне сразу же устремились против спартанцев. Узнав
об этом, Кимон самовольно вернулся из изгнания и хотел
принять участие в сражении. Этим поступком он
стремился доказать, что интересы родины ему дороже Спарты.
Однако сторонники Перикла, помня, что Кимон был изгнан
за сочувствие к Спарте, не разрешили изгнаннику стать в
строй. При Танагре, на границе Беотии и Аттики,
разыгралась жестокая битва (457 г. до н. э.). Перикл сражался
чрезвычайно мужественно, не щадя своей жизни. Все же
афиняне потерпели поражение.
Многие в Афинах стали жалеть об изгнании опытного
полководца Кимона, так как считали, что он не довел бы
Афины до такого позора. Перикл почувствовал
недовольство граждан и решил пойти навстречу их желанию. Он
сам предложил возвратить Кимона из изгнания.
Предложение было принято. Кимон вернулся и добился заключения
перемирия между Афинами и Спартой. Многие говорили,
что Перикл внес предложение о возвращении Кимона
только после того, как сестра Кимона Эльпиника пообещала
ему, что Кимон, вернувшись, уйдет в морской поход
против Персии, оставив Периклу власть в Афинах2. Во время
1 Для утоления жажды греки употребляли вино, смешанное с водой.
Пить неразбавленное вино считалось неприличным и недостойным
свободного человека. Стремившиеся к сохранению своих привилегий
аристократы утверждали, что предоставить народу полную неограниченную
свободу так же вредно и неприлично, как пить несмешанное вино.
2 Утверждение, будто вождь демократов заключил тайный договор с
руководителем аристократической партии Кимоном, по-видимому,
выдумка врагов Перикла. Рассказ о досрочном возвращении Кимона из
изгнания также, вероятно, был придуман аристократическими
историками, стремившимися доказать, что Кимон был предан родине и готов
был служить ей даже против любимой им Спарты.
650
этого похода, когда афиняне осаждали принадлежавшие
персам города на острове Кипр, Кимон заболел и умер (449 г.
до н. э.).
Смерть Кимона ослабила аристократов, которые не
знали, кого они теперь смогут противопоставить возросшему
влиянию Перикла. Аристократы избрали своим вождем зятя
Кимона Фукидида из Алопеки, сына Мелесия, человека
безукоризненной репутации1. Хотя у него и не было таких
военных талантов, как у Кимона, он был хорошим оратором,
сумел объединить аристократов и успешно защищал их
интересы в народном собрании.
Подобно Кимону, Фукидид старался привлечь граждан
на свою сторону разными подарками, оказывал помощь
беднякам.
Иначе действовали демократы. Они считали, что
бедняки должны иметь такие же права, как и зажиточные
граждане. Хотя в Афинах для занятия общественных
должностей и не требовалось быть богатым, но бедный
человек не мог заниматься государственной деятельностью, так
как все его время уходило на то, чтобы заработать себе и
своей семье пропитание. По предложению Перикла была
введена плата за исполнение государственных
обязанностей. Сперва присяжным народного суда, а потом и
другим должностным лицам стали выдавать деньги за каждый
день потраченный ими на общественные дела.
Однако оплачиваемые должности доставались не всем
беднякам. Чтобы облегчить положение остальных, Перикл
предложил ежегодно отправлять в море шестьдесят триер,
экипаж которых набирался из граждан, получавших за это
плату в течение шести месяцев. Все это время молодые
люди изучали морское дело, знание которого необходимо в
случае войны. Кроме того, на земле государств, входивших в
Афинский союз, создавались афинские поселения (клеру-
хии), где всякий афинянин мог получить участок земли.
Этими поселениями решались сразу две задачи: создавались
гарнизоны за пределами Аттики и облегчалось положение
простого народа.
Для того чтобы дать развлечение оставшимся в
Афинах беднякам, Перикл часто устраивал всенародные угоще-
1 Не следует путать этого Фукидида с его знаменитым тезкой,
историком Фукидидом, сыном Олора.
651
ния, праздничные шествия и театральные представления.
Театру придавалось такое большое значение, что по
предложению Перикла в праздничные дни беднякам даже
раздавались деньги, чтобы дать им возможность посещать
представления.
Позаботился Перикл и о том, что доставило Афинам
наибольшую славу, а у жителей других городов вызывало
одновременно зависть и восхищение. В годы, когда он
руководил государством, афинский кремль — Акрополь —
был украшен замечательными произведениями скульптуры
и архитектуры. Из всех государственных мероприятий это
строительство вызвало больше всего нападок со стороны
врагов Перикла.
"Афинский народ, — кричали они, — теряет уважение
греков! Союзники ругают нас за то, что мы перенесли
общегреческую казну с острова Делоса в Афины, но раньше
мы могли хоть оправдаться тем, что союзная казна
находится здесь в большей безопасности, чем в любом другом
месте. Теперь Перикл лишил нас этого оправдания. Деньги,
собранные для ведения войны, мы сами растратили для того,
чтобы украсить город золотом и драгоценными камнями."
В ответ на это Перикл отвечал своим обвинителям: "Мы
не обязаны давать отчет в расходовании союзных денег. Мы
честно выполняем наши обязательства по отношению к
союзникам и защищаем их от нападения варваров. Ведь
всякому ясно, что деньги, которые отданы за охрану,
принадлежат не тем, кто их заплатил, а тому, кто их получил, если
только он выполняет все, что обещал. С тех пор как
создан наш Союз1, мы ни разу не отступили от своих
обязательств. Государство достаточно обеспечено всем, что
нужно для войны, и мы правильно делаем, используя
поступающие от союзников деньги на то, что даст нашему городу
вечную славу, а жителей обеспечит средствами к
существованию. При том строительстве, которое ведется в
Афинах, ни одна специальность не остается без применения,
ни одни руки — в вынужденном бездействии. Ведь те
граждане, которые способны к военной службе, получают во
время походов и обучения из общественной казны средства к
существованию. Но ремесленники, не несущие военную
1 Речь идет об Афинском союзе, организация которого приписывалась
Аристиду (см. выше, стр. 645).
652
службу, тоже имеют право на поддержку государства1.
Чтобы они не получали деньги, бездельничая, и надо было
провести такие работы, где любой мастер нашел бы
применение своим знаниям и способностям".
Перикл постоянно предлагал народу проекты,
рассчитанные на длительные работы и требовавшие применения
труда свободных ремесленников. Там, где материалом
служили ценные породы камня, медь, слоновая кость, золото,
черное дерево, нельзя было поручать дело рабам. Здесь
трудились живописцы, скульпторы, плотники, каменщики,
золотых дел мастера, чеканщики. Строительство давало
работу и тем, кто подвозит и добывает эти материалы: купцам,
мореходам, каретникам, ломовым извозчикам, канатчикам
и шахтерам. Сооружения, воздвигнутые при Перикле,
были не только замечательны своими размерами, но и
неподражаемой красоты. Удивительна была также быстрота
выполнения работ. Казалось, что каждая из построек могла
быть доведена до конца лишь в результате труда многих
поколений: в действительности все было сделано за тот
короткий срок, пока во главе Афинского государства стоял
Перикл.
Всем строительством руководил Фидий2, но в работах по
украшению афинского кремля — Акрополя — принимали
участие и многие другие великие архитекторы и строители.
Храм покровительницы города Девы Афины (Парфенон3)
сооружали Калликрат и Иктин. "Длинную стену"4,
соединяющую Афины с Пиреем, также построил Калликрат.
В правление Перикла на Акрополе был также постро-
1 Эта речь раскрывает главную цель, которую преследовал Перикл,
украшая Афины. В условиях рабовладельческого общества
ремесленники не могли конкурировать с мастерскими, обслуживаемыми трудом
рабов, и разорялись. Для того чтобы обнищавшие ремесленники не
восставали, правитель государства вынужден был организовать большие
общественные работы и привлекать к ним свободных бедняков.
2 Фидий (около 500—431 гг. до н. э.) — величайший скульптор и
архитектор классической Греции, автор всемирно известных статуй
Зевса Олимпийского и Афины Паллады. До нас дошли только копии этих
знаменитых работ Фидия. В подлиннике сохранились лишь
выполненные под его руководством скульптуры Парфенона.
3 Название этого знаменитого храма происходит от греческого слова
"дева" — парфенос.
4 Так называли среднюю стену, возведенную между двумя стенами (так
называемыми "длинными ногами"), соединявшими Афины с их гаванью
Пиреем.
653
ен Одеон — здание для музыкальных состязаний. Перикл
впервые провел через народное собрание постановление,
чтобы на празднике Панафиней1 происходили не только
гимнастические, но и музыкальные состязания. Будучи выбран
распорядителем этих состязаний, он установил правила для
участвующих в них певцов и музыкантов и добился
постройки удобного для певцов круглого здания — Одеона2.
Всеобщее восхищение вызывал украшенный
колоннами вход на Акрополь — Пропилеи. Строительство этой
колоннады длилось пять лет, и постройка эта,
сохранившаяся до наших дней, настолько прекрасна и так
гармонирует с остальными зданиями Акрополя, что кажется, будто
стоит здесь вечно.
Фукидид и его сторонники непрерывно нападали на Пе-
рикла за то, что он расходует слишком много средств на
строительство. Наконец, борьба между ними достигла
такой остроты, что в народном собрании был поставлен
вопрос об остракизме. Перикл был в опасности, но
большинство народа было на его стороне, и ему удалось добиться
изгнания Фукидида.
Этим был положен конец внутренней борьбе.
Аристократы, потеряв вождя, утратили вместе с тем и всякое
влияние в народном собрании. Перикл не имел больше
соперников. Народ поручил ему все важнейшие дела: войско,
флот, управление государственными доходами.
В течение сорока лет Перикл был одним из тех, кто
стоял во главе государства. После изгнания Фукидида его
влияние настолько усилилось, что народ полностью
доверил ему управление государством, и в течение
пятнадцати лет Перикл ежегодно избирался стратегом. Он заботился
о благе государства, не делая никаких послаблений
прихотям отдельных граждан и не поддаваясь массе, когда под
влиянием момента она хотела принять неверное решение.
Обычно он управлял, пользуясь поддержкой народа, но слу-
1 Главный праздник Аттики, справлявшийся раз в три года в честь
богини Афины. Праздник сопровождался общегреческими
гимнастическими состязаниями, победители которых получали в награду красивые
вазы. Эти так называемые панафинейские вазы победители увозили к
себе на родину. При погребении вазу клали в могилу с покойником.
Несколько панафинейских ваз найдено на территории нашей страны в
Причерноморье, они хранятся в Государственном Эрмитаже.
2 Греческое слово Одеон происходит от слова "оде" — песня.
654
чалось, что ему приходилось вести народ против его воли
по пути, полезному для государства. При этом Перикл
подражал врачу, который ради пользы больного причиняет ему
боль или дает горькое, но целительное лекарство.
Своей властью Перикл был обязан не столько своему
красноречию, сколько всеобщей уверенности, что его
действия всегда направлены на благо народа. Все знали, что,
превратив Афины в богатейший город, он нисколько не
увеличил собственного состояния. Перикл совсем не стремился
к обогащению. Получив в наследство от отца богатое
имение, Перикл сумел организовать управление им наиболее
для него выгодным способом. Весь урожай, получаемый с
полей, Перикл полностью продавал, а все нужное для
хозяйства покупал на рынке. Такая жизнь не давала
возможности домочадцам бесконтрольно пользоваться чем-либо.
В его доме не было той роскоши, которая бывает в
богатых домах, и все выдавалось счетом в установленном
размере. Всем хорошо организованным хозяйством Перикла
руководил его раб-управляющий Евангел.
Однако Перикл не был скуп и охотно тратил деньги на
помощь беднякам. Это хорошо видно из случая с
Анаксагором. Рассказывают, что, когда Перикл был занят
государственными делами, Анаксагор, уже глубокий старик, лежал
больной, лишенный необходимого ухода. Несчастный
мудрец закрыл себе голову плащом и отказывался от пищи,
решив уморить себя голодом. Перикл, узнав об этом,
сразу же поспешил к Анаксагору и стал уговаривать его
отказаться от своего намерения. Он говорил, что ему
трудно будет обойтись без мудреца, советоваться с которым он
привык во всех важных делах. Тогда Анаксагор открыл
голову и сказал: "Кто нуждается в светильнике, наливает в
него масло". Перикл понял намек и щедро снабдил
учителя деньгами.
Увлечение Перикла науками сблизило его со
знаменитой Аспасией. Она была уроженкой Милета и переехала в
Афины, так как этот город стал при Перикле центром
научной и культурной жизни. Сюда из различных государств
Греции стекались ученые, писатели, поэты и художники.
Аспасия увлекалась красноречием, и выдающиеся
афинские мудрецы, такие, как Сократ1, со своими учениками
1 Об афинском мудреце Сократе см. ниже биографию Алкивиада.
655
приходили к Аспасии, чтобы послушать ее речи.
Занималась Аспасия и философией. В ее доме постоянно можно
было встретить выдающихся мудрецов, писателей,
государственных деятелей.
Аспасия резко выделялась из среды местных женщин,
привыкших к затворнической жизни, ибо афинянке
считалось неприличным заниматься чем-либо, кроме домашнего
хозяйства. Перикл увлекся этой выдающейся женщиной и
развелся ради нее со своей первой женой, от которой у него
было уже два сына — Ксантипп и Парал. Любовь его к
Аспасии была столь сильна, что Перикл разрешал жене
нарушать афинские обычаи: выходить к гостям мужа,
разговаривать с ними и даже принимать участие в спорах. Про
Перикла говорили, что он под башмаком у жены, что ни
один государственный вопрос не решается без ее участия.
Враги Перикла жестоко высмеивали его за эту слабость и
уверяли, что и войны теперь Афины ведут, главным
образом, для того, чтобы доставить удовольствие иностранке
Аспасии и возвысить ее родину Милет.
Возраставшее могущество Афин вызывало
беспокойство в Спарте, которой еще со времени греко-персидских войн
принадлежала руководящая роль в эллинском мире.
Чтобы еще больше возвысить родину и ее значение в
греческом мире, Перикл решил собрать в Афинах съезд
представителей всех государств. Съезд этот должен был решить
вопрос о восстановлении храмов, сожженных во время
греко-персидских войн, о безопасности плавания в Эгейском
море и о заключении мира между всеми греческими
государствами.
Однако в Спарте сразу поняли, что если план
Перикла осуществится, то это превратит Афины в религиозный
и политический центр всей Греции. Спарта запретила
зависимым от нее государствам посылать представителей в
Афины на съезд, и попытка Перикла потерпела неудачу в
самом начале. Она показывает, однако, сколь широки
были замыслы Перикла.
Перикл пользовался как полководец большим
уважением, так как никогда не действовал наудачу, не решался на
битву, если исход ее был сомнителен. Никогда войска,
которые вел Перикл, не терпели поражения. Он не одобрял
тех стратегов, которые, бросившись в рискованное
предприятие, случайно добивались блестящего успеха.
656
Однажды полководец Толмид, которого прежние
военные удачи сделали чрезвычайно самонадеянным, решил в
самый неблагоприятный момент совершить вторжение в
Беотию. Он убедил тысячу знатных афинян отправиться с ним
в этот поход. Перикл пытался удержать его, но видя, что
тот не хочет слушать никаких уговоров, сказал: "Если ты
не хочешь слушаться Перикла, ты во всяком случае не
ошибешься, выбрав мудрейшего из советников — время". Тогда
никто не обратил внимания на эти слова, но, спустя
несколько дней, когда в Афинах было получено известие о
том, что Толмид и многие из его соратников погибли,
потерпевшие поражение афиняне оценили осторожность и ум
Перикла.
Перикл не раз стоял во главе войска. Наиболее
удачным из его походов был фракийский. На узком
полуострове Херсонесе Фракийском, прикрывавшем вход в пролив
Геллеспонт, жили афиняне1. Полуостров этот имел
огромное значение, так как владение им обеспечивало афинские
корабли возможностью беспрепятственно привозить
дешевый хлеб из богатых черноморских колоний. Однако
фракийцы постоянно нападали на афинян и грозили вовсе
уничтожить колонистов. Перикл разбил фракийцев и
перегородил перешеек укреплениями от моря и до моря, благодаря
чему нападения на колонию стали уже невозможны.
Кроме того, Перикл переправил на Херсонес еще тысячу
поселенцев, чем усилил ополчение местных греков.
Афины постоянно заботились об усилении своего
влияния на берегах Понта Эвксинского — так греки
называли Черное море, — откуда они снабжались хлебом. Чтобы
показать могущество Афинского государства и вовлечь в
Афинский союз греческие города-государства
Причерноморья, Перикл предпринял далекий морской поход (437 г.
до н. э.). Большая богато украшенная эскадра прошла
проливы и вошла в Черное море. Перикл выполнил все
просьбы живущих на побережье греков, оказал им военную
поддержку, а царям варварских племен показал, как велико
могущество Афин.
Далеко не всегда, однако, Перикл поддерживал
захватнические планы своих сограждан. Часто Периклу
приходилось удерживать их. Например, когда афиняне, воодушев-
1 Современное название этого полуострова, принадлежащего Турции,
Галиполли. Колония афинян была выведена сюда еще в VI в. до н. э.
657
ленные военными успехами, собирались захватить Египет,
Перикл отговорил их от этого рискованного предприятия.
Когда же некоторые безумцы стали мечтать о завоевании
Сицилии и даже Карфагена, Перикл с таким жаром
убеждал их отбросить этот план, как будто предчувствовал
катастрофу, которая постигла Афины при попытке завоевать
Сицилию1.
Перикл старался сдержать стремления афинян к новым
завоеваниям. Все силы государства он направил на
защиту уже имеющихся земель, опасаясь восстаний
подчиненных Афинам государств в случае, если афинское войско
будет находиться далеко за морем.
Опасения Перикла подтвердились. Достаточно было
членам Афинского союза узнать о поражении Толмида в
Беотии, как многие города отложились от Афин. Сначала
мятеж вспыхнул на острове Эвбее, и Перикл отправился
туда с большим войском (446 г. до н. э.).
Вскоре он получил известие, что Мегары, государство,
расположенное к югу от Аттики, восстали против власти
Афин, призвали на помощь Спарту, и войско спартанского
царя Плистоанакта пришло к ним на помощь. Перикл
немедленно покинул Эвбею, но не решился вступить в
борьбу со спартанцами. Полагая, что войско спартанцев
сильнее афинского, Перикл решил действовать хитростью. Он
знал, что Плистоанакт молод и во всем слушается
советника, которого эфоры послали с юным царем. Перикл
попытался подкупить советника царя, и это удалось.
Спартанцы прекратили наступление и ушли из Аттики.
В конце года, когда Перикл давал отчет народному
собранию об израсходованных им суммах, он упомянул в
графе расходов, что десять талантов истрачены им "на
нужное дело". Народ доверял Периклу и принял отчет, не
требуя раскрытия секрета.
В Спарте же правители были возмущены поведением
командовавшего войском царя Плистоанакта. На него
наложили такой большой штраф, что царь оказался не в
состоянии уплатить его и вынужден был удалиться в
добровольное изгнание.
Оградив Аттику от опасности, Перикл с пятьюдесятью
кораблями, с пятитысячным войском опять переправился
1 См. ниже биографии Никия и Алкивиада.
658
на Эвбею. Восстание эвбейских городов было подавлено,
и они снова были включены в Афинский союз.
Вскоре между Афинами и Спартой было заключено
перемирие на тридцать лет.
В это время два участника Морского союза, Самос и
Милет, вели войну за обладание одним небольшим
городом на побережье Малой Азии. Самосцы уже одерживали
верх, но афиняне приказали им прекратить войну и решить
спорные вопросы третейским судом. Самосцы не
послушались, и Перикл провел через народное собрание
постановление об отправке на Самос карательной экспедиции.
Главной причиной непреклонности афинян было то, что
на Самосе господствовали аристократы, а Перикл хорошо
понимал, что в борьбе между Афинами и Спартой
аристократы всегда будут на стороне последней.
Перикл сам командовал 40 афинскими кораблями,
отправившимися к Самосу. Он добился установления на
острове демократии, а чтобы жители не вздумали после
ухода афинян вернуться к старым порядкам, взял в качестве
заложников 50 самых знатных граждан и 50 мальчиков из
богатых семей. Заложники, однако, не были увезены в
Афины, и самосские аристократы сумели выкрасть их у
афинян. Немедленно на острове началось восстание. Афинский
флот вернулся, и неподалеку от Самоса произошла
ожесточенная морская битва, в которой Перикл одержал
блестящую победу, хотя у него было только 44 корабля, а у
противника 70. Выиграв бой, он преследовал врагов и скоро
овладел их гаванью. Вскоре из Афин прибыла вторая, еще
более значительная эскадра, и началась осада острова.
Война с Самосом длилась долго и с переменным
успехом. Только на девятый месяц осажденные островитяне
сдались (440 г. до н. э.). Перикл срыл стены города, отобрал
у Самоса все корабли и наложил на город большой
денежный штраф. Часть этих денег самосцы уплатили
немедленно, а часть обещали выплачивать постепенно, дав
афинянам в обеспечение своевременной выплаты заложников.
Возвратившись в Афины, Перикл устроил
торжественное погребение погибших при осаде Самоса воинов. Речь
Перикла над могилами павших произвела на слушателей
большое впечатление. Когда он сходил с трибуны, многие
спешили пожать ему руку, а женщины украшали его
венками и лентами, как победителя в состязаниях.
659
Покорение Самоса укрепило власть и влияние Перик-
ла. Всего за девять месяцев ему удалось покорить одно из
самых сильных государств Греции, которое едва не отняло
у Афин их владычество на море.
Отношения со Спартой становились все более
напряженными, и Перикл считал, что Афинам необходимо
обеспечить себе союзников не только среди государств,
лежащих в Восточной Греции, но и на Западе. В это время
жители острова Керкиры1, обладавшие большим флотом, вели
войну с коринфянами. Перикл убедил народ послать на
помощь керкирянам 10 кораблей. Этой эскадре был дан
приказ не вмешиваться в войну и вступить в сражение
только в том случае, если пелопоннесцы попытаются высадиться
и занять остров.
Однако скоро афиняне стали опасаться, что
незначительная помощь не спасет керкирян от поражения, и Пе-
рикла стали обвинять в том, что он, не принеся пользы
союзникам, дал врагам прекрасный повод обвинять афинян
в нарушении перемирия.
Тогда Перикл послал еще 20 кораблей на помощь
керкирянам. Они прибыли как раз в тот день, когда
произошла большая морская битва у Сиботских островов,
недалеко от побережья Керкиры (433 г. до н. э.). Коринфяне
одержали было победу и готовились совершить высадку на
остров, когда показались афинские корабли и вынудили их
отступить.
Коринфяне входили в Пелопоннесский союз и
выступление афинского флота сочли нарушением перемирия
между Афинами и Пелопоннесским союзом. Коринфяне
обратились к Спарте с жалобой, и к ним присоединился город
Мегары. Дело в том, что афиняне запретили мегарцам
торговать со всеми членами Афинского союза (432 г. до н. э.;,
это запрещение должно было разорить мегарцев или
вынудить их покориться Афинам.
В это же время Потидея, город, подчиненный Афинам,
но основанный коринфянами, объявил о своем выходе из
Союза и был осажден афинскими воинами. Коринф
требовал, чтобы пелопоннесцы пришли на помощь Потидее.
Спарта не была готова к военным действиям, и царь Ар-
хидам пытался успокоить спартанских союзников.
1 Керкира (ныне греческий остров Корфу) лежит у западного берега
Средней Греции.
660
Наиболее острым был вопрос о Мегарах. Запрещение
торговать обрекало мегарцев на голодную смерть, и Ар-
хидам должен был или добиться отмены этого
постановления, или начать войну. В Афины отправили несколько
посольств, но Перикл решительно воспротивился отмене
постановления о Мегарах. Поэтому впоследствии всю
ответственность за войну возлагали на одного Перикла.
Перикл был полон решимости не уступать спартанцам.
"Если вы уступите пелопоннесцам, — говорил он, — то
они тотчас предъявят вам еще более тяжкие требования,
полагая, что вы пошли на уступки из страха".
Отказ Перикла отменить постановление о Мегарах
некоторые объясняют личными причинами. Желая сохранить
власть в государстве, Перикл не мог не считаться с
нападками врагов, цель которых была заставить его действовать
более решительно. Стало ясно, что только военные успехи
могли вновь вернуть Периклу его пошатнувшийся авторитет.
Враги Перикла боялись выступить против него
открыто и стали преследовать его друзей. Фидия,
руководившего строительными работами на Акрополе, они обвинили в
присвоении части золота, отпущенного на сооружение
знаменитой статуи Девы Афины для храма Парфенона.
Однако эту клевету легко удалось опровергнуть. По совету
Перикла Фидий так сделал золотую одежду статуи, что ее
легко можно было снять и взвесить. Проверка подтвердила
честность великого скульптора1.
Тем не менее Фидия продолжала преследовать зависть,
ибо своими произведениями он стяжал себе огромную
славу. Враги обвинили Фидия в святотатстве: на щите
Афины был изображен бой с амазонками. Говорили, что
Фидий изобразил среди сражавшихся своего покровителя
Перикла и самого себя в виде лысого старика, поднявшего
над головой камень2.
Фидий не мог оправдаться и был заключен в тюрьму,
1 Золотая одежда статуи весила более тонны. Это золото в любой
момент могло быть снято и было, таким образом, запасным золотым
фондом государства.
2 Победа над вторгшимися в Аттику амазонками,
женщинами-воительницами, считалась одним из подвигов мифического героя, афинского
царя Тесея. Афина Фидия не сохранилась, но дошли ее изображения.
На некоторых из них можно различить портреты Фидия и Перикла.
Голова Афины работы Фидия изображена на золотой подвеске,
найденной в крымском кургане Куль-Оба и хранящейся в
Государственном Эрмитаже.
661
где вскоре умер от болезни. Говорят, он был отравлен
врагами Перикла.
Добившись осуждения Фидия, враги Перикла стали
преследовать его учителя Анаксагора. Было принято
постановление о преследовании тех, кто не почитает богов и
занимается изучением небесных явлений. Стало ясно, что это
постановление угрожает Анаксагору, и Перикл помог
философу бежать из Афин.
Враги Перикла почувствовали теперь свою силу и
решили привлечь к суду жену Перикла, женщину-философа
Аспасию. Ее обвинили в безбожии, и для того, чтобы
добиться ее оправдания, Периклу пришлось самому явиться
в суд и униженно просить судей не подвергать его жену
наказанию.
Спартанцы справедливо видели в Перикле
испытанного руководителя афинского народа и полагали, что, если его
удалось бы свергнуть, афиняне стали бы сговорчивее.
Поэтому они отправили послов, чтобы те напомнили
афинянам, что по матери Перикл происходит из проклятого
богами рода Алкмеонидов, запятнанного святотатством1, и
поэтому должен быть изгнан из государства. Однако афиняне
разгадали, чем руководствовались спартанцы. Вражда
неприятелей не только не привела к новым обвинениям, но,
наоборот, вызвала у сограждан почтение к человеку,
изгнания которого так добивается могущественная Спарта.
Вскоре началась Пелопоннесская война2. Спартанцы с
союзниками вторглись в Аттику (431 г. до н. э.).
Опустошая страну, они дошли до Ахарн и расположились там
лагерем. Они рассчитывали, что афиняне не стерпят этого и,
выйдя из-за крепких стен, окружающих Афины, бросятся
в бой. Но Периклу казалось опасным вступать в бой с
огромным войском пелопоннесцев. Он утешал сбежавшихся
1 Приблизительно за 200 лет до описываемых событий Алкмеониды
совершили зверскую расправу над своими противниками,
поднявшими в Афинах восстание. Они убили людей, искавших спасение у
алтаря, и за это впоследствии были изгнаны. Однако вскоре Алкмеониды
вернулись, и представители этого рода часто занимали в Афинах
высшие должности.
2 Пелопоннесская война (431404 гг. до н. э.) велась между
Пелопоннесским союзом и Афинами. В войну постепенно были втянуты почти
все государства Греции. Об исходе войны и победе Спарты см.
биографии Алкивиада и Лисандра.
662
в город крестьян, оплакивавших свои погибшие сады,
говоря, что вместо спиленных деревьев можно вырастить
новые, а вместо погибших воинов достать других будет
невозможно.
Еще до того как спартанский царь Архидам во главе
пелопоннесского войска вторгся в Аттику, Перикл узнал,
что с целью вселить недоверие к нему спартанцы,
разорявшие все вокруг, не тронут его имения. Перикл разрушил
коварные планы врагов, заявив в народном собрании, что,
если спартанцы пощадят его владения, он откажется от них
и передаст их государству.
Когда спартанцы окружили Афины, Перикл решил не
проводить некоторое время народных собраний, чтобы
граждане, распаленные гневом, не приняли неблагоразумного
решения. Как командир корабля, когда на море
разыгрывается буря, приказывает поднимать паруса, натягивать
канаты, не обращая внимания на слезы и просьбы испуганных
путешественников, страдающих от морской болезни, так и
Перикл поступал теперь как считал нужным, не обращая
внимания на кричавших и возмущавшихся афинян.
Перикла не смущало то, что его собственные друзья
постоянно упрекали его, что враги угрожали, а многие
сограждане считали его образ действий трусливым и недостойным.
Вождь бедняков Клеон обвинял Перикла в том, что тот не
нападал на врага и передал в руки Спарты инициативу.
Авторы комедий утверждали, что Клеон уже точит кинжал,
чтобы зарезать Перикла. В одной из комедий к Периклу
были обращены такие слова:
Стоит только тебе увидеть, как кинжал
На наждачном бруске начинают точить,
Как клинок заблестит, ты визжишь, убоясь
Молненосного гнева Клеона.
Однако нападки не трогали Перикла. Сохраняя полное
самообладание, он спокойно переносил оскорбления.
Снарядив морской поход вокруг Пелопоннеса, он не принял в нем
участия, а сам с отрядом пехоты вторгся в Мегарскую
область и опустошил ее. Афинский флот, отправленный
вокруг Пелопоннеса, разграбил много городов и селений. Если
спартанцы, вырубив сады афинских крестьян, причинили им
много бед, то теперь и они терпели не меньшие бедствия.
Поэтому спартанцы вынуждены были бы скоро прекра-
663
тить войну, если бы неожиданное несчастье не
расстроило всех планов Перикла. На второй год войны Афины
посетила страшная гостья — чума, похитившая больше
граждан, чем самые кровопролитные сражения.
Бедствия, причиняемые эпидемией, озлобили афинян.
Гнев народа обратился против руководителя государства
Перикла. Как дитя ополчается на родного отца или
больной на врача, афиняне всячески старались выместить на
Перикле свои страдания. Безрассудным гневом народа
воспользовались враги Перикла. Они говорили, что чума
вызвана скоплением в городе сельского люда. Когда масса
народа живет в душных палатках или прямо на улице в
вынужденном безделье, нет ничего удивительного в том, что
люди болеют. Виновен в этом один Перикл, загнавший
сельских жителей за стены города. Запертые, как скот в
хлеву, люди заражают друг друга, так как не имеют
возможности ни изменить свой образ жизни, ни убежать.
Чтобы успокоить граждан и нанести удар противнику,
Перикл снарядил 150 кораблей, собрал большое войско и
сам готовился отправиться во главе этого похода в
Пелопоннес. Эти приготовления внушили афинянам надежду на
победу. Когда экипажи находились на кораблях и Перикл
уже стоял на палубе, началось солнечное затмение. Это
необычайное явление природы навело ужас на суеверных
афинян, увидевших во внезапном наступлении тьмы
грозное знамение богов.
Заметив страх рулевого, Перикл подошел к нему и
закрыл ему голову своим плащом.
— Страшно тебе? — спросил он кормчего.
— Нет, конечно! — отвечал тот.
— А между тем, — продолжал Перикл, — различие
между моим плащом, закрывшим тебе свет, и тем, что
испугало всех этих людей, только в размерах. Солнце стало
невидимым потому, что его закрыл предмет гораздо
больший по величине, чем мой плащ!
Поход Перикла не оправдал надежд, так как в войске
свирепствовала чума.
Во всех неудачах обвиняли Перикла. На следующий год
(430 г. до н. э.) Перикл не был избран стратегом. Против
него даже возбудили процесс по обвинению в хищениях.
Хотя Перикл и славился своим бескорыстием, его
все-таки приговорили к большому денежному штрафу.
664
Личная жизнь Перикла была полна огорчений.
Старший из его сыновей Ксантипп был с детства склонен к
расточительности. Когда он женился, ему требовалось все
больше денег. Жизнь в доме отца, где деньги тратились
только на необходимое, ему не нравилась.
Однажды Ксантипп занял деньги у друга Перикла,
якобы по поручению отца. Когда же тот через некоторое
время потребовал вернуть деньги, Перикл отказался платить
долги своего сына. Ксантипп считал, что отец поступил
несправедливо; он ходил по всему городу и высмеивал
поведение отца. Ссора отца и сына продолжалась до самой
смерти Ксантиппа, который погиб во время эпидемии. Тогда же
Перикл потерял сестру, многих родных и друзей.
Несчастья не сломили Перикла. Никто не видел его
плачущим у гроба, пока он не лишился младшего сына Па-
рала. Это несчастье сразило Перикла. Он крепился,
держался мужественно, но, когда надевал венок на покойного, не
выдержал и разразился рыданиями, чего с ним никогда еще
не случалось.
Народ не смог найти никого, кто мог бы, подобно Пе-
риклу, с честью занимать ответственную должность
первого стратега. Афиняне поняли это и решили пригласить
Перикла в народное собрание.
Перикл не выходил из дома, убитый постигшим его
горем. Однако Алкивиад и другие друзья убедили его
показаться народу. Ему принесли извинения за несправедливо
наложенный штраф, и Перикл снова был избран
стратегом. Тогда он обратился к народу с просьбой сделать
исключение в законе о незаконнорожденных и признать его
сына от Аспасии афинянином1.
Так как оба сына Перикла от первой жены погибли и
у него не было другого наследника, кроме сына Аспасии,
афиняне согласились, чтобы он носил имя отца и был
внесен в списки граждан.
Однако Периклу не суждено было вновь стать во
главе Афинского государства. Вскоре после избрания его
стратегом он заболел чумой. Болезнь развивалась медленно:
тяжелое состояние перемежалось с периодами облегчения.
Однако постепенно чума подрывала силы Перикла.
1 Дети от брака афинянина и иностранки (а таким как раз был сын
Перикла от его второй жены) считались незаконнорожденными и не
могли стать гражданами Афин.
665
Когда он умирал, друзья и родственники, сидя у постели
Перикла, вспоминали, как велики были его доблесть и ум.
Сорок лет участвовал он в политической жизни,
одерживая победы над врагами Афин. Друзья говорили, думая, что
умирающий потерял сознание и не слышит их. Вдруг Пе-
рикл приподнялся и сказал: "Вы хвалите меня за то, что
совершали и многие другие, но о самом великом, что я
сделал, не говорите ничего. Ведь за годы моего правления ни
один афинянин не был казнен по моему приказу".
Только когда Перикл умер, афиняне поняли, какого
замечательного руководителя они потеряли. Даже
противники вынуждены были признать, что огромный авторитет
Перикла, основанный на любви и поддержке народа, был
спасительным оплотом государства. Многие не замечали этого,
пока Перикл был жив, но теперь, когда он умер, это стало
ясно каждому.
никий
(умер в 413 г. до н. э.)
Греки справедливо считали мир величайшим благом и
счастьем для людей. Вот почему многие древние историки
признавали Никия, противника войны, выдающимся
государственным деятелем, хотя он и не обладал такими
блестящими дарованиями, как Фемистокл или Перикл. В
глазах современников и в памяти потомства все крупные
недостатки Никия как государственного деятеля и полководца
искупались одним его качеством — бескорыстной и
последовательной преданностью делу мира.
Основными чертами его характера были
нерешительность, медлительность и робость, которую враги считали
трусостью, а друзья — благоразумной осторожностью.
При таких качествах Никий, не любя войны, конечно,
667
не мог быть хорошим полководцем. Однако ему .часто
приходилось воевать. Под конец жизни его поставили во
главе большого флота и войска; он принужден был отправиться
в поход, в успех которого не верил, считая предприятие
обреченным на неудачу. Однако Никий сражался честно по
мере своих сил и способностей и погиб вместе со своим
войском.
О детстве и юности Никия ничего не известно. Мы
знаем только, что он происходил из богатого и знатного рода
и был крупным рабовладельцем. На государственных
серебряных рудниках работали 1000 рабов Никия, которых он
сдавал в аренду, получая за каждого раба по 1 оболу в день
(около 4 копеек). Капитал его, как говорили, составлял
огромную для того времени сумму — 100 талантов1.
По обычаю того времени, знатные и богатые люди
рано посвящали себя государственной деятельности.
Молодого Никия еще при жизни великого Перикла
неоднократно выбирали на должность стратега, и ему несколько раз
удавалось отличиться в походах на суше и на море.
Известность в народе молодой человек завоевал
благодаря своей исключительной щедрости. Когда ему
приходилось выполнять почетную должность хорега2, он давал
театральные представления с небывалой роскошью.
Никий отличался удивительным, даже для того
времени, суеверием. Чтобы не прогневить богов, он совершал им
ежедневные жертвоприношения. Своими огромными
затратами на театральные постановки он также думал заслужить
милость богов3.
Ежедневно из Афин отправлялись на священный
остров Делос4 на праздник Аполлона торжественные
процессии певцов чествовать бога священными гимнами.
Однажды, когда хорами заведовал Никий, из Афин от-
1 Талант — самая крупная единица массы и денежно-счетная
единица в Древней Греции, в Аттике равнялась 26,2 кг.
2 В Афинах расходы на дорогостоящие театральные постановки
трагедий и комедий возлагались по жребию на самых богатых граждан;
наряду с именем поэта-победителя в ежегодных состязаниях
провозглашалось и имя гражданина, который оплачивал расходы на постановку
пьесы, обучение хора и т. п. (такой гражданин назывался хорегом —
руководителем хора).
3 Театральные представления находились под покровительством бога
Диониса.
4 Делос считался родиной бога Аполлона и его сестры Артемиды.
668
плыл на праздник корабль с певцами, которые высадились
на соседнем с Делосом острове. На корабле был привезен
заранее разборный мост, украшенный позолотой,
гирляндами цветов и дорогими материями. Ночью мост
перекинули через узкий пролив, отделяющий островок от
Делоса. Утром, на следующий день хор в роскошных одеждах,
с песнями в честь Аполлона прошел по мосту к храму
бога. После жертвоприношения, игр и обильного угощения Ни-
кий установил перед храмом Аполлона драгоценный дар
богу — медную пальму — и посвятил ему большой участок
земли около храма.
В частной жизни Никий не начинал ни одного
важного дела, не узнав воли богов через прорицателя, который
постоянно жил у него в доме. Так, например, он
испрашивал у богов, как ему поступить в том или ином случае при
управлении своими рудниками.
Но еще больше, чем богов, Никий боялся своих
сограждан. Он жил в вечном страхе перед сикофантами1. Никий
пытался откупиться от них деньгами, давая щедро в долг
друзьям и врагам. Из осторожности он даже избегал
близкого общения с гражданами, никогда не вступал в беседу
и ни с кем не обедал вместе. С утра до вечера он
занимался общественными делами, а в свободное время
запирался дома и не принимал даже друзей и близких.
Постоянные страхи сделали и без того от природы
осторожного и нерешительного Никия еще более боязливым
и осмотрительным. Он не желал и страшился каких бы то
ни было перемен и считал, что нужно жить по "отеческим
обычаям", так как жили отцы. Как человек знатный и
состоятельный, Никий был противником афинской бедноты
и ее вождей, которых он ненавидел и боялся.
Чрезвычайную осторожность, нерешительность и
медлительность Никий проявлял и на войне. Он предпочитал
вообще уклоняться от командования в опасных походах,
зная, что в случае крупной неудачи ему грозит изгнание
или даже смерть. Все же, когда ему приходилось быть
военачальником, он обычно имел успех. Враги и друзья при-
1 В те времена в Афинах существовала целая группа людей,
занимавшихся всевозможными доносами и судебным преследованием
состоятельных граждан. Эти люди назывались сикофантами — доносчиками;
они вымогали деньги у намеченных ими жертв и под угрозой
обвинения и лишения по суду всего имущества часто доводили их до
полного разорения.
669
писывали его победы исключительному счастью, которое
всегда сопутствовало Никию, и приобретенной с годами
опытности.
Однако и в походах Никий оставался верен своим
предрассудкам. Так, например, разбив коринфян в жестокой
битве, он не довершил победу, а заключил с врагом
перемирие для погребения двоих афинян1.
После смерти Перикла Никий выдвинулся в первые
ряды государственных деятелей. Он сразу же проявил себя
решительным противником войны и вскоре нашел
поддержку среди групп населения Аттики, пострадавших от
войны и склонявшихся к миру.
Больше всех пострадали от войны афинские
крестьяне, земля их была разграблена неприятелем,
виноградники вырублены, а скот угнан. Поэтому крестьяне громче
всех выражали недовольство войной и требовали мира.
Они объединились вместе с богатыми землевладельцами и
составили умеренную партию — партию мира, вождем
которой стал Никий.
Другая партия (так называемая "пирейская") состояла
из групп, не чувствовавших так сильно тягостей войны,
главным образом из городских ремесленников, мелких
торговцем, матросов и купцов, ведущих заморскую торговлю;
она стремилась к войне до победного конца. Во главе пи-
рейской партии стояли знаменитый оратор и вождь Клеон,
Гипербол и другие.
Клеону и его партии удалось добиться власти. Клеон
немедленно принялся за подготовку наступательных
операций против Спарты. Он решил поднять восстание илотов
в самом Пелопоннесе.
Афинский полководец Демосфен получил приказание
напасть на спартанцев в самом Пелопоннесе. Появление
здесь афинян должно было вызвать восстание илотов.
Демосфен захватил важную гавань спартанцев на Мессен-
ском побережье, город Пилос, откуда можно было легко
поднять восстание илотов. Спартанцы, понимая угрожав-
1 Оставлять тела павших в бою без погребения считалось у греков
тяжким грехом. По представлениям древних греков, души непогребенных
бродят по свету и мучают сородичей и близких. Когда афинские
стратеги после блестящей победы над спартанским флотом при Аргинус-
ских островах (406 г. до н. э.) не смогли из-за бури похоронить
павших воинов, то военачальников по возвращении в Афины судили и
предали казни.
670
шую им опасность, направили большие сухопутные и
морские силы и заняли остров Сфактерию, лежащий против
Пилоса. Однако афиняне разбили спартанскую эскадру и
осадили гарнизон Сфактерии, состоявший из 400 человек.
Спартанцы, видя, что военное счастье стало улыбаться
афинянам, первые предложили заключить мир на выгодных
для афинян условиях. Однако теперь афиняне, несмотря на
противодействие Никия, ответили отказом.
Война продолжалась, но осада Сфактерии была
безуспешной. Несмотря на блокаду, спартанцам удавалось все-
таки переправлять на остров съестные припасы, и
поэтому осажденных нельзя было взять измором.
Тогда Клеон выступил в афинском народном собрании
против Демосфена и Никия. Он обвинил Демосфена в
вялом ведении осады. В ответ на обвинения Никий сказал:
"Почему бы тебе, Клеон, самому не отправиться против
спартанцев?" После недолгих колебаний Клеон принял
предложение Никия и стал во главе войска, осаждавшего
Сфактерию. Он заявил, что через двадцать дней после
своего отплытия в Пелопоннес уничтожит спартанцев или
доставит их пленниками в Афины.
Явившись под Сфактерию, Клеон повел вместе с
Демосфеном осаду так, что через двадцать дней оставшиеся
в живых спартанцы (около 300 человек) сдались в плен и
были привезены в Афины. Это заставило спартанцев
подумать о мире на приемлемых для афинян условиях.
Клеон предупредил спартанцев, что если они снова
вторгнутся в Аттику, пленные будут казнены. И действительно,
вторжения спартанцев в Аттику с этих пор прекратились.
Беспримерная победа Клеона над непобедимыми
дотоле на суше спартанцами вызвала в Афинах ликование.
Народное собрание определило ему почести как герою,
спасителю государства. Многие обвиняли Никия в трусости
и вялости за то, что он добровольно отказался от
командования в пользу своего противника. Так, знаменитый
комический поэт Аристофан осыпал его за это насмешками:
Свидетель Зевс, дремать теперь не время нам,
Как сонный Никий, колебаться некогда.
Клеон между тем со свойственной ему энергией и
настойчивостью продолжал наступательную войну против
Спарты и ее союзников. Сперва военное счастье было на
671
стороне афинян, им удалось отрезать Мегары от
Эгейского моря путем захвата их гавани Нисеи и занять главную
стоянку спартанского флота — остров Киферу к югу от
Пелопоннеса.
Затем военное счастье изменило афинянам, и они
потерпели крупную неудачу в битве с беотийцами при Де-
лии. Это поражение афинян подняло дух спартанцев; они
решили перейти к военным действиям во Фракии, чтобы
захватить фракийские владения афинян.
Талантливый спартанский полководец Брасид за
короткое время, прибыв во Фракию, успел побудить несколько
фракийских городов к отделению от афинян. Клеон
выступил против Брасида во главе афинского ополчения. В
битве под фракийским городом Амфиполем, где пали оба
полководца — Клеон и Брасид, — афиняне потерпели
поражение (422 г. до н. э.).
После гибели Клеона и Брасида партии мира в
Афинах и Спарте получили преобладание. Афинские
крестьяне радовались гибели Клеона и Брасида, считая, что теперь
отпали препятствия для заключения мира.
В одной из комедий Аристофана отразилось ликование
народа по поводу гибели Клеона. В комедии "Мир"
Аристофан изображает страшных демонов войны и ужаса,
которые в огромной ступе толкут греческие города, причем
пестиками служат Клеон и Брасид.
Пропал толкач афинский знаменитейший,
Погиб кожевник}, что толок Элладу всю
В огромной ступке...
Пропал толкач спартанский наилучший2.
Крестьянин, герой этой комедии, говорит о смерти
Клеона:
О госпожа Афина, славно сделал он,
Что вовремя подох на благо городу
И кашу заварить не сможет новую.
Аристофан писал, призывая всех к миру:
Теперь настало время, братья эллины,
Оставив распри, позабыв усобицы,
На волю вывесть Мир любимый,
Пока толкач не помешает новый нам.
1 Клеон был кожевником.
2 Брасид.
672
Благодаря усилиям Никия и его сторонников вскоре
удалось заключить на 50 лет мир со Спартой, известный под
названием Никиева, на основе положения, бывшего до
войны. Афиняне обязались вернуть спартанцам пленников,
отдать Пилос и Сфактерию; спартанцы же должны были
возвратить Амфиполь.
Мир, однако, длился недолго: обе стороны были
недовольны и рассматривали его как передышку перед новой
решающей схваткой. Спартанцы не вернули афинянам Ам-
фиполя. В ответ на это афиняне удержали в своих руках
Пилос и Сфактерию.
Несмотря на мир и союз Афин со Спартой, во всей
Греции царили распри. В самом Пелопоннесе начались
раздоры и недовольство действиями Спарты. Особенно
недовольны были коринфяне, мантинейцы и аргосцы. Аргосцы и
мантинейцы — заклятые враги спартанцев — искали
сближения с афинянами.
В это время в Афинах выдвинулся Алкивиад1. Он стал
подготовлять союз с Аргосом и другими пелопоннесскими
государствами. Напрасно Никий боролся против этих
планов Алкивиада, считая, что они приведут к войне. Никий
во главе афинского посольства даже отправился в Спарту,
чтобы устранить разногласия между афинянами и
спартанцами и тем удержать афинян от союза с Аргосом.
Посольство, однако, окончилось полной неудачей. Влияние
Никия после этого упало.
К власти пришел Алкивиад, который заключил союз с
Аргосом и другими пелопоннесскими государствами.
Спарта оказалась в весьма тяжелом и опасном
положении: она была окружена тесным кольцом враждебных ей
демократических государств. Одержать верх над врагами
стало теперь для Спарты вопросом жизни и смерти.
При Мантинее союзное ополчение встретилось со
спартанцами. Афиняне не успели оказать союзникам
действенной помощи из-за медлительности Никия, и те потерпели
полное поражение.
Демократические правительства в Аргосе и других
пелопоннесских городах-государствах были свергнуты, и эти
государства вновь вступили в Пелопоннесский союз.
Мантинейское поражение привело в Афинах к падению
См. биографию Алкивиада.
673
22 532
власти Алкивиада и сторонников войны. Во главе
правительства опять стал Никий.
По афинскому обычаю вождь группы, потерпевшей
неудачу, подвергался изгнанию путем остракизма. Изгнание
Алкивиада казалось неминуемым, но ему удалось
договориться со сторонниками Никия, и изгнанным оказался
вождь демократической партии Гипербол. Алкивиад и
Никий вновь оказались у власти. Противники Никия
упрекали его в том, что он не может добиться у Спарты
возвращения Амфиполя.
Никию пришлось против своей воли отправиться с
войском во Фракию отвоевывать Амфиполь. Поход окончился
полной неудачей, так как македонский царь, через земли
которого лежал путь, принял сторону Спарты и не
разрешил проход афинского войска. Неудача Никия привела к
падению влияния его партии. Алкивиад сблизился теперь
с демократической партией Пирея, стоявшей за войну.
Сторонники пирейской партии мечтали о расширении
афинского владычества на запад, о завоевании Сицилии,
Карфагена и северного побережья Африки (Ливии).
Алкивиад давно уже замышлял стать владыкой-тираном
объединенной под главенством Афин Греции. Он
пользовался аристократической и демократической партиями в
Афинах только в своих личных целях, присоединяясь то к
одной, то к другой. Теперь замыслы Алкивиада совпадали
с планом демократической пирейской партии, и он стал
вождем сторонников похода в Сицилию.
Все свое красноречие и влияние в народном собрании
Алкивиад применил для того, чтобы побудить афинян
отправить экспедицию в Сицилию. Впечатлительные
афиняне увлеклись заманчивыми картинами, которые им рисовал
талантливый оратор. "Надо, — говорил он, — сначала
овладеть Сицилией как основой для дальнейших военных
действий на западе. Завоевав Сицилию и Карфаген, афиняне
захватят сказочно богатую добычу, и тогда все граждане
станут богатыми: не надо будет работать, а только
повелевать своими подданными".
Возбуждение афинян и их увлечение планами похода
в Сицилию достигли высшей степени, когда в Афины
явились послы сицилийских городов Леонтины и Эгесты.
Послы просили помощи у афинян и уверяли, что на острове
вспыхнет демократическое восстание, лишь только туда при-
674
будет афинское войско; они обещали также ссудить
большие суммы денег на жалованье афинскому войску, если оно
прибудет в Сицилию.
В народном собрании разгорелись жаркие споры о том,
следует ли оказать помощь жителям Леонтины и Эгесты.
Большинство афинского народа не имело ясного
представления об отдаленном острове, считая его сказочно богатой
страной, завладеть которой ничего не стоит. Из народного
собрания прения перенеслись на улицы, на площади, в
лавки и мастерские. Люди всех возрастов — старики и
молодые — чертили на песке карты Сицилии и рассказывали
всевозможные небылицы об этом острове.
Почти никто не решался выступить против этого
фантастического замысла. Один только Никий, вопреки своей
обычной робости и нерешительности, на этот раз прямо
выступил против похода. Он указывал на большие размеры
острова. "В Сицилии, — говорил он, — многочисленное
население, враждебное афинянам. Жители острова прекрасно
вооружены и имеют большие средства для ведения войны.
У нас же, афинян, казна истощена за столько лет войны".
Народное собрание приняло решение послать эскадру
в Сицилию с 6000 отборных воинов. Во главе похода
поставили Алкивиада, Никия и Ламаха (который славился
своей воинской храбростью). Афиняне считали, что Никий
принесет большую пользу своей опытностью и
осторожностью в соединении с дерзкой отвагой Алкивиада и
горячностью Ламаха.
На следующем народном собрании, уже после
принятия решения о походе, Никий вновь пытался образумить
сограждан. Он открыто обвинил Алкивиада в том, что тот
ради личных выгод и в погоне за славой подвергает
государство страшной опасности заморского похода. "Ведь
никто из афинян, и сам Алкивиад, — говорил он, — толком
не знает, что представляет собою Сицилия и что ждет
афинян на большом и враждебном острове. Если наши дела в
Сицилии пойдут неудачно, то враги нападут на нас; ведь
со Спартой мир не надежен. Поход и даже завоевание
Сицилии только ослабит наши силы".
Народное собрание, однако, не обратило никакого
внимания на эти слова. Весь город пришел в движение:
богатые граждане были привлечены к постройке и снаряжению
кораблей; союзники доставляли необходимые средства; кре-
675
22*
стьяне заготовляли продовольствие; все граждане,
способные носить оружие, деятельно готовились к походу,
занимаясь военными упражнениями; кормчие й матросы
обучались мореходному искусству.
Ценой крайнего напряжения всех средств
государственной казны был построен большой флот в 134 триеры. На
снаряжение экспедиции были затрачены огромные
средства; одно только жалование воинам достигало огромной
суммы в 1620 талантов. Между тем накануне отплытия флота
произошло роковое событие, взволновавшее афинян, и без
того находившихся в крайне возбужденном состоянии:
ночью неизвестные люди разбили и изуродовали статуи бога
Гермеса (гермы), стоявшие на перекрестке афинских улиц1.
Молва обвиняла в этом преступлении Алкивиада. Алкивиад
потребовал немедленного разбирательства дела, но враги
не решились нанести ему открытый удар. Кроме того,
судебное разбирательство должно было задержать отплытие
эскадры, а афинское народное собрание торопило с
походом. Решено было, что Алкивиад предстанет перед судом
после окончания войны, а пока он должен отплыть в
Сицилию.
Наконец, назначен был день для отплытия флота (415 г.
до н. э.). Афиняне и союзники садились на корабли и
готовились к выходу в море. Почти все городское население
собралось на проводы; граждане провожали своих близких,
друзей и знакомых. Многих охватывало тяжелое чувство
тревоги и неуверенности: увидят ли они снова когда-нибудь
своих близких и чем кончится далекий поход?
Много досужих зевак собралось в гавани поглазеть на
редкостное зрелище; и действительно, большое число
прекрасно оснащенных и богато разукрашенных кораблей,
блестящее вооружение воинов производили впечатление
грозной силы.
Когда воины сели на корабли и погрузка кончилась,
раздался сигнал трубы. Одновременно на всех кораблях
глашатаи произносили молитвы, которые повторяли воины и
толпа на берегу. Матросы и военачальники совершали
жертвенные возлияния богам из золотых и серебряных куб-
1 Подробности об этом см. ниже в биографии Алкивиада. Гермес —
бог дорог и торговли. Осквернение герм считалось страшным
преступлением против религии.
676
ков, смешав вино с водой. Затем все запели
торжественный гимн (пеан). Корабли подняли якоря и вышли в море.
Афинский флот обогнул Пелопоннес и прибыл к
острову Керкире (у берегов Эпира), где собралось остальное
войско союзников. Здесь стратеги произвели смотр своих
сил. Флот был разделен на три эскадры, каждая под
командованием особого адмирала. Затем все три эскадры в
сопровождении множества транспортных кораблей
направились к берегам Италии.
Все три избранных для похода стратега даже после
отплытия не могли выработать общего плана действий. Ал-
кивиад — человек сильной воли — стремился взять всю
власть в свои руки и предложил не нападать сразу на
главного врага — сицилийский город Сиракузы, а добиться
отпадения союзных сиракузянам городов. Ламах — пылкий
полководец — предлагал плыть прямо в Сиракузы и дать
бой под стенами города, пока жители не успели еще
приготовиться к отпору. Никий же возражал обоим: он не
верил в успех экспедиции и советовал оказать лишь
небольшую помощь жителям Эгесты, а затем флоту плыть
вокруг Сицилии и, устрашив врага, вернуться домой. Этим
предложением Никий сразу ослабил боевой дух и
решимость афинского войска. Мало того, даже и после выхода
в море он продолжал проявлять нерешительность и
медлительность. Такое поведение Никия лишало боевого духа
других военачальников, и флот терял напрасно время.
В конце концов Ламах присоединился к Алкивиаду, и
Никий должен был подчиниться.
Появление громадного афинского флота у берегов
Италии вызвало среди южноиталийских государств сильное
беспокойство: они понимали, что афиняне прибыли не ради
помощи, а с целью завоевать их; поэтому вплоть до города
Регия (на юге Италии) афиняне не только не могли
высадиться, но даже запастись питьевой водой. Здесь удалось,
наконец, пополнить запасы продовольствия. Но афинских
стратегов постигло новое разочарование: выяснилось, что
вместо обещанных представителями Эгесты больших сумм
на жалованье матросам они предлагают лишь небольшую
сумму в 30 талантов.
Отсюда афинские корабли направились к сицилийским
городам Наксосу и Катане, которые стали на сторону афинян.
В этот момент из Афин прибыл государственный ко-
677
рабль "Саламания" с приказом народного собрания: Алки-
виаду сдать командование и немедленно возвратиться в
Афины на суд. Дело в том, что в Афинах якобы обнаружились
новые доказательства виновности Алкивиада в оскорблении
религии. Алкивиад подчинился, но по дороге бежал.
Афиняне сочли бегство Алкивиада доказательством его
виновности, и он был заочно приговорен к смертной казни.
После отъезда Алкивиада командование перешло к Ни-
кию. Ему следовало бы немедленно начать блокаду
Сиракуз, пока сиракузяне не успели собрать большого войска
и средств для обороны и пока бесспорный перевес на
суше и на море был на стороне афинян. Это была
единственная возможность выиграть войну.
Между тем Никий не решался приступить к серьезным
военным действиям. Он все еще пытался показом мощи
своего флота склонить сицилийские города на сторону афинян.
С этой целью он потратил драгоценное летнее время на
безуспешное плавание у сицилийских берегов и в конце
концов возвратился в Катану ни с чем.
Сиракузяне в это время готовились к обороне. Они
послали за помощью в Спарту и другие греческие
государства, враждебные афинянам, и успели набрать большое
войско из наемников. Наконец, сиракузяне почувствовали
себя настолько сильными, что решились сами напасть на
афинян.
Слухи о планах сиракузян стали доходить до афинян.
Тогда только Никий с трудом согласился плыть на
Сиракузы. Дело в том, что в древности военные действия
греков были связаны временем года: зимой обычно не
воевали. Была уже осень, и афинский стратег хотел начать
военные действия весной.
При помощи военной хитрости афинянам удалось
выманить войско сиракузян из города. Тогда Никий отплыл
из Катаны, овладел гаванями Сиракуз и занял удобное
место для лагеря. Когда сиракузяне вернулись под стены
своего города, произошла битва и афиняне одержали победу.
Однако Никий не воспользовался победой и вместо того,
чтобы сделать попытку сразу взять Сиракузы,
возвратился на зимовку в Наксос.
Узнав об этом,сиракузяне напали на афинский лагерь
в Катане и сожгли его. В этой неудаче все обвинили
афинского главнокомандующего.
678
Теперь, наконец, Никий взялся за осаду Сиракуз.
Афинянам удалось незамеченными высадиться около Сиракуз
и захватить высоту, господствующую с запада над городом.
Подоспевшая в это время конница сиракузян бросилась на
афинян. Завязался жаркий бой, и афиняне одержали
блестящую победу, захватив 300 человек в плен.
Затем Никий за короткое время возвел вокруг Сиракуз
стену, чтобы блокировать город с моря и с суши.
Афинский флот вошел в большую гавань Сиракуз.
Осажденные сиракузяне оборонялись и строили в свою
очередь стену, которая должна была идти от города до
встречи со стеной афинян. Осажденные все время делали
вылазки, чтобы помешать работам афинян, а те старались
препятствовать им. Происходили постоянные стычки. Во
время одной из них второй афинский стратег, храбрый
Ламах, был убит.
Теперь начальником остался один Никий.
Сиракузяне продолжали отчаянно защищаться, но
положение их со дня на день ухудшалось: стены,
построенные афинянами вокруг города, уже были почти совсем
готовы. Кольцо осады вот-вот должно было сомкнуться.
Некоторые сицилийские города стали переходить на сторону
афинян. Сиракузяне уже считали положение города
безнадежным и вступили с афинским главнокомандующим в
переговоры об условиях сдачи.
В этом момент произошло событие, изменившее весь
ход войны. По совету Алкивиада, который бежал в
Спарту и стал изменником родины, спартанцы послали на
помощь сиракузянам 700 воинов под начальством опытного
полководца Гилиппа. Ему удалось тайно пересечь пролив
и высадиться на северо-западе Сицилии. Никий был
настолько уверен в победе, что даже не выставил караулов, хотя
и знал о приближении Гилиппа.
Прибыв под Сиракузы, Гилипп сначала послал глашатая
к Никию, предлагая афинянам немедленно сесть на
корабли и возвратиться в Афины. Никий даже не ответил на это
предложение спартанского полководца. Тогда Гилипп вместе
с сиракузянами напал на афинян. В первой битве афиняне
одержали победу, но затем враги захватили несколько
афинских укреплений и прорвались в осажденный город.
Эти неудачи привели афинского стратега в отчаяние,
он понял, что афиняне уже не в состоянии отрезать город
679
с суши. Мало того, афиняне сами скоро могли оказаться
осажденными, так как сиракузяне построили стену под
углом к афинским укреплениям, а вражеская конница стала
мешать их сообщениям.
Теперь афинянам оставался один выход — просить
немедленной присылки подкреплений из Афин. Никий так и
поступил. Он отправил афинскому народному собранию
письмо, в котором мрачными красками рисовал положение
и просил по болезни заменить его другим стратегом.
"Пока я был здоров, — писал Никий, — я оказал много услуг
государству, но теперь я не могу уже выполнять должность
стратега. Помощь нужна немедленно, так как наши
корабли приходят в негодность, союзники разбегаются,
правильное снабжение войска нарушено, денег нет и взять негде,
потому что союзники отказывают нам в помощи".
Письмо Никия было доставлено в Афины в тяжелое
время для города: спартанцы вновь начали войну; по совету
Алкивиада, они заняли важный укрепленный пункт в
центре Аттики — Декелею. Отсюда спартанцы мешали
доставке хлеба в Афины с полей Аттики и из соседней Эвбеи.
Днем и ночью враги не давали покоя афинянам. Все
население Афин было привлечено к обороне города; стычки с
врагом происходили почти ежедневно.
Несмотря на все это, народное собрание напряжением
всех сил государства снарядило на помощь в Сицилию еще
две эскадры кораблей под начальством опытного полководца
Демосфена с 1200 афинских гоплитов и множеством
союзников. Кроме того, были собраны и отправлены большие
суммы денег.
Еще до прибытия этих подкреплений Никий подвергся
внезапному нападению с суши и с моря. Семь афинских
кораблей было потоплено, другие же получили
значительные повреждения. Но самое главное — враги захватили
афинскую базу — мыс Племмирий — со множеством
запасов, снаряжением и деньгами.
После того как враги вытеснили афинян из Племмирия,
снабжение афинского войска чрезвычайно затруднялось, так
как вражеские корабли стали мешать подвозу
продовольствия. Это поражение афинян повлекло за собой переход
почти всех сицилийских городов на сторону сиракузян.
Афинское войско окончательно пало духом; никто из
афинян уже не верил в победу и благополучное возвраще-
680
ние на родину. В этот-то момент в афинском лагере
заметили приближение большой эскадры. Под звуки музыки
флот Демосфена, состоящий из 73 кораблей с 5000
гоплитов и 3000 легковооруженных союзников и большим
количеством снаряжения, вошел в гавань. Афиняне
воспрянули духом, ликовали; наконец-то, думали они, мы возьмем
Сиракузы и с богатой добычей вернемся на родину.
Сиракузяне, наоборот, впали в уныние: они увидели, что
прибыло войско не меньше первого и что афиняне
по-прежнему могущественны.
Между тем Демосфен, ознакомившись с положением
дел, решил немедленно напасть на врага. "Нужно, —
говорил он, — поставить на карту все: или захватить
Сиракузы, или возвращаться домой".
Никий, как всегда, был против решительных действий.
Он указывал, что средства врагов уже истощились и
союзники скоро их покинут; тогда, говорил он, они будут
просить мира. И действительно, сиракузяне опять завели
тайные переговоры с афинянами о мире. Остальные стратеги
поддержали Демосфена, говоря, что Никий и раньше
медлил и терял драгоценное время и теперь занимается
проволочками.
Никий с трудом, под давлением товарищей, уступил.
Демосфен в ту же ночь сделал попытку овладеть
Сиракузами. Сначала афинянам удалось потеснить неприятеля,
но потом при преследовании отступающих врагом в
темноте произошла беспорядочная битва, причем афиняне не могли
отличить своих от врагов. В этой битве Демосфен потерпел
решительное поражение. Немногим воинам удалось спастись
бегством; на поле сражения осталось 2000 трупов афинян
и союзников.
После этой неудачи афинские стратеги собрались на
совет. Нужно было решить, что же делать дальше. В
афинском лагере, который был расположен в нездоровой
местности, начались болезни; дух воинов упал; положение
представлялось почти безнадежным. Поэтому Демосфен
высказался за то, чтобы немедленно возвращаться домой или
же перенести стоянку в другое место, подальше от
Сиракуз, и оттуда опустошать страну. Но тут Никий
неожиданно воспротивился этому плану. Он по-прежнему не верил
в победу, но больше, чем сиракузян, боялся своих врагов-
демократов, которые по возвращении в Афины, как он ду-
681
мал, предадут его суду и казнят за неудачу. "Я
предпочитаю смерть от руки врагов, — говорил он, — чем от руки
сограждан".
Между тем в Сиракузы прибыло на помощь новое
большое войско. Тогда Никий понял, что война проиграна и
нужно скорее снимать осаду и отправляться домой. Когда все
уже было готово к отплытию, ночью произошло лунное
затмение, которое сильно испугало Никия и многих воинов.
Предсказатели, бывшие в войске афинян, объявили, что
боги явно противятся отступлению и что следует ожидать
следующего полнолуния.
Но тут произошло самое ужасное из всего, что могли
ожидать афиняне. После двухдневного морского сражения,
где погибло много афинян, сиракузяне заградили
афинскому флоту выход из гавани. Флот афинян оказался в ловушке.
В афинском лагере снова собрался военный совет, и
было решено, оставив под охраной больных и раненых, сесть
на корабли и во что бы то ни стало прорваться через
заграждения и отплыть на родину.
Лучшая часть сухопутного войска афинян была посажена
на оставшиеся корабли. Перед отплытием Никий обратился
к воинам с короткой речью: "Нам предстоит борьба за
отечество. Помните, что вы — последняя надежда родины, у
государства нет больше ни флота, ни войска. Если мы
потерпим поражение, то родина окажется беззащитной. Все,
что нужно, нами предусмотрено. Наши корабли снабжены
приспособлениями для абордажного боя. Мы сцепимся с
вражескими кораблями и будем сражаться, как на суше".
Произошла жаркая битва в невыгодных условиях для
тяжелых афинских кораблей. На небольшом пространстве
бухты собралось до двухсот кораблей.
Сухопутные войска сиракузян и афинян с берега
наблюдали за ходом сражения. Легкие корабли сиракузян со
всех сторон нападали на тяжелые афинские триеры.
Враги метали в афинян огромные камни, афиняне отвечали им
стрелами и дротиками. Однако все попытки афинян
прорваться окончились неудачей. Наконец, сиракузяне
произвели решительный натиск и обратили в бегство афинские
корабли. Началось массовое истребление побежденных;
афиняне оказались в безнадежном положении: путь к
морю был отрезан, а на суше отступление также было
преграждено врагами, которые заняли господствующие высо-
682
ты, загородили переправы, уничтожили мосты, а долины
заняли отрядами конницы.
Теперь афинскому войску оставалось одно спасение —
отступать по суше во внутренние области Сицилии. Еще
можно было спастись, если бы отступление началось
немедленно. Но Никий выступил только спустя два дня
после поражения на море.
После всех потерь войско афинян насчитывало еще
около 40 тыс. человек. Оно было разделено на два отряда:
впереди шел Никий, позади — Демосфен. Воины несли с
собой скудный запас продовольствия, всего на пять дней.
Несчастья постигли афинян с самого начала. Они
вынуждены были свернуть с намеченного пути, так как он был
прегражден сиракузянами. С этих пор они брели почти
наудачу, туда, где ожидали встретить меньшее
сопротивление или надеялись достать продовольствие и воду.
Вражеская конница все время не давала им покоя. Голод и
жажда доводили отступавших до безумия.
Сам Никий, несмотря на болезнь и несчастья,
обрушившиеся на него, сохранял присутствие духа и старался
вселить в своих несчастных воинов надежду на спасение.
На шестой день отступления отставший от своих отряд
Демосфена был окружен; враги целый день осыпали
афинян стрелами и дротиками. Когда выяснилось, что
дальнейшее сопротивление приведет к полному истреблению
отряда, Демосфен после неудачной попытки самоубийства
сдался под условием сохранения жизни воинам.
Два дня спустя сложил оружие и Никий, также
получив обещание сохранить ему жизнь.
Сиракузское народное собрание, однако, постановило
казнить Никия, Демосфена и других стратегов; афинских
союзников продать в рабство, а самих афинян запереть в
тесные каменоломни около Сиракуз.
Большая часть афинских пленников погибла в
каменоломнях. Несчастные пленники страдали от жажды и
холода, от страшной скученности, среди них развились
повальные болезни; некоторые умирали от истощения,
вызванного скудной и однообразной пищей. Только немногие были
проданы в рабство и таким образом спасли свою жизнь.
Рассказывают, что некоторым пленникам удалось спасти
свою жизнь и даже получить свободу благодаря тому, что
они помнили наизусть отрывки из произведений великого
683
афинского трагика Еврипида, слава которого
распространилась по всему греческому миру.
Весть о гибели всего войска и флота принес в Афины
какой-то иностранец. Высадившись в Пирейской гавани, он
зашел в парикмахерскую подстричься и стал говорить о
несчастье, как о чем-то уже известном. Владелец
парикмахерской после первых его слов опрометью бросился в
город и сообщил ужасную весть должностным лицам.
Произошел страшный переполох. Немедленно собралось
народное собрание. Привели иностранца и стали
расспрашивать о подробностях и о том, от кого он узнал об этом
несчастье. Так как он ничего вразумительного от испуга
сказать не мог, то его сочли злоумышленником, намеренно
распространявшим ложные слухи, чтобы произвести смятение
в государстве. Несчастный был подвергнут пыткам, и его
долго мучили, пока, наконец, не прибыли вестники,
подтвердившие страшную правду.
Так погиб Никий. Он принес несчастье родине своей
нерешительностью, а также тем, что боялся своих соперников
в борьбе за власть больше, чем врагов родной страны.
АЛКИВИАД
(около 450—404 гг. до н. э.)
Алкивиад был сыном богатого и знатного афинянина
Клиния. Его мать происходила из знаменитого в истории
Афин рода Алкмеонидов и приходилась родственницей
известному государственному деятелю Периклу.
Отец Алкивиада, Клиний, во время греко-персидских
войн отличился в морском бою при Артемисии, сражаясь
на триере, снаряженной им на собственные средства.
После смерти отца, погибшего в битве с беотийцами,
Алкивиад остался на руках опекунов — знаменитого Перикла
и его брата.
Воспитывался Алкивиад в доме Перикла. Он
встречался там со многими выдающимися людьми того времени:
философом Анаксагором, поэтом Софоклом, знаменитой Ас-
685
пасией, женой Перикла, одной из самых образованных
женщин того времени, и другими.
Юноша получил прекрасное образование и выделялся
красотой, умом и исключительными способностями. Никогда
еще судьба не наделяла кого-либо так щедро, как Алкиви-
ада. Но в характере его было много противоречий: наряду
с хорошими чертами в нем было немало дурных. Он был
очень честолюбив, интересы государства и нужды других
людей были ему безразличны; он считал себя рожденным
властвовать.
Уже в детстве он не останавливался ни перед чем,
чтобы добиться успеха. Как-то раз ему пришлось бороться с
одним мальчиком; видя, что тот его одолевает, Алкивиад
укусил ему руку. "Позор! — закричал возмущенный
противник, — ты кусаешься, как девчонка!" "Нет, — ответил
Алкивиад, — как лев!"
Однажды Алкивиад играл на улице в кости. Была как
раз его очередь бросать кости, как вдруг показалась
телега, быстро приближавшаяся к играющим. Алкивиад
закричал вознице, чтобы тот остановил лошадь и подождал,
пока мальчики посмотрят, сколько очков выпало на
брошенных им костях. Не обращая внимания на мальчишек, кучер
даже не придержал лошадей. Тогда Алкивиад бросился на
землю перед телегой и закричал, что скорее позволит
раздавить себя, чем кости. Испуганный возница остановился
и, только когда кости были проверены и подняты, телега
получила возможность продолжать свой путь.
Всеобщая лесть и преклонение перед его дарованиями,
умом и красотой вскружили голову юноше. Он решил, что
ему все позволено, и начал совершать дерзкие и
недостойные благородного человека поступки, не считаясь с их
последствиями, лишь бы обратить на себя внимание и
заставить говорить о себе. Однажды Алкивиад велел отрубить
хвост своей большой красивой собаке для того только,
чтобы об этом говорили в народе.
Повстречав как-то знакомого грамматика (школьного
учителя), он попросил у него сочинения Гомера. Когда тот
сказал, что у него нет Гомера, Алкивиад дал ему пощечину.
Вообще Алкивиад легко пускал руки в ход в спорах
даже с уважаемыми людьми. Однажды он при всех дал
пощечину богачу Гиппонику без всяких оснований, просто так,
для потехи. Однако на следующее утро, устыдившись сво-
686
его поступка, он явился к Гиппонику и просил, чтобы тот
наказал его плетью. Гиппоник, однако, простил его и
впоследствии даже выдал свою дочь за него замуж.
Став совершеннолетним, Алкивиад благодаря своему
богатству мог содержать огромную конюшню лошадей и
принимать участие в состязаниях колесниц в Олимпии, во
время знаменитых Олимпийских игр.
По старинным греческим представлениям, победа на
Олимпийских играх давала право на власть в государстве.
Поэтому многие греческие властители (тираны) VII —
VI веков до н. э. всячески старались одержать победу в
Олимпии. При этом тираны во время своего пребывания в
Олимпии тратили огромные суммы денег на угощение
народа и, одержав победу, заказывали победную песнь (гимн)
лучшим поэтам своего времени. Алкивиаду удалось
получить на Олимпийских играх сразу первую, вторую и
четвертую награды (чего никогда раньше не выпадало никому
на долю), и он, подражая тиранам, решил удивить свой
народ своей щедростью. Он заказал победный гимн
знаменитому поэту Еврипиду, а лучшим художникам — картины
с изображением своих побед. Многие союзные с Афинами
греческие государства, уже тогда угадывая его будущее
высокое положение в Афинах, привезли обильное угощение
для устраиваемого им пира.
Самым замечательным событием юности Алкивиада
была его встреча и затем тесная дружба со знаменитым
философом Сократом1. Сократ пользовался большим
влиянием на афинскую молодежь и вскоре сделался наставником
Алкивиада. В походе во время Пелопоннесской войны
Сократ жил с Алкивиадом в одной палатке и, сражаясь
рядом с ним в строю, спас ему жизнь. Алкивиад в свою
очередь во время отступления защищал несколько раз
Сократа от грозившей тому опасности. В конце концов Алкивиад
до такой степени привязался к Сократу, что не мог долго
оставаться один без своего мудрого друга и учителя. Все
удивлялись, что Алкивиад ужинает и занимается
гимнастикой вместе с значительно превосходящим его по возрасту
Сократом.
1 Сократ (469—399 гг. до н. э.) — известный афинский
философ-идеалист, учитель Платона, идеолог рабовладельческой аристократии. За
свои взгляды, враждебные демократии, Сократ был казнен.
687
Сократ не стеснялся откровенно обличать недостатки
Алкивиада. Он старался отвлечь своего молодого друга от
заискивающих перед ним льстецов, кутил и богатых
бездельников. Однако, несмотря на преклонение перед
Сократом, Алкивиад никогда не мог избавиться от дурных
наклонностей.
В то время в Афинах ддя того, чтобы получить
известность и быть выбранным на высшие государственные
должности, необходимо было обладать красноречием, уметь
выступать в народном собрании. По свидетельству великого
афинского оратора Демосфена (см. ниже), Алкивиад
отличался замечательным ораторским талантом и умел покорять
народ силой слова. Он обладал редкой способностью
мастерски говорить без подготовки, никогда не терялся и всегда
находил подходящие выражения. Однако над ним часто
смеялись из-за того, что он шепелявил.
Алкивиад не стал искренним приверженцем ни одной
из боровшихся в Афинах политических партий. Он
примыкал то к одной, то к другой партии, стремясь использовать
их в своих целях. Еще юношей он мечтал стать владыкой
Афинского государства, а впоследствии всей Греции.
Алкивиад презирал народ и считал, что демократию надо
заменить властью сильного правителя. Как-то раз, придя в дом
к Периклу, который много лет был главою Афинского
государства, Алкивиад застал его за составлением отчета о
своей деятельности. "Не лучше ли, Перикл, — сказал
Алкивиад, — подумать о том, как бы вовсе не давать
афинянам отчета".
Афиняне в это время уже 10 лет вели тяжелую войну
против аристократической Спарты. За эти годы умер от
чумы Перикл и пал в бою другой замечательный вождь
афинской демократии Клеон. Ни Афины, ни Спарта не сумели,
однако, добиться решительного перевеса в ходе войны. По
совету главы партии "умеренных" Никия (см. выше)
афиняне заключили мир (421 г. до н. э.), по которому
противники возвращались к положению, бывшему до войны.
Крестьяне в Афинах искренне стремились к миру, так
как они более всех страдали от нашествия неприятелей,
разорявших их поля и виноградники. Однако в городе
торговцы, ремесленники и матросы мечтали о продолжении
военных действий, так как во время войны они получали
большое жалованье, а в случае победы надеялись, что разбога-
688
тевшее государство сможет увеличить раздачу гражданам
хлеба и денег.
Такова была обстановка в стране, когда Алкивиад
начинал свою политическую деятельность.
Знатное происхождение, влиятельные друзья и
красноречие открыли ему дорогу к занятию государственных
должностей. Однако молодой человек понимал, что
противившиеся войне знатные люди не будут иметь успеха в
народном собрании. Поэтому он примкнул к выступавшей за
войну партии городского населения, вождем которой был
Гипербол. Всю силу своего могучего красноречия он
обратил на то, чтобы убедить народ возобновить войну.
Противником Алкивиада был Никий, который хотел
мира и даже союза со Спартой. Алкивиад боролся с Никием
и его сторонниками всеми возможными средствами и
одержал победу.
В 420 г. он был избран первым стратегом и стал во
главе государства. Новое правительство решило нанести удар
врагу в самом Пелопоннесе. Алкивиаду удалось без
особого труда убедить некоторые пелопоннесские государства (в
том числе исконного врага Спарты — Аргос) вступить в
союз с Афинами. В ответ на это спартанцы немедленно
выступили в поход на Аргос.
В Афинах в это время на смену Алкивиаду был избран
Никий, который не хотел или не успел оказать новым
союзникам должной поддержки. Он разрешил, однако,
афинским добровольцам во главе с Алкивиадом прийти на
помощь восставшим против Спарты пелопоннесцам. В
решительном сражении при Мантинее (418 г. до н. э.) спартанцы
быстро одержали победу. Аргосцы были вынуждены снова
заключить мир со Спартой, и в ряде пелопоннесских
государств было введено аристократическое правление.
Поражение при Мантинее привело к краху партии
Алкивиада, стремившейся к войне. По афинскому обычаю,
вождь партии, потерпевшей поражение, подвергался
остракизму. Изгнание Алкивиада казалось неминуемым.
Однако Алкивиад, вовремя оценив положение и предвидя
опасность, сумел договориться с Никием. Сторонники
Алкивиада и Никия объединились, и в результате изгнанным
неожиданно оказался ни в чем не повинный Гипербол.
Несправедливость выпавшего на долю Гипербола наказания
была всем настолько очевидна, что обычай остракизма стали
689
теперь высмеивать, и он вышел из употребления. Алкиви-
ад и Никий были избраны в коллегию стратегов и стали
во главе государства.
Придя вторично к власти, Алкивиад выказал
замечательные способности государственного человека и полководца.
Всем своим образом жизни и поступками он старался
показать, что он исключительный человек, который
предназначен богами быть владыкой своих сограждан. Он не
жалел денег на подарки гражданам и государству и на
театральные постановки. Слава его предков, мощь его
красноречия, красота и храбрость — все это заставляло
афинян прощать ему своеволие и пренебрежение древними
обычаями. По выражению великого комического поэта Афин
Аристофана, "народ любил и ненавидел Алкивиада и не
желал обходиться без него". Некоторые проницательные
люди уже тогда разгадали натуру Алкивиада и указывали
народу на стремление его к самовластию. Тот же
Аристофан приводит такое мнение афинян об Алкивиаде:
Не надо львенка в городе воспитывать,
А вырос он — себя заставит слушаться,
то есть следует поскорее избавиться от Алкивиада, пока
он не захватил власти и не уничтожил демократию.
Жил в то время в Афинах некто Тимон — мрачный
человек, чуждавшийся людей. Против своего обыкновения
Тимон после одного из блестящих выступлений Алкивиада
явился в народное собрание и сказал ему: "Ты хорошо
делаешь, что преуспеваешь, ибо в тебе растет большое зло
для всех людей". Одни смеялись над этими словами,
другие же ругали Тимона, но некоторых они заставили
глубоко задуматься. И, действительно, Алкивиад вскоре принес
много зла родине.
Алкивиад задумал установить афинское господство над
всей Грецией и прилегающими к ней странами. Первым
шагом к этому он считал захват Сицилии, а затем
постепенно Южной Италии, Карфагена и Африки.
Алкивиад энергично взялся убеждать народ
немедленно выступить в поход на Сицилию: овладев ее
богатствами, он думал получить средства для выполнения
дальнейших планов. Ему удалось вскружить голову молодежи и
матросам афинской гавани Пирея своими рассказами о ска-
690
зочных богатствах Сицилии и западных стран.
Сторонники Алкивиада распространяли всевозможные предсказания
(оракулы) о том, что афинянам после захвата Сицилии
суждено быть владыками всего мира. Целыми днями толпы
народа обсуждали на рынке и в цирюльнях (парикмахерских),
где собирались послушать и рассказать новости, будущий
поход, чертили на песке карты Сицилии, Африки и
Карфагена. Многие вступали в армию и во флот в расчете на
богатую добычу. Напрасно Никий и его сторонники
предостерегали афинян от похода. Они указывали на большие
размеры территории Сицилии, на многочисленность ее
населения, трудности похода и т. д. Многие рассудительные
граждане также были против похода. Так, философ Сократ
и астроном Метон не верили в успех и всячески
старались отговорить сограждан от бесполезной и трудной
экспедиции. Метон даже притворился сумасшедшим, поджег
свой дом, а наутро явился в народное собрание и просил
освободить своего сына от участия в походе по случаю
такого страшного несчастья.
В конце концов афинское народное собрание решило
отправить большую эскадру с войском в Сицилию.
Стратегами в походе были избраны Алкивиад, Никий и Ламах.
Никия выбрали стратегом против его воли, с тем чтобы
серьезный и рассудительный полководец сдерживал своих
молодых и пылких товарищей.
Все уже было готово к отплытию, как вдруг случилось
загадочное происшествие, которое совершенно изменило ход
дальнейших событий. На улицах в Афинах стояли так
называемые гермы, столбы с грубо изваянными
изображениями бога дорог Гермеса. В ночь перед отплытием эскадры
неизвестные люди повредили гермы на улицах Афин.
Виновниками этого поступка считали коринфян. Они
будто бы изуродовали гермы, чтобы заставить афинян
отложить экспедицию или вообще отказаться от похода
против сиракузян, своих единоплеменников. Они
рассчитывали на то, что изуродование герм суеверный народ примет
за дурное предзнаменование и отложит экспедицию.
Многие видели в этом поступке выпад врагов демократии или
изменников с целью помешать отправке флота. Началось
строгое расследование, которое обнаружило еще одно
преступление против религии. Выяснилось, что группа
афинской молодежи во время пирушки разыгрывала у себя до-
691
ма мистерии богини Деметры1. Пошли слухи, что в этом
осмеянии священных обрядов — мистерий —
участвовали Алкивиад и его друзья. Некоторые прямо обвиняли Ал-
кивиада в изуродовании герм и в издевательстве над
священными обрядами.
Алкивиад и его друзья растерялись. Однако матросы
кораблей, войско и союзники заявили, что они не выступят
в поход без своего вождя.
Алкивиад, рассчитывая на свое влияние в народном
собрании, потребовал немедленного разбирательства. Тогда
враги его, боясь, что он, выступая перед народом, сумеет
оправдаться, пустились на хитрость. "Некогда сейчас
решать такое важное дело. Пусть Алкивиад, — говорили
они, — снимается с якоря, желаем ему счастливого пути;
когда война окончится, пусть он явится в суд для
оправдания!" Народное собрание приказало ему выйти в море
вместе с другими стратегами.
В мае 415 г. до н. э. флот Алкивиада, состоящий из
134 триер с отрядом в 5000 тяжеловооруженных воинов,
наконец отплыл в Сицилию. У берегов Италии афинскую
эскадру постигла первая неудача: большинство греческих
городов Южной Италии встретило афинян враждебно.
Появление огромной эскадры вызвало беспокойство
западных греков. Они понимали, что афиняне прибыли не для
помощи им, а для завоевания независимых греческих
городов-государств в Италии.
Алкивиад взял город Регий и затем высадился в
Сицилии. После захвата города Катаны он решил уже
приступить к осаде Сиракуз, как вдруг непредвиденное событие
изменило все.
Дело в том, что в Афинах после отплытия Алкивиада
с флотом настроение народного собрания изменилось не в
его пользу. Враги его продолжали свои нападки. "Изуро-
дование герм и оскорбление мистерий, — говорили они, —
это только одна сторона дела. Настоящая, главная цель
безбожных преступников — уничтожить демократию в
Афинах." Начались массовые аресты, пытки и казни
заподозренных лиц.
В числе арестованных был некто Андокид, ярый про-
1 Мистериями назывались тайные служения богам, справлявшиеся
только посвященными. Самыми знаменитыми были Элевсинские
мистерии (в честь богинь Деметры и Коры) в городе Элевсине в Аттике.
692
тивник демократии. Его подозревали в изуродовании герм
только потому, что огромная герма, стоявшая против его
дома, в котором он жил, оставалась невредимой. Сидя в
тюрьме, Андокид познакомился с одним заключенным по
тому же делу, которого звали Тимеем. Тимей убедил Ан-
докида сделать ложный донос на себя и некоторых своих
товарищей. "Тот, — говорил он, — кто сознается в
преступлении и выдаст сообщников, получит прощение; исход
суда неизвестен; народ страшно озлоблен против всех
противников демократии. Всех нас, вероятно, ждет смертный
приговор". "Лучше, — продолжал Тимей, — спасти свою
жизнь хотя бы ложью, пожертвовать немногими
подозрительными личностями, но спасти от народной ярости
многих честных граждан".
Убежденный доводами Тимея, Андокид сделал ложный
донос на себя и на других. Сам он спасся от наказания,
но те невинные, которых он оговорил, были казнены.
Раздражение народного собрания, однако, на этом не
прекратилось. Гнев народа обратился теперь на Алкивиа-
да. Кончилось тем, что за ним решили послать корабль "Са-
ламинию" и по прибытии немедленно судить.
Алкивиад мог бы не подчиниться и остаться во главе
всецело преданного ему флота и войска, но он предпочел
сдать командование; по дороге в Афины он бежал.
Алкивиад был заочно обвинен в осквернении герм и
оскорблении мистерий и приговорен к смертной казни. Его
имущество было конфисковано, и по решению суда
жрецы должны были проклясть его как изменника и
осквернителя святынь. Узнав о приговоре, Алкивиад вскричал:
"О, я докажу им, что я жив!"
Теперь надежда на возвращение на родину была
окончательно потеряна. Из страха, что его выдадут афинянам,
Алкивиад решился на измену. Он просил у спартанцев
защиты и убежища, обещая оказать им больше пользы как
друг, чем сделал вреда, будучи врагом. Спартанцы
согласились принять его, и Алкивиад в радостном настроении
приехал в Спарту.
Прежде всего он посоветовал спартанцам отправить
отряд на помощь сиракузянам, а затем занять и укрепить
важный пункт в Аттике — Декелею, откуда они могли
систематически опустошать страну. Этими советами Алкивиад
навлек страшные несчастья на свою родину.
693
Алкивиад приобрел расположение спартанцев
несмотря на то, что этот народ всегда относился с недоверием к
иностранцам. Стараясь подражать во всем спартанскому
образу жизни, он отпустил длинные волосы, купался в
холодной воде горных речек, ел знаменитую спартанскую
черную похлебку1. Спартанцы не верили, что этот человек
привык к изысканным кушаньям, что в Афинах он ходил
раздушенный, одетый в драгоценный плащ из милетской
ткани.
Алкивиад имел особый дар привлекать к себе людей
разных племен, приноравливаясь к их обычаям и образу
жизни. Он мог одинаково подражать и приспособляться как
к хорошему, так и к дурному. Так, в Спарте он занимался
гимнастическими упражнениями, был прост, серьезен,
немногословен; среди ионийцев в Малой Азии жил в
роскоши, искал развлечений; во Фракии напивался допьяна, по
обычаю фракийцев; в Фессалии увлекался верховой ездой;
при дворе сатрапа Тиссаферна жил так пышно и богато,
что удивлял даже персов, привыкших к роскоши. Все эти
внешние перемены были у Алкивиада лишь маской,
которую он надевал доя того, чтобы понравиться людям и
добиться от них желаемого.
Дружба Алкивиада со спартанцами продолжалась
недолго. Советы Алкивиада принесли пользу врагу. Спарта
добилась теперь перевеса. Сицилийская экспедиция
завершилась страшным поражением афинян, гибелью всего
флота и войска во главе со стратегами (см. биографию Никия).
Несмотря на неудачи, афиняне упорно продолжали войну.
Спартанцы поняли, что одними своими силами им не
удастся окончательно сломить афинскую военную мощь, и
обратились за помощью к персам. Персидский царь заключил
со Спартой договор, обещая помогать спартанцам деньгами
и военной силой. На персидские деньги спартанцы вели
войну, платили жалованье наемникам, построили большой флот,
который стал оспаривать у афинян господство на море.
Правительство Спарты теперь уже не нуждалось в
услугах Алкивиада. Один из царей, Агис, лично
оскорбленный Алкивиадом, стал заклятым его врагом. Многие
влиятельные и знатные спартанцы относились к нему с завистью
и недоверием. Тогда Алкивиад, подозревая, что спартанцы
1 См. выше биографию Ликурга.
694
хотят избавиться от него, задумал бежать от них. Скоро
представился и благоприятный случай для этого.
Алкивиад отплыл с эскадрой в Ионию на помощь хи-
осцам и склонил к отпадению от Афин почти все греческие
государства Ионии. В этот момент он узнал, что
спартанцы решили его убить.
Тогда он бежал к наместнику персидского царя,
сатрапу Тиссаферну. Это был хитрый, коварный человек и
заклятый враг всех греков. Сатрап любезно принял Алкиви-
ада, и скоро тот стал самым влиятельным лицом при его
дворе. Против удивительной привлекательности Алкивиа-
да никто не мог устоять.
Рассорившись со спартанцами, Алкивиад решил теперь
всячески вредить им. Он посоветовал Тиссаферну
уменьшить помощь спартанцам, чтобы постепенно обессилить обе
воюющие страны. "Так, — говорил он, — греки истребят
друг друга и в конце концов станут послушным орудием в
руках персидского царя."
Хитрый сатрап сообразил, что советы Алкивиада
пойдут на пользу Персии, и поступал во всем согласно его
указаниям.
Скоро и спартанцы и афиняне поняли, как много
зависит от Алкивиада, и старались опять привлечь его на свою
сторону.
Алкивиад прекрасно понимал, что афинянам не под силу
одновременная борьба с двумя такими могущественными
врагами, как Спарта и Персия. Поэтому он считал
единственным выходом для Афин сближение с Персией. Ему
представлялся теперь удобный случай примирить Афины с
персами и оказаться благодетелем родины.
Между тем в Афинах аристократы и богачи,
воспользовавшись отсутствием многих граждан, защитников
демократии, служивших во флоте матросами, решили
произвести государственный переворот.
Афинский флот стоял в это время у острова Самоса.
Несмотря на все несчастья, он все еще оставался грозной
силой. Однако афиняне опасались Тиссаферна, который
обещал привести на помощь спартанцам 150 финикийских1
триер: это дало бы Спарте перевес на море.
1 Финикия — страна на восточном берегу Средиземного моря (ныне —
Сирия и Ливан). Финикийцы славились как искусные мореходы и
кораблестроители.
695
Узнав об этом, Алкивиад тайно вступил в переговоры
со стратегами афинской эскадры у Самоса, которые
сочувствовали аристократам. Прикинувшись сторонником
аристократии, он обещал помирить их с Тиссаферном, "не из
желания угодить афинскому народу, а из любви к
аристократии, которая одна только может еще спасти гибнущее
государство".
Сторонники Алкивиада среди командиров афинской
эскадры тайно от матросов отправили в Афины одного из
своих товарищей. Он должен был посоветовать влиятельным
гражданам уничтожить демократию, обещая им за это от
имени Алкивиада дружбу и союз с Тиссаферном; они
надеялись, что спартанцы — сторонники
аристократического строя — охотнее пойдут на мир с ними, чем с
демократами. Так было установлено в Афинах господство 400
богатых и влиятельных граждан.
Когда об этом узнали матросы самосской эскадры,
горячие сторонники демократии, они в раздражении на
своих стратегов призвали Алкивиада и просили его стать во
главе флота и немедленно плыть к Пирею для
уничтожении тирании.
Однако Алкивиад считал, что если он отплывет к
Афинам, то неприятель немедленно завладеет Ионией,
берегами Геллеспонта и отрежет Афины от подвоза черноморского
хлеба; тогда война будет проиграна. Кроме того,
необходимо было помешать присоединению финикийской эскадры
к спартанскому флоту.
Алкивиад принял командование афинским флотом,
быстро вышел в море и уговорил Тиссаферна не
присоединять финикийскую эскадру к спартанскому флоту.
Вскоре правление "четырехсот" в Афинах пало.
Друзья Алкивиада деятельно помогали народной партии.
Афиняне звали Алкивиада теперь в город, но он решил
вернуться только победителем и спасителем родины.
Узнав, что афинский флот преследует спартанцев, он на
нескольких кораблях немедленно поплыл на помощь
соотечественникам и прибыл к Абидосу (на Геллеспонте) в
разгар сражения афинян со спартанцами. Спартанцы, одержав
победу, начали преследовать афинскую эскадру. Тогда
Алкивиад быстро напал на спартанцев и обратил их в бегство.
Афиняне отбили свои корабли, захваченные врагами, много
спартанских кораблей потопили и тридцать взяли в плен.
696
Упоенный своими успехами, Алкивиад отправился к
Тиссаферну, чтобы договориться с ним о помощи
афинянам. Но коварный сатрап приказал схватить его и бросить
в тюрьму в Сардах. Через месяц Алкивиаду удалось бежать
из тюрьмы и снова прибыть к афинскому войску.
Около города Кизика1 Алкивиад обнаружил спартанский
флот. 40 кораблей Алкивиада напали на спартанцев.
Корабли сцепились друг с другом, и закипел жаркий бой. В это
время появились главные силы афинян. Испуганные
спартанцы обратились в бегство, ища спасения на берегу.
Тогда Алкивиад высадил десант и вступил в бой с главными
силами спартанцев и персов, бывшими под начальством
спартанца Миндара и сатрапа Фарнабаза.
Афиняне одержали решительную победу; геройски
сражаясь, Миндар пал, а Фарнабаз обратился в бегство; все
неприятельские корабли были захвачены в плен.
Спартанский флот был целиком уничтожен; афиняне вернули себе
господство на море. Они захватили даже Кизик и
обеспечили подвоз хлеба через Геллеспонт.
В руки афинян попало по-лаконски краткое донесение
спартанцев о разгроме: "Корыта погибли. Миндар убит.
Люди голодают. Не знаем, что делать".
Теперь Алкивиад начал приводить к покорности
отпавших от Афин союзников. Вместе с афинским стратегом
Фрасиллом он разбил около Абидоса большое войско
сатрапа Фарнабаза и начал грабить его сатрапию. Затем он
осадил в городе Халкедоне2 спартанский гарнизон. На
помощь спартанцам подошел сатрап Фарнабаз. Алкивиад
разбил врагов; спартанский полководец пал в бою, а Фарна-
базу снова удалось бежать.
После этого Алкивиад двинулся против Византия и
осадил город. Распустив слух, что снимает осаду, он вышел в
море со всем флотом. Ночью же он возвратился и высадил
десант гоплитов; вся эскадра подошла в это время к
берегу; сторонники афинян в городе открыли ворота гавани.
В это время находившиеся в городе пелопоннесские, бе-
отийские и мегарские воины отбили нападение десанта и
заставили его отступить к кораблям, а затем напали на
афинян в самом городе. Однако в кровопролитном сражении
Алкивиад вновь одержал победу; Византии был взят.
1 Кизик — город во Фригии, в Малой Азии.
2 Халкедон — город в Вифинии (Малая Азия), у входа в Босфор.
697
Теперь Алкивиад с огромной добычей возвратился в
Афины после восьмилетнего изгнания как победитель и
спаситель родины. Он вел за собой много вражеских
кораблей, захваченных в боях. На его триерах были
выставлены кормовые украшения потопленных им неприятельских
кораблей.
Огромная толпа граждан встречала его с венками. С
приветственными криками отовсюду сбегался народ, чтобы
посмотреть на него; старики показывали его молодым.
Но радость граждан омрачалась печальными
воспоминаниями о пережитых несчастьях и неуверенностью в
будущем. Многие граждане думали теперь, что сицилийская
экспедиция не кончилась бы так печально, если бы во
главе ее стоял Алкивиад.
Когда собралось народное собрание, Алкивиад со
слезами говорил о своих несчастьях. Затем он постарался
вдохнуть в афинян надежду на окончательную победу над
врагами. Речь его произвела сильное впечатление, и народное
собрание избрало его стратегом с неограниченными
полномочиями для войны на суше и на море. Кроме того, его
увенчали золотым венком, вернули конфискованное
имущество и торжественно сняли проклятие, наложенное на
него как на изменника.
Алкивиад находился на вершине счастья. Народ
надеялся теперь только на него, считал его спасителем. Многие
сторонники Алкивиада убеждали его уничтожить народное
собрание, отстранить ораторов-болтунов, губящих
государство, и стать тираном. Тогда его противники —
аристократы — постарались как можно скорее удалить его из Афин.
С флотом из 100 триер Алкивиад отплыл из Афин и
напал на Андрос. Он разбил там андросцев и спартанский
отряд, но города взять не мог. Враги Алкивиада постарались
преувеличить эту незначительную неудачу. Народ же по-
прежнему верил в Алкивиада и считал, что для него нет
ничего невозможного. Ожидали немедленных великих
побед: покорения Хиоса и всей Ионии. Когда же узнали, что
дело подвигается не так скоро, как хотелось бы, то многие
стали выражать недовольство и обвинять Алкивиада в
небрежности.
Алкивиад между тем не имел средств для выплаты
жалованья своим матросам. Ему часто приходилось оставлять
698
войско и флот и надолго уезжать для добывания денег и
продовольствия.
Во время одной из таких экспедиций Алкивиад
направился к берегам Карий. Командование флотом он поручил
стратегу Антиоху. Это был отличный моряк, но человек
заносчивый и недалекий. У Нотия1 он встретил весь
спартанский флот под начальством Лисандра и, несмотря на
приказание Алкивиада уклоняться от сражения, вступил в бой,
потерпел решительное поражение и сам погиб.
Получив известие о несчастье, Алкивиад возвратился на
остров Самос (где стоял весь афинский флот). Он снялся с
якоря и повел корабли против спартанцев. Однако Лисандр
уклонился от боя, зная военное искусство Алкивиада.
В это время служил в афинском флоте некто Фрасибул,
личный враг Алкивиада. После поражения при Нотии
Фрасибул отправился в Афины. Там он стал возбуждать
народное собрание против Алкивиада. Он говорил, что Алкивиад
виновен в поражении потому, что передал начальство над
флотом людям бездарным, а сам разъезжает, собирая
деньги, и весело проводит время, когда враг у него за спиной.
Народное собрание поверило этим и другим
обвинениям и в знак недоверия к Алкивиаду выбрало других
стратегов.
Алкивиад узнал об этом решении народного собрания,
когда находился во Фракии для сбора денег. Он испугался
и прекратил всякую связь с афинским флотом. Затем,
набрав отряд наемников, он повел войну с фракийскими
племенами на свой страх и риск.
Между тем сменившие Алкивиада стратеги собрали весь
афинский флот и стали на якоре в Геллеспонте у Эгоспо-
тамов. На рассвете афиняне обыкновенно приближались к
эскадре Лисандра, стоявшей на якоре на другом берегу
пролива у Лампсака. Афиняне вызывали врагов на бой, а
затем возвращались обратно в полном беспорядке.
Эти действия афинского флота заметил Алкивиад,
который случайно находился поблизости. Он подъехал
однажды верхом к стратегам, заметил им, что они выбрали
невыгодную позицию, и советовал перевести флот в другое
место. Он говорил им далее, что они напрасно разрешают
матросам надолго покидать корабли и даже вытаскивают
1 Нотий — город в Малой Азии, недалеко от Эфеса.
699
свои корабли на виду у неприятеля на берег. В ответ на
эти слова Алкивиада один из стратегов грубо приказал ему
удалиться и не соваться не в свое дело.
Вскоре события доказали, что Алкивиад был прав: Ли-
сандр неожиданно напал на афинский флот и полностью
уничтожил его. Только 8 кораблей под начальством Коно-
на успели спастись. У афинян не осталось больше флота,
дальнейшая борьба была безнадежна, и вскоре затем
Афины признали свое поражение и сдались.
Теперь спартанцы господствовали на суше и на море.
Из страха перед ними Алкивиад переехал в Вифинию1, а
затем, решил отправиться к персидскому царю
Артаксерксу. По пути он остановился во Фригии у сатрапа Фарна-
база и жил у него в почете и уважении.
Афиняне между тем переживали страшные несчастья,
позор и унижение. Теперь, когда все погибло, народ со
слезами вспоминал о своих ошибках. Самой ужасной своей
ошибкой афиняне считали, что из-за незначительной
неудачи они лишили государство самого хитрого и даровитого
вождя. Но все же многие думали, что, пока жив
Алкивиад, для Афин есть еще надежда на спасение.
Спартанцы, однако, не оставляли Алкивиада в покое в
его изгнании. Точно не известно, как погиб Алкивиад.
Одни рассказывают, что Лисандр отправил к Фарнабазу
посланца с просьбой убить Алкивиада. Фарнабаз послал убийц
в фракийскую деревушку, где жил Алкивиад. Убийцы
подожгли дом, и, когда Алкивиад выскочил из пламени, они
пронзили его стрелами.
Другие говорят, что Алкивиад был убит народом по
наущению Фарнабаза.
Гробница его находилась в местечке Мелиссе (в
Малой Азии, во Фригии). Римский император Адриан
приказал впоследствии поставить на могиле мраморную статую.
1 Вифиния — область в Малой Азии.
ЛИСАНДР
(умер в 395 г. до н. э.)
К знатному спартанскому роду Гераклидов
принадлежало немало обедневших семей. Отец Лисандра, выходец из
этого рода, был человеком бедным. Он дал сыну строгое
спартанское воспитание и приучил его благородно и с
достоинством переносить бедность.
Молодой Лисандр выделялся железной волей, умом,
блестящими способностями и исключительным
честолюбием. Рано появились у него и дурные стороны характера:
лицемерие и хитрость. Он мог льстить и ухаживать за
людьми высокого положения; был готов выносить любые
обиды и оскорбления, если это выгодно.
Родина Лисандра, Спарта, уже много лет вела упорную
войну с Афинской державой за господство в Греции. Не-
701
смотря на тяжкие потери с обеих сторон, ни один из
противников не мог одержать решительной победы. После
роковой экспедиции в Сицилию (415—413) и гибели всего
флота и войска афиняне выстроили новый флот. Война
продолжалась. Морское могущество Афин не было сокрушено.
Спартанские эфоры, чтобы добиться победы над
афинянами, обратились за помощью к персам. Персидский царь
дал спартанцам большие суммы денег на содержание
войска и постройку флота.
Лисандр проявил себя даровитым военачальником и
ловким дипломатом. Ему поручили командовать флотом и,
самое главное, вести переговоры с персами о денежной
помощи.
Сделавшись командующим флотом, Лисандр составил
план войны, который заключался в том, чтобы уклоняться
от сражений с противником, если тот имеет перевес, и
нападать всегда с превосходящими силами.
Прежде всего Лисандр направился с эскадрой к
Эфесу. Переговоры с персами завершились блестящим
успехом: он получил от наместника Лидии, Кира Младшего1,
огромные денежные суммы, и даже сам собирал от имени
Кира подати с малоазийского населения. На эти деньги
Лисандр немедленно повысил вдвое жалованье матросам
своего флота. Затем он объявил, что если афинские матросы-
наемники перейдут к нему на службу, то они получат
столько же. Как раз в это время у афинян произошла задержка
с уплатой жалованья матросам. Афинские
матросы-наемники стали массами перебегать к Лисандру, и в короткое
время афинский флот остался почти без гребцов.
Афинский адмирал Антиох, вопреки приказанию Алки-
виада, неосторожно выступил с частью флота в бой, и
Лисандр нанес ему решительное поражение при Нотии (407 г.
до н. э.). Вину за поражение афинское народное собрание
возложило на Алкивиада, и он был вынужден уйти в
изгнание.
Так Лисандр избавился от самого талантливого и
опасного врага.
Лисандр собрал в Эфесе представителей
аристократических кругов из союзных греческих и малоазийских го-
1 Кир Младший — брат персидского царя, впоследствии поднявший
против него восстание.
702
родов. Он щедро раздавал аристократам деньги для
организации тайных союзов, которые должны были подготовить
свержение демократии. Этим он приобрел расположение
и преданность аристократов.
Между тем срок командования Лисандра истек, и на
его место был прислан из Спарты другой командующий,
Калликратид.
Это был человек недалекий, бесхитростный и прямой.
Лисандр был раздосадован назначением Калликратида и
стал чинить ему всевозможные препятствия. Так, он
отослал остаток денег Киру Младшему и затем предложил Кал-
ликратиду самому выпрашивать деньги у Кира или
добывать их другими средствами. Матросы, начальники и
союзники были также недовольны сменой командования.
Калликратид попал в затруднительное положение.
Гордый спартанец считал унизительным для себя вымаливать
деньги у персов. Среди матросов возникли волнения:
денег, чтобы платить им жалованье, не было. Тогда
командующему пришлось скрепя сердце отправиться в Сарды, к
Киру Младшему.
По прибытии во дворец Кира Калликратид приказал
доложить, что он, спартанец Калликратид, желает видеть
наместника. Один из придворных сказал ему: "Сейчас Кир
занят; он теперь пьет; тебе придется подождать".
Калликратид ответил: "Хорошо, я подожду, пока он пьет".
Персы-придворные стали смеяться над ним, и рассерженный
Калликратид ушел.
На следующий день он вторично явился к Киру и опять
не мог добиться приема. Тогда, поняв, что Кир издевается
над ним, взбешенный Калликратид возвратился в Эфес,
проклиная своих сограждан (и в первую очередь Лисандра),
которые стали низкопоклонничать перед "варварами" и
приучили их нагло относиться к грекам.
Он поклялся, что по возвращении в Спарту приложит
все усилия, чтобы прекратить братоубийственную войну.
"Тогда, — говорил он, — греки снова будут, как некогда,
страшны варварам и больше на станут у них выпрашивать
подачки для взаимного уничтожения".
Вскоре затем Калликратид был разбит афинянами в
морском сражении при Аргинусских островах и сам погиб в
бою.
Тогда союзники спартанцев вместе с Киром Младшим
703
отправили в Спарту послов с просьбой вновь поставить во
главе флота Лисандра.
Однако простые матросы, хотя и были довольны
щедростью Лисандра, не одобряли его способа ведения
войны. Они упрекали Лисандра, говоря, что знатному
спартанцу, потомку Геракла1, не подобает воевать с помощью
хитрости. В ответ на это Лисандр говорил, смеясь: "Куда
не пролезет львиная шкура, там надо подшить лисью", то
есть там, где не помогает сила, нужно применить
хитрость.
Спартанские эфоры в угоду Киру Младшему и
союзникам согласились снова назначить Лисандра командующим
флотом (чтобы обойти закон, запрещавший два раза
подряд назначать одно и то же лицо на высшую должность,
командующим назначили некоего Арака, на деле же
командовал Лисандр).
Получив снова власть, Лисандр начал уничтожать
демократический строй во всех союзных государствах и
ставить там у власти аристократию. Однако он не везде и не
всегда действовал насилием и угрозами, чаще же всего
применял хитрость и притворство.
Так, в Милете происходила ожесточенная борьба народа
с аристократами. Лисандр помог аристократам уничтожить
демократию и изгнать своих противников. Затем
аристократы вновь примирились с демократами, тогда он открыто
высказал радость по поводу примирения, втайне относясь к
аристократам насмешливо. Побудив аристократов к
новому восстанию, он вошел с войском в город и стал
лицемерно укорять мятежников за распри и даже обещал их
покарать. А между тем он тайно одобрял убийства
демократов.
Лисандр не скупился на обещания и клятвы, но
никогда не считал себя связанным ими. "Детей, — говорил он, —
можно обманывать игрушками, а взрослых — клятвами".
Таков был Лисандр — хитрый, бессовестный и
двуличный человек.
Кир Младший пригласил Лисандра в Сарды. Он
обещал ему денежную помощь и флот. Кир поручил ему
даже сбор дани и управление греческими малоазийскими
городами в свое отсутствие.
1 Спартанская знать считала своим предком знаменитого сказочного
героя Геракла, сына верховного бога греков Зевса.
704
Спартанский командир теперь щедро расплатился с
матросами и возвратился с эскадрой в Геллеспонт. Здесь он
приступом взял город Лампсак.
Афинская эскадра в составе ста восьмидесяти триер
стояла на якоре у Херсонеса Фракийского. Узнав о взятии
Лампсака, афиняне двинулись к Эгоспотамам и
остановились напротив Лампсака на виду у спартанского флота.
Афинским флотом командовали несколько стратегов и
между ними Филокл. Этот Филокл прославился тем, что внес
в народное собрание постановление отрубать каждому
пленному спартанцу большой палец на правой руке, чтобы
лишить его возможности владеть копьем и мечом.
Весь этот день на кораблях враждебных эскадр никто
не думал об отдыхе: все готовились на завтра к
решительному сражению; афиняне понимали, что для них
поражение будет равносильно гибели родины, и поэтому решились
победить или умереть.
Однако Лисандр не захотел принять открытого боя, а
задумал хитрость. Он приказал матросам и кормчим быть
наготове, чтобы с рассветом начать сражение, а
сухопутному войску оставаться на берегу.
На следующий день с восходом солнца афинский флот
в полном боевом порядке выступил против спартанцев. Тем
не менее Лисандр не принял вызова; он отдал приказ
передовым кораблям сохранять спокойствие и не вступать в
бой. Вечером афиняне отступили и их матросы сошли на
берег; Лисандр также позволил своим матросам
высадиться на берег.
Следующие четыре дня афиняне продолжали свои
попытки вызвать Лисандра на открытый бой, но
безуспешно. На пятый день афиняне стали выполнять свое обычное
движение — высадку на берег и посадку утром на
корабли уже с явным пренебрежением к неприятелю, решив, что
он не осмелится на них напасть. Тогда Лисандр отдал с
адмиральского корабля приказ атаковать врага
одновременно с суши и с моря.
Флот спартанцев быстро двинулся к
противоположному берегу пролива (ширина его здесь около 2 километров),
а сухопутное войско постепенно заняло господствующую
над берегом позицию. Один из афинских стратегов, завидя
с берега приближающийся флот неприятеля, приказал
матросам немедленно садиться на корабли. Но все экипажи
705
23 532
кораблей разбрелись по берегу; кто мирно спал в
палатках, кто готовил ужин.
Из-за преступной небрежности стратегов никто из
афинян не ожидал нападения; как стратеги, так и простые
матросы думали, что Лисандр не отважится на нападение. Часть
афинских кораблей была даже вытащена на берег. Битва
продолжалась менее часа. За это время Лисандр уничтожил
весь афинский флот. Только восемь триер под начальством
Конона успели спастись и ушли к острову Кипр.
В результате этого сражения афинское морское
могущество было окончательно сломлено: у Афин теперь
больше не было ни флота, ни денег, ни матросов. Всего было
взято в плен 3000 матросов вместе со стратегами. Лисандр
посадил пленников на корабли и отплыл назад к Лампсаку.
Спартанское правительство и совет союзников решили
казнить всех пленных афинян. Лисандр призвал к себе
пленного стратега Филокла и спросил его: какого
наказания заслуживает он, внесший в афинское народное
собрание постановление отрубать всем спартанским пленникам
большой палец правой руки? Филокл, которого не
сломило несчастье, ответил Лисандру: "Поскорее казни пленных:
ведь такая же участь постигла бы тебя, если бы мы
победили", — и первый пошел на смерть.
После казни пленников Лисандр стал объезжать
прибрежные города, всюду уничтожая демократию,
устанавливал аристократическое правление во главе со спартанским
правителем. Немедленно начались казни и изгнания
сторонников демократии.
Чтобы поскорее захватить Афины, Лисандр задумал
хитрость. Он объявил, что все афиняне, застигнутые вне
города, будут немедленно казнены. Он рассчитывал, что
наплыв жителей в Афины вызовет там голод и город не
сможет выдержать долгой осады.
Расчет Лисандра оправдался: в Афинах вскоре
наступила крайняя нужда. Тогда он отплыл с эскадрой к Пирею
и потребовал сдачи города.
Побежденным пришлось принять тяжкие и позорные
условия спартанцев. Афиняне должны были разрушить свою
гавань Пирей и Длинные стены, вернуть изгнанных
аристократов. Афинский морской союз уничтожался, гордые
Афины потеряли все заморские владения. У афинян остались
только Аттика и остров Саламин.
706
Лисандр, захватив оставшиеся корабли афинян
(побежденным оставили только двенадцать небольших судов),
вступил в город в годовщину великой победы афинян над
персами при Саламине. Это было в 404 г. до н. э.
Спартанцы немедленно уничтожили в Афинах
демократию и установили здесь правление из 30 человек (их
называли тридцатью тиранами) — ярых противников народа.
Новое правительство опиралось на спартанский гарнизон,
стоявший в Афинах.
Афиняне еще не успели срыть Длинные стены, и
Лисандр созвал совет союзников, чтобы решить вопрос о
наказании афинян за невыполнение условий сдачи города.
Среди союзников раздавались голоса, требовавшие
совершенно разрушить Афины. Иные предлагали даже срыть
город до основания, жителей продать в рабство, а на месте
Афин устроить пастбище для скота.
Однако спартанцы не решились уничтожить великий
город. Чтобы унизить афинян, Лисандр приказал срыть
Длинные стены, что и было исполнено под звуки флейт, при
рукоплесканиях и криках радости собравшихся спартанских
союзников. Остатки афинского флота были сожжены.
В Афинах начались насилия, преследования, казни
сторонников демократии. Афинский народ, испытав все
оскорбления и унижения, однако не пал духом; он затаил обиду
и вскоре вновь восстал против спартанцев и их
ставленников — тридцати тиранов.
Лисандр отплыл с флотом во Фракию. Всю военную
добычу и деньги в мешках он отправил в Спарту через
одного из своих помощников — Гилиппа. Тот, ранее
одержавший великие победы над афинянами в Сицилии и человек,
всеми уважаемый, не мог, однако, устоять перед силой
денег и совершил позорный поступок. Он решил присвоить
часть денег. Для этого он велел распороть мешки и вынуть
из каждого большую сумму денег. Он не знал, что в
каждом мешке находилась опись содержимого. По прибытии в
Спарту Гилипп спрятал деньги под черепицей крыши
своего дома. Эфоры вскрыли мешки и нашли печати
нетронутыми, но обнаружили в каждом огромную недостачу.
Были допрошены слуги Гилиппа, и один из них заявил,
что у Гилиппа в "черепичнике" живет множество сов;
этим он хотел сказать, что под черепичной крышей дома
Гилиппа спрятаны афинские монеты, на которых чекани-
707
23*
лось изображение государственного герба — совы богини
Афины. Произведенный обыск обнаружил деньги,
украденные и спрятанные Гилиппом.
Преступление Гилиппа произвело сильное впечатление
на спартанцев. Вновь было запрещено обращение
серебряной и золотой монеты, граждане должны были
пользоваться лишь тяжелой железной монетой, чтобы
затруднить накопление больших сумм в руках отдельных
граждан. Другой закон разрешал тратить деньги, привезенные
Лисандром, только на нужды государства и грозил
смертной казнью всем, у кого они будут найдены.
Однако все эти меры не могли прекратить
распространения роскоши и богатства в Спарте. Влиятельные
граждане не считались с запретами и скопили в своих руках
большие богатства. Сам Лисандр, говорят, не
воспользовался ничем из привезенных им огромных сокровищ.
Лисандр с помощью поставленных им в большинстве
греческих городов правителей (гармостов) стал владыкой
Греции. Низкопоклонники, льстецы и всяческие
проходимцы объявили его богом-спасителем и приносили ему
жертвы как божеству.
Теперь в полной мере проявились страшные черты его
характера: неумолимая, холодная жестокость и вероломство.
Он лично присутствовал при казнях своих
врагов-демократов. В большом городе Милете он поклялся не творить
беззаконий и обещал сохранить жизнь всем демократам, если
те выйдут из убежища. Когда же, поверив его обещанию,
они вышли, он приказал казнить 800 человек. Жителей
некоторых городов Лисандр просто изгонял, отдавая их
земли и имущество своим сторонникам.
Клевета и доносы царили повсюду, корыстолюбие
спартанских гармостов вскоре достигло чудовищных размеров
и возбудило против спартанцев всеобщую ненависть. Имя
спартанца стало в Греции обозначать насильника, убийцу,
тирана.
Лисандр совершенно перестал считаться даже со
своими союзниками-персами: он грабил и опустошал владения
персидских сатрапов; его ближайшие помощники
захватили огромные богатства.
Со всех сторон в Спарту стекались жалобы на
грабежи, насилия и беззакония Лисандра. Но эфоры не
обращали на это никакого внимания.
708
Наконец, поведение Лисандра показалось опасным и
самим эфорам: в его руках была сосредоточена вся военная
сила, и он мог в любой момент захватить власть и сделаться
тираном. Было решено отозвать Лисандра в Спарту.
Поводом для отозвания послужила жалоба
персидского сатрапа Фарнабаза, владения которого Лисандр
опустошал и грабил. Эфоры послали Лисандру скиталу1 с
приказанием немедленно вернуться на родину.
Получив приказ и опасаясь последствий жалоб
сатрапа Фарнабаза, Лисандр немедленно отправился к нему в
надежде устранить недоразумения путем переговоров. При
свидании Лисандр просил сатрапа написать эфорам другое
письмо и взять обратно все свои жалобы против него.
Однако хитрый и коварный перс обманул опытного хитреца
Лисандра. Фарнабаз любезно принял Лисандра и в его
присутствии написал эфорам письмо, какое хотел спартанец.
Но, запечатывая письмо и передавая его Лисандру, ловкий
сатрап ухитрился подменить его другим, заранее
заготовленным и совсем иного содержания.
По прибытии в Спарту Лисандр отправился к эфорам
и передал письмо Фарнабаза в уверенности, что там
содержится полное оправдание его от всех обвинений. Эфоры
прочитали письмо, и Лисандр понял, что его на этот раз
обманули.
Через несколько дней Лисандр покинул Спарту будто
бы затем, чтобы принести жертвы в храме Зевса-Аммона2.
Эфоры не осмелились задержать полководца и потребовать
от него отчета.
1 Скиталой у спартанцев называлась круглая палочка, разделенная на
две половины; одну половину эфоры вручали полководцу,
отправлявшемуся в поход, а другую оставляли себе. Желая передать
какие-нибудь приказания полководцу, эфоры брали полоску папируса и плотно
обертывали ею скиталу так, чтобы края полоски сходились. Затем на
обернутой вокруг скиталы полоске писали приказ, а потом посылали
его полководцу. Получив полоску папируса без палочки, полководец
брал свою скиталу, обертывал вокруг нее папирус и таким образом
читал приказ.
2 Аммон — одно из главных божеств древних египтян. Когда поездки
греков в Египет стали частым явлением, многие элементы египетской
религии были заимствованы греками, и, наоборот, египтяне переняли
некоторые древнегреческие религиозные обряды. На бога Аммона
были перенесены черты верховного божества греков Зевса. Храм Зевса-
Аммона находился в Египте.
709
Спартанские цари тогда воспользовались отъездом
Лисандра, чтобы подорвать его влияние. Они смотрели сквозь
пальцы на восстание Афин против тридцати тиранов,
изгнание тиранов и восстановление там демократии.
После возвращения Лисандр немедленно выступил в
поход, чтобы усмирить афинян; но один из царей, Павсаний,
поехавший вместе с Лисандром, признал за афинянами право
выбирать себе правителей и не позволил подавить восстание.
Лисандр должен был вернуться в Спарту ни с чем.
Эфоры тем не менее стали на сторону Лисандра против царя
Павсания, но было уже поздно: силой теперь нельзя было
навязать афинянам ненавистных правителей.
Однако могущество Лисандра не было еще окончательно
подорвано: он продолжал самовластно распоряжаться во
многих греческих государствах, опираясь по-прежнему на
силу. Так, например, аргосцы, у которых Лисандр
захватил землю, пришли к нему с жалобой. Лисандр, указывая
на свой меч, сказал: "Лучше всего рассуждает о границах
тот, у кого меч".
Между тем в Спарте умер старый царь Агис. Лисандр,
пользуясь своим влиянием, провозгласил царем Агесилая,
не имевшего законных прав на престол. Лисандр
рассчитывал сделать Агесилая своим послушным орудием. Он
добился назначения Агесилая командующим спартанской
армией в войне против Персии, так как был уверен, что
будет командовать сам и распоряжаться всем на войне, как
это было уже раньше во время борьбы с Афинами.
Но Лисандру пришлось разочароваться в надеждах на
нового царя Агесилая. Тот был столь же честолюбив, как
и Лисандр, и не терпел никаких соперников. Царь взял с
собой Лисандра в поход в качестве советника и сначала
окружил его почетом и уважением.
Малоазийские греки, знавшие ранее Лисандра и
привыкшие видеть его главнокомандующим, стали по всем
делам обращаться к нему, помимо Агесилая. Тогда Агесилай
решил отстранить Лисандра от всех важных дел и твердо
взять власть в свои руки. В насмешку над Лисандром
Агесилай поручил ему раздачу мяса союзникам. "Пусть эти
люди теперь ухаживают за моим раздатчиком мяса", —
сказал царь об ионийских греках, которые оказывали почет
Лисандру.
Тогда Лисандр решил объясниться с Агесилаем, и меж-
710
ду ними произошел краткий разговор. "Ты, Агесилай, —
сказал Лисандр, — недурно умеешь унижать своих
друзей". "Да, — ответил Агесилай, — когда они хотят стать
выше меня; тому же, который способствует усилению
моего могущества, я всегда готов предоставить его долю".
Затем Агесилай дал Лисандру незначительное поручение на
Геллеспонте и в течение всей войны не возлагал на него
больше никаких обязанностей.
Лисандр возвратился в Спарту в сильном раздражении
и обиде против Агесилая и эфоров. Он полагал, что его
заслуги как великого полководца, сделавшего так много для
Спарты, недостаточно оценены.
В таком настроении Лисандр решил выполнить давно
задуманный им план и стать царем Спарты. Он
предполагал провести в народном собрании закон о лишении
власти законных царей и сделать новых царей выборными.
Тогда, думал он, спартанцы изберут его царем, как самого
могущественного и великого человека в Спарте.
Чтобы повлиять на суеверных спартанцев, Лисандр стал
распространять всевозможные пророчества, в которых
говорилось о нем как о спасителе Спарты и всей Греции; он
пытался даже привлечь на свою сторону дельфийский
оракул, чтобы получить нужные ему предсказания. Неудачная
попытка подкупить жрецов-прорицателей оракула Зевса-Ам-
мона в Египте привела к тому, что жрецы направили в
Спарту послов с разоблачением недостойных действий Ли-
сандра. Его привлекли к суду, но судьи не решались
обвинить прославленного полководца, и он был оправдан.
А тем временем измученные спартанским господством
греческие государства стали подниматься на борьбу за
независимость. После Афин, свергнувших своих тридцать
тиранов, против Спарты выступили Фивы. Став во главе
направленного против фиванцев войска, Лисандр
направился с большим войском в Беотию через область Фокиду и
назначил царю Павсанию, который шел к нему на помощь,
Естречу у города Галиарта. Но, подойдя к городу, он не
нашел там Павсания и поэтому не решился на штурм.
Посланец Лисандра, направленный к Павсанию, попал в
руки фиванцев, и те приняли меры для защиты города.
Подождав некоторое время Павсания, Лисандр решил
дать сражение врагам. Построив свое войско, Лисандр
лично повел его на приступ. Фиванцы дали Лисандру прибли-
711
зиться к стенам, а затем, внезапно открыв городские
ворота, произвели вылазку.
В схватке Лисандр был убит. Осаждающие спартанцы
после гибели командира хотели отступить, но в этот
момент с тыла на них напали новые отряды фиванцев.
Спартанцы оказались атакованными сразу с двух сторон и
потерпели полное поражение.
Узнав о несчастье, Павсаний поспешил к Галиарту, но,
встретив там объединенные силы фиванцев и афинян, не
решился вступить в неравный бой. Тогда Павсаний
предложил врагам перемирие для погребения мертвых и
отступил.
Такова была жизнь Лисандра, наделенного от природы
выдающимися способностями, но применявшего их не для
славы родины, а для своих личных и корыстных целей.
Похоронили Лисандра на границе с Беотией, на земле,
дружественной спартанцам. В Спарте воздали ему почести,
как великому полководцу.
АГЕСИЛАЙ
(около 444—360 гг. до н. э.)
Архидам, царь спартанцев, оставил двоих сыновей: Ага-
са и Агесилая. Наследником престола был старший сын
Агис, который и стал царем после смерти отца.
Агесилай родился около 444 г. до н. э.; он получил
суровое спартанское воспитание.
Уже в детстве Агесилай проявил большие способности,
рвение и честолюбие; он отличался удивительной
настойчивостью, с охотой выполняя приказания старших, и
никогда не уклонялся от тяжелых поручений. Агесилай был
всегда весел и приветлив со всеми; к своим недостаткам —
природной хромоте, маленькому росту и невзрачной
внешности — он относился с добродушной шутливостью.
Талантливый юноша обратил на себя внимание знаме-
713
нитого полководца и самого влиятельного человека в
Спарте — Лисандра.
После смерти царя Агиса Лисандр предложил возвести
на престол Агесилая, устранив сына покойного царя,
прямого наследника. Лисандр полагал, что Агесилай станет
игрушкой в его руках и будет царем только по имени.
Уважая Агесилая, многие граждане, знавшие его еще
с детства, также оказали ему поддержку. Однако
неожиданно против выступил один жрец-прорицатель. Он заявил,
что противное обычаю избрание в цари хромого калеки
грозит Спарте великими бедствиями, и привел такое
старинное прорицание:
Гордая Спарта! Хотя у тебя и здоровые ноги, ты бойся!
Царство хромое взрастишь у себя на престоле.
Долго ты будешь тогда изнывать от нежданной болезни.
Долго ты будешь носиться по волнам убийственной
брани.
Однако, несмотря на это грозное предсказание,
Агесилай при поддержке Лисандра был провозглашен царем.
Цари в Спарте были только исполнителями воли
эфоров и геронтов. Эфоры распоряжались и отдавали
приказания им, как простым полководцам. Отношения между
царями и эфорами часто были враждебными.
Когда Агесилай стал царем, он, вместо того чтобы
ссориться с эфорами и геронтами, решил приобрести их
расположение. Новый царь старался показать и тем и другим
свое уважение: вставал, когда те входили в комнату;
когда их избирали на должность, он посылал им в подарок
плащ и быка. С простыми гражданами он был любезен и
обходителен: всегда готов был прийти на помощь не
только друзьям, но и недругам. Вскоре Агесилай достиг такого
слияния, что эфоры из опасения его возросшего
могущества присудили царя даже к штрафу.
В первое время царствования Агесилай во всем
подчинялся Лисандру. Он добился с помощью Лисандра
назначения себя командующим в войне против Персии. Из
жизнеописания Лисандра мы знаем, как ловко Агесилай в
Малой Азии сумел отделаться от опеки Лисандра.
Агесилай стал единоличным начальником и во главе
восьмитысячного войска начал войну с сатрапом
персидского царя Тиссаферном. В этой войне впервые
обнаружились блестящие полководческие способности Агесилая.
714
Царь спартанцев обманул персов: он сделал вид, что
намерен вторгнуться в область Карию; подождав затем, пока
персы сосредоточат там свои силы, он неожиданно напал
на другую область — Фригию, занял несколько городов и
захватил богатую добычу.
Узнав, что спартанцы с большими подкреплениями идут
в Лидию, Тиссаферн повернул им навстречу. На равнине
около лидийской столицы Сарды произошло сражение.
Агесилай одержал решительную победу. Персидский царь в
наказание за неудачу велел казнить Тиссаферна.
Затем персидский царь послал к Агесилаю одного из
своих приближенных, чтобы подкупом склонить
спартанцев к миру. Агесилай ответил, что заключение мира
зависит от решения народа и правительства Спарты. "У
греков, — заявил он, — считается прекрасным брать у врага
не подарки, а добычу".
Агесилаю удалось заключить союз с пафлагонским
царем и получить от него подкрепление в 3000 воинов. Теперь
в распоряжении Агесилая находились значительные силы;
с ними он вступил во Фригию, область сатрапа Фарнабаза.
Фарнабаз не осмелился сопротивляться. Он бежал,
захватив огромные сокровища. Через некоторое время греки
и пафлагонцы, предводительствуемые спартанским
начальником, настигли Фарнабаза и овладели его лагерем и
сокровищами (сам Фарнабаз бежал). Тут между
союзниками и произошла ссора из-за дележа добычи. Пафлагонцы
покинули спартанцев и возвратились на родину.
Шел уже второй год военных действий Агесилая в
Малой Азии. Завоеванные спартанцами города начали
отпадать от них, но Агесилай восстановил везде власть
спартанцев без насилий и казней.
Слава его как полководца и молва о его скромном
образе жизни распространилась по всем персидским
владениям в Малой Азии. Агесилай спал на жесткой походной
постели, как простой воин, стойко переносил жару, холод
и все неудобства походной жизни. Малоазийские греки с
удовольствием наблюдали, как высокомерные персидские
сатрапы в своих роскошных одеждах преклоняются перед
человеком в скромном плаще простого воина.
Агесилай думал уже нанести удар в самое сердце
Персидской державы, как вдруг к нему прибыл приказ эфоров
немедленно возвратиться на родину.
715
Персы не рассчитывали одолеть спартанцев в открытом
бою. Царь и сатрапы избрали другой путь борьбы —
решили поразить Агесилая в самой Греции — и побуждали
афинян и фиванцев к восстанию против Спарты.
Огромные денежные суммы, полученные от персов,
пошли на восстановление Длинных стен в Афинах и на
снаряжение афинской и фиванской армий.
Наконец, разразилась война фиванцев и афинян против
Спарты. Персия была спасена. Агесилаю пришлось для
защиты родины посадить свое войско на корабли и отплыть
в Грецию.
Покидая Малую Азию, Агесилай сказал, что его
изгоняют оттуда 10000 стрелков персидского царя. (На
персидских золотых монетах чеканилось изображение стрелка из
лука.) Этими словами Агесилай хотел сказать, что победу
над Спартой одержало персидское золото.
Во главе спартанского войска в Греции находился Ли-
сандр, но он вскоре погиб в Беотии, и союзники стали
одерживать верх.
Между тем Агесилай поспешно переправился через
Геллеспонт и вступил во Фракию. Местные племена в
большинстве случаев встречали его дружелюбно, только послы
маленького племени траллов потребовали у него за пропуск
через свои владения 100 талантов серебра. Агесилай
ответил траллам войной и разгромил их.
При проходе через Македонию Агесилай послал
спросить македонского царя, пропустит ли тот спартанское
войско. Царь ответил, что подумает. "Пусть же думает, —
сказал Агесилай, — а мы пойдем вперед!"
Так как фессалийцы находились в союзе с врагами
Спарты, Агесилай стал опустошать их страну. Затем он
направил послов с предложением дружбы жителям фесса-
лийского города Ларисы. Однако те бросили его послов в
тюрьму. Разгневанные спартанские воины потребовали,
чтобы Агесилай осадил Ларису, но он добился
освобождения послов и быстро двинулся дальше.
В пути было получено известие о кровопролитном
сражении около Коринфа спартанцев с фиванцами и
афинянами. Спартанцы одержали победу, но много воинов с обеих
сторон пало. Агесилай глубоко скорбел о том, что греки
вновь начали братоубийственную войну вместо того,
чтобы общими силами дать отпор чужеземцам — персам. Об-
716
ратившись к своим воинам, он с горечью воскликнул:
"Горе тебе, Эллада! Собственными руками ты погубила
столько храбрых своих сыновей, которые, если бы остались
живы, могли бы, объединившись, победить всех варваров,
вместе взятых!"
По приказанию эфоров Агесилай присоединил к
своему войску несколько отрядов из-под Коринфа и вступил в
Беотию. Здесь его ждала страшная весть о полном
разгроме спартанского флота при Книде (394 г. до н. э.).
Талантливый афинский стратег Конон спасся после
гибели афинского флота у Эгоспотамов и отправился
сначала на остров Кипр, а потом в персидские владения. На
персидские деньги Конон снарядил большой флот. При Книде
Конон отомстил за позорную гибель флота у Эгоспотамов.
Агесилаю предстояло вскоре дать решительное
сражение беотийцам. Чтобы воины не пали духом, он скрыл от
них печальную весть о поражении. Перед битвой он
объявил, что спартанский флот одержал блестящую победу. Он
вышел к воинам с радостным лицом, в праздничной
одежде, увенчанный венком, как победитель, и велел принести
благодарственную жертву богам. Такими мерами он хотел
поднять боевой дух своего войска.
Затем он смело напал на соединенные силы фиванцев
и аргосцев при Коронее. Битва была упорной и
кровопролитной; обе стороны сражались героически, но никому не
удалось добиться решительного успеха. Силы спартанцев
уже истощились, и поэтому пришлось заключить с фиван-
цами перемирие.
Сам Агесилай сражался, как простой воин, и получил
несколько тяжелых ран. Его перенесли на носилках в Дель-
фы, где находилось святилище и оракул Аполлона.
Агесилай посвятил богу десятую часть персидской добычи и
затем возвратился в Спарту.
Многие спартанские полководцы, побывав в чужих
краях, не желали уже вести прежнюю скромную жизнь. Они
присваивали военную добычу, отказывались от суровых
спартанских обычаев, жили в праздности. Но Агесилай с
уважением относился к стародавним обычаям своей
родины: его еда, как и раньше, была скромной, одежда его
жены и дочери, мебель и утварь в доме не изменились.
Агесилай не взял ничего для себя из огромной персидской
добычи.
717
Недолго, однако, пришлось Агесилаю оставаться на
родине. После выздоровления от ран он снова выступил в
поход и овладел Коринфом.
В это время афинский полководец Ификрат уничтожил
большой спартанский отряд. Много забот причиняли
спартанцам действия афинского флота под начальством Коно-
на у берегов Лаконики. Вот почему эфоры, несмотря на
противодействие Агесилая, решили заключить мир с Персией,
чтобы избавиться от одного врага.
Эфор Анталкид отправился послом к персидскому
царю и заключил "царский", или Анталкидов, мир. Условия
мира были позорными: чтобы спасти свое владычество в
Греции, спартанцы отдали малоазийских греков под власть
персов.
Все греки негодовали, считая спартанцев предателями.
Зато Агесилай и эфоры добились прекращения персидской
помощи афинянам и фиванцам. Теперь они могли
продолжать борьбу с врагами иными средствами, опираясь на
сочувствовавших спартанцам аристократов в Фивах и Афинах.
Спартанский полководец Фебид уже после заключения
мира проходил с отрядом через Беотию. Внезапным
нападением он занял фиванский кремль Кадмею и город Фивы.
Затем он сверг демократическое правительство и поставил
новое во главе с аристократами1. Таким образом один враг
был уничтожен.
Весть о вероломном захвате Фив, в нарушение
мирного договора, вызвала негодование в Греции. В самой
Спарте многие осуждали действия Агесилая. Но когда Фебида
привлекли к суду за самовольные действия, Агесилай
открыто выступил в его защиту. "Все, что приносит пользу
Спарте, разрешается свершать даже без особого
приказа", — заявил он. Спартанские правители оправдали
вероломный поступок Фебида. Спартанский гарнизон
продолжал занимать Кадмею. Аристократы в Фивах, придя к
власти, начали жестокую расправу с демократами.
Теперь спартанцы решили покончить с другим врагом.
Наступила очередь Афин.
Один из спартанских правителей беотийского города
Феспии (в 40 км от Афин) задумал захватить Афины. Он
знал, что в случае удачи его поступок будет одобрен.
1 См. подробнее об этом в биографии Пелопида.
718
Афины были большим городом с многочисленным
населением; стены города были только что вновь отстроены
и тщательно охранялись. Напасть на Афины среди бела дня
было совершенно невозможно. Тогда спартанцы небольшим
отрядом ночью вышли из Феспий, чтобы захватить
афинскую гавань Пирей. Они надеялись достичь города и под
покровом темноты завладеть им. Однако враги не
рассчитали времени: они оказались на равнине перед гаванью,
когда солнце уже ярко светило. Стража подняла тревогу,
ворота гавани оказались закрытыми. Внезапное нападение не
удалось, и спартанцам пришлось с позором отступить.
В Афинах встревоженный народ выбегал из домов,
хватаясь за оружие. Возмущению и негодованию афинян не
было предела. Немедленно собралось народное собрание.
В Спарту отправили послов с требованием суда и
наказания виновных в вероломном нарушении мира.
Узнав о неудаче, Агесилай и эфоры немедленно
предали спартанского командующего суду, но сами же помогли
ему бежать. Эфоры заявили афинским послам, что
виновный действовал без их ведома, поэтому спартанские
власти не отвечают за его действия. По настоянию Агесилая
суд оправдал нарушителя мира.
Весть об этом вызвала в Афинах сильное возмущение.
Народное собрание объявило войну Спарте. Афиняне уже
раньше помогли фиванским изгнанникам захватить Кадмею
и восстановить в Фивах демократию. Теперь афиняне в
союзе с фиванцами начали борьбу за освобождение Греции
от спартанского владычества.
Во главе спартанского войска стоял второй царь, Кле-
омброт. Военные действия он вел нерешительно. Тогда
Агесилай, несмотря на свой преклонный возраст (ему было за
70 лет), принял начальство над одним из отрядов и
вступил с ним в Беотию. Вскоре в сражении он получил
тяжелую рану и принужден был долгое время лежать в постели.
За время болезни Агесилая спартанцам пришлось
испытать много неудач на суше и на море; впервые
спартанцы потерпели от фиванцев жестокое поражение в бою при
Тегире. Среди спартанских союзников начались волнения.
Союзники считали, что Агесилай начал войну с
фиванцами из-за личной неприязни, и заявили, кроме того, что не
хотят больше идти на смерть за спартанское господство над
Грецией.
719
Спартанцам пришлось согласиться на мирные
переговоры.
Представители всех греческих государств съехались в
Спарту. Фиванский делегат знаменитый полководец Эпами-
нонд выступил на съезде в защиту всех греков от
произвола и насилий спартанцев. "Греция, — говорил он, —
измучена братоубийственной войной. Она жаждет
справедливого мира; должно быть признано равенство всех
греческих государств". Все делегаты единодушно
поддержали Эпаминонда.
Тогда Агесилай предложил мир всем грекам, кроме фи-
ванцев. Он считал, что одних фиванцев, без союзников,
спартанцы легко разобьют. Большинство греческих
государств заключило мир со Спартой.
Спартанские эфоры теперь вновь объявили войну фи-
ванцам. Царь Клеомброт, который находился с армией в Фо-
киде (в Средней Греции), получил приказание немедленно
двинуться в Беотию. Союзники с неохотой, только из страха
перед грозным Агесилаем, медленно выступили на помощь
спартанцам. С большим войском царь Клеомброт пошел
прямо на Фивы, чтобы одним ударом покончить с фиванцами.
В 10 км от Фив при Левктрах произошла знаменитая
битва. Вот главе фиванцев стоял Эпаминонд — один из
самых выдающихся полководцев древности.
Эпаминонд применил здесь впервые новый строй —
косой клин: он сосредоточил главную массу войска на левом
крыле, ослабив правое крыло и центр; мощная фаланга
фиванцев, глубиной в 50 щитов, вооруженная длинными
копьями, обрушилась на правое крыло спартанцев. Спартанцы
были смяты; затем Эпаминонд прорвал центр неприятелей
и охватил их с правого крыла. Спартанская армия была
почти полностью уничтожена. На поле битвы пали царь
Клеомброт, 1000 спартанцев и множество воинов союзных
Спарте государств.
Весть о поражении при Левктрах пришла в Спарту во
время праздника. Город был полон иностранцев,
слушавших в театре состязания певцов. Эфоры приказали
продолжать праздник, как если бы ничего не произошло.
Наутро, когда стали известны имена павших и
уцелевших воинов, родственники убитых сошлись на городской
площади, гордо приветствуя друг друга, так как их сыновья,
мужья и братья пали за родину. Матери уцелевших вои-
720
нов ожидали возвращения сыновей, печальным молчанием
выражая сочувствие родственникам погибших.
Поражение при Левктрах было сигналом к отпадению
союзников от Спарты. Спартанцам теперь приходилось
сражаться в одиночестве против многочисленных врагов.
Опасались, что Эпаминонд вторгнется в Пелопоннес. Агесилай
и эфоры не решились, по обычаю, заклеймить позором и
лишить гражданских прав всех воинов, оставшихся в
живых после поражения; их было слишком много, и эфоры
боялись восстания. Тем не менее граждане подвергали
возвратившихся оскорблениям и издевательствам; девушки
считали позором выходить за них замуж. Агесилай же принял
их вновь на военную службу и поскорее удалил из города.
Между тем Эпаминонд во главе сорокатысячного
войска вступил в Лаконику и опустошил ее. В течение шести
столетий земля спартанцев не видала врагов: никто не
осмеливался вторгнуться сюда, хотя столица — Спарта —
не имела стен. Спартанцы всегда хвалились тем, что
лучшая их защита — доблесть граждан.
Агесилай понимал, что открытая борьба с
превосходящими силами врага невозможна. Он укрепил город
валами и рвами, на дорогах устроил завалы; наиболее важные
высоты заняли отряды гоплитов. Пришлось даровать
свободу илотам, которые добровольно вступят в армию. Более
6000 илотов получили свободу и были приняты в войско.
При виде множества врагов, расположившихся лагерем
у Спарты на другом берегу Еврота, стариков и женщин
охватил страх. Многие стали обвинять Агесилая во всех
несчастьях; они говорили, что при вступлении его на престол
Спарта находилась на вершине могущества, теперь же
родина на краю гибели. Вспоминали гордые слова Агесилая,
что никогда ни одна спартанка не видела дыма от огней
врагов. Передавали, что один афинянин сказал спартанцу: "Мы
не раз прогоняли вас от берегов Кефиса!" (река,
протекающая через Аттику). "Зато мы, — возразил спартанец, —
никогда не прогоняли вас с берегов Еврота!"
Эпаминонд не решился из-за весеннего разлива
Еврота перейти на другой берег и напасть на Спарту. Он
отступил и к зиме очистил территорию Лаконики. Спарта
была спасена.
Следующей весной война возобновилась. На сторону
спартанцев из боязни могущества фиванцев перешли афи-
721
няне. Среди союзных с Фивами городов Пелопоннеса
начались раздоры, и Эпаминонду пришлось несколько раз
совершать походы в Пелопоннес, чтобы силой оружия
удержать союзников от отпадения.
В последний раз (362 г. до н. э.) Эпаминонд едва не
захватил самой Спарты. Жители аркадского города Манти-
неи обратились за помощью к спартанцам. Агесилай
выступил с войском на поддержку мантинейцев.
Узнав об этом, Эпаминонд ночью незаметно отступил
от города Тегеи в Аркадии, который он осаждал, и быстро
двинулся прямо на Спарту, не замеченный Агесилаем.
Какой-то критянин дал знать Агесилаю о движении Эпами-
нонда, и царь поспешно направился к столице.
Эпаминонду между тем удалось переправиться через реку Еврот.
Фиванцы бросились на приступ, но тут подоспел
Агесилай со своим войском. Врагам удалось, однако,
ворваться в город, они дошли даже до городского рынка и заняли
на правом берегу Еврота возвышенности, господствующие
над городом. Но в других пунктах нападение было отбито
разъяренными спартанцами, сражавшимися с мужеством
отчаяния; сам царь Агесилай, уже глубокий старец,
сражался в первых рядах как лев. Каждая улица, каждый дом в
Спарте были превращены в крепость, женщины и дети
бросали на головы врагов камни и черепицы с крыш.
Спартанцам удалось продержаться до прибытия
подкреплений от союзников, и Эпаминонду пришлось отступить.
В бою за спасение родного города многие спартанцы
проявили неустрашимое мужество. Так, один молодой
спартанец выбежал из дома голый с копьем и мечом и
бросился на врагов. Он пробился через толпу сражавшихся,
рубил и сбивал с ног всех попадавшихся ему врагов, пока те
не обратились в бегство. После сражения эфоры
наградили его за храбрость венком и вместе с тем подвергли
штрафу за то, что он сражался без панциря.
Через несколько дней произошло решительное
сражение при Мантинее (362 г. до н. э.). Фиванцы победили, но
слишком дорогой ценой: великий вождь Эпаминонд был
смертельно ранен копьем. Его отнесли в палатку, и он
продолжал следить за ходом боя. Когда сообщили о победе фи-
ванцев, Эпаминонд сказал: "Умирая, я оставляю двоих
бессмертных дочерей — Левктру и Мантинею". С этими
словами он вырвал из раны обломок копья и скончался.
722
После сражения при Мантинее фиванцы не смогли из-
за больших потерь продолжать войну. Был заключен мир
на тяжелых для Спарты условиях: она потеряла почти все
владения в Пелопоннесе, кроме Лаконики. Попытки Аге-
силая сохранить область Мессению окончились неудачей.
После заключения мира Агесилай, участник стольких
битв, не мог спокойно сидеть в городе, ожидая смерти.
Восьмидесятилетним старцем, но еще полным энергии он
отправился во главе наемников в Египет на помощь
восставшему против персов правителю Таху.
Через некоторое время Агесилай покинул Таха и
перешел на сторону восставшего племянника правителя, Некта-
небида. Он оказал помощь Нектанебиду и утвердил его
правителем Египта.
Затем Агесилай стал готовиться к возвращению в
Спарту. По дороге в Грецию он скончался в гавани Менелая (в
Западном Египте), 85 лет от роду (361/60 г. до н. э.).
Царя, по спартанскому обычаю, нужно было хоронить
в Спарте. Спутники Агесилая облили его тело воском и
привезли в Спарту для погребения. Его потомки еще свыше
ста .лет царствовали в Спарте.
ПЕЛОПИД
(IV в. до н. э.)
Тяжелое время переживали в начале IV в. до н. э. все
города-государства Греции. Пелопоннесская война
закончилась разгромом Афин и роспуском Афинского морского
союза. Спартанцы уничтожили афинскую демократию и
поставили во главе города небольшую кучку аристократов. Но
война подорвала не только могущество Афин. Хотя
Спарта и вышла победительницей, внутренняя мощь ее была
надломлена.
Война обогатила спартанцев. Тогда говорили, что во всей
Греции нельзя было найти столько золота и серебра,
сколько его было в Спарте. Возникшее имущественное
неравенство нарушило прежнее единство полноправных спартанцев.
Некогда каждый спартанец получал участок земли с об-
724
рабатывавшими его рабами-илотами. Эти участки
передавались по наследству, и их нельзя было ни купить, ни
продать. Получаемые с этих участков продукты давали
возможность каждому гражданину содержать семью, приобретать
тяжелое вооружение и делать взносы на совместные обеды.
Это равенство имущества приводило к тому, что
каждый спартанец был кровно заинтересован в защите
спартанских порядков и в усилении мощи государства.
Поэтому спартанская тяжелая пехота не знала себе
равных. В сражениях в открытом поле спартанцы всегда
побеждали врагов. Во время Пелопоннесской войны знатные
спартанцы, проводя долгие годы за пределами родины,
привыкли к роскоши. Их уже не удовлетворяла суровая жизнь,
предписанная Ликургом, которую вели их предки. И мало-
помалу они перестали соблюдать законы против роскоши.
Многие знатные спартанцы накопили огромные богатства.
После Пелопоннесской войны в Спарте было
разрешено дарить и завещать участки земли кому угодно. Многие
бедняки быстро лишились земли и не могли уже
приобретать тяжелое вооружение. Спартанская армия ослабела.
В Афинах, где сильна была народная партия,
восстановилась демократия, и спартанцы не могли этому
воспрепятствовать. Однако в других государствах Греции
спартанцы сохраняли господство, опираясь на вооруженную силу
и поддержку местной знати.
Неподалеку от Афин находилось Беотийское
государство. Оно представляло собой союз мелких городов во главе
с главным городом Фивы.
Как и всюду в Греции, в Беотии и в Фивах в то время
шла борьба между знатными и богатыми гражданами,
сочувствовавшими спартанцам, и бедняками-демократами. На
долю фиванских демократов и их вождей — Пелопида и
Эпаминонда — выпала честь освобождения не только своей
родины, но и всей Греции от спартанского владычества.
Пелопид и Эпаминонд прославили свое отечество
удивительными подвигами. Жизнь их была образцом
мужества, бескорыстия и беззаветного служения родине. Оба они
были замечательными государственными деятелями и
полководцами.
Благодаря победам Пелопида и Эпаминонда их родной
город Фивы занял в Греции, правда на короткое время,
первенствующее положение.
725
Преждевременная смерть в бою обоих героев оказалась
для фиванцев невозвратимой утратой. После этого Фивы
не смогли уже удержать своего первенствующего
положения; рознь и братоубийственная война продолжались в
Греции, пока македоняне, наконец, не завоевали страну.
Причиной преждевременной гибели Пелопида была его
безумная храбрость. Одни друзья Пелопида восхищались
его беззаветной отвагой, другие же с самого начала
осуждали его за это. Древние мудрецы справедливо считали, что
быть храбрым и мало дорожить жизнью — далеко не одно
и то же: тот, кто не жалеет своей жизни, не всегда
истинно храбр.
История дает этому много примеров. Однажды
знаменитый полководец обратил внимание на хилого,
тщедушного воина, дравшегося с врагами как лев. После битвы,
удивленный болезненным видом воина, он сочувственно
спросил: " В чем причина твоей бледности?" Оказалось, что
солдат тяжело болен и уже не надеется на выздоровление.
По приказу полководца врачи применили все средства и
вылечили больного. Но с тех пор, как герой выздоровел, он
стал избегать опасности. На упреки командира он отвечал:
"Ты сам сделал меня трусом, избавив от болезни, которая
заставляла меня не дорожить жизнью". Храбрость не
делает чести тому, кто ищет смерти, не дорожа жизнью.
Истинно храбр лишь тот, кто любя жизнь, не рискует ею без
необходимости и жертвует ею только для общего блага.
Древние полководцы говорили, что пехота — это
руки, конница — ноги, полководец — голова армии.
Презирая опасность, полководец рискует не только собой, но и
жизнью людей, которые ему доверены. Смерть полководца
может погубить все дело, поэтому он не должен
подвергать себя опасности, как простой воин. Эта мысль придет
в голову всякому, кто прочтет жизнеописание Пелопида.
Пелопид, сын Гиппокла, принадлежал к знатному фи-
ванскому роду. В детстве он не знал ни в чем недостатка.
Молодым человеком он унаследовал большое состояние,
которое было увеличено выгодной женитьбой. Тем не менее
он не гордился богатством, жил очень скромно, в пище был
умерен и тратил свои средства на помощь нуждающимся.
Все свое время он посвящал общественным делам.
Друзья как-то раз сказали Пелопиду: "Ты не
понимаешь, что самое главное в жизни — деньги". "Да, — отве-
726
чал он, — они необходимы... вот этому человеку", — и при
этом указал на хромого слепца.
Его ближайшим другом был знаменитый впоследствии
полководец Эпаминовд. Оба они были одинаково щедро
одарены талантами. Пелопид больше любил гимнастику, а
Эпаминовд — ученые занятия. Один проводил свободное
время в гимнасиях и на охоте, другой — в беседах с
философами.
Их тесная дружба началась со времени Пелопоннесской
войны. Фиванцы боролись тогда против аркадцев и афинян.
Во время сражения отряд, в котором Пелопид и Эпаминовд
были гоплитами, обратился в бегство, только двое друзей
оставались на месте и продолжали мужественно
сопротивляться.
Врагов было много. Покрытый множеством ран,
Пелопид упал. Эпаминовд считал его убитым, но все-таки
продолжал драться за его тело. Сам раненый в грудь и в
руку, он один сражался со многими, предпочитая умереть, чем
оставить тело друга на поругание врагам. Надежда на
спасение была уже потеряна, как вдруг спартанский царь
явился на помощь и спас обоих друзей.
С этого времени они стали неразлучными и хранили
верность друг другу в течение всей своей бурной и богатой
событиями жизни. Не раз им приходилось совместно
участвовать в походах, командовать войском и стоять во
главе государства. Никогда у них не возникало зависти друг
к другу или чувства соперничества. Мы уже знаем, как
враждовали, завидуя друг другу, Аристид и Фемистокл, Ки-
мон и Перикл, Никий и Алкивиад1. Тем более
удивительна дружба Пелопида и Эпаминонда. Причина их взаимной
любви заключалась в том, что не для себя они искали
славы и богатства, а для родины. Вот почему успехи другого
каждый считал также и своими.
В это время известные богачи-аристократы Архий, Ле-
онтид и Филипп задумали с помощью спартанцев
произвести в Фивах государственный переворот. Они сговорились
со спартанским полководцем Фебидом (находившимся с
сильным отрядом недалеко от Фив). Тот согласился помочь
аристократам.
Во время праздника в честь богини Деметры2 Фебид ре-
1 См. выше рассказы об их жизни.
2 Деметра — богиня земли, покровительница земледелия.
727
шил напасть на фиванскую крепость Кадмею. Крепость эта
находилась на окраине города, и к ней легко было подойти
незаметно.
Фиванцы ничего не подозревали; они думали, что Фе-
бид со своим отрядом ушел уже далеко. В полдень, когда
жара заставила всех покинуть улицы, изменник Леонтид
незаметно провел Фебида к Кадмее, где в этот момент
находились одни только женщины.
Когда Фебид захватил фиванскую твердыню Кадмею, то
весь город оказался в его власти. Вождя демократов
увезли в Спарту и там казнили. Пелопид и некоторые другие
успели бежать в Афины. Эпаминонд остался в городе: ему
не угрожала опасность, так как его считали человеком
мирным и далеким от общественной жизни.
Спартанцы для вида наложили штраф на Фебида и
отстранили его от командования; в действительности же
эфоры и цари вполне одобряли захват Фив.
Богачи-аристократы во главе с Архием и Леонтидом под защитой
спартанского гарнизона стали теперь полными хозяевами Фив.
Власть Архия и его сторонников казалась прочной: ведь
их невозможно было свергнуть, пока спартанцы
господствуют на суше и на море. Изгнанники-демократы даже в
Афинах не могли чувствовать себя в безопасности: и туда
аристократы подсылали наемных убийц, которые закололи
одного из них. В любой момент можно было ожидать, что
афиняне в страхе перед всемогущими спартанцами лишат
изгнанников убежища и отдадут их в руки врагов.
Многие пали духом, но Пелопид, хотя и младший по
возрасту, ободрял всех и призывал действовать совместно.
"Стыдно, — говорил он, — видеть родину порабощенной!
Неужели мы будем радоваться тому, что нам удалось
спасти нашу жалкую жизнь? Нам приходится постоянно
льстить и гнуть спину перед всяким, кто пользуется
влиянием в афинском народном собрании. Возьмем лучше
пример с афинских изгнанников. Даже после поражения
афиняне сумели восстановить демократию в родной стране.
Несмотря на могущество Спарты, они свергли власть знати.
И мы сумеем уничтожить господство аристократов у нас
дома".
Слова Пелопида пробудили угасшее мужество беглецов.
Фиванские изгнанники сообщили своим соратникам на
родине о решении продолжать борьбу.
Демократов, оставшихся в Фивах, это известие обра-
728
довало. Один из них, Харон, занимавший в городе
почетное положение, обещал предоставить изгнанникам
убежище в своем доме. Другой — Филлид — сумел сделаться
доверенным лицом фиванских правителей.
Эпаминонд уже давно побуждал молодежь к свержению
иноземного господства. В гимнасиях, когда молодым фиван-
цам случалось побеждать спартанцев, Эпаминонд упрекал
их, говоря, что только трусость заставляла их оставаться
рабами тех, кого они превосходили силой и ловкостью.
Изгнанники между тем составили план заговора и
назначили день для его выполнения. Большая часть
заговорщиков осталась на границе Фиванской области, и только
двенадцать человек под предводительством Пелопида
перешли границу и пошли по дороге на Фивы. Они были
одеты в короткие плащи, шли с собаками и сетями; прохожие
думали, что это охотники.
По пути Пелопид и его друзья разделились и через
разные ворота еще засветло вошли в город. Начиналась
сильная буря. Из-за холода и непогоды жители сидели по
домам, и улицы были пусты. Никем не замеченные,
заговорщики добрались до дома Харона, где их уже ожидали
друзья. Всего собралось вместе с изгнанниками 48
человек.
Между тем Филлид устроил в этот день для
аристократов-правителей Фив пиршество в своем доме. Он
постарался напоить гостей допьяна, чтобы предать их
беззащитными в руки заговорщиков.
Гости были уже почти пьяны, как вдруг разнесся слух,
что изгнанники вернулись и находятся в городе.
Полупьяный Архий решил вызвать и расспросить Харона, так как
считал, что этот пользующийся всеобщим доверием
человек лучше всех знает, что происходит в городе.
В это время в доме Харона заговорщики готовились к
нападению, надевали панцири и опоясывались мечами. Вдруг
раздался стук в дверь. Это пришел слуга с приказанием
Харону явиться к Архию. Все подумали, что заговор открыт
и дело погибло. Все-таки решили, что Харону нужно пойти
попытаться отвлечь подозрение.
Харон был человеком мужественным и не терял
присутствия духа в опасности. Он только боялся, что, если
заговор раскроют, друзья заподозрят его в предательстве.
Приведя из женской половины дома своего любимого
сына, сильного и красивого мальчика, он попросил друзей
729
не щадить ребенка, если он, Харон, выдаст заговорщиков.
Мысль о том, что его сын остался заложником, думал он,
сделает его более стойким, когда враги станут у него
выпытывать имена участников заговора. Видя благородство Ха-
рона, заговорщики просили не оставлять им сына и не
подвергать ребенка опасности, лучше пусть он укроет сына в
надежном месте, чтобы тот вырос мстителем за родину и
отца. "Нет, — сказал Харон, — я не возьму сына. Нет
ничего лучше для него, чем честная смерть вместе с отцом и
друзьями". С этими словами он обнял друзей, умоляя их
не терять мужества, и ушел. Подходя к дому Архия, он
собрал все силы, чтобы ни голосом, ни выражением лица не
выдать себя.
Архий и Филлид вышли к нему навстречу. "Я слышал,
Харон, — сказал Архий, — что в городе скрываются
изгнанники и некоторые граждане сочувствуют им". "Где же
скрываются эти беглецы?" — спросил Харон. Из ответа он
понял, что заговор еще не раскрыт, и, ободрившись,
сказал: "Не беспокойтесь! Я узнаю, в чем дело: этот слух
надо проверить".
Стоявший рядом Филлид увел Архия, напомнив, что
пирующие ждут его.
Возвратившись домой, Харон застал друзей в отчаянии:
они думали, что все погибло, и приготовились умереть.
Одна опасность прошла, но внезапно возникла новая,
на этот раз более серьезная. Из Афин прибыл к Архию
посланец с письмом от знакомого. В этом письме
содержались уже не подозрения, а точные сведения о заговоре и о
всех его участниках.
Посланца привели к Архию, когда тот был уже
совершенно пьян и едва соображал. Подав Архию письмо,
посланный сказал: "Тебя просят прочесть его немедленно, это
очень важно". — "Важно? Тогда до завтра!" — сказал
Архий и отложил письмо в сторону. Эти слова погубили его.
Наступило время действовать. Заговорщики разделились
на две группы. Одни во главе с Хароном пошли к Архию
в дом, где происходило пиршество. Поверх панцирей они
надели женские платья; на голове у них были большие
еловые и сосновые венки, скрывавшие лица. Как только они
вошли в зал, пьяные гости встретили их рукоплесканиями:
они приняли их за женщин-танцовщиц, которые
развлекали гостей на пирах.
730
Заговорщики выхватили мечи и бросились через столы
на Архия и его товарищей. Филлид уговорил гостей не
трогаться с места, и многие повиновались. Остальные пытались
защищаться, но после короткой борьбы были перебиты.
Пелопиду и нескольким его товарищам выпала более
трудная задача устранить остальных двух правителей Леон-
тида и Гипата, которых не было на пире. Когда они
подошли к дому Леонтида, то все уже спали и двери дома были
заперты. Пришлось долго стучаться. Наконец, на стук
появился полусонный раб и снял дверной засов. Едва он успел
отворить дверь, как заговорщики толпой ворвались в дом,
сбили раба с ног и вбежали в спальню. По шуму и беготне
Леонтид понял о грозившей ему опасности, быстро вскочил
с постели и выхватил меч. Впопыхах он забыл потушить свет,
и его спальня была ярко освещена. Это и погубило его.
Первого заговорщика он еще успел ударить мечом и убил, но
схватка с Пелопидом оказалось для него роковой. Хотя
узкие двери и лежавшее на дороге тело убитого затрудняли
борьбу, но ярость придавала силу Пелопиду, и ему удалось
справиться с более сильным противником.
Потом заговорщики отправились в дом Гипата. Гипат,
услышав шум схватки, бежал к соседям, но по дороге был
схвачен и убит.
План заговора, таким образом, был выполнен. Пелопид
тотчас же направил гонца в Афины к оставшимся там
изгнанникам. Затем заговорщики захватили склады оружия.
К восставшим присоединились Эпаминонд и часть
молодежи, которая считала его своим вождем и учителем.
Город между тем находился в смятении: никто не
понимал, что происходит: на улицах был страшный шум и
беготня с факелами. Во всех домах горели огни, но жители
боялись выходить из домов до рассвета.
Спартанский гарнизон, занимавший Кадмею, состоял из
полутора тысяч человек. Кроме того, к спартанцам
сбежались многие из аристократов. С такими силами, конечно,
легко можно было уничтожить кучку заговорщиков, но
крики, множество огней, собиравшиеся всюду толпы народа
привели спартанских начальников в замешательство.
Вместо того чтобы действовать решительно, они отправили в
Спарту гонцов за подкреплениями.
На рассвете в Фивы явились вооруженные
изгнанники, ожидавшие у границы. Собралось народное собрание.
731
Пелопида вместе с Хароном выбрали на должность беотар-
хов (высшие должностные лица в Фивах).
Пелопид спешно собрал войско и тотчас осадил Кадмею.
Нужно было как можно скорее изгнать оттуда спартанцев,
пока из Спарты не подошло подкрепление. Когда фиванцы
начали штурм крепости, спартанские военачальники
попросили перемирия и обещали вывести войско из Фив.
Продержись гарнизон Кадмеи еще лишний день,
освободить Фивы так бы и не удалось, потому что не успел еще
отступивший отряд дойти до Мегар, как он встретил
сильную спартанскую армию царя Клеомброта, который спешил
на помощь в Фивы. Но было уже поздно, власть
спартанцев в Фивах уже невозможно было восстановить.
Двоих спартанских начальников отступившего
гарнизона предали суду и казнили, а на третьего наложили
большой штраф. Афинское народное собрание в страхе перед
спартанцами отказалось от союза с Фивами. Казалось,
теперь дело фиванцев потеряно: им неоткуда ждать помощи,
они остались один на один со страшным противником.
Но в это время произошло событие, которое заставило
афинян выступить против Спарты.
Сфодрий — начальник спартанского гарнизона одного
из городов Беотии — со своим отрядом сделал неудачную
попытку захватить афинскую гавань Пирей. Он дошел до
Элевсина, но должен был бесславно отступить. Говорили,
что Пелопид, желая вызвать войну между Афинами и
Спартой, и побудил Сфодрия совершить это нападение. Однако
скорее всего Сфодрий действовал по приказанию
спартанского царя Агесилая (см. выше биографию Агесилая).
Возмущенные вероломными действиями спартанцев,
афиняне объявили им войну и заключили союз с Фивами.
Главная роль в этой войне выпала на долю фиванцев.
Фиванцы сражались за свободу родины с величайшим
воодушевлением и одержали много побед над спартанцами, не
знавшими до тех пор поражений на суше.
Пелопид и его друг Эпаминонд были выдающимися
полководцами. Эпаминонд произвел в Фивах знаменитую
военную реформу.
Фиванцы открыли самое главное правило тактики \
которое вплоть до наших дней решает почти все сражения:
1 Тактика — искусство располагать войска и руководить ими на поле
боя.
732
чтобы нанести на решающем участке главный удар, надо
сосредоточить на этом участке большую часть сил, а не
распределять их равномерно по всему фронту.
Впервые Пелопид разбил спартанцев при Тегире в
"правильной" битве. Эта победа была как бы введением к
победе Эпаминонда при Левктрах.
Пелопид решил напасть на беотийский город Орхомен
и подошел к нему во главе "священного" отряда
(отборный отряд фиванцев из 300 человек) и небольшого числа
конницы. Близ города он заметил в походе спартанское
войско, поэтому он отвел свой отряд несколько назад. Но
тут он встретил другое спартанское войско, которое
возвращалось с противоположной стороны.
Когда спартанцы показались из ущелья, один из
воинов подбежал к Пелопиду и вскричал: "Мы попались в
руки врага!" "Почему же мы, а не он?" — спросил Пелопид
и немедленно велел коннице начать атаку. Сам же он
собрал тяжеловооруженных пехотинцев "священного" отряда
и ударил на врага. Спартанцы были смяты мощным
натиском тяжелой пехоты Пелопида, их начальники пали.
Пелопид не преследовал их; он ударил вторично против
другого крыла, которое стояло еще в боевом порядке. После
этого все войско спартанцев обратилось в беспорядочное
бегство. Фиванцы одержали полную победу над вдвое
превосходящим врагом. Никогда еще спартанцы не были
разбиты врагом, уступающим им в численности. Они в
течение столетий гордились своей непобедимостью. Одно имя
спартанцев наводило ужас на врагов.
На море спартанцев также преследовали неудачи: они
были дважды разбиты афинянами. Тогда спартанцы
решили заключить мир с афинянами и всеми другими греками,
кроме фиванцев, а затем уничтожить и их. Фиванцев они
считали главными врагами.
Царь Клеомброт во главе сильной армии вступил в
Беотию. Грозная опасность нависла над Фивами: неумолимый
враг угрожал стереть город с лица земли, а жителей
продать в рабство. Фиванцев охватил ужас.
Пелопид немедленно отправился в лагерь под городом
Левктры, где находилось фиванское войско. Провожая
Пелопида, жена со слезами просила его беречь себя. "Такой
совет, моя дорогая, — сказал Пелопид, — нужно давать
простым воинам: полководец же должен беречь других!"
733
Собрался военный совет фиванского войска. Эпаминонд
высказался за то, чтобы немедленно дать сражение, и в
этом его поддержал Пелопид. Другие полководцы
колебались: слишком велик был страх перед спартанцами; все же
было принято решение напасть на врага.
Главнокомандующим армии фиванцев был Эпаминонд;
Пелопид же стоял во главе отборного "священного"
отряда, который сражался отдельно и представлял большую
ударную силу.
Эпаминонд составил план сражения. Обычно греки
ставили сильных бойцов на правом крыле, а слабых на левом,
так что побеждало правое крыло, и затем оба войска
нападали друг на друга с фланга. Эпаминонд поступил наоборот:
он сосредоточил большую ударную массу тяжелой пехоты
глубиной в пятьдесят рядов против правого (сильного)
крыла спартанцев. Фиванская ударная фаланга была
вооружена длинными копьями и представляла собой косой клин.
Спартанцы заметили такое построение противника и
начали перестраивать свои ряды. Царь Клеомброт удлинил
свое правое крыло и решил окружить Эпаминонда.
В этот момент выступил со "священным" отрядом
Пелопид и предупредил маневр Клеомброта. Царь не успел
ни растянуть своего крыла для обхода, ни сомкнуть рядов
по-прежнему. Стремительный натиск "священного" отряда
смял редкие ряды спартанцев. Неприятель не успел еще
оправиться, как Эпаминонд со всеми силами ударил на него.
Все правое крыло спартанцев было уничтожено на месте.
Затем Эпаминонд обрушился на центр и левое крыло
неприятеля и превосходящими силами уничтожил его. До
1000 спартанцев и множество союзников осталось на поле
битвы, среди них доблестно сражавшийся царь Клеомброт.
Остатки спартанского войска обратились в бегство.
Пелопид разделил с Эпаминондом славу победы (371 г. до н. э.).
Победой при Левктрах фиванцы не только спасли свою
родину от порабощения, но и уничтожили спартанское
владычество в Греции. Большая часть пелопоннесских
союзников спартанцев отпала от них и присоединилась к фи-
ванцам.
Была зима, и кончался срок пребывания Эпаминонда
и других начальников в должности. Фиванский закон
угрожал смертью начальнику (беотарху), если он не сдаст
должность по окончании срока. Все беотархи, боясь ответ-
734
ственности, поспешно отвели свои войска домой. Эпами-
новд же по совету Пелопида, решил, что нельзя терять
времени на возвращение в Беотию.
Во главе большого войска он на следующий год
вместе с Пелопидом вступил в спартанскую область и
опустошил ее и угрожал самой Спарте.
Этот поход Эпаминонда отнял у спартанцев господство
над Аркадией и Мессенией и низвел Спарту до положения
незначительного государства Греции.
По возвращении Пелопида и Эпаминонда в Фивы
после блестящего похода большинство граждан встретило их
с восторгом. Однако нашлись недоброжелатели, которые
привлекли обоих героев к суду за то, что те не сдавали
командования по истечении целых четырех месяцев после
законного срока. Оба героя, однако, были оправданы. Эпами-
нонд встретил обвинение спокойно, но Пелопид, как более
пылкий, возмущался низостью своих врагов.
Эпаминонду вскоре вновь пришлось отправиться в
поход на Пелопоннес. Но тут в сражении под стенами
Коринфа беотийцы потерпели неудачу из-за помощи, которую
оказали афиняне спартанцам. Эта неудача Эпаминонда
послужила поводом для новых нападок на него и Пелопида
со стороны врагов. Противникам даже удалось привлечь
Эпаминонда к суду и временно отстранить его от
должности беотарха. Однако уже на следующий год Эпаминонд
снова возглавил поход в Пелопоннес.
На севере Греции, в Фессалии в это время
образовалось сильное государство под главенством правителя
города Фер Александра. Некоторые фессалийские города не
захотели подчиниться тирану и обратились за помощью к
фиванцам. Тогда Пелопид выступил в поход против
Александра, который стремился установить свое господство над
всей Грецией.
Пелопид захватил фессалийский город Ларису и
заставил Александра явиться к нему с покорностью. Затем он
уладил в Македонии споры из-за престола и взял
заложником Филиппа, молодого брата царя (Филипп
впоследствии подчинил Грецию македонскому владычеству).
На обратном пути из Македонии в Фивы Александр
изменнически неожиданно напал на Пелопида, захватил его
в плен и отвез в Феры.
Известие о пленении Пелопида было встречено в Фи-
735
вах с возмущением. Тотчас же было отправлено в
Фессалию войско для его освобождения.
Пелопид и в плену держал себя гордо и независимо.
Он открыто порицал действия тирана и заявил, что не
желает пощады и отомстит, если получит свободу.
"Почему Пелопид хочет скорее умереть?" — спросил
тиран, когда ему передали слова Пелопида. "Потому, —
отвечали ему, — что ты скорее погибнешь сам, если казнишь
Пелопида, так как фиванцы отомстят тебе за его смерть".
Между тем фиванское войско вступило в Фессалию, но
ему не удалось освободить Пелопида. Тогда было послано
из Фив новое войско во главе с Эпаминондом.
Когда стало известно, что прибыл знаменитый
полководец, военачальники Александра испугались одного его
имени. Достаточно было малейшего удара, и все дело
тирана было бы проиграно.
Однако Эпаминонд решил прежде всего спасти самого
Пелопида. Он боялся, что в отчаянии тиран покончит с
пленником. Поэтому пришлось сначала добиваться
освобождения Пелопида.
Александр отправил к Эпаминонду послов с мирными
предложениями. Но тот заключил лишь перемирие и
потребовал освобождения пленного друга. Так Пелопид был
освобожден из плена и, вернувшись в Фивы, был
встречен как герой.
Спустя некоторое время фиванцы узнали, что
спартанцы и афиняне направляют к персидскому царю послов с
просьбой о помощи против Фив. Тогда они со своей
стороны отправили в Персию посольство во главе с Пелопидом.
Слава о подвигах Пелопида и его друга Эпаминонда
распространилась по всему Персидскому царству. Когда
Пелопид прибыл к персидскому царю, то царские сатрапы
смотрели на него с изумлением и говорили: "Вот человек,
уничтоживший спартанское владычество в Греции. Это он
превратил Спарту в ничтожное пелопоннесское
государство, Спарту, которая недавно еще угрожала Персии".
Посольство свое Пелопид выполнил блестяще:
персидский царь оказал фиванскому послу почетный прием,
осыпал его подарками и согласился на все требования фиванцев.
Пелопид, однако, не принял царских подарков, считая
недостойным свободного человека принимать милости царя.
По возвращении он снова отправился с войском в Фессалию.
736
Пелопид не мог простить ферскому тирану его
вероломства и решил отомстить за нанесенные оскорбления.
Кроме того, он хотел доказать всем грекам, что только фиван-
цы всегда ведут в Греции войны с тиранами и царями.
В Фессалии к Пелопиду присоединилось большое
войско союзников, с которым он двинулся против Александра.
Произошла битва. Пелопид разбил и преследовал
вражескую конницу. Александру, однако, удалось потеснить фи-
ванских союзников. Пелопид, как обычно, не щадил своей
жизни, он встал в первые ряды своих воинов и так
воодушевил их, что они начали одолевать врага. Заметив с
высоты, что Александр также одобряет своих наемников,
готовых обратиться в бегство, Пелопид выбежал далеко за
линию строя и стал вызывать Александра на поединок. Тиран,
однако, укрылся в толпе своих телохранителей. С
немногими воинами Пелопид в ярости бросился на толпу
наемников; ожесточенно сражаясь, он многих из них перебил. Враги,
боясь подойти к герою, издали метали в него копья.
Пелопид был смертельно ранен. Когда союзники — фессалий-
цы — подбежали на помощь, он лежал уже бездыханным.
Так погиб геройской смертью на поле боя Пелопид.
Фиванская конница вернулась и атаковала всю линию
вражеской пехоты, разбила ее и долго преследовала. Враг
потерпел полное поражение и потерял около 3000 человек.
Фиванцы и их союзники были глубоко опечалены
смертью героя. Узнав о его гибели, воины в знак печали не
снимали своего вооружения, не разнуздывали лошадей, не
перевязывали даже своих ран. Они обрезали, по обычаю,
гривы лошадей и коротко остригли свои волосы; многие не
разводили огня и отказывались от пищи. Вокруг тела
Пелопида были сложены груды неприятельского вооружения.
В день похорон наиболее уважаемые фессалийские
граждане в торжественной процессии несли захваченную
добычу, венки и золотое оружие героя.
Один из фессалийцев, обратившись к собравшимся,
сказал: иВы, фиванцы, потеряли только великого полководца,
а мы с его смертью лишились и свободы".
Вскоре после смерти Пелопида пал в битве при Ман-
тинее и его великий друг Эпаминонд.
Смерть Эпаминонда так поразила фиванцев, что они не
сумели воспользоваться одержанной победой. Теперь
фиванцы остались без вождей. После кратковременного бле-
737
24 5*2
стящего расцвета им пришлось уступить свое
первенствующее положение в Греции.
Однако не только потеря талантливых вождей была
причиной упадка Фиванского государства. Фивы были
слишком малым государством, которое лежало в стороне от
торговых путей, было лишено природных богатств. После
истощения средств и военной силы Фивам оказалась уже не
по плечу великая задача объединения Греции.
ДЕМОСФЕН
(384—322 гг. до н. э.)
Афинский государственный деятель и великий оратор
древности Демосфен всю свою жизнь посвятил родине и
умер в борьбе за ее свободу. Он родился в Афинах в 384 г.
до н. э. Отец его (которого звали также Демосфеном) был
состоятельным человеком, имел оружейную мастерскую.
Когда мальчику было семь лет, отец умер, оставив в
наследство будущему оратору и его пятилетней сестре
крупное состояние.
Воспитание ребенка было поручено матери и опекунам;
опекуны (его дяди по матери), однако, оказались людьми
недобросовестными. Они не платили жалованье учителям,
не заботились об образовании детей и воспитании.
Мальчик рос слабым, физически недоразвитым.
739
24*
Когда Демосфен достиг совершеннолетия, опекуны
отдали ему лишь дом с рабами, а большую часть денег и
имущества присвоили себе. Молодой человек пытался
сначала уговорить опекунов добровольно вернуть наследство, но
те отказались. Тогда он решил судом добиваться возврата
похищенных денег. Чтобы успешно вести дело в суде,
нужно было основательное знакомство с афинскими
законами, а самое главное — умение хорошо и убедительно
говорить.
В то время при демократическом строе в Афинах
почти каждому гражданину приходилось выступать в суде и
в народном собрании. Выдающиеся ораторы пользовались
всеобщим уважением: их выбирали на почетные
должности в государстве и отправляли послами в чужие страны.
В Афинах появилось много людей, которые учили
красноречию: как побеждать в спорах, как сделать слабый довод
более сильным.
Самыми выдающимися учителями красноречия тогда
были Исократ и Исей. Исократ содержал на дому школу
красноречия, но Демосфен не мог посещать занятий, так
как плата за обучение была слишком высокой. Тогда он
обратился к Исею, в то время лучшему адвокату по делам
0 наследствах.
Четыре года молодой человек прилежно учился у Исея
и заплатил ему за обучение большую сумму денег. За это
время он хорошо познакомился с произведениями всех
выдающихся писателей; особенно внимательно изучал он
сочинения знаменитого историка Фукидида и философа
Платона1. "Историю" Фукидида будущий оратор знал почти
наизусть, так как переписал ее собственноручно восемь раз.
Окончив учение, Демосфен начал судиться с
опекунами. Суд тянулся целых пять лет. Опекуны всячески
старались избежать ответственности; так, они уничтожили
даже самое завещание отца Демосфена и другие важные
документы. В конце концов опекуны были осуждены, однако
молодому человеку не удалось целиком вернуть своего
наследства.
Тяжелая многолетняя борьба с опекунами закалила ха-
1 Фукидид — афинский историк и государственный деятель V в. до
н. э., написал историю Пелопоннесской войны, участником которой он
был. Платон (конец V—IV в. до н. э.) — знаменитый философ,
ученик Сократа; писал сочинения в форме разговоров (диалогов).
740
рактер будущего оратора, развила в нем упорство и
настойчивость.
Выступать перед народом Демосфен мечтал еще
мальчиком. Как-то раз еще в ранней юности Демосфен
упросил своего воспитателя взять его на заседание суда
послушать речь знаменитого оратора. Мальчик видел, как толпа
народа провожала рукоплесканиями оратора, и удивлялся
силе красноречия, которая покорила всех. С тех пор он
бросил все другие занятия и игры со своими сверстниками и
стал усиленно упражняться в красноречии. Он твердо
решил сделаться оратором.
Но, прежде чем выступать перед народом, Демосфену
пришлось, по примеру своего учителя, писать судебные
речи для других. Такое занятие оплачивалось в Афинах
довольно хорошо, и молодому человеку удалось не только
прокормить свою мать и сестру, но и сделать некоторые
сбережения.
Однако составление речей не могло удовлетворить
Демосфена: он был пламенным патриотом и мечтал посвятить
свои силы общественной деятельности.
Первое выступление молодого оратора перед народом
кончилось печально: шум, смех и шиканье толпы не дали
ему закончить речи. Эта неудача была совершенно
естественна, так как Демосфен имел очень слабый голос,
говорил невнятно, слегка заикался, картавил (не произносил
звука "р"), у него была дурная привычка подергивать
плечом, и, кроме того, он совершенно не умел держаться
перед публикой.
Вторая его попытка выступить с речью перед народным
собранием также оказалась неудачной. Упав духом, закрыв
лицо, спешил он домой и сначала даже не заметил, что
следом за ним шел один из друзей, известный афинский
актер. Они пошли вместе. Демосфен начал горько
жаловаться другу на свои неудачи и говорил, что народ не
ценит и не понимает глубокого содержания его речей. аВсе
это так, — отвечал актер, — но я попробую помочь
твоему горю. Прочти мне какой-нибудь отрывок из Софокла или
Еврипида"1. Демосфен прочел. Когда он окончил, актер
повторил то же самое, но с такой выразительностью, что
Демосфену показалось, будто он слышит совсем другие сти-
1 Софокл и Еврипид — знаменитые поэты, писавшие для театра.
741
хи. Он понял теперь, как много красоты придает речи
выразительность, которой ему не хватало, и с удвоенным
усердием принялся за работу.
Итак, Демосфен решил во что бы то ни стало
исправить все недостатки своей речи. Чтобы никто ему не
мешал, он уединился; обрил затем себе полголовы, чтобы не
выходить из дома, пока волосы не отрастут. В день по
нескольку часов подряд он занимался упражнениями, чтобы
исправить неясность произношения. Он набирал в рот
камешки и старался говорить громко и ясно; чтобы
научиться произносить звук "р", он брал щенка, слушал его
рычание и повторял звуки. Он приучил себя громко
произносить стихи, когда поднимался на гору или гулял по берегу
моря, причем старался заглушить своим голосом шум волн.
Иногда молодой человек не выходил по два, по три месяца,
пока, наконец, совершенно не овладел голосом и жестами.
После долгих и упорных усилий Демосфен достиг своей
цели и стал выдающимся оратором. Однако он никогда не
говорил без подготовки, но всегда выучивал наизусть
заранее написанную речь; по ночам при свете лампы он
старательно готовился к выступлению, тщательно обдумывая
каждое слово. Все это дало впоследствии повод
противникам великого оратора упрекать его в отсутствии
вдохновения и природных способностей. (Как-то раз один из
недругов даже бросил ему упрек: "Твои речи пахнут маслом",
то есть "Ты сидишь над ними целыми ночами при свете
масляного светильника").
Но даже враги, наконец, вынуждены были признать силу
и мастерство его красноречия. В его речах
необыкновенная простота выражения соединялась с величайшей силой
чувства и мысли, ясностью и убедительностью. Демосфен
всегда строго держался предмета своей речи, не любил
пустой болтовни; он то говорил спокойно, действуя на разум
слушателей, то покорял их силой чувства, передавая им
свою горячую веру в правоту защищаемого дела.
Когда Демосфену исполнилось 30 лет, он начал
принимать участие в государственных делах и всю силу своего
ораторского дарования обратил против самого опасного
врага всех греков — македонского царя Филиппа.
Беззаветная любовь к родине вдохновляла великого оратора на
борьбу против македонян и их пособников в Афинах и во всей
Греции.
742
Еще недавно Македония была слабым и отсталым
государством, с которым греки мало считались. Царь Филипп
(359 — 336 гг. до н. э.) объединил страну и организовал
большую прекрасно вооруженную армию. В руках такого
даровитого полководца, как Филипп, она стала грозной
силой.
Международное положение Греции в это время было
весьма благоприятным для выступления Македонии: греки
вели между собой постоянные войны, афиняне воевали с
союзниками, фиванцы — с фокейцами, а спартанцы — с
государствами Пелопоннеса.
Царь Филипп ловко пользовался внутренними
раздорами среди греков: он всюду имел своих сторонников и
агентов в рядах противников. В случае необходимости царь не
брезговал и подкупом. "Осел, нагруженный золотом,
возьмет любую крепость", — говорил Филипп, неуклонно
стремясь к своей цели — завоевать всю Грецию.
Сначала Филипп подчинил Фессалию и укрепился в
Северной Греции. Но это было только начало. Через
некоторое время македонянам удалось захватить все афинские
владения во Фракии, и они готовились к вторжению в
Среднюю Грецию.
Такие быстрые успехи Филиппа облегчались еще и тем,
что вся Греция была разделена на два лагеря
ожесточенной борьбой между богатыми и бедными. Бедняки всюду
открыто требовали раздела земли и имущества богачей.
Богатые рабовладельцы смотрели на Филиппа и македонян как
на своих спасителей от выступлений бедноты. Они
предпочитали лучше подчиниться Македонии, чем отдать свои
богатства народу. При македонском владычестве можно
будет, думали они, спокойно владеть своим имуществом и
рабами и не опасаться народных восстаний. Только простой
народ и бедняки готовы были защищать родину и свободу
от македонских захватчиков.
Демосфен сразу же понял, какую опасность для Афин
и Греции представляют Македония и ее царь, и возглавил
партию патриотов, противников Филиппа.
В Афинах в это время власть была в руках
сторонников Македонии. Во главе македонской партии стояли Ев-
бул и известный оратор Эсхин.
Евбул был за мир "во что бы то ни стало, любой
ценой" и нарочно закрывал глаза на опасность, грозившую
743
со стороны македонского царя. Он желал успокоить
народные массы путем раздачи народу доходов государственной
казны (так называемые "зрелищные деньги").
Демосфен стал бороться против такого порядка и
призывал народ поступиться личными выгодами
сегодняшнего дня ддя счастья и спасения родины. "Богатые, —
говорил он, — бросают народу подачки за счет государства, а
сами уклоняются от государственных повинностей".
Оратору удалось убедить народ обратить "зрелищные деньги"
на борьбу с Македонией. Это был значительный успех
Демосфена и его сторонников-патриотов.
Демосфен постоянно выступал теперь в народном
собрании с пламенными речами, стараясь пробудить в афинянах
патриотические чувства. Его знаменитые речи против царя
Филиппа назывались "филиппиками" (и теперь еще у нас
называют горячую, страстную речь "филиппикой").
После захвата Фракии Филипп стал угрожать Олинфу,
самому крупному городу на Халкидике1.
В Афины прибыли послы олинфян с просьбой о
помощи. Демосфен горячо поддержал олинфян: он произнес в
их пользу три речи в народном собрании. Однако помощь
афинян запоздала. Царь Филипп захватил город, а
жителей продал в рабство.
Затем Филипп предложил афинянам мир. Афинские
послы — Филократ и Эсхин — во время мирных
переговоров были подкуплены царем: несмотря на противодействие
Демосфена, они заключили мир на невыгодных для Афин
условиях. Вскоре после этого, не обращая внимания на
заключенный мир, Филипп разгромил фокейцев —
союзников афинян.
Тогда, наконец, афиняне стали готовиться к
решительному отпору Филиппу. Демосфен был выбран первым
стратегом и встал во главе государства. Бывшего посла Филок-
рата обвинили в подкупе и измене. Филократ был заочно
осужден на смертную казнь.
Затем Демосфен выступил против другого посла — Эс-
хина, обвиняя его в измене и подкупе. Эсхин искусно
защищался и был оправдан незначительным большинством
голосов.
Это было время наибольших успехов и славы велико-
1 Халкидика — полуостров северного побережья Эгейского моря.
744
го оратора. Ему удалось укрепить флот — главную силу
афинян.
Однако афиняне одни не могли справиться с грозным
врагом, и поэтому Демосфен стал хлопотать об
общегреческом союзе против Македонии. Во главе посольства он
объехал ряд греческих государств, везде произнося
страстные речи и побуждая греков к объединению. "Сила
македонян, — говорил он, — в слабости и разрозненности
греков; если все греки будут едины, то Филипп не
осмелится напасть на нас". Население греческих городов с
восторгом принимало великого оратора, и вскоре Коринф, Мегары
и другие города Пелопоннеса вступили в союз с афинянами.
Филипп между тем пристально наблюдал за
действиями афинян. Пока велись эти переговоры об объединении,
пришла грозная весть: войско Филиппа находится в
Средней Греции, царь занял уже у границы Беотии крепость Эла-
тею — важный пункт пересечения дорог в Фивы и в
Аттику. Наступил решительный момент борьбы. Многое
зависело теперь от того, на чью сторону станут Фивы — одно
из сильнейших государств в Средней Греции.
Тогда Демосфен во главе афинского посольства прибыл
в Фивы с предложением союза против Филиппа. Но там
уже находились македонские послы (царь опередил em),
которые, не скупясь на обещания, всячески отговаривали фи-
ванцев от союза с афинянами. Однако Демосфен добился
блестящего успеха. Его вдохновенные речи, в которых он
призывал к мужеству и напоминал о славе и чести Греции,
решили дело: фиванцы вступили в союз с афинянами
против общего врага. Обе стороны стали готовиться к
последней схватке.
Летом 338 г. до н. э. произошло роковое сражение при
Херонее.
Армия Филиппа состояла из 30 тысяч пехоты и 2
тысяч всадников. Численность войска союзников — афинян
и фиванцев — была несколько меньшей.
На рассвете оба войска выстроились в боевом
порядке. Правым крылом македонского войска командовал сам
Филипп, левым — его восемнадцатилетний сын Александр,
будущий великий полководец; в центре стоял опытный
военачальник Антипатр.
Началось яростное сражение. Долгое время военное
счастье не склонялось ни в ту, ни в другую сторону. Первым
745
решающего успеха добился Александр: его воины нанесли
сокрушительный удар "священному" отряду фиванцев.
Наоборот, на правом крыле афиняне прорвали ряды
македонцев и потеснили их. "За мной! — вскричал афинский
стратег, — победа наша!"
Упоенные успехом, наступающие афиняне, однако,
расстроили свои ряды. "Неприятель не умеет побеждать!"—
сказал Филипп, который наблюдал с высоты за ходом боя.
Он быстро перестроил свою фалангу и ударил на афинян.
Афиняне дрогнули, и все греческое войско стало отступать.
Македоняне одержали решительную победу, несмотря
на отчаянное сопротивление афинских гоплитов и
неустрашимую храбрость фиванской фаланги ("священного"
отряда из 300 человек, которые все погибли).
В этой битве афиняне потеряли 1000 человек убитыми
и 2000 попали в плен.
Демосфен сражался рядовым гоплитом и отступил с
поля боя вместе с войском. За это впоследствии оратор Эс-
хин обвинил его в трусости. Народ афинский, однако, не
поверил клевете врагов великого оратора и поручил ему
произнести надгробную речь в память бойцов, павших при
Херонее, что считалось высокой честью.
Известие о поражении при Херонее произвело
потрясающее впечатление на афинян. Немедленно собралось
народное собрание, народ вынес постановление готовиться к
осаде и перевозить женщин и детей из деревень за стены
города; кроме того, кто-то предложил освободить рабов и
дать право гражданства иностранцам для призыва их в
армию. Пойти на такую крайнюю меру даже в столь
опасный момент для родины афинское народное собрание не
решилось.
Демосфен вместе со своими сторонниками организовал
защиту города, поголовное вооружение граждан, починку
стен и т. д.
Грозная опасность, к счастью, вскоре миновала; удалось
заключить мир на сравнительно приемлемых условиях:
афинянам был оставлен флот и главные владения; однако
Афинский морской союз — основа их могущества — был
распущен, и Афины должны были вступить во вновь
организованный общегреческий союз во главе с Филиппом.
Херонейская битва решила судьбу Греции: греческие
государства потеряли свободу и независимость, всюду власть
переходила в руки богачей, сочувствовавших Македонии.
746
В Афинах подняли голову предатели, явные и тайные
сторонники Филиппа. Они стали чуть ли не ежедневно
возбуждать обвинения против Демосфена и других
представителей народной партии.
Однако нашлись патриоты, которые неустанно
трудились для восстановления мощи государства. Во главе их
были Демосфен, Ликург и другие.
Ликург в течение четырех лет путем строгой экономии
снова поднял государственные доходы до 1200 талантов в
год. Демосфен заведовал "зрелищной казной", которая была
теперь единственной поддержкой афинской бедноты.
Афиняне стали мало-помалу оправляться после страшного
поражения.
Царь Филипп между тем собрал общегреческий съезд
в Коринфе, где торжественно провозгласил создание
общегреческого союза под руководством македонского царя.
В разгар приготовлений к походу Филипп был убит на
свадьбе своей дочери в городе Эгах в Македонии, через
два года после Херонейской битвы (336 г. до н. э.).
Демосфен получил сообщение о смерти Филиппа, когда
народное собрание еще не знало об этом. Он явился в
совет и радостно объявил, что видел сон, предвещающий
афинянам великое счастье. Вскоре пришло известие о смерти
Филиппа. Народное собрание постановило принести богам
благодарственную жертву, а убийцу царя наградить венком.
Великий оратор пришел в тот день в народное собрание в
праздничной одежде с венком на голове, хотя собственную
его семью постигло большое горе: всего несколько дней
назад скончалась его дочь. Но народную радость Демосфен
ставил выше личного горя. Народ ликовал, надеясь
сбросить македонское иго.
Снова к власти был призван Демосфен. Во всех
городах Греции поднялось движение против македонян и
пробудились надежды на свободу. Афиняне послали
посольство в Фивы и другие греческие государства с
предложением союза против Македонии. Афины вступили в
сношения также с персами, побуждая их немедленно начать войну
с Александром. Демосфен полагал, что с наследником
Филиппа, мальчишкой и дурачком, как он называл
Александра, справиться будет легко. Демосфен надеялся на успех
восстания.
Тем не менее, вопреки ожиданиям, Александр быстро
покончил со своими противниками в Македонии и Фесса-
747
лии и заставил греков в Коринфе признать себя вождем
общегреческого войска для похода на Персию. Однако ему
пришлось предпринять поход на север против трибаллов1,
которые угрожали границам Македонии.
Пользуясь отсутствием Александра, первыми восстали
фиванцы, а за ними и другие греческие государства. Фи-
ванцы осадили стоявший у них македонский гарнизон и
многих воинов перебили.
Александр, разбив трибаллов, неожиданно появился с
войском под стенами Фив. Город был взят и разрушен до
основания. Пощадили только дом, принадлежавший
знаменитому поэту Пиндару2. Уцелевшие жители, числом около
30 тысяч человек, были проданы в рабство.
В Афинах царило страшное смятение: ожидали, что
Александр начнет осаду. Однако ценой полной покорности
удалось выпросить пощаду у победителя. Александр
потребовал только выдачи Демосфена и других противников
Македонии.
Демосфен пришел в народное собрание и рассказал
народу басню об овцах, выдавших своих собак волкам. Себя
самого и своих товарищей он сравнивал с собаками,
дравшимися за народ, а Александра назвал волком. К счастью,
внимание Александра было отвлечено приготовлениями к
персидскому походу, и он не стал настаивать на своем
требовании. Демосфен и его друзья остались в Афинах.
Выступив в поход против Персии во главе 30 тысяч
человек пехоты и 5000 всадников, Александр победил
персов в сражениях при Гранике и Иссе (334—333 гг. до н.э.);
затем он наголову разгромил персидское войско при Гав-
гамелах (на берегу реки Тигр) и завладел Вавилоном и
огромными сокровищами персидских царей3.
Между тем в Афинах к власти опять пришла
македонская партия. Теперь противники великого оратора нашли
время подходящим, чтобы с ним расправиться. Дело в том,
что еще несколько лет назад один из сторонников
народной партии предложил увенчать Демосфена золотым вен-
1 Трибаллы — одно из племен, живших на севере Балканского
полуострова.
2 Великий беотийский поэт, автор многочисленных од и гимнов
(около 518—432 гг. до н. з.).
3 См. об этом подробнее в биографии Александра.
748
ком за высокие патриотические заслуги. Народное
собрание согласилось с этим и постановило наградить великого
гражданина Афин венком. Конечно, сторонники Македонии
возражали, и Эсхин внес жалобу на постановление
собрания в суд присяжных; он доказывал неправильность
решения народного собрания и заявил, что Демосфен вовсе не
заслуживает такой высокой награды.
Демосфен вынужден был защищаться. Суд
превратился в поединок двух самых знаменитых ораторов Афин.
Враги великого оратора не учли, однако, настроения народа,
который не хотел мириться с потерей независимости.
Суд начался при огромном стечении народа. Эсхин
произнес обвинительную речь, полную несправедливых
нападок на Демосфена. В знаменитой защитительной речи
"О венке" великий оратор дал обзор всей своей
деятельности на благо родины и ярко обрисовал предательский
образ действий Эсхина. Несмотря на давление со стороны
противников, судьи вынесли справедливый приговор. Эсхин был
подвергнут денежному штрафу и должен был уехать в
изгнание. Успех речи "О венке" был не только победой
великого оратора, но и торжеством патриотических сил в
Афинах и во всей Греции.
В результате победы на суде влияние Демосфена на
государственные дела возросло. Однако теперь, наученный
горьким опытом, он действовал осторожно. Он видел силу
врагов и отсутствие единства у греков и поэтому старался
удерживать сограждан от резких необдуманных
выступлений против македонян. Так, например, афиняне по его
совету не поддержали восстания спартанцев. Это восстание
было быстро подавлено македонянами.
Александр между тем был всецело занят азиатскими
делами, предоставив полновластно распоряжаться в Греции
своему полководцу Антипатру. Однако он прислал в
Грецию два распоряжения: во-первых, он повелевал почитать
себя богом и, во-вторых приказывал всем греческим
государствам вернуть своих изгнанников. Над первым
повелением греки смеялись, а последнее вызвало сильное
негодование. Дело в том, что изгнанниками были обычно
предатели, ненавистные народу.
В это время произошло новое событие, которое
роковым образом отразилось на судьбе Демосфена.
749
Казначей Александра, Гарпал, воспользовавшись долгим
отсутствием царя в Вавилоне (царь начал тогда поход в
Индию), похитил огромную казну персидских царей. На эти
деньги он набрал 6 тысяч наемников и с 30 кораблями
неожиданно прибыл в Афинскую гавань Пирей. Казначей
пытался деньгами привлечь на свою сторону афинских
государственных деятелей, суля им возможность добиться
независимости для Греции.
Некоторые ораторы предлагали взять деньги Гарпала и
немедленно начать всеобщее восстание в Греции против
македонян. Однако Демосфен и другие известные деятели
высказались против.
Гарпала не допустили в Афины, и он отправился в
Пелопоннес на мыс Тенар1. Там он оставил свое войско и
большую часть сокровищ, а сам, захватив с собой 750
талантов, вернулся в Афины. Теперь он уже просил только
о предоставлении ему убежища.
Между тем Антипатр и мать Александра Олимпиада
потребовали у афинян выдачи похитителя казны. По
предложению Демосфена Гарпал был задержан, а привезенные
им деньги положены на сохранение в Акрополь, чтобы
вернуть их потом Александру. Гарналу удалось бежать на
Крит, где он вскоре был убит.
Когда произвели подсчет захваченных у Гарпала денег,
то оказалось, что из привезенной им суммы осталось
всего лишь 350 талантов, остальные деньги куда-то пропали.
Демосфен предложил произвести строгое расследование
этого дела, причем ручался своей жизнью, что он
невиновен в расхищении денег. Были произведены массовые
обыски, но денег не нашли.
Демосфен и некоторые другие лица были привлечены
представителями македонской партии к суду по обвинению
в расхищении денег, подкупе и устройстве побега
Гарпала. Под давлением противников суд признал Демосфена
виновным и присудил его к уплате 50 талантов. Так как он
не мог заплатить такой огромной суммы, то его
заключили в тюрьму. Друзья, однако, вскоре помогли ему бежать,
и он нашел убежище недалеко от Афин на острове Эги-
не, откуда открывался вид на родную землю.
Потрясенный непосильной борьбой с противниками, ве-
1 На юге Пелопоннеса.
750
ликий оратор мучительно переживал свое изгнание;
здоровье его было совершенно расшатано. Демосфен горько
жаловался друзьям на несправедливость приговора: он,
человек безукоризненно честный и имеющий великие
заслуги перед государством, осужден, а обвинявшийся вместе с
ним какой-то заведомый негодяй оправдан.
Однако изгнание великого оратора оказалось
непродолжительным: неожиданно пришло известие о смерти
Александра в Вавилоне (июнь 323 г. до н. э.).
Смерть Александра послужила сигналом для начала
освободительного движения по всей Греции. Восстание
вспыхнуло и среди малоазийских греков. Подъем захватил даже
богачей, сторонников македонян. Народные ораторы
произносили в Афинах патриотические речи, убеждая сограждан
сбросить македонское иго. Из Афин было отправлено
посольство в Пелопоннес, чтобы побудить пелопоннесские
государства примкнуть к борьбе за свободу.
Афинское народное собрание постановило вернуть
великого оратора из изгнания. За ним был послан на остров
Эгину государственный корабль. Когда Демосфен вступил
на родную землю, ему устроили в афинской гавани Пирее
всенародную торжественную встречу, как национальному
герою.
Демосфен немедленно возглавил сопротивление
македонянам. Началась война, которая вначале шла успешно для
афинян. Афинский полководец Леосфен, бывший ранее
начальником греческих наемников у персов и отпущенный
Александром, во главе 8000 воинов двинулся в Фессалию
против полководца Александра, Антипатра; по пути к
афинянам присоединились этолийцы и фессалийцы. Союзники
одержали решительную победу над Антипатром, который
с остатками войска заперся в крепости Ламии (в
Фессалии). Во в^емя осады Ламии афинян, одаако, постигло
тяжкое несчастье: пал Леосфен.
После его смерти война затянулась и приняла
неблагоприятный для афинян оборот. Союзное войско состояло из
граждан разных греческих государств и наемников. Сперва
начались разногласия среди союзников, а потом стали
разбегаться наемники, которым неаккуратно платили жалованье.
На помощь осажденному Антипатру пришел с войском
полководец Леоннат. Афиняне храбро выступили
навстречу Леоннату и нанесли ему поражение. Однако из Маке-
751
доний с новыми подкреплениями явился полководец
Кратер. Перевес в силах был теперь на стороне македонян.
Кроме того, афинский флот дважды потерпел поражение,
и морское могущество Афин было сломлено.
Македонянам удалось склонить некоторых союзников
афинян заключить мир. Афиняне остались почти в
одиночестве. Но все же они решились дать последний бой
македонянам.
Битва произошла при городе Кранноне (август 322 г.
до н. э.). Афиняне потерпели поражение, хотя не такое
тяжелое, как при Херонее. Пришлось заключить мир,
условия которого были очень тягостны: демократия в Афинах
была уничтожена; полные политические права были
предоставлены только богатым (числом 9000); остальные
граждане могли покинуть родину и переселиться во Фракию;
македонский гарнизон занял афинскую гавань.
Демосфен и другие патриоты были заочно
приговорены к смерти. Демосфену удалось бежать в храм
Посейдона на острове Калаврии.
Нашлись и предатели, которые добровольно взялись за
розыски беглецов. Среди этих предателей наибольшей
низостью отличался некто Архий, бывший прежде актером,
который даже получил прозвище "охотника за беглецами".
Узнав, что Демосфен находится на острове Калаврии
в храме Посейдона как "молящий о защите"1, Архий
прибыл туда с фрлкийскими наемниками и лицемерно
предложил Демосфену отправиться с ним к Антипатру, уверяя,
что тот ему не сделает ничего дурного. В ответ Демосфен
сказал: "Архий, как меня прежде не трогала твоя
актерская игра, так теперь не трогают твои обещания. Подожди
немного, я напишу кое-что родным..." С этими словами
Демосфен ушел внутрь храма, взял кусок папируса и
тростниковое перо, как бы собираясь писать; затем поднес ко
рту перо и прикусил его, как он по обыкновению делал,
1 Храмы в древности считались священными местами. Поэтому тот,
кто вошел в храм и обратился к божеству с мольбой о защите,
считался неприкосновенным, его нельзя было арестовать, пока он
находился в святилище — у алтаря или статуи бога. Даже преступники и
беглые рабы находили убежище в знаменитых и почитаемых храмах
Греции. Но кормить находящегося под защитой никто не был обязан,
поэтому часто голод заставлял беглого раба выйти из священного
места, а тогда его можно было схватить.
752
когда обдумывал что-нибудь, готовясь писать. В
тростниковом пере был заложен сильно действующий яд, который
Демосфен и проглотил.
Переступив порог храма, он пошатнулся и упал
мертвым. Это произошло 12 октября 322 года до н. э.
Так погиб Демосфен, не пожелав пережить
порабощения родины, за свободу и независимость которой он
боролся до последнего вздоха.
Вскоре афиняне воздвигли Демосфену медную статую
на городской площади. Демосфен был представлен на ней
со скорбным выражением лица и сжатыми в отчаянии
руками. Надпись под статуей гласила:
Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум,
Власть бы в Элладе не смог взять македонский Арей).
1 Арсй — бог войны у древних греков (у римлян — Марс). Под
македонским Ареем здесь подразумевается военная мощь Македонии.
АЛЕКСАНДР
(356—323 гг. до н. э.)
Греческие аристократические роды, чтобы подчеркнуть
свое отличие от простых людей и обосновать свое право
на власть, стремились доказать, что они происходят от
богов и героев. Познакомившись с культурой и обычаями
Эллады, македонские цари, подражая грекам, также придумали
себе родословную, восходящую к мифическим героям.
Александр Македонский по отцовской линии считал
себя потомком самого Геракла, а по материнской — Эака,
деда знаменитого Ахилла, одного из главных героев
Троянской войны. Отцом Александра был царь Филипп II,
установивший господство македонян в Греции, матерью —
Олимпиада — дочь одного из властителей Эпира, области
на северо-западе Эллады.
754
Рассказывают, что Александр родился в тот самый
день, когда грек Герострат, стремясь хоть чем-нибудь
прославить свое имя, сжег храм богини Артемиды в малоазий-
ском городе Эфесе, считавшийся одним из семи чудес
света (356 г. до н. э.).
Уже в детстве Александра отличали безграничное
честолюбие, смелость и вера в себя. Однако он не гнался,
подобно своему отцу, за любой славой. Филипп одинаково
гордился военной доблестью, блестящим ораторским талантом
и победами своих лошадей на Олимпийских играх.
Характер сына отличался высокомерием: когда друзья спросили
его однажды, не хочет ли Александр принять участие в
Олимпийских состязаниях, юноша ответил: "Охотно, если
мне придется соревноваться с царями".
Каждый раз, как приходило известие о какой-нибудь
победе македонян, одержанной под руководством Филиппа,
Александр с грустью говорил товарищам: "Отец все
сделает до нас, и мне с вами не останется совершить ни
одного славного подвига!"
Отвага Александра проявилась в ранней юности.
Однажды Филиппу предложили купить коня, прозванного за
сходство его головы с бычьей Буцефалом1. Филипп вместе
с сыном отправился осмотреть лошадь. Конь казался
совершенно диким, поминутно вставал на дыбы, бил копытами
и старался укусить. Никто не решался даже подойти близко
к животному. Филипп отказался от покупки и приказал
увести лошадь. Тогда Александр в раздражении крикнул отцу
и его приближенным: "Из-за своей трусости и неумения
ездить верхом вы отказываетесь от великолепной лошади".
Филипп рассердился и предложил сыну побиться об заклад
на цену лошади, что мальчик не сможет укротить Буцефала.
Александр смело направился к коню, схватил его за
узду и повернул против солнца, так как заметил, что
животное пугается собственной тени. Затем юноша некоторое
время оглаживал коня и бежал рядом с ним, давая ему
привыкнуть к себе. Заметив, что лошадь уже несколько
устала и тяжело дышит, Александр сбросил плащ и вскочил
на нее. Бешеный конь рванулся, пытаясь сбросить всадни-
1 Буцефал (в греческом произношении Букефал) значит "бычьеголо-
вый".
755
ка. Крепко держа поводья, Александр дал коню полную
волю, ожидая, когда он утомится. Когда лошадь привыкла к
своей ноше, Александр заставил ее повиноваться
поводьям. Так был укрощен Буцефал, ставший затем верным
товарищем македонского завоевателя во всех его походах.
Филипп и его свита в страхе и молчании наблюдали за
поединком человека и коня; когда же Александр повернул
Буцефала и, сияя от гордости, подъехал к отцу, все
разразились криками восторга, а Филипп даже прослезился от
радости. Обняв сына, царь поцеловал его и сказал: "Дитя
мое, ищи себе подходящего царства — Македония для
тебя слишком мала!"
Зная упорный и горячий характер сына, Филипп
всегда старался воздействовать на Александра скорее
убеждением, чем приказом.
Македонский царь не доверил образование своего
сына местным учителям, а пригласил к Александру из
Греции величайшего ученого того времени Аристотеля1.
Занятия с учеником Аристотель проводил, гуляя по тенистым
аллеям парка. Ученый сумел привить способному
мальчику интерес не только к политике и военному делу, но и к
медицине и к естественным наукам. Впоследствии царь
всегда интересовался болезнями своих приближенных и любил
назначать лекарство или диету своим друзьям, когда они
заболевали.
С детства Александр пристрастился к литературе и
даже в самых трудных походах умел найти время, чтобы
почитать любимую книгу. С поэмой Гомера "Илиада"
македонский завоеватель не расставался никогда. У него был
список "Илиады", исправленный самим Аристотелем и
хранившийся в роскошном ящичке под подушкой у царя.
Александр говорил, что не знает лучшего руководства
для ведения войны.
1 Аристотель (384 — 322 гг. до н. э.) — "Александр Македонский
греческой философии" (так называл его К. Маркс) — величайший ученый
древнего мира, прославившийся своими работами в самых различных
отраслях знания. Отец Аристотеля был придворным врачом Филиппа II,
и это, возможно, было поводом для приглашения тогда еще мало
известного ученого воспитателем к царскому сыну (343 г. до н. э.).
После того как его ученик занял царский престол в Македонии,
Аристотель основал в Афинах школу Ликей (или Лицей). Именем
прославленной Аристотелем школы называли иногда учебные заведения и в
новое время. Так называлось, например, училище в Царском Селе, где
обучался Пушкин.
756
Кроме Аристотеля, у Александра были также
воспитатели из македонской знати. Они старались закалить
юношу, приучить его к умеренности в пище и питье. Александр
вспоминал впоследствии, как его воспитатель Леонид
приходил к нему в спальню и осматривал постель, заглядывая
даже под одеяло, чтобы отобрать у мальчика лакомства,
которыми мать баловала маленького сына.
Наставникам удалось добиться желаемых результатов.
Юноша рос умным и развитым не по летам. Однажды в
отсутствие отца Александру пришлось принимать
персидских послов. Персы были поражены гибкостью ума и
обширностью знаний юноши. Они утверждали даже, что
блестящие способности Филиппа намного уступают талантам
его сына.
Уже в юные годы Александр проявил себя как
храбрый воин и умелый правитель. Ему было всего шестнадцать
лет, когда Филипп, отправляясь в поход, поручил ему
управление всей Македонией. Сын оправдал надежды отца:
он справился с восстанием фракийских племен и основал
в усмиренной стране несколько городов, которые он назвал
Александрополями (городами Александра).
В битве при Херонее (338 г. до н. э.), в которой
Филипп разгромил объединенные силы греков и покончил с
независимостью греческих государств, Александр
командовал левым крылом македонской армии.
Царь радовался удачам сына и не чаял в нем души.
Однако вскоре отношения между Филиппом и Александром
испортились. Филипп развелся с матерью Александра
Олимпиадой и вступил в брак со знатной македонской
девушкой Клеопатрой.
Честолюбивый Александр, привыкший считать себя
единственным законным наследником престола, пришел в
ужас: ребенку от второго брака Филипп мог передать
царскую власть, минуя старшего сына.
Отношения между отцом и сыном стали настолько
плохими, что Александр вынужден был вместе с матерью
уехать из Македонии. Этот отъезд способствовал
распространению сплетен о нравах македонского двора. Поэтому
Филипп, дорожа хорошим мнением о себе, стал через
посредников уговаривать Александра не проявлять столь
открыто неприязни к отцу и вернуться домой. Александр
757
вернулся в Македонию, но его отношения с отцом
продолжали оставаться враждебными.
В это время Александр вступил в тайные переговоры
с персами, готовясь без разрешения отца жениться на
дочери персидского сатрапа (наместника). Филипп, узнав об
этом, выслал из Македонии всех друзей сына, разделявших
убеждения Александра и принимавших участие в
переговорах с персами.
Неизвестно, какие меры были бы приняты против
самого Александра, если бы в это время Филипп не был убит.
Убийца, знатный македонянин, был заколот царскими
телохранителями на месте.
Причины преступления остались нераскрытыми. В то
время об этом темном деле ходило множество
разноречивых слухов. Одни предполагали, что убийца был
подкуплен персидским царем, которому стало известно, что
Филипп готовит поход македонян и греков в Азию. Другие
думали, что он отомстил Филиппу за какие-то личные обиды.
Но многие потихоньку называли организаторами
покушения на жизнь царя самого Александра и его мать, которые
только таким способом могли вернуть себе былое значение
в государстве. Правда, Александр тотчас же расправился
с убийцей и всеми, кого подозревали в заговоре против
Филиппа. Однако некоторые считали, что он сделал это
затем, чтобы обеспечить молчание всех знавших о его
собственном участии в этом деле. Во всяком случае сразу же
после смерти Филиппа родившийся от его второго брака
ребенок был убит, а Клеопатра, подвергнутая заключению,
удавилась. Таким образом, Александр остался
единственным законным наследником Филиппа.
При вступлении на престол царю было всего двадцать
лет. Со всех сторон могуществу Македонии грозила
опасность. Начались восстания диких фракийских племен, на
юге покоренная Филиппом Греция готовилась вернуть
себе былую свободу. Александр с македонским войском
устремился на север. В нескольких сражениях он усмирил
восставших фракийцев и разгромил на берегах Истра (Дуная)
помогавшие им независимые племена.
Вслед за тем царь обратился против восставших
греков. Двигаясь стремительным маршем, он достиг
единственного прохода из Северной в Среднюю Грецию —
Фермопил — раньше, чем объединенные силы греков успели
758
собраться и занять удобный для обороны пункт. Ворвавшись
в Среднюю Грецию, македоняне осадили город Фивы,
который вместе с Афинами стоял во главе греческих
государств, возмутившихся против македонского владычества.
Несмотря на героическое сопротивление фиванцев, город
был взят и разрушен. Все жители, за исключением
сторонников македонского царя, были проданы в рабство: этим
страшным примером Александр хотел запугать все
остальные греческие государства. Рассказывают, что было убито
около шести тысяч фиванцев и тридцать тысяч обращено
в рабство.
Греки, пораженные ужасом, смирились. Александр,
готовясь к походу в Персию, опасался, как бы в его
отсутствие греки снова не подняли восстания против македонян.
Это побудило царя сменить свирепую жестокость на самую
изысканную любезность. Он ласково принимал у себя
греческих государственных деятелей и ученых, всячески
старался расположить их к себе и даже пощадил город
Афины, принимавший деятельное участие в мятеже
Александр совершил путешествие в город Кранию
(близ Коринфа), чтобы повидать жившего там философа
Диогена. Этот философ учил, что люди станут
свободными и счастливыми только тогда, когда сумеют сократить
свои потребности настолько, чтобы не зависеть от
общества и государства. Диоген личным примером старался
доказать правильность своего учения: отказавшись от
богатства, не имея своего угла, он жил в большой глиняной
бочке на рыночной площади города Крании, одевался в
рваный плащ и стоптанные сандалии, питался отбросами,
которые подбирал на рынке. Философ счел себя
совершенно независимым от городских властей и от общества,
благами которого он не желал пользоваться. Слава о его
учении и образе жизни распространилась среди бедного люда
всей Греции. Некоторые считали его мудрецом, другие
возмущались его поведением, называя его "собачьим"1.
1 Название "киники" или "циники" (в буквальном переводе "собачьи")
закрепилось в древности за группой философов (мудрецов), к которой
примкнул и Диоген. Киники в своеобразной форме выражали протест
бедняков и неполноправных свободных против неравного
распределения богатств в рабовладельческом обществе. Впоследствии слово
превратилось в ругательство, и в современном языке циниками стали
называть бесстыдных, наглых людей.
759
Когда Александр прибыл в Кранию, Диоген, по
обыкновению, лежал в пыли посреди площади перед своей
бочкой и грелся на солнце. Услышав шум, философ повернул
голову, взглянул на приближающегося царя и его
многочисленную свиту, но продолжал лежать. Александр
приветствовал Диогена и спросил его, не нуждается ли он в чем-
нибудь: все его желания будут немедленно исполнены.
"У меня одно желание, — ответил мудрец, — чтобы
ты отошел в сторону и не заслонял мне солнца". С этими
словами Диоген повернулся к Александру спиной,
подставляя солнцу другой бок. Положение царя было нелепым.
Александр предложил бедному человеку все, чего тот ни
пожелает, а мудрец вместо благодарности попросил
могущественного властителя убраться подальше и не заслонять
ему солнца! Свита Александра громко возмущалась
поведением Диогена и осыпала философа насмешками. Однако
царь сумел найти выход из глупого положения, в которое
он попал. Вместо того чтобы наказать дерзкого мудреца и
создать ему славу мученика, Александр улыбнулся и
сказал: "Если бы я не был Александром, я хотел бы быть
Диогеном".
Убедившись, что греки смирились с владычеством
Македонии, Александр собрал представителей всех греческих
государств и предложил им объявить персам войну. Царь
старался представить эту войну, как общегреческое дело,
как месть за поругание эллинских святынь, разрушенных
персами во время их вторжения в Грецию в 480 г. до н. э1.
Представители греческих государств вынуждены были
принять план царя, и приготовления к походу, начатые еще при
жизни Филиппа, близились к завершению.
Армия, с которой Александр готовился выступить
против персов, состояла из тридцати тысяч пехотинцев и
пяти тысяч всадников. Она была превосходно организована
и обучена и своими боевыми качествами намного
превосходила войска, которые персы могли направить против
македонян.
Хуже всего у Александра было с деньгами. К началу
похода удалось запасти продовольствие только на месяц, а
в казне оставалось всего 70 талантов. Александру
необходимо было добиться решающего успеха в самом начале,
1 См. выше биографии Фемистокла и Аристида.
760
чтобы заставить жителей захваченных территорий
оплатить его дальнейшие походы. Всякая неудача в начале
военных действий грозила гибелью македонской армии,
лишенной средств к существованию. Александр понимал
риск задуманного похода: война должна была привести
либо к полному успеху, либо закончиться быстрым
провалом и гибелью Македонии. Поэтому накануне
выступления Александр роздал оставшееся у него имущество
близким и друзьям. Один из них, удивленный такой
щедростью, спросил царя: "Что же ты оставляешь себе?"
— Надежду, — ответил царь.
Александр рассчитывал, что по сравнению с теми
богатствами, которые он сумеет отобрать у врага, его
владения в Македонии покажутся ничтожными, а в случае
поражения ему не надо будет ничего.
Весной 334 г. до н. э. Александр переправил свою
армию через Геллеспонт и начал беспримерный по своей
дерзости поход. Македонский завоеватель был полон
решимости и не упускал ни одной мелочи, которая могла бы
помочь ему добиться победы.
В Малой Азии, на западном и северном побережьях,
были расположены города греков, многие жители которых
служили в армии персидского царя. Важно было разбудить
патриотические чувства греков, чтобы обеспечить себе их
поддержку в предстоящих сражениях. Для этого лучше
всего представить поход македонян как продолжение вековой
борьбы между Европой и Азией. И Александр призывает
на помощь историю и мифологию.
Высадившись на малоазийском берегу, царь прежде
всего посещает развалины Трои, устраивает пышные
празднества в честь героев Троянской войны и, в особенности, в
честь Ахилла, считавшегося предком македонских царей.
Смысл этих торжеств был ясен всем: потомок Ахилла,
продолжая дело своего предка, стал во главе греков, чтобы
победоносно закончить войну, некогда начатую эллинами
против азиатов. Место азиатов-троянцев заняли теперь персы.
Между тем персидские сатрапы собрали свои войска
и заняли удобную позицию на крутом берегу реки Граник,
через которую македоняне должны были переправиться,
чтобы проникнуть в глубь страны. Переправа через реку,
охраняемую персами, была делом очень трудным.
Все полководцы Александра единодушно высказались
761
против наступления. Они указывали на глубину реки и
быстроту ее течения, на неприступность позиции, занятой
персами, советовали отложить решительное сражение и
попытаться искать для вторжения менее опасные пути.
Александр, однако, не мог медлить: всякая проволочка при
скудости его казны грозила гибелью. Поэтому, вопреки всем
советчикам, он решил атаковать персов и любой ценой
выбить их с занимаемой позиции. Во главе отборной
конницы, составленной из македонских аристократов, царь начал
переправу через Граник. Очевидцы, наблюдавшие эту
атаку со стороны, сообщают, что все предприятие казалось
поначалу чистым безумием. Многие полководцы считали, что
Александр ведет свои войска на неминуемую гибель: он не
хотел считаться с тем, что противоположный берег был крут
и обрывист, что течение реки уносило людей и лошадей,
что град стрел сыпался на плывущих.
Однако бешеная атака увенчалась успехом: часть
македонской конницы во главе с царем сумела выбраться на
мокрый и скользкий от ила противоположный берег.
Стремительная река разбросала стройные македонские
эскадроны, и на вражеский берег всадники выбирались в
беспорядке, кое-где маленькими группами, а то и в одиночку.
Воспользовавшись этим, персидская конница обрушилась на
македонян и попыталась сбросить их обратно в реку
прежде, чем Александру удастся собрать свои разрозненные
части.
На крутом берегу завязалась беспорядочная
кавалерийская схватка. Поломав при первом натиске свои копья,
бойцы обеих сторон взялись за мечи. Персы старались
пробиться к царю, который выделялся среди воинов
прекрасными доспехами и великолепными белыми перьями на
шлеме. Один из персов метнул в царя дротик, который
пробил панцирь, но не коснулся тела.
В это время на Александра бросились два персидских
военачальника: Ресак и Спитридат. Царь увернулся от Спит-
ридата, а Ресака ударил копьем. Оно переломилось, не
причинив персу вреда. Царь выхватил меч и снова бросился
на Ресака. В это время Спитридат повернул коня и сзади
ударил Александра мечом по шлему. Меч скользнул по
поверхности, срубив султан из перьев. Перс взмахнул мечом,
чтобы нанести более верный удар. Но в этот миг на него
налетел брат кормилицы Александра, Клит, по прозвищу
762
"Черный", и пронзил Спитридата копьем. Одновременно
рухнул с коня и Ресак, проколотый мечом царя.
Пока македонская конница, ведя опасный бой,
удерживала захваченный на берегу участок, сюда начала
переправляться пехота Александра. Как только плотные массы
македонской пехоты вступили в сражение, неприятельская
конница обратилась в бегство и рассеялась. Однако
греческие наемники, служившие персам, не пожелали отступать,
и македонянам пришлось начать бой с этой храброй и
хорошо обученной пехотой.
Александр по-прежнему сражался во главе своей
конницы, и на этот раз под ним убили коня — при Гранике
царь бился не на Буцефале, а на другой лошади. Наконец,
упорство греческих наемников было сломлено, и
македоняне овладели полем сражения.
Рассказывают, что в этом бою персы потеряли двадцать
тысяч пехоты и две с половиной тысячи всадников.
Потери Александра составили будто бы всего тридцать четыре
человека, в том числе девять пехотинцев. Однако этим
цифрам нельзя доверять, потому что македонский завоеватель,
подобно многим полководцам, имел обыкновение в своих
сообщениях преувеличивать потери врага и преуменьшать
свои.
Победителям досталась большая добыча, часть которой
Александр отослал жителям Афин, желая снискать их
расположение и обеспечить себе прочный тыл в Греции.
Победа при Гранике открыла македонскому
завоевателю доступ в Малую Азию. Один за другим греческие ма-
лоазийские города без сопротивления сдавались
Александру. Только богатые и могущественные Милет и Галикар-
нас, жители которых при владычестве персов пользовались
большими преимуществами, не пожелали склониться перед
македонянами. Эти города были взяты приступом.
Скоро и глубинные области Малой Азии оказались в
руках Александра. В Гордии, одном из городов Фригии,
македонский царь увидел колесницу, дышло которой было
закреплено сложнейшим узлом, затвердевшим от времени.
Существовало предание, что тот, кто сумеет распутать этот
узел, освободить дышло и ярмо, станет владыкой мира.
Честолюбивый и тщеславный Александр сразу же решил
любым способом добиться успеха. Однако узел не
поддавался никаким усилиям. Александр, не долго думая, выхватил
763
меч и разрубил веревки1. Окружающие царя придворные
льстецы тотчас усмотрели в этом благоприятное
предзнаменование и предвещали Александру покорение вселенной.
Между тем пришло известие, что персидский царь
Дарий III с огромной армией двинулся против македонян.
Александр поспешил ему навстречу. На границе Сирии и
Малой Азии македонская и персидская армии разминулись
во время ночного перехода, двигаясь разными горными
проходами. Только утром оба царя обнаружили свою ошибку
и снова повернули навстречу друг другу. Александр был
рад этой случайности: ему было невыгодно, если бы
пришлось сражаться с сильной конницей персов на обширных
равнинах Сирии. Поэтому Александр поспешил перебросить
свою армию на север, чтобы не дать персам выйти из
узких горных проходов.
Оба войска встретились недалеко от сирийского
города Исса. Горы подходят здесь почти к самому морю,
оставляя у берега лишь небольшую равнину, посреди которой
течет река Пинар. Хотя персидская армия была более
многочисленна, Дарий не сумел использовать это
преимущество. Александру, сражавшемуся по обыкновению в
первых рядах, удалось обратить в бегство отряд
телохранителей царя, состоявший из отборных воинов.
Дарий не выдержал вида устремившихся на него
македонских всадников и бежал с поля сражения. Весть о его
бегстве послужила сигналом ко всеобщему отступлению
персов. Персидская армия была разбита наголову. В руки
победителей попали весь огромный обоз персов и вся
обозная прислуга. Были захвачены роскошная колесница
персидского царя, его палатка, доспехи, масса драгоценной
утвари и денег. Среди пленных находились мать, жена и две
дочери Дария.
Огромная добыча позволила победителю щедро
вознаградить войска и отправить большие богатства на родину
друзьям и родным. Своему воспитателю Леониду Александр
послал благовоний на огромную сумму в 600 талантов. Это
было исполнение клятвы, которую Александр, еще
мальчиком, дал самому себе. Однажды во время жертвоприно-
1 Отсюда современное выражение "разрубить Гордиев узел", то есть
решить запутанную задачу неожиданно простым способом, одним
решительным ударом ликвидировать сложный клубок противоречий.
764
шения он бросил в огонь целую пригоршню ладана1, и
ароматный дым густым столбом поднялся к небу. Леонид, не
успевший удержать мальчика, сердито сказал ему:
"Нечего транжирить то, что не тобой добыто. Вот, когда
завоюешь страну, обильную благовонными деревьями, тогда и
будешь бросать ладан пригоршнями". Посылая Леониду
ладан, тщеславный Александр хотел напомнить ему об этих
словах и похвалиться своими успехами.
Разгромив персидского царя при Иссе, войска
Александра заняли страны, лежащие на восточном побережье
Средиземного моря: Сирию, Финикию и Палестину.
Большинство приморских городов покорилось македонянам без боя;
даже цари острова Кипр явились к Александру с просьбой
взять Кипр под свое покровительство.
Один только богатый финикийский город Тир,
жители которого держали в своих руках морскую торговлю
Персидской державы и получали от этого большие выгоды, не
хотел покориться Александру. Часть города была
расположена на острове. Тир господствовал на море, и поэтому
жители считали, что Александр никак не сможет
принудить их к сдаче.
Осада Тира продолжалась больше полугода (332 г. до
н. э.). Александр приказал сделать в море насыпь, которая
дала возможность вплотную подойти к расположенному на
острове городу. Македоняне непрерывно штурмовали
стены осадными машинами, но жители упорно
сопротивлялись. Только ценой огромных жертв город удалось,
наконец, взять. Разгневанный Александр приказал захваченных
в плен жителей продать в рабство, а часть предать
мучительной смертной казни — распять на крестах.
Во время осады Тира Александр чуть было не погиб и
спасся только благодаря своей отчаянной смелости.
Сирийские арабы часто нападали на македонское войско, и, чтобы
отогнать их, Александр предпринял поход в горы. В горах
1 Обряд сжигания жертв основан на первобытном представлении, что
обитающие на небе боги питаются поднимающимся вверх дымом. Этим
же объясняется принятый у греков обычай сжигать привозимые с
Востока благовонные смолы — ладан и мирру, чтобы умилостивить
богов ароматным дымом.
Ладан очень ценился древними, так как достаточно сжечь
крохотную щепотку его, чтобы благоухание держалось в течение долгого
времени.
765
Александр отбился от остальных и вынужден был с
несколькими воинами остановиться на ночлег. Несмотря на то, что
македонянам даже нечем было развести огонь, а б горах
было холодно, Александр назначил стражу и спокойно
уснул. Среди ночи испуганный часовой разбудил царя и
показал ему множество огней, видневшихся со всех сторон.
Это были костры врагов. Достаточно было арабам
обнаружить македонян, и поход Александра не был бы доведен
до конца.
Осознав опасность, царь поступил самым неожиданным
образом. Бросившись к ближайшему костру, он убил
двоих, гревшихся около огня арабов и, выхватив из костра
головню, вернулся к своим. При помощи этой головни
спутники Александра развели множество костров вокруг лагеря
врагов, так что те решили, что македоняне,
воспользовавшись темнотой, сумели их окружить. Не дожидаясь
рассвета, арабы бежали, оглядываясь, не гонятся ли за ними
македоняне. Александр и его спутники были спасены.
После взятия Тира Александр двинулся на юг, к
Египту. Население Египта давно тяготилось владычеством
персов и часто поднимало против них восстания. Поэтому
египтяне радовались приходу македонян, видя в них
избавителей от персидского ига. Заняв Египет (332 г. до н. э.),
Александр хотел укрепить симпатии египтян,
заинтересовав их выгодами торговли, которая принесла бы Египту
возможность войти в создаваемую завоевателем мировую
державу. Чтобы расширить международную торговлю Египта,
царь решил основать новую гавань на побережье
Средиземного моря.
Александр выбрал широкую полосу земли, лежащую в
западной части дельты между двумя рукавами Нила. У
самого побережья лежит остров Фарос, который Александр
приказал соединить с материком насыпью. Остров вместе с
насыпью составили искусственную бухту, достаточно
обширную для одновременной стоянки большого числа
кораблей. Каналы, соединившие гавань с лежащим к югу Марео-
тидским озером, обеспечили мореходов доками для
постройки и ремонта кораблей и удобными путями во внутренние
области Египта.
Царь сам начертил примерный план города,
расположение главных улиц, рынков, храмов и приказал назвать го-
766
род Александрией, чтобы имя его никогда не было забыто
в Египте (331 г. до н. э.)1.
Стремясь завоевать дружеские чувства жителей,
Александр всячески подчеркивал свое уважение к египетской
религии и обычаям. Вскоре после основания Александрии
царь отправился в тяжелый поход через лежащую на
запад от Египта Ливийскую пустыню. Здесь в нескольких
сотнях километров от долины Нила, среди раскаленных
песков пустыни, находился оазис — небольшой уголок
зеленеющей плодородной земли. Египтяне считали, что здесь
пребывает сам бог солнца Аммон, почитавшийся также и
в Греции, где его отождествляли с Зевсом. В оазисе был
храм Аммона, и жрецы предсказывали здесь будущее.
Многодневный переход через безводную пустыню едва не
погубил сопровождавшее Александра войско. Когда, наконец,
царь добрался до оазиса и пеоедал храму великолепные
подарки, жрец назвал его сыном Зевса-Аммона и предсказал,
что он станет господином миг,л.
С этих пор Александр стал охотно говорить о своем бо
жественном происхождении и не удивлялся, когда его
называли богом. Обожествление царей было на Востоке
обычным явлением: египетские фараоны, вавилонские и
персидские цари считались богами со времени восшествия
на престол. Для жителей Востока утверждение, что отцом
Александра был не царь Филипп, а сам верховный бог
Зевс-Аммон, казалось не бессмысленным хвастовством, но
привычным обоснованием царских прав Александра. Царь
поддержал созданную египетскими жрецами легенду о
своем божественном происхождении, потому что она должна
была помочь ему упрочить власть над покоренными
народами Азии.
Первое время Александр сам весело смеялся со
своими друзьями над нелепым утверждением, что он
бессмертный и всемогущий бог. Однако, по мере того как
множились его успехи, заложенные в его характере гордость и
самонадеянность, усиленные вдобавок всеобщей лестью,
привели к тому, что он и вправду уверовал в то, что ему
1 Место для города было выбрано настолько удачно, что не прошло и
50 лет, как Александрия стала самым многолюдным и цветущим
городом Египта. И сейчас она остается крупным городом Объединенной
Арабской Республики.
767
помогают боги и никакие препятствия не в силах его
остановить.
Первый раз Александр удивил всех смелостью своих
планов еще до завоевания Египта. Вскоре, после победы
при Иссе, тосковавший без своей семьи Дарий прислал к
Александру послов, предлагая заключить мир. Он обещал
македонскому царю руку своей дочери вместе со всеми
землями Персидской державы, лежащими западнее реки
Евфрат. Таким образом, персидский царь соглашался уступить
не только то, что было уже завоевано македонянами, но и
еще многие земли. Дарий предлагал Александру союз и
огромный выкуп, лишь бы тот вернул ему попавших в плен
мать, жену и дочерей.
Приближенные в один голос советовали Александру
согласиться на столь выгодные условия. Слово взял
старый Парменион, ближайший сподвижник Филиппа,
замещавший царя, когда тот уезжал куда-либо. "Если бы я
был Александром, — сказал он, — я бы принял
предложения Дария".
"Если бы я был Парменионом, — быстро перебил его
Александр, — я бы тоже принял!"
Парменион замолчал. Всем стало ясно, что хотел
сказать молодой царь: он один, может совершить то, что не
доступно никакому другому полководцу. На месте Пармени-
она пытаться завоевать всю Персию было бы безумием.
Ему, Александру, не следует соглашаться получить, хотя
бы без боя, половину Персидского государства. Он сумеет
взлть все.
Македонская армия не провела в богатом, плодородном
Египте и одного года. Весной 331 г. до н. э. Александр
вывел своих солдат из долины Нила и повел их через
пустыни Передней Азии в Месопотамию. Здесь он рассчитывал
встретиться с армией персидского царя.
Дарий III понимал, что судьба его государства
решится в грядущей битве, и тщательно к ней готовился. Набрав
в восточных областях огромное войско, он решил не
рисковать и не спешить навстречу македонянам, как сделал
это при Иссе. Неблагоприятные доя персов условия
местности помогли тогда македонянам одержать победу.
На этот раз Дарий сам выбрал поле сражения. На
восточном берегу реки Тигр, недалеко от развалин древней
ассирийской столицы Ниневии, у деревушки Гавгамелы рас-
768
кинулась равнина, на которой персы поджидали
двигавшуюся на восток армию Александра.
Встреча произошла в последний день сентября 331 г.
до н. э. Когда македоняне подошли к расположению
передовых частей персов, был уже вечер. Дарий, опасаясь
неожиданного нападения, приказал построить свою армию в
боевой порядок и всю ночь окруженный факелоносцами
объезжал ряды войска. Наутро персидские воины еле
держались на ногах от усталости, измученные непрерывным
напряжением прошедшей ночи.
Александр не хотел вводить своих солдат в битву
прямо с марша. После тяжелого перехода людям необходимо
было дать отдых, и царь, твердо уверенный, что персы не
решатся покинуть облюбованное ими поле, приказал
расположиться на ночлег неподалеку от персидских позиций.
Македонские полководцы со страхом смотрели на
огромную равнину, откуда, как шум волн, доносился
смутный гул голосов. Правильные ряды персидских костров
начинались совсем рядом и тянулись вдаль во все стороны,
насколько хватало глаз. Устрашенные многочисленностью
неприятельского войска полководцы во главе с Парменио-
ном явились в палатку Александра и умоляли его, если уж
он твердо решил дать здесь сражение, не дожидаться
утра, а воспользоваться темнотой, которая скроет численное
превосходство персов.
"Я не краду побед!" — отвечал Александр и, отпустив
приближенных, заснул крепким сном.
Сражение началось утром. Александр опасался
окружения и поэтому построил свои войска в две линии. В
случае обхода вторая линия должна была повернуться назад
и образовавшееся каре1 могло бы продолжать сражаться на
два фронта.
Расчет царя оказался правильным. Уже в начале
сражения великолепная конница персов стала теснить левое
крыло македонского войска, которым командовал Пармени-
он. Пользуясь тем, что фронт персов был значительно
шире македонского, часть всадников обошла Пармениона слева
и появилась в тылу, где находился македонский обоз.
Положение стало угрожающим, и старый полководец слал к
царю гонца за гонцом с просьбой о подкреплении.
1 Каре — военный строй, представляющий замкнутый прямоугольник,
приспособленный для отражения неприятеля со всех сторон.
769
В этой битве особенно ярко проявилась наиболее
характерная черта Александра — любовь к риску: нависшая
угроза заставила бы более осторожного полководца
направить часть сил на помощь Пармениону — без обоза
македонская армия не смогла бы продержаться во вражеской
стране. Но Александр не хотел отвлекать ни одного
солдата от задуманного им решающего ударл.
— Сейчас не время думать об обозе, — отвечал он
Пармениону.— Если мы погибнем, обоз нам уже не
понадобится; если победим, тем более нечего бояться. Вместо
своего обоза захватим неприятельский.
С этими словами Александр приказал подать свои
доспехи и стал готовиться к бою. Поверх плотной
шерстяном рубахи царь надел двойной холщовый панцирь,
захваченный им при Иссе. Шлем Александра был железным, но
тонкой работы и сиял, как будто был сделан из серебра.
К шлему был прикреплен металлический воротник,
украшенный драгоценными камнями. Но самым ценным в
вооружении царя был меч, замечательной закалки и легкости.
Этот меч подарил ему царь острова Кипр, и он стал
любимым оружием Александра.
К царю подвели Буцефала. Обычно Александр
пользовался другими лошадьми, так как Буцефалу было уже около
25 лет и силы его надо было щадить. Но когда предстоял
бой, Александр всегда садился на своего любимого коня.
В этот момент как раз началось наступление и левого
крыла персидской армии. Часть всадников, отделившись от
общей массы персов, начала обход позиции, где стоял
Александр с македонской и фессалийской конницей.
Это передвижение создало просвет в рядах
противника, и, воспользовавшись этим, Александр немедленно
устремился со всеми своими силами в образовавшуюся брешь.
Вдалеке Александр увидел самого персидского царя.
Дарий стоял на высокой колеснице, окруженный множеством
телохранителей, рослых как на подбор всадников в
блестящем вооружении. Александр и его отряд в бешеном
натиске устремились на царя и его телохранителей. Многие из
них бросились бежать, но самые храбрые отчаянно
сопротивлялись. На глазах у растерявшегося персидского царя
македоняне сталкивали их пиками с коней и добивали
мечами. Свалка была такая, что Дарию не удалось даже
повернуть колесницу, так как трупы лежали под самыми ко-
770
лесами. Казалось, еще немного, и Александр,
сражавшийся в первых рядах, сможет достать противника мечом.
Смертельный ужас охватил Дария, и, вскочив на коня одного
из своих телохранителей, персидский царь ускакал с
поля сражения.
Заметив исчезновение главнокомандующего, персы
стали искать спасение в бегстве. На правом фланге и в
центре македоняне одержали полную победу. Однако на левом
фланге положение Пармениона оставалось трудным, и он
продолжал призывать на помощь. Александру пришлось
отложить преследование Дария и начать переброску войск
на левый фланг. Еще не все войска переправились на
помощь Пармениону, как враги уже стали отступать и на этом
участке.
Битва при Гавгамелах окончательно сокрушила
могущество персов. Теперь у Александра не было больше
серьезных противников, и хотя отдельные области на Востоке
и готовились к сопротивлению, но македонский
завоеватель мог уже провозгласить себя царем всей Азии.
Многие персидские вельможи спешили заявить Александру о
своей покорности, и царь охотно утверждал их
правителями тех областей, во главе которых они стояли раньше.
Чтобы сделать свою власть прочной, Александр хотел
устранить Дария III; для этого надо было или убить его,
или заставить отречься от власти. Но прежде чем
преследовать бежавшего с небольшим отрядом на Восток Дария,
Александр решил воспользоваться плодами своей победы.
Вся Азия лежала перед завоевателем, маня его своими
просторами. Прежде всего Александр решил занять
оставшиеся без всякого прикрытия главные города Персидского
царства.
Македонские войска вошли в величайший город
Востока Вавилон, о сказочных богатствах которого столько
писали побывавшие в нем греческие путешественники.
Несмотря на все нетерпение Александра, ему пришлось дать
здесь отдых воинам, для того чтобы они могли
насладиться радостями жизни перед тяжелыми испытаниями,
ожидавшими их в дальнейшем.
Затем македоняне заняли Сузы — летнюю резиденцию
персидских царей. Отсюда горными проходами в самом
конце 331 г. до н. э. войско переправилось в область
Перейду — древнюю родину персов. Здесь в городе Персеполе
771
находились царский дворец и гробницы предшественников
Дария. В подвалах этого дворца в течение столетий
накапливались богатства, отбиравшиеся персами у покоренных
народов. Теперь все эти сокровища достались Александру.
Только чеканной монеты в этом дворце, а также во дворце
в Сузах Александр захватил несколько тысяч тонн. Чтобы
вывести остальные драгоценности, потребовалось десять
тысяч пар мулов и пять тысяч верблюдов.
Безудержная щедрость Александра, его
пренебрежительное отношение к богатствам, которые ему никогда не
приходилось добывать долгим и терпеливым трудом, приняли
здесь поистине исключительные размеры.
Когда из дворца вывозили персидское золото, Александр
заметил неизвестного ему воина, шатавшегося под
тяжестью взваленной им на себя ноши. Желая поощрить его
усердие, царь закричал ему:
"Ноша покажется тебе легче, если ты потащишь ее не
на телегу, а к себе в палатку!" С этими словами царь
приказал передать воину в собственность все золото, которое
тот нес.
Еще более крупные подарки Александр делал своим
друзьям и приближенным. Когда об этом узнала его мать
Олимпиада, она написала сыну: "Раньше, когда ты еще не
был так богат, ты приобретал друзей, делая подарки.
Теперь же твои подарки столь огромны, что они ставят
людей на один уровень с царями: вместо того, чтобы
приобретать друзей, ты множишь соперников". Тщеславие не
позволило Александру послушаться совета матери. Она
была единственным человеком, упреки которого Александр
выслушивал без гнева, но и ей не позволял царь
вмешиваться в свои дела.
Заняв древнюю персидскую столицу, Александр
поселился в царском дворце. Когда греки и македоняне
увидели Александра восседающего под балдахином на царском
троне, началось всеобщее ликование. Лишь немногие
догадывались, что недалеко то время, когда македонский царь
станет таким же деспотом, каким был до него правитель
Персии.
Стремление унизить персов толкнуло Александра на
поступок, который бросил тень на его имя и славу
победителя. Под предлогом мести за сожжение Афин и
разрушение греческих храмов во время похода Ксеркса Александр
772
разрушил замечательный памятник персидского
искусства — персепольский дворец. Неизвестно, было ли это
сознательной и обдуманной жестокостью или царь поддался
минутному увлечению, подстрекаемый своими
сотрапезниками, ненавидевшими персов. Как рассказывают участники
похода, Александр сам с венком на голове поднес ко
дворцу зажженный факел. С дикими криками радости двигалась
за ним толпа македонян и греков. Огонь охватил
роскошные залы, в которых хранились созданные трудом многих
поколений сокровища искусства, и через несколько часов
от самого красивого здания персидской столицы остались
только пепел и груда развалин.
Что значили теперь какие-то произведения искусства и
даже человеческая жизнь для Александра, разрушившего
державу "великого царя" и занявшего его престол!
Жестокость, не свойственная ранее молодому царю, теперь
свила прочное гнездо в душе всемогущего владыки.
Преследуя бежавшего в Мидию Дария, Александр
занял столицу этой страны, город Экбатаны. В окрестностях
Экбатан Александру показали пропасть, откуда непрестанно
вырывался огонь. Неподалеку из земли сочилась нефть.
Местные жители объяснили царю, что эта жидкость способна
гореть, как смола, и что вырывающийся из пропасти огонь
не потухает, так как источник нефти дает огню все новую
пищу. Александру захотелось тут же испытать свойства
этой жидкости.
Был среди прислужников царя мальчик Стефан,
смешной и невзрачный, но умевший прекрасно петь. Вот этого-
то мальчика Александр приказал обмазать нефтью и
поджечь, чтобы узнать, сможет ли удивительная жидкость
гореть и на человеческом теле: ведь тогда сила ее может быть
использована и на войне.
Не ожидавший зла от своего повелителя, Стефан
охотно позволил сделать над собой опыт. Только когда
испуганный силой пламени Александр отступил, не зная, что
делать, мальчик понял, на что его обрекли. К счастью,
приближенные царя успели сбить огонь, но мальчик остался
калекой на всю жизнь.
Из Мидии Александр поспешил в Парфию, где персы
собирали силы для новой борьбы. Здесь находился и
Дарий. Однако влияние персидского царя было подорвано
страшными поражениями. Ходили слухи, будто Дарий го-
773
тов вступить в переговоры с Александром и признать
македонянина царем Азии, если тот пообещает сохранить ему
жизнь.
Эти опасения заставили персидских правителей
восточных областей, стремившихся не допустить македонян в свои
сатрапии, решиться на низложение царя. Во главе их стал
сатрап Бактрии Бесс. Связав Дария, заговорщики решили
увезти его в Бактрию и принудить здесь царя отречься от
трона в пользу Бесса.
Известие о том, что Дарий попал в руки Бесса,
заставило Александра торопиться. Осуществление планов
восточных сатрапов могло надолго затянуть войну.
Взяв небольшой отряд всадников, Александр начал
преследовать бактрийцев, увозивших Дария. Царь
поставил целью во что бы то ни стало нагнать беглецов и не
давал своим людям ни сна, ни отдыха. Измученные бешеной
скачкой и отсутствием воды, всадники и лошади пришли
в совершенное изнеможение. Однажды в полуденный зной
отряду повстречались погонщики мулов, у которых в
мехах было немного воды. Видя, что царь изнемогает от
жажды, погонщики налили ему полный шлем драгоценной
влаги. Александр осторожно взял шлем обеими руками и
собрался уже пить, как увидел, что все окружающие с
жадностью смотрят на него. Преодолев муки жажды, царь
вылил воду и сказал: "Я не стану пить один без моих
товарищей! Пусть мы все будем в одинаковом положении".
Великодушие Александра вызвало восторг его спутников.
Теперь царь был уверен, что они для него сделают все,
что только в человеческих силах.
Преследование продолжалось, но лошади гибли в
безводной пустыне, и только 60 человек было с Александром,
когда он, наконец, настиг противника.
Лагерь бактрийцев был покинут. На земле валялись
брошенные впопыхах золотые и серебряные вещи; в повозках
кричали женщины и дети. Так велик был страх перед
Александром, что Бесс и его сторонники даже не думали о
сопротивлении. Они бросили все на произвол судьбы и,
захватив только лошадей, бежали.
На одной из колесниц македоняне обнаружили труп
Дария. Бактрийцы убили его, так как стало ясно, что
Александр все равно не прекратит преследования, пока не
получит царя живым или мертвым.
774
Надежды персов на то, что теперь, когда Дарий погиб,
Александр прекратит поход на Восток, оказались
тщетными. Наоборот, убийство Дария создало завоевателю
выгодные условия для прикрытия захватнических целей войны.
Александр притворился глубоко опечаленным смертью
персидского царя. Он сам покрыл тело покойного
пурпурным плащом, повелел отвезти усопшего царя в Персеполь
и торжественно похоронить там среди могил его предков.
Дарий не назначил себе преемника, и в глазах
большинства Александр стал наследником, которому по праву
победителя должно перейти огромное государство. В борьбе с
Бессом Александр выступал теперь не как завоеватель
сохранявшихся восточных частей Персидского государства,
а как представитель законной власти, стремящийся
наказать убийцу предшествующего царя. Та часть населения
Персии, которая была верна Дарию, теперь перешла на
сторону Александра. Македонский царь смог пополнить свою
армию людьми из персидских земель.
Теперь, когда Дария не стало, а его царство перешло к
Александру, македоняне и греки не хотели участвовать в
трудном походе, цели которого были им совершенно
чужды. Все чаще слышались требования македонских солдат
разрешить им вернуться на родину, но Александр умел
заставить людей следовать за собой.
Выделив из армии наиболее преданную ему часть
испытанных воинов, Александр обратился к ним с просьбой
не покидать его в чужой стране. Царь напоминал воинам
о богатствах, которые они захватили, и с горечью
спрашивал, неужели они оставят его одного, его, который
завоевал для них вселенную. Александр был хороший оратор;
когда он почувствовал, что захватил внимание слушателей,
то сказал, что никого не будет удерживать силой и
позволит всякому, у кого хватит подлости бросить товарищей,
вернуться домой. Воины шумными возгласами выражали
свое согласие со словами Александра. Ни у кого не
хватило мужества выступить против царя или настаивать на
своем желании. Уговорив таким образом часть воинов,
Александр без труда заставил продолжать воевать и остальных.
Часть армии во главе с Парменионом Александр
оставил в Мидии, а сам с отборными войсками прошел
гористой страной южнее Каспийского моря в Парфию, одну из
центральных областей Ирана. Отсюда войска Александра
775
выступили в Бактрию. Бесс бежал на север, но местные
жители, не желая навлекать на себя гнев Александра,
выдали его македонянам. По распоряжению царя он был
приговорен к мучительной казни.
Во время восточного похода среди окружения
Александра все громче раздавались голоса, призывавшие царя
удовлетвориться захваченным и не стремиться к новым
завоеваниям. Наиболее дальновидные люди понимали, что
продолжение завоеваний должно привести к неудачам, к
восстаниям покоренных народов и, наконец, к потере всего,
что приобретено оружием и кровью. Но, опьяненный
успехами, Александр не склонен был прислушаться к
голосу благоразумия. Завоевание Персии казалось ему только
началом великого похода. Впереди мерещилось покорение
всей Азии, всего мира.
Царь понимал, что для осуществления этих планов
недостаточно войск, которые пришли из Македонии. Но и
персидские войска, слабость которых Александр знал
лучше кого-либо другого, также были не способны
осуществлять его планы. Поэтому царь приказал набрать 30 тысяч
персидских мальчиков, чтобы обучить их греческому
языку и военным приемам македонян.
Александр стремился расположить к себе местное
население. Он женился на дочери знатного персидского
вельможи красавице Роксане, отказался от македонской
одежды и стал носить персидское платье.
Сначала он стеснялся роскошного царского костюма и
носил его только на торжественных приемах или в
обществе персов; вскоре, однако, он привык к новым одеждам,
стал в них выезжать и появляться перед войсками. Все это
вызывало раздражение македонских воинов, видевших в
поступках Александра стремление отстраниться от своих
старых сподвижников, труды и усилия которых сделали его
повелителем Азии.
Раздражение против честолюбивого завоевателя
сперва проявлялось в насмешках над его одеждой и
поведением, а затем переросло в заговоры и покушения на жизнь
царя. Первый заговор против Александра организовал
македонянин Димн. Оскорбленный поведением царя, он
решил убить его и попытался привлечь к участию в этом
деле своего близкого друга Никомаха. Тот рассказал о
замыслах Димна своему брату, чтобы посоветоваться с ним, как
776
поступить в таком опасном деле. Брат Никомаха донес о
заговоре Александру. Отряд телохранителей был послан
арестовать Димна. Отважный заговорщик оказал
сопротивление и был убит.
Казалось, что с гибелью Димна все нити этого дела
оборвались: невозможно было вести следствие и
установить других участников заговора.
После этого Александр начал расправляться с
наиболее влиятельными македонскими полководцами,
недовольными политикой царя. Вдохновителями и организаторами
заговора были объявлены старейший и почитаемый
македонянами полководец Парменион и его сын Филот, один из
храбрейших командиров македонской конницы. Несмотря
на то, что Филот даже под жесточайшими пытками не
сознался в преступлении, он был казнен. Парменион же был
тайно убит по приказу царя без всякого суда.
Вскоре после этого Александр сам убил Клита, того, кто
спас ему жизнь в битве при Гранике. Во время
пребывания македонского войска в Согдиане1 царю привезли
большое количество свежих фруктов из Греции. По этому
случаю решено было устроить пир. На пиру стали петь
песни, высмеивавшие некоторых македонских полководцев,
которые недавно потерпели поражение в бою с местными
племенами. Клит возмутился тем, что царь в присутствии
персов позволяет издеваться над македонянами. Началась
перебранка. Александр, которому песня понравилась,
закричал Клиту, что тот оправдывает трусов потому, видимо, что
это качество не чуждо ему самому.
— Моя трусость, — воскликнул Клит, — спасла
тебя! Где бы ты был сейчас, если бы я опоздал хоть на миг,
когда Спитридат при Гранике занес меч над твоей
головой? Если ты стал настолько велик, что можешь выдавать
себя за сына Зевса-Аммона, то не забывай, по крайней мере,
что ты достиг этого кровью македонян.
1 Согдиана, северо-восточная сатрапия Персидского государства,
занимала область между реками Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, ныне —
Таджикистан и Узбекистан. Ожесточенное сопротивление согдов и
других племен заставило армию Александра задержаться в этой области
более двух лет, но и за этот срок, несмотря на жестокие карательные
меры, македоняне так и не смогли добиться от местного населения
покорности. Военные неудачи усилили недовольство политикой царя и
были одной из причин, вызвавших случаи открытого возмущения, о
которых рассказывается ниже.
777
Эти слова показались Александру вызовом. Швырнув
в Клита попавшим под руку яблоком, он потребовал,
чтобы ему принесли меч, и приказал трубачу дать сигнал
тревоги.
Но Клит, гордый как все знатные македоняне, не
пожелал уступить.
— Если ты хочешь слышать только приятное и видеть
лишь таких людей, которые пресмыкаются перед твоей
персидской одеждой, не надо приглашать к своему столу
людей, привыкших к свободе! — закричал он.
Друзья, желая погасить внезапно вспыхнувшую ссору,
заставили Клита выйти из зала, но вскоре он вернулся и,
встав в дверях, прочел стихи знаменитого Еврипида из
"Андромахи":
Как плох обычай наш! Когда трофей
У эллинов победный ставит войско
Между врагов лежащих, то не те
Прославлены, которые трудились,
А вождь один хвалу себе берет.
Не долго думая, Александр выхватил из рук одного из
телохранителей копье и метнул его в Клита, который упал,
обливаясь кровью. Так Александр убил спасшего ему жизнь
друга только за то, что тот вступился за своих товарищей
и честно сказал царю то, о чем давно думали все его
соратники.
Вскоре после этого был раскрыт новый заговор против
Александра. При штабе македонской армии имелась
большая группа знатных молодых людей, которые обучались
военному делу, одновременно прислуживая царю и выполняя
его поручения. Их подготавливали к тому, чтобы со
временем они могли занять высшие командные должности в
войске. Юноши ели за царским столом и всюду
сопровождали царя, составляя часть его охраны. Однажды, на
охоте, один из этих знатных юношей Гермолай убил кабана,
которого собирался убить Александр. Разгневанный царь
приказал за это высечь молодого человека плетьми.
Друзья наказанного были возмущены и составили заговор с
целью убить Александра. Однако один из них испугался и
выдал заговорщиков.
Александр лицемерно отказался судить юношей и
передал их для суда и наказания воинам. Стремясь доказать
778
свою преданность царю, воины приговорили заговорщиков
к смерти и побили их камнями.
И на этот раз Александр не удовлетворился
наказанием виновных, а воспользовался раскрытием заговора,
чтобы расправиться с неугодным ему человеком.
Был среди спутников царя ученый грек Каллисфен,
двоюродный племянник великого Аристотеля. Он вырос в
доме своего великого учителя, который рекомендовал его
Александру.
Каллисфен был взят в поход, с тем чтобы составить его
подробное описание и сохранить в памяти потомков
подвиги царя. Ученый аккуратно вел летопись похода и,
восторгаясь смелостью и решительностью Александра,
пользовался расположением всемогущего владыки. Но когда
Александр перенял персидские обычаи и стал жестоким
деспотом, Каллисфен стал избегать посещений пирушек
и торжественных обедов царя. Как и подобает истинному
мудрецу и честному человеку, Каллисфен пытался
использовать свое влияние на царя, чтобы отвратить от
перенимания таких восточных обычаев, которые унижали
достоинство подданных и развращали душу самого Александра.
Когда льстецы, наперебой стремившиеся выслужиться,
стали падать ниц перед Александром, царю это так
понравилось, что он даже разрешал целовать себя тому, кто
распластается перед ним.
Каллисфен не захотел отвесить царю земного поклона,
и рассерженный царь лишил его обычного знака милости.
— Ну что же, — независимо сказал философ, —
будет одним поцелуем меньше!
Свита Александра прониклась после этого случая
большим уважением к Каллисфену и говорила, что он
"единственный свободный человек" из всего окружения царя.
Каллисфен был привлечен к делу о заговоре против
царя. Несмотря на то что никто из осужденных даже не
упомянул имени ученого, Александр приказал подвергнуть Кал-
лисфена строгому заключению, во время которого тот и
умер. Однако это не уменьшило ненависти царя к
ученому. В письмах домой Александр обещал по возвращении
наказать и своего учителя Аристотеля за то, что тот
рекомендовал ему человека, осмелившегося столь открыто
выразить царю свое неодобрение.
779
Около четырех лет прошло после битвы при Гавгаме-
лах, а Александр готовился к новым завоеваниям. На этот
раз он мечтал захватить богатую область реки Инда и
добраться на Востоке до великой реки Океан1, за которой,
как думали в то время, находится конец света.
Перейдя горный хребет Гиндукуш, который приняли за
Кавказ, македоняне очутились в Индии — богатой стране
с прекрасными пастбищами и замечательными
фруктовыми деревьями. Однако климат этой богатой страны
показался македонянам тяжелым и непривычным. Страшная
жара сменялась такими сильными дождями, от которых даже
реки выходили из берегов. Население страны распадалось
на множество мелких государств, правители которых
враждовали между собой.
Войска Александра пересекли Инд в его среднем
течении и углубились в область, орошаемую притоками этой
могучей реки. Здесь, между Индом и одним из его левых
притоков Гидаспом2, находилось государство
могущественного царя Таксила, добровольно присоединившегося к
Александру, чтобы вместе с ним идти на своего постоянного
врага Пора, владения которого начинались восточнее Ги-
даспа.
Подойдя к реке (июнь 326 г. до н. э.), Александр
увидел на противоположном берегу сильное войско Пора, в
котором были не только пехота и всадники, но и
множество боевых колесниц и несколько сот слонов.
Безнадежно было и пытаться прорваться на тот берег, пока там
стояли такие силы. Александр вынужден был пуститься на
хитрость. Делая вид, что готовится форсировать реку в том
месте, где против него стояла армия Пора, Александр с
частью пехоты и отборных всадников незаметно поднялся
несколько вверх по реке, где и переправился на другой берег.
Когда догадавшийся о происшедшем Пор направил
против македонян свою кавалерию и часть боевых колесниц,
1 По представлениям древних, река Океан со всех сторон обтекала
земли, расположенные вокруг Средиземного моря. Полагали, что эта
река начинается у Западной Европы (Атлантический океан), проходит
южнее Африки, Аравийского полуострова, затем огибает Индию и с
севера Европу. Размеры материков во времена Александра представляли
себе значительно меньше действительных, чем и объясняется, что
Гиндукуш принимали за продолжение Кавказа, а Аральское море — за
часть Каспийского, которое считали заливом Северного Океана.
2 Современная река Бехат, или Джелам.
780
отряд Александра сумел отбиться. Пор сам выступил
против переправившейся армии Александра со всем своим
войском. Бой был упорным и длился 8 часов. Индийцы
потеряли несколько тысяч человек и почти всех своих
предводителей. Сам Пор, сражавшийся на боевом слоне, был
тяжело ранен и захвачен в плен.
Потери македонян также были огромны. Александр
понял, что, если он не хочет, чтобы вся Индия объединилась
в борьбе с ним, как это было в Согдиане, необходимо
вести себя милостиво с побежденными и привлекать местных
правителей на свою сторону. Поэтому царь не только не
казнил Пора, но даже дал ему в управление область,
которой он владел раньше. Чтобы обеспечить верность Пора,
он расширил территорию его страны, подчинив ему 15
прежде независимых племен. Теперь, утратив свою свободу, они
ненавидели Пора, и царь для того, чтобы сохранить свою
власть, не мог обойтись без поддержки македонян.
Александру пришлось оставить значительную часть
своей армии в долине Гидаспа для поддержки Пора и Таксила.
Чтобы обеспечить оставшимся воинам безопасность,
Александр построил ряд крепостей. На месте победы над
войсками Пора царь построил большой город и назвал его Ни-
кеей (по-гречески "Победный"), а несколько севернее, где
была совершена переправа, поставил город Буцефалию, в
честь своего боевого коня, который здесь издох от старости.
Битва с Пором подорвала силы и мужество македонян:
они убедились, что в Индии еще много племен, которые
способны продолжать сопротивление.
Чтобы поднять дух утомленных воинов, Александр
прибег к беспощадной строгости. Он наказывал смертью всех
нарушителей дисциплины, не взирая на их прежние
заслуги и высокие должности. Александр старался увлечь
солдат личным примером. Никогда еще македонский царь
так часто не подвергал свою жизнь такой опасности и не
получал таких серьезных ранений, как во время похода в
Индию. При штурме одной крепости в области индийского
племени маллов он едва не был убит. Увлекая за собой
своих воинов, Александр во главе горсти телохранителей
первым вскарабкался на стену и спрыгнул внутрь
крепости. В этот момент лестница, по которой следовали
остальные, обломилась, и царь оказался среди врагов. Видя, что
в крепости находится только Александр и его два оруже-
781
носца, маллы смело набросились на них. Царь и оба
телохранителя отчаянно защищались, но скоро один из них был
убит, а сам Александр получил несколько тяжелых ран и
упал на колени у стены. Только его храбрый оруженосец
Певкест держался еще на ногах и мужественно защищал
царя, заслонив его своим телом. Подоспевшие в последний
момент македоняне вырвали потерявшего сознание
Александра из рук маллов и отнесли в палатку. Царь долгое
время не мог оправиться от этих тяжелых ранений, и
здоровье его было подорвано.
Не в силах сломить сопротивление покоренных им
народов, Александр все чаще жестоко и вероломно
расправлялся с противниками. В одном из городов отряд
индийских наемников упорно защищался до тех пор, пока
македоняне не согласились выпустить их свободно с оружием
и ранеными товарищами. Соглашение было заключено, и
индийские наемники, доверяя слову Александра,
покинули свои укрепленные позиции и хотели разойтись по
домам. Однако македонский завоеватель нарушил свое
обещание и, напав на них, перебил всех до последнего
человека.
В другой раз Александр, вопреки законам войны,
приказал повесить мирных жителей, индийских жрецов, только
за то, что они убеждали индийцев отстаивать свою
независимость.
Однако жестокие расправы не запугали индийцев, а
только усилили их сопротивление завоевателям.
Александр считал, что сразу за долинами Инда и его
притоков должен находиться конец обитаемой земли.
Теперь из расспросов индийцев стало ясно, что до "конца
земли" еще очень далеко. Войска дошли до самого
восточного из притоков Инда, реки Гифасиса1. Александр узнал, что
за рекой простирается пустыня, перейдя которую можно
попасть в долину реки Ганг, где обитает множество
народов и находятся богатые и многолюдные государства.
Даже тени сомнения не появилось у Александра в том,
сумеет ли он с растаявшей наполовину армией покорить
остальные народы мира. Упоенный своим величием,
считая, что ему, сыну Аммона, предназначено стать
господином всей земли и всех народов, царь отдал приказ двигаться
Ныне река Сатледж.
782
дальше на Восток. Но тут, на Гифасисе, Александр
впервые столкнулся с противником, сопротивление которого не
смог одолеть ни подкупом, ни жестокостью. Этим
противником была его собственная армия. Воинов нельзя было
заставить выступить ни угрозами, ни посулами.
Бессмысленность дальнейшего похода была ясна всем, кроме
Александра. Царь понял, что ему придется уступить.
На три дня Александр заперся в своей палатке, не
желая видеть никого из своих полководцев. Наконец, он
вышел к воинам и объявил, что войско возвращается на
Запад. Александр не мог допустить, чтобы обратный путь
выглядел отступлением. Было объявлено, что царь решил
увидеть Океан и подчинить племена, жившие в устье Инда.
Было построено около двух тысяч лодок и плотов. На
них была посажена часть пехоты. Караван двинулся вниз
по течению реки к "Внешнему морю", как тогда называли
Индийский океан. Остальное войско сопровождало суда,
двигаясь по обоим берегам реки.
Путь не был спокойным: то и дело приходилось
высаживаться на берег и выдерживать тяжелые битвы с
местными племенами и народами. Около семи месяцев длилось
плавание. Наконец, македоняне достигли Индийского
океана. Здесь войско разделилось. Александр считал
необходимым исследовать морской путь из Индии к
Персидскому заливу и, поручив корабли опытному флотоводцу
греку Неарху, приказал ему плыть к устью Евфрата. Большая
часть армии во главе с самим царем двинулась на запад
вдоль берега Индийского океана. Во время двухмесячного
перехода по жаркой и безводной пустыне македонское
войско испытало такие страшные лишения, что из огромной,
более чем стотысячной армии, с которой Александр
вторгся в долину Инда, осталось в живых меньше четвертой
части. Опасные болезни, страшная жара и голод истребили
больше солдат, чем самые кровопролитные сражения.
Македоняне шли через страну, население которой не
знало еще земледелия и было так бедно, что даже самые
богатые из местных жителей имели всего по нескольку
овец, которых они за недостатком травы кормили иногда
рыбой.
В изношенной одежде, почти без оружия, потеряв всех
лошадей и вьючный скот, македоняне достигли главного
783
города персидской сатрапии Гедрозии (нынешнего
Белуджистана).
В столице Гедрозии было заранее приготовлено все для
возвращающейся армии. Александр дал войску отдых, а
затем приказал идти через Персию к Вавилону. Царь
стремился создать впечатление, что люди погибли не зря и
индийский поход увенчался грандиозным успехом.
По приказу Александра возвращение армии приняло
характер торжественного шествия. Войско шло медленно,
делая частые остановки. Впереди на колеснице,
запряженной восьмеркой лошадей, ехал сам царь, окруженный
пышной свитой. За ним двигались бесчисленные колесницы, на
которых ехали его друзья и военачальники. Дальше
следовало остальное войско. Нигде не было видно ни щита,
ни шлема, ни копья. Всю дорогу солдаты кружками,
бокалами и кубками черпали вино из огромных глиняных
сосудов и пили за успешное окончание похода. Одни
продолжали идти вперед, другие, опьянев, падали наземь и
оставались лежать, пока их не поднимали. Везде раздавались
звуки флейт, слышалось пение. Процессия напоминала
скорее праздник в честь греческого бога виноделия
Вакха-Диониса, чем возвращение армии.
Так завершился восточный поход Александра, и воины
вернулись в Вавилон, куда по реке Евфрату приплыл и Не-
арх со своим флотом.
Долгое отсутствие Александра и неоднократно
распространявшиеся слухи о его гибели привели к тому, что во
время его отсутствия в стране начались восстания против
македонян. Многие персидские вельможи и македонские
военачальники, поставленные Александром во главе огромных
сатрапий, изменили царю и стремились стать в своих
владениях независимыми государями.
Сразу же после возвращения из Индии македонский
завоеватель должен был снова выступить в поход против
восставших племен и непокорных сатрапов. Действия
Александра, как обычно, отличались быстротой и жестокостью:
многие знатные персы, греки и македоняне были казнены,
возмутившиеся племена приведены к повиновению.
Хотя начавшийся распад громадной империи ясно
показал, что старая персидская система управления
ненадежна, царь все-таки решил сохранить ее в
неприкосновенности. Он надеялся, что эта организация государства, про-
784
существовавшая столь долгое время, сумеет обеспечить
прочность его завоеваний.
Александр подражал древним властителям. По обычаю
персидских царей-завоевателей, возвратясь из индийского
похода, он подарил каждой женщине по золотой монете.
Он восстановил разрушенную македонянами гробницу
основателя Персидского царства Кира. Чтобы прекратить
вражду между победителями и побежденными и сплотить
их в единый народ, Александр потребовал от своих
солдат и полководцев, чтобы они женились на персиянках.
В Сузах Александр устроил грандиозную свадьбу. По
обычаю персов, он взял себе вторую жену Статиру, дочь
доведенного им до гибели персидского царя Дария III.
Одновременно его ближайшие друзья и сподвижники, всего
около 80 человек, женились на знатных персиянках.
Десять тысяч простых воинов тоже праздновали в этот день
свадьбы с местными женщинами. Всем этим воинам царь
обещал заплатить их долги, как бы велики они ни были.
По случаю свадьбы был устроен роскошный пир, и
каждому гостю Александр подарил по золотой чаше.
Однако все попытки царя сплотить македонян и греков
с персами потерпели крах. Персы, еще хорошо помнившие
о своей недавней независимости и господствующем
положении в государстве, ненавидели завоевателя и были
ненадежной опорой. Недовольство греков и македонян
продолжало расти. Особенно сильное возмущение воинов
вызвало решение Александра включить в армию те 30 тысяч
молодых персов, которые по его приказу проходили у
греков обучение военному делу.
Когда царь устроил неподалеку от Вавилона в городе
Описе торжественное прощание с отправляемыми на
родину больными и ранеными воинами, македонские войска
взбунтовались и потребовали, чтобы он отпустил домой
всех. Александру это требование показалось чудовищной
неблагодарностью. Сперва он попытался усмирить бунт
силой. Выйдя к войску, он вытащил из строя 13 воинов,
которые, как ему показалось, кричали громче других, и тут
же приказал их казнить. Когда стало ясно, что солдаты не
испугались этой расправы и бунт может перерасти в
большое восстание, Александр изменил тактику. Теперь он
пытался уговорить солдат, вызвать жалость к себе у старых
соратников.
785
26 532
— Идите, — кричал он воинам, — и скажите всем,
что вы покинули своего царя на попечение тех врагов, с
которыми он только что воевал!
Александр обещал щедрые подарки, и ему еще раз
удалось уговорить большинство македонян остаться. Только
10 тысяч, твердо настаивавших на своем намерении,
были отправлены на родину.
На вершине своих успехов, добившись осуществления
самых смелых замыслов, Александр чувствовал себя
совершенно одиноким, лишенным всякой опоры. Огромная
империя, неограниченным властелином которой он был,
несмотря на кажущуюся покорность и спокойствие, таила в себе
грозные и враждебные силы. Достаточно было одного
неверного шага, малейшей ошибки, незначительного поражения,
и повсюду снова могло вспыхнуть всеобщее возмущение.
Понимая всю опасность своего положения, некогда
бесстрашный македонский завоеватель стал трусливым и
суеверным. Его терзал страх. Он старался узнать свою
судьбу и проникнуть в будущее. Царский дворец наполнили
жрецы и гадатели, прорицатели и другие обманщики,
пользующиеся душевной слабостью царя.
Александр не доверял самым близким друзьям. Ему
всюду мерещились заговоры и измена. Даже старый друг его
отца, полководец Антипатр, которому Александр,
отправляясь в Персию, доверил управлять Грецией и Македонией,
внушал теперь царю страшные опасения.
Александр считал, что только с помощью страха,
внушаемого своим подданным, он сможет сохранить власть.
Ему нужно постоянно поражать воображение покоренных
народов грандиозными предприятиями, все новыми
победами внушать им веру в свое всесилие. Только так надеялся
он удержать в повиновении многочисленные подчиненные
ему народы.
У Александра не было пути назад; он не мог
остановиться, отдохнуть, оглядеться. И царь разрабатывает все
более смелые, фантастические проекты. Он готовит большую
морскую экспедицию во главе с Неархом, которая должна
объехать Аравию и Африку и вернуться через
Гибралтарский пролив в Средиземное море. Царь подготовлял
грандиозный поход на Запад для покорения Северной Африки,
Италии и Испании. В связи с этим он собирался строить
дорогу через пустыню Сахару и прорыть вдоль нее колод-
786
цы. Три тысячи греческих мастеров и ученых работали над
углублением русла реки Евфрат и превращением
Вавилона в морской порт.
Архитектор Стасикрат предложил превратить гору Афон
во Фракии в гигантскую статую Александра. На ладони
левой руки эта статуя должна держать целый город с
десятитысячным населением, а из правой руки должен был
вытекать горный поток, впадающий в море.
Все эти планы показывали, что македонский
завоеватель, упоенный своими успехами, утратил чувство
реальности. Сподвижники царя понимали, что попытки
осуществления этих проектов только ухудшат и без того
опасное положение, в котором оказались завоеватели. Надо
было думать не о покорении новых стран, а о сохранении
уже завоеванных территорий, хотя бы ценой уступки
некоторых наиболее отдаленных и беспокойных областей. Но
Александр не считался ни с чьим мнением, кроме своего,
да и высказывать мнение, отличное от царского, теперь уже
никто не решался. Александр верил в свою удачу и не
сомневался, что ему удастся все, что бы он ни задумал.
Даже сама природа, считал он, должна будет уступить ему:
чтобы доказать это себе и другим, царь назначил начало
африканского похода в самые жаркие летние месяцы.
Однако этому походу не суждено было начаться. В
разгар приготовлений к нему Александр внезапно захворал и,
проболев всего несколько дней, скончался 13 июня 323 г.
до н. э. на тридцать третьем году жизни.
Тотчас же ближайшие сподвижники Александра стали
спорить о том, кому должна перейти власть в огромном
созданном его завоеваниями государстве. Александр не
назначил наследника, жена его только ждала ребенка,
сводный брат был слабоумным. Каждый из полководцев мечтал,
выдвинув своего кандидата на престол, править от его
имени. Еще не успели похоронить завоевателя, как ссоры у
гроба перешли в вооруженные столкновения. Скоро эти
столкновения переросли в войну, и огромная империя,
созданная Александром, распалась. Она была недолговечна
потому, что объединяли ее только сила и страх.
Судьба Александра показывает, как изменился его
характер, когда силой обстоятельств он достиг
неограниченной власти и получил возможность бесконтрольно
распоряжаться сотнями тысяч себе подобных.
787
Подозрительность и жестокость, презрение к
окружающим и боязнь заговоров появились у Александра только
после того, как он достиг могущества, которым не обладал
до него ни один человек. И даже хорошие качества
Александра под влиянием лести и всеобщего поклонения
переродились: честолюбие перешло в тщеславие, смелость в
безрассудство, гордость в манию величия.
АГИС
(III в. до н. э.)
Греция уже около ста лет томилась под владычеством
Македонии. Зажиточные граждане не только примирились
с таким положением, но были даже рады ему: в
македонянах они видели защитников от бедняков, угрожавших их
богатству. Борьба между богатыми и бедными
продолжалась по всей Греции. Всюду свободные бедняки жили в
страшной нищете и были готовы подняться против богачей
и их покровителей — македонян.
Особенно тяжелым было положение простого народа в
Спарте. Все земельные и денежные богатства
сосредоточились там в руках кучки богачей. Полноправных граждан
(спартиатов), владевших некогда равными участками
земли, теперь оставалось несколько сот семей; из них только
789
около сотни имели земельные участки; у остальных не
было ни земли, ни имущества, и они были гражданами
только по имени.
Прочее население Спарты состояло из периэков
(неполноправных жителей), иностранцев и илотов — рабов.
Периэки должны были нести военную службу и все*
тяжелые государственные повинности, а также платить
различные налоги. Спартанские законы, запрещавшие спарти-
атам заниматься ремеслом и торговлей, не
распространялись на периэков. Поэтому среди них было немало
зажиточных людей, но большинство периэков, вследствие
своего бесправия, тяжелых налогов и законов,
ограничивающих торговлю, бедствовали.
Богачи утопали в роскоши, которая вызывала
удивление даже иностранцев. Под видом восстановления
старинных общих обедов (сисситий1) богачи устраивали в своих
великолепных дворцах роскошные пиршества. Зато простой
народ ютился в жалких хижинах, не имея подчас и куска
хлеба.
В руках богачей и их ставленников находилась вся
власть в государстве. Народное собрание не имело силы.
Всеми государственными делами распоряжались коллегия
эфоров и совет старейшин (геронтов) — исполнители
воли богачей. Командование было вверено двум царям,
которые имели власть только на войне. Цари принадлежали к
двум враждовавшим между собой семьям (домам) — Ев-
рипонтидов и Агиадов. Эфоры старались поддерживать
вражду между царями, чтобы, пользуясь ею, самим
управлять Спартой.
Спартанское государство некогда было самым
могущественным в Греции, теперь же оно находилось в глубоком
упадке. С помощью наемного войска спартанцы вели
бесконечные войны с соседями из-за пограничных земель.
Военные расходы ложились тяжелым бременем на народ,
периэков и иностранцев. Богачи, разумеется, совершенно не
заботились о народных интересах, сам же народ под
гнетом такой жестокой нужды думал лишь о ежедневном
пропитании и неохотно защищал родину от внешних врагов.
Перестали посещаться гимнасии и сисситий, никто не за-
1 См. выше биографию Ликурга.
790
ботился о народных нуждах, о благе и могуществе
государства.
Таково было положение в Спарте, когда на престол
вступил молодой царь Агис IV (около 245—241 гг. до н. э.).
Агис был шестым преемником царя Агесилая, жизнь
которого мы уже знаем. Агис воспитывался своей матерью Аге-
систратой и бабкой Архидамией. Эти женщины
принадлежали к числу самых богатых в Спарте. Детство Агис
провел в роскоши, и воспитатели менее всего подготовляли
его к будущей деятельности преобразователя. Все же
молодой царь получил достаточное образование, а самое
главное, проникся любовью к обездоленному народу и твердым
желанием улучшить его положение и восстановить былое
могущество Спарты.
По уму и высоким душевным качествам Агис не
только превосходил второго царя Леонида, но и был одним из
самых выдающихся людей своего времени. Скоро он
сделался любимцем простого народа Спарты.
Тяжело переживая упадок родного города, он понял,
что только коренные реформы могут помочь народу и
воскресить могущество государства. "Прежде всего, — думал
Агис, — необходимо вернуть народу захваченные
богачами земли и имущество, уничтожить долги и пополнить
число полноправных граждан за счет периэков и иностранцев".
Двадцати лет от роду царь стал готовиться к
выполнению своего великого плана. Он переменил образ жизни,
отказался от роскошных одежд и изысканной пищи,
вернулся к старинной спартанской простоте, с гордостью
носил грубый плащ и ел черную похлебку. Этим он хотел
показать пример богатым согражданам, призывая их
вернуться к суровой жизни предков. Такое поведение
молодого царя многим спартанцам казалось странным и
неподобающим царскому достоинству.
Спартанские цари в то время уже переняли образ
жизни восточных властителей: они ходили в роскошных
одеждах, имели множество слуг и т. д. Товарищ Агиса по
правлению, второй царь Леонид жил в роскоши и обращался
с народом заносчиво и надменно.
Хотя поведение Агиса казалось многим удивительным
и необычным для спартанского царя, но еще более
поразили всех его слова о том, что он намерен восстановить
древние законы, разделить земли и уничтожить долги.
791
Простой народ и образованная молодежь с восторгом
откликнулись на призыв царя. Юноши были полны любви
к родине и стремления возродить ее былую славу.
Ярыми противниками Агиса сделались, конечно,
богачи, во главе которых стал царь Леонид. Он принадлежал к
другой царской семье, Агиадов, всегда враждовавшей с Ев-
рипонтидами, из которых происходил Агис.
Леонид вступил на престол уже стариком после
смерти своего племянника, малолетнего царя; свою молодость
он провел при дворе сирийского царя Селевка и там
усвоил восточные обычаи. Простой народ не любил Леонида.
Из страха перед народом старый царь не решился
выступить открыто против предполагаемых преобразований, а
тайно вредил молодому царю. Леонид говорил, будто Агис в
награду за раздел земли и имущества богачей потребует,
чтобы его провозгласили тираном.
Несмотря на противодействие Леонида и его
единомышленников, Агису удалось привлечь на свою сторону
некоторых влиятельных и богатых людей: Лисандра (потомка
знаменитого Лисандра), Мандроклида и, наконец, своего
дядю с материнской стороны Агесилая. Однако дядя царя Аге-
силай примкнул к замышляемому перевороту из корыстных
соображений, в надежде избавиться от своих огромных
долгов.
Затем Агис рассказал свой план бабке и матери и
другим богатым и влиятельным женщинам. "Богатством, —
говорил он, — я не могу сравняться с другими царями.
Только умеренностью, простотой, презрением к богатству
могу я стать выше их роскоши. Возвратив народу равенство
и общее владение имуществом, я приобрету имя и славу
истинно великого царя". Царь просил мать и бабку отдать
их огромные богатства на благо родины. Мать сначала
испугалась замысла молодого царя и пыталась отговорить
сына. Потом, увлеченная его благородным порывом, она
стала вместе с другими женщинами торопить его приняться
за дело. Она приглашала к себе знатных и богатых
женщин и советовала им употребить их влияние на мужей,
отцов и братьев в пользу плана молодого царя.
Агис начал с того, что провел в члены коллегии
эфоров своего единомышленника Лисандра. При посредстве
Лисандра он внес в совет старейшин проект закона (ре-
тру) об уничтожении долгов и разделе земли.
792
По новому закону предполагалось отменить долги,
разделить всю землю в государстве на 4500 больших
участков для спартиатов и 15000 меньших, которыми будут
владеть периэки. В число спартиатов Агис хотел включить
некоторых периэков и молодых иностранцев, физически
здоровых и получивших воспитание свободного человека.
Вместе с тем восстанавливались забытые уже сисситии; для
этого образовалось пятнадцать товариществ, по 300 членов в
каждом. Все члены товарищества должны были вносить
свою долю продуктов питания и подчиняться древней
военной дисциплине.
Сторонники Агиса — Лисандр, Мандроклид и Агеси-
лай — убеждали народное собрание (апеллу) и старейшин
(геронтов) принять закон. Однако среди геронтов не было
единодушия. Тогда выступил с горячей речью царь Агис.
Он напомнил о воинской славе и доблести предков,
взывал к совести и долгу спартанцев. Он призывал возродить
могущество Спарты и заявил, что жертвует на благо
родины свои огромные богатства (до 600 талантов) и
земельные участки. То же сделают, как он обещал, его мать,
бабушка, родственники и друзья — первые богачи в Спарте.
Народ встретил это заявление молодого царя бурным
одобрением. Когда улеглось ликование народа,
приветствовавшего реформу молодого царя, поднялся царь Леонид
и ядовито спросил Агиса, почему же он выдает свою ре-
тру за восстановление подлинных ликурговых законов. "Ли-
кург ведь, — сказал он, — не мог требовать отмены
долгов и передела земли, да и предлагаемое принятие в
число граждан иностранцев противоречит закону Ликурга,
который учил ненавидеть иностранцев". Агис, отвечая
Леониду, сказал: "Понятно, что ты плохо знаешь закон
Ликурга, так как ты все время жил при дворах восточных
царей и даже женился на бывшей жене одного из сатрапов.
А то бы ты знал, что Ликург вместе с деньгами
уничтожил в Спарте и должников и заимодавцев. Что же
касается иностранцев, то Ликург изгонял тех из них, кто
показывал своим образом жизни дурной пример гражданам".
В совете старейшин голоса геронтов разделились
почти поровну. Противники реформы одержали победу всего
лишь большинством одного голоса.
Тогда Агис и его друзья задумали действовать не
убеждением, а силой. Для этого им надо было прежде всего ус-
793
транить царя Леонида. Лисандр в качестве эфора решил
привлечь его к суду в силу древнего закона, который
запрещал спартанским царям жениться на иностранках. Для
этого он ловко использовал против царя один старинный
обычай.
Обычай этот состоял в том, что через каждые девять
лет эфоры в светлую и безлунную ночь в особом
помещении наблюдали небесные явления. Если в это время на небе
они видели падающую звезду, то это считалось знаком, что
один из спартанских царей неугоден богам. В таких
случаях царей вызывали в суд и разбирали все их поведение с
самого рождения.
И вот Лисандр заявил, что видел, как упала звезда.
Поэтому царь Леонид был привлечен к суду. Свидетели
показали, что во время пребывания в Азии он женился на
дочери сатрапа и имел от этого брака двоих детей. В силу
спартанского закона Леонид должен был лишиться
престола. Однако он не явился в суд и, не дожидаясь
приговора, бежал в храм. Афины Меднодомной1 (по греческим
обычаям храмы считались неприкосновенными; в них
находили убежище обвиняемые и преступники). Тогда
эфоры объявили его лишенным престола и избрали царем его
зятя Клеомброта — сторонника реформы. Дочь Леонида,
жена Клеомброта покинула мужа и, явившись в храм, где
нашел убежище отец, стала вместе с ним умолять народ о
защите.
Между тем, несмотря на удар, нанесенный главному
противнику, власть царя Агиса была очень непрочной:
истек срок полномочий эфоров и были избраны новые.
Новая коллегия оказалась целиком из сторонников бывшего
царя Леонида. Вступив в должность, эфоры разрешили
Леониду выйти из убежища и обвинили Лисандра и Мандрок-
лида в противозаконных действиях.
Самим царям Агису и Клеомброту грозила участь
Леонида, если не будут приняты быстрые и решительные
меры. Тогда оба царя с толпой своих сторонников явились на
городскую площадь, где заседали эфоры, и прогнали их,
назначив на их место других. В числе новых эфоров был
1 Богиня Афина — одно из главных греческих божеств. Она имела в
Спарте местное прозвище "Меднодомной", потому что стены ее храма
были обшиты медными листами.
794
и дядя царя Агесилай. В то же время цари вооружили
многих своих приверженцев и освободили из тюрем
неоплатных должников. Эти меры навели страх на противников
реформ: они ожидали со стороны царей насилий и убийств.
Цари, однако, никого не казнили. Агис даже помог бежать
своему врагу Леониду в аркадский город Тегею.
Таким образом, казалось, все препятствия для
проведения реформ были устранены. Но среди самих
помощников Агиса нашелся человек, который сумел испортить все
дело. Этот человек был дядя царя Агиса, Агесилай. Он стал
убеждать Агиса и Лисандра отложить главную реформу —
раздел земель и имущества, — а начать с уничтожения
долгов.
Сам Агесилай мечтал избавиться от огромных долгов,
но вовсе не хотел отдавать народу свои крупные поместья.
Он говорил своему племяннику, что, если обе меры —
передел земли и отмена долгов — будут проведены
одновременно, то начнутся волнения: крупные землевладельцы
объединятся с ростовщиками-заимодавцами; лучше будет поэтому
сначала отменить долги; тогда, по его словам,
землевладельцы, благодарные за отмену долгов, легче примирятся с
переделом земли. Царь согласился.
В один прекрасный день все долговые обязательства
были снесены на площадь и торжественно сожжены.
Зрелище это, конечно, не всем понравилось:
богачи-заимодавцы ушли с площади, затаив злобу против царей и
Агесилая. Народ ликовал, но требовал немедленного
раздела земель и имущества богачей.
Законодатели, мечтавшие возродить могущество
Спарты, решили приступить теперь ко второй, самой важной
части реформы — раздать землю и создать слой крепких
землевладельцев, способных с честью воевать за родину. Но
теперь тот же Агесилай сумел опять воспрепятствовать
реформе: он был неистощим на всяческие выдумки и
отговорки, лишь бы только затянуть дело.
Между тем внешние дела Спарты требовали
выступления царя Агиса в поход. Пришлось отложить до
окончания войны дальнейшие преобразования государственного
строя.
В эпоху могущества Македонии в Греции образовались
два крупных объединения государств — Этолийский союз
(в Западной Греции) и Ахейский союз (на севере Пелопон-
795
неса). Целью этих союзов была борьба против македонского
влияния, но союзы эти часто воевали друг с другом и с
остальными греческими государствами.
Ахейский союз вместе со Спартой воевал в это время
против этолийцев. Глава Ахейского союза, стратег Арат,
ожидал вторжения этолийцев в Пелопоннес и призвал на
помощь царя Агиса.
Агис прошел со своим отрядом весь Пелопоннес,
всюду беднота с радостью встречала его, ожидая помощи
против богачей. Наоборот, богатые с неудовольствием и
подозрением следили за движением спартанцев, боясь, что те
возбудят всеобщее восстание бедноты.
Отряд Агиса состоял в большинстве из людей, только
недавно освободившихся от долговых обязательств. Его
воины надеялись по возвращении из похода получить
участки, нарезанные из земель, отобранных у богачей; поэтому
все войско было искренне предано своему молодому
полководцу, в нем царили строгая дисциплина и горячее
воодушевление. Глава Ахейского союза Арат боялся
революционного настроения бедноты в Пелопоннесе,
поддерживаемого присутствием спартанцев. Он решил поскорее
отделаться от Агиса и его войска. Поблагодарив царя за
помощь, он отпустил своих союзников.
Агису пришлось возвратиться в Спарту. Здесь он
нашел полную перемену настроения граждан. Противники
реформы, ободренные отсутствием царя, подняли голову;
народ же, возмущенный отсрочкой раздела земель и
имущества, волновался.
Поводом для открытого выступления противников
Агиса послужили незаконные действия и насилия дяди царя,
эфора Агесилая. Он в отсутствие племянника сбросил
маску сторонника реформы и откровенно стремился к власти
и личному обогащению. Так, например, желая принудить
народ уплатить налоги за лишний месяц, он добавил в
календарь тринадцатый месяц, хотя в этом году это не
полагалось1. Затем Агесилай окружил себя вооруженной
охраной. К народу он относился высокомерно, с презрением.
1 У греков был лунный календарь; лунный год не точно
соответствует солнечному году (времени обращения земли вокруг солнца),
лунный месяц меньше солнечного. Чтобы времена года начинались всегда
в одни и те же месяцы, приходилось время от времени вводить
лишний месяц.
796
В довершение всего этот зазнавшийся человек объявил, что
если он будет и на следующий год эфором, то
расправится со всеми своими врагами.
Агис, будучи по натуре человеком мягким и
доверчивым, не сумел вовремя положить конец беззаконию
Агесилая. Вместо решительных и смелых мероприятий,
нужных в такой момент, царь бездействовал, не зная, за что
взяться. Такая нерешительность Агиса в глазах народа была
свидетельством его измены народному делу и сочувствия
насилиям Агесилая. Все думали, что и царь заодно с Аге-
силаем и обманывает народ.
Враги реформы и Агиса между тем решили
восстановить Леонида на престоле. Они набрали наемников и с их
помощью вернули бывшего царя из изгнания. Дело Агиса
было теперь окончательно проиграно.
Народ не понимал еще, какой опасности подвергается
его защитник Агис, а с ним и судьба реформы. Народная
ненависть была обращена в этот момент всецело против
Агесилая, и поэтому народ отнесся равнодушно к
возвращению старого царя Леонида.
Вернувшись к власти, Леонид немедленно начал
расправу со своими противниками. Агесилаю удалось спастись
бегством из города. Оба царя должны были искать
убежище в храмах богов. Агис бежал в храм Афины Меднодом-
ной, а Клеомброт — в храм Посейдона1.
Дочь Леонида и жена Клеомброта, Хилонида, узнав о
несчастье мужа, села перед храмом, непричесанная, в
грязной одежде в знак печали, и умоляла вместе со своими
детьми народ и царя о защите. Обращаясь к царю
Леониду, она сказала: "Если тебя не трогает, отец, горе твоих
внуков и слезы дочери, то знай, что муж будет наказан
строже, чем ты хочешь: первой на его глазах умрет его
любимая жена, твоя дочь".
Вспомнив, что Хилонида раньше просила и за него,
Леонид ради дочери пощадил зятя и отправил его в
изгнание. Хилонида же вновь пошла в изгнание, на этот раз
вместе с мужем и детьми.
Так неожиданно для нее самой дочерняя верность
спасла Хилониде мужа, хотя отец его и ненавидел. Что
касается царя Клеомброта, то он мог, имея такую преданную
Посейдон — бог моря.
797
жену, считать изгнание большим счастьем, чем обладание
властью.
Затем царь Леонид устранил прежних эфоров и
назначил на их место своих сторонников.
Теперь месть Леонида и эфоров обратилась против Аги-
са. Сначала Леонид пытался лживыми обещаниями
прощения убедить несчастного беглеца выйти из храма. Агис не
верил своему врагу и продолжал оставаться в храме.
Однако, покинув на короткое время свое убежище для того,
чтобы выкупаться, он был окружен, изменнически схвачен
подосланными людьми, которых считал своими друзьями,
и брошен в тюрьму. Это произс)шло рано утром, до рассвета,
улицы города были пусты, и никто из граждан не пришел
на помощь царю.
Опасаясь народного возмущения и попыток
освобождения Агиса, эфоры и геронты решили немедленно покончить
с ним. Эфоры явились в тюрьму и начали допрос Агиса,
лицемерно требуя, чтобы тот оправдывался, как будто дело шло
о настоящем, справедливом суде. "Действовал ли ты по
собственному побуждению, или тебя принуждали Агесилай и
Лисандр?" — спросил царя один из эфоров. "Никто меня
не принуждал, — отвечал царь.— Я действовал так, желая
восстановить древние законы Ликурга." "Раскаиваешься ли
ты в своих поступках?" — был новый вопрос. "Никогда и
ни за что. Я готов скорее претерпеть всяческие мучения и
идти на смерть, чем раскаяться в том, что считаю благом
для родины", — отвечал благородный царь.
Суд был кончен. Агис был приговорен к смерти, и
стражи получили приказание отвести его в помещение, где
совершались казни. Однако тюремщики и наемные воины
отказались наложить руки на невиновного и всеми любимого
царя. Тогда один из противников Агиса, человек
необыкновенной силы, схватил царя и сам потащил к петле,
которой его должны были задушить.
Нужно было спешить, так как весть об аресте и
приговоре над царем быстро распространилась по всему
городу. За воротами тюрьмы был слышен шум и виден свет
факелов, освещавших толпу народа. Раздавались вопли матери
и бабки Агиса, которые прибежали к тюрьме и с
громкими рыданиями требовали, чтобы спартанскому царю была
дана возможность оправдаться перед народом.
Враги бывшего царя поспешили с казнью. Идя к месту
798
казни, Агис увидел одного из своих сторонников в слезах.
"Перестань плакать! — сказал он. — Погибая
несправедливо, вопреки закону, я стою выше своих убийц". С
этими словами он добровольно подставил свою шею
смертельной петле.
На крики и шум толпы за ворота тюрьмы вышел один
из эфоров. Его встретили здесь мать и бабка Агиса,
умоляя спасти сына и внука. Эфор заявил им, что бывший царь
находится вне опасности, и предложил войти в тюрьму и
лично убедиться в этом. Обманутые женщины вошли в
ворота тюрьмы, и успокоившаяся толпа стала расходиться.
Тогда эфор приказал запереть ворота и отдал обеих
женщин палачам.
Сначала задушили бабку Архидамию в том же
помещении, где был Агис. Когда вошла туда ничего не
подозревающая Агесистрата, она увидела труп сына, лежащий на
земле, и мать, висящую в петле. Несчастная женщина
сохранила еще столько твердости, что сняла труп матери и,
положив его рядом с сыном, приготовила к погребению.
Затем она добровольно отдалась в руки палачей.
Первая попытка реформ закончилась неудачно,
во-первых, потому что невозможно было вернуть Спартанское
государство, находившееся в состоянии глубокого упадка, к
Ликурговым порядкам; во-вторых, потому что благородный
правитель Агис был лишен черт борца и вождя. У него не
было непреклонной воли и стойкости, не отступающей
перед необходимостью применить силу к богачам. Нужен был
правитель иного склада. Такой человек вскоре появился в
Спарте. Это был царь Клеомен.
КЛЕОМЕН
(III в. до н. э.)
Клеомен был старшим сыном царя Леонида,
погубившего благородного Агиса.
После казни Агиса царь Леонид насильно выдал его
вдову Агиатиду замуж за Клеомена, чтобы завладеть ее
имуществом. Агиатида отличалась изумительной красотой
и была одной из самых богатых наследниц: спартанский
царь не желал, чтобы ее состояние перешло в другую
семью. Вдова несчастного Агиса ненавидела старого царя,
как убийцу своего мужа, но полюбила его сына и стала
ему преданной женой. Клеомен также полюбил Агиатиду
и сумел оценить ее преданность покойному мужу.
Агиатида часто рассказывала Клеомену о своем первом супруге,
павшем жертвой ненависти и коварства богачей, говорила
800
о его любви к народу и смелых планах возрождения
могущества и славы родины. Клеомен с искренней симпатией
слушал эти рассказы и проникся уважением к светлой
памяти Агиса.
Подобно Агису, Клеомен также получил хорошее
образование. Его наставником и другом был знаменитый
ученый Сфер Борисфенский, который имел большое влияние
на спартанскую молодежь. Сфер учил, что царь — это
только первый гражданин, лишь слуга народа и поэтому
обязан всецело посвятить себя его благу. Со всем пылом
юности Клеомен воспринял эти демократические идеи и с
возмущением наблюдал за всем происходившим в Спарте после
гибели Агиса.
Победившая кучка богачей опиралась на иноземных
наемников: богачи назначали из своей среды угодных им
эфоров и геронтов; они думали только о своих личных
выгодах и удовольствиях, по-прежнему жили в роскоши и
яростно преследовали всех бывших сторонников Агиса.
Простой народ, как и раньше, жил в нищете, но
потерял всякую надежду на лучшее будущее. Правительство
царя Леонида и в отношениях с соседями руководствовалось
только классовыми интересами и довело Спарту до
величайшего унижения. Так, например, когда заклятые враги
Спарты — этолийцы — вторглись в Лаконскую область,
оно даже не пыталось оказать сопротивление. Мало того,
когда оказалось, что набег этолийцев не грозит самой
Спарте, богачи обрадовались уводу врагами множества лакон-
ских периэков. Они говорили: "Это избавило нас от
лишнего бремени. Теперь беднота уже не так страшна!"
Около пяти лет продолжалось самовластное правление
старого царя Леонида. После его смерти на престол
вступил 26-летний Клеомен (236 г. до н. э.).
Клеомен был столь же талантлив и умен, как Агис, но
отличался железной волей и неукротимой настойчивостью.
Он твердо решил продолжить дело Агиса, если нужно —
насильственным путем. Не найдя сочувствия у друзей, он
задумал один, без помощников, совершить переворот при
помощи военной силы.
Клеомен понимал, что реформы будут успешны
только тогда, если удастся уничтожить главную опору
богачей — совет старейшин (герусию) и эфорат. А для этого
нужно было создать войско не из наемников, а из граж-
801
дан, кровно заинтересованных в переделе земли и
имущества богачей. С этим было связано и возрождение
военного могущества Спарты.
Вскоре Клеомену пришлось вести войну против
прежних союзников — ахейцев. Союз ахейских городов во
главе со стратегом Аратом в течение долгого времени
стремился объединить под своим руководством одно за другим
все государства Южной Греции. Главные усилия Арата
были направлены на присоединение двух крупнейших
государств Пелопоннеса — Аргоса и Спарты. После неудачной
попытки захватить Аргос Арат обратился против Спарты.
Тогда эфорам пришлось отдать приказ Клеомену выступить
в поход против ахейцев.
Наконец, Клеомену представлялся удобный случай
выйти из бездействия, испытать свои силы и найти опору для
своих замыслов. Царь набрал отряд в 5000 человек из
преданных ему бедных граждан. С этим отрядом он успешно
действовал против ахейцев и захватил у них несколько
городов. Затем Клеомен вызвал из изгнания брата Агиса,
Архидама, чтобы сделать его своим соправителем.
Убийцы Агиса любезно встретили Архидама, когда он
прибыл в Спарту, но затем убили его. Это событие
побудило Клеомена ускорить государственный переворот. Он
привлек на свою сторону много влиятельных и знатных
людей и, обеспечив себе их поддержку, снова отправился в
поход.
Противнику Клеомена Арату удалось за это время,
собрав все силы, присоединить Аргос к Ахейскому союзу.
В ответ на это Клеомен вторгся в Аргосскую область и
опустошил ее.
Арат и другие стратеги при встрече на поле битвы с
Клеоменом обнаружили растерянность: несмотря на
численное превосходство, они отступили без боя. В сражении при
Ликее (в Аркадии) Клеомен одержал блестящую победу над
ахейцами.
Царь хотел преследовать врагов, чтобы довершить их
поражение, но встретил неожиданное противодействие со
стороны эфоров. Богачи и их ставленники-эфоры боялись
успехов молодого царя и роста его популярности в
народе. Кроме того, в их планы не входил полный разгром
Ахейского союза. Эфоры послали Клеомену приказ прекратить
802
военные действия. Тогда царь, подкупив эфоров, добился
разрешения продолжать войну.
Затем он снова выступил в поход и дал сражение
ахейцам и мегалополитанцам под Мегалополем. Бой начался
неудачно для спартанцев: часть их армии была разбита;
однако, преследуя неприятелей, конница мегалополитанцев
очутилась в местности, неудобной для сражения в конном
строю, среди виноградников, канав и изгородей. К тому же
один из начальников мегалополитанцев пал в битве.
Его смерть вызвала замешательство среди
мегалополитанцев. Тогда спартанцы под предводительством Клеомена
с криком бросились на врагов и обратили в бегство всю
неприятельскую армию. Множество ахейцев и
мегалополитанцев погибло, а еще больше попало в плен. Клеомен
одержал полную победу.
После этой победы Клеомен мог рассчитывать на
преданное ему войско и наемников. Он обратился к друзьям
с предложением произвести переворот. "Необходимо, —
говорил он, — немедленно устранить эфоров и разделить
земли и имущество богатых между всеми гражданами. Тогда
грекам не будут страшны македоняне и другие
завоеватели".
Получив согласие друзей, Клеомен выступил в новый
поход; при этом он взял с собой на войну тех, кого считал
возможными противниками переворота. Это были крупные
богачи и их сыновья. Затем он оставил свое войско в
Аркадии на отдыхе, а сам с преданным ему небольшим
отрядом наемников внезапно повернул назад к Спарте и
неожиданно подошел к столице. Ничего не подозревавшие
эфоры обедали, когда воины Клеомена ворвались в помещение.
Все эфоры были изрублены.
Кресла эфоров — знаки их власти — были
уничтожены. Восемьдесят человек, наиболее непримиримых врагов,
Клеомен велел схватить и отправить в изгнание. Так
произошел государственный переворот в Спарте.
Затем царь созвал народное собрание и выступил
перед ним с речью. Спартанцы были немногословны и не
любили длинных речей. Речь Клеомена была краткой: "Если
бы я мог исцелить Спарту от ее недугов — роскоши,
долгов и кабалы, — а самое главное, от источников всех
пороков — бедности и богатства, — не чиня никаких
насилий, я считал бы себя самым счастливым из всех владык
803
в мире, — сказал царь. — Я как врач, излечил бы
отечество без боли, — продолжал Клеомен, — но мирные
средства оказались невозможны. Пришлось прибегнуть к силе.
Иного выхода у меня нет!"
Клеомен объявил об отмене эфората, так как эфоры
присвоили себе слишком много власти и мешают делать то,
что полезно для государства. Он уничтожил и герусию: вся
власть отныне должна была принадлежать только царям.
Чтобы не встретить сопротивления от другого, может быть,
враждебного его планам царя, Клеомен сделал
соправителем своего брата Евклида.
Затем царь объявил о своем намерении немедленно
произвести передел земли и имущества. Клеомен отказался от
всех своих владений в пользу народа, и его примеру
последовали все его родственники и друзья. После этого
были переделены земли и имущество остальных граждан. При
дележе царь велел отвести земельные участки всем
изгнанникам, обещая разрешить им впоследствии вернуться на
родину.
Клеомен включил в число полноправных граждан (спар-
тиатов) периэков и некоторых иностранцев, образовав из
них отряд в 4000 тяжеловооруженных солдат (гоплитов).
Теперь спартанское войско вновь стало сильным и
страшным для врагов.
После того как введено было равенство имущества,
Клеомен решил восстановить для всех общие обеды (сисситии)
и ликурговскую систему воспитания юношества. Всем
гражданам рекомендовалось вести умеренный образ жизни, есть
черную спартанскую похлебку, носить простую одежду и
т. д. Большинство граждан добровольно примирились с
суровым образом жизни, свойственным древним спартанцам,
но были и такие, которые посмеивались над старинными
обычаями, считая их нелепыми.
Между тем ахейцы и их стратег Арат надеялись, что
Клеомен, занятый реформами, не сможет некоторое время
вести войну в Пелопоннесе; они жаждали передышки, чтобы
оправиться после страшного поражения. Однако Клеомен
не побоялся покинуть столицу в такое тревожное время.
Он оставил в Спарте своего брата Евклида, а сам
немедленно отправился в поход
Вести о происшедших в Спарте событиях
всколыхнули весь Пелопоннес. Во многих городах начались восста-
804
ния; беднота повсюду требовала отмены долгов и передела
земли. Бедняки и обездоленные видели в Клеомене своего
спасителя и надеялись, что он поможет освободиться от
власти ненавистных ахейцев. Прибывшие к Клеомену послы
из городов Пелопоннеса удивлялись простому обращению
царя, отсутствию роскоши и скромной обстановке, в
которой он жил.
Богачи всей Греции ненавидели и боялись Клеомена.
Они в страхе думали, что если Спарта усилится, то Клео-
мен отнимет власть у них и раздаст беднякам землю.
Первыми пригласили к себе Клеомена на помощь
жители города Мантинеи. Клеомен прибыл в город ночью и
помог изгнать стоявший там ахейский гарнизон. Затем он
двинулся на север Пелопоннеса в самую Ахейскую область
и разбил в решительном сражении ахейскую армию
наголову. Теперь могущество Ахейского союза было сломлено!
Затем Клеомен отправил к ахейцам послов с
требованием передать ему верховную власть над Ахейским
союзом. Он не думал теперь о вмешательстве во внутренние
дела отдельных государств; о переделе земли и отмене
долгов не было и речи. Царь стремился лишь укрепить
положение мелких свободных и полусвободных
землевладельцев, чтобы создать из них крупную военную силу и
объединить Пелопоннес. Ахейцы ответили согласием и
пригласили Клеомена явиться в город Лерну (в Аргосской
области), где должно было состояться союзное собрание.
Однако Клеомен как раз в это время заболел и не мог
потому своевременно прибыть в Лерну. Воспользовавшись
этим, Арат решил любой ценой не допустить установления
господства спартанцев в Пелопоннесе.
Когда Арату не удалось заставить ахейцев отклонить
требования Клеомена, он принял роковое для свободы
Греции решение: ахейский стратег призвал в Пелопоннес
македонских завоевателей во главе с царем Антигоном Досо-
ном. Ради интересов богачей Арат предал свою родину тем
самым македонянам, которых он сам некогда изгнал из
Пелопоннеса! Страх перед народом оказался у него сильнее
любви к родине.
Арат договорился с македонским царем о помощи и
затем потребовал от Клеомена, чтобы тот явился один в
собрание ахейцев. Богачи и их ставленник Арат боялись, что
появление спартанского войска в Аргосе будет сигналом для
805
восстания бедноты. Клеомен прибыл на собрание, но
договориться с Аратом и ахейцами ему не удалось. Война
вспыхнула с новой силой.
Между тем в ахейских городах начались волнения;
народ и беднота всюду были на стороне спартанцев; они
негодовали на Арата и считали его изменником
общегреческому делу. Тогда Клеомен вступил в Ахайю и взял
несколько ахейских городов; далее он двинулся к Аргосу, захватил
город и затем осадил Коринф.
Однако Клеомен допустил ошибку: он не призвал
народ во всех завоеванных городах немедленно к дележу
земли и имущества богатых. Вместо этого царь делал
безуспешные попытки сговориться с руководителями
греческих городов-государств.
В это время Антигон Досон с двадцатитысячной
македонской армией по призыву Арата двинулся из Средней
Греции навстречу победоносным спартанцам. Враги Клеомена
— партия богатых граждан — при приближении
македонян подняли восстание в Аргосе и захватили город.
Клеомен подошел к Аргосу и готовился к штурму
города, когда заметил, что в тылу у него неожиданно
появилась македонская конница и с возвышенности медленно
спускается тяжелая вражеская фаланга. Войску Клеомена
пришлось отступить и поспешить к Спарте, чтобы не быть
отрезанным от родины.
Все плоды блестящих побед Клеомена в Пелопоннесе
были теперь потеряны; македоняне брали города,
оставшиеся верными Клеомену, разоряли их, продавая жителей в
рабство. Один за другим союзники покидали спартанцев.
Когда отступающая армия Клеомена находилась у
города Тегеи, Клеомену принесли печальную весть о смерти
его жены Агиатиды. Убитый горем царь внешне сохранял
удивительное самообладание и спокойствие; его голос,
выражение лица, обращение с людьми остались такими же,
как и раньше; как обычно, он отдавал приказания
начальникам войска. Наутро он прибыл в Спарту, чтобы
похоронить умершую.
После этого Клеомен вновь обратился к
государственным делам: для спасения родины необходимо было
спешно искать союзников, так как вести длительную войну с
сильной Македонией маленькая Спарта не могла.
Возможным союзником был заклятый враг Македонии
806
египетский царь Птолемей III. Он обещал помочь Клеоме-
ну деньгами и войском, но требовал за это в заложники
мать и детей царя. Клеомен долго не решался сказать об
этом матери. Когда ему, наконец, с горестью пришлось
признаться матери, царица сказала: "Скорей сажай нас на
корабль и отправляй туда, где я могу быть полезной
родине". При расставании она сказала сыну: "Постарайся, чтобы
никто не увидел наших слез и не мог заметить
какого-нибудь поступка, недостойного нашей родины!" С этими
словами царица спокойно взошла с детьми на борт корабля,
приказав кормчему немедленно поднять якорь.
По прибытии в Египет она узнала, что Птолемей III
ведет с Антигоном переговоры; ей передали также, что
ахейцы предлагают Клеомену мир, но царь, в страхе за мать и
детей, не решается заключить мир без согласия
Птолемея III. Тогда царица немедленно отправила сыну письмо
с приказанием забыть о своей семье и думать только о благе
родины, не опасаясь Птолемея III и не тревожась из-за
одной старухи и малых детей.
Между тем Антигон продвигался на юг. Он уже взял
Тегею, разграбил Орхомен и Мантинею и подступил к
границам Спартанской области. Клеомен энергично
готовился к борьбе с врагами. Он стал отпускать на волю илотов,
беря с них выкуп по 5 мин1. Таким образом ему удалось
собрать огромную сумму в 500 талантов. Затем он
вооружил две тысячи человек по македонскому образцу для
борьбы с фалангой Антигона. Окончив военные приготовления,
Клеомен решил сам напасть на врагов.
Смелым ударом царь захватил большой город в центре
Пелопоннеса Мегалополь. Он обещал пощаду гражданам,
если они выйдут из Ахейского союза. Мегалополитанцы
отказались, и Клеомен приказал разрушить самые большие
кварталы города и затем отступил в Спарту. Македонская
армия зимовала в это время в разных городах
Пелопоннеса, а сам Антигон с небольшим отрядом находился в
Аргосе.
Тогда Клеомен решился на отчаянно смелое
предприятие: он внезапно двинулся на Аргос, но тут царя ждала
неудача. Антигон укрылся за стенами города. Клеомену
пришлось снова отступить: он рассчитывал затянуть войну, так
1 Мина — 1/60 часть таланта.
807
как знал, что в самой Македонии неспокойно — в это время
иллирийские племена совершили опустошительный набег
на Македонию с севера. Если бы Клеомен еще хотя бы в
течение двух дней сумел уклоняться от сражения,
возможно, он был бы спасен, так как македоняне должны были
бы отступить. Но незадолго до этого он получил
сообщение от египетского царя Птолемея, что помощь ему будет
прекращена. Нужна была решительная победа, и Клеомен
со своей 20-тысячной армией смело бросился в бой
против вдвое превосходящих сил противника.
Спартанцы сделали последнее усилие, чтобы спасти
родину и Грецию от македонских захватчиков. На защиту
родной страны были призваны все способные носить оружие
граждане и даже илоты. Горные проходы, ведущие к
Спарте, были укреплены рвами, окопами и сваленными
деревьями.
Решительное сражение произошло недалеко от Спарты,
около города Селассии. Армия Клеомена занимала сильную
позицию на возвышенности. Левым крылом спартанцев,
расположенным на высоком холме, командовал Евклид; в
центре кавалерия и пехота прикрывали путь к Спарте.
Македонянам удалось вначале смять левое крыло и центр
спартанцев, однако на правом крыле спартанцы под начальством
Клеомена держались стойко. Упорный бой длился много
часов, несколько раз македоняне колебались перед
отчаянным мужеством спартанцев.
Наконец, фаланга Антигона со страшным криком,
выставив копья, бросилась вперед, сметая все на своем
пути. Судьба боя была решена натиском вдвое
превосходящих численностью македонян. 16000 спартанцев были
изрублены на месте, не отступив ни на шаг; спаслись только
сам царь Клеомен с 200 спартанцев и 4000 наемников.
В Спарте ничего не знали об исходе битвы.
Остававшиеся в городе граждане, кто чем мог, хотели помочь
сражающимся: двери домов были открыты, жители
оказывали помощь раненым. Вдруг с немногочисленными
спутниками прискакал царь Клеомен, забрызганный кровью и
грязью, и сообщил о страшном несчастье.
О дальнейшем сопротивлении нельзя было и думать.
Клеомен сам советовал гражданам покориться, умоляя их
"сохранить себя для лучших дней родины"
Смерти Клеомен не боялся, но робким, малодушным по-
808
казалось ему предложение одного из друзей покончить
самоубийством. Царь направился к берегу моря, с
несколькими друзьями сел на корабль и отплыл в Египет. Он
надеялся еще склонить царя Птолемея к новой войне против
Македонии и решился ожидать благоприятной перемены
обстоятельств.
Вскоре македоняне заняли Спарту. Против ожидания,
Антигон обошелся с населением милостиво, сохранив
гражданам жизнь и собственность. Все реформы Клеомена
были отменены, земли и имущество снова возвращены
богачам, восстановлены герусия и эфорат, царская власть
отменена. Спарта должна была войти в Ахейский союз.
Когда Клеомен со спутниками прибыл в Александрию,
столицу Египта, египетский царь Птолемей III, много лет
воевавший с Македонией, принял Клеомена с почетом и
обещал послать его в Грецию с флотом и войском для
восстановления на престоле, а пока назначил ему ежегодное
содержание в 24 таланта. Привыкший жить скромно, царь
Клеомен расходовал большую часть этой суммы на помощь
спартанским изгнанникам в Египте, которых набралось до
трех тысяч человек.
Вскоре, однако, царь Птолемей III Эвергет умер. На
престол вступил Птолемей IV Филопатор — ничтожный
человек и пьяница.
Новый царь все время находился во власти
постоянных страхов и подозрений, ловко разжигаемых его
любимцами. Придворные внушали царю, что Клеомен, этот "лев
среди овец", как они говорили, представляет для него
опасность, так как греческие наемники, служившие в
египетской армии, и пелопоннесские изгнанники стоят на
стороне Клеомена и по первому его знаку готовы взяться за
оружие.
Между тем положение дел в Греции и Пелопоннесе
звало Клеомена настоятельным образом на родину. Антигон
умер, и после его смерти в Пелопоннесе начались новые
волнения и война между ахейцами и этолийцами.
Клеомен, отчаявшись получить от египтян флот и
вспомогательное войско, стал просить царя отпустить его
одного с друзьями в Грецию.
Однако царь Птолемей не отпускал Клеомена. Более
того, он подверг спартанского царя и его друзей
домашнему аресту, не разрешая им выходить из дому. Клеомен по-
809
нял, что его не выпустят из заключения, и вместе со
своими спутниками решился бежать, чтобы вернуться на
родину или умереть со славой.
Когда царь Птолемей уехал из Александрии, Клеомену
и его друзьям удалось напоить стражу и вырваться на
свободу. С оружием в руках, с громкими криками спартанцы
призывали жителей столицы к восстанию и свободе.
Однако жители в страхе разбегались, прячась по домам при
виде кучки храбрецов.
Попытка спартанцев завладеть городской тюрьмой и
выпустить заключенных также потерпела неудачу. Теперь
им оставалось отдаться в руки палачей или покончить
жизнь самоубийством. Они предпочли смерть, достойную
спартанцев, и перебили друг друга. Один за другим
падали доблестные спартанцы от руки своих друзей. Наконец,
остались в живых только двое: царь Клеомен и юный Пан-
тей, любимец царя, некогда первым занявший Мегалополь.
Пантей нанес Клеомену смертельный удар, поцеловал его
и затем покончил с собой. Так умер царь Клеомен в 219 г.
до н. э.
Весть о самоубийстве Клеомена и его товарищей
быстро распространилась по городу. Мать Клеомена, Кратесик-
лея, обняв своих внуков, горько плакала. Неожиданно
старший мальчик вырвался у нее из рук и бросился с крыши
вниз головой; однако он не расшибся до смерти, получив
только тяжкие увечья.
Узнав о восстании, царь Птолемей велел распять на
кресте труп Клеомена, детей же его вместе с бабкой Крате-
сиклеей и сопровождавших их женщин — казнить.
После смерти Клеомена движение бедноты в Спарте
продолжалось. Появились другие народные вожди,
называвшие себя тиранами, которые продолжали дело Клеомена.
Борьба шла с переменным успехом вплоть до того, когда в
дела Греции вмешалась новая сила — Рим. Подчинив
Спарту и другие греческие государства, римские завоеватели
установили там свое господство.
ч
СОДЕРЖАНИЕ
ЗА СТОЛБАМИ МЕЛЬКАРТА
Ганнон карфагенянин
Человек в море 5
Мут и Мелькарт 11
Синта 13
Маленький друг 16
Таинственная табличка 20
Мидаклит 22
В Совете Тридцати 27
На площади Собраний 29
"Серебряный якорь" 31
Бегство 34
Гнев Магарбала 37
У Горшечных ворот 41
В гавани 44
По волнам океана
Море 47
Земля лотофагов 52
Столбы Мелькарта 55
811
Гадир 58
Неожиданная встреча 64
В таверне 67
В храме Мелъкарта 71
В путь 73
На корабле 76
Первая колония 78
У костров 82
Мыс Солнца 86
Битва с акулой 89
Лике 92
Брат льва 95
Керна 98
Немой торг 101
Большая река 104
В стране чудес
Бунт 108
Гости Мастарны 110
Глаза леопарда 115
Вторая зарубка 116
Ночные огни 120
В плену 122
Гуда 124
У фарузиев 126
Цези 130
Золотая дорога 135
Песня песков 140
Последний переход 141
812
Затерянный остров
Буря 145
Потомки атлантов 150
Дочь Радаманта 153
Колесница богов 157
Пещера сокровищ 161
В заливе Южного Рога
Снова в море 168
Южный Рог 170
Лесные чудовища 172
След корабля 177
Корабль-призрак 178
Ночь чудес 181
"Назад!" 183
Против ветра 184
Чаша гнева
Смерть Синты 191
Погасший фитиль 195
Суффет Хирам 197
Персидский корабль 199
Во власти волн 202
Морской бой 207
Снова в Карфагене 214
Совет постановил 216
Встреча в порту 220
Зов океана 223
От автора 225
813
МАЛЕНЬКИЙ ГОНЧАР ИЗ АФИН
В мастерской гончара Феофраста 231
Месть маленького раба 250
Несколько недель спустя 262
У холма Пникса 289
Гимнастическая школа 302
Амфора с танцовщицей 316
Дни Дионисий 336
Перед Олимпиадой 353
Олимпийские игры 370
ФИАЛКОВЫЙ ВЕНЕЦ
Сборы в театр 395
Алексид приобретает врага 402
Таинственная флейта 411
Мраморная пещера 420
Скачки с факелами 428
Статуя в мастерской ваятеля 439
Овод 446
Погубитель молодежи 454
Трагедия... или комедия? 463
Гелиэя 472
Дядюшка Живописец 481
Архонт-басилевс 492
Дядюшка Живописец ставит комедию 502
Спартанская тайнопись 515
В доме Гиппия 522
Накануне 530
814
Заря рокового дня 537
Решительный час 545
Серебряный кузнечик 554
А. С. Завадье. О древних Афинах,
Алексиде него приключениях 562
ЗНАМЕНИТЫЕ ГРЕКИ
Ликург 583
Солон 602
Фемистокл 618
Аристид 632
Перикл 646
Никий 667
Алкивиад 685
Лисандр 701
Агесилай 713
Пелопид 724
Демосфен 739
Александр 754
Агис 789
Клеомен 800
А. Немировский, За Столбами Мелькарта: По-
Н50 весть. А. Усова, Маленький гончар из Афин: Повесть.
Д. Триз, Фиалковый венец: Повесть. Перевод с англ.
И. Гуровой. М. Ботвинник, Г. Стратановский,
Знаменитые греки - М.: УНИКУМ, 1997. - 816 с. -
(Библиотека исторической прозы для детей и юношест-
ва)
ISBN 5-86697-024-4
4800000000 ББК 84Р7-4
Оформление О. Горбушт
А. Немировский
За Столбами Мелькарта
А. Усова
Маленький гончар из Афин
Д. Триз
Фиалковый венец
М. Ботвинник
Г. Стратановский
Знаменитые греки
Исторические повести
(Для среднего школьного возраста)
***
БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
ТОМ XV
Ответст. ред. В. Голубихин. Редактор Г. Губанов. Худ. ред.
П. Шлаин. Тех. ред. А. Школин. Корректор Г. Беляева.
Лицензия ЛР № 062136 от 26.01.1994г. Формат 84x108/32.
Сдано в печать 08.06.1997г. Гарнитура «Антиква». Бумага
офсетная №1. Печать офсетная. Усл. п. л. 50. Уч.-изд. л. 46.
Тираж 5000 экз. Заказ № 532. Издательство детской книги
«Уникум». 109432, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.№ 27.
(м. «Кожуховская») Тел./факс 958-71-12.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, Можайск, ул. Мира, 93.
Scan Kreyder -12.03.2018 - STERLITAMAK