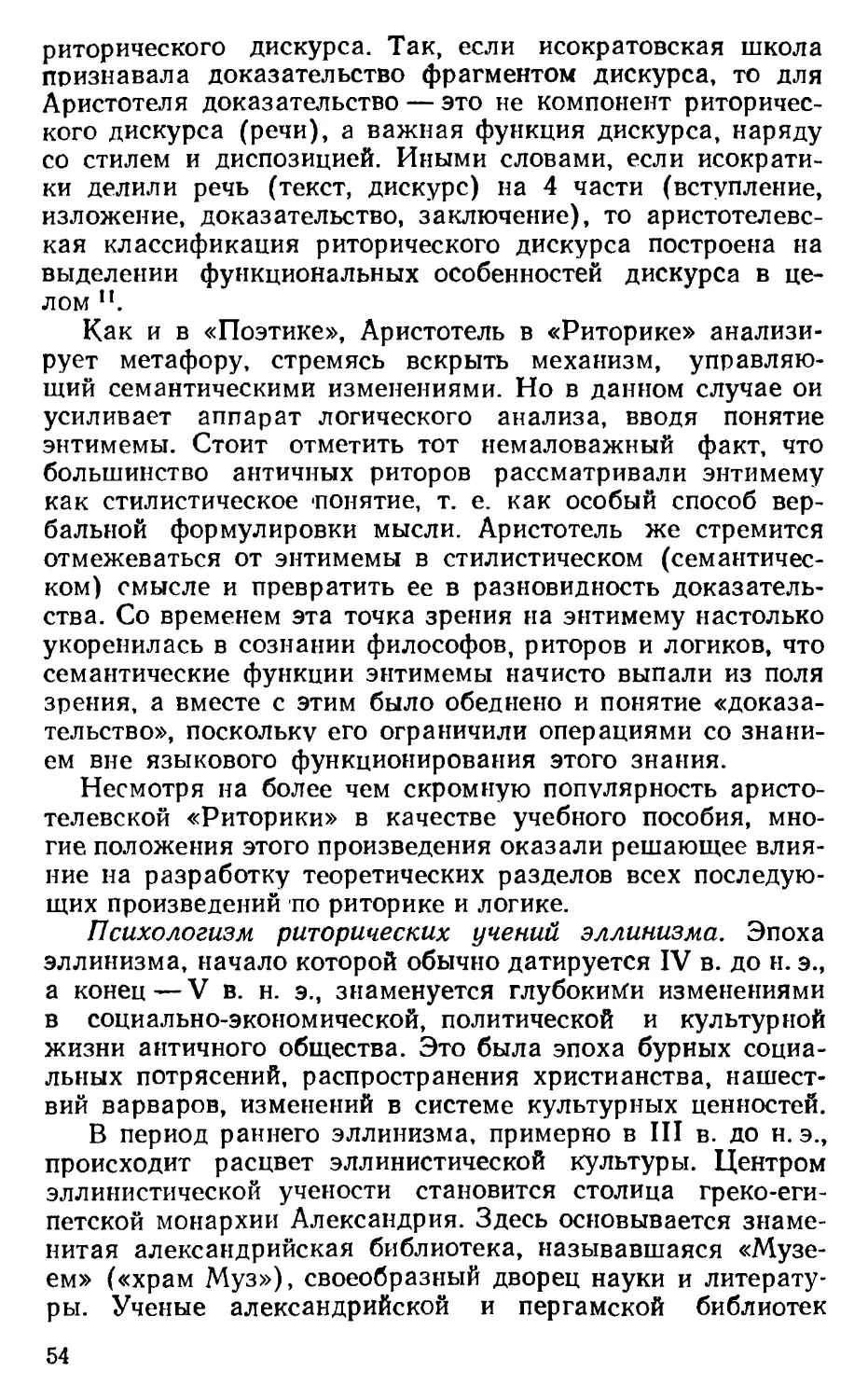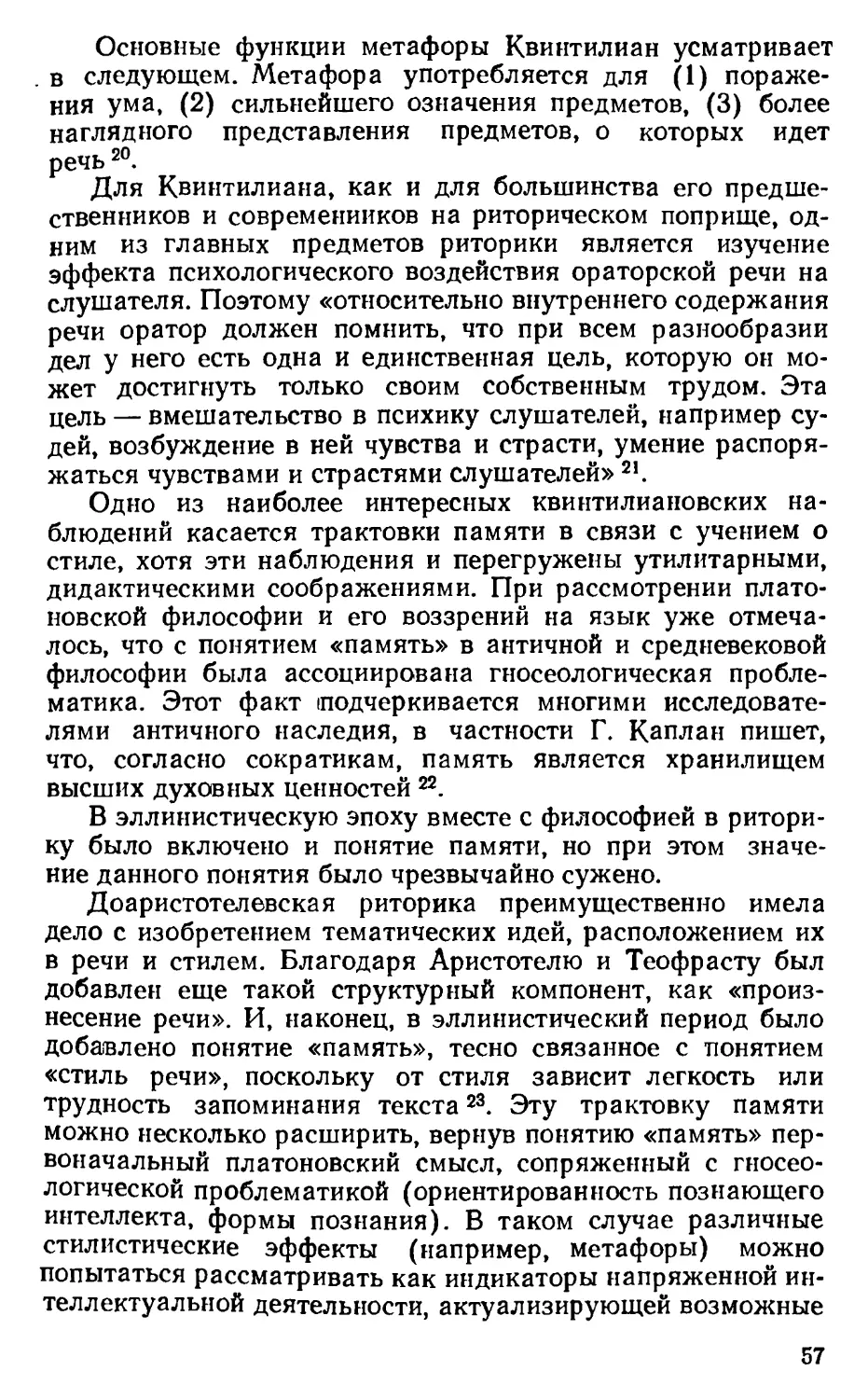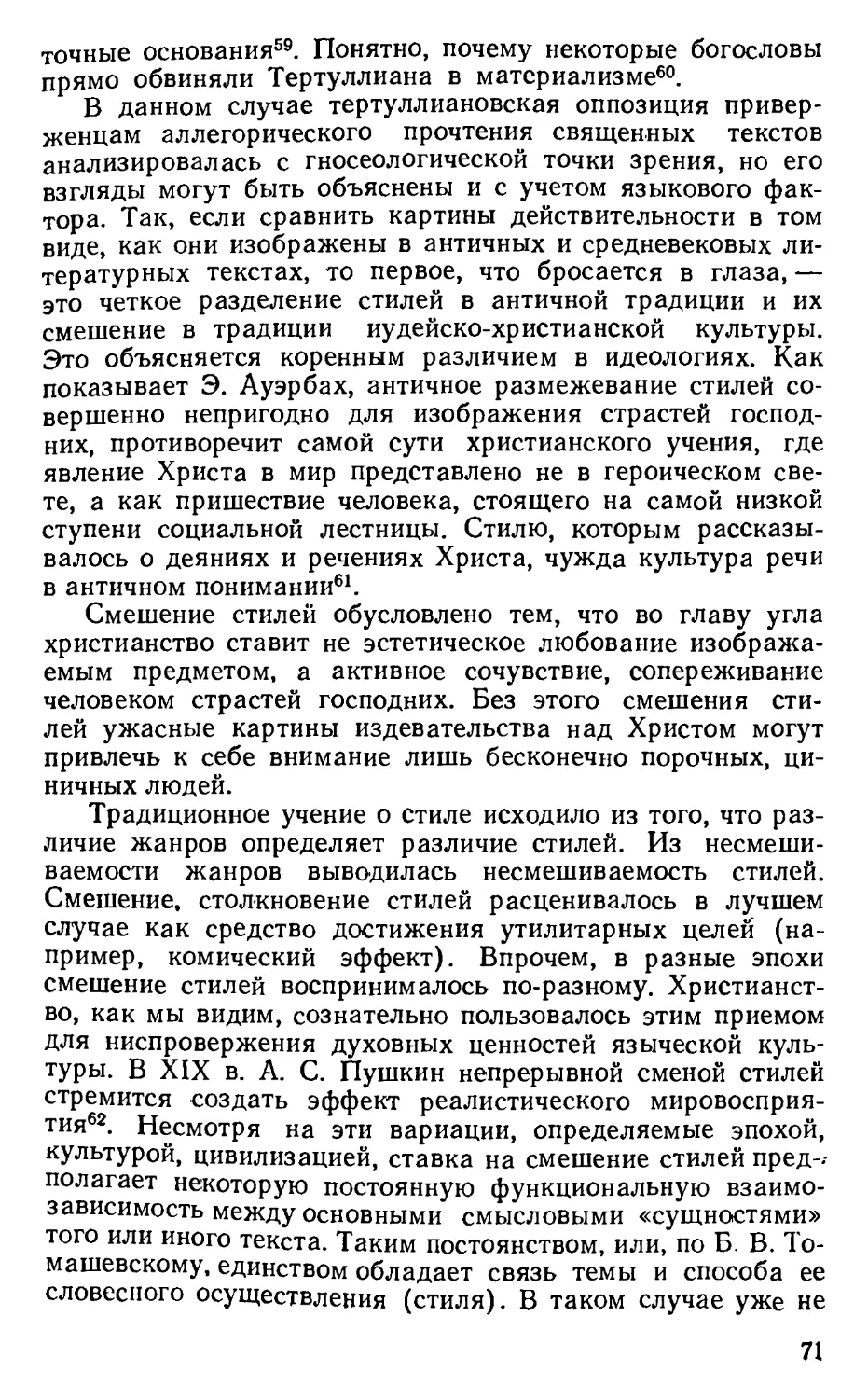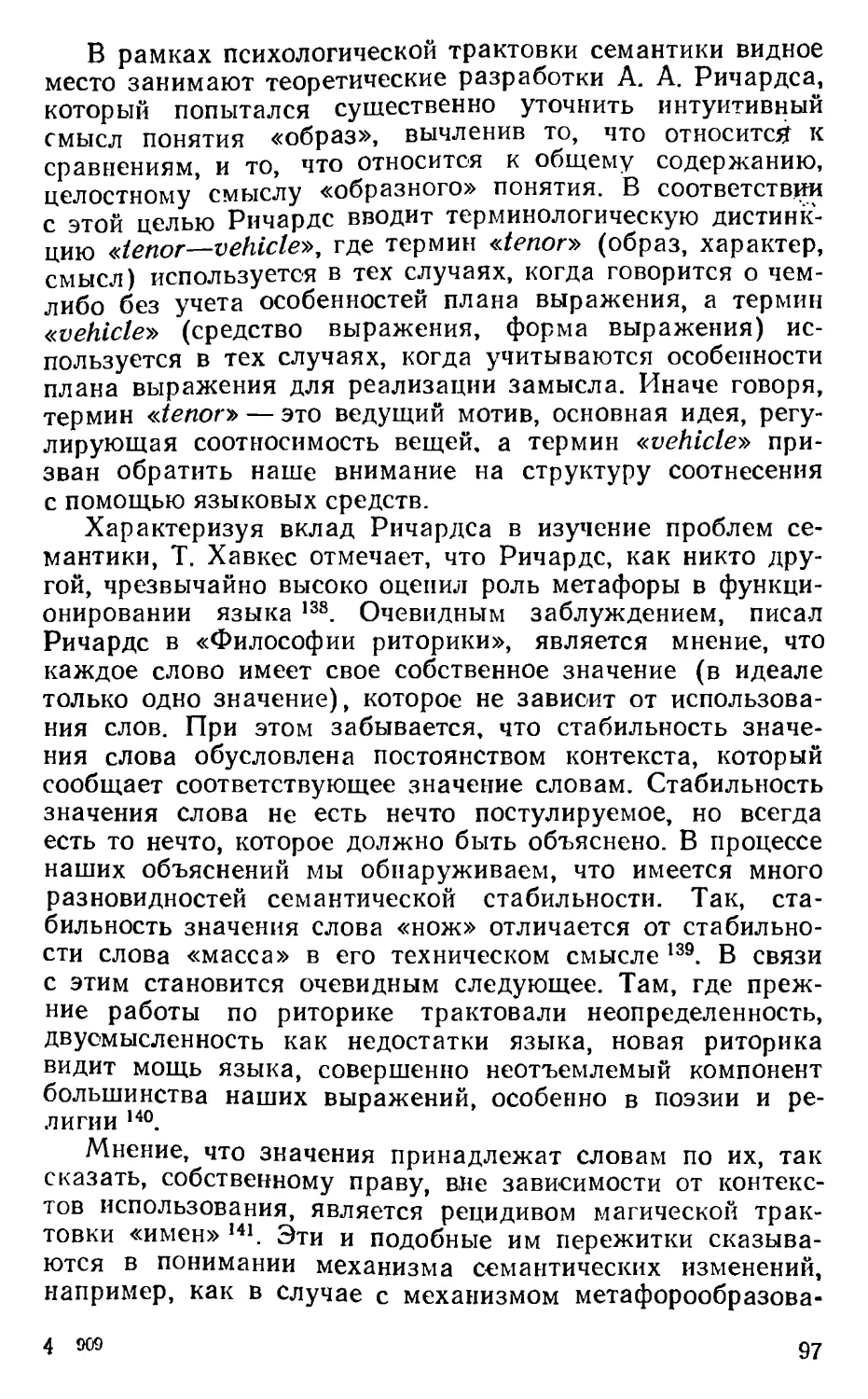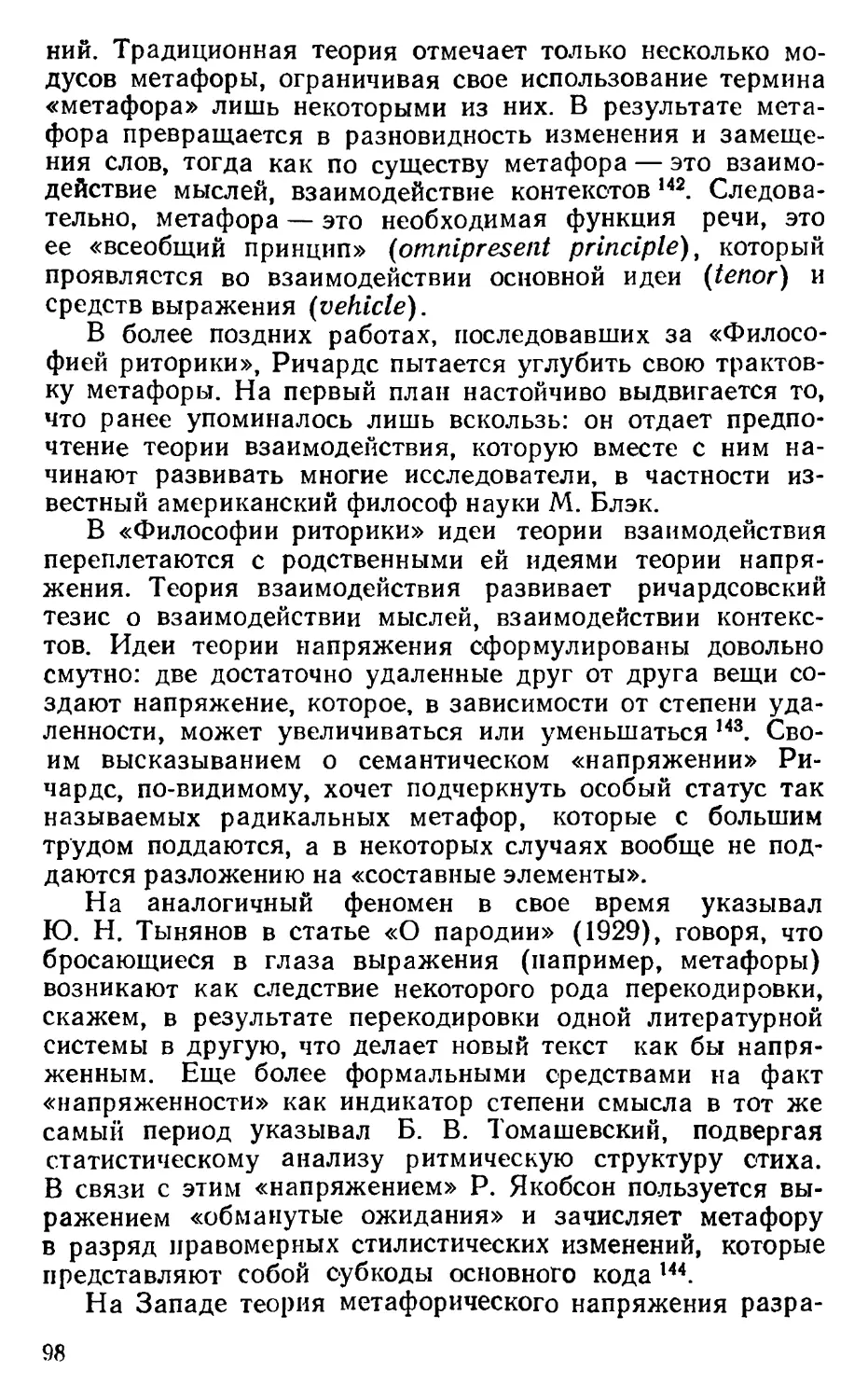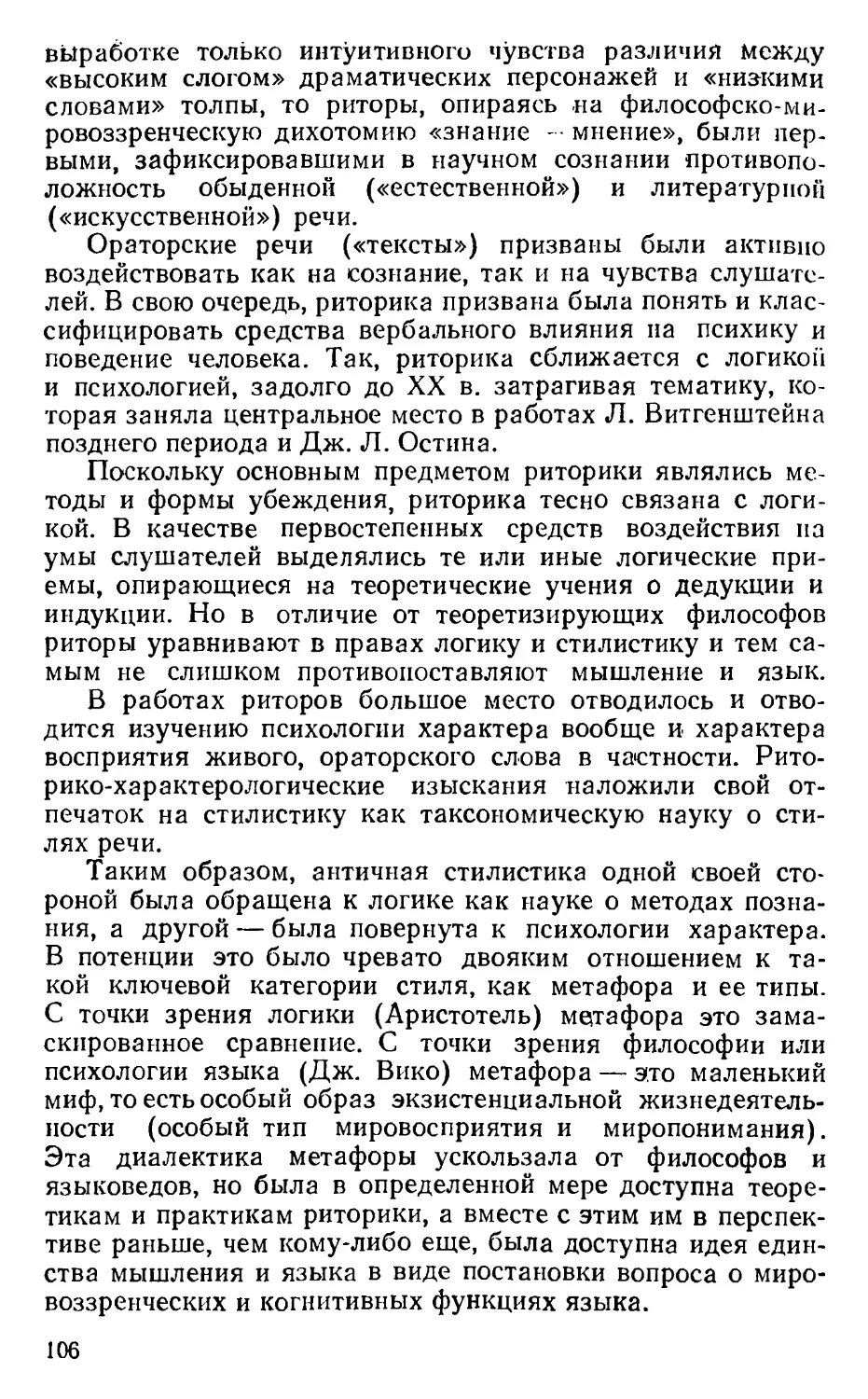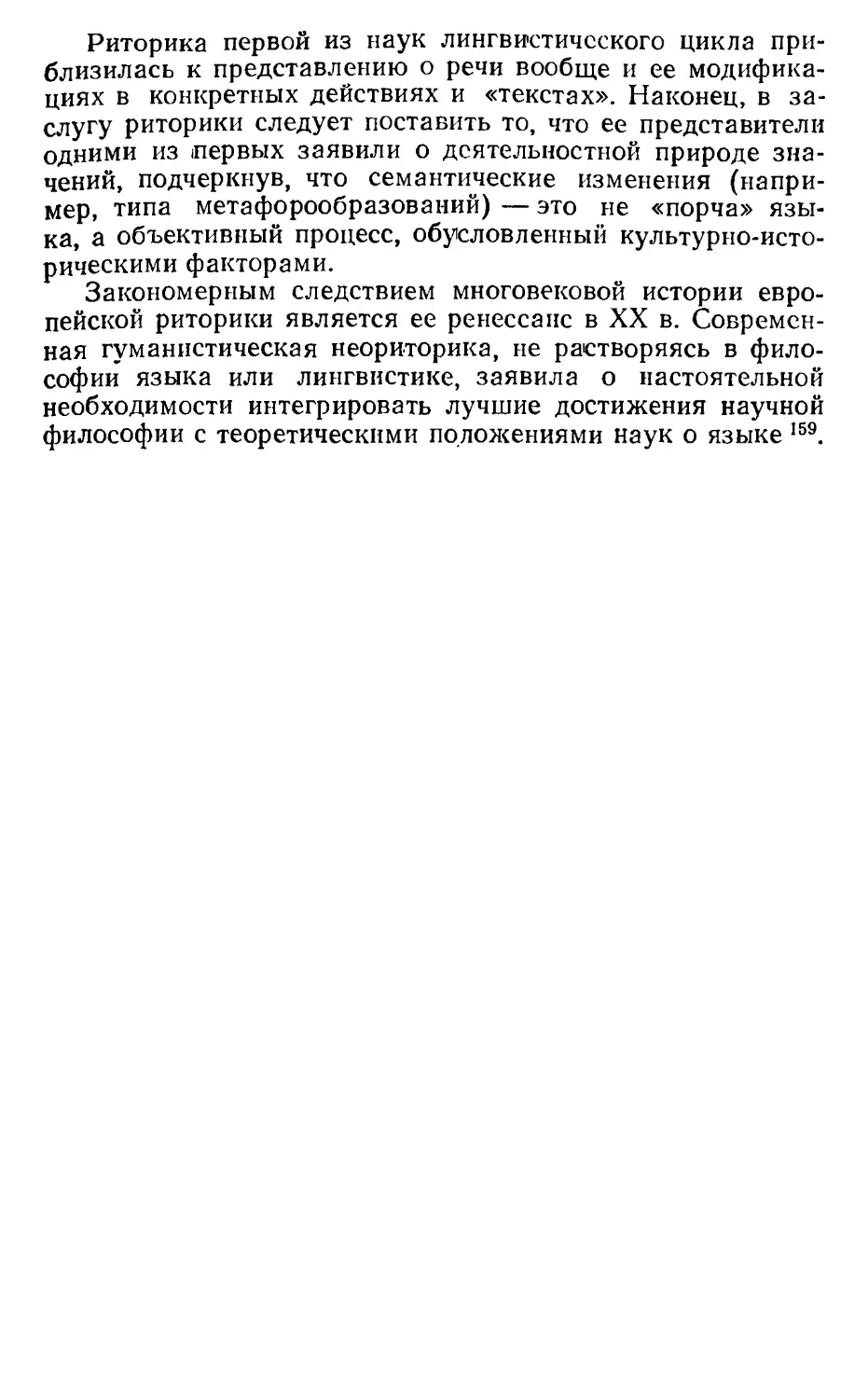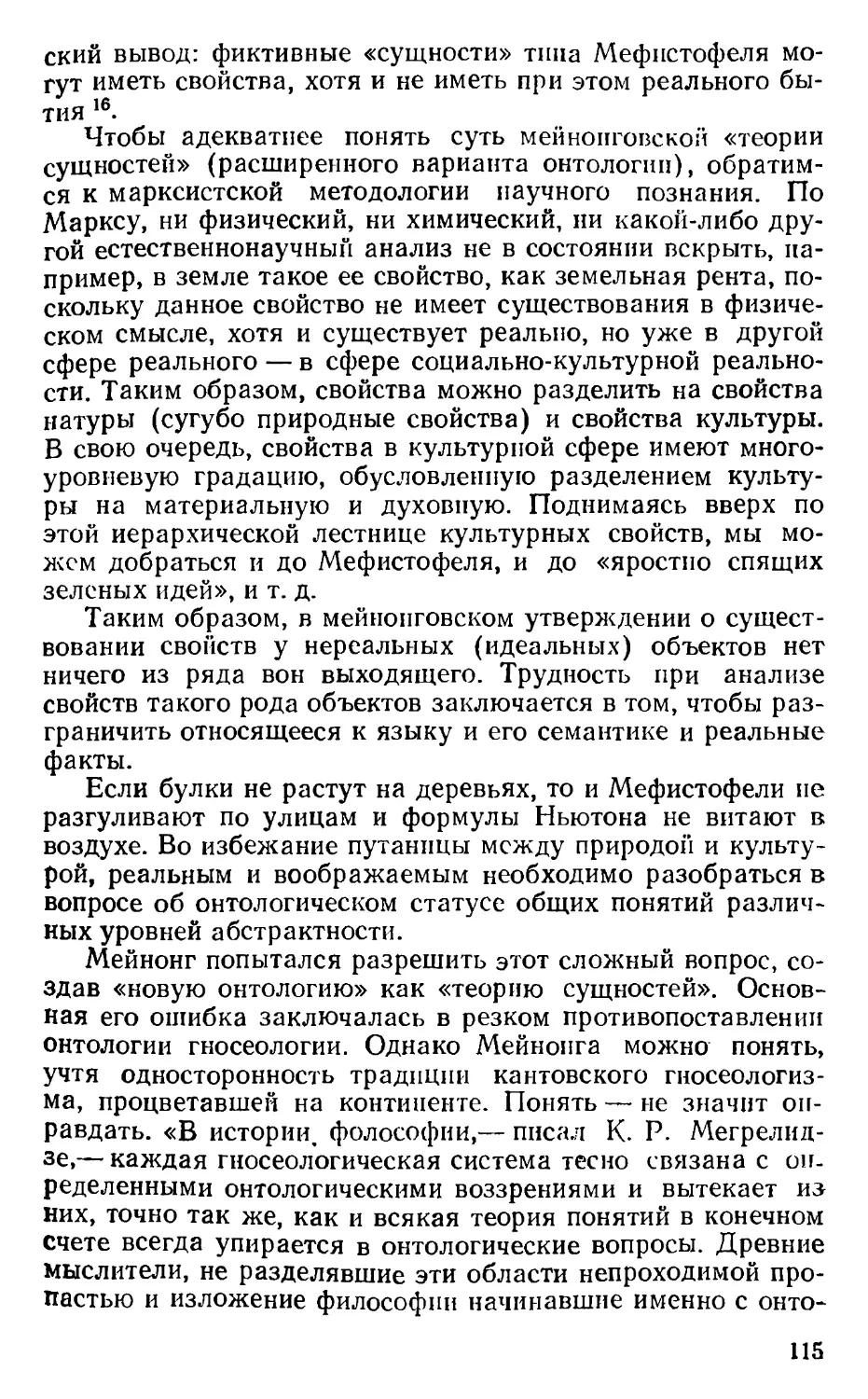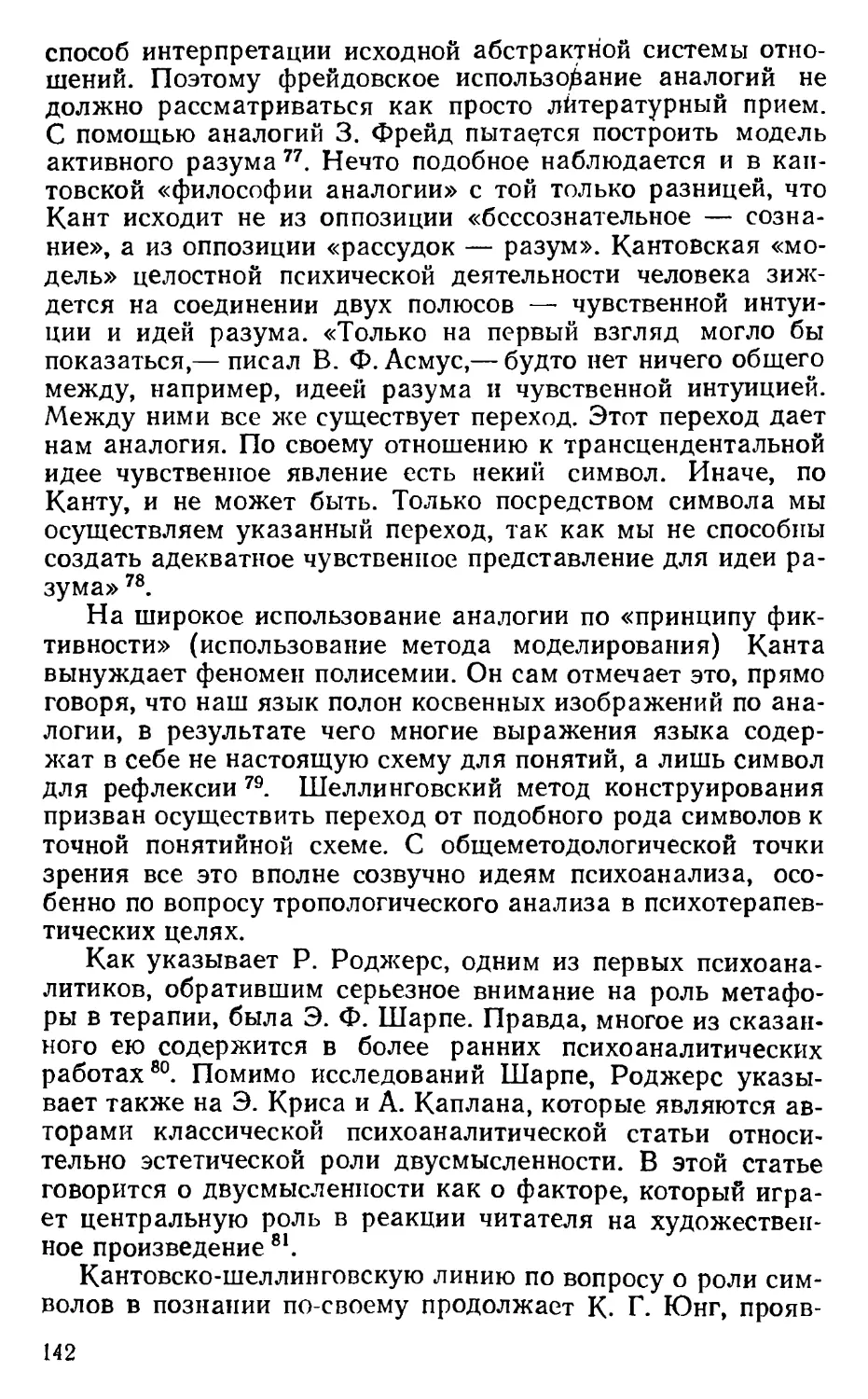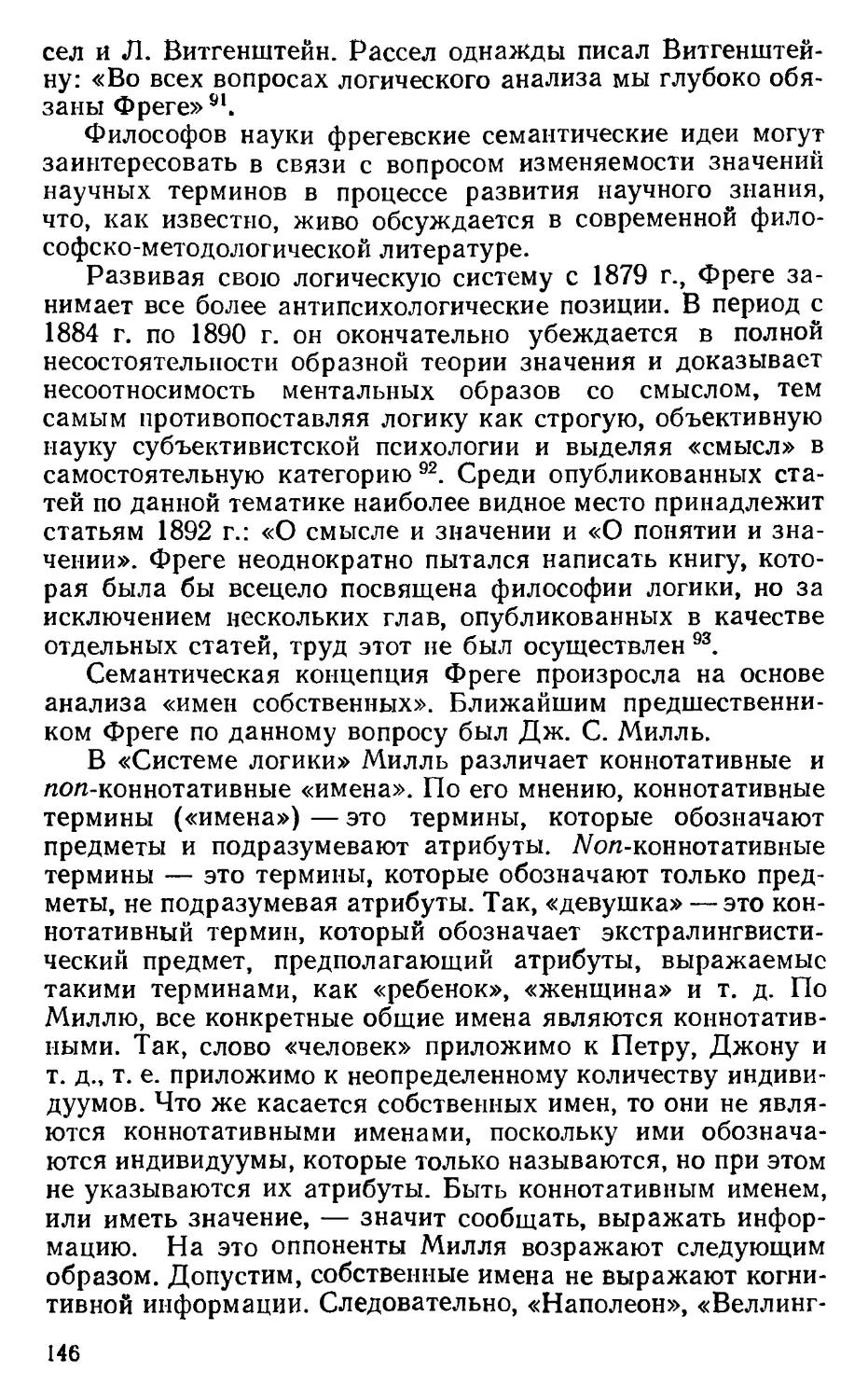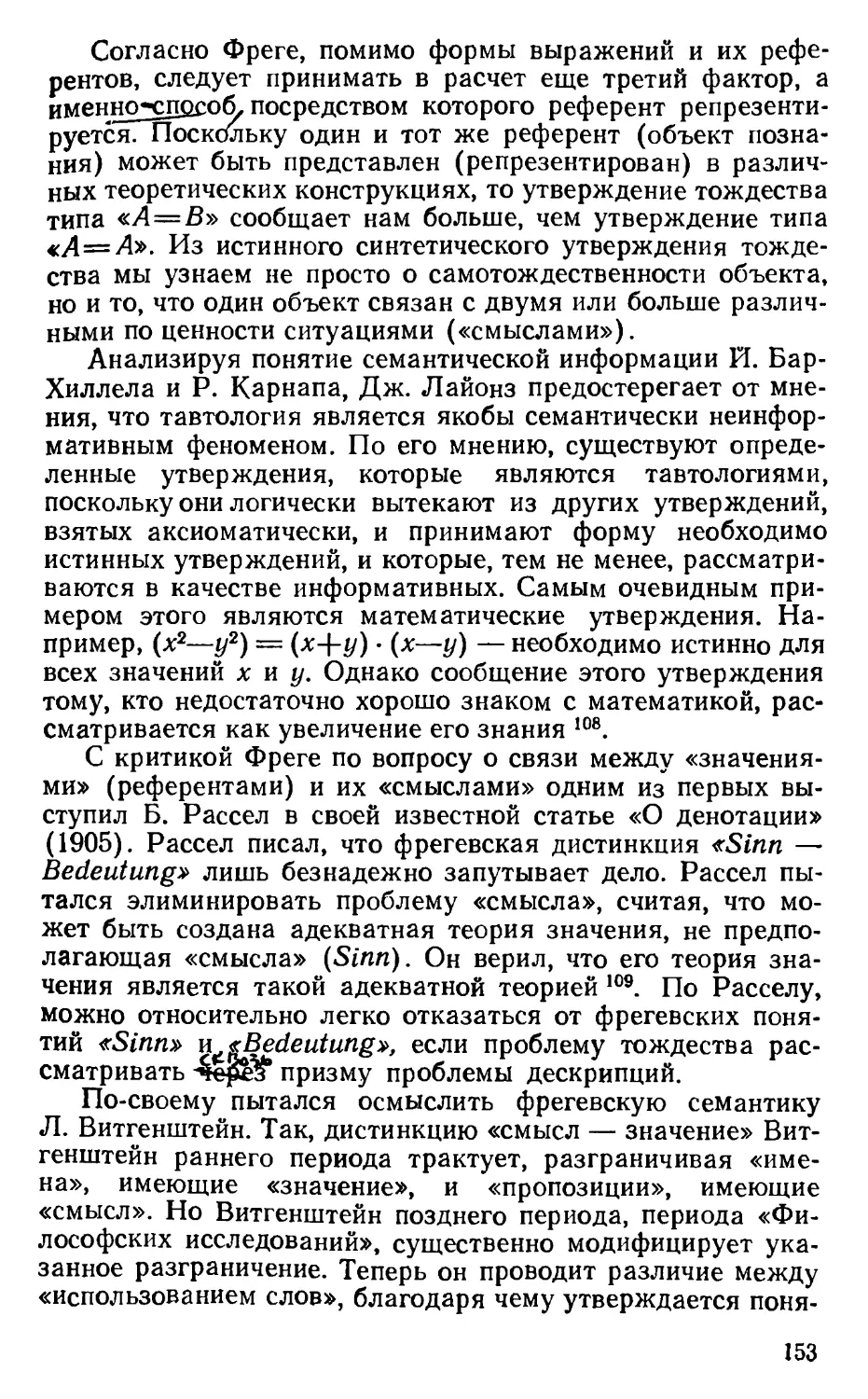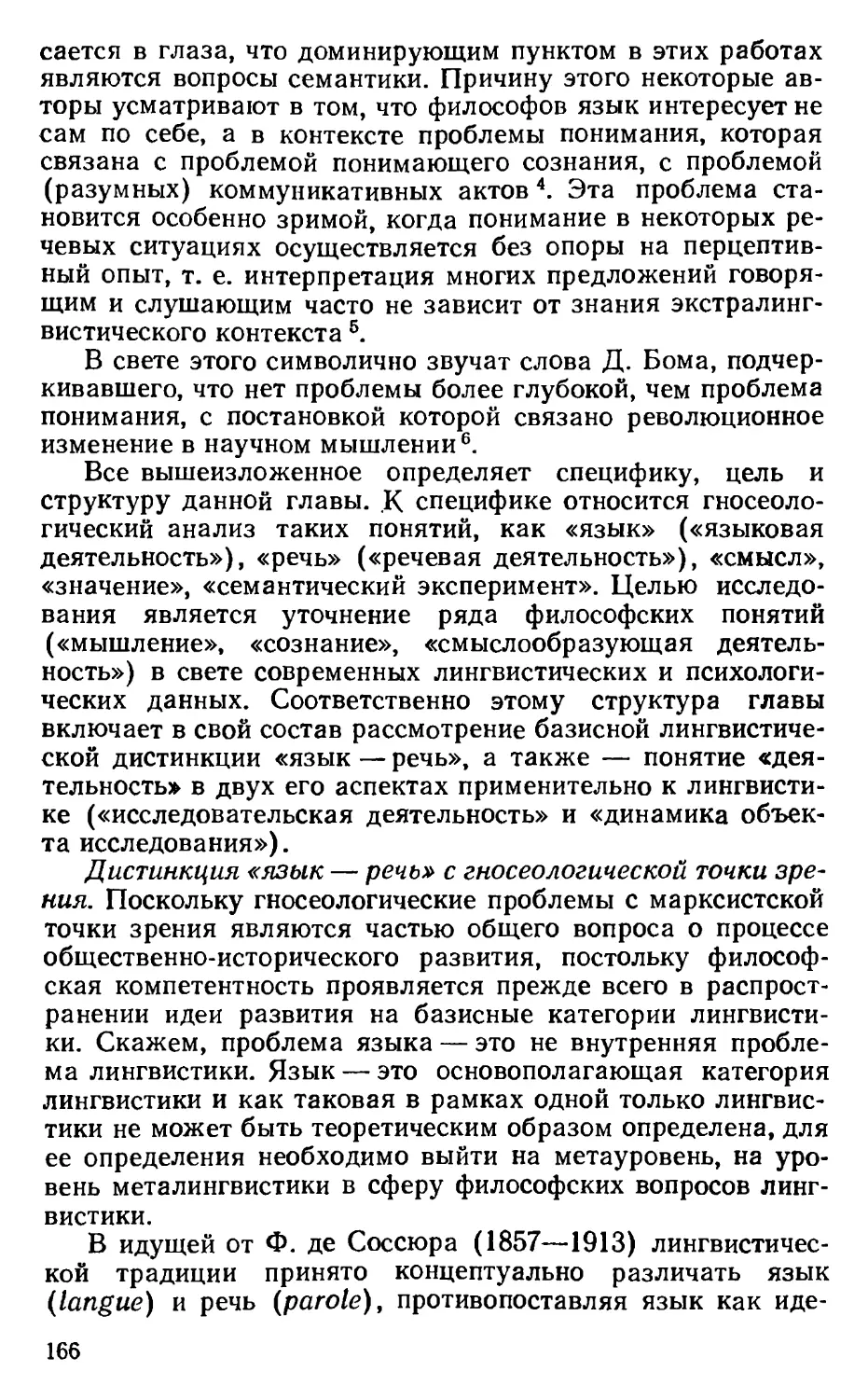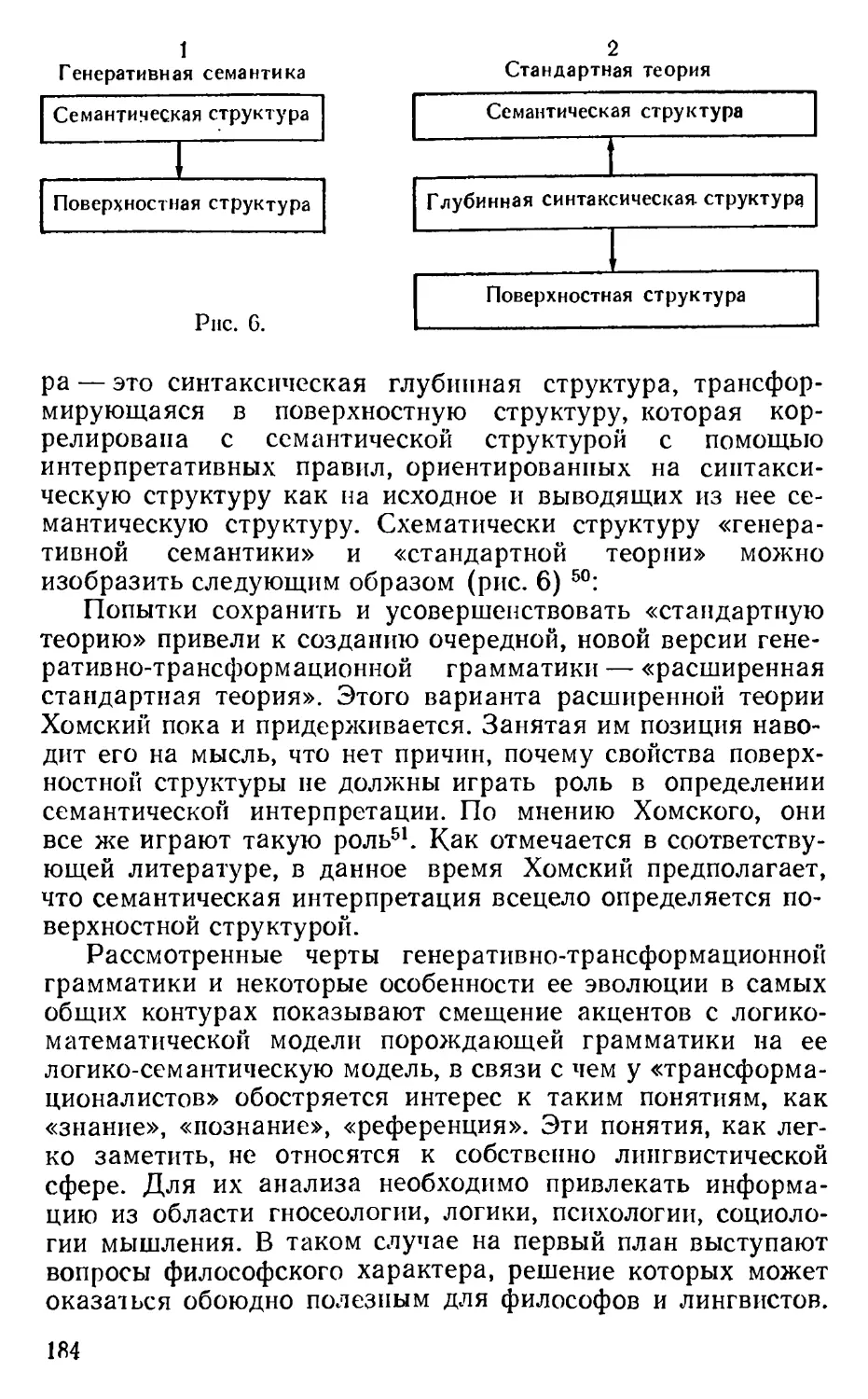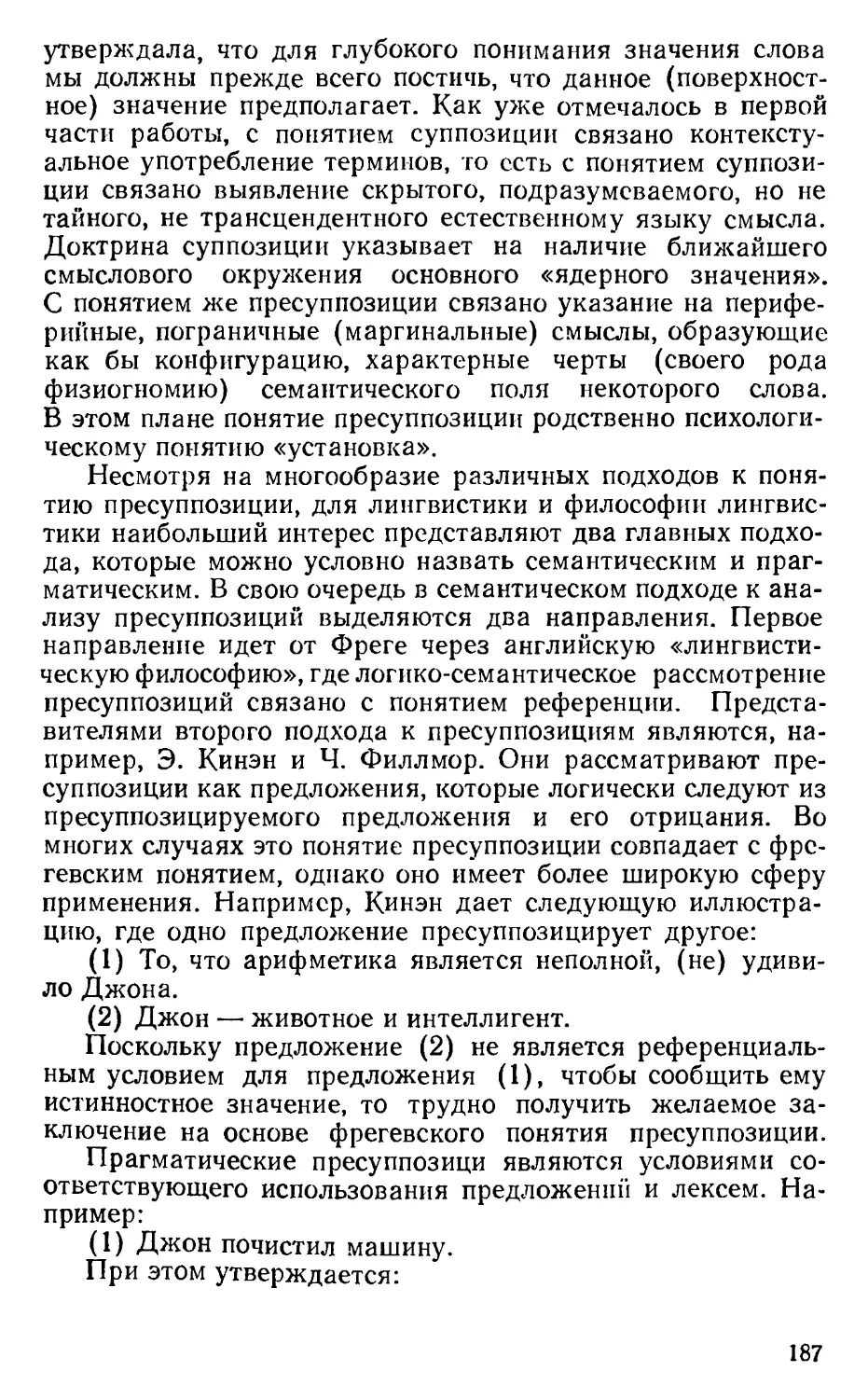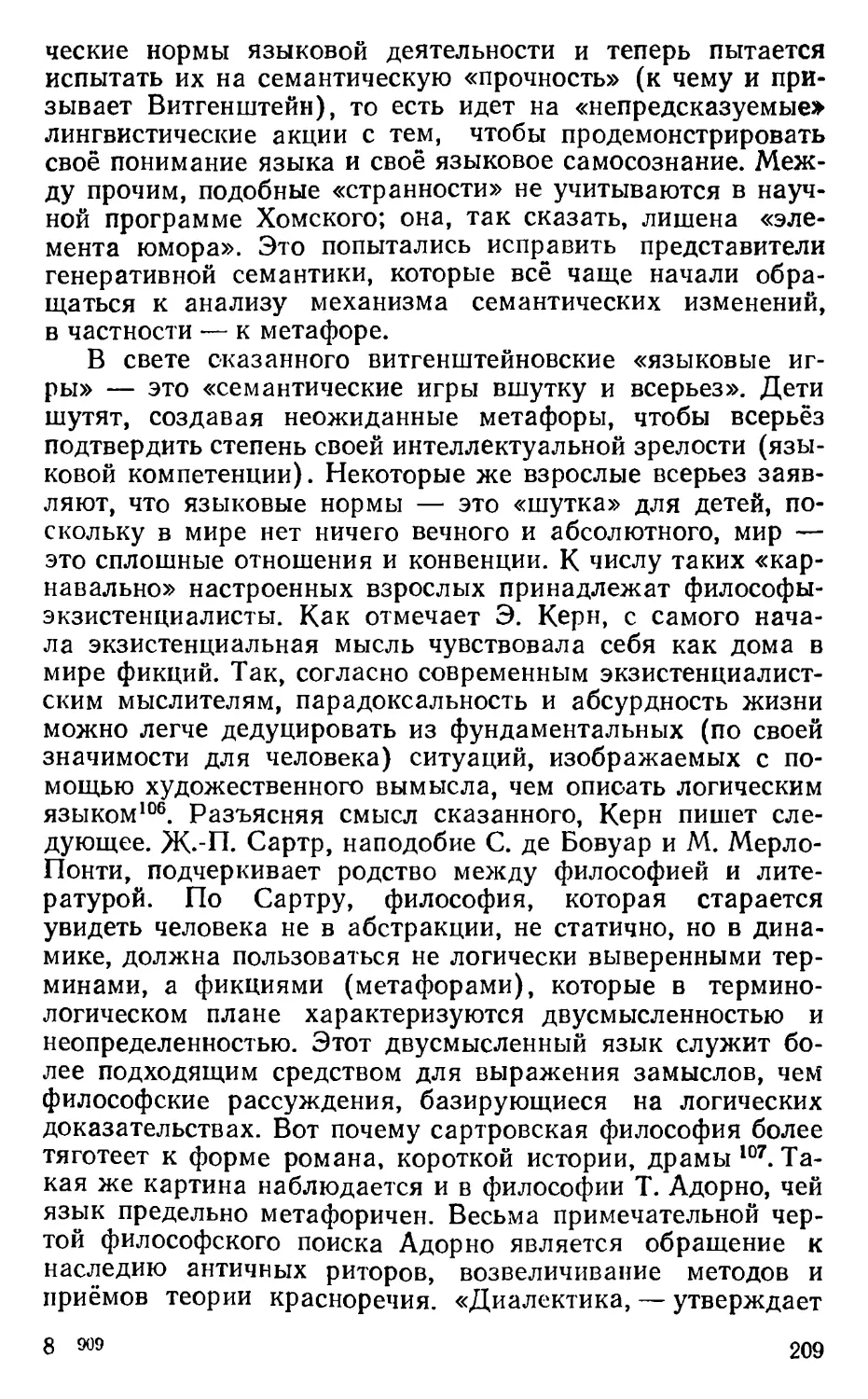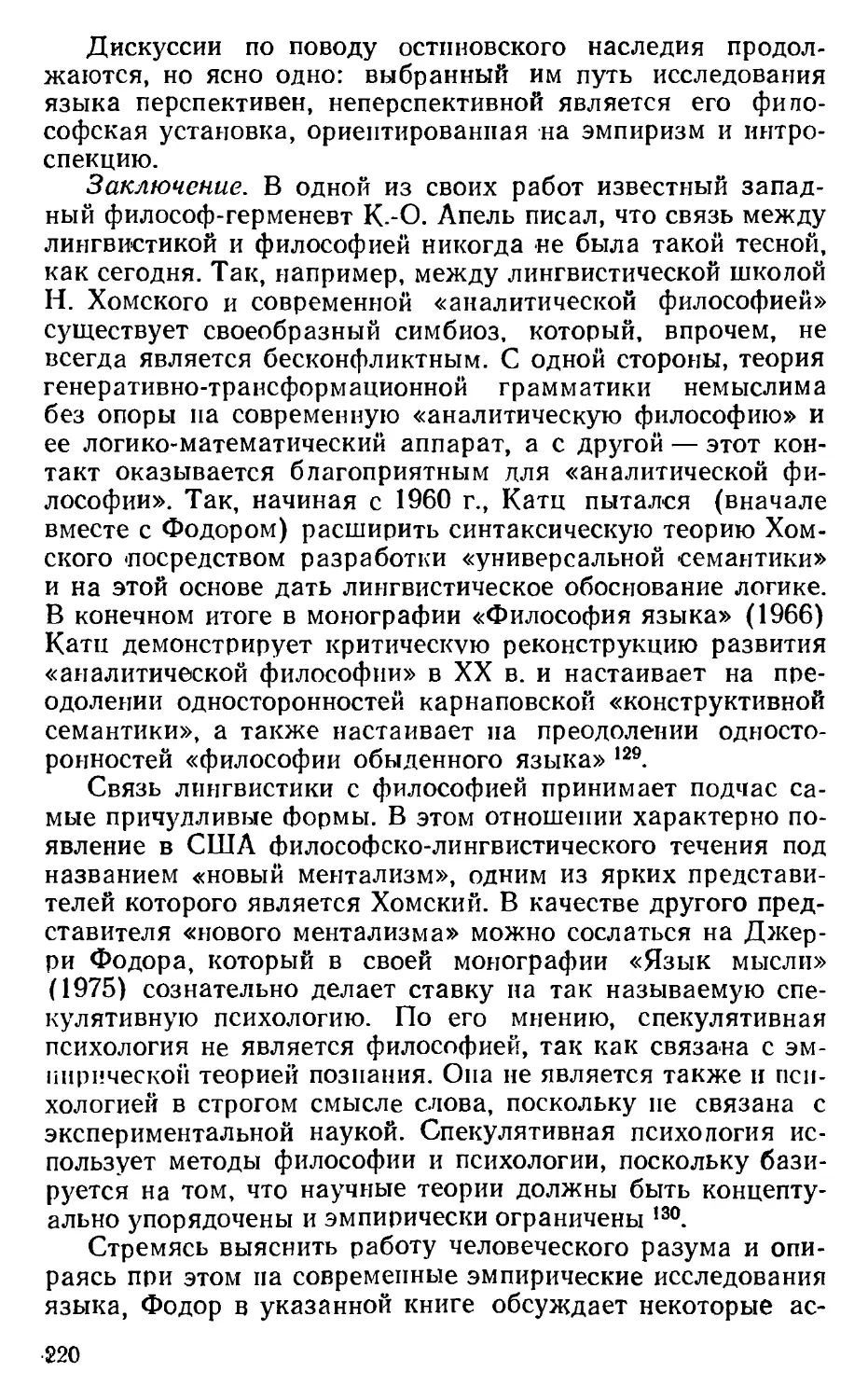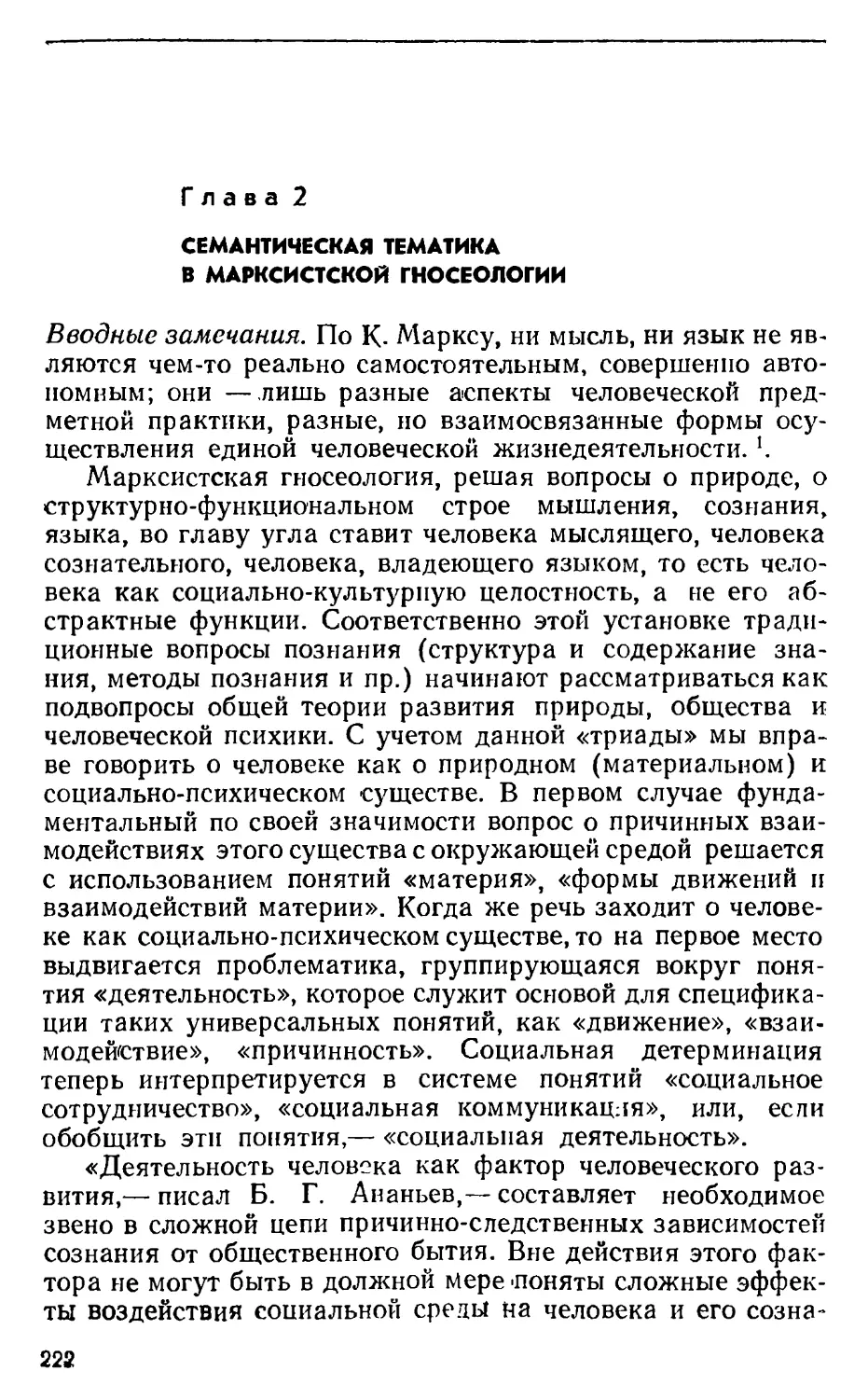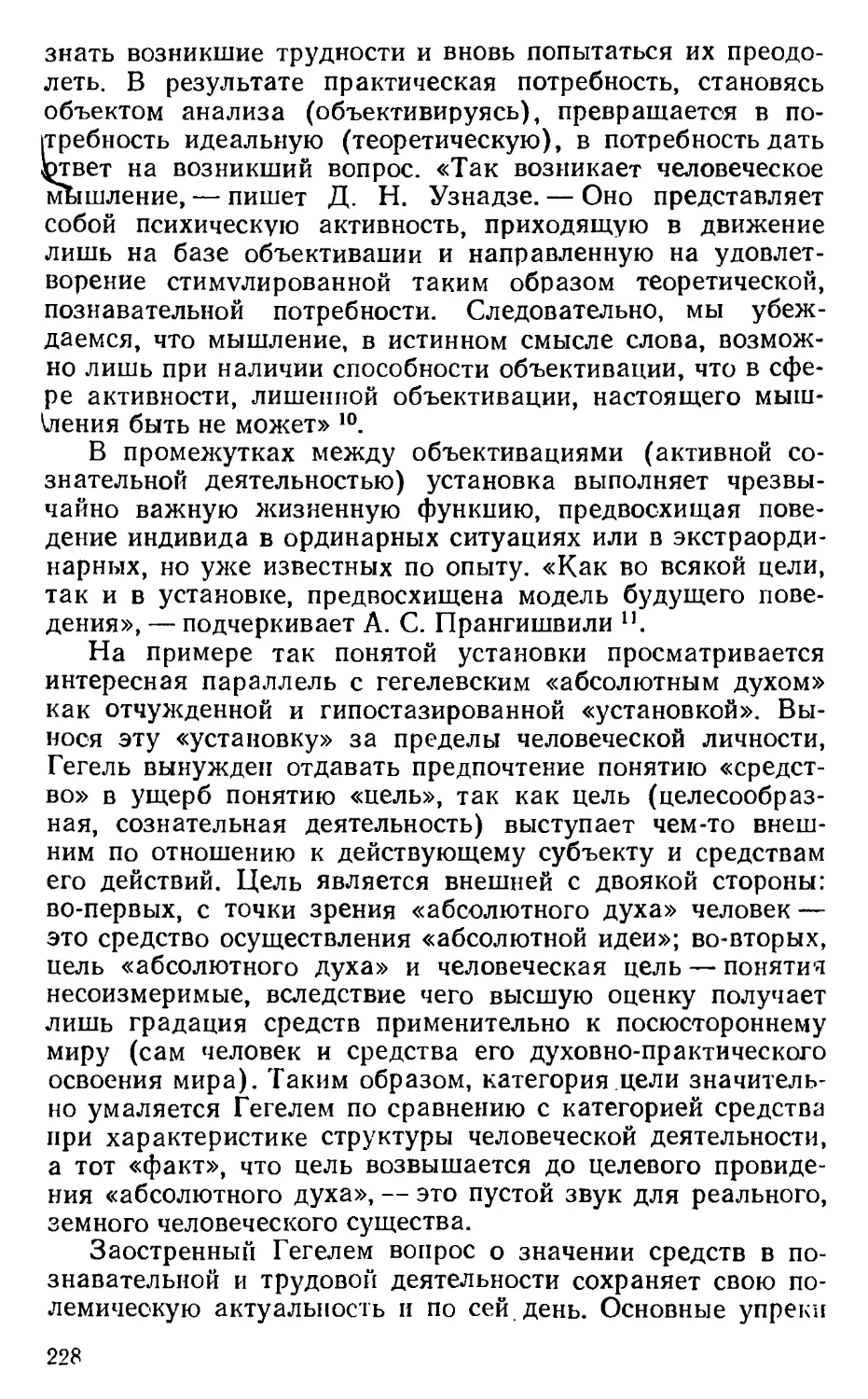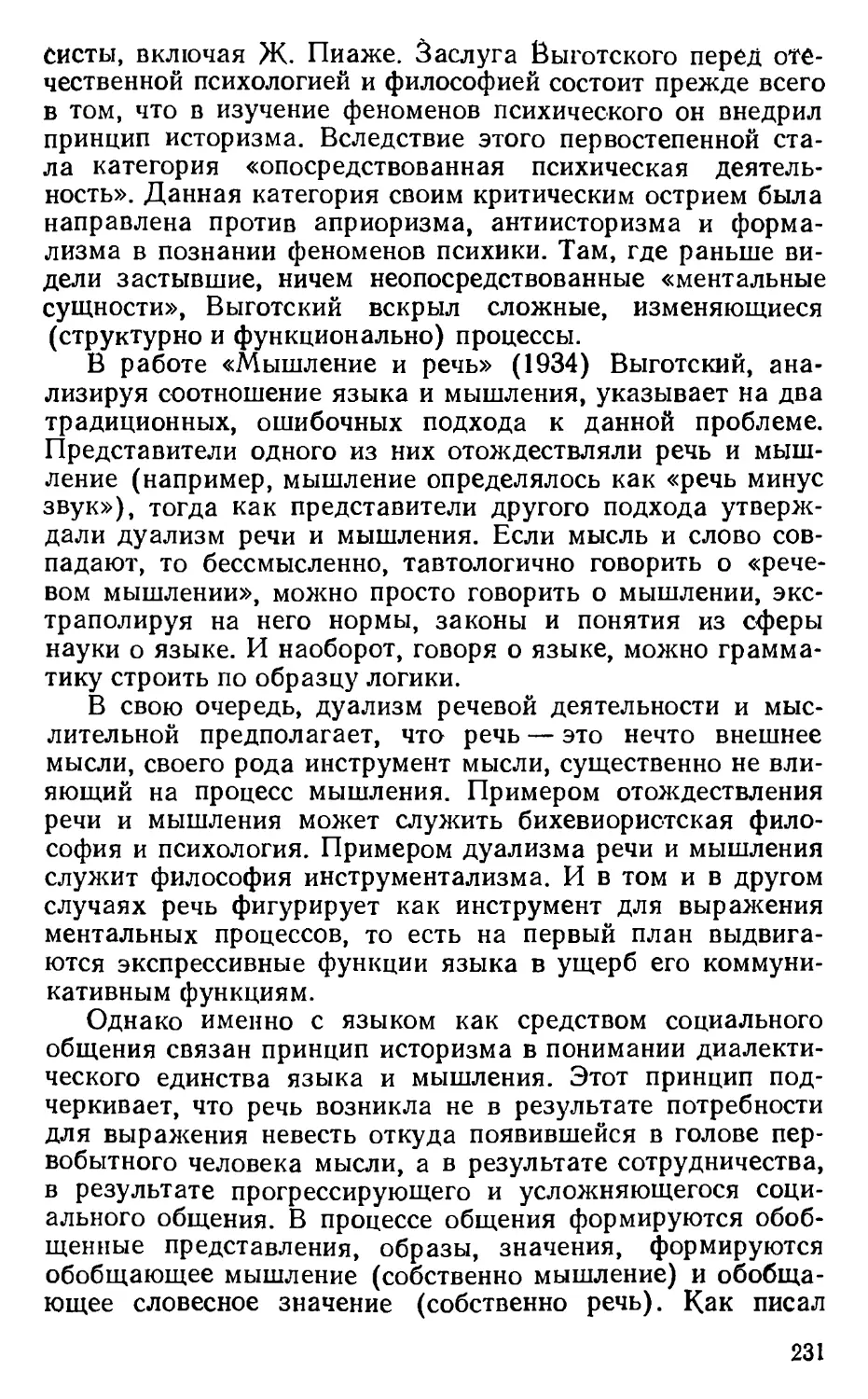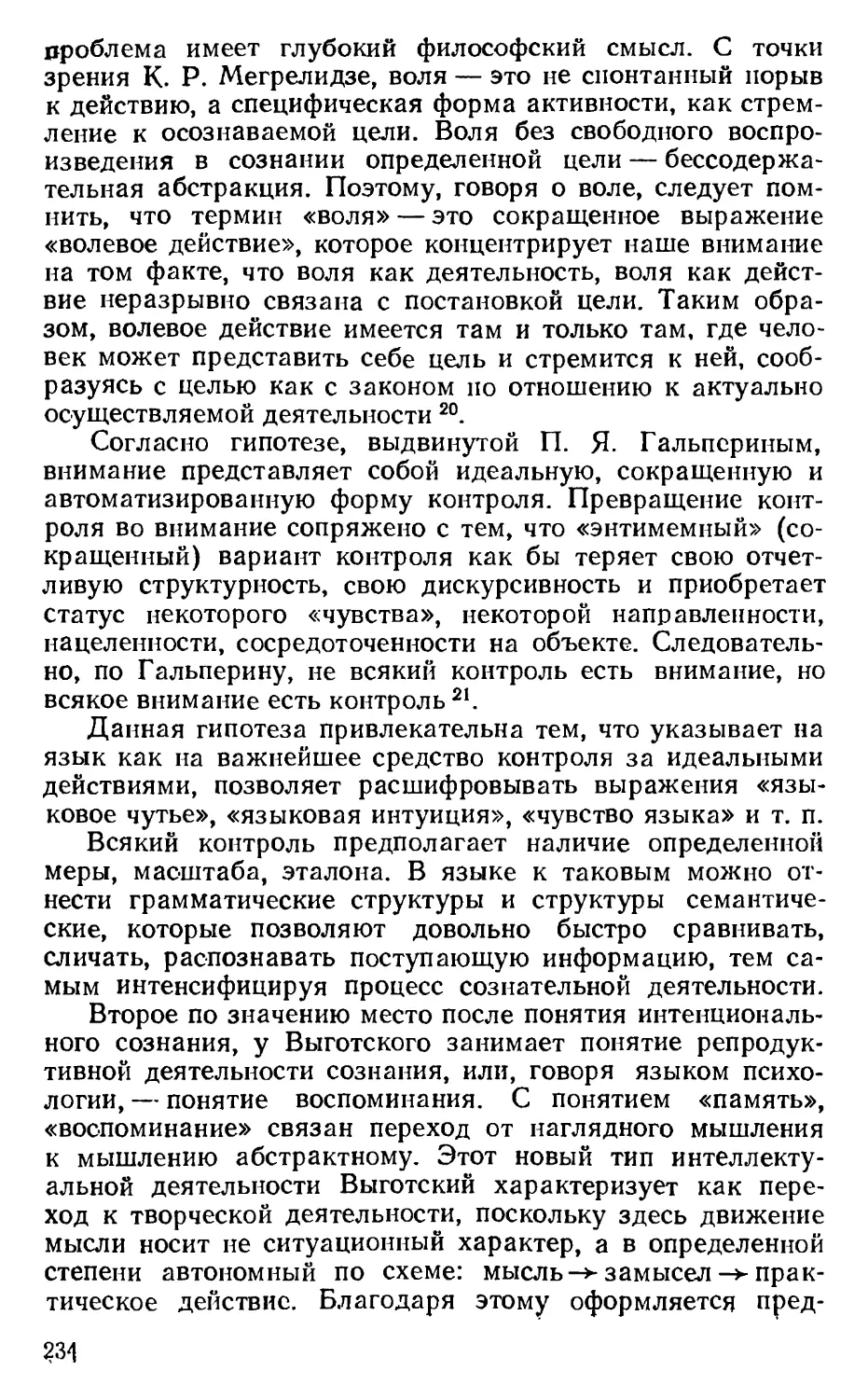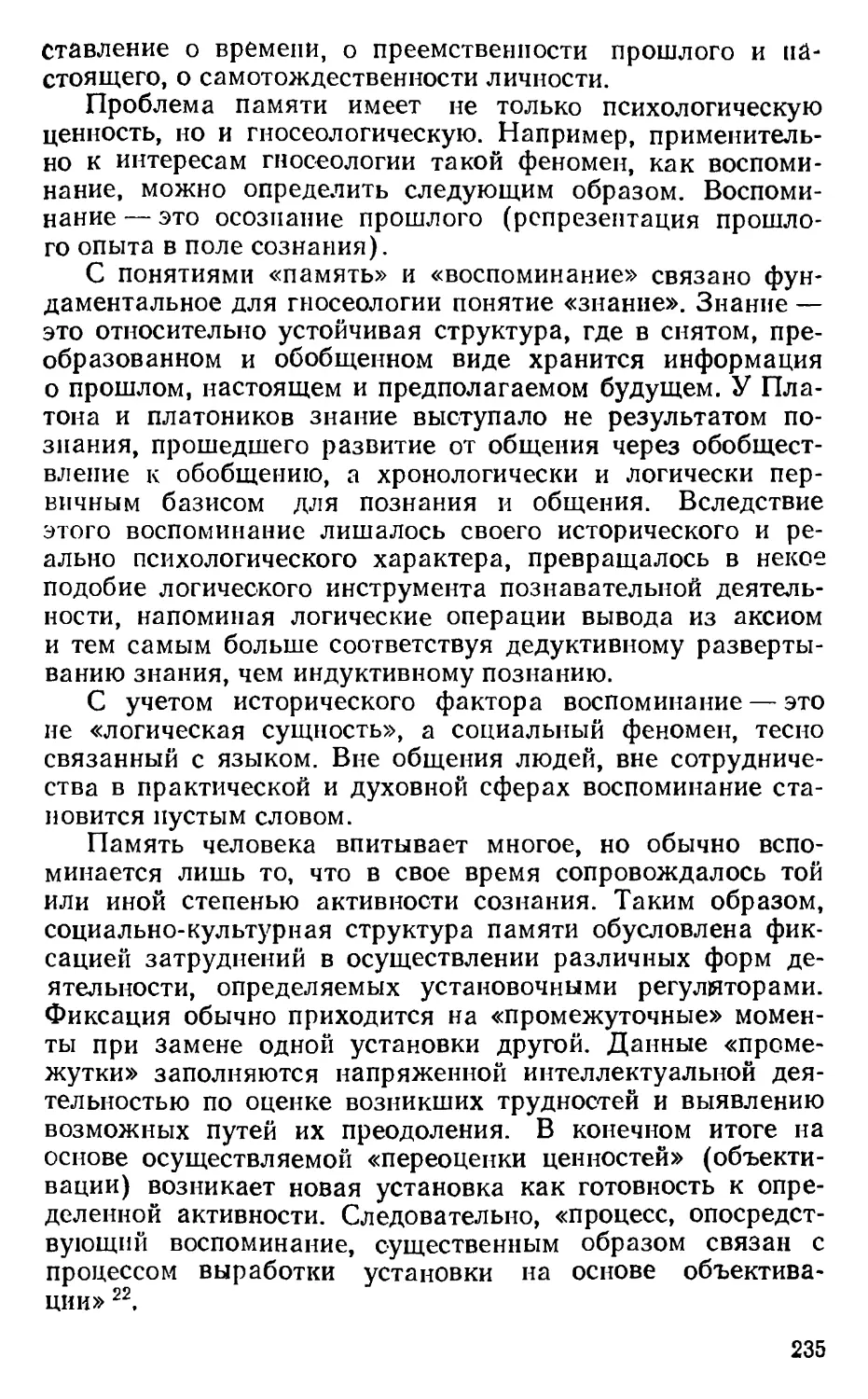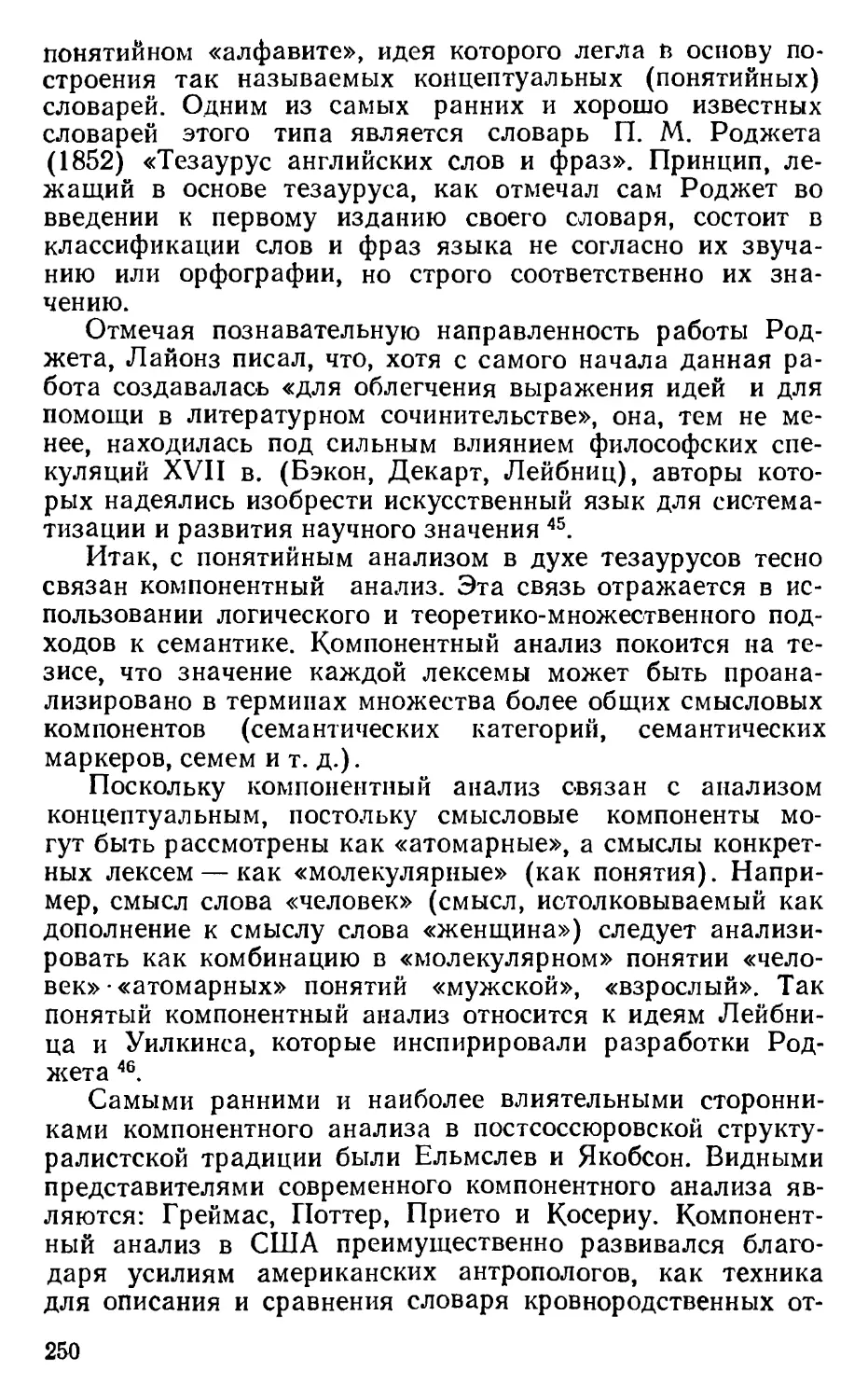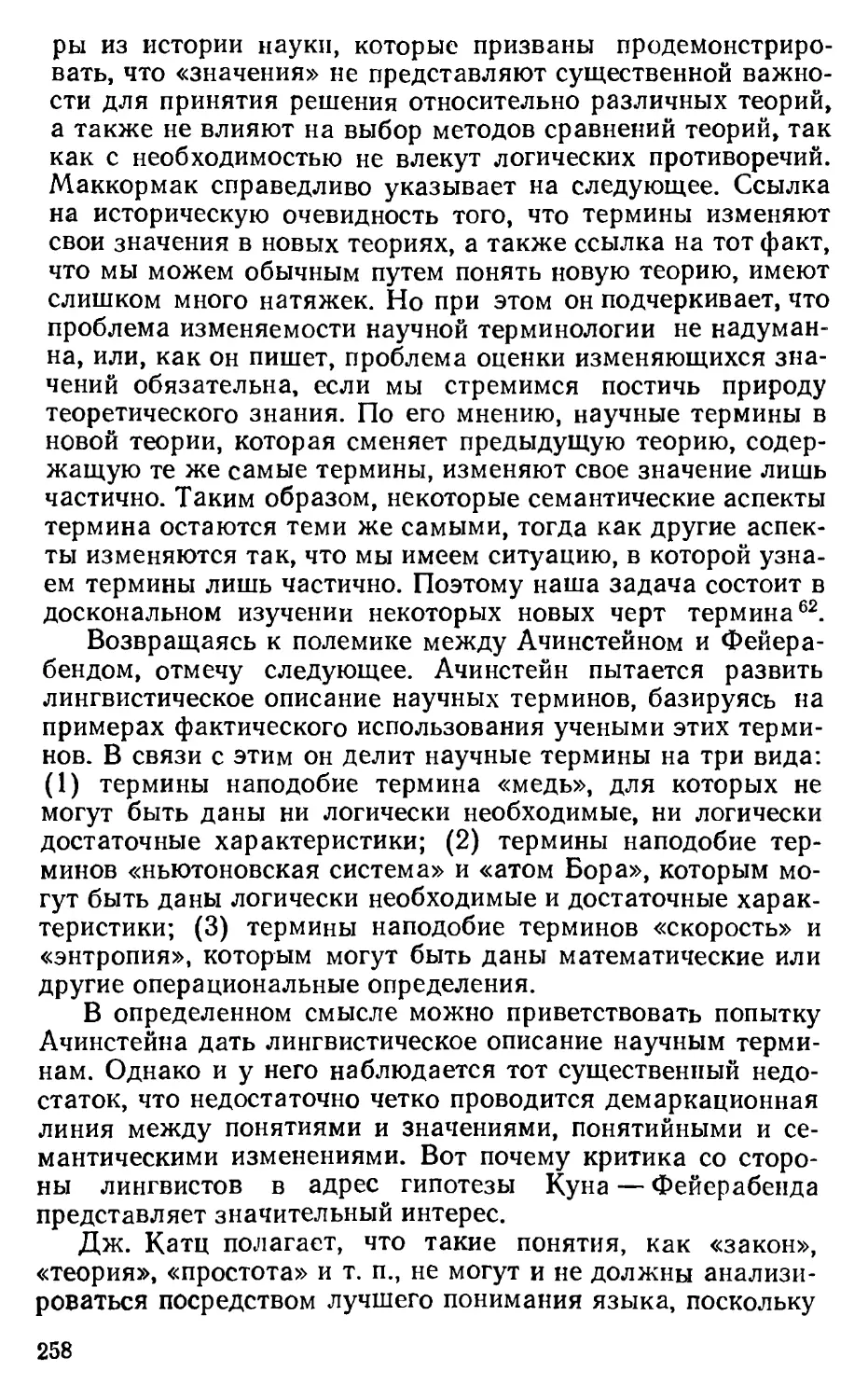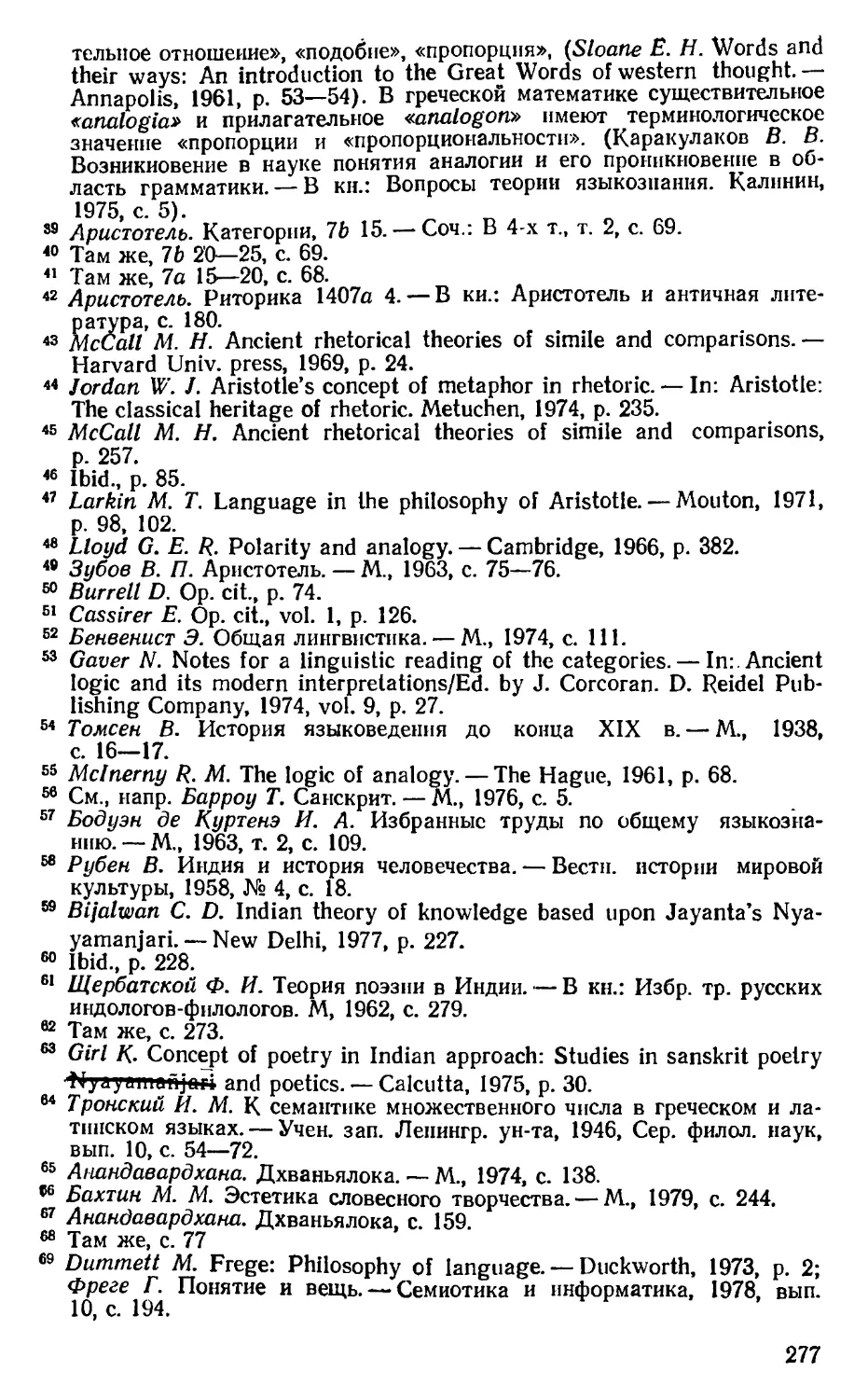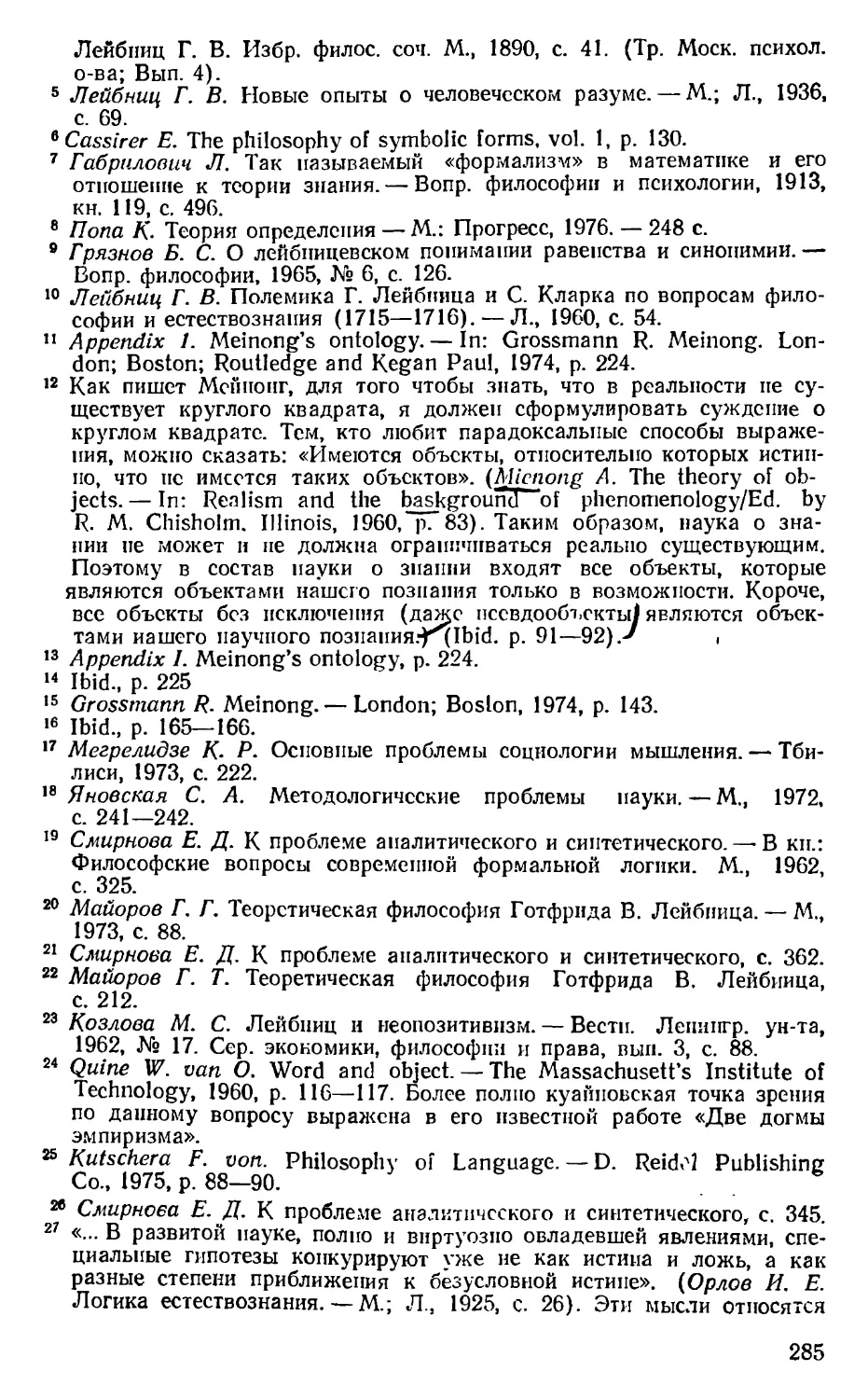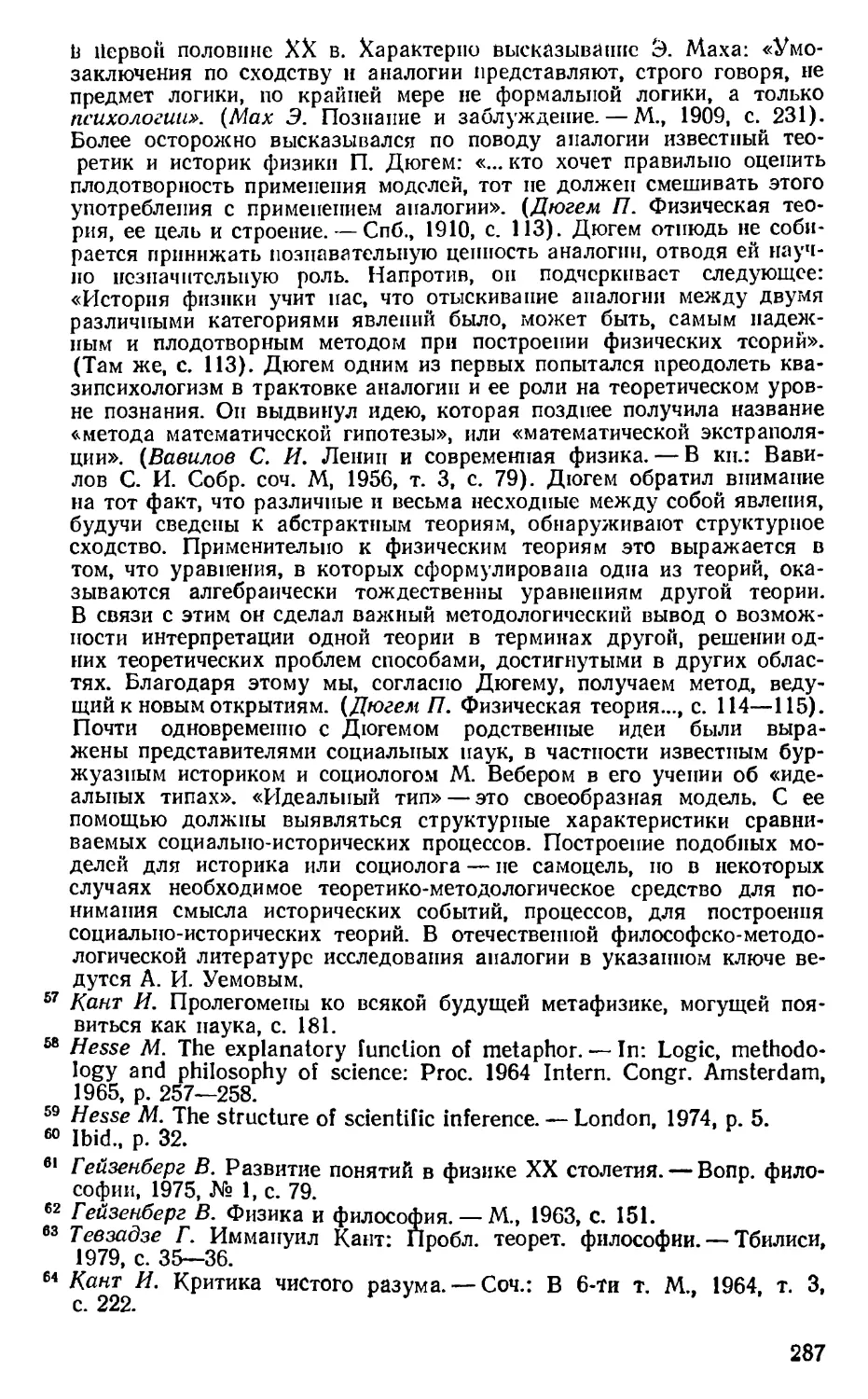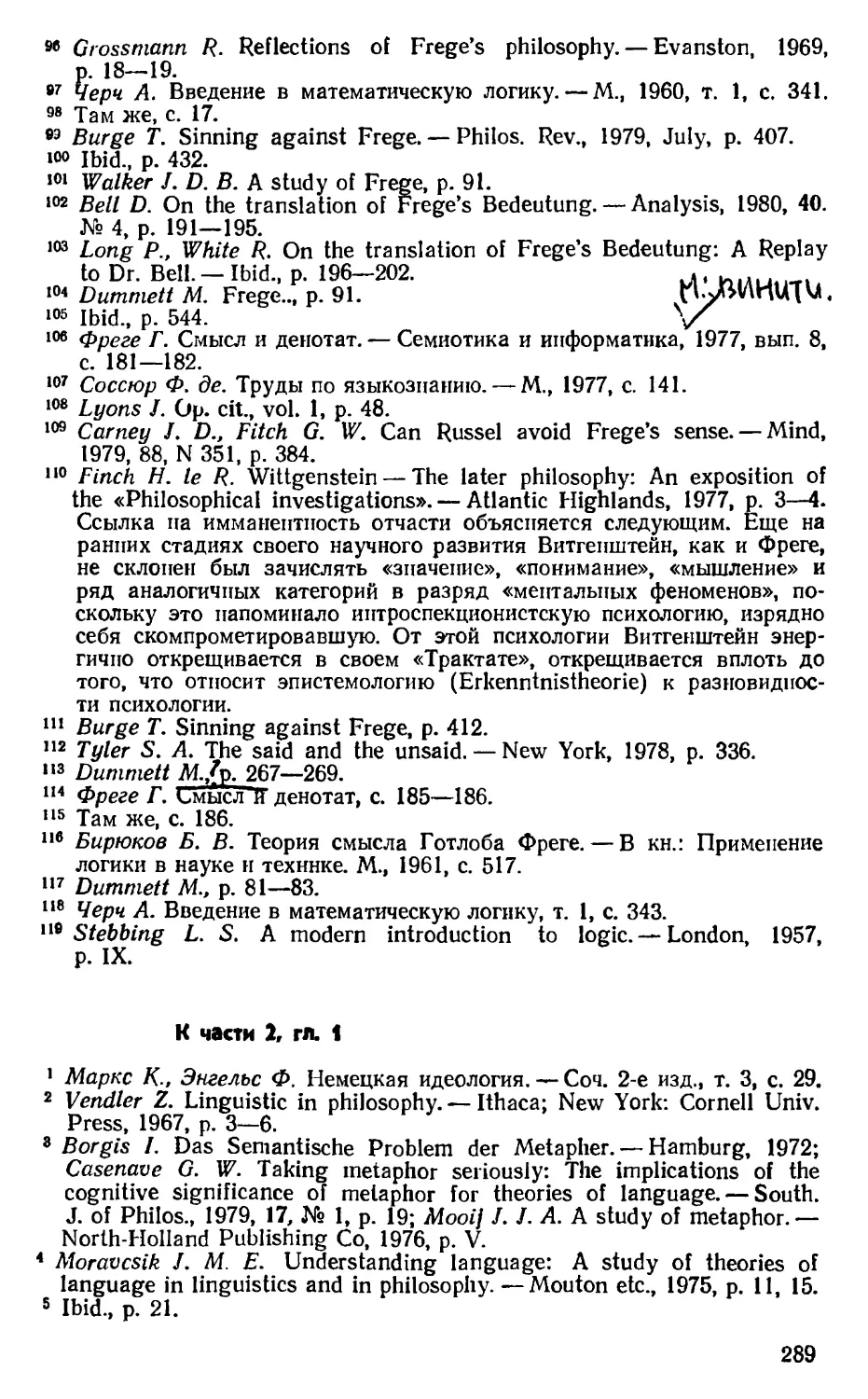Текст
АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР fyjp&c^ P/£
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ „, _й
К. К. ЖОЛЬ
мыть
елово
МШПГЛФОРЛ
ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ
В ФИЛОСОФСКОМ
ОСВЕЩЕНИИ
КИЕВ НАУКОВА ДУМКА 1984
Монография посвящена историческому
и гносеологическому рассмотрению
вопросов соотношения мышления и языка.
Актуальность подобных исследований
подчеркивал В. И. Ленин, писавший о необходимости
переноса центра тяжести в изысканиях по
проблематике теории познания с критики
разума на критику языка. Основной
предметной областью исследования является
языковое творчество в сфере семантики. В
монографии описываются и сравниваются
взгляды крупных мыслителей прошлого иа
соотношение мышления и языка, дается
марксистское понимание отмеченной
проблематики.
Рассчитана на философов, лингвистов,
психологов, а также специалистов в области
наук логико-математического цикла,
занимающихся проблемами семантики в связи с
построением искусственных языков.
Ответственный редактор В. А. Рыжко
Рецензенты Л. А. Б о б р о в а, И. Н. Б р о д-
о к и й, В. С. III в ы р е в
Редакция философской и правовой
литературы
0302020100-183
Ж 4-84
М221(04)-84
© Издательство «Наукова думка», 1984.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В книге дается историко-гносеологический анализ соотношения
мышления и языка. По этой тематике опубликовано большое количество работ
как наших авторов, так и зарубежных. Чтобы избежать дублирования
и внести посильную лепту в познанне нового, решено было
сконцентрировать основное внимание на проблемах языкового творчества в сфере
семантики, в той сфере, где мы имеем дело со смыслообразующей
знаковой деятельностью человека. В соответствии с этой задачей
осуществлено композиционное построение текста и выбор приемов, методов
исследования.
Традиционный характер описания исторической эволюции того или
иного вопроса обычно редко отходит от академических схем, что в
большинстве случаев вполне оправданно и закономерно. При таком подходе
к исследуемому материалу важную роль играет констатация фактора
преемственности, а также указание на то, что в этом процессе
наличествуют этапы качественных преобразований, которые не всегда
сопровождаются полным заимствованием позитивных аспектов опыта,
накопленного предшественниками.
Эти упущения в историческом развитии принято относить к разряду
«нереализованных возможностей», которые обычно исследуются
ретроспективно-историческим методом. В этом методе имеются свои
достоинства, но есть и недостатки. Впрочем, последние скорее следует
приписывать не столько самому методу, сколько субъекту познания, который
подчас забывает или вообще не учитывает эвристического момента в
информации, получаемой при ретроспективно-историческом анализе. В
лучшем случае подчеркиваются «догадки», «предвосхищения» авторов
прошлого. Тем самым современность как бы априори выступает в
качестве «верховного судьи», знающего истину в последней инстанции. Это
противоречит проблемности научного познання, следовательно,
методологически ошибочно.
Чтобы избежать этих недостатков в данном исследовании н
получить информацию, полезную при решении современных гносеологических
и семантических проблем, предлагается сравнительный метод
рассмотрения некоторых аспектов феномена полисемии и семантики вообще.
Монография состоит из двух частей, каждая из которых включаег
несколько глав. В первой части рассматриваются и сравниваются древ-
3
ние н наиболее фундаментальные попытки решения вопроса о значении
языковых выражений, изменяемости этих значений, о роли языка в
процессе познания и миропонимания (Платой, Аристотель, Анандавардхана
и др.). Здесь же дается обзор развития идей риторики, представители
которой сыграли значительную роль в расширении горизонта наших
знаний о семантических ресурсах естественных языков, о возможности
активно воздействовать вербальными средствами на поведение людей, на
характер их мировосприятия (Аристотель, Квннтилиан, А. А. Ричарде,
A. Греймас и др.). Завершающая глава первой части монографин
посвящена рассмотрению тех философских предпосылок науки Нового
времени, которые оказали мощное регулятивное влияние на
формирование современных идей семантики, в частности по вопросу о механизме
семантических изменений.
Во второй части монографин анализируются узловые понятия,
связывающие философию и лингвистику, показывается возможность и
эффективность философского подхода к объяснению процессов развития,
семантического обогащения естественных языков и языков научного
познания (Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин, Н. Хомскнй, Л. В. Щерба,
B. А. Звегиицев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Р. Мегрслидзе
и др.).
Автор выражает благодарность рецензентам за критические
замечания, а также коллегам, чей добрый совет помог улучшить книгу.
ВВЕДЕНИЕ
В процессе исторического творчества человек шаг за
шагом создает вокруг себя искусственную среду обитания и не-
природныё формы общения, формы сознательного
сотрудничества. Одновременно с этим многообразятся формы и
содержание сознаний, соответственно чему усложняются
способы общения между отдельными людьми и народами.
Находясь в различных социально-культурных и
природных условиях, человек в своей повседневной
жизнедеятельности имеет дело с предметами различной природы и
назначения, что отражается в предметном
содержании его сознания, а также в способах преодоления
возникающих коммуникативных трудностей. Все это
способствует тому, что на повестку дня ставится проблема
взаимопонимания как ключевая проблема
человеческого общежития. В гносеологическом плане возникает
вопрос о соотношении мышления и бытия, частным случаем
которого является вопрос о соотношении мышления и языка.
В рамках марксистской гносеологии мышление
трактуется как продукт социально-исторического развития, как
продукт усложнения и дифференциации сознательных форм
деятельности. Весьма неопределенное понятие мышления как
такового, которое то связывалось с чувствами и эмоциями,
то резко противопоставлялось им как особая
психофизиологическая функция, то превращалось в атрибут
самосознания, советские философы попытались связать с понятием
объективированного мышления, когда через свое
осуществление мысль становится доступной самой себе. При этом
обнаружилось, что именно с акта объективации, акта
осуществления мысли начинается понимание как собственно
человеческое восприятие знания, фигурирующего в поле
сознания. Как известно, одной из наиболее важных форм
объективации мысли является вербальная деятельность.
Говоря о понимании в связи с указанием на речевое
осуществление мысли, мы тем самым переходим от гносео-
5
логии к семантике, вернее, к семантическому аспекту
понимания. Проблемы онтологии трансформируются в
проблемы семантики, при этом значительно суживается диапазон
исследования, возникает опасность отрыва семантики от
онтологии, опасность гипостазирования некоторых уровней
семантического анализа. Поэтому необходимо подчеркнуть,
что в философско-методологическом плане семантический
анализ вторичен по отношению к общегносеологическому
анализу. Иными словами, как только в расчет принимаются
акты осуществления мысли в языке, включая то, что
именуется языком науки, появляется проблема соотношения
онтологии и семантики в рамках гносеологии.
Семантический анализ проблемы понимания как
собственно философской проблемы не рядоположен гносеологии,
а включается в ее внутреннюю иерархическую струкгуру,
благодаря чему расширяются границы и полномочия
современного гносеологического анализа, как в свое время
это произошло, когда к теории знания была
присовокуплена теория сознания.
По достоинству оценить плодотворный синтез теории
знания с теорией сознания можно лишь в том случае,
когда учитывается важное марксистское положение,
что язык, вернее, речь — это «практическое, существующее
и для других людей и лишь тем самым существующее
также и для меня самого, действительное сознание» !*.
Это марксистское положение ценно для нас тем, что
подчеркивает единство истории языка с историей мышления,
причем с учетом существенных, качественных различий
языка и мышления, языка и сознания. Исходя из этого
положения, как отмечал в свое время К. Р. Мегрелидзе,
«Ленин, с особым вниманием подчеркнув слова Гайма,
указывал, что тяжесть доказательства в изысканиях теории
познания должна быть перенесена с критики разума на
критику языка, на задачу критической истории языка.
В таком историческом изучении развития человеческой
мысли Ленин видел единственную гарантию метода,
дающего «теорию познания бесспорно доказательную»2.
Придерживаясь этих ленинских рекомендаций, можно
попытаться реализовать задачу критической истории языка
для обогащения таких фундаментальных понятий
марксистской гносеологии, как «мышление», «сознание»,
«деятельность», «развитие». В силу того, что указанная задача
* Примечания, сгруппированные по главам, помещены за текстом
книги.
6
требует комплексного подхода, усилий многих специалистов
(психологов, лингвистов, социологов, этнологов),
предлагается сосредоточить основное внимание на круге вопросов,
связанных с особенностями языкового творчества в
семантической области. Издавна в этой области пересекались
интересы философов и языковедов, издавна здесь велась
дискуссия по проблемам семантики. Обстоятельства
сложились так, что камнем преткновения явился вопрос о
метафорах и метафорообразованиях, поскольку в оценке
метафоры крайне трудно было дифференцировать
соотношение понятийного и семантического, мышления и языка.
За несколько последних десятилетий значительно возрос
интерес к изучению метафоры со стороны представителей
философии науки, лингвистов, фольклористов, психологов.
Об этом свидетельствует рост публикаций по данной теме 3
и те, если угодно, афористические высказывания, которыми
эти публикации порой изобилуют. Так, например,
известный американский исследователь Д. Берггрен с известной
долей вызова заявляет, что «метафора всегда была одной из
центральных проблем философии»4. Но если эти слова
сравнить, скажем, с высказыванием А. Ф. Лосева, которое
прозвучало в достаточно близком контексте, то «дерзкое»
заявление американского ученого, не лишаясь налета
рекламное™, заставляет всерьез задуматься над
рациональным смыслом сказанного. По мнению А. Ф. Лосева, одним
из центральных понятий философии является понятие
символа 5. Характерно, что на вопрос о сущности символа, один
из исследователей семантических изменений в естественных
языках У. М. Урбан, отвечает, ссылаясь на понятие
метафоры 6.
Понятия «символ» и «метафора», по мнению У. А. Шиб-
лза, имеют много общего. Это связано с творческим
аспектом конструирования метафор. Творчество заключается в
том, что метафора — это первая попытка определения
нового понятия с помощью старого «имени» 7. Кстати, еще Дж.
Локк обратил внимание на тот примечательный факт, что
понимание многоярусной научной теории, особенно новой,
иногда наталкивается на трудности, вызванные, с одной
стороны, частичной концептуальной неясностью, а с другой—
отсутствием адекватных средств для выражения новых
понятий и интуиции. Этот кризис на первых порах может
частично приглушаться за счет метафорического
употребления прежних терминов. Поэтому та или иная степень
метафоричности научных терминов в развивающемся научном
7
знании сохранялась и будет сохраняться вследствие
бесконечного процесса познания.
Каждый, кто занимается сравнительными
исследованиями или переводами, часто сталкивается с подобного рода
семантическими неясностями. Однако метафоричность
в интерпретации тех или иных научных
представлений — это отнюдь не ущербность языка исследования, а
свидетельство жизнетворных противоречий в системе
теоретических понятий, что стимулирует научный поиск и
совершенствование познавательных средств.
Таким образом, разные ученые, независимо друг от
друга и познавательных интересов, указывают на
необходимость самым серьезным образом считаться с тем, что
создание семантической теории немыслимо без глубокого
постижения соответствующих знаковых систем, их
организации, коммуникативных и экспрессивных возможностей.
О необходимости вплотную заняться изучением
механизма семантических изменений на примере метафорооб-
разований уже давно ставится вопрос в марксистской науке.
Например, известный исследователь из ГДР Р. Вейман
указывает на метафору как на одну из интереснейших
областей филологии. По его мнению, от обстоятельного и
многоаспектного изучения метафоры нельзя отказаться,
объявив ее формализмом 8, как это нередко бывало, когда
ссылались на разработки по теме логической семантики
или на семантические изыскания в русле структурной
лингвистики.
Метафора привлекает к себе внимание не только
филологов или лингвистов. Она интересует психологов,
занимающихся изучением соотношения мышления и языка.
Метафора будоражит ум философов в связи с
необходимостью учета семантического фактора в развитии научных
понятий.
В классической филологии неоднократно
высказывалось мнение, что различные тропы (высказывания в
переносном значении) — это всего лишь разновидности
метафоры, хотя и принято считать с древнейших времен
метафору одним из самых важных тропов наряду с
метонимией, синекдохой и сравнением. Подобное
отождествление различных тропов с метафорой имеет свои основания
не только в этимологии слова «метафора» (греч. metapho-
га — перенос), но и в том, что границы между тропами
очень условны и скорее выполняют пропедевтические
функции, нежели являются следствием теоретической конст-
руктивизации феномена полисемии.
8
Это, в частности, подчеркивает Т. Хавкес, когда пишет,
что многие тропы могут быть рассмотрены как различные
версии единого метафорического прототипа9. Поэтому не
будет ошибкой или преувеличением пользоваться одним, к
тому же хорошо знакомым словом «метафора», говоря о
проблемах полисемии, в частности о проблемах полисемии
и полиморфизма языка научного познания. В XX в. об этом
убедительно заявили представители «лингвистической
философии» (Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин и др.). Что
же касается изучения в новом ключе метафоры, то
прежде всего следует отметить основополагающую
монографию А. А. Ричардса «Философия риторики» (Оксфорд,
1936), повлиявшую на все последующие разработки в
данном направлении.
В современной науке метафора занимает все более
видное место. Можно надеяться, что тщательные
историко-философские, психологические, лингвистические и
логические подходы к проблемам семантики создадут
благоприятные предпосылки для более тонкого анализа
механизма метафорообразований в самых различных
культурных «текстах». В отечественной литературе еще
существует значительный пробел в этой области познания, хотя
и предпринимаются некоторые попытки заострить внимание
на феномене полисемии в связи с метафорой.
Предлагаемое исследование не преследует цели дать
развернутую теорию метафоры. Перед автором стояла
более скромная задача, а именно: не выходя за пределы
компетентности, переосмыслить историческую связь некоторых
разделов философского знания (гносеологии, логики) с
различными нефилософскими анализами феномена языка и
познакомить читателя с литературными источниками по
данной проблематике.
ЧАСТЬ 1
Исторический обзор
семантической проблематики
по вопросу изменяемости значений
языковых выражений
Глава 1
ХАРАКТЕР И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
РЕФЛЕКСИИ ПО ПОВОДУ МЫШЛЕНИЯ
И ЯЗЫКА В КЛАССИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ ДРЕВНОСТИ
Вводные замечания. На заре человеческой истории язык
был вплетен в общую практику социального
взаимодействия. Характерной особенностью этого взаимодействия
является специфика воздействия на поведение людей в
процессе коллективного сотрудничества. Со временем из
различных форм воздействия (звукового, жестикуляционного,
тактильного) выделяется вербальная форма воздействия,
речь как средство общения и регулятор социально
значимого поведения (например, приказ, просьба, команда
и т. п.). Кроме того, в процессе человеческого развития речь
начинает активно воздействовать не только на поведение,
но и на формирование сознания, мышления, тем самым
индивидуализируя феномен общественного сознания,
стимулируя переход от безличного коллективизма к
прогрессивному развитию личностных начал. Так^ на определенном
этапе истории «внешняя речь» становится «речью
внутренней», соответственно чему существенно меняются форма и
структура сознания (сознание теряет непосредственную
зависимость от диктата со стороны живого слова).
В рамках одного и того же языка люди постепенно
перестают понимать друг друга с «полуслова», что
непрестанно усиливается прогрессирующим разделением труда,
влекущим за собой изменения в формах сознания, в его
содержании. Поэтому всякие серьезные сдвиги в социальной
реальности отражаются в формах и содержании
общественного сознания, и в конечном итоге изменяется вся
человеческая психика во главе с сознанием. Такова точка зрения
марксистской социологии и психологии мышления.
Дистинкция «общественное сознание — индивидуальное
сознание» в языковом плане конкретизируется с помощью
Ю
дистинкции «значение — смысл». Значение — это то, что
обладает объективно-исторической ценностью. По мнению
А. Н. Леонтьева, в понимании соотношения языка и
сознания прежде всего следует исходить именно из этого
положения. В таком случае понятие «значение» является
выражением специфической формы языкового сознания, в
которой отдельный человек отражает и фиксирует обобщенный
человеческий опыт *.
Что же касается понятия «смысл», то оно призвано
выразить движение от озадаченного сознания к сознанию,
решившему задачу, т. е. установившему более или менее
истинное значение проблемной ситуации.
Поскольку строение сознания связано со строением
человеческой 'деятельности, то проблема соотношения
значения и смысла имеет также и онтологический план. Так, при
слабой дифференцированности трудовой деятельности в
первобытном обществе наблюдается нерасчлененность в
сознании смыслов и значений; смысл сознаваемого явления
для отдельного человека и его смысл для коллектива в
целом (значение) совпадают. Это совпадение — главная
особенность первобытного сознания 2.
Связь семантики с онтологией ярко прослеживается на
примере процессов семантических изменений типа метафо-
рообразований. Говоря о феномене метафоры во временном
ракурсе, необходимо отметить следующее. Появление
метафор в поле языкового сознания — свидетельство
определенной филогенетической и онтогенетической зрелости.
Сознание человека эпохи мифа невосприимчиво к неожиданным
явлениям. Для этого типа сознания различные предметы,
включая «неожиданные», относительно легко сводимы к
хорошо известному, или, как писала О. М. Фрейденберг, «для
первобытного сознания один предмет и есть другой; поэтому
здесь нет места ни для какой переносности значения с
одного предмета на другой»3. Иносказание же, по мнению
Фрейденберг, открывает путь в будущее, в новое
мышление, в связь неожиданных явлений4. Таким образом,
появление басен, загадок, пословиц и пр. знаменует собой
возникновение нового типа языкового сознания, не боящегося
оперировать метафорами.
В онтогенетическом процессе наблюдается^ примерно
аналогичная картина. Детская мысль на первых порах
связана только с конкретными образами. Поэтому дети в
раннем возрасте горячо возражают против аллегорий и
метафор, которыми пользуются взрослые. Со временем эта
ситуация меняется коренным образом. Как и в народном
11
фольклоре, у детей проявляются тенденции к
сознательному нарушению прочно установленных истин. Тем самым
ребенок, во-первых, самоутверждается, т. е. утверждает
свою сознательность, свою независимость, во-вторых,
создавая метафоры, он заявляет не о пренебрежении к
нормам языка, а о достаточно прочной усвоенности этих норм,
о возможности сознательного их нарушения в комической,
игровой манере5.
Семантический анализ, вплетаясь в контекст
гносеологии, позволяет по-новому взглянуть на закономерности и
этапы развития человеческого сознания, мышления и таким
образом дать более полную картину функционирования
человеческой психики. А если к этому добавить данные
семиотического анализа явлений культуры, то, по всей
видимости, можно будет надеяться обнаружить влияние
материального субстрата, объективных факторов на специфику
развития форм сознания и познавательной деятельности у
различных народов, представителей различных культур и
цивилизаций.
В данной главе основное внимание сосредоточивается
на характеристиках соотношений языка и мышления в
работах древних авторов. При этом во главу угла ставится
анализ мировоззренческих установок, обусловливающих стиль
и направленность рассуждений ученых далекого прошлого.
Сравнительное рассмотрение теоретических построений
Платона, Аристотеля, индийских и китайских мыслителей
должно послужить своеобразным историческим
экспериментом, который позволил бы более выпукло представить
общие контуры, общие параметры диалектического единства
онтологии и семантики и тем самым наметить пути
исследования механизма семантических изменений.
Негативные черты платоновского идеализма в оценке
познавательных возможностей языка. Противопоставление
мышления и языка, покоя и движения. Обращение к
философии Платона в связи с лингвистической проблематикой
объясняется рядом причин. Во-первых, в известном
платоновском диалоге «Кратил» впервые в истории европейской
науки о языке наиболее полно представлены бытовавшие
в то время теории происхождения языка. Во-вторых,
Платон впервые в истории научной мысли попытался
определить познавательную (когнитивную) ценность языка6.
Для философов лингвистики особый интерес
представляет выяснение степени и характера влияния платоновской
идеалистической философии на трактовку лингвистических
вопросов. Это тем более интересно и ценно, что на примере
12
Платона хорошо видна специфика идеализма вообще
применительно к языку и его семантике.
Исследование диалога «Кратил» и других произведений
Платона показывает, что вопросы, поднимаемые в этом
диалоге, не обсуждались в каких-либо других диалогах до
него и после него, хотя созвучные данной тематике
замечания можно найти в некоторых произведениях античного
философа. Подвергая тщательному анализу указанный
диалог, Дж. Анагностопоулос отмечает, что для платоновских
рассуждений в этом тексте характерен ряд странностей.
Так, Платон, рассматривая вопросы, относящиеся к языку,
в дальнейшем, по-видимому, отказывается от задуманного
предприятия. Подобные странности отмечаются и другими
исследователями 7.
Анагностопоулос полагает, что, несмотря на большое
расхождение среди ученых в оценке «Кратила», этот
диалог имеет философское значение, так как, во-первых,
Платон редко обсуждает нефилософские проблемы, и,
во-вторых, он вряд ли мог написать целый диалог, имеющий
нефилософское значение8.
Анагностопоулос прав. Действительно, Платон в «Кра-
тиле» не только пересказывает содержание существующих
учений о языке, но и предлагает свою трактовку, которая
согласуется с его общефилософской доктриной. Суть этой
трактовки заключается в том, что «имена» не являются
адекватным орудием познания мира вещей, основу
которого образует «мир идей». По Платону, с помощью
языка невозможно выразить подлинно философское
содержание познания. Объясняется это следующим образом.
Платоновский «мир идей» — это умосозерцаемая
целостность. Данная целостность распадается на многообразные
составляющие как только становится объектом
умопостижения с помощью языка, причем из этих составляющих
(частей) целое вновь не сложить.
Мышление как процесс, как деятельность, как движение
понималось Платоном в двух планах, а именно (1) как
негативное противопоставление покоящейся в себе мысли
и (2) как «внутренняя речь», по отношению к которой
«идея» (покоящаяся в себе мысль) выступает
порождающим началом и регулятором. Оценивая эту особенность
платоновской философии, А. Н. Соколов резонно замечает,
что «платоновское определение мышления как «словесно
выраженной молчаливой речи» подчеркивает значение вну*
тренней речи для мышления. Вместе с тем это
определение содержит в себе и поводы для отождествления мышле-
13
ния с внутренней речью и речью вообще» 9. Так, например,
в «Софисте» мышление определяется как «беззвучная
беседа души с самой собой», а речь — как идущий из души
через уста поток звуков 10.
Помимо довольно путанных рассуждений о языке в
диалоге «Кратил», мы сталкиваемся с проблемой языка в
знаменитых платоновских «Письмах». В VII письм^ под
названием «Платон родственникам и друзьям Диона желает
благополучия» Платон рисует следующую картину
познания. На первой самой низшей ступени стоит познание с
помощью «имен». Затем следует определение этих «имен».
К третьей ступени относится перцептивная демонстрация
определения. Четвертая ступень — это ступень
умозрительного познания, или собственно познания.
Таким образом, язык характеризуется Платоном как
первое начало знания, но не более чем начало. Содержание
языковых выражений является эфемерным и изменчивым
даже по сравнению с чувственной перцепцией. Для знания
сущности того или иного предмета вербального познания
недостаточно. Поэтому, согласно Платону, «всякий,
имеющий разум, никогда не осмелится выразить словами то, что
явилось плодом его размышления»4. Что этим хотел
сказать Платон? Отвечая на этот вопрос, обратимся к примеру
из индийской духовной культуры.
В свое время многих буддологов волновал вопрос: был
ли Будда агностиком? Спор вокруг этого вопроса является
следствием небезызвестного молчания Будды как своего
рода «ответа» на вопросы: безначален ли мир, или же он имеет
начало? Какова природа Абсолюта? и т. п. В связи с его
молчанием задавался и другой вопрос: почему ты не
отвечаешь? На что Будда, прерывая наконец-то молчание,
говорил: я даю ответ посредством молчания, но ты не
понимаешь меня. По этому поводу Ф. И. Щербатской, ссылаясь на
Васубандху, замечает, что молчание было в те времена
одним из приемов диалектики (риторической диалектики),
т. е. отвечать молчанием на вопросы означало молчаливо
указывать на неправильно сформулированный вопрос 12.
Платон и Будда единодушны в том, что есть вещи, о
которых не имеет смысла говорить по двум причинам:
во-первых, по причине неподготовленности и недостаточной
образованности задающих такого рода вопросы, и, во-вторых,
по причине многозначности слов, что позволяет одну и ту же
истинную мысль выражать как две разные мысли.
Относительно приоритета «размышлений» над
«выраженным словами» необходимо добавить также следующее.
14
Когда Платон говорит, что понятие круга в душе коренным
образом отличается от вербальных или перцептивных
представлений круга, он хочет подчеркнуть, что некоторые виды
абстракций прямо не верифицируются опытом. Эта точка
зрения разумна. Действительно, понятие числа не
является результатом прямого абстрагирования от конкретно-
чувственных вещей. Так, число «2» не сводится к
представлениям о «двух стульях», «двух яблоках» и т. п. Любое
число — это теоретическая абстракция. В равной мере это
касается и понятия круга как предмета математического
осмысления.
Однако свою рациональную интуицию Платон
возводит в ранг идеалистической философской доктрины,
согласно которой наряду с миром чувственных вещей
существует и другой мир — «мир идей».
Низкая оценка Платоном языка и его функциональных
возможностей ведет к утверждению «договорной» теории
происхождения языка, поскольку эта теория подчеркивает
субъективность и произвольность человеческих действий,
их непостоянство, изменчивость, что неприемлемо для
адекватного понимания идей. В определенном смысле с
Платоном солидарен Аристотель, подчеркивавший, как и поздний
Платон, что слова семантичны лишь по договору, что они
не заключают в себе ничего «природного» 13.
Скептическое отношение Платона к языку и его
познавательным возможностям отчасти объясняется следующим.
Во времена Платона еще бытовали архаичные
представления о семантике слов; значение слов ассоциировалось с
той или иной чувственной вещью, т. е. устная или
письменная форма слова рассматривалась как естественный знак,
а не символ 14. Так понимаемые «знак» и «значение»
препятствовали постижению «идей», и Платон отвергает
подобные воззрения на язык или использует их, чтобы
продемонстрировать бессилие языка в познании истины.
Античный философ, интересующийся языком, знает два
основных предмета исследования — слово («имя») и
предложение. Слова преимущественно исследуются
этимологами, которые пытаются отыскать для слов соответствующие
им вещественные эквиваленты. Этимологические
исследования древних можно рассматривать как определенный
способ познания с помощью слов. В этом смысле
этимология — это теория вербального познания. Если в
«именах» произошли какие-либо изменения, обусловленные
временем, характером употребления и пр., то нарушается
связь «имени» с вещью, в результате чего данное «имя»
15
может превратиться в «имя» другой вещи или потерять
вещный смысл вообще 15.
Ненадежность метода этимологизирования отпугивала
Платона от языка как орудия познания. Он считал более
надежным исследовать сами вещи как преддверие к
постижению «идей».
Платоновское недоверие к языку подстегивалось
софистической эквилибристикой словами. Парадоксы софистов
свидетельствовали о том, что слова могут использоваться
не только для этимологического познания вещей, но и для
создания новых, ложных «вещей» («значений»), В конечном
итоге Платон приходит к выводу, что воспроизвести «идею»
в звуке невозможно 16. Поэтому он предпочитает иметь дело
со знанием, а не со значением.
Имеются разные виды сущего и соответствующие им
разные виды знания. Знание содержания «имени» — самый
низший вид знания. Выше по рангу стоят перцептивное
знание и знание «идейное» («сущностное»). Основными
предметами философского познания являются последние
два вида знания. В «мире идей» нет места для лжи, для
лживых (т. е. не отвечающих природе идей) отношений
межу идеями. Лживые отношения возникают в мире
изменчивых вещей, но не по необходимости, не по сути, а по
случайности, по видимости. Ложь по своей природе мгно-
венна, эфемерна, но в чувственном сознании эта
мгновенность как бы стабилизируется и приобретает образ чего-
то постоянного, действительного, т. е. ложь приобретает
смысл. На самом же деле все ложное обладает лишь
иллюзорным смыслом.
Человек может соединить две взаимоисключающие
вещи только на словах, а не на деле. Поэтому за формой
слов следует искать форму мысли, а через форму мысли
усматривать формообразование идей. Истинное познание
должно двигаться от умозрения идей к формам мысли, а
затем к выражению мыслимого в словах, но с учетом
значительного вербального искажения истинного. Так
закладываются начатки логического учения о формах
мышления, в частности развивается учение о субъекте и
предикате суждения, на основе которого прокламируется тезис,
что основные единицы речи, отражающие структуру
суждения, состоят из имени и глагола 17.
Устраняя проблему языка из своей философии, Платон,
должен бы,л это как-то компенсировать, например
объяснить хранение и воспроизведение знания человеком.
Для этих целей им вводится понятие памяти.
16
На основе понятия памяти Платон пытается доказать
вневременной характер «идей», их способность
формировать знание без помощи соответствующих средств
кодирования познавательной информации. Относительно
платоновского понятия памяти мы читаем у Диогена Лаэртско-
го: «Платон в своих учениях об идеях говорит так: идеи
присутствуют во всем, что есть,— ведь существует память,
память бывает лишь о вещах покоящихся и пребывающих,
а пребывают лишь идеи, и ничто другое» 18.
Таким образом «идеи» составляют смысловую
структуру человеческого ума. В данном случае Платон
подметил смыслообразующую роль памяти, что согласуется
с современными взглядами: «...в запоминающей системе
записывается не материал нашего опыта, а смысл этого
материала. Люди стараются не столько запомнить,
сколько понять» 19.
Однако рациональная интуация была Платоном
мистифицирована, поскольку память рассматривалась не как
продукт определенных этапов развития, а как исходный
пункт движения познания.
Платоновское отождествление значения со знанием,
точнее, растворение значения в знании сообщило импульс
тому варианту психологизированной философии, который
известен под названием ассоцианистской психологии с ее
культом памяти и воображения.
Ярким примером силы традиции, философско-идеали-
стической в частности, служит августиновское учение о
памяти. В общих принципах гносеологии Августин шел
всецело по следам своего учителя — неоплатоника
Плотина. И. Попов обращал внимание на внушительный
объем, отводимый понятию памяти в сочинениях
Августина, который относит к памяти все потенциальное
содержание духа, как воспринятое когда-то, так и всегда присущее
ему, помимо всякого восприятия20.
Момент творческой активности памяти предполагает
наличие глубинного уровня, где душа прямо контактирует
с «идеями», заимствуя из «мира идей» парадигмы для
правильного мировосприятия.
Предполагалось, что у каждого нормального человека
находится в душе в качестве интеллектуального
фундамента «мир идей», но не каждый догадывается об этом.
«Находясь в нашей памяти, умопостигаемое входит в круг того,
что мы знаем. Но предмет знания не всегда бывает и
предметом мышления (Cogitatio). Многое человек знает,
о чем не размышляет, когда его внимание приковано к
17
другим предметам. Поэтому часто говорят: ты это знаешь,
но не знаешь, что это тебе известно» 21.
В результате столь высокой оценки роли памяти для
познания и миропонимания сам процесс познания уподоб-
'ляется припоминанию. Это целиком соответствует
платоновскому приоритету идеального над материальным.
С помощью понятия памяти Платон гипостазирует
идеальные сущности и таким образом протаскивает идею о
неизменности и вечности основных «семантем» языка, что
позднее получит свое выражение в аристотелевском
учении о категориях. С таких познавательных позиций
метафора — это «болезнь» языка, провоцируемая непостоянством
вещей чувственного мира и патологическими нарушениями
памяти. Поэтому рассуждения Платона направлены не на
установление связи слова и значения, а на выявление
оппозиции мысли слову. Тем самым впервые в истории
философии ставится, хотя и в искаженном виде,
фундаментальный теоретико-познавательный вопрос — вопрос о
соотношении языка и мышления.
Платону не удалось дать оригинальный ответ на
вопрос о соотношении языка и мышления, чему
препятствовала его идеалистическая философская доктрина, а
также диалектическая (диалогическая) форма рассуждений,
которая повышала модальность ответов. Или, как пишет
Д. Баррел, новый способ дискурса, избранный Платоном,
побуждает его отказаться в области философии от поиска
точных и окончательных ответов (определений) на
поставленные вопросы, но зато побуждает выбирать модальные
ответы 22.
Платоновская форма диалогического философствования
провоцирует автора на широкое использование бытовой
лексики, сравнений и метафор, различных форм
иносказаний, что, быть может, упрощает интуитивное понимание
его доктрины, но усложняет ее рациональную
реконструкцию. Особенности диалогического языка Платона,
«драматизация» языковыми средствами концептуальной сути
рассматриваемых вопросов, были отмечены еще в
античности. Например, известный античный ритор Дионисий
Галикарнасский так отзывался о стиле платоновских
произведений: «Особенно бурно разошелся он в области
фигуральных выражений (tropice chresel): многочисленные
эпитеты, неуместные метонимии, натянутые и не
соблюдающие аналогию метафоры, сплошные аллегории без
всякого чувства меры и порой совершенно не к месту»23.
Аналогичные упреки в адрес языка Платона мы находим
18
у Дионисия Лонгина: «...и Платона не мало в том порицают,
что он часто, как бы от излишней страсти к словам,
предается влечению неумеренных и грубых метафор и
иносказательному шуму» 24.
В определенном смысле критики правы, упрекая
Платона за излишнюю образность и метафоричность языка его
философских произведений. Правда, они не принимают в
расчет процесс формирования нового типа философского
мировоззрения, нового типа сознания, которое все чаще
обращается к рассмотрению самого себя, стремится
осознать себя, понять и выразить это. Стало быть,
терминологическая модальность платоновского философствования
в первую очередь объясняется не столько особенностями
жанра, который, вне всяких сомнений, играет важную
роль в творческой обработке и изложении материала,
сколько отсутствием длительной традиции использования
философских, научных терминов и понятий25. Платон был
пионером, решившимся на смелый шаг в провозглашении
новых воззрений на духовный мир человека. Поэтому при
оценке его творческого наследия необходимо в первую
очередь учитывать ту культурно-историческую атмосферу
античного общества, которая оказала сильное влияние на
выбор жанра и манеру изложения философских идей.
В данном случае в качестве ближайшей парадигмы можно
указать на античный театр, роль которого в жизни
древнегреческого общества была чрезвычайно велика. На этот
факт уже давно обратили внимание исследователи
произведений Платона. Некоторые ученые сравнивают
платоновское искусство композиции с драматическим
искусством и выделяют три или пять «актов» в ряде его
диалогов 26.
Ко времени Платона происходят существенные
изменения в структуре трагедии: основной движущей силой
становится игра актеров, основной (стихией — драматизм 27.
Многие из культовых и ритуальных элементов сводятся к
минимуму, уступая места картинкам из светской жизни и
новой бытовой действительности. В центре трагедии
оказываются «прения», что привносит в театр атмосферу
народных собраний, судов28. Театр как бы возвышает
«низкое», «бытовое», тем самым санкционируя возможность
подражания новым канонам со стороны литераторов
античности, включая Платона. Инновации касаются не только
тематики и жанровых особенностей, но и самой лексики,
поскольку существенно меняется словарь трагедии. Эсхи-
ловские торжественно-культовые речения уступают место
19
более живому языку еврипидовских трагедий, которые
вбирают в себя речь судебных процессов и философских
учений. Конечно, от этого язык новой трагедии «не стал узко
«бытовым», «разговорным», но его куюварный материал
изменился. Аристократическую фразеологию сменяет
словарь современного политического и общественного быта»29.
Не менее важную роль в развитии античного
диалогического жанра сыграла хороводная трагедия, где основным
комическим средством на определенном этапе стали
различного вида сравнения, уподобления, метафоры как
отражения более широкого фольклорного контекста с его
насыщенностью баснями, притчами. Характерно, что «игра в
мудреное «уподобление» была бытовым развлечением
греческого общества»30.
Таким образом, Платон, чутко реагировавший на
изменения в структуре социальных ценностей в
умонастроениях своих сограждан, решился высказаться по проблеме
самосознания примерно тем же языком, каким говорили
в театре как официальном учреждении. Его метафоры
не вуалировали основной смысл нового учения.
У Платона мы не находим оригинального взгляда на
язык ни в целом, ни в частности. Семантические вопросы он
сводил к пренебрежительному перечислению различных
точек зрения, тем самым элиминируя данную
проблематику из сферы философского знания. Соответственно этому
проблемы семантических изменений для него просто не
существовало, хотя как литератор он постоянно пользовался
всеми теми средствами (метафоры, сравнения и т. п.),
которые игнорировал как философ-идеалист. Однако
платоновский преувеличенный критицизм по поводу языка
и его роли в процессе познания для нас ценен тем, что
позволил в весьма своеобразной форме привлечь внимание
философов к проблеме соотношения языка и мышления.
Вопросы семантики и онтологии в аристотелевском
учении о метафоре, Аристотель был первым греческим
философом, попытавшимся дать научную оценку метафоре и тем
самым поставившим на повестку дня вопрос о серьезном
изучении механизма семантических изменений в языке.
Ему частично удалось преодолеть недостатки платоновского
идеализма во взглядах на язык, сохранив, впрочем,
известную верность заветам учителя. К сожалению, эта верность
была чревата двойственностью, эклектизмом в оценке
познавательных возможностей языка, что усугублялось
рассмотрением проблем языка как (прикладных проблем,
лишенных высокого теоретического значения.
20
Дело в том, что изучение языка ограничивается у
Аристотеля поэтикой и риторикой, т. е. сам процесс изучения
подчиняется решению конкретных задач, стоящих перед
этими утилитарными дисциплинами. Правда, это не
только ограниченность взглядов Аристотеля, это также
проявление общего духа того времени, когда язык не воспринимался
как самостоятельный, целостный объект исследования. О
языке если и говорили, то говорили, противопоставляя один
диалект другому, литературный язык — обыденному и т. д.
«Античный теоретик анализирует «речь» (предложение),
«слова», «имена», но обходит, как нечто само собой
разумеющееся и не проблемное, принадлежность их сфере
языка»31. Странная, но вполне объяснимая ситуация, если
учесть, что революционный для своего времени
платоновский манифест о противоположности идеального
(мысленного) материальному (чувственному) отражал не только
новые представления о знании и познании, но и
определенные идеологические представления, согласно которым
поощряется движение только в одну сторону — в сторону
бескорыстных, поп-утилитарных медитаций и созерцаний,
в сферу пассивного. В «идеальной сфере» нет места «слову»,
нет места «языку», это царство «чистой, покоящейся в себе
мысли». Отрыв мысли от языка автоматически зачислял
языковую проблематику в разряд чего-то «низшего»,
соответственно чему обессмысливался вопрос о создании
абстрактной грамматической теории.
«Первичность» мысли заставляет античных
философов-идеалистов искать объяснения структуры
предложения не в грамматике, а в логике. Следовательно, в
структуре предложения исследуются только те его свойства,
которые представляют ценность для теории знания и логики.
В известной мере это сказалось и на аристотелевском
подходе к языку.
Аристотелевское понимание метафоры
довольствовалось ее пониманием как непременного компонента стиля,
который расценивался как нечто хотя и необходимое, но
внешнее по отношению к мысли. Поэтому Стагирит, с
одной стороны, возвеличивает познавательное значение
метафоры в чувственном мировосприятии, с другой — низводит
метафору к явлению, не существенному для
метафизического (умозрительного) познания. Разрешить это противоречие
так, чтобы оно совершенно исчезло, по мнению А. А. Тахо-
Годи, невозможно, поскольку в разных сочинениях
Аристотеля мы находим взаимоисключающие (положительные и
отрицательные) оценки метафоры 32.
21
Будучи теоретиком метафизики и рационалистом по
складу ума, Аристотель основное достоинство речи видит
в максимально понятном выражении познанного. Этот
критерий понятности он распространяет и на свою трактовку
стиля. Если метафора как феномен стиля является
головоломкой, загадкой или варваризмом, она затрудняет
понимание текста (устного или письменного), отрицательно
влияет на общий стиль изложения. Если же метафора
легко превращается в развернутое сравнение, в котором
фигурируют общеизвестные вещи, то не создается
искусственных препятствий и дополнительных трудностей для легкого
восприятия текста.
Занимаясь реконструкцией аристотелевских взглядов
на семантику и семантические изменения, не следует
забывать, что семантическое своеобразие языка еще задолго
до Аристотеля служило предметом оживленных дискуссий
среди греческих ученых. Особое внимание этой
проблематике уделяли софисты, пристально интересовавшиеся
семантическими ресурсами языковой лексики. Поэтому
Аристотель не оригинален относительно уже существовавшей
традиции. Его личное новаторство заключалось в том
научном рационализме, который он проявил, используя
логику и ориентируясь на идеал строгой научной
достоверности.
Аристотель, отдавая дань господствовавшим
мировоззренческим ценностям, поощрявшим лишь высокий,
канонический дух рассуждений в противовес «низкому»
мнению «толпы», обращает основное внимание не на живую
обыденную речь и ее письменную фиксацию, а
исключительно на литературный (искусственный) язык в связи с
его внелитературными функциями (например,
воспитательными). Изменения в этом канонизированном варианте
языка происходят очень медленно и практически для
отдельного наблюдателя незаметны. В противном случае
можно ожидать последствия, чреватые нарушением смысла
реальности и норм жизнедеятельности. Что же касается
наблюдаемых семантических изменений типа метафор, то
и они не должны противоречить мировоззренческим
канонам, должны с ними согласовываться, должны быть
понятными с канонической точки зрения. Таковы примерно
общие идеологические мотивы, которыми руководствовался
Аристотель, берясь за определение метафоры. Но кроме
этих существовали и другие мотивы, регулируемые
спецификой философского мировоззрения. К ним необходимо
отнести попытки согласовать представления о глубинной
22
гармонии, симметрии бытия, демонстрируемые
математикой, с фактами чувственных наблюдений,
свидетельствующими об обратном*
По мнению немецкого историка математики Я. Клейна,
невозможно понять греческую онтологию без учета ее
специфически математической ориентации33. Несмотря на
некоторое преувеличение роли математики в развитии
античного философского мировоззрения, Клейн прав в том,
что парадигма математического рационального мышления
пользовалась популярностью в определенных философских
кругах греческого общества (пифагорейцы, атомисты,
платоники), где варьировалась мысль, что в основе строения
мира лежат математические отношения. Первыми и
наиболее рьяными приверженцами математического
истолкования структуры мира были пифагорейцы, которые во всем
пытались усмотреть гармонию, соразмерность, пропорцию.
Причем, как подчеркивал польский исследователь В. Та-
таркевич, гармония в пифагорейском смысле — это не
свойство отдельной вещи, а правильная система многих вещей,
многих частей единого целого 34.
Если отбросить пифагорейскую мистику чисел, то
обнаружится любопытная черта пифагорейской философии: в
контексте этого философского мировоззрения мы находим
первые, слабые зачатки символического прочтения связи
между «содержанием» и «формой», где «содержание»
(универсум вещей) адекватно отражается лишь в
«рукотворной форме» (музыкальная гармония, гармония
пластики, поэтическая гармония и т. п.). Разумеется, это еще не
«символ», но уже первый шаг в сторону символизации
знаков, поскольку молчаливо предполагается, что соотношение
между «знаком» и «значением» является не целиком
естественным, а частично искусственным. Не случайно, что
пифагорейские идеи, импонировавшие Платону, были
впоследствии им трансформированы в «договорную» теорию
происхождения языка, которую, как уже отмечалось,
поддержал Аристотель35.
Во всех этих случаях мы имеем дело с более широким
и фундаментальным принципом — принципом тождества
мышления и бытия в его идеалистическом истолковании,
когда на основе понятия типа «гармония» стремятся
объяснить весь универсум, т. е. стремятся установить симметрию
между мышлением и бытием. Отголоски этого принципа
мы находим даже в аристотелевской «Поэтике».
Аристотелевская «Поэтика», хотя и сохранилась до
нашего времени далеко не в полном виде, тем не менее явля-
23
ется ценным свидетельством интереса Древних к языковым
формообразованиям. Здесь мы сталкиваемся с ценным
опытом классификации отличительных черт языка высокой
литературы. В процессе этой классификации были
подвергнуты анализу некоторые важные стороны поэтической
семантики, в результате чего и был заложен фундамент
учения о метафорообразованиях.
По Аристотелю, метафора — это перенесение, слова с
изменением значения или с рода на вид, или с вида на род,
или с вида на вид, или по аналогии (в форме
пропорции) 36.
В аналогии как пропорции Аристотель усматривает
форму единства, понимая сущность единого как «первую меру
каждого рода», т. е. как начало собственно теоретического
познания на абстрактно-родовом уровне37. Разъясняя свое
понимание аналогии в данном контексте, Аристотель
говорит о единстве вещей по соотношению (kat'analogian), где
по соотношению едины «две вещи, которые находятся друг
к другу в таком же отношении, как нечто третье к чему-то
четвертому» 38.
Чтобы укрепить свой взгляд на онтологический статус
аналогии как пропорции и тем самым дать монистический
принцип для объяснения семантических изменений в языке
на уровне «имен» (слов), Аристотель в качестве
самостоятельной категории выделяет категорию «соотнесенное». На
основе этой категории выделяются два класса
соотнесенных между собой предметов. Первым, самым большим по
объему классом является класс соотнесенных предметов,
которые по природе существуют вместе (например, раб и
господин) 39. Ко второму классу принадлежат те
соотнесенные предметы, один из которых характеризуется в качестве
субъекта активной деятельности, так или иначе
устанавливающего отношения к объектам своей деятельности
(например, познаваемое существует раньше знания,
воспринимаемое — раньше восприятия) 40.
Деление; соотнесенных предметов на два класса
позволяет Аристотелю оценивать новые названия для вещей, не
имеющих установленных имен, учитывая соотнесение по
природе и соотнесение, обусловленное фактором
субъективной деятельности. Например, «для вещей, не имеющих
установленных имен, легче всего, пожалуй, приобрести их,
если имена, производные от исходного, давать тому, что
допускает обоюдность с ними, ^подобно тому как от
«крыла» было образовано «крылатое» и от «кормила» — «корми-
лоуправляемое»4|.
24
Применительно к метафоре все это выглядит так:
всякая хорошая метафора должна относительно легко
разворачиваться в сравнение (!) 42. Структура сравнения
регулируется категорией «соотнесения» и в первую очередь
тем аспектом этой категории, который указывает на
соотнесение по природе, что позволяет быстро распознавать
объективное и субъективное, истинное по природе и
кажущееся таковым в силу то ли своей приятности, то ли по
каким-либо другим причинам.
Таким образом, аналогия как пропорция в философии
Аристотеля имеет вполне определенный онтологический
базис с его специфически математической ориентацией
(Я. Клейн), т. е. Стагирит отталкивается от бытия в его
структурной упорядоченности и затем переходит на
уровень знаний о бытии, на уровень метафизики как теории
знания и познания. Без учета этого трудно представить
взгляды Аристотеля на проблемы семантики и
семантических изменений, более того, из поля зрения ускользает
семантическое значение аристотелевских категорий.
Последнее крайне важно иметь в виду, если принять во внимание
аристотелевское недовольство многозначностью слов
обыденной речи.
Аристотелевское развертывание метафоры в сравнении
имеет свои исторические прототипы. Различными видами
сравнений задолго до Аристотеля пользовались поэты,
риторы, пользовались со знанием дела, выборочно, опираясь
при этом на фольклорный материал (загадки, притчи,
басни), однако не делая сравнение предметом
систематического изучения. Следствием этого являлось ограничение
познавательной ценности сравнений, которые традиционно
фигурировали в качестве примеров, иллюстративных
сравнений и т. п.43
Опыт использования сравнений делал все более
очевидной связь сравнения с широким классом метафор.
Аристотель первым берется за уточнение этой связи и тем самым
указывает на логическую и психологическую сущность
метафоры.
В статье «Аристотелевское понимание метафоры в
«Риторике» У. Д. Джордан пишет, что аристотелевское
понятие метафоры сравнительно мало привлекало внимание
теоретиков современной риторики. Традиционно сложилось
так, что риторы обходили стороной аристотелевские
психологические характеристики метафоры. В то время как
аристотелевское использование логического инструмента не
предполагает психологической оценки метафоры, контекст
26
его рассуждений в «Риторике» и в «Поэтике»
свидетельствует в пользу тезиса, что понятие метафоры является
психологическим, так как, по Аристотелю, метафора активизирует
психическую деятельность читателя и слушателя44.
Очевидно, Джордан несколько преувеличивает свою
собственную роль в «переоткрытии» Аристотеля.
Аристотель как логик не мог и не должен был определять
структуру метафоры в психологических терминах, но это не
означает, что, будучи теоретиком риторики, он в силах был
игнорировать тот хорошо известный древним риторам факт,
что речь способна воздействовать на поведение людей
(воодушевлять, приводить в отчаяние, вызывать смех и слезы,
повергать в уныние и приводить в восторг).
Возвращаясь к понятию сравнения, отметим, что
большинство античных риторов не рассматривали сравнение как
нечто самоценное; они предпочитали иметь дело с
комплексом— сравнение, метафора, исторический пример45. Если
же и делались какие-то попытки уточнить природу
сравнения, они целиком обусловливались целями, стоящими перед
диалектико-риторическим искусством, согласно
которому сравнение рассматривалось в двух планах—(1) как
прием диалектико-риторического доказательства и (2) как
украшение речи. К сравнению как приему
диалектико-риторического доказательства относились: описание, контраст,
яркость, отрицание, параллелизм и т. д.
Аристотель, следуя традиции, также выделяет два типа
сравнений, один из которых относится к стилю, а другой — к
доказательству 46. Но в отличие от риторов и софистов он
рассматривает различные формы доказательства сквозь призму
аподиктического доказательства, опирающегося на
дедуктивный метод. Поэтому сравнение как прием диалектико-
риторического доказательства Стагирит расценивает как
особый вид доказательства, чьи результаты не всецело
достоверны, а лишь вероятны в большей или меньшей
мере. Под доказательством в собственном смысле слова
он понимает точную научную демонстрацию с помощью
силлогизма, ведущую от универсальных и необходимых
истин к универсальным и необходимым заключениям.
Под этим углом зрения он отождествляет язык философии
как сугубо теоретическую дисциплину и язык
доказательства, преимущественно аподиктического. Язык
аподиктического доказательства исключает термины, относящиеся к
фиктивным сущностям. Напротив, диалектико-риторические
доказательства включают употребление метафор, часть из
которых ничему не соответствует в действительности47.
26
Симпатизируя дедуктивному методу как методу строгой
научной демонстрации, поскольку этот метод базируется на
философском принципе тождества мышления и бытия,
Аристотель тем не менее не пренебрегал реальной
познавательной практикой. Поэтому он ослабляет требования,
предъявляемые к сравнениям в эмпирической сфере,
пользуясь для этих целей понятием аналогии не в смысле
количественной соразмерности (пропорции), а в содержатель-
но-экстраполяционном смысле, как это делали до него
античные медики (!). Уместно напомнить слова английского
историка Г. Ллойда, писавшего в своей монографии, что
аналогия была самым плодотворным источником
предположений (гипотез), выдвигаемых представителями
древнегреческой науки48.
Большим фактическим подспорьем в применении
аналогий явилась практика античных медиков, оказавшая, по-
видимому, значительное влияние на формирование научных
взглядов Аристотеля, который был не согласен со
взглядами Парменида, Платона и их единомышленников,
согласно которым текучесть физического бытия есть свидетельство
его неподлинности, призрачности, иллюзорности, а знание
о нем может быть только кажущимся. Напротив, считает
Аристотель, пусть текучая единичность и ускользает от
аподиктических доказательств науки, она все же не
мыслится вне связи со всеобщим законом, который
усматривается в этих вещах. Если этого не принимать во
внимание, указывает В. П. Зубов, нельзя понять ни Аристотеля-
биолога, ни Аристотеля, написавшего сочинения по риторике
и этике, где человек и человеческие отношения взяты в их
живом конкретном разнообразии49.
Аристотель-естествоиспытатель учитывает в познании с
помощью сравнений наличие эвристического элемента, но
не принимает это во внимание в своем определении
метафоры, где явно верх берут его логические симпатии.
В противном случае потребовался бы выход за пределы
литературно-канонического языка (в значительной
степени искусственного) в сферу обыденной речи, диалектов,
сравнительного языкознания, что повлекло бы за собой
переоценку идеологических ценностей и потребовало бы
радикально нового взгляда на язык. В противовес текучести
обыденной речи и прагматизму античной грамматики
Аристотель концентрирует внимание на литературном языке и
логике, стремясь таким образом подчеркнуть зависимость
языка от всеобщих законов мышления и тем утвердиться
во взглядах о всесильности и универсальности число умо-
27
зрительных конструкций логического характера.
Вследствие всего этого эвристический момент метафоры
ограничивается лишь эстетическими, психологическими функциями,
т. е. стилистическими эффектами.
Аристотелевский крен в выборе значения понятия
«аналогия» в сторону математики, в сторону количественной
соразмерности сказывается на анализе метафоры. Аристотель
понимает, что не каждая метафора может быть
представлена в форме пропорции. Однако он настаивает на том,
что большая часть хороших метафор должна в результате
анализа обнаруживать структуру пропорции 50.
Аристотелевская трактовка семантических изменений на
примере определения сущности метафоры (в отрыве от
теории языка) не в силах была раскрыть причины появления
метафор и их функции в различных контекстах. Но это не
значит, что при анализе его семантических идей не
обнаруживается ничего оригинального вообще. Сопоставление
метафоры с аналогией как пропорцией уже интересно тем,
что выявляется семантическая функция категорий.
Опираясь на учение о категориях, Аристотель
стремится выделить такие исходные семантические «ядра», набор
которых соответствовал бы предельно общему смыслу
бытия. Как отмечал В. А. Беляев в своей диссертации
«История логики Аристотеля от ее начала до наших дней»
(Киев, 1950), аристотелевские категории — это значения слов,
взятых вне связи с другими словами, а так как связь
между значениями слов осуществляется, согласно Аристотелю,
посредством утверждения или отрицания, всякие же
утверждения и отрицания бывают или истинными, или ложными,
то поэтому каждое из значений, поскольку они не берутся
в связи с другими значениями, не является ни истинным,
ни ложным. В этом плане аристотелевские категории —
семантически «нейтральны», они не связаны друг с другом,
но зато активно участвуют в установлении семантических
связей.
С помощью учения о категориях Аристотель
демонстрирует попытку избавиться от неясностей платоновских
рассуждений по поводу хранения и воспроизведения
информации человеком (платоновское учение о памяти). Он
хотел бы превратить категории в соответствующие
классификаторы бытия, знания и лексики. Категории в таком
случае можно уподобить своеобразному «запоминающему
устройству», из которого с помощью силлогизмов
извлекается (выводится) требуемая информация. Этот взгляд на
категории утверждает идею незыблемого «семантического фон-
28
да», изменения на основе которого должны соответствовать
аристотелевскому определению метафоры, иначе мы будем
сталкиваться с «болезнями» языка (радикальные
метафоры, не поддающиеся развертыванию в сравнение).
Право на подобное выделение одного из аспектов
аристотелевского учения о категориях объясняется следующим.
Как известно, античная грамматика оказывала постоянное
и довольно сильное влияние на греческих философов. По
мнению Э. Кассирера, структура предложения и его
деление на слова и классы слов служит для Аристотеля
моделью его системы категорий. Так, в его категории
«субстанция» мы ясно видим грамматическое значение «имени
существительного»51. Еще более категорично
высказывается известный французский исследователь языка Э. Бен-
венист об аристотелевских категориях: Аристотель
«полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь
сущности языка: ведь именно язык благодаря своим
собственным категориям позволяет распознать и определить
эти свойства» 52.
Это сказано слишком сильно и во многом напоминает
гипотезу этнолингвистической относительности Сепира —
Уорфа, согласно которой мыслительная деятельность так
или иначе детерминируется языковыми структурами.
Оппоненты подобных воззрений заявляют: высказывание, что
аристотелевским категориям может быть дана
лингвистическая интерпретация (даже утверждение, что они
являются исключительно лингвистическими феноменами, как
считают Аккрил и Бенвенист), не является убедительным,
поскольку обходится стороной вопрос, касающийся их
онтологического и эпистемологического статусов 53.
Лингвистический подход к аристотелевским категориям
возник не в XX в., инициаторами подобной интерпретации
были еще стоики. Поэтому, принимая во внимание историю
вопроса и его современный лингвистический анализ, можно
утверждать, что аристотелевские онтологические и логико-
эпистемологические аспекты категорий имплицитно
связаны с лингвистическим статусом категорий. Но во
избежание излишней модернизации взглядов Стагирита будет, по-
видимому, правильнее охарактеризовать связь указанных
категорий с «частями речи» не словами Кассирера или Бен-
вениста, а словами известного датского ученого-языковеда
В. Томсена, писавшего об Аристотеле: «Его заслуга в том,
что он несколько продвинул познание категорий речи, но в
основном лишь в той мере, в которой они имеют отношение
к логике. Он ни в коем случае не грамматик» 54.
29
Действительно, Аристотель — не грамматик, но и
логика для него не является самоцелью, поскольку во главе
угла им ставится метафизика как вершина теоретического
знания. Следовательно, привлекая аристотелевское учение
о категориях к раскрытию его идей относительно
семантики, необходимо учитывать следующее. По Аристотелю,
вещи не являются неясными сами по себе, но они могут быть
неясно наименованы. Категории хотя и классифицируют
вещи, но не вещи как они существуют сами по себе.
Классификация скорее касается их различных способов
существования, а следовательно, возникает вопрос относительно
обозначения этих способов существования. Неясность или
ясность вещей касается субъекта познания, касается наших
способов их познания, но это уже логический вопрос, а не
физический55.
У Аристотеля наблюдается крен в сторону того, что
можно было бы назвать логическим «синтаксисом», так
как это ближе его силлогистическому учению. Этот взгляд
на философию Аристотеля подтверждается не только
развитием современной логики, но и современными
лингвистическими теориями. Скажем, в рамках
генеративно-трансформационной лингвистики, ориентированной на
математику и математическую логику, «части речи» неявно
отождествляются с аксиомами как правилами вывода. Для
лингвистической семантики подобный подход имеет тот
недостаток, что семантика приобретает вид подстановочной
семантики в духе интерпретации логических формул, а такая
интерпретация становится делом конвенции, т. е.
семантическая мотивировка здесь до предела упрощена. Теория
лингвистической семантики с этим смириться не может, она
требует хорошо разработанной теории мотивации
семантических изменений. Такой теории еще до сих пор нет. Что
же касается Аристотеля, то он ограничивается лишь
общими указаниями на соблюдение меры относительно
стилевых особенностей плана выражения.
Специфика семантической теории в связи с учением о
«дхвани» в древней Индии. Широта кругозора и
глубина мысли — характерные черты многих выдающихся умов
Индии. Знакомство европейских лингвистов с индийской
культурой оказало благоприятное воздействие на развитие
научной лингвистики. Свою лепту в процесс этого развития
внесли не только индийские теоретики языка, но и сам язык
древних жителей южноазиатского субконтинента —
санскрит. Открытие санскрита явилось, если угодно, той
долгожданной отправной точкой, с которой начались разработки
30
!рравннтельной грамматики индоевропейских языков, что
ускорило становление научно-теоретической лингвистики 56.
История изучения языка и его феноменов имеет в
Индии давнюю традицию. Уже за несколько веков до нашей
эры индийскими грамматиками было создано тонко и
безупречно разработанное фонетическое учение, а также
описательная грамматика санскрита. В начале XX в.
И. А. Бодуэн де Куртенэ, отмечая вклад индийских
грамматиков в мировую культуру, писал: «Комментарии
индийских грамматиков к Ведам не имеют ничего себе равного;
появившиеся затем грамматические сочинения,
посвященные санскриту, остаются до сих пор недостижимым
идеалом и по основательности, и по всестороннему принятию
в соображение всех оттенков произношения и формальной
стороны языка» 57.
Достижения индийского лингвистического гения не
остались сугубо историческим прецедентом. «Когда 150 лет
тому назад в Европе узнали об этой традиционной
древнеиндийской грамматике, — писал видный немецкий индолог
В. Рубен, — она была положена в основу нашей
грамматики» 58.
Но не только это можно поставить в заслугу Индии и
деятелям ее культуры. В свете современных успехов в
различных областях семантики обнаруживаются воистину
ошеломляющие факты, касающиеся соответствующих
разработок индийских авторов. Эти разработки выглядят подчас
настолько свежо и оригинально, что не могут быть
оценены как достояние давно минувших дней. Они должны быть
изучены и проанализированы самым серъезным образом.
Как и греческие мыслители, индийские ученые
занимались проблемами происхождения языка. В их трактатах
можно найти и «договорную» теорию происхождения
языка, и теорию «природного» происхождения, но все это,
разумеется, имеет свою специфическую окраску. Например,
представители школы Миманса считали, что мы
овладеваем языком благодаря опыту и знаниям старших поколений,
которые в свою очередь учились у других старших
поколений и т. д. Но поскольку невозможно добраться до самого
первого «старшего», то по этой причине утверждалось, что
отношение между словами и их значениями является
вечным (anadi). Обозначающая сила присуща слову как
таковому. Мимансики называли эту силу «sakti» и отстаивали
ее независимое существование 59.
Представители других философских школ Индии,
например найяики, также признавали роль «старших» в языке,
31
но они отвергали теорию естественного отношения между
словом и его значением, утверждая конвенциональное
происхождение семантически значимых единицв0.
Подобные воззрения на семантику исходили главным
образом из философско-умозрительных доктрин, а нх
авторы не особенно утруждали себя конкретными языковыми
анализами. Этот недостаток в известной мере
компенсировался разработками индийских риторов и представителей
поэтики.
К сожалению, история далекого прошлого, где бы
то ни было, весьма скупа относительно литературных
источников. Так, например, не сохранился предполагаемый
трактат по поэтике одного из основоположников
индийской логической науки — Дхармакирти (VII в. н. э.). А было
бы более чем заманчиво сравнить разработки двух
великих логиков — Аристотеля и Дхармакирти — в области
поэтики, в частности по вопросу о метафоре. Однако,
несмотря на невозможность такого сравнения, даже беглое
знакомство с индийской литературной традицией
показывает, что в нашем распоряжении имеются произведения,
авторы которых обнаруживают незаурядное мастерство
анализа вопросов семантики. Ярким примером служат
произведения теоретика индийской поэтики и риторики, автора
логического трактата — Анандавардханы (IX в. и. э.),
который, по мнению Ф. И. Щербатского, показал
великолепный образец исследования роли метафоры в
художественном языке, превзойдя тем самым аналогичные разработки
Аристотеля и европейских эстетиков недавнего
прошлого б1.
Как отмечал Щербатской, первоначально индийская
поэтика и риторика были двумя самостоятельными
дисциплинами. Поэтика занималась изучением поэтических форм
и различных оттенков чувств. Риторика же
преимущественно занималась изучением стиля и всего, что с этим
связано. Лишь в конце IX в. по инициативе Анандавардханы они
были объединены в одну науку, которая исследовала
поэтические чувства, настроения, стиль, риторические
фигуры и пр. 62
В своем творчестве Анандавардхана опирался на уже
бытующую традицию, учитывая накопившийся опыт
логиков, грамматиков, риторов, представителей поэтики.
Анандавардхана никогда не забывал подчеркивать, что его
знаменитая теория «дхван и» находит опору в исследованиях
индийских грамматиков. При этом он ссылался на то, что
данная теория создана по аналогии с известной доктриной
32
«sphota», которая провозглашалась представителями
грамматической науки 63.
Центральным произведением Анандавардханы,
произведением снискавшим ему заслуженную славу, является
«Дхваньялока». В этом произведении представлен
оригинальный вариант решения вопроса о характере и
возможностях семантических изменений в литературном
(поэтическом) языке. В фокусе авторского исследования данного
вопроса находится понятие «дхвани» (бук. «звук»),
содержание которого определяется не грамматическим, а поэти-
ко-риторическим контекстом исследования.
Обычно в связи с учением о дхвани принято говорить
о проблемах метафорообразований. Это отчасти правильно,
однако, как показывает анализ «Дхваньялоки», понятие
«дхвани» в данном случае значительно шире понятия
«метафора». Греки в своем осмыслении метафоры шли от
отдельного слова к совокупности слов в системе
предложения (высказывания). Правда, уже в те времена
представители греческой грамматики испытали много хлопот с
объяснением природы и функций компонентов слова, особенно
их озадачивала категория грамматического числа, над
постижением которой усердно трудились стоики и
александрийские грамматики. На примере этой категории хорошо
видно, что античные ученые столкнулись с противоречиями
между морфологией и семантикой, скажем, как в случае,
когда слово, не имеющее формы для выражения категории
множества, употребляется именно для выражения этой
категории или наоборот (например, город Афины) 64.
В отличие от греков Анандавардхана и его
единомышленники относят к сущности дхвани также
морфологические изменения, включая таким образом в решение
вопроса о закономерностях и особенностях семантических
изменений грамматический фактор. Как пишет Анандавардхана,
«значение не существует без (передающих их) языковых
форм» 65. Говоря словами М. М. Бахтина, «выбор
говорящим определенной грамматической формы есть акт
стилистический» 66, т. е. акт, семантически обусловленный,
поскольку понятие стиля неразрывно связано с понятием
способа семантической репрезентации.
Согласно Анандавардхане, понятие «дхвани» призвано
подчеркнуть способность поэтических высказываний
выявлять («п росветлят ь») нечто отличное от их
собственного, прямого значения. В акте любого
высказывания присутствует, наряду с основным значением
высказывания, ц^явное или сопутствующее значение. В обыден-
2 909 33
ной речи мы больше интересуемся основным значением
высказывания, в поэтической же речи основную прелесть
составляет эффект получаемый от мастерства поэта,
«проявляющего», «просветляющего» неожиданные аспекты слов
в контексте высказываний. Эти «проявляемые» значения
не привносятся со стороны, они присутствуют в едином
семантическом поле, но в силу определенных обстоятельств
не фигурируют в полной мере, не привлекают нашего
внимания. «Но, скажут нам, тогда получается, что
предложение имеет одновременно два объекта, а в таком случае оно
перестает быть предложением, так как, по определению,
должно иметь (только) один объект. Этой ошибки
(ответим мы) нет (в нашем доказательстве). Потому что эти
(значения) соотносятся друг с другом как главное и
вторичное. Иногда главенствует проявляемое, а выраженное
ему подчиняется, иногда же выраженное является главным,
а вторичным — проявляемое. Когда главенствует
проявляемое, (высказывание) называется дхвани, а когда
выраженное— это другой вид»67. Сюда же можно присоединить
следующее. «Дхвани имеем в случае главенства
проявляемого, то есть когда отличный от выраженного объект
намеренно освещается выражающим и выражаемым. А
вторичное обозначение есть просто перенос» 68.
Чтобы лучше понять глубокий смысл учения о дхвани,
обратимся к недавней истории европейских трактовок
проблем семантики. В данном случае речь пойдет о
семантическом учении видного немецкого математика и логика
Г. Фреге (1848—1925).
Фреге по праву считается пионером, заложившим
основание современной теории значений. Как показывает
М. Дамметт, Фреге различал два элемента в значении
языкового выражения, для одного из которых он вначале
зарезервировал слово «смысл» (Sinn), а для другого — слово
«освещение» (Beleuchtung); соответственные английские
эквиваленты «освещению» — «tone» и «illumination». Фреге
объяснял это различие следующим образом. «Смысл»
предложения принадлежит такому предложению, которое
является релевантным определению на истинность. Все, что
лежит за пределами значений «истина» или «ложь»,
относится к стилю выражения; к способу «освещения» 69.
Исключительную роль в развитии фрегевской
семантической теории сыграла, однако, не дистинкция
«смысл-освещение» (Sinn-Beleuchtung), а дистинкция
«смысл-значение» (Sinn-Bedeutung), где термин «смысл» стал более
соответствовать «освещению», тогда как термин «значение»
34
стал ассоциироваться с истинностной характеристикой
языкового выражения.
Фоегевская дистинкция «смысл — значение» имеет свои
исторические прототипы в разработках ученых различных
эпох и направлений. Например, в русле европейской
логики АнлосоАской традиции можно сослаться на стоиков, как
ллает В Мэйтс70. С аналогичным феноменом мы
.сталкиваемся и в учении Анандавардханы, который указал на
пособность поэтических высказываний выявлять
(«просветлять», сравни с фрегевским «освещать») нечто отличное
от их' собственного прямого значения. В данном случае
Анандавардхана имеет в виду субординацию двух
семантических компонентов — «значение» и «смысл».
Расшифровывая свою дистинкцию, Фреге приводит два
высказывания, ставшие с тех пор классическими, если
угодно, школьными примерами, а именно — «вечерняя звезда»
и «утренняя звезда». В первом и во втором случаях
имеется в виду один и тот же объект — планета Венера. Однако
хотя их значения и совпадают, но по смыслу они
различаются, так как фигурируют разные семантические
«ситуации». Обратимся еще к одному^римеру. Есть два имени —
«Вальтер Скотт» и «автор «В/верлея». Известно, что
король Георг IV интересовался, является ли Вальтер Скотт
автором «В^верлея». Если говорить только о референтах
(объектах) упомянутых имен, то получается абсурд:
Георг IV хотел знать, является ли Вальтер Скотт
Вальтером Скоттом. Во избежание подобных семантических
недоразумений и вводятся понятия — «смысл» и «значение».
Для своего времени, когда жил и творил Фреге, это было
значительным новаторством, что обнаружилось в
результате полемики по вопросу о семантике «имен собственных»,
начало которой положил знаменитый английский логик
Дж. Ст. Мил ль.
Теперь воспользуемся терминологией Анандавардханы
применительно к анализу подобного рода «имен». Дхвани
фигурирует там и тогда, где и когда дело касается
«проявления» («высвечивания») значения отличного от
выраженного. В нашем случае «выраженным» является
значение «Вальтер Скотт», а «проявляемым» (смыслом, дхвани)
будет «автор «Веверлея», т. е. человек, написавший
произведение «Веверлей». Говоря словами Анандавардханы,
*как показывает опыт, иногда вещь, не теряя собственной
рироды, приобретает еще одну — обусловленную функцию
dob ™ЛКН0Вения с совокупностью внеположных факто-
2*
35
Таким образом, в учении о ДХвани мы имеем
любопытный образец решения семантической проблемы в духе
Фреге. Дополнительный свет на теорию индийского ученого
можно пролить, обратившись к семантическим идеям
Р. Карнапа, который, проанализировав фрегевскую дистинк-
цию, развил ее в метод экстенсионала и интенсионала.
Фрегевское понятие «смысл» и карнаповское понятие
«интенсионал» — это понятия, указывающие на то, что
схватывается нашим умом, когда мы понимаем выражение,
не зная реальных фактов. В противовес этим понятиям два
другие понятия («значение» у Фреге и «экстенсионал» у
Карнапа) указывают на выражения, зависящие от фактов.
Решающее различие между методом Карнапа и методом Фреге
состоит в том, что карнаповские понятия «экстенсионал»
и «интенсионал» не должны зависеть от контекста, как это
наблюдается у Фреге 72.
У Карнапа было много прямых и косвенных
оппонентов. В качестве примера можно сослаться на Э.
Гуссерля, родоначальника современной феноменологической
философии. Гуссерль указывал, что помимо слов, обозначающих
объекты, имеются слова, чей смысл мы понимаем, хотя и не
имеем доступа к их референтам (например, ядро атома,
хромосома, У—1 и т. д.) 73. Гуссерль считал, что мы
понимаем смысл такого рода слов потому, что понимаем
контекст, в котором они имеют место. Таким образом, нет
необходимости в связи между пониманием смысла
соответствующих терминов и наличием прямого доступа к их
референтам 74.
В своеобразной роли карнаповского оппонента
выступает и Анандавардхана. Его контраргументы заслуживают
внимания еще и потому, что они были использованы в
полемике с индийскими логиками.
Индийскими логиками в качестве первичного
выделяется логический признак познаваемого объекта (например,
«дым на горе»). В таком случае познание «проявляемого»
есть познание объекта по логическому признаку.
Логическим признаком является «дым на горе», а «проявляемым»
(искомым объектом) —«огонь на горе». На подобную
логическую интерпретацию своего семантического учения
Анандавардхана возражает следующим образом. Он
считает аргументацию логиков недостаточной, поскольку
«проявляемое» — это не логическая функция, а функция
языковая 75.
Дело в том, что высказывания имеют два объекта —
умозаключаемый и сообщаемый. Умозаключаемый объект
36
Анандавардхана именует «желанием сказать». «Желание
сказать» делится на два вида — (1) желание сделать явным
звук (высказаться вслух) и (2) желание с помощью звуков
сделать явным объект. Реализуя эти желания, мы
получаем информацию об умозаключаемом объекте. Что касается
«сообщаемого объекта», то имеется в виду объект
желаемого сообщения. Существует два вида «сообщаемого» —
«выражаемое» и «проявляемое». Таким образом, высказывание
сообщает нам два основных вида информации — авторский
замысел (желание, намерение) и информацию о
содержании этого замысла.
Авторский замысел реализуется с помощью
соответствующего физического субстрата (устного или письменного)
и выбора соответствующего речевого жанра. Все это можно
назвать формальной стороной высказывания, сугубо
языковым аспектом. К содержательной стороне высказывания
относятся «выраженное» и «проявляемое».
«Проявляемое», — это замысел, а «выраженное» — это та или иная
степень реализации замысла в высказывании. Поэтому,
анализируя высказывание в семиотическом плане, мы вправе
рассматривать его как своего рода логический признак в том
смысле, что высказывание своей языковой формой
указывает на определенный замысел, специфицирует его. Таким
образом, в отличие от Карнапа, Анандавардхана считает
обязательным учитывать замысел, вернее, тему
высказывания, в соответствии с чем необходимо принимать к
сведению контекст высказывания как актуальный речевой
факт.
Как пишет Ю. М. Алиханова, характеризуя учение о
дхвани, значимость переворота, произведенного этим
учением в индийской поэтике, не подлежит сомнению.
Благодаря Анандавардхане впервые была создана логически и
лингвистически убедительная классификация
стилистических средств, подчеркнута важность стилистического
выбора и темы как определяющей этот выбор фактора76.
С философской точки зрения особая ценность
семантического учения Анандавардханы состоит в том, что в этом
учении подчеркивается, хотя и не выделяется в
самостоятельный предмет рассмотрения, тесная связь мышления и
языка (замысла и его выражения), поскольку язык
(поэтический язык) анализируется не как нечто внешнее,
пассивное относительно субъекта литературно-поэтической
деятельности, а как активная сила, формирующая и
направляющая интеллектуальную деятельность человека. В Европе
подобные мысли впервые промелькнули в литературном
37
творчестве Дж. Вико, более зрелый вид приобрели в
работах И. Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, а
в XX в. получили широкое распространение в работах этно-
лингвистов, психологов и философов.
Единство мышления и языка позволяет по-новому
взглянуть на характер семантических изменений в процессе
языковой деятельности (включая язык науки), позволяет
рассматривать процесс метафорообразований не как
«болезнь» языка, а как естественный механизм
функционирования и развития языкового мышления.
Иероглифическое письмо и семантическая проблематика
в древнем Китае. Роль символа и символики в познании.
Изучая сочинения древних авторов о языке и его
семантическом строе, мы в конечном итоге сталкиваемся с
необходимостью учета различий в лингвистических традициях,
которые во многом определялись формой письменного
языка 77. Проблема письменности — это не только проблема
влияния формы материального субстрата на специфику
речевой деятельности, это также, как отмечает И. М.
Дьяконов, проблема культурной традиции человечества, и
поэтому так важно знать и понимать историю письма 78.
С семиотическим изучением письменных языков
связано решение важных гносеологических вопросов,
поскольку письменная речь есть совершенно особая речевая
функция. Письменная речь, подчеркивал Л. С. Выготский,
требует для своего развития высокой степени абстрактности79.
Дело в том, что всякий литературно-письменный язык — это
язык в значительной мере искусственный, отличающийся
от устной речи так же, как отвлеченное мышление от
наглядного. Известно, какую революционизирующую роль
сыграла алгебраизация языка математических рассуждений,
т. е. иная система кодирования логико-математического
знания. Что касается письменной речи, то она, по меткому
замечанию Л. С. Выготского, является «алгеброй речи» в том
смысле, что это наиболее трудная и сложная форма
сознательной речевой деятельности.
Важность различия между звуком и буквой в
европейской лингвистической традиции впервые была подчеркнута
И. А. Бодуэном де Куртенэ. Затем в 40—60-е годы XX в.
английские лингвисты начинают настойчиво отстаивать
тезис о том, что письменный язык является самостоятельной
и специфической системой человеческого языка 80. Значение
указанного факта становится особенно заметно, когда мы
сталкиваемся с китайской иероглификой, где знаки
письменности соотносятся прежде всего со значением и лишь
38
посредством значения со звучанием. В фонетическом же
письме на первом месте стоит изображение звука, а затем
лишь следует обозначение морфем.
Современные исследования по графемике и семиотике,
к сожалению, уделяют мало внимания
сравнительно-историческому анализу различных средств письменного
кодирования естественных языков. Эти средства, несомненно,
значительно влияют на характер восприятия субъектом
языковой информации, придавая специфические черты
культуре миропонимания. В условиях, когда информация
кодируется громоздкими средствами, по-особому протекает
процесс запоминания, деятельность сознания, ставятся и
решаются семантические проблемы. Так, например, при
отсутствии широкого распространения письменности на
первое место выдвигается ритмическое кодирование
информации. Но в случае распространения письменности
появляется возможность иного способа кодирования, когда
можно пренебречь мнемотехнической легкостью запоминания
во имя адекватного понимания, что является более
мощным регулятором интенсификации умственной
деятельности. Поэтому, говоря о развитии китайской научной
мысли, познавательной техники, о постановке и решении
семантических вопросов, полезно и необходимо учитывать
специфику китайской письменности, форму иероглифического
письма.
Иероглифическое письмо показывает, что может быть
более тесная связь знака со значением, чем это принято
считать в условиях европейской письменности. При
фонетическом письме реализация замысла требует, по-видимому, иной
структуры памяти, позволяющей удерживать замысел в
голове до окончания написания фразы 81.
Китайское иероглифическое письмо не следует отожде-
ставлять с идеографическим письмом, где не в идеале, а
в действительности довольно сложная мысль может
выражаться одним рисуночным знаком. Сложность мысли в
плане ее идеографического выражения имеет жестко
обусловленные границы, не позволяющие посредством зарисовки
выражать абстрактные понятия. «Поэтому такие понятия
передаются либо через обозначения конкретных предметов,
ассоциируемых с абстракциями, либо с помощью особых
условных знаков, либо через звуковой ребус
(принципиально не отличающийся от тех ребусов, которые можно найти
в развлекательных отделах журналов). Именно принцип
ребуса явился важным средством расширения
возможностей идеографического письма» 82.
39
Как и в идеографической письменности, в китайской
иероглифике нет букв и, соответственно, нет алфавита, здесь
каждый знак обозначает, вернее, обозначал целое слово.
В немалой мере этому способствовало отсутствие флексий
в китайском языке, что позволяло вполне
удовлетворительно пользоваться чисто словесным письмом 83. При таком
положении дел выход за пределы метафоры как комбинации
слов в более широкую сферу концептуального осмысления
семантических изменений, обусловленных также
морфологическими изменениями, представляется маловероятным.
Слово-иероглиф превращается в индикатор образа-гештальта,
который в случае абстрактных понятий является
метафорическим указателем, например, как слово «слон» (hsiang)
является символом «идеи».
Как писал Ван-Би в своем трактате «Основные
принципы Книги Перемен», «мысль выражается в образе; образ
выражается в слове. И так как слово объясняет образ, то,
после того как в процессе познания (гексаграммы)
постигнут образ, можно забыть и отбросить слово. В равной же
степени, так как мысль концентрируется и выражается в
образе, то после того, как познана мысль, можно забыть и
отбросить образ» 84.
Иероглифическая письменность в отличие от
алфавитного письма обладает той исключительной особенностью, что
способствует созданию непрерывной культурной
традиции, позволяя человеку, получившему классическое
китайское образование, относительно легко читать архаичные
тексты, поскольку слово, обозначенное иероглифом,
фонетически изменяясь, не влияет на начертание иероглифа. Столь
тесная связь знака со значением придает китайской
письменности известную универсальность, т. е. в идеале китайскую
письменность можно использовать не только для
китайского, но и для других языков 85.
Однако здесь имеются и свои существенные негативные
моменты. Дело в том, что на протяжении многовековой
истории Китая, вплоть до начала XX в., существовал
значительный разрыв между разговорным и письменным
языками. Когда во втором десятилетии XX в. была
развернута борьба за приближение литературного языка (вэньянь,
или, как его еще называют, «китайская латынь») к живой
разговорной речи, многие образованные китайцы были
поражены непривычностью писать так, как они говорят.
Небезынтересно, что даже «первые статьи о необходимости
отказаться от вэньяня были написаны на вэньяне (впрочем,
и Данте, ратовавший за отказ от латыни и создание нового
40
литературного языка, свой трактат «О простонародном
языке» написал на латыни)» 86.
Все сказанное выше позволяет с полным правом
утверждать, что «одним из существенных факторов китайской
жизни была высокая культура устной и письменной речи» 87.
Этот тип культуры граничил с религиозностью. Дж. Нидам
вспоминает: «Когда я впервые приехал в Китай, у каждой
пагоды можно было еще видеть печи для торжественной
кремации любого исписанного листа бумаги»88. Эта
религиозность объясняется крайней элитарностью китайского
образования, его кастовостью, что способствовало созданию
ореола святости вокруг китайских интеллигентов.
Иероглифика, стимулируя непрерывность культурного
развития, в то же самое время препятствовала массовому
приобщению к духовной культуре, тем самым делая
культурную непрерывность чем-то внешним и даже мистическим.
Таким образом, иероглифика превращалась в
гипостазированный символ культуры, т. е. сама техника письма
становились техникой отчуждения, провоцировавшей
возникновение культа 89.
Вместе с тем иероглифика оказала сильное влияние на
выработку символического стиля мировосприятия у
китайских философов, выражавшегося в том, что они
предпочитали рассуждать о «смысле» (Sinn), а не о «значении»
(Bedeutung), превращая семантические оттенки в
самостоятельные концептуальные сущности, по отношению к
которым все «имена» будут лишь символами
трансцендентного, невыразимого. Эта идеалистическая тенденция явственно
просматривается в произведениях конфуцианских
философов, а также даосистов. Так, например, представители
философии даосизма (система объективного идеализма),
избравшие в качестве ключевой категорию Дао,
которая до сих пор не имеет общепризнанного научного
перевода, рассматривали Дао как недоступное для воплощения
в слове 90.
Несмотря на такого рода удручающую оценку
познавательных возможностей языка со стороны ряда китайских
философов, философия языка тем не менее занимала видное
место в китайской науке, напоминая об аналогичных
изысканиях греческих софистов-риторов и индийских
исследователей литературно-художественного языка. В связи с этим
достаточно сослаться на разработки представителей
школы «имен» (мин-цзя). Они внесли существенный вклад в
развитие зачатков логической науки и рационализацию
лингвистической проблематики.
41
Значительный вклад в изучение рационального строя
мышления и его языкового выражения внесли
представители школы моистов, основателем которой был Мо Ди (или
Мо-цзы, 480—400 гг. до н. э.). Монеты делали акцент на
субъективном характере происхождения «имен», не
отрицая при этом объективности их содержания. Безусловно,
монеты оказали благотворное влияние на развитие
китайской интеллектуальной культуры и создали интересную,
хорошо разработанную философию языка. Но, «к
сожалению, вместе с гибелью школы моистов эта научная
тенденция в развитии китайской философии не была
подхвачена другими философскими школами, а наоборот,
всячески третировалась официальным конфуцианством»91.
Если монеты выступали против нарушения правил
пользования «именами», что видно из оценки правил ведения
спора, где спор, дискуссия понимались как одна из
возможностей достижения общезначимой и объективной
истины честными средствами, без софистических уверток в
духе софистов школы «имен», то правоверных
конфуцианцев волновало исправление «странных» слов («болезнь»
языка), вносящих путаницу в сознание человека.
Понятие «исправление имен» (чжэн мин), впервые
введенное Конфуцием (551—479 гг. до н. э.), призвано было
служить этическим и социально-политическим целям, смысл
которых заключался в упрочении иерархической структуры
взаимоотношений между людьми. Проблемы философии
Конфуций рассматривал сквозь призму интеллектуального
«очищения», ведущего к желаемой политической
реорганизации общества 92.
Философским и логическим базисом конфуцианской
доктрины служит «Книга Перемен» (или «Трактат (книга)
об изменениях», «И цзин», VIII—VII вв. до н. э.)- Значение
этого литературного произведения для китайской духовной
культуры огромно. Как подчеркивает А. А. Петров, «вне
«Книги Перемен», вне истории ее текста и комментаторской
литературы, выраставшей вокруг нее, невозможна история
древнекитайской философии вообще»93.
Наиболее важной логической доктриной в «Книге
Перемен» является доктрина «идей» (hsiang), во многом
напоминающая аналогичную платоновскую доктрину. Что
касается термина для обозначения понятия «идея», то он
был образован от слова «hsiang», которое имеет
интересную историю, проливающую свет на конфуцианское
понимание сущности «идей» и их словесного выражения.
Слово «hsiang» первоначально означало «слон». Хан
42
фей (233 г. до н. э.) дает следующее объяснение данного
слова. Несколько людей когда-то видели живого слона. По
сравнению с рисунком слона, адресованного тем, кто его
не видел, они могут без помощи рисунка вспомнить и ярко
представить его образ, а при возможности и изобразить с
помощью рисунка. Поэтому все те люди, которые
полагаются на воображение (репродуктивную способность
воображения), называются «hsiang'aMH». В таком случае
«hsiang» — это «образ», или «идея», согласно которой
формируются вещи.
В «Книге Перемен» слово «hsiang» используется в двух
совершенно различных смыслах. В первом смысле
«hsiang» — это просто чувственно воспринимаемое явление.
Во втором смысле «hsiang» — это идея, которую можно
представить с помощью некоторого символа и реализовать
в некоторой форме активности, деятельности 94.
Эти конфуцианские «идеи» сродни не только
платоновским «идеям», но и аристотелевским категориям, поскольку
они образуют исходный семантический фонд «имен».
«Имена» являются правильными, когда их значения находятся
в соответствии со своим первоначальным «идейным»
содержанием. «Книга Перемен», говорит Конфуций, содержит
«идеи», чтобы обнаруживать вещи, а суждения служат для
того, чтобы рассказывать о вещах95.
Конфуцианская доктрина «идей» утверждала, что вещи
и социальные институты происходят от «идей».
Соответственно этой логике, чтобы постичь значение реальных
вещей, необходимо возвратиться к первоначальным «идеям»,
к идеальным значениям, к правильным «именам», с
помощью которых эти вещи становятся известными 96.
Интересно сравнить конфуцианскую доктрину
«исправления имен» с аристотелевским учением о метафоре.
Забегая вперед, отмечу, что в итоге этого сравнения в одном
и другом случаях обнаруживаются очевидные родственные
черты, родство которых обусловлено идеологическими
ценностями, в значительной мере ассоциированными с идеей
«золотого века» в разных ее проявлениях. Это сравнение
позволяет расширить горизонт наших представлений как
о мировоззренческих регуляторах аристотелевской
интерпретации метафоры, так и о логико-семантических аспектах
конфуцианской теории.
Согласно древнегреческому мировоззрению, предметный
мир по самой своей сущности является гармонично
упорядоченным, замкнутым, конечным. Из этого должно было
бы следовать тождество мира вещей и «мира идей», соот-
43
ветственно чему каждое «имя» должно иметь свое
реальное, вещественное содержание. Но простые наблюдения
свидетельствуют об обратном: мир вещей более
многообразен, чем «мир идей», поэтому установить отношение
тождества в данном случае невозможно, боле того, не каждая
вещь обладает «именем», и не все «имена» могут
адекватно именовать «идеи». Выход из этого положения Парме-
нид и Платон усматривали в определении чувственного
бытия как бытия иллюзорного, как не-бытия. Аристотель
же, проявляя большую осторожность, пытается выявить
исходные, первоначальные «имена», пытается на свой
манер исправить «словарь» науки, сведя его к 10 «именам»
(категориям).
Примерно такую же картину мы наблюдаем и в его
трактовке метафоры, где метафора приравнивается к
неразвернутому, но легко осуществляемому сравнению.
Аристотель полагается, так сказать, на линейную
детерминированность всех имеющихся и получаемых значений,
что позволяет метафору превращать в сравнение, все
лексическое многообразие сводить к простенькой
таксономии, используя категории как своего рода семантические
порождающие модели.
В соответствии с этими философскими установками
нетривиальное мышление для Аристотеля — это не
мышление радикальными, дерзкими метафорами, а мышление,
руководствующееся чувством и знанием меры, мышление,
быстро подмечающее сходство. Именно таким образом
античный ученый-идеалист утверждает принцип тождества
мышления и бытия, а также возвеличивает по социально-
политической значимости идеал всеобщей космической
гармонии, которому должны следовать люди в своих
взаимоотношениях.
Если вдуматься в это последнее, то аристотелевское
учение о категориях и учение о допустимых семантических
изменениях (учение о метафоре) наполняются
дополнительным идеологическим смыслом, обусловленным его
гражданской позицией, его политическими симпатиями,
системой его нравственных и эстетических ценностей. Со
временем эти культурно-мировоззренческие смыслы
потеряли свою злободневность, были преданы забвению без
какого-либо ущерба для логико-гносеологических аспектов
аристотелевской философии, но они возникают всякий
раз, когда дело касается широкомасштабного
сравнительно-исторического анализа, при проведении которого
необходимо принимать в расчет общий культурный и социаль-
44
но-политический контекст творческих исканий мыслителей
далекого прошлого.
У Аристотеля в большинстве его произведений менее
ярко выражен социально-политический и мировоззренческий
смысл его философии, тогда как у Конфуция он является
превалирующим. Однако история последующего развития
конфуцианской философии показывает, что подобные
исторические параллели имеют под собой объективную
основу. Так, например, один из представителей классического
этапа в развитии конфуцианства, Сюнь-цзы (III в. до н. э.),
демонстрирует уже опыт логической интерпретации учения
об «исправлении имен». При этом он, как и Аристотель,
придерживается конвенциональной теории «имен», считая,
что подлинными именами вещей могут быть только такие
имена, которые являются привычными,
общеупотребительными и повсеместно понятными 97.
В свете сказанного «исправление имен» предстает
требованием деметафоризашш, требованием превращения
метафор («необычных» слов) в сравнения (обычные,
привычные, понятные слова). В обоих случаях язык
рассматривается как «платье» мысли, как нечто внешнее, не
развивающееся, а скорее деградирующее. Эти взгляды на
природу языка и механизм его функционирования являются
ие только следствием реализации соответствующих
идеологических установок (например, идея «золотого века»), но
и следствием чрезмерного преувеличения возможностей
логической оценки эмпирических событий, что подтверждает
наличие в учении об «исправлении имен» реальных
возможностей для развития собственно логических идей. В связи
с этим характерно высказывание А. А. Петрова, что принцип
«исправления имен» является зачаточной формой
формально-логических исследований в Китае98.
Вопрос о возможности прогрессивного развития языка
долгое время являлся одним из самых дискуссионных
вопросов в среде языковедов и философов, где бы ни
протекала их деятельность — на Западе или на Востоке.
Наибольшее предпочтение отдавалось установлению для языка
некоего консервативного идеала, помещаемого в весьма
отдаленное прошлое. Но' так как изменения, отмечал
Ж. Вандриес,— один из основных законов языка, то было
несомненно очевидным, что языки по мере своего развития
все больше удаляются от; своего первобытного «идеального»
состояния. Для оценки этого «факта» обычно пользовались
самыми уничижительными 'словами — порча, падение,
искажение, вырождение, болезнь и т. п. «Чем язык был древнее»
45
тем больше почтения он внушал. Рассказывают, что один
старый эллинист, когда однажды ему задали какой-то
вопрос по поводу новогреческого языка, категорически
уклонился от ответа, заявив, что он ни за что не будет изучать
язык, в котором предлог 'ало управляет винительным
падежом. Этот эллинист, понятно, принял бы с восторгом
изречение Шлейхера: «История — враг языка» ".
Комментируя подобного рода высказывания, Вандриес
писал, что представления о «золотом веке» языка,
представления о никогда не меняющемся языке — это вредная и
бессмысленная химера. Появление на свет этой химеры в
определенной мере обязано влиянию письменности на
сознание людей. Хорошо известно, что на первых порах своего
зарождения письменность воспринималась как своего рода
колдовство, письменностью широко пользовались в
магических целях. Если слово произнесенное, подчеркивает
Вандриес, может обладать магической силой для
первобытного человека, то тем более магичным выглядит слово
написанное.
Характерно, что у многих народов письмо и гадание
долгое время не отделялись друг от друга. Кстати, и
знаменитая «Книга Перемен» вначале была книгой гаданий. «Даже
освободившись от магического характера, письмо внушает
боязнь и уважение. Люди сохраняют почтение к
письменному тексту. Религия и право использовали это чувство,
чтобы связать наш ум письменной формулой, которая не
изменяется, и буквой, которая презирает разум.... Значение,
придаваемое написанному тексту, вполне понятно.
Написанное сохраняется, а сказанное улетучивается» юо. Эта
«сохраняемость» служила и служит символом традиционности
и незыблемости, что еще более усиливается, когда дело
касается письменной фиксации таких идеологических канонов,
как литературно-художественный язык, язык науки,
философии, религии и т. д., а также когда дело касается самой
сложной техники фиксации. Овладеть этой техникой —
значит овладеть отличным от обычной устной речи
способом речевой деятельности, письменной деятельностью,
которая в высшей степени искусственна (хотя мы этого часто
не замечаем), так как строится согласно своим собственным
коммуникативным и экспрессивным задачам, согласно
своим правилам.
Для китайских иероглифов отождествление устного и
письменного языков невозможно, поскольку иероглиф стоит
как бы над диалектным разнообразием, обозначая
по-разному произносимые слова одной и той же формой. В изве-
46
стном смысле это удобно. К числу же наиболее
существенных недостатков следует, пожалуй, отнести чрезмерную
искусственность этого вида письменности, требующей от
человека кодировать абстрактные представления косвенным
образом, иносказательно, что влечет за собой угрозу ото-
ждествления семантики и онтологии, идеалистическую
трактовку образования и функционирования общих понятий.
Таким образом, в китайской философии не остается места
для проблем лингвистической и логической семантики, им
отводится более чем скромное место в связи с решением
внелингвистических задач.
Заключение. Отсутствие понимания феномена сознания
и его антипода — бессознательного вело к отождествлению
мышления с психической (душевной) деятельностью в
целом.
Платоновская теоретико-познавательная доктрина зи-
жделась на понятиях «память» и «воспоминание». Философ-
ско-теоретическое познание уподоблялось припоминанию,
вследствие чего познание приобретало аналитический
характер. Мышление как припоминание — это
аналитически-интроспективная активность самосознания, строение которого
обусловлено строением памяти.
Опосредствованная данность мысли в коммуникативных
актах понималась философами-идеалистами как
свидетельство неподлинности, неполноценности, испорченности мысли.
Опесредствованность являлась для них свидетельством
утилитарности, ремесленничества, свидетельством «яодг-филосо-
фичности».
Поскольку с понятиями «средство», «опосредствован-
ность» парадигматически ассоциированы понятия
«активность», «деятельность», «движение», то они автоматически
квалифицировались как понятия низкой философской
значимости по сравнению с вечными, непреходящими,
покоящимися «сущностями» («идеями»). Аналогичную оценку
получала и речевая деятельность как образ беспокойства,
волнения, движения, активности. Менее негативно, но все
же негативно оценивалось и мышление как процесс в
противовес покоящейся мысли (замыслу, идее). Мышление как
процесс отождествлялось с речью как процессом на базе
отрицательного отношения к активности (лол-созерцатель-
ности).
Если во главу угла ставится покоящаяся мысль, знание
с предикатами вечности и незыблемости, то познание
следует понимать не как обогащение значения новой
информацией, а как аналитическое развертывание (воспоми-
47
нание, припоминание) априорных начал знания
(генетической информации, закодированной во врожденных идеях).
Подобные философско-мировоззренческие представления
являются идеологической санкцией для
противопоставления мысли мышлению и речевой деятельности, а по
существу — мышления языку.
В отличие от психологизма платоновского подхода к
познанию аристотелевский «логицизм» более конструктивен
в понимании знания и познания. Платоновское учение о
памяти выливается в аристотелевское учение о категориях
и формах аподиктического доказательства, в связи с чем
основная часть философского языка отождествляется с
языком аподиктического доказательства, с аналитическими
функциями языка. Но, впрочем, Аристотель не
ограничивается аналитическим аспектом философско-теоретического
познания, он выделяет и подчеркивает важность синтеза в
познании. Синтетическая познавательная деятельность
имеет дело с вероятностным, гипотетическим знанием, что
выражается в использовании метафор. Однако, отдавая
предпочтение анализу над синтезом, Аристотель в своем
определении метафоры исходит из требований логической ясности,
то есть хорошими метафорами являются только те,
которые относительно легко превращаются в понятные
сравнения.
Представитель другой культуры, индийский ученый
Анандавардхана, рассматривает язык не в связи с
решением познавательных задач логического толка, не как
внешнее «платье» для логических структур, а как
неотъемлемый компонент поэтической мысли. Поэтому его учение о
дхвани позволяет взглянуть на механизм семантических
изменений (частным случаем которых являются различные
метафоры) не под углом зрения запросов логической
науки (например, метафора — свернутое сравнение), а с учетом
морфологической специфики языка, играющей
исключительную роль в семантической репрезентации авторских
замыслов. Таким образом, наряду с дистинкцией «знание —
значение» мы получаем дистинкцию «смысл — значение»,
которая более соответствует тонкому семантическому анализу,
учитывающему единство мышления и языка.
Значение по отношению к знанию выступает не
орудием выражения знания в языке, а самим совершившимся в
языке знанием в форме актуального вербального
понимания (взаимопонимания субъектов коммуникации). Этого
не; хотели замечать Платон и Аристотель. Для них слова
(«имена»), выступая чем-то внешним познанию, тем самым
48
рассматривались не со стороны значения, а со стороны
знака. На самом же деле слова в первую очередь выражают
значение тех или иных предметов для человека, предметов,
вовлеченных в сферу материальной и духовной
деятельности. Выделяя степени значимости этих предметов для
общества и отдельного человека, мы в конечном итоге
дифференцируем «смысл» и «значение», объективное и субъективное
в общей семантической структуре (в общей структуре
значения), а затем выходим на семиотический уровень,
дифференцируя знак и символ.
Опыт предварительного анализа китайского
иероглифического письма наводит на мысль связать «знак» со
«значением», а «символ» связать со «смыслом», где в роли
«символа» должно выступать «значение» исходного «знака».
Глава 2
ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РИТОРИКИ
СО ВРЕМЕН ЕЕ ЗАРОЖДЕНИЯ.
ФИЛОСОФСКАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
ОПЫТА РИТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вводные замечания. Современному состоянию риторики
присущи два доминирующих признака. Во-первых,
некоторые западные авторы склонны рассматривать риторику как
символ новой идеологической переориентации в среде
либеральной интеллигенции буржуазного общества. С этой
переориентацией связывают надежды на реставрацию
некоторых гуманистических черт европейской культуры.
Например, В. Онг считает, что современной технологической
эпохе предшествовал тип культуры, который благодаря
специфическим интеллектуальным и академическим
манифестациям может быть назван риторической культурой.
Ссылаясь на мнение других авторов, Онг подчеркивает, что
в риторике больше, чем где-либо еще, видна
непрерывность европейской культурной традиции. По его мнению,
этот повышенный интерес к вопросам культуры объясняет,
почему в средине XX в. ученые вновь и вновь обращаются
к истории риторики. При этом в риторической традиции
пытаются усмотреть особый жизненный стиль, отличный
от стиля жизни современного человека, человека
технологической эпохи *.
Другие зарубежные исследователи, а их большинство,
не обольщаются относительно идеологической ценности
риторического наследия. Их прежде всего интересует связь
риторической проблематики с проблематикой
семантической и семиотической, а также с проблематикой
герменевтической философии. В этом ключе написан ряд работ
П. Рикера, известного французского специалиста по
истории, теологии, философии и литературоведению. В
разряд видных теоретиков неориторики следует также
отнести X. Перельмана, автора книги «Новая риторика и
гуманизм» 2.
Что касается представителей современной неориторики,
то, по мнению Рикера, их исследованиям языка и семантики
присущ структуралистский уклон, поскольку она
базируется на концепции языка, восходящей к учению Ф. де Сос-
50
сюра. Общая цель работ по новой риторике заключается в
том, чтобы существенно обновить таксономию классической
риторики посредством разработки и классификации форм
операций, которые имеют место на всех уровнях языковой
артикуляции. В этом плане неориторика существенно
зависит от семантики в ее структуралистской трактовке3.
Не полемизируя с Рикером по вопросу хронологизации
этапов развития идей неориторики, хотелось бы обратить
внимание на тот знаменательный факт, что книга видного
английского ученого А. А. Ричардса «Философия
риторики», опубликованная в 1936 г., заинтересовала широкие
круги научной общественности, включая философов,
филологов и психологов. Поэтому не будет преувеличением
сказать, что книга Ричардса сыграла исключительную роль в
становлении неориторики, и, очевидно, не будет ошибкой
отнести начяльный период в истории неориторики к 20—
30-м годам XX в.
В контексте данной работы интерес к риторике
обусловлен желанием выявить те аспекты семантики, которые по
тем или иным причинам не получили должной оценки со
стороны филологов, философов языка, психологов и
логиков.
Становление древнегреческой риторики. Античная
риторика была тесно связана с литературной традицией
греческого общества. Литературная проза возникает в VI в. до
н. э. в Ионии, справедливо считающейся колыбелью
греческой науки. В этот период истории греческой культуры
происходит важное событие — отделение прозы от поэзии.
Свою лепту в становление нового литературного языка
внесла и философия. Философские сочинения в те времена
имели большое общелитературное значение, способствуя
созданию особой формы художественной речи 4. К концу V в.
до н. э. прозаический язык становится
общеупотребительным и сохраняет свое монопольное господство до конца
аттического периода.
Этот процесс в литературной сфере совпал с
интенсивным развитием ораторского искусства, что повлекло за
собой разработку основных видов ораторской прозы
(судебные речи, политическое и торжественное (эпидиктическое)
красноречие). Но только с возникновением софистики эти
«речи» получают статус литературного жанра.
Наряду с практическими задачами, софисты пытались
как-то систематизировать и обобщить накопленный опыт
искусства красноречия, что в конечном итоге привело к
появлению риторики как науки об ораторской речи. По
51
замыслу софистов, риторика призвана была научить
умению убеждать, т. е. действовать на сознание, чувства и
волю слушателей. Для успешной реализации этой пели
требовалось знание психологии оратора и слушателя.
Поэтому в заслугу античным риторам можно поставить ряд
оригинальных трактовок вопросов психологии
коммуникативного акта.
Первые работы по риторике появились в Сицилии.
В V в. до н. э. сицилийцы пытаются создать теорию
судебной речи, указать способы ее построения,
классифицировать приемы аргументации. Видными греческими
риторами были: Горгий, Фрасимах, Лисий, Исократ, Демосфен.
Горгий сыграл решающую роль в развитии теории и
форм художественного прозаического языка. Одной из
особенностей стиля Горгия была насыщенность метафорами.
Другой античный ритор, Фрасимах, занимаясь искусством
красноречия, сопровождал это изучением психологии
восприятия речи. Благодаря усилиям первых риторов
знаменитые «горгиевы фигуры», метафоричность становятся
неотъемлемыми компонентами стиля художественной прозы 5.
Лисий прославился как знаменитый логограф (писатель
речей) и тонкий характеролог. Главная цель его
характерологической техники заключалась в том, чтобы в
судебной речи оратор мог создать у суда благоприятное
впечатление о личности говорящего. В эпоху эллинизма
поклонником его таланта был Дионисий Галикарнасский, с
уважением к нему относились Цицерон и Квинтилиан.
Большой вклад в развитие теории красноречия внес
Исократ. Фигура Исократа занимает видное место в
античной интеллектуальной культуре. Как писал Ф. Ф.
Зелинский, могучее влияние Исократа захватило всю область
греческой литературы. Отличительной чертой исократовского
учения было унаследованное от своего учителя Горгия
широкое понимание задач риторики в духе
«софистического идеала»6. Исократ считал риторику важнейшей
общеобразовательной дисциплиной. Столь высокая оценка
знаменовала новую ступень в развитии риторики. «Исократ во
многих отношениях может быть признан
основоположником всей позднейшей греческой прозы, вплоть до стиля
византийских ораторов» 7.
Риторика способствовала осознанию различий между
языком обыденной речи и литературным языком. С ее
помощью закладывается новая отрасль специализированной
познавательной рефлексии — литературная критика.
Развитие ораторского ремесла и его тесная связь с язы-
Б2
ком художественной и научной прозы воплотилось не только
в составлении «рецептов» и теоретизировании, но и в
написании таких речей, чьи художественные достоинства
превращали их в предмет литературно-художественного чтения.
Дальнейшее усовершенствование древнегреческая
риторика получила в эллинистический период, когда были
созданы три основополагающих учения — о тропах, фигурах
и стилях.
Аристотель и риторика. Во времена античности
сложились два подхода к риторике — философский и
филологический. Первый опыт философской риторики представлен
одноименным произведением Аристотеля. Однако в силу
того что Аристотель основное внимание уделил
логическому анализу средств риторической аргументации, его
«Риторика» не получила широкого распространения в качестве
учебного пособия. Кроме того, Аристотель не был ни
выдающимся учителем красноречия, ни практикующим ритором;
он был логиком и с этой точки зрения следует
оценивать его «Риторику»8. Сюда же можно присоединить
слова П. Рикера, отмечавшего, что Аристотель был первым,
концептуализировавшим сферу риторики 9.
Согласно Аристотелю, риторика — это умение
пользоваться двумя способами аргументации. К первому способу
относится использование риторического силлогизма (энти-
мемы), где логическое доказательство представлено не
полностью, а с некоторыми пропущенными, но
подразумеваемыми членами. Риторический силлогизм Аристотель называет
«самым важным из способов убеждения»10. Ко второму
способу аргументации относится использование примеров,
то есть использование даказательства по индукции.
Методы доказательства Аристотель делит на три
группы: (1) научная демонстрация, (2) диалектика, (3)
риторика. Научная демонстрация развивается в 1-й и 2-й
«Аналитиках» как метод обнаружения и демонстрации истины.
Диалектика объясняется в «Топике» как метод
обнаружения того, что является вероятной истиной. Риторика
понимается как метод обнаружения имеющихся в нашем
распоряжении средств убеждения. Диалектика и риторика
отличаются от научной демонстрации тем, что имеют дело
с вероятностями, а не с аподиктическими истинами.
Риторика может 'пользоваться в целях анализа средств
убеждения как индукцией, так и дедукцией.
Аналитический подход к риторике позволяет Аристотелю
выяснить не только связь риторики с логикой и
диалектикой, но и предложить новую классификационную схему
53
риторического дискурса. Так, если исократовская школа
признавала доказательство фрагментом дискурса, то для
Аристотеля доказательство — это не компонент
риторического дискурса (речи), а важная функция дискурса, наряду
со стилем и диспозицией. Иными словами, если исократи-
ки делили речь (текст, дискурс) на 4 части (вступление,
изложение, доказательство, заключение), то
аристотелевская классификация риторического дискурса построена на
выделении функциональных особенностей дискурса в
целом п.
Как и в «Поэтике», Аристотель в «Риторике»
анализирует метафору, стремясь вскрыть механизм,
управляющий семантическими изменениями. Но в данном случае ои
усиливает аппарат логического анализа, вводя понятие
энтимемы. Стоит отметить тот немаловажный факт, что
большинство античных риторов рассматривали энтимему
как стилистическое -понятие, т. е. как особый способ
вербальной формулировки мысли. Аристотель же стремится
отмежеваться от энтимемы в стилистическом
(семантическом) смысле и превратить ее в разновидность
доказательства. Со временем эта точка зрения на энтимему настолько
укоренилась в сознании философов, риторов и логиков, что
семантические функции энтимемы начисто выпали из поля
зрения, а вместе с этим было обеднено и понятие
«доказательство», поскольку его ограничили операциями со
знанием вне языкового функционирования этого знания.
Несмотря на более чем скромную популярность
аристотелевской «Риторики» в качестве учебного пособия,
многие положения этого произведения оказали решающее
влияние на разработку теоретических разделов всех
последующих произведений по риторике и логике.
Психологизм риторических учений эллинизма. Эпоха
эллинизма, начало которой обычно датируется IV в. до н. э.,
а конец—V в. н. э., знаменуется глубокими изменениями
в социально-экономической, политической и культурной
жизни античного общества. Это была эпоха бурных
социальных потрясений, распространения христианства,
нашествий варваров, изменений в системе культурных ценностей.
В период раннего эллинизма, примерно в III в. до н. э.,
происходит расцвет эллинистической культуры. Центром
эллинистической учености становится столица
греко-египетской монархии Александрия. Здесь основывается
знаменитая александрийская библиотека, называвшаяся
«Музеем» («храм Муз»), своеобразный дворец науки и
литературы. Ученые александрийской и пергамской библиотек
54
создают новую научную дисциплину — филологию.
Рождение филологии во многом обязано исследовательской
деятельности, направленной на анализ и выявление норм
общегреческого литературного языка. Например,
александрийскими учеными был установлен полный текст поэм Гомера.
К плеяде выдающихся александрийских филологов
принадлежали: Зенодот, Аристарх Самофракийский, Дионисий
фракийский, Аполлоний Дискол и др. Их кропотливая
исследовательская деятельность заложила основы всего
последующего европейского литературоведения.
Александрийские представители грамматической науки дали
определения и систематизировали части речи настолько
рационально и подробно, что до сих пор их систематика лежит
в основе современной грамматической терминологии.
Значительные эволюционные пертурбации претерпело и
античное красноречие. В III—II вв. до н. э. красноречие
все больше превращается в школьную дисциплину с низким
теоретическим потенциалом. Теоретизирование подменяется
дотошной классификацией на основе эмпирической
интуиции. Примером подобных классификаций служит
классификация тропов. Некоторые авторы указывают на 14 видов
тропов (Квинтилиан), другие — на 24, 27, 33, 37 12.
Упадок теоретической риторики не означал ее
повсеместного краха. Большое развитие получила риторическая
проза, риторические школы превращаются в главные
распространители образования, риторика налагает свой
отпечаток на всю литературу того времени 13. К этому периоду
относится деятельность таких известных риторов, как Ке-
килий (Цецилий) Калактинский, Зенон, Деметрий,
Дионисий Галикарнасский.
Отличительной чертой многих риторических учений
того времени является их повышенный психологизм.
Фактически учения о стилях речи — это одновременно косвенное
выражение опыта наблюдений за характером восприятия
звукового и письменного текстов. Психологизация стилей
в свою очередь предполагает типологизацию характерных
условий речевого общения. Этот психологизм в понимании
стиля оказался на редкость живуч ,4.
В эпоху эллинизма наивысшего расцвета ораторское
искусство достигло в последний век Римской республики
в лице Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до и. э.).
Цицерон осуществил важное по значению разграничение
между видами метафорических изменений. Он различает
лингвистическую метафору, которая является катахрезисом
(греч. Katachrtsis — злоупотребление), т. е. соединением
65
несовместимых значений (например, красные чернила), и
литературную метафору, которая является собственно
метафорой. Цицероновский подход к метафоре менее логичен и
более психологичен. В своих воззрениях на метафору он
исходит не из лингвистической или философской точки
зрения, а преимущественно из оценки эффекта воздействия
ораторского слова на публику.
Как считает А. Д. Лиман, основным вкладом Цицерона
в рассмотрение метафоры (после Аристотеля) было то, что
Цицерон видел в метафоре проблему, а не нечто оконча-»
тельно решенное 15.
К знаменитым римским риторам принадлежит Марк
Фабий Квинтилиан (35—ок. 100 г. н. э.), чей труд
«Ораторское наставление» как бы подводит итоги развития
античной риторики. Это произведение обнаруживает недюжен-
ное педагогическое мастерство автора. Отметим, что
риторика, начиная с софистов, была одним из важнейших
факторов высшего образования в жизни древних греков и
римлян 16. Это особенно проявилось в эллинистический
период. Ораторство рассматривалось римлянами как великая
цивилизующая сила в истории человечества. Характерно,
что видные греческие философы отрицали эту роль риторики
(например, Платон). Напротив, римляне, высоко оценивая
риторику, включали в нее философию, психологию и
этику. В этом заключается фундаментальное различие между
типично греческим и типично римским взглядами на
отношение между теорией и практикой 17.
Квинтилиановское риторическое произведение, довольно
внушительное по объему, состоит из 12 книг, в которых
рассматриваются начала грамматического образования,
дается определение риторике, излагаются различные
риторические предметы, а самая последняя книга посвящена
собственно оратору и его социальным правам. Квинтилиан
сближает грамматику и риторику, рассматривая при этом
грамматику как общеобразовательную дисциплину, как
пропедевтику к риторике.
Анализируя феномен семантических изменений,
Квинтилиан указывает, что мы пользуемся переносами слов или
в силу нужды, или по причине большей выразительности
переносимого слова. Метафора им оценивается как самый
красивейший и самый употребительный из тропов18. По
мнению Квинтилиана, структура метафоры в полном
объеме раскрывается в сравнении; метафора — это свернутое
сравнение 19. Как видим, в этой характеристике метафоры
Квинтилиан не оригинален.
56
Основные функции метафоры Квинтилиан усматривает
. в следующем. Метафора употребляется для (1)
поражения ума, (2) сильнейшего означения предметов, (3) более
наглядного представления предметов, о которых идет
речь20.
Для Квинтилиана, как и для большинства его
предшественников и современников на риторическом поприще,
одним из главных предметов риторики является изучение
эффекта психологического воздействия ораторской речи на
слушателя. Поэтому «относительно внутреннего содержания
речи оратор должен помнить, что при всем разнообразии
дел у него есть одна и единственная цель, которую он
может достигнуть только своим собственным трудом. Эта
цель — вмешательство в психику слушателей, например
судей, возбуждение в ней чувства и страсти, умение
распоряжаться чувствами и страстями слушателей»2!.
Одно из наиболее интересных квинтилиановских
наблюдений касается трактовки памяти в связи с учением о
стиле, хотя эти наблюдения и перегружены утилитарными,
дидактическими соображениями. При рассмотрении
платоновской философии и его воззрений на язык уже
отмечалось, что с понятием «память» в античной и средневековой
философии была ассоциирована гносеологическая
проблематика. Этот факт (подчеркивается многими
исследователями античного наследия, в частности Г. Каплан пишет,
что, согласно сократикам, память является хранилищем
высших духовных ценностей 22.
В эллинистическую эпоху вместе с философией в
риторику было включено и понятие памяти, но при этом
значение данного понятия было чрезвычайно сужено.
Доаристотелевская риторика преимущественно имела
дело с изобретением тематических идей, расположением их
в речи и стилем. Благодаря Аристотелю и Теофрасту был
добавлен еще такой структурный компонент, как
«произнесение речи». И, наконец, в эллинистический период было
добавлено понятие «память», тесно связанное с понятием
«стиль речи», поскольку от стиля зависит легкость или
трудность запоминания текста23. Эту трактовку памяти
можно несколько расширить, вернув понятию «память»
первоначальный платоновский смысл, сопряженный с
гносеологической проблематикой (ориентированность познающего
интеллекта, формы познания). В таком случае различные
стилистические эффекты (например, метафоры) можно
попытаться рассматривать как индикаторы напряженной
интеллектуальной деятельности, актуализирующей возможные
57
смысловые (семантические) комбинации из ограниченного
запаса общеизвестных значений.
Со своеобразным «реквиемом» античной риторике мы
сталкиваемся в творчестве историка Корнелия Тацита
(ок. 5—ок. 117 г. н. э.), который в трактате «Об ораторах»
с горечью говорит об упадке красноречия, связывая этот
упадок с изменениями в политической жизни общества.
Закат античной риторики в первые века нашей эры
отнюдь не знаменовал собой упадка
литературно-художественной деятельности и соответствующей критической
рефлексии в рамках сложившейся филологической традиции.
Как писал И. Н. Голенищев-Кутузов, «римская литература
была высокой школой стиля, а также неисчерпаемым
источником художественных образов и тем не только для
гуманистов Кватраченто, но и для филологов Орлеана,
философов Шартра и правоведов Болоньи XII столетия»24.
Общая характеристика античной риторики.
Характеризуя античную риторику, Э. Целлер отводит ей
промежуточное положение между «практическими» науками и науками
«творческими». Эта двуликость риторики сказывается и в
ее определениях, одни из которых тяготеют к-подчеркиванию
технических функций риторики, а другие указывают на
риторику как на ветвь диалектики, политики и этики,
поскольку диалектика применяется в этических и
политических целях. «Задача оратора, — писал Целлер, — состоит в
убеждении слушателей через вероятные основания; задача
же риторики — в техническом руководстве к этой
деятельности в различных областях, на которые направлена
совещательная, судебная и убеждающая речь» 25.
Еще более коротко и определенно высказывается в
адрес риторики Т. Гомгерц, а именно: античная риторика
имеет две стороны — она наполовину диалектика, наполовину
стилистика 26. Своей формулировкой Гомперц более
рельефно выделил то, что скрывалось в тени при
перечислении прагматических функций риторики. В данном случае
имеются в виду лингвистические и психологические
аспекты риторики. Лингвистику и психологию объединяют с
риторикой изучения коммуникативных и экспрессивных
аспектов речи. Указание на связь риторики со стилистикой — это
указание на то, что понятие стиля подчеркивает
альтернативные способы выражения одного и того же замысла.
Современные исследования формальных свойств языка
показывают, что этим свойствам присуще специфическое
содержание, определяемое не экстралингвистическими факторами,
а саморегулирующимся, системным характером языка.
58
В процессе этих исследований «выяснилось, что форма
языкового выражения может в значительной мере расширить
содержание высказывания» 27.
Несмотря на то, что античные философы, филологи и
риторы единодушно соглашались с тем, что язык — это
нечто внешнее мысли, в своих практических наблюдениях
(особенно это касается риторов) они порой фиксировали
и в завуалированной форме, утверждали прямо
противоположное. В первую очередь имеются в виду штудии в
области стилистики, позволявшие вскрыть дополнительные
ресурсы воздействия речи на слушателя. Например, в Афинах
средины V в. до н. э. быть искусным оратором значило
обладать ключом к могуществу. «Слово — это
могущественный деспот», — говорил Горгий в одной из своих речей.
Искусство логоса являлось необходимым условием для
успешной политической карьеры28.
Как видим, уже древние ораторы и риторы обратили
внимание на тот факт, что речевая деятельность тесно
связана с различными формами человеческого поведения и
сама является одной из них. Сознательное поведение
человека описывается с использованием понятий «мышление»,
«воля», «возможность», «выбор». Так, по Гегелю, без
мышления не может быть собственно человеческой воли (воли
вообще). Животное не имеет воли именно потому, что оно
не мыслит. Мыслить — это значит осуществлять одну из
форм предметной деятельности, в данном случае —
деятельность интеллектуальную.
Предметное мышление, будучи интенциональной,
осмысленной интеллектуальной деятельностью, осуществляется
через «сопротивление» предмета мысли и в этом
отношении является волевой деятельностью, деятельностью
напряженной, требующей усилий и активности сознания.
Напряжение, усилие, активность — все это непредставимо в
отсутствии ситуации проблемное™, ситуации выбора,
ситуации, для которой необходимо несколько возможных
вариантов мыслительной деятельности. Всякое же
осуществление этого вида деятельности есть осуществление
посредством разнообразных форм объективации, наиважнейшая
из которых — речь. Поэтому, говоря о речевом мышлении,
мы можем говорить и о речевой воле (если
воспользоваться терминологией М. М. Бахтина). Характерной
особенностью речевой воли (речевого волевого мышления)
является выбор речевого жанра для реализации задуманной
темы. Сказанное легко распространяется за сферу
ораторского искусства на всю сферу лингвостилистики29.
59
На связь воли, волевых усилий с речевым мышлением
указывает в своих работах Л. С. Выготский, придавая
этой связи большое значение не только в психологическом
смысле, но и в общефилософском. Выготский
конкретизирует тезис о соотношении мышления и бытия
применительно к контексту психологических разработок. Эта
конкретизация выливается, во-первых, в рассмотрение мышления
и бытия как общественно-исторических феноменов,
во-вторых, в рассмотрение связи между интеллектом и аффектом.
Анализ связи между интеллектом и аффектом, по мнению
Выготского, в перспективе должен показать, «что во всякой
идее содержится в переработанном виде эффектное
отношение человека к действительности, представленной в этой
идее» 30.
Подход Выготского вооружает нас более глубоким
пониманием воздействующих на поведение аспектов речи,
поскольку в этом подходе учитывается не только влияние
речевого текста на аудиторию, но и специфика
порождения этого текста, когда от потребностей, интересов,
побуждений мы переходим к оформлению мысли в замысел, а
затем — к реализации замысла в речи, вследствие чего
мышление начинает активно влиять на аффективную,
волевую сторону психической жизни.
Сравнивая взгляды Выготского на язык и мышление со
взглядами античных философов и риторов, мы вправе
утверждать, что еще в античности впервые было обращено
внимание на способность языка вызывать определенные
психические переживания. Ранее этот феномен объяснялся на
основе магической трактовки «слова». Но уже элеаты,
противопоставив «знание» и «мнение», сделали связь между
значением и обозначением условной, благодаря чему
произведен был «тот идеологический переворот, в котором и
надо искать мировоззренческие корни риторики» 31.
Условность связи между «словом» и «вещью»
заставляет античных софистов — риторов обратиться к понятию
стиля, рассматриваемому с точки зрения способов
убеждения. Первые шаги в этом направлении были сделаны
Горгием и его учениками, создавшими обширную
литературу как раз по вопросам стиля 32. Позднее это отразилось
в сочинениях стоиков, которые оказали большое влияние на
развитие риторики. Они высоко ценили риторику,
рассматривая риторику (наравне с диалектикой) как отдел
науки логики 33.
Поляризация «знака» и «значения» была в дальнейшем
усилена неоплатониками, что не осталось бесследным для
60
риторики. С философской деятельностью неоплатоников, а
также неопифагорейцев связано подчеркивание
рукотворного, символического начала в «знаке». «Установленное
античными неоплатониками понимание термина «символ», —
отмечал А. А. Тахо-Годи, — стало в новой Европе
традиционным, приобретя односторонне оттецок мистической
таинственности, который был воспринят, например,
поэзией символистов конца XIX — начала XX в. и который
долгое время препятствовал современной научно
беспристрастной разработке этого предмета»34.
Уделяя большое внимание понятию стиля, много сил
тратя на классификацию стилей, античные риторы не
смогли выйти за узкие рамки своих эмпирических наблюдений,
основанных на классификации стилей по их
социально-эстетическим, нравственным, политическим функциям, вне связи
с лингвистической семантикой. Свидетельством этого
эмпиризма и прагматизма является хаотичность и
противоречивость каталога фигур речи. Например, разделение фигур
на «фигуры речи» (figurae verborum) и «фигуры мысли»
(figurae sententiarutri) отнюдь не предполагает ясности и
понятности в вопросе о том, действительно ли форма
выражения базируется на специальном способе формулировки
мысли35.
Основной методологический просчет, препятствовавший
концептуальному осмыслению стиля и стилистических
эффектов, заключался в том, что античные риторы не имели
отчетливых представлений о системности языка в целом.
Полагаясь на интуицию и опыт ораторства, они вводят в
контекст своих рассуждений такие понятия, как «троп» и
«фигура», границы между которыми были крайне
размыты. Например, вначале под «фигурами» подразумевались
разнообразные отступления от общепринятых выражений.
Поскольку таких отступлений бесконечно много, то первые
опыты классификации привели к удручающе поверхностным
результатам. Без всяких теоретических обоснований
перечислялось большое количество фигур речи. Ораторская
практика совместно с педагогическими требованиями не
могла эффективно пользоваться предлагаемыми
вариантами классификаций. В результате произошла своеобразная
утилизация, которая вылилась в более или менее
практически приемлемую классификацию фигур. «В возобладавшей
системе утвердилось, — писал М. Л. Гаспаров, — различие
тропов и фигур, а среди собственно фигур — фигур мысли
и фигур слова. К тропам относятся отдельные слова, к
фигурам — сочетание слов; если с изменением этих соче-
61
таний слов меняется и смысл, то перед нами фигура
мысли, если нет — фигура слова» 36,
Впервые отделение тропов от фигур было сделано в
эллинистическое время; тогда-то и появился термин
«фигура» (лат. figura, греч. o%r\\ia). Эта дихотомия,
приобретая силу традиции, оказалась настолько живучей, что и
некоторые современные авторы не желают отступить от нее
ни на йоту. Так, А. Флетчер, пытаясь показать различие
между аллегорией и метафорой и отталкиваясь при этом
от соотношения «часть — целое», апеллирует к указанной
дихотомии «троп (часть)—фигура (целое)», где троп —
это семантические операции над отдельными словами, а
фигура — семантические операции над группами слов,
предложениями и даже параграфами37. В противовес взглядам
Флетчер трактовка метафоры, предлагаемая П. Рикером,
зиждется на том, что семантический анализ метафоры
должен исходить из признания предложения в качестве
исходной единицы значения 38.
Средневековая культура и риторика. По мнению
признанного авторитета в вопросах риторических теорий
прошлого, Г. Каплана, можно уверенно утверждать, что в
период Средневековья риторика отнюдь не была в
запущенном состоянии. Риторическая дисциплина была
составной частью учебного курса тех времен 39.
Средневековая риторика постоянно испытывала
влияние со стороны общего литературного процесса,
происходившего в Западной Европе в IV—V вв. В этот период
деятельность риторов приравнивается к творчеству поэтов,
и такого рода симбиоз сохраняется на протяжении всего
Средневековья как одна из характерных его черт40.
Большое влияние классическая риторика оказала на
средневековые проповеди, которые играли важную
образовательную роль в качестве источника знаний для простого
люда41. Связь риторики с проповедями объясняется
тем, что средневековые проповеди нуждались в
практическом и теоретическом обеспечении. Поэтому, начиная с
XII в., теория проповедей получила соответствующую
трактовку в специальных руководствах. Для этого
использовались работы Аристотеля, Цицерона, Горация и др.
Риторика культивировалась также для целей
юриспруденции. Согласно некоторым средневековым риторам,
риторика — это юридическое искусство. Особенно популярны
эти взгляды были в Каролингские времена и далее 42.
С XII в. преподавание риторики ведется в школах
Европы, особенно широко и интенсивно во Франции. Вместе
62
с грамматикой риторика является одним из основных
предметов в церковных, монастырских и городских школах,
хотя в новых университетах она еще не имела того влияния,
которое приобрела позднее. К XIII в. риторика уже пышно
процветала в школах Европы 43.
Новая христианская идеология предъявляла и новые
требования к риторике. С самого начала своего
существования в риторику включался ряд вопросов психологии, но
представители классической риторики никогда так не
анализировали аффекты, как это делали средневековые
теоретики в своих рассуждениях относительно пороков и
добродетелей. В связи с этим в ходу было большое
количество трактатов, призванных оказывать методическую
помощь проповедникам. В этих трактатах скрупулезно
анализировалась и классифицировалась аудитория.
Например, существовало деление слушателей на 120 (!)
категорий. Самым дотошным образом классифицировались
эмоции 44.
Появление первых средневековых университетов в
Италии и во Франции увеличило число интеллигентов, все
более склоняющихся в сторону светского мироощущения и
занятий светскими науками. И здесь свою позитивную роль
сыграла риторика, компенсируя малое число письменных
источников и их труднодоступность своей «энциклопедич-
ностью». С другой стороны, повышение авторитета
риторики было обусловлено и определенной политической
ситуацией. Дело в том, что в среде светских правителей
намечались антицерковные, антитеократические настроения, что
проявилось в поощрении и культивировании гражданского
римского права. Поощрение практического правоведения
вызвало к жизни теоретизирование в области
юриспруденции, осмысление ее прошлого опыта, а юриспруденция
прошлого, как известно, тесно была связана с искусством
красноречия, с риторикой.
Высокое Средневековье (XI—XIII вв.) породило
схоластику. Схоласты относились к риторике не как к
самоценному предмету изучения, но как к формальному средству
компрометации своих противников. Это выхолащивало
живое содержание риторики, лишало ее связи с лингвистикой,
литературоведением и психологией.
Картина истории средневековой риторики в Западной
Европе была бы неполной, если не учитывать связь
ораторского искусства с искусством театральным, с
литературной продукцией для театра и по поводу театра, в
частности по поводу языка сценических представлений.
63
При анализе философских взглядов Платона на язык
и языка его философии уже обращалось внимание на
парадигматическую роль драмы в построении платоновских
текстов. Этот факт общеизвестен. У греков и римлян
публичное красноречие, будучи одним из центральных
отделов изящной литературы, тесно ассоциировалось с
драмой. Справедливости ради стоит отметить, что влияние
носило обоюдный характер.
Если ораторы учились у Еврипида, то и он учился у
ораторов45. Близкое родство театральных действий и
ораторского искусства усматривает Б. В. Варнеке: «Риторы
пользовались комедией и при разработке отдельных вопросов своего
искусства. Это зависело от их мнения, что между комедией
и произведениями ораторского искусства очень много
общего»46.
К концу VI в. почти повсеместно в Западной Европе
были закрыты светские школы. Одновременно с этим
возрастает удельный вес церкви в просвещении, воспитании и
образовании в духе христианской веры. Рост влияния
церкви на общественную жизнь проходил в ожесточенной
борьбе с античной, языческой культурой. Церковь проявляла
крайнюю нетерпимость по отношению к тем, кто превращал
мир в игру, делал условным и изменчивым то, что
утверждалось как обсолютное и незыблемое. Эта враждебность
к нехристианской культуре подогревалась злой памятью о
событиях прошлого, когда во времена Римской империи
артисты в своих театральных представлениях издевались над
христианской религией, едко пародируя ее обряды, ее
моральные заповеди и пр. Поэтому еще в первые века своего
существования церковь обрушивалась с яростными
нападками на комедиантов. В свою очередь комедианты платили
церкви той же монетой, не жалея насмешек по адресу
духовенства, переделывая на комический лад церковные мотивы,
развлекая простой народ пародийными сценами на
католическую литургию. Как результат, на протяжении всего
Средневековья духовенство свирепо порицало театральное
искусство47. И все же это искусство продолжало
существовать и пользоваться популярностью как у простолюдинов,
так и у светской аристократии.
На первый взгляд покажется парадоксальным, но,
преследуя светский театр и его поклонников, церковь не могла
обойтись без театрального опыта. Христианская
идеология и ее культ по сравнению с языческими религиями,
народными верованиями и народной мифологией
оперировали чрезвычайно абстрактными понятиями и символами,
61
к тому же на непонятном для широких масс латинском
языке. Чтобы сделать доступными эти абстракции и этот
язык, церковь вынуждена была пользоваться
соответствующими иллюстрациями. Так на свет появляется
литургическая драма, выросшая из сложных обрядов церковных
служб, в частности из мессы. Развиваясь, эта
литургическая драма все больше ассимилировала бытовые мотивы,
что незаметно вело к ее самоотрицанию, к сближению со
светским театром, к адаптации народного языка, поскольку
на первых порах она по инерции пользовалась латинским
языком в качестве дополнения к статичным
картинкам и пантомиме. Происходящая перестройка
литургической драмы была настолько очевидной и чреватой
нежелательными для церкви последствиями, что в 1210 г. папа
Иннокентий III запретил представление литургической
драмы внутри церкви, не запретив, однако, саму драму как
таковую, которая, покинув здание храма, вышла за его
стены на паперть48.
Литургическая драма — явление очень интересное и во
многих отношениях показательное для понимания
сложного процесса исторического развития риторики,
обогащения ее содержания и модификации форм. «Общий
стилевой облик литургической драмы, — отмечают А. Дживеле-
гов и Г. Бояджиев, — был достаточно противоречив и
составлялся из торжественного риторического действа,
бытовой обыденной игры и буйных буффонных
представлений»49. К этому следует добавить, что торжественные
риторические действа опирались на проповедь в ее
приспособленном для драмы виде. Из этого следует, что без так
или иначе усвоенного риторического опыта организации
произносимого текста литургическая драма не могла
обойтись.
Начиная с XIII в. литургическая драма все дальше
уходит от здания церкви, покидая паперть и в виде мираклей
(tniraclum — чудо, пьеса с чудесами из жизни святых)
разыгрывается в любительских кружках, правда, под
церковным надзором.
Выйдя на паперть, затем проникнув в самодеятельные,
любительские кружки и, наконец, овладев пространством
площади, литургическая драма превратилась в мощную
круговерть самых противоречивых начал, превратилась в
мистерию, в которой смешалось церковное и народное,
мистическое и реалистическое, набожность и богохульство,
официальное и самодеятельное. В мистерии все
проникнуто непрерывными метаморфозами, в мистерии нет одного,
3 909
65
нет индивидуального, но есть многое, есть всеобщее; нет
личности, но есть многоликий хоровод; нет характера, но
есть характерное, типичное.
Прогрессирующая секуляризация литургии —
симптоматичный показатель секуляризации религиозного
сознания, показатель раскрепощения человеческих взглядов на
окружающий мир. Это раскрепощение создавало
идеологические предпосылки для возникновения антиклерикальных
и антифеодальных настроений, отвечающих интересам
зарождающейся, но еще осторожной и боязливой буржуазии.
Связь истории западноевропейского театра с риторикой
прослеживается не только косвенно, через реставрацию
этапов ее эволюции, организацию театрального «текста»
(например, роль проповеди в риторическом действе
литургической драмы), но и прямо, в самом названии
некоторых театральных ассоциаций, выполнявших весьма
разнообразные функции. Так, в Нидерландах XV—XVI вв.
широко была распространена деятельность так называемых
риторов (Rederijkers) и их «риторических камер»
(самодеятельных кружков), где наряду с организацией
театральных представлений осуществлялась и общеобразовательная
программа. Этим нидерландским «риторическим камерам»
близки по духу кружки так называемых
мейстерзингеров Южной Германии, возникшие из союзов,
образованных для занятий поэзией и пением, и постепенно
превратившиеся в «мейстерзингерские школы», где учеников
обучали искусству сочинять стихи и исполнять их на
собрании. Позднее члены этих кружков перешли к исполнению
драматических пьес и со временем кружки приобрели
характер театрально-любительских ассоциаций50.
На протяжении всей своей многовековой истории
европейский театр выполнял и продолжает выполнять, наряду
с другими функциями, функцию агитационную и
пропагандистскую, но, естественно, в различные исторические
периоды функция агитации и пропаганды имела разное
значение и неодинаковую ценность. В средние века театр
призван был пропагандировать религиозную идеологию,
позднее — идеологию буржуазии. Сложность и
абстрактность христианской идеологии, символики вынуждали
пользоваться иллюстрациями в форме назидательных притч,
иносказаний, аллегорий и т. п. Новая буржуазная
идеология также нуждается в иносказательном языке для борьбы
за свои интересы, для утверждения новых культурных
ценностей и идеалов. Эта непрерывность метафорического
языка, начиная со средневековья, по-своему способствовала
66
выработке такого интеллектуального стереотипа, согласно
которому язык — это инструмент для сокрытия мысли. В
античности наблюдается совершенно иная картина, там нет
места «трансцендентному» («тайному») смыслу.
Например, по Аристотелю, иносказательный смысл можно
целиком постичь, скажем, с помощью пропорции
(аналогии). Христианская идеология исключает такую
возможность, а зарождающаяся буржуазия боится ее
прокламировать. Таким образом, сам ход истории вырабатывает у
человека новый опыт восприятия того, что именуется
семантическими изменениями в языке, опыт, который
неминуемо должен прийти в противоречие с классическими
представлениями древних риторов и философов, поскольку
это противоречие вызвано глубинным конфликтом между
совершенно различными идеологическими установками.
Завершая обзор истории средневековой риторики,
следует сказать несколько слов о византийской риторике.
Византийская империя, занявшая господствующее
положение после падения Рима и просуществовавшая до XV в.,
явилась оплотом не только христианской догматики и
консервативной теологии, но и пристанищем для тех, кто
сохранил и пронес через века наследие античного мира.
Достаточно высокая социальная ценность, престиж и
необыкновенная популярность ораторского образования
позволили византийской риторике благополучно миновать все
исторические рубежи, отделяющие классическую
древность от византийской эпохи51.
Особый расцвет риторики в Византии начинается с
IX в. после окончания печально известного периода иконо-
борничества. В IX в. жил и трудился известный
византийский ученый Лев Математик (или Лев Философ),
преподаватель математики, знаток античной философии. К
тому же времени относится деятельность патриарха Фотия,
известногос|ЫЙлога и библиографа. В своих работах Фо-
тий демонстрирует незаурядную осведомленность в
области истории античной риторики.
В результате происшедших изменений в культурной
жизни византийского общества уже в середине X в. на первое
место в круге преподаваемых дисциплин выдвигаются
логика, риторика и грамматика как основные компоненты
философской науки. В XI в., когда оживает
университетская деятельность в Константинополе, античность
становится своеобразным идеалом светского просвещения. На
этот период истории приходится деятельность Михаила
Пселла, которого некоторые современные исследователи
3*
67
Ьравнивают с В. Шекспиром, Г.-В. Лейбницем, Ф. М.
Достоевским. Как принято считать, Михаил Пселл знаменует
собой второй (после Фотия) этап в развитии византийской
литературно-эстетической мысли52.
Пселл написал много сочинений по риторике («О
риторике», «Обзор риторических идей», «О стиле некоторых
сочинений» и пр.). В этой сфере своего творчества он в
основном отталкивается от риторики Гермогена. Как
теоретик риторики, Пселл не являлся оригинальной фигурой.
По этому поводу Я. Н. Любарский пишет, что «степень его
самостоятельности ограничивается введением христианских
авторов вместо античных в качестве иллюстраций к
положениям, целиком заимствованных у древних риторов»53.
Риторические исследования в Византии сохранялись и
развивались еще в течение нескольких веков, влияя на
различные формы литературного творчества, включая
научное.
В свете всего сказанного утверждение В. Татаркс-
вича, что «история риторики закончилась одновременно
с концом античности»54, представляется в высшей степени
преувеличенным.
Риторическая проблематика в контексте средневековой
философии. Если античная риторика устами Квинтилиана
оценивала метафору как самый красивейший и самый
употребительный из тропов, то средневековая культура слова
аналогичным образом оценивает аллегорию, возвышая ее
над метафорой. В контексте христианского мировоззрения
не только слова естественного языка, но и мир вещей —
это своего рода символический шифр «Книги Бытия»,
который таит в себе тайный (божественный) смысл. Этот
«тайный», «скрытый» смысл следует отличать от метафор,
поскольку в последних смысл определяется особенностями
переноса. Как пишет Д. С. Лихачев, «средневековая
символика часто подменяет метафору символом. То, что мы
принимаем за метафору, во многих случаях оказывается
скрытым символом, рожденным поисками тайных
соответствий мира материального и «духовного». Опираясь по
преимуществу на богословские учения или на донаучные
системы представлений о мире, символы вносили в
литературу сильную струю абстрактности и по самому существу
своему были прямо противоположны основным
художественным тропам — метафоре, метонимии, сравнению и
т. д., — основанным на уподоблении, на метко схваченном
сходстве, или четком выделении главного, на реально
наблюденном, на живом и непосредственном восприятии ми-
68
pa. В противоположность метафоре, сравнению, метонимии
символы были вызваны к жизни по преимуществу
абстрагирующей идеалистической богословской мыслью.
Реальное миропонимание вытеснено в них богословской
абстракцией, искусство — теологической ученостью»55.
Начало философской традиции европейского
средневековья было заложено в первые века нашей эры, в эпоху
греко-римского рабовладельческого общества. Философия,
зарождавшаяся в рамках нового религиозного
мировоззрения, выражала новый тип и структуру сознания.
Основная задача, предъявляемая к христианской философии,
состояла в расшифровке символов, а не в познании вещей.
«В этом смысле, — отмечает Г. Г. Майоров, —
средневековая философия, так сказать, филологична, «любословна»,
литературна»56.
На первых порах интерпретация библейских текстов
христианскими авторами существенно не отличалась от
опыта античных грамматиков-филологов, особенно
стоического направления. Но постепенно складывается
характерный тип христианской герменевтики, в которой даны
правила распознавания и изъяснения подлинного смысла
священного Писания57.
В ходе развития христианской идеологии
совершенствовалась экзегеза, углублялся и оттачивался
герменевтический метод. От этимологических и грамматических
изысканий в духе языческой античности экзегеты довольно
быстро переходят к рассмотрению не соотношения «слово —
значение», а соотношения «слово — понятие». Таким
образом, в экзегетической философии языка главным предметом
исследования становится философско-понятийная нагру-
женность слов, отдельных высказываний, пространных
фрагментов текста. Это было продиктовано следующими
обстоятельствами.
Христианская идеология постулировала сакральность
текста священного Писания, невозможность для
ограниченного человеческого ума постичь всю глубину его
смысла. Экзегетическая переработка священных текстов вела к
замене реального содержания этих текстов искусственно
создаваемыми идеологемами. Посредством этого
христианские экзегеты пытались избавиться от антропоморфных
языческих образов, сделать многозначительными
заурядные бытовые ^еики, которые противоречили
прокламируемым христианским идеалам и ценностям. Понимание
механизма метафорообразований в духе традиционной
риторики не могло быть использовало для объяснения не только
69
переносных значений, но и буквальных значений,
которым приписывался трансцендентный смысл. Для анализа
трансцендентных смыслов наиболее подходящим с*редст-
вом оказывалась аллегория как метод условного,
символического сведения непредставимого к наглядному.
Аллегорическое толкование текстов не является
заслугой христиан. В свое время этот прием филологического
анализа широко культивировался александрийскими
учеными, но в лице ряда христианских экзегетов он приобрел
едва ли не первостепенное значение. Основоположник
христианской экзегетики, Филон Александрийский (умер в 54 г.
н. э.), возвел аллегорию в главный метод прочтения
священных текстов. Однако в среде теоретиков христианства
были и противники аллегоризма, в частности карфагенский
пресвитер Тертуллиан (II—III в. н. э.), считающийся
первым по времени латинским богословом. Чем
примечательна для нас фигура этого яркого латиноязычного
апологета и талантливого ритора?
Ответ на поставленный вопрос следует искать в поле-
мике Тертуллиана с гностиками, которые, взывая к
разуму и превознося в традиционной для античности манере
теоретическое знание, умаляли значение практики в
христианском смысле слова.
Отрыв теории от тварно-чувственной
жизнедеятельности человека ведет к тому, что на место религиозного
чувства водворяется ищущий, сомневающийся, критический
разум, смущаемый «странностями» священного Писания и
стремящийся посредством аллегорий раскрыть его
рациональное содержание. Будучи догматическим теологом,
Тертуллиан не мог мириться с подобным волюнтаристским
свободомыслием в делах веры. Он считает, что вера
предшествует разуму, а не наоборот. При этом вера — не низшая
ступень зна^ния, а тот фундаментальный принцип,
который непрерывно сопровождает все наши познавательные
акции. Тертуллиан хочет разъяснить соотношение разума и
веры, не прибегая к аллегориям. Для этих целей он
выдвигает и развивает положение, что наше познание
исходит из чувств, то есть в основе нашего знания лежит
чувство, обусловливающее деятельность разума 58.
Как писал К. Попов, мнение, что Тертуллиан требовал
слепой веры, не оправдывается всей совокупностью его
суждений. Он противопоставляет не столько веру знанию,
сколько веру, всегда утверждающуюся на каком-либо
основании (внутреннее чувство, божественный авторитет),
легковерию (temeraria fides), не опирающемуся на доста-
70
точные основания59. Понятно, почему некоторые богословы
прямо обвиняли Тертуллиана в материализме60.
В данном случае тертуллиановская оппозиция
приверженцам аллегорического прочтения священных текстов
анализировалась с гносеологической точки зрения, но его
взгляды могут быть объяснены и с учетом языкового
фактора. Так, если сравнить картины действительности в том
виде, как они изображены в античных и средневековых
литературных текстах, то первое, что бросается в глаза,—
это четкое разделение стилей в античной традиции и их
смешение в традиции иудейско-христианской культуры.
Это объясняется коренным различием в идеологиях. Как
показывает Э. Ауэрбах, античное размежевание стилей
совершенно непригодно для изображения страстей
господних, противоречит самой сути христианского учения, где
явление Христа в мир представлено не в героическом
свете, а как пришествие человека, стоящего на самой низкой
ступени социальной лестницы. Стилю, которым
рассказывалось о деяниях и речениях Христа, чужда культура речи
в античном понимании61.
Смешение стилей обусловлено тем, что во главу угла
христианство ставит не эстетическое любование
изображаемым предметом, а активное сочувствие, сопереживание
человеком страстей господних. Без этого смешения
стилей ужасные картины издевательства над Христом могут
привлечь к себе внимание лишь бесконечно порочных,
циничных людей.
Традиционное учение о стиле исходило из того, что
различие жанров определяет различие стилей. Из
несмешиваемости жанров выводилась несмешиваемость стилей.
Смешение, столкновение стилей расценивалось в лучшем
случае как средство достижения утилитарных целей
(например, комический эффект). Впрочем, в разные эпохи
смешение стилей воспринималось по-разному.
Христианство, как мы видим, сознательно пользовалось этим приемом
для ниспровержения духовных ценностей языческой
культуры. В XIX в. А. С. Пушкин непрерывной сменой стилей
стремится создать эффект реалистического
мировосприятия62. Несмотря на эти вариации, определяемые эпохой,
культурой, цивилизацией, ставка на смешение стилей пред-.-
полагает некоторую постоянную функциональную
взаимозависимость между основными смысловыми «сущностями»
того или иного текста. Таким постоянством, или, по Б. В. То-
машевскому, единством обладает связь темы и способа ее
словесного осуществления (стиля). В таком случае уже не
71
смена жанра влечет смену стиля, а смена темы
сопровождается изменением стиля, вследствие чего меняется и
отношение к художественным возможностям жанра. Эти
возможности становятся богаче. Бытовавшая классификация
стилей теряет свое значение, или, по Томашевскому, «как
многообразна жизнь, так многообразен и стиль»63.
Смешение стилей поставило в тупик многих
приверженцев христианства, выпестованных на лучших образцах
античной культуры (например, гностиков), и они попытались,
апеллируя к аллегорическому прочтению священных
текстов, дать монистическое изложение содержания этих
текстов.
Тертуллиан в свое время правильно уловил смысл
попытки гностиков эстетизировать христианское учение,
подогнав его содержание под античные каноны красоты и
ясности, в результате чего христианская этика должна была
потесниться, уступая место языческой эстетике. Вместе с
этими уступками могли последовать и более радикальные
компромиссы, скажем, признание тщетности борьбы
против идеологии старого мира. «Материализм» Тертуллиана
не случаен, это результат признания большой значимости
тварного начала в человеке, где чувства если не
превалируют над разумом, то равноценны ему. Это возвышало не
столько чувственное познание, сколько моральные
чувства как основу веры и как руководство миропонимания.
Тертуллиану не удалось убедить христианских авторов
в ^преимуществах свв&й мировоззренческие и познаватель-
нэ^Г позиций, а следовательно, не удалось сокрушить
аллегоризм как метод толкования священных текстов,
аллегоризм, соединяющий (!) античность и средневековье64.
Средневековая аллегория, выигравшая бой с такими
грозными соперниками, как Тертуллиан и ему подобные,
продолжала пользоваться широкой популярностью и
особенно у тех авторов, которые симпатизировали идеям
платонизма.
Всякий, занимающийся изучением социокультурнырс
значений, должен учитывать, что средневековая аллегория
тесно связана с басней, загадкой, анализ которых
позволяет пролить свет на структурные особенности аллегории.
Что касается басни, то это — одна из древнейших форм
речевого мышления и древнейший жанр словесного
искусства65. Будучи вплетена в контекст исторического
повествования, басня-аллегория выполняет функцию примера
(функцию интерпретации общих установочных
положений), служит подспорьем в аргументации. Басня рас-
72
сказывается как бы «кстати». М. Л. Гаспаров
относит такого рода басню к устному, фольклорному
периоду се бытования, до выделения в самостоятельный
литературный жанр, считая, что устную басню в ее
однозначной (точно ориентированной) иносказательности можно
назвать аллегоричной66. Именно эта черта басни-аллегории
подкупает писателей античности и средневековья.
Не менее важной чертой аллегории является
присутствие в ней элемента загадочности. Загадка, как отмечает
С. С. Аверинцев, в мировоззренческом плане — одно из
самых ходовых понятий средневековой теории символа,
поскольку предполагается, что церковь, в отличие от
язычников, знает разгадку загадки мироздания67.
Позитивное определение аллегории дает Ф. Шеллинг,
писавший, что «строгое понятие аллегории, из которого мы
исходим, сводится к тому, что изображаемое обозначает
нечто иное, а не само себя, указывает на нечто, что
отлично от него»68.
Используя понятия «басня» и «загадка», можно
попытаться следующим образом объяснить шеллинговское
определение аллегории. Аллегория (как басня, как пример)
выполняет референциальную (указывающую) функцию, а
именно она указывает на нечто очевидное, наполненное
смыслом, но смыслом загадочным, который предстоит
разгадать, выявить. Нечто аналогичное наблюдается и в
китайском иероглифическом письме.
Загадка состоит из вопроса и ответа, который неявно
содержится в вопросе. Но загадку недостаточно
определить как последовательность «вопрос — ответ», поскольку
к таким последовательностям относятся
последовательности типа: «Как вы поживаете? — Спасибо, очень хорошо»69.
Таким образом, загадка не может строиться на простых,
прямолинейных клише. Загадка должна предполагать
выбор, то есть должна предполагать несколько возможных
ответов70.
С учетом сказанного для понимания общей структуры
аллегории необходимо иметь в виду следующее. Во-первых,
аллегория как басня обращает наше внимание на роль
примера в процессе рассуждений, который предполагает
наличие некоторой меры (замысла, идеи, гипотезы),
позволяющей пользоваться соответствующими данными
(примерами) как удовлетворяющими требованиям «меры». Во-
вторых, пример имеет вполне определенную структуру —
структуру загадки, которая в языковом плане предстает
как разновидность метафоры
73
Если метафора является компонентом аллегорического
плана выражения, то следует предположить, что в основе
аллегории лежит достаточно ясный замысел,
обусловливающий использование языка (как тема обусловливает стиль).
Таким образом, аллегорию можно попытаться определить
как своего рода дедукцию из «факта», где «фактом»
является конкретный пример-загадка. В таком случае
аллегория концептуальна по своей сущности. Историческим
прототипом подобного аллегоризма являются платоновские
диалоги с участием Сократа. При вдумчивом анализе
платоновских диалогов обнаруживается, что участники
беседы отнюдь не склонны к полифонизму, хотя их портретные
характеристики выполнены весьма искусно, а предстают
(за исключением Сократа) в виде безликого хора, с
которым Сократ-протагонист ведет хитрую беседу-монолог,
маскируя монолог диалогической формой. «Сократ, — писала
по этому поводу О. М. Фрейденберг, — еще близок к
фокуснику; его вопросы вполне напоминают загадку, потому
что он заранее знает свой умысел и тщательно маскирует
его, заставляя разгадчика идти за собой, плутать и
обманываться»71.
Смещение познавательных акцентов с семантики на
концептуальные (понятийные) построения выдвигает на
первый план логику как средство для решения самых
разнообразных вопросов, включая вопросы о значении и
обозначении. Но в средние века логика еще не являлась
самоцелью, она была лишь мощным средством теологического
познания.
Логизация семантики, вернее, ее концептуализация
привела к постановке ряда важных проблем в сфере того, что
можно назвать логической семантикой. В первую очередь
это касается негативных суждений в познании и в
определении значения «имен».
XIII в. для западноевропейской духовной культуры
явился во многих отношениях важным этапом развития.
Значительно расширились культурные связи с Востоком,
благодаря чему европейские ученые начали глубже
знакомиться с оригинальными и малоизвестными трудами
Аристотеля, с произведениями его арабских
комментаторов. На этот период времени и по начало XVI в.
приходится деятельность представителей «новой логики» (logica
nova), к числу которых относятся Петр Испанский, Дуне
Скот, Раймонд Луллий, Уильям Оккам и др. Как указывал
В. А. Беляев, следует учитывать, что теории «новой
логики» были первым проявлением самостоятельной работы
74
мысли на европейском Западе, были первой пробой этой
самостоятельности72.
Наибольший интерес по теме данного исследования
представляет фигура францисканского монаха Уильяма
Оккама (ок. 1300—1349/50), сторонника «двойственной
истины», умеренного номиналиста, признававшего наличие
языковых коррелятов общим понятиям, вследствие чего в
вопросе об универсалиях на первый план им выдвигалась
проблема установления отношений между логикой и языком
как феноменом психического.
Оккамовская эпистемология базируется на первичности
индивидуального, чувственного познания, но, как резонно
замечает Г. Лэфф, если номинализм означает элиминацию
универсалий, то Оккама можно было бы назвать
противником номинализма73. Вместо того, чтобы спрашивать, как
индивидуальное происходит из универсального (реализм),
Оккам пытается объяснить, как в мире индивидуального
мы умудряемся иметь общезначимое знание, знание
необходимое и всеобщее. Таким образом, Оккам был первым
ученым, отказавшимся от теории индивидуации 74.
Рассматривая абстракции, Оккам заявляет, что
человеческие представления в силу своей природы не могут быть
обособлены и гипостазированы, поскольку они зависят от
состояний сознания и связаны с видоизменением этих
состояний75.
Состояния познающего сознания в виде понятий
предшествуют словам и по отношению к ним выступают
«естественными символами». «Естественные символы»
(понятия) делятся на термины первой и второй интенций.
Употребление в данном контексте термина «интенция» —
показательный факт. Смысл этого термина,
заимствованного несколько веков спустя Э. Гуссерлем у схоластических
авторов, состоит в указании на определенное состояние
психики, которому свойственна активность, нацеленность
на что-либо.
Оккамовская семантика в известной мере -определяет
особенности его теории знания. Например, он делает
предикацию gзависимой от сигнификации (обозначения)»
Чтобы предицировать один термин другому, мы должны
прежде всего знать, действительно ли данный термин что-либо
обозначает.
С оккамовским понятием сигнификации тесно связано
понятие суппозиции (suppositio). Связь эта носит ассимет-
ричныи характер: любая сигнификация предполагает суп-
позицию, а не наоборот.
75
Важность дистинкции «сигнификация — суппозиция»
состоит в том, что преодолевается терминологическая и
концептуальная путаница, поскольку показывается характер
использования термина в различных контекстах. С поня-i
тием суппозиции связано контекстуальное употребление
общих терминов. «Когда обсуждается значение терминов, —
говорит Оккам, — необходимо еще принимать во внимание
суппозицию; она представляет собой некоторое свойство
термина, рассматриваемого не иначе, как в составе
предложения»76.
В отличие от сигнификации суппозиция касается
отношений терминов как отношений между субъектом и
предикатом. Поэтому суппозиция применима только к терминам,
входящим в состав пропозиций.
Суппозиция в оккамовском понимании является
способом утверждения соответствующего уровня рассуждений
посредством различений онтологического, концептуального
и грамматического значений термина, так или иначе
используемого сигнификативно77.
Согласно своим семантическим взглядам, Оккам идет
к определению феномена семантических изменений через
различение нестрогой суппозиции от строгой. Это можно
сделать различными способами: (1) термин неточно
замещает то, что он должен обозначать, например, использование
собственного имени для маркировки того, что ранее
обозначалось именем нарицательным (вариант антономасии
(греч. antonomasia — переименование): Крез — вместо
богача) ; (2) замещение по принципу целое вместо части или
наоборот (вариант синекдохи (греч. synekdoche — соподра-
зумеваемость); (3) метафорическое замещение и т. д.78
Как видим, используя понятие суппозиции, Оккам
пытается дать расширенное концептуально-логическое
определение семантическим изменениям, точнее, пытается
подвести концептуально-логическую базу под многообразие
традиционной эмпирической классификации тропов (мета-
фора, метонимия, синекдоха и т. д.). Анализируя взгляды
Ф. Аквинского по вопросу об аналогии, Макинерни также
подчеркивает, что понимание метафоры связано в большей
мере с пониманием сущности суппозиции, чем
сигнификации79.
Мировоззренческим базисом оккамовской
эпистемологии является идея изначальной разумности человеческого
существа. В историческом плане это ведет к признанию
«договорной» теории происхождения языка.
Следовательно, язык — это «одежда» мысли. В таком случае оккамов-
76
екая семантическая теория реконструируется следующим
образом.
Имеется множество естественных знаков, которые
непосредственно обозначают вещи. Что касается слов, то они
обозначают вещи не прямо, а косвенно, через ментальные
понятия, прямо же они обозначают только ментальные
понятия. Такой точки зрения придерживались многие
философы средневековья. Она свойственна в равной мере и Ок-
каму, и Аквинскому и многим другим. Своими корнями эта
семантическая теория восходит к античности. Например,
доктрина Аквинского об обозначении вполне
соответствует аристотелевскому учению: слово обозначает вещь (res)
не прямо, а посредством понятий разума. Эти понятия
разума имеют свое техническое обозначение «ratio» (con-
ceptio). «Conception — это внутреннее слово. Цель
изрекаемого слова (речи) заключается в том, чтобы выразить и
обозначить понятие (или внутреннее слово). Соответственно
этому понятие называется «verbum cordis», тогда как
изреченное слово называется «verbum interius» 80.
Взгляды средневековых философов-схоластов по
вопросам семантики и семиотики спустя несколько веков
были по-своему переиначены учеными XIX—XX вв. В
частности, к философскому словарю средневековых авторов
обращается один из родоначальников современной семиотики
Ч. Пирс81.
Интересная параллель прослеживается между
семантикой и семиотикой Оккама и аналогичными теориями
авторов нашумевшей в свое время книги «Значение значения»
(Ч. К. Огден и А. А. Ричарде), которая начала писаться
в 1910 г. и была издана в 1923 г. В этой книге мы находим
ставший с той поры хрестоматийным «семантический
треугольник» Огдена—Ричардса (Рис. 1) 82.
Между мыслью и символом устанавливаются
каузальные отношения. Между мыслью и референтом также
имеется отношение, более или менее прямое (когда мы думаем
о чем-либо), или косвенно**(когда указываем на что-либо).
В последнем случае цепь символов-ситуаций может быть
очень длинной, растянутой между мыслительным актом и
референтом. Между символом и референтом нет иного
отношения, кроме косвенного.
Огден и Ричарде совершенно правильно полагают, что
значение не может более или менее корректно
трактоваться без удовлетворительной теории знаков {signs). Этот
взгляд на теорию значения противопоставляется ими
традиционному подходу к семантике, который основывался на
77
Мышление
Символ s!\ т »...«Лч Референт
Замещает
(приписанное отношение)
Рис. 1.
интроспективном опыте и на логическом анализе
суждений83. В качестве своего ближайшего предшественника
Огден и Ричарде указывают на Ч. Пирса, который еще в
1867 г. пытался определить логику как учение о
формальных условиях истинности символов, обозначающих
определенные объекты.
Развивая свою семантическую концепцию, Огден и
Ричарде перечисляют 6 так называемых канонов-аксиом,
которые призваны определять правильное использование слов
в вербальных рассуждениях. Эти каноны, по замыслу
авторов, должны контролировать систему символов,
известную под названием «проза» (прозаический текст).
Множество символов будет считаться хорошо организованным
(или, что то же самое, имеющим форму хорошего
прозаического стиля), если будет соответствовать канонам84.
В данном случае нет надобности перечислять и
подробно разбирать каждый из 6 канонов, за исключением
одного, 2-го канона («Канон Определения»), в котором
ярко выражен повышенный психологизм предлагаемой
семантической концепции. «Канон Определения»
формулируется так: «Символы, которые могут замещать друг друга,
символизируют одну и ту же референцию» 85.
Объясняя смысл этого канона, авторы пишут, что
взаимозаменяемые символы должны не только иметь один и
тот же референт, но и символизировать (обозначать) одну
и ту же референцию (указание), которая может
отсутствовать, как в случае (1), «король Англии» и (2)
«владелец Букингемского дворца». «Символы» (1) и (2) имеют
один и тот же референт (определенная личность), однако,
они не символизируют (не обозначают) одну и ту же
референцию, поскольку мы имеем дело с совершенно
различными психологическими контекстами86.
78
Оговорка по поводу «психологического контекста»
интересна в нескольких отношениях. Прежде всего она
перекликается с известными рассуждениями Фреге, но с той
большой разницей, что Огден и Ричарде психологизируют
то, что Фреге называл «смыслом» (Sinn). Вводя данный
термин, Фреге стремился всячески отмежеваться от
психологизма в математике, логике и семантике. Поэтому
психологизм Огдена — Ричардса ближе по духу ментализму Ок-
кама, его первичным «естественным символам» (понятиям).
Правда, близость эта является чисто внешней, не
учитывающей контекст культуры, мировоззренческий контекст. Не
будем забывать, что Оккам — человек своего времени. Как
христианин, он не сомневался в том, что человеческое
существо — результат божественного творения. Поэтому в
своем утверждении статуса «первичных символов» он
придерживается мировоззренческих установок христианства.
Естественно, что Огден и Ричарде руководствовались
совершенно иными мировоззренческими регуляторами,
разрабатывая свою семантическую концепцию. Их
психологизм обусловлен антиисторизмом и априоризмом в
понимании мыслительной деятельности. Как и в ассоцианистской
психологии, это проявляется в попытках установить
генетическую каузальную связь в параллельном развитии
мышления и языка, а также между мышлением и языком.
Это «между» противопоставляет мышление и язык,
препятствуя пониманию их диалектического единства и
созданию эффективной семантической теории естественных
языков.
Устраняя идеологическую подоплеку оккамовского
ментализма и психологизма Огдена — Ричардса,. мы
сталкиваемся с важной проблемой психологии познания —
проблемой восприятия. Как отмечал в свое время А. Р. Лу-
рия, восприятие является сложной познавательной
деятельностью, протекающей при ближайшем участии языка87.
Оккамовские «естественные понятия» можно
рассматривать как прототип формулировки проблемы восприятия,
а «психологический контекст» Огдена — Ричардса — как
указание на связь восприятия с интеллектуальной
деятельностью, осмысливающей восприятие референтов.
Пример Оккама показывает, как средневековая
философия ассимилировала ряд важных семантических
вопросов классической риторики и попыталась их подвергнуть
логическому анализу. Что же касается собственно
риторики, то такого рода заимствования, обогащающие
философскую проблематику, вместе с тем обедняли риторику, пре-
79
вращая ее в формальную дисциплину, в подспорье логики.
Однако в эпоху Возрождения происходит существенная
переоценка идейного содержания риторики, риторика
начинает все больше сближаться с философией языка.
Риторика в эпоху Возрождения. Мыслителям эпохи
Возрождения, высоко поднявшим знамя гуманизма, не
свойственна * была та изощренная спекулятивная
рефлексия, которая столь характерна схоластам XIII—XIV вв.
Их гений проявился в общей тенденции эпохи, тенденции
к возвеличиванию личности, к раскрепощению творческих
возможностей человека.
Ренессансная риторика базировалась главным образом
на работах Цицерона, Квинтилиана и на широко
распространенной «Риторике к Гереннию».Та;к, например, квин-
тилиановская риторика заложила фундамент для
учебников по риторике XVI в. При этом, по-видимому, сказались
изменения в системе идеологических ценностей, когда
на первый план выдвигается полнокровная живая личность,
живущая земными утехами, стремящаяся не только к
небесному благу, но и к счастью в посюстороннем мире.
Таким умонастроениям больше соответствовал дух квинти-
лиановской риторики, чем цицероновской. Если риторика
Цицерона была нацелена на политические речи, а
идеальный образец цицероновского оратора — это публичный
человек, то для Квинтилиана хороший оратор — это человек,
ведущий приватный образ жизни, речи которого
рассчитаны не на толпу, а на отдельных людей. Именно квинтили-
ановскому типу человека адресуются учебники по риторике
в эпоху Возрождения. В связи с этим начинает
осуществляться сближение поэтики с риторикой, поэзии с
искусством оратора88.
Гуманисты Возрождения отказываются от языка и
манеры философствования схоластов, ратуют за утверждение
новых мировоззренческих ценностей, за чистоту
классической латыни. Однако в теоретическом плане они нередко
топтались на месте. Так, например, обстояло дело с
наукой о языке, в которой не произошло существенных
сдвигов по сравнению с «логистической грамматикой»,
сформировавшейся в XI—XII вв. Для филологии это был
период скорее смелых, но далеко не всегда .результативных
исканий. О смелости гуманистов на этом поприще говорит
тот факт, что они рисковали давать научный анализ языка
священных книг. К числу таких смельчаков относится Ло-
ренцо Валла (1415—1457), попытавшийся на основе
гуманистических принципов написать комментарии к Новому За-
80
вету66. Лоренцо Валла известен также как создатель
учебника риторической логики, отвечающего духу
гуманистического мировоззрения. При этом он отталкивался от
работ Цицерона и Квинтилиана. Как писал А. О. Мако-
вельский, «Лоренцо Валла был первым представителем
возникшей в эпоху Возрождения риторической логики, а Петр
Рамус завершает это направление в логике»90.
Разработки в русле риторической логики с формальной
стороны не отличались оригинальностью авторской мысли.
Оригинальность состояла только в целях и критической
направленности сочинений подобного рода. Авторы
стремились обновить язык философии и логики, очистив его
от «кухонной латыни»; тем самым они увеличивали
удельный вес филологии в риторике, сближая риторику с
философией языка.
Одно из самых сильных влияний на изучение природы
метафоры оказала философия и риторика Петра Рамуса
(1515—1572). Его книги имели широкое распространение в
Европе, а его метод быстро стал ортодоксальным 9i.
Рамусовская трактовки метафоры тесно связана с его
логическим учением, в котором он попытался
реформировать прежнее логическое наследие, в частности
схоластическую интерпретацию аристотелевской философии и логики.
В соответствии с новыми веяниями Рамус утверждает, что
логика должна ориентироваться на познание природы.
Отличительной чертой логико-риторических взглядов Рамуса
является особое понимание им природы языка. В
естественном развитии человеческого духа, по учению Рамуса,
первое место занимает язык: первые шаги «умственного
развития связаны с развитием речи»92. В XIX в. это аму-
совское положение перефразирует А. А. Потебня, который
скажет, что язык есть переход от бессознательного к
сознанию, а усвоение ребенком звуковой речи — это
онтогенетически первая форма собственно человеческой
деятельности93.
С позиций рамусовской логико-риторической
методологии метафора оценивается как аргумент, а поскольку
законы логики рассматривались как законы мышления, то
поэты должны знать и использовать их в конструировании
своих метафор94.
Ренессанские филологи, выступая против схоластов,
считали, что реальное понимание природы языка следует
искать не в грамматике («логистической грамматике»), а в
стилистике (Л. Валла, Л. Вивес и др.). Как отмечает
Э. Кассирер, они выступали против схоластической тради-
81
ции не столько с логической точки зрения, сколько с
эстетической. Постепенно эта битва теоретиков риторики и
стилистики против диалектиков-схоластов приняла новые
формы. Ученые в эпоху Ренессанса, обратившись к
классическим источникам, заменили схоластическое понятие
диалектики его первоначальным платоновским понятием.
Акцент был сделан не на изучение «слов», а на изучение
«вещей». В этом смысле их деятельность благотворно
повлияла на формирование новых умонастроений в среде светской
интеллигенции и оказала своеобразную идеологическую
поддержку натурфилософским исканиям, например в
области математического естествознания. В конечном итоге это не
могло не сказаться на выборе познавательных идеалов
философами языка, которые все смелее утверждали, что
систематическое понятие о языке может быть достигнуто
только посредством методов точной науки —
математики96.
Риторические учения эпохи Возрождения входят
органическим компонентом в общий контекст культуры, по-
своему выражают основные мировоззренческие идеи того
времени. Аналогичным компонентом возрожденческой
культуры являлась и живопись, знаменующая собой новый
тип мировосприятия. Обращение к мировосприятию
живописцев эпохи Возрождения позволяет дополнить «сухую»
картину мировоззренческого содержания риторических
идей, являющихся предметом нашего анализа.
У художников Возрождения мы сталкиваемся с весьма
поучительным примером изучения восприятия значений с
помощью художественных методов. Свою роль здесь
сыграла иллюзионистская живопись Возрождения,
опиравшаяся на правила геометрической перспективы в
живописи и отражавшая специфику субъективного восприятия
человеком зрительных образов. Иллюзионистская живопись,
преследующая цель дать правдоподобное изображение
трехмерного пространства, не могла не иметь дело с
«метафорами», изменяющими смысл наших восприятий
(например, сходящиеся на полотне линии выражают идею
параллельности). С позиций здравого смысла, писал А. Ф.
Лосев, является нелепостью таким образом выражать идею
параллельности, поскольку для здравого смысла если
линии параллельны, то они параллельны везде96.
Точные правила иллюзионистской живописи,
опирающиеся на самую точную науку — математику, призваны
были выражать «неточность» субъективного восприятия как
объективный факт. Парадоксальность этой «иносказа-
82
тельной» техники заключалась в эффекте живописной
реалистичности, или, как в свое время говорил Деметрий о
метафоре, «обиходная речь так удачно использует некоторые
метафоры, что пропадает нужда в словах в прямом
смысле» 97. Таким образом, в нашем случае пропадает нужда
в псевдореализме плоскостного (двухмерного)
изображения, как это наблюдается в средневековой иконографии.
Но ренессансный иллюзионизм — это не только
техническая сторона реализации художественного замысла. Сам
этот замысел, отвечая идеалам гуманизма, новизна
которых нуждалась и в новых формах выражения, нередко
осуществлялся в иносказательной форме. Классическим
примером подобной метафорики могут служить картины
знаменитого нидерландского художника Питера Брейгеля
Старшего (ок. 1520—1569).
Брейгелю подходит определение светского художника-
философа, который свою гуманистическую философию
излагает не в трактатах, а живописует. В связи с
требованиями материала и учетом специфики обыденного сознания
он часто пользуется притчами для создания своих картин.
«Притчи нуждаются в метафорах,— отмечает О. Бенеш.—
Брейгель изображает их дословно и добивается
комического эффекта»98. Смеховая культура как антитеза
«угрюмому» аскетизму и «скучному» теологизму возможна
именно в метафорическом облачении.
Художники и риторы Возрождения солидарны в том,
что необходимо изменить форму выражения
мировоззренческих идей, приспособив ее к .новым умонастроениям.
Иллюзионизм оказывается более емким понятием,
включающим не только живопись, но и различные стилистические
эффекты в языке философии и поэзии. Стнль постепенно
начинает превращаться из «косметической» категории в
категорию «магическую». Иными словами, стиль — это не
.только косметический атрибут языка, но и фактор
активного, воздействия на,психику и чувства читателя или
слушателя, •
.Эпоха. Возрождения стимулирует интерес к изучению
метафоры, как: феномену языка, .хотя по инерции некоторое
время еще превалирует теоретико-познавательная и
логическая оценка метафоры. Например, по мнению ренессан-
сных теоретиков, метафора безусловно способствует
познанию всех явлений мира. Однако полный расцвет интереса
к метафоре под таким углом зрения связан с «новым
искусством» барокко. Как писал И. Н. Голенищев-Кутузов,
«это искусство, этот стиль, ограниченные эпохой, неотде-
83
лимы от конца XVI и почти всего XVII в. Писатели и
теоретики барокко не отрекались от гуманистов, ощущали
связь с XVI в. и в то ж время повторяли, что несут иное
восприятие мира, отличное и от ренессансного и от
античного»99. Под пером теоретиков барокко риторика
превращается в философию, в особую разновидность теории
познания, делающую ставку на интуитивное познание,
возвеличивающую аллегорию до «Символической Метафоры»100.
Взгляды теоретиков барокко на метафору сохранили
свою силу и по сей день. Отмечая это, К. К. Ратвен пишет,
что в то время как представители древней риторики
преимущественно рассматривали метафору как орнамент,
современные критики предпочитают концентрировать свое
внимание на метафоре как способе интуитивного
постижения, а также исследовать особенности ее эмоционального
воздействия101.
Новый взгляд на метафору. Дж. Вико и его идея
языкового мифотворчества. В сложный переходный период
между барокко и неоклассицизмом мы застаем фигуру
гениального неаполитанского мыслителя Джамбаттиста Вико
(1668—1744), которого итальянцы считают отцом
новейшей эстетики102.
Вико был ученым энциклопедической культуры. Он
хорошо разбирался в философии, был сведущ в риторике,
поэтике, юриспруденции, занимался философией математики.
По мнению И. Берлина, его понятие математического
обоснования было настолько новаторским и революционным,
что по достоинству получило оценку только в XX в.103.
Вико один из первых в науке Нового времени
попытался преодолеть дуализм мышления и языка, утверждая, что
мы не просто говорим или пишем символами, но мы и
думаем (!) символами (словами и образами). Поэтому
метафоры и даже аллегории как языковые явления не
являются произвольными, искусственными созданиями, на чем
настаивают некоторые риторы и логики. Это естественные
способы выражения иного мировосприятия, отличного от
нашего. Сознательное же конструирование чего-либо
искусственного с помощью языка есть ие что иное, как
использование риторических приемов. Вико называет это
«поэтической логикой».
«Поэтическая логика» продолжает ренессансную
традицию в духе «риторической логики» Рамуса,
ориентируясь на «вещи», а не на «имена». Согласно Вико, язык
рассказывает нам историю вещей, обозначенных словами.
В этом смысле язык отражает различные фазы человечес-
84
кой истории. Вико был первым, указавшим на то, что
лингвистические формы являются одним из ключей к
разуму тех, кто пользуется словами ,04. В отличие от
просветителей типа Фонтенеля, для Вико картины,
нарисованные Гомером, не менее истинны, нежели «проза» мольеров-
ского Журдена.
Отстаивая идею самобытности и оригинальности
сравниваемых эпох в процессе развития человеческого рода и
человеческих языков, Вико в качестве фундамента своих
теоретизирований избирает идею круговорота,
находящуюся в оппозиции к «торжествующей прозе» буржуа и
оправдывающей равенство эпох перед лицом исторического
круговорота.
Вико пытается дать и своеобразное лингвистическое
оправдание своим компаративистским штудиям. Он
рассматривает способы создания идеологических мифов с помощью
языка. В связи с этим Е. М. Мелетинский пишет, что Вико
был создателем первой серьезной философии мифа 105. Эти
его идеи в дальнейшем были подхвачены В. фон
Гумбольдтом, А. А. Потебней, развиты представителями
американской этнолингвистики — Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом, а
также представителями немецкой школы неогумбольдиан-
ства (Л. Вайсгербер и др.). Отношения между языком и
мифом занимает центральное место в работах
выдающегося французского структуралиста К. Леви-Стросса,
который утверждает, что природа «первобытного ума»
обнаруживает себя в структуре мифов, равно как и в структуре
языка.
По мнению Вико, наиболее эффективным способом в
деле языкового мифотворчества является использование
метафор. Он считает, что при внимательном взгляде «каждая
метафора оказывается маленьким мифом»106. На этом
уровне* теоретизирования влияние теории круговорота (в плане
сравнительного анализа) сказывается в том, что эпохи
сравниваются по характеристикам мифотворческой
деятельности — каждая эпоха конструирует свой миф, различие лишь
в используемых метафорах.
Сопоставление речевой деятельности с деятельностью по
созданию мифов сближало риторику с философией языка
и философской антропологией. Из идеи единства мышления
и языка следовало, что понятия не могут существовать до
слов, иначе язык превращается в изобретение человеческого
сознания. В науке Нового времени взгляд на язык как на
«выдумку», «изобретение» был выражен представителями
рационализма и эмпиризма несмотря на формальную обо-
85
собленность этих направлений в философии. Как писал
Э. Кассирер, рационализм и эмпиризм единодушно
рассматривают язык преимущественно в его теоретическом
содержании, т. е. относительно его вклада в развитие
научного знания. И рационалисты и эмпиристы понимают слова как
символы идей, которые оцениваются либо как объективное
и необходимое содержание познания, либо как
субъективные репрезентации (представления) 107.
Провозгласив в своеобразной манере единство
мышления и языка, Вико открыл новую страницу в науке о
человеке. Вслед за ним аналогичные идеи развивает известный
английский филолог, специалист по общему языкознанию,
индологии и мифологии Макс Мюллер (1823—1900), а
также наш соотечественник, крупнейший исследователь поэзии,
фольклора, русского языка Александр Афанасьевич
Потебня (1835—1891).
Отношение Мюллера к метафоре было противоречивым.
Усматривая в метафоре одно из самых сильных орудий
человеческой речи, без которого немыслимо развитие языка,
он в ряде случаев говорит о метафорах как «болезнях
языка»108. Здесь Мюллер явно отступает от позиций,
занимаемых неаполитанским ученым, однако, Мюллер имеет своих
сторонников и в современной литературе. Так, ныне
здравствующий американский автор К. М. Тарбейн в своей книге
«Миф метафоры» утверждает, что метафора — это
результат неправильного использования языка, то есть метафора
относится к разряду познавательных ошибок и
представляет опасность, когда мы забываем, что она является именно
метафорой 109.
С мнением Мюллера, что метафоры, участвующие в
мифотворчестве,— это «болезнь языка», полемизировал
Потебня. Вся кропотливая работа его колоссальных «Записок
по русской грамматике», писал А. Белый, сводится к
установлению аналогии между словом и мифом по. Об этом
достаточно определенно высказывается сам Потебня, когда
рассматривает миф как «словесное произведение»111.
Предтечей Вико по вопросу о языке и его семантике
можно считать античное учение о стиле речи. Еще
Аристотель указывал на то, что .стиль, будучи практическим
воплощением мыслей в речи, обладает большей убеждающей
силой, чем сами -мысли-112. Аналогично утверждение Квин-
тилиана: красноречие никогда не будет иметь ни энергии,
ни мощи, если мы не станем черпать силы в
стилистических упражнениях пз.
Разумеется, стиль сам по себе не обладает никакими
86
магическими свойствами, но со стилем связана
напряженная интеллектуальная деятельность субъекта,
порождающего и воспринимающего речевой текст. Зная особенности
восприятия человеком речевой информации, можно
целенаправленно влиять на его настроение, эмоции, на
различные формы поведения, чем испокон века пользовались
ораторы и литераторы, религиозные проповедники и политики.
Вживаясь в стиль литературного произведения, мы
умственно и эмоционально проигрываем и присваиваем себе тип
предложенного мироощущения и смысл жизнедеятельности
действующих персонажей, сохраняя за собой право в
любой момент покинуть этот воображаемый мир. Отсутствие
игрового момента, момента условности стирает грань
между вымыслом и реальностью, свидетельствует о
патологических нарушениях в сознании читателя или слушателя.
К арсеналу эффективных средств дезориентации сознания
в данном случае можно отнести смешение стилей. В
некоторых случаях смешение стилей распыляет внимание,
отвлекает от метафоры (от ее «как если бы»), давая
возможность необычное воспринимать как обычное,
неестественное— как само собой разумеющееся. Именно в этом
ракурсе следует понимать слова Вико о том, что каждая
метафора — это маленький миф.
Риторика XIX в. Исследования по риторике XVIII —
XIX вв.114 не блистали успехами. Часть риторической
проблематики прочно закрепилась за логикой, поэтикой,
эстетикой, филологией. Однако некоторые теоретики риторики
отнюдь не собирались впадать в уныние. Они пытались
оживить риторику, двигаясь подчас в совершенно различных
направлениях. Одни из них надеялись придать риторике
историко-филологическую направленность, другие же
делали ставку на сближение риторики с философией языка.
Примером первого подхода к риторике служат
исторические изыскания немецкого ученого Р. Фолькмана, который
в 1856 г. выпустил в свет капитальный труд, посвященный
античной риторике. В 1872 г. этот труд был переработан
и переиздан под названием «Риторика греков и римлян».
По мнению некоторых теоретиков риторики XIX в., Фольк-
ман был первым, попытавшимся реабилитировать теорию
красноречия пб. Опыт Фолькмана оказал воодушевляющее
воздействие, в связи с чем предпринимаются попытки
создать теорию красноречия, без которой трудно
анализировать литературные памятники прошлого. Например, И. Лу-
ньяк для реализации этого проекта предлагает вначале
провести исследования одного из отделов ораторского изоб-
87
ретения, а именно исследовать Постановку спорных вопросов
в судебных речах.
Оценка заслуг Фолькмана, на мой взгляд, изрядно
завышена. В то время, когда риторика стояла на перепутье,
испытывая кризис идей, смелым, но далеко не
новаторским, можно считать только одно высказывание
Фолькмана, выражающее всего лишь его интуицию: самый главный
троп — метафора, тогда как все остальные тропы являются
разновидностями метафоры п6.
Гораздо более серьезного внимания заслуживает
исследование теоретических оснований риторики нашего
соотечественника Константина Зеленецкого, которого можно
рассматривать как представителя второго подхода к
риторике. Его книга «Исследование о риторике в ее маукооб-
разном содержании и в отношении, какие имеет она к
общей теории слов и к логике» начинается с обзора
современного состояния вопроса (начало XIX в.), где даются
скупые, но справедливые характеристики работ теоретиков
риторики из Франции и Германии (Бургий, Блер, Лек-
лерк, Гейнзиус и др.). Для всех этих работ общим
является рассмотрение риторики в качестве учения о
красноречии.
В противовес подобным взглядам на риторику Зеленец-
кий, опережая свое время, говорит о том, что
риторическое изучение речи не может и не должно ограничиваться
только так называемой красноречивой речью, а должна
заниматься исследованием речи вообще, где красноречие
является всего лишь частью. Согласно Зеленецкому, речь —
это «полное развитие мысли в слове», развитие, которое
может осуществляться как с помощью художественной
фантазии, так и без нееП7. Этим определением Зеленецкий
стремится раздвинуть границы риторики одновременно
уточняя предмет и метод научной риторики. Он настаивает
на том, что риторика прежде всего обязана показать самые
общие, необходимые условия и требования речи вообще,
а затем уже переходить к красноречию и его различным
видам 118.
Зеленецкий понимает подлинно научную риторику как
часть науки о слове, науки, которую, как отмечает автор,
некоторые называют филологией, некоторые — философией
грамматики 119. Предметом так понятой риторики является
«овеществленная» речь — различные тексты, т. е. речь в
ее грамматическом построении из предложений и в
логическом расположении ее частей 12°.
Трудности, с которыми столкнулась риторика XVIII —
68
XIX вв., усиливались некритическим пониманием проблем
лингвистической семантики. Даже по второй половине
XIX в. довольно часто встречаются рассуждения на тему:
вышел ли язык из небольшого числа простых понятий, или
же, напротив, язык в своем «детстве» был более богат,
владел большим запасом не столько понятий, сколько более
конкретных представлений, возникших из свежих восприятий !21.
Например, Г. Курциус отмечает, что в начале XIX в. и
позднее неоднократно делались попытки редуцировать пестрое
разнообразие слов к простым, основным понятиям. При
этом Курциус ссылается на К. Ф. Беккера (1833), который
в своей монографии указывает на 12 главнейших понятий
(Cardinalbegriffe). Из этих «главнейших понятий» можно
вывести все прочие понятия и представления.
Такого рода спекуляции вокруг языка и его словарного
состава в очередной раз воскрешали семантический аспект
аристотелевских категорий и в некотором отношении
оказывались близки гегелевской «системе категорий» как
смысловой структуре мира в целом.
Взгляд на неизменность значений поощрялся
многовековой традицией дуализма формы и содержания в языке.
Естественно, что в такой ситуации риторика как
хранительница учений о стиле и различных стилистических
эффектах не могла осуществить успешной реформы,
семантические вопросы решались догматично.
Предпосылки и развитие идей неориторики XX е. В
начале XX в., по словам П. Гиро, утрачивается всякий
интерес к риторике как к дисциплине, которая доживает свой
век на задворках грамматики. Но уже в 30-е годы картина
начинает меняться. В это время выходит в свет книга
А. А. Ричардса «Философия риторики» (1936). Новый
вариант риторики еще не в состоянии был конкурировать с
популярной в то время структурной лингвистикой, но тем
не менее неориторика кое в чем даже опередила модную
лингвистическую теорию, занявшись вплотную вопросами
семантики, которыми пренебрегали структуралисты.
Именно развитие семантики следует рассматривать как основную
предтечу современной неориторики.
Семантика — довольно молодая дисциплина, хотя
корни ее следует искать в античности, в первых опытах
этимологического анализа. Ближайшая ее история охватывает
промежуток примерно в 100 лет. Около ста лет тому назад
французский филолог М. Бреаль ввел в научный обиход
термин «семантика». Правда, спорадические попытки в
этом ключе делались и раньше. Так, в 1825 г. немецкий
89
ученый, преподаватель латинской филологии X. Райзиг
весьма определенно высказался о необходимости
исследований в области семантики. В своих лекциях он говорил о
насущной потребности развивать новое направление
лингвистических исследований — семасиологию, представители
которого должны изучать принципы, регулирующие
эволюцию значений слов. Сам он, однако, не развил эту идею в
деталях. Его лекции, опубликованные посмертно, были
известны очень узкому кругу специалистов 122. Прочное
утверждение идей семантики в филологии связано с именем
М. Бреаля, который не только дал имя новой науке, но и
внес существенный вклад в ее теоретическое обоснование.
В одной из своих программных статей французский ученый
доказывал, что, помимо исследований формальных
элементов человеческой речи (фонетики и морфологии),
существует также наука о значении лингвистических выражений,
которую он предложил назвать «la semanlique».
Вскоре после работ Бреаля усилиями философов,
логиков и психологов значение термина «семантика» было
значительно расширено. Семантику стали рассматривать
уже не как отрасль лингвистики, а как отрасль «общей
науки о знаках» (семиотики). Для развития собственно
лингвистической семантики подобное расширение границ
имело отрицательные последствия, поскольку отпугивало
лингвистов своей чрезмерной широтой.
Ко времени, когда семантика появилась на
исторической сцене, наука о языке была исключительно исторической
дисциплиной, прочными узами связанной со сравнительно-
исторической грамматикой. Поэтому и семантика
некоторое время носила сугубо исторический характер. Ее
основной целью являлась классификация изменений значений в
историческом плане согласно логическим, психологическим
и социологическим критериям, а также обнаружение
некоторых закономерностей, которым подчиняются эти
изменения. Эта стадия в развитии семантики была завершена
фундаментальной работой Г. Штерна «Значение и изменение
значения» (1931).
После опубликования в 1916 г. знаменитого соссюров-
ского «Курса общей лингвистики» произошла существенная
переоценка взглядов на язык и лингвистическую теорию.
Новая концепция языка, предложенная Ф. де Соссюром,
получила название структуралистской. Представление о
том, что мир скорее состоит из отношений, чем из вещей,
является исходной установкой того способа мышления,
который мы называем структуралистским. Посредством
90
этого термина подчеркивается, что природа отдельного
элемента в любой ситуации не имеет значения сама по себе.
Элемент определяется через отношения ко всем другим
элементам, включенным в некоторую ситуацию. Эта
методологическая установка является следствием критики
традиционной лингвистики, рассматривающей язык как агрегат
отдельных единиц, называемых «словами», каждое из которых
имеет свое отдельное «значение». Вместо этого Соссюр
предложил рассматривать язык как «Gestalteinheit», как
единое «поле», как самодостаточную систему.
Структуралистская теория языка значительно
подчеркнула роль синтаксиса, тем самым стимулируя развитие
таких направлений в лингвистике, как
генеративно-трансформационная грамматика. Что же касается семантики, то
в этой сфере структуралисты испытали серьезные
трудности, в результате чего большинство из них сосредоточили
свои усилия на анализе в областях фонологии и
грамматики. Это и понятно. Дело в том, что фонетические и даже
грамматические ресурсы того или иного языка являются хорошо
организованными и ограниченными в своем количественном
составе. Лексический же словарь — это весьма разрозненное
собрание многочисленных элементов. Так, например,
некоторые современные авторы утверждают, что в английском
языке имеется 44 или 45 фонем, тогда как Оксфордский словарь
содержит свыше 400 000 слов (!). Помимо того, фонетическая
и грамматическая системы относительно стабильны в опре-
ленный промежуток времени, словарь же непрерывно
изменяется. Поэтому естественно, что слова не могут
анализироваться с той строгостью и точностью, с какой это делается
в фонологии и грамматике 123. Эти и другие причины
затормозили развитие лингвистической семантики и
способствовали возрождению риторики, философии языка, а также
поощряли нелингвистов на исследования в области
семантики.
Несмотря на неблагоприятные условия для прогресса
лингвистической семантики, в этой сфере были достигнуты
некоторые позитивные результаты. В первую очередь это
касается идей лингвостилистики. Одним из первых, кто взял
на себя труд по исследованиям в области описательной сти^
листики, был Шарль Балли, ученик Ф. де Соссюра. До
появления его книги «Французская стилистика» (1909) в
стилистике господствовали взгляды К. Фосслера и его
учеников, согласно которым стилистика языка определяется
индивидуальными склонностями, настроениями, вкусами
великих писателей. Этот «психологизм» в оценке зкспрес-
91
сивных ресурсов и функций языка является иным
выражением «эстетизма» как определенного подхода к языку в его
литературно зафиксированном виде. Чувство прекрасного,
чувство трагического, комического и т. п. —все эти
«чувства» сродни тем психологизированным классификациям
экспрессивных свойств языка, которые вызывают у читателя
или слушателя разнообразные эмоции. Впоследствии такой
подход к стилю был признан слишком узким и заменен
расширенным понятием экспрессивности, в котором на первый
план было выдвинуто понятие выбора, воплощающего в
себе фундаментальный принцип современной семантики 124.
Благодаря этому для стилистики открылась возможность
пользоваться такими строгими методами анализа, которые
предоставлялись в ее распоряжение современной теорией
информации.
По сравнению с фосслерианской доктриной Балли
делает шаг вперед, отделяя стилистику языка вообще от
стилистики отдельных писателей. Предметом стилистики для
него является словесное выражение мысли, а не сама
мысль 125.
В определении стилистики Балли демонстрирует
позитивные и негативные стороны своей теории. Позитивным
является тот факт, что Балли отказывается от установления
отношения тождества между языком и мышлением, и в этом
смысле он мог бы полностью присоединиться к словам
Поля Валери, что мысль по самой своей сути лишена стиля,
поскольку она изменчива, неуловима, многообразна в своих
проявлениях. Недостатками же учения Балли является
излишняя поляризация «формы» и «содержания» в языке.
Балли считает, что следует самым решительным
образом отличать понятие «стиль» от понятия «стилистика».
Понятие стиля относится к речевой практике в узком смысле
слова, а именно к использованию слов в «необычных»
ситуациях (поэтическая речь, речь ораторская и т. п.). В
обычных же условиях речевая деятельность осуществляется с
меньшими интеллектуальными затратами в плане отбора и
организации информации, так как здесь больше клише,
привычных фраз и т. п. Именно эти условия в первую очередь
и определяют применимость понятия «стилистика» к
анализу речевых выражений вообще.
Разграничивая понятия «стиль» и «стилистика», Балли
больше руководствовался интуицией и прагматическими
соображениями, чем теорией. Отрицая тождество мышления
и языка, он одновременно разводил понятия «стиль» и
«характер», соотнося стиль не с психическим складом носителя
92
Языка, а с самим языком. Правда, само понятие языка у
него еще изрядно перегружено побочными
психологическими ассоциациями. Например, Балли считает, что синтаксис
и стилистика несравнимы, так как грамматика изучает
логический аспект мысли, а стилистика — аффективный.
Иными словами, «нельзя сравнивать систему средств
выражения с системой экспрессивных значений»126. Однако,
несмотря на всю категоричность таких высказываний, в
некоторых случаях Балли колеблется. Его лингвистический
опыт не позволяет ему безоговорочно постулировать
непреодолимость границ между синтаксисом и стилистикой, и он
вынужден отметить, что синтаксис не может быть отдан в
безраздельное владение чистой мысли 127. Эта оговорка
подтверждается современными исследователями, в результате
которых было обнаружено, что синтаксис отнюдь не
изолирован от семантики, а следовательно, имеет отношение
к основным вопросам стилистики. Но для выявления этих
отношений необходимо было окончательно порвать с
изжившим себя психологизмом XIX в., на что у Балли не
хватило сил и решимости. Об этом свидетельствует то, что
Балли сводил стилистику к одним аффективным факторам,
а также рассматривал метафору как свернутое сравнение,
что является показателем определенной близости
разработок Балли с эмотивной (психологической) теорией
значения.
К этой критике в адрес зачинателя современной
научной стилистики необходимо добавить следующее. Балли
крайне упрощенно трактует понятие «синтаксис», сводя
его к .нормативным, если угодно, априорным
структурам, не учитывая синтаксические различия между
«внутренней» и «внешней» речью, речью письменной и устной.
На всю важность разграничения форм синтаксической
связи на различных уровнях языкового осуществления
мысли в свое время указывал Л. С. Выготский,
подчеркивавший семантическую функцию синтаксиса. Для этих
целей он пользуется выражением «смысловой синтаксис»,
указывая, что «смысловой синтаксис внутренней речи
совсем иной, чем синтаксис устной и письменной речи. В нем
господствуют совершенно другие законы построения
целого и смысловых единиц»128. «Внутренняя» речь
отличается максимальной свернутостью, сокращенностью,
предикативностью, тогда как ее полная противоположность,
письменная речь,—это образец максимальной
развернутости, максимальной смысловой полноты. Устная
(«внешняя») речь занимает промежуточное положение между
93
«внутренней» речью и речью письменной. Такая
характеристика синтаксиса применима не только к естественным
языкам, но и к разнообразным искусственным языкам.
Подход Выготского к синтаксису со стороны
семантики оригинален, но не нов в абсолютном смысле. В
античных трактатах по риторике и поэтике, в разделе о
стиле речи были выделены понятия, имеющие прямое
отношение к семантическим эффектам через синтаксическую
организацию речи (например, понятия перифразы, гипер-
бата, анафоры). О «художественном упорядочении
синтаксиса» писал В. М. Жирмунский (1919—1923) 129.
О «синтактике» (или «композиции») как отделе стилистики
писал В. В. Виноградов в своей работе «О задачах
стилистики» (1922), полагая, что в некоторых случаях
особенности синтаксических объединений служат средством
создания новых семантических оттенков 130.
В духе соссюровских идей в свое время пытались
переосмыслить понятие «стиль» многие из наших
соотечественников, в частности Г. Винокур в своих работах 20-х годов.
Винокур полагал необходимым уточнение соссюровской ди-
стинкции «язык — речь», в связи с чем им предлагалась
дистинкция «язык — стиль». Близкие идеи в современной
литературе высказываются известным английским
лингвистом Дж. Лайонзом |31.
Предлагаемое Винокуром понимание стилистики
призвано, по замыслу автора, расширить ее теоретический
кругозор, вывести за пределы традиционной поэтики и
риторики. Согласно Винокуру, «правила искусственного
красноречия должны уступить в ней место учению о говорении
в самом широком смысле этого термина, т. е. учению об
индивидуальном использовании языковой традиции в
самой различной обстановке социально-культурного быта»132.
Сказанное Винокуром перекликается в известном смысле
со словами Зеленецкого, утверждавшего, что риторическое
изучение речи не должно ограничиваться изучением одного
лишь красноречия, а должно заниматься исследованием
речи вообще.
Если К. Зеленецкий в первой половине XIX в.
попытался сблизить риторику с общей наукой о языке, то
А. А. Потебня несколько десятилетий спустя попытался
аналогичное осуществить с поэтикой. Это весьма
симптоматичный факт, указывающий на наличие общей
проблематики у риторики, поэтики и лингвистики, причем
такой проблематики, которая нуждалась в достаточно
высоком уровне теоретических обобщений, чтобы выделить
94
инвариантные для риторики, поэтики и лингвистики
структуры и методы. В начале XX в. к этой общей
проблематике была отнесена проблематика, связанная с понятием
«стиль», на что одним из первых указал В. М.
Жирмунский в своей статье «Задача поэтики» (1919—1923).
Жирмунский, преодолевая дуализм формы и содержания в
языке, указывая на их органическое единство, подчеркивал,
что «всякое изменение формы есть тем самым уже
раскрытие нового содержания» 133. Однако в различных
языках в зависимости от их функций (поэтическая речь,
научная речь и т. д.) отношения между формой и
содержанием неоднозначны. Например, в научной речи «слово
играет роль безразличного средства для выражения
мысли» 134. В науке слова естественного языка уступают место
точным терминам. То же самое происходит и со стилем,
который до предела упрощается, сливаясь с методом
научного познания. При этом необходимо различать методы
исследования и метод изложения познанного. В связи
с этим вспоминаются слова Норберта Винера: «То, что
математик должен следовать канонам строгого мышления
в своей конечной публикации, является аксиомой, но это
не значит, что он должен пренебрегать преимуществами
эвристического мышления при выборе проблем или на
ранних этапах своей работы, пока она еще не отлилась в
конечную форму» 135.
Связь стиля с методом становится яснее, если привлечь
понятие «система». Посредством понятий «стиль» и
«система» подчеркивается исключительно важный факт
организации речевого текста в единое целое
(системно-структурная целостность).
Слабость многих семантических концепций начала
XX в. объясняется недооценкой коммуникативных
функций языка и возвеличиванием его экспрессивных функций,
особенно в плане эмоционального воздействия. Связь
речевой деятельности с эмоциональными переживаниями
была установлена еще в античности, и в обычных
риторических курсах так называемым эмотивным аспектам речи
отводилась более важная роль, чем ее логическим
функциям. Это положение дел сохранялось очень долго, вплоть
до первой половины XX г. Последним и наиболее
влиятельным адвокатом эмотивной теории был Г. Штерн.
Эмотивные теории являлись следствием неадекватного
объяснения механизма семантических изменений в языке.
Согласно подобным теориям, метафора не обладает ясным
когнитивным значением, поскольку она в первую очередь
95
связана с эмоциями, интуициями, образами, изменчивыми
ситуациями, а не с абстрактными понятиями,
изолированными от «возмущающего» фактора времени ,Эб.
В качестве теорий, объясняющих изменения значений,
эмотивные теории в своих различных модификациях
обнаружили несостоятельность и превратились из теорий в
«точку зрения», снисходительно поддерживаемую
неопозитивистами, которые выделяли два типа значений —
индикативные и эмотивные. Индикативные значения
определялись с помощью логико-эмпирических процедур
(например, метод верификации), а эмотивные значения, которые
не поддаются такому конструктивному определению,
выпадают из сферы собственно научного анализа. Согласно
У. А. Шиблзу, эмотивная теория метафоры имеет много
общего с эмпиристской теорией значения в духе
логического эмпиризма. Эти полярные теории имеют общие
грани соприкосновения по принципу «крайности сходятся».
Обе теории признают разделение значений на эмотивные
и индикативные. Обе также признают, что если метафора
не сводится к буквальному языку (в неопозитивистской
терминологии — к языку наблюдения), она —
бессмысленна. По существу эмотивная теория метафоры — это
разновидность теории замещения 137. Согласно теории
замещения, метафора — это замаскированное сравнение.
Рационально же значима не метафора, а сравнение, которое
метафора маскирует.
Традиционные филология и риторика, не будучи
обеспеченными научно-теоретическими представлениями о
языке как сложной системе, заполняли теоретические пробелы
информацией экстралингвистического характера. Чаще
всего эта информация заимствовалась из сферы
психологического опыта, который казался наиболее доступным и
очевидным. Поэтому закономерно, что, решая вопросы
семантики и семантических изменений, филологи и риторы
обращались за помощью к таким понятиям, которые уже
получили апробацию в философии, эстетике, психологии
в качестве понятий, выражающих особенности
чувственного познания. К числу этих понятий относятся понятия
«образ», «воображение», «продуктивное воображение» и
т. п. Наиболее привлекательным для построения
семантических теорий казалось понятие «образ». Интуитивный
смысл этого понятия основывался на противопоставлении
выражений, обладающих конкретно-чувственными
значениями, выражениям абстрактным, не пробуждающим в нашем
сознании чувственных представлений.
96
В рамках психологической трактовки семантики видное
место занимают теоретические разработки А. А. Ричардса,
который попытался существенно уточнить интуитивный
смысл понятия «образ», вычленив то, что относите* к
сравнениям, и то, что относится к общему содержанию,
целостному'смыслу «образного» понятия. В соответствии
с этой целью Ричарде вводит терминологическую дистинк-
цию «tenor—vehicle», где термин «tenor» (образ, характер,
смысл) используется в тех случаях, когда говорится о чем-
либо без учета особенностей плана выражения, а термин
«vehicle» (средство выражения, форма выражения)
используется в тех случаях, когда учитываются особенности
плана выражения для реализации замысла. Иначе говоря,
термин «tenor» — это ведущий мотив, основная идея,
регулирующая соотносимость вещей, а термин «vehicle»
призван обратить наше внимание на структуру соотнесения
с помощью языковых средств.
Характеризуя вклад Ричардса в изучение проблем
семантики, Т. Хавкес отмечает, что Ричарде, как никто
другой, чрезвычайно высоко оценил роль метафоры в
функционировании языка 138. Очевидным заблуждением, писал
Ричарде в «Философии риторики», является мнение, что
каждое слово имеет свое собственное значение (в идеале
только одно значение), которое не зависит от
использования слов. При этом забывается, что стабильность
значения слова обусловлена постоянством контекста, который
сообщает соответствующее значение словам. Стабильность
значения слова не есть нечто постулируемое, но всегда
есть то нечто, которое должно быть объяснено. В процессе
наших объяснений мы обнаруживаем, что имеется много
разновидностей семантической стабильности. Так,
стабильность значения слова «нож» отличается от
стабильности слова «масса» в его техническом смысле 139. В связи
с этим становится очевидным следующее. Там, где
прежние работы по риторике трактовали неопределенность,
двусмысленность как недостатки языка, новая риторика
видит мощь языка, совершенно неотъемлемый компонент
большинства наших выражений, особенно в поэзии и
религии ио.
Мнение, что значения принадлежат словам по их, так
сказать, собственному праву, вне зависимости от
контекстов использования, является рецидивом магической
трактовки «имен» И1. Эти и подобные им пережитки
сказываются в понимании механизма семантических изменений,
например, как в случае с механизмом метафорообразова-
4 909
97
ний. Традиционная теория отмечает только несколько
модусов метафоры, ограничивая свое использование термина
«метафора» лишь некоторыми из них. В результате
метафора превращается в разновидность изменения и
замещения слов, тогда как по существу метафора — это
взаимодействие мыслей, взаимодействие контекстов142.
Следовательно, метафора — это необходимая функция речи, это
ее «всеобщий принцип» (omnipresent principle), который
проявляется во взаимодействии основной идеи (tenor) и
средств выражения (vehicle).
В более поздних работах, последовавших за
«Философией риторики», Ричарде пытается углубить свою
трактовку метафоры. На первый план настойчиво выдвигается то,
что ранее упоминалось лишь вскользь: он отдает
предпочтение теории взаимодействия, которую вместе с ним
начинают развивать многие исследователи, в частности
известный американский философ науки М. Блэк.
В «Философии риторики» идеи теории взаимодействия
переплетаются с родственными ей идеями теории
напряжения. Теория взаимодействия развивает ричардсовскии
тезис о взаимодействии мыслей, взаимодействии
контекстов. Идеи теории напряжения сформулированы довольно
смутно: две достаточно удаленные друг от друга вещи
создают напряжение, которое, в зависимости от степени
удаленности, может увеличиваться или уменьшаться из.
Своим высказыванием о семантическом «напряжении»
Ричарде, по-видимому, хочет подчеркнуть особый статус так
называемых радикальных метафор, которые с большим
трудом поддаются, а в некоторых случаях вообще не
поддаются разложению на «составные элементы».
На аналогичный феномен в свое время указывал
Ю. Н. Тынянов в статье «О пародии» (1929), говоря, что
бросающиеся в глаза выражения (например, метафоры)
возникают как следствие некоторого рода перекодировки,
скажем, в результате перекодировки одной литературной
системы в другую, что делает новый текст как бы
напряженным. Еще более формальными средствами на факт
«напряженности» как индикатор степени смысла в тот же
самый период указывал Б. В. Томашевский, подвергая
статистическому анализу ритмическую структуру стиха.
В связи с этим «напряжением» Р. Якобсон пользуется
выражением «обманутые ожидания» и зачисляет метафору
в разряд правомерных стилистических изменений, которые
представляют собой субкоды основного кода И4.
На Западе теория метафорического напряжения разра-
98
батывалась Ф. Вилрайтом, М. Фоссом, Д. Берггреном и
др. Согласно Вилрайту, в метафоре представлены две
взаимодополняющие, находящиеся в напряжении
тенденции— эпифора и диафора. В данном случае понятия
эпифора и диафора отступают от привычного значения и
получают новый терминологический смысл. Эпифора
означает, что метафора как бы заражает все соседствующие
с ней выражения. С логической точки зрения эпифора
расширяет значение через сравнение. Примером эпифоры
служит выражение «молоко человеческой любезности», где
человеческая любезность сравнивается с молоком, с
некоторой мягкостью, теплом, с материнским отношением.
Таким образом, эпифорические метафоры, основываясь на
доступных нам сравнениях, раскрывают то, что мы знали
только смутно.
Диафора — это своего рода внутренний фокус, в
котором сопоставляются различные качества, т. е. диафора
создает новое значение с помощью сопоставлений в форме
намека. Все достаточно остроумные метафоры должны
содержать в себе эпифору и диафору, в противном случае
они рискуют превратиться в тривиальность. Если же
метафора не содержит элемента диафоры, тогда, по мнению
Э. Маккормака, она рискует перестать быть метафорой и
превратиться в абстрактный символ 145.
Некоторую неотчетливость и двусмысленность термина
«напряжение» (tension) применительно к теории
напряжения попытался устранить М. Фосс в своей книге «Символ
и метафора в человеческом опыте» (1949). Он считает, что
метафора — это процесс напряженной умственной
деятельности. Поэтому только метафора в состоянии выразить
живую, изменчивую реальность.
С более современных позиций, близких
методологической проблематике философии науки, развивает теорию
напряжения Д. Берггрен. Оценивая познавательные
возможности метафорического языка, Берггрен пишет: в то
время как фиксированные значения буквальных и
логических рассуждений могут быть практически или
теоретически полезны, только текучесть поэтических метафор
позволяет обнаружить конкретное лицо опытного мира 146.
Высказываниям Берггрена созвучны высказывания
представителей генеративно-трансформационной лингвистики.
Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что метафора —
это не только прерогатива поэтики и риторики, метафора
имеет место в повседневной жизни, в языке, в мышлении и
в действиях. Следовательно, наша обычная концептуальная
4*
99
система, в терминах которой мы думаем и действуем,
является по своей природе фундаментально метафоричной 147.
По мнению Берггрена, любая яркая, живая метафора
должна быть определена как «многозначительный
символический фокус» (plurisignificative sign focus), чьи
референты соединимы только ценой абсурда, т. е. Берггрен
доказывает, что с метафорой связана проблема референции,
поскольку метафора делает референцию неоднозначной,
проблематичной, так сказать, напряженной. Главную
опасность злоупотребления метафорами Берггрен видит в
возможности трансформации метафоры в миф.
Как видим, теории взаимодействия и напряжения не
отличаются особой ясностью и логической убедительностью,
но все же в этих теориях имеются рациональные идеи.
Например, Фоссом был схвачен один жизненно важный для
семантики момент, а именно метафоры — это не застывшие
структуры, а деятельность, метафоры появляются в
процессе языковой деятельности. При таком взгляде на
семантические изменения появляется возможность совершенно по-
новому оценить характер возникновения и
функционирования значений и абстрактных понятий, о чем речь будет
идти во второй части данной книги.
Акцентирование внимания тех, кто занимается
семантикой естественных языков, на деятельностном аспекте
существования языка имеет воистину революционное
значение для семантики, особенно если учесть, что еще
примерно два столетия тому назад метафора рассматривалась
не как процесс, с помощью которого в конечном итоге
расширяется Azon-метафорическое использование слов, а как
разновидность фигуральной речи. Вследствие такого
«стационарного» подхода к семантике изменение значений
расценивалось как отступление от некоего истинного значения.
Приоритет нормативного подхода в филологии, риторике
и поэтике исключал исторический взгляд на язык и его
семантику. И8
Если раньше и делались какие-то попытки высказаться
о семантических изменениях и их последствиях для
словарного состава языка, то выглядело это довольно
беспомощно. Например, Локк признавал, что значения слов
могут иногда изменяться. Но для него фраза «изменение
значения» не относится к английскому или любому другому
национальному (естественному) языку. Эта фраза
относится только к некоторому специальному употреблению
слова. Локк допускает возможность, что такое специальное
употребление может изредка иметь место в обычных раз-
100
говорах, но демонстрирует полную некомпетентность в
понимании того, что новые употребления, которые не
являются чем-то умышленным, как, например, технические
термины, являются проявлением процессов развития внутри
большинства языков 149. В XIX—XX вв. подобные
воззрения на язык хотя и становятся архаизмами, но
продолжают существовать в более рафинированном виде. В
начале XX в. фундаментальную попытку разобраться в
данном вопросе предпринял Густав Штерн. Штерн понимал
значение как психический (ментальный) феномен, который
имеет место в уме думающих, говорящих, пишущих,
слушающих и читающих людей 15°.
В качестве ближайшего и наиболее авторитетного пред-
шественника, классифицировавшего смысловые изменения
согласно природе психических процессов, Штерн
ссылается на В. Вундта, которий пришел к исследованию языка с
уже готовой психологической системой, стремясь показать
применимость этой системы к изучению лингвистических
явлений. Вместе с этим Вундт хотел отыскать в анализе
языка новую информацию в пользу своей философско-пси-
хологической доктрины.
Развивая концепцию значения, Штерн критикует точку
зрения, согласно которой значение является комплексом
образов и эмоций, связанных со словом. Этой точке зрения
противопоставляется рассмотрение значения как
психического акта, посредством которого слово (символ)
соотносится с тем, что оно обозначает (на что указывает) 151.
Концепция Штерна близка взглядам Огдена—Ричард-
са. Это не скрывает и сам Штерн 152. По Штерну, имеются
три основных детерминанты значения. На первом месте
стоит объективное указание. На втором месте находятся
субъективные характеристики референта (мысли,
ощущения). К третьей детерминанте относится дистинкция
основного значения слова и сопутствующих значений. С
этими тремя детерминантами значения связаны факторы,
обусловливающие (1) символическую функцию слова, (2) его
экспрессивную и (3) коммуникативную функции 153.
Опираясь на психологический материал и
традиционную формальную логику, Штерн относит к разряду
семантических изменений прежде всего замещение, затем
аналогию, сокращение, номинацию, перенос и пр. Например,
замещение — это семантическое изменение, обусловленное
внелингвистическими причинами. Причину замещения
следует искать в том, что референты изменяются и нам
требуются новые имена для них. По Штерну, замещение входит в
101
Число наиболее часто встречающихся форм семантических
изменений. С понятием замещения связана возможность
пролить свет на факты человеческой истории, поскольку
изменение значении неотделимо от развития референтов.
Штерн различает три главных типа замещений: (1)
фактическое изменение референта, (2) изменения в нашем знании
о референте, (3) изменение в эмоциональных отношениях
к референту 154. В логическом плане теория замещения
связана с установлением отношения подобия, а также с
выявлением аналогий. В основе теории замещения лежит
понятие восстановления: чтобы понять метафору,
необходимо восстановить термин, который замещается. Основной
порок теории замещения состоит в неявном допущении,
что метафора не предполагает новой информации. В таком
случае она является просто декоративным средством 155.
Первым, кто попытался преодолеть недостатки теории
замещения, оставаясь в рамках психологической
трактовки языка, был Ричарде. Согласно Ричардсу, метафора
озадачивает смысл речи и средства выражения мыслей, тем
самым активизируя, делая напряженной интеллектуальную
деятельность. Однако, Ричардсу не удалось осуществить
что-либо конструктивное в плане анализа механизма мета-
форообразований, он лишь максимально заострил проблему
метафоры как проблему первостепенной важности для
семантической теории естественных языков.
Традиционная семантика изображала механизм
изменений значений весьма поверхностно. Преимущество
отдавалось описанию бинарных отношений типа отношений
подобия между двумя изолированными элементами
(знаковыми или семантическими). Современные исследования,
ориентирующиеся на структурную лингвистику, заменяют
этот «атомистический ассоцианизм» более утонченным
понятием — понятием «ассоциативного поля», квазидетерме-
низм сменяется вероятностным подходом к языку.
Структурные исследования семантики способствовали
упрочению позиций неориторики, хотя и здесь не обошлось
без конфликтов, которые были вызваны бурным
прогрессом теоретической лингвистики. Невольно провоцировалась
ревизия смежных с лингвистикой дисциплин на предмет
выявления структурных инвариантов. Осуществление этой
ревизии в сфере риторики позволило укрепить позиции
лингвостилистики, начать разработку лингвистики текста, а
Р. Якобсону предоставило не совсем оправданную
возможность заявить о том, что поэтика — это часть лингвистики.
Преувеличенность утверждений Якобсона объясняется тем,
102
что он отождествил элемент риторики в поэтике (учение о
стиле) со всей проблематикой поэтики. Другим уязвимым
пунктом Якобсона является то, что он принимает
традиционную классификацию тропов как безусловный постулат,
не затрагивая теоретических предпосылок этой
классификации, а лишь указывая на данные нейролингвистики.
Основными тропами Якобсон считает метафору и
метонимию. Метафора определяется как троп, базирующийся
на подобии или аналогии, а метонимия определяется как
троп, предполагающий смежность (близкую связь между
исходным и новым значениями).
Якобсон в своей трактовке метафоры и метонимии
ориентируется на соссюровскую дистинкцию «язык — речь».
Метафора ассоциативна по характеру и использованию
«вертикальных» языковых отношений. Метонимия синтаг-
матична по характеру и использованию «горизонтальных»
языковых отношений. Всякое информативно насыщенное
(или просто информативное) сообщение конструируется
посредством комбинации «горизонтального» движения,
которое соединяет слова вместе, и «вертикального»
движения, которое отбирает соответствующие слова (процесс
селекции) из «внутреннего хранилища» языка.
Метафора и метонимия как основные тропы могут быть
подразделены на другие второстепенные тропы. Например,
подклассом метафоры является сравнение, а подклассом
метонимии — синекдоха.
Эмпирическими предпосылками якобсоновских
определений метафоры и метонимии послужили наблюдения
над афатиками. Разнообразные афазии (речевые
патологии) колеблются между двумя полярными типами, один из
которых связан с нарушением механизма образования
метафор (установление отношения подобия), а другой — с
нарушением механизма образования метонимий
(установление отношений смежности). Только при отсутствии
речевых патологий типа афазий возможно нормальное
развертывание дискурса, осуществляемое как бы вдоль двух
семантических линий — метафорической и
метонимической 156.
Успехи неориторики во многом обусловлены переоценкой
познавательных возможностей структурной лингвистики,
включением в ее состав методов семантического анализа,
нацеленных на использование в сфере «лингвистики речи».
Как известно,Ф. де Соссюр, выделяя «лингвистику языка»
и «лингвистику речи», не успел разработать концепцию
«лингвистики речи» 157. Впоследствии этот пробел попыта-
103
лись восполнить теоретики лингвистики, в частности
Э. Бенвенист, который ввел понятие дискурса (discours) как
экспликант понятия «речь» (parole).
Рассматривая различные языковые уровни, Бенвенист
проводит различие между фундаментальными единицами
«языка» и «дискурса». К «языку» относятся знаки, а к
«дискурсу» — предложения. Предложение состоит из слов, но
слова — не простые сегменты предложения.
Предложение — это то целое, которое не сводимо к сумме частей.
По Бенвенисту, предложение — это единица «дискурса».
С учетом этих теоретических предпосылок Бенвенист
рассматривает «лингвистику языка» как семиотику, а
«лингвистику дискурса» — как семантику. Фундаментальное
различие между семантикой и семиотикой состоит в
следующем. Семиотика — это учение об интралингвистических
отношениях, тогда как семантика изучает отношения между
знаками и обозначенными вещами, т. е. семантика имеет
дело с отношениями между языком и миром.
Подобно Бенвенисту, попытку расширить и углубить
соссюровскую концепцию языка за счет разработки
семантической тематики предпринимают такие
ученые-структуралисты, как А. Греймас, Ц. Тодоров и др.158.
Исследования Греймаса можно охарактеризовать как
небезынтересный опыт описания нарративных
(повествовательных) структур в терминах соссюровской дистинкции
«язык — речь». По Греймасу, базисные структуры
человеческого языка должны с неизбежностью участвовать в
формировании фундаментальных структур его рассказов
(повествований).
Как и Греймас, Тодоров утверждает, что на глубинном
уровне существует особая «грамматика» нарратива, от
которой берут свое начало индивидуальные повествования.
Тодоров настаивает .на том, что существует «универсальная
грамматика», которая лежит в основе не только всех
языков, но и других (поп-лингвистических) значимых систем,
соотносящихся с ней. Эта «грамматика» универсальна ,не
только потому, что она как бы одушевляет все языки, но
и потому, что совпадает со структурой универсума как
такового.
Исследования Бенвениста, Греймаса, Тодорова и
других, осветив различные аспекты соссюровской идеи
«лингвистики речи», напомнили о давней риторической
традиции, связанной с анализом различных ораторских речей
(«текстов»). Таким образом, исторический опыт риторики
104
йновь оживает, но уже в другом контексте. Античное понятие
стиля трансформируется в лингвостилистику, учение об
ораторских речах выливается в лингвистику текста.
Современная неориторика стремится объединить лингвистику
текста и лингвостилистику в единое целое, поддающееся
структурному анализу. Однако, не являясь собственно
лингвистикой, неориторика во главу угла ставит проблемы,
пограничные современной философии языка и
герменевтике (языковое сознание, понимание, смыслообразующая
знаковая деятельность и т. п.), с целью приблизить теорию
к практике, соединить общую методологию научного
познания с конкретным анализом речевой деятельности на
различных уровнях ее функционирования.
Заключение. Историкам и философам науки анализ
исторического развития риторики дает богатейшую пищу для
размышлений. Сейчас уже несомненно, что в судьбе
европейской духовной культуры риторика сыграла важную
роль. В периоды застоя философской и научной мысли
риторы без особых претензий на глубокомыслие
культивировали далеко не худшие образцы теоретизирования, вели
Кропотливую текстологическую работу, занимались
грамматическими изысканиями, осуществляли
просветительскую и педагогическую деятельность. Всякий,
интересующийся вопросами истории культуры, без особых
намеков поймет, что прогрессивная непрерывность
европейского культурного развития во многом обязана повседневной
работе тех, кого мы именуем риторами.
Помимо выполнения своих позитивных социально-
культурных функций, риторика внесла существенную
лепту в решение ряда собственно научных проблем. Этот
вклад в европейскую науку до некоторой степени
обусловлен спецификой соотношения теоретических и прикладных
аспектов риторики. Риторы никогда не занимались (в
отличие от философов) теоретизированием ради
теоретизирования, их теоретические выкладки всегда имели
определенную практическую подоплеку (дидактика,
пропедевтика, педагогика и т. п.).
Исторически риторика сформировалась как
теоретическая рефлексия по поводу пом-обыденной речи,
обращенной не к отдельному лицу по случайному стечению
обстоятельств, а к аудитории. Ближайшим прототипом таких
«необычных» (публичных) речей служили театральные
речения; именно они задавали ту парадигму искусственно-
сти, которая была свойственна разнообразным ораторским
«текстам». Но если театральные действа способствовали
105
выработке только интуитивного чувства различия Между
«высоким слогом» драматических персонажей и «низкими
словами» толпы, то риторы, опираясь на философско-ми-
ровоззренческую дихотомию «знание ■■-■• мнение», были
первыми, зафиксировавшими в научном сознании
противоположность обыденной («естественной») и литературной
(«искусственной») речи.
Ораторские речи («тексты») призваны были активно
воздействовать как на сознание, так и на чувства
слушателей. В свою очередь, риторика призвана была понять и
классифицировать средства вербального влияния на психику и
поведение человека. Так, риторика сближается с логикой
и психологией, задолго до XX в. затрагивая тематику,
которая заняла центральное место в работах Л. Витгенштейна
позднего периода и Дж. Л. Остина.
Поскольку основным предметом риторики являлись
методы и формы убеждения, риторика тесно связана с
логикой. В качестве первостепенных средств воздействия на
умы слушателей выделялись те или иные логические
приемы, опирающиеся на теоретические учения о дедукции и
индукции. Но в отличие от теоретизирующих философов
риторы уравнивают в правах логику и стилистику и тем
самым не слишком противопоставляют мышление и язык.
В работах риторов большое место отводилось и
отводится изучению психологии характера вообще и характера
восприятия живого, ораторского слова в частности. Рито-
рико-характерологические изыскания наложили свой
отпечаток на стилистику как таксономическую науку о
стилях речи.
Таким образом, античная стилистика одной своей
стороной была обращена к логике как науке о методах
познания, а другой — была повернута к психологии характера.
В потенции это было чревато двояким отношением к
такой ключевой категории стиля, как метафора и ее типы.
С точки зрения логики (Аристотель) метафора это
замаскированное сравнение. С точки зрения философии или
психологии языка (Дж. Вико) метафора — это маленький
миф, то есть особый образ экзистенциальной
жизнедеятельности (особый тип мировосприятия и миропонимания).
Эта диалектика метафоры ускользала от философов и
языковедов, но была в определенной мере доступна
теоретикам и практикам риторики, а вместе с этим им в
перспективе раньше, чем кому-либо еще, была доступна идея
единства мышления и языка в виде постановки вопроса о
мировоззренческих и когнитивных функциях языка.
106
Риторика первой из наук лингвистического цикла
приблизилась к представлению о речи вообще и ее
модификациях в конкретных действиях и «текстах». Наконец, в
заслугу риторики следует поставить то, что ее представители
одними из первых заявили о дсятельностной природе
значений, подчеркнув, что семантические изменения
(например, типа метафорообразований) — это не «порча»
языка, а объективный процесс, обусловленный
культурно-историческими факторами.
Закономерным следствием многовековой истории
европейской риторики является ее ренессанс в XX в.
Современная гуманистическая неориторика, не растворяясь в
философии языка или лингвистике, заявила о настоятельной
необходимости интегрировать лучшие достижения научной
философии с теоретическими положениями наук о языке 159.
Глава 3
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ
МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА В ТРУДАХ
Г. В. ЛЕЙБНИЦА, И. КАНТАГ
Ф. В. ШЕЛЛИНГА И Г. ФРЕГЕ
Вводные замечания. Проблема соотношения мышления
и языка, понятий и значений приобрела особую ценность
в науке Нового времени. Развитие математики и
математического естествознания, совершенствование прикладных,
инженерных наук — все это требовало пересмотра
устоявшихся представлений о природе теоретического знания, о
возможностях быстрого, операционального его
использования для решения разнообразных задач. Пионеры новой
науки все чаще начинают задумываться о роли языковых
средств в познании. Одними из первых они заговорили о
«языке» математики, «языке» логики, тем самым ставя па
повестку дня вопрос о разграничении естественных и
искусственных языков, вопрос о критериях отличия одних
языков от других, одних уровней языковых манифестаций от
других уровней. Ясно это еще не осознавалось, но опыт,
интуиция подсказывали, что язык более тесно связан с
мышлением, интеллектуальной деятельностью, чем это
представлялось ранее. Но одной интуиции недостаточно,
чтобы сообщить мировосприятию ученых новый смысл,
резко изменить их взгляды на человека и окружающую
действительность.
Зачинатели науки Нового времени считали, что
мышление и язык вырастают сами из себя, следовательно,
являются в той или иной мере независимыми друг от друга.
Отсутствовали представления о единстве исторического
процесса, о единстве мышления и бытия, мышления и
языка. Серьезный бой подобным идеалистическим воззрениям
был дан марксизмом. Однако марксистская философия
отнюдь не стремилась полностью испепелить весь
познавательный опыт предшественников только на том основании,
что они были идеалистами, верили в бога, пропагандировали
буржуазные идеологические ценности. Как отмечал В. И.
Ленин, диалектический материализм никогда не
рассматривал философский идеализм в качестве никчемной чепухи,
108
напротив, он всегда стремился вскрыть те реальные
проблемы, на которых произрастала и которые
мистифицировала идеалистическая философия *.
Мистификация идеалистами реальных проблем
заключается не в том, что они сперва решают эти проблемы, а
потом неправильно их истолковывают. Если (Проблема
решена не голословно, а фактически, то ни о какой
мистификации со стороны взыскательного и честного ученого не
может быть и речи. Идеализм обычно начинается там, где
проблема решена отчасти, а остальное компенсируется
умозрительными спекуляциями.
В данной главе в центре внимания будут находиться
научные разработки Г. В. Лейбница, И. Канта, Ф. В.
Шеллинга и Г. Фреге, которые прямо или косвенно
затрагивали вопросы, касающиеся связи языка и мышления. С
деятельностью этих выдающихся ученых связан большой вклад
в сокровищницу мировой науки, но при этом мы не должны
забывать, что он че всегда был однозначен и равноценен.
Вкладом можно считать и постановку проблемы, и частичное
ее решение, и указания на невозможность решения и т. п.
Потому ретроспективный подход к историческому наследию
требует известной сдержанности и максимальной научной
корректности, чтобы избежать излишней модернизации
изучаемого материала и одновременно аккуратно взять все то
ценное, что может помочь при решении современных задач
научного познания. Для реализации этих целей полезным
методологическим ориентиром служат ленинские
рекомендации, относящиеся к оценке систем философского
идеализма. г -'
Лейбницевская философия языка как предтеча
современных философско-семантических теорий. Лейбницевские
рассуждения о языке — явление не спонтанное. Ко времени*
его активного научного творчества в среде рационалистов
преобладали высказывания о позитивной роли
соответствующих языковых средств для целей теоретического
познания, в частности высказывались мысли о построении логики
в духе математики (И. Юнг), о создании универсального
языка науки (Р. Декарт) и т. д.
Еще с юношеских пор Лейбница увлекла идея создания
символического языка, с помощью которого можно было
бы эффективно кодировать и декодировать
познавательную информацию. Наилучшим образом такого научного
языка ^являлся для него язык математики.
Лейбниц не был утопистом и не стремился к
изобретению некоего универсального для всех времен и народов
109
языка как многофункционального средства общения. Он
ставил перед собой более скромную задачу — изобрести
не язык в широком смысле слова, а письменность, с
помощью которой можно было бы выражать мысли. Этот
вариант всеобщей научной письменности (пазиграфии)
частично представлен математикой, частично потому, что
математические понятия — это лишь фрагмент универсума
научных понятий. Чтобы решить эту задачу, необходимо, во-
первых, отыскать наиболее простые и фундаментальные
понятия, которые являются «первокирпичиками» всей
нашей мыслительной системы и составляют своего рода
«алфавит» понятий, во-вторых, э^гот понятийный «алфавит»
нуждается в соответствующем знаковом «алфавите». Если
будет изобретена такая пазиграфия, то познание с
помощью новой знаковой системы превратится в теорию
соединения знаков-понятий (ars combinatoria), о чем мечтал
еще Р. Луллий, искусство которого тщательно изучал
молодой Лейбниц. Как отмечает К. Фишер, идея подобной
«комбинаторики» была излюбленной идеей Лейбница на
протяжении всей его жизни 2.
Идеи лейбницевской пазиграфии во второй половине
XIX в, были подхвачены известным немецким математиком
и логиком Э. Шредером, который, как и Лейбниц, считал,
что пазиграфический язык предназначается не для
повседневного общения, а только для описания логической
структуры науки 3.
Высоко оценивая роль символов в познании, Лейбниц
тем не менее предостерегает от чрезмерной переоценки
возможностей символического познания, подчеркивая, что
одно лишь символическое познание — это познание
слепое. Согласно Лейбницу, «если понятие очень сложно, то
мы одновременно не можем (Представить себе всех
входящих в него понятий, но познание, в котором это возможно,
или по крайней мере — поскольку оно возможно, я
называю интуитивным. Первичное отчетливое понятие мы можем
познать только интуитивно, в то время как сложные
понятия — по большей части только символически» 4.
Отличительной чертой рационализма XVII в. является
провозглашение тезиса о врожденных идеях. В полной
мере что присуще лейбницевской философии5. На этой
основе произрастает то, что можно назвать лейбницевской
рационалистической философией языка, которая является
типичным примером дуалистической концепции
соотношения мышления и языка. Рационализм немецкого философа
в данном случае проявляется в том, что он рассматривает
по
Язык как средство познания, как инструмент логического
анализа 6. Вследствие этого связь между мышлением и
языком носит чисто механический характер — мысль
предписывает, а язык выполняет. Мысль имеет дело с заранее
заложенным в нее идейным содержанием. Идея в силу своей
врожденности статична и потенциальна, поскольку
актуальность связана с процессом актуализации, с
деятельностью, а это является свойством мыслящего ума.
Деятельность мысли создает теоретическое знание как комбинацию
актуализированных потенций согласно закону достаточного
основания. Это знание закрепляется в языке. Задача
научного анализа состоит в том, чтобы упорядочить,
структурировать это знание; сделать его операционально удобным для
научного пользования. С этой целью необходимо
осуществить ревизию естественного языка, необходимо заменить
обычные предложения на соответствующие суждения
посредством определения терминов. Термины, получившие
определения, желательно зафиксировать не громоздкими
словами, а символами так называемого универсального
языка (characteristica universalis), который сродни
китайским иероглифам, где знаки непосредственно соотносятся
со значениями. Этот искусственный язык позволяет
осуществлять трансформации одних структур знания в другие
структуры посредством формальнологического исчисления.
Лейбницевское искусство комбинаторики впоследствии
было подхвачено представителями так называемой
формалистической математики, которые по примеру Д.
Гильберта стремились иметь дело с абстрактным множеством
произвольных, неинтепретированных элементов и
правилами их сочетания в обход вопроса об отношении таких
формальных систем к действительности. В связи с этим
математика определялась ими как наиболее общая наука
о сочетаниях 7.
Наряду с тенденцией к формализму у Лейбница
отчетливо прослеживается и другая тенденция, получившая в
свете разработок Г. Фреге название «логицизм». Суть
логицизма состоит в том, чтобы из логики вывести
математику. Для представителей логицизма характерен
повышенный интерес к проблемам логической семантики. Этот
интерес наблюдается и у Лейбница, который за неимением
лучшего вынужден итерпретировать формальные исчисления
на материале естественного языка посредством подстановки
соответствующих определений вместо символов
универсального языка. В связи с этим доказательство как формальное
следование в системе логического исчисления заменяется
111
доказательством как умением оперировать определениями.
Это умение заключается в замене эквивалентного
эквивалентным. Здесь Лейбниц и сталкивается с феноменом
синонимии в его логически препарированной форме.
С логико-методологической точки зрения синонимия
рассматривается как частный случай именования. Операции
именования связаны с операциями определения, которым
Лейбниц придавал большое значение. Как известно, в
современной логике определения выступают в роли правил
вывода. Характерная особенность правил вывода в
логике состоит в том, что эти правила используются не для
увеличения объема логического «текста», а для селекции
(отбора) соответствующих предложений. С помощью
определений устанавливаются эксплицитные отношения
синонимии8.
В процессе логического анализа
структурно-функциональных свойств доказательства Лейбниц затронул, но, к
сожалению, слишком кратко, важный вопрос семантической
тематики — вопрос о сущности феномена синонимии и его
аналогов в искусственных языках. Впрочем, эта краткость
не помешала ему предельно заострить вопрос о синонимии,
доведя его до антиномичной формы. Исходя из чисто
формальных представлений о тождестве (в смысле
математического равенства), можно было бы ожидать, что
синонимы взаимозаменяемы в любом контексте. Однако
детальный анализ показывает, что это далеко не так, особенно
в случае языка научного познания. Каждый контекст как
бы вынуждает синонимы по-разному «светиться». Поэтому
Лейбниц различает «вещь» (ein Ding), о которой идет речь,
и «способ ее понимания» (eine Weise des Begreifens).
«Вслед за этим,— пишет Б. С. Грязнов, — Лейбниц
приводит пример, который делает понятным его различение и
вместе с этим позволяет отождествить фрегевское «значение»
{Bedeutung) с «ein Ding» Лейбница, а «смысл» (Sinn) с
«eine Weise des Begreifens». Пример такой: «Петр» и
«апостол, отрекшийся от Христа» обозначают то же самое, и
одно выражение может быть поставлено на место другого
в силу понятия равенства и правила замены равного
равным, если при этом не рассматривать «сам этот способ
понимания» (wenn ich micht diese Weise des Begreifens
selbst betrachte). Поэтому фраза «Петр, поскольку он был
апостолом, отрекшимся от Христа, согрешил», имеющая
смысл и истинная, становится ложной при подстановке:
«Петр, поскольку он был Петром, согрешил» 9.
Лейбницевский пример анализа феномена синонимии с
112
учетом характера понимания, обусловленного тем или
иным контекстом, может быть переформулирован так:
«Полагать две вещи неразличимыми означает полагать
одну и ту же вещь под двумя именами» ,0.
Решение Лейбницем вопросов семантики во многом
определялось его онтологическими взглядами. Немецкий
философ отрицает наличие в универсуме двух абсолютно
идентичных вещей. Речь может идти только о
самотождественности вещи, которая в зависимости от ситуации
заявляет о себе разными способами. Как это возможно? На этот
вопрос ответ дается лейбницевским учением о монадах, а
также учением о предустановленной гармонии.
По Лейбницу, бытие присуще всему мыслимому.
Существование же — то частный случай бытия, т. е. бытие не в
мысли, а в действительности. Например, Кентавр не имеет
существования, но имеет бытие (мыслимое бытие), а
следовательно, имеет и свою особую сущность. Сущности
идеальных объектов типа Кентавр, Пегас и т. п., будучи
теоретическими конструктами, вернее, продуктами свободной
игры воображения, должны соответствовать требованиям
идеального конструирования, а именно: они не должны
содержать в себе внутреннего противоречия с логической
точки зрения. Такие «конструктивные объекты», не могут
быть не самотождественными. Их истинность не зависит
от случайных, фактических истин, она доказывается
непротиворечивостью внутренней структуры подобных
«объектов». В таком случае понятие истинности можно
расширить, включив штятие логико-семантической истинности.
В конце XIX—да в. лейбницевские рассуждения по
данному вопросу были воспроизведены А. Мейнонгом
(1853—1920). Опыт мейнонговских теоретических
изысканий позволяет пролить свет на некоторые аспекты лейбни-
цевского учения и тем самым соединить прошлое с
настоящим.
В последние годы значительно возрос интерес к
научному наследию Мейнонга, особенно среди британских и
американских философов. По-видимому, это объясняется
стремлением вновь реабилитировать онтологию,
незаслуженно раскритикованную и отброшенную
представителями классического неопозитивизма.
Мейнонговская онтология базируется на отождествлении
значения (Bedeutung) и «сущности» (Gegenstand),
которая стоит в одном ряду с плантоновскими «идеями» и
аристотелевскими «категориями» как высшими родами сказы-
вания (предельно общими предикатами или предикаби-
113
Лиями). Это подтверждает сам Мейнонг, относи «сущности»
к сфере внутреннего опыта, который становится внешним
через вербальные манифестации п.
По мнению Мейнонга, большая и важная группа
«сущностей» не находит себе места в традиционных науках,
которые преимущественно имеют дело с познанием реальности
(wirklichen). Вне поля зрения этих наук остаются такие
«сущности», как, например, имеющие мыслимое бытие
нереальные вещи (различные идеальные объекты типа
математических объектов), а также многообразные
гипотетические и совершенно фантастические возможности (например,
«рукотворность» марсианских каналов и «зеленые идеи»).
Но для науки (особенно теоретической науки) не может
быть ничего запретного, утверждает Мейнонг. Поэтому
даже невозможное может быть объектом познания (например,
круглый квадрат) 12. На таких предпосылках базируется
мейнонговское требование создать науку, которая имела бы
дело с «сущностями» без каких-либо ограничений. Эту
науку о «сущностях как таковых», или о «чистых сущностях»,
Мейнонг называет «теорией сущностей» 13.
Мейнонг различает «сущность» и «существование»,
критикуя при этом традиционную метафизику и особенно
традиционную онтологию, являющуюся частью метафизики.
Критика вызвана тем, что ни метафизика, .ни онтология, по Мей
нонгу, не могут и не хотят выйти за пределы области,
контролируемой категорией «существования». В отличие от
метафизики, пытающейся постигнуть реальность в ее
исчерпывающей полноте, «теория сущностей», свободная от
диктата со стороны категории «существования», стремится
включить в свой состав также и то, что не является и даже
никогда не будет реальным. Правда, эта свобода от
«существования» не означает, что «сущностям как таковым»
запрещено иметь «существование» 14.
Комментируя философские положения Мейнонга, Р. Грос-
сманн отмечает, что Мейнонг, несмотря на кажущуюся
странность и необычность предлагаемой им «новой
онтологии», хочет сохранить веру в существование внешнего
мира 15. Мейнонг, как и Рассел, считает, что имеется только
один вид реальности — эмпирическая реальность, а так
называемая фиктивная реальность (например, «реальность»
вымышленных литературных персонажей типа
Мефистофеля) не является реальность в строгом смысле этого
слова. Когда мы думаем о Мефистофеле, мы думаем не о ге-
тевской ментальной активности, а о фиктивном персонаже.
Из этого Мейнонг делает важный для себя методологиче-
114
ский вывод: фиктивные «сущности» тина Мефистофеля
могут иметь свойства, хотя и не иметь при этом реального
бытия 16.
Чтобы адекватнее понять суть мейнонговской «теории
сущностей» (расширенного варианта онтологии),
обратимся к марксистской методологии научного познания. По
Марксу, ни физический, ни химический, ни какой-либо
другой естественнонаучный анализ не в состоянии вскрыть,
например, в земле такое ее свойство, как земельная рента,
поскольку данное свойство не имеет существования в
физическом смысле, хотя и существует реально, но уже в другой
сфере реального — в сфере социально-культурной
реальности. Таким образом, свойства можно разделить на свойства
натуры (сугубо природные свойства) и свойства культуры.
В свою очередь, свойства в культурной сфере имеют
многоуровневую градацию, обусловленную разделением
культуры на материальную и духовную. Поднимаясь вверх по
этой иерархической лестнице культурных свойств, мы
можем добраться и до Мефистофеля, и до «яростно спящих
зеленых идей», и т. д.
Таким образом, в мейноиговском утверждении о
существовании свойств у нереальных (идеальных) объектов нет
ничего из ряда вон выходящего. Трудность при анализе
свойств такого рода объектов заключается в том, чтобы
разграничить относящееся к языку и его семантике и реальные
факты.
Если булки не растут на деревьях, то и Мефистофели не
разгуливают по улицам и формулы Ньютона не витают в
воздухе. Во избежание путаницы между природой и
культурой, реальным и воображаемым необходимо разобраться в
вопросе об онтологическом статусе общих понятий
различных уровней абстрактности.
Мейнонг попытался разрешить этот сложный вопрос,
создав «новую онтологию» как «теорию сущностей».
Основная его ошибка заключалась в резком противопоставлении
онтологии гносеологии. Однако Мейнонга можно понять,
учтя односторонность традиции кантовского гносеологиз-
ма, процветавшей на континенте. Понять — не значит
оправдать. «В истории, фолософии,— писал К. Р. Мегрелид-
зе,— каждая гносеологическая система тесно связана с
определенными онтологическими воззрениями и вытекает из
них, точно так же, как и всякая теория понятий в конечном
счете всегда упирается в онтологические вопросы. Древние
мыслители, не разделявшие эти области непроходимой
пропастью и изложение философии начинавшие именно с онто-
115
логических вопросов, поступали много мудрее, чем
современная европейская философия, которая под влиянием
Канта ограничивает задачи философии сферой логики познания,
начинает дело с «чисто гносеологических» вопросов и
кончает ими» 17.
Отрывая онтологию от гносеологии и возводя онтологию
в ранг философской доктрины, Мейнонг впадает в обратную
Канту и неокантианцам крайность, при этом изрядно
запутывая существо дела. Так, например, его вера в
существование внешней ментальному опыту реальности, на что
указывает Гроссманн, мало чем отличается от неопозитивистского
эмпиризма в решении вопроса об онтологическом
статусе абстракций высокого порядка. Правда, он более
либерален и не пытается исключить или отбросить те понятия,
которые не соответствуют эмпирической проверке, но при
этом мотивировка состоит в ссылках на априорные
структуры знания. Мейнонг — это сближение рационализма и
эмпиризма.
Взглядам Мейнонга марксистская методология
научного познания противопоставляет свою точку зрения.
Подлинно научный смысл имеют только те абстракции, которые
можно исключить, но не обязательно в абсолютном смысле,
как на этом настаивают номиналисты; исключение
абстракций может быть весьма приблизительным, частичным,
указывающим лишь в самых общих чертах на существо дела 18.
Для понимания этого вовсе не обязательно создавать какую-
то особую онтологию, достаточно критически разобраться и
усвоить суть гносеологической проблематики,
отшлифованной многовековым развитием философской мысли.
Сравнивая Лейбница и Мейнонга, можно сделать
следующие выводы:
1. У Лейбница все действительное разумно (пронизано
логосом), поскольку необходимо (каузально-логически
необходимо). Следовательно, атрибут бытия присущ всему
разумно мыслимому, т. е. мыслимому в соответствии с
правилами формальной логики. С этой точки зрения правом на
мыслимое бытие обладает, например, золотая гора или
Кентавр, но не обладает круглый квадрат.
2. У Мейнонга не все действительное разумно, поскольку
в мире, а не только в голове имеет место случай. Если
неразумное, случайное имеет место в реальности, то как эхо это
отзывается в самых причудливых созданиях нашего
интеллекта, включая нелепые по смыслу и противоречивые по
логике конструкции (например, «зеленые идеи» и «круглый
квадрат»). Следовательно, атрибут бытия присущ как ло-
Пб
гически мыслимому, так и тому, что не соответствует
никаким правилам логики и требованиям обыденного сознания.
В этом плане мейнонговская «теория сущностей» идет
много дальше экстенсиональной семантики Лейбница, в более
острой форме ставя вопрос о соотношении понятий и
значений, вопрос о семантической интерпретации как одном из
важнейших видов исключения абстракций.
Семантическая интерпретация определяет значение
исходных терминов теоретической системы, значение, которое
внутри системы не определяется. На этом пути возникают
трудности, связанные с проблемой синонимии, или, говоря
лейбницевским языком, с проблемой соизмеримости
(тождественности) субъекта и предиката аналитического
суждения.
Проблема аналитического и синтетического является
частным случаем более общей проблемы — проблемы
взаимоотношения теоретического и эмпирического знаний.
Указание на теоретическое и эмпирическое крайне важно с
методологической точки зрения. Дело в том, что всякое
научное знание фиксируется в языке. Понятие «языковое
знание» вносит существенные коррективы в наши рассуждения
о научном знании, его структуре, функциональных
особенностях, процессе развития. Так, например, запрещаете^
говорить о «чувственном знании», но разрешается говорить
о «знании эмпирическом» 19.
Иногда мы можем отвлечься от специфики языкового
плана выражения научного знания и сосредоточиться на
содержании познавательной информации. Однако, когда речь
заходит о синтетических и аналитических суждениях, мы
уже не можем себе позволить игнорировать влияние
языковой формы на содержание. Нам приходится постоянно
уточнять значение вводимых или исключаемых терминов,
учитывать роль контекста и т.п.
В аристотелевской логической традиции, где под
анализом подразумевалось рассмотрение структуры такого типа
суждения, которое является моделью повествовательного
предложения, семантические вопросы не представлялись
чем-то существенным. Но ситуация усложняется, когда мы
сталкиваемся с суждениями более сложных типов
(условные, разделительные, отрицательные и т. п.). Лейбниц
взялся за преодоление этих трудностей, предложив исходить из
того, что любые формы сложных суждений должны быть в
принципе сводимы к суждениям тождества, т. е. к
аналитическим суждениям. Этот вариант редукции базировался на
мировоззренческих и методологических принципах рацио-
117
нализма, которые растворяли вопрос о соотношении
теоретического и эмпирического в процедурах умозрительного
конструирования.
Лейбниц считал своей бесспорной заслугой
формулировку «великого принципа», гласящего, что предикат заключен
в субъекте истинного суждения20. Об этом иногда забывают
и предпочитают ссылаться на Канта, хотя у Канта речь идет
со всем о другом. Кант вычленил в качестве
самостоятельного вопрос о соотношении теоретического и эмпирического
(априорного и апостериорного). В соответствии с этим он
показал, что не всякое теоретическое является
аналитическим. Это открывало возможность для последующей
демонстрации того, что деление суждений на аналитические и
синтетические не абсолютно, а относительно, т. е.
«определенное суждение будет аналитическим или синтетическим лишь
относительно данной языковой системы» 21. Для Лейбница
такой релятивизм невозможен. Он предпочитает иметь
дело с аналитически истинным. Задача анализа состоит в
разложении содержания понятия вплоть до самого очевидного.
Искусство анализа заключается в отыскании
посредствующих звеньев (идей и терминов), ведущих к
непосредственному и безусловному. Регулятивным принципом в
использовании этой техники служит закон недопустимости
логических противоречий, который в негативной форме указывает
на конечную цель анализа — приведение к согласию с
законом тождества. Сведение к закону тождества —
показатель истинности исходного утверждения. Если же мы
приходим к противоречию, то из этого следует, что исходный
пункт ошибочен. В обобщенной форме это можно
сформулировать так: «все истинные суждения суть аналитические,
т. е. потенциально сводимы к своим тождественным
основаниям» 22.
С учетом всего сказанного вполне оправданно мнение
М. С. Козловой, что Лейбниц первым в истории философии
создал достаточно развитое учение логического анализа 23.
Рационалистические идеи лейбницевского анализа
служили и служат поводом для жарких дискуссий в среде
современных логиков и философов науки. Так, У. Куайн
обвиняет Лейбница в том, что тот плохо дифференцировал и,
поэтому неправильно понимал соотношение знаков (signs)
и объектов (objects), чем грешат, по мнению американского
ученого, и многие нынешние авторы. Лейбниц объяснял
тождество как отношение между знаками, а не как отношение
между наименованными объектами. По мнению Куайна,
одно время этих взглядов придерживался и Фреге. Эту пу-
118
таницу усилил А. Коржибскин, когда доказывал, чю
уравнение '1 = Г должно быть ложно по той причине, что левая
и правая стороны уравнения являются пространственно
различными. Аналогичную точку зрения в свое время защищал
А. Н. Уайтхед, писавший, что '2+3' и '3+2' не являются
идентичными математическими выражениями, поскольку в
этих комбинациях (выражениях) различен порядок
символов, а различие в порядке символов различным образом
направляет процесс мышления. Куайн в подобных
рассуждениях усматривает путаницу между знаками и объектами.
Согласно его взглядам, кульминацией этих ошибочных
воззрений является заявление Витгенштейна, сделанное в
«Трактате» и направленное против понятия тождества.
Витгенштейн считает, что утверждение идентичности двух
вещей бессмысленно и уж совсем пусто утверждение о
самотождественности вещи. По Витгенштейну, на деле все
выглядит следующим образом: утверждения тождества
(что является истинным, а что не является таковым)
образуются из различия в сингулярных терминах, указывающих
на одну и ту же вещь24.
Согласно Куайну, обрушивающемуся с нападками на
дихотомию «аналитическое — синтетическое», понятие
«аналитическое» является весьма искусственным понятием.
Обычное определение этого понятия («Предложение является
аналитическим, если и только если оно может быть
получено посредством замещения терминов в логически определен.
ном предложении (то есть в предложении, которое является
истинным или ложным на сугубо логических основаниях) с
помощью других синонимических терминов») не
выдерживает серьезной критики. В соответствии с куайновскими фи-
лософско-бихевиористскими взглядами понятие
«аналитическое» должно быть определено так, чтобы мы могли
сказать, наблюдая лингвистическое поведение в
определенном сообществе, действительно ли предложение
используется в этом сообществе как аналитическое или не
используется в качестве такового. Однако весьма проблематично,
имеется ли вообще какое-либо предложение, которое
используется во всех случаях явно аналитическим способом.
Рассмотрим пример:
(1) Все холостяки неженаты.
(2) Все тела протяженны.
С небольшой долей воображения можно легко
представить эмпирическое содержание этих предложений, которое
могло бы сделать их ложными, т. е. аналитический характер
этих предложений стал бы сомнительным. Например, если
119
сделать небольшую промашку в гражданском
законодательстве, то каждый мужчина мог бы считаться женатым.
Известно также, что бессмысленно говорить о пространственной
протяженности элементарных частиц.
Развивая свою критику в адрес аналитических
предложений, Куайн указывает на то, что аналитические
предложения не могут радикально отличаться от предложений
синтетических, так как они, по предположению, считаются
истинными на базе значений одних лишь терминов. Значение
же термина изменяется вместе с изменением наших
предположений относительно мира. Следовательно, вопросы о
значении и вопросы о факте не могут быть строго разделены.
По мнению Ф. Кутчера, когда Куайн говорит, что даже
логические принципы и значимые постулаты не являются
неприкосновенными для коррекции со стороны опыта, это
правильно, но правильно в совершенно ином смысле
сравнительно с гипотетической истиной общих синтетических
предложений. Дело в том, что необходимо и очень важно
учитывать характер изменений в эмпирических теориях, с одной
стороны, и в логических теориях, с другой стороны.
Например, поскольку интерпретация дескриптивных терминов в
естественных языках менее точно фиксирована, чем
интерпретация логических и математических терминов, то
аналитические предложения, которые не определяются с помощью
логики или математики, являются также менее точно
определенными. Кроме того, продолжает Кутчера, если Куайн
настаивает на том, что значение слов изменяется только с
изменением нашего мировоззрения, то это правильно в диа-
хронном, а не в синхронном смысле. В каждый данный
момент мы имеем вполне определенное понимание языка,
которое является основанием нашего утверждения о мире и
которое релятивно дистинкции между аналитическими и
синтетическими предложениями. Но даже и здесь граница
между аналитическими и синтетическими предложениями
резко очерчена далеко не во всех случаях 25.
Е. Д. Смирнова усматривает основной порок куайновско-
го подхода к разграничению суждений (предложений) на
аналитические и синтетические в том, что Куайн разрывает
связь между онтологией и семантикой26. На мой взгляд,
здесь следует кое-что уточнить.
Разрыв между онтологией и семантикой у Куайна связан
с тем, что он как рьяный номиналист не приемлет
традиционной объективно-идеалистической онтологии. Справедливо
отбрасывая этот вариант онтологии, он, образно говоря,
вместе с водой выплескивает и ребенка, т. е. отказывается
120
от традиционной проблематики теории познания.
Гносеология заменяется ее весьма однобокой версией —
бихевиористски понятой методологией научного познания, согласно
которой мир представлен как хаотичная совокупность
единичных событий, состояний, процессов, подчиняющихся не
имманентной закономерности, а закономерности, которая
является функцией познающего субъекта и которая
объясняется в терминах бихевиористской психологии. Эта
субъективистская философская установка приводит Куайна к
субъективизму в оценке аналитического и синтетического,
согласно чему изменение значений имеет почти целиком
субъективный характер.
Рассмотрение лейбницевской философии в связи с
вопросами, касающимися языка научного познания, интересно
не только с исторической точки зрения, но и с позиций
сегодняшнего дня. Распространение неопозитивистских идей
в первой половине XX в. нередко сопровождалось
экстремистской критикой традиционных компонентов
философского знания—онтологии и гносеологии. Отвергая эти
компоненты, неопозитивисты надеялись получить сугубо
сциентистскую философию. Частным, но характерным итогом этой
«чистки» было превращение лейбницевского закона
тождества в логическое понятие тавтологии, которая не сообщает
никакой новой информации и имеет значение лишь в узких
пределах формально-логических систем исчисления. Не под
влиянием ли результатов такого рода истолкования
лейбницевского теоретического наследия Куайн бросил ему не
аргументированный упрек в смешении «знаков» и «объектов»?
Лейбницевское понятие тождества гораздо богаче и
ближе взглядам Фреге, чем это пытаются представить
некоторые авторы. Рассмотрим уравнение 2+2="|/16. В первых
классах средней школы (один из «возможных миров»)
дети знакомятся с простейшими арифметическими операциями
по типу левой части уравнения, тогда как в старших классах
(другие «возможные миры») они узнают о существовании
иных математических дисциплин, более абстрактных и
более сложных. Поэтому левая и правая часть уравнений
указанного типа несут разную смысловую информацию. Кроме
того, объединение этих математических выражений в одно
уравнение сообщает добавочную информацию, а именно
информацию о единстве разных отделов математического
знания. Столкнись Кант с подобным положением дел, он вправе
был бы задать вопрос: как возможны априорные
синтетические суждения? В свою очередь мы могли бы спросить:
как возможны истинные, но альтернативные по смыслу
121
(Sinn) теории, описывающие один и тот же объект? 27 Или:
как возможно новое знание на уровне
абстрактно-теоретического конструирования?
Все эти и подобные им вопросы воспроизводят на свой
манер проблематику лейбницевской философии и ее
конкретизацию применительно к анализу феномена синонимии,
что позволяет более ясно различать предмет и способ его
существования, структуру и способ ее функционирования,
мысль и способ мышления, рассудок и характер
рассуждений, разум и характер уразумения (понимания), «значение»
(ein Ding) и «смысл» как способ репрезентации «значения»
(cine Weise des Begreifcns).
Кантовская «философия аналогии» и шеллинговский
метод конструирования. Символ, метафора, модель. В
лекциях по логике, которые Кант читал в Кенигсберском
университете, мы не находим ничего оригинального,
обогащающего логическую науку. Это был заурядный лекционный
курс, опирающийся на логические работы последователей
Хр. Вольфа. Поэтому, говоря о кантовской «философии
аналогии», не стоит утруждать себя поисками нетривиальной
логической трактовки понятия «аналогия». В данном случае
имеется в виду нечто совершенно иное, а именно — кантов-
ский способ философствования, который базируется на
имплицитном использовании мышления по аналогии. Такое
использование аналогии можно расценивать как интересный
опыт оттачивания эвристических функций мышления по
аналогии. Явным это становилось тогда, когда Кант затрагивал
вопросы о языке, о значении метафор в познании, когда его
последователи превращали аналогию в главное средство
научного познания. В данном случае обращение к Канту
обусловлено стремлением установить связь между его
гносеологией и современной гносеологией, включающей в свой
состав вопросы семантики, вопросы семантических
изменений в языке научного познания.
Нацелившись на монистическое изложение
философского знания, Кант менее всего полагался на вариант
декартовской интросйекции, которая оказалась бессильной
преодолеть психофизический параллелизм. В этом смысле движение
кантовской мысли от «Критики чистого разума» по
направлению к «Критике способности суждения» можно уподобить
попытке дать новое (после Декарта) толкование целостной
интеллектуальной деятельности человека, соединив в
единое целое рассудок и разум. Иными словами, Кант
стремится на совершенно новой основе установить тождество
структур сознания со структурами бытия, рассматриваемого в
122
форме осознанной реальности (знания). Глобальное
противопоставление мышления бытию выливается в
противопоставление самосознания сознанию, а в пределах
конструктивной деятельности интеллекта это выливается в
противопоставление разума рассудку. Частное противопоставление
структур сознания приобретенному знанию (осознанной
реальности) выглядит как дифференциация рассудка и
сознания (сознание как функция рассудка).
Согласно Канту, чувственность — это способность
созерцания, а рассудок — это способность подводить чувственные
данные под определенные мыслительные правила. Сознание
же рассматривается Кантом не как понятие, охватывающее
рассудок и разум (уровень самосознания), а как понятие,
указывающее на одну из функций рассудка. Как говорит
Кант, «сознание есть, собственно, представление о том, что
во мне находится другое представление» 28. «Другими
представлениями» является смутная информация, полученная
посредством чувственности. Сознание упорядочивает
многообразие чувственно данного, позволяя э пределах
рассудка образовывать отчетливые понятия. Таким образом,
деятельность сознания относится Кантом ко второй ступени
познания в целом и к первой ступени деятельности рассудка,
когда объект не только уловлен созерцанием, но и
осмысленно репрезентирован в нашем умственном поле зрения,
то есть отчетливо воспринят 29.
Вращаясь в кругу таких понятий, как «чувственность»,
«созерцание», «рассудок», «разум», Кант, по сути,
сохраняет верность рационалистическому дуализму мышления и
бытия, или, как он говорит, «между приобретением
познания с помощью опыта (a posteriori) и приобретением его с
помощью разума (a priori) нет посредствующего звена»30.
Для того чтобы раскрепостить наши представления об
интеллектуальной деятельности человека, о его сознании,
необходимо отказаться от понятия «душа», с которым связан
непреодолимый дуализм психического и физического,
дуализм мышления и бытия.
На примере кантовской философии хорошо видна сила
традиции, в частности традиции христианской духовной
культуры. Так, например, Августин, беря за отправное
понятие «душа», рассматривал разумное познание как одну
из функций души. Эта функция обозначалась по разному
(mens, ratio, intellectus, intelligentia), что свидетельствует
о неясности ее понимания 3I.
Позднее понятия «ratio» и «intellectus» обособились,
начав обозначать определенные потенции души. С помощью
123
термина «ratio» обозначалась способность дискурсивного
мышления, а с помощью термина «intellectus» обозначалась
способность созерцания глубинных структур (принципов)
мышления.
Первые шаги по пути существенных уточнений
наметившихся у Августина дистинкций были сделаны философами
Шартрской школы во Франции, которые своей
деятельностью приблизили появление революционного лозунга
парижских аверроистов о «двойственной истине». Философы
Шартрской школы попытались разделить философское
знание на теорию природы и теорию человеческого мира, по
существу указывая на возможность отделения философии от
теологии 32. Глашатаем идеи «двойственной истины», как
известно, является выдающийся арабский мыслитель Ибн-
Рушд (Аверроэс). В Европе эта идея была наиболее полно
развита Сигером Брабантским (ок. 1240, убит между 1281
и 1284 гг.).
О роли Сигера Брабантского и парижских аверроистов
в истории западноевропейской духовной культуры можно
сказать словами Г. В. Шевкиной, что они вместе с
номиналистами и представителями естественнонаучного мышления
стоят у истоков научной и философской мысли эпохи
Возрождения и Нового времени33. В данном случае главным
для нас является то, что радикальный пересмотр в русле
схоластики полномочий философского знания сказался и на
понимании познавательных способностей человека, на
понимании структуры его психики.
Человеческий ум, благодаря усилиям парижских
аверроистов и «новых логиков», начал подвергаться
концептуальному переосмыслению. Например, констатировалось, что
низшим сферам человеческого ума соответствует мир
конечных, чувственных образов. Это предмет рассудочного
познания. Сложным понятием и категориям соответствуют
более «высокие чувства» (чувство нравственного,
прекрасного, истинного). Это уровень разума. Таким образом,
человеческий ум членился логическим способом, в зависимости от
уровня абстрагирующей деятельности субъекта познания.
Следует подчеркнуть, что данный вариант классификации
не менее значим и эпохален, чем аристотелевское учение о
категориях. Его принципиальное новшество заключалось в
том, что впервые европейскими учеными была предпринята
смелая попытка выявить познавательную структуру
разумной души. Тем самым онтологические классификации как
фундаментальные формы познания окружающего мира
сменялись гносеологическими классификациями как фундамен-
124
тальными формами рефлексии по поводу знания и методов
познания.
Недостаток этого гносеологизма обусловливался
парадигматической ролью христианского мировоззрения,
концентрированно выраженного понятием о душе. Чтобы
раскрепостить наши представления о сознании, необходимо было
переоценить сущность человека, понять его как личность в
развивающейся системе социально-культурных отношений.
Деструкция личности как целостности сопровождается
одновременной деструкцией сознания личности, тогда как в
христианстве деструкция тела не касается души.
Психический мир личности не исчерпывается
деятельностью сознания, хотя в истории европейской философии и
психологии нередки были случаи отождествления психики и
сознания. Как уже было показано, начало этой традиции
относится к XIII в., а ее конституирование осуществил
Декарт, с которого и начинается отсчет современных
идеалистических учений о сознании.
Возвращаясь к Канту, еще раз отмечу, что в
истолковании кенигсберского философа сознание выступало
функцией рассудка, а деятельность рассудка, в свою очередь,
выводилась из постулированных априорных ментальных
структур. Следовательно, природа сознания не объяснялась,
а дедуцировалась из понятий «рассудок» и «разум». Таким
образом, Кант понимал сознание как продукт сугубо
внутреннего душевного прцесса. С понятием же о душе связан
поиск априорных мыслительных структур, тезис о
неязыковых формах (!) мышления (по типу «форм», изучаемых
логикой), узко операциональная трактовка сознания,
инструментализм во взглядах на язык и языковую
деятельность и многое другое.
Но самый существенный порок кантовского понимания
интеллектуально-психической деятельности проявился в том,
что интеллект рассматривался статично, вне развития, как
нечто монотонно вращающееся по замкнутому кругу
«сознание — самосознание». «Если считать, — писал Д. Н.
Узнадзе, — что психическая действительность имеется лишь
там, где мы допускаем наличие сознательных процессов, то
мы должны принять, что психика резко отграничивается от
всего того, что лишено сознания, от всего материального, и
составляет абсолютно самобытную сферу
действительности»34.
В конечном итоге это приводит к реставрации
изжившей себя идеи параллелизма психического и физического,
идеи дуализма мышления и бытия.
125
В противовес этому научно-материалистическая
концепция сознания базируется на такой фундаментальной идее,
как развитие сознания из досознательных форм, которые не
отмирают с развитием и обогащением сознания личности, а
обогащаются одновременно с сознанием, впитывая и
преобразуя некоторые структуры сознания во внутренние
регулятора (установки) собственно сознательной деятельности,
или, как отмечал Д. Н. Узнадзе, эти внутренние установки
нашей психики (особые психические состояния), не будучи
сознательными, влияют на содержание сознания, на его
целостную направленность35. С этой точки зрения кантов-
ские понятия «рассудок» и «разум» могут быть
использованы не в роли «целого» по отношению к «части»
(сознанию), как это наблюдается у И. Канта, а как части,
компоненты, субординированные уровни гносеологической модели
сознания.
С гносеологической точки зрения мы не можем не
считаться с тем, что существуют эмпирические и теоретические
сферы знания, опирающиеся на различные структуры
сознания. На это одним из первых обратил внимание
Э. Гуссерль, когда писал, что термины «рассудок» и
«разум» мы используем для указания на «форму мышления»
и ее идеальные законы, в направлении изучения которых
должны пойти логика в противоположность эмпирической
психологии познания36. В качестве предварительной
гипотезы можно попытаться согласовать фрегевскую дистинк-
цию «смысл — значение» с дистинкцией «разум —
рассудок», учитывая, что некоторые идеи «разума», будучи
теоретически осмысленными, не имеют непосредственных
эмпирических референтов.
Неудовлетворенность подразделений «разумной души»
на «рассудок» и «разум» в конце XIX в. вызвала особенно
яростные нападки на радетелей подобной дихотомии,
берущейся в контексте учений о душе. Причиной нападок
явилось наличие бросающихся в глаза бездоказательных, апри-
ористских постулатов, некритических аналогий. Вот почему
Гуссерль, прежде чем предложить свою реформу, выступил
с резкой критикой бесплодных теоретизирований на эту
тему.
Гуссерль писал: «...мы не приемлем, разумеется, тех
запутывающих мифических понятий, которые так любит и
применяет также к данному разграничению Кант, — я имею в
виду понятия рассудка (Verstand) и разума (Vernunft), —
и не признаем в них душевных способностей в подлинном
смысле слова»з7.
126
Самому Гуссерлю, несмотря на ряд удачных
наблюдений и остроумных высказываний, не удалось создать
позитивной теории сознания, он слишком гипертрофировал это
понятие, превратив его в абсолют, а объекты сознания
низвел до уровня чего-то сугубо относительного,
приобретающего свое значение и даже действительность лишь в
процессе использования языка 38. Тем не менее новая модель
феноменологической психологии с ее фундаментальным
понятием интенционалыюго сознания была встречена с
живым интересом многими лингвистами, а не только
философами или психологами. Так, например, классификация
отношений, которая играет чрезвычайно важную роль
в структурном анализе языка, находит эффективную
поддержку в феноменологии Гуссерля 39.
Понятие «отношение» играет видную роль не только в
современной феноменологии или структурной лингвистике,
но и в философии Канта. Это понятие используется им для
того, чтобы подчеркнуть в познании наличие принципиально
различных уровней познания, между которыми необходимо
установить связь. Дело в том, что Кант выступал против
антропоморфного понимания и описания «трансцендентных
сущностей». Однако он признает символический
антропоморфизм (так сказать, вынужденный, но осознаваемый
антропоморфизм), который, как подчеркивает Кант, «на деле
касается лишь языка, а не самого объекта»40.
Бессмысленно пытаться придать идеям разума
наглядность (редуцировать их к терминам языка наблюдений), но
Кант все же идет на это в пропедевтических целях,
отбрасывая с порога ходячую лубочность в трактовке идей
разума. Для него наглядность — это не буквальная, а
символическая наглядность. Поэтому символы, используемые в
том или ином теоретическом контексте, являются прежде
всего косвенным изображением априорных понятий с
помощью интуиции 41.
Взгляды Канта по данному вопросу оказали сильное
влияние на многих неокантианцев, особенно на Э. Кассире-
ра, который указывал на Канта как на своего
предшественника в области анализа символических форм.
По Канту, человек всегда стремится абстрактное
интерпретировать в терминах чувственного опыта, соотнося
трансцендентное со своим жизненным опытом посредством
аналогии, сопровождая ее (при наличии критического
подхода) использованием «принципа фиктивности» (ats ob, «как
если бы»). Особенно полон косвенными изображениями по
аналогии наш обычный, разговорный язык42.
127
С пемощью «принципа фиктивности» (принципа
моделирования) Кант пытается создать свой вариант учения о
целостном интеллекте (рассудок+разум). Таким образом он
надеется преодолеть те трудности, с которыми не удалось
справиться его предшественникам. Кант отводит рассудку
роль конструктивного начала, а разуму принадлежат, так
сказать, «запредельные» функции. Описать эти функции в
терминах рассудка — значит наделить действительностью
одну возможность из бесконечного их числа. В силу этого
рассудок не тождественен разуму, ему не под силу
исчерпать богатство содержания разума, которое предстает
потенциально бесконечным. Но в таком случае
сомнительными становятся попытки создать целостную концепцию
интеллектуальной деятельности человека. Во избежание этих
препятствий, вызванных, асимметрией рассудка и разума,
Кант прибегает к своеобразному методу моделирования с
помощью «принципа фиктивности».
Указанные кантовские идеи во второй половине XIX в.
легли в основу доктрины фикционизма Г. Файхингера,
изложенной в его капитальном труде «Философия «как если бы»»
(1876—1877). Как отмечал К. С. Бакрадзе, книга
Файхингера оказала большое влияние как на философов, так и на
представителей специальных наук. Был даже создан
философский журнал под редакцией самого Файхингера и его
последователя Р. Шмидта (Annalen der Philosophic und
Philosophische Kritik). В этом журнале печатались статьи
физиков, математиков, психологов, языковедов, философов,
придерживавшихся идей фикционизма.
Свою философскую позицию Файхингер определяет как
идеалистический (или критический) позитивизм.
Большинство его критиков усматривают в доктрине фикционизма
ярко выраженный инструментализм эмпиристского толка.
Инструментализм второй половины XIX в., а также XX в.
является продолжателем негативных сторон традиции
номинализма и эмпиризма предшествующих эпох, когда
познанию по аналогии придавалось гипертрофированное
значение. Как указывал И. И. Лапшин, неокантианец
Файхингер, идя по стопам Юма, Милля и Спенсера, расширил
понятие аналогии до универсального логического принципа,
согласно которому любое понятие есть метафора (!),
опирающаяся на чувственную аналогию43.
К разновидностям доктрины фикционизма И. Шеффлер
относит, помимо инструментализма, так называемый «эли-
минативный» фикционизм представителями которого он
считает У. Крэйга и Ф. П. Рамсея 44.
128
Согласно инструментализму, даже полиостью
правильная теопия ничего не описывает в действительности, но
служит лишь HHCTpvMeHTOM для предсказания фактов, которые
образуют ее эмпирическое содержание. Для крайних форм
инструментализма характерно отрицание таких объектов
научного познания, как «гравитация», «сила» и т. п. Они
предлагают считать эти объекты всего лишь словами,
языковыми инструментами, позволяющими прогнозировать и
упорядочивать чувственные данные.
По Файхингеру, общему понятию ничего не соответствует
в объективной действительности, и в этом смысле общее
понятие — фикция, которая, однако, может выполнять в
науке полезную функиию, помогая ориентироваться в
эмпирическом материале. Одну из главных задач теории познания
Файхингер видит в исследовании различия между
гипотезой и фикцией. Гипотеза всегда ориентирована на
действительность и требует фактической верификации. В отличие
от гипотезы фикция имеет не столько теоретическую,
сколько практическую ценность. Если гипотеза выступает в роли
познавательной цели, то фикция — это средство для
достижения данной цели 4б.
Таким образом, использование фикций в научном
познании всегда оправдывается как вспомогательное средство.
Файхингер прежде всего настаивает на эвристической роли
научных фикций, необходимость в которых возникает тогда,
когда имеющиеся гипотезы недостаточны или даже
неправильны. История науки содержит много подобных случаев.
Так, доказано, отмечает Файхингер, что птолемеевская
система мира уже арабами средневековья рассматривалась
как фикция, а не как гипотеза 46.
В качестве психического базиса для производства
фикций Файхингер указывает на силу воображения,
которая, по его мнению, играет в науке огромную роль и
является одним из главных показателей прогресса современной
теории познания 47. Учет силы воображения помогает
лучше различать гипотезу и фикцию. Фикция, например, может
быть рассмотрена как первый шаг на пути к гипотезе.
Смутные догадки, которые еще не стали гипотезами,
порождаются силой воображения и именуются фикциями 48.
Как и метафора, фикция должна быть со временем
устранена и заменена истинным определением. Однако это
касается не всех видов фикций, поскольку есть такие
важнейшие виды фикций, которые никогда не смогут быть
отброшены, ибо без них дискурсивное мышление просто
невозможно 49.
5 900
129
Если гипотеза должна подтверждаться опытом, то
фикция должна быть оправдана тем, что она служит целям
опытной науки, помогает дискурсивному мышлению как
важнейшее вспомогательное средство познания50. Даже
самую убедительную и стройную гипотезу может
опровергнуть один-единственный факт, тогда как для фикции
безразличен как протест со стороны логики, так и
противоречие с опытом 51.
Принимая во внимание идеализм доктрины Файхингера
и его учителя Канта, желательно отметить те позитивные
моменты, которые присутствуют как в кантовском
«принципе фиктивности», так и в файхингеровских разработках, но,
к сожалению, погребены под напластованиями
спекулятивно-идеалистически истолкованного материала. Наличие
рационального смысла в «принципе фиктивности»
подтверждается современным анализом так называемых «ложност-
ных структур мышления». Например, Б. В. Бирюков
полагает, что исследование такого рода структур имеет большую
познавательную ценность не только для философии или
психологии, но также для кибернетики, теории информации,
лингвистики.
Суть проблемы в данном случае заключается в том, что
наряду с движением мысли по пути познания истины в
мышлении присутствуют и ложиостные структуры, выражающие
относительность человеческих истин и реальность
заблуждений в процессе познания52. Эти «ложностныеструктуры»
в определенном смысле созвучны файхингеровским
«фикциям». Если бы Файхингер их не абсолютизировал с точки
зрения крайнего эмпиризма, мы имели бы гораздо больше
позитивных элементов в его философском учении
Относительно же «ложностных структур» хотелось бы
отметить следующее. Очевидно, «ложностные структуры»
присущи не «пространству» «чистого» (внеязыкового)
мышления, а «пространству» того, что мы именуем «языковым
мышлением», интенсивно функционирующим в моменты
активности сознания (сознания, решающего те или иные
задачи) .
Следовательно, «ложностные структуры» связаны с
проблемой понимания, с проблемой интерпретации
информации либо в актах коммуникации, либо в актах
«внутреннего дгалога» при переходе с одного уровня сознания на
другой уровень (например, с уровня эмпирического
сознания (рассудок) па уровень теоретического сознания
(разум)). Именно эту особенность интеллектуальной
деятельности человека впервые подметил Кант.
130
Для философии эмпиризма, начиная с Нового времени,
характерно постепенное превращение эмпирической
эпистемологии в интроспективную психологическую теорию
знания. Так, например, локковская теория знания сводит все
утверждения относительно повседневной жизни и науки или
к ощущениям, или к рефлексии. Этот локковский
психологизм можно оценить, отталкиваясь от слов Э. Кассирера.
Ссылаясь на И. Г. Гердера, Кассирер упоминает так
называемую «фонетическую метафору». «Фонетическая
метафора» связывает пространственно-указательную функцию слов
«здесь» и «там» с жестом. «Фонетическая метафора»
получает свое значение от целостной интуитивной ситуации, в
которой она применяется. На этой основе произрастает
доктрина сенсуалистов, подчеркивающих метафорический
характер всей нашей речи, так как все наше мышление
детерминируется чувственными факторами53. Требуется
серьезный гносеологический анализ базисных положений
семантики для устранения или ограничения семантических
«фикций» (метафор) в языке научного познания. В связи
с этим несомненный интерес представляет работа Д. Вудса
«Логика фикции».
В своей работе Вудс пытается обратить внимание
читателя на некоторые семантические «странности», отмеченные
в свое время Мейнонгом. Для этих целей он приводит
хорошо знакомые примеры из художественной литературы.
Например, если вы говорите, что Шерлок Холмс жил на Бей-
кер-стрит, то можно держать пари, что вы глубоко
ошибаетесь. Это образец очень интересного курьеза, суть которого
состоит в следующем. В некоторых случаях, как в примере
со знаменитым литературным персонажем, мы пользуемся
способом «семантической защиты», утверждая, что Холмс не
мог жить в указанном месте, так как его бытие фиктивно,
оно является результатом фантазии художника. Однако не
каждый класс предложений, содержащих пустые
сингулярные термины, может послужить поводом для заключения
такого рода пари. Чтобы не допустить путаницы
онтологического и семантического планов (особенно в научном
языке), Вудс предлагает воспользоваться аппаратом так
называемой «свободной логики». Согласно Вудсу, логика,
термины которой могут обозначать фиктивные сущности и
граница которой подвижна, может рассматриваться в
качестве «свободной логики». «Свободная логика» в широком
смысле — это логика, признающая дюм-денотацию
терминов (без перефразировки), или: это — логика, чьи термины
могут обозначать поп-актуальные индивиды 54.
5*
131
Под пустыми сингулярными терминами в «свободной
логике» понимаются термины, которые соответствуют поп-
существующим объектам. Формальная семантика для
языков, содержащих такие термины, относится к
компетенции «свободной логики». Но семантика «свободной логики»
не различает термины, которым ничего не соответствует
(например, «настоящий король Франции»), и термины,
которым соответствуют яо/г-существующие объекты
(например, Шерлок Холмс). Вудс пытается создать специальную
семантику для языков, содержащих термины последнего
вида, и в связи с этим хочет построить логический аппарат с
«фиктивным» модальным оператором, посредством
которого могут быть репрезентированы предложения о
«фиктивных сущностях».
С теоретико-познавательной точки зрения Вудс
различает откровенно ложные (абсолютно фиктивные) объекты и
объекты, ложность которых оправдывается конечной целью
(например, создание художественного эффекта, построение
гипотезы). Последний вид фикций (научных метафор)
эксплицируется методологическим анализом понятия модели.
Поясню это на следующем примере.
Современные работы по философии науки полны
высказываниями о том, что метафора может играть
исключительно важную роль в конструировании соответствующих
научных языков. Основной фокус здесь приходится на
теоретические модели. Допускается, что они могут трактоваться
как миниатюрные языковые системы цдя обсуждения тех
данных, которые поддаются моделированию. Отношение
между языковой системой и ее референтной сферой
должно быть примерно таким же, как между двумя элементами
метафоры, если метафору понимать в узком смысле—как
свернутое сравнение. С подобной теоретико-познавательной
точки зрения (с позиций моделирования) о метафоре
можно сказать: любая метафора сообщает информацию о
некоторых вещах так, как если бы (вспомним кантовское als op)
они были не тем, чем они есть. Аналогичную роль
выполняют теоретические модели, как, например, планетарная
модель атома55.
«Модели-метафоры» (модели, учитывающие план
выражения) служат средством познания объектов сложной
природы. Имея дело с «моделями-метафорами», следует
учитывать тот немаловажный факт, что это именно средства
познания, причем средства эвристические, то есть
преддверие к теории, но не сама теория, которая в идеале не
должна содержать в себе ничего двусмысленного.
132
«Модели-метафоры» создаются примерно в два этапа.
На первом этапе мы больше полагаемся на свою интуицию,
свой научный опыт, пользуемся смелыми аналогиями, энти-
мемами, создаем нетривиальные метафоры. Словом, на
этом этапе аналогия понимается главным образом в
интуитивном смысле как некое эвристическое средство
познания 56. На втором этапе мы занимаемся моделированием,
пытаемся эсплицировать первичные, зыбкие интуиции.
Кантовский «принцип фиктивности», если его не
доводить до абсурда, в качестве своего рационального зерна
содержит идею моделирования сложных объектов. Например,
человеческий ум, по Канту, не в состоянии адекватно
познать «трансцендентные сущности», но тем не менее не
может представлять себе мир таким, «как если бы он был
творением некоего высшего разума и высшей воли»57.
Пользуясь таким неожиданным приемом (приемом
моделирования), Кант исключает из списка своих категорий категорию
цели, чтобы избежать натяжки, связанные с религиозной
трактовкой целесообразности в природе. «Принцип
фиктивности» превращает религиозную целесообразность в
некоторого рода фикцию, которую можно использовать в
зависимости от степени ее полезности для решения
познавательных задач.
Конечно, кантовское решение было во многом
непоследовательным, но это объясняется не столько внутренними
причинами, сколько духом времени, господствующими
идеологическими ценностями и пр. В его философии можно лишь
угадывать имманентную дискредитацию христианской идеи
бога в связи с введением «принципа фиктивности» в
арсенал философских методов познания. С гносеологической
точки зрения бог превращался в род объясняющей
гипотезы, причем гипотезы, привязанной к фикции, но тем не
менее бог был и оставался для Канта «фактом». И все же
исчезновение необходимости в ортодоксальном
постулировании ведущих принципов христианской мифологии было
значительным завоеванием в деле раскрепощения
философского и научного сознаний. Теперь, например,
положение о существовании «мира как замкнутого целого» («мир
в целом, «мир как целое») превращалось в гипотетический
тезис — «мир, как если бы он был целым». По существу это
вело к элиминации бога из гносеологии.
Даже в первом приближении такая общая
характеристика понятия модели и метода моделирования, прототипом
которого послужил кантовский «принцип фиктивности»,
указывает на сходную семантическую тематику в связи с
133
изучением механизма метафорообразований.
Симптоматично, что на 2-м Международном конгрессе по логике,
методологии и философии науки в 1964 г. М. Хессе (известный
английский философ и методолог науки) заявила о
необходимости переоценки некоторых аспектов дедуктивной
модели научного объяснения за счет их семантизации по
образцу метафорообразований. Одну из центральных проблем в
изучении метафоры Хессе видит в решении вопроса о
референции модели (метафоры). «Метафорическая» точка
зрения, подчеркивает Хессе, не отбрасывает дедукцию, но
скорее фокусирует внимание на взаимодействии между
метафорой и «первичным» языком, а также на выборе
приемлемого критерия метафорического описания «первичных»
систем. К «первичному» языку относится язык наблюдений,
который подобно всем естественным языкам расширяется за
счет метафорического его использования 58.
По мнению Хессе, теоретические понятия вводятся в
контекст науки по аналогии с понятиями наблюдения. Тогда
рост языка науки можно рассматривать через призму
метафорического расширения естественного языка, а
абстрактную теорию — как аналогию (модель) 59.
На мой взгляд, в данном случае Хессе ошибается,
отождествляя модель и теорию (отождествляя средство и цель),
хотя, разумеется, модель может быть достаточно
теоретичной. Это чревато повторением ошибок эмпиризма,
реставрацией худших сторон инструментализма. Ошибка
проявляется также в том, что, по Хессе, все теоретические
конструкции включают элемент мифотворчества. Последнее
обусловлено использованием аналогий, так как элемент
мифотворчества (создание теоретических фикций, поФайхин-
геру) — это результат применения уже известных и
привычных предикатов к новым, ранее неизвестным способам
утверждения научных законов, не признаваемых еще
окончательно в качестве истинных. Например, «атом Бора»
постулировался, чтобы вести себя как поп-физическая
система 60.
Стремление Хессе решить вопрос о соотносимости
теоретического языка и языка эмпирического («первичного»
языка, языка наблюдений), на мой взгляд, вряд ли может
привести к положительным результатам, хотя некоторые
аспекты ее разработок достойны внимательного изучения.
Однако попытки доказать, что понятность теоретических
конструкций определяется вписанностью в «обычный
дескриптивный язык», изрядно напоминают рекомендации
авторам, занимающимся популяризацией науки, нежели ре-
134
шение вопроса о характере понятности научных текстов,
адресованных ученым-специалистам. По этому поводу
хочется привести слова В. Гейзенберга: «Мы можем
использовать старые слова в традиционном смысле всякий раз,
когда мы имеем дело с феноменами, которые не слишком
далеки от повседневной жизни или от классической
физики. Однако на примере неожиданных явлений,
обнаруженных в электродинамике и атомной физике за эти последние
семьдесят лет, природа научила нас тому, что эти слова
или понятия имеют только ограниченную сферу
применимости. И когда мы выходим за пределы этой сферы, то в
нашем распоряжении остаются довольно абстрактные
понятия и математический язык, который может быть понят
только специалистами, но не может быть недвусмысленно
переведен на простые языки повседневной жизни. Новые
явления могут быть поняты, однако их нельзя понимать в
том же смысле, как понимались явления прежней
физики»61.
Проиллюстрируем сказанное на общеизвестном примере.
В 1911 г. Э. Резерфорд предложил знаменитую планетарную
модель атома. Существенным недостатком этой модели
было отсутствие объяснения удивительной устойчивости
атома, в связи с чем Н. Бор попытался переосмыслить резер-
фордовскую «метафору» (модель), преследуя цель более
точно установить ее реальный физический смысл. Так в
1913 г. на свет появилась новая планетарная модель атома,
использующая квантовую гипотезу М. Планка. Боровская
модель атома, сохраняя основную идею резерфордовской
модели, высветила смысл квантовых условий
существования атома, подчеркнув дискретность физических состояний
планетарной модели.
С появлением новой модели атома возникла
необходимость различать языковые уровни в физическом познании.
Скажем, язык и понятие классической физики вполне
соответствуют технологической стороне опыта, но
обнаруживают свою недостаточность, когда дело касается описания
явлений на инфрачувственном уровне познания. Эта
асимметрия между языковыми уровнями выразилась в боров-
ском «принципе дополнительности», который позволял,
сохраняя верность понятиям классической физики, расширить
систему нашего физического знания. Получаемая таким
образом теория превращалась в напряженную теорию,
сформулированную далеко не однозначным языком. Как писал
по этому поводу Гейзенберг, «понятие дополнительности,
введенное Бором при истолковании квантовой теории, сде-
135
лало для физиков более желательным использование
двузначного языка вместо однозначного, применение
классических понятий некоторым несколько неточным образом,
соответствующим соотношению неопределенностей,
попеременно употребляя различные классические понятия.
Если бы эти понятия использовались одновременно, то это
привело бы к противоречиям» 62.
Таким образом, существенно новой чертой анализа
квантовых феноменов является введение принципиального
различия между измерительными приборами и изучаемыми с
их помощью объектами. Работа этих приборов описывается
языком классической физики. Наблюдая их работу, мы
получаем косвенным путем информацию об атомных
объектах, на основе которой строим модели как промежуточное
звено на пути к созданию собственно физической,
непротиворечивой теории. Именно модель находится, так сказать, в
напряженном состоянии, в состоянии потенциальной
готовности перехода к более стабильному теоретическому
конструкту, что и подчеркивается «принципом
дополнительности». Модель — это «как если бы» теория, но все же не
теория. Более того, некоторые «модели-метафоры» выполняют
чисто негативную роль, доказывая от противного наличие
контртеорий. Поэтому отождествление модели и теории, как
это полагает Хессе, вдвойне ошибочно. Поясню сказаннре
на следующем примере.
Коллега М. Борна по Эдинбургскому университету,
английский математик Э. Уиткер, придумал оригинальный
методологический прием, получивший название «принципа
невозможности». Типичным примером этого эвристического
принципа является «вечный двигатель». Бесчисленные и
абсолютно безуспешные попытки его создания привели в
конечном итоге к позитивным результатам совершенно
иного рода, нежели ожидаемые: был сформулирован закон
сохранения энергии, который с безусловной достоверностью
свидетельствовал о невозможности создания «вечного
двигателя». Таких примеров можно привести множество.
Следовательно, отсутствие референта у метафоры не всегда
показатель ее бесплодности.
Кантовская философия, несмотря на свою
умозрительность, во многом предвосхитила современную
методологическую проблематику научного познания. Например, Кант
по-своему вскрыл эвристические возможности метода
моделирования, согласно принципу «как если бы». С
семантической точки зрения этот принцип призван пресекать
эквилибристику словами, чтобы избежать путаницы и не
136
подменить противоречий внутри теории противоречиями,
обусловленными некорректным использованием научной
лексики. Не менее интересна и перспектива с современном
точки зрения кантовская модель эмпирического сознания, в
которой можно найти отголоски леибнииевского учения о
бессознательном, а также проследить этап в формировании
традиции, связанной с идеями психоанализа, и выявить
предварительные ориентиры, указывающие на понятие
«языковое сознание».
Если допустить, как это делалось во времена Канта, что
мышление культурного человека протекает более или
менее в соответствии с законами формальной логики, хотя он
сам об этом и не подозревает, наподобие «прозы» мольеров-
ского Журдена, то возникает "естественный вопрос: каким
образом эта таинственная «форма», отличная от языковой
формы, наполняется конкретным содержанием?
Отвечая на этот вопрос, Кант, подчеркивает Г. Тевзадзе,
попытался точнее определить различие между познанием и
мышлением. В результате он пришел к выводу, что понятие
познания шире понятия мышления, поскольку познание
включает в себя как эмпирическое созерцание, так и
понятийное мышление. Мышление же базируется на
врожденных закономерностях, эксплицируемых формальной
логикой 63. Согласно Канту, имеется также и исторический
аргумент в пользу этого «факта». Суть данного аргумента
состоит в указании на исторически сложившиеся формы
суждений, в которых Кант усматривает символическое
свидетельство наличия необходимых ментальных структур.
Стремясь к композиционно стройной и логически
убедительной системе философского знания, немецкий ученый
загодя предполагает существование априорных понятий
рассудка как функциональных элементов в структуре целого.
Другими словами, кантовские категории — это
основополагающие функциональные элементы, воплощающие в себе
понятие связи. Связь — это чрезвычайно важная функция
рассудка, который связывает и подводит многообразное
содержание представлений под единство апперцепции,
посредством которой утверждается исходная
общечеловеческая разумность ментального толка.
Понятию связи предшествует понятие
«трансцендентальная схема», опираясь на которую, Кант стремится
реконструировать связующее звено между чувственностью и
рассудком. Трансцендентальная схема придает категориям
рассудка интенциональный характер посредством добавления
к их содержанию «формальных условий чувственности» в4.
137
На данном этапе кантобскогб теоретизирований мы
имеем дело с моделью эмпирического сознания. Базисной
характеристикой деятельности этого эмпирического сознания
является бессознательная классификация (схематизация)
чувственного материала, или, как писал Кант, «этот
схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой
формы есть скрытое в глубине человеческой души
искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо
удастся угадать у природы и раскрыть» 65.
Кантовский «бессознательный схематизм» в дальнейшем
попытался проанализировать Шеллинг, введя для его
экспликации метод конструирования. Шеллинг исходил при
этом из следующего.
Сознание фиксирует объект, когда уже наличествует
определенное представление о нём. Но бытие реального
объекта в сознании — нонсенс. Бытие должно измениться,
преобразоваться, стать образом бытия, мыслимым бытием.
Поэтому вступление объекта в сознание совпадает с его
возникновением для сознания. Реальное рождение
будущего объекта сознания протекает без прямого вмешательства
со стороны сознания, то есть косвенно и в целом
бессознательно. Сознание, если оно желает и стремится проникнуть
в законы явления, должно постигнуть бессознательный
процесс построения объекта. Для этих целей Шеллинг
предлагает искать в голове человека бессознательное отражение
реального процесса. Таковым, по его мнению, является
мифология как отражение отношений человека эпохи мифа к
природе.
Подобная установка предопределила метод
философствования Шеллинга — метод потенцирования как
движение от максимума объективного (бессознательного)
минимума субъективного (сознательного) к максимуму
субъективного минимума объективного. Все это в какой-то мере
помогло Шеллингу преодолеть кантовский формализм в
понимании психического.
Шеллинг, вслед за Лейбницем, начинает членить
интеллекта рассудок и разум, хотя, конечно, и это имеет место,
а на сознание и бессознательное, что, как известно,
окончательно конституировалось лишь в психоанализе. Напомню,
что, по Лейбницу, дух — это сознательное представление
в отличие от души как представления бессознательного.
В противовес Декарту, который пытался обосновать дух
логически, Лейбниц занимает генетическую точку зрения66,
которую затем разделяли (каждый на свой манер) Шеллинг
и Ж. Пиаже.
138
Несомненной заслугой Лейбница в данном случае
следует считать то, что он был первым из европейских ученых,
кто, подчиняясь научным требованиям, отождествил дух с
сознанием, а душу — с более широким контекстом
психической жизни человека, где превалируют бессознательные
формы деятельности, если оценивать их по степени
перцептивной значимости для индивидуума. Согласно Лейбницу, надо
делать различие между перцепцией (представлением) и
апперцепцией (сознанием). Именно это различие, как он
подчеркивает, проглядели картезианцы, считая
бессознательное за ничто 67. Сознание репрезентирует ту смутную
информацию, которая схватывается бессознательной
перцептивной деятельностью души. В этом смысле душа как бы
опережает деятельность сознания, или, как фигурально
выражается Лейбниц, в силу «малых восприятий настоящее
чревато будущим» 68.
Как видим, Лейбниц предвосхитил выводы современных
психологов относительно «опережающей» роли
бессознательного. Действительно, «познание «нерасчленяющее»,
познание интуитивное, опирающееся на неосознаваемую
психическую деятельность, представлено в нашей душевной
жизни исключительно широко. Оно дает о себе знать даже
при наиболее рационализированных аналитических и
логически дифференцированных формах мыслительной
деятельности» 69.
Продолжая эту линию, Шеллинг апробирует свои идеи
путем замены философии природы философией искусства,
т. е. природу как объект естественнонаучного анализа он
заменяет понятием природы в сознании человека. Этот
прием позволил рассматривать не реальный мир в целом, бытие
которого, по меткому выражению Ф. Энгельса, есть
открытый вопрос за границами нашего поля зрения, а
теоретическое знание как целое. Наиболее отчетливо это проявилось в
опубликованной после его смерти «Философии искусства»,
где Шеллинг разработал метод конструирования, с одной
стороны, как способ построения теоретической системы
знания, а с другой стороны, как способ репрезентации и
уточнения характера процессов, протекающих на бессознательном
уровне. С помощью этого метода появлялась возможность
преодолеть кантовский агностицизм относительно «вещи-в-
себе». Теперь «явление» — это тот факт сознания, который
указывает на наличие бессознательного, хранящего в себе
«сущность» данного «явления», т. е. понятие о «вещи-в-себе».
По поводу метода конструирования Шеллинг писал:
«Поскольку конструирование есть, вообще говоря, снятие
139
противоположностей, а противоположности, которые в
отношении искусства возникают в связи q его зависимостью
от времени, как само время, должны бьпъ
несущественными и чисто формальными, то научное конструирование будет
заключаться в выявлении общего единства, из которого они
проистекли, и как раз потому возвысится над ними до более
всеобъемлющей точки зрения» 70.
По определению, метод конструирования предполагает в
качестве первоочередной процедуры так называемое
«снятие противоположностей», появление которых в познании
связано с недостаточной изученностью объекта на стадии
его эмпирической данности. «Снятие противоположностей»
означает отвлечение от временной динамики объекта и
перевод его в план синхронного рассмотрения, то есть в
данном случае мы имеем дело с процессом конструктивизации
действительности (вид абстрагирования), в результате
которого получаются различной жесткости «конструктивные»
объекты (конструкты) л.
Соотношения сознания и бессознательного, текста и
подтекста, выраженного и невыраженного нуждаются в
соответствующих методах анализа. Одним из таких методов и
является шеллинговский метод конструирования,
позволяющий, отталкиваясь от сознательной речевой деятельности,
реконструировать те устойчивые инвариантные структуры
(установки), на которых базируется речевая деятельность
сознания.
В связи с характеристикой метода конструирования
Шеллинг отмечает, что цель научного конструирования
заключается в «выявлении общего единства», из которого
проистекают противоположности. Если отбросить
религиозно-мистическую шелуху, сопровождающую
шеллинговские рассуждения и препятствующую адекватному
выражению научно ценных мыслей в философии Шеллинга, то
обнаруживается вполне рациональная идея: в любом
движении, развитии наблюдается определенная
устойчивость, инвариантность некоторых структурных образований,
что позволяет говорить о преемственности и внутренней
связности в процессе изменений, структурных
трансформаций.
«Задача науки и состоит в том, — отмечает Д. П.
Горский, — чтобы во всех изменениях определенного рода
выявлять это относительно постоянное, инвариантное»72. Это
позволяет нам не только прогнозировать будущие этапы
движения, но и реконструировать с приемлемой точностью
предшествующие этапы, а в конечном итоге позволяет фор-
140
мулировать законы, отражающие динамику развивающихся
объектов. \
С учетом сказанного обратимся к понятию «языковое
сознание» и попытаемся его рассмотреть в контексте
методологии психоанализа. Э. Бенвенист считает, что главная
отличительная черта психоанализа состоит в анализе речи
больного в процессе беседы с врачом. В этих разговорах
психоаналитик изучает пациента в его речевом,
«мифотворческом» поведении, стремясь выявить скрытый подтекст,
связанный с комплексом, таящимся в подсознании. От
степени раскрытия подтекста зависит успех лечения. Таким
образом, весь процесс выявления причин заболевания
осуществляется через посредничество языка. Как подчеркивает
Бенвенист, столь высокое отношение к языку является
отличительной чертой психоанализа 73.
Большую ценность для психоанализа представляет стиль
речи (недомолвки, иносказания, различного рода метафоры
и т. д.). Стремясь проникнуть во
«внутреннююречь»собеседника, которую отличает особый синтаксис, особые
правила семантических ассоциаций, психоанализ как бы
расширяет сферу лингвистики до сферы семиотики. «Перед
нами, таким образом, «язык» настолько своеобразный, что
его необходимо отграничить от того, что обычно называют
языком. Именно подчеркивая различия между ними, можно
правильно определить его место в ряду языковых
явлений» 74. Символика этого варианта «языка», по мнению Бен-
вениста, имеет более глубокие корни в интеллектуальной
жизнедеятельности человека по сравнению с обычным
языком. Символы подобного типа охватывают более крупные
семантические блоки, чем семантические единицы обычного
языка. В связи со столь своеобразным характером
подсознательной символики французский ученый предлагает
главное внимание сосредоточить на анализе стилистических
средств речи, с помощью которых подсознание
вырабатывает свою специфическую «риторику», в арсенале которой мы
находим известные по старым каталогам тропы и различные
риторические приемы (намеки, умолчания и пр.).
Накопившийся опыт психоанализа в области изучения
речи больного наталкивал на мысль рассматривать
психотерапию как своего рода лингвистическую дисциплину75.
Некоторые западные авторы, уточняя связь психоанализа с
лингвистикой, указывают на современную
лингвостилистику. Например, М. Эделсон заявляет, что
психоаналитическая интерпретация является всецело тропологической7б.
Данное заявление объясняется тем, что метафора — это
141
способ интерпретации исходной абстрактной системы
отношений. Поэтому фрейдовское использование аналогий не
должно рассматриваться как просто литературный прием.
С помощью аналогий 3. Фрейд пытается построить модель
активного разума 77. Нечто подобное наблюдается и в каи-
товской «философии аналогии» с той только разницей, что
Кант исходит не из оппозиции «бессознательное —
сознание», а из оппозиции «рассудок — разум». Кантовская
«модель» целостной психической деятельности человека
зиждется на соединении двух полюсов — чувственной
интуиции и идей разума. «Только на первый взгляд могло бы
показаться,— писал В. Ф. Асмус,— будто нет ничего общего
между, например, идеей разума и чувственной интуицией.
Между ними все же существует переход. Этот переход дает
нам аналогия. По своему отношению к трансцендентальной
идее чувственное явление есть некий символ. Иначе, по
Канту, и не может быть. Только посредством символа мы
осуществляем указанный переход, так как мы не способны
создать адекватное чувственное представление для идеи
разума» 78.
На широкое использование аналогии по «принципу
фиктивности» (использование метода моделирования) Канта
вынуждает феномен полисемии. Он сам отмечает это, прямо
говоря, что наш язык полон косвенных изображений по
аналогии, в результате чего многие выражения языка
содержат в себе не настоящую схему для понятий, а лишь символ
для рефлексии 79. Шеллинговский метод конструирования
призван осуществить переход от подобного рода символов к
точной понятийной схеме. С общеметодологической точки
зрения все это вполне созвучно идеям психоанализа,
особенно по вопросу тропологического анализа в
психотерапевтических целях.
Как указывает Р. Роджерс, одним из первых
психоаналитиков, обратившим серьезное внимание на роль
метафоры в терапии, была Э. Ф. Шарпе. Правда, многое из
сказанного ею содержится в более ранних психоаналитических
работах80. Помимо исследований Шарпе, Роджерс
указывает также на Э. Криса и А. Каплана, которые являются
авторами классической психоаналитической статьи
относительно эстетической роли двусмысленности. В этой статье
говорится о двусмысленности как о факторе, который
играет центральную роль в реакции читателя на
художественное произведение81.
Кантовско-шеллинговскую линию по вопросу о роли
символов в познании по-своему продолжает К. Г. Юнг, прояв-
142
ляющий осмотрительность и критицизм в делах
теоретического обоснования психотерапевтики. «Мы отнюдь не
воображаем, — писал IQnr, — будто можно знать или
утверждать нечто положительное о состоянии психики в бесссо-
знательном. Мы для этого ввели символические понятия по
аналогии с разумением понятий сознательного, и на
практике такая терминология оправданна» 82.
Юнг не приемлет фрейдовский «медицинский
предрассудок», суть которого заключается в том, что любое
художественное произведение, если говорить о таковых, — это, по
Фрейду, своего рода болезнь. Но в таком случае и
метафора— это «болезнь» языка, выражающая болезнь психики.
Следовательно, все, кто употребляют метафоры,
пользуются энтимемами, а не аристотелевскими силлогизмами, — это
в той или иной степени невротики. Как говорится, старая
погудка на новый лад. Уместно напомнить мнение Р.
Якобсона, которое разделяют большинство современных
лингвистов. Якобсон писал в одной из своих статей, что метафоры
являются не отклонениями, не «болезнями» языка, а
правильными стилистическими видоизменениями 83.
Юнг считает, что Фрейд допускал существенную
методологическую ошибку в двух случаях. Во-первых, Фрейд
отождествлял процесс индивидуального художественного
творчества (черновую работу художника) с сущностью
искусства, которая является не предметом психологического
рассмотрения, а предметом эстетически-художественного
анализа84. Во-вторых, Фрейд не дифференцировал
«символ» и «знак» (или «симптом»). По поводу последнего Юнг
пишет: «Когда, например, Платон всю проблему теории
познания выражает в иносказательном образе пещеры, или
когда Христос понятие Царства Божья выражает в своих
притчах, то это является истинными и подлинными
символами, а именно попытками выразить такие представления,
для которых еще не существует словесных понятий» 85. Эти
слова Юнга аналогичны рассуждениям Шеллинга о
художественном творчестве и возможностях его философского
осмысления86, в связи с чем им и разрабатывается метод
конструирования.
И Шеллинг, и Юнг солидарны в том, что творческая
деятельность в сфере искусства много богаче творчества в
науке, следовательно, искусство первенствует в
познавательном освоении действительности, или, говоря языком
Шеллинга, искусство является прообразом науки. Если
учесть фактор «опережающей» деятельности
бессознательного, о чем уже шла речь в данной работе, то в определен-
143
ном смысле Шеллинг и Юнг правы. Конечно, одного
духовно-эстетического освоения действительности недостаточно
для того, чтобы научиться управлять и подчинять себе эту
действительность. Здесь требуются методы рационального
научного познания. Иносказания, метафоры, интуиции и т. д.
должны быть переведены на язык дискурсивного
мышления, должны быть эксплицированы в соответствии с
познавательными интересами и задачами. Этим целям служит
современный метод теоретического конструирования,
прообраз которого мы находим в философских разработках
позднего Шеллинга.
Сопоставляя метод конструирования с методом
современного тропологического анализа, привившегося в
психоанализе, нельзя не отметить ряд существенных совпадений,
касающихся преодоления крайностей инструменталистских
доктрин. Выступая против этих крайностей, М. Бунге
правильно подчеркивает, что зрелая фактуальная теория
избегает интерпретаций по принципу «как если бы», поскольку
метафорическое объяснение относится к периоду построения
теории, а не к окончательной ее формулировке.
Предполагать же, что научное объяснение выполняет чисто
инструментальную роль, — значит, по Бунге, путать научную
теорию с библейскими притчами, соглашаясь с
инструментализмом файхиигеровского типа, что все
научно-теоретическое знание может быть знанием только по аналогии 87.
Таким образом, первые шаги познания начинаются не с
выработки ясных и четких понятий, а с интуитивного
понимания проблемной ситуации в целом. Понимание как
процесс — это деятельность сознания, опирающегося на
языковые формы знания, для которых проблемность ситуации
выступает в виде метафорообразований (озадаченного
языкового сознания). Перед познающим субъектом возникает
цель — перейти от значений к понятиям, от слов к
терминам, от обыденного языка к языку научного знания.
Фрегевская семантика и ее основополагающее значение
для семантических теорий XX в. Аристотелем XX в. назвал
А. Тарский немецкого математика, логика и философа Гот-
лоба Фреге (1848—1925), осуществившего подлинную
революцию в сфере логической семантики, что сказалось не
только на всоЙюследующем развитии логической науки, но
и отразилось на изучении вопросов лингвистической
семантики, на психолингвистике, затронуло важные стороны
философского знания. Это особенно любопытно в свете того
факта, что Фреге был больше математиком и логиком, чем
философом или лингвистом. Так, например, с именем Фреге,
444
по мнению. У. Куайна, связано начало современной
логики.
Первые фрегевские произведения были нацелены на
разработку формальной системы, внутри которой могут быть
выполнены математические доказательства. Это было
вызвано тем, что в конце XIX в. математика находилась в
критическом состоянии, и Фреге посвящает большую часть
своей жизни преодолению этого кризиса. Поставленная цель
заставила его вплотную заняться вопросами логики.
Существующий аппарат логических систем, методы и теории были
совершенно неадекватны для использования в
математике. Поэтому Фреге пришлось приложить значительные
усилия для разработки логического инструментария,
ориентированного на математику. В свою очередь это побудило
его обратиться к философским основаниям традиционной
логики. Таким образом, не будучи профессиональным
философом, Фреге приходит к рассмотрению вопросов, имеющих
философско-теоретический характер 88.
Если говорить о Фреге как о теоретике, то его
методологическую установку в целом можно охарактеризовать как
логицизм и платонизм 89. Фреге считал своим достижением
доказательство происхождения арифметики из логики.
Такая познавательная позиция немецкого ученого в
значительной мере обусловлена его разрывом с психологически
ориентированной философией математики. Характерна также
полемика Фреге с Д. Гильбертом. Эта полемика является
выражением более общих разногласий по поводу ключевых
понятий между «логицизмом» и «формализмом». Фреге не
принимал формалистского подхода к математике, для
которого показателен перевес формальных операций со знаками
над операциями с объектами, этими знаками
обозначаемыми, и поэтому критиковал Гильберта за недооценку
семантического фактора, за то, что тот путал функции
определений и аксиом. В этой критике со всей отчетливостью виден
Фреге-семантик. Согласно Фреге, размытость границ между
определениями и аксиомами влечет возможность отрицания
наличия единой определяемой референции, которая могла
бы быть определена для данного термина при условии его
функционирования в нескольких различных аксиомах 90.
В начале XX в. еще трудно было оценить значение
разработок Фреге для логики, лингвистики и философии. К
тому же в годы своей творческой деятельности Фреге не
обладал широкой популярностью. Его имя было известно только
узкому кругу лиц, в частности Б. Расселу, Л. Витгенштейну
и Э. Гуссерлю. Наиболее сильное влияние испытали Б. Рас-
145
сел и Л. Витгенштейн. Рассел однажды писал
Витгенштейну: «Во всех вопросах логического анализа мы глубоко
обязаны Фреге»91.
Философов науки фрегевские семантические идеи могут
заинтересовать в связи с вопросом изменяемости значений
научных терминов в процессе развития научного знания,
что, как известно, живо обсуждается в современной фило-
софско-методологической литературе.
Развивая свою логическую систему с 1879 г., Фреге
занимает все более антипсихологические позиции. В период с
1884 г. по 1890 г. он окончательно убеждается в полной
несостоятельности образной теории значения и доказывает
несоотносимость ментальных образов со смыслом, тем
самым противопоставляя логику как строгую, объективную
науку субъективистской психологии и выделяя «смысл» в
самостоятельную категорию92. Среди опубликованных
статей по данной тематике наиболее видное место принадлежит
статьям 1892 г.: «О смысле и значении и «О понятии и
значении». Фреге неоднократно пытался написать книгу,
которая была бы всецело посвящена философии логики, но за
исключением нескольких глав, опубликованных в качестве
отдельных статей, труд этот не был осуществлен 93.
Семантическая концепция Фреге произросла на основе
анализа «имен собственных». Ближайшим
предшественником Фреге по данному вопросу был Дж. С. Милль.
В «Системе логики» Милль различает коннотативные и
лол-коннотативные «имена». По его мнению, коннотативные
термины («имена») — это термины, которые обозначают
предметы и подразумевают атрибуты. Мэ/г-коннотативные
термины — это термины, которые обозначают только
предметы, не подразумевая атрибуты. Так, «девушка» —это кон-
нотативный термин, который обозначает
экстралингвистический предмет, предполагающий атрибуты, выражаемые
такими терминами, как «ребенок», «женщина» и т. д. По
Миллю, все конкретные общие имена являются коннотатив-
ными. Так, слово «человек» приложимо к Петру, Джону и
т. д., т. е. приложимо к неопределенному количеству
индивидуумов. Что же касается собственных имен, то они не
являются коннотативными именами, поскольку ими
обозначаются индивидуумы, которые только называются, но при этом
не указываются их атрибуты. Быть коннотативным именем,
или иметь значение, — значит сообщать, выражать
информацию. На это оппоненты Милля возражают следующим
образом. Допустим, собственные имена не выражают
когнитивной информации. Следовательно, «Наполеон», «Веллинг-
146
тон» и «Ватерлоо» соответственно не выражают никакой
информации. Но почему в таком случае выражает
информацию предложение «Наполеон был разбит Веллингтоном
при Ватерлоо»? Казалось бы, исходя из взглядов Милля,
можно безболезненно заменить в указанном предложении
собственные имена на любые другие без ущерба для
значения предложения. Но это очевидный нонсенс. Выход из
создавшегося положения был предложен Фреге, а затем и
другими логиками, которые попытались дифференцировать
«обычные собственные имена» и «логические собственные
имена»94.
Фреге различал полные и неполные выражения. К
полным выражениям он относил «собственные имена» и
«предложения». Под «собственными именами» понимались все
сингулярные термины, включая комплексные термины.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что Фреге
никогда не затруднял себя попыткой дать точную
характеристику категории «имени собственного». Впоследствии это
вызвало ряд нареканий и острые прения среди логиков 95.
Так, согласно Фреге позднего периода, все выражения,
включая предложения, являются «именами». В противовес
этому Рассел и Витгенштейн настаивали на том, что
предложения не являются «именами» 96.
Фреге приписывает «собственным именам» не только
«значение» (Bedeutung), но и «смысл» (Sinn), поскольку
семантика предложения может быть существенно изменена
посредстгом замещения одного собственного имени другим,
хотя и с тем же самым «значением». Из этого Фреге делает
вывод, что собственные имена должны иметь две
семантические функции. Во-первых, они должны обозначать (Ье-
deuten) объекты. Во-вторых, они должны выражать (driic-
ken aus) «смысл» (Sinn). Таким образом, Фреге
разграничивает «смысл» (Sinn) и «значение» (Bedeutung).
Собственные имена с одним и тем же «смыслом» имеют одно и
то же «значение», но, с другой стороны, имея одно и то же
«значение», они далеко не всегда имеют один и тот же
«смысл». Кроме того, Фреге признает право на
существование за такими «именами», которые имеют «смысл», но
не имеют «значения» (например, Пегас). Как видим, это —
семантическая версия мейнонговской онтологии.
Подобное сопоставление лишний раз свидетельствует о
тесной связи семантики с онтологией, а следовательно,
современная гносеология призвана дать свою
общефилософскую оценку семантической проблематике, тем самым
включив в свой состав, наряду с онтологией, семантику. Это
147
актуально хотя бы по той причине, что при выработке
новых научных терминов в контексте создающихся теорий мы
должны осторожно относится к «именам», которые не
являются ни истинными, ни ложными, но обладают «смыслом»
(например, «вечный дьигатель», «демоны» Максвелла).
Некоторые из таких терминов (не имеющих «значения»)
могут оказаться даже вредными по своей концептуальной сути
(например, «эфир», «жизненная сила», «первотолчок»),
тогда как другие (типа «демонов» Максвелла) будут
указывать на эвристические функции мысленного моделирования,
не имея того истинностного значения, которым обладают
термины проверенных научных концепций.
Если попытаться в самом общем виде охарактеризовать,
что же все-таки Фреге имеет в виду под «смыслом» «имени
собственного», то можно сказать следующее: «смысл»
«имени собственного» — это концептуальная сущность, т. е. нечто
объективное (интерсубъектное), которое следует отличать
от субъективных идей и приватных ассоциаций. Иными
словами, для Фреге «смысл» «имени собственного» — это
нечто общее для всех людей, если они одинаково реагируют
на данное «имя собственное». Однако Фреге не дает ясного,
логически четкого критерия для отождествления
«смысла» «собственных имен». Не случайно, как указывает
А. Черч, Рассел дошел в своей теории чуть ли не до отказа
от «собственных имен», которые он объявляет
неправильностями обычных языков и которые, по его мнению, подлежат
устранению при построении формализованного языка. Это
ему, однако, не удается, так как он вынужден допустить
узкий класс «имен», которые являются именами качеств, и
которые, по терминологии Фреге, имеют «Bedeutung», но не
имеют «Sinn»97. Впрочем, сам Черч вынужден признать,
несмотря на критику в адрес Рассела, что еще до сих пор
нет общепринятой теории «Bedeutung» («значения»)
«собственных имен», и поэтому он довольствуется тем, что
принимает теорию, в основном принадлежащую Фреге 98.
По аналогии с «собственными именами» Фреге
приписывает предикатам и предложениям двойную семантическую
функцию. Как и «собственные имена», предложения могут
иметь «смысл», но не иметь «значения», т. е. могут быть не
истинными и не ложными. Такие предложения также
желательно в большинстве случаев исключать из научных
текстов.
Относительно перевода немецких слов «Sinn» и
«Bedeutung» существует значительное разночтение в
англо-саксонской литературе и в литературе на русском языке, Напри-
148
мер, Для перевода слова «Bedeutung» в англо-саксонской
литературе используются слова «meaning» (значение),
«reference» (указание; технический термин — референция) и
«denotation» (предметная отнесенность; технический
термин— денотация), где референция и денотация — это
определенные логические процедуры по выявлению
соответствующих «значений» (референтов, денотатов). Этим
переводам предшествовала расселовская интерпретация фрегев-
ской дистинкции. Но в отличие от Фреге Рассел
отождествляет содержание немецкого термина «Sinn» (смысл) с
английским термином «meaning» (значение). Наиболее
важный вклад в дело этой интерпретации был сделан Н. Фейг-
лом, который переводил «Sinn» как «sense» (смысл) ".
По мнению Т. Барджи, понятие «смысл» было введено
Фреге для решения проблемы информативности, т. е. для
решения проблемы соотношения знания (Knowledge) и
веры как синонима мнения (belieffy. Своими корнями эта
проблема уходит в античную философию, где различалось
«знание» (достоверное) и «мнение» (вероятное). Данная
дистинкция, как мы помним, является мировоззренческим и
методологическим базисом античной риторики. Поэтому
только эпистемически ориентированная критика
соответствует анализу фрегевского «смысла», резонно подчеркивает
Барджи. Понятие «смысл» указывает не только на
логическую проблематику, но и на множество других важных
проблем познания, которые ни в коем случае нельзя
игнорировать 10°. Барджи совершенно прав. Дело в том, что логика,
отрекающаяся от гносеологии как прагматики, сама
оказывается неспособной выбрать верную стратегию в
разработке понятия «смысл».
Те, кто сравнивают фрегевскую дистинкцию «Sinn —
Bedeutung» с расселовской дистинкцией «meaning —
denotation», склонны (под влиянием Дж. С. Милля)
предполагать, что «Sinn» сопоставим расселовскому «meaning», a
«Bedeutung» — его «denotation». Это, по мнению И. Уолке-
ра, неверно. Точнее было бы говорить, что расселовское
«meaning» соответствует фрегевскому «Bedeutung» ,01. Эта
точка зрения оспаривается. Так, Д. Бэлл считает, что
перевод слова «Bedeutung» должен учитывать фрегевский
концептуальный контекст, а не интуицию того, для кого
немецкий является родным языком. Поэтому перевод
«Bedeutung» как «meaning» является потенциально причиной
большого числа недоразумений. Как полагал Бэлл, эти
недоразумения вызваны тем, что переводчики
ориентируются преимущественно на «Sinn», а не на «Bedeutung» ,024
149
Оппоненты Бэлла, П. Лонг и Р. Уайт считают, что более
подходящим эквивалентом немецкого «Bedeutung»
все-таки является «meaning». При этом они исходят из
грамматического анализа немецкого имени существительного (Bedeu-
tung — значение) и глагола (bedeuten — означать, значить),
а также из контекста фрегевских работ. Лонг и Уайт
указывают, что предпочтение перевода «Bedeutung» как
«reference» (указание, референция) обусловлено концептуальными
разработками Рассела, П. Стросона и других, где мы имеем
дело не со словами, а с терминами, маркирующими
соответствующие научные понятия 103.
Итак, Рассел, хотя и отталкивался в своих разработках
от фрегевской семантики, тем не менее попытался заменить
дистинкцию «Sinn — Bedeutung» своей дистинкцией
«meaning — denotation». В процессе последующего
логико-семантического и эпистемологического уточнения фрегевской дис-
тинкции выявилась тенденция эксплицировать «Bedeutung»
как «reference». В свою очередь эта тенденция покоится на
определенных методологических предпосылках,
отражающих методологию логического эмпиризма, в частности
принцип верификации. Вероятно, под влиянием расселовской
критики фрегевской дистинкции (кстати, критики далеко не
во всем справедливой, как это показал М. Дамметт) был
осуществлен русский перевод статьи Фреге» «Ober Sinn und
Bedeutung» («О смысле и значении»), по-русски
озаглавленной «Смысл и денотат».
Столь широкое разночтение относительно фрегевской
дистинкции вызвано еще следующей причиной. Если
абстрагироваться от подобной дистинкции и рассматривать
«значение» и «смысл» как синонимичные слова (/гол-термины)
обычного языка, то референция в строгом смысле слова не
является ингредиентом значения. Будь она ингредиентом
значения любого слова, мы бы не нуждались в
семантических концепциях типа фрегевской. Нас вполне бы
удовлетворяли остенсивные определения. Согласно же Фреге,
«смысл» выражения определяет его референцию
(«значение»), с которой связана деятельность по установлению
истинностного значения данного выражения. Действительно,
вначале мы должны иметь общую смысловую картину
ситуации, прежде чем перейти к анализу ее структуры и
компонентов. Выделяя, анализируя эти компоненты, мы
осуществляем референцию, т. е. указываем на «кирпичики»
структуры. Таким образом, теория значения (значения в широком
смысле слова) — это теория понимания, а не дискурсивно-
логического мышления104. Эта точка зрения Дамметта
150
вполне соответствует марксистскому пониманию
возможностей гносеологической теории, которая включает в себя
учение о понятии и понимании в связи с учением о сознании
В его языковом функционировании.
В свете сказанного представляется целесообразным
различать в слове «Bedeutung» два терминологических
пласта— (1) «значение» в обычном (естественном) языке, где
истинность или ложность определяются «житейским
опытом», интуицией, и (2) референция в научных
(искусственных) языках.
Центральной проблемой фрегевской философии и
логики является проблема, остро волновавшая Лейбница, —
проблема тождества. В своей программной статье «О
смысле и значении» Фреге предлагает радикальное решение
данной проблемы.
Какова природа тождества? Является ли тождество
отношением между вещами или отношением между
«именами»? Анализируя понятие тождества, Фреге отдает
предпочтение тождеству между «именами» (знаками) вещей. Это
объясняется тем, что он попытался объяснить
информативность тождественно-истинных утверждений. По этому
поводу Дамметт замечает, что Фреге был первым, сделавшим
тождество логическим понятием 105.
До Фреге, если не считать наброски Лейбница,
отношение тождества обычно ассоциировалось с отношением
между вещами, тогда как познавательная роль знако^кых
систем (естественных и искусственных языков) практически
игнорировалась. Так, например, «вечерняя звезда» и
«утренняя звезда» (вещь X и вещь У) после того, как было
установлено, что речь идет о планете Венера, рассматрива-
jj#fo> как целиком взаимозаменяемые «имена», поскольку
тождество понималось как самотождественность некоторой
вещи. Однако, утверждая, что «Х= У», мы неявно выделяем
обозначающую функцию знаков. Следовательно, отношение
тождества связано не только с вещами, но и со знаками,
эти вещи обозначающими.
Здесь есть и свои сложности. Так, если мы согласимся
с тем, что акт обозначения произволен, зависит от
индивидуальных прихотей, то выражение «Х=У» будет касаться
не сути дела, а только принятого нами способа
обозначения, что влечет за собой путаницу и препятствует передачи
полезной информации. Поэтому Фреге и предлагает
дополнить понятия «знак» и «значение» понятием «смысл»,
которое является отражением способа репрезентации
обозначаемого данным знаком содержания («значения») 106.
151
С подобной ситуацией мы сталкиваемся при чтении соссю-
ровского «Курса», где со всей определенностью
подчеркивается, что «механизм языка зиждется исключительно на
тождествах и различиях»,07. Соссюр приводит пример с
двумя скоростными поездами, отправляющимися один за
другим с интервалом в 24 часа. Естественно, что это один
' и тот же поезд, если идентификацию осуществлять с
учетом маршрута и времени отправления. Все остальное
может быть другим (цвет паровоза, иной состав поездной
бригады и т. п.), но пассажира это не должно интересовать.
Согласно Фреге, некоторые тождественные утверждения
являются синтетическими, если они включают различные
способы, посредством которых определяется одно и то же
«значение». Следовательно, понятие тождества много
глубже поверхностных кантовских представлений, которые
навязывают аналитическим суждениям чисто механические
функции по извлечению информации, содержащейся в
субъекте суждения.
Если отношения тождества целиком зависят от
отношений между референтами («значениями») тождественных
выражений, то форма выражения не имеет когнитивного
значения. Одно выражение сравнительно с другим ничего
нового не добавляет к нашему знанию. Следовательно, если
выражение «А=А» не расширяет нашего знания, то не
может расширить нашего знания и выражение «Л = В». Тем
не менее интуитивно ясно, что два указанных выражения
отличаются по своему когнитивному значению: если «А =
=А» не сообщаем нам ничего нового, то «А=В» что-то
новое сообщает. С учетом этой интуиции можно заключить,
что тождество не является отношением только между
референтами.
Допустим теперь, что тождество — это отношение между
формами выражений. В таком случае форма выражения
«Л = В» сообщает нам, что знаки «А» и «Б» используются
для репрезентации одной и той же сущности. Иными
словами, тождественные утверждения должны сообщать нам
только сугубо лингвистическую, даже шире, семиотическую
информацию, ничего не сообщая о мире. Однако
интуитивно ясно, что тождественные утверждения типа «Л=Б»
часто сообщают нам информацию о внелингвистических
сущностях. Их подлинно когнитивное значение не может
ограничиваться лишь пределами языка, но должно отражать и
происходящее в мире. Следовательно, тождество не может
быть отношением только между выражениями.
Как же разрешить эту дилемму?
152
Согласно Фреге, помимо формы выражений и их
референтов, следует принимать в расчет еще третий фактор, а
именно^сдособ, посредством которого референт
репрезентируется. ПоскЬльку один и тот же референт (объект
познания) может быть представлен (репрезентирован) в
различных теоретических конструкциях, то утверждение тождества
типа «Л=Б» сообщает нам больше, чем утверждение типа
«Л=Л». Из истинного синтетического утверждения
тождества мы узнаем не просто о самотождественности объекта,
но и то, что один объект связан с двумя или больше
различными по ценности ситуациями («смыслами»).
Анализируя понятие семантической информации И. Бар-
Хиллела и Р. Карнапа, Дж. Лайонз предостерегает от
мнения, что тавтология является якобы семантически
неинформативным феноменом. По его мнению, существуют
определенные утверждения, которые являются тавтологиями,
поскольку они логически вытекают из других утверждений,
взятых аксиоматически, и принимают форму необходимо
истинных утверждений, и которые, тем не менее,
рассматриваются в качестве информативных. Самым очевидным
примером этого являются математические утверждения.
Например, (х2—у2) = (х+у) • (#—у) — необходимо истинно для
всех значений хну. Однако сообщение этого утверждения
тому, кто недостаточно хорошо знаком с математикой,
рассматривается как увеличение его знания 108.
С критикой Фреге по вопросу о связи между
«значениями» (референтами) и их «смыслами» одним из первых
выступил Б. Рассел в своей известной статье «О денотации»
(1905). Рассел писал, что фрегевская дистинкция «Sinn —
Bedeutung» лишь безнадежно запутывает дело. Рассел
пытался элиминировать проблему «смысла», считая, что
может быть создана адекватная теория значения, не
предполагающая «смысла» (Sinn). Он верил, что его теория
значения является такой адекватной теорией 109. По Расселу,
можно относительно легко отказаться от фрегевских
понятий «Sinn» и «Bedeutung», если проблему тождества
рассматривать ^ер^* призму проблемы дескрипций.
По-своему пытался осмыслить фрегевскую семантику
Л. Витгенштейн. Так, дистинкцию «смысл — значение»
Витгенштейн раннего периода трактует, разграничивая
«имена», имеющие «значение», и «пропозиции», имеющие
«смысл». Но Витгенштейн позднего периода, периода
«Философских исследований», существенно модифицирует
указанное разграничение. Теперь он проводит различие между
«использованием слов», благодаря чему утверждается поня-
153
тие «значение», и «языковыми играми», благодаря чему
утверждается понятие «смысл». Таким образом, как
подчеркивает Г. Финч, Витгенштейн расширяет понятие
«смысл» с тем, чтобы продемонстрировать имманентность
«смысла» языку по.
С позиций «логического синтаксиса» оценивает фрегев-
скую семантику Карнап. Не найдя в концепции Фреге
точного критерия для установления тождества «смыслов», он
предложил свою версию понятия «смысл». Для этих целей
понятие «смысл» заменяется понятием «интенсия» (интен-
сионал»). Согласно Карнапу, два предиката имеют одну и
ту же интенсию, когда логически доказуемо, что они точно
применяются к одним и тем же аргументам, т. е. два
«имени» имеют одну и ту же интенсию, когда тождество
объектов, которые они обозначают, логически доказуемо.
Соответственно, два предложения имеют одну и ту же
интенсию, когда их эквивалентность логически доказуема. Таким
образом, Карнап определяет тождество интенсий
(интенсиональное тождество) с помощью логической
эквивалентности (L-эквивалентности).
Самый важный вклад Карпана в семантику
заключается в формулировке критерия для тождества интенсий.
Согласно Карнапу, два выражения («Л» и «Б») имеют одни
и те же интенсий, если они являются логически
эквивалентными, т. е. если предложение «Л = В» является логически
истинным. Предложение «А=В» является логически
истинным, если оно истинно во всех интерпретациях индивидных
и предикатных констант, имеющих место в «А» и «В». Это
можно выразить следующим образом: «Л = В» является
логически истинным, если оно истинно во всех логически
возможных мирах. В таком случае истинностное значение
является независимым от суммы эмпирических факторов. Это
значит, что «А» и «Б» имеют одни и те же интенсий, если
они имеют одни и те же экстенсии (одно и то же
истинностное значение) во всех возможных мирах.
Интенсиональное тождество двух выражений («А» и
«В») не предполагает их синонимичности. Только если <гЛ»
и «В» могут быть заменены salva veritate друг другом во
всех контекстах, то они являются синонимичными.
Таким образом, карнаповский вариант уточнения фрегев-
ского понятия «смысл» осуществляется за счет приоритета,
отдаваемого «значению» (экстенсии) над «смыслом» (ин-
тенсией). Эпистемологический смысл этого уточнения
связан с методом верификации, а логический — с
синтаксическим подходом к семантике.
154
Нечто подобное карнаповскому подходу к семантике
наблюдается в разработках С. А. Крипке. Согласно
Крипке, собственные имена являются «твердыми десигнаторами»
(rigid designators), тогда как определенные дескрипции
таковыми не являются. «Твердый десигнатор»
определяется как термин, замещающий объект в каждом логически
возможном мире. Например, определенная дескрипция
«Человек, который был учителем Аристотеля» не является
твердым десигнатором, поскольку имеются возможные миры,
где этим человеком был бы не Платон, а кто-нибудь другой.
Что же касается имени «Платон», то это — твердый
десигнатор, так как в каждом возможном мире имя «Платон»
замещает именно того человека, на которого в реальном
мире мы указываем с помощью данного имени. По Крипке,
референция термина предполагает только реальный мир.
Таким образом, понятие «твердый десигнатор» шире
обычного понимания собственных имен, поскольку в реальном
мире твердый десигнатор указывает, а в логически
возможных мирах замещает. Например, имя «Венера» в реальном
мире указывает на соответствующую планету солнечной
системы, а в логически возможных мирах (в различных
познавательных ситуациях) замещает объекты, обозначаемые
как «утренняя звезда» и «вечерняя звезда». К разряду
твердых десигнаторов относятся «метр», «свет», «звук»,
«кот» и т. д., твердость которых зависит от ряда конвенций.
По мнению Т. Барджи, ошибочно говорить (даже с
оговорками и поправками) о собственных именах как о твердых
десигнаторах. Собственные имена являются
контекстуально зависимыми референциальными выражениями, которые
обычно используются твердо, но которые в некоторых
анафорических случаях используются поп-твердо 1П.
Наиболее типичным примером анафорической
референции являются местоимения. Когда мы говорим «Джон
Браун взобрался на гору. Он покорил ее», каждый знает, что
«он» во втором предложении замещает имя собственное
«Джон Браун» в первом предложении. Местоимение «ее» во
втором предложении замещает слово «гора» в первом
предложении. Поэтому второе предложение можно переписать
следующим образом: «Джон Браун покорил гору».
Повседневный опыт показывает, что референция
посредством местоимений становится двусмысленной, когда имеют
место другие потенциальные замещения. Например: «Джон
Браун взобрался на гору. Джек Джонс взобрался на скалу.
Он покорил ее». В данном случае отсутствует способ
точного определения, что замещается в третьем предложении.
155
Эту трудность можно обойти, используя другую форму
анафорической референции, а именно — определенную
дескрипцию. Например, предложение «Он покорил ее» мы можем
переписать так: «Некто, взобравшийся на гору, покорил ее».
В данном случае ясно, что речь идет не о Джеке Джонсе,
который взобрался на скалу, а о Джоне Брауне, поскольку
в дескрипции фигурирует слово «гора» 112.
Существует множество разновидностей анафоры. Неко
торые формы анафоры включают целые предложения. Для
понимания анафорических выражений необходимо
учитывать контекст, чего пытаются избежать Карнап и Крипке.
Одна из самых жарких дискуссий, связанная с фрегев-
ской семантикой, протекала по вопросу о соотношении
«смысла» и «значения» в косвенной речи. Эта дискуссия
представляется особенно интересной в свете анализа
механизма семантических изменений в естественных и
искусственных языках.
По Фреге, «смысл» выражения определяет его
референцию. Фреге считал, что поскольку выражение, имеющее
место в косвенной речи, не обладает своей обычной
референцией, то «смысл» в данном контексте должен быть
соответствующим образом определен. Здесь показательна рассе-
ловская критика Фреге, хотя, как считает Дамметт, эта
критика весьма путанна.
Рассел солидарен с Фреге, что нет пути от референции к
«смыслу», так как «смысл» определяет референцию, а не
наоборот. Что же в таком случае представляет собой
«косвенный смысл» выражения?
По Фреге, референтом косвенного выражения является
обычный «смысл» прямого выражения. Но этого еще
недостаточно, чтобы определить, чем является «косвенный
смысл». Ясно, что нет способа, с помощью которого можно
утверждать, каков «смысл» выражений, находящихся в так
называемых темных контекстах (opaque contexts). Правда,
можно попытаться сказать, что поскольку имя собственное
«Сократ», когда это имя находится в темном контексте,
замещает то, что в прозрачном контексте является его
«смыслом», то по здравому размышлению «смысл» в темном
контексте должен быть тем же самым «смыслом», что и в
прозрачном контексте. Таким образом, «косвенный смысл»
имени «Сократ» и обычный «смысл» того же имени
должны совпадать. Но оказывается это невозможно и вот почему.
Предположим, мы имеем имя «Скотт» и выражение
«Рассел сказал, что король Георг IV желал знать, действительно
ли Скотт написал произведение «Веверлей». Согласно фре-
156
гевской доктрины, имя «Скотт» должно обладать двойной
референцией и двойным «смыслом». Например, его вторым
референтом будет «смысл» имени в обычном
(поп-придаточном) предложении. Однако не все так просто. Если
относительно референции мы еще что-то знаем и можем сказать,
то о «смысле» косвенного выражения мы ничего
вразумительного сказать не можем. Но если «смысл» все время
остается неуловимым фантомом, то и референт косвенного
выражения является большой натяжкой, т. е. с логической
точки зрения мы и о нем ничего вразумительного сказать не
можем. В таком случае рушится вся фрегевская теория,
базирующаяся на дистинкции «смысл — значение». Такова в
общих чертах расселовская критика Фреге. По мнению же
Дамметта, имеется весьма существенное уточнение
относительно фрегевской доктрины, рассеивающее наши
сомнения, вызванные расселовской критикой.
Вся трудность в понимании фрегевского семантического
учения объясняется недостаточно ясным пониманием
определяемое™ референции выражения его «смыслом». По
Фреге, слово, будучи изолированно, не имеет своей собственной
референции, оно имеет референцию только в контексте
предложения. Это полностью соответствует его взглядам: слово
или какое-либо другое выражение сами по себе могут
обладать только «смыслом», а не референцией. Их референция
зависит от конкретной позиции в предложении, то есть от
лингвистического окружения и вида контекста. Таким
образом, мы вправе рассматривать выражение, находящееся в
темном контексте, как имеющее одинаковый «смысл» в
прозрачном и темном контекстах, но различную
референцию.
«Смысл» слова не может изменяться от контекста к
контексту. Если бы он изменялся, то необходимо было бы
предположить возможность существования некоторого правила,
благодаря которому мы понимаем предложение. Правда,
является неоспоримым тот факт, что существуют
двусмысленные слова, смысл которых резко изменяется от одного
контекста к другому. Но это именно тот случай, когда/_мы
не можем быть уверенны в понимании «смысла»
предложений, в которых присутствуют данные слова. «Смысл» этих
слов не определяется полностью контекстом, скорее
контекст обеспечивает основания для угадывания того или
иного «смысла». В связи с этим уточнением Дамметт считает
необходимым подчеркнуть, что нет такой «вещи», как
«косвенный смысл» слова, а имеется только его обычный
«смысл», от которого зависит референция в прозрачных кон-
157
текстах, в темных же контекстах референция может
совпадать с этим обычным «смыслом». Взгляд же, что между
обычным «смыслом» и референцией и «косвенным смыслом»
и референцией лежит непреодолимая пропость, является
результатом механической дедукции из весьма ошибочной
теории из.
Попытаемся теперь взглянуть на фрегевскую семантику
с гносеологической точки зрения, дать ей соответствующую
философскую оценку.
Согласно фрегевской логической (антименталистской)
терминологии, мышление—это «смысл», выраженный
полным предложением, имеющим вид либо утверждения, либо
вопроса, на который следует давать однозначный ответ (да
или нет).
Фреге в своем определении мышления исходит не из
мышления как процесса, а из мышления как результата, как
продукта. Поэтому в логическом плане мышление — это
логико-семантический конструкт, который может быть
либо истинным, либо ложным. Гносеологическим прототипом
логической модели мышления, предложенной Фреге, может
служить замысел.
Фрегевский «смысл» не является психологическим
понятием. При этом индивидуальный акт схватывания «смысла»
(мысли) может быть глубоко внутренним, ментальным
актом, но сама эта схватываемая мысль является объективной
по своему интерсубъектному статусу. Скажем, «у
художника, наездника и зоолога с именем «Буцефал» будут
связаны, вероятно, очень разные представления. Этим
представления существенно отличаются от «смысла» знака, который
может быть общим достоянием, а не просто частью опыта
одного человека. Именно благодаря «смыслам» знаков
человечество сумело накопить общий багаж знаний и может
передавать его от поколения к поколению» 1И. Из этого
Фреге делает вывод, что «смысл» можно рассматривать сам
по себе, тогда как о представлении этого сказать нельзя.
И все же «смысл» содержит в себе элемент субъективного,
так как Фреге помещает его между объективным
(«значением») и субъективным (представление как внутренний
образ) 115. Дать полностью антипсихологическую трактовку
субъективного аспекта «смысла» Фреге не удалось. В своем
лингвистическом анализе конкретных «имен» он больше
полагался на интуицию 1Ш.
Просчет Фреге заключался в том, что он недооценил
возможности гносеологического анализа семантики,
ошибочно зачисляя, как и Витгенштейн, гносеологию в разряд
L58
психологических дисциплин, в результате чего субъективное
понималось им очень узко, как
индивидуально-психическая деятельность взрослого человека. Однако, как бы там
ни было, очень важно понять, что фрегевская модель
«смысла» является средством решения не психологических
вопросов, а вопросов логических. Причина, почему «смысл» не
связывается с внутренним психическим процессом, состоит
в том, что Фреге рассматривает понятие «смысл» как
содействующее объяснению наших операций с языком в
теоретическом познании. По мнению Дамметта, Фреге можно
оценить как отца лингвистической философии, если иметь при
этом в виду все разновидности философского анализа
понятий с учетом анализа средств их выражения 117.
В отличие от логики гносеология с необходимостью
должна учитывать генезис изучаемых явлений,
закономерности их развития, что в идеалистической диалектике было
подчернуто еще Гегелем, говорившем о диалектике не
только как о теории познания, но и как о теории развития.
С этой общефилософской точки зрения семантические
изменения в естественных и искусственных языках в конечном
итоге обусловливаются изменениями в материальной и
духовной жизни общества. Изменение вещами своих функций
отражается на изменениях в понятиях о них, в результате
чего иными становятся и значения соответствующих
языковых выражений. Несколько сильны и общезначимы эти «ве*
щные» изменения, настолько же сильны и общезначимы
способы репрезентации происходящего в сознании. По
К. Марксу, первичный синтез, отражающийся затем в
сознании и языке, происходит не в познающем уме, как
утверждают философы-идеалисты, а в самой материальной
действительности и лишь после этого выражается в
синтетических конструкциях интеллекта, которые в своем
завершенном виде могут показаться чем-то априорным. Примером
последнего служит фрегевский «смысл», рассматриваемый
как абстрактный «предмет», или, как пишет А. Черч,
«смысл» (концепт) — это постулированный абстрактный
объект с определенными постулированными свойствами118.,
Черч по-своему прав, так как для определенного типа
формально-логических построений вполне достаточно понятия
«смысла» как «абстрактного объекта», над которым можно
производить соответствующие логические операции.
С точки зрения диалектического материализма
понятие—это не только продукт (схема, структура), но и
деятельность (функция), деятельность понимающего сознания,
для которого различные сферы и уровни бытия имеют раз-
159
личную ценность и по-разному закрепляются в языке и его
семантике.
Заключение. Человеческое сознание становится
доступным самому себе через свое осуществление в продуктах
материальной и духовной культуры. Какова целостная струю
тура социально-культурной реальности, такова в общих
чертах и структура общественного сознания в различных его
формах.
Строй и ориентация сознания — это хотя и базисные, но
формальные параметры интеллектуальной деятельности
человека, почти ничего не говорящие о содержании
сознания. Задача всякого историко-философского исследования
заключается в том, чтобы не только выявить зависимость
структур сознания от структур бытия, но и максимально
раскрыть содержательные характеристики сознания, вклю-
чаюшие в себя сложный и противоречивый комплекс
традиций, обычаев, привычных норм поведения и т. п.
Рассматривая под этим углом зрения произведения представленных в
данной главе авторов, нужно отметить следующее.
Эпоха буржуазного строительства поставила ученых в
такую проблемную ситуацию, для выхода из которой
требовалось переосмыслить многие важные философские и
общенаучные категории, в терминах которых описывался
человек и окружающий его мир. Так, например, отдавая дань
спекулятивно-идеалистической традиции, многие философы
подходили к оценке языка и мышления с точки зрения их
автономного функционирования, но это противоречило
потребностям науки и реальной познавательной практике.
Поэтому Лейбниц, несмотря на методологические догмы,
полученные им в наследство от философов предшествующих
времен, в своем анализе феномена синонимии вынужден
был показать небезразличную роль «формы» (языка) для
выражения «содержания» (понятийного мышления).
Стремясь, однако, согласовать свои наблюдения с
общепринятыми взглядами, Лейбниц отождествляет «форму» не с
естественным языком, а с «языком» логики, т. е. с методом
логического анализа, только робко намекая на когнитивные
возможности форм естественного языка.
Лейбницевский инструменталистский подход к языку
науки был чреват эклектизмом в оценке понятий и значений.
Значения сравнительно с понятиями воспринимались им как
смесь чувственного и рационального, образного и
понятийного. Наука не может иметь дело с таким «винегретом».
Для Лейбница понятия — это результат логического
конструирования, нечто логически стабильное. Однако анализ
160
феномена синонимии наталкивал на «кощунственные» для
аристотелевской логики выводы об изменяемости функций
понятий в зависимости от теоретического контекста. Но
если функции понятий изменяются в зависимости от способа
их использования (репрезентации), то это противоречит
традиционной теории образования абстракций (понятий),
основы которой были заложены «непогрешимым»
Аристотелем. У Лейбница не хватило смелости войти в конфликт с
Отцом Логики. Как писала Л. С. Стеббинг, Лейбниц
столкнулся с серьезным препятствием в своей попытке создать
символическую логику, поскольку не допускал «ереси», что
Аристотель мог ошибаться119.
Следующая грандиозная попытка осуществить ревизию
познавательных возможностей человека была предпринята
Кантом. С научной деятельностью Канта связана
постановка проблемы соотношения «эмпирического сознания»
(рассудок) и «теоретического сознания» (разум). Опыт решения
этой проблемы Кантом и неокантианцами позволил
заострить внимание на языковом функционировании различных
уровней научного знания. Неопозитивисты, элиминируя
менталистский термин «сознание» из соотношения
эмпирического и теоретического, придали данной проблеме вид дис-
тинкции «теоретический язык — язык наблюдений».
В рамках непозитивистской теории знания, оторванной
от теории познающего сознания, вопрос о понятиях
растворяется в решении вопроса о значениях как логических
конструктах, которые, если они не редуцируемы к «языку
наблюдений», объявляются ненаучными «сущностями»,
«метафизическими фикциями».
Если следовать традиционной рационалистско-эмпирист-
ской схеме «чувственность — знание», игнорируя проблему
сознания и сознательной деятельности, то трактовка
образования понятий будет лишь повторять в различных
вариантах аристотелевское учение о видо-родовой иерархии
понятий. Эта иерархия не объясняет реальный процесс
образования понятий, а зиждется на постулировании некоторого
«протопонятия» (образ, представление) с минимальным
объемом и максимальным содержанием, которое мы
преобразуем в «понятие», отбрасывая несходные признаки и
сохраняя сходные, т. е. постепенно увеличиваем перевес
объема понятия над его содержанием. В таком случае
«теоретический язык» имеет дело с предельно бессодержательными
понятиями, которые к великой радости неопозитивистов
легко заменяются логико-математическими символами.
Радость эта объясняется тем, что, по мнению неопозитивистов,
6 909
161
термин «понятие» во многом перегружен психологическими
ассоциациями в духе гегелевской философии, где одни
понятия «переходят» (!) в другие понятия, т. е. являют собой
воплощение деятельности «логоса» («мировой идеи»). Что
касается «языка наблюдений», то его семантика — это
нечто, соответствующее нашей нейролингвистической
интуиции, которую в принципе можно описать «нейтральными»
теоретико-информационными терминами. Но где же в таком
случае «значение»?
Парадоксальная ситуация: неопозитивисты
отказываются от термина «понятие», но и не жалуют термин
«значение», ограничиваясь так называемым синтаксическим
подходом к вопросам семантики в их логической
репрезентации. По сути дела, они только указывали на семантику, не
решаясь взяться за фундаментальные проблемы семантики
и поэтому относя их к сфере прагматики, а фактически —
к сфере третируемой ими гносеологии.
Одним из первых, кто с антиэмпиристских (антипсихоло-
гистских) позиций попытался наметить общие контуры
решения ключевых вопросов семантики и семантических
изменений в естественных и искусственных языках, был Фреге.
Следует подчеркнуть, что вопрос о семантических
изменениях в языке науки является выражением более общего
вопроса о характерных чертах развития научного знания.
Фрегевская дистинкция «смысл — значение» совершенно в
новом свете позволяет взглянуть на семантику естественных
и искусственных языков. Так, например, отсутствие
референтов («значений») у метафоры не всегда является
показателем ее бесплодности или даже абсурдности, как
полагал Аристотель, признавая право на существование только
за теми метафорами, которые способны развертываться в
сравнения. Применительно к онтологии это можно
переформулировать так: не всякая теоретическая модель должна
отражать реальное положение дел, она вполне может быть
средством, инструментом для построения адекватной
теоретической концепции, например, по принципу от противного
(сравни «вечный двигатель» и закон сохранения энергии).
ЧАСТЬ 2
Современное
состояние ропроса:
семантика и гносеология,
семантические
и концептуальные изменения
Глава 1
ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ
К КАРДИНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Вводные замечания. Поиски нового знания об окружающем
нас мире и создание нового лингвистического контекста для
выражения этого знания не является чем-то изначально
присущим человеку. Это результат длительной и сложной
исторической эволюции. Предельно общими философскими
регуляторами для осмысления подобного рода
фундаментальных сдвигов в жизни общества и в сознании отдельных
людей являются ориентирующие нас вопросы о
соотношении природного и культурного, сознания и бытия,
идеального и реального. Так, научно-материалистическая
конкретизация вопроса о соотношении идеального и материального
применительно к теме данного исследования формулируется
не просто как соотношение сознания и языка, а как такое
соотношение, где язык, точнее, речь, по меткому выражению
К- Маркса, есть непосредственная деятельность мысли,
практически существующее, действительное сознание 1.
Здесь мысль фигурирует не как нечто «глубоко
внутреннее» и «неуловимое», а как замысел, овладевший сознанием
и осуществляющийся в речевой деятельности. Наличие
замысла в уме говорящего, пишущего, думающего —
свидетельство активности сознания, для которого язык
(естественный или искусственный) — не «платье» мысли, а мысль в
своей непосредственной данности, непосредственная
деятельность мысли в форме сознательной, мотивированной
деятельности. Так мотивированная интеллектуальная
деятельность может выражаться в познавательном отношении к
действительности. Изменения в этой действительности
сказываются на изменениях в форме и содержании наших
знаний. Но поскольку знание кодируется в разнообразных
языковых материалах, поскольку оно отделимо от языка
6*
163
лишь в абстракции, конвенционально, постольку
происходящие изменения затрагивают и смыслообразующий аспект
сознательной деятельности человека.
Традиционные представления о гносеологии и ее
полномочиях, представления, бытовавшие еще в XIX в.,
подверглись серьезному испытанию в XX в., когда произошла
революция в естествознании, когда прочно утвердились
теоретическая лингвистика, социологический подход к
мышлению, когнитивная психология. Стало очевидным, что на
нынешнем этапе развития философской науки гносеологу
не обойтись без серьезных лингвистических знаний, так как
ставка на одну лишь рефлексию по поводу знания, его
структуры, форм познания без учета реальной, а не
воображаемой деятельности сознания, которую невозможно
представить вне особенностей языкового
функционирования, оставляет без ответа ряд вопросов, имеющих
кардинальное философское значение, в частности вопросов,
касающихся межкультурных контактов. Это в полной мере
может быть отнесено к проблеме осмысления и оценки
нового знания.
С учетом избранной позиции исследования
целесообразно сразу же уточнить авторское отношение к
лингвистике. Это объясняется как интересами гносеологии, так и
спецификой исторического развития научной лингвистики.
Поскольку научная лингвистика — явление относительно
недавнее (первая половина XIX в.), постольку еще
полностью не изжито мнение о возможностях в границах
философии ставить и решать собственно лингвистические
проблемы. Характерную оценку этих философских пережитков
дает 3. Вендлер в связи с претензиями на наукообразность
так называемой «философии обыденного языка». Нет
сомнения в том, отмечает он, что представители «философии
обыденного языка» используют лингвистические факты для
подтверждения своих философских рассуждений. Но это
именно философские рассуждения, нередко обладающие
весьма сомнительной для лингвиста ценностью, то есть
авторы подобного рода рассуждений занимаются главным
образом философией, а не лингвистикой.
Развивая критику в адрес поклонников спекулятивных
теорий (философий) языка, Вендлер высказывается
следующим образом. Вместо философии языка должна быть
философия лингвистики, которую можно рассматривать как
особую отрасль философии науки, наподобие философии
физики. Эту дисциплину необходимо отличать от
англо-саксонской «лингвистической философии». Философия лингви-
164
стики должна охватывать концептуальные исследования,
базирующиеся на объяснении структуры и
функционирования естественного или искусственного языков. Сходную
картину мы наблюдаем в естествознании, где, например,
физическая наука совместно с философией физики эффективно
замещают космологические спекуляции прошлого 2.
Философ, если он не является одновременно
профессионально подготовленным лингвистом, не может и не должен
решать внутрилингвистические проблемы, но при
соответствующей конкретно-научной подготовке он способен внести
определенный вклад в решение тех вопросов лингвистики,
которые имеют тенденцию перемещаться на
металингвистический уровень. В частности, это касается ряда
методологических вопросов, которые одинаково интересны как для
философа, так и для лингвиста. Разумеется, гносеология не
ограничивается методологией, то есть рефлексией по поводу
методов, форм познания. В «словарь» гносеолога входят
такие понятия, как «мышление», «сознание» и т. д. Эти
понятия расширяют сферу гносеологии как методологии,
поднимая вопросы не только о процессах и способах познания,
но и о структуре знания, о содержании знания, о
реальности, отражаемой в знании (так называемые онтологические
вопросы) и многие другие. Союз философии с конкретными
науками помогает, с одной стороны, сделать более
содержательными и соответствующими духу времени абстрактные
философские понятия, а с другой — помогает расширить
теоретический горизонт частных наук. Особенно это
касается семантики, где пересекаются интересы философов и
лингвистов, например, по вопросу о связи понятийных
изменений с изменениями семантическими в процессе развития
обыденного и научного знаний. Именно в этой сфере чаще
всего приходится сталкиваться с претенциозными
спекуляциями в духе философии языка. Например, за последние
два десятилетия значительно увеличился поток публикаций,
посвященных анализу механизма метафорообразований.
В связи с этим заслуживает внимания тот факт, что чаще
всего этот анализ ведется не лингвистами, а философами
или психологами (в частности представителями
психоанализа); некоторые из них претендуют не более не менее, как на
создание теории (!) метафоры, не оговаривая при этом
целевую оправданность подобных «теорий»3.
К сказанному можно присовокупить следующее.
Лингвисты обычно рассматривают свой предмет, выделяя в нем
три области (фонология, синтаксис, семантика). При
знакомстве же с философскими работами по языку сразу бро-
165
сается в глаза, что доминирующим пунктом в этих работах
являются вопросы семантики. Причину этого некоторые
авторы усматривают в том, что философов язык интересует не
сам по себе, а в контексте проблемы понимания, которая
связана с проблемой понимающего сознания, с проблемой
(разумных) коммуникативных актов4. Эта проблема
становится особенно зримой, когда понимание в некоторых
речевых ситуациях осуществляется без опоры на
перцептивный опыт, т. е. интерпретация многих предложений
говорящим и слушающим часто не зависит от знания
экстралингвистического контекста 5.
В свете этого символично звучат слова Д. Бома,
подчеркивавшего, что нет проблемы более глубокой, чем проблема
понимания, с постановкой которой связано революционное
изменение в научном мышлении6.
Все вышеизложенное определяет специфику, цель и
структуру данной главы. К специфике относится
гносеологический анализ таких понятий, как «язык» («языковая
деятельность»), «речь» («речевая деятельность»), «смысл»,
«значение», «семантический эксперимент». Целью
исследования является уточнение ряда философских понятий
(«мышление», «сознание», «смыслообразующая
деятельность») в свете современных лингвистических и
психологических данных. Соответственно этому структура главы
включает в свой состав рассмотрение базисной
лингвистической дистинкции «язык — речь», а также — понятие
«деятельность» в двух его аспектах применительно к
лингвистике («исследовательская деятельность» и «динамика
объекта исследования»).
Дистинкция «язык — речь» с гносеологической точки
зрения. Поскольку гносеологические проблемы с марксистской
точки зрения являются частью общего вопроса о процессе
общественно-исторического развития, постольку
философская компетентность проявляется прежде всего в
распространении идеи развития на базисные категории
лингвистики. Скажем, проблема языка — это не внутренняя
проблема лингвистики. Язык — это основополагающая категория
лингвистики и как таковая в рамках одной только
лингвистики не может быть теоретическим образом определена, для
ее определения необходимо выйти на метауровень, на
уровень металингвистики в сферу философских вопросов
лингвистики.
В идущей от Ф. де Соссюра (1857—1913)
лингвистической традиции принято концептуально различать язык
(langue) и речь (parole), противопоставляя язык как иде-
166
альную «сущность» речи как материальной «являемости».
Язык понимается в качестве определенного вида знания, а
именно как знание правил, навыков, которые лежат в
основе речи. Таким образом, понятие язык отождествляется с
понятием знание, точнее,— с понятием структуры знания.
Это таит в себе опасность дуализма формы и содержания
знания, а в конечном итоге чревато дуализмом мышления и
языка, что обычно ставится в упрек сторонникам
логического позитивизма и лингвистам-трансформационалистам.
Характерно и заслуживает самого серьезного внимания, что
в западной философии языка этот дуализм пытаются
преодолеть анализируя не столько соотношение «язык —
знание», сколько соотношение «язык — сознание»7.
Ближайшим предшественником Соссюра по вопросу о
разграничении языка и речи, помимо И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ (1845—1929), является выдающийся немецкий ученый
В. фон Гумбольдт (1767—1835), анализ лингвистических
идей которого позволяет более точно оценить сильные и
слабые стороны соссюровского структурализма.
С именем Гумбольдта традиционно ассоциируется
важный этап в распространении новых взглядов на язык, на его
мировоззренческие и познавательные возможности. Но так
ли уж они новы? А если все-таки новы, то сравнительно с
кем и с чем?
По мнению А. Л. Погодина, XVIII в. уделял много
внимания вопросу о природе и генезисе языка. «Без слова нет
мысли» — вот тот принцип, который заставил
рационалистически мыслящих философов XVIII в. углубиться в
изучение этого вопроса. В частности, большой вклад в
философию языка был сделан известным французским
просветителем Ш. де Броссом (1709—1777), который, по сравнению с
рационалистами типа Лейбница, ближе этнолингвистике
XIX—XX вв., поскольку апеллирует не к воображаемой
паре детей Кондильяка или к гипотетическому первобытному
человеку Руссо, но к реальному «дикарю» как носителю
первоначального типа человеческого языка8. Согласно
Л. Р. Дунаевскому, Ш. де Бросс является автором научной
концепции, которую можно отнести к первоначальным
наброскам материалистической психофизиологии языка и
речи человека9.
Сравнивая лингвистические устремления Ш. де Бросса с
его разработками по теме религиозного фетишизма, можно
выдвинуть предположение, что французским ученым был
заложен первый камень в фундамент социолингвистики и
тем самым, опережая Гумбольдта и почти одновременно с
167
Дж. Вико, было указано направление рассмотрения языка
как идеологического феномена. С другой стороны,
Ш. де Бросса с некоторыми оговорками можно считать
первым европейским этнолингвистом, так как он попытался
соединить учение о развитии языка с учением об этническом
развитии, или, как замечает Р. О. Шор, Ш. де Бросс
наметил «общие закономерности развития языков в смене
исторических ступеней развития общества, указывая
обусловленность форм существования языка развитием племенных и
более крупных этнических образований, ростом
материальной культуры, общением народов, расцветом и упадком
наций» 10.
Дж. Вико, Ш. де Бросс — не единственные ученые,
попытавшиеся доступными им средствами разгадать загадку
языка. Основная мировоззренческая и методологическая
парадигма в оценке языка была заложена еще схоластами.
Так, теоретические догадки номиналистов, будучи
адоптированы и преобразованы эмпиристами XVII в., повлияли и
на Ш. де Бросса (через Локка), и на В. фон Гумбольдта.
Дело в том, что номиналисты первые со всей
определенностью заявили об обобщающей функции языка, вне
которой язык был бы просто номенклатурой бесчисленного
множества явлений и процессов, то есть был бы
просто-напросто невозможен п.
Сказанное выше на первый взгляд противоречит
прокламируемому в первой части книги тезису о том, что
философы-идеалисты и даже некоторые их антиподы из лагеря
наивных и метафизических материалистов утверждали
изолированность друг от друга различных форм осмысленной
человеческой деятельности (например, мышления и языка),
объединяя их чисто внешним образом, либо под эгидой
бога, предустановленной гармонии, либо по законам
механического суммирования. Однако на самом деле такого
противоречия не существует, если учитывать идеологические
доминанты духовного контекста культуры (различные
мифологемы — от античной религии до христианства) и их
преломление в конкретных философских учениях. Скажем,
Платон, весьма низко ценивший познавательный потенциал
языка, отождествляет мышление как процесс, мышление
как движение (в противовес чистой, покоящейся мысли) с
«внутренней речью». Абеляр говорил, что язык не только
порождается разумом, но и порождает разум. Лейбниц,
Кант и Гегель рассуждали по поводу особого
«мыслительного языка»12. Все эти и другие подобного толка философы
исходили из начальной разумности человеческого существа,
168
разумности, которая привносится извне (бог, «абсолютный
дух» и т. п.). Квинтэссенцией таких воззрений являются
религиозно-мифологические представления о душе. Таким
образом, язык дается человеку или после приобретения им
разума, или в одном акте одушевления.
Сравнительно с охарактеризованной философской
традицией доктрина Гумбольдта не представляется чем-то
экстраординарным. В своем анализе интеллектуальной
деятельности человека Гумбольдт шел со стороны языка к
мышлению, тем самым как бы навязывая мышлению
диктат языка. Он считал, что наше различение ментальности и
языка может оправдаться лишь потребностями
теоретического рассмотрения, тогда как на самом деле этого
противопоставления не существует13. В связи с этим Гумбольдт
предлагает в качестве конвенции принять язык за основу
объяснения умственного развития. Подобное предложение
оправдывается тем, что язык не только тесно связан с
умственным бытием человека, но имеет и самостоятельную
жизнь, является по-своему господствующей над человеком
силой м. Самостоятельность языка Гумбольдт выводит из
того, что язык есть деятельность (energia), а не оконченное
раз и навсегда дело (ergon).
Языковая деятельность является мощной силой,
формирующей мысль. Поэтому изучение других языков обогащает
не только наши коммуникативные возможности, а и
совершенствует человеческую мысль, сообщая человеку новую
точку миросозерцания15. Аналогичные воззрения на язык
выразит и молодой Гегель, который первым попытается
серьезно поставить проблему отношения философии к
естественному языку, поскольку для него природа и роль языка
в познании и миропонимании существенно касаются
философии16.
Противоречия гумбольдтовского учения о соотношении
языка и мышления примиряются догматически, апелляцией
к богу. Поэтому его доктрина носит феноменологический
характер с ярко выраженным элементом агностицизма, так
как утверждается, что человеческое познание не способно
до конца постичь природу языка и мышления. Этот
агностицизм проявляется и в трактовке вводимой им дистинкции
«язык — речь», идейное содержание которой, несколько
модернизировав, разделяют современные неогумбольдтиан-
цы — структуралисты. С. Тайлер совершенно справедливо
указывает на тот факт, что для многих лингвистов из числа
ортодоксальных структуралистов язык — это «идеальная
вещь в себе»17.
169
Как видим, Гумбольдт и его последователи относят язык
к идеальной сфере, но не в смысле теоретического
конструирования грамматики того или иного языка, объясняющей
построение правильных предложений. Язык — это
«трансцендентная сущность», рядоположенная «чистой мысли».
По сравнению с Платоном — это новшество,
заключающееся в том, что с человеческой точки зрения покоящийся в
трансцендентном царстве язык как «неживой язык»
равноценен «чистой мысли», чего не допускал Платон. «Живой
язык» — это речевая деятельность, то есть язык живет в
речи, а не в словарях и грамматиках18. Продуктами этой
речевой деятельности являются разнообразные тексты. В
речи оживают мысль и язык, превращаясь в речемыслитель-
ную деятельность. Из этого следует, что речевые
выражения есть не просто знаки для выражения мыслимого
содержания, но особый метод представления (репрезентации)
данного содержания в поле сознания.
Итак, чтобы создать теорию языка, необходимо обладать
хорошо разработанной теорией знания. Соответственно,
чтобы создать теорию речи, необходимо обладать хорошо
разработанной теорией сознания. Кантовская гносеология не в
состоянии была обеспечить удовлетворительное решение
вопросов о знании, познании, сознании. Поэтому философия
языка, базирующаяся на подобных
теоретико-познавательных предпосылках, должна была столкнуться и столкнулась
с неразрешимыми методологическими противоречиями.
Удалось ли разрешить эти противоречия Ф. де Соссюру?
Согласно Соссюру, основным объектом лингвистики
является язык как теоретический конструкт в противовес
речи как актуальной «речевой деятельности». Так в обиход
лингвистики была введена знаменитая дистинкция «язык —
речь». Соссюру удалось изложить только теорию языка
(лингвистика языка). Преждевременная смерть оборвала
его теоретические изыскания, и мы не имеем собственно
соссюровской модели лингвистики речи. Здесь не следует
путать понятие «речь» с соссюровским понятием «речевая
деятельность». Понятие «речевая деятельность»
расщепляется на два субпонятия — язык и речь. Язык определяется
Соссюром негативно: язык — это речевая деятельность
минус речь. Следовательно, ни язык, ни речь не тождественны
речевой деятельности, которая, согласно Соссюру,
непознаваема в силу своей неоднородности 19.
Иногда дистинкцию «язык — речь» рассматривают,
отождествляя речь и речевую деятельность, но, как мы
видим, это не соответствует замыслу Соссюра. Что же каса-
170
ется языка, то это ядерная часть речевой деятельности,
своеобразный гравитационный центр, находящийся в
относительно стабильном состоянии.
Известный критик соссюровского структурализма Э.
Косериу писал, что при обсуждении учения Соссюра
«спорным является не различие между речью и языком, само по
себе неуязвимое (поскольку очевидно, что язык не есть то
же самое, что речь), а антиномичныи характер, который
придал этому различию Соссюр, отрывая язык от речи»20.
Таким образом, если наши научные представления более
или менее адекватно отражают реальное положение дел, то
не может быть антиномии не только в плоскости объекта,
но и в плоскости исследования. Для конструктивного
решения поставленных Соссюром проблем Косериу предлагает
различать «абстрактный язык» (ЯЗЫК) и «реальный язык
в его конкретном существовании (РЕЧЬ)21.
Развивая свою критику в адрес принципиальных
положений соссюровской лингвистики, Косериу выделяет тот
факт, что часто язык рассматривают только как «продукт»,
как нечто окончательно застывшее (ergon), а речь — как
«процесс», «движение», «деятельность» (energia). При
таком подходе к объектам лингвистического познания сразу
же может возникнуть вопрос такого рода: Как соотносятся
«мертвые» и «живые» языки? Понятно, что «мертвые»
языки (латинский, санскрит и пр.) относятся к разряду
абсолютно «ставших». «Живой» же язык — не только «продукт»,
но и «деятельность». Косериу указывает, что язык дан нам
в речи, в то время как речь не дана в языке22.
Переосмысливая соссюровскую дистинкцию «язык —
речь», отмечу следующее. Закономерность, наблюдаемая в
актуальной речевой деятельности, которая в повседневной
жизни полна нарушениями, отклонениями от
грамматической нормали, «близорука» в силу того, что всякий закон
природы или общественного развития имеет значение только
в пределах определенных границ. Познавательная сила
любого понятия, включая понятие «язык», заложена не в нем
самом, а в степени правильного отражения предметной
реальности. Правильность отражения действительности в
понятиях определяется не умозрительными рассуждениями, не
ссылками на физиологию, а возможностями практического
воспроизводства закономерностей объективной
действительности (природной и культурной). В этом отношении научная
лингвистика не является исключением из правил.
Марксистское понятие практики распространяется и на сферу
лингвистических исследований (особый статус эксперимента в
171
лингвистике, проблема машинного перевода, разработки
генеративно-трансформационных грамматик и т. д.). Вот
почему мы не вправе превращать язык в теоретически
полезную, но все же фикцию (платонистский вариант
идеальной «сущности»). Язык — это, в пределах допустимых
отклонений, закономерно осуществляющаяся речь. Язык
находится в непрерывном развитии, тогда как речь дискретна
по своей природе. Таким образом, язык является прежде
всего деятельностью, а не продуктом, хотя, разумеется,
может рассматриваться и как продукт, если мы возьмемся
описывать структуру этой деятельности23.
Язык, как и мысль, не облачается в живое слово (речь),
а, говоря терминологией Л. С. Выготского, совершается в
слове. Для понимания этого крайне важного
методологического положения необходимо рассматривать человека и его
формы деятельности исторически, в развитии, с чем не
может справиться структурная лингвистика. Собственно
говоря, это вопрос из области философии лингвистики, а не внут-
рилингвистический вопрос. Философия показывает, что
овладение мыслительной деятельностью или усвоение языка
осуществляются как разновидности процесса интериоризации,
а не наоборот.
Как и античные философы, Соссюр отдает предпочтение
покою над движением. Понятие о движении (развитии)
языка помещается Соссюром в качестве «соединительного
союза», «связки» в «пространство» между (!) системными
состояниями языка, вследствие чего история языка теряет
свое реальное значение и, по сути дела, заменяется
изучением формально-диахронных трансформаций одной системы
в другую по аналогии с логико-математическими
структурами. Но это именно аналогия, поскольку остается без ответа
вопрос о том, что собой представляет система (системность)
человеческой деятельности, одной из разновидностей
которой является системность языковой деятельности. Это
философский вопрос, от решения которого зависит выбор
глобальной стратегии лингвистических исследований. Косериу
в данном случае правильно указывает на принципиальные
слабости структурной лингвистики, которая, претендуя на
универсальность, не желает видеть, что система
существует потому, что она создается системно, а это последнее
означает, что деятельность, творящая язык, сама является
системной, то есть целесообразной. Таким образом,
развитие языка — Это постоянная систематизация. Отрицание
этого факта ведет к «умерщвлению языков, к превращению
их всех без разбора в «мертвые» языки24.
172
Разработка позитивной концепции языка и языковой
деятельности во многом зависит от понимания
взаимоотношений между семиотикой и семантикой. Как известно, в
многовековой истории науки о языке неоднократно
предпринимались попытки создать теорию значения, апеллируя
не к словам, а к предложениям как основным
семантическим единицам языка. Соссюровская дистинкция «язык —
речь» позволила если не прекратить этот многовековый
спор, то разграничить качественно различные уровни в
решении вопроса о семантическом статусе соответствующих
языковых выражений. В духе соссюровской
структуралистской традиции с понятием «язык» стал ассоциироваться
семиотический подход под эгидой бинарного классификатора
«знак — значение», тогда как с понятием «речь» стала
ассоциироваться семантика под эгидой бинарного
классификатора «значение — смысл». Именно эти бинарные
классификаторы являются маркерами семиотики и семантики 25.
Отдельные слова — это элементы языка, выполняющие
функцию обозначения (обозначаются предметы, действия,
качества). Говоря языком логики, значение отдельного
слова определяется не позитивно (катафатически), а негативно
(апофатически). Так, например, определение значения
слова «стол» предполагает отрицание всего универсума
альтернативных ему значений. В свою очередь определение
значения слова «мебель» можно осуществлять как
посредством отрицания всего универсума альтернативных ему по
мощности классов, так и посредством отрицания значения
слова «стол». Говоря «не-стол», мы отрицаем не реальный
стол и не его мысленный образ, но отрицаем существование
основных признаков, специфицирующих данный класс (класс
столов), в результате чего получаем логически более
«реальный» класс (например, «мебель»). Из сказанного
следует, что в прагматическом плане всякий «не-стол»
(например, пень, ящик) может по своей ситуационной значимости
выполнять функцию стола. С этой точки зрения каждое
слово выступает в роли знака, указывающего на функцию
вещей и процессов в контексте реальной ситуации.
Использование термина «контекст» позволяет перебросить мостик
от семиотики к семантике. Дело в том, что историческое
развитие языка сопровождалось организацией знаков в
систему, благодаря чему знаки приобрели дополнительную
функцию. Помимо указания на внеязыковые ситуации, они
начали указывать друг на друга как на значимые элементы
языковой системы. Таким образом происходит историческое
и логическое сужение понятия «контекст».
173
Современная теоретическая экспликация понятия
«контекст высказывания» (context-of-utterance) базируется на
дотеоретическом понятии «контекст», которым мы
интуитивно пользуемся в быту. Научное же понятие «контекст» (или
«контекст высказывания») — это теоретический конструкт,
вводя который в ткань своих рассуждений, лингвист
абстрагируется от актуальной ситуации и утверждает в
качестве «контекстуальных» только те факторы, которые
(благодаря их влиянию на участников языкового события)
систематически определяют форму, соответствие и значение
высказывания.
По мнению Т. А. ван Дейка, термин «контекст» должен
определяться не остенсивно, а теоретически, так как с
помощью данного термина мы будем указывать не на
конкретную эмпирическую реальность, где имеет место большое
количество событий, не относящихся даже косвенно к тем
или иным выражениям, а на тот строй реальности, который
фиксируется нашим сознанием 26.
В отличие от «контекста» как динамичного феномена27,
как бы выражающего идею «речевой деятельности»,
«текст» — это еще более абстрактное понятие,
выражающее идею «речи» (дискурса). Как отмечает Дейк, термин
«текст» используется им для обозначения особого
абстрактно-теоретического конструкта, обычно называемого
дискурсом. Те выражения, которые могут быть определены
текстуальной структурой, являются приемлемыми дискурсами,
то есть являются хорошо построенными и интерпретабель-
ными28.
По вопросу о «контексте» можно выделить две крайние
точки зрения. Представители одной точки зрения (Дж. Катц,
Дж. Фодор) хотя и не отрицают «контекстуальный
фактор», однако считают, что дескриптивная семантика
должна быть связана со значением предложений,
рассматриваемых независимо от их выражений в конкретных
ситуациях. Представители противоположной точки зрения
(наподобие Дж. Фирта, который базирует свою семантическую
теорию на понятии «контекст») выделяют уровни
«контекстов» (контекст внутри контекста), основой которых
является «контекст культуры» 29.
Часто английские лингвисты употребляют выражение
«контекстуальная теория значения» со ссылкой на фиртов-
скую теорию значения, которая первоначально развивалась
в содружестве с известным американским
антропологом Б. Малиновским, а в дальнейшем — последователями
Фирта30.
174
Согласно Фирту, самое важное в языке — это его
социальная функция. Каждое высказывание имеет место в
культурно детерминированной контекстной ситуации.
Значение высказывания — это его вклад в определенные
жизненные образцы, или модели (patterns of life). Из этого
следует, что не только слова и фразы, но также речевые
звуки, паралингвистические и просодические свойства
высказываний являются значимыми. Что же касается «контекста
культуры», то он постулируется как своего рода матрица,
внутри которой различаются социально значимые ситуации.
Таким образом, Фирт пытается доказать, что имеется
внутренняя связь между языком и культурой, но при этом он
никогда не настаивал на чем-либо в духе
этнолингвистической гипотезы Сепира — Уорфа31.
Теории значения Дж. Остина и Л. Витгенштейна могут
быть охарактеризованы как контекстуальные теории
значения в том же смысле, в котором теории Фирта и
Малиновского являются контекстуальными теориями 32.
При переходе от «контекста» к «тексту» слово
перестает быть только знаком внелингвистической реальности и
становится символом в системе предложения.
«Слово-символ» (ср. фрегевскую трактовку «имен собственных»)
теперь прежде всего фигурирует как носитель «смысла»
(Sinn), который предопределяет его «значение» (Bedeu-
tung). В фило- и онтогенезе это выглядит как переход от
сймпрактического характера слова к его синсемантическому
х&рактеру 33. Результатом всего этого является экспликация
соссюровской «лингвистики речи» как «лингвистики текста»
(по Э. Бенвенисту, «лингвистики дискурса», где фрегевская
дистинкция «смысл — значение» приобретает свое реальное
звучание).
Структурализм в лингвистике можно охарактеризовать
(Словами Л. С. Выготского, писавшем о структурализме как
таковом следующее. Структурный принцип в познании
является великим и незыблемым завоеванием теоретической
мысли. С этим принципом связано объяснение начальных,
исходных моментов всякого развития. Однако в силу
чрезмерной универсальности данный принцип оказывается
недостаточным для раскрытия специфических особенностей
развития, присущих определенным типам явлений, процессов 34.
Не справившись с идеей развития применительно к
лингвистике, структурализм в понимании языка проявил
значительные колебания — от натурализма (эмпиризма) до
платонизма в рационалистическом облачении. Так, платонист-
ский подход к языку имманентно присущ Соссюру и некото-
175
рым его ортодоксальным последователям. Чтобы избежать
зыбкой почвы спекулятивной философии языка, ряд
представителей структуралистской лингвистики заняли инстру-
менталистские позиции во взглядах на язык, предпочитая
иметь дело с синтаксическими моделями грамматики.
Со второй половины 50-х годов XX в. большинство
лингвистических теорий разрабатывалось как теории
синтаксиса. Выдающееся место здесь по праву занимают Р.
Монтегю и Н. Хомский.
Наиболее ярым сторонником синтаксической теории
языка был Монтегю, согласно которому не только
синтаксис, но также семантика и прагматика являются отраслями
математики (!). Например, по мнению Монтегю, синтаксис
английского есть в той же мере часть математики, как
геометрия или теория чисел. Эта позиция предопределяет
стратегию Монтегю относительно исследований
естественных языков: он их исследует, пользуясь техникой, которая
аналогична технике математиков, изучающих
формализованные языки 35.
Цель исследовательской программы Монтегю состоит
в том, чтобы создать математически элегантную
семиотическую теорию естественного языка36. Для достижения
этой цели он идет на крайний шаг, отвергая точку зрения
тех, кто признает принципиальное теоретическое различие
между формальными и естественными языками 37.
По мнению И. Моравчика, грамматика Монтегю должна
рассматриваться следующим образом. Во-первых,
семантика может быть отделена от синтаксиса и рассмотрена в
своем собственном качестве. Во-вторых, рассуждения Монтегю
о семантике следует рассматривать просто как одну из
версий теоретико-множественной семантики, в соответствии
с которой «семантические объекты» — это некоторые
экстралингвистические элементы, обычно рассматриваемые как
теоретико-множественные элементы (индивиды, множества,
функции и т. д.)38.
Инструменталистская доктрина Монтегю не оказала
такого сильного влияния на лингвистов, какое оказала
генеративно-трансформационная грамматика Хомского, чье
понимание синтаксиса было больше приближено к реальной
практике лингвистических исследований.
О том, что собой представляет понятие «синтаксис» в
современной лингвистике, можно сказать словами Лайонза.
Синтаксис языка — это определенное множество правил,
которые объясняют распределение словоформ в
предложениях. Данная характеристика синтаксиса предполагает от-
176
несение каждой словоформы к одному или более классам
форм. Классы форм нельзя смешивать с частями речи
(существительное, глагол, прилагательное и т. д.), поскольку
части речи являются классами лексем (например,
«мальчик», «бежать»), а не классами форм (например,
«мальчик, мальчики»; «бежит, бегут»). Функция синтаксических
правил в любой модели языковой системы состоит в
объяснении хорошо образованных комбинаций существительных,
глаголов, прилагательных и т. д., а также в спецификации
морфо-синтаксических свойств любой лексемы, которая
имеет место в какой-либо из этих хорошо образованных
комбинаций. Тот факт, что одна лексема скорее, чем другая,
может быть (или должна быть) отобрана для данной позиции,
не поддается оценке с точки зрения синтаксиса. Однако
другой факт, а именно, что лексема должна принадлежать
конкретной части речи, относится к сфере синтаксиса. И
наконец, факт, что фонологической реализацией конкретного
морфо-синтаксического слова является такая-то и такая-то
форма, относится к сфере морфологии39.
Применительно к теории Хомского смысл понятия
«синтаксис» можно раскрыть генетически. Так, например,
говоря о необходимых концептуально-технических
предпосылках для создания нового типа грамматики, следует указать,
что эти предпосылки были заложены в 30-е годы благодаря
развитию теории рекурсивных функций, созданию машин
Тьюринга и т. п. Тем не менее грамматика Хомского не
является грамматикой для машинного программирования,
хотя, и это не секрет, на Хомского, а также Монтегю мощное
влияние оказали идеи технологического подхода к
построению абстрактно-теоретической модели грамматики.
Образцом подобного «техиологизма» в анализе языковых
структур могут служить так называемые марковские
грамматики, то есть простые, линейные (слева направо) модели,
которые графически изображаются следующим образом
(рис.2):40
Каждая точка на схеме отмечает ситуацию выбора.
Конечная точка — это индикатор полного грамматического
предложения, которое мы должны были построить.
Модель (1) может быть расширена за счет лексикона
(списка слов), из которого в любой данной точке должен
быть сделан один выбор. Модель (2) также может быть
расширена за счет включения одной или больше
«замкнутых петель» (closed loops) в различных точках нашей
графической схемы (см. рис. 3).
7 909
177
(1)
школу
—►—.
(2)
(ЭТОТ | А$°СГ
Ь—
в школу
-*—• ►—
Рис. 2.
Добавляя подобные «петли», мы в состоянии
конструировать модели грамматики, которые способны описывать
рекурсивность и таким образом порождать бесконечно
длинные предложения. Теоретически данная модель могла бы
включать в свой состав достаточное количество частных
моделей для описания бесконечного числа грамматических
предложений в том или ином естественном языке.
Если мы допустим возможность построения такого
рода модели, то с необходимостью должны будем признать,
что она относится к разряду очень мощных и универсальных
грамматик. Однако Хомский выступает против таких
упований. По его мнению, марковский тип порождающей
грамматики не является универсальной, поскольку данная
грамматика не в состоянии описать все возможные предложения
в реальном языке. Например, в этой грамматике
отсутствует объяснение грамматических взаимозависимостей между
несмежными, дискретными элементами. Рассмотрим
следующее предложение:
(этот!
эта
эти I
(3) • ►
ъу—■v^
178
Петр который, хотя он и болен, представляется себе
-г^г*' % ' " г~—
здоровым^ выглядит печальным^
^ $ а'
Здесь а соотносится с а\ Ъ соотносится с Ь\ с — само-
тождественно. Марковский тип порождающей грамматики
не может дать адекватную лингвистическую
характеристику, поскольку между подлежащим и глаголом
вклинивается ряд других выражений. А именно этот вид
взаимозависимости между дискретными элементами свойствен
естественным языкам. Поэтому, согласно Хомскому, необходимо
создать более мощную грамматику, осуществив
фундаментальную ревизию порождающих (генеративных) грамматик.
Главную идею генеративной грамматики можно
сформулировать так: «Любое лингвистическое описание, которое
способно описать реальные высказывания как члены
большого класса потенциальных высказываний, называется
генеративным»41. С синтаксической точки зрения
генеративная грамматика начинается с решения задачи
конструирования грамматики языка L как системы правил, с помощью
которых множество грамматически правильных
предложений в L могут быть порождены. Отсюда ее имя —
«генеративная (порождающая в смысле логико-математического
конструирования) грамматика». Генеративная грамматика
подчеркивает, что синтаксические правила должны
образовывать систему точных правил. В этом отношении
генеративная грамматика выходит далеко за рамки традиционной
грамматики, которая не обеспечивает себя точными и
полными правилами, но только иллюстрирует регулярности
структуры предложений с помощью примеров и
контрпримеров без точного определения границ, внутри которых эти
правила являются действенными42.
Употребляя термин «генеративная грамматика»,
следует учитывать множественность генеративных грамматик, а
также и то, что генеративные грамматики не являются чем-
то однородным, они распадаются на ряд типов. В частности,
можно указать на два доминирующих типа— (1)
грамматики, которые различают глубинные и поверхностные
структуры, и (2) которые этого не делают. Первый вид
грамматик принято называть генеративно-трансформационными.
Отличительной чертой генеративно-трансформационной
грамматики является способность порождать предложения
на двух указанных уровнях. Здесь полезно напомнить, что
7*
179
Б. Л. Уорф и Н. Хомский использовали выражение
«глубокий» («глубинный») для описания организации языковых
структур на дофопетнческом уровне. Как считается, это
крайне полезное и удачное выражение для маркировки
целостной структуры предложения43.
«Глубинная структура» (deep structure) — это исходная
абстрактная структура, которая определяет семантическую
интерпретацию предложения, тогда как «поверхностная
структура» (surface structure) — это физическая форма
актуальных высказываний, т. е. уровень, на котором
осуществляется фонетическая интерпретация предложений. Одна и
та же глубинная структура может быть по-разному
реализована в различных языках, т. е. глубинная структура
является общей всем языкам. Однако трансформационные
правила, которые превращают глубинные структуры в
поверхностные, могут отличаться от одного языка к другому.
По словам Хомского, теорию
генеративно-трансформационной грамматики во многих отношениях можно
рассматривать как более современную и более точную версию
логико-грамматических построений Пор-Рояля. Так, если
формализовать в современных терминах грамматическую
теорию Пор-Рояля, то можно описать синтаксис языка в
терминах двух систем правил: (1) базисная система,
которая порождает глубинные структуры, и (2)
трансформационная система, которая отображает глубинные структуры
на поверхностном уровне. Базисная система состоит из
правил, порождающих исходные грамматические отношения.
Трансформационная система состоит из правил, с помощью
которых мы устраняем одни элементы, вводим другие,
переделываем, перекомбииируем третьи и т. д. Например,
среди трансформаций имеются такие, которые позволяют
образовывать вопросы, приказы и т. д.44
Обычно говорят, что генеративно-трансформационная
теория выросла из таксономической (греч. taxis
расположение в порядке + notnos закон) лингвистики (лингвистики,
которая занимается аналитической систематикой на основе
наблюдаемых данных), а также — из традиционной
грамматики. Это правильно, но в определенном смысле,
поскольку генеративно-трансформационная теория своим
появлением на свет обязана, помимо всего прочего, критическому
переосмыслению и даже борьбе с таксономической
лингвистикой. Верно и то, что генеративно-трансформационная
лингвистика возвратилась к некоторым главным принципам
традиционной рационалистической грамматики, которая
своими корнями восходит, с одной стороны, к античности
180
(демокритовская трактовка языка), а с другой стороны, к
работам рационалистов XVII в. и структуралистов XX в.45
Но при этом нельзя забывать, как это делают некоторые
лингвисты и философы, что
генеративно-трансформационная лингвистика отнюдь не является механическим
расширением структуралистской теории языка. Хотя грамматика
Хомского, как и грамматики многих структуралистов,
является синтаксической теорией, цель у него — совершенно
иная. По Хомскому, грамматическая теория, если она
стремится быть адекватной, должна объяснять не только факты
языка, но и лингвистическую интуицию говорящего. В этом
плане новая лингвистическая теория является
одновременно описанием и объяснением языковой компетенции (сот-
petence), то есть того грамматического знания, которое
каждый говорящий имеет в своей голове. По сравнению с
тем периодом американской академической науки, когда
доминировала эмпиристская методология бихевиоризма,
выбор такого рода познавательной стратегии, маркируемой
кощунственными для ортодоксального бихевиоризма
словами типа «разум», «интуиция», «проницательность» и т. п.,
было смелым новаторством46.
Эволюция научных взглядов Хомского для нас крайне
интересна тем, что мы являемся свидетелями перехода от
упрощенно-неопозитивистских взглядов на науку к более
реалистической ее оценке. Так, например, в ранних работах
Хомский рассматривал лингвистику как совершенно
независимую, автономную дисциплину. Однако спустя некоторое
время он начал оценивать лингвистику как отрасль
когнитивной психологии, стремясь тем самым преодолеть
недостатки структурализма и бихевиоризма. Все это сказалось
и на понимании семантической проблематики.
С первых шагов генеративно-трансформационная
грамматика разрабатывалась как синтаксическая теория, что
отразилась на отношении к вопросам семантики. Например,
«слово» рассматривалось как базисная единица
синтаксической (!) структуры. Это значит, что слово выступает в
роли абстрактного конструкта, лишенного семантического
содержания. Над таким «словом», точнее, «словами» можно
проделывать процедурно определенные синтаксические
классификации по типу разложения на «части речи», то
есть мы должны допустить, что имеется множество
процедур, с помощью которых «слова» классифицируются как
хорошо известные классы «существительных»,
«прилагательных», «наречий» и т. д. Однако сразу же возникает вопрос:
Что такое «хорошо известные классы» применительно к
181
Грамматической рубрикации предложений? Оказывается,
дать удовлетворительный ответ на этот «школьный»
вопрос—более чем затруднительно. Поэтому вполне
закономерны упреки в адрес хомскианцев. В частности, основным
недостатком теории генеративного синтаксиса является то,
что структурное описание предложений пользуется
традиционными грамматическими категориями, которые не
являются ни адекватными, ни точно определенными47.
Хомского и его коллег в известном смысле можно
понять, если учесть, что их модель лингвистики,
ориентированная на математику и логику, базировалась на неявном
отождествлении «частей речи» с аксиомами как правилами
вывода. Подобный прецедент в истории европейской логико-
философской науки мы имеем в лице стоиков, попытавшихся
рассматривать аристотелевские категории как категории
грамматические, что позволяет современному
исследователю выявить общие и чрезвычайно важные черты между
аристотелевскими «общими понятиями» (категориями), евкли-
довскими «аксиомами» и «грамматическими категориями»
стоиков48. В результате этого «аксиомы» в математике и
логике, а также «части речи» в грамматике можно
рассматривать не как простые посылки, а как правила вывода,
подлежащие явной формулировке. По-видимому, именно на
этой явной формулировке и были сосредоточены усилия
хомскианцев. Философским базисом подобной
«аксиоматики» является понимание Хомским «языковой компетенции»
в контексте рационалистической доктрины «врожденных
идей», которые предопределяют в качестве априорных
способностей умение строить (выводить) грамматически
правильные предложения. Так с помощью рационалистической
философии Хомский пытается обойти каверзные вопросы
теории значения и прямо выйти на теорию знания. Для
философии опыт Хомского поучителен тем, что указывает на
тесную связь гносеологии с общеметодологическими
проблемами лингвистики и одновременно предостерегает от
попыток игнорировать вопросы семантики. Чувствуя
недостатки своего модернизированного рационализма, Хомский
обращается к семантике и к психоанализу.
В середине 60-х годов Хомским была выдвинута более
всеохватывающая теория генеративно-трансформационной
грамматики. Так, если в «Синтаксических структурах»
(1957) утверждалось, что семантический анализ прямо не
относится к синтаксическому описанию предложений, то
позднее Хомский и его сотрудники пришли к заключению,
что значение предложений может и должно подчиняться то-
182
Первоначальный
элемент
Базисный
компонент
\
Семантическим
компонент
Трансформационный
компонент
г
Фонологический
компонент
Рис. 4.
Значение^
Звук
му же самому виду точного, формального анализа, как и их
синтаксическая структура, и что семантика должна быть
включена в качестве интегральной части в грамматический
анализ. В связи с этим в генеративно-трансформационную
грамматику было включено правило «семантического
компонента». Новую версию трансформационной грамматики
Лайонз изображает на следующей диаграмме (рис. 4) 49.
Версия 1965 г., когда была опубликована работа Хом-
ского «Аспекты теории синтаксиса», получила название
«стандартной теории». По мнению некоторых современных
лингвистов, «стандартная теория» не является достаточно
прочной и обладает рядом уязвимых мест, что явствует из
гипотезы Катца — Постала: если грамматические
отношения, специфицированные в глубинной структуре
предложений, единственным образом определяют семантическую
интерпретацию, то необходимо во множестве случаев выявить
более глубинные структуры, чем рассматриваемые в
«стандартной теории». Такие «глубинно-глубинные
структуры» (deep deep structure) строго соответствуют
абстрактным репрезентациям значения предложения. Если эту
линию аргументов продолжить, то результатом будет так
называемая генеративная семантика. Согласно положениям
генеративной семантики, исходные структуры и
семантические репрезентации являются тождественными. В этом
теоретическом контексте структура грамматики выглядит
следующим образом (рис. 5):
Исходная структура генеративно-семантической
деривации— это семантическая структура предложения, которая
прогрессивно трансформируется в поверхностную
структуру. Согласно же «стандартной теории», исходная структу-
Семантика
Синтаксис
Рис. 5.
Фонология
183
1
Генеративная семантика
Семантическая структура
Поверхностная структура
Рис. 6.
Стандартная теория
Семантическая структура
.
.
Глубинная синтаксическая- структура
]
Поверхностная структура
ра — это синтаксическая глубинная структура,
трансформирующаяся в поверхностную структуру, которая кор-
релирована с семантической структурой с помощью
интерпретативных правил, ориентированных на
синтаксическую структуру как на исходное и выводящих из нее
семантическую структуру. Схематически структуру
«генеративной семантики» и «стандартной теории» можно
изобразить следующим образом (рис. 6) 50:
Попытки сохранить и усовершенствовать «стандартную
теорию» привели к созданию очередной, новой версии
генеративно-трансформационной грамматики — «расширенная
стандартная теория». Этого варианта расширенной теории
Хомский пока и придерживается. Занятая им позиция
наводит его на мысль, что нет причин, почему свойства
поверхностной структуры не должны играть роль в определении
семантической интерпретации. По мнению Хомского, они
все же играют такую роль51. Как отмечается в
соответствующей литературе, в данное время Хомский предполагает,
что семантическая интерпретация всецело определяется
поверхностной структурой.
Рассмотренные черты генеративно-трансформационной
грамматики и некоторые особенности ее эволюции в самых
общих контурах показывают смещение акцентов с логико-
математической модели порождающей грамматики на ее
логико-семантическую модель, в связи с чем у «трансформа-
ционалистов» обостряется интерес к таким понятиям, как
«знание», «познание», «референция». Эти понятия, как
легко заметить, не относятся к собственно лингвистической
сфере. Для их анализа необходимо привлекать
информацию из области гносеологии, логики, психологии,
социологии мышления. В таком случае на первый план выступают
вопросы философского характера, решение которых может
оказаться обоюдно полезным для философов и лингвистов.
184
Например, опыт генеративно-трансформационной
лингвистики, как уже отмечалось, обогащает фундаментальное
философское понятие «категория», указывая ясно и
определенно на одну из наиболее важных функций философских
категорий — функцию получения выводного значения; Если с
логико-методологической точки зрения эту функцию можно
охарактеризовать как аналитическую, то с философско-ми-
ровоззренческой точки зрения она характеризуется как ус-
тановочно-регулятивная, то есть имманентно регулирующая
интенциональность и стиль мировосприятия. В свою
очередь, и философия не остается в долгу перед лингвистикой,
демонстрируя возможность внести посильную лепту в
решение тех теоретических вопросов лингвистики, которые
выходят за узкие рамки только лингвистического варианта
решения. Так, в частности, обстоит дело с некоторыми
понятиями, фигурирующими на стыке семантики и онтологии.
Когда мы говорим, мы обычно используем язык, чтобы
высказаться о чем-то, что чаще всего является не языком, а
экстралингвистическим феноменом (или феноменами).
Такая связь между языком и внеязыковой сферой в
большинстве случаев осуществляется благодаря референциальным
свойствам лексики. Дотрансформационалистская, или блум-
филдианская, теория значения ограничивалась
исключительно понятием референции, из чего следовало, что язык — это
лишь инструмент, указатель, поэтому значения должны
быть чем-то внешним языку. Ясно, что теория значения,
которая базируется на допущении, что существует множество
независимых семантических универсалий не может быть ре-
ференциальной теорией в указанном смысле, поскольку
значение понимается как нечто внутреннее, присущее языковой
системе. Однако тот факт, что значение (meaning, фрегев-
ское Sinn) и референция (reference, фрегевское Bedeutung)
не являются тождественными, очевидно, не предполагает*
отрицания референциальной способности языка. Таким
образом, решение проблемы референции является жизненно
важным пунктом для генеративно-трансформационной
теории, особенно это касается формулировки определенных
трансформационных правил52.
Предположим, что мы согласны связать референцию с
понятием остенсивного определения. Тогда для
соответствующих лексических разделов (существительных, глаголов
и т. д.) иметь референцию будет значить иметь возможность
указывать на некоторый чувственно наблюдаемый объект.
Рассмотрим следующие предложения:
(1) Эта собака лает.
185
(й) Петр заслуживает доверия.
В предложении (1) субъект — это определенное
фразовое существительное. Ясно, что данный субъект
предложения имеет референт, который может быть идентифицирован
в момент высказывания. В предложении (2) субъект — это
имя собственное. Референт <чПетр» можно остенсивно
определить в зависимости от ситуации. Теперь рассмотрим
предикаты «лает» и «заслуживает доверия». Имеют ли они
референцию? В случае «лает» еще как-то можно сказать, что
данное слово указывает на некоторую наблюдаемую
активность, которая поддается остенсивному определению. Что же
касается выражения «заслуживает доверия», то здесь
ситуация более проблематична. Очевидно, значение выражения
«заслуживает доверия» нельзя определить в терминах остен-
сивной референции, но можно понять только благодаря
исследованию соответствующего «семантического поля». Так,
значение данного выражения определяется в терминах
синонимии, антонимии, несовместимости, гипонимии.
Кстати, в равной мере это относится и к слову «лает». Например,
бросается в глаза, что слово «лает» семантически тесно
ассоциировано с такими лексемами, как «ржать», «мычать»,
«кукарекать» и т. д. Таким образом, мы можем провести
дистинкцию между реляционным значением (relational
meaning) и референциальным значением (referential
meaning) и соответственно этому сделать вывод, что все
лексические разделы имеют реляционное значение (являются
семантически соотносимыми друг с другом определенными
способами), но не все лексические разделы имеют референ-
циальное значение в том смысле, что они удовлетворяют
требованию остенсивного определения53.
Постановка проблемы референции в рамках
генеративно-трансформационной теории и выделение дистинкции
«реляционное значение — референциальное значение»
наталкивало на мысль обратиться, с одной стороны, к фрегевскому
семантическому наследию, а с другой — к разработкам
понятия «семантическое (лексическое) поле». Что касается
Фреге, то здесь имеется в виду понятие «пресуппозиция».
Для нас это понятие особенно важно тем, что с ним связана
экспликация ключевого понятия лингвистической доктрины
Хомского — понятия «компетенция», «семантическая
компетенция» в частности.
Прототипом современного понятия «пресуппозиция»,
используемого в философии, логике и лингвистике, служит
понятие «суппозиция» (suppositio). Первоначальная
схоластическая доктрина, известная под названием «суппозиция»,
186
утверждала, что для глубокого понимания значения слова
мы должны прежде всего постичь, что данное
(поверхностное) значение предполагает. Как уже отмечалось в первой
части работы, с понятием суппозиции связано
контекстуальное употребление терминов, то есть с понятием
суппозиции связано выявление скрытого, подразумеваемого, но не
тайного, не трансцендентного естественному языку смысла.
Доктрина суппозиции указывает на наличие ближайшего
смыслового окружения основного «ядерного значения».
С понятием же пресуппозиции связано указание на
периферийные, пограничные (маргинальные) смыслы, образующие
как бы конфигурацию, характерные черты (своего рода
физиогномию) семантического поля некоторого слова.
В этом плане понятие пресуппозиции родственно
психологическому понятию «установка».
Несмотря на многообразие различных подходов к
понятию пресуппозиции, для лингвистики и философии
лингвистики наибольший интерес представляют два главных
подхода, которые можно условно назвать семантическим и
прагматическим. В свою очередь в семантическом подходе к
анализу пресуппозиций выделяются два направления. Первое
направление идет от Фреге через английскую
«лингвистическую философию», где логико-семантическое рассмотрение
пресуппозиций связано с понятием референции.
Представителями второго подхода к пресуппозициям являются,
например, Э. Кинэн и Ч. Филлмор. Они рассматривают
пресуппозиции как предложения, которые логически следуют из
пресуппозицируемого предложения и его отрицания. Во
многих случаях это понятие пресуппозиции совпадает с фрс-
гевским понятием, однако оно имеет более широкую сферу
применения. Например, Кинэн дает следующую
иллюстрацию, где одно предложение пресуппозицирует другое:
(1) То, что арифметика является неполной, (не)
удивило Джона.
(2) Джон — животное и интеллигент.
Поскольку предложение (2) не является референциаль-
ным условием для предложения (1), чтобы сообщить ему
истинностное значение, то трудно получить желаемое
заключение на основе фрегевского понятия пресуппозиции.
Прагматические пресуппозици являются условиями
соответствующего использования предложений и лексем.
Например:
(1) Джон почистил машину.
При этом утверждается:
187
(2) Джон каузировал (воздействовал на) машину,
чтобы та стала чистой.
(3) Машина стала чистой.
Из этого следует пресуппозиция:
(4) Машина не была чистой до проявления Джоном
активности.
Таким образом, (4) образует контекстуальное условие
соответствующего высказывания (1).
Общая методологическая характеристика пресуппозиций
показывает, что пресуппозиции — это своего рода
«молчаливые» предпосылки (так сказать, предпосылки в квадрате),
образующие смысловой каркас, на основе которого
строится «текст» (дискурс). Говоря в самом широком плане,
проблема пресуппозиций — это проблема вперсчсвых условий
речевых актов54. Последнее явствует из того, что
лингвистическая компетенция говорящего не может быть адекватно
описана в отрыве от контекста социально-культурных
значений. Поэтому включение таких социально-культурных
значений в виде социально-культурных пресуппозиций в
семантическую теорию позволит, по всей видимости,
сделать важный шаг по направлению к расширению понятия
«хорошо построенного предложения» (well-formed sentence),
чтобы включить социальную обусловленность в расширенное
понятие «лингвистическая компетенция», введя в него то,
что обычно называется «коммуникативная
компетенция» 55.
Как видим, с понятием пресуппозиции связана
проблема контакта между лингвистикой, с одной стороны, и
психологией, логикой, философией — с другой. Характерно, что
некоторые западные философы, преимущественно герменев-
ты и феноменологи, рассматривают пресуппозиции как базис
человеческого языкового мышления и, соответственно
этому — как жизненно важное для философии понятие. Так,
например, по мнению У. В. Макомбера, «история философии
может быть прочитана как постоянный поиск
пресуппозиций, которые лежат в основании человеческого опыта»56.
Как отмечает Т. Петере, позитивистски настроенные
представители естествознания и с такими женастроениями
историки пытаются всячески игнорировать проблему
пресуппозиции. По их мнению, идеальный ученый должен
уподобиться невинному младенцу (своего рода tabula rasa), чистый
разум которого открыт лишь для «беспристрастного»
знания57.
Действительно, как показывает опыт житейских
наблюдений и опыт научного познания, именно на основе неосоз-
188
наваемой психической деятельности как одного из
неотъемлемых и важных компонентов целостной духовной
деятельности в сложных ситуациях происходит первичное,
интуитивное схватывание информации, поступающей с
«зыбких» периферийных участков социализуемого бытия. В
дальнейшем эта информация, соответствующим образом
переработанная, выступает в той или иной форме
оперативного знания, то есть знания в поле сознания, знания под
контролем сознания. Сознание, как правильно отмечает
С. Д. Кацнельсон, «отнюдь не предполагает осознанность
всех совершающихся в нем процессов. Даже в направленной
на внешний объект деятельности сознание имплицитно
содержит много моментов, которые осознаются лишь тогда,
когда объектом познавательной деятельности становится
само сознание и процессы его деятельности»58.
Переводя сказанное в общефилософский план, можно
повторить вслед за К. Марксом, что первичный синтез
многообразных сторон объективной действительности
происходит не в головах отдельных людей, а в
социально-практической деятельности и лишь затем — в человеческом
сознании59. Соответственно этому духовная деятельность
выступает в качестве вторичного синтеза по отношению к
совокупной общественно-исторической практике. Это не означает,
что в своем научном познании мира мы лишь грубо и
несовершенно копируем те или иные природные образцы.
Напротив, постигая закономерности окружающей нас
действительности, мы стремимся наиболее полно удовлетворить
потребности и интересы, являющиеся прежде всего
продуктами культуры, вследствие чего природа не дублируется
в искаженном виде, а очеловечивается, то есть создается,
творится и непрерывно расширяется человеческая среда
обитания, расширяются границы человеческого
мировосприятия. Таким образом, вопрос о культуре и специфике
культурного развития отдельных народов и человечества в
целом трансформируется в вопрос о сущности человеческой
творческой деятельности, в частности в духовной сфере,
которая является наиболее характерным элементом истории
человечества, или, как писал О. Корню, сознание и мышлег
ние человека суть производные исторические феномены, но
в то же время — «наиболее характерные элементы истории
человечества, ибо благодаря той роли, которую сознание и
мышление играют в истории человечества, последняя
коренным образом отличается от истории природы» 60.
Конечно, автора «Картезианской лингвистики» можно
справедливо упрекнуть в излишней модернизации взглядов
189
мыслителей прошлого61. Но в данном случае интересно
другое, а именно — идеи американского лингвиста, которые в
определенных отношениях аналогичны идеям нашего
выдающегося соотечественника — Л. С. Выготского62. Выготский
революционизировал психологию мышления, указав на
диалектическое единство мышления и языка, тем самым
возвысив язык до собственно творческой деятельности, а в
оценке мыслительной деятельности полностью развенчал
априоризм, убедительно доказав, что мысль не может
рассматриваться как изначальный духовный акт, исторически
предшествующий «слову». Принцип историзма, внедренный
Выготским в психологию мышления, позволил сделать
вывод, что мысль не воплощается в слове, как в чем-то
внешнем, а совершается в слове.
Это положение впоследствие конкретизировал А. Р. Лу-
рия, который существенно уточнил соотношение мысли и
языка на уровне «внутренней речи», заменив неотчетливое
понятие «мысль» более адекватным понятием «замысел»63.
Такая замена позволяет на уровне «внешней речи»
трансформировать понятие «замысел» в понятие «тема», тем
самым облегчая семантико-текстологический анализ, делая
понятие «мысль» более операциональным и более
соответствующим логико-семантическому, лингвистическому и
психологическому анализам. Понятие «замысел» в этом смысле
очень близок интенциям «нового ментализма». Хомского и
его единомышленников, ментализму, который отбрасывает
спиритуализм и субъективизм ассоцианистской психологии
и сближается с физикализмом. Правда, при внимательном
рассмотрении обнаруживается, что между идеями советских
авторов и хомскианцами по вопросу о природе мышления и
языка существуют принципиальные расхождения. Дело в
том, что представители «нового ментализма»
демонстрируют общий порок традиционной рационалистической
(идеалистической) философии языка — отсутствие социально-
исторической точки зрения на мышление и язык.
Специфика «нового ментализма» состоит в том, что
грамматика рассматривается как средство, которое
отражает или даже точно воспроизводит внутреннее
бессознательное лингвистическое знание говорящего-слушающего,
который пользуется этим знанием для производства и
понимания бесконечно большого числа новых предложений. По
словам Хомского, «лингвист занимается построением
объяснительных теорий на нескольких уровнях, и на каждом
уровне существует ясная психологическая интерпретация
для его теоретической и описательной работы. На уровне
1.00
конкретной грамматики он пытается охарактеризовать
знание языка, определенную познавательную систему, которая
была выработана,— причем, конечно, бессознательно,—
нормальным говорящим-слушающим. На уровне
универсальной грамматики он пытается установить определенные
общие свойства человеческого интеллекта. Лингвистика,
охарактеризованная таким образом, есть просто составная
часть психологии, которая имеет дело с этими аспектами
мышления»64.
Реализация бессознательного лингвистического знания в
актуальной речевой деятельности рассматривается как
нечто независимое (в принципе) от внешних стимулов.
Именно в этом смысле теория Хомского и хомскианцев является
менталистской теорией65.
В выработке и осуществлении новой стратегии
лингвистического познания Хомским интуитивно схвачен был один
важный рациональный момент. Имеется в виду
опережающая роль бессознательного в отражении значимых для
человека событий в окружающей его действительности. В 20-е
годы на этот феномен обратил внимание известный
советский психолог Д. Н. Узнадзе, создавший концепцию неосоз-
навамой психической установки. Напомню, что, согласно
Хомскому, языковая компетенция — это то, что лежит в
основе поведения, но не реализуется в поведении каким-либо
прямым или простым образом66.
Движение в сторону «нового ментализма» у Хомского
отмечено определенными категориальными вехами. Так,
если в «Синтаксических структурах» мы имеем дело с
различием между предложениями, порождаемыми грамматикой
(language), и уже порожденными высказываниями
(corpus), то в более поздних произведениях эта дистинкция
существенно модифицируется и выражается в терминах
«компетенция» (competence) и «употребление»
(performance) . В связи с этим выделяется тот факт, что многие
высказывания (utterances), производимые говорящим, по разным
причинам являются поп-грамматичными. Это объясняется
внелингвистическими причинами (ограниченность памяти,
выборочность внимания и пр.). Поэтому лингвист-теоретик
должен иметь дело не с сырым материалом, а с некоторой
его идеализацией, благодаря чему элиминируются все те
высказывания, которые говорящий (если обратиться к его
лингвистической компетенции) признает в качестве поп-
грамматичных. На это указывал Л. В. Щерба (1931),
подчеркивающий необходимость различать (1) «речевую
деятельность», (2) «языковый материал» («тексты») и (3)
191
«языковую систему», где (2) и (3) являются аналитически
ми (идеализированными) аспектами (1) 67.
Принцип идеализации, которым руководствуются
американские трансформационалисты в своих теоретических
исследованиях, целиком оправдан. Иное дело, что данный
принцип в своем «рабочем состоянии» настораживает, а
иногда и отпугивает лингвистов, предпочитающих
оставаться в рамках традиционного описания языка с
использованием индуктивного метода. В определенном смысле их
можно понять. Многие из этих лингвистов — далеко не
ретрограды и отлично понимают, что идеализация позволяет
обеспечить системную завершенность на теоретическом
уровне познания. Но за широкую оперативность и
применимость теоретических положений приходится заплатить тем,
что на практике нам приходится пользоваться множеством
оговорок, поправок, осуществлять сложные коррекции и
т. п.68 Опасения лингвистов-дескриптивистов усиливаются
еще за счет того, что трансформационалисты не
ограничиваются получением абстракций посредством простейших
приемов идеализации, но стремятся конструктивизировать
свой «объект» по образцу математики или математической
логики. В итоге генеративно-трансформационная
грамматика должна приобрести вид «жестского», или
«конструктивного» объекта.
Впрочем, с методологической точки зрения в этом нет
ничего предосудительного. В различных сферах научного
познания мы всегда стремимся иметь достаточно точный
«масштаб» («эталон», «меру»), позволяющий с
минимальными погрешностями «измерять» различные комплексы
изучаемых предметов, применяя в случае надобности
соответствующие избранному «масштабу» методы идеализации. Но
при этом всегда следует помнить, что чем «жестче» и
строже (конструктивнее) эти методы идеализации, тем труднее
затем исключаются абстракции высокого порядка, тем
сложнее становится задача практического использования
логически элегантной теории. Это особенно важно учитывать
для современной лингвистики с ее креном в сторону логико-
математических приемов познания, иначе мы рискуем, так
сказать, за деревьями не увидеть леса, то есть забыть
фундаментальный вопрос о сущностной природе языка.
Как уже ранее отмечалось, язык — это
основополагающая категория лингвистики, для определения которой
необходимо обращение к философии. Правда, для многих
лингвистов прошлого и настоящего это не всегда очевидный
факт. Так, Соссюр для концептуального определения языка
192
настаивал на необходимости создания общей науки о
знаках и знаковых системах, а Хомский настаивает на создании
общей теории мышления с опорой на антибихевиористскую
психологию, созвучную идеям психоанализа и нейролинг-
вистики, так как, по его мнению, «любая интересная
порождающая грамматика будет иметь дело, по большей
части, с процессами мышления»69. В одном и другом случаях
мы сталкиваемся с проблемой соотношения идеального и
материального, которая в общеметодологическом плане
выглядит как соотношение теоретического и эмпирического в
познании. В одном и другом случаях мы имеем дело с
неверным решением проблемы идеального и,
соответственно,— с ошибочной трактовкой теории и эмпирии, вследствие
чего язык превращается, с одной стороны, в непознаваемую
«идеальную вещь-в-себе», а с другой—обнаруживается
чисто инструменталистский, прагматистский подход к
построению лингвистической теории.
Переходя к следующему разделу данной главы, я хочу
ограничиться вопросами методологического характера с тем,
чтобы заострить внимание на тех трудностях, с которыми
сталкивается наука о языке, когда лингвисты или
философы языка недостаточно ясно представляют себе связь
методологии с гносеологией в контексте философского учения
о человеке. В данном случае речь пойдет о возможности
эксперимента в лингвистике, о возможности не только
наблюдать и описывать, но и активно работать с языковым
материалом в его статике («тексты») и динамике (речевая
деятельность).
Понятие эксперимента в науке о языке. Витгенштейнов-
екая «философия лингвистического эксперимента». В 1894 г.
в своей актовой речи «История и естествознание» известный
философ-неокантианец В. Виндельбанд выдвинул
положение о дихотомическом делении наук на науки номотетичес-
кие и идиографические. Эта идея была подхвачена и
развита коллегой Виндельбанда по Фрейбургской (Баденской)
школе социального познания Г. Риккертом. Так в конце
XIX в. родился манифест о разделении наук на науки
индивидуализирующие (науки о культуре) и науки
генерализирующие (науки о природе).
Основой подобного рода классификаций служила кан-
товская традиция, в рамках которой гносеология
рассматривалась крайне узко, как логика познания, вследствие чего
главные усилия неокантианцев Фрейбургской философской
школы были сосредоточены на анализе методов познания.
Предложенный неокантианцами подход к пониманию нау-
193
методологическими проблемами лингвистики, особенно в
тех пунктах, где фигурируют вопросы семантики и
семиотики.
С именем Витгенштейна связан важный этап в развитии
западноевропейской философии. В своих воспоминаниях
Г. X. фон Райт писал, что творческая деятельность
Витгенштейна инспирировала образование двух значительных
философских школ, хотя, как ни странно, сам Витгенштейн
отвергал приписываемую ему инициативу. Первая школа —
это школа так называемого логического позитивизма, или
логического эмпиризма, которая играла видную роль на
протяжение всех 30-х годов. Вторая школа — это школа так
называемой аналитической (лингвистической) философии;
иногда ее еще называют Кембриджской школой73.
Характеризуя философию позднего Витгенштейна,
К. Т. Фаин пишет следующее. Если традиционную
философию можно охарактеризовать как попытку дать ответы на
различные философские вопросы, то витгенштейновскую
философию можно охарактеризовать как систематическую
формулировку вопросов74.
Согласно Фанн, имеется непрерывность в развитии
теоретических взглядов Витгенштейна. Так, например,
изменение в методах философствования у позднего Витгенштейна
не привело к коренным изменениям в философских
устремлениях. В «Трактате» и в «Исследованиях» язык трактуется
как основной предмет философии, и отстаивается идея, что
функция философии заключается в элиминации
бессмысленных выражений. Кроме того, взгляды, выраженные в
«Трактате» относительно того, что философские проблемы
возникают из ошибочного понимания логики нашего языка,
что философия — это не наука, а языковая деятельность по
разъяснению и прояснению, продолжают служить
путеводной нитью для поздних работ Витгенштейна. Таким
образом, его поздняя концепция природы и задач философии
должна быть рассмотрена как развитие ранних взглядов,
тогда как его поздний метод, который в определенном
смысле можно назвать методом диалектики (но типу
античной диалектики), должен рассматриваться как отрицание
раннего метода, метода традиционного теоретического
конструирования.
Итак, понятия о методе у раннего и позднего
Витгенштейна радикально отличаются друг от друга. В первом
случае язык является своеобразной логической «картиной»,
изображающей формы и структуры объектов через формы
и структуры пропозиций. Во втором — язык понимается
J 96
как специфическая человеческая деятельность, связанная с
другими видами человеческой деятельности посредством
необозримого многообразия различных видов
использования слов. В первом случае существенные структуры языка
скрыты поверхностными сходствами грамматик
естественных языков. Мы должны, так сказать, откопать эти
структуры, используя логически корректный символизм, который
призван застраховать нас от ошибок. Во втором случае мы
должны стремится избегнуть заблуждений относительно
бросающихся в глаза поверхностных грамматических
сходств, но не потому, что они скрывают существенные
структуры, а скорее потому, что они создают иллюзию о
якобы имеющихся, но скрытых где-то в глубине
существенных структурах. Витгенштейн называет первый метод
«анализом», а второй метод он описывает как то, что позволяет
нам формировать ясный взгляд на использование наших
слов75.
Подход позднего Витгенштейна к языку получил
название инструмснталистского (или прагматистского). Он
выражается в следующем. Мы ничего не можем сказать о слове
или предложении кроме того, что это — разновидности
правил-руководств, управляющих нашей языковой
деятельностью. Рассмотрение языка в качестве инструмента
является полной противоположностью ранним взглядам
Витгенштейна периода «Трактата», где язык оценивался как
картина (или зеркало) реальности. Большая часть
«Философских исследований» посвящена замене «картинной
теории (picture theory) инструменталистским подходом к языку.
В результате понятие «значение лингвистического
выражения» заменяется понятием «использование», точнее,
значение выражения — это его использование (или
использования) в некоторой актуальной языковой игре (или играх),
то есть разнообразные языковые игры сообщают значения
словам76.
Следует обратить особое внимание на тот факт, что
Витгенштейн никогда не интересовался языком ради языка.
Его интерес к языку был обусловлен интересом к
философии. Основную свою задачу Витгенштейн видел в том,
чтобы понять природу философского знания. Он даже проявлял
определенные симпатии к философам-метафизикам, говоря
по этому поводу своим студентам следующее: «Не думайте,
что я презираю метафизику или осмеиваю ее. Напротив, я
рассматриваю великие метафизические произведения
прошлого как величайшие продукты человеческого разума»77.
Более того, он предлагал некоторые позитивные способы
197
рассмотрения метафизики, подчеркивая, что, хотя
метафизические утверждения сами по себе абсурдны, идеи,
выраженные этими утверждениями, имеют огромное культурное
значение. Метафизики изобретают понятия, которые
подчеркивают различия более сильно, делают их более
очевидными, чем это делает обыденный язык. Таким образом,
философская деятельность позднего Витгенштейна не
является антиметафизической, хотя и является
поп-метафизической 78.
Стало общим местом утверждение, что витгенштей-
новская философия языка не может быть адекватно
понята без знания работ Г. Фреге и Б. Рассела79. Когда
Витгенштейн начал интересоваться литературой по
вопросам оснований математики, ему посоветовали обратиться
к книге Б. Рассела и А. Уайтхеда «Принципы математики»
(1903). Эта книга, очевидно, оказала сильное влияние на
развитие логико-философских взглядов Витгенштейна, и
она же, вероятно, привела его к изучению работ Г. Фреге.
Согласно X. фон Райту, «новая» логика, блестящими
представителями которой были Фреге и Рассел, явилась теми
воротами, через которые Витгенштейн вошел в
философию 80.
Фрегевские идеи оказались во многом созвучны
современной философии, внутри которой можно выделить два
основных подхода к семантической проблематике. Один
подход связан с выявлением значения лингвистического
выражения, а другой — с рассмотрением характера
использования выражений. Первый подход базируется на
старой метафизической традиции, в соответствии с
которой феномен значения рассматривается в форме
отношений, устанавливаемых между языком и миром. В плане
формализованных языков это выглядит как семантическое
различие в языковых уровнях (объектный язык и
метаязык). Новыми здесь являются только методы анализа.
Второй подход к рассмотрению феномена значения
связан с указанием на большое разнообразие речевых актов,
которые могут быть осуществлены говорящим в
повседневной жизни. Защитники первого подхода обвиняют
представителей второго за неточность и ненаучность, за
недооценку познавательных возможностей современной логики.
Защитники второго подхода обвиняют представителей
первого в излишнем упрощении богатства и сложности
языка81.
Фрегевские семантические идеи оказались в равной
мере интересны как для представителей логического позити-
198
Ьйзма, так и для представителен лингвистической
философии, делавших упор на понятие «использование» в
семантическом анализе естественных языков.
Я могу сказать, рассуждает Фреге, что «имена» «22=4» и
«3>2» имеют одно и то же истинностное значение, которое
будем называть истиной. «Имена» «З2—4» и «1>2» имеют
также одинаковое истинностное значение, которое будем
называть ложным. При этом Фреге предлагает различать
«значение» (Bedeutung) «имени» и его «смысл» (Sinn),
Так, например, «22» и «2+2» не имеют один и тот же
«смысл», равно как не имеют одного и того же «смысла»
следующие математические выражения: «22=4» и «2+2 =
=4». Таким образом, можно сказать, что «имя» выражает
свой «смысл» и обозначает свое «значение» 82.
Иначе говоря, в случае двух математических операций
типа «22» и «2+2» мы имеем один и тот же результат («4»),
но эти операции по своему смыслу отнюдь не эквивалентны.
Тот, кто знаком с операциями сложения, но не знаком с
операциями возведения в степень, не сможет в последнем
случае получить соответствующий результат (Bedeutung).
Учитывая это, можно сказать вслед за Витгенштейном, что
значение (в широком смысле слова, без учета фрегевской
дистинкции) — это использование соответствующих
операций в зависимости от той или иной ситуации. Наиболее
отчетливо это наблюдается в естественных языках. Как
отмечает Ф. фон Кутчера, для общей семантики разделение на
«смысл» и «значение» является принципиально важным.
Витгенштейн в «Философских исследованиях» первым
восстановил в прежних правах фрегевскую дистинкцию83.
Рассмотрим высказывание «Я иду за водой».
Предметная направленность (референция, Bedeutung) этого
высказывания очевидна: некто идёт куда-то за водой, а не за
молоком, хлебом и т. п. Но в зависимости от ситуации это
высказывание может быть произнесено по-разному (в
форме вопроса, в угрожающем тоне и т.п.), соответственно чему
изменится его «смысл» (Sinn). Семантическая теория,
опирающаяся на понятие «использование», нацелена, не
столько на анализ буквального значения выражений, сколько
на характер речевой деятельности в определенной
ситуации. Получаемые таким образом
теоретико-лингвистические модели могут быть использованы, например, при
разработке автоматов, рассчитанных на вербальное общение
с оператором.
Любопытно, что свою роль в развитии семантической
теории, опирающейся на понятие «использование», сыграл
199
следующий фактор. Лингвистика прогрессивно
эволюционировала, переводя систему звуковых сигналов в визуальные
формы, которые затем подвергались тщательному
исследованию. Те же средства речевой коммуникации, которые не
переводились на визуальный исследовательский язык, под
тем или иным предлогом устранялись из лингвистической
теории.
Одной из самых важных черт разговорного языка
является интонация. Лингвисты, работающие с такими
языками, как китайский, вьетнамский и т. п., не могут
игнорировать эту черту. Впрочем, роль интонационного фактора
видна и без обращения к «экзотическим» языкам. Хорошо
известно, что модуляции голоса превращают утверждения
в вопросы, команды, клятвы и т. п. Поэтому описание
синтаксиса естественных языков должно принимать во
внимание этот важный компонент грамматики, ибо без него
теоретические модели языка будут напоминать абстрактную
логическую схему84.
Период, когда начали складываться новые философские
взгляды Витгенштейна, приходится на конец 20-х —
начало 30-х годов. Какую-то роль сыграли годы учительство-
вания в австрийской деревушке. Занятия с детьми и опыт
составления словаря для начальных школ способствовали
выработке прагматистских взглядов на язык. Особое
внимание Витгенштейн обращал на то, как дети употребляют
слова.
Объяснение детям значений слов заключается в
обучении их тому, как ими пользоваться85. Однако
катализирующее влияние на становление философии позднего
Витгенштейна сыграли двое его кембриджских
коллег—английский математик и логик Ф. Рамсей, чья
преждевременная смерть в 1930 г. явилась тяжелой утратой для науки,
и итальянский экономист П. Сраффа (Piero Sraffa),
близкий друг А. Грамши.
Витгенштейн рассказывал, что его дискуссии с
итальянцем напоминали обрубку веток у дерева, которое может
вновь зазеленеть только благодаря своим собственным
жизненным силам, если таковые имеются.
В качестве едва ли не легендарного события
приводится курьёзный эпизод из беседы Витгенштейна со Сраффом.
Однажды, когда Витгенштейн доказывал, что пропозиция
имеет ту же логическую форму, что и факт, Сраффа сделал
жест, используемый неаполитанцами для выражения
презрения, и спросил Витгенштейна, какова логическая форма
того, что он сделал. Витгенштейн вспоминает, что это был
200
вопрос, пошатнувший его веру в возможность
рассматривать факт как логическую форму. Озадаченный такого рода
вопросами, Витгенштейн предпринимает ревизию
традиционных взглядов на семантику слова, в результате чего он
отходит от своих первоначальных установок.
Первая глобальная попытка переоценки семантических
идей относится к 1933—1934 гг., когда Витгенштейн
начал читать два курса лекций, один из которых назывался
«Философия для математиков». После трех-четырёх недель
занятий он заявил слушателям, что не может продолжать
чтение лекций. Из всего количества слушателей (30—40
человек), выбрав пятерых, он начал диктовать им то, что
впоследствии получило название «Голубой книги». Как и
«Голубая книга», следующая книга («Коричневая книга»)
явилась результатом лекций, продиктованных в период 1934—
1935 гг.86.
«Голубая книга» начинается с вопроса о природе
значения слова. Отвечая на поставленный вопрос, Витгенштейн
приходит к выводу, что понятие «значение» применительно
к естественному языку следует заново переосмыслить и
существенно уточнить.
Витгенштейн в связи с этим отвергает менталистскую
теорию семантики и утверждает, что значение слова,
фразы следует искать в способах их употребления, или, как
он сам говорит, значение фразы для нас характеризуется
её употреблением. Таким образом, значение не является
ментальным компонентом выражения87.
Разрабатывая философию языка как философию
языковой деятельности, Витгенштейн не мог пройти мимо проблем
семиотики. Вопрос о соотношении знака и значения им
решался следующим образом. Активность в широком, но
достаточно строгом смысле слова (активность в сфере науки)
связана с понятием опыта. Мы используем некоторые части
нашего опыта для обозначения других его частей. Какая
часть опыта будет использована нами как символ, а какая в
качестве символизируемой (обозначаемой) — это вопрос
логического удобства. На практике же выбор определяется
традицией, привычками и даже простым случаем. Что
должно быть символом, а что — символизируемым, зависит от
функционального соотношения фактов и элементов внутри
нашего мира, а это в свою очередь определяется языковой
активностью и относится к концептуальной базе языка.
Вряд ли стоит добавлять, замечает в связи с этим А. Мас-
лоу, что витгенштейновские символы не имеют отношения
к ментальное™88,
201
По Витгенштейну, язык есть множество типов
деятельности, один из которых относится к разряду обозначающих
(знаковых деятельностей), а другие — к обозначаемым
(значимых деятельностей, значений). Получить значение
слова— значит применить одну форму деятельности для
воспроизводства другой. Относительно языка такой формой
«воспроизводства», вернее, «производства»
(конструирования) значений служат соответствующие типы
грамматических правил. Следовательно, чтобы усвоить язык,
необходимо усвоить совокупность различных форм знаково-значи-
мой деятельности (например, жестикуляция, мимика,
звуковая речь и пр.). В витгенштейновском смысле «умение
пользоваться языком означает овладение не одним видом
практики, но многими её разновидностями.
Множественность и разнообразие практик, которые образуют наш
язык, подчеркивается Витгенштейном в последовательности
«языковых игр», которые он строил в своих поздних
сочинениях»89.
В попытках отмежеваться от квазипсихологизма и ин-
троспекционизма Витгенштейн впадает в крайность,
выбирая путь, ведущий к отождествлению мышления и значения.
Согласно ему, мышление не тождественно психическим
процессам; оно существенно связано с символизмом.
Мышление возможно только через символизм, а символизм
требует определенных правил. Мышление без правил его
символизации не является мышлением. Любой же процесс,
протекающий согласно правилам, является логическим
процессом; мышление необходимо логично, ибо в противном
случае это не мышление90.
Апофеозом витгенштейновского экспериментирования
с языком и языковой семантикой явились «Философские
исследования». Здесь мы сталкиваемся с наиболее
яркими чертами его воззрений на семантику.
С давних пор считалось, рассуждает Витгенштейн, что
слово имеет значение, если оно является именем чего-то
внелингвистического. Предполагалось, что слово — это
своего рода индикатор, указательный знак. Таким образом,
спрашивать о значении слова — значит спрашивать, что
данное слово замещает. В качестве типичного
исторического примера Витгенштейн ссылается на Августина, замечая
при этом, что Августин ничего не говорит о различии
между видами слов. Если характеризовать усвоение языка
как процесс остенсивного обучения словам, то прежде
всего следует указать на существительные типа «стол», «стул»,
«хлеб», а также на имена людей. На втором месте стоят
202
имена определенных действий и свойств. Оставшиеся виды
слов предоставляются самим себе91.
Полагаясь на здравый смысл и житейский опыт, мы
относительно легко можем определить значение таких слов,
как «яблоко», «красное», но уже гораздо труднее это
сделать применительно к словам с более абстрактным
содержанием (например, слово «пять»). Мы в состоянии указать
на яблоки, на красный цвет, но не в силах аналогичным
образом указать на число пять как на нечто рядоположенное
красным яблокам. Впрочем, такой подход был бы
приемлем для представителей крайнего платонизма. По
Витгенштейну, если кто-то спрашивает, что слово «пять»
именует, — это значит, что вопрос базируется на неправильном
понимании сути дела. В данном случае вопрос должен
формулироваться так: как используется слово «пять»? 92.
В онтогенетическом плане мы можем рассматривать весь
процесс использования слов как одну из тех игр,
посредством которых дети усваивают свой родной язык.
Витгенштейн предлагает называть эти игры «языковыми играми».
В более научном смысле термин «языковая игра»
используется Витгенштейном с целью подчеркнуть тот факт, что
разговорный язык является частью активности как таковой,
или своего рода формой жизни, т. е. одним из видов
собственно человеческой, а не животной жизнедеятельности 93.
Как многообразен мир человеческой жизнедеятельности,
так многообразны и виды языковой деятельности в
пределах одного естественного языка, не говоря уже о других
языках, других культурах и цивилизациях. По
Витгенштейну, Августин ошибался, полагая, что значение каждого
слова зависит от замещаемой им чувственной или образной
предметности. При этом Витгенштейн проявляет
известное снисхождение ко взглядам Августина на язык,
отмечая, что августиновская концепция языковой семантики
истинна лишь для одной специальной и довольно
примитивной «языковой игры», а не для всего их разнообразия.
Действительно, мы вполне можем представить такую
языковую ситуацию, где имеются все основания для
утверждения, что значением слова является вещь, на которую
данное слово указывает. Но как быть в тех случаях, когда
требуется отдать приказ, выразить сочувствие, гнев, задать
вопрос и т. д.? Здесь августиновская концепция
демонстрирует полную свою беспомощность. Вот почему Витгенштейн
настаивает (и не без оснований) на том, что язык можно
считать более или менее усвоенным, когда некто в состоянии
играть в различные языковые игры, то есть в состоянии ис-
203
Пользовать слова согласно определенным целям (например,
задавать вопросы, отдавать приказы и т. п.), а не как вер^
бальную этикетку. Витгенштейн приводит остроумный
пример следующего содержания.
Когда умирает некий мистер Ху говорят, что умирает
носитель имени, а не значение имени. Будет бессмысленным
также сказать, что если имя по каким-то причинам
перестает иметь значение, то это должно означать, что мистер X
умер. Поэтому мы обычно не спрашиваем «Что означает
имя Джон?», а говорим «Кто является Джоном?»94. Из этого
Витгенштейн делает следующий вывод. Для большого
класса случаев, хотя и не для всех, в которых мы пользуемся
словом «значение», данное слово может быть определено
так: значение слова — это его использование в языке.95.
Это определение Витгенштейн подкрепляет критическим
анализом остенсивных определений, которые загодя
предполагают некоторое значение языка. Поэтому
номинативные языковые игры не могут быть базисом для других
языковых игр. Вместо этого Витгенштейн предпочитает
говорить о начальном процессе усвоения родного языка,
используя понятие «остснсивнос обучение словам»96.
По-видимому, не случаен тот факт, что «Философские
исследования» открываются полемикой с Августином,
взгляды которого в определенном смысле соответствуют
взг^дам Витгенштейна периода «Логико-философского
трактата». В «Трактате» слово является значимым, если
и только если оно является именем. В «Философских
исследованиях» слово более не является только именем;
слово может быть использовано как имя, но кроме этого оно
может быть использовано и многими другими
способами. Соответственно изменившимся воззрениям Витгенштейн
вкладывает новое содержание в термин «язык». Теперь этот
термин маркирует не какой-то один единственный феномен
с ярко выраженными структурными особенностями, а
обширный класс неопределенного числа «языковых игр».
Стало быть, язык нельзя сводить только к «картине»
реальности. Его мировоззренческие возможности настолько богаты,
что язык способен выполнять множество самых
разнообразных функций, то есть способен быть инструментом с
широчайшим диапазоном использований 97.
Понятие «языковые игры» является ключевым понятием
философии позднего Витгенштейна. Будучи
основополагающим, данное понятие не объясняется в пределах той
разновидности философии, которую К. Мандл сравнивает с
эмпирической лингвистикой. Это своего рода постулат, содержа-
204
ние которого раскрывается на теоретическом уровне, но
поскольку Витгенштейн этого уровня не успел достигнуть,
поскольку исследователям его наследия предоставляется
широкое поприще для комментаторской деятельности. Если же
мы остановимся на «эмпирическом» уровне, то
целесообразно учитывать, что не существует особой языковой игры для
объяснения концептуального смысла языковых игр, хотя в
философии Витгенштейна имеется их описание. «Языковые
игры» — это один из способов рассмотрения языка, точнее,
экспериментирование с языком, особенно в области
семантики.
Хочу подчеркнуть, что витгенштейновское понимание
«использование слова» отличается от бихевиористской
семиотики и семантики. Для Витгенштейна использование не
является бихевиористским термином. Использование — это
«способ использования». Данный «способ использования»
может быть определен с помощью общих правил
«использования», которые говорят нам, как слова используются в
случаях такого-то и такого-то вида. Выражение «использование
слов» в своем терминологическом значении отнюдь не
ограничивается указанием на некоторое их бытовое
употребление. Имеется в виду другое, а именно — корректное
использование слов в соответствии с теми или иными
лингвистическими стандартами, в соответствии с тем или иным
контекстом и его организацией. Если кто-либо желает
отождествить значение слова с его использованием, то он
должен указать на правила его корректного использования.
Симпатизируя взглядам позднего Витгенштейна, Джа-
нет Фодор также считает ошибочным рассматривать
значения как «сущности», которые стоят как бы особняком,
или в некотором особом отношении к выражениям
естественного языка. По ее мнению, в отличие от других теорий
значения идеи позднего Витгенштейна близки идеям
генеративной лингвистики. Преимущество теории
«использования» состоит в том, что оно не исключает никакой класс
значимых выражений. Скажем, выражения типа «ф> (если),
«for» (для), «the» (определенный артикль) не имеют
референтов и не вызывают никаких ментальных образов или
каких-либо характерных реакций, но тем не менее они
весьма эффективно используются в конструировании
осмысленных выражений. Опасность, же, связанная с этой теорией
значения, состоит в ее излишней широте. Поэтому более чем
желательно понятие «использование» применительно к
теории лингвистической семантики каким-то способом
ограничить и эксплицировать98.
205
Понятие «использование» представляет интерес еще и
тем, что недвусмысленно указывает на необходимость
анализа механизма изменяемости значений, например, по
типу метафорообразований. К сожалению, Витгенштейн не
имел эксплицитной теории метафоры, однако, по мнению
Дж. Джилла, его произведения имплицитно содержат
взгляд на природу и ценность метафорической речи". На
подобные выводы наталкивает как то, что свои наиболее
важные мысли Витгенштейн нередко выражал с помощью
аналогий, сравнений, метафор, так и то, что его
философия позднего периода — это разновидность
инструментализма, когда для достижения когнитивных целей язык
используется как игра, средство, инструмент, модель, и не
столь уж важно, достигается ли эта цель с помощью
метафор или с помощью более точных терминов. Дело в том, что
нечто, являющееся метафорой в одном контексте, в
другом контексте может оказаться точным термином и наобо-
ррт. Поэтому Витгенштейн считает типичной ошибкой со
стороны философов говорить о вещах в абсолютно точных
терминах, вне учета контекстной обусловленности этих
терминов.
Если язык не рассматривается как статичное отражение
реальности, если язык — это динамичная, развивающаяся
система, то наиболее ярко подобная языковая активность
проявляется в создании метафор, которые озадачивают и
интенсифицируют нашу умственную деятельность. Вот почему
Витгенштейн считает, что самые важные формы знания и
значения не могут быть совершенно отчетливо
эксплицированы, но должны показывать себя косвенно, тем самым
интригуя нас, привлекая к себе внимание. Таким образом,
витгенштейновский взгляд на метафору проявляется не в
теории метафорообразования, которую он не создал, а в
самой практике использования им метафор как
инструментов, с помощью которых мы предельно сближаемся с
изменчивой, текучей реальностью 10°.
Оценивая витгенштейновскую философию и его
семантические идеи, хотелось бы отметить следующее. Витген-
штейновская философия сочетает в себе элементы
рационализма и эмпиризма. Рационализм доминирует в
начальный период его творчества, тогда как эмпиризм более
явно представлен в его поздних произведениях. Избегая
психологической трактовки языка, он предпочитает в
объяснении интеллектуальной деятельности идти со стороны
языка, коммуникативные возможности которого
оцениваются согласно шкале «понятно — непонятно». С учетом по-
20G
следнего язык выступает для Витгенштейна не самоцелью,
как для лингвистов, а «полигоном» для апробации
философских, логических и семантических идей. Результатом
является транформация философии языка в «философию
лингвистического эксперимента».
С этой точки зрения опыт философских исследований
позднего Витгенштейна служит поводом для постановки и
более конструктивного решения вопросов, относящихся к
психолингвистике, к собственно лингвистике и, разумеется,
к теории познания, которая включает в свой состав
языковую проблематику в той мере, в какой это касается
особенностей развития и функционирования языковых форм
знания, познания, сознания. Например, психолингвистика
может заинтересовать семантический аспект проблемы
комического, решение которой, опираясь на экспериментальную
базу, может пролить дополнительный свет на понимание
сущности мыслительной деятельности. В этой связи весьма
интересны некоторые наблюдения К. И. Чуковского,
которые он пытался подкрепить научной информацией, в
частности разработками С. Л. Рубинштейна и А. П. Семеновой.
Ранее уже упоминалось, что дети в первые годы
освоения родного языка не воспринимают метафоры именно как
метафоры и склонны к буквальному их восприятию.
Аналогичная картина, но только в абсолютном смысле
наблюдается у шизофреников. Что касается детей, то с возрастом у
них проявляется, как и в народном фольклоре,
сознательное нарушение прочно установленных истин, то есть
происходят коренные семантические перестановки, создание
новых абсурдных контекстов типа: «Слепой подглядывает,
глухой подслушивает».
Чуковский совершенно резонно оспаривает мнение
некоторых авторов, желавших видеть в детской тяге к
«перевернутому миру» («перевертышам», по Чуковскому)
некоторое врожденное стремление к юмору. Он утверждает, что
остроумие здесь только побочный продукт, в основе же
подобных причуд лежит познавательное отношение к миру101.
Чуковский несомненно прав. Действительно, как показывает
развитие современной науки, причудами такого рода
занимаются не только литературоведы, лингвисты, психологи и
философы, но также математики и ... экономисты (!),
которые, создав математический аппарат теории игр,
попытались формальными средствами описать и оценить
целенаправленный характер действий отдельных лиц и их групп
в ситуациях с неопределенным исходом (конфликтные
ситуации)102. В контексте методологии научного познания ана-
207
логом являются такие понятия, как «проблема», «задача»,
«гипотеза» и т. п.
В одной из своих работ В. Я. Пропп, полемизируя с
Шопенгауэром, писал, что теория противоречия
(несоответствие наших понятий реальности) далеко не универсальна,
чтобы объяснять все случаи смеха, ведь несоответствие
может быть нисколько не смешным, как в случае с
переворотами в науке. По его мнению, установление факта
заблуждения в науке лежит вне области комизма.103.
В отличие от ученого, которому отнюдь не до смеха,
когда происходит радикальное изменение научных
парадигм, с ребенком дело обстоит иначе. Смех подчеркивает
игровой характер освоения языкового «мира», особую
форму познания. По словам Чуковского, ребенок играет не
только с куклами и кубиками, но и со своими мыслями, когда
он ими овладевает (осознает). Распространенным
методом этих умственных игр является именно обратная
координация вещей. Другими словами, важнейшим принципом
этих «игрушек» есть то, что дети ощущают их как нечто
забавное, веселое, жирое, лодрижное. Чем яснее для них
реальное, правильное йоложенйе дел, от которых они в
своих мыслях и словах отступают, тем сильнее эффект
комического104. Получается на первый взгляд парадоксальная
ситуация: «...всякое отступление от нормы сильнее
укрепляет ребенка в норме, и он еще выше оценивает свою
твердую ориентацию в мире»105.
Эти семантические «игры» можно попытаться
объяснить с позиций современного лингвистического знания,
привлекая теоретико-информационную терминологию. Дело в
том, что речевая коммуникация с необходимостью
предполагает выбор из множества альтернатив. Если этот выбор
отсутствует, то полная предсказуемость языковых
выражений «гасит» их значение. Как известно, количество
информации, которое несет в себе сообщение, возрастает
при увеличении количества неопределенности относительно
того, какое сообщение из всех возможных будет выбрано.
Информационное содержание лингвистического текста
изменяется обратно пропорционально вероятности. Чем более
предсказуемо выражение, тем меньше значения оно несет.
Следовательно, какое-либо высказывание тем более
значимо, чем меньше оно предопределено контекстом. Отсутствие
же значения является крайним случаем полной
предсказуемости. Таким образом, когда мы сталкиваемся с детскими
лингвистическими «перевертышами», можно заключить, что
ребенок достаточно твердо усвоил грамматические и логи-
206
ческие нормы языковой деятельности и теперь пытается
испытать их на семантическую «прочность» (к чему и
призывает Витгенштейн), то есть идет на «непредсказуемые»
лингвистические акции с тем, чтобы продемонстрировать
своё понимание языка и своё языковое самосознание.
Между прочим, подобные «странности» не учитываются в
научной программе Хомского; она, так сказать, лишена
«элемента юмора». Это попытались исправить представители
генеративной семантики, которые всё чаще начали
обращаться к анализу механизма семантических изменений,
в частности — к метафоре.
В свете сказанного витгенштейновские «языковые
игры» — это «семантические игры вшутку и всерьез». Дети
шутят, создавая неожиданные метафоры, чтобы всерьёз
подтвердить степень своей интеллектуальной зрелости
(языковой компетенции). Некоторые же взрослые всерьез
заявляют, что языковые нормы — это «шутка» для детей,
поскольку в мире нет ничего вечного и абсолютного, мир —
это сплошные отношения и конвенции. К числу таких
«карнавально» настроенных взрослых принадлежат философы-
экзистенциалисты. Как отмечает Э. Керн, с самого
начала экзистенциальная мысль чувствовала себя как дома в
мире фикций. Так, согласно современным
экзистенциалистским мыслителям, парадоксальность и абсурдность жизни
можно легче дедуцировать из фундаментальных (по своей
значимости для человека) ситуаций, изображаемых с
помощью художественного вымысла, чем описать логическим
языком106. Разъясняя смысл сказанного, Керн пишет
следующее. Ж.-П. Сартр, наподобие С. де Бовуар и М. Мерло-
Понти, подчеркивает родство между философией и
литературой. По Сартру, философия, которая старается
увидеть человека не в абстракции, не статично, но в
динамике, должна пользоваться не логически выверенными
терминами, а фикциями (метафорами), которые в
терминологическом плане характеризуются двусмысленностью и
неопределенностью. Этот двусмысленный язык служит
более подходящим средством для выражения замыслов, чем
философские рассуждения, базирующиеся на логических
доказательствах. Вот почему сартровская философия более
тяготеет к форме романа, короткой истории, драмы 107.
Такая же картина наблюдается и в философии Т. Адорно, чей
язык предельно метафоричен. Весьма примечательной
чертой философского поиска Адорно является обращение к
наследию античных риторов, возвеличивание методов и
приёмов теории красноречия. «Диалектика, — утверждает
8 909
209
Адорно, — которая формирует свой смысл по языку как
органону мышления, была бы попыткой спасти
риторический момент: приблизить друг к другу вещь и выражение,
несмотря на их безразличие» 108.
Цель, которую ставит перед собой философ типа Адорно,
достижима в литературном плане путем смешения стилей,
в частности путем деструкции философского жанра. Как
известно, смешение стилей распыляет внимание, отвлекает
от метафоры, от её «как если бы», давая возможность
необычное воспринимать как обычное, само собой
разумеющееся и очевидное. Семантика онтологизиоуется за счет
фетишизации речевой деятельности. Сказанное о смешении
стилей можно передать словами французского философа
М. Фуко, который пишет: «Известно, насколько
ошеломляющим оказывается сближение крайностей или попросту
неожиданное соседствование не связанных между собой
вещей: уже само перечисление, сталкивающее их вместе,
обладает магической силой»109.
Смешение стилей является не только интересным
примером создания языковыми средствами фантастической
реальности, это, если угодно, и определённый показатель
умонастроений эпохи, особенно в период ломки старых
взглядов и мировоззренческих ценностей.
Как видим, рассмотрение витгенштейновской философии
как «философии лингвистического эксперимента» позволяет
выйти на широкий спектр проблем — от узко
методологических (роль эксперимента в науке о языке) до
глобальных идеологических, когда эксперимент из технического
инструмента превращается в « экспериментаторство» с
духовным миром людей. Отвлекаясь от идеологического фактора,
отмечу, что Витгенштейн в силу своего инструментализма и
непрерывного экспериментирования в сфере семантики, не
смог сформулировать или просто указать на центральную
категорию, концептуальными ипостасями которой у него
служат понятия «использование» и «языковые игры». Речь
идет о категории деятельности применительно к понятию о
языке. Этот пробел в традиции британской
лингвистической философии попытался восполнить интеллектуальный
лидер «лингвистически» мыслящих философов
Оксфордской школы Дж. Л. Остин (1911—1960).
Значение понятия «деятельность» в системе
современного языкознания. Остиновская теория «речевых актов».
Начиная с В. фон Гумбольдта, понятие «деятельность» прочно
вошло в словарный и понятийный фонд науки о языке.
Сейчас на Западе все больше и больше лингвистов приходят к
210
мнению, что полное понимание феномена языка требует
исследований различных форм невербального поведения
говорящих и слушающих, находящихся внутри определенных
социально-культурных структур реальности по.
Увеличивается число отечественных и зарубежных авторов,
утверждающих, что философия лингвистики не может
рассматриваться изолированно от философского осмысления сознательной
человеческой деятельности.
Хотя понятие деятельности давно прижилось в
лингвистике, но до сих пор не существует единой теории языковой
деятельности. Об этом свидетельствует даже
терминологический разнобой в выражении понятия деятельности
(«поведение», «активность», «акт», «действие»),рбщей чертой
многих подходов к понятию деятельности в "лингвистике
является чисто эмпирическая фиксация наблюдаемых феноменов.
В этом языке наблюдений (дань позитивисткой философско-
методологической традиции) деятельность в сфере языка
фигурирует как «речевая деятельность». С лингвистической
точки зрения понятие «речевая деятельность» относится к
сфере прагматики и может выступать самоценным и
невторостепенным только по отношению, например, к
психолингвистике. Так, по мнению А. А. Леонтьева, в советской
науке психолингвистика с самого начала выступала как
теория речевой деятельности111. Но психолингвистика — не
лингвистика, соответственно чему понятие «речевая
деятельность» отнюдь не исчерпывает всего богатства понятия
«деятельность» применительно к языку. В противном случае,
вслед за Гумбольдтом и Соссюром, следует предположить,
что язык, в противовес речи — это застывшая «идеальная
сущность» (статичный теоретический конструкт). Но как
убедительно показал Косериу, понимание языка в качестве
«продукта» — это методологическая конвенция, полезная
при построении соответствующих грамматик (например,
генеративно-трансформационная грамматика), но не
социально-культурная реальность языка как такового. Из
положения, гласящего, что язык дан нам в речи, но не наоборот,
можно сделать следующий методологически важный вывод:
язык — это закономерно осуществляющаяся речь, язык
совершается в речи. Таким образом, язык — это прежде
всего деятельность (языковая деятельность), а не пассивный
продукт теоретического конструирования, который,
собственно говоря, является не языком как таковым, а
грамматикой языка.
Проблема языковой деятельности, ее сущностного
понимания не входит в компетенцию лингвистов или психологов.
8*
211
Это философская проблема, решение которой требует
привлечения таких понятий, как «мышление» и «сознание».
Деятельность вне сознания эквивалентна физиологической
жизнедеятельности, физиологическому функционированию
биологического организма. На подобное понимание
языковой деятельности уже давно обращено внимание. Так,
например, известный исследователь языка К. Л. Пайк в своей
фундаментальной монографии призывает выявить
базисные принципы, лежащие в основе структурной организации
различных видов сознательной человеческой активности.
По его словам, язык — это такая специфическая форма
человеческой активности, которая должна трактоваться как
нечто структурно отличное от структуры /гол-вербальной
человеческой активности. Активность человека образует
структурное целое. Поэтому теоретико-методологический
подход к языку должен с необходимостью это учитывать ш.
Понятие «деятельность», «сознание», «мышление»,
«язык», «речь» включают в свой ряд и такие понятия, как
«смысл», «значение». Действительно, сознательная
человеческая деятельность — это осмысленная деятельность,
деятельность значимая. Анализируя осмысленную и смысло-
порождающую, смыслообразующую вербальную
деятельность человека, мы вскрываем наиболее характерные черты
его творческой деятельности вообще. Здесь-то мы и
сталкиваемся с проблемой семантических изменений,
семантических инноваций, т. е. сталкиваемся с проблемой языкового
творчества на семантическом уровне анализа. Интересным
и во многих отношениях поучительным примером такого
анализа является учение видного английского философа
Остина, учение, являющее собой разновидность
«лингвистической философии».
Остин любопытен не только как оригинально мыслящий
представитель философии языка, но и как философ,
связавший свои научные занятия с исследованием различных
аспектов целенаправленной человеческой деятельности.
Правда, напрасно искать у Остина какое-либо подобие
общей теории такого рода деятельности (в смысле
систематического и исчерпывающего рассмотрения природы
активной человеческой деятельности) из. Но тем не менее
подобная тенденция просматривается в его разработках.
Например, в книге «Как обращаться со словами» мы имеем дело
с изложением доктрины так называемых речевых актов
(speech acts). По сравнению с тем, что Остином было уже
сделано до работы над рукописью данной книги, доктрина
речевых актов представляет кульминацию попыток прояс-
212
пить выражение «использование языка» (use of language).
Относительно же того, что Остин имел в виду на будущее,
доктрина речевых актов, по-видимому, должна была
направлять и вести к общей теории целенаправленной, смыслооб-
разующей человеческой деятельности, а в другом плане —
к новой науке о языке И4. Это явствует хотя бы из того, что
некоторые современные западные ученые солидарны с
Остином и считают, что теория значения должна
конструироваться как часть (или особый случай) более общей теории
интенциональной деятельности. Во многом подобные
познавательные позиции в сфере западной философии языка
совпадают с установкой представителей феноменологической
философии, для которых ассимиляция значения
деятельностью является ведущим мотивом творческих исканий115.
Остин, как и поздний Витгенштейн, не имел и не
разрабатывал никакой теории особого философского метода
познания. Его основным исследовательским методом был
систематический способ работы, сходный скорее с
лабораторной (экспериментальной) техникой, чем с
научно-теоретической методологией. Остин оценивал свой метод как
метод эмпирический. Но в противоположность
Витгенштейну он серьезно надеялся, что благодаря его исследованиям
может появиться новая наука, которая объединяла бы
лингвистику и философию116.
По мнению Куайна, остиновская техника философско-
лингвистического анализа — это способ интроспективного
исследования семантики. Остиновская манера
семантического анализа контрастирует с главными направлениями в
современной лингвистике, поскольку является откровенно
интроспективной. Конечно, любой лингвист в определенной
степени подвергает язык внутреннему самоанализу, но
именно у Остина лингвистическому самоанализу придается
исключительное значение. Справедливости ради стоит
отметить, подчеркивает Куайн, что по отношению к Остину
лекарством от крайностей интроспекционизма является его
широкая исследовательская стратегия. В общей форме эта
стратегия состоит в анализе субъективно окрашенных
речевых актов и последующей обработке добытой информации
посредством суммирования индивидуальных данных117.
Начало остиновской философии языка датируется
концом 30-х годов, когда Остин приступил к разработке
понятия перформатива. Как отмечается в литературе по
данному вопросу, понятие перформатива и его последующие
модификации являются отличительными признаками философ-
ско-лингвистической деятельности Остина. Аналогичную
213
роль у Витгенштейна выполняет понятие «языковой игры».
«Performative», как подчеркивал Остин,— это искусственное
слово, с которым не должны связываться никакие образные
ассоциации. Раскрывая концептуальный смысл этого
нового слова, а точнее, термина, Остин указывал на то, что
философы традиционно предпочитали иметь дело с истинными
или ложными высказываниями. С точки зрения этих
философов высказывания, не сообщающие ничего о фактах или
•не описывающие какую-либо ситуацию, являются в научном
плане бессмысленными. Сейчас же, по словам Остина,
положение дел в сфере философии языка радикально меняется.
Право на философский анализ получают такие
высказывания, которые хотя и не сообщают ничего о фактах, но зато
длияют на поведение людей. В связи с этим в философском
лексиконе появилось новое выражение «различные
использования языка». Таким образом, прежний подход
философов к языку следует признать явно недостаточным И8
В качестве объекта рассмотрения Остин предлагает
обратиться к таким высказываниям, где не просто нечто
говорится, но нечто делается в вербальном облачении.
Примером может служить ситуация, когда заключается пари,
сопровождающееся словами: «Держу (пари, что завтра будет
дождь». В подобного рода случаях абсурдно считать, что
речь идет о простой информации, сообщаемой кем-то.
Здесь скорее следует сказать, что некто осуществляет
некоторое целостное действие. Когда я говорю: «Я называю
этот корабль «Королевой Елизаветой», я не описываю
церемонию именования корабля, я её просто осуществляю.
Этот вид высказываний Остин предлагает называть пер-
формативными высказываниями, где слово «performative»
является производным неологизмом от слова «perform»
(выполнять, совершать, осуществлять) 119. Если утверждения
должны быть истинными или ложными, то перформативные
высказывания должны быть соответствующими или
несоответствующими данной ситуации, т. е. они должны быть
синхронными какому-либо действию, тогда как для
утверждений это совершенно необязательно 120.
Чтобы обеспечить сравнительный контраст термину
«перформатив», Остин придумывает другой технический
термин — «констатив» (constative), применяемый ко всем
тем высказываниям, которые могут быть охарактеризованы
как истинные или ложные. Однако позднее он приходит к
пессимистическому выводу, а именно: невозможно отыскать
удовлетворительный критерий для того, чтобы эффективно
отличать перформативы от других высказываний. На этот
214
недостаток остиновского семантического учения указывали
и его критики, утверждавшие, что не существует перформа-
тивов с чисто перформативными функциями.
Чтобы заменить неудовлетворительную дистинкцию
«перформатив-констатив», Остин разрабатывает теорию так
называемых иллокутивных сил (illocutionary forces)u вводит
новую дистинкцию — «сила — значение» высказывания.
Согласно новой концепции, речевые акты делятся на
три части. 1-я часть: локутивные акты (locutionary acts).
Локутивный акт — это акт говорения, состоящий из трех
частей:
I. Осуществление определённого типа шумов
посредством артикуляции, то есть осуществление фонетических
актов. На этом этапе мы имеем дело с фонами (phones).
И. Осуществление артикуляционных шумов,
относящихся к определенному словарю и соответствующих
определенной грамматике, тоесгь осуществление так называемых
фатических актов (phatis acts). To, что мы высказываем,
есть фема (pheme).
III. Осуществление фем как имеющих определенный
смысл и референцию. Этот акт называется ретическим акто?л
(rhetic act). To, что мы высказываем при этом, является
ремой (theme).
По Остину, фатический акт включает фонетический акт,
но не наоборот. Если обезьяна производит шум, который
по форме напоминает какое-либо человеческое слово, то это
не значит, что мы имеем дело с фатическим актом. Что
касается фемы, то это такая единица языка, чьим типичным
недостатком является отсутствие значения. Рема — это
единица речи, типичным недостатком которой является
неясность, неопределённость и т. п. Здесь следует сразу же
заметить, что Остин разделял соссюровскую дистинкцию
«язык — речь», хотя и предпочитал иметь дело главным
образом с речью 122.
Одновременно осуществление фонетического, фатическо-
го и ретического актов является локутивным актом.
Исследование такого рода актов — это исследование цело-
купных единиц речи.
2-я часть: иллокутивные акты (illocutionary acts).
В этих актах происходит совпадение «слова» и «дела»
(клятвы, приказы).
Иллокутивные акты являются основным предметом
остиновского философско-лингвнстического анализа. Дело
в том, что Остина, как и античных риторов, больше
интересует вопрос не о когнитивных функциях языка, а о возмож-
т
ностях языка влиять на поведение людей. Поэтому
он проводит различие между «значением» (meaning),
которое подразделяется на «смысл» (sense) и «референцию»
(reference), и «силой» (force) высказывания. «Значение»
связывается с локутивным актом, а «сила» — с
иллокутивным.
Иллокутивные акты делятся Остином на 5 подклассов
с тем, чтобы более конструктивно заменить дистинкцию
«констатив — перфоматив». К этим подклассам относятся:
(1) Высказывание вердиктивов (uttering verdictives),
то есть вынесение определенного словесного решения.
(2) Высказывание эксерситивов (uttering exercitives).
Примером эксерситивов может служить ритуал именова-
вания. В данном случае мы имеем дело с речевым актом,
демонстрирующим вполне определённое волеизъявление.
(3) Высказывание коммиссивов (uttering commissives).
Примером коммиссивов может служить заключение пари.
В данном случае мы имеем дело с речевым актом в форме
обязательства.
(4) Высказывание бихэбитивов (uttering behabitives).
Примером бихэбитивов может служить извинение. В данном
случае мы имеем дело с определённой формой речевого
этикета, то есть с определенным типом социального
поведения в его речевом выражении.
(5) Высказывание экспозитивов (uttering expositives).
Примером экспозитивов может служить ответ на вопрос.
В данном случае мы осуществляем речевой акт,
преследующий цель разъяснения взглядов.
3-я часть: перлокутивные акты (perlocutionary acts).
Перлокутивный акт —это специфический речевой акт,
который я могу осуществить посредством иллокутивного акта.
Рассмотрим высказывание: «Дверь открыта». Это
высказывание может быть локутивным, когда просто
констатируется факт. Но с помощью этого же высказывания я могу
осуществить иллокутивный речевой акт, например, в форме
восклицания, изумления, удивления и т. п. Осуществляя
иллокутивный акт, я могу достичь цели в осуществлении
перлокутивного акта, который выступает как бы подтекстом
иллокутивного акта, скажем, в форме намёка на то, чтобы
закрыть дверь. Остин мало интересовался перлокутивными
актами, сосредотачивая основное внимание на
иллокутивных актах (на анализе иллокутивных сил высказываний).
Всю эту остиновскую классификацию схематически
можно представить так (рис. 7) 123:
Рассмотрим более подробно остиновскую концепцию ре-
216
<(l) имсказышшие фонов
(phonetic acts)
(2) высказывание фем
(pliatic acfs)
. (3) высказывание рем
/ (rheiic acts)
/ ,(\) высказывание
/ / вердиктивов
/ у -,(2) высказывание
/ уС*^"^ эксерситивов
РЕЧЕВЫЕ А JI. Иллокутивные акты С^——*(3) высказывание
АКТЫ \ ^ч^^ коммиссивов
\ N/^(4) высказывание
\ N. бихэбитивов
\ (5) высказывание
\ экс позитивов
Рис. 7 ?• Перлокутивные акты
чевых актов, изложенную в книге «Как обращаться со
словами». Мы можем понимать смысл некоторого
высказывания, не зная, в каком контексте оно употреблялось и какую
функцию выполняло (команду, приказ, просьбу),а именно
это и интересовало Остина, когда он вводил понятие
«иллокутивная сила» в противовес понятию «значение»
высказывания.
Пытаясь прояснить понятие «локутивное значение»,
П. Ф. Стросон ссылается на аналогию с фрегевским
понятием «мысль». Для Фреге возможность выражать «мысль»
отрицается за императивными предложениями, поскольку
в такого рода ситуациях не возникает вопроса об
истинности или ложности сообщения. Фреге, разумеется,
небезоговорочен в своем определении понятия «мысль». В данном
случае он исходит из определенной конвенции,
обусловленной запросами логической науки, а не лингвистики. Ему
требуется такое операциональное понятие, которое было бы
приемлемо в логическом контексте. Остин же подходит к
пониманию мыслительной деятельности с совершенно
других позиций, с позиций философско-лингвистического
анализа естественного, а не искусственного
(формализованного) языка. Поэтому он считает, что высказывание
императивных предложений сопровождается выражением «локу-
тивного значения», которое соответствует фрегевской дис-
тинкции «смысл — значение», то есть имеет «смысл» и
«референцию» («значение») 124.
Как отмечает Дж. Сирл, первая трудность, с которой
столкнулся Остин, стремясь развить новую, более общую
теорию речевых актов, состояла в том, что дистинкция
217
«значение — сила» не могла претендовать на всеобщность
относительно выделения двух взаимоисключающих классов
речевых актов, поскольку для некоторых предложений
«значение» определяет (по меньшей мере одну)
«иллокутивную силу» высказываемого предложения 125.
Остин говорит, что каждый из выделенных им актов (ло-
кутивный, иллокутивный, перлокутивный) —это
абстракция от целостного речевого акта. Проблема состоит в том,
что для большого класса случаев не имеется эффективного
способа выделения локутивного акта, способа, который не
захватывал бы в той или иной мере иллокутивного акта.
В результате получается, что класс иллокутивных актов
должен содержать члены класса локутивных актов. Таким
образом, получается частичное совпадение указанных
классов. Для подобных случаев (перформативное использование
иллокутивных глаголов) попытка вычленить «локутивное
значение» из высказываний с определенной «иллокутивной
силой» будет напоминать ситуацию, когда пытаются
отделить неженатых людей от холостяков. В результате Сирл
приходит к выводу, что дистинкция «локутивное —
иллокутивное» (или «значение — сила») не является
универсальной, поскольку некоторые локутивные акты совпадают с
иллокутивными актами. Правда, Сирл не скрывает, что Остин
бцл знаком 'с имевшимися недочетами своей
классификации. Сирл добавляет, что он обсуждал данный вопрос с
Остином в 1956 г., о чем Остин коротко упоминал в свои>-
лекциях 126.
Остин все же надеялся, что в конце концов ему удастся
разделить локутивные и иллокутивные акты и доказать,
что указанные акты являются взаимно исключающими
абстракциями. Но работа с конкретным лингвистическим
материалом свидетельствовала об обратном, а именно:
каждое предложение имеет некоторый иллокутивный силовой
потенциал. По этому поводу Сирл утверждает следующее.
Все члены класса локутивных актов являются членами
класса иллокутивных актов, то есть каждый ретический акт и,
следовательно, каждый локутивный акт являются в той или
иной степени иллокутивным актом.
Конечно, отмечает Сирл, понятия «локутивный акт» и
«иллокутивный акт» являются различными понятиями
точно так же, как различными понятиями являются «терьер»
и «дог». Но понятийное различие не является достаточным,
чтобы утверждать дистинкцию между отдельными
классами актов. Как каждый терьер является собакой, так и
локутивный акт является иллокутивным актом. Таким образом,
218
остиновская дистинкция, претендующая на взаимное
исключение Двух классов актов, не выдерживает, по мнению
Сирла, серьезной критики, но, тем не менее, сохраняет силу
дистинкции между буквальным, прямым значением
предложения и направленной силой его высказывания. В таком
случае остиновская дистинкция имеет весьма узкую сферу
применения, входя компонентом в более общую дистинкцию
между тем, что предложение значит само по себе, и что
говорящий имеет в виду, когда высказывает данное
предложение. Предлагаемая дистинкция не имеет специального
отношения к общей теории «иллокутивных сил», так как
«направленная иллокутивная сила» является только одним
из аспектов («смысл» и «референция» относятся к другому
аспекту) концепции, подчеркивающей, что
ориентированность значения речи говорящего может выходить далеко
за рамки буквального значения предложения127. В связи
с последним хотелось бы отметить, что рассуждения Сирла
по поводу остиновской философии языка подводят нас к
проблеме семантических изменений в естественных языках,
частным, но наиболее интересным случаем которых
является процесс метафорообразований.
В противоположность Дж. Сирлу, который стремится
сокрушить остиновский тезис о возможности
принципиального различия между локутивными и иллокутивными
актами, Л. Форгюсом пытается усилить аргументацию в пользу
остиновской концепции. По мнению Форгюсона, аргументы
Сирла покоятся на ошибочном понимании остиновских
взглядов. Так, Сирл обвиняет Остина в том, что его
концепция, будучи построенной на дистинкции «локутивное-илло-
кутивное», не в силах претендовать на общую теорию,
поскольку локутивные и иллокутивные акты не являются
взаимоисключающими. Это не совсем справедливое
обвинение, считает Форгюсон. Дело в том, что Остин был
осведомлен (о чем, кстати, упоминает и сам Сирл) о трудностях
подобного рода. Остин неоднократно отмечал, что
локутивные и иллокутивные акты — это просто абстракции от
целостного речевого акта 128.
Если сравнить в самом общем виде витгенштейновскую
философию языка и остиновскую теорию речевых актов, то
можно указать на следующее. Два указанных подхода к
языку подобны друг другу в том, что оба подчеркивают
важность отнесения функции языка к социальным
контекстам, в которых используется язык. Помимо этого, оба
ученых настаивают на том, что не только дескриптивные
высказывания должны быть предметом рассмотрения.
219
Дискуссии по поводу остнновского наследия
продолжаются, но ясно одно: выбранный им путь исследования
языка перспективен, неперспективной является его
философская установка, ориентированная на эмпиризм и
интроспекцию.
Заключение. В одной из своих работ известный
западный философ-герменевт К.-О. Апель писал, что связь между
лингвистикой и философией никогда не была такой тесной,
как сегодня. Так, например, между лингвистической школой
Н. Хомского и современной «аналитической философией»
существует своеобразный симбиоз, который, впрочем, не
всегда является бесконфликтным. С одной стороны, теория
генеративно-трансформационной грамматики немыслима
без опоры на современную «аналитическую философию» и
ее логико-математический аппарат, а с другой — этот
контакт оказывается благоприятным для «аналитической
философии». Так, начиная с 1960 г., Катц пытался (вначале
вместе с Фодором) расширить синтаксическую теорию
Хомского -посредством разработки «универсальной семантики»
и на этой основе дать лингвистическое обоснование логике.
В конечном итоге в монографии «Философия языка» (1966)
Кати демонстрирует критическую реконструкцию развития
«аналитической философии» в XX в. и настаивает на
преодолении односторонностей карнаповской «конструктивной
семантики», а также настаивает на преодолении
односторонностей «философии обыденного языка» 129.
Связь лингвистики с философией принимает подчас
самые причудливые Формы. В этом отношении характерно
появление в США философско-лингвистического течения под
названием «новый ментализм», одним из ярких
представителей которого является Хомский. В качестве другого
представителя «нового ментализма» можно сослаться на
Джерри Фодора, который в своей монографии «Язык мысли»
(1975) сознательно делает ставку на так называемую
спекулятивную психологию. По его мнению, спекулятивная
психология не является философией, так как связана с
эмпирической теорией познания. Она не является также и
психологией в строгом смысле слова, поскольку не связана с
экспериментальной наукой. Спекулятивная психология
использует методы философии и психологии, поскольку
базируется на том, что научные теории должны быть
концептуально упорядочены и эмпирически ограничены 13°.
Стремясь выяснить работу человеческого разума и
опираясь при этом на современные эмпирические исследования
языка, Фодор в указанной книге обсуждает некоторые ас-
220
пекты теории ментальных процессов. Одним из важных
моментов его книги является тезис о том, что так называемый
язык мысли не может быть естественным языком,
функционирующим в сфере человеческого общения 131.
По-видимому, на уровне «внутренней речи», где нарушены привычные
грамматические структуры, присутствуют сугубо
индивидуальные образы и символы. Но в данном случае
интересно не обращение к психологии «внутренней речи», а
интересен тот факт, что данное исследование осуществляется
представителем генеративной семантики, которая
находится в известной оппозиции к синтаксической теории Хомско-
го. Это подтверждает необходимость иметь прочную
гносеологическую платформу для решения кардинальных
вопросов о связи мышления и языка, онтологии и семантики.
Зарождение мысли и ее осуществление в языке
(естественном или искусственном) марксистскими философами
объясняет в терминах понятия деятельности, которое, в
свою очередь, раскрывается в контексте марксистского
учения о социально-исторической практике. Например,
главные методологические ошибки Гумбольдта заключались,
во-первых, в том, что он не учитывал органическую
целостность субъекта языковой деятельности, а во-вторых,
языковая деятельность рассматривалась им в отрыве от других
видов деятельности и прежде всего трудовой. Таким
образом, любой философский подход к языку должен с
необходимостью учитывать как социально-историческую нагружен-
ность понятия деятельности, языковой в частности, так и ее
структуру, ориентированную на сознательное целеполага-
ние. В этом плане анализ языкового творчества позволяет
органически соединить понятия «мышление», «сознание»,
«язык» для последующего проникновения в тайники
творческой деятельности как таковой. Это проникновение не
может и не должно быть умозрительным
теоретизированием, а должно опираться на гипотезы, эксперимент в
области языка, что по-своему попытались осуществить
Витгенштейн и Остин. Поэтому вряд ли можно согласиться с
категоричным утверждением А. А. Леонтьева, что
экспериментальное изучение семантики в сущности еще не
начато 132. Оно начато было давно, еще античными риюрами-со-
фистами. Иное дело, что методология лингвистического
эксперимента требует соответствующей корректировки,
которая, к сожалению, пока отсутствует. Для решения этих и
ряда других принципиальных вопросов современной
лингвистики требуется тесный союз философов, лингвистов и
психологов.
22!
Глава 2
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА
В МАРКСИСТСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ
Вводные замечания. По К- Марксу, ни мысль, ни язык не яв~
ляются чем-то реально самостоятельным, совершенно
автономным; они —лишь разные аспекты человеческой
предметной практики, разные, но взаимосвязанные формы
осуществления единой человеческой жизнедеятельности. К
Марксистская гносеология, решая вопросы о природе, о
структурно-функциональном строе мышления, сознания,
языка, во главу угла ставит человека мыслящего, человека
сознательного, человека, владеющего языком, то есть
человека как социально-культурную целостность, а не его
абстрактные функции. Соответственно этой установке
традиционные вопросы познания (структура и содержание
знания, методы познания и пр.) начинают рассматриваться как
подвопросы общей теории развития природы, общества и
человеческой психики. С учетом данной «триады» мы
вправе говорить о человеке как о природном (материальном) и
социально-психическом существе. В первом случае
фундаментальный по своей значимости вопрос о причинных
взаимодействиях этого существа с окружающей средой решается
с использованием понятий «материя», «формы движений и
взаимодействий материи». Когда же речь заходит о
человеке как социально-психическом существе, то на первое место
выдвигается проблематика, группирующаяся вокруг
понятия «деятельность», которое служит основой для
спецификации таких универсальных понятий, как «движение»,
«взаимодействие», «причинность». Социальная детерминация
теперь интерпретируется в системе понятий «социальное
сотрудничество», «социальная коммуникация», или, если
обобщить эти понятия,— «социальная деятельность».
«Деятельность человека как фактор человеческого
развития,— писал Б. Г. Ананьев,— составляет необходимое
звено в сложной цепи причинно-следственных зависимостей
сознания от общественного бытия. Вне действия этого
фактора не могут быть в должной мере-поняты сложные
эффекты воздействия социальной среды на человека и его созна-
222
ние»2. В этом же ключе высказывается и Л. П. Буева,
подчеркивающая, что марксизм в объяснении общества и
человека придает категории деятельности важнейшее
методологическое значение 3.
Тайна природы деятельности, подчеркивал Э. Г. Юдин,
коренится не в «средстве» (различные модификации инст-
рументалистских доктрин), а в особенностях целеполага-
ния, поскольку с целеполаганием связано
функционирование механизма, превращающего потребности субъекта во
внутренние (идеальные) побудительные мотивы
практической и теоретической деятельности. Другими словами,
разгадка природы деятельности коренится не в ней самой,
а в том, ради чего она совершается 4.
Указание на целеполагание при характеристике
деятельности выдвигает на первый план понятие сознания.
Подлинно человеческая деятельность — это осмысленная
деятельность со знанием дела. Стимулом сознательной
деятельности являются потребности (практические и
теоретические). Как писал К. Маркс, потребление создает
влечение к производству, задавая человеку предметы
производства в их заманчиво субъективной форме 5.
Понятие целеполагающей (сознательной) человеческой
деятельности в полной мере относится и к характеристике
языковой деятельности, описанию которой посвящен первый
раздел данной главы. Последующие разделы связаны с
анализом дистинкции «мышление — сознание», которая, на
мой взгляд, позволяет пролить свет на функции языка в
становлении наших знаний о мире, в понимании этого мира.
Интерпретация языка в контексте марксистского учения
о сознании и мышлении. Первая отчетливая формулировка
крайне важного для марксистской науки о человеке
методологического принципа единства сознания и деятельности
связана с именем С. Л. Рубинштейна. Этот принцип
является научно-материалистическим противовесом догмам
традиционной психологии, утверждавшей тождество психики
с явлениями сознания. Следствием такого отождествления
было признание непосредственной данности психического,
что позволяло использовать в качестве «надежного» метода
познания метод интроспекции. Бихевиоризм и философия
неопозитивизма попытались преодолеть этот вариант
субъективизма, освободившись от понятия сознания и
прочих «менталистских» понятий.
Элиминация из социальных наук понятия «сознание»
влекла за собой отказ от ряда сопричастных понятий
(«деятельность», «личность»). Так, объектом изучения для уче-
223
ного-бихевиориста становилась семантически
«нейтральная» деятельность живых существ вообще, то есть сугубо
физиологическая деятельность. Естественно, что при таком
подходе продуктивная, осмысленная человеческая
деятельность не могла .получить должной оценки. Продукт как
осуществившаяся и ставшая «немой» деятельность не
подлежал рассмотрению с этих позиций.
Отрыв деятельности от ее продуктов,
сопровождавшийся неэквивалентной заменой «стимул-реакция», делал
научно бессмысленными такие термины, как «творчество»,
«развитие», «прогресс». Другими словами, продуктивня
человеческая деятельность едва ли не приравнивалась к
физиологическим отправлениям по принципу обмена веществ
в животном царстве, где потребление равно производству.
Как известно, животные только потребляют то, что дает
природа. В производстве же потребляемых ими объектов
животные не принимают участия. Такое потребление не
нацелено на обновление среды обитания.
Отношение людей к природной сфере выглядит
совершенно иначе. Здесь обмен веществ носит
опосредствованный характер. Между человеком и природой помещаются
средства производства, продукты его социальной
деятельности, образующие мир материальной культуры. Этот мир
очеловеченной природы как бы лепит человека по своим
меркам, то есть человек, занимаясь продуктивной,
целесообразной деятельностью, одновременно формирует и
развивает себя как социально-историческое существо, внося
тем самым свою посильную лепту в процесс
общественного развития. В равной мере такое понимание продуктивной
деятельности касается развития и функционирования
человеческой психики как главного органического компонента
целостной жизнедеятельности человеческого существа,
точнее, личности.
Понятие «личность» подчеркивает исключительный по
своей философско-методологической значимости факт, а
именно: осознание человеком объективной
действительности никогда не происходит прямо по схеме «объективная
действительность~*сознание», а всегда опосредствуется той
целостно функционирующей структурой, каковой является
человеческая личность.
Как уже отмечалось, разгадка природы деятельности
коренится не в ней самой, а в том, ради чего она
совершается. В связи с этим на первый план выдвигается понятие
личности, которое, вместе с тем, существенно обогащает
понятие деятельности. Личность рассматривается не как
224
«приставка» к деятельности, ибо в противном случае чело-
век превращается в инструмент деятельности некоего
анонимного агента, а как самодеятельная активная сущность,
вобравшая в себя социально-исторический опыт
человечества и осуществляющая себя в разных формах разумной
жизнедеятельности. Поскольку личность—не только продукт,
но и условие деятельности, то, как справедливо считает
Юдин, мы должны деятельность объяснять через личность 6.
Таковы самые общие контуры поля гносеологического
анализа мышления, сознания и языка. Теперь я «постараюсь
несколько сузить сферу проблематики, сконцентрировав
внимание на понятии «сознание».
Термин «сознание» появился в лексиконе европейских
философов и психологов относительно недавно, примерно в
конце XIX — начале XX в., хотя проблематика сознания
уходит своими корнями далеко вглубь веков,фигурируя там
под разными названиями. Ближайшую предысторию этой
проблематики обычно принято отсчитывать от Декарта.
Эквивалентом термина «сознание» у Декарта является
термин «мышление» (cogitatio). Такое отождествление
связано не только и не столько с терминологической
неразберихой, сколько с определенным философским пониманием
феноменов психического под эгидой понятия «душа»
(«мыслящая душа», «разумная душа»).
Некоторые авторы, пишущие по проблематике
сознания, модернизируют взгляды французского рационалиста,
считая отсутствие термина «сознание» чем-то
несущественным для понимания его философских произведений. При
этом не замечается, что у Декарта и последующих
философов изучение сознания шло по линии изучения именно
мышления. Как отмечал А. Н. Леонтьев, это весьма
характерный подход к психическому, когда речь идет об
изучении развития человеческого познания, но развитие
сознания не сводится к развитию мышления, поскольку сознание
имеет свои собственные философские и психологические
характеристики7. Сопоставляя сознание и мышление,
А. Н. Леонтьев предлагает отбросить предвзятую идею
о том, что сознание определяется мышлением. Разумеется,
сознание и мышление тесно связаны, но это отнюдь не
лишает их определенной автономии, тем более не означает
первичности мышления по отношению к сознанию, на чем
настаивали и настаивают идеалистически рассуждающие
философы и психологи.
Философы-марксисты, ориентируясь на
материалистическое понимание истории, утверждают, что формы и со-
225
держание сознания определяются не спецификой
мышления, а прогрессивным разделением труда, изменениями
в структуре социально-исторической практики. Если
отказаться от такой точки зрения на развитие и
функционирование человеческой психики, то придется признать
правоту идеалистов, исходивших из представлений о том, что
ребенок уже в потенции обладает способностью к
мышлению, которая актуализируется под воздействием
соответствующих внешних обстоятельств, выливаясь в
определенный тип сознания.
Отделение познавательных функций речи от
коммуникативных на базе отделения умственного труда от
физического способствовало переходу с уровня сознания на
«внутренний» уровень, на уровень мышления. С
материалистической точки зрения сознание определяет
возникновение и развитие мышления, а не наоборот. С
возникновением же мышления как внутреннего психического процесса,
мышление начинает претендовать на известную автономию
и на свой собственный язык, как «внутренний» (символы,
образы, деформированные грамматические структуры),
так и «внешний» («язык» устный, письменный,
математики, химии, логики и т. п.).
Дистинкция «мышление — сознание» становится
понятнее, если привлечь узнадзовский опыт интерпретации
бессознательного. В начале своей научной карьеры Узнадзе
предпочитал отдавать симпатии новым тенденциям в
немецкой философии и психологии начала XX в., влияние
которых он особенно остро ощутил, занимаясь в молодые
годы под руководством В. Вундта, который первым из
старшего поколения психологов обратил внимание на
сложную структуру сознания. Наибольшее влияние на
формирование научных взглядов грузинского ученого оказали
исследования представителей Вюрцбургской
психологической школы, которые экспериментально попытались
продемонстрировать наличие у человека особой
подготовительной фазы, предшествующей активности сознания, —
фазы динамической предиспозиции возможного поведения.
Вюрцбургские ученые обнаружили, что данная пред-
сознательная активность имеет определенный
мыслительный характер, который не описывается в терминах ассо-
цианистской образной теории. Это безобразное мышление
не укладывается ни в рамки языковых структур, ни в
рамки законов формальной логики. Однако сделанные
немецкими психологами выводы были более чем
ошибочными, поскольку в качестве доминирующего начала ин-
226
теллектуалыюй жизнедеятельности человека было
выделено мышление, определяющее особенности структуры
сознания, выбор языковых форм для общения и выражения
соответствующего мыслительного содержания.
«Установка» в понимании Узнадзе оценивается с двух
точек зрения, а именно (1) с точки зрения развития
психики и (2) с точки зрения ее относительно стабильного
функционирования. В первом случае установку можно
определить как стадию, предваряющую деятельность
сознания. Во втором случае, когда мы имеем дело с
актуальной деятельностью сознания, установку можно
определить как интегральный детерминатор определенного типа
сознания.
С понятием установки связано оригинальное и
плодотворное решение вопроса об отражении в сознании
объективной действительности. По мнению Узнадзе,
объективная действительность не может прямо влиять на сознание 8,
поскольку для осмысленного восприятия этой
действительности необходимо, чтобы она что-то значила, обладала
определенной ценностью для воспринимающего ее
субъекта. Для приобретения значения, ценности данной
действительностью должна возникнуть ситуация, затрудняющая
удовлетворение актуальных потребностей (практических и
теоретических), вследствие чего пробуждается сознание. На
этой стадии непрерывный поток психических переживаний
прерывается, появляется тенденция покинуть сферу
автоматизма, машинальных форм поведения, и тогда наступает
период сознательной деятельности.
Пробуждение сознания совпадает с первыми актами
интенциональности, с первыми актами выделения
объектов действительности как самотождественных, более или
менее стационарных. Этот специфический акт
сознательной деятельности Узнадзе называет актом объективации,
который не создает магическим образом объекты
окружающего нас мира, существующие независимо от нашего
сознания. «Акт объективации имеет в виду наличие в
действительности объектов, на которые можно было бы
человеку направить свои акты с тем, чтобы повторно заметить и
в этом смысле объективировать их, а затем, при помощи
специальных познавательных функций, уяснить себе, что
они представляют собой» 9.
В отличие от животных, которые, сталкиваясь с
препятствиями для удовлетворения своих потребностей, могут
прекратить активную деятельность, человек лишь
приостанавливает свое практическое поведение с тем, чтобы осо-
227
знать возникшие трудности и вновь попытаться их
преодолеть. В результате практическая потребность, становясь
объектом анализа (объективируясь), превращается в
потребность идеальную (теоретическую), в потребность дать
шьет на возникший вопрос. «Так возникает человеческое
мышление, — пишет Д. Н. Узнадзе. — Оно представляет
собой психическую активность, приходящую в движение
лишь на базе объективации и направленную на
удовлетворение стимулированной таким образом теоретической,
познавательной потребности. Следовательно, мы
убеждаемся, что мышление, в истинном смысле слова,
возможно лишь при наличии способности объективации, что в
сфере активности, лишенной объективации, настоящего
мышления быть не может» 10.
В промежутках между объективациями (активной
сознательной деятельностью) установка выполняет
чрезвычайно важную жизненную функцию, предвосхищая
поведение индивида в ординарных ситуациях или в
экстраординарных, но уже известных по опыту. «Как во всякой цели,
так и в установке, предвосхищена модель будущего
поведения», — подчеркивает А. С. Прангишвили п.
На примере так понятой установки просматривается
интересная параллель с гегелевским «абсолютным духом»
как отчужденной и гипостазированной «установкой».
Вынося эту «установку» за пределы человеческой личности,
Гегель вынужден отдавать предпочтение понятию
«средство» в ущерб понятию «цель», так как цель
(целесообразная, сознательная деятельность) выступает чем-то
внешним по отношению к действующему субъекту и средствам
его действий. Цель является внешней с двоякой стороны:
во-первых, с точки зрения «абсолютного духа» человек —
это средство осуществления «абсолютной идеи»; во-вторых,
цель «абсолютного духа» и человеческая цель — понятия
несоизмеримые, вследствие чего высшую оценку получает
лишь градация средств применительно к посюстороннему
миру (сам человек и средства его духовно-практического
освоения мира). Таким образом, категория цели
значительно умаляется Гегелем по сравнению с категорией средства
при характеристике структуры человеческой деятельности,
а тот «факт», что цель возвышается до целевого
провидения «абсолютного духа», — это пустой звук для реального,
земного человеческого существа.
Заостренный Гегелем вопрос о значении средств в
познавательной и трудовой деятельности сохраняет свою
полемическую актуальность и по сей день. Основные упреки
228
в адрес тех, кто симпатизирует различным инструментали-
стским концепциям, состоят в том, что субъект
деятельности устраняется из процесса взаимодействия с объектом,
а его функции принимают на себя средства (орудия
труда, инструменты научного познания и т. п.). В
лингвистическом плане это чревато превращением мышления в
функцию речи. В таком случае подлинный субъект мышления
превращается, так сказать, в увеличительное стекло,
через которое «мировой дух» созерцает драму человеческого
мира.
Выход из гегелевского тупика состоит в радикальной
переоценке категории цели. Эта переоценка не может быть
сделана, если не учитывать дистинкцию «сознание —
бессознательное», если не будет разработанной
гносеологической и психологической теории сознания. Цель и сознание,
целесообразность и сознательность — вот основные парные
категории, ведущие к раскрытию тайн человеческих форм
деятельности. Большим подспорьем здесь служит узнад-
зовская теория установки.
Установка как цель, предвосхищающая модель
будущего поведения, в резко изменяющихся ситуациях может
оказаться нецелесообразной, несоответствующей природе
появившегося препятствия. Возникает своебразная
«пауза» (задержка деятельности), вызванная
нефункциональностью прежней установки и поисками новых установочных
регуляторов, соответствующих новым потребностям,
новой ситуации. Процесс замены одной установки другой
установкой — это процесс объективации, процесс бурной
активизации сознания, стремящегося осознать
происходящее и выработать к нему свое отношение. Таким образом,
деятельность сознания детерминируется внешними
обстоятельствами не прямо, а косвенно, опосредствуясь
динамичным состоянием установки. В этом смысле сознание
является как бы вторичным отражением действительности по
отношению к тому «невидимому мосту», с помощью
которого осуществляется скрытая от сознания связь между
объективностью и психофизиологическими реакциями.
Философский идеализм и априоризм в понимании интеллек
туальной деятельности и в объяснении механизма
языковой деятельности обусловлен полным отсутствием каких-
либо представлений о сознании как вторичном отражении
действительности 12.
Еще раз подчеркну, что психологическое понятие
установки в контексте данного исследования интересно не само
по себе, а в связи с анализом речевого поведения человека.
229
Как отмечает А. С. Прангишвили, «нельзя не согласиться
с точкой зрения тех авторов, которые считают, что анализ
речевого поведения — наиболее надежная основа, дающая
модель для описания всех видов поведения»13.
Прангишвили хочет подчеркнуть, что анализ речи ясно показывает
наличие специфического состояния предвосхищения того,
что мы собираемся сказать, поскольку весь процесс речевой
деятельности регулируется целостной направляющей
тенденцией речевой установки. Такое понятие установки
особенно ценно в связи с аргументированной критикой
некоторых аспектов американского «нового ментализма» в
лингвистике (Н. Хомский и др.), ряд представителей которого
склонны реабилитировать худшие стороны наследия
классического рационализма XVII—XVIII вв., в частности это
касается доктрины врожденных идей.
Необходимо обратить внимание на следующий факт.
Отражая объективную реальность, установка осуществляет
это не на уровне «внутренней речи», а на гораздо более
глубинном уровне, где привычные дискурсивные структуры
знания теряют свою «жесткость», сокращаются. Новые
связующие «узлы», теряя связь с речью, теряют и
семантическую ценность, приобретая ценность информационную,
описываемую не традиционными семантическими
терминами, а теоретико-информационным языком (языком
математики).
Наиважнейшим показателем сознания как
специфической формы психики является язык, или, как писал
Рубинштейн, сознание связано с языком как формой создания и.
Без учета языка остается совершенно непонятным
абстрактное мышление человека и репрезентация этого
мыслительного процесса в практических формах сознания —
в речевой деятельности. Дополнительный свет на связь
языка с мышлением и сознанием проливает
культурно-историческая теория интеллектуальной деятельности,
разработанная Л. С. Выготским (1896—1934) и его
соратниками.
Теория Выготского была призвана дать
научно-материалистическое объяснение особенностей развития
человеческой психики в фило- и онтогенезе. С точки зрения
культурно-исторической теории психика развивается через
превращение «внешних» факторов (социально-культурные
отношения) * во «внутренние» (различные психические
функции). В онтогенетическом плане этот процесс
развития выглядит как переход от социального к
индивидуальному, а не наоборот, как считали многие психологи-немарк-
230
еисты, включая Ж. Пиаже. Заслуга Выготского перед
отечественной психологией и философией состоит прежде всего
в том, что в изучение феноменов психического он внедрил
принцип историзма. Вследствие этого первостепенной
стала категория «опосредствованная психическая
деятельность». Данная категория своим критическим острием была
направлена против априоризма, антиисторизма и
формализма в познании феноменов психики. Там, где раньше
видели застывшие, ничем неопосредствованные «ментальные
сущности», Выготский вскрыл сложные, изменяющиеся
(структурно и функционально) процессы.
В работе «Мышление и речь» (1934) Выготский,
анализируя соотношение языка и мышления, указывает на два
традиционных, ошибочных подхода к данной проблеме.
Представители одного из них отождествляли речь и
мышление (например, мышление определялось как «речь минус
звук»), тогда как представители другого подхода
утверждали дуализм речи и мышления. Если мысль и слово
совпадают, то бессмысленно, тавтологично говорить о
«речевом мышлении», можно просто говорить о мышлении,
экстраполируя на него нормы, законы и понятия из сферы
науки о языке. И наоборот, говоря о языке, можно
грамматику строить по образцу логики.
В свою очередь, дуализм речевой деятельности и
мыслительной предполагает, что речь — это нечто внешнее
мысли, своего рода инструмент мысли, существенно не
влияющий на процесс мышления. Примером отождествления
речи и мышления может служить бихевиористская
философия и психология. Примером дуализма речи и мышления
служит философия инструментализма. И в том и в другом
случаях речь фигурирует как инструмент для выражения
ментальных процессов, то есть на первый план
выдвигаются экспрессивные функции языка в ущерб его
коммуникативным функциям.
Однако именно с языком как средством социального
общения связан принцип историзма в понимании
диалектического единства языка и мышления. Этот принцип
подчеркивает, что речь возникла не в результате потребности
для выражения невесть откуда появившейся в голове
первобытного человека мысли, а в результате сотрудничества,
в результате прогрессирующего и усложняющегося
социального общения. В процессе общения формируются
обобщенные представления, образы, значения, формируются
обобщающее мышление (собственно мышление) и
обобщающее словесное значение (собственно речь). Как писал
231
1Гыготский, «есть все основания рассматривать значение
слова не только как единство мышления и речи, но и как
единство обобщения и общения, коммуникации и
мышления» 15.
Отношения между языком и мышлением не являются
чем-то раз и навсегда данным, они изменяются
количественно и качественно в процессе онто- и филогенеза. Ни
о каком параллелизме между языком и мышлением не
может быть и речи. «Кривые их развития, — отмечает
Выготский,— многократно сходятся и расходятся, пересекаются,
выравниваются в отдельные периоды и идут параллельно,
даже сливаются в отдельных своих частях, затем снова
разветвляются» 16.
Мышление и речь имеют совершенно различные
генетические корни. Например, мы встречаемся с зачатками
интеллекта у животных, но при этом не наблюдаем
соответствующих речевых форм поведения. Их интеллект
находится на доречевой стадии развития. Аналогичное
наблюдается в развитии мышления у ребенка. Что касается
генетических корней речи, то их следует искать в сфере
знакового поведения животных (например, «язык»
эмоций). Эмоции являются первыми истоками человеческой
речи. Выготский называет это доинтеллектуальной фазой
в развитии речи, которая близка инстинктивным реакциям
высокоразвитых животных.
На определенной стадии фило- и онтогенеза линии
развития мышления и языка сливаются, давая начало
собственно человеческой языковой деятельности и речевым
формам поведения, в результате чего мышление становится
языковым, а язык интеллектуализируется 17.
Соединение мышления и языка не означает, что в
итоге получаются симметричные структуры. По Выготскому,
синтез мышления и языка (языковое мышление)
определяет лишь часть процессов языка и мышления, а именно
ту часть, где пересекаются сфера языка и сфера мышления.
Разработки Выготского — это лишь первый и очень
важный шаг в познании интеллектуальной деятельности
человека. Пионерам всегда трудне, чем их последователям
и продолжателям. Пионеров поджидают трудности и
даже ошибки, обусловленные предшествующей традицией.
Не избежал ошибок и Выготский, ошибок, которые стали
заметны относительно недавно, но далеко не все авторы,
пишущие по проблеме языка и мышления, принимают это
к сведению.
В своих исследованиях Выготский отталкивался от кри-
232
тики дуалистических доктрин мышления и речи. В
основном эта критика касалась работ ученых Вюрцбургской
школы, которые, обнаружив особую подготовительную
фазу в деятельности сознания и наименовав ее мышлением,
попытались определить сознание и речь на основе
мышления как интеллектуальной доминанты. Согласно же
марксистской философии, не мышление определяет
сознание, а сознание определяет возникновение и развитие
мышления. Всю значимость дистинкции «мышление —
сознание» Выготский начал осознавать только в своих поздних
трудах. В этот период наиболее фундаментальной и
наиболее общей проблемой для Выготского становится
проблема сознания. Этой проблеме ученый придает
исключительно большой философский смысл, связанный с
материалистической теорией отражения.
Выготский выделяет два разных типа сознаний—(1)
«ощущающее сознание» и (2) «мыслящее сознание».
«Мыслящее сознание», в отличие от «ощущающего сознания»
(перцепции), конструктивно отражает действительность,
опираясь на языковую деятельность.
С постановкой проблемы сознания одним из первых
возникает вопрос об интенциональности (нацеленности,
направленности, целесообразности) сознания.
Идеалистическая феноменология трактует интенциональность сознания,
не учитывая существенных структурно-функциональных
перестроек сознания в онто- и филогенезе, тем самым
недооценивая интенциональность как феномен культуры. В
психологии вопрос о природе интенциональности — это вопрос
о природе и характере внимания, ответ на который надо
искать не внутри, а вне становления и развития личности 18.
Изучая внимание, Выготский подчеркнул
первоначальную функцию языка, которая его предшественниками явно
недооценивалась. Эта функция языка выражается в том,
что на ранних этапах онтогенетического развития речи
слово является указанием (выполняет референциальную
функцию). По Выготскому из этой первичной функции можно
вывести все остальные 19.
С понятием «внимание» тесно связано понятие «воля».
Еще в 20-е годы М. Я. Басов подчеркивал, что воля не
привносит новых элементов в поведение человека, в его
психическую Деятельность, но участвует в организации
целенаправленной деятельности, в частности психической
деятельности, трансформируясь во внимание.
Не следует думать, что проблема воли и внимания —
это чисто психологическая проблема. На самом деле эта
233
проблема имеет глубокий философский смысл. С точки
зрения К. Р. Мегрелидзе, воля — это не спонтанный порыв
к действию, а специфическая форма активности, как
стремление к осознаваемой цели. Воля без свободного
воспроизведения в сознании определенной цели —
бессодержательная абстракция. Поэтому, говоря о воле, следует
помнить, что термин «воля» — это сокращенное выражение
«волевое действие», которое концентрирует наше внимание
на том факте, что воля как деятельность, воля как
действие неразрывно связана с постановкой цели. Таким
образом, волевое действие имеется там и только там, где
человек может представить себе цель и стремится к ней,
сообразуясь с целью как с законом по отношению к актуально
осуществляемой деятельности 20.
Согласно гипотезе, выдвинутой П. Я. Гальпериным,
внимание представляет собой идеальную, сокращенную и
автоматизированную форму контроля. Превращение
контроля во внимание сопряжено с тем, что «энтимемный»
(сокращенный) вариант контроля как бы теряет свою
отчетливую структурность, свою диску рейв ность и приобретает
статус некоторого «чувства», некоторой направленности,
нацеленности, сосредоточенности на объекте.
Следовательно, по Гальперину, не всякий контроль есть внимание, но
всякое внимание есть контроль21.
Данная гипотеза привлекательна тем, что указывает на
язык как на важнейшее средство контроля за идеальными
действиями, позволяет расшифровывать выражения
«языковое чутье», «языковая интуиция», «чувство языка» и т. п.
Всякий контроль предполагает наличие определенной
меры, масштаба, эталона. В языке к таковым можно
отнести грамматические структуры и структуры
семантические, которые позволяют довольно быстро сравнивать,
сличать, распознавать поступающую информацию, тем
самым интенсифицируя процесс сознательной деятельности.
Второе по значению место после понятия интенциональ-
ного сознания, у Выготского занимает понятие
репродуктивной деятельности сознания, или, говоря языком
психологии, — понятие воспоминания. С понятием «память»,
«воспоминание» связан переход от наглядного мышления
к мышлению абстрактному. Этот новый тип
интеллектуальной деятельности Выготский характеризует как
переход к творческой деятельности, поскольку здесь движение
мысли носит не ситуационный характер, а в определенной
степени автономный по схеме: мысль -> замысел -*■
практическое действие. Благодаря этому оформляется пред-
231
ставление о времени, о преемственности прошлого и пи-
стоящего, о самотождественности личности.
Проблема памяти имеет не только психологическую
ценность, но и гносеологическую. Например,
применительно к интересам гносеологии такой феномен, как
воспоминание, можно определить следующим образом.
Воспоминание — это осознание прошлого (репрезентация
прошлого опыта в поле сознания).
С понятиями «память» и «воспоминание» связано
фундаментальное для гносеологии понятие «знание». Знание —
это относительно устойчивая структура, где в снятом,
преобразованном и обобщенном виде хранится информация
о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. У
Платона и платоников знание выступало не результатом
познания, прошедшего развитие от общения через
обобществление к обобщению, а хронологически и логически
первичным базисом для познания и общения. Вследствие
этого воспоминание лишалось своего исторического и
реально психологического характера, превращалось в некое
подобие логического инструмента познавательной
деятельности, напоминая логические операции вывода из аксиом
и тем самым больше соответствуя дедуктивному
развертыванию знания, чем индуктивному познанию.
С учетом исторического фактора воспоминание — это
не «логическая сущность», а социальный феномен, тесно
связанный с языком. Вне общения людей, вне
сотрудничества в практической и духовной сферах воспоминание
становится пустым словом.
Память человека впитывает многое, но обычно
вспоминается лишь то, что в свое время сопровождалось той
или иной степенью активности сознания. Таким образом,
социально-культурная структура памяти обусловлена
фиксацией затруднений в осуществлении различных форм
деятельности, определяемых установочными регуляторами.
Фиксация обычно приходится на «промежуточные»
моменты при замене одной установки другой. Данные
«промежутки» заполняются напряженной интеллектуальной
деятельностью по оценке возникших трудностей и выявлению
возможных путей их преодоления. В конечном итоге на
основе осуществляемой «переоценки ценностей»
(объективации) возникает новая установка как готовность к
определенной активности. Следовательно, «процесс,
опосредствующий воспоминание, существенным образом связан с
процессом выработки установки на основе
объективации» 22,
235
Функционирование механизма запоминания как
процесса фиксации «промежуточных узлов» — это не
проявление чего-то сугубо монотонного и непрерывного. В данном
случае мы имеем дело с обогащением скрытых
возможностей активности человеческой личности. Если установка —
это готовность к определенной активности, то память — это
готовность к актуализации прошлого опыта в
неопределенной ситуации, то есть готовность воспользоваться и
реализовать забытую, но не исчезнувшую установку. Здесь
нельзя целиком согласиться с А. С. Прангишвили,
утверждающим, что «воспоминание представляет собой не
выводное знание, базирующееся на логическом обосновании,
а психологически опосредствованное суждение» 23.
Прангишвили противоречит сам себе, так как ранее он указывал
на связь развития памяти, запоминания и воспоминания
с онтогенетическим развитием языка и речи, где язык —
это важный инструмент получения информации о
непосредственно ненаблюдаемом.
Интенциональность (внимание) и репродуктивность
(воспоминание) — это разные аспекты единого целого,
каковым является функционирующее сознание24.
Устанавливая сложную структуру сознания и
исключительно важную роль языка в его становлении и
функционировании, Выготский приблизился к той
проблематике, к которой с другой стороны двигались психологи узнад-
зовской школы. Этот совокупный опыт со всей
очевидностью свидетельствует о необходимости использования в
философии и психологии дистинкции «сознание —
мышление». Одновременно с этим на повестку дня ставился
вопрос о новом понимании дистинкции «язык — речь», то
есть о понимании с точки зрения дистинкции «сознание —
мышление». Так, признавая генетическую первичность
сознания, мы должны аналогичную оценку осуществить
применительно к дистинкции «язык — речь». Очевидно,
генетически первичным является язык, а не речь, очевидно
также и то, что «языковое сознание» предшествует
«речевому мышлению» как специализированной форме
человеческого поведения. В таком случае следует переоценить
рассуждения Выготского о соотношении мышления и речи.
Мы встречаемся с зачатками интеллекта у животных,
равно как и с зачатками знаково-значимых форм
поведения, хотя и не наблюдаем соответствующей речевой
деятельности. Философским фундаментом здесь служит
марксистское положение о том, что человеческое сознание
ведет свою родословную от так называемого животного
236
сознания, поскольку человек вышел из природы, а не
свалился на землю как библейский Адам.
Проявление животного сознания — это примитивная
форма активности, поскольку активность ограничивается
сугубо потребительским отношением к среде обитания.
Подтверждением тому служит анализ инстинктов и
рефлекторных реакций у животных, который показывает, что
животные — это не бессознательные автоматы, хотя
бессознательное и превалирует в поведении животных. Как
показал К. Р. Мегрелидзе, действия животных будут
протекать неосознанно до тех пор, пока не возникает какое-
либо препятствие (аналогичное наблюдается и у человека).
Но наличие препятствия еще не является
достаточным условием для пробуждения сознания и оценки
ситуации. Необходимо, чтобы смысл препятствия был доступен
субъекту деятельности, иначе сознание так и не
проснется. Работа сознания начинается только тогда, когда
озадачивающая психику ситуация доступна решению. С этой
точки зрения животные бесспорно обнаруживают долю
сознательности и зачатки языкового способа общения. Но
эпизодического наличия сознания и неистинктивно
знаковых форм поведения совершенно недостаточно для
непрерывного развития сознания. Сознание не поддается
оценке с точки зрения экстенсивного роста, иначе следует
допустить, что сознание — это природный феномен,
развивающийся эволюционно сам из себя. Развитие сознания
обусловлено социальными, а не природными условиями.
Если окружающая обстановка непрерывно не
обновляется, если перед сознанием не встают все новые и новые
задачи, то оно, однажды вспыхнув, затем бесследно гаснет
(К. Р. Мегрелидзе).
Потребность в сознательной деятельности (сознании)
возникает лишь в результате разрыва инстинктивных уз,
в результате разрыва между человеком и природой, когда
коллективная жизнь, общение становится не биологически-
видовой проблемой, а проблемой социально-исторической.
Эта проблема решается совместным сотрудничеством и
выработкой общезначимых средств коммуникации
(примитивных языковых форм). Последующая специализация
трудовой деятельности ведет к прогрессирующей
специализации социальных функций деятельности в пределах
одного индивида. Так вырабатывается речь как переход от
синкретического языка эмоций, жестов, шумов к
однотипной форме поведения. Одновременно с генетическими
трансформациями протоязыка в речь происходит синхрон-
237
йая перестройка языка и речи, то есть вырабатывается
собственно язык. На уровне языка деятельность
осуществляется с превалированием смысловых целостностей, тогда
как на уровне речевой деятельности превалирует
структурно расчлененная целостность над
недифференцированной целостностью. На подобные выводы наталкивает
эмпирический анализ «внутренней речи» и «внешней речи».
Например, по мнению Выготского, во «внутренней речи»
семантика является доминирующим началом25.
Характерно, что на ранних этапах своего научного
творчества Выготский попытался представить схему
взаимодействия субъекта («внутреннего») с объектом
(«внешним») через посредство «слов — знаков», делая акцент на
семиотическом аспекте речи. Однако эта семиотическая
модель взаимодействия субъекта с объектом оказалась
недостаточной. Поняв это, Выготский предпринимает
перестройку своей культурно-исторической теории в
соответствии с новыми семантическими веяниями, особенно в
связи с дистинкцией «смысл — значение». При этом
Выготский опирался на разработки французского психолога
Ф. Полана, оказавшего услугу психологическому анализу
речи, введя в 20-е годы дистинкцию между «смыслом»
слова и его «значением». «Значение» рассматривается как
устойчивая зона смысла, где устойчивость определяется
контекстом. В зависимости от контекста «значением» может
быть одна из зон динамического «смысла».
Завершая этот раздел, хочу отметить следующее.
Современная дистинкция «сознание — бессознательное»
заставляет переосмыслить понятие «мышление», выделив в
нем два аспекта. Первый аспект — это активность мысли
на бессознательном уровне, скажем, на уровне установки,
где мыслительная активность не укладывается в
прокрустово ложе языковых структур. Именно к этой стороне
мышления можно отнести слова Поля Валери, о которых
не следует забывать авторам, пишущим по вопросу о так
называемом «стиле мышления». Валери писал:
«Неуловимо бессвязная, всякий миг тщательная, ибо стихийная,
мысль, по своей природе, лишена стиля»26.
Ко второму аспекту мышления относится его
обращенность к сознанию («мыслящее сознание»), где «языковое
мышление» осуществляется (совершается) в «речевом
мышлении» («мыслящее словами сознание»), проходя
через этап «внутренней речи».
Мышление как познающее сознание начинает активно
функционировать лишь в проблемных ситуациях. Проблем-
238
ные ситуации, фигурирующие в поле сознания, не являются
чем-то перманентным. Следовательно, не является
перманентной и деятельность «мыслящего сознания», т. е.
в этом отношении деятельность сознания дискретна.
Косвенно это подтверждается исследованиями по созданию
кибернетических вычислительных машин, исследованиями,
которые опираются на анализ продуктов мыслительной
деятельности, поддающихся рационально-логической и
математической реконструкции. По этому поводу Г.
Биркгофф пишет, что «существенные стороны человеческого
мышления имеют структуру дискретных математических
систем, близких к булевой алгебре и ориентированным
графам (сетям)»27. Но те же логики и математики
указывают еще на одну чрезвычайно важную сторону
рациональной модели мышления: на современном уровне
научно-технического знания уже недостаточно "одной
апелляции к дискретным математическим системам для создания,
например, высокоэффективных вычислительных устройств.
Сейчас необходимо использовать данные континуальной
математики, которая отлична от дискретной математики
по своей основе.
«Различие между ними отчетливо признано в теории
вычислительных машин. Машины, которые обладают
непрерывно изменяющимися «состояниями», называются
аналоговыми»28. Как считает Биркгофф, человек также имеет
превосходные аналоговые устройства.
Если попытаться применить сказанное относительно
математики к процессу мышления, то можно представить
такую картину. Процесс мышления—это своеобразный
«поток», обладающий «глубиной» с двумя «уровнями». На
первом (поверхностном) уровне мы имеем дело с
активной деятельностью сознания. Эта деятельность
описывается согласно категории «дискретного». На втором
(глубинном) уровне мы имеем дело с деятельностью
мышления, но с таким ее видом, который находится за порогом
сознания и обеспечивает континуальную связь
«дискретных состояний» познающего сознания, то есть
обеспечивает связь на «непроблемном» для сознания уровне.
Нечто подобное данной трактовке мышления можно
встретить в работах советского автора В. В. Налимова,
который (не без доли преувеличения) утверждает, что
само мышление существенно континуально 29.
Принятие такой трактовки мышления позволяет, во-
первых, более ясно представить, что такое мышление как
процесс и как его можно корректно анализировать, не
?3S
впадая в релятивизм и софистику, а во-вторых,
предоставляется возможность аргументированно отстаивать
положение о единстве интеллектуальной жизнедеятельности
человека и положение о непрерывности опыта личности
(если исключить патологии).
Соотношение значений и понятий с точки зрения их
образования и функционирования. В свое время еще Ок-
кам, указывая на многозначность слов обычного
(естественного) языка, подчеркивал необходимость для научного
пользования таких терминов-концептов, значение
которых не может быть изменено по чьему-либо желанию30.
В этом пункте своего философского учения Оккам
предвосхитил современную трактовку понятия, где
утверждается тезис о несводимости понятия к одному только
семантическому содержанию некоторого термина.
Действительно, понятие, имея различные формы языкового
выражения, выступает определяющим началом значений
различных «имен». Это, разумеется, ни в коей мере не
означает априоризма в определении понятия, так как понятие
не может возникать и существовать вне той или иной
языковой формы 31.
В предлагаемой характеристике понятия будет
различаться понятие как теоретический конструкт и понимание
как вид интеллектуальной операции.
Традиционная теория абстракции исходила из того, что
имеется иерархия абстракций, укладывающаяся в схему
«вид — род». На низшем видовом уровне находятся
абстрактные понятия с максимальным содержанием
(например, понятие «яблоко»), а на верхнем родовом уровне
находятся понятия с минимальным содержанием, но
максимальным объемом (например, понятие «плод»).
Образование абстракций осуществляется отбрасыванием
несходных и сохранением сходных признаков. Кажущиеся
простота и ясность традиционной теории абстракций на деле
оборачивалась серьезными трудностями и парадоксами,
неразрешимыми в рамках данной теории.
С марксистской точки зрения понятие не есть раз и
навсегда застывшая в логической «летаргии» платоновская
«сущность». Одна и та же вещь, будучи помещена в
различные ситуации, выявляет разные свойства и вступает
в разные отношения с другими вещами. Соответственно
этому и понятия о ней будут совершенно разные32.
Например, понятие «стол» не есть сумма сходных признаков
всех существующих в мире столов (круглых, квадратных,
треугольных, каменных, деревянных, пластмассовых, на
240
трех ножках, четырех и т. д.), не есть результат того типа
абстракции, на котором настаивает школьный варианте
формальной логики аристотелевского толка. Все то, что
может выполнять функцию стола, попадает под это
понятие, то есть осознается как функционально приемлемая
для реализации наших целей вещь. Даже всякий «нестол»
(например, ящик) может стать в нашем понятии столом,
если будет успешно заменять в повседневном обиходе то,
что привычно ассоциируется в нашем воображении со
столом 33.
Таким образом, исходным в оценке образования,
функционирования и структуры понятия должен быть
общефилософский, гносеологический подход, а затем в свои права
может вступить логика, для которой понятия — это
определенные теоретические конструкты, концепты.
Гносеология делает ставку на понятие как деятельность, как
определенный вид интеллектуальной, сознательной операции,
тогда как логика имеет дело не с деятельностью, а с
результатом, продуктом этой деятельности, то есть с понятием
как чем-то ставшим. Для гносеолога понятие есть прежде
всего понимание в процессе коммуникации. Для логика,
выделяющего логический синтаксис, семантику и
прагматику, гносеологический подход в лучшем случае относится
к разряду прагматики, так как логика не интересует
проблема субъектов коммуникации, их намерения, содержание
духовного мира. Логик интересуется знанием, но не
сознанием.
В отличие от логического подхода к понятию
гносеологический анализ понятия рассматривает его как особое
строение поля сознания. Понимать — это значит
пробуждать сознание, активизировать интеллектуальную
деятельность. В свою очередь, сознание — это деятельность со
знанием дела, деятельность, так или иначе начинающаяся с
решения задач, создания мысленных проектов их решения.
Для гносеолога «понимающее сознание» и «понятие» в
известном смысле синонимы, то есть понятие — это
определенная схема деятельности сознания, что особенно заметно,
когда мы имеем дело с понятиями на
абстрактно-теоретическом уровне. Например, в случае таких понятий, как
«сила», «масса», «функция», мы имеем дело не с наглядно-
чувственными образами, а с определенным способом
расположенным сознанием, в котором отсутствует
конкретное содержание 34.
Анализ образования, функционирования понятий,
анализ их логической и семантической структуры — это не схо-
9 909
241
ластическая казуистика, это прежде всего
мировоззренческий вопрос, касающийся нашей ориентации в мире и в
самом себе, это также вопрос о возможностях и
перспективах научно-практического освоения действительности,
о развитии фундаментальных теоретических исследований.
Ведь мы познаем общее не ради общего, а для того, чтобы
диктовать свою разумную волю действительности и
действительности не вообще, а действительности конкретной,
единственной в своем роде, поскольку это именно наша
действительность, а не существ из другой галактики.
Общие понятия суть зафиксированные в определенной
структуре сознания объективные отношения
действительности, то есть любое понятие рассматривается как особое
строение поля сознания, причем такое строение, которое
позволяет человеку действовать в различных сферах со
знанием дела и определенной уверенностью в своих
действиях. Из этого следует, что сознание, а соответственно
и понятие как понимание — это не монолитные и
стационарные структуры. Как подчеркивал Мегрелидзе, строение
поля сознания во многом зависит от строения ситуации,
подлежащей осмыслению. Изменяется структура ситуации,
изменяется и структура сознания.
Правильность отражения действительности в понятиях
определяется не умозрительными рассуждениями, не
ссылками на физиологию, а возможностями практического
воспроизводства закономерностей объективной
действительности. Практика — это активное, целенаправленное
взаимодействие человека с природой, направленное на
удовлетворение разнообразных человеческих потребностей.
Для адекватной характеристики механизма образования
и функционирования общих понятий это крайне важно
учитывать, то есть учитывать тот факт, что люди различают
и мыслят предметы не ради них самих, не бескорыстно,
а ради удовлетворения своих нужд и интересов. Вещи
становятся предметами мышления лишь постольку,
поскольку они включены в орбиту человеческой жизнедея-"
тельности, где приобретают определенную ценность,
значимость для человека и общества. Таким образом, все,
выполняющее одну и ту же службу и имеющее в
общественной жизни одинаковое назначение, воспринимается и
осмысляется одинаковым образом, а тем самым
подводится под одно понятие, следовательно, обобщается35.
Исторически образование понятий протекает не на
основе поиска внешнего сходства, а на основе выявления
тождественности или разности предметов по их ценност-
242
ным функциям в системе общественно-исторической
практики людей. В силу этого понятие не может быть
механической суммой формальных признаков, раз и навсегда
зафиксированных в социальной памяти. Вместе с
изменением общественного бытия изменяются и структуры
сознания, изменяются способы осознания этого бытия,
изменяются понятия. Именно этим объясняется то, что одни и те
же объекты действительности осмысляются различно и вы:
ражаются в разных понятиях, и это несмотря на то, что
внешне они остаются одними и теми же объектами36.
Если строение социальной действительности не
изменяется, не влияет на деятельность сознания, то новые
понятия не возникают. Другими словами, всякие обобщения,
всякое образование новых понятий опирается в конечном
счете на определенный объективный состав реальности.
Это и призван выразить марксистский принцип
диалектического единства мышления и бытия как иное выражение
того, что наше субъективное мышление и объективный мир
подчинены одним и тем же законам развития.
Связывая понятие с деятельностью сознания, мы тем
самым неявно предполагаем присутствие языкового
фактора. В домарксистской философии сознание
рассматривалось в сопоставлении со знанием, его структурой,
источниками и способами познания. По сути говоря, в оценке и
характеристике сознания философы довольствовались
умозрительными моделями познающего субъекта, обходя
стороной вопрос о социальной сущности этого субъекта или
же, в лучшем случае, довольствуясь этическими или
религиозными трактовками социальной природы человека.
Сознание, замыкаясь на себе, оставаясь один на один с собой,
становилось чем-то вроде функции самосознания. Главным
инструментом самопознающего самосознания выступала
интроспекция. Отождествление психики с сознанием, а
сознания с самосознанием позволяло обходить стороной
мучительные вопросы о соотношении сознания и бытия.
Умозрительная форма познания объявлялась наиболее
авторитетной. На самом же деле реальное сознание человека —
это в первую очередь практическое сознание, в частности
языковое сознание, проявляющееся в форме речевого
поведения человека. Единство сознания, деятельности и
языка позволяет перейти от анализа понятий к анализу
значений. Иначе говоря, указывая на понятия, мы уже не
можем безоговорочно абстрагироваться от языкового
фактора. И наоборот, слово, связываемое с понятием,
приобретает специфический характер употребления.
9*
243
Каждое понятие, будучи зафиксированным в языковом
сознании, образует группу семантических
предрасположений к языковому осуществлению мысли в определенных
направлениях. В зависимости от наших потребностей и
интересов, в зависимости от ситуаций актуализируются те
или иные предрасположения, устанавливаются новые
понятийные и семантические связи.
Как и понятие, слово не является застывшей
«сущностью». Включаясь в процесс коммуникации, слово
используется в различных ситуациях. Поэтому полностью
оправданно рассматривать семантическую структуру слова
как сложную, подверженную изменениям структуру. В
свете этого говорить об абсолютности и неизменности
словесных значений будет явным искажением фактического
положения дел. Можно говорить лишь об относительной
стабильности значения слова в зависимости от
исторических факторов, социальных условий, контекста
употребления и пр. Кроме того, нельзя забывать о наличии большого
числа неоднозначных слов, с чем сопряжена проблема
выбора значения для использования его в том или ином
контексте, а это, в свою очередь, требует определенных
интеллектуальных усилий, включая активизацию сознания
(понятийную деятельность). Не случайно, что с недавних
пор в центре внимания психолингвистов и философов
лингвистики оказалось строение волевого акта, который, как
отмечает А. Р. Лурия, в течение столетий казался
неразрешимой проблемой.
Ученые-марксисты предложили для научного
объяснения волевого акта выйти за пределы человеческой психики
и организма с тем, чтобы, используя принцип интериори-
зации (превращение «внешнего» во «внутреннее»),
выявить пути для каузального объяснения генезиса волевого
акта, наиболее отчетливо проявляющегося в некоторых
формах речевого поведения (команды, приказы, просьбы
и т. п.).
С психолингвистической точки зрения волевое действие
представляет интерес в связи с изучением механизма
порождения речевых «текстов». В онтогенезе картина
формирования «речевой воли» выглядит примерно следующим
образом.
На первом месте в усвоении ребенком языка стоит
симпрактическое функционирование языка в виде
жестикуляционных операций с предметами и в виде речевых
инструкций взрослых. Постепенно происходит интериори-
рация симпрактических структур речевых действий, из
244
внешних регуляторов-инструкций речь трансформируется
во внутренние регуляторы осмысленного поведения
ребенка. Этот внутренний речевой регулятор («речевая воля»)
проходит через несколько этапов своего развития: 1) этап
«внешней речи» («эгоцентрическая речь», по Ж. Пиаже),
2) «этап внутренней речи». В результате этого процесса
«речевая воля» приобретает законченность,
самостоятельность и становится движущей силой, движущим началом
в осуществлении сложной интеллектуальной деятельности
с использованием языка. Таким образом, «волевой акт
начинает пониматься не как первично духовный акт и не как
просто навык, а как опосредствованное по своему
строению действие, опирающееся на речевые средства»37.
В индивидуальном плане волевое действие зарождается
в момент активизации мышления, в момент перехода от
предсознательной мысли к замыслу. Схематически процесс
зарождения и развитие мысли в языке можно представить
следующим образом: (1) мышление как динамическая
(удовлетворяемые потребности)
предиспозиция (установка) -*- (2) «ощущающее сознание»
(сбой в удовлетворении потребностей)
(перцепция) -> (2а) внутренний (идеальный) мотив: во-
(возникновение новой потребности)
левой акт + внимание = объективация ->- (3) замысел как
«первичная семантическая запись» (2а) на уровне
«внутренней речи» и как пресуппозиция (скрытая избирательная
установка, регулирующая актуальное речевое
поведение) -► (4) осуществление замысла как актуальной темы
высказывания посредством «речевой воли».
На этапе (2а) формируется и затем на всех
последующих этапах развивается волевая деятельность, которая на
этапе (4) семантически нейтральному выражению может
придать характер, например, команды или просьбы,
превратив тем самым маргинальный «смысл» в фокусное
«значение», то есть одна из зон динамичного «смысла»
(группа семантических предрасположенностей) начинает
фигурировать в качестве «значения» (устойчивая зона
«смысла»). На этапе (3) начинает осуществляться целе-
полагающая деятельность сознания как сознания
озадаченного, сознания, находящегося в проблемной ситуации,
в ситуации выбора целевых объектов, объединенных в
единое «целевое поле». На этом же этапе («внутренняя речь»)
ка первый план выдвигается семантическая проблематика,
в результате чего «целевое поле» можно репрезентировать
как «семантическое поле». На примере понятия «семанти-
245
ческое поле» мы сталкиваемся с полемикой по вопросу
о соотношении понятий и значений.
В 20—30-е годы в связи с новым этапом в развитии
научных знаний о языке (этапом структуралистского
языкознания) немецкими и швейцарскими лингвистами на
повестку дня был поставлен вопрос о структуре и
организации словаря. Признанным лидером этого направления
лингвистических исследований явился Иост Трир, который,
по мнению С. Ульмана, открыл новую фазу в истории
семантики. Его идеи в дальнейшем развивались В. Порци-
гом, Л. Вайсгербером, Г. Ипсеном, А. Иоллесом и др.
Идеи Трира наиболее последовательно были развиты
видным неогумбольдтианцем Вайсгербером, который не
только продолжил традицию, но и создал свою
собственную теорию «семантических полей». Поэтому иногда,
говоря о Трире и Вайсгербере, подразумевают одну теорию
Трира — Вайсгербера 38. По мнению Лайонза, теория
«семантического поля» тесно связана с анализом «смысла»,
.хотя сам Трир и не различал «смысл» и «значение», как
это делал Фреге39. Трир смотрел на словарный состав
языка как на интегрированную систему лексем,
взаимосвязанных по «смыслу». Эта система находится в постоянной
флуктуации.
Понятие «семантическое поле» представляет вполне
определенный интерес для философов тем, что в
своеобразной форме воскрешает лейбницевскую идею создания
универсального «словаря» науки. Как мы помним, Лейбниц
пытался отыскать наиболее простые и фундаментальные
понятия, которые являются «первокирпичиками» всей
нашей мыслительной системы и составляют своего рода
«алфавит» («словарь») понятий.
Уже Трир наметил различие между «лексическим
полем» (Wortfeld) и «смысловым (или понятийным) полем»
(Sinnfeld). Так, согласно его учению, «смысл» лексемы
является понятийной областью внутри более широкого
понятийного поля.
Отличительная особенность трировской теории в том,
что она базируется на следующей идее: основные словари
всех языков имеют априорную неструктурированную
субстанцию значения. Эту «субстанцию» Трир отождествляет
с «реальностью» языкового мировосприятия. Каждый язык
выражает реальность своим собственным способом,
создавая таким образом свой собственный взгляд на реальность
и утверждая свою собственную систему «понятий»
(«смыслов»).
246
Понятие «субстанция значения», по мнению Лайонза,
открыто нескольким, различным направлениям критики.
Во-первых, остается совершенно неясным вопрос о
референции, так как референция ограничивается только
феноменальным миром, вследствие чего много «лексических
полей» выпадают из поля зрения такого рода теории. Во-
вторых, явно ошибочно звучит утверждение, что
реальность постоянна и неизменна во все времена и в различных
районах Земли. На самом же деле реальность имеет
структуру, которая в значительной степени независима от
лексической структуры конкретных языков40.
Каковы структурные особенности «семантического
поля»?
Авторы учения о «семантическом поле» указывают на
тот факт, что каждое слово обладает сеткой связей
(ассоциаций), т. е. значение отдельного слова не имеет
самостоятельного статуса, а целиком определено связями с
другими словами (связями по форме, по значению, по форме и
значению одновременно). Ассоциативное поле слова —
нестабильная, изменчивая структура. Оно отличается от
одного говорящего к другому, различно в различных
социальных группах, зависит от ситуации. Представление о
возможных размерах такого «поля» дает работа французских
лингвистов, где исследовано ассоциативное поле слова
«chat» (кот) и показано, что оно насчитывает около
2000 терминов, которые могут быть сведены примерно к
300 основным терминам. Как отмечает Ульман, понятие
«семантического поля» занимает видное место в
исторической семантике и в этимологических исследованиях.
К разряду структурных особенностей «семантического
ноля» относится «валентность слов». Понятие
«валентность слова» было введено в лингвистику в конце 50-х
годов по аналогии с химической валентностью. Иногда его
эксплицируют понятием «число потенциальных связей
слов». Потенциальные связи слова (его валентность)
позволяют слову относительно быстро и легко входить в
определенные типы предложений. Так, слово «резать» имеет
две валентности (резать — что и чем). Учет валентности
играет большую роль в понимании механизма возможных
семантических изменений, включая метафорообразования
(сравните: «резать хлеб» и «резать правду в глаза»). По
сравнению с глаголами валентность существительных
выражена менее ярко. К числу потенциальных связей
существительных относятся их связи с другими сущеетвитель-
247
(1) мудрец, ученый, исследо-
* ватель....
„(2) идеалист, материалист, '
рационалист ...
•-(3) преподаватель,
пропагандист,...
^(4) мужчина, женщина ...
"""ч (,
^(1) мудрствует, исследует, ...-
•.(2) преподаёт,
пропагандирует,...
•'(1) мудрый, знающий,...
•.(2) хороший , плохой,...
ными, а также с глаголами и прилагательными. Например,
рассмотрим слово «философ» (рис. 8).
Понятие «валентность слова» еще более уточняется
посредством лингвистического анализа структуры
«семантического поля», когда выделяются так называемые
парадигматические (Трир) и синтагматические (Порциг)
отношения, без которых не может быть создана
удовлетворительная теория лексической структуры. Кроме того,
при исследовании данной проблематики необходимо
привлечь, как настаивает Лайонз, понятие «контекст» и
считаться с тем, что невозможно исследовать словарь языка
независимо от грамматической структуры этого языка41.
Характеристика парадигматических отношений
осуществляется с помощью технического термина — антонимия.
Этот термин используется для указания на
оппозиционность значений между лексемами (например, «высокий/
низкий», «мужской/женский», «брат/сестра»,
«бежит/стоит», «вперед/назад» и т. д.). Является фактом, который
признается многими лингвистами, что бинарная
оппозиция — это один из самых важных принципов регуляции
структуры языков. Ярким проявлением этого принципа
является антонимия42. Образцом синтагматических
отношений являются отношения типа синтаксических моделей
(например, «голубой — небо» («голубое небо»),
«белокурый — волос» («белокурые волосы»).
Для логиков и философов определенный интерес
представляют отношения гипонимии, которые наряду с
антонимией (несовместимостью) являются самыми
фундаментальными парадигматическими смысловыми
отношениями43. ,.
группа
^существительного
ФИЛОСОФ <5— ^гп°плаьная
•группа
прилагательного
Рис, 8.
248
об-beKt
жеребёнок жеребёнок
жен. род. муж. рол.
Жеребец
Рис. 9.
Термин «гипонимия» не входит в число традиционных
терминов семантики; он создан недавно по аналогии с
«синонимией» и «антонимией». Хотя термин и является
новым, но его идейный прототип имеет давнюю традицию.
Например, аналогом гипонимии в логике является
включение одного класса в другой. С философской точки
зрения идея гипонимии восходит к аристотелевской доктрине
категорий 44.
Отношение гипонимии предполагает иерархическую
структуру словаря и конкретных «семантических полей»
внутри этого словаря. Отношения гипонимии можно
изобразить следующим образом (рис. 9):
На диаграмме (1) маленькие буквы латинского алфа-
вита замещают индивидуальные лексемы. Начальный
пункт (корень) этого «дерева» этикетирован
перечеркнутым нулем (Q), поскольку словарь может быть
иерархически структурирован только в том случае, если
начальный пункт не связан ни с какой конкретной лексемой, так
как в реальном словаре нет самой «главной» лексемы. Уже
тот факт, что язык делится на части речи, препятствует
иерархическому упорядочиванию словаря.
Гипонимия является транзитивным отношением и
может быть определена в терминах односторонней (ассим-
метричной) импликации.
Дальнейшим развитием методов структурного анализа
«семантических полей» является так называемый
компонентный анализ, имеющий определенную философскую
ценность. Логико-философскими истоками его может
служить традиционная теория образования абстракций,
восходящая к аристотелевской видо-родовой иерархии.
Компонентный анализ имеет свой прототип и в лейбницевском
249
понятийном «алфавите», идея которого легла fe основу
построения так называемых концептуальных (понятийных)
словарей. Одним из самых ранних и хорошо известных
словарей этого типа является словарь П. М. Роджета
(1852) «Тезаурус английских слов и фраз». Принцип,
лежащий в основе тезауруса, как отмечал сам Роджет во
введении к первому изданию своего словаря, состоит в
классификации слов и фраз языка не согласно их
звучанию или орфографии, но строго соответственно их
значению.
Отмечая познавательную направленность работы
Роджета, Лайонз писал, что, хотя с самого начала данная
работа создавалась «для облегчения выражения идей и для
помощи в литературном сочинительстве», она, тем не
менее, находилась под сильным влиянием философских
спекуляций XVII в. (Бэкон, Декарт, Лейбниц), авторы
которых надеялись изобрести искусственный язык для
систематизации и развития научного значения 45.
Итак, с понятийным анализом в духе тезаурусов тесно
связан компонентный анализ. Эта связь отражается в
использовании логического и теоретико-множественного
подходов к семантике. Компонентный анализ покоится на
тезисе, что значение каждой лексемы может быть
проанализировано в терминах множества более общих смысловых
компонентов (семантических категорий, семантических
маркеров, семем и т. д.).
Поскольку компонентный анализ связан с анализом
концептуальным, постольку смысловые компоненты
могут быть рассмотрены как «атомарные», а смыслы
конкретных лексем — как «молекулярные» (как понятия).
Например, смысл слова «человек» (смысл, истолковываемый как
дополнение к смыслу слова «женщина») следует
анализировать как комбинацию в «молекулярном» понятии
«человек»-«атомарных» понятий «мужской», «взрослый». Так
понятый компонентный анализ относится к идеям
Лейбница и Уилкинса, которые инспирировали разработки
Роджета 46.
Самыми ранними и наиболее влиятельными
сторонниками компонентного анализа в постсоссюровской
структуралистской традиции были Ельмслев и Якобсон. Видными
представителями современного компонентного анализа
являются: Греймас, Поттер, Прието и Косериу.
Компонентный анализ в США преимущественно развивался
благодаря усилиям американских антропологов, как техника
для описания и сравнения словаря кровнородственных от-
250
ношений в различных языках. В последние десятилетия
компонентный анализ привлек внимание тех
представителей генеративно-трансформационной лингвистики (Катц,
фодор и др.)» которые пытаются интегрировать семантику
и синтаксис 47.
Компонентный анализ, согласно Лайонзу, может быть
рассмотрен как расширение теории «семантического поля»,
как попытка утвердить и обосновать данную теорию на
прочном теоретическом и методологическом фундаменте48.
Компонентный анализ для философов интересен тем,
что позволяет по-новому переосмыслить аристотелевскую
традицию в трактовке «содержания» и «объема» понятий и
через логико-гносеологическую Проблематику выйти на
проблематику семантическую.
В истории европейской логико-философской науки
недавнего времени особое место занимает Герман Лотце
(1817—1881), к сожалению, в настоящее время
полузабытый мыслитель, хотя он и оказал достаточно сильное
влияние на Фреге, Гуссерля, Мейнонга и др. Оценивая
логическое учение Лотце, П. С. Попов писал, что Лотце
«убедительно опровергает учение старой формальной логики о
взаимоотношении содержания и объема понятия при
обобщениях. Без этой реформы невозможно дальнейшее
движение диалектической мысли в вопросе об обобщении»49.
Согласно Лотце, при образовании общих понятий
происходит не отбрасывание несходных признаков, а их
преобразование согласно фиксированному правилу (схеме),
которое, наподобие аксиомы как неявной формы вывода
(имманентной инструкции вывода), объединяет
многообразие содержания общего понятия. Примером может
служить понятие «планетарная модель атома», которое
сообщает схему мыслительной деятельности для описания и
объяснения явлений микромира, т. е. наше понимающее
сознание приобретает соответствующую направленность и
диспозицию.
Опережая Лотце, аналогичные мысли высказали в свое
время Гегель и Маркс в связи с трактовкой метода
восхождения от абстрактного к конкретному. Так, например, в
«Экономических рукописях 1857—1859 годов» Маркс
демонстрирует общую схематику познавательного анализа,
который начинается с самых тощих абстракций, с самых
смутных и малоинформативных представлений
(недифференцированных целостностей) на уровне семантики
обыденного языка и заканчивается конкретным в своей
дифференцированной н структурированной целостности поня-
251
тием. Таким образом, процесс образования общих понятий
на желаемой стадии завершается не получением
максимально бессодержательных, но предельных по объему
абстракций, а получением конкретно-научных понятий,
которые есть единство многообразного, выступающее как
результат познавательной активности, а не в качестве
исходного пункта 50.
Понятие, получаемое методом восхождения от
абстрактного к конкретному, не является понятием в смысле
традиционной формальной логики. Чтобы раскрыть его
содержание, необходимо построить целый «текст» на
естественном или искусственном языке. При таком взгляде на
проблему точнее будет говорить не о понятии, чтобы не
тревожить груз старых ассоциаций, а о концепции. Понятие —
концепт принципиально несводимо к семантике отдельных
терминов. Оно отражает содержание и выражается
системой терминов, чье значение указывает на границы и
структуру «концептуального поля».
Сведи мы понятия к их языковому функционированию
и жестко обусловь их языковой семантикой, вопрос об
отражательной силе теоретических концепций растворится
в диспутах вокруг проблем семантики. От этого правильно
предостерегает Л. Антал, указывая на то, что некоторые
авторы не различают значение, которое является
неотъемлемым компонентом языка, и содержание выражений5|.
Это результат путаницы знаний значения и знаний
обозначаемого. Скажем, химик анализирует не значение слова
«соль», а реальный физический материал. Поэтому отказ
от понятия «содержание» чреват тем, что приоритет в
познании и миропонимании будет отдан языку (Гумбольдт
и неогумбольдтианцы), а не совокупной
социально-исторической практике, базисом которой служит трудовая
деятельность человека.
Содержание и значение не тождественные «сущности».
Содержание предполагает значение, но не наоборот52.
Поскольку в данном случае содержание — это содержание
понятия, то мы вправе говорить, что значение не
тождественно понятию. Понятие — категория не языка, а познания.
Если бы значение было тождественно понятию, тогда
значение не могло бы быть органическим компонентом языка,
и лингвисты не были бы компонентны исследовать
значение 53.
Дистинкция «понятие — значение» («содержание —
значение») отнюдь не исключает и не противоречит дистинк-
ции «смысл — значение», так как в гносеологической оцен-
252
ке понятия присутствуют два момента, а именно: (1)
возможность получать адекватное знание об объективной
действительности (отражательная сила понятия) и применять
его на практике; (2) возможность устанавливать
взаимопонимание в актах вербальной коммуникации, а также
осуществлять различные виды интерпретации (например,
интерпретация теоретического языка в терминах
эмпирического языка).
Если рассматривать дистинкции «понятие — значение» и
«смысл — значение» сквозь призму диалектического
единства мышления и языка, то аналогом метода восхождения
от абстрактного к конкретному (движение от
слов-значений обыденного языка к терминам-концептам научного
языка) будет компонентный анализ внутренней структуры
лексем, которая (структура), по мнению некоторых авторов,
отражает синтаксическую структуру соответствующих
предложений и фраз. Например, смысл глагола «убивать»
может быть разложен на такие составляющие его
компоненты, как «причина», «делать», «не» и «живой». Эти
компоненты не просто механически суммируются, но
объединяются в иерархическую структуру, которую можно
представить следующим образом: (причина (делать (не(живой)))).
В результате мы имеем: (не живой) — (мертвый), (делать
(неживой)) — (умереть) 54.
При сравнении с лотцевской схематизацией содержания
понятий бросается в глаза определенное родство
компонентного анализа с понятием, где признаки берутс^
дизъюнктивно (дифференцированная конкретность),Например у
К. Маркса, где понятие «населения» разлагается на понятие
«классы», которое в свою очередь предполагает в качестве
своей концептуальной основы понятия «наемный труд»,
«капитал», и т. д. «Таким образом, если бы я начал с
населения, — писал Маркс, — то это было бы хаотическое
представление о целом, и только путем более детальных
определений я аналитически подходил бы ко все более и более
простым понятиям: от конкретного, данного в
представлении, ко все более и более тощим абстракциям, пока не
пришел бы к простейшим определениям. Отсюда пришлось бы
пуститься в обратный путь, пока не пришел бы, наконец,
снова к населению, но на этот раз не как к хаотическому
представлению о целом, а как к некоторой богатой
совокупности многочисленных определений и отношений»55.
Так интерпретированное понятие превращается в
своеобразное «концептуальное поле», вначале
неструктурированное, а затем структурированное (схематизированное)v
253
«Концептуальное поле» принципиально шире
«семантического поля». Поэтому для его базисной характеристики
требуются не семантические категории, а онтологические.
В данном случае такой онтологической по своему статусу
выступает категория «содержание». Следовательно, в
оценке соотношения понятия и значения лежит решение
фундаментального философского вопроса о соотношении
мышления и бытия, который регистрируется бинарным
классификатором «понятие — действительность», а затем следуют
дистинкции (1) «понятие — значение» и (2) «значение —
смысл». В случае «понятие — действительность» мы имеем
образец того, когда одно и то же понятие (например,
теория) способно применяться к различным, но
функционально одинаковым предметам (метод экстраполяции).
Классическим примером может служить монография В. Я. Проппа
«Морфология сказки» (1928). Напомню, что до Проппа
неоднократно предпринимались попытки дать более или
менее удовлетворительную классификацию бесконечно
разнообразных по своему культурному материалу волшебных
сказок (А. Н. Веселовский, А. И. Никифоров, К. Шпик
и др.).
Пропп предложил в качестве исходного строительного
материала сказки рассматривать функции действующих
лиц. Этих функций оказалось 31. В различных сказках их
число может варьироваться, никогда не превышая
указанной суммы.
Так как понятия не могут возникать и существовать вне
той или иной языковой формы, то мы с необходимостью
должны учитывать семантический фактор, в результате
чего появляется дистинкция «понятие — значение». Значение
одного и того же слова (например, «стол»), преломляясь в
нашем понятии, указывает на функционально приемлемые,
хотя и разные по форме и материалу, предметы («не-столы»,
как если бы они были «столами»). Значение здесь
выступает в своей референциальной (указывающей) функции.
Переходя к дистинкции «значение —смысл», мы
переносим центр тяжести с онтологических вопросов на вопросы
семантические, не порывая при этом связи между
онтологией и семантикой. Об этой связи свидетельствует двуликость
термина «значение» (Bcdcuiung), точнее, два его
семантических аспекта, один из которых (собственно «значение»)
может использовать для анализа (яо/г-оценочного, поп-кот-
нитивного) семантических изменений в естественных
языках, не ссылаясь на эстралингвистические факторы, а
другой аспект («референция») может использоваться для ре-
254
шений логико-гносеологических задач, предполагающих ту
или иную версию концептуального (понятийного) анализа
Классическим примером использования дистинкции
«значение — смысл», где «значение» фигурирует как
«референция», служит анализ «семантического поля» цветовой
гаммы. Например, «смысл» слова «красный» зависит от
того, имеют ли место в данном «семантическом поле» слова
«оранжевый», «фиолетовый» или же только «желтый»,
«голубой». Иначе говоря, характеристика «смысла» слова
«красный» требует, чтобы «семантическое поле», к
которому оно относится, было соответствующим образом
специфицировано (структурировано). Два различных
«семантических поля» с одной и той же предметной (референтной)
областью представляют два различных способа
лингвистической классификации данной области.
Заключая этот раздел, хочу подчеркнуть, что проблема
соотношения понятий и значений является частным случаем
общей теории развития применительно к научному
познанию и различным языковым системам.
Проблема континуального и дискретного в
семантическом и концептуальном развитии. Английский исследователь
Э. Маккормак в статье «Изменяемость значения и
метафора» писал: «Одна из самых трудных головоломок в
современной философии науки состоит в том, как дать
удовлетворительную оценку способам, с помощью которых научные
термины изменяют свои значения в контексте
изменяющихся теорий. Отвергая положение позитивистов о
неизменности терминов, П. Фейерабенд был одним из первых, кто
утверждал, что значения терминов всецело зависимы от
теории, в которой они имеют место» 56. Это утверждение, а
также утверждение о принципиальной несоизмеримости
научных теорий, относящихся к различным
культурно-мировоззренческим и социально-историческим парадигмам, на
чем настаивают Фейерабенд и Кун, вызвали много
протестов (П. Ачинстейн, К. Кордиг, Дж. Катц и др.) и породили
бурную дискуссию.
Анализируя процесс развития теоретического знания, мы
можем себе позволить сознательно отвлечься от
многоразличных внешних факторов, так или иначе влияющих и
определяющих направление, характер и интенсивность
познавательной деятельности. В таком случае вопрос о
реконструкции логики движения теоретической мысли приобретает
самоценное значение и может быть кратко сформулирован
как вопрос о сравнимости теорий по их структуре,
функциональным элементам, языку. Задача эта отнюдь не из легких
255
и не решается, так сказать, в лоб, одним наскоком.
Поэтову столь велико расхождение во взглядах современных
философов науки по этому вопросу. Трудности усугубляются
еще и тем, что иногда, имея дело с готовыми
идеально-теоретическими конструкциями, мы, по словам Маркса,
склонны их априоризировать, склонны отрывать историю
исследования материала от логики его изложения. Подобная
картина наблюдается и в случае нашумевшей в свое время
гипотезы Куна — Фейерабенда. Интересная для нас
критика этой гипотезы дана в работах представителей
генеративной семантики.
В статье «Семантика и концептуальное изменение»
Дж. .Катц упрекает приверженцев упомянутой гипотезы в
том, что они, говоря о значении терминов науки,
пренебрегают лингвистикой. Получается так, что эти философы науки
говорят не об изменениях значений, а о концептуальных
изменениях, хотя очень часто в контексте их рассуждений
проскальзывают выражения, касающиеся семантических
изменений. В данной статье Катц стремится показать, что
лингвистика способна внести существенный вклад в
решение вопроса об изменяемости значений в языке научного
познания. Свой подход к вопросу о концептуальных
изменениях в науке автор называет «лингвистическим
рационализмом». Комментируя этот термин, Катц пишет, что
использование слова «рационализм» объясняется его позицией,
коренящейся в картезианской традиции, согласно которой
концептуальная структура^ лежащая в основе нашего
знания, происходит не из опыта познания (как полагают
представители логического эмпиризма), а из внутренних
условий для такого знания и познания. Использование слова
«лингвистика» подчеркивает применимость лингвистической
теории к философским вопросам 57.
Напомню, что отличительной чертой одного из
направлений современной западной философии науки (так
называемого «нового эмпиризма») является новая картина
научного развития, согласно которой научный опыт периодически
претерпевает революционные изменения. По Фейерабенду,
значение каждого используемого нами термина полностью
зависит от теоретического контекста, в котором он
употребляется. В результате научных революций, когда коренным
образом изменяется теоретический контекст, происходит
радикальное изменение значений терминов, происходит
тотальное обновление «словаря» науки.
По мнению ряда зарубежных философов науки, доктри-
нальная идея, выдвинутая Фейерабендом и поддержанная
256
Куном, свидетельствует о своего рода философско-методо-
логическом экстремизме. Так, П. Ачинстейн, выступая с
критикой взглядов Фейерабенда, называл его позицию
большим упрощением реальных процессов, происходящих в
языке науки. Эта позиция, по Ачинстейну, чревата серьезными
парадоксами: «Первый парадокс состоит в том, что если
отклоняющееся значение берется в качестве истинного, то
тогда невозможно понять новую теорию, поскольку новые
термины в ней должны быть нерелевантны значениям,
которые они имели в предшествующих теориях. Значение этих
терминов зависит от контекста теории, но теорию никогда
невозможно понять без знания входящих в нее терминов,
а это, в свою очередь, невозможно без понимания теории.
Новые теории, следовательно, будут неразличимы. Второй
парадокс состоит в том, что если все термины новой теории
имели бы новые значения, тогда невозможно было бы
показать, что две теории логически несовместимы, поскольку
один и тот же термин, появляющийся в обеих теориях,
должен иметь различные значения в каждой из них» 58.
Эти парадоксы выявляются Ачинстейном в связи с
критикой двух тезисов. Первый тезис: научный термин S,
который имеет место в теории Г, не может быть понят, если
неизвестны и непонятны базисные принципы 7\ Второй
тезис: значение научного термина S, который имеет место в
теории 7, должно изменяться с переходом от Т к 7^ 59.
Ачинстейн настаивает на том, что эти тезисы не
отражают реальной картины научно-теоретического знания и тех
процессов, которые в нем происходят. Он предлагает свою
схему решения проблемы значения научных терминов.
Условно предлагаемый вариант решения можно назвать
«факторным анализом».
Для понимания данного научного термина необходим
учет многих факторов, часть из которых может быть
исследована и познана независимо от теории, хотя они и
релевантны пониманию важных терминов теории60. Таким
образом, первый тезис ошибочен, поскольку он оказывается не
в состоянии признать, что знание многих факторов может
быть включено в понимание научного термина, а эти
факторы могут быть изучены независимо от теории. Второй же
тезис игнорирует тот факт, что, когда теория
модифицируется или даже отвергается в пользу другой теории, многие
из факторов, релевантных пониманию данного термина,
могут остаться без изменений 61.
Как показывает Маккормак, Фейерабенд протестует
против подобного рода критики, ссылаясь при этом на приме-
257
ры из истории науки, которые призваны
продемонстрировать, что «значения» не представляют существенной
важности для принятия решения относительно различных теорий,
а также не влияют на выбор методов сравнений теорий, так
как с необходимостью не влекут логических противоречий.
Маккормак справедливо указывает на следующее. Ссылка
на историческую очевидность того, что термины изменяют
свои значения в новых теориях, а также ссылка на тот факт,
что мы можем обычным путем понять новую теорию, имеют
слишком много натяжек. Но при этом он подчеркивает, что
проблема изменяемости научной терминологии не
надуманна, или, как он пишет, проблема оценки изменяющихся
значений обязательна, если мы стремимся постичь природу
теоретического знания. По его мнению, научные термины в
новой теории, которая сменяет предыдущую теорию,
содержащую те же самые термины, изменяют свое значение лишь
частично. Таким образом, некоторые семантические аспекты
термина остаются теми же самыми, тогда как другие
аспекты изменяются так, что мы имеем ситуацию, в которой
узнаем термины лишь частично. Поэтому наша задача состоит в
доскональном изучении некоторых новых черт термина62.
Возвращаясь к полемике между Ачинстейном и Фейера-
бендом, отмечу следующее. Ачинстейн пытается развить
лингвистическое описание научных терминов, базируясь на
примерах фактического использования учеными этих
терминов. В связи с этим он делит научные термины на три вида:
(1) термины наподобие термина «медь», для которых не
могут быть даны ни логически необходимые, ни логически
достаточные характеристики; (2) термины наподобие
терминов «ньютоновская система» и «атом Бора», которым
могут быть даны логически необходимые и достаточные
характеристики; (3) термины наподобие терминов «скорость» и
«энтропия», которым могут быть даны математические или
другие операциональные определения.
В определенном смысле можно приветствовать попытку
Ачинстейна дать лингвистическое описание научным
терминам. Однако и у него наблюдается тот существенный
недостаток, что недостаточно четко проводится демаркационная
линия между понятиями и значениями, понятийными и
семантическими изменениями. Вот почему критика со
стороны лингвистов в адрес гипотезы Куна — Фейерабенда
представляет значительный интерес.
Дж. Катц полагает, что такие понятия, как «закон»,
«теория», «простота» и т. п., не могут и не должны
анализироваться посредством лучшего понимания языка, поскольку
258
для физика или химика совершенно безразлично, что
«закон» или «теория» обозначают на английском или русском
языках. Для более адекватного постижения сущностного
смысла этих терминов требуется хорошо разработанная
эпистемологическая теория, а не хорошо разработанная
грамматика английского. Поэтому отличительной чертой
«лингвистического рационализма» по вопросу об
изменяемости значений является утверждение непрерывности
лингвистического и рационального процессов.
«Лингвистический рационализм» видит научный прогресс в
усовершенствовании повседневных языково-мыслительных
процессов. «Лингвистический рационализм», как и поздний
Витгенштейн, не усматривает в неопределенности и поп-
референциальности выражений естественного языка его
недостатки, и при том он не отрицает полезность
искусственных языков научного познания, но по-иному (в отличие от
логического эмпиризма) рассматривает их роль.
Во-первых, «лингвистический рационализм» отрицает, что
функция искусственных языков состоит в разграничении
повседневного мышления и научного мышления.
Во-вторых, «лингвистический рационализм» не согласен
с тем, что функция искусственных языков заключается в
разграничении науки и «метафизики» (спекулятивной
философии). В свете этого «лингвистический рацонализм»
отвергает требование К. Г. Гемпеля и других, что
критерием осмысленности является переводимость на логически
совершенный язык. Напротив, «лингвистический
рационализм» считает, что критерием осмысленности служит
выразимость в естественном языке. В данном случае мы знаем,
что предложение осмысленно, если знаем, что данное
предложение — одно из тех, по отношению к которому
оптимальная грамматика языка определяет семантическую
репрезентацию. Таким образом, для определения, что
является осмысленным, мы конструируем грамматику (теорию
языка) естественных языков.
В-третьих, «лингвистический рационализм» требует
адекватного аппарата для репрезентации логической формы
предложений в естественных языках. Для этих целей и
вводится новая техника трактовки поп-дедуктивных логических
отношений. Эта техника характеризуется понятием
аналитической импликации (analytic implication), которое
подчеркивает, что заключение не выражает ничего более, кроме
того, что есть в логической форме посылок 63.
Изменение значения, согласно «лингвистическому
рационализму», имеет место, когда выражение языка, которое
259
коррелировано с конкретным понятием, в следующий
момент времени не коррелировано с ним. Выражение может
потерять значение вообше или может получить связь с
новым смыслом. Если изменение значения имеет место, тогда
научное изменение также происходит с изменением или без
изменения концептуального характера. Здесь следует иметь
в виду, как отмечает Катц, что концептуальные
изменения — это частный случай научного изменения (развития)
вообще, то есть научные изменения могут включать или не
включать концептуальные изменения. Наконец, научное
изменение с или без концептуального изменения может
связываться или не связываться с изменением значения. Если
изменение значения имеет место, и новое понятие
извлекается из множества понятий, входящих в первоначальную
теорию, тогда получается новое научное значение. Научное
изменение имеет место без изменения значения, если
теоретические постулаты изменяются без изменения значений
терминов теории. Концептуальное изменение имеет место
без изменения значения в том случае, когда ни один из
терминов первоначальной теории не теряет своего
первоначального смысла, а новые термины из другой теории вводятся
как часть данной новой теории 64.
С точки зрения «лингвистического рационализма»
понятие концептуального изменения выражает следующее.
Проблема концептуального изменения возникает тогда, когда
возникает подозрение, что множество объяснительных
понятий неадекватно новой познавательной ситуации. Развитие
объяснительно более лучших понятий требует локализации
их в так называемом внутреннем концептуальном
пространстве. Это значит, что ученый должен конструировать не весь
каркас концепции из элементарных понятий, а лишь его
сердцевину65. В данном случае уместно вспомнить о
пресуппозициях в широком, философском смысле слова, то есть
о тех пресуппозициях, которые образуют концептуальное
поле, предрасположенное (нацеленное) к определенному
типу концептуальной организации. По-видимому, с
подобной трактовкой пресуппозиций можно ассоциировать такое
важное философское понятие, как «непрерывность опыта»,
включая опыт развития научного знания. Это отнюдь не
отрицает наличия качественных скачков в развитии научного
знания, но подчеркивает неспонтанность такого рода
скачков, обращает внимание на казуально сложный,
диалектический процесс научной эволюции, процесс, включающий
как внеязыковые детерминанты, так и собственно языковые
(например, лингвистический аспект пресуппозиций).
2G0
Марксистская оценка рассуждений на тему о
концептуальных и семантических изменениях в развитии
человеческого общества может быть представлена в следующем
виде. Рост машинного производства и новое отношение к
технике в период буржуазного строительства изменяют статус
науки, соответственно чему переосмысливаются методы
получения нового знания. Идеологическая апологетика
(например, привязанность к религиозной мифологии)
сменяется технологической ценностью научного знания, то есть
критерием истинности научных положений объявляется
эксперимент, опыт, прямо и косвенно детерминируемые
запросами промышленного производства. Это способствует
выработке и кодификации приемов дискурсивно-логического
познания, связанных с решением задачи на практическое
воспроизводство познанных закономерностей объективной
действительности. Связующим звеном здесь служит
эксперимент как проверка закономерностей в той или иной
управляемой технологической модели. В этом смысле без
применения законов естествознания нет современной
технологии (Э. Цильзель). Данное положение можно
распространить также на область логико-математического
познания. Например, рассматривая математику как особого рода
язык, допустимо прибегнуть к способу так называемого
синтаксического построения подобного языка. В рамках
двузначной логики технологической моделью этих
логико-математических построений служит электрическая сеть с
прерывателями. Возможность установить в некоторых случаях
отношения изоморфизма между теорией и сложными
техническими устройствами с достаточной очевидностью
демонстрирует правомочность тезиса М. Бунге об
отождествляемости техники с прикладной наукой (технологией) 66. В
таком случае можно сказать, что современная наука
появилась на свет, когда она достигла уровня
технологического самосознания.
В последнее время значительно возрос интерес к
проблеме соотношения научного и технологического знания, о чем,
в частности, говорилось на 5-м Международном конгрессе
по логике, методологии и философии науки. Я вряд ли
ошибусь, сказав, что в общефилософском плане интерес к
технологии обусловлен трактовками непрерывности в
развитии науки и культуры. Еще А. Леруа-Гуран указывал,
что технологическая тенденция (в противовес
идеологическим тенденциям) имеет неумолимый, в известном смысле
прямолинейный характер, так как является материальной
тенденцией, скрывающейся в используемых орудиях, кото-
26!
рые, если говорить языком семиотики, обладают большей
кодирующей силой сравнительно с языковым сознанием.
В последнем случае стремление сохранить верность «букве»
(форме, каноническому стилю) приводит к утрате
первоначального смысла, что чревато (особенно для сакрального
знания) его реинтерпретацией в нежелательных
контекстах.
Что касается неумолимого характера материальной
тенденции, то, как отмечает Леруа-Гуран, эта тенденция
побуждает камень, зажатый в руке, приобрести рукоятку,
две жерди, на которых тянут груз, оснастить колесами^7.
Таким образом, соединение природных процессов, которые
сами по себе могут не представлять особой ценности
(течение рек, сила трения, вращение колеса и пр.), в связи с
удовлетворением объективных и субъективных потребностей
человека позволяет не только материальным образом
кодировать исторический опыт человечества, но и способствует
на основе этого выработке у последующих поколений
определенных стереотипов мышления и поведения,
предоставляя сознанию возможность обогащать себя новым
знанием, следуя динамике тенденций.
С учетом так понимаемого технологического развития
некоторые зарубежные авторы пытаются оценить куновское
положение о несравнимости парадигматически различных
теорий. Любопытно и показательно, что в данном случае
технология ассоциируется с проблемами семантики
теоретического языка. Отмечается, что эпистемологический
статус технологического знания, возможно, окажется
полезным для прояснения некоторых вопросов, поднятых Т.
Куном в книге «Структура научных революций».
Если смена парадигм осуществляется революционным
образом, то возникает вопрос: действительно ли имеет
место непрерывное развитие в истории науки, и с помощью
какого критерия такая непрерывность может быть
установлена? В этой ситуации на помощь может прийти
технологическое знание в его эпистемологическом осмыслении.
Конструируясь для практического использования и
полагаясь на исторически более неизменный критерий
действительности, технологическое знание тем самым больше
соответствует определенному типу непрерывности и
прогресса в нашем познании и понимании физического мира.
С этой точки зрения становится более очевидным различие
между «чистой» наукой и технологией (прикладной
наукой). Например, в физических науках «факты», которые
конструируются (прогнозируются) определенной теорией,
262
обладают высокой степенью вариативности. Поэтому
«факты», описываемые высоко абстрактной теорией, не могут
служить легким критерием установления непрерывности
(прогресса) в развитии научного знания. В технологии же
ситуация меняется в лучшую сторону. Технологический
прогресс может быть определен сравнительно
непроблематичным образом. Полезность технологической системы
устанавливается без ссылок на концептуальную структуру
знания, применяемого для ее конструирования. Непрерывный
рост технологического знания, его эффективность,
действенность в современных условиях можно рассматривать в
качестве яркого символа научного прогресса, безотносительно к
концептуальным изменениям и специфическим проблемам,
относящимся к области научных теорий68.
В техническом продукте, который заимствуется одной
социальной группой у другой или же передается во времени
в рамках одного сообщества, мы имеем дело со
«свернутым» (материализованным) технологическим знанием.
Характерным свойством этого знания является то, что оно как
бы ненасильственно и незаметно обогащает
интеллектуальный кругозор определенной социальной группы, то есть
каждое техническое заимствование вызывает неявно более
глубокие изменения в умственном строе людей, чем это
можно было бы ожидать. В данном случае мы имеем
пример своеобразной «заторможенности» сознания по
отношению к неосознаваемо усваиваемой человеком информации.
Это касается не только общественного сознания, но и
индивидуального сознания, особенно в период онтогенетического
развития, когда ребенок усваивает различные коды, хотя и
не подозревает, что его детские игры имеют не только
развлекательный характер, но и с помощью различных вещных
символов расширяют горизонт его миропонимания,
проявляя в других контекстах уже имеющееся значение данных
символов. С этой точки зрения аналогом такого процесса
развития служит семантическое, обогащение лексических
ресурсов естественных языков.
Обратимся к рассмотрению механизма метафорообразо-
ваний как к примеру непрерывного и дискретного в
развитии семантических ресурсов естественных языков.
Вопрос о несводимости метафор к разновидности
логической формы сравнения (Аристотель) был поставлен
давно, но только с превращением семантики в относительно
автономную область исследований были предприняты по
настоящему серьезные попытки разграничить логический и
семантический подходы к пониманию механизма семаити-
263
ческих изменений типа метафорообразований. К числу
таких попыток следует отнести изыскания английского
ученого Ф. Вилрайта, который в монографии «Метафора и
реальность» предложил различать два доминирующих вида
метафор, названные им «эпифора» и «диафора».
Семантика эпифоры зависит от возможности сравнивать
или устанавливать аналогии между двумя вещами.
Поэтому такие метафоры чаще всего используются в научном
познании или в популяризации научных достижений. Они
выполняют референциальные функции экстралингвисти~
ческого характера и для лингвистов особого интереса т«
представляют69.
Теория сравнения для лингвистической семантики плоха
тем, что представляет замаскированную разновидность
теории замещения, которую в лице Августина достаточно
убедительно раскритиковал Витгенштейн в «Философских
исследованиях». Однако для анализа общих закономерностей
процесса познания как движения от известного к
неизвестному теория сравнения в подходе к метафоре оказывает
определенную пользу. Так, с этой точки зрения метафору
можно рассматривать как модель (инструмент)
приспособления нового знания к старому знанию (экстенсивная
трактовка непрерывности роста научного знания). В данном
случае мы имеем дело с аналитическим подходом к
метафоре, согласно которому метафора является средством
вывода, поскольку это способ говорения по принципу «как
если бы» («как если бы X есть Y») 70. Например, по принципу
«как если бы» используется одно и то же выражение
(например, слово) в разных контекстах (Витгенштейн и др.).
Несколько модифицируя схему С. Тайлера, сказанное
можно представить следующим образом (рис. 10).
( V*) (хеЛ& х€ В)—'"подобие (Ау В) читается: для всех
признаков х таких, что если х включен в Л и л: включен в
В, то В подобно Л.
В данном случае проблема состоит в том, что мы имеем
дело с суждением подобия, которое является условием не
для всех метафор, а лишь для некоторого их числа
(метафоры определенного типа), то есть речь идет именно об
СРАВНИВАЮТСЯ С
Рис. 10.
значение слова А (объект А) —
<
значение слова В (объект В)=
I ) ! I
{ а, Ь, с, d \
отображаются
{ а, х", у, d I
! ? ? !
264
.•условии (или условиях), но не о самой метафоре. К
разряду подобным образом обусловленных метафор относятся
так называемые логические метафоры, базирующиеся на
отношениях типа «часть — целое», «причина — действие»
и т. п.
Другой доминирующий вид метафоры (диафора)
создается через сопоставление двух совершенно различных
«вещей» («значений»), и поэтому она несводима к буквальным
значениям сопоставляемых «элементов».
Принимая во внимание дистинкции вида «эпифора —
диафора», некоторые авторы утверждают, что более важны
для лингвистического изучения так называемые алогичные
метафоры, которые, хотя и могут быть выражены в
логической форме, представляют собой образец отождествлений,
явно не имеющих логического или фактуального базиса71.
Этот вид метафор вносит, так сказать, дисгармонию в
непрерывность функционирования той или иной установки
(индивидуальной или социально-культурной), прерывает
непрерывное, озадачивает сознание. Лингвист не увидит в
этом ничего из ряда вон выходящего, если будет описывать
и объяснять эти метафоры не в квазилингвистических
(логических) терминах, а в терминах дистинкции
«значение — смысл», где «значение» — это устойчивая зона
«смысла» (Л. С. Выготский) внутри данного (синхронического)
состояния языка. В отличие от лингвиста философ или
психолог вынужден будет решать проблему референции,
сталкиваясь на этом пути со значительными методологическими
трудностями как в случае объяснения качественных
скачков в процессе развития.
Метафоризм естественного языка показывает, что
семантические трансформации сильно влияют на решение ряда
познавательных задач. Не случайно С. Л. Рубинштейн
писал: «Изучение понимания переносного значения вообще и
различных форм его в частности можно было бы превратить
в очень мощное средство изучения мышления»72.
Для философов анализ метафоры — не самоцель. Таким
анализом должны заниматься лингвисты. Метафора — это
своего рода полигон, где на конкретных фактах языка
философы и психологи пытаются выявить закономерности
функционирования, развития мышления и сознания. Как
известно, сознание начинает активно действовать в
проблемных ситуациях. В случае же языкового сознания таковой
проблемной ситуацией является появление нетривиальных
метафор. Следовательно, понятия «проблема» и «метафора»
С разных сторон фиксируют и освещают творческий харак-
§65
тер интеллектуальной человеческой деятельности. Эта
творческая деятельность не рождается сама из себя, а является
ответной реакцией человека на изменения в окружающей
среде, на изменения в системе потребностей и ценностей.
Интуитивно схватывая эту особенность творчества,
некоторые зарубежные авторы предлагают двигаться в сторону
глубинных слоев, где и происходит, по их мнению,
первичное зарождение метафоры. Например, согласно Л. Коэну и
А. Маргалит, существование метафоры—это характерная
черта «языка» (langue), а не «речи» (parole) 73. Менее
категорично, но примерно в том же ключе высказывается
Т. Петере. Он не согласен с тем, что метафора не имеет
отношения к функционированию механизма «речи» (parole).
«Речь» он понимает как определенное «событие»,
детерминируемое творческой комбинацией различных
лингвистических ресурсов внутри «языка» (tangue)74, то есть
метафора зарождается в «языке» и выражается в «речи». Как
видим, эти исследователи пытаются вскрыть глубинные
корни механизма метафорообразований. Это совершенно
разумная и оправданная позиция, но с философской точки
зрения она не достаточна, поскольку нет указания «а
онтологический и семантический аспекты интеллектуального
творчества. Эти пробелы некоторые современные
исследователи попытались заполнить, рассмотрев понятие
«проблема» с онтологической и семантической точек зрения.
Взгляд на проблемность как неотъемлемую черту
активного, творческого мышления сейчас общепризнан.
Положение, что начало познающего мышления коренится в
проблемной ситуации, давно уже приобрело силу неоспоримого
факта. Однако данный факт по-разному интерпретируется
философами, психологами, теоретиками науки. Так,
идеологи бихевиоризма предпочитают отождествлять «проблему»
и «задачу». Создается иллюзия, что устраняется трудный
вопрос о характере процесса возникновения и
формулировки задачи (или задач), вопрос об условиях, породивших
задачу или их комплекс. В первом приближении это
объясняется нежеланием иметь дело с «белыми пятнами», которые
присущи любой проблемной ситуации и которые ставят под
сомнение квазирационалистическую шаблонность
мыслительной деятельности в ходе решения «школьных» задач
посредством выбора из имеющегося арсенала заранее
определенных правил, процедур, алгоритмов и т. п. И все же
следует отдать должное бихевиористам, а также
представителям гештальтистских теорий, которые примерно в одно и то
же время обратились к разработке понятия «проблемная
2GG
ситуация». Эти два направления в науке одними из первых
заострили внимание на значении проблемных ситуаций в
функционировании и развитии мыслительной деятельности.
С проблемной ситуацией связана постановка вопросов и
задач. По этому поводу можно сказать следующее:
формулировка задачи — это результат постановки ряда
предварительных вопросов, помогающих посредством аналогий,
сопоставлений, сравнений как-то упорядочить проблемную
ситуацию. Предварительно структурированная
проблемная ситуация выступает непременным условием постановки
задачи (или задач). Фактически, проблемная ситуация
порождает «пучок» задач, обусловливает их появление
через ряд вопросов.
Анализ проблемной ситуации все более ограничивает
диапазон условий формулировки задач. В свою очередь эти
«опрошенные» условия выступают не явными, но
необходимыми предпосылками для последующей формулировки
задач, обусловливая направленность и характер их решений.
Для данного исследования очень важно отметить, как это
делает С. Л. Рубинштейн, что «задача — это всегда по
самому своему существу словесная, речевая формулировка
проблемы. Она — живое свидетельство единства мышления
речи»75. В связи с этим напрашивается сопоставление
предварительно структурированной проблемы и замысла, с
одной стороны, с задачей и темой, с другой. В таком случае
можно сказать, что одна и та же тема (задача) может быть
по-разному раскрыта (решена) в зависимости от способа
формулировки замысла (от обусловленности задачи
проблемной ситуацией).
Интерес к понятию проблемы проявляют не только
психологи и философы науки, но и логики, хотя, казалось бы,
значительная неопределенность этого понятия должна
была бы отпугивать логиков. Однако успехи логической
семантики внушили некоторым представителям логической
науки надежду на успех такого предприятия. Примером
могут служить разработки чехословацкого ученого П. Ма-
терны.
В качестве своих предшественников Матерна
указывает на авторов, использовавших психологический
эксперимент и работу с компьютерами для целей машинного
воспроизведения решений человеком проблем. Кроме того,
указываются авторы, опирающиеся в анализе «проблемы»
на теорию алгоритмов. Однако они, отмечает Матерна, не
учитывали и не учитывают семантический аспект в
анализе «проблемы», особенно это касается математиков, сводя-
267
щих понятие проблемы к исследованию математических
функций76. Что касается самого Матерны, то в своем
рассмотрении «проблемы» он отталкивается от
семантического учения Фреге.
Матерна выдвинул гипотезу, что экспликация термина
«смысл» (Sinn) осуществима на основе допущения
существования связи между «смыслом» и синтаксической
структурой выражения: два выражения, обладающие одним и
тем же референтом, могут иметь различную
синтаксическую структуру, соответственно чему они будут иметь
различный «смысл»77. Иными словами, предполагается, что
синтаксис тесно связан с семантикой. Поэтому
синтаксическая репрезентация неотделима от семантической
репрезентации. Следовательно, различные синтаксические
репрезентации одного и того референта («значения»)
дают нам различный «смысл» выражений. Монография
Матерны, как заявляет об этом сам автор, — это первый шаг
в направлении создания общей теории проблем 78.
На мой взгляд, в подходе Матерны к «проблеме»
многое если не учтено, то дано имплицитно, что усложняет
разработку по данной теме. По-видимому, причину этого
следует искать в изоляции понятия проблемы от
эпистемологии, зачисляемой автором в разряд «прагматики».
Неявно предполагается, что в контексте современной теории
познания имеется некое общепризнанное, но логически не
эксплицированное понятие проблемы, остается лишь
наметить маршрут его логико-семантического анализа.
Предположение Матерны, что синтаксис связан с
семантикой, не вызывает возражений. Но как быть в том
случае, когда, как это наблюдается наиболее отчетливо в
естественных языках, мы имеем одинаковые синтаксические
конструкции при различной семантической репрезентации
одного и того же «значения» (Bedeutung)?
Действительно, очевиден тот факт, что предложения, в
которых имеют место метафорические выражения, не
обязательно должны отличаться по синтаксической форме.
Впрочем, как отмечает И. Лоэвенберг, это неочевидный
факт для тех, кто разделяет точку зрения Хомского, что
селекционные и субкатегоризационные правила могут быть
включены в синтаксический компонент. Для них
метафорические предложения — это результат синтаксических
отклонений 79.
По мнению Лоэвенберг, метафоры идентифицируемы
(распознаваемы) только в том случае, если мы можем
идентифицировать некоторые выражения именно как мета-
268
форы. Поэтому она настаивает на том, что знание (точнее,
мнение относительно чего-либо) истины или лжи
утверждений и интенций говорящего необходимо учитывать для
идентификации выражений как выражений
метафорических60. Сами же по себе метафорические выражения не
являются ни истинными, ни ложными *1, а скорее, добавлю
я, — проблематичными. Проблематичность метафоры
заключается в том, что метафора делает референцию
неоднозначной. Поэтому, вводя в научный обиход метафоры,
ученый должен в конечном итоге превратить их в термины с
определенным концептуальным значением и определенной
референцией. Успех же деметафоризаиии во многом
зависит от эпистемологических установок, утверждающих или
отрицающих единство семантики и онтологии, языка и
мышления.
Продолжением семантических разработок по теме
«проблема» и «проблемная ситуация» являются исследования
в русле истинностнозначной семантики (truth-value
semantics), представители которой (Г. Лебланш, Р. Гамб
и др.) рассматривают метафору в контексте семантичес*
кой теории моделей. Согласно этому подходу, так
называемая теория метафоры — это промежуточное звено
между истинностнозначной семантикой и теорией моделей82,
Понятия «проблема», «выбор» применительно к
анализу механизма семантических изменений следует
рассматривать в общем контексте марксистской гносеологии,
совмещая их с такими базисными гносеологическими
понятиями, как «причинность», «необходимость»,
«случайность».
Основоположники марксизма первыми высказали
положение о внутренней необходимости случайного. Это не
нарочитое соединение противоречивых понятий, а
радикально новое понятие, в котором отражена более
оригинальная и универсальная трактовка необходимости, а именно:
вместо линейной связи явлений философия марксизма
выдвигает идею связи по совокупности условий. В таком
прочтении случайное является необходимым не в
формально-логическом смысле, а в пределах известных и
допустимых отклонений, поскольку необходимое пробивает себе
дорогу (в качестве закономерного) через хаос случайного,
через необъятное многообразие реально сущего. Другими
словами, мы берем общее поле условий и судим о наиболее
вероятном направлении процесса. В этом смысле
известный момент случайности наличествует во всех явлениях
действительности, включая речевую деятельность. Таким
269
образом, момент случайного формирует индивидуальное
лицо явлений, специфицирует общее, прерывает непрерыв
ное и одновременно утверждает реальность
многообразного. Единство же многообразного доказывается не на
словах, а на практике, когда человек преобразует
окружающий мир согласно его законам и своим человеческим
целям 83.
Если в действительности имеет место случай, то это
сказывается на структуре и перспективах развития
понятий. Случайность в самой действительности делает
границы понятий размытыми, зыбкими, тем самым открывая
возможность неожиданных, нетривиальных и нешаблон*
пых путей развития человеческого познающего сознания.
Напомню банальную истину: новое — это хорошо
забытое старое. Этот афоризм приходит на ум, когда мы
сталкиваемся с понятиями «мутный контекст», «неотчетливое
понятие», «понятие с размытыми краями» и т. п. Еще
романтики отметили подобный феномен концептуального
мышления и языка, более того, они придали ему высокую
позитивную значимость. Например, «Фридрих Шлегель
выражал сожаление, почему у Канта в его таблице
отсутствует категория «почти» — beinahe; приблизительность —
одна из неизбежностей романтического стиля»84.
Романтическая интуиция в своеобразной форме
выразила характер тех трудностей, с которыми столкнулась
логическая семантика, попытавшаяся на ранних этапах
своего развития ограничиться однозначным языком. Как
показала история науки, это была утопия. Полемизируя
со Шредингером, М. Борн писал в одной из своих статей:
«Он борется против обычного словоупотребления при
истолковании квантово-механического формализма и
предлагает простой, пуританский язык, который, по его
мнению, лучше соответствует данной ситуации. Мы отвечаем,
что этот пуританский способ выражения не только
совершенно непригоден к употреблению из-за его грубости, но
также совершенно неоправдан с исторической,
психологической, гносеологической и философской точек зрения»85.
Впервые со всей определенностью в науке XX в. мысль
о «понятиях с размытыми краями» была высказана в
рамках «лингвистической философии». Как писал Э. Геллнер.
в противовес декартовскому требованию ясных и
отчетливых идей «лингвистическая философия» прокламирует
если не принципиально обратное, то нечто иное,
демонстрируя на примерах из истории науки неясность и
неотчетливость многих наший идей. Это не является чем-то абсурд-
270
ным. «Наши понятия, будучи вербальной деятельностью
сложных организмов в сложном социальном и
естественном окружении, неизбежно должны быть неточными.
Объединять и упрощать наши понятия — значит искажать
их. Доктрина полиморфизма является в определенных
отношениях наиболее удивительной и характерной чертой
лингвистической философии» 86.
Разумеется, сказанное не означает, что все наши
понятия (бытовые и научные) являются сплошь и рядом
неточными, «мутными» и т. п. В противном случае мы никогда
бы не достигли не только взаимопонимания, но и не
смогли бы создать ни одного сложного механизма. В данном
случае имеется в виду другое, наши понятия с
определенной степенью огрубления отражают объективную
действительность, но с другой стороны они способны достаточно
адекватно отражать наши технологические потребности,
соответствовать нашим целям и программам. Кроме того,
понятия не являются чем-то застывшим, они развиваются
одновременно с научно-практическим освоением
действительности. Поэтому границы их конвенциональны и несут
в себе элемент самоотрицания. Говоря так о понятии, мы
соотносим его с познающим сознанием, абстрагируясь от
языковой формы функционирования понятия. Но
понятие вне языка — это химера. «Понятие, — отмечает
Е. К. Войшвилло, — не может возникать и существовать
вне слова, поскольку оно и есть специфически словесная
форма отражения предметов, но оно нередко возникает и
существует без того слова, значением которого оно может
стать»87. Этот конфликт между языком и понятийным
мышлением приводит к появлению метафор. Поэтому, с
одной стороны, метафора — продукт собственно
лингвистической, а с другой — она является следствием
изменений в концептуальной системе, в структуре
концептуального поля. Перефразируя слова Поля Валери, метафору
можно охарактеризовать как то, что гибнет, достигнув
чуть большей отчетливости; широта интуитивного охвата
сменяется теоретической систематичностью, которая
отказывается от созерцательности в пользу локализации
внимания ученого на отдельных сторонах, свойствах
изучаемой предметной области, что создает иллюзию
ограниченности видения предметной области в целом. На самом деле
гибель метафоры означает расширение наших знаний о
закономерностях функционирования явлений, которые
вначале были даны нам как некий «намек» на единство, их
организующее.
271
Заключение. Мыслительная деятельность человека в
известном смысле мотивирует различные формы
человеческих действий, в частности вербальные действия. Это
достаточно очевидный факт, но не менее очевидны и
трудности экспликации понятий «мысль», «мышление»,
«сознание» и т. п. с целью получения операционально
приемлемых понятий для последующего их использования
в сфере конкретно-научного знания. Поэтому характерно,
что первые попытки логического решения семантических
вопросов осуществлялись изолированно от понятий,
нагруженных, как это казалось, менталистскими
ассоциациями. Одновременно ключевые вопросы семантики
отрывались от базисных принципов гносеологии, в первую
очередь — от понятия практики.
Марксистское понимание практики имеет как
мировоззренческую, так и методологическую ценность. Указывая
на это, В. И. Ленин в своем рассмотрении понятия
«практика» выделял, с одной стороны, «абсолютную» ценность
критерия практики, нацеленного на беспощадную борьбу
со всеми разновидностями идеализма и агностицизма, а с
другой — подчеркивал известную гибкость и
относительность данного критерия, обусловленного бесконечным
процессом нашего познания88. С последним аспектом
критерия практики связаны постоянно обновляющиеся
проблемы его применимости в разнообразных сферах
научного познания. Подтверждением тому служат
психологические, социологические и философские разработки
ученых-марксистов, в частности разработки советских
авторов. Еще раз напомню, что в 20—30-е годы в советскую
гуманитарную науку вошла новая плеяда ученых, чье
мировоззрение сформировалось под влиянием идей
марксизма-ленинизма. Во главу угла ими ставятся социальные
проблемы, ориентируясь на которые они пытаются
объяснить с философских и психологических позиций феномены
психического, их связь с социально-культурной
реальностью. Изучение социальной обусловленности этих
феноменов выдвигает на первый план понятие «деятельность».
Манифестом подобных исследований могут служить слова
Ф. Энгельса о том, что естествоиспытатели и философы
долгое время несправедливо пренебрегали исследованием
влияния деятельности человека на его мышление89.
Стимулом сознательной деятельности являются
потребности (практические и теоретические). Потребности
удовлетворяются посредством производственной деятельности,
т. е. производство изначально ориентировано на потребление.
272
В языковом творчестве как одном из видов
производственной деятельности вообще происходит объективация,
осуществление человеческой личности. В восприятии,
понимании продуктов языковой деятельности как одного из
видов потребления вообще происходит субъективация
(усвоение) смысла языковых выражений.
Речь, которую не воспринимают, не есть речь. Поэтому
только в потреблении (восприятии, понимании) продукт
речевой деятельности становится действительно значимым
(идеальным) продуктом, то есть живой речью.
Потребляемый продукт (речь, разнообразные тексты) не является
чем-то находящимся вне всякого адресата, а выступает
предметом (замыслом, темой) деятельности субъекта.
Именно так понятое потребление создает потребность в
новом речевом производстве, потребность в коммуникации,
превращаясь в идеальный (внутренний) побуждающий
мотив речевой деятельности. Речевая деятельность одного
из участников коммуникации предоставляет
адресату-потребителю речевую тему в ее внешней форме, которую
(тему) адресат полагает идеально, согласно своим
установкам, а именно — как влечение и как цель для
самовыражения.
Перефразируя К. Маркса, человеческую деятельность,
речевую в частности, можно определить как меново
значимую деятельность. Посредством этого подчеркивается
специфическая особенность собственно человеческой
деятельности; человеческая, разумная, смыслообразующая
деятельность выступает таковой лишь при условии ее
всеобщей значимости, когда устраняется все необмениваемое,
коммуникативно незначимое. В процессе общения
речевая деятельность, которой нельзя обмениваться, не
обладает, так сказать, меновой стоимостью, не есть речевая
деятельность.
Проблема языковой коммуникации, речевой
деятельности, тесно ассоциирована с фундаментальной философской
тематикой — деятельность понимающего сознания,
образование и функционирование понятий. Через эту тематику
понятия «язык», «речь», «языковая и речевая
деятельность» входят в структуру марксистской гносеологии,
базирующейся на понятиях «общественно-историческое
развитие» и «социально-историческая практика». Только в
процессе общения, сотрудничества формируются
обобщенные представления, понятия, формируются обобщающее
мышление и обобщающее словесное значение. Понятия и
значения, мышление и язык непрерывно изменяются. Для
Ю 909
273
изменения в концептуальной и семантической структурах
требуется перестройка в структуре поля сознания, а
последнее, в свою очередь, определяется изменениями в
системе социального общения. Только в радикально новой
культурной ситуации воспринимаемое перестает прямо
отождествляться с очевидным и понятным. Иносказания,
загадки, метафоры становятся обычным явлением для
того типа общества, где структуры сознания подвержены
непрерывным трансформациям вследствие непрерывной
озадачиваемое™ сознания динамично обновляемыми
ситуациями.
Занимая антиисторические позиции по вопросу о
развитии человеческого мышления и языка, философский
идеализм настаивал на неизменности исходного априорного
фонда человеческой интеллектуальности, вследствие чего
постулировалась детерминация сознания мышлением,
языка логикой. Например, еще вплоть до XIX в. философы и
лингвисты предпринимали попытки осуществить
лингвистическую «ревизию», указывая на метафоры как на
«болезнь» языка. Яркими образцами могут служить
конфуцианское учение об «исправлении имен» и аристотелевское
негативное отношение к «дерзким» метафорам.
Современные же авторы, как мы видели, наоборот, склонны
отдавать предпочтение алогичным метафорам, поскольку
привычными метафорами мы пользуемся без активизации
сознания.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в данном
случае преследовалась цель показать в общих чертах деятель-
ностную природу человека на примере анализа семантики
и семантических изменений в языковой деятельности.
ПРИМЕЧАНИЯ
К введению
1 Маркс Л'., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Соч. 2-е изд., т. 3, с. 29.
2 Мегреяидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. —
Тбилиси, 1973, с. 199—200.
3 См. например библиографический справочник:
Shibles W. A. Metaphor: An annotated bibliography and history. —
Whitewater, Wisconsin: The language press, 1971.
4 Berggren D. The use and abuse of metaphor. — Rev. of Metaphys., 1902,
December, p. 237.
5 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.,
1975, с. 3.
6 Urban W. M. Language and reality. — George Allen and Unwin, LTD,
1939, p. 396.
7 Shibles W. A. An analysis of metaphor in the light of W. M. Urban's
theories. — Mouton; The Hague; Paris, 1971, p. 105.
8 Вейман Р. «Новая критика» и развитие буржуазного
литературоведения: История и критика новейших методов интерпретации. — М.,
1965, с. 273.
9 Hawkes Т. Metaphor — Methuen and Co LTD, 1972, p. 2—4.
К части 1, гл. 1
1 Леонтьев А. И. Проблемы развития психики. — М., 1981, с. 298.
2 Там же, с. 306, 314.
3 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М., 1978, с. 23.
4 Там же, с. 205.
5 Чуковский К. И, От двух до пяти. — М., 1956, с. 47, 238, 239.
6 Cassirer E. The philosophy of symbolic forms. — New Haven; London,
1970, vol. 1, p. 124, 126.
7 Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по
истории лингвистики. — М., 1975, с. 38; Платон. Соч.: В 3-х т. М.,
1968, т. 1, с. 594.
8 Anagnostopoulos G. Platos Cratylus: The two theories of the correctness
of names. —Rev. Metaphys., 1972, 25, № 4, p. 691.
9 Соколов А. И. Внутренняя речь и мышление. — М., 1968, с. 30.
10 Платон. Софист, 263е. — Соч.: В 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 392.
11 Платон. Письма, VII 343с—Соч.: В 3-х т. М., 1972^ т. 3, ч. 2, с 544.
12 Slcherbatsky Th. The conception of byddhist nirvana. — Leningrad.
1927, p. 21—22.
13 Тройский (Троцкий) И. М. Проблемы языка в античной науке.—
В кн.: Античные теории языка и стиля. М.; Л.: ОГИЗ, 1936, с. 21.
14 «Символ в классической греческой литературе ни на что не
указывает, а если иной раз, крайне редко, все-таки указывает, то на самое
очевидное, видимое, прямо находящееся перед глазами. Символ в та-
10*
- 275
ком случае ничем не отличается от знака и даже отождествляется
с эмблемой» (Тахо-Годи А. А. Термин «символ» в древнегреческой
литературе.—'Вопросы классической филологии, 1980, вып. 7, с. 28).
15 В XX в. этимологизация как элемент философии была поднята па
щит М. Хайдеггером, который преподносил серьезные философские
аргументы посредством этимологических ассоциаций.
Этимологическая редукция, как показал А. Камю в одной из своих драм, может
быть использована в качестве инструмента политической софистики.
Такого рода примеры, отмечает С. Ульман, показывают, что
этимология не является больше чисто филологическим занятием, а
становится также очень важным инструментом в арсенале современных
писателей (Vllmann S. Language and style. — Oxford: Blackwell, 1964,
p. 47—48).
16 Тройский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 21.
17 Платон. Софист, 262а — d, с. 389—390.
18 Диоген Лаэртский. Кн. 3. Платон, 16. — В кн.: Диоген Лаэртский.
О жизни, учениях и изучениях знаменитых философов. М., 1979,
с. 154.
19 Линдсей /7., Норман Д. Переработка информации у человека. — М.,
1974, с. 414.
20 Попов И. Учение бл. Августина о познании. — Вопр. философии и
психологии, 1915, кн. 129, № 4, с. 393, 443.
21 Там же, 1916, кн. 132/133, № 2/3, с. 236.
22 Burrell D. Analogy and philosophical language. — New Haven; London:
Yale tiniv. press, 1973, p. 47.
23 Дионисий. Галикарнасский. Письмо к Помпею. — В кн.: Античные ри-
торики/Собр. текстов, ст., коммепт. и общ. ред. проф. А. А. Тахо-Годи.
JVL, 1978, с. 225.
24 Дионисий Лонгин. О высоком. — 2-е изд. — Спб., с. 139.
25 Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление
историко-литературного ряда. — В кн.: Повое в современной
классической филологии. М., 1979, с. 47.
26 Thesleff И. Studies in the styles of Plato. — Helsinki, 1967, p. 34.
О связи ораторского искусства с искусством сценическим см.,
например: Виноградов В. В. Опыты риторического анализа. — В кн.:
Избр. тр.: О языке художественной прозы. М., 1980, с. 120—146.
27 Гвоздев А. Л,, Пиотровский А. История европейского театра. — М.; Л.,
1931, с. 67.
28 Там же, с. 69.
29 Там же, с. 69—70.
30 Там же, с. 86.
31 Тройский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 23.
32 Тахо-Годи А. А. Античные истоки традиционного представления о
метафоре. — 1ноземна фь/юлопя, вып. У. Питания класично! фьлоло-
rii, 1966, № 5, с. 136.
33 Klein J. Greek mathematical thought and the origin of algebra. — New
York, 1968, p. 61.
34 Татаркевич В. Античная эстетика. — М., 1977, с. 71.
35 Аристотель. Об истолковании, 16а 25. — Соч.: в 4-х т. М., 1978, т. 2,
с. 536.
36 Аристотель. Поэтика, 576 6. — В кн.: Аристотель и античная
литература. М., 1978, с. 147.
37 Аристотель. Метафизика, 101G6 15—20. Соч.: В 4-х т. М., 1976, т. 1,
с. 154—155.
38 Там же, 10166 30—36. с. 155. В древнегреческом языке в
зависимости от контекста употребления слово «аналогия» означало сравни-
276
тельное отношение», «подобие», «пропорция», (Sloatie Ё. И. Words and
their ways: An introduction to the Great Words of western thought. —
Annapolis, 1961, p. 53—54). В греческой математике существительное
«analogic» и прилагательное mnalogon» имеют терминологическое
значение «пропорции и «пропорциональности». (Каракулаков В. В.
Возникновение в науке понятия аналогии и его проникновение в
область грамматики. — В кн.: Вопросы теории языкознания. Калинин,
1975 с 5).
89 Аристотель. Категории, lb 15. —Соч.: В 4-х т., т. 2, с. 69.
40 Там же, lb 20—25, с. 69.
41 Там же, 7а 15—20, с. 68.
42 Аристотель. Риторика 1407с 4. —В ки.: Аристотель и античная
литература, с. 180.
43 McCall M. И. Ancient rhetorical theories of simile and comparisons.—
Harvard Univ. press, 1969, p. 24.
44 Jordan W. J. Aristotle's concept of metaphor in rhetoric. — In: Aristotle:
The classical heritage of rhetoric. Metuchen, 1974, p. 235.
45 McCall M. H. Ancient rhetorical theories of simile and comparisons,
p. 257.
46 Ibid., p. 85.
47 Larkin M. T. Language in the philosophy of Aristotle. — Mouton, 1971,
p. 98, 102.
48 Lloyd G. E. R. Polarity and analogy. — Cambridge, 1966, p. 382.
49 Зубов В. П. Аристотель. — М., 1963, с. 75—76.
50 Burrell D. Op. cit, p. 74.
51 Cassirer E. Op. cit., vol. 1, p. 126.
52 Бенвенист Э. Общая лингвистика. — M., 1974, с. 111.
53 Gaver N. Notes for a linguistic reading of the categories. — In:. Ancient
logic and its modern interpretations/Ed. by J. Corcoran. D. Reidel
Publishing Company, 1974, vol. 9, p. 27.
54 Томсен В. История языковедения до конца XIX в. — М., 1938,
с. 16—17.
55 Mclnerny R. M. The logic of analogy. — The Hague, 1961, p. 68.
56 См., напр. Барроу Т. Санскрит. — М., 1976, с. 5.
57 Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему
языкознанию.—М., 1963, т. 2, с. 109.
58 Рубен В. Индия и история человечества. — Вести, истории мировой
культуры, 1958, № 4, с. 18.
89 Bijalwan С. D. Indian theory of knowledge based upon Jayanta's Nya-
yamanjari. — New Delhi, 1977, p. 227.
60 Ibid., p. 228.
61 Щербатской Ф. И. Теория поэзии в Индии. — В кн.: Избр. тр. русских
индологов-филологов. М, 1962, с. 279.
62 Там же, с. 273.
63 Girl /(. Concept of poetry in Indian approach: Studies in Sanskrit poetry
T4,y^miianjw4 and poetics. — Calcutta, 1975, p. 30.
64 Тройский И. М. К семантике множественного числа в греческом и
латинском языках. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1946, Сер. филол. наук,
вып. 10, с. 54—72.
65 Анандавардхана. Дхваньялока. — М., 1974, с. 138.
*6 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979, с. 244.
67 Анандавардхана. Дхваньялока, с. 159.
66 Там же, с. 77
69 Dummett M. Frege: Philosophy of language. — Duckworth, 1973, p. 2;
Фреге Г. Понятие и вещь. — Семиотика и информатика, 1978, вып.
10, с. 194.
277
70 Mates В. Stoic logic. — Berkeley; Los Angeles: Univ. of California
Press 1961, p. 11—26.
71 Анандавардхана. Дхваньялока, с. 165.
72 Карнап Р. Значение и необходимость: Исслед. по семантике и мо-
дал. логике. — М. 1959, с. 194.
73 «В рамках науки можно понимать смысл имени, не зная в точности,
что это имя обозначает, более того, даже не зная, существует ли вещь,
именем которой оперируют. С этим обстоятельством связаны
трудности интерпретации научных теорий». (Грязное Б. С, Стахов И. П.
К логическому анализу некоторых терминов науки. — В кн.: Очерки
истории и теории развития науки. М, 1969, с. 381.).
74 Cunningham S. Language and the phenomenological reductions of
E. Husserl. — Hague, 1976, p. 23.
75 Анандавардхана, Дхваньялока, с. 167.
76 Алиханооа Ю. М. Дхваньялока Анандавардханы и его учение о
поэзии. — В кн.: Анандавардхана. Дхваньялока, с. 52.
77 Амирова Т. А., Ольховиков Б. Л., Рождественский Ю. В. Очерки
истории лингвистики, с. 22.
78 Дьяконов И. М. Предисловие.—В кн.: Фридрих И. История письма.
М., 1979, с. 29.
79 Выготский JI. С. Избранные психологические исследования. — М.,
1956, с. 263, 264, 267.
80 Амирова Т. А. К истории и теории графемики. — М., 1977, с. 9—10.
8i А. Р. Лурия указывал, «что сохранение задуманной схемы той фразы
или того слова, которое должно быть записано, обязательно должно
тормозить все посторонние тенденции — как забегание вперед и
преждевременное написание того или другого слова или звука, так и
повторение уже написанного слова или звука». (Лурия А. Р. Очерки
психофизиологии письма. — М., 1950, с. 13—14).
82 Дьяконов И. М. Предисловие. — В кн.: Фридрих И. История письма,
с. 9—10.
83 Фридрих И. История письма, — М., 1979, с. 172.
84 Ван Би. Основные принципы Книги Перемен. — В ки.: Петров А. А.
Ваи Би: Из истории китайской философии. М., 1936, с. 113. (Тр. Ип-
та востоковедения АН СССР; Т. 13).
85 «Теоретически китайские иероглифы могут быть использованы для
любого языка, поэтому в истории науки неоднократно встречались
предложения использовать китайскую письменность в качестве мировой
письменности» (Софронов М. В. Китайский язык и китайское
общество.—М.: 1979, с. 157).
86 Крюков М. В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык. — М., 1978, с. 5.
87 Нидам Дж. Общество и наука на Востоке и на Западе. — В кн.:
Наука о науке. М., 1966, с. 158.
88 Там же.
89 Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 1970, с. 191.
90 Петров А. А. Ван Би, с. 34, 36—37.
91 Буров В. Г., Титаренко М. Л. Философия древнего Китая. — В кн.:
Дневиекитайская философия: Сб. текстов. В 2-х т. М., 1972, т. 1, с. 68.
92 Ни Shih. The development of the logical method in ancient China.—
New York, 1963, p. 22, 24.
93 Петров А. Л. Ван Би, с. 52.
94 Ни СЫН. The development of the logical method in ancient China, p. 35.
95 Ibid., p. 42.
96 Ibid, p. 64.
97 Сюнь-цзы. Избранные трактаты. — В кн.: Феоктистов В. Ф.
Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. М, 1976, с. 245.
278
98 Петров Л. А. Ван би, с. 86.
99 Вандриес Ж. Язык: Лингв, введение в историю. — М., 1937, с. 310—
311.
100 Там же, с. 299.
К части 1, гл. 2
1 Ong W. /. Rhetoric, romance and technology. — Ithaca; London:
Cornell Univ. Press 1971, p. VII, 1.
2 Perelman Ch. The new rhetoric and the humanities: Essays on rhetoric
and its application. Dordrecht: Reidel, Publishing Co., 1979. —XXIII,
174 p.__ (Synthese library; Vol. 140).
3 Ricoeur P. The rule of metaphor. — London: Henley, 1978, p. 44, 102,
134.
4 Радциг С. И. История древнегреческой литературы. — М., 1977, с. 169.
5 Тройский И. М. История античной литературы. — Л., 1946, с. 178.
6 Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература эпохи независимости.—
Пг., 1919, ч. 1, с. 143, 171.
7 Тройский И. М. История античной литературы, с. 180.
8 Crem Т. М. The definition of rhetoric according to Aristotle. — In:
Aristotle: The classical heritage of rhetoric, p. 9.
9 Ricoeur P. The rule of metaphor, p. 9.
10 Аристотель. Риторика 1355а. 5.—В кн.: Античные риторики, с. 17.
11 Solmsen F. The aristotelian tradition in ancient rhetoric. — In:
Aristotle: The classical heritage of rhetoric, p. 280.
12 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Риторика. — В кн.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики: Ранний эллинизм. М., 1979, с. 470.
13 Радциг С. Я. История древнегреческой литературы, с. 470.
14 Гипертрофированный психологизм в поиимании стиля наиболее ярко
выражен словами Бюффона: «Стиль — это сам человек». Психологизм
точнее, квазипсихологизм вреден тогда, когда он подменяет
собственно лингвистические объяснения. Что же касается психологии
характера в современном понимании, то с риторикой характерология имеет
только то общее, что ее исторические корни питаются деятельностью
античных риторов. Пережитки этого едииеиия психологии характера
с филологией в сфере риторики имели отрицательные последствия не
только для лингвостилистики XIX—XX в., но и для характерологии,
когда некоторые психологи пытались свести изучение характера к
рафинированной «модели» характера литературных персонажей. По
этому поводу советский литературовед А. П. Чудаков пишет: «Во всех
многочисленных способах использования вещи при изображении
человека в дочеховской литературе есть общая черта. Предметный мир,
которым окружен персонаж, — его жилье, мебель, одежда, еда,
способы обращения персонажа с этими вещами, его поведение внутри
этого мира, его внешний облик, жесты и движения, — все это служит
безотказным и целенаправленным средством характеристики
человека. Все без исключения подробности имеют характерологическую и
социальную значимость». (Чудаков А. П. Поэтика Чехова. — М., 1971,
с. 145). В данном случае мы имеем пример «вещного» (в известном
смысле бихевиористского) описания характера, где внутренний мир
литературного персонажа полностью репрезентируем, в результате
чего персонаж превращается в механическую марионетку с полностью
предсказуемым поведением.
15 Leeman A. D. Orationis ratio: The stylistic theories and practice of the
rornan orators, historians and philosophers. — Amsterdam, 1963, vol. 1,
p. 129—131.
279
16 Цветаев И. Из жизии высших школ Римской империи. — Вопр.
философии и психологии. М., 1902, кн. 2(62), с. 954.
17 Leeman A. D. Orationis ratio, Vol. 1, p. 116—117.
18 Квинтилиан М. Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. —
Спб. 1834, ч. 2, с. 102—103.
19 Там же, с. 104.
20 Там же, с. 107.
21 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Риторика, с. 496.
22 Caplan И. Of eloquence: Studies in ancient and medieval rhetoric.
Cornell Univ. Press 1970, p. 197.
23 Ibid., p. 210—212.
24 Голенищев-Кутузов И. Я. Средневековая латинская литература
Италии.—М., 1972, с. 9.
25 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — М., 1912, с. 156.
26 Гомперц Т. Греческие мыслители. Спб., 1911, т. 1, с. 328.
27 Гальперин И Р. Проблемы лингвостилистики. — Новое в зарубежной
лингвистике, 1980, вып. 9, с. 6.
28 Cuthrie W. К С. A History of greek philosophy. — Cambridge, 1969,
— vol. 3, p. 44.
29 Способность речи активно воздействовать иа психику человека
становится понятной в том случае, если речь рассматривать не как
нечто безвозвратно застывшее в знаках и символах, а как особую
форму деятельности, которая формирует в коммуникативных актах
установку иа взаимопонимание, одновременно воздействуя на
говорящего и слушающего в эмоциональном плане.
30 Выготский JI. С. Избранные психологические исследования. — М.,
1956, с. 54.
31 Меликова-Толстая С. Античные теории художественной речи. — В кн.:
Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936, с. 148.
32 Там же, с. 149.
33 Фолькман Р. Риторика греков и римлян. — Ревель, 1891, с. 5.
34 Тахо-Годи А. А. Термин «символ» в древнегреческой литературе,
с. 56.
35 Leeman A. D. Orationis ratio, vol. 1, p. 33—34.
36 Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика. — В кн.: Цицерон М. Т.
Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 23.
37 Fletcher A. Allegory: The theory of symbolic mode. — Ithaca; New
York: Cornell Univ. Press 1964, p. 84.
38 Ricoeur P. The rule of metaphor, p. 44.
39 Caplan H. Of eloquence, p. 80.
40 Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература
Италии, с. 55.
41 Caplan H. Of eloquence, p. 50.
42 Ibid., p. 10.
43 Ibid., p. 42, 109.
44 Ibid., p. 130—131. Еще одной характерной особенностью средневековой
риторики явилось усиление ее герменевтических аспектов, поскольку
герменевтический метод играл большую роль в подготовке,
разработке и изложении проповеди (Ibid. p. 95—96).
45 Покровский М. М. История римской литературы. — М.; Л., 1942,
с. 81—82.
46 Варнеке Б. В. Комедия и риторика. — Журн. м-ва нар. просвещения,
1914, июнь, с. 251.
47 Дживелегов А.л Бояджиев Г, История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 г. — М.; Л., 1941, с. И, 18.
48 Там же, с. 29.
280
49 Там же, с. 32.
s0 Гвоздев А. А., Пиотровский А. История европейского театра, с. 56.3.
61 Фрейберг Л. А. Античное литературное наследие в византийскую
эпоху.— В кн.: Античность и Византия. М„ 1975, с. 16.
52 Любарский Я. Я. Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории
византийского предгуманизма. — М., 1978, с. 130.
53 Там же, с. 133.
54 Татаркевич В. Античная эстетика, с. 254.
55 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1971, с. 179.
56 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латин.
патристика. — М., 1979, с. 10.
57 Некоторые богословы отождествляли герменевтику и экзегетику иа
том основании, что слово «герменевтика» (греч. Ea^vEOeiO) и слово
«экзегетика» (греч. el^vexaOai) употребляются в священном
Писании в одинаковом значении (Савваитов П. Библейская
герменевтика— Спб., 1859, с. 3). Однако время внесло свои коррективы в эту
«синонимию». Экзегетический анализ стал рассматриваться как
толкование священного текста, а герменевтика — как своеобразный
метод экзегетического толкования. (Конрад Я. И. Запад и Восток. —
М., 1972, с. 7).
58 Попов К. Тертулиан, его теория христианского знания и основные
начала его богословия. — Киев, 1880, с. 70.
59 Там же, с. 67
60 Голенищев'Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература
Италии, с. 74.
61 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в
западноевропейской литературе. — М., 1976, с. 89.
62 Томашевский Б. В. Стих и язык. —М.; Л., 1959, с. 339—341.
63 Там же, с. 343. На тесную связь темы со средствами языкового
выражения одним из первых указал в свое время В. М. Жирмунский в
статье «Задачи поэтики» (1919—1923). (Жирмунский В. М. Теория
литературы. Поэтика. Стилистика.—Л., 1977, с. 27). Жирмунский
стремился обогатить семантическую трактовку слова, говоря о слове
художественного текста как о «поэтической теме», «семантической
группе», тем самым предвосхищая неогумбольдтианское понятие
«семантическое поле».
64 Тертуллиан — это пример нереализованных в широком масштабе
возможностей, которые начали заявлять о себе лишь в период
Возрождения и Реформации. Но тем не менее эти возможности реально
присутствовали в мировоззренческой парадигме христианства иа ранних
этапах его становления.
66 Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. — М., 1971, с. 9,
66 Там же, с. 9, 11.
67 Аверинцев. С. С. Поэтика ранневизаитийской литературы. — М., 1977,
68 Шеллинг Ф. В. Философия искусства. — М., 1966, с. 254.
69 Кенгэс-Маранда Э. Логика загадок. — В кн.: Паремиологический
сборник. М., 1978, с. 255.
70 Количество информации, которое иссет сообщение, возрастает при
увеличении количества неопределенности относительно того, какое
сообщение из всех возможных будет выбрано. Чем более предсказуема
единица, тем меньше значения она несет. Этот принцип хорошо
согласуется с мнением стилистов о том, что клише (или «избитые
выражения» и «мертвые метафоры») меньше действенны, чем более
«оригинальные» обороты речи (Лайонз Дж. Введение в теоретическую
лингвистику. — М., 1978, с. 105).
281
71 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности, с. 277.
72 Беляев В. А История логики Аристотеля от ее начала до наших дней:
'Автореф. дис. ...канд. филос. наук. — Киев, 1950.
73 Leff G. William of Ockham: The metamorphosis of scholastic
discourse.— Manchester Univ. Press, 1975, p. XX.
74 Ibid., p. 2.
75 Курантов А П., Стяжкин И. И. Уильям Оккам. — М., 1978, с. 110.
76 Джохадзе Д. В., Стяжкин И. И. Введение в историю
западноевропейской средневековой философии. — Тбилиси, 1981, с. 273.
77 Leff G. William of Ockham, p. 135.
78 Ibid., p. 137.
79 Mclnerny R. M. The logic of analogy, p. 64.
80 Ibid., p. 51, 61-62.
81 Boler J. F. Ch. Peirce and scholastic realism. — Scatle: Univ. of Wash,
press, 1963. —XII, 178 p.
82 Ogden С. К, Richards I. A. The meaning of meaning: A study of
influence of language upon thought and of the science of symbolism. New
York; London, 1956, p. 11.
83 Ibid., p. 48.
84 Ibid., p. 108.
85 Ibid., p. 92.
86 Ibid.
87 Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. —
М., 1974, с. 34.
88 Sonnino L. A. A handbook to sixteenth century rhetoric. — London,
1968, p. 8.
89 Голенищев-Кутузов Я. И. Романские литературы. — М., 1975, с. 80.
90 Маковельский А. О. История логики. — М., 1967, с. 307.
91 Hawkes Т. Metaphor. — Methuen and Co LTD, 1972, p. 22.
92 Маковельский А. О. История логики, с. 301.
93 Потебня А. А. Мысль и язык. — Харьков, 1926, с. 36, 38.
94 Hawkes Т. Metaphor, p. 24.
95 Cassirer E. The philosophy of symbolic forms, vol. 1, p. 127.
96 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — M., 1978, с. 56.
97 Деметрий. О стиле. — В кн.: Античные риторики, с. 253.
98 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с
современными духовными и интеллектуальными движениями. — М., 1973,
с. 139.
99 Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы, с. 347.
100 Там же, с. 346
101 Ruthven К К The conceit. — Methuen and Co LTD, 1969, p. 7.
102 Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы, с. 346.
103 Berlin I. Vico and Herder: Two studies in the history of ideas. —
London, 1976, p. 3—4.
104 Ibid., p. 42,45, 51.
105 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — M., 1976, с. 13.
106 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций.— Л.,
1940, с. 146.
107 Cassirer E. The philosophy of symbolic forms, vol. 1, p. 147—148.
108 Мюллер М. Наука о языке. — Воронеж, 1868, с. 333, 339.
109 Turbayne С. М. The myth of metaphor. — New Haven, 1962, p. 3—6.
Рассуждения Тарбейна касаются метафоры в языке научного
познания, а не в художественном или обыденном языках. Но это не
предохраняет его от повторения ошибок рационалистов и эмпиристов
прошлого, а также не предохраняет от ошибок неопозитивистов, стре-
282
мившихся избавиться от «призрака метафизики» в науке и
философии посредством логико-лингвистического анализа соответствующих
языков.
110 Белый А. Мысль и язык: (Философия языка А. А. Потебни). — Логос.
1910, кн. 2, с. 245.
111 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976, с. 444.
1,2 Аристотель. Риторика, 1404а 15. —В кн.: Античные риторики, с. 128.
113 Кеинтилиан М. Ф. Правила ораторского искусства.— Спб., 1896, с. 1.
114 По истории риторики XVIII—XX в. см.: Виноградов В. В. Из истории
и теории риторики. — Избр. тр.: О языке художественной прозы. М.,
1980, с. 98—120.
115 Луньяк И. Риторические этюды. — Жури, м-ва нар. просвещения,
1881, ч. 217, октябрь, с. 289.
110 Фолькман Р: Риторика греков и римлян. — Ревель, 1891, с. 29.
117 Зеленецкий К. Исследование о риторике в ее наукообразном
содержании и в отношении, какие имеет она к общей теории слова и к
логике. — Одесса, 1846, с. 37.
118 Там же, с. 38.
119 Там же, с. 53—54.
120 Там же, с. 78.
121 Kt/рциус Г. Начала и главные вопросы греческой этимологии. — Спб.,
1882, с. 232.
122 Ullmann S. Language and style, p. 29—30.
123 Ibid., p. 5—6.
124 Lyons J. Semantics. — Cambridge: Cambridge Univ. Pres, 1977, vol. 1,
p. 33.
125 Балли Ш. Французская стилистика. — M., 1961, с. 30.
126 Там же, с. 295.
127 Там же, с. 299.
128 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования, с. 265.
129 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л.,
1977, с. 25.
130 Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы,
с. 6—7.
131 Винокур Г, Культура языка.— М., 1929, с. 33; Lyons /. Semantics,
vol. 1, p. 244; Stylistic, dialectal and diachronic variation.— In:
Lyons J. Semantics. — Cambridge; Cambridge Uriiv, Press, 1977, vol. 2.
132 Винокур Г. Культура языка, с. 38.
133 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика, с. 17.
134 Там же, с. 24.
135 Винер //. Паука и общество.— Вопр. философии, 1961, № 7, с. 121.
136 Shibles W. A. An analysis ol metaphor, p. 63.
137 Ibid., p. 65.
138 Hawkes T. Metaphor, p. 57.
139 Richards I. A. The philosophy of rhetoric. — Oxford, Univ. Press, 1965,
p. 11-12.
140 Ibid., p. 40.
1.1 Ibid., p. 71.
1.2 ibid., p. 04.
ш Ibid., p. 125.
144 Якобсон P. Лингвистика и теория сяязн.— В кн.: Звесинцев В А.
История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях. М.,
1965, ч. 2, с. 443.
i« MacCormac E. R. Meaning variance and metaphor. — Brit. J. for the
Philos. of Sci., 1971, 22, № 2, p. 151, 154.
283
146 Berggren D. The use and abuse of metaphor. — Rev. of Metaphys.,
1962, Dec, p. 237.
147 Lakoff G., Johnson M. Conceptual metaphor in everyday language.—
J. of Philos., 1980, 77, № 8, p. 453—454.
148 Cohen L. J. The diversity of meaning. — London; Methuen and Co
LTD, 1962, p. 5—8.
149 Ibid., p. 9.
150 Stern G. Meaning and change of meaning — Bloomington: Indiana
Univ. Press, 1965, p. 1.
151 Ibid., p. 9.
152 Ibid., p. 25.
153 Ibid., p. 43—44.
154 Ibid., p. 193—194.
155 Ricoeur P. Creativity in language: Word, polysemy, metaphor. — In:
Language and language disturbances/Ed. by E. W. Straus. New York,
1974, p. 62.
156 Jacobson R. Aphasia: The metaphoric and mctonymic Poles. — In: The
problem of style/Ed. by J. V. Counnigham: A fawcett premier book,
1966, p. 200.
157 Ф. де Соссюр выделял не две, а три (!) основных лингвистических
категории: (1) «язык», (2) «речь» и (3) «речевая деятельность».
158 Hawkes Г. Structuralism and semiotics. — Berkeley; Los Angeles: Univ.
of California Press, 1977, p. 87—122.
159 О сближении лингвистики и философии свидетельствует
умонастроение некоторых современных ученых, ощутивших недостаточность н
излишнюю претенциозность формалистических направлений в
теоретической лингвистике структуралистского толка, а также
неудовлетворительность той разновидности философии, которую предлагали
неопозитивисты. Так, например, М. Б. Хестср заявляет о своем
несогласии с неопозитивистами, в частности с ранним Витгенштейном,
в том, что семантические теории не имеют никакого отношения к
традиционным проблемам эпистемологии. (Hester M. В. The meaning of
poetic metaphor: An analysis in the light of Wittgenstein's claim that
meaning is use. — Mouton etc., 1967, p. 13). Другой исследователь,
M. Платте, подчеркивает, что современная философия языка не
может рассматриваться изолированно от философии разума (mind).
Любая философия языка должна экспонировать центральную роль
категории значения для философского и лингвистического познании.
В свою очередь, поскольку понятие «значение» (meaning) тесно
связано с концепцией понимания (understanding), постольку значение
языкового выражения нельзя превращать в имманентную
лингвистике категорию. Любая теория значения должна оцениваться но
степени вероятности объяснения того, как она используется в процессе
коммуникативного понимания (взаимопонимания). (Platts M. Ways
of meaning: An introduction to a philosophy of language.— London
etc.: Routledge and Kegan Paul, 1979, p. 43).
К части 1г гл. 3
1 Ленин В. И.— Поли. собр. соч., т. 29, с. 322.
2 Фишер К. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение.—Спб., 190-5,
с. 15, 39.
3 Бирюков Б. £., Туровцева А. Ю. Логико-гносеологические взгляды
Эрнста Шредера.—В кн.: Кибернетика и логика, М., 1978, с. 214.
4 Лейбниц Г. В. Размышления о познании, истине и идеях. — В кн.:
284
Лейбниц Г. В. Избр. филос. соч. М., 1890, с. 41. (Тр. Моск. психол.
о-ва; Вып. 4).
5 Лейбниц Г, В. Новые опыты о человеческом разуме. — М.; Л., 1936,
с. 69.
eCassirer E. The philosophy of symbolic forms, vol. 1, p. 130.
7 Габрилович Л. Так называемый «формализм» в математике и его
отношение к теории знания. — Вопр. философии и психологии, 1913,
кн. 119, с. 496.
8 Попа А*. Теория определения — М.: Прогресс, 1976. — 248 с.
9 Грязное Б. С. О лейбницевском понимании равенства и синонимии. —
Вопр. философии, 1965, № 6, с. 126.
10 Лейбниц Г. В. Полемика Г. Лейбница и С. Кларка по вопросам
философии и естествознания (1715—1716). — Л., 1960, с. 54.
11 Appendix 1. Meinong's ontology. — In: Grossmann R. Meinong.
London; Boston; Routledge and Kegan Paul, 1974, p. 224.
12 Как пишет Мсйпонг, для того чтобы знать, что в реальности не
существует круглого квадрата, я должен сформулировать суждение о
круглом квадрате. Тем, кто любит парадоксальные способы
выражения, можно сказать: «Имеются объекты, относительно которых
истинно, что не имеется таких объектов». (Micnong A. The theory of
objects.— In: Realism and the baskground" of phenomenology/Ed. by
R. M. Chisholm. Illinois, 1960, p. 83). Таким образом, наука о
знании не может и не должна ограничиваться реально существующим.
Поэтому в состав науки о знании входят все объекты, которые
являются объектами нашего познания только в возможности. Короче,
все объекты без исключения (даже псевдообъекты! яеляются
объектами нашего научного no3iiaiiHH.')x(Ibid. p. 91—92)У ■
13 Appendix 1. Meinong's ontology, p. 224.
14 Ibid., p. 225
15 Grossmann R. Meinong. — London; Boston, 1974, p. 143.
16 Ibid., p. 165—166.
17 Мегрелидзе /G Р. Основные проблемы социологии мышления. —
Тбилиси, 1973, с. 222.
18 Яновская С. А. Методологические проблемы науки. — М., 1972,
с. 241—242.
19 Смирнова Е. Д. К проблеме аналитического и синтетического. — В кн.:
Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962,
с. 325.
20 Майоров Г. Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. — М.,
1973, с. 88.
21 Смирнова Е. Д. К проблеме аналитического и синтетического, с. 362.
22 Майоров Г. Т. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница,
с. 212.
23 Козлова М. С. Лейбниц и неопозитивизм. — Вести. Лешшгр. ун-та,
1962, № 17. Сер. экономики, философии и права, вып. 3, с. 88.
24 Quine W. van О. Word and object.— The Massachusetts Institute of
Technology, 1960, p. 116—117. Более полно куайповская точка зрения
по данному вопросу выражена в его известной работе «Две догмы
эмпиризма».
25 Kutschera F. von. Philosophy of Language. — D. Reidol Publishing
Co., 1975, p. 88—90.
26 Смирнова Е. Д, К проблеме аналитического и синтетического, с. 345.
27 «... В развитой науке, полно и виртуозно овладевшей явлениями,
специальные гипотезы конкурируют уже не как истина и ложь, а как
разные степени приближения к безусловной истине». (Орлов И. Е.
Логика естествознания. — М.; Л., 1925, с. 26). Эти мысли относятся
285
к началу (!) XX в., но их злободневность ничуть не убавилась, что
явствует из современных дискуссий по вопросу об альтернативных
теориях» выбора критериев для их оценки и т. п.
28 Кант //. Логика:. Пособие к лекциям 1800 г. — В кн.: Кант И.
Трактаты и письма. М., 1980, с. 340.
29 Там же, с. 371.
30 Там же, с. 375.
31 Попов И. Учение бл. Августина о познании. — Вопр. философии и
психологии, кн. 130, с. 522.
82 Соколов В. В. Средневековая философия. — М., 1979, с. 179.
33 Шевкина Г, В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в.—
М., 1972, с. 229.
34 Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. — М., 1966, с. 135.
35 Там же, с. 150.
36 Гуссерль. Э. Логические исследования. — Спб., 1909, ч. 1, с. 186.
37 Там же, с. 185.
38 Cunningham S. Language and the phcnomenological reductions of
E. Husserl —Martinus Nijhoff. The Hague, 1976, p. 77.
39 Jacobson R. Main trends in the science of language. — New York, 1974,
p. 16.
40 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука. — Соч.: В 6-ти т. М., 1965, т. 4, ч. 1, с. 181.
41 Кант И. Критика способности суждения.1—Там же, т. 5, с. 374.
42 Там же, с. 374.
43 Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. —
ПП, 1922, с. 190.
44 Schcffler I. The anatomy of inquiry. —New York, 1963, p. 186, 193—
194, 203—204.
45 Бакрадзе К. С. Избранные философские труды. — Тбилиси, 1973, т. 3,
с. 138.
46 Valhinger H. Die Philosophic des AIs Ob. — Leipzig, 1927, S. 57.
47 Ibid., S. 78.
48 Ibid., S. 147.
49 Ibid., S. 148.
50 Ibid., S. 150.
51 Ibid., S. 152.
52 Бирюков Б. В. О логическом моделировании ложностиых структур
мышления. — Филос. науки, 1972, № 4, с. 69.
53 Cassirer E. The philosophy of symbolic forms. New Haven; London:
Lale Univ. Press 1965, vol. 3, p. 338.
54 Woods /. The logic of Fiction: Л philosophical sounding of deviant
logic.— Mouton etc., 1974, p. 13—14, 68. Выражением «логика в узком
смысле слова» Вудс намерен обозначать некоторую квантификациои-
ную систему, чья область интерпретации будет пустой, чьи термины
(свободные переменные или индивидные константы) не нуждаются в
депотации (однако, если они выполняют функции денотационного
обозначения, то предполагается, что они обозначают некоторого
актуально существующего индивида), чьи предикаты обозначают
свойства и отношения, определяемые через существующих индивидов, к,
наконец, чьи кванторы упорядочивают существующие индивиды, ко-
торые появляются в области интерпретационных теорий.
55 Keehley J. T. Metaphor theories and theoretical metaphor. — Philos. and
Phenomenol. Res., 1979, 39, № 4, p. 582.
и Вопр. философии, 1967, № 2, с. 68. Такого рода оценки — образец
наиболее распространенного среди логиков взгляда иа природу и
логический смысл познания по аналогии, взгляда, особенно популярного
286
в Первой половине XX в. Характерно высказывание с). Маха:
«Умозаключения по сходству и аналогии представляют, строго говоря, не
предмет логики, по крайней мере не формальной логики, а только
психологии». (Мах Э. Познание и заблуждение. — М., 1909, с. 231).
Более осторожно высказывался по поводу аналогии известный
теоретик и историк физики П. Дюгем: «... кто хочет правильно оценить
плодотворность применения моделей, тот ие должен смешивать этого
употребления с применением аналогии». (Дюгем Я. Физическая
теория, ее цель и строение. — Спб., 1910, с. ИЗ). Дюгем отнюдь не
собирается принижать познавательную ценность аналогии, отводя ей
научно незначительную роль. Напротив, он подчеркивает следующее:
«История физики учит нас, что отыскивание аналогии между двумя
различными категориями явлений было, может быть, самым
надежным и плодотворным методом при построении физических теорий».
(Там же, с. 113). Дюгем одним из первых попытался преодолеть
квазипсихологизм в трактовке аналогии и ее роли на теоретическом
уровне познания. Он выдвинул идею, которая позднее получила название
«метода математической гипотезы», или «математической
экстраполяции». (Вавилов С. #. Ленин и современная физика. — В кн.:
Вавилов С. И. Собр. соч. М, 1956, т. 3, с. 79). Дюгем обратил внимание
на тот факт, что различные и весьма несходные между собой явления,
будучи сведены к абстрактным теориям, обнаруживают структурное
сходство. Применительно к физическим теориям это выражается в
том, что уравнения, в которых сформулирована одна из теорий,
оказываются алгебраически тождественны уравнениям другой теории.
В связи с этим он сделал важный методологический вывод о
возможности интерпретации одной теории в терминах другой, решении
одних теоретических проблем способами, достигнутыми в других
областях. Благодаря этому мы, согласно Дюгему, получаем метод,
ведущий к новым открытиям. (Дюгем П. Физическая теория..., с. 114—115).
Почти одновременно с Дюгемом родственные идеи были
выражены представителями социальных наук, в частности известным
буржуазным историком и социологом М Вебером в его учении об
«идеальных типах». «Идеальный тип» — это своеобразная модель. С ее
помощью должны выявляться структурные характеристики
сравниваемых социально-исторических процессов. Построение подобных
моделей для историка или социолога — ие самоцель, ио в некоторых
случаях необходимое теоретико-методологическое средство для
понимания смысла исторических событий, процессов, для построения
социально-исторических теорий. В отечественной
философско-методологической литературе исследования аналогии в указанном ключе
ведутся А. И. Уемовым.
57 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука, с. 181.
58 Hesse M. The explanatory function of metaphor. — In: Logic,
methodology and philosophy of science: Proc. 1964 Intern. Congr. Amsterdam,
1965, p. 257—258.
59 Hesse M. The structure of scientific inference. — London, 1974, p. 5.
60 Ibid., p. 32.
61 Гейзенберг В. Развитие понятий в физике XX столетия. — Вопр.
философии, 1975, № 1, с. 79.
62 Гейзенберг В, Физика и философия. — М., 1963, с. 151.
63 Тевзадзе Г. Иммануил Кант: Пробл. теорет. философии. — Тбилиси,
1979, с. 35—36.
64 Кант И. Критика чистого разума. — Соч.: В 6-ти т. М„ 1964, т. 3,
с. 222.
287
65 Там же, с. 223.
66 Фишер /С. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение, с. 472.
67 Там же, с. 474.
68 Лейбниц Г. В, Новые опыты о человеческом разуме. — М; Л., 1936
с. 51.
бв Бассин Ф. В., Прангишвили А. С, Шерозия А. Е. О проявлении
активности бессознательного в художественном творчестве. — Вопр.
философии, 1978, № 2, с. 62.
70 Шеллинг Ф. В. Философия искусства. — М, 1966, с. 54.
71 Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий. — М.,
1961, с. 26.
72 Там же, с. 26.
73 Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда. — В кн.: Бен-
веиист Э. Общая лингистика. М., 1974, с. 115—116.
74 Там же, с. 125.
75 Pribram К Н. The linguistic act. — In: Psychoanalysis and language/
Ed. by J. H. Smith. New Haven; London: Lale Univ. Press, 1978, p. 75.
76 Edelson M. What is the psychoanalyst talking about? — Ibid., p. 141.
77 Ibid., p. 104.
78 Асмус В. Ф. Проблема целесообразности в учении Канта об
органической природе и в эстетике. — Кант И. Соч.: В 6-ти т., т. 5, с. 37.
79 Кант И. Критика способности суждения, с. 375.
80 Rogers R. Metaphor: A psychoanalystic view. — Univ. of California
Press, 1978, p. 37.
81 Ibid., p. 65.
82 Юнг К. Г. Избранные труды по аналитической психологии. — Цюрих,
1939, т. 3, с. 50.
83 Якобсон Р. Лингвистика и теория связи, с. 443.
84 Юнг /(. Г. Избранные труды ..., т. 3, с. 358.
85 Там же, с. 363.
86 Шеллинг Ф. В. Философия искусства, с. 52.
87 Бунге М. Философия физики. — М., 1975, с. 175—181.
88 Walker /. D. В. A study of Frege. — Oxford, 1965, p. XI.
69 Современный платонизм в логике, равно как и современный
логический номинализм, не следует отождествлять с аналогичными
схоластическими течениями средневековья. Как подчеркивает Е. Е.
Ледников, сходство здесь лишь терминологическое, а не по существу.
Современный логический платонизм характеризуется тягой к максимально
абстрактным построениям, предельным ослаблением регламентации
относительно введения абстракций в науку. (Ледников Е. Е.
Критический анализ номиналистических и платоиистских тенденций в
современной логике. — Киев, 1973, с. 8).
93 Sternfeld R. Frege's logical theory/foreword by G. K. Plochmann. —■
Southern Illinois Univ. Press, 1966, p. 71—73.
91 Dummett M. Frege: Philosophy of Language. — Duckworth, 1973,
/^ XXIV-
(J? Ibid., p. 630, 637—638. Основная и неразрешимая трудность
образной теории значения — отсутствие рациональных средств, с помощью
которых можно было бы достаточно определенно фиксировать
наличие идей, их сходство и различие. (ПРТРРР R R Структуры
значения— Новосибирск, 1979, с. 9). Против подобного рода теорий
направлена семантическая доктрина Фреге.
93 Dummett M. Frege., p. 643.
84 S0rensen H. S. The meaning of proper names. — Copenhagen, 1963, p.
36—37, 41.
95 Dummett M. Frege, p. 54.
288
se Grossmann R. Reflections of Frege's philosophy. — Evanston, 1969,
p. 18—19.
87 Черч А. Введение в математическую логику. — М., 1960, т. 1, с. 341.
98 Там же, с. 17.
» Burge Т. Sinning against Frege. — Philos. Rev., 1979, July, p. 407.
«» Ibid., p. 432.
loi Walker L D. B. A study of Frege, p. 91.
i°2 Bell D. On the translation of Frege's Bedeutung. — Analysis, 1980, 40.
№ 4, p. 191—195.
103 Long P., White R. On the translation of Frege's Bedeutung: A Replay
to Dr. Bell.- Ibid., p. 196-202. ., Л|АЫ1т.
i°4 Dummett M. Frege.., p. 91. tWMHUlU.
i°5 Ibid., p. 544. V
loe фреге Г. Смысл и денотат. — Семиотика и информатика, 1977, вып. 8,
с. 181—182.
i°7 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. — М., 1977, с. 141.
108 Lyons J. Op. cit, vol. 1, p. 48.
109 Carney /. D„ Fitch G. W. Can Russel avoid Frege's sense. —Mind,
1979, 88, N 351, p. 384.
110 Finch H. le R. Wittgenstein — The later philosophy: An exposition of
the «Philosophical investigations». — Atlantic Highlands, 1977, p. 3—4.
Ссылка на имманентность отчасти объясняется следующим. Еще на
ранних стадиях своего научного развития Витгенштейн, как и Фреге,
не склонен был зачислять «значение», «понимание», «мышление» и
ряд аналогичных категорий в разряд «ментальных феноменов»,
поскольку это напоминало интроспекционистскую психологию, изрядно
себя скомпрометировавшую. От этой психологии Витгенштейн
энергично открещивается в своем «Трактате», открещивается вплоть до
того, что относит эпистемологию (Erkenntnistheorie) к
разновидности психологии.
111 Burge Т. Sinning against Frege, p. 412.
112 Tyler S. A. The said and the unsaid. — New York, 1978, p. 336.
из Dummett M,fp. 267—269.
114 Фреге Г. смысл и~ денотат, с. 185—186.
115 Там же, с. 186.
и6 Бирюков Б. В. Теория смысла Готлоба Фреге. — В кн.: Применение
логики в науке н технике. М., 1961, с. 517.
1.7 Dummett M, р. 81—83.
1.8 Черч А. Введение в математическую логику, т. 1, с. 343.
116 Stebbing L. S. A modern introduction to logic. — London, 1957,
p. IX.
К части 2, гл. 1
i Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Соч. 2-е изд., т. 3, с. 29.
2 Vendler I. Linguistic in philosophy. — Ithaca; New York: Cornell Univ.
Press, 1967, p. 3—6.
8 Borgis I. Das Semantische Problem der Metapher. — Hamburg, 1972;
Casenave G. W. Taking metaphor seriously: The implications of the
cognitive significance of metaphor for theories of language. — South.
J. of Philos., 1979, 17, № 1, p. 19; Mooij /. /. A. A study of metaphor.—
North-Holland Publishing Co, 1976, p. V.
4 Moravcsik J. M. E. Understanding language: A study of theories of
language in linguistics and in philosophy. —Mouton etc., 1975, p. 11, 15.
5 Ibid., p. 21.
289
6 bohtn D. On the problem of truth and understanding in science. — fin
The critical approach to science and philosophy. London, 1964
p. 214—215.
7 Tyler S. A The said and the unsaid, p. 14.
8 Погодин А. Л. Язык как творчество: (Психологические и социальные
основы творческой речи). — В кн.: Вопросы теории и психологии
творчества. Харьков, т. 4, с. 407—409.
9 Дунаевский Л. Р. Шарль Де Бросс — выдающийся ученый
французского Просвещения: (Очерк). — В кн.: Шарль де Бросс о фетишизме
М., 1973, с. 199.
10 Шор Р. О. Лингвистическая концепция Шарля де Бросса. — В кн.:
Сборник статей по языковедению. М., 1939, т. 5, с. 264.
11 Житецкий П. И. В. фон Гумбольдт в истории философского
языкознания.— Вопр. философии и психологии, 1900, кн. 1, с. 3.
12 Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. — М., 1968, с. 16—17, 30.
13 Гумбольдт В. фон. О различии организмов человеческого языка и о
влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода.—
Спб., 1859, с. 37.
14 Там же, с. 12, 38.
15 Там же, с. 57.
16 Cook D. /. Language in the philosophy of Hegel. — Mouton etc., 1973,
p. 12.
17 Tyler S. A. The said and the unsaid, p. 6.
18 Житецкий П. И. В. фон Гумбольдт в истории философского
языкознания, с. 17—20.
19 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. — М., 1977, с. 57—58.
20 Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. — Новое в лингвистике,
1963, вып. 3, с. 151.
21 Там же, с. 147.
22 Там же, с. 158.
23 Там же, с. 166.
24 Там же, с. 334—335.
25 К концу своей научной карьеры Соссюр, по словам Якобсона,
адаптировал стоическую концепцию двойственной природы вербального
знака, который слагается из чувственно воспринимаемого signans
(знак) и интеллигибельного signatum (мысленно обозначаемого).
Соссюр считал, что эти два элемента тесно связаны, ио связаны не по
природе, а «произвольно». Слово «произвольно» взято в кавычки по
той простой причине, что, как ни странно, в соссюровском понимании
«знак» не произволен, если под произвольностью понимать проявление
волюнтаризма. По мнению Соссюра, «знак всегда до некоторой
степени ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной, в чем
и проявляется его существеннейшая, но на первый взгляд наименее
заметная черта». (Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию, с. 55).
Знак — одновременно и объективен (чувственно воспринимаем, не
зависим от нашей воли и желаний) и субъективен (одухотворен
человеческой деятельностью, несущей в себе момент воли и
целесообразности). Я не на много ошибусь, сказав, что соссюровское понимание
знака больше соответствует не формалистической семиотике
Якобсона, а рассуждениям К. Маркса по поводу языка. В середине XIX в.
К. Маркс, не вдаваясь в дифференциацию «знака» и «символа»,
подчеркивал, что материал, в котором выражается то, что он называл
символом, отнюдь не безразличен символу. В своем историческом
развитии общество вырабатывает вместе с символами и соответствующий
им материал. (Маркс К Экономические рукописи 1857—1859 годов.—
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд, т. 46, ч. 1, с. 87). В современной
290
отечественной литературе принцип историзма в оценке соотношения
знака и значения удачно был использован в работах П. В. Копиииа,
который предлагал говорить не о произвольности, а о случайности
связи знака и предмета. «Произвольность, — писал Копнин, —
предполагает свободный выбор, отсутствие детерминации (захочу так, а
захочу этак), знаки же возникают определенным, закономерным
путем». (Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки.—
М., 1974, с. 124). В начале XX в. известный американский специалист
по этнографии, антропологии и лингвистике Ф. Боас отмечал, что
каждый язык может показаться произвольным в своих
классификациях только с точки зрения другого языка. (Боас Ф. Ум первобытного
человека. —М.; Л., 11926, с. 81).
Закономерность в формировании и функционировании знака
проявляется на том этапе филогенеза, когда знаки объединяются в
знаковые системы, когда вырабатывается система грамматических правил.
Нет ничего удивительного в том, что между различными
информационно значимыми подсистемами (например, грамматика и фонология)
единой системы коммуникации можно в определенных отношениях
установить структурные корреляции, о которых говорит Якобсон.
26 Dijk T, A. van. Text and context: Explorations in the semantics and
pragmatics of discourse. — London: New York, 1977, p. 191.
* Ibid., p. 191—192.
28 Ibid., p. 2—3.
29 Lyons /. Semantics. —Cambridge, 1977, vol. 2, p. 572—573.
30 Ibid., p. 607.
31 Ibid., p. 607—609.
32 Ibid., p. 735.
33 Лурия А. Р. Язык и сознание. — M., 1979, с. 148.
34 Выготский Л. С. Проблема развития в структурной психологии. —
В кн.: Коффка К- Основы психического развития. М.: Л., 1934, с. XI,
VII, XXXIX, VLVIII.
35 Thomason R. H. Introduction. — In: Montague R. Formal philosophy.
New Haven; London: Lale Univ. Press, 1974, p. 2.
36 Ibid., p. 33.
97 Montague R. Formal philosophy, p. 188.
38 Moravcsik J. M. E. Understanding language, p. 38—39.
39 Lyons /. Op. cit., vol. 2, p. 376, 382.
40 LaPalombara L. E. An introduction to grammar: Traditional, structural,
transformational. — Cambridge (Mass.), 1976, p. 212—214.
41 Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М., .1978, с. 152.
42 Kutschera F. von. Philosophy of language, p. 218.
43 Kress G.t Hodge R. Language as ideology. — London etc., 1979, p. 10.
44 Chomsky N. Cartesian linguistics: A Chapter in the history of
rationalist thought. — New York; London, 1966, p. 32—42.
45 Jacobsen B. Transformational-generative grammar: An introductory
survey of its genesis and development. — 2-d revis. ed. — North-Holland
Publishing Co., 1978, p. 45.
Под таксономической лингвистикой в современной научной
литературе принято понимать особую разновидность структурной
лингвистики. Таксономическая концепция грамматики строится индуктивным
способом. Ее методология — это методология эмпиризма.
Фундаментальное различие между таксономической лингвистикой и
генеративной грамматикой состоит в том, что учеиые-таксономисты
преимущественно обращают внимание на факты языковых различий, тогда как
- генеративная грамматика нацелена на объяснение феномена
глубинного сходства языков, для чего конструируется универсальная грам-
291
матика. Подобное конструирование основывается на допущении, что
лингвистические универсалии не могут быть получены исключительно
посредством индуктивных обобщений. В связи с этим задача,
которую ставит перед собой генеративная лингвистика, заключается в
определении универсалий с помощью формальных лингвистических
исследований различных естественных языков. Приоритет в этих
исследованиях отдается дедуктивным теориям, поскольку универсалии не
являются чем-то необходимо наблюдаемым, но могут возникать на
основании формальных систем, которые используются для объяснения
конкретных языковых данных. В этом отношении показательна
позиция, занимаемая Дж. Катцом, который противопоставляет «демо-
крнтовскую концепцию грамматики таксономической концепция.
По мнению Катца, атомистическая теория языка является прочной
парадигмой для современной лигвистики, поскольку атомизм стремится
преодолеть феноменализм непосредственного опыта и
продемонстрировать с помощью абстрактного конструирования глубинную сущность
изучаемых явлений. Wo/г-демокритовская трактовка природы языка
ведет к грамматике, правила которой позволяют описывать только
наблюдаемые признаки, тогда как при демокритовском варианте
лингвистической доктрины возможно описание тех черт языка, которые
не относятся к разряду наблюдаемых. В своей современной форме
демокритовская концепция грамматики выражается
трансформационной моделью, которая впервые была сформулирована Хомским. Ее
прототипом послужила универсальная грамматика Пор-Рояля
(XVII в.). Таким образом, корни современной теории генеративно-
трансформационной грамматики уходят в традицию континентальной
рационалистической мысли, тогда как корни таксономической теории
восходят к исторической лингвистике XIX в. и эмпиризму начала
XX в. а также к бихевиористской реакции на универсальную
грамматику. (Katz J. J. Linguistic philosophy: The underlying reality of
language and its philosophical import. — London, 1971, p. 46).
46 LaPalombara L. E. An introduction to Grammar, p. 215.
47 Kutschera F. von. Philosophy of language, p. 226.
48 См.: Жоль К. К. Познавательные функции аналогии и их значение в
истории философских учений о категориях. — В кн.:
Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. Киев,
1980, с. 310, 329—332, 336.
49 Lyons J. Chomsky. — Fontana/Colins, 1970, p. 79.
50 Fodor J. D. Semantics: Theories of meaning in generative grammar. —
Harper and Row, Publishers, 1977, p. 109.
51 Chomsky N. Deep structure, surface structure, and semantic
interpretation.— In: Semantics: An Interdisciplinary reader in philosophy,
linguistics ond phychlogy. Cambridge, 1971, p. 214.
52 Jacobsen B. Transformational-generative grammar, p. 160.
53 Ibid., p. 161.
54 Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. — М.,
1976, с. 213, 287.
55 Jacobsen В. Transformationah-generative grammar, p. 168.
56 Peters T. The nature and role of presupposition: An inquiry into
contemporary hermeneutics. — Intern. Philos. Quarterly, 1974, 14, Nfe 2, p. 209.
» Ibid., p. 209. .
SI Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. — Л., 1972,
с. 112.
59 Маркс К. Экономические рукописи 1857-^1859 годов, с. 37—38.
60 Корню О. Карл Маркс и Фридрих! Энгельс: Жизнь' и деятельность.
М., 1968, т. 3., с. 279.
292
61 Chomsky N. Cartesian linguistics, p. 6.
« Ibid., p. 11—12.
63 Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — M., 1975, с. 33.
64 Хомский Н. Язык и мышление. — М., 1972, с. 39.
65 Jacobsen В. Transformational-generative grammar, p. 25.
66 Хомский И. Язык и мышление, с. 15.
67 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974,
с. 29.
JL Нарский И. С. Диалектическое противоречие и логика позиания. —
М., il969, с. 89—90.
69 Хомский И. Аспекты теории синтаксиса. — М., 1972, с. 13.
70 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность, с. 33.
71 Mundle С. W. К. Critique of linguistic philosophy.— Oxford, 1970, p. 186.
72 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. — М., 1956,
с. 330—369.
73 Malcolm N. Ludwig Wittgenstein: A memoir. — London, 1958, p. 1.
По мнению одних историков философии, решающее значение в
формировании «лингвистической философии» принадлежит
Витгенштейну (Mundle С. W. К. A Critigue of Linguistic philosophy, p. 158.),
тогда как другие предпочитают отдавать пальму первенства Д. Э.
Муру (Хилл Т. И. Современные теории познания. — М., '1965, с. 175).
Как мне кажется, в данном случае не так важно, кто первым сказал
«А» Существенно то, что влияние Витгенштейна на различных
философов языка было исключительно сильным, и с этим фактом нельзя не
считаться.
74 Fann К. Т. Wittgenstein's conception of philosophy. — Oxford, 1969,
p. XII.
75 Finch H. le R. Wittgenstein — The later philosophy, p. 7—8.
76 Linsky L. Wittgenstein on language and some problems of philosophy.—
J. of Philos., 1957, 54, № 10, p. 289.
77 Fann К. Т. Wittgenstein's conception of philosophy, p. 86.
78 Ibid., p. 96.
79 Kenny A. Wittgenstein. — London, 1973, p. 19.
80 Malcolm N. Ludwig Wittgenstein, p. 4—5.
81 Furth M. Introduction. — In: Frege G. The basic laws of arithmetic:
Exposition of the system. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California
Press, 1964 p. VII—VIII.
82 Frege G. The basic laws of arithmetic, p. 35.
83 Kutschera F. von. Philosophy of language, p. 37.
84 Kress G., Hodge R. Language as ideology, p. 10—11.
85 Fann К. Т. Wittgenstein's conception of philosophy, p. 43.
86 Bouwsma 0. K. The Blue Book. —J. of Philos., 1961, 58, № 6,
p. 141—142.
87 Wittgenstein L. The blue and brown books. — Oxford, 1958, p. 65.
88 Maslow A. A study in Wittgenstein's Tractatus. — Berkeley; Los
Angeles: Univ. of California Press, 1961, p. 20—21.
89 Фанн К. Т. Коиценпция языка у Витгенштейна. — В ки.: Современная
прогрессивная философская и социологическая мысль в США. М.,
1977, с. 296. Язык рассматривается Витгенштейном как нечто
действующее, активное. Поэтому он расширяет понятие «использование» за
счет включения использования предложений, помимо слов. Таким
образом под «использованием» понимается определенный вид языковой
активности (например, описание объекта, рассказывание анекдота и
пр.). В связи со столь расширенной трактовкой понятия
«использование» Витгенштейн применяет термин «виды использования* (Kinds
of use), тем самым подчеркивая, что некоторые слова могут иметь
293
различные виды использования Например, слово «вода» может
функционировать как команда, восклицание, описание и т. д. Сюда же
следует добавить, что множество различных видов слов может иметь
одинаковое использование. Например, слово «вода», «помощь»,
«хороший», «нет» и т.д. — все функционируют как восклицания.
Соответственно этому Витгенштейн выделяет два главных уровня использования.
Это: (1) инструменты и (2) игры. В первом случае имеется в виду,
что слова способны осуществлять различные функции, а во втором
предполагается, что мы можем использовать эти различные способы в
большинстве видов активной деятельности (Finch Н. le R.
Wittgenstein— The later philosophy, p. 21—23).
90 Mastow A A study in Wittgenstein's Tractatus, p. 49—51.
91 Wittgenstein L. Philosophical investigations. — Oxford, 1976, § 1, p. 2°.
92 Ibid., § 1, p. 3e.
93 Ibid., §22, p. IIе.
94 Ibid., § 40, p. 20е.
95 Ibid., § 43, p. 20е.
96 Ibid., § 6, p. 4e.
97 Ibid., § 569, p. 151е.
98 Fodor J. D. Semantics: Theories of meaning in generative grammar.—
1977, p. 19—20.
99 Gill Л H. Wittgenstein and metaphor. — Phenomenol. Res., 1979, 40,
N 2, p. 272.
100 Ibid., p. 276. 281.
101 Чуковский К. И. От двух до пяти, с. 241.
102 Нейман Дж. фон., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое
поведение.—М., 1970, 707 с.
103 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. — М., 1976, с. 9,
104 Чуковский К. И., с. 238—239.
105 Там же, с. 245.
106 Kern E. Existential thought and fictional technique. — New Haven;
London:\ale Univ. Press, 1970, p. VII.
107 Ibid., p. 85—86.
108 Подорога В. А. Проблема языка в «негативной» философии
Т. В. Адорно. — Вопр. философии, 1979, № 2, с. 149.
109 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных иаук. — М., 1977,
с. 32.
1,0 Zabeeh F. On language games and forms of life.— In: Essays on
Wittgenstein. — Univ. of Illinois Press, 1971, p. 364.
111 Леонтьев А. А. Психолингвистический аспект языкового значения.—
В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М, 1976,
с. 46—73.
1,2 Pike К. L. Language in Relation to a Unified theory of the structure
of human behaviour. — Mouton etc., 1967, p. 26, 29.
из Forguson L. W. Austin's philosophy of Action. — In: Symposium on
J. L. Austin. — London, 1969, p. 6—7.
114 Cerf W. Critical review of «How to do things with words». — Ibid.,
p.351—352.
j15 Harrison B. An introduction to the philosophy of language. — London;
J Basingstoke: The Macmillan Press, 1979, p. 166.
116 Urmson L*Q. Austin's philosophy. — In: Symposium on J. L. Austin,
p. 24—25.
117 Urmson Л О., Quine W* von 0.t Hampshire S. A symposium on Austin
method. — Ibid., p. 86—87.
118 Austin J. L. Philosophical papers. — Oxford, 1961, p. 220—221.
1,9 Ibid., p. 222.
294
№ ibid., p. 234 ii-
121 Austin J. L. How to do things with words. — London, 1962, p. 94—101.
122 Furberg M. Locutionary and illocutionary acts. — Goteborg, 1963, p. 68.
123 Cerf W. Critical review, of «How to do things with wordvji_-355 „^
i*4 Strawson P. F. Austin and «locutionary meaning». — Ur.CAustin J. L..
^ Essays^'Gxford: At the Clarendon Press," 19'Д p. 54. ^ -*"*
>25 Searle J. R. Austin on locutionary and illocutionary act. — Ibid., p. 143.
*26 Ibid., p. 144.
»27 Ibid., p. 149.
128 Forguson L. W. Locutionary and illocutionary acts. — In: Essays on
J. LJWtia, p. 172. ~~ "
129 АреПС-О. Towards Transformation of philosophy. — London etc.,
1980, p. 180—181.
130 Fodor J. A. The language of thought. — Harvard. Univ. Press, 1975,
p. VII. -"
i3i Ibid., p. 100.
132 Леонтьев А. А. Психолингвистика. —Л., 1967, с. М4.
К части 2, гл. 2
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология, с. 449.
2 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М., 1977,
с. 152.
3 Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. — М., 1978, с. 57.
4 Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. — М., 1978,
с. 289.
6 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов. — Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 28.
6 Юдин Э. Г. Системный подход ..., с. 301.
7 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — Мм 1981, с. 294—295.
8 Узнадзе Д. И. Психологические исследования, с. 158.
9 Там же, с. 255.
10 Там же, с. 272.
11 Прангишвили А. С. Исследования по психологии установки. —
Тбилиси, 1967, с. 62.
12 Там же, с. 81, 94.
13 Там же, с. 63—64.
14 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М., 1973, с. 149.
15 Выготский Л. С. Избр. психол. исследования. — М., 1956, с. 51—52.
16 Там же, с. 119.
17 Там же, с. 134.
18 Там же, с. 391.
19 Там же, с. 410.
20 Мсгрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления, с. 111.
21 Гальперин П. #., Кобыльницкая С. Л. Экспериментальное
формирование внимания. — М., 1974, с. 37.
22 Прангишвили А. С. Исследования по психологии установки, с. 192.
23 Там же, с. 195.
24 Выготский Л. С. Избр. психол. исследования, с. 475.
25 Там же, с. 369.
26 Валери П. Об искусстве. — М, 1976, с. 353.
21 Биркгофф Г. Математика и психология. — М., 1977, с. 7.
28 Там же, с. 36.
29 Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и
мышлении. — В кн.: Бессознательное. Тбилиси, 1978, т. 3, с. 288.
295
30 Курантов А. /7., Стяжкин И. И. Уильям Оккам. — М., 1978, с. 125.
81 Войшвилло Е. К Понятие. —М., 1967, с. 117.
32 Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления, с. 217.
8а Там же, с. 219.
84 Там же, с. 220.
85 Там же, с. 273.
36 Там же, с. 275.
37 Лурия А. Р. Язык и сознание. — М., 1979, с. 138—139.
88 Lyons /. Semantics, vol. 1, p. 250.
39 Ibid., p. 251—252.
*> Ibid., p. 260.
« Ibid., p. 269.
42 Ibid., p. 270—271.
48 Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику.— М., 1978, с. 478.
44 Lyons /. Semantics, vol. 1, p. 297.
45 Ibid., p. 300.
46 Ibid., p. 317.
47 Ibid., p. 317—318.
48 Ibid., p. 326,
49 Попов П. С. История логики Нового времени. — М., 1960, с. 233—234.
50 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов, с. 37—38.
61 Antal L. Content, meaning and understanding. — Hague, 1964, p. 8.
62 Ibid., p. 21.
58 Ibid., p. 40.
54 Lyons /. Semantics, vol. 1, p. 321.
55 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов, с. 36—37.
66 МасСогтас £. R. Meaning varience and metaphor. — Brit. J. for the
Philos. of Sci., 1971, 22, № 2, p. 145.
67 Katz /. J. Semantics and conceptual change. — Philos. Rev., 1979, July,
p. 327, 350.
58 МасСогтас Е. R. Meaning varience and metaphor, p. 145.
69 Achinstein P. On the meaning of scientific terms. — J. of Philos., 1964,
61, № 17, p. 497.
60 Ibid., p. 503.
61 Ibid., p. 508.
62 МасСогтас Е. R. Meaning varience and metaphor, p. 146—147.
63 Katz /. /. Semantics and conceptual change, p. 351—354.
64 Ibid., p. 359—361.
66 Ibid., p. 362—363.
66 Bunge M. Towards a philosophy of technology. — In: Philosophical
problems of science and technology. Boston, 1974, p. 28.
67 Leroi-Gourhan A. Evolution et Techniques. — Paris, 1973, vol. 2, p. 27.
68 Rapp F. Technological and scientific knowledge. — In: 5-th Int. congr.
of logic, methodol. and philos. of sci. London; Ontario (Can.),
p. V—104.
69 Дистинкдия «эпифора — диафора» выражает два возможных подхода
к изучению метафоры — когнитивно-логический и собственно
семантический. С учетом сказанного весьма странно звучат высказывания
некоторых современных отечественных авторов, продолжающих «по
старинке» утверждать следующее: «Несомненно, что в основе
метафоры лежит мыслительная операция сравнения, а сама метафора —
отработанное скрытое сравнение» (Никитин М. В. О семантике
метафоры.— Вопр. языкознания, 1979, № 1, с. 94). Сказать так о
семантических особенностях метафоры — значит высказаться в духе хорошо
известного трюизма: «все познается в сравнении».
70 Tyler S. A. The Said and the Unsaid, p. 335.
296
" Ibid., p. 318.
72 Рубинштейн С. Л. К психологии речи. — Ученые записки
Ленинградского госпединститута им. А. И Герцена, Л., 1941, т. 35, с. 16.
w Cohen L. J., Margalit A. The role of inductive reasoning in the
interpretation of metaphor. — Synthese, 1970, 21, № 3/4, p. 485.
7^ Peters T. Metaphor and the horizon of the unsaid. — Philos. and pheno-
menol. Res., 1978, 38, № 3, p. 358.
76 Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования.— М., 1958,
с. 87.
7« Materna P. On problems. — Praha, 1970, p. 4.
77 Ibid., p. 9.
78 Ibid., p. 56.
79 Loewenberg I. Identifying metaphors. — Foundat. of Language Int. J.
of Language and philos., 1975, 12, № 3, p. 313.
*> Ibid., p. 331.
« Ibid., p. 338.
62 Gumb R. D. Metaphor theory. — Reports on math, logic: Polish
Scientific Publishers, 197-8, № 10, p. 51—52.
83 Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления, с. 241.
84 Беркоеский Н. Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973, с. 34.
85 Борн М. Физика в жизни моего поколения. — М., .1963, с. 253.
86 Геллнер Э. Слова и вещи. — М, 1962, с. 64.
87 Войшвилло Е. К. Понятие. — М, 1967, с. 125.
88 Ленин В. И, Материализм и эмпириокритицизм. — Поли. собр. соч.
т. 18, с. 146.
89 Энгельс Ф. Диалектика природы.—Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 20, с. 545.
SUMMARY
The monograph presents a historical and gnoseological investigation
of the problems of thought and language correlation.
The investigation focuses upon the language creativity in the sphere
of semantics.
The monograph takes the comparative historical method as the main
instrument of investigation. This method allows to take a better advantage
of the heuristic moments in the information derived from the retrospective
historical analysis.
The monograph comprises two parts which fall into several chapters.
The first part considers and compares ancient and most fundamental
attempts of solving the problem of language expression meaning, its trans-
formation and the role of language in the process cognition and world
understanding (Plato, Aristotle, Anandavardhana and Chinese
philosophers).
As Th. Stcherbatsky, a prominent Soviet Indologist, pointed out,
Anandavardhana, an Indian scientist of the 9th century A. D., had
surpassed in his works similar attempts of metaphor investigations undertaken
by Aristotle and European aestheticists of the more recent past.
Anandavardhana hag greatly widened the understanding of intra-language
mechanisms of semantic changes and anticipated the ideas put forward by
G. Frege, a wellknown German mathematician and logician, in the end
of the 19th century. The monograph compares the views of
Anandavardhana and G. Frege on the semantic problems.
The Confucian doctrine of «correcting names» is compared with the
Aristotle's teaching on the metaphor. This comparison traces out the
common features connected with the idea of «The Golden Age» in the society
and language and casts additional light on the Aristotle's teaching on
the categories. Aristotle, similarly to Confucius, tried to «correct» the
vocabulary of science in his own manner, trying to subdivide it into 10
«names» (categories).
The second chapter of the first part of the monograph reviews the
history of rhetoric and its contribution to European philosophic and
semantic theories. It also presents a brief review of modern neorhetoric.
The monograph stresses the fact that rhetoric promoted the understanding
208
Of differences between the language of day-after-day communication and
the literary language. Theoreticians of rhetoric made a great contribution
to the understanding that the form of language expression may widen
the content of the expression a great deal.
The first part of the monograph is concluded by the chapter which
investigates the problem of thought and language correlation in the works
by G. W. Leibnitz, I. Kant, F. W. Scheliing and G. Frege. The pages
devoted to G. W. Leibnitz specify his analysis of synonymies. I. Kant's
philosophy analysis considers the Kantian «principle phictitiousness»
(als ob).
The second part of the monograph particularizes the attitude of
philosophy to linguistics, underscoring that the philosophy of language
should be substituted by the philosophy of linguistics regarding it as a
special branch of the philosophy of science. It proves that from the
Marxist point of view «the language» (langue) presents the naturally
implemented «speech» (parole). The language, as well as the thought, is not
embodied in the living word but is exercised in the word.
The chapter about the experiment in the science of the language is
based on the saying of L. Stcherba, a recognized Soviet linguist, about
the possibility and usefulness of experiments in linguistics. Author views
L. Wittgenstein's philosophy of the later period as «the philosophy of a
linguistic experiment».
The Marxist interpretation of the «consciousness thinking» distinction
makes us look at the «language-speech» distinction at a different angle.
The author believes that the language and not the speech does possess the
genetic priority. Similarly the «language consciousness» precedes the
«speech thinking». The notion of thinking includes two aspects. The
first aspect presents the functioning of thought on the subsonscious level
where thincing is not subjected to the dictates on the side of linguistic
structures. The second one presents the turn of thinking to consciousness
(«thinking consciousness») where «Language thinking» is implemented in
«speech thinking» («word thinking consciousness») passing through the
stage of «internal speech».
The concluding chapter of the second part of the monograph
investigates the mechanism of metaphor formation as a paragon of continuous
and discrete in the development of natural and artificial languages. It
stresses that the metaphor is a kind of a testing ground where
philosophers and psychologists attempt to trace the regularities of development
and functioning of thinking and consciousness on concrete facts. This
chapter also regards such notions as «problem», «task», «choice», etc.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Введение 5
Часть 1
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЯЕМОСТИ
ЗНАЧЕНИЙ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ... 10
Глава 1. Характер и результаты познавательной рефлексии по
поводу мышления и языка в классических учениях
древности 10
Вводные замечания (10). Негативные черты платоновского идеализма
в оценке познавательных возможностей языка. Противопоставление
мышления и языка, покоя и движения (12).
Вопросы семантики и онтологии в аристотелевском учении о метафоре
(20). Специфика семантической теории в связи с учением о «дхвани» в
древней Индии (30). Иероглифическое письмо и семантическая
проблематика в древнем Китае. Роль символа и символики в познании (35).
Заключение (47).
Глава 2. Из истории европейской риторики со времен ее за*
рождения. Философская и семантическая ценность
опыта риторических исследований 50
Вводные замечания (50). Становление древнегреческой риторики (51).
Аристотель и риторика (53). Психологизм риторических учений
эллинизма (54). Общая характеристика античной риторики (58). Средневековая
культура и риторика (62). Риторическая проблематика в контексте
средневековой философии (68). Новый взгляд на метафору. Дж. Вико
и его идея языкового мифотворчества (84). Риторика XIX в. (87).
Предпосылки и развитие идей неориторики в XX в. (89). Заключение (105).
Глава 3. Проблема соотношения мышления и языка в трудах
Г. В. Лейбница, И. Канта, Ф. В. Шеллинга и Г. Фреге 108
Вводные замечания (108). Лейбницевская философия языка как предтеча
современных философско-семантических теорий (109). Кантовская «фило-
300
София аналогии» и шеллинговский метод конструирования. Символ,
метафора, модель (122). Фрегевская семантика и ее основополагающее
значение для семантических теорий XX в. (144). Заключение (160).
Часть 2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА:
СЕМАНТИКА И ГНОСЕОЛОГИЯ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ .... 163
Глава 1. Философия и ее отношение к кардинальным
вопросам лингвистической науки ... .... 163
Вводные замечания (163). Днстинкция «язык—речь» с гносеологической
точки зрения (166). Понятие эксперимента в науке о языке. Витгенштей-
новская «философия лингвистического эксперимента» (193). Значение
понятия «деятельность» в системе современного языкознания. Остинов-
ская теория «речевых актов» (210). Заключение (220).
Глава 2. Семантическая тематика в марксистской гносеологии 222
Вводные замечания (222). Интерпретация языка в контексте
марксистского учения о сознании и мышлении (223). Соотношение значений и
понятий с точки зрения их образования и функционирования (240).
Проблема континуального и дискретного в семантическом и
концептуальном развитии (255). Заключение (272).
Примечания . 275
Summary , 298