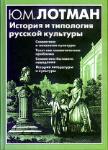/
Похожие
Текст
1
1
Ю.М.ЛОТМАН
ИЗБРАННЫЕ
СТАТЬИ
Ю.М.ЛОТМАН
ИЗБРАННЫЕ
СТАТЬИ
в трех томах
Издание выходит при содействии
Открытого фонда Эстонии
This edition is published with the support
of Estonian Open Fondation
Таллинн
^Александра44
JSP
Ю.М.ЛОТМАН
TOM I
Статьи по семиотике
\ И
\^ типологии культуры
*"—
ч>
Таллинн
Александра44
1992
Ш №#)+!{
СОДЕРЖАНИЕ
Вместо предисловия .
СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ
О семиосфере 11
Мозг — текст — культура — искусственный интеллект . 25
Феномен культуры 34
Асимметрия и диалог 46
Миф — имя — культура {совместно с Б. А. Успенским). 58
О двух моделях коммуникации в системе культуры . . 76
Динамическая модель семиотической системы .... 90
Несколько мыслей о типологии культур 102
К построению теории взаимодействия культур (семио-
тический аспект) ПО
Проблема византийского влияния на русскую культу-
ру в типологическом освещении 121
ТЕКСТ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
' Семиотика культуры и понятие текста 129»
'Текст и функция (совместно с А. М. Пятигорским) . . 133
) Текст и полиглотизм культуры 142
•Текст в тексте 148
Текст и структура аудитории 161
Риторика 167
Устная речь в историко-культурной перспективе . . . 184
(./Символ в системе культуры 191)
Память в культурологическом освещении 200
' О содержании и структуре понятие «художественная
литература» <^0^
Слово и язык в культуре Просвещения ^16)
Происхождение сюжета в типологическом освещении . 224
Каноническое искусство как информационный пара-
докс 243
КУЛЬТУРА И ПРОГРАММЫ ПОВЕДЕНИЯ
• Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII
века 248
Театр и театральность в строе культуры начала XIX
века 269
* Сцена и живопись как кодирующие устройства культур-
ного поведения человека начала XIX столетия . . 287 -
Декабрист в повседневой жизни (Бытовое поведение
как историко-психологическая категория) 296 '
О Хлестакове 337
„ Литературная биография в историко-культурном кон-
тексте (К типологическому соотношению текста и лич-
ности автора) 365 *
Куклы в системе культуры 377
О редукции и развертывании знаковых систем (К
проблеме «фрейдизм и семиотическая культурология»). 381
СЕМИОТИКА ПРОСТРАНСТВА
О метаязыке типологических описаний культуры . . . 386
v О понятии географического пространства в русских
средневековых текстах 407
Проблема художественного пространства в прозе
Гоголя 413
г Заметки о художественном пространстве 448
Клио на распутье 464
Вместо заключения. О роли случайных факторов в
истории культуры 472
\
Вместо предисловия
[Mbi живем в мире культуры. Более того, мы находимся в ее толще, внутри
нее, и только так мы можем продолжать свое существование. Отсюда
важность понятия «культура» и, одновременно, его трудность для опреде-
ления. Трудность эта не только и не столько в комплексности и много-
гранности этого понятия, а в том, что оно имеет исходный, первичный
характер. В традиционной руссоистской оппозиции «Природа — Куль-
тура», утвердившейся в этнологии после составивших эпоху в науке о
человеке трудов К. Леви-Стросса, предполагается, что Природа есть нечто
первичное, исходное, на что социальные условия и другие «искусственные»
результаты деятельности человека накладывают ограничения, именуемые
Культурой. При всей кажущейся естественности и очевидности такого
взгляда, вероятно, само понятие Природы есть создаваемая культурой
идеальная модель своего антипода, сущность которого можно определить
словами: «Всё без человека». Из этого вытекает, что сам человек
неотделим от культуры, как он неотделим от социальной и экологической
среды. Он обречен жить в культуре так же, как он живет в биосфере.
Культура есть устройство, вырабатывающее информацию. Подобно
тому как биосфера с помощью солнечной энергии перерабатывает
неживое в живое (Вернадский), культура, опираясь на ресурсы окружаю-
щего мира, превращает не-информацию в информацию. Она есть анти-
энтропийный механизм человечества. )К ней можно применить слова
Гераклита Эфесского: «Психее присущ самовозрастающий логос».[Для
того, чтобы культура могла выполнить эту задачу, ей необходима, прежде
всего, сложная внутренняя организация^ Рассмотрению семиотических
принципов этой организации и посвящена настоящая книга. [Конечно,
странно было бы видеть в культуре только семиотический ее аспект, однако
другие ее стороны изучаются в контексте других наук и в данном случае
не рассматриваются!
Усложнение внутренней структуры — лишь одна сторона вопроса:
«самовозрастающий логос» возможен лишь в незамкнутом простран-
стве, культура же по самой своей природе строит себя как простран-
ство замкнутое. Из этого противоречия вытекает то, что[в_самой основе
идеи культуры лежит существование другого, противостоящего ей
мира. Мир этот может получать в алфавите культуры различные
названия: природы, враждебных существ^ (покойников, чужих богов,
злых духов, волшебных зверей; характерно, что «свои боги», добрые
покровительственные существа -помещаются в центре культурного
пространства, что одновременно ассоциируется с верхом универсума, а
10
вредительные существа — за пределами культуры и внизу).[Он строится
по принципу «вывернутой симметрии» и выполняет двойную, внутренне
противоречивую функцию: хаос — и враг космоса, и его постоянный
резерв, а граница между ними — и «недоступная черта», грань запредель-
ности, и место постоянных контактов и проникновений^ При этом создаю-
щиеся стереотипы «чужого, враждебного пространства» и обитающего
там «врага» могут переноситься на реальных соседей данной культуры
(чужой этнос или конфессию). В этом отношении характерно для
периодов «охоты за ведьмами», что инфернальные, запредельные связи
приписываются не далекому и проблематичному «другому», а именно
ближайшему. В процессах ведьм «соседка» и «ведьма» звучат как сино-
нимы, а архивы III отделения и вообще опыт сыскных органов показывают,
что наибольшее количество доносов, обличающих причастность к злейшим
силам, пишется на соседей и близких родственников.
[Таким образом, культура постоянно ведет «игру» с внекультурным
пространством, то помещая туда свои страхи, то делая его вместилищем
своих идеалов и постоянно созерцая себя в этом перевернутом зеркалеи
С этим связаны сюжеты посещения царства мертвых, страсть к путе-
шествиям в «неоткрытые земли» (родственность этих импульсов раскры-
вается на примере рассказа Улисса в «Аде» Данте).) Исследователь
культуры XX в. с любопытством наблюдает, как в эпоху, когда географиче-
ский резерв земных территорий был исчерпан, внекультурное простран-
ство было сконструировано в подсознании индивида, что представляло
собой часть общего поиска хаоса внутри культуры^ Одновременно от
марсиан Герберта Уэллса до современных «космических одиссей» протя-
гивается возобновленный цикл — враждебный античеловеческий мир
переносится в космос по всем законам мифологических представлений.
Настоящая книга лишь вскользь затрагивает тему порождаемых куль-
турой страхов, образы потустороннего мира и врага-античеловека. Это
потребовало бы погружения в проблемы мифологии, что не входило в план
книги, обращенной к вопросам механизмов культуры как информацион-
ного генератора. Автор счел полезным обратить внимание на эту непол-
ноту тематики в предисловии.
Книга составлена из статей, писавшихся в промежутке между 1966 и
1987 гг. Но поскольку общий план работы сложился у автора давно, можно
надеяться, что разновременность написания отдельных глав не разрушает
единства книги в целом. Опубликование отдельных частей в виде статей
в периодической печати поневоле приводило к необходимости повторения
некоторых исходных положений. В настоящем издании автор старался эти
повторы снять, что, к сожалению, оказывалось не всегда возможным,
в частности, в тех случаях, когда в разных статьях выявлялись
разные грани исходных принципов. В остальном текст печатается без
изменений.
Настоящий том представляет собой первый из задуманного издатель-
ством и автором трехтомника. Во второй должны войти статьи по истории
литературы, в третий — по теории и истории искусств: театра, драма-
тургии, кино, живописи и архитектуры. Написанные автором монографии
в план издания не входят.
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРЫ
О семиосфере
Современная семиотика переживает процесс пересмотра некоторых
основных понятий. Общеизвестно, что у истоков семиотики лежат две
научные традиции. Одна из них восходит к Пирсу — Моррису и отправ-
ляется от понятия знака как первоэлемента всякой семиотической
системы. Вторая основывается на тезисах Соссюра и Пражской школы и
кладет в основу антиномию языка и речи (текста). Однако при всем
отличии этих подходов в них есть одна существенная общность: за основу
берется простейший, атомарный элемент, и все последующее рассматри-
вается с точки зрения сходства с ним. Так, в первом случае в основу
анализа кладется изолированный знак, а все последующие семиотические
феномены рассматриваются как последовательности знаков. Вторая
точка зрения, в частности, выразилась в стремлении рассматривать
отдельный коммуникативный акт — обмен сообщением между адресантом
и адресатом — как первоэлемент и модель всякого семиотического акта.
В результате индивидуальный акт знакового обмена стал рассматриваться
как модель естественного языка, а модели естественных языков — как
универсальные семиотические модели, самое же семиотику стремились
истолковать как распространение лингвистических методов на объекты,
не включающиеся в традиционную лингвистику. Эту точку зрения, восхо-
дящую к Соссюру, с предельной четкостью выразил покойный И. И. Рев-
зин, предложивший в прениях на второй Летней школе по вторичным
моделирующим системам в Кяэрику (1966) такое определение: «Пред-
метом семиотики является любой объект, поддающийся средствам линг-
вистического описания».
Такой подход отвечал известному правилу научного мышления:
восходить от простого к сложному — и на первом этапе безусловно себя
оправдал. Однако в нем таится и опасность: эвристическая целесооб-
разность (удобство анализа) начинает восприниматься как онтологиче-
ское свойство объекта, которому приписывается структура, восходящая
от простых и четко очерченных атомарных элементов к постепенному их
усложнению. Сложный объект сводится к сумме простых.
Пройденный за последние двадцать пять лет путь семиотических
исследований позволяет на многое взглянуть иначе. Как можно теперь
предположить, четкие и функционально однозначные системы в реальном
функционировании не существуют сами по себе, в изолированном виде.
Вычленение их обусловлено лишь эвристической необходимостью.
Ни одна из них, взятая отдельно, фактически не работоспособна.
Они функционируют, лишь будучи погружены в некий семиотический
12
Семиотика культуры
континуум, заполненный разнотипными и находящимися на разном уровне
организации семиотическими образованиями. Такой континуум мы, по
аналогии с введенным В. И. Вернадским понятием «биосфера», называем
семиосферой. Следует предупредить против смешения употребляемого
В. И. Вернадским термина «ноосфера» и вводимого нами понятия
«семиосфера». Ноосфера — определенный этап в развитии биосферы,
этап, связанный с разумной деятельностью человека. Биосфера Вернад-
ского — космический механизм, занимающий определенное структурное
место в планетарном единстве. Расположенная на поверхности нашей
планеты и включающая в себя всю совокупность живого вещества,
биосфера трансформирует лучистую энергию солнца в химическую и
физическую, направленную на переработку «косной» неживой материи
нашей планеты. Ноосфера образуется, когда в этом процессе доминирую-
щее значение приобретает разум человека1. Если ноосфера имеет мате-
риально-пространственное бытие, охватывая часть нашей планеты, то
пространство семиосферы носит абстрактный характер. Это, однако,
отнюдь не означает, что понятие пространства употребляется здесь
в метафорическом смысле. Мы имеем дело с определенной сферой,
обладающей теми признаками, которые приписываются замкнутому в себе
пространству. Только внутри такого пространства оказывается возмож-
ной реализация коммуникативных процессов и выработка новой инфор-
мации.
Понимание В. И. Вернадским природы биосферы может быть полезно
для определения вводимого нами понятия, поэтому на нем следует
остановиться подробнее. В. И. Вернадский определил биосферу как
пространство, заполненное живым веществом. «Живое вещество, — писал
он, — есть совокупность живых организмов»2. Такое определение, как
кажется, дает основание полагать, что за основу берется атомарный факт
отдельного живого организма, сумма которых образует биосферу. Однако
в действительности это не так. Уже то, что живое вещество рассматри-
вается как органическое единство — пленка на поверхности планеты —
и что разнообразие ее внутренней организации отодвигается на второй
план перед единством космической функции — быть механизмом
переработки энергии, получаемой солнцем, в химическую и физическую
энергию земли, — говорит о первичности, в сознании Вернадского,
биосферы по отношению к отдельному организму. «Все эти сгущения
жизни теснейшим образом между собою связаны. Одно не может сущест-
вовать без другого. Эта связь между разными живыми пленками и
сгущениями и неизменный их характер есть извечная черта механизма
земной коры, проявляющаяся в ней в течение всего геологического
времени»3. С особенной определенностью эта мысль выражена в следую-
щей формуле: «Биосфера — имеет совершенно определенное строение,
определяющее все без исключения в ней происходящее <...). Человек,
как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как всякое
живое существо, есть функция биосферы, в определенном ее пространстве-
времени»4.
'«История научной мысли, научного знания (...) есть одновременно история
создания в биосфере новой геологической силы — научной мысли, раньше в
биосфере отсутствовавшей» (Вернадский В. И. Размышления натуралиста: Науч-
ная мысль как планетарное явление. М., 1977. Кн. 2. С. 22).
^Вернадский В. И. Биосфера: Избр. труды по биогеохимии. М., 1967. С. 350.
^Вернадский В. И. Избр. соч.: [В 6 т.). М., 1960. Т. 5. С. 101.
^Вернадский В. И. Размышления натуралиста... Кн. 2. С. 32.
О семиосфере
13
Аналогичный подход возможен и в вопросах семиотики. Можно
рассматривать семиотический универсум как совокупность отдельных
текстов и замкнутых по отношению друг к другу языков. Тогда все
здание будет выглядеть как составленное из отдельных кирпичиков.
Однако более плодотворным представляется противоположный подход:
все семиотическое пространство может рассматриваться как единый
механизм (если не организм). Тогда первичной окажется не тот или иной
кирпичик, а «большая система», именуемая семиосферой. Семиосфера
есть то семиотическое пространство, вне которого невозможно само
существование семиозиса.
Подобно тому как, склеивая отдельные бифштексы, мы не получим
теленка, но, разрезая теленка, можем получить бифштексы, — суммируя
частные семиотические акты, мы не получим семиотического универсума.
Напротив, только существование такого универсума — семиосферы —
делает определенный знаковый акт реальностью.
Семиосфера характеризуется рядом признаков.
Отграниченность. Понятие семиосферы связано с определенной семио-
тической однородностью и индивидуальностью. Оба эти понятия (одно-
родность и индивидуальность), как мы увидим, трудно определимы
формально и зависят от системы описания, но это не отменяет их
реальности и хорошей выделяемости на интуитивном уровне. Оба эти
понятия подразумевают отграниченность семиосферы от окружающего
ее внесемиотического или иносемиотического пространства.
Одним из фундаментальных понятий семиотической отграниченности
является понятие границы. Поскольку пространство семиосферы имеет
абстрактный характер, границу ее не следует представлять себе средст-
вами конкретного воображения. Подобно тому как в математике границей
называется множество точек, принадлежащее одновременно и внутрен-
нему, и внешнему пространству, семиотическая граница — сумма билинг-
виальных переводческих «фильтров», переход сквозь которые переводит
текст на другой язык (или языки), находящиеся вне данной семио-
сферы. «Замкнутость» семиосферы проявляется в том, что она не может
соприкасаться с иносемиотическими текстами или с не-текстами. Для того
чтобы они для нее получили реальность, ей необходимо перевести их на
один из языков ее внутреннего пространства или семиотизировать факты.
Таким образом, точки границы семиосферы можно уподобить чувствен-
ным рецепторам, переводящим внешние раздражители на язык нашей
нервной системы, или блокам перевода, адаптирующим данной семиоти-
ческой сфере внешний для нее мир.
Из сказанного очевидно, что понятие границы соотносительно
понятию семиотической индивидуальности. В этом смысле можно сказать,
что семиосфера есть «семиотическая личность» и разделяет такое свой-
ство личности, как соединение эмпирической бесспорности и интуитивной
очевидности этого понятия с чрезвычайной трудностью его формального
определения. Известно, что граница личности как явления историко-
культурной семиотики зависит от способа кодирования. Так, например,
жена, дети, несвободные слуги, вассалы могут в одних системах вклю-
чаться в личность мужа, хозяина и патрона, не имея самостоятельной
индивидуальности, а в других — рассматриваться как отдельные лич-
ности. Это ясно обнаруживается в релятивности юридической семиотики.
Когда Иван Грозный казнил вместе с опальным боярином не только семью,
но и всех его слуг, это было продиктовано не мнимой боязнью мести
(как будто холоп из провинциальной вотчины мог быть опасен царю!),
а представлением о том, что юридически все они составляют одно лицо
14
Семиотика культуры
с главой дома и, следовательно, казнь естественно на них распростра-
няется. Русские люди видели «грозу» — жестокость царя — в том, что он
широко применял казни к своим людям, но включение в число опальной
единицы всех представителей рода было для них естественным. Ино-
странцы же возмущались тем, что за вину одного человека страдает
другой. Еще в 1732 г. жена английского посла леди Рондо (совсем не
враждебная русскому двору и описывающая в своих посланиях доброту и
чувствительность Анны Иоанновны и благородство Бирона), сообщая
своей европейской корреспондентке о ссылке семьи Долгоруковых,
писала: «Вас, может быть, удивит ссылка женщин и детей; но здесь, когда
глава семейства впадает в немилость, то все семейство подвергается
преследованию»5. То же понятие коллективной (в данном случае —
родовой), а не индивидуальной личности лежит, например, в основе
кровной мести, когда весь род убийцы воспринимается как юридически
ответственное лицо. С. М. Соловьев убедительно связал местничество
с представлением о коллективной родовой личности: «Понятно, что при
такой крепости родового союза, при такой ответственности всех членов
рода один за другого, значение отдельного лица необходимо исчезало
пред значением рода; одно лицо было немыслимо без рода: известный
Иван Петров не был мыслим как один Иван Петров, а был мыслим как
только Иван Петров с братьями и племянниками. При таком слиянии лица
с родом, возвышалось по службе одно лицо — возвышался целый род,
с понижением одного члена рода — понижался целый род»6.
Граница семиотического пространства — важнейшая функциональная
и структурная позиция, определяющая сущность ее семиотического
механизма. Граница — билингвиальный механизм, переводящий внешние
сообщения на внутренний язык семиосферы и наоборот. Таким образом,
только с ее помощью семиосфера может осуществлять контакты с не-
семиотическим и иносемиотическим пространством. Как только мы пере-
ходим к области семантики, нам приходится апеллировать к внесемио-
тической реальности. Однако не следует забывать, что эта реальность
становится для данной семиосферы «для себя реальностью» только в той
мере, в какой она переводима на ее язык (подобно тому как внешние
химические вещества могут усваиваться клеткой, только если переведены
в свойственные ей биохимические структуры: оба случая — частные
проявления одного и того же закона).
Функция любой границы и пленки — от мембраны живой клетки до био-
сферы как (по Вернадскому) пленки, покрывающей нашу планету,
и границы семиосферы — сводится к ограничению проникновения, филь-
трации и адаптирующей переработке внешнего во внутреннее. На разных
уровнях эта инвариантная функция реализуется различным образом.
На уровне семиосферы она означает отделение своего от чужого, фильтра-
цию внешних сообщений и перевод их на свой язык, равно как и превра-
щение внешних не-сообщений в сообщения, т. е. семиотизацию посту-
пающего извне и превращение его в информацию.
С этой точки зрения, все механизмы перевода, обслуживающие внешние
контакты, принадлежат к структуре семиосферы.
В случаях, когда культурное пространство имеет территориальный
характер, граница обретает пространственный смысл в элементарном
значении. Однако смысл буферного механизма, трансформирующего
^Письма леди Рондо, жены* английского резидента при русском дворе в царство-
вание имп. Анны Иоановны / Ред. и прим. С. Н. Шубинского. Спб., 1874. С. 46.
ь Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Спб., б. г. Кн. 3. Стб. 679.
О семиосфере
15
информацию, своеобразного блока перевода, она сохраняет и в этом
случае. Так, например, когда семиосфера отождествляется с освоенным
«культурным» пространством, а внешний по отношению к ней мир —
с царством хаотических, неупорядоченных стихий, то пространственное
размещение семиотических образований в ряде случаев получает следую-
щий вид: лица, которые в силу особого дарования (колдуны). или типа
занятий (кузнец, мельник, палач) принадлежат двум мирам и являются
как бы переводчиками, поселяются на территориальной периферии, на
границе культурного и мифологического пространства, между тем как
святилище «культурных», организующих мир божеств располагается в
центре. Ср. в культуре XIX в. противопоставление центра города, вопло-
щающего господствующую социальную структуру, «разрушительной»
стихии пояса окраин, причем окраина выступает, например, в поэме
Цветаевой («Поэма заставы») и как часть города, и как принадлежащая
миру, разрушающему город. Природа ее двуязычна.
Все великие империи, граничащие с кочевниками, «степью» или
«варварами», селили на своих границах племена тех же кочевников
или «варваров», нанятые на службу охраны границы. Эти поселения
образовывали зону культурного билингвизма, обеспечивающего семиоти-
ческие контакты между двумя мирами. Ту же функцию границ семио-
сферы выполняют районы разнообразных культурных смешений: города,
торговые пути и другие области образований койне и креолизованных
семиотических структур.
Типичным механизмом границы является ситуация «пограничного
романа» типа византийского эпоса о Дигенисе или та, на которую
содержится намек в «Слове о полку Игореве». Вообще, сюжет типа
«Ромео и Джульетта» о любовном союзе, соединяющем два враждебных
культурных пространства, ясно вскрывает сущность «пограничного
механизма».
Надо иметь, однако, в виду, что если с точки зрения своего имманент-
ного механизма граница соединяет две сферы семиозиса, то с позиции
семиотического самосознания (самоописания на метауровне) данной
семиосферы она их разделяет. Осознать себя в культурно-семиотиче-
ском отношении — значит осознать свою специфику, свою противо-
поставленность другим сферам. Это заставляет акцентировать абсолют-
ность той черты, которой данная сфера очерчена.
В разные исторические моменты развития семиосферы тот или иной
аспект может доминировать, заглушая или полностью подавляя другой.
Граница имеет и другую функцию в семиосфере: она — область
ускоренных семиотических процессов, которые всегда более активно
протекают на периферии культурной ойкумены, чтобы оттуда устремиться
в ядерные структуры и вытеснить их.
Поскольку граница — необходимая часть семиосферы, семиосфера
нуждается в «неорганизованном» внешнем окружении и конструирует его
себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю
организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность
конструирует себе «варваров», а «сознание» — «подсознание». При этом
безразлично, что эти «варвары», во-первых, могли обладать культурой
значительно более древней и, во-вторых, конечно, не представляли единого
целого, образуя культурную гамму от высочайших цивилизаций древности
до племен, находящихся на весьма примитивной стадии развития. Тем
не менее античная цивилизация могла осознать себя как культурное целое,
только сконструировав этот якобы единый «варварский» мир, основным
признаком которого было отсутствие общего языка с античной
16
Семиотика культуры
культурой. Внешние структуры, расположенные по ту сторону семиоти-
ческой границы, объявляются не-структурами.
Оценка внутреннего и внешнего пространства не заданна. Значимым
является сам факт наличия границы. Так, в робинзонадах
XVIII в. мир «дикарей», находящихся вне семиотики цивилизованного
общества (ему могут приравниваться столь же искусственно сконструи-
рованные миры животных или детей — по признаку расположенности
вне «условностей» культуры, т. е. ее семиотических механизмов), оцени-
вается положительно.
Семиотическая неравномерность. Из сказанного в первом пункте видно,
что «не-семиотическое» пространство фактически может оказаться
пространством другой семиотики. То, что с внутренней точки зрения
данной культуры выглядит как внешний, не-семиотический мир, с позиции
внешнего наблюдателя может представиться ее семиотической перифе-
рией. Таким образом, то, где проходит граница данной культуры, зависит
от позиции наблюдателя.
Вопрос этот осложняется обязательной внутренней неравномерностью
как законом организации семиосферы. Семиотическое пространство
характеризуется наличием ядерных структур (чаще нескольких)
с выявленной организацией и тяготеющего к периферии более аморфного
семиотического мира, в который ядерные структуры погружены. Если
одна из ядерных структур не только занимает доминирующее положение,
но и возвышается до стадии самоописания и, следовательно, выделяет
систему метаязыков, с помощью которых она описывает не только самое
себя, но и периферийное пространство данной семиосферы, то над
неравномерностью реальной семиотической карты надстраивается
уровень идеального ее единства. Активное взаимодействие между этими
уровнями становится одним из источников динамических процессов
внутри семиосферы.
Неравномерность на одном структурном уровне дополняется смеше-
нием уровней. В реальности семиосферы иерархия языков и текстов,
как правило, нарушается: они сталкиваются как находящиеся на одном
уровне. Тексты оказываются погружены в не соответствующие им языки,
а дешифрующие их коды могут вовсе отсутствовать. Представим себе
залу музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных веков,
надписи на известных и неизвестных языках, инструкции по дешифровке,
составленный методистами пояснительный текст к выставке, схемы
маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей. Если мы сюда
поместим еще самих посетителей с их семиотическим миром, то получится
нечто напоминающее картину семиосферы.
Структурная неоднородность семиотического пространства образует
резервы динамических процессов и является одним из механизмов
выработки новой информации внутри сферы. В периферийных участках,
менее всего организованных и обладающих гибкими, «скользящими»
конструкциями, динамические процессы встречают меньше сопротивления
и, следовательно, развиваются быстрее. Создание метаструктурных
самоописаний (грамматик) является фактором, резко увеличивающим
жесткость структуры и замедляющим ее развитие. Между тем участки,
не подвергшиеся описанию или описанные в категориях явно неадекватной
им «чужой» грамматики, развиваются быстрее. Это подготавливает
в будущем перемещение функции структурного ядра на периферию
предшествующего этапа и превращение бывшего центра в периферию.
Наглядно процесс.этот можно проследить на географическом переме-
щении центров и «окраин» мировых цивилизаций.
О семиосфере
17
Деление на ядро и периферию — закон внутренней организации
семиосферы. В ядре располагаются доминирующие семиотические
системы. Однако если факт такого разделения абсолютен, то формы,
в которые он облекается, семиотически релятивны и в значительной
степени определены избранным метаязыком описания — зависимостью от
того, имеем ли мы дело с самоописанием (описанием с внутренней точки
зрения и в терминах, выработанных в процессе саморазвития данной
семиосферы), или оно ведется внешним наблюдателем в категориях другой
системы.
Периферийные семиотические образования могут быть представлены не
замкнутыми структурами (языками), а их фрагментами или даже
отдельными текстами. Выступая в качестве «чужих» для данной системы,
эти тексты выполняют в целостном механизме семиосферы функцию
катализатора. С одной стороны, граница с чужим текстом всегда является
областью усиленного смыслообразования. С другой, любой обломок
семиотической структуры или отдельный текст сохраняет механизмы
реконструкции всей системы. Именно разрушение этой целостности вызы-
вает ускоренный процесс «воспоминания» — реконструкции семиотиче-
ского целого по его части. Эта реконструкция утраченного уже языка,
в системе которого данный текст приобрел бы осмысленность, всегда
практически оказывается созданием нового языка, а не воссозданием
старого, как это выглядит с точки зрения самосознания культуры.
Постоянное наличие в культуре определенного запаса текстов с утра-
ченными кодами приводит к тому, что процесс создания новых кодов
субъективно часто воспринимается как реконструкция («припоминание»).
Структурная неравномерность внутренней организации семиосферы
определяется, в частности, тем, что, будучи гетерогенной по природе, она
развивается с различной скоростью в различных своих участках. Разные
языки имеют различное время и различную величину циклов; так, естест-
венные языки развиваются значительно медленнее, чем ментально-
идеологические структуры. Поэтому о синхронности протекающих в них
процессов не может быть и речи.
Таким образом, семиосфера многократно пересекается внутренними
границами, специализирующими ее участки в семиотическом отношении.
Информационная трансляция через эти границы, игра между различными
структурами и подструктурами, направленные непрерывные семиотиче-
ские «вторжения» той или иной структуры на «чужую территорию»
образуют порождения смысла, возникновение новой информации.
Внутреннее разнообразие семиосферы подразумевает ее целостность.
Части входят в целое не как механические детали, а как органы в
организм. Существенной особенностью структурного построения ядерных
механизмов семиосферы является то, что каждая ее часть сама пред-
ставляет собой целое, замкнутое в своей структурной самостоятельности.
Связи ее с другими частями сложны и отличаются высокой степенью
деавтоматизации. Более того, на высших уровнях они приобретают
характер поведения, т. е. получают способность самостоятельного выбора
программы деятельности. По отношению к целому они, находясь на
других уровнях структурной иерархии, обнаруживают свойство изомор-
физма. Таким образом, они являются одновременно и частью целого, и его
подобием. Для прояснения этого отношения можно прибегнуть к образу,
использованному в другой связи в конце XIV в. чешским писателем
Томашем Штитным. Подобно тому как лицо, целиком отражаясь в
зеркале, отражается так же и в любом из его осколков, которые, таким
образом, оказываются и частью, и подобием целого зеркала, в целостном
18
Семиотика культуры
семиотическом механизме отдельный текст в определенных отношениях
изоморфен всему текстовому миру и существует отчетливый параллелизм
между индивидуальным сознанием, текстом и культурой в целом. Верти-
кальный изоморфизм, существующий между структурами, расположен-
ными на разных иерархических уровнях, порождает количественное
возрастание сообщений. Подобно тому как объект, отраженный в зеркале,
порождает сотни отражений в его осколках, сообщение, введенное в
целостную семиотическую структуру, тиражируется на более низких
уровнях. Система способна превращать текст в лавину текстов.
Однако выработка принципиально новых текстов требует иного меха-
низма. Здесь необходимы контакты принципиально иного типа. Механизм
изоморфизма строится здесь иным образом. Поскольку имеется в виду
не простой акт передачи, а о б м е н, то между его участниками должно
быть не только отношение подобия, но и определенное различие. Можно
было бы сформулировать простейшее условие этого вида семиозиса
следующим образом: участвующие в нем субструктуры должны быть не
изоморфны друг другу, но порознь изоморфны третьему элементу более
высокого уровня, в систему которого они входят. Так, например,
словесный и иконический язык рисованных изображений не изоморфны
друг другу. Но каждый из них, в разных отношениях, изоморфен
внесемиотическому миру реальности, отображением которого на неко-
торый язык они являются. Это делает возможным, с одной стороны,
обмен сообщениями между этими системами, а с другой, нетривиальную
трансформацию сообщений и процессов их перемещения.
Наличие двух сходных и одновременно различных партнеров комму-
никации — важнейшее, но не единственное условие возникновения
диалогической системы. Диалог включает в себя взаимность и обоюдность
в обмене информацией. Но для этого нужно, чтобы время передачи
сменялось временем приема'. А это подразумевает дискретность — воз-
можность делать перерывы в информационной передаче. Способность
выдавать информацию порциями является всеобщим законом диалогиче-
ских систем — от выделения собаками пахучих веществ в моче до обмена
текстами в человеческой коммуникации. Следует иметь в виду, что
дискретность может возникать на уровне структуры там, где в материаль-
ной ее реализации существует циклическая смена периодов высокой
активности и периодов максимального ее снижения. Фактически можно
сказать, что дискретность в семиотических системах возникает при
описании циклических процессов языком дискретной структуры.
Так, например, в истории культуры можно выделить периоды, когда то или
иное искусство, находясь на высшей точке активности, транслирует свои
тексты в другие семиотические системы. Однако периоды эти сменяются
другими, когда данный род искусства как бы переходит «на прием». Это
не означает, что при описании изолированной истории данного искусства
мы сталкиваемся здесь с перерывом: изучаемое имманентно, оно будет
выглядеть как непрерывное. Но стоит нам задаться целью описать
ансамбль искусств в рамках какой-либо эпохи, как мы отчетливо
обнаружим экспансию одних и «как бы перерыв» в истории других.
Этот же феномен может объяснять еще одно, хорошо известное историкам
культуры, но теоретически не осмысленное явление: согласно большин-
7См.: Newson J. Dialogue and Development // Action, Gesture and Symbol:
The Emergence of Language / Ed. by A. Lock. London; New York; San Francisco,
1978. P. 33.
О семиосфере
19
ству культурологических теорий, такие явления, как Ренессанс, барокко,
классицизм или романтизм, будучи порождены универсальными для
данной культуры факторами, должны диагностироваться синхронно в
области разных художественных — и, шире, интеллектуальных
проявлений. Однако реальная история культуры дает совсем иную
картину: время наступления подобных эпохальных явлений в разных
родах искусств выравнивается лишь на метауровне культурного самосоз-
нания, переходящего потом в исследовательские концепции. В реальной
же ткани культуры несинхронность выступает не как случайное откло-
нение, а как регулярный закон. Транслирующее устройство, находящееся
в апогее свой активности, вместе с тем проявляет черты новаторства и
динамизма. Адресаты, как правило, еще переживают предшествующий
культурный этап. Бывают и другие, более сложные отношения, но неравно-
мерность имеет характер универсальной закономерности. Именно благо-
даря ей непрерывные, с имманентной точки зрения, процессы развития
с общекультурной позиции выступают как дискретные.
То же можно наблюдать и в отношении больших ареальных куль
турных контактов: процесс культурного воздействия Востока на Запад и
Запада на Восток связан с несинхронностыо синусоид их имманентного
развития и для внешнего наблюдателя представляется дискретной
сменой разнонаправленных активностей.
Такая же система отношений наблюдается и в других разнообразных
диалогах, например, центра и периферии культуры, ее верха и низа.
То, что пульсация активности на более высоком структурном уровне
выступает как дискретность, не будет нас удивлять, если мы вспомним,
что границы между фонемами существуют лишь на фонологическом,
но отнюдь не на фонетическом уровне и не существуют на звуковой
осциллограмме речи. То же можно сказать и относительно других
структурных границ, например, между словами.
Наконец, диалог должен обладать еще одним свойством: поскольку
транслируемый текст и полученный на него ответ должны образовывать,
с некоторой третьей точки зрения, единый текст, а при этом каждый
из них, со своей точки зрения, не только представляет отдельный текст,
но имеет тенденцию быть текстом на другом языке, транслируемый
текст должен, упреждая ответ, содержать в себе элементы перехода
на чужой язык. Иначе диалог невозможен. Джон Ньюсон в цитированной
выше статье показал, как в диалоге между кормящей матерью и грудным
младенцем происходит взаимный переход на язык чужой мимики и рече-
вых сигналов. В этом, кстати, отличие диалога от односторонней
дрессуры.
С этим связано, например, то, что литература XIX в. для того чтобы
оказать мощное воздействие на живопись, должна была включить в свой
язык элементы живописности. Аналогичные явления происходят и при
ареальных культурных контактах.
Диалогический (в широком смысле) обмен текстами не является
факультативным явлением семиотического процесса. Утопия изолиро-
ванного Робинзона, созданная мышлением XVIII в., противоречит совре-
менному представлению о том, что сознание есть обмен сообщениями —
от обмена между полушариями большого мозга человека до обмена
между культурами. Сознание без коммуникации невозможно. В этом
смысле можно сказать, что диалог предшествует языку и порождает его.
Именно это и лежит в основе представления о семиосфере: ансамбль
семиотических образований предшествует (не эвристически, а функцио-
нально) отдельному изолированному языку и является условием сущест-
20
Семиотика культуры
вования последнего. Без семиосферы язык не только не работает, но и
не существует. Различные субструктуры семиосферы связаны во взаимо-
действии и не могут работать без опоры друг на друга.
В этом смысле семиосфера современного мира, которая, неуклонно
расширяясь в пространстве на протяжении веков, приняла ныне глобаль-
ный характер, включает в себя и позывные спутников, и стихи поэтов,
и крики животных. Взаимосвязь этих элементов семиотического
пространства не метафора, а реальность.
Семиосфера имеет диахронную глубину, поскольку она наделена
сложной системой памяти и без этой памяти функционировать не может.
Механизмы памяти имеются не только в отдельных семиотических
субструктурах, но и у семиосферы как целого. Несмотря на то что нам,
погруженным в семиосферу, она может представляться хаотическим
неурегулированным объектом, набором автономных элементов, следует
предположить наличие у нее внутренней урегулированности и
функциональной связанности частей, динамическое соотнесение которых
образует поведение семиосферы. Предположение это отвечает
принципу экономии, т. к. без него очевидный факт отдельных комму-
никаций делается трудно объяснимым.
Динамическое развитие элементов семиосферы (субструктур) направ-
лено в сторону их спецификации и, следовательно, увеличения ее
внутреннего разнообразия. Однако целостность ее при этом не разру-
шается, поскольку в основе всех коммуникативных процессов лежит
инвариантный принцип, делающий их подобными между собой. Этот
принцип строится на сочетании симметрии—асимметрии (на уровне
языка эта структурная черта была охарактеризована Соссюром как
«механизм сходств и различий») с периодической сменой апогеев и
затуханий в протекании всех жизненных процессов в любых их формах.
По сути и эти два принципа могут быть сведены к более общему единству:
симметрия—асимметрия может рассматриваться как расчленение не-
которого единства плоскостью симметрии, в результате чего возникают
зеркально отраженные структуры — основа последующего роста разно-
образия и функциональной спецификации. Цикличность же имеет
в основе своей вращательное движение вокруг оси симметрии.
Сочетание этих двух принципов наблюдается на самых разных уров-
нях — от противопоставления цикличности (осевой симметрии) в мире
космоса и атомного ядра однонаправленному движению, господствую-
щему в животном мире и являющемуся результатом плоскостной симмет-
рии, до антитезы мифологического (циклического) и исторического
(направленного) времени.
Поскольку сочетание этих принципов имеет структурный характер,
выходящий за рамки не только человеческого общества, но и живого мира,
и позволяет установить подобие самых общих структур, например,
поэтическому произведению, то, естественно, напрашивается вопрос:
не является ли весь универсум сообщением, входящим в еще более
общую семиосферу? Не подлежит ли вселенная прочтению? Ответить
на этот вопрос мы вряд ли будем когда-либо способны. Возможность
диалога подразумевает одновременно и разнородность, и однородность
элементов. Разнородность семиотическая подразумевает разнородность
структурную. В этом отношении структурное разнообразие семиосферы
составляет основу ее механизма. Вероятно, так применительно к интере-
сующей нас проблематике следует истолковать принцип, который
В. И. Вернадский назвал «принципом П. Кюри—Пастера» и считал
одним «из основных принципов логики науки — понимания природы»:
О семиосфере
21
«Диссимметрия может вызываться только причиной, которая сама уже
обладает этой диссимметрией»8.
Наиболее простым и одновременно распространенным случаем соеди-
нения структурного тождества и различия является энантиоморфизм,
зеркальная симметрия, при которой обе части зеркально равны, но
неравны при наложении, т. е. относятся друг к другу как правое и
левое. Такое отношение создает то соотносимое различение., которое
отличается и от тождества, делающего диалог бесполезным, и от несоотно-
симого различия, делающего его невозможным. Если диалогические
коммуникации — основа смыслообразования, то энантиоморфные раз-
деления единого и сближения различного — основа структурного
соотношения частей в смыслопорождающем устройстве9.
Зеркальная симметрия создает необходимые отношения структурного
разнообразия и структурного подобия, которые позволяют построить
диалогические отношения. С одной стороны, системы не тождественны и
выдают различные тексты, а с другой, они легко преобразуются друг
в друга, что обеспечивает текстам взаимную переводимость. Если можно
сказать, что для того, чтобы диалог был возможен, участники его
должны одновременно быть различными и иметь в своей структуре
семиотический образ контрагента10, то энантиоморфизм является элемен-
тарной «машиной» диалога.
Доказательством того, что простая зеркальная симметрия коренным
образом меняет функционирование семиотического механизма, является
палиндром. Явление это мало изучалось, т. к. рассматривалось как
поэтическая забава — плод «игрового словесного искусства»11, порой
открыто пейоративно как «жонглирование словом»12. Между тем даже
поверхностное рассмотрение этого явления позволяет выявить весьма
серьезные проблемы. Нас в данном случае интересует не свойство
палиндрома сохранять смысл слова или группы слов при чтении как в
прямом, так и в обратном направлении, а то, как меняются при этом
механизмы текстообразования и, следовательно, сознания.
Напомним анализ китайского палиндрома, проведенный академиком
В. М. Алексеевым. Указав, что китайский иероглиф, взятый изоли-
рованно, дает представление лишь о смысловом гнезде, а конкретно-
семантические и грамматические его характеристики раскрываются лишь
в соотношении с текстовой цепочкой и что без порядка слов-знаков
нельзя определить ни их грамматических категорий, ни реального
смыслового наполнения, конкретизирующего очень общую абстрактную
семантику изолированного иероглифа, В. М. Алексеев показывает пора-
зительные грамматико-смысловые сдвиги, которые происходят в китай-
ском палиндроме в зависимости от того, в каком направлении его читать.
В китайском «палиндроме (т. е. обратном порядке слов нормального
стиха) все китайские слого-слова, оставаясь пунктуально на своих
местах, призваны играть уже другие роли, как синтаксические, так и
^Вернадский В. И. Правизна и левизна // Вернадский В. И. Размышления
натуралиста... Кн. 2. С. 149.
9См.: Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М.,
1978.
"'См. об этом: Падучева Е. В. Тема языковой коммуникации в сказках
Льюиса Кэрролла // Семиотика и информатика. М., 1982. Вып. 18.
"Квлткоиский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 190.
У1Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В.
Тураев. М., 1974. С. 257.
22
Семиотика культуры
семантические»13. Из этого В. М. Алексеев делал интересный вывод
методического характера: именно палиндром представляет собой бес-
ценный материал для изучения грамматики китайского языка. «Выводы
ясны: 1). Палиндром есть наилучшее из возможных средств иллюстри-
ровать взаимосвязь китайских слого-слов, не прибегая к искусственному
же, но не искусному, бездарному, грубо аудиторному опыту перемещений и
сочетаний для упражнения учащихся в китайском синтаксисе. 2). Палинд-
ром является (...) наилучшим китайским материалом для построения
теории китайского (а может быть, и не только китайского) слова и про-
стого предложения»14.
Наблюдения над русским палиндромом подводят к другим выводам.
С. Кирсанов в небольшой заметке сообщает исключительно интересные
самонаблюдения над проблемой психологии автора русских палиндромов.
Он сообщает, как «еще гимназистом» он «непроизвольно сказал про себя:
«Тюлень не лют» — вдруг заметил, что эта фраза читается и в обратном
порядке. С тех пор я часто стал ловить себя на обратном чтении слов».
«Со временем я стал видеть слова «целиком», и такие саморифмующиеся
слова и их сочетания возникали непроизвольно»15.
Итак, механизм русского палиндрома состоит в том, чтобы слово
видеть. Это позволяет его потом читать в обратном порядке. Про-
исходит весьма любопытная вещь: в китайском языке, где слово-иероглиф
как бы скрывает свою морфо-грамматическую структуру, чтение в проти-
воположном порядке способствует выявлению этой скрытой конструк-
ции, представляя целостное и зримое как скрытый последовательный
набор структурных элементов. В русском же языке он
требует способности «видеть слова целиком», т. е. воспринимать их как
целостный рисунок, своего рода иероглиф. Китайский палиндром
переводит зримое и целостное в дискретное и аналитически дифференци-
рованное, русский — активизирует прямо противоположное: зримость и
целостность. То есть чтение в противоположном направ-
лении активизирует механизм другого полушар-
ного сознания. Элементарный факт энантиоморфического пре-
образования текста меняет тип соотнесенного с ним сознания.
Таким образом, восприятие палиндрома как бесполезного «жонглер-
ства», бессмысленного штукарства напоминает мнение петуха из басни
Крылова о жемчужном зерне. Уместно вспомнить и мораль этой басни:
Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то все у них пустяк16.
Палиндром активизирует скрытые пласты языкового сознания и является
исключительно ценным материалом для экспериментов по проблемам
функциональной асимметрии мозга. Палиндром не бессмыслен17, а много-
смыслен. На более высоких уровнях противоположному чтению припи-
пАлексеев В. М. Китайский палиндром в его научно-педагогическом использо-
вании // Памяти академика Льва Владимировича Щербы. Л., 1951. С. 95.
14Там же. С. 102.
^Кирсанов С. Поэзия и палиндромон // Наука и жизнь. 1966. №7. С. 76.
16Крылов И. А. Поли. собр. соч.: [В 3 т.]. М., 1946. Т. 3. С. 51.
|7С. Калачева в заметке, написанной с позиции крыловского персонажа, так
комментирует поэму Хлебникова «Разин»: «Значение, смысл слов и словосочетаний
перестает интересовать автора (...). Набор этих строк мотивирован лишь тем, что
его можно с одинаковым успехом читать справа налево и слева направо»
(Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. С. 441).
О семиосфере
23
сывается магическое, сакральное, тайное значение. Текст при «нормаль-
ном» чтении отождествляется с «открытой», а при обратном — с эзотери-
ческой сферой культуры. Показательно использование палиндромов в
заклинаниях, магических формулах, надписях на воротах и могилах,
т. е. в пограничных и магически активных местах культурного простран-
ства — районах столкновения земных (нормальных) и инфернальных
(обратных) сил. А авторство известного латинского палиндрома епископ
и поэт Сидоний Аполлинарий приписывал самому дьяволу:
Signa te signa, temere me tangis et angis.
Roma tibi subito motibus ibit amor.
(Крестись, крестись, того не зная, ты этим меня задеваешь и давишь.
Рим, этими знаками-жестами ты внезапно призываешь к себе любовь.)
Зеркальный механизм, образующий симметрично-асимметричные пары,
имеет столь широкое распространение во всех смыслопорождающих
механизмах, что его можно назвать универсальным, охватывающим
молекулярный уровень и общие структуры вселенной, с одной стороны,
и глобальных созданий человеческого духа, с другой. Для явлений,
охватываемых понятием «текст», он, бесспорно, универсален. Для парал-
лели к антитезе сакрального (прямого) и инфернального (обратного)
построения характерна пространственная зеркальность выпуклого
Чистилища и вогнутого Ада, которые повторяют у Данте конфигурацию
друг друга как форма и ее заполнение. Как палиндромное построение
сюжета можно рассматривать композицию «Евгения Онегина», где при
движении в одном направлении «она» любит «его», выражает свою
любовь в письме, но встречает холодную отповедь, а при противо-
положном отражении «он» любит «ее», выражает свою любовь в письме
и встречает, в свою очередь, отповедь. Подобное повторение сюжета
характерно для Пушкина18. Так, в «Капитанской дочке» сюжет склады-
вается из двух путешествий: Гринева к мужицкому царю для спасения
попавшей в беду Маши, а затем Маши — к дворянской царице для
спасения Гринева19. Аналогичными механизмами на уровне персонажей
являются наводнившие романтическую и постромантическую литературу
Европы XIX в. двойники, часто непосредственно связанные с темой
зеркала и отражения.
Разумеется, все эти симметрии—асимметрии — лишь механизмы смы-
слопорождения, и, как билатеральная асимметрия человеческого мозга,
характеризуя механизм мышления, не предопределяет его содержания,
они определяют семиотическую ситуацию, но не содержание того или
иного сообщении.
Приведем еще один пример того, как зеркальная симметрия меняет
природу текста. Н. Тарабукин открыл закон живописной композиции,
согласно которому ось диагонали из правого нижнего в левый верхний
угол картины создает эффект пассивности, а противоположная — из
левого нижнего в правый верхний — активности и напряженности.
«Интересна с рассматриваемой точки зрения общеизвестная картина
Жерико «Плот Медузы». Композиция ее построена на двух перемежаю-
щихся диагоналях — пассивной и активной. Линия движения плота, гони-
мого ветром, намечена справа налево в глубину. Она олицетворяет
стихийные силы природы, которые увлекают горсточку беспомощных
58 См.: Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 101 и след.
111 См.: Лотман Ю. М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Пушкин-
ский сборник Псков, 1962.
24
Семиотика культуры
людей, потерпевших кораблекрушение. По противоположной, активной
линии, художник расставил несколько человеческих фигур, которые
собирают последние усилия, чтобы выбраться из трагического положения.
Они не прекратили борьбы. Подняв высоко над собою одного человека,
они заставляют его размахивать платком, чтобы привлечь к себе внимание
корабля, проходящего вдали на горизонте»20. Из сказанного вытекает
экспериментально подтвержденный факт: одна и та же картина, пере-
веденная при отпечатке гравюры в зеркальную симметрию, меняет
эмоционально-смысловой акцент на противоположный.
Причина отмеченных явлений в том, что отражаемые объекты имеют
в своей внутренней структуре плоскости симметрии и асимметрии. При
энантиоморфическом преобразовании плоскости симметрии нейтрали-
зуются и ничем себя не проявляют, а асимметрии становятся структур-
ным признаком. Поэтому зеркально-симметричная парность является эле-
ментарной структурной основой диалогического отношения.
Закон зеркальной симметрии — один из основных структурных
принципов внутренней организации смыслопорождающего устройства.
К нему относятся на сюжетном уровне такие явления, как параллелизм
«высокого» и комического персонажей, появление двойников, параллель-
ные сюжетные ходы и другие хорошо изученные явления удвоений
внутритекстовых структур. С этим же связаны магическая функция
зеркала и роль мотива зеркальности в литературе и живописи. Такую же
природу имеет и явление «текста в тексте»21. С этим же можно сопоставить
рассмотренное нами в другом месте явление, наблюдаемое на уровне
целостных национальных культур: процесс взаимного ознакомления и
включения в некоторый общий культурный мир вызывает не только
сближение отдельных культур, но и их специализацию — войдя в неко-
торую культурную общность, культура начинает резче культивировать
свою самобытность. В свою очередь, и другие культуры кодируют ее как
«особую», «необычную». Изолированная культура «для себя» всегда
«естественна» и «обычна». Лишь сделавшись частью более обширного
целого, она усваивает внешнюю точку зрения на себя как специфическую.
При этом культурные общности типа «Запад» и «Восток» складываются
в энантиоморфные пары с «работающей» функциональной асимметрией.
Поскольку все уровни семиосферы — от личности человека или
отдельного текста до глобальных семиотических единств — являют собой
как бы вложенные друг в друга семиосферы, каждая из них представляет
собой одновременно и участника диалога (часть семиосферы) и
правизны или левизны и включаем и сеии на ou.kv низким уровне
правые и левые структуры.
Выше мы определили основу структурного построения семиосферы как
пересечение пространственной симметрии—асимметрии и синусоидной
смены интенсивности и затухания временных процессов, что порождает
дискретность. После всего сказанного мы можем свести эти две оси
к одной: проявлению правизны—левизны, что от генетико-молекулярного
уровня до самых сложных информационных процессов является базой
диалога — основы всех смыслопорождающих процессов.
20 Тарабукин Н. Смысловое значение диагональных композиций в живописи //
Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т. 6. С. 479. (Учен. зап. Тарт. гос.
ун-та. Вып. 308).
21 См. статьи Вяч. Вс. Иванова, П. X. Торопа, Ю. И. Левина, Р. Д. Тименчнка
и автора этих строк в сб. «Текст в тексте» (Труды по знаковым системам. Тарту,
1981. Т. 14; Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 567).
Мозг — текст — культура...
25
Мозг — текст — культура —
искусственный интеллект
Нам говорят: безумец и фантаст,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст.
Гете. Фауст. II часть
.(Пер. Б. Пастернака)
1. Вопросы моделирования искусственного интеллекта весьма ослож-
няются неопределенностью самого понятия «интеллект». Здесь невольно
приходит на память эпизод, рассказанный Андреем Белым. Его отец,
известный математик Н. В. Бугаев, однажды председательствовал
«на заседании, где читался доклад об интеллекте животных. Отец,
председатель, прервал референта вопросом, знает ли он, что такое интел-
лект; обнаружилось: референт не знает; тогда отец начал спрашивать
сидящих в первом ряду:
— Вы?
-Вы?
Никто не знал. Отец объявил: «В виду того, что никто не знает, что есть
интеллект, не может быть речи об интеллекте животных. Объявляю
заседание закрытым»1.
Неопределенность, которая царит до сих пор в этом вопросе,
в значительной мере связана с тем, что единственным реально данным
нам интеллектуальным объектом до сих пор предполагался механизм
индивидуального сознания человека. Поскольку объект этот не вклю-
чается ни в какой ряд, оставаясь уникальным, изучение его чрезвычайно
затруднялось: что в нем принадлежит сознанию как таковому, а что
следует отнести за счет случайной и частной его формы — человеческого
сознания — оказывалось практически невыяснимым. Неясность исходного
понятия — «интеллект» — влечет за собой ряд последствий. В частности,
открытым остается вопрос о том, в какой мере, моделируя отдельные
элементарные звенья мыслительного процесса или формализуя отдель-
ные аспекты логического сознания, мы действительно приближаемся
к построению искусственного автономного интеллекта. Накапливая и
складывая отдельные кирпичики (что, конечно, само по себе, безо
всякого сомнения, имеет научную ценность), получим ли мы в конечном
итоге «мыслящее устройство», или же перед нами окажется лишь
усовершенствованный придаток к интеллекту человека?
2. Рассматривая реально данные в человеческой культуре виды
коммуникаций и текстов, мы можем выделить две группы ситуаций:
а) ситуации, когда целью коммуникативного акта является передача
константной информации. В этих случаях ценность всей системы опреде-
ляется тем, в какой мере текст — без потерь и искажений — передается
от адресанта к адресату. Следовательно, вся система ориентирована на
максимальное понимание, всякое несовпадение между кодом гово-
рящего и слушающего — источник непонимания — будет рассматриваться
как помеха. Текст в этом случае — некий пассивный носитель вложенного
1 Белый А. На рубеже двух столетий. 2-г ц ,д. М.; Л., 1931. С. 71—72.
26
Семиотика культуры
в него смысла, выполняющий роль своеобразной упаковки, функция
которой — донести без потерь и изменений (всякое изменение есть
потеря) некоторый смысл, который в абстракции предполагается суще-
ствующим еще до текста. В структурном отношении текст в данном его
аспекте — материализация языка: все, что нерелевантно для языка,
является в тексте случайным и не может быть носителем смысла.
Изменения, которым может подвергаться текст в процессе коммуни-
кации, в этих случаях делятся на закономерные и незакономерные.
Первые совершаются в соответствии с заложенными в структуре коммуни-
кации алгоритмами и имеют обратимый характер. Из любой формы
трансформации можно однозначно получить текст в его исходном виде.
Вторые — ошибки, описки — являются коммуникативными паразитами и
«снимаются» как неструктурные. Исходная структура языка выступает
как механизм устойчивости, гарантирующий текст от искажений. К неза-
кономерным трансформациям относятся не только все виды шума, но все
виды непонимания. Индивидуальная вариативность кодирующих уст-
ройств, затрудняющая адекватность понимания, также рассматри-
вается как вульгарная помеха, для снятия которой должны быть мобили-
зованы механизмы языковой устойчивости.
Идеальным видом такой коммуникации является общение с помощью
метаязыков или пользование искусственными языками, а идеальным
текстом, с этой точки зрения, будет текст на мета- или искусственном
языке. Все остальные тексты (тексты на естественных языках и, особенно,
на языках искусства) в этом аспекте будут выглядеть как «неэффек-
тивные»;
б) ситуации, когда целью коммуникационного акта является выработка
новой информации. Здесь ценность системы определяется нетривиаль-
ным сдвигом значения в процессе движения текста от передающего
к принимающему. Нетривиальным мы называем такой сдвиг значения,
который однозначно не предсказуем и не задан определенным алгоритмом
трансформации текста. Текст, получаемый в результате такого сдвига,
мы будем называть новым. Возможность образования новых текстов
определяется как случайностями и ошибками, так и различием и непере-
водимостью кода исходного текста и того, в направлении которого
совершается перекодировка. Если между кодом исходного текста и кодом
перевода нет однозначного соответствия, а существует лишь условная
эквивалентность (без этого перевод вообще невозможен), то возникаю-
щий в результате такой трансформации текст будет в определенном
отношении предсказуем, но одновременно и непредсказуем. Коды будут
здесь выступать не как жесткие системы, а в качестве сложных иерархий,
причем определенные уровни у них должны быть общими и образовы-
вать пересекающиеся множества, но на других уровнях нарастает гамма
непереводимости, разнообразных конвенций с разной степенью услов-
ности. Это исключает возможность при обратном переводе получить
исходный текст, что и есть механизм возникновения новых текстов.
Нетрудно заметить, что сами понятия коммуникации и текста в этих
ситуациях имеют различное содержание. В первой коммуникация мыс-
лится как моноязычная (одноканальная) система, а текст — материа-
лизация некоторого одного языка. Во второй минимальное условие —
наличие двух языков, достаточно близких, чтобы перевод был воз-
можен, и настолько далеких, чтобы он не был тривиальным, а текст --
многоязычное, многократно зашифрованное образование, которое в
рамках любого из отдельно взятых языков раскрывается лишь час-
тично. Текст в том значении, которое вкладывается в него в ситуациях
Мозг — текст — культура...
27
«б», богаче и сложнее любого из языков, поскольку представляет собой
устройство, в котором сталкиваются и сополагаются языки.
3. Текст в этом втором значении обладает семиотической неодно-
родностью и, как следствие этого, способностью генерировать новые
сообщения. Роль его отличается активностью: он всегда «знает больше»,
чем исходное сообщение.
В ситуациях «а» информационный процесс мыслится по следующей
схеме: некоторый «смысл» кодируется с помощью определенной языковой
системы и получает материальное бытие в виде текста. Текст передается
адресату, который декодирует его по той же системе и получает исходный
смысл. В случае «б» схема приобретает иной вид. Простейшей формой
является следующая: в коммуникационную цепь вводится текст Ti, т. е.
текст простейшего типа. Он поступает в блок нетривиального перевода
(БНП), где трансформируется в Т(. БНП представляет собой двуязычное
устройство с нежесткими правилами эквивалентностей между языками.
Одним из реально данных нам БНП является текст Тг, т. е. текст в значе-
нии «б». В качестве примера Т2 можно назвать художественный текст —
многоязычное устройство со сложными и нетривиальными отношениями
между субтекстами (структурными аспектами, которые высвечиваются на
фоне какого-либо одного из языков). Будучи вырван из коммуникацион-
ных связей, Тг «не работает». Но стоит включить его в коммуникационную
структуру, начать пропускать через него внешние сообщения, как он
начинает функционировать как генератор новых сообщений и текстов.
Стоит снять с полки «Гамлета», прочесть его или поставить на сцене,
подключив к нему читателя или зрителя, как он начнет функционировать
в качестве генератора новых и по отношению к автору, и по отношению
к аудитории, и по отношению к нему самому сообщений. Последнее
качество настолько важно, с одной стороны, и поразительно, с другой,
что в него стоит вдуматься.
Частным следствием различия между Ti и Тг является то, что для
последнего различение системного и внесистемного приобретает исключи-
тельно релятивный характер. Более того, Тг выступает не только как
генератор текстов, но и, превращая индивидуальные черты своего
текста в новый резерв полиглотизма, — как генератор языков. Если
в ситуации «а» язык порождает текст, то в ситуации «б» текст может
порождать новые языки. В реальной истории культуры мы неоднократно
сталкиваемся со случаями, когда появление текста предшествует
появлению языка и стимулирует это последнее.
4. Следует отметить, что текст типа Тг обнаруживает черты интеллек-
туального устройства: он обладает памятью, в которой он может концент-
рировать свои предшествующие значения, и одновременно он проявляет
способность, включаясь в коммуникативную цепь, создавать новые нетри-
виальные сообщения. Если принять определение разумной души, которое
дал Гераклит Эфесский: «Психее присущ самовозрастающий логос»,
то Тг может рассматриваться как один из объектов, обладающих этим
свойством.
Вопрос о «памяти текста», несмотря на его исключительную сложность,
уже находится в определенной — хотя все еще начальной — стадии
рассмотрения (ср. введенное М. М. Бахтиным понятие «память жанра»).
Более неожиданным может показаться представление о тексте как мысля-
щем устройстве. Основным возражением здесь может быть указание на то,
что текст сам по себе, взятый изолированно, не вырабатывает
новых сообщений и что для этого сквозь него должен быть пропущен
какой-либо другой текст, что практически реализуется, когда к тексту
28
Семиотика культуры
«подключается» читатель, хранящий в памяти некоторые предшествую-
щие сообщения.
Это возражение нетрудно отвести. «Самовозрастающий логос» не
подразумевает, а исключает изолированность. Мыслящее устройство
не может работать в изоляции. Это подтверждается и индивидуальным
«естественным разумом» (в значении, параллельном термину «естествен-
ный язык»), и вторичным коллективным разумом культуры. Все известные
науке случаи вырастания детей в полной изоляции от человеческого
коллектива и поступающих извне человеческих текстов убеждают,
что физиологически совершенно исправная машина мышления в этих
случаях остается не запущенной в работу. Роль пускового механизма
играет поступающий извне текст, который приводит индивидуальное
сознание в движение. В этом смысле парадокс: «Сознанию должно
предшествовать сознание» — звучит как тривиальная истина. Вопрос
этот фактически был уже детально обсужден в споре госпожи Проста-
ковой с ее крепостным, портным Тришкой: «Г-ж а Простаков а:
...Портной учился у другого, другой у третьего, да перво-ет портной у кого
же учился? Говори, скот. Тришка: Да перво-ет портной, может быть,
шил хуже и моего»2. Т. е. «первый портной» еще не был портным. Для того
чтобы появился «портной», нужно, чтобы до него «портной» уже был.
Здесь выступает альтернатива мелких количественных накоплений,
характер которых в процессе зарождения сознания для нас остается
довольно темным, и быстрой цепной реакции интеллектуального развития,
которая порождается введением извне текста. Темпы первого и второго
несравнимы. Но важно отметить еще и другое: для того чтобы появилась
возможность ввести извне текст в систему, которая по своему имманент-
ному устройству может быть мыслящей, необходимы по крайней мере
два условия. Во-первых, текст этот должен существовать, а во-вторых,
система должна быть способна распознать, что это за текст, т. е. между
системой и поступающими извне раздражителями должна сложиться
семиотическая ситуация, что подразумевает взрывной
переход от состояния Природы к состоянию Культуры. Представление
о том, что постепенно усовершенствуемая машина «вдруг» начнет «сама
собою» мыслить, так же иллюзорно, как противоположное, согласно
которому текст, введенный извне в пассивное устройство, породит феномен
мысли. Мышление есть акт обмена и, следовательно, подразумевает
двустороннюю активность. Текст, введенный извне, стимулирует, «вклю-
чает» сознание. Но для того чтобы это «включение» состоялось, включае-
мое устройство должно иметь в своей памяти фиксацию семиотического
опыта, т. е. такой акт не может быть «первым». Модели «статическое
состояние — запуск — действие» противостоит модель кругового, взаимо-
стимулирующего обмена. В реальном человеческом коллективе это
обеспечивается интеллектуальной, физической, эмоциональной неравно-
значностью его членов. Не абсолютные «достижения», а степень расстоя-
ния между полюсами обеспечивает интеллектуальную динамику. Явление
это находит подтверждение и на уровне коллективного сознания. Здесь
сформулированный выше парадокс можно было бы перефразировать
таким образом: «Развитой цивилизации должна предшествовать раз-
витая цивилизация». Всякий раз, когда археологи обнаруживают «пер-
вую» и «древнейшую» цивилизацию, им приходится через некоторое время
убеждаться, что ей предшествовала (часто в прямом смысле, распола-
гаясь под ней в более древних пластах раскопок) еще более ранняя,
2 Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 108.
Мозг — текст — культура...
29
но и иногда даже более развитая цивилизация. Переход от примитивных
архаических культур, находящихся в состоянии многовекового равно-
весия, к динамическим текстопорождающим цивилизациям также не
позволяет обнаружить плавности и промежуточных звеньев.
5. Основываясь на сказанном выше, мы можем выделить по крайней
мере три класса интеллектуальных объектов: естественное сознание
человека (отдельной человеческой единицы), текст (во втором значении),
культуру как коллективный интеллект3.
Между всеми этими объектами можно установить структурное и
функциональное подобие. В структурном отношении все они будут харак-
теризоваться семиотической неоднородностью. Правое и левое полушария
головного мозга человека, разноязычные субтексты текста, принципиаль-
ный полиглотизм культуры (минимальной моделью является двуязычие)
образуют единую инвариантную модель: интеллектуальное устройство
состоит из двух (или более) интегрированных структур, принципиально
разным образом моделирующих внележащую реальность. Эволюционно
это явление можно представить как вырастающее из парности органов^
чувств. Однотипно преобразуя внешние раздражения, парные органы
чувств, однако, пространственно разнесены и «смотрят» на мир под
разными углами зрения. Это придает создаваемой ими картине стереоско-
пичность. Следующим в структурном отношении шагом является возник-
новение структурно контрастных пар: взгляд на объект с одной и другой
точки зрения одновременно легче связывается в единую картину, чем
интеграция зрительного и слухового образов мира. Но именно потому, что
образы эти рационально не взаимопереводимы и интеграция их требует
напряжения, они представляют важный этап на пути к возникновению
асимметрии мозговых полушарий. Аналогична структура и других систем
смыслообразования.
Инвариантом всех этих систем будет биполярная структура, на одном
полюсе которой помещен генератор недискретных текстов, а на другом
полюсе — дискретных. На выходе системы эти тексты смешиваются,
образуя единый многослойный текст с многообразными внутренними
переплетениями взаимно не переводимых кодов. Пропуская через эту
систему какой-либо текст, мы получим лавинообразное самовозрастание
смыслов. Если подключить к такому устройству блок новых сообщений,
которые в соответствии с какими-либо правилами будут признаны «целе-
сообразными», и запоминающее устройство, призванное сохранить такие
сообщения, то мы получим инвариантный каркас.
Одно из определяющих различий между полярными текстопорождаю-
щими устройствами — разница в способности увеличения объема
текста: генератор дискретных текстов увеличивает текст по принципу
линейного присоединения сегментов, генератор недискретных — по прин-
ципу аналогового расширения (типа кругов на воде или вкладывающихся
друг в друга матрешек). Различие это будет иметь фундаментальные
последствия. Линейная организация текста, с ее «до» и «после»,
порождает концепцию линейного времени, правило причинности, чувство
историзма и другие основополагающие для целых типов культуры
представления.
Идея подобия связывается с циклическим временем и разнообразными
формами аналогового мышления — от мистических тезисов «мир полон
соответствий», «подобное познается подобным» до математических
3Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусствен-
ного разума. М., 1977; см. также статью «Феномен культуры» в настоящей книге.
30
Семиотика культуры
понятий изо-, гомо- и гомеоморфизма. Топологическое мышление, с этой
позиции, представляется столь же естественным, сколь историческое —
с предшествующей.
При очевидной взаимной непереводимости этих концепций и типов
текстов столь же очевидно, что именно на их пересечении рождается
творческое (т. е. создающее новые тексты) сознание.
6. Выделение инварианта «мыслящего устройства» позволяет по-новому
поставить вопрос о структуре искусственного интеллекта. Речь должна
идти не о моделировании той или иной атомарной разновидности разум-
ной деятельности либо того или иного частного акта, напоминающего
поведение человека, а о моделировании интеллектуального инварианта
как такового. При этом на настоящем этапе науки моделирование звеньев
«текст - культура» приобретает особое значение, так как, в отличие от
изучения работы человеческого мозга, мы обладаем здесь огромным,
прекрасно документированным материалом, позволяющим проникнуть
в такие глубины интеллектуальной деятельности, которые для исследова-
телей мозговой асимметрии, работающих на пока еще ограниченном
экспериментальном материале, остаются недоступными.
В этом смысле резко возрастает общенаучное значение гуманитарных
знаний. Распространенное представление о том, что «серьезные люди»,
занимающиеся вопросами точных наук — и, тем более, создающие
новую технику, — могут быть круглыми невеждами в вопросах структур-
ного моделирования художественных и культурных объектов, грозит
сделаться реальным тормозом научно-технического прогресса.
7. В основе мыслящего устройства заложено структурное противо,-
речие: устройство, способное вырабатывать новую информацию, должно
одновременно быть единым и двойственным. Это означает, что каждая из
двух бинарных его структур должна быть одновременно и целым, и частью
целогоЛТдеальной моделью становится триединство, в котором всякое
целое есть часть целого более, высокого порядка, а всякая часть есть
целое на более низком уровне. Наращивание устройства достигается не
присоединением к нему способом аккумуляции новых звеньев, а включе-
нием его — сверху — в единство высших уровней в качестве их части,
а снизу — путем превращения его частей в имманентные самостоятельно
функционирующие на своем уровне структуры, распадающиеся,
в свою очередь, на имманентно организованные и самостоятельно
функционирующие субструктуры. Способность части любого уровня
функционировать как целое, а любого целого — как часть создает
высокую концентрацию информации и практически неистощимые резервы
нового смыслообразования.
То, что на любом уровне смыслообразования наличествуют как
минимум две различные системы кодирования, между которыми сущест-
вует отношение непереводимости, придает трансформации текста, пере-
мещаемого из одной системы в другую, не до конца предсказуемый
характер, а если трансформированный текст становится для системы
более высокого уровня программой поведения, то поведение это приобре-
тает характер, не предсказуемый автоматически. Существенно отметить,
что поскольку между кодами двух подсистем нет взаимнооднозначных
соответствий, то в процессе перекодирования текста образуется не
один перевод, а некоторый набор «правильных» (возможных)
переводов, что делает необходимым существование механизма коррекции.
Поскольку процесс смыслообразования совершается на многих уровнях,
то и механизм коррекции и выбора нужных текстов имеет много-
ступенчатый характер.
Мозг — текст — культура...
31
То, что устройство такого рода может генерировать новые тексты,
причем поведение его регулируется не автоматическими алгоритмами,
а выбором из двух или нескольких альтернатив, т. е. оно свободно, делает
его разумным. Разумность заключается не в том, что устройство выби-
рает «целесообразные», «хорошие» или «нравственные» решения, а в том,
что оно выбирает. Какая из этих квалификаций окажется приме-
ненной или непримененной, зависит от совершенства механизма коррек-
ции. Отметим лишь, что человечество за всю свою историю еще не смогло
удовлетворительно отрегулировать этот механизм на уровне естествен-
ного интеллекта. Однако ни дурак, ни преступник, ни даже сумасшедший,
действия которых не могут быть признаны ни целесообразными, ни
хорошими, ни нравственными, не становятся от этого автоматами,
лишенными самостоятельного интеллекта и поведения. Мы можем
сказать, что набор альтернативных решений в их сознании беден или
отбор, с нашей точки зрения, неправилен. Но мы не можем не видеть
отличия их поведения от автоматического устройства, не способного
уклониться от алгоритма поведения, заданного ему.
Разницу между механизмами трансформации текста и последующей
коррекции удобно описывать в лингвистических терминах «правильности»
и «нормы».
8. Степень деавтоматизации процесса сознания, непредсказуемости
конечного текста зависит от удаленности кодов двух альтернативных
субструктур и, следовательно, от деавтоматизации самого акта перевода,
от возможности и наибольшего числа равноценных и «правильных»
трансформаций. Это влечет за собой такие процессы, как специализация
кодов правого и левого полушарий, центробежное расширение и удаление
друг от друга различных языков искусств и других семиотических
субструктур культуры или — на уровне текста — создание в культуре
барокко или авангарда несовместимых гибридов типа светомузыки или
словоживописи.
Предельным случаем такой дифференциации является образование на
одном полюсе кодов естественного языка, а на другом — недискретных
кодирующих систем. Следует отметить, что, хотя мы постоянно сталки-
ваемся с текстами типа сон, немонтажный кинематограф, некоторые
разновидности изобразительных искусств, балет или пантомима, в
которых несомненная знаковость их природы сочетается с трудностью
выделения дискретных знаков, сколь-либо удовлетворительного описания
недискретных семиотических систем мы до сих пор не имеем. В значи-
тельной мере неясной остается для нас деятельность правого полушария
головного мозга, хотя в важности ее сейчас уже нельзя сомневаться.
Трудности эти в значительной мере вызваны тем, что любой из
существующих сейчас способов описания такой системы связан с пере-
сказом ее средствами дискретного метаязыка, что приводит к коренной
трансформации самого объекта, который получает квази-иррациональный
характер. Представления, согласно которым дискретно-словесные («лево-
полушарные») тексты имеют рациональный и интеллегибельный характер,
а недискретные («правополушарные») — иррациональный, нуждаются
в корректировке. Каждый из этих видов текстов имеет свою грамма-
тику, т. е., с собственной точки зрения, логичен и последователен (конечно,
сам характер логики может быть различен). Иррациональность возни-
кает при переводе текстов одного типа на язык другого, ибо здесь исходно
задается ситуация непереводимости. Каждый из видов текстов имма-
нентно рационален «для себя» и иррационален с позиции другого типа
текстов. Но, поскольку метаязык науки (по крайней мере, в традиции
32
Семиотика культуры
европейской цивилизации) задается принципами естественного языка и
вырастает на его основе, само изучение недискретных текстов как бы
подразумевает взгляд на них «с другого берега». В результате возникает
аберрация, представляющая эти тексты онтологически иррациональными..
9. Метаязыки принадлежат науке. Следовательно, если мы говорим
о науке, познающей сознание (текст, культуру), то метаязык должен
находиться вне этих феноменов. Между тем метаязыки науки (равно
как и сама наука) лишь отчасти находятся вне этих объектов, в опреде-
ленном смысле принадлежа им и располагаясь внутри них. Мы уже
показали, что интересующие нас объекты включают механизмы,
разъединяющие их на подструктуры и затрудняющие общение между
ними. Этот процесс должен уравновешиваться противоположным:
механизмом интеграции, соединяющим разрозненное в одно целое и
облегчающим общение между частями. Если в первом случае личность
(о нашем наполнении этого понятия см. ниже) возникает в результате
разделения некоего целого на автономные части, то во втором — оформле-
ние ее связано со слиянием самостоятельных единиц в целое высшего
порядка.
Метаязыки составляют необходимое условие семиотического функ-
ционирования интересующих нас систем. Только с их помощью системы
сознают себя и осознают себя как целостности. Очерчивая границы
набора семиотических систем и превращения их в единую систему,
метаязыковая структура работает в двух направлениях. С одной стороны,
она более жестко доорганизовывает этот гетерогенный семиотический
мир, частично переводя его на свой язык, частично исключая из своих
пределов. Именно в этом процессе складываются «рациональный» облик
культуры и противостоящей ей иррациональной «антикультуры».
Последняя чаще всего оттесняется в эволюционный резерв системы,
обеспечивая ее динамизм. С другой стороны, ни один из реально данных
нам текстов не является продуктом какого-либо одного механизма
порождения. Такие тексты были бы бесполезны как генераторы новых
смыслов. Даже научные тексты, которые должны были бы создаваться
в пределах «чистых» метаязыков, «засоряются» аналогиями, образами и
другими заимствованиями из иных, чуждых им, семиотических сфер.
Что же касается других текстов, то гетерогенность их очевидна.
Все они представляют собой плоды креолизации дискретных, недискрет-
ных языков и метаязыков, лишь с определенной доминацией в ту или
иную сторону.
Приведем пример. Когда «западная» цивилизация сталкивается
с «восточной» не как с чем-то культурно «несуществующим», а как
с партнером, отныне включаемым в целое под названием «мировая
культура», цивилизация прежде всего пересказывает необычные для нее
тексты с помощью метаязыков своей философии или науки. Поскольку
тексты адекватно не переводились в эту систему, они приобретали
характер иррациональности. Сложилась парадигма: рациональный Запад
и иррациональный Восток (при этом из западной традиции были изъяты
и преданы забвению иррациональные концепции, а из восточной —
столь обильные в ней рационалистические традиции). Одновременно
начали возникать гетерогенные тексты из смешения этих культурных
тенденций, образующие некий многоплановый культурный континуум,
способный генерировать новые, с точки зрения обеих традиций, тексты.
Другим примером может быть сон во фрейдистской его обработке:
исследователь работает со словесными пересказами снов, не ставя даже
вопроса о том, в какой мере его объект трансформируется в процессе
Мозг — текст — культура...
зз
такой обработки. При этом чем рациональнее метаязык, тем иррациональ-
нее делается пересказываемый его средствами и лежащий в других
культурных измерениях объект. Не удивительно, что сон перемещается
по другую сторону сознательного. Между тем гетерогенные тексты типа
словесной фантастики (особенно в гоголевско-булгаковском ее варианте)
или такие повествовательные тексты, какие мы находим в современном
кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не
как «бессознательное», а в качестве весьма существенной формы дру-
гого сознания.
10. Поскольку сознание «без партнера» невозможно, то естественно
возникает вопрос о природе этого партнерства. Партнер может находиться
на другом иерархическом уровне, чем субъект сознания, или распола-
гаться на том же уровне. В первом случае это, как правило, культурно-
семиотический конструкт: партнер по диалогу располагается внутри
моего «я», являясь его частью, или мое «я» включается как часть в него.
Рассмотрение этих коллизий увело бы нас в сторону от нашей темы.
Существеннее остановиться на случае одноуровневого общения. Потреб-
ность «другого» есть потребность в своей самобытности, так как «другой»
нужен именно потому, что он дает иную модель той же реальности,
и иной язык моделирования, и иную трансформацию того же текста.
Следовательно, индивидуализация кодирующих устройств входит в ту же
систему повышения внутреннего разнообразия, без которого устройство
не может быть думающим. Из этого вытекает, что феномен сознания
связан с фактором индивидуализации. Для того чтобы система была
«интеллектуальной», ей надо быть индивидуальностью и состоять из
индивидуальностей. Такая индивидуальность, заключающаяся в обла-
дании набором кодирующих структур и памяти, которые, будучи общими
с другими аналогичными устройствами (условие общения), индиви-
дуальны (условие, одновременно затрудняющее общение и делающее
его интеллектуально плодотворным), определяется нами как семиотиче-
ская личность. Думающее устройство само должно быть семиотической
личностью и нуждается в другой семиотической личности.
Если мы определяем думающее устройство как интеллектуальную
машину, то идеалом такой машины будет совершенное художественное
произведение, решающее парадоксальную задачу соединения повторяе-
мости и неповторимости. Фактически эволюцию живых организмов
к сознанию можно описать как эволюцию по пути углубления значимой
индивидуализации каждой особи и одновременной ее деиндивидуализации
как включенной в надличностные структуры.
11. Из сказанного вытекает, что если человеку удастся создать полно-
ценный искусственный разум, то мы менее всего заинтересованы, чтобы
этот разум был точной копией человеческого. Определение Тьюринга,
согласно которому разумным следует признать такое устройство, при
сколь угодно длительном общении с которым мы не отличим его от чело-
века, психологически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически
малоубедительно. Возникает насущная потребность сравнительного
моделирования разных форм интеллектуальной и интеллектуально-
подобной деятельности (зоосемиотика и семиотическая культурология,
равно как и теория художественного текста, займут в этой науке почетные
места). Только тогда мы в поисках искусственного интеллекта выйдем
из положения того сказочного героя, который получил инструкцию:
«Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», а Н. В. Бугаеву,
если бы он председательствовал на очередном совещании по искусствен-
ному интеллекту, не пришлось бы объявлять заседание закрытым.
34
Семиотика культуры
Феномен культуры
V
Общепринятого удовлетворительного определения понятий «интеллект» и
«интеллектуальное поведение» не существует. Не может быть принято
отождествление понятий «интеллектуальный» (разумный) и «человеко-
подобный», с одной стороны, и «интеллектуальный» и «логический»,
с другой. Примером первого можно было бы считать определение Тью-
ринга, который склонен относить к интеллектуальным реакциям такие,
:''\ которые мы в процессе длительного общения не можем отличить от
sjv * человеческих. Примером второго могут явиться многочисленные попытки
конструирования моделей искусственного интеллекта на основе усложне-
ния некоторых исходных простых логических актов (например, решения
^л ч задач или доказательства теорем).
~f- He ставя перед собой задачи дать исчерпывающее или точное опреде-
Js ление и ограничиваясь целью выработки практически удобной формулы,
4i можно было бы определить мыслящий объект как такой, который
может:
1) хранить и передавать информацию (имеет механизмы коммуника-
нту ции и памяти), обладает языком и может образовывать правильные
^ сообщения;
\^ 2) осуществлять алгоритмизированные операции по правильному преоб-
л,^ разованию этих сообщений;
У^ 3) образовывать новые сообщения. 4-
Сообщения, образуемые в результате операций, предусмотренных вторым
пунктом, новыми не являются, выступая лишь как закономерные
трансформации исходных текстов в соответствии с некоторыми прави-
лами. В определенном смысле все сообщения, полученные в результате
закономерных преобразований какого-либо исходного текста, могут
рассматриваться как один и тот же текст.
Таким образом, новые тексты — это тексты «незакономерные» и,
с точки зрения существующих уже правил, «неправильные». В общей
культурной перспективе, однако, они предстают как полезные и необхо-
димые. На их основе могут быть в дальнейшем сформулированы
будущие правила образования высказываний. Можно предположить, что
наряду с образованием текстов в соответствии с некоторыми заданными
правилами имеет место формулировка правил на основании некоторых
универсальных текстов (такую роль могут играть случайно образованные
или попавшие из других культур, а также поэтические тексты). В этом
случае мы имеем дело с «неправильными» или непонятными текстами,
относительно которых предполагается презумпция осмысленности.
Между мыслительными операциями, охарактеризованными в первых
двух пунктах, с одной стороны, и теми, о которых идет речь в третьем,
существует противоречие. Коммуникативные связи реализуются в форме
передачи некоего сообщения в определенной системе. Целью такой пере-
дачи является перемещение сообщения от адресанта к адресату. Опти-
мальным считается, чтобы в процессе передачи не произошло никакой
утраты или сдвига смысла и текст отправленный был полностью идентичен
тексту полученному. Все изменения, которым подвергается текст в процес-
се передачи, трактуются как искажения — результат технического не-
совершенства и помех в канале связи. Операции закодирования и деко-
дирования симметричны, и все изменения касаются лишь сферы выра-
жения.
Феномен культуры
35
Операции по трансформации сообщения, предусмотренные вторым
пунктом, осуществляются в соответствии с определенными алгоритмиче-
скими правилами. Это приводит к тому, что если изменить направление
операции, то мы получим исходный текст. Трансформации текста
обратимы.
Для получения нового сообщения требуется устройство принци-
пиально иного типа. Новыми сообщениями мы будем называть такие,
которые не возникают в результате однозначных преобразований и,
следовательно, не могут быть автоматически выведены из некото-
рого исходного текста путем приложения к нему заранее заданных правил
трансформации. Система типа:
внешний объект
(текст действитель-
ности)
автоматически
фотографирующее
устройство
текст
(фотография)
в нашем смысле нового сообщения не создает, и сама по себе, сколь ее
ни усложняй количественнр, акта мысли не способна моделировать, даже
если присоединить к ней систему «импульс — действие».
Только творческое сознание способно вырабатывать новые мысли.
А для реконструкции творческого сознания необходима модель принци-
пиально иного рода.
Представим себе два языка, Li и Ьг, устроенные принципиально столь
различным образом, что точный перевод с одного на другой представ-
ляется вообще невозможным. Предположим, что один из них будет языком
с дискретными знаковыми единицами, имеющими стабильные значения,
и с линейной последовательностью синтагматической организации
текста, а другой будет характеризоваться недискретностью и простран-
ственной (континуальной) организацией элементов. Соответственно и
планы содержания этих языков будут построены принципиально
различным образом. В случае, если нам потребуется передать текст на
языке Li средствами языка L2, ни о каком точном переводе не может идти
речи. В лучшем случае возникнет текст, который в отношении к некоторому
культурному контексту сможет рассматриваться как адекватный первому.
L,
исходный текст
-► перебод •
\
услоЬно-абек$атный текст
$
нобый текст
•nepebod-4-
I
I
36
§ Семиотика культуры
Предположим, что речь идет о переводе с естественного словесного
языка на иконический язык живописи XIX в. Если потом произвести
обратный перевод на Li, то мы, естественно, не получим исходного текста.
Полученный нами текст будет по отношению к исходному новым
сообщением.
Структура условно-адекватных переводов может выступать в качестве
одной из упрощенных моделей творческого интеллектуального процесса.
Из сказанного вытекает, что никакое мыслящее устройство не может
быть одноструктурным и одноязычным: оно обязательно должно включать
в себя разноязычные и взаимонепереводимые семиотические образования.
Обязательным условием любой интеллектуальной структуры является ее
внутренняя семиотическая неоднородность.
Моноязычная структура может объяснить систему коммуникативных
связей, процесс циркуляции некоторых уже сформулированных сообще-
ний, но отнюдь не образование новых. Для возникновения той законо-
мерной и целесообразной неправильности, которая и
составляет сущность нового сообщения или нового прочтения старого
(что дает толчок возникновению нового языка), необходима как минимум
двуязычная структура. Это объясняет в иных отношениях загадочный
факт гетерогенности и полиглотизма человеческой культуры, а также
любого интеллектуального устройства. Наиболее универсальной чертой
структурного дуализма человеческих культур является сосуществование
словесно-дискретных языков и иконических, различные знаки в системе
которых не складываются в цепочки, а оказываются в отношениях гомео-
морфизма, выступая как взаимоподобные символы (ср. мифологическое
представление о гомеоморфизме человеческого тела, общественной и
космической структур). Хотя на различных этапах человеческой истории
та или иная из этих универсальных языковых систем предъявляет
претензии на глобальность и действительно может занимать доминирую-
щее положение1, двуполюсная организация культуры при этом не уничто-
жается, принимая лишь более сложные и вторичные формы. Более того,
на всех уровнях мыслящего механизма — от двуполушарной структуры
человеческого мозга до культуры на любом из ее уровней организации —
мы можем обнаружить биполярность как минимальную структуру семио-
тической организации.
Проследим это на одном примере. Мифологическое сознание характери-
зуется замкнуто-циклическим отношением ко времени. Годичный цикл
подобен суточному, человеческая жизнь — растительной, закон рожде-
ния — умирания — возрождения господствует над всем. Универсальным
законом такого мира является подобие всего всему, основное организую-
щее структурное отношение — отношение гомеоморфизма. Осень~
~вечер ^старость; зачатие~посев зерна в землю ^всякое вхождение в
темное и закрытое пространство~погребение покойника~поедание. Сле-
довательно, «мертвец~семя~зерно» (знак «~» читается «подобно»),
а смерть столь же необходима для воскресения, как посев для всходов;
аналогическим мышлением объясняется представление о том, что пытка,
разъятие тела на части и разбрасывание их по земле — или разрывание
и поедание — есть то же самое, что посев, и поэтому способствует
1 Так, в европейской культуре XVII—XIX вв. явно доминирует словесно-
дискретная система. Естественный язык и логические метаязыки становятся
моделями культуры как таковой. Однако именно в эпохи доминирования той или
иной системы делается очевидной невозможность превращения ее в единственную.
Феномен культуры
37
воскрешению и возрождению. Это мощное уподобление, лежащее в основе
сознания данного типа, заставляет видеть в разнообразных явлениях
реального мира знаки Одного явления, а во всем разнообразии объектов
одного класса просматривать Единый Объект. Все многообразие челове-
ческих коллизий сводится к истории главной пары — Мужчины и
Женщины. Женщина, в силу своей единственности, оказывается и
Матерью, и Женой единственному Мужчине. Мужчина же циклически
умирает в акте зачатия и возрождается в акте рождения, оказываясь
сам себе сыном.
Следует иметь в виду, что все известные нам тексты мифов доходят
до нас как трансформации — переводы мифологического сознания на
словесно-линейный язык (живой миф иконически-пространствен и знаково
реализуется в действах и панхронном бытии рисунков, в которых, как,
например, в пещерных и наскальных изображениях, нет линейной
заданности порядка) и на ось линейно-временного исторического
сознания. Отсюда представление о поколениях и этапах, все эти «сначала»
и «потом», которые организуют известные нам записи и пересказы, но при-
надлежат не самому мифу, а его переводу на немифологический язык.
То, что в пересказе на языке линейного мышления превращается в
последовательность, в мифологическом мире представляет бытие,
располагающееся на концентрических кругах, между которыми сущест-
вует отношение гомеоморфизма. Этому не противоречит то, что персонаж,
единый в пределах одного круга, может на другом распадаться на
антагонистические и борющиеся персонажи2. Однако мифологический мир
ни на какой стадии существования человеческого общества не мог быть
единственным организатором человеческого сознания (как ни на какой
стадии люди не могли пользоваться только стихами или полностью
не знать их употребления). Мир эксцессов, случайных (с позиции мифа)
происшествий, человеческих деяний, не имеющих параллелей в глубинных
циклических законах, накапливался в виде рассказов в словесной форме,
текстов, организованных линейно-временной последовательностью. В
отличие of мифа, повествующего о том, что должно происходить, он
рассказывал о том, что действительно произошло, панхронности мифа он
противопоставлял реально-прошедшее время. Миф смотрел как на несу-
ществующие на те черты реальных событий, которые не имели соответ-
ствий в глубинно-циклическом мире; хроникально-исторический мир
отбрасывал те глубинные закономерности, которые противоречили
наблюдаемым событиям. На линейно-временной оси вырастали хроника,
бытовой рассказ, история.
Несмотря на заметную антагонистичность и постоянную борьбу этих
двух моделирующих языков, реальное человеческое переживание струк-
туры мира строится как постоянная система внутренних переводов и
перемещения текстов в структурном поле напряжения между этими
двумя полюсами. В одних случаях обнаруживаются способность уподоб-
лений между явлениями, кажущимися различными, раскрытие аналогий,
гомео- и изоморфизмов, существенных для поэтического, частично
математического и философского мышления, в других раскрываются
последовательности, причинно-следственные, хронологические и логиче-
ские связи, характерные для повествовательных текстов, наук логического
и опытного циклов. Так, мир детского сознания — по преимуществу
2 См.: Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении //
Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
38
Семиотика культуры
мифологического — не исчезает и не должен исчезать в ментальной
структуре взрослого человека, а продолжает функционировать как гене-
ратор ассоциаций и один из активных моделирующих механизмов,
игнорируя который, невозможно понять поведение взрослого человека.
Наблюдая биполярную организацию на самых различных уровнях
человеческой интеллектуальной деятельности, можно было бы выделить
оппозиционные пары, в которых на одном полюсе будет преобладать
дискретно-линейное, а на другом — гомеоморфно-континуальное начало
организации, и установить определенную параллель с левополушарным и
правополушарным принципами индивидуального мышления человека.
8етское
сознание
мифологическое
сознание
иконическое
мышление
бейстЬо
стихи
Ьзрослое
сознание
историческое
сознание
сло&есное
мышление
поЬестбобание
проза
Система подобных оппозиций могла бы быть продолжена. Важно под-
черкнуть, что стоит выделиться какому-либо уровню семиотического
освоения мира, как в рамках его тотчас же наметится оппозиция,
которая может быть вписана в приведенный ряд. Без этого данный
семиотический механизм оказывается лишенным внутренней динамики и
способным лишь передавать, но не создавать информацию.
Невозможность точного перевода текстов с дискретных языков на
недискретно-континуальные и обратно вытекает из их принципиально
различного устройства: в дискретных языковых системах текст вторичен
по отношению к знаку, т. е. отчетливо распадается на знаки. Выделить
знак как некоторую исходную элементарную единицу не составляет труда.
В континуальных языках первичен текст, который не распадается на
знаки, а сам является знаком или изоморфен знаку. Здесь активны не
правила соединения знаков, а ритм и симметрия (соответственно
аритмия и асимметрия). В случае выделения некоторой элементарной
единицы она не распадается на дифференциальные признаки. Так,
например, если нам следует опознать некоторое незнакомое нам лицо
(например, идентифицировать две фотографии лично не знакомого нам
человека), мы будем выделять сопоставляемость отдельных черт. Однако
недискретные тексты (например, знакомое лицо) опознаются целостным
недифференцированным знанием. Можно было бы также указать на
опознание значения образов в сновидении, когда любая трансформация
Феномен культуры
39
не мешает безошибочно знать, какое значение следует приписывать тому
или иному явлению3. Ср. в «Заклинании» Пушкина:
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..
При этом речь идет не об условном знаке, при котором «дальняя звезда»,
«легкий звук», «дуновенье» или «ужасное виденье» — выражения, которые
лишь конвенционально связаны с содержанием «ты». Все эти облики -
суть ипостаси, внешность которых непосредственно связана с содержа-
нием. Однако, подобно тому как в топологии куб есть шар, хотя на него
и не похож, здесь все эти облики есть «ты». В дискретных языках знак
соединяется со знаком, в континуальных — трансформируется в другое
свое проявление или уподобляется соответственному смысловому пятну на
другом уровне.
Естественно, что при столь глубоком различии в структуре языков
точность перевода заменяется проблемой смысловой эквивалентности.
Однако тенденция к увеличению специализации языков и к предельному
затруднению переводов между ними составляет лишь один аспект тех
сложных процессов, совокупность которых образует интеллектуальное
целое. Мыслящая структура должна образовывать личность, т. е.
интегрировать противоположные семиотические структуры в единое целое.
Противоположные тенденции должны сниматься в некотором едином
структурном целом. Единство это необходимо для того, чтобы, несмотря
на кажущуюся невозможность перевода Li ^ L2, перевод такой постоянно
осуществлялся и давал положительные результаты. В тот момент, когда
общение между данными языками оказывается действительно невозмож-
ным, наступает распад культурной личности данного уровня и она
семиотически (а иногда и физически) просто перестает существовать.
Интеграционные механизмы бывают двух родов.
Во-первых, это блок метаязыка. Метаязыковые описания являются
необходимым элементом*'«интеллектуального целого». С одной стороны,
они, описывая два различных языка как один, заставляют всю
3Ср. описание сна Л. Н. Толстым: «Старичок пробивает головой сугроб: он не
столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним.
Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком (...)
но старичок не старичок, а утопленник» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М.,
1951. Т. 2. С. 252—253). Образы-знаки здесь не конвенциональные, поскольку
выражение их связано с содержанием безусловно, и не иконические (в последнем
случае изменение внешнего образа означало бы скачкообразный переход к другому
знаку: заяц, утопленник и старичок, советчик и Федор Филиппыч, если читать их
как иконические знаки, суть знаки различные; однако в данном случае заяц—
старичок—утопленник опознаются нами как одно и то же). Само наличие конвен-
циональных и иконических знаков есть отражение в дискретной системе дуализма
«дискретность ^ недискретность». При такой транспозиции основного семиотиче-
ского дуализма культуры в одну ее часть знаки словесного типа удваиваются
(дискретное изображение дискретности), что приводит к тому, что они фактически
становятся метаединицами, а иконические знаки делаются гибридным образо-
ванием: дискретным изображением недискретности.
40
Семиотика культуры
систему восприниматься с субъективной точки зрения в качестве некото-
рого единства. Система самоорганизуется, ориентируясь на данное мета-
описание, отбрасывая те свои элементы, которые, с точки зрения мета-
описания, не должны существовать, и акцентируя то, что в таком описании
подчеркивается. В момент создания метаописания оно, как правило,
существует как будущее и желательное, но в дальнейшем эволюционном
развитии превращается в реальность, становясь нормой для данного
семиотического комплекса.
Одновременно автометаописания заставляют данный комплекс воспри-
ниматься с внешней точки зрения как некоторое единство, приписывать
ему определенное единство поведения и рассматривать в более широком
культурном контексте как целое. Такое ожидание, в свою очередь,
стимулирует единство самовосприятия и поведения данного комплекса.
Во-вторых, может иметь место далеко идущая креолизация этих
языков. Принципы одного из языков оказывают глубокое воздействие
на другой, несмотря на совершенно различную природу грамматик.
В реальном функционировании может выступать смесь двух языков,
что, однако, как правило, ускользает от внимания говорящего
субъекта, поскольку сам он воспринимает свой язык сквозь призму мета-
описаний, а эти последние чаще всего возникают на основе какого-либо
одного из языков-компонентов, игнорируя другой (другие). Так, современ-
ный русский язык функционирует как смесь устного и письменного
языков, являющихся, по существу, различными языками, что остается,
однако, незаметным, поскольку языковое метасознание отождествляет
письменную форму языка с языком как таковым.
Исключительно интересен пример кинематографа. С самого начала он
реализуется как двуязычный феномен (движущаяся фотография+ пись-
менный словесный текст= немое кино; движущаяся фотография-[-звуча-
щая словесная речь= звуковое кино; как факультативный, хотя и широко
распространенный элемент, существует третий язык — музыка). Однако
в воспринимающем сознании он функционирует как одноязычный. В этом
отношении характерно, что, хотя кинематограф и театральная драма-
тургия в определенном отношении однотипны, представляя собой смесь
словесного текста и текста на языке жеста, позы и действия, театр
воспринимается зрителем как слова по преимуществу, а кино — как
действие par excellence. Показательно, что «партитура» спектакля —
пьеса — фиксирует в основном слова, оставляя действие и жесты в
области компетенции исполнительства (т. е. словесный текст инвариантен,
а жестово-действенный вариативен), а партитура фильма — сценарий —
фиксирует в первую очередь поступки, события, жесты, т. е. язык зримо
воспринимаемых образов, оставляя слова в большинстве случаев
«специалистам по диалогу», «текстовикам» или вообще допуская в этой
области широкую вариативность режиссерского произвола. Соответст-
венно исследовательские метаописания в театре, как правило, исследуют
слова, в кино — зримые элементы языка. Театр тяготеет к литературе как
основе метаязыка, кино — к фотографии.
Однако в данной связи нас интересует другое — далеко идущий факт
креолизации составных языков-компонентов кино. В период немого
монтажного кино воздействие словесного языка проявилось в четкой
сегментации фильмового материала на «слова» и «фразы», в перенесении
на сферу иконических знаков словесного принципа условности отношения
между выражением и содержанием. Это породило поэтику монтажа,
являющуюся переносом в область изображений принципов словесного
искусства эпохи футуризма. Язык движущейся фотографии, приняв в
Феномен культуры
41
себя структурно чуждые ему элементы языка словесной поэзии, сделался
языком киноискусства.
В период звукового кино имело место активное «освобождение» кино-
языка от принципов словесной речи. Однако одновременно произошло
широкое обратное движение: технические условия киноленты требовали
коротких текстов, а сдвиг в эстетической природе фильма, отказ от
поэтики мимического жеста привел к ориентации не на театральную
или письменно-литературную, а на разговорную речь. Природа кино-
ленты повлияла на структуру киноязыка, отобрав из всей его толщи
определенный пласт. Наиболее «кинематографичным» оказался сленг,
а также сокращенный, эллиптированный разговорный язык. Одновре-
менно введение этого пласта речи в киноискусство повысило его в
престижном отношении в культуре в целом, придало ему необходимую
фиксированность, культурно эквивалентную письменности. (Кинемато-
граф в этом отношении принципиально отличен от литературы: любое
литературное произведение изображает устную речь, т. е. дает ее
письменный, стилизованный образ, кинематограф же может закрепить и
реабилитировать ее в «природном» виде.) Это привело к широким
последствиям уже за пределами кино: возникла сознательная ориентация
на «неправильную речь». Если прежде «говорить как в книге» или «как
в театре» («как в искусстве») было искусством говорить правильно,
искусственно, «no-письменному», то в настоящее время «говорить как
в кино» («как в искусстве») в ряде случаев стало «говорить как
говорят» — с акцентированной косноязычностью, неправильностями,
эллипсами, сленговыми элементами. Нарочитая «неписьменность»
речи стала частью «современного» стиля. Устное говорение ориентируется
в этом случае на свою подчеркнутую специфику как на идеальную
культурную норму. Можно было бы привести и другие примеры разно-
образных языковых интерференции, приводящих к тому, что большин-
ство реально функционирующих языков (а не их моделей и метаописаний)
оказываются смесью языков и могут быть расчленены на два или более
семиотических компонента (языка).
Таким образом, в толще культуры можно наблюдать два противо-
направленных процесса. Запущенный в работу механизм дуальности
приводит к постоянному расщеплению каждого культурно активного
языка на два, в результате чего общее число языков культуры лавино-
образно растет. Каждый из возникающих таким образом языков
представляет собой самостоятельное, имманентно замкнутое в себе целое.
Однако одновременно происходит процесс противоположного направ-
ления. Пары языков интегрируются в целостные семиотические образо-
вания. Таким образом, работающий язык выступает одновременно и как
самостоятельный язык, и как подъязык, входящий в более общий культур-
ный контекст как целое и часть целого. Как часть целого более высокого
порядка язык получает дополнительную спецификацию в свете исходной
асимметрии, лежащей в основе культуры. Приведем пример таких
оппозиций:
художественная проза ^ => поэзия
нехудожественная проза 4 ^ художественная проза
Очевидно, что «художественная проза» в первой паре не равна себе
самой во второй паре, ибо в первом случае в ней актуализируются
сегментированность, дискретность, линейность — то, что свойственно
всякой словесной речи и противостоит тенденции поэзии к интеграции
42
Семиотика культуры
текста. Во втором случае художественная проза реализуется, наряду
с поэзией, как часть художественной речи и только в этом качестве,
благодаря своему отличию от нехудожественной прозы, может интегри-
роваться с этой последней в структуру «прозаическая речь на данном
языке». Только неодинаковое может интегрироваться. Рост семиотической
спецификации, наблюдающийся как постоянная тенденция в истории
культуры, является стимулом для интеграции отдельных языков в единую
культуру.
Нам уже приходилось отмечать, что каждая интегрированная семио-
тическая пара языков, обладая возможностью вступать в коммуникации,
хранить информацию и, что особенно существенно, вырабатывать новую,
является мыслящим устройством и в определенном отношении выступает
как «культурная индивидуальность»4. Интегрируясь между собой по все
возрастающим уровням, эти «культурные индивидуальности» на вершине
образуют индивидуальность культуры.
Природа культуры непонятна вне факта физико-психологического
различия между отдельными людьми. Многочисленные теории, вводящие
понятие «человек» как некоторую абстрактную концептуальную единицу,
исходят из представления о том, что оно является инвариантной моделью,
включающей все существенное для построения социокультурных моделей.
То, что отличает одного человека от другого, равно как и природа этих
различий, как правило, игнорируется. Основой для этого служит пред-
ставление о том, что различия между людьми относятся к сфере
вариативного, внесистемного и, с точки зрения познавательной модели,
несущественного. Так, например, при рассмотрении элементарной схемы
коммуникации представляется совершенно естественным предположить,
что адресант и адресат обладают полностью идентичной кодовой при-
родой. Предполагается, что такого рода схема наиболее точно моделирует
сущность реального коммуникативного акта. Конечно, любой культуролог
знает, что ни один человек не является копией другого, отличаясь психо-
физическими данными, индивидуальным опытом, внешностью, характером
и т. д. и т. п. Однако предполагается, что в данном случае речь должна
идти о «технических погрешностях» природы, которая в силу ограничен-
ности своих «производственных возможностей» не может наладить серий-
ного производства, что все, относящееся к сфере индивидуальных вариан-
тов, не касается самой сущности человека как социального и культурного
явления. Такой взгляд восходит к античности, но особенно ясно был
сформулирован социологами XVIII в. С тех пор он многократно подвер-
гался критике, однако как молчаливая презумпция продолжает держаться
до настоящего времени.
Мы исходим из противоположного допущения, полагая, что индивиду-
альные различия (и наслаивающиеся на них групповые различия
культурно-психологического плана) принадлежат к самой основе бытия
человека как культурно-семиотического объекта. Именно вариативность
человеческой личности, развиваемая и стимулируемая всей историей
культуры, лежит в основе многочисленных коммуникативных и культурных
действий человека.
4 Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблема искусствен-
ного разума. М., 1977.
Феномен культуры
43
Представим себе некоторый организм (устройство), который для всех
внешних раздражений будет иметь лишь две реакции. Предположим,
например, что он будет иметь способность фиксировать по степени осве-
щенности, происходит ли дело днем или ночью. Различая две ситуации,
наше устройство способно и осуществлять двоякие действия: при сигнале
«ночь» включать лампочку, а при сигнале «день» ее выключать. Соединим
данное устройство при помощи связи с другим таким же так, чтобы оно
могло передавать адресату сигналы «ночь» или «день», в зависимости от
чего там также будет включаться или выключаться лампочка.
Такое устройство будет обладать:
1.Всезнанием. Знание будет бедным и неэффективным, поскольку
оно не сможет обеспечить даже относительной полноты сведений об
окружающей среде, но в пределах заданного алфавита оно будет абсолют-
ным. Наше устройство всегда будет способно ответить на тот единствен-
ный вопрос, который предусмотрен его конструкцией. Ответ: «Не знаю» —
для него невозможен. В любой ситуации оно выделит параметр «свет <—^
отсутствие света» и, отбросив все остальные как несущественные,
прореагирует на него.
2. Отсутствием, сомнений и колебаний. Поскольку
анализ состояния внешней среды и реакции связаны автоматически,
то никаких колебаний в выборе поведения у данного устройства быть не
может. Поведение может быть неэффективным, не обеспечивающим
данному организму выживание, но оно будет надежно гарантировано.
Однозначное определение состояния среды повлечет за собой однознач-
ное действие.
3. Полным пониманием между отправителем и
получателем сигнала. Одинаковая кодирующая-декодирующая
система, связывающая передающее и принимающее устройства, обес-
печивает полную идентичность переданного и воспринятого текстов.
Непонимание возможно лишь как результат технических неполадок в
канале связи.
Представим, однако, что наше устройство должно эволюционировать
в направлении повышения способности выживания. Естественно было бы
сначала увеличить набор параметров внешней среды, на которые оно
способно реагировать, стараясь довести его до максимума. Однако
очевидно, что на этом пути качественного сдвига, превращающего
реагирующее устройство в сознание, не произойдет.
Факт сознания может быть отмечен тогда, когда в устройстве
отображения внешнего мира на алфавит, с помощью которого данный
организм идентифицирует состояния внешней среды с внутренним кодом,
будет резервирована пустая клетка для будущих, еще не выделенных и
не названных состояний. Сегментация внешнего мира, дешифровка его
состояний и перевод их на язык своего кода перестают быть данными
раз и навсегда, и в каждой новой системе таких классификаций остается
резерв неопознанного, такого, что еще предстоит узнать, определить и
осмыслить.
С введением таких «пустых клеток» реагирующий механизм нашего
устройства приобретает черты сознания: обретает гибкость, способность
саморазвиваться, повышая собственную эффективность, создавая более
действенные модели (отображения) внешних ситуаций. Но одновременно
он утратит всезнание — автоматическое наличие ответа на
любой вопрос — и отсутствие колебаний — столь же авто-
матическую связь между поступающей извне информацией и действием.
Последнее обстоятельство связано с другим решительным шагом при
44
Семиотика культуры
переходе от механического автоматизма к сознательному поведению:
если прежде каждому внешнему раздражителю приписывалась одна и
только одна автоматически связанная с ним реакция, то теперь он связан
минимально с двумя равноценными в определенном отношении реакциями,
что делает необходимым наличие механизма оценки и выбора,
т. е. придает реакции не автоматический, а информационно содержатель-
ный характер, превращая еевпоступок.
Неизмеримо повышая эффективность действий нашего устройства,
которое с этого момента получает собственное поведение,
возможность выбора между реакциями неизбежно включает момент
колебаний.
Таким образом, в тот момент, когда мы усложнили организацию
наблюдаемого нами устройства настолько, что оно может быть квалифи-
цировано как обладающее интеллектом, оно, обретя возможность гибко
и эффективно реагировать на изменения окружающего мира и ориенти-
роваться в нем, строя в своем уме все более действенные модели,
одновременно оказалось в положении непрерывно возрастающих
незнания и неуверенности. Тем, кто занимается вопросом искусственного
интеллекта, не следовало бы забывать, что созданное ими мыслящее
устройство (разумеется, если не называть этим именем механические
придатки к человеческому интеллекту, лишенные умственной само-
стоятельности), в случае, если такое будет создано, сразу же окажется
жертвой неврозов, вытекающих из ощущения своей незащищенности,
неинформированности и сомнений в том, какую стратегию поведения
следует избрать.
Феномен мысли по самой своей природе не может быть самодоста-
точным. Как и все великие усовершенствования и открытия, изобретение,
устраняющее существующие трудности, само является источником новых,
еще более крупных затруднений и требует новых изобретений. Колоссаль-
ный скачок в область мысли, сопровождающийся резким повышением
устойчивости и выживаемости в окружающем мире, требовал новых
открытий, которые помогли бы справиться с трудностями, создаваемыми
сознательным существованием.
С одной стороны, естественно было возместить рост неуверенности
и незнания обращением к покровительственным существам, обладающим
всезнанием. Появление религии, совпадающее стадиально с возникно-
вением феномена мысли, конечно, не случайно. Этот вопрос является
совершенно самостоятельным и из темы нашего настоящего рассмотрения
выпадает. Другим средством преодоления возникших трудностей явилась
апелляция к коллективному разуму, т. е. культуре. Культура — сверхинди-
jjHgXeJibHhLpi HjiT^nej<T_-- представляет собой механизм, восполняющий
недостатки индивидуального сознания и, в этом отношении, пред-
ставляющий неизбежное ему^дополнёнй^Л)
^В^этом смысле механизм культуры может быть описан в следующем
виде: недостаточность информации, находящейся в распоряжении мысля-
щей индивидуальности, делает необходимым для нее обращение к другой
такой же единице. Если бы мы могли представить себе существо,
действующее в условиях полной информации, то естественно было бы
предположить, что оно не нуждается в себе подобном для принятия
решений. Нормальной же для человека ситуацией является деятельность
в условиях недостаточной информации. Сколь ни распространяли бы мы
круг наших сведений, потребность в информации будет развиваться,
обгоняя темп нашего научного прогресса. Следовательно, по мере роста
знания незнание будет не уменьшаться, а возрастать, деятельность,
Феномен культуры
45
становясь более эффективной, — не облегчаться, а затрудняться. В этих
условиях недостаток информации компенсируется ее стереоскопич-
ностью — возможностью получить совершенно иную проекцию той же
реальности, перевод ее на совершенно другой язык. Польза партнера по
коммуникации заключается в том, что он д р у г о vlj Коллективная
выгода участников коммуникативного акта заключается в том, чтобы
развивать нетождественность тех моделей, в форме которых отображается
внешний мир в их сознании. Это достигается при несовпадении образую-
щих их сознание кодов. Чтобы быть взаимно полезными, участники
коммуникации должны «разговаривать на разных языках». Таким
образом, с развитием культуры теряется третье преимущество простой
системы — адекватность взаимопонимания между участниками коммуни-
кации}. Более того, весь механизм культуры, делающий одну индивидуаль-
ность* необходимой для другой, будет работать в сторону увеличения
своеобразия каждой из них, что повлечет за собой естественное затруд-
нение в общении^
Для компенсации этой новой возникшей трудности необходимо будет
создание метаязыковых механизмов, с одной стороны, и возникновение
общего языка — смеси* из двух расходящихся и специализирующихся
подъязыков, с другой. Личные индивидуальности, сохраняя свою
отдельность и самостоятельность, будут включаться в более сложную
индивидуальность второго порядка — культуру^
Очевидно, что та же самая система отношений, которая соединяет
различные языки (семиотические структуры) в высшее единство,
соединяет и различные индивидуальности в мыслящее целое. Совокуп-
ность этих двух — однотипных по структуре — механизмов и образует
надындивидуальный интеллект — Культуру^/ -/—
Отличие Культуры как сверхиндивидуального единства от сверхиндиви-
дуальных единств низшего порядка (типа «муравейник») в том, что,
входя в целое как часть, отдельная индивидуальность не перестает
быть целым. Поэтому отношение между частями не имеет автоматиче-
ского характера, а каждый раз подразумевает семиотическое напряжение
и коллизии, порой принимающие драматический характер. Охарактери-
зованный выше структурообразующий принцип работает в обоих направ-
лениях. С одной стороны, он приводит к тому, что в ходе развития
культуры оказывается возможным возникновение внутри индиви-
дуального сознания человека психологических «личностей» со всеми слож-
ностями коммуникативной связи между ними, с другой — отдельные
личности с исключительной мощностью интегрируются в семиотические
единства.
Богатство внутренних конфликтов обеспечивает Культуре как коллек-
тивному разуму исключительную гибкость и динамичность.4-
46
Семиотика культуры
Асимметрия и диалог
Начнем с примера. В статье Н. Н. Николаенко приведены данные об
изменении обозначения цветов при одностороннем право- и лево-
полушарном их восприятии, полученные экспериментальным путем1.
При одностороннем правополушарном сознании испытуемый пользуется
существующими в языке цветоопределениями в их основной и упрощенной
форме или отсылает к предметным цветам вещей из простого и обыден-
ного вещного обихода. Оттенки вызывают у него трудности, и он их
огрубляет или отказывается называть. При одностороннем левополу-
шарном сознании опрашиваемый проявляет тенденцию к изысканной
изобретательности в классификации оттенков цвета: появляются «пале-
вый», «телесный», «терракотовый», «цвет белой сливы», «цвет морской
волны», «лунный». Мобилизуются данные других чувств: бледно-желтый
именуется «волнистым» или «бледно-пляжным». Напрашивается ана-
логия. В истории культуры периодически возникают тенденции к изыскан-
ному цветообозначению. Так, например, в «щегольской» культуре XVIII в.,
являющейся одной из составных частей общеевропейской прециозной
культуры рококо, мы можем обнаружить очевидную параллель. «Были
некоторые цвета в моде, — вспоминает Е. П. Янькова, — о которых потом
я и не слыхала: hanneton, темно-коричневый на подобие жука, grenouille
evanouie, лягушечно-зеленоватый (буквально: цвет лягушки, упавшей в
обморок. — Ю. Л.), gorge-de-pigeon, tourterelle (цвет груди голубя,
цвет горлицы. — Ю. Л.)»2. Ср. в «Войне и мире»: «Он был в темно-зеленом
фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayee, как он сам
говорил»3, — или упомянутые в «Мертвых душах» сукна «цветов темных,
оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать,
к бруснике» и «наваринского дыму с пламенем»4.
Однако семантическая игра изысканными цветообозначениями, увле-
чение созданием все новых и новых наименований для оттенков, мнимо-
предметных по своей природе (никто, конечно, не видал, какого «на самом
деле» цвета бедро испуганной нимфы, как выглядит упавшая в обморок
лягушка, равно как Чичиков, выбирая сукно для фрака, не имел перед
глазами реального дыма, поднимающегося над Наваринской бухтой),
свойственна не только щеголям XVIII в. В пределах того же в хронологиче-
ском отношении культурного пласта можно было бы указать, например,
на прециозность в немецкой поэзии XVII в. (так называемая «вторая
силезская школа», или «немецкий маринизм», по терминологии Л. В. Пум-
1 Николаенко Н. Н. Функциональная асимметрия мозга и изобразительные
способности // Текст и культура. Тарту, 1983. (Труды по знаковым системам. Т. 16;
Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 635).
2 Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные
ее внуком Д. Благово. Спб., 1885. С. 143. Елизавета Петровна Янькова — дочь
П. М. Римского-Корсакова и П. Н. Щербатовой. Воспоминания ее содержат
исключительно богатый материал по истории русского быта.
3 Цвет бедра испуганной нимфы (фр.). См.: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т.
М., 1951. Т. 4. С. 18. Слова Л. Н. Толстой вложил в уста le charmant Hippolyte —
модника Ипполита Куракина.
4 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 7. С. 235 и 99.
Асимметрия и диалог
47
пянского5), связанной с такими именами, как Клай или Лоэнштейн.
В русской поэзии XVIII в. прежде всего вспоминается в этой связи
Державин:
Лазурно-сизы-бирюзовы
На каждого конце пера,
Тенисты круги, волны новы
Струиста злата и сребра...
...Пурпур, лазурь, злато, багрянец,
с зеленью тень, слиясь с серебром...6
черту поэтики Державина пародировал Панкратий
Жемчужно-клкжвенно-пожарна
Выходит из-за гор заря;
Из кубка пламенно-янтарна
Брусничный морс льет на моря.
Смарагдо-бисерно светило...7
Приведенный нами 'частный пример иллюстрирует отношение подобия
между механизмом индивидуального сознания и семиотическим меха-
низмом культуры. Обычное, «нормальное» сознание представляет собой
компромисс между противонаправленными тенденциями составляющих
его однолинейных «сознаний». Можно высказать предположение, что и
наблюдаемое в различных сферах культуры периодическое «качание»
между крайними структурными формами и их компромиссным «выравни-
ванием» вокруг усредненной формы имеет ту же природу. Тенденции эти
не только разнонаправленны, но и лежат в разных, трудно переводимых
плоскостях. Так, если говорить о цвете, то, как отмечает Н. Н. Николаенко,
освобожденные от взаимного контроля и ограничения, правое и левое
полушария ведут себя в этом вопросе принципиально различным образом:
правое, используя готовые классификации, почерпнутые из сферы естест-
венного языка, и предельно упрощая их, переносит цветонаименования
на предметы внешнего мира. Левое как бы отключает сцепление
с внешними предметами и, работая на холостом ходу, проявляет
тенденцию к изощренной изобретательности в области новых наимено-
ваний и классификационных категорий. Однако эта деятельность левого
полушария, видимо, не бесполезна: оно, освободившись от сковывающего
контроля предметности, вырабатывает язык различений. Затем эти разли-
чения, уже как факт языкового кода, передаются в правое полушарие,
и тогда «нормальное» сознание начинает видеть те оттенки цветовой
гаммы, которые прежде были для него неразличимы. Таким образом,
статическое состояние обеспечивается равновесием между активностью
обеих подструктур, достигаемым за счет компромисса, а динамика —
последовательной активизацией каждой из них и внутренним диалогизмом
между ними.
Нечто аналогичное мы можем отметить и в смене состояний культуры.
Статические периоды культуры образуются за счет компромиссного
равновесия между противонаправленными структурными тенденциями.
Однако в определенные моменты происходит динамизация. Одна из тен-
5 См.: Пумпянский Л. В. Тредиаковский и немецкая школа разума // Западный
сборник. М.; Л., 1937. Вып. 1. С. 160—167.
6Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 232, 314.
7Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 186.
Как известно, эту
Сумароков:
48
Семиотика культуры
денций тормозится, а другая реципрокно гипертрофируется. Одна из
тенденций, которую можно сопоставить с правополушарной работой
индивидуального сознания, отмечена повышенной связью с внетекстовой
реальностью, ее семиозис обращен на семантику, а основной ее функцией
является содержательная интерпретация семиотических моделей, храня-
щихся в памяти данной культуры. В процессе такой интерпретации эти
модели, с одной стороны, упрощаются, огрубляются и «практизируются»,
но, с другой, наполняются кровью реальных интересов и потребностей
человека и общества. Они сами обретают реальное бытие, входя в историю
человечества как факты в ряду других фактов. Это семиотика, связанная
с реальностью.
«Левополушарная» тенденция среди других аспектов характеризуется
самодовлеющим возрастанием семиотичности. Ослабление семантичности
расковывает семиотическую игру сознания, поощряя формирование
наиболее изощренных и самодовлеющих семиотических моделей. Если
в первом случае знаки одного семиотического ряда широко интерпрети-
руются не только реальностью, но и соотнесениями с другими видами
семиозиса, то во втором господствует тенденция замкнуться в некоем
изолированном семиотическом мире, открывающем свободу игре моде-
лями и классификациями. Однако возникающие в процессе такого
раскованного семиотического творчества конструкты, пропускаясь через
механизмы памяти культуры, передаются в семантические механизмы
и делаются инструментом более тонкого анализа внесемиотической
реальности.
В интересующем нас начальном примере такие культурные образо-
вания, как прециозные салоны, кружки маринистов, создатели стиля
рококо, а в нижних этажах культуры — щеголи, портные и фабриканты
материй создают механизмы игрового генерирования причудливых
словообразований, обозначающих оттенки цветов. О Гофмансвальдау его
немецкий исследователь (Эттлингер) говорит: «Абсолютная и грубая
власть слов ради слов, поэтический номинализм»8. Когда Тредиаков-
ский в 1735 г. для иллюстрации возможностей «Российского пентаметра»
описывал красоту розы:
...дражайша злата.
Тщалась искусить чрез свои кармины,
И мешая к ним многи краски ины,
Живопись всегда пестра, разноцветна,
Оку токмо в вид одному приметна*...9 —
он, конечно, упражнялся в словесной игре и менее всего рассчитывал на
«око». Но когда Державин описывал краски кавказских ледников или
пейзаж Званки, он, опираясь на культуру словесно-цветовой дифферен-
циации, видел те краски, которые открывались взору, вооруженному
тонким языком цветообозначений:
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря злато-багряна
Сквозь лес увеселяет взор10.
То, что Державин никогда на Кавказе не бывал и ледников не видел,
не делает для него и для читателей эту картину менее зримой, чем
8 Цит. по: Пумпянский Л. В. Указ. соч. С. 165.
9 Тредиаковский В. К. Избр. произведения. М.; Л., 1963. С. 403—404.
10 Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 257.
Асимметрия и диалог
49
описание того, как «черной тучей» тень бежит «по копнам, по снопам,
коврам желто-зеленым». Принцип скрепления слова с вещью, знака с вне-
знаковым миром приводит к тому, что Державин может свободно создать
в своем воображении тот вещный мир, ощущения от которого он так
убедительно и детализированно передает стихами. Именно потому, что за
плечами Державина стоит культура слова ради слова, маньеризма, поэти-
ческой игры Ржевского, немецких маринистов и французских прециоз-
ников, всей словесной изощренности поэтов XVII — начала XVIII в.,
освободивших себя от оков предметности, он как бы заново открыл, что
слова имеют вещное значение и как бы впервые — так, как никто до
него, — увидел и услышал мир. Когда он говорит:
Смерть мужа праведна прекрасна!
Как умолкающий орган..." —
то здесь не слова сополагаются со словами, а слова — с увиденной
сквозь их код первозданной реальностью.
Сказанное может объяснить некоторые процессы динамики культуры.
В культуре имеются механизмы стабилизации и дестабилизации, являю-
щиеся ее органами самоорганизации в динамическом или гомеостатиче-
ском направлениях. Это те метаописания культурной нормы, которые
становятся основой для создания новых текстов, стимулируют тексто-
порождение и одновременно накладывают запреты на тексты определен-
ного вида. Такого рода нормы могут строиться на основе компромисса,
канонизирующего некоторое среднее ядро, образуемое пересечением обеих
противоположных тенденций. В этом случае возникает ситуация стабили-
зации. Однако норма может быть ориентирована и на экстремальное
проявление какой-либо одной тенденции. Это вызывает ситуацию, анало-
гичную выключению одного полушария в индивидуальном сознании:
одна из тенденций полностью или частично подавляется, а другая полу-
чает возможности предельного развития. Через некоторый отрезок куль-
турного времени накопленные в пределах одной из подсистем культуры
тексты начинают передаваться в противоположную, стимулируя ее
активизацию и, соответственно, тормозя деятельность первого из семиоти-
ческих механизмов. При полном цикле это завершается новой компромис-
сной стабилизацией.
Структура эта только эвристически может быть представлена в изоли-
рованно-имманентном виде: она работает и может работать только
в условиях постоянных импульсов из внесемиотического мира и собствен-
ных вторжений в этот мир. Кроме того, любая культура семиотически
неоднородна, и постоянный обмен текстами осуществляется не только
внутри некоторой семиотической структуры, но и между разными по своей
природе структурами. Вся эта система обмена текстами может быть
в широком смысле определена как диалог между разноустроенными,
но находящимися в контакте генераторами текстов.
Наблюдаемый при унилатеральных припадках реципрокный эффект,
заключающийся в том, что при одновременной (т. е. нормальной) работе
обоих полушарий головного мозга имеет место известное взаимное
торможение активности каждого из них, между тем как выключение
одного из полушарий стимулирует активность другого, как бы выходящего
временно из-под контроля, вероятно (в определенной мере утрированно),
отражает некоторую закономерность сознания. Состояние, именуемое
11 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 253.
50
Семиотика культуры
вдохновением, равно как и некоторые другие психологические аффекты,
свойственные творческому мышлению и творческой деятельности, возмож-
но, связаны с целенаправленной дестабилизацией полушарной актив-
ности. Однако для нас сейчас важно другое обстоятельство.
Наблюдаемые в разных сферах культурной деятельности — в развитии
направлений, жанров и т. п. — смены периодов волнообразно растущей
и спадающей активности, после которых данный генератор временно
выключается, как бы переходя на прием, можно объяснить рассуждениями
Дж. Ньюсона, который отмечает, что важным условием диалога является
то, чтобы участвующие стороны (автор изучает диалогическое общение
младенцев в возрасте до года и ухаживающих за ними взрослых) осущест-
вляли коммуникативную активность попеременно, с паузами, во время
которых они подавляют свою активность и ориентируются на восприятие
активности партнера12. Если при искусственных унилатеральных припад-
ках одно из полушарий просто выключается, то в нормальных условиях,
как можно полагать, протекают мгновенные смены состояний «приема» и
«передачи», обеспечивающие диалогическую природу сознания.
Отмеченные процессы находят глубокие аналогии в разных сторонах
как синхронии, так и диахронии культурных и художественных явлений.
Один из коренных вопросов теории искусства — это его отношение
к морали, в частности к изображению преступлений. Со времен антич-
ности сталкиваются два взгляда. Согласно одному, изображение зло-
действ и преступлений в искусстве играет психотерапевтическую роль.
От Аристотеля, считавшего, что трагедия осуществляет высшую задачу
искусства — «посредством сострадания и страха очищение» (катарсис)13,
до Арто, провозглашающего Жестокость и Страх в театре силами,
разрушающими самодовольную бездуховность современного человека,
тупую жестокость жизни14, изображению зла, страданий и преступлений
приписывается освобождающая сила. Но одновременно от Платона
к Руссо и Толстому идет традиция обличения искусства как опасной игры,
находящейся на грани аморализма и дающей аудитории более чем
сомнительные уроки15. Что нового вносит в этот вопрос параллель между
двуполушарной структурой индивидуального сознания и полиглотическим
механизмом семиотики культуры?
Представление о попеременной активности конкурирующих типов
сознания, из которых одно ориентировано на предельную десемантизацию
и «свободную игру» знаками, а другое — на столь же крайнюю их семанти-
зацию, скрепление с внешней реальностью, причем первая тенденция
максимально отключена от импульсов, переводящих знаковые программы
в деятельность, а вторая непосредственно связана со стимулами актив-
ности, бесспорно, влияет на судьбу вводимых в эту систему текстов.
Явление катарсиса можно истолковать как переключение «правополушар-
ности» переживания трагических жизненных ситуаций в компетенцию
таких семиотических структур, которые аналогичны левополушарному
12 См.: Newson J. Dialogue and Development // Action, Gesture and
Symbol: The Emergence of Language / Ed. by A. Lock. London; New York; San
Francisco, 1978. P. 32—40.
13 Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 120.
14 Artaud A. Le theatre et son double. Paris, 1976. P. 154, 155.
15 Платон. Сочинения. Спб., 1863. Ч. 3. С. 164 и др.; Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или
О воспитании. Спб., 1913, С. 94—97; ср. у Толстого: «Люди должны понять, что
драма, не имеющая в своей основе религиозного начала, есть не только не важное
(...) но самое пошлое и презренное дело» («О Шекспире и его драме»).
Асимметрия и диалог
51
сознанию16. При этом они теряют связь с непосредственной реальностью
и воспринимаются как знаки, имеющие содержанием условную поэтиче-
скую «как бы реальность». Происходит резкое повышение меры услов-
ности, игровых моментов. Реальность как бы превращается в слова и
теряет свой угрожающий характер. С этим же связаны хорошо известные
случаи смягчения ощущения трагичности какого-либо события после
многократного его словесного пересказа. Психоаналитическая практика
«выведения из подсознания» как терапевтического акта также может быть
связана с тем, что отрыв некоторого текста от внетекстовой реальности и
переключение его в сферу ритуализованной знаковости (что представляет
собой известную аналогию с переключением текста из правого полушария
в левое) сопровождается заменой реальных отрицательных эмоций
условно-словесным классифицированием. В нормальных, а не экстремаль-
ных художественных ситуациях это означает лишь некоторый перевес для
«левополушарных» тенденций и игру между ними. Однако очевидно, что
при доминировании «правополушарных» тенденций эстетическое пере-
живание трагических ситуаций невозможно.
Представим, однако, противоположное движение текста: от левополу-
шарных механизмов 'к правополушарным. В зависимости от много-
образных условий, связанных с историко-культурным контекстом, такое
перемещение текстов может породить разнообразные следствия. Оно
может, как мы видели на примере Державина, обострить поэтическое
зрение, обращенное на мир, как бы заново увиденный. Аналогичный
эффект мы видим в поэзии Пастернака: лабораторность (всегда имеющая
характер ослабления связей с предметностью и усиления знаково-услов-
ной природы слова) Хлебникова и футуристов создала неслыханное до тех
пор богатство семантических пересечений слов, сближений и контрастов
словесных смыслов. Мир, который Пастернак увидел сквозь эту сетку,
показался увиденным заново.
Другой аспект такого же направления движения текстов в биполярном
семиотическом поле может быть проиллюстрирован примером фольклори-
зации литературных поэтических произведений или городским романсом,
когда произведение, часто стереотипного образно-сюжетного характера,
воспринимается исполнителем или аудиторией как относящееся непосред-
ственно к его личности («это про меня...»)17. Наконец, в тех случаях,
16 Со всей решительностью следует подчеркнуть, что понятия «право-» и «лево-
полушарности» применительно к материалу культуры употребляются нами крайне
условно и их следует принимать как бы взятыми в кавычки. Мы пользуемся ими
для обозначения аналогии между некоторыми функциями подсистем индивидуаль-
ного и коллективного сознания, понимая и разницу между ними, и все еще недоста-
точную определенность самой природы этих явлений.
17 Подобная переадресация текста обычна также для читательской аудитории
эпохи романтизма. Характерно в этом отношении объяснение в любви декабриста
П. Каховского и С. Салтыковой — в будущем жены Дельвига. Все объяснение идет
цитатами из «Кавказского пленника», слова Пушкина становятся в устах влюб-
ленных их собственной речью: «Он говорил мне в тот день множество стихов, я
помогала ему, когда он что-либо забывал; произнеся:
Непостижимой, чудной силой
Я вся к тебе привлечена —
я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я не вышла из рассеян-
ности и сказала бы то, что думала в тот момент, я погибла бы, — вот что это было:
Люблю тебя, Каховский милый,
Душа тобой упоена...
52
Семиотика культуры
когда с основанием говорится об опасности воздействия определенных
текстов на аудиторию, например, влияния фильмов ужасов на молодежь,
о чем много пишет западная пресса, то здесь, видимо, имеют место
аналогичные процессы. Вообще, такой подход позволяет сделать некото-
рые выводы относительно такой темной до сих пор области, как отношение
«текст — читатель». Можно определенно утверждать, что активность воз-
действия текста резко возрастает, когда граница, разделяющая семио-
тические полюсы культуры, пролегает между ним и аудиторией. При
расположении по одну и ту же сторону границы текст легче понимается,
менее подвержен сдвигам и трансформациям в читательском сознании, но
значительно менее активен в своем воздействии на аудиторию. При-
ведем пример, который именно потому, что он находится на грани психо-
патологии, обнажает некоторые механизмы превращения автоматизиро-
ванной игры слов в инструкцию для действия. Материал почерпнут
из мемуаров И. В. Ефимова — смотрителя каторжной тюрьмы в Сибири
в середине прошлого века. Он описывает следующий случай: «В одной
казенной, вблизи моей квартиры, небольшой избушке жило четверо
каторжных: все люди довольно пожилые и более или менее не очень
здоровые. Летом, когда случилось убийство, они занимались плетением
лаптей <...). Вошедший, положив на место бересту, осмотрелся и, увидев
под лавкою спящего топор, взял его, подошел к тому, который пил чай,
ударил его по голой шее так ловко, что чуть не отрубил напрочь голову,
бросил топор и сел к столу около убитого, свалившегося на пол <...).
Я подошел и начал его спрашивать, за что он убил товарища. Вот содер-
жание того, что он отвечал: «В заводе есть казак Казачинский (действи-
тельно, был), казак-чинский, казак чиновный. Я как-то иду ночью около
его дома, а он, подозвав меня к окну, у которого сидел, показал мне на
месяц, который хорошо и ярко светил, и спросил: «А это что?» Я ответил
ему: «Месяц»; а он говорит: «Месяц, месяц, умесяц, умей сечь» (в ориги-
нале явно был цокающий говор: «умей сец». — Ю. Л.); вот я и секанул».
Показание, данное им производившему об этом следствие полицмейстеру,
было повторением этого рассказа»18.
Эпизод этот характерен своей ощутимой связью с мифологическими
ситуациями. Игре слов приписывается магическое значение: она воспри-
нимается и как предсказание, и как инструкция к действию, и как знак,
по которому опознается имеющий право такие инструкции давать (Каза-
чинский — казак чинский). Текст создается как нарочито многозначная
словесная игра, а читается как однозначная инструкция для действия.
Аналогичные явления наблюдаются при переключении текстов авангар-
дистской культуры XX в. в массовое сознание. Было бы ошибкой толковать
это как Versunkene Kultur, «опускание» некоторой изысканной культуры
в малокультурную сферу. Бесспорно, что и «казак чинский», и послушный
К счастью, я выговорила «пленник» <...). Он не выпускал моей руки, которую
держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе самой те стихи, которые я слы-
шала от него так часто:
Бледна, как тень, она дрожала;
В руках любовника лежала
Ее холодная рука...»
(Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского, казненного 13 июня 1826
года // Труды Пушкинского дома при АН СССР. Л., 1926. С. 61, 67).
18 Ефимов И. В. Из жизни каторжных Илгинского и Александровского вино-
куренных заводов 1848—1853 // Русский архив. 1900. №2. С. 247.
Асимметрия и диалог
53
ему убийца принадлежат к одному культурному типу. Разница опреде-
ляется здесь не оппозицией «верх — низ», а противопоставлением ориен-
тации на свободную от внешне-смысловых интерпретаций словесную
игру — ориентации на программу действия и однозначную связь между
словом и поступком. Обе эти ориентации представляют собой противо-
положные, но одноуровневые тенденции сознания. Как убедительно пока-
зали работы Л. Я. Балонова и его сотрудников, на уровне индивидуаль-
ного сознания обе они необходимы для полноценного мышления и
нормальной речевой деятельности. Несостоятельность трактовки одной из
тенденций как более высокой умственной деятельности, а другой — как
более примитивной хорошо иллюстрируется примером из «Войны и мира»
Толстого. Речь идет о том месте, где говорится о мечтах княжны Марьи
сделаться странницей: «Часто, слушая рассказы странниц, она возбуж-
далась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубокого
смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить все и
бежать из дому»19. Здесь идущая из глубины веков традиция, превратив-
шаяся в устах ее носителей в «механические рассказы», т. е. в чисто
словесный и автоматизированный текст, воспринимается получателем как
нечто непосредственно связанное с его деятельностью.
Аналогии — метод научного мышления, который способен раскрыть
глубокие и иначе не доступные черты явления. Но аналогия может также,
при неосторожном ее применении, сделаться источником ошибок или
поспешных заключений. В полной мере это относится к аналогии между
новыми открытиями в области мозговой асимметрии и семиотической
асимметрией культуры. Прежде всего это следует сказать о попытках
прикрепить сложные культурные функции к левому или правому полу-
шарию. Если в фундаментальных исходных принципах семиотических и
лингвистических структур здесь прослеживается четкое разделение20, то,
как показывают исследования по билингвизму, выполненные группой
Л. Я. Балонова, такое усложнение ситуации, как введение в сознание
второго языка, приводит к вторичному перераспределению функций, при
котором одно из полушарий внутри себя фактически оказывается
биполярным. Тем большая сложность неизбежно должна характеризовать
многократно опосредованные культурные функции, из которых каждая
гетерогенна. Как мы уже говорили, понятия «левополушарность» или
«правополушарность» применительно к тем или иным явлениям культуры
должны восприниматься лишь как указание на известную функцио-
нальную аналогию на другом структурном уровне. Однако осторожность
пользования этой аналогией не умаляет, а увеличивает ее значение.
Остается самое главное: убеждение, что всякое интеллектуальное устрой-
ство должно иметь би- или полиполярную структуру и что функции этих
подструктур на разных уровнях — от отдельного текста и индивидуаль-
ного сознания до таких образований, как национальные культуры и
19 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 14 т. М., 1951. Т. 5. С. 239—240.
20См.: Якобсон Р. О. (совместно с К. Сантилли). Мозг и язык: Полушария
головного мозга и языковая структура в свете взаимодействия // Якобсон Р. О.
Избр. работы. М., 1985; Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых
систем. М., 1978. Существенные соображения относительно необходимости макси-
мальной осторожности в истолковании семиотических и ментальных функций
асимметрии см.: Розенфельд Ю. Вс. «Молчаливый» обитатель правой части мозга:
Особенности правополушарной специализации психических функций // Текст и
культура. Тарту, 1983. (Труды по знаковым системам. Т. 16; Учен. зап. Тарт. гос.
ун-та. Вып. 635).
54
Семиотика культуры
глобальная культура человечества, — аналогичны. Остается убеждение,
что соотношение этих подструктур и их интеграция осуществляются
в форме драматического диалога, компромиссов и взаимного напряжения,
что сам этот механизм интеллекта должен иметь не только аппарат
функциональной асимметрии, но и устройства, управляющие его
стабилизацией и дестабилизацией, обеспечивающие гомостатичность и
динамику.
Перенесение экспериментальных данных относительно функциональ-
ного распределения низших лингво-семиотических функций и уровней
между полушариями головного мозга в порядке прямых аналогий на
культурные объекты, проводимое без должной осторожности и прямо
расписывающее те или иные явления культуры, как «право-» и «лево-
полушарные», способно привести лишь к вульгаризации и путанице,
подобно тому, как если бы фонологические структуры были прямо и без
учета усложняющей специфики перенесены на уровень семантики. Однако
очевидно, что «идея взаимосвязи между топографией мозга и структурой
языка», определяющая новые аспекты в лингвистике, открывает опреде-
ленные перспективы и перед семиотикой. Идея культуры как двуканальной
(минимально) структуры, связывающей разноструктурные семиоти-
ческие генераторы, получает нейро-топографический фундамент. В свете
новых экспериментальных данных можно указать и на некоторые основные
черты семиотического функционирования простейших интеллектуальных
устройств, из взаимодействия которых складываются более сложные
формы сознания.
I II
1. Недискретность. Текст бо- Дискретность. Знак явно вы-
лее выявлен, чем знак, и ражен и представляет первич-
представляет по отноше- ную реальность. Текст дан как
нию к нему первичную вторичное по отношению к зна-
реальность. кам образование.
2. Знак имеет изобразитель- Знак имеет условный харак-
ный характер. тер.
3. Семиотические единицы Семиотические единицы имеют
ориентированы на внесе- тенденцию к наибольшей авто-
миотическую реальность и номности от внесемиотической
прочно с ней соотнесены. реальности и приобретают смысл
от взаимного соотношения меж-
ду собой.
4. Непосредственно связаны Автономны от поведения,
с поведением.
5. С «внутренней» точки зре- Знаковость субъективно осоз-
ния воспринимаются как нана и сознательно акценти-
«не знаки». руется.
Приведенный список не обладает исчерпывающим характером. Новые
эксперименты устанавливают полушарную асимметрию таких явлений,
как прямая или обратная перспектива, значение которых для семиотики
живописи уже получало освещение21.
21 Успенский Б. А. О семиотике иконы // Труды по знаковым системам. Тарту,
1971. Т. 5. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 284); Uspensky B. The Semiotics of the
Russian Icon. Lisse, 1976.
Асимметрия и диалог
55
Проводимые в этой области эксперименты, хотя и имеют начальный
характер (для убедительности выводов требуется большее накопление
статистического материала), исключительно существенны в теоретиче-
ском плане: до сих пор, если требовалось установить связь между
явлениями в изобразительных искусствах и аналогичными процессами
в словесности, соответствие, как правило, аргументировалось общностью
эстетической позиции. Таким образом, связующим звеном оказывалась
область сознательной метаязыковой деятельности. Теперь открывается
возможность установления глубинных соответствий между различными
сферами знаковой деятельности. Возможность подсознательных ассоциа-
ций между определенными предпочтениями форм в архитектуре (напри-
мер, готическими пропорциями) и спецификой понимания природы и
функции слова (в данном случае средневековой интерпретацией его)
может получить новое объяснение.
Можно предположить, что каждый из охарактеризованных выше
типов сознания образует некоторую единую, глубинно осознаваемую
норму. Та или иная исторически сложившаяся фаза культуры, неизбежно
характеризуясь сложной гетерогенностью, подсознательно или через
посредство метакультурных норм ориентируется на один из этих глубин-
ных идеалов и, соответственно, переорганизовывает себя. Так, может
утрироваться «левополушарность» и приглушаться, исключаться из
нормы и «как бы не существовать» противоположная тенденция. Воз-
можно и прямо обратное.
Кжьтура Как Часть дгтприи цр.пгтриргтня, г ппнпй гтррпны, И средьц
обитания людей, с другой, находится в постоянных контактах с вне ее]
расположенным миром и испытывает его воздействие. Это воздействие
определяет динамику и темпы ее изменений/Однако, если не говорить
о случаях физического ее уничтожения, внешнее воздействие осуществ-
ляется через посредство тех или иных имманентных механизмов культуры.
Эти механизмы выступают как то устройство, которое, получая на входе
импульсы, идущие от внешней внекультурной реальности, выдает на
выходе тексты, которые, в свою очередь, могут поступать на ее вход.
Таким механизмом является асимметрия семиотической структуры и
постоянная циркуляция текстов, переключение их из одной системы
кодировки в другую. Подобным же образом совершается обмен мета-
текстами, кодами, которые передаются из одного «полушария» культуры
в другое.
Вернемся к примерам, с которых мы начали статью. В их свете процесс
индивидуального обучения отдельной человеческой единицы может рас-
сматриваться как включение ее в коллективное сознание. Робинзонада
личного опыта, когда в сознание ребенка сначала входит некоторый
объект, которому подыскивается слово, представляет лишь одну сторону
процесса. Не менее важной является другая: ребенок получает не отдель-
ные слова, а язык как таковой. Это приводит к тому, что огромная масса
слов, уже вошедших в его сознание, для него не сцеплена с какой-либо
реальностью. Дальнейший процесс «обучения культуре» заключается в
открытии этих сцеплений и в наполнении «чужого» слова «своим» содер-
жанием. Нетрудно заметить, что в ходе такого сцепления языка и внеш-
него мира, при котором совершается как бы индивидуальное открытие
законов и того, и другого, коллективный языковой опыт выступает в
функции гигантского «левого полушария», а обучающийся индивид
выполняет работу правого.
Аналогичен в своих основах процесс общения между культурами в тех
случаях, когда вновь возникающая культура сталкивается со старой.
56
Семиотика культуры
Запас текстов, кодов и отдельных знаков, который устремляется из старой
культуры в новую, более молодую, отрываясь от контекстов и внетексто-
вых связей, которые им были присущи в материнской культуре, приобре-
тает типичные «левополушарные» черты. Он откладывается в культурной
памяти коллектива как самодостаточная ценность. Однако в дальнейшем
он интерпретируется на реальность дочерней культуры, происходит
сцепление текстов с внетекстовой реальностью, в ходе чего сама сущность
текстов кардинально трансформируется.
Наконец, в толще любой культуры неизбежно возникают спонтанные
участки, в которых десемантизация текстов компенсируется их повышен-
ной продуктивностью. В дальнейшем возникающие здесь тексты пере-
даются в другие участки культуры, подвергаются семантизации и снова
возвращаются в генераторы классификаций и различений.
Вопрос о «сцеплении» текстов с реальностью не должен трактоваться
примитивно. Речь может идти не только о соотнесенности тех или иных
текстов с определенной реальностью, а о складывании определенных
текстовых пластов в замкнутые миры, которые в целом соотносятся
тем или иным образом с внесемиотической реальностью. Так, например,
мир детских представлений о собственных именах (бесспорно, наиболее
сцепленный с реальностью знак) отличается ярко выраженной «право-
полушарностью», хотя отдельные из входящих в него текстов могут быть
совершенно автономны от предметной соотнесенности.
Интересный пример в этом отношении дают эксперименты, проведенные
участниками группы Л. Я. Балонова с билингвиальным пациентом.
Пациенту дали пересказать басню (рассказ) Л. Н. Толстого «Два
товарища» (из «Четвертой русской книги для чтения»). При выключен-
ном правом полушарии сколь-либо связного рассказа вообще получить не
удалось. Однако, когда выключено было левое полушарие, с сюжетом
произошли интересные трансформации: кроме фигурирующих в басне
Толстого медведя и двух товарищей в туркменском пересказе пациента
(он перешел на родной язык) появились лев и лисица. Трудно сказать,
был ли это отголосок туркменского фольклора, или же лиса и лев выплыли
в памяти пациента по ассоциации с другой басней Толстого — «Лев, волк
и лиса», расположенной в «Книге для чтения» Толстого рядом и, воз-
можно, известной испытуемому в детские годы, а потом прочно им забы-
той. Ясно одно: выключение левого полушария возвратило испытуе-
мого в мир детства. Трудно говорить о предметности, сцепленности
с внесемиотической реальностью таких слов, как «лев», для ребенка из
туркменской деревни. Однако слово это входит в текстовый мир,
ориентированный на интимно-тесную связь с реальностью. Когда мы
слышим имя собственное (особенно если это уменьшительное или
ласковое имя, придуманное специально для данного ребенка, типа
«Бубик» в значении «Боря» или «Нонушка», как называли сибирскую
дочь декабриста Н. Муравьева Софью), то мы знаем, что оно относится
к одному-единственному объекту, даже если сам этот объект нам
неизвестен. Именно так воспринимается слово «лев» в детском сознании —
как собственное имя неизвестного лица. Замкнутые текстовые сферы
образуют сложную систему пересекающихся или иерархически организо-
ванных, соотнесенных синхронно или диахронически миров, пересекая
границы которых, тексты нетривиально трансформируются.
Выводы, которые мы можем уже на данном этапе сделать из опытов
по изучению асимметрии индивидуального и коллективного сознания,
прежде всего убеждают нас в необходимости в каждом синхронном
состоянии видеть конфликтное напряжение и компромисс разнонаправ-
Асимметрия и диалог
57
ленных тенденций. Возможность изучения динамики семиотических
структур становится реальностью.
Наблюдения над диахроническим аспектом культуры в больших хроно-
логических отрезках неоднократно приковывали внимание к ритмичности
смены структурных форм в искусстве и идеологии. Здесь можно было бы
упомянуть разработанную Д. Чижевским концепцию маятника — качания
стилей в искусстве между двумя архетипами: классическим и барочно-
романтическим. Антитезы «классицизм» и «романтизм» в терминологии
Жирмунского, «классицизм» и «маньеризм» Курциуса варьируют ту же
модель. В относительно недавнее время Д. С. Лихачев вновь обратил
внимание на периодичность чередования так называемых «великих
стилей» в истории искусства. При этом он подчеркнул правильность
в последовательности смен периодов активности и спадов, «изобретения»
и «разработки»: «Развитие стилей асимметрично». Так, например,
«в течение 250 лет (речь идет о промежутке между 1050 г.
и концом XIII в. — Ю. Л.) зодчие были изобретательны, а в последующие
250 лет они довольствовались тем, что копировали своих предшествен-
ников»22. Наблюдения эти хорошо увязываются с тыняновской концеп-
цией периодической смены, в процессе автоматизации — деавтомати-
зации, восприятия текста и чередования доминантной роли «верхней»
(канонической) и «нижней» (не канонической) тенденций культуры
с поочередной деканонизацией канонических на предшествующем этапе
и канонизацией неканонических линий. Все эти разнообразные концепции
могут рассматриваться как приближения к диалогической модели куль-
туры, в которой периоды относительной стабильности с взаимной уравно-
вешенностью и, следовательно, взаимно приторможенными противо-
положными тенденциями сменяются периодами дестабилизации и бурного
развития. В периоды стабилизации диалогический обмен текстами
совершается внутри одного и того же синхронного среза культуры и
один и тот же синхронный срез являет собой асимметричную картину
совмещения различных семиотических подструктур.
В период динамического состояния происходит резкая актуализация
какой-либо одной («право-» или «левополушарной») тенденции и
реципрокное торможение второй. Культура в целом приобретает более
жестко организованный и монолитный характер. Особенно это касается ее
метаструктурного уровня. Неизбежная полиструктурность с внутренней
точки зрения культуры выводится во внекультурное пространство, на
периферию, составляя динамический резерв. Диалог перемещается на
диахроническую ось. «Великие стили» выступают как компактные посла-
ния, которыми обмениваются динамические компоненты культуры в акте
внутренней коммуникации. Пульсирующая смена обращенности на дено-
тативный мир или на имманентную семиотическую структуру задает вто-
рую сторону процесса — обмен импульсами с внекультурной реальностью.
Но подобно тому, как внешние раздражители, для того чтобы стать фак-
тами индивидуального человеческого сознания, должны пройти через
центральную нервную систему человека и трансформироваться в соответ-
ствии с законами ее языка, внекультурные импульсы, попадая на вход
культурной системы, подвергаются в дальнейшем трансформациям по
законам ее языков, порождая самовозрастающую лавину информации,
т. е. динамическое развитие культуры.
22Лихачев Д. С. Барокко и его русский вариант XVII века // Русская литера-
тура. 1969. № 2. С. 18, 19. В приведенной цитате Д. С. Лихачев говорит о западно-
европейской архитектуре на рубеже романского и готического стилей.
58
Семиотика культуры
Миф—имя—культура*
I
1. Мир есть материя.
Мир есть конь.
Одна из этих фраз принадлежит тексту заведомо мифологическому
(«Упанишады»), между тем как другая может служить примером текста
противоположного типа. При внешнем формальном сходстве данных
конструкций между ними имеется принципиальная разница:
а) одинаковая связка (есть) обозначает здесь совершенно различные
в логическом смысле операции: в первом случае речь идет об определен-
ном соотнесении (которое может приниматься, например, как соотнесение
частного с общим, включение во множество и т. п.), во втором — непосред-
ственно об отождествлении;
б) предикат также различен. С позиции современного сознания слова
материя и конь в приведенных конструкциях принадлежат различным
уровням логического описания: первое тяготеет к уровню метаязыка,
а второе — к уровню языка-объекта. Действительно, в одном случае
перед нами ссылка на категорию метаописания, то есть на некоторый
абстрактный язык описания (иначе говоря, на некоторый абстрактный
конструкт, который не имеет значения вне этого языка описания), в
другом — на такой же предмет, но расположенный на иерархически
высшей ступени, перво-предмет, праобраз предмета. В первом случае
существенно принципиальное отсутствие изоморфизма между описывае-
мым миром и системой описания; во втором случае, напротив, — принци-
пиальное признание такого изоморфизма. Второй тип описания мы будем
называть «мифологическим», первый — «немифологическим» (или
«дескриптивным»).
ВЫВОД. В первом случае (дескриптивное описание) мы имеем ссылку
на метаязык (на категорию или элемент метаязыка). Во втором
случае (мифологическое описание) — ссылку на м е т а т е к с т, то есть
на текст, выполняющий металингвистическую функцию по отношению
к данному; при этом описываемый объект и описывающий метатекст
принадлежат одному и тому же языку.
СЛЕДСТВИЕ. Поэтому мифологическое описание принципиально
монолингвистично — предметы этого мира описываются через такой
же мир, построенный таким же образом. Между тем немифоло-
гическое описание определенно полилингвистично — ссылка на метаязык
важна именно как ссылка на иной язык (все равно, язык абстрактных
конструктов или иностранный язык — важен сам процесс перевода-
интерпретации). Соответственно и понимание в одном случае так или
иначе связано с переводом (в широком смысле этого слова),
а в другом же — с узнаванием, отождествлением. Действи-
тельно, если в случае дескриптивных текстов информация вообще опреде-
ляется через перевод, — а перевод через информацию, — то в мифологи-
ческих текстах речь идет о трансформации объектов, и понимание
* Статья написана совместно с Б. А. Успенским.
Миф — имя — культура
59
этих текстов связано, следовательно, с пониманием процессов этой
трансформации.
Итак, в конечном счете дело может быть сведено к противопоставлению
принципиально одноязычного сознания и такого, которому необходима
хотя бы пара различно устроенных языков. Сознание, порождающее
мифологические описания, мы будем именовать «мифологическим».
Примечание. Во избежание возможных недоразумений следует
подчеркнуть, что в настоящей работе нас не будет специально интере-
совать вопрос о мифе как специфическом повествовательном тексте и,
следовательно, о структуре мифологических сюжетов (так же, как и тот
угол зрения, который рассматривает миф как систему и в связи с этим
сосредоточивает внимание на парадигматике мифологических элементов).
Говоря о мифе или мифологизме, мы всегда имеем в виду именно миф
как феномен сознания. (Если иногда нам и придется ссылаться на
некоторые сюжетные ситуации, характерные для мифа как текста, то
они будут интересовать нас прежде всего как порождение мифологиче-
ского сознания.)
2. Мир, представленный глазами мифологического сознания, должен
казаться составленным из объектов:
1) одноранговых (понятие логической иерархии в принципе находится
вне сознания данного типа);
2) нерасчленимых на признаки (каждая вещь рассматривается как
интегральное целое);
3) однократных (представление о многократности вещей подразумевает
включение их в некоторые общие множества, то есть наличие уровня
метаописания).
Парадоксальным образом мифологический мир однорангов в смысле
логической иерархии, но зато в высшей мере иерархичен в семантически-
ценностном плане; нерасчленим на признаки, но при этом в чрезвычайной
степени расчленим на части (составные вещественные куски); наконец,
однократность предметов не мешает мифологическому сознанию рассмат-
ривать — странным для нас образом — совершенно различные, с точки
зрения немифологического мышления, предметы как один.
Примечание. Мифологическое мышление, с нашей точки зрения,
может рассматриваться как парадоксальное, но никоим образом не как
примитивное, поскольку оно успешно справляется со сложными класси-
фикационными задачами. Сопоставляя его механизм с привычным нам
логическим аппаратом, мы можем установить известный параллелизм
функций.
В самом деле:
иерархии метаязыковых категорий соответствует в мифе иерархия
самих объектов, в конечном смысле — иерархия миров;
расчленению на дифференциальные признаки здесь соответствует рас-
членение на части («часть» в мифе функционально соответствует «приз-
наку» дескриптивного текста, но глубоко от него отличается по механизму,
поскольку не характеризует целое, а с ним отождествляется);
логическому понятию класса (множества некоторых объектов) в мифе
соответствует представление о многих, с внемифологической точки зрения,
предметах как об одном.
60
Семиотика культуры
3. В рисуемом таким образом мифологическом мире имеет место
достаточно специфический тип семиозиса, который сводится в общем
к процессу номинации: знак в мифологическом сознании аналогичен
собственному имени. Напомним в этой связи, что общее значение имени
собственного принципиально тавтологично: то или иное имя не характери-
зуется дифференциальными признаками, но только обозначает объект,
к которому прикреплено данное имя; множество одноименных объектов
не разделяют с необходимостью никаких специальных свойств, кроме
свойств обладания данным именем1.
Соответственно, если фраза Иван — человек не относится к мифологи-
ческому сознанию, то одним из возможных результатов ее мифологи-
зации может быть, например, фраза Иван-Человек — и именно в той
степени, в какой слово «человек» в последней фразе будет выступать как
имя собственное, отвечающее персонификации объекта и не сводимое
к «человечности» (или вообще к тем или иным признакам «homo
sapiens»)2. Ср., с другой стороны, аналогичное соответствие фраз:
Иван — геркулес и Иван Геркулес; «Геркулес» в одном случае выступает
как нарицательное, а в другом — как собственное имя, соотнесенное
с конкретным персонажем, принадлежащим иной ипостаси; в последнем
случае имеет место не характеристика Ивана по какому-либо частному
признаку (например, по признаку физической силы), а характеристика
его через интегральное целое — через наименование. Легко согласиться,
что пример этот имеет несколько искусственный характер, поскольку
нам трудно в действительности отождествить конкретное лицо с мифологи-
ческим Гераклом: последний связывается для нас с определенным
культурно-историческим периодом. Но вот совершенно реальный пример:
в России в XVIII в. противники Петра I называли его «антихристом».
1 Ср. у Р. О. Якобсона: «Имена собственные (...) занимают в нашем языковом
коде особое место: общее значение имени собственного не может быть определено
без ссылки на код. В английском языковом коде Jerry 'Джерри' обозначает
человека по имени Джерри. Круг здесь очевиден: имя обозначает всякого, кому
это имя присвоено. Имя нарицательное pup 'щенок4 обозначает молодую собаку,
mongrel 'помесь4 — собаку смешанной породы, hound 'охотничья собака4,
'гончая4 — собаку, с которой охотятся, тогда как Fido 'Фидо4 обозначает лишь
собаку, которую зовут Фидо. Общее значение таких слов, как pup, mongrel или
hound может быть соотнесено с абстракциями типа puppihood 'щеночество4,
mongrelhood 'помесьность4 или houndness 'гончесть4, а общее значение слова Fido
таким путем описано быть не может. Перефразируя слова Бертрана Рассела,
можно сказать, что есть множество собак по имени Fido, но они не обладают
никаким общим свойством Fidoness 'фидоизм4» (Якобсон Р. О. Шифтеры, глаголь-
ные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков
различного строя. М., 1972. С. 96; ср.: Jakobson R. Shifters, Verbal Categories and
the Russian Verb // Selected Writtings. The Hague; Paris, 1971. Vol. 2. P. 131.
1 В этой связи, между прочим, представляет определенный интерес история
евангельского выражения «ессе homo» («се человек») (Ин. 19, 5). Есть основания
предполагать, что эта фраза была реально произнесена по-арамейски; но тогда
она, видимо, должна была первоначально значить просто «вот он» — в связи с тем,
что слово, выражающее понятие «человек», употреблялось в арамейском в место-
именном значении, примерно так же, как употребляется слово man в современном
немецком языке (устное сообщение А. А. Зализняка). Дальнейшее переосмысление
этой фразы связано с тем, что слово «человек» (представленное в соответствующем
переводе евангельского текста) стало пониматься, в общем, аналогично собствен-
ному имени, т. е. произошла его мифологизация.
Миф — имя — культура
61
При этом для одних это был способ характеристики его личности и
деятельности, другие же верили, что Петр на самом делеи есть
Антихрист. Один и тот же текст, как видим, может функционировать
существенно различным образом.
Итак, если в рассмотренных примерах с нарицательными именами
в предикатной конструкции имеет место соотнесение с некоторым
абстрактным понятием, то в соответствующих примерах с собственными
именами имеет место определенное отождествление (соотнесение с изо-
морфным объектом в иной ипостаси). В языках с артиклем подобная
трансформация в некоторых случаях, по-видимому, может быть осуществ-
лена посредством детерминации имени, выступающего в функции
предиката, при помощи определенного артикля. В самом деле, опреде-
ленный артикль превращает слово (точнее, детерминированное соче-
тание) в название, выделяя обозначаемый объект как известный и
конкретный3.
Примечание. Следует подчеркнуть связь некоторых типичных сюжетных
ситуаций с номинационным характером мифологического мира. Таковы
ситуации «называния» вещей, не имеющих имени, которые рассматри-
ваются одновременно и как акт творения4; переименования как пере-
воплощения или перерождения; овладения языком (например, птиц или
животных); узнавания истинного названия или сокрытия его5. Не менее
показательны разнообразные табу, накладываемые на имена собственные;
в то же время и табуирование имен нарицательных (например, названий
животных, болезней и т. д.) в целом ряде случаев определенно указывает
на то, что соответствующие названия осознаются (и, соответственно,
функционируют в мифологической модели мира) именно как собственные
имена6.
Можно сказать, что общее значение собственного
имени в его предельной абстракции сводится
3 Связь собственного имени и категории определенности, выраженной опреде-
ленным артиклем, раскрыта в арабской туземной грамматической традиции.
Собственные имена рассматриваются здесь как слова, определенность которых
исконно присуща им по их семантической природе. См.: Габучан Г. М. Теория
артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 1972. С. 37 и след. Характерно,
что в «Грамматике словенской» Федора Максимова (Спб., 1723. С. 179—180)
знак титлы, знаменующий в церковнославянских текстах сакрализацию слова,
сопоставляется по своей семантике с греческим артиклем: и тот, и другой несут
значение единственности.
4 Ср.: Иванов В. В. Древнеиндийский миф об установлении имен и его параллель
в греческой традиции // Индия в древности. М., 1964; Троцкий [Тройский] И. М.
Из истории античного языкознания // Советское языкознание. Л., 1936. Вып. 2.
С. 24-26.
5 Ср. также характерное для мифологического сознания представление о мире
как о книге, когда познание приравнивается к чтению, базирующемуся именно
на механизме расшифровок и отождествлений. См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А.
О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту,
1971. Т. 5. С. 152. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 284).
6 Так, например, называние болезни (вслух) может осмысляться именно как
призывание ее: болезнь может прийти, услышав свое имя (ср. в этой связи
обиходные выражения типа «накликать беду, болезнь» и т. п.) См. богатый
материал этого рода, собранный в монографическом исследовании: Зеленин Д. К.
Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сборник музея
антропологии и этнографии. Л., 1929. Т. 8. С. 1 — 144 (Ч. 1); Л., 1930. Т. 9. С. 1 —16(>
(Ч. 2).
62
Семиотика культуры
к мифу. Именно в сфере собственных имен происходит то отождеств-
ление слова и денотата, которое столь характерно для мифологических
представленией и признаком которого являются, с одной стороны, все-
возможные табу, с другой же — ритуальное изменение имен собственных
(ср. ниже, раздел III, пункт 2).
Это отождествление названия и называемого, в свою очередь, опреде-
ляет представление о неконвенциональном характере собственных имен,
об их онтологической сущности7. Отсюда мифологическое сознание может
осмысляться с позиции развития семиозиса как асемиотическое.
Итак, миф и имя непосредственно связаны по своей природе. В извест-
ном смысле они взаимоопределяемы, одно сводится к другому: миф —
персонален (номинационен), имя — мифологично8.
3.1. Исходя из сказанного, можно считать, что система собственных
имен образует не только категориальную сферу естественного языка,
но и особый его мифологический слой. В ряде языковых ситуаций
поведение собственных имен настолько отлично от соответствующего
поведения слов других языковых категорий, что это невольно наталкивает
на мысль о том, что перед нами инкорпорированный в толщу естественного
языка некоторый другой, иначе устроенный язык.
Мифологический пласт естественного языка не сводится непосред-
ственно к собственным именам, однако собственные имена составляют
его ядро. Как показывает целый ряд специальных лингвистических
исследований (в настоящее время работа в этом направлении ведется
С. М. и Н. И. Толстыми), в языке вычленяется вообще особый лексический
слой, характеризующийся экстранормальной фонетикой, а также специ-
фическими грамматическими признаками, кажущимися на фоне данного
языка аномальными: сюда относятся, между прочим, звукоподражания,
разнообразные формы экспрессивной лексики, так называемые детские
слова (nursery-words)9, формы клича и отгона животных и т. п. При
этом данный слой, с точки зрения самого носителя языка, выступает
как первичный, естественный, не-знаковый. Показательно, в частности,
что соответствующие элементы используются в ситуации разговора
с детьми (детские слова), с животными (подзывные слова, ср. еще
названия животных по мастям и т. д.), а иногда и с иностранцами и т. п.
Симптоматично, что слова такого типа могут объединяться как по
форме, так и по употреблению с собственными именами: так, в русском
языке «детские слова» оформляются по типу гипокористических
7 Ср. в этой связи древнегреческое представление о правильности имен по
природе (см.: Троцкий И. М. Указ. соч. С. 25).
8 Подтверждение того, что нарицательное наименование предмета в мифологи-
ческом мире является также его индивидуальным собственным именем, можно
обнаружить в ряде текстов. Так, например, в рассказе о том, как Один (назвавшись
Бельверком) отправился добывать мед поэзии, читаем: «Бел ьвер к достает бурав по
имени Рати». В примечании издатели констатируют: «Это имя и значит 'бурав'»
(Младшая Эдда / Изд. подг. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский.
Л., 1970. С. 59; ср. аналогичные указания на с. 72 и 79 этого издания). См.
специальный анализ языка Гомера в этом аспекте в кн.: Альтман М. С. Пережитки
родового строя в собственных именах у Гомера. Л., 1936. Вместе с тем другой
вариант той же тенденции проявляется в характерном для рыцарских романов
присвоении собственных имен мечам: меч Роланда — Дюрандаль, меч Зигфрида —
Бальмунг.
9 Имеются в виду специальные лексические формы, которые употребляют
взрослые при разговоре с детьми.
Миф — имя — культура
63
собственных имен («киса», «бяка»; «вова» как обозначение волка,
«петя» — петуха и т. п.), подзывные слова («цып-цып», «кис-кис»,
«мась-мась») выступают, по существу, как звательные формы (соответ-
ственно от «цыпа», «киса» и т. д.). Не менее показательна и обнаружи-
вающаяся при этом общность с детским языком, которая объясняется
той особой ролью, которую играют собственные имена в мире ребенка,
где вообще все слова могут потенциально выступать как имена собствен-
ные (см. специально ниже, раздел I, пункт 5).
4. Мифологическому миру присуще специфическое мифологическое
понимание пространства: оно представляется не в виде признакового
континуума, а как совокупность отдельных объектов, носящих собствен-
ные имена. В промежутках между ними пространство как бы прерывается,
не имея, следовательно, такого, с нашей точки зрения, основополагаю-
щего признака, как непрерывность. Частным следствием этого является
«лоскутный» характер мифологического пространства и то, что переме-
щение из одного locus'a в другой может протекать вне времени,
заменяясь некоторыми устойчивыми былинными формулами, или же
произвольно сжиматься или растягиваться по отношению к течению
времени в locus'ax, обозначенных собственными именами. С другой
стороны, попадая на новое место, объект может утрачивать связь со
своим предшествующим состоянием и становиться другим объектом
(в некоторых случаях этому может соответствовать и перемена имени).
Отсюда вытекает характерная способность мифологического простран-
ства моделировать иные, непространственные (семантические, ценност-
ные и т. д.) отношения.
Заполненность мифологического пространства собственными именами
придает его внутренним объектам конечный, считаемый характер, а ему
самому — признаки отграниченности. В этом смысле мифологическое
пространство всегда невелико и замкнуто, хотя в самом мифе речь может
идти при этом о масштабах космических10.
10 Чрезвычайно ярко представление о зависимости человека от locus'a выражено
в одной из раннесредневековых армянских легенд, дошедших до нас в тексте
«Истории Армении» Павстоса Бюзанда. В ней рассказывается эпизод, относящийся
к IV в., когда Армения была поделена между Византией и Сасанидской Персией.
Поскольку в Восточной (персидской) Армении династия армянских царей Арша-
кидов еще некоторое время продолжала существовать, находясь в вассальной
зависимости от персидских царей и одновременно продолжая бороться за восста-
новление независимости страны, легенда чрезвычайно оригинально, оставаясь
в рамках мифологических представлений, раскрыла возможности двойного
поведения человека как результата перехода его из одного locus'a в другой.
Персидский царь Шапух, желая узнать тайные намерения своего вассала, армян-
ского царя Аршака, приказал засыпать половину своего шатра армянской
землей, а другую — персидской. Пригласив Аршака в шатер, он взял его за руку
и стал прогуливаться с ним из угла в угол. «И когда они, прохаживаясь по шатру,
ступили на персидскую землю, то он сказал: «Царь армянский Аршак, ты зачем стал
мне врагом; я же тебя как сына любил, хотел дочь свою выдать за тебя замуж
и сделать тебя своим сыном, а ты ожесточился против меня, сам от себя, против
моей воли, сделался мне врагом...». Царь Аршак сказал: «Согрешил я и виновен
перед тобою, ибо, хотя я настиг и одержал победу над твоими врагами, перебил их
и ожидал от тебя награды жизни, но враги мои ввели меня в заблуждение,
запугали тобою и заставили бежать. И клятва, которой я клялся тебе, привела
меня к тебе, и вот я перед тобою. И я твой слуга, в руках у тебя, как хочешь,
так и поступай со мной; если хочешь, убей меня, ибо я, твой слуга, весьма виновен
перед тобою и заслужил смерти». 'А царь Шапух, снова взяв его за руку и прики-
дываясь наивным, прогуливался с ним и повел его в ту сторону, где на полу
64
Семиотика культуры
Говоря об отграниченном, считаемом характере мифологического мира,
мы можем сослаться на то обстоятельство, что наличие нескольких
разных денотатов у имени собственного в приципе противоречит его
природе (создавая существенные затруднения для коммуникации), тогда
как наличие разных денотатов у нарицательного имени представляет
собой, вообще говоря, нормальное явление.
Примечание. Сюжет мифа как текста весьма часто основан на пере-
сечении героем границы «темного» замкнутого пространства и переходе
его во внешний безграничный мир. Однако в основе механизма порожде-
ния подобных сюжетов лежит именно представление о наличии малого
«мира собственных имен». Мифологический сюжет такого рода начи-
нается с перехода в мир, наименование предметов в котором человеку
неизвестно. Отсюда сюжеты о неизбежности гибели героев, выходящих
во внешний мир без знания нечеловеческой системы номинации, и о
выживании героя, чудесным образом получившего такое знание. Само
существование «чужого» разомкнутого мира в мифе подразумевает
наличие «своего», наделенного чертами считаемости и заполненного
объектами — носителями собственных имен.
5. Охарактеризованное выше мифологическое сознание может быть
предметом непосредственного наблюдения при обращении к миру ребенка
раннего возраста. Тенденция рассматривать все слова языка как имена
собственные11, отождествление познания с процессом номинации, специ-
фическое переживание пространства и времени (ср. в рассказе Чехова
«Гриша»: «До сих пор Гриша знал только четырехугольный
мир, где в одном углу стоит его кровать, а в другом — нянькин
насыпана была армянская земля. Когда же Аршак подошел к этому месту и
ступил на армянскую землю, то, крайне возмутившись и возгордившись, переменил
тон и, заговорив, сказал: «Прочь от меня, злодей — слуга, что господином стал
над своими господами. Я не прощу тебе и сыновьям твоим и отомщу за предков
своих». Это изменение в поведении Аршака повторяется в тексте многократно,
по мере того как он ступает то на армянскую, то на персидскую землю. «Так с утра
и до вечера много раз он (Шапух. — Ю. Л., Б. У.) испытывал его, и каждый раз,
когда Аршак ступал на армянскую землю, становился надменным и грозил, а когда
ступал на местную (персидскую. — Ю. Л., Б. У.) землю, то выражал раскаяние»
(см.: История Армении Фавстоса Бузанда / Пер. с древнеарм. и комм.
М. А. Геворгяна. Ереван, 1953. С. 129—130).
Следует подчеркнуть, что понятия «армянская земля», «персидская земля»
здесь изоморфны понятиям «Армения», «Персия» и воспринимаются как мето-
нимия лишь современным сознанием (ср. аналогичное употребление выражения
«Русская земля» в русских средневековых текстах; когда Шаляпин в заграничных
странствиях возил с собою чемодан с русской землей, она, конечно, выполняла для
него функцию не поэтической метафоры, а мифологического отождествления).
Следовательно, поведение Аршака меняется в зависимости от того, частью
какого имени он выступает. Отметим, что средневековое вступление в вассалитет,
сопровождаемое символическим актом отказа от некоторого владения и получения
его обратно, семиотически расшифровывалось как перемена названия владения
(ср. распространенный в русской крепостнической практике обычай перемены
названия поместья при покупке его новым владельцем).
11 Отсюда, между прочим, звательная форма может выступать в «детских
словах» (nursery words) как мифологически исходная, ср., например, «божа» или
«бозя» (т. е. «Бог»), явно образованное от звательной формы «боже» (пример
сообщен С. М. Толстой). Совершенно аналогично «киса» может восприниматься
как производное от «кис-кис» и т. п.
Миф — имя — культура
65
сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка»12) и ряд
других совпадающих с наиболее характерными чертами мифологического
сознания признаков позволяет говорить о детском сознании как о типично г
мифологическом13. По-видимому, в мире ребенка на определенной стадии^
развития нет принципиальной разницы между собственными и нарица-
тельными именами, т. е. это противопоставление вообще не является реле-
вантным.
В этой связи уместно вспомнить чрезвычайно существенное наблю-
дение Р. О. Якобсона, указавшего, что собственные имена первыми
приобретаются ребенком и последними утрачиваются при афатических
расстройствах речи. Примечательно при этом, что ребенок, получая
из речи взрослых местоименные формы — наиболее поздние, по наблю-
дениям того же автора, — использует их как собственные имена:
«Например, он (ребенок. — Ю. Л., Б. У.) пытается монополизировать
местоимение 1-го лица: «Не смей называть себя 'я4. Только я это я, а ты
только ты»14.
Любопытно сопоставить с этим табуистическое использование место-
имений («он», «тот» и т. п.), которое наблюдается в различных этно-
графических ареалах' при именовании черта, лешего, домового или,
с другой стороны, при назывании жены или мужа (в связи с наклады-
ваемым на супругов запретом употреблять собственные имена друг
друга) — когда местоимение фактически функционирует как собственное
имя15.
Не менее показательно, вообще говоря, обозначение в детской речи
действия. Дойдя до места, где взрослый употребил бы глагол, ребенок
может перейти на паралингвистическое изображение действия,
сопровождаемое междометным словотворчеством. Можно считать это
именно специфической для детской речи формой повествования. Наиболее
близкой моделью детского рассказывания был бы искусственно скомпо-
нованный текст, в котором называние предметов осуществлялось бы при
помощи собственных имен, а описание действий — средствами вмонти-
рованных кинокадров16.
В таком способе передачи глагольных значений с особенной нагляд-
ностью проявляется мифологизм мышления, поскольку действие не
абстрагируется от предмета, а интегрировано с носителем и может
выступать как состояние собственного имени.
Можно полагать, что онтогенетически обусловленный мифологический
12 Разрядка в цитируемых текстах здесь и далее наша. — Ю. Л., Б. У.
13 Ср. в этой связи характеристику «комплексного мышления» ребенка у
Л. С. Выготского в его кн. «Мышление и речь» (Выготский Л. С. Избранные психо-
логические исследования, М., 1956. С. 168 и след.).
14 Якобсон Р. О. Указ. соч. С. 98. Ср. в этой связи слова Бога в Библии: «Я тот
же, Который сказал: вот Я!> (Ис. 52, 6; ср.: Исх. 3, 14). Ср. в Упанишадах (Бриха-
дараньяка, 1. 4.i): «Вначале [все] это было лишь Атманом (...). Он оглянулся
вокруг и не увидел никого кроме себя. И прежде всего он произнес: «Я есмь». Так
возникло имя «Я». Поэтому и поныне тот, кто спрошен, отвечает сначала: «Я есмь»,
а затем называет другое имя, которое он носит> (см.: Брихадараньяка упанишада /
Пер., предисл. и комм. А. Я. Сыркина, М., 1964. С. 73). Следует отметить, что
слово «Атман» может употребляться в Упанишадах как местоимение «я», «себя»
(см. комментарий А. Я. Сыркина на с. 168 указ. изд., а также: Радхакришнан С.
Индийская философия. М., 1956. Т. 1. С. 124 и след.).
15 См.: Зеленин Д. К- Указ. соч. Ч. 2. С. 88—89, 91—93, 108—109, 140.
16 Аналогичный тип повествования можно наблюдать и в ритуальных танцах.
66
Семиотика культуры
пласт закрепляется в сознании (и в языке), делая его гетерогенным и
создавая в конечном итоге напряжение между полюсами мифологиче-
ского и немифологического восприятия.
5.1. Необходимо подчеркнуть, что «чистая», т. е. совершенно последо-
вательная модель мифологического мышления, вероятно, не может быть
документирована ни этнографическими данными, ни наблюдениями над
ребенком. В обоих случаях исследователь реально имеет дело с текстами
комплексными по своей организации и с сознанием более или менее
гетерогенным. Это может объясняться, помимо возмущающего действия
сознания наблюдателя, тем, что последовательно мифологический этап
должен относиться к столь ранней стадии развития, которая в принципе
не может быть наблюдаема как по хронологическим соображениям,
так и по принципиальной невозможности вступления с нею в контакт,
и единственным инструментом исследования является реконструкция.
В равной мере допустимо и другое объяснение, согласно которому
гетерогенность является исконным свойством человеческого сознания, для
механизма которого существенно необходимо наличие хотя бы двух не до
конца взаимопереводимых систем.
При первом подходе выступает вперед стадиальное (которое практи-
чески обычно становится оценочным) объяснение сущности мифологизма,
при втором — интерпретация его как типологически универсального
явления. Оба подхода — взаимно дополнительны. Можно заметить, что
с чисто формальной точки зрения (отвлекающейся от существа вопроса)
самый принцип пространственной или временной локализации мифологи-
ческого сознания (связывающей его с той или иной стадией в развитии
человечества или же с тем или иным этнографически очерченным
ареалом), вообще говоря, соответствует именно той мифологической
концепции пространства, о которой шла речь выше. И напротив, признание
мифологизма типологически универсальным явлением вполне соответ-
ствует условно-логической картине мира.
Следует иметь в виду, во всяком случае, что этнические группы,
находящиеся на заведомо ранних стадиях культурного развития и харак-
теризующиеся ярко выраженным мифологизмом мышления, в целом ряде
случаев могут обнаруживать поразительную способность к построению
сложных и детализованных классификаций логического типа (ср. разно-
образные классификации растительного и животного мира по абстракт-
ным признакам, наблюдаемые у австралийских аборигенов)17. Можно ска-
17 См.: Worsley P. Groote Eyland totemism and «Le totemisme aujourd'hui» //
The structural Study of Myth and Totemism / Ed. by E. Leach. Edinburgh, 1967.
P. 153—154. Характеризуя мышление австралийских аборигенов в терминах
Л. С. Выготского, автор констатирует: «Рассмотренная нами тотемическая класси-
фикация основывается на «комплексном мышлении» или «мышлении в коллекциях»
(термины Л. С. Выготского, см.: Выготский Л. С. Указ. соч. С. 168—180; по Выгот-
скому, объединение на основе коллекции составляет одну из разновидностей
комплексного мышления. — Ю. Л., Б. У.), но не на «мышлении в понятиях». Я не
хочу сказать, однако, что аборигены неспособны мыслить в понятиях. Напротив,
разработанная ими, независимо от тотемической классификации, систематизация
флоры и фауны, т. е. этноботанические и этнозоологические схемы, как раз
обнаруживают явную способность аборигенов к понятийному мышлению. В одной
из своих работ я перечислил сотни видов растений и животных, которые не только
известны аборигенам, но и систематизированы ими по таким, например, таксоно-
мическим группам, как jinungwangba (крупные животные, живущие на суше),
wuradjidja (те, кто летают, включая птиц), augwalja (рыбы и другие морские
животные), и т. д.; вместе с тем те или иные виды объединяются по экологически
Миф — имя — культура
67
зать, что мифологическое мышление сосуществует в этом случае с логи-
ческим, или дескриптивным. С другой стороны, элементы мифологического
мышления в некоторых случаях могут быть обнаружены в повседневном
речевом поведении современного цивилизованного общества18.
6. Из сказанного следует, что мифологическое сознание принципиально
непереводимо в план иного описания, в себе замкнуто — и, значит,
постижимо только изнутри, а не извне. Это вытекает, в частности, уже
из того типа семиозиса, который присущ мифологическому сознанию и
находит лингвистическую параллель в непереводимости собственных
имен. В свете сказанного самая возможность описания мифа носителем
современного сознания была бы сомнительной, если бы не гетерогенность
мышления, которое сохраняет в себе определенные пласты, изоморфные
мифологическому языку.
Итак, именно гетерогенный характер нашего мышления позволяет нам
в конструировании мифологического сознания опереться на наш внутрен-
ний опыт. В некотором смысле понимание мифологии равносильно
припоминанию.
и
1. Значимость мифологических текстов для культуры немифологического
типа подтверждается, в частности, устойчивостью попыток перевода их
на культурные языки немифологического типа. В области науки это
порождает логические версии мифологических текстов, в области искус-
ства — а в ряде случаев и при простом переводе на естественный язык —
метафорические конструкции. Следует подчеркнуть прин-
ципиальное отличие мифа от метафоры, хотя последняя является естест-
венным переводом первого в привычные формы нашего сознания. Действи-
тельно, в самом мифологическом тексте метафора как таковая, строго
говоря, невозможна.
2. В ряде случаев метафорический текст, переведенный в категории
немифологического сознания, воспринимается как символический. Символ
связанным группам. Именно поэтому, конечно, Дональд Томсон — естествоиспы-
татель по образованию — мог констатировать, что аналогичные этноботаническо-
зоологические системы у аборигенов Северного Квинслэнда «имеют некоторое
сходство с простой линнеевой классификацией». П. Ворсли, который квалифи-
цирует подобные классификационные схемы как «прото-научные» (подчеркивая их
принципиально логический характер), заключает: «Итак, мы имеем не одну, а
несколько классификаций, и неправильно было бы считать, что тотемическая
классификация представляет собой единственный способ организации объектов
окружающего мира в сознании аборигенов».
18 Ср. наблюдения Выготского об элементах «комплексного мышления», наблю-
даемого по преимуществу у детей, в повседневной речи взрослого человека (Выгот-
ский Л. С. Указ. соч. С. 169, 172 и др.). Исследователь отмечает, в частности,
что, говоря, например, о посуде или об одежде, взрослый человек нередко имеет
в виду не столько соответствующее абстрактное понятие, сколько набор конкретных
вещей (как это характерно, вообще говоря, для ребенка).
68
Семиотика культуры
такого рода19 может быть истолкован как результат прочтения мифа
с позиций более позднего семиотического сознания — то есть перетол-
кован как иконический или квазииконический знак. Следует отметить, что,
хотя иконические знаки в какой-то мере ближе к мифологическим текстам,
они, как и знаки условного типа, представляют собой факт принципиально
нового сознания.
Говоря о символе в его отношении к мифу, следует различать символ
как тип знака, непосредственно порождаемый мифологическим сознанием,
и символ как тип знака, который только предполагает мифологическую
ситуацию. Соответственно должен различаться символ как отсылка
к мифу как тексту и символ как отсылка к мифу как жанру. В последнем
случае, между прочим, символ может претендовать на создание мифоло-
гической ситуации, выступая как творческое начало.
В том случае, когда символический текст соотносится с некоторым
мифологическим текстом, последний выступает как метатекст по
отношению к первому, и символ соответствует конкретному элементу
этого текста20. Между тем в случае, когда символический текст соотно-
сится с мифом как жанром, т. е. некоторой нерасчлененной мифологи-
ческой ситуацией, мифологическая модель мира, претерпевая функцио-
нальные изменения, выступает как метасистема, играющая роль
метаязыка; соответственно, символ соотносится тогда не с элементом
метатекста, а с категорией метаязыка. Из данного выше определения
следует, что символ в первом понимании не выходит, вообще говоря,
за рамки мифологического сознания, тогда как во втором случае он
принадлежит сознанию немифологическому (т. е. сознанию, порождаю-
щему «дескриптивные», а не «мифологические» описания).
Пример символизма, не соотнесенного с мифологическим сознанием,
могут представить некоторые тексты начала XX в., например, русских
«символистов». Можно сказать, что элементы мифологических текстов
здесь организуются по немифологическому принципу и, в общем, даже
наукообразно.
3. Если в текстах нового времени мифологические элементы могут
быть рационально, т. е. немифологически организованы, то прямо
противоположную ситуацию можно наблюдать в текстах барокко, где,
напротив, абстрактные конструкты организуются по мифологическому
принципу: стихии и свойства могут вести себя как герои мифологического
мира. Это объясняется тем, что барокко возникло на фоне религиозной
культуры; между тем символизм нового времени порождается на фоне
рационального сознания с привычными для него связями.
Примечание. Отсюда, между прочим, спор о том, что исторически
представляет собой барокко — явление контрреформации, экзальтации
напряженной католической мысли или же «реалистическое», «оптими-
стическое» искусство Ренессанса, — по существу, беспредметен: барочная
культура, как промежуточный тип, одновременно соотносится как с той,
так и с другой культурой, причем ренессансная культура выражается
в системе объектов, а средневековая — в системе связей (образно
говоря, ренессансная культура определяет систему имен, а средневековая
— систему глаголов).
19 Здесь не имеется в виду то специальное значение, которое приписывается
этому термину в классификации Ч. Пирса.
20Конечно в смысле «sign-design», а не «sign-event» (ср.: Carnap R. Intro-
duction to Semantics. Cambrige (Mass.)., 1946. § 3).
Миф — имя — культура
69
4. Поскольку мифологический текст в условиях немифологического
сознания, как говорилось, порождает метафорические конструкции,
постольку стремление к мифологизму может осуществляться в про-
тивоположном по своей направленности процессе: реализации мета-
форы, ее буквальном осмыслении (уничтожающем самое метафоричность
текста). Соответствующий прием характеризует искусство сюрреализма.
В результате получается имитация мифа вне мифологического сознания.
ш
1. При всем разнообразии конкретных манифестаций мифологизм в той
или иной степени может наблюдаться в самых разнообразных культурах
и в общем обнаруживает значительную устойчивость в истории культуры.
Соответствующие формы могут представлять собой реликтовое явление
или результат регенерации; они могут быть бессознательными или
осознанными.
Примечание. Следует различать спонтанно возникающие мифологи-
ческие пласты и участки в индивидуальном и общественном сознании
от обусловленных теми или иными историческими причинами сознатель-
ных попыток имитировать мифогенное сознание средствами немифоло-
гического мышления. Такого рода тексты могут считаться мифами
(или даже не отличаться от них) с позиции немифологического сознания.
Однако их органическая включенность в немифологический круг текстов
и полная переводимость на немифологические языки культуры свиде-
тельствует о мнимости этого совпадения.
1.1. В семиотическом аспекте устойчивость мифологических текстов
можно объяснить тем, что, являясь порождением специфического номи-
национного семиозиса, — когда знаки не приписываются, а узнаются и
самый акт номинации тождествен акту познания, — миф в дальнейшем
историческом развитии начал восприниматься как альтернатива
знаковому мышлению (ср. выше, раздел I, пункт 3). Поскольку
знаковое сознание аккумулирует в себе социальные отношения, борьба
с теми или иными формами социального зла в истории культуры часто
выливается в отрицание отдельных знаковых систем (включая и такую
всеобъемлющую, как естественный язык) или принципа знаковости как
такового. Апелляция в таких случаях к мифологическому мышлению
(параллельно, в ряде случаев, — к детскому сознанию) представляет
собой в истории культуры достаточно распространенный факт.
2. В типологическом отношении, даже учитывая неизбежную гетеро-
генность всех реально зафиксированных в текстах культур, полезно
различать культуры, ориентированные на мифологическое мышление, и
культуры, ориентированные на внемифологическое мышление. Первые
можно определить как культуры, ориентированные на собственные имена.
Наблюдается известный, не лишенный интереса, параллелизм между
характером изменений в «языке собственных имен» и культуре,
ориентированной на мифологическое сознание. Достаточно показательно
уже то обстоятельство, что именно подсистема собственных имен образует
в естественном языке тот специальный пласт, который может быть под-
вержен изменению и сознательному (искусственному) регулированию со
70
Семиотика культуры
стороны носителя языка21. Действительно, если семантическое движение
в естественном языке носит характер постепенного развития — внутрен-
них семантических сдвигов, — то «язык собственных имен» движется как
цепь сознательных и резко отграниченных друг от друга актов наимено-
вания и перенаименования. Новому состоянию соответствует новое имя.
С мифологической точки зрения, переход от одного состояния к другому
мыслится в формуле «и увидел я новое небо и новую землю» (Апок. 21,1)
и одновременно как акт полной смены всех имен собственных.
3. Примером ориентации на мифологическое сознание в относитель-
но недавнее время — при этом связываемое обычно с отказом от старых
представлении — может быть самоосмысление эпохи Петра I и задан-
ное созданной ею инерцией понимание этой эпохи в России XVIII —
начала XIX в.
Если говорить об осмыслении петровской эпохи современниками, то
бросается в глаза чрезвычайно быстро сложившийся мифологический
канон, который не только для последующих поколений, но и в значитель-
ной мере для историков превратился в средство кодирования реальных
событий эпохи. Прокде всего следует отметить глубокое убеждение в
полном и совершенном перерождении страны, что естественно выделяет
магическую роль Петра — демиурга нового мира.
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими мы стали вдруг народ уже новый.
(Кантемир)
Петр I выступает в роли единоличного создателя этого нового мира:
Он Бог, он Бог твой был, Россия!
(Ломоносов)
«Август он Римский Император, яко превеликую о себе похвалу, умирая, прогла-
гола: «Кирпичный», рече, «Рим обретох, а мраморный оставляю». Нашему же
Пресветлому Монарху тщета была бы, а не похвала сие пригласити; исповести
бо воистину подобает, деревянную он обрете Россию, а сотвори златую».
(Феофан Прокопович)
Это сотворение «новой» и «златой» России мыслилось как генеральное
переименование — полная смена имен: смена названия государства,
перенесение столицы и дача ей «иноземного» наименования, изменение
титула главы государства, названий чинов и учреждений, перемена
местами «своего» и «чужого» языков в быту22 и связанное с этим полное
21 Между прочим, случаи, когда попытки переименования распространяются и
на отдельные нарицательные имена (например, в России в эпоху Павла I) могут
свидетельствовать именно о включении этих последних в мифологическую сферу
собственных имен, т. е. об определенной экспансии мифологического сознания.
22 Отмеченное Пушкиным языковое явление:
И в их устах язык родной
Не обратился ли в чужой? —
прямое следствие сознательного направления организованных усилий. Ср.
предписание: «Нужду свою благообразно в приятных и учтивых словах предлагать,
подобно яко бы им с каким иностранным лицом говорить случилось» (Юности
честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных
авторов повелением Е. И. В. Государя Петра Великого. Спб., 1767. С. 29).
Миф — имя — культура
71
переименование мира как такового23. Одновременно происходит чудовищ-
ное расширение сферы собственных имен, поскольку большинство
социально активных нарицательных имен фактически функционально
переходит в класс собственных24.
Ср. также замечания Тредиаковского в «Разговоре об орфографии» об особой
социальной функции иностранного акцента в русском обществе середины XVIII в.
«Чужестранный человек» говорит здесь «Российскому»: «Ежели найдутся извест-
ный правила на ваши ударения, то мы все хорошо научимся выговаривать ваши
слова; но сим совершенством потеряем право чу же странства, которое
поистинне мне лучше правильного вашего выговора» (Сочинения Тредьяковского.
Спб., 1849. Т. 3. С. 164).
Глубина этой общей установки для культуры «петербургского периода» русской
истории проявляется, может быть, ярче всего в ее влиянии на общественные
круги, захваченные в середине XIX в. славянофильскими настроениями. Так,
В. С. Аксакова в 1855 г. отзывается на появление ряда прогрессивных публикаций
(в «Морском сборнике») дневниковой записью: «Дышится отраднее, точно
читаешь о чужом, государстве» (Дневник В. С. Аксаковой, 1854—
1855. Спб., 1913. С. 67. Ср: Китаев В. А. От фронды к охранительству: Из истории
русской либеральной мысли 50—60-х годов XIX века. М., 1972. С. 45).
23 С этим связана установившаяся после Петра практика переименования
в порядке распоряжения (а не обычая) традиционных топонимов. Следует под-
черкнуть, что речь идет не об условной связи географического пункта и его
названия, позволяющей сменить знак при неизменности вещи, а о мифологиче-
ском их отождествлении, поскольку смена названия мыслится как уничтожение
старой вещи и рождение на ее месте новой, более удовлетворяющей требованиям
инициатора этого акта. Обычность подобных операций хорошо рисуется рассказом
в мемуарах С. Ю. Витте: в Одессе улица, на которой он «жил, будучи студентом»,
называвшаяся прежде Дворянской, «была переименована по постановлению
городской думы в улицу Витте» (Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 484).
В 1908 г. черносотенная городская дума, пишет Витте, «решила переименовать
улицу моего имени в улицу Петра Великого» (Там же. С. 485). Кроме желания
угодить Николаю II (всякое постановление о присвоении улице имени члена цар-
ствующего дома, бесспорно, становилось известным царю, поскольку могло
вступить в силу только после его личной резолюции), здесь явно ощущалось
представление о связи акта переименования улицы со стремлением уничтожить
самого Витте (в то же время черносотенцы совершили несколько попыток поку-
шения на его жизнь; показательно, что сам автор мемуаров ставит эти акты в один
ряд как однозначные). При этом он не замечает, что название улицы именем
Витте было дано также в порядке переименования. (После революции
данная улица была переименована в «улицу им. Коминтерна», но после войны
было восстановлено название «улица Петра Великого».) Тут же Витте сообщает
другой, не менее яркий факт: после того как московский генерал-губернатор
князь В. А. Долгоруков в царствование Александра III впал в немилость и был
сменен на своем посту великим князем Сергием Александровичем, московская
городская дума, показывая, что время Долгорукова сменилось временем Сергия,
«сделала постановление о переименовании Долгоруковского переулка (в настоящее
время носит название «улица Белинского». — Ю. Л., Б. У.), который проходит около
дома московского генерал-губернатора, в переулок великого князя Сергия Алек-
сандровича» (Там же. С. 486). Правда, переименование это не состоялось —
Александр III наложил резолюцию: «Какая подлость» (Там же. С. 487).
24 Тенденция к «мифологизации» тем отчетливее пронизывает петровское обще-
ство, что само оно считает себя движущимся в противоположном направлении:
идеал «регулярности» подразумевал построение государственной машины,
насквозь «правильной» и закономерной, в которой мир собственных имен заменен
цифровыми упорядоченностями. Показательны попытки заменить названия улиц
(предполагаемых каналов) — числами (линии на Васильевском острове в Петер-
бурге), введение числовой упорядоченности в систему чиновной иерархии (Табель о
72
Семиотика культуры
4. Можно было бы привести иные, но в своем роде не менее яркие
проявления мифологического сознания на противоположном социальном
полюсе XVIII в. Черты его усматриваются, в частности, в движении
самозванчества. Уже сама постановка вопроса: какое имя в паре
«Петр III — Пугачев» является «истинным», вскрывает типично мифоло-
гическое отношение к проблеме имени (ср. запись Пушкина: «Расскажи
мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным
отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня
он был великий государь Петр Федорович»). Не менее характерны
истории с пресловутыми «царскими знаками» на теле Пугачева25.
Однако едва ли не наиболее наглядный пример — знаменитый портрет
Пугачева из собрания московского Государственного Исторического
музея. Как было установлено, портрет этот написан безымянным худож-
ником поверх портрета Екатерины II26. Если портрет представляет
собой в живописи параллель к собственному имени, то переписывание
портрета адекватно акту переименования.
Аналогичные примеры можно было бы продолжить в большом коли-
честве.
5. Представлялось бы весьма заманчивой задачей описать для разных
культур области реального функционирования собственных имен, степень
культурной активности этого пласта и его отношение, с одной стороны,
к общей толще языка, а с другой, к его полярному антиподу — метаязы-
ковой сфере в пределах данной культуры.
IV
1. Противопоставление «мифологического» языка собственных имен
дескриптивному языку науки может, видимо, ассоциироваться с анти-
тезой: поэзия и наука. В обычном представлении миф связывается
с метафорической речью и через нее — со словесным искусством.
Однако в свете сказанного выше эта связь представляется сомнительной.
Если предположить гипотетически возможность существования «языка
собственных имен» и связанного с ним мышления как мифогенного
субстрата (такое построение, во всяком случае, можно рассматривать
как модель одной из реально существующих языковых тенденций),
то доказуемым следствием из него будет утверждение невозмож-
ности поэзии на мифологической стадии. Поэзия и
рангах). Ориентированность на число типична для петербургской культуры,
отличая ее от московской, П. А. Вяземский записал: «Лорд Ярмут был в Петер-
бурге в начале двадцатых годов; говоря о приятностях петербургского пребывания
своего, замечал он, что часто бывал у любезной дамы шестого класса, которая
жила в шестнадцатой линии» (Вяземский /7. А. Старая записная книжка. Л.,
1929. С. 200; ср.: С. 326).
Это смешение противоположных тенденций порождало столь противоречивое
явление, как послепетровская государственная бюрократия.
25 См.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М.,
1967. С. 149 и след.
26 См.: Бабенчиков Af. Портрет Пугачева в Историческом музее // Лит.
наследство, М., 1933. Т. 9/10.
Миф — имя — культура
73
миф предстают как антиподы, каждый из которых возможен лишь на
основе отрицания другого.
1.1. Напомним известное положение А. Н. Колмогорова, определяющего
величину информации всякого языка Н следующей формулой:
H=h,+h2,
где hi — разнообразие, дающее возможность передавать весь объем
различной семантической информации, а Иг — разнообразие, выражаю-
щее гибкость языка, возможность передать некоторое равноценное
содержание несколькими способами, т. е. собственно лингвистическая
энтропия. А. Н. Колмогоров отмечал, что именно Иг, то есть языковая
синонимия в широком смысле, является источником поэтической инфор-
мации. При ri2=0 поэзия невозможна27. Но если вообразить язык,
состоящий из собственных имен (язык, в котором нарицательные имена
выполняют функцию собственных), и стоящий за ним мир единственных
объектов, то станет очевидным отсутствие в подобном универсуме места
для синонимов. Мифологическое отождествление ни в коем случае не
является синонимией. Синонимия предполагает наличие для одного и
того же объекта нескольких взаимозаменяемых наименований и, следова-
тельно, относительную* свободу в их употреблении. Мифологическоё4-
отождествление имеет принципиально внетекстовый характер, вырастая
на основе неотделимости названия от вещи. При этом речь может идти
не о замене эквивалентных названий, а о трансформации самого объекта.
Каждое имя относится к определенному моменту трансформации, и,
следовательно, они не могут в одном и том же контексте заменять друг
друга. Следовательно, наименования, обозначающие различные ипостаси
изменяющейся вещи, не могут заменять друг друга, не являются
синонимами, а без синонимов поэзия невозможна28.
1.2. Разрушение мифологического сознания сопровождается бурно про-
текающими процессами: переосмыслением мифологических текстов как
метафорических и развитием синонимии за счет перифрастических
выражений. Это сразу же приводит к резкому росту «гибкости языка» и
тем самым создает условия развития поэзии.
2. Рисуемая таким образом картина, хотя и подтверждается много-
численными примерами архаических текстов, в значительной мере гипо-
тетична, поскольку покоится на реконструкциях, воссоздающих период
глубокой хронологической удаленности, не зафиксированный непосред-
ственно ни в каких текстах. Однако на ту же картину можно взглянуть
не с диахронной, а с синхронной точки зрения. Тогда перед нами пред-
станет естественный язык как некоторая синхронно организованная
структура, на семантически противоположных полюсах которой распола-
гаются имена собственные и функционально приравненные им группы
слов, о которых речь шла выше (раздел I, пункт 3.1), и местоимения,
27 См. изложение концепции А. Н. Колмогорова: Ревзин И. И. Совещание
в г. Горьком, посвященное применению математических методов к изучению
языка художественной литературы // Структурно-типологические исследования.
М., 1962. С. 288—289; Жолковский А. К. Совещание по изучению поэтического
языка: [Обзор докладов] // Машинный перевод и прикладная лингвистика.
М., 1962. Вып. 7. С. 93—94.
28 Если поэзия связана с синонимией, то мифология реализуется в противо-
положном явлении языка — омонимии (ср. замечания о принципиальной связи
мифа и омонимии в кн.: Альтман М. С. Пережитки родового строя в собственных
именах у Гомера. Л., 1936. С. 10—11 и след.).
74
Семиотика культуры
представляющие естественную основу для развития мифогенных моделей,
с одной стороны, и метаязыковых, с другой29.
2.1. Нашему сознанию, воспитанному в той научной традиции, которая
сложилась в Европе от Аристотеля к Декарту, кажется естественным
полагать, что вне двуступенчатого описания (по схеме «конкретное —
абстрактное») невозможно движение познающей мысли. Однако можно
показать, что язык собственных имен, обслуживая архаические коллек-
тивы, оказывается вполне способным выражать понятия, соответствую-
щие нашим абстрактным категориям. Ограничимся примером, извлечен-
ным из книги А. Я. Гуревича «Категории средневековой культуры». Автор
говорит о специфических фразеологизмах, встречающихся в архаических
скандинавских текстах и построенных по принципу соединения место-
имения и имени собственного. Соглашаясь с С. Д. Кацнельсоном, А. Я. Гу-
ревич считает, что речь идет об устойчивых родовых коллективах,
обозначаемых именем собственным30. Имя собственное — знак отдель-
ного человека — выполняет здесь роль родового наименования, что для
нас потребовало бы введения некоторого метатермина другого уровня.
Аналогичный пример можно было бы привести, касаясь употребления
гербов в рыцарской Польше. Герб по природе своей — личный знак,
поскольку он может носиться лишь одним живым представителем
рода, передаваясь по наследству только после его смерти. Однако герб
магната, оставаясь его личным геральдическим знаком, выполняет
одновременно метафункцию группового обозначения для воюющей под
его знаменами шляхты.
2.2. Нерасчлененность уровней непосредственного наблюдения и логи-
ческого конструирования, при которой собственные имена (индивидуаль-
ные вещи), оставаясь собой, повышались в ранге, заменяя наши абстракт-
ные понятия, оказывалась весьма благоприятной для мышления, постро-
енного на непосредственно воспринимаемом моделировании. С этим,
видимо, связаны грандиозные достижения архаических культур в построе-
нии космологических моделей, накоплении астрономических, климатоло-
гических и прочих знаний.
2.3. Не давая возможности развиваться логико-силлогистическому
мышлению, «язык собственных имен» и связанное с ним мифологическое
мышление стимулировали способности к установлению отождествлений,
аналогий и эквивалентностей. Например, когда носитель архаического
сознания строил типично мифологическую модель, по которой вселенная,
29 Замечательно, что аналогичное, по существу, понимание поэзии можно найти
в текстах, непосредственно отражающих мифологическое сознание. См. опреде-
ление поэзии в «Младшей Эдде»:
«— Какого рода язык пригоден для поэзии?
— Поэтический язык создается трояким путем.
— Как?
— Всякую вещь можно назвать своим именем. Второй вид .юэтического
выражения — это то, что зовется заменой имен (речь идет о синонимии. —
Ю. Л,, Б. У.). А третий вид называется кенингом. Он состоит в том, что мы говорим
«Один», либо «Тор», либо кто другой из асов или альвов, а потом прибавляем
к именованному название признака другого аса или какого-нибудь его деяния.
Тогда все наименование относится к этому другому, а не тому, кто был назван
(речь идет о специальном виде метафоры. — Ю. Л., Б. У)» (Указ. соч. С. 60).
30 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Мм 1972. С. 73—74; ср.:
Кацнельсон С. Д. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949. С. 80—81
и 91-94.
Миф — имя — культура
75
общество и человеческое тело рассматривались как изоморфные миры
(изоморфизм мог простираться до установления отношения подобия
между отдельными планетами, минералами, растениями, социальными
функциями и частями человеческого тела), он тем самым вырабатывал
идею изоморфизма — одну из ведущих концепций не только современной
математики, но и науки вообще.
Специфика мифологического мышления в том, что отождествление
мифологических единиц происходит на уровне самих объектов, а не на
уровне имен. Соответственно мифологическое отождествление предпо-
лагает трансформацию объекта, которая происходит в конкретном
пространстве и времени. Логическое же мышление оперирует словами,
обладающими относительной самостоятельностью, — вне времени и про-
странства. Идея изоморфизма является актуальной в обоих случаях, но в
условиях логического мышления достигается относительная свобода
манипуляции исходными единицами.
3. В свете сказанного можно оспорить традиционное представление
о движении человеческой культуры от мифопоэтического первоначального
периода к логико-научному — последующему. И в синхронном, и в диа-
хронном отношении поэтическое мышление занимает некоторую средин-
ную полосу. Следует при этом подчеркнуть сугубо условный характер
выделяемых этапов. С момента возникновения культуры система совме-
щения в ней противоположно организованных структур (многоканаль-
ности общественных коммуникаций), видимо, является непреложным
законом. Речь может идти лишь о доминировании определенных культур-
ных моделей или о субъективной ориентации на них культуры как целого.
С этой точки зрения, поэзия, как и наука, сопутствовала человечеству
на всем его культурном пути. Это не противоречит тому, что опреде-
ленные эпохи культурного развития могут проходить «под знаком»
семиозиса того или иного типа.
76
Семиотика культуры
О двух моделях коммуникации в системе
культуры
-/-Органическая связь между культурой и коммуникацией составляет
одну из основ современной культурологии. Следствием этого является
перенесение на сферу культуры моделей и терминов, заимствованных из
теории коммуникаций. Применение основной модели, разработанной
Р. Якобсоном, позволило связать обширный круг проблем изучения
языка, искусства и — шире — культуры с теорией коммуникативных
систем. Как известно, предложенная Р. Якобсоном модель имела следую-
щий вид1:
контекст
сообщение
адресант адресат
контакт
код
Создание единой модели коммуникативных ситуаций было существен-
ным вкладом в науки семиотического цикла и вызвало отклик во многих
исследовательских работах.Однако автоматическое перенесение сущест-
вующих уже представлений на область культуры вызывает ряд труд-
ностей. Основная из них следующая: в механизме культуры коммуникация
осуществляется минимум по двум, устроенным различным образом,
каналам.-f—
Нам уже приходилось в связи с этим обращать внимание на обязатель-
ностьлшд4Щщцв_едином механизме культуры изобразительных и словесных
связей, которые могут рассматриваться как два различно устроенных
канала передачи информации^ Однако оба эти канала описываются
моделью Якобсона и в этом отношении однотипны^ Но если задаться
целью построить модель культуры на более абстрактном уровне, то
окажется возможным выделить два типа коммуникации,* «а--1сотарь1х
imiiiim цини Пуд(,| nnih4iin.ilhi и iipiiMninnineiUn до mix ппр классйчеСкоТ
-моделью. /Для этого необходимо сначала выделить два возможных
направления передачи сообщения. Наиболее типовой случай — это
направление «Я—ОН», в котором «Я» — это субъект передачи, адресант-
обладатель информации, а «ОН» — объект, адресат. В этом случае
предполагается, что до начала акта коммуникации некоторое сообщение
известно «мне» и не известно «ему».
Господство коммуникаций этого типа в привычной нам культуре
заслоняет другое направление в передаче информации, которое можно
было бы схематически охарактеризовать как направление «Я—Я^Случай,
когда субъект передает сообщение самому себе, то есть тому, кому оно уже
и так известно, представляется парадоксальным. Однако на самом деле он
не так уж редок и в общей системе культуры играет немалую роль.
Когда мы говорим о передаче сообщения по системе «Я—Я», мы имеем
в виду в первую очередь не те случаи, когда текст выполняет мнемони-
ческую функцию. Здесь воспринимающее второе «Я» функционально при-
'См.: Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против».
М., 1975.
О двух моделях коммуникации
77
равнивается третьему лицу. Различие сводится лишь к тому, что [в
системе «ft—ОН^^н^ормация перемешается в пространстве, а в системе
«Я—Я» — во времениЛ j ~ ~"'~
Прежде всего нас интересует случай, когда передача информации
от «Я» к «Я» не сопровождается разрывом во времени и выполняет не
мнемоническую, а какую-то иную культурную функцию. Сообщение
самому себе уже известной информации имеет место во всех случаях,
когда при этом повышается ранг значимости сообщения. Так, когда
молодой поэт читает свое стихотворение напечатанным, сообщение
текстуально остается тем же, что и известный ему рукописный текст.
Однако, будучи переведено в новую систему графических знаков, обла-
дающих другой степенью авторитетности в данной культуре, оно
получает некоторую дополнительную значимость. Аналогичны случаи,
когда истинность, ложность или социальная ценность сообщения
ставятся в зависимость от того, высказано оно словами или написано,
написано или напечатано и т. д.
Но и в целом ряде других случаев мы имеем передачу сообщения
от «Я» к «Я». Это все случаи, когда человек обращается к самому себе,
в частности, те дневниковые записи, которые делаются не с целью
запоминания определенных сведений, а имеют целью, например, уяснение
внутреннего состояния пишущего, уяснение, которое без записи не
происходит. Обращение с текстами, речами, рассуждениями к самому
себе — существенный факт не только психологии, но и истории культуры.
В дальнейшем мы постараемся показать, что место автокоммуникации
в системе культуры гораздо более значительно, чем это можно было бы
предположить.
Как достигается, однако, столь странное положение, при котором
сообщение, передаваемое в системе «Я—Я», не делается полностью
избыточным и приобретает какую-то дополнительную новую информацию?
В системе «Я—ОН» переменными оказываются обрамляющие элементы
модели (адресант заменяется адресатом), а постоянными — код и
сообщение. Сообщение и содержащаяся в нем информация константны,
меняется же носитель информации.
/Всистеме «Я—Я» носитель информации остается тем же, но сообщение
в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл.
Это происходит в результате того, что вводится добавочный — второй —
код и исходное сообщение перекодируется в единицах его структур^,
получая черты нового сообщения.
Схема коммуникации в этом случае выглядит так:
контекст сдвиг контекста
сообщение 1 сообщение 2
Я—> —> —>Я'
код 1 код 2
Если коммуникативная система «Я—ОН» обеспечивает лишь передачу
некоторого константного объема информации, то в канале «Я—Я» проис-
ходит ее качественная трансформация, которая приводит к перестройке
самого этого «Я».1В первом случае адресант передает сообщение другому,
'2 См.: Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно рассмотре-
ния текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследо-
вания. М., 1962. С. 149—150.
78 Семиотика культуры
адресату, а сам остается неизменным в ходе этого акта. Во втором, пере-
давая самому себе, он внутренне перестраивает свою сущность, поскольку
сущность личности можно трактовать как индивидуальный набор социаль-
но значимых кодов, а набор этот здесь, в процессе коммуникативного
акта, меняется.
Передача сообщения по каналу «Я—Я» не имеет имманентного харак-
тера, поскольку обусловлена вторжением извне некоторых добавочных
кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих контекстную ситуацию.
Характерным примером будет воздействие мерных звуков (стука колес,
ритмической музыки) на внутренний монолог человека. Можно было бы
назвать целый ряд художественных текстов, воспроизводящих зависи-
мость яркой и необузданной фантазии от мерных ритмов езды на
лошади («Лесной царь» Гете, ряд стихотворений в «Лирических интер-
меццо» Гейне), качания корабля («Сон на море» Тютчева), ритмов
железной дороги («Попутная песня» Глинки на слова Кукольника).
Рассмотрим с этой точки зрения «Сон на море» Тютчева.
СОН НА МОРЕ
И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов3.
Нас, в настоящей связи, не интересует тот аспект стихотворения, который
связан с существенным для Тютчева сопоставлением («Дума за думой,
волна за волной») или противопоставлением («Певучесть есть в морских
волнах») душевной жизни человека, с одной стороны, и моря, с другой.
Поскольку в основе текста, видимо, лежит реальное переживание —
воспоминание о четырехдневной буре в сентябре 1833 г. во время путе-
шествия по Адриатическому морю из Мюнхена в Грецию, — нам оно
интересно как памятник психологического самонаблюдения автора (вряд
ли можно отрицать законность, среди прочих, такого подхода к тексту).
3 Тютчев Ф. И. Поли. собр. стихотворений. Л., 1939. С. 44.
О двух моделях коммуникации... 79
В стихотворении выделены два компонента душевного состояния
автора. Во-первых — мерный рев бури. Он отмечен неожиданным
включением в амфибрахический текст анапестических строк:
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы...
Но над хаосом звуков носился мой сон...
Но все грезы насквозь, как волшебника вой...
Анапестом выделены стихи, посвященные грохоту бури, и два, начинаю-
щихся с «но» симметричных стиха, изображающих прорыв сна через шум
бури или шума бури сквозь сон. Стих, посвященный философской теме
«двойной бездны» («две беспредельности»), связывающий текст с другими
стихотворениями Тютчева, выделен единственным дактилем.
Столь же резко выделяет его на фоне беззвучного мира сна («волшебно-
немой», населенный «безмолвными» толпами) обилие звучащих харак-
теристик. Но именно эти мерные оглушительные звуки становятся ритми-
ческим фоном, обусловливающим освобождение мысли, ее взлет и
яркость.
Приведем другой пример:
XXXVI
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
XXXVII
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним Воображенье
Свой пестрый мечет фараон...
XXXVIII
...Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Бенедетта
Иль Идол мио и ронял
В огонь то туфлю, то журнал4.
4 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 6. С. 183—184.
80
Семиотика культуры
В данном случае даны три внешних ритмообразующих кода: печатный
текст, мерное мерцание огня и «мурлыкаемый» мотив. Очень характерно,
что книга здесь выступает не как сообщение: ее читают, не замечая
содержания («глаза его читали, / Но мысли были далеко»), она
выступает как стимулятор развития мысли. Причем стимулирует она не
своим содержанием, а механической автоматичностью чтения. Онегин
«читает не читая», как смотрит на огонь, не видя его, и «мурлычет», сам
того не замечая. Все три, разными органами воспринимаемые, ритмические
ряда не имеют непосредственно семантического отношения к его мыслям,
«фараону» его воображения. Однако они необходимы для того, чтобы он
мог «духовными глазами» читать «другие строки». Вторжение внешнего
ритма организует и стимулирует внутренний монолог.
Наконец, третий пример, который нам хотелось бы привести, — это
японский буддийский монах, созерцающий «сад камней»5. Такой сад
представляет собой сравнительно небольшую площадку, усыпанную
щебнем, с расположенными на ней в соответствии со сложным математи-
ческим ритмом камнями. Созерцание этих сложно расположенных камней
и щебня должно создавать определенную настроенность, способствующую
интроспекции.
Разнообразные системы ритмических рядов, построенных по синтагма-
тически ясно выраженным принципам, но лишенных собственного
семантического значения — от музыкальных повторов до повторяю-
щегося орнамента, — могут выступать как внешние коды, под влиянием
которых перестраивается словесное сообщение6. Однако для того, чтобы
система работала, необходимо столкновение и взаимодействие двух разно-
родных начал: сообщения на некотором семантическом языке и вторжения
чисто синтагматического добавочного кода. Только от сочетания этих
начал образуется та коммуникативная система, которую можно назвать
языком «Я—Я».
Таким образом, существование особого канала автокоммуникации
можно считать установленным. Кстати, вопрос этот уже привлекал
внимание исследователей. Указание на существование особого языка,
специально предназначенного по функции для автокоммуникации, мы
находим у Л. С. Выготского, который описывает ее под названием
«внутренней речи». Там же находим и указание на ее структурные
признаки: «Коренным отличием внутренней речи от внешней является
отсутствие вокализации.
Внутренняя речь есть немая, молчаливая речь. Это — ее основное
отличие. Но именно в этом направлении в смысле постепенного нарастания
этого отличия и происходит эволюция эгоцентрической речи (...). Тот
факт, что этот признак развивается постепенно, что эгоцентрическая речь
раньше обосабливается в функциональном и структурном отношении, чем
5 Katsuo S., Sadaji W. Magic of Trees and Stones: Secrets of Japanese Garden-
ing. 3th ed. New York; Rutland; Tokyo, 1970. P. 101 — 104.
6 Ср. концепцию соотношения информации и фасцинации, предложенную
Ю. В. Кнорозовым (доклад Ю. В. Кнорозова опубликован в изложении, см.:
Структурно-типологические исследования. М., 1962. С. 285). Настоящая статья
была уже набрана, когда мне удалось в ходе курса лекций, прочитанных Ю. В. Кно-
розовым в декабре 1972 г. в Тартуском государственном университете, подробнее
ознакомиться с разработанной им теорией фасцинации. Теория эта, имеющая
фундаментальное значение, к сожалению, до сих пор не в полном объеме отражена
в печати, что затрудняет знакомство с нею специалистов.
О двух моделях коммуникации...
81
в отношении вокализации, указывает только на то, что мы и положили в
основу нашей гипотезы о развитии внутренней речи, — именно, что
внутренняя речь развивается не путем внешнего ослабления своей зву-
чащей стороны, переходя от речи к шопоту и от шопота к немой речи,
а путем функционального и структурного обособления от внешней речи,
переходя от нее к эгоцентрической и от эгоцентрической к внутренней
речи»7.
Попробуем описать некоторые черты автокоммуникативной системы.
Первым отличающим ее от системы «Я—ОН» признаком будет редукция
слов этого языка — они будут иметь тенденцию превращаться в знаки
слов, индексы знаков. В крепостном дневнике В. К. Кюхельбекера есть
замечательная запись на этот счет: «Заметил я нечто странное, любопыт-
ное для психологов и физиологов: с некоторого времени снятся мне не
предметы, не происшествия, а какие-то чудные сокращения, которые
относятся к ним, как гиероглиф к изображению, как список содержания
книги к самой книге. Не происходит ли это от малочисленности предметов,
меня окружающих, и происшествий, какие со мною случаются?»8
Тенденция слов языка «Я—Я» к редукции проявляется в сокращениях,
которые представляют собой основу записей для самого себя. В итоге
слова такой записи становятся индексами, разгадать которые воз-
можно только зная, что написано. Ср. характеристику академиком
И. Ю. Крачковским раннеграфической традиции Корана: «Scriptio
defective. Отсутствие не только кратких, но и долгих гласных, диакрити-
ческих точек. Возможность чтения только при знании наизусть»9. Однако
наиболее яркий пример коммуникации такого типа находим в знаменитой
сцене объяснения Кити и Константина Левина в «Анне Карениной», тем
более интересной, что она воспроизводит реальный эпизод объяснения
Л. Н. Толстого и его невесты С. А. Берс: «Вот, — сказал он и написал
начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили
«когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда,
или тогда?» (...)
— Я поняла, — сказала она покраснев.
— Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которое означало
слово «никогда».
— Это слово значит «никогда», — сказала она...»10
Во всех этих примерах мы имеем дело со случаем, когда читающий
понимает текст только потому, что знает его заранее (у Толстого —
в результате того, что Кити и Левин — духовно уже одно существо;
слияние адресата и адресанта здесь происходит на наших глазах).
Образованные в результате подобной редукции слова-индексы имеют
тенденцию к изоритмичности. С этим связана и основная особенность
синтаксиса такого типа речи: он не образует законченных предложений,
а стремится к бесконечным цепочкам ритмических повторяемостей.
Большинство приводимых нами примеров не являются в чистом виде
коммуникацией типа «Я—Я», а представляют собой компромисс, возни-
кающий в результате деформации обычного языкового текста под
7 Выготский Л. С. Мышление и речь: Психологическое исследование. М.; Л.,
1934. С. 285—286. Ср.: С. 287—292.
8 Дневник В. К. Кюхельбекера /.Предисл. Ю. Н. Тынянова. Л., 1929. С. 61—62.
К моменту записи Кюхельбекер уже шестой год находился в одиночном заклю-
чении.
9 Коран I Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М., 1963. С. 674.
10 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 8. С. 421—422.
82
Семиотика культуры
влиянием ее законов. При этом следует разделять два случая авто-
коммуникации: с мнемонической функцией и без нее.
8 качестве примера первой можно привести известную запись Пушкина
под беловым текстом стихотворения «Под небом голубым страны своей
родной...»:
Усл. о см. 25
У о с. Р.П.М.К.Б.: 24й.
Расшифровывается так: «Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 г.»,
«Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бесту-
жева 24 июля 1826 г.»
Приведенная запись имеет отчетливо мемориальную функцию, хотя не
следует забывать и другой: в силу в значительной мере окказиональной
связи между обозначаемым и обозначающим в системе «Я—Я» она
оказывается значительно более удобной для тайнописи, поскольку
строится по формуле: «Понятно лишь тем, кому понятно». Засекречивание
текста, как правило, связано с переводом его из системы «Я—ОН»
в систему «Я—Я» (члены коллектива, пользующегося тайнописью, в этом
случае рассматриваются как единое «Я», по отношению к которому те, от
которых текст должен быть скрыт, составляют собирательное третье
лицо). Правда, и здесь имеет место явно бессознательное действие,
которое нельзя объяснить ни мемориально-мнемонической функцией, ни
тайным характером записи: в первой строчке слова сокращаются до групп
в несколько графем, а во второй — группу составляет одна буква. Индексы
тяготеют к равнопротяженности и ритму. В первой строке, поскольку
предлог имеет тяготение сливаться с существительным, образуются две
группы, которые, при фонологическом параллелизме «у» и «о», с одной
стороны, и «л» и «м», с другой, обнаруживают черты не только ритмиче-
ской, но и фонологической организации. Во второй строке необходимость
из конспиративных соображений сократить фамилии до одной буквы
задала другой внутренний ритм, и все остальные слова были редуциро-
ваны в той же мере. Странно и чудовищно было бы полагать, что Пушкин
эту трагическую для него запись строил с сознательной оглядкой на
ритмическую или фонологическую организацию, — речь идет о другом:
имманентные и бессознательно действующие законы автокоммуникации
обнаруживают некоторые структурные черты, которые мы обычно
наблюдаем на примере поэтического текста.
Еще более заметны эти особенности во втором примере, лишенном
и мнемонической, и конспиративной функции и представляющем авто-
сообщение в наиболее чистом виде. Речь идет о бессознательных записях,
которые делал Пушкин, сопровождая ими процесс размышления и, воз-
можно, даже их не замечая.
9 мая 1828 г. Пушкин написал посвященное Анне Алексеевне Олениной,
за которую он сватался, стихотворение «Увы! язык любви болтливой...».
Там же находится запись:
ettenna eninelo
eninelo ettenna
Рядом запись:
«Olenina
Annette»
11 Рукою Пушкина: Несобр. и неопубл. тексты / Подг. к печати и комм.
М. А. Цявловский, Л.Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 307.
О двух моделях коммуникации...
83
Поверх «Annette» Пушкин записал: «Pouchkine»12. Восстановить ход
мысли несложно: Пушкин думал об Аннете Олениной как о невесте и жене
(запись «Pouchkine»). Текст представляет собой анаграммы (задано
чтение справо налево) имени и фамилии А. А. Олениной, о которой он
думал по-французски.
Интересен механизм этой записи. Сначала имя в результате обратного
чтения превращается в условный индекс, затем повтором задается неко-
торый ритм, а перестановкой — ритмическое нарушение ритма. Стихо-
подобный характер такой конструкции очевиден.
Механизм передачи информации в канале «Я—Я» можно описать
следующим образом: вводится некоторое сообщение на естественном
языке, затем вводится некоторый добавочный код, представляющий собой
чисто формальную организацию, определенным образом построенную
в синтагматическом отношении и одновременно или полностью освобож-
денную от семантических значений, или стремящуюся к такому освобож-
дению. Между первоначальным сообщением и вторичным кодом возни-
кает напряжение, под влиянием которого появляется тенденция истолко-
вывать семантические элементы текста как включенные в дополни-
тельную синтагматическую конструкцию и получающие от взаимной
соотнесенности новые — релятивные — значения. Однако, хотя
вторичный код стремится превратить первично значимые элементы в
освобожденные от общеязыковых семантических связей, этого не про-
исходит. Общеязыковая1* семантика остается, но на нее накладывается
вторичная, образуемая за счет тех сдвигов, которые возникают при
построении из значимых единиц языка ритмических рядов различного
типа. Но этим смысловая трансформация текста не ограничивается.
Рост синтагматических связей внутри сообщения приглушает первичные
семантические связи, и текст на определенном уровне восприятия может
вести себя как сложно построенное асемантическое сообщение. Но
синтагматически высокоорганизованные асемантические тексты имеют
тенденцию становиться организаторами наших ассоциаций. Им припи-
сываются ассоциативные значения. Так, всматриваясь в узор обоев или
слушая непрограммную музыку, мы приписываем элементам этих текстов
определенные значения. Чем более подчеркнута синтагматическая орга-
низация, тем ассоциативнее и свободнее становятся семантические
связи. Поэтому текст в канале «Я—Я» имеет тенденцию обрастать
индивидуальными значениями и получает функцию организатора беспо-
рядочных ассоциаций, накапливающихся в сознании личности. Он пере-
страивает ту личность, которая включена в процесс автокоммуникации.
Таким образом, текст несет тройные значения: первичные общеязыко-
вые, вторичные, возникающие за счет синтагматической переорганизации
текста и со- и противопоставления первичных единиц, и третьей ступени —
за счет втягивания в сообщение и организации по его конструктивным
схемам внетекстовых ассоциаций разных уровней, от наиболее общих до
предельно личных.
Нет необходимости доказывать, что описанный нами механизм одно-
временно может быть представлен и как характеристика процессов,
лежащих в основе поэтического творчества.
Однако одно дело — поэтический принцип, другое — реальные
поэтические тексты. Было бы упрощением отождествить вторые с сообще-
ниями, транслируемыми по каналу «Я—Я». Реальный поэтический
12Рукою Пушкина... С. 314.
84
Семиотика культуры
текст транслируется по двум каналам одновременно (исключение состав-
ляют экспериментальные тексты, глоссолалии, тексты типа асеманти-
ческих детских считалок и заумь, а также тексты на непонятных ауди-
тории языках). Он осциллирует между значениями, передаваемыми в
канале «Я—ОН» и образуемыми в процессе автокоммуникации. В зави-
симости от приближения к той или иной оси и от ориентированности
текста на тот или иной тип передачи он воспринимается как «стихи» или
как «проза».
Конечно, ориентированность текста на первичное языковое сообщение
или на сложную перестройку значений и возрастание информации еще
сама по себе не означает, что он будет функционировать как поэзия или
как проза: здесь вступает в работу соотнесенность с общекультурными
моделями этих понятий в данную эпоху.
Итак, мы можем сделать вывод, что (система чыо!М^ыш^^м№УШ-
j<ajuHH_^i.o>KeT строиться двумя способами. В одном случае мы_и_меем-дела
с jieKjDT^qfl_j|anep§a задаиной' йнформациеи', "которая перемещается, .до
одного человека.к другому, и константным в пределах всего акта
к^жмуникации кодом, В другомLP?4-1* идет о возрдстании.инфо^жации^-ее^
трансформации, переформулировке в других категориях, причем вводяхся
не Уовые^соо^щения, а новыё~ коды, а принимающий и передающий
сов^мещаются в ^эдном ^лицеГ^Бпроцессе такой автокоммуникацйй
происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма
широкий круг культурных функций — от необходимогб человеку в опреде-
ленных типах культуры ощущения своего отдельного бытия^до самопоз-
нания и аутопсихотерапии.
Роль подобных кодов могут играть разного типа формальные структуры,
которые тем успешнее выполняют функцию переорганизации смыслов,
чем асемантичнее их собственная организация. Таковы пространственные
объекты типа узоров или архитектурных ансамблей, предназначенные
для созерцания, или временные, типа музыки.
Сложнее дело обстоит со словесными текстами. Поскольку авто-
коммуникативный характер связи может маскироваться, принимая формы
других видов общения (например, молитва может осознаваться как
общение не с собой, а с внешней могущественной силой, повторное
чтение, чтение уже известного текста — по аналогии с первым чтением —
как общение с автором и т. п.), адресат, воспринимающий словесный
текст, должен решить, что же ему передано — код или сообщение.
Здесь в значительной мере речь будет идти об установке воспринимаю-
щего, поскольку один и тот же текст может играть роль и сообщениями кода
или же, осциллируя между этими полюсами, того и другого одновременно.
Здесь следует различать два аспекта: свойства текста, позволяющие
его интерпретировать в качестве кода, и способ функционирования текста,
при котором он соответственным образом употребляется.
В первом случае необходимость воспринимать текст не как сообщение,
а в качестве реализатора некоторой кодовой модели сигнализируется
образованием ритмических рядов, повторов, возникновением дополнитель-
ных упорядоченностей, совершенно излишних с точки зрения коммуни-
кативных связей в системе «Я—ОН». Ритм не является структурным
уровнем в построении естественных языков. Не случайно если поэтиче-
ские функции фонологии, грамматики, синтаксиса находят основу и
аналогию в соответствующих нехудожественных уровнях текста, то для
метрики такой параллели указать невозможно.
Ритмико-метрические системы перенесены не из коммуникативной
системы «Я—ОН», а из структуры «Я—Я». Распространение принципа
О двух моделях коммуникации... 85
повтора на фонологический и другие уровни естественного языка пред-
ставляет собой агрессию автокоммуникации в чуждую ей языковую
сферу.
Функционально текст используется не как сообщение, а как код, когда
он не прибавляет нам каких-либо новых сведений к уже имеющимся,
а трансформирует самоосмысление порождающей тексты личности и пере-
водит уже имеющиеся сообщения в новую систему значений. Если
читательнице N сообщают, что некая женщина по имени Анна Каренина
в результате несчастливой любви бросилась под поезд и она, вместо того
чтобы приобщить в своей памяти это сообщение к уже имеющимся,
заключает: «Анна Каренина — это я» и пересматривает свое понимание
себя, своих отношений с некоторыми людьми, а иногда и свое поведение,
то очевидно, что текст романа она использует не как сообщение, одно-
типное всем другим, а в качестве некоторого кода в процессе общения
с самой собой.
Именно так читала романы пушкинская Татьяна:
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает, и, себе присвой
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон13.
Текст прочитанного романа становится моделью переосмысления реаль-
ности. Татьяна не сомневается в том, что Онегин — романический
персонаж; ей не ясно лишь, с каким амплуа его следует отождествить:
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель...14
В письме Татьяны к Онегину примечательно, что текст распадается на две
части: в обрамлении (первые две и последняя строфы), где Татьяна
пишет как влюбленная барышня своему соседу по поместью, она,
естественно, обращается к нему на «вы»> но средняя часть, где и себя,
и его она моделирует по романическим схемам, построена на «ты».
Поскольку, как Пушкин нас предупредил, оригинал письма писан по-
французски, где в обоих случаях могло быть употреблено лишь место-
имение «vous», замена обращения в центральной части письма — лишь
знак книжного, небытового — кодового — характера данного текста.
Интересно, что романтик Ленский также объясняет себе людей (в том
числе и себя) методом отождествления их с некоторыми текстами.
И здесь Пушкин демонстративно употребляет тот же набор штампов:
«спаситель» («хранитель») — «развратитель» («искуситель»):
Он мыслит: «буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель...»15
13 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 6. С. 55.
14 Там же. С. 67.
15 Там же. С. 123.
86
Семиотика культуры
Очевидно, что во всех этих случаях тексты функционируют не как сообще-
ния на некотором языке (не для Пушкина, а для Татьяны и Ленского),
а как коды, концентрирующие в себе информацию о самом типе языка.
Мы заимствовали примеры из художественной литературы, но из этого
неправильно было бы делать вывод, что поэзия представляет собой
в чистом виде коммуникацию в системе «Я—Я». В более последовательной
форме этот принцип проведен не в искусстве, а в моралистических
и религиозных текстах типа притч, в мифе, пословице. Характерно
проникновение повторов в пословицы в период, когда они еще не
воспринимались эстетически по преимуществу, а имели гораздо более
существенную мнемоническую или морально-нормативную функцию.
Повторы определенных строительных (архитектурных) элементов в
интерьере храма заставляют воспринимать его структуру как нечто,
не связанное с практическими строительными, техническими потребно-
стями, а, скажем, как модель вселенной или человеческой личности.
В той мере, в какой внутренность храма — код, а не текст, она
воспринимается не эстетически (эстетически может восприниматься
только текст, а не правила его построения), а религиозно, философски,
богословски или каким-либо иным нехудожественным образом.
Искусство возникает не в ряду текстов системы «Я—ОН» или
системы «Я—Я». Оно использует наличие обеих коммуникативных систем
для осцилляции в поле структурного напряжения между ними. Эстетиче-
ский эффект возникает в момент, когда код начинает использоваться как
сообщение, а сообщение как код, когда текст переключается из одной
системы коммуникации в другую, сохраняя в сознании аудитории связь
с обеими.
Природа художественных текстов как явления подвижного, одно-
временно связанного с обоими типами коммуникации, не исключает того,
что отдельные жанры в большей или меньшей мере ориентированы на
восприятие текстов как сообщений или кодов. Конечно, лирическое
стихотворение и очерк не одинаково соотнесены с той или иной системой
коммуникации. Однако, кроме ориентации жанров, в определенные
моменты, в силу исторических, социальных и других причин эпохального
характера, та или иная литература в целом (и шире — искусство в
целом) может характеризоваться ориентацией на автокоммуникацию,
господствующую в системе естественных языков. Показательно, что
отрицательное отношение к тексту-штампу будет хорошим рабочим
критерием общей ориентированности литературы на сообщение. Ориенти-
рованная на автокоммуникацию литература не только не будет чуждаться
штампов, а проявит тяготение к превращению текстов в штампы и
отождествлению «высокого», «хорошего» и «истинного» со «стабильным»,
«вечным» — то есть штампом.
Однако удаление от одного полюса (и даже сознательная полемика)
совсем не означает ухода от его структурного влияния. Как бы ни
имитировало литературное произведение текст газетного сообщения, оно
сохраняет, например, такую типичную черту автокоммуникационных
текстов, как многократность, повторность чтения. Перечитывать «Войну и
мир» — занятие значительно более естественное, чем перечитывать исто-
рические источники, использованные Толстым. Одновременно, как бы ни
стремился словесный художественный текст — из соображений полемики
или эксперимента — перестать быть сообщением, это невозможно, как
убеждает нас весь опыт искусства.
Поэтические тексты, видимо, образуются за счет своеобразного
«качания» структур: тексты, создаваемые в системе «Я—ОН», функцио-
О двух моделях коммуникации...
87
нируют как автокоммуникации и наоборот; тексты становятся кодами,
коды — сообщениями. Следуя законам автокоммуникации — членению
текста на ритмические куски, сведению слов к индексам, ослаблению
семантических связей и подчеркиванию синтагматических, — поэтический
текст вступает в конфликт с законами естественного языка. А ведь
восприятие его как текста на естественном языке — условие, без которого
поэзия существовать и выполнять свою коммуникативную функцию не
может. Но и полная победа взгляда на поэзию как только на сообщение
на естественном языке приведет к утрате ее специфики. Высокая модели-
рующая способность поэзии связана именно с превращением ее из
сообщения в код. Поэтический текст как своеобразный маятник качается
между системами «Я—ОН» и «Я—Я». Ритм возводится до уровня
значений, значения складываются в ритмы.
Законы построения художественного текста в значительной мере суть
законы построения культуры как целого. Это связано с тем, что [сама
щьтура^ржет рассматриваться и как, сумма сообщений, которыми
обменираютея рязличцьще:,^ц^ганты (каждый из них для адресата —
«другой», «он»), и_к^к,адцр сообщение, отправляемое коллективным «я»
человечества самому себе. С^эхойточки ^ения, культура человечества —
колоссальный пример автокоммуникации.
/Одноврем^|ща.я^передача по двум коммуникативным каналам присуща
не только художественным текстам. Она составляет характерную черту
культуры^ если рассматривать ее как единое .сообщение. В связи с этим
жожно выделить культуры, в которых доминировать будет сообщение,
передаваемое по общеязыкоаому каналу «Я—ОН», и ориентированные на
авркоммуникацию сообщения. *
Поскольку в качестве «сообщения 1» могут выступать широкие пласты
информации, составляющие фактически специфику данной личности,
перестройка их приводит к изменению структуры личности. Следует
отметить, что если схема коммуникации «Я—ОН» подразумевает
передачу информации при сохранении константности ее объема,
то схема «Я—Я» ориентирована на возрастание информации
(появление «сообщения 2» не уничтожает «сообщения 1»).
Европейская культура нового времени сознательно ориентирована на
c№~€M<jT«%—Gti». Потребитель культуры находится в позиции идеального
адресата, он полу^ает^ш^фор^ Очень точно такое отно-
шение сформулировал Петр I, сказав: «Аз есть в чину учимых и учащих
мя требую». «Юности честное зерцало...» предписывает молодым людям
видеть образование в получении знания, «желая от всякого
научиться, а не верьхоглядом смотря»16. Следует подчеркнуть, что речь
идет именно об ориентации, поскольку на уровне текстовой реальности
всякая культура состоит из обоих видов коммуникаций. Кроме того,
отмеченная черта не специфична для культуры нового времени — в разных
формах она встречается в различные эпохи. Выделение же здесь именно
европейской культуры XVIII—XIX вв. необходимо потому, что именно она
обусловила наши привычные научные представления, в частности,
отождествление акта информации с получением, обменом. Между тем
далеко не все известные из истории культуры случаи могут быть
объяснены с этих позиций.
1Ь Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное
от разных авторов повелением Е. И. В. Государя Петра Великого. Спб., 1767. С. 42.
88
Семиотика культуры
Рассмотрим парадоксальную позицию, в которой оказываемся мы при
изучении фольклора. Известно, что именно фольклор дает наибольшие
основания для структурных параллелей с естественными языками и что
именно в фольклоре применение лингвистических методов сопровожда-
лось наибольшими успехами. Действительно, здесь исследователь может
констатировать наличие ограниченного числа элементов системы и срав-
нительно легко формулируемых правил их сочетания. Однако тут же
необходимо подчеркнуть и глубокое различие: язык дает формальную
систему выражения, но область содержания остается, с точки зрения
языка как такового, предельно свободной. Фольклор, особенно такие его
формы, как волшебная сказка, делает предельно автоматизированными
обе сферы. Но такое положение парадоксально. Если бы текст действи-
тельно был построен таким образом, он был бы полностью избыточным.
То же самое можно было бы сказать и о других видах искусства,
ориентирующихся на канонические формы, на выполнение, а не на
нарушение норм и правил.
Ответ, видимо, заключается в том, что если тексты этого типа в момент
своего зарождения обладали определенной семантикой (семантика
волшебной сказки, видимо, создавалась ее отношением к ритуалу),
то в дальнейшем эти связи были утрачены, и тексты начали приобретать
черты чисто синтагматических организаций. Если на уровне естествен-
ного языка они, бесспорно, обладают семантикой, то как явления культуры
они тяготеют к чистой синтагматике, то есть из текстов становятся
«кодами 2». Эту тенденцию мифа превращаться в чисто синтагмати-
ческий, асемантический текст — не сообщение о некоторых событиях, а
схему организации сообщения, — имел в виду К. Леви-Стросс, говоря
о его музыкальной природе.
Для сущест^р^ания^ул^туры как механизма, организующего коллек-
тивную личность с о"бщёй_дамятм1..И коллективным .сознанием, видимо
"e.0^?J?5i!l?15?_i!2£?Ji^„tl?_Jl?P.1Eib!ic семиотических систем, с последующей воз-
можностью вз а и м ного^перевода"текстов.^ ™~""""" ' ^
Такую же структурную пару образуют коммуникативные системы типа
^Я—ОН» и «Я—Я» (попутно следует отметить, что законом, которыТГ
кажется, можно трактовать как универсалию для земных культур,
является правило, чтобы один из членов любой культурообразующей
семиотической пары был представлен естественным языком или включал
в себя естественный язык).
^Реальные культуры. как_и художественные тексты,^строятся_по прий-
ти пу м а ятникooбpaзнoгoJ^JaJ^"мёЖдv'эfИмй систем а ми. Однако ориен-
УУ^ШШ^огоПлш иного типа культуры нУ ^
^получениеистины извнев~ в'идё с6Ьбщений_пр0ЯДДЯется как господствую-
щая тенденция. В особенности резко она сказывается в том мифологизи-
рованном образе, который каждая культура создает в качестве своего
идейного автопортрета. Эта модель самой себя оказывает воздействие
на культурные тексты, но не может быть с ними отождествлена,
иногда являясь обобщением скрытых за текстовыми противоречиями
структурных принципов, а иногда представляя прямую их противо-
положность. (В области типологии культур возможен факт возникно-
вения грамматики, которая принципиально неприменима к текстам того
языка, описывать который она претендует.)
Культуры, ориентированные на сообщение, носят бол ее_ под в и ж н ы и,
дйн^мТГческий характерГОни имТюТтенде"нцию безгранично, уделшшдахь
число "текстов и дают быстрый" прирост знании. Классическим
примером может считаться европейская" культура XIX в. Оборотной
О двух моделях коммуникации...
89
стороной^ этого типа, культуры. ..является.резкое разделение, общества
на передакшхих л^лряшшакшшх, возникновение^ психологической^уста-
новки на получение истины в качестве готового соо.бщения7"о чужом
умственном усили'йТ~рЬст социальной пассивности тех, кто находится
в n^n^Hj^_q^4J|Tj^^ что читатель европейского
романа нового времени более пассивен, чем слушатель волшебной сказки,
которому еще предстоит трансформировать полученные им штампы в
тексты своего сознания; посетитель театра пассивнее участника карна-
вала. Тенденция^ к умственному потребительству составляет опасную
сторону культуры, односторонне ориентированной на получение информа-
цииГиз вне • —•■■■■•-*-- « ~™™_~
Культуры, ориенхйрованные на автокоммуникащш» способны развивать
большую духовную активность, однако часто оказываются значительно
менее, динамичными, чем.,э:гого.тр£йуют нужды человеческого общества.
Исторический опыт показывает, что наиболее жизнестойкими оказы-
ваются те системы, в которых борьба между этими структурами не
Приводит к безусловной, победекакой-либо одной из^ них.
Однако в настоящее, время мы еще весьма удалены от возможности
сколь-либо обоснованно прогнозировать оптимальные структуры куль-
туры. До этого еще следует понять и описать, хотя бы в наиболее
характерных проявлениях, их механизм.
90
Семиотика культуры
Динамическая модель семиотической
системы
Покажи мне камень, который строи-
тели отбросили! Он — краеугольный
камень.
Из рукописей Наг-Хаммади1.
1.0. Обобщение опыта развития принципов семиотической теории за все
время, протекшее после того, как исходные предпосылки ее были сформу-
лированы Фердинандом де Соссюром, приводит к парадоксальному
выводу: пересмотр основных принципов решительным образом подтверж-
дал их стабильность, в то время как стремление к стабилизации семио-
тической методологии фатально приводило к пересмотру самых основных
принципов. Работы Р. О. Якобсона, и в частности его доклад, подводящий
итоги IX Конгресса лингвистов, блистательно показали, как современная
лингвистическая теория остается собой, даже переходя в свою собствен-
ную противоположность. Более того, именно в этом сочетании гомеоста-
тичности и динамизма Р. О. Якобсон справедливо увидал доказательство
органичности и жизнеспособности теории, способной коренным образом
пересматривать как свою собственную внутреннюю организацию, так и
систему своих взаимоотношений с другими дисциплинами: «Пользуясь
гегелевскими терминами, можно сказать, что антитезис традиционных
тезисов сменился отрицанием отрицания, то есть отдаленного и недавнего
прошлого»2.
Сказанное в полной мере относится к проблеме статического и динами-
ческого в семиотических системах. Пересмотр некоторых укоренившихся
в этой области представлений одновременно лишь подтверждает обосно-
ванность глубинных принципов структурного описания семиотических
систем.
1.1. В подходе к соотношению синхронического и диахронического
аспектов семиотических систем с самого начала была заложена известная
двойственность. Разграничение этих двух аспектов описания языка было
большим завоеванием женевской школы. Однако уже в «Тезисах Праж-
ского лингвистического кружка» и в последующих работах Пражской
школы было указано на опасность абсолютизации этого аспекта, на
относительный, скорее эвристический, чем принципиальный, характер
такого противопоставления. Р. О. Якобсон писал: «Было бы серьезной
ошибкой утверждать, что синхрония и статика — это синонимы.
Статический срез — фикция: это лишь вспомогательный научный прием,
а не специфический способ существования. Мы можем рассматривать
восприятие фильма не только диахронически, но и синхронически: однако
синхронический аспект фильма отнюдь не идентичен отдельному кадру,
вырезанному из фильма. Восприятие движения наличествует и при
синхроническом аспекте фильма. Точно так же обстоит дело с языком»3.
1 Трофимова М. К. Из рукописей Наг-Хаммади // Античность и современность:
К 80-летию Ф. А. Петровского. М., 1972. С. 377; ср.: Псалтырь 117, 22.
2 Якобсон Р. О. Итоги девятого конгресса лингвистов // Новое в лингвистике.
М., 1965. Вып. 4. С. 579.
3Jakobson R. Prinzipien der historischen Phonologie // TCLP. 1931. Vol 4
S. 264—265.
Динамическая модель семиотической системы
91
В ряде исследований Пражской школы, с одной стороны, указывалось
что, поскольку диахрония есть эволюция системы, она не
отрицает, а проясняет сущность синхронной организации для каждого
отдельного момента; с другой стороны, обращалось внимание на взаимо-
переходимость этих категорий4.
И все же критика этого плана не поставила под сомнение методи-
ческую ценность самого противопоставления двух исходных подходов
к описанию семиотической системы.
Предлагаемые ниже соображения имеют целью дальнейшее развитие
этих давно уже высказанных соображений, а также идей Ю. Н. Тынянова
и М. М. Бахтина, касающихся культурно-семиотических моделей5.
1.2. Можно предположить, что статичность, которая продолжает ощу-
щаться в целом ряде семиотических описаний, не является результатом
недостаточных усилий того или иного ученого, а проистекает из некоторых
коренных особенностей методики описания. Без тщательного анализа
того, почему самый факт описания превращает динамический объект
в статическую модель, и внесения соответствующих корректив в методику
научного анализа стремление к динамическим моделям может остаться
в области благих пожеланий.
2.0. Системное — внесистемное. Структурное описание строится на
основе выделения в описываемом объекте элементов системы и связей,
остающихся инвариантными при любых гомоморфных трансформациях
объекта. Именно эта инвариантная структура составляет, с точки зрения
подобного описания, единственную реальность6. Ей противопоставляются
внесистемные элементы, отличающиеся неустойчивостью, иррегуляр-
ностью и подлежащие устранению в ходе описания. О необходимости
при изучении семиотического объекта абстрагироваться от некоторых
«незначительных» его признаков писал еще Ф. де Соссюр, говоря о важ-
ности, в пределах описания одного синхронного состояния языка,
отвлечения от «маловажных» диахронических изменений: «Абсолютное
«состояние» определяется отсутствием изменений, но постольку поскольку
язык всегда, как бы то ни было, все же преобразуется, изучать язык
статически — на практике значит пренебрегать маловажными измене-
ниями подобно тому, как математики при некоторых операциях, например,
при вычислении логарифмов, пренебрегают бесконечно-малыми вели-
чинами»7.
Такое упрощение объекта в ходе структурного его описания в принципе
не может вызвать возражений, поскольку является общей чертой науки
как таковой. Нужно только не забывать, что объект в процессе структур-
ного описания не только упрощается, но и доорганизовывается,
становится более жестко организованным, чем это имеет место на самом
деле.
4 Jakobson R. Remarques sur revolution phonologique du russe comparee a
celle des autres langues slaves // TCLP. 1929. Vol. 2. P. 15.
5 См. статьи Ю. Н. Тынянова «Литературный факт» и «О литературной эволю-
ции» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977); ряд мыслей
М. М. Бахтина о закономерностях литературной эволюции высказан в его книге
о Рабле, а также в статье «Проблема содержания, материала и формы в словесном
художественном творчестве» (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975).
6Анализ понятия «структура» см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.,
1974. С. 60—66.
1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 104.
92
Семиотика культуры
Так, например, если поставить перед собой задачу структурно описать
систему русских орденов XVIII — начала XIX в. (объект этот удобен во
многих отношениях, поскольку представляет собой культурологический
факт, полностью семиотический по своей природе, искусственно возник-
ший и являющийся результатом сознательной системообразующей
деятельности его создателей), то очевидно, что в поле зрения окажутся
иерархия орденов и их сопряженные со значениями дифференциальные
признаки. Представляя каждый орден в отдельности и их систему в целом
как некоторую инвариантную организацию, мы, естественно, оставим вне
поля зрения лишенную какой-либо ощутимой упорядоченности вариатив-
ность некоторых признаков. Так, поскольку в течение длительного времени
орденские знаки и орденские звезды заказывались самим лицом,
получившим высочайшее повеление возложить их на себя, то величина
и степень украшенности их драгоценными камнями определялись фанта-
зией и богатством награжденного, не имея никакого имманентно-семио-
тического значения.
Но даже если отвлечься от этих вариантов, самый факт описания
орденской организации повысит степень ее системности не только тем, что
снимет все неструктурное как несуществующее, но и в другом отношении:
одним из основных вопросов описания будет определение иерархии
орденов. Постановка такого вопроса будет тем более правомерна, что он
практически входил в функционирование этой системы, в частности,
в связи с повседневной проблемой расположения орденских знаков
относительно друг друга на одежде. Известна также попытка Павла I
превратить все ордена Российской Империи в единый Российский кавалер-
ский орден, в котором все прежде существовавшие ордена признавались
бы лишь «именованиями» или классами.
Однако описание русских орденов как иерархической системы неиз-
бежно снимет постоянные колебания, неопределенность иерархической
ценности отдельных элементов. Между тем сами эти колебания были и
важным структурным признаком, и показательной типологической харак-
теристикой русских орденов. Описание неизбежно будет более организо-
ванным, чем объект.
2.1. Такой подход соответствует любой научной методике и не может
в принципе встретить возражений, поскольку подобное искажение объекта
в результате его описания представляется закономерным. Хотелось бы
обратить внимание на другой — значительно более серьезный — ряд
последствий: если описание, элиминирующее из объекта все внесистемные
его элементы, вполне оправдьшает себя при построении статических
моделей и требует лишь некоторых коэффициентов поправки, то для
построения динамических моделей оно в принципе создает трудности:
одним из основных источников динамизма семиотических структур явля-
ется постоянное втягивание внесистемных элементов в орбиту систем-
ности и одновременное вытеснение системного в область внесистем-
ности. Отказ от описания внесистемного, вытеснение его за пределы
предметов науки отсекает динамический резерв и представляет нам
данную систему в облике, принципиально исключающем игру между эво-
люцией и гомеостазисом. Тот камень, который строители сложившейся и
стабилизировавшейся системы отбрасывают как, с их точки зрения,
излишний или необязательный, оказывается для следующей за нею
системы краеугольным.
Любое сколь-либо устойчивое и ощутимое различие во внесистемном
материале может на следующем этапе динамического процесса
сделаться структурным. Если вернуться к приведенному нами примеру
Динамическая модель семиотической системы
93
с произвольным украшением орденов, то следует напомнить, что с 1797 г.
произвольное украшение орденских знаков драгоценными камнями было
отменено и бриллиантовые украшения стали для орденов узаконенным
признаком высшей степени награды. При этом очевидно, что украшения
бриллиантами были не потому введены, что требовалось некоторое
выражение для высшей степени награды, а, наоборот, вводилось в систему
и получало содержательный смысл разделение, сложившееся вне пределов
системы. Постепенное накопление вне системы существующего вариатив-
ного материала в сфере плана выражения явилось толчком для создания
содержательной и системной дифференциации.
2.2. Требование описывать внесистемное наталкивается на значи-
тельные трудности методического характера. С одной стороны, внесистем-
ное в принципе ускользает от аналитической мысли, с другой — самый
процесс описания с неизбежностью превращает его в факт системы.
Таким образом, формулируя требование включить в область структурных
описаний обволакивающий структуру внесистемный материал, мы,
казалось бы, полагаем возможным невозможное. Дело, однако, пред-
станет перед нами в несколько другом свете, если мы вспомним,
что внесистемное отнюдь не синоним хаотического. Внесистемное —
понятие, дополнительное к системному. Каждое из них получает полноту
значений лишь во взаимной соотнесенности, а совсем не как изолиро-
ванная данность.
2.3. В этой связи можно указать на следующие виды внесистемного.
2.3.1. Поскольку описание, как мы отмечали, влечет за собой повышение
меры организованности, самоописание той или иной семиотической
системы, создание грамматики самой себя является мощным средством
самоорганизации системы. В такой момент исторического существования
данного языка и — шире — данной культуры вообще в недрах семио-
тической системы выделяется некоторый подъязык (и подгруппа текстов),
который рассматривается как метаязык для описания ее же самой. Так,
в эпоху классицизма создаются многочисленные произведения искусства,
которые являются описаниями системы произведений искусства. Сущест-
венно подчеркнуть, что в данном случае описание есть самоописание,
метаязык заимствуется не извне системы, а представляет собой ее под-
класс.
Существенной стороной такого процесса самоорганизации является то,
что в ходе дополнительной упорядоченности определенная часть мате-
риала переводится на положение внесистемного и как бы перестает
существовать при взгляде сквозь призму данного самоописания. Таким
образом, повышение степени организованности семиотической системы
сопровождается ее сужением, вплоть до предельного случая, когда мета-
система становится настолько жесткой, что почти перестает пересекаться
с реальными семиотическими системами, на описание которых она претен-
дует. Однако и в этих случаях авторитет «правильности» и «реального
существования» остается за ней, а реальные слои социального семиозиса
в этих условиях полностью переходят в область «неправильного» и
«несуществующего».
Так, например, с точки зрения военно-бюрократической утопии Павла I
единственно существующей оказывалась доведенная в своей жесткости до
предела упорядоченность вахтпарада. Она же воспринималась в качестве
идеала государственного порядка. Политическая же реальность русской
жизни воспринималась как «неправильная».
2.3.2. Признак «несуществования» (т. е. внесистемности) оказывается,
таким образом, одновременно и • признаком внесистемного материала
94
Семиотика культуры
(с внутренней точки зрения системы), и негативным показателем струк-
турных признаков самой системы. Так, Грибоедов, подводя политические
итоги декабризма в набросках трагедии «Родамист и Зенобия», выделяет
в качестве структурного признака дворянской революционности (ибо,
конечно, Грибоедова интересует деятельность русских заговорщиков
1820-х гг., а не история древней Армении периода римской оккупации)
то, что народ, с этой точки зрения,, «не существует» как политическая
сила: «Вообще, — пишет Грибоедов, — надобно заметить, что народ
не имеет участия в их деле, — он будто не существует (курсив мой. —
/О.Л.)»8. Говоря о капеллане Андрее, авторе известного средневекового
трактата о куртуазной юбви «De агтюге», академик В. Ф. Шишмарев заме-
чал: «В отношении крестьянок куртуазный автор предлагает своему другу,
которому адресована книга, не стесняться образом действия, прибегая
даже к насилию»9. Такая рекомендация объясняется очень просто:
по мнению капеллана Андрея, крестьянству доступна лишь «amor natu-
ralis», и в пределах куртуазной любви — «fin amors» — он «будто не
существует». Следовательно, действия в отношении людей этого типа
также считаются несуществующими.
Очевидно, что описание системного («существующего») одновременно
будет и указанием на природу внесистемного («несуществующего»).
Можно было бы говорить о специфической иерархии внесистемных
элементов и их отношений и о «системе внесистемного». С этой позиции,
мир внесистемного представляется как перевернутая система, ее симмет-
рическая трансформация.
2.3.3. Внесистемное может быть иносистемным, то есть принадлежать
другой системе. В сфере культуры мы постоянно сталкиваемся с тенден-
цией считать чужой язык не-языком или — в менее полярных случаях —
воспринимать свой язык как правильный, а чужой как неправильный и
разницу между ними объяснять степенью правильности, то есть мерой
упорядоченности. Пример восприятия говорения на чужом языке как на
испорченном («неправильном») своем приводит Л. Толстой в «Войне и
мире»: «Вот так по-хранцузски, — говорили солдаты в цепи. — Ну-ка,
ты, Сидоров!»
Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто
лепетать непонятные слова:
— Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каск'а, — лопотал он...»10. Примеры
восприятия чужого языка как не-языка — немоты — многочисленны.
Ср.: «Юрга же людие есть языкъ нъмъ»11, а также этимологию слова
«немец». Одновременно возможно и обращенное восприятие своей
системы как «неправильной»:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
(Пушкин, «Евгений Онегин». Гл. III. Строфа XXVIII)
8 Грибоедов А. С. Соч. М., 1956. С. 340.
9 Шишмарев В. Ф. К истории любовных теорий романского средневековья
// Избр. статьи: Фр. лит. М.; Л., 1965. С. 217; см.: Lazar M. Amor courtois et
fin' amors dans la litterature du XH-e siecle. Paris, 1964. P. 268—278.
10 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 4. С. 217.
11 Полн. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 1. Стб. 235.
Динамическая модель семиотической системы
95
Ср. также приравнивание своего языка к немоте: Юрий Крижанич,
жалуясь на неразвитость славянского языка, писал в «Политике»:
«Вследствие вышеуказанной красоты, и величия, и богатства иных языков
и вследствие недостатков нашей речи мы, славяне, рядом с иными наро-
дами — словно немой на пиру»12.
2.3.4. В этом случае, поскольку и описываемый объект, и внесистемное
его окружение рассматриваются как хотя и далеко отстоящие, но
структурные явления, для описания их необходим такой метаязык,
который был бы настолько удален от них, чтобы с его позиции и они
выступали как однородные.
С этой позиции обнаруживается невозможность пользования в качестве
исследовательского метаязыка аппаратом самоописания, разработанным,
например, культурами классицизма или романтизма. С точки зрения
самой культуры классицизма, самоописания типа «Поэтического искус-
ства» Буало или «Наставления хотящим быть писателями» Сумарокова
являются текстом метауровня, выполняющим по отношению к эмпири-
ческой культуре своей эпохи роль: 1) повышения меры ее организации,
с одной стороны, и 2) отсечения пластов текстов, переводимых в разряд
внесистемных, — с другой. С точки же зрения современного исследователя
эпохи, тексты эти будут относиться к объекту описания и располагаться
на том же уровне, на котором расположены и все прочие тексты культуры
изучаемого времени. Перенесение языка, выработанного эпохой для само-
описания, на уровень метаязыка исследователя неизбежно повлечет
исключение из его поля зрения того, что современники данной эпохи,
из соображений полемики, исключали из ее состава.
2.3.5. Следует иметь в виду и другое: создание определенной системы
самоописания «доорганизовывает» и одновременно упрощает (отсекает
«излишнее») не только в синхронном, но и в диахронном состоянии
объекта, то есть создает его историю с точки зрения самого себя. Склады-
вание новой культурной ситуации* и новой системы самоописаний пере-
организовывает предшествующие ее состояния, то есть создает новую
концепцию истории. Это вызывает двоякие последствия: с одной стороны,
открываются забытые предшественники, культурные деятели, и историки
более раннего периода обвиняются в слепоте. Предшествующие данной
системе факты, описанные в ее терминах, естественно, могут привести
только к ней и лишь в ней обрести единство и определенность. Так
возникают понятия типа «предромантизм», когда в культурных фактах
эпохи, предшествующей романтизму, выделяется лишь то, что ведет
к романтизму и увенчивается единством только в его структуре. Харак-
терной чертой такого подхода будет то, что историческое движение
предстанет не как смена структурных состояний, а в виде перехода от
аморфного, но заключающего в себе «элементы структуры» состояния
к структурности.
С другой стороны, следствием такого подхода будет утверждение,
что история вообще начинается с момента возникновения данного само-
описания данной культуры. В России, при исключительно быстрой смене
литературных школ и вкусов на протяжении конца XVIII — начала XIX в.,
мы столкнемся с многократно и с разных позиций выдвигаемым тезисом:
«У нас нет литературы». Так, в начале своего творческого пути в стихо-
творении «Поэзия» Карамзин, полностью игнорируя историю предшест-
вующей ему русской литературы, предсказал скорое появление
12 Крижанич Ю. Политика. М., 1965. С. 467. В оригинале: «Budto czlowek
njem na piru» (Там же. С. 114).
96
Семиотика культуры
русской поэзии. В 1801 г. на заседании «Дружеского литературного
общества» Андрей Тургенев, теперь уже имея в виду Карамзина, заявит
об отсутствии литературы в России. Затем с этим же тезисом, вкладывая
в него каждый раз новое содержание, будут выступать Кюхельбекер,
Полевой, Надеждин, Пушкин, Белинский.
Таким образом, изучение культуры того или иного исторического
этапа включает в себя не только описание ее структуры с позиции исто-
рика, но и перевод на язык этого описания ее собственного самоописания
и созданного ею описания того исторического развития, итогом которого
она сама себя считала.
3. 0. Однозначное — амбивалентное. Отношение бинарности представ-
ляет собой один из основных организующих механизмов любой структуры.
Вместе с тем неоднократно приходится сталкиваться с наличием между
структурными полюсами бинарной оппозиции некоторой широкой полосы
структурной нейтрализации. Скапливающиеся здесь структурные
элементы находятся в отношении к окружающему их конструктивному
контексту не в однозначных, а в амбивалентных отношениях. Жесткие
синхронные описания, как правило, снимают создаваемую таким образом
внутреннюю неполную упорядоченность системы, придающую ей гибкость
и увеличивающую степень непредсказуемости ее поведения. Поэтому
внутренняя информативность (неисчерпанность скрытых возможностей)
объекта значительно выше, чем тот же показатель в его описаниях.
Примером такой переупорядоченности может являться хорошо извест-
ный текстологам случай, когда поэт, создавая произведение, в некоторых
случаях не может отдать предпочтения тому или иному варианту, сохраняя
все как возможность. В этом случае текстом произведения будет
именно такой, сохраняющий вариативность, художественный мир. Тот
же «окончательный» текст, который мы видим на странице издания,
представляет собой описание более сложного текста произведения сред-
ствами упрощающего механизма типографской печати. В ходе такого
описания возрастает упорядоченность текста и понижается его информа-
тивность. Поэтому представляют особый интерес многообразные случаи,
когда текст в принципе не заключает в себе однозначной последователь-
ности элементов, оставляя читателю свободу выбора. В этом случае автор
как бы перемещает читателя (а также определенную часть собственного
текста) на более высокий уровень. С высоты такой метапозиции раскры-
вается мера условности остального текста, т. е. он предстает именно
как текст, а не в качестве иллюзии реальности.
Так, например, когда в стихотворении Козьмы Пруткова «Мой портрет»
к стихам:
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг —
следует примечание того же Козьмы Пруткова: «Вариант: На коем фрак»,
то очевидно, что вводится некоторый (в данном случае пародийный)
филологический «уровень публикатора», имитирующий некоторую над-
текстовую точку зрения, с которой варианты выступают как равноценные.
Еще более сложен случай, когда альтернативные варианты включены
в единый текст. У Пушкина в «Евгении Онегине»:
...Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок...
(Гл. IV. Строфа LI)
Динамическая модель семиотической системы
97
Здесь включение в текст стилистической альтернативы превращает
повествование о событиях в повествование о повествовании. В стихотво-
рении Мандельштама «Я пью за военные астры, за все, чем корили
меня...»:
Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:
Веселое астиспуманте иль папского замка вино? —
даются два сюжетных варианта, причем читатель предупрежден, что
автор «еще не придумал», чем кончить свое стихотворение. Незакон-
ченность и неопределенность удостоверяют читателя, что перед ним не
реальность, а именно текст, который можно «придумать» несколькими
способами.
То, что таким образом в тексте высвечивается процессуальность,
делается очевидным при столкновении с кинотекстами современного кине-
матографа, весьма широко пользующегося возможностью давать парал-
лельные версии какого-либо эпизода, не отдавая ни одному из них ника-
кого предпочтения.
Следует обратить внимание еще на один аспект: реальному тексту
неизбежно присуща некоторая неправильность. Речь идет не о неправиль-
ности, порожденной замыслом или установкой говорящего, а о простых его
ошибках. Так, например, хотя Пушкин сделал внутреннюю противо-
речивость текста структурным принципом «Евгения Онегина»13, в романе
встречаются случаи, когда поэт просто «не сводит концов с концами».
Так, в строфе XXXI третьей главы он утвержает, что письмо Татьяны
хранится в архиве автора:
Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу —
но в строфе XX восьмой главы есть прямое указание на то, что это
письмо хранится у Онегина:
...Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит...
В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» герои умирают дважды
(обе смерти совершаются одновременно): один раз вместе в подвальной
комнате, «в переулке близ Арбата», и другой — порознь: он в больнице,
она в «готическом особняке». Такое «противоречие», очевидно, входит в
замысел автора. Однако, когда далее нам сообщается, что Маргарита и
ее домработница Наташа «исчезли, оставив свои вещи» и что следствие
пыталось выяснить, имело ли место похищение или бегство, — перед
нами авторский недосмотр.
Но и эти явные технические недосмотры не могут, на самом деле,
полностью исключаться из поля зрения. Примеры воздействия их на
структурную организацию различных текстов можно было бы при-
водить в большом количестве. Ограничимся лишь одним: при рассмотре-
нии рукописей Пушкина мы убеждаемся, что в определенных случаях
встречаются следы воздействия на дальнейший ход стихотворения явных
описок, которые, однако, подсказывают следующую рифму и влияют на
развитие повествования. Так, анализируя черновик стихотворения «Все
13 Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...
(Гл. I. Строфа LX)
98
Семиотика культуры
тихо, на Кавказ идет ночная мгла...», С. М. Бонди в одной только
рукописи обнаружил два таких случая:
1) «В слове «легла» Пушкиным буква «е» написана без петельки,
так что начертание это случайно совпало с начертанием слова «мгла».
Не эта ли случайная ошибка пера и навела поэта на вариант «идет
ночная мгла»?»14
Так стих:
Все тихо — на Кавказ ночная тень легла —
благодаря технической погрешности в графике трансформировался в:
Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла.
2) «Слово «нет» так написано Пушкиным, что могло сойти и за «лет»;
так что, меняя «многих нет» на «многих лет», Пушкин (как и в начале
стихотворения «легла» — «мгла») слово «нет» не переправлял»15.
Приведенные примеры свидетельствуют, что механические искажения в
определенных случаях могут выступать как резерв резерва (резерв вне-
системного окружения текста).
3.1. Амбивалентность как определенный культурно-семиотический фено-
мен была впервые описана в работах М. М. Бахтина. Там же можно найти
и многочисленные примеры этого явления. Не касаясь всех аспектов этого
многозначного явления, отметим лишь, что рост внутренней амбивалент-
ности соответствует моменту перехода системы в динамическое состояние,
в ходе которого неопределенность структурно перераспределяется и
получает, уже в рамках новой организации, новый однозначный смысл.
Таким образом, повышение внутренней однозначности можно рассматри-
вать как усиление гомеостатических тенденций, а рост амбивалентности —
как показатель приближения момента динамического скачка.
3.2. Таким образом, одна и та же система может находиться в состоянии
окостенения и размягченности. При этом самый факт описания может
переводить ее из второго в первое.
3.3. Состояние амбивалентности возможно как отношение текста
к системе, в настоящее время не действующей, но сохраняющейся
в памяти культуры (узаконенное в определенных условиях нарушение
нормы), а также как отношение текста к двум взаимно не связанным
системам, если в свете одной текст выступает как разрешенный, а
в свете другой — как запрещенный.
Такое состояние возможно, поскольку в памяти культуры (а также
любого культурного коллектива, включая отдельного индивида) хранится
не одна, а целый набор метасистем, регулирующих его поведение. Системы
эти могут быть взаимно не связаны и обладать различной степенью
актуальности. Это позволяет, меняя место той или иной системы на шкале
актуализованности и обязательности, переводить текст из неправильного
в правильный, из запрещенного в разрешенный. Однако смысл амбива-
лентности как динамического механизма культуры именно в том, что
память о той системе, в свете которой текст был запрещен, не исчезает,
сохраняясь на периферии системных регуляторов.
Таким образом, возможны, с одной стороны, передвижения и переста-
новки на метауровнях, меняющие осмысление текста, а с другой —
перемещение самого текста относительно метасистем.
14 Бонди С. Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 19.
15 Там же. С. 23.
Ци намине с пая модель семиотической системы 99
4.0. Ядро — периферия. Пространство структуры организовано нерав-
номерно. Оно всегда включает в себя некоторые ядерные образования и
структурную периферию. Особенно очевидно это в сложных и сверх-
сложных языках, гетерогенных по своей природе и неизбежно включаю-
щих относительно самостоятельные — структурно и функционально —
подсистемы. Соотношение структурного ядра и периферии усложняется
тем, что каждая достаточно сложная и исторически протяженная струк-
тура (язык) функционирует как описанная. Это могут быть описания
с позиции внешнего наблюдателя или самоописания. В любом случае,
I можно сказать, что язык становится социальной реальностью с момента
его описания. Однако описание неизбежно есть деформация (именно
поэтому всякое описание — не просто фиксация, а культурно творческий
акт, ступень в развитии языка). Не освещая всех аспектов такой дефор-
мации, отметим, что она неизбежно влечет за собой отрицание периферии,
перевод ее в ранг несуществования. Одновременно очевидно, что
однозначность/амбивалентность распределяются в семиотическом про-
странстве неравномерно: степень жесткости организации ослабляется от
центра к периферии, что неудивительно, если вспомним, что центр всегда
выступает как естественный объект описания.
4.1. В работах Ю. Н. Тынянова показан механизм взаимоперемещения
структурного ядра и периферии. Более гибкий механизм последней оказы-
вается удобным для накапливания структурных форм, которые на следую-
щем историческом этапе окажутся доминирующими и переместятся в
центр системы. Постоянная мена ядра и периферии образует один из
механизмов структурной динамики.
4.2. Поскольку в каждой культурной системе соотношение ядро/пери-
ферия получает дополнительную ценностную характеристику как соотно-
шение верх/низ, то динамическое состояние системы семиотического типа,
как правило, сопровождается меной верха и низа, ценного и лишенного
ценности, существующего и как бы несуществующего, описываемого и
не подлежащего описанию.
5.0. Описанное — неописанное. Мы отмечали, что самый факт описания
повышает степень организованности и понижает динамизм системы.
Из этого следует, что потребность описания возникает в определенные
моменты имманентного развития языка. Пользование определенной
семиотической системой большой сложности можно представить себе как
маятникообразный процесс качания между говорением на одном языке и
общением с помощью различных языков, лишь частично пересекающихся
и обеспечивающих лишь известную, порой весьма незначительную,
степень понимания. Функционирование знаковой системы большой слож-
ности подразумевает совсем не стопроцентное понимание, а напряжение
между пониманием и непониманием, причем перенос акцента на ту или
иную сторону оппозиции будет соответствовать определенному моменту
в динамическом состоянии системы.
5.1. Социальные функции знаковых систем могут быть разделены
на примерные и вторичные. Примарпая подразумевает сообщение
некоторого факта, вторичная — сообщение мнения другого об
известном «мне» факте. В первом случае участники коммуникативного
акта заинтересованы в аутентичности информации. «Другой» здесь —
это «я*, который знает то, что «мне» еще неизвестно. После получения
сообщения «мы» полностью уравниваемся. Общий интерес отправителя и
получателя информации заключается в том, чтобы трудности понимания
были сведены s минимуму, следовательно, к тому, чтобы отправитель и
100
Семиотика культуры
получатель имели общий взгляд на сообщение, то есть пользовались
единым кодом.
В более сложных коммуникативных ситуациях «я» заинтересован в том,
чтобы контрагент был именно «другим», поскольку неполнота инфор-
мации может полезно восполняться лишь стереоскопичностью точек
зрения сообщения. В этом случае полезным свойством оказывается не
легкость, а трудность взаимопонимания, поскольку именно она связы-
вается с наличием в сообщении «чужой» позиции. Таким образом, акт
коммуникации уподобляется не простой передаче константного сооб-
щения, а переводу, влекущему за собой преодоление некоторых — иногда
весьма значительных — трудностей, определенные потери и одновременно
обогащение «меня» текстами, несущими чужую точку зрения. В резуль-
тате «я» получаю возможность стать для себя также «другим».
5.1.1. Коммуникация между неиндентичными отправителем и получа-
телем информации означает, что «личности» участников коммуникатив-
ного акта могут быть истолкованы как наборы неадекватных, но обладаю-
щих определенными чертами общности кодов. Область пересечения
кодов обеспечивает некоторый необходимый уровень низшего понимания.
Сфера Hentpece4eHtftt вызывает потребность установления эквивалент-
ностей между различными элементами и создает базу для перевода.
5.1.2. История культуры обнаруживает постоянно действующую тен-
денцию к индивидуализации знаковых систем (чем сложнее, тем индиви-
дуальнее). Сфера непересечения кодов в каждом «личностном» наборе
постоянно усложняется и обогащается, что одновременно делает сооб-
щение, идущее от каждого субъекта, и более социально ценным, и труднее
понимаемым.
5.2. Когда усложнение частных (индивидуальных и групповых) языков
переходит некоторую границу структурного равновесия, возникает потреб-
ность во введении вторичной, общей для всех, кодирующей системы.
Такой процесс вторичной унификации социального семиозиса неизбежно
влечет за собой упрощение и примитивизацию системы, но одновременно
актуализирует ее единство, создавая основу для нового периода
усложнений. Так, созданию единой национальной языковой нормы пред-
шествует развитие пестрых и разнообразных средств языкового
выражения, а эпоха барокко сменяется классицизмом.
5.3. Необходимость стабилизации, выделения в пестром и динамическом
языковом состоянии элементов статики и гомеостатического тождества
системы самой себе удовлетворяется метаописаниями, которые в даль-
нейшем из метаязыковой сферы переносятся в языковую, становясь
нормой реального говорения и основой для дальнейшей индивидуали-
зации. Качание между динамическим состоянием языковой неописан-
ности и статикой самоописаний и вовлекаемых в язык описаний его
с внешней позиции составляет один из механизмов семиотической
эволюции.
6.0. Необходимое — излишнее. Вопрос структурного описания тесно
связан с отделением необходимого, работающего, того, без чего система
в синхронном ее состоянии не могла бы существовать, от элементов и
связей, которые с позиций статики представляются излишними. Если
посмотреть иерархию языков — от простейших, типа уличной сигнали-
зации, до наиболее сложных, таких, как языки искусства, — то бросится
в глаза рост избыточности. Многочисленные языковые механизмы будут
работать на увеличение эквивалентностей и взаимозаменяемое!ей на всех
уровнях структуры (конечно, одновременно создаются и дополнительные
механизмы, работающие в противоположном направлении). Однако то,
Динамическая модель семиотической системы
101
что с синхронной точки зрения представляется избыточным, получает
иной вид с позиций динамики, составляя структурный резерв. Можно
предположить, что между присущим данному языку максимумом избыточ-
ности и его способностью изменяться, оставаясь собой, имеется определен-
ная связь.
7.0. Динамическая модель и поэтический язык. Перечисленные выше
антиномии характеризуют динамическое состояние семиотической систе-
мы, те имманентно-семиотические механизмы, которые позволяют ей,
изменяясь в изменяющемся социальном контексте, сохранять гомеоста-
тичность, то есть оставаться собой. Однако нетрудно заметить, что те же
антиномии присущи и поэтическому языку. Такое совпадение
представляется не случайным. Языки, ориентированные на примарную
коммуникативную функцию, могут работать в стабилизованном состоя-
нии. Для того чтобы они могли выполнять свою общественную роль,
им нет необходимости иметь специальные «механизмы изменения».
Иное дело языки, ориентированные на более сложные типы коммуникации.
Здесь отсутствие механизма постоянного структурного обновления лишает
язык той деавтоматизированной связи между передающим и понимаю-
щим, которая является важнейшим средством концентрации в одном
сообщении все возрастающего числа чужих точек зрения. Чем интен-
сивнее язык ориентирован на сообщение о другом и других говорящих
и на специфическую трансформацию ими уже имеющихся у «меня»
сообщений (т. е. на объемное восприятие мира), тем быстрее должно
протекать его структурное обновление. Язык искусства является предель-
ной реализацией этой тенденции.
7.1. Из сказанного можно сделать вывод о том, что большинство
реальных семиотических систем располагаются в структурном спектре
между статической и динамической моделями языка, приближаясь то
к одному, то к другому полюсу. Если одна тенденция с наибольшей
полнотой воплощается в искусственных языках простейшего вида, то
другая получает предельную реализацию в языках искусства. Поэтому
изучение художественных языков, и в частности поэтического, перестает
быть лишь узкой сферой функционирования лингвистики — оно лежит
в основе моделирования динамических процессов языка как таковых.
Академик А. Н. Колмогоров показал, что на искусственном языке,
лишенном синонимов, невозможна поэзия. Можно было бы высказать
предположение о том, что невозможно существование семиотической
системы типа естественного языка и сложнее, если на нем нет поэзии.
8.0. Таким образом, можно выделить два типа семиотических систем,
ориентированных на передачу примарной и вторичной информации.
Первые могут функционировать в статическом состоянии, для вторых
наличие динамики, т. е. истории, является необходимым условием
«работы». Соответственно для первых нет никакой необходимости во
внесистемном окружении, выполняющем роль динамического резерва.
Для вторых оно необходимо.
Мы уже отмечали, что поэзия является классическим случаем второго
типа систем и может изучаться как своеобразная их модель. Однако
в реальных исторических коллизиях возможны случаи ориентации тех
или иных поэтических школ на примарность информации и наоборот.
8.1. Противопоставляя два типа семиотических систем, следует избегать
абсолютизации данной антитезы. Речь скорее должна идти о двух идеаль-
ных полюсах, находящихся в сложных отношениях взаимодействия.
В структурном напряжении между этими полюсами развивается единое и
сложное семиотическое целое — культура.
102
Семиотика культуры
Несколько мыслей о типологии культур
Один из распространенных соблазнов для всякого размышляющего над
историей и типологией культур и цивилизаций — считать: «Этого не было,
значит, этого не могло быть» — или, перефразируя: «Это мне неизвестно,
значит, это невозможно». Фактически это означает, что тот незначи-
тельный, сравнительно с общей неписаной и писаной историей челове-
чества, хронологический пласт, который мы можем изучать по хорошо
сохранившимся письменным источникам, принимается за норму историче-
ского процесса, а культура этого периода — за стандарт человеческой
культуры.
Остановимся на одном примере. /Вся известная европейской—науке
2<ульту£а основана на пис^менност^уТГрёдставить себе развитую бес-
письменную~культуру (и любую развитую бесписьменную цивилизацию
вообще) — а представлять себе и то, и другое мы привыкли, лишь
непроизвольно вызывая в своем сознании образы знакомых нам культур и
цивилизаций, — невозможно. Не так давно два видных математика
высказали мысль о том, что, поскольку глобальное развитие письменности
сделалось возможным лишь с изобретением бумаги, весь «добумажный»
период истории культуры представляет собой сплошную позднюю фальси-
фикацию1. Не имеет смысла оспаривать это парадоксальное утверждение,
но стоит обратить внимание на него как на яркий пример экстраполяции
здравого смысла в неизведанные области. Привычное объявляется
единственно возможным.
Связь существования развитой цивилизации, классового общества,
разделения труда и обусловленного ими высокого уровня общественных
работ, строительной, ирригационной и прочей техники с существованием
письменности представляется настолько естественной, что альтернатив-
ные возможности отвергаются априорно. Можно было бы, опираясь на
огромный, реально данный нам материал, признать эту связь универсаль-
ным законом культуры, если бы не загадочный феномен южноамерикан-
ских доинкских цивилизаций.
Накопленные археологией свидетельства рисуют поистине удивительное
зрелище. Перед нами тысячелетняя картина ряда сменяющих друг друга
цивилизаций, создававших мощные строительные сооружения и иррига-
ционные системы, воздвигавших города и огромных каменных идолов,
имевших развитое ремесло — гончарное, ткаческое, металлургическое, —
более того, создававших, без всякого сомнения, сложные системы
символов... и не оставивших никаких следов наличия письменности.
Факт этот остается до сих пор необъяснимым парадоксом. Выдвигавшееся
иногда предположение о том, что письменность была уничтожена
пришельцами-завоевателями — сначала инками, а потом испанцами, —
не представляется убедительным: каменные памятники, надгробия, нераз-
грабленные и сохранившиеся в первозданном виде захоронения, гончар-
ная посуда и другие предметы утвари донесли бы до нас какие-нибудь
следы письменности, если бы она была. Исторический опыт показывает,
что бесследное уничтожение в таких масштабах не под силу никакому
завоевателю. Остается предположить, что письменности не было.
1 Постников М. М., Фоменко А. Т. Новые методики статистического анализа
нарративно-цифрового материала древней истории: [Предвар. публ.] М., 1980.
(Несколько мыслей о типологии культур
103
Не будем связывать себя априорным «такое невозможно», а попытаемся
вообразить (ибо иных опор у нас нет), какой должна была быть такая
цивилизация, если бы она действительно существовала.
[Писы^иность — форма памяти. Подобно тому как индивидуальное
сознание обладает своими мехаидомами..да^дяти^
о§наг^жщая потребность фиксироватьл^нлю общее для всего коллектива,
создает механизмы коллект^вн^_п^ш1ти. K^jiiL^l__cJiejr^^__c^TH^
njjcb^mmcjb. Однако является ли письменность первой и, что самое
главное, единственно возможной формой коллективной памяти? Ответ
на этот вопрос следует искать, исходя из представлений о том, что формы
памяти производны от того, что считается подлежащим запоминанию,
а это последнее зависит от структуры и ориентации данной цивилизации.
Привычное нам отношение к памяти подразумевает,_ что запоминанию
подлежат (фиксируются механизмами коллективной памяти) исклю-
чительные события, т. е. события единичные или в первый раз Случив7
шиеся, или же те, которые не д^ж^Г^^й^произойти, или такие,
осуществление которых казалось маловероятным..Именио^'акие события
попадают в хроники и летописи, CT^Ob^cjij^TO^j^Mj^sjeT. Для памяти
такого типа, ориентированной на сохранение эксцессов и происшествии,
письменность необходима. Культура такого рода постоянно умножает
число текстов: право обрастает прецедентами, юридические акты фикси-
руют отдельные случаи — продажи, наследства, решения споров, причем
каждый раз судья имеет дело именно с отдельным случаем. Этому же
закону подчиняется и художественная литература. Возникает частная
переписка и мемориально-дневниковая литература, также фиксирующая
«случаи» и «происшествия».
Для письменного сознания характерно внимание к причинно-след-
ственным связям и результативности действий: фиксируется не то, в
какое время надо начинать сев, а какой был урожай в данном году.
С этим же связано и обострение внимания к времени и, как следствие,
возникновение представления об истории. Можно сказать, что история —
один из побочных результатов возникновения письменности.
Но представим себе возможность другого типа памяти — стремление
сохранить сведения о порядке, а не его нapyшeнияxJ озаконах. а не об
эксцессах. Представим себе, что, например, наблюдая спортивное состя-
зание, мы не будем считать существенным, кто победил и какие непред-
виденные обстоятельства соп|*овождали это событие, а сосредоточим
усилия на другом — сохранении для потомков сведений о том, как и в
какое время проводятся соревнования. Здесь на первый план выступят^
не летопись или газетный отчет, а календарь, обычай, этот порядок
фиксирующий, и ритуал, позволяющий все это сохранить в коллективной
пащтл.
Культура, ориентированная не на умножение числа текстов, а на
цр^вторно^воспроиз'ведение текстов, раз и навсегда данных, требует иного
устройства коллективной пaмяти.JЪ^cъмeннocть здесь не является необхо-
димой. Ее роль будут выполнять мнемонические символы — природные
"(особо примечательные деревья, скалы, звезды и воооще небесные
светила) и созданные человеком: идолы, курганы, архитектурные соору-
жения ■-- и ритуалы, в которое эти ур^'-т'ца v с^ятм.?" ,о ?:ключенцс
Ивязьс ритуалом и К'Хюще х г- ■ -\ кто пц.у.ч ;у>? г::к:;х ; "' -;■;■. у-.—мл из я ци я
памяти з^а-тасля!-->т"нублюдйтс-той, вос!:т'.т:-1 ?■■::.;/ \к: v-:-;ь л; )^_'_.'"|)алин.ии,
104
Семиотика культуры
датель склонен не замечать регулирующей и управляющей функции
комплекса: мнемонический (сакральный) символ — обряд. Между тем
связанные с этим комплексом действия сохраняют для коллектива память
о тех поступках, представлениях и эмоциях, которые соответствуют
данной ситуации. Поэтому, не зная ритуалов, не учитывая огромного
числа календарных и иных знаков (например, длины и направления тени,
отбрасываемой данным деревом или данным сооружением, обилия или
недостатка листьев или плодов в данном году на определенном сакральном
дереве и т. п.), мы не можем судить о функции сохранившихся сооружений.
Приэтом[^следует иметь в виду, что если^щшшшая, культура ориентиро-
вана на прошлое, то устная культура — на будущее. Поэтому "огромную
роль в ней играют предсказания, гадания и пророчества. Урочища и
святилища — не только место совершения ритуалов, хранящих память
о законах и обычаях, но и места гадания и предсказаний. В этом отноше-
нии принесение жертвы — футурологический эксперимент, ибо оно всегда
связано с обращением к божеству за помощью в осуществлении выбора.
^Ошибочно было бы думать^гто цивилизацня_такого типа живет в. усло-
виях «информационного голода», поскольку все^тоступки jno^eft .яцрбы
фатально предопределены ритуалом и обычаями. Такое общество просто
не могло бы существовать. Члены «бесписьменного» коллектива еже-
часно оказывались перед необходимостью выбирать, но выбор этот они
осуществляли, не ссылаясь на историю, причинно-следственные связи
или ожидаемую эффективность, а, как зто и делают многие бесписьменные
народы, обращаясь к гадателям или колдунам. По сути дела, необходи-
мость «посоветоваться» (с врачом, адвокатом, старшим) представляет
собой рудимент той же традиции. Этой традиции противостоит кантов-
ский идеал человека, который сам решает, как ему мыслить и действовать.
Кант писал: «Просвещение — это выход человека из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без
руководства со стороны кого-то другого <...). Ведь так удобно быть
несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если
у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою,
и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т. п., то мне нечего
и утруждать себя»2.
Бесписьменная культура с ее ориентацией на приметы, гадания и ораку-
лов переносит выбор поведения во внел^чностную область. Поэтому
идеальным человеком считается тот, кто умеет понимать и правильно
истолковывать предвещания, а в осуществлении их не знает колебаний,
действует открыто и не скрывает своих намерений. В противоположность
этому культура, ориентированная на способность человека самому
выбирать стратегию своего поведения, требует благоразумия, осторож-
ности, осмотрительности и скрытности, поскольку каждое событие
рассматривается как «случившееся в первый раз». Любопытный пример
мы находим в сообщении В. Тэрнера о гаданиях у центральноафриканских
народов, э частности у ндембу. Гадание производится путем встряхивания
корзины, в которой находятся специальные ритуальные фигурки, и оценки
окончательного их расположения. Каждая фигурка имеет определенный
символический смысл, и та или иная из них, оказавшись наверху,
играет определенную роль в предсказании будущего.
Тэрнер пишет: «Вторая фигурка, которой мы займемся, называется
2 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966 Т. 6. С. 27.
Несколко мыслей о типологии культур
105
Chamutang'a. Она изображает мужчину, сидящего съежившись, под-
перши подбородок руками и опираясь локтями на колени. Chamutang'a
означает нерешительного, непостоянного человека <...>. Chamutang'a
означает также: «человек, от которого не знаешь, что ожидать». Его
реакции неестественны. Своенравный, он, по словам информантов,
то раздает подарки, то скаредничает. Иногда он безо всякой видимой
причины неумеренно хохочет в обществе, а иногда не проронит ни
слова. Никто не предугадает, когда он впадет в гнев, а когда не выкажет
ни малейших признаков раздражения. Ндембу любят, когда поведение
человека предсказуемо*. Они предпочитают открытость и постоянство, и
если чувствуют, что кто-то неискренен, то допускают, что такой человек,
весьма вероятно, колдун. >3десь получает новое освещение идея о том,
что скрываемое потенциально опасно и неблагоприятно»3.
Нетрудно, однако, заметить, что все основные жестовые элементы
фигурки Chamutang'a из гадательного ритуала ндембу присущи «Мысли-
телю» Родена. Символика жеста подпирания подбородка настолько
устойчива, что статуя Родена не нуждается в пояснениях. Это тем более
примечательно, что в замысел скульптора входило изображение «первого»
мыслителя: ни образ, ни пропорции фигуры не несут признаков интеллек-
туального стереотипа — все значение передается только позой. Интересно
при этом напомнить, что те же жестовые стереотипы, по описаниям,
использовал Гаррик для создания «гамлетовского типа» (с поправкой
на стоячее положение фигуры, что делает основной жестовый комплекс
еще более заметным): «В глубокой задумчивости он выходит из-за кулис,
опираясь подбородком на правую руку, локоть которой поддерживается
левой рукой, и смотрит в сторону и вниз, в землю. Затем, отнимая
правую руку от подбородка и все еще продолжая, — если память мне не
изменяет, -- поддерживать се левой рукой, он произносит слова* «Быть
или не быть?»4.
Если учесть, что игра Гаррика закрепила жестовый образ гамлетовского
типя, продержавшийся на ецелах Ь'вропы около ста лет, то смысл проци-
тированного отрывка станет особенно значительным.
Что же общего между Chamutang'a ндембу, Гамлетом и «Мыслителем»
Род*1 на? Инвариантным значением будет: человек, находящийся в состоя-
нии выбора. Но для ндембу состояние выбора означает отказ от обычая,
утвержденной веками роли. Такой отказ уже сам по себе оценивается
отрицательно. Он связывается или с семантикой нарушения утвержден-
ного порядка, т. е. с колдовством (так как ндембу все незакономерное
приписывают злонамеренному колдовству), или с такими отрицательными
Ч''лоре'ктчими качествами, как двойственность и нерешительность.
Приметы же v предсказания, прогнозируя будущее, связывали функцию
выборг с коллективным опытом, оставляя отдельной личности открытое и
решительное действие:
На путь ему выбежав из лесу, волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, м смело свой полк
Бросал он на вражью дружину5.
* Стало быть, высоко ценят человека, соблюдающего обычай (прим. В. Тэрнера).
*Т:*рнср В Символ и ритуал. М., 1983. С. 57-58.
4 Из письма Г. X. Лихтенберга. Цит. по: Хрестоматия по истории западно-
европейского театра / Сост. и ред. С. Мокульского. М., 1955. Т. 2. С. 157.
* Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений. [Л.], 1936. Т. I. С. 206.
106
Семиотика культуры
Общество, построенное на обычае и коллективном опыте, неизбежно
должно иметь мощную культуру прогнозирования. А это с необходимостью
стимулирует наблюдения над природой, особенно над небесными свети-
лами, и связанное с этим теоретическое познание. Некоторые формы
начертательной геометрии могут вполне сочетаться с бесписьменным
характером культуры как таковой, имея дополнением календарно-
астрономическую устную поэзию.
Мир устной памяти насыщен символами. Может показаться парадок-
сом, что появление письменности не усложнило, а упростило семиоти-
ческую структуру культуры. Однако представленные материальными
предметами мнемонико-сакральные символы включаются не в словесный
текст, а в текст ритуала. Кроме того, по отношению к этому тексту они
сохраняют известную свободу: материальное существование их продол-
жается и вне обряда, включение в различные и многие обряды придает им
широкую многозначность. Само их существование подразумевает
наличие обволакивающей их сферы устных рассказов, легенд и песен.
Это приводит к тому, что синтаксические связи этих символов с различ-
ными контекстами оказываются «разболтанными». Словесный (в част-
ности, письменный) текст покоится на синтаксических связях. Устная
культура ослабляет их до предела. Поэтому она может включать большое
число символических знаков низшего порядка, находящихся как бы на
грани письменности: амулетов, владельческих знаков, счетных предметов,
знаков мнемонического «письма», но предельно редуцирует складывание
их в синтактико-грамматические цепочки. Культуре этого типа не противо-
показаны предметы, позволяющие осуществить счет б пределах, вероятно,
достаточно сложных арифметических операций. В разках такой культуры
возможно бурное развитие магических знаков, используемых в ритуалах
и использующих пр сотой шпе геометрические фигуры — круг, крест, парал-
лельные лимии, треугольнил и другие. —■ основные цвета. Знаки эти не
следует смешивать с иероглифами и буквами, поскольку последние
тяготеют к определенной семчктике и обретают смысл лишь з синтаг-
матическом ряду, образуя цепочки знаков. Первые же имеют значение
размытое, часто внутренне противоречивое, обретают смысл з отношении
к ритуалу и устным текстам, мнемоническими знаками которых являются.
Иная их природа раскрывается при сопоставлении фразы (цепочки языко-
вых символов) и орнамента (цепочки магико-мнемопичееких и ритуальных
символов).
Развитие орнамента и отсутствие надписей на скульптурных и архи-
тектурных памятниках в равной мере является характерным признаком
устной культуры. Иероглиф, написанные слово или буква, и идол, кургак,
урочище — явления, а определенном смысле полярные и взаимоисклю-
чающие. Первые о б о знача ю г смысл, вторые и а и о м к и а ю т
о нем. Первые являются текстом или частью текста» причем текста.
имеющего однородно семиотическую) природу. Вторг/е в ключе «ты в
синкретический текст ргтул.ла или мнемонически связаны с уггмыми
текстами, приуроченными к дагкому месту и времени.
Антитетичность письменности и скульптурности прекрасно иллюстри-
руется библейским эпизодом столкновения Моисея и Аарона, скрижалей
первого, призванных дать народу новый механизм культурной памяти
(«завет»), и синкретического единства идола и ритуала (пляска),
воплощающих старый тип хранения информации: -«...и сошел Моисей
с горы: з руке его были две скрижали откровения [каменные], на
которых написано было с обеих сторон, и на той и на другой стороне
написано было. Скрижали были дело Божке, и письмена, начертанные
Несколько мыслей о типологии культур
107
на скрижалях, были письмена Божий. И услышал Иисус голос народа
шумящего, и сказал Моисею: военный крик в стране. Но [Моисей]
сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых: я слышу голос
поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски,
тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил
их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне...»
(Исх. 32, 5—20).
Весьма любопытный материал, с точки зрения интересующей нас темы,
дает диалог Платона «Федр». Посвященный вопросам риторского
искусства, он тесно связан с проблемами мнемоники. С самого начала
диалога Платон уводит Сократа и Федра за пределы городских стен
Афин, для того чтобы продемонстрировать читателям связь урочищ, рощ,
холмов и водных источников с воплощенной в мифах коллективной
памятью.
«Ф е д р. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то, с Илиса, Борей, по
преданию, похитил Орифию?
Сократ. Да, по преданию.
Ф е д р . Не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая,
прозрачная, что здесь на берегу как раз и резвиться девушкам.
Сократ. Нет, место ниже по реке на два-три стадия, где у нас
переход к святилищу Агры: там есть и жертвенник Борею»6.
Далее Сократ неожиданно предлагает собеседнику парадоксальный
вывод о вреде, который причиняет памяти письменность. Общество,
основанное на письменности, представляется Сократу беспамятным и
аномальным, а бесписьменное — нормальной структурой с твердой
коллективной памятью. Сократ рассказывает о божественном изобре-
тателе Тевте, который открыл египетскому царю науки. «Когда же дошел
черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян
более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и
мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен
порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда
или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец
письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение.
В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена
упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму,
по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел
средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую,
а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке,
без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве
невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми
вместо мудрых»7.
Показательно, что платоновский Сократ связывает с письмом не
прогресс культуры, а утрату ею высокого уровня, достигнутого беспись-
менным обществом.
Отнесенность устных текстов, циклизирующихся вокруг идолов и
урочищ, к определенному месту и времени (идол функционирует — как
бы «оживает» в культурном отношении — в определенное время, которое
ритуально и календарно как бы является «его временем», и стягивает
к себе локальные легенды) проявляется в совершенно различном пере-
живании письменной и бесписьменной культурами местного ландшафта.
6 Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 161.
7 Там же. С. 216—217.
108 Семиотика культуры
Письменная культура тяготеет к тому, чтобы рассматривать созданный
Богом или Природой мир как Текст, и стремится прочесть сообщение,
в нем заключенное. Поэтому главный смысл ищется в письменном
Тексте — сакральном или научном — и экстраполируется затем на
ландшафт. С этой точки зрения, смысл Природы раскрывается лишь
«письменному» человеку. Человек этот ищет в Природе законы, а не
приметы. Интерес к приметам расценивается как предрассудки, будущее
стремятся определить из прошлого, а не на основании гаданий и пред-
вещаний.
Бесписьменная культура относится к ландшафту иначе. Поскольку
то или иное урочище, святилище, идол «включаются» в культурный
обиход ритуалом, жертвоприношениями, гаданиями, песнями и плясками,
а все эти действа приурочены к определенному времени, — эти урочища,
святилища, идолы связаны с определенным положением звезд и солнца,
луны, циклическими ветрами и дождями, периодическими подъемами
воды в реках и т. п. Природные явления воспринимаются как напо-
минающие или предсказывающие знаки. То, что библейский бог в дого-
воре с Ноем заветом поставил радугу, а Моисею дал письменные
скрижали, отчетливо символизирует смену типологической ориентации на
разные виды памяти.
Легко заметить, что так называемые «народная» и «научная» меди-
цины ориентируются на два различных вида сознания — бесписьмен-
ное и письменное. Нужна была проницательность и способность к само-
стоятельному мышлению Баратынского, чтобы на заре века позитивизма
увидеть в предрассудке и приметах не ложь и дикость, а обломки другой
правды, восходящей к другому типу культуры.
Предрассудок, он обломок
Древней правды — храм упал,
А руин его потомок
Языка не разгадал...8
Показательно, что поэт связывает предрассудок именно с храмом —
архитектурным сооружением, а не с «надписью надгробной на непонятном
языке» — образ, который нашел Пушкин для непонятного слова.
Сравнение Баратынского напрашивается при размышлениях над утрачен-
ным смыслом доинкских архитектурных сооружений древнего Перу.
Приведенные нами выше библейские тексты рисуют привычную для
нас картину: бесписьменная и письменная культуры предстают как две
сменяющие друг друга стадии — низшая и высшая.
Однако можно ли из того факта, что на знакомом нам евразийском
пространстве историческое движение пошло именно по этому пути,
заключать, что оно только так и могло пойти? Тысячелетнее существо-
вание бесписьменных культур в доколумбовой Америке служит убеди-
тельным свидетельством устойчивости такой цивилизации, а достигнутые
ею высокие культурные показатели наглядно демонстрируют ее культур-
ные возможности. Для того чтобы письменность сделалась необходимой,
требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непред-
сказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных семиотических
переводах, возникающих при частых и длительных контактах с иноэтни-
ческой средой. В этом отношении пространство между Балканами и
Северной Африкой, Ближний и Средний Восток, побережье Черного и
8 Баратынский Е. А. Указ. соч. С. 201.
Несколько мыслей о типологии культур
109
Средиземного морей, с одной стороны, и горные плоскогорья Перу,
долины и междугорье Анд и узкая полоса перуанского побережья
представляют собой полярно противоположные исторические бассейны.
В первом случае — котел постоянного смешения этносов, непрерывного
перемещения, столкновения разных культурно-семиотических структур,
во втором — вековая изоляция, предельная ограниченность торгово-
военных контактов с внешними культурами, идеальные условия для непре-
рывности культурной традиции (разрушение изоляции, как правило,
сопровождается полным исчезновением той или иной древнеперуанской
цивилизации). Победа письменной цивилизации в одном случае и бес-
письменной в другом представляется естественной.
Однако исключительная победа письменного или устного варианта
представляет собой полярный ел уча й7 П]р а кти че£ких
иметь дело^ с разграничуиями_датлшй^_письменной сферы "внутри той
шш^^улътуры. Так, можно предположить, что в определенней период
уделом письменности была хозяйственно-деловая сфера, в то время
как^за. позтико-сакральной оставалась область устно-ритуальная. Точно
TanjKe .если.лррника изначал^нл,стребовала записи, то миф мог продол-
жать устное бытование еще на протяжен и и_векр_в.
^Во второй половине XX ^^торжение в. кудьхурд^хредств фиксации
устной речи вносит сущ^твенные сдвиги в^ традиционно письменную
европейскую культуруди мы, возможно, станем свидетелями интересных
процессов в этой области.
110
Семиотика культуры
К построению теории взаимодействия
культур
(семиотический аспект)
Выход изучения литератур за пределы национального материала был
связан с мифологической школой и индоевропейским языкознанием.
Импульсом явилось обнаружение поразительных фактов совпадений,
наблюдавшихся на самых разных уровнях между текстами, общность
между которыми до этого даже не предполагалась. В дальнейшем все
сменяющие друг друга школы — «школа заимствований», культурно-
историческая, марровско-стадиальная и другие — посвящали свои
усилия все тому же вопросу: объяснению совпадений имен, мотивов,
сюжетов, образов в произведениях культурно и исторически отдаленных
литератур, мифологий, народно-поэтических традиций. Эта же проблема
остается в центре современных исследований. Итоговой для более чем
полуторавековых поисков может считаться концепция, получившая
наиболее четкое выражение в трудах В. М. Жирмунского и Н. И. Конрада.
В этих работах вопрос о сравнительном изучении литературы отлился
в четкие методологические формы: проведено различие между генетиче-
скими и типологическими сближениями как текстов, так и их отдельных
элементов. Причем в основу положена идея стадиального единства,
которая была выдвинута еще Тейлором. В ней видится возможность
реализации гетевского замысла «всемирной литературы». В стадиальном
единстве усматривается принципиальное условие, делающее возможным и
типологические сопоставления, которые производит исследователь,
и историко-культурные «влияния» и «заимствования», которые он изучает.
Когда Н. И. Конрад говорит о японской рыцарской культуре или
китайском Ренессансе, он имеет в виду, что всемирно-исторические
стадии культурного развития порождают в самых отдаленных культурных
ареалах типологически сходные явления. «Однако, — отмечает В. М. Жир-
мунский, — при конкретном сравнительном анализе исторически сходных
явление в литературах различных народов вопрос о стадиально-
типологических аналогиях литературного процесса неизбежно перекре-
щивается с не менее существенным вопросом о международных литератур-
ных взаимодействиях. Невозможность полностью выключить это послед-
нее вполне очевидна. История человеческого общества фактически не
знает примеров абсолютно изолированного культурного (а следовательно,
и литературного) развития, без непосредственного или более отдаленного
взаимодействия и взаимного влияния между отдельными участками»1.
Предпосылкой таких взаимодействий является сочетание стадиального
единства и «неравномерности, противоречия и отставания», характе-
ризующих, как утверждает В. М. Жирмунский, «-развитие классового
общества» з услопиях «нераг,номерносте1 единого социально-истори-
ческого процесса»2. Опираясь, с одной стороны, на известное положение
К. Маркса о том, что «промышленко более развитая показывает менее
развитой стране л мни. картину ее собственного будущего»3, а с другой,
К построению теории...
111
на положение академика А. Н. Веселовского о «встречных течениях»,
В. М. Жирмунский формулирует положение о том, что всякое внешнее
влияние представляет лишь ускоряющий фактор имманентного литератур-
ного развития.
Излаженные выше краткие положения не только представляли собой
в свое время значительный шаг вперед в сравнительном изучении культур,
но и поныне сохраняют свою ценность. Это не означает, однако, что
ограничиться ими на современном этапе развития науки представляется
возможным.
Прежде всего следует отметить, что за пределами внимания исследо-
вателей остается обширный круг факторов, в которых импульсом к
взаимодействию оказывается не сходство или сближение (стадиальное,
сюжетно-мотивное, жанровое и т. п.), а различие. Можно назвать лишь
две возможные побудительные причины, вызывающие интерес к какой-либо
вещи или идее и желание ее приобрести или освоить: 1) нужно, ибо
понятно, знакомо, вписывается в известные мне представления и ценности;
2) нужно, ибо не понятно, не знакомо, не вписывается в известные мне
представления и ценности. Первое можно определить как «поиски своего»,
второе — как «поиски чужого». Сравнительное изучение культур до сих
пор несет на себе отпечаток своей индоевропейской и мифологической
«прародины», что сказывается во всей технике выискивания элементов
одинаковости. Конечно, гораздо эффективнее увидеть сходство мотивов
между иранскими и кельтскими сказаниями, чем обратить внимание на
тривиальный факт различия между ними. Однако, когда мы делаем
следующий шаг к построению не просто стадиально-параллельных, но
имманентно автономных историй отдельных культур, а ставим перед
собой задачу создания истории культуры человечества, такой отбор
материала подталкивает нас к ничем не доказанному выводу о том, что
именно эти схождения и скрепляют разнородный материал в единое целое.
Конечно, нельзя сказать, чтобы вопрос о взаимовлиянии разнород-
ных элементов не привлекал внимания. Еще В. Б. Шкловский и
Ю. Н. Тынянов обратили внимание на изменение функции текстов в
процессе усвоения их чужеродной культурой и в связи с этим на то, что
процесс воздействия текста связан с его трансформацией4. Из этого
вытекало, что даже внутри одной и той же культуры, для того чтобы
стать активным участником в процессе литературной преемственности,
текст должен из знакомого и «своего» превратиться, хотя бы условно,
в незнакомый и «чужой».
После того как Д. Дюришин показал, что между взаимодействием
различных текстов внутри национальной литературы и текстами разных
литератур, с точки зрения механизма контакта, существенной разницы
нет5, значимость этих положений, с точки зрения компаративистики,
сделалась очевидной.
Большое число конкретных сравнительных исследований строится
именно на изучении трансформаций и структурных сдвигов тех или иных
текстов и литературных явлений в процессе их усвоения другой традицией.
Так что в этом смысле вопрос не нов. Однако в теоретическом отношении
он все еще далек от выяснении.
Сформулированное Д. Дюришином положение, тесно связанное с
4 См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 257 и др.
5 См.: Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979.
С. 65 и след.
112
Семиотика культуры
общими работами по теории текста, имеет весьма важное значение6.
Мы постараемся дальше показать, что оно может быть значительно
расширено, так, чтобы в него вошли все виды творческого мышления,
от актов индивидуального сознания до текстовых взаимодействий
глобального масштаба.
Однако, прежде чем подойти к этой проблеме, необходимо рассмотреть
тот аспект, под которым вопрос хотелось бы подвергнуть изучению.
До сих пор в центре внимания исследователей находился вопрос условий,
при которых влияние текста на текст делается возможным.
Нас будет иятересовать другое: почему и в каких условиях в опреде-
ленных культурных ситуациях чужой текст делается необхо-
димым. Этот вопрос может быть поставлен и иначе: когда и в каких
условиях «чужой» текст необходим для творческого развития «своего»
или (что то же самое) контакт с другим «я» составляет неизбежное
условие творческого развития «моего» сознания.
Всякое сознание включает в себя способность к логическим опера-
циям, т. е. к трансформации некоторых исходных высказываний в соответ-
ствии с определенными алгоритмами, и элементы творческого мышления.
Это последнее связано со способностью трансформировать исходные
высказывания некоторым однозначно не предсказуемым образом. Суще-
ственную роль здесь играют аналоговые механизмы. Однако следует
подчеркнуть, что эти аналогии должны быть такого рода, который
исключал бы однозначную их алгоритмизацию. Вместе с тем нельзя
сказать, что аналоговый механизм будет иметь здесь вероятно-
стный характер. Целый ряд соображений говорит против такого
предположения. Укажем хотя бы на принципиальную однократность этих
интеллектуальных операций и, следовательно, несовместимость со статис-
тическим моделированием, что делает разговор о вероятностном модели-
ровании беспредметным. Речь, пожалуй, должна идти об «условной
эквивалентности» (значение этого понятия мы определим ниже), которая
входит в данный аппарат аналогии.
Всякое сознание, видимо, включает в себя элементы и того, и другого
мышления. Однако можно предположить, что научное мышление характе-
ризуется преобладанием логических структур, художественное —
творческих, а бытовое сознание расположится где-то посредине этой оси.
Исследование психологических механизмов творческого сознания
лежит вне пределов нашей компетенции. Для целей, которые мы перед
собой ставим, вполне достаточно ограничиться некоторым общим киберне-
тическим моделированием интересующей нас ситуации.
Творческим сознанием мы будем именовать интеллектуальное устрой-
ство, способное выдавать новые сообщения. Новыми же сообщениями
мы будем считать такие, которые не могут быть выведены однозначно при
помощи какого-либо заданного алгоритма из некоторого другого сооб-
щения. При этом в качестве такого исходного сообщения может
выступать и текст на каком-либо языке, и текст на языке-объекте, т. е.
действительность, рассмотренная как текст.
Наряду со стремлением к унификации кодов и максимальному облег-
чению взаимопонимания между адресатом и адресантом в механизме
культуры работают и прямс противоположные тенденции. Не требует
6 Даже краткое перечисление общих работ по теории текста здесь невозможно
из-за их многочисленности. Для Д. Дюришина и его концепции ближайшее
значение имеют труды Я. Мукаржовского и М. Бакоша, а также работы словацких
исследователей группы Ф. Микко.
К построению теории...
из
доказательств, что все развитие культуры связано с усложнением
структуры личности, индивидуализацией присущих ей кодирующих
информацию механизмов. Процесс этот, бурно протекающий в эпохи
наибольшего развития и усложнения социокультурной жизни, требует еще
объяснения.
Социокоммуникативные трудности, связанные с индивидуализацией
внутренних семиотических структур отдельной личности, очевидны.
Резкое понижение коммуникативности, создающее ситуацию, при которой
взаимопонимание между отдельными личностями затрудняется вплоть до
полной изолированности, составляет, бесспорно, социальную болезнь.
Вытекающие из этой ситуации многочисленные общественные и личные
трагедии не нуждаются в перечислении. Все это очевидно и хорошо
согласуется с исходными положениями классической теории информации,
считающей всякое изменение сообщения в процессе передачи вредным
искажением, результатом вторжения шума в канале, следствием не
теоретической модели коммуникации, а ее технически несовершенной
реализации.
Однако представление, согласно которому мы имеем здесь дело с побоч-
ным и паразитарным* эффектом, противоречит всей истории культуры,
которая убеждает нас в том, что индивидуализация кодов является столь
же активной и постоянно действующей тенденцией, как и их генера-
лизация.
Более того, в данном случае мы, видимо, сталкиваемся с более общей
тенденцией развития.
Рассматривая биологическую функцию размножения и эволюцию ее
механизмов в ходе биологического развития, мы обнаруживаем парал-
лелизм с отмеченными выше процессами. На низших ступенях эволю-
ционной лестницы размножение осуществляется с помощью деления,
и, следовательно, исходный способ обладает предельной простотой и
доступностью. В дальнейшем возникают половые классы, и для оплодотво-
рения требуется наличие другого7, что сразу же затрудняет ту
физиологическую функцию, безусловная необходимость которой для про-
должения жизни, казалось бы, должна требовать предельной ее простоты
и гарантированное™. Следующий, еще докультурный, широко представ-
ленный в зоологических сообществах этап заключается во введении
избирательности: пригодной к продолжению рода оказывается не любая
особь из противоположного полового класса, а какая-либо ограниченная
группа или строго выделенная единица. В результате все возрастающего
числа запретов еще в животном мире возникает сложное семиотическое
понятие любви, которое в ходе культурного развития подвергается чрезвы-
чайному опосредованию. Многие тома можно было бы посвятить тому,
с помощью каких механизмов культура усложняет функцию размножения,
часто создавая ситуацию практической ее невозможности (идеал платони-
ческой любви, рыцарский кодекс любви, мистический эротизм ряда средне-
вековых сект и т. д.). Как и в случае с коммуникацией, мы сталкиваемся
с процессом прогрессирующего усложнения, приходящего в противоречие
с исходной функцией. По каким-то причинам оказывается важным
делать то, что необходимо сделать, не самым простым, а наиболее слож-
ным образом.
7 Мы даем лишь грубо приближенную картину. На самом деле формуле «другой
из другого полового класса» предшествует просто требование «другого»: половой
класс еще один, но для размножения требуется предварительное слияние с другой
особью, хотя половые отличия между ними еше отсутствуют.
114
Семиотика культуры
Если вернуться к коммуникационным процессам, то следует обратить
внимание на еще один аспект. Не только усложнение кодирующих
систем затрудняет однозначность взаимопонимания. В процессе культур-
ного развития постоянно усложняется семиотическая структура пере-
даваемого сообщения, и это также ведет к затруднению однозначной
дешифровки. Если выстроить в последовательности нарастания слож-
ности текстовой структуры цепочку: сообщение уличкой сигнализации —
текст на естественном языке — глубокое создание поэтического таланта,
то очевидно, что первое может быть только однозначно понято получате-
лем сообщения, второе ориентировано на однозначное («правильное»)
понимание, но допускает случаи двусмысленности, а третье в принципе
исключает возможность однозначности. Мы снова сталкиваемся с
коммуникативным парадоксом. Текст, представляющий собой наиболь-
шую культурную ценность, передача которого должна быть высоко
гарантирована, оказывается наименее приспособленным для передачи.
Имеем ли мы во всех этих случаях дело с «техническим несовершен-
ством» системы? Получает ли система как таковая какую-либо выгоду от
трудности в понимании ценных текстов или культурных запретов на
половую функцию?
Вопросы эти, как кажется, получат удовлетворительный ответ, если мы
обратим внимание на то, что передача сообщения — не единственная
функция как коммуникативного, так и культурного механизма в целом.
Наряду с этим они осуществляют выработку новых сообщений, то
есть выступают в той же роли, что и творческое сознание мыслящего
индивида.
Представим себе, что текст Т| не просто подлежит трансляции от
Ai к Аг по каналу связи, а должен быть подвергнут переводу с языка Li
на язык Ьг. Если между этими языками существует отношение однознач-
ного соответствия, то получившийся в результате перевода Тг нельзя счи-
тать новым текстом. Его вполне можно будет охарактеризовать как транс-
формацию исходного текста в соответствии с заданными правилами, а Т) и
Тг могут оцениваться как две записи одного и того же текста.
Представим, однако, что перевод должен осуществляться с языка Li на
язык L', между которыми существует отношение непереводимости. Эле-
ментам первого нет однозначных соответствий в структуре второго.
Однако в порядке культурной конвенции — стихийно исторически сложив-
шейся или установленной в результате специальных усилий — между
структурами этих двух языков устанавливаются отношения условной
эквивалентности. Подобные случаи в реальном культурном процессе
представляют закономерное и регулярное явление. Все случаи меж-
жанровых контактов (например, хорошо всем знакомые экранизации
повествовательных текстов) являются частными реализациями этой
закономерности.
Рассмотрим именно этот случай, поскольку непереводимость здесь
будет совершенно очевидной, а настойчивые попытки, несмотря на это,
осуществлять переводы такого типа у всех на памяти.
Сопоставляя язык киноповествования с нарративными словесными
структурами, мы обнаруживаем глубокое различие в таких коренных
принципах организации, как условность/иконичность, дискретность/
континуальность, линейноеть/простпанственность, которые полностью
исключают возможность однози^ччого перевода. Если в случае языков
с однозначным соответствием тексту па одном языке может соответство-
вать один и только один текст на другом языке, то здесь мы сталкиваемся
с некоторой областью интерпретаций, в пределах которой заключено
К построению теории...
115
множество отличных друг от друга текстов, из которых каждый в равной
мере является переводом исходного. При этом очевидно, что если мы
осуществим обратный перевод, то ни в одном с л у ч а е мы не
получим исходного текста. В этом случае мы можем говорить о возникно-
вении новых текстов. Таким образом, механизм неадекватного,
условно-эквивалентного перевода служит созданию новых текстов, то есть
является механизмом творческого мышления.
Неадекватность языка, на котором Ai кодирует сообщение, и того,
с помощью которого А2 осуществляет декодировку, что является
неизбежным условием всякой реальной коммуникации, может быть
рассмотрена в свете двух идеальных моделей. Первая будет иметь целью
циркуляцию в данном коллективе уже имеющихся сообщений. С этой
позиции идеальным будет тождество кодов Ki и Кг, и все различия между
ними будут трактоваться как вредный шум. Вторая имеет целью
выработку в процессе коммуникации новых сообщений. С этой точки
зрения разница между кодами будет полезным и работающим механиз-
мом. Однако этот механизм по своей природе базируется на структурных
парадоксах.
Основной из них. состоит в следующем: минимальным устройством,
способным генерировать новое сообщение, является некоторая коммуни-
кативная цепь, состоящая из А| и Аг. Для того чтобы акт генерирования
имел место, необходимо, чтобы каждый из них был самостоятельной
личностью, т. е. замкнутым, структурно организованным семиотическим
миром, с индивидуализированными иерархиями кодов и структурой
памяти. Однако, чтобы коммуникация между Ai и А2 вообще была
возможна, эти различные коды в определенном смысле должны пред-
ставлять собой единую семиотическую личность. Тенденции к растущей
автономии элементов, превращению их в самодовлеющие единицы и к
столь же растущей их интеграции и превращению в части некоего
целого и взаимоисключают, и подразумевают друг друга, образуя
структурный парадокс.
В результате такого построения создается уникальная структура,
в которой каждая часть одновременно есть и целое, а каждое целое
функционирует и как часть. Структура эта с двух сторон открыта непре-
рывному усложнению — внутри себя она имеет тенденцию все свои
элементы усложнять, превращая их в самостоятельные структурные узлы,
а в тенденции — в семиотические организмы. Извне она непрерывно
вступает в контакты с равными себе организмами, образуя с ними целое
более высокого уровня и превращаясь сама в часть этого целого.
Такая структура складывается в двух вариантах. С одной стороны,
мы имеем дело с реальными человеческими коллективами, в которых
каждая отдельная единица имеет тяготение к превращению себя в само-
довлеющий и неповторимый личностный мир и одновременно включается
в иерархию построений более высоких уровней, образуя на каждом из
них групповую социо-семиотическую личность, которая, в свою очередь,
входит в более сложные единства как часть. Процессы индивидуализации
и генерализации, превращения отдельного человека во все более сложное
целое и во все более дробную часть целого протекают параллельно.
С другой стороны, таким же образом строится всякий художественный
текст (в несколько менее выраженном виде эта закономерность действи-
тельна и для всякого нехудожественного текста). Каждая его часть имеет
тенденцию в процессе искусства усложняться, образуя некоторое замкну-
тое целое, и интегрироваться с другими структурами того же уровня,
входя как часть в более сложные целостные образования.
116
Семиотика культуры
Процесс этот действенен на двух уровнях. На уровне текста он может
быть проиллюстрирован, например, явлением циклизации: новеллы
срастаются в романы — в серии типа «Человеческой комедии» Баль-
зака или «Ругон-Маккаров» Золя (возможны серии самых различных
типов, в частности, образуемые на издательском уровне и тем не менее
являющиеся для читателя вполне реальными целостностями). С этой
точки зрения, возникновение понятий типа «проза «Отечественных
записок» 1860-х гг.» или «проза «Нового мира» является безусловной
историко-литературной текстовой реальностью (хотя может и не быть
таковой для автора, для которого факт публикации в том шГи ином
издании может иметь случайный характер). Еще более явен этот процесс
в поэзии, в которой явления цикла, сборника (с такими характерными
признаками единого текста, как, например, композиция), превращения
всего творчества того или иного поэта, группы поэтов, поэтов целой эпохи
в единый текст — явления хорошо известные.
Одновременно протекает противоположный процесс: чем обширнее
роман, тем структурно более замкнута в себе глава, чем глобальнее
циклизация в поэзии, тем весомее стих, слово, фонема. Искусство XX в.,
с его предельной глобализацией текста (текстовый «контрапункт» эпохи)
и столь же далеко зашедшей автоматизацией значимых единиц текста,
их абсолютизацией и самодовлеющей самодостаточностью, — яркий тому
пример.
Однако этот же процесс протекает и на уровне кодов: каждый текст
многократно кодируется (двукратное кодирование — минимальная
структура). Конфликт смыслообразования возникает уже не между
отдельными текстовыми образованиями, а между языками, реализуемыми
в тексте. Волны синкретизации различных искусств — от синкретических
действ в архаических обществах до современного звукового кино, «изобра-
зительной» поэзии и т. п., с одной стороны, и предельной отделенности
и самодостаточности отдельных видов искусств, образование таких
замкнутых в своих законах жанров, как вестерн или детектив, с другой, —
иллюстрируют двунаправленность этого процесса.
Структурный параллелизм текстовых и личностных семиотических
характеристик позволяет нам определить текст любого уровня как семио-
тическую личность, а личность на любом социокультурном уровне
рассматривать как текст.
Смыслообразование не происходит в статической системе. Для того
чтобы акт этот сделался возможным, в коммуникативную систему Ai, As
должно быть введено некоторое сообщение. В равной мере, для того чтобы
некоторый биструктурный текст начал генерировать новые смыслы,
он должен быть включен в коммуникативную ситуацию, в которой возник
бы процесс внутреннего перевода, семиотического обмена между его
подструктурами. Из этого вытекает, что акт творческого сознания —
всегда акт коммуникации, т. е. обмена. Творческое сознание можно, в этом
свете, определить как такой акт информационного обмена, в ходе которого
исходное сообщение трансформируется в новое. Творческое сознание
невозможно в условиях полностью изолированной, одноструктурной
(лишенной резерва внутреннего обмена) и статической системы.
Из этого положения вытекает ряд выводов, существенных для
сравнительного изучения культур и культурных контактов.
Имманентное развитие культуры не может осуществляться без
постоянного притекания текстов извне. Причем это «извне» само по себе
имеет сложную организацию: это и «извне» данного жанра или определен-
ной традиции внутри данной культуры, и «извне» круга, очерченного
К построению теории...
117
определенной метаязыковой чертой, делящей все сообщения внутри дан-
ной культуры на культурно-существующие («высокие», «ценные»,
«культурные», «исконные» и т. п.) и культурно-несуществующие, апокри-
фические («низкие», «неценные», «чужеродные» и т. п.). Наконец, это
чужие тексты, пришедшие из иной национальной, культурной, ареальной
традиции. Развитие культуры, как и акт творческого сознания, есть акт
обмена и постоянно подразумевает «другого» — партнера в осуществ-
лении этого акта.
Это вызывает к жизни два встречных процесса. С одной стороны,
нуждаясь в партнере, культура постоянно создает собствен-
ными усилиями этого «чужого», носителя другого сознания,
иначе кодирующего мир и тексты. Этот создаваемый в недрах культуры —
в основном по контрасту с ее собственными доминирующими кодами —
образ экстериоризируется ею вовне и проецируется на вне ее лежащие
культурные миры. Характерным примером могут служить этнографиче-
ские описания европейцами «экзотических» культур (куда в определенные
моменты истории попадает и русская) или описание Тацитом быта
германцев. С другой стороны, введение внешних культурных структур
во внутренний мир данной культуры подразумевает установление с нею
общего языка, а это, в свою очередь, требует их интериоризации. Для того
чтобы общаться с внешней культурой, культура должна интериоризиро-
вать ее образ внутрь своего мира. Процесс этот неизбежно диалектически
противоречив: внутренний образ внешней культуры обладает языком
общения с культурным миром, в который он инкорпорирован. Однако эта
коммуникативная легкость связана с утратами определенных, и часто
наиболее ценных как стимуляторы, качеств копируемого внешнего
объекта. Приведем пример. Поэтическое явление Пушкина было воспри-
нято литературой и читателем начала 1820-х гг. как нечто небывалое и
новаторское. Освоение этого явления потребовало создания в читатель-
ском сознании «образа Пушкина». Образ этот стал в дальнейшем само-
стоятельным фактом литературы. Находясь между Пушкиным как реаль-
ным и динамическим литературным явлением и читательским сознанием,
он играл двоякую роль: истолковывал и «переводил» мир Пушкина, т. е.
способствовал пониманию, и упрощал, снимая все новое, динамическое и
в него не укладывающееся, т. е. порождал непонимание. Этот «двойник»
Пушкина не был статичен: реальное творчество и жизненное поведение
поэта его постоянно, хотя он этому и сопротивлялся, трансформировали.
Но и он влиял на поведение и творчество реального Пушкина, заставляя
его часто вести себя «как Пушкин». После смерти поэта этот образ
проявил способность к росту и выдающуюся культурную активность.
Двойственная роль интериоризированного образа, от которого тре-
буется, чтобы он был переводим на внутренний язык культуры (т. е. не был
бы «чужим») и был «чужим» (т. е. не был бы переводим на внутренний
язык культуры), порождает коллизии большой сложности, а порой и отме-
ченные печатью трагизма. Так, проблема контроверзы Россия — Запад
породила тип русского западника. Эта фигура во внутренней культурной
коллизии выполняла роль «представителя» Запада. О ней судили в соот-
ветствии со своим пониманием Запада, и о Западе судили, глядя на
западников. Но русский западник был очень мало похож на реального
человека Запада своей эпохи и, как правило, очень плохо знал Запад:
он конструировал его по контрасту с наблюдаемой им русской действи-
тельностью. Это был идеальный, а не реальный Запад. Не случайно
славянофилы и другие традиционалисты и сторонники национальной
самобытности часто были людьми, получившими образование в немецких
118
Семиотика культуры
университетах, моряками-англоманами, как Шишков, Шихматов-Ширин-
ский, дипломатами, всю жизнь прожившими за границей, как Тютчев или
Константин Леонтьев, а некоторые русские сторонники западного просве-
щения никогда не бывали в Европе, как Пушкин, или, попав в нее,
оказывались ей совершенно чужды, как Белинский. Столкновение
русского западника с реальным Западом, как правило, сопровождалось
столь же трагическим разочарованием, как и столкновение их противников
с реальной русской действительностью. И тем не менее культурное
переживание Россией запредельного культурного контекста невозможно
без таких явлений в ее внутренней структуре.
Существенную сторону культурного контакта имеет наименование
партнера, которое равнозначно включению его в «мой» культурный мир,
кодирование «моим» кодом и определение его места в моей картине мира.
По аналогии могут рассматриваться идентификация определенных
жанров чужой литературы с привычными жанровыми представлениями,
дешифровка чужого культурного поведения в системе привычных кодов
или условное отождествление различных литературных форм (например,
установление относительной адекватности русского и французского
александрийского стихэ при взаимных переводах поэтических текстов).
Однако возможно и противоположное: переименование себя в соответ-
ствии с наименованием, которое мне дает внешний партнер по коммуни-
кации. Подобные явления характерны для полемики: кличка, полемически
даваемая противником, узурпируется и включается в «свой» язык,
соответственно теряя уничижительную и приобретая положительную
оценку. Всякая полемика требует общего языка между противниками —
в данном случае таким языком становится язык противника, но одно-
временно он подвергается культурной аннексии, что влечет за собой
семиотическое обезоруживание другой стороны. Так, например, само-
называние школы Белинского «натуральная школа» было изобретено
«Северной пчелой» Булгарина и использовалось сначала как унижающая
кличка8. В ходе полемики противники обменялись оружием, и кличка
сделалась лозунгом (ср.: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы...»
А. Блока). Явление это хорошо известно в истории этнонимов.
И история культурного самоопределения, номинации и очерчивания
границ субъекта коммуникации, и процесс конструирования его
контрагента — «другого» — являются одной из основных проблем семио-
тики культуры. Однако необходимо подчеркнуть самое главное: динамизм
сознания на любых культурных его уровнях требует наличия другого
сознания, которое, самоотрицаясь, перестает быть «другим» — в такой же
мере, в какой культурный субъект, создавая новые тексты в процессе
столкновения с «другим», перестает быть собою. Разделить взаимодей-
ствие и имманентное развитие личностей или культур можно только
умозрительно. В реальности это диалектически связаные и взаимо-
переходящие стороны единого процесса.
Представление о том, что тот или иной текст усваивается из внешнего
контекста потому, что он оказался исключительно своевременным с точки
зрения имманентного развития данной литературы, широко распростра-
нено. Оно питается соображениями двоякого порядка. С одной стороны,
исторический процесс, рассматриваемый с провиденционалистской или
финалистической точки зрения, мыслится как направленный к некоторой
8 Мордовченко //. И. В. Белинский и русская литература его времени. М.; Л.,
1950. С. 225.
К построению теории...
119
определенной, известной исследователю точке. Само предположение о том,
что он мог иметь в себе какие-то коренные возможности иного типа,
оставшиеся нереализованными, не допускается. С этой точки зрения
можно считать, что, например, русская литература еще при своем зарож-
дении имела единственную возможность: прийти в XIX в. к Толстому и
Достоевскому. Тогда мы можем сказать, что Байрону или Шиллеру,
Руссо или Вольтеру было исторически предопределено сыграть роль
катализаторов в этом процессе. Мало кто решился бы на подобное
утверждение, хотя очень многие рассуждают так, словно они исходят
из такой предпосылки. С другой стороны, делается гораздо более
естественное предположение: исследователь рассматривает реально слу-
чившееся как единственно возможное, закономерность выводится из
факта (следует напомнить, что историк культуры почти всегда оперирует
фактами уникальными, не поддающимися вероятностно-статистической
обработке или же столь малочисленными, что такая обработка оказы-
вается весьма ненадежной). В результате, выделив какой-либо факт
культурного контакта (например, влияние творчества Байрона на русских
романтиков), исследователь поя этим углом зрения рассматривает
предшествующий исторический материал, который естественно выстраи-
вается при этом таким образом, что влияние Байрона оказывается
неизбежным звеном, к которому сходятся все нити. Воздействие исследо-
вательского метаязыка на материал воспринимается как вскрытие имма-
нентной закономерности культурного процесса.
При этом упускается из виду одно общее соображение: ^если смысл
каждого культурного контакта в т,9Ух *1ТРЛ"^f}rпп пНЧТЬ»Лр-Д10ртяю'".<**
звено и ускорить эволюцию культуры в предопределенном направлении,
то с ходом исторического развития избыточность культурной структуры
должна прогрессирующе возрастать (что молчаливо и предполагается
в концепции «молодых», богатых внутренними возможностями, и
«старых», уже их исчерпавших, культур — концепции, имеющей лишь
поэтическую: но отнюдь не научную ценность). И каждый факт культур-
ного контакта должен увеличивать эту избыточность, в результате чего
п^тхкИуемо^тТП^^турного процесса в ходе исторического его развития
должна неуклонно возрастать. Это противоречит как реальным фактам,
так и общему соображению о ценности культуры как информационного
меха нил :/*а.
На самом деле наблюдается прямо противоположный процесс: каждый
новый чхау культурного развития увеличивает, а не исчерпывает
информационную ценность^культуры и, следовательн^^в^еличивает,
а не уменьшает ее внутреннюкГнёопреАеМшбсть^~наб6р возможностей,
которые д уоттр ее ~рё1иГизации остаются нёосТТО
процессе роль обмеца.культурными ценностями выглядит приблизительно
та к: з си£т^\£у^^дь^^ извне
текст, который именно потому, что он текст, а не некоторый голый_<<смь1сл»
(в .жачении ЖшпГовского—Щеглова), сам обладает внутренней неопре-
деленностью, преде г а вляя^ собой не овеществленную реал из а ци ю^некотА-
рого языкаТ^Г'пол^^ интер-
преТаци!* с Позиции различных языков,г внухр.едне_£0^
ное в новом контексте pacjKjbjBjnrbcя совершенно новыми смыслами!!*"
Такое вторжение резко повышает внутреннюю неопределенность всей
системы, придавая скачкообразную неожиданность ее следующему этапу.
Однако, поскольку культура — самоорганизующаяся система, на мета-
структурном уровне она постоянно описывает самое себя (пером критиков,
теоретиков, законодателей вкуса и вообще законодателей) как нечто одно-
120
Семиотика культуры
значно предсказуемое и жестко организованное. Эти метаописания,
с одной стороны, внедряются в живой исторический процесс, подобно тому
как грамматики внедряются в историю языка, оказывая обратное воз-
действие на его развитие. С другой стороны, они делаются достоянием
историков культуры, которые склонны отождествлять такое метаописание,
культурная функция которого и состоит в жесткой переупорядоченности
того, что в глубинной толще получило излишнюю неопределенность,
с реальной тканью культуры как таковой. Критик пишет о том, как
литературный процесс должен был бы идти. Буало устанавливает
нормы именно потому, что процесс идет иначе, а нормы нарушаются
(иначе эти писания теряли бы всякий смысл), а историк предполагает, что
перед ним — описание реального процесса или, по крайней мере, его
господствующего облика. Ни один историк юридического быта из факта
повторных запрещений взяток правительством России XVII в. не сделает
вывода о том, что взятки исчезли, а напротив, предположит, что в реальной
жизни они были широко распространены. Однако историк литературы
считает себя вправе предполагать, что предписания теоретиков выполня-
лись писателями строже, чем уголовные законы — чиновниками. Мета-
описания культурой самой себя — для нее самой не скелет, осново-
полагающий остов, а один из структурных полюсов, для историка же —
не готовое решение, а му^ериал для изучения, один из механизмов
культуры, находящийся в постоянном борении с другими ее механизмами.
Проблема византийского влияния...
121
Проблема византийского влияния
на русскую культуру
в типологическом освещении
Исходными предпосылками предлагаемой работы будут следующие поло-
жения: 1) строго имманентное, ограниченное исключительно националь-
ными рамками истолкование той или иной культуры возможно лишь при
рассмотрении исторически кратких отрезков ее развития; 2) противо-
поставление внутренних механизмов развития и внешних «влияний»
возможно лишь как умозрительное отвлечение. В реальном историческом
процессе оба эти явления взаимосвязаны и представляют собой разные
проявления единого динамического процесса.
Всемирно-исторический процесс подчинен законам пульсации. Гегель
во введении к «Философии истории», отмечая, что изменение представляет
собой основной закон истории, продолжал: «Но ближайшим определе-
нием, относящимся к изменению, является то, что изменение, которое
есть гибель, есть в то же самое время возникновение новой жизни, что из
жизни происходит смерть, и из смерти жизнь»1. Развивая эту мысль,
Гегель указал на «эстафетность» как исторический закон, на то, что
перерыв в одной историко-культурной традиции влечет за собой передачу
ее достижений другой, в то время как питание своими собственными
плодами может вести к самоотравлению культуры: «Жизнь народа ведет
к созреванию плода, так как его деятельность клонится к тому, чтобы
осуществить его принцип. Однако этот плод не падает обратно в недра
того народа, который его породил и дал ему созреть, наоборот, он
становится для него горьким напитком. Он не может отказаться от него,
потому, что он бесконечно жаждет его, однако отведывание напитка есть
его гибель, но в то же время и проявление нового принципа»2. Процитиро-
ванные выше слова полностью укладываются в гегелевскую концепцию
абсолютного духа. Однако они одновременно представляют собой точное
наблюдение обширного ума, пытавшегося, вслед за Гердером, охватить
взглядом всю мировую историю.
Попытаемся подойти к этому вопросу с более современных позиций.
Следует сразу же оговорить, что слово «диалог» употребляется нами
в специфическом значении, отчасти потому, что более точного эквивалента
рассматриваемому явлению подобрать не удалось. В отличие от обычного
представления о диалоге, в данном случае «ответ» может быть адресован
совсем другой культуре, чем та, которая была его активным возбудителем.
Существенными в изучаемом явлении будут другие признаки: во-первых,
то, что в ходе межкультурного общения потоки текстов меняют свое
направление; во-вторых, в момент перелома в направлении потока тексты
переводятся с «чужого» языка (в широком семиотическом значении
понятия «язык») на «свой». Одновременно они подвергаются разно-
образной трансформации по законам воспринимающей культуры.
В-третьих, процесс этот имеет лавинообразный характер: ответный поток
текстов всегда значительно превосходит мощностью и культурным
значением провоцирующее его воздействие. В этом отношении понятие
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории//Соч.: В 14 т. М.; Л., 1935. Т. 8. С. 69—70.
2 Там же. С. 75.
122
Семиотика культуры
диалога, вводимое нами, не всегда соответствует принятому в лингвистике
его содержанию, приближаясь к моделям общения при разноязычных
контактах3.
Вместе с тем неточное и дискредитированное понятие «влияния»
уместно заменить словом «диалог», ибо в широкой исторической
перспективе взаимодействие культур всегда диалогично. Это позволяет
напомнить абстрактную схему диалога, в условиях, когда первый из его
участников («передающий») обладает большим запасом накопленного
опыта (памяти), а второй («принимающий») заинтересован усвоить
себе этот опыт.
Первой чертой всякого диалога является попеременная активность
передающего и принимающего. В то время, когда один из участников
диалога осуществляет передачу некоторых текстов, другой соблюдает
паузу и находится на приеме. Второй чертой является выработка общего
языка общения. Процесс этот делится на этапы. Сначала наблюдается
односторонний поток текстов, которые откладываются в памяти принимаю-
щего, причем память на этом этапе фиксирует также тексты на чужом,
непонятном языке (например, усвоение ребенком, погруженным в ино-
язычную среду, новой лексики или накопление в книгохранилищах
некоторой молодой культуры текстов, поступающих из транслирующего
их культурного центра). Следующим этапом является овладение чужим
языком и свободное им пользование, усвоение правил порождения чужих
текстов и воссоздание по этим правилам аналогичных им новых. Затем
наступает критический момент: чужая традиция коренным образом транс-
формируется на основе исконного семиотического субстрата «прини-
мающего». Чужое становится своим, трансформируясь и часто коренным
образом меняя свой облик. В этот момент роли могут меняться: прини-
мающий становится передающим, а первый участник диалога переходит
на прием, впитывая поток текстов, текущий уже в обратном направ-
лении.
Примером полного цикла (а реально-исторически далеко не всегда цикл
осуществляется полностью) может быть взаимодействие итальянской
и французской культур XVI—XVII вв. Период Ренессанса был временем,
когда итальянская культура занимала в Европе доминирующее поло-
жение. Не только итальянское искусство и итальянская наука, но и италь-
янские принцессы и королевы и итальянские банковские дома украшали
столицы Европы. При дворах говорили по-итальянски, и модники пере-
нимали итальянские моды. Итальянские ювелиры и итальянские карди-
налы, Бенвенуто Челлини, Мазарини, Кончини, вся свита Марии Медичи
как бы воплощали своими лицами разные грани итальянского влияния.
Усвоение огромного числа разножанровых текстов, сопровождавшееся —
это также важная типологическая черта — стремлением преодолеть
итальянское влияние, обратившись к национальным корням культуры, в
том числе к античности, минуя итальянское посредство4, и растущей не-
приязнью к итальянскому засилью, привело к кульминационному пово-
роту: ренессансная культура была национализирована и на сто лет
расцвела французским классицизмом и Просвещением. Теперь после-
довало мощное воздействие французской культуры, французских идей и
3 Newson J. Dialogue and Development // Action, Gesture and Symbol: The
Emergence of Language / Ed. by A. Lock. London; New York; San Francisco, 1978.
4 Прямое обращение к античности непосредственно отражало традицию
итальянских гуманистов, но субъективно могло переживаться как противодействие
«итальянизму».
Проблема византийского влияния...
123
французской философии на Италию. Последней репликой в этом диалоге
было вторжение в Италию Наполеона.
То, что диалог культур сопровождается нарастанием неприязни
принимающего к тому, кто над ним доминирует, и острой борьбой за
духовную независимость, — важная типологическая черта, и мы еще бу-
дем иметь возможность к ней вернуться.
Среди других типологических черт культурного диалога важно
отметить, что отношение диалогического партнерства в принципе
асимметрично. В начале диалога доминирующая сторона, приписывая
себе центральную позицию в культурной ойкумене, навязывает прини-
мающим положение периферии. Эта модель усваивается ими, и они сами
себя оценивают подобным образом (одновременно приписывая себе
признаки новизны, молодости, позицию «начинающих»). Однако по мере
приближения к кульминационному моменту «новая» культура начинает
утверждать свою «древность» и претендовать на центральную позицию
в культурном мире. Не менее существенно, что, переходя из состояния
принимающего в позицию передающего, культура, как правило, выбра-
сывает значительно, большее число текстов, чем то, что она впитала
в прошлом, и резко расширяет пространство своего воздействия.
Так, мавритано-испанское воздействие оплодотворило культуру на
относительно небольшой территории Прованса. Зато ареал культурного
влияния провансальской поэзии охватил обширные пространства и
отличался скачкообразным ростом энергетического воздействия. Анало-
гичным образом влияние провансальской и неаполитано-сицилийской
поэтических школ привело в движение поэзию небольшой Флоренции,
а последовавший затем литературный взрыв имел уже общеевропейское
значение. Это, в частности, доказывает, что вторжение внешних текстов
играет роль дестабилизатора и катализатора, приводит в движение силы
местной культуры, а не подменяет их. Поэтому при описании под другим
углом зрения влияниями можно и пренебречь, подобно тому как, запи-
сывая абстрактную формулу реакции, мы не вписываем в нее, однако,
катализаторов, без которых реальный процесс не осуществляется.
При всей типологической общности разнообразных диалогов культур
каждый из них протекает своеобразно в соответствии с историко-
национальными условиями. Это следует подчеркнуть, когда мы говорим о
византийско-русском диалоге Киевской эпохи. Здесь мы обнаруживаем и
черты типологической общности с разнообразными случаями диалогов
культур, и признаки своеобразия, окрашивающего именно эту историче-
скую коллизию.
На промежутке исторического пространства между X и XX вв. русская
культура дважды пережила интересующую нас ситуацию, причем типо-
логическое сопоставление этих случаев позволяет сделать не лишенные
смысла выводы. Это русско-византийский диалог, начатый крещением
Руси, и диалог Россия—Запад, начатый Петром I.
В обоих случаях начальная ситуация ознаменовалась страстным
порывом к другому культурному миру, накопленные которым культурные
сокровища казались светом, исходящим из сверкающего центра. Соответ-
ственно своя позиция представлялась как царство тьмы и одновременно —
началом пути. Характерно, что слово «просветитель» в равной мере
применялось к святителям, приносящим свет истинной веры в языческие
земли («всея Руси просветителю, крещением просветил еси всех нас», —
говорил Илларион Владимиру), и к служителям Разума в XVIII в.
Феофан Прокопович в трагикомедии «Владимир» недвусмысленно
уподоблял Петра равноапостольному «просветителю» Руси. Причем
1 24 Семиотика культуры
параллель эта вкладывалась в уста апостола Андрея, имя которого
связывало Киевскую Русь и Петербургскую Россию5.
То, что петровские преобразования осмыслялись в кругу приверженцев
как второе крещение Руси, а сам Петр — как новый Владимир,
свидетельствует и знаменательное совпадение: в трагикомедии «Влади-
мир» Феофан Прокопович вкладывает в уста языческого жреца слова,
защищающие status quo от каких-либо перемен:
Непотребна измъна, идъже ни мало
Зла не обрьтается. В нашем же уставь
Кий порок есть?6
В 1721 г. он же в «Слове при начатии Святейшего Правительствующего
Синода в присутствии его имп. величества Петра Первого» повторил
ту же мысль, но приписал ее уже не противникам крещения Руси, а
неприятелям сближения с Западом: «Но о пагубных времен наших!
суть и мнози суть, котории всепагубным безпечалием учения, проповеди,
наставления Христианския, то есть единый свет стезям нашим, отвергати
не стыдятся, к чему де нам учители, к чему проповедники? (...) у нас,
слава Богу! все xopouio, и не требуют врача, но болящий <...). Какий бо
у нас мир? какое здравие наше? До того пришло, что всяк, хотя бы
пребеззаконейший думает о себе быти честна и паче прочиих святейша,
как френетик: то наше здравие»7. Параллелизм форм диалога культур тем
более примечателен, что в одном случае речь шла о создании здания
культуры на конфессиональной основе, а в другом — на ее обмирщении,
разрушении конфессиональной основы и создании культуры полностью
светской.
Реальный исторический процесс образуется многими факторами и про-
текает на нескольких структурных глубинах. Типологические формы
схождений и диалогов культур составляют лишь один из них. Законы
социального развития, переплетения политических и дипломатических
интересов, войны, религиозные движения, участвуя в том же процессе,
равно как и все разнообразие других факторов, вплоть до индивидуальных
характеров участников событий, причудливо пересекаясь, избавляют
историческое движение от мертвого автоматизма и придают ему
непредсказуемый характер. Поэтому типологические модели повторяются,
никогда не повторяясь, т. е. повторяются лишь на определенном уровне
абстракции.
Самые тесные контакты в военной, политической или других сферах
не приводят к культурному воздействию, если отсутствует диалогиче-
ская ситуация. Так, например, Русь испытала влияние приемов
татаро-монгольской дипломатии или же в истории Польши были периоды
подлинной моды на турецкое оружие и покрой одежды, однако ситуации
культурного диалога (при длительности и близости фактических связей)
5 См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий
Рим» в идеологии Петра Первого: (К проблеме средневековой традиции в куль-
туре барокко) // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 240—241;
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры (до конца XVIII века) // Труды по рус. и слав, филологии. Тарту, 1977.
Т. 28. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 414); Виленбахов Г. В. Основание
Петербурга и императорская эмблематика // Семиотика города и городской
культуры. Тарту, 1984. С. 48—53. (Труды по знаковым системам. Т. 18; Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. Вып. 664).
6 Прокопович Ф. Соч. М.; Л., 1961. С. 178.
7 Прокопович Ф. Слова и речи... Спб., 1765. Т. 2. С. 66—67.
Проблема византийского влияния...
125
ни в том, ни в другом случае не получилось Вместе с тем напрасно
полагать, что ситуация диалога подразумевает приязненные отношения
народов, их реальное сближение. Скорее всего, имеет место (и этот
странный факт достоин внимания) нечто прямо противоположное. Уже
начиная с культурной истории Рима можно отметить, что однонаправ-
ленный поток греческих текстов, вкусов, культурных навыков, учителей
в Рим сопровождался ростом неприязни к грекам, крайне низкой их
ценностной характеристикой в системе римской культуры. Ситуация, при
которой в реальном общении передающий оказывается рабом или вольно-
отпущенником, а принимающий — потомком древнего влиятельного рода,
глубоко символична.
В этом отношении инвариантна такая схема: передающая сторона
занимает доминирующую позицию в диалоге по праву некоторого ценного
культурного опыта, исторически ею накопленного или полученного
в свою очередь от каких-либо других партнеров в предшествующих
контактах. Тогда диалогическая ситуация потенциально может получать
двойную интерпретацию. С точки зрения передающего, он транслирует
свое богатство и принципиально не делает отличия между авторитет-
ностью передаваемых им текстов и своим собственным авторитетом в
реальных исторических, политических и житейских ситуациях. С точки
зрения принимающего, передающий может рассматриваться как времен-
ный — и часто недостойный — хранитель доставшихся ему духовных
ценностей. В этом случае высокая оценка получаемых текстов не только
не противоречит, а подразумевает низкую оценку тех, от кого они полу-
чены. А сам факт получения рассматривается как обретение идеями их
подлинно достойного места.
Это «бунт периферии против центра» культурного ареала (семио-
сферы8). Наглядным примером может служить схема циркуляции идей
Просвещения в пространстве: Франция — европейская периферия
(Италия, Германия, Польша, Россия и т. д.). Рассмотрим для краткости
русский аспект. Идеи Просвещения первоначально воспринимаются
именно как французские идеи, идеи, высказанные философами-энцикло-
педистами на французском языке, на страницах французских книг.
Одновременно это будет «la langue de ГЕигоре»9, язык европейской
образованности, как выразится Пушкин в письме к Чаадаеву еще в 1831 г.
Всякий, кто претендует «в просвещении стать с веком наравне», должен
читать сочинения французских просветителей в подлиннике, черпать
непосредственно из источника. Когда ничем не примечательный молодой
человек Г. Винский в 1770-е гг. был сослан в Уфу и вынужден был там
учительствовать, то ученица его, 15-летняя Наталья Левашова, через
«два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов,
каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря»10.
Достойно внимания и то, что всех этих авторов можно было достать
в далеких оренбургских степях (сам Винский зачитывался Вольтером,
в котором находил «смелые истины»), и то, что подобный подбор
учебной литературы никому не казался странным.
Однако очень скоро новые идеи «чужих» делаются «своими», национа-
лизируются и вызывают к жизни русские тексты просветительского
8 Лотман Ю. М. О гемиосфере // Структура диалога как принцип работы
семиотического механизма. Тарту, 1984. (Труды по знаковым системам. Т. 17;
Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 641)
''Пушкин 4. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1941. Т. 14. С. 187.
10Винский Г. С. Записки: Мое время. Снб., б. г. С. 139.
126
Семиотика культуры
типа. Более того, идеи Просвещения начинают восприниматься как
вечные истины, естественные и общечеловеческие, им начинают искать
корни в национальной культуре. Если первоначально господствовало
стремление «сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что
сжигал», то теперь истину находят не в «новом» и «чужом», а в «исконном»
и «своем». «Человека природы» стремятся найти в русском крестьянине.
Его сближают с гармоническим идеалом античности, воплощением
благородных возможностей природы человека. Французская же культура
предстает в облике развращенной цивилизации маркизов, она заклейм-
лена пороками и предельно удалена от Природы. Соответственно разные
литературы Европы будут противопоставлять парижскому щеголю
духовное здоровье швейцарского пастуха, крестьянской девушки Луизы
(Фосс), полного чистоты и энергии немецкого юношу (Шиллер),
русскую крестьянку Анюту (Радищев). Просветительские идеи (особенно
в их руссоистском варианте) обернутся идеализацией местной патри-
архальной традиции и волной антифранцузских настроений.
То, что момент, когда принимавший поток текстов вдруг меняет его
направление и становится их активным транслятором, сопровождается
вспышкой национального самосознания и ростом враждебности к доми-
нировавшему прежде участнику диалога в конкретных исторических
обстоятельствах может объясняться политическими или даже военными
претензиями последнего на руководящую роль вне сферы культуры.
Однако это не обязательно. Греки, покоренные римлянами, не угрожали
военной мощи и независимости Рима, итальянцы, вызвавшие в исходе
Ренессанса всеобщую ненависть в Европе (особенно в Германии), сами
часто делались жертвой агрессии с севера, которому никогда не угрожали;
антифранцузские настроения в русской литературе проявились задолго
до Великой французской революции и тем более до наполеоновских войн.
Они были вызваны не французской угрозой, а французским влиянием.
Когда французские батальоны начали маршировать по полям Европы,
антифранцузская публицистика могла уже опереться на солидную
традицию.
Аналогичные процессы мы наблюдаем и в растянувшемся на несколько
веков русско-византийском диалоге. Принятое из Византии христианство
сделалось основой для исключительно интенсивного потока текстов,
в буквальном смысле хлынувшего на Русь. Правда, картина здесь
несколько усложнялась тем, что загоревшиеся от византийского факела
южнославянские культуры уже вступили в стадию активного создания
собственных текстов, так что Русь получала как бы двойной их поток.
Однако культурным и конфессиональным центром ареала, бесспорно,
оставалась Византия. Тем более интересно уже отчетливое к XI в. стрем-
ление отделить христианство от «греков», представить его как бы
непосредственно полученным от апостола Андрея или результатом
военной победы над греками. Характерно утверждение, что русская
грамота, наряду с русской верой, имеет богооткровенную природу и
независима от греческих образцов: «Се же буде въдомо всьми языкы и
всьми люд ми яко русскый языкъ ни откуду же npia въры сеа святыа, и
грамота русскаа ни кым же явлена, но токмо сам-ьм богомъ въседеръжи-
телемъ отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ. Владимиру духъ святый
въдохнулъ въру пр1ати, а крещеше от грекъ и прочш нарядъ церковный. А
грамота русскаа явилася, богом дана, в Корсуни русину, от нея же научися
философ Константинъ, и оттуду сложивъ и написавъ книгы русскымъ
языкомъ <...). Тъи же мужъ русин живяше благоверно, постом и
добродьтел1ю в чистьи върь, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго
Проблема византийского влияния...
127
языка явися прежде крест1анъ, невъедо никым же, откуду есть»11.
Эпизоды поставления митрополитами Иллариона и Митяя, имея конкрет-
ные политические причины, одновременно ясно проявляли дух недоверия
«хытрости» греков.
Типологические параллели убеждают, что интенсивное усвоение чужих
текстов дает на следующем витке мощный выброс собственных в окру-
жающее культурное пространство. Так, русский XVIII в. стал неизбежной
основой следующего этапа — эпохи русского романа XIX в., положившего
начало потоку культурного воздействия России на Запад. Русско-
византийский диалог такого витка не дал. Это явилось результатом
двойного нарушения «нормального» развития сил в культурном ареале.
К XII в. Киевская культура, видимо, вполне созрела к тому, чтобы
сделаться активным транслятором в романском культурном пространстве.
«Слово о полку Игореве» — убедительное тому свидетельство. Однако
вторжение татаро-монголов сорвало эту возможность. В другой раз
аналогичная ситуация начала складываться в XIV—XV вв. Но и на этот
раз взятие Царьграда турками разрушило всю структуру культурного
пространства, а концепция «Москва — третий Рим» определила принци-
пиальную монологичностн культурной ориентации. Накопленная в резуль-
тате русско-византийского диалога культурная энергия, сложно трансфор-
мируясь, вошла в дальнейшем как часть в культурный взрыв XVIII в.
Пример японской культуры показывает, что состояние глубокой
самоизоляции может сменяться исключительно бурно протекающей
диалоговой ситуацией, дающей на завершительной стадии почти вулкани-
ческую деятельность по созданию новых текстов и выбросу их в окру-
жающую семиосферу. Однако типологически возможны и реально даны
в истории мировой культуры также и культуры с тяготением к размытости
границ и, следовательно, к относительно спокойному протеканию всего
процесса. Здесь диалоговая ситуация может охватить не всю культурную
толщу, а какой-либо пласт, возможно одновременное протекание разных
(нескольких) диалогов с разной культурной ориентацией и не синхрони-
зированных по переживаемым участниками стадиям.
Русская культура, видимо, характеризуется сменой периодов самоизо-
ляции, во время которых создается равновесная структура с высоким
уровнем энтропийности, эпохами бурного культурного развития, повыше-
нием информативности (непредсказуемости) исторического движения.
Субъективно периоды равновесных структур переживаются как эпохи
величия («Москва — третий Рим») и метаструктурно, в самоописаниях
культуры, склонны отводить себе центральное место в культурном
универсуме. Неравновесные, динамические эпохи склонны к заниженным
самооценкам, помещают себя в пространстве семиотической и культурной
периферии и отмечены стремлением к стремительному следованию, обгону
культурного центра, который предстает и как притягательный, и как
потенциально враждебный.
Как мы видим, ситуация русско-византийского диалога XI в. типологи-
чески повторяется.
Характерная параллель: на Руси пользовались популярностью слова
Черноризца Храбра, который обосновывал превосходство в святости
славянского языка над греческим тем, что греческий создавался язычни-
11 Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников до деятельности
Св. первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения
в имп. Обществе истории и древностей российских при Моск. ун-те. М., 1863.
Кн. 2. С. 31.
128
Семиотика культуры
ками, а славянский — святыми апостолами; в начале XIX в. Шишков,
основываясь на просветительском (уже — руссоистском) противо-
поставлении Природы и Истории, естественного и искусственного,
утверждал превосходство русского языка над французским, поскольку
русский язык — «природный» и «первообразный», а французский —
«искусственный», образованный на основе латыни путем ее «порчи».
В обоих случаях некоторый идейный принцип (святость в одном случае,
близость к природе — в другом) отвлекается от своего реального
источника и противопоставляется ему. При этом характерно, что при
глубочайшем различии ситуаций Русь—Византия и Россия— Франция
в обоих случаях церковнославянский язык приравнивается к русскому,
а греческий и французский оказываются в функциональном соответствии.
При известных ограничениях можно было бы указать на третий
аналогичный цикл, правда, имевший менее всеохватывающий характер
и протекавший в убыстренные исторические сроки. Когда Брюсов в
1894—1895 гг. притупил к изданию сборников «Русских символистов»,
это прозвучало как еще одно открытие Европы. Сознательный разрыв
с традицией русской культуры и подчеркнутый «европеизм» открыли двери
для новой волны вторжений инокультурных текстов. Однако стоило
движению достигнуть своей кульминации, как начался знакомый нам
процесс восстановления прерванных связей и «поисков корней»,
который закономерно привел к «На поле Куликовом» Блока, «Скифам» и
«скифству», евразийству и антиевропеизму Маяковского (с типичным
представлением о том, что именно Россия есть подлинная родина евро-
пейских идей, а Европа их исказила) и церковнославянизмам Хлебникова.
Это последнее — устойчивое волновое возрождение церковнославянской
стихии русского языка — особенно показательно. Оно свидетельствует,
что древнейшие диалоги культур особенно значимы. Они как бы стано-
вятся моделями всех последующих контактов этого рода.
Из сказанного с очевидностью следует, во-первых, то, что самые резкие
внешние текстовые вторжения в основном играют роль катализаторов:
они не меняют внутреннюю динамику развития культуры, а выводят из
состояния дремотного равновесия (т.е. энтропии) ее внутренние потенции,
которые без такого вторжения могут или пребывать в состоянии взаимно
тормозящего равновесия, или развиваться крайне медленно. Во-вторых,
нельзя не заметить, что энергия потока поступающих извне текстов
значительно ниже, чем ответного выброса. То, что приняла культура
Флоренции в предренессансный период, ни количественно, ни качественно
не может быть сопоставлено с тем, что она излучила в эпоху Возрождения,
хотя принимала культурную энергию целых регионов, а у трансляции
стоял один, территориально небольшой, город. То же самое можно сказать
и о потоке текстов, принятых русской культурой XVIII в., и энергии
излучения ее в XIX в. Можно также заметить, например, обратясь
к третьему из названных нами примеров, что именно в тот момент, когда
русская культура стала подчеркнуто противопоставлять себя Западу, она
приобрела в глазах Запада особый интерес.
Процесс энергетического возрастания при переходе от приема к выбросу
свидетельствует, что повторяемость в истории не есть топтание на месте,
а отражает синусоидно-волнообразный и пульсирующий характер посту-
пательного движения. Наконец, следует отметить, что мы сознательно
схематизировали картину, рассматривая лишь глобальные диалоги
культур, между тем как реально действуют и частные — в разных
культурных сферах аналогичные — контакты, исключительно усложняю-
щие общую картину.
ТЕКСТ КАК
СЕМИОТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Семиотика культуры и понятие текста
В динамике развития семиотики за последние пятнадцать лет можно
уловить две тенденции. Одна направлена на уточнение исходных понятий
и определение процедур порождения. Стремление к точному моделиро-
ванию приводит к созданию метасемиотики: объектом исследования
становятся не тексты как таковые, а модели текстов, модели моделей и т. д.
Вторая тенденция сосредоточивает внимание на семиотическом функцио-
нировании реального текста. Если, с первой позиции, противоречие,
структурная непоследовательность, совмещение разноустроенных текстов
в пределах единого текстового образования, смысловая неопределен-
ность — случайные и «неработающие» признаки, снимаемые на мета-
уровне моделирования текста, то, со второй, они являются предметом
особого внимания. Используя соссюрианскую терминологию, можно было
бы сказать, что в первом случае речь интересует исследователя как
материализация структурных законов языка, а во втором предметом
внимания делаются именно те ее семиотические аспекты, которые
расходятся с языковой структурой.
Как первая тенденция получает реализацию в метасемиотике, так
вторая закономерно порождает семиотику культуры.
Оформление семиотики культуры — дисциплины, рассматривающей
взаимодействие разноустроенных семиотических систем, внутреннюю
неравномерность семиотического пространства, необходимость культур-
ного и семиотического полиглотизма, — в значительной мере сдвинуло
традиционные семиотические представления. Существенной трансфор-
мации подверглось понятие текста. Первоначальные определения текста,
подчеркивавшие его единую сигнальную природу, или нерасчленимое
единство его функций в некоем культурном контексте, или какие-либо
иные качества, имплицитно или эксплицитно подразумевали, что текст
есть высказывание на каком-либо одном языке. Первая брешь в этом,
как казалось, само собой подразумевающемся представлении была
пробита именно при рассмотрении понятия текста в плане семиотики
культуры. Было обнаружено, что, для того чтобы данное сообщение
могло быть определено как «текст», оно должно быть как минимум
дважды закодировано. Так, например, сообщение, определяемое как
«закон», отличается от описания некоего криминального случая тем, что
одновременно принадлежит и естественному, и юридическому языку,
составляя в первом случае цепочку знаков с разными значениями, а во
130
Текст как семиотическая проблема
втором — некоторый сложный знак с единым значением. То же самое
можно сказать и о текстах типа «молитва» и т. п.1
Ход развития научной мысли в данном случае, как и во многих других,
повторял логику исторического развития самого объекта. Как можно
предположить, исторически высказывание на естественном языке было
первичным, затем следовало его превращение в ритуализованную
формулу, закодированную и каким-либо вторичным языком, т. е. в текст.
Следующим этапом явилось соединение каких-либо формул в текст
второго порядка. Особый структурный смысл получали такие случаи,
когда соединялись тексты на принципиально различных языках, например,
словесная формула и ритуальный жест. Получающийся в результате текст
второго порядка включал в себя расположенные на одном иерархическом
уровне подтексты на разных и взаимно не выводимых друг из друга
языках. Возникновение текстов типа «ритуал», «обряд», «действо»
приводило к совмещению принципиально различных типов семиозиса и —
в результате — к возникновению сложных проблем перекодировки,
эквивалентности, сдвигов в точках зрения, совмещения различных
«голосов» в едином текстовом целом. Следующий в эвристическом
отношении шаг — появление художественных текстов. Многоголосый
материал получает дополнительное единство, пересказываясь на языке
данного искусства. Так, превращение ритуала в балет сопровождается
переводом всех разноструктурных подтекстов на язык танца. Языком
танца передаются жесты, действия, слова и крики и самые танцы, которые
при этом семиотически «удваиваются». Многоструктурность сохраняется,
однако она как бы упакована в моноструктурную оболочку сообщения
на языке данного искусства. Особенно это заметно в жанровой специфике
романа, оболочка которого — сообщение на естественном языке —
скрывает исключительно сложную и противоречивую контроверзу
различных семиотических миров.
Дальнейшая динамика художественных текстов, с одной стороны,
направлена на повышение их целостности и имманентной замкнутости,
а с другой, на увеличение внутренней семиотической неоднородности,
противоречивости произведения, развития в нем структурно-контрастных
подтекстов, имеющих тенденцию к все большей автономии. Колебание в
поле «семиотическая однородность ^—> семиотическая неоднородность»
составляет одну из образующих историко-литературной эволюции. Из
'Возможны случаи редукции значений первого ряда (естественного языка) —
молитва, заклинание, ритуальная формула могут быть на забытом языке или же
тяготеть к глоссолалии. Это не отменяет, а подчеркивает необходимость осознавать
текст как сообщение на некотором — неизвестном или таинственном — первичном
языке. Определение текста, даваемое в плане семиотики культуры, лишь на первый
взгляд противоречит принятому в лингвистике, ибо и там текст фактически
закодирован дважды: на естественном языке и на метаязыке грамматического*-
описания данного естественного языка. Сообщение, удовлетворяющее лишь
первому требованию, в качестве текста не рассматривалось. Так, например, до того
как устная речь сделалась объектом самостоятельного лингвистического внимания,
она трактовалась лишь как «неполная» или «неправильная» форма письменного
языка и, являясь бесспорным фактом естественного языка, в качестве текста
не рассматривалась. Парадоксально, но известная формула Ельмслева, опреде-
лившая текст как «все, что может быть сказано на датском языке», фактически
понималась как «все, что может быть написано на правильном датском языке».
Введение же устной речи в круг лингвистических текстов подразумевало создание
специального метаязыкового для нее адеквата. В этом отношении понятие текста
в лингвосемиотическом контексте сопоставимо с общенаучным понятием фа^а.
Семиотика культуры...
131
других важных ее моментов следует подчеркнуть напряжение между
тенденцией к интеграции — превращению контекста в текст (склады-
ваются такие тексты, как «лирический цикл», «творчество всей жизни как
одно произведение» и т. п.) и дезинтеграции — превращению текста
в контекст (роман распадается на новеллы, части становятся самостоя-
тельными эстетическими единицами). В этом процессе позиции читателя и
автора могут не совпадать: там, где автор видит целостный единый текст,
читатель может усматривать собрание новелл и романов (ср. творчество
Фолкнера), и наоборот (так, Надеждин в значительной мере истолковал
«Графа Нулина» как ультраромантическое произведение потому, что
поэма появилась в одной книжке с «Балом» Баратынского и обе поэмы
были восприняты критиком как один текст). Известны в истории
литературы случаи, когда читательское восприятие того или иного
произведения определялось репутацией издания, в котором оно было
опубликовано, и случаи, когда это обстоятельство никакого значения
для читателя не имело.
Сложные историко-культурные коллизии активизируют ту или иную
тенденцию. Однако потенциально в каждом художественном тексте
присутствуют обе они в их сложном взаимном напряжении.
Создание художественного произведения знаменует качественно новый
этап в усложнении структуры текста. Многослойный и семиотически
неоднородный текст, способный вступать в сложные отношения как
с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией,
перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к
адресату. Обнаруживая способность конденсировать информацию, он
приобретает память. Одновременно он обнаруживает качество,
которое" Гераклит определил как «самовозрастающий логос». [На такой
стадии структурного усложнения текст обнаруживает свойства^йнтелтгет^
туального устройства: он не только передает вложенную в него извне
информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые.
В этих условиях социально-коммуникативная функция текста значи-
тельно усложняется. Ее можно свести к следующим процессам.
1. Общение между адресантом и адресатом. Текст выполняет функцию
сообщения, направленного от носителя информации к аудитории.
2. Общение между аудиторией и культурной традицией, Текст выпол-
няет функцию коллективной культурной памяти. В качестве таковой он,
с одной стороны, обнаруживает способность к непрерывному пополнению,
а с другой, к актуализации одних аспектов вложенной в него информации
и временному или полному забыванию других.
3. Общение читателя с самим собою. Текст — это особенно характерно
для традиционных, древних, отличающихся высокой степенью канонич-
ности текстов — актуализирует определенные стороны личности самого
адресата В ходе такого общения получателя информации с самим собою
текст выступает в роли медиатора, помогающего перестройке личности
читателя, изменению ее структурной самоориентации и степени ее связи
с метакультурными конструкциями.
4. Общение читателя с текстом. Проявляя интеллектуальные свя*(ства,
высокоорганизованный текст перестает быть лишь посредником в акте
коммуникации. Он становится равноправным собеседником, обладающим
высокой степенью автономности. И для автора (адресанта), и для чита-
теля (адресата) он может выступать как самостоятельное интеллектуаль-
ное образование, играющее активную и независимую роль в диалоге.
В этом отношении древняя метафора «беседовать с книгой» оказывается
исполненной глубокого смысла.
132
Текст как семиотическая проблема
5. Общение между текстом и культурным контекстом. В данном случае
текст выступает в коммуникативном акте не как сообщение, а в качестве
его полноправного участника, субъекта — источника или получателя
информации. Отношения текста к культурному контексту могут иметь
метафорический характер, когда текст воспринимается как заменитель
всего контекста, которому он в определенном отношении эквивалентен,
или же метонимический, когда текст представляет контекст как некоторая
часть — целое2. Причем, поскольку культурный контекст — явление
сложное и гетерогенное, один и тот же текст может вступать в разные
отношения с его разными уровневыми структурами. Наконец, тексты,
как более стабильные и отграниченные образования, имеют тенденцию
переходить из одного контекста в другой, как это обычно случается
с относительно долговечными произведениями искусства: перемещаясь в
другой культурный контекст, они ведут себя как информант, переме-
щенный в новую коммуникативную ситуацию, — актуализируют прежде
скрытые аспекты своей кодирующей системы. Такое «перекодирование
самого себя» в соответствии с ситуацией обнажает аналогию между
знаковым поведением личности, и текста. Таким образом, текст, с одной
стороны, уподобляясь культурному макрокосму, становится значительнее
самого себя и приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет
тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь авто-
номной личности.
Частным случаем будет вопрос общения текста и метатекста. С одной
стороны, тот или иной частный текст может выполнять по отношению
к культурному контексту роль описывающего механизма, с другой^он,
в свою очередь, может вступать в дешифрующие и структурирующие
отношения с некоторым метаязыковым образованием. Наконец, тот или
иной текст может включать в себя в качестве частных подструктур и
текстовые, и метатекстовые элементы, как это характерно для произведе-
ний Стерна, «Евгения Онегина», текстов, отмеченных романтической
иронией, или ряда произведений XX в. В этом случае коммуникативные
токи движутся по вертикали.
В свете сказанного текст предстает перед нами не как реализация
сообщения на каком-либо одном языке, а как сложное устройство, храня-
щее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сооб-
щения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий
чертами интеллектуальной личности. В связи с этим меняется представ-
ление об отношении потребителя и текста. Вместо формулы «потребитель
дешифрует текст» возможна более точная — «потребитель общается с
текстом». Он вступает с ним в контакты. Процесс дешифровки текста
чрезвычайно усложняется, теряет свой однократный и конечный
характер, приближаясь к знакомым нам актам семиотического общения
человека с другой автономной личностью.
2 Аналогичные отношения возникают, например, между художественным текстом
и его заглавием. С одной стороны, они могут рассматриваться к^к два само-
стоятельных текста, расположенных на разных уровнях в иерархии «текст —
метатекст»; с другой, они могут рассматриваться как два подтекста единого текста.
Заглавие может относиться с обозначаемому им тексту по принципу метафоры или
метонимии. Оно может быть реализовано с помощью слов первичного языка,
переведенных в ранг метатекста, или с помощью слов метаязыка и т. д. В резуль-
тате между заглавием и обозначаемым им текстом возникают сложные смысловые
токи, порождающие новое сообщение.
Текст и функция
133
Текст и функция*
0.1. Целью настоящей работы является рассмотрение дзух фундамен-
тальных jnpni изучении^ул^ьтуры^Юйяадй x-&ilj: тифу н KjujHjq —
в их взаимном отношении. Понятие текста определяется нами в соответ-
ствии со статьей А. М. Пятигорского1. При этом выделяются такие
свойства, как выраженность в определенной системе знаков («фиксация»)
и способность выступать в определенном отношении (в системе функцио-
нирующих в коллективе сигналов) «как элементарное понятие»2. Функция
текста определяется как его социальная роль, способность обслуживать
определенные потребности создающего текст коллектива. Таким образом,
функция — взаимное отношение системы, ее реализации и адресата-
адресанта текста.
0.2. Если принимать во внимание vaкие три категощщ, _как текст,
diVH к ц и я tjm<jc т а и. .культу р а, то^возможны по крайней мере
два общих^одход.а^П^и первом^ культура рассматривается как совокуп-
ность текстов. Тогда функция^ будет* выступать»jip отношению к текстам
каТГсвбёГб^рода мет ajr е к с т-При втором подходе культура рассматри-
вается, кдк совопуптсхъ!,фущсщц?> и текст будет выступать исторически
как производное от функции ил ц фудкдид^ В этом случае текст и
функция могут рассматриваться как объекты, исследуемые на одном
уровне, в то время как первый подход безусловно предполагает два
уровня изучения.
0.3. Однако, прежде чем переходить к такого рода рассмотрению,
следует отметить, что, в принципе, мы имеем дело с различными объектами
изучения. ''Культура представляет собой синтетическое понятие, опреде-
ление которого, даже операциональное, представляет значительные
трудности. Текст вполне может быть определен, если не логически, то по
крайней мере операционально, с указанием на конкретный объект,
имеющий собственные внутренние признаки, не выводимые из чего
бы то ни было, кроме него самого. В то же время функция является нам
чистым конструктом, а в данном случае тем, в смысле чего возможно
истолковать тот или иной текст или в отношении чего те или иные
признаки текста могут быть рассмотрены как признаки функции.
1.0.Понятие теик||с-т_а,л— в тдц значении, которое придается ему при
.изучении культуры. — отличается от соответствующего лингвистичес^КОГо
люнятия^. Исходным для культурологического понятия текста является
именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности пере-
стает восприниматься как достаточный для того, чтобы высказывание
превратилось в текст; Вследствие этого вся масса циркулирующих!
в коллективе языковых сообщений воспринимается как не-тексты, на фоне |
которых выделяется группа текстов, обнаруживающих признаки неко-1
торой дополнительной, значимой в данной системе культуры, выражен-1
hocthJ Так, в момент возникновения письменной культуры выражен-
* Статья написана совместно с А. М. Пятигорским. V
1 Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно текста как
разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования. М., 1962.
2 Там же. С. 145.
134
Текст как семиотическая проблема
ность сообщения в фонологических единицах начинает восприниматься
как невыраженность. Ей противопоставляется графическая фиксация
некоторой группы сообщений, которые признаются единственно сущест-
вующими, с точки зрения данной культуры. Не всякое сообщение достойно
быть записанным: одновременно все записанное получает особую куль-
турную знлЕДмасхь^,превращается в текст" [ср! отождествление
графической зафиксированностиГ в терминах «писание» и обычных в
русской средневековой письменности формулах типа «писано бо есть»,
«глаголати от писания»). Противопоставлению «устный—письменный» в
одних культурах может соответствовать «неопубликованный типограф-
ски—печатный» в других и т. п. Выраженность может проявляться и как
требование -определенного материала для закрепления: «текстом»
считается вырезанное на камне или металле в отличие от
написанного на разрушаемых материалах — антитеза «прочное/
вечное — кратковременное»; написанное на пергаменте или шелке в
отличие от бумаги — антитеза «ценное — неценное»; напечатанное в
книге в отличие от напечатанного в газете, написанное в альбоме
в отличие от написанного в письме — антитеза «подлежащее хранению —
подлежащее уничтожению»; показательно, что эта антитеза работает
только в системах, в которых письма и газеты не подлежат хранению,
и снимается в противоположных.
Не следует думать, что особая «выраженность» культурного текста,
отличающая его от общеязыковой выраженности, распространяется лишь
на разные формы письменной культуры. В дописьменной культуре приз-
наком текста становится дополнительная сверхъязыковая организо-
ванность на уровне выражения. Так, в устных культурах текстам —
юридическим, этическим, религиозным, концентрирующим научные
сведения по сельскому хозяйству, астрономии и т. п., — приписывается
обязательная сверхорганизация в форме пословицы, афоризма с опреде-
ленными структурными признаками. Мудрость невозможна не в форме
текста, а текст подразумевает определенную организацию. Поэтому на
такой стадии культуры истина отличается от не-истины по признаку
наличия сверхъязыковой организации высказывания. Показательно, что
с переходом к письменной, а затем к типографской стадии культуры это
требование отпадает (ср. превращение Библии в европейской культурной
традиции в прозу), заменяясь иными. Наблюдения над дописьменными
текстами приобретают дополнительный смысл при анализе понятия
текста в современной культуре, для которой, в связи с развитием радио
и механических говорящих средств, снова утрачивается обязательность
графической выраженности текста.
1.1. Классифицируя культуры по признаку, отделяющему текст от
не-текста, следует не упускать из виду возможность обратимости этих
понятий относительно каждой конкретной границы. Так, при наличии
противопоставления «письменный — устный» можно представить себе и
культуру, в^которой в качестве текстов будут выступать только письменные
сообщения, и культуру, в которой письменность будет использоваться
в житейских и практических целях, а тексты (сакральные, поэтиче-
ские, этико-нормативные и другие) передаются в виде устойчивых устных
норм. В равной мере возможны высказывания: «Это настоящий поэт —
он печатается» — и: «Это настоящий поэт — он не печатается». Ср.
у Пушкина:
/
Текст и функция
135
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали...3
Когда б писать ты начал с дуру,
Тогда б наверно ты пролез
Сквозь нашу тесную цензуру,
Как внидешь в царствие небес4.
Принадлежность к печати остается критерием и в том случае, когда
говорится: «Если бы это было ценно (истинно, свято, поэтично) —
это бы напечатали», и при противоположном утверждении.
1.2. Текст по отношению к не-тексту получает дополнительное значение.
Если сопоставить два совпадающих на лингвистическом уровне высказы-
вания, из которых одно в системе данной культуры удовлетворяет
представлениям о тексте, а другое — нет, то легко определить сущность
собственно текстовой семантики: одно и то же сообщение, если оно
является письменным договором, скрепленным клятвой, или просто обе-
щанием, исходит от лица, высказывание которого по его месту в коллек-
тиве являются текстами,,или от простого члена сообщества и т. п., —
получает при совпадении лингвистической семантики разную оценку с
точки зрения авторитетности. В той сфере, в которой данное высказы-
вание выступает как текст (стихотворение не выступает как текст при
определении научной, религиозной или правовой позиции коллектива и
выступает как текст в сфере искусства), ему приписывается значение
истинности. Обычное языковое сообщение, удовлетворяющее всем прави-
лам лексико-грамматической отмеченности, «правильное» в языковом
отношении и не заключающее ничего противоречащего возможному по
содержанию, может тем не менее оказаться ложью. Эта возможность
для текста исключается. Ложный текст — такое же противоречие в
терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст,
а разрушение текста.
1.3. Поскольку тексту приписывается истинность, наличие текстов
подразумевает существование «точки зрения текстов» — некоторой
позиции, с которой истина известна, а ложь невозможна. Описание
текстов данной культуры дает нам картину иерархии этих позиций.
Можно выделить культуры с одной, общей для всех текстов, точкой
зрения, с иерархией точек зрения и с некоторой сложной их парадигмой,
чему будет соответствовать ценностное отношение между типами текстов.
2.0. Выделение среди массы общеязыковых сообщений некоторого
количества текстов может рассматриваться в качестве признака появ-
ления культуры как особого типа самоорганизации коллектива. Дотексто-
вая стадия есть стадия докультурная. Состояние, в котором все тексты
возвращаются только к своему языковому значению, соответствует/
разрушению культуры.
2.1 С точки зрения изучения культуры, существуют только те сообще-
ния, которые являются текстами. Все прочие как бы не существуют и во
внимание исследователем не принимаются. В этом смысле можно сказать,
что культура есть совокупность текстов или сложно построенный текcт.
Приложение к изучаемому материалу структурного кода культуры,
свойственного описывающему (изучение древней культуры нашим
s Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1947. Т. 2, Кн. 1 С 269
4 Там же. С. 152.
136
Текст как семиотическая проблема
современником, культуры одного социального или национального типа
с позиции другого), может приводить к перемещению не-текстов в разряд
текстов и обратно (в соответствии с их распределением в системе,
используемой для описания).
2.2. Сознательный разрыв с определенным типом культуры или невла-
дение ее кодом могут проявляться как отказ от присущей, ей системы
текстовых значений. За ними признается лишь содержание общеязыковых
i сообщений или, если на этом уровне нет сообщения, — «несообщейиц^..
Так, например, еретик XVI в. Феодосии Косой отказывается видеть
в кресте символ, имеющий текстовое (сакральное) значение, и приписы-
вает ему лишь значение первичного сообщения об орудии казни. «Глаголет
Косой, яко именующиеся православнии поклоняются древу вместо бога,
почитают крест, неищуще яко любезно богу. И толико не разумеют, и
толико не хотяще разумети, елико и от себя познати есть (очень харак-
терен отказ от «условного» значения, привносимого из кода культуры,
и принятие «естественного» — языкового — сообщения: «Елико и от себя
познати есть». — Ю.Л., Л. П.): аще бо кто кому сына палицею убиет на
смерть, егда убо может человек палицу ону любити, еюже сын его убиен
бысть? и аще кто тую палицу^дюбит и целует, не возненавидит ли отец
убитого и того любящего палицу ону, еже убиен сын его? Тако и бог
ненавидит креста яко убиша сына его на нем»4. Напротив, владение
системой культурного кода приводит к тому, что языковое значение текста
отступает на второй план и может вообще не восприниматься, полностью
заслоняясь вторичным. К текстам этого типа может не применяться
требование понятности, а некоторые могут вообще с успехом заменяться
а^культурном обиходе своими условными сигналами. Так, в «Мужиках»
f Чехова «непонятный» церковнославянский язык воспринимается как
сигнал перехода от бытового сообщения (не-текста) к сакральному
(тексту)^Именно нулевая степень общеязыкового сообщения раскрывает
высокую степень семиотичности его как текста: «И бежи во Египет... и
: буди тамо, дондеже реку ти...» При слове «дондеже» Ольга не удержалась
I и заплакала»5. [Общее повышение семиотичности текста как целого
оказывается поэтому часто связанным с понижением его содержатель-
ности в плане общеязыкового сообщения. Отсюда — характерный процесс
сакрализации непонятных текстов: высказываниям, циркулирующим в
данном коллективе, но не понятным для него, приписывается текстовое
значение) (обрывки фраз и текстов, занесенные из другой культуры,
например, надписи, оставленные исчезнувшим уже населением данного
района, развалины зданий неизвестного предназначения или тексты,
привнесенные из другод замкнутой социальной группы, например, речь
врачей для больного).! Поскольку высокая степень текстового значения
воспринимается как гарантия истинности, а текстовое значение растет
р по мере затушевывания общеязыкового, в ряде случаев наблюдается
^тенденция делать тексты, от которых ожидается высокая степень
истинности, непонятными для адресата. Чтобы восприниматься как текст,
i сообщение должно быть не- или малопонятным и подлежащим дальней-
шему переводу или истолкованию. Предсказание пифии, прорицание
пророка, слова гадалки, проповедь священника, советы врача, законы
■: и социальные инструкции в случаях, когда ценность их определяется не
4 Истины показание к вопрошавшим о новом учении: Прибавление к журн.
«Православный собеседник». Казань, 1863. С. 509.
5 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1977. Т. 9. С. 289.
Текст и функция
137
реальным языковым сообщением, а текстовым надсообщением, д о л ж н ыа
быть непонятны и подлежать истолкованию.
С этим же связано стремление к неполной понятности, двусмысленности j
и многозначности. Искусство с его принципиальной многозначностью!
порождает, в принципе, только тексты. \
2.2.1. Поскольку уничтожение в тексте сообщения на общеязыковом
уровне — факт предельный, обнажающий скрытую тенденцию и уже
поэтому достаточно редкий, с одной стороны, и поскольку адресат
заинтересован не только в удостоверении истинности информации, но и
в самой этой информации, с другой, то рядом с текстом обязательно
возникает фигура его истолкователя: пифия и жрец, писание и священно-
служитель, закон и толкователь, искусство и критик. Природа толкователя
такова, что исключает возможность «каждому» им сделаться.
2.2.2. С названными особенностями текстов связана тенденция к ритуа-
лизации наиболее социально значимых из них и обязательная затруд-
ненность рациональной дешифровки подобного ритуала. Ср., например,
тщательность разработки Пестелем ритуальной стороны приема в тайные
общества и роль ритуала в ранних декабристских организациях.
3.0. Разделение всех сообщений, циркулирующих в данном коллективе,
на тексты и не-тексты и выделение первых в качестве объекта изучения
историка культуры не исчерпывает проблемы. Если исключить не-тексты
из рассмотрения (например, изучая письменную культуру, оговорить,
что устные источники не рассматриваются), то мы окажемся перед
потребностью выделить дополнительные признаки выраженности. Так,
внутри письменности графическая закрепленность текста уже ничего
не означает. На этом уровне она равна невыраженности. Зато в функции
фиксатора, превращающего высказывание в текст, может выступить
церковнославянский язык, отделяющий светскую письменность (в данном
случае выступающую на этом уровне как не-текст) от церковной. Но и
в кругу церковной письменности возможно подобное М^й^нгатйашшмер,
в качестве текстов будут выступать старые книги).-Tuii ииэдоДш иераг)-
хия текстов с последовательным возрастанием текстового^дначе^щяГ
диалогичным примером будет иира"рхйя жанров" в~системе классицизма,
где признак «быть произведением искусства» возрастает по мере продви-
жения вверх по шкале жанров.
3.1. Культуры с парадигматическим построением дают единую иерархию
текстов с последитатр"1-""™ цгфйстанием текстовой семиотики, так что ла
вершине оказывается Тедхт|(даиной культуры с нанбдлшяш показате-
лями ценности и истины. Культуры с синтагмадичех]Щм^шс^оен^^
дают'нгбор разных типов текспУЦ, К1пирЫ1ГбхЕГатм^
действительности, равноправно сополагаясь в смысле ценности. В боль-
шинстве реальных человеческих культур эти прищщтьГ^^ -
плетаются.
3.2. Тенденция к увеличению собственно текстовых значений соответ-
ствует типам культур с повышенной семиотичностью. Однако в силу того,
что в каждом тексте неизбежно возникает борьба между его языковым
и текстовым значением, существует и противоположная тенденция.
Когда некоторая система истин и ценностей перестает восприниматься
в качестве истинной и ценностной, возникает недоверие к тем средствам
выражения, которые заставляли воспринимать данное Сообщение как
текст, свидетельствуя о его достоверности и культурной значимости.
Признаки текста из залога его истинности превращаются в свидетельство
ложности. В этих условиях возникает вторичное — перевернутое —
соотношение: для того чтобы сообщение воспринималось как ценное и
138
Текст как семиотическая проблема
истинное (то есть как текст), оно не должно иметь выраженных признаков
текста. Только не-текст м q ж е т в этих условиях выполнять роль
т е к с та] Так, учение Сократа в диалогах Платона представляет собой
высшее учение, поскольку не является учением, системой; учение Христа,
возникающее в обществе, в котором создание религиозных текстов
закреплено за узкой категорий лиц определенного сословия и высокой
степени книжности, является \текстом именно потому, что исходит от
того, кто не имеет права создавать тексты. Представление о том, что
только проза может быть истинной, в русской литературе в момент
кризиса «пушкинского» периодаДи зарождения «гоголевского», лозунг
документального кино Дзиги Вертава и стремление Росселини и Де Сики
к отказу от павильонных съемок и профессиональных артистов — все эти
случаи, когда авторитетность текста определяется его «искренностью»,
«простотой», «невыдуманностью», будут примерами не-текстов, выпол-
няющих функцию текстов.
3.2.1, Поскольку текст манифестируется в этих случаях невыражен-
ностью, ценность сообщения определяется его истинностью на уровне
общеязыковой семантической отмеченности и общего «здравого смысла».
Однако, поскольку более истинные тексты выступают и как более автори-
тетные, ясно, что и здесь, наряду с общеязыковым значением, мы имеем
дело с некоторым добавочным — текстовым — значением.
3.3. Поскольку в результате столкновения двух постоянно противо-
борствующих в культуре тенденций — к семиотизации и к десемиоти-
/зации — текст и не-текст могу* меняться местами в отношении к своей
/культурной функции, возникает возможность отделения признаков разно-
видности текста от языкового сообщения. Текстовое значение может
\гюлемически опровергаться субтекстовым] Так, послание Ивана Грозного
Симеону Бекбулатовичу имеет все признаки такой разновидности текста,
как челобитная. Оно начинается ритуальным обращением и обязательной
самоуничижительной формулой «Государю великому князю Симеону
Бекбулатовичу всеа Русии Иванец Васильев с своими детищами Ыванцом
да Федорцом, челом бьют»6. Все текстовые элементы несут информацию
вб униженной просьбе, а все субтекстовые — о категорическом приказе.
(Несоответствие текстовой и субтекстовой информации создает
(дополнительные смыслы. При этом развенчивается авторитет данного
текстового принципала аналогичных основаниях построены литератур-
ныё~пародии.
4.0. уСистема текстовых значений определяет:... .социальные функции
текстовi в данной культуре'ГТаким образом, можно отметить три типа
отношений:
1)\ субтекстовые (общеязыковые) значения;
2)/ текстовые значения;
3/ функции текстов в данной системе культуры.
4.1.\Следовательно, возможно описание культуры на трех различных
уровнях)на уровне общеязыкового содержания составляющих ее текстов,
на уповне текстового содержания и на уровне функций текстов.
4.2т Различие этих трех уровне^может оказаться совершенно(излишним
(в тех]— весьма многочисленных — случаях, когда субтекстовые значения
однозначной неподвижно приписываются определен т.'-.* '<-кстам, а тексты
6 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 195.
Текст и функция
139
однозначно отнесены ц определенным прагматическим функциям. При-
вычка рассматривать подобные случаи определила нерасчлененность этих
аспектов у большинства хисследователей./Однако стоит соприкоснуться
со случаями их расхождения (субтекстового и текстового значений,
текстового и функционального и других), как становится очевидной
необходимость трех вполне Самостоятельных подходов.
4.2.1. Рассмотрим наиболее элементарный случай расхождения —
невыраженность одного из звеньев:
1
2
3
4
5
6
7
8
субтекстовое
сообщение
+
+
+
+
—
—
—
—
текстовая
/ семантика
+
—
+
—
+
+
—
—
функция текста в
системе культуры
+
+
—
—
+
—
+
—
Случаи «1» и «8» тривиальны. В первом речь идет о совпадении и наличии
всех трех типов значений, и примером может быть любой из широкого
круга текстов, например, волшебная сказка, исполняемая в той аудитории,
в которой еще живо непосредственное' восприятие фольклора. Здесь
наличествует определенное языковое сообщение, которое, для того чтобы
стать текстом, требует определенной дополнительной выраженности,
а тексту присуща некоторая, только им обслуживаемая, культурная
функция. Случай «8» введен для полноты описания — это полное молча-
ние, в том случае, когда оно не несет культурной функции.
«2». Это случай, о котором мы уже говорили выше: некоторое сооб-
щение может выполнять определенную текстовую функцию, только если
не имеет признаков, которые в господствовавшей до сих пор системе
считались для этого обязательными. Чтобы выполнить текстовую
функцию, сообщение должно деритуализоваться от прежде обязательных
признаков текста. Так, в определенные моменты (например, в русской
литературе после Гоголя) художественный текст, для того чтобы воспри-
ниматься как искусство, должен был быть не поэзией (текст с выражен-
ными признаками отличия от нехудожественной речи), а прозой, в которой
это отличие выражено нулевым показателем. В этом случае авторитет-
ность тексту придает высокая ценность субтекстового содержания («где
истина — там и поэзия», по словам Белинского). Текст этого типа
принципиально снимает необходимость в истолкователе (отказ от церкви
как посредника между текстом и человеком — «исповедуйтесь друг перед
другом»; требование законов, понятных без помощи законников; отрица-
тельное отношение к литературной критике в принципе — ср. утверждение
Чехова, что читать надо его произведения: «Там все написано»).
Условием высокой семиотичности текста в этом случае становится
выведение его из привычных норм семиотичности^ и внешняя десемио-
тизация.
«3». Случай, связанный с предшествующим и дополняющий его:
там, где функцию текста могут выполнить лишь сообщения без текстовой
выраженности, ритуализованные тексты теряют способность выполнять
140
Текст как семиотическая проблема
функцию, для которой предназначены: человек, для которого обращение
к богу подразумевает простотой искренность, не может молиться словами
затверженной молитвы; Шекспир для Толстого — не искусство, потому
что он слишком «художественен» Нт. д. Хексты с подчеркнутой выражен-
ностью воспринимаются как «неискреняие» и, следовательно, «не истин-
ные», т. е. не тексты. Может также^ыть дополнением к «7».
«4». Наиболее массовый случай:/соооЧцение, лишенное надъязыковых
признаков текста, для культуры не существует и культурной функции не
несет.
«5», «7». Текст не содержит в себе общеязыкового сообщения. Он
может быть на этом уровне бессмысленным, или текстом на другом —
непонятном аудитории —/Языке, или — пункт «7» — быть молчанием
(ср. романтическую идею'о том, что лишь молчание адекватно выражает
поэта: «И лишь молчание понятно говорит» (Жуковский), «Silentium!»
(Тютчев), «Прокрасться...» (Цветаева). Сторонники Нила Сорского
полагали, что лучшим средством единения с богом является безмолвная
(«умная») молитва).
«6». Противоположным будет случай, когда непонятное и незначитель-
ное субтекстовое сообщение не может стать текстом, то есть получить
смысл культурной ценности.
4.2.2. Другой случай расхождения — смещение и взаимозамена звеньев.
Так, например, культурную функцию некоторого текста можно выполнить,
только будучи другим текстом. В этой смещенной системе только
низкие тексты (например, иронические) могут обслуживать «высокую»
культурную функцию, только светское может выполнять сакральную
функцию и т. д.
5.0. Возможность отделения функции от текста подводит нас к выводу
о том, что описание культуры как некоторого нябпря, текгтпд нр ргргля
обеспечивает необходимую полноту. Так, например, не обнаружив в
какой-либо культуре сакральных текстов и обнаружив в ней некоторые
научные тексты (например, астрономические — календари), мы можем
заключить, что изучаемое общество в своем наборе культурных функций
не имело религиозной и имело научную. Однако более детальное
рассмотрение вопроса может потребовать большей осторожности:
научные тексты могут использоваться коллективом или какой-либо его
частью в функции религиозных. Так, например, некоторый единый
текст, научный по своей природе, — скажем, новое сильнодействующее
лекарство, — для одной части коллектива выступает в качестве научного,
для другой — религиозного, а для третьей — магического текста,
обслуживая три различные культурные функции. История науки знает
много случаев, когда научные идеи, именно в силу мощности своего
воздействия, становились тормозом науки, поскольку начинали обслужи-
вать ненаучную функцию, превращаясь для части коллектива в религию.
Одновременно такие тексты, как совет врача, эффективность которых
определена степенью безусловного доверия, теряют действенность при
«научном» (основанном на критической проверке) подходе пациента.
Широко известно, что распространение медицинских знаний среди
населения приносит в определенных условиях вред медицине, приписывая
ненаучному тексту (собственное мнение больного) функцию научного.
_,6.0._/Гаким образом, описание некоторой системы культуры должно
строиться на трех уровнях:
1) описание субтекстовых сообщений;
2) описание культуры как системы текстов;
3) описание культуры как набора функций, обслуживаемых текстами.
Текст и функция
141
Вслед за подобным описанием должно следовать определение типа
соотношения всех этих структур. Тогда станет, например, очевидно,
что отсутствие текста при отсутствии соответствующей функции ни в
малой степени не может быть уравнено с отсутствием текста при сохра-
нении соответствующей функции. s
6.1. Можно постулировать наличие, относительно такого подхода, двух
типов культур — одни будут стремуяъся специализировать тексты, с тем
чтобы- каждой культурной функции соответствовал ей присущий вид,
текстов, другие будут стремит>бя к стиранию граней между текстами^
с тем чтобы однотипные тексты обслуживали весь набор культурных
функций. В первом случае'будет выдвигаться вперед роль текста, во,
втором — функции. / I
142
Текст как семиотическая проблема
Текст и полиглотизм культуры
В генетическом отношении культура строится на основе двух первичных
языков. Один из них — естественный язык, используемый человеком
в повседневном общении. Роль его во всех вторичных построениях
культуры очевидна и не требует пояснений. Более того, в 1969 г. Эмиль
Бенвенист в статье «Семиология языка», программно открывавшей первые
номера международного журнала «Semiotica», писал: «Вся семиология
не-лингвистической системы должна пользоваться языком как перевод-
чиком и может существовать только с помощью семиологии языка и
в ней»1. На той же позиции стояли участники первой Летней школы
в Кяэрику (1964), принявшие формулу Б. А. Успенского для всего
комплекса сверхлингвистических семиотических систем — «вторичные
моделирующие структуры».
Менее очевидна природа второгв первичного языка. Речь идет о
структурной модели пространства. Любая деятельность человека как
homo sapiens'a связана с классификационными моделями пространства,
его делением на «свое» и «чужое» и переводом разнообразных социальных,
религиозных, политических, родственных и прочих связей на язык
пространственных отношений. Разделение пространства на «культурное»
и «некультурное» (хаотическое), пространство живых и пространство
мертвых, сакральное и профаническое, безопасное и таящее угрозу и
представление о том, что каждому пространству соответствуют его
обитатели: боги, люди, нечистая сила или их социокультурные сино-
нимы, — неотъемлемое свойство культуры. Однако этого еще недоста-
точно. Для того чтобы та или иная система оказалась способной выпол-
нять широкие семиотические функции, она должна обладать механизмом
удвоения (вернее, многократного мультиплицирования) объекта, который
составляет ее значение. Мир естественного языка образует удвоение мира-
объекта и сам может удваиваться в более сложно организованных
словесных текстах и языках словесного искусства.
Античные легенды указывали на тень, отражение в воде и эхо как
источники удвоения, сделавшегося истоком несловесных семиотических
систем. Но можно указать на более универсальный их корень: все виды
членения пространства образуют гомоморфные построения. Город
(=поселение) противостоит тому, что находится за его стенами (лесу,
степи, деревне, Природе, месту обитания врагов), как свое, закрытое,
культурное и безопасное — чужому, открытому, некультурному. В этом
отношении город — окультуренная часть универсума. Но в своей внутрен-
ней структуре он копирует весь универсум, имея свое «свое» и свое
«чужое» пространство. Точно так же храм относится к городу как внутрен-
нее к внешнему, но в своей имманентной структуре он опять-таки
повторяет универсум. То же повторяется и во всех других строениях.
Но каждое пространство имеет соответствующих обитателей, и, пере-
мещаясь из одного в другое, человек как бы теряет полную идентичность
самому себе, уподобляясь данному пространству. Оставаясь собой, он
становится другим. Особенно это делается явным не в бытовой жизни
1 Benveniste E. Semiologie de la langue (2) // Semiotica. 1969. Vol. 1. № 2. P. 130.
Текст и полиглотизм культуры
143
(хотя и там присутствует), а в ритуалах. Ритуальное пространство
гомоморфно копирует универсум, и, входя в него, участник ритуала то
становится (оставаясь собой) лесным духом, тотемом, мертвецом, покрови-
тельственным божеством, то вновь обретает человеческую сущность. Он
отчуждается от себя, превращаясь в выражение, содержанием которого
может быть он сам (ср. изображения умерших на саркофагах и
«похоронных» портретах) или то или иное сверхъестественное существо.
Благодаря членению пространства, мир удваивается в ритуале, так же,
как он удваивается в слове. Следствием этого являются ритуальные
изображения (маски, раскраска тела, танцы, надгробные изображения —
саркофаги и т. п.) — истоки пластических искусств. Изображение тела
возможно лишь после того, как само тело в тех или иных ситуациях
начинает осознаваться как изображение себя. Без первичного членения
пространства на сферы, требующие различного поведения, изобрази-
тельные искусства были бы невозможны.
Удвоение мира в слове и человека в пространстве образуют исходный
семиотический дуализм.
Культура в соответствии с присущим ей типом памяти отбирает во всей
этой массе сообщений то, ято, с ее точки зрения, является «текстами», т. е.
подлежит включению в коллективную память.
Следует, однако, обратить внимание на другую сторону вопроса:
текст, рассматриваемый в перспективе какой-либо одной лингвистической
системы, представляет собой реализацию какого-то одного языка. Куль-
тура впринципе полиглотична, и тексты ее всегда реализуются в про-
странстве как минимум двух семиотических систем. Слияние слова и
музыки (пение), слова и жеста (танец) в едином ритуальном тексте было
отмечено академиком А. Н. Веселовским как «первобытный синкретизм».
Но представление о том, что, расставшись с «первобытной» эпохой,
культура начинает создавать тексты моноязыкового типа, реализующие
строго законы какого-либо одного жанра по строго однолинейным
правилам, вызывает возражения. Даже если оставить в стороне указание
на то, что на всем протяжении истории культуры тексты, синкретически
сочетающие в едином действе все основные виды семиозиса, не исчезают,
и не вспоминать ни литургии, ни карнавала, ни хепенинга, ни современ-
ных выступлений рок-ансамблей, ни празднеств эпохи Великой француз-
ской революции, ни других примеров синкретизма, то отступающих на
периферию культуры, то занимающих в ней центральное положение,
придется говорить, что зашифрованность многими кодами есть закон
для подавляющего числа текстов культуры. Подлинно однолинейными
будут лишь тексты на искусственных языках или же специально создавае-
мые учебные иллюстрации к тем или иным сборникам теоретических
правил. Таковы, например, «Опыты» В. Брюсова.
Уже тот факт, что текст в своей синхронности может опираться разными
своими частями на память различной временной глубины, делает его
неоднородно зашифрованным. Так, большинство барочных храмов Цент-
ральной Европы сохраняют для зрителя свою готическую или даже
романскую первооснову. Кафедральный собор в Сиракузах, перестроен-
ный из античного храма в христианскую базилику, сохранил во внутренней
конструкции ряды античных колонн в стиле пестум, к которым достроена
романская алтарная часть, и все это объединено великолепным барочным
фасадом. Получается единый, но многоголосый текст. В Палатинской
капелле в Палермо, которую Мопассан назвал прекраснейшей в мире
и самой удивительной ювелирно-религиозной драгоценностью, которую
создавали мечты человека и искусство ремесленника, зала в построенном
144
Текст как семиотическая проблема
норманнами в XII в. дворце украшена византийскими мозаиками и
увенчана кедровым потолком типично арабского стиля.
Не только элементы, принадлежащие к различным историческим и
этническим культурным традициям, но и постоянные внутритекстовые
диалоги между жанрами и разнонаправленными структурными упоря-
доченностями образуют ту внутреннюю игру семиотических средств,
которая, ярче всего проявляясь в художественных текстах, оказывается,
по существу, свойством любого сложного текста. Именно это свойство
делает текст смысловым генератором, а не только пассивным вместилищем
извне заложенных в нем смыслов. Это позволяет видеть в тексте образо-
вание, заполняющее пустующее место между индивидуальным созна-
нием — смыслопорождающим семиотическим механизмом, базирующимся
на функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга, —
и полиструктурным устройством культуры как коллективного интеллекта.
Сказанное делает возможным внести некоторые коррективы в тради-
ционное понятие текста. Исходным положением считается, что, поскольку
текст всегда есть текст на каком-либо языке, то язык всегда дан —
логически, а часто полагают, и хронологически — до текста. Это убеж-
дение долгое время определяло направленность интересов лингвистов.
Текст рассматривался как материал, в котором манифестируются законы
языка, как в некотором роде руда, из которой лингвист выплавляет
структуру языка. Подобное представление хорошо объясняло коммуни-
кативную функцию языка, ту функцию, которая лежит на поверхности и
легко схватывается наиболее простыми методами анализа. Поэтому она
долгое время представлялась основной, а для некоторых лингвистов —
единственной функцией языка. С точки зрения этой функции, «работа»
языка заключается в передаче получателю именно того сообщения,
которое передал отправитель. Всякое изменение в тексте сообщения
есть искажение, «шум» — результат плохой работы системы. Если стоять
на этой позиции, то придется признать, что оптимальной языковой
структурой являются искусственные языки и метаязыки, ибо только они
гарантируют безусловную сохранность исходного смысла. Именно такое
представление являлось — скорее психологической, чем научной —
базой распространенного в 1960-е гг. снисходительного отношения
к языкам поэзии (и искусства вообще) как «неэффективным» и неэко-
номно устроенным. При этом забывалось, что крупнейшие лингвисты,
как, например, Р. О. Якобсон, еще в 1930-е гг. прозорливо подчеркивали,
что область поэтического языка есть сфера выявления важнейших законо-
мерностей лингвистики в целом.
Можно выделить еще одну функцию семиотических систем и, соответ-
ственно, текстов. Кроме коммуникативной функции, текст выполняет и
смыслообразующую, выступая в данном случае не в качестве пассивной
упаковки заранее данного смысла, а как генератор смыслов.
С этим связаны хорошо известные историкам культуры реальные факты,
когда не язык предшествует тексту, а текст предшествует языку. Во-
первых, сюда следует включить весьма широкий круг явлений, относя-
щихся к фрагментам дошедших до нас архаических культур. Случаи,
когда археология располагает предметом (=текстом), функция которого
нам неизвестна, равно как и свойственный ему культурный контекст,
достаточно распространены. Обладая уже текстом (словесным, скульп-
турным, архитектурным), мы оказываемся перед задачей реконструкции
кода по тексту. Реконструируя гипотетический код, мы обращаемся
к реальному тексту (или ему подобным), проверяя на них достоверность
реконструкции.
Текст и полиглотизм культуры
145
Фактически не отличается от первого случая и второй, при котором
мы имеем дело не со старыми, а с самыми новыми произведениями
искусства: автор создает уникальный текст, т. е. текст на еще не известном
языке, а аудитория, для того чтобы принять текст, должна овладеть
новым языком, созданным ad hoc. Тот же механизм работает и в третьем
случае — при обучении родному языку. Ребенок также получает тексты
до правил и реконструирует структуру языка по текстам, а не тексты по
структуре.
В протекающем подобным образом процессе дешифровки мы имеем,
во-первых, лишь частичное и относительное соответствие языка тексту.
Во-вторых, сам текст, будучи семиотически неоднородным, вступает в игру
с дешифрующими его кодами и оказывает на них деформирующее
воздействие. В результате в процессе продвижения текста от адресанта
к адресату происходит сдвиг смысла и его приращение. Поэтому данную
функцию можно назвать творческой. Если в первом случае всякое
изменение смысла в процессе передачи есть ошибка и искажение, то во
втором оно превращается в механизм порождения новых смыслов. Так,
Э. Т. А. Гофман, причудливо соединив два разнородных текста: записки
кота Мурра и жизнеописание капельмейстера Иоганнеса Крейслера,
превратил еще и опечатки в комический прием, добавив в предисловии:
«Разве не правда, что порой авторы обязаны экстравагантностью своего
стиля благосклонным наборщикам, которые споспешествуют вдохновен-
ному приливу идей своими так называемыми опечатками»2. А Гоголь
реальные опечатки в первом издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
превратил в небольшое комическое эссе3. Можно было бы вспомнить
письмо городничего в «Ревизоре», написанное на трактирном счете
Хлестакова: «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было
весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые
огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...»4
или телеграмму в «Душечке» Чехова («хохороны» вместо «похороны»).
Но в «Анне Карениной» описан случай, когда «шум» порождает новый —
не комический, а серьезный — смысл: пятно, поставленное детьми на
бумагу, помогает художнику найти не дававшееся ему положение фигуры.
Столкновение разных типов кодирования — основной прием иронии в
«Евгении Онегине», а Ахматова говорит о «чужом слове», которое
«проступает» потому, что «я на твоем пишу черновике». Все случаи
включения в текст «чужого слова», рассмотренные М. М. Бахтиным и
вслед за ним неоднократно подвергавшиеся изучению, относятся к столк-
новению различно закодированных субтекстов и к смыслообразователь-
ным процессам на границе смены кодов.
Таким образом, с точки зрения первой функции, естественно представ-
лять себе текст как манифестацию одного языка. В этом случае он
гомоструктурен и гомогенен. С точки зрения второй функции, текст гетеро-
генен и гетероструктурен, он есть манифестация одновременно нескольких
языков. Сложные диалогические и игровые соотношения между разно-
образными подструктурами текста, образующими его внутренний поли-
глотизм, являются механизмами смыслообразования.
2 Гофман Э. Т. А. Крейслериана; Житейские воззрения кота Мурра; Дневники.
М.. 1972. С. 100.
3 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1940. Т. 1. С. 317.
4 Там же. М., 1951. Т. 4. С. 42.
146
Текст как семиотическая проблема
Можно представить себе семиотическую ось, на одном конце которой
располагаются искусственные языки, метаязыки и все механизмы,
обеспечивающие однозначность понимания, в центре — естественные
языки, а на другом конце — полиструктурные системы типа языков
поэзии (и искусства вообще). Реальные тексты перемещаются по этой
оси в зависимости от их структурной доминанты. При этом читательское
восприятие может сдвигать текст в ту или иную сторону, перемещая
доминанту.
Третья функция текста связана с памятью культуры. В этом аспекте
тексты образуют свернутые мнемонические программы. Способность
отдельных текстов, доходящих до нас из глубины темного культурного
прошлого, реконструировать целые пласты культуры, восстанавли-
вать память, наглядно демонстрируется всей историей культуры
человечества. Не только метафорически можно было бы сопоставить
тексты с семенами растений, способными хранить и воспроизводить
память о предшествующих структурах. В этом смысле тексты тяготеют
к символизации и превращаются в целостные символы. Символы полу-
чают высокую автономию от своего культурного контекста и функцио-
нируют не только в синхронном срезе культуры, но и в ее диахронных
вертикалях (ср. значение античной и христианской символики для всех
срезов европейской культуры). В этом случае отдельный символ высту-
пает как изолированный текст, свободно перемещающийся в хроноло-
гическом поле культуры и каждый раз сложно коррелирующий с ее
синхронными срезами.
Таким образом, в современном понимании текст перестает быть пассив-
ным носителем смысла, а выступает в качестве динамического, внутренне
противоречивого явления — одного из фундаментальных понятий
современной семиотики.
Однако рассмотрение текста как генератора смыслов, звена в иерархи-
ческой цепочке «индивидуальное сознание — текст — культура» может
вызвать вопросы. Очевидно, что текст сам по себе ничего генерировать
не может — он должен вступить в отношения с аудиторией, для того
чтобы реализовались его генеративные возможности. Само по себе это
не должно изумлять: любая динамическая генерирующая система не
может работать в условиях изоляции от внешних потоков информации.
Что же это означает применительно к тексту ( = культуре)? Чтобы осу-
ществить генерирующую смысловую активность, текст должен быть
погружен в семиосферу. А это означает парадоксальную ситуацию:
он должен получить «на входе» контакт с другим (другими) текстом
(текстами). Аналогичным образом можно было бы сказать, что контакт
с другой культурой играет роль «пускового механизма», запускающего
генеративные процессы. Память человека, вступающего в контакт
с текстом, можно рассматривать как сложный текст, контакт с которым
приводит к творческим изменениям в информационной цепи.
Парадоксальное утверждение, что тексту должен предшествовать текст
(культуре — культура), находит параллель в автокаталитических
реакциях (см. раздел «Вместо заключения» в настоящей книге), в ко-
торых результат реакции должен стимулировать ее начало.
Знаменитый вопрос Простаковой: «Портной учился у другого, другой
у третьего, да перво-ет портной у кого учился?»5 — в научной постановке
теряет свой смысл, ибо само понятие «портной» есть результат длитель-
5 Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 108.
Текст и полиглотизм культуры
147
ной истории швейного искусства. Можно было бы вспомнить, как
решался аналогичный вопрос В. И. Вернадским применительно к
происхождению жизни: «Надо искать не следов начала жизни на
нашей планете, но материально-энергетических условий проявления
планетарной жизни»6. Вообще, вопрос о «первом портном», по сути дела,
принадлежит мифологии и в рамках науки не решается. Известные
случаи воспитания клинически здоровых детей в полной изоляции от
внешних текстов (например, в обществе исключительно животных) при-
водят к тому, что здоровый механизм сознания оказывается не вклю-
ченным.
Таким образом, минимально работающий текстовый генератор — это
не изолированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии
с другими текстами и с семиотической средой.
Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.
М., 1965. С. 344.
148
Текст как семиотическая проблема
Текст в тексте
Понятие «текст» употребляется неоднозначно. Можно было бы составить
набор порой весьма различающихся значений, которые вкладываются
различными авторами в это слово. Характерно, однако, другое: в настоя-
щее время это, бесспорно, один из самых употребимых терминов в науках
гуманитарного цикла. Развитие науки в разные моменты выбрасывает
на поверхность такие слова; лавинообразный рост их частотности в
научных текстах сопровождается утратой необходимой однозначности.
Они не столько терминологически точно обозначают научное понятие,
сколько сигнализируют об актуальности проблемы, указывают на область,
в которой рождаются новые научные идеи. История таких слов могла бы
составить своеобразный индекс научной динамики.
В нашу задачу не входит обосновать какое-либо из существующих
или предложить новое понимание этого термина. В аспекте настоящего
исследования более существенно попытаться определить его orjiojnjiiRe-/.,л,_
к некоторым другим базовым понятиям, в частности, к понятию языка.
' Здесь можно выделить два подход^. Первый^/язык мыслится'как некото-
рая- первичная сущность, которая получает материальное инобытие,
овеществляясь в текстеЗ- При всем разнообразии аспектов и подходов
здесь выделяется общая презумпция: (язык предшествует тексту, текст
порождается языком^ Даже в тех случаях, когда подчеркивается, что
именно текст составляет данную лингвисту реальность и что любое изуче-
ние языка отправляется от текста, речь идет об эвристической, а не
онтологической последовательности: поскольку в само понятие секста
включена осмысленность, текст по своей природе подразумевает
определенную закодированность. Следовательно, наличие кода пола-
гается как нечто предшествующее.
С этой презумпцией связано представление о (языке как замкнутой
системе, которая способна порождать бесконечно умножающееся
открытое множество текстов])Таково, например, определение Ельмслевом
текста как всего, что было/есть и будет сказано на данном языке. Из этого
вытекает, что язык мыслится как панхронная и замкнутая система2,
а текст — как постоянно наращиваемая по временной оси.
Второй подход наиболее употребителен в литературоведческих ра-
ботах или культурологических исследованиях, посвященных общей
типологии текстов3. Здесь сказывается то, что, в отличие от лингвистов,
1 Ср. определение М. А. К. Хэллидея: «Текст» — это язык в действии» (Новое
в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8. С. 142); если в формуле Хэллидея
выделяется оппозиция «потенциальная возможность — динамическая реализация»,
то П. Хартман и 3. Шмидт подчеркивают противопоставление «идеальная
структура — материально воплощенная конструкция». Ср. формулу П. Хартмана:
«Язык становится видимым в форме текста;» (Там же. С. 97). Развернутый анализ
понятия «текст» в современной лингвистике текста см. в статье Т. М. Николаевой
и составленном ею «Кратком словаре теории лингвистики текста» (Там же.
С 18 и след., 471-472).
2 Ср., однако, мнение Й. Вахека о неполной замкнутости ялыка: Vachek J.
Vyznam historickeho studia jazyku pro vedecky vyklad sou£asnych jazykbse
zvlaStnim zfetelem k materialu anglickemu // VPSI, 1958. С 63.
3 Обе тенденции — изучать текст как реализацию системы и как ее разру-
шение — обнаружились еще в трудах формальной школы.
Текст в тексте
149
литературоведы изучают обычно не «ein Text», a «der Text». Стремление
сблизить текст как лингвистический и литературоведческий объект
исследования определило на начальном этапе изучения тот подход,
о котором писал И. И. Ревзин: «Если же речь идет об анализе произведе-
ния в целом, то структурные методы оказываются особенно эффек-
тивными при изучении либо таких сравнительно простых и повторяющихся
«малых форм», как частушки, загадки, былины, сказки, мифы, либо такой
массовой продукции, как детективы4, бульварные романы, романы-
памфлеты и т. п., но тогда уже речь не идет о художественном произве-
дении в подлинном смысле слова»5. Однако исследования художествен-
ного произведения «в подлинном смысле слова», равно как и других
наиболее сложных форм культурной жизни, диктовались слишком
многими и важными научными соображениями, чтобы от них можно
было бы отказаться. А такое исследование требовало другого подхода
к тексту6. 2*/^
С точки зрения этого второго подхода/текст мыслится как отграничен-
ное, замкнутое в себе конечное образованием Одним из основных его"
признаков является наличиеАпецифической имманентной структуры, что
влечет за собой^Ьысокую значимость категории границы («начала»,
«конца», «рампы», «рамы», «пьедестала», «кулис» и т\ п.). Если в первом
случае существенным признаком текста является его протяженность
в естественном времени, то во втором текст или тяготеет^ панхронности
(например, иконические тексты живописи и скульптуры), ими же образует
своеОрсобое внутреннее время, отношение которого к естественному
способно порождать разнообразные смысловые эффекты. Меняется
соотношение текста и кода (языка).^Осознавая некоторый объект как
текст, мы тем самым предполагаем, что он каким-то образом закодирован,
презумпция кодированности входит в понятие текста) Однако сам этот
код нам неизвестен — его еще предстоит реконструировать, основываясь
на данном нам тексте.
Безразлично, имеем ли мы дело с текстом на неизвестном нам языке —
со случайно сохранившимся обломком утраченной для нас культуры —
или с художественным произведением, рассчитанным на шокирующее
аудиторию новаторство, но то, что текст предварительно закодирован, не
меняет того факта, что для аудитории именно текст является чем-то
первичным,^ а язык — вторичной абстракцией. Более того, поскольку
получатель информации никогда не может быть уверен, что на основании
данного текста ему удалось реконструировать язык полностью как тако-
вой, язык выступает лишь как относительно замкнутый. В отношении
к имманентно организованному и замкнутому тексту будет активизиро-
ваться признак его незавершенности и открытости. Это будет особенно
очевидно в тех случаях, когда кодирующая система организована иерар-
хически и реконструкция одного из ее уровней не гарантирует понимания
на других. В тех случаях, как, например, в искусстве, когда текст
допускает в принципе открытое множество интерпретаций, кодирующее
4 Ср.: Ревзин И. И. К семиотическому анализу детективов (на примере романов
Агаты Кристи) // Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным
моделирующим системам. Тарту, 1964.
0 Ревзин И. И. Современная структурная лингвистика: Проблемы и методы.
М., 1977. С. 210.
6 Обзор современной литературы по проблеме семиотики текста см.: Тороп П. X.
Проблема интекста // Текст в тексте. Тарту, 1981. (Труды по знаковым системам.
Т. 14; Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 567).
150
Текст как семиотическая проблема
его устройство, хотя и мыслится как закрытое на отдельных уровнях,
в целом имеет принципиально открытый характер. Таким образом, и в
этом отношении текст и язык переставлены. (Текст дается коллективу
раньше, чем язык, и язык «вычисляется» из текста.)
^ Основой этой двойной исследовательской ориентации, является функ-
циональная двойственность текстов в; системе "культуры.
В общей системе культуры тексты выполняют по крайней мере две
основные функции:^адекватную передачу значений иЛпорождение новых
смыслов. Первая функция выполняется наилучшим образом при наиболее
полном совпадении кодов говорящего и слушающего и, следовательно,
при максимальной однозначности текста] Идеальным предельным меха-
низмом для такой операции будет искусственный язык и текст на искус-
ственном языке. Тяготение к стандартизации, порождающее искусствен-
ные языки, и стремление к самоописанию, создающее метаязыковые
конструкции, не являются внешними по отношению к языковому и куль-
турному механизму. Ни одна культура не может функционировать без
метатекстов и текстов на искусственных языках. Поскольку именно эта
сторона текста наиболее легко моделируется с помощью имеющихся в
нашем распоряжении средств, этот аспект текста оказался наиболее
заметным. Он сделался объектом изучения, порою отождествляясь с
текстом как таковым и заслоняя другие аспекты.
Механизм идентификации, снятия различий и возведения текста к
стандарту играет не только роль начала, гарантирующего адекватность
восприятия сообщения в системе коммуникации: не менее важной
является функция обеспечения общей памяти коллектива, превращения
его из беспорядочной толпы в «Une personne morale», по выражению
Руссо. Эта функция особенно значительна в бесписьменных культурах и в
культурах с доминирующим мифологическим сознанием, однако как тен-
денция она с той или иной степенью выявленности проявляется в любой
культуре.
С "Характерной чертой культуры с мифологической ориентацией является
возникновение между языком и текстами промежуточного звена — текста-
кода.)Этот текст может быть осознан и выявлен в качестве идеального
образца (ср., например, роль «Энеиды» Вергилия для литературы
Возрождения и классицизма) или оставаться в области субъективно-
неосознанных механизмов, которые не получают непосредственного
выражения7, а реализуются в виде вариантов в текстах более низкого
уровня в иерархии культуры. Это не меняет основного:(Гтекст-код
является именно текстом. Это не абстрактный набор правил для построе-
ния текста, а синтагматически построенное целое, организованная
структура знаков. ) Следует подчеркнуть, что в ходе культурного
функционирования — в процессе текстообразования или при исследова-
тельском метаописании — каждый знак текста -кода может представать
перед нами в виде парадигмы. Однако «для себя», с позиции своего
собственного уровня, он выступает как нечто наделенное не только
единством выражения, но и единством содержания. Диффузный, амби-
или поливалентный, распадающийся то на парадигму эквивалентных,
но разных значений, то на систему антонимических оппозиций для
внешнего наблюдателя, «для себя» он монолитен, компактен, однозначен.
( Входя в структурные связи с элементами своего уровня, он образует текст,
V наделенный всеми признаками текстовой реальности, даже если он нигде
7 До тех пор, пока они не сделались объектом научной реконструкции.
Текст в тексте
151
не выявлен, а лишь неосознанно существует в голове сказителя, народ-
ного импровизатора, организуя его память и подсказывая ему пределы
возможного варьирования текста^Именно такая реальность описывается
моделью волшебной сказки Проппа или моделью детективного романа
Ревзина. Существенно подчеркнуть, что эти исследовательские модели
описывают не структуру объекта (она лишь косвенно выводится из этих
описаний), а стоящий за этой структурой реальный, хотя и невыявленный
текстовый объект8.
К объектам этого типа относится «петербургский текст», выявленный
В. Н. Топоровым на материале произведений Достоевского9. Наблюдения
над текстами Достоевского убедили исследователя, что один из пластов
творческого сознания автора «Преступления и наказания» отличается
глубоким архаизмом и непосредственно соприкасается с мифологической
традицией. В. Н. Топоров показывает существование в художественном
сознании Достоевского определенного устойчивого текста, который в
многочисленных вариациях проявляется в его произведениях и может
быть реконструирован исследователем. Связь с архаическими схемами,
а также и то, что в основе лежат произведения одного автора, обеспечи-
вают для выделенных В: Н. Топоровым элементов необходимую отнесен-
ность к одному уровню и единому тексту.
^Вторая фун^ция_1£КС1Д^7 порождение новых смыслов. В этом аспекте ,
текст перестает быть пассивным звеном передачи некоторой константной
информации между входом (отправитель) и выходом (получатель)). Если
в первом случае г^азнида между сообщением на входе и на выходе-|4нфор-
мационной цепи возможна лишь в результате помех в канале связи и
должна быть отнесена за счет технических несовершенств системы,
то ва.втором она составляет самое сущн_остьработы текста как «мысля-
щщ)._у£1роЙ£твай'ТоГчто с первой точки зрения — дефект, со второй —
норма, и наоборот. Естественно, что механизм текста должен быть
организован в этом случае иначе.
Основным структурным признаком -текста в этой второй функции
является его внутренняя неоднородность. Текст представляет собой
устройство, "образованное как система разнородных семиотических
пространств, в континууме которых циркулирует некоторое исходное
сообщёШ^ёТ Он предстает перед нами не как манифестация какого-либо
одного языка — длящего образования требуются как минимум два языка.
Ни один текст этого рода не может быть адекватно описан в перспективе
одного-единственного языка. Мы можем сталкиваться со сплошным
закодированием двойным кодом, причем в разной читательской перспек-
тиве просматривается то одна, то другая организация, или с сочетанием
общей закодированное™ некоторым доминирующим кодом и локальных
кодировок второй, третьей и прочих степеней. При этом некоторая
фоновая кодировка, имеющая бессознательный характер и, следова-
тельно, обычно незаметная, вводится в сферу структурного сознания и
приобретает осознанную значимость (ср. толстовский пример с чистотой
воды, которая делается заметной от соринок и щепочек, попавших в
стакан: соринки — добавочные текстовые включения, которые выводят
основной фоновый код — «чистоту» — из сферы структурно-неосознан-
8 Мы называем этот объект текстом-кодом и отличаем от описывающего его
мета текста Проппа и др.
9 См.: Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными
схемами мифологического мышления // Structure of texts and semiotics of culture.
The Hague; Paris, 1973.
152
Текст как семиотическая проблема
ного). Возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между
структурными упорядоченностями разного рода придает тексту j6_6 л ь-
ш и е с мы.с л овые в о з м о ж но с т и, чем те, которымИ-располагает
любой язык, взятый в отдельности. Следовательно, текст во второй своей
функции является не пассивным вместилищем, носителем извне вложен-
ного в него содержания, ^'гё"не^торо"1у. Сущность же процесса гене-
рации — не только ^в ^увертывании, но и в значительной мере
вд^вза^^одейдтаии структур. И2Гвз_аЖжщелс1вие в замкнутом мире текста
становится активным_фактр20м культуры как работающей семиотической
системы^ Текст этого типа всегда богаче любого отдельного языка и не
может быть из него автоматически вычислен.СТекст — семиотическое
пространство, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически
самоорганизуются языки>
Если методика Проппа ориентирована на то, чтобы из различных тек-
стов, представив их как пучок вариантов одного текста, вычислить этот
лежащий в основе единый текст-код, то методика Бахтине, начиная с
«Марксизма и философии языка», противоположна:^ едином тексте
вычленяются не только разные, но, что особенно существенно, взаимно-
непереводимы^ субтексты. В тексте раскрывается его внутренняя
конфликтность.^ описании Проппа текст тяготеет к панхронной уравно-
вешенности: именно потому, что рассматриваются повествовательные
тексты, особенно заметно, что движения, по существу, нет — имеется лишь
колебание вокруг некоторой гомеостатической нормы (равновесие —
нарушение равновесия — восстановление равновесия). В анализе Бахтина
("неизбежность движения, изменения, разрушения скрыта даже в статике
текста. Поэтому он сюжетен даже в тех случаях, когда, казалось бы,
весьма далек от проблем сюжета) Естественной сферой для текста;)
по Проппу, оказывается сказка, по Бахтину, —('роман и драма^)
Проблема текста органически связана с прагматическим аспектом.
Прагматика текста часто бессознательно отождествляется исследова-
телями с категорией субъективного в классической философии. Это
обусловливает отношение к прагматике как к чему-то внешнему и нанос-
ному, что может увлечь в сторону от объективной структуры текста.
В действительности же^прагматический аспект — это аспект работы
текста, поскольку механизм работы текста подразумевает какое-то
введение в него чего-либо извнеА Будет ли это «извне» —Другой текст,
Лли читатель (который тоже «другой текст») Лили культурный контекст,
он необходим для того, чтобы потенциальная возможность генерирования
новых смыслов, заключенная в имманентной структуре текста, превра-
тилась в реальность. Поэтому процесс трансформации текста в читатель-
ском (или исследовательском) сознании, равно как и трансформации
читательского сознания, введенного в текст (по сути, мы имеем два текста
в отношении «инкорпорированные — обрамляющие», см. об этом
ниже), — не искажение объективной структуры, от которого следует
устраниться, а раскрытие.сущности механизма в процессе его работы.
[Прагматические отношения — отношения между текстом и человеком).
Оба образования отличаются такой степенью сложности, что всегда
наличествует возможность активизации того или иного аспекта структуры
текста и превращения в процессе прагматического функционирования
ядерных структур в периферийные, а периферийных — в ядерные. Так,
например, поэзию, относящуюся к эпохе, характеризующейся развитым
чувством индивидуальности, и ориентированную на оригинальность как
высшую характеристику художественной ценности, рассматривает
читатель, ориентированный на восприятие мифологических текстов. Он
Текст в тексте
153
видит не панораму текстов, из которых каждый отмечен «лица необщим
выраженьем» (Баратынский), а некоторый общий текст, повторяемый в
ряде вариаций. При этом происходит акцентация таких параметров,
которые самими современниками не воспринимались как значимые,
поскольку были автоматическими или бессознательными, а то, что отме-
чалось современниками в первую очередь, снимается. Разнородные тексты
рассматриваются как однородные. Противоположный процесс проис-
ходит, когда современный читатель находит «полифонизм» в текстах эпох,
не знавших художественно-осознанного функционирования этой кате-
гории, но естественно включавших элементы языковой неоднородности,
которая в определенных условиях может быть прочитана подобным
образом.
Было бы упрощением видеть в этих трактовках просто «искажения»
(при таком подходе вековая история интерпретаций крупнейишх памят-
ников мировой культуры предстает как цепь заблуждений и ошибочных
истолкований, на смену которым тот или иной критик или читатель пред-
лагает новое, долженствующее, наконец, установить истину в последней
инстанции). Переформулировка основ структуры текста свидетельствует,
что он вступил во взаимодействие с неоднородным ему сознанием и
в ходе генерирования новых смыслов перестроил свою имманентную
структуру. Возможности таких перестроек конечны, и это полагает
предел жизни того или иного текста в веках, а также проводит черту
между перестройкой памятника в процессе изменения культурного
контекста и произвольным навязыванием ему смыслов, для выражения
которых он не имеет средств. Прагматические связи могут актуализо-
вывать периферийные или автоматические структуры, но не способны
вносить в текст принципально отсутствующие в нем коды. Однако
разрушение текстов и превращение их в материал создания новых текстов
вторичного типа — от постройки средневековых зданий из разрушенных
античных до создания современных пьес «по мотивам» Шекспира — тоже
часть процесса культуры.
Роль лрагматического начала^не может быть, однако, сведена к разного
рода пе^бсмыслёнйям текста — оно составляет активную сторону
функционирования текста как такового. Текст как генератор смысла,
мыслящее устройство, для того чтобы быть приведенным в работу,
нуждается в собеседнике. В этом сказывается глубоко диалогическая
природа сознания. Чтобы активно работать, сознание (нуждается^ в
сознании, текст — в тексте, культура — в культуре.(Введение внешнего
текста в имманентный мир данного текста играет огромную роль. В струк-
турном смысловом поле текста вводимый в него внешний текст трансфор-
мируется, образуя новое сообщение. Сложность и многоуровневость
участвующих в текстовом взаимодействии компонентов приводит к извест-
ной непредсказуемости той трансформации, которой подвергается
вводимый текст. Однако трансформируется не только он — изменяется
вся семиотическая ситуация внутри того текстового мира, в который он
вводится. Введение чуждого семиозиса, который находится в состоянии
непереводимости к «материнскому» тексту, приводит этот последний в
состояние возбуждения: предмет внимания переносится с сообщения на
язык как таковой и обнаруживается явная кодовая неоднородность
самого «материнского» текста. В этих условиях составляющие его
субтексты могут начать выступать относительно друг друга как чужие и,
трансформируясь по чуждым для них законам, образовывать новые
сообщения. Текст, выведенный из состояния семиотического равновесия,
оказывается способным к саморазвитию. Мощные внешние текстовые
154
Текст как семиотическая проблема
вторжения в культуру, рассматриваемую как большой текст, приводят
не только к адаптации внешних сообщений и введению их в память
культуры, но и служат стимулами ее саморазвития, дающего непред-
сказуемые результаты^
Мы можем привести два примера такого процесса.
Исправность интеллектуального аппарата ребенка на ранней стадии его
развития еще не обеспечивает нормального функционирования сознания:
ему необходимы контакты, в ходе которых он получает извне тексты,
играющие роль стимуляторов его собственного умственного саморазвития.
Другой пример связан с так называемым «ускоренным развитием»
(Г. Гачев) культуры. Хорошо стабилизированные архаические культуры
могут исключительно длительное время пребывать в состоянии цикличе-
ской замкнутости и сбалансированной неподвижности. Вторжение в их
сферу внешних текстов приводит в движение механизмы саморазвития.
Чем сильнее разрыв и чем, следовательно, труднее дешифруются вторг-
шиеся тексты средствами кодов «материнского» текстового кряжа, тем
динамичнее оказывается состояние, в которое приводится культура
в целом. Сопоставительное изучение разных случаев подобных «культур-
ных взрывов», с которыми мы встречаемся в истории мировой цивили-
зации, убеждает в упрощенности выдвинутой Вольтером («Опыт о
нравах и духе народов») и Кондорсе («Набросок исторической картины
прогресса человеческого разума») и развитой Гегелем концепции един-
ства пути мирового Разума. С точки зрения просветительной культуро-
софии, все разнообразие мировых культур может быть сведено или к
различию в этапах становления единого Мирового Эталона культуры, или
к «заблуждениям», уводящим ум человека в дебри. В свете такой концеп-
ции кажется естественным отношение «передовых» культур к «отсталым»
как неполноценным и стремление «отсталых» культур догнать «передо-
вые» и раствориться в них. В такой перспективе «ускоренное развитие»
связывается с уменьшением разнообразия широкого контекста мировой
цивилизации и, следовательно, с падением ее информативности как еди-
ного Текста, т. е. с информационной деградацией. Однако такая гипотеза
не подтверждается и эмпирическим материалом: в ходе «культурных
взрывов» в истории мировой цивилизации не происходит ее нивели-
ровки — имеют место прямо противоположные процессы.
Наблюдая динамические состояния семиотических систем, мы можем
заметить одну любопытную особенность: в ходе медленного и постепенного
развития система вовлекает в себя близкие и легко переводимые на ее
язык тексты. В моменты «культурных (и вообще семиотических) взры-
вов» вовлекаются наиболее далекие и непереводимые, с точки зрения
данной системы (т. е. «непонятные»), тексты. Далеко не всегда в этом
случае более сложная культура будет играть роль стимулятора для
более архаической, возможна и противоположная направленность. Так,
в XX в. мы сделались свидетелями мощного вторжения текстов архаи-
ческих культур и примитива в европейскую цивилизацию, что сопровож-
далось приведением ее в состояние динамического возбуждения. Сущест-
венным работающим моментом оказывается именно различие культурных
потенциалов, трудность в дешифровке текстов средствами имеющихся
языков культуры. Например, принятие христианства и введение связанных
с этим текстов было для варварских народов Европы начала нашей эры
приобщением к текстовому миру, труднодоступному в силу своей культур-
ной сложности. Но для древних цивилизаций Средиземноморья эти же
тексты были труднодоступны в силу своей примитивности. Однако эффект
их в обоих случаях был сходным: они вызвали мощный культурный
Текст в тексте
155
взрыв, который нарушил младенческую и старческую статику обоих миров
и привел их в состояние динамизма.
Выше мы подчеркнули типологическое различие между текстами,
онтологически ориентированными на отождествление всего множества
текстов с некоторым Текстом, и такими, в которых проблема кодового
разнообразия переносится внутрь границ текста и расслоение Текста на
тексты превращается во внутренний закон. Однако эту же проблему
можно рассмотреть и в прагматическом аспекте. В любой сколь-либо
детально нам известной цивилизации мы сталкиваемся с текстами очень
высокой сложности. В этих условиях особую роль начинает играть
прагматическая установка аудитории, которая может активизировать в
одном и том же тексте «пропповский» или «бахтинский» аспект.
Вопрос этот тесно связан с проблемой(отношения текста к культурному
контексту. Культура)— не беспорядочное накопление текстов, а(сложная,
иерархически организованная, работающая систем ауОд на ко сложность ее
относительно оси «однородность/неоднородность» такова, что всякий
текст неизбежно предстает как минимум в двух перспективах, как
включенный в два типа, контекстов. С одной точки зрения, он выступит
как однородный с другими текстами, с другой — как выпадающий из
ряда, «странный» и «непонятный». В первом случае он будет распола-
гаться на синтагматической, во втором — на риторической оси. Сополо-
жение текста с семиотически неоднородным ему рядом порождает рито-
рический эффект. Смыслообразующие процессы протекают как за счет
взаимодействия между семиотически разнородными и находящимися
в отношении взаимной непереводимости пластами текста, так и в резуль-
тате сложных смысловых конфликтов между текстом и инородным для
него контекстом. В такой же мере, в какой художественный текст тяготеет
к полиглотизму, художественный (и культурный вообще) контекст не
может быть моноязычнымГ-Сложная многофакторность и полиструктур-
ность любого культурного контекста приводит к тому, что составляющие
его тексты могут просматриваться как на синтагматической, так и на
риторической осях. Именно этот второй тип соположений выводит семио-
тическую структуру из области бессознательных механизмов в сферу
осознанного семиотического творчества. Проблема разнообразных
соположений разнородных текстов, столь остро поставленная в искусстве
и культуре XX в.10, по сути принадлежит к весьма древним. Именно она
лежит в основе круга вопросов, связанных с темой «текст в тексте».
Обострившийся в современной науке интерес к неориторике лежит в том
же плане.
*
«Текст в тексте» — это специфическое риторическое построение, при
котором различие в закодированности разных частей текста делается
выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия
текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста
в другую н,а каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом
случае основу генерирования смысла. Такое построение, прежде всего,
обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования,
текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его
игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный смысл
и т. д. Одновременно подчеркивается роль границ текста, как внешних,
Ср. работы М. Дрозды, посвященные проблемам европейского авангарда.
156
Текст как семиотическая проблема
отделяющих его от не-текста, так и внутренних, разделяющих участки
различной кодированности. Актуальность границ подчеркивается именно
их подвижностью, тем, что при смене установок на тот или иной код
меняется и структура границ. Так, например, на фоне уже сложившейся
традиции, включающей пьедестал или раму картины в область не-текста,
искусство эпохи барокко вводит их в текст (например, превращая
пьедестал в скалу и сюжетно связывая ее в единую композицию с
фигурой). Игровой момент обостряется не только тем, что эти элементы в
одной перспективе оказываются включенными в текст, а в другой —
выключенными из него, но и тем, что в обоих случаях мера условности их
иная, чем та, которая присуща основному тексту: когда фигуры скульп-
туры барокко взбираются или соскакивают с пьедестала или в живописи
вылезают из рам, этим подчеркивается, а не стирается тот факт, что одни
из них принадлежат вещественной, а другие — художественной
реальности. Та же самая игра зрительскими ощущениями разного рода
реальности происходит, когда театральное действие сходит со сцены и
переносится в реально-бытовое пространство зрительного зала.
Игра на противопоставлении «реального/условного» свойственна
любой ситуации «текст в тексте». Простейшим случаем является вклю-
чение в текст участка, закодированного тем же самым, но удвоенным
кодом, что и все остальное пространство произведения. Это будут картина
в картине, театр в театре, фильм в фильме или роман в романе. Двойная
закодированность определенных участков текста, отождествляемая
с художественной условностью, приводит к тому, что основное простран-
ство текста воспринимается как «реальное». Так, например, в «Гамлете»
перед нами — не только «текст в тексте», но и «Гамлет» в «Гам-
лете»: пьеса, разыгрываемая по инициативе Гамлета, повторяет в под-
черкнуто условной манере (сначала пантомима, затем подчеркнутая
условность рифмованных монолргов, перебиваемых прозаическими репли-
ками зрителей: Гамлета, короля, королевы, Офелии) пьесу, сочиненную
Шекспиром. Условность первой подчеркивает реальность второй11.
Чтобы акцентировать это чувство у зрителей, Шекспир вводит в текст
метатекстовые элементы: перед нами на сцене осуществляется режиссура
пьесы. Как бы предвосхищая «8 'Д» Феллини, Гамлет перед публикой
дает актерам указания, как им надо играть. Шекспир показывает на
сцене не только сцену, но, что еще важнее, репетицию сцены.
Удвоение — наиболее простой вид выведения кодовой организации
в сферу осознанно-структурной конструкции. Не случайно именно
с удвоением связаны мифы о происхождении искусства: рифма как
порождение эха, живопись как обведенная углем тень на камне и т. п.
Среди средств создания в изобразительном искусстве локальных суб-
текстов с удвоенной структурой существенное место занимает мотив
зеркала в живописи и кинематографе.
Мотив зеркала широко встречается в самых различных произведениях
(«Венера и Амур» Веласкеса, «Портрет банкира Арнольфини с женой»
11 Персонажи «Гамлета» как бы передоверяют сценичность комедиантам, а
сами превращаются во внесценическую публику. Этим объясняются и переход
их к прозе, и подчеркнуто непристойные замечания Гамлета, напоминающие
реплики из публики эпохи Шекспира. Фактически возникает не только «театр в
театре», но и «публика в публике». Вероятно, для того, чтобы передать современ-
ному нам зрителю этот эффект адекватно, надо было бы, чтобы, подавая свои
реплики из публики, герои в этот момент разгримировывались и рассаживались
в зрительном зале, уступая сцену комедиантам, разыгрывающим «мышеловку».
Текст в тексте
157
Ван Эйка и т. д.). Однако мы сразу сталкиваемся с тем, что удвоение
с помощью зеркала никогда не есть простое повторение: меняется ось
«правое-левое» или, что еще чаще, к плоскости полотна или экрана
прибавляется перпендикулярная к нему ось, создающая глубину или
добавляющая вне плоскости лежащую точку зрения. Так, на картине
Веласкеса к точке зрения зрителей, которые видят Венеру со спины,
прибавляется точка зрения из глубины зеркала — лицо Венеры. На
портрете Ван Эйка эффект еще более услр^кнен: висящее в глубине
картины на стене зеркало отражает со спины фигуры Арнольфини
с женой (на полотне они повернуты en face) и входящих со стороны
зрителей гостей, которых они встречают. Таким образом, из глубины
зеркала бросается взгляд, перпендикулярный полотну (навстречу
взгляду зрителей) и выходящий за пределы собственного пространства
картины. Фактически такую же роль играло зеркало в интерьере барокко,
раздвигая собственно архитектурное пространство ради создания иллю-
зорной бесконечности (отражение зеркала в зеркале), удвоения художе-
ственного пространства путем отражения картин в зеркалах12 или
взламывания границы «внутреннее/внешнее» путем отражения в зеркалах
окон.
Однако зеркало может играть и другую роль: удваивая, оно искажает
и этим обнажает то, что изображение, кажущееся «естественным», —
проекция, несущая в себе определенный язык моделирования. Так,
на портрете Ван Эйка зеркало выпуклое (ср. портрет Ганса Бургкмайра
с женой кисти Лукаса Фуртнагеля, где женщина держит выпуклое зеркало
почти под прямым углом к плоскости полотна, что дает резкое искажение
отражений) — фигуры даны не только спереди и сзади, но и в проекции
на плоскую и сферическую поверхность. В «Страсти» Висконти фигура
героини, нарочито бесстрастная и застывшая, противостоит ее динамиче-
скому отражению в зеркале. Ср. также потрясающий эффект отражения
в разбитом зеркале в «Вороне» Ж.-А. Клузо или разбитое зеркало в
«День начинается» Карне. С этим можно было бы сопоставить обширную
литературную мифологию отражений в зеркале и Зазеркалья, уходящую
корнями в архаические представления о зеркале как окне в потусторонний
мир.
Литературным адекватом мотива зеркала является тема двойника.
Подобно тому как Зазеркалье — это странная модель обыденного мира,
двойник — остраненное отражение персонажа. Изменяя по законам
зеркального отражения (энантиоморфизма) образ персонажа, двойник
представляет собой сочетание черт, позволяющих увидеть их инва-
риантную основу, и сдвигов (замена симметрии правого—левого может
получать исключительно широкую интерпретацию самого различного
свойства: мертвец — двойник живого, не-сущий — сущего, безобраз-
ный — прекрасного, преступный — святого, ничтожный — великого
и т. д.), что создает поле широких возможностей для художественного
моделирования.
Знаковая природа художественного текста двойственна в своей основе:
с одной стороны, текст притворяется самой реальностью, прикидывается
12 Ср. у Державина:
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор...
(Державин Г. Р. Стихотворения.
Л., 1957. С. 213).
158
Текст как семиотическая проблема
имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди
вещей реального мира; с другой стороны, он постоянно напоминает, что
он — чье-то создание и нечто значит. В этом двойном освещении
возникает игра в семантическом поле «реальность — фикция», которую
Пушкин выразил словами: «Над вымыслом слезами обольюсь».
Риторическое соединение «вещей» и «знаков вещей» (коллаж) в едином
текстовом целом порождает двойной эффект, подчеркивая одновременно и
условность условного, и его безусловную подлинность. В функции «вещей»
(реалий, взятых из внешнего мира, а не созданных рукой автора текста)
могут выступать документы — тексты, подлинность которых в данном
культурном контексте не берется под сомнение. Таковы, например, врезки
в художественную киноленту ^хроникальных кадров (ср. «Зеркало»
А. Тарковского) или тот же прием, использованный Пушкиным, который
«вклеил» в «Дубровского» обширное подлинное судебное дело XVIII в.,
изменив лишь собственные имена. Более сложны случаи, когда признак
«подлинности» не вытекает из собственной природы субтекста или даже
противоречит ей и, вопреки этому, в риторическом целом текста именно
этому субтексту приписывается функция подлинной реальности.
Рассмотрим с этой точки зрения роман «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова. Роман построен как переплетение двух самостоятельных
текстов: один повествует о событиях, развертывающихся в Москве,
современной автору, другой — в древнем Ершалаиме. Московский текст
обладает признаками «реальности»: он имеет бытовой характер, пере-
гружен правдоподобными, знакомыми читателю деталями и предстает
как прямое продолжение знакомой читателю современности. В романе он
представлен как некоторый первичный текст нейтрального уровня. В
отличие от него, повествование о Ершалаиме все время имеет
характер «текста в тексте». Если первый текст — создание Булгакова,
то второй создают герои романа. Ирреальность второго текста подчерки-
вается тем, что ему предшествует метатекстовое обсуждение того, как
его следует писать; ср.: Иисуса «на самом деле никогда не было в живых.
Вот на это-то и нужно сделать главный упор»13. Таким образом, если
относительно первого субтекста нас хотят уверить, что он имеет реальные
денотаты, то относительно второго демонстративно убеждают, что таких
денотатов нет. Это достигается и постоянным подчеркиванием текстовой
природы глав об Ершалаиме (сначала рассказ Воланда, потом роман
Мастера), и тем, что московские главы преподносятся как реальность,
которую можно увидеть, а ершалаимские — как рассказ, который
слушают или читают. Ершалаимские главы неизменно вводятся концов-
ками московских, которые становятся их зачинами, подчеркивая их
вторичную природу: «Заговорил негромко, причем его акцент почему-то
пропал: — Все просто: в белом плаще...» (конец 1-й — начало 2-й
главы. — 10. Л.). «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей
кавалерийской походкой (...) вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат»
(с. 435). Глава «Казнь» вводится как сон Ивана14: «...и ему стало сниться,
13 Булгаков М. Романы. М., 1973. С. 426. (Дальнейшие ссылки на это издание
даются в тексте.)
14 Сон наряду со вставными новеллами является традиционным приемом
введения текста в текст. Большей сложностью отличаются такие произведения,
как «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...») Лермонтова, где умираю-
щий герой видит во сне героиню, которая во сне видит умирающего героя. Повтор
первой и последней строф создает пространство, которое можно представить в
виде кольца Мёбиуса, одна поверхность которого означает сон, а другая — явь.
Текст в тексте
159
что солнце уже снижалось над Лысой Горой» и была эта гора оцеплена
двойным оцеплением...» (конец 15-й — начало 16-й главы. — Ю. Л.).
«Солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена
двойным оцеплением» (с. 587—588). Дальше текст об Ершалаиме вво-
дится как сочинение Мастера: «...хотя бы до самого рассвета, могла
Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и
перечитывать слова: — Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла
ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...» (конец 24-й — начало
25-й главы. — Ю. Л.). «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла
ненавидимый прокуратором город» (с. 714).
Однако, как только эта инерция распределения реального — нереаль-
ного устанавливается, начинается игра с читателем за счет перераспреде-
ления границ между этими сферами. Во-первых, московский мир («реаль-
ный») наполняется самыми фантастическими событиями, в то время как
«выдуманный» мир романа Мастера подчинен строгим законам бытового
правдоподобия. На уровне сцепления элементов сюжета распределение
«реального» и «ирреального» прямо противоположно. Кроме того, эле-
менты метатекстового повествования вводятся и в «московскую» линию
(правда, весьма редко),'Создавая схему: автор рассказывает о своих
героях — его герои рассказывают историю Иешуа и Пилата: «За мной,
читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной
любви?» (с. 632).
Наконец, в идейно-философском смысле это углубление в «рассказ
о рассказе» представляется Булгакову не удалением от реальности в мир
словесной игры (как это имеет место, например, в «Рукописи, найденной
в Сарагосе» Яна Потоцкого), а восхождением от кривляющейся кажи-
мости мнимо-реального мира к подлинной сущности мировой мистерии.
Между двумя текстами устанавливается зеркальность, но то, что
кажется реальным объектом, выступает лишь как искаженное отражение
того, что само казалось отражением.
Существенным и весьма традиционным средством риторического
совмещения разным путем закодированных текстов является компози-
ционная рамка. «Нормальное» (т. е. нейтральное) построение основано,
в частности, на том, что обрамление текста (рама картины, переплет книги
или рекламные объявления издательства в ее конце, откашливание актера
перед арией, настройка инструментов оркестром, слова «итак, слушайте»
при устном рассказе и т. п.) в текст не вводится. Оно играет роль предупре-
дительных сигналов в начале текста, но само находится за его пределами.
Стоит ввести рамку в текст, как центр внимания аудитории перемещается
с сообщения на код. Более усложненным является случай, когда текст
и обрамление переплетаются15, так что каждая часть является в опреде-
ленном отношении и обрамляющим, и обрамленным текстом.
Возможно также такое построение, при котором один текст дается как
непрерывное повествование, а другие вводятся в него в нарочито
фрагментарном виде (цитаты, отсылки, эпиграфы и т. п.). Предпола-
гается, что читатель развернет эти зерна других структурных конструкций
в тексты. Подобные включения могут читаться и как однородные с
окружающим их текстом, и как разнородные с ним. Чем резче выражена
непереводимость кодов текста-вкрапления и основного кода, тем ощутимее
семиотическая специфика каждого из них.
15 О фигурах переплетения см.: Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в
науке и искусстве. М., 1972. С. 17—18.
160
Текст как семиотическая проблема
Не менее многофункциональны случаи двойного или многократного
кодирования всего текста сплошь. Нам приходилось отмечать случаи,
когда театр кодировал жизненное поведение людей, превращая его в
«историческое», а «историческое» поведение рассматривалось как естест-
венный сюжет для живописи16. И в данном случае риторико-семиоти-
ческий момент наиболее подчеркнут, когда сближаются далекие и взаимно
непереводимые коды. Так, Висконти в «Страсти» (фильме, снятом в
1950-е гг., в разгар торжества неореализма, после того как сам режиссер
поставил «Земля дрожит») демонстративно пропустил фильм через опер-
ный код. На фоне такой общей кодовой двуплановости он дает кадры,
в которых живой актер (Франц) монтируется с ренессансной фреской.
Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако исключи-
тельно важно подчеркнуть, что это сложно устроенный текст, распадаю-
щийся на иерархию «текстов в текстах» и образующий сложные пере-
плетения текстов. Поскольку само слово «текст» включает в себя эти-
мологию переплетения, мы можем сказать, что таким толкованием мы
возвращаем понятию «текрт» его исходное значение.
16 См статью «Театр и театральность в строе культуры начала XIX века»
в настоящей книге; см. также: Francastel P. La realite figurative / Ed. Gonthier.
Paris, 1965. P. 211-238.
Текст и структуры аудитории
161
Текст и структура аудитории
Представление о том, что каждое сообщение ориентировано на некоторую
определенную аудиторию и только в ее сознании может полностью
реализоваться, не является новым. Рассказывают анекдотическое про-
исшествие из биографии известного математика П. Л. Чебышева. На
лекцию ученого, посвященную математическим аспектам раскройки
платья, явилась непредусмотренная аудитория: портные, модные барыни...
Однако первая же фраза лектора: «Предположим для простоты, что
человеческое тело имеет форму шара» — обратила их в бегство. В зале
остались лишь математики, которые не находили в таком начале ничего
удивительного. Текст «отобрал» себе аудиторию, создав ее по образу и
подобию своему.
Значительно более интересным представляется обратить внимание на
конкретные механизмывзаимботношений текста и его адресата. Очевидно,
что при несовпадении кодов адресанта и адресата (а совпадение их
возможно лишь как теоретическое допущение, никогда не реализуемое при
практическом общении в абсолютной полноте) текст сообщения деформи-
руется в процессе дешифровки его получателем. Однако в данном случае
нам хотелось бы обратить внимание на другую сторону этого процесса —
на то, как сообщение воздействует на адресата, трансформируя его облик.
Явление это связано с тем, что всякий текст (в особенности художествен-
ный) содержит в себе то, что мы предпочли бы называть образом
аудитории, и что этот образ аудитории активно воздействует на
реальную аудиторию, становясь для нее некоторым нормирующим кодом.
Этот последний навязывается сознанию аудитории и становится нормой ее
собственного представления о себе, переносясь из области текста в сферу
реального поведения культурного коллектива.
Таким образом, между текстом и аудиторией складывается отношение,
которое характеризуется не пассивным восприятием, а имеет природу
диалога. Диалогическая речь отличается не только общностью кода двух
соположенных высказываний, но и наличием определенной общей
памяти у адресанта и адресата1. Отсутствие этого условия делает
текст недешифруемым. В этом отношении можно сказать, что любой
текст характеризуется не только кодом и сообщением, но и ориентацией
на определенный тип памяти (структуру памяти и характер ее запол-
нения).
С этой точки зрения можно выделить два типа речевой деятельности.
Одна обращена к абстрактному адресату, объем памяти которого
реконструируется передающим сообщение как свойственный любому носи-
телю данного языка. Другая обращена к конкретному собеседнику,
которого говорящий видит, с которым пишущий лично знаком и объем
индивидуальной памяти которого адресанту прекрасно известен. Противо-
1 См.: Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене:
(Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием) //
Труды, по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5. С. 240 и след. (Учен. зап. Тарт.
гос. ун-та. Вып. 284).
162
Текст как семиотическая проблема
поставление двух видов речевой деятельности не следует отождествлять
с антитезой «письменная форма речи < > устная форма речи»2. Такое
отождествление приводит, например, Й. Вахека к представлению об
однотипности отношений «фонема/графема» и «устное сообщение/
письменное сообщение». С этой позиции Вахек вступает в полемику
с Соссюром, указывая на противоречие между положением о незави-
симости языковых фактов от материальной субстанции их выражения
(«если знаки и их соотношения представляют единственную ценность,
они должны получать единообразное выражение в любом материале, в том
числе, следовательно, и в письменных, соответственно буквенных знаках»)
и отчетливым структурным различием в природе письменных и устных
сообщений («в противовес этому следует указать на то обстоятельство,
что письменные высказывания — по крайней мере у культурных языковых
коллективов — обнаруживают известную независимость по отношению
к устным...»)3. Природу этой последней автономии Й. Вахек объясняет
так: «Задача устного высказывания состоит в том, чтобы как можно более
непосредственно реагировать на тот или иной факт; письменное же
высказывание фиксирует определенное отношение к той или иной ситуа-
ции на возможно более- длительный срок»4.
Однако графема и текст (письменный или печатный) — явления
принципиально различные. Первая принадлежит языковому коду и
действительно безразлична к природе материального воплощения. Второй
является функционально специфическим сообщением. Можно показать,
что свойства, отличающие письменное сообщение от устного, опреде-
ляются не столько техникой экспликации, сколько отношением к функцио-
нальному противопоставлению: «официальное <—> интимное». Свойство
это определяется не материальной данностью выражения текста, а отно-
шением его к противопоставленным по функции текстам. Такими противо-
поставлениями могут быть: «устное^—^письменное», «ненапечатанное^
напечатанное», «заявленное ex cathedra ^—> доверительное сообщение».
Все эти противопоставления могут быть сведены к оппозиции «официаль-
ное = авторитетное <—> неофициальное = неавторитетное». Показа-
тельно, что при сопоставлении оппозиций: «устное 4—> письменное
(рукописное)» и «письменное (рукописное) <—* печатное», рукописное
в одном случае выступает как функционально равное печатному, а в
другом — устному. N ■
Представляется, однако, уместным указать на зависимость в выборе
этих функциональных групп от характера адресата, конструируемого
самим текстом. Общение с собеседником возможно лишь при наличии
некоторой общей с ним памяти. Однако в этом отношении существуют
принципиальные различия между текстом, обращенным к любому
адресату, и тем, который имеет в виду некоторое конкретное и лично
известное говорящему лицо. В первом случае объем памяти адресата
конструируется как обязательный для любого говорящего на данном
языке. Он лишен индивидуального, абстрактен и включает в себя лишь
некоторый несократимый минимум. Естественно, что чем беднее память,
2 См.: Вахек Й. К проблеме письменного языка // Пражский лингвистический
кружок. М., 1967; Он же. Письменный язык и печатный язык. (Там же); Бодуэн де
Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому языку. Спб., 1912.
3 Вахек Я. К проблеме письменного языка. С. 527.
4 Там же. С. 528.
Текст и структура аудитории
163
тем подробнее, распространеннее должно быть сообщение, тем недопус-
тимее эллипсисы и умолчания. Официальный текст конструирует абстракт-
ного собеседника, носителя только лишь общей памяти, лишенного
личного и индивидуального опыта. Такой текст может быть обращен ко
всем и каждому. Он отличается подробностью разъяснений, отсутствием
подразумеваний, сокращений и намеков и приближенностью к норма-
тивной правильности.
Иначе строится текст, обращенный к лично знакомому адресату, к лицу,
обозначаемому для нас не местоимением, а собственным именем. Объем
его памяти и характер ее заполнения нам знаком и интимно близок.
В этом случае нет никакой надобности загромождать текст ненужными
подробностями, уже имеющимися в памяти адресата. Для актуализации
их достаточно намека. Будут развиваться эллиптические конструкции,
локальная семантика, тяготеющая к формированию «домашней»,
«интимной» лексики. Текст будет цениться не только мерой понятности
для данного адресата, но и степенью непонятности для других5. Таким
образом, ориентация на тот или иной тип памяти адресата заставляет
прибегать то «к языку для других», то к «языку для себя» — одной из
двух скрытых в естественном языке противоположных структурных
потенций. Владея некоторым, относительно неполным, набором языковых
и культурных кодов, можно на основании анализа данного текста
выяснить, ориентирован ли он на «свою» или на «чужую» аудиторию.
Реконструируя характер «общей памяти», необходимой для его пони-
мания, мы получаем «образ аудитории», скрытый в тексте. Из этого
следует, что текст содержит в себе свернутую систему всех звеньев
коммуникативной цепи, и, подобно тому как мы извлекаем из него
позицию автора, мы можем реконструировать на его основании и идеаль-
ного читателя. Текст, даже взятый изолированно (но, разумеется, при
наличии определенных сведений относительно структуры создавшей его
культуры), — важнейший источник суждений относительно его собствен-
ных прагматических связей.
Своеобразно усложняется и приобретает особенное значение этот
вопрос в отношении к художественным текстам.
В художественном тексте ориентация на некоторый тип коллективной
памяти и, следовательно, на структуру аудитории приобретает принци-
пиально иной характер. Она перестает быть автоматически имплициро-
ванной в тексте и становится значимым (т. е. свободным) художествен-
ным элементом, который может вступать с текстом в игровые отношения.
Проиллюстрируем это на нескольких примерах из русской поэзии
XVIII - начала XIX в.
В иерархии жанров поэзии XVIII в. определяющим было представление
о том, что, чем более ценной является поэзия, к тем более абстрактному
а Отождествление общепонятного, адресованного всем и каждому
сообщения с официальным и авторитетным присуще лишь определенной культур-
ной ориентации. В культурах, высшие ценностные характеристики в которых
получают тексты, предназначенные для общения с Богом (исходящие от Бога или
обращенные к нему), представление о беспредельности памяти одного из участ-
ников коммуникации может превращать текст в полностью эзотерический. Третье
лицо, вовлеченное в такой коммуникативный акт, ценит в сообщении именно его
непонятность — знак своей допущенности в некоторые тайные сферы. Здесь
непонятность тождественна авторитетности.
164
Текст как семиотическая проблема
адресату она обращается. Лицо, к которому обращено стихотворение,
конструируется как носитель предельно абстрактной — общекультурной и
общенациональной — памяти 6. Даже если речь идет о вполне реальном
и лично поэту известном адресате, престижная оценка текста как поэти-
ческого требует обращаться к нему так, словно адресат и автор распо-
лагают общей памятью лишь как члены единого государственного
коллектива и носители одного языка. Конкретный адресат повышается
по шкале ценностей, превращаясь в «одного из всех». Так, например,
В. Майков начинает стихотворение, обращенное к графу 3. Г. Чернышеву:
О ты, случаями испытанный герой,
Которого видал вождем российский строй
И знает, какова душа твоя велика,
Когда ты действовал противу Фридерика!
Потом, когда монарх сей нам союзник стал,
Он храбрость сам твою и разум испытал7.
Предполагается, что факты биографии Чернышева не содержатся в
памяти Чернышева (поскольку их нет в памяти других читателей), и в
стихотворении, обращенном к нему самому, поэт должен напомнить и
объяснить, кто же такой Чернышев. Опустить известные и автору, и
адресату сведения невозможно, так как это переключило бы торжествен-
ное послание в престижно более низкий ряд нехудожественного текста,
обращенного к реальному лицу. Не менее характерны случаи сокращений
в аналогичных текстах. Когда Державин составил для гробницы Суворова
лапидарную надпись «Здесь лежит Суворов»8, он исходил из того, что
все сведения, которые могли бы, согласно ритуалу, быть начертаны на
надгробии, вписаны в общую память истории государства и могут быть
опущены.
Противоположным полюсом является структурирование аудитории,
осуществляемое текстами Пушкина. Пушкин сознательно опускает как
известное или заменяет намеком в печатном тексте, обращенном к любому
читателю, то, что заведомо было известно лишь очень небольшому кругу
избранных друзей. Так, например, в отрывке «Женщины» из первоначаль-
ного варианта IV главы «Евгения Онегина», опубликованном в «Москов-
ском вестнике» (1827. Ч. 5. №20. С. 365—367), содержатся строки:
Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета —
Как сон, забыты мной давно9.
Современный нам читатель, желая узнать, кого следует разуметь под
«вещим поэтом», обращается к комментарию и устанавливает, что речь
и ич о /Ь и.г.ню и подразумеваются строки из его стихотворения «Фани»:
При этом речь идет не о реальной памяти общенационального коллектива,
а о реконструируемой на основании теорий XVIII в. идеальной общей памяти
идеального национального целого.
7 Майков В. И. Избр. произведения. М.; Л., 1966. С. 276.
8 Державин Г. Р. Стихотворения. [Л.], 1947. С. 202.
9 Пушкин Л. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 6. С. 647.
Текст и структура аудитории
165
Темира, Дафна и Лилета
Давно, как сон забыты мной
И их для памяти поэта
Хранит лишь стих удачной мой10.
Однако не следует забывать, что стихотворение это увидело свет лишь
в 1922 г. В 1827 г. оно еще не было опубликовано и современникам,
если подразумевать основную массу читателей 1820-х гг., не было
известно, поскольку Дельвиг относился к своим ранним стихам исключи-
тельно строго, печатал с большим разбором и отвергнутые не распростра-
нял в списках.
Итак, Пушкин отсылал читателей к тексту, который им заведомо не был
известен. Какой это имело смысл? Дело в том, что среди потенциальных
читателей «Евгения Онегина» имелась небольшая группа, для которой
намек был прозрачным, — это круг лицейских друзей Пушкина (стихо-
творение Дельвига написано в Лицее) и, возможно, тесный кружок
приятелей послелицейского периода11. В этом кругу стихотворение
Дельвига было, безусловно, известно.
Таким образом, пушкинский текст, во-первых, рассекал аудиторию на
две группы: крайне малочисленную, которой текст был понятен и интимно
знаком, и основную массу читателей, которые чувствовали в нем намек,
но расшифровать его не могли. Однако понимание того, что текст требует
позиции интимного знакомства с поэтом, заставляло читателей вообра-
зить 0ебя именно в таком отношении к этим стихам. В результате
вторым действием текста было то, что он переносил каждого читателя
в позицию интимного друга автора, обладающего особой, уникальной
общностью памяти с ним и способного поэтому изъясняться намеками.
Читатель здесь включался в игру, противоположную такой, как наимено-
вание младенца официальным именем — перенесение интимно знакомых
людей в позицию «всякого» (ср.: «Иван Сергеич! — проговорил муж,
пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана
Сергеича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него»)12,
и аналогичную употреблению взрослыми и малознакомыми людьми
«детского» имени другого взрослого человека.
Однако в реальном речевом акте употребление тем или иным человеком
средств официального или интимного языков (вернее, иерархии
«официальность—интимность») определено его внеязыковым отношением
к говорящему или слушающему. Художественный текст знакомит ауди-
торию с системой позиций в этой иерархии и позволяет ей свободно пере-
мещаться в клетки, указываемые автором. Он превращает читателя на
время чтения в человека той степени знакомства с автором, которую
автору будет угодно указать. Соответственно автор изменяет объем
читательской памяти, поскольку, получая текст произведения, аудитория,
в силу конструкции человеческой памяти, может вспомнить то,
что ей было неизвестно.
10 Дельвиг А. А. Неизданные стихотворения. Пг., 1922. С. 50.
11 Ср. в стихотворении Пушкина 1819 г. «К Щербинину»:
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»
И тихо улыбнемся оба.
(Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 2. Кн. 1. С. 88).
12 Толстой J1. И. Семейное счастье // Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т 3. С. 146.
166
Текст как семиотическая проблема
С одной стороны, автор навязывает аудитории природу ее памяти,
с другой, текст хранит в себе облик аудитории13. Внимательный исследо-
ватель может его извлечь, анализируя текст.
13 С этим связан принципиально различный характер адресации художествен-
ного и нехудожественного текста. Нехудожественный текст читается (в нормальной
ситуации) тем, к кому обращен. Чтение чужих писем или знакомство с сообще-
ниями, предназначенными для другого, этически запрещены. Художественный
текст, как правило, воспринимается не тем, кому адресован: любовное стихотво-
рение делается предметом печатной публикации, интимный дневник или эписто-
лярная проза доводятся до общего сведения. Одним из рабочих признаков
художественного текста можно считать расхождение между формальным и
реальным адресатом. До тех пор, пока стихотворение, содержащее признание
в любви, известно лишь той единственной особе, которая внушила это чувство
автору, текст функционально не выступает как художественный. Однако, опублико-
ванный в журнале, он делается произведением искусства. Б. В. Томашевский
высказывал предположение, что Пушкин подарил Керн стихотворение, возможно,
давно уже и не для нее написанное. В этом случае имел место обратный
процесс: текст искусства был функционально сужен до биографического факта
(публикация вновь превратила его в факт искусства; следует подчеркнуть, что
решающее значение имеет не относительно случайный факт публикации, а установ-
ка на публичное использование). В этом отношении перлюстратор, читающий
чужие письма, испытывает эмоции, отдаленно сопоставимые с эстетическими.
Ср. в «Ревизоре» рассуждение Шпекина: «...это преинтересное чтение! иное
письмо с наслажденьем прочтешь. Так описываются разные пассажи... а назида-
тельность какая... Лучше, чем в Московских Ведомостях!» (Гоголь Н. В. Поли,
собр. соч.: В 14 т. [М.], 1951. Т. 4. С. 17). «Игра адресатом» — свойство художест-
венного текста. Однако именно такие тексты, как бы обращенные не к тому, кто ими
пользуется, становятся для читателя школой перевоплощения, научая его способ-
ности менять точку зрения на текст и играть разнообразными типами социальной
памяти.
Риторика
167
Риторика
Риторика (греч. qtjtoqj'xii) длительное время воспринималась как
дисциплина, окончательно ушедшая в прошлое. Виднейший знаток
античной и средневековой поэтики М. Л. Гаспаров закончил заметку
«Риторика» в «Краткой литературной энциклопедии» словами: «В совре-
менном литературоведении термин «риторика» неупотребителен»1. Это
заявление было опубликовано в 1971 г. Между тем уже в 1960-х гг.
интерес к риторике в ее классических проявлениях и к неориторике стал
неуклонно расти в связи с развитием грамматики текста и лингвистиче-
ской теории прозы. В настоящее время это уже обширная, насчитывающая
десятки монографий и многие сотни статей на ряде языков, бурно разви-
вающаяся научная дисциплина. Представляется своевременным разоб-
раться в ее основных проблемах.
I. «Риторика», прежде всего, — термин античной и средневековой
теории литературы. Значение термина раскрывается в трех оппозициях:
а) в противопоставлении «поэтика — риторика» содержание термина
истолковывается как «искусство прозаической речи» в отличие от
«искусства поэтической речи»; б) в противопоставлении «обычная»,
неукрашенная, «естественная» речь — речь «искусственная», украшенная,
«художественная» риторика раскрывалась как искусство украшенной
речи, в перрую очередь ораторской; в) в противопоставлении «риторика —
герменевтика», т. е. «наука порождения текста — наука понимания
текста» риторика толковалась как свод правил, механизм порождения.
Отсюда ее «технологический» и классификационный характер и практиче-
ская направленность. Последнее обстоятельство приводило в период
расцвета риторики к усложнению системы дефиниций. При этом риторика
была обращена к говорящему, а не к слушающему, к ученой аудитории
создателей текстов, а не к той массе, которая должна была эти тексты
слушать.
II. В современной поэтике и семиотике термин «риторика» употреб-
ляется в трех основных значениях: а) лингвистическом — как правила
построения речи на сверхфразовом уровне, структура повествования
на уровнях выше фразы; б) как дисциплина, изучающая «поэтическую
семантику» — типы переносных значений, так называемая «риторика
фигур»; в) как «поэтика текста», раздел поэтики, изучающий внутри-
текстовые отношения и социальное функционирование текстов как целост-
ных семиотических образований. Этот последний подход, сочетаясь с
предыдущими, кладется в современной науке в основу «общей риторики».
Обоснование риторики. Принадлежа к древнейшим раз-
делам науки о слове и речи, риторика переживала периоды расцвета и
упадка, когда казалось, что как область теоретической мысли она навеки
ушла в историю. Возрождение риторики позволяет поставить вопрос о
причинах этой устойчивости. Ответ на него должен одновременно и
раскрыть единство по видимости различных сфер риторики. «Оправдание
риторики» может заключаться в установлении некоторого объекта,
составляющего исключительную область данной дисциплины и описывае-
мого только в ее терминах. Рассмотрим два аспекта риторики:
1 Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 305.
168
Текст как семиотическая проблема
риторика «открытого текста». В данном случае будет рассматриваться
деятельность по созданию текста, который мыслится в процессе порож-
дения; в центре окажется «риторика фигур»;
риторика «закрытого текста», поэтика текста как целого.
1. Сознание человека гетерогенно. Минимальное мыслящее устройство
должно включать в себя хотя бы две разноустроенныё системы,
которые обменивались бы вырабатываемой внутри них информацией.
Исследования по специфике функционирования больших полушарий
человеческого мозга вскрывают глубокую аналогию с устройством
культуры как коллективного интеллекта: в обоих случаях мы обнаружи-
ваем наличие как минимум двух принципиально отличных способов
отражения мира и выработки новой информации с последующими
сложными механизмами обмена текстами между этими системами.
В обоих случаях мы наблюдаем аналогичную в общих чертах структуру:
в рамках одного сознания наличествуют как бы два сознания. Одно
оперирует дискретной системой кодирования и образует тексты, склады-
вающиеся как линейные цепочки соединенных сегментов. В этом случае
основным носителем .значения является сегмент ( = знак), а цепочка
сегментов (=текст) вторична, значение ее производно от значения
знаков. Во втором случае текст первичен. Он является носителем основ-
ного значения. По своей природе он не дискретен, а континуален. Смысл
его не организуется ни линейной, ни временной последовательностью, а
«размазан» в n-мерном семантическом пространстве данного текста
(полотна картины, сцены, экрана, ритуального действа, общественного
поведения или сна). В текстах этого типа именно текст является носите-
лем значения. Выделение составляющих его знаков бывает затрудни-
тельно и порой носит искусственный характер.
Таким образом, в рамках как индивидуального, так и коллективного
сознания скрыты два типа генераторов текстов: один основан на меха-
низму дискретности, другой континуален. Несмотря на то, что каждый из
этих механизмов имманентен по своему устройству, между ними суще-
ствует постоянный обмен текстами и сообщениями. Обмен этот совер-
шается в форме семантического перевода. Однако любой точный перевод
подразумевает, что между единицами каких-либо двух систем устанавли-
ваются взаимно-однозначные отношения, в результате чего возможно
отображение одной системы на другую. Это позволяет текст на одном
языке адекватно выразить средствами другого. Однако в случае, когда
сополагаются дискретные и недискретные тексты, это в принципе
невозможно. Дискретной и точно обозначенной единице одного текста в
другом соответствует некоторое смысловое пятно с размытыми грани-
цами и постепенными переходами в область другого смысла. Если же
там и имеется sui generis сегментация, то она не сопоставима с типом
дискретных границ первого текста. В этих условиях возникает ситуация
непереводимости, однако именно здесь попытки перевода осуществляются
с особенным упорством и дают наиболее ценные результаты. В этом случае
возникает не точный перевод, а приблизительная и обусловленная опреде-
ленным общим для обеих систем культурно-психологическим и семиотиче-
ским контекстом эквивалентность. Подобный незакономерный и неточный,
однако в определенном отношении эквивалентный перевод составляет
один из существенных элементов всякого творческого мышления. Именно
эти «незакономерные» сближения дают толчки для возникновения новых
смысловых связей и принципиально новых текстов. Пара взаимно несопо-
ставимых значимых элементов, между которыми устанавливается в
рамках какого-либо контекста отношение адекватности, образует семанти-
Риторика
169
ческий троп. В этом отношении тропы являются не внешним украшением,
некоторого рода апплике, накладываемым на мысль извне, — они
составляют суть творческого мышления, и сфера их даже шире, чем искус-
ство. Она принадлежит творчеству вообще. Так, например, все попытки
создания наглядных аналогов абстрактных идей, отображения с помощью
отточий непрерывных процессов в дискретных формулах, построения
пространственных физических моделей элементарных частиц являются
риторическими фигурами (тропами). И точно так же, как в поэзии,
в науке незакономерное сближение часто выступает в качестве толчка
для формулирования новой закономерности.
Теория тропов за века своего существования накопила обширную
литературу по определению основных их видов: метафоры, метонимии и
синекдохи. Литература эта продолжает расти. Однако очевидно, что при
любом логизировании тропа один из его элементов имеет словесную,
а другой — зрительную природу, как бы замаскирован этот второй ни был.
Даже в логических моделях метафор, создаваемых в целях учебных
демонстраций, недискретный образ (зрительный или акустический)
составляет имплицированное посредующее звено между двумя дискрет-
ными словесными компонентами. Однако чем глубже ситуация непере-
водимости между двумя языками, тем острее потребность в общем для
них метаязыке, который перекидывал бы между ними мост, способствуя
установлению эквивалентностей. Именно языковая неоднородность
тропов вызвала гипертрофию метаструктурных построений в «риторике
фигур». Уклон в догматизм на уровне метаописания компенсировал здесь
неизбежную неопределенность на уровне текста фигур. Компенсация
здесь получает особый смысл, поскольку риторические тексты отличаются
от общеязыковых существенной особенностью: образование языковых
текстов производится носителем языка стихийно, эксплицитные правила
актуальны здесь лишь для исследователя, строящего логические модели
бессознательных процессов. В риторике процесс порождения текстов
имеет «ученый»_а:ознательный характер. Правила здесь активно включены
в самый текст не только на метауровне, но и на уровне непосредственной
текстовой структуры. Это создает специфику тропа, который одновременно
включает в себя и элемент иррациональности (эквивалентность заведомо
неэквивалентных и даже не располагаемых в одном ряду текстовых
элементов), и характер гиперрационализма, связанный с включением
сознательной конструкции непосредственно в текст риторической фигуры.
Это обстоятельство особенно заметно в тех случаях, когда метафора
строится не на основе столкновения слов, а как элемент, например,
киноязыка. Резкое монтажное сопоставление двух зрительных образов,
казалось бы, обходится без коллизии между дискретностью и недискрет-
ностью или других ситуаций- принципиальной непереводимости. Однако
внимательное рассмотрение убеждает, что метаструктура строится здесь
на основе уподобления кадра слову естественного языка и механизм
дискретности вносится в самое структуру кинометафоры. Можно
убедиться и в другом: если один из членов кинометафоры, как правило, без
усилия пересказывается словами (и сознательно ориентирован на такой
пересказ), то другой чаще всего такому пересказу не поддается. При-
ведем пример. В фильме венгерского режиссера Золтана Фабри «Мура-
вейник» в центре — исключительно сложная и многоплановая драма,
развертывающаяся в венгерском женском монастыре в начале XX в.
События находятся в сложных метафорических отношениях со снятыми
крупным планом деталями барочного антуража храма. Среди них,
в частности, выделяется рельефный медальон с изображением сеятеля.
170
Текст как семиотическая проблема
Этот член метафоры расшифровывается прямым переводом в словеаный
текст евангельской притчи о сеятеле (Мф. 13, 3—8; Лк. 8, 4—8; Мк. 4,
2—8). Другой член метафоры словесно не пересказывается, а раскры-
вается в отношении к первому (и другим, ему подобным).
Принадлежность «риторики фигур» к уровню вторичного моделиро-
вания связана с ролью метамоделей и отличает этот пласт от уровня
первичных знаков и символов. Так, например, агрессивный жест в
поведении животного, если он не связан с реальным агрессивным
действием и является его заменой, представляет собой элемент симво-
лического поведения. Однако символ употреблен здесь в первичном
значении. Другой случай, когда жест, имеющий характер сексуального
символа, употребляется в значении подчинения доминирующей роли
партнера в общей организации коллектива животных и утрачивает всякую
связь с половым содержанием. Во втором случае мы можем говорить
о метафорическом характере жеста и о наличии определенных элементов
жестовои риторики. Приведенный пример говорит, что оппозиция
«дискретное — континуальное» представляет собой лишь одну из возмож-
ных — крайнюю — форму рождающей тропы семантической неперево-
димости. Однако возможны столкновения и менее отдаленных сфер
семантической организации, создающие контрасты, достаточные для
появления «риторикогенной» ситуации.
2. Риторические фигуры (тропы). В традиционной риторике «приемы
изменения основного значения слова именуются тропами» (Томашев-
ский). В неориторике последних десятилетий делались многочисленные
попытки уточнить значение как тропов вообще, так и конкретных их
видов (метафора, метонимия, синекдоха, ирония) в соответствии с совре-
менными лингво-семиотическими идеями. Основной опыт в этом направ-
лении принадлежит Р. Якобсону2. Якобсон, выделяя два основных вила
тропа: метафору и метонимию, связывает их с двумя основными осями
структуры языка — парадигматической и синтагматической. Метафора
представляет собой, по Якобсону, замещение понятия по оси парадигма-
тики, что связано с выбором из парадигматического ряда, замещением
in absentia и установлением смысловой связи по сходству; метонимия
располагается на синтагматической оси и представляет собой не выбор,
а сочетание in praesentia и установление связи по смежности. Рассматри-
вая культурную функцию риторических фигур, Якобсон, с одной стороны,
расширяет ее, видя в ней основу смыслообразования в любой семиоти-
ческой системе. Поэтому он применяет термины «метафора» и «мето-
нимия» к кино, живописи, психоанализу и т. д. С другой стороны, он
сужает их, отводя метафоре сферу семиотической структуры = поэзии,
а метонимии — сферу текста = прозы. «Метафора для поэзии и мето-
нимия для прозы составляют линию наименьшего сопротивления»^. Таким
образом, разграничение поэзия/проза получало объективное обоснование
и из разряда частных категорий словесности переходило в число семио-
тических универсалий. Концепция Якобсона получила развитие и уточ-
нение в ряде работ. Так, У. Эко, исследуя лингвистические основы
риторики, исходной фигурой считает метонимию. В основе ее он усматри-
вает наличие цепочек ассоциативных смежностей: 1) в структуре кода;
2См.: Jakobson R. Deux aspects du langage et deux types d'aphasie // Essais
de linguistique generate / Ed. du Seuil. Paris, 1963; Jakobson R. Questions du
poetique / Ed. du Seuil. Paris, 1973.
3 Jakobson R. Deux aspects du langage et deux types d'aphasie. P. 67.
Риторика
171
2) в структуре контекста; 3) в структуре референта. Связь языковых
кодов с культурными позволяет строить на основе метонимии метафори-
ческие фигуры. В этом же направлении работает мысль Ц. Тодорова,
который связывает метафору с удвоением синекдохи. Впрочем, позиция
последнего в определенной мере сближается с концепцией группы \i
(«льежская группа»), которая строится на преодолении модели Якоб-
сона. В 1970 группа \i (J. Dubois, F. Edeline, J.-M. Klinkenberg, Ph. Min-
guet) разработала детальную таксономическую классификацию тропов,
основанную на анализе «сем» и семантико-лексических компонентов. В
качестве первичной фигуры они рассматривают синекдоху. Метафора
и метонимия трактуются ими как производные фигуры, результат
разных усложнений исходных типов синекдохи. Построение это подверг-
лось критике со стороны N. Ruwet с лингвистических позиций и P. Schofer
и D. Rice с литературной точки зрения4. Мнение N. Ruwet: «В вопросе
риторики вообще и тропов в частности главная задача предиктивной
теории заключается в попытке ответить на вопрос: в каких условиях
данное лингвистическое выражение получает переносное значение»5 —
представляется вполне обоснованным. Итоговое определение тропа, дос-
тигнутое неориторикой, звучит так: «Троп — семантическая транспозиция
от знака in praesentia к знаку in absentia, 1) основанная на перцепции
связи между одним или более семантическим признаком обозначаемого;
2) отмеченная семантической несовместимостью микро- и макро-
контекстов; 3) обусловленная референциальной связью по сходству, или
причинности, или включенности, или оппозиции»6.
Классическая риторика разработала разветвленную классификацию
фигур. Термин «фигура» (ахл^0) был впервые употреблен Анаксименом
из Лампаска (IV в. до н. э.). Вопрос был тщательно разработан Аристо-
телем, ученики которого (в особенности Деметрий Фалерский) ввели
разделение на «фигуры речи» и «фигуры мысли». В дальнейшем система
фигур неоднократно рассматривалась античными, средневековыми и
авторами эпохи классицизма и достигла большой сложности. Нео-
риторика оперирует в основном тремя понятиями: метафора — семанти-
ческое замещение по сходству или подобию какой-либо «семы», мето-
нимия — замещение по смежности, ассоциации, причинности (разные
авторы подчеркивают различные типы связей), синекдоха, которая
одними авторами рассматривается как основная, примарная фигура, а
другими в качестве частного случая метонимии, — замещение на основе
причастности, включенности, парциальности или замещения множествен-
ности единичностью. P. Schofer и D. Rice сделали попытку восстановить
в числе фигур иронию.
3. Типологическая и функциональная природа фигур. Изучение логи-
ческих основ классификации тропов не должно заслонять вопроса об их
типологической и функциональной телеологии, вопрос: «Что такое тропы?»
— не отменяет другого: «Как они работают в тексте?», «Какова их цель
в смысловом механизме речи?». Ближе всего из писавших о неориторике
к этому вопросу подошли Р. Якобсон и У. Эко, первый — указав на связь
проблемы с оппозицией поэзия/проза, а второй — введя в обсуждение
ассоциативные цепи.
4 См.: \i Groupe. Miroires rhetoriques: Sept ans de reflexion // Poetique. 1977.
№ 29.
5 Ruwet N. Synecdoques et metonymies // Poetique. 1975. №23. P. 371.
6 Schofer P., Rice D. Metaphor, Metonymy and Synecdoche // Semiotica.
1977. Vol. 21. № 1/2. P. 133.
172
Текст как семиотическая проблема
Следует обратить внимание на то, что существуют культурные эпохи,
целиком или в значительной мере ориентированные на тропы, которые
становятся обязательным признаком всякой художественной речи, а в
некоторых предельных случаях — всякой речи вообще. Вместе с тем
можно было бы указать и на целые эпохи, в которые художественно-
значимым делается именно отказ от риторических фигур, и речь, для того
чтобы восприниматься как художественная, должна воспроизводить
нормы нехудожественной речи. В качестве эпох, ориентированных на
троп, можно назвать мифопоэтический период, средневековье, барокко,
романтизм, символизм и авангард. Обобщая семантические принципы
всех этих разнородных текстообразующих структур, мы, возможно,
сможем установить и типологическую природу тропа. Во всех перечис-
ленных стилях широко практикуется замена семантических единиц
другими. Однако существенно подчеркнуть, что во всех случаях заме-
няющее и заменяемое не только не являются адекватным по каким-либо
существенным семантическим и культурным параметрам, но обладают
прямо,противоположным свойством — несовместимостью. Замена осуще-
ствляется по принципу коллажа, где написанные маслом детали картины
соседствуют с приклеенными натуральными объектами (приклеенная
деталь по отношению к расположенной рядом нарисованной будет
выступать как метонимия, а по отношению к той потенциально нарисо-
ванной, которую она заменяет, — как метафора). Нарисованные и при-
клеенные объекты принадлежат к разным и несовместимым мирам по
признакам: реальность/иллюзорность, двумерность/трехмерность, знако-
вость/незнаковость и т. п. В пределах целого ряда традиционных
культурных контекстов встреча их в пределах одного текста абсолютно
запрещена. И именно поэтому соединение их образует тот исключительно
сильный семантический эффект, который присущ тропу. Эффект тропа
образуется не наличием общей «семы» (по мере увеличения числа
общих «сем» эффективность тропа снижается, а тавтологическая тож-
дественность делает троп невозможным), а вкрапленностью их в несов-
местимые семантические пространства и степенью семантической уда-
ленности несовпадающих «сем». Семантическая удаленность может обра-
зовываться за счет разных аспектов непереводимости замещаемого заме-
щающим. Это могут быть отношения одно-/многомерности, дискретности/
непрерывности, материальности/нематериальности, земного/потусторон-
него и т. п. И на уровне референта, и при сопоставлении соответ-
ствующих семантических пространств границы заменяемого и замещаю-
щего настолько несопоставимы, что задача установления соответствия
приобретает иррациональный характер. Она делается условной, при-
близительной, предполагаемой, создает не простое семантическое сме-
щение, а принципиально новую и парадоксальную семантическую ситуа-
цию. Не случайно типологически тяготеют к тропам культуры, в основе
картины мира которых лежит принцип антиномии и иррационального
противоречия. Если относительно метафоры это представляется очевид-
ным, то применительно к метонимии может показаться, что поскольку
здесь замена совершается по связи внутри одного знакового ряда,
то заменяющий и заменяемый члены в данном случае однородны. Однако
на самом деле метафора и метонимия, в этом отношении, изофункцио-
нальны: цель их состоит не в том, чтобы с помощью определенной
семантической замены высказать то, что может быть высказано и без ее
помощи, а в том, чтобы выразить такое содержание, передать такую
информацию, которая иным способом передана быть не может. В обоих
случаях (и для метафоры, и для метонимии) между прямым и переносным
Риторика
173
значением не существует отношений взаимнооднозначного соответствия, а
устанавливается лишь приблизительная эквивалентность. В тех случаях,
когда от постоянного употребления или по какой-либо другой причине
между прямым и переносным значением (тропом) устанавливается отно-
шение взаимнооднозначного соответствия, а не семантической осцилля-
ции, перед нами — стершийся троп, который лишь генетически является
риторической фигурой, но функционирует как языковой фразеологизм.
Это, видимо, и есть ответ на вопрос, поставленный Ruwet. Приведем
несколько примеров. Если икону в том ее семиотическом значении,
которое она приобрела в Византии и во всей восточной церкви, можно
считать метафорой, то святая реликвия выступает как метонимия.
Реликвия является частью тела святого или вещью, находившейся с ним
в непосредственном контакте. В этом смысле вещественный, воплощенный,
телесный облик святого заменяется телесной же частью его или вещест-
венным предметом, с ним связанным. Икона же, как это было перво-
начально намечено у Филона Александрийского и Оригена и получило
обоснование в писаниях Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопа-
гита, представляет собой вещественный и выраженный знак невеществен-
ной и невыразимой сущности божества. Клемент Александрийский прямо
уподобил зримое словесному: говоря о том, что Христос, вочеловечившись,
принял образ «невзрачный» и лишенный телесной красоты, он отмечает:
«Ибо всегда следует постигать не слова, а то, что они обозначают»7.
Таким образом, между метафорическим выражением и метафорическим
же содержанием устанавливаются сложные семантические отношения
неравенства и неоднозначности, исключающие рационалистическую опе-
рацию взаимной замены в обоих направлениях. Риторический характер
иконы проявляется, в частности, в том, что роль первого члена метафоры
может выполнять не всякое изображение, а лишь такое, которое выпол-
нено в соответствии с утвержденным живописным каноном, закрепившим
риторику композиции, цветовой гаммы и других художественных решений.
Более того, поскольку икона представляется метафорой, возникающей на
столкновении двух разнонаправленных энергий: энергии божественного
Логоса, который стремится высказать себя людям (поэтому создание
иконы — активный акт со стороны ее самой; икона является дос-
тоин ы м, а не просто рисуется художником), и энергии
человека, который возносится в поисках высшего знания, — она пред-
ставляет собой часть ритуально-риторического контекста, охватывающего
не только процесс создания иконописцем иконы, но и весь духовный строй
его жизни, подразумевает строгую и праведную жизнь, молитвы, пост и
духовное вознесение. Интересно, что, когда Гоголь предъявил именно
такие требования к жизни художника (вторая редакция «Портрета»,
статья «Исторический живописец Иванов» в «Выбранных местах из
переписки с друзьями») и писателя, все его творчество приобрело в его
собственных глазах характер грандиозной метафоры.
На фоне такой трактовки иконы реликвия может показаться явлением
семантически одноплановым. Однако такое представление поверхностно.
Отношение материальной реликвии к телу святого, конечно, однопланово.
Но не следует забывать, что само понятие «тело святого» таит в себе
метафору инкарнации и сложное, иррациональное отношение выражения
и содержания.
7 См.: Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977. С. 30, 61 и др.
174
Текст как семиотическая проблема
На совершенно иной идейно-культурной основе вырастает метафоризм
эпохи барокко. Однако и здесь мы сталкиваемся с тем, что тропы
(границы, отделяющие одни виды тропов от других, приобретают в
текстах барокко исключительно зыбкий характер) составляют не внеш-
нюю замену одних элементов плана выражения другими, а способ образо-
вания особого строя сознания. При этом мы снова обнаруживаем харак-
терное сближение взаимонепереводимых сфер словесных и иконических,
дискретных и недискретных знаков. Так, Лопе де Вега называет
«Марино великим художником для слуха, а Рубенса — великим поэтом
для зрения» («Marino, gran pintor de los oidos, у Rubens, grand poeta
de los ojos»). А Тезауро называет архитектуру «метафорой из камня».
В «Подзорной трубе Аристотеля» («II Cannochiale Aristotelico») Тезауро
разработал учение о Метафоре как универсальном принципе как челове-
ческого, так и божественного сознания. В основе его лежит Остроумие —
мышление, основанное на сближении несхожего, соединении несоедини-
мого. Метафорическое сознание приравнивается творческому, и даже акт
божественного творчества представляется Тезауро как некое высшее
Остроумие, которое средствами метафор, аналогий и кончетто творит мир.
Тезауро возражает против тех, кто видит в риторических фигурах внешние
украшения, — они составляют для него самое основу механизма мышле-
ния той высшей Гениальности, которая одухотворяет и человека, и все-
ленную.
Обращаясь к эпохе романтизма, мы обнаруживаем сходную картину:
хотя метафора и метонимия имеют тенденцию к диффузному слиянию8,
общая установка на троп как основу стилеобразования выступает со
всей очевидностью. Идея органического синтеза, слияния различных
разделенных и несливаемых сторон жизни, с одной стороны, и мысль
о невыразимости сущности жизни средствами какого-либо одного языка
(естественного языка или какого-либо изолированно взятого языка отдель-
ного искусства), с другой, породили метафорическое и метонимическое
перекодирование знаков различных семиотических систем. Ваккенродер
в «Сердечных излияниях монаха, любителя искусств» («Herzensergies-
sungen eines kunstliebenden Klosterbruders») отождествлял язык сим-
волов, эмблем и метафор с искусством как таковым: «Язык Искусства
совершенно отличен от языка Природы; но и ему дано столь же безвест-
ными и темными путями действовать сильно на сердце человека. Он выра-
жается посредством человеческих образов и говорит как будто через
иероглифы, для нас по одним внешним своим признакам понятные.
Но сей язык столь трогательным и столь чудесным образом сливает
духовное и сверхчувственное с изображениями внешними, что он, в свою
очередь, потрясает все наше существо».
Наконец, в основе поэтики разнообразных .течений авангарда лежит
принцип соположения (Juxtaposition). Образуемые таким путем фигуры,
как правило, могут читаться и как метафоры, и как метонимии. Суще-
ственно другое: смыслообразующим принципом текста делается сопо-
ложение принципиально несоположимых сегментов. Их взаимная пере-
кодировка образует язык множественных прочтений, что раскрывает
неожиданные резервы смыслов.
Таким образом, троп не является украшением, принадлежащим лишь
сфере выражения, орнаментализацией некоего инвариантного содер-
8 Ср.: Grimaud M. Sur une metaphore metonimique hugolienne selon Jacques
Lacan // Litterature. 1978. Fevrier. №29.
Риторика
175
жания, а является механизмом построения некоего, в пределах одного
языка не конструируемого, содержания. Троп — фигура, рождающаяся
на стыке двух языков, и в этом отношении он изоструктурен меха-
низму творческого сознания как такового. Это обусловливает и поло-
жение, согласно которому любые логические дефиниции риториче-
ских фигур, игнорирующие их билингвиальную природу, и связанные
с ними модели принадлежат метаязыку нашего теоретического описания,
но ни в коей мере не являются генеративными механизмами порождения
тропов. Более того, игнорируя то, что троп есть механизм порождения
семантической неоднозначности, механизм, вносящий в семиотическую
структуру культуры необходимую ей степень неопределенности, мы не
получим и адекватного описания этого явления.
Функция тропа как механизма семантической неопределенности обус-
ловила то, что в явной форме, на поверхности культуры, он проявляется
в системах, ориентированных на сложность, неоднозначность или невыра-
зимость истины. Однако «риторизм» не принадлежит каким-либо эпохам
культуры исключительно: подобно оппозиции «поэзия/проза», оппозиция
«риторизм/антириторизм» принадлежит к универсалиям человеческой
культуры. Оба члена этой оппозиции взаимосвязаны, и семиотическая
активность одного из них подразумевает актуализацию другого. В куль-
туре, для которой риторическая насыщенность сделалась традицией и
вошла в инерцию читательского ожидания, троп входит в нейтральный
фонд языка и перестает восприниматься как риторически активная
единица. На этом фоне «антириторический» текст, составленный из
элементов прямой, а не переносной семантики, начинает восприниматься
как метатроп, риторическая фигура, подвергшаяся вторичному упроще-
нию, причем «второй язык» редуцирован до степени нуля. Эта «минус-
риторика», субъективно воспринимаемая как сближение с реальностью и
простотой, представляет собой зеркальное отражение риторики и вклю-
чает своего эстетического противника в собственный культурно-
семиотический код. Так, безыскусственность неореалистического фильма
на самом деле таит в себе латентную риторику, действенную на фоне
стершейся и переставшей «работать» риторики помпезных псевдоисто-
рических киноэпопей и великосветских комедий. В свою очередь, кине-
матографическое барокко фильмов Феллини реабилитирует риторику как
основу конструкции смыслов большой сложности.
4. Метариторика и типология культуры. Метафора и метонимия
принадлежат к области аналогического мышления. В этом качестве
они органически связаны с творческим сознанием как таковым. В этом
смысле ошибочно риторическое мышление противопоставлять научному
как специфически художественное. Риторика свойственна научному
сознанию в такой же мере, как и художественному. В области научного
сознания можно выделить две сферы. Первая — риторическая — область
сближений, аналогий и моделирования. Это сфера выдвижения новых
идей, установления неожиданных постулатов и гипотез, прежде казав-
шихся абсурдными. Вторая — логическая. Здесь выдвинутые гипотезы
подвергаются проверке, разрабатываются вытекающие из них выводы,
устраняются внутренние противоречия в доказательствах и рассуждениях.
Первая — «фаустовская» — сфера научного мышления составляет
неотъемлемую часть исследования и, принадлежа науке, поддается
научному описанию. Однако аппарат такого описания сам должен
строиться специфически, образуя язык метариторики. Так, например, в
качестве метаметафор могут рассматриваться все случаи изоморфизмов,
гомоморфизмов и гомеоморфизмов (включая эпио-, эндо-, моно- и авто-
176
Текст как семиотическая проблема
морфизмы). Они в целом создают аппарат описания широкой области
аналогий и эквивалентностей, позволяя сближать, а в определенном
отношении и отождествлять по видимости отдаленные явления и объекты.
Примером метаметонимии может служить теорема Г. Кантора, устанавли-
вающая, что, если какой-либо отрезок содержит в себе число алеф
точек (т. е. является бесконечным множеством), то и любая часть этого
отрезка содержит то же число алеф точек, и в этом смысле любая его
часть равна целому. Операции типа трансфинитной индукции можно
рассматривать в качестве метаметонимии. Творческое мышление как
в области науки, так и в области искусства имеет аналоговую природу
и строится на принципиально одинаковой основе — сближении объектов
и понятий, вне риторической ситуации не поддающихся сближению.
Из этого вытекает, что создание метариторики превращается в обще-
научную задачу, а сама метариторика может быть определена как теория
творческого мышления.
Таким образом, риторические тексты возможны лишь как реализация
определенной риторической ситуации, которая задается типами аналогий
и характером определения параметров, по которым данные аналогии
устанавливаются. Эти показатели, по которым устанавливаются в пре-
делах какой-либо группы текстов или коммуникативных ситуаций
отношения аналогии или эквивалентности, определяются типом культуры.
Сходство и несходство, эквивалентность и неэквивалентность, сопостави-
мость и несопоставимость, восприятие каких-либо двух объектов как не
поддающихся сближению или тождественных зависят от типа культурного
контекста. Один и тот же текст может восприниматься как «правильный»
или «неправильный» (невозможный, не-текст), «правильный и тривиаль-
ный» или «правильный, но неожиданный, нарушающий определенные
нормы, оставаясь, однако, в пределах осмысленности» и т. д., в зави-
симости от того, отнесем ли мы его к художественным или нехудожест-
венным текстам и какие правила для тех и других мы припишем, т. е.
в зависимости от контекста культуры, в который мы его поместим. Так,
тексты эзотерических культур, будучи извлечены из общего контекста и в
отрыве от специальных (как правило, доступных лишь посвященным)
кодов культуры, вообще перестают быть понятными или раскрываются
лишь с точки зрения внешнего смыслового пласта, сохраняя тайные
значения для узкого круга допущенных. Так строятся тексты скальдов,
суфистские, масонские и многие другие тексты. Вопрос о том, понимается
ли текст в прямом или переносном (риторическом) значении, также
зависит от приложения к нему более общих культурных кодов. Поскольку
существенную роль играет собственная ориентация культуры, выражаю-
щаяся в том, как она видит самое себя, — в системе самоописаний,
образующих метакультурный слой, текст может выглядеть как «нормаль-
ный» в семантическом отношении в одной перспективе и «аномальный»,
семантически сдвинутый — в другой. Отношение текста к различным
метакультурным структурам образует семантическую игру, которая
является условием риторической организации текста. Вторичная зашиф-
рованность семантики в случае, если она произведена однозначным
способом, может образовывать тайный эзотерический язык, но не
является тропом и к сфере риторики не относится. Так, например,
в период, когда напряженная словесная игра, метафоризм барокко
вошли в традицию и стали предсказуемой нормой не только литературного
языка, но и щегольской речи светских салонов и precieux, литературно
значимым сделалось слово, очищенное от вторичных значений, сведенное
к прямой и точной семантике.
Риторика
177
В этих условиях наиболее активными риторическими фигурами делались
отказы от риторических фигур. Текст, освобожденный от метафор и
метонимий, вступал в игровое отношение с читательским ожиданием
(т. е. культурной нормой эпохи барокко), с одной стороны, и новой,
еще не утвердившейся, нормой классицизма, с другой. Барочная мета-
фора в таком контексте воспринималась как знак тривиальности и не
выполняла риторической функции, а отсутствие метафоры, играя актив-
ную роль, оказывалось эстетически значимым.
Подобно тому как в области науки ориентация на построение все-
объемлющих гипотез, устанавливающих соответствия между, казалось
бы, самыми отдаленными областями опыта, связанная с «научной
риторикой» и «научным остроумием», чередуется с позитивистской
установкой на эмпирическое расширение поля знания, в искусстве
«риторическое моделирование» периодически сменяется эмпирическим.
Так, эстетика реализма на раннем своем этапе характеризуется в
основном негативными признаками антиромантизма и воспринимается
в проекции на романтические нормы, создавая «риторику отказа от рито-
рики» — риторику второго уровня. Однако в дальнейшем, связываясь
с позитивистскими тенденциями в науке, она приобретает самостоятель-
ную структуру, которая, в свою очередь, делается семиотическим фоном
неоромантизма XX в. и авангардных течений.
5. Риторика текста. С того момента, как мы начинаем иметь дело с
текстом, т. е. с отдельным, замкнутым в себе и имеющим целостное,
нерасчленимое значение и целостную, нерасчленимую функцию
семиотическим образованием, отделенным от контекста, отношение
отдельных его элементов к проблеме риторики резко меняется. Если весь
текст в целом закодирован в системе культуры как риторический,
любой его элемент также делается риторическим, независимо от того,
представляется ли он нам в изолированном виде имеющим прямое
или переносное значение. Так, например, поскольку всякий художествен-
ный текст a priori выступает в нашем сознании как риторически органи-
зованный, любое заглавие художественного произведения функционирует
в нашем сознании как троп или минус-троп, т. е. как риторически
отмеченное. В связи с тем, что именно текстовая природа высказывания
заставляет осмыслить его подобным образом, особую риторическую
нагруженность получают элементы, сигнализирующие о том, что перед
нами именно текст. Так, в высокой степени риторически отмеченными
оказываются категории «начала» и «конца», применительно к которым
значимость этого уровня организации заметно возрастает. Многообразие
структурных связей внутри текста резко понижает самостоятельность
отдельных входящих в него единиц и повышает коэффициент связанности
текста. Текст стремится превратиться в отдельное «большое слово»
с общим единым значением. Это вторичное «слово» в тех случаях, когда
мы имеем дело с художественным текстом, всегда представляет собой
троп: по отношению к обычной нехудожественной речи художественный
текст как бы переключается в семиотическое пространство с большим
числом измерений. Для того чтобы представить себе, о чем идет речь,
вообразим трансформацию типа «сценарий (или художественное словес-
ное повествование) > кинофильм» или «либретто —> опера». При
трансформациях этого типа текст с определенным количеством координат
смыслового пространства превращается в такой, для которого мерность
семиотического пространства резко возрастает. Аналогичное явление
имеет место и при превращении словесного (нехудожественного) текста
в художественный. Поэтому как между элементами, так и между целост-
178
Текст как семиотическая проблема
ностью художественного и нехудожественного текстов невозможно
однозначное отношение и, следовательно, невозможен взаимноодно-
значный перевод. Возможны лишь условная эквивалентность и различные
типы аналогии. А именно это и составляет сущность риторических
отношений. Но в культурах, ориентированных на риторическую органи-
зацию, каждая ступень в возрастающей иерархии семиотической
организации дает увеличение измерений пространства смысловой
структуры. Так, в византийской и древнерусской культуре иерархия
«мир обыденной жизни и некнижной речи —^ мир светского искус-
ства —^ мир церковного искусства —^ божественная литургия —^
трансцендентный Божественный Свет» составляет цепь непрерывного
иррационального усложнения: сначала переход от незнакового мира
вещей к системе знаков и социальных языков, затем соединение знаков
различных языков, не переводимое ни на один из языков в отдельности
(соединение слова и распева, книжного текста и миниатюры, соединение
в храмовом действе слов, пения, стенной живописи, естественного и
искусственного освещения, запахов ладана и курений; соединение в
архитектуре здания и пейзажа и т. п.) и, наконец, соединение искусства
с трансцендентной Божественной Истиной. Каждая ступень иерархии не
выразима средствами предшествующей, которая представляет собой лишь
образ (неполное присутствие) ее. Принцип риторической организации
лежит в основе данной культуры как таковой, превращая каждую новую ее
ступень для нижестоящих в семиотическое таинство. Принцип ритори-
ческой организации культуры возможен и на чисто светской основе: так,
для Павла I парад был в такой же мере метафорой Порядка и Власти,
в какой для Наполеона сражение — метонимией Славы.
Таким образом, в риторике (как, с другой стороны, в логике) отра-
жается универсальный принцип как индивидуального, так и коллектив-
ного сознания (культуры).
Существенным аспектом современной риторики является круг проблем,
связанных с грамматикой текста. Здесь традиционные проблемы ритори-
ческого построения обширных отрезков текста смыкаются с современной
лингвистической проблематикой. Существенно подчеркнуть, что тради-
ционные риторические фигуры построены на внесении в текст дополни-
тельных признаков симметрии и упорядоченности, в определенном отно-
шении аналогичных построению поэтического текста. Однако, если
поэтический текст подразумевает обязательную упорядоченность низ-
ших уровней (причем неупорядоченное или факультативно упорядо-
ченное в системе данного языка переводится в ранг обязательных и
релевантных упорядоченностей, а лексико-семантический уровень полу-
чает надъязыковую упорядоченность уже как результат этой первичной
организации), то в риторическом тексте картина обратная: обязательной
организации подвергаются лексико-семантический и синтаксический
уровни, а ритмико-фонетическая упорядоченность выступает как явление
факультативное и производное. Но для нас важно подчеркнуть неко-
торый общий эффект: в обоих случаях то, что в естественном языке пред-
ставляет собой цепочку самостоятельных знаков, превращается в смысло-
вое целое с «размазанным» на всем пространстве семантическим
содержанием, то есть тяготеет к превращению в единый знак — носитель
смысла. Если текст на естественном языке организуется линейно и
дискретен по своей природе, то риторический текст интегрирован в
смысловом отношении. Входя в риторическое целое, отдельные слова
не только «сдвигаются» в смысловом отношении (всякое слово в худо-
жественном тексте — в идеале троп), но и сливаются, смыслы их интегри-
Риторика
179
руются. Возникает то, что, применительно к поэтическому тексту, Тынянов
назвал «теснотой поэтического ряда».
Однако вопрос о поэтической связанности текста в науке последних
десятилетий непосредственно сомкнулся не только с литературоведче-
скими, но и с лингвистическими проблемами: бурное развитие того раздела
языкознания, который получил название «грамматика текста» и посвя-
щен структурному единству речевых сообщений на сверхфразовом
уровне, актуализировало традиционные проблемы риторики в лингвисти-
ческом их аспекте. Поскольку механизм сверхфразового единства усмат-
ривался в лексических повторах или их субститутах, с одной стороны,
и в логических и интонационных связках, с другой9, то традиционные
формы риторических структур абзаца 'или текста в целом, казалось,
приобретали непосредственно лингвистический смысл. Подход этот был
подвергнут критике со стороны Б. М. Гаспарова10, указавшего на недоста-
точность такого механизма описания сверхфразовой связанности текста,
с одной стороны, и на утрату им собственно лингвистического содержания,
с другой. Взамен Б. М. Гаспаров предложил модель облигаторных грам-
матических связей, соединяющих сегменты речи на сверхфразовом
уровне: имманентная-грамматическая структура предложения, по Гаспа-
рову, накладывает заранее определенные грамматические ограничения на
любую фразу, которая на данном языке может быть к ней присоединена.
Структура этих связей и образует лингвистическое единство текста.
Таким образом, можно сформулировать два подхода: согласно одному,
риторическая структура автоматически вытекает из законов языка и
представляет собой не что иное, как их реализацию на уровне построения
целостных текстов. С другой точки зрения, между языковым и риториче-
ским единством текста существует принципиальная разница. Риториче-
ская структура не возникает автоматически из языковой, а представляет
собой решительное переосмысление последней (в системе языковых связей
происходят сдвиги, факультативные структуры повышаются в ранге,
приобретая характер основных, и т. п.). Риторическая структура вносится
в словесный текст извне, являясь дополнительной его упорядоченностью.
Таковы, например, разнообразные способы внесения в текст на различных
его уровнях законов симметрии, лежащих в основе пространственной
семиотики и не присущих структуре естественных языков. Нам представ-
ляется справедливым именно этот второй подход. Можно даже утвер-
ждать, что риторическая структура не только объективно представляет
собой внесение в текст извне имманентно чуждых ему принципов
организации, но и субъективно переживается именно как чужая по
отношению к структурным принципам текста. Так, например, резко
отмеченное включение фрагмента нехудожественного текста в художест-
венный (в частности, кадров кинохроники в игровую ленту) может нести
риторическую нагрузку именно постольку, поскольку опознается ауди-
торией как чуждое и незакономерное включение в текст. На фоне
хроникальной ленты такую же роль сыграет отмеченное игровое
включение. Традиционная ораторская проза, воспринимаемая как
область риторики par excellence, может быть описана как результат
9 См.: Падучева Е. В. О структуре абзаца // Труды по знаковым системам.
Тарту, 1965. Т. 2. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 181).
10 См.: Гаспаров Б. М. Принципы синтагматического описания уровня предложе-
ний // Труды по рус. и слав, филологии. Тарту, 1975. Т. 23. (Учен. зап. Тарт. гос.
ун-та. Вып. 347).
180
Текст как семиотическая проблема
вторжения поэзии в область прозы и перевода поэтической структуры
на язык прозаических средств. Одновременно и вторжение языка прозы
в поэзию создает риторический эффект. Вместе с тем ораторская речь
ощущается аудиторией и как «сдвинутая» устная речь, в которую
внесены подчеркнутые элементы «письменности». В этом отношении
в качестве риторических элементов воспринимаются не только синтакси-
ческие фигуры классической риторики, но и те конструкции, которые
в письменном, тексте при отказе от произнесения вслух казались бы
нейтральными. В равной мере внесение устной речи в письменный текст,
характерное для прозы XX в., или мена местами «внутренней» и «внешней»
речи (например, в прозе, изображающей средствами языкового текста
«поток сознания») активизирует риторический уровень структуры текста.
С этим можно было бы сопоставить риторическую функцию иноязычных
текстов, включенных в чуждый им языковой контекст. Особенно заметной
делается риторическая функция в тех случаях, когда иноязычный текст
может быть каламбурно прочитан и как текст на родном языке. Так,
например, Пушкин снабдил вторую главу «Евгения Онегина» эпиграфом:
«О rus!», «О Русь!», что составляет каламбурно-омонимическое сочетание
цитаты из Горация (Свтиры. Кн. 2. Сатира 6) и русского текста. Ср. в
«Жизни Анри Брюлара» Стендаля о событиях конца 1799 г.: «...в Гренобле
ожидали русских. Аристократы и, кажется, мои родные говорили: О Rus,
quando ego te aspiciam». Такие случаи, являясь предельными, раскрывают
сущность механизма всякого инородного включения в текст: оно не
выпадает из общей структуры контекста, а вступает с ним в игровые
отношения, одновременно и принадлежа, и не принадлежа контекстной
структуре. Это положение можно распространить и на утверждение об
обязательности для риторического уровня инородной структуры.
Риторическая организация возникает в поле семантического напряжения
между «органической» и «чужой» структурами, причем элементы ее
поддаются двойной интерпретации в этой связи. «Чужая» организация,
даже будучи механически перенесена в новый структурный контекст,
перестает быть равной сама себе и делается знаком или имитацией
самой себя. Так, подлинный документ, включенный в художественный
текст, делается художественным знаком документальности и имитацией
подлинного документа.
6. Стилистика и риторика. В семиотическом отношении стилистика
конституируется в двух противопоставлениях: семантике и риторике.
Противопоставление стилистики и семантики реализуется в следующем
плане. Всякая семиотическая система (язык) отличается иерархической
структурой. В семантическом отношении эта иерархичность проявляется
в распадении смыслового поля языка на отдельные замкнутые в себе
пространства, между которыми существует отношение подобия. Такую
систему можно уподобить регистрам музыкального инструмента, напри-
мер, органа. На таком инструменте можно сыграть одну и ту же мелодию
в различных регистрах. При этом она будет сохранять мелодическое
подобие, одновременно меняя регистровую окраску. Если мы обратимся
к какой-либо отдельной ноте, то получим значение, одинаковое для всех
регистров. Сопоставление одноименных нот в разных регистрах выделит,
с одной стороны, то, что у них общего между собой, и, с другой, то, что
выдает в них принадлежность к тому или иному регистру. Первое значение
можно уподобить семантическому, а второе — стилистическому.
Таким образом, стилистика возникает, во-первых, в случае, когда одно
и то же семантическое содержание можно выразить по крайней мере двумя
различными способами, а во-вторых, когда каждый из этих способов акти-
Риторика
181
визирует воспоминание об определенной замкнутой и иерархически
связанной группе знаков, об определенном «регистре». Если два различ-
ных способа выразить определенное смысловое содержание принадлежат
к одному и тому же регистру, стилистического эффекта не возникает.
С этим связано и второе коренное противопоставление: «стилистика <—г-
риторика». Риторический эффект возникает при столкновении
знаков, относящихся к различных регистрам и, тем самым, к структурному
обновлению чувства границы между замкнутыми в себе мирами знаков.
Стилистический эффект создается внутри определенной иерархиче-
ской подсистемы. Таким образом, стилистическое сознание исходит из
абсолютности иерархических границ, которые оно конституирует, а рито-
рическое — из их релятивности. Они превращаются для него в предмет
игры. Сказанное относится к нехудожественному тексту. В художествен-
ном тексте, с его тенденцией рассматривать любой структурный элемент
как имеющий альтернативу и «игровой», возможно риторическое отно-
шение к стилистике. То, что называется «поэтической стилистикой»,
можно определить как создание особого семиотического пространства,
в пределах которого оказывается возможной свобода выбора стилистиче-
ского регистра, который, перестает автоматически задаваться характером
коммуникативной ситуации. В результате стиль приобретает дополнитель-
ную значимость. Во внехудожественной коммуникации выбор стилевого
регистра определяется суммой прагматических отношений, свойственных
реально данному типу общения. В художественной коммуникации
первичным является текст, который своими стилевыми показателями
задает воображаемую прагматическую ситуацию. Это позволяет в преде-
лах одного текста сталкивать различные, чаще всего контрастные, стили,
на основании чего возникает игра прагматическими ситуациями (романти-
ческая ирония Гофмана, стилистические контрасты «Дон-Жуана»
Байрона и «Евгения Онегина» Пушкина).
В исторической динамике искусства можно выделить периоды, ориенти-
рованные на риторические (межрегистровые) и стилистические (внутри-
регистровые) метаконструкции. Первые в общекультурном контексте
воспринимаются как «сложные», а вторые — как «простые». Эстетический
идеал «простоты» связывается с запретом на риторические конструкции
и обостренным вниманием к стилистическим. Однако и в этом случае
художественный текст коренным образом отличается от нехудожествен-
ного, хотя субъективно этот второй может выступать в роли идеального
образца для первого.
Следует обратить внимание на специфический парадокс литературных
эпох с ориентацией на стилистическое сознание. В эти периоды обостря-
ется ощущение значимости всей системы стилевых регистров языка,
однако каждый отдельный текст тяготеет к стилевой нейтральности:
читатель включается в определенную систему жанрово-стилистических
норм в начале чтения или даже еще до его начала. В дальнейшем на
всем протяжении текста возможность смены структурных норм исклю-
чается, в результате чего сами эти нормы становятся нейтральными.
Художественное сознание риторического типа почти не уделяет внимания
обсуждению вопросов общей иерархии регистров. Так, вся система
жанрово-стилистических средств, их «приличия» или «неприличия», их
относительной ценности, столь занимавшая теоретиков классицизма,
потеряла смысл в глазах романтиков. Зато в пределах отдельного текста
ценность и мастерство автора проявляются, с точки зрения классициста,
в «чистоте слога», т. е. в строгом выполнении действующих в данном
регистре и на данном его участке норм, а для романтика — в «выразитель-
182
Текст как семиотическая проблема
ности» текста, т. е. в переключении с одной системы норм на другую.
В первом случае отдельный текст ценится за нейтральность стиля,
которая ассоциируется с «правильностью» и «чистотой», во втором же
такая «правильность» будет восприниматься как «бесцветность» и
«невыразительность». Им будут противостоять стилевые контрасты внутри
текста. Таким образом, стилевая доминанта художественного сознания
будет парадоксально приводить к ослаблению структурной значимости
категории стиля внутри текста, а риторическая — обострять ощущение
стилевой значимости.
Эволюционный процесс в искусстве отличается сложностью и зависит
от многих факторов. Однако среди других эволюционных констант можно
было бы указать на то, что в пределах крупного исторического периода
«риторические» ориентации обычно предшествуют сменяющим их «стилис-
тическим». Закономерность эта была подмечена Д. С. Лихачевым. С ней
можно было бы сопоставить характерную черту в индивидуальном
развитии многих поэтов: от усложненности стиля в начале творческого
пути к «классической» простоте в конце. Указанная Пастернаком законо-
мерность: итог поэтического развития в том, чтобы в конце пути
...впасть, как в ересь,
В неслыханную простоту —
характерна для слишком многих индивидуальных поэтических судеб,
чтобы счесть ее случайностью. «Переход от романтизма к реализму»,
«переход от рококо к классицизму», «переход от авангардизма к нео-
классицизму» — такие формулы применимы к огромному числу индивиду-
альных траекторий поэтического развития. Все они укладываются в
формулу: «переход от риторической ориентации к стилистической».
Смысл такой эволюции может быть раскрыт как поиск индивидуального
языка поэзии. На первом этапе такой язык оформляется как отмена уже
существующих поэтических диалектов. Очерчивается некое новое языко-
вое пространство, в границах которого оказываются совмещенными
языковые единицы, прежде никогда не входившие в какое-либо общее
целое и осознававшиеся как несовместимые. Естественно, что в этих
условиях активизируется ощущение специфичности каждого из них и
несоположимости их в одном ряду. Возникает риторический эффект.
Однако, если речь идет о значительном художнике, он обнаруживает
силу утвердить в глазах читателя такой язык как единый. В дальней-
шем, продолжая творить внутри этого нового, но уже культурно
утвердившегося языка, поэт превращает его в определенный стилевой
регистр. Совместимость элементов, входящих в такой регистр, становится
естественной, даже нейтральной, зато резко выделяется граница, отделяю-
щая стиль данного поэта от общелитературного окружения. Так, в ранней
поэме Пушкина «Руслан и Людмила» современники видели пестроту
стиля — соединение разностильных реминисценций из различных литера-
турных традиций. А в «Евгении Онегине», стиль которого отличается
исключительной цитатной сложностью, обилием намеков, отсылок и
реминисценций, читатель видит лишь непринужденность простой автор-
ской речи. Зато резко ощущается неповторимо «пушкинский» ее характер.
Таким образом, художественный текст не может быть исключительно
«риторическим» или «стилистическим», а являет собой сложное перепле-
тение обеих тенденций, дополняемое столкновением их же в метакультур-
ных структурах, выполняющих роль кодов в процессах общественных
коммуникаций.
Риторика
183
Общее соотношение стилистических и риторических структурных
элементов может быть представлено в виде следующей схемы:
семантика
семантическая
риторика
стилистика
стилистическая
риторика
Возможные сдвиги в сторону доминирования любого из этих элементов
дают разнообразные комбинации более фундаментальных историко-
семиотических категорий типа «романтизм», «классицизм» и им подобных.
При этом следует учитывать, что в реальных текстах работает также
напряжение между текстовым и метатекстовым (кодирующим) уровнями,
что приводит к удвоению данной схемы.
184
Текст как семиотическая проблема
Устная речь в историко-культурной
перспективе
1.0. Историк и теоретик культуры в своих исследованиях привык опи-
раться на тексты, т. е. на такой определенный тип высказываний,
которым присуща зафиксированность и некоторое общее текстовое
значение1. Нам уже приходилось указывать, что тексты, однако, состав-
ляют не summa culturae, а лишь ее часть2. Более того, лишь существо-
вание не-текстов позволяет выделить на их фоне сумму текстов как
некоторый определяющий данную культуру комплекс. Таким образом,
одно и то же в лингвистическом отношении высказывание может «быть
текстом» или не быть им в зависимости от общего культурного контекста
и своей функции в нем.
1.1. Из сказанного вытекает, что деление на «письменную» и «устную»
речь вторично от общекультурной потребности делить высказывания на
тексты и не-тексты. Функциональная разница в этих двух разновидностях
высказываний столь велика, а необходимость различать их для самих
носителей культуры столь существенна, что возникает тенденция пользо-
ваться для их выражения различными языками.
1.1.1. В качестве «различных языков» могут выступать два разных
естественных языка (показательно, что один из них воспринимается при
этом как более авторитетный — более культурный, более древний, святой,
богатый и т. п.; аксиологическое равенство языков для самих носителей
культуры в этом случае исключается). Однако возможно функциональное
расщепление одного языка с тенденцией последующего возникновения
самостоятельных диалектов или даже языков. То, что в основе этой
дифференциации лежит тенденция к использованию различных языков,
делается очевидным на примере случаев, когда для одного из этих
типов коммуникации закрепляется словесный, а для другого — жестовый
язык. Возможность табуирования в одном случае тех средств общения,
которые разрешены в другом, заставляет предположить, что возникно-
вение письменности связано не только с необходимостью фиксации
сообщения в коллективной памяти («записываю сказанное, чтобы оно
сохранилось»), но и с запретом на передачу данного сообщения обычными
средствами («зарисовываю <—^ записываю, ибо говорить об этом запре-
щено»).
1.2. Одним из существенных различий между двумя типами сообщений
является то, что адресат не-текстов всегда присутствует налицо и обла-
дает той же степенью реальности и конкретности, что и отправитель
сообщения. Как правило, они расположены в некотором общем времени
и пространстве, если не придавать этим понятиям слишком строгого
значения. Между адресатом и адресантом текста должны существовать
некоторые качественные различия.
1 См.: Структурно-типологические исследования. М., 1962. С. 144—154;
Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970. С. 66—77.
2 Лотман Ю. М. Беседа А. А. Иванова и Н. Г. Чернышевского: К вопросу
о специфике работы над историко-литературными источниками // Вопр. лит.
1966. № 1.
186
Текст как семиотическая проблема
системы, искоренить эту «неправильность» не удается. Возникает
представление о том, что в рамках языка существуют «правильная» и
«неправильная» системы. Причем «неправильная» допускается в опреде-
ленных сферах употребления, хотя прилагаются непрерывные (и всегда
бесполезные) усилия к ее искоренению. «Правильная» же система
считается всеобщей, хотя на самом деле употребляется также в опреде-
ленной сфере коммуникаций. Более того, хотя сами носители языка
считают «правильную» систему универсальной и равной языку, на прак-
тике она, как правило, значительно уже области применения «неправиль-
ной» системы3.
2.2. Обязательность существования «правильной» и «неправильной»
языковых систем убеждает нас, что на уровне реального функциони-
рования каждый развитый язык4 представляет собой два языка.
Единство возникает на метауровне как плод языкового самоописания.
3.0. Тексты — то, что вносится в коллективную память культуры, то,
что подлежит сохранению. Это приводит к тому, что язык текстов всегда
зависит от природы запоминающего устройства. В дописьменном обще-
стве он требовал дополнительных ограничений мнемонического типа,
очевидно, сближаясь со структурою поэзии, пословиц, афоризмов.
Возникновение письменности привело к тому, что язык текстов отождест-
вился с письменной речью, а не-текстов — с устной.
3.1. Письменная и устная речь устроены принципиально различным
образом.
3.1.1. Устная речь — речь, обращенная к собеседнику, который не
только присутствует налицо, но и лично знаком. Это обусловливает
наличие у обоих участников коммуникации некоторой общей памяти,
более богатой и детализованной, чем та абстрактная общая память,
которая присуща всему коллективу. Письменная же речь ориентирована
на эту вторую. В письменное сообщение включается то, что неизвестно
любому говорящему на данном языке, а в устное — то, что неизвестно
данному. Поэтому письменная речь значительно более детализована.
Устная речь опускает то, что собеседнику известно. А что собесед-
нику известно, говорящий устанавливает на основании обращения
к внетекстовому миру — к личности адресата. На основании такого
анализа он заключает о степени близости своего опыта к опыту собе-
седника и, следовательно, об объеме их общей памяти. Поскольку число
ступеней в иерархии расширения общей памяти неограниченно, устная
речь дает исключительно разнообразную гамму опущений и эллипсисов.
Между тем письменная речь стабильна, поскольку ориентирована на
абстрактный и относительно стабильный для данного языка и данной
культурной эпохи объем памяти. Таким образом, письменная и устная речь
различаются не только по содержанию сообщений, но и по различному
3 См.: Успенский Б. А. К вопросу о семантическом взаимоотношении системно
противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского
языка // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1976. Bd. 22. S. 92—100; Он же. Первая
русская грамматика на родном языке. М., 1975. С. 53—56 и др. (Пользуюсь
случаем выразить искреннюю благодарность Б. А. Успенскому за ценные указания.)
4 Можно было бы сказать «обслуживающий развитую культуру», однако любая
из известных нам культур в этом отношении выступает как «развитая». Культуры,
обслуживаемые лишь одним языком, практически никому не встречались и
теоретически, видимо, невозможны. Они существуют лишь в некоторых упрощенных
Устная речь...
187
использованию одинаковых языковых средств. Предельным случаем
устной речи в этом отношении будет внутренняя речь — обращение к
самому себе создает полное тождество памяти адресата и адресанта и
максимальную эллиптированность текста. Предельным случаем пись-
менной речи является официальный документ.
3.1.2. Однако разница между письменной и устной речью — не только
в различном использовании одинаковых языковых средств, но и в тяго-
тении к различным в принципе коммуникативным средствам. Устная
речь органически включается в синкретизм поведения как такового:
мимика, жест, внешность, даже одежда, тип лица — все, что дешифруется
с помощью различных видов зрительной и кинетической семиотики,
составляет ее части. Письменная речь дискретна и линейна, устная
тяготеет к недискретности и континуум ной структуре. Она удаляется от
логических конструкций, приближаясь к иконическим и мифологическим.
При этом разные типы знаков — словесные, изобразительно-жестовые
и мимические, изобразительно-звуковые и т. п. — входят в устную речь
и как элементы разных языков, и в качестве составляющих единого языка.
В этом отношении организация устной речи ближе всего к знаковой
системе кинофильма. Письменная речь — результат перевода этой
многоплановой системы в структуру чисто словесного текста. Ее можно
трактовать как словесное описание и словесных, и несловесных элементов
устной речи. Таким образом, по отношению к устной речи в культурах,
ориентированных на слово, письменная речь выполняет метаязыковую
функцию. Можно при этом высказать предположение, что односторонняя
ориентация на слово предшествовала односторонней ориентации на
письмо и типологически представляла собой культурный поворот, подоб-
ный последнему. Создание чисто словесных устных текстов типологически
было подобно созданию чисто словесных письменных текстов. И те и
другие имели искусственный характер, обслуживали узкую сферу офици-
ального общения, отличались высокой престижностью и выделенностью
из мира внетекстовых коммуникаций. Еще более ранней реформой такого
же типа было выделение текстов с ритуализованным жестом и противо-
поставление их более вариативной внетекстовой жестикуляции.
Таким образом, можно заключить, что письменная форма речи —
результат ряда искусственных и целенаправленных усилий для создания
особо упорядоченного языка, призванного играть в общей системе куль-
туры метаязыковую роль. Именно для такой роли он и удобен. Как сред-
ство непосредственной коммуникации между двумя непосредственно
данными коммуникантами он громоздок, неудобен и исключительно не-
экономен.
3.2. Выполняя метаязыковую роль, та или иная коммуникативная
система начинает занимать в сознании коллектива особое место: ей
приписываются черты универсальной модели и остальные сферы куль-
туры начинают преобразовываться по ее образу и подобию. Те же их
аспекты, которые с трудом поддаются такой трансформации или не
поддаются ей совсем, объявляются незначимыми или вовсе несуществую-
щими. Именно такую трансформацию в культурном сознании письменной
эпохи переживает устная речь: ее начинают воспринимать как испор-
ченный вариант письменной и осмыслять сквозь призму этой последней.
4.0. Устная и письменная речь находятся в постоянном взаимовлиянии,
которое в разные культурные эпохи проявляется как стремление
уподобить, законы устной речи — письменной или, наоборот, законы
письменной речи — устной. Причем в каждом из этих случаев мы
сталкиваемся с переводом с одного языка на другой: в одних перед нами
188
Текст как семиотическая проблема
попытки внесения в письменный текст жеста и позы, конкретизации
личности пишущего5, в других — переключение полисистемы в моно-
систему.
4.1. Для того чтобы убедиться в том, что представление об устной речи
как простом редуцированном варианте письменной неоправданно, целесо-
образно рассмотреть один частный вопрос.
Согласно распространенному представлению, сложноподчиненные
синтаксические конструкции являются типично письменными формами.
Им противостоят якобы разговорные сочинительные конструкции.
История письменного синтаксиса обычно рисуется в следующих наиболее
общих контурах: сначала письменность фиксирует разговорные струк-
туры — это период засилия сочинительных конструкций. Затем вырабаты-
ваются более сложные собственно письменные структуры. Для того чтобы
проверить, в какой мере это представление справедливо, рассмотрим,
что представляли собой наиболее архаические, условно говоря, «искон-
ные», письменные тексты.
В текстах русского средневековья, в силу их общей архаичности, легко
обнаруживается одна т*з закономерностей мифологического мышления.
Все явления мира делятся на некоторые коренные, «столповые» события,
которые, совершившись единожды, уже не могут исчезнуть, поскольку
входят в конструкцию мира. Эти «первые дела» и их совершители играют
особую роль в мироустройстве и пребывают в нем вечно, не исчезая, а то
уходя в глубины мира, то обновляясь в аналогичных поступках людей
последующих поколений. Поступки же потомков скоропреходящи6. Они
имеют бытие лишь в той мере, в которой повторяют «первые деяния».
Такое представление не только находило глубокую аналогию в антиномии
письменной и устной речи, но и прямо подразумевало наличие такого
противопоставления в культурном сознании. Совершенное «первое»
деяние как бы вписывается в некоторую Мировую Книгу (образ
Мировой Книги получает на этой стадии мифотворчества исключительное
значение). Как для письменного текста, для «первых событий» не значимо
понятие прошедшего — настоящего — будущего времени. Основным
организующим принципом является признак бытийности: тексты делятся
на сущие, уже зафиксированные, и не-сущие, еще не внесенные в Книгу.
Однако при чтении, переходя из записанного текста в произносимый,
сообщение получает признак времени: тексты уже прочтенные, читаемые
в настоящее время и те, которые будут читаться. Аналогичным образом
«первые деяния» могут существовать или еще не существовать, но,
повторяемые в последующих поступках людей (Святополк «обновил»
каинов грех, убив брата, любимые герои автора «Слова о полку Игореве»
побеждают врагов «звонячи в прадедню славу», т. е. обновляя славу
прадедов: «деды» и «прадеды» в «Слове...» — категория мифологическая,
относящаяся к «первым временам»), они переключаются во временной
план. Таким образом, складываются два пласта мирового порядка:
5 Ср. высказывание Ривароля: «В стиле Руссо были жесты и восклицания.
Он не писал — он всегда был на трибуне» (Oeuvres completes de Rivarol. Paris,
1808. Т. 5. P. 332.). Это высказывание любил Вяземский; см.: Лотман Ю. М.
Пушкин и Ривароль // Труды по рус. и слав, филологии. Тарту, 1960. Т. 3. С. 313.
(Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 98).
6 См.: Лотман Ю. М. «Звонячи в прадъднюю славу» // Труды по рус. и слав.
Устная речь...
189
мифологический, подобный письменному тексту (представление о том, что
он предшествует историческому, — результат позднейшего переосмысле-
ния с позиций диахронного мышления; с внутренней же точки зрения мифо-
логического сознания, этот первый пласт расположен не в предшествую-
щем времени, а вне времени, которое началось уже после его установ-
ления, и является не предыдущим, а первичным — отношение это может
быть уподоблено отношению языка к речи в соссюровской системе),
и исторический, как бы являющийся его устным прочтением.
4.1.1. Отражением такой двуслойности архаического мира является и
возникновение двух типов сообщений: одни касаются основ миропорядка и
фиксируются в текстах, другие — всего многообразия скоропреходящих
событий и поступков и остаются в сфере устного общения.
Рассмотрение архаических текстов убеждает в их тяготении к формам
постулирующих, констатирующих высказываний. Господствуют простые
предложения, которые присоединяются друг к другу по кумулятивному
принципу как равноправные, с помощью сочинительных союзов. В каче-
стве примеров приведем тексты: «Въ началь сотвори Богъ небо и землю.
Земля ж бъ невидима и неустроена; и тма верху бездны; и Духъ Божий
ношашеся верху воды. И рече Богъ: «Да будетъ свътъ: и бысть евьтъ.
И видь Богъ евьт, яко добро; и разлучи Богъ между свътомъ и между
тмою» (Быт. 1—5).
Единорог — зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец —
А и ходит, он под землею,
А не держут ево горы каменны,
А и те-та реки быстрый;
Когда выйдет он из сырой земли,
А и ищет он сопротивника,
А и того ли люта льва-зверя!
Сошлись оне со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, дратися:
Охота им царями быть,
Над всеми зверями взять большину,
И дерутся оне о своей большинё7.
Наивно полагать, что человеческое сознание не различало причин и
следствий и всей системы логических соотношений, выражаемых
подчинительными конструкциями, лишь на основании того, что они не
отражались в письменных текстах. Неразличение этих категорий сделало
бы невозможной практическую ориентацию человека в окружающем его
каждодневном мире. Естественнее предположить, что эти отношения не
отражались в текстах потому, что письменные тексты по своей природе
не должны были их отражать.
Сферой подчинительных конструкций (вернее, стоящих за ними логи-
ческих отношений) была устная речь. Правда, вероятнее всего, ту
функцию, которую в привычных нам сообщениях играют подчинительные
союзы, в этом случае выполняли жесты и мимика, эмфатическая
интонация. На следующем этапе культурного движения, когда человече-
ские деяния, эксцессы современности стали казаться достойными внесения
в коллективную память и история сделалась содержанием текстов,
7 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.;
Л., 1958. С. 274.
190
Текст как семиотическая проблема
возникла потребность письменной фиксации устного повествования. Тут
обнаружилась необходимость найти в письменной речи адекваты для
жестового выражения связей. Так возникли относительно поздние
подчинительные конструкции — результат отображения многоканальной
устной речи в одноканальности письменной.
5.0. Взаимоотношения устной и письменной речи усложняются, как
только мы переходим к сфере, искусства. Здесь можно было бы
выделить два принципиальных этапа: 1) господство графической словес-
ной культуры, в рамках которой разговорная речь воссоздается сред-
ствами письменной; доминирует здесь художественная литература;
2) господство искусств, возникающих на основе техники, дающей воз-
можность фиксировать устную речь как таковую во всей ее много-
канальной реальности (кино). Возникает возможность создания культуры
на принципиально иной основе. Однако данный вопрос уже выходит за
рамки настоящей статьи.
Символ в системе культуры
191
Символ в системе культуры
Слово «символ» одно из самых многозначных в системе семиотических
наук1. Выражение «символическое значение» широко употребляется как
простой синоним знаковости. В этих случаях, когда наличествует некое
соотношение выражения и содержания и, что особенно подчеркивается
в данном контексте, конвенциональность этого отношения, исследователи
часто говорят о символической функции и символах. Одновременно еще
Соссюр противопоставил символы конвенциональным знакам, подчеркнув
в первых иконический элемент. Напомним, что Соссюр писал в этой связи
о том, что весы могут быть символом справедливости, поскольку икони-
чески содержат идею равновесия, а телега — нет.
По другой классификационной основе символ определяется как знак,
значением которого является некоторый знак другого ряда или другого
языка. Этому определению противостоит традиция истолкования символа
как некоторого знакового выражения высшей и абсолютной незнаковой
сущности. В первом случае символическое значение приобретает подчерк-
нуто рациональный характер и истолковывается как средство адекватного
перевода плана выражения в план содержания. Во втором — содержание
иррационально мерцает сквозь выражение и играет роль как бы моста из
рационального мира в мир мистический.
Достаточно будет отметить, что любая, как реально данная в истории
культуры, так и описывающая какой-либо значительный объект лингво-
семиотическая система ощущает свою неполноту, если не дает своего
определения символа. Речь идет не о том, чтобы наиболее точным и
полным образом описать некоторый единый во всех случаях объект,
а о наличии в каждой семиотической системе структурной позиции,
без которой система не оказывается полной: некоторые существенные
функции не получают реализации. При этом механизмы, обслуживающие
эти функции, упорно именуются словом «символ», хотя и природа этих
функций, и уж тем более природа механизмов, с помощью которых они
реализуются, исключительно трудно сводится к какому-нибудь инва-
рианту. Таким образом, можно сказать, что, даже если мы не знаем, что
такое символ, каждая система знает, что такое «ее символ», и нуждается
в нем для работы ее семиотической структуры.
Для того чтобы сделать попытку определить характер этой функции,
удобнее не давать какого-либо всеобщего определения, а оттолкнуться от
интуитивно данных нам нашим культурным опытом представлений и
в дальнейшем стараться их обобщить.
Наиболее привычное представление о символе связано с идеей некото-
рого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для
другого, как правило культурно более ценного, содержания. При этом
символ следует отличать от реминисценции или цитаты, поскольку в них
«внешний» план содержания—выражения не самостоятелен, а является
своего рода знаком-индексом, указывающим на некоторый более обшир-
ный текст, к которому он находится в метонимическом отношении.
'Подробную историю и историографию проблемы см.: Todorov Tzv. Theories du
symbole / Ed. Seuil. Paris, 1977; Idem. Symbolisme el interpretation / Ed. Seuil.
Paris, 1978.
192
Текст как семиотическая проблема
Символ же и в плане выражения, и в плане содержания всегда пред-
' ставляет собой некоторый текст, т. е. обладает некоторым единым
замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позво-
ляющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста.
Последнее обстоятельство представляется нам особенно существенным
для способности «быть символом».
В символе всегда есть что-то архаическое. Каждая культура нуждается
в пласте текстов, выполняющих функцию архаики. Сгущение символов
здесь обычно особенно заметно. Такое восприятие символов не случайно:
стержневая группа их действительно имеет глубоко архаическую при-
роду и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как
правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли
собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранив-
шихся в устной памяти коллектива. Способность сохранять в свернутом
виде исключительно обширные и значительные тексты сохранилась за
символами. Но еще более интересна для нас другая, также архаическая,
черта: символт г^редставляя собой законченный текст, может не вклю-
чаться в какои-'либо синтагматический ряд, а если и включается в него, то
сохраняет при этом смысловую и структурную самостоятельность. Он
легко вычленяется из семиотического окружения и столь же легко входит
в новое текстовое окружение. С этим связана его^Тщественная черта:
у символ никогда не ^принадлежит какому-либо одному синхронному
ч срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя
из прошлого и уходя в оудущее. Память символа всегда древнее, чем
память его несимволического текстового окружения.;
Всякий текст культуры_п£инципиально .неоднороден. Даже в строго
синхронном срезе гетерогенность языков культуры образует сложное
многоголосие. Распространенное представление о том, что, сказав «эпоха
классицизма» или «эпоха романтизма», мы определили единство культур-
ного периода или хотя бы его доминантную тенденцию, есть лишь иллюзия,
порождаемая принятым языком описания. Колеса различных механизмов
культуры движутся с разной скоростью. Темп развития естественного
языка не сопоставим с темпом, например, моды, сакральная сфера
всегда консервативнее профанической. Этим увеличивается то внутреннее
разнообразие, которое является законом существования культуры.
Символы представляют собой один из наиболее устойчивых элементов
культурного континуума.
Являясь важным „механизмом памяти культуры, символы переносят
тексты, сюжетные схемы и другйёГсемиотические образования из одного
пласта культуры в другой. Пронизывающие диахронию культуры констан-
тные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию
механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают
ей распасться на изолированные хронологические пласты. Единство
основного набора доминирующих символов и длительность их культурной
жизни в значительной мере определяют национальные и ареальные
границы культур.
Однако природа символа, рассмотренного с этой точки зрения, двой-
ственна. С одной стороны, пронизывая толщу культур, символ реализуется
в своей инвариантной сущности. В этом аспекте мы можем наблюдать его
повторяемость. Символ будет выступать как нечто неоднородное окру-
жающему его текстовому пространству, как посланец других культурных
эпох ( = других культур), как напоминание о древних (= «вечных»)
основах культуры. С другой стороны, символ активно коррелирует с куль-
турным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его
Символ в системе культуры
193
трансформирует. Его инвариантная сущность реализуется в вариантах.
Именно в тех изменениях, которым подвергается «вечный» смысл
символа в данном культурном контексте, контекст этот ярче всего
выявляет свою изменяемость.
Последняя способность связана с тем, что исторически наиболее
активные символы характеризуются известной неопределенностью в отно-
шении между текстом-выражением и текстом-содержанием. Последний
всегда принадлежит более многомерному смысловому пространству.
Поэтому выражение не полностью покрывает содержание, а лишь как бы
намекает на него. Вызвано ли это тем, что выражение является лишь
кратким мнемоническим знаком размытого текста-содержания, или же
принадлежностью первого к профанической, открытой и демонстрируе-
мой сфере культуры, а второго — к сакральной, эзотерической, тайной, или
романтической потребностью «выразить невыразимое», — в данном
случае безразлично.' Важно лишь, что смысловые потенции символа
всегда шире их данной реализации: связи, в которые вступает символ
с помощью своего выражения с тем или иным семиотическим окружением,
не исчерпывают всех его смысловых валентностей. Это и образует тот
смысловой резерв, с помощью которого символ может вступать в неожи-
данные связи, меняя свою сущность и деформируя непредвиденным
образом текстовое окружение.
С этой точки зрения, показательно, что элементарные по своему выра-
жению символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем
сложные. Крест, круг, пентаграмма обладают значительно большими-
смысловыми потенциями, чем «Аполлон, сдирающий кожу с Марсия»,
в силу разрыва между выражением и содержанием, их непроективности
друг на друга. Именно «простые» символы образуют символическое ядро
культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить о символизирую-
щей или десимволизирующей ориентации культуры в целомЛ
С последним связана установка на символизирующее или десимволизи-
рующее чтение текстов. Первое позволяет читать как символы тексты или
обломки текстов, которые в своем естественном контексте не рассчитаны
на подобное восприятие. Второе превращает символы в простые сообще-
ния. То, что для символизирующего сознания есть символ, при противо-
положной установке выступает как симптом. Если десимволизирующий
XIX в. видел в том или ином человеке или литературном персонаже
«представителя» (идеи, класса, группы), то Блок воспринимал людей и
явления обыденной жизни как символы (ср. его реакцию на личность
Клюева или Стенича; последняя отразилась в его статье «Русский
денди»), проявления бесконечного в конечном.
Очень интересно обе тенденции смешиваются в художественном мышле-
нии Достоевского. С одной стороны, Достоевский, внимательный читатель
газет и коллекционер репортерской фактологии (особенно уголовно-
судебной хроники), видит в россыпи газетных фактов видимые симптомы
скрытых болезней общества. Взгляд на писателя как на врача (Лермонтов
в предисловии к «Герою нашего времени»), естествоиспытателя («Налож-
ница» Баратынского), социолога (Бальзак) превращал его в дешифров-
щика симптомов. Симптоматология принадлежит сфере семиотики (дав-
нее название симптоматологии — «медицинская семиотика»). Однако
отношения «доступного» (выражения) и «недоступного» (содержания)
здесь константны и однозначны, строятся по принципу «черного ящика».
Так, Тургенев в своих романах с точностью чувствительного прибора фик-
сирует симптомы общественных процессов. С этим же связано представле-
ние о том или ином персонаже как «представителе». Сказать, что Рудин
194
Текст как семиотическая проблема
есть «представитель лишних людей в России», означает утверждать, что
в своем лице он воплощает основные черты этой группы и по его характеру
можно о ней судить. Сказать, что Ставрогин или Федька в «Бесах»
символизируют определенные явления, типы или силы, означает утверж-
дать, что сущность этих сил в к а к о й-т о мере выразилась в этих
героях, но сама по себе остается еще не до конца раскрытой и таинствен-
ной. Оба подхода в сознании Достоевского постоянно сталкиваются и
сложно переплетаются.
Иначе строится противопоставление символа и реминисценции. Мы
уже указывали на их существенное различие. Теперь уместно указать еще
ч> од но:» сим вол су ществует до д^нного^текста и вне зависимости от него;
Он попадает в память писателя из глубин памяти_.к_ультуры и оживает
в новом тексте/как зерно, попавшее в новую почву^ Реминисценция,
отсЫЛКа7 цитата — органические части нового Текста, функциональные
лишь в его синхронии. Они идут из текста в глубь памяти, а символ —
из глубин памяти в текстм
Поэтому не случайно то, что в процессе творчества выступает как
символ (суггестивный механизм памяти), в читательском восприятии
реализуется как реминисценция, поскольку процессы творчества и
восприятия противонаправлены: в первом окончательный текст является
итогом, во втором — отправной исходной точкой. Поясним это примером.
В планах «поэмы» Достоевского «Император» (замысле романа об
Иоанне Антоновиче) есть записи о том, как Мирович уговаривает вырос-
шего в полной изоляции и не знающего никаких соблазнов жизни Ивана
Антоновича согласиться на заговор: «Показывает ему мир, с чердака
(Нева и проч.). (...) Показывает божий мир. «Всё твое, только захоти.
Пойдем!»2. Очевидно, что сюжет искушения призраком власти связывался
в сознании Достоевского с символом: перенесение искушаемого искуси-
телем на высокое место (гора, крыша храма; у Достоевского — чердак
тюремной башни), показ мира, лежащего у ног. Для Достоевского
евангельская символика развертывалась в сюжет романа, для читателя
сюжет романа пояснялся евангельской реминисценцией.
Противопоставление этих двух аспектов, однако, условно и в таких
сложных текстах, как романы Достоевского, не всегда может быть
проведено.
Мы уже говорили, что газетную хронику, факты уголовных процессов
Достоевский воспринимал и как симптомы, и как символы. С этим связаны
существенные аспекты его художественного и идейно-философского
мышления. Смысл их можно раскрыть на противопоставлении отношения
Толстого и Достоевского к слову.
Уже в раннем рассказе «Рубка леса» выявился принцип, который
остался характерным для Толстого на всем протяжении его творчества:
«Вы где брали вино? — лениво спросил я Волхова, между тем как
в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один —
господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а
улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение
над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас
шлепнулось ядро.
— Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время
Волхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непре-
менно сказал какую-нибудь любезность.
2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 9. С. 113—114. (В даль-
нейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.)
Символ в системе культуры
195
— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу,
произведенную во мне прошедшей опасностью.
— Да что ж, что сказал: никто не запишет.
— А я запишу.
— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, —
прибавил он, улыбаясь.
— Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов,
с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не задела»3.
Если говорить об особенностях толстовского слова, проявившихся в
этом отрывке, то придется отметить его полную конвенциональность:
отношение между выражением и содержанием условно. Слово может быть
и средством выражения истины, как в восклицании Антонова, и лжи,
каким оно делается в речи офицеров. Возможность отделить план
выражения и соединить его с любым другим содержанием делает слово
опасным инструментом, удобным конденсатором социальной лжи.
Поэтому в вопросах, когда потребность истины делается жизненно
необходимой, Толстой предпочел бы вообще обходиться без слов. Так,
словесное объяснение в любви Пьера Безухова с Элен — ложь, а истинная
любовь объясняется не' словами, а «взглядами и улыбками» или,
как Кити и Левин, криптограммами. Бессловесное невразумительное
«таё» Акима из «Власти тьмы» имеет содержанием истину, а красноречие
всегда у Толстого лживо. Истина — естественный порядок Природы.
Очищенная от слов (и от социальной символики) жизнь в своей
природной сущности есть истина.
Приведем несколько образцов повествования из «Идиота» Достоев-
ского. «Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то
душевная и сердечная бурда, — что-то вроде какого-то ненасытимого
чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, — одним словом,
что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном
обществе...» [VIII, 37]. «...Этот взгляд глядел — точно задавал загадку»
[VIII, 38]. «Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова.
Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком
сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало» [VIII, 467]. «Вы
потому его не могли любить, что слишком горды... нет, не горды, я
ошиблась, а потому, что вы тщеславны... даже не это: вы себялюбивы до...
сумасшествия» [VIII, 471]. «Это ведь очень хорошие чувства, только
как-то всё тут не так вышло; тут болезнь и еще что-то!» [VIII, 354].
Отрывки эти, выбранные нами почти наугад, принадлежат речам
разных персонажей и самого повествователя, однако все они характери-
зуются одной общей чертой: слова не называют вещи и идеи, а как бы
намекают на них, давая одновременно понять невозможность подобрать
точное для них название. «И еще что-то» становится как бы маркирующим
признаком всего стиля, который строится на бесконечных уточнениях
и оговорках, ничего, однако, не уточняющих, а лишь демонстрирующих
невозможность конечного уточнения. В этом отношении можно было бы
вспомнить слова Ипполита: «...во всякой гениальной или новой челове-
ческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли,
зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего
никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые томы
и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто,
что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас
спетой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 2. С. 67.
196
Текст как семиотическая проблема
навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть самого-то
главного из вашей идеи» [VIII, 328].
В таком истолковании эта существенная для Достоевского мысль
получает романтическое звучание, сближаясь с идеей «невыразимости».
Отношение Достоевского к слову сложнее. С одной стороны, он не только
разными способами подчеркивает неадекватность слова и его значения, но
и постоянно прибегает к слову неточному, некомпетентному, к свидетелям,
не понимающим того, о чем они свидетельствуют, и придающим внешней
видимости фактов заведомо неточное истолкование. С другой, эти
неточные и даже неверные слова и свидетельства нельзя третировать как
не имеющие никакого отношения к истине и подлежащие простому
зачеркиванию, как весь пласт общественно-лицемерных речений в прозе
Толстого. Они составляют приближение к истине, намекают на нее.
Истина просвечивает сквозь них тускло. Но она только лишь просвечивает
сквозь все слова, кроме евангельских. В этом отношении между
свидетельством компетентного и некомпетентного, проницательного и
глупого нет принципиальной разницы, поскольку и отделенность от
истины, неадекватность ей, и способность быть путем к ней лежит в самой
природе человеческого слова.
Нетрудно заметить, что в таком понимании слово получает характер
не конвенционального знака, а символа. К пониманию Достоевского
ближе не романтическое «Невыразимое» Жуковского, а аналитическое
слово Баратынского:
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел4.
Стремление видеть в отдельном факте глубинный символический смысл
присуще тексту Достоевского, хотя и не составляет его единственной
организующей тенденции5.
Интересный материал дает наблюдение над движением творческих
замыслов Достоевского: задумывая какой-либо характер, Достоевский
обозначает его именем или маркирует каким-либо признаком, который
позволяет ему сблизить его с каким-либо имеющимся в его памяти
символом, а затем «проигрывает» различные сюжетные ситуации,
прикидывая, как эта символическая фигура могла бы себя в них вести.
Многозначность символа позволяет существенно варьировать «дебюты»,
«миттель-» и «эндшпили» анализируемых сюжетных ситуаций, к которым
Достоевский многократно обращается, перебирая те или иные «ходы».
Так, например, за образом Настасьи Филипповны сразу же открыто
(прямо назван в тексте Колей Иволгиным и косвенно Тонким) возникает
образ «Дамы с камелиями» — «камелии». Однако Достоевский восприни-
мает этот образ как сложный символ, связанный с европейской культурой,
и, перенося его в русский контекст, не без полемического пафоса наблю-
дает, как поведет себя русская «камелия». Однако в структуре образа
4 Баратынский Е. Л. Поли. собр. стихотворений. Л., 1936. Т. 1. С. 184.
6 Творческое мышление Достоевского принципиально гетерогенно: наряду с
«символическим» смыслообразованием оно подразумевает и другие разнообразные
способы прочтения. И прямая публицистика, и репортерская хроника, как и многое
другое, входят в его язык, идеальной реализацией которого является «Дневник
писателя». Мы выделяем «символический» пласт в связи с темой статьи, а не из-за
единственности его в художественном мире писателя.
Символ в системе культуры
197
Настасьи Филипповны сыграли роль и другие символы-хранители культур-
ной памяти. Один из них мы можем реконструировать лишь предположи-
тельно. Замысел и первоначальная работа над «Идиотом» относится
к периоду заграничного путешествия конца 1860-х гг., одним из сильней-
ших впечатлений которого было посещение Дрезденской картинной
галереи. Отзвуки его (упоминание картины Гольбейна) звучат и в окон-
чательном тексте романа. Из дневника 1867 г. А. Г. Достоевской мы
знаем, что, посещая галерею, сначала она «видела все картины Рембранд-
та» одна, потом, обойдя галерею еще раз, вместе с Достоевским: «Федя
указывал лучшие произведения и говорил об искусстве»6.
Трудно предположить, чтобы Достоевский не обратил внимания на
картину Рембрандта «Сусанна и старцы». Картина эта, как и висевшее
в том же зале полотно «Похищение Ганимеда» («странная картина
Рембрандта», по словам Пушкина), должна была остановить внимание
Достоевского трактовкой волновавшей его темы: развратным покушением
на ребенка. В своем полотне Рембрандт далеко отошел от библейского
сюжета: в 13-й главе книги пророка Даниила, где рассказывается история
Сусанны, речь идет о почтенной замужней женщине, хозяйке дома.
А «старцы», покушавшиеся на ее добродетель, совсем не обязательно
старики7. Между тем Рембрандт изобразил девочку-подростка, худую и
бледную, лишенную женской привлекательности и беззащитную. Старцам
же он придал черты отвратительной похотливости, контрастно противо-
речащие их преклонному возрасту (ср. контраст между похотливой
распаленностью орла и маской испуга и отвращения на лице Ганимеда,
изображенного не мифологическим юношей, а ребенком).
То, что мы застаем в начале романа Настасью Филипповну в момент,
когда один «старец» — Тоцкий перепродает ее другому (формально Гане,
но намекается, что фактически генералу Епанчину), и сама история
обольщения Тоцким почти ребенка делают вероятным предположение,
что Настасья Филипповна воспринималась Достоевским не только как
«камелия», но и как «Сусанна». Но она же и «жена, взятая в блуде»,
о которой Христос сказал: «Иже есть без греха в вас, прежде верзи
камень в ню» и отказался осудить: «Ни азътебе осуждаю» (Ин. 8, 7—11).
На пересечении образов-символов камелии — Сусанны — жены-грешницы
рождается та свернутая программа, которой, при погружении ее в сюжет-
ное пространство романных замыслов, предстоит развернуться (и транс-
формироваться) в образе Настасьи Филипповны. Столь же вероятна
связь образа Бригадирши из пьесы Фонвизина и генеральши Епанчиной
как записанного в памяти символа и его сюжетной развертки. Более
сложен случай с Ипполитом Терентьевым. Персонаж этот многопланов, и,
вероятно, в него и вплелись в первую очередь разнообразные «символы
жизни» (символически истолкованные факты реальности)8. Обращает на
себя, однако, внимание такая деталь, как желание Ипполита перед
6 Цит. по: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964.
Т. 2. С. 104.
7 См.: «Старцы в Писании именуются люди иногда не по старости лет своих (...)
но по старшинству своего звания» {Церковный словарь (...) сочиненный Петром
Алексеевым. Спб., 1819. Ч. 4. С. 162).
8 Ср. утверждение Достоевского в статье «По поводу выставки» о том, что
реальность доступна человеку лишь как символическое обозначение идеи, а не
в виде действительности «как она есть», ибо «такой действительности совсем нет,
да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна,
а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее».
198
Текст как семиотическая проблема
смертью держать речь к народу и вера в то, что стоит ему «только четверть
часа в окошко с народом поговорить» и народ тотчас с ним «во всем
согласится» и за ним «пойдет» [VIII, 244—245]. Деталь эта, засевшая в
памяти Достоевского как емкий символ, восходила к моменту смерти
Белинского, так поразившему все его окружение. И. С. Тургенев вспо-
минал: «Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как
будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все
хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует»9.
Это запомнилось и Некрасову:
И наконец пора пришла...
В день смерти с ложа он воспрянул,
И снова силу обрела
Немая грудь — и голос грянул!..
...Кричал он радостно: «Вперед!» —
И горд, и ясен, и доволен:
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...10
Засевший в памяти писателя яркий эпизод символизировался и начал
проявлять типичные черты поведения символа в культуре: накапливать и
организовывать вокруг себя новый опыт, превращаясь в своеобразный
конденсатор памяти, а затем развертываться в некоторое сюжетное
множество, которое в дальнейшем автор комбинировал с другими сюжет-
ными построениями, производя отбор. Первоначальное родство с Белин-
ским при этом почти утратилось, подвергшись многочисленным трансфор-
мациям.
Следует иметь в виду, что символ может быть выражен в синкретиче-
ской словесно-зрительной форме, которая, с одной стороны, проецируется
в плоскости различных текстов, а с другой, трансформируется под обрат-
ным влиянием текстов. Так, например, легко заметить, что в памятнике
III Интернационала (1919—1920) В. Татлина структурно воссоздан
образ Вавилонской башни с картины Брейгеля-старшего. Связь эта не
случайна: интерпретация революции как восстания против бога была
устойчивой и распространенной ассоциацией в литературе и культуре
первых лет революции. И если в богоборческой традиции романтизма
героем бунта делался Демон, которому романтики придавали черты
преувеличенного индивидуализма, то в авангардной литературе после-
революционных лет подчеркивалась массовость и анонимность бунта
(ср. «Мистерия-буфф» Маяковского). Уже в формуле Маркса, бывшей
в эти годы весьма популярной, — «пролетарии штурмуют небо» —
содержалась ссылка на миф о вавилонской башне, подвергнутый двойной
инверсии: во-первых, переставлялись местами оценки неба и атакующей
его земли и, во-вторых, миф о разделении народов заменялся представ-
лением об их соединении, т. е. интернационале.
Таким образом, устанавливается цепочка: библейский текст («И
сказали друг другу: наделаем кирпичей, и обожжем огнем. И стали у них
9 Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников. Л.,
1929. С. 256.
1 Некрасов И. А. Поли. собр. соч.: В 15 т. Л., 1982. Т. 3. С. 49.
Символ в системе культуры
199
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали
они: построим себе город и башню, высотою до небес <...). И сошел
Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали
они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же
и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И
рассеял их Господь оттуда по всей земле» (Быт. 11, 4—8) — картины
Брейгеля — высказывание Маркса — памятник III Интернационала
Татлина. Символ выступает как отчетливый механизм коллективной
памяти.
Теперь мы можем попытаться очертить место символа среди других
знаковых элементов. Символ отличается от конвенционального знака
наличием иконического элемента, определенным подобием между планами
выражения и содержания. Отличие между иконическими знаками и
символами может быть проиллюстрировано антитезой иконы и картины.
В картине трехмерная реальность представлена двухмерным изобра-
жением. Однако неполная проективность плана выражения на план
содержания скрывается иллюзионистским эффектом: воспринимающему
стремятся внушить веру в полное подобие. В иконе (и символе вообще)
непроективность плана выражения на план содержания входит в природу
коммуникативного функционирования знака. Содержание лишь мерцает
сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание. В этом
отношении можно говорить о слиянии икона с индексом: выражение
указывает на содержание в такой же мере, в какой изображает его.
Отсюда известная конвенциональность символического знака.
Итак, символ выступает как бы конденсатором всех принципов
знаковости и одновременно выводит за пределы знаковости. Он посредник
между разными сферами семиозиса, а также между семиотической и
внесемиотической реальностью. В равной мере он посредник между
синхронией текста и памятью культуры. Роль его — роль семиотического
конденсатора.
Обобщая, можно сказать, что ст^укту^а^^
^Pb^oj^yej^^^
памяти индивида.
200
Текст как семиотическая проблема
Память в культурологическом освещении
1. С точки зрения семиотики, культура представляет собой коллективный
интеллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный механизм
^хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых.
В этом смысле пространство культуры может быть определено как
пространство некоторой общей памяти, т. е. пространство, в пределах
которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуали-
зированы. При этом актуализация их совершается в пределах некоторого
смыслового инварианта, позволяющего говорить, что текст в контексте
новой эпохи сохраняет, при всей вариантности истолкований, идентич-
ность самому себе. Таким образом, общая для пространства данной
культуры память обеспечивается, во-первых, наличием^ некоторых
константных текстов и, во-вторых, или единством кодов, или их инвариант-
ностью, или непрерывностью и закономерным характером их трансфор-
мации.
2. Память культуры не только едина, но и внутренне разнообразна.
Это означает, что ее единство существует лишь на некотором уровне и
подразумевает наличие частных «диалектов памяти», соответствующих
внутренней организации коллективов, составляющих мир данной куль-
туры. Тенденция к индивидуализации памяти составляет второй полюс ее
динамической структуры. Наличие культурных субструктур с различным
составом и объемом памяти приводит к разной степени эллиптичности
текстов, циркулирующих в культурных субколлективах, и к возникно-
вению «локальных семантик». При переходе за пределы данного субкол-
лектива эллиптические тексты, чтобы быть понятными, восполняются.
Такую же роль играют различные комментарии. Когда Державин в конце
жизни вынужден был написать обширный комментарий на собственные
оды, это вызвано было, с одной стороны, ощущением бега «реки вре-
мен», ясным сознанием того, что культурный коллектив его аудитории
екатерининских времен разрушен, а потомству, которое Державин считал
своей истинной аудиторией, текст может стать и вовсе непонятным.
С другой стороны, Державин остро ощущал разрушение жанра оды и
вообще поэтики XVIII в. (чему сам активно способствовал). Если бы
литературная традиция оставалась неизменной, то «память жанра» (М.
Бахтин) сохранила бы понятность текста, несмотря на смену коллективов.
Появление комментариев, глоссариев, как и восполнение эллипти-
ческих пропусков в тексте, — свидетельство перехода его в сферу
коллектива с другим объемом памяти.
3. Если позволить себе известную степень упрощения и отождествить
память с хранением текстов, то можно будет выделить «память информа-
тивную» и «память креативную (творческую)». К первой можно отнести
механизмы сохранения итогов некоторой познавательной деятельности.
Так, например, при хранении технической информации активным будет ее
итоговый (хронологически, как правило, последний) срез. Если кого-либо
и интересует история техники, то уж во всяком случае не того, кто
намерен практически пользоваться ее результатами. Интерес этот может
возникнуть у того, кто намерен изобрести что-либо новое. Но с точки
зрения хранения информации, в этом случае активен лишь результат,
итоговый текст. Память этого рода имеет плоскостной, раоюл^ж^щыд
в одном временном измерении, характер и подчинена закону хронологии.
Память в культурологическом освещении
201
Она развивается в том же направлении, что и течение времени, и согласо-
вана с этим течением.
Д£И)у^рогОйОрчегкпй памяти-явдаелхя^д частнр^^
Здесь активной оказывается потенциально^ вся толща текстов^1Уктуали~
зация тех или и,ных текстов подчиняется сложным законам общего
культурного движения и не _-мшк£1- быть сведенакформуле «самый
новый — самый ценный». Синусоидный характер" (н^Ггиример, Tiадение
актуальности Пушкина для русского читателя в 1840—1860-е гг., рост ее
в 1880—1900-е, падение в 1910—1920-е и рост в 1930-е и последующие
годы, смена «сбрасывания с корабля современности» и «возведения на пье-
дестал») — наиболее простой вид смены культурного «забывания» и
«припоминания». Общая актуализация всех форм архаического искус-
ства, затронувшая не только средние века, но и неолит, стала характерной
чертой европейской культурной памяти второй половины XX в. Одно-
временно деактуализация («как бы забвение») охватила культурную
парадигму, включающую античное и ренессансное искусство. Таким
образом, эта сторона памяти культуройMQ€T Еан^рАцныи, континуально-
пространственный характер. Актуальные тексты высвечиваются памятью,
а неактуальные не исчезаютГ а как бй"1югаса1ю1\^^ пртенцию.
Это расположение текстов имеет не синтагматический, а континуальный
характер и образует в своей целостности текст, который следует ассоции-
ровать не с библиотекой или машинной памятью в технически возможных
в настоящее время формах, а с кинолентой типа «Зеркала» А. Тарковского
или «Egy barany» («Агнец божий») Миклоша Янчо.
1^л_ьтшая naMjTb_j<aKjLB^ не только панхронна^
HO^JipjDj^HBOCTOHT времени. Она сохраняет прошедшее как пребывающее.
С точки зрен!Гя^"амят1Ткак работающего всей своей толщей механизма,
прошедшее не прошло. Поэтому историзм в изучении литературы, в том
его виде, какой был создан сначала гегельянской теорией культуры,
а затем позитивистской теорией прогресса, фактически антиисторичен,
так как игнорирует активную роль памяти в порождении новых текстов.
4. В свете сказанного следует привлечь внимание к тому, что новые
тексты создаются не только в настоящем срезе культуры, но и в ее про-
шлом. Это, казалось бы, парадоксальное высказывание лишь фиксирует
очевидную и всем известную истину. На протяжении всей истории
культуры постоянно находят, обнаруживают, откапывают из земли или
из библиотечной пыли «неизвестные» памятники прошлого. Откуда они
берутся? Почему в литературоведческих изданиях мы постоянно сталки-
ваемся с заглавиями типа «Неизвестный памятник средневековой поэзии»
или «Еще один забытый писатель XVIII века»?
Каждая здл^т^ что следует помнить
(т. е. хранить)^а что тю^^^т^абвен^ю^ Последнее вычеркивается из
памяти коллективна и «j<aK J^j^e£X3£^^
время, система культурных кодовт и меняется.аарадигмадамяти-забвения.
^^jJTnj^bPRJiHjrnrh игти!щ^ может оказаться «как бы
не существующим» и подлежащим забвению, а несуществовавшее —
сделаться существующим и значимым. Античные статуи находили и
в до^^сан^н'ую эпохуГно их выбрасывали и уничтожали, а не хранили.
Русская средневековая иконопись была, конечно, известна и в XVIII, и в
XIX вв. Но как высокое искусство и культурная ценность она вошла
в сознание послепетровской культуры лишь в XX в.
Однако меняется не только[состав. Tjej^XQJ^. меняются сами тексты.
Под влиянием новых кодов, которые используются для дешифровки
текстов, отложившихся в памяти культуры в давно прошедшие времена,
202
Текст как семиотическая проблема
происходит смещение значимых и незначимых элементов структуры
текста. Фактически тексты, достигшие по сложности своей организации
уровня искусства, вообще не могут быть пассивными хранилищами кон-
стантной информации, поскольку являются не складами, а генераторами.
Смыслы в памяти культуры не «хранятся.»ja растут^ Тексты, образующие
«обцгую^шщяц^ку^ не,столько служат средством
1\ешифровки текстов., циркулирующих в современно-синхронном срезе
кул ьтур.ьи. Ro.it х£яерлруют. лояые.
" Ъ. Продуктивность смыслообразования в процессе столкновения храня-
щихся в памяти культуры текстов и современных кодов зависит от меры
семиотического сдвига. Поскольку коды культуры развиваются, динами-
чески включены в исторический процесс, прежде всего, играет роль
некоторое опережение текстами динамики кодового развития. Когда
античная скульптура или провансальская поэзия наводняют культурную
память позднего итальянского средневековья, они вызывают взрывную
революцию в системе «грамматики культуры». При этом новая грамма-
тика, с одной стороны, влияет на создание соответствующих ей новых
текстов, а с другой, определяет восприятие старых, отнюдь не адекватное
античному или провансальскому.
Более сложен случай, когда в память культуры вносятся тексты,
далеко отстоящие по своей структуре от ее имманентной организации,
тексты, для дешифровки которых ее внутренняя традиция не имеет
адекватных кодов. Такими случаями являются массовое вторжение пере-
водов христианских текстов в культуру Руси XI—XII вв. или западно-
европейских текстов в послепетровскую русскую культуру.
В этой ситуации возникает разрыв между памятью культуры и ее
синхронными механизмами текстообразования. Ситуация эта обычно
имеет общие типологические черты: сначала в текстообразовании насту-
пает пауза (культура как бы переходит на прием, объем памяти увеличи-
вается с гораздо большей скоростью, чем возможности дешифровки
текстов), затем наступает взрыв, и новое текстообразование приобретает
исключительно бурный, продуктивный характер. В этой ситуации развитие
культуры получает вид исключительно ярких, почти спазматических
вспышек. Причем переживающая период вспышки культура из периферии
культурного ареала часто превращается в его центр и сама активно
транслирует тексты в затухающие кратеры прежних центров тексто-
образовательных процессов.
В этом смысле культуры, память которых в основном насыщается ими
же созданными текстами, чаще всего характеризуются постепенным и
замедленным развитием, культуры же, память которых периодически
подвергается массированному насыщению текстами, выработанными в
иной традиции, тяготеют к «ускоренному развитию» (по терминологии
Г. Д. Гачева).
6. Тексты, насыщающие память культуры, жанрово неоднородны. То,
что было сказано выше о воздействии инокультурных текстов, mutanto
mutandis может быть сказано о вторжении живописных текстов в поэтиче-
ский процесс текстообразования, театра — в бытовое поведение или
поэзии — в музыку, т. е. о любых конфликтах между жанровой природой
текстов, доминирующих в памяти, и кодов, определяющих настоящее
состояние культуры.
Сказанное, даже в столь сжатом виде, позволяет говорить о том, что
память не является для культуры пассивным хранилищем, а составляет
часть ее текстообразующего механизма.
О содержании и структуре...
203
О содержании и структуре понятия
«художественная литература»
Объектом изучения литературоведа является художественная литература.
Положение это настолько очевидно, а само понятие художественной
литературы представляется в такой мере первичным и непосредственно
данным, что определение его мало занимает литературоведов. Однако, как
только мы удаляемся за пределы привычных нам представлений и той
культуры, в недрах которой мы воспитаны, количество спорных случаев
начинает угрожающе возрастать. Не только при изучении средневековой
(например, древнерусской) литературы, но и в значительно более близкие
эпохи провести черту, обозначающую рубеж юрисдикции литературоведа
и начало полномочий историка, культуролога, юриста и т. п., оказывается
делом совсем не столь уж простым. Так, мы, не задумываясь, исключаем
«Историю государства Российского» из области художественной литера-
туры. «Опыт теории партизанского действия» Д. Давыдова не рассматри-
вается как факт русской прозы, хотя Пушкин оценивал эту книгу прежде
всего с точки зрения стиля («Узнал я резкие черты / Неподражаемого
слога»). Факты подвижности границы, отделяющей художественный
текст от нехудожественного, многочисленны. На динамический характер
этого противопоставления указывали многие исследователи, с особенной
четкостью — М. М. Бахтин, Ю. Н. Тынянов, Я. Мукаржовский.
Если рассматривать художественную литературу как определенную
сумму текстов1, то прежде всего придется отметить, что в общей
системе культуры эти,тексты будут составлять часть. Существование
художественных текстов подразумевает одновременное наличие нехудо-
жественных и то, что коллектив, который ими пользуется, умеет
проводить различие между ними. Неизбежные колебания в пограничных
случаях только подкрепляют самый принцип: когда мы испытываем
сомнения, следует ли отнести русалку к женщинам или У рыбам, или
свободный стих к поэзии или прозе, мы заранее исходим из этих класси-
фикационных делений как данных. В этом смысле представление
о литературе (логически, а не исторически) предшествует литературе.
(_ Разграничение произведений художественной литературы и всей массы
остальных текстов, функционирующих в составе данной культуры, может
осуществляться с двух точек зрения.
1.Функционально. С этой точки зрения, художественной литера-
турой будет являться всякий словесный текст, который в пределах данной
культуры способен реализовать эстетическую функцию. Поскольку в прин-
ципе возможно (а исторически весьма нередко) положение, при котором
для обслуживания эстетической функции в эпоху создания текста и
в эпоху его изучения необходимы разные условия, текст, не входящий
для автора в сферу искусства, может принадлежать искусству, с точки
зрения исследователя, и наоборот.
Одно из основных положений формальной школы состоит в том, чт;о
эстетическая функция реализуется тогда, когда текст замкнут на себя,
1 Понятие текста принимается здесь, в соответствии с определением, данным
выше (см. статью «Устная речь в историко-культурной перспективе»).
Текст может быть выражен в устных знаках (фольклор), закреплен средствами
письменности, сыгран (выражен в системе театральных знаков).
204
Текст как семиотическая проблема
функционирование определено установкой на выражение и, следова-
тельно, если в нехудожественном тексте вперед выступает вопрос «что»,
то эстетическая функция реализуется при установке на «как». Поэтому
план выражения становится некоторой имманентной сферой, получающей
самостоятельную культурную ценность. Новейшие семиотические исследо-
вания подводят к прямо противоположным выводам. Эстетически
функционирующий текст выступает как текст повышенной, а не понижен-
ной, по отношению к нехудожественным текстам, семантической нагрузки.
Он значит больше, а не меньше, чем обычная речь. Дешифруемый при
помощи обычных механизмов естественного языка, он раскрывает опреде-
ленный уровень смысла, но не раскрывается до конца. Как только
получателю информации становится известно, что перед ним художест-
венное сообщение, он сразу к нему подходит совершенно особым образом.
Текст предстает перед ним дважды (как минимум) зашифрованным;
первая зашифровка — система естественного языка (предположим,
русского). Поскольку эта система шифра дана заранее и адресант с
адресатом одинаково свободно ею владеют, дешифровка на этом уровне
производится автоматически, механизм ее становится как бы прозрач-
ным — пользующиеся перестают его замечать. Однако этот же текст —
получатель информации знает это — зашифрован еще каким-то другим
образом. В условие эстетического функционирования текста входит пред-
варительное знание об этой двойной шифровке и незнание (вернее,
неполное знание) о применяемом при этом вторичном коде. Поскольку
получатель информации не знает, что в воспринятом им тексте на этом
втором уровне значимо, а что — нет, он «подозревает» все элементы
выражения на содержательность. Стоит нам подойти к тексту как к худо-
жественному, и в принципе любой элемент — вплоть до опечаток, как
проницательно писал Э. Т. А. Гофман в предисловии к «Житейским
воззрениям кота Мурра», — может оказаться значимым. Приклады-
вая к художественному произведению целую иерархию дополнительных
кодов: общеэпохальных, жанровых, стилевых, функционирующих в пре-
делах всего национального коллектива или узкой группы (вплоть до инди-
видуальных), мы получаем в одном и том же тексте самые разно-
образные наборы значимых элементов и, следовательно, сложную иерар-
хию дополнительных по отношению к нехудожественному тексту пластов
значений.
Таким образом, формальная школа сделала, бесспорно, верное наблю-
дение о том, что в художественно функционирующих текстах внимание
оказывается часто приковано к тем элементам, которые в иных случаях
воспринимаются автоматически и сознанием не фиксируются. Однако
объяснение ему было сделано ошибочное. Художественное
функционирование порождает не текст, «очищенный» от значений, а,
напротив, текст, максимально перегруженный значениями. Как только мы
улавливаем некоторую упорядоченность в сфере выражения, мы ей
немедленно приписываем определенное содержание или предполагаем
наличие здесь еще не известного нам содержания. Изучение содержатель-
ных интерпретаций музыки дает здесь весьма интересные подтверждения.
2. С точки зрения организации текста. Для того чтобы
текст мог себя вести указанным выше образом, он должен быть опреде-
ленным способом построен: отправитель информации его действи-
тельно зашифровывает многократно и разными кодами (хотя в
отдельных случаях возможно, что отправитель создает текст как нехудо-
жественный, то есть зашифрованный однократно, а получатель припи-
сывает ему художественную функцию, примышляя более поздние коди-
О содержании и структуре...
205
ровки и дополнительную концентрацию смысла). Кроме того, получа-
тель должен знать, что текст, к которому он обращается, следует рас-
сматривать как художественный. Следовательно, текст должен быть опре-
деленным образом семантически организован и содержать сигналы,
обращающие внимание на такую организацию. Это позволяет описывать
художественный текст не только как определенным образом функциони-
рующий в общей системе текстов данной культуры, но и как некоторым
образом устроенный. Если в первом случае речь пойдет о структуре
культуры, то во втором — о структуре текста.
Между функцией текста и его внутренней организацией нет одно-
значной автоматической зависимости: формула отношения между двумя
этими структурными принципами складывается для каждого типа куль-
туры по-своему, в зависимости от наиболее общих идеологических
моделей. В самом общем и неизбежно схематическом виде соотношение
это можно определить так: в период возникновения той или иной системы
культуры складывается определенная, присущая ей, структура функций и
устанавливается система отношений между функциями и текстами. Так,
например, в 1740—1750-е гг. в русской литературе происходит упорядоче-
ние на самых различных уровнях: метрическом, стилистическом, жанровом
и т. д. Одновременно устанавливалась система отношений между этими
организациями и их общая ценностная иерархия.
Затем период организации заканчивается. Известная неопределенность
в соотнесенности звеньев уступает место однозначной упорядоченности,
что означает падение информационной емкости системы, ее закостенение.
В этот момент, как правило, происходит смена эстетических теорий, а если,
как это часто бывает, художественное закостенение оказывается лишь
частным проявлением более широких — уже общественных — процессов
стагнации, то и смена глубинных идеологических представлений. На этой
стадии система функций и система внутренних построений текстов могут
освобождаться от существующих связей и вступать в новые комбинации:
сменяются ценностные характеристики; «низ», «верх» культуры функцио-
нально меняются местами. В этот период тексты, обслуживающие эстети-
ческую функцию, стремятся как можно менее походить своей имманентной
структурой на литературу. Самые слова «искусство», «литература» при-
обретают уничижительный оттенок. Но наивно думать, что иконоборцы
в области искусства уничтожают эстетическую функцию как таковую.
Просто, как правило, художественные тексты в новых условиях оказы-
ваются неспособными выполнять художественную функцию, которую
с успехом обслуживают тексты, сигнализирующие своим типом органи-
зации о некоторой «исконной» нехудожественной ориентации. Так, исклю-
ченный теорией классицизма из пределов искусства фольклор сделался
для просветителей и предромантиков идеальной эстетической нормой.
Аналогичной была судьба очерка, который именно из-за своей «нехудо-
жественности» оказывался в 1840-е, 1860-е гг., да и позже, в поворотные
моменты литературного развития, ведущим художественным жанром.
Далее следует этап формирования новой системы идейно-художествен-
ных кодификаций, в результате чего между структурой текстов и их
функцией складывается новая — первоначально достаточно гибкая —
система отношений.
Таким образом, в художественном развитии пр'инимают участие не
только художественные тексты. Искусство, представляя собой часть
культуры, нуждается для своего развития в не-искусстве, подобно тому,
как культура, составляя лишь часть человеческого бытия, нуждается
в динамическом соотнесении с внешней для нее сферой не-культуры —
206
Текст как семиотическая проблема
незнакового, нетекстового, несемиотического бытия человека. Между
внешней и внутренней сферами происходит постоянный обмен, сложная
система вхождений и выведений. Причем сам факт введения текста
в сферу искусства означает перекодировку его на язык художественного
восприятия, то есть решительное переосмысление.
Кроме отношения текста и функции существенную роль в механизме
литературного развития играет система оценок. Вся система текстов,
входящих в культуру, в ценностном отношении организуется трехступен-
чатой шкалой: «верх», отождествляемый с высшими ценностными
характеристиками, «низ», представляющий противоположность его2, и
промежуточная сфера, нейтральная в аксиологическом отношении.
Уже само распределение различных по своей природе и функции групп
текстов по классам аксиологической иерархии способно стать сущест-
венной типологической характеристикой данного вида культуры. Пред-
положим, что мы имеем дело с культурой, в которой этический вид текстов
занимает позицию ценностного «верха», а художественный — «низа»,
и другую, с противоположным распределением оценок этих классов.
Уже этого будет достаточно, чтобы увидеть в первой существенное
типологическое сходство со средневековой церковной культурой, а во
второй — с Римом периода упадка или любой эстетской системой.
Понятно, сколь существенное значение для понятия литературы в этой
системе имеет место, которое ей отводится в общей ценностной иерархии
текстов.
Однако в данном случае оказывается, что художественные тексты ведут
себя иначе, чем все остальные. Обычно место текста или его агента (ибо
каждому виду текстов соответствует определенная деятельность) в общей
иерархии культуры обозначено однозначно: сакральный текст или место
монаха может быть святым или презренным, но не может быть святым и
презренным одновременно. Юридический текст и свойство быть закон-
ником также в каждом типе культуры оценивается однозначно (создаю-
щий законы подлежит высшей оценке для Цицерона, низшей — для
Христа, в средневековой иерархии он занимает срединное место). Только
художественные тексты могут быть предметом взаимоисключающих аксио-
логических оценок. Хотя художественным текстам в общей иерархии
культуры отводится определенное место, они постоянно проявляют тенден-
цию к расположению на противоположных концах лестницы, то есть в
исходной позиции задают некоторый конфликт, создающий потенциаль-
ную возможность дальнейшей нейтрализации в некоторых амбивалентных
текстах. Тексты, обслуживающие другие культурные функции, ведут себя
принципиально иным образом. Для того чтобы объяснить это явление,
следует обратиться к внутренней организации того комплекса текстов,
который мы определяем как художественную литературу.
Внутренняя организация художественной литературы — ив этом ее
отличие от других классов текстов, которые относительно однородны по
отношению к общей системе культуры, — изоморфна культуре как
таковой, повторяет общие принципы ее организации.
Литература никогда не представляет собой аморфно-однородной суммы
текстов: она не только организация, но и самоорганизующийся механизм.
2 Культурная функция текстов, амбивалентных в отношении к оппозиции
«верх/низ», и механизм мены функций между «верхом» и «низом» рассмотрены
М. М. Бахтиным в монографии «Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса»(М., 1965).
О содержании и структуре...
207
На самой высокой ступени организации она выделяет группу текстов более
абстрактного, чем вся остальная масса текстов, уровня, то есть мета-
текстов. Это нормы, правила, теоретические трактаты и критические
статьи, которые возвращают литературу в ее самое, но уже в органи-
зованном, построенном и оцененном виде. Организация эта складывается
из двух типов действий: исключения определенного разряда текстов из
круга литературы и иерархических организаций и таксонометрической
оценки оставшихся.
Самоосмысление литературы начинается с исключения определенного
типа текстов. Так начинается разделение на «дикие», «нелепые» и
«правильные», «разумные» тексты в эпоху классицизма, на «словесность»
и «литературу» у Белинского 1830-х гг. (в дальнейшем это противопостав-
ление получит другой смысл и за словесностью будет признано право тоже
считаться литературой, хотя особой ценности — «беллетристикой»).
Наглядный пример — совмещение понятия «литература» с одним из
полюсов оппозиции «стихи—проза», причем противоположный объяв-
ляется не-литературой. Так, в русской литературе 1810-х — первой
половины 1820-х гг. само понятие художественной словесности практи-
чески совмещается с поэзией; в сознании «шестидесятников» мы наблю-
даем противоположное явление.
Исключение определенных текстов из литературы совершается не
только в синхронном, но и в диахронном плане; тексты, написанные до
возникновения декларируемых норм или им не соответствующие, объяв-
ляются не-литературой. Так, Буало выводит из пределов литературы
огромные пласты европейского словесного искусства, Карамзин в декла-
ративном стихотворении «Поэзия» утверждает, что поэзия в России скоро
появится, то есть еще не существует, хотя стихотворение написано после
окончания поэтического поприща Ломоносова, Сумарокова, Тредиаков-
ского и в разгар поэтической деятельности Державина. Такой же смысл
имеет тезис «у нас нет литературы», с которым выступали Андрей Тургенев
в 1801 г., Кюхельбекер в 1825 г., а позже — Веневитинов, Надеждин,
Пушкин (см. набросок «О ничтожестве литературы русской»), Белинский
в «Литературных мечтаниях». Аналогичный смысл имело позже утверж-
дение, что русская литература до какого-то момента (как правило,
момента создания данного метатекста) не обладала каким-либо основным
и единственно дающим право называться литературой свойством —
например, народностью («О степени участия народности в литературе»
Добролюбова), отражением народной жизни («Что такое искусство?»
Л. Толстого) и т. д. Отобранный в соответствии с определенными
теоретическими концепциями состав имен и текстов, включаемых в
литературу, в дальнейшем подвергается канонизации в результате
составления справочников, энциклопедий и хрестоматий, проникает в
сознание читателей. Оттенок полемики, присущий ему, утрачивается,
забываются конкретные имена создателей легенды, и то, что представляло
собой полемические гиперболы и метафоры, начинает восприниматься в
прямом смысле.
Приведем пример того, как рожденная потребностями литературной
борьбы самооценка литературы превращается в некоторый тип условного
кода, который в руках потомства служит основанием для выделения
значимых текстов и дешифровки их.
Белинский, борясь за утверждение реалистической литера-
туры, полемически утверждал, что русская литература начинается с
Пушкина (утверждение это было направлено в первую очередь против
традиции карамзинизма, начинавшей родословную русской литературы
208
Текст как семиотическая проблема
с Карамзина; XVIII в. и классицизм были вычеркнуты из литературы еще
декабристской критикой и Н. Полевым). Однако Белинский, холодно —
и несправедливо — относившийся к допетровской литературной тради-
ции, был блестящим знатоком литературы XVIII в. и, хотя многократно
подвергал ее резкой критике, конечно, не предполагал, что кто-либо может
понять его слова в смысле отрицания самого факта ее существования.
Вспомним, что нормой литературного вкуса, основой для тривиальных
суждений все еще оставались в его эпоху Ломоносов и Державин, а имя
Карамзина было окружено настоящим культом поклонения. Это застав-
ляло Белинского полемически преувеличивать отрицание. Однако не
случайно Белинский историю русской литературы неизменно начинал
(в зависимости от эволюции его теоретических представлений) то с
Ломоносова, то с Кантемира. В дальнейшем мысль о том, что русская
литература начинается с Пушкина, отделилась от своих исторически
обусловленных контекстов, подверглась своеобразной мифологизации и
перешла не только в строки журнально-критических статей, а через них —
в сознание основной массы читателей середины и второй половины XIX в.,
но и легла в основу академических историй литературы, создававшихся
в ту эпоху. И вот в XX в. пришлось заново «открывать» существование
русской литературы XVIII в.
Таким образом, потомки получают от каждого этапа литературы
не только некоторую сумму текстов, но и созданную ею самой о себе
легенду и определенное количество апокрифических — отвергнутых и
преданных забвению — произведений.
Однако реальная картина литературной жизни, как правило, услож-
няется тем обстоятельством, что литература одного и того же времени
чаще всего подвергается осмыслению с нескольких точек зрения, причем
границы понятия «литература» могут расходиться при этом достаточно
далеко. Колебание между ними обеспечивает системе в целом необхо-
димую информативность.
Одновременно с включением (выключением) тех или иных текстов из
области литературы работает и другой механизм — иерархического
распределения литературных произведений и ценностной их характе-
ристики. В зависимости от той или иной общекультурной позиции за
основу распределения берутся нормы стиля, тематика, связь с определен-
ными философскими концепциями, выполнение или нарушение общепри-
нятой системы правил, но неизменен самый принцип иерархической
ценностной характеристики: внутри литературы тексты также относятся
к аксиологическому «верху», «низу» или некоторой нейтральной про-
межуточной сфере.
Распределение внутри литературы сферы «высокого» и «низкого» и
взаимное напряжение между этими областями делает литературу не
только суммой текстов (произведений), но и текстом, единым меха-
низмом, целостным художественным произведением. Постоянство и едино-
образие этих структурных принципов для литератур различных народов
и эпох поистине достойно внимания. Видимо, описывая литературу той
или иной эпохи как единый текст, мы скорее всего приблизимся к задаче
выделения универсалий литературы как специфического явления.
Внутренняя классификация литературы складывается из взаимо-
действия противоположных тенденций: упомянутого выше стремления
к иерархическому распределению произведений и жанров, равно как и
любых иных значимых элементов художественной структуры, между
«высоким» и «низким», с одной стороны, и тенденции к нейтрализации
этой оппозиции и снятию ценностных противопоставлений, с другой.
О содержании и структуре...
209
В зависимости от исторических условий, от момента, который переживает
данная литература в своем развитии, та или иная тенденция может брать
верх. Однако уничтожить противоположную она не в силах: тогда
остановилось бы литературное развитие, поскольку механизм его, в
частности, состоит в напряжении между этими тенденциями.
Другим примером внутренней организации литературы как целостного
организма может быть противопоставление «высокой» и «массовой»
литературы. В рамках единой литературы всегда ощущается разграниче-
ние литературы, состоящей из уникальных произведений, лишь с извест-
ным трудом поддающихся классификационной унификации, и компактной,
однородной массы текстов3. Выделить какой-либо признак, с тем чтобы
приписать его исключительно той или иной из названных групп, затруд-
нительно, поскольку история литературы убеждает, что они легко и
постоянно обмениваются признаками. Так, с первого взгляда может
показаться, что в классовом обществе «высокая» литература неизменно
должна быть связана с господствующими классами, а «массовая» —
с демократией. Именно так считали социологи 1920-х гг., а под их
влиянием — и В. Б. Шкловский, выдвигавший в известной монографии
Матвея Комарова на вакансию народного писателя.
Между тем в истории литературы достаточно примеров, когда действи-
тельно вершинная литература идеологически связана с социальными
верхами, но не меньше и противоположных. И личные вкусы Николая I,
воспитанные переходами от бюргерских добродетелей сентиментального
гемюта Марии Федоровны к казарменному романтизму, и социальные
интересы представляемых им общественных сил были на стороне «массо-
вой» литературы Булгарина, Загоскина и Кукольника, а не «вершинной»
— Пушкина или Лермонтова.
«Вершинная» и «массовая» литература каждая в отдельности могут
приобретать в конкретных исторических условиях самые различные
значения: социальные, эстетические или общефилософские. Постоянна
лишь их функциональная противопоставленность4. Для того чтобы при-
дать этим понятиям некоторую конкретность, рассмотрим проблему
«массовой литературы» подробнее.
Интерес к массовой литературе возник в русском классическом литера-
туроведении как противодействие романтической традиции изучения
«великих» писателей, изолированных от окружающей эпохи и противо-
поставленных ей. Академик А. Н. Веселовский сопоставил исследования,
построенные на основе теории «героев, этих вождей и делателей
человечества» — в духе идей Карлейля и Эмерсона, — с парком в стиле
XVIII в., в котором «все аллеи сведены веером или радиусами к дворцу
или какому-нибудь псевдоклассическому памятнику, причем всегда ока-
зывается, что памятник все же не отовсюду виден, либо неудачно
освещен, или не таков, чтобы стоять ему на центральной площадке»5.
«...Современная наука, — писал он далее, — позволила себе заглянуть
в те массы, которые до тех пор стояли позади их, лишенные голоса;
3 Мы исключаем из рассмотрения проблему «Литература и фольклор» как
самостоятельный и сложный вопрос, ограничиваясь рассмотрением функций внутри
письменной литературы.
4 Механизм нейтрализации, конечно, работает и здесь, например в случаях,
когда «высокое» искусство сознательно ориентируется на «массовое» — ср.
увлечение примитивом, архаическими формами литературы или детской поэзией.
5 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 43.
210
Текст как семиотическая проблема
она заметила в них жизнь, движение, неприметное простому глазу,
как все, совершающееся в слишком обширных размерах пространства и
времени; тайных пружин исторического процесса следовало искать здесь,
и вместе с понижением материального уровня исторических изысканий
центр тяжести был перенесен в народную жизнь»6.
Такой подход, проявившийся в трудах А. Н. Пыпина, В. В.Сиповского,
самого А. Н. Веселовского, а позже — В. Н. Перетца, М. Н. Сперан-
ского и многих других исследователей, обусловил интерес к низовой
и массовой литературе. Имея отчетливо демократический характер как
явление идеологическое, этот подход, в собственно научном смысле, был
связан с расширением круга изучаемых источников и проникновением
в историю литературы методов, выросших на почве фольклористики, и,
отчасти, лингвистических приемов исследования.
Критика, которой подвергался в ряде случаев такой подход к истории
литературы, связана была с тем, что при этом часто ставился знак
равенства между массовостью и исторической значимостью.
Критерий идейной или эстетической ценности текстов отменялся как
«ненаучный». Сам термин «произведение искусства» заменен был «пози-
тивным» понятием '«^памятника письменности». Неслучайно вторже-
ние методов фольклористики и медиевистики, ибо в изучаемых ими
текстах, вопреки традиции Буслаева (продолжателями которой позже
выступили академики А. С. Орлов, И. П. Еремин, Д. С. Лихачев), видели
не произведения искусства, а «памятники». Утрата ученым непосред-
ственно эстетического переживания текста мыслилась как благоприятное
обстоятельство. Ученый должен не реконструировать эстетическое пере-
живание чуждых текстов, а отстраниться от этого переживания даже при
рассмотрении близких. Тогда произведение превратится в памятник, а
исследователь возвысится до вершин позитивного его изучения. К чему это
приводило, показала «История русского романа» В. В. Сиповского.
Дальнейший шаг вперед в изучении массовой литературы был сделан
в 1920-х гг. Неудачные попытки социологов отождествить ее с демократи-
ческой струей в русской литературе, одновременно дискредитируя
высшие культурные ценности как классово чуждые народу, мало способ-
ствовали продвижению проблемы. Значительно плодотворнее было стрем-
ление ряда ученых рассмотреть взаимодействие массового и
вершинного аспектов истории литературы. Именно так был поставлен
вопрос в книге В. М. Жирмунского «Байрон и Пушкин», где требование
«широкого изучения массовой литературы эпохи» связывалось
с взаимодействием ее с процессами «высокой» литературы. Ряд интерес-
ных наблюдений был сделан Б. М. Эйхенбаумом и В. Б. Шкловским.
Одновременно Ю. Н. Тынянов создал стройную теорию, в которой меха-
низм литературной эволюции определялся взаимовлиянием и взаимной
функциональной сменой «верхнего» и «нижнего» ее пластов. В неканони-
зированной словесности, находящейся за пределами узаконенной литера-
турными нормами, литература черпает резервные средства для новатор-
ских решений будущих эпох.
Несмотря на известную упрощенность предлагаемой Тыняновым схемы,
ему принадлежит бесспорная честь первой попытки описания меха-
низма диахронного движения литературы. Вершиной рассмотрения
динамики литературы как борьбы, напряжения между культурным
«верхом» и «низом», нейтрализации этого напряжения в амбивалентных
текстах и соотношения этого процесса с общей эволюцией культуры,
ь Всселовский А. И. Указ. соч. С. 44.
О содержании и структуре...
211
бесспорно, до сих пор остается книга М. М. Бахтина «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».
Понятие массовой литературы — понятие социологическое (в терминах
семиотики — «прагматическое»). Оно касается не столько структуры того
или иного текста, сколько его социального функционирования в общей
системе текстов, составляющих данную культуру. Таким образом, понятие
это, в первую очередь, определяет отношение того или иного
коллектива к определенной группе текстов. Одно и то же произведение
может с одной точки зрения включаться в это понятие, а с другой —
исключаться. Так, поэзия Тютчева, с пушкинской точки зрения, была
фактом массовой литературы; Белинский относил к ней Баратынского.
Однако для нас Тютчев так же в нее не входит, как не входил в нее
Баратынский для Пушкина. Сочинения В. Петрова, несмотря на сдер-
жанно-иронический отзыв Новикова в «Опыте исторического словаря
о российских писателях», относились современниками к вершинам лите-
ратуры. Пушкин в стихотворении, оглашенном им на лицейском перевод-
ном экзамене в 1815 г., назвал из всех русских поэтов, характеризуя
XVIII в., лишь два имени: присутствовавшего тут же Державина и
Петрова, поставив нарядом. Державину и в голову не пришло обидеться
или возразить, хотя чувство поэтической иерархии было у него развито
весьма сильно.
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громкозвучных лир.
Для нас Петров — яркий пример массовой литературы XVIII в.
Аналогичное перемещение пережил и Херасков.
Понятие массовой литературы подразумевает в качестве обязательной
антитезы некоторую вершинную культуру. Говорить о массовой литера-
туре применительно к текстам, не разделенным по признаку распростра-
нения, ценности, доступности, способу фиксации или хранения или
каким-либо иным образом (например, применительно к фольклору),
очевидно, не имеет смысла. Видимо, можно предположить следующую
схему усложнения парадигмы художественных текстов:
2 этап 3 этап
Письменная Вершинная письмен-
литература ная литература
Массовая письмен-
ная литература
1этап
Фольклор
Фольклор
Фольклор
212
Текст как семиотическая проблема
Таким образом, на третьем этапе массовая литература представляет
собой фольклор письменности и письменность фольклора. Она часто
выполняет роль резервуара, в котором обе эти группы текстов обмени-
ваются культурными ценностями (хотя, конечно, существует и прямой
обмен). В XX в. развитие средств массовой коммуникации и сложность
судеб народного сознания создают между этими группами особые отно-
шения и вводят новые факторы, рассмотрение которых не есть предмет
настоящей работы.
Массовая литература должна обладать двумя взаимно противореча-
щими признаками. Во-первых, она должна представлять более распро-
страненную в количественном отношении часть литературы. При рассмот-
рении признаков «более распространенная — менее распространенная»,
«более читаемая — менее читаемая», «более известная — менее извест-
ная» массовая литература получит более сильные характеристики.
Следовательно, в определенном коллективе она будет осознаваться как
культурно полноценная и обладающая всеми качествами, необходимыми
для эстетического функционирования. Однако, во-вторых, в том же
обществе должны действовать и быть активными нормы и представления,
с точки зрения которых эта литература не только оценивалась бы
чрезвычайно низко, как «плохая», «грубая», «устаревшая» или по какому-
нибудь другому признаку исключенная, отверженная, апокрифическая,
но и как бы не существовала вовсе.
Иногда сама эта выключенность будет повышать интерес к тексту. Так,
например, в пушкинскую эпоху читатель имел дело как бы с двумя
параллельными иерархиями поэтических ценностей: одна — официаль-
ная — будет распространяться на печатную литературу, другая — на
«отверженные» рукописные тетради:
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил,
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненьи...
Не трудно отгадать;
Так, это сочиненья,
Презревшие печать...7
Отношения между этими группами могли складываться самым разно-
образным путем. Так, массовая литература может копировать «высокую»,
создавая ее упрощенный и переведенный на значительно более примитив-
ный язык вариант. На материалах литовского лубка прекрасно прослежи-
вается его стремление подражать «высокой» живописи барочного типа.
Массовая поэма русского романтизма начала 1820-х гг. канонизирует
нормы пушкинской «южной поэмы», превращая их в штамп.
Возможно и другое отношение, в основе которого лежит не стремление
уподобиться высокой литературе, а борьба с ней, однако в пределах общих
структурных норм, почерпнутых из той же высокой литературы. В этом
случае возникают пародии типа «Службы кабаку» XVII в. или ирои-
комических поэм XVIII в. Массовая литература мыслит себя как
7 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 1. С. 99.
О содержании и структуре...
213
зеркально перевернутую высокую с обращенной системой аксиологиче-
ских оценок8.
Возникают правила «отверженной» литературы, ее классики и ее
штампы. Так, если в русской литературе XVIII — начала XIX в. норма-
тивы высокой поэзии предполагали место «возвышенного певца», барда,
бича пороков, на которое в разное время претендовали Державин или
Капнист, Гнедич или Рылеев, то эта же позиция имела своеобразного
двойника в сфере, которую мы сейчас рассматриваем (подобно тому,
как средневековый святой имел вне официальной иерархии двойника в
лице юродивого). Это была фигура высокая и анекдотическая одно-
временно. Поэт и пьяница, автор высоких од и сатир, с одной стороны, и
кабацкой поэзии — с другой, чья биография еще при жизни превраща-
лась в анекдотический эпос, он своим поведением и утверждал, и пароди-
ровал нормы высокой поэзии. То, что это место никогда не было вакантно,
занимаясь то Барковым, то Костровым, то Милоновым, видимо, не
случайно. Достаточно, например, сопоставить записи Пушкина об этих
трех литераторах, чтобы убедиться, что перед нами — одна и та же стили-
зация биографии. Создается биографическая легенда, регулирующая
восприятие фактов жлзни этих поэтов аудиторией, а возможно, и их
собственное бытовое поведение.
(XVI)
«Сатирик Милонов пришел однажды к Гнедичу пьяный по своему обыкновению,
оборванный и растрепанный. Гнедич принялся увещевать его. Растроганный
Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: «Там, там найду я награду за все
мои страдания...» — «Братец, — возразил ему Гнедич, — посмотри на себя в
зеркало: пустят ли тебя туда?»
(XXI)
Херасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному.
Это приносит большую честь и его сердцу, и его вкусу. Костров несколько времени
жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову.
Он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве, и не нашли. Вдруг
Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его
милости, но, писал поэт, воля для меня всего дороже. (...) Когда наступали торже-
ственные дни, Кострова искали по всему городу для сочинения стихов, и находили
обыкновенно в кабаке или у дьячка, великого пьяницы, с которым он был в тесной
дружбе.
(XLVII)
Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда
требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков прише(л) однажды
к С(умарокову). «Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихо-
творец!» — сказал он ему. Обрадованный Сумароков велел тотчас же подать ему
водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал ему:
«Александр Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец — я, второй
Ломоносов, а ты только что третий». Сумароков его чуть не зарезал9.
Нетрудно заметить, что во всех этих записях, сохраняющих отчетливые
черты устной легенды, образ высокого поэта (Сумароков — Херасков —
8 Ср.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры //
Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та.
Вып. 284).
9 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 12. С. 159—170. (Ср. также отрывок «Барков
заспорил однажды с Сумароковым».)
214
Текст как семиотическая проблема
Гнедич) един и противопоставлен его антиподу (Барков — Костров —
Милонов). При этом «низкий» двойник обладает чертами сказочного
младшего брата: несмотря на презираемое положение, он лучше своего
«антипода» высокого ранга и побеждает его (исключение составляет
эпизод с Милоновым, в котором функция шутника-острослова передана
Гнедичу, а патетическая роль — Милонову).
Как в большинстве новеллистических эпосов, победа заключается в
остром слове: герой «низа» более свободен в своем поведении. Не случайно
приобщение к «низу» культуры (ср. роль театральных кулис, цыган,
артистической богемы, «сельской свободы» — периодических выездов
«на лоно природы» — в поместье для горожанина-помещика, на дачу для
горожанина-чиновника) воспринимается как освобождение от некоторой
системы запретов, перемещение в сферу иного, более свободного пове-
дения. Поскольку высокая культура осмысляет себя как область макси-
мальной организации, низовая литература представляется ей сферой
свободы, областью пониженной условности, что может интерпретиро-
ваться как искренность, природность и получать свойства высшей притя-
гательности (ср. сопоставление цыганской песни и оперы в «Живом трупе»
Л. Толстого).
Поскольку иногда организационные принципы низовой литературы —
это нормы, которые на предшествующем историческом этапе свойственны
были вершинной, возможны любопытные исторические парадоксы.
Так, в 1830—1840-х гг. литературный «низ» был представлен роман-
тизмом, то есть той эстетической системой, которая в принципе отрица-
тельно относилась к массовой литературе и была ориентирована на исклю-
чительное и «гениальное». Одновременно литературный «верх» был
представлен натуральной (и шире — гоголевской) школой с ее ориента-
цией на «беллетристику» и массовость. «Верх» сознательно избирал себе
образцом жанровые формы, оцениваемые как принадлежащие к литера-
турному «низу» (ср. утверждение Белинского, что недостатком русской
литературы является то, что она, имея гениальных писателей, не имеет
беллетристики, и обращение ведущих литераторов к жанру очерка),
а «низ» моделировал себя по образцу «вершинности» (ср. подчеркнуто
прозаическое поведение Печорина и возвышенное — Грушницкого).
Механизм живой литературной жизни подразумевает наличие и борьбу
обеих этих тенденций. Победа какой-либо из них означала бы стагнацию
литературы как целого. Мы остановились более подробно на соотношении
«верха» и «низа» литературы отнюдь не потому, что это единственный
или даже важнейший из бинарно противопоставленных механизмов
внутренней организации литературы. Не менее существенна оппозиция
«свое—чужое»: синхронно организованная «своя» система культуры посто-
янно испытывает возмущающее воздействие не только со стороны
действительности, но и от других культур. Здесь возможно вторжение
отдельных текстов (чужая культура на этой стадии контакта восприни-
мается как хаотическая, не имеющая своей организации), восприятие
системы чужих текстов; однако система эта конструируется в недрах
собственной культуры по принципу уподобления или противопоставления
ей (например, «Хор ко превратному свету», где жизнь «за морем» — это
сатирический образ зеркально перевернутой жизни на Руси); острая
критика Запада, столь характерная для многих русских публицистов
России XIX в., в значительной мере связана с тем, что знакомству с реаль-
ным буржуазным Западом предшествовало конструирование утопии
«превратного света». Наконец, наступает взаимодействие с системой
чужой культуры. Но поскольку, как мы видели, литература в принципе
О содержании и структуре...
215
не однолика, из набора, предъявляемого воспринимаемой культурой,
также возможен самый различный выбор.
Таким образом, и здесь мы сталкиваемся не с неподвижной суммой
текстов, расставленных по полкам библиотеки, а с конфликтами, напря-
жением, «игрой» различных организующих сил.
Можно было бы остановиться на том внутреннем напряжении, которое
создается в литературе нового времени одновременным сосуществованием
стихов и прозы, разными типами их отталкиваний и уподоблений. Однако
это уже часто делалось. Создание исчерпывающего списка противо-
поставлений, свойственных литературе как единому механизму, —
задача будущего. Но эта задача уже осуществима и, более того, насущно
актуальна: без нее невозможно типологическое сравнение литератур и
построение истории мировой литературы. Однако выполнение этой задачи
не есть цель настоящей работы, устремления которой значительно более
скромны. Мы стремились показать, что литература как динамическое
целое не может быть описана в рамках какой-либо одной упорядоченности.
Литература существует как определенная множественность упорядочен-
ностей, из которых каждая организует лишь какую-то ее сферу, но
стремится распространить область своего влияния как можно шире.
При «жизни» какого-либо исторического этапа литературы противобор-
ство этих тенденций составляет основу того, что делает возможным
выражать в литературе интересы различных социальных сил, борьбу
нравственных, политических или философских концепций эпохи.
Когда наступает новый исторический момент, моделирующая актив-
ность литературы проявляется, в частности, в том, что она активно
творит свое прошлое, выбирая из множественности организаций вчераш-
него дня одну и канонизируя ее (так Возрождение избрало упрощенную
античность). Процесс этот облегчается тем, что каждая из противо-
борствующих тенденций из полемических побуждений утверждает свою
универсальность. В процессе подобной историко-научной канонизации
сами тексты трансформируются, поскольку в литературе вчерашнего дня
они существовали как часть ансамбля, элемент механизма, а теперь
становятся единственно представляющими эпоху.
Однако наступает новый исторический этап культуры, и ученые следую-
щих поколений открывают новое лицо, казалось бы, давно изученных
текстов, изумляясь слепоте своих предшественников и не задумываясь
о том, что же скажут о них самих последующие литературоведы. Между
тем эта поразительная способность художественных текстов давать
материал для все новых открытий должна была бы привлечь внимание,
поскольку в ней проявляются некоторые существенные черты организации
литературы как синхронного механизма.
216
Текст как семиотическая проблема
Слово и язык в культуре Просвещения
Если понимать под Просвещением целостную модель определенного куль-
турного периода1, то a priori можно утверждать, что проблема языка
должна занимать в этой системе значительное место. Однако, в силу
своеобразия идеологии Просвещения, понятия слова и языка оказы-
ваются не просто присутствующими в этой системе, но и занимающими
в ней одно из центральных мест. В предлагаемой статье нас будет, следо-
вательно, интересовать не история тех или иных языков Европы XVIII в.
и не узко лингвистические вопросы, связанные с ней, а проблема места
слова в культуре и связей, которые возникают между идеей языка и
основной концепцией Просвещения.
Понятия Слово, Текст, Знак, Язык лежат в основе очень многих
моделей культуры и, видимо, относятся к числу ее универсалий. Тем более
важно проследить, как трансформируется связь этих понятий с другими
элементами системы при иерехлце от оддои модели к другой. По сл/ти дела,
именно отношение к данным понятиям представляет собой удобный
индикатор для разграничения систем культуры. Отличие от ближайшего
предшественника Просвещения — рационализма XVII в. — в этом отно-
шении особенно показательно.
Проблема языка интересовала рационалистов в двух аспектах. Во-
первых, в центре внимания оказывался вопрос о языке как средстве
передачи идей, что способствовало логическому анализу смысла слов и
стремлению «улучшить» язык, освободив его от двусмысленностей и
неточностей семантики. Это подводило к идее искусственных языков,
которая, как известно, занимала Лейбница, и он даже склонялся к мысли,
что китайский язык «искусственный, т. е. он был целиком придуман
некиим выдающимся человеком» («Новые опыты о человеческом разуме»,
глава «О словах, или О языке вообще»). Такой подход сосредоточивал
внимание не на механизмах языкового выражения, к которым предъявля-
лось единственное требование: не затемнять содержания, — а на сооб-
щении идей. Это, в свою очередь, обусловливало утверждение о том, что
язык как средство сообщения идей присущ только человеку и принци-
пиально не может быть свойствен животным. Лейбниц в «Новом опыте
о человеческом разуме» утверждал, что животные «совершенно не способ-
ны к речи. Только человек способен пользоваться (...) звуками как
знаками внутренних мыслей, чтобы таким образом они могли делаться
известными другим».
С этим аспектом был связан второй: двуединство языкового знака
представлялось частным случаем проблемы соединения интеллектуаль-
ного и физического начал, что в конечном итоге приводило к дуализму
исходных понятий. Лейбниц в полемике с С. Кларком утверждал: «Мысль
1 Нам представляется целесообразным разграничивать Просвещение как идео-
логический конструкт, некоторую идеальную норму, созданную самими филосо-
фами XVIII в. и обобщенную в трудах исследователей в виде непротиворечивой
модели, «снимающей» индивидуальные различия позиции Дидро и Руссо, Вольтера
и М.абли, и реальную идеологическую жизнь эпохи, ориентированную на эту норму-
ил и на полемику с ней, жизнь всегда более сложную и противоречивую, чем ее
собственное о себе представление. Таким образом, под Просвещением мы будем
понимать мета культурную конструкцию, абстракцию, которая, однако, активно
влияла на создание реальных текстов.
Слово и язык в культуре Просвещения
217
о том, что присутствие души и ее влияние на тело взаимно связаны,
неприменима по отношению ко мне, так как я, как известно, целиком
отвергаю такое влияние»2.
В том же направлении развивались и мысли Декарта, хотя он и пред-
принимал попытки объяснить связь между душой и телом. Декарт не
посвятил языку развернутых исследований, однако основные положения
им были сформулированы весьма отчетливо: исходя из принципиального
разграничения механического и интеллектуального начал, Декарт видит
в животном великолепно организованный автомат. Таким же автоматом
является и человек, пока речь идет о всей сумме его телесных потреб-
ностей и функций, а не о душе и связанном с нею интеллектуальном
начале. Именно язык, способность к речи, определенная_наличием интел-
лекта, отделяет человека от животного и автомата. В письме к Henry More
(1649) он писал: ~'~~~*
«Mais de tous les arguments qui nous persuadent que les betes sont
denuees de pensees, le principal a mon avis est que les unes soient
plus parfaites que les autres dans une meme espece, tout de meme que chez
les hommes comme on pent voir chez les chevaux et les chiens, dont les uns
apprennent beaucoup plus aisement que d'autres ce qu'on leur enseigne; et
bien que toutes nous signifient tres facilement leurs impulsions naturelles,
telles que la colere, la crainte, la faim ou d'autres etats semblables, par la
voix ou par d'autres mouvements du corps, jamais cependant jusqu'a ce jour
on n'a pu observer qu'aucun animal en soit venu a ce point de perfection
d'user d'un veritable langage, c'est-a-dire d'exprimer soit par la voix soit
par les gestes, quelque chose qui puisse se rapporter a la seule pensee et non
a l'impulsion naturelle. Ce langage est en effet le seul signe certain d'une
pensee latente dans le corps; tous les hommes en usent, meme ceux qui
sont stupides ou prives d'esprit, ceux auxquels manquent la langue et les
organes de la voix, mais aucune bete ne peut en user; c'est pourquoi il est
permis de pendre le langage pour la vraie difference entre les hommes et les
betes»3.
Те же мысли Декарт развивал в пятом разделе «Discours de la
methode».
2 Цит. по: Полемика Г. Лейбница и С. Кларка по вопросам философии и
естествознания (1715—1716 гг.). Л., 1960. С. 58.
3 Цит. по: Chomsky N. La linguistiquecartesienne suivi de La Nature formelle du
Langage / Ed.du Seuil. Paris, 1966. P. 24.
(«Однако из всех доводов, которые убеждают, что животные лишены мыслей,
главным, по моему мнению, является то, что, хотя они находятся на разных, как и
люди, степенях совершенства, что можно видеть у лошадей и собак, из которых
одни легче усваивают обучение, чем другие, но, хотя все нам легко свидетельствует
об их естественных побуждениях, таких, как гнев, страх, голод и другие подобные
состояния, которые они передают голосом или телодвижениями, никто и никогда до
наших дней не мог наблюдать, чтобы животное поднялось до той степени совер-
шенства, которая позволяет пользоваться настоящим языком, т. е. выражать
голосом или жестами что-либо, что могло бы быть соотнесено хоть с одной мыслью,
а не только с естественным импульсом. Именно язык есть в действительности
единственный знак, удостоверяющий, что в существе скрыта мысль. Все люди
им пользуются, даже глупые или лишенные разума, языка или органов речи, но
никакое животное им не обладает. Вот почему можно считать язык подлинным
различительным признаком между людьми и животными».) *
218
Текст как семиотическая проблема
Декарт решительно отказывается видеть общность между криками
животных и человеческим языком. Восклицания и движения животных
автоматически связаны с определенными возбудителями, а человеческая
речь свободна и независима. Крик или жест животного строго определен
каким-либо импульсом и не является интеллектуальным актом. Речь же
людей свободно порождается, варьируется, охватывая бесконечное разно-
образие идей. С этим же связана мысль Декарта об интеллектуально-
творческой природе языка, сущность которого состоит в возможности
бесконечно создавать новые высказывания, передавая многообразные
новые идеи. Отсюда мысль о том, что входящие в человеческую речь
восклицания, вызванные непосредственными чувственными стимулами
(болью, страданием, радостью и т. п.), также находятся вне языка,
принадлежа внеинтеллектуальной сфере.
Н. Хомский проницательно отметил, что картезианские лингвистические
идеи оказали влияние на формирование романтических концепций о языке
и, в частности, воздействовали на Herder'a:
«Comme Descartes, Herder soutient que le langage humain differe
generiquement des exclamations de la passion; on ne saurait l'attribuer
a des organes superieurs de Participation; le langage ne peut evidemment
pas avoir son origine dans une imitation de la nature ni dans une convention
qui Taurait fonde. Le langage est plutot une propriete naturelle de l'esprit
humain»4.
Именно то, что человек обладает менее развитыми, чем животные,
инстинктами и менее скован естественными импульсами, составило основу
человеческого разума с его свободой от механической власти «машины»
тела.
Таким образом, противопоставление Природы и Разума и Природы и
Языка входило в самое сущность рационалистических лингвистических
концепций.
В полной противоположности рационалистическим концепциям деятели
Просвещения, размышляя о языке, сосредоточивали свое внимание на
проблеме знака и его сущности. В центре внимания оказывался механизм
взаимопонимания и — в связи с этим — опасности, таящиеся в самой
природе слова как знака. Язык, в концепции Просвещения, рождается
из естественной потребности человека обратиться за помощью к другому
человеку. Развивается он из непроизвольных возгласов и жестов, свойст-
венных как людям, так и животным. Язык рождается из страстей, и
первые слова — междометия. Вот как рисует Кондильяк в «Опыте о
происхождении человеческих знаний» рождение языка. Прибегая к своему
излюбленному методу — робинзонаде, мысленному эксперименту с изоли-
рованной человеческой особью или парой индивидов, он рассуждает:
«Когда они жили вместе, у них был повод больше упражняться в
совершении первых действий души, потому что их общение друг с
другом заставляло их связывать с возгласами, сопутствующими каждой
страсти, восприятия, естественными знаками которых они были. Обычно
они сопровождали их каким-нибудь движением или жестом, которые
A'Chomsky N. Op. cit. P. 32—33. («Как и Декарт, Гердер придерживался
мнения о том, что человеческая речь и выражающие страсть восклицания —
явления различного рода. Язык не следует приписывать ни органам артикуляции,
ни связывать его происхождение с подражанием природе, ни видеть его основу
в договоре, который мог бы его создать. Язык, скорее всего, естественная
принадлежность человеческого разума».)
Слово и язык в культуре Просвещения
219
были еще более выразительны. Например, тот, кто страдает от отсутствия
какого-то предмета, который его потребности сделали для него необхо-
димым, не удержится от того, чтобы издать возглас; он прилагает усилия,
чтобы получить этот предмет, он качает головой, машет руками и двигает
всеми частями тела. Другой, взволнованный этим зрелищем, устремляет
свой взгляд на этот же самый предмет и, ощущая в своей душе чувства, в
которых он еще не способен дать себе отчет, страдает, видя страдающим
этого несчастного. С этого момента он чувствует себя склонным помочь ему
и поддается этому впечатлению, насколько это в его власти. Таким обра-
зом, побуждаемые одним лишь инстинктом, эти люди просят друг у друга
помощи и оказывают ее друг другу. Я говорю: одним лишь инстинктом,
так как размышление не может еще в этом участвовать. Один из них не
сказал бы: Мне следует двигаться таким образом, чтобы показать ему,
в чем я нуждаюсь, и побудить его помочь мне; и другой не сказал бы:
Я вижу по этим движениям, что он хочет того-то и того-то, сейчас я
ему предоставлю возможность попользоваться этим». И далее: «Пользо-
вание этими знаками постепенно делало упражнения в совершении
действий души все более многочисленными, и, в свою очередь, действия
души, в совершении которых они все больше упражнялись, совершенство-
вали знаки и делали пользование ими более привычным»5.
Одновременно акцент языковой проблемы переносился из области
логики в область социологии, из семантики — в прагматику. История
языка рисовалась как рассказ о превращении искренних восклицаний,
продиктованных самой природой, в язык социальной лжи, конденсатор
всей общественной неправды.
В раннем рассказе Льва Толстого «Рубка леса» есть эпизод, который
как бы вобрал в себя квинтэссенцию мировосприятия Просвещения в его
отношении к проблеме языка. Толстой неоднократно подчеркивал, какое
глубокое воздействие оказало на него чтение Руссо, портрет которого он
в молодости носил на груди рядом с крестом, а сочинения, по собственному
признанию, помнил наизусть6, однако под текстом, который мы приводим
ниже, подписался бы не только Жан-Жак, но и любой мыслитель Просве-
щения, видящий в расхождении между значением слова и прагматиче-
ским смыслом его употребления корень предрассудков и общественной
лжи. Ложь же словесного употребления «культурных людей» обнажается
на фоне опасности смерти (вечной и внесоциальной сущности), с одной
стороны, и бесхитростной, эмоциональной и поэтому истинной (смысловой
акцент на междометии!) речи человека из народа. В палатке, располо-
женной в пределах достижения огня пушек горцев (рассказ описывает
события войны на Кавказе в 1850-е гг.), ротный командир Волхов только
что признался рассказчику в том, что он трус и что опасность причиняет
ему невыносимые мучения. В это время доносится звук выстрела неприя-
тельской пушки:
«— Это он7, братцы мои! — послышался в это время встревоженный
голос одного солдата, — и все глаза обратились на опушку дальнего леса.
5 Кондильяк Э. Б. де. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 183—185.
6 См.: Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века //
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 600—603.
7 Распространенное в действующих войсках табу, по которому сразу можно
отличить фронтовика от заехавшего из тыла корреспондента, запрещает называть
неприятеля его именем. Вместо этого используется местоимение третьего лица или
эвфемистическая кличка, условное имя собственное, употребляемое пейоративно,
и т. п. Обычай этот сохраняется до настоящего времени.
220
Текст как семиотическая проблема
Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое
облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля,
все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то
новый величественный характер (...) — все это как будто говорило мне,
что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в про-
странстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.
— Вы где брали вино? — лениво спросил я Волхова, между тем как
в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один —
господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улы-
баться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над
головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас
шлепнулось ядро.
— Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время
Волхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непре-
менно сказал какую-нибудь любезность.
— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу,
произведенную во мне прошедшей опасностью.
<->
— Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов
(солдат. — Ю. Л.), с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не
задела»8.
В рамках просветительской традиции создавалась языковая концепция
Руссо. В первой главе «Essai sur l'origine des langues» Руссо писал:
«La parole etant la premiere institution sociale ne doit sa forme qu'a
des causes naturelles»9. В приведенной формуле Руссо сразу же отмечает
связь слова с Природой и Культурой (социальной структурой). Поскольку
эти понятия, по Руссо, полярно противоположны, в самой природе языка
заложено противоречие. При этом Природа и Культура мыслятся как
начальная и конечная точки развития (извращения) коммуникативной
связи между людьми. Исходную точку Руссо в «Эмиле» определяет так:
«Все наши языки — произведения искусства. Долго искали, нет ли
естественного и общего всем людям языка: без сомнения он есть — это
язык, на котором говорят дети, раньше чем научатся говорить. Это язык не
членораздельный, но выразительный и звучный, понятный <...). Корми-
лицы могут нас научить этому языку; они понимают все, что говорят их
питомцы, они отвечают им, ведут с ними вполне последовательные
диалоги; и хотя произносят при этом слова, но слова эти совершенно
бесполезны; дети понимают не смысл слова, а его интонацию. К языку
звуков присоединяется язык жестов, не менее энергический. Эти жесты
проделываются не слабыми ручонками детей, а их физиономиями»10.
Интересно, что эти чисто дедуктивные догадки Руссо поразительно
подтверждаются современными экспериментами11. Хотя и язык инто-
наций, и язык жестов оба естественны, начальным, по Руссо, был второй,
8 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 2. С. 67.
9 Essai sur l'origine des langues ou il est parle de la melodie et de l'imitation
musicale // Rousseau J.-J. Oeuvres completes. Paris, 1825 T. 1. P. 471—472.
(«Речь, будучи первым социальным институтом, обязана своими формами только
естественным причинам».)
10 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Спб., 1913. С. 42.
11 См.: Newson /. Dialogue and Developient // Action, Gesture and Symbol:
The Emergence of Language / Ed. by A. Lock. London; New York; San Francisco,
1978. P. 31—41.
Слово и язык в культуре Просвещения
221
так как «depend moins des conventions». Именно конвенциональность
знака страшит Руссо, так как благодаря ей он делается аккумулятором
культуры. Руссо предвосхищает Ф. де Соссюра, утверждая условность
словесного знака, но делает из этого решающий вывод для своей
концепции культуры и прогресса: «La langue de convention n'appartient
qu'a rhomme. Voila pourquoi <...> les animaux n'en font point»12. На услов-
ность Знака накладывается условность общественных установлений:
«П у a deja ici double convention»13.
По мере развития язык теряет индивидуальность. Проявляя гениальное
языковое чутье, Руссо отмечает, что усовершенствование семантики
происходит за счет ослабления прагматики. Язык как бы замыкается в
самостоятельную имманентную сферу, теряя связь с человеком, с одной
стороны, и с истиной, с другой. Особенно заметным этот процесс стано-
вится с изобретением письменности: «L'ecriture, qui semble devoir fixer
la langue, est precisement ce qui l'altere; elle n'en change pas les mots, mais
le genie; elle substitue l'exactitude a Texpression. L'on rend ses sentiments
quand on parle, et ses idees quand on ecrit. En ecrivant, on est force de
prendre tous les mots dans l'acception commune (...). En disant tout comme
on ecrirait, on ne fait plus que lire en parlant»14.
Жест, выполняющий роль указательного местоимения, и эмфатические
интонации, создающие у аудитории чувство непосредственного при-
сутствия в момент речи не только говорящего и слушающего, но и
предмета разговора, восстанавливают связь речи и действительности.
Фактически Руссо занимает проблема лингвистической референции,
так остро возникшая в лингвистике последней трети XX в. И здесь
Руссо намного обгоняет свой век.
Внутренний пафос Руссо направлен против красноречия салонов,
против превращения беседы в игру. По словам M-me de Stael, «La parole
est un art liberal qui n'a ni but ni resultat <...). La conversation n'est pas
pour les Frangais un moyen de se communiquer ses idees, ses sentiments, ses
affaires, mais c'est un instrument dont on aime a jouer»15.
Грамматический пуризм, отточенность семантики, игра смыслами и
неожиданность выражений составляют прелесть салонной беседы.
«Неприличность» энергической речи, сильных интонаций и простонарод-
ных выражений из нее изгоняется. Аббат Barthelemy издевался над
госпожой Du Deffand, когда та употребила слово «energie». Duchesse de
Choiseul также нашла его вульгарным. Однако вульгарно было не только
слово — вульгарным казалось само понятие энергии. Руссо видит два
языка: язык площади и язык салона. Первый требует энергии, сильного
жеста и интонации, второй — изящества и остроумия:
12 Rousseau J.-J. Op. cit. Т. 1. P. 479. («Язык, основанный на договоренностях,
свойствен лишь человеку. Вот почему (...) животные так не поступают».)
13 Rousseau J.-J. Op. cit. Т. 1. P. 488. («Здесь имеется двойная конвенция».)
14 Ibid. P. 494—495. («Письменность, которая, кажется, должна фиксировать
язык, в самом деле его изменяет. Она меняет не слова, а дух языка. Она ставит
точность на место выразительности. Говоря — передают чувства, когда пишут —
мысли. При письме слова поневоле берутся в их общем значении (...). Когда
говорят как пишут, то речь превращается в чтение».)
15 Glotz M., Maire M. Salons du XVIII-e siecle. Paris, 1945. P. 57. («Речь это
свободное искусство, не имеющее ни цели, ни последствий (...). Разговор не
является для французов средством обмениваться идеями, чувствами или дело-
выми сведениями, это лишь инструмент, которым любят играть».)
222
Текст как семиотическая проблема
«II у a des langues favorables a la liberte; ce sont les langues sonores,
prosodiques, harmonieuses, dont on distingue le discours de fort loin.
Les notres sont faites pour le bourdonnement des divans. (...) Dans les
anciens temps, ou la persuasion tenoit lieu de force publique, Teloquence
etait necessaire. A quoi servirait-elle aujourd'hui <...). L'on n'a besoin ni
d'art ni de figure pour dire «tel est mon plaisir»16.
Красноречие — это лингвистический демократизм. Однако это не
риторика проповедей эпохи барокко, это речь, которая непосредственно
есть действие, слово, являющееся поступком (здесь Руссо интуитивно
предвосхищает современные исследования проблем референции). Рива-
роль позже сказал, что есть слова, которым присущи жесты и интонации,
фразы, которые всегда на трибуне. Это же имел в виду Руссо, кончая
«Essai sur l'origine des langues» словами:
«Je dis que toute langue avec laquelle on ne peut pas se faire entendre au
peuple assemble est une langue servile; il est impossible qu'un peuple
demeure libre et qu'il parle cette langue-la»17.
Руссо не случайно употребил выражение «le peuple assemble».
Революция началась с того, что «peuple assemble» получил язык.
Характерна в этом отношении ораторская установка бытовой речи эпохи
Великой революции и принципиальный отказ от ораторской дикции и
жеста в кругу термидорианской молодежи. В кругу «incroyable» господ-
ствует жаргон — «un gazouillement delicieux»18.
Значительно сложнее был другой важный аспект языковой программы
Просвещения — соотношение национального (литературного) языка и
диалектов, что в межкультурном общении отражалось как соотношение
языка европейской культуры (французского, латинского) и национальных
языков. Идея единого национального языка, основанного на разговорном
употреблении, в противовес разделению письменного языка культуры и
бытовой устной речи, возникшая еще в эпоху Ренессанса, была воспринята
Просвещением. Однако она противоречила как представлению о демо-
кратизме ораторской эмфатической речи, с одной стороны, так и открытию
пути в литературу диалектной и вообще «неправильной» народной речи,
с другой. Руссо ввел в комедию «Les prisonniers de guerre» (1743)
швейцарский диалект, Фосс начал писать идиллии на нижнесаксонском
диалекте, во второй половине XVIII в. диалектная речь все шире вводи-
лась в русские комедии для характеристики «естественного» и, следо-
вательно, истинного взгляда народа. Но законодательство Конвента
отвергло языковую раздробленность, увидав в ней угрозу «единой и
неделимой» Республике.
16 Rousseau J.-J. Op. cit. Т. 1. P. 562, 563. («Есть языки, благоприятствующие
свободе. Это языки звучные, просодические, гармонические, речь на которых
слышна издалека. Наш создан для бормотания на диване. (...). В древние времена,
когда убеждение являлось общественной силой, красноречие было необходимо.
Но к чему оно сегодня? (...) Не надо ни искусства, ни риторики, чтобы сказать:
«В том состоит мое удовольствие».)
17 Rousseau J.-J. Op. cit. Т. 1. 564. («Я утверждаю, что любой язык, которым
нельзя заставить слушать собранный вместе народ, есть рабский язык. Невоз-
можно, чтобы остался свободным народ, пользующийся таким языком».)
18 «Savez-vous, dit Pincroyable, une histoi-e singue-ie-e qui vient d'a'iver au
theat-e Molie-e; c'est un ve-ite cha-mant (...). Eh bien! on zouait Figa-o; on en
etait au second aste, le spectac-e etait b-illant cont-e l'o-dinai-e; z'etait attentif
au zeu des acteurs...» {Lacour L. Grand Monde et salons politiques de Paris apres la
terreur. Paris, 1861. P. 38—39).
Слово и язык в культуре Просвещения
223
Однако идея национального как народного и демократического (а
именно такое значение приобрело в конце XVIII в. во Франции слово
«нация») получила неожиданный резонанс в общеевропейском контексте:
французский язык начал восприниматься как язык аристократии, а раз-
витие национальных языков получило мощный импульс.
Если слово, ощущаемое как действие, получило развитие в военном
красноречии наполеоновской эпохи и с трибуны Национальной ассамблеи
перенеслось на поля Аустерлица и Бородина, то слово как выражение
природной чистоты естественного человека не боялось косноязычия от
Папагено в «Волшебной флейте» Моцарта до Акима из «Власти тьмы»
Льва Толстого. «Неискусная» речь выходила на аренду европейской
культуры не только как равноправная, но и в качестве более «естествен-
ной» и ценной, чем изощренный язык культуры Франции. Как во время
строительства Вавилонской башни, в канун эпохи романтизма «главный
язык» европейской культуры был упразднен. Европейская культура стала
полиглотичной.
224
Текст как семиотическая проблема
Происхождение сюжета
в типологическом освещении
Вопрос происхождения сюжета может ставиться как историческая и как
типологическая проблема. Первый аспект многократно рассматривался,
и здесь мы располагаем некоторым количеством получивших признание
фундаментальных идей, а также рядом вполне вероятных гипотез. Отно-
сительно второго вопроса дело обстоит, к сожалению, значительно
сложнее.
Происхождение сюжета — вопрос, который касается отнюдь не только
искусства, хотя именно сюжетные тексты в искусстве представляют
собой одно из наиболее нуждающихся в объяснении явлений человече-
ской цивилизации. Вероятно, для наблюдателя, внешнего по отношению
ко всем земным культурам, наибольшую трудность представило бы
уяснение смысла существования огромного количества текстов, повест-
вующих о событиях, заведомо не имевших места. Число произведений
этого рода находится в очевидном противоречии с любой необходимой
социальной функцией, которую мы можем им приписать. Исследователь-
ская осторожность подсказывает здесь, что разумнее усомниться не в
необходимости сюжетно-художественных текстов, а в нашем умении ее
определить.
*
Для типологически исходной ситуации можно предположить два прин-
ципиально противоположных типа текстов.
В центре культурного массива располагается мифопорождающее
текстовое устройство. Основная особенность создаваемых им текстов —
их подчиненность циклическому временному движению1. Создаваемые
таким образом тексты не являются, в нашем смысле, сюжетными и вообще
с большим трудом могут быть описаны средствами привычных нам
категорий. Первой особенностью их является отсутствие категорий
начала и конца: текст мыслится как некоторое непрерывно повторяю-
щееся устройство, синхронизированное с циклическими процессами
природы: со сменой годовых сезонов, времени суток, явлений звездного
календаря. Человеческая жизнь рассматривалась не как линейный
отрезок, заключенный между рождением и смертью, а как непрестанно
повторяющийся цикл (ср.: «Умрешь — начнешь опять сначала» в стихо-
творении А. Блока). В этом случае рассказ может начинаться с любой
точки, которая выполняет роль начала для данного повествования,
являющегося частной манифестацией безначального и бесконечного
Текста. Такое рассказывание совсем не имеет целью поведать каким-либо
слушателям нечто им неизвестное, а представляет собой механизм,
обеспечивающий непрерывность течения циклических процессов в самой
природе. Поэтому выбор того или иного сюжетного эпизода Текста
началом и содержанием сегодняшнего рассказывания не принадлежит
рассказывающему — он составляет часть хронологически закрепленного
и обусловленного течением природных циклов ритуала.
1 Levi-Strauss С. Mythologiques. Ill: L'origine des manieres de table. Plon, 1968.
P. 102—106.
Происхождение сюжета...
225
Другой особенностью, связанной с цикличностью, является тенденция
к безусловному отождествлению различных персонажей. Циклический
мир мифологических текстов образует многослойное устройство с отчет-
ливо проявляющимися признаками типологической организации. Это
означает, что такие циклы, как сутки, год, циклическая цепь умираний и
рождений человека или бога, рассматриваются как взаимно гомео-
морфные. Поэтому, хотя ночь, зима, смерть не похожи друг на друга
в некоторых отношениях, их сближение не представляет собой метафоры,
как это воспринимает современное сознание. Они — одно и то же
(вернее, трансформации одного и того же). Упоминаемые на разных
уровнях циклического мифологического устройства персонажи и предметы
суть различные собственные имена одного. Мифологический текст,
в силу своей исключительной способности подвергаться топологическим
трансформациям, с поразительной смелостью объявляет одним и тем же
сущности, сближение которых представило бы для нас значительные труд-
ности.
Топологический мир мифа не дискретен. Как мы постараемся показать,
дискретность возникает здесь за счет неадекватного перевода на дискрет-
ные метаязыки немифологического типа.
Это центральное текстообразующее устройство выполняет важнейшую
функцию — оно строит картину мира, устанавливает единство между
его отдаленными сферами, по сути дела реализуя ряд функций науки
в донаучных культурных образованиях. Ориентированность на установ-
ление изо- и гомеоморфизмов и сведение разнообразной пестроты мира
к инвариантным образам позволяло текстам этого рода не только функ-
ционально занимать место науки, но и стимулировать ряд культурных
достижений чисто научного типа, например в области календарно-
астрономической. Функциональное родство этих систем наглядно просле-
живается при изучении истоков греко-античной науки.
Порождаемые центральным текстообразующим устройством тексты
играли классификационную, стратифицирующую и упорядочивающую
роль. Они сводили мир эксцессов и аномалий, который окружал человека,
к норме и устройству. Даже если при пересказе нашим языком эти тексты
приобретают вид сюжетных, сами по себе они таковыми не являлись.
Они трактовали не об однократных и закономерных явлениях, а о
событиях вневременных, бесконечно репродуцируемых и, в этом смысле,
неподвижных. Даже если рассказывалось о смерти и разъятии тела бога
и последующем его воскресении, перед нами — не сюжетное повество-
вание в нашем смысле, поскольку эти события мыслятся как присущие
некоторой позиции цикла и исконно повторяющиеся. Регулярность
повтора делает их не эксцессом, случаем, а законом, имманентно
присущим миру.
Центральное циклическое текстопорождающее устройство типологи-
чески не могло быть единственным. В качестве механизма-контрагента
оно нуждалось в текстопорождающем устройстве, организованном
в соответствии с линейным временным движением и фиксирующем не
закономерности, а аномалии. Таковы были устные рассказы о «проис-
шествиях», «новостях», разнообразных счастливых и несчастных эксцес-
сах. Если там фиксировался принцип, то здесь случай. Если исторически
из первого механизма развились законополагающие и нормирующие
тексты как сакрального, так и научного характера, то из второго —
исторические тексты, хроники и летописи.
Фиксация однократных и случайных событий, преступлений, бедствий —
всего того, что мыслилось как нарушение некоторого исконного
226
Текст как семиотическая проблема
порядка, — представляла собой историческое зерно сюжетного повество-
вания. Не случайно элементарная основа художественных повествова-
тельных жанров называется «новелла», то есть «новость», и, что неодно-
кратно отмечалось, имеет анекдотическую основу.
Попутно следует отметить принципиально различную прагматическую
природу этих исконно противоположных типов текстов. В мире мифоло-
гических текстов, в силу пространственно-топологических законов его
построения, прежде всего выделяются структурные законы гомеомор-
физма: между расположениями небесных тел и частями тела человека,
структурой года и структурой возраста и т. д. устанавливаются отношения
эквивалентности. Это приводит к созданию элементарно-семиотической
ситуации: всякое сообщение должно интерпретироваться, получать
перевод при трансформации его в знаки другого уровня. Поскольку
микрокосм внутреннего мира человека и макрокосм окружающей его
вселенной отождествляются, любое повествование о внешних событиях
может восприниматься как имеющее интимно-личное отношение к любому
из аудитории. Миф всегда говорит обо мне. «Новость», анекдот повествуют
о другом. Первое организует мир слушателя, второе добавляет
интересные подробности к его знанию этого мира.
*
Современный сюжетный текст — плод взаимодействия и интерференции
этих двух исконных в типологическом отношении типов текстов. Однако
процесс их взаимодействия, уже потому, что в реальном историческом
пространстве он растянулся на огромный промежуток времени, не мог
быть простым и однозначным.
Разрушение циклически-временного механизма текстов (или, по край-
ней мере, резкое сужение сферы его функционирования) привело к
массовому переводу мифологических текстов на язык дискретно-
линейных систем (к таким переводам следует отнести и словесные
пересказы мифов-ритуалов и мифов-мистерий) и к созданию тех новеллис-
тических псевдомифов, которые приходят нам на память в первую
очередь, когда упоминается мифология.
Первым и наиболее ощутимым результатом такого перевода была
утрата изоморфизма между уровнями текста, в результате чего персо-
нажи различных слоев перестали восприниматься как разнообразные
имена одного лица и распались на множество фигур. Возникла много-
геройность текстов, в принципе невозможная в текстах подлинно-
мифологического типа. Поскольку переход от циклического построения
к линейному был связан со столь глубокой перестройкой текста, по
сравнению с которой всякого рода вариации, имевшие место в ходе истори-
ческой эволюции сюжетной литературы, перестают казаться принципиаль-
ными, становится не столь уже существенно, что используем мы для
реконструкции мифологической праосновы текста — античные пересказы
мифа или романы XIX в. Иногда позднейшие тексты дают даже более
удобную основу для реконструкций такого рода.
Наиболее очевидным результатом линейного развертывания цикли-
ческих текстов является появление персонажей-двойников. От Менандра,
александрийской драмы, Плавта и до Сервантеса, Шекспира и —
через Достоевского — романов XX в. (ср. систему персонажей-двойников
в «Жизни Клима Самгина») проходит тенденция снабжать героя
спутником-двойником, а иногда — целым пучком-парадигмой спутников.
Происхождение сюжета...
227
В одной из комедий Шекспира мы имеем дело с квадратом: два героя-
близнеца, слуги которых также близнецы («Комедия ошибок»).
Антифол Антифол
Эфесский Сиракузский
Дромио Дромио
Эфесский Сиракузский
Очевидно, что мы имеем здесь дело со случаем, когда четыре персонажа
в линейном тексте при обратном переводе его в циклическую систему
должны «свернуться» в одно лицо: отождествление близнецов, с одной
стороны, и пары комического и «благородного» двойников, с другой,
естественно к этому приведет. Появление персонажей-двойников —
результат дробления пучка взаимно-эквивалентных имен — становилось
в дальнейшем сюжетным языком, который мог интерпретироваться весьма
различным образом в разнообразных идейно-художественных моделях —
от материала для создания интриги2 до контрастных комбинаций харак-
теров или моделирования внутренней сложности человеческой личности
в произведениях Достоевского.
В качестве примера интригообразующего воздействия этого процесса
сошлемся на комедию Шекспира «Как вам это понравится».
Персонажи комедии распадаются на отчетливо эквивалентные пары,
которые при (условном) обратном переводе в циклическое время
взаимно свертываются, образуя в конечном итоге одно лицо. Возглавляют
список два персонажа — герцоги-братья, из которых один живет «в лесу»,
другой же правит, захватив его владения. Персонажи, находящиеся
«при дворе» и «в лесу», относятся друг к другу по принципу дополнитель-
ной дистрибуции: перемещение одного из них из лесу ко двору вызывает
незамедлительное обратное перемещение другого. Одновременно встре-
чаться в одном и том же окружении они, видимо, не могут. А поскольку
перемещение «в лес» и возвращение — обычная мифологическая
(а затем — сказочная) формула умирания и воскресения, то очевидно, что
в мифологическом пространстве эти двойники составят единый образ.
Но противопоставление двух герцогов-братьев на другом уровне
дублируется антитезой Оливера и Орландо — старшего и младшего
сыновей Роланда де Буа. Как и правящий герцог, Оливер оказывается
узурпатором наследия брата и изгоняет последнего в лес (параллель
между герцогом Фредериком и Оливером проводится в тексте комедии
очень ясно). То, что черта, отделяющая «двор» от «леса», есть грань,
за которой начинается мифологическое перерождение, вытекает из того,
что оба злодея, переступив эту грань, мгновенно преображаются в героев
добродетели:
...герцог Фредерик, все чаще слыша,
Как в этот лес стекается вся доблесть,
Собрал большую рать и сам ее
Повел как вождь, замыслив захватить
Здесь брата и предать его мечу.
: См.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературной интриги // Труды по
паковым системам. Тарту, 1973. Т. 6. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 308).
228
Текст как семиотическая проблема
Так он дошел уж до опушки леса,
Но встретил здесь отшельника святого.
С ним побеседовав, он отрешился
От замыслов своих, да и от мира.
Он изгнанному брату возвращает
Престол...3
Такая же перемена происходит и с Оливером:
Да, то был я; но я — не тот; не стыдно
Мне сознаваться, кем я был, с тех пор
Как я узнал раскаяния сладость4.
Таким образом, получается квадрат, в котором персонажи, расположен-
ные на одной горизонтали, — один и тот же герой в разные моменты его
сюжетного движения (при развертке на линейную шкалу сюжета),
на одной вертикали — разные проекции одного персонажа.
«Двор» «Лес»
Герцог Фредерик Старый герцог, жи-
вущий в изгнании
Оливер де Буа Орландо де Буа
Этим параллелизм образов не ограничивается: женские персонажи
явно представляют собой ипостаси основных героев: это дочери двух
герцогов — Розалинда и Селия, которые при обратной циклической
трансформации сюжета, очевидно, войдут в единый центральный образ
в качестве его имен-ипостасей. Основное сюжетное разделение на этом
уровне претерпевает существенную трансформацию — обе девушки
удаляются «в лес» (одна изгоняется, другая — добровольно), но при этом
они претерпевают превращения: переодеваются (Розалинда меняет также
пол, перенаряжаясь в мальчика) и изменяют имена — типичная деталь
мифологического перевоплощения.
Розалинда Селия
Ганимед Алиена
Новая система эквивалентностей начинается с завязывания любовной
интриги: перед нами четкая система параллелизмов, причем двойная
природа Ганимеда — юноши-девушки (что подчеркивается и его дву-
смысленным именем) — создает основу для новых мифологических
отождествлений, воспринимаемых на уровне шекспировского текста как
комическая путаница.
3 Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 5. С. 110. (Пер. Т. Щепкиной-
Куперник.)
4 Там же. С. 92.
Происхождение сюжета...
229
Орландо
Оливер
Ганимед
Сильвий
Оселок
Уильям
Розалинда
Селия
Феба
Феба
Одри
Одр и
Все эти персонажные пары отчетливо повторяют одну и ту же ситуацию
и тот же самый тип отношений на различных уровнях, взаимно
дублируя друг друга. Даже шуту дан двойник в виде еще более низ-
менного персонажа — деревенского дурака. «Оливер — Селия» —
сниженный дубликат «Орландо — Розалинды» (в инвариантной схеме
первые сведутся к Фредерику, а вторые — к его изгнанному брату),
квадрат «Ганимед — Феба — Феба — Сильвий» — сниженный вариант
всех их, а квадрат «Оселок — Одри — Одри — Уильям» — то же
самое по отношению ко второму. В итоге все сколь-либо значительные
персонажи комедии в циклическом пространстве сведутся к единому
образу.
Остается упомянуть еще лишь об одном персонаже, противостоящем
всем действующим лицам комедии, — Жаке-Меланхолике. Он един-
ственный выключен из интриги и не возвращается из лесу вместе со
старым герцогом, а остается в том же пространстве, теперь уже при
добровольном изгнаннике Фредерике. Он же обладает наиболее ярко
выраженным характером: он постоянный критик того человеческого
мира, который находится за пределами леса. Поскольку «двор» и «лес»
образуют ассимметричное пространство типа «земной мир — загробный»
(в мифе), «реальный мир — идеально-сказочный» (у Шекспира), то
персонаж типа Жака необходим для того, чтобы придать художествен-
ному пространству ориентированность. Он не сливается с персонажем,
подвижным относительно сюжетного пространства, а представляет собой
персонифицированную пространственную категорию, воплощенное
отношение одного мира к другому. Не случайно он единственное
действующее лицо, которое не перемещается через границу между мирами
«двор» и «лес».
*
Можно полагать, что персонажи-двойники представляют собой лишь
наиболее элементарный и бросающийся в глаза продукт линейной пере-
фразировки героя циклического текста. По сути дела сами появление
различных персонажей есть результат того же самого процесса.
Нетрудно заметить, что персонажи делятся на подвижных, свободных
относительно сюжетного пространства, могущих менять свое место в
структуре художественного мира и пересекать границу — основной топо-
логический признак этого пространства, и на неподвижных, являющихся,
собственно, функцией этого пространства5.
5 См.: Неклюдов С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных отноше-
ний с сюжетной структурой былины // Тезисы докладов во второй Летней школе
по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1966; Лотман Ю. М. Структура
художественного текста. М., 1970. С. 280—289.
230
Текст как семиотическая проблема
Исходная в типологическом отношении ситуация — некоторое сюжет-
ное пространство членится одной границей на внутреннюю и внеш-
нюю сферу, и один персонаж получает сюжетную возможность
ее пересекать — заменяется производной и усложненной. Подвиж-
ный персонаж расчленяется на пучок-парадигму различных персона-
жей такого же плана, а препятствие (граница), также количественно
умножаясь, выделяет подгруппу персонифицированных препятствий —
закрепленных за определенными точками сюжетного пространства непод-
вижных персонажей-врагов (вредителей, по терминологии В. Я. Проппа).
В результате сюжетное пространство «населяется» многочисленными и
разнообразно связанными и противопоставленными героями. Из этого
вытекает некоторый частный вывод: чем заметнее мир персонажей сведен
к единственности (один герой, одно препятствие), тем ближе он к искон-
ному мифологическому типу структурной организации текста. Нельзя
не видеть, что лирика с ее сведенностью сюжета к схеме «я — он (она)»
или «я — ты» оказывается, с этой точки зрения, наиболее «мифологичным»
из жанров современного словесного искусства. Это предположение
подтверждается и другими признаками, например отмеченными выше
прагматическими свойствами мифологических текстов. Неудивительно,
что лирика глубже и естественнее воспринимается читателем как модель
его собственной личности, чем эпические жанры.
Другим фундаментальным результатом этого же процесса явилась
выделенность и маркированная моделирующая функция категорий
начала и конца текста.
Отслоившийся от ритуала и приобретший самостоятельное словесное
бытие текст в линейном его расположении автоматически обрел отмечен-
ность начала и конца. В этом смысле эсхатологические тексты следует
считать первым свидетельством разложения мифа и выработки повество-
вательного сюжета.
Элементарная последовательность событий в мифе может быть сведена
к цепочке: вхождение в закрытое пространство — выхождение из него
(цепочка эта открыта в обе стороны и может бесконечно умножаться).
Поскольку закрытое пространство может интерпретироваться как
«пещера», «могила», «дом», «женщина» (и соответственно наделяться
признаками темного, теплого, сырого6), вхождение в него на разных
уровнях интерпретируется как «смерть», «зачатие», «возвращение домой»
и т. д., причем все эти акты мыслятся как взаимно тождественные.
Следующие за смертью-зачатием воскресение-рождение связаны с тем,
что рождение мыслится не как акт возникновения новой, прежде не
бывшей личности, а в качестве обновления уже существовавшей. В такой
же мере, в какой зачатие отождествляется со смертью отца, рождение
отождествляется с его возвращением. С этим, в частности, связана
очевидность того, что не только синхронные персонажи-двойники, но и
диахронные, типа «отец-сын», представляют собой разделение единого или
циклического текста-образа. Двойничество всех братьев Карамазовых
между собой и их общая отнесенность к Федору Карамазову по схеме
«деградация-возрождение», полное отождествление или контрастное
противопоставление — убедительное свидетельство устойчивости этой
мифологической модели.
Ср.: Иванов Вяч. Вс, Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие
системы (древний период). М., 1965.
Происхождение сюжета...
231
Мифологическое происхождение сюжетного двойничества очевидно
связано с перераспределением границ сегментации текстов и признаков
отождествления и различия центрального действователя.
В циклических мифах, вырастающих на этой основе, можно определить
порядок событий, но нельзя установить временных границ повествования:
за каждой смертью следует возрождение и омоложение, за ними — ста-
рение и смерть. Переход к эсхатологическим повествованиям задавал
линейное развитие сюжета. Это сразу же переводило текст в категории
привычного нам повествовательного жанра. Действие, включенное в
линейное временное движение, строилось как повествование о постепен-
ном одряхлении мира (старении бога), затем следовала его смерть
(разъятие, мучение, поедание, погребение — последние два синонимичны
как включения в закрытое пространство), воскресение, которое знамено-
вало гибель зла и его конечное искоренение. Таким образом, нарастание
зла связывалось с движением времени, а исчезновение его — с уничто-
жением этого движения, со всеобщей и вечной остановкой. Признаками
разрушения исконно-мифологической структуры в этом случае будут
также распадения отношений изоморфизма7. Так, например, евхаристия
из действия, тождественного погребению (а также мучению, разъятию,
что связывалось, с одной стороны, с жеванием и разрыванием пищи,
а с другой, было, например, тождественно пыткам в ходе инициационного
обряда, который также был смертью в новом качестве), становилась
знаком.
Рудиментом мифа в эсхатологической легенде можно считать то, что
резко маркированный конец текста не совмещен еще с биологическим
концом жизни героя — смертью. Смерть (или ее эквиваленты: удаление
и пребывание в неизвестности, за которой должно последовать новое
«явление» героя, чудесный сон в таинственном месте — скале, пещере,
завершающийся пробуждением и возвратом и т. п.) располагается в
середине повествования, а не венчает его. С этим связано одно попутное
замечание: если согласиться с мыслью, что эсхатологическая легенда —
типологически наиболее близкий к мифу продукт его линейной перефрази-
ровки (и, вероятно, исторически наиболее ранний), то придется заклю-
чить, что обязательно счастливый конец, с которым мы сталкиваемся
в волшебной сказке, — не только исходная форма повествования
с выраженной категорией конца, но для определенного этапа — и един-
ственная, не имеющая структурной альтернативы в виде конца трагиче-
ского. Эсхатологический конец по своей природе может быть лишь
конечным торжеством доброго начала и осуждением и наказанием злого.
Привычные нам «хорошие» и «дурные» концы вторичны по отношению к
нему как реализация или не-реализация этой исконной схемы.
Категория начала не была в такой мере маркирована в текстах
эсхатологических легенд, хотя она и выражалась формами стабильных
зачинов и устойчивых ситуаций, что было связано с представлением
о наличии некоторого идеального исходного состояния, последующей его
порчи и конечного восстановления.
Значительно более отмеченными были «начала» в культурно-периферий-
ных текстах летописного свойства. При описании эксцесса указание на то,
«кто первый начал» или «с чего все началось», и современным читателем
может восприниматься как установление каузальной связи. Высокая
моделирующая роль категории начала будет с очевидностью проявляться
в «Повести временных лет», которая, по существу, представляла собой
собрание повествований о началах — начале русской земли, начале
княжеской власти, начале христианской веры на Руси и т. д. Преступление
232
Текст как семиотическая проблема
также интересует летописца прежде всего с этой точки зрения. Сущ-
ность события проясняется указанием на то, кто первым осуществил
подобное действие (так, осуждение братоубийства — ссылкой на Каина).
В «Слове о полку Игореве» отношение к самовольному походу Игоря
формулируется как указание на инициатора усобиц Олега Гореславича
(это усугубляется тем, что Олег и по крови «зачинатель» роДа Игоря).
Перевод мифологического текста в линейное повествование обусловил
возможность взаимовлияния двух полярных видов текстов — описываю-
щих закономерный ход событий и случайное отклонение от этого хода.
Взаимодействие это в значительной мере определило дальнейшие судьбы
повествовательных жанров.
Временная смерть как форма перехода из одного состояния в другое —
высшее — встречается в чрезвычайно широком кругу текстов и обрядов.
К последним следует отнести весь комплекс инициационных обрядов',
такие религиозные процедуры, как пострижение в монахи или принятие
схимы, посвящение в шаманы. Как правило, смерть при этом связывается
с растерзанием, разрубанием тела, захоронением или поеданием кусков и
последующим воскресением. В. Я. Пропп, ссылаясь на широкий круг
источников, в частности, на работу Н. П. Дыренковой «Получение
шаманского дара по воззрениям турецких племен», отмечает: «Ощущение
разрубания, разрезывания, перебирания внутренностей есть непременное
условие шаманства и предшествует моменту, когда человек становится
шаманом»8. Там же приводится многочисленный ряд известий о том, что
появлению пророческого дара предшествует прободение языка, ушей,
введение змеи в тело и т. п.
В условиях, когда названные выше обряды уже рассмотрены в широком
мифологическом контексте (в работах В. Я. Проппа, М. Элиаде и других
исследователей), не составляет особого труда установить их содержатель-
ную соотнесенность с единым мифологическим инвариантом «жизнь —
смерть — воскресение (обновление)» или на более абстрактном уровне:
«вхождение в закрытое пространство — выхождение из него». Трудность
заключается в другом — в объяснении устойчивости этой схемы даже
в тех случаях, когда непосредственная связь с миром мифа заведомо
оборвана. Когда Пушкин в «Пророке» дал исключительно точную,
детализованную и подтвержденную сейчас многочисленными текстами
картину обретения шаманского (т. е. пророческого) дара, вплоть до
таких деталей, как введение в рот «маленькой змеи, которая воплощает
магические способности»9, он не знал источников, которыми располагает
современный этнограф, в равной мере как и нам для понимания его
стихотворения не обязательно помнить параллели из книги пророка Исайи
(Ис. 6) и Корана, которые, вероятно, послужили ближайшими источни-
ками инициационных образов в «Пророке»10.
Для того чтобы воспринимать пушкинский текст, столь же не обяза-
тельно знать о связи его образов с инициационным (или посвящающим
в шаманы) обрядом, как для пользования языком нет необходимости
иметь сведения о происхождении его грамматических категорий. Такое
7 См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
8 Там же. С. 80.
9 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 79.
10 См.: Кашталева К. С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник //
Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1929. С. 243—270;
Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану»,
М., 1898.
Происхождение сюжета...
233
знание полезно, но не составляет минимального условия понимания текс-
та. Скрытый мифо-обрядовый каркас превратился в грамматически-фор-
мальную основу построения текста об умирании «ветхого» человека и
возрождении ясновидца.
Еще более нагляден этот двойной процесс — с одной стороны, забвения
содержательной стороны инициационного комплекса до степени полной
его формализации и, следовательно, превращения в нечто сознательно не
ощущаемое читателем (а возможно, и автором) и, с другой, все же
характерного присутствия этого, ставшего бессознательным, комплекса —
в романе А. Моравиа «Неповиновение». Действие заключается в пре-
вращении современного юноши в мужчину. В романе затрагиваются
современные вопросы молодежного бунта, неприятия мира и мучительного
перехода от мятежного эгоцентризма и культа самоуничтожения к откры-
тому восприятию жизни. Однако сюжетное движение строится здесь по
древней схеме: конец детства (конец первой жизни) отмечен все
возрастающей тягой к смерти, сознательным обрывом связей, соединяю-
щих героя с миром (бунт против родителей, против буржуазного мира
превращается в бунт против жизни как таковой). Затем наступает
длительная болезнь,'приводящая героя на грань смерти и являющаяся
недвусмысленным ее субститутом (страницы, описывающие бред умираю-
щего юноши, эквивалентны «спуску в загробный мир» в мифологических
текстах). Первая связь с женщиной (сиделкой при больном) знаменует
начало возвращения к жизни, перехода от нигилизма и бунта к приятию
мира, нового рождения. Эта отчетливо мифологическая схема, воспроиз-
водящая классические контуры инициации, выразительно завершается
заключительным образом романа: поезд, на котором выздоровевший
юноша едет в горный санаторий, ныряет в темную дыру тоннеля и
вырывается из него на простор. Два конца тоннеля предельно четко
соответствуют древнейшему мифологическому представлению о вхож-
дении во тьму, мрак, пещерное пространство как смерти и выходу к свету
как последующему рождению.
Мы уже отметили, что архаические структуры мышления в современ-
ном сознании утратили содержательность и в этом отношении вполне
могут быть сопоставлены с грамматическими категориями языка, образуя
основы синтаксиса больших повествовательных блоков текста. Однако,
как известно, в художественном тексте происходит постоянный обмен:
то, что в языке уже утратило самостоятельное семантическое значение,
подвергается вторичной семантизации. и наоборот. В связи с этим про-
исходит и вторичное оживление мифологических ходов повествования,
которые перестают быть чисто формальными организаторами текстовых
последовательностей и обрастают новыми смыслами, часто возвращаю-
щими нас -- сознательно или невольно — к мифу11. Показательный
пример этого мы видим в охарактеризованном выше романе Моравиа.
11 Признаком сознательной ориентации на миф в романе Моравиа является
род смерти, избираемый жаждущим самоуничтожения юношей: он и в мыслях
не имеет самоубийства — в сознании его возникает образ разрывания на части
и поедания его тела дикими зверями. В романе это психологически обосновы-
вается слышанными с детства рассказами об убитом молодом человеке, который,
как считает мальчик, закопан близ зверинца, книгами о христианских мучениках
и т. п.; однако мы здесь без труда ощущаем один из универсальных мотивов
смерти в мифе (разрывание — поедание). Ср.: «Растерзание человеческого тела
играет огромную роль в очень многих религиях и мифах, играет оно большую роль
и в сказке» (Пропп В. Я. Указ. соч. С. 80). Этнография дает многочисленный
234
Текст как семиотическая проблема
То, что образ, подсказанный современной техникой («поезд — тоннель»),
строится как суггестивное выражение наиболее архаического мифологи-
ческого комплекса (переход в новое состояние как смерть и новое рожде-
ние; цепь «смерть — половое общение — возрождение»; вхождение во
тьму и выхождение из нее как инвариантная модель всех вообще транс-
формаций) — глубоко показательно для механизма активации мифоло-
гического пласта в структуре современного искусства.
*
Если рассматривать^центральные и периферийные сферы культуры в
качестве некоторых организованных текстов, то можно будет отметить
различные типы их внутреннего устройства.
Центральный мифообразующий механизм культуры организуется как
топологическое пространство. При проекции на ось линейного времени и
из области ритуального игрового действа в сферу словесного текста он
претерпевает существенные изменения: приобретая линейность и дискрет-
ность, он получает черты словесного текста, построенного по принципу
некоторой фразы. В этом смысле он становится сопоставим с чисто
словесными текстами, возникающими на периферии культуры. Однако
именно это сопоставление позволяет обнаружить весьма глубокие
отличия: центральная сфера культуры строится по принципу интегри-
рованного структурного целого — фразы, периферийная организуется как
кумулятивная цепочка, образуемая простым присоединением струк-
турно самостоятельных единиц. Такая организация наиболее соответ-
ствует функции первой как структурной модели мира и второй как
своеобразного архива эксцессов.
Каждой из названных выше групп текстов соответствует свое пред-
ставление об универсуме как целом.
Законообразующий центр культур, генетически восходящий к перво-
начальному мифологическому ядру, реконструирует мир как полностью
упорядоченный, наделенный единым сюжетом и высшим смыслом. Хотя
материал о том, как за разрыванием на части следует закапывание в землю
(одновременно захоронение и засевание поля — ср. известную балладу Р. Бернса
«Джон — ячменное зерно», где мучение, зарывание в землю, варка в котле —
лишь предтечи возрождения и где создается трехслойная сюжетная структура:
архаико-мифологический пласт, сказочный — война «трех королей против
Джона» — и третий, поэзия земледельческого труда, — засевание поля или
проглатывание). Оба они изоморфны зачатию, и за ними закономерно следует
произрастание или изблевывание, которые являются новым и более совершенным
рождением. Так, М. Элиаде приводит африканский миф о великане Нгакола,
который пожирал и изблевывал людей. Миф этот положен у соответствующих
племен в основу инициационного обряда. Не лишено интереса, что у Моравиа
уход героя из жизни и мира детства, родителей и собственности принимает форму
разрывания на части денег и зарывания обрывков в землю (этому жертвопри-
ношению предшествует открытие, что в комнате родителей за изображением
мадонны, перед которым ребенка долгие годы заставляли молиться, скрыт сейф,
набитый кредитками). Так весьма архаический сюжет низвержения старого
божества, разрывания на части и засевания кусками его тела земли, за коим
следует обновление и бога и человека, начало «новой жизни», становится языком,
на котором писатель повествует об остро современных коллизиях.
Происхождение сюжета... 235
он представлен текстом или группой текстов, они в общей системе
культуры выступают как нормализующее устройство, расположенное по
отношению ко всем другим текстам данной культуры на метауровне.
Все тексты этой группы органически между собой связаны, что прояв-
ляется в их способности естественно свертываться в некоторую единую
фразу. Поскольку по содержанию фраза эта связана с эсхатологическими
представлениями, картина мира, порождаемая этой фразой, чередует
трагическое напряжение сюжета с конечным умиротворением.
Система периферийных текстов реконструирует картину мира, в которой
господствует случай, неупорядоченность. Эта группа текстов также
оказывается способной перемещаться на некоторый метауровень, однако
сведению в какой-либо единый и организованный текст она не поддается.
Поскольку составляющими эту группу текстов сюжетными элементами
будут эксцессы и аномалии, общая картина мира представится как
предельно дезорганизованная. Отрицательный полюс в ней будет реали-
зован повествованиями о разнообразных трагических случаях, каждый из
которых будет представлять собой некоторое нарушение порядка, то
есть наиболее вероятным в этом мире парадоксально окажется наименее
вероятное. Положительный полюс манифестируется чудом
решением трагических конфликтов наименее ожидаемым и вероятным
образом. Однако, поскольку общая упорядоченность текстов отсутствует,
благотворящее чудо в этой группе текстов никогда не бывает конечным.
Следовательно, создаваемая здесь картина мира, как правило, хаотична и
трагична.
Несмотря на то что применительно к каждой конкретной культуре мы
можем выделить относительную ориентированность ее на тот или иной
текстопорождающии механизм и ту или иную группу текстов, речь_в
данном случае может идти лишь о самоориентировке, поскольку в
реальном механизме культуры подразумевается наличие обоих центров,
их взаимная напряженность и воздействие друг на друга. Борясь за
главенствующее положение в иерархии данной культуры, каждая из этих
групп воздействует на своего контрагента, стремясь самоопределиться
в качестве текста высшего ранга, а своему противнику отведя место
частной манифестации себя на более низком текстовом уровней) Если
примеры расположения упорядоченных текстов на высшем стуктурном
уровне культуры тривиальны — их можно иллюстрировать в философии
рядом систем от Платона до Гегеля, а в области теории науки, например,
концепцией Ф. де Соссюра, то противоположное построение связывается,
например, с картиной мира Н. Винера с его универсальной и наступатель-
ной энтропией, с точки зрения которой информация — лишь случайный и
локальный эпизод. Когда умирающий Тютчев просил «сделать вокруг
него немного света», он выражал пронесенное им через всю жизнь
убеждение в том, что мир хаотически неупорядочен и что свет, разум и
закон — лишь локальные, случайные и нестабильные формы «игры
неупорядоченностей». По Тютчеву, человек расположен на границе этих
двух враждебных миров, принадлежа своей природной сущностью миру
хаоса, а мыслью — чуждому природе логосу:
Вот от чего, с природой споря,
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник.
Спор между каузально-детерминированным и вероятностным под-
ходами в теоретической физике XX в. — пример охарактеризованного
выше конфликта в сфере науки.
236
Текст как семиотическая проблема
*
Диалогический конфликт двух исходных текстовых группировок приобре-
тает совершенно новый смысл с момента (этому слову здесь не придается
никакого хронологического значения, поскольку отделить дохудожествен-
ный период существования текстов от художественного мы можем лишь
логически, но отнюдь не исторически) возникновения искусства.
В художественном тексте оказывается возможным реализовать ту
оптимальную их соотнесенность, при которой конфликтующие структуры
располагаются не иерархически, то есть на разных уровнях, а диалоги-
чески — на одном. Поэтому художественное повествование оказывается
наиболее гибким и эффективным моделирующим устройством, способным
целостно описывать весьма сложные структуры и ситуации.
Конфликтующие системы не отменяют друг друга, а вступают в струк-
турные соотношения, порождая новый тип упорядоченностей. Как
реализуется подобный тип повествовательной структуры, попытаемся
проиллюстрировать на частном примере романов Достоевского, удобных
именно своей диалогической структурой, глубоко проанализированной
М. М. Бахтиным. Впрочем, как это было доказано тем же автором,
диалогическая структура не составляет исключительной принадлежности
романов Достоевского, а свойственна романной форме как таковой.
Можно было бы сказать и более расширительно — художественному
тексту определенных типов. Нас, однако, в данном случае не интересует
принцип диалогичности во всем его многоаспектном объеме. Перед нами
значительно более узкая задача — проследить интеграцию в повество-
вательной форме романа двух противоположных сюжетообразующих
принципов.
В романах Достоевского легко вычленяются, что уже неоднократно
отмечалось исследователями, две противонаправленные сферы: область
бытового действия и мир идеологических конфликтов.
Первая — область сюжетного развития, — в свою очередь, расчле-
няется на мир повседневных событий и сферу детективно-криминального
сюжета.
Давно уже было замечено, что повседневные события развиваются
у Достоевского в соответствии с «логикой скандалов», закономерным
следствием чего явилось формальное выражение связи между эпизодами
при помощи словечка «вдруг»12. Развивая это наблюдение, можно было бы
сказать, что события бытового ряда следуют в повествовании Достоев-
ского друг за другом в соответствии с законом наименьшей вероятности.
Опираясь на свой бытовой опыт, читатель вырабатывает в своем сознании
некоторые ожидаемые возможности, одни из которых оцениваются как
весьма вероятные, другие — как лишь возможные, а третьи — как мало-
или совсем невероятные. Сталкиваясь с тем или иным событием в тексте
романа, читатель, естественно, применяет к нему свою шкалу ожиданий
(на нее, конечно, наслаивается шкала ожиданий, обусловленная его
литературным опытом потребителя художественных текстов: вполне воз-
можен ход подсознательного ожидания, расчленяющего наиболее
вероятное в жизни и в художественном тексте того или иного типа).
Это дает ему возможность сконструировать наиболее вероятное
12 См.: Слонимский А. «Вдруг» у Достоевского // Книга и революция. 1922
№8.
Происхождение сюжета...
237
следующее звено сюжетного развития. В тексте Достоевского наименее
ожидаемое читателем (то есть наименее вероятное как по законам
жизненного опыта, так и в литературных построениях) оказывается
единственно возможным для автора.
Рассмотрим для примера главу «Премудрый змий» из «Бесов». Уже
исходная ситуация строится как нарушение наиболее вероятного: Степан
Трофимович, приглашенный к Варваре Петровне для важного и конфиден-
циального разговора, придя к ней, не застает никого. Одновременно
совершается и другое странное событие: в церкви к Варваре Петровне
подходит неизвестная ей и странно ведущая себя дама (в дальнейшем
она оказывается Марьей Тимофеевной Лебядкиной), и Варвара Петровна,
вопреки здравому смыслу и сущности своего характера, приглашает ее
к себе домой13. В дело вмешивается совершенно необъяснимо ведущая
себя Лиза, которая, вопреки всему, заставляет Варвару Петровну взять
ее также с собой.
Степан Трофимович и автор ждут одну Варвару Петровну, но слышат
шум многих шагов, что «было уже несколько странно». Слышатся шаги,
точно «кто-то входил до странности скоро», за чем следует специальное
предупреждение, что • «так не могла входить Варвара Петровна».
Именно поэтому входящая оказывается Варварой Петровной (молодые
женщины идут за нею «несколько приотстав и гораздо тише»). Далее
следует странное и скандальное поведение Марьи Тимофеевны. Как
только этот инцидент исчерпывается, неожиданно появляется Прасковья
Ивановна (мать Лизы), и между ней и Варварой Петровной происходит
сцена одновременно скандальная и неожиданная (кроткая и забитая
Прасковья Ивановна ведет себя агрессивно). Сцена кончается обмороком
Варвары Петровны и примирением. Далее появляется новое лицо —
Дарья Павловна. Разговор, однако, идет не о сватовстве за нее Степана
Трофимовича, ради чего он был приглашен (об этом,
вопреки вероятности, все забыли), а совсем о другом — вводится новое
усложнение: Дарья Павловна сообщает, что по просьбе Николая
Всеволодовича передала деньги капитану Лебядкину, раскрывая тем
самым наличие каких-то таинственных отношений между людьми, само
знакомство которых казалось невероятным.
Далее сообщается о появлении самого капитана Лебядкина, и,
вопреки утверждениям присутствующих, что это «не такой человек,
который может войти в общество» и приглашение его исключается,
он приглашается и входит. При этом Варвара Петровна отправляет
из комнаты Лизу («особенно Лизе тут нечего будет делать»), после чего
Лиза, естественно, остается. Затем входит капитан Лебядкин, появление
которого, с одной стороны, — новое звено в цепи нелепостей, а с другой,
неожиданно своей недостаточной безобразностью: он прилично и#
даже щегольски одет и не пьян (при этом вспоминается выражение
Липутина: «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с»;
поведение Лебядкина оказывается для него неприличным, то есть
недостаточно безобразным). Когда нажимают звонок, чтобы вывести
Лебядкина, то входящий слуга вместо этого сообщает, что «Николай
Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с». После чего
появляется не Николай Всеволодович, а неизвестный молодой человек,
13 Вообще, герои Достоевского систематически совершают поступки, выпадаю-
щие из заданных констант их характеров и имеющие «странный», немотивиро-
ванный вид.
238
Текст как семиотическая проблема
оказывающийся сыном Степана Трофимовича. Затем появляется Николай
Всеволодович, который еще находится на пороге, когда Варвара Петровна
задает ему самый неожиданный вопрос: «Правда ли, что эта несчастная,
хромая женщина, — вот она, вон там, смотрите на нее! Правда ли, что
она... законная жена ваша?» Николай Всеволодович ничего не отвечает,
почтительно целует руку матери и ласково выводит Марью Тимофеевну
из комнаты. В его отсутствие Петр Степанович «разъясняет» в лучшем
смысле поведение Николая Всеволодовича («довольно странно было и вне
обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего
с неба господина рассказывать чужие анекдоты»). Затерроризированный
Петром Степановичем капитан Лебядкин с позором изгоняется, и насту-
пает настоящий апофеоз Николая Всеволодовича. Но тут происходит
неожиданная истерика с Лизой. Едва ее успевают успокоить, как Петр
Степанович делает неожиданное разоблачение, в результате которого
его отец с позором изгоняется. Затем, неожиданно, все время молча
сидевший в углу Шатов бьет Николая Всеволодовича по лицу, а Лиза
падает в обморок.
Достаточно просмотреть этот перечень эпизодов, чтобы убедиться в том,
что их последовательность не обусловлена никакой внутренней связью.
Совершенно случайная, атомарная последовательность отдельных изоли-
рованных сгустков действия подчеркивается тем, что в целом ряде слу-
чаев на самом деле предсказуемость эпизодов существует, однако в обра-
щенном виде: эпизоды следуют один за другим в порядке не наибольшей,
а наименьшей вероятности.
Между неожиданностью эпизодов на данных — бытовом и детективном
— уровнях существует значимое различие. Разрозненность и случайность
последовательностей в детективе только кажущаяся. Она существует для
читателя, которому неизвестна тайна сюжета и который до определен-
ной поры принимает неважное за существенное и наоборот. Поскольку
читателя следует как можно дольше продержать в этом неведении, от него
скрывают ошибочность его предположений. Ложному развитию придается
наиболее логичный и внешне убедительный вид. Несвязанность между
отдельными эпизодами в этом случае лишь изредка проступает наружу,
для того чтобы намекнуть на ложный характер принятых читателем
связей.
Такая подспудная логика криминального действия имеется и в «Бесах»,
в частности и в процитированном выше эпизоде. Определенная часть
событий лишь кажется скоплением нелепых случайностей, и раскрытие
тайных преступлений внесет в их последовательность логику и организо-
ванность. Однако этого нельзя сказать обо всей цепочке эпизодов этой
главы: для большей части нелепость и случайность в их сцеплении такими
и останутся. Более того, если в детективе нелепость (неправильность)
ложных связей, устанавливаемых тем, кто не знает скрытых пружин
действия, до определенного момента скрывается, то в интересующем нас
отрывке (как и в других, подобных ему) Достоевский старательно
предупреждает нас, как бы опасаясь, что читатель не заметит принципа
построения текста («день неожиданностей», «все решилось так, как никто
бы не предположил» и т. п.).
Каждый из выделенных уровней имеет свою, только лишь ему присущую
синтагматическую организацию, и это обеспечивает сложность их взаимо-
отношений.
Относительно идейного ядра романов Достоевского было уже сказано,
что они непосредственно организуют сюжетное движение текста (Б. М.
Энгельгардт). Еще более существенным является указание М. М. Бахтина
Происхождение сюжета...
239
на то, что монологическое построение — естественный результат линей-
ного развертывания мифа в текст-нормализатор — заменено у Достоев-
ского в ядерной структуре романа диалогом: «...идеи Достоевского-
мыслителя, войдя в его полифонический роман, меняют самую форму
бытия (...) освобождаются от своей монологической замкнутости и завер-
шенности, сплошь диалогизируются и вступают в большой диалог
романа»и.
Таким образом, идеологическое ядро впитывает в себя структурные
признаки периферийных текстов. Одновременно протекает и противо-
положный процесс, характер которого ясно наблюдается на типичном для
Достоевского изображении бытового пласта как цепи скандалов и безоб-
разий. Можно было бы думать, что пронизанный случайностями и нару-
шением всех возможных закономерных ожиданий пласт бытовых эпизодов
у Достоевского — воплощение неразумия, «греховности» материального
мира. Это так и не так, поскольку непредсказуемость и даже нелепость
у Достоевского — черта не только скандала, но и чуда. Оба эти полюса,
знаменующие конечную гибель и конечное спасение, имеют общую черту
немотивированности и незакономерности. Таким образом, эсхатологиче-
ский момент мгновенного и окончательного разрешения всех трагических
противоречий жизни не привносится в эту жизнь извне, из области идей,
а обретается в ее собственной толще.
Моделью такого слияния «скандала» и «чуда», демонстрирующего
их родственную природу, является карточная игра или рулетка.
С одной стороны, она воплощает безобразную сущность безобразной
жизни: «Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый»15. С другой
стороны, в ней воплощается эсхатологическое чудо решения всех конфлик-
тов. В центре «Игрока» — жажда чуда. Выигрыш — «происшествие
чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикою, но тем не
менее — для меня еще до сих пор чудесное»16. При этом неоднократно
подчеркивается, что дело не в деньгах, а в жажде мгновенного и оконча-
тельного спасения. Не случайно с выигрышем связывается чисто мифоло-
гическое представление о воскресении, окончании старой — греховной —
жизни и начале совсем нового существования: «Что я теперь? Zero. Чем
могу быть завтра? (явная перефразировка слов аббата Сийеса: «Что такое
третье сословие? Ничто. Чем оно может быть завтра? Всем» — придает
жажде чуда новый оттенок — возможность политического истолкования,
что предсказывает появление Раскольникова — Ю. Л.) Я завтра могу
из мертвых воскреснуть и вновь начать жить!»17
В этом же смысле показательно утверждение Астлея, что «рулетка —
это игра по преимуществу русская» и начальная антитеза немецкого
постепеновства и русского стремления к мгновенной гибели («расточает их
(деньги. — Ю. Л.) как-то зря и безобразно») или мгновенному спасению,
чуду («разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь»). В этом смысле в
«Игроке» уже заложен Раскольников с его стремлением мгновенно погиб-
нуть или мгновенно спасти всех. Но ведь и Сонечка приносит Расколь-
никову чудо мгновенного спасения души.
14 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд. М., 1963. С. 122.
15 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 4. С. 303. Ср. также:
«...сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая все это беспорядица, неурядица,
глупость, пошлость» (Там же. С. 318).
16 Там же. С. 396—397.
17 Там же. С. 423.
240
Текст как семиотическая проблема
Таким образом, если диалогизм — проникновение многообразия жизни
в упорядочивающую сферу теории, то одновременно мифологизм прони-
кает в область эксцесса.
Романы Достоевского — яркая иллюстрация того, что можно считать
общим свойством повествовательных художественных текстов.
*
Мы видели, как в результате линейного развертывания мифологического
текста исконно единый персонаж делится на пары и группы. Однако
имеет место и противоположный процесс. Дело в том, что отождествле-
ние — уже после того, как в результате перевода в линейную систему
выделились категории начала и конца — этих понятий с биологическими
границами человеческого существования — явление относительно позд-
нее. В эсхатологической легенде и изоморфных ей текстах сегментация
человеческого существования на непрерывные отрезки может произво-
диться весьма неожиданным для нынешнего сознания образом. Так,
например, изоморфизм погребения (съедения) и зачатия, рождения и
возрождения может приводить к тому, что повествование о судьбе героя
может начинаться с его смерти, а рождение= возрождение приходиться
на середину рассказа. Полный эсхатологический цикл: существование
героя (как правило, начинается не с рождения), его старение, порча
(впадение в грех неправильного поведения) или исконный дефект (напри-
мер, герой урод, дурак, болен), затем смерть, возрождение и новое, уже
идеальное, существование (как правило, кончается не смертью, а апо-
феозом) воспринимается как повествование о едином персонаже. То,
что на середину рассказа приходится смерть, перемена имени, полное
изменение характера, диаметральная переоценка поведения (крайний
грешник делается крайним же праведником), не заставляет видеть здесь
рассказ о двух героях, как это было бы свойственно современному
повествователю.
Примером может быть известный эпизод из «Деяний апостолов».
Рассказ о Савле-Павле начинается не с рождения героя, а с упоминания
его как участника казни первомученика Стефана. В дальнейшем о нем
сообщается, что он, «дыша угрозами и убийством на учеников Господа»,
был ревностным гонителем христиан. На дороге в Дамаск «внезапно осиял
его свет с неба». Он слышал глас свыше, потерял зрение, а затем, когда
чудесным образом прозрел, превратился в «избранный сосуд» Господен
(Деян. 9; 1,3, 15) и стал именоваться Павлом.
Повествование это в высшей мере примечательно как идеальная
реализация схемы: рождение и смерть не обрамляют истории героя, а
помещены в ее середине, ибо событие на дамасской дороге, конечно,
есть смерть, а последующее за ним перерождение — рождение. Не
случайна перемена имени. По концам же повествования таких границ не
находим: оно начинается не рождением и кончается не смертью.
Не менее интересно другое: никаких оснований, с точки зрения таких
критериев, как «единство действия» эпохи классицизма или «логика
характера» в реалистическом тексте, для отождествления Савла и Павла
как одного персонажа не имеется. Между тем в упомянутом тексте это
не два последовательно существовавших персонажа, а одно лицо.
Такая схема построения характера под влиянием мифо-легендарной
традиции проникает и в позднейшие литературные произведения, стано-
вясь языком, на котором реализуются тексты о «прозрении» или внезапном
Происхождение сюжета...
241
изменении сущности героя. Таковы, например, волшебные сказки с их
превращением дурака в царя (путешествие в лес, к Бабе Яге, выражения
типа «влез в одно ухо — вылез из другого и стал молодец молодцом» и т. п.
в основе своей, конечно, подразумевают смерть и воскресение). Прямое
перенесение такой схемы на позднейшие произведения находим в повест-
вованиях о великих грешниках, сделавшихся праведниками (Андрей
Критский, папа Григорий)18, яркий пример чего — «Влас» Некрасова.
В начале стихотворения герой — великий грешник:
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал...
Затем следует болезнь. Выразительная картина ада свидетельствует
о том, что в данном случае она функционально равна смерти:
Говорят, ему видение Мучат бесы их проворные,
Все мерещилось в бреду: Жалит ведьма-егоза,
Видел света'преставление, Ефиопы — видом черные
Видел грешников в аду: И как углие глаза...
Возвращение к жизни влечет за собой полное перерождение героя:
Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол...
...Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.
Критический и равный смерти характер момента перерождения часто
подчеркивается тем, что герою дается двойник (сущность двойника как
раздвоившегося единого персонажа нами уже отмечена), который не
воскресает (или не омолаживается), а погибает. Такие эпизоды мы
находим в ряде текстов от мифа о Медее (волшебное омоложение барана,
подвергнутого разъятию и варке, и гибель царя Пелии при подобной же
процедуре) до концовки «Конька-горбунка» Ершова.
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
«Эко диво! — все кричали, —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!»
Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился, —
Бух в котел — и там сварился!19
18 Гудзий Н. К. К истории легенды о папе Григории // Изв. ОРЯС за 1914 г.
Пг., 1915. Т. 19. Кн. 1. С. 247—256; Он же. К легендам о Иуде-предателе и Андрее
Критском // РФВ. 1915. № 1. С. 11 и 18; Sleelisch A. Die Gregorlegende // Zeit-
schrift fur deutsche Philologie. Halle, 1887. Bd. 19. S. 385—440.
19 Ср. у Афанасьева легенды о неудачном врачевании.
242
Текст как семиотическая проблема
Схема «падение — возрождение» широко представлена и в новой лите-
ратуре. Например, она организует ряд лирических стихотворений Пуш-
кина, таких как «Возрождение». Напомним известные стихи Михалевича
из «Дворянского гнезда»:
Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал;
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
Перед нами характер, состоящий из двух прямо противоположных
частей, переход от одной из которых к другой мыслится как обновление.
Детство приходится не на начало, а на середину временного развития
образа («как ребенок душою я стал»). По той же схеме строится и
«Воскресение» Толстого. При всем различии конкретно-исторических
идей, транслируемых с помощью данного сюжетного механизма, уже
повторение таких названий, как «Возрождение», «Воскресение», не может
быть случайностью.
Наложение на схему эсхатологической легенды бытового отождеств-
ления литературного персонажа и человека привело к возможности
моделирования внутреннего мира человека по образцу макрокосма, а
одного человека истолковывать как конфликтно организованный коллек-
тив.
*
Сюжет представляет собой мощное средство осмысления жизни. Только в
результате возникновения повествовательных форм искусства человек
научился различать сюжетный аспект реальности, то есть расчленять
недискретный поток событий на некоторые дискретные единицы, соединять
их с какими-либо значениями (то есть истолковывать семантически) и
организовывать их в упорядоченные цепочки (истолковывать синтагмати-
чески). Выделение событий — дискретных единиц сюжета — и наделение
их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной
временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядочен-
ностью, с другой, составляет сущность сюжета.
Чем более поведение человека приобретает черт свободы по отношению
к автоматизму генетических программ, тем важнее ему строить сюжеты
событий и поведений. Но для построения подобных схем и моделей
необходимо обладать некоторым языком. Такую роль и выполняет перво-
начальный язык художественного сюжета, который в дальнейшем посто-
янно усложняется, очень далеко отходя от тех элементарных схем, на
которые мы обратили внимание в настоящей статье. Как всякий язык,
язык сюжета, для того чтобы передавать и моделировать некоторое
содержание, должен быть от этого содержания отделен. Возникшие в
архаическую эпоху модели отделены от конкретных сообщений, но могут
служить материалом для их текстового построения. При этом следует
помнить, что в искусстве язык и текст постоянно меняются местами и
функциями.
Создавая сюжетные тексты, человек научился различать сюжеты
в жизни и, таким образом, истолковывать себе эту жизнь.
Каноническое искусство...
243
Каноническое искусство
как информационный парадокс
В исторической поэтике считается установленным, что есть два типа
искусства. Мы исходим из этого как из доказанного факта, поскольку
эта мысль подтверждается обширным историческим материалом и рядом
теоретических соображений. Один тип искусства ориентирован на
канонические системы («ритуализованное искусство», «искусство эсте-
тики тождества»), другой — на нарушение канонов, на нарушение заранее
предписанных норм. Во втором случае эстетические ценности возникают
не в результате выполнения норматива, а как следствие его нарушений.
Возможность существования «внеканонического» искусства подверга-
лась иногда сомнению. При этом указывалось, что уникальные, не повто-
ряющиеся объекты не могут быть коммуникативными и что любая
«индивидуальность» л «неповторимость» произведений искусства возни-
кает в результате комбинации сравнительно небольшого числа вполне
стандартизованных элементов. Что же касается «канонического искус-
ства», искусства, ориентированного на выполнение правил и нормативов,
то существование его настолько очевидный и, казалось бы, хорошо
изученный факт, что от исследователей порой укрывается парадоксаль-
ность одного из основных принципов нашего к нему подхода.
Предполагается вполне очевидным, что система, служащая коммуни-
кации, имеющая ограниченный словарь и нормализованную грамматику,
может быть уподоблена естественному языку и изучаться по аналогии
с ним. Так возникло стремление видеть в канонических типах искусств
аналоги естественных языков.
Как отмечали многочисленные исследователи, существуют целые
культурные эпохи (к ним относят, например, века фольклора, средне-
вековье, классицизм), когда акт художественного творчества заключался
в выполнении, а не нарушении правил. Явление это неоднократно
описывалось (применительно к русскому средневековью, например,
в трудах Д. С. Лихачева). Более того, именно в изучении текстов этого
типа структурное описание сделало наиболее^заметные успехи, поскольку
к ним, как кажется, в наибольшей мере применимы навыки анализа
общеязыкового текста.
Параллель с естественными языками представляется здесь вполне
уместной. Если допустить, что есть особые типы искусства, которые
целиком ориентированы на реализацию канона, тексты которых представ-
ляют собой осуществление предустановленных правил и значимые
элементы которых суть элементы заранее данной канонической системы, то
вполне естественно уподобить их системе естественного языка, а созда-
ваемые при этом художественные тексты — явлениям речи (в соссюриан-
ской оппозиции «язык — речь»).
Между тем эта параллель, столь, как кажется, естественная, порождает
определенные трудности: текст на естественном языке реализуется при
полной автоматизации плана выражения, который для участников языко-
вого общения лишен всякого самостоятельного интереса, и предельной
свободе содержания высказывания. Художественные тексты, принадле-
жащие эстетике тождества, в этом отношении строятся по прямо противо-
положному принципу: область сообщения у них предельно канонизи-
244
Текст как семиотическая проблема
руется, а «язык» системы сохраняет неавтоматизированность. Вместо
системы с автоматизированным (и поэтому незаметным) механизмом,
способным передавать почти любое содержание, перед нами система
с фиксированной областью содержания и механизмом, сохраняющим
неавтоматичность, т. е. постоянно ощущаемым в процессе общения.
Когда мы говорим об искусстве, особенно об искусстве так называемого
ритуализованного типа, то первое, что бросается в глаза, это фиксиро-
ванность области сообщения. Если на русском, китайском или любом
другом языке можно говорить о чем угодно, на языке волшебных
сказок можно говорить только об определенных вещах. Здесь оказы-
вается совершенно иным отношение автоматизации выражения и содер-
жания.
Более того, если говорящие на родном языке, употребляющие его без
ошибок и правильно, не замечают его, он полностью автоматизирован
и внимание сосредоточено на сфере содержания, то в области искусства
автоматизации кодирующей системы не может произойти. Иначе искус-
ство перестанет быть искусством. Происходит, таким образом, весьма
парадоксальная вещь. С одной стороны, мы действительно имеем
засвидетельствованную огромным числом текстов систему, очень напоми-
нающую естественный язык, систему с устойчивым канонизированным
типом кодировки, а с другой стороны, эта система ведет себя странным
образом — она не автоматизирует свой язык и не обладает свободой
содержания.
Таким образом, получается парадоксальное положение: при, казалось
бы, полном сходстве коммуникативной схемы естественного языка и
«поэтики тождества* функционирование систем имеет диаметрально
противоположный характер. Это заставляет предположить, что параллель
между общеязыковыми типами коммуникации и коммуникативной схемой,
например, фольклора не исчерпывает некоторых существенных форм
художественной организации этих видов искусства.
Как же может получиться, что система, состоящая из ограниченного
числа элементов с тенденцией к предельной их стабилизации и с жесткими
правилами сочетания, тяготеющими к канону, не автоматизируется, т. е.
сохраняет информативность как таковая? Ответ может быть лишь один:
описывая произведение фольклора, средневековой литературы или любой
иной текст, основанный на «эстетике тождества», как реализацию
некоторых правил, мы снимаем лишь один структурный пласт. Из поля
зрения, видимо, ускользают действия специфических структурных меха-
низмов, обеспечивающих деавтоматизацию текста в сознании слушателей.
Представим себе два типа сообщения: одно — записка, другое —
платок с узелком, завязанным на память. Оба рассчитаны на прочтение.
Однако природа «чтения» в каждом случае будет глубоко своеобразна.
В первом случае сообщение будет заключено в самом тексте и полностью
может быть из него извлечено. Во втором — «текст» играет лишь мне-
моническую функцию. Он должен напоминать о том, что вспоминающий
знает и без него. Извлечь сообщение из текста в этом случае невозможно.
Платок с узелком может быть сопоставлен с многими видами текстов.
И здесь придется напомнить не только о «веревочном письме», но и о
таких случаях, когда графически зафиксированный текст — лишь свое-
образная зацепка для памяти. Такую роль играл вид страниц Псалтыри
для неграмотных дьячков XVIII в., читавших псалмы по памяти, но
непременно глядя в книгу. По авторитетному свидетельству академика
И Ю. Крачковского, в силу особенностей графики чтение Корана на
определенных этапах его истории подразумевало предваритель-
Каноническое искусство...
245
ное знание текста1. Но, как мы увидим в дальнейшем, круг подобных
текстов придется значительно расширить.
Припоминание — лишь частный случай. Он будет входить в более
обширный класс сообщений, при которых информация будет не содер-
жаться в тексте и из него соответственно извлекаться получателем, а
находиться вне текста, с одной стороны, но требовать наличия опреде-
ленного текста, с другой, как непременного условия своего проявления.
Можно рассматривать два случая увеличения информации, которой
владеет какой-либо индивид или коллектив. Один — получение извне.
В этом случае информация вырабатывается где-то на стороне и в
константном объеме передается получателю. Второй — строится иначе:
извне получается лишь определенная часть информации, которая играет
роль возбудителя, вызывающего возрастание информации внутри созна-
ния получателя. Это самовозрастание информации, приводящее к тому,
что аморфное в сознании получателя становится структурно организо-
ванным, означает, что адресат играет гораздо более активную роль, чем
в случае простой передачи определенного объема сведений.
В случае, когда мы имеем дело с получением информативного возбу-
дителя, это, как пра&ило, строго урегулированный текст, который способ-
ствует самоорганизации воспринимающей личности. Размышления под
стук колес, под мерную, ритмическую музыку, созерцательное настроение,
вызванное рассматриванием правильных узоров или совершенно формаль-
ных геометрических рисунков, завораживающее действие словесных
повторов — все это наиболее простые примеры такого рода увеличения
внутренней информации под влиянием организующего воздействия
внешней.
Можно предположить, что во всех случаях искусства, относящегося
к «эстетике тождества», мы сталкиваемся с усложенными проявлениями
того же принципа.
Отмеченный нами выше парадокс находит тогда объяснение. При
сравнении фольклора и средневекового искусства, с одной стороны, и
поэтики XIX в., с другой, выясняется, что в этих случаях графически
зафиксированный текст по-разному относится к заключенному в произве-
дении объему информации. Во втором случае — по аналогии с явлениями
естественного языка — он заключает всю информацию произведения
(сообщения), в первом — лишь незначительную ее часть. Сверхупоря-
доченность плана выражения здесь приводит к тому, что связь между
выражением и содержанием теряет присущую естественным языкам
однозначность и начинает строиться по принципу узелка и связанного
с ним воспоминания.
Получатель произведения XIX в. прежде всего слушатель — он настроен
"на то, чтобы получить информацию из текста. Получатель фольклорного?
, (а также и средневекового) художественного сообщения лишь поставлен/
к$ благоприятные условия для того, чтобы прислушаться к самому себе/
Он не только слушатель, но и творец. С этим связано и то, что столь
каноническая система не теряет способности быть информационно
активной. Слушатель фольклора скорее напоминает слушателя музыкаль-
ной пьесы, чем читателя романа. Не только появление письменности,
но и перестройка всей системы искусства по образцу схемы общеязыкового
общения породила литературу.
Таким образом, в одном случае «произведение» равняется графически
1 Коран I Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М., 1963. С. 674.
246
Текст как семиотическая проблема
зафиксированному тексту: оно имеет твердые границы и относительно
стабильный объем информации, в другом — графический или иначе
зафиксированный текст — это лишь наиболее ощутимая, но не основная
часть произведения. Оно нуждается в дополнительной интерпретации,
включении в некоторый значительно менее организованный контекст.
В первом случае формообразующий импульс состоит в уподоблении
данной семиотической системы естественному языку, во втором — музыке.
Соотношение произведения искусства и действительности, его интерпре-
тирующей, в этих двух типах построения художественных текстов имеет
принципиально различный характер: если в поэтике реалистического типа
отождествление текста и жизни представляет наименьшую сложность
(наибольшего творческого напряжения требует создание текста), то в
произведениях «эстетики тождества» в тех случаях, когда такое отождест-
вление происходит (текст может строиться и как чисто синтагматическая
конструкция, подразумевающая лишь факультативное семантическое
истолкование, не более обязательное, чем, например, зрительные образы
в непрограммной музыке), оно представляет наиболее творческий акт и
может строиться по принципу наибольшего несходства или любых иных,
установленных лишь для данного случая, правил интерпретации.
Таким образом, если деканонизированный текст выступает как источник
информации, то канонизированный — как ее возбудитель. В текстах,
организованных по образцу естественного языка, формальная струк-
тура — посредующее звено между адресантом и адресатом. Она играет
роль канала, по которому передается информация. В текстах, организо-/
ванных по принципу музыкальной структуры, формальная система
представляет собой содержание информации: она передается адресату и
по-новому переорганизовывает уже имеющуюся в его сознании инфор-
мацию, перекодирует его личность.
Из этого вытекает, что, описывая канонизированные тексты только
с точки зрения их внутренней синтагматики, мы получаем чрезвычайно
существенный, но не единственный пласт структурной организации.
Остается еще вопрос: что означал данный текст для создавшего его
коллектива, как он функционировал? Вопрос этот тем более труден, что
ответить на него, исходя из самого текста, часто бывает невозможно.
Тексты искусства XIX в. в себе самих содержат, как правило, указания на
свою социальную функцию. В текстах канонизированного типа таких
указаний, как правило, нет. Прагматику и социальную семантику этих
текстов нам приходится реконструировать на основании только внешних
по отношению к ним источников.
При решении вопроса, откуда же берется информация в текстах, вся
система которых по условию наперед предсказуема (ибо именно повы-
шение предсказуемости составляет тенденцию канонизированных
текстов), необходимо учитывать следующее.
Во-первых, следует различать случаи, когда ориентация на канон
принадлежит не тексту как таковому, а нашему его истолкованию.
Во-вторых, следует учитывать, что между структурой текста и осмыс-
лением этой структуры на метауровне общего культурного контекста
могут быть существенные расхождения. Не только отдельные тексты, но и
целые культуры могут осмыслять себя как ориентированные на канон.
Но при этом строгость организации на уровне самоосмысления может
компенсироваться далеко идущей свободой на уровне построения отдель-
ных текстов. Разрыв между идеальным самоосмыслением культуры и ее
текстовой реальностью в этом случае становится дополнительным
источником информации.
Каноническое искусство...
247
Так, например, тексты основоположника русского старообрядческого
движения протопопа Аввакума им самим осмысляются как ориентиро-
ванные на канон. Более того, борьба за культуру, строящуюся как
выполнение строгой системы заранее данных правил, составляла его
жизненную и литературную программу. Однако реальные тексты Авва-
кума строятся как нарушение правил и канонов литературы. Это
позволяет исследователям, ставя его творчество в различные контексты
более общего плана (порой достаточно произвольно), истолковывать его
то как «традиционалиста», то как «новатора».
Можно привести и другой пример. Петровская государственность
считала себя регулярной. Эпоха выдвинула требование «регулярного
государства» и идеалы предельной нормализации всего строя жизни.
Государство сведено было к определенной формуле и определенным
числовым отношениям вплоть до проектируемых каналов Васильевского
острова (которые так и не были построены), вплоть до табели о рангах.
Но ведь если от уровня самооценки петровской государственности
перейти к уровню #административной деятельности, мы столкнемся
с чем-то прямо противоположным регулярности. Ведь так и не был
создан даже Свод законов, между тем как в допетровской Руси судебники
составлялись легко. Постпетровская государственность никакой юридиче-
ской кодификации не создала. Единственное, что было создано, это Свод
законов, многотомное издание — прецедент, который должен был заме-
нить отсутствующую кодифицированную систему.
Таким образом, следует иметь в виду, что самооценка культуры как
ориентированной на кодификацию не всегда объективна. Также надо
иметь в виду, что метауровень и уровень текста иногда тяготеют к сов-
падению, к адекватности соотношения, а иногда наоборот.
Каноническое искусство играет огромную роль в общей истории
художественного опыта человечества. Вряд ли имеет смысл рассматри-
вать его как некоторую низшую или уже пройденную стадию. И тем более
существенно поставить вопрос о необходимости изучать не только его
внутреннюю синтагматическую структуру, но и скрытые в нем источники
информативности, позволяющие тексту, в котором все, казалось бы,
заранее известно, становиться мощным регулятором и строителем чело-
веческой личности и культуры.
КУЛЬТУРА
И ПРОГРАММЫ
ПОВЕДЕНИЯ
Поэтика бытового поведения
в русской культуре XVIII века
Заглавие настоящей работы нуждается в пояснении. Бытовое поведение
как особого рода семиотическая система — уже такая постановка
вопроса способна вызвать возражения. Говорить же о поэтике бытового
поведения — значит утверждать (для того хронологического и нацио-
нального отрезка культуры, который указан в заглавии), что определен-
ные формы обычной, каждодневной деятельности были сознательно
ориентированы на нормы и законы художественных текстов и пережива-
лись непосредственно эстетически. Если бы это положение удалось
доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических
характеристик культуры изучаемого периода.
Нельзя сказать, чтобы бытовое поведение как таковое не привлекало
внимания исследователей: в области этнографии оно рассматривается
как естественный объект описания и изучения. Традиционной является
эта тема и для исследователей относительно отдаленных культурных
эпох: античности, Ренессанса, барокко. История русской культуры также
может указать на ряд сохраняющих значение трудов от «Очерка домаш-
ней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях»
Н. И. Костомарова до книги Б. А. Романова «Люди и нравы Древней
Руси».
Из сказанного можно сделать наблюдение: чем дальше — исторически,
географически, типологически — отстоит от нас та или иная культура, тем
очевиднее, что свойственное ей бытовое поведение — вполне специфи-
ческий объект научного внимания. С этим можно было бы сопоставить и
тот факт, что документы, фиксирующие для определенного социума нормы
бытового, обычного поведения, как правило, исходят от иностранцев или
написаны для иностранцев. Они подразумевают наблюдателя, находя-
щегося вне данного социума.
Аналогичное положение существует и в отношении бытовой речи, опи-
сания которой на первом этапе фиксации и изучения, как правило,
ориентированы на внешнего наблюдателя. Параллель эта, как мы увидим,
не случайна: и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными
носителями как «естественные», относящиеся к ПрироДе, а не к Культуре.
Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего наблю-
дателя.
Сказанное до сих пор, казалось бы, противоречит заглавию настоящей
работы, поскольку эстетическое переживание бытового поведения воз-
можно лишь для наблюдателя, воспринимающего его в ряду знаковых
Поэтика бытового поведения...
249
явлений культуры: иностранец, переживающий чужую каждодневную
жизнь как экзотику, может воспринимать ее эстетически — непосред-
ственный носитель культуры, как правило, просто не замечает ее спе-
цифики. Однако в России XVIII в., в мире дворянской культуры, произо-
шла такая трансформация сущности бытового поведения, что оно
приобрело черты, обычно этому культурному явлению не свойственные.
В каждом коллективе с относительно развитой культурой поведение
людей организуется основным противопоставлением:
1) обычное, каждодневное, бытовое, которое самими членами коллек-
тива воспринимается как «естественное», единственно возможное,
нормальное;
2) все виды торжественного, ритуального, внепрактического поведе-
ния: государственного, культового, обрядового, воспринимаемые самими
носителями данной культуры как имеющие самостоятельное значение.
Первому носители данной культуры учатся, как родному языку, —
погружаясь в непосредственное употребление, не замечая, когда, где
и от кого они приобрели навыки пользования этой системой. Им кажется,
что владеть ею настолько естественно, что самый вопрос такого рода
лишен смысла. Тем менее может прийти кому-либо в голову составлять
для подобной аудитории грамматики языка бытового поведения — мета-
тексты, описывающие его «правильные» нормы. Второму типу поведения
учатся, как иностранному языку, — по правилам и грамматикам, сначала
усваивая нормы, а затем уже, на их основании, строя «тексты поведения».
Первое поведение усваивается стихийно и невзначай, второе — созна-
тельно, через учителей, и овладение им, как правило, отмечается особым
актом посвящения.
Русское дворянство после Петра \ пережило изменение, значительно
более глубокое, чем простая смена бытового уклада: та область, которая
обычно отводится бессознательному, «естественному» поведению, сде-
лалась сферой обучения. Возникали наставления, касающиеся норм
бытового поведения, поскольку весь сложившийся в этой области уклад
был отвергнут как неправильный и заменен «правильным» — евро-
пейским.
Это привело к тому, что русский дворянин в петровскую и после-
петровскую эпоху оказался у себя на родине в положении иностранца —
человека, которому во взрослом состоянии искусственными методами
следует обучаться тому, что обычно люди получают в раннем детстве
непосредственным опытом. Чужое, иностранное приобретает характер
нормы. Правильно вести себя — это вести себя по-иностранному, т. е.
некоторым искусственным образом, в соответствии с нормами чужой
жизни. Помнить об этих нормах так же необходимо, как знать правила
неродного языка для корректного им пользования. «Юности честное
зерцало...», желая изобразить идеал вежливого поведения, предлагало
мысленно представлять себя в обществе иностранцев: «Нужду свою
благообразно в приятных и учтивых словах предлагать, подобно яко бы
им с каким иностранным лицем говорить случалось, дабы они в том тако
и обыкли»1.
Культурная инверсия такого типа отнюдь не означала «европеизации»
быта в прямолинейном понимании этого выражения, поскольку пере-
несенные с Запада формы бытового поведения и иностранные языки,
Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное
от разных авторов повелением его императорского величества государя Петра
Великого (...) пятым тиснением напечатанное. Спб., 1767. С. 29.
250
Культура и программы поведения
делавшиеся нормальным средством бытового общения в русской
дворянской среде, меняли при такой пересадке функцию. На Западе
они были формами естественными и родными и, следовательно, субъек-
тивно неощутимыми. Естественно, что умение говорить по-голландски
не повышало ценности человека в Голландии. Перенесенные в Россию,
европейские бытовые нормы становились оценочными, они, как и владение
иностранными языками, повышали социальный статус человека. В том
же «Юности честном зерцале...» читаем: «Младые отроки, которые
приехали из чужестранных краев и языков с великим иждивением научи-
лись, оные имеют подражать и тщаться, чтоб их не забыть, но совершеннее
в них обучатися, а именно: чтением полезных книг и чрез обходительство
с другими, а иногда, что-либо в них писать и компомовать, дабы не
позабыть языков.
Оные, которые в иностранных землях не бывали, а либо из школы или
из другого какого места ко двору приняты бывают, имеют пред всяким
себя унижать и смирять, желая от всякого научитися, а не верьхоглядом
смотря, надев шляпу, яко бы приковану на голове имея, прыгать и
гордиться, яко бы никого в дело ставя»2.
Такое представление делает очевидным, что, вопреки распространен-
ному мнению, европеизация акцентировала, а не стирала неевро-
пейские черты быта, ибо для того, чтобы постоянно ощущать собственное
поведение как иностранное, надо было не быть иностранцем (для
иностранца иностранное поведение не является иностранным), надо было
усваивать формы европейского быта, сохраняя внешний, «чужой», русский
взгляд на них, надо было не становиться иностранцем, а вести себя как
иностранец. В этом смысле характерно, что усвоение иностранных обычаев
отнюдь не отменяло, а порой усиливало антагонизм по отношению к
иностранцам.
Непосредственным результатом перемен в отношении к бытовому
поведению была ритуализация и семиотизация тех сфер жизни, которые
в неинверсированной культуре воспринимаются как «естественные» и
незначимые. Результат был противоположен той «приватности», которая
бросалась в глаза русским наблюдателям европейской жизни (ср. слова
П. Толстого о Венеции: «Ни в чем друг друга не зазирают и ни от кого ни
в чем никакого страху никто не имеет: всякий делает по своей воле, кто
что хочет»3). Образ европейской жизни удваивался в ритуализованной
игре в европейскую жизнь. Каждодневное поведение становилось зна-
ками каждодневого поведения. Степень семиотизации, сознательного,
субъективного восприятия быта как знака резко возросла. Бытовая жизнь
приобретала черты театра.
Для русского XVIII в. исключительно характерно то, что дворянский
мир ведет жизнь-игру, ощущая себя все время на сцене, народ же склонен
смотреть на господ как на ряженых, глядя на их жизнь из партера. Инте-
ресным показателем этого является употребление европейской (господ-
ской) одежды как маскарадной во время святок. Так, В. В. Селиванов
вспоминал, как в начале XIX в. на святки толпы ряженых крестьян —
деревенских и дворовых — заходили в господский, в это время для них
открытый, дом. В качестве маскарадных костюмов использовались или
вывороченные крестьянские овчинные шубы, или шутовская
одежда, в обычное время не употреблявшаяся (мочальные колпаки
и т. п.). Однако наряду с этим употреблялись натуральные барские
2 Там же. С. 41-42.
3 Русский архив. 1888. Т. 1. Кн. 4. С. 547.
Поэтика бытового поведения...
251
платья, тайком получаемые у ключницы: «Старинные господские мундиры
идругие одежды мужского и женского наряда, хранившиеся в кладовых»4.
Показательно, что на лубочных картинках XVIII в. с их ориентацией
на театр — занавесы, наметы и рампы, обрамляющие листы, — народные
персонажи, поскольку это актеры, изображаются в господском
платье. Так, в известном лубочном листе «Пожалуй поди прочь от меня»
блинница нарисована с мушками на лице, а ее ухажер — в парике с косой,
с мушками, в дворянском мундире и с треуголкой5.
Возможность понимания дворянского быта как повышенно семиотиче-
ского обусловливалась не только тем, что, сделавшись для послепетров-
4 Предания и воспоминания В. В. Селиванова. Спб., 1881. С. 115.
5 Представление о дворянском платье как театральном, а не бытовом одеянии
иллюстрируется тем, что в русском народном театре еще в XX в. актеры выступали
в обычных пиджаках, на которые надевались в качестве знаков театрального
костюма ордена, ленты и погоны. В описании П. Г. Богатыревым костюмов народ-
ного театра не только-Царь Максимильян или король Мамай, но и Аника-воин,
Змеюлан и другие имеют через плечо ленты, а на плечах погоны, чтобы лицо на
сцене «не походило на окружающую публику», — замечает П. Г. Богатырев (см.:
Богатырев П. Г. Народный театр: Чешский кукольный и русский народный театр
// Сб-ки по теории поэт, языка. Берлин; Пг., 1923. Вып. 6. С. 83—84). С этим
интересно сопоставить утверждение того же автора, что в чешском кукольном
театре «вполне умышленно кукольник речь высших особ делает неправильной»
(Там же. С. 71). Очевидно, что и театральная одежда представляется «неправиль-
ной» по отношению к обычной. Она изготовляется из материалов, имеющих
вид настоящих, но не являющихся ими, и в этом отношении напоминает одежду
покойников (например, «босовки» — обувь без подметок), которую специально
шили для покойников перед похоронами и которая, как и театральные одежды,
изображала доброкачественное одеяние. Для сознания, еще тесно связанного
с допетровской традицией, театр оставался «игрищем», разновидностью маскарада
и карнавала, в частности, отличающегося обязательным признаком переодевания.
Если вспомнить, что с народной (т. е. традиционно допетровской) точки зрения
момент переодевания неизменно воспринимался как дьявольский, дозволенный
лишь в определенные календарные моменты (святки), да и то лишь как магическая
игра с нечистой силой, то естественно, что театрализация дворянского быта и
восприятие его как постоянного карнавала (вечный праздник и вечный маскарад)
сопровождались определенной религиозно-этической оценкой такой жизни. Напро-
тив, характерно стремление эстетизированного дворянского быта втягивать в свою
орбиту и сельскую жизнь, которая начинает осмысляться через призму идилличе-
ских интермедий. Характерны многочисленные факты попыток создания театрали-
зованных образов русской деревни в самой жизни (на фоне и по контрасту с реаль-
ной деревней). Таковы и хороводы одетых в шелковые сарафаны крестьянских
девушек, которые плясали по берегам Волги во время путешествия Екатерины II,
театральные деревни Шереметьева или переодетая грузинскими крестьянами семья
Клейнмихелей, которая на балу трогательно благодарила Аракчеева за заботу.
Яркий пример стирания граней между спектаклем и жизнью, сопровождав-
шегося переодеванием, меной возрастных и половых амплуа, видим во время
коронации Елизаветы Петровны. Коронация была отмечена пышными маскарадами
и спектаклями. 29 мая 1742 г. в дворце на Яузе была поставлена опера «La Clemenza
di Tito» («Титово милосердие»). Поскольку роль Тита должна была восприниматься
как аллюзия на Елизавету, исполнительницей ее была переодетая женщина, г-жа
Жоржи. Публика же в зале, по случаю следовавшего за спектаклем маскарада,
была в маскарадных платьях. Если вспомнить, что в день переворота Елизавета
была в мужском гвардейском мундире, а обычная система маскарада при ее дворе
состояла в переодевании мужчин (особенно мальчиков-кадетов) в женские кос-
тюмы, а женщин — в мужские, то легко вообразить, как должен был оцениваться
этот мир глазами наблюдателей-крестьян, служителей, уличной толпы (см.:
Арапов П. Летопись русского театра. Спб., 1861. С. 44).
252
Культура и программы поведения
ского русского дворянина «своим», он одновременно ощущался им же и
как «чужой». Такое двойное восприятие собственного поведения превра-
щало его в игру.
Ощущение это поддерживалось тем, что многие черты народного быта
сохраняли еще общенациональный характер: не только мелкий, живущий
в провинции помещик, но и знатный барин, и Петр I, и Елизавета легко
переходили к нормам традиционного общенародного быта и поведения.
Таким образом, можно было выбирать любой из двух типов поведения:
нейтральное, «естественное» или подчеркнуто дворянское и одновременно
сознательно театрализованное. Характерно, что лично для себя Петр I
предпочитал первое, и даже участвуя в ритуализованных бытовых дей-
ствах, он себе отводил роль режиссера — лица, организующего игру,
требующего ее от окружающих, но лично в нее не включающегося. Однако
эта любовь к «простоте» не сближала поведение Петра с народным, а
скорее означала нечто прямо противоположное. Для крестьянина отдых
и праздник связаны с переходом в сферу поведения с повышенной ритуа-
лизацией: церковная служба — неизменный признак праздника, —
свадьба, даже простое угощение в кабаке означали включение в некото-
рый утвержденный обряд, определяющий даже и то, что, кому и когда
следует говорить и делать. Для Петра же отдых — переход к внеобрядо-
вому, «партикулярному» поведению (первое, в частности, подразумевает
публично-зрелищный характер; вокруг дома, в котором происходит
свадьба, толпятся неприглашенные, пришедшие «посмотреть»; второе
совершается при закрытых дверях, в тесном кругу «своих»). Противо-
поставление это снимается пародийным ритуалом, который как анти-
ритуал тяготеет к камерности и замкнутости, а как, хотя и вывернутый
наизнанку, но все же обряд, — к публичности и открытости. Смешение в
петровскую эпоху самых различных форм семиотики поведения: офи-
циально-церковного ритуала, пародий на церковный ритуал в кощун-
ственных обрядах Петра и его приближенных, практики «иноземного»
поведения в быту, камерного «партикулярного» поведения, сознательно
противопоставленного ритуалу6, — на фоне общенародного уклада жизни
6 Если средне-нейтральное европейское «бюргерское» поведение при перенесении
его в Россию трансформируется в сторону резкого повышения семиотичности, то
не менее интересные трансформации переживает поведение русских людей той
эпохи, посещающих Европу. В одних случаях — это продолжение допетровской
традиции — семиотичность поведения резко повышается. Забота о смысле жеста,
ритуала, восприятие любой детали поведения как знака в этих случаях понятны:
человек воспринимает себя как представитель, аккредитованное лицо, и
переносит в свое бытовое поведение законы дипломатического протокола. Европей-
ские же наблюдатели полагали, что это и есть нормальное бытовое поведение рус-
ских.
Однако возможна была и противоположная трансформация: поведение резко
деритуализуется и на фоне европейского выступает как более естественное. Так,
Петр I, прекрасно владея стеснительными нормами дипломатического ритуала,
во время поездок за границу предпочитал изумлять европейцев неожиданной
простотой своего поведения, более непосредственного, чем не только нормы «коро-
левского», но и «бюргерского» поведения. Например, во время посещения Парижа
в 1716 г. Петр продемонстрировал понимание норм ритуала: сгорая от нетерпения
видеть Париж, он не выходил из дому до визита короля; во время визита к нему
регента, приглашая его в свой кабинет, прошел в дверь первым и первым сел в
кресло. Но когда Петр нанес ответный визит семилетнему Людовику XV, видя пос-
леднего спускающимся с лестницы навстречу карете, «Петр выскочил из нее, побе-
жал к королю навстречу, взял на руки и внес по лестнице в залу» (Соловьев С. М.
История России с древнейших времен. Спб., б. г. Кн. 4. С. 365).
Поэтика бытового поведения...
253
делало ощутимой категорию стиля поведения. С этим можно
сопоставить то, что именно пестрая неупорядоченность лексических
средств языка начала XVIII в. обострила чувство стилистической значи-
мости не просто пластов речи, но каждого слова в отдельности (resp. = не
только поведения, но и поступка), подготовив строгие классификационные
упорядоченности середины XVIII в.
Таким образом, за первым шагом — семиотизацией бытового поведения
последовал второй — создание стилей в рамках нормы каждодневного
быта. Это выражалось, в частности, в том, что определенными про-
странствами определялись стилевые константы поведения. Переезжая
из Петербурга в Москву, из подмосковного имения в заглазное, из России
в Европу, дворянин — часто бессознательно, но всегда безошибочно —
изменял стиль своего поведения. Процесс стилеобразования в данной
сфере шел и в другом направлении — социальном. Определялась разница
в стилях поведения служащего и отставного, военного и статского,
столичного (придворного) и нестоличного дворянина. Манера разговора,
походки, одежда безошибочно указывали, какое место в стилевом поли-
фонизме каждодневного быта занимает тот или иной человек. Гоголь,
приводя в письмах (а позже — в «Игроках») выражение: «Руте, реши-
тельно руте! просто карта-фоска!» — считал эту фразу «настоящей
армейской и в своем роде не без достоинства», то есть подчеркивал, что
ни штатский чиновник, с одной стороны, ни гвардейский офицер, с другой,
так бы не сказали.
Стилевая окраска подчеркивалась тем, что реализация того или иного
поведения осуществлялась в результате выбора, как одна из возможных
альтернатив. Наличие выбора, возможность сменить поведение на другое
является основой дворянского бытового уклада. Система жизни русского
дворянина строилась как некоторое дерево. Причем дворянство, добив-
шись во второй половине XVIII в. вольности служить или жить в отставке,
проживать в России или за рубежом, продолжало бороться за умножение
«ветвей» этого дерева. Правительство же, особенно в эпохи Павла I и
Николая I, активно стремилось свести на нет возможности индивидуаль-
ного поведения и выбора собственного стиля и природы пути для каждой
отдельной личности, превратить жизнь в службу, а одежду — в мундир.
Основные возможности дворянского поведения можно представить
следующей схемой (см. с. 254)7. Наличие выбора резко отделяло
дворянское поведение от крестьянского, регулируемого сроками земле-
дельческого календаря и единообразного в пределах каждого его этапа.
Любопытно отметить, что, с этой точки зрения, поведение дворянской
женщины было в принципе ближе к крестьянскому, чем к мужскому
дворянскому, поскольку не включало моментов индивидуального выбора,
а определялось возрастными периодами.
7 На схеме отмечена возможность духовного пути, не очень типичного для
дворянина, но все же не исключенного. Мы встречаем дворян и среди белого, и
среди черного духовенства XVIII — начала XIX в. Не отмечена на схеме существен-
ная для XVIII в. черта: в послепетровской России решительно изменилось отно-
шение к самоубийству. К концу века дворянская молодежь была охвачена настоя-
щей волной самоубийств. Радищев видел в праве человека на свободный выбор:
жить или не жить — залог освобождения от политической тирании. Тема эта
активно обсуждалась в литературе (Карамзин, русская вертериана) и публици-
стике. Таким образом, добавлялась еще одна альтернатива, и самый факт суще-
ствования делался результатом личного выбора.
дворянское поведение
мирская жизнь
за границей в России
в службе
военная служба
гвардия
различия
по родам
войск
армия
различия
по родам
войск
в отставке
или не служа"
статская служба
столичная
в провинции
дипломати-
ческая
служба
другие виды
чиновничьей
деятельности
духовное поприще
черное белое
духовенство духовенство
московский
барин
стиль
поведения помещика
барин-
вельможа
мелкопомест-
ный дворянин
Схема дворянского поведения
(учтены лишь те из основных разновидностей поведения русского дворянина XVIII в., которые реализовывались в порядке выбора
между альтернативными возможностями). Не учитываются поправки на типологию возрастного поведения.
Поэтика бытового поведения...
255
Возникновение стилей поведения, естественно, сближало это последнее
с эстетически переживаемыми явлениями, что, в свою очередь, побуждало
искать образцы для бытового поведения в сфере искусства. Для человека,
еще не освоившегося с европеизированными формами искусств, образ-
цами здесь могли быть лишь привычные для него формы зрелищных
действ: церковная литургия и балаганная сцена. Однако первая пользо-
валась таким авторитетом, что использование ее в быту принимало харак-
тер пародийно-кощунственного действа. Примечательный пример исполь-
зования форм народного театра для организации ежедневного действа
господской жизни находим в редкой книжке «Родословная Головиных,
владельцев села Новоспаскаго, собранная Баккалавром М. Д. Академии
Петром Казанским» (М., 1847). В этом курьезном издании, составленном
на основании домашнего архива рода Головиных, заключавшего источ-
ники, во многом напоминавшие те, которые были в распоряжении Ивана
Петровича Белкина, когда он приступал к написанию «Истории села
Горюхина», содержится, в частности, жизнеописание Василия Василье-
вича Головина (1696—1781), составленное на основании его собственных
записок и домашних легенд. Бурная жизнь Головина (он учился в Гол-
ландии, владел четырьмя европейскими языками и латынью, был камер-
юнкером Екатерины I, пострадал по делу Монса, потом попал в застенок
при Бироне8 и, выкупившись оттуда за огромную взятку, поселился в
деревне) интересует нас из-за того театра — смеси ярмарочного балагана,
народных заклинаний и заговоров и христианского обряда, — в который
он превратил свой каждодневный быт. Приведем обширную цитату.
«Вставши рано по утру, еще до восхода солнечного, он прочитывал полнощницу
и утреню вместе с любимым своим дьячком Яковом Дмитриевым. По окончании
утренних правил являлись к нему с докладами и рапортами дворецкой, клюшник,
выборной и староста. Они обыкновенно входили и выходили по команде горничной
девушки испытанной честности Пелагеи Петровны Воробьевой. Прежде всего она
произносила: «Во имя Отца, и Сына, и св. Духа», а предстоящие отвечали:
«Аминь!». Потом она уже говорила: «Входите, смотрите, тихо, смирно, бережно и
опасно, с чистотою и с молитвою, с докладами и за приказами к барину нашему
государю, кланяйтесь низко его боярской милости и помните ж, смотрите,
накрепко!». Все в один голос отвечали: «Слышим, матушка!». Вошедши в кабинет
к барину, они кланялись до земли и говорили: «Здравия желаем, государь наш!» —
«Здравствуйте, — отвечал барин, — друзья мои непытанные и немученные, не
опытные и не наказанные!». Это была его всегдашняя поговорка. «Ну! что? Все
ли здорово, ребята, и благополучно ли у нас?». На этот вопрос прежде всего отвечал
с низким поклоном дворецкой: «В церкви святой, и ризнице честной, в доме вашем
господском, на конном дворе и скотном, в павлятнике и журавлятнике, везде в
садах, на птичьих прудах и во всех местах милостью Спасовою все обстоит, государь
наш, богом хранимо, благополучно и здорово». После дворецкого начинал свое
донесение клюшник: «В барских ваших погребах, амбарах и кладовых, сараях и
овинах, улишниках и птишниках, на витчинницах и сушильницах, милостию
Господнею, находится, государь наш, все в целости и сохранности, свежую воду
ключевую из святаго григоровского колодца, по приказанию вашему господскому,
8 «Содержался в заключении около двух лет до 1758-го года, марта 3-го дня,
где терпел ужасные пытки и был подвергаем невыразимым мучениям. Поднимая
на палы, ему вывертывали лопатки, гладили по спине горячим утюгом, кололи
под ногти разожженными иглами, били кнутом и, наконец, истерзанного возвра-
тили семейству». «К сожалению потомства, неизвестна причина настоящей его
провинности», — меланхолически замечает бакалавр Петр Казанский (Родослов-
ная Головиных, владельцев села Новоспаскаго, собранная Баккалавром М. Д. Ака-
демии Петром Казанским. М., 1847. С. 57—58).
256
Культура и программы поведения
на пегой лошади привезли, в стеклянную бутыль налили, в деревянную кадку
постановили, вокруг льдом обложили, извнутри кругом призакрыли и сверху камень
навалили». Выборной доносил так: «Во всю ночь, государь наш, вокруг вашего
боярского дому ходили, в колотушки стучали, в трещетки трещали, в ясак звенели и
в доску гремели, в рожок, сударь, по очереди трубили и все четверо между собою
громогласно говорили; нощные птицы не летали, странным голосом не кричали,
молодых господ не пугали и барской за маски не клевали, на крыши не садились
и на чердаке не возились». В заключение староста доносил: «Во всех четырех
деревнях, милостию Божиею, все состоит благополучно и здорово: крестьяне ваши
господские богатеют, скотина их здоровеет, четвероногие животные пасутся, домаш-
ние птицы несутся, на земле трясения не слыхали, и небесного явления не видали;
кот Ванька* и баба Зажигалка** в Ртищеве проживают и по приказу вашему
боярскому невейку ежемесячно получают, о преступлении своем ежедневно возды-
хают и вас, государь наш, слезно умоляют, чтобы вы гнев боярской на милость
положили и их бы, виновных рабов своих, простили». Пропускаем описание тща-
тельно разработанного ежедневного церемониала, состоящего чиз домашней
молитвы, церковной литургии и обрядов завтрака, обеда и десерта, каждый из
которых составлял регулярно повторяющееся зрелище. «Приготовление ко сну
начиналось (в 4-м часу пополудни. — Ю. Л.) приказом закрывать ставни; изнутри
прочитывали молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий наш,
помилуй нас!» — «Аминь!» — отвечали несколько голосов извне и с этим словом
с ужасным стуком закрывали ставни и засовывали железными болтами. Тут
приходили дворецкой, клюшник, выборной и староста. В кабинет к барину
допускался один дворецкой и'отдавал уже прочим приказания. Приказ выборному
был такой: «Слушайте приказ боярской: смотрите, всю ночь не спите, кругом
барского дома ходите, колотушками громче стучите, в рожок трубите, в доску
звоните, в трещотку трещите, в ясак ударяйте, по сторонам не зевайте и помните
накрепко: чтобы птицы не летали, странным голосом не кричали, малых детей не
пугали, барской замаски не клевали, на крыше б не садились и по чердакам не
возились. Смотрите ж, ребята, помните накрепко!». «Слышим», — был ответ.
Старосте был приказ такой: «Скажите сотским и десятским, чтоб все они, от мала
до велика жителей хранили и строго соблюдали, обывателей от огня неусыпно
сберегали б, и глядели б, и смотрели: нет ли где в деревнях Целеве, Медведках и
Голявине смятения, не будет ли на реках Икше, Яхроме и Волгуше волнения, не
увидят ли на небесах какого-нибудь странного явления, не услышат ли под собою
ужасного землетрясения? Коли что такое случится или диво какое приключится,
о том бы сами не судили и ничего б такого не рядили и в ту б пору к господину
приходили и все б его милости боярской доносили и помнили б накрепко». Клюш-
нику отдавала приказ девица Воробьева: «Барин государь тебе приказал, чтоб ты
провизию наблюдал, в Григорово лошадь отправлял и святую воду принимал.
В кадку поставьте, льдом окладите, кругом накройте и камнем навалите, с чистотою
и молитвою, людей облегчайте и скотов наблюдайте, по сторонам не зевайте и
пустого не болтайте и помните накрепко!» Этим оканчивались приказания. Двери
комнат запирала и отпирала обыкновенно Воробьева; ключи она относила к
самому барину и, положа под изголовье, говорила: «Оставайтесь, государь, с
Иисусом Христом, почивайте, сударь, под покровом Пресвятой Богородицы, ангел-
хранитель пребудет над вами, государь мой». Потом отдавала приказ чередным
* Это был любимый кот барина. Однажды он влез в вятер, съел в нем приготов-
ленную для барского стола животрепещущую рыбу и, увязши, там удавился. Слуги,
не сказав о смерти кота, сказали только о вине, и барин сослал его в ссылку (прим.
П. Казанского).
** Так названа та женщина, от неосторожности которой сгорело Новоспаское
в 1775 году. Василий Васильевич так был испуган этим пожаром, что всем
дворовым людям велел стряпать в одной особой комнате, а дворовых у него было
более трех сот человек; естественно, что приказание никогда не было исполняемо
{прим. П. Казанского).
Поэтика бытового поведения...
257
сенным девицам: «Кошек-то*** смотрите, ничем не стучите, громко говорите, по
ночам не спите, подслушников глядите, огонь потушите и помните накрепко!*
Прочитавши вечернее правило, Василий Васильевич ложился в постель и,
крестясь, произносил: «Раб Божий ложится спать, на нем печать Христова и
утверждение, Богородицына нерушимая стена и защищение, Крестителева благо-
словенная десница, хранителя моего ангела всесильный и всемощный животворя-
щий крест, бесплотных сил лики и всех святых молитвы. Крестом ограждаюсь,
демона прогоняю и всю силу его вражью искореняю, всегда ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь!» Ночью в Новоспаском раздавался гром, звон, стук, свист, гам и
крик, трещанье и бегание от четырех чередовых и стольких же караульных. Если
что-нибудь помешает барину заснуть в первое время, то он уже не ложился спать
и расстраивался на всю ночь. В таком случае он или начинал читать вслух свою
любимую книгу «Жизнь Александра Македонского» Квинта Курция или садился
в большие кресла (...) произносил следующие слова, постепенно возвышая и
понижая голос: «Враг сатана, отгонись от меня в места пустыя, в леса густые и в
пропасти земные, идеже не присещает свет лица Божия! Враг сатана! Отженись
от меня в места темные, в моря бездонные, на горы дивия, бездомные, безлюдные,
иде же не присещает свет лица Господня! Рожа окаянная, изыди от меня в
тартарары, изыди от меня окаянная рожа в ад кромешный и в пекло триисподне
и к тому уже не вниди. Аминь! Аминь! Аминь! Глаголю тебе, рассыпся, растрекляте,
растрепогане, растреокаяне1 Дую на тебя и плюю!» Окончив заклинание, он вставал
со стула и начинал ходить взад и вперед по всем своим семи комнатам, постукивая
колотушкой (...). Эти странности естественно поджигали любопытство, и многие
подсматривали в щели, что делает барин. Но и на этот случай приняты были меры.
Сенные девушки начинали крик с различными прибаутками и приговорками, ока-
чивали из верхнего окошка холодной водой подслушников, и барин одобрял все
эти поступки, приговаривая: «По делом вору и мука, ништо им растреклятым!
растрепоганьш/ растреокаяным! непытаным! немученым! и не наказанным!»,
топоча обеими ногами и повторяя неоднократно одно и то же»9.
Перед нами подлинный театр — со стабильными и регулярно повторяю-
щимися спектаклями и текстами. Однако это еще и народный театр
с раёшными рифмованными монологами и с характерным ярмарочным
окончанием спектакля, когда публику со сцены окатывают водою. На
сцене — «барин», персонаж, прекрасно известный по народному театру
и лубочным картинкам, он же частично и «чернокнижник» — произносит
заклинания, вслух читает по-латыни вперемешку со стихами раёшного
типа по-русски. Слияние смешного и грозно-страшного в этом спектакле
весьма типично.
Но и барин — не только актер, но и зритель, который, со своей стороны,
наблюдает тот карнавализованный ритуал, в который он превратил
каждодневное течение своей жизни. Он с удовольствием играет свою
грозно-смешную роль и наблюдает, чтобы и прочие не выпадали из стиля
игры. Вряд ли он, просвещенный астроном и географ, объездивший всю
Европу, беседовавший с Петром I, внук фаворита Софьи В. В. Голицына,
вне игры верит, что любимый кот Ванька десятки лет продолжает в
ссылке «проживать» и «о преступлении своем ежедневно воздыхать».
*** В комнатах у Василия Васильевича было семь кошек, которые днем ходили
везде, а ночью привязывались к семиножному столу. За каждой кошкой поручено
было ходить особой девке. Если случалось, что которая из кошек отрывалась от
стола и приходила к барину, то кошки и девки подвергались наказанию (прим.
П. Казанского).
9 Родословная Головиных... С. 60—70.
258
Культура и программы поведения
Но он предпочитает жить в этом условно-игровом мире, а не в том, где, как
он записывал в календаре, «подчищали ногти у меня, бедного и грешного
человека, которые были изуродованы»10.
В дальнейшем мы наблюдаем, как складывающаяся в сфере эстетиче-
ского сознания высокой культуры XVIII в. жанровая система начинает
активно воздействовать на поведение русского дворянина, создавая раз-
ветвленную систему жанров поведения.
Показательным свидетельством этого процесса было стремление к
расчленению жилого бытового пространства на сценические площадки,
причем переход из одной в другую сопровождался сменой поведенческого
жанра. Допетровская Русь знала бинарное противопоставление ритуаль-
ного и внеритуального пространств в мире и в пространстве человеческого
поселения. Эта оппозиция реализовывалась на разных уровнях как
«жилой дом — церковь», «внеалтарное пространство — алтарь», «черный
угол — красный угол в избе» и т. п. Продолжением этого было перенесение
в барский особняк членения на жилые и парадные комнаты. Однако в
дальнейшем проявляется тенденция, с одной стороны, превращать парад-
ные комнаты в жилые, с другой, вносить дифференциацию в жилое
пространство: переход из зимней резиденции в летнюю, перемещение —
в пределах нескольких часов — из античных или барочных зал дворца в
сельскую «хижину», «средневековую» руину, китайскую деревню или
турецкий киоск, переход в Кускове из «голландского домика» в «итальян-
ский» означали смену типа поведения, речи, места. Не только царские
дворцы или особняки вельмож, но и значительно более скромные поместья
простых дворян заполнялись беседками, гротами, храмами уединенного
размышления, приютами любви и т. д. Поскольку помещение становилось
декорацией (параллель с театром представляло и стремление сопровож-
дать изменение пространства дифференциацией сопровождающей
музыки), оно могло, в случае необходимости, упрощаться и удешевляться,
превращаясь из конструкции особого пространства (как это имело место
в выдающихся архитектурных ансамблях) в знаки такой конструкции,
доступные и простому помещику.
Дальнейшим развитием поэтики поведения явилась выработка кате-
гории амплуа. Подобно театральному амплуа — некоторому инва-
рианту типичных ролей, — человек XVIII в. выбирал себе определенный
тип поведения, упрощавший и возводивший к некоему идеалу его реальное,
бытовое существование. Такое амплуа, как правило, означало выбор
определенного исторического лица, государственного или литературного
деятеля или персонажа поэмы или трагедии. Данное лицо становилось
идеализированным двойником реального человека, замещая, в опреде-
ленном смысле, тезоименитого святого: ориентация на него становилась
программой поведения, а наименования типа «Российский Пиндар»,
«Северный Вольтер», «Наш Лафонтен», «Новый Стерн» или «Минерва»,
«Астрея», «Российский Цезарь», «Фабий наших дней» делались как бы
10 Родословная Головиных... С. 58. Ср.: «Известный богач граф П. М. Скаврон-
ский (...) окружил себя певцами и музыкантами: он разговаривал с прислугой своей
по нотам, речитативами; так дворецкий докладывал ему бархатным баритоном, что
на стол подано кушанье. Кучер объяснялся с ним густыми октавами, форейторы —
дискантами и альтами, выездные лакеи — тенорами и т. д. Во время парадных обе-
дов и балов его слуги, прислуживая, составляли трио, дуэты и хоры; сам барин
отвечал им также в музыкальной форме {Пыляев М. И. Старое житье: Очерки и
рассказы. 2-е изд. Спб., 1897. С. 88).
Поэтика бытового поведения...
259
добавочным именем собственным («Минерва», например, прямо превра-
тилась в литературное имя собственное Екатерины II).
Такой взгляд, строя, с одной стороны, субъективную самооценку чело-
века и организуя его поведение, а с другой, определяя восприятие его
личности современниками, образовывал целостную программу личного
поведения, которая в определенном отношении предсказывала характер
будущих поступков и их восприятия. Это стимулировало возникновение
анекдотических эпосов, которые строились по кумулятивному принципу:
маска-амплуа являлась тем сюжетным стержнем, на который нанизыва-
лись все новые и новые эпизоды анекдотической биографии. Такой текст
поведения в принципе был открытым — он мог увеличиваться до бес-
конечности, обогащаясь все новыми и новыми «случаями».
Показательно, что количество возможных амплуа было отнюдь не без-
граничным и даже не очень большим, во многом напоминая набор пер-
сонажей литературных текстов разного рода и героев различных театраль-
ных представлений.
Прежде всего возникают амплуа, образуемые из обычного нейтрального
поведения путем количественного преувеличения всех характеристик или
выворачивания их наизнанку.
Среди характерных масок этого набора можно указать на типичный
для XVIII в. вариант «богатыря». Амплуа это создается при помощи
чисто количественного возрастания некоторых нормальных, нейтральных
свойств человека. XVIII в. кишит исполинами. Характеристика Петра I
как «чудотворца-исполина» (Пушкин) отчетливо восходит к XVIII в.,
а в анекдотах о Ломоносове неизменно подчеркивается его превосходящая
обычные человеческие нормы физическая сила, богатырство его забав и
т. д. К этим же представлениям относятся и суворовские «чудо-богатыри»
(ср.: «а ты удвоил — (курсив мой. — Ю. Л.) — шаг богатырский» —
«богатырский», т. е. удвоенный против обычного)11. Наиболее совершен-
ным воплощением этой тенденции был анекдотический эпос о Потемкине,
который складывался в законченный образ человека, все природные
способности которого превосходили обычную норму. Здесь рассказы о
чудовищном аппетите и пищеварении (совершенно в духе Рабле и рус-
ского лубка «Славной объядала и веселой подливала», который в русских
вариантах совершенно утратил свойственный французскому оригиналу
характер политической карикатуры и восстановил свою ярмарочно-
раблезианскую подоснову). Ср. рассказы типа:
«В Таврическом дворце в прошлом столетии князь Потемкин, в
сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит чрез уборную
комнату мимо великолепной ванны из серебра.
Левашев: Какая прекрасная ванна!
Князь Потемкин: Если берешься ее всю наполнить (это в письменном
переводе, а в устном тексте значится другое слово), я тебе ее подарю»12.
11 Наставление Суворова Милорадовичу // Милютин Д. А. История войны
России с Францией в царствование имп. Павла I в 1799 г. Спб., 1852. Т. 1. С. 588.
О стремлении в средневековых текстах строить выдающиеся характеры как
обладающие тем же набором свойств, что и остальные люди, но в превосходной
степени, см.: Birge Vitz E. Type et individu dans «rautobiographie» medievale //
Poetique, revue de theorie et d'analyse litteraire. 1975. № 24. Такое построение
базируется на вере в незыблемость данного человеку свыше земного амплуа.
Однако созданная им традиция «богатырских» образов ( = образцов) оказывает
воздействие на поведение людей и тогда, когда амплуа становится результатом
активного выбора самого человека.
12 Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 194.
260
Культура и программы поведения
Слушателям следовало не только оценить размах воображения Потем-
кина, но и предположить, что сам он — законный владелец замечательной
ванны — без труда может совершить подобный подвиг. Легендарное
богатырство Потемкина включало и другой аспект: не случайно Пушкин,
услыхав, что статью Д. Давыдова отдали на цензурный просмотр Михай-
ловскому-Данилевскому, сказал: «Это все равно, как если бы князя
Потемкина послать к евнухам учиться у них обхождению с женщинами»13.
На этом фоне выделяются черты грандиозности политических замыслов,
грандиозности пиров и празднеств, грандиозности расточительства,
воровства и взяточничества, грандиозности великодушия, щедрости и
патриотизма. По сути дела, любой анекдот, выделяющий преступные или
героические черты, может войти в биографический эпос анекдотов о
Потемкине, но при условии, что черты эти будут предельно преувеличены
и доведены до превосходной степени.
Другое типичное амплуа, организующее ряд биографических легенд
и реальных биографий, — амплуа острослова, забавника и гаера. Оно
также связано с миром балаганного театра и лубка. Такой, например,
является биография А. Д. Копьева, повторяемые современниками эпизоды
которой, как правило,.просто бродячие анекдоты об остряке, выходящем
из затруднительных положений с помощью смелых ответов. Еще Вязем-
ский, пересказывая эпизоды «биографии» Копьева, указал, что действия
и ответы эти приписываются и другим лицам (А. Н. Голицыну) или даже
известны в качестве французских анекдотов. Маска-амплуа оказывает
притягивающее действие, а легендарная биография делается текстом,
тяготеющим к саморасширению за счет впитывания разнообразных анек-
дотов об острословах.
Очень показательна в этом отношении судьба С. Н. Марина. С. Марин —
военный деятель, получивший под Аустерлицем четыре картечные пули
(в голову, руку и две в грудь) да золотую шпагу за храбрость и штабс-
капитанский чин, под Фридляндом — осколок гранаты в голову, влади-
мирский крест и флигель-адъютантские аксельбанты, бывший в 1812 г.
дежурным генералом при Багратионе, умерший в конце кампании от ран,
болезней и переутомления; активный политик — участник событий 12
марта 1801 г., собеседник Наполеона, которому он привез письмо русского
императора, наконец, поэт-сатирик. Но все эти качества были заслонены
в глазах современников маской шалуна-острослова. В этом образе Марин
и вошел в сознание историков русской культуры начала XIX в.
Распространенным был и тип «российского Диогена», «нового киника»,
который включал сочетание философического презрения к богатству с
нищетой, нарушение норм приличий и, в качестве обязательного атри-
бута, — запойное пьянство. Стереотип этот был создан Барковым и в
дальнейшем организовывал образ и поведение Кострова, Милонова и
десятка других литераторов.
Человек, ориентирующий свое поведение на определенное амплуа,
уподоблял свою жизнь некоему импровизационному спектаклю, в котором
предсказуем лишь тип поведения каждого персонажа, но не возникающие
от их столкновения сюжетные ситуации. Действие открыто и может
продолжаться как бесконечное наращивание эпизодов. Такое построение
жизни тяготело к народному театру и было мало приспособлено для
осмысления трагических коллизий. Показательным примером может быть
мифологизированная биография Суворова. В построении идеализиро-
13 Русский архив. 1880. Т. 3. Кн. 2. С. 228 (прим.).
Поэтика бытового поведения...
261
ванного мифа о себе самом Суворов отчетливо ориентировался на образы
Плутарха, в первую очередь — на Цезаря. Этот высокий образ, однако,
мог — в письмах к дочери или в обращении к солдатам — заменяться
фигурой русского богатыря (в письмах к дочери — известной «Суворочке»
— стилизованные описания боевых действий разительно напоминают
сказочные трансформации боевых действий в сознании капитана Тушина
из «Войны и мира», заставляя предполагать знакомство Толстого с этим
источником).
Однако поведение Суворова регулировалось не одной, а двумя нормами.
Вторая была отчетливо ориентирована на амплуа гаера. С этой маской
связаны бесчисленные анекдоты о чудачествах Суворова, его петушином
крике и шутовских выходках. Сочетание двух взаимоисключающих
амплуа в поведении одного и того же человека связано было со значением
контраста в поэтике предромантизма (см. отрывок «Недавно я имел
случай познакомиться с странным человеком, каких много!» — из
записной книжки Батюшкова14, «Характер моего дяди» Грибоедова15 или
отрывок дневниковой записи от 17 декабря 1815 г. Пушкина-лицеиста
«Хотите ли видеть странного человека, чудака»16).
Непредсказуемость поведения человека в таком случае создавалась
за счет того, что собеседники его никогда не могли заранее сказать, какое
из двух возможных амплуа будет актуализовано. Если эстетический
эффект поведения, ориентированного на одно постоянное амплуа, был в
том, что в разнообразных ситуациях резко выступала единая маска,
то здесь он был связан с непрерывным изумлением аудитории. Так,
например, посланный венским двором для переговоров с Суворовым князь
Эстергази жаловался Комаровскому: «Как можно говорить с таким чело-
веком, от которого нельзя добиться толку». Но тем более был он поражен
при следующем свидании: «C'est un diable d'homme. II a autant d'esprit,
que de connaissance»17.
Следующий этап в эволюции поэтики поведения может быть охарак-
теризован как переход от амплуа к сюжету.
Сюжетность — отнюдь не случайный компонент бытового поведения.
Более того, появление сюжета как определенной категории, организующей
повествовательные тексты в искусстве, может быть в конечном итоге
объяснено необходимостью выбора стратегии поведения для внелитера-
турной деятельности.
Бытовое поведение приобретает законченную осмысленность лишь в
той мере, в какой отдельной цепочке поступков на уровне реальности
может быть сопоставлена последовательность действий, имеющая единое
значение, законченность и выступающая на уровне кодирования как
некоторый обобщенный знак ситуации, последовательности поступков
и их результата, т. е. сюжет. Наличие в сознании определенного коллек-
тива некоторой суммы сюжетов позволяет кодировать реальное поведение,
относя его к значимому или незначимому и приписывая ему то или иное
значение. Низшие единицы знакового поведения: жест и поступок, как
правило, получают теперь свою семантику и стилистику не изолированно,
а в отнесенности к категориям более высокого уровня: сюжету, стилю и
жанру поведения. Совокупность сюжетов, кодирующих поведение чело-
14 См.: Батюшков /(. Н. Соч. М.; Л., 1934. С. 378—380.
15 См.: Грибоедов А. С. Соч. М., 1956. С. 414—415.
16 См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1949. Т. 12. С. 301.
17 Комаровский £. Ф. Записки. Спб., 1914. С. 90.
262
Культура и программы поведения
века в ту или иную эпоху, может быть определена как мифология бытового
и общественного поведения.
В последнюю треть XVIII в. — время, когда в русской культуре после-
петровской эпохи складывается мифология этого рода, — основным
источником сюжетов поведения была высокая литература небытового
плана: античные историки, трагедии классицизма, в отдельных случаях —
жития святых.
Взгляд на собственную жизнь как на некоторый текст, организованный
по законам определенного сюжета, резко подчеркивал «единство дей-
ствия» — устремленность жизни к некоторой неизменной цели. Особенно
значительной делалась театральная категория «конца», пятого акта.
Построение жизни как некоторого импровизационного спектакля, в кото-
ром от актера требуется оставаться в пределах его амплуа, создавало
бесконечный текст. В нем все новые и новые сцены могли пополнять и
варьировать течение событий. Введение сюжета сразу же вводило пред-
ставление об окончании и одновременно приписывало этому окончанию
определяющее значение. Смерть, гибель делалась предметом постоянных
размышлений и венцом жизни. Это, естественно, активизировало героиче-
ские и трагические модели поведения. Отождествление себя с героем
трагедии задавало не только тип поведения, но и тип смерти. Забота о
«пятом» акте становится отличительной чертой «героического» поведения
конца XVIII — начала XIX в.
Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей...18
В этих стихах Лермонтова с исключительной ясностью выступает и
представление о человеке как актере, разыгрывающем драму своей жизни
перед аудиторией зрителей (романтический гигантизм выражается здесь
и в том, что в качестве последних выступает «целый мир»), и мысль о
совмещении жизненной кульминации с театральным понятием пятого
акта (торжество или гибель). Отсюда и постоянные размышления Лер-
монтова о жизненном финале: «Конец, как звучно это слово».
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне19.
Когда ранним утром 14 декабря 1825 г. декабристы вышли на Сенатскую
площадь, А. И. Одоевский воскликнул: «Умрем, братцы, ах, как славно
умрем!» Восстание еще не началось, и вполне можно было рассчитывать
на успех дела. Однако именно героическая гибель придавала событию
характер высокой трагедии, возвышая участников в собственных их
глазах и в глазах потомства до уровня персонажей сценического сюжета.
Исключительно показательна в этом отношении судьба Радищева.
Обстоятельства смерти Радищева остаются до сих пор невыясненными.
Неоднократно повторяемые в научной литературе рассказы об угрозах,
якобы произнесенных по адресу Радищева Завадовским или даже А. Р.
Воронцовым, не заслуживают доверия. Радищев, конечно, мог вызвать
неудовольствие теми или иными неосторожными действиями или словами.
Однако всякому, кто мало-мальски знаком с политическим климатом
18 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 38.
19 Там же. Т. 1. С. 185.
Поэтика бытового поведения...
263
«дней александровых прекрасного начала», очевидно, что это было не то
время, когда смелый проект, написанный по правительственному заказу
(а других «опасных» деяний за Радищевым в эти месяцы не числилось!),
мог вызвать сколь-либо серьезные репрессии. Изложенная Пушкиным
версия явно тенденциозна. В ней сквозит нескрываемая ирония, вызванная
несоразмерностью между выговором Завадовского («сказал ему с друже-
ским упреком») и реакцией Радищева («Радищев увидел угрозу (курсив
мой. — Ю. Л.). Огорченный и испуганный, он возвратился домой...»).
Статья Пушкина еще не получила общепринятой интерпретации, а пока
это не сделано и не объяснена должным образом цель, которую она в
целом преследовала, пользоваться извлечениями из нее крайне риско-
ванно. Ясно лишь одно: Радищев был смелым человеком, и испугать его
тенью опасности, двусмысленной угрозой было невозможно. Самоубий-
ство Радищева не было вызвано испугом. Вряд ли стоит всерьез опровер-
гать анекдотические рассуждения Г. Шторма о том, что в самоубийстве
Радищева «все имело значение — даже постепенное ухудшение погоды,
отмеченное метеорологическим бюллетенем «С.-Петербургских ведомо-
стей» 11 и 12 сентября»20. Не одна погода сыграла роковую роль в судьбе
Радищева, по мнению Г. Шторма, не только разочарование в надеждах
на улучшение положения крестьян, но и обстоятельства, «имевшие отно-
шение лично к нему». Одним из них, «несомненно», по мнению Шторма,
было осуждение дальнего родственника Радищева, попавшегося в мошен-
ничестве21.
Все попытки найти в биографии Радищева осенью 1802 г. конкретный
повод для его трагического поступка ни к чему не приводят.
Между тем акт этот, не находя опоры в биографических обстоятельствах
последних месяцев жизни писателя, закономерно укладывается в
длинную цепь многочисленных рассуждений его на эту тему. В «Житии
Федора Васильевича Ушакова», «Путешествии из Петербурга в Москву»,
трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» и других произведе-
ниях Радищев настойчиво возвращается к проблеме самоубийства. Рас-
суждения на эту тему, с одной стороны, связаны с этикой материалистов
XVIII в. и, в прямой противоположности с церковной моралью, утверж-
дают право человека распоряжаться своей жизнью. С другой стороны,
подчеркивается не только философский, но и политический аспект проб-
лемы: право на самоубийство и освобождение человека от страха смерти
кладут предел его покорности и ограничивают власть тиранов. Избавив-
шись от обязанности жить при любых условиях, человек делается
абсолютно свободным и обращает в ничто власть деспотизма. Мысль эта
занимала исключительно большое место в политической системе Ради-
щева, и он неоднократно к ней возвращался. «О возлюбленные мои!
20 Шторм Г. П. Потаенный Радищев: Вторая жизнь «Путешествия из Петер-
бурга в Москву». 2-е изд., испр. и доп. М., 1968. С. 439. См. нашу рецензию на первое
издание: Лотман Ю. М. В толпе родственников //Учен. зап. Горьк. гос. ун-та.
Горький, 1966. Вып. 78. «Второе, исправленное издание» не учло критики первого,
а нагромоздило новые ляпсусы. Отметим лишь, что автор счел уместным завершить
книгу «неопубликованными, звучащими в духе радищевской традиции строками»
из стихотворения неизвестного автора, намекнув, что им, вероятно, был Пушкин.
К сожалению, приведенные строки — хрестоматийно известный текст, отрывок из
стихотворения Вяземского «Негодование». «Неопубликованными» эти стихи могут
считаться в такой же мере, в какой автор их — «неизвестным». Перед нами не
просто случайная ошибка, а проявление дилетантизма.
21 Там же. С. 383.
264
Культура и программы поведения
восторжествуйте над кончиною моею: она будет конец скорби и терзанию.
Исторгнутые22 от ига предрассудков, помните, что бедствие не есть уже
жребий умершего»23.
Мысль эта не была исключительно радищевской. В «Вадиме Новгород-
ском» Княжнина последняя реплика Вадима, обращенная к Рюрику,
такова:
В средине твоего победоносна войска,
В венце могущий все у ног твоих ты зреть,
Что ты против того, кто смеет умереть?24
Ср. также концовку «Марфы Посадницы» Ф. Иванова:
Марфа: ...В царе ты изверга, во мне пример свой зри:
Живя без подлости, без подлости умри (закалается)25.
Готовность к смерти, по мнению Радищева, отличает человека от раба.
В главе «Медное», обращаясь к крепостному лакею, пособнику и жертве
развратного барина, автор пишет: «Твой разум чужд благородных мыслей.
Ты умереть не умееш (курсив мой. — Ю. Л.). Ты склонишся и будеш раб
духом, как и состоянием»26. Образ мужественной смерти Федора Ушакова
напомнил Радищеву «людей отъемлющих самих у себя жизнь муже-
ственно». А последнее наставление, которое автор вложил в уста Ф. Уша-
кова, напоминало, «что должно быть тверду в мыслях, дабы умирать
безтрепетно»27.
Радищев придавал огромное значение героическому поведению отдель-
ного человека как воспитательному зрелищу для сограждан, поскольку
неоднократно повторял, что человек есть животное подражательное. Эта
зрелищная, демонстративная природа личного поведения особенно актуа-
лизировала театральный момент в жизни человека, претендующего
на роль «учителя (...) в твердости», подающего «пример мужества»28.
«Человек рожденный с нежными чувствами одаренный сильным вообра-
жением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народныя.
Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают
с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или
посмеяние горшее самыя смерти»29.
Соединение зрелищно-театрального момента с тем кругом представле-
ний о героической гибели, о котором речь шла выше, определило особое
значение для Радищева трагедии Аддисона «Катон Утический». Именно
герой трагедии Аддисона стал для Радищева некоторым кодом его
собственного поведения.
В главе «Крестьцы» («Путешествие из Петербурга в Москву») Радищев
вложил в уста добродетельного отца следующее: «Се мое ва.м завещание.
Если ненавистное щастие, изтощит над тобою все стрелы свои? если
добродетели твоей убежища на земли неостанется, если доведенну до
22 В печатном тексте ошибочно «исторгнутый».
23 Радищев А. И. Поли. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 101. (Ср.: Монте-
скье Ш. О Духе законов. Кн. 1. Гл. 8.)
Вадим Новгородский / Трагедия Я. Княжнина с предисл. В. Саводника.
М., 1914. С. 63.
25 Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова. М., 1824. Ч. 2. С. 89.
26 Радищев А. И. Поли. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 351.
27 Там же. С. 184.
28 Там же. С. 155.
29 Там же. С. 387.
Поэтика бытового поведения...
265
крайности, не будет тебе покрова от угнетения; тогда воспомни, что ты
человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же
отъяти у тебя тщатся. — Умри. — В наследие вам оставляю слово
умирающего Катона»30.
Какие слова «умирающего Катона» Радищев имеет в виду? Коммен-
татор академического издания (Я. Л. Барсков) полагал, что «Радищев
имеет в виду рассказ Плутарха о предсмертной речи Катона»31. Такого
же мнения придерживаются и позднейшие комментаторы32. Между тем
очевидно, что здесь речь идет о заключительном монологе из трагедии
Аддисона, том самом, о котором Радищев позже в Сибири писал: «Я
всегда с величайшим удовольствием читал размышления стоящих на
воскраии гроба, на Праге вечности, и, соображая причину их кончины и
побуждения, ими же вождаемы были, почерпал многое, что мне в другом
месте находить не удавалося <...). Вы знаете единословие или монолог
Гамлета Шекеспирова и единословие Катона Утикского у Аддисона»33.
Радищев привел этот монолог в собственном переводе в конце главы
«Бронницы»: «Некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто во веки
живо.
С течением, времен, все звезды помрачатся,
померкнет солнца блеск; природа обветшав
лет дряхлостью, падет.
Но Ты, во юности безсмертной процветеш,
незыблимый, среди сражения стихиев,
развалин вещества, миров всех разрушенья».
Радищев снабдил этот отрывок примечанием: «Смерть Катонова, трагедия
Еддесонова. Дейс. V. Явлен. l.»:u.
Связь слов крестицкого дворянина с этим отрывком очевидна и устой-
чива для Радищева: идея готовности к самоубийству — лишь вариант
темы подвига. А этот последний связывается с верой в бессмертие души:
«Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек,
коему возвещают, что умреть ему должно, с презрением и нетрепетно
взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим
людей отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И по истинне нужна
неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разру-
шение свое <...). Нередко таковый зрит и за предел гроба, и чает воз-
родитися»35.
Итак, самоубийство Радищева не было актом отчаяния, признания
своего поражения. Это был давно обдуманный акт борьбы, урок патрио-
тической твердости и несгибаемого свободолюбия. Нам сейчас трудно
реконструировать в деталях отношение Радищева к политической ситуа-
ции начала царствования Александра I. К осени 1802 г. он, видимо, при-
шел к выводу о необходимости совершить подвиг, призванный разбудить
и мобилизовать русских патриотов. Когда мы читаем в воспоминаниях
детей о том, что в последние дни он находился в возбуждении и однажды
даже сказал им: «Ну что, детушки, если меня опять сошлют в Сибирь?»,
30 Радищев А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 295.
31 Там же. С. 485.
32 Кулакова Л. И.., Западов В. А. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга
в Москву». Л., 1974. С. 157.
33 Радищев А. Н. Поли. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 97—98.
34 Там же. Т. 1. С. 269.
35 Там же. С. 183—184.
266
Культура и программы поведения
то, учитывая все, что Радищев делал в начале царствования Александра I,
такое предположение кажется настолько необоснованным, что естественно
напрашивается вывод, сделанный его сыном Павлом: «Душевная болезнь
развивалась все более и более»36. Павел Радищев был молод, когда погиб
его отец, а когда писал свои воспоминания, то, при безусловном и трога-
тельном преклонении перед его памятью, был исключительно далек от
понимания сущности взглядов Радищева. Зафиксированные в его воспо-
минаниях слова отца обусловлены, конечно, не душевной болезнью.
Вероятнее всего, Радищев находился в возбужденном состоянии, решив,
что настало время для окончательного подвига — «пятого акта жизни».
Однако он, в какой-то момент, еще не решил, каков будет этот акт протеста
и будет ли он связан с гибелью. Но инерция давно обдуманного действия,
видимо, возобладала. Пушкин имел основание утверждать, что еще с
момента предсмертных бесед Ф. Ушакова с Радищевым «самоубийство
сделалось одним из любимых предметов его размышлений»3'.
Можно полагать, что самооценка Радищева как «русского Катона»
определила не только его собственное поведение, но и восприятие его
поступка современниками. Трагедия Аддисона была прекрасно известна
русскому читателю. Так, например, восьмая книга журнала «Иппокрена»
за 1801 г. содержала характерную подборку материалов: кроме полного
прозаического перевода (Гарта) трагедии Аддисона, озаглавленной
«Смерть Катона или рождение римского единоначалия. Трагедия сочи-
нения славного Аддисона», здесь находим отрывки «Брут» и «Гамлетово
размышление о смерти». Интересно сближение монологов Катона и Гам-
лета, уже знакомое нам по тексту Радищева. О Бруте же пишется следую-
щее: «Некоторые из строгих твоих правил заключают, что ты погрешил
в крови Цезаря; но сии честные люди ошибаются. Какую милость должна
заслужить жизнь похитителя излишней власти от того, кто лучше умерт-
вил себя, нежели согласился раболепствовать (курсив мой. — Ю, Л.)»38.
Герой повести Сушкова «Российский Вертер» покончил собой, оставив на
столике «Катона» Аддисона, раскрытого на месте, процитированном в
главе «Бронницы». Почитатель Радищева С. Глинка (друг его — сын
писателя — именовал С. Глинку одним «из величайших приверженцев
Радищева») в то самое время, когда он был молодым кадетом, все имуще-
ство которого составляли три книги: «Путешествие из Петербурга в
Москву», «Вадим Новгородский» и «Сентиментальное путешествие»,
попал на гауптвахту: «Подвиг Катона, поразившего себя кинжалом, когда
Юлий Цезарь сковал его цепями, кружился у меня в голове, я готов был
раздробить ее об стену»39.
И образ Катона, и аддисоновская его трактовка постоянно привлекали
к себе мысль Карамзина. В рецензии на «Эмилию Галотти», опублико-
ванную в «Московском журнале», Карамзин называл Эмилию «Героиней,
которая языком Катона (позже Карамзин назовет Марфу Посадницу
«Катоном своей республики». — Ю. Л.) говорит о свободе человека».
36 См.: Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959.
С. 95. Радищев действительно был болен в августе 1802 г.; см. его письмо родителям
от 18 августа (Поли. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 535). Однако никаких оснований
считать, что речь шла о душевной болезни, нет. Это такой же эвфемизм, как
упоминание смерти от чахотки в официальных бумагах.
37 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1949. Т. 12. С. 31.
38 Иппокрена. 1801. Кн. 8. С. 52—53.
39 Записки С. Н. Глинки. Спб., 1895. С. 103.
Поэтика бытового поведения
267
«Тут Эмилия требует кинжал, почитая в фанатизме своем такое само-
убийство за дело святое»40.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин процитировал те
же стихи Вольтера, которые позже пришли на память сыну Радищева в
связи с объяснением мотивов гибели отца:
Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir
La vie est un opprobre et la mort un devoir...
А в другом месте он написал: «Славная Аддисонова трагедия хороша там,
где Катон говорит или действует»41. «Катона-самоубийцу» назвал Карам-
зин в числе античных героев в «Историческом похвальном слове Екате-
рине II»42, а в 1811 г. он записал в альбом великой княгини Екатерины
Павловны шм.тгу из Руссо, в которой назвал Катона «богом среди
смертных»43. Особенно показательно в этом отношении, что в статье,
опубликованной Карамзиным в «Вестнике Европы» и представлявшей
зашифрованный отклик на гибель Радищева 44, мы встречаем развернутую
полемику не с Радищевым, а с ложным толкованием идей и образов
«Смерти Катона» Аддисона: «Бодчель, остроумный Английский Писатель,
был родственник славного Аддиссона. Он вместе с ним писал «Зрителя»
и другие Журналы. Все пиесы, означенные в «Зрителе» буквою X, его
сочинения. Аддиссон старался обогатить Бодчеля; но он мотал, разорился
после Аддиссоновой смерти, и бросился, наконец в Темзу, оставив в
комнате своей следующую записку:
What Cato did and Addisson approv'd, cannot be wrong;
To есть: «Что сделал Катон и Аддиссон оправдывал, то не может быть
дурно!». Известно, что Аддиссон сочинил трагедию, «Смерть Катонову».
Автор столь нравоучительный не оправдал бы самоубийства в Христиа-
нине, но дозволил себе хвалить его в Катоне, и прекрасный монолог: It
must be so... Plato, thou reasonft well, избавил несчастного Бодчеля от
угрызений совести, которые могли бы спасти его от самоубийства.
Хорошие Авторы! думайте о следствиях того, что вы пишете!»45.
Карамзин подверг осуждению самый принцип сюжетно-театрального
построения собственной биографии и одновременно прекрасно показал,
что дешифровка поступка Радищева не составляла для него труда.
Сюжетный подход к собственной жизни знаменовал превращение
поэтики поведения из стихийного творчества в сознательно регулируемую
деятельность. Следующим шагом было стремление, свойственное эпохе
романтизма, слить жизненные и художественные тексты воедино. Стихо-
творения стали сливаться в лирические циклы, образующие «поэтические
дневники» и «романы собственной жизни», а биографическая легенда
сделалась неотъемлемым условием восприятия того или иного текста
как художественного. Давно уже отмечено тяготение романтических
текстов к фрагментарности. Однако существенно подчеркнуть, что эта
фрагментарность искупалась погружением графически (печатно или руко-
40 Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 67.
41 Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 573.
42 Сочинения Карамзина: В 3 т. Спб., 1848. Т. 1. С. 312.
43 Летопись русской литературы и древности. 1859. Кн. 2. С. 167.
44 Обоснование этого предположения и текст заметки см.: Лотман Ю. М.
Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822) // Пушкин и его время.
Л., .1962. Вып. 1. С. 53—60.
45 Вестник Европы. 1802. № 19. С. 209.
268
Культура и программы поведения
писно) зафиксированного текста в контекст устной легенды о личности
автора. Легенда эта оказывалась сильнейшим фактором, регулирующим
и реальное поведение поэта, и восприятие аудиторией как самого этого
поведения, так и произведений писателя.
Предельное развитие поэтики поведения в эпоху романтизма законо-
мерно повлекло за собой демонстративное исключение этой категории
писателями-реалистами. Жизнь поэта уходит из области художественно
значимых фактов (лучшее свидетельство этого — появление пародийных
псевдобиографий типа Козьмы Пруткова). Искусство, теряя в опреде-
ленной мере игровой элемент, не перескакивает уже через рампу и не
сходит со страниц романов в область реального поведения автора и
читателей.
Однако исчезновение поэтики поведения не будет длительным. Исчезнув
с последними романтиками в 1840-е гг., она воскреснет в 1890—1900-е гг.
в биографиях символистов, «жизнестроительстве», «театре одного
актера», «театре жизни» и других явлениях культуры XX в.
Театр и театральность...
269
Театр и театральность
в строе культуры начала XIX века
Памяти П. Г. Богатырева
В работе «Народный театр чехов и словаков» П. Г. Богатырев писал:
«Одним из главных и основных театральных признаков всякого театраль-
ного действа является перевоплощение: актер свой личный образ, костюм,
голос и даже психологические черты характера меняет на облик, костюм,
голос и характер исполняемого им в пьесе лица»1. Перевоплощение
происходит не только с актером: весь мир, становясь театральным миром,
перестраивается по законам театрального пространства, попадая в
которое, вещи становятся знаками вещей.
В своих работах П. Г. Богатырев неоднократно рассматривал процессы
воздействия внетеатрального мира на театральный и наоборот. Театра-
лизация и ритуализация определенных сторон внетеатрального мира,
ситуация, в которой театр становится моделью жизненного поведения,
постоянно привлекала его внимание. Это имел в виду автор настоящей
работы, посвящая ее памяти Петра Григорьевича Богатырева.
*
Хотя объективно искусство всегда тем или иным способом отражает явле-
ния жизни, переводя их на свой язык, сознательная установка автора и
аудитории в этом вопросе может быть троякой.
Во-первых, искусство и внехудожественная реальность рассматри-
ваются как области, разница между которыми столь велика и принци-
пиально непреодолима, что самое сопоставление их исключается. Так,
например, до последней войны в Екатерининском царскосельском дворце
хранился портрет императрицы Елизаветы (кисти Каравака)2, в котором
лицо, выполненное с сохранением портретного сходства, было соединено
с совершенно обнаженным телом Венеры. Для художественного сознания
более поздних эпох такое полотно должно было казаться неприличным,
а учитывая положение изображенной на нем особы — и прямо дерзким.
Однако зрители XVIII в. смотрели на картину иначе. Им и в голову не
могло прийти увидеть в обнаженном женском теле изображение реального
тела Елизаветы Петровны. Они видели в картине соединение текстов с
двумя различными мерами условности: лицо было портретно и, следова-
тельно, отнесено к определенной внешней реальности как иконическое ее
изображение, тело же вписывалось в нормы аллегорической живописи,
которая оперировала эмблемами, являющимися символами предметов,
а не их изображениями. Как лицо Екатерины II и орел у ее ног на изве-
стной картине Левицкого дают различную меру условности (лицо изобра-
жает лицо, а орел изображает власть), так и лицо и тело на портрете
Елизаветы по-разному соотносились с миром внехудожественной реаль-
ности.
1 Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 14.
2 Пользуюсь случаем выразить благодарность В. М. Глинке за ценные консуль-
тации.
270
Культура и программы поведения
Таким образом, там, где изобразительные искусства или театр (как,
например, в балете) оперируют заведомо условными знаками и отношение
между изображением и содержанием определяется не подобием, а
исторической конвенцией, возможность «спутать» эти два плана исклю-
чается, и между полотном и зрителем, сценой и залом возникает непре-
одолимая грань. Художественное и внехудожественное пространства
отделены столь резкой чертой, что могут лишь взаимосоотноситься, но не
взаимопроникать.
Во-вторых, сфера искусства рассматривается как область моделей и
программ. Активное воздействие направлено из сферы искусства в область
внехудожественной реальности. Жизнь избирает себе искусство в качестве
образца и спешит «подражать» ему.
В-третьих, жизнь выступает как область моделирующей активности —
она создает образцы, которым искусство подражает. Если во втором
случае искусство дает формы жизненному поведению людей, то в третьем
формы жизненного поведения определяют поведение сценическое.
Сознавая всю условность такой характеристики, можно сопоставить
первый случай с классицизмом, второй — с романтизмом и третий —
с реализмом.
Историки литературы и искусства часто говорят о «классицизме» или
«неоклассицизме» культуры начала XIX в. Б. В. Томашевский считал
стиль «ампир» возрождением классицизма в литературе и архитектуре
начала XIX в.3 Л. Я. Гинзбург пишет: «Карамзинисты, конечно, не
классики по содержанию и по форме своего искусства, но они классики
по своей исторической функции, по той роли, которую им пришлось играть
в литературе 1810-х годов, куда они внесли дух систематизации и органи-
зованности, нормы «хорошего вкуса» и логическую дисциплину. Для реше-
ния этих задач им и понадобилась (разумеется, в смягченном виде)
стройная стилистическая иерархия классицизма»4.
Исследователи культуры отмечают новую волну увлечения антич-
ностью5. При этом обычно цитируют известное место из мемуаров Вигеля:
«Новые Бруты и Тимолеоны захотели, наконец, восстановить у себя
образцовую для них древность (...). Везде показались алебастровые
вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и
столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где
руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов»6. «Увлечение класси-
цизмом было так сильно в России, что все художники, работавшие в
этом направлении, пользовались огромным успехом у своих современ-
ников. Мартос и гр. Ф. Толстой образуют границы, в которых заключена
история русского стиля Империи»'.
С. Глинка в своих мемуарах интересно сблизил культ античности
1800-х гг., с одной стороны, с гражданственностью и свободолюбием,
а с другой, с культом военной славы, которая в первые годы нового века
облекалась в формы бонапартизма (национальные интересы России и
Франции еще не пришли в столкновение; ср. бонапартизм Пьера и Андрея
3 См.: Батюшков К. Н. Стихотворения. Л., 1936. С. 28—29; Томашевский Б. В.
Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 107.
4 Гинзбург Л. О лирике. М.; Л., 1964. С. 18—19.
5 Kazoknieks M. Studien zur Rezeption der Antike bei russischen Dichtern zu
Beginn des XIX Jahrhunderts. Munchen, 1968. S. 73.
ь Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 177—179.
7 Грабарь И. Э. История русского искусства. М., б. г. Вып. 10. С. 171.
Театр и театральность...
271
Болконского в начале «Войны и мира»): «Голос добродетелей древнего
Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных
душах кадет <...>. Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под
каким живу правлением, но знал, что вольность была душою римлян».
И далее: «Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был
тогда бонапартистом»8. Этот «воинственный классицизм» определил,
например, трактовку русского архитектурного ампира в начале XIX в.:
«Памятники, фронтоны и карнизы домов украшаются алягреками, льви-
ными мордами, шлемами, щитами, копьями и мечами. Даже на церковных
стенах появляются атрибуты войны»9. Еще более заметен поворот к
классицизму в западноевропейской культуре. Во Франции, где класси-
цизм, выйдя за рамки культуры определенной эпохи, приобрел значение
национальной традиции, эта тенденция, по сути, не прерывалась, лишь
меняя свою окраску при переходе от Революции к Империи. Но и Герма-
ния, пережив штюрмерское отрицание классических форм культуры,
вновь обратилась к ним в творчестве позднего Шиллера, Гете.
Итак, может показаться, что традиция классицизма или продолжалась
без перерыва (Франция), или была реставрирована в сравнительно
неизменном виде (Россия, Германия). Такое заключение было бы
весьма ошибочным.
В ряде исследований отмечалось уже, что «неоклассицизм» был,
несмотря на свои декларации, по сути дела, замаскированным романтиз-
мом (ср., например, работы Г. А. Гуковского). Для специальных задач
настоящей статьи нам нет надобности рассматривать вопрос во всей его
полноте. Остановимся лишь на одном его аспекте.
При сходстве, в ряде случаев, структуры текста произведений класси-
цизма и неоклассицизма, если рассматривать их имманентно, решительно
меняется прагматика текста, отношение к нему аудитории и формула
соответствия с внетекстовой реальностью.
Как я уже отмечал, классицизм разгораживал искусство и жизнь
непреодолимой гранью. Это приводило к тому, что, восхищаясь театраль-
ными героями, зритель понимал, что их место — на сцене, и не мог, не
рискуя показаться смешным, подражать им в жизни. На сцене господ-
ствовал героизм, в жизни — приличие. Законы и того, и другого были
строги и неукоснительны для художественного или театрального про-
странства. Напомним шутку Г. Гейне, который говорил, что современный
Катон, прежде чем зарезаться, понюхал бы, не пахнет ли нож селедкой.
Смысл остроты — в смешении несоединимых сфер героизма и хорошего
тона.
Когда Сумароков, в разгар своего конфликта с московским главно-
командующим Салтыковым (1770 г.), написал патетическое письмо
Екатерине II, императрица резко указала ему на «неприличие» пере-
несения в жизнь норм театрального монолога: «Мне, — писала она
драматургу, — всегда приятнее будет видеть представление страстей в
ваших драмах, нежели читать их в письмах». А воспитанный в той же
традиции великий князь Константин Павлович много лет спустя писал
своему наставнику Лагарпу: «Никто в мире более меня не боится и не
ненавидит действий эффектных, коих эффект рассчитан вперед, или
действий драматических, восторженных»10.
8 Записки Сергея Николаевича Глинки. Спб., 1895. С. 61—63, 194.
9 Грабарь И. Э. Указ. соч. С. 171.
10 Сб. имп. Рус. ист. об-ва. Спб., 1870. Т. 5. С. 66.
272
Культура и программы поведения
Между тем в начале XIX в. грань между искусством и бытовым поведе-
нием зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно пере-
страивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник
и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным,
поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства,
становится нормой бытовой речи и бытового поведения. Люди Революции
ведут себя в жизни, как на сцене. Когда Жильбер Ромм, приговоренный
к гильотине, закалывается и, вырвав кинжал из раны, передает его другу,
он повторяет подвиг античного героизма, известный людям его эпохи по
многочисленным отражениям в театре, поэзии и изобразительном искус-
стве11. Искусство становится моделью, которой жизнь подражает.
Примеры того, как люди конца XVIII — начала XIX в. строят свое
личное поведение, бытовую речь, в конечном счете, свою жизненную
судьбу по литературным и театральным образцам, весьма многочисленны.
Тот, кто занимался историей бытовых текстов той поры, знает, как резко
меняется их стиль, приближаясь к нормам, выработанным в чисто
литературной сфере.
Приведем лишь один пример, заимствованный из уже цитировавшихся
мемуаров Сергея Глинки и интересный двойной закодированностью:
нормы античного героизма, почерпнутые из литературных текстов, ста-
новятся моделью, на которую ориентируется реальное поведение людей,
вовлеченных в практические бытовые ситуации русской жизни 1790-х гг.
Но это поведение дано нам в словесном пересказе. Рассказчик мог бы
интерпретировать содержание рассказа с разных точек зрения: он мог
сообщить о своем герое как о носителе старинной добродетели (в антитезе
«щеголям» и модным циникам), как о чудаке или даже безумце, или
каким-либо иным способом. Но он принимает «античный» ключ, согласуя
точку зрения повествователя с позицией того, о ком повествуется. «Были
у нас свои Катоны, были подражатели доблестей древних греков, были
свои Филопемены. Был у нас Катон-Гине, поступивший из кадет в
корпусные офицеры и в учителя математики. Если бы он был на месте
Регула, то, вероятно, и ему довелось бы проситься из стана ратного у
сената римского распахать и обработать ниву свою. Кроме жалованья
не было у него ничего; но был у него брат, ценимый им свыше всех
сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила Кастора и
Поллукса. Но это герои баснословные. На поприще исторической любви
братской Гине стал на ряду с Катоном Старшим, который на три пред-
ложенные ему вопроса: кто лучший друг? отвечал: брат, брат и брат.
Брат нашего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно занемог.
Весть о болезни брата поразила нашего Катона-Гине.
Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко смирился
под ледяным помостом. Саней не на что было нанять, но была душа,
двигавшая и ноги, и сердце, и Гине отправился к брату пешком, в одних
сапогах и даже без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги
и деньги? Но что такое просить? Одолжиться. Древний римлянин терпел,
а не просил. С небольшим в полтора суток Гине перешел залив, навестил,
обнял брата и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства.
11 Ср. у Радищева:
И се Ария сталь остру
В грудь свою вонзает смело:
Приими, мой Пет любезной,
Нет, не больно...
(Поли. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 112—113).
Театр и театральность...
273
Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и
вызывались отдежурить за него, он отвечал: «Не изменю должности
моей». Отдежурил и слег в постель, в бреду жестокой горячки видел
непрестанно брата, говорил с ним и с именем его испустил последнее
дыхание». И далее: «И герой 12-го года, Кульнев, шел в корпусе по следам
Фабриция и Эпаминоида. Подобно фивскому Эпаминонду, любил он мать
свою и делился с нею жалованьем и, подобно Филопемену, был прост в
одежде и в быту общественном <...). Оживляя в своем лице Эпаминонда
иФилопемена и породнясь душою с Фабрицием, Кульнев дорожил своею
бедностью и называл ее «величием древнего Рима». Когда сослуживцы
его напрашивались к нему на обед, он говорил: «Щи и каша есть, а ложки
привозите свои». Плутарх был с ним неразлучен: с его «Жизнями великих
мужей» отдыхал он на скромном плаще своем и с ними ездил в почтовой
повозке и у них перенял то чувство, которое находило величие в нуждах
жизни и бедности» . Эта «римская» поэзия бедности, придававшая мате-
риальной нужде театральное величие, была в дальнейшем свойственна
многим декабристам (например, Ф. Глинке), но ей решительно оставались
чужды разночинцы-интеллигенты следующего поколения. Трактовка
С. Глинкой поведения Кульнева интересна еще и тем, что другие совре-
менники «расшифровывали» его действия совсем в ином ключе, например,
видя в них «чудачества» в духе Суворова. Ср. известные стихи Дениса
Давыдова:
Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя!
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед13.
О социальных причинах «античного маскарада» писал К. Маркс в
«Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Однако «римская помпа»
(Белинский) была частью более широкого движения, центром которого
оказался литературный романтизм и которое превращало художественные
тексты в программы жизненного поведения: пушкинский Сильвио
подражал не античным героям, а персонажам Байрона и Марлинского,
но принцип подражания литературе сохранился. Интересно, что герои
12 Записки Сергея Николаевича Глинки. С. 61—63.
Примером активного воздействия «античной» модели на реальное поведение
людей той эпохи может быть знаменитая дуэль Чернова и Новосильцева. Само
условие дуэли было необычным, окрашенным в суровые, почти римские тона
гражданственности и долга: Новосильцев должен был стреляться на смерть с
братьями своей невесты по старшинству, а если бы ему удалось их всех перебить,
то и со стариком-отцом. Это напоминало не светский поединок, жертвой которого
бывал
...приятель молодой
Нескромным взглядом иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой.
Вероятнее, что современникам на память приходил бой Горациев и Куриациев.
Параллель была тем ощутимей, что и у Тита Ливия братья-патриоты, сражаясь
против врагов Рима, должны были убить жениха своей сестры. Сама Чернова
покончила с собой, как Лукреция.
13 Давыдов Д. Соч. М., 1962. С. 64.
274
Культура и программы поведения
произведений Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, то есть текстов, которые
сами подражают жизни, читательского подражания не вызвали.
Особенную роль в культуре начала XIX в. в общеевропейском масштабе
сыграл театр. Это тем более показательно, что роль театра ни в коей мере,
в эту эпоху, не пропорциональна месту драматургии в общей системе
литературных текстов. Театрализуется эпоха в целом. Специфические
формы сценичности уходят с театральной площадки и подчиняют себе
жизнь. В первую очередь это относится к культуре наполеоновской
Франции. Когда русские путешественники, после Тильзита, оказались в
Париже, их поразила ритуализованность и пышность тюльерийского
двора, очень далекая от нарочитой простоты петербургской придворной
жизни при Александре I (привыкшие к пышности екатерининского двора,
люди старшего поколения видели в этом проявление скупости импера-
тора). Подробное описание впечатления, которое оставлял парижский
придворный ритуал на русских путешественников, дает граф Е. Ф. Кома-
ровский в своих мемуарах: «Съезд во дворец был премноголюдный; весь
дипломатический корпус, все первые члены, военные, штатские и при-
дворные составляли двор превеликолепным. Несколько маршалов в
мантиях, полном своем мундире, и всякий из них с жезлом в руке, при-
давали оному еще более величия. Придворный мундир был красного цвета
с серебряным шитьем по борту и обшлагам. Посреди сего двора, блестя-
щего золотом и серебром, Наполеон в простом офицерском, егерского
полка мундире делал величайшую оттенку (...). Ничто не было величе-
ственнее и вместе с тем воинственнее, как вид на каждой ступени
высокой лестницы Тюльерийского дворца стоявших по обеим сторонам
в медвежьих шапках гренадер императорской гвардии, мужественного
и марциального вида, украшенных медалями и шевронами». Далее
описывается ритуал представления императрице Жозефине и принцессам:
«Когда партии в карты были составлены, то отворялись обе половинки
двери, и все мужчины и дамы должны были идти по одиночке отдать,—
так называлось, — поклон императрице, обеим королевам: гишпанской,
голландской и принцессе Боргезе, которые отвечали небольшим поклоном.
В сие время Наполеон стоял в той же комнате и как будто всем делал
инспекторский смотр (...). Для дам сия церемония была весьма затрудни-
тельна, ибо они, не оборачиваясь, а только отталкивая ногой предлинные
хвосты их платьев, должны были маневрировать. Императрицын стол
был один в поперечной стене комнаты, а прочие три — в продольной.
Стало быть, надлежало дамам сделать три поклона, идя прямо к столу
императрицы; потом, поворотясь несколько направо, сделать каждой из
королев и принцессе по одному поклону, переходя боком от одной до дру-
гой, и идти задом до дверей»14.
Интересное объяснение театральности придворной жизни Наполеона
дала Жанлис: «После падения трона установили этикет и придворные
правила, следуя тому, что наблюдали, проходя и опустошая чужие цар-
ства; титулы высочества, превосходительства и камергеры стали у нас
столь же обыкновенными, как в Германии и Италии (...). В Тюльери
можно было видеть странную смесь чужих этикетов. Придворный цере-
мониал был пополнен еще прибавлением многого из театральных обычаев.
Один остроумный человек заметил з это время, что церемониал пред-
ставления ко двору был точной имитацией представления Энея царице
карфагенской в опере «Дидона». Известно, что к одному известному
14 Комаровский Е. Ф. Записки. Спб., 1914. С. 159—165.
Театр и театральность... 275
актеру часто обращались за советами относительно костюмов, которые
изобретались для торжественных дней»10.
Однако не придворный этикет был основной сферой проникновения
эстетического и театрального момента в нехудожественную жизнь —
такой сферой была война.
, Наполеоновская эпоха внесла в военные действия, кроме собственно
присущих им моментов, бесспорный элемент эстетического. Только учиты-
вая это, мы поймем, почему писателям следующего поколения — Мериме,
Стендалю, Толстому — потребовалась такая творческая энергия для
деэстетизации войны, совлечения с нее покрова театральной красивости.
Война в общей системе культуры наполеоновской эпохи была огромным
зрелищным действом (конечно, не только и не столько им). Контраст
между двором в Тюльери, генералитетом, на поле сражения разодетым
в театрально-пышные мундиры, с одной стороны, и буднично одетым в
«рабочий» мундир императором, с другой, сразу же выключал Наполеона
из театрализованного пространства и подчеркивал, кто являются акте-
рами, а кто — режиссером этого огромного спектакля. Напомним, что
условия и нормы войны тех лет делали далеко не всякое пустое простран-
ство пригодным для того, чтобы стать «пространством войны». Наиболее
подходящим считался гигантский естественный амфитеатр типа аустер-
лицкого или бородинского поля. Располагавшиеся на высотах главно-
командующие оказывались в положении и режиссеров, и зрителей. На эту
возможность позиций «зрителя» и «актера» в бою, прямо сопоставив их
с театром, указал еще Феофан Прокопович, говоря о личном участии
Петра в Полтавской битве и простреленной шляпе императора: «Не со
стороны, аки на позорищи стоит, но сам в действии толикой трагедии»16.
«Толикая трагедия», разыгравшаяся на полях Европы, активно форми-
ровала психологию людей начала XIX в., в частности, приучала их
смотреть на себя как на действующих лиц истории, «укрупняла» их в
собственных глазах, приучала к сознанию собственного величия, и это
не могло не сказаться на их политическом самосознании в дальнейшем.
Показательно, что и Денис Давыдов, желая определить сущность парти-
занской войны, прибег к сравнению, подчеркивающему эстетическое
восприятие «малой войны»: «Сие исполненное поэзии поприще требует
романического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется
сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа Байрона!»17
Правда, Денис Давыдов, демонстративно отвергавший «античное»
осмысление Отечественной войны (свойственное русскому ампиру,
например,* известным барельефам Ф. Толстого)18, не строил свое личное
поведение по римским моделям. Для него образцом сделался не русский
дворянин, ведущий себя как Катон или Аристид, а русский дворянин,
15 Dictionnaire critique et raisonne des etiquettes de la cour (...) ou Г esprit des
etiquettes et des usages anciens, compares aux modernes / Par m-me la Contesse
deGenlis. Paris, 1818. T. 1. P. 18—19. (Словарь этот не оправдывает своего пышного
названия — фактические сведения в нем часто заменяются пошлыми моралисти-
ческими рассуждениями. «Известный актер» — Тальма.)
16 Феофана Прокоповича, архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук,
святейшего правительствующего синода вице-президента, а потом первенствую-
щего члена Слова и Речи. Спб., 1760. Ч. 1. С. 158.
17 Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия. 2-е изд. М., 1822. С. 88.
18 Ср. его утверждение: «Спорные дела государств решаются ныне не боем
Горациев и Куриациев» (Там же. С. 46).
276
Культура и программы поведения
подражающий в поведении человеку из народа: «Я на опыте узнал, что
в Народной войне должно не только говорить языком черни, но принорав-
ливаться к ней в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал
отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и
заговорил с ними языком народным»19.
С этим можно сопоставить предложение Рылеева, выходя 14 декабря на
площадь, надеть «русский кафтан». Как и позднее у славянофилов, здесь
был значим самый факт перевоплощения, поскольку Рылеев, конечно, не
рассчитывал, что его в таком костюме могут посчитать человеком из
народа. Не случайно Николай Бестужев назвал этот план «маскарадом»20.
Эстетическая, игровая сущность такого поведения заключалась в том,
что, становясь Катоном, Брутом, Пожарским, Демоном или Мельмотом
и ведя себя в соответствии с этой принятой на себя ролью, русский дворя-
нин не переставал одновременно быть именно русским дворянином своей
эпохи. Эта двойственность поведения, столь свойственная целому поко-
лению и ярко проявившаяся, например, в Якубовиче, вызвала немало
нареканий, далеко не всегда справедливых, со стороны людей эпохи
Добролюбова и Базарова.
Одним из ярких проявлений «театральности» повседневного поведения
было обостренное чувство антракта. Следует отметить, что ощущение
театральности как смены меры условности поведения было особенно при-
суще культуре XVIII — начала XIX в. с ее обыкновением совмещать в
одном театральном представлении трагедию, комедию и балет, причем
«один и тот же исполнитель декламировал в трагедии, острил в водевиле,
пел в опере и позировал в пантомиме»21. Чтобы понять всю остроту чувства
перевоплощения, к этому следует добавить, что театрал той поры знал
актера или актрису как человека, в антракте любил забежать за кулисы.
Следует также напомнить, что в актерской игре высоко ценилось именно
это искусство перевоплощения, что делало грим обязательным элементом
театра. В актере ценилось умение отрешиться от собственной системы
поведения и включиться в условно-традиционное поведение, предписанное
данному типу персонажа. Очень показательны оценки актерской игры,
сообщенные таким искушенным театралом, как С. Т. Аксаков: «Самым
интересным спектаклем после «Двух Фигаро» была небольшая комедия
«Два Криспина», сыгранная вместе с какой-то пьесой. Двух Криспинов
играли знаменитые благородные актеры-соперники: Ф. Ф. Кокошкин и
А. М. Пушкин, который, так же, как и Кокошкин, перевел одну из
Мольеровых комедий — «Тартюф» и также с переделкою на русские
нравы. Любители театрального искусства долго вспоминали %тот «бой
артистов». Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь
быть побеждену; но публика разделилась на две равные половины, и
каждая своего героя считала и провозглашала победителем. Почитатели
Пушкина говорили, что Пушкин гораздо лучше Кокошкина, потому, что
был ловок, жив, любезен, прост и естествен в высшей степени. Все это
правда, и в этом отношении Кокошкин не выдерживал никакого сравнения
с Пушкиным. Но почитатели Кокошкина говорили, что он худо ли, хорошо
ли, но играл Криспина, а Пушкин сыграл — Пушкина, что также была
совершенная правда, из чего следует заключить, что оба актера в Крис-
пинах были неудовлетворительны. Криспин — известное лицо на фран-
19 Давыдов Д. Соч. С. 320.
20 Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 36.
21 Гроссман Л. Пушкин в театральных креслах: Картины русской сцены 1817—
1820 годов. Л., 1926. С. 6.
Театрь и театральность...
277
цузской сцене; оно игралось и теперь играется (если играется) по
традициям; так играл его и Кокошкин, но, по-моему, играл неудачно
именно по недостатку естественности и жизни, ибо и в исполнении самих
традиций должна быть своего рода естественность и одушевление.
Пушкин решительно играл себя или, по крайней мере, — современного
ловкого плута; даже не надевал на себя известного костюма, в котором
всегда является на сцену Криспин: одним словом, тут и тени не было
Криспина»22.
Смена типа игрового поведения, обостряющая чувство условности, и
проблемы антракта и рампы — границ игрового пространства на под-
мостках театра и во времени — органически связаны.
Для бытового поведения русского дворянина конца XVIII — начала
XIX в. характерны и прикрепленность типа поведения к определенной
«сценической площадке», и тяготение к «антракту» — перерыву, во время
которого семиотичность поведения снижается до минимума. Для того
чтобы оценить эти свойства в полной мере, стоит вспомнить поведение
«нигилиста» 1860-х гг., для которого идеалом являлась «верность себе»,
неизменность жизненного и бытового облика, следование одним и тем же
нормам в семейной и- общественной, «исторической» и личной жизни.
Требование «искренности» подразумевало отказ от подчеркнуто знаковых
систем поведения и одновременно ликвидировало необходимость пере-
рывов для того, чтобы «побыть самим собой».
Дворянский быт конца XVIII — начала XIX в. строился не только на
основе иерархии поведений, которая создавалась иерархичностью полити-
ческого порядка послепетровской государственности, организуемой
табелью о рангах, но и как набор возможных альтернатив («служба/
отставка», «жизнь в столице/жизнь в поместье», «Петербург/Москва»,
«служба военная/служба статская», «гвардия/армия» и т. д.), каждая
из которых подразумевала определенный тип поведения. Один и тот же
человек вел себя в Петербурге не так, как в Москве, в полку не так, как в
поместье, в дамском обществе не так, как в мужском, на походе не так,
как в казарме, а на балу иначе, чем «в час пирушки холостой». При этом,
в отличие от крестьянского быта, в котором индивидуальное поведение
менялось в зависимости от календаря и цикла сельскохозяйственных
22 Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 47—48. Искусством
перевоплощений славился Сосницкий. В 1814 г. он, еще молодым актером, изумил
зрителей, исполнив в одной комедии восемь различных ролей. Если примером
грубого вторжения театральности в сферу нетеатральной обыденной жизни может
быть появление на петербургском немаскарадном балу начала 1820-х гг. пере-
ряженных грузинскими крестьянами Кокошкина и семьи Клейнмихелей, которые
повалились в ноги Аракчееву, благодаря его за счастливую жизнь, то можно
привести и показатели тонкого чувства сценической условности и театральной
семиотики. Только при очень высокой культуре театра как особой знаковой системы
могло возникнуть зрелище, пикантность которого была в превращении человека
в знак самого себя. С. Т. Аксаков вспоминает об интермедии, данной московскими
артистами и театралами в день рождения Д. В. Голицына: «Эта интермедия отли-
чалась тем, что некоторые лица играли самих себя: А. А. Башилов играл Башилова,
Б. К. Данзас — Данзаса, Писарев — Писарева, Щепкин — Щепкина и Верстов-
ский — Верстовского, сначала прикидывающегося отставным хористом Реутовым»
(Там же. С. 125—126). Между этим случаем и «игрой самого себя» А. М. Пуш-
киным — принципиальная разница: Пушкин изображал себя невольно, не умея
отрешиться от своего поведения. В результате знаковое поведение (роль) низ-
водилось до обычного. На вечере в честь Голицына актеры играли самих себя,
то есть возводили свое обычное поведение на степень знака своей личности.
278
Культура и программы поведения
работ, в результате чего тип поведения не зависел от индивидуального
выбора23, от этого поведение становилось обнаженно-социальным и теряло
индивидуальный характер, дворянский образ жизни подразумевал
постоянную возможность выбора типа поведения. Одновременно, если
практиковать «некрестьянское» поведение крестьянин не имел физической
возможности, то для дворянина «недворянское» поведение отсекалось
нормами чести, обычая, государственной дисциплины и сословных при-
вычек. Нерушимость этих норм была не автоматической, но в каждом
отдельном случае представляла собой акт сознательного выбора и свобод-
ного проявления воли. Однако «дворянское поведение» как система не
только допускало, но и предполагало определенные выпадения из нормы,
которые были структурно изоморфны антрактам в спектаклях. Стремление
дворянина приобщиться на короткие периоды к иному быту — жизни
кулис, табора, народного гуляния (ср. в буржуазном быту аналогичную
функцию пикника, выезда «на лоно природы», сопровождаемого резким
упрощением социального ритуала; в XX в. аналогичную роль порой выпол-
няет спорт, в особенности туризм) — порождало перерывы в нормирован-
ном поведении и смены его поведением, выполняющим функцию социально
не нормированного. Однако такая ненормированность была лишь функ-
циональной в пределах данной системы. Вне ее то же поведение выступало
как высоко нормированное. Это видно хотя бы из того, что типы такого
нарушения строго классифицировались в соответствии с возрастом и
23 Ср.: «Дождь на дворе — должен сидеть дома, вёдро — должен идти косить,
жать и т. д. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только
слушаясь, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в еже-
минутный труд, и образует жизнь» (Успенский Г. И. Власть земли // Собр. соч.:
В 10 т. М., 1956. Т. 5. С. 120. — Курсив Успенского).
Утверждение Успенского, основанное на многолетнем внимательном наблюдении
русской жизни, нельзя, однако, принять без существенных корректив. С одной сто-
роны, здесь ясно ощущается преобразующее воздействие на материал мировоз-
зрения самого Успенского начала 1880-х гг. С другой стороны, наблюдения
Успенского относятся к народной жизни, пережившей уже глубокую историческую
трансформацию. Строй русской крестьянской жизни в основном сложился в
допетровскую эпоху. С одной стороны, обилие ритуализованных праздников, а с
другой, устойчивая ритуализация быта и самого труда, вызванная необходимостью
передавать из поколения в поколение навыки наиболее целесообразных трудовых
движений, приводили к широкой трансформации жизненного поведения по законам
действа. Та строгая однозначность поведения, причины которой Г. Успенский видел
во «власти земли» и склонен был поэтизировать (хотя и прозорливо связывал с
нищетой и суровой борьбой за кусок хлеба), совсем не была исконной чертой
народного быта: она была результатом, во-первых, полутора столетий крепостной
неволи и, во-вторых, послереформенного обнищания. В результате народная жизнь
примитивизировалась (одним из результатов этого разрушительного процесса было
исчезновение фольклора, начало чего приходится как раз на послереформенную
эпоху).
Если в фольклоризированном крестьянском быту альтернативой труда был
праздник со своими, строго ритуализованными нормами поведения, то для быта,
наблюдаемого Г. Успенским, альтернатив уже не было. Поэтому праздник был
связан не с переходом к другому поведению, а с реализацией не-поведения.
Отсюда смена в праздничном поведении субъективной ориентированности на
«благообразие» ориентированностью на «безобразие», отмечаемое всеми наблюда-
телями народной жизни тех лет, сопровождаемое, с одной стороны, увеличением
потребления алкогольных напитков, а с другой, сменой функции «хмельного»
поведения: становясь единственной альтернативой скованности человека условиями
жизни, оно приобретает одновременно черты полной свободы и полного безобразия.
Театр и театральность...
279
местом человека в социальной иерархии. Общество ясно различало «пра-
вильные» (допустимые) и «неправильные» (недопустимые) уклонения от
нормы.
Интересным показателем театрализованности повседневной жизни
является то, что широко распространенные в дворянском быту начала
XIX в. любительские спектакли и домашние театры, как и приобщение к
профессиональному театру, воспринимались как уход из мира условной
и неискренней жизни «света» в мир подлинных чувств и непосредствен-
ности, то есть как понижение уровня семиотичности поведения24.
Показательно устойчивое стремление осмыслить законы жизни дворян-
ского общества через призму наиболее условных форм театрального
спектакля — маскарада, кукольной комедии и балагана, с чем мы посто-
янно встречаемся в литературе конца XVIII — начала XIX в.25
*
Мы уже отмечали, что, рассматривая зрелищную культуру эпохи начала
XIX в., нельзя обойти военных действий масс войск, как нельзя исключить
цирк из зрелищной культуры Рима или бой быков из аналогичной системы
Испании. Как известно, во всех этих случаях то, что в ходе зрелища
проливалась настоящая кровь, не отменяет момента эстетизации, а
является его условием. В длинной цепи переходов, отделяющих театраль-
ные подмостки от рыцарского турнира или профессионального бокса,
ужасное и прекрасное находятся в особом для каждой градации соотно-
шении. На крайних звеньях цепи места их меняются: в трагедии пре-
красное воспринимается как ужасное, в эстетически воспринимаемом
реальном сражении — ужасное как прекрасное.
Однако в армии павловской и александровской эпох была еще одна
форма, в неизмеримо большей мере ориентированная на зрелищность,
но воспринимавшаяся как антипод и полная противоположность боя.
Это был парад. Парад, конечно, в неизмеримо большей мере, чем сра-
жение, ориентирован был на зрелищность. В определенном отношении
именно здесь пролегала грань, делившая военных людей той эпохи на два
лагеря: одни смотрели на армию как на организм, предназначенный для
24 Ср. сохраненные памятью С. Т. Аксакова слова известного театрала Писарева
об актерах: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, — с артистами, про-
никнутыми любовью к искусству и любящими меня как человека с талантом!
Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану
я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание
художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми/ Нет, слуга покорный!
Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир
<ш*еров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных
оценщиц» (Собр. соч. М., 1956. Т. 3. С. 89). Ср. в «Лесе» А. Н. Островского утверж-
дение, что комедианты не артисты, а их зрители — дворяне.
25 К наиболее ранним сопоставлениям света и маскарада относится место в
«Почте духов» Крылова: «Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом,
чтоб показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сход-
ствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или что они
любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они
есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать (...) что
сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множе-
ство маскированных людей, из коих, может быть, большая часть под наружною
личиною, в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство» (Крылов И. А. Соч.:
В 3 т. М., 1945. Т. 1. С. 60—61).
280
Культура и программы поведения
боя, вторые же видели ее высшее предназначение в параде. Естественно,
что в первом случае вперед выдвигалась практическая функция, а во
втором она оттеснялась на самый задний план. Зато если эстетическая
функция в первом случае присутствовала лишь как некоторый чуть
заметный налет, меняющий колорит картины, но не ее рисунок, то во
втором случае она вырвалась вперед, оттесняя все практические сообра-
жения.
За ориентацией армии на сражение и на парад стояли две различные
военно-педагогические и военно-теоретические доктрины, а в конечном
счете — и две философские концепции26. Социально-политическая их
противоположность столь же очевидна, как и противопоставленность в
ориентированности на классицистическую и романтическую культуры.
В другом аспекте одна из них воспринималась как «прусская», а другая —
как национально-русская. На скрещении всех этих противопоставлений
возникало и глубокое различие в эстетическом переживании этих двух
основных моментов в жизни армии тех лет.
Участие в войнах, ставшее существенной частью биографии целого
поколения молодых людей Европы, чертой, без которой невозможен
жизненный облик декабриста, существенным образом влияло на тип
личности. Хотя бой реализовывался как некоторая организация (он
определялся общей диспозицией, а место и роль отдельного участника
детерминировались ролью, отведенной его части, и характером обязан-
ностей, возложенных на него по чину и должности), он открывал значи-
тельную свободу для личной инициативы. Организация боя, собирая
людей весьма различных по месту в общественной иерархии и упрощая
формы общения между ними, в определенном отношении отменяла
общественную иерархию и воспринималась как ее упрощение. Где, кроме
аустерлицкого поля, младший офицер мог увидать плачущего импера-
тора? Кроме того, атомы общественной структуры оказывались в бою
гораздо свободнее на своих орбитах, чем в придавленной чиновничьим
правопорядком общественной жизни. Тот «случай», который позволял
миновать средние ступени общественной иерархии, перескочив снизу
непосредственно на вершину, и который в XVIII в. ассоциировался с
постелью императрицы, в начале XIX в. вызывал в сознании образ Бона-
парта под Тулоном или на Аркольском мосту (ср. «мой Тулон» князя
Андрея в «Войне и мире»). Изменились не только средства, но и цели:
честолюбец XVIII в. был авантюрист, мечтающий о личном выдвижении,
честолюбец начала XIX в. мечтал о месте и на страницах истории. При-
дворная жизнь александровской эпохи почти не знала тех головокружи-
тельных взлетов и падений, которые, будучи столь характерными для цар-
ствования Екатерины, были доведены Павлом до карикатурности. Только
война, расковывая инициативу сотен младших офицеров, приучала их
смотреть на себя не как на слепых исполнителей чужой воли, а как на
людей, в руки которых отдана судьба отечества и жизнь тысяч людей.
Участие же в Отечественной войне, активизация гражданского самосозна-
ния сливали воедино боевую предприимчивость и политическое вольно-
любие. Пушкин отчетливо подчеркнул связь между либерализмом и воин-
ским прошлым поколения людей,
См.: Прокофьев Е. А. Борьба декабристов за передовое русское военное
искусство. М., 1953; Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. М.; 1947. С. 248—
282; Лотман Ю. М. А. Н. Радищев и русская военная мысль в XVIII в. // Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1958. Вып. 67. (Труды по философии. Т. 4.).
Театр и театральность... 281
Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,
Привыкли в трех войнах лишь к пороху да к полю27.
Парад был прямой противоположностью — он строго регламентировал
поведение каждого человека, превращая его в безмолвный винтик огром-
ной машины. Никакого места для вариативности в поведении единицы
он не оставлял. Зато инициатива перемещается в центр, на личность
командующего парадом. Со времен Павла I это был император. Тимофей
фон Бок писал: «Почему император так страстно любит парады? Почему
тот же человек, которого мы знали во время пребывания в армии в
качестве незадачливого дипломата, превращается во время мира в ярого
солдата, бросающего все дела, едва он услышит барабанный бой? Потому
что парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым
пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на
параде, в то время как император кажется божеством, которое одно
только думает и управляет»28.
Если бой ассоциировался в сознании современников с романтической
трагедией, то парад отчетливо ориентировался на кордебалет. Показа-
тельно балетоманст'во Николая I. Александр I был равнодушен к драма-
тическому и оперному театру — всем видам зрелищ он предпочитал парад,
в котором себе отводил роль режиссера, а многотысячной армии —
огромной балетной труппы. «Фрунт» был наукой и искусством одновре-
менно, и соображения красоты, «стройности» всегда оказывались тем
высшим критерием, которому все Павловичи приносили в жертву и здо-
ровье солдат, и свою собственную популярность в армейской среде, и
боеспособность армии. Конечно, легкомысленно было бы видеть в этой
устойчивой склонности лишь проявление странных личных свойств Павла
и его сыновей: парад становился эстетизированной моделью идеала не
только военной, но и общегосударственной организации. Это был гран-
диозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия.
Не следует упускать, однако, из виду, что, хотя фрунтомания встречала
почти единодушное осуждение в среде боевого офицерства (докумен-
тальные свидетельства этого многочисленны и красноречивы), наука
фрунта входила в тонкое знание тайн службы, и игнорировать ее не мог
ни один военный. Знатоком строя был Пестель, а декабрист Лунин снискал
расположение фанатического сторонника фрунта великого князя Кон-
стантина не только рыцарством и безумной отвагой, но и тонким знанием
тайн строевой службы. Эстетика парада не могла быть полностью чуждой
любому профессиональному военному, и даже у Пушкина в «Медном
всаднике» она вызвала стихи, посвященные ее «однообразной красивости»
(что не мешало Пушкину осознавать связь однообразия и рабства; ср.:
«Как песнь рабов однообразной»). И эстетика парада, и эстетика балета
имели глубокий общий корень — крепостной строй русской жизни.
В ситуациях «Наполеон после боя» и «Павел I на параде» при всем
очевидном их различии имеется и существенное сходство. Оно заклю-
чается в том, что происходящее разделено на два зрелища. С одной
стороны, зрелище представляет собой масса (в бою или на параде), а
зритель представлен одним человеком. С другой стороны, сам этот человек
оказывается зрелищем для массы, которая выступает уже как зритель.
21 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 7. С. 246 и 365.
2Й Предтечешкий А. В. Записка Т. Е. Бока // Декабристы и их время. М.; Л.,
1951. С. 198.
282
Культура и программы поведения
На этом сходство, пожалуй, кончается. Рассмотрим обе стороны этого
двойного зрелища.
Если отвлечься от того, что Наполеон и Павел I не только наблюдатели,
но и действователи, и их действия принципиально отличны по характеру,
а рассмотреть их лишь как зрителей, то нельзя не обнаружить принци-
пиального отличия в их отношении к зрелищу. Павел I смотрит зрелище
с «железным сценарием» (выражение Эйзенштейна): все детали преду-
смотрены заранее. Прекрасное равносильно выполнению правил, а
отклонение от норм, даже малейшее, воспринимается как эстетически
безобразное и наказуемое в дисциплинарном порядке. Высший критерий
красоты — «стройность», то есть способность различных людей двигаться
единообразно, согласно заранее предписанным правилам. Стройность и
красота движений интересует здесь знатока больше, чем сюжет. Вопрос:
«Чем это кончится?» — ив балете, и на параде приобретает второстепен-
ное значение. Зритель боя уподобляется зрителю трагедии, сюжет которой
ему неизвестен, — сколь ни захватывает величественность зрелища,
интерес к его исходу превалирует.
Еще больше разнится зрелище с позиции массы. Наполеон разыгрывает
перед глазами своих солдат, изумленной Европы и потомства пьесу
«Человек в борьбе с судьбой», «Торжество Гения над Роком». С этим
был связан и подчеркнуто человеческий облик главного персонажа
(простота костюма, амплуа «простого солдата») и нечеловеческая гро-
мадность препятствий, стоящих на его пути. Своим поведением и судьбой
(в значительной мере определенной той исторической ролью, которую он
себе избрал) Наполеон предвосхитил проблематику и сюжетологию целой
отрасли романтической литературы. Гений мог в дальнейшем сюжетно
интерпретироваться различно — от демона до того или иного историче-
ского персонажа, — стоящие на его пути преграды также могли получать
разные имена (Бога, феодальной Европы, косной толпы и т. д.). Однако
схема была задана. Конечно, не Наполеон ее изобрел: он подхватил
свою роль из той же литературы. Но, воплотив ее в пьесе своей жизни,
он вернул эту роль литературе с той возросшей мощью, с которой
трансформатор возвращает в цепь полученные им электрические
импульсы.
Павел I разыгрывал иную роль. Командуя парадом в короне и импера-
торской мантии (командование разводом войск при Екатерине II воспри-
нималось как «капральское», а не «царское» занятие; царские регалии
употреблялись лишь в исключительных парадных обстоятельствах, да и
в этих случаях Екатерина стремилась заменять корону ее знаком —
облегченным ювелирным украшением в виде короны), он стремился явить
России зрелище Бога. Метафорическое выражение Ломоносова о Петре:
«Он Бог, он Бог твой был, Россия!» — Павел стремится воплотить в
пышном и страшном спектакле. В этом смысле совершенно не случайно,
что в пародии Марина Павел I заменил ломоносовского Бога из «Оды,
выбранной из Иова».
Александр I не любил театра и чуждался пышных церемоний. Скром-
ность его личной жизни часто давала повод для обвинений императора
в скупости. Обращение молодого императора подкупало простотой и
непосредственностью. Казалось, он был воплощенная противоположность
своему отцу и начало его царствования должно было стать концом эпохи
театральности.
Однако чем глубже мы проникаем в смысл как политики, так и личности
Александра Павловича, тем чаще, с некоторым даже недоумением,
останавливаемся перед глубокой преемственностью отца и сына. Алек-
Театр и театральность...
283
сандр не только не чуждался игры и перевоплощений, но, напротив,
любил менять маски, иногда извлекая из своего умения разыгрывать
разнообразные роли практические выгоды, а иногда предаваясь чистому
артистизму смены обличий, видимо, наслаждаясь тем, что он вводит в
заблуждение собеседников, принимающих игру за реальность. Приведем
лишь один пример.
В середине марта 1812 г. Александр I по целому ряду причин решил
удалить Сперанского от государственной деятельности. Для нас сейчас
интересны не политические и государственные аспекты этого события
(кстати, хорошо выясненные в научной литературе), а характер личного
поведения государя в этих условиях. Призвав к себе 17 марта утром
директора канцелярии министерства полиции Я. де Санглена, который
был одной из главных пружин интриги против Сперанского, император
свидимым сожалением сказал: «Как мне ни больно, но надобно расстаться
с Сперанским. Его необходимо отлучить из Петербурга». Вечером того
же дня Сперанский был вызван во дворец, имел аудиенцию у императора,
после чего был отправлен в ссылку. Приняв утром 18 марта де Санглена,
Александр сказал ему: г«Я Сперанского возвел, приблизил к себе, имел
к нему неограниченное доверие и вынужден был его выслать. Я плакал!
(...) Люди мерзавцы! Те, которые вчера утром ловили еще его улыбку, те
ныне меня поздравляют и радуются его высылке». Государь взял со стола
книгу и с гневом бросил ее опять на стол, сказав с негодованием: «О, под-
лецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!»29
В тот же день император принял А. Н. Голицына, которого считал
своим личным другом и к которому питал неограниченную доверенность,
и высказался в том же духе. Увидев крайнюю мрачность на лице царя,
князь Голицын осведомился о его здоровье и получил ответ: «Если б у
тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно —
(...) у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моею правою
рукою!»30 При этом император плакал. Плакал он и прощаясь со
Сперанским. Однако мы теперь точно знаем, что никто не отсекал у
Александра его правую руку: воспользовавшись несколькими глупыми
и бессмысленными доносами, Александр исподволь всесторонне лично
подготовил всю интригу. Когда Сперанский чуть не сорвал задуманное
царем эффектное удаление, подав просьбу об отставке, Александр не
только счел необходимым эту просьбу отклонить, но еще более возвысил
уже обреченную жертву31. Но еще более поразительна другая сцена.
Вовремя, когда разыгрывалась вся эта история, в Петербурге случайно
оказался ректор Дерптского университета профессор Г. Ф. Паррот.
29 Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование.
Спб., 1897. Т. 3. С. 38 и 48.
30 Шильдер И. К. Указ. соч. С. 48.
31 Все нити были настолько сосредоточены в руках императора, что даже
наиболее активные участники заговора против Сперанского — названный выше
Я. де Санглен и генерал-адъютант А. Д. Балашов, принадлежавший к наиболее
близким императору лицам, — посланные домой к Сперанскому, с тем чтобы
забрать его, когда он вернется из дворца после аудиенции у царя, с грустным
недоумением признались друг другу в том, что не уверены, придется ли им аресто-
вывать Сперанского, или он получит у императора распоряжение арестовать их.
В этих условиях очевидно, что Александр не уступал ничьему давлению, а делал
вид, что уступает, на самом деле твердо проводя избранный им курс, но, как всегда,
лукавя, меняя маски и подготавливая очередных козлов отпущения.
284
Культура и программы поведения
Отличавшийся редким благородством души, Паррот был в числе очень
небольшого круга лиц, которым подозрительный Александр доверял.
Именно потому, что он не был приближенным и придворным, редко
виделся с Александром и никогда не обращался к нему ни с какими
просьбами, он мог с основанием считать себя личным другом и конфиден-
том императора. 16 марта вечером он был вызван во дворец. «Импера-
тор, — пишет Паррот, — описал мне неблагодарность Сперанского с
гневом, которого я у него никогда не видел, и с чувством, которое вызывало
у него слезы. Изложив полученные им доказательства этой измены, он
сказал мне: «Я решился завтра же расстрелять его и, желая знать ваше
мнение по поводу этого, пригласил вас к себе» .
Паррот умолял императора дать ему время подумать. 18 марта утром
в специальном письме он пытался смягчить участь Сперанского. Импе-
ратор отвечал ему милостиво, и Паррот уехал в Дерпт, уверенный в том,
что он спас Сперанского. Между тем очевидно, что Александр Павлович
не собирался расстреливать Сперанского, а когда он благодарил Паррота
за письмо и якобы милостиво внимал его аргументам, участь Сперанского
была уже решена и он следовал в ссылку.
Шильдер, рассказавший эту историю, не без некоторой доли недоуме-
ния — чувства, которое почти никогда не покидает исследователя
личности Александра I, — резюмирует: «В переписке де-Санглена с
М. П. Погодиным встречается следующий любопытный отзыв императора
Александра о Парроте: «Эти ученые все видят косо, и в цель не попадают,
и с жизнью мало знакомы, хотя он человек светский». Погодин со своей
стороны прибавляет: «Паррот приведен был в заблуждение, как все».
Историк наш, когда он писал эти строки, и не подозревал, во всем объеме,
какую он изрек великую истину, так как ему совершенно не была известна
преднамеренная комедия, разыгранная 16-го марта главным действую-
щим лицом этой поистине шекспировской драмы из новейшей русской
истории»33.
Термины театра не случайно приходят здесь на ум историку. Не согла-
ситься с ним можно лишь в одном: Александр разыгрывал не «шекспи-
ровскую драму» — это был непрерывный «театр одного актера». В каждом
перевоплощении императора просвечивал тонкий расчет, но невозможно
отрешиться от чувства, что сама способность менять маски доставляла
ему, помимо всего, и глубокое «незаинтересованное» удовлетворение.
Наполеон проявил немалую проницательность, назвав его «северным
Тальма».
«Театр» Александра I был тесно связан с его стилем решения политиче-
ских проблем: он в принципе не отличал государственных интересов от
своих личных и систематически трансформировал отношения политиче-
ские в личные (в этом смысле, несмотря на мягкость характера Алек-
сандра Павловича, он последовательно придерживался деспотической
системы и был настоящим сыном своего отца). В области внешней
политики это порождало тот стиль личной дипломатии, который Алек-
сандр I сумел навязать европейским дворам и который позволил русскому
императору одержать ряд дипломатических побед. Во внутренней поли-
тике это была ставка на личную преданность монарху, что выглядело в
начале XIX в. безнадежно архаически и обусловило конечный провал
всей внутренней политики Александра Павловича.
Шильдер И. К. Указ. соч. С. 38—39.
Там же. С. 368.
Театр и театральность...
285
«Игра» Александра I выпадала из стиля эпохи: романтизм требовал
постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась
моделью ее поведения. Такой стиль построения личности воспринимался
как величественный. «Протеизм» Александра I воспринимался современ-
никами как «лукавство», отсутствие искренности. Глагол «надувать» часто
мелькает в оценках царя даже его близким окружением. Меняя маски,
чтобы «пленить» всех, Александр всех отталкивал. Один из самых
талантливых актеров эпохи, он был наименее удачливым актером.
*
Есть эпохи, когда искусство властно вторгается в быт, эстетизируя повсе-
дневное течение жизни. Таковы были эпохи Возрождения, барокко,
романтизма, искусства начала XIX в. Это вторжение имеет много послед-
ствий. С ним, видимо, связаны взрывы художественной талантливости,
которые приходятся на эти эпохи. Конечно, не только театр оказывал
мощное воздействие на проникновение искусства в жизнь интересующей
нас эпохи: не меньшую роль здесь сыграли скульптура и — в особенности
— поэзия. Только на фоне мощного вторжения поэзии в жизнь русского
дворянства начала XIX в. понятно и объяснимо колоссальное явление
Пушкина. Однако эта проблема выходит уже за рамки настоящей статьи.
Необходимо обратить внимание еще на одну сторону вопроса: бытовое
течение жизни и литературное ее отражение дают индивиду разную меру
свободы самовыявления. Человек вмерзает в быт, как грешник Дантова
ада в лед Каины. Он теряет свободу движения, перестает быть творцом
своего поведения. Люди XVIII в. еще в значительной мере жили под
знаком обычая. Надындивидуальное течение быта автоматически пред-
определяло поведение индивида. И, хотя авантюризм, получивший в
XVIII в. неслыханное распространение, открывал для наиболее активных
людей века выход за пределы рутины каждодневного быта, это был, с
одной стороны, путь принципиально уникальный, а с другой стороны,
открыто и демонстративно аморальный; это был путь личного утверждения
в жизни при сохранении ее основ. Герой плутовского романа не разрушал
окружающую его жизнь: вся его энергия, все умение выбиться из социаль-
ной обоймы были направлены на то лишь, чтобы улечься в эту же обойму,
но наиболее выгодным и приятным для себя образом. Его активность
объективно не разрушала, а утверждала общий порядок жизни.
Именно потому, что театральная жизнь отличается от бытовой, взгляд
на жизнь как на спектакль давал человеку новые возможности поведения.
Бытовая жизнь по сравнению с театральной выступала как неподвижная:
события, происшествия в ней или не происходили совсем, или были ред-
кими выпадениями из нормы. Сотни людей могли прожить всю жизнь,
не пережив ни одного «события». Движимая законами обычая, бытовая
жизнь обычного русского дворянина XVIII в. была «бессюжетна».
Театральная жизнь представляла собой цепь событий. Человек не был
пассивным участником безлико текущего хода времени: освобожденный
от бытовой жизни, он вел бытие исторического лица — сам выбирал свой
тип поведения, активно воздействовал на окружающий его мир, погибал
или добивался успеха.
Взгляд на реальную жизнь как на спектакль не только давал человеку
возможность избирать амплуа индивидуального поведения, но и наполнял
его ожиданием событий. Сюжетность, то есть возможность неожиданных
286
Культура и программы поведения
происшествий, нежданных переворотов становилась нормой. Именно
сознание того, что любые политические перевороты возможны, формиро-
вало жизненное ощущение молодежи начала XIX в. Революционное созна-
ние романтической дворянской молодежи имело много источников. Психо-
логически оно было подготовлено, в частности, и привычкой «театрально»
смотреть на жизнь. Именно модель театрального поведения, превращая
человека вдействующее лицо, освобождала его от автоматической
власти группового поведения, обычая. Пройдет немного времени — и
литературность и театральность поведения жизненных подражателей
героям Марлинского или Шиллера сама окажется групповой нормой,
препятствующей индивидуальному выявлению личности. Человек 1840—
1860-х гг. будет искать себя, стараясь противостоять литературности.
Это не отменяет того, что период начала XIX в., который пройдет под
знаком вторжения искусства — ив первую очередь театра — в русскую
жизнь, навсегда останется знаменательной эпохой в истории русской
культуры.
Сцена и живопись...
287
Сцена и живопись как кодирующие
устройства культурного поведения
человека начала XIX столетия
В сражении под Аустерлицем семнадцатилетний корнет 4-го эскадрона
кавалергардского полка граф Павел Сухтелен был ранен сабельным
ударом по голове и осколком ядра в правую ногу. Он был взят в плен и в
толпе русских офицеров замечен проезжавшим Наполеоном, который
пренебрежительно отозвался о юности пленника. Сухтелен озадачил
Наполеона, ответив ему известными стихами из «Сида»:
Je suis jeune, il est vrais, mais aux ames bien nees
La valeur n'attend point le nombre des annees1.
По приказу Наполеона на эту тему была написана картина для
Тюльерийского дворца.
В этом эпизоде перед нами с классической четкостью выступает
триада «сцена — жизнь — полотно»: юный Сухтелен кодирует свое пове-
дение нормами театра, а Наполеон безошибочно выделяет в реальной
жизненной ситуации сюжет картины.
В предыдущей статье мы остановились на взаимосвязи сцены и быто-
вого, реального поведения людей начала XIX в. Сейчас нам предстоит
ввести третий компонент — живопись.
Связь между этими видами художественного текста была в интересую-
щую нас эпоху значительно более очевидной и тесной, чем это может
представиться читателю нашего времени. Общность живописи и театра
проявлялась, прежде всего, в отчетливой ориентации спектакля на чисто
живописные средства художественного моделирования: тяготение сцени-
ческого текста спектакля не к непрерывному (недискретному) течению,
имитирующему временной поток во внехудожественном мире, а к отчет-
ливому членению на отдельные синхронно организованные неподвижные
«срезы», каждый из которых заключен в сценическом обрамлении, как
картина в раме, и внутри себя организован по строгим законам компози-
ции фигур на живописном полотне.
Только в условиях функциональной связи между живописью и театром
могли возникнуть такие явления, как, например, юсуповский театр в
Архангельском (под Москвой). Для театра Юсупова были написаны
замечательные, сохранившиеся до сих пор, декорации Гонзага. Декорации
эти — произведения высокого живописного искусства с исключительно
богатой и сложной игрой художественных пространств (все они пред-
ставляют собой фантастико-архитектурные мотивы). Однако наиболее
интересно их функциональное использование в спектакле: они не были
фоном для действия живых актеров, а сами представляли собой спектакль.
Постановка заключалась в том, что перед зрителем, под специально
1 Corneille. Oeuvres completes/Ed. du Seuii. Paris, 1963. P. 226.
288
Культура и программы поведения
написанную музыку, при помощи системы машин декорации сменяли
друг друга. Эта смена картин и составляла спектакль.
Появлением восприятия текста, при котором вперед выдвигалось общее
для сцены и картины, а разница — движение — выступала как вариатив-
ный элемент низшего уровня, может быть объяснено распространение
такого вида зрелища, как «живые картины», — спектакля, действие
которого составляло композиционное расположение неподвижных актеров
в сценическом кадре. Движение здесь изображалось, как в живописи,
динамическими позами неподвижных фигур. При этом если в плане
сценического выражения признак «движение/неподвижность» не был
релевантным (неподвижность могла восприниматься как изображение
движения, как в живописи и скульптуре — динамическая поза озна-
чала движение), то значимость таких категорий, как рамка, замыкаю-
щая пространство, и цвет, делали невозможным отождествление сцены
с групповой скульптурой. Объемность сценического действия рекомен-
довалось скрадывать, и неподвижный актер отождествлялся не с, казалось
бы, более «похожей» статуей, а с фигурой на картине. Это показывает,
что речь идет не о каком-то естественном сходстве, а об определенном
типе художественного кода. Показательно, что Гете в продиктованных
им Вольфу и Грюнеру и впоследствии обработанных и изданных Эккер-
маном «Правилах для актеров» (1803) предписывал: «Сцену надо рас-
сматривать как картину без фигур, в которой последние заменяются
актерами»1. Органическим следствием было стремление к плоскому рас-
положению сцены: «Не следует выступать на просцениум. Это самое
невыгодное положение для актера, ибо фигура выступает из того про-
странства, внутри которого она вместе с декорациями и партнерами
составляет единое целое»2. Исходя из существовавших в ту пору правил
расположения фигур на полотне, Гете запрещает актерам находиться
«слишком близко к кулисам»3.
Уподобление сцены картине рождало специфический жанр живых
картин (отметим, что если для Карамзина, по его собственному призна-
нию, реальный пейзаж становился эстетическим фактом, когда восприни-
мался сквозь призму литературной трансформации, то для молодого
Пушкина такую роль играла «пейзажная» театральная декорация и сгруп-
пированные перед ней актеры — «везде передо мной подвижные кар-
тины...»). Однако на основе развитой системы подобного восприятия
сцены могло рождаться вторичное явление: возникали театральные
сюжеты, требовавшие изображения на сцене с помощью живых актеров
имитации живописного произведения. Затем следовало оживление псевдо-
картины. Так, 14 декабря 1821 г. в бенефис Асенковой Шаховской
поставил на петербургской сцене одноактную пьесу «Живые картины,
или Наше дурно, чужое хорошо». «Здесь являлось несколько живых
картин, устроенных в глубине театра, в разном виде и несколько портретов
1 Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра/Сост. и ред.
С. Мокульского. М., 1955. Т. 2. С. 1029. Ср. в мемуарах актера Генаста-младшего
упоминание о том, что, когда на репетиции машинист выставил голову из-за кулис,
«тотчас же Гете прогремел: «Господин Генаст, уберите эту неподходящую голову
из первой кулисы справа; она вторгается в рамку моей картины» (Там же.
С. 1037).
2 Там же. С. 1029.
3 Там же.
Сцена и живопись...
289
на авансцене»4. Сюжет водевиля Шаховского состоял в осмеянии мнимых
знатоков, которые осуждали творения русского живописца, противо-
поставляя ему иностранные образцы. Хозяин-меценат пригласил их на
выставку. После того как все полотна были подвергнуты критическому
разносу, оказывается, что это не живопись, а живые картины, а портрет
хозяина — он сам. В таком представлении само движение артистов на
сцене оказывается вызывающей удивление аномалией5.
Однако эти крайние проявления отождествления театра с картиной
интересны, в первую очередь, потому, что наглядно раскрывают норму
восприятия театра в системе культуры начала XIX в. Спектакль распа-
дался на последовательность относительно неподвижных «картин».
Дискретность и статичность были законами моделирования на сцене
непрерывной и динамической действительности. В этом нельзя видеть
случайность. Напомним, что Гете в уже цитированном произведении
(этим беседам писатель придавал большое значение, называя их «грамма-
тикой» или «элементами» — по аналогии с Эвклидом — театра) опреде-
лял, что персонажи, играющие большую роль, должны быть на сцене менее
подвижными по сравнению с второстепенными. Так, он указывал, что в
сценическом расположении «с правой стороны всегда стоят наиболее
почитаемые особы (...). Стоящий с правой стороны должен поэтому
отстаивать свое право, не позволять оттеснять себя к кулисам и, не меняя
своего положения (курсив мой. — Ю. Л.), левой рукой сделать знак тому,
кто на него напирает»6. Смысл этого положения будет ясен, только если
мы учтем, что Гете исходит из сценического закона той поры, согласно
которому движется лишь актер, расположенный слева, стоящий справа —
неподвижен. Особенно примечателен §91 в главе «Позы и группировка
на сцене». В нем утверждается, что правила картинного расположения
и выразительных поз вообще применимы лишь к персонажам «высокого»
плана: «Само собой разумеется, эти правила должны преимущественно
соблюдаться тогда, когда надо изображать характеры благородные и
достойные. Но есть характеры противоположные этим задачам, например,
характер крестьянина или чудака»7.
Результатом было то, что стремление связывать игру актера с опре-
деленным стабильным набором значимых поз и жестов, а искусство
4 Арапов П. Летопись русского театра. Спб., 1861. С. 310. Шаховской исполь-
зовал театральный эффект известного в ту пору анекдота; ср. в стихотворении
В. Л. Пушкина «К князю П. А. Вяземскому» (1815):
...потом
На труд художп. нзоры,
«Портрет, — реши.in i»u . m иоит ничего:
Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с рогами!
И долг хозяина предать огню его!»
— «Мой долг не уважать такими знатоками
(О чудо! говорит картина им в ответ):
Пред вами, господа, я сам, а не портрет!»
{Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 680).
5 О значимости противопоставления «подвижное/неподвижное» см. очень
содержательную работу Р. О. Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пуш-
кина» (Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145—180).
6 Цит. соч. С. 1026. Расположение правого и левого также роднит сцену с
картиной: правым считается правое по отношению к актеру, повернутому лицом
290
Культура и программы поведения
режиссера — с композицией фигур гораздо резче обозначалось в трагедии,
чем в комедии. С этой точки зрения, внетеатральная жизнь и трагедия
являлись как бы полюсами, между которыми комедия занимала срединное
положение.
Естественным следствием охарактеризованного выше сближения театра
и живописи было создание относительно стабильной и входящей в общий
язык сцены системы мимики, поз и жестов, а также тенденция к созданию
«грамматики сценического искусства», явственно ощущаемая в сочине-
ниях как теоретиков, так и практиков-педагогов сцены в те годы8. Пока-
зательна роль, которую играет иллюстрация, изображающая жест и позу,
в театральных наставлениях тех лет. Рисунок становится метатекстом
по отношению к театральному действию. С этим можно было бы сопоста-
вить функцию рисунка в режиссерской деятельности Эйзенштейна. В ран-
ний период, когда основу режиссерских усилий составляет монтаж фигур
в кадре и монтаж кадров между собой, рисунок чаще всего имеет характер
плана; но когда основным приемом делаются жест и поза актера перед
объективом, монтируемые в дальнейшем режиссером в сложные фразы,
значение режиссерского рисунка как метатекста, играющего для исполни-
теля роль инструкции,' резко повышается, приближаясь к обучающей
функции рисунка в театральном искусстве XVIII в.
Разделение в стиле поведения «высоких» и «низких» персонажей на
сцене имело соответствие в особой концепции бытового поведения чело-
века; в поведении человека в сфере в нехудожественной действительности
выделялись два пласта: значимое, семиотическое, и не сопряженное с
какими-либо значениями. Первое мыслилось как набор поз и жестов, то
есть включало в себя дискретность и статичность; исторический поступок
неразрывно был связан с жестом и позой. Второе не имело ни значения,
ни урегулированного характера, выделить повторяемости здесь было
невозможно. Жест не был знаком и поэтому становился незаметным.
Первое поведение тяготело к ритуалу. Оно вовлекало в свою сферу искус-
ство и активно на него воздействовало. Ошибочно думать, что искусство
эпохи классицизма уклонялось от изображения реального жизненного
поведения людей (в таком свете оно предстало, когда целостная картина
мира той эпохи разрушилась и заменилась другой), но реальным и жиз-
ненным оно считало «высоко» ритуализованное поведение — которое,
в свою очередь, само черпало нормы из высоких образцов искусства, — а
не поведение «крестьянина и чудака», по терминологии Гете.
В предромантическую эпоху границы эти сдвинулись: сначала именно
частная жизнь простых людей стала восприниматься как историческая
и в нее были внесены поза и жест, прежде свойственные описанию и
изображению государственной сферы действительности. Так, в жанровых
картинках Греза больше позы и жеста, чем в жанровой живописи
предшествующей эпохи, а Радищев вносит античную статуарность в сцену
доения коровы матерью Анюты (глава «Едрово»)9. В дальнейшем, как
8 См.: Boguslawski W. Mimika. Warszawa, 1965; Anton Franz Riccoboni's und
Friedrich Ludwig Schroder's Vorschriften uber die Schauspielkunst. Leipzig, 1821;
EngelJ. J. Ideen zu einer Mimik. Berlin, 1804. T. 1; Conference de Monsieur Le Breun
sur 1'expression generate et particuliere enrichi de figures. Amsterdam, 1718.
9 Ср.: «Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с
подойником подле коровы, сравнивал с городскими матерями» (Радищев А. Н.
Поли. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 308).
Сцена и живопись...
291
мы уже говорили в предыдущей статье, знаковое поведение вторгается
в разнообразные сферы повседневного быта, вызывая его театрали-
зацию10.
В основе лежит разделение бытового поведения на два «стиля», из
которых один строится на основе определенной стабильной знаковой
системы поз и жестов, а другой отличается лишь элементарной жестовой
упорядоченностью в пределах общих паралингвистических законов дан-
ной лингвокультурной системы. Первому стилю свойственно тяготение к
дискретности и неподвижности внутри каждой дискретной единицы (то
есть к образованию «картин»); второй отличается текучестью, подвиж-
ностью и с трудом расчленяется. За этим делением мы легко обнаружи-
ваем более глубокое различие: самосознание эпохи соединяло представле-
ние о значимом, «высоком», «историческом» поведении как о поведении
первого рода. «Исторический поступок» был так же связан с жестом и
позой, как «историческая фраза» — с афористической формой.
Показателен пример: 9 сентября 1830 г. Пушкин сообщал Плетневу
о смерти дяди В. Л. Пушкина. Он писал: «Бедный дядя Василий! знаешь
ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнув-
шись он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи
Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным
воином, на щите, le cri de guerre a la bouche!»11. Несколько другую версию
сообщает П. А. Вяземский: «В. Л. Пушкин, за четверть часа до кончины,
видя, что я взял в руки «Литературную газету», которая лежала на столе,
сказал мне задыхающимся и умирающим голосом: «Как скучен Катенин!»
— который в то время печатал длинные статьи в этой газете. «Allons nous
en, — сказал мне тут Александр Пушкин, — il faut mourir mon oncle avec
un mot historique»12. Для того чтобы слова Василия Львовича и его
поведение сделались историческими, он*и должны: 1) быть последними
словами умирающего, связываться с отдельным, статически изолирован-
ным и одновременно важнейшим, завершающим моментом жизни; 2) вос-
приниматься как афоризм; 3) к ним должен быть приложим определенный
жестовый код, поза, утвержденная как историческая. Так, в данном слу-
чае, поведение Василия Львовича отождествляется с позой умирающего
воина, на щите, с боевым кличем на устах.
Интересно вспомнить, что смерть В. Л. Пушкина вызвала и другую
легенду. Ссылаясь на одного из близких знакомых поэта, П. В. Анненков
рассказывал, что умирающий В. Л. Пушкин «поднялся с постели, доб-
рался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда,
заслоняя друг друга, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на
диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта,
10 Об определенной театрализации частной жизни можно говорить в отдельных
случаях и в XVIII в., однако здесь перед нами будет явление принципиально иного
порядка, например, воздействие народного ярмарочного балагана. Показательно,
однако, что театрализация такого типа не имеет тяготения делить бытовое действо
на неподвижные «картины», фиксировать позы и мимику.
11 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1941. Т. 14. С. 112.
12 Москвитянин. 1854. № 6. Отд. 4. С. 11. П. Бартенев сообщает другую версию:
«Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умирающего Василия
Львовича. Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным
и друзьям его: «Господа, выйдемте, пусть это будут его последние слова» (Русский
архив. 1870. С. 1369).
292
Культура и программы поведения
вздохнул тяжело и умер над французским песенником»13. В данном случае
бытовое поведение тоже становится историческим, поскольку через
жест и позу соединяется с легендой, но уже иного типа, — с легендой об
Анакреоне, подавившемся виноградной косточкой, легкомысленном поэте,
легкомысленно встречающем переход к вечности. Можно отметить проти-
воположный случай: историческое событие, историческое поведение, кото-
рые перестают осознаваться как таковые в силу невыделенное™ диск-
ретно-статического момента, отсутствия знаковости поведения. Так, на
полях элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» Пушкин написал: «Это
умирающий В(асилий) Л(ьвович) — а не Торквато»14. При этом следует
подчеркнуть, что для Пушкина само противопоставление двух типов
поведения уже теряло смысл (хотя противопоставление одического, свя-
занного с мозаиками Ломоносова Петра «Полтавы» и Петра-статуи в
«Медном всаднике» недискретному потоку человеческой жизни связано
с отмеченной выше традицией).
В свете сказанного объясняется не только «картинность» театра, но и
театральность картин в XVIII в. Сцены, изображаемые художниками,
производят впечатление воспроизведения театра, а не жизни. Это дало
повод в эпоху, когда культурный код XVIII в. был забыт, утверждать, что
художники тех лет не изображали действительности или не интересова-
лись ею. Это, бесспорно, ошибочно. Дело здесь не только в том, что мир
идей для рационалиста картезианского толка был в большей мере
действительностью, чем текущие формы быта. Дело в том, что, как мы
видели это на примере с Сухтеленом, для того чтобы осознать факт жизни
как сюжет для живописи, его надо предварительно смоделировать в
формах театра.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что «театрализация»
живописи не есть свойство исключительно классицизма, — она в равной
степени свойственна и предромантизму, и романтизму. Так, предромантик
Карамзин в 1802 г., предлагая сюжеты для картин из русской истории,
сознательно располагает их как сцены. Говоря о живописных сюже-
тах, связанных с княжением Ольги, Карамзин замечает: «Худож-
нику (...) остается выбрать любое из десяти возможных представлений»
(курсив Карамзина)15. Взгляд на картину как на исторический эпизод,
пропущенный сквозь призму «представления», проявляется, в частности,
в том, что живописный текст ассоциируется не только с рядом поз, но и с
определенными словами, которые Карамзин вкладывает в уста персона-
жей воображаемых картин: «Князь, сказав: «Ляжем зде костьми; мертвые
бо срама не имут», обнажает меч свой: вот минута для живописца!»16
Взаимная кодировка театра и живописи вырабатывает некоторый
доминирующий код эпохи, который, сосуществуя с другими, оказывается,
однако, на определенном этапе в рамках дворянской культуры главен-
ствующим. Он влияет, что уже неоднократно отмечалось, на поэзию и
стоящие за ней общеидеологические и эстетические принципы. Однако,
разрывая в определенном отношении с традициями Державина, поэзия
русского ампира оказывается более связанной со скульптурой, чем с
живописью. Е. Г. Эткиид отмечает, что если начальная мысль пушкинской
13 Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826. Спб.,
1874. С. 18.
14 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: М.; Л., 1949. Т. 12. С. 283.
15 Карамзин И. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 191.
16 Там же. С. 192.
Сцена и живопись...
293
оды «Вольность» «выражена в форме целой многофигурной композиции:
поэт, в венке и с лирой, гонит от себя богиню любви и призывает другую
богиню», то «у Батюшкова — его аллегорические группы скульп-
тур н ы»17.
Сходные наблюдения сделал А. М. Кукулевич относительно поэтики
Гнедича: «От актуальных эстетических проблем, стоявших в начале 20-х
годов перед русской поэзией, от проблемы показа внутреннего мира героя,
его душевных переживаний, его мировосприятия и т. д. идиллия Гнедича
была далека. Напротив, ей были несомненно родственны эстетические
принципы изобразительных искусств, принципы живописи и скульптуры,
в аспекте винкельмановского неоклассицизма. Реалистические тенденции
«гомеровского стиля» (...) с этими принципами органически связаны.
Недаром Гнедич, характеризуя стиль гомеровских поэм, подчеркивал
именно пластическую сторону их поэтики: Гомер не описывает предмета,
но как бы ставит его перед глазами; вы его видите»18.
Однако еще резче это воздействовало на процесс взаимоотношения
искусства и поведения людей той эпохи. С одной стороны, имело место
уже отмеченное нами в предшествующей статье воздействие театрально-
живописного кода на бытовое поведение человека той эпохи; с другой,
автор мемуаров, записок и других письменных свидетельств, на которые
опирается историк, отбирал в своей памяти из слов и поступков только
то, что поддавалось театрализации, как правило, еще более сгущая эти
черты при переводе своих воспоминаний в письменный текст. Это имеет
непосредственное значение для позиции исследователя, пытающегося
реконструировать по текстам внетекстовую реальность.
В таком случае особенно ценными для историка являются своеобразные
тексты-билингвы типа беседы генерала Н. Н. Раевского, записанной его
адъютантом К. Н. Батюшковым: «Мы были в Эльзасе (...). Кампания
1812 году была предметом нашего болтанья.
«Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, —
из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя
отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа —
не великие птицы <...). Про меня сказали, что я под Дашковкой принес
на жертву детей моих». «Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до
небес превозносили». «За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги
хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!» —
«Но помилуйте, ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку
детей* ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «вперед, ребята; я и дети
мои откроем вам путь ко славе», или что-то тому подобное». Раевской засме-
ялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был
впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты,
ординарцы. Полевую сторону всех перебило и переранило, на мне остано-
вилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал
в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок) и пуля ему прострелила
панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой прия-
тель (Жуковский) воспел в стихах, Граверы, Журналисты, Нувеллисты
воспользовались удобным случаем, и я пожалован Римлянином»19.
17 Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970. С. 141—142.
18 Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки»//Учен. зап.
к'мингр.- гос. ун-та. Л., 1939. Сер. филол. наук. № 46. Вып. 3. С. 314—315.
Батюшков К. И. Соч. М.; Л., 1934. С. 372—373.
294
Культура и программы поведения
Однако неосторожно было бы понимать такой билингвиальный код как
свидетельство того, что для восстановления подлинных событий «рим-
ский» (вернее, «театральный») колорит следует снимать, как принадле-
жащий не реальному поведению участников событий, а тексту, описы-
вающему это поведение. То, что дезавуированная самим Раевским легенда
отнюдь не была чужда его реальному поведению и, видимо, совсем не
случайно возникла, а также утверждение Раевского, что он не выражается
«витиевато», не следует понимать чересчур прямолинейно. Во-первых,
код, влияющий на текст, воздействует и на поведение. Во-вторых, вполне
можно допустить, что, беседуя с Батюшковым, Раевский перекодировал
свое реальное поведение в другую систему — «генерал-солдат», просто-
душный герой и рубака. Ведь тот же Батюшков, но уже не со слов Раев-
ского, а по собственным впечатлениям, рассказал другой эпизод, очевид-
цем которого он был. Раевский во время лейпцигского сражения с грена-
дерами находился в центре боя. «Направо, налево все было опрокинуто.
Одни гренадеры стояли грудью. Раевской стоял в цепи мрачен, безмолвен.
Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его,
беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен.
Глаза его разгорятся, как угли, а благородная осанка его поистине
сделается величественной». Внезапно он был ранен пулей в середину
груди. Поскакали за лекарем. «Один решился ехать под пули, другой
воротился». Обернувшись к Батюшкову, раненый Раевский произнес:
Je n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie.
Ce sang c'est epuise, verse pour la patrie.
И это он сказал с необыкновенной живостию. Издранная его рубашка,
ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились
вокруг тяжело раненого генерала, лучшего, может быть, из всей армии,
беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты, одним словом —
все обстоятельства придавали интерес этим стихам»20.
Приведенная цитата еще раз свидетельствует, сколь неосторожно
было бы относить театральность поведения лишь за счет описания и
безусловно верить в неспособность Раевского изъясняться «витиевато».
Культурное поведение нуждается в описании самого себя, и такое
описание входит в толщу культуры на правах реальности, регулируя
самые разнообразные культурные механизмы. Из сказанного можно
сделать вывод, что система кодов, с одной стороны, тяготеет к единству,
которое достигается выделением в иерархии кодирующего механизма
некоторых доминирующих систем, претендующих на универсальность.
На основе таких систем образуется структура самоописания культуры,
которая, представляя сверхорганизованный и упрощенный ее облик, в
принципе не может соответствовать сложности и структурной много-
факторности реального организма культуры. Такое самоописание ста-
новится, однако, не только фактом самопознания, но и активным регуля-
тором, вторгающимся в строй культуры и повышающим степень ее упоря-
доченности путем искусственной унификации различных ее механизмов.
С другой стороны, унификация эта никогда не может заходить доста-
точно далеко, пока культура представляет собой живой организм само-
настраивающегося типа. Возможность выбора на различных уровнях,
пересечение различных типов организации и свободная «игра» между
ними входят в минимум необходимых культурных механизмов. Так, в
Батюшков К. Н. Указ. Соч. С. 373—375.
Сцена и живопись...
295
примере с генералом Раевским важно, что он мог вести себя в сфере
реального поведения и как герой трагедии, «римлянин», и как «генерал-
солдат». Когда Раевский осуществлял второе поведение, а современники
осознавали его в системе первого, — создавалась легенда, как это было
с эпизодом на мосту в Дашковке. Однако оба кода принадлежали к
входившим в круг реально возможных.
То, что перед нами именно два кода, а не некоторое кодовое и внекодо-
вое, чисто практическое (если это вообще возможно) поведение, свиде-
тельствует известное стихотворение Державина «Снигирь», где в опи-
сании Суворова нечетные строки зашифрованы одним, а четные — другим
образом и именно столкновение этих двух кодов порождает семантический
эффект:
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари...
При этом два противоположных типа поведения, входя в структурную
оппозицию, оказываются на некотором высшем уровне взаимно прирав-
ненными, что меняет сущность каждого из них, делая его специфичным
именно для данной системы культурного поведения.
296
Культура и программы поведения
Декабрист в повседневной жизни
(Бытовое поведение как
историко-психологическая категория)
Исторические закономерности реализуются не автоматически. В сложном
и противоречивом движении истории скрещиваются и противоборствуют
те процессы, в которых человек является пассивным агентом, и те, в
которых его активность проявляется в самой прямой и непосредственной
форме. Для понимания этих последних (их иногда определяют как
субъективный аспект исторического процесса) необходимо изучение не
только общественно-исторических предпосылок той или иной ситуации, но
и специфики самого деятеля — человека. Если мы изучаем историю с
точки зрения деятельности людей, нам невозможно обойтись без изучения
психологических предпосылок их поведения. Однако и психологический
аспект имеет несколько уровней. Несомненно, что некоторые черты пове-
дения людей, их реакций на внешние ситуации свойственны человеку как
таковому. Такой уровень интересует психолога, который если и обра-
щается к историческому материалу, то лишь затем, чтобы найти в нем
иллюстрации психологических законов как таковых.
Но на основе этого общепсихологического пласта и под воздействием
исключительно сложных социально-исторических процессов склады-
ваются специфические формы исторического и социального поведения,
эпохальные и социальные типы реакций, представления о правильных и
неправильных, разрешенных и недозволенных, ценных и не имеющих
ценности поступках. Возникают такие регуляторы поведения, как стыд,
страх, честь. К сознанию человека подключаются сложные этические,
религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на
фоне которых складывается психология группового поведения.
Однако группового поведения как такового не существует в реальности.
Подобно тому как нормы языка реализуются и одновременно нарушаются
в тысячах индивидуальных говорений, групповое поведение складывается
из выполнений и нарушений его в системе индивидуального поведения
многочисленных членов коллектива. Но и «неправильное», нарушающее
нормы данной общественной группы поведение отнюдь не случайно.
Нарушения общепринятых норм поведения — чудачества, самые «без-
образия» человека до- и послепетровской эпохи, дворянина и купца,
крестьянина и монаха — резко отличались (при том, что, конечно, имелись
и общие для всех «национальные» разновидности нарушения нормы).
Более того, норма и ее нарушения не противопоставлены как мертвые
данности. Возникают правила для нарушения правил и аномалии, необ-
ходимые для нормы. Реальное поведение человека будет колебаться между
этими полюсами. При этом различные типы культуры будут диктовать
субъективную ориентированность на норму (высоко оценивается «пра-
вильное» поведение, жизнь «по обычаю», «как у людей», «по уставу») или
же ее нарушение (стремление к оригинальности, необычности, чудачеству,
юродству, обесцениванию нормы амбивалентным соединением крайно-
стей).
Поведение людей всегда многообразно. Этого не следует забывать.
Красивые абстракции типа «романтическое поведение», «психологический
тип русского молодого дворян;-на начала XIX в.» и им подобные всеглл
Декабрист в повседневной жизни
297
будут принадлежать к конструкциям высокой степени отвлеченности, —
не говоря уже о том, что всякая нормализация психосоциальных стерео-
типов подразумевает наличие вариантов по возрасту («детское», «юно-
шеское» и т. п.: «смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный»),
полу и т. д.
Психика каждого человека представляет собой столь сложную, много-
уровневую структуру, со столь многообразными частными упорядочен-
ностями, что возникновение двух одинаковых индивидов практически
исключается.
Однако, учитывая богатство индивидуальных психологических вариан-
тов и разнообразие возможных поведений, не следует забывать, что
практически для общества существуют совсем не все поступки индивида,
а лишь те, которым в данной системе культуры приписывается некоторое
общественное значение. Таким образом, общество, осмысляя поведение
отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими
социальными кодами. Одновременно личность как бы доорганизовывает
себя, усваивая себе этот взгляд общества, и становится «типичнее» не
только для наблюдателя, но и с позиции самого субъекта.
Таким образом, при анализе структуры поведения людей той или иной
исторической эпохи нам придется, строя ге или иные конструкции,
постоянно иметь в виду их связь с многочисленными вариантами, сложное
диалектическое переплетение закономерного и случайного, без чего меха-
низм ьмэбще^в^н^ не.могут быть поняты. \
Но существовало ли особое бытовое поведение декабриста, отли-
чающее его не только от реакционеров и «гасильников», но и от массы
современных ему либеральных и образованных дворян? Изучение мате-
риалов эпохи позволяет ответить на этот вопрос положительно. Мы это и
сами ощущаем непосредственным чутьем культурных преемников
предшествующего исторического развития. Так, еще не вдаваясь в чтение
комментариев,(^лы ощущаем Чацкого как декабриста] Однако Чацкий ведь
не показан нам ТГа" заседании «секретнейшего союза» — мы видим его в
бытовом окружении, в московском барском доме. Несколько фраз в
монологах Чацкого, характеризующих его как зрага рабства и неве-
жества, конечно, существенны для нашего толкования, но не менее важна
его манера держать себя и говорить. Именно по поведению Чацкого
в доме Фамусовых, по его отказу от определенного типа бытового пове-
дения:
У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, подать платок... —
он безошибочно определяется Фамусовым как «опасный человек». Много-
численные документы отражают различные стороны бытового поведения
дворянского революционера и позволяют говорить о декабристе не только
как о носителе той или иной политической программы, но и как об
определенном культурно-историческом и психологическом типе. ;
При этом не следует забывать, что каждый человек в своем поведении ■'
реализует не одну какую-либо программу действия, а постоянно осуще- '
ствляет выбор, актуализируя какую-либо одну стратегию из обширного
набора возможностей. Декабрист в своем реальном бытовом поведении /
отнюдь не всегда вел себя как декабрист — он мог действовать как1
дворянин, офицер (уже — гвардеец, гусар, штабной теоретик), аристо-1
крат, мужчина, русский, европеец, молодой человек и т. д. и т. п. i
Однако в этом сложном наборе возможностей существовало и некоторое |
298
Культура и программы поведения
юциальное поведение, особый тип речей, действий и реакций, присущий
шенно члену тайного общества. Природа этого особого поведения нас и
5удет интересовать ближайшим образом. Поведение это не будет нами
:пециально описываться в тех его проявлениях, которые совпадали с
эбщими контурами облика русского просвещенного дворянина начала
KIX в. Мы постараемся указать лишь на ту специфику, которую наложил
декабризм на жизненное поведение тех, кого мы называем дворянскими
эеволюционерами.
Конечно, каждый из декабристов был живым человеком и в опреде-
ленном смысле вел себя неповторимым образом: Рылеев в быту не похож
на Пестеля, Орлов — на Н. Тургенева или Чаадаева. Такое соображение
не может, однако, быть основанием для сомнений в правомерности поста-
новки нашей задачи. Ведь то, что поведение людей индивидуально, не
этменяет законности изучения таких проблем, как «психология подростка»
(или любого другого возраста), «психология женщины» (или мужчины)
и — в конечном счете — «психология человека». Необходимо дополнить
взгляд на историю как поле проявления разнообразных социальных,
общеисторических закономерностей рассмотрением истории как резуль-
тата деятельности людей. Без изучения историко-психологиче-
ских механизмов человеческих поступков мы неизбежно будем оставаться
во власти весьма схематических представлений. Кроме того, именно то,
что исторические закономерности реализуют себя не прямо, а через
посредство психологических механизмов человека, само по себе есть
важнейший механизм истории, поскольку избавляет ее от фатальной
предсказуемости процессов, без чего весь исторический процесс был бы
полностью избыточен.
/Декабристы были в первую очередь людьми действия. В этом сказались
и их общественно-политическая установка на практическое изменение
политического бытия России, и личный опыт большинства из них как
боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших
смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство не меньше,
чем умение составить тот или иной программный документ или провести
теоретический диспут. Политические доктрины интересовали их, как
правило (конечно, были и исключения — например, Н. Тургенев), не сами
по себе, а как категории для оценки и выбора определенных путей
действия. Ориентация именно на деятельность ощущается в насмешливых
словах Лунина о том, что Пестель предлагает «наперед Енциклопедию
написать, а потом к Революции приступить»1. Даже те из членов тайных
обществ, которые были наиболее привычны к штабной работе, подчерки-
вали, что «порядок и формы» нужны для «успешнейшего действия» (слова
С. Трубецкого)2.
ТГэтом[смысле представляется вполне оправданным то, что мы, не имея
возможности в рамках данной работы остановиться на всем комплексе
проблем, возникающих в связи с историко-психологической характери-
стикой декабризма, выделим для рассмотрения лишь один аспект —
поведение декабриста, его поступки, а не внутренний мир эмоций.
При этом необходимо ввести еще одну оговорку: декабристы были
дворянскими революционерами, поведение их было поведением русских
1 Восстание декабристов. М.; Л., 1927. Т. 4. С. 179.
.2 Там же. Т. 1. С. 23.
Декабрист в повседневной жизни 299
дворян и соответствовало в существенных своих сторонах нормам, сло-
жившимся между эпохой Петра I и Отечественной войной 1812 г. Даже
отрицая сословные формы поведения, борясь с ними, опровергая их в
теоретических трактатах, они оказывались органически с ними связаны
в собственной бытовой практике.
Понять и описать поведение декабриста, не вписывая его в более
широкую проблему — поведение русского дворянина 1810—1820-х гг., —
невозможно. И тем не менее мы заранее отказываемся от такого непо-
мерного расширения задачи: все, что было общим в деятельной жизни
декабриста и любого русского дворянина его эпохи, мы из рассмотрения
исключаем.
Значение декабристов в истории русской общественной жизни~ не'
исчерпывается теми сторонами их деятельности, которые до сих пор в
наибольшей мере привлекали внимание исследователей: выработкой
общественно-политических программ и концепций, размышлениями в
области тактики революционной борьбы, участием в литературной борьбе,
художественным и критическим творчеством. К перечисленным (и многим
другим, рассматривавшимся в обширной научной литературе) вопросам
следует добавить один, до сих пор остававшийся в тени: декабристы
проявили значительную творческую энергию в создании особого типа
русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что
знала предшествующая история. В этом смысле они выступили как
подлинные новаторы. Это специфическое поведение значительной группы ;
молодых людей, находившихся по своим талантам, характерам, происхож-
дению, личным и семейным связям, служебным перспективам (боль-
шинство декабристов не занимало — да и не могло занимать по своему
возрасту — высоких государственных постов, но значительная часть из
них принадлежала к кругу, который открывал дорогу к таким постам в
будущем) в центре общественного внимания, оказало значихельное
воздействие на целое поколение русских людей, явившись своеобразной
школой гражданственности. Идейно-политическое движение дворянской
революционности породило и специфические черты человеческого харак-
тера, особый тип поведения. Охарактеризовать некоторые из его основных
показателей — цель настоящей работы.
Трудно назвать эпоху русской жизни, в которую устная речь — разго-
воры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филиппики — играла
бы такую роль. От момента зарождения движения, которое Пушкин метко [
определил как «дружеские споры» «между Лафитом и Клико», до траги- !
ческих выступлений перед Следственным комитетом декабристы noplT- }
жают своей «разговорчивостью», стремлением к словесному закреплению \
своих чувств и мыслей. Пушкин имел основание так охарактеризовать
собрание «Союза благоденствия»:
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи...
Это давало возможность — с позиций более поздних норм и представ-
лений — обвинять декабристов во фразерстве и замене дел словами. Не
только «нигилисты»-шестидесятники, но и ближайшие современники,
порой во многом разделявшие идеи декабристов, склонны были выска-
зываться в этом духе. Чацкий с позиций декабризма, как показала /
300
Культура и программы поведения
| М. В. Нечкина, упрекает Репетилова в пустословии и фразерстве. Но он и
сам не уберегся от такого упрека со стороны Пушкина: «Все, что говорит
он — очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На
бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый
признак умного человека — с первого взгляду знать с кем имеешь
дело...»3
Вяземский, в 1826 г. оспаривая правомерность обвинения декабристов
в цареубийстве, будет подчеркивать, что цареубийство есть действие,
поступок. Со стороны же заговорщиков не было сделано, по его мнению,
никаких попыток перейти от слов к делу. Он определяет их поведение как
«убийственную болтовню» («bavardage atroce»)4 и решительно оспари-
вает возможность осуждать за слова как за реализованные деяния.
Наряду с юридической защитой жертв неправосудия в его словах есть и
указания на то, что «болтовня», по его мнению, в действиях заговорщиков
перевешивала «дело». Свидетельства этого рода можно было бы и
умножить.
Было бы, однако, решительным заблуждением — следствием переноса
на эпоху декабристов норм, почерпнутых из других исторических перио-
дов, — видеть в особбм значении «витийства резкого» лишь слабую
сторону декабризма и судить их тем судом, которым Чернышевский
судил героев Тургенева. Свою задачу мы видим не в лишенном большого
смысла «осуждении» или «оправдании» деятелей, имена которых при-
надлежат истории, а в попытке объяснения указанной особенности.
Г* Современники выделяли не только «разговорчивость» декабристов —
они подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелля-
ционность приговоров, «неприличную», с точки зрения светских норм,
| тенденцию называть вещи своими именами, избегая эвфемистических
f условностей светских формулировок, их постоянное стремление выска-
зывать без обиняков свое мнение, не признавая утвержденного обычаем
ритуала и иерархии светского речевого поведения. Такой резкостью и
I нарочитым игнорированием «речевого приличия» прославился Николай
Тургенев. Подчеркнутая несветскость и «бестактность» речевого поведе-
ния определялись в близких к декабристам кругах как «спартанское» или
«римское» поведение и противопоставлялось отрицательно оцениваемому
(«французскому».
Темы, которые в светской беседе были запретными или вводились
эвфемистически (например, вопросы помещичьей власти, служебного
протекционализма и т. п.), становились предметом прямого обсуждения.
Дело в том, что поведение образованного, европеизированного дворян-
ского общества александровской эпохи было принципиально двойствен-
ным. В сфере идей и «идеологической речи» усвоены были нормы евро-
пейской культуры, выросшей на почве просветительства XVIII в. Сфера
практического поведения, связанная с обычаем, бытом, реальными усло-
виями помещичьего хозяйства, реальными обстоятельствами службы,
выпадала из области «идеологического» осмысления, с точки зрения
которого она «как бы не существовала». Естественно, в речевой деятель-
ности она связывалась с устной, разговорной стихией, минимально
отражаясь в текстах высокой культурной ценности. Таким образом соз-
давалась иерархия поведений, построенная по принципу нарастания
3 Письмо к А. Бестужеву от конца января 1825 г.//Пушкин А. С. Поли. собр.
соч.: В 16т. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 138 (в дальнейшем: Пушкин).
4 Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов//Учен. зап. Тарт. гос.
ун-та. Тарту, 1960. Вып. 98. С. 134. (Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 3.).
Декабрист в повседневной жизни
301
культурной ценности (что совпадало с ростом семиотичности). При этом
выделялся низший — чисто практический — пласт, который с позиции
теоретизирующего сознания «как бы не существовал». ^
Именно такая плюралистичность поведения, возможность выбора
стилей поведения в зависимости от ситуации, двойственность, заключав- \/
шаяся в разграничении практического и идеологического, характеризо-
вала русского передового человека начала XIX в. И она же отличала
его от дворянского революционера (вопрос этот весьма существен, по-
скольку нетрудно отделить тип поведения Скотинина от облика Рылеева,
но значительно содержательнее противопоставить Рылеева Дельвигу или
Николая Тургенева — его брату Александру).
Декабрист своим поведением отменял иерархичность и стилевое много-
образие поступка. Прежде всего, отменялось различие между устной и
письменной речью: высокая упорядоченность, политическая терминоло-
гичность, синтаксическая завершенность письменной речи переносилась
в устное употребление. ГФамусов имел основание ~ск!зать, "чТТГ-Чацкий Л
«говорит как пишет». В данном случае это не только поговорка: речь |
Чацкого резко отличается_от_слов других персонажей именно своей/
книжностысуОтгтбво^итТак пишеТГгТосТолы^ в его тгдешотй-
ческих, а не бытовых проявлениях.
Одновременно чисто практическое поведение делалось объектом не
только осмысления в терминах и понятиях идейно-философского ряда,
но и приобретало знаковый характер, переходя из ряда неоцениваемых
действий в группу поступков, осмысляемых как «благородные» и «воз-
вышенные» или «гнусные», «хамские» (по терминологии Н. Тургенева)
и «подлые»5.
Приведем один исключительно выразительный пример. Пушкин записал
характерный разговор: «Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я
женат», — отвечал Рылеев. «Так что же, — сказал Д (ельвиг), — разве ты
не можешь отобедать в ресторации, потому только, что у тебя дома есть ,
кухня?»6 • '74 v-■'■il J
Зафиксированный Пушкиным разговор Дельвига и Рылеева интересен
не столько для реконструкции реально-биографических черт их поведения
(и тот, и другой были живыми людьми, действия которых могли регули-
роваться многочисленными факторами и давать на уровне бытовых
поступков бесчисленное множество вариантов), сколько для понимания
их отношения к самому принципу поведения. Перед нами столкновение
«игрового» и «серьезного» отношения к жизни. Рылеев — человек
серьезного поведения. Не только на уровне высоких идеологических
построений, но и в быту такой подход подразумевает для каждой значимой
ситуации некоторую единственную норму правильных действий. Дельвиг,
как и арзамасцы или члены «Зеленой лампы», реализует игровое поведе-
ние, амбивалентное по сути: в реальную жизнь переносится ситуация
игры, позволяющая считать в определенных позициях допустимой услов-
ную замену «правильного» поведения противоположным.
5 «Хам» в политическом лексиконе Н. Тургенева означало «реакционер», «кре-
постник», «враг просвещения». См., например, высказывания вроде «Тьма и
хамство везде и всем овладели» в письме брату Сергею от 10 мая 1817 г. из Петер-
бурга {Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936.
С. 222).
6 Пушкин. Т. 12. С. 159.
302
Культура и программы поведения
Декабристы культивировали серьезность как норму поведения. Зава-
лишин характерно подчеркивал, что он «был всегда серьезным» и даже
в детстве «никогда не играл»7. Столь же отрицательным было отношение
декабристов к культуре словесной игры как форме речевого поведения.
В процитированном обмене репликами собеседники, по сути, говорят на
разных языках: Дельвиг совсем не предлагает всерьез воспринимать его
слова как декларацию моральных принципов — его интересует острота
высказывания, mot. Рылеев же не может наслаждаться парадоксом там,
где обсуждаются этические истины, каждое его высказывание — прог-
рамма.
С предельной четкостью антитезу игры и гражданственности выразил
Милонов в послании Жуковскому, показав, в какой мере эта грань, про-
легавшая внутри лагеря прогрессивной молодой литературы, была осоз-
нана.
...останемся мы каждый при своем —
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом;
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья8.
Тут дана полная парадигма противопоставлений: галиматья (словесная
игра, самоцельная шутка) — сатира, высокая, гражданственная и серьез-
ная; Шиллер (здесь — автор баллад, переводимых Жуковским; ср. в
статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической,
в последнее десятилетие» презрительный отзыв о Шиллере как авторе
баллад и образце Жуковского — «недозревший Шиллер»)9, чье имя
связывается с фантазией балладных сюжетов, — Ювенал, воспри-
нимаемый как поэт-гражданин; суд литературной элиты, мнение замк-
нутого кружка (о том, какое раздражение вызывала обычная для
карамзинистов ссылка на мнение «знаменитых друзей» вне их лагеря,
откровенно писал Н. Полевой)10 — мнение потомства. Для того чтобы
представить во всей полноте смысл начертанной Милоновым антитезы,
достаточно указать, что она очень близка к критике Жуковского Пушки-
ным в начале 1820-х гг., включая и выпад против Блудова (см. письмо
Жуковскому, датируемое 20-ми числами апреля 1825 г.).
Визит «к девкам», с позиции Дельвига, входит в сферу бытового поведе-
ния, которое никак не соотносится с идеологическим. Возможность быть
одним в поэзии и другим в жизни не воспринимается им как двойствен-
ность и не бросает тени на характер в целом. Поведение Рылеева в
принципе едино, и для него такой поступок был бы равносилен теорети-
ческому признанию права человека на аморальность. То, что для Дельвига
вообще не имеет значения (не является знаком), для Рылеева было бы
носителем идеологического содержания. Так разница между свободо-
любцем Дельвигом и революционером Рылеевым рельефно проявляется
не только на уровне идей или теоретических концепций, но и в природе
7 Записки декабриста Д. И. Завалишина. Спб., 1906. С. 10 (в дальнейшем:
Завалишин).
8 Поэты 1790— 1810-х годов. Л., 1971. С. 537.
9 Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979. С. 458.
10 «Слова: знаменитые друзья или просто знаменитые на условном тогдашнем
языке имело особенное значение» (Полевой Н. Материалы по истории русской
литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 153).
Декабрист в повседневной жизни
зоз
их бытового поведения. Карамзинизм утвердил многообразие поведений,
их смену как норму поэтического отношения к жизни. Карамзин писал:
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна...
...Нельзя ей для тебя единою казаться".
Для романтизма, напротив, поэтическим было единство поведения, неза-
висимость поступков от обстоятельств.
«Один, — он был везде, холодный, неизменный...» — писал Лермонтов
о Наполеоне12. «Будь самим собою», — писал А. Бестужев Пушкину13.
Священник Мысловский, характеризуя поведение Пестеля на следствии,
записал: «Везде и всегда был равен самому себе. Ничто не колебало
твердости его»14.
Впрочем, романтический идеал единства поведения не противоречил
классицистическому представлению о героизме, совпадая к тому же с
принципом «единства действия». Карамзинский «протеизм» был в этом
отношении ближе к реалистической «многоплановости». Пушкин, противо-
поставляя одноплановость поведения героев Мольера жизненной много-
плановости созданий Ше.кспира, писал в известном наброске: «Лица,
созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти,
такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей,
многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разно-
образные и многосторонние характеры»15.
При этом если при переходе от жизненных наблюдений к создаваемому
им поэтическому тексту художник классицизма или романтизма созна-
тельно отбирал какой-либо один план, поскольку считал его единственно
достойным литературного отображения, то при обратном переходе — от
читательского восприятия текста к читательскому поведению — проис-
ходит трансформация: читатель, воспринимая текст как программу своего
бытового поведения, предполагает, что определенные стороны житейской
деятельности в идеале должны вообще отсутствовать. Умолчание в тексте
воспринимается как требование исключить определенные виды деятель-
ности из реального поведения. Так, например, отказ от жанра элегии в
поэзии мог восприниматься как требование отказа от любви в жизни.
Следует подчеркнуть общую «литературность» поведения романтиков,
стремление все поступки рассматривать как знаковые.
Это, с одной стороны, приводит к увеличению роли жеста в бытовом
поведении. Жест — это действие или поступок, имеющий не только и не
столько практическую направленность, сколько отнесенность к некоторому
значению. Жест — всегда знак и символ. Поэтому всякое действие на
сцене, включая и имитирующее полную освобожденность от сценической
телеологии, есть жест; значение его — замысел автора.
С этой точки зрения бытовое поведение декабриста представилось бы N
современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. При
этом следует ясно понимать, что «театральность» поведения ни в коей мере
не означает его неискренности или каких-либо негативных характеристик.
11 Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 242—243.
12 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 183.
13 Пушкин. Т. 13. С. 142.
14 Из записной книжки П. Н. Мысловского//Щукинский сб. М., 1905. Вып. 4.
С. 39 (в дальнейшем: Мысловский).
15 Пушкин. Т. 12. С. 159.
304
Культура и программы поведения
Это лишь указание на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой
смысл, становится предметом внимания, причем оцениваются не сами
поступки, а символический их смысл.
С другой стороны, в бытовом поведении декабриста меняются местами
привычные соотношения слова и поступка.
В обычном речевом поведения той эпохи отношение поступков и речей
строилось по следующей схеме:
выражение ?■ содержание
слово \—'•? поступок
Слово, обозначая поступок, обладает тенденцией к разнообразным сдви-
гам эвфемистического, перифрастического или метафорического харак-
тера. Так, рождается, с одной стороны, бытовой язык света с его «обо-
шлась при помощи носового платка» на нижней социальной границе и
французскими обозначениями для «русских» действий на верхней. Связь
— генетическая и типологическая — этого языка с карамзинизмом
отчетливо улавливалась современниками, предъявлявшими и литератур-
ному языку карамзинистов, и светской речи одно и то же обвинение в
жеманстве. Тенденция ослаблять, «разбалтывать» связь между словом
и тем, что оно обозначает, характерная для светского языка, вызвала
устойчивое для Л. Н. Толстого разоблачение лицемерия речей людей
света.
*С другой стороны, на том же принципе словесного «облагораживания»
низкой деятельности строилась подъяческая речь с ее «барашком в
бумажке», означающим взятку, и эвфемистическим «надо доложить» в
значении «надо увеличить сумму», специфическими значениями глагола
«давать» и «брать». Ср. хор чиновников в «Ябеде» Капниста:
Бери, большой тут нет науки;
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать?16
Вяземский, комментируя эти стихи, писал: «Тут дальнейших разъясне-
ний не требуется: известно о каком бранье речь идет. Глагол пить также
само собой равняется глаголу пьянствовать (...). Другой начальник
говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и
вносить в определенные графы слово достоин и способен, часто хотелось
бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презре-
ния»17.
На этой основе происходило порой перерастание практического языка
канцелярий в тайный язык, напоминающий жреческий язык для посвящен-
ных. От посетителя требовалось не только выполнение некоторых дей-
ствий (дача взятки), но и умение разгадать загадки, по принципу которых
строилась речь чиновников. На этом построен, например, разговор Варра-
вина и Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина. Ср. образец такого же
приказного языка у Чехова:
« — Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприят-
ности.
Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и
16 Капнист В. В. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 1.С.358.
17 Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 105.
Цекабрист в повседневной жизни
305
несколько тарелок с разнообразными закусками. — Вот что, любезный, —
сказал ему Початкин, — дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы
и злословия с картофельным пюре»18.
Языковое поведение декабриста было резко специфическим. Мы уже
отмечали, что характерной чертой его было стремление к словесному
наименованию того, что, реализуясь в области бытового поведения, табуи-
ровалось в языке. Однако номинация эта имела специфический характер
и не сопровождалась реабилитацией низкой, вульгарной или даже просто
бытовой лексики. Сознанию декабриста была свойственна резкая поляри-
зация моральных и политических оценок: любой поступок оказывался в
поле «хамства», «подлости», «тиранства» или «либеральности», «просве-
щения», «героизма». Нейтральных или незначимых поступков не было,
возможность их существования не подразумевалась.
Поступки, находившиеся вне словесного обозначения, с одной стороны,
и обозначавшиеся эвфемистически и метафорически, с другой, получают
однозначные словесные этикетки. Набор таких обозначений относительно
невелик и совпадает с этико-политическим лексиконом декабризма.
В результате, во-первых, бытовое поведение перестает быть только быто-
вым: еоно получает высокий этико-политический смысл. Во-вторых, обыч-
ные соотношения планов выражения и содержания применительно к
поведению меняются: не слово обозначает поступок, а поступок обозна-
чает слово:
выражение > содержание
поступок > слово
При этом важно подчеркнуть, что содержанием становится не мысль,
оценка поступка, а именно слово, причем слово, гласно сказанное:
декабрист не удовлетворяется тем, чтобы про себя, в уме своем, отрица-
тельно оценить любое проявление «века минувшего». Он гласно и пуб-
лично называет вещи своими именами, «гремит» на балу и в обществе,
поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и
начало преобразования общества. Поэтому прямолинейность, известная
наивность, способность попадать в смешные, со светской точки зрения,
положения так же совместимы с поведением декабриста, как и резкость,
гордость и даже высокомерие. Но оно абсолютно исключает уклончивость,
игру оценками, способность «попадать в тон» не только в духе Молчалина,
чо и в стиле Петра Степановича Верховенского.
Может показаться, что эта характеристика применима не к декабризму
вообще, а лишь периода «Союза благоденствия», когда «витийство на
балах» входило в установку общества. Известно, что в ходе дальнейшей
тактической эволюции тайных обществ акцент был перенесен на конспи-
рацию. Новая тактика заменила светского пропагандиста заговорщиком.
Однако следует отметить, что изменение в области тактики борьбы
не привело к коренному сдвигу в стиле поведения: становясь заговорщи-
ком и конспиратором, декабрист не начинал вести себя в салоне «как все».
Никакие конспиративные цели не могли его заставить принять поведение
Молчалина. Выражая оценку уже не пламенной тирадой, а презрительным
словом или гримасой, он оставался в бытовом поведении «карбонарием».
Поскольку бытовое поведение не могло быть предметом для прямых
политических обвинений, его не прятали, а наоборот — подчеркивали,
превращая в некоторый опознавательный знак.
18 Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1962. Т. 7. С. 506.
306
Культура и программы поведения
Д. И. Завалишин, прибыв в Петербург из кругосветного плавания в
1824 г., повел себя так (причем именно в сфере бытового поведения: он
отказался воспользоваться рекомендательным письмом к Аракчееву),
что последний сказал Батенькову: «Так это-то Завалишин! Ну послушай
же, Таврило Степанович, что я тебе скажу: он должно быть или вели-
чайший гордец, весь в своего батюшку, или либерал»19. Здесь характерно
уже то, что, по представлению Аракчеева, «гордец» и «либерал» должны
себя вести одинаково. Любопытно и другое: своим поведением Завалишин,
еще не успев вступить на политическое поприще, себя демаскировал.
Однако никому из его друзей-декабристов не пришло в голову обвинять
его в этом, хотя они были уже не восторженными пропагандистами эпохи
«Союза благоденствия», а конспираторами, готовившимися к решитель-
ным выступлениям. Напротив, если бы Завалишин, проявив умение маски-
ровки, отправился на поклон к Аракчееву, поведение его, вероятнее всего,
вызвало бы осуждение, а сам он возбудил к себе недоверие. Характерно,
что близость Батенькова к Аракчееву вызывала неодобрение в кругах
заговорщиков.
Показателен и такой пример. Катенин в 1824 г. не одобряет характер
Чацкого именно за, те черты «пропагандиста на балу», в которых
М. В. Нечкина справедливо увидела отражение тактических приемов
«Союза благоденствия»: «Этот Чацкий — главное лицо. Автор вывел его
con amore и, по мнению автора, в Чацком все достоинства и нет порока,
но, по моему мнению, он говорит много, бранит все и проповедует
некстати»20. Однако всего за несколько месяцев до этого высказывания
(у нас нет никаких оснований считать, что за этот период в его воззрениях
имела место какая-либо эволюция) Катенин, убеждая своего друга
Бахтина выступать в литературной полемике открыто, без всевдонимов,
с исключительной прямотой сформулировал требование не только сло-
вами, но и всем поведением открыто демонстрировать свои убеждения:
«Обязанность теперь стоять за себя и за правое дело, говорить истину
не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах,
но и в поступках, повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы
плуты не могли притворяться, будто не слыхали, заставить их сбросить
личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти»21.
Нужды нет, что под «правым делом» Катенин понимал пропаганду
своей литературной программы и собственных заслуг перед словесностью.
Для того чтобы личностное содержание можно было облекать в т а к и е
слова, сами эти выражения должны были уже сделаться, в своем общем
содержании, паролем поколения.
То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло
молодым либералам отличить «своего» от «гасильника», характерно
именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и
разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились
и специфические черты, отличающие'декабриста как дворянского рево-
люционера. Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из
критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возни-
кало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны,
определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской
'■' Завалишин. С. 86.
20 Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину: (Материалы для истории русской
литературы 20-х и 30-х годов XIX века). Спб., 1911. С. 77.
21 Там же. С. 31 (курсив мой. — Ю. Л.).
Декабрист в повседневной жизни
307
культуре, а с другой, сослужило им плохую службу в трагических условиях
следствия и неожиданно обернулось нестойкостью: они не были психоло-
гически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной
подлости.
Иерархия значимых элементов поведения складывается из последова-
тельности: жест — поступок — поведенческий текст. Последний следует
понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную
между намерением и результатом. В реальном поведении людей — слож-
ном и управляемом многочисленными факторами — поведенческие тексты
могут оставаться незаконченными, переходить в новые, переплетаться с
параллельными. Но на уровне идеального осмысления человеком своего
поведения они всегда образуют законченные и осмысленные сюжеты.
Иначе целенаправленная деятельность человека была бы невозможна.
Таким образом, каждому тексту поведения на уровне поступков соответ-
ствует определенная программа поведения на уровне намерений. Отно-
шения между этими категориями могут принимать весьма сложный харак-
тер, в конечной степени зависящий от типа данной культуры. Они могут
сближаться — в случае, когда действительность и ее осмысление стре-
мятся «говорить общим языком», — или сознательно (или бессозна-
тельно) расходиться. Ко второму случаю следует отнести и романтический
«разрыв мечты и существенности» (Гоголь): расхождение «текстов пове-
дения» и снов (программ поведения) художника Пискарева из «Невского
проспекта» и дополнение жалкого поведения заманчивыми программами,
выдаваемыми за реальность, — вранье Хлестакова или воспоминания
генерала Иволгина. Трагическим вариантом этого случая будут мемуары
Д. И. Завалишина. Напомним, что князь Мышкин не обличал генерала
и не высмеял его, как Гоголь своего героя, а серьезно принял его воспоми-
нания как «поступки, совершенные в намерении»; оценивая упоенное
вранье генерала о его влиянии на Наполеона, он говорит: «Вы сделали
прекрасно (...) среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство»22.
Мемуары Завалишина заслуживают именно такого отношения.
Каждодневное поведение декабриста не может быть понято бол рас-
смотрения не только жестов и поступков, но и отдельных и законченных
единиц более высокого порядка — поведенческих текстов.
Подобно тому как жест или поступок дворянского революционера
получали для него и окружающих смысл, поскольку имели своим значе-
нием слово, любая цепь поступков становилась текстом (приобретала
значение), если ее можно было прояснить связью с определенным
литературным сюжетом. Гибель Цезаря, подвиг Катона, проповедь и поза
обличающего пророка, Тиртей, Оссиан или Баян, поющие перед воинами
накануне битвы (последний сюжет был создан Нарежным), Гектор,
уходящий на бой и прощающийся с Андромахой, — таковы были сюжеты,
которые придавали смысл той или иной цепочке бытовых поступков.
Такой подход подразумевал «укрупнение всего поведения», распреде-
ление между реальными знакомыми типовых литературных масок, идеали-
зацию места и пространства действия (реальное пространство осмысля-
лось через литературное). Так, Петербург в послании Пушкина к
Ф. Глинке — Афины, сам Глинка — Аристид. Это не только результат
трансформации жизненной ситуации в стихах Пушкина в литературную;
22 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В. 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 417 (курсив
мой. — /О. Л.).
308
Культура и программы поведения
активно происходит и противоположный процесс: в жизненной ситуации
становится значимым (и, следовательно, заметным для участников) то,
что может быть отнесено к литературному сюжету. Так, Катенин аттестует
себя приятелю своему Н. И. Бахтину в 1821 г. как сосланного «недалеко
от Сибири»23. Этот географический абсурд (Костромская губерния, куда
был сослан Катенин, ближе не только к Москве, но и к Петербургу, чем
к Сибири, это ясно и Катенину, и его корреспонденту) объясняется тем,
что Сибирь уже вошла к этому времени в литературные сюжеты и в
устную мифологию русской культуры как место ссылки, она ассоцииро-
валась в этой связи с десятками исторических имен (в Сибирь приведет
Рылеев своего Войнаровского, а Пушкин — самого себя в «Воображаемом
разговоре с Александром Ь). Кострома же в этом отношении ни с чем не
ассоциируется. Следовательно, подобно тому как Афины означают Петер-
бург, Кострома означает Сибирь, т. е. ссылку.
Отношение различных типов искусства к поведению человека строится
по-разному. Если оправданием реалистического сюжета служит утверж-
дение, что именно так ведут себя люди в действительности, а классицизм
полагал, что таким образом люди должны себя вести в идеальном мире,
то романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое.
При кажущемся сходстве второго и третьего принципов, разница между
ними весьма существенна: идеальное поведение героя классицизма
реализуется в идеальном же пространстве литературного текста. Попы-
таться перенести его в жизнь может лишь исключительный человек,
возвысившийся до идеала. Для большинства же читателей и зрителей
поведение литературных персонажей — возвышенный идеал, должен-
ствующий облагородить их практическое поведение, но отнюдь не вопло-
титься в нем.
Романтическое поведение в этом отношении более доступно, поскольку
включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные
пороки (например, эгоизм, преувеличенная демонстрация которого вхо-
дила в норму «бытового байронизма»:
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм).
Уже то, что литературным героем романтизма был современник, суще-
ственно облегчало подход к тексту как программе реального будущего
поведения читателя. Герои Байрона и Пушкина-романтика, Марлинского
и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей из числа молодых
офицеров и чиновников, которые перенимали жесты, мимику, манеру
поведения литературных персонажей. Если реалистическое произведение
подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действи-
тельность спешила подражать литературе. Для реализма характерно,
что определенный тип поведения рождается в жизни, а потом проникает
на страницы литературных текстов (умением подметить в самой жизни
зарождение новых норм сознания и поведения славился, например,
Тургенев). В романтическом произведении новый тип человеческого
поведения зарождается на страницах текста и оттуда переносится в
жизнь.
Поведение декабриста было отмечено печатью романтизма: поступки
и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведе-
Декабрист в повседневной жизни
309
ний, типовыми литературными ситуациями вроде «прощанье Гектора и
Андромахи», «клятва Горациев» и подобными или же именами, суггести-
ровавшими в себе сюжеты. В этом смысле восклицание Пушкина: «Вот
Кесарь — где же Брут?» — легко расшифровывалось как программа
будущего поступка.
Характерно, что только обращение к некоторым литературным образцам
позволяет нам в ряде случаев расшифровать загадочные с иной точки \
зрения поступки людей той эпохи. Так, например, современников, а затем /
и историков неоднократно ставил в тупик поступок П. Я. Чаадаева,4
вышедшего в отставку в самом разгаре служебных успехов, после
свидания с царем в Троппау в 1820 г. Как известно, Чаадаев был адъю-
тантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Василь-
чикова. После «семеновской истории» он вызвался отвезти Александру I,
находившимуся на конгрессе в Троппау, донесение о бунте в гвардии.
Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья
товарищей и бывших однополчан (в 1812 г. Чаадаев служил в Семенов-
ском полку).
Если такой поступок со стороны известного своим благородством
Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку
вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам
Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г.
так объяснил свой поступок: «На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам,
чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку (...).
Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала
не хотели верить, что я пишу о ней серьезно, затем пришлось поверить,
но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту,
когда я должен был получать то, чего, казалось, я желал, чего так желает
весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым
лестным (...). Дело в том, что я действительно должен был быть назначен
флигель-адъютантом по возвращении Императора, по крайней мере по
словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой мило-
стью, чем получить ее. Меня забавляло выразить свое презрение людям,
которые всех презирают»24.
А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился «успокоить
тетушку»25, якобы весьма заинтересованную в придворных успехах
племянника. Это представляется весьма сомнительным26: родной сестре
известного фрондера князя М. Щербатова не нужно было объяснять
смысл аристократического презрения к придворному карьеризму. Если
бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим барином,
фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось
бы современникам загадочным, а тетушке предосудительным. Но в том-то
и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно
домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел
на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех
сотоварищей по службе, которых он «обходил» вопреки старшинству.
(Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству
службы был неписаным, но исключительно строго соблюдаемым законом
м Сочинения и письма П. Я. Чаадаева. М., 1913. Т. 1. С. 3—4 (оригинал
по-французски).
25 Лебедев А. Чаадаев. М., 1965. С. 54 (в дальнейшем: Лебедев).
2t) Очень интересная книга А. Лебедева, к сожалению, не свободна от произ-
вольного толкования документов и известной модернизации.
310
Культура и программы поведения
продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу
товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение
правил чести.) Именно соединение явной заинтересованности в карьере —
быстрой и обращающей на себя внимание — с добровольной отставкой
перед тем, как усилия должны были блистательно увенчаться, состав-
ляет загадку поступка Чаадаева27.
Ю. Н. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев
пытался объяснить императору связь «семеновской истории» с крепостным
правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению
Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв.
«Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна».
Далее Тынянов называет эту встречу «катастрофой»28. К этой гипотезе
присоединяется и А. Лебедев29.
Догадка Тынянова, хотя и убедительнее всех других предлагавшихся
до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между импе-
ратором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в
Троппау. Напротив, значительное повышение по службе, которое должно
было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения
Чаадаев оказался бы .в, свите императора, т. е. был бы к нему приближен,
свидетельствует о том, что разговор императора и Чаадаева не был при-
чиной разрыва и взаимного охлаждения. Доклад Чаадаева в Троппау
трудно истолковать как служебную катастрофу. «Падение» Чаадаева,
видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожи-
данным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено
упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте.
Хотя слова Чаадаева об его презрении к людям, которые всех презирают,
метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять
на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым.
Видимо, это и были те «весьма» для Чаадаева «невыгодные» сведения о
нем, о которых писал князь Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 г.
и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева
без производства в следующий чин. Тогда же император «изволил отзы-
ваться о сем офицере весьма с невыгодной стороны», как позже доносил
великий князь Константин Павлович Николаю I.
27 Племянник Чаадаева М. Жихарев позже вспоминал: «Васильчиков с донесе-
нием к государю отправил (...) Чаадаева, несмотря на то, что Чаадаев был млад-
ший адъютант и что ехать следовало бы старшему». И далее: «По возвращении
(Чаадаева. - Ю. Л.) в Петербург, чуть ли не по всему гвардейскому корпусу
последовал против него всеобщий, мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он
принял на себя поездку в Троппау и донесение государю о «семеновской истории».
«Ему — говорили — не только не следовало ехать, не только не следовало на по-
ездку набиваться, но должно было ее всячески от себя отклонить». И далее: «Что
вместо того, чтобы от поездки отказываться, он ее искал и добивался, для меня
также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил ему прирож-
денной слабости непомерного тщеславия: я не думаю, чтобы при отъезде его из
Петербурга перед его воображением блистали флигель-адъютантские вензеля на
эполетах столько, сколько сверкало очарование близкого отношения, короткого раз-
говора, тесного сближения с императором» (Жихарев М. К биографии П. Я. Чаа-
даева//Вестник Европы. 1871. №7. С. 201, 203, 205.). Жихареву, конечно, был
недоступен внутренний мир Чаадаева, но многое он знал лучше других современ-
ников, и слова его заслуживают внимания.
28 Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума»//Лит. наследство. М., 1946. Т. 47/48.
С. 168—171.
2Я Лебедев. С. 68-69.
Декабрист в повседневной жизни
311
Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат кон-
фликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом
отставки. Думается, что сопоставление с некоторыми литературными
сюжетами способно прояснить загадочное поведение Чаадаева.
А. И. Герцен посвятил свою статью «Император Александр I и
В. Н. Каразин» Н. А. Серно-Соловьевичу — «последнему нашему маркизу
Позе». Поза, таким образом, был для Герцена определенным типом из
русской жизни. Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом
может многое пояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева.
Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией
Шиллера: Карамзин, посетив в 1789 г. Берлин, смотрел на сцене «Дона
Карлоса» и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в «Письмах
русского путешественника», выделив именно роль маркиза Позы. В Мос-
ковском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 г., в начале XIX в.
царил настоящий культ Шиллера30. Через пламенное поклонение Шиллеру
прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков, и его
близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева — Грибоедов — в
наброске трагедии «Родамист и Зенобия» вольно процитировал знаме-
нитый монолог маркиза Позы. Говоря об участии республиканца «в само-
властной империи», он писал: «Опасен правительству и сам себе бремя,
ибо иного века гражданин»31. Выделенные курсивом слова — перефрази-
ровка автохарактеристики Позы: «Я гражданин грядущего века» («Дон
Карлос». Действ. 3. Явл. 9).
Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть
вариант «русского маркиза Позы» (как в беседах с Пушкиным он при-
мерял роль «русского Брута» и «русского Перикла»), проясняет загадоч-
ные стороны его поведения. Прежде всего, оно позволяет оспорить
утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 г. на правитель-
ственный либерализм: «Надежды на «добрые намерения» царя вообще
были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски
настроенного русского дворянства той поры»32. Здесь известная неточ-
ность: говорить о наличии какого-либо постоянного отношения дека-
бристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные
высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 г. обещаниям царя
практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедитель-
ному предположению М. А. Цявловского33, поддержанному другими
30 См.: Harder M.-B. Schiller in RuBland: (Materialien zu einer Wirkungs-
geschichte. 1789—1814). Berlin; Zurich, 1968 (в дальнейшем: Harder); Lotman J.
Neue Materialien iiber die Anfange der Beschaftigung mit Schiller in der russischen
Literatur//Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifs-
wald Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. 1958—1959. №5/6; Лот-
ман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его
времени//Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1958. Вып. 63.
31 Грибоедов А. С. Поли. собр. соч.: В 3 т. Спб., 1911. Т. 1. С. 256.
32 Правда, тут же говорится, что Чаадаев «вряд ли уж слишком надеялся на
добрые намерения императора». В этом случае автор видит цель разговора в том,
чтобы «окончательно и бесповоротно прояснить истинные намерения и планы
Александра Ь (Лебедев. С. 67—69). Последнее совсем непонятно: почему именно
разговор с Чаадаевым должен был внести такую ясность, когда она не была достиг-
нута десятками бесед царя с разными лицами и многочисленными его заявлениями.
33 Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 28—58 (в дальнейшем:
Цявловский).
312
Культура и программы поведения
авторитетными исследователями, Чаадаев в беседах с Пушкиным до своей
поездки в Троппау обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно
увязывается с утверждением, что вера в «добрые намерения» царя
побудила его скакать на конгресс.
Филипп у Шиллера — не царь-либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а
не к «добродетели на престоле» обращается со своей проповедью шилле-
ровский Поза. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого
Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева34. Но именно тиран
нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова Позы
Филиппу — слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеров-
ского деспота.
Современникам — по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседо-
вать с Карамзиным, — было известно, как страдал Александр Павлович от
одиночества в том вакууме, который создали вокруг него система полити-
ческого самодержавия и его собственная подозрительность. Современники
знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко
презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стес-
нялся восклицать вслух: «Люди мерзавцы! (...) О, подлецы! Вот кто
окружает нас, несчастных государей!»35
Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог
бы не испытывать сильнейшего потрясения36, он явился к нему возвестить
о страданиях русского народа, так же как Поза — о бедствиях Фландрии.
Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвар-
дейском полку, восклицающим словами Филиппа:
Теперь мне нужен человек. О, боже,
Ты много дал мне, подари теперь
Мне человека!37 —
то слова: «Сир, дайте нам свободу мысли!» — сами приходили на язык.
Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал
монолог Позы.
Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа лишь в
одном случае: король должен был быть уверен в личном бескорыстии
своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград
и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескоры-
стного друга истины в наемника самовластия.
Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной
дела — теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от
заслуженных наград. Слова Позы: «Ich kann nicht Furstendiener sein» —
34 Образ Альбы, обагренного кровью Фландрии, получал особый смысл после
кровавого подавления чугуевского бунта. О чугуевском бунте см.: Цявловский.
С. 33 и след.
35 Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование.
Спб., 1897. Т. 3. С. 48.
36 Вяземский в эти дни писал: «Не могу при том без ужаса и уныния думать об
одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на голос его? Раздра-
женное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еше бедственнее
и того» (См.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1960. Вып. 98. С. 78. (Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 3.).
37 Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955. Т. 2. С. 35 (пер. В. Левина).
Декабрист в повседневной жизни
313
становились для Чаадаева буквальной программой. Следуя им, он отка-
зался от флигель-адъютантства. Таким образом, между стремлением к
беседе с императором и требованием отставки не было противоречий —
это звенья одного замысла.
Как же отнесся к этому Александр I? Прежде всего, понял ли он смысл
поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить
эпизод, может быть и легендарный, но в этом случае весьма характерный,
сохраненный для нас Герценом:
«В первые годы царствования Александра I (...) у императора Алек-
сандра I бывали литературные вечера (...). В один из этих вечеров чтение
длилось долго; читали новую трагедию Шиллера.
Чтец кончил и остановился.
Государь молчал, потупя взгляд. Может, он думал о своей судьбе, кото-
рая так близко прошла к судьбе Дон-Карлоса, может, о судьбе своего
Филиппа. Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый
прервал его князь Александр Николаевич Голицын; наклоняя голову к уху
графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслуха, но так,
чтобы все слышали:
— У нас есть свой Маркиз Поза!»38
Голицын имел в виду В. Н. Каразина. Однако нас в этом отрывке инте-
ресует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шил-
лера, но и другое: по мнению Герцена, Голицын, называя Каразина Позой,
закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью «свалить»
соперника, — он знал, что император не потерпит никакого претендента
на роль руководителя.
Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы,
джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем — следова-
тельно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных
прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем в друге абсолютно
бескорыстном (известно, что даже тень подозрения в «личных видах»
переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в
презираемую им категорию царедворцев). Шиллеровского тирана пленило
бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независи-
мостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконеч-
ной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева
император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение
орденских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел
своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие,
Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные
просьбы императора согласился принять лишь портрет царя — не награду
императора, а подарок друга.
Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независи-
мостью мнений (важен был не их политический характер, а именно
независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения
Александра к политически консервативному, лично его любящему и
абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему
38
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 16. С. 38—39. (Чтение, видимо,
имело место в 1803 г., когда Шиллер через Вольцогена направил «Дон Карлоса»
в Петербург к Марии Федоровне. 27 сентября 1803 г. Вольцоген подтвердил полу-
H^rders'' i?-!l6°f V°n SchiUer Und ihfe FreUnde- St"ttgart, 1862. Bd. 2. S. 125;
314
Культура и программы поведения
Карамзину39. Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости
от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который
окончательно привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же беспово-
ротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться
русским Позой, так же как и русским Брутом или Периклесом.
На этом примере мы видим, как реальное поведение человека декабрист-
ского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного
текста, а литературный сюжет — как код, позволяющий проникнуть в
скрытый его смысл.
Приведем еще один пример. Известен подвиг жен декабристов и его
поистине историческое значение для духовной истории русского общества.
Однако непосредственная искренность содержания поступка ни в малой
степени не противоречит закономерности выражения, подобно тому как
фраза самого пламенного призыва все же подчиняется тем же граммати-
ческим правилам, которые предписаны любому выражению на данном
языке. Поступок декабристов был актом протеста и вызовом. Но в сфере
выражения он неизбежно опирался на определенный психологический
стереотип. Поведение тоже имеет свои нормы и правила, — конечно, при
учете того, что чем сложнее семиотическая система, тем более комплек-
сными становятся в ее пределах отношения урегулированности и свободы.
Существовали ли в русском дворянском обществе до подвига дека-
бристок какие-либо поведенческие предпосылки, которые могли бы
придать их жертвенному порыву какую-либо форму сложившегося уже
поведения? Такие формы были.
Прежде всего, надо отметить, что следование за ссылаемыми мужьями
в Сибирь существовало как вполне традиционная форма поведения в
нравах русского простонародья: этапные партии сопровождались обо-
зами, которые везли семьи сосланных в добровольное изгнание. Это
рассматривалось не как подвиг и даже не в качестве индивидуально
выбранного поведения — это была норма. Более того, в допетровском
39 Пример Карамзина в этом отношении особенно примечателен. Охлаждение к
нему царя началось с подачи в 1811 г. в Твери «Записки о древней и новой России».
Второй, еще более острый эпизод произошел в 1819 г., когда Карамзин прочел царю
«Мнение русского гражданина». Позже он записал слова, которые он при этом
сказал Александру: «Государь, в Вас слишком много самолюбия (...). Я не боюсь
ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы и Вашему
отцу <...). Государь, я презираю либералистов на день, мне дорога лишь та свобода,
которую никакой тиран не сможет у меня отнять (...). Я более не прошу Вашего
благоволения. Быть может, я говорю Вам в последний раз» (Неизд. соч. и
переписка Н. М. Карамзина. Спб., 1862. Ч. 1. С. 9; оригинал по-французски).
В данном случае критика раздавалась с позиций более консервативных, чем те, на
которых стоял царь. Это делает особенно очевидным то, что не прогрессивность или
реакционность высказываемых идей, а именно независимость мнения была нена-
вистна императору. В этих условиях деятельность любого русского претендента на
роль маркиза Позы была заранее обречена на провал. После смерти Александра
Карамзин в записке, адресованной потомству, снова подчеркнув свою любовь к
покойному («Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на
монарха и все любил человека»), должен был признать полный провал миссии
советника при престоле: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток,
любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им,
большею частию, и не следовал, так, что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину
его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне
столь знаменитого венценосца, ибо эти милость и доверенность остались бесплодны
для любезного Отечества» (Там же. С. 11 —12).
Декабрист в повседневной жизни
3\5
быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина (если
относительно его жены и детей не имелось специальных карательных
распоряжений). В этом смысле именно простонародное (или исконно
русское, допетровское) поведение осуществила свояченица Радищева,
Елизавета Васильевна Рубановская, отправившись за ним в Сибирь.
Насколько она мало думала о том, что совершает подвиг, свидетельствует,
что с собою она взяла именно младших детей Радищева, а не старших,
которым надо было завершить образование. Да и вообще отношение к ее
поступку было иным, чем в 1826 г.: никто ее не думал ни задерживать, ни
отговаривать, а современники, кажется, и не заметили этой великой
жертвы — весь эпизод остался в пределах семейных отношений Радищева
и не получил общественного звучания. (Родители Радищева были даже
скандализованы тем, что Елизавета Васильевна, не будучи обвенчана
с Радищевым, отправилась за ним в Сибирь, а там, презрев близкое род-
ство, стала его супругой; слепой отец Радищева на этом основании
отказал вернувшемуся из Сибири писателю в благословении, хотя сама
Елизавета Васильевна к этому времени уже скончалась, не вынеся тягот
ссылки. Совершенный ею высокий подвиг не встретил понимания и оценки
у современников.)
Была еще одна готовая норма поведения, которая могла подсказать
декабристкам их решение. В большинстве своем они были женами офи-
церов. В русской же армии XVIII — начала XIX в. держался старый и уже
запрещенный для солдат, но практикуемый офицерами — главным
образом старшими по чину и возрасту — обычай возить с собой в армей-
ском обозе свои семьи. Так, при Аустерлице в штабе Кутузова, в частно-
сти, находилась его дочь Елизавета Михайловна Тизенгаузен (в будущем
— Е. М. Хитрово), жена любимого адъютанта Кутузова, Фердинанда
Тизенгаузена («Феди» в письмах Кутузова). После сражения, когда
совершился размен телами павших, она положила мертвого мужа на
телегу и одна — армия направилась по другим дорогам, на восток, —
повезла его в Ревель, чтобы похоронить в кафедральном соборе. Ей был
тогда двадцать один год. Генерал Н. Н. Раевский также возил свою семью
в походы. Позже, отрицая в разговоре с Батюшковым участие своих
сыновей в битве под Дашковкой, он сказал: «Младший сын сбирал в лесу
ягоды (он был тогда сущий ребенок) и пуля ему прострелила панта-
лоны»40. Таким образом, самый факт следования жены за мужем в ссылку
или опасный или тягостный поход не был чем-то неслыханно новым в
жизни русской дворянки. Однако, для того чтобы поступок этого рода
приобрел характер политического подвига, оказалось необхо-
димым еще одно условие. Напомним цитату из «Записок» типичного, по
характеристике П. Е. Щеголева41, декабриста Н. В. Басаргина: «Помню,
что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму
Рылеева «Войнаровский» и при этом невольно задумался о своей будущ-
ности. — О чем ты думаешь? — спросила меня она. — «Может быть, и
меня ожидает ссылка», — сказал я. — Ну, что же, я тоже приеду утешить
тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об
чем же думать?»42 Басаргиной (урожденной княжне Мещерской) не
довелось делом подтвердить свои слова: она неожиданно скончалась в
августе 1825 г., не дожив до ареста мужа.
40 Батюшков К. Н. Соч. М.; Л., 1934. С. 373.
41 Басаргин Н. В. Записки. Пг., 1917. С. XI.
42 Там же. С. 35.
316
Культура и программы поведения
Дело, однако, не в личной судьбе Басаргиной, а в том, что именно поэзия
Рылеева поставила подвиг женщины, следующей за мужем в ссылку, в
один ряд с другими проявлениями гражданской добродетели. В думе
«Наталия Долгорукова» и поэме «Войнаровский» был создан стереотип
поведения женщины-героини:
Забыла я родной свой град,
Богатство, почести и знатность,
Чтоб с ним делить в Сибири хлад
И испытать судьбы превратность43.
(«Наталия Долгорукова»)
Вдруг вижу: женщина идет,
Дахой убогою прикрыта,
И связку дров едва несет,
Работой и тоской убита.
Я к ней, и что же? ...Узнаю
В несчастной сей, в мороз и вьюгу,
Козачку юную мою,
, Д\ою прекрасную подругу!..
Узнав об участи моей,
Она из родины своей
Пришла искать меня в изгнанье.
О странник! Тяжко было ей
Не разделять со мной страданье44.
(«Войнаровский»)
Биография Натальи Долгоруковой стала предметом литературной
обработки до думы Рылеева в повести С. Глинки «Образец любви и вер-
ности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны
Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева» (1815). Однако
для С. Глинки этот сюжет — пример супружеской верности, противо-
стоящий поведению «модных жен». Рылеев поставил ее в ряд «жизне-
описаний великих мужей России»45. Этим он создал совершенно новый код
для дешифровки поведения женщины. Именно литература, наряду с рели-
гиозными нормами, вошедшими в национально-этическое сознание рус-
ской женщины, дала русской дворянке начала XIX в. программу поведе-
ния, сознательно осмысляемого как героическое. Одновременно и автор
«дум» видит в них программу деятельности, образцы героического поведе-
ния, которые должны непосредственно влиять на поступки его читателей.
Можно полагать, что именно дума «Наталия Долгорукова» оказала
непосредственное воздействие на Марию Волконскую. И современники,
начиная с отца ее Н. Н. Раевского, и исследователи отмечали, что она не
могла испытывать глубоких личных чувств к мужу, которого совершенно
не знала до свадьбы и с которым провела лишь три месяца из года,
протекшего между свадьбой и арестом. Отец с горечью повторял при-
знания Марии Николаевны, «что муж бывает ей несносен», добавляя, что
он не стал бы противиться ее поездке в Сибирь, если был бы уверен, что
46
«сердце жены влечет ее к мужу» .
43 Рылеев К. Ф. Поли. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 168.
44 Там же. С. 214.
45 Вазанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 267.
■■ ■- -т ■•п,,- м . Пг '<vn Г. 70 (влальнгшпем-
Декабрист в повседневной жизни
317
Однако эти ставившие в тупик родных и некоторых из исследователей
обстоятельства для самой Марии Николаевны лишь усугубляли героизм,
а следовательно, и необходимость поездки в Сибирь. Она ведь помнила,
что между свадьбой Н. Б. Шереметьевой, вышедшей за князя И. А. Долго-
рукова, и его арестом прошло три дня. Затем последовала жизнь-
подвиг. По словам Рылеева, муж ей «был дан, как призрак, на мгновенье».
Отец Волконской, Н. Н. Раевский, точно почувствовал, что не любовь,
а сознательное стремление совершить подвиг двигало его дочерью. «Она
не чувству своему последовала, поехала к мужу, а влиянию волконских I
баб, которые похвалами ее геррйству уверили ее, что она героиня»4'.
Н. Н. Раевский ошибался лишь в одном: «Болконские бабы» здесь не
были ни в чем виноваты. Мать С. Волконского — статс-дама Мария
Федоровна — проявила холодность к невестке и полное безразличие к
судьбе сына: «Моя свекровь расспрашивала меня о сыне и между прочим
сказала, что она не может решиться навестить его, так как это свидание
ее убило бы, и на другой же день уехала с императрицей-матерью в
Москву, где уже начинались приготовления к коронации»48. С сестрой
мужа, княжной Софьей Волконской, она вообще не встречалась. «Вино-
вата» была русская литература, создавшая представление о женском
эквиваленте героического поведения гражданина, и моральные нормы
декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения
литературных героев в жизнь.
Характерна в этом отношении полная растерянность декабристов в
условиях следствия — в трагической обстановке поведения без свиде-
телей, которым можно было бы, рассчитывая на понимание, адресовать
героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без
монологов, в военно-бюрократическом вакууме, не была еще предметом
искусства той поры. В этих условиях резко выступали другие, прежде
отодвигавшиеся, но прекрасно известные всем декабристам нормы и
стереотипы поведения: долг офицера перед старшими по званию и чину,
обязанности присяги, честь дворянина. Они врывались в поведение
революционера и заставляли метаться при совершении реальных поступ-
ков от одной из этих норм к другой. Не каждый мог, как Пестель, принять
собеседником потомство и вести с ним диалог, не обращая внимание на
подслушивающий этот разговор следственный комитет и тем самым
безжалостно губя себя и своих друзей.
Показательно, что тема глухого суда без свидетелей, тактики борьбы
со следствием резко выдвинулась в литературе после 1826 г. — от
«Родамиста и Зенобии» Грибоедова до Полежаева, Лермонтова. Шутли-
вое свидетельство в поэме Некрасова «Суд» тем не менее ярко показывает,
что в поэме Жуковского «Суд в подземелье» читатели 1830-х гг. вычиты-
вали не судьбу монахини, а нечто иное, применяя на себя ситуацию «суда
в подземелье».
Охарактеризованное выше мощное воздействие слова на поведение,
знаковых систем на быт особенно ярко проявилось в тех сторонах каждо-
дневной жизни, которые по своей природе наиболее удалены от обществен-
ного семиозиса. Одной из таких сфер является отдых.
По своей социальной и психофизиологической функции отдых должен
строиться как прямая противоположность обычному строю жизни.
47 Гершензон. С. 70.
48 Записки кн. Марии Николаевны Волконской. 2-е изд. Спб., 1914. С. 57.
318
Культура и программы поведения
Только в этом случае он сможет выполнить функцию психофизиологиче-
ского переключения и разрядки. В обществе со сложной системой социаль-
ной семиотики отдых будет неизбежно ориентирован на непосредствен-
ность, природность, внезнаковость. Так, в цивилизациях городского типа
отдых неизменно включает в себя выезд «на лоно природы». Для русского
дворянина XIX в., а во второй половине его — и чиновника, строгая
урегулированность жизни нормами светского приличия, иерархией чинов,
сословной или бюрократической, определяет то, что отдых начинает ассо-
циироваться с приобщением к миру кулис и табора. В купеческой среде
строгой «чинности» обычного бытия противостоял не признающий преград
«загул». Обязательность смены социальной маски проявлялась, в част-
ности, в том, что если в каждодневной жизни данный член коллектива
принадлежал к забитым и униженным, то «гуляя» он должен был играть
роль человека, которому «сам черт не брат», если же в обычном быту он
наделен, в пределах данного коллектива, высоким авторитетом, то его
роль в зеркальном мире праздника будет часто включать в себя игру в
униженного.
Обычным признаком праздника является его четкая отграниченность
от остального, «непраздничного» мира, отграниченность в пространстве —
праздник часто требует другого места (более торжественного: парадная
зала, храм; или менее торжественного: пикник, трущобы) — и особо
выделенного времени (календарные праздники, вечернее и ночное время,
в которое в будни полагается спать).
Праздник в дворянском быту начала XIX в. был в достаточной мере
сложным и гетерогенным явлением. С одной стороны, особенно в провин-
ции и деревне, он был еще тесно связан с крестьянским календарным
ритуалом; с другой стороны, молодая, насчитывающая не более ста лет,
послепетровская дворянская культура еще не страдала закоснелой ритуа-
лизацией обычного, непраздничного быта. Порой, напротив, сказывалась
его недостаточная упорядоченность. Это приводило к тому, что бал (как
для армии парад) порой становился не местом понижения уровня ритуа-
лизации, а, напротив, резко повышал ее меру. Отдых заключался не в
снятии ограничений на поведение, а в замене разнообразной неритуали-
зированной деятельности резко ограниченным числом типов чисто фор-
мального и превращенного в ритуал поведения: танцы, вист, «порядок
стройный олигархических бесед» (Пушкин).
Иное дело — среда военной молодежи. Начиная с Павла I в войсках
(в особенности в гвардии) установился тот жестокий режим обезличи-
вающей дисциплины, вершиной и наиболее полным проявлением которого
был вахтпарад. Современник декабристов Т. фон Бок писал в послании
Александру I: «...парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин,
перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится мане-
кеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое
одно только думает и управляет»49.
Там, где современность была представлена муштрой и парадом, отдых,
естественно, принимал формы кутежа или оргии. В этом смысле последние
были вполне закономерны, составляя часть «нормального» поведения
военной молодежи. Можно сказать, что для определенного возраста
и в определенных пределах оно являлось обязательной составной частью
«хорошего» поведения офицера (разумеется, включая и количественные,
49 Предтеченский А. В. Записка Т. Е. Бока // Декабристы и их время. М.; Л.,
1951. С. 198.
Декабрист в повседневной жизни
319
и качественные различия не только для антитезы «гвардия — армия»,
но и по родам войск и даже полкам, создавая в их пределах некоторую
обязательную традицию).
Однако в начале XIX в. на этом фоне начал выделяться некоторый
особый тип разгульного поведения, который уже воспринимался не в
качестве нормы армейского досуга, а как вариант вольномыслия. Элемет
вольности проявлялся здесь в своеобразном бытовом романтизме,
заключавшемся в стремлении отменить всякие ограничения, в безудерж-
ности поступка. Типовая модель такого поведения строилась как победа
над некоторым корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том,
чтобы совершить неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог
победить. Пушкин с большой точностью охарактеризовал этот тип пове
дения в монологе Сильвио: «Я служил в *** гусарском полку. Характер
мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне
страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по
армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б<урцова), воспе-
того Д(енисом) Д(авыдовы)м»50. Выражение «перепил» характеризует
тот элемент соревнования и страсти первенствования, который составлял
характерную черту модного в конце 1810-х гг. «буйства», стоящего уже
на грани перехода в «бытовое вольнодумство».
Приведем характерный пример. В посвященной Лунину литературе
неизменно приводится эпизод, рассказанный Н. А. Белоголовым со слов
И. Д. Якушкина: «Лунин был гвардейским офицером и стоял летом со
своим полком около Петергофа; лето жаркое, и офицеры, и солдаты в
свободное время с великим наслаждением освежались купанием в заливе;
начальствующий генерал-немец неожиданно приказом запретил пол
строгим наказанием купаться впредь на том основании, что купанья эти
происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличие; тогда
Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько мину!
перед этим залез в воду в полной форме, в кивере, мундире и ботфортах,
так что генерал еще издали мог увидать странное зрелище барахтающе
гося в воде офицера, а когда поравнялся, Лунин быстро вскочил на ноги
тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь. Озадаченный
генерал подозвал офицера к себе, узнал в нем Лунина, любимца великих
князей и одного из блестящих гвардейцев, и с удивлением спросил: «Что
вы это тут делаете?» — «Купаюсь, — ответил Лунин, — а чтобы не нару-
шить предписание вашего превосходительства, стараюсь делать это в
самой приличной форме»51.
Н. А. Белоголовый совершенно справедливо истолковал это как прояв-
ление «необузданности (...) протестов». Однако смысл поступка Лунина
остается не до конца ясным, пока мы его не сопоставим с другим свиде-
тельством, не привлекавшим внимания историков. В мемуарах зубовского
карлика Ивана Якубовского содержится рассказ о побочном сыне Вале-
риана Зубова, юнкере уланского гвардейского полка Корочарове: «Что с
ним тут случилось! Они стояли в Стрельне, пошли несколько офицеров
купаться, и он с ними, но великий князь Константин Павлович, их шеф,
пошел гулять по взморью и пришел к ним, где они купались. Вот они
испугались, бросились в воду из лодки, но Корочаров один вытянулся
прямо, как мать родила, и закричал: «Здравия желаю, Ваше высочество!»
50 Пушкин. Т. 8. Кн. 1. С. 69.
51 Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1898. С. 70 (в даль-
нейшем: Белоголовый).
320
Культура и программы поведения
С тех пор великий князь так его полюбил: «Храбрый будет офицер»52.
Хронологически оба эпизода совпадают.
История восстанавливается, следовательно, в таком виде: юнкер из
гвардейских уланов, не растерявшись, совершил лихой поступок, видимо,
вызвавший одновременно восхищение в гвардии и распоряжение,
запрещающее купаться. Лунин, как «первый буян по армии», должен
был превзойти поступок Корочарова (не последнюю роль, видимо, играло
желание поддержать честь кавалергардов, «переплюнув» уланов). Цен-
ность разгульного поступка состоит в том, чтобы перейти черту,
которой еще никто не переходил. Л. Н. Толстой точно уловил именно эту
сторону, описывая кутежи Пьера и Долохова.
Другим признаком перерождения предусмотренного разгула в оппози-
ционный явилось стремление видеть в нем не отдых, дополняющий службу,
а ее антитезу. Мир разгула становился самостоятельной сферой, погру-
жение в которую исключало службу. В этом смысле он начинал
ассоциироваться с миром приватной жизни и с поэзией, еще в XVIII в.
завоевавшими место антиподов службы.
Продолжением этого процесса явилось установление связи между раз-
гулом, прежде целиком относившимся к сфере чисто практического
бытового поведения, и теоретико-идеологическими представлениями. Это
повлекло, с одной стороны, превращение разгула, буйства в разновидность
социально значимого поведения, а с другой, его ритуализацию, сближаю-
щую порой дружескую попойку с травестийной литургией или пародийным
заседанием масонской ложи.
При оценке страсти, порыва человека к счастью и к радости, попытке
найти этим чувствам определенное место в системе идей и представлений
мыслитель начала XIX в. оказывался перед необходимостью выбора одной
из двух концепций, каждая из которых при этом воспринималась в ту
пору как связанная с определенными направлениями прогрессивной
мысли.
Традиция, идущая от философов XVIII в., основывалась на том, что
право на счастье заложено в природе человека, а общее благо всех
подразумевает максимальное благо отдельной личности. С этих позиций
человек, стремящийся к счастью, осуществлял предписания Природы и
Морали. Всякий призыв к самоотречению от счастья воспринимался как
учение, выгодное деспотизму. В свойственной же материалистам XVIII з.
этике гедонизма одновременно видели и проявление свободолюбия.
Страсть воспринималась как эквивалент порыва к вольности. Только
человек, полный страстей, жаждущий счастья, готовый к любви и радости,
не может быть рабом. С этой позиции у свободолюбивого идеала могли
быть два равноценных проявления: гражданин, полный ненависти к
деспотизму, или страстная женщина, исполненная жажды счастья.
Именно эти два образца свободолюбия поставил Пушкин рядом в стихо-
творении 1817 г.:
...в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной.
52 Карлик фаворита, история жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика
светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. Muncheii,
1968. (Корочаров в чине ротмистра, имея три креста и будучи представлен к
Георгию, был смертельно ранен при взятии Парижа во время лихой атаки на
польских уланов.)
Декабрист в повседневной жизни
321
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?53
С этих позиций приобщение к свободолюбию мыслилось именйр как
праздник, а пир или даже оргия приобретали черты реализации.идеала
ВОЛЬНОСТИ. £.,«■ /•; Г > •">
Однако могла быть и другая разновидность свободолюбивой морали.
Она опиралась на тот сложный конгломерат передовых этических пред-
ставлений, который был связан с пересмотром философского наследия
материалистов XVIII в. и включал в себя весьма противоречивые источ-
ники — от Руссо в истолковании Робеспьера до Шиллера. Это был идеал
политического стоицизма, римской добродетели, героического аскетизма.
Любовь и счастье были изгнаны из этого мира как чувства унижающие,
эгоистические и недостойные гражданина. Здесь идеалом была не «жен-
щина — не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой»,
а тени сурового Брута и Марфы-посадницы («Катона своей республики»,
по словам Карамзина). Богиня любви здесь изгонялась ради музы «либе-
ральности»:
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?54
В свете этих концепций разгульное поведение получало прямо противо-
положное значение. Общим было лишь то, что в обоих случаях оно рас-
сматривалось как имеющее значение. Из области рутинного
поведения оно переносилось в сферу знаковой деятельности. Разница
эта существенна: область рутинного поведения отличается тем, что
индивид не выбирает его себе, а получает от общества, эпохи или своей
психофизиологической конституции как нечто, не имеющее альтернативы.
Знаковое поведение — всегда результат выбора и, следовательно, вклю-
чает свободную активность субъекта поведения, выбор им языка своего
отношения к обществу (в этом случае интересны примеры, когда незнако-
вое поведение делается знаковым для постороннего наблюдателя, например
для иностранца, поскольку он невольно добавляет к нему свою способ-
ность вести себя в этих ситуациях иначе).
Вопрос, который нас сейчас интересует, имеет непосредственное отно-
шение к оценке таких существенных явлений в русской общественной
жизни 1810-х гг., как «Зеленая лампа», «Арзамас», «Общество громкого
смеха».
Наиболее показательна в этом отношении история изучения «Зеленой
лампы».
Слухи относительно оргий, якобы совершавшихся в «Зеленой лампе»,
которые циркулировали среди младшего поколения современников Пуш-
кина, знавшего обстановку 1810-х — начала 1820-х гг. лишь понаслышке,
проникли в раннюю биографическую литературу и обусловили традицию,
восходящую к работам П. И. Бартенева и П. В. Анненкова, согласно
которой «Зеленая лампа» — аполитичное общество, место оргий.
П. Е. Щеголев в статье, написанной в 1907 г., резко полемизируя с этой
традицией, поставил вопрос о связи общества с «Союзом благоден-
53 Пушкин. Т. 2. Кн. 1. С. 43.
54 Там же. С. 45.
Культура и программы поведения
ствия»50. Публикация Б. Л. Модзалевским части архива «Зеленой лампы»
подтвердила эту догадку документально56, что позволило ряду исследо-
вателей доказать эту гипотезу57. Именно в таком виде эта проблема и
была изложена в итоговом труде М. В. Нечкиной58. Наконец, с предельной
полнотой и обычной для Б. В. Томашевского критичностью эта точка
зрения на «Зеленую лампу» была изложена в его книге «Пушкин», где
данный раздел занимает более сорока страниц текста. Нет никаких
оснований подвергать эти положения пересмотру.
Но именно полнота и подробность, с которой был изложен взгляд на
«Зеленую лампу» как побочную управу «Союза благоденствия», обнару-
живает известную односторонность такого подхода. Оставим в стороне
легенды и сплетни — положим перед собой цикл стихотворений Пушкина
и его письма, обращенные к членам общества. Мы сразу же увидим в них
нечто единое, объединяющее их к тому же со стихами Я. Толстого, кото-
рого П В. Томашевский с основанием считает «присяжным поэтом «Зеле-
ной ил»59. Эта специфика состоит в соединении очевидного и недву-
смысленного свободолюбия с культом радости, чувственной любви, кощун-
ством и некоторым бравирующим либертинажем. Не случайно в этих
текстах так часто читатель встречает ряды точек, само присутствие
которых невозможно в произведениях, обращенных к Н. Тургеневу,
Чаадаеву или Ф. Глинке. Б. В. Томашевский цитирует отрывок из послания
Пушкина Ф. Ф. Юрьеву и сопоставляет его с рылеевским посвящением
к «Войнаровскому»: «Слово «надежда» имело гражданское осмысление.
Пушкин писал одному из участников «Зеленой лампы» Ф. Ф. Юрьеву:
Здорово, рыцари лихие
Любви, Свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
Значение слова «надежда» в гражданском понимании явствует из посвя-
щения к «Войнаровскому» Рылеева:
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла»60.
Однако, подчеркивая образное родство этих текстов, нельзя забы-
вать, что у Пушкина после процитированных стихов следовало совершенно
невозможное для Рылеева, но очень характерное для всего рассматри-
ваемого цикла:
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель61.
55 См.: Щеголев П. Е. Пушкин: Очерки. Спб., 1912 (глава «Зеленая лампа»);
см. также: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931.
5<' Мпдзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы» // Декабристы и их время.
М., 1928. Т. 1.
57 См.: Рылеев К. Ф. Поли. собр. стихотворений. Л., 1934 (комментарий);
Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петроза-
водск, 1949.
58 Ненкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 239—246.
59 Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. (1813—1824). С. 212 (в даль-
нейшем: Томашевский).
60 Там же. С. 197.
61 Пушкин. Т. 2. Кн. 1. С. 95.
Декабрист в повседневной жизни
323
Если считать, что вся сущность «Зеленой лампы» выражается в ее
роли публичной управы «Союза благоденствия», то как связать такие —
совсем не одиночные! — стихи с указанием «Зеленой книги», что
«распространение правил нравственности и добродетели есть самая цель
союза», а членам вменяется в обязанность «во всех речах превозносить
добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости»? Вспом-
ним брезгливое отношение Н. Тургенева к «пирам» как занятию, достой-
ному «хамов»: «В Москве пучина наслаждений чувственной жизни. Едят,
пьют, спят, играют в карты — все сие на счет обремененных работами
крестьян»62 (запись датируется 1821 г. — годом публикации «Пиров»
Баратынского).
Первые исследователи «Зеленой лампы», подчеркивая ее «оргический»
характер, отказывали ей в каком-либо политическом значении. Совре-
менные исследователи, вскрыв глубину реальных политических интересов
членов общества, просто отбросили всякую разницу между «Зеленой
лампой» и нравственной атмосферой «Союза благоденствия». М. В. Неч-
кина совершенно обошла молчанием эту сторону вопроса. Б. В. Томашев-
ский нашел выход в том, чтобы разделить серьезные и полностью
соответствующие духу «Союза благоденствия» заседания «Зеленой
лампы» и не лишенные вольности вечера в доме Никиты Всеволожского.
«Пора отличать вечера Всеволожского от заседаний «Зеленой лампы», —
писал он63. Правда, строкой ниже исследователь значительно смягчает
свое утверждение, добавляя, что «для Пушкина, конечно, вечера в доме
Всеволожского представлялись такими же неделимыми, как неделимы
были заседания «Арзамаса» и традиционные ужины с гусем». Остается
неясным, почему требуется различать то, что для Пушкина было неделимо,
и следует ли в этом случае и в «Арзамасе» разделять «серьезные» засе-
дания и «шутливые» ужины? Вряд ли эта задача представляется выпол-
нимой.
«Зеленая лампа», бесспорно, была свободолюбивым литературным
объединением, а не сборищем развратников. Ломать вокруг этого вопроса
копья сейчас уже нет никакой необходимости64. Не менее очевидно, что
«Союз благоденствия» стремился оказывать на нее влияние (участие в
ней Ф. Глинки и С. Трубецкого не оставляет на этот счет никаких
сомнений). Но означает ли это, что она была простым филиалом «Союза
благоденствия» и между этими организациями не обнаруживается раз-
ницы?
62 Дневники Н. Тургенева. Т. 3. // Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5.
С. 259.
63 Томашевский. С. 206.
м Кстати, нельзя согласиться ни с П. В. Анненковым, писавшим, что следствие
по делу декабристов обнаружило «невинный, т. е. оргический характер «Зеленой
лампы» (Анненков П. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874. С. 63),
ни с Б. В. Томашевским, высказавшим предположение, что «слухи об оргиях,
возможно, пускались с целью пресечь (...) любопытство и направить внимание
по ложному пути» (Томашевский. С. 206). Полиция в начале века преследовала
безнравственность не менее активно, чем свободомыслие. Анненков невольно
переносил в александровскую эпоху нравы «мрачного семилетья». Что же касается
утверждения Б. В. Томашевского, что «заседания конспиративного общества не
могли происходить в дни еженедельных званых вечеров хозяина», что, по мнению
исследователя, — аргумент в пользу разделения «вечеров» и «заседаний», то
нельзя не вспомнить «тайные собранья / По четвергам. Секретнейший союз...»
Репетилова. Конспирация 1819—1820 гг. весьма далеко отстояла от того, что
вкладывалось в это понятие уже к 1824 г.
324
Культура и программы поведения
Разница заключалась не в идеалах и программных установках, а в
типе поведения.
Масоны называли заседания ложи «работами». Для члена «Союза
благоденствия» его деятельность как участника общества также была
«работой» или — еще торжественнее — служением. Пущин так и сказал
Пушкину: «Не я один поступил в это новое служение отечеству»65.
Доминирующее настроение политического заговорщика — серьезное и
торжественное. Для члена «Зеленой лампы» свободолюбие окрашено в
тона веселья, а реализация идеалов вольности — превращение жизни в
непрекращающийся праздник. Точно отметил, характеризуя Пушкина
той поры, Л. Гроссман: «Политическую борьбу он воспринимал не как
отречение и жертву, а как радость и праздник»66.
Однако праздник этот связан с тем, что жизнь, бьющая через край,
издевается над запретами. Лихость (ср.: «рыцари лихие») отделяет
идеалы «Зеленой лампы» от гармонического гедонизма Батюшкова (и
умеренной веселости арзамасцев), приближая к «гусарщине» Д. Давы-
дова и студенческому разгулу Языкова.
Нарушение карамзинского культа «пристойности» проявляется в рече-
вом поведении участников общества. Дело, конечно, не в употреблении
неудобных для печати слов — в этом случае «Зеленая лампа» не отлича-
лась бы от любой армейской пирушки. Убеждение исследователей,
полагающих, что выпившая или даже просто разгоряченная молодежь
молодые офицеры и поэты — придерживалась в холостой беседе лексики
Словаря Академии Российской, и в связи с этим доказывающих, что
пресловутые приветствия калмыка должны были лишь отмечать недоста-
точную изысканность острот, — имеет несколько комический характер;
оно порождено характерным для современной исторической мысли гип-
нозом письменных источников: документ приравнивается к действитель-
ности, а язык документа — к языку жизни. Дело всмешении языка
высокой политической и философской мысли, утонченной поэтической
образности с площадной лексикой. Это создает особый, резко фамильяр-
ный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы».
Этот язык, богатый неожиданными совмещениями и стилистическими
соседствами, становился своеобразным паролем, по которому узнавали
«своего». Наличие языкового пароля, резко выраженного кружкового
жаргона — характерная черта и «Лампы», и «Арзамаса». Именно наличие
«своего» языка выделил Пушкин, мысленно переносясь из изгнания в
«Зеленую лампу»:
Вновь слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...67
Речевому поведению должно было соответствовать и бытовое, основан-
ное на том же смешении. Еще в 1817 г., адресуясь к Каверину (гусарская
атмосфера подготовляла атмосферу «Зеленой лампы»), Пушкин писал,
что
...можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный, и сердце можно скрыть68.
,5 Пущин И. II. Записки о Пушкине; Письма. М., 1956. С. 81.
16 Гроссман Л. Пушкин. М., 1958. С. 143.
17 Пушкин. Т. 2. Кн. 1. С. 264.
i8 Там же. Т. 1. С. 238.
Декабрист в повседневной жизни
325
Напомним, что как раз против такого смешения резко выступал мора-
лист и проповедник Чацкий (об отношении декабристов к картам — см.
дальше):
Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма охотников, я не из их числа.
Фамильярность, возведенная в культ, приводила к своеобразной ритуа-
лизации быта. Только это была ритуализация «наизнанку», напоминавшая
шутовские ритуалы карнавала. Отсюда характерные кощунственные
замены: «Девственница» Вольтера — «святая Библия Харит». Свидание
с «Лаисой» может быть и названо прямо, с подчеркнутым игнорированием
светских языковых табу:
Когда ж вновь сядем в четвером
С б..., вином и чубуками, — 69
и переведено на язык кощунственного ритуала:
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры70.
Это можно сопоставить с карнавализацией масонского ритуала в «Арза-
масе». Антиритуальность шутовского ритуала в обоих случаях очевидна.
Но если «либералист» веселился не так, как Молчалин, то досуг русского
«карбонария» не походил на забавы первого.
Бытовое поведение не менее резко, чем формальное вступление в
тайное общество, отгораживало дворянского революционера не только
от людей «века минувшего», но и от широкого круга фрондеров, вольно-
думцев и «либералистов». То, что такая подчеркнутость особого поведения
(«Этих в вас особенностей бездна», — говорит София Чацкому), по сути '
дела, противоречила идее конспирации, не смущало молодых заговор-
щиков. Показательно, что не декабрист Н. Тургенев, а его осторожный
старший брат должен был уговаривать бурно тянущегося к декабристским
нормам и идеалам младшего из братьев, Сергея Ивановича, це обнару,-
живать своих воззрений в каждодневном быту. Николай же Иванович
учил брата противоположному: «Мы не затем принимаем либеральные /
правила, чтобы нравиться хамам. Они нас любить не могут. Mbi же их j
всегда презирать будем»71.
Связанный с этим «грозный взгляд и резкий тон», по слова* Софии о
Чацком, мало располагал к беззаботной шутке, не сбивающейся на
обличительную сатиру. Декабристы не были шутниками. Вступая в
общества карнавализировэтшго веселья молодых, либерал и<;тов, они,
стремясь направить их по пути «высоких» и «сердемфых* зднртин, раз-
рушали самую основу этих организаций. Трудно и^едста^!^ ^бе, что
делал Ф. Глинка на заседаниях «Зеленой лампы» и уж'те]» более на
ужинах Всеволожского. Однако мы прекрасно знаем, какой оборот
приняли события в «Арзамасе» с приходом в него декабристов. Высту-
пления Н. Тургенева и тем более М. Орлова были «пламенными» и
«дельными», но их трудно было назвать исполненными беззаботного
69 Пушкин. Т. 2. Кн. 1. С. 77.
70 Там же. С. 87.
71 Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936.
С. 208 (в дальнейшем: Н. Тургенев).
326
Культура и программы поведения
остроумия. Орлов сам это прекрасно понимал: «Рука, обыкшая носить
тяжкий булатный меч брани, возможет ли владеть легким оружием
Аполлона, и прилично ли гласу, огрубелому от произношения громкой и
протяжной команды, говорить божественным языком вдохновенности
или тонким наречием насмешки?»72
Выступления декабристов в «Обществе громкого смеха» также были
далеки от юмора. Вот как рисуется одно из них по мемуарам М. А. Дми-
триева: «На второе заседание Шаховской пригласил двух посетителей
(не членов) — Фонвизина и Муравьева (...). Гости во время заседания
закурили трубки, потом вышли в соседнюю комнату и почему-то шепта-
лись, а затем, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода
слишком серьезны и прочее, и начали давать советы. Шаховской покра-
снел, члены обиделись»73. «Громкого смеха» не получилось.
Отменяя господствующее в дворянском обществе деление бытовой
жизни на области службы и отдыха, «либералисты» хотели бы превратить
всю жизнь в праздник, заговорщики — в «служение».
Все виды светских развлечений — танцы, карты, волокитство — встре-
чают с их стороны суровое осуждение как знаки душевной пустоты. Так,
М. И. Муравьев-Апостол в письме к Якушкину недвусмысленно связывал
страсть к картам и общий упадок общественного духа в условиях реакции:
«После войны 1814 года страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди
молодежи. Чему же приписать возвращение к столь презренному заня-
тию?» — спрашивал он74, явно не допуская симбиоза «карт» и «Платона».
Как «пошлое» занятие, карты приравниваются танцам. С вечеров, на
которых собирается «сок умной молодежи», изгоняется и то и другое.
На вечерах у И. П. Липранди не было «карт и танцев»75. Грибоедов, желая
подчеркнуть пропасть между Чацким и его окружением, завершил монолог
героя ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим
усердием. Старики разбрелись к карточным столам». Очень характерно
письмо Николая Тургенева брату Сергею. Н. Тургенев удивляется тому,
что во Франции, стране, живущей напряженной политической жизнью,
можно тратить время на танцы: «Ты, я слышу, танцуешь. Гр<афу) Голо-
вину дочь его писала, что с тобою танцовала. И так я с некоторым удивле-
нием узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une ecossaise constitu-
tionnele, independante, ou une contredanse monarchique ou une danse cont-
remonarchique?»76
72 Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 206.
73 Грумм-Гржимайло А. Г., Сорокин В. В. «Общество громкого смеха»: К исто-
рии «Вольных обществ» Союза Благоденствия // Декабристы в Москве. М., 1963.
С. 148.
74 Декабрист №. И. Муравьев-Апостол: Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 85.
75 Русский архив. 1866. Кн. 7. Стб. 1255.
76 Н. Тургенев. С. 280. (Экосез конституционный, независимый, или контрданс
монархический, или танец (дане) контрмонархический? — Фр.) Крайне интересное
свидетельство отрицательного отношения к танцам как занятию, несовместимому
с «римскими добродетелями», с одной стороны, и одновременно веры в то, что
бытовое поведение должно строиться на основании текстов, описывающих «герои-
ческое» поведение, с другой, дают воспоминания В. Олениной, рисующие эпизод
из детства Никиты Муравьева: «На детском вечере у Державиных Екатерина
Федоровна (мать Н. Муравьева. — Ю. Л.) заметила, что Никитушка не танцует,
подошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: «Maman, est-ce qu'Aristide
et Caton ont danse?» («Мама, разве Аристид и Катон танцевали?»). Мать на это
ему отвечала: «II faut supposer qu'oui, a votre age» («Можно предположить, что
в твоем возрасте — да»). Он тотчас встал и пошел танцевать» {Декабристы:
[Материалы]. М., 1938. С. 484. (Летописи / Гос. лит. музей. Кн. 3).
Декабрист в повседневной жизни
327
О том, что речь идет не о простом отсутствии интереса к танцам, а о х
выборе типа поведения, для которого отказ от танцев — лишь знак, У
свидетельствует то, что «серьезные» молодые люди 1818—1819 гг. (а под
влиянием поведения декабристов «серьезность» входит в моду, захваты-
вая более широкий ареал, чем непосредственный круг членов тайных
обществ) ездят на балы, чтобы там не танцевать. Хрестоматийно
известны слова из пушкинского «Романа в письмах»: «Твои умозритель-
ные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость
правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не
снимая шпаг (офицер, намеревавшийся танцевать, отстегивал шпагу и
отдавал ее швейцару еще до того, как входил в бальную залу. — Ю.Л.) —
нам было неприлично танцовать, и некогда заниматься дамами»77. Ср.
реплику княгини-бабушки в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали
редки».
Идеалу «пиров» демонстративно были противопоставлены спартанские
по духу и подчеркнуто русские по составу блюд «русские завтраки» у
Рылеева, «которые были постоянно около второго или третьего часа
пополудни и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и
члены нашего Общества. Завтрак неизменно состоял: из графина очи-
щенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного
хлеба. Да не покажется Вам странным такая спартанская обстановка зав-
трака». Она «гармонировала со всегдашнею наклонностию Рылеева —
налагать печать руссицизма на свою жизнь»78. М. Бестужев далек от иро-
нии, описывая нам литераторов, которые, «ходя взад и вперед с сигарами,
закусывая пластовой капустой»79, критикуют туманный романтизм
Жуковского. Однако это сочетание, в котором сигара относится лишь к
автоматизму привычки и свидетельствует о глубокой европеизации реаль-
ного быта, а капуста представляет собой идеологически весомый знак,
характерно. М. Бестужев не видит здесь противоречия, поскольку сигара
расположена на другом уровне, чем капуста, она заметна лишь посто-
роннему наблюдателю, т. е. нам.
Молодому человеку, делящему время между балами и дружескими
попойками, противопоставляется анахорет, проводящий время в каби-
нете. Кабинетные занятия захватывают даже военную молодежь, которая
теперь скорее напоминает молодых ученых, чем армейскую вольницу.
Н. Муравьев, Пестель, Якушкин, Завалишин, Батеньков и десятки других
молодых людей их круга учатся, слушают приватные лекции, выписывают
книги и журналы, чуждаются дамского общества:
...модный круг совсем теперь не в моде.
Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе.
Не ездим в общества, не знаем наших дам.
Мы их оставили на жертву [старикам],
Любезным баловням осьмнадцатого века.
(Пушкин)
Профессоры!! — у них учился наш родня,
И вышел! Хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи,
От женщин бегает...
(Грибоедов)
Пушкин. Т. 8. Кн. 1. С. 55.
Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 53.
Там же. С. 54.
328
Культура и программы поведения
Д. И. Завалишин, который шестнадцати лет был определен преподавате-
лем астрономии и высшей математики в Морской корпус, только что
блестяще им оконченный, а восемнадцати отправился в ученое круго-
светное путешествие, жаловался, что в Петербурге «вечные гости, вечные
карты и суета светской жизни (...) бывало, не имею ни минуты свободной
для своих дельных и любимых ученых занятий»80.
Разночинец-интеллигент на рубеже XVIII — начала XIX в., сознавая
пропасть между теорией и реальностью, мог занять уклончивую позицию:
...Носи личину в свете,
А философом будь, запершись в кабинете81.
Отшельничество декабриста сопровождалось недвумыслемным и откры-
тым выражением презрения к обычному времяпрепровождению дворянина.
Специальный пункт «Зеленой книги» предписывал: «Не расточать попусту
время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения
обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей благо-
мыслящих»82. Становится возможным тип гусара-мудреца, отшельника
и ученого — Чаадаева:
...увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
(Пушкин)
Времяпрепровождение Пушкина и Чаадаева состоит в том, что они
вместе читают («...с Кавериным гулял83, Бранил Россию с Молоствовым,
С моим Чедаевым читал»). Пушкин дает чрезвычайно точную гамму прояв-
лений оппозиционных настроений в формах бытового поведения: пиры —
«вольные разговоры» — чтения. Это не только вызывало подозрения
правительства, но и раздражало тех, для кого разгул и независимость
оставались синонимами:
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!84
Однако было бы крайне ошибочно представлять себе члена тайных
обществ как одиночку-домоседа. Приведенные выше характеристики
означают лишь отказ от старых форм единения людей в быту. Более того,
мысль о «совокупных усилиях» делается ведущей идеей декабристов и
80 Завалишин. С. 40.
81 Словцов П. А. Послание к М. М. Сперанскому // Поэты 1790 —1810-х годов.
Л., 1971. С. 209.
82 Пыпин А. //. Общественное движение в России при Александре I. Спб., 1908.
С. 567.
83 Для семантики слова «гулять» показательно то место из дневника В. Ф. Раев-
ского, в котором зафиксирован разговор с великим князем Константином Павло-
вичем в Тираспольской крепости. В ответ на просьбу Раевского разрешить ему
гулять Константин сказал: «Нет, майор, этого невозможно! Когда оправдае-
тесь, довольно будет времени погулять». Однако далее выяснилось, что собе-
седники друг друга не поняли: «Да! Да! — подхватил цесаревич. — Вы хотите
прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал погулять, т. е. попировать. Это
другое дело» (Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 101). Константин
считает разгул нормой военного поведения (не случайно Пушкин называл его
«романтиком»), недопустимым лишь для арестанта. Для спартанца же Раевского
глагол «гулять» может означать лишь прогулку.
84 Давыдов Д. Соч. М., 1962. С. 102.
Декабрист в повседневной жизни
329
пронизывает не только их теоретические представления, но и бытовое
поведение. В ряде случаев она предшествует идее политического заговора
и психологически облегчает вступление на путь конспирации. Д. И. Зава-
лишин вспоминал: «Когда я был в корпусе воспитанником (в корпусе
Завалишин пробыл 1816—1819 гг.; в Северное общество вступил в 1824 г.
- /О. Л.), то я не только наблюдал внимательно все недостатки, бес-
порядки и злоупотребления, но и предлагал их всегда на обсуждение дель-
ным из моих товарищей, чтобы соединенными силами разъяснить причины
их и обдумать средства к устранению их»85.
Культ братства, основанного на единстве духовных идеалов, экзальта-
ция дружбы были в высшей мере свойственны декабристу, часто за счет
других связей. Пламенный в дружбе Рылеев, по беспристрастному вос-
поминанию его наемного служителя из крепостных Агапа Иванова,
«казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий»86.
Слова Пушкина о декабристах — «Братья, друзья, товарищи» —
исключительно точно характеризуют иерархию интимности в отношениях
между людьми декабристского лагеря. И если круг «братьев» имел
тенденцию сужаться до конспиративного, то на другом полюсе стояли
«товарищи» — понятие','легко расширяющееся до «молодежи», «людей
просвещенных». Однако и это предельно широкое понятие входило для
декабристов в еще более широкое культурное «мы», а не «они». «Из нас,
из молодых людей», — говорит Чацкий. «Места старших начальников
(по флоту. — Ю. Л.) были заняты тогда людьми ничтожными (особенно
из англичан) или нечестными, что особенно резко выказывалось при
сравнении с даровитостью, образованием и безусловною честностью на-
шего поколения», — писал Завалишин*'.
Необходимо учитывать, что не только мир политики проникал в ткань
личных человеческих отношений, для декабристов была характерна и
противоположная тенденция: бытовые, семейные, человеческие связи
пронизывали толщу политических организаций. Если для последующих
этапов общественного движения будут типичны разрывы дружбы, любви,
многолетних привязанностей по соображениям идеологии и политики,
то для декабристов характерно, что сама политическая организация
облекается в формы непосредственно человеческой близости, дружбы,
привязанности к человеку, а не только к его убеждениям. То, что все
участники политической жизни были включены в какие-либо прочные
знеполитические связи — были родственниками, однополчанами, това-
рищами по учебным заведениям, участвовали в одних сражениях или
просто оказывались светскими знакомыми — и что связи эти охватывали
песь круг от царя и великих князей, с которыми можно было встречаться
и беседовать на балах или прогулках, до молодого заговорщика, —
накладывало на всю картину эпохи особый отпечаток.
Ни в одном из политических движений России мы не встретим такого
количества родственных связей: не говоря уж о и ел ом переплетении их в
гнезде Муравьевых-Луниных или вокруг дома Раевских (М. Орлов и
С. Волконский женаты на дочерях генерала Н. Н. Раевского; В. Л. Давы-
дов, осужденный по первому разряду к вечной каторге, — двоюродный
брат поэта —■ приходится генералу единоутробным братом), достаточно
указать ил четырех братьев Бестужевых, братьев Бобрищевых-Пушкиных,
8э Завали шин. С. 41
*° Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды» // Лит. наследство.
М., 1954. Т. 59. С. 254.
й7 Завалишин. С. 39 (курсив мой. - /О. Л.).
330
Культура и программы поведения
братьев Бодиско, братьев Борисовых, братьев Кюхельбекеров и т. д.
Если же учесть связи свойства, двоюродного и троюродного родства,
соседства по имениям (что влекло за собой общность детских воспомина-
ний и связывало порой не меньше родственных уз), то получится картина,
которой мы не найдем в последующей истории освободительного движения
в России.
Не менее знаменательно, что родственно-приятельские отношения —
клубные, бальные, светские или же полковые, походные знакомства —
связывали декабристов не только с друзьями, но и с противниками, причем
это противоречие не уничтожало ни тех, ни других связей.
Судьба братьев Михаила и Алексея Орловых в этом отношении знаме-
нательна, но отнюдь не единична. Можно было бы напомнить пример
М. Н. Муравьева, проделавшего путь от участника «Союза спасения»
и одного из авторов устава «Союза благоденствия» до кровавого душителя
польского восстания. Однако неопределенность, которую вносили дру-
жеские и светские связи в личные отношения политических врагов, ярче
проявляется на рядовых примерах. В день 14 декабря 1825 г. на площади
рядом с Николаем Павловичем оказался флигель-адъютант Н. Д. Дур-
ново. Поздно ночью' именно Дурново был послан арестовать Рылеева
и выполнил это поручение. К этому времени он уже пользовался полным
доверием нового императора, который накануне поручил ему (оставшуюся
нереализованной) опасную миссию переговоров с мятежным каре. Через
некоторое время именно Н. Д. Дурново конвоировал М. Орлова в крепость.
Казалось бы, вопрос предельно ясен: перед нами реакционно настроен-
ный служака, с точки зрения декабристов — враг. Но ознакомимся ближе
с обликом этого человека88.
Н. Д. Дурново родился в 1792 г. В 1810 г. он вступил в корпус колонно-
вожатых. В 1811 г. был произведен в поручики свиты и состоял при
начальнике штаба князе Волконском. Здесь Дурново вступил в тайнее
общество, о котором мы до сих пор знали лишь по упоминанию в мемуарах
Н. Н. Муравьева: «Членами общества были также (кроме колонновожа-
того Рамбурга. — Ю. Л.) офицеры Дурново, Александр Щербинин,
Вильдеман, Веллингсгаузен; хотя я слышал о существовании сего обще-
ства, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурноао,
таились от других товарищей своих»89. До сих пор это свидетельство
было единственным. Дневник Дурново добавляет к нему новые (цитируе-
мые в русском переводе). 25 января 1812 г. Дурново записал в своем
дневнике: «Минул год с основания нашего общества, названного «Рыцар-
ство» (Chevalerie). Пообедав у Демидова, я отправился в 9 ч. в наше
заседание, состоявшееся у Отшельника (Solitaire). Продолжалось оно
88 Основным источником для суждений о Н. Д. Дурново является его обширный
дневник, отрывки из которого были опубликованы в «Вестнике общества ревнителей
истории» (1914. Вып. 1) и в кн.: Декабристы. М., 1939. (Зап. отд. рукописей / Все-
союз. б-ка им. В. И. Ленина. Вып. 3). Г.м. страницы, непосредственно посвященные
восстанию 14 декабря 1825 г. Однако опубликованная часть — лишь ничтожный
отрывок огромного многотомного дневника на французском языке, хранящегося в
отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
89 Записки Н. Н. Муравьева // Русский архив. 1885. Кн. 9. С. 26: ср.: Чернов С. Н.
У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 24—25: Лот-
ман Ю. М. Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской
освободительной мысли // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1963. Вып. 139. С. 15—
17. (Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 6.).
Декабрист в повседневной жизни
331
до 3 часов ночи. На этом собрании председательствовали 4 первоначаль-
ных рыцаря»90.
Из этой записки мы впервые узнаем точную дату основания общества,
его название, любопытно напоминающее нам «Русских рыцарей» Мамо-
нова и Орлова, и некоторые стороны его внутреннего ритуала. У общества
был писаный устав, как это явствует из записи 25 января 1813 г.:
«Сегодня два года как было основано наше Р(ыцарство). Я один из
собратьев в Петербурге, все прочие просвещенные (illustres) члены —
на полях сражений, куда и я собираюсь возвратиться. В этот вечер, однако,
не было собрания, как это предусмотрено уставом»91.
Накануне войны с Францией в 1812 г. Дурново приезжает в Вильно и
здесь особенно тесно сходится с братьями Муравьевыми, которые его
приглашают квартировать в их доме. Особенно он сближается с Алек
сандром и Николаем. Вскоре к их кружку присоединяется Михаил Орлов,
с которым Дурново был знаком и дружен еще по совместной службе в
Петербурге при князе Волконском, а также С. Волконский и Колошин.
Вместе с Орловым он нападает на мистицизм Александра Муравьева,
и это рождает ожесточенные споры. Встречи, прогулки, беседы с
Александром Муравьевым и Орловым заполняют все страницы дневника.
Приведем лишь записи 21 и 22 июня: «Орлов вернулся с генералом
Балашовым. Они ездили на конференции с Наполеоном. Государь провел
более часу в разговоре с Орловым. Говорят, он очень доволен поведением
последнего в неприятельской армии. Он весьма резко ответил маршалу
Давусту, который пытался задеть его своими речами». 22 июня: «То, что
мы предвидели, случилось — мой товарищ Орлов, адъютант князя
Волконского и поручик кавалергардского полка, назначен флигель-
адъютантом. Он во всех отношениях заслужил этой чести»92. В свите
Волконского, вслед за императором, Дурново и Орлов вместе покидают
армию и направляются в Москву.
Связи Дурново с декабристскими кругами, видимо, не обрываются и в
дальнейшем. По крайней мере, в его дневнике, вообще подробно фикси-
рующем внешнюю сторону жизни, но явно вовсе обходящем опасные
моменты (например, сведений о «Рыцарстве», кроме процитированных,
в нем не встречается, хотя общество явно имело заседания; часто
упоминаются беседы, но не раскрывается их содержание, и т. п.), вдруг
встречаем такую запись, датируемую 20 июня 1817 г.: «Я спокойно
прогуливался в моем саду, когда за мной прибыл фельдъегерь от
Закревского. Я подумал, что речь идет о путешествии в отдаленные
области России, но потом был приятно изумлен, узнав, что император
мне приказал наблюдать за порядком во время передвижения войск от
заставы до Зимнего дворца»93.
К сказанному можно прибавить, что после 14 декабря Дурново, видимо,
уклонился от высочайших милостей, которые были щедро пролиты на всех,
кто оказался около императора в роковой день. Будучи еще с 1815 г.
90 ГБЛ. Ф. 95 (Дурново). № 9533. Л. 19. (Отрывок русской машинописной копии,
изготовленной, видимо, для «Вестника общества певнителей истории»: ЦГАЛИ.
Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 71.)
91 ГБЛ. Ф. 95. № 9536. Л. 7 об.
92 Там же. Л. 56.
93 Там же. № 3540. Л. 10.
332
Культура и программы поведения
флигель-адъютантом Александра I94, получив за. походы 1812—1814 гг.
ряд русских, прусских, австрийских и шведских орденов (Александр I
сказал про него: «Дурново — храбрый офицер»), он при Николае 1 зани-
мал скромную должность правителя Канцелярии управляющего Гене-
ральным штабом. Но и тут он, видимо, чувствовал себя неуютно: в 1828 г.
он отпросился в действующую армию (при переводе был пожалован в
генерал-майоры) и был убит при штурме Шумлы95.
Следует ли после этого удивляться, что Дурново и Орлов, которых
судьба в 1825 г. развела на противоположные полюсы, встретились не
как политические враги, а как если не приятели, то добрые знакомые,
и всю дорогу до Петропавловской крепости проговорили вполне друже-
любно.
Эта особенность также повлияла на поведение декабристов во время
следствия. Революционер последующих эпох лично не знал тех, с кем
боролся, и видел в них политические силы, а не людей. Это в значительной
мере способствовало бескомпромиссной ненависти. Декабрист даже в
членах Следственной комиссии не мог не видеть людей, знакомых ему
по службе, светским и клубным связям. Это были для него знакомые или
начальники. Он мог испытывать презрение к их старческой тупости,
карьеризму, раболепию, но не мог видеть в них «тиранов», деспотов,
достойных тацитовских обличений. Говорить с ними языком политической
патетики было невозможно, и это дезориентировало арестантов.
Если поэзия декабристов была исторически в значительной мере засло-
нена творчеством их гениальных современников — Жуковского, Гри-
боедова и Пушкина, — если политические концепции декабристов уста-
рели уже для поколения Белинского и Герцена, то именно в создании
совершенно нового для России типа человека вклад их в русскую
культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к
идеалу напоминающим вклад Пушкина в русскую поэзию.
Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоин-
ства. Оно базировалось на исключительно развитом чувстве чести и на
вере каждого из участников движения в то, что он — великий человек.
Поражает даже некоторая наивность, с которой Завалишин писал о тех
своих однокурсниках, которые, стремясь к чинам, бросили серьезные
теоретические занятия, «а потому почти без исключения обратились в
простых людей»%.
Это заставляло каждый поступок рассматривать как имеющий
значение, достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий
высший смысл. Отсюда, с одной стороны, известная картинность или
театрализованность бытового поведения (ср. сцену объяснения Рылеева
с матерью, описанную Н. Бестужевым)97, а с другой, вера в значимость
любого поступка и, следовательно, исключительно высокая требователь-
ность к нормам бытового поведения. Чувство политической значимости
всего своего поведения заменилось в Сибири, в эпоху, когда историзм
94 В справке, приложенной к публикации отдела рукописей Государственной
Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Дурново назван флигель-адъютантом
Николая I, но это явная ошибка (см.: Декабристы. М., 1939. С. 8. (Зап. отд. руко-
писей / Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина. Вып. 3).
95 См.: Русский инвалид. 1828. № 304. 4 дек.
уб Завалишин. С. 46.
97 Воспоминания Бестужевых. С. 9—11.
Декабрист в повседневной жизни
333
стал ведущей идеей времени, чувством значимости исторической. «Лунин
живет для истории», — писал Сутгоф Муханову. Сам Лунин, сопоставляя
себя с вельможей Новосильцевым (при известии о смерти последнего),
писал: «Какая противоположность в наших судьбах! Для одного —
эшафот и история, для другого — председательское кресло в Совете и
адрес-календарь». Любопытно, что в этой записи реальная судьба —
эшафот, председательство в Совете — выражение в том сложном
знаке, которым для Лунина является человеческая жизнь (жизнь — имеет
значение). Содержанием же является наличие или отсутствие
духовности, которое в свою очередь символизируется в определенном
тексте: строке в истории или строчке в адрес-календаре.
Сопоставление поведения декабристов с поэзией, как кажется, при-
надлежит не к красотам слога, а имеет серьезные основания. Поэзия
строит из бессознательной стихии языка некоторый сознательный текст,
имеющий более сложное вторичное значение. При этом значимым делается
все, даже то, что в системе собственно языка имело чисто формальный
характер.
Декабристы строили из бессознательной стихии бытового поведения
русского дворянина рубежа XVIII и XIX вв. сознательную систему идеоло-
гически значимого бытового поведения, законченного как текст и про-
никнутого высшим смыслом.
Приведем лишь один пример чисто художественного отношения к
материалу поведения. В своей внешности человек может изменить при-
ческу, походку, позу и т. д. Поэтому эти элементы поведения, являясь
результатом выбора, легко насыщаются значениями («небрежная при-
ческа», «артистическая прическа», «прическа а 1а император» и т. п.).
Однако черты лица и рост альтернативы не имеют. И если писатель может
их дать своему герою такими, какими ему угодно, делает их носителями
важных значений, в быту мы, как правило, семиотизируем не лицо, а его
выражение, не рост, а манеру держаться (конечно, и эти константные
элементы внешности воспринимаются нами как определенные сигналы,
однако лишь при включении их в сложные паралингвистические системы).
Тем более интересны случаи, когда именно природой данная внешность
истолковывается человеком как знак, т. е. когда человек подходит к себе
самому как к некоторому сообщению, смысл которого ему самому же
еще предстоит расшифровать (понять по своей внешности свое предназ-
начение в истории, судьбе человечества и т. д.). Вот запись священника
Мысловского, познакомившегося с Пестелем в крепости: «Имел от роду
более 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного с значительными
чертами или физиономиею; быстр, решителен, красноречив в высшей
степени; математик глубокий, тактик военный превосходный; увертками,
телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие-то
самое сходство с великим человеком, всеми знавшими Пестеля едино-
гласно утвержденное, было причиною всех сумасбродств и самых престу-
плений»98.
Из воспоминаний В. Олениной: «Сергей Мур(авьев)-Апостол не менее
значительная личность (чем Никита Муравьев. — Ю. Л.)% имел к тому
же еще необычайное сходство с Наполеоном I, что наверно не мало
разыгрывало его воображение»99.
98 Мысловский. С. 39.
tjy Воспоминания о декабристах: Письма В. А. Олениной к II. И. Бартеневу
(1869 г.) // Декабристы: [Материалы]. М., 1938. С. 485. (Летописи / Гос. лит.
музей. Кн. 3).
334
Культура и программы поведения
Достаточно сопоставить эти характеристики с тем, какую внешность
Пушкин дал Германну, чтобы увидеть общий, по существу, художествен-
ный принцип. Однако Пушкин применяет этот принцип к построению
художественного текста и к вымышленному герою, а Пестель и
С. Муравьев-Апостол — к вполне реальным биографиям: своим собствен-
ным. Этот подход к своему поведению как сознательно творимому по
законам и образцам высоких текстов не приводил, однако, к эстетизации
категории поведения в духе, например, «жизнетворчества» русских симво-
листов XX в., поскольку поведение, как и искусство, для декабристов
было не самоцелью, а средством, внешним выражением высокой духовной
насыщенности текста жизни или текста искусства.
Несмотря на то, что нельзя не заметить связи между бытовым поведе-
нием декабристов и принципами романтического миросозерцания, следует
иметь в виду, что высокая знаковость (картинность, театральность,
литературность) каждодневного их поведения не превращалась в ходуль-
ность и натянутую декламацию, а напротив, поразительно сочеталась
с лростотой и искренностью. По характеристике близко знавшей с детства
многих декабристов В. Олениной, «Муравьевы в России были совершенное
семейство Гракхов», но она же отмечает, что Никита Муравьев «был
нервозно, болезненно застенчив»100. Если представить широкую гамму
характеров от детской простоты и застенчивости Рылеева до утонченной
простоты аристократизма Чаадаева, можно убедиться в том, что ходуль-
ность дешевого театра не характеризовала декабристский идеал бытового
поведения.
Причину этого можно видеть, с одной стороны, в том, что идеал
бытового поведения декабристов, в отличие от базаровского поведения,
строился не как отказ от выработанной культурой норм бытового этикета,
а как усвоение и переработка этих норм. Это было поведение, ориентиро-
ванное не на природу, а на Культуру. С другой стороны, это поведение в
основах своих оставалось дворянским. Оно включало в себя требование
хорошего воспитания. А подлинно хорошее воспитание культурной части
русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие
чувства социальной неполноценности и ущемленности, которыми психоло-
гически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была
связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой
давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, — лег-
кость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и
петрашевцев. Н. А. Белоголовый, имевший возможность длительное
время наблюдать ссыльных декабристов острым взором ребенка из
недворянской среды, отметил эту черту: «Старик Волконский — ему уже
тогда было больше 60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом.
Попав в Сибирь, он как-то резко попрал связь с своим блестящим и
знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического
хозяина и именно опростился (...) водил дружбу с крестьянами».
«Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскре-
сенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке
мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой раз-
говор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними
краюхой серой пшеничной булки». «В гостях у князя опять-таки чаще
всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапог.
В салоне жены Волконский появлялся запачканный дегтем или с клочками
Воспоминания о декабристах... С. 486 и 485.
Декабрист в повседневной жизни
335
сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами
скотного двора или тому подобными салонными запахами. Вообще в
обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образо-
ван, говорил по-французски как француз, сильно грассируя, был очень
добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков»101. Эта способность быть без
наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне,
и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику
бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и состав-
ляющую одно из вершинных проявлений русской культуры.
Сказанное позволяет затронуть еще одну проблему: вопрос о дека-
бристской традиции в русской культуре чаще всего рассматривается в
чисто идеологическом плане. Однако у этого вопроса есть и «человече-
ский» аспект — традиции определенного типа поведения, типа социальной
психологии. Так, например, если вопрос о роли декабристской идеологи-
ческой традиции применительно к Л. Н. Толстому представляется слож-
ным и нуждающимся в ряде корректив, то непосредственно человеческая
преемственность, традиция историко-психологического типа всего комп-
лекса культурного поведения здесь очевидна. Показательно, что сам
Л. Н. Толстой, говоря о,декабристах, различал понятия идей и личностей.
В дневнике Т. Л. Толстой-Сухотиной есть на этот счет исключительно
интересная запись: «Репин все просит папа дать ему сюжет (...). Вчера
папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем,
его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на
виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом —
скорее личностью его, нем идеями, — и все время шел с ним заодно и
только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они
пошли вдвоем к виселице»102.
Трактовка Толстого очень интересна; мысль его постоянно привлечена
к людям 14 декабря, но именно в первую очередь к людям, которые ему
ближе и роднее, чем идеи декабризма.
В поведении человека, как и в любом роде человеческой деятельности,
можно выделить пласты «поэзии» и «прозы»103. Так, для Павла и
Павловичей поэзия армейского существования состояла в параде, а
проза — в боевых действиях. «Император Николай, убежденный, что
красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных
и обученных войсках (...) добивался по преимуществу безусловной
подчиненности и однообразия», — писал в своих мемуарах А. Фет104.
Для Дениса Давыдова поэзия ассоциировалась не просто с боем, а с
иррегулярностью, «устроенным беспорядком вооруженных поселян». «Сие
исполненное поэзии поприще требует романтического воображения,
страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храб-
ростию. — Это строфа из Байрона! Пусть тот, который, не страшась
смерти, страшится ответственности, остается перед глазами начальни-
ков»105. Безоговорочное перенесение категорий поэтики на виды военной
деятельности показательно.
101 Белоголовый. С. 32—33.
102 Толстая-Сухотина Т. Л. Вблизи отца // Новый мир 1973. №12. С. 194
(курсив мой. — Ю. Л.).
103 Ср.: Galard У. Pour une poetique de la conduite // Semiotica. 1974. T. 10. № 4.
104 Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 1. С. IV.
105 Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия. 2-е изд. М., 1822.
С. 26 и 83.
336
Культура и программы поведения
Разграничение «поэтического» и «прозаического» в поведении и поступ-
ках людей вообще характерно для интересующей нас эпохи. Так, Вязем-
ский, осуждая Пушкина за то, что тот заставил Алеко ходить с медведем,
прямо противопоставил этому прозаическому занятию воровство, —
«лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми. В этом
ремесле, хотя и не совершенно безгрешном, но есть какое-то удальство, и
следственно поэзия»106. Область поэзии в действительности — это мир
«удальства».
Человек эпохи Пушкина и Вяземского в своем бытовом поведении
свободно перемещался из области прозы в сферу поэзии и обратно. При
этом, подобно тому, как в литературе «считалась» только поэзия, прозаи-
ческая сфера поведения как бы вычиталась при оценке человека, ее как
бы не существовало.
Декабристы внесли в поведение человека единство, но не путем реаби-
литации жизненной прозы, а тем, что, пропуская жизнь через фильтры
героических текстов, просто отменили то, что не подлежало занесению
на скрижали истории. Прозаическая ответственность перед начальниками
заменялась ответственностью перед историей, а страх смерти — поэзией
чести и свободы. «Мы дышим свободою», — произнес Рылеев 14 декабря
на площади. Перенесение свободы из области идей и теорий в «дыхание» —
в жизнь. В этом суть и значение бытового поведения декабриста.
106 Цит. rto: Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях
Л. С. Пушкина. М., 1887. Ч. !. С. 68.
О Хлестакове
337
О Хлестакове
Гоголь считал Хлестакова центральным персонажем комедии. С. Т. Акса-
ков вспоминал: «Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для
этой роли, что оттого пиеса теряет смысл и скорее должна называться
«Городничий», чем «Ревизор»1. По словам Аксакова, Гоголь «очень
сожалел о том, что главная роль (курсив мой. — Ю. Л.), Хлестакова,
играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пиеса теряла весь
смысл. <...) Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть
«Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова»2.
Последнее обстоятельство знаменательно, поскольку в этом любительском
спектакле роли распределялись автором с особым смыслом. Так, почтовый
цензор Томашевский, по замыслу Гоголя, должен был играть «роль
почтмейстера»3.
Между тем в перенесении главного смыслового акцента на роль
городничего были определенные основания: такое понимание диктовалось
мыслью о том, что основной смысл пьесы — в обличении мира чиновников.
С этой точки зрения, Хлестаков, действительно, превращался в персонаж
второго ряда — служебное лицо, на котором держится анекдотический
сюжет. Основание такой трактовки заложил Белинский, который видел
идею произведения в том, что «призрак, фантом или, лучше сказать, тень
от страха виновной совести должны были наказать человека призраков»4.
«Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это
несправедливо. Хлестаков является в комедии не самим собою, а совер-
шенно случайно, мимоходом <...>. Герой комедии — городничий, как
представитель этого мира призраков»5. Статья была написана в конце
1839 г. Но уже в апреле 1842 г. Белинский писал Гоголю: «Я понял, почему
Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно
герой ее»6.
Этот новый взгляд не получил развития, равного по значению статье
«Горе от ума», которая и легла в основу традиционного восприятия
«Ревизора» в русской критике и публицистике XIX в.
Характер Хлестакова все еще остается проблемой, хотя ряд глубоких
высказываний исследователей и критиков XX в. и театральные интер-
претации от М. Чехова до И. Ильинского многое раскрыли в этом, по сути
дёлТГзагадочном персонаже, определенном Гоголем как «фантасмагори- /
чёс кое лицо»7. г"м
"Каждое литературное произведение одновременно может рассматри-
ваться с двух точек зрения: как отдельный художественный мир, обла-
дающий имманентной организацией, и как явление более общее, часть
определенной культуры, некоторой структурной общности более высокого
порядка.
Создаваемый автором художественный мир моделирует мир внетексто-
вой реальности. Однако сама эта внетекстовая реальность — сложное
1 Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 160.
2 Там же. С. 165.
3 Там же.
4 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: [В 13 т.]. М., 1953. Т. 3. С. 454.
* Там же. С. 465.
6 Там же. Т. 12. С. 108.
7 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: [В 14 т. М.], 1951. Т. 4. С. 118.
338
Культура и Программы поведения
структурное целое. То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по
ту сторону семиотики. Человек, которого наблюдал Гоголь, был включен
в сложную систему норм и правил. Сама жизнь реализовывалась в
значительной мере как иерархия социальных норм: послепетровская
европеизированная государственность бюрократического типа, семиотика
чинов и служебных градаций, правила поведения, определяющие деятель-
ность человека как дворянина или купца, чиновника или офицера, петер-
буржца или провинциала, в которой глубинные вековые типы психики и
деятельности просвечивали сквозь более временные и совсем мгновенные.
В этом смысле сама действительность представала как некоторая сцена,
навязывавшая человеку амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был человек,
тем ближе к социальному сценарию оказывалось его личное поведение.
Таким образом, воспроизведение жизни на сцене приобретало черты
театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной.
Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и
кукольности, поскольку игровое изображение реальности может вызывать
серьезные ощущения у зрителя, но игровое изображение игрового изобра-
жения почти всегда переключает нас в область смеха.
Итак, рассмотрение сущности Хлестакова уместно начать с анализа
реальных норм поведения, которые делали «хлестаковщину» фактом
русской жизни до и вне гоголевского текста.
Одной из основных особенностей русской культуры послепетровской
эпохи было своеобразное двоемирие — идеальный образ жизни в принципе
не должен был совпадать с реальностью. Отношения мира текстов и мира
реальности могли колебаться в очень широкой гамме от представлений
об идеальной высокой норме и нарушениях ее в сфере низменной действи-
тельности до сознательной правительственной демагогии, выражающейся
в создании законов, не рассчитанных на реализацию («Наказ») и законо-
дательных учреждений, которые не должны были заниматься реальным
законодательством (Комиссия по выработке нового уложения). При всем
глубоком отличии, которое существовало между деятельностью теоре-
тиков эпохи классицизма и политической практикой «империи фасадов
и декораций», между ними^ььта одна черта глубинной общности: с того
момента, как культурный человек той поры брал в руки книгу, шел в театр
или попадал ко двору, он оказывался одновременно в двух как бы
сосуществующих, но нигде не пересекающихся мирах — идеальном и
реальном. С точки зрения идеолога классицизма, реальностью обладал
только мир идей и теоретических представлений; при дворе в политических
разговорах и во время театрализованных праздников, демонстрировав-
ших, что «златой век Астреи» в России уже наступил, правила игры
предписывали считать желательное существующим, а реальность —
несуществующей. Однако это был именно мир игры. Ему отводилась
именно та сфера, в которой на самом деле жизнь проявляла себя наиболее
властно: область социальной практики, быта — вся сфера официальной
«фасадной» жизни. Здесь напоминать о реальном положении дел было
непростительным нарушением правил игры. Однако рядом шла жизнь
чиновно-бюрократическая, служебная и государственная. Здесь рекомен-
довался реализм, требовались не «мечтатели», а практики. Сама импе-
ратрица, переходя из театральной залы в кабинет или отрываясь от
письма к европейскому философу или писания «Наказа» ради решения
текущих дел внутренней или внешней политики, сразу становилась дело-
вым практиком. Театр и жизнь не мешались у нее, как это потом стало с
Павлом I. Человек потемкинского поколения и положения еще мог
соединять «мечтательность» и практицизм (тем более что Екатерина II,
О Хлестакове
339
всегда оставаясь в государственных делах практиком и дельцом, ценила
в «любезном друге» ту фантазию и воображение, которых не хватало
ее сухой натуре, и разрешала ему «мечтать» в политике):
...Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщался нарядом,
Скачу к портному по кафтан...8
Но для людей следующих поколений складывалась ситуация, при
которой следовало выбирать между деятельностью практической, но
чуждой идеалов, или идеальной, но развивающейся вне практической
жизни. Следовало или отказаться от «мечтаний», или изживать свою
жизнь в воображении, заменяя реальные поступки словами, стихами,
«деятельностью» в мечтаниях и разговоре. Слово начинало занимать в
культуре гипертрофированное место. Это приводило к развитию творче-
ского воображения у людей художественно одаренных и «ко лжи боль-
шому дарованью», по выражению А. Е. Измайлова, у людей посредствен-
ных. Впрочем, эти оттенки могли и стираться. Карамзин писал:
Что есть поэт? искусный лжец...9
Но тяготение ко лжи в психологическом отношении связывается с
определенным возрастом — переходом от детства к отрочеству, временем,
когда развитие воображения совпадает с неудовлетворенностью реаль-
ностью. Становясь чертой не индивидуальной, а исторической психологии,
лживость активизирует во взрослом человеке, группе, поколении черты
инфантилизма. Проиллюстрируем это на ярком в своей крайности при-
мере — жизни Д. И. Завалишина.
Д. И. Завалишин — фигура исключительно яркая. М. К. Азадовский
дал ему следующую характеристику: это был «незаурядный деятель,
прекрасно образованный, с большим общественным темпераментом, —
вместе с тем человек крайне тщеславный, с болезненно развитым само-
мнением и наличием в характере несомненных черт авантюризма»10.
Полное освещение роли Завалишина не может быть задачей данной
работы, тем более что его реальный политический облик и место его в
декабристском движении, по выражению того же авторитетного исследо-
вателя декабризма «представляются совершенно невыясненными»11. Нас
сейчас занимает не столько политический, сколько психологический
облик Завалишина, в котором проглядывают некоторые из интересующих
нас черт более общего порядка, чем личная психология. Среди декабри-
стов Завалишин был одинок. Даже наиболее расположенный к нему
Н. Бестужев писал: «Дмитр<ия> Иринарх<овича> надобно узнать ближе,
чтоб он перестал нравиться»12. Конечно, не исключительная одаренность,
память и эрудиция выделяли его среди сотоварищей по политической
борьбе и Сибири — там были люди и более яркие, чем он. Но и преувели-
ченное честолюбие, и даже авантюризм встречались и у других деятелей
8 Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 98—99.
9 Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 195.
10 Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 787.
11 Там же.
12 Бестужев Н. А. Статьи и письма. М., 1933. С. 271.
340
Культура и программы поведения
декабристского движения. Совершенно исключительным его делало дру-
гое: Д. И. Завалишин был очень лживый человек. Он лгал всю жизнь: лгал
Александру I, изображая себя пламенным сторонником Священного
союза и борцом за власть монархов, лгал Рылееву и Северному обществу,
изображая себя эмиссаром мощного международного тайного общества,
лгал Беляевым и Арбузову, которых он принял в несуществующее
общество, морочил намеками на свое участие в подготовке покушения на
царя во время петергофского праздника, а позже, когда праздник
спокойно прошел, — тем, что едва не был вынужден бежать за гра-
ницу и даже договорился якобы со шкипером, но что потом все пере-
менилось, поскольку «сыскан человек, которого понукать не нужно»13.
Позже он обманывал следствие, изображал всю свою деятельность как
попытку раскрыть тайное общество, приостановленную якобы лишь
неожиданной гибелью Александра I. Позже, когда эта версия рухнула,
он попытался представить себя жертвой Рылеева и без колебаний валил
на него все, включая и стихи собственного сочинения. Но вершиной
в этом отношении были его мемуары — одно из интереснейших явлений
в литературе подобного рода.
Однако ложь Завалищина носила совсем не простой и не тривиальный
характер. Прежде всего, она не только была бескорыстна, но и, как
правило, влекла за собой для него же самого тяжелые, а в конечном итоге
и трагические последствия. Кроме того, она имела одну неизменную
направленность: планы его и честолюбивые претензии были несоизмеримы
даже с самыми радужными реальными расчетами. Так, в восемнадцать
лет в чине мичмана флота он хотел стать во главе всемирного рыцарского
ордена, а приближение к Александру I, к которому он с этой целью
обратился, рассматривал лишь как первый и само собой разумеющийся
шаг. Двадцати лет, будучи вызван из кругосветного путешествия в
Петербург, он предлагал правительству создание вассальной по отно-
шению к России тихоокеанской державы с центром в Калифорнии
(главой, конечно, должен был стать он сам) и одновременно собирался
возглавить политическое подпольное движение в России. Естественно,
что разрыв между всемирными планами и скромной должностью млад-
шего флотского офицера, хотя и блестяще начавшего служебную карьеру
и выделившегося незаурядными дарованиями, был разительным. Зава-
лишин был еще человеком поколения декабристов — человеком действия.
Кругосветное путешествие, свидание с императором, которого он поразил
красноречием, сближение с Рылеевым — все это были поступки.
Но он опоздал родиться на какие-нибудь десять лет: он не участвовал в
войне 1812 г., по возрасту, чину, реальным возможностям, политическому
опыту и весу мог рассчитывать и в государственной карьере, и в полити-
ческой борьбе лишь на второстепенные места. А это его никак не устраи-
вало. Жизнь не давала ему простора, и он ее систематически подправлял
в своем воображении. Родившаяся в его уме — пылком и неудержимом —
фантазия мгновенно становилась для него реальностью, и он был вполне
искренен, когда в письме Николаю I называл себя человеком, «посвятив-
шим себя служению Истинны»14.
Записки Завалишин писал в старости, когда жизнь, столь блестяще
начатая, близилась к концу, обманув все его надежды. И вот он написал
повествование, богатое сведениями о декабристском движении (память
13 Восстание декабристов. М.; Л., 1927. Т. 3. С. 264.
14 Там же. С. 224.
О Хлестакове
341
у него была изумительная), но описывающем не реальную, изуродованную
и полную ошибок, жизнь мемуариста, а ту блистательную, которую он
мог бы прожить. Он пересоздает свою жизнь как художник. Все
было иначе, чем в реальности: рождение его сопровождалось счастливыми
предзнаменованиями, в корпусе его называли «маленький человек, но
большое чудо», а на экзамене «прямо сказали», что ему «нечего даже
учиться у наших учителей»15. Он был «первым в целом корпусе»16.
В Швеции (Завалишину было четырнадцать лет) «Бернадот очень полю-
бил меня и усаживал бывало возле себя, когда играл с нашим послом в
шахматы»17. «Что я достиг во всем замечательного успеха, на это имеется
слишком много свидетелей и свидетельств. Здесь я хочу обратить внима-
ние на то обстоятельство, имевшее влияние на принятие мною участия в
политическом движении, что я задолго до этого участия был уже, что
называется, реформатором во всех сферах и служебной деятельности, в
которых приходилось мне действовать»18.
Так выглядит в записках Завалишина пребывание его в корпусе. Затем
начинается кругосветное путешествие под командованием Лазарева.
Во время подготовки к походу другие офицеры «почти все были еще в
отпуску» — «я немедленно явился в Кронштадт, и мы приступили к
работам только вдвоем со старшим лейтенантом. Зато поручения налага-
лись на меня Лазаревым одно за другим. Мне были поручены все работы
по адмиралтейству, тогда как старший лейтенант знал лишь только
работы на фрегате, да и в тех я же помогал ему. На меня возложено было
преобразование артиллерии по новому устройству, которое послужило
потом образцом для всего флота, и мне же поручена была постройка
гребных судов». Завалишину были, по его словам, поручены должности
«начальника канцелярии, полкового адъютанта, казначея и постоянного
ревизора всех хозяйственных частей, — провиантской, комиссариатской,
шкиперской, артиллерийской и штурманской». Такое обилие поручений
«всех поразило», и «Лазареву был сделан формальный запрос». На это
он разъяснил, что «как я, по общему отзыву, составляю одну из светлых
надежд флота и на меня уже теперь привыкли смотреть, как на будущего
начальника, то он и счел обязанностью своею для пользы службы позна-
комить меня со всеми отраслями управления»19.
Естественно, что именно Завалишин, а не Лазарев фактически возгла-
вил экспедицию на «Крейсере», ставшую одним из самых знаменитых
походов русского корабля вокруг света. Когда Завалишина отозвали,
все пошло прахом.
Затем следует ряд новых триумфов: Завалишин организует специаль-
ные работы во время петербургского наводнения, старшие офицеры
безропотно выполняют его распоряжения; государь благодарит его,
предложения и проекты вызывают всеобщее восхищение. Мордвинов
поражен «как он сам выразился, необычным моим знанием дела и даль-
новидною предусмотрительностью относительно колоний». «Между тем
главное управление Р<оссийско)-А<мериканской> компании давно уже
с нетерпением ожидало возможности войти в непосредственные отно-
20
шения со мною» .
15 Завалишин Д. И. Записки декабриста. Спб., 1906. С. 21.
15 Там же. С. 22.
17 Там же. С. 31.
18 Там же. С. 41.
19 Там же. С. 54.
20 Там же. С. 86—87.
342
Культура и программы поведения
Тайное общество, с которым сталкивается Завалишин в Петербурге,
преображается в его памяти в своего рода подпольный парламент с
постоянно работающими комиссиями, шумными и многочисленными
общими собраниями, в которых громче всех раздается его голос: «Хотя
многие и прославляли мой ораторский талант, мое красноречие и,
особенно, как многие говорили, мою непобедимую логику и диалектику,
но я вообще не очень любил те многочисленные и шумные собрания,
куда многие шли только для того, чтобы «послушать 3<авалишин>а».
Я предпочитал небольшие собрания или, как называли их «комитеты»,
где обсуждались специальные вопросы»21. Следует иметь в виду, что
Завалишин вообще не был членом ни Северного, ни какого-либо иного
декабристского общества и даже если бы имелась та сеть «собраний»
и «комитетов», о которой он пишет, не имел бы на их заседания свободного
доступа. Рылеев даже «советовал (...) быть с Завалишиным осторожным»,
поскольку «был против него, по собственному признанию, предубежден»22.
Отношения между Рылеевым и Завалишиным сложились неприязненно.
Рылеев и А. Бестужев подозревали, что Завалишин морочит их рассказами
об «Ордене восстановления» (так оно и было на самом деле), а его
переписка с императором внушала опасения. Мы не можем сказать, как
связан был с этими обстоятельствами загадочный эпизод из биографии
Завалишина: написав очередное письмо Александру I, он оставил Петер-
бург и уехал в Москву, где его застала весть о смерти императора. Из
Москвы он отправился в Казань и Симбирск, где и был арестован в своем
поместье присланным из Петербурга фельдъегерем. В записках дело
приобретает совершенно иной — увлекательно-авантюрный — характер.
Между Рылеевым и Завалишиным происходила борьба за руководство
Северным обществом. Большинство рядовых членов на стороне Завали-
шина, и Рылеев решается удалить его из Петербурга. Для этого Завали-
шина отправляют с миссией обревизовать действия членов тайного обще-
ства на местах. Он обнаруживает развал московской группы, но в Симбир-
ске, где каким-то образом оказываются члены «его» отрасли, дела идут
хорошо. Деятельность настолько активна, прибытия его ожидают с таким
нетерпением, что его встречают «члены общества», «ожидавшие (...) уже
у въезда в город». Хотя мы знаем, что никаких членов тайных обществ
в Симбирске не было, перед нами отнюдь не вульгарная ложь. Видимо,
Завалишина действительно кто-то встретил (вероятно, из родственников),
чтобы предупредить, что в Симбирске его уже ожидает офицер с патентом
на арест. Но воображение Завалишина так же трансформировало реаль-
ность, как фантазия Дон Кихота превращала пастухов в рыцарей.
Сложность использования «Записок...» Завалишина в том, что они
сообщают большое число фактов, порой совершенно уникальных. Однако
каждый раз, вспоминая какую-либо вполне реальную ситуацию, Зава-
лишин, как кинорежиссер, неудовлетворенный куском ленты, требует
«дубль» и создает другой вариант сюжета. Из «Записок...» Завалишина
можно узнать, какие коллизии имели место, но не как они разрешились.
Завалишин — человек переходной эпохи. Одной из характернейших
черт «регулярного государства», созданного Петром I, было то, что в
реальном течении государственной жизни была упразднена всякая регу-
лярность. Подобно тому как «Устав о наследии престола» от 5 февраля
1722 г. уничтожил автоматизм в наследовании власти и, развязав често-
21 Завалишин Д. И. Указ. соч. С. 97.
22 Восстание декабристов. Т. 3. С. 237.
О Хлестакове
343
любивые поползновения, положил начало цепи дворцовых переворотов,
ликвидация местничества в 1682 г. и последовавшая за ней борьба
правительства с назначением на государственные должности «по
породе»23 резко изменили психологию служилого сословия. «Табель о
рангах» заменила старый порядок новым, который, связывая служебное
положение с заслугами, открывал определенный простор инициативе и
честолюбию. Однако «Табель о рангах» никогда не была единственным
законом служебного возвышения. Рядом с ее нормами, требовавшими,
чтобы каждый тянул служебную лямку («надлежит дворянских детей (...)
производить с низу»24), существовал другой регулятор — «случай»,
суливший быстрое — в обход всех норм и правил — возвышение с низших
ступеней на самые высшие. Л. Н. Толстой в «Войне и мире» исключительно
четко выразил мысль о том, что речь идет не о какой-то системе нарушений
и аномалий, а о двух постоянных механизмах — единых и противополож-
ных одновременно, — взаимодействие которых и образовывало реальные
условия службы русского дворянина XVIII — начала XIX в. «Борис в эту
минуту уже ясно понял то, что (...) кроме той субординации и дисциплины,
которая была написана в уставе и которую знали в полку (...) была
другая, та, которая заставляла этого затянутого, с багровым лицом
генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей
для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с пра-
порщиком Друбецким (...). Он теперь чувствовал, что только вследствие
того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше
генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его,
гвардейского прапорщика»25.
Служба уподоблялась карточной игре: можно было играть в солидные
и спокойные коммерческие игры — ломбер или бостон и продвигаться по
службе с помощью «умеренности и аккуратности», но можно было
избирать путь азарта (карьерный термин «случай» — простой перевод
карточного «азарт» — hasard), опять-таки соизмеряя риск с честолюбием:
«играть по маленькой» семпелями или гнуть углы, стремясь сорвать банк.
Фаворитизм, истоки которого восходят к Петру («случаи продвижения
незнатных людей на высшие государственные должности были редки и
являлись, как правило, результатом протекции самого Петра I», — пишет
профессор К. А. Сс1фроненко26; это следует иметь в виду: своеобразный
«демократизм» служебных выдвижений при Петре был неотделим от
фаворитизма), оформился при Екатерине II в своеобразный государ-
ственно-хозяйственный организм. Я. Л. Барсков писал: «Фаворитизм —
любопытная страница не только придворной, но и хозяйственной жизни;
это один из важнейших факторов в образовании крупных богатств в рус-
ской дворянской среде XVIII века. Состояния, созданные самими фавори-
тами или при их помощи, значительно превосходили старинные имения
столбовых дворян. Нужны были десятки, даже сотни лет, чтобы создать
крупное имение в несколько тысяч десятин или накопить капитал в
несколько сот тысяч рублей, не говоря уже о миллионах; а фаворит,
даже столь незначительный, как Завадовский, становился миллионером
23 Романович Словатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до
отмены крепостного права. Спб., 1870. С. 11.
24 Полный свод законов Российской Империи. Спб., 1857. Т. 6. № 3890.
25 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Мм 1979. Т. 4. С. 314.
26 Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8 (Законодательные акты Петра I).
С. 193. Показательно, что Пушкин в «Моей родословной» историю фаворитизма
в России начинает с Меншикова («Не торговал мой дед блинами...»).
344
Культура и программы поведения
в два года. Правда, громадные средства, легко достававшиеся, быстро
и проживались, и многие фавориты умирали без потомства; и все-таки
наиболее известные богачи второй половины XVIII или первой половины
XIX века обязаны своими средствами фаворитизму»27.
Современникам казалось, что развитие фаворитизма связано с личными
особенностями характера императрицы, однако царствование Павла I
доказало противоположное: стремление довести «регулярность» до фан-
тастического предела сопровождалось не уничтожением, а столь же
крайним развитием фаворитизма. Любовь Павла I к порядку, отвращение
его от роскоши, личная — по сравнению с Екатериной II — воздержан-
ность не изменили дела, поскольку корень фаворитизма был в принципе
неограниченной единоличной власти, а не в каких-либо особенностях ее
носителей.
Фаворитизм в сочетании с общеевропейским процессом расшатывания
устоев феодальных монархий и расширением роли денег и личной инициа-
тивы приводил к чудовищному росту авантюризма и открывал перед
личным честолюбием, как казалось, бескрайние горизонты.
Однако психология честолюбия в конце XVIII в. должна была пре-
терпеть значительные изменения. Наряду с идеей личного утверждения,
изменения собственного статуса в неизмененном мире (к этому стремился
герой плутовского романа) возникал идеал деятельности во имя изме-
нения мира. Сначала античные образцы, а затем — опыт Великой
французской революции были восприняты как своеобразные парадигмы
исторического поведения, следование которым позволяет любому человеку
завоевать право на несколько строк, страницу или главу в истории.
Наконец, судьба Наполеона Бонапарта сделалась как бы символом без-
граничности власти человека над своей судьбой. Выражение «Мы во?
глядим в Наполеоны» не было гиперболой: тысячи младших офицеров
во всех европейских армиях спрашивали себя, не указует ли на них перст
судьбы. Вера в собственное предназначение, представление о том, что
мир полон великих людей, составляло черту массовой психологии для
молодых дворян начала XIX в. Слова Пушкина:
Иль разве меж моих друзей
Двух, трех великих нет людей? —
в 1832 г. звучали иронически. Однако в начале 1820-х гг. они восприни-
мались бы вполне серьезно. Внешнее сходство с Наполеоном отыскивали
в Пестеле и С. Муравьеве-Апостоле28. Существенно не то, имелось ли
это сходство на самом деле, а то, что его искали. Ведь еще 11л>тар:ч учил
распознавать сущность современников, обнаруживая в них -~ пусть даже
внешние и случайные — черты сходства с историческими деятелями.
27 Барское Я. Л. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадочгкому ,7 Рус.
ист. журнал. Пг., 1918. Кн. 5. С. 240—241. См. также: Карлик фаворита: История
жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона
Александровича Зубова, писанная им самим // Slavische Propylas-u: Texte in Neu-
und Nachdrucken. Munchen, 1968. Bd. 32. Здесь, например, сообщается относи-
тельно Платона Зубова: «Одной серебряной монеты после его смерти осталось на
20 миллионов рублей, хотя он сознавался, что «и сам не знает, для чего он копит и
бережет деньги» (S. 300).
28 О Пестеле: «Увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил
на Наполеона» (Щукинский сб. М., 1905. Вып. 4. С. 39). О С. Муравьеве-Апостоле:
«Имел (...) необычайное сходство с Наполеоном I» (Декабристы: (Материалы).
М., 1938. С. 485. (Летописи / Гос. лит. музей. Кн. 3).
О Хлестакове
345
Сколь ни были различны эгоистическое честолюбие авантюриста
XVIII в. и самопожертвенная любовь к славе «либералиста» начала
XIX в., у них была одна общая черта — честолюбивые импульсы были
неотделимы от деятельности и воплощались в поступках.
Завалишин — один из самых молодых деятелей этого поколения (родился
летом 1804 г.). Он принадлежал к тем, кто, хотя и «посетил сей мир в его
минуты роковые», но «поздно встал — и на дороге застигнут ночью
Рима был», как писал Тютчев в 1830 г. Он не успел не только принять
участие в войнах с Наполеоном, но даже вступить в тайное общество.
Честолюбивые мечты его разрешались не в действиях практических, а в
воображаемых деяниях. Гипертрофия воображения служила для него
компенсацией за неудачную жизнь.
И все же было бы глубочайшим заблуждением не заметить, что
Завалишин и Хлестаков принадлежат различным эпохам и психология
их, при видимом сходстве, скорее противоположна.
Разница между враньем Хлестакова, враньем Репетилова и само-
обманом Завалишина очень велика. Завалишин проникнут глубочайшим
уважением, даже нежной любовью к себе самому. Его вранье заключается
в том, что он примышляет к себе другие, чем в реальности, обстоятельства
и действия, слова и ситуации, в которых его «я» развернулось бы с тем
блеском и гениальностью, которые, по его убеждению, составляют сущ-
ность его личности. Преобразуя мир силой своей фантазии, он трансфор-
мирует окружающее, ибо недоволен им, он остается в этом выдуманном
мире Дмитрием Иринарховичем Завалишиным. Репетилов не прославляет
себя, а кается, однако в упоении самоосуждения он, гиперболизируя
черты своей личности, остается собой. Если он говорит, что «танцовщицу
держал! и не одну: трех разом!», то можно предположить, что у него
была какая-то театральная интрижка. Когда он себя характеризует:
Все отвергал: законы! совесть! веру! —
то, вероятно, какое-то салонное вольнодумство действительно имело
место.
Иное дело Хлестаков._Основа его вранья— бесконечное презрение к
себе самому.ГВранье потому и опьяняет Хлестакова, что в вымышленном
мире он может перестать быть самим собой, отделаться от
себя, стать другим, поменять первое и третье лицо местами, потому
что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно интересен может быть
только «он», а не «я». Это придает хвастовству Хлестакова болезненный
характер самоутверждения.^Он превозносит» себя потому, что втайне
полон к себе презрения/То раздвоение, которое станет специальным
"объектом рассмотрения в «Двойнике» Достоевского и которое совершенно
чуждо человеку декабристской поры, уже заложено в Хлестакове: «Я
только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать:
это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса,
пером только: тр, тр... пошел писать»29. В этом поразительном пассаже
29 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. В 14 т. [М.], 1951. Т. 4. С. 48. В дальнейшем
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием римской цифрой тома и
арабской — страницы. Исключительно интересное свидетельство связи ситуации
социальной униженности с психологической реакцией ненависти к себе и стремле-
нием переродиться (не «возродиться» — толстовская жажда возрождения связана
с совершенно иным идейно-психологическим комплексом), перестать быть собою,
вплоть до мифологической жажды «переменить имя», находим в письме Вяземского
346
Культура и программы поведения
Хлестаков, воспаривший в мир вранья, приглашает собеседников посме-
яться над реальным Хлестаковым. Ведь «чиновник для письма, эдакая
крыса» — это он сам в его действительном петербургско-канцелярском
бытии!
Жуковскому от 13 декабря 1832 г. Вяземский не был «маленьким человеком»,
и сознание своей приниженности было ему глубоко чуждо. В 1826 г. он писал:
Твердят, что люди эгоисты.
Где эгоизм? Кто полный я?
Кто не в долгу пред этим словом?
Нет, я глядит в изданье новом
Анахронизмом словаря.
(«Коляска»)
Тем более остро должен был он чувствовать себя безликим винтиком, когда
правительственный нажим вынудил его пойти на государственную службу. Вязем-
ский писал Жуковскому: «Вот тебе сюжет для русской фантастической повести
dans les moeurs administratives: чиновник, который сходит с ума при имени своем,
которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит в слюне; он
отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например,
начальника своего, подписывает под чужим именем какую-нибудь важную бумагу,
которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышлен-
ную фальшь подвергается суду и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по
суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной» (Русский архив.
1900. Кн. 1. С. 367). Бросается в глаза совпадение ряда черт этой «русской фанта-
стической повести» с «Записками сумасшедшего» Гоголя. Поскольку письмо
Вяземского хронологически совпадает с началом работы Гоголя над повестью,
можно предположить, что последний через Жуковского ознакомился с сюжетом.
«Записки сумасшедшего» во многом — трагическая параллель к «Ревизору».
То избавление от самого себя и взлет на вершины жизни, которые Хлестакову
обеспечиваются «легкостью в мыслях необыкновенною» и бутылкой-толстобрюшкой
губернской мадеры, Поприщину даются ценой безумия. Однако основная параллель
очевидна. Поприщин, подавленный своей приниженностью, не стремится изменить
мир. Более того, мир в его сознании настолько незыблем, что именно вести о
сочиальных переменах — изменение закона о престолонаследии и вакантность
испанского престола — сводят его с ума. Он хочет сделаться «анти-собой» и,
доводя это до предела, производит себя в короли (Хлестаков, действуя в условиях
России, по цензурным обстоятельствам останавливается на фельдмаршальстве и
руководстве государственным советом; ср. «Сказку о рыбаке и рыбке»). Сцена пере-
мены имени и подписания бумаги («на самом главном месте, где подписывается
директор департамента» — «Фердинанд VIII»; III, 209), совпадая с замыслом
Вяземского, знаменует момент перевоплощения Поприщина. Убеждение в том,
что подлинная жизнь — по ту сторону двери («хотелось бы мне рассмотреть
поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки, как они, чтб они
делают в своем кругу», «хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только
иногда отворенную дверь»; III, 199), рождает сначала страсть к подглядыванию,
психологический резервуар доносительства, а затем — желание самому сделаться
угнетателем и видеть унижение других («чтобы увидеть, как они будут увиваться»;
III, 205). Стремление стать «анти-собой», чтобы унизить себя нынешнего, свой-
ственно и другим героям Гоголя. Ср. слова городничего: «Ведь почему хочется
быть генералом? потому, что случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и
адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут,
всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не
дуешь: обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, городничий! Хе, хе, хе
[наливается и помирает со смеху), вот что, канальство, заманчиво!» (IV, 82).
Одновременное пробуждение в Поприщине человека, описанное Г. А. Гуковским,
юлает его героем трагической разорванности.
О Хлестакове
347
Показательно, что Гоголь тщательно искал для этой характеристики
героем самого себя наиболее убийственные, пропитанные отвращением
формулировки. Сначала (в так называемой второй редакции) Хлестаков
глазами Хлестакова выглядит так: «Приезжаю я, вот в этакую самую
пору (...). Только вижу, в гостиннице уж дожидается какой-то этакой
молодой человек, которых называют (вертит рукою) фу, фу! в козырьке
каком-то эдаком залихвацком. Я уж, как только вошел: ну, думаю себе,
хорош ты гусь» (IV, 292). Ср. в «Замечаниях для гг. актеров» Гоголя о
Хлестакове: «Один из тех людей, которых в канцеляриях называют
пустейшими» (IV, 9). Затем появляется в первой редакции «чиновник
для письма», который «сию минуту пером: тр... тр... так это все скоро»
(IV, 412). Но Гоголь искал более резких слов самооценки и вставил в
окончательной редакции — «эдакая крыса!». Врун 1820-х гг. стремился
избавиться от условной жизни, Хлестаков — от самого себя. В этом
отношении интересно, как Гоголь демонстративно сталкивает бедность
воображения Хлестакова во всех случаях, когда он пытается измыслить
фантастическую перемену внешних условий жизни (все тот же суп, хотя
и «на пароходе приехал из Парижа», но подают его на стол в кастрюльке;
все тот же арбуз, хотя и «в семьсот рублей»), с разнообразием обликов,
в которые он желал бы перевоплотиться. Тут и известный писатель, и
светский человек, завсегдатай кулис, директор департамента, и главно-
командующий, и даже турецкий посланник и Дибич-Забалканский. При
всем убожестве фантазии «канцелярской крысы», проявляющемся в
том, какой он представляет сущность каждой из этих ролей30, разница
здесь очень существенна: в фантастическом мире окружение остается
то же, что и в реальном быту чиновника, но чудовищно возрастает количе-
ственно (в этом отношении показательно употребление числительных:
700 рублей стоит арбуз, 100 рублей — бутылка рома, 800 рублей платит
Хлестаков за «квартирку», которая фантастична лишь по цене, но вполне
вписывается в средний чиновничий быт по сущности — «три комнаты
этакие хорошие»; IV, 294), но амплуа, которые выбирает себе Хлестаков,
строятся по иному принципу. Во-первых, они должны быть предельно
экзотичными — это должно быть бытие, максимально удален-
ное от реальной жизни Хлестакова, и, во-вторых, они должны
представлять в своем роде высшую ступень: если писатель — то друг
Пушкина, если военный — главнокомандующий. Это роднит Хлестакова
не только с Поприщиным, перевоплощающимся в испанского (экзотика!)
короля (высшая степень!), но и с карамазовским чертом, который мечтает
воплотиться в семипудовую купчиху и «поставить свечку от чистого
сердца». Если герой «Двойника», как и гоголевские персонажи, видит
свое идеальное инобытие в несовместимо-отличном по восходящей шкале
социальных ценностей, то карамазовский черт конструирует его по нисхо-
дящей.
Стремление избавиться от себя заставляет персонажей этого типа
пространственно членить мир на свое — лишенное социальной ценности —
Ср. его представление о сущности творческого процесса: «А как странно
сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший
ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора
берегут (предполагается, что ром для австрийского императора также берут в
погребке, но только по особо высокой цене. — /О. Л.), — и потом уж как начнет
писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство
от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник (в вариантах:
«один начальник отделения». — Ю.Л.) с ума сошел, когда прочитал» (IV, 294).
348
Культура и программы поведения
и высоко ценимое чужое пространство. Все жизненные устремления
их направлены на то, чтобы жить в чужом пространстве. Символом
этого становится плотно закрытая дверь и попытки гоголевских героев
подглядеть: что же делается по ту сторону. Поприщин записывает: «Хоте-
лось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и
придворные штуки, как они, что они делают в своем кругу <...). Хотелось
бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную
дверь, за гостиною еще в одну комнату» (III, 199). Бобчинский: «Мне бы
только немножко в щелочку-та в дверь эдак посмотреть, какие у него эти
поступки» (IV, 22). Гоголь подчеркнул этот момент, как бы боясь, что
зритель его не оценит, водевильным жестом: «в это время дверь обры-
вается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с
нею на сцену» (IV, 38). Эта страсть к подглядыванию психологически
связана с убеждением в серости и неинтересности собственной жизни и
сродни жажде видеть «красивую жизнь» на сцене, в книге или на экране.
Особо ярко проявляются эти черты в сцене опьянения Хлестакова.
Употребление алкогольных напитков (или других средств химической
регуляции поведения личности) — тема слишком обширная и касающаяся
слишком общих и древних проблем, чтобы здесь затрагивать ее даже
поверхностно. Однако можно было бы отметить, что, с точки зрения типов
«праздничного» или «ритуального» поведения, в данном аспекте воз-
можны две целевые установки (им будут соответствовать типы культуры,
ориентированные на употребление предельно слабых алкогольных
средств, — примером может быть античная норма вина, разбавленного
водой, и представление о неразбавленном виноградном вине как недопу-
стимом в сфере культуры напитке, — и предельно крепких; соответственно,
в первом случае ориентация на длительное употребление, на процесс
питья, во втором — на результат воздействия жидкости на созна-
ние)31. Одна имеет целью усиление свойств личности, освобождение ее
от того, что ей мешает быть самой собою. Следовательно, она подразуме-
вает подчеркивание памяти о себе самом, таком, каков я во «внепразд-
ничной» ситуации. Только те свойства личности, которые из-за противо-
действия окружающего мира не могли получить развития, вдруг осво-
бождаются. Как и в процессе фантазирования «завалишинского» типа,
реальность внешнего мира внезапно теряет жесткость, она начинает
поддаваться деформирующему воздействию фантазии. Жизнь снимает
свою руку с человека, и он — в опьянении — реализует свои подавленные
возможности, то есть становится в большей мере собой, чем в трезвом
состоянии.
Вторая ориентация подразумевает перемену в самой личности. Следо-
вательно, основной целью химической регулировки поведения становится
забвение, необходимость убить память о своем предшествующем (обыч-
ном) состоянии и о сущности своей личности. Отличительная черта
Хлестакова — короткая память (делающая его, в частности, неспособным
к сложным расчетам корыстолюбия и эгоизма и придающая ему те «чисто-
сердечие и простоту», о которых Гоголь напомнил актерам как об основных
чертах его личности) — в момент опьянения приводит к решительной
невозможности сохранить единство личности: она рассыпается на отдель-
ные моменты, из которых каждый не хранит памяти о предшествующем.
Хлестаков каждую минуту как бы рождается заново. Он чужд всякого
31 Barthes R. Mythologies / Ed. du Seuil. Paris, 1957. P. 83—86 (глава «Le vin et
le lait»).
О Хлестакове
349
консерватизма и традиционализма, поскольку лишен памяти. Более того,
постоянное изменение составляет его естественное состояние. Это закон
его поведения и когда он объясняется в любви, и когда он мгновенно
переходит от состояния затравленного должника к самочувствию вель-
можи в случае. Обратное превращение также не составляет для него
никакого труда. Понятия эволюции, логики внутреннего развития к
Хлестакову не применимы, хотя он и находится в постоянном движении.
Приняв какой-либо модус поведения, Хлестаков мгновенно достигает в
нем совершенства, какое человеку с внутренним развитием стоило бы
усилий целой жизни (Хлестаков, бесспорно, одарен талантом подража-
тельности). Но мгновенно приобретенное столь же мгновенно теряется,
не оставив следа. Уснув Очень Важным Лицом, он просыпается снова
ничтожным чиновником и «пусгейшим малым».
Однако здесь уместно поставить вопрос: «Что же, собственно, является
объектом нашего рассмотрения?» Мы рассматриваем не комедию Гоголя
как некоторое художественное целое, во внутреннем мире которой Хлеста-
ков существует лишь как текстовая реальность, один из элементов в
архитектонике созданного Гоголем произведения. Предмет нашего рас-
смотрения следует, видимо, отнести к трудно изучаемой прагматике
текста. Область эта не случайно реже всего привлекает внимание исследо-
вателей. Прежде всего, понятие прагматических связей — в том виде,
в каком оно было сформулировано Пирсом и Моррисом, — в применении
к сложным семиотическим системам оказывается в достаточной мере
неопределенным. Отношение между знаком и людьми, получающими и
передающими информацию, трудно определимо, поскольку и слово «отно-
шение» здесь, видимо, употребляется в ином, чем при определении
семантики и синтактики, смысле, далеком от терминологической опреде-
ленности, и понятие «люди» сразу же вызывает вопрос: рассматривается
ли здесь человек как объект семиотического, социологического, психоло-
гического или какого-либо еще описания32.
Вопрос еще более усложняется, когда объектом исследования стано-
вится исторический материал, — в этом случае возникают трудности не
только из-за неопределенности понятий, но и по причине отсутствия
зафиксированных данных, которые с достаточной полнотой позволяли
бы судить об отношении разнообразных коллективов к циркулировавшим
в их среде текстам. Если мнение критики бывает хорошо документировано,
то сведения об отношении читателей, как правило, неполны и отрывочны.
Средние же века в основном дают нам сведения не о том, как относился
адресат к определенным текстам, а как он должен был относиться.
Конечно, и эти скудные данные могут быть ценным материалом для
реконструкций. Однако методика последних пока еще не разработана.
И все же необходимость исследований того, что определяется как
прагматический аспект, столь насущна и настоятельна, что трудности,
о которых говорилось выше, следует рассматривать не как причины для
отказа от разысканий в этой области, а в качестве стимулирующего
фактора.
Видимо, будет уместно заменить понятие «людей» представлением о
коллективе, организованном по структурным законам некоторой культуры.
По отношению к данной культуре коллектив этот может рассматриваться
32 Какая путаница может возникать под флагом прагматических исследований,
свидетельствует «прагматическая поэтика» Эугениуша Чаплевича. См.: Чапле-
вин Э. Целостен ли структурный анализ? // Вопр. лит. 1974. № 7.
350
Культура и программы поведения
как текст определенного рода. Тогда прагматические связи можно будет
трактовать как соотношение двух различно организованных и иерархи-
чески занимающих разные места, но функционирующих в пределах
единого культурного целого текстов. Еще более сужая задачу, мы пола-
гаем целесообразным выделить из понятия культурного коллектива более
частное: структуру поведения определенной исторически и культурно
конкретной группы. Поведение рассматривается и как определенный
язык, и как сумма исторически зафиксированных текстов. Поставленная
таким образом задача, с одной стороны, оказывается в пределах воз-
можностей семиотического изучения, а с другой, сближается с традицион-
ной эстетической проблемой соотношения искусства и действительности.
Рассматривая присущую той или иной культуре структуру поведения,
создающую для свойственных ей социальных ролей нормы «правильного»
поведения, равно как и допустимые от них уклонения, мы получаем
возможность выделять в реальных поступках исторических лиц и групп
значимые и незначимые элементы, реконструируя инвариантные типы
исторического поведения. При этом мы учитываем, что каждая культурная
эпоха с целью организации поведения человека своего коллектива зани-
мается тем же, создавая типовые нормы «правильного» поведения. Эти
метатексты — ценный источник для наших реконструкций. Однако не
следует забывать, что любое описание поведения в том или ином тексте
эпохи — самое точное предписание закона или самое реалистическое
художественное произведение — для нас не сам объект во всей его
безусловности, а лишь источник для реконструкции объекта, закодиро-
ванный определенным способом, составляющим специфику данного
текста. В этом состоит отличие нашего подхода от популярных на рубеже
прошлого и настоящего веков эссеистических рассмотрений литературных
героев как «типов русской жизни». Художественное произведение может
изучаться с многочисленных точек зрения. В частности, совершенно
различны исследовательские подходы, рассматривающие художественное
произведение как результат творческого акта автора и как материал
для реконструкции типов культурного поведения определенной эпохи.
Наивное смешение этих аспектов тем более недопустимо, что оно проис-
ходит постоянно.
Представим себе зрителя, совершенно незнакомого с европейской
культурой XIX — начала XX в., перед статуей Родена. Он совершит
глубокую ошибку, если на основании этого текста попытается представить
себе одежду, жесты и поведение людей — современников скульптора.
Ему надо будет осмыслить видимое как целостный художественный акт,
являющийся переводом представлений определенной эпохи на язык
некоторой художественной структуры. Но представим себе, что эта
работа сделана со всей возможной полнотой. Тогда, вероятно, окажется
возможным дешифровать по статуе эпоху, включая и ее бытовой облик,
уже не в первоначальном, наивном, виде.
Цель настоящей работы — не изучение образа Хлестакова как части
художественного целого комедии Гоголя, а реконструкция, на основании
этого глубокого создания синтезирующей мысли художника, некоторых
типов поведения, образующих тот большой культурно-исторический кон-
текст, отношение к которому приоткрывает двери в проблему прагматики
гоголевского текста.
В Хлестакове — герое «Ревизора» — легко выделяются признаки,
присущие некоторому более общему типу, присутствовавшему в сознании
Гоголя как сущность более высокого порядка, проявляющаяся в раз-
личных персонажах гоголевских текстов как в ипостасях. Этот творческий
О Хлестакове
351
архетип — факт творческого сознания Гоголя. Однако в нем можно с
достаточной мерой наглядности обнаружить черты сходства с поведе-
нием определенных исторических лиц, причем черты эти будут весьма
устойчивы, им будет присуща тенденция к повторению в различных
вариациях. Это позволяет увидеть и в творческом сознании Гоголя, и в
исторических документах проявления некоторого более общего историче-
ского образования, определенной культурной маски — исторически сло-
жившегося в рамках данной культуры типа поведения. Из довольно
многочисленных примеров изберем наиболее показательные.
В 1812 г. семнадцатилетний корнет Роман Медокс растратил две тысячи
казенных денег и бежал из полка. Он решил избежать расплаты при
помощи проекта, в котором переплелись авантюризм, «легкость в мыслях
необыкновенная», мечты о героических предприятиях и самое обыкно-
венное мошенничество. Подделав документы на имя флигель-адъютанта
конногвардейского поручика Соковнина, адъютанта министра полиции
Балашова, он снабдил себя также инструкцией, сфабрикованной от имени
военного министра и дававшей ему самые широкие и неопределенные
полномочия для действия на Кавказе от высочайшего имени. С этой
инструкцией он собирался, как новый Минин, сформировать на Кавказе
ополчение из горских народов и во главе его грянуть на Наполеона, тем
заслужив себе прощение33.
Прибыв в Георгиевск, Медокс получил по подложному распоряжению
министра финансов 10 000 рублей. Здесь он был встречен с полнейшим
доверием опытными администраторами: губернатором бароном Врангелем
и командующим Кавказской линией генералом Портнягиным. Показа-
тельно, что когда один из чиновников палаты выразил сомнение в том,
что столь высокая миссия могла быть поручена такому молодому —
возрастом и чином — офицеру, а казенная палата проявила колебания
в выдаче столь большой суммы, Врангель решительно пресек и то, и
другое и настоял на выдаче требуемой суммы. Медоксу был оказан прием
как лицу, наделенному высочайшими полномочиями, он принимал парады,
в честь его давались балы. Оттягивая разоблачение, он уведомил местное
почтовое ведомство о якобы данном ему полномочии проверять корреспон-
денцию губернатора, а генералу Портнягину сообщил, что ему поручен
тлимый надзор за бароном Врангелем, которому якобы в Петербурге не
1ЮТ.
Совершенно теряя чувство реальности, Медокс отправил Балашову
донесение о своих действиях от лица несуществующего адъютанта Соков-
нина, правда, сопроводив его саморазоблачительным письмом, в котором
подчеркивал патриотические мотивы своей аферы и просил покровитель-
ства и заступничества, чтобы довести «ополчение» до конца. Одновре-
менно он обратился к министру финансов графу Гурьеву, аттестуя себя
как лицо, находящееся под покровительством Балашова, и ходатайство-
вал о новых суммах.
Наглость и размах аферы повергли столичные власти в недоумение,
что значительно оттянуло арест Медокса, тактика которого состояла в
запутывании как можно более широкого круга как можно более высо-
копоставленных лиц.
33 См.: Штрайх С. #. Провокация среди декабристов: Самозванец Медокс на
Петровском заводе. М., 1925 (2-е изд.: Штрайх С. #. Роман Медокс: Похождения
русского авантюриста XIX века. М., 1929; 3-е изд.: Тоже. М., 1930).
352
Культура и программы поведения
Будучи арестован, он назвался Всеволожским, а затем — князем
Голицыным, видимо, перечисляя все известные ему аристократические
фамилии.
По распоряжению императора Медокс был посажен в Петропавловскую
крепость, без срока. В 1826 г. участь его вдруг переменилась. Сидя в
Шлиссельбурге, он встретился там с некоторыми осужденными по делу
14 декабря. Можно предположить, что тогда же он обратился к соответ-
ствующим инстанциям с предложением услуг по части осведомительства.
По крайней мере, в марте 1827 г. он был неожиданно освобожден и
отправлен на поселение в Вятку, через которую следовали в Сибирь
осужденные декабристы. Проезжая через Вятку, И. И. Пущин писал
домашним: «Тут же я узнал, что некто Медокс, который 18-ти лет посажен
был в Шлиссельбургскую крепость и сидел там 14 лет, теперь в Вятке
живет на свободе. Я с ним познакомился в крепости»34. Из Вятки Медокс
бежал, раздобыл паспорт на чужое имя и отправился на Кавказ, но был
снова задержан в Екатеринодаре. Царь распорядился определить его
рядовым в Сибирь, но он снова бежал и из Одессы, где проживал по
подложным документам, обратился к Николаю I с письмом на английском
языке, в котором просил о помиловании. Все эти перипетии завершаются
тем, что Медокс, числясь рядовым Омского полка, вдруг оказывается —
без ведома непосредственного его войскового начальства, но при явном
покровительстве жандармского ведомства — в Иркутске, где проявляет
подозрительный интерес к ссыльным декабристам и их приехавшим в
Сибирь семьям. Он втирается в дом А. Н. Муравьева, сосланного в Сибирь
без лишения дворянства и получившего — в порядке высочайшей милости
— разрешение вступить в службу иркутским городничим.
С. Я. Штрайх считает, что в момент появления в доме Муравьева
Медокс действовал как провокатор. Оснований для подобного мнения
нет: никаких донесений его и документальных следов связей с тайной
полицией за этот период в делах, составляющих, насколько можно судить,
хорошо сохранившийся корпус документов, не сохранилось. Вообще,
С. Я. Штрайх склонен рационализировать поведение Медокса, представ-
ляя его человеком, целеустремленно идущим по своему пути. Характер
Медокса, как он вырисовывается из документов, был, видимо, иным.
Еще в Шлиссельбурге Медокс — тогда узник, просидевший уже
четырнадцать лет и не имеющий надежд на освобождение, — познако-
мился с Юшневским, Пущиным, М. и Н. Бестужевыми, Пестовым и
Дивовым. Переведенный позже в Петропавловскую крепость, он нашел
способы познакомиться с Фонвизиным и Нарышкиным, а в Вятке уже
близко сошелся с Юшневским, Штейнгелем, Швейковским и Барятинским.
Неясность его появления в Вятке, а затем в Иркутске наводит на мысль
о каких-то связях с жандармским управлением. Однако следует иметь в
виду, что, с одной стороны, документальными подтверждениями этих
связей мы не располагаем, а с другой, сами декабристы, весьма в этом
отношении осторожные, не видели в его появлении в своей среде ничего
странного. Какие-то обыденные объяснения его пребыванию в Иркутске,
видимо, были.
Стремление Медокса проникнуть в декабристскую среду в Сибири,
вероятно, диктовалось многими соображениями: ему были приятны
встречи и беседы с сочувствующими и высокообразованными людьми
(сам Медокс, как отмечалось еще во время его первого ареста, отличался
Пущин И. И. Записки о Пушкине; Письма. М., 1956. С. 100.
О Хлестакове
353
свободным владением французским, немецким и английским языками,
«сведениями в литературе и истории, искусством в рисовании, ловкостью
в обращении и другими преимуществами, свойственными человеку благо-
воспитанному, а особливо основательным знанием отечественного языка
и большими навыками изъясняться на оном легко и правильно»35). Кроме
того, Медокс был абсолютно лишен средств и пользовался материальной
поддержкой А. Н. Муравьева и декабристских «дам» (активнее всего,
видимо, Юшневской). Суммы были вообще-то мелкие, но для него, в его
положении — значительные. Но важнее всего, видимо, другое: здесь
Медоксу казалось, что он попадает в мир той аристократии — «соковни-
ных, всеволожских, Голицыных», — который всегда составлял предел
его мечтаний. Когда же он узнал, какие суммы переводят ссыльным
родственникам Волконские, Трубецкие, Шереметьевы, у него просто дух
захватило. Ему показалось (особенно после того, как попытка через
П. Л. Шиллинга добиться милости у Бенкендорфа не увенчалась успехом
и он начал обдумывать план своевольного побега36), что через ссыльных
он может завязать полезные ему аристократические связи. У него есть
черта, роднящая его с Николаем I, — преувеличенное мнение о мощи,
солидарности, богатстве тех сил, представителями которых он считает
ссыльных декабристов.
Попав в дом А. Н. Муравьева, Медокс встретил сестру жены основателя
«Союза спасения», княжну Варвару Михайловну Шаховскую. В. М. Ша-
ховская много лет была связана с П. А. Мухановым взаимной любовью.
Сначала родительское противодействие, а затем арест и ссылка ее
возлюбленного помешали им соединиться. В. М. Шаховская приехала
к сестре в Иркутск, чтобы быть ближе к возлюбленному и в надежде на
то, что Николай I разрешит их брак (препятствием было также близкое
родство: сестра Муханова была женой брата Шаховской). Разрешение
не было получено, и Шаховская вскоре вернулась в Москву, где через
некоторое время скончалась.
Увидев Шаховскую, Медокс воспылал к ней любовью. Нет оснований
считать, что, как это полагает Штрайх, никакого чувства не было вообще
и полицейский провокатор просто разыгрывал роль влюбленного. Дневник
Медокса свидетельствует о противоположном: он действительно влюблен,
хотя любовь его выражается словами, как будто заимствованными из
дневника Поприщина с его знаменитым: «дочка... эх канальство!» —
или из поэзии Бенедиктова: «Думая, что она будет без чепчика, вперед
восхищался зрелищем прекрасных черных волос, убранных со вкусом
Рафаэля, весь кипел от мысли увидеть обожаемую в наряде <...). Она
была в чепчике, грудь, которая в идеале, за минуту перед тем мечтав-
шемся, являлась открытою, была совершенно невидима под паланти-
ном»37. Правда, одновременно он пробует завязать роман с Юшневской,
объясняя это в дневнике своим пристрастием к «мягким бабам».
35 Штрайх С. Я. Провокация... С. 31.
36 Запись в дневнике Медокса от 28 апреля 1831 г.: «Если содействие Шиллинга
останется безуспешным, то придется, не ожидая милостей, уехать своевольно»
(Там же. С. 42).
37 Там же. С. 36—37. Опубликованный С. Я. Штрайхом дневник Р. Медокса
(см.: Штрайх С. Я. Роман Медокс: Похождения русского авантюриста XIX века. М.,
1930) не подтверждает мысли публикатора о том, что чувства Медокса к В. М. Ша-
ховской были притворными и единственной целью его был донос. Для того чтобы
придать этой версии убедительность, Штрайх совершенно произвольно утверждает,
'1то дневник писался для показа в доме Муравьевых и якобы по частям «забывался»
354
Культура и программы поведения
Однако надежды Медокса не оправдываются. Бенкендорф отказывает
Шиллингу в ходатайстве, в доме Муравьевых его принимают лишь как
знакомого, он пользуется определенным доверием декабристок, которые
используют его для передачи корреспонденции помимо официальных
каналов, ссыльные охотно с ним беседуют, видимо, кое-что рассказывая
из своей прошлой жизни и деятельности, но дальше этого дело не идет.
И тогда Медокс, убедившись, что между Петровским заводом и
европейской Россией, через посредство женщин, идет по неофициальным
каналам довольно оживленная переписка, затевает грандиозную провока-
цию. Он обращается к Бенкендорфу, а через его посредство — к царю с
сообщением о новом колоссальном заговоре декабристов. Центр заговора
находится, по его сведениям, в Москве. Участники тесно связаны с
ссыльными и готовят новое выступление. Сообщая реальные сведения о
тайной переписке с Россией, он примешивает к ним вымышленные
документы, шифры и коды, якобы служащие для сношений государствен-
ных преступников с их единомышленниками в столицах. Фальшивки эти,
как и всякие подделки, весьма интересны. Вообще следует заметить, что
при выяснении сущности документа как факта культуры фальшивки
представляют такой 'же интерес, как пародии для выявления сущности
произведения искусства.
Фальшивки Медокса, с одной стороны, в такой же мере отражают
распространенные пошлые представления о сущности декабризма, в
какой рассказы Хлестакова о Пушкине — зеркало мещанских мнений
о характере поэтического творчества. Резко преувеличен таинственный
заговорщический характер мнимого «Союза», причем в ход пошли
какие-то сведения о масонском ритуале, рассуждения о семи степенях,
ссылки на храмовых рыцарей и бутафория шифров. Однако, с другой
стороны, нельзя не признать, что Медокс умело использовал разговоры,
которые велись при нем, но то, что говорилось о прошлом, он перенес на
будущее. Так, он явно повторял чьи-то слова (и это интересно для
реконструкции содержания бесед ссыльных декабристов), когда писал
о Михаиле Орлове: «Никто лучше его не умеет привлекать к себе. Он в
свое время был единственный (т. е. незаменимый. — /О. Л.) человек»3®.
Но, прибавляя к этому, что М. Орлов «не вовсе упал духом, и, верно,
может быть полезен», он старался внушить, что последний привлечен к
новому заговору.
Видимо, не случайно в составленном Медоксом шифре М. Орлов был
обозначен графическим значком молнии. Столь же интересно, что Якуш-
кин там же зашифрован знаком кинжала. Передавая якобы слова
Юшневского о распределении ролей в будущем выступлении, Медокс дал
в их тетиной. Все это совершенно произвольные домыслы. В равной мере безосно-
вательно утверждение, что известный ученый Шиллинг был агентом-провокатором
111 отделения (о Шиллинге см.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени //
Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972). Р. Медокс не агент
охранки эпохи Зубатова, каким его представляет Штрайх. Это «гоголевский
человек», попавший в культурный мир людей пушкинской эпохи. Он ослеплен
цивилизованной утонченностью этого мира, его духовностью и нравственной
высотой. Нищенская сибирская жизнь Муравьевых потрясает его уровнем мате-
риальной обеспеченности. Он охвачен и влечением к этому миру, и острой завистью.
«Естественный» результат — влюбенность в В. М. Шаховскую и донос на
А. Н. Муравьева. Оба поползновения одинаково искренни и в равной мере
закономерно вытекают из психологического комплекса Медокса.
J* Штрайх С. Я. Указ. соч. С. 63.
О Хлестакове
355
Якушкину такую характеристику: «Якушкин и Якубович давно выточен-
ные кинжалы». Это мнение соответствовало поведению Якушкина периода
«московского заговора» 1818 г. («казалось, молча обнажал / Царе-
убийственный кинжал»), но ничего общего не имело с настроениями его
в 1832 г. Юшневский мог так характеризовать лишь былого Якушкина —
Медокс изменил время и превратил рассказ о прошлом в донос о настоя-
щем.
И между тем отголоски каких-то мнений донос Медокса все же содер-
жит. Заслуживает внимания свидетельство о проникновении каких-то
сочинений ссыльных в зарубежную печать, поскольку сообщение это
несет следы живых интонаций каких-то реальных бесед. «От души
смеялся Юшневский, говоря, что в получаемых ими книжках сего журнала
(«Revue Britannique». — Ю. Л.) у них вырезывают их собственные
сочинения, боясь, чтоб они просветились оными». Вероятнее всего, Медокс
поступает так, как исторические романисты средней руки, которые,
примыслив романтический контекст, вкладывают историческим персо-
нажам в уста реплики, зафиксированные в каких-либо источниках.
Ситуацию он выдумал, но реплику, вероятно, где-то в декабристских
кругах слышал. ' '
Интересен также замысел журнала «Митридат» (название подсказано
легендой о том, что Митридат приучил себя к ядам и мог не бояться
отравлений) — издания на французском языке, которое опровергало
бы официальную ложь русского правительства. Какой-то разговор о
желательности подобного журнала Медокс, бесспорно, слышал, превратив
ни к чему не обязывающую беседу в обдуманный политический проект.
В другом отношении показателен круг лиц, оговоренных Медоксом.
Провокатор убежден, что сибирские изгнанники пользуются поддержкой
з самых высоких аристократических сферах — в тех сферах, в которые
он с острым чувством социальной зависти всю жизнь мечтает проник-
нуть39. Он подряд называет все титулованные фамилии, которые ему
приходят в голову (как Хлестаков, когда перечисляет свои петербургские
связи): граф Шереметьев, князь Касаткин-Ростовский, графиня Ворон-
цова, графиня Орлова. К этим именам он приплетает тех, о ком слышал от
«государственных преступников» как о деятелях тайных обществ, избе-
жавших наказаний: М. Орлова, генерал-адъютанта С. П. Шилова, Л. Вит-
генштейна (последнему Медокс «поручил» издание «Митридата»).
Показательно, что из петровских узников Медокс «привлек» к заговору
не наиболее решительных и политически активных, а богатых и знатных:
Трубецкого, Н. Муравьева, Фонвизина, Юшневского, Швейковского,
прибавив Якушкина и Якубовского как «цареубийц» и Муханова, веро-
ятно, из ревности.
По хорошо известному психологическому правилу, он припутал к доносу
предмет своей любви В. Шаховскую и оказывавшего ему материальную
поддержку и гостеприимство А. Н. Муравьева.
39 Зависть занимает вообще очень большое место среди побуждений Медокса.
Она сквозит, например, в его доносе на Юшневского, в словах о том, что вместо
заслуженной смерти он «наслаждается и жизнью и женою, ьсе еще барынею, живет
в темнице лишь по названию, в сущности же в академии» {Штрайх С. #. Указ. соч.
С. 02—63). Характерны последние слова, снова доносящие до нас атмосферу устных
разговоров эпохи Петровского завода. Декабристы не понимают, с какой злобой и
завистью наблюдает за некоторыми послаблениями в их участи Медокс, не полу-
чавший ни от кого ни копейки, просидевший четырнадцать лет в камере без какой-
.1ибо помощи и живущий в Иркутске — снедаемый безграничным честолюбием —
в солдатской шинели и без гроша.
356
Культура и программы поведения
Петербургское начальство отреагировало на донос нервно. Дело в том,
что представления Медокса о сущности декабризма, по сути, разделялись
Николаем I, который тоже был убежден, что за спиной деятелей 14
декабря стоят аристократические заговорщики, и вынужден был выслу-
шать от Михаила Орлова, который разъяснил ему «истинно демократи-
ческую» сущность движения, лекцию по современной политике40. О сущ-
ности той, казалось бы, странной доверчивости, которая обеспечивала
Хлестаковым благодарную аудиторию, речь пойдет в дальнейшем.
В Сибирь был направлен ротмистр Вохин, который с помощью Медокса
должен был собрать на месте доказательства существования заговора.
От Медокса потребовали доказательств; он изготовил фальшивый доку-
мент — «купон», написанный с применением выдуманных шифров, по
предъявлении которого ему должны были якобы быть открыты в Москве
тайны заговорщиков. Этим он добился своего — вызова из Сибири в евро-
пейскую Россию. Что будет дальше, он, видимо, не склонен был загады-
вать, может быть, рассчитывая действительно раскрыть заговор, в суще-
ствование которого он сам начинал верить, а может быть, вообще ни о чем
не думая и полагаясь на «авось».
В Москве ок сразу, кинулся тратить деньги, которые теперь у него
имелись в изобилии, поселился в лучшей гостинице, заказал француз-
скому портному платья на 600 рублей, требовал — и получал — деньги
и от Бенкендорфа, и от московского генерал-губернатора, выгодно
женился, взяв за женой приличное приданое. Поведение Медокса вызвало
подозрения начальника московского жандармского округа генерала
Лесовского, который поделился своими сомнениями с Бенкендорфом,
однако в Петербурге продолжали упорно верить в идею заговора, хотя
лживость изветов Медокса делалась все более очевидной. Когда же
наконец после полугодовых проволочек Лесовский потребовал от Медокса
положительных результатов, Медокс бежал, сказав жене, что заедет
навестить сестру, и захватив остатки приданого.
Отправившись вояжировать по России, он то выдавал себя за чиновника
с важными поручениями, то, заезжая к родственникам ссыльных дека-
бристов (например, к братьям В. Ф. Раевского в Старый Оскол), — за
пострадавшего их единомышленника. С дороги он писал письма Лесов-
скому, уверяя его в своей преданности, но не сообщая местонахождения.
Когда деньги вышли, он вернулся тайком в Москву, надеясь получить от
жены новые суммы. Однако родственники жены выдали его полиции, и он
был под арестом доставлен в Петербург. Он попытался выпутаться новой
серией доносов, теперь уже извещая правительство, что заговор свил
себе гнездо в корпусе жандармов: управляющий III отделением А. Н. Мор-
двинов как двоюродный брат А. Н. Муравьева препятствует раскрытию
дела, а противодействие Лесовского — главная причина неудачи Медокса.
Он даже пытался убедить начальство, что для раскрытия заговора ему
обязательно надо жить на широкую ногу, иметь своего кучера — без
этого заговорщики ему не доверяют и не раскрывают своих тайн. Просил
он и личного свидания с царем. Однако это уже не помогало — Медокс
снова попал в Шлиссельбург, где просидел до 1856 г. Умер он в 1859 г.41
Несколько другие стороны этого историко-психологического типа рас-
крываются в жизненной судьбе Ипполита Завалишина.
40 Красный архив. 1926. № 6. С. 160.
41 В связи с психологией социальной ущербности напрашивается сопоставление
Медокса и центрального персонажа повести Булата Окуджавы «Мерси, или Похож
дения Шилова» (Дружба народов. 1971. № 12).
О Хлестакове
357
22 июня 1826 г. во время прогулки Николая I на Елагином острове к
нему подошел юнкер артиллерийского училища Ипполит Завалишин и
подал донос, в котором обвинял родного брата Дмитрия, подписавшего
24 мая последнее показание и ожидавшего решения своей судьбы в кре-
пости. Ипполит Завалишин обвинял родного брата в государственной
измене и получении огромных сумм от иностранных держав для ведения
в России подрывной деятельности. Началось новое дело. Ипполит Зава-
лишин жил не по средствам и имел большие долги. Кроме того, перед ним
замаячила надежда мгновенной и, как ему казалось, беспроигрышной
«фортуны». Вот как о сущности этого дела рассказывает Д. И. Завалишин:
«Никаких секретных бумаг он не мог, разумеется, видеть у меня, но по
управлению моему хозяйственной частью в кругосветной экспедиции, у
меня было множество бумаг оффициальных, не составляющих никакого
секрета и потому лежавших открыто на столе <...). Вот в этих-то бумагах
он, как оказалось впоследствии, и рылся. Тут было много бумаг на ино-
странных языках и консульских денежных счетов на разные вещи,
поставляемые для экспедиции и по переводу векселей. Не зная никакого
другого языка, кроме французского, Ипполит не мог узнать содержание
этих бумаг. Видя же впоследствии раздражение правительства против
нас и даже явную несправедливость относительно нас, он по легкомыслию
вообразил себе, что против нас при таком расположении правительства
всякое показание будет принято без исследования, и потому, зная, что при
дурном его ученьи он не может рассчитывать на повышение законным
путем, он выдумал составить себе выслугу из ложного доноса на брата»42.
Ложность доноса обнаружилась, хотя Ипполит поторопился подкрепить
его вторым, в котором оговорил большое число ни в чем не повинных
людей. Ипполит Завалишин, находясь под арестом во время следствия
по его доносу, сообщил генералу Козену, что «ожидает быть флигель-
адъютантом»43. Надо было обладать поистине хлестаковским воображе-
нием, чтобы представить себе возможность такого прыжка из юнкеров
артиллерийского училища. Однако судьба готовила ему иное: император
приказал разжаловать его в рядовые и сослать в оренбургский гарнизон.
Прибыв в Оренбург, Завалишин вскоре обнаружил существование
кружка свободолюбивой молодежи44, предложил им составить тайное
общество, дли которого сам же и написал устав, а затем выдал их
начальству.
Вторая попытка сделать карьеру путем доносов также оказалась
неудачной: Ипполит Завалишин был осужден еще строже, чем его
жертвы, — к пожизненной каторге. Каторгу он отбывал вместе с дека-
бристами.
Судьба Ипполита Завалишина менее похожа на плутовской роман,
чем приключения Романа Медокса, но она характерно дополняет этот
историко-психологический инвариант существенными чертами.
42 Завалишин Д. И. Указ. соч. С. 252.
43 Щеголев П. Е. [Вступ. ст.] // Колесников В. П. Записки несчастного, содер-
жащие путешествие в Сибирь по канату. Спб., 1914. С. XII.
См.: Колесников В. П. Записки несчастного... (опубликовано с некоторыми
цензурными изъятиями; полный текст — РО ИРЛИ. Ф. 604 (Бестужевых). Ед. хр.
18 5587); Рабинович М. Д. Новые данные по истории ориенбургского тайного
общества // Вестник АН СССР. 1958. № 7; Лотман Ю. М. Матвей Александрович
Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Учен, зап Тарт.
гос. ун-та. Тарту, 1959. Вып. 78. (Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 2).
358 Культура и программы поведения
Ипполит, по имеющимся у нас свидетельствам, — неразвитый юнец
(в момент подачи первого доноса ему семнадцать лет), рано научившийся
делать долги и похваляющийся тем, «что ему до вступления в училище
все трактиры и кабаки в Петербурге были известны»45. Однако в той же
характеристике генерала Козена, составленной со слов самого И. Зава-
лишина, говорится, что «он читал более, нежели по летам его ожидать
можно, имея память хорошую, он много стихов знает наизусть»46. Но более
удивительно другое: тому же генералу Козену И. Завалишин считает
необходимым заявить, что он — страстный поклонник Рылеева. Заявление
это делается в конце июня — начале июля 1826 г., т. е. когда участь
Рылеева уже решена, а может быть, и исполнилась. Правда, мы не можем
сказать, в какой мере к словам Завалишина подходит формула «заявле-
ние». Может быть, это была просто упоенная болтовня самовлюбленного
мальчишки. Но в любом случае примечательно, что он болтал так.
Несколько интересных в психологическом отношении деталей сообщает
в своих воспоминаниях Колесников. Последний описывает процедуру
отправки жертв оренбургской провокации и самого провокатора в Сибирь.
В частности, она включала снятие особых примет. Аудитор Буланов,
однополчанин и знакомый осужденных, «столько был деликатен и снисхо-
дителен, что не захотел ни раздевать нас, ни мерить, но записал приметы
и рост каждого со слов наших», — пишет Колесников. Однако И. Зава-
лишин неожиданно потребовал, чтобы в особые приметы занесли, «что у
него на груди родимое пятно в виде короны, а на плечах — в виде
скиптра. Это возбудило общий смех»47. При всей неприязни, которую
естественно вызывает личность И. Завалишина, человека, моральная
дефективность которого дошла до степени законченного нравственного
уродства48, отделаться смехом от его слов историк не имеет права. Здесь
мы неожиданно сталкиваемся с верованием, хорошо известным нам по
истории самозванцев из народа и отражающим твердую народную веру
в то, что у истинного царя на теле должны быть врожденные «царские
45 Колесников В. П. Указ. соч. С. XI.
46 Там же.
47 Там же. С. 22.
48 Для историка культуры интересно, однако, что поступок И. Завалишина
оценивался единодушно как уродство. Брезгливого отвращения к нему не могли
скрыть ни Николай I, ни председатель суда над Оренбургским обществом генерал
Эссен, ни оренбургские мещане, солдаты и крестьяне. Даже в такой далекой от
высокой морали среде, как мелкие чиновники в провинции, он вызывал отвращение.
Колесников сохранил нам такую сцену: когда арестантов, прибывших по этапу в
кандалах из Оренбурга в Уфу, ввели в губернское правление — полуразрушенное
здание, где вокруг помадных банок, заменявших чернильницы, сидели писаря и
подъячие с ободранными локтями, «все писцы, мгновенно перестав скрипеть
перьями, обратились к нам с приметным любопытством. Один заложил себе перо
за ухо, другой взял в зубы, иной держал в руке; но все тотчас встали с своих мест
и обступили нас. Первый вопрос их, в несколько голосов произнесенный, был:
«Кто из вас Завалишин?» (...) С какою-то театральною важностью, выступив
вперед и язвительно усмехаясь, он отвечал им: «Что вам угодно? я к вашим
услугам!» Подъячие оглядели его с ног до головы и тотчас отступили; один из них
сказал: «Ничего, нам хотелось только узнать, что ты за зверь» (Там же. С. 64).
Следует иметь в виду, что само существование записок Колесникова обязано
инициативе декабриста В. Штейнгеля, который принял меры к тому, чтобы этот
беспримерный случай дошел до совести потомства. Не случайно записки Колесни-
кова — один из самых ранних памятников декабристской мемуаристики: они были
созданы в 1835 г.
О Хлестакове
359
знаки». За этой верой стоит глубокое мифологическое представление
о том, что реальная власть «ненастоящая» («подложный царь», «анти-
христ», «оборотень»), а настоящий царь скрывается и может до опреде-
ленного времени и сам не догадываться о своей царской сущности. Так, в
1732 г. «в селе появился нищий, который заявил «я не мужик и не мужичий
сын: я орел, орлов сын, мне орлу и быть (ср. сказку об орле и вороне в
«Капитанской дочке». — Ю. Л.). Я царевич Алексей Петрович (...) есть у
меня на спине крест и на лядвее родимая шпага». Крестьяне повели его
к знахарю, который славился тем, что узнавал людей (интересно пред-
ставление о том, что существует специальная способность «знать людей»,
т. е. по некоторым знакам узнавать их подлинную сущность. — Ю. Л.).
Знахарь признал в нем подлинного царевича»49. От Пугачева едино-
мышленники требовали, чтобы он показал «царские знаки» на теле:
«Ты-де называешь себя государем, а у государей-де бывают на теле
царские знаки»50. И Пугачев показывал им «орлов» на теле (видимо,
следы от фурункулов).
Если народная форма веры в свое избранничество в устах у столичного
дворянина и офицера (пусть и разжалованного) в 1820-е гг. звучит
ошеломляюще неожиданно (кстати, это лишний раз подтверждает схема-
тичность наших представлений о пропасти, якобы лежащей между соз-
нанием образованного дворянина и фольклорным миром), следует учи-
тывать, что мысль о великом предназначении, видимо, культивировалась
в семье Завалишиных. Так, не полуобразованный мальчишка Ипполит,
а энциклопедически эрудированный Дмитрий Завалишин на склоне
своих лет пресерьезно начинал свои записки с того, что сообщал читателю:
«Крестины мои сопровождались, как говорят, особенною торжествен-
ностию. Меня крестили в знаменной зале, под знаменами (характерная
для затемненных текстов предсказаний игра слов «знамя» — «знамение».
— /О. Л.), в присутствии архиерея, значительных лиц в городе и депутаций
от разных народов: персиан, индийцев, киргизов, калмыков (трудно
представить себе, чтобы Завалишин, много лет тщательно изучавший
писание и «для собственного употребления» заново переведший на
каторге всю Библию с подлинника, сообщая это, не думал о поклонении
волхвов. — Ю. Л.). (...) Мне всегда твердили в семействе о каких-то
предвещаниях, относившихся к какой-то блестящей будто будущности.
Одно из предсказаний было сделано каким-то френологом». К этому
месту «Записок...» Д. Завалишин делает примечание: «Еще в 1863 году
сестра писала мне, что очевидно, что провидение неисповедимыми судь-
бами ведет меня к какой-то особенной цели»51. И хотя престарелый
Д. Завалишин формой рассказа как бы отмежевывается от этих пред-
сказаний, бесспорно, что вся его жизнь прошла под знаком ожидания
их исполнения. Очень может быть, что и Ипполит Завалишин считал
момент описания особых примет своим «звездным часом», когда он нако-
нец будет «узнан» и судьба его круто переменится.
Весьма интересно, что эти наивные фольклорные представления соеди-
нились в голове И. Завалишина с романтическим наполеонизмом, культом
избранной личности, находящейся по ту сторону моральных запретов,
разумеется, в той примитивной версии, которая соответствовала умствен-
49 Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.
М., 1967. С. 126.
50 Там же. С. 149.
360
Культура и программы поведения
ному уровню семнадцатилетнего юнкера, в голове которого фольклор и
западная культура причудливо перемешались.
Колесников рисует трагикомическую сцену: И. Завалишин, уже осуж-
денный на вечную каторгу, с обритой головой, бредущий в цепях и «на
канате» (железный прут или толстая веревка, к которой прикреплялись
попарно скованные арестанты: с «оренбуржцами» церемонились значи-
тельно меньше, чем с декабристами, которые путешествовали в Сибирь
в отдельных кибитках) с «какой-то комическою надменностью» заявляет
своим, погубленным им, спутникам: «Вы не понимаете меня, вы не в
состоянии постигнуть моего назначения!» Таптиков и Дружинин, смею-
чись, сказали: «Уж не думаешь ли ты быть Наполеоном?» — «Почему
не так, — сказал он злобно, — знайте, если мне удастся, то от самого
Нерчинска до дворца я умощу себе дорогу трупами людей, и первой
ступенью к трону будет брат мой!»52
Поразительной особенностью И. Завалишина является его способность
мгновенно меняться: то он мрачный демон и Наполеон, то он вольнодумец,
изгоняющий из камеры священника, явившегося с утешениями: «Просто-
волосый поп, тебе ли понимать эту высокую и святую мысль (мысль о
жизненном пути как несении креста. — Ю. Л.)? Убирайся вон!»53 А через
полчаса он танцует в цепях между нарами, приговаривая своим товари-
щам по несчастью: «Вы хотите спать, а мне хочется танцевать галопаду»54,
или беззаботно насвистывает, идя по этапу. То он, в письме к императору,
в таком стиле характеризует свой донос на брата: «Видя высокие чувства
преданности и любви к отечеству отверженными, я в жару негодования
и различных чувств, сильно меня колеблющих...» — то об этом же
говорит — и кому? — генералу, приставленному его сторожить: «Если бы
государь император, читав мои бумаги, мог читать, что у меня в сердце,
то он послал бы меня к чорту»55.
Хотелось бы отметить еще одну черту, роднящую интересующую нас
группу характеров друг с другом, — все они, по субъективному, само-
сознанию, романтики. Нам уже приходилось говорить о том, что романти-
ческая модель поведения обладает особой активностью. Легко сводясь к
упрощенным стереотипам, она активно воспринимается читателем как
программа его собственного поведения. Если в реалистической ситуации
искусство подражает жизни, то в романтической жизнь активно уподо-
бляется искусству56. Не случайно Вертеры и Демоны породили эпидемии
подражания, чего нельзя сказать ни о Наташе Ростовой, ни о Константине
Левине, ни о Раскольникове или Иване Карамазове. Однако человек,
избравший программой своего поведения романтические нормы, разы-
грывающий роль демона или вампира, не властен по собственному
произволу изменить сцену, на которой идет пьеса его жизни. Поступки,
перенесенные из идеального пространства романтического текста в совсем
не идеальную русскую действительность, порождают странные гибриды.
Еще Г. А. Гуковский рассмотрел в гоголевских чиновниках романтиков:
герой «Записок сумасшедшего», пишет он, «тоже, с позволения сказать,
романтик, и романтическая поза Поприщина — пародия на романтизм,
злее которой трудно придумать»57. Конечно, здесь не только пародия.
52 Колесников В. П. Указ. соч. С. 76.
53 Там же. С. 75.
54 Там же. С. 76.
65 Там же. С. XI.
06 Лот/лан Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. Вып. 2.
67 Гукыккий Г. А. Реализм г оля. М.; Л., 1959. С. 310.
О Хлестакове
361
То, что является пародией в тексте, созданном волей поэта, в реальном
тексте человеческого поведения выступает как деформация установки
действующего лица под влиянием условий, навязываемых ему обстоятель-
ствами. С этим связано резкое несовпадение самооценок и оценки внеш-
него наблюдателя в героях этого типа. Текст, который прочитывается с
субъективной позиции как «демон», для глаз внешнего наблюдателя
может оказаться Хлестаковым или Ипполитом Завалишиным.
Для такого романтизма в варианте Грушницкого весьма типично, что
поведение не вытекает из органических потребностей личности и не
составляет с ней нераздельного целого, а «выбирается», как роль или
костюм, и как бы «надевается» на личность. Это приводит к возможности
быстрых смен поведения и отсутствия в каждом состоянии памяти о
предшествующем. Так кожа при любых ее изменениях сохраняет память
о предшествующем, но новый костюм памяти о предшествующем костюме
не имеет. Не только отдельные личности в определенные эпохи, но и
целые культуры на некоторых стадиях могут заменять органическую
эволюцию «сменой костюмов». Платой за это будет историческая и
культурная утрата памяти.
Подробность, с которой мы остановились на наших примерах, избавляет
от дальнейшего их накопления — представляется, что и сейчас уже можно
сказать, что литературный Хлестаков связан с определенным историко-
психологическим амплуа. Каковы же исторические условия складывания
такого типа?,
Во-первых, это наличие в определенной историко-культурной бли-
зости высокоразвитой и органической культуры, откуда человек хлеста-
ковского типа может усваивать готовые тексты и образцы поведения.
Выше мы связали хлестакорщину с романтизмом. Необходимо подчерк-
нуть, что она не генератор романтизма (она вообще не является в
культурном отношении генератором), а его потребитель. Хлестаковщина,
осуч^ествляя паразитировачие на какой-либо высокоразвитой культуре,
которую она упрощает, нуждается в особой среде — в ситуации стодкно-
пения высокоразвитой и находящейся в супердинамическом состоянии
молодок культуры.
Во-вторых, существенно, чтобы на фоне этого динамизма, текучести,
отсутствия в культуре доминирующих консервативных элементов орга-
ническое развитие общества было заторможено или в какой-то момент
вовсе остановлено, как, например, это было, когда получившее динами-
ческий толчок в петровскую эпоху русское общественное развитие оказа-
лось замороженным при Николае I. Отсутствие глубокой традиционности
в государственной культуре той поры создавало в определенных бюро-
кратических сферах «легкость в мыслях необыкновенную», представление
о «вседозволенности» и безграничности возможностей. А мнимый харак-
тер государственно-бюрократической деятельности легко позволял заме-
тить реальную деятельность «враньем». Будучи перенесено п психологию
отдельной личности, это давало хлестаковщину.
В-третьих, хлестаковщина связана с высокой знаковостью общества.
Только там, где разного рода социальные отчуждения, «мнимости» играют
доминирующую роль, возможно то отчуждение деятельности от резуль-
татов, без которого хлестаковская морока — мороченье себя и окружаю-
щих как форма существования — делается невозможной.
В-чствертых, хлестаковщина подразумевает наличие деспотической
власти. Хлестаков и городничий, Медокс и Николай Павлович (или
Бенкендорф) — не антагонисты, не обманщики и обманутые, а ^разде-
лимая пара. С одной стороны, только в обстановке самодержавного
362
Культура и программы поведения
произвола, ломающего даже нормы собственной государственной «регу-
лярности^ создается та атмосфера зыбкости и в то же время мнимо
безграничных возможностей, которая питает безграничное чесдолюбие
Хлестаковых и ипполитов завалишиных. С другой стороны, самодержавие,
тратящее огромные усилия на то, чтобы лишить себя реальных источников
информации о том, что на самом деле происходит в обществе, которым
оно управляет, все же в такой информации нуждается58. Удушая печать,
фальсифицируя статистику, превращая все виды официальной отчет-
ности в ритуализованную ложь, николаевское самодержавие оставляло
для себя единственный источник информации — тайный надзор. Однако
этим оно само ставило себя в положение не лишенное своеобразного
фарсового трагизма. Ошибочно было бы думать, что правительство Нико-
лая I, включая и III отделение канцелярии его величества, было укомп-
лектовано тупыми, необразованными или полностью некомпетентными
людьми. И в III отделении были деятельные и вполне разумные чиновники,
были люди, не лишенные образования. Как ни оценивать их умственные
способности, очевидно, что кругозор их был шире тех ничтожных лично-
стей — разнообразных медоксов, — которые являлись для них источником
информации. Однако, использование честолюбивых недорослей, темных
фальсифицируя статистику, превращая все виды официальной отчет-
ности в ритуализованную ложь, николаевское самодержавие оставляло
этих людей.
Одна из загадок «Ревизора» — почему глупый и простодушный
Хлестаков водит за нос по-своему умного и опытного в делах городничего,
почему простодушный, ветреный, внешне незначительный*9 Медокс водит
за нос всех, с кем его сталкивает судьба, — от генералов и губернаторов
на Кавказе до Бенкендорфа и Николая I? Пользуясь единственным
источником информации, нельзя возвыситься над ним.
Крылов в басне «Бритвы», опубликованной в 1829 г. (Гоголь видел
здесь связь с устранением от дел декабристского круга), писал:
«...Бритвы очень тупы!
Как этого не знать? Ведь мы не так уж глупы;
Да острыми-то я порезаться боюсь».
С умом людей — боятся,
И терпят при себе охотней дураков...60
Тупица и авантюрист делались двумя лицами николаевской госудгр
ственности. Однако, привлекая авантюриста на службу, николаевская
бюрократия сама делалась слугой своего слуги. Она вовлекалась в тот
же круг прожектерства. Как хлестаковщина представляпа концентрацию
черт эпохи в человеке, так же, в свою очередь, и она. во встречном движе-
нии поднимаясь снизу до государственных вершин, формировала облик
времени.
58 Ср. слова М. Лунина: «Народ мыслит, несмотря на глубокое мопчачие. 'Дока-
зательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать
мнения, которые метают ему выразить». И стремление не дать народу выпязить
свои мысли, и намерения эти мысли «подслушивать» в равной мере свойственны
самодержавию.
59 «Лицом бел и чист, волосы на голове и бровях светлорусые, рецковатыс,
глаза серые, нос невелик, островат, когда говорит — заикается» (Штрайх С. Я.
Указ. соч. С. 32).
60 Крылов И. А. Соч.: [В 3 т.]. М., 1946. Т. 3. С. 181.
О Хлестакове
363
Гоголь имел основания настаивать на том, что Хлестаков, воплощаю- ., ;
щий идею лжи не в чертах абстрактного морализирования, а в конкретном !
ее историческом, социально-культурном облике, «это фантасмагори- )
ческое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе i
стройкой, бог знает куда» (IV, 118) — главный герой «Ревизора». Нужно |
ли напоминать о том, с какими переживаниями был для Гоголя связан
образ тройки? Однако вопрос о том, как трансформировался в сознании
Гоголя этот реально исторический тип, выходит за рамки настоящей •.
статьи — он требует уже рассмотрения гоголевской комедии как само- \
стоятельного текста.
Выше мы говорили об активности романтических текстов. Это не
означает, разумеется, что литература реализма пассивна в своем отно-
шении к поведению читателей. Однако природа ее активности иная.
Романтические тексты воспринимаются читателем как непосредственные
программы поведения. Реалистические образы в этом отношении менее
ориентированы. Однако они дают наименование спонтанно и
бессознательно существующим в толще данной культуры типам пове-
дения, тем самым переводя их в область социально-сознательного. Хле-
стаков — «тип многого разбросанного в многих русских характерах»
(IV, 101), будучи построен, назван, получив определенность под пером
Гоголя, переводит хлестаковщину в мире, находящемся за пределами
гоголевской комедии, на совершенно иной уровень — в разряд культурно
осознанных видов поведения.
В определенном отношении можно сказать, что реализм тяготеет к
большей мере условности 6I, чем романтизм. Изображая типизированные
образы, реалистическое произведение обращается к мгтериалу. который
еще за пределами художественного текста прошел определенную куль-
турную обработку: стоящий за текстом человек уже избрал себе культур-
ное амплуа, включил свое индивидуальное поведение в разряд какой-либо
социальной роли. Введенный в мир художественного текста, он оказы-
вается дважды закодированным. Кодируя себя как «Демон», «Каин»,
«Онегин», «воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов»Ч
персонаж оказывается еще чиновником, мелким офицером, провин-
циальной барышней. Реалистический текст в принципе ориентирован
на ситуацию «изображения в изображении». Не случайно именно
в реалистической литературе такое место занимает цитата, реминисцен-
ция, «новые узоры по старой канве» (то, что русская реалистическая проза
начинается с «Повестей Белкина», символично), в реалистической живо-
писи — темы зеркала и картины на картине, в реалистическом театре —
ситуация «сцены на сцене». В романтическом искусстве (если не считать
пограничной сферы — романтической иронии) эти ситуации значительно
менее активны. Конечно, системы цитации характерны лишь для то,"
стадии реалистического искусства, когда оно вырабатывает свой язык,
однако ориентация на двойное семиотическое кодирование составляет
коренную его черту. Побочным результатом этого будет то, что реалисти-
ческие тексты являются ценными источниками для суждений о прагматике
разного рода социальных знаков.
61 Наше понимание проблемы условности в искусстве см.: Философская ju\ кк-
лопедия. М., 1970. Т. 5. С. 287—288 (статья «Условность в исхусстьс», coiiivit:.Ti;o
с Б. А. Успенским).
62 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 6. С. 55.
364
Культура и программы поведения
Таким образом, если романтический текст перестраивает реальное
поведение индивида, то реалистический перестраивает отношение обще-
ства к поведению индивида, иерархически организует различные типы
поведения в отношении к ценностной шкале данной культуры — актив-
ность его проявляется в организации целостной системы поведения
данной культуры. Конечно, такая система воздействия отличается боль-
шой сложностью. И если мы говорили о том, что исследование прагматики
художественных текстов — одна из наиболее сложных проблем, стоящих
перед современным литературоведением, то к этому следует добавить,
что прагматика реалистического текста (в отличие от прагматики фольк-
лорных и средневековых текстов, где на этот счет имеются специальные
правила, и романтизма, где наличествует относительно строгий прагма-
тический узус) и на этом фоне выделяется, как исследовательская
задача, сложностью.
\
Литературная биография...
365
Литературная биография
в историко-культурном контексте
(К типологическому соотношению текста и
личности автора)
Понятие биографии писателя, так же как и другие, сходные по типу
представления (авторства, литературной собственности и т. п.), не
извечно, а обладает исторической и биографической конкретностью. Оно
возникает в определенных условиях и только в их контексте может
получить реализацию.
Причины, которые привели в истории европейской культуры к резкой
актуализации категории авторской личности и, следовательно, к обостре-
нию проблемы биографии, хорошо известны. Это позволяет выдвинуть
типологический аспект.
Естественная предпосылка информационного акта состоит в том, что
понятия текста и того, кто этот текст создает, разделены. При этом именно
первое (сообщение о некотором событии) интересует слушателя. Такой
ситуации соответствует ряд представлений. Далеко не каждый реально
живущий в данном обществе человек имеет право на биографию. Каждый
тип культуры вырабатывает свои модели «людей без биографии» и «людей
с биографией». Здесь очевидна связь с тем, что каждая культура создает
в своей идеальной модели тип человека, чье поведение полностью пред-
определено системой культурных кодов, и человека, обладающего опре-
деленной свободой выбора своей модели поведения.
Как определяются понятия «человек с биографией» и «человек без
биографии»? Каждый тип общественных отношений формирует опреде-
ленный круг социальных ролей, который предъявляется членам данного
общества так же принудительно, как родной язык и вся структура
социальной семиотики, существовавшей до рождения данного индивида
или предъявленной ему как «условие игры». В одних условиях роль эта
фатально предопределена, порой еще до рождения индивида (например,
в кастовом или последовательно-сословном обществе), в других человек
имеет свободу выбора в пределах некоторого фиксированного набора.
Однако, сделав этот первичный выбор, он оказывается в пределах
некоторой социально-фиксированной нормы «правильного» поведения.
В этом случае жизнеописание человека, с современной точки зрения,
еще не является его биографией, а представляет собой лишь свод общих
правил поведения, идеально воплощенных в поступках определенного
лица. Нам естественно противопоставить такое жизнеописание биогра-
фиям в нашем привычном значении. В этих случаях принято говорить
об отсутствии или неразвитости в данном обществе чувства личности,
якобы еще не выделившейся из некоторого «безличного» коллектива.
Однако можно взглянуть на вопрос и с другой стороны. При всей
разнице между идеальным жизнеописанием средневекового святого,
состоящим из набора топиков, и биографией нового времени, описываю-
щей неповторимо-личные черты человека, между ними есть нечто общее:
из всей массы людей, жизнь и деяния которых не делаются предметом
описания и не вчосятся в коллективную память, выбирается некто, имя и
поступки которого сохраняются для потомков. Первые, с точки зрения
366
Культура и программы поведения
текстов своей эпохи, как бы не существуют, вторым же приписывается
существование. В код памяти вносятся только вторые. С этой точки
зрения, только вторые «имеют биографию».
Что же может объединить столь различные типы поведения, как
например, средневековый, ориентированный на идеальное выполнение
нормы и, так сказать, растворение в ней, и романтический, стремящийся к
предельной оригинальности и уклонению от всякой нормы? Такая общ-
ность есть: в обоих случаях человек реализует не рутинную, среднюю
норму поведения, обычную для данного времени и социума, а некоторую
трудную и необычную, «странную» для других и требующую от него
величайших усилий. Таким образом, инвариантной оказывается типо-
логическая антитеза между поведением «обычным», навязанным данному
человеку обязательной для всех нормой, и поведением «необычным»,
нарушающим эту норму ради какой-то иной, свободно избранной нормы
(любая попытка осуществить поведение, вообще не нормированное, на
самом деле оказывается выбором особой нормы, допускаемой данным
культурным кодом как исключение). Так, например, поведение средне-
векового святого, с точки зрения исследователя житийной литературы,
трафаретно и сплошь состоит из предсказумых эпизодов. Однако с
позиции современника оно может квалифицироваться как «странное».
Это всегда подвиг, т. е. эксцесс, реализация которого требует волевого
усилия, преодоления сопротивления. Житие трафаретно, но поведение
святого индивидуально. Святое поведение Феодосия Печерского воспри-
нимается его матерью-мирянкой как неправильное и стыдное: «Укоризну
себь и роду своему принесеши». Мать силой хочет привести Феодосия к
выполнению нормы поведения: «и многожды ей от великыя ярости разгнь-
ватися на нь и бити его, бъ бо тьлом кръпка и сильна, яко и муж»1. Уход
от рутинной нормы требует усилий воли: «словеса бо честьна, и дъла
благолюбна, и держава самовластна, ко богу изваяная»2. Там, где для
человека рутинной нормы нет выбора и, следовательно, нет поступка, для
«человека с биографией» возникает выбор, требующий действия, пос-
тупка. С романтической точки зрения, усилие воли, напряжение деяний
требуется, чтобы присвоить человеку индивидуальное поведение. Со
средневековой позиции, мнимое и тленное разнообразно, вечное и истинное
едино. Величайшие усилия требуются для того, чтобы приблизиться к
вечным образцам поведения. Но в обоих случаях речь идет об усилиях,
о выборе поступка там, где, с точки зрения общей нормы, выбора нет.
Именно это выделяет человека и делает его «носителем биографии».
Так, Франциск Ассизский подчеркивал, что подлинную сущность человека
составляет не то, что он получает, а то, что он приобретает в результате
свободного выбора. «...Из всех даров Божьих мы ни одним не можем
гордиться; ибо они не нам принадлежат (курсив мой. — Ю. Л.), но
Богу <...). Почему же ты гордишься этим, как будто сам сотворил это? Но
крестными муками своими и скорбями мы в праве гордиться, потому
что они наши собственные»3 — т. е. выбраны добровольно, хотя и была
возможность их избежать.
1 Абрамович Д. Киево-Печерський патерик. Киев, 1931. Вып. 5. С. 24.
2 В современном переводе: «достойное слово, и боголюбивое дело, и свободная
сила, устремленные к богу» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.,
1980. С. 408).
3 «Цветочки» Франциска Ассизского // Сказания о бедняке Христове: (Книга
о Франциске Ассизском). М., 1911. С. 43.
Литературная биография...
367
Так возникают культурные амплуа юродивого и разбойника, святого
и героя, колдуна, сумасшедшего, голярда, люмпа, человека богемы,
цыгана и многих других, получающих особую норму и право на исклю-
чительность поведения (или на антиповедение). Каждый из этих и им
подобных персонажей может, в зависимости от ориентации культурных
кодов, оцениваться положительно или отрицательно, но все они получают
право на биографию, на то, чтобы их жизнь и их имя были занесены в
память культуры как эксцессы добра или зла.
Культурная память устроена двояко: она фиксирует правила (струк-
туры) и нарушения правил (события). Первые абстрактны как нормы,
вторые конкретны и имеют человеческие имена. Такова разница между
предписанием закона и строками хроники. Из последней родится био-
графия. Однако, для того чтобы она родилась, между «тем, кто имеет
биографию» и тем, кто ее не имеет, но будет ее читать, должно появиться
еще одно лицо — тот, кто ее напишет.
В архаических культурах и в культурах средневековых тот, кто пишет
биографию, сам биографии не имеет. Однако он часто имеет имя, память
о котором включается в тексты. Это отличает его от массы «не имеющих
биографии». Положение его промежуточное.
Исключительность, дающая право на персональное включение в память
коллектива, может быть различной количественно и качественно. В коли-
чественном отношении она может заключаться в исключительно точном
выполнении нормы, которая сама по себе ничего исключительного в
данном обществе не представляет. «Быть рыцарем» — качество общее
для целого сословия, но «быть безупречным рыцарем» — качество исклю-
чительное. Такова же разница между князем и идеальным князем.
В определенных ситуациях простое выполнение типовых норм уже воспри-
нимается как исключительность (ср. комедию Н. Р. Судовщикова «Неслы-
ханное диво, или Честный секретарь», 1790-е гг.) В этих случаях исклю-
чительность заключена не в природе нормы, а в факте ее реализации.
Качественную иерархию образуют нормы с возрастающей ограничен-
ностью круга лиц, на которые они распространяются, вплоть до инди-
видуальных, уникальных норм, действительных лишь для какой-то опре-
деленной личности. Такое поведение для внешнего наблюдателя легко
читается как поведение «без правил». Преступник, богатырь, юродивый,
пророк занимают разные ступени на этой лестнице, образующей харак-
терный типологический признак данной культуры. Здесь не только испол-
нение нормы, но и самый ее выбор или даже индивидуальное творчество в
этой области делается определяющим признаком поведения.
Столь же иерархична и позиция создателя биографического повество-
вания. Она образует лестницу от боговдохновенности до административ-
ного поручения. Основой иерархии здесь будет тип лицензии на право
занять эту должность, заложенный в социально-семиотическом коде
культуры. Не случайно общим местом агиографической литературы будет
сомнение агиографа в своем праве на эту деятельность и обращение
за помощью к сакральным силам.
Потребность сохранить биографию того, кто в данной системе занял
место «человека с биографией», — культурный императив. Она приводит
к рождению в ряде случаев мифологических, анекдотических и тому
подобных псевдобиографий. Она же рождает сплетни л спрос на мемуар-
ную литературу.
В этом отношении особенно характерна легкость, с которой эпические,
новеллистические, киноповествовательные и прочие тексты подобного
рода склонны циклизоваться, склеиваться в квазибиографии и превра-
368
Культура и программы поведения
щаться для аудитории в биографическую реальность. Известно, с какой
настойчивостью читательское сознание наделяет героев типа Шерлока
Холмса оторванными от текста «биографиями». Одновременно показа-
телен процесс создания мифологических биографий кинозвезд, в равной
мере автономных как по отношению к отдельным кинотекстам, так и к
реальным биографиям артистов и являющихся моделью, активно втор-
гающейся и в любые новые кинотексты, и в самую жизнь артиста. Пример
Мэрилин Монро в этом отношении показателен.
Чем активнее выявлена биография у того, кому посвящен текст, тем
меньше шансов «иметь биографию» у создателя текста. В этом отношении
не случайно, что биография автора становится осознанным культурным
фактом именно в те эпохи, когда понятие творчества отождествляется
с лирикой. В этот период квазибиографическая легенда переносится на
полюс повествователя и так же активно заявляет свои претензии на то,
чтобы подменить реальную биографию. Этот закон дополнительности
между сюжетностью повествования и способностью реальной биографии
создателя текста к мифологизации может быть проиллюстрирован много-
численными примерами от Петрарки до Байрона и Жуковского.
С тем, что «человек без биографии» создает текст о «человеке с биогра-
фией», связано представление о неравенстве их культурного статуса.
Культурный код, перемещающий центр внимания на повествователя
и в конечном счете приводящий к появлению у него биографии, связан
с усложнением семиотической ситуации.
В описанном выше статусе молчаливо предполагалось, что создатель
текста лишен альтернативности поведения и обречен на создание только
истинных текстов. Боговдохновенность евангелиста, или жизненный опыт
автора жития Александра Невского («быхъ самовидець возраста его»),
или молчаливо подразумеваемая компетентность Плутарха заставляли
воспринимать их произведения как безусловно истинные. Истинность пре-
зумпируется. Только тот имеет право создавать тексты, чьи создания не
могут быть, с этой точки зрения, поставлены под сомнение. Более того,
понятие истинности включено в понятие текста. Текст как явление
культуры тем и отличается от всей массы сообщений, с ее точки зрения
текстами не являющихся, что ему предписана изначальная истинность.
Как аудитория эпического певца не может ставить под сомнение досто-
верность его сообщений, так сама должность придворного историографа
или одописца избавляет создаваемые им тексты, в рамках данной куль-
туры, от проверки. Если такого рода текст расходится с очевидной и
известной аудитории жизненной реальностью, то сомнению подвергается
не он, а сама эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей.
Поскольку истинность не определяется достоинствами того или иного
«говорящего», который не создает сообщение, а лишь «вмещает» его,
но априорно приписывается тексту (по принципу: «высеченное на камне,
вырезанное на меди, или написанное на пергамене, или произнесенное с
амвона, или написанное стихами, или высказанное на сакральном языке
и т. д. — не может быть ложным»), то именно в наличии этих признаков,
а не в личности говорящего черпается уверенность в том, что сообщение
заслуживает доверия. В этом отношении характерны приводимые Б. А
Успенским утверждения древнерусских книжников о том, что написание
текста на церковнославянском языке уже является гарантией его истин-
ности: «Церковнославянский язык предстает, следовательно, прежде
всего как средство выражения боговдохновенной правды, он связан с
сакральным Божественным началом. Отсюда понятны заявления древне-
русских книжников, утверждавших, что на этом языке вообще невозможна
Литературная биография...
369
ложь. Так, по словам Иоанна Вишенского, «в языку словянском лжа и
прелесть [дьявольская] (...) никакоже места имети не может»4.
Одновременно отсутствие биографического интереса к создателю
текста определяется и тем, что он фактически воспринимается не как
автор, а лишь как посредник, получающий Текст от высших сил и
передающий его аудитории. Роль его служебная.
С усложнением семиотической ситуации создатель текста перестает
выступать в роли пассивного и лишенного собственного поведения носи-
теля истины, т. е. он обретает в полном смысле слова статус созда-
теля. Он получает свободу выбора, ему начинает приписываться актив-
ная роль. Это, с одной стороны, приводит к тому, что к нему оказываются
применимы категории замысла, стратегии его реализации, мотивировки
выбора и т. д., т. е. он получает поведение, причем поведение это
оценивается как исключительное. С другой стороны, создаваемый им
текст уже не может рассматриваться как изначально истинный: воз-
можность ошибки или прямой лжи возникает одновременно со свободой
выбора.
Оба эти обстоятельства являются импульсами к тому, чтобы автор
получил право на биографию. Во-первых, само создание текста
становится действием личной активности и, следовательно, переводит
автора в разряд тех выпадающих из универсальных кодов личностей,
которым свойственно иметь биографии. Во-вторых, создаваемые им
произведения уже не могут вызывать у аудитории автоматического
доверия и критерий истинности сообщения приобретает исключительно
острый и актуальный характер. Если прежде истинность гарантировалась
культурным статусом создателя текста, то теперь доверие к нему ста-
вится в зависимость от его личности. Личная человеческая честность
автора делается критерием истинности его сообщения.
Биография автора становится постоянным — незримым или эксплици-
рованным — спутником его произведений.
В русской литературе, в которой традиция достоверности текста и
безбиографизма автора (протопоп Аввакум — яркое исключение, лишь
подтверждающее общее правило) держалась особенно долго, дойдя до
начала XVIII в., проблема писательской биографии встала, естественно,
с особой остротой. Это подчеркивалось еще и тем, что восприятие искус-
ства как самоценного, традиция игрового, комбинаторно-синтагматиче-
ского начала в русской литературе почти не получили развития. Установка
на семантику, представление о том, что собственно художественные задачи
призваны служить религиозным, государственным и прочим, исключи-
тельно остро ставили вопрос об истинности текста и о праве данного
человека выступать в качестве создателя текстов.
Исследователи русской литературы XVIII в. неоднократно обращались
к полемикам, возникавшим между Тредиаковским, Ломоносовым, Сума-
роковым и их сторонниками. Подчеркнуто-личностный характер этих
4 Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории
русского литературного языка. М., 1983. С. 51—52. Признаки текста необходимы
аудитории, которая по ним распознает его высшую авторитетность. Однако сама
эта авторитетность не зависит от признаков, а дается априорно. Подобно тому как
существование фальшивых монет не опровергает, а подтверждает авторитетность
истинных, существование отреченных книг или пародий (на более позднем этапе)
не опровергает святости священных книг. Всякий текст находится в поле многих
закономерностей, что определяет неизбежность вариативности его истолкования.
370
Культура и программы поведения
споров, обилие персональных оскорблений и постоянный переход авторов
от обсуждения принципиальных литературных вопросов к критике харак-
теров и моральных качеств своих оппонентов обычно объясняются «нераз-
витостью» их литературного сознания и неспособностью подняться до
чисто теоретических дискуссий. Суть проблемы, видимо, заключается
в ином. Речь идет о том, имеет ли данный автор право быть автором.
Нападки на моральные качества писателя (обвинение Ломоносова в
пьянстве, Тредиаковского в ханжестве и глупости, Сумарокова в дурных
манерах и неприятной внешности, намеки на семейные обстоятельства
Елагина и т. д.) должны доказать, что произведения их не могут претен-
довать на истинность и восприниматься с доверием. Литературный
спор ставит вопрос о биографии писателя. Показа-
тельно, что относительно Феофана Прокоповича, при всей сомнительности
его личного поведения, вопрос этот никогда не ставился. Его могли
обвинять в уголовных преступлениях, но право его быть создателем
текстов зиждилось на государственной прерогативе и церковном сане и
отделено было от его личности так, как церковный сан — от своего
случайного недостойного носителя. Подобно тому как личная биография
рукоположенного священника играет лишь подчиненную роль в совер-
шаемом им обряде священнодействия, личная биография Прокоповича
как бы забывалась в момент его государственного служения. Ломоносов
тоже говорил от лица государства, но он не был ни поставлен, ни
призван, ни рукоположен — он сам встал на это место, и право его на
такую роль могло быть оспариваемо и неоднократно оспаривалось.
Державин еще мог полагать, что подлинная его биография — это
биография государственного человека.
За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит...
Особенность своей позиции как писателя он видел в том, что — певец
Фелицы — он одновременно и певец самого себя. Создатель биографиче-
ского апофеоза человечной монархини, он одновременно поэтический
биограф вельможи, человечного мудреца и поэта Гаврилы Державина.
Новаторство Державина поразительно повторяет новаторство Аввакума.
В обоих случаях новое вино наливается в старые мехи.
Однако Радищев уже должен был «приложить» к своему творчеству
биографию античного героя. Примеры Катона и Жильбера Ромма вло-
жили в его руку бритву. Именно отсутствие конкретных причин само-
убийства делало этот давно обдуманный шаг не эпизодом внебиографи-
ческой рельности (вроде трагических жизненных неудач Тредиаковского
или Сумарокова), а фактом высокой Биографии. Готовность к гибели
гарантировала истинность сочинений.
Таким образом, к началу XIX в. в русской культуре утверждается
мысль о том, что именно поэт, в первую очередь, имеет право на биогра-
фию. Частным, но характерным штрихом при этом явился утвердив-
шийся обычай прикладывать к сочинениям портреты авторов. Прежде
это делалось лишь для умерших или при жизни признанных классическими
писателей. И если прежде в портрете подчеркивались знаки государствен-
ных или иных полномочий (лавровый венок, перст, указующий на бюст
воспеваемого поэтом государя, книги поэта (ученость), его ордена
(заслуги) и т. п.), теперь читателю предлагают всмотреться в лицо,
подобно тому как мы, получая важное сообщение от незнакомого чело-
века, всматриваемся в черты его лица и мимику, желая получить осно-
вания для доверия или недоверия.
Литературная биография...
371
Писатели начала XIX в. не просто живут, а создают себе биографии.
Теория романтизма и пример Байрона оказываются здесь исключительно
благоприятными параллельными импульсами.
Отличие «внебиографической» жизни от биографической заключается
в том, что вторая пропускает случайность реальных событий сквозь
культурные коды эпохи (биографии великих людей, художественные —
особенно театральные, для этой эпохи, — тексты и другие идеологические
модели). При этом культурные коды не только отбирают релевантные
факты из всей массы жизненных поступков, но и становятся программой
будущего поведения, активно приближая его к идеальной норме.
Особенно примечательна в этом отношении роль Пушкина, для которого
создание биографии было постоянным предметом столь же целенаправ-
ленных усилий, как и художественное творчество.
Одновременно нельзя не заметить, в какой мере изменился литератур-
ный статус Рылеева после казни на кронверке Петропавловской крепости.
Для поколения начала 1820-х гг., современников Пушкина, читателей
типа Дельвига, Рылеев — второстепенный поэт, дарование которого
более чем сомнительно (хотя творчество его им известно практически
в полном объеме). Для поколения Лермонтова и Герцена Рылеев стоит
рядом с Пушкиным и Грибоедовым, став одним из первых русских-
поэтов.
Резко растет биографическая мифологизация. В этом отношении
характерна литературная судьба самого «безбиографичного» русского
поэта той поры — И. А. Крылова. Вокруг его имени возникает целое
облако биографических легенд, складывающихся в своеобразную мифо-
логию. Характерен и процесс мифологизации личности Пушкина (свиде-
тельство превращения поэта в «историческое лицо»), не прекратившийся
до нашего времени и являющийся активным элементом не только мемуар-
ной, но и околонаучной литературы о поэте.
Ярким свидетельством роста культурной значимости биографии писа-
теля становится появление псевдобиографий. Создание личности писателя
становится разновидностью литературы (Козьма Прутков). В XVIII в.
существовали поэты без биографии. Теперь возникают биографии без
поэтов. Одновременно личность носителя текста делается предметом
художественного исследования. Возникает проблема повествователя.
Появление книги П. Л. Яковлева «Рукопись покойного Клементия
Акимовича Хабарова, содержащая рассуждение о русской азбуке и
биографию его, им самим написанную, с присовокуплением портрета и
съемка с почерка сего знаменитого мужа» (М., 1828) с указанием:
«Издает Евгений Третейский, кочующий книготорговец» — явилось
законченной мистификацией: биография, портрет, факсимиле почерка
удостоверивали реальность никогда не существовавшего автора. Появле-
ние сочинений Хабарова не случайно совпало с рождением таких лите-
ратурных персонажей, как Иван Петрович Белкин, Рудый Панько, Иримей
Модестович Гомозейка или Порфирий Байский5.
Именно потому, что биография писателя воспринимается не как нечто
столь же автоматически данное, как его биологическое существование,
возможна мнимая биография или претензия на биографию при ее
5 Как свидетельства истинности биографических данных и реальности выдуман-
ных лиц выступают указания на место хранения рукописей и имена издателей —
А Александр) П(ушкин), магистр философии и член разных ученых обществ
В. Безгласный и т. д.
372
Культура и программы поведения
фактическом отсутствии. Последний случай продемонстрирован Пушки-
ным на примере Ивана Петровича Белкина в «Истории села Горюхина».
Как у Горюхина нет истории, так у Белкина нет биографии. Изложение
автором, наделенным псевдобиографией, псевдоистории Горюхина
создает дистанцию между текстом и его подлинным автором Пушкиным,
с одной стороны, и читателем, с другой.
Пока лицензия на авторство давалась как некая бесспорная социально-
культурная функция, вопрос о соответствии между возможностями соз-
дателя текста и предписанной ему темой не мог возникнуть. Тот, кто не
имел зафиксированных в коде культуры полномочий (это могло быть
божественное вдохновение, искус, победа на состязании, признание зна-
токов и т. п., но всегда оно предшествовало праву на творчество), создавал
лишь «не-тексты» и с точки зрения данной культуры просто не существо-
вал. Теперь право на авторство давалось самоопределением и возможны
были случаи разной степени соответствия/несоответствия автора и
описываемого объекта.
Пушкин в 1830-х гг. тщательно разработал эту тему, создав целый ряд
образов носителей наивного сознания, описывающих ситуацию, глубин-
ный смысл которой им-недоступен.
Таким образом, к 1830—1840-м гг. в России создалась весьма интере-
сная ситуация. Во-первых, общественная значимость искусства пред-
полагала з писателе «человека с биографией». Во-вторых, «иметь био-
графию» означало не просто наличие определенных знаковых признаков,
по которым опознавался некоторый культурный код личности (так,
например, признаки «бледность», «молчаливость», «огненный или угасший
взор»; «утаенная любовь», «загадочное прошлое», «ранняя смерть» или
«смертельная болезнь» обозначали романтического героя; определенные
признаки могли читаться как визитная карточка «Мефистофеля», «Мель-
мота», «вампира» и т. п.). Теперь уже недостаточно быть признанным
...Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой
Иль маской щегольнуть иной —
или иметь на душе «злодейств, по крайней мере, три», чтобы общество
кодировало тебя как «человека с биографией». Биография становится
понятием более сложным, чем сознательно выбран-
ная маска. Она подразумевает наличие внутренней истории. А по-
скольку история осознается в этот период как движение от бессознатель-
ности к сознательности, то биография — акт постепенного самовоспита-
ния, направленного на интеллектуальное и духовное просветление. Только
«искание истины» дает общественно культурное полномочие создавать
произведения, которые в контексте данной культуры могут восприни-
маться как ее тексты.
Существенно обратить внимание на одно обстоятельство, характерное
именно для русской культуры: право писателя на биографию и соответ-
ственно читательский интерес к жизни создателя текста именно как к его
биографии возникает значительно раньше, чем те же категории в отно-
шении к художникам, композиторам или артистам. Соответственно этому
отличалась и социальная престижность этих профессий. Если поэзия
до того, как стала профессией, была в XVIII в. совместима с высокой
государственной службой, а сделавшись профессиональным занятием в
1830-е гг., не унижала социального статуса автора, то но только сцена,
но V: кисть ставили автора в униженное положение. Известно, что семья
Литературная биография...
373
Ф. Толстого (президента Академии художеств!) рассматривала его при-
верженность к профессиональной живописи как семейное унижение.
Явление это имеет объяснение.
В допетровской Руси церковная литература не была «искусством среди
других», а представляла собой высший в аксиологическом отношении
пласт текстотворчества. Это связано и с представлением о священных
текстах как боговдохновенных, и с особой ролью слова в культурном
сознании русского средневековья. Пишущий житие святого был причастен
святости.
В послепетровской культуре церковность была функционально заменена
государственностью. Поэзия как государственное дело унаследовала
высший культурный авторитет, а поэт — как государственный человек —
заявил о своем праве на биографию. Причастность святости заменилась
причастностью истине. А эта последняя требовала внетекстовых гарантий,
которых от артиста или живописца никто не требовал.
Нормы биографии писателя складывались постепенно. В XVIII в.
первый шаг внесения биографии писателя в культуру состоял в уравнении
его с государственным служащим. В этом отношении тяготение первых
писательских биографий в России к стереотипам послужного списка
не было недостатком или результатом «незрелости» их составителей,
а вытекало из осознанной позиции. Однако существовала и противо-
положная тенденция, выразившаяся в циклизации вокруг имен выдаю-
щихся писателей анекдотических рассказов, складывающихся в цело-
стный биографический миф. Биография писателя складывается в борьбе
послужного списка и анекдота. Пушкин будет собирать анекдоты из
жизни Сумарокова, Баркова, Кострова, Гнедича, Милонова, но примени-
тельно к своему жизненному пути выдвинет совершенно иной принцип:
биография как творческое деяние6.
В 1830—1840-е гг. тип писательской биографии сделается областью
не только общих размышлений и сознательных усилий, но и экспери-
ментирования. Одновременно возникали и отрицательные стереотипы.
Так, например, Ф. Булгарин, который был незаурядным и весьма попу-
лярным в свое время писателем, обладавшим бесспорным дарованием
журналиста, вошел в литературу именно своей темной биографией.
Вопрос личной независимости, неподкупности, мнений, засвидетельство-
ванных фактами биографии, стал критерием читательского доверия.
В этом смысле гонения, ссылка или солдатчина, обрушивающиеся на
писателя, в совершенно ином смысле, чем в стереотипе романтической
биографии, делались особым предметом внимания. Ср. портрет Бесту-
жева-Марлинского в «Ста русских литераторах» и Полежаева в издании
его «Стихотворений» (1857): портрет Бестужева в бурке намекал на его
ссылку на Кавказ, а солдатская шинель Полежаева — на его трагическую
6 Анекдот же о Пушкине уйдет в сферы массовой культуры, и Гоголь вложит
его как характерную примету социальной среды в уста Хлестакова: «А как странно
сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший
ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора
берегут, — и потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно
он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся.
У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал» (Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.:
[В 14 т. М.], 1951. Т. 4. С. 294). В современной нам массовой культуре анекдот
активно борется за свое место в пушкинской биографии в многочисленных
сенсационных «разысканиях» непрофессиональных авторов о дуэли или любовных
увлечениях поэта.
374
Культура и программы поведения
судьбу. Оба портрета были заменой цензурно невозможной в данных
изданиях биографии.
Завоеванное Пушкиным и воспринятое читателями первой трети XIX в.
право писателя на биографию означало, во-первых, общественное при-
знание слова как деяния (ср. полемику по этому поводу Пушкина с
Державиным), а во-вторых, представление о том, что в литературе самое
главное — не литература и что биография писателя в некоторых отно-
шениях важнее, чем его творчество. Требование от писателя подвижни-
чества и даже героизма сделалось как бы само собой разумеющимся.
Именно этим объяснял Белинский то, что «титло поэта, звание литератора
у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров»,
и продолжал: «...публика тут права: она видит в русских писателях
своих единственных вождей»7.
Такое представление, с одной стороны, как бы обязывая писателя в
жизни реализовывать то, что он проповедует в искусстве8, с другой,
связывает весь этот круг проблем с глубокой национальной традицией:
выделение именно писателя из всей массы деятелей искусств, утверждение
за ним права на биографию и представление о том, что эта биография
должна быть житием подвижника, связаны были с тем, что в культуре
послепетровской России писатель занял то место, которое предшествую-
щий этап отводил святому — проповеднику, подвижнику и мученику.
Ассоциация эта покоилась на вере в особую силу слова и его интимную
связь с истиной. Как святой, так и писатель подвижничеством должен
был доказывать свое право говорить от лица Высшей Правды.
Первым это понял — и ужаснулся этому — Гоголь. В статье «Истори-
ческий живописец Иванов» Гоголь, протестуя против «модного» мнения
(«За дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа
сама по себе, а картина сама по себе?»9), утверждал неразрывность
творчества и самовоспитания, без чего художник «действительно бы
обманул и себя и других, несмотря на все желанье не обмануть»10.
В «Портрете» он, положив в основу повести неразрывность жизненного
облика художника и его творчества, противопоставил два образа: свет-
ского живописца, искусство которого стало ложью, и художника-монаха,
изыскивавшего в стремлении к личному совершенству «все возможные
степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому
примеры можно разве найти в одних житиях святых»11. Отсюда требо-
вание, выдвинутое в «Авторской исповеди»: «Сгорать явно, в виду всех,
желаньем совершенства»12. Путь этот толкал писателя к тому, чтобы
занять позицию проповедника и пророка.
Однако возможна была и другая, казалось бы, прямо противоположная
дорога к биографии. ^
7 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: [В 13 т.]. М., 1956. Т. 10. С. 217.
8 В этом отношении программный характер имели слова Рылеева о поэте:
Святой, высокий сан певца
Он делом оправдать обязан.
{Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 172)
Известно, каким источником душевных мук был для Некрасова разлад между
биографией и творчеством.
'] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 333:
10 Там же.
11 Там же. Т. 3. С. 133.
12 Там же. Т. 8. С. 444
Литературная биография...
375
В 1830—1840-е гг. под влиянием успехов естественных наук в ориенти-
рованной на реализм литературе развилось представление о писателе
как разновидности естествоиспытателя, объективного наблюдателя соци-
альных феноменов и психолога-экспериментатора. В 1831 г. Баратынский
издал «Цыганку (Наложницу)», в предисловии к которой писал, что в
литературе следует видеть «науку, подобную другим наукам, искать в
ней сведений (курсив Баратынского. — Ю. Л.)». «Романисты, поэты
изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые
побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того
же, чего в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам
предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний»13.
Требование это, бывшее мнением пушкинского кружка 1830-х гг., оценено
было Белинским в 1842 г. как «весьма умно и дельно» изложенное.
Сходные идеи высказал Лермонтов в предисловии к «Герою нашего
времени», сравнив писателя с врачом. Такой взгляд, казалось бы, должен
был толкать к бесстрастному объективизму и снимать интерес к биографии
писателя. Однако произошло противоположное. Знание тайных страстей
человека и лабиринта социальной жизни требовало от поэта окунуться
в нее. «Сердценаблюдатель по профессии», как определил писателя еще
Карамзин, должен лично, как человек, пройти через мир зла для того,
чтобы его правдиво изобразить. В поэтической декларации «Мое грядущее
в тумане...» Лермонтов изобразил поэта, получившего от Творца чаши
«добра и зла». Поэт избирает путь пророка:
С святыней зло во мне боролось,
Я удушил святыни голос,
Из сердца слезы выжал я...
Он приобщается болезни своего поколения:
Как юный плод, лишенный сока,
Оно увяло в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.
Только после этого поэт оказывается способен проникнуть в души других
людей:
Тогда для поприща готовый
Я дерзко вник в сердца людей
Сквозь непонятные покровы
Приличий светских и страстей14.
И в сознании Лермонтова поэт рисуется в облике пророка. Не случайны
не получившие завершения строки от лица Бога:
Огонь в уста твои вложу я,
Дам власть мою твоим словам15.
Однако для Гоголя дар пророчества покупается ценой личного подвижни-
чества, ухода от мира в рыцарско-монашеское служение истине, для
Лермонтова — личным погружением в мир, вызывающий у автора отвра-
щение. Б. В. Томашевский убедительно показал связь таких представ-
лений с литературной школой Бальзака16.
13 Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1936. Т. 2. С. 176.
14 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 230.
!* Там же. Т. 2. С. 309.
Томашевский Б. Проза Лермонтова и западно-европейская литературная
традиция // Лит. наследство. М., 1941. Т. 43/44. С. 502—507.
376
Культура и программы поведения
Такой установкой определялось, видимо, характерное дли Лермонтова
провоцирующее поведение, заставляющее людей сбрасывать «покровы
приличий светских». С этим же, по-видимому, следует связывать жестокие
эксперименты типа эпизода с Е. А. Сушковой: Лермонтов разыгрывает
в жизни то, что должно затем перейти в роман. Однако параллель между
писателем и ученым, на которой так настаивают литераторы 1840-х гг.,
неожиданно оборачивается глубоким отличием: ученый-экспериментатор
(образ этот связывается в середине прошлого века прежде всего с
естествоиспытателем, биологом, врачом или химиком) находится вне
эксперимента. Лермонтов, делая в «Княгине Лиговской» первые опыты
бытописания, ставит эксперимент над собой и Е. А. Сушковой: чтобы
описать порок, надо в себе самом «удушить святыни голос». Потребность
превратить себя самого в лабораторию наблюдения над человечеством,
восходящая к Руссо, породила, с одной стороны, вспышку автобиографи-
ческих жанров (Лермонтов, Герцен, Л. Толстой), а с другой — стремление
безжалостно экспериментировать со своей собственной биографией. За
этим стояло убеждение, что только «человек с биографией» (а теперь
таким считается тот, кто лично испытал взлеты и падения человека)
имеет право быть создателем чужих жизнеописаний. Подобное отношение
к своей биографии будет позже присуще А. Григорьеву.
Вся эта сложная культурная работа завершится созданием двух
великих биографий: Толстого и Достоевского, биографий, без которых
немыслимо ни восприятие творчества jthx писателей, ни воебше культура
XIX в.
Таким образом, с точки зрения типологии, мы можем выделять гприыо
оппозиции: «тот, кто дает право иметь биографию — тот, кто получает
право иметь <г ографию/>; «тот, кто имеет биографию — тот, кто создает
жизнеописание имеющего биографию». Так, в церковной средневековой
литературе высшая святость делает езятого носителем особого поведения,
она же дает агиографу, как правило, подчиняющемуся более обычной
норме поведения, право быть его биографом. Сложные отношения этих
категорий характерны и для других эпох. Отметим лишь, что н системе
романтизма нее функции тяготеют к совмещению: тот, кто имеет био-
графию, сам себе дает на нее право (возможно и обратное утверждение.
тот, кто присваивает себе право на биографию, имеет ее) :* ^.av же ее
описывает. Построение типологической сетки соотнсшг.ш-:тт функций и
парадигмы социальных ролей, с помощью которых ?ти &ун,:«ч;<г реяли-
зуются, может дать полезную классификацию типологии культур.
Куклы в системе культуры
377
Куклы в системе культуры
Каждый существенный культурный объект, как правило, выступает в
двух обличиях: в своей прямой функции, обслуживая определенный круг
конкретных общественных потребностей, и в «метафорической», когда
признаки его переносятся на широкий круг социальных фактов, моделью
которых он становится.
Мы связываем со словом «машина» определенные научно-технические
представления. Однако, когда мы читаем слова Анны Карениной о ее
муже «злая машина» или говорим «бюрократическая машина», мы
пользуемся понятием «машина» как моделью широкого круга разно-
образных явлений, по сути дела, никакого отношения к машине не
имеющих. Можно было бы выделить целый ряд таких понятий: «дом»,
«дорога», «хлеб», «порог», «сцена» и т. д. Чем существеннее в системе
данной культуры прямая роль данного понятия, тем активнее его мета-
форическое значение, которое может вести себя исключительно агрес-
сивно, порой становясь образом всего сущего. Кукла принадлежит к
таким коренным понятиям. Для того чтобы понять «тайну куклы»1,
необходимо отграничивать исходное представление «кукла как игрушка»
от культурно-исторического — «кукла как модель».
Только на основе такого разделения можно подойти к синтетическому
понятию «кукла как произведение искусства».
Кукла как игрушка, прежде всего, должна быть отделена от, казалось
бы, однотипного с нею явления статуэтки, объемного скульптурного
изображения человека. Разница сводится к следующему. Существуют
два типа аудитории: «взрослая», с одной стороны, и «детская», «фольк-
лорная», «архаическая», с другой. Первая относится к художественному
тексту2 как получатель информации: смотрит, слушает, читает, сидит в
кресле театра, стоит перед статуей в музее, твердо помнит: «руками не
трогать», «не нарушайте тишину» и уж конечно «не лезьте нз сцену» и
«не вмешивайтесь в пьесу». Вторая относится к тексту как участник
игры: кричит, трогает, вмешивается, картинку не смотрит, а Еертит,
тыкает в нее пальцами, говорит за нарисованных людей, в пьесу вмеши-
вается, указывая актерам, бьет книжку или целует ее3. В первом слу-
1 Выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина из сказки «Игрушечного дела лю-
дишки» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т. 16. Кн. i. С. 116).
Для осмысления нашей темы фундаментальное значение имеют две работы:
Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до
Блока. Л., 1966; Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина //
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987 (первая работа появилась в 1927 г., вторая
— в 1937 г.).
2 Понятие «художественный текст» использовано здесь в широком значении как
«всякое произведение искусства», включая создания изобразительных и сцени-
ческих искусств.
Художественное произведение выполняет свою общественную функцию потому,
что текст его обладает особой организацией, которая определена как исторической
реальностью и отношением с другими текстами, так и внутренними закономерно-
стями построения произведения как целого. Сейчас производятся попытки рас-
сматривать произведения искусства в ключе этой методики.
3 Мы для наглядности упрощаем: в реальном художественном восприятии
обязательно присутствуют оба момента, но один из них может доминировать,
а второй — отступать на задний план.
378
Культура и программы поведения
чае — получение информации, во втором — выработка ее в процессе
игры. Соответственно меняется роль и удельный рее трех основных
элементов: автора — текста — аудитории. В первом случае вся активность
сосредоточена в авторе, текст заключает в себе все существенное, что
требуется воспринять аудитории, а этой последней отводится роль вос-
принимающего адресата. Во втором вся активность сосредоточена в
адресате, роль передающего имеет тенденцию сокращаться до служебной,
а текст — лишь повод, провоцирующий смыслопорождающую игру.
К первому случаю принадлежит статуя, ко второму — кукла. На статую
надо смотреть — куклу необходимо трогать, вертеть. Статуя заключает
в себе тот высокий художественный мир, который зритель самостоятельно
выработать не может. Кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры.
Поэтому излишнее сходство, натуральность, подавляющая фантазию
слишком большая подробность вложенного в нее сообщения ей вредит.
Известно, что радующие взрослых дорогие «натуральные» игрушки менее
пригодны для игры, чем схематические самоделки, чьи детали требуют
напряженного воображения. Статуя — посредник, передающий нам
чужое творчество, статуя требует серьезности, кукла — игры.
Эта особенность куклы связана с тем, что, переходя з мир взрослых,
она несет с собою воспоминания о детском, фольклорном, мифологическом
и игровом мире. Это делает куклу не случайным, а необходимым компонен-
том любой зрелой «взрослой» цивилизации. Однако, тяготея к упрощению,
кукла может переносить в сферу игры и воображения не только мате-
риальные элементы (оторванные руки или ноги, замена лица тряпочкой
не создает препятствий для игры), но и элементы поведения: ей не нужно
говорить — играющий говорит и за нее, и за себя; ей не нужно двигаться —
она может неподвижно лежать, а играющий будет играть, что она ходит,
бегает и летает. В этом смысле двигающаяся кукла — заводная игрушка
или театральная кукла — представляет собой некое противоречие, шаг
от куклы-игрушки к более сложным видам культурного текста.
Движущаяся кукла, заводной автомат, неизбежно вызывает двойное
отношение: в сопоставлении с неподвижной куклой активизируются черты
возросшей натуральности — она менее кукла и более человек, но в
сопоставлении с живым человеком4 резче выступает условность и ненату-
ральность. Чувство неестественности прерывистых и скачкообразных
движений возникает именно при взгляде на заводную куклу или марио-
нетку, в то время как неподвижная кукла, чье движение мы себе пред-
ставляем, такого чувства не вызывает. Особенно наглядно это в отно-
шении выражения лица: неподвижная кукла не поражает нас неподвиж-
ностью своих черт, но стоит привести ее в движение внутренним меха-
низмом — и лицо ее как бы застывает. Возможность сопоставления с
живым существом увеличивает мертвенность куклы. Это придает новый
смысл древнему противопоставлению живого и мертвого. Мифологические
представления об оживании мертвого подобия и превращении живого
существа в неподвижный образ универсальны. Статуя, портрет, отраже-
ние в воде и зеркале, тень или отпечаток порождают разнообразные
сюжеты вытеснения живого мертвым, раскрывающие сущность понятия
«жизнь» в той или иной системе культуры. Появление в исторической
жизни, начиная с Ренессанса, машины как новой и исключительно
мощной общественной силы породило и новую метафору сознания:
4 Сравнение это в случае с неподвижной куклой просто не возникает: неподвиж-
ную куклу не сравнивают с живым человеком, а играют, что это и есть живой
человек; тождество не устанавливается по признакам, а постулируется.
Куклы в системе культуры
379
машина стала образом жизнеподобной, но мертвой в своей сути мощи.
В конце XVIII в. Европу охватило повальное увлечение автоматами.
Сконструированные Вокансоном заводные куклы сделались воплощенной
метафорой слияния человека и машины, образом мертвого движения.
Поскольку это время совпало с расцветом бюрократической государствен-
ности, образ наполнился социально-метафорическим значением. Кукла
оказалась на скрещении древнего мифа об оживающей статуе и новой
мифологии мертвой машинной жизни. Это определило вспышку мифо-
логии куклы в эпоху романтизма.
Таким образом, в нашем культурном сознании сложилось как бы два
лица куклы: одно манит в уютный мир детства, другое ассоциируется с
псевдожизнью, мертвым движением, смертью, притворяющейся жизнью.
Первое глядится в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает
о машинной цивилизации, отчуждении, двойничестве.
Таков исходный материал «мифологии куклы», с которым приходится
иметь дело создателю куклы как произведения искусства. Ни одна из
названных выше ассоциаций не предопределяет автоматически того, что
сделает с куклой художник. Как всякий материал искусства, эта исходная
мифология может быть сдвинута, использована в прямом виде или пол-
ностью преодолена. Материал никогда не предопределяет содержания
произведения, но он всегда значим и, вступая в отношение со всей
художественной структурой текста, становится фактом искусства.
Специфика куклы как произведения искусства (в привычной нам
системе культуры) заключается в том, что она воспринимается в отно-
шении к живому человеку, а кукольный театр — на фоне театра живых
актеров5. Поэтому если живой актер играет человека, то кукла на сцене
играет актера6. Она становится изображением изображения. Эта поэтика
удвоения обнажает условность, делает предметом изображения и самый
язык искусства. Поэтому кукла на сцене, с одной стороны, иронична и
пародийна, а с другой, легко становится стилизацией и тяготеет к
эксперименту. Кукольный театр обнажает в театре театральность. Когда
театральное искусство достигает столь высокой степени натуральности,
что ему приходится напоминать себе и зрителю о сценической специфике,
народное искусство кукольного театра становится одним из образцов
для живых актеров. В периоды же, когда театр стремится преодолеть
условность и видит в ней свой первородный грех, кукольный театр
оттесняется на периферию искусства — возрастную и эстетическую.
Искусство второй половины XX в. в значительной мере направлено на
осознание своей собственной специфики. Искусство изображает искус-
ство, стремясь постигнуть границы своих собственных возможностей.
Это выдвигает искусство куклы в центр художественной проблематики
времени, а скрещение в нем ассоциаций со сказкой (мир детский и
5 Возможны, в иных системах культуры, и другие связи. Так, в японском
классическом театре кукла-маска и живой актер органически слиты (см.: Naka-
mura У. Noh: The Classical Theater. New York; Tokio; Kyoto, 1971), а сици-
лианские марионетки связаны с культурой народной картинки (Pasqualino A.
L'opera dei pupi / Pref. di A. Buttitta. Palermo, 1978).
6 Поэтому настоящий кукольный театр — это не театр (ср. классический
«Обыкновенный концерт» Образцова). Идеалом детского кукольного театра был
бы такой, где роль капельдинеров исполняли бы дрессированные бульдоги, буфет-
чицы были наряжены поросятами или ведьмами в зависимости от пьесы и игра
«как бы в театр» начиналась с порога. Сидящий среди зрителей и заливающийся
смехом или слезами крокодил великолепно дополнил бы картину.
380
Культура и программы поведения
народный) и образцов автоматической, неживой жизни открывает исклю-
чительный простор для выражения вечно живых проблем современного
искусства.
Антитезы живого/неживого, оживающего/застывающего, одухотво-
ренного/механического, мнимой жизни / жизни«подлинной находят столь
широкое и разнообразное отражение в проблемах современного искус-
ства, что делается очевидным, в какой мере неосторожно отводить куколь-
ному театру периферийное место в общей системе сценического твор-
чества.
«Кукольность» как особый тип игры живого актера, создающий эффект
мертвенности, автоматизма, получала самое широкое применение в раз-
личных режиссерских трактовках. Широкие возможности несет соеди-
нение игры живых актеров с масками и куклами, столь характерное для
обрядов и народного театра во многих его национальных традициях.
При этом следует учитывать, что комплекс «кукольности» составляется
в театре живых актеров из двух компонентов: лица-маски и прерывистости
совершающихся толчками движений. Это создает возможность внутрен-
него конфликта, также хорошо известного в ряде национальных традиций
народного театра и карнавала: сочетания лица-маски и контрастных
его неподвижности бурных, бешеных «живых» движений.
Хорошо известный эффект оживания статуи Командора показывает,
что совмещение живого актера и статуи-автомата (куклы) может порож-
дать не только комический или сатирический, но и глубоко трагический
комплекс впечатлений.
Однако кукла может нести и эмоционально противоположный заряд,
ассоциируясь с игрой и весельем народного балагана и с поэзией детской
игры. Наконец, особую и еще не исследованную художественную сферу
составляет кукла в мультипликационном кинематографе, где ее эстети-
ческая природа контрастно сопоставляется, с одной стороны, с привычным
кинематографом, а с другой — с необъемной мультипликацией.
От первой игрушки до театральной сцены человек создает себе
«второй мир», в котором он, играя, удваивает свою жизнь, эмоционально,
эстетически, познавательно ее осваивает. В этой культурной ориентации
стабильные игровые элементы — кукла, маска, амплуа — играют огром-
ную социально-психологическую роль. Отсюда — исключительно серьез-
ные и широкие возможности, присущие кукле в системе культуры.
О редукции и развертывании...
381
О редукции и развертывании
знаковых систем
(К проблеме «фрейдизм и семиотическая
культурология»)
1. Фрейдистская психоаналитическая модель строится как цепь, на одном
конце которой — подсознательные либидозные представления, а на дру-
гом — словесные показания пациента. Между этими крайними точками
располагается последовательность символических замен, трансформаций,
знаковых субститутов. Как критика, так и выделение наиболее интересных
аспектов этой модели с точки зрения семиотической теории предприни-
мались неоднократно1. Не касаясь всего комплекса многообразных проб-
лем, которые возникают в связи с обсуждением этой темы, постараемся
осветить лишь один аспект: в какой мере лежащий в основе всего
построения комплекс • исходных сексуальных мотивов на самом деле
является исходным, уходящим в глубь детской психофизиологии, а в
какой он возникает как вторичный факт -- результат перевода
сложных текстов, получаемых ребенком из мира взрослых, на значительно
более простой язык собственно детских представлений.
1.1. Мир ребенка самого раннего возраста (а именно таком возраст
имел в виду Фрейд, когда он писал: «Врач, занимающийся психоанализом
взрослого невротика, раскрывающий слой за слоем психические образо-
вания, приходит, наконец, к известным предположениям о детской сек-
суальности, в компонентах которой он видит производительную силу
для всех невротических симптомов последующей жизни»2) характери-
зуется ограниченным набором лиц (их фактически три: «я», мать и отец)
и предметов. Этот мир описывается языком, имена которого суть имена
собственные3. Однако даже на самой ранней стадии «детский мир» и
«детский язык» не представляют самодовлеющей и изолированной сис-
темы. Рядом с ними существует мир и язык взрослых, которые осуще-
ствляют постоянное и широкое вторжение в первый.
1.2. Контакт с миром взрослых ребенку лостоянио навязывается самим
субординационным положением его мира в общей иерархии культуры
1 См.: Волошинов В. Н. Фрейдизм. М.; Л., 1927; об этой книге: Иванов Вяч. Вс.
Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной
семиотики // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1973. Вып. 380. (Тр. по знаковым
системам. Т. 6); Bcnveniste Е. Probiemes ae linguistique generate / Ed. du Gallimard.
Paris, 19G6 (Chap. 7); Lacan J. Ecrits / Ed. du Seuil. Paris, 1966; Idem. Repcnses... //
Scilicet / Ed. du Seuil. 1970. № 2—3; Green A. Le psychoanalyse devant ('opposition
de 1'histoire et de la structure // Critique. 1963. № 194. Juillet; Kristeva J. Ideologic
du discours sur la literature // La Nouvelle Critique. 1971. № 39 bis (Cluny II,
Litterature et ideologic); ряд статей в сб.: Litterature. 1971. № 3. Oct. (Litterature
et psychoanalyse); Teksty. 1973. № 2 (8).
2 Фрейд 3. Психоанализ детских неврозов. М.; Л., 1925. С. 1; ср. далее: «Первые
сведения о Гансе относятся к тому времени, когда ему еще не было полных трех
лет» (С. 2), далее фигурируют реконструкции, относящиеся к возрасту двух с
половиной, полутора лет и даже полугода, хотя здесь и встречается оговорка о
«гораздо меньшей вероятности» рассуждений (С. 127, 129).
3 См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Учен. зап.
Тэрт. гос. ун-та. Тарту, 1973. Вып. 308. (Тр. по знаковым системам. Т. 6).
382
Культура и программы поведения
взрослых. Однако сам этот контакт возможен лишь как акт перевода.
Как же может осуществляться такой перевод? На основе некоторой
контекстно-ситуативной эквивалентности (ситуации: «хорошее», «прият-
ное», «худое», «опасное» и т. п.) ребенок устанавливает соответствие
между некоторыми знакомыми и понятными ему текстами на «его» языке
и текстами «взрослых» (например, по принципу: «непонятно, но приятно»
или «непонятно, но страшно»). При таком переводе целого текста целым
же текстом ребенок обнаруживает исключительное обилие во «взрослом»
тексте «лишних» слов. Акт перевода будет сопровождаться семантической
редукцией текста. При этом будет ясно проявляться тенденция подстав-
лять в качестве значений слов, не имеющих соответствия в детском
лексиконе, референты, заимствованные из детского мира. Нам известны
случаи, когда ребенок считал, что «отрава» — это старый войлок, лежа-
щий в столовой за буфетом. Существует и другая тенденция: так, слово
«пожар» может обозначать «неизвестное, но настолько ужасное событие,
что уточнять его значение страшно».
Получаемую из естественного языка, который выступает как язык
взрослых, семантическую модель ребенок редуцирует таким образом,
чтобы стал возможен" перевод притекающих извне текстов на его язык.
Однако не только естественный язык реализует это моделирующее зтор-
жение: в сознание ребенка врываются разговоры взрослых, вносящие
целый мир вторичных моделей — этических, политических, религиозных
и т. д. Сказки и другие художественные тексты вносят огромное количество
знаков — от целостных текстов до отдельных слов (а также — изобра-
зительных знаков), значение которых ребенку еще предстоит установить
путем идентификации с единицами содержания своего мира. Современный
городской (да и деревенский) ребенок слышит слово «волк» в контексте,
не оставляющем сомнения в том, что речь идет о чем-то страшном и
опасном, задолго до того как получает представление об общественной
семантике этого слова. Неоднократно приходилось слышать, как ребенок,
указывая матери на те или иные предметы, которые ему кажутся страш-
ными, спрашивает: «Это волк?»
1.3. В такой ситуации редуцируется не только система имен «взрослых»
текстов, но и система сюжетов. Когда ребенок слушает сказку о Красной
Шапочке, он не вводит в свой мир дополнительных персонажей, а
отождествляет героев сказки с именами детского мира. В этом случае
естественно отождествление Красной Шапочки с собою, бабушки с
матерью, а волка с отцом. Дело здесь не в скрытой враждебности к отцу,
а в необходимости пересказать сюжет сказки алфавитом, в котором
даны лишь три имени — «я», мать и отец. В этом случае нет никакой
надобности измышлять «Urszene», в которой ребенок якобы подсмотрел
сцену coitus a tergo, как полагает Фрейд, для того чтобы объяснить
отождествление отца и волка4. Просто ребенок получил из сказки готовый
сюжетный сценарий и распределил роли между наличными персонажами
своего детского мира, как режиссер «переводит» список действующих
лиц пьесы на язык списка фамилий актеров своей группы. Отождествляя
отца с волком из сказки, ребенок совсем не переносит вовне якобы
исконно враждебное отношение к отцу (ведь он не выдумывает для отца
отрицательную роль, а подыскивает в своей небольшой труппе испол-
нителя для заданной извне отрицательной роли), но, напротив, переносит
вовнутрь «детского мира» амплуа «злодея», заданное сюжетными моде-
4 Фрейд 3. Указ. соч. С. 127—129.
О редукции и развертывании...
383
лями. Конечно, градация близости между отцом и матерью для среднего
ребенка такова, что, коль скоро амплуа «злодея», «разбойника», «волка»
получено уже из внешних текстов, распределение его среди наличных
персонажей, как правило, бывает однозначно — это «не-мать», то есть
отец. Когда из языковых и сюжетных моделей окружающего мира в мир
ребенка поступают знаки «любить» и «убить», он их, естественно, распре-
деляет между отцом и матерью. Следовательно, пресловутый «эдипов
комплекс» — не нечто спонтанно зарождающееся как выражение соб-
ственных сексуальных влечений и агрессивных наклонностей ребенка,
а плод перекодировки текста с большим алфавитом в текст с малым. С этим
связано и другое: знаки «любить» (и производные от них типа «любов-
ница» и т. п.) и «убить» при такой перекодировке теряют то определенное
сексуальное или агрессивное значение, которое они имели в исходном
языке. Крайне наивно полагать, что мы понимаем тексты, выдаваемые
ребенком, употребляющим эти слова, когда подставляем в них значения
языка взрослых.
В связи с этим хотелось бы сделать одно примечание: подсознательное
в толковании Фрейда поражает своим прямолинейным рационализмом —
оно по содержанию не отличается от категорий текстов сознания, лишь
маскируя их в другие символы плана выражения. Психоаналитик дешиф-
рует сны, невольные высказывания и другие непроизвольные тексты и
обнаруживает, при замене системы символов, содержание, адекватно
выразимое в терминах и категориях языка сознания. Подсознание Фрейда
— замаскированное сознание. Оно принадлежит лишь плану выражения
и полностью переводимо на язык сознания. Этим приоткрывается и его
природа: оно сконструировано метамоделями исследователя и,
естественно, на них переводится. То, что 3. Фрейд считает спонтанными
чертами детского мышления, на самом деле оказывается извлечением
при помощи кодов взрослого мышления из детского сознания того, что
само же это взрослое мышление предварительно в него вложило. Причем
в среднем звене этой цепочки — звене детского сознания — тексты теряют
те черты, которые, по мнению Фрейда, именно и характеризуют детское
сознание. Эти последние возникают при обратном переводе текстов'
детского мышления на язык психоанализа.
2. Невозможность адекватного перевода текстов языка «с большим
алфавитом» на язык «с малым алфавитом» приводит к тому, что если
спонтанные тексты детского сознания получают на его языке опреде-
ленное выражение, то тексты, переведенные с языка взрослых, сохраняют
некоторую неопределенность, одновременно примитивизируясь. Многие
тексты вообще не поддаются переводу и оказываются введенными в
память «малого мира» в виде целостных текстовых включений неясной
семантики. Казалось бы, наличие подобных текстов, иносистемных по
своей сути, с точки зрения знакового мира ребенка, может получить лишь
негативную характеристику, поскольку эти тексты чужды окружающему
их контексту и никакой обязательностью, с его позиции, не обладают.
2.1. Бесполезность включений этого типа, однако, мнимая: в дальнейшем
развитии эти включения выполняют роль своеобразных «спор» — сверну-
тых программ, и именно за их счет происходит ускоренное развитие,
характеризующее психологию детского возраста.
3. Можно было бы провести аналогию между этим процессом и явлением
ускоренного культурного развития, характеризующим известные моменты
в развитии некоторых национальных культур5.
5 См.: Гачев Г. Д. Ускоренное развитие литературы. М., 1964.
384
Культура и программы поведения
3.1. Как и в системе «ребенок — взрослый», в данном случае имеет
место столкновение системы с «большим алфавитом» и системы с
«малым». Наблюдаются широкое проникновение «чужих текстов», невоз-
можность адекватных переводов и аккумуляция непереведенных тексто-
вых включений в культуру. При этом, наряду с накоплением непереве-
денных текстов «внешней культуры» в малом внутреннем культурном
пространстве, в нем постоянно ощущается ориентация на такой перевод.
3.2. Параллель между системой «ребенок — взрослый» и «культурой
с малым алфавитом — культурой с большим алфавитом» проявляется
и в том, что за периодом агрессии текстов из второй сферы в первую
следует имеющий характер взрыва период ускоренного развития этой
первой области. Примерами такого процесса могут быть обильные втор-
жения внешних текстов в период крещения Руси или в петровскую эпоху,
за которыми последовали периоды стремительного движения XI—XII и
XVIII — начала XIX в.
* 4. В связи с этим можно сформулировать положение о том, что пуль-
сирующее ритмическое движение, построенное как чередование редукций
и развертываний языка культуры, во-первых, и ускорение темпа развития
культуры за счет перекодировки больших систем в малые, во-вторых,
составляют, наряду с описанным Ю. Н. Тыняновым и В. Шкловским
законом смены знаковой периферии и ядра знаковой системы в процессе
автоматизации — деавтоматизации, некоторые общие закономерности
динамики саморазвивающихся систем.
4.1. В современной компаративистике господствует представление,
согласно которому объективной основой проникновения текстов одной
культуры в другую является их взаимная изостадиальность. Последний
случай, конечно, создает определенные предпосылки для циркуляции
текстов и может быть сопоставлен с той коммуникативной схемой, в
которой участники общения стремятся к максимальному сближению
кодов (в идеале — к пользованию одним единым кодом). При этом
адресат получает новый текст на заранее данном языке, а не новый язык.
В таком процессе сообщение передается, а не трансформируется в ходе
акта коммуникации, нового сообщения не возникает. Получаемые
тексты лишь количественно расширяют мир культуры-адресата и отве-
чают потребностям поверхностного пласта культуры. Гораздо более
значим в общекультурном смысле процесс получения текстов со стороны
культуры иного стадиального типа — более развитой или более прими-
тивной. В этом случае происходит редукция или усложняющее разверты-
вание полученного текста, а также накопление непереведенных текстов
(ср. накопление французских текстов в русском культурном сознании
второй половины XVIII — начала XIX в.). Результатом этого является
резкая трансформация внутреннего семиотического строя воспринимаю-
щей культуры, что сопровождается взрывным ускорением времени про-
текания культурных процессов.
4.1.1. Из сказанного вытекает объяснение хорошо известного факта —
замкнутые, имманентно развивающиеся культуры могут резко замедлять
темп развития (ср. замедление культурных процессов на Руси в эпоху
концепции «Москва — третий Рим» и совпадение периодов пульсации
замкнутости-разомкнутости с замедлением и ускорением в истории рус-
ской культуры). Одновременно можно было бы отметить, что при имма-
нентном описании одной национальной культуры из поля зрения выпа-
дает показатель скорости ее движения.
4.2. Если традиционная компаративистика, отмечая эмпирически раз-
личие данных национальных культур, сразу же ставит перед собой задачу
О редукции и развертывании...
385
определить, какая из них «отсталая», а какая «передовая», предполагая,
что естественная судьба первой — как можно скорее уподобиться второй,
то взгляд на культуру какого-либо ареала (и, в конечном счете, — на
глобальную культуру Земли) как на некоторое работающее устройство
убеждает нас в необходимости неравномерности и разноустроен-
ности знаковых механизмов диахронного движения культуры в целом.
4.3. С этим связано, видимо, и эмпирически наблюдаемое постоянное
нарушение изоструктурности подъязыков каждой культуры, разноста-
диальность отдельных составляющих ее знаковых систем. Можно было
бы показать, как в ряде случаев литература опережает изобразительные
искусства, кино — литературу и т. д. и как потом вторжение их в смежные
или далекие сферы знаковой деятельности вызывает революции в этих
последних. В рамках каждой из культур можно было бы выделить и
описать механизмы, работающие как в направлении нивелирования
отдельных знаковых систем, так и в сторону увеличения различий
между ними.
5. Усвоение чужих текстов не сводится к введению новых знаковых
единиц — оно также заключается в усвоении новых правил. Ребенок
получает от взрослых не только символы, не имеющие для него еще
значений, но и правила. С этим связано еще одно сомнительное положение
Фрейда. Автор «Психоанализа детских неврозов» указал на раннее
тяготение ребенка к непристойным жестам, обнажению, «неприличной»
стороне человеческого поведения и вывел из этого положение о спонтан-
ных сексуальных импульсах, которые потом подавляются системой куль-
туры и подвергаются разнообразным замещениям и вытеснениям.
5.1. Можно предположить, что на самом деле имеет место нечто
прямо противоположное — сексуальное любопытство ребенка порождено
культурой, подобно тому как первое платье на пингвинихе в «Острове
пингвинов» А. Франса вызвало по отношению к ней сексуальное любо-
пытство со стороны ее соплеменников, равнодушно взиравших на своих
обнаженных подруг.
5.2. Ребенок получает из мира взрослых первые правила культуры,
среди которых наиболее мощными являются правила стыда и страха6.
Усвоение правил всегда протекает как игра с ними, игровое их нарушение
— «озорство». Именно усвоение правил стыда вызывает игровые
попытки их нарушения, которые значительно позже заполняют формаль-
ные нормы семиотического поведения и делают его содержательным, —
не Природа, а Культура. Эротические эмоции развиваются у ребенка
спонтанно, но язык для самосознания, язык, который опережает внут-
реннее развитие и стимулирует его, он получает извне. Ведь в равной
мере ребенок играет и со страхом, проявляя любопытство относительно
тайн смерти, озорничая с опасностью для жизни. Влечение ребенка к
аномалиям — не свидетельство якобы исконного извращения его натуры,
а в семиотическом отношении — овладение Нормой, в психологическом —
стремление увериться в незыблемости этой нормы (вынесение аномалий
в мир игры). Господство Секса и Страха в истории мирового искусства
получает, таким образом, объяснение, прямо противоположное тому,
которое давал ему Фрейд.
6 См.: Лотман Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме
культуры // Тез. докл. IV Летней школы по вторичным моделирующим системам,
17—24 авг. 1970 г. Тарту, 1970. С. 98—101.
СЕМИОТИКА
ПРОСТРАНСТВА
О метаязыке типологических
описаний культуры
1.0. Задачу построения типологии культуры нельзя считать новой: она
периодически возникает в определенные моменты научного и общекуль-
турного развития. Можно сказать^_чтокаждый вид культуры создает
с вою концетт ци ю .^лыщжого_ г^аз вит ия? то есть типологию культу|уь[_
Пгли этом можно выделить, два наиболее общих подхода.
1.0.1. «Своя культура» рассматривается как единственная. Ей противо-
(^и^^негкультура^^уги!^ коллективов^Таково будет отношение грека
к варвару, равно как и все другие виды противопоставления «изобранного»
коллектива профаническому. Приэтом «своя» культура противопостав-
ляется 4y>K^^MjeHHO_no признаку «организованность»^—^ «неоргани^
зованность». С точки зрения той кул^т^^1.^отор1ая.др1|щ»лярт^р зя норму
и язык которой... ста новится метаязыком данной типологии культуры,
противостоящие ей системы npj^cji^X^He^KaK^^jTjyrHe типы организации,
ja как не-организации.~Т)ни характеризуются/не наличием каких-либо
других признаков, а о т с у т с т Bjne м признаков структуры. Так,
в «Повести временных лет» противопоставляются поляне, имеющие
«обычай» и «закон», и другие славянские племена, не имеющие ни
настоящего обычая, ни закона. Закон — некоторый предустановленный
порядок — имеет божественное происхождение. Ему противостоит неорга-
низованная воля людей. Созданное человеком мыслится в этой антитезе
как беспорядочное, противопоставленное упорядоченности высшей орга-
низации.
Поляне<г—^Вятичи1, «Кривичи [и] прочий погании не Вьдуще закона
Божина, но творяще сами собъ законъ»2. Другая форма организа-
ции — обычай, следование нормам поведения отцов. Ей противо-
стоит, как неупорядоченное, поведение животных.
Поляне имеют обычай <:—> «Древляне живяху звъриньскимъ обра-
зомъ»3.
«Поляне бо своихъ отецъ обычаи имутъ кротокъ и тихъ и стыдънье къ
снохамъ своимъ и къ сестрамъ к матерямъ и к(ъ) родителемъ своимъ,
къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдьнье имъху, брачные обычаи
имяху (...) а Древляне живяху звъриньскимъ образомъ, живуще скотьски,
оубиваху другъ друга, иадяху вся нечисто и брака оу нихъ не бываше (...)
одинъ обычаи имяху — живяху в лъсь иакоже и всякий звърь»4.
1 Знак 4i—^ используется для обозначения семантической оппозиции.
2 Полн. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 1. С. 14 (курсив мой. — Ю. Л.).
3 Там же. С. 13.
4 Там же.
О метаязыке типологических описаний культуры
387
И хотя далее летописец описывает разные формы организации
быта древлян — свадьбы, похороны, но он в этом видит не организацию,
а лишь проявление «зверинского» беспорядка.
1.1. Вариант отношения этих двух компонентов типологического опи-
сания (в рамках того же противопоставления «культура — не-культура»)
мы обнаруживаем, например, в европейской культуре XVIII в. Здесь в
качестве нормы, определяющей метаязык типологического описания
культуры, выступает не «культура», а «природа». Все типы культуры,
противостоящие «природе», мыслятся как нечто единое, не подлежащее
внутренней дифференциации. Они описываются как противоестественные
и противостоят «естественным» нормам жизни «диких» народов. Эти
последние также внутренне не дифференцируются, поскольку выступают
в качестве воплощения единой нормы Природы человека.
Это противопоставление легло в основу не только многочисленных
художественных текстов XVIII в. и публицистических трактатов, но и ряда
этнографических описаний, определив метаязык типологии культуры.
2.0. Другой подход к явлениям культу£ы ^вязан^ с признанием суще-
ствования в истории человечества нескольких (или многйхТ внутренне
самостоятельных типов культур. Ь зависимости от того, на какой позиции
находится сам описывающий, т. е. в конечном итоге от того, к какой
культуре он сам принадлежит, определяется и метаязык типологического
описания: в основу кладутся оппозиции психологического, религиозного,
национального, исторического или социального типа.
2.1. При всем различии в названных системах описания они имеют и
существенные черты общности.
2.1.1. Язык описания не отделен от языка культуры того общества,
к которому принадлежит сам исследователь. Поэтому составляемая им
типология характеризует не только описываемый им материал, но и
культуру, к которой он принадлежит. Так, сопоставление взглядов на
основные вопросы типологии культуры, зафиксированных в текстах раз-
ных периодов, является интересным и давно уже оцененным с этой точки
зрения материалом для типологических изучений.
Неудобства, связанные с использованием языка своей культуры в
качестве метаязыка описания, особенно рельефно выступают при попыт-
ках типологического изучения своей культуры — подобное описание
может дать только самые тривиальные результаты: «своя» культура
выглядит как лишенная специфики.
2.1.2. Язык описания не отделен по содержанию от тех или иных
научных концепций, связан с тем или иным объяснением сущности
культуры. Отбрасывание той или иной концепции в химии или алгебре
не может распространиться на метаязык, которым данная наука поль-
зуется. Существенным свойством языка науки является то, что полезность
его проверяется не теми критериями, которыми определяется правиль-
ность тех или иных научных идей. Между тем описание явлений культуры
на языке психологических, исторических или социологических оппозиций
является частью определенного научного истолкования сущности изучае-
мого явления и не может быть использовано при другом содержательном
истолковании.
2.1.3. Любой из названных выше способов описания культуры абсо-
лютизирует различия в изучаемом материале и не дает возможности
выделить общие универсалии культуры человечества. Так, например,
понятие историзма, принятое в науке предшествующего периода, возник-
388
Семиотика пространства
шее под влиянием философских представлений Гегеля, создавало меха-
низм для описания исторического движения как последовательной смены
различных эпох. Рассматривая историю человечества как этап в универ-
сальном развитии идеи, Гегель принципиально исходил из того, что
единственно возможная история есть человеческая история, а
единственно возможная культура есть культура человечества.
Более того, на каждом отдельном этапе своего развития всемирная идея
реализуется лишь в одной какой-то национальной культуре, которая в
этот момент выступает с точки зрения всемирно-исторического процесса
как единственная. Но единственное явление не может иметь своеобразия,
которое требует хотя бы двух сопоставляемых систем. Поэтому такая
концепция историзма не только подчеркивает, но и абсолютизирует
различие между эпохами. То, что при сравнении не выступает как
различие, вообще не маркируется.
История культуры преодолевает эту трудность, дополняя историко-
типологическое описание социально-типологическим, психолого-типологи-
ческим и т. п. В предлагаемой статье мы не касаемся вопроса научной
обоснованности того или иного подхода к изучению самого содержания
историко-культурного»материала, а занимаемся проблемой лишь мета-
языка науки. Следует отметить, что с этой последней точки зрения
подобный путь не представляется удачным: он принципиально исключает
возможность единообразия в описании материала.
2.2. Таким образом, можно сформулировать следующую проблему:
изучение типологии культуры предполагает осознание в качестве особой
задачи выработки такого метаязыка, который удовлетворял бы требова-
ниям современной теории науки, то есть давал бы возможность сделать
предметом научного рассмотрения не только ту или иную культуру, но и
тот или иной метод ее описания, выделив это как самостоятельную
задачу.
2.3. Создание единообразной системы метаязыка, которая ни для одной
из частей описания не совпадала бы с языком объекта (как это имело
место во всех предшествующих типологиях культуры, в которых язык
последнего синхронного среза культуры неизменно выступал в качестве
метаязыка всего описания), является предпосылкой определения универ-
салий культуры, без чего говорить о типологическом изучении, видимо,
вообще не имеет смысла.
2.3.1. Общенаучной предпосылкой изучения культуры с точки зрения
универсалий является возможность осмыслить все многообразие реально
данных культурных текстов как единую, структурно организованную
систему.
Как мы отмечали, традиционная формула историзма, подразумевающая
возможность лишь одной культуры — человеческой, тем самым активи-
зировала признаки внутренней дифференциации, отличающие один этап
от другого. Общее всей культуре человечества при таком подходе не
получало альтернативы и, следовательно, не было значимо. Возможность
представить себе внеземную цивилизацию позволяет говорить о чело-
веческой культуре как о единой системе. Это придает проблеме
универсалий культуры новое значение.
3.0. В настоящей работе предпринимается попытка построения мета-
языка описания культуры на основе пространственных моделей, в част-
ности, аппарата топологии — математической дисциплины, изучающей
свойства фигур, не изменяющиеся при гомеоморфных преобразованиях.
Высказывается предположение, что аппарат описания топологических
О метаязыке типологических описаний культуры
389
свойств фигур и траекторий может быть использован в качестве метаязыка
при изучении типологии культуры.
3.1. Рассмотрим некоторые тексты, интуитивно ощущаемые нами как
принадлежащие к одному типу культуры, причем выберем те из них,
которые будут наиболее отличаться по структуре внутренней организации.
Предположим, это будет текст сакрального значения и свод юридических
норм. Представим себе их в качестве вариантов некоторого инвариантного
текста и попытаемся его сконструировать. Если подобную работу прово-
дить в достаточной мере последовательно и с неуклонно расширяющимся
кругом текстов, то в конечном итоге мы получим некоторый текст-
конструкт, который будет представлять собой инвариант всех текстов, при-
надлежащих данному культурному типу, а сами эти тексты будут высту-
пать в качестве его реализации в знаковых структурах разного типа.
Подобный текст-конструкт мы будем называть текстом культуры.
3.2. Текст культуры представляет собой наиболее абстрактную модел ь
действительности с позиций данной культуры. Поэтому его можно
определить как кар tjhjj^_mj^^
3.2.1. ОбязаТёль'ньГм^свойством текста культуры является его универ-
сал ьность:J^PTHj*£ Дирз соотнесена всему миру ijj принципе включает в
rpfiq ft£p Ставить вопро^с^^омТчто находится за ее пределами, с точки
зрения данной культуры так же бессмысленно, как ставить его относи-
тельно всемирного универсума. Конечно, можно себе представить случай
функционирования в некотором сознании отдельных, никоим образом
взаимно не связанных, текстов, между которыми возникают своеобразные
разрывы. С подобными случаями мы будем сталкиваться при описании
патологических расстройств интеллекта или ранних стадий (в возрастном
или этнологическом смысле) его развития. Очевидно, что во всех случаях
мы будем иметь дело с фактами, стоящими вне типологии культуры и,
следовательно, к нашей проблеме прямого отношения не имеющими.
Если удастся описать коллектив, в котором отдельные тексты, представ-
ления, типы поведения в пределах каждого уровня не связываются в
единую картину мира, то тогда следует говорить о докультурном или
внекультурном его состоянии.
3.2.2. Следует дифференцировать два вопроса: пространственную
структуру картины мира и пространственные модели как метаязык
описания типов культуры. В первом случае пространственные характе-
ристики принадлежат описываемому объекту, во втором — метаязыку
описания.
Однако между этими двумя — весьма различными — планами суще-
ствует определенная соотнесенность: одной из универсальных особен-
ностей человеческой культуры, возможно связанной с антропологическими
свойствами сознания человека, является то, что картина мира неизбежно
получает признаки пространственной характеристики. Сама конструкция
миропорядка неизбежно мыслится на основе некоторой пространствен-
ной структуры, организующей все другие ее уровни. Такцм образом,
между метаязыковыми структурами и структурой объекта возникает
отношение гомеоморфизма. Причем в подобном отношении оказываются
непространственные структуры картины мира к пространственным, а
пространственные — к пространственным метаязыковым моделям описа-
ния. На уровне текста культуры мы, казалось бы, имеем дело с чистой
структурой содержания, поскольку все, что относится к разнообразным
планам выражения, было «снято» во время сведения многообразия
реальных текстов к инвариантному тексту культуры. Однако, поскольку
пространственная характеристика — неизбежный и вместе с тем доста-
390
Семиотика пространства
точно формальный компонент всякой из принадлежащих человеческой
культуре картин мира, она становится тем уровнем содержания универ-
сальной культурной модели, который по отношению к другим выступает
как план выражения. Это и позволяет надеяться на то, что система
пространственных характеристик текстов культуры, будучи вычленена в
качестве самостоятельной, сможет выступить как метаязык единообраз-
ного их описания.
4.0. Тексты культуры могут расслаиваться на два вида подтекстов.
4.0.1. Характеризующие структуру миря.' ЭТа"ТрушТа^псТ^1Гстов^отли-
ч аетсд ..негюдви!^ и
же они воспроизводят динамическуюТйртинУмйраТ^то это имманентное
изменение по системе: «Универсальное множество А преобразуется в
универсальное множество В».
Основной характеристикой этой группы подтекстов будет тип дискрет-
ности пространства (описываемый в топологических понятиях непрерыв-
ности, соседства, границы и т. д.).
Описание пространства данного текста культуры будет выступать в
качестве метаязыка, на котором исследователь ведет разговор о внут-
ренней организации данной модели мира (не только пространственной,
но и социальной, религиозной, этической и т. п.). Однако текст культуры
характеризуется не только как определенная классификационная система,
воспроизводящая конструкцию мира. Он включает также категорию
оценки, представление об аксиологической иерархии тех или иных ячеек
общей классификации. На языке пространственных отношений эти поня-
тия будут выражаться средствами ориентированности пространства.
Если тип членения воспроизводит схему конструкции мира, то понятия
«верх «—^ низ», «правое <—> левое», «концентрическое 4—* эксцентри-
ческое», «по сю «—> по ту сторону границы», «прямое «—> кривое»,
«инклюзивное ^—> эксклюзивное» (т. е. «включающее меня «—^ исклю-
чающее меня») моделируют оценку.
4.0.2. Хара!^ри^ующие место^ положение и деятельность человека
в окру^кТюшем его мире. Эта подгрутша динамична. Она описывает
движение некоторого суОъе^та^^^риГ^конт^йуума, структура кото-
рого характеризуется в текстах первой подгруппы (см. 4.0.1.). Тексты
второй подгруппы отличаются от первой сюжетностью. Они распадаются
на ситуации (эпизоды) и отвечают на вопросы: «Что и как случилось?»,
«Что он сделал?» Аппаратом описания сюжета могут стать «деревья»,
топологические понятия, связанные с траекторией, путем перемещения
точки, в частности — теория графов.
4.1. Поскольку изменения типа описанных в 4.0.1. (изменения состояний
мира) образуют некоторую инвариантную, неподвижную картину, чего
нельзя сказать про те, о которых речь шла в 4.0.2., то оппозиция «непо-
движный^—^ подвижный» получает особый смысл, позволяя классифици-
ровать элементы текста.
4.1.1. Неподвижные элементы текста характеризуют космологическую,
географическую, социальную и прочие структуры мира — все, что может
быть объединено понятием «окружение героя».
4.1.2. «Герой» — подвижный элемент текста.
4.1.3. Сформулированный подход позволяет провести дифференциацию
между персонажами. В каком бы континууме (волшебном, эпико-героиче-
ском, социальном и т. п.) ни действовали персонажи, их можно разделить
на неподвижные, закрепленные за какой-либо ячейкой этого континуума,
и подвижные. Первые не могут менять свое окружение, функции вторых
О метаязыке типологических описаний культуры
391
именно в движении — из одного окружения в другое. Так, в русской
волшебной сказке отец, братья неподвижно закреплены относительно
одного окружения («дом»), баба-яга — другого («лес»), а герой пере-
мещается из сферы в сферу. С. Ю. Неклюдов прекрасно показал на
примере русской былины подвижность героя и локальную закрепленность
его противников5. То же самое можно было бы проследить и на примере
рыцарского романа, равно как и любых других текстов с отчетливо выра-
женной сюжетностью.
Одиссей, Орфей, Дон-Кихот, Жиль-Блаз, Растиньяк, Чичиков, Пьер
Безухов — герои, имеющие путь, осуществляющие движение внутри
того универсального пространства, которое представляет собой их мир.
Им противостоят персонажи, закрепленные за какой-либо сферой этого
пространства — волшебной, географической, социальной и т. д.
4.1.4. Неподвижные герои являются персонифицированными обстоя-
тельствами, представляя собой лишь имя своего окружения. Их удобно
описывать как явления структуры 4.0.1. Они полностью укладываются
в классификационные принципы данной картины мира, отличаясь, с ее
точки зрения, предельной обобщенностью («типичностью»). Подвижные
герои таят в себе возможность разрушения данной классификации и
утверждение новой или представляя структуру не в ее инвариантной
сущности, а через многоликую вариативность.
4.1.5. Поэтому для слушателя, находящегося внутри данной картины
мира, сюжетная подгруппа всегда более информативна.
4.2. Тип 4.0.1. может выражаться в самостоятельно существующих
текстах более низких уровней, чем текст культуры. Таковы все бессюжет-
ные тексты от мифов и легенд об убийстве мира до лирических стихотво-
рений. Тип 4.0.2. не образует самостоятельных текстов. Структура 4.0.1.
присутствует в них в выраженном виде или подразумевается.
4.3. Можно сформулировать следующие положения:
а) персонажи, пространство которых всегда в пределах каждого струк-
турного синхронного среза совпадает, — суть один персонаж. Следова-
тельно, отношение к пространству является важнейшим условием иденти-
фикации разных элементов повествования в персонаж как единую пара-
дигму. Случаи внутреннего расслоения, распадения личности героя, как
правило, связаны с тем, что в разных местах текста он получает несов-
местимые пространственные характеристики;
б) персонажи, пространство которых совпадает в пределах опреде-
ленных уровней, выступают как варианты инвариантного на более
высоком уровне персонажа.
4.4. Сюжет культуры есть возведение реальных текстовых сюже-
тов до уровня инвариантных персонажей с взаимно несводимыми про-
странствами.
5.0. Пространство^ текста^ к ул ьту г^1_п£адст а в л я ет^ соб од^[ниверс а л ьн ое
множество"элементовжданной культуры, т. е. является моделью вдего.
}l3 этого_вытекает, что одним из основных щризнаков внутренней струк-
туры того или иного текста культуры является характер его разбиений —
гра^шц^разделяющих его внутреннее пространство.
5 Неклюдов С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных отношений с
сюжетной структурой в русской былине // Тез. докл. во II Летней школе по
вторичным моделирующим системам, 16—26 авг. 1966 г. Тарту, 1966.
392
Семиотика пространства
5.1. Построенные с помощью средств пространственного моделиро-
вания, в частности топологических, описания текстов культуры мы будем,
называть моделями культуры. Те или иные реально данные тексты
можно будет представить себе как интерпретации этих моделей.
5.2. ^^нпйныр характеристики моделей культур: 1) типы разбиений
^универсального пространства; 2) мерность универсальногопространства;
513. Граница делит пространство культуры на континуумы, заключаю-
щие точку или некоторое множество точек. Семантическое истолкование
модели культуры состоит в установлении соответствий между ее элемен-
тами (пространство, граница, точки) и явлениями объективного мира.
6.0. Одним из наиболее общих признаков моделей культуры может
считаться наличие в ней одной основополагающей границы, которая
делит пространство культуры на две различные части. Пространство
культуры непрерывно только внутри этих частей и разорвано в месте
границы.
6.1. Укажем на некотрдые^хиды.наиболее простых разграничений
едострднства культуры. _ '* "" *
6.1.1. ^Дано двумерное (плоское) пространство. Оно. разделенограницей
jia».лае части, причем в одной из них оказывается ограниченное, а в
другой — безграничное количество точек. Таким' образом,* что ode они*
вместе составляют универсальное множество. Из этого положения выте-
кает, что граница в данном случае должна быть замкнутой кривой,
гомеоморфной окружности. Тогдаtrpaница делит плоскость на две области
— внешнюю (ВШ) и внутреннюю (ВШ (рис. 1).
Рис. 1.
.Самой п{юсхрД^^мщ|1щеской интерпретацией такой модели культуры
будет оппозиция: "" —-•■——-'
■ мы -^—у они.
6.1.2. Совмещенность определенного пространства с точкой зрения
носителя текста задает ориентацию модели культуры этого типа6. Прямой
направленностью мы будем называть ориентацию, возникшую при сов-
мещении точки зрения текста и внутреннего пространства модели куль-
туры (рис. 2), обращенной — совмещение точки зрения текста с точками
внешнего пространства (рис. 3). При прямой направленности вектор
ориентации направлен от центра внутреннего пространства, при обра-
щенной — к центру.
6 «Точку зрения» можно интерпретировать как ориентированность модели
культуры относительно некоторого типа пространства.
О метаязыке типологических описаний культуры
393
Рис. 2
Рис. 3
6.1.3. В зависимости от ориентации оппозиция «мы -^—> они» может
получить двойную интерпретацию:
мы (ВН) <-> они (ВШ)
Нас мало избранных, счастливцев праздных...
(Пушкин)
мы (ВШ) <—=► они (ВН)
Мильоны — вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы...
(Блок).
6.1.4. Поскольку внутреннее пространство замкнутое, заполнено конеч-
ной группой точек, а внешнее — разомкнутое, то естественным является
истолкование оппозиции «внутреннее<—> внешнее» в качестве простран-
ственной записи антитезы «организованное (имеющее структуру) < >
неорганизованное (не имеющее структуры)». В различных текстах куль-
rQVblOHa МОЖеТ пп.пуцят^дя_чнп£0 рпдя ЛН^<^гд^тят^ \п "~р^я пичуягк
н а [1Ш1М^г..5^й5Нозици ях:.
( ВШ N
*< чужие народы
цроды, племена) \
* профаны i
► варварство /
f
\
ВН
свой народ
(род, племя)
посвященные
культура
интеллигенция
DC MOC
народ
хаос
,У
В данном сучае существеТТШЭ'ТТаТГич'ие в любом из этих противопостав-
лений признака организации, с одной стороны, и отсутствие его, с другой.
Организация выступает как сильный член оппозиции, она содержит
маркированный признак, а ее антитеза лишь указывает на его отсутствие.
Организованность трактуется как вхождение в замкнутый мир. Несуще-
ственной является оценка, которая в любой из этих оппозиций принци-
пиально может быть двойной (что будет соответствовать двум возможным
способам ориентации пространства при записи). Так, оппозиция «посвя-
щенный < > профан» может быть связана с тем, что текст культуры
ориентирован с точки зрения посвященного и посвященность оценивается
высоко положительно. Такова принадлежность к христианству в европей-
ских средневековых текстах или к масонству в масонских текстах. Однако
в оппозиции «плебей (как «просто человек») < > аристократ (человек
сословия)» для демократических текстов XVIII в. или «нищие духом
(стоящие вне) < > фарисеи» евангельских текстов именно «невхожде-
ние», «непосвященность» (невежество, незащищенность, отверженность)
будут оцениваться положительно. Подобная позиция характерна для
поэзии Марины Цветаевой с ее темой изгоя и сироты:
394
Семиотика пространства
Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоем.
(Не числящимся в ваших справочниках,
Им свалочная яма — дом.)7
6.1.5. Поскольку маркированным является признак замкнутого мира,
то типичной схемой прямой модели будет:
«Мы имеем N».
«N» может варьироваться: «мудрость», «святость», «благородство»,
где «N» — признак, который ценится.
Типичной схемой обращенной модели будет:
«они имеют N»,
где «N» также может варьироваться, но всегда будет признаком, ими
отвергаемым вообще (ср. у протопопа Аввакума о никонианах:
Разумные! Мудрены вы со дьяволом!8
у В. Кюхельбекера о придворной аристократии:
Там говорят не русским словом.
' 'Святую ненавидят Русь...9)
или таким, который имеется у этого «они», но должен быть изъят:
Щастлива жизнь моих врагов!10
В этом случае («Преложение» псалма 143) любопытно следующее.
Образец Ломоносова — библейский текст псалма 143 — дает схему
примой ориентированности («мы имеем»): «Да будут житницы наши
полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и
i |,\шми на пажитях наших; да будут волы наши тучны; да не будет ни рас-
хищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у кото-
рого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Ломоносов,
следуя традиции древнерусского перевода, преображает ее в обращенную
(«они имеют»), в результате чего оценка обладания меняется на противо-
положную. Картина подчеркнутого благополучия воспринимается как
отрицательная:
Пшеницы полны гумна их,
Несчетно овцы их плодятся,
На тучных пажитях хранятся,
Стада в траве волов толстых".
6.1.6. Можно отметить два типа разграниченностей:
а) разграничение на этот (близкий, наш — в дальнейшем «Э») и
тот (чужой, их — в дальнейшем «Т») миры проходит таким образом, что
между двумя частями не возникает однозначного соответствия. Э и Т
7 Цветаева М. Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 232. В приведенной цитате:
«Их» дом — «ваша» свалочная яма. «Дом» — символ наиболее замкнутого,
защищенного, «внутреннего» пространства; свалочная яма — предельная ему
противоположенность (локальное выражение изгнанничества, незащищенности в
их предельной степени; сравните антитезу дома и гноища в библейских легендах).
8 Аввакум. Книга бесед // Памятники истории старообрядчества, XVII в. Л.,
1927. Т. 1. Вып. 1. С. 292.
9 Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 1. С. 207.
10 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 116.
11 Там же. С. 115.
О метаязыке типологических описаний культуры
395
приписывается разная мерность. Существа, населяющие Т, принци-
пиально не похожи на «нас». Это система неантропоморфных и неумо-
постигаемых божеств, исключения враждебных социально или этнически
групп из числа людей. В зависимости от направления ориентировки
(Т более имеет мерностей, чем Э, или обратно) возникают представления
«я не могу вместить бога» или «варвар не может вместить меня» (система
«я, варвар, не могу вместить его» приводит к обожествлению и сливается
с первой);
б) Э и Т имеют одинаковую мерность. Мир за чертой враждебен (или
просто «чужой»), но ничем в принципе не отличается от «моего». Это
ситуация низвержения богов, утверждения, что угнетатель или враг тоже
только человек (тема смертности сильных мира сего, слова бедного
чиновника в «Записках сумасшедшего» Гоголя о том, что у камер-юнкера
«нос не из золота сделан»). Ср. возникающую во время многих войн
моральную необходимость хоть небольшой победы, для того чтобы сол-
даты почувствовали, что неприятель — такой же человек и его можно
победить. Одновременно такая же схема может интерпретироваться как
основа идеи гуманности. Ср. формулу «тоже люди», которую произносит
в «Войне и мире» Толстого солдат о пленных французах, или место в
том же романе, когда Ростов не может опустить сабли, потому что видит
перед собой вместо ожидаемого «врага» — человека (существо такое
же, как я).
6.1.7. В очень широком круге текстов существует стремление отожде-
ствить Э с земным миром, а Т с небесным, потусторонним, загробным.
Тогда возникнет противопоставление систем с основной границей между
земным и неземным мирами и внутри земного.
Рис. 4
6.2. Усложнения модели возникают при взаимном наложении оппо-
зиции ВН ^—> ВШ, где оба члена принадлежат земному миру, а граница
между ними проходит внутри Э, и оппозиции Э ^—*» Т. Получается схема
(рис. 4), где ВН и ВШ1 составляют пространство Э «земное», ВШ2 — Т
«потустороннее».
6.2.1. Подобное положение практически невозможно, поскольку проти-
воречит правилу о наличии одной основополагающей границы внутри
модели культуры. Она может возникнуть или в качестве условного
обобщения реальной коллизии, при которой в разных сферах сознания
(например, политической и религиозной) в одно и то же время функцио-
нируют модели, по-разному членящие пространство культуры, или же в
результате превращения одной из границ в основную, а другой во
вспомогательную. Рассмотрим эти случаи.
6.2.1.А. Граница 1 (между ВН и ВШ1) становится
основной и подчиняет себе границу 2 (между В III 1
и В Ш 2 ). Некоторый первобытный коллектив имеет два типа божеств:
одни находятся на внутренней территории племени. Их защитительная,
396 Семиотика пространства
покровительственная функция явно обнаруживает их принадлежность
к ВН (они укрепляют границу между ВН и ВШ, а не стремятся сквозь
нее проникнуть, как это делают опасные существа из ВШ). Можно с
уверенностью сказать, что боги ВН будут антропоморфны, а обитающие
за границей внутреннего мира (лес, река, море) — будут наделены чер-
тами чудовищности. Боги ВШ будут более опасны и, следовательно,
более могущественны. На этой стадии неупорядоченность как черта
стихии будет восприниматься как нечто высшее по отношению к упорядо-
ченности внутреннего человеческого мира. Этнография не может дать
нам описания коллектива, который переживал бы себя как единственный,
исчерпывающий собой все человечество и противопоставленный только
не-человеческому миру. Однако волшебная сказка сохраняет нам подоб-
ную картину мира. Теперь представим себе, что во внешнем мире появ-
ляются другие человеческие коллективы. То, что они чужие, заставляет
воспринимать их как неорганизованных, часть ВШ. Тогда боги ВШ
делаются (в «наших» глазах) «их» богами, а боги ВН — «нашими».
«Неорганизованность» как черта другого социума воспринимается как
низшее свойство. «Их» неупорядоченные боги должны быть слабее
упорядоченных «наших». Наступает торжество антропоморфных богов,
а чудовища становятся побежденными богами «варваров», граница 1
подчиняет себе границу 2.
Это, в частности, приводит к тому, что боги получают размещение
внутри человеческого мира, закрепляясь за определенными географи-
ческими пунктами, что генетически может быть связано с системой мест-
ных анимистических культов, но функционально глубоко отлично.
Примечание. Попутно можно, в виде наблюдения, указать на
следующее: природа богов зависит от типа разбиения пространства —
антропоморфность богов подразумевает одномерность Т и Э.
6.2.1.Б. Г р а н и ц а 2 доминирует над границей 1. Напри-
мер, социальные или этнические границы мифологизируются: зона ВШ1
уподобляется ВШ2. Кочевой народ, обитающий «за шеломенем» (половцы
«Слова о полку Игореве» для «нас» одновременно и «дети бесови», им
покровительствуют языческие божества славянские, но с неупорядочен-
ным культом), — див, карна, жля. Божества с упорядоченным культом
(Даждьбог, Велес) принадлежат «внутреннему» миру и поэтому не
противополагаются христианскому пантеону.
Аналогична этому картина мира Феклуши в «Грозе» Островского
(«чужие» народы мыслятся как чудовищные существа с песьими голо-
вами, Литва «с неба упала») или старосветских помещиков в одноименной
повести Гоголя: за лесом, окружающим дом (лес гомеоморфен границе
мира, а дом — миру), неведомая земля, где обитают «разбойники»,
откуда приходит смерть.
6.3. Однако, помимо приписывания существам, расположенным по
другую сторону границы (богам, лесным животным, птицам, покойникам,
другим народам), хаотической организации (не-организации) или «такой
же, как у нас», может существовать представление о том, что потусто-
роннему миру свойственна своя особая организация. Представление это
возникает в связи со следующими структурными особенностями картины
мира: оппозиция «организация < > дезорганизация» способна разгра-
ничить поту- и посюсторонние миры, но она не способна провести границу
внутри первого. Однако в реальных текстах культуры широко представ-
лена не только противопоставленность мира животных и мира мертвых
(или богов), но и разграничение богов на добрых и злых или ему подобные.
ВШ распадается на две обособленные зоны, каждая из которых резко и
О метаязыке типологических описаний культуры
397
однозначно оценивается. Оценочность выражается в резкой простран-
ственной ориентированности модели («верх<—> низ»; реже «правое <г->
левое»). Возникает схема, представленная на рис. 5, которая, очевидно,
гомеоморфна схеме на рис. 6.
небо
земля
подземный
мир
Рис. 5 Рис. 6
7.0. Существенным элементом пространственного метаязыка описания
культуры является граница. Характер границы обусловлен мерно-
стью ограничиваемого ею пространства (и обратно). Поскольку в моделях
культуры в пограничных точках непрерывность пространства нарушается,
граница всегда принадлежит лишь одному — внутреннему или внеш-
нему — и никогда обоим сразу.
Таковы стены дома («У стен дома» — «L'interieur» Метерлинка, в поэзии
Блока), своя система границ в «Старосветских помещиках».
Тяжкий, плотный занавес у входа, —
За ночным окном — туман...
(Блок)
Занавес, ночное окно — разграничивают пространство на внутреннее
(«домашнее») и внешнее, но принадлежат внутреннему. Лес в вол-
шебной сказке, море или река в мифе — принадлежат внешнему
пространству.
7.1. Граница в тексте культуры может выступать в качестве инварианта
элементов реальных текстов — как имеющих пространственные признаки,
так и не имеющих. Так, в схеме «город •«—* мир» в качестве границы
выступают стена и ворота, имеющие ясно выраженную пространственную
характеристику («Ярославна рано плачет в Путивле на забрале»): за
«забралом» начинается мир стихий — ветра, реки, солнца, — на волю
которых отдана жизнь ее мужа; показательно, что пока граница внутрен-
него пространства проходит по реальным границам русской земли —
«шеломенем» и Донцу, — каждая река выступает в своей географической
реальности: спутать Дон, Днепр, Донец, Стугну — невозможно. Но всем
вместе противостоит лишь полумифическая Каяла12, протекающая во
«внешнем» мире половецкой степи. Реальность русского географического
пространства сменяется при выходе за его пределы сказочно-мифической
географией. Но как только границей внутреннего пространства оказы-
вается стена Путивля, разница между Днепром и Донцом перестает быть
существенной; это два имени одной реки, к которой и обращается
12 См.: Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Иго-
реве» // Тр. отд. древнерус. лит. / Ин-т. рус. лит. М.; Л., 1953. Вып. 9. С. 30—38.
398
Семиотика пространства
Ярославна. Пример Ярославны на стене Путивля интересен и в другом
смысле: здесь контаминируются ВШ волшебной сказки и мифа, населен-
ных злыми и могущественными нечеловеческими существами, и ВШ жен-
ской модели мира в рыцарскую эпоху — пространство, в котором воины
«делают, по выражению Владимира Мономаха, мужское дело». Русские
тексты настойчиво подчеркивают, что война — не женское дело («почто
смущаетесь аки жены»)13. Разные типы ВШ могут легко контаминиро-
ваться, поскольку обладают общей чертой — они всегда мне непонятны,
построены на чуждой мне логике. За стенами Путивля для Ярославны
господствуют чуждые и вне ее мира находящиеся законы стихий и
законы войны, «мужского дела».
Однако в качестве границы могут выступать и непространственные
отношения: черта, отделяющая оппозиции «холода—^ тепло», «раб*—>
свободный». Основным свойством границы является нарушение непре-
рывности пространства, ее недоступность:
Но недоступная черта меж нами есть...
(Пушкин)
7.1. Именно потому/что в структуру любой модели культуры входит
невозможность проникновения через границу, наиболее типичным построе-
нием сюжета является движение через границу пространства. Схема
сюжета возникает как борьба с конструкцией
мира.
7.2. Следует различать сюжетную коллизию (проникновение через
границу пространства) и несюжетную: стремление внутреннего простран-
ства защитить себя, укрепив границу, и внешнего — разрушить внутрен-
нее, сломав границу. Путь героя, преодолевающего границы (герой
волшебной сказки, Данте, странствующий по кругам ада, Растиньяк,
пробивающий себе дорогу в высшее общество), принципиально отли-
чается от вторжения внешнего пространства, ломающего границу внут-
реннего (чудовища вторгаются через меловой круг в «Вие», нашествие
Наполеона разрушает домашний мир усадьбы Болконского).
7.3. В зависимости от ориентированности модели может возникать
тенденция к укреплению границы (разрушение ее приравнивается унич-
тожению самой модели):
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить**.
13 Дом с его атрибутами, постелью, печью и теплом — вообще закрытое и жилое
пространство — воспринимается в рыцарских и богатырских текстах как «женский
мир». Ему противостоит «поле», как пространство «мужское». Причем с женской
точки зрения поле выступает как ВШ, а с мужской — дом. Ср. былинный (а также
у А. К. Толстого в балладе «Илья Муромец») сюжет ухода богатыря из закрытого
(не-героического, княжеского, «бабьева» — «любят женский пол») пространства
«на волю» — в степь и «пустыню». Летописный Святослав — идеальный рыцарь —
не имеет дома (во дворце оставил мать и ребенка и живет в поле), «Великой
похвалы достоин, / Когда число своих побед/ Сравнить сраженьям может воин/
И в поле весь свой век живет» (Ломоносов). Тарас Бульба разбивает всю утварь и
уходит из дома на Сечь, чтобы не «бабиться» (жить дома, жить «под бабьей
юбкой» — синонимы). Спать он ложится на дворе, накрывается овчиной, потому
что дома любит поспать в тепле. Ср. в «Старосветских помещиках» антитезу
«дома <-.—> вне дома» как «тепла <—> холода».
14 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. (.. I- , (курсив мой. —
Ю. Л.).
О метаязыке типологических описаний культуры
399
Такова поэзия дома, уюта, культуры. Ей противопоставлена поэзия
стихии, вторжения. Ср. тему разрушения дома, распахивания окна,
вскрытия вен у Цветаевой (тот же образ, что и у Пастернака, но противо-
положно ориентированный):
Вскрыла жилы: неотвратимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляй же миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской.
Через край — и мимо —
В землю черную...15
Ср. конфликт дома и бездомья в «Поэме конца» (— Помилуйте, это —
дом? — Дом в сердце моем. — Словесность!):
За городом! Понимаешь? За!
Вне! Перешед вал!
Жизнь, это место, где жить нельзя:
Ев — рейский квартал...16
Поэзия разоренности,гбезбытности, погруженности в стихийную сущность
внешнего мира в противоречивом сочетании с исключающей ее поэзией
очага («Стихи о сироте», поэтизирующие замкнутое пространство: башня,
остров, пещера, кожа, утроба) порождает в текстах Цветаевой оксюмо-
ронный образ недомашнего дома:
Лопушиный, ромашный,
Дом — так мало домашний!
В тексте одновременно присутствуют две противоположные ориентации:
прямая создает поэзию дома, обращенная — учитывает и оправдывает
взгляд на него с точки зрения бездомного:
Не рассевшийся сиднем
И не пахнущий сдобным.
За который не стыдно
Перед злым и бездомным:
Не стыдятся же башен
Птицы — ночь переспав.
Дом, который не страшен
В час народных расправ!17
Вторжение внешнего пространства (стихии) во внутреннее, хаоса в космос
будет очень существенно для модели мира Тютчева и Тургенева.
8.0. Установление соотношения между моделями культуры и текстами
культуры, т. е. семантическая интерпретация текстов культуры, требует
определенных правил соответствия. Этот вопрос нуждается в специальной
разработке. Укажем лишь на один из путей установления отношения
изоморфизма между человеком и всей моделью мира или ее частями.
8.1. Так возникают различные типы антропоморфизма мира, например,
представление о том, что мир, разделенный на организованную (косми-
ческую) и неорганизованную (хаотическую) сферы, в целом изоморфен
человеку, который также включает в себя эти две стихии.
15 ЦветаеваМ. Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 303 (курсив мой. — Ю. Л.).
Ih Там же. С. 471 (курсив М. Цветаевой).
17 Там же. С. 315 (курсив мой. — Ю. Л.).
400
Семиотика пространства
Такова картина мира Тютчева с ее принципиальной родственностью
человека космосу («И сладкий трепет, как струя, / По жилам пробегал
природы, / Как бы горячих ног ея / Коснулись ключевые воды...»)18,
и хаосу («О, страшных песен сих не пой / Про древний хаос, про родимый!/
Как жадно мир души ночной / Внимает повести любимой!»19. Аналогичны
будут масонские представления о разуме и страстях как двух космических
стихиях, политические концепции, отождествляющие правительство с
головой, а народ с ногами и т. п. Может устанавливаться изоморфизм
человека точке внутреннего пространства или всему внутреннему про-
странству.
Можно выделить большую группу моделей, для которых антропо-
морфна будет некоторая сверхчеловеческая организация, а человек будет
изоморфен части самого себя. Так, для Руссо ВН изоморфно человеку.
В «естественном» состоянии границы ВН — это физические границы
отдельного индивидуума, и человек изоморфен самому себе. Но и в обще-
ственном состоянии личностью становится заключившее договор обще-
ство, его границы суть границы ВН, и оно в целом изоморфно человеку.
Составляющие его люди — члены политического тела и изоморфны части
себя.
9.0. Мы рассмотрели только одну — наиболее примитивную — модель
культуры. Среди причин возникновения более сложных структур можно
указать на следующую. Устанавливая правила семантического истолко-
вания той или иной модели, мы исходим из точки зрения нашей картины
мира. Однако каждая модель мира включает в себя свое представление
о семантической интерпретации, и это требует усложнения модели куль-
туры.
9.1. Одной из основных характеристик типов культуры является их
отношение к проблеме знаковости. Поэтому, для того чтобы быть пригод-
ным для описания типов культуры, язык пространственных отношений
должен быть способным моделировать различные структуры знаковых
систем.
9.1.0. Другой стороной вопроса будет: находится ли внутри того или
иного текста культуры проблема знаковости в каких-либо соотношениях с
пространственными характеристиками картины мира?
9.1.1. На первый вопрос можно ответить только утвердительно: уста-
навливая однозначное соответствие каких-либо точек одного пространства
точкам другого, мы легко можем моделировать отношения значения как
пространственные.
9.1.2. Изучение типов культуры убеждает, что как только проблема
знака и знаковости выдвигается как одна из основных типологических
характеристик, между точками ВН и ВШ и этими пространствами в
целом устанавливаются отношения парной соотнесенности. Каковы эти
отношения, что выступает как содержание, что как выражение, как интер-
претируется само понятие «иметь значение» — зависит от характера
модели культуры.
9.2.0. При изучении некоторых текстов, например средневековых, мы
сталкиваемся с многоступенчатостью семантического построения. Один
и тот же элемент текста может получать разное значение в бытовом,
политическом, нравственно-философском и религиозном контекстах.
18 Тютчев Ф. П. Поли. собр. стихотворений. Л., 1939. С. 41.
19 Там же. С. 58.
О метаязыке типологических описаний культуры
401
9.2.1. Представим себе такую модель мира, в которой сам этот мир вос-
принимается как знак или как набор знаков, в виде двух пространств,
разбитых на одинаковое число участков, причем между этими участками
установлена взаимооднозначная соотнесенность. В этом случае связи
между этими двумя мирами могут приобретать характер мотивирован-
ности и немотивированности, мотивированные отношения могут иметь
иконический или символический характер.
9.2.2. В качестве примера мотивированной связи можно указать на
средневековую модель мира. При этом связь между определенными
участками одного пространства и соответствующими другого будет вос-
приниматься как извечная или богоустановленная, но всегда входящая
в неизменяемую сущность мира в качестве его важнейшей характери-
стики.
9.2.2.А. Связь эта может быть иконической. Такой случай наблюдается
в рационалистических средневековых вероучениях и в некоторых идеали-
стических философских системах (например, у Гегеля). Мир материаль-
ный является знаком, выражением абсолютной идеи. При этом он
представляет собой ее застывшее отражение, иконически точное. Именно
поэтому изучение человеком материального мира есть вместе с тем само-
познание абсолютной идеи.
В этом случае отношение между ВЫ и ВШ будет типологическим: между
точками, входящими в эти множества, будет отношение не только взаим-
ного однозначного соответствия, но и непрерывности, поскольку оба эти
пространства наделяются одинаковой мерностью.
Условную модель рационалистического средневекового вероучения
можно представить себе в виде двух (или более) сфер, расположенных
концентрически с однозначно соотнесенными точками. В случае, если
мы имеем дело с многоступенчатой семантикой знака, набор бинарных
противопоставлений с учетом того, что в качестве основной оппозиции
«ВН «—> ВШ» будут выступать каждый раз другие группы сферических
поверхностей, позволит построить семантическую парадигму.
Так, например, для многих средневековых систем тот или иной поступок
человека в земной жизни становится моральным фактом, только если
влечет за собой загробное наказание или награждение, то есть если он
существует не сам по себе, а парно соединен каким-то соответствием по
ту сторону границы «бытие до смерти ^—> бытие после смерти». С этой
точки зрения, существенным является то, что отделяет грех от благого
дела. Между всеми типами греха, с одной стороны, и всеми типами благих
дел, с другой, устанавливается различие, до известной степени сглажи-
вающее дифференциацию внутри этих групп.
Однако, лишь только тот или иной текст ставит перед собой задачу
изображения более узкой группы персонажей, относящихся только к миру
праведников (патерики) или миру грешников (например, описания ада),
возникает потребность во внутренней разграниченности этих групп. Так
возникает тенденция рассматривать разные грехи как количественное
углубление греховности, выражаемое в цифровых показателях (числа
кругов ада у Данте) и их пространственной соотнесенности (глубина).
При этом парадигматический набор всех кругов построен как система
парных оппозиций, в которых каждая новая грань на какой-то момент
выступает в качестве основной пространственной границы, разделяющей
«этих» от «тех».
Одномерность земной жизни и ада выражается не только в том, что все
схождение в загробный мир имеет характер путешествия, но и в икони-
ческом отражении природы греха в характере наказания.
402
Семиотика пространства
9.2.2.Б. Мистическая средневековая модель мира также исходит из
того, что все факты земной жизни имеют значение и, следова-
тельно, однозначно соотнесены с точками потустороннего мира. Но
однозначная соотнесенность пространств в этом случае не дополняется
их непрерывностью: ВШ имеет большую мерность, чем ВН. Поэтому
явления ВН не иконы своей сущности, а знаки, намеки, символы.
Пространственная модель подобной системы представит собой отно-
шение двух пространств, одно из которых имеет хотя бы на одно измерение
больше, чем другое. При построении многоступенчатой семантической
модели каждая новая ступень получает дополнительное измерение.
Приведем пример средневековой теократической концепции государ-
ства: события повседневной, практической жизни, с ее точки зрения,
реальны лишь в такой мере, в какой имеют государственное значение
(возникают взаимно соотнесенные: ВН — практическая жизнь, ВШ —
государственная). Но и государственная жизнь имеет значение лишь как
реализация «вечного града» (возникает другое парное отношение: ВН —
государственная жизнь, представляющая собой лишь выражение,
в качестве содержания выступает иерархия небесного право-
порядка). Но и этот последний расслаивается на церковь — земной знак
небесной сущности — и небо.
Переход от каждой новой семантической ступени в этой системе пред-
ставляет собой таинство. Отношение между содержанием и выражением
предустановлено, но не иконично, и в пространственной модели каждая
новая семантическая ступень будет иметь на измерение больше пред-
шествующей.
9.2.3. Существенное различие между рационалистической и мистиче-
ской средневековыми картинами мира получает выражение в истолко-
вании выражения в знаке как икона или символа-намека (ср. представ-
ление о телесном облике человека как подобии божества и о теле как
темнице духа). В этом смысле интересный пример мы находим в «Боже-
ственной комедии» Данте. Строя все грандиозное здание мира как
колоссальную конструкцию соотнесенных пространств, в которой земная
жизнь, чистилище, рай, с одной стороны, сложно соотнесены, образуя
иерархию значений, а с другой, лежат в одном измерении, поскольку все
вместе образуют единую, в том числе и географическую, конструкцию,
Данте не мог настолько рационализировать свою схему, чтобы и Эмпирею
— месту пребывания бога и ангелов — дать ограниченно локальную
характеристику. Он противопоставил его всему мирозданию как непро-
странство <—> пространству: «Лежащий вне пространства и лишенный
полюсов» (замечательно, как в этой формуле отрицание пространствен-
ности связывается с отрицанием ориентации)20. Однако и томист, и
аристотелианец, Данте не мог ощущать такое решение органичным для
себя. В других местах у него оказывается, что внепространственный
Эмпирей с иконической четкостью отражается в пространственной кон-
струкции неба! Небеса в своем делении на девять сфер относятся к
девяти ангельским чинам как «оттиск к печати»21.
Таким образом, разницу между рационалистической и мистической
средневековыми моделями мира можно свести к тому, что в первой ВН
и ВШ будут образовывать типологическое пространство, а во вто-
рой — нет.
Dante Alighieri. La Divina Commedia. Parad., XXII. 67.
Там же. Parad.. XXVIII. 55-56.
О метаязыке типологических описаний культуры
403
9.2.4. Одновременное ощущение знаковой природы мира и немотиви-
рованности этих знаков возникает в системах, рассматривающих отно-
шение ВН и ВШ не в качестве исконного и предустановленного, а как
результат злонамеренной или глупой выдумки людей. Деньги или знаки
достоинств не имеют самостоятельной ценности и вообще не существуют
вне отношения к определенному содержанию. Но это отношение «выду-
манное». Знаковость воспринимается в этой системе как зло.
10.0. Проблема «точки зрения» текста культуры решается при помощи
ориентирования и графов, «деревьев» модели культуры. Обратимость
культуры состоит в том, что каждая из моделей может быть реализована
с прямой или обратной ориентировкой. Типы ориентации усложняются
по мере усложнения моделей культуры: в локально организованных
участках текста могут возникать свои — разнонаправленные — системы
ориентации, поскольку возникают подгруппы пространств со своим раз-
делением на ВН и ВШ. Наиболее сложные модели характеризуются
одновременным функционированием обоих ориентирований.
И.О. .Деление х пространства культуры на ВН и ВШ может лечь в
основу неск^л^ких типов моделей, например: 1) ВНТВШ^— различные
и не гомеоморфные пространства^)..,BILL отображается в ВН; 3) ВН —
часть ВШ и т. д. Отношения типа (1) представлены, например, в сказоч-
ных текстах, типа (2) — в средневековом символизме, типа (3) — в
историзме гегелевского типа (ВШ — универсум абсолютной идеи, ВН —
материальная реальность той или иной исторической стадии) или в
современном научном мировоззрении, рассматривающем евклидову гео-
метрию и ньютоновскую физику как частный случай иных систем, призна-
ваемых современной наукой.
11.1. Деление пространства на ВН и ВШ создает лишь самый грубый
аппарат для описания моделей культуры. Приведем примеры более
усложненных систем.
11.1.1. Волшебная сказка делит тексты культуры на ВН и ВШ, при-
писывая второму волшебное свойство. Граница, воплощенная в тексте в
виде реки (моста), леса, берега моря и т. д., делит пространство* на
близкое к обычному пребыванию героя (ВН) и далекое от этого места.
Но для исполнителя и слушателей сказки активно еще одно деление:
близкое к ним (ВН) — оно не может быть сопредельно с волшебным —
и далекое от них («тридевятое царство, тридесятое государство»), которое
граничит с волшебным миром. Для текста сказки — оно ВН, для слуша-
телей — входящий в ВШ сказочный мир. Таким образом, обе модели
функционируют одновременно.
П. 1.2. Рассмотрим модель культуры, характеризующую Просвещение
XVIII в. Носители ее осознают свою картину мира по контрасту со
свойственным средневековью резким разделением универсума на ВШ и
ВН, причем в средневековой системе ценным и истинным представлялось
ВШ, а ВН, в котором ВШ отображается, ценилось лишь как система
знаков-намеков, имеющих ВШ своим содержанием. В средневековой
системе ВН, во-первых, часть универсального множества, а во-вторых,
ориентировано как низменное.
По контрасту в модели культуры Просвещения:
1) в качестве ВШ имеется пустое множество. Осознание всего мира
как земного не означает отмену внутренней границы пространства.
Ценность земного мира не осознавалась бы с такой силой, если бы ему
не противостояла пустота на месте внешнего.
404
Семиотика пространства
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса...22
С осознанием внешнего мира как пустого подмножества связано и
противоположное ощущение — чувство бессмысленности внутреннего:
На что молиться нам, чтоб дал бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй...
...Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак23;
2) земной мир осознается как высшая ценность: в ценностной (ориен-
тированной) модели он занимает верхнюю клетку. Но поскольку он
единственный — ему противопоставляется пустое подмножество «нецен-
ного» (нижнего) потустороннего мира.
Однако Просвещение осознает свою картину мира и через другую
модель культуры — уже не зависимую от каких-либо ей внеположенных
контрастов. Эта модель строится из оппозиции «естественное *—* искус-
ственное» с четким противопоставлением ВН (антропологического) как
естественного, нравственного и высокого в ориентированной модели мира
и ВШ (социального) как противоестественного, безнравственного и
низкого. Характерным будет то, что ВШ здесь — извращенное ВН. Оно
представляет собой его точное повторение с обратным знаком. Если в
средневековой модели ВН и ВШ принципиально имеют разное количество
измерений, то здесь они в этом отношении принципиально уравнимы.
Из сказанного видно, что один и тот же текст в своем реальном функцио-
нировании может описываться (и осознавать себя) одновременно в кате-
гориях нескольких моделей культуры.
12.0. Сюжет текста может отображаться при помощи «древа» движения
некоторой точки внутри модели культуры или дерева. Сюжет всегда
представляет собой путь — траекторию перемещений некоторой точки
в пространстве модели культуры.
12.0.1. Описание окрестностей сюжетного дерева в данном топологи-
ческом пространстве даст сумму сюжетов, которые можно рассматривать
в качестве вариантов одного сюжетного инварианта. Связь между типом
окрестностей и топологией пространства может быть истолкована как
отношение обусловленности между моделью культуры, картиной мира,
с одной стороны, и типами сюжетов, с другой.
12.0.2. Представим себе пространственную модель сюжета в виде
некоторой карты. На этой карте нанесены две страны, разделенные
морем. Одна из них — ВН, другая — ВШ. Море — граница между ВН
и ВШ. В таком виде карта будет соответствовать бессюжетному тексту.
Теперь проведем на карте трассу морских сообщений. Это мы покажем,
что граница, разделяющая эти два пространства и непреодолимая для
всех предметов и людей их населяющих, может быть преодолена кораб-
лем. Корабль становится подвижным элементом текста, обладающим
разрешением на перемещение в запретной для других области и соеди-
няющим исконно разделенные сферы пространства.
Однако пересечение им границы подчинено некоторым законам. При-
рода ВН, ВШ и границы между ними определяет тип пересечения
границы — трассы на нашей карте.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1948. Т. 3. Кн. 1.С.322.
Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 211—212.
О метаязыке типологических описаний культуры
407
Вводя трассу, мы сразу же определяем три типа характеристик сюжет-
ного текста:
а) направление. Корабль может двигаться по трассе из ВШ в
ВН и из ВН в ВШ;
б) реализация движения. Трасса задает типовой путь.
Реальный корабль может проделать его до половины или вообще ока-
заться неспособным к этому пути. Происходит отделение типового сюжет-
ного дерева от реальной траектории перемещения героя данного текста.
Вторая делается значимой на фоне первой;
в) уклонение с пути. Наличие трассы делает значимым не
только ее невыполнение, но и уклонение от типового (единственно раз-
решенного) пути. Возможны тексты со строгим запрещением другого
пути. Уклонение означает гибель, непересечение границы. Однако воз-
можны тексты, представляющие кораблю выбор между несколькими
путями или предусматривающие некоторые типы отклонений. Однако
само понятие отклонения и его значимость определены наличием трассы.
12.1. Как уже было отмечено, персонажи в сюжетных текстах делятся
на неподвижных, являющихся частью того или иного пространства,
и подвижных.
Сюжетное движение персонажа (событие) заключается в пересечении
им границы пространства модели. Сюжетные изменения, не приводящие
к пересечению границы, «событием» не являются.
12.1.1. Сложные модели культуры представляют собой иерархию кон-
струкций, а сложные тексты культуры — иерархию уровней. Границы
разбиения пространства на разных уровнях могут не совпадать, эпизо-
дические части текста могут содержать локальные подструктуры с иным,
чем в других местах, типом упорядоченности пространства и иными
границами его разбиения. Это приводит к тому, что в сложных сюжетных
текстах траектория героя может пересекать не только основную границу
модели культуры, но и находиться в движении относительно более частных
разграничений.
12.2. Изображаемые при помощи линий траектории могут на семанти-
ческом уровне интерпретироваться как «путь человека», «событие» и,
следовательно, отражать то, что в пределах данного текста культуры
считается «событием». Так, например, смерть человека, приобретение
или утрата богатства, женитьба и т. д. будут «событием» с точки зрения
одной системы, а с другой точки зрения не будут событием. Ср. отказ
русских воинских текстов раннефеодальной эпохи считать смерть воина
«событием» (слова Владимира Мономаха: «Дивно ли оуже мужь оумерль
в полку ти л-ьпше суть измерли и роди наши»24; речь Даниила Галицкого
перед войском: «Аще моужь оубиен есть на рати, то кое чюдо есть? Инии
же и дома оумирают без славы, си же со славою оумроша»25 — для того
чтобы с этой точки зрения смерть стала событием, она должна быть соеди-
нена со славой или бесчестием, быть знаком, а не только фактом). В рав-
ной мере для Гоголя в «Театральном разъезде» любовь перестает быть
событием, переходом через границу структурных пространств: «Не более
ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная же-
нитьба, чем любовь?»26
24 Поли. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 1. С. 254.
25 Полн. собр. рус. летописей. 2-е изд. Спб., 1908. Т. 2. С. 822.
26 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [В 14 т. М.], 1949. Т. 5. С. 142. Ср. пародийную
«любовь» в «Ревизоре», не являющуюся сюжетным «событием» (она не движет
хода пьесы).
406
Семиотика пространства
12.3. Поскольку сюжетное событие на языке пространственного моде-
лирования мы определяем как переход из одной структуры в другую,
возникает вопрос о том, что движущийся элемент имеет «свое» и «чужое»
пространство. Когда мы говорим: «персонаж сформирован данной
социальной средой» или же «персонифицирует национальный характер»,
мы утверждаем соответствие персонажа некоторому пространству модели
культуры (социальному, национально-психологическому).
12.3.1. Одни и те же реальные тексты, рассмотренные на разных
уровнях моделирования, могут дать разные картины. Так, на более
абстрактном уровне сюжет будет представлен как дерево всех допустимых
в пределах данной структуры движений героя. На более конкретном —
как реализация одного из этих путей (ср. 12.0.1.).
12.4. Отношение пути героя к пространству, через которое он проходит,
типы описания сюжетов должны стать предметом специального рассмот-
рения.
12.4.1. Сюжеты обратимы (в этом реализуется ориентированность
графов). Если существует сюжет «герой переходит из внутреннего про-
странства во внешнее, нечто там приобретает и возвращается во внут-
реннее» (волшебная сказка), то должен быть и обратный: герой приходит
из внешнего пространства, несет ущерб и возвращается (сюжет об
инкарнации бога, гибель его здесь и возвращение в «свое» пространство).
Кроме сюжетных построений в виде перехода графа из ВН в ВШ (и
обратно), возможен и иной тип: устанавливается однозначное соответ-
ствие между внутренним графом ВН (пересекающим локальные границы
подмножеств ВН) и внутренним графом ВШ. Читается: «Событие X
имеет значение». Могут устанавливаться соответствия типа графа в ВН
типу в ВШ — таковы сюжеты о времени в раю и на земле (апокрифический
сюжет о человеке, заслушавшемся на мгновение райскую птичку — на
земле прошло восемьсот лет; евангельский сюжет о насыщении пяти
тысяч верующих пятью хлебами и двумя рыбами, причем осталось больше,
чем было).
13.0. В порядке предварительных выводов сформулируем некоторые
наиболее общие свойства моделей культуры, выявленные при их простран-
ственном описании.
13.0.1. Всякая модель культуры может быть описана в пространствен-
ных терминах
13.0.2. Всякая модель культуры гомеоморфна универсуму данного
коллектива. Она охватывает все. И обратно: модель, не охватывающая
универсального множества элементов структуры мира, не является
моделью культуры.
13.0.3. Всякая модель культуры имеет внутренние разграничения, из,
которых одно является основным и делит ее на внутреннее и внешнее
13.0.4. Внутреннее и внешнее пространства модели могут иметь одина-
ковое или разное количество измерений.
1З.0.5. Каждому типу разграничения пространства культуры соответ-
ствует не менее двух вариантов его ориентирования.
13.0.6. Между понятиями «событие» и «сюжет», с одной стороны, и
моделью культуры, с другой, существуют определенные зависимости,
которые могут быть описаны в пространственных (и, в частности, топо-
логических) терминах.
О понятии географического пространства...
407
О понятии географического пространства
в русских средневековых текстах
Понятие географического пространства принадлежит к одной из форм
пространственного конструирования мира в сознании человека. Возникнув
в определенных исторических условиях, оно получает различные контуры
в зависимости от характера общих моделей мира, частью которых оно
является. Настоящее краткое сообщение не преследует цели полностью
охарактеризовать средневековое чувство географического пространства.
Мы стремимся указать лишь на некоторые черты отличия его от совре-
менного.
В средневековой системе мышления сама категория земной жизни
оценочна — она противостоит жизни небесной. Поэтому земля как
географическое понятие одновременно воспринимается как место земной
жизни (входит в оппозицию «земля — небо») и, следовательно, получает
не свойственное современным географическим понятиям религиозно-
моральное значение. Эти же представления переносятся на географи-
ческие понятия вообще: те или иные земли воспринимаются как земли
праведные или грешные. Движение в географическом пространстве
становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравствен-
ных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя —
в аду.
При этом следует напомнить, что сама оппозиция «земля — небо»,
«земная жизнь — загробная жизнь» не подразумевала в русском средне-
вековом сознании отсутствия для второго члена противопоставления
пространственного признака. Мысль о том, что земная жизнь противо-
поставлена небесной, как пространство не-пространству, свойственна
была мистическим течениям средневековья, но решительно отвергалась
более «реалистически» мыслящим ортодоксальным православием. Новго-
родский архиепископ Василий с осуждением писал владыке тверскому
Федору, утверждавшему внепространственное, чисто идейное, существо-
вание загробного мира: «И ныне, брате, мнится ти мысленый, но все
мыслено мнится видением: а еже рече Христос в Еуангелии о втором
пришествии, и то ли мыслено сказаете?»1
Более того, поскольку земной мир — «тленный» и быстротечный, а
загробный — нетленный и вечный, то «материальность» его значительно
более «реальна»: заполняющие его пространство святые предметы не
подвержены порче, гниению и уничтожению — они не невещественны,
а вечно-вещественны: «Вся дела божия нетленна суть. Самовидець есмь
сему, брате, егда Христос идый в Иерусалим на страсть вольную, и
затвори своима рукама врата градная, и до сего дни неотворими суть (...)
сто финик Христос посадил, недвижими суть и доныне, не погибли, ни
погнили»2. Таким образом, земная жизнь противостоит небесной как
временная вечной и не противостоит в смысле пространственной протя-
женности. Более того, понятия нравственной ценности и локального
1 Полн. собр. рус. летописей. Спб., 1853. Т. 6. С. 88.
Ср. выразительное толкование в апокрифической «Беседе трех святителей»:
«Что высота небесная, широта земная, глубина морская? — Иоанн рече: Отец, Сын
и св. Дух» (Памятники старинной русской литературы. Спб., 1862. Вып. 3. С. 169).
408
Семиотика пространства
расположения выступают слитно: нравственным понятиям присущ локаль-
ный признак, а локальным — нравственный. География выступает как
разновидность этического знания.
Всякое перемещение в географическом пространстве становится отме-
ченным в религиозно-нравственном отношении. Не случайно проникно-
вение человека в ад или рай в средневековой литературе всегда мыслится
как путешествие, перемещение в географическом пространстве.
Это определяет и композицию «Божественной комедии», и построение
«Хождения Богородицы по мукам», где путеводитель архангел Михаил
спрашивает Богоматерь: «Куды хощешь, благодатная, да изидем на
полудне или на полунощь?» И далее: «Куды хощеши, благодатная (...)
на восток или на запад или в рай, на десно, или на лево идеже суть
великия муки?»3. Наиболее отчетливо эти представления проявились в
известном «Послании архиепископа новгородского Василия к владыце
тверскому Федору». Здесь находим утверждение, что «рай на въстоце
въ Едеме». Из рая идут четыре реки — Тигр, Нил, Ефрат, Фисон. Ад
помещается на западе, «на дышющем море» (Ледовитый океан), «много
детей моих новгородцев видоки тому». Рай тоже можно посетить в
результате географического передвижения — это случалось с новгород-
скими мореплавателями: «А то место святого рая находилъ Моислав
новогородець и сын его Яков и всех было их три юмы, и одина от них
погибла много блудив, а две их потом долго носило море ветром, и при-
несло их к высоким горам (...) а на горах тех ликования многа слышахуть,
и веселия гласы вещающа»4.
В соответствии с этими представлениями средневековый человек рас-
сматривал и географическое путешествие как перемещение по «карте»
религиозно-моральных систем: те или иные страны мыслились как
еретические, поганые или святые. Общественные идеалы, как и все
общественные системы, которые могло вообразить себе сознание той поры,
мыслились как реализованные в каком-либо географически приуроченном
пункте. География и географическая литература были утопическими по
существу, а всякое путешествие приобретало характер паломничества.
Этот особый характер подхода к географии, которая еще не восприни-
малась как особая естественнонаучная дисциплина, а скорее напоминала
разновидность религиозно-утопической классификации, очень характерен
для средневековья. С этим связано особое отношение к путешественнику
и путешествию: длительное путешествие увеличивает святость человека.
Одновременно стремление к святости подразумевает необходимость
отказаться от оседлой жизни и отправиться в путь. Разрыв с грехом
мыслился как уход, пространственное перемещение. Так, уход в мона-
стырь был перемещением из места грешного в место святое
и в этом смысле уподоблялся паломничеству и смерти, которая также
мыслилась как пространственно-географическое перемещение.
Показательно, что для мистиков, утверждающих «мысленный» характер
рая, например для заволжских старцев, отпадает необходимость в
странствовании, перемещении в географическом пространстве. Само-
углубленная молитва, экстатическое ожидание «Фаворского света» с
3 Памятники старинной русской литературы. Спб., 1862. Вып. 3. С. 119 и 122.
Ср. в «Слове о трех мнисех, како находили святого Мокарья» о рае, как особой
стране: надо пройти грады, «един железен, а другии медян; да за теми градома
рай божий» (Там же. С. 139).
4 Полн. собр. рус. летописей. Спб., 1853. Т. 6. С. 87—88.
О понятии географического пространства...
409
перемещением в пространстве уже не связываются. Показательно, что и
в масонской литературе XVIII в. географическое поле значений было
полностью заменено нравственным и сюжет о перемещении в географи-
ческом пространстве воспринимался как аллегория нравственного воз-
рождения. Вопрос о соотношении мотива путешествия и этического
формирования личности в литературе XVIII в. выходит за рамки настоя-
щего сообщения. Другим путем разрушения этой связи было рождение
нового, естественнонаучного подхода к географии.
В этом смысле интересно сравнить «Сказание об Индийском царстве»
и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Индия в этих двух текстах
предстает перед нами в совершенно различном виде. В первом случае это
страна-утопия, которая антитетически связана с русской землей в единой
системе социальных, моральных и религиозных отношений. Причем
утопическая прекрасная Индия не есть страна, в которой только обще-
ственные отношения устроены особым, более счастливым, чем на Руси,
образом. Средневековая русская утопия подразумевает существование
особой географии, особого климата, другого животного и растительного
мира. Перемещение в географическом пространстве приводит путеше-
ственника на другую степень благости. А необычная степень благости
подразумевает и необычную географию. Иоанн, «царь и поп» Индейского
царства, так говорит о своей земле: «Есть у мене люди полптицы, а пол
человека, а иныя у мене люди глава песья, а родятся у мене во царствии
моем зверие слонови, дремедары и крокодилы и велблуди керно. Кроко-
диль зверь лют есть. На что ся разгневает, а помочится на древо или на
ино что, в той час ся огнем сгорит <...). Есть у мене земля, в неиже трава,
ея же всяк зверь бегает, а нет в моей земли ни татя, ни разбойника,
ни завидлива человека, занеже мои земля полна всякого богатства. А нет
в моей земли ни ужа, ни жабы, ни змеи, а хотя и войдет, ту и умрет»5.
В связи с этим возникает устойчивое в средневековой литературе убеж-
дение, что каждой степени благости соответствует свой климат: рай —
это место с особенно благодатным, приспособленным для жизни человека
в земном смысле климатом, а ад составляет ему в этом смысле противо-
положность. В раю благодатная почва, все растет само и в изобилии,
в аду климат, невозможный для жизни, — лед и огонь.
В русском средневековом переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия
место загробного пребывания блаженных душ помещено «за окьяном,
иде же есть мъсто, не тяжимо ни дождемь, ни снъгомь, ни сълньчьнымъ
сианиемъ, но духъ тих от окьяна и благовоненъ югъ, въющь на нь». Совер-
шенно иной климат в аду: «Аще ли злодеьица есть, вьдуть ю к темному и
зимному мьсту»6.
Индия Афанасия Никитина представляет собой нечто совсем иное,
чем Индия «царя и попа» Иоанна. Это страна своеобразного климата и
обычаев, но для нее нет особого места на лестнице благости и греха.
В этом смысле нельзя сказать, что она представляет воплощение в
географическом пространстве некоей особой ступени благодати, а Русская
земля занимает какую-то другую ступень в той же системе. Здесь эти связи
просто не существуют. Тем более примечательно, что одновременно
происходит разрушение средневекового понятия пространства и замена
его представлением о географической протяженности в духе нового
5 Веселовский А. Н. Южнорусские былины. Спб., 1881. С. 345.
Мещерский И. А. История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском
переводе. М.; Л., 1958. С. 255—256.
410
Семиотика пространства
времени. Переживание географического пространства Афанасием Ники-
тиным ближе к эпохе Возрождения, чем к средневековью.
Говоря о средневековом понятии географического пространства, необхо-
димо остановиться и на идее избранничества, органически вытекавшей
из деления земель на праведные и грешные. Порожденная ростом
стремления замкнуться в себе, свойственным средневековому обществу
на некоторых его этапах, эта идея накладывала отпечаток и на пред-
ставление о пространстве. Оппозиция «свое—чужое» воспринимается как
вариант противопоставлений «праведное—грешное», «хорошее—пло-
хое». Эта система уже не позволяет противопоставить своей земле
блаженную утопию чужого края: все не свое мыслится как греховное.
Это чувство ярко воплотил А. Н. Островский в словах Феклуши в «Грозе»:
«Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет право-
славных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан
Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят
они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все непра-
вильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой
уж им предел положен, У нас закон праведный, а у них, милая, неправед-
ный (...). А то есть еще земля, где все люди с песьими головами» «за невер-
ность»7. Интересно, что в «Сказании о Индийском царстве» «люди пол пса
да пол человека» живут именно в праведной (= чужой, диковинной)
земле.
Сочетание средневековых пространственно-географических представ-
лений с идеей избранничества своей земли своеобразно отразилось в
сочинениях протопопа Аввакума. Чужие земли для него — «греховные».
«Палестина, — и серби, и албанасы, и волохи, и римляне, и ляхи, — все-де
трема персты крестятся»8. Но поскольку и на Руси православие упало
(«выпросил у бога светлую Россию сатона»), то своя земля в простран-
ственно-географическом смысле становится «заграницей»: «Кому охота
венчатца (мученическим венцом. — Ю. Л.) не по што ходить в Перейду, а
то дома Вавилон»9. Употребление географического термина («Вавилон»)
как синонима понятия, в нашем представлении никак не являющегося гео-
графическим, раскрывает своеобразие средневекового понимания локаль-
ности.
Приведем таблицу, из которой будет ясно, что изменение нравственного
статута для средневекового сознания древней Руси означало перемещение
в пространстве — переход из одной локальной ситуации в другую.
Слитность географического (локального) и этического элементов при-
водила к ряду интересных последствий. Во-первых, побудительная при-
чина путешествия часто не собственное желание, а необходимость награды
за добродетель или наказания за порок. В проложном житии святого
Агапия «бысть ему глас, глаголя: «Агапие, изиди из манастыря, да увеси,
что уготова бог любящим его»10, а братоубийца Святополк «не можаше
терп*ти на единомь мъсть и пробъжа Лядьскую землю, гонимъ Божьимъ
гнъвомъ, прибьжа в пустыню»11. Исход путешествия (пункт прибытия)
определяется не географическими (в нашем смысле) обстоятельствами
и не намерениями путешествующего, а его нравственным достоинством.
7 Островский А. Н. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1950. Т. 2. С. 227.
8 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения /
Ред., вступ. ст. и коммент. Н. К. Гудзия. М., 1934. С. 129.
9 Там же. С. 123 и 138.
10 Памятники старинной русской литературы. Спб., 1862. Вып. 3. С. 134.
11 Полн. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 1. С. 145.
О понятии географического пространства...
411
ПутешестЬие
пра&еЗника
грешника
родительский
(сЬой) бом
монастырь
дом греха
сЬоя земля
сЬятые земли
нечистые земли
земные страны
ь
W
райские страны]
аО 1
Своеобразный характер этого путешествия подчеркивается не только
устойчивым сопоставлением первой стадии (монах) и последней (мерт-
вец), но и представлением о том, что телесное, еще при жизни человека,
посещение им рая или ада ( посещение — путешествие) вполне возможно.
Более того, из идеи о том, что локальное положение человека в простран-
стве должно соответствовать его нравственному статусу, с неизбежностью
вытекала популярная в средневековой литературе ситуация: праведник,
взятый при жизни в рай, или грешник, отправленный вживе в ад.
Очень показательно в этом отношении апокрифическое житие святого
Агапия. Здесь праведник проделывает весь цикл путешествия: «Оставив
дом и притяжание отне и жену и щьд в монастырь и бысть мних». А затем
он, послушный гласу, оставил монастырь и отправился в путь. Путе-
шествие заканчивается встречей со святым, который «въведе и в рай
и вся благая тамо виде». И рай в данном случае характеризуется именно
не мысленностью, а вечно-материальностью. Святой Илия дал Агапию
«часть хлеба, его же сам ядаша»12. Хлеб этот вполне подобен земному,
поскольку также предназначен для питания, его могут есть люди. Отли-
чается от земного он лишь особой прочностью: незначительного кусочка
его достаточно для пищи многим людям на долгое время.
Обращение к таблице позволяет сделать еще некоторые наблюдения:
левая клетка (из которой совершается переход) — едина, правая —
двоится в зависимости от того, какое путешествие задано — правед-
ника или грешника. Однако это «единство» левой клетки условно.
Так, «родительский (свой) дом» — это место изобильного и «прохладного»
жития, если из него предстоит переход в монастырь.
Однако ему же могут придаваться черты места сурового повиновения,
если перед нами путешествие грешника, который стремится к «освобожде-
нию» от нравственных обязательств.
Средневековое представление о пространстве вступало в противоречие
с некоторыми представлениями, свойственными ортодоксальному хри-
стианству. Так, антитеза земной и загробной жизни предписывала пра-
веднику скорбь на земле и ликование после смерти. Однако представление
12 Памятники старинной русской литературы. Спб., 1862. Вып. 3. С. 134.
412
Семиотика пространства
о рае и аде как включенных в географическое пространство заменяло
это резкое противопоставление постепенной градацией нарастания пра-
ведности и веселья одновременно. Вторжение «локальной» этики дефор-
мировало некоторые коренные представления христианства. В звене
«дом — монастырь» географический фактор еще мало ощутим, и здесь
действует обычная в христианской этике шкала оценок: скорбь входит
с положительным знаком, а веселье с отрицательным. Поэтому нормой
монашеского поведения будет «тесное житие», а местом расположения
монастыря избирается пустыня. Описания плодородия почвы, изобилия
плодов, хорошего климата не входят в штамп «пустынножития». Но уже
на втором звене, по мере увеличения роли пространственно-географи-
ческого фактора, дело меняется. «Святые земли» обладают благоприят-
ным климатом, и, соответственно, веселие в этих краях составляет норму
жизни, а не ее нарушение. Наоборот, греховные земли — скорбны, но
жизнь в них не увеличивает достоинства человека. Наиболее отдаленный
пункт — рай — противостоит обычным странам именно по признаку
веселья, радости, удобства для жизнив земном значении.
Учитывая особое значение географической отдаленности, можно
объяснить, почему в средневековую утопию обязательно входил локаль-
ный признак дальности. Прекрасная земля — земля, путь в которую
долог.
Географическое пространство — часть общего пространства, и приве-
денные соображения могут оказаться полезными при анализе специфики
пространственного чувства в русской средневековой литературе. Однако
этот вопрос требует более обширного материала, включая тот, который
дает древнерусская живопись.
Проблема художественного пространства...
413
Проблема художественного пространства
в прозе Гоголя
Сюжет повествовательных литературных произведений обычно разви-
вается в пределах определенного локального континуума. Наивное чита-
тельское восприятие стремится отождествить его с локальной отнесен-
ностью эпизодов к реальному пространству (например, географическому).
Однако существование особого художественного пространства, совсем
не сводимого к простому воспроизведению тех или иных локальных
характеристик реального ландшафта, становится очевидным, лишь только
мы сравним воплощение одного и того же сюжета средствами разных
искусств. Переключение в другой жанр изменяет «площадку» художе-
ственного пространства. В «Театральном романе» М. А. Булгакова
блестяще показано превращение романа в пьесу именно как переключение
действия из пространства, границы которого не маркированы, в ограни-
ченное пространство сцены. «...Книжку романа мне пришлось извлечь
из ящика. Тут мне начало' казаться по вечерам, что из белой страницы
выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том,
что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трех-
мерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно — горит свет
и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это
была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете
и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся
люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу.
Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапы
царапали бы буквы!
С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал
звуки рояля <...). Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный
дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади чело-
вечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь»1.
Поскольку «коробочка» в дальнейшем оказывается изоморфной сцене2,
очевидно, что в понятие пространства здесь не входит его размер. Значима
не величина площадки, а ее ограниченность. Причем ограничен-
ность эта совсем особого рода: одна сторона «коробочки» открыта
и соответствует отнюдь не пространству, а «точке зрения» в литературном
произведении. Три других формально границами не являются (на них
может быть нарисована даль, пейзаж, уходящий в бесконечность, т. е.
должно имитироваться отсутствие границы). Нарисованное на
них пространство должно создать иллюзию пространства сцены и как
бы быть ее продолжением. Однако между сценой и ее продолжением на
декорации есть существенная разница: действие может происходить
только на пространстве сценической площадки. Только это пространство
включено во временное движение, только оно моделирует мир средствами
театральной условности. Декорация же, являясь фикцией продол-
жения сценического пространства, на самом деле выступает как его
граница.
1 Булгаков М. Избр. проза. М., 1966. С. 538—539.
2 «Коробочка моя давно уже не звучала (...). Перед глазами теперь вставала
коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро»
(Там же. С. 544). Таким образом, художественное пространство обнаруживает
некоторые типологические качества.
414
Семиотика пространства
При этом следует подчеркнуть, что выросшее в определенных истори-
ческих условиях представление о том, что художественное пространство
представляет собой всегда модель некоего естественного пространства же,
оправдывается далеко не всегда. Пространство в художественном произ-
ведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные,
этические и т. п. Это может происходить потому, что в той или иной модели
мира категория пространства сложно слита с теми или иными понятиями,
существующими в нашей картине мира как раздельные или противо-
положные (ср. наличие в средневековом понятии «Русской земли» приз-
наков не только территориально-географического, но и религиозно-
этического характера, дифференциального признака святости, противо-
поставленного в «чужих землях» греховности одних и иному иерархиче-
скому положению на лестнице святости других; можно указать и на
наличие признака единственности, противопоставленного множествен-
ности других земель, и т. п.). Однако причина может быть и в другом:
в художественной модели мира «пространство» подчас метафорически
принимает на себя выражение совсем не пространственных отношений
в моделирующей структуре мира.
Таким образом, художественное пространство представляет собой
модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных
представлений. При этом, как часто бывает и в других вопросах, язык
этот, взятый сам по себе, значительно менее индивидуален и в большей
степени принадлежит времени, эпохе, общественным и художественным
группам, чем то, что художник на этом языке говорит, — чем его
индивидуальная модель мира. Само собой разумеется, что «язык про-
странственных отношений» есть некая абстрактная модель, которая
включает в себя в качестве подсистем как пространственные языки разных
жанров и видов искусства, так и модели пространства разной степени
абстрактности, создаваемые сознанием различных эпох3.
Художественное пространство может быть точечным, линеарным,
плоскостным и объемным. Второе и третье могут иметь также горизон-
тальную или вертикальную направленность. Линеарное пространство
может включать или не включать в себя понятие направленности. При
наличии этого признака (образом направленного линеарного простран-
ства, характеризующегося релевантностью признака длины и нерелевант-
ностью признака ширины, в искусстве часто является дорога) линеарное
пространство становится удобным художественным языком для модели-
рования темпоральных категорий («жизненный путь», «дорога» как
средство развертывания характера во времени).
В этом смысле можно провести различие между цепочкой точечных
локализаций и линеарным пространством, поскольку первые всегда ахрон-
ны. Приведем один пример: в чрезвычайно содержательной работе С. Ю.
Неклюдова «К вопросу о связи пространственно-временных отношений с
сюжетной структурой в русской былине», знакомство с которой сильно
3 Язык художественного пространства иерархичен. Это проявляется, в частно-
сти, в том, что внутри тех или иных его разновидностей, с точки зрения более
абстрактных моделей пространства, также могут быть выделены уровни сообщения
и кода («подъязыка»). Так, например, объемная модель пространства может
выступать в качестве языка, средствами которого моделируются некоторые вне-
пространственные категории. Однако достаточно сопоставить объемную модель
пространства, создаваемую средствами театра и средствами живописи, чтобы
убедиться, что на этом уровне она уже будет выступать в качестве одного
сообщения, передаваемого средствами разных языков.
Проблема художественного пространства...
415
повлияло на ход мыслей автора предлагаемой статьи, подчеркивается,
что «места, в которых происходит эпическое действие, обладают не
столько локальной, сколько сюжетной (ситуативной) конкретностью.
Иными словами, в былине прослеживается твердая приуроченность к
определенному месту определенных ситуаций и событий. По отношению
к герою эти «места» являются функциональными полями, попадание в
которые равнозначно включению в конфликтную ситуацию, свойственную
данному locus'y. Таким образом, сюжет былины может быть представлен
как траектория пространственных перемещений героя»4. Однако, как
отмечает и С. Ю. Неклюдов, каждая из этих ситуаций имеет внутренне-
неподвижный, со всех сторон отграниченный («точечный») характер.
Поэтому в тех случаях, когда последовательность эпизодов поддается
перемещению й не задана (эпизод не содержит в себе однозначно пред-
сказанного последующего), мы имеем дело не с линеарным, а лишь с
последовательно вытянутым точечным пространством.
Для описания точечного пространства нам уже пришлось обратиться
к понятию ограниченности. Действительно, представление о границе
является существенным дифференциальным признаком элементов «про-
странственного языка», которые в значительной степени определяются
наличием или отсутствием этого признака как у модели в целом, так и в
тех или иных ее структурных позициях.
Понятие границы свойственно не всем типам восприятия пространства,
а только тем, которые выработали уже свой абстрактный язык и отделяют
пространство как определенный континуум от конкретного его заполнения.
Так, фреска, роспись стен отличается от живописи, в частности, тем, что
не имеет художественного пространства, не совпадающего по своим
границам с физическим пространством стен и сводов расписываемого
помещения. Внутри той или иной фрески (или некоторых типов икон,
лубочных рисунков и народных картинок) могут изображаться отдельные
эпизоды одного сюжета в их хронологической последовательности. Эпи-
зоды эти могут быть отграничены рамками, но иногда эта последняя
отсутствует. В таком случае появляются иные функции, видимо, связанные
с отсутствием границы текста или структурным понижением ее роли.
Обязательной становится заданность отношений (синтагматика) эпизо-
дов: порядок чтения эпизодов, их пространственная величина относи-
тельно друг друга (центральный эпизод обычно больше размером и
выключен из заданной последовательности чтения боковых). Обязатель-
ным условием становится легкая вычленяемость эпизодов, что достигается
повторным изображением одного а того же персонажа, включаемого в
различные ситуации. Резкое сближение структуры этого типа с обще-
языковым повествованием заставляет воспринимать изобразительный
текст этого типа как рассказ в картинках (ср. книжки-картинки, комиксы
и т. п.)5.
4 Неклюдов С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных отношений с
сюжетной структурой в русской былине // Тез. докл. во II Летней школе по
вторичным моделирующим системам, 16—26 авг. 1966 г. Тарту, 1966. С. 42.
5 Ср. у Пушкина: картинки «изображали историю блудного сына: в первой
почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который
поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими
чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом
окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотав
шийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними
трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представ
416
Семиотика пространства
Сближение живописи этого рода с повествованием, в частности, прояв-
ляется в заданности направления чтения картины или рисунка (вводится
типичная для повествования временная ось развития сюжета). В этом
смысле особенно интересны иллюстрации Боттичелли к «Божественной
комедии» Данте. Каждая иллюстрация, построенная по законам перспек-
тивного рисунка эпохи Возрождения, составляет некий континуум про-
странства, в котором движутсяв определенном направлении фигуры
Данте и Вергилия. Динамика передается приемом повторения их фигур
до четырех-пяти раз на одном и том же рисунке в разных пунктах траекто-
рии их движения. Единство второго плана рисунка приводит к тому, что
при современном его «прочтении» создается впечатление одновременного
присутствия многих Дантов и Вергилиев. О «чтении» живописи см. в
книге Б. А. Успенского «Поэтика композиции» (М., 1970).
Пространственная отграниченность текста от не-текста является свиде-
тельством возникновения языка художественного пространства как особой
моделирующей системы. Достаточно сделать мысленный эксперимент:
взять некоторый пейзаж и представить его как вид из окна (например,
в качестве обрамления выступит нарисованный же оконный проем) или
в качестве картины. Восприятие данного (одного и того же) живописного
текста в каждом из этих двух случаев будет различным: в первом он
будет восприниматься как видимая часть более обширного целого,
и вопрос о том, что находится в закрытой от взора наблюдателя части,
вполне уместен. Во втором случае пейзаж, повешенный в рамке на стене,
н е воспринимается как кусок, вырезанный из какого-либо более обшир-
ного реального вида. В первом случае нарисованный пейзаж ощущается
только как воспроизведение некоего реального (существующего или
могущего существовать) вида, во втором он, сохраняя эту функцию,
получает дополнительную: воспринимаясь как замкнутая в себе худо-
жественная структура, он кажется нам соотнесенным не с частью объекта,
а с некоторым универсальным объектом, становится моделью мира.
Пейзаж изображает березовую рощу, и возникает вопрос: «Что находится
за ней?» Но он же является моделью мира, воспроизводит универсум,
и в этом смысле вопрос: «Что находится за его пределами?» — теряет
всякий смысл. Таким образом, пространственная отграниченность (равно
как и все другие ее виды, о которых не идет речь в данной статье) связана
с превращением пространства из совокупности заполняющих его вещей
в некоторый абстрактный язык, который можно использовать для разных
типов художественного моделирования.
Отсутствие признака границы в текстах, в которых это отсутствие
составляет специфику их художественного языка, не следует путать с
отсутствием данного признака на уровне речи (в конкретном тексте),
лено возвращение его к отцу» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1948. Т. 8.
Кн. 1. С. 99). Выделенные мной курсивом слова подчеркивают повторяемость
центрального персонажа всех картинок и заставляют воспринимать их как э п и-
зоды одного повествования с определенной детерминированной последователь-
ностью. С этим можно сопоставить заданность последовательности эпизодов в
повествовательных жанрах фольклора. Эпизоды такого типа могут восприниматься
как «точечные» при наличии парной оппозиции с иначе отграниченными (например,
линеарными) эпизодами. Так, мы увидим, что в «Мертвых душах» locus посещаемых
Чичиковым помещиков будет точечным («дом»), в противопоставлении линеарному
(«дорога») locus'y главного героя. Взятые же лишь в сопоставлении друг с другом,
эти эпизоды вообще не обнаруживают признака пространственной границы как
значимого.
Проблема художественного пространства...
417
при сохранении в системе. Так, художественный символ дороги содержит
запрет на движение в том направлении, в котором пространство ограни-
чено («сойти с пути»), и естественность движения в том, в котором
подобная граница отсутствует. Поскольку, как мы отмечали, художе-
ственное пространство становится формальной системой для построения
различных, в том числе и этических, моделей, возникает возможность
моральной характеристики литературных персонажей через соответствую-
щий им тип художественного пространства, которое выступает уже как
своеобразная двуплановая локально-этическая метафора. Так, у Толстого
можно выделить (конечно, с большой степенью условности) несколько
типов героев. Это, во-первых, герои своего места (своего круга), герои
пространственной и этической неподвижности, которые если и пере-
мещаются согласно требованиям сюжета, то несут вместе с собой и
свойственный им locus. Так, князь Белецкий из «Казаков» приносит с
собой Москву (и — уже — московский свет как определенный, свойствен-
ный ему тип пространства) в станицу, а Платон Каратаев — русскую
деревню во французский плен. Это — герои, которые е щ е не способны
изменяться или которым это у ж е не нужно. Они представляют собой
исходную или завершающую точку траектории — движения героев,
о которых речь будет дальше.
Героям неподвижного, «замкнутого» locus'a противостоят герои «откры-
того» пространства. Здесь тоже различаются два типа героев, которых
условно можно назвать герои «пути» (Пьер Безухов, Константин Левин,
Нехлюдов и другие) и герои «степи» (дед Ерошка, Хаджи-Мурат, Федя
Протасов). Герой пути перемещается по определенной пространственно-
этической траектории в линеарном spatium'e. Присущее ему пространство
подразумевает запрет на боковое движение. Пребывание в каждой точке
пространства (и эквивалентное ему моральное состояние) мыслится как
переход в другое, за ним последующее. Линеарное пространство у
Толстого обладает признаком заданности направления. Оно не безгра-
нично, а представляет собой обобщенную возможность движения от
исходной точки к конечной. Поэтому оно получает темпоральный признак,
а движущийся в нем персонаж — черту внутренней эволюции. Существен-
ным свойством нравственного линеарного пространства у Толстого стано-
вится наличие (при отсутствии «ширины») признака «высоты»; движение
героя по его моральной траектории есть восхождение или нисхождение
либо смена того и другого. Во всяком случае, этот признак обладает
структурной отмеченностью6.
В отличие от героя «пути», герой «степи»7 не имеет запрета на движение
в каком-либо боковом направлении. Более того, вместо движения по
траектории здесь подразумевается свободная непредсказуемость направ-
ления движения. При этом перемещение героя в моральном пространстве
связано не с тем, что он изменяется, а с реализацией внутренних потенций
его личности. Поэтому движение здесь является не эволюцией (точно
6 Следует отличать характер пространства, свойственного герою, от его реаль-
ного сюжетного движения в этом пространстве. Герой «пути» может остановиться,
повернуть назад или сбиться в сторону, приходя в конфликт с законами свойствен-
ного ему пространства. При этом оценка его поступков будет иной, чем для
аналогичных действий персонажа с иным пространственно-этическим полем.
7 В словах Феди Протасова «степь» — синоним антиаскетической, свободной
от внутренних запретов нормы поведения человека: «Это степь, это десятый век,
*то несвобода, а воля...» (ТолстойЛ. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 11. С. 221).
418
Семиотика пространства
так же, как «падение» Феди Протасова с точки зрения общества совсем
не является для Толстого нравственным понижением героя в том смысле,
который применим к Нехлюдову на отрезке сюжета от вступления в
гвардию до встречи на суде с Масловой). Оно не имеет и временного
признака. Функция этих героев — в том, чтобы переходить гра-
ницы, непреодолимые для других, но не существующие в их простран-
стве. Так, Хаджи-Мурат, живущий в мире, резко разделенном на сторон-
ников Шамиля и русских, с предельной отмеченностью границы между
двумя мирами, является единственным героем произведения, свободно
перемещающимся, игнорирующим это деление (ср. функцию Терека как
границы двух миров в «Казаках» и слова деда Ерошки: «Хоть с зверя
пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет,
там и дом»8).
Пространственные отношения у Толстого, как мы видели, часто высту-
пают в качестве языка для выражения нравственных построений. Вслед-
ствие этого они приобретают в значительной мере метафорический
характер. Иначе обстоит дело у Гоголя — в его произведениях особой
отмеченностью обладает художественное пространство. Spatium,
в котором движется и действует тот или иной герой, не только метафори-
чески, но и в прямом смысле устроен тем или иным, присущим ему
образом9. В этом смысле художественное пространство у Гоголя в
значительно большей мере «условно», т. е. художественно отмечено.
Художественное пространство в литературном произведении — это
континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие.
Наивное восприятие постоянно подталкивает читателя к отождествлению
художественного и физического пространства. В подобном восприятии
есть доля истинности, поскольку, даже когда обнажается его функция
моделирования внепространственных отношений, художественное про-
странство обязательно сохраняет в качестве первого плана представление
о своей физической природе. Поэтому весьма существенным показателем
будет вопрос о пространстве, в которое действие не может быть пере-
несено. Перечисление того, где те или иные эпизоды не могут происхо-
дить, очертит границы мира моделируемого текста, а перечисление мест,
в которые они могут быть перенесены, даст варианты некоторой
инвариантной модели. Предположим, что мы имеем некоторый текст,
в котором действие происходит в Москве и не может быть перенесено в
8 Толстой Л. И. Указ. соч. Т. 11. С. 200.
9 Отметим еще одну особенность: в системах, в которых локальная ситуация
не обладает отмеченным признаком границы, положение персонажа зафиксировано
или ограничено сравнительно небольшим набором поз и ситуаций. В системах с
четкой границей поведение персонажа внутри очерченного художественного про-
странства более свободно. Так, например, карнавальная маска, в отличие от сцени-
ческого актера, не знает черты, отделяющей художественное пространство от
не-пространства. Однако количество ограничений на позы и ситуации у нее
значительно выше. Художник не может расположить фигуры вне полотна, но в
пределах полотна он значительно свободнее, чем создатель фрески. Укажем, что
и в условном театре XX в., по мере того как жест делается более упрощенным,
«типовым», позы — неподвижными, растет стремление выйти за пределы рампы,
декорации, разрушить неподвижность театрального пространства. Ср. также
неподвижную картину концовки «Ревизора» и выход Городничего за пределы
сценического пространства («Над кем смеетесь?»). Можно предположить, что
степень фиксированности границ сценического пространства и свобода располо-
жения персонажей внутри него находятся в отношении дополнительности.
Проблема художественного пространства...
419
другой город10, и текст, допускающий перемещение в Петербург (но не
допускающий перенесения в сельскую местность). Возможно включение
их в оппозиции разного типа: «город — поместье»; «столица — провин-
ция»; «большой город — маленький город»11. Очевидно, что объект,
который будет моделироваться пространством данных текстов, различен,
хотя в обоих дело будет происходить в Москве. Теперь возьмем «Женитьбу»
Гоголя, где действие происходит «в московской части», «поближе к
Пескам, в Мыльном переулке»12 (Петербург). Переместить действие в
Замоскворечье, конечно, более возможно, чем на Невский проспект, —
текст воссоздает особое художественное пространство, которое будет
равно не Москве или какому-либо другому городу, а «купеческой части
русского города» 1830-х гг.
Однако художественное пространство не есть пассивное вместилище
героев и сюжетных эпизодов. Соотнесение его с действующими лицами
и общей моделью мира, создаваемой художественным текстом, убеждает
в том, что язык художественного пространства — не пустотелый сосуд,
а один из компонентов общего языка, на котором говорит художественное
произведение. Это особенно ясно в творчестве Гоголя и, видимо, не
случайно.
*
Художественное зрение Гоголя воспиталось под впечатлением театраль-
ного и изобразительного искусств. Давно уже отмечалось, что опреде-
ленные части повествования Гоголя представляют собой словесные опи-
сания театрализованных эпизодов13. То же самое можно сказать и о
живописи. Если в «Тарасе Бульбе» Гоголь прямо изображает описывае-
мую им сцену как картин у14, то в более косвенной форме он неодно-
кратно отсылает читателя к чисто живописным средствам изобразитель-
ности (ср., например, превращение сцены в картину в конце «Ревизора»).
10 Ср., например, «Горе от ума», где действие могло бы развертываться в
любом барском доме Москвы (любая часть старой Москвы, в которой мог быть
расположен барский особняк, войдет в список взаимозаменяющих вариантов
пространства) и невозможно вне Москвы. Таким образом, текст развертывается
в пространстве дома Фамусовых, но моделирует Москву. А поскольку столь
территориально неравные пространства, как дом и город, объявляются идентич-
ными, то обнаруживается, что общность их имеет не вещественно-протяженный,
а топологический характер. Именно топологические свойства пространства создают
возможность превращения его в модель непространственных отношений.
11 В ходе работы над «Женитьбой» Гоголь переносит действие из поместья в
Петербург. Ясно, что эта оппозиция в тексте значима (действие в окончательной
редакции не может происходить в деревне). Однако существенный «петербургский»
колорит все же представляет собой вариантную разновидность некоего более
общего локального инварианта. Современный зритель (особенно под влиянием
традиции Островского) не воспринял бы перемещение действия в Москву как
нарушение правдоподобия локальной приуроченности текста.
12 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: [В 14 т. М.], 1949. Т. 5. С. 12 и 15 (в дальнейшем
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием римской цифрой тома и
арабской — страницы).
13 Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII—XVIII вв. и
юношеские повести Н. В. Гоголя // Памяти Н. В. Гоголя: Сб. речей и статей.
Киев, 1911.
14 «Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасы-
ваясь темною, как уголь, тенью, напоминали собой картины Жерардо della Notte»
(II. 95).
420
Семиотика пространства
Примеры свидетельствуют, что Гоголь часто, прежде чем описать ту или
иную сцену, превратив ее в словесный текст, представляет ее себе как
воплощенную театральными или живописными средствами. Но отожде-
ствление одного и того же эпизода в его реально-бытовом, сценическом,
живописном и литературном воплощении выделяло — именно благодаря
общности сюжета — специфику различных типов моделирования про-
странства, разбивало иллюзию о непосредственной адекватности реаль-
ного и художественного пространства и заставляло воспринимать это
последнее как одну из граней условного языка искусства.
Специфика восприятия пространства проявилась уже в первом значи-
тельном произведении Гоголя — цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Нетрудно заметить, что бытовые и фантастические сцены здесь, даже в
пределах одной повести, никогда не локализуются в одном и том же месте.
Но дело и в другом: они локализуются не только в разных местах, но и в
разных типах пространства. Так, в «Заколдованном месте» волшебная
природа этого «места» состоит в том, что в нем как бы пересекаются
волшебный и обыденный миры. Вступивший на него получает возможность
перехода из одного в другой. Эти миры очень похожи, но сходство их
лишь внешнее: сказбчный мир как бы притворяется обыденным,
надевает его маску. То, что это не подлинное сходство, а обманчивая
похожесть, выражается прежде всего в их пространственной несовмести-
мости. Сказочный мир «надевает на себя» пространство обыденного.
Но оно явно не по его мерке: разрывается, морщится и закручивается.
Попав через двери «заколдованного места» в волшебный мир, дед и не
почувствовал разницы — все предметы и их расположение ему знакомы:
«Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое:
с боку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь — далеко в небе.
Что за пропасть: да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны
тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря» (I, 311—312).
Но когда дед пришел на то же самое место в обыденном мире, начались
странные несоответствия пространства: «Вышел и на поле — место точь
в точь вчерашнее: вон и голубятня торчит: но гумна не видно. «Нет, это
не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!»
Поворотил назад, стал итти другой дорогою — гумно видно, а голубятни
нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле,
как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну —
голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало» (I, 312—313).
Точка в пространстве волшебного мира — место, с которого видны и
гумно, и голубятня, — «разлезлось» в обыденном, превратившись в
обширную площадь. Но стоило пройти через «волшебную дверь», вер-
нуться в фантастическое пространство, как территориальное пятно
снова съежилось в т о ч к у: «Глядь, вокруг него опять то же самое поле:
с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно» (I, 313). А вот
пример «закручивания» пространства — плоскостное пространство обы-
денного мира изоморфно вогнутому в мире волшебном: «За Киевом
показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться
сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел
Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и
Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку
видна была земля Галичская. «А то что такое?» допрашивал собравшийся
народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше
похожие на облака серые и белые верхи. «То Карпатские горы!» говорили
старые люди» (I, 275). Деформация пространства может порождать
комический эффект: известное место в «Пропавшей грамоте», где герой
Проблема художественного пространства...
421
не может попасть вилкой с ветчиной себе в рот — «по губам зацепил,
только опять не в свое горло» (I, 188), — можно истолковать и как
растяжение пространства, и как то, что дед и нечистая сила находятся
в разных — каждый в своем, — но взаимоперекрывающихся простран-
ствах.
Итак, пространства волшебного и бытового миров, при кажущемся
сходстве, различны. При этом волшебный мир может быть вкраплен в
бытовой, составляя в нем островки (хата Пацюка, овраг в «Вечере нака-
нуне Ивана Купала»). Однако он может и как бы дублировать каждо-
дневное пространство. Когда в «Майской ночи» дом сотника — то заколо-
ченная развалина, на месте которой собираются строить винницу, то пред-
стает в виде сверкающих хором, становится очевидным, что меняется
не он: просто есть около села реальный пруд со старым домом, но в том
же месте находится и обычно недоступный людям (попасть к нему
можно лишь случайно) другой пруд, с другим домом на берегу.
В нем и сейчас — в то же самое время, когда происходит действие
повести, — живет панночка-утопленница. Эти два пространства взаимно
исключают друг друга: когда действие перемещается в одно из них, оно
останавливается в другом.
*
Разделение двух типов пространства уже в «Вечерах...» получает весьма
глубокое художественное обоснование. Бытовое действие разверты-
вается чаще всего в пределах театрализованного пространства. Гоголь
как бы ставит между своим повествованием и образом реального события
сцену. Действительность сначала преобразуется по законам театра, а
затем превращается в повествование. Это создает совершенно особый
язык пространственных отношений в литературном тексте. Прежде всего
действие концентрируется на сравнительно небольшой сценической пло-
щадке. При этом на данной территории происходит перенаселение героев;
здесь концентрируется все действие. От этого построение текста так
часто приближается к драматургическому, членясь на монологи, диалоги
и полилоги. Движения героев тоже переведены на язык театра — они не
совершают незначимых движений. Движения превращены в позы:
«Ужас оковал всех, находившихся в хате. Кум с разинутым ртом
превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить;
разверзтые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец,
в непобедимом страхе, подскочил под потолок и ударился головою об
перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел
на землю. «Ай! ай! ай!» отчаянно закричал один, повалившись на лавку
в ужасе и болтая на ней руками и ногами. — «Спасайте!» горланил
другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения
вторичным испугом, пополз (...) в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам
задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипят-
ком, схвативши на голову горшок, вместо шапки, бросился к дверям...»
(I, 127—128). Эта особенность неоднократно уже отмечалась исследо-
вателями, особенно В. В. Гиппиусом, указавшим на зависимость жеста
Гоголя от театра кукол15, и А. Белым, писавшим: «Гоголем был осознан
прием умерщвления движения с переходом жеста в застывшую мину»16.
15 Гиппиус В. В. Гоголь. Л., 1924. С. 40—59. Ср. также чрезвычайно глубокую
работу того же автора «Люди и куклы в сатире Салтыкова» (Гиппиус В. В. От
Пушкина до Блока. М.; Л., 1966).
16 Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 162.
422
Семиотика пространства
Однако А. Белый полагал, что жесты этого типа (он их называл «меха-
ническим автоматизмом») свойственны лишь зрелому творчеству писа-
теля, в «Вечерах...» же он находил противоположный им «синтетический
динамизм» и иллюстрировал это описанием поведения колдуна из «Страш-
ной мести».
Приведенный нами пример свидетельствует, что дело здесь не только
в хронологической смене одной системы другой. Изображение быта
неизменно влечет за собой замедление динамики действий, переводимых
на условный, родственный пантомиме, язык жестов (попутно заметим,
что условность описания поведения героев в бытовых сценах у Гоголя
значительно обнаженнее, чем в фантастических, вопреки мнению авторов,
приравнивающих реализм правдоподобию, а изображение быта — реа-
лизму).
Театральность художественного пространства проявляется в бытовых
сценах и в другом — в высокой отмеченности границ художественного
пространства. Отграниченность пространства рампой и кулисами при
полной невозможности перенести художественно реальное (а не подразу-
меваемое) действие за эти пределы — закон театра, который лишь
подкрепляется тем, что каждый случай его нарушения (например, пере-
несение действия в зрительный зал в некоторых пьесах Пиранделло)
приобретает острую структурную отмеченность. Эта замкнутость про-
странства может выражаться в том, что действие происходит в закрытом
помещении (дом, комната) с изображением его границ (стен) на декора-
циях. Отсутствие стен со стороны зрительного зала не меняет дела,
поскольку имеет не пространственный характер: оно на языке театра
эквивалентно тому условию построения словесного художественного
текста, согласно которому автор и читатель имеют право знать все, что им
необходимо, о героях и событиях. Открытость сцены со стороны зала
изоморфна знанию того, что думают, делают, делали и будут делать
герои литературного текста. В определенном отношении ее можно отожде-
ствить с «точкой зрения» словесных произведений.
Бытовые сцены у Гоголя очень часто происходят в закрытых помеще-
ниях, и наоборот, там, где в закрытом помещении совершается фантасти-
ческое действие, «закрытость» его отменяется. Во время колдовства
внутренность башни меняется: «Чудится пану Даниле, что в светлице
блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темносинее небо и холод
ночного воздуха пахнул даже ему в лицо» (I, 257).
Однако возможно и другое отграничение замкнутого пространства.
Проведем снова аналогию со сценой: на декорациях могут быть нарисо-
ваны не замыкающие пространство стены, а бескрайние просторы полей
и гор. Но это не изменяет замкнутости сценического пространства,
которое отграничено совсем по другому принципу: декорация может
изображать продолжение сценической площадки и тем не менее между
ними будет пролегать резкая грань; сцена — это пространство, н а
котором может происходить действие, и оно отграничено
от пространства, на котором действие никогда не про-
исходит. Что бы ни было нарисовано на декорации, она изображает
находящееся по другую сторону этой границы. Нечто аналогичное проис-
ходит и у Гоголя: бытовая сцена — например, ссора Хиври и парубков
на мосту — может быть окружена описанием безграничного пейзажа.
Однако если для колдуна, пана Данилы, панночки, Вакулы верхом на
черте это бескрайнее пространство и есть место действия, то для Хиври
и парубков оно по ту сторону недоступной черты, а действие разверты-
вается на площадке, изоморфной сцене.
Проблема художественного пространства...
423
Другим отличием бытового пространства от волшебного является
характер их заполнения. Первое заполнено вещами с резко выделенным
признаком материальности (особенную роль играет еда), второе —
не-предметами: природными и астральными явлениями, воздухом, очер-
таниями рельефа местности, горами, реками, растительностью. При этом
рельеф выступает в резко деформированном виде. Если встречаются
предметы, то в них выделена не материальность, а отнесенность к прош-
лому, экзотичность вида или происхождения. Главным же признаком
волшебного пространства остается, в этом противопоставлении, его
незаполненность, просторность.
Мы уже видели, что в бытовом пространстве само движение пред-
ставляется разновидностью неподвижности: оно разбивается на ряд
статических поз со скачкообразными — вне художественного времени —
переходами от одной к другой17. Это тем более удивительно, что бытовое
пространство набито людьми. Между тем «пустое» пространство второго
типа неизменно характеризуется глаголами движения и антропоморфной
подвижностью. «Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом распола-
гаются в поле и кочуют по его (поля. — Ю. Л.) неизмеримости». Даже
состояние неподвижности описывается как движение: «Лениво и бездумно,
будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы» (I, 111). «Небо,
раскалившись, дрожало...» (I, 146). «Далеко от Украинского края (...)
идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными
цепями, перекидывают они вправо и влево землю» (I, 271; курсив мой. —
Ю.Л.). Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить.
Чем же объясняется это странное явление стиля, если не делать мало
что говорящих ссылок на общую «одухотворенность» и «пластичность»
гоголевского пейзажа? Для того чтобы понять это, вспомним тексты типа:
Кочуют вороны,
Кружат кусты.
Вслед эскадрону
Летят листы18.
Подобное построение текста станет понятным, если мы представим
себе передвигающегося наблюдателя. При бескрайности
(отмечена не граница, а безграничность) пространства передвижение
наблюдателя будет проявляться как движение неподвижных предметов,
заполняющих простор. Действительно, особенно ярко этот признак про-
является у Гоголя при наблюдении пейзажа из динамического центра.
При этом интенсивность глаголов движения — предикатов, приписы-
17 Неподвижность персонажей бытового пространства проявляется в невозмож-
ности для них совершить действие — поступок более серьезный, чем простое
перемещение в пространстве. В этом смысле интересен Иван Федорович Шпонька,
нерешительность которого в вопросе женитьбы, конечно, не объясняется в духе
вульгаризованного фрейдизма (как пример наиболее поверхностного истолкования
этого типа см.: McLean H. Gogol's Retreat from Love: Toward an Interpretation of
Mirgorod // American Contributions to the Fourth International Congress of
Slavistik, Moscow, Sept. 1958. S.-Gravenhage, 1958). Дело здесь именно в невоз-
можности для героя изменить свой статус: «Иван Федорович стоял, как будто
громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но
жениться!., это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать
без страха. Жить с женой!., непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их
должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице...» (I, 306—307).
18 Багрицкий Э. Собр. соч.: В2т.М.;Л., 1938. Т. 1.С. 588.
424
Семиотика пространства
ваемых неподвижным предметам (сам наблюдающий находится в дви-
жении, но кажется себе неподвижным), находится в соответствии со
скоростью передвижения центра: «Ему чудилось, что все со всех сторон
бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом, и как будто
живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились
задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая
всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его.
Отчаянный колдун летел в Киев...» (I, 276). В «Мертвых душах»: «Летит
мимо все, что ни есть на земли» (VI, 247); в письмах: «Однообразно
печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга
до Москвы» (X, 239).
Таким образом, нам пришлось ввести понятие «точки зрения». Оно нам
пригодится и в дальнейшем.
Поскольку граница «фантастического» пространства, в принципе,
заменена безграничностью («преобращая все в неопределенность и даль»;
I, 153), оно не может характеризоваться в смысле величины абсолютными
показателями и поэтому, казалось бы, не должно иметь градаций.
Однако разные типы как замкнутых, так и неограниченных пространств
«Вечеров...», будучи взаимно противопоставленными, располагаются
внутри каждой группы по степени интенсивности признака «замкнутость
— разомкнутость». Это приводит и к необходимости его градации. Гоголь
вводит интересную относительную градацию: чем интенсивнее фантастич-
ность пространства, тем — относительно к другим — оно безмернее:
«Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее»
(I, 159). Построение такого сверхраспространенного пространства тре-
бует особой позиции наблюдателя, и Гоголь решает вопрос, вынося «точку
зрения», с которой строится описание пейзажа, вертикально вверх и
переходя тем самым к трехмерному пространству. Все обилие волшебных
полетов, неожиданных вознесений вверх служит созданию особых,
неожиданно расширенных, пространств. Вот полет деда на «сатанинском
животном» в «Пропавшей грамоте»: «Глянул как-то себе под ноги —
и пуще перепугался: пропасть! Крутизна страшная!» (I, 190). В «Заколдо-
ванном месте» — «под ногами круча без дна» (I, 314), причем это на
ровном — в бытовом пейзаже — месте. Провалы и горы составляют
рельеф «Страшной мести», причем там, где в этом произведении Гоголь
по условиям сюжета не может поднять наблюдателя над землей, он
искривляет самую поверхность земли, загибая ее края (не только горы,
но и море!) вверх.
Мы еще увидим, какую большую роль вид сверху будет играть в «Вие»,
«Тарасе Бульбе» и «Мертвых душах».
Таким образом, нормальным состоянием волшебного пространства
становится непрерывность его изменений: оно строится, исходя из под-
вижного центра, и в нем все время что-то совершается. В противополож-
ность ему, бытовое пространство коснеет, по самой своей природе оно
исключает движение. Если первое, будучи неограниченно большим, в
напряженные моменты еще увеличивается, то второе отграничено со
всех сторон, и граница эта неподвижна.
Оба типа пространства не только различны — они противоположны,
составляя в системе «Вечеров...» оппозиционную пару, исчерпывающую
весь круг возможных видов художественного пространства. Размещаю-
щиеся в этих пространствах герои могут или принадлежать одному из
них, или переходить и:* одного в другое, или попеременно появляться
то в одном, то в другом.
Каждому пространству соответствует особый тип отношений функцио-
Проблема художественного пространства...
425
нирующих в нем персонажей. Правда (возможно, под влиянием того,
что в сознании Гоголя столь различные по художественному языку сис-
темы, как волшебная и бытовая сказка, объединялись в одну систему
«народная поэзия», куда входили и другие жанры эпической и лирической
народной поэзии), описанное нами разделение пространства проводилось
с известной непоследовательностью. Так, в «Ночи перед рождеством»
поведение чертей и ведьм строится еще по тем же законам, что и бытовое
поведение людей, а момент полета не связан с расширением и деформа-
цией земного пространства (более того, точка зрения повествователя не
совмещена с летящим Вакулой, а неподвижна и находится на земле; ср.:
«Пролетел как муха под самым месяцем», где летящий кузнец — не точка
зрения, а объект наблюдения, которое направлено снизу — вверх).
Эти особенности «Ночи перед рождеством», совпадая с некоторыми дру-
гими чертами этого произведения, поддерживают текстологическое
наблюдение Н. С. Тихонравова о том, что «повесть была вписана автором в
эту записную книгу ранее всех предшествующих ей набросков», воз-
можно, в 1830 году19.
Возникшая в тексте «Вечеров...» система пространственных отношений
оказалась в достаточной Ыере мощной моделирующей системой, которая
способна отделяться от своего непосредственного содержания и стано-
виться языком для выражения внепространственных категорий. Так, про-
странственная разделенность, взаимонепроницаемость, вещность наме-
тили средства выражения столь существенной для Гоголя на следующем
этапе идеи разобщенности, некоммуникабельности людей в замкнутом
мире. Явно ощущается в «Вечерах...» стремление Гоголя выражать в
пространственных категориях и этико-эстетические оценки. Так, бытовое
не может быть величественным, фантастическое не может быть ничтож-
ным и т. п. Правда, здесь не наблюдается полной противопоставлен-
ности групп: пространство бытовое может быть только комическим
(трагедия всегда связана с вторжением в него чуждых отношений), а
пространство волшебное — и трагическим, и комическим.
Однако нас не должно обескураживать то, что категории языка про-
странства не описывают всего текста «Вечеров...» и что далеко не все
семантические поля текста разбиваются на группы с легко устанавли-
ваемой взаимной эквивалентностью. То, что мы называем языком худо-
жественного произведения, на самом деле представляет собой совокуп-
ность языков. Художественный текст представляет собой как бы хор,
одновременно говорящий на многих языках. Отношения между ними
могут быть различными: какой-либо один может занимать доминантное
положение, навязывая свою систему моделирования всем другим. Однако
«языки» могут и различаться или даже взаимопротиворечить друг другу,
образуя контрапунктное построение.
*
Создание «Миргорода», а также циклизация другой группы повестей
вокруг Петербурга определили особое значение пространственных пред-
ставлений в творчестве Гоголя этих лет. «Миргород» в этом отношении
особо примечателен. Пушкин в «Евгении Онегине» говорил об особом
«деревенском» чувстве времени:
19 Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1889. Т. I. С. 550.
426
Семиотика пространства
...Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет20.
Гоголь начинает «Миргород» с декларации особой «деревенской» гео-
графии. Рядом стоят два эпиграфа — из географии Зябловского:
«Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канат-
ную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц» —
и «Из записок одного путешественника»: «Хотя в Миргороде пекутся
бублики из черного теста, но довольно вкусны». Сопоставление двух
различных определений одного и того же создает целый ряд допол-
нительных значений: тут и ироническое сопоставление карамзинистской
формулы «Из записок одного путешественника» с содержанием, а содер-
жания — с тоном и синтаксисом самой записи, и выделение двух точек
зрения на понятие достопримечательности, и многое другое. Однако
нельзя не заметить, что эпиграфы, давая две различные точки зрения на
понятие географического пространства («что такое Миргород?»), тем
самым приковывают внимание к этой категории. Система пространствен-
ных отношений в «Миргороде» вырастает из «Вечеров...», но гораздо
более сложна и разработанна. '
В «Старосветских помещиках» структура пространства становится
одним из главных выразительных средств. Все художественное простран-
ство разделено на две неравные части. Первая из них — почти не дета-
лизированная — «весь остальной» мир. Она отличается обширностью,
неопределенностью. Это место пребывания повествователя, его простран-
ственная точка зрения21. «Я отсюда вижу низенький домик» (II, 13),
«я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной
жизни» (II, 13); «я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии
какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что
если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то (...)
очутился бы лежащим на столе» (II, 27; курсив мой. — Ю. Л.). Вторая —
это мир старосветских помещиков. Главное отличительное свойство этого
мира — его отгороженность. Понятие границы, отделяющей это про-
странство от того, обладает предельной отмеченностью, причем весь
комплекс представлений Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны
организован этим разделением, подчинен ему. То или иное явление оцени-
вается в зависимости от расположения его по ту или по эту сторону
пространственной границы. Жилище старосветских помещиков — особый
мир с кольцеобразной топографией, причем каждое из колец — это особый
пояс границы, которая, чем ближе к центру, тем недоступнее для внешнего
мира. Пейзаж и все предметы на местности строятся по плану концент-
рических кругов: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой
необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает
за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, напол-
ненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие,
20 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 6. С. 113.
21 Вопрос о «точке зрения» как некотором текстообразующем структурном
принципе впервые был поставлен Г. А. Гуковским в его спецкурсе «Гоголь» и з
нескольких докладах, прочитанных на филологическом факультете Ленинградского
университета во второй половине 1940-х гг. Ср.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя.
М.; Л., 1959. С. 202-207.
Проблема художественного пространства...
427
пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами» (II,
13; курсив мой. — Ю. Л.). Итак, сначала кольцо изб, имеющее границей
кроны деревьев, затем сад с границей-плетнем и дворик с частоколом.
Защитный характер имеет и — тоже концентрическая — своеобразная
граница: «лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и
жучки» (II, 14). Затем дом, окруженный галереей. Галерея, как и каждая
граница, создает полосу недоступности для определенных сил. Через
пояс «деревня — сад — лай» не проникают чужие (т. е. «злые»)
люди, галерея непроницаема для дождя. Она идет «вокруг всего дома,
чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не
замочась дождем» (II, 13).
Следующий пояс — поющие двери, которые должны не допускать холод.
Не случайно наружная издает «странный дребезжащий и вместе стонущий
звук (...) «батюшки, я зябну!» (II, 18) — она граница между внешним
холодом и внутренним теплом («комнатки эти были ужасно теплы»).
Любые свойства атрибутируются или внешнему, или внутреннему про-
странству и в зависимости от этого получают свою оценку. Парная
оппозиция внешнего и внутреннего пространства выступает как трансфор-
мация оппозиции «волшебное — бытовое» пространство «Вечеров...».
Внешнее пространство обладает некоторыми интересными свойствами.
Во-первых, оно далекое, в отличие от внутреннего, которое наделено
признаком близости. Интересно, что, вопреки общепринятому, категория
«близкого—далекого» представляет собой постоянный признак и не соот-
носится с расстоянием от того места, где находится говорящий. Фраза:
«Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых
деревянных столбиков» — всей детализацией в описании «домика» и всем
последующим изложением утверждает его как «близкий», а место пре-
бывания «я» как далекое. Развитием такого построения будет знаменитое:
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя
вижу...» (VI, 220). Поместье Товстогубов обладает еще одним свойством:
оно «свое», а то, что лежит за его пределами, — «чужое». Причем снова
это свойство не относительно: оно характеризует пространство старо-
светских помещиков как таковое, а не только в отношении к его непосред-
ственным владельцам. Когда автор заезжал к старосветским помещикам,
«лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с
козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом
свой» (II, 14). Это не случайно: поместье старосветских помещиков и есть
Дом с большой буквы. Обитатели его не считали пространство, ограни-
ченное деревьями, плетнем, частоколом, галереей, поющими дверьми,
узкими окнами, теплотой и уютом, одним из многих подобных
гнезд (так смотрит автор) — все за пределами внутреннего мира есть
для старосветских помещиков мир внешний, наделенный полностью
противоположными их поместью качествами. Для Пульхерии Ивановны
расположение мебели в ее комнате — это не расположение мебели в е е
комнате, а Расположение Мебели в Комнате. Это замечательно выражено
в том, как она аттестует гостю водку, «перегнанную на персиковые
косточки»: «Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол
шкапа или стола, и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку
выпить перед обедом — и все как рукой снимет» (II, 26). Она даже не
допускает мысли, чтобы стол и шкап стояли иначе, чем в тех комнатах.
в которых она живет: не создавая угрозы для встающего с кровати, а
каким-либо другим образом.
Радушие, гостеприимство и доброжелательность также являются
постоянным свойством этого «домашнего» пространства. Закон внутрен-
428 Семиотика пространства
Безграничный внешний мир образует не продолжение (количественное
увеличение) расстояний внутреннего, а пространство иного типа:
возвращение гостя к себе домой («гость обыкновенно жил в трех или
четырех от них верстах») не отличается от самого продолжительного
путешествия — это «дальняя дорога» (II, 25), выход в другой мир. Этот
мир не изображается уже автором в виде волшебно-фантастическом,
но для старосветских помещиков он продолжает оставаться
мифологическим пространством. Он отгорожен, как в сказке, лесом
(«за садом находился у них большой лес»; II, 28), там живут таинственные
дикие коты — «никакие благородные чувства им не известны; они живут
хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах» (II, 29),
там кошечка Пульхерии Ивановны «набралась романтических правил»
(ср. романтическую антитезу домашнего уюта и мятежных странствий
в «Ганце Кюхельгартене»). В отличие от уюта и безопасности — законов
внутреннего мира, — внешний населен опасностями и вызывает у обита-
телей внутреннего настороженность и тревогу: там бывают «всякие
случаи» (во внутреннем мире «случаев» не бывает) — «нападут разбой-
ники или другой недобрый человек» (II, 25). Нельзя сказать, чтобы
внешний мир вызывал у обитателей внутреннего ужас или сильные
неприязненные чувства. Они даже с интересом и доброжелательством
слушают вести из него, но настолько убеждены в том, что он иной, что
известия о нем в их сознании неизбежно облекаются в форму мифа
(например, разговор о войне с мифологической персонификацией: «фран-
цуз тайно согласился с англичанином»). Чудесные события во внешнем
мире не удивляют старосветских помещиков, зато обыкновенное в нем
вызывает их искреннее удивление. Отказ пленной турчанки от свинины
не привлекает их внимания на фоне такого удивительного события, как
обыденность ее поведения: «Такая была добрая туркеня и не заметно
совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти,
как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе
запрещено» (II, 27). Если бы «туркеня» вела себя, как колдун в «Страш-
ной мести», это было бы для Пульхерии Ивановны менее удивительно,
чем ее сходство с другими людьми.
Внутренний мир — ахронный. Он замкнут со всех сторон, не имеет
направления, и в нем ничего не происходит. Все действия
отнесены не к прошедшему и не к настоящему времени, а представляют
собой многократное повторение одного и того же (прошедшее — время,
когда Афанасий Иванович «служил в компанейцах» и «увез довольно
ловко Пульхерию Ивановну» — также отнесено в область мифологии и
настоящему миру не принадлежит: «об этом уже он очень мало помнил»).
«Не проходило несколько месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек
стан не делался гораздо полнее обыкновенного (...). Пульхерия Ивановна
обыкновенно бранила виновную» (II, 18—19). «Как только занималась
заря (они всегда вставали рано) и двери заводили свой разногласный
концерт, они уже сидели за столиком и пили кофий. Напившись кофею,
Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил:
«Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попа-
дался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор» (II,
21—22). И далее все время нагнетаются глаголы несовершенного вида
со значением многократности, подчеркивающие повторяемость действий:
«Афанасий Иванович закушивал», «говаривал обыкновенно». «За обедом
обыкновенно шел разговор...» (II, 22; курсив мой. — Ю. Л.).
Однако в данном случае речь идет не просто об описании событий,
многократно происходивших, а о принципе ахронности, о том, что
Проблема художественного пространства...
429
любое, в том числе и однократное событие в принципе ничего нового не
вносит и может еще много раз повториться. В этом смысле удивительно
одно место: говорится, что Пульхерия Ивановна лишь однажды
«вошла» «в хозяйственные статьи вне двора». «Один только раз Пуль-
херия Ивановна пожелала обревизировать свои леса». Однако дальней-
шее изложение все идет в форме описания многократных действий.
На вопрос Пульхерии Ивановны, отчего дубки сделались такими редкими:
«Отчего редки?» говаривал обыкновенно приказчик: (...) пропали! (...).
Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, при-
ехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду» (II, 20;
курсив мой. — Ю. Л.).
Невозможность совершения событий, невозможность изменения, зна-
комая нам по «Ивану Федоровичу Шпоньке...», приобретает особый смысл.
Неизменность — свойство Дома, внутреннего пространства, и изменение
возможно лишь как катастрофа разрушения этого пространства. Вера в
невозможность этого делает сам вопрос предметом шуток: «Иногда,
если было ясное время и в комнатах довольно тепло, натоплено, Афанасий
Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановною
и поговорить о чем-нибудь'постороннем.
«А что, Пульхерия Ивановна, говорил он: «если бы вдруг загорелся
дом наш, куда бы мы делись?» (II, 24).
И когда в мире старосветских помещиков нечто совершается, происхо-
дит катастрофа. Изменение здесь равнозначно гибели. Причем характерно,
что происходит оно не как результат внутренней неизбежности; чуждая
Дому смерть вторгается извне: как в мифе, она приходит из леса.
Как мы уже отмечали, оппозиция «внутренний мир 4—> внешний мир»
«Старосветских помещиков» в определенном отношении соответствует
противопоставлению «бытовой <—^ фантастический» в «Вечерах...».
Однако «внутренний» мир здесь имеет существенное отличие: он не
включает в себя того окостенения, кукольности, скачкообразного перехода
от позы к позе, которое было присуще «бытовому» миру «Вечеров...».
Взятый внутри себя, он лишен некоммуникабельности. Более того, состав-
ляющие его персонажи соединены, а не разъединены. И из
намеков, разбросанных по тексту повести, видно, что разъединенность,
эгоизм, обрыв коммуникаций царят именно во внешнем мире, где живут
«чиновники казенной палаты», те, которые «наполняют, как саранча,
палаты и присутственные места», или даже романтический «человек в
цвете юных еще сил», «влюбленный нежно, страстно, бешено, дерзко,
скромно», дважды пытавшийся «умертвить себя» после смерти супруги
и уже через год весело играющий в карты в обществе молодой жены.
Внешний мир не унаследовал от фантастического его поэзии — таинствен-
ным и мифическим он представляется только обитателям «внутреннего».
Напротив, именно в усадьбе Товстогубов нашла прибежище поэзия,
изгнанная из холодного «внешнего» мира. Поэтому в повести фактически
две пространственные оппозиции. Для повествователя — большой, холод-
ный и далекий мир «здесь» (Петербурга) и теплый маленький мир
старосветских помещиков. Для Товстогубов — мифологический внешний
и буколический внутренний. Как и всякая буколика, он, будучи для
читателей XIX в. парно соотнесен с мифом, противостоит ему бытовизмом,
обыденностью, не-фантастичностью. Товстогубы убеждены, что «необык-
новенное» происходит вне их мира. Таким образом, для повествователя
и для «старичков» поэтическое (таинственное, фантастическое) и прозаи-
ческое распределяются по-разному.
430
Семиотика пространства
Для «старичков»:
внутренний мир внешний мир
бытовой, обыденный таинственный,
мифологический
Для повествователя:
мир «старосветских внешний мир,
помещиков» «здесь»
поэтичный холодно-прозаический
Мы видим, что внешний мир повести сохранил связь с разомкнутым
безграничным пространством «Вечеров...» лишь в наивных представлениях
Товстогубов. Само по себе это пространство в текст повести не введено,
но оно присутствует в том, что можно назвать масштабом внутреннего
пространства повести.
Преподнесение мелочей крупным планом, значение, которое уделяется
ничтожным событиям, заставляют понимать, ч т о в этом мире считается
крупным. В этом смысл подробной подачи незначительных деталей.
«А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те,
которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою
кашею». «Да», прибавлял Афанасий Иванович: «я их очень люблю; они
мягкие и немножко кисленькие» (II, 27). Здесь интересна и градация в
оценке пирожков (одни аттестуются только по начинке, а о другом гово-
рится, как об общем знакомом и, в некотором роде, знаменитости, с
употреблением оборота «это тот, который...»), и отношение Афанасия
Ивановича к сообщению Пульхерии Ивановны как в высшей мере
значительному и требующему утверждения или опровержения, и сложная
(составленная из двух показателей, причем второй разделен на градации:
«кисленькие» в отличие от «кислых» — и «немножко кисленькие» в отли-
чие от просто «кисленьких») мотивировка оценки.
Место, которое занимают в этом мире пирожки, дает масштаб самого
этого мира, и масштаб явно не измеряется только соотношением с внеш-
ним пространством, в котором находится повествователь, или же с тем,
как его представляют себе «старички». Следовательно, есть еще одно —
подразумеваемое — внешнее пространство, с которого снята мифоло-
гичность (она отошла в тот миропорядок, оба антитетических мира
которого характеризуются наивностью), но сохранился размах и
значительность «разомкнутого» мира «Вечеров...».
Три типа внешнего пространства определяют и три типа отношений к
«внутреннему» пространству, что раскрывает его сущность с разных
сторон. Взаимоналожение всех этих отношений и составляет специфику
пространства в «Старосветских помещиках».
Г. А. Гуковский справедливо указал, что в цикловом единстве «Мир-
города» составляющие его повести имеют разную степень самостоятель-
ности. «Старосветские помещики» и «Вий» представляют в большей
мере самостоятельные художественные тексты, а «Тарас Бульба» и
Проблема художественного пространства...
431
«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем» составляют текстовую парную оппозицию. Это подтверждается и
при анализе интересующего нас вопроса. Оба произведения связанно
развивают основную пространственную оппозицию «Вечеров...».
В «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» признак пространственной границы не подчеркнут с такой
резкостью, как в «Старосветских помещиках»: «антипространство» к
современному Миргороду вынесено за текст. Это приводит к тому, что
«печальная застава с будкой, в которой инвалид чинил серые доспехи
свои», не выступает как некий пространственный рубеж между миргород-
ской лужей и загородным ландшафтом. «Поле, местами изрытое, местами
зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое
без просвету небо» лежит не вне, а в пределах мира Ивана Ивановича
и Ивана Никифоровича. Более того, может показаться, что этому миру
присуща безграничность, поскольку концовка: «Скучно на этом свете,
господа!» — распространяет законы «Миргорода» на весь «этот свет».
Однако безграничность здесь только кажущаяся. На самом деле все
пространство Миргорода поделено внутренними границами на мельчай-
шие, но изолированные территории. Не случайно основным признаком
миргородского ландшафта являются заборы: «Направо улица, налево
улица, везде прекрасный плетень» (II, 244). Плетень — не средство
самозащиты от реальных вторжений: «в Миргороде нет ни воровства,
ни мошенничества». Он граница маленького мирка. Недаром двор Ивана
Ивановича имеет свою физиономию, двор Ивана Никифоровича — свою.
По сути дела, все содержание повести сводится к тому, как условная
граница становится пропастью между двумя мирками.
Сначала плетень между дворами двух друзей не препятствует их
общению — через плетень имеется перелаз, он не заслоняет вида и не
делает мир соседнего двора недоступным для зрения: глаза Ивана Ивано-
вича, лежавшего под навесом «перешагнули через забор (...) занялись
невольно любопытным зрелищем» (II, 228). Граница не непроницаема,
но она существует, и переход через нее — допустимое, но не совсем
ординарное вторжение: «Как же это вы говорите, Иван Иванович, что
я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы
пасутся на моей степи и я ни разу не занимал их <...). Ребятишки ваши
перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками —
я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали!..»
(II, 234). На наших глазах непреодолимость преграды возрастает. Отправ-
ляясь для решительного разговора, Иван Иванович уже не воспользо-
вался перелазом: «Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора
Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через
плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею» (II, 230—231). Первым
актом ссоры является строительство гусиного хлева «прямо против»
того места, «где обыкновенно был перелаз через плетень» (II, 242).
Гусиный хлев не только пресекает ход, но и заслоняет вид, заменяя
зрелище соседской усадьбы совсем иными картинами: «Омерзительное
намерение вышеупомянутого дворянина, — пишет в жалобе Иван Ива-
нович, — состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем
непристойных пассажей; ибо известно, что всякой человек не пойдет в
хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела» (II, 249).
Граница делается неприступной: «Если соседняя собака затесалась
когда на двор, то ее колотили, чем ни попало; ребятишки, перелазившие
через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками
и с знаками розг на спине» (II, 241). А далее Иван Никифорович «совер-
432
Семиотика пространства
шенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди
никогда почти не видали в лицо друг друга» (II, 263).
Дело здесь не столько в простом разделении физически ощутимого
пространства на участки, сколько в ином: каждый отдельный мирок
составляет чью-то собственность и набит собственностью. От этого весь
миргородский быт плотно уставлен вещами, а вещи характеризуются
прежде всего их принадлежностью какому-нибудь владельцу. Не случайно
желанию получить ружье (сделать ружье Ивана Никифоровича своим
ружьем) предшествует у Ивана Ивановича следующее размышление:
«Господи, боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строе-
ние (...) всякая прихоть, водка перегонная настоенная; в саду груши,
сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?»
(II, 228).
Для того чтобы понять, какое значение имеет это разделение на «мое»
и «твое» для понятия пространства, обратимся к тому, как оно опреде-
ляется в общей математической литературе.
Пространство не образуется простым рядоположением цифр или тел.
Известно, что одним из основных свойств любого пространства является
непрерывность. Непрерывность того или иного пространства (или его
части) состоит в том, что его нельзя разбить на прилегающие друг к другу
части. Таким образом, если две соседние фигуры входят в одно простран-
ство, то границей их будет множество всех точек, одновременно принад-
лежащих как одной, так и другой фигуре. Но понятие пространства не
есть только геометрическое: «Пусть мы исследуем какую-либо непрерыв-
ную совокупность тех или иных объектов (...). Отношения, имеющиеся
в такой совокупности, могут оказаться сходными с обычными простран-
ственными отношениями, как «расстояние» между цветами или «взаимное
расположение» областей фазового пространства. В таком случае, отвле-
каясь от качественных особенностей изучаемых объектов и принимая
во внимание только эти отношения между ними, мы можем рассматривать
данную совокупность как своего рода пространство»22. В этом смысле
очевидно, что если проведенная в некотором геометрическом пространстве
отграничивающая черта (например, разделение некоторой территории на
участки) не создает перерыва в геометрическом пространстве, то придание
этим участкам признака принадлежности разным лицам не позволит соз-
дать единого пространства собственности, поскольку в месте
перехода от «твоей» к «моей» создается «пространственный перерыв» —
не возникнет границы, совокупности точек, которые одновременно при-
надлежали бы и «твоему», и «моему» пространству. Таким образом,
единое пространство распалось не просто на отдельные предметы, а на
мозаику утративших между собой непрерывность пространств.
В «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» нет единого пространства. От этого весь пейзаж бесконечно
уменьшен. Вид издали или сверху (у Гоголя в пространственном отно-
шении это синонимы) не открывает просторов, не расширяет горизонта,
линия которого совмещается с границами двора: «Если взглянуть на него
(дом Ивана Ивановича. — Ю. Л.) издали, то видны одни только крыши,
посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную
блинами» (II, 224). Здесь явно точка зрения наблюдателя простран-
ственно вынесена вверх, но — уникальный случай в творчестве Гоголя —
22 Александров А. Д. Абстрактные пространства // Математика, ее содержание,
методы и значение. М., 1956. Т. 3. С. 148.
Проблема художественного пространства...
433
подобный прием не создает представления о беспредельно расширяю-
щейся поверхности земли.
об отраженном (перевернутом) пейзаже как образе простора: отражение,
дополняющее небесный свод над головой его образом под ногами, снимает
ограничительную поверхность, замыкающую пространство снизу, и
является, вместе с мотивом полета, выражением инвариантной простран-
ственной модели безграничности:
Пленительно оборотилось все
Вниз головой, в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Все движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят (I, 61).
«Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы, —
все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую,
прекрасную бездну» (I, 113—114). «Любо глянуть с середины Днепра
на высокие горы <...> подошвы у них нет, внизу их, как и в верху, острая
вершина и под ними и над ними высокое небо» (I, 246).
Но в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» «перевернутый» пейзаж получает противоположную
функцию — становится средством создания миниатюрного пространства.
Герой попадает в темную, как «камера-обскура», и закрытую со всех
сторон комнату Ивана Никифоровича: «Комната, в которую вступил Иван
Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты,
и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный
цвет и, ударяясь в противоположную стену, рисовал на ней пестрый
ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешенного на дворе платья,
все только в обращенном виде» (II, 231—232). Уменьшенный, помещенный
в темную комнату и лишенный верхней половины, «обращенный» ланд-
шафт на стене комнаты Ивана Никифоровича — как бы пародия на
любимый Гоголем бескрайний вид земного простора, отраженного в про-
сторе водном.
Миргород, обуянный эгоизмом, перестал быть простран-
ств о м — он распался на отдельные частицы и стал хаосом.
Обычно существует представление, что эволюцию Гоголя можно свести
к следующей: еще в «Вечерах...» он указал на существование обществен-
ного зла, но облек его в фантастические одежды, противопоставив
положительному миру быта. В дальнейшем Гоголь совлек со своей критики
мистифицированную оболочку и показал зло в его социальном, облике.
Эта концепция нуждается в некоторых коррективах. Как мы видели,
именно бытовое пространство «Вечеров...» превращается в «Миргороде»
в раздробленное не-пространство. Быт переходит в хаос (раздробленную
неорганизованность материи). Что касается фантастического мира, то в
«Миргороде» он порождает космос — бесконечную сверхорганизацию
пространства. Это видно на примере «Тараса Бульбы» и «Вия».
Пространство в «Тарасе Бульбе» противостоит «Старосветским поме-
щикам» своим принципиально безграничным характером, а в «Повести о
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» —
отсутствием внутренних разграничений. Запорожская Сечь — фокус
пространственной конструкции повести — не имеет закрепленного места.
Тарас и сыновья прибыли на остров Хортица, «где была тогда Сечь, так
часто переменявшая свое жилище» (II, 61). На Сечи нет не только оград,
но и постоянных жилищ: «Нигде не видно было забора или тех низеньких
434
Семиотика пространства
домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в
предместьи. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем,
показывали страшную беспечность» (II, 62). Не случайно стены появ-
ляются лишь как враждебная запорожцам сила. Тщательно описываются
земляной вал и крепостные стены Дубно, и следует признание: «Запо-
рожцы не любили иметь дело с крепостями» (II, 86). «Отступайте,
отступайте скорей от стен!» закричал кошевой» (II, 117). «Подальше,
подальше, паны братья, от стен!» (II, 120) — предупреждает своих
уманцев Остап. Стены не защита, а враг. Другой враг — это вещи. Их
бьют, ломают. Отправляясь в поход, Тарас бьет посуду. Вещи рвут и
ломают. И чем вещи ценнее, тем большему унижению их подвергают.
Дважды повторяется образ «Слова о полку Игореве»: «Не раз драли на
онучи дорогие паволоки и оксамиты» (II, 127), «пошли тот же час драть
китайку и дорогие оксамиты себе на онучи» (II, 81), причем в последнем
случае и это осуждается как излишняя привязанность к вещам («берите
одно только оружие»). В вещах же и деньгах — добыче запорожцев —
подчеркивается любопытная черта: добыча — не собственность. Ею уже
владели многие, она прошла через десятки рук: «На полках по углам
стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные
серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской,
турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями
через третьи и четвертые руки» (II, 44). Таким образом, вещи и само
право собственности перестают быть неподвижной, разгораживающей
категорией. Более того, вещи существуют, чтобы их бить и пропивать,
дома — чтобы бросать. Понятие границы и отграниченного пространства
вводится лишь затем, чтобы его нарушить и сделать переход не просто дви-
жением, аосвобождением, актом воли. «Лишившись дома и кровли,
стал здесь отважен человек <...>. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пиво-
вары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгаш посылал к
чорту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось
на коня» (II, 46—48). Одновременно происходит разрушение собственно-
сти, вещей, жилища (которые выступают здесь как синонимы и образуют
архисему с признаком пространственной отгороженности и зафиксирован-
ности) и переход к движению («садилось на коня»). Характерно, что миру
«вещей» противостоят небо и степь («с жаром фанатика предавался воле
и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни
семейства, кроме вольного неба»\ II, 65; курсив мой. — Ю. Л.). Степь и
небо противостоят дому и вещам еше по одному признаку — как неделимое
делимому (с этой точки зрения «пасутся в моей степи» Ивана Никифоро-
вича звучит абсурдно). Неделимость (и, следовательно, неспособность
стать собственностью) здесь выступает в качестве эквивалента топологи-
ческого понятия непрерывности как признака пространства.
Поэтому в понятие пространства входят и такие «неделимые» явления,
как музыка, пляска, пир, битва, товарищество, соединяющие людей в
непрерывное, недробимое целое. С этим связана еще одна сторона дела:
мозаическое распадение пространства делает невозможной коммуника-
цию. «Раздробленный» у Гоголя синоним понятий «разобщенный»,
«некоммуникативный». В «Повести о том, как поссорились Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» растут не только преграды — растет непони-
лание, утрачиваются слабые возможности общения. «Тарас Бульба»
чимает эту проблему как присущую только определенным типам жизни.
Особое значение для понятия пространства в «Тарасе Бульбе» имеет
подвижность включенных в него людей и предметов. Безграничность
пространства строится так: намечаются некие границы, которые тотчас
Проблема художественного пространства...
435
отменяются возможностью их преодоления. Пространство неуклонно
расширяется. Так, все походы запорожцев — это выход пространства
за свои пределы. Здесь мы снова встречаем характерный прием
вынесения точки зрения вверх. Посмотрим, как строится описание поездки
Тараса и сыновей на Сечь. Чем быстрее движение, тем выше выносится
в пространственном отношении точка зрения наблюдателя: «И козаки,
прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя
было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой.травы показывала
бег их» (II, 58). «Быстрая молния сжимаемой травы» неожиданно выносит
точку зрения наблюдателя вверх — вертикально над едущими
козаками. Вряд ли случайно, что в момент гибели Гоголь поднимает
Тараса «повыше, чтобы отовсюду был виден козак» (II, 170).
Все эти наблюдения позволяют сделать вывод, что поведение персо-
нажей в значительной мере связано с пространством, в котором они
находятся, а само пространство воспринимается не только в смысле
реальной протяженности, но и в ином — обычном в математике —
понимании, как «совокупность однородных объектов (явлений, состоя-
ний), в которой имеются пространственно-подобные отношения»23. Это в
принципе допускает возможность для одного и того же героя попеременно
попадать то в одно, то в другое пространство и одновременно создает
представление о множестве пространств, причем, переходя из одного в
другое, человек деформируется по законам этого пространства. Просве-'
тительская идея зависимости человека от среды, значение которой для
Гоголя (и для классической русской литературы в целом) с таким блеском
было показано Г. А. Гуковским, — лишь частный случай (вернее, одна
из интерпретаций) этого более общего положения. Другой возможной
интерпретацией будет отмеченное С. Ю. Неклюдовым эпическое пред-
ставление о действии как функции locus'a. Вероятно, возможны и иные
интерпретации. Все эти проблемы имеют существенное значение для
понимания «Вия».
*
Было бы в высшей мере заманчивым попытаться подвергнуть гоголевские
конструкции пространства содержательной интерпретации, например, с
точки зрения их отношения к проблеме добра и зла и отождествить
какое-либо из них с одним, а другое — с противоположным нравственным
полюсом. К сожалению, видимо, от этого следует воздержаться,
поскольку, если, с одной стороны, иерархия пространств образует некую
модель мира, в рамках которой имеет бесспорное содержательное значе-
ние, то, с другой стороны, как мы уже указывали, пространственная
схема имеет тенденцию к превращению в абстрактный язык, способный
выражать разные содержательные понятия. То, что близкие простран-
ственные модели могут выражать и идею добра, и идею зла, видно при
сопоставлении «Старосветских помещиков» и «Повести о том, как поссо-
рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Однако, как известно,
язык, особенно в искусстве, определенным образом формирует сообщение,
тем более если, как в данном случае, у передающего есть возможность
выбора, на каком языке передать сообщение. Так. п «Вие;- ст-> v/мпаются
два зла, но оба эти зла принадлежат разным прострлнп ,.^1 мирам:
23 Александров А. Д. Указ. соч. С. 148.
436
Семиотика пространства
миру хаоса и миру космоса. Зло хаоса — это зло материального, раздроб-
ленного, в определенной интерпретации — социального мира. Оно как
комическое — трагическому (не случайно социальные коллизии вопло-
щаются в комедии) противопоставлено космическому злу, которое не
принадлежит только миру человеческих, социальных отношений.
Космическое зло не выдумано людьми (поэтому не имеет того характера
мнимости, который свойствен социальному злу в изображении Гоголя),
а проявляется в людях. Фантастическое возможно в каждом из этих
миров. Ниже мы увидим из рассмотрения «Петербургских повестей»,
что, как только бытовой мир обернулся хаосом, он стал не менее фанта-
стичным, чем противопоставленный ему. Но природа их фантастики
различна.
Столкновение двух типов пространств обнажено в «Вие». Повесть
начинается с движения героев в бытовом пространстве. Однако, совершая
это мнимое — поскольку бытовое пространство неизменно и подлинного
движения не знает — движение, бурсаки неожиданно выпадают из
привычного мира. Внешне, как и в «Вечерах...», это «другое» пространство
подобно первому и манифестирует себя только некоторыми странностями
(«уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не
попадалось никакого жилья <...). Везде была одна степь, по которой,
казалось, никто не ездил»; II, 182). Однако этот мир только похож на
обыкновенный — само сходство говорит о существенной между ними
разнице. «Послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой» (II, 182;
курсив мой. — Ю. Л.). Сейчас выделяется сходство, в конце повести —
отличие: «Волки выли вдали целой стаей (...). «Кажется, как будто что-то
другое воет: это не волк», сказал Дорош. Явтух молчал» (II, 216). Темнота,
глушь, дичь, бурьян, терновник отгораживают этот мир от бытового.
Но между ними есть и более серьезные отличия. Прежде всего, они не
совместимы во времени. Как установил комментатор академического
издания, действие «киевской» части не может происходить ранее 1817 г.
(хотя и допускаются известные анахронизмы), а события на хуторе
сотника приурочены «если не к XVII, то к XVIII ст.» (II, 747). Вернее
всего, здесь сталкиваются неопределенное современное и неопределенное
историческое время. Подобно пространству, здесь противопоставлены
«время, такое же, как наше» и «время другое, чем наше»24. «Другое»,
«космическое» пространство отмечено необычностью ракурсов. Одна и
та же точка поверхности оказывается одновременно выше и ниже всего
остального пейзажа. Хутор сотника лежит на дне пропасти и на вершине
горы одновременно. «С северной стороны все заслоняла крутая гора и
подошвою своею оканчивалась у самого двора (...) философ измерил
24 В повести есть и другие временные сломы, возможно, возникшие случайно,
в результате авторского недосмотра. Однако характерно, что Гоголь их не заметил.
Так, в Киеве «распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших
сотников <...) находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание,
чтобы отходную по ней» читал Хома Брут. Сотник говорит Хоме, что дочь его
умерла, не успев объяснить причину своего выбора. «Если бы только минуточкой
долее прожила ты», грустно сказал сотник: «то верно бы я узнал все» (II, 197).
В другом же месте говорится, что дочь сотника умерла уже после прибытия Хомы
на хутор («Когда ггроснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла
панночка», II, 193). Между тем Хому везли из Киева весь день и «большую
половину ночи». Противопоставление тишины дома в момент въезда движению
утром заставляет полагать, что панночка умерла во время сна философа, «убедив-
шись», что его привезли.
Проблема художественного пространства...
437
страшную круть ее». Но это и вершина: «Философ стоял на высшем в
дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону,
ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью
скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое
пространство» (II, 194—195)25. И у Хомы Брута, с его двойной причастно-
стью к миру хаоса и к миру космоса, этот пейзаж вызывает два взаимо-
исключающих чувства: «Вот тут бы жить (...). Да не мешает подумать
и о том, как бы улизнуть отсюда» (II, 195). Особенно важна сцена
полета — она концентрирует все представления Гоголя о космическом,
всесторонне разомкнутом пространстве: пространство развернуто вширь
и ввысь. Более того, Гогол ввел мотив отражения, несмотря на то, что
под философом находилась не вода, а покрытая травой степь! Этим была
снята и граница пространства по нижнему концу вертикальной оси.
Максимальной пространственной раскованности соответствует и макси-
мальная подвижность. Она выражается в подчеркивании скорости (ср. в
вариантах повести: «Из осоки выходила русалка (...) уносила за собою
глаза его»; курсив мой. — Ю. Л.\ «От быстроты казалось, что сосны
стояли копьями в поле, как будто верхушки леса слоем отделялись»;
II, 546—548). Интересную попытку одновременно передать высокую
скорость и пространственную вынесенность точки зрения наблюдателя
вверх находим в следующем месте: «Тени от дерев и кустов, как кометы,
острыми клинами падали на отлогую равнину» (II, 186). «Тень, как острый
клин» — это вид сверху, «тень, как комета» — изгиб получается за счет
искажения изображения под влиянием скорости передвижения смотря-
щего.
Максимальная подвижность этого мира проявляется не только в
скорости движения, но и в его способности к внутренним изменениям.
Это мир не зафиксированный, движущийся, в котором все может перейти
во все: месяц отражается в воде (которая вовсе не вода, а трава) солнцем,
ветер не отличить от музыки.
Пространственный облик двух миров формирует особые нормы при-
сущего им существования. И те и другие, при всей их противоположности,
нечеловечны и влекут к гибели: один мир убивает человека своей
закостенелостью, автоматическим механизмом и разобщенностью, другой
— своей бескрайностью и текучестью. В космическом мире «Вия» человек
не может существовать потому, что здесь сняты все пограничные столбы
и все качества амбивалентны. Так, синонимичны смерть, жизнь и любовь
(«Она лежала как живая», далее упоминаются «ресницы, упавшие стре-
лами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний»; II, 199; ср. в вариан-
тах: «Уста, как светлые рубины, готовы были усмехнуться смехом бла-
женства, потопом радости [веющей около сердца]»; II, 561), страдание
и наслаждение (сцена избиения ведьмы), красота и безобразие («Такая
страшная, сверкающая красота! (...) Может быть, даже она не поразила
бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее»;
II, 206; ср. мгновенное преображение кажущейся живой красавицы
в безобразный синий труп). Чудовища, убивающие Хому, страшны тем,
что совмещают в себе несовместимое.
Это двойное наступление на человека двух античеловечных миров
может быть отражено только наличием в герое внутренней самобытности,
25 Топография хутора сотника поразительно напоминает то, как вздыбилось
фантастическое пространство под дедом в «Заколдованном месте»: «Вокруг про-
валы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора» (I, 314).
438
Семиотика пространства
сопротивляемости, основанной на том, что он сам — деятель, творец,
художник, воин — имеет свой путь и свое нравственное пространство,
которое не дает себя подавить26. Гоголя чрезвычайно интересовал герой,
не имеющий своего лица, своего дела, своей внутренней организации и
мгновенно адаптирующийся под структуру окружающего его простран-
ства. Г. А. Гуковский видел в этом отражение выдвинутой просветителями
XVIII в. идеи формирующего влияния среды на человека. Эта глубокая
мысль исследователя сыграла огромную роль в проникновении в сущность
художественного образа. Однако нельзя не видеть, что воздействие среды
на человека было для Гоголя частным случаем изменений харак-
тера и поведения людей. Влияние среды подчеркивает социальное воспи-
тание и некую эволюцию, постепенность в формировании характера.
Однако наряду с этим Гоголя интересовала и мгновенная трансформация,
резкое, беспереходное изменение человека, при котором нельзя говорить
об изменении (то есть о внутреннем движении): фрагменты пове-
дения персонажа только условно склеиваются в один образ и не имеют
никаких переходов от одного, неподвижного в себе, состояния к дру-
гому. Причем чем неподвижнее герой, тем на более резкие и внутренне
немотивированные переходы он способен. Таков и Хома Брут. Это герой
автоматического мира. Даже гульба и пляска, которые в «Тарасе Бульбе»
были признаками «размёта душевной воли» (II, 301), для него становятся
приметами механического поведения. Его автоматическая гульба и пляска
прямо противоположны танцу и веселью запорожцев: «Вытянули немного
не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал:
«Музыкантов! непременно музыкантов!» и, не дождавшись музыкантов,
пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он
танцовал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня,
обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец
плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!»
(II, 215). Зависимость человека от среды, от внешнего влияния, от своего
тела воспринимаются как равно низменные, свидетельствующие о при-
надлежности героя к механическому миру: «Философ был одним из числа
тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная
филантропия» (II, 209). Ср. «бешеный танец» запорожцев, где прояв-
ляется душа, которая «не боится тела и возносится вольными прыжками,
готовая завеселиться на вечность» (II, 300). Именно поэтому философ
оказывается способным на мгновенное, механическое перевоплощение
и соединяет в себе внутренне несоединимое. Так возникает художествен-
ное требование для человека иметь свой пространственный мир, что тотчас
же приобретает характер пространственно протяженного образа пути.
Беспредельное расширение пространства, превращаясь из области про-
стора и свободы в бездонность, невозможную для жизни, получает в
творчестве Гоголя (что заметил еще А. Белый) устойчивое пространствен-
ное изображение: бездна, провал. Очень легко обнаружить и его парал-
лель в бытовом пространстве: дыра, прореха. Этот частный пример
2Ь Весьма сходная художественная конструкция, как кажется, присуща роману
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Проблема художественного пространства...
439
позволяет сделать наблюдение. Противоположности (предельно закосте-
нелое и предельно раскованное пространство) в определенном отношении
оказываются тождественными. Это подтверждается и тем, что обе сферы
оказываются в равной мере фантастическими. Обе ведут к уничтожению
пространства: одна — расширяя его до бездны, другая — сжимая до
прорехи.
Превращение бытового пространства в фикцию, в не-пространство
особенно ярко выступает в так называемом петербургском цикле. Мир
«Петербургских повестей» — это застывший и пространственно замкну-
тый в своей территориальной конкретности мир (не случайны заглавия
типа «Невский проспект»). Его роднит с «Миргородом» одеревенелость,
раздробленность, забитость неподвижными вещами. И тот, и другой —
«гадкая груда», место жизни «деревянных кукол, называемых людьми»
(III, 325). Но одновременно это мир особого — бюрократического —
пространства. Разрозненный и разобщенный по всем другим признакам,
этот мир един лишь в одном отношении — своей причастностью к бумагам,
делопроизводству, бюрократии.
В этом смысле он непрерывен и, следовательно, образует некое специ-
фического типа пространство. Однако это пространство бюрократи-
ческое, то есть особого рода: сущность его в том, что оно состоит из
социальных, следовательно, знаковых элементов, но таких, которые, имея
план выражения, принципиально лишены плана содержания. Как сказано
у Твардовского:
Обозначено в меню,
А в натуре нету...
Поэтому это пространство обладает особым свойством: будучи непре-
рывно во вполне реальном смысле на уровне обозначающего («план
«меню»), оно абсолютно пусто (образует «непрерывность пустоты») —
дыра, прореха, бездна — на уровне обозначаемого («план «натуры»).
Эта двойная конструкция достигается чрезвычайной конкретностью,
вещественностью пространства, которое одновременно оказывается совер-
шенно мнимым. Так, нос майора Ковалева — вполне реальный предмет
(«вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня»; III, 67) t
с определенными показателями размера (запечен в хлебец, завернут в
тряпку, помещается на лице), и он же молится в Казанском соборе,
имеет лицо («нос спрятал совершенно лицо свое»; III, 55). То, что у носа
есть лицо, что он ходит, согнувшись, бежит вверх по лестнице, носит
мундир, шитый золотом, и со стоячим воротником, молится «с выражением
величайшей набожности», кричит кучеру: «Подавай!» — а затем пытается
уехать в Ригу по чужому паспорту, решительно разрушает возможность
какого-либо пространственного (зрительно-объемного) его воображения.
Нос сразу входит в два типа пространства: бытовое, которое в этой
оппозиционной паре воспринимается как «реальное», и другое — мнимое,
фиктивное, в котором и все предметы становятся фиктивными, ибо
наделяются заведомо несовместимыми свойствами. Это пространство
небытия, и все в нем наделяется признаками, иметь которые одновременно
можно только в состоянии небытия. Так, «Китай и Испания — совершенно
одна и та же земля» (III, 211), следовательно, не-земля (интересно, что
доказывается это общностью, пускай мнимой, плана выражения: «я
советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай»;
III, 212). «Испания» в «Записках сумасшедшего», так же как и нос,
совершенно теряет признак пространственности: «У всякого петуха есть
Испания», «она у него находится под перьями» (III, 213).
440
Семиотика пространства
Такое вхождение одного и того же одновременно в два типа простран-
ственных отношений порождает каламбурные ситуации. «Нос (...) очу-
тился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между
двух щек майора Ковалева» (III, 73). «Мне странно, милостивый госу-
дарь... мне кажется... вы должны знать свое место» (III, 55; курсив
мой. — Ю. Л.). «Между нами не может быть никаких тесных отношений.
Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате
или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части». Сказавши это,
нос отвернулся и продолжал молиться» (III, 56). «Свое место», «тесные
отношения» одновременно существуют в двух значениях — простран-
ственно-бытовом и том условном, которое создается извращенным челове-
ческим обществом.
Повествование в «Носе» очень типично для «Петербургских повестей»
в целом: из двух планов, «реально-бытового» и «фиктивного, бюрократи-
ческого», непрерывен только второй. В реальном плане изобилуют про-
валы, несогласованности, несоединимости: «Иван Яковлевич побледнел...
Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что
далее произошло, решительно ничего не известно» (III, 52). Так же
оканчивается и вторая глава. А третья начинается: «Чепуха совершенная
делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия» (III, 73).
Конечно, не следует забывать иронического и полемического (в адрес
современной Гоголю критики) характера этого высказывания, но тем не
менее безусловно, что на уровне сюжета эпизоды меняют друг друга по
принципу абсурдных сочетаний и не образуют непрерывной линии. Однако
очевидно и другое — эти абсурды и перерывы не существуют для героев,
которые воспринимают события как огорчительные или радостные, но
вполне реальные. В одном ряду с самыми заурядными, бытовыми происше-
ствиями сообщается о попытке носа бежать в Ригу: «И странно то, что
я сам принял его сначала за господина. Но к счастью были со мной
очки, и я тот же час увидел, что это был нос» (III, 66). Таким образом,
создается некая область непрерывности, некое фантасмагорическое
пространство. Но, как мы говорили, и внутри этого пространства непре-
рывность существует лишь на уровне форм, а не значений. Это непре-
рывность бумаг, канцелярских оборотов, чиновничьей условности с
нулевым содержанием.
Параллелизм фантасмагории хаотического быта, мнимо организуемого
фантасмагорией бюрократических бумаг, с фантастикой космических
сил, играющих в человеке, проявляется в их общей бесчеловечности.
В этом смысле характерна явная параллель между «Невским проспектом»
и «Вием». В раздробленность и статичность мира Невского проспекта
(см." известное метонимическое место — парад разобщенных частей
человеческих тел на Невском проспекте)27 вдруг врывается быстрый
бег ( = полету) и всегда связанные с ним у Гоголя текучесть неподвижных
предметов, расширение границ, замыкающих пространство: «Тротуар
несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы,
мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка
валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми
словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на
самой реснице его глаз» (III, 19). Есть и известная параллель между
27 Превосходный анализ этого места, как и вообще установление связи Гоголя
с просветительскими идеями XVIII в. (проблема «человека и чина»), см.: Гуков-
ский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 275—295.
Проблема художественного пространства...
441
панночкой в «Вие» и «брюнеткой» из «Невского проспекта». В «Вие»:
«Чело прекрасное, нежное, как снег», «ресницы, упавшие стрелами на
щеки (...>. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!»
вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и
стал читать свои молитвы; это была та самая ведьма, которую убил он»
(II, 199). Красавица оказалась ведьмой.
В «Невском проспекте»: «Он уже желал быть как можно подалее от
красавицы с прекрасным лбом и ресницами. (...) Но что это? что это?
«Это она!» вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она,
та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее
жилищу» (III, 25). Красавица оказалась проституткой.
Вначале кажется, что красота — это сила, противопоставленная
хаотической раздробленности кукольного мира. Возлюбленная Писка-
рева, как кажется ему, стоит вне мира, который «какой-то демон искро-
шил» «на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку
смешал вместе» (III, 24). На самом же деле она частью принадлежит
этому миру пошлости и ничтожества, частью — миру космического зла.
Нечто аналогичное происходит и с Чартковым в «Портрете».
Признаком, отличающим «Петербургские повести» от «Миргорода»,
является проблема соотношения героя и окружающего его пространства.
В терминах философского метаязыка, восходящего к Просвещению
XVIII в., это отношение человека и среды. Пока герой однотипен окружаю-
щей его среде (мы видели, что в искусстве «среда» — это частная интер-
претация художественного пространства), он не имеет своего пути.
Передвигаясь внутри пространства своей среды, он художественно непо-
движен. Иной становится картина, если герой разрывает со средой. Тогда
его движение составляет некоторую линеарную траекторию, внутренне
непрерывную, каждый из моментов которой находится в своем особом
отношении к окружающему пространству. Появляется путь как особое
индивидуальное пространство данного персонажа.
Тарас Бульба не имеет своего пути — внутреннего становления,
выражаемого в категориях пространства. Не имеет пути и Иван Ники-
форович, замкнувшийся в точечном пространстве. Но Чартков, Поприщин,
Пискарев, Башмачкин имеют пути, ведущие их от искусства к гибели или
от канцелярской бумаги к бунту.
Путь, который пространственно может быть представлен в виде линии,
— это непрерывная последовательность состояний, причем каждое состоя-
ние предсказывает последующее. Подразумевается, что каждое предше-
ствующее состояние должно перейти лишь в одно последующее (другие
возможности трактуются как уклонения от пути).В «Петербург-
ских повестях» «путь» берется лишь в отношении к псевдопространству
бюрократического мира. Это или переход в ничто, или бегство из пустоты.
Однако, поскольку главным признаком бюрократического пространства
является несуществование, его антипод наделяется бытием как основным
свойством. В этой оппозиции заключенность в самые простые, зримые
пространственные формы выступает как наиболее наглядное доказатель-
ство существования и, следовательно, оценивается уже положительно.
На первый план выдвигается уже не стремление разрушить и раздвинуть
границы пошлой обыденности, а выделить и подчеркнуть их. Сама обыден-
ность является доказательством существования. Мир «бедного богатства»
простого существования выступает как поэтический, противостоящий и
деревянному миру кукол, и мнимости («дыре») бюрократического про-
странства, и бездне космической раскованности. Так появляется под
положительным знаком пространство незакостенелое, реальное и ограни-
142
Семиотика пространства
енное. Оно и воспринимается как нормальное, естественное
ространство. Так, в мечтах Пискарева вырисовывается мир, который
[ротивостоит окружающей его петербургской жизни именно как простой
[ реальный — фантастическому. Его мечта состоит не в том, чтобы вывести
вою возлюбленную — проститутку на безграничный простор безмерного
осмического пространства (ср., например, Ганца Кюхельгартена, кото-
ый стремился из пошлого уюта, где мир «расквадрачен весь на мили»,
романтическую безмерность), а в том, чтобы ее — ведьму из «Вия» —
риобщить непошлой простоте и поэзии обыденного труда художника:
Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представи-
ась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с
алитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою» (III, 30).
Мастерская» — это вполне конкретное, ограниченное пространство,
быденность которого подчеркивается его геометрической правильностью:
но служит обычным объектом школьного упражнения в перспективе.
Художник «вечно» «рисует перспективу своей комнаты, в которой является
сякой художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофей-
ыми от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая
алитра» (III, 17). Замкнутое, обыденное пространство, со своей перспек-
ивно-геометрической правильностью, — место действия простых людей,
ривлекательных обыденностью и человечностью. Не случайно про оби-
ателей этих студий, петербургских художников, Гоголь говорит, что «они
ообще очень робки», «добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный,
юбящий тихо свое искусство». Они одновременно противопоставляются
«гордым, горячим» итальянским художникам, развившимся «вольно,
лироко и ярко», — обитателям раздвинутого пространства, и порожде-
иям Петербурга — «наблюдателю» с «ястребиным взором» (Гоголь
[ногозначительно не уточняет, о каком «наблюдателе» идет речь) и
кавалерийскому офицеру» с «соколиным взглядом» (III, 16—17).
Пространство, в котором помещается герой, наделенный простотой и
еловечностью, — это некоторый неопределенный «дом» («добрался он
,омой», «возвратился домой» и т. д. — об Акакии Акакиевиче), «маленькая
омната» (Пискарев), «нетопленая студия» (Чартков). Здесь живут.
^му противостоит не-дом, только притворяющийся домом, не-жилье:
убличный дом и департамент. Это фантастическое не-пространство
ср. у Блока: «Разве дом этот — д о м в самом деле»), точно так же, как
е-пространством оказывается церковь в «Вие». Отгороженность церкви
шимая: голос Хомы Брута (как накануне — в таинственной пустоте
тепи, параллелизм здесь подчеркнут) не образует эхо. Ночью церковь
е образует защиты от нечистой силы (только после крика петуха она
редстает как закрытое, непроницаемое пространство), и в ней приходится
оздавать «дом в доме» — меловой круг.
«Домашность» дома, «что в Литейной», тоже мнимая. Даже каморка
1какия Акакиевича — жилье. А в доме, «что в Литейной», «голые стены
окна без занавес» — «жилище жалкого разврата», «приют, где
еловек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым,
крашающим жизнь» (III, 21). «Домашний» дом не приобретает теперь
трицательной характеристики закрытого пространства в силу одного
юбопытного обстоятельства: будучи реален высшей реальностью (при-
адлежа естественному, а не противоестественному миру), он в петербург-
кой действительности или не существует (возникая во всей уютности
ишь в мечте художника), или гибнет. Это нормальное пространство для
ущества «вне гражданства столицы». В петербургской реальности суще-
твуют лишь прикидывающиеся домами не-дома.
Проблема художественного пространства...
443
«Путь» героя связан с его перемещением во всем комплексе этих
пространств. Пискарев гибнет в конфликте между миром труда (мастер-
ская) и извращенной праздности (публичный дом), Чартков — переехав4
из бедной студии в «великолепнейшую квартиру на Невском». Шинель
Башмачкина становится его домом, теплом («одно то, что тепло, а другое,
что хорошо»; III, 157). Шинель — дом, но она же — и подруга. («С этих
пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как
будто бы он женился (...) как будто он был не один, а какая-то приятная
подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, —
и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате,
на крепкой подкладке без износу»; III, 154). Дом как особое пространство
любви и уюта (понимания) мечтается героям петербургских повестей.
Трагедия утраты «дома» роднит Акакия Акакиевича и Афанасия Ивано-
вича.. А в мире, отобравшем шинель, соединяются канцелярия «значитель-
ного лица», «бесконечная площадь» (петербургского, то есть мнимого
простора) и «ветер, по петербургскому обычаю» дувший «на него со всех
четырех сторон» (III, 167). Значительность образа «пути» в «Петербург-
ских повестях» подчеркивается тем, что именно здесь впервые возникают
мотивы дороги и тройки. Чиновник Поприщин, совершающий бегство
из мира чиновничьей мнимости в мнимый же мир клинического безумия
и безнадежную попытку вообще вырваться из мира мнимости, кричит:
«Дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени,
мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света!» Но именно
потому, что понятие пути еще не сформировано, речи о нравственном
возрождении Поприщина нет, его дорога имеет еще очень много общего
со знакомым нам «полетом»: она раздвигает границы пространства,
выводит из мира фикций в царство поэзии и динамики (одновременно
рядом с «лесом», «туманом», «морем», «Италией» — раздвинутость
границ горизонта напоминает «Страшную месть» — появляется и милая
замкнутость домашнего уюта). «Далее, далее, чтобы не видно было
ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали;
лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под
ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия;
вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя
сидит перед окном?» (III, 214). В «Петербургских повестях» «путь» как
особый тип художественного пространства еще только зарождается.
Оформится он в «Мертвых душах».
Стремление к циклизации, отчетливо проявлявшееся в прозе Гоголя на
всех этапах его творчества, имело один любопытный аспект: в основу
изображения Гоголь кладет какую-то сторону русской действитель-
ности (и человеческого бытия) и придает изображаемому территориаль-
ный признак (Миргород, Петербург). При этом аспект жизни получает
признак части территории России — активизируется значение парти-
тивности.
«Мертвые души» были с самого начала задуманы как произведение
о некоем художественном универсуме — обо всех сторонах жизни и
обо всей России. Именно поэтому все типы художественного простран-
ства, сложно переплетавшиеся до сих пор в прозе Гоголя, здесь синтези-
рованы в единую систему.
444
Семиотика пространства
Основным дифференцирующим признаком в пространстве «Мертвых
душ» становится не оппозиция «ограниченное — неограниченное», а
«направленное — ненаправленное». Стремление бесцельно растечься
во все стороны и стремление замкнуться в точечной скорлупе одинаково
воспринимаются как варианты ненаправленного и, следовательно, непо-
движного пространства28. О двух этих возможностях, как о взаимно
эквивалентных, Гоголь говорит в связи с Плюшкиным: «Должно сказать,
что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее
развернуться, нежели съежиться» (VI, 120).
Собакевич, Коробочка «съеживаются», и это съеживание пространства
переходит в Плюшкине в «прореху» — пустоту. Но Ноздрев, как и сосед
Плюшкина, «кутящий во всю ширину русской удали барства, прожигаю-
щий, как говорится, насквозь жизнь» (VI, 120), — «любят развернуться».
Стремление перейти границы приличий, правил игры, любых норм пове-
дения — основа характера Ноздрева. Это получает и пространственное
выражение. Почти сразу после появления Чичикова в поместье Ноздрева
тот ведет его осматривать «границу, где оканчивается моя земля»
(VI, 74). Показательно, что других помещиков Гоголь не заставляет
этого делать. Но граница эта оказывается, в воображении Ноздрева,
до крайности растяжимым понятием, вмещающим в себя весь горизонт:
«Вот граница!» сказал Ноздрев: «Все, что ни видишь по эту сторону, все
это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет («синею-
щий лес» — характерный признак гоголевского «раздвинутого» простран-
ства), и все, что за лесом, все это мое» (VI, 74). Тождественность
пространственных антонимов («съежиться — развернуться») подчерки-
вается здесь абсурдной попыткой сделать безграничность «своей».
То же стрем-ление отождествить прежде противоположные типы про-
странства видим и при описании губернского города. С одной стороны,
он принадлежит раздробленному до непространственности миру одере-
венелых частностей. Поразительна формула гоголевского наброска плана:
«Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота». Этой Пустоте
свойственна неподвижность («Не трогаются. Смерть поражает нетрогаю-
щийся мир») и разобщенность («Занятой разорванным бездельем»;
VI, 692—693). Но тот же город изображается и как пространство раз-
мытых границ и, почти в духе «Вия», снятых оппозиций: «Были уже
густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемеша-
лась совершенно и, казалось, самые предметы перемешалися тоже.
Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стояв-
шего на-часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как
будто не было вовсе» (VI, 130).
Новым было то, что этот мир размытых граней, который уже мог быть
и добрым, и злым, оказывался пошлым и антипоэтичным. Он населен не
ведьмами «Вия» и не брюнетками «Невского проспекта», а «особым родом
существ» «в виде дам в красных шляпах и башмаках без чулок, которые,
как летучие мыши, шныряют по перекресткам» и произносят «те слова,
которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося двадца-
тилетнего юношу (...). Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг
28 Ненаправленность пространства эквивалентна бесцельности
существования находящегося в нем человека: «Он сделался как-то живее, даже
тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель.
С лица и с поступков его исчезло само собой сомнение, нерешительность, словом все
колеблющиеся и неопределенные черты» (VI, 155).
Проблема художественного пространства...
445
раздаются над ним, как гром, роковые слова, и пилит он, что вновь
очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака,
и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь» (VI, 131).
В «Мертвых душах» простор, взятый сам по- себе, становится оконча-
тельно амбивалентным — он может соединяться и с величием, и с пош-
лостью. Оказываются возможными соединения этого образа с авторской
иронией, которая прежде была решительно ему противопоставлена. Так,
упоминается, что красота мадонны «только редким случаем попадается
на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что ни есть:
и горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги» (VI, 166). Статский
советник, когда не знает, как занять девиц, «поведет речь о том, что
Россия очень пространное государство» (VI, 170). Чиновники, решившие,
что Чичиков — переодетый Наполеон, в числе «многих, в своем роде,
сметливых предположений», мотивируют это тем, «что англичанин
издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна» (VI, 205).
И сам автор, жалуясь на то, что обязательно найдется «сметливый
читатель», обитающий «в каком-либо углу нашего государства», замечает
— «благо велико» (VI, 179).
Для того чтобы стать возвышенным, пространство должно быть не
только обширным (или безграничным), но и направленным, находящийся
в нем должен двигаться к цели. Оно должно быть дорогой.
Дорога — одна из основных пространственных форм, организующих
текст «Мертвых душ». Все герои, идеи, образы делятся на принадлежащие
дороге, устремленные, имеющие цель, движущиеся — и статичные,
бесцельные.
До сих пор мы пользовались понятиями «дорога» и «путь» как синони-
мами. Сейчас пришло время их разграничить. «Дорога» — некоторый
тип художественного пространства, «путь» — движение литературного
персонажа в этом пространстве. «Путь» есть реализация (полная или
неполная) или не-реализация «дороги». «Дорога» становится в «Мертвых
душах» универсальной формой организации пространства. Она включает
в себя все виды гоголевского пространства, ибо идет через них: и
безграничность («вороны, как мухи, и горизонт без конца»; VI, 220), и
пошлую раздробленность («с ее холодами, слякотью, грязью, невыспав-
шимися станционными смотрителями (...) и всякого рода дорожными
подлецами»; VI, 133), и домашнее тепло («видит наконец знакомую
крышу с несущимися навстречу огоньками»; VI, 133; «покрепче в дорож-
ную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься к углу!»; VI, 221)
и т. д. Не случайно через все произведение проходят упоминания «всей
громадно-несущейся жизни», «нашей земной, подчас горькой и скучной
дороги» (VI, 134). «В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело
морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь, со
ьсей ее беззвучной трескотней29 и бубенчиками» (VI, 135). Но, включая
в себя все виды гоголевского пространства, «дорога» не принадлежит
ни одному из них — она проходит через них. В соответствии с этим и
«герой дороги» не принадлежит никакой среде.
Глубокое наблюдение Г. А. Гуковского о связи среды и характера в
реалистическом искусстве часто неправильно абсолютизируется, в резуль-
тате чего одна из исторически конкретных художественных форм объяв-
ляется вневременным абсолютом. Причем нормой оказывается даже не
29 Ср. 1в вариантах «Вия»: «Труп глухо топнул своею мягкою, почти без костей,
ногою о пол», «Этот звук раздался совершенно беззвучно» (II, 571 и 574).
446
Семиотика пространства
Пушкин и не Гоголь, а то, что роднит этих писателей с очерком натураль-
ной школы. В результате происходит непомерное сужение представлений
о художественном мышлении русской литературы XIX в. Показ того, как
человек принадлежит тому или иному пространству (уже — среде),
органически связан для Гоголя с вопросом: «Как человек выбивается
из своей среды?» И именно соотношение этих проблем свойственно
русской литературе XIX в. Необходимо отметить, что безоговорочное
включение героя в некий окружающий его мир, подразумевающее господ-
ство этого мира над ним, снимает вопросы о нравственной ответственности,
об индивидуальной активности человека, которые были столь важны
для литературы XIX в. и художественное моделирование которых чаще
всего достигалось языком пространственных перемещений (показательно,
что тургеневский роман, герои которого не изменяются, а выра-
жают некие глубинные — социальные, психологические, мировые —
сущности, пространственно зафиксирован и этим глубоко отличается от
романа Толстого и Достоевского).
С появлением образа дороги как формы пространства формируется и
идея пути как нормы жизни человека, народов и человечества. Герои
резко делятся на движущихся («герои пути») и неподвижных. Движу-
щийся герой имеет цель. И даже если это мелкая, своекорыстная цель и
соответственно с этим траектория движения коротка и он, достигнув
желаемой им точки, может остановиться, автор все же выделяет его
из мира неподвижных кукол. Герой, который может остановиться, может
и не остановиться. Он еще не застыл, и автор надеется временное и
эгоистическое движение превратить в непрерывное и органичное. «Нет,
пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» (VI, 223).
С этим связаны и надежды автора на возрождение Чичикова. Совсем не
идеалом являются и беглые Плюшкина, но они также принадлежат
«подвижному» миру, и это резко отличает их от дяди Миняя и дяди Митяя.
Мы уже говорили об отличии пути героев Гоголя от просветительского
(включая сюда и толстовское) толкования этого вопроса. Для просве-
тителя, с его идеей врожденно-антропологических свойств натуры чело-
века, п у т ь не может быть бесконечным. Он ограничен, с одной стороны,
прекрасными свойствами природы человека. Человек не может стать
лучше, чем та нравственная норма, которая свойствежш ребенку, самой
неискаженной природе. Но и извращение не может быть бесконеч-
ным: если все врожденные положительные свойства перевернуть, то будет
получен предел зла. Добро — всегда сохранение или возвращение к
данному природой, зло — уход от него. Любой путь просветительского
героя уложится между этими двумя границами.
Путь у Гоголя изморфен дороге и принципиально безграничен — в оба
конца. Он может состоять в бесконечном восхождении и в бесконечном
падении. Сама идея бесконечности в добре и зле неоднократно подчерки-
валась Гоголем, хотя, истолковывая собственные взгляды на метаязыке
то просветительских, то романтических теорий, Гоголь не всегда был
последователен. Так, говоря о Плюшкине, Гоголь в чисто просветитель-
ском духе истолковывает падение как утрату: «Забирайте с собою все
человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!»
(VI, 127). Ясно, что потерять можно только то, что есть: зло есть утрата
первоначального добра и поэтому не может быть безграничным. Но тут
же рядом Гоголь настаивает именно на безграничности пути человека:
«И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!
мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все
может статься с человеком» (VI, 127; курсив мой. — Ю. Л.).
Проблема художественного пространства...
447
В пространственной структуре «Мертвых душ» есть еще одна инте-
ресная особенность: она иерархична в одном в высшей мере любопытном
отношении — герои, читатель и автор включены в разные типы того
особого пространства, которое составляет знание законов жизни. Герои
находятся на земле, горизонт их заслонен предметами, они ничего не
знают, кроме практических житейских соображений, поразительно недаль-
новидных. Точка зрения читателя вынесена вверх — он видит широко
вокруг, может знать о героях, об их прошлом и будущем, наблюдать
нескольких героев одновременно. Он может передвигаться в этом про-
странстве, и авторские слова «перенесемся в...», «посмотрим, что делает...»
в применении к нему весьма обычны. Гоголь прямо дает этому различию
между читателем, которому открыты связи, таинственные для действую-
щих лиц, и персонажами романа истолкование в терминах пространства:
«Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки,
откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку
виден только близкий предмет» (VI, 210).
Но читатель, видя всю широту сюжетных связей, не знает морального
исхода, которому Гоголь тоже придает пространственный образ: «Где
выход, где дорога?» (VI; 211). Это видит человек пути — автор. И именно
поэтому все, что ни есть на Руси, «обратило» на него «полные ожидания
очи» (VI, 221).
Автор — человек пути, как всякий пророк, начиная от комического
народного пророка на уровне дяди Миняя и дяди Митяя, который «пришел
неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся
тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на
каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет
цепь и овладеет всем миром» (VI, 206), и до того образа повествователя,
который создается всем текстом первого тома. Отсюда вытекает еще
одна особенность: гоголевский пророк не может возглашать программу —
он проповедует движение в бесконечность. В этом смысле
второй том «Мертвых душ» давал совершенно иную, резко отличную
от всей предшествующей прозы и, по сути дела, не гоголевскую схему
пространственных отношений, хотя отдельные куски текста и строятся
на привычном нам художественном языке первого тома.
*
Язык пространственных отношений, как мы уже говорили, — не един-
ственное средство художественного моделирования, но он важен, так как
принадлежит к первичным и основным. Даже временное моделирование
часто представляет собой вторичную надстройку над пространственным
языком. И, пожалуй, именно Гоголь раскрыл для русской литературы
всю художественную мощь пространственных моделей, многое определив
в творческом языке русской литературы от Толстого, Достоевского и
Салтыкова-Щедрина до Михаила Булгакова и Юрия Тынянова.
448
Семиотика пространства
Заметки о художественном пространстве
v 1. Путешествие Улисса в
«Божественной комедии» Данте
Данте сравнивал себя с геометром («Рай», XXXIII, 133—134). В равной
мере его можно было бы сопоставить с космологом и астрономом, учиты-
вая, что еще «Новую жизнь» он начал с весьма сложных и специальных
исчислений законов космического движения. Однако вернее всего было
бы назвать его архитектором, ибо вся «Божественная комедия» есть
огромное архитектурное сооружение, конструкция универсума. Такой
подход подразумевал перенесение на космический универсум психологии
индивидуального творчества: мир как продукт творчества должен был
обладать целью и значением, о каждой детали его можно было спросить:
«Что она означает?» Этот естественный для восприятия архитектурного
создания вопрос, примененный к Природе и Вселенной, превращал их в
семиотические тексты, смысл которых подлежит дешифровке. Причем,
как и в архитектуре, на первый план выступала пространственная
семиотика.
Мир выступал как огромное послание его Творца, который на языке
пространственной структуры зашифровал таинственное сообщение. Данте
расшифровывает это сообщение тем, что строит в своем тексте этот мир
второй раз, становясь в позицию не получателя, а отправителя сообщения.
С этим связана общая ориентация поэтики «Божественной комедии» на
зашифрованность. Однако специфика позиции Данте как создателя текста
заключается в том, что, возвышаясь до точки зрения Творца, он не поки-
дает точки зрения человека. Проиллюстрируем это одним примером.
В дальнейшем мы остановимся на том, какое значение для всего построе-
ния Данте имеет пространственная ось «верх—низ». Однако в «Божествен-
ной комедии» она фигурирует явно в двух смыслах. Один релятивен и
действует только в пределах Земли; здесь «низ» отождествляется с
центром тяжести земного шара, а «верх» — с любым направлением
радиуса от центра.
Quando noi fummo la dove la coscia
si volge a punto in sul grosso dell'anche,
lo duca, con fatica e con angoscia,
Voise la testa ov'elli avea le zanche,
e aggrappossi al pel com'uom che sale,
si che 'n inferno F credea tornar anche...
(...)
...Ed elli a me: «Tu imagini ancora
d'esser di la dal centro ov'io mi presi
al pel del vermo reo che '1 mondo fora.
Di la fosti cotanto quant'io scesi;
quand'io mi volsi, tu passasti '1 punto
al gual si traggon d'ongi parte i pesi...»
(Inferno, XXXIV, 76—81; 106—111)1.
Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, дает уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усильем лег
Челом туда, где прежде были ноги,
Заметки о художественном пространстве
449
Однако космическое здание Данте имеет и абсолютный верх и низ.
Если люди, расположенные на различных полюсах земного шара, «обра-
щены друг к другу ступнями» («Пир»), то абсолютно ориентиро-
ванную вертикаль образует ось, о которой в том же трактате сказано:
«Если камень мог упасть с Полярной звезды, он упал бы в море Океан,
и если бы на этом камне находился человек, Полярная звезда всегда
приходилась бы над его головой». Эта ось пронзает Землю, будучи
обращена нижним концом к Иерусалиму, проходя через Ад, центр
Земли, Чистилище и упираясь в сияющий центр Эмпирея. Это та ось,
по которой был свергнут с небес Люцифер.
Противоречие между релятивным и абсолютным верхом и низом в
системе Данте уже привлекало внимание. Философ и математик П. Фло-
ренский пытался снять его, исходя из понятий неэвклидовой геометрии
и релятивистской физики. Он писал: «Переворот нормали определяется
тем, остаемся ли мы на той же самой стороне (т. е. на поверхности
односторонней), или переходим на другую сторону, одна коорди-
ната которой действительная, а другая — мнимая (поверхность двусто-
ронняя) (...). И вот, относительно этого самого, одного и того же,
преобразования, поверхность односторонняя и поверхность двусторонняя
ведут себя противоположно. Если оно переворачивает нормаль
у одной поверхности, то не переворачивает — у другой, и наоборот»2.
Эту мысль Флоренский иллюстрирует примером «Божественной комедии».
Процитировав приведенные нами уже стихи из XXXIV песни «Ада»,
Флоренский пишет далее: «После этой грани поэт восходит на гору
Чистилище и возносится чрез небесные сферы. — Теперь — вопрос:
по какому направлению? Подземный ход, которым они поднялись, образо-
вался падением Люцифера, низвергнутого с неба головою. Следовательно,
место, откуда он низвергнут, находится не вообще где-то на небе, в
пространстве, окружающем землю, а именно со стороны той гемисферы,
куда попали поэты. Гора Чистилища и Сион, диаметрально противо-
положные между собою, возникли как последствия этого падения, и значит
путь к небу направлен по линии падения Люцифера, но имеет обратный
смысл. Таким образом, Дант все время движется по прямой и на небе
стоит — обращенный ногами к месту своего спуска; взглянув же оттуда,
из Эмпирея, на Славу Божию, в итоге оказывается он, без особого
возвращения назад, во Флоренции... Итак: двигаясь все время вперед
И стал по шерсти пробираться ввысь,
Я думал — вспять, по той же вновь дороге...
(...)
...«Ты думал — мы, как прежде, — молвил он, —
За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен?
Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился...
(Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. М., 1967. С. 153 —
154. В дальнейшем все переводы даются по этому изданию с указанием главы и
стиха).
2 Флоренский П. Мнимости в геометрии: Расширение области двухмерных
образов геометрии (опыт нового истолкования мнимостей). М., 1922. С. 43—44
(разрядка везде П. Флоренского).
450
Семиотика пространства
по прямой и перевернувшись раз на пути, поэт приходит на прежнее
место и в том же положении, в каком он уходил с него. Следовательно,
если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл бы по прямой на место
своего отправления уже вверх ногами. Значит, поверхность, по которой
двигается Дант, такова, что прямая на ней, с одним переворотом направ-
ления, дает возврат к прежней точке в прямом положении, а прямолиней-
ное движение без переворота — возвращает тело к прежней точке пере-
вернутым. Очевидно, это — поверхность: 1) как содержащая замкнутые
прямые, есть римановская плоскость и 2) как переворачивающая
при движении по ней перпендикуляр, есть поверхность односторон-
няя. Эти два обстоятельства достаточны для геометрического охаракте-
ризования Дантова пространства как построенного по
типу эллиптической геометрии... В 1871 г. Ф. Клейн
указал, что сферическая плоскость обладает характером поверхности
двусторонней, а эллиптическая — односторонней. Дантово пространство
весьма похоже именно на эллиптическое. Этим бросается неожиданный
пучок света на средневековое представление о конечности мира. Но в
принципе относительности эти обще-геометрические соображения полу-
чили недавно неожиданное конкретное истолкование»3.
Несмотря на то что П. Флоренский в своем стремлении доказать, что
средневековое сознание ближе к мышлению XX в., чем механическая
идеология Ренессанса, допускает некоторые увлечения (так, о возвраще-
нии Данте на землю («Рай», I, 5—6) в «Божественной комедии» говорится
лишь намеками, вывести из которых заключение о прямолинейности этого
движения можно лишь путем произвольных допущений), выявленная
им проблема противоречия между реально-бытовым пространством и
космически-трансцендентальным в тексте «Божественной комедии» при-
надлежит к важнейшим. Однако решение противоречия, вероятно, следует
искать в другой плоскости.
Если рассмотреть космическую схему «Божественной комедии», то
придется отметить следующее: согласно представлениям Аристотеля,
северное полушарие, как менее совершенное, находится внизу, а южное —
вверху земного шара. Поэтому Данте и Виргилий, опускаясь по релятив-
ной шкале земного противопоставления «верх—низ», т. е. углубляясь от
поверхности Земли к ее центру, одновременно по отношению к ориентации
всемирной оси поднимаются вверх. Парадокс этот находит разрешение
в области дантовской семиотики. В системе представлений Данте про-
странство имеет значение. Каждой пространственной категории приписан
определенный смысл. Соотношение выражения и содержания здесь,
однако, лишено той условности, которая присуща семиотическим систе-
мам, основанным на общественных конвенциях. По терминологии Ф. де
Соссюра, это не знаки, а символы. «Символ характеризуется тем, что он
всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент
естественной связи между означающим и означаемым. Символ справед-
ливости, весы, нельзя заменить чем попало, например, колесницей»4.
Так, у Псевдо-Дионисия Ареопагита одна из функций символа — «реально
являть» мир сверхбытия на уровне бытия <...). При этом функция
3 Флоренский /7. Указ. соч. С. 46—48.
4 Saussure F. dc. Cours de linguistique generale. Paris, 1962. P. 101. См. также:
Todorov Tzv. Introduction a la symbolique // Poetique. 1972. № 11. P. 275—286
(«Signe et Symboie»); Idem. Theories du symbole / Ed. du Seul. Paris, 1977. P. 9—11.
Заметки о художественном пространстве
451
обозначения ограничена рамками изоморфизма, хотя и принципиально
отличного от античного мимесиса»5 Содержание, значение символа не
условно соединено с его образным выражением (как это имеет место в
аллегории), а просвечивает, сквозит в нем. Чем ближе иерархически
расположен данный текст к тому небесному свету, который составляет
истинное содержание всей средневековой символики, тем ярче просвечи-
вает в нем значение и тем безусловнее и непосредственнее его выражение.
Чем дальше на лестнице универсальной иерархии отстоит текст от
источника истины, тем тусклее ее отблеск и тем условнее отношение
содержания и выражения. Таким образом, на высшей ступени истина
является непосредственному созерцанию для духовного взора, на низшей
же она приобретает характер знаков, имеющих чисто конвенциональную
природу. Именно потому, что грешные люди и демоны разных иерархи-
ческих ступеней пользуются чисто условными знаками, они могут лгать,
совершать вероломные поступки, предательства и обманы — разными
способами отделять содержание от выражения. Праведные люди также
пользуются условными знаками в общении между собой, но они не
обращают во зло их условной природы, а обращение к высшим источникам
истины раскрывает перед 'ними возможности проникновения в безуслов-
ный символический мир значений.
Таким образом, от одной ступени иерархии к другой природа соотно-
шения содержания и выражения будет меняться: по мере продвижения
ввысь — нарастать символизм и ослабевать конвенциональная знако-
вость. Однако в семантическом отношении каждый новый иерархический
уровень будет изоморфен всем другим, и, следовательно, между имею-
щими одинаковое значение элементами разных уровней будет устанавли-
ваться отношение эквивалентности.
Сказанное имеет прямое отношение к трактовке понятий «верх» и «низ»
в «Божественной комедии».
Ось «верх—низ» организует всю смысловую архитектонику текста:
все части и песни «Божественной комедии» отмечены относительно
расположения на этой основной координате. Соответственно движение
Данте в тексте — всегда спуск или подъем. Понятия эти всегда имеют
символический характер: за реальным подъемом или спуском просвечи-
вает духовное вознесение или падение. Все грехи, построенные Данте в
строгую иерархию, получают пространственное закрепление так, что
тяжести греха соответствует глубина пребывания грешника.
Нисхождение Данте и Вергилия в Ад имеет значение спуска
вниз. Парадоксальность положения, при котором они, спускаясь, поды-
маются, подчеркивается стихом о Луне, которая, перейдя в южную геми-
сферу, плывет у ног странствующих поэтов:
Е gia la luna ё sotto i nostri piedi (Inf., XXIX, 10)b.
Следовательно, в некотором высшем смысле это нисхождение есть вос-
хождение (спускаясь в Ад и познавая бездну греха, Данте в абсолютном
отношении нравственно возвышается — спуск эквивалентен подъему),
но, одновременно, по земным критериям, это именно спуск, хранящий
все признаки реального движения вниз, включая и физическую усталость
путников. Имея значение спуска, путь этот приводит поэтов к «отвержен-
г' Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977. С. 129.
b Уже луна у наших ног плывет («Ад», XXIX, 10).
452
Семиотика пространства
ным селеньям» («citta dolente», Inf., Ill, 1), делает их созерцателями
адских мук.
Сложная диалектика условного и безусловного, с которой мы сталки-
ваемся сразу же, как только начинаем размышлять над основной семиоти-
ческой осью пространства Данте, вводит нас в центр нравственной
иерархии «Божественной комедии». Многократно обращалось внимание
на нетривиальность распределения в «Божественной комедии» грехов
по кругам наказаний: Данте расходится и с церковными нормами, и с
житейскими представлениями. Если читателей XIV в. не могло не пора-
жать то, что лицемеры помещены в шестой щели VIII круга, а еретики
только в VI круге, то современный читатель Данте изумляется, видя, что
убийство (первый ров VII круга) карается меньше, чем воровство (седь-
мая щель VIII круга) или изготовление фальшивых монет и ложных
драгоценностей (десятая щель VIII круга). Между тем в подобном
распределении есть строгая логика.
Мы уже отмечали, что по мере спускания с вершин Божественной
Истины и Любви мера безусловности в связи выражения и содержания
ослабевает. В земной жизни люди руководствуются божественными
символами в вопросах 'Веры и условными знаками в отношениях между
собой. Конвенциональная природа этих знаков таит в себе возможность
двоякого их употребления: ими можно пользоваться как средством
истины (соблюдая конвенции) или лжи (нарушая или извращая их).
Дьявол — отец лжи — вдохновитель нарушений конвенций и всяческих
договоров. Нарушение истинных связей между выражением и содержа-
нием хуже убийства, ибо убивает Правду и является источником Лжи
во всей ее инфернальной сути. Поэтому есть глубокая логика в том, что
грехи, заключающиеся в неправедных деяниях, оцениваются Данте как
менее тяжелые, чем все случаи лживого использования знаков: слов
(клевета, лесть, ложные советы), ценностей (фальшивомонетчики, алхи-
мики и т. д.), документов (фальсификаторы;, доверия (воры), идей и
знаков достоинств (лицемеры и симонисты). Но хуже всего нарушители
договоров и обязательств — предатели. Неправильные поступки причи-
няют единичное зло, нарушение предустановленных знаковых связей
разрывает саму основу человеческого общества и делает Землю царством
Сатаны — Адом.
Естественно, что в Аду царствует ложь — здесь связи между знаком
и содержанием расторгнуты; и ложь здесь не отклонение от нормы, а
закон. Лгут дьяволы, сообщая Вергилию в песне XXI, что обрушился
лишь шестой мост через рвы, — на самом деле обрушились все мосты.
Но и Данте в XXXIII песне «Ада» в разговоре с Альбериго клянется,
что снимет лед с глаз грешника, и тут же нарушает свою клятву:
е cortesia fu lui esser villano (Inf., XXXIII, 150)7.
Тяжелейшее преступление — вероломство — оказывается доблестью,
где грубость есть вежливость.
Противопоставление Правды и Лжи* в пространственной модели вопло-
' И было доблестью быть подлым с ним («Ад», XXXIII, 150).
8 Ma perche frode ё de l'uom proprio male,
piu spiace a Dio, e pero stan di sutto
li frodolenti e piu dolor li assale (Inf., XI, 25—28).
Обман, порок, лишь человеку сродный,
Гнусней Творцу; он заполняет дно
И пыткою казнится безысходной. («Ад», XI, 25—28)
Заметки о художественном пространстве
453
щается в антитезе прямой линии, устремленной вверх, и циркульного
движения в горизонтальной плоскости. Представление о том, что движение
по кругу имеет колдовскую, магическую, — ас средневеково-христианской
точки зрения, дьявольскую — природу, было всеобщим. С этим можно
было бы сопоставить рассуждения блаженного Августина, отрицавшего
идею циркульного движения времени и циклического повтора событий и
противопоставлявшего ей концепцию линейного движения времени, «ибо
Христос умер однажды за грехи наши»'1.
Этическая модель пространства непосредственно соотнесена у Данте
с его космической моделью. Космическая модель Данте складывалась
под влиянием идей Аристотеля, Птолемея, аль-Фергани и Альберта
Великого. Однако бесспорное воздействие на него оказали и идеи Пифа-
гора. В свете пифагорейских представлений о высшем совершенстве
круга и сферы среди геометрических фигур и тел циркульное построение
кругов Ада получает такое объяснение: круг — образ совершенства, но
круг, расположенный вверху, — совершенство добра, а внизу — совер-
шенство зла. Архитектура Ада — совершенство зла. Особенное воздей-
ствие оказала на Данте система пифагорейских бинарных оппозиций,
в частности противопоставление прямого как равного добру — кривому,
являющемуся графическим эквивалентом зла. Движение грешников в
Аду совершается по замкнутым кривым, движение же Данте — по
восходящей спирали, которая переходит в полет по прямой. Надо, однако,
подчеркнуть, что именно на фоне пифагорейских идей ярко выступает
отличие Данте: не центр сферы, а вершина мировой Оси является точкой
его пространственной и этико-религиозной ориентации. Пифагорейцы
выделили ряд основных бинарных противопоставлений, таких, как «чет/
нечет», «правое/левое», «предельное/беспредельное», «мужское/жен-
ское», «единое/множественное», «свет/тьма», но основная для Данте
оппозиция «верх/низ» в их системе остается невыделенной10.
Таким образом, пространственная модель дантовского мира составляет
определенный континуум, в который вписываются некоторые траектории
индивидуальных путей и судеб. После смерти душа человека проделывает
в континууме Мировой Конструкции определенный путь, который при-
водит ее в соответствующее ее нравственной ценности пространство.
Но блаженные души находятся в покое непрерывного пребывания, между
тем как грешные совершают постоянные циклические движения — иногда
в форме непосредственных пространственных перемещений (бесконечных
полетов или хождений по кругу), иногда в виде повторяющихся превра-
щений: разрубаемые на части, они тотчас же обретают целость облика,
чтобы вновь быть разрубленными; сгорая, они возрождаются из пепла,
9 Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев,
1905. Ч. 4. С. 258.
10 См.: Vinassa de Regny P. Dante e Pitagora. Milano, 1955. Тем не менее
показательно, что в Чистилище движение вверх разрешено лишь при свете солнца,
во тьме же можно только спускаться или соверп;. ", круговое движение вокруг
горы (Purg., VII, 52—59). Связь кругового явил... пия с тьмой, а прямого и
восходящего — со светом раскрывает греховность одного и благость другого.
При этом круговые движения в Чистилище совершаются вправо (Purg., XIII,
13—16) в то время как в Аду, кроме двух исключений, — влево.
454
Семиотика пространства
чтобы вновь гореть; обрастают кожей, которую с них непрерывно сдирают,
и т. д.11
На этом фоне резко выступает фигура Данте, который обладает свобо-
дой всех передвижений, поскольку его движение вверх включает в себя
познаниеи всех ложных путей. Однако не только Данте обладает в
«Божественной комедии» резко выраженной индивидуальной траекторией
движения. В этом аспекте должен быть назван еще один персонаж
произведения — Улисс. Уникальность этой фигуры неоднократно прико-
вывала к нему внимание комментаторов и исследователей12. Действи-
тельно, нельзя не признать, что путешествие Улисса представляет собой
весьма своеобразный эпизод.
Образ Улисса в «Божественной комедии» двоится. В «злые щели»
Улисс попал как податель коварных советов. В свете сказанного выше
об отношении Данте к коварству и обману это не вызывает удивления.
Привлекает внимание другое — рассказ Улисса о его путешествии и
гибели. Улисс, как и Данте, наделен индивидуальным путем. Между их
трассами в мировом континууме есть еще одно существенное сходство:
они — герои прямого пути13. Сходство проявляется и в том, что пути их
воплощают открытое движение, порыв в бесконечность: начинаясь в
точно обозначенных пунктах, они движутся в избранном направлении,
а не стремятся к заранее обозначенному конечному пункту. Однако в
трассах их движения имеется коренное различие: смысл пути Данте
воплощен в порыве вверх, каждый шаг его отмечен по этой шкале,
представляя спуск вниз или подъем ввысь. Путь Улисса — единственное
в «Божественной комедии» значимое движение, для которого ось «верх—
низ» не релевантна: вся трасса развертывается в горизонтальной плоско-
сти. Если Данте помещен внутрь хрустального космического глобуса,
трехмерное пространство которого пронзено вертикальной осью (то, что
1! Греховность циркульного движения распространяется только на Ад, поскольку
связывается с сужением пространства, его возрастающей теснотой, чему противо-
поставлено расширяющееся пространство небесных сфер и бесконечность свер-
кающего Эмпирея.
Пространство Ада не только тесное, но и грубо материальное. Ему противостоит
идеальность одновременно бесконечно суженного до одной Точки (Parad., XXVIII,
16, 22—25 и XXIX, 16—18) и расширенного до беспредельности. Противопо-
ставление дополняется антитезами: «свет — тьма», «благовоние — зловоние»,
«тепло — крайний жар или крайний холод», которые в сумме образуют семиоти-
ческую конструкцию дантовского мироздания.
12 См.: Harimann A. Untersuchungen iiber die Sagen vom Tod des Odysseus.
Munchen, 1917; Standford W. B. Dante's conception of Ulisses // The Cambridge
Journal, 1953. № 4; Idem. The Ulisses Theme // A study in the adaptability of a
traditional hero. 2 ed. Oxford, 1963. См. здесь и литературу вопроса. Из новейшей
литературы см.: Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в западноевро-
пейской литературе. М., 1966; D'Arco Silvio A valle. Modelli semiologici nella Comme-
dia di Dante. Milano, 1975 (L'ultimo viaggio di Ulisse. P. 33—64); Forti E. Magna-
nimitade. Bologna, 1977 («Curiositas» о «Fol hardement». P. 162—206).
13 Реальная трасса движения Данте по кругам Ада спиралевидна, т. е. склады-
вается из двух движений: по кругам и вглубь, сложный рисунок имеет его
движение по небесным сферам, однако семантикой его перемещения в кодовой
структуре дантовского пространства будет восхождение. Путь Улисса несколько
искривлен поверхностью земного шара и склонением корабля влево («Sempre
acquistando del lato mancino», Inf., XXVI, 126). Однако в кодовой сфере ему также
соответствует прямая линия.
Заметки о художественном пространстве
455
Данте указывает и даже измеряет ее склонение (см.: Purg., IV, 15—16,
67—69, 137—138), не меняет ее метафизического смысла как вертикали),
то Улисс путешествует как бы по карте. Не случайно, когда Данте из
созвездия Близнецов бросает взор на Землю, он видит, как на карте,
движение корабля Улисса:
si sh'io vedea di la da Gade il varco
folle d'Ulisse... (Parad., XXVII, 82—83)14.
Улисс — своеобразный двойник Данте. Двойничество его проявляется
в двух существенных аспектах. Во-первых, оба они, в отличие от остальных
персонажей, чьи грехи или добродетели однозначно закрепили их за
определенными locus'aMH дантовского мира, «герои пути» — они посто-
янно находятся в движении и, что еще важнее, постоянно пересекают
границы запретных пространств. Остальная толпа персонажей Данте
или находится на месте, или спешит к какому-либо предназначенному
месту, границы которого определяют их место во Вселенной, у каждого
из этих персонажей есть свое пространство. Только Данте и Улисс —
добровольные или вынужденные изгнанники, гонимые могучей страстью,
— пересекают рубежи, отделяющие одну область мироздания от другой.
Во-вторых, их роднит общность маршрута: и Данте, и Улисс спешат в
одном направлении; разными путями они движутся к Чистилищу —
Данте сквозь Ад и через пещеры, пробитые при падении телом Люцифера,
Улисс — морем, мимо Испании, Гибралтара, Марокко. Хотя путешествие
Данте совершается в инфернальном мире, а Улисса — в реальном
географическом пространстве, мета, к которой они спешат, одна. Это
подтверждается тем, что в путешествии по Чистилищу и Раю Данте
как бы перенимает эстафету погибшего Улисса. Два раза поэт напоминает
об утонувшем герое, и оба упоминания полны значения.
Во вторую ночь Чистилища ему является Сирена:
lo volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio... (Purg., XIX, 22—23)15.
Образ Сирены напоминает о морских подвигах и отваге Одиссея, но
лживость ее, способность разделять внешность и сущность и скрывать
отвратительное под покровом прекрасного (способность к превращениям
для Данте — признак лжи: именно так казнятся лжецы в Аде) невольно
намекают на мир обманов из «злых щелей», к которому Данте причислил
и Улисса.
Второй раз Улисс вспоминается во время вступления поэта в зону
Близнецов. Оказавшись в точке, антиподной месту гибели Улисса, Данте
совершает перелет к меридиану Геркулесовых столпов и далее, в бес-
конечной выси, повторяет путь Улисса, пока не оказывается над местом
его гибели, на меридиане Сион — Чистилище. Здесь по оси падения
Люцифера, проходящей через место, где разбился корабль Улисса, он
совершает взлет в Эмпирей. Таким образом, путешествие Данте как
бы продолжает путешествие Улисса с момента гибели последнего. До
этого момента они как бы дублируют друг друга.
Однако смысл всякого двойничества в том, чтобы на базе сходства
выявить различие. Таков же смысл и в данном случае.
14 Я видел там, за Гадесом, шальной
Улиссов путь... («Рай», XXVII, 82—83).
15 Улисса совратил мой сладкий зов
С его пути («Чистилище», XIX, 22-23).
456
Семиотика пространства
Как и Данте, Улисс сочетает стремление к познанию человека («delli
vizi umani e del valore») с желанием познать тайны строения мира:
De' vostri sensi ch'e del rimanente
поп vogliate negare 1'esperienza
di retro al sol, del mondo sanza genta
(Inf., XXVI, 115-118),6.
Данте явно импонирует эта благородная жажда познания. В тексте
неоднократно встречается противопоставление подлинных людей ското-
подобным существам в человеческом облике (ср., например, в XIV песне
«Чистилища» перечисление живущих вдоль течения Арно свиноподобных
жителей Порчано, собак-арентинцев, волков-флорентийцев и лисиц-
пизанцев). На реализации метафоры скотоподобия построены многие
адские муки. Поэтому слова Улисса, напоминающего своим спутникам,
что они люди, а не скоты, и рождены для благородного знания, а не для
животного существования, исполнены для поэта глубокого значения:
Considerate la vostra semenza:
fattb поп foste a viver comme bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza
(Inf., XXVI, 118—120)17.
Однако пути к познанию у Данте и Улисса различны: дантовское
знание сопряжено с постоянным восхождением познающего по оси
моральных ценностей, это знание, которое дается ценой нравственного
усовершенствования познающего. Знание возвышает, а возвышение нрав-
ственности — просветляет ум. Жажда знания у Улисса внеморальна,
она не связана ни с нравственностью, ни с безнравственностью, она
лежит в другой плоскости и не имеет к этическим проблемам отношения.
Даже Чистилище для него — лишь белое пятно на карте, а стремление к
нему — путешествие, диктуемое жаждой географических открытий. Данте
— паломник, а Улисс — путешественник. Не случайно Данте в его
инфернальном и космическом паломничестве всегда имеет Водителя —
Улиссом руководит лишь его дерзость и отвага. С умом и характером
искателя приключений он соединяет неукротимость Фаринаты. Эпический
плут, сказочный герой-обманщик, превратившийся в поэзии Гомера в
хитроумного царя Итаки, обретает в поэме Данте черты человека Возрож-
дения, первооткрывателя и путешественника. Образ этот и привлекает
Данте цельностью и силой, и отталкивает моральным индифферентизмом.
Однако, вглядываясь в образ создаваемого эпохой героического аван-
тюриста, искателя, пытливого во всех областях, кроме моральной, Данте
разглядел в нем нечто более общее, чем психологию ближайшего буду-
щего, черты, присущие научному — и, шире, культурному — сознанию
нового времени: разделение знания и морали, открытия и его результата,
науки и личности ученого.
Было бы ошибкой видеть в намеченном нами противопоставлении
Данте и Улисса лишь исторически давно уже ушедший конфликт психо-
логии средневекового мыслителя и человека Ренессанса.
1Ь Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный («Ад», XXVI, 114—118).
17 Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для живота и доли,
Но к доблести и к знанью ; лдены («Ад», XXVI, 118—120).
Заметки о художественном пространстве
457
История мировой культуры неоднократно подтверждала, что мысли-
тели, находящиеся у порога той или иной решительной эпохи, часто
видят ее смысл и результат более ясно, чем следующие поколения, уже
втянутые в ее водоворот. Находясь на пороге нового времени, Данте
увидел одну из основных опасностей наступающей культуры. Его соб-
ственному идеалу была присуща интегрнрованность: энциклопедизм его
знаний, которые включали практически весь арсенал науки его времени,
не складывался в его сознании в сумму разрозненных сведений, а образо-
вывал единое интегрированное здание, которое, в свою очередь, вливалось
в идеал мировой империи (Inf., I, 101 —109), и гармоническую конструк-
цию космоса. В центре этого гигантского построения находился человек,
мощный, как гиганты Возрождения, но интегрированный в окружающем
его мире, связанный со всеми концентрическими кругами мирового здания
и, следовательно, пронизанный моральным пафосом. Тенденция к вычле-
нению отдельной личности, ее специализации, приводившая к разделению
ума и совести, науки и нравственности, которую он предчувствовал в
наступающей эпохе, была ему глубоко враждебна.
Конечно, было бы наивно полностью отождествлять Данте как героя
«Божественной комедии» и' Данте как ее автора. Данте-персонаж —
антипод Улисса, помнящий, что никто из заключенных в аду не должен
вызывать сочувствия, Данте — автор «Божественной комедии» не может
отказать Улиссу в сочувствии и явно отдает ему часть своей эмоцио-
нальной личности. Мысль Данте рождается из сложной диалогической
соотнесенности этих образов.
2. Дом в «Мастере и Маргарите» "
Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так суждено меж людьми?
Александр Блок
Среди универсальных тем мирового фольклора большое место занимает
противопоставление «дома» (своего, безопасного, культурного, охраняе-
мого покровительственными богами пространства) антидому, «лесному
дому» (чужому, дьявольскому пространству, месту временной смерти,
попадание в которое равносильно путешествию в загробный мир)18.
Связанные с этой оппозицией архаические модели сознания обнаружи-
вают большую устойчивость и продуктивность в последующей истории
культуры. В поэзии Пушкина второй половины 1820-х—1830-х гг. тема
Дома становится идейным фокусом, вбирающим в себя мысли о культур-
ной традиции, истории гуманности и «самостоянье человека». В творчестве
Гоголя она получает законченное развитие в виде противопоставления,
с одной стороны, Дома — дьявольскому антидому (публичный дом,
канцелярия «Петербургских повестей»), а с другой, бездомья, Дороги,
• 1й См.: Лурье С. Я. Дом в лесу // Язык и литература. Л., 1932. Т. 8; Пропп В. Я.
Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 42--53 и 97—103; о символике
Дома см.: Иванов Вяч. В с. Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие
системы. М.. 1965. С. 168—175.
458
Семиотика пространства
как высшей ценности, — замкнутому эгоизму жизни в домах. Мифологи-
ческий архетип сливается у Достоевского с гоголевской традицией:
герой — житель подполья, комнаты-гроба, которые сами по себе — про-
странства смерти, должен, «смертью смерть поправ», пройти через мерт-
вый дом, чтобы воскреснуть и возродиться.
Традиция эта исключительно значима для Булгакова, для которого
символика Дома — Антидома становится одной из организующих на
всем протяжении творчества. Предметом настоящего очерка будут наблю-
дения над функцией этого мотива в «Мастере и Маргарите».
Первое, что мы узнаем, — это то, что единственный герой, который
проходит через весь роман от первой страницы до последней и который в
конце будет назван «ученик», — это «поэт Иван Николаевич Понырев,
пишущий под псевдонимом Бездомный»19. Сходным образом вводится в
текст и Иешуа:
«— Где ты живешь постоянно? (Вопрос перекликается с непрерывно
обсуждаемой героями романа проблемой прописки. — Ю. Л.).
— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, —
я путешествую из горрда в город.
— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал
прокуратор»(28). Отметим, что сразу после этого в тексте следует
обвинение Иешуа в том, что он «собирался разрушить здание храма»
(28); а адресом Ивана станет: «поэт Бездомный из сумасшедшего
дома»(78).
Наряду с темой бездомья сразу же возникает тема ложного дома. Она
реализуется в нескольких вариантах, из которых важнейший — комму-
нальная квартира. На слова Фоки: «Дома можно поужинать» — следует
ответ: «Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в каст-
рюльке з общей кухне дома порционно судачки о нагюрель!» (65).
Понятия «дом» и «общая кухня» для Булгакова принципиально не соеди-
нимы, и соседство их создает образ фантасмагорического мира.
Квартира становится средоточием аномального мира. Именно в ее
пространстве пересекаются проделки инфернальных сил, мистика бюро-
кратических фикций и бытовая склока. Подобно тому как все «чертыха-
ния» в романе обладают двойной семантикой, выступая и как эмоциональ-
ные междометия, и как предметные обозначения20, сугубо «квартирные»
разговоры, как правило, имеют двойную семантику с абсурдной или
инфернальной «подкладкой» типа «на половине покойника сидеть не
разрешается!»(104): за квартирно-жактовским жаргоном (не разре-
шается сидеть в комнатах, прежде занимаемых покойным Берлиозом)
возникает кошмарный образ Коровьева, сидящего на половине покойника
(образ этот поддерживается историями с похищением головы Берлиоза
и отрыванием головы Бенгальского)21.
19 Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: Роман. Рига, 1986. С. 13. В дальнейшем
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.
20 Воланд «капризен, как черт»(105); Лиходеев «да он уж уехал, уехал! --
закричал переводчик <...). Уж он черт знает где!»(105); «Вывести его вон, черти
б меня взяли!» А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж,
это можно!»(204) и т. д.
21 Ср. монолог Коровьева: «Я был свидетелем. Верите — раз! Голова — прочь.
Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам!»(213).
Заметки о художественном пространстве
459
То, что квартира символизирует не место жизни, а нечто прямо противо-
положное, раскрывается из устойчивой связи тем квартиры и смерти.
Впервые слово «квартира» встречается в романе в весьма зловещем
контексте: уже предсказав смерть Берлиозу, Воланд на вопрос: «А...
где же вы будете жить?» — отвечает: «В вашей квартире» (51). Тема эта
получает развитие в словах Коровьева Никанору Ивановичу: «Ведь ему
безразлично, покойнику (...) ему теперь, сами согласитесь, Никанор
Иванович, квартира эта ни к чему?» (106). С целью «прописаться в трех
комнатах покойного» (208) появляется в Москве дядя Берлиоза. Смерть
племянника — эпизод в решении квартирной проблемы: «Телеграмма
потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить
было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются»
(208). Смерть родственника — благоприятный момент, который не следует
упускать.
«Квартирка» № 50 — место инфернальных явлений, но они начались
в ней задолго до того, как там поселились Воланд со свитой: ювелиршина
квартира всегда была «нехорошей». Происходившие в ней «чудеса с
исчезновениями» не делают ее, однако, в романе уникальной: главное
свойство антидомов в романе состоит в том, что в них не живут — из них
исчезают (убегают, улетают, уходят, чтобы пропасть без следа). Иррацио-
нальность квартиры в романе раскрывается параллельным рассказом о
том, что «тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит
раздвинуть помещение до желательных пределов» (264), и о том, как
«один горожанин» «без всякого пятого измерения и прочих вещей, от
которых ум заходит за разум», превратил трехкомнатную квартиру в
четырехкомнатную, а затем ее «обменял на две отдельные квартиры в
разных районах Москвы — одну в три и другую в две комнаты». «Трех-
комнатную он обменял на две отдельных по две комнаты (...) а вы
изволите толковать про пятое измерение»(264).
Иррациональность противоречия между всеобщей погоней за «пло-
щадью» (попытка Поплавского обменять «квартиру на Институтской
улице в Киеве» на «площадь в Москве» (208) раскрывает и условность
квартирно-бюрократического жаргона, и ирреальность самого действия —
жить «на площади» то же, что и сидеть на половине мертвеца) и
несовместимостью этого понятия с жизнью раскрывается воплем Бенгаль-
ского: «Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите (...)
только голову отдайте!»(136).
Булгаковская квартира имеет заведомо нежилой вид. В доме № 13(!),
куда Иван вбежал в погоне за Воландом, «ждать пришлось недолго:
открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь
у пришедшего, немедленно ушла куда-то.
В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной
малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком,
на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом,
а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши
свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радио-
аппаратуре сердито кричал что-то стихами»(59). Именно здесь Иван
наталкивается на «голую гражданку» «в адском освещении» «углей,
тлеющих в колонке» (58).
Однако признаки, отделяющие антидом от дома, нельзя свести только
к неухоженности, запущенности и бездомности коммунальных квартир.
«Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире»
(230), но и она чувствует, что в «особняке» жить нельзя — можно лишь
умереть. В равной мере Понтий Пилат ненавидит дворец Ирода — он
460 Семиотика пространства
живет, ест и спит под колоннами балкона, не в силах, даже во время ура-
гана, войти внутрь дворца («я не могу ночевать в нем», 345). Только
один раз в романе Пилат вошел внутрь дворца — «прокуратор в затенен-
ной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то челове-
ком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном» (45). Комнаты
используются не для жилья, а для свидания с начальником секретной
стражи. «Скрылись внутри домика» (318) Афраний и Низа, чтобы догово-
риться о цене за убийство Иуды («чтобы зарезать человека при помощи
женщины, нужны очень большие деньги», 329). В историях отравителей,
убийц, предателей, появляющихся на балу у сатаны, несколько раз фигу-
рируют стены комнат, играющие самую мрачную роль. Когда «весть о
гибели Берлиоза распространилась по всему дому», Никанор Иванович
получил «заявлений тридцать две штуки», «в которых содержались пре-
тензии на жилплощадь покойного». «В них заключались мольбы, угрозы,
кляузы, доносы» (103). Квартира становится синонимом чего-то темного, и
прежде всего — доноса. Жажда квартиры была причиной доноса Алоизия
Могарыча на мастера:
«— Могарыч? — спросил Азазелло у свалившегося с неба.
— Алоизий Могарыч,' — ответил тот дрожа.
— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека,
написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя неле-
гальную литературу? — спросил Азазелло.
Появившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.
— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее
прогнусил Азазелло»(303—304).
«Квартирный вопрос» приобретает характер емкого символа. «...Обык-
новенные люди... в общем напоминают прежних... квартирный вопрос
только испортил их», — резюмирует Воланд(135).
Однако антидом представлен в романе не только квартирой. Судьбы
героев проходят через многие «дома» — среди них главные: Дом Грибое-
дова, сумасшедший дом, «бревенчатое зданьице, не то оно — отдельная
кухня, не то баня, не то черт знает что», «адское место для живого
человека» (232), где оказывается мастер в сне Маргариты. Особенно
важен Грибоедов, в котором семантика, традиционно вкладываемая в
истории культуры в понятие «Дом», подвергается полной травестии.
Все оказывается ложным, от объявления «Обращаться к M.R. Подлож-
ной» до «непонятной надписи Перелыгино»(63).
Показательно, что именно над помещениями, возведенными в степень
символов, в романе вершится суд: Маргарита казнит квартиры (но спа-
сает Латунского от свиты Воланда), Коровьев и Бегемот сжигают Дом
Грибоедова.
Инфернальная природа псевдодомов переносится и на их скопление —
город. В начале и конце романа нам показаны дома вечереющего города.
Воланд «остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих
в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича
солнце»(17). В главе 29-й второй части: «...в окнах, повернутых на
запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное
солнце. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя Воланд
был спиной к закату» (376). Сопоставление с глазом Воланда раскрывает
зловещий смысл этих пылающих окон, сближая их блеск с многократно
упоминаемым в романе отсветом от горящих углей. Вообще, светящиеся
окна в романе являются признаком антимира.
Противопоставление Дома живых и антидома псевдоживых осуще-
ствляется у Булгакова с помощью целого набора устойчивых признаков, в
Заметки о художественном пространстве
461
частности освещения и звуковых характеристик. Так, например, из анти-
дома слышатся звуки патефона («в комнатах моих играл патефон», —
рассказывает мастер о том, как он январской ночью в пальто с оборван-
ными пуговицами подошел к своему подвальчику, занятому Алоизием
Могарычем (159) или одинаковые во всех квартирах звуки радиопередачи.
Дом имеет признаком звуки рояля. Двойная природа квартиры № 50, в
частности, обнаруживается попеременно звуками то рояля, то патефона.
Используя пространственый язык для выражения непространственных
понятий, Булгаков делает Дом средоточием духовности, находящей выра-
жение в богатстве внутренней культуры, творчестве и любви. Духовность
образует у Булгакова сложную иерархию: на нижней ступени находится
мертвая бездуховность, на высшей — абсолютная духовность. Первой
нужна жилая площадь, а не Дом, второй не нужен Дом: он не нужен
Иешуа, земная жизнь которого — вечная дорога. Понтий Пилат в
счастливых снах видит себя бесконечно идущим по лунному лучу.
Но между этими полюсами находится широкий и неоднозначный мир
жизни. На нижних этажах его мы столкнемся с дьявольской одухотво-
ренностью, жестокими играми, которые тормошат, расшевеливают косный
мир бездуховности, вносят в него иронию, издевку, расшатывают его.
Эти злые забавы будят того, кого можно разбудить, и в конечном счете
способствуют победе духовности более высокой, чем они сами. Таков
смысл не лишенного манихейского привкуса эпиграфа из Гете: «...так кто
же ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо».
Выше находится искусство. Оно имеет полностью человеческую природу
и не подымается до абсолюта (мастер не заслужил света). Но оно
иерархически выше физически более сильных слуг Воланда или также
не лишенных творческого начала деятелей типа Афрания. Эта большая,
по сравнению с ними, одухотворенность в интересующем нас аспекте
проявляется пространственно. Свита Воланда, прибыв в Москву, поме-
щается в квартире, Афраний и Пилат встречаются во дворце, мастеру
нужен Дом. Поиски Дома — одна из точек зрения, с которой можно
описать путь мастера.
Путь мастера — странствие.
История мастера дает четкие переходы иа одного пространства в другое.
Она начинается выигрышем ста тысяч и превращением музейного работ-
ника и переводчика в писателя и мастера. «Выиграв сто тысяч, загадочный
гость Ивана поступил так: купил книги (книги — обязательный признак
Дома, они подразумевают не только духовность, но и особую атмосферу
интеллектуального уюта22. — Ю. Л.), бросил свою комнату на Мясниц-
кой...
— Уу, проклятая дыра! — прорычал гость»(147).
Мастер «нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького
домика в садике»(147). «Ах, это был золотой век, — блестя глазами
шептал рассказчик, — совершенно отдельная квартира, и еще передняя,
и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул
22 В доме Турбиных «бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы
с книгами, пахнущие таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой,
Капитанской Дочкой» (Булгаков М. А. Избр. проза. М., 1966. С. 13; в дальнейшем
ссылки приводится по этому изданию). С ними связана «жизнь, о которой пишется
в шоколадных книгах». Гибель Дома выражается в том, что «Капитанскую Дочку
сожгут в печи» (113).
462
Семиотика пространства
он (...). И в печке у меня вечно пылал огонь»23. «...В первой комнате —
громадная комната, четырнадцать метров, — книги, книги и печка» (148).
Новое жилье мастера — «квартирка». В Дом его превращает не
раковина в прихожей, а интимность культурной духовности. Для Булга-
кова, как для Пушкина 1830-х гг., культура неотделима от интимной,
сокровенной жизни. Работа над романом превращает квартирку в подвале
в поэтический Дом — ему противостоит Дом Грибоедова, где вне
стыдливо-интимной атмосферы культуры, «как ананасы в оранжереях»,
должны поспевать «будущий автор «Дон Кихота», или «Фауста» и тот,
кто «для начала преподнесет читающей публике «Ревизора» или, на самый
худой конец, «Евгения Онегина» (368—369). Стоило мастеру отказаться
от творчества — и Дом превратился в жалкий подвал: «Меня сломали,
мне скучно, и я хочу в подвал», — и Воланд резюмирует: «Итак, человек,
сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении
расположиться там у лампы и нищенствовать?» (308).
Но мастер все-таки получает Дом.
«— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал
под ее босыми ногами,,— слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали
в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который
тебе дали в награду. Я вижу венецианское окно и вьющийся виноград,
он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом» (400).
Пройдя через искусы псевдодомов, «адского места для живого человека»
(232), дома скорби, очистясь полетом (полет — неизменный спутник
ухода из мира квартир), мастер обретает мир милой домашности, жизни,
пропитанной культурой — духовным трудом предшествующих поколений,
атмосферой любви, мир, из которого изгнана жестокость. «Я знаю, что
вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто
тебя не встревожит, Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты
увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать,
надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с
улыбкой на губах» (400).
Рассмотренный нами — частный — аспект построения «Мастера и
Маргариты» интересен, однако, тем, что позволяет поставить роман в
общую перспективу творчества Булгакова. «Белую гвардию» можно
представить как роман о разрушении домашнего мира. Недаром он
начинается смертью матери, поэтическим описанием «родного гнезда» и,
одновременно, зловещим предсказанием: «Упадут стены, улетит встре-
воженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе
(...). Мать сказала детям:
— Живите.
А им придется мучиться и умирать» (113).
На противоположном конце творчества Булгакова — «Театральный
роман», в котором бездомный писатель (он живет в нищенской комнате,
которая совсем не комната в те минуты, когда он пишет роман, а каюта
на летящем корабле) воскрешает Дом Турбиных: «Тут мне начало
казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное.
23 «Много лет до смерти (матери. — Ю. Л.) в доме № 13 по Александровскому
спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея
старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром
изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце
декабря пахло хвоей» (112). Печка превращается в символический знак очага. Печь
в Доме — пенаты, домашнее божество. Ей противостоит адский отблеск углей в
квартире, так же как свету свечей в окнах Дома — электрический свет антидома.
Заметки о художественном пространстве
463
Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более
того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в
ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки,
что описаны в романе (...). С течением времени камера в книжке
зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля» (538—539). «Играют на
рояле у меня на столе» (539). А затем коробочка разрослась до размеров
Учебной сцены, и герои обрели свой утраченный Дом24.
В нижней точке этой творческой кривой находится «Зойкина квартира».
Именно здесь «квартира» обретает тот символический смысл, который
нам знаком по «Мастеру и Маргарите». А сам этот роман оказывается
одновременно и включенным в глубочайшую литературно-мифологиче-
скую традицию, и органическим итогом эволюции его автора.
24 Воскрешающая сила театра зеркально-симметрична разрушающему чуде-
сному глобусу Воланда: «Домик, который был размером в горошину, разросся и
стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела
наверх» (273). Здесь реальный дом уменьшается до размера коробочки и теряет
реальность, там — коробочка вырастает до размеров естественного дома и обретает
реальность.
464
Семиотика пространства
Клио на распутье
Римляне говорили: «Nomen est omen» — «Имя это предзнаменование».
Поговорка эта, восходящая, кажется, к Плавту, необъяснимым образом
оправдывается в исторической хронологии. Историческая хронология
условна: границы веков, десятилетий, понятия «начало века», «конец
столетия» определяются принятой в той или иной культуре точкой
отсчета, казалось бы, совершенно внешней по отношению к историческим
событиям. Однако и историки, и люди в своей житейской практике
знают, что отличие одного десятилетия от другого, «лицо века» — вещи
реальные, и люди, ощущающие себя зачинателями столетия, не похожи
на тех, кому приходится подводить его итоги.
Переживаемое нами время есть время итогов, время «концов»: кон-
чается XX век, кончается тысячелетие, прошедшее после крещения Руси —
фактически первое тысячелетие русской культуры, кончается второе
тысячелетие существования новой европейской культуры. А на фоне
этого — более близкие нам «концы»: трехсотлетие петровской реформы,
настоятельно требующее ее осмысления, в 1990 г. — двухсотлетие
«Путешествия из Петербурга в Москву», время размышлений над итогами
русского освободительного движения. А 1990-е гг. в целом неизбежно
ставят вопрос о том, что же дала народам Европы и мира Великая
французская революция.
Но, конечно, дело не только и не столько в датах. Подведение истори-
ческих итогов неизбежно связано с вопросом: «Куда идешь?» История —
взгляд на прошлое из будущего, взгляд на произошедшее с точки зрения
какого-то представления о «норме», «законе», «коде» — о том, что
возводит происшествие в ранг исторического факта и заставляет воспри-
нимать события как имеющие смысл. К этому следует добавить, что
фундамент исторической науки покоится на идее закономерности истори-
ческого процесса. Но сама идея закономерности событий принадлежит
научному мышлению в целом и тоже подвержена изменениям. В своем
неосознанно-распространенном (можно сказать, научно-бытовом) виде,
принадлежащем не столько области идей, сколько сфере психологии
ученых, идея закономерности сложилась под влиянием успехов в есте-
ственных науках в XVII—XVIII вв.
XVII—XVIII вв. были временем быстрых успехов химии и физики.
Одно из существенных отличий химии от алхимии состояло в том, что
алхимическая реакция в принципе представляла собой таинство: после-
дующее не вытекало с автоматической последовательностью из преды-
дущего, а лишь могло произойти при стечении определенных таинственных
обстоятельств. Каждая реакция была уникальна и неповторима. Как и в
искусстве, от наставника к ученику передавался опыт, знание технических
приемов, «школа». Но простого усвоения их было недостаточно для
получения «философского камня»: требовалось еще «что-то». Поэтому
неудачи не обескураживали алхимиков, как проигрыши не останавливают
азартного игрока.
Химия основывалась на представлении об однозначных закономерно-
стях. Химическая реакция подобна математическому уравнению: то, что
записано в левой части — участники реакции, — может явиться причиной
одного и только одного следствия — результата, который записывается
в правой части уравнения. В пробирке события протекают во времени,
Клио на распутье
465
но описание их, зафиксированное на листе бумаги, имеет чисто простран-
ственный характер: там, где результат процесса однозначно предопре-
делен, время фактически перестает играть решающую роль. Будущее
предсказуемо вытекает из предшествующего. Эти две черты — повторяе-
мость процесса и предсказуемость его результата — стали рассматри-
ваться как неотъемлемые свойства причинности как таковой.
Перенесение такой концепции причинности на историю, уходящее
корнями в Возрождение, привело к двум кардинальным последствиям.
Во-первых, история стала восприниматься как взгляд в прошедшее из
будущего. Между рассказом о прошлом и образом «результата» устано-
вилась связь. История и утопия превратились в два звена единой цепи.
Во-вторых, сложилось представление о некоей идеальной модели истори-
ческого развития, «правильном» решении задачи. Народы предстали как
ученики, решающие одну и ту же задачу: одни решали ее близко к
идеальному алгоритму, другие с ошибками, одни находились в начальных
классах, другие продвинулись далеко вперед.
Европейское Просвещение в трудах Вольтера и Кондорсе определило
вектор исторического движения: от тьмы непросвещенности к свету истины
и просвещения. В результате понятие истории оказалось неразрывно
связано с идеей прогресса: относительное место того или иного факта
мировой истории или целых национальных культур на отвлеченной шкале
«предрассудки — просвещение» определяло степень их прогрессивности.
Характеристика шкалы могла меняться и менялась, приобретая разные
интерпретации у Гегеля или историков Реставрации, но представление
о единстве мировой лестницы и о том, что ее верхние ступеньки прогрес-
сивнее нижних, оставалось как бы неизбежным признаком научного
подхода к истории.
Развитие дарвинизма и выработанная на его основе модель эволюции
как общей основы научного знания повлияли на историю в том же
направлении, но и с существенными коррективами: если просветитель
видел в истории результат сознательных усилий «темных» или «просве-
щенных» личностей, то наука XIX в. стала подчеркивать значение
объективных факторов, ускользающих от воли и сознания отдельного
человека. Эволюция мыслилась как процесс целесообразный и одновре-
менно бессознательный, совершающийся через людей, но помимо их воли.
От просветителей, через немецких философов — ив первую очередь
Гегеля — до Тейяра де Шардена дошло представление о смысле истории
как движении от бессознательного к сознательному. Однако сознательное
при этом мыслилось как осознанное, как результат акта самопознания.
Сознание есть способность системы, достигшей в мыслящем субъекте
высшей точки развития, осознать свои собственные неизбежные законы,
а не момент выбора. Поэтому акт самопознания мыслился как конец
истории, между тем, если понимать сознание как выбор пути, он ока-
зывается началом совершенно нового ее этапа.
Так представление о «научной истории» накапливало идеи и открытия
и одновременно привычки и предрассудки, складываясь в некий комплекс
идей, происхождение которых забывалось и внутренняя противоречивость
сглаживалась привычностью. Борьба с романтическими концепциями
истории, противопоставлявшими идею закономерности истории личной
активности отдельного человека, толкала историческую науку к тому,
чтобы отождествлять объективность с внеличностью и бессознательностью
исторических процессов. Это наложило печать и на историософию Гегеля,
и на концепции историков Реставрации, а также и на многие разновид-
ности экономического материализма. В противовес им К. Маркс и
466
Семиотика пространства
Ф. Энгельс уже в «Тезисах о Фейербахе» сформулировали мысль об
обратной связи, существующей между экономическими процессами и
духовной жизнью общества, указывая на активность вторжения последней
в историческое движение, одновременно с базисным характером эко-
номики.
Однако в дальнейшем неразвитость гуманитарных наук, которые только
к концу XIX — началу XX в. начали приобретать такие черты науки, как
исследование собственных методов, внимание к аппарату научного описа-
ния, критическая переоценка своего опыта, поиски своего места в общей
системе наук, привела к тому, что вопрос о влиянии материальных
факторов на духовные и объективных процессов — на их субъективное
выражение подвергался многократному и основательному рассмотрению,
а противоположные движения или привлекали лишь поздних последова-
телей романтической методологии, или носили чисто декларативный
характер. Так, например, если ограничить себя отечественной наукой,
можно указать на парадоксальное положение: как бы само собой разу-
меется, что историк может быть дилетантом в вопросах исторической
психологии или лингвистики. В равной мере речь может пойти и о других
«науках о человеке». История общественных институтов, борьбы социаль-
ных сил, идеологических течений как бы отменила историю людей,
отведя им роль статистов во "всемирной драме человечества. Значение их,
конечно, не отрицается, но напоминает театральную программку, где
против ролей написано несколько фамилий исполнителей, которые могут
с равным успехом сыграть одну и ту же роль в рамках одной пьесы.
«История отобрала своим исполнителем для данной роли N. N.. но ход ее
не изменился бы, если бы на его месте оказался Z. Z. Оттенки, которые
внес бы другой исполнитель роли, относятся к случайности, а история
занимается закономерными процессами». Если редко кто в настоящее
время именно так формулирует свои мысли, как правило, прибегая к
эклектическому «учету» индивидуальных свойств исторических лиц, как
в старинных журналах раскрашивали от руки тираж черно-белых эстам-
пов, то все же основание метода именно таково.
Более того, и в изучение «человека в истории» научная методология
чаще всего проникает как отказ от внимания к «случайному» и «индиви-
дуальному». Полагается, что, чтобы сделаться предметом исторического
анализа, человек должен быть рассмотрен как «представитель» —
«боярской оппозиции» или «посадского люда», «барокко» или «роман-
тизма». То же, что делает его отличным от таких же «представителей»
этой же категории, находится вне исторической науки и в лучшем случае
может быть отдано специалистам по психопатологии или вписано в
туманную область «индивидуальных особенностей».
Итак, историческая наука противопоставляет закономерное случайному
и предметом своим, в строгом смысле, объявляет первое. К нему относятся
«объективные» процессы: развитие производства, технический прогресс,
социальная борьба, история политических конфликтов и т. д. А ко вторым
-— то, что в последнее время стали называть «человеческим фактором».
При э-гом—закономерность знака равенства между понятиями «субъек-
тивное» и «случайное» как бы не вызывает сомнений.
Нельзя, однако, не заметить, что закономерное в истории ведет себя
(на фоне закономерностей, господствующих на других уровнях структуры
мира) несколько неожиданным образом и ставит нас порой перед трудно
объяснимыми парадоксами.
Закономерный процесс, развивающийся во времени, можно представить
как повествовательный текст. Глубоко неслучайно, что на наше бытовое
Клио на распутье
467
представление об истории наложил отпечаток образ исторического пове-
ствования. Между цепью реальных событий, организованных причинно-
следственной связью, лежащей в основе исторической закономерности,
и цепью повествовательных эпизодов, организованных законами языка
и логикой рассказа, как бы существуют отношения подобия. Между тем
в любом связном тексте, как и в любом закономерном процессе, нарастает
избыточность: чем больше пройденный нами отрезок, тем легче пред-
сказать еще не пройденную часть траектории. Однако в области истории
предсказуемость еще не совершившихся событий исключительно низка.
Результаты нынешней футурологии, даже при современных возможностях
использования скоростной ■ электронно-вычислительной техники, не
намного более обнадеживающи, чем предсказания дельфийских оракулов.
Подобная ситуация возможна лишь в том случае, если в развивающуюся
по внутренним закономерностям систему извне вторгаются возмущающие
ее факторы. Но факторы, вторгающиеся извне, по отношению к системе
выступают как случайность, и признать их постоянное воздействие на
результат процесса означает потребовать внимания к той самой случай-
ности, которая исключается из числа «факторов истории», и, казалось
бы, подорвать доверие к-самой идее закономерности истории.
Когда в 1830-е гг. европейские историки заявили, что предмет истории
есть изучение исторических закономерностей, Николай Полевой с жаром
неофита предался этой идее —
...как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную.
В ответ Пушкин, со свойственным ему сочетанием трезвости и глубины,
писал: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда,
то историк был бы астроном и события жизни человечества) были бы
предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение
не алгебра. Ум ч(еловеческий), по простонародному выражению, не
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из
оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невоз
можно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Про-
видения»1.
Однако не только возмущающее вторжение случайных событий влияет
на предсказуемость исторических процессов. Здесь придется говорить о
принципиальном своеобразии закономерностей, действующих в процессе
истории. В историческом движении можно различать процессы двух
родов (конечно, само различение их условно: в реальной жизни они
переплетаются и переливаются друг в друга). Одни совершаются по
спонтанным законам и носят внеличностный характер, люди принимают
в них участие, но фактически лишены при этом выбора. Так, тот или иной
человек участвует в развитии языка или в истории экономических
отношений, но он н% является творцом ситуации, и выбор поведения
зависит не от него. Другие процессы совершаются через сознание людей
и с помощью этого сознания. Здесь человек оказывается перед возмож-
ностью выбора поведения и неизменно соотносит свои действия с образом
цели, представлением о результатах. Отношение этих видов исторического
движения к проблеме предсказуемости различно. Так, например, дина-
мика демографического развития, играющая такую важную роль в
истории, принадлежит к областям, относительно хорошо предсказуемым;
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1949. Т. 11. С. 127.
468
Семиотика пространства
значительной надежностью отличаются прогнозы в области развития
техники, в очень многих сферах общественно-политической или военной
реальности трудность прогнозирования связана с недостатком инфор-
мации о нынешнем состоянии и, следовательно, не имеет принципиального
характера. Между тем прогнозирование в сфере искусства и вообще во
всем, что связано с индивидуальным творчеством, представляет собой
задачу совсем иной степени трудности. Более того, даже внутри творче-
ской деятельности человека пролегает глубокая грань: там, где речь
идет о раскрытии закономерностей, неизвестных человеку, но существую-
щих до того, как они делаются человеку известны, т. е. о научных откры-
тиях и о технике, создаваемой на основе этих открытий, предсказуемость
оказывается довольно высокой. В истории науки многочисленны случаи,
когда то или иное открытие было предсказано задолго до того, как сдела-
лось научно возможным. Не менее важны случаи одновременного совер-
шения того или иного открытия независимыми друг от друга учеными.
То же можно сказать и о технике. Между тем в области искусства и
предсказание, и одновременное сотворение идентичных объектов — вещи,
практически невозможные.
Представим себе мысленный эксперимент: изобретатель ткацкого
станка или астроном, открывший новую комету, умер в детстве, не
совершив своего открытия. Совершенно очевидно, что эти открытия и
конструкции рано или поздно будут реализованы другими людьми. Это
произойдет раньше или позже, однако русло исторического течения от
этого не переменится. Но если бы умерли в детстве Данте, Пушкин или
Достоевский, не только не были бы никогда написаны их произведения,
но и история Италии и России — в конечном счете история, по крайней
мере, Европы — потекла бы по другому направлению. Можно сказать,
что в тех сферах истории, где люди играют роль частиц крупного размера,
включенных в броуновское движение гигантских сверхличностных про-
цессов, законы причинности предстают в своих простых, можно сказать,
механических формах. Там же, где история предстает как огромное
множество альтернатив, выбор между которыми осуществляется интел-
лектуальной и волевой силой человека, необходимы поиски новых и более
сложных формул причинности.
Речь должна идти именно о поисках новых моделей причинности, а не
о возврате к романтическим формулам о гении как «беззаконной комете»
и тем более к туманным разговорам о специфике художественной деятель-
ности, якобы не поддающейся «убивающему» анализу новых Сальери.
Прежде всего, отметим, что вопрос этот имеет общенаучный, а не только
искусствоведческий характер. Тоннель копается с двух сторон. В то
время как наука о человеке, в частности семиотика культуры, ищет
закономерности культурного процесса и стремится осмыслить природу
противоэнтропийных механизмов истории, на другом конце тоннеля слы-
шатся мощные взрывы: появляются работы химика и физика, лауреата
Нобелевской премии, бельгийца русского происхождения Ильи При-
гожина, посвященные необратимым процессам в химии и физике, роли
случайности и непредсказуемости в структуре мира как такового. Картина
мира неслыханно усложняется, и искусствознание, культуроведение, да
и наука о человеке в целом, из области научной периферии превращается
в общенаучный методологический полигон. Происходит как бы рокировка:
причинности, знакомые нам по механике и иллюстрируемые разверты-
ванием какой-либо одной доминирующей закономерности, исключающие
случайность из области научного рассмотрения или полностью оттесняю-
щие ее в область статистики, претендовали на представительство струк-
Клио на распутье
469
туры мира в целом, а «капризной» сфере индивидуального творчества
милостиво отводили уголок среди раритетов и монстров мировой кунст-
камеры. Не случится ли в скором времени, что привычные понятия
закономерного окажутся, как и ньютоновская физика, частным случаем,
а то, что казалось периферией, раскроется как универсальный структур-
ный принцип?
История предстает перед нами не как клубок, разматываемый в
бесконечную нить, а как лавина саморазвивающегося живого вещества.
В ней противоборствуют механизмы возрастания энтропии и, следова-
тельно, растущего ограничения выбора, сведения альтернативных ситуа-
ций к информационному нулю, с одной стороны, — и постоянного
увеличения «перекрестков», альтернатив, моментов выбора пути, момен-
тов, когда нельзя предсказать дальнейшее развитие, с другой. Здесь
вступают в действие интеллект и личность человека, осуществляющего
выбор. Это «минуты роковые», по Тютчеву, или моменты бифуркации,
по Пригожину2. Следовательно, интеллект человека не только пассивно
отражает внележащую реальность, но и является активным фактором
исторической и космической жизни. Отсюда роль — историческая и
космическая — человеческой культуры, этого коллективного интеллекта
человечества. Отсюда и роль культурологии.
История — не однолинейный процесс, а многофакторный поток. Когда
достигается точка бифуркации, движение как бы останавливается в
раздумье над выбором пути. Позволим себе процитировать описание
сопоставимых явлений в химии, данное И. Пригожиным: описывая
случай, когда «в точке бифуркации появляются два устойчивых решения»,
он замечает: «В связи с этим, естественно, возникает вопрос: по какому
пути пойдет дальнейшее развитие системы, после того, как мы достигнем
точки бифуркации? У системы имеется «выбор»: она может отдать
предпочтение одной из двух возможностей»3. В этот момент в историче-
ском процессе в действие вступают интеллектуальные способности чело-
века, дающие ему возможность осуществлять выбор. Как бы ни были
бессильны при «нормальном» течении истории эти факторы, они оказы-
ваются решающими в момент, когда система «задумалась перед выбо-
ром». Но, вмешавшись в общий ход, они сразу же придают его изменениям
необратимый характер. При ретроспективном описании это
изменение неизбежно предстает как единственно возможная законо-
мерность, то «иначе нельзя было быть», против которого восставал
Пушкин.
Говоря о диссимметрии в природе — явлении, в котором Пастер видел
сущность живого вещества, явлении, волновавшем В. И. Вернадского4
и до сих пор еще полностью не объясненном, — И. Пригожий пишет:
«Один из распространенных ответов на этот вопрос гласит: диссимметрия
обусловлена единичным событием, случайным образом отдавшим пред-
2 Определение понятий бифуркации и флуктуации И. Пригожиным дается
следующим образом: «Когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации,
детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вынуждает
систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая эволюция
системы. Переход через бифуркацию — такой же случайный процесс, как бросание
монеты» (Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 236—237).
3 Там же. С. 218.
1 См.: Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение.
М., 1965. С. 151—204.
470
Семиотика пространства
почтение одному из двух возможных исходов»*. В этой связи можно
заметить, что, поскольку в историческом процессе случайность выступает,
в частности, в образе сознательного выбора, осуществленного разумным
существом, история человечества может быть рассмотрена как глубоко
своеобразное явление в развитии космоса в целом и, возможно, этап
этого развития.
Можно предположить, что в дальнейшем сфера активного участия
человеческого разума в традиционно спонтанных процессах будет воз-
растать. Соответственно меняется и характер исторического процесса,
и мышление историка. Основываясь на биологическом материале, но
ставя вопросы, имеющие решающее значение для всех наук, изучающих
эволюцию, Илья Пригожий показывает, что вблизи точек бифуркации
(моментов, когда дальнейшее развитие может с равной вероятностью
пойти по нескольким направлениям) включается аппарат флуктуации —
отсечения одних вариантов и выбора других. Это избавляет эволюцию
от автоматизма и позволяет ученому сформулировать вывод: «Необра-
тимость и неустойчивость тесно связаны между собой: необратимое,
ориентированное время может появиться только потому, что будущее
не содержится в настоящем»6, вернее, содержится в нем как одна из
возможностей. «Железный сценарий» — мечта Эйзенштейна — не закон
для эволюционных систем, в том числе для истории. Одно из следствий
общего поворота научного мышления состоит в том, что историка начи-
нают интересовать события не сами по себе, а на фоне поля нереализо-
ванных возможностей. Непройденные дороги для историка — такая же
реальность, как и пройденные. А то, что вызвало реализацию одних из
них и нереализацию других, начиная с песчинки, изменившей направление
лавины, делается историческим фактом. Но, конечно, на одно из первых
мест выдвигается мысль с.том, что в сфере истории момент флуктуации
осуществляется человеком в зависимости от сто понимания мира, принад-
лежности к культурной традиции, включенности в комплекс общественной
семиотики. Клио предстает не пассажиркой в вагоне, катящемся по
рельсам от одного пункта к другому, а странницей, идущей от перекрестка
к перекрестку и выбирающей путь.
Такой подход не случайно возникает именно в наше время. Он связан
не только с общим развитием естественнонаучных идей, но и со специ-
фикой переживаемой нами эпохи. Время «концов» — время подведения
итогов. Мы стоим на рубеже подведения итогов предшествующего миро-
вого развития. Стремление разобраться в прошлом сделалось не только
импульсом историка, но и подлинной потребностью — в том числе и
эмоциональной — людей нашего времени. И дело не в том, чтобы найти
ту или иную формулу, почерпнутую у какого-либо мыслителя прошлого
(мы наблюдаем, как «ключ» ищут то у славянофилов, то у Чаадаева,
то у Бердяева, то у Тейяра де Шардена), а понять, что не формула, а
история эволюции есть и тайна, и разгадка истории.
И еще один аспект. Введение в теорию эволюции понятия точек выбора,
моментов, в которых автоматическая предсказуемость перестает работать,
вводит в арсенал историка еще один аспект. Представление о том, что
единственно реальными в истории являются спонтанные процессы, в
Пригожий И., Стенгерс И. Указ. соч. С. 202.
Пригожий И. От существующего к возникающему: Время и сложность в
фичяческих науках. М.. 1985. С. 252.
Клио на распутье
471
которых люди выступают как инструменты исторических закономерностей,
выводило вопрос о нравственной ответственности за пределы науки.
Карамзин показался наивным и «ненаучным». Вопрос этот возвращается
уже не в ореоле моралистических уроков, а как один из важнейших
составляющих культуры, мощно воздействующих на выбор человечеством
пути в будущее.
Архаические символы — конденсаторы тысячелетнего опыта челове-
чества: замкнутые фигуры — круг, треугольник, квадрат — символизи-
руют высшие надчеловеческие силы; крест, перекресток уже в санскрите
обозначал выбор, судьбу, человеческие начала: разум и совесть. Пере-
путье предоставляет выбор идущему. Клио вышла на перепутье.
472
Семиотика пространства
Вместо заключения о роли
случайных факторов в истории
культуры
Модель литературной эволюции, разработанная Виктором Шкловским
и Ю. Н. Тыняновым, была описана последним в понятиях «центр —
периферия системы». Ю. Н. Тынянов писал: «В эпоху разложения какого-
нибудь жанра — он из центра перемещается в периферию, а на его место
из мелочей литературы, из ее задворков и низин выплывает в центр новое
явление (это и есть явление «канонизации младших жанров», о котором
говорит Виктор Шкловский)»1. Этот же процесс можно было бы описать
как постоянное превращение внесистемного в системное и наоборот.
Такая постановка вопроса вводит активность воспринимающего: именно
он читает некоторый данный ему текст таким образом, чтобы подчинить
его какому-то новому коду, с позиции которого случайное сделается
релевантным, а релевантное — лишенным значения. Такая постановка
вопроса подчеркивает смыслообразующий характер игры между текстом
и кодом (текст перестает восприниматься как автоматическая реализация
кода средствами некоторой пассивной знаковой материи) и активную
роль адресата.
Однако, при всей очевидной плодотворности этой модели, сопоставление
ее с реальной историко-литературной эволюцией вызывает некоторые
вопросы. Даже если оставить в стороне те эволюционные процессы,
которые подобным образом не объясняются и требуют для себя иных
моделей, остается существенный вопрос: почему центр и периферия
системы не просто меняются местами, а создают в процессе этого обмена
ряд совершенно новых художественных форм? С этим связан более
общий вопрос: эволюция фактов культуры сложно сочетает в себе
повторяющиеся (обратимые) процессы и процессы необратимые, имею-
щие исторический, т. е. временной характер. Модель «центр -— перифе-
рия», при поверхностном ее истолковании, объясняет циклические про-
цессы и как бы противоречит наличию необратимых. Однако концепция
Тынянова дает возможность более глубокого ее истолкования. Для этого
следует рассмотреть функцию случайных событий в истории культуры.
Уже в звене «код — текст» наличествует вероятность, поскольку
сообщение реализуется в вариативном разбросе вокруг некоторого инва-
рианта. Переход от структуры как потенциальной возможности к тексту
как ее реализации уже вводит момент случайности. А это связано с
возможностью множественности интерпретаций текста. Нам уже прихо-
дилось отмечать особенность сложно построенных текстов (в частности,
текста культуры) — их внутреннюю диалогичность, зашифрованность
одновременно несколькими кодами, что обусловливает их способность
генерировать новые сообщения. Приходилось также отмечать, что в
реальном функционировании культуры весьма часто не язык предшествует
тексту, а текст, первичный по своей природе, предшествует появлению
языка и стимулирует его. Новаторское произведение искусства, равно
как вырванные из их исторических контекстов отдельные археологические
1 Тынянов Ю. Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 257—258
(курсив Ю. Н. Тынянова).
Вместо заключения...
Я/6
находки (а по сути дела — всякая личность другого) первоначально
даны нам как тексты на никаком языке. Нам надо знать, что это
тексты, но код для их прочтения предстоит нам сформулировать самим.
Рассмотрим в этой перспективе роль случайных явлений. Следует
подчеркнуть принципиальное различие, с этой точки зрения, познава-
тельных и креативных процессов и, в этом отношении, науки с ее
перевесом в сторону познавательную и искусства с его креативной
доминантой. Познание уже существующих объектов ориентировано на
отстранение случайного и выделение закономерного инварианта. Объект
науки расположен во времени прошедшем-настоящем, он у ж е суще-
ствует. Объект создаваемый расположен в настоящем-будущем: слу-
чайно сложившись в настоящем в силу некоторого стечения обстоятельств,
он может сделаться источником новой закономерности, породить новый
язык, в перспективе которого он уже ретроспективно перестанет выглядеть
случайным. Как принадлежащие одному и тому же культурно-синхрон-
ному срезу, научная идея, открытие, с одной стороны, и произведение
искусства, с другой, выступают как бы в едином ряду, и при построении
типологических моделей ими традиционно пользуются как однотипными
фактами. Так, один из наиболее ярких представителей школы «La nouvelle
histoire», автор типологического исследования, посвященного цивили-
зации Ренессанса, Жан Делюмо ставит в один ряд «гуманистов, деятелей
искусства, промышленников, инженеров, математиков» этой эпохи, а
главные черты ее типологии видит в «отказе от средневековой теологии,
новых возможностях демографической подвижности, техническом прог-
рессе, морских путешествиях, новой эстетике, обновлении христианства»2.
Оправданность такого подхода в аспекте исторической ретроспекции
порой заслоняет глубокое различие этих фактов. Обратим внимание на
то, что одно и то же открытие может быть сделано (и, как правило,
делается) несколькими учеными независимо друг от друга. Более того,
если предположить, что ученый N в силу несчастливых обстоятельств
(например, ранней смерти) не сделал этого открытия, то тем не менее оно,
бесспорно, все же будет сделано. В сфере искусства возможно одновре-
менное создание текстов, каким-либо образом сближающихся, но повто-
рение данного текста невозможно. В равной мере не созданный в сфере
искусства текст так и останется несозданным. Между тем «несоздание»
его может изменить весь последующий исторический процесс. Очевидно,
что «Божественная комедия» Данте или романы Достоевского оказали
воздействие не только на историю искусств, но и на всю историю циви-
лизации Италии, России и человечества в глобальных масштабах.
Роль случайных процессов в художественном текстообразовании,
конечно, не доминирующая, но все же весьма активная. Уместно вспомнить
то место из «Анны Карениной», где Толстой с явно автобиографической
интонацией описывает процесс творчества. Художник Михайлов мучи-
тельно не может найти позу для фигуры человека. «Рисунок был сделан
прежде; но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше... Где он?» Он пошел
к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где
та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась,
но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок,
положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть
на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.
2 Delumeau J. La civilisation de la Renaissance / Ed. Arthaud. Paris, 1984. P. 8—9
474
Семиотика пространства
— Так, так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро
рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу»3.
Может показаться, что в данном случае нет отличия от многих изве-
стных случаев, описывающих то или иное внешнее событие, натолкнувшее
ученого на крупное открытие, например, от апокрифического яблока
Ньютона. Между тем отличие здесь принципиальное. В случае с Ньюто-
ном, как и в других многочисленных аналогичных примерах, случайность
входит в процесс научного творчества, ане в его результат.
Случайным образом открывается неслучайный текст. Само слово «откры-
тие» указывает на спонтанное существование текста до того, как его
случайно «открыли». Это напоминает икону, которая не создается иконо-
писцем, а пресуществует в некотором идеальном пространстве и только
открывается достойному. Как и законы объективного мира, она «ищет
явиться». В обоих случаях перед нами не автор, а «открыватель» того, что
было создано природой или Богом, и в том, ч т о он открывает, нет места
случаю. Когда же речь идет о художественном тексте, случайность входит
не только в процесс творчества, но и в его результат.
Наличие в художественном тексте нерелевантных элементов создает
резерв будущих до- и переорганизаций, на чем основывается возможность
корреляций с будущими контекстами. Однако дело к этому не сводится.
Появление случайных текстов способно коренным образом изменить всю
семиотическую ситуацию. Так, например, структура «Евгения Онегина»
сложилась относительно случайно. Б. В. Томашевский полагал, что,
работая над первой главой, Пушкин вообще не предполагал продолжения,
рассчитывая ограничиться «отрывками из романа» (как он сделал с
«Братьями-разбойниками» — «отрывком из поэмы»). Создание романа и
публикация его отдельными главами, с большими порой перерывами
между ними, были навязаны биографическими обстоятельствами, в ходе
которых менялся замысел автора. Окончив шестую главу, Пушкин пола-
гал, что завершил первую его часть, т. е. рассчитывал на еще, прибли-
зительно, такое же количество глав. Продолжение, насколько можно
судить, мыслилось в аспекте широкого авантюрного сюжета, столкновения
разнообразных картин и характеров. Вместо этого Пушкин круто оборвал
роман на восьмой главе, что отчасти явилось для него самого неожи-
данностью. Однако сложившийся в таком виде роман сделался фактором,
решительно переменившим не только ситуацию в последующей русской
литературе, но и определившим многое в будущих судьбах русской
интеллигенции, а следовательно, и России в целом.
Из сказанного следует, что те сферы культуры, где случайные факторы
играют наиболее заметную роль, являются одновременно и наиболее
динамическими ее участниками. Совершенно очевидно, что область актив-
ного возникновения случайных текстов расположена на периферии, в
маргинальных жанрах, в «младших жанрах» и пограничных структурных
областях. Здесь и происходят наиболее активные смыслопорождающие
и структуропорождающие процессы. Так, например, и в графике, и в
поэзии движение от черновиков к окончательному тексту, как правило,
дает картину роста накладываемых ограничений, текст становится
«правильнее». Он проходит через внутренние коды художника и утрачи-
вает то, что, с их точки зрения, является случайным. Однако одновременно
сплошь и рядом, подчиняясь современным нормам, он утрачивает находки,
предсказывающие будущие нормы. Можно было бы назвать много слу-
3 Толстой Л. И. Собр. соч.: В 22 т. М., 1982. Т. 11. С. 42.
Вместо заключения...
475
чаев, когда черновые варианты предсказывают следующие этапы траек-
тории искусства. Даже на одном и том же полотне фоновая и периферий
ная часть живописного пространства часто дает завтрашние нормы, в то
же время как структурное ядро жестче связано с уже оформившимися
нормативами.
С этим можно сопоставить процессы, протекающие в полосах простран-
ственных и хронологических границ великих цивилизаций. Ослабление
в этих районах жесткости структурных организаций, увеличивающее
вариативность возникающих здесь форм при одновременном вторжении
структурных форм из пространства, лежащего за пределами данной
семиосферы, создавало возможность случайных комбинаций в области
социокультурных объединений и идеологических группировок. Это делает
неудивительной роль этих районов как мощных культурных генераторов.
Достаточно вспомнить, насколько в I—IV вв. н. э. географическая
периферия Римской империи превышала по своей активности роль метро-
полии. Аналогичные примеры можно было бы привести и из других
исторических эпох. Для синусоидных смен активности в центре и на
периферии европейского Просвещения процесс этот рассмотрен намиц.
Можно было бы также указать на случаи, когда некоторая социальная
или иначе обособленная группа, занимавшая прежде в структуре обще-
ства прочно фиксированное место, дававшее ей возможность накопить
запас культурной памяти, по каким-либо причинам теряет устойчивость
и перемещается на зыбкую периферию общественной структуры, равно
активизируя свою способность играть роль культурного генератора. Так,
в пореформенной России русское дворянство и духовенство выбросило
из себя маргинальную группу, в ряды которой влились представители
национальных меньшинств, утратившие связь с традиционным укладом
жизни. Полный пересмотр векового крестьянского быта во вторую поло-
вину XIX в. также пополнил этот социокультурный континуум, в котором
протекали исключительно динамические процессы.
Особенность воздействия случайно возникших текстов на последующую
динамику культуры, в частности, заключается в том, что редкость или
даже уникальность их не понижает их значения. Подобно тому как в
горах падение ничтожного по массе камешка может вызвать лавино-
образный рост последствий, отдельный факт, меняя ситуацию и создавая
новую, в свете которой он уже перестает выглядеть случайностью, может
порождать исключительно мощный резонанс. Мы уже говорили о послед-
ствиях, которые может вызвать то или иное художественное произведение,
которое по своей природе всегда уникально. Создатели новых религий
или могущественных империй, как правило, появляются на исторической
арене во главе ничтожной кучки последователей. Приведем надпись
тюркского кагана на Орхонской стеле: «Мой отец, каган, выступил с
двадцатью семью людьми. Прослышав о его приближении, те, кто жил
высоко в горах, стали спускаться вниз, и, когда они соединились, их уже
было семьдесят. Небеса дали им силу, и армия моего отца была подобна
стае волков, а его враги были как овцы»5. Совершенно очевидно, что
речь идет о немногочисленной разбойничьей шайке, составленной из
маргинальных элементов общества, успех которых, в частности, зависит
и от того, что они, располагаясь на периферии культуры, свободны от
4 См.:' Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Тыняновский сб.: Вторые
тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 192—207.
5 Inscriptions de 1'Orkhon / Ed. V. Tomsen. Helsingfors, 1896. P. 101.
476
Семиотика пространства
моральных ограничений, обязательных для тех, кого именуют стадом овец.
Это делает их поведение в контексте культуры (а не с точки зрения
внешнего наблюдателя — историка) менее предсказуемым и, с точки
зрения их современников, случайным. Сказанное не препятствует тому,
что в контексте мировой истории подобные ситуации многократно повторя-
лись, и само вторжение случайных событий предстает перед историком
как своего рода закономерность.
На возникновение большой степной империи можно взглянуть с несколь-
ких точек зрения. Рассматривая закономерности социально-экономиче-
ского процесса, рост населения, разложение родовых отношений, можно
сказать, что возникновение обширного военно-государственного единства
было неизбежной исторической необходимостью. Однако эта неизбеж-
ность не определяла ни точного места, границ, конфигурации в простран-
стве, ни точной даты возникновения империи, ни конкретных поворотов
ее исторической судьбы. Она существовала как потенциальная возмож-
ность, некоторая заложенная в историческом движении структурная
модель, точно так же, как модель языка логически заложена в еще не
сказанных текстах, которые, может быть, никогда и не будут сказаны.
Для того чтобы данный текст был сказан, необходимо проявление
совершенно случайного, с точки зрения структуры языка, говорящего,
возникновение некоторой кратковременной внеязыковой ситуации и пере-
сечение еще целого ряда совершенно случайных условий. Пока мы имеем
дело с синхронно функционирующими системами, появление текста одно-
направленно: он определен структурой языка, но не влияет на нее. Если
отвлечься от истории языка и от заложенных в языке художественных
функций, то примером такой системы может быть естественный язык.
В таких системах интерес науки к случайным процессам может быть
сведен до минимума.
Рассмотрим другой случай. Реализация события деформирует потен-
циальную модель. Тогда не только поток текстов, но и структура получает
временную координату, т. е. историю. Между сферой случайного и
закономерного происходит, в этом варианте, постоянный обмен. Случай-
ное в отношении к будущему выступает как исходная точка закономерной
цепи последствий, а в отношении к прошлому ретроспективно осмысляется
как провиденциально-неизбежное. С наибольшей силой такая модель
реализуется, когда мы имеем дело с текстами искусства, в которых момент
случайности и обратное воздействие текста на язык проявляются особенно
наглядно. Другим примером могут служить те аспекты истории культуры,
в которых наиболее полно проявляется индивидуальный интеллект и
индивидуальная воля. История многослойна и представляет собой слож-
ную иерархическую структуру. На некоторых уровнях господствуют
спонтанные закономерности. Человек воспринимает их как данность.
Закономерности реализуются через его деятельность, но сама эта деятель-
ность не есть результат свободного выбора, логика его поведения
настолько далеко отстоит от смысла анонимного процесса, что последний,
очевидно, не может рассматриваться как результат сознательных усилий
участников событий. Примерами таких структур могут быть экономи-
ческие процессы или спонтанное развитие языка.
Культура неотделима от актов сознания и самосознания. Самооценка
является непременным ее элементом. Поэтому роль сознательных про-
цессов в ней резко повышается. Акт сознания можно определить как
способность выбора в альтернативной ситуации, в условиях, когда авто-
матическая предсказуемость выбора исключена. Сама эта ситуация
повышает роль случайности. С древнейших времен человек прибегает в
Вместо заключения...
477
случаях сомнительного выбора к гаданию. Простой способ подбрасывания
монеты для решения сомнений в альтернативной ситуации является
простейшей моделью сознательного введения случайности в интеллек-
туальный акт. Такой же характер имеют «загадывания»: «Ежели она
подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет
моей женой», — сказал (...) себе князь Андрей»6. Интеллектуализация
исторического процесса в сфере культуры фактически означает стрем-
ление к предельному увеличению ситуаций, при которых автоматизм
последовательности поступков сменяется актом выбора. А это резко
увеличивает роль случайности.
То, что в сфере культуры уникальные факты могут порождать лавины
последствий, создает особую ситуацию: мы имеем дело со случайными
событиями, которые, однако, не поддаются статистическим методам и
вероятностной обработке.
Однако вмешательство случайных факторов в производство текстов
возможно не только на периферии культурного пространства. Струк-
турный центр культуры также является в этом отношении тектонической
областью. Сходные последствия вызываются здесь прямо противополож-
ными причинами. Если на периферии вариативность текстов повышается
благодаря ослаблению структурных ограничений и упрощению струк-
турных связей, то в центре мы сталкиваемся с гиперструктурностью:
количество пересекающихся разнообразных подструктур настолько воз-
растает, что возникает некоторая вторичная свобода за счет непред-
сказуемости точек их пересечения. Вторжение иноструктурных рядов
воспринимается, с точки зрения данной структуры, как случайное. Этим,
в частности, объясняется тот факт, что закон Тынянова-Шкловского о
взаимной смене младших и старших линий литературы характеризует
не универсальную закономерность, а лишь одну из возможностей эволю-
ционного процесса. И «старшая линия» не стерильна, как библейская
смоковница: не только «низовые», «отверженные», «внелитературные»
литераторы подготовляли творчество великих писателей и влияли на них.
Странно отрицать воздействие и великих образцов. Выход на авансцену
«младшей линии» редко приводит к уходу со сцены так называемой
«старшей». Чаще она переживает процесс обновления, смены стереотипов.
Активность здесь обоюдная.
Конечно, не следует полагать, что случайные процессы присутствуют
при всяком текстопорождении. Порождение текстов с помощью современ-
ных ЭВМ дает пример полного исключения случайности. На другом
полюсе будут находиться тексты, о которых Э. Т. А. Гофман писал:
«...порой авторы обязаны экстравагантностью своего стиля благосклон-
ным наборщикам, которые споспешествуют вдохновенному приливу идей
своими так называемыми опечатками»7. При этом следует еще раз
подчеркнуть, что само это противопоставление имеет релятивный характер
и что случайно возникшее имеет тенденцию тотчас же переосмысляться
как единственно возможное. Всякий работавший с писательскими черно-
виками наглядно видел авторские колебания, вариативность возможно-
стей еще не созданного текста. Однако стоит воспринять любую из точек
этой бесконечной траектории (поскольку для целого ряда авторов текст
никогда законченным не бывает) как конечную, чтобы все его детали
6 Толстой Л. И. Указ. соч. М., 1980. Т. 5. С. 213.
7 Гофман Э. Т. А. Крейслериана; Житейские воззрения кота Мурра; Дневники.
М., 1972. С. 100.
478
Семиотика пространства
приобрели качество закономерности. В этом отношении показательно то
место из «Анны Карениной», которое мы уже приводили. Сразу же после
слов о стеариновом пятне, которое «поправило» фигуру, нарисованную
художником, Толстой пишет о том, что художник ничего не создает, а
просто удаляет лишнее; чтобы вскрыть единственный праобраз, он сни-
мает случайное, приближаясь к единой и вечной истине. Михайлов «знал,
что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы снимая
покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все
покровы»8.
Одним из последствий перекрещивания случайного и закономерного
(вариантного и инвариантного) в процессе текстообразования является
то, что количество текстов, обращающихся в пространстве культуры,
намного превосходит ее утилитарные потребности. Эта «расточитель-
ность» может вызвать недоумение и показаться бесполезной или даже
вредной с точки зрения «экономной» и «целесообразной» модели. Вопрос
предстанет в ином освещении, если мы укажем на еще одну функцию
текста в системе культуры. Нам уже приходилось говорить, что культура
в целом представляет собой «мыслящее устройство», генератор инфор-
мации. Однако, для того чтобы этот механизм как индивидуального,
так и коллективного сознания был запущен, в него следует ввести текст.
Но поскольку результатом акта сознания является генерирование текстов,
то возникает парадоксальная ситуация: для того чтобы производить
тексты, надо уже иметь текст. Положение это могло бы показаться
странным, если бы не представляло собой одну из весьма распространен-
ных закономерностей. Так, например, в химии известны автокаталитиче-
ские реакции, «в которых для синтеза некоторого вещества требуется
присутствие этого же вещества. Иначе говоря, чтобы получить в резуль-
тате реакции вещество X, мы должны начать с системы, содержащей X с
самого начала»9. С этим можно было бы сопоставить роль текстов,
которые получает новорожденный ребенок из внешнего мира, для того
чтобы его механизм мышления смог начать самостоятельно генерировать
тексты. С явлениями этого же порядка сталкивается литературовед,
когда изучает каталитическую роль текстов, поступающих в ту или иную
культуру извне (так называемых «влияний»), или вечный вопрос о
«романтиках до романтизма» или различных «образцах». В сходном
положении оказывается археолог, приходящий к выводу, что под раскоп-
ками всякой развитой культуры можно предположить пласт другой
развитой культуры.
Выход из этого запутанного положения, может быть, будет найден,
если мы согласимся по аналогии с динамическими процессами в химии
и естествознании различать при анализе явлений эволюции факторы
генезиса («участники реакции») и катализаторы и при этом поймем, что
набор форм, перекомбинации которых определяют типологические харак-
теристики культуры, ограничен и, следовательно, в незначительных коли-
чествах все они присутствуют на всех стадиях развития, особенно если
учитывать огромное количество случайных комбинаций. Так раскрывается
еще одна функция случайных текстов: они выступают в качестве «пуско-
вых устройств», ускорителей или замедлителей динамических процессов
культуры.
8 Толстой Л. Н. Указ. соч. М., 1982. Т. 11. С. 47.
9 Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 187.
Вместо заключения...
479
В 1830 г. произошло интересное столкновение мнений. Пушкин, уже
переживший апологию необходимости как закона истории («Полтава»)
и вынашивавший мысль о том, что «случайность» в лице Евгения — такой
же исторический фактор, как и закономерность, воплощенная в Медном
всаднике, вступил в спор с Николаем Полевым, который с эйфорией
неофита прилагал к русской истории закономерности, открытые истори-
ками эпохи Реставрации. Пушкин писал: «Не говорите: иначе нельзя
было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и
события жизни человеч(еетва) были бы предсказаны в календарях, как
и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум ч(еловеческий),
по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий
ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто
оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного,
мгновенного орудия Провидения»10.
Пушкин, высоко оценивший «великое достоинство французского)
историка (Гизо. — Ю. Л.)», отмечал, однако, что Гизо отклоняет «всё
отдельное, всё постороннее, случайное». Подчеркнув слово «случайное»,
Пушкин показал, что не считает случайное посторонним в историческом
процессе. Не забудем, что, идея исторической закономерности была им
глубоко усвоена и он отвергал как романтический субъективизм, так и
просветительское представление о царстве хаотической случайности.
Акт сознания связан с выбором в ситуации отсутствия автоматической
предсказуемости. Следовательно, культура, как механизм роста инфор-
мации, увеличивает число альтернатив и уменьшает область избыточно-
сти. Возрастает удельный вес моментов исторической флуктуации, т. е.
ситуаций, в которых дальнейшая судьба системы будет зависеть о)
случайных факторов и от сознательного выбора. Это вводит в историче
ский процесс такие моменты, как личная ответственность и моральное
поведение его участников.
С одной стороны, историческое бытие сближается с миром творчества,
с другой — с понятиями нравственности, неотделимыми от свободы
выбора.
10 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 г. М., 1949. Т. 11. С. 127.