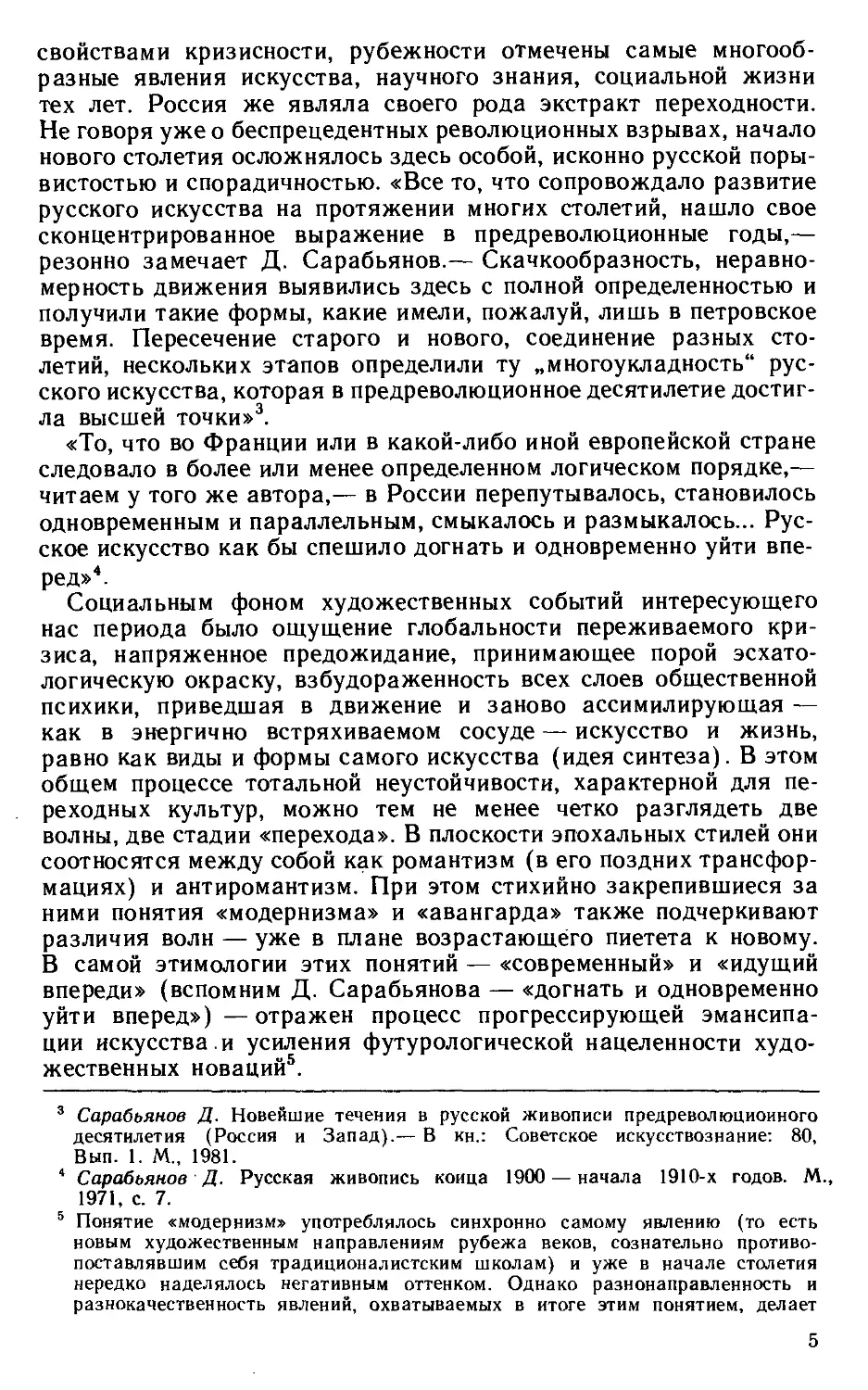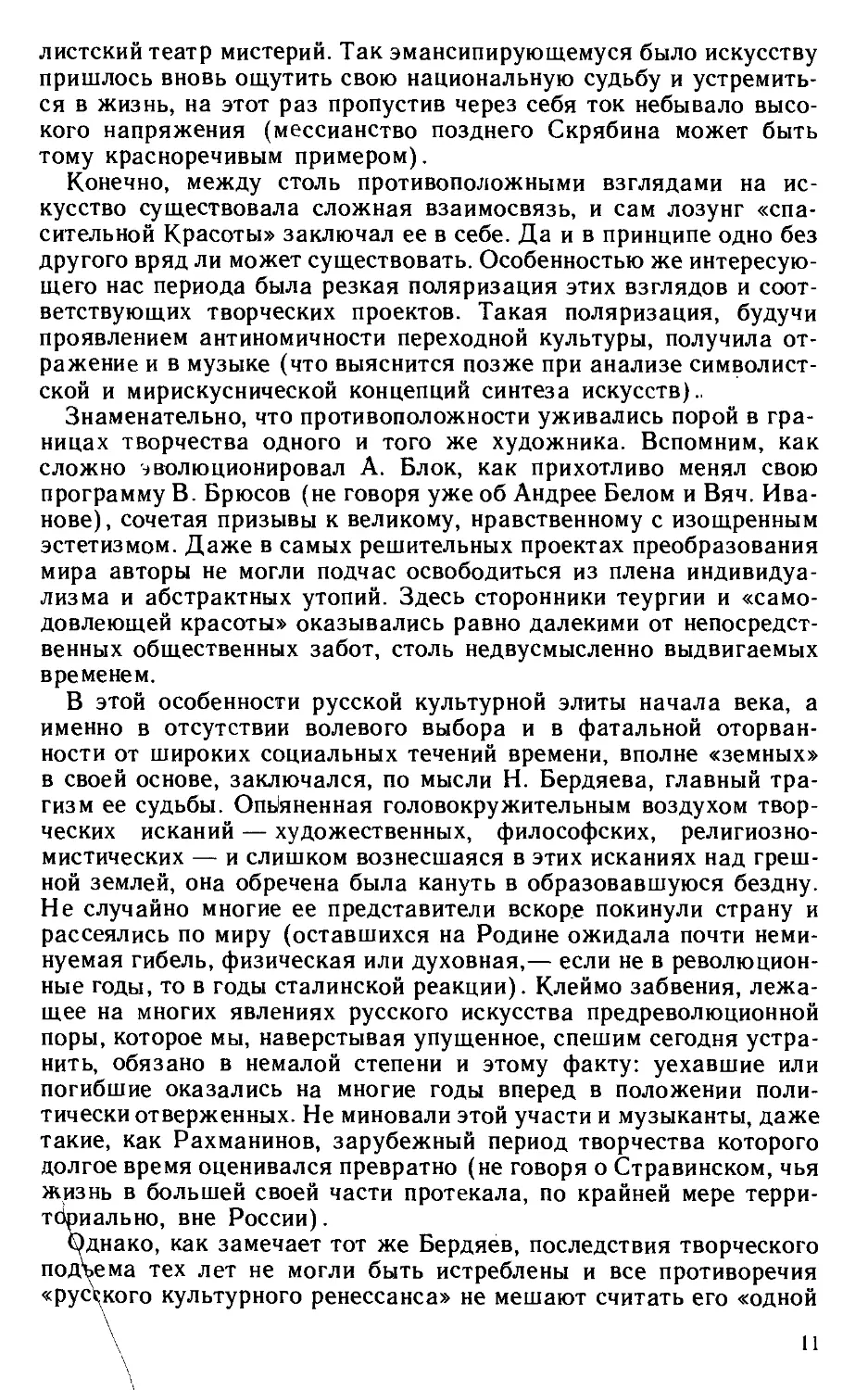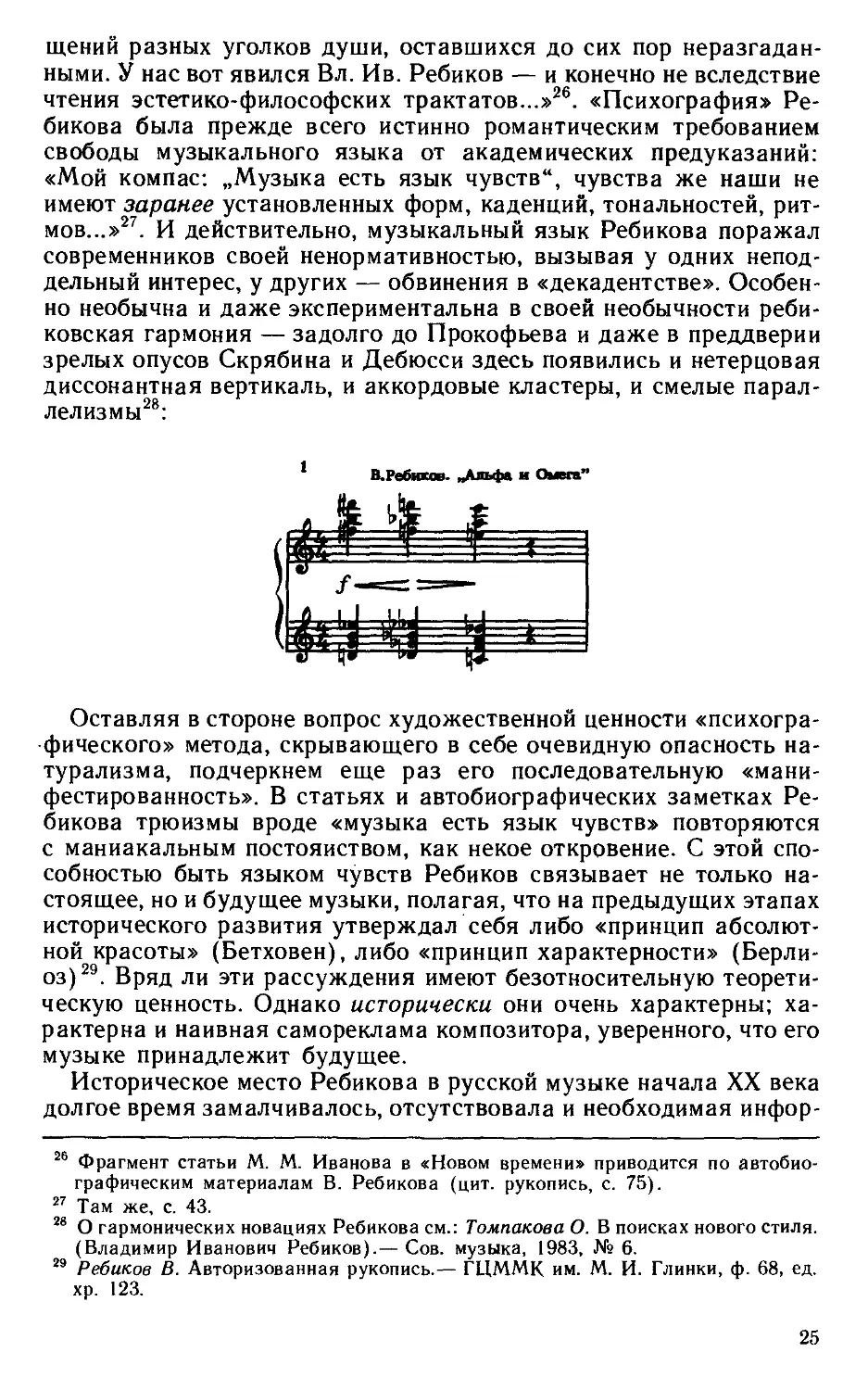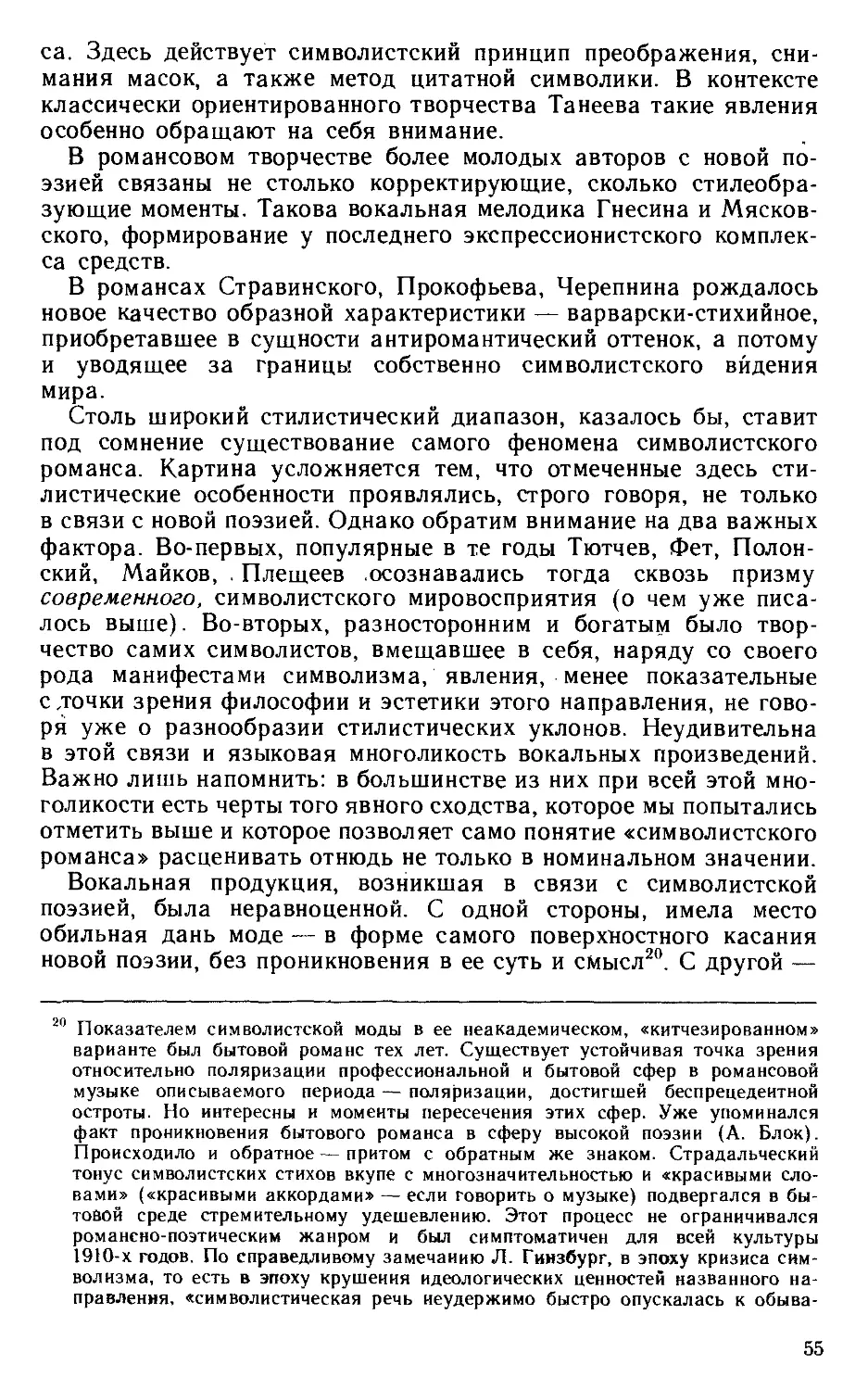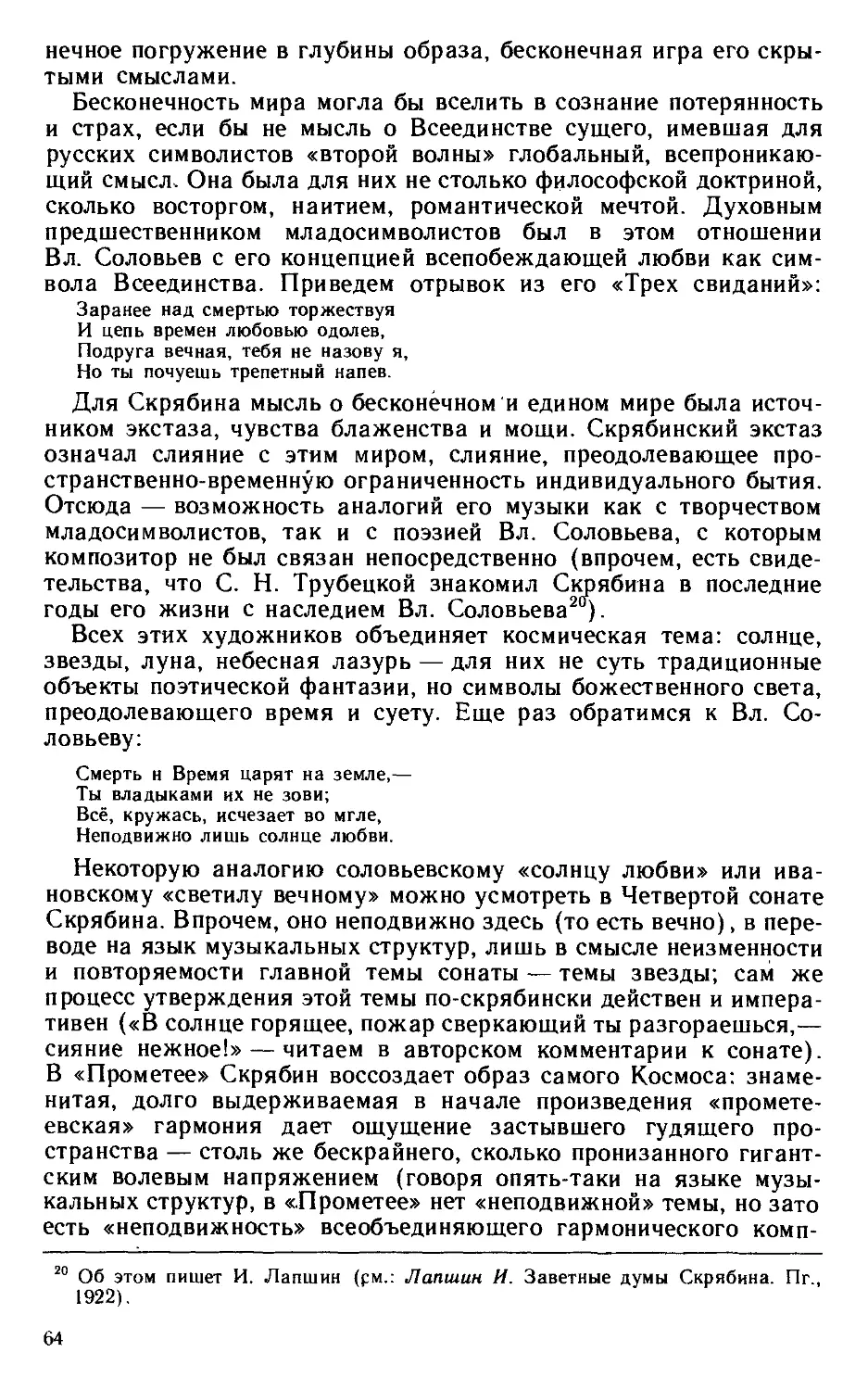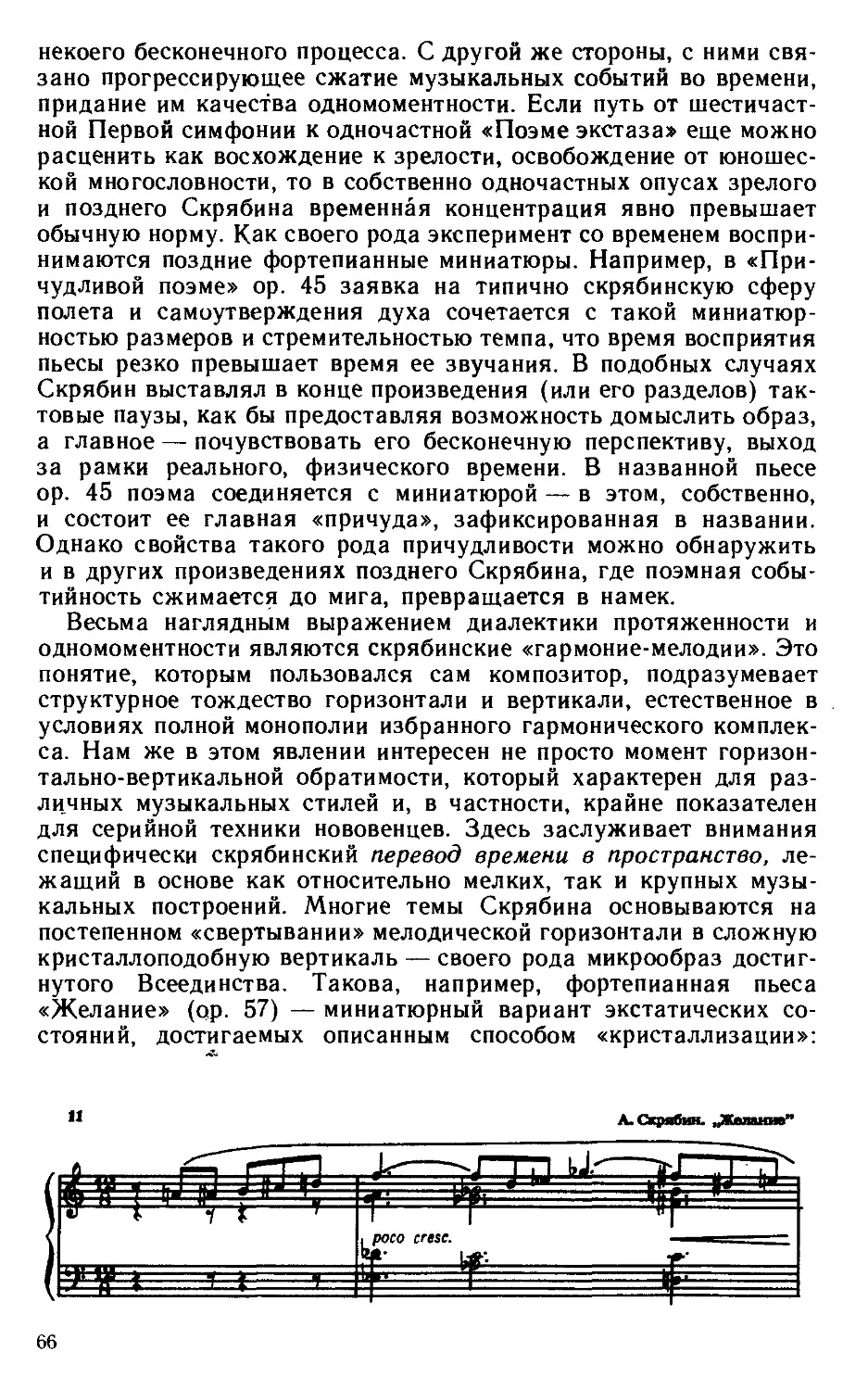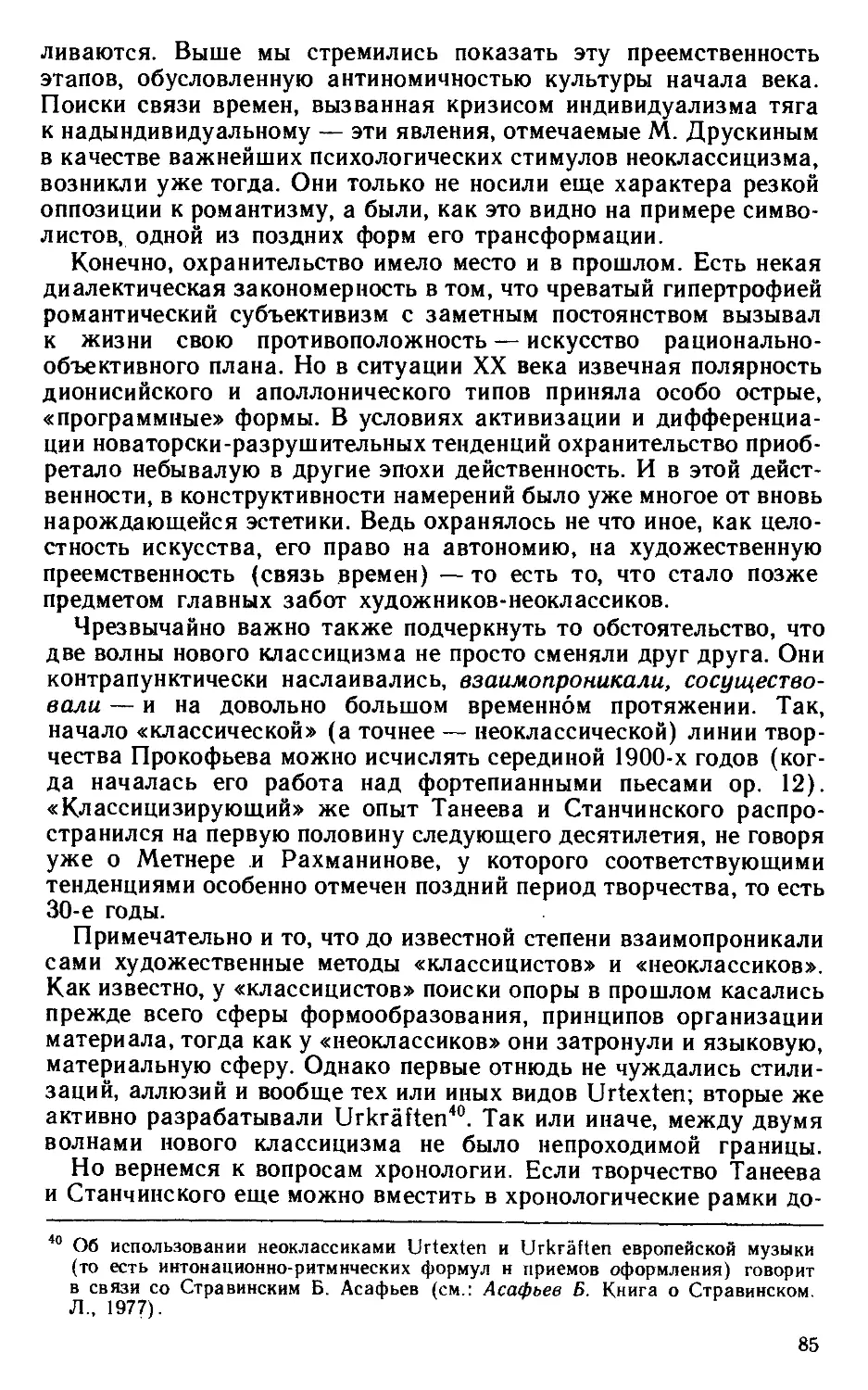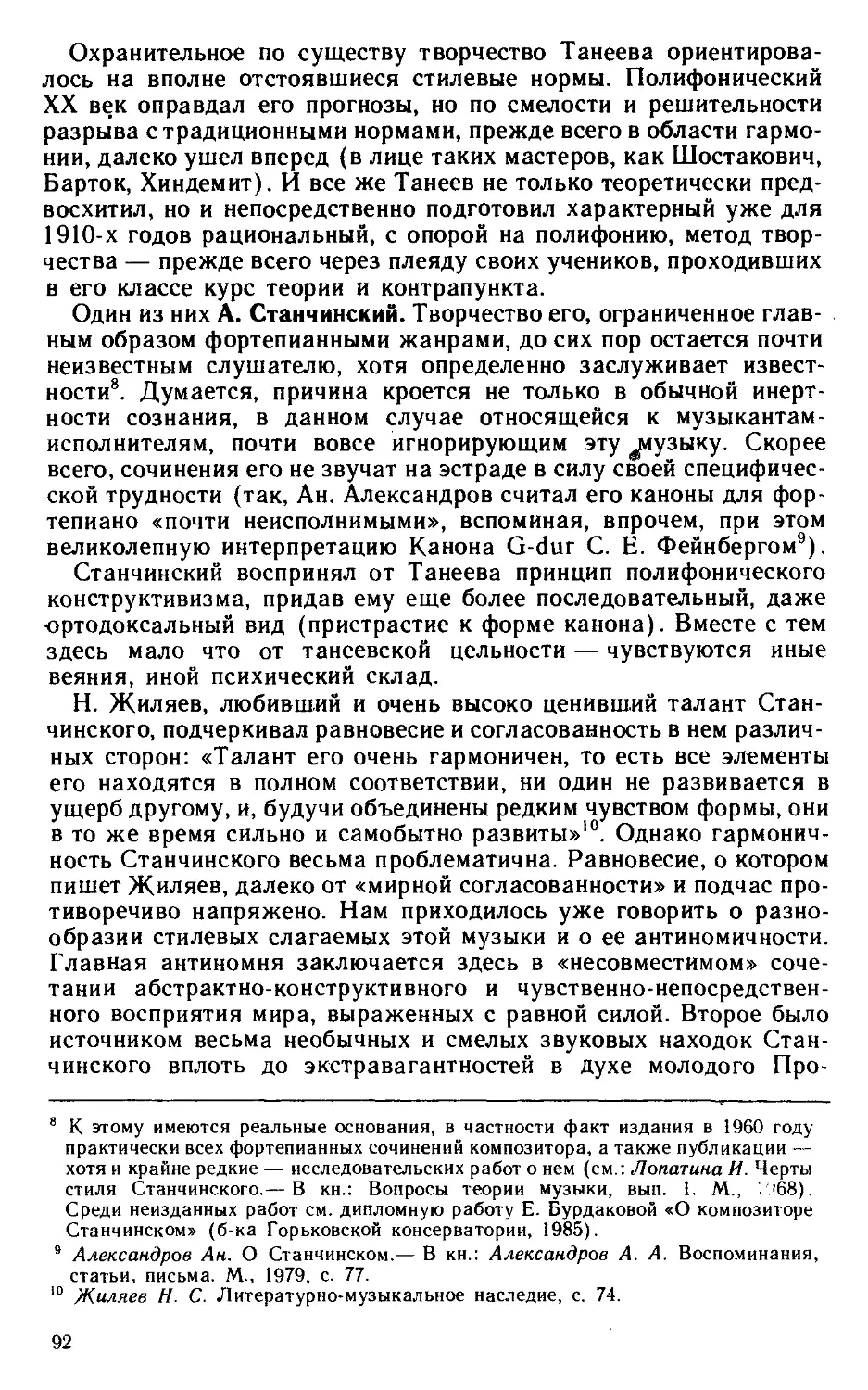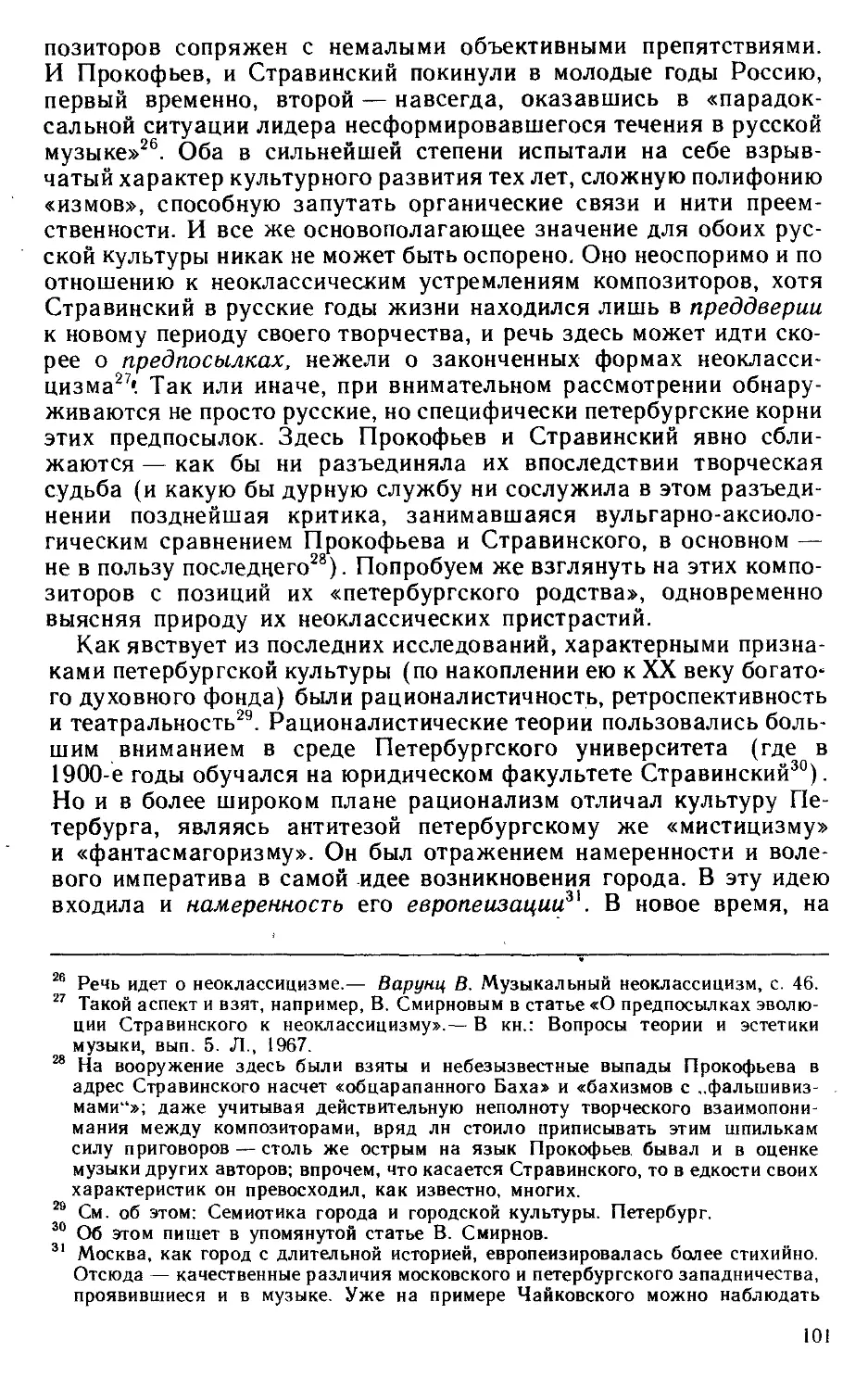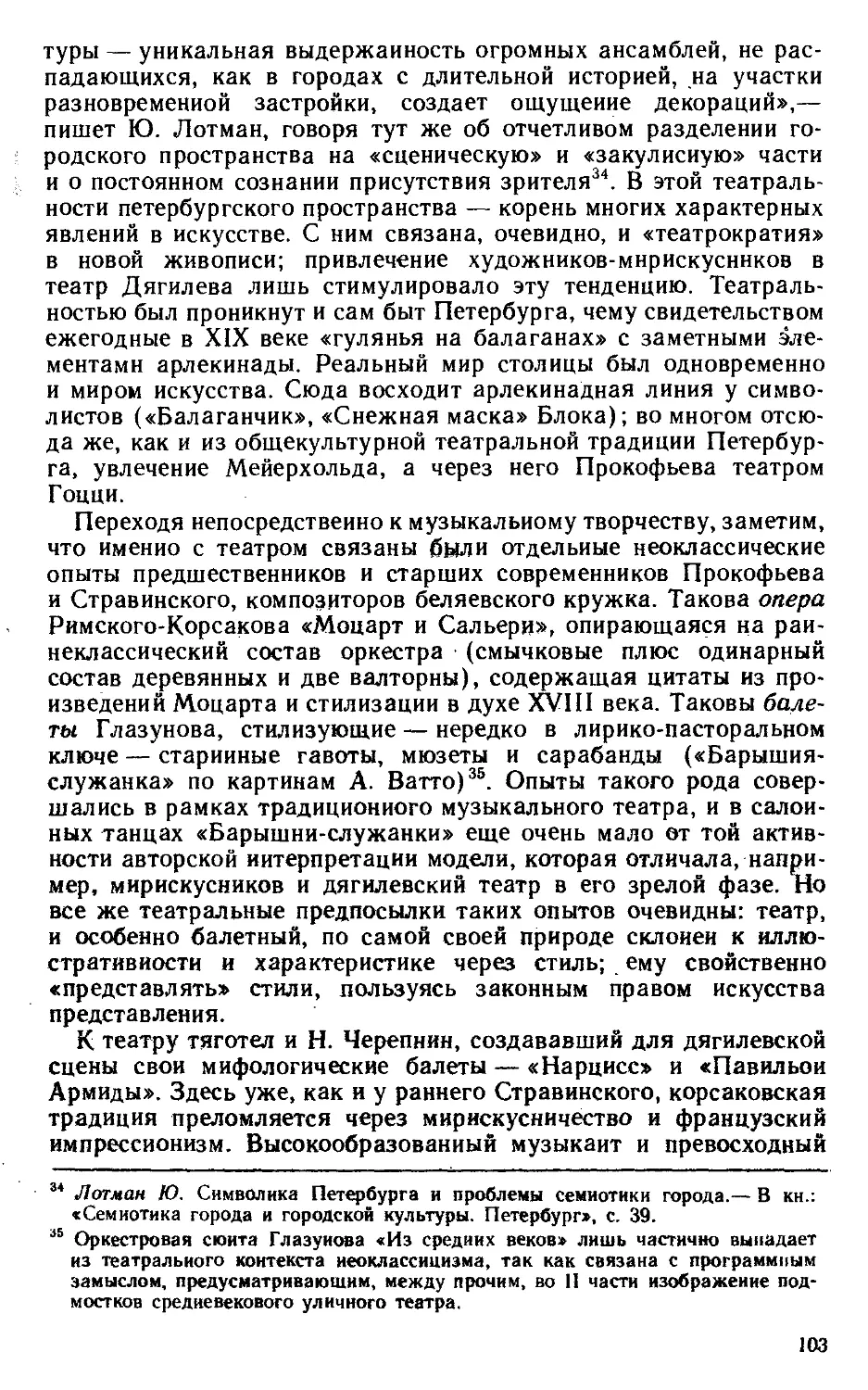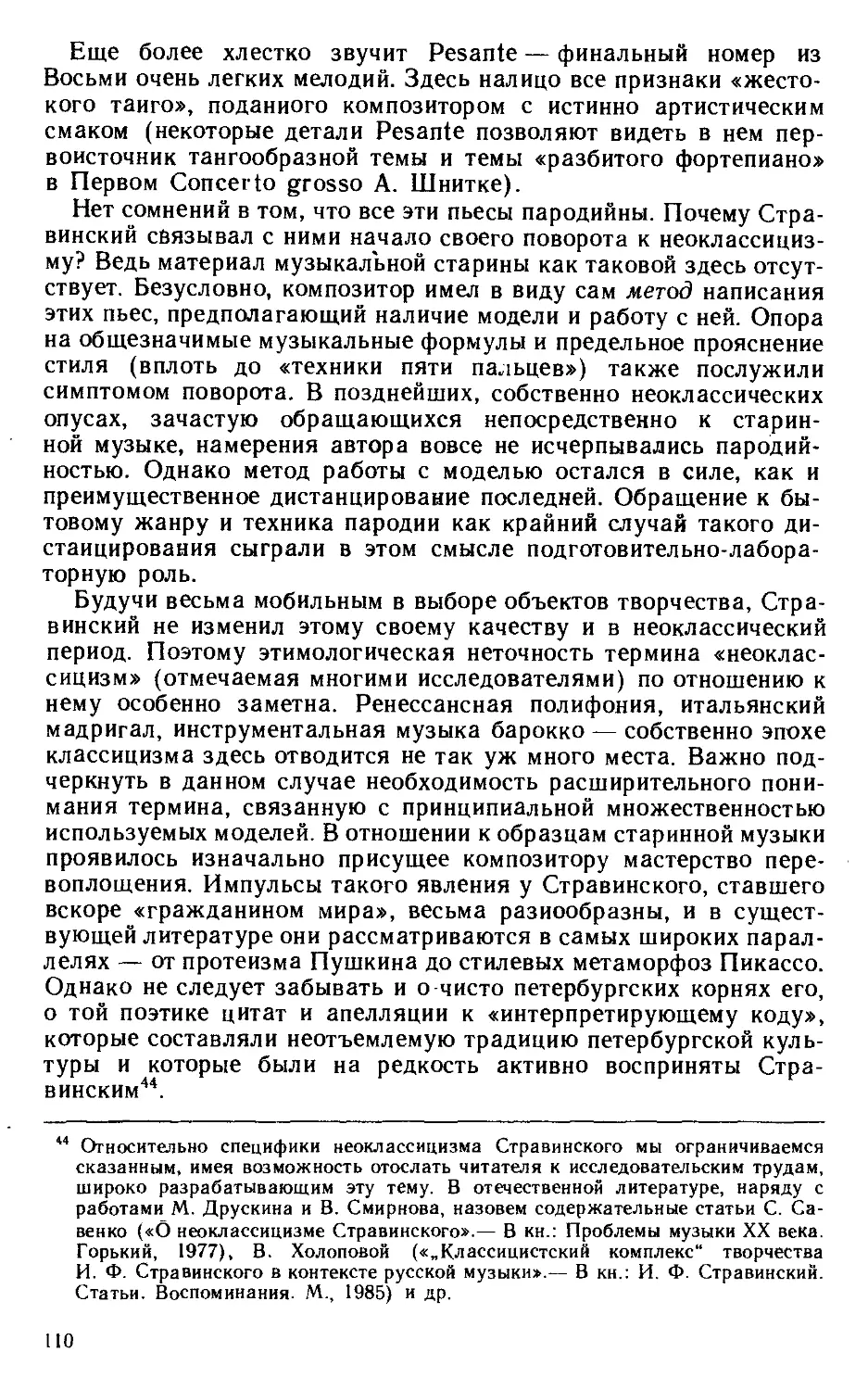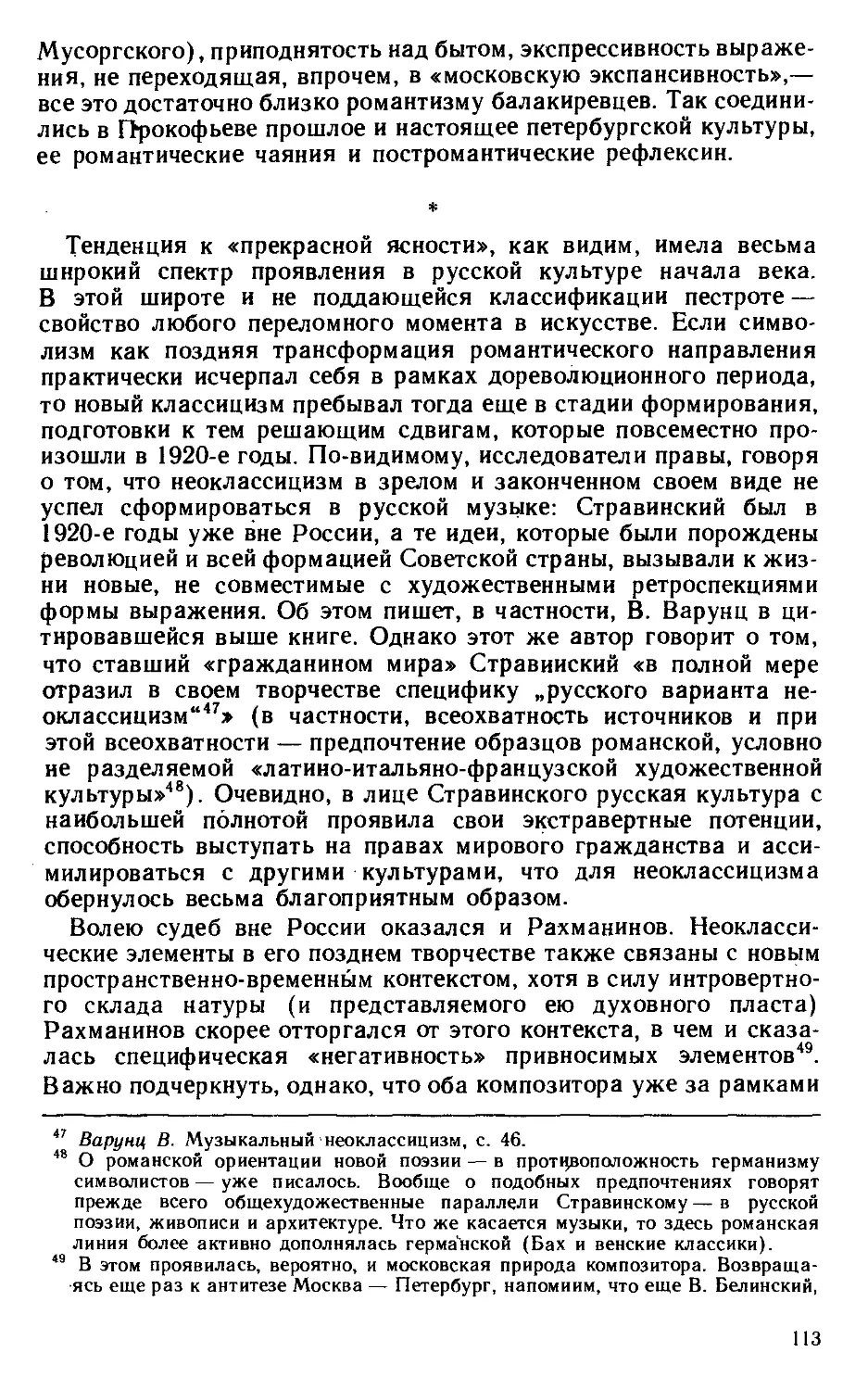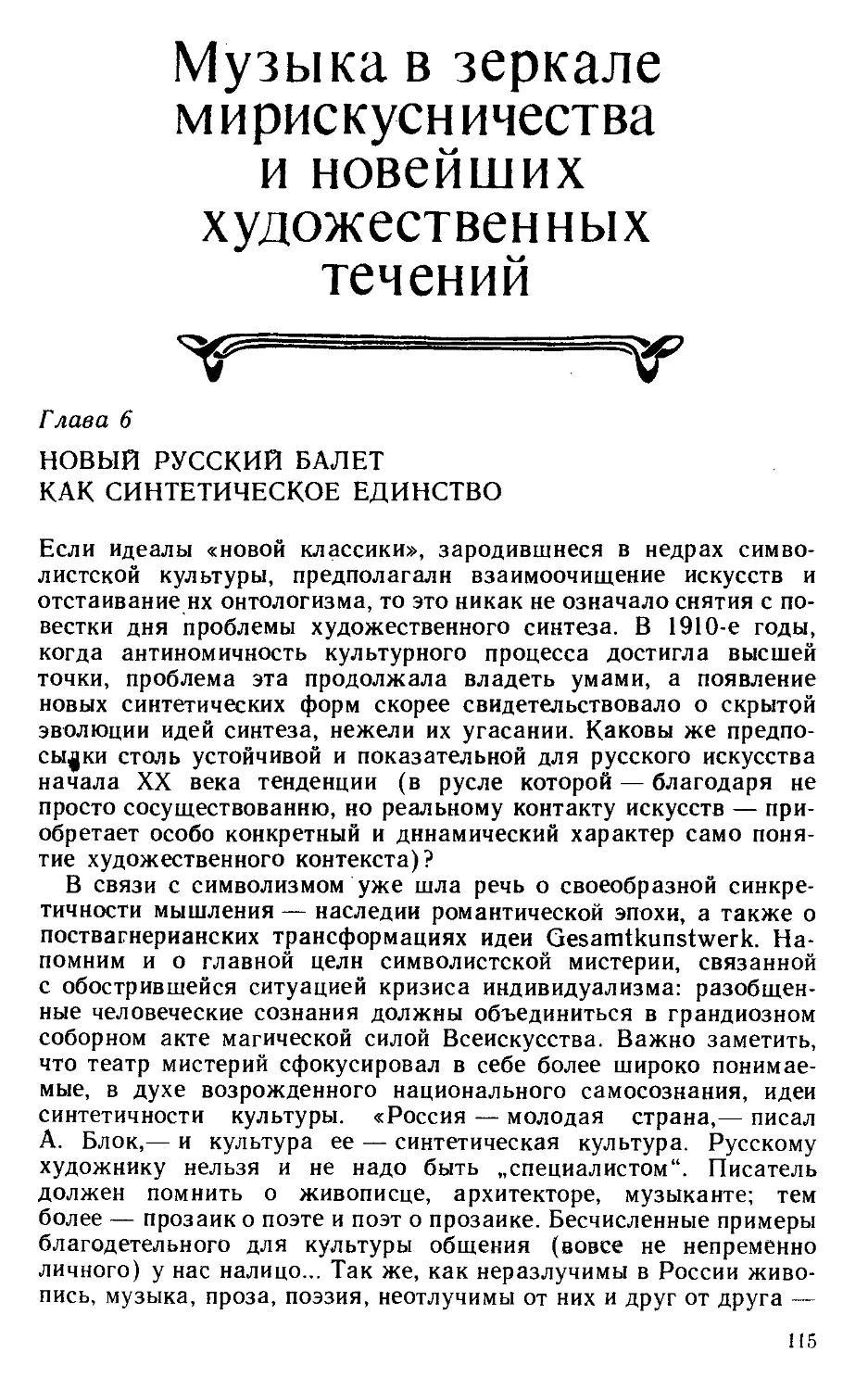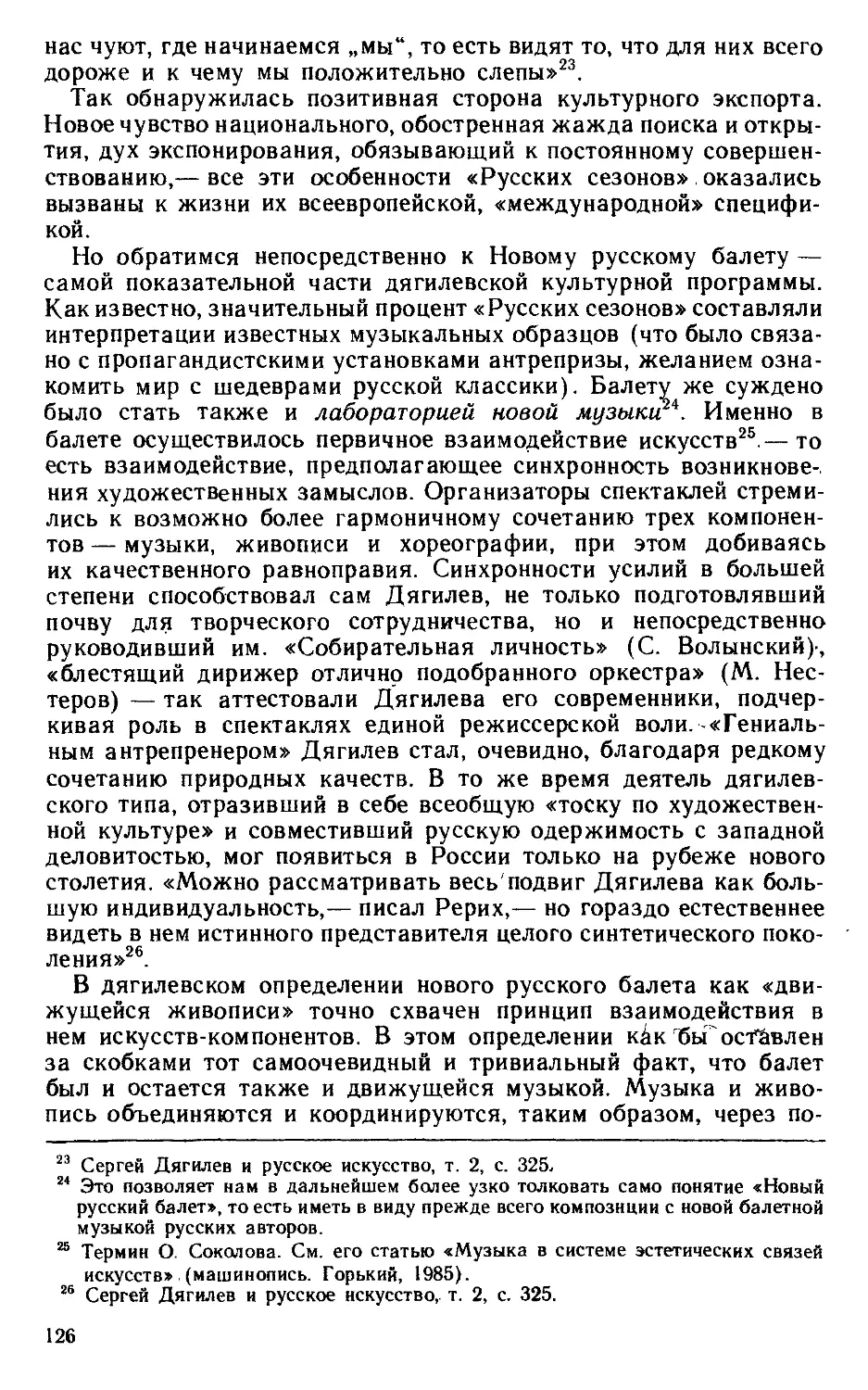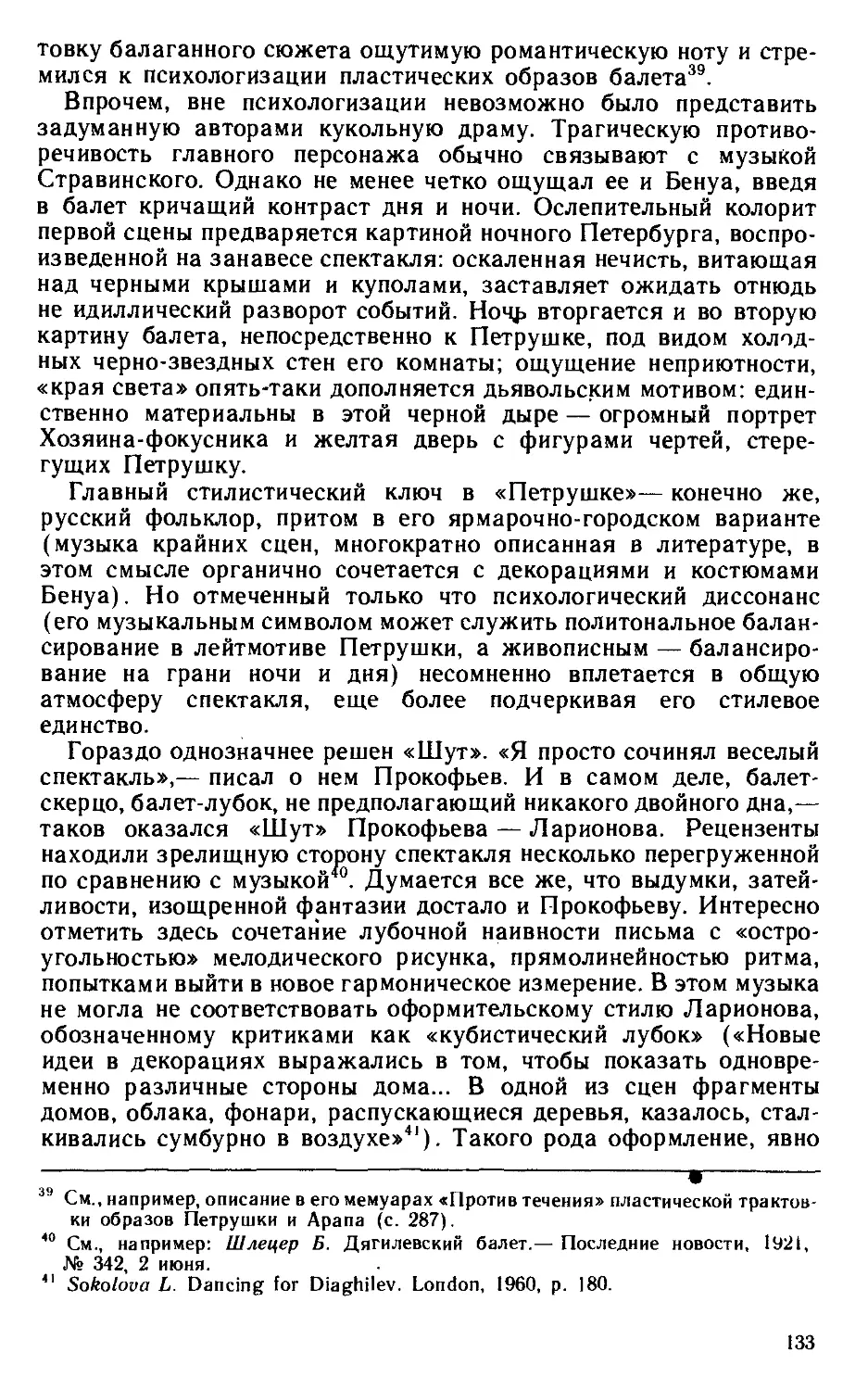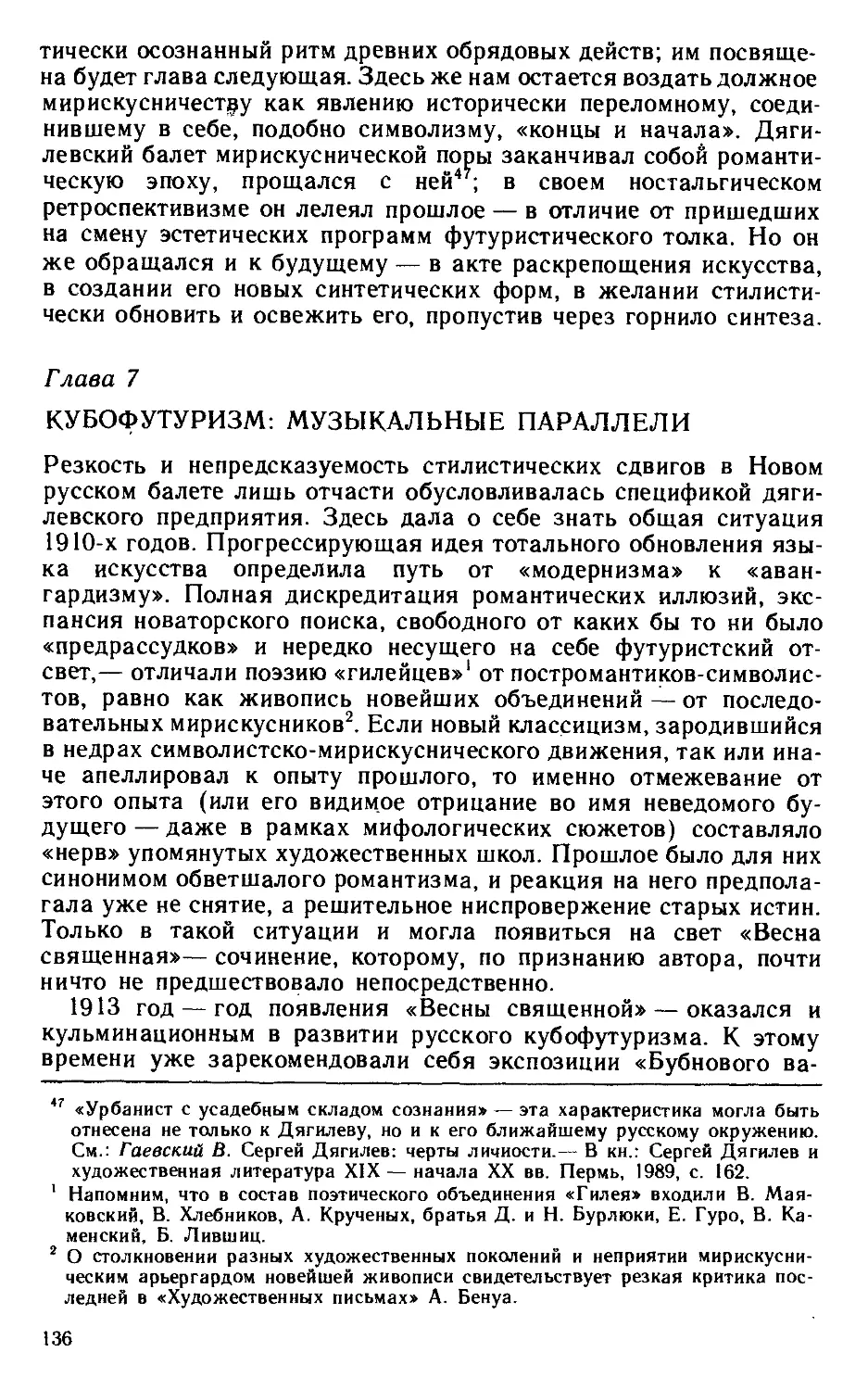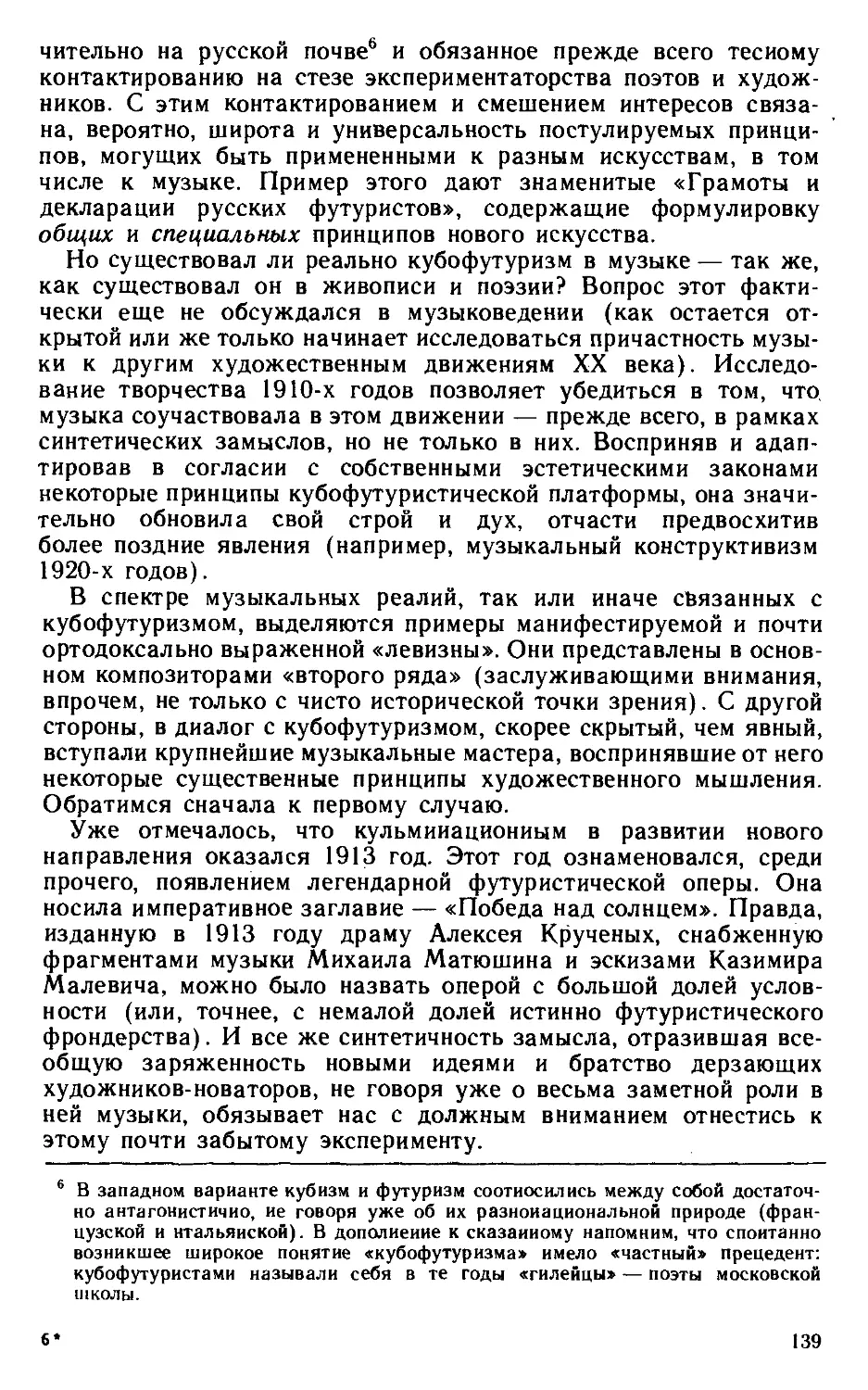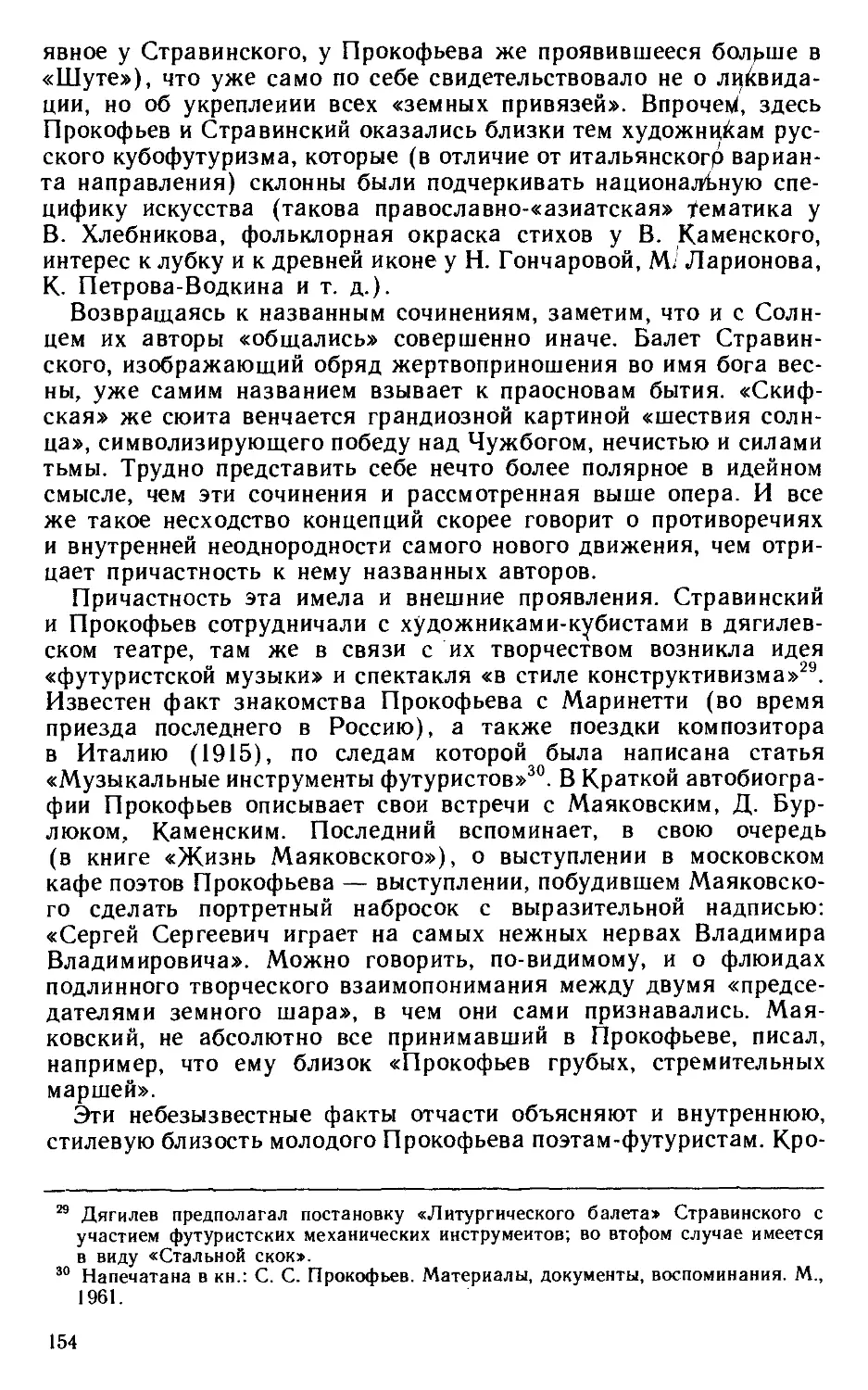Текст
Т.Левая
РУССКАЯ МУЗЫКА
НАЧАЛА XX ВЕКА В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ
КОНТЕКСТЕ
ЭПОХИ
Москва «Музыка»
1991
ВВЕДЕНИЕ
Феномен художественной культуры все больше привлекает сегодня
внимание исследователей, интригуя многоликостью-взаимосвя-
занностью своих слагаемых и, соответственно, призывая к кон-
текстному анализу явлений искусства. В чем смысл такого
анализа? С одной стороны, он отвечает активно возрастающей
ныне познавательной потребности человеческой психики, а также
углубляющемуся чувству культурной памяти — эпохи, изо-
билующие «белыми пятнами», хотя и не столь исторически уда-
ленные от нас, особенно взывают к этому. С другой же стороны,
в контекстном подходе кроются потенции собственно научного
освоения исторического материала, то есть такого освоения, кото-
рое предполагает максимальную включенность художественного
факта в систему взаимообусловливающих связей. И здесь гума-
нитаризация искусствоведческого знания, расширение его вы-
хода в социум, в смежные отрасли искусства и культуру в целом
оказываются более плодотворными, чем усилия «узких специа-
листов», чреватые своего рода изоляционизмом.
Нам представляется, что такое расширение не противоречит
специализированному знанию и может так или иначе сочетаться
с ним, опираться на него. В этом смысле предлагаемая книга
является исследованием музыковедческого профиля, хотя содер-
жание ее, в силу поставленных задач, не ограничивается рамками
чисто музыковедческого жанра. Замысел книги продиктован из-
вестной неудовлетворенностью существующей литературой о
музыке, вернее, той ее частью, на которой продолжает сказывать-
ся вышеупомянута^ печать изоляционизма. В исследованиях,
связанных с тем или иным историческим материалом, творчество
композиторов нередко рассматривается как некая самоценность;
эстетико-стилевые соприкосновения музыкантов с общими про-
цессами развития искусства осмысливаются пока еще недостаточ-
но, так же как недостаточно учитываются взаимоотношения и
взаимовлияния различных искусств, характеризующие любой
культурный период. Последний как таковой вообще нечасто ста-
новится объектом углубленного анализа: за исключением отдель-
3
ных глав учебников и трудов обзорного типа, большинство оте-
чественных публикаций тяготеет к жанру монографических порт-
ретов отдельных творцов. Хотя этот жанр вовсе не исключает
широкого взгляда на предмет, все же возможность осмыслить твор-
ческое событие в рамках некоей культурной целостности ока-
зывается в его условиях достаточно ограниченной ______ не говоря
уже о том, что мы остаемся в прямом долгу перед духовно-
эстетической уникальностью отдельных эпох, столь же богатых
сколь малоизученных. Восполнить отчасти этот пробел, обратив-
шись к комплексу явлений, именуемых художественной культу-
рой,— такова задача книги1.
Объектом внимания в ней отнюдь не случайно стала Россия
начала XX века. Отечественная художественная ситуация этого
периода исключительно показательна. Возникшая под знаком
«русского культурного ренессанса»1 2, она достойна самого при-
стального внимания уже в силу накопленных в те годы духовных
богатств. Завоеваниям «серебряного века» суждено было во мно-
гом определить дальнейшие пути искусства XX столетия. Но не ме-
нее, чем результат, интересен процесс производства этих цен-
ностей — та питающая среда и реальная жизнь искусства, ко-
торые, собственно, и охватываются понятием художественной
культуры.
Этот процесс протекал в России начала века необычайно слож-
но, запутанно-противоречиво. В нем отразилась не просто естест-
венная динамика социально-психологического и художественного
развития, но динамика переходного типа культуры (учитывая к
тому же интенсивность и радикальность «перехода»). Несомнен-
но, подобные периоды особенно нуждаются в культурологическом
взгляде. Движущийся, изменчивый, становящийся характер самой
духовной ауры, не всегда успевающей откристаллизоваться в «тек-
сты», но всегда воздействующей «контекстным полем» проектов,
манифестов, рискованных экспериментов, противоборствующих
идей,— к нему взывает. Расширение радиуса внимания «от текста
к контексту» в таких случаях просто необходимо — пусть иные
явления и покажутся «текстоцентристски» настроенному
читателю малозначительными.
Переходным начало века было и в общеевропейском масштабе:
1 Подспорьем в решении этой задачи по отношению к интересующему нас пе-
риоду может служить комплексный труд «Русская художественная культура
конца XIX — начала XX века» (вып. 1—3, М., 1968—1969, 1977). С обнадежи-
вающей заинтересованностью — в плане общекультурного осмысления русской
музыкальной классики — велись также редакционные беседы журнала «Со-
ветская музыка» (1980), где высказывались мысли о плодотворности исто-
рико-социологического подхода и о разработке теории культуры (Л. Кора-
бельникова, № 6, с. 44); о важности проблемного профиля музыковедческих
исследований (Ю. Келдыш, № 6, с. 38); об актуальности темы «Художник и
Россия» (А. Кандинский, № 7, с. 73); о необходимости изучать забытые имена,
творчество композиторов «второго эшелона» (И. Нестьев, № 7, с. 78) и т. д.
2 Это понятие, равно как и широко распространившееся выражение «сереб-
ряный век», принадлежит Н. Бердяеву, давшему в своей книге «Самопознание»
глубокий социально-психологический анализ России той поры.
4
свойствами кризисности, рубежности отмечены самые многооб-
разные явления искусства, научного знания, социальной жизни
тех лет. Россия же являла своего рода экстракт переходности.
Не говоря уже о беспрецедентных революционных взрывах, начало
нового столетия осложнялось здесь особой, исконно русской поры-
вистостью и спорадичностью. «Все то, что сопровождало развитие
русского искусства на протяжении многих столетий, нашло свое
сконцентрированное выражение в предреволюционные годы,—
резонно замечает Д. Сарабьянов.— Скачкообразность, неравно-
мерность движения выявились здесь с полной определенностью и
получили такие формы, какие имели, пожалуй, лишь в петровское
время. Пересечение старого и нового, соединение разных сто-
летий, нескольких этапов определили ту „многоукладность" рус-
ского искусства, которая в предреволюционное десятилетие достиг-
ла высшей точки»3.
«То, что во Франции или в какой-либо иной европейской стране
следовало в более или менее определенном логическом порядке,—
читаем у того же автора,— в России перепутывалось, становилось
одновременным и параллельным, смыкалось и размыкалось... Рус-
ское искусство как бы спешило догнать и одновременно уйти впе-
ред»4.
Социальным фоном художественных событий интересующего
нас периода было ощущение глобальности переживаемого кри-
зиса, напряженное предожидание, принимающее порой эсхато-
логическую окраску, взбудораженность всех слоев общественной
психики, приведшая в движение и заново ассимилирующая —
как в энергично встряхиваемом сосуде — искусство и жизнь,
равно как виды и формы самого искусства (идея синтеза). В этом
общем процессе тотальной неустойчивости, характерной для пе-
реходных культур, можно тем не менее четко разглядеть две
волны, две стадии «перехода». В плоскости эпохальных стилей они
соотносятся между собой как романтизм (в его поздних трансфор-
мациях) и антиромантизм. При этом стихийно закрепившиеся за
ними понятия «модернизма» и «авангарда» также подчеркивают
различия волн — уже в плане возрастающего пиетета к новому.
В самой этимологии этих понятий — «современный» и «идущий
впереди» (вспомним Д. Сарабьянова — «догнать и одновременно
уйти вперед») —отражен процесс прогрессирующей эмансипа-
ции искусства.и усиления футурологической нацеленности худо-
жественных новаций5.
3 Сарабьянов Д. Новейшие течения в русской живописи предреволюционного
десятилетия (Россия и Запад).— В кн.: Советское искусствознание: 80,
Вып. 1. М„ 1981.
4 Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900 — начала 1910-х годов. М.,
1971, с. 7.
5 Понятие «модернизм» употреблялось синхронно самому явлению (то есть
новым художественным направлениям рубежа веков, сознательно противо-
поставлявшим себя традиционалистским школам) и уже в начале столетия
нередко наделялось негативным оттенком. Однако разнонаправленность и
разнокачественность явлений, охватываемых в итоге этим понятием, делает
5
Переломной оказалась, конечно, вторая стадия. Начало ее
совпало с кануном мировой войны — этими «официальными похо-
ронами» (Ю. Давыдов) романтического XIX века. Происходила
ни более ни менее как смена эпох, образов мира, «эмотивистский»
век уступал место рационалистическому. Заметим, что антитеза
«романтизм — антиромантизм» в России выразилась особенно по-
ляризованно благодаря заметной активизации в начале века пер-
вого звена.
К. Петров-Водкин называл членов живописного объединения
«Мир искусства» «предреволюционными романтиками», подчер-
кивая свойственные им «волнующую элегичность настроений»
и «остроту романтического скепсиса»6. К этим характеристикам
дело, однако, не сводилось. Столь распространенное тогда чувст-
во конца доживаемой эпохи вызывало стремление ускорить «раз-
рушительную и возродительную катастрофу мира» (Вяч. Иванов),
стимулировало истинно романтическое желание жить «удесяте-
ренной жизнью» (А. Блок). Этот психологический модус, а также
характер соответствующей стилевой ориентации и имели в виду,
вероятно, филологи начала века (В. Жирмунский, С. Венгеров),
выдвинувшие понятие неоромантизма.
Думается, это понятие можно отнести не только к поэзии. Анало-
гичное происходило в музыкальном творчестве. Более того:
шопено-листовские реминисценции Скрябина, брамсианство
Метнера, общая волна увлечения Вагнером, захлестнувшая рус-
скую культуру рубежа веков,— все это возместило неполноту и
«несамостоятельность», сравнительно с Западом, романтического
направления в русской музыке XIX века (напомним, что у компо-
зиторов «новой русской школы» Вагнер был не в чести, а их соб-
ственные романтические черты в значительной степени коррек-
тировались злобой дня и идеалами нового реализма).
Так или иначе, романтизм переживал в русской культуре начала
века вторую молодость, по силе и остроте жизнеощущения в чем-
то даже превосходившую первую. Тем больший стилистический
контраст всему этому несли с собой те тенденции, которые вкупе с
авангардными течениями 1910-< годов приобрели позже форму
антиромантического бунта. Они не выбивались из общего модуса
«удесятеренной жизни», но эстетическая платформа их была кар-
динально иной. Анализ музыкальных проявлений неоклассицизма
непродуктивной попытку вкладывать в него какой-либо оценочный смысл. То
же можно сказать и по поводу понятия «авангард» (или «русский авангард
1910-х годов»). Возникшее гораздо позже наименованной им эпохи и утвер-
дившееся главным образом в западном искусствознании, оно имеет шансы
на достаточно широкое распространение, так как вполне отражает суть
происходящих в те годы художественных процессов. Под этим выражением
можно понимать и новаторские притязания искусства в пику «косной действи-
тельности», и выдвижение русских художников 1910-х годов в ранг лиди-
рующих на мировом горизонте (подробнее об авангарде пойдет речь в главе
«Кубофутуризм: музыкальные параллели»).
6 Петров-Водкин К- Хлыиовск. Пространство Эвклида. Самаркаидия. Л.,
1982, с. 609.
6
и кубофутуризма говорит о том, что столь разные движения соли-
даризировались между собой именно на антиромантической почве.
Подобные тенденции лишь ожидали в описываемый период своего
зенита, но все же заявили о себе достаточно определенно, подчас
манифестированно, войдя в сложный контрапункт с последними
вспышками романтизма. Такое наложение прошлого и будущего
особенно заметно в первой половине 1910-х годов, когда полифо-
ния «измов» достигла, кажется, апогея.
Что же происходило на первой стадии «перехода», достаточно
продолжительной — приблизительно с середины 90-х годов до
начала 1910-х — и целиком исчерпавшей себя в дореволюционный
период (а потому и заслуживающей здесь преимущественного
внимания)?
«Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа,—
писал в своих мемуарах Андрей Белый.— (...) Правота нашей
твердости видится мне... скорее в решительном „нет", сказанном
девятнадцатому столетию, чем в „да", сказанному веку двадцато-
му»7. Рубежный характер символистской культуры, как видим,
хорошо осознавался ее представителями. Дух новизны достаточно
владел тогда умами, хотя префикс «нео» в приложении к роман-
тизму начала века с течением времени подвергся заметной кор-
рекции: вполне очевидно, что развитие и трансформация некоторых
принципов романтической эстетики в том же символистском дви-
жении сочеталась с явно завершающим характером этого движе-
ния. Потому-то эпоха, уже сказавшая «нет» романтическому веку,
но еще не сказавшая «да» веку XX, воспринимается сегодня скорее
под знаком «пост», чем под знаком «нео».
Важно отметить также, что множественности, центробежности
второй переходной фазы первая предпосылала сложное единство
взаимно не отслоившихся еще тенденций, полифоничность
1910-х годов была предварена антиномичностью лет предшествую-
щих.
Остановимся подробнее на антиномиях русской культуры начала
века — именно в них выразился на данном этапе ее переходный
характер. Антиномии прослеживаются здесь как по горизонтали,
так и по вертикали. Характер первых осознается полностью лишь
в исторической перспективе, как разнонаправленное сочетание
в одном культурном феномене черт прошлого и будущего. Извест-
но, что антиромантический бунт 1910—1920-х годов проходил под
знаком трезво рационалистического взгляда на творческий
процесс — вплоть до апологии формально-конструктивного момен-
та; он же означал решительный разрыв с индивидуалистической
концепцией творчества .— во имя объективных, надличностных на-
чал. Однако подобные противопоставления в скрытой, «неофи-
циальной» форме существовали уже в постромантической фазе,
сообщая последней особую противоречивость и повышенную
(взрывоопасную!) атмосферную плотность.
7 На рубеже двух столетий. М., 1989, с. 35.
7
Знаменательно, например, что «аполлонические» дерзания
акмеистов возникли не на пустом месте, а имели под собой брат-
ство-вражду Диониса и Аполлона в искусстве и литературной
публицистике рубежа 1900—1910-х годов. Известная ницшеанская
антиномия сильнее всего проявила себя именно в позднем симво-
лизме — сознающем еще свою привязанность романтическому
культу стихийного, бессознательного, но рвущемся к идеалам
«прекрасной ясности». Впрочем, активно выраженный рациона-
листический элемент отличал все поколения символистов, не
случайно названных «побочными детьми века разума, порядка и
системы»8. Исследовательский склад ума, склонность к теоретизи-
рованию (чему свидетельством научные концепции «младосимво-
листов» — Вяч. Иванова и Андрея Белого) оказались скрытой
подоплекой символистского же иррационализма и мистицизма.
В музыке воплощением подобной антиномии было творчество
Скрябина. Вместе с тем в более широком плане Скрябину про-
тивостоял Танеев, «эмоциональной» музыке контрастировала му-
зыка «архитектурная» (А. Луначарский), что выявляло еще один
уровень дионисийско-аполлонической полярности, характерной
для культуры начала века в целом.
Не менее показательна в рассматриваемом аспекте антиномия
индивидуалистичности — соборности. Кризис индивидуализма
был тогда одной из самых больных, животрепещущих проблем,
он определял пафос многих выступлений «младосимволистов» —
вспомним известную статью А. Блока «Крушение гуманизма».
Тоска по вселенскому, общенародному, стремление слушать «ми-
ровой оркестр» выражались в соответствующих художественных
замыслах и проектах. Хорошо известно, однако, что эти проекты
оборачивались утопией — не только в силу глобальности конечных
целей, но и потому, что они не получали опоры в существующей
системе средств и самом складе мышления, доставшемся в на-
следство от индивидуалистического века. Отсюда — одно из глав-
ных противоречий «культуры рубежа», разрешить которое могло
лишь будущее.
Впрочем, именно в неразрешенности на данном этапе подобных
проблем и состояла антиномическая сущность символистской
культуры (а с ней и всей культуры начала века). Не вникая пока в
их суть, подчеркнем еще раз, что зерна будущего заявили о себе
в постромантический период достаточно активно, хотя носили
подспудный либо абстрактно-гипотетический характер, лишь под-
готавливая общим состоянием скрытой полярности грядущий
переворот.
Наряду с этим процессом готовящейся переоценки ценностей, в
русской культуре начала XX века решался вопрос гносеологи-
ческого порядка: быть ли искусству целью или оно должно стать
средством осуществления неких глобальных жизненных задач?
Решение этого вопроса, который в абстрактной формулировке
8 Бачелис Т. Шекспир и Крэг. М., 1983, с. 55.
8
звучит риторически, определило две концепции искусства, проти-
востоящие друг другу. Эту, «вертикальную», антиномию обуслови-
ли национальные и исторические судьбы русского искусства,
«наложенные» на ситуацию рубежа веков.
На пороге нового столетия в России начиналась полоса эман-
сипации художественной культуры, осознания ее самоценности.
Культурно-художественный бум выразился в активном просвети-
тельстве, небывало интенсивной переводческой деятельности
литераторов, во множестве разнонаправленных группировок, в
большом количестве периодических изданий, «синтетический»
характер которых (журналы «Мир искусства», «Золотое руно»,
«Аполлон» и др.) отразил динамику параллельного обновления и
контактирования различных видов искусства.
Множество языковых новаций так же показательно для эпохи,
как и активизация художественной памяти. «Новым русским воз-
рождением» называл это время А. Блок, рассуждая о судьбах
русской культуры и напоминая о ее «несамостоятельности» по
прошествии времен пушкинского ренессанса: «Если в XIX столетии
все внимание было обращено в одну сторону — на русскую общест-
венность и государственность, то лишь в XX веке положено начало
пониманию русского зодчества, русской живописи, русской фило-
софии, русской музыки и русской поэзии...»9.
О «напряженности» русской культуры как коренной ее черте,
обусловленной всей историей России, писали многие. Необходи-
мость нести на своих плечах задачи борьбы имела следствием то
характерное обстоятельство, что «русская действительность бы-
вала отягощена гораздо большим грузом неосуществленных в
прошлом эстетических проблем, чем соответствующие по времени
действительности Англии, Франции или Германии»10. Отсюда — и
активность своего рода «эстетической компенсации» как признак
ускоренного, стянутого во времени развития художественной куль-
туры, выпадающего на долю отдельных исторических периодов.
Таким сравнительно редким в русской истории периодом оказался
и рубеж XIX—XX веков, когда в России, совсем недавно (лишь
в 1861 году) освободившейся от крепостнического рабства,, откры-
лись новые пути культурно-экономического роста, а с другой сто-
роны, идеалы «искусства-служения» либо выродились в плоский
утилитаризм, либо потерпели крах в атмосфере социальных разо-
чарований (углубившихся после революции 1905 года).
Интенсивный рост буржуазных норм в России имел, как извест-
но, свою оборотную сторону, соответственно «оборотной» стороне
нарождавшейся русской буржуазии, которая предпочитала ду-
ховной культуре примат техники и естественных наук. Среди про-
чего, это опасность нивелировки и уничтожения — во имя «полез-
ности» — духовных ценностей прошлого: памятников старинной
архитектуры, романтики усадебных парков и прочих свидетельств
9 А. Судьба Аполлона Григорьева.— Собр. соч., т. 5, М.— Л., 1962, с. 487.
10 Га^в Г. Ускоренное развитие литературы. М., 1964 с. 302.
былого прекрасного, «категорически изымаемых бурным натиском
капитализма»11. Хранение старых ценностей, а также создание но-
вых под девизом Красоты было вызвано еще и предчувствием ско-
рого исчезновения последней из окружающей жизни11 12. Искусство
расцветало словно вопреки прозе действительности, усугубив-
шейся ко второй половине 1900-х годов очередным крушением со-
циальных надежд. Об этом очень точно высказался в связи с
«Русскими сезонами» в Париже А. Бенуа: «Каждый участник
„русских сезонов"... чувствовал, что он выносит перед лицом мира
лучшее, что есть русского, самую свою большую гордость, и что
нельзя ему посрамить этот палладиум: русскую духовную культу-
ру, русское искусство, после того, как посрамлена и затоптана в
грязь вся русская действительность»13 14.
Ставку на эстетическую автономию искусства делал и С. Дяги-
лев, связывая ее с актуальными веяниями времени. «...И если
русскому искусству суждено сыграть роль в великой освободитель-
ной борьбе,— писал он,— то, конечно, она будет заключаться ие в
протокольном изображении текущих событий, а в свободном раз-
витии индивидуального творчества»'4 (курсив мой.— Т.Л.)- Это
высказывание симптоматично не только само по себе; оно выяв-
ляет накопившуюся жажду свободы и свободы искусства, в част-
ности. Из него же следует мысль о глубоко опосредованном, не пря-
мом характере взаимосвязи искусства и действительности в этот
переломный для России момент (чего нельзя не учитывать при
оценке соответствующих явлений; музыки с ее «повышенным
коэффициентом опосредованности» это касается прежде всего).
Но эстетизирующая концепция искусства — а именно таковой
она была, ибо при всех реакциях на веяния эпохи предполагала
отделение и возвышение искусства над жизнью — эта концепция
имела мощного оппонента. Резкая критика эстетизма «младосим-
волистами» нашла выход в проповедуемых ими идеях теургии.
Лозунгирование чистой Красоты, с которым — в духе времени и в
противовес утилитаризму старого искусства — выступили поэты-
символисты, обернулось вскоре лозунгом «Красота спасет мир»,
при весьма действенном понимании спасительной и преобразующей
миссии художественного творчества. Здесь уже последнее рас-
сматривалось как средство, целью же была «разрушительная и
возродительная катастрофа мира» — к этому был призван симво-
11 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы. М.— Л., 1966, с. 105.
12 Одной из форм удержания исчезающей Красоты был стиль модерн с его спо-
собностью «обращать в роскошь то, от чего веяло хладом преисподней»
(Басманов А. Искусство и судьба Обри Бердслея.— Огонек, 1987. № 29).
Культ изысканных линий широко внедрялся в дизайн — в оформление рес/
пектабельных гостиниц, ресторанов, пароходов, купеческих домов и усадеб.
Эстетизация становилась, таким образом, ие просто свойством художест-
венного мышления, возвышая искусство над другими областями духовной
жизни, но и распространялась на сферу быта, среду обитания.
13 Бенуа А. Художественные письма.— Речь, 1909, 19 июня.
14 В защиту искусства (ответ И. Я Гинцбургу).— В кн.: Сергей Дягилев/й рус-
ское искусство, т. 1. М., 1982, с. 204.
10
листский театр мистерий. Так эмансипирующемуся было искусству
пришлось вновь ощутить свою национальную судьбу и устремить-
ся в жизнь, на этот раз пропустив через себя ток небывало высо-
кого напряжения (мессианство позднего Скрябина может быть
тому красноречивым примером).
Конечно, между столь противоположными взглядами на ис-
кусство существовала сложная взаимосвязь, и сам лозунг «спа-
сительной Красоты» заключал ее в себе. Да и в принципе одно без
другого вряд ли может существовать. Особенностью же интересую-
щего нас периода была резкая поляризация этих взглядов и соот-
ветствующих творческих проектов. Такая поляризация, будучи
проявлением антиномичности переходной культуры, получила от-
ражение и в музыке (что выяснится позже при анализе символист-
ской и мирискуснической концепций синтеза искусств)..
Знаменательно, что противоположности уживались порой в гра-
ницах творчества одного и того же художника. Вспомним, как
сложно эволюционировал А. Блок, как прихотливо менял свою
программу В. Брюсов (не говоря уже об Андрее Белом и Вяч. Ива-
нове), сочетая призывы к великому, нравственному с изощренным
эстетизмом. Даже в самых решительных проектах преобразования
мира авторы не могли подчас освободиться из плена индивидуа-
лизма и абстрактных утопий. Здесь сторонники теургии и «само-
довлеющей красоты» оказывались равно далекими от непосредст-
венных общественных забот, столь недвусмысленно выдвигаемых
временем.
В этой особенности русской культурной элиты начала века, а
именно в отсутствии волевого выбора и в фатальной оторван-
ности от широких социальных течений времени, вполне «земных»
в своей основе, заключался, по мысли Н. Бердяева, главный тра-
гизм ее судьбы. Опьяненная головокружительным воздухом твор-
ческих исканий — художественных, философских, религиозно-
мистических — и слишком вознесшаяся в этих исканиях над греш-
ной землей, она обречена была кануть в образовавшуюся бездну.
Не случайно многие ее представители вскоре покинули страну и
рассеялись по миру (оставшихся на Родине ожидала почти неми-
нуемая гибель, физическая или духовная,— если не в революцион-
ные годы, то в годы сталинской реакции). Клеймо забвения, лежа-
щее на многих явлениях русского искусства предреволюционной
поры, которое мы, наверстывая упущенное, спешим сегодня устра-
нить, обязано в немалой степени и этому факту: уехавшие или
погибшие оказались на многие годы вперед в положении поли-
тически отверженных. Не миновали этой участи и музыканты, даже
такие, как Рахманинов, зарубежный период творчества которого
долгое время оценивался превратно (не говоря о Стравинском, чья
жизнь в большей своей части протекала, по крайней мере терри-
ториально, вне России).
Однако, как замечает тот же Бердяев, последствия творческого
подъема тех лет не могли быть истреблены и все противоречия
«русского культурного ренессанса» не мешают считать его «одной
из самых замечательных эпох в истории русской культуры»15.
Но вернемся к вышерассмотренным антиномиям начала века.
Поляризующиеся тенденции не случайно принимали тогда крайние
формы. Предельность, максимализм вообще характеризовали пси-
хологический модус эпохи, стремление вырваться «прочь... куда-
то... ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости
серого прозябания»16. Этот модус определял и небывалую сме-
лость художественных новаций. Столкновение нового и старого,
всегда сопутствующее культурному развитию, в России тех лет
приобрело особо острый, непримиримый характер.
Сила застывших догм встретила наиболее дружное противодей-
ствие в сфере изобразительного творчества. В этом смысле «соби-
рательным манифестом» нового поколения прозвучало открытое
письмо С. Дягилева В. Стасову17, в котором недавнему пророку
инкриминировалась ненависть к современному искусству, огульное
низвержение лучших художников эпохи (в их число попал, как
известно, М. Врубель) и многое другое. Лейтмотив письма — на-
поминание о том, что время идет вперед и что непозволительно
превращать некогда новаторские принципы в академические путы.
Однако персонифицировать «старое» и «новое» в сложной кар-
тине той поры не так просто, если учитывать стремительный темп
перемен и разноликость самих диалогизирующих сторон. Даже
самое творческое, деятельное и бескомпромиссное крыло русских
художников было неоднородно по своим устремлениям, чем по-
коление начала века отличалось от несравненно более единой
плеяды «шестидесятников». Разногласия шли по нарастающей:
если, например, Танеев не принимал зрелого и позднего Скрябина,
то с еще большим трудом добивались признания молодые Про-
кофьев и Стравинский, не принимаемые, в свою очередь, скрябини-
стами. Неслыханная интенсивность художественной жизни,
экстремистский характер нового — все это множило и усугубляло
подобные разногласия.
Оценить такие разногласия лишь в упомянутых категориях «ста-
рого» и «нового» проблематично, даже и по прошествии времен.
Эксперименты подчас оборачивались пустоцветом, однодневкой
(тем более, что новаторский бум охватил художников всех уровней
и рангов), были обречены на скорое устаревание. С другой сторо-
ны, те, чья установка казалась в те годы «несвоевременной» и даже
открыто противопоставляла себя модернизму (Танеев, Метнер,
Рахманинов), вполне вписывались в современность с точки зрения
исторической перспективы и актуальных идей эпохи (хотя здесь
возникали свои крайности и издержки).
Именно с этой позиции — позиции актуальности, помогающей/
отсеять «старое» (в смысле догматически-мертвое) и сосредото/
________:______________________________________________________L
15 Бердяев Н. Самопознание.— Цит. по: Книжное обозрение, 1988, № 52, с./10.
16 Венгеров С. Этапы неоромантического движения.— В кн.: Русская литера-
тура XX века, 1890—1910, кн. 1. М., 1914, с. 18—19. /
17 См.: Сергей Дягилев и русское искусство. /
12 /
читься на том, чем действительно дышала и мыслила эпоха, на ее
«горячих точках»,— целесообразно рассматривать сложные пе-
реплетения художественных пристрастий тех лет. И тогда в сфере
нашего внимания окажутся не только собственно новаторские, но
также диалогизирующие с ними охранительские и ретроспекти-
вистские тенденции, не менее показательные для культуры рубежа
веков. Такой подход, акцентирующий актуальные эстетические
идеи эпохи а именно они составят содержание предлагаемых
ниже очерков,— обладает, как нам кажется, достаточной широтой
охвата общей ^артины искусства: ведь в круг этих идей в большей
или меньшей степени были вовлечены все мыслящие и чувствую-
щие художники^ включая композиторов.
*
Итак, характер культурной ситуации России начала века и за-
висимость от нее явлений искусства заставляют со всем вниманием
отнестись к контекстному анализу этих явлений. Такая задача
назрела и по отношению к музыкальному творчеству эпохи — глав-
ному предмету нашего интереса. Преодолеть инерцию вышеупомя-
нутого изоляционизма обязывает в данном случае уже специфика
изучаемого исторического материала. «Начало синтеза, взаимоот-
ношения и взаимодействия слова и звука, звука и цвета, звука и
жеста, и наконеО, органическое взаимодействие искусств (не
механическое их Соединение), естественный, непринужденный пе-
реход с чистого языка одного искусства на язык другого — все
это задачи преимущественно нашего времени, проходящего под
знаком XX века»,4— говорил А. Лурье в своем докладе «На рас-
путье», прочитанном в ноябре 1921 года в Петербургской Вольной
философской ассоциации18. Причастность к «духу музыки», в бло-
ковском пониманий этого девиза (доклад прозвучал еще и некроло-
гом — к смерти А. Блока и всей блоковской эпохи), Лурье мыслит
важнейшим критерием всякого творчества, в том числе музыкаль-
ного, понимая под этим органическую включенность последнего в
общий культурно-художественный процесс. Докладчик отказы-
вает в этом качестве русской музыке прошлых эпох, слишком отя-
гощенной, по его мнению, кастовым деспотизмом «учителей» и
замкнутой в кругу узко цеховых проблем (Мусоргский был одним
из немногих исключений). Как бы ни относиться к критической
части выступления Лурье (не учитывающего природного права
искусств на автономию и известную самостоятельность путей), в
позитивной своей части он вполне убедителен. Роль музыкантов в
ренессансе начала века, скрытый или явный контакт их с куль-
турным движением времени отмечены здесь со всей резонностью
очевидца. Попытаемся и мы — с позиций уже не очевидцев, но
заинтересованных исследователей — вслушаться в многотембро-
V «Стрелец», Спб, 1922, с. 163. Доклад сопровождался красноречивым подза-
головком «Культура и музыка».
13
вую полифонию той эпохи, распознать в ее музыкальных звуках
звуки блоковского «мирового оркестра»...
Такая задача столь же заманчива, сколь трудна. Сложность и
лабиринтообразная запутанность общей панорамы русского ис-
кусства тех лет обязывает к множественности аспектов рассмот-
рения, затрудняет выбор рядоположенных ориентиров. Этим
обстоятельством, а также стремлением не упустить за сложной
схемой живую конкретность художественного процесса объясня-
ется очерковый характер предлагаемой книги, где мы оставляем
за собой право избирательности, разножанровости й разноакцент-
ности высказывания.
В монографии затронуты разные уровни контекстного бытия
музыкального творчества. Первый связан с собственно художест-
венным контекстом: главным ориентиром здесь выступают новые
стилистические направления и культурные очаги; взаимосвязи му-
зыки с другими искусствами рассматриваются через опыты Ge-
samtkunstwerk, либо, напротив, через идею автономизации. Вто-
рой, отчасти совпадающий с первым, имеет отношение к общей
динамике культурной ауры: в планировке материала нашли отра-
жение антиномии переходного периода — как горизонтальные
(«Символизм» — «Прекрасная ясность»), так и вертикальные
(«Символизм» — «Мирискусничество»). Наконец, в последовании
глав книги намечен также хронологический принцип: размышле-
ния о символизме — наиболее влиятельном духовном факторе ис-
кусства рубежа веков, целиком исчерпавшем серя в рамках доре-
волюционного периода,— сменяются наблюдениями над иными
тенденциями и направлениями, заявившими о себе в 1910-е годы и
устремленными в будущее.
Музыкальное творчество и
символизм
Глава 1
СИМВОЛИЗМ КАК ТЕНДЕНЦИЯ КУЛЬТУРЫ
По отношению к музыкальному искусству понятие символизма не
приобрело еще, пожалуй, необходимых прав гражданства. Причи-
ной служат, по-видимому, разные обстоятельства, в том числе и то,
что в музыке начала века символизм не вылился в столь широкое
и всеохватывающее движение, каким был в литературе. Русские
композиторы, за исключением Скрябина, соприкоснулись с ним
косвенно и локально.
Но в такой неоднородности, в сочетании своего рода плотности
и разреженности — сама сущность художественных движений.
Скрябин, подобно Дебюсси во французской музыке, стал «плотным
ядром кометы», олицетворив собой целое направление и явив в
своем творчестве яркий пример совпадения стилевой характер-
ности и художественного качества. Однако с точки зрения культу-
ры показательна и «разреженная масса» — эти удаленные от ядра
светящиеся или полусветящиеся точки. Русские композиторы
начала века в большинстве своем не были символистами, но ока-
зались в той или иной мере захвачены символизмом, находились
в его «магнитном поле», ибо символизм был состоянием умов, а не
только школой.
Музыканты не манифестировали символизм, но приобщались к
нему, вовлекались в него — главным образом, через сюжеты,
литературные программы и поэтические тексты своих произведе-
ний. Если учесть, что в конце 1900-х — начале 1910-х годов соот-
ветствующими сюжетами, текстами и идеями вдохновлялась
весьма солидная часть вокальной, театральной, программной ин-
струментальной музыки, то уже этого достаточно для постановки
проблемы «русское музыкальное творчество и символизм».
Литературность — вообще характерная черта символистской
культуры. В этом проявился свойственный эпохе синкретизм1, *
Весьма показательна с этой точки зрения тяга музыкантов к разного рода
литературным надписям — заголовкам, программным комментариям, по-
яснениям, как и вообще способность вдохновляться другими искусствами — в
чем они охотно признавались (не в пример следующему поколению художни-
ков, отстаивающих автономию искусств и своего рода «принцип невмеша-
тельства»), Косвенным подтверждением синкретического мироощущения
15
идущее от романтиков стирание границ между искусствами и го-
товность их к синтезу. С другой стороны, здесь сказался приоритет
литературы в иерархии ценностей нового направления, хотя сами
символисты высшим из искусств, как известно, почитали музыку.
В трактовке музыки как универсальной стихии, способной интуи-
тивно — а потому адекватно — постигать мир (этой теме посвяще-
но большое количество теоретических работ, в частности статья
А. Белого «Формы искусства»), проявились характерные для тех
лет издержки абстрактного теоретизирования. Во всяком случае,
рассуждения символистов на данную тему (включая столь попу-
лярную тогда тему Вагнера) не снимают, а, наоборот, лишь
обостряют вопрос о том, какой же была не гипотетическая, а
реальная музыка символистской эпохи и как музыканты смотрели
на символизм.
Сразу же отметим многоуровневость такого взгляда — от фак-
тов общения литераторов с композиторами До глубокого про-
никновения последних (хотя, разумеется, не всех) в дух и суть
нового движения. Соответственно и символизм выступает у музы-
кантов в нескольких ипостасях: как тенденция культуры (наиболее
общий план), как поэтика — через непосредственную взаимосвязь
с поэтическим словом в вокальных жанрах и как философия — эта
высшая ипостась, отчасти предполагающая в себе предыдущие,
представлена Скрябиным. Коснемся и мы в этих очерках всех трех
проявлений символизма.
О месте музыкантов в этом движении трудно судить, не предста-
вив хотя бы контурно его историю в виде некоторых фактов и дат.
Напомним, что в 1893 году была опубликована работа Д. Мереж-
ковского «О причинах упадка и о новых течениях современной
русской литературы», содержащая историческое и теоретическое
обоснование символизма. Русский поэтический символизм заявил
о себе, таким образом, уже в 90-е годы прошлого века — парал-
лельно символизму во Франции, где вершинным в этом смысле
считается 1891 год, год знаменитых «вторников» Малларме.
1904 год: время начавшегося самоопределения символизма как
целостного направления, начало публикации «Весов» — главного
печатного органа символистов; к этому же времени к «старшим»
символистам (К- Бальмонт, В. Брюсов, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб
и др.) присоединяются «младшие» — «младосимволисты» (А. Бе-
лый, А. Блок, Вяч. Иванов), укрепившие авторитет символистского
движения, вдохновившие его новыми идеями и совершившие его
окончательное отмежевание от «декадентства». 1905 год: идеи
символизма овладевают театром; в Москве открывается театр-
была, думается, и многообразная образованность людей искусства. Извест-
ны, например, поэтические опыты Скрябина, Ребикова, Станчинского (пос-
ледний писал также рассказы), музыкальные — Чюрлёниса, М. Кузмина,
Б. Пастернака; эти опыты явно выходят за рамки любительства и говорят
в пользу «второй профессии».
16
студия на Поварской, где ставит свои первые эксперименты
Вс. Мейерхольд. В 1906 году тот же Мейерхольд, пришедший в
театр Комиссаржевской, ставит там «Балаганчик» Блока и «Сестру
Беатрису» М. Метерлинка. В 1907 году в Москве устраивается
первая выставка художников «Голубой розы», которые до сих пор
не были официально объединены (С. Судейкин, Н. Сапунов, В. Бо-
рисов-Мусатов, П. Кузнецов, М. Сарьяи и др.), и журнал «Золотое
руно», издаваемый в Петербурге, начинает заниматься активной
пропагандой их творчества; происходит, таким образом, ие только
самоопределение символизма в разных сферах искусства, но и его
«легализация».
Андрей Белый Цишет в своих мемуарах, что 1907 год «ознамено-
вался победою Модернизма... До 1907 года мы — отщепенцы;
читатели наши — Ьторванцы разных классов, несколько десятков
эстетов, да несколько меценатов типа Мамонтова, ранее сплотив-
шего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина»2. Свиде-
тельством таких побед становятся обычно влиятельные кружки.
И действительно, в 1907 году в Москве, наряду с уже существую-
щим Литературно-художественным кружком, Брюсовым было
организовано «Общество свободной эстетики», отстаивающее по-
зицию «Весов» и сплотившее художников разных специальностей
для борьбы с консерваторами и академистами. В «Обществе» ве-
лись оживленные дискуссии, устраивались многочисленные
премьеры — литературные, музыкальные, театральные,— так или
иначе связанные с символистским направлением.
Из тех же мемуаров А. Белого узнаем, что «Общество» активно
посещали музыканты: «Вот список посетителей в первом двухле-
тии. Композиторы, пианисты, профессора консерватории,
проф. Бубек, проф. Игумнов, проф. Кочетов, проф. Арсений Ко-
рещенко, Гречанинов, Богословский, А. А. Сац, Николай Метнер,
Гедике, Конюс, Василенко, Оленин, Марк Мейчик, Н. Я. Брюсова,
Б. Б. Красин, Померанцев, Багриновский, Жиляев, Архангельский;
изредка появлялся Аренский; из теоретиков помню Яворского,
Эйгеса, Сабанеева, Вольфинга (Э. К. Метнера)... бывал и Скря-
бин; бывали музыкальные критики: Кругликов, Энгель, Сахнов-
ский... Были и ,,голуборозники“»3.
Параллельно «Обществу свободной эстетики» знаменитые
«Среды» Вячеслава Иванова сплачивали новые художественно-
2 Между двух революций. Л., 1934, с. 193.
3 Там же, с. 219. О Скрябине, творческие принципы которого, казалось бы,
не могли не импонировать поэту, Белый, оказавшийся близким кругу семьи
Метнеров, пишет в достаточно скупых выражениях: «Кажется, мы в те годы
не слишком нуждались друг в друге (Скрябин пришел позднее ведь к необхо-
димости пропустить сквозь себя символистов)» — там же, с. 348. Но и позже
контакт не завязался. Возможно, причиной было просто недостаточное зна-
комство с музыкой Скрябина, ибо «дух музыки» слишком теснил в сознании
поэта музыку как таковую. «...Он, оказалось, мало знает Скрябина и ие знал
даже его dis-тоП’ного этюда»,— с удивлением замечает Н. Жиляев в письме
к А. Станчинскому от 5 сентября 1911 года (ГЦММК им. Глинки, отдел рукопи-
еей, ф. 289, № 5892).
17
артистические силы Петербурга. И здесь также бывали музыканты
(и не только бывали, но и задавали тон, как, например, В. Кара-
тыгин), стремящиеся приобщиться к новой поэзии. Об этом пишет,
в частности, М. Гнесин, посещавший «Среды» с 1906 года и обя-
занный им расширением своего поэтического кругозора. «До это-
го,— замечает Гнесин,— я любил только раннего Бальмонта»4.
«Конечно, и ознакомление с произведениями музыкальных нова-
торов, и критические замечания наших музыкантов-„эстетов" —
вся среда „Сред" Вячеслава Иванова, в которую я не напрасно
влекся, были полезны мне, подталкивали вперед, стимулируя к
исканиям...»5
Знаменательно, что пиком символистских увлечений музыкантов
стали 1906—1907 годы, то есть годы повсеместной «легализации»
символизма и внедрения его в культурный быт (о чем свидетельст-
вует, в частности, деятельность «Общества» и «Сред»), В эти годы
С. Танеев, Н. Мясковский, М. Гнесин и др. создают романсы на
стихи поэтов-символистов; А. Скрябин пишет «Поэму экстаза» и
Пятую сонату; С. Рахманинов задумывает оперу «Монна Ванна»
по Метерлинку, а А. Лядов работает над музыкой к драматической
постановке пьесы того же Метерлинка «Сестра Беатриса»; В. Ре-
биков пишет оперу «Бездна» по рассказу Л. Андреева, реализуя в
ней черты андреевской плакатной символики; С. Василенко пово-
рачивает от эпоса к мистической фантастике, создавая симфони-
ческие картины «Сад смерти» по О. Уайльду и «Полет ведьм» по
Д. Мережковскому (вторая картина, наполненная символикой
дионисийства, писалась несколько позже, в 1909 году); Н. Рим-
ский-Корсаков заканчивает «Золотого петушка» — самый зага-
дочный свой опус, вскоре вдохновивший С. Дягилева на создание
условно-символического спектакля; тогда же ставится «Китеж»,
который в духе времени осознается как «русский Парсифаль»
(Б. Шлецер). Линия символистских увлечений не слишком спадает
и в последующие годы, о чем говорят примеры из творчества Мяс-
ковского, Рахманинова, Лядова, Ребикова, Василенко, молодых
Прокофьева и Стравинского, не говоря уже о Скрябине, который
остался верен своей «религии» до самого конца, то есть до
1915 года.
Уже названия произведений позволяют судить о символистских
пристрастиях авторов, а также о явном расширении литературно-
художественных вкусов музыкантской среды. Сила притягатель-
ности нового искусства такова, что иные имена буквально не сходят
с уст. Так, особой популярностью — наряду с Бальмонтом —
пользуются Метерлинк, Эдгар По, Оскар Уайльд, живописец
Арнольд Бёклин. Без бёклиновского «Острова мертвых» трудно
представить гостиные респектабельных домов и салонов; эта же
картина удостоилась чести быть проанализированной А. Белым
в «Формах искусства», дала программную основу симфоническому
4 Гнесин М. Ф. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1961, с. 137.
5 Там же.
18
опусу Рахманинова (последний писал о том большом впечатлении,
какое произвели на него массивная композиция и мистический
сюжет этой картины). Интересно, что Рахманинов предпочитал
цветному оригиналу картины, увиденному в Дрезденской картин-
ной галерее, ее черно-белую репродукцию. Вероятно, композито-
ров, и притом не только русских6, Бёклин привлекал музыкаль-
ностью своейживописной манеры (о чем писал, кстати, А. Белый),
но не только этим: людей, неравнодушных к новому и настроенных
на модернистскую волну, влекла сама иконографическая экстра-
вагантность егб\картин — с кентаврами, фавнами и наядами. Реби-
ков, создавший целую серию фортепианных циклов по Бёклину
(«Сны», «В сумерках», «На их родине», «Среди них»), отзывается
о его работах в тоне недоуменного восторга: «Я не мог от них
оторваться, часами просиживал в музеях и хотел схватить и по-
нять, где тайна искусства? Жизненная правда? Но у Бёклина —
вымысел. Отчего же этот вымысел так нравится мне?»7 8. Нравиться
Бёклии мог, впрочем, и еше по одной причине. Символика его кар-
тин зачастую поверхностно аллегорична; как резонно замечает
Д. Сарабьянов, «любой намек, сделанный ими, прозрачен и
сразу же получает ответ у догадливого зрителя, кому тем более
льстит его собственная’проницательность»6. Не исключено, что это
способствовало популярности живописца в культурной среде.
«Феномен Бёклина» говорит нам не только о приобщении музы-
кантов к европейским ценностям, и притом к ценностям смежных
искусств, но также о пропущенное™ этих ценностей через куль-
турный быт, превращении их в моду и даже в китч (тот же «Остров
мертвых», судя по многочисленным и достаточно «стертым» книж-
ным изображениям, был явной жертвой массового репродуцирова-
ния). Вообще проблема обытовления и «китчезации» символист-
ской культуры, равно как и параллельной ей (и с ней пересекаю-
щейся) культуры модерна, представляет немалый интерес и может
стать темой самостоятельного исследования культурологического
профиля. Здесь же, не углубляясь в эту проблему специально, отме-
тим лишь, что в эпоху всеобщей ненависти к «будням» и «прозе
жизни», каковыми были 1900-е годы, бессознательное тяготение
человеческой психики к антиповседневности и красоте (какие бы
формы они ни принимали), своеобразная компенсативность в отно-
шении к искусству и художественному быту выражалась особенно
остро. Вот почему так повышались в цене (и одновременно пада-
ли!) красоты символистского слога, символистская мистика и ми-
фология, символистская душевная утонченность, превратившаяся
в китч, скажем, у А. Вертинского...
Высказывания о Бёклине Ребикова или о символистской поэзии
6 Напомним о цикле симфонических поэм М. Регера по картинам Бёклина.
1 Ребиков В. Из моей жизни. Авторизованная рукопись.— ГЦММК им. Глиики,
ф. 68, ед. хр. 78, с. 10.
8 Сарабьянов Д. Русская живопись среди европейских школ. М., 1980, с. 207.
Сарабьянов отдает в этом плане предпочтение русскому Врубелю, чьи на-
меки остаются неразгаданными.
19
Гнесина — далеко не единичные примеры словесных свидетельств
музыкантов в пользу нового искусства. О своем увлечении стихами
3. Гиппиус и К- Бальмонта вспоминает в Автобиографических
заметках Мясковский9; Танеев в дневниках описывает общение с
А. Белым и Эллисом, упоминая также, в характерной сдержанно-
лаконичной манере, о чтении в яснополянском саду «декадентских»
стихов и о знакомстве с «декадентским» журналом «Перевал»10 11.
Не в пример Танееву, Лядов говорит о своей тяге к новому искус-
ству со всей откровенностью и даже страстью. Метерлинка, Уайль-
да, Бёклина он объявляет своими любимыми людьми. «Нет искус-
ства без красоты и аристократизма»1 *,— замечает он и тут же гово-
рит о ненавистной «пользе», которая наводит скуку и противопока-
зана искусству.
С. Василенко, композитор, близкий в те годы модернистским кру-
гам Москвы, с восхищением отзывается в своих «Воспоминаниях»
о новой русской живописи, в частности о Борисове-Мусатове —
художнике «Голубой розы», с которым активно общался: «В мас-
терской Борисова-Мусатова я почувствовал, что попал в мир осу-
ществленных фантастических мечтаний... я увидел не реальную
действительность, а воплощенную мечту художника: в его карти-
нах не было ни историчности, ни современности. В них как бы
перепутались разные моменты бытия, разные отблески и отраже-
ния, разные люди и разные мечтания. Кто эти девушки, некраси-
вые, но полные очарования, не то плачущие, не то находящиеся
на пороге радостного экстаза? Это был воплощенный в красках
сон, или туманные и призрачные мечты, или звенящий сквозь слезы
смех»12. Здесь же композитор говорит о своем стремлении находить
источник вдохновения в других искусствах и о намерении создать
музыкальную картину средствами одной инструментовки —
подобно самодовлеющей колористике новейших живописных по-
лотен. Крайне симптоматично в этом плане — в плане символист-
ского синкретизма — «встречное» стремление живописцев «озву-
чить живопись»: «„Бесконечная мелодия", которую нашел Вагнер
в музыке, есть и в живописи,— писал Борисов-Мусатов.— Во
фресках этот лейтмотив (речь идет о мотиве шествия в «Изумруд-
ном ожерелье», «Осеннем вечере» и др. картинах художни-
ка.— Т. Л.) — бесконечная, монотонная, бесстрастная, без углов
линия...»13.
Пребывание музыкантов в «магнитном поле» символизма про-
должалось примерно десять лет (от 1906 до 1916 года — года
создания Рахманиновым романсов ор. 38). Но и дальше интерес
их к символистским произведениям не иссякал полностью —
вплоть до начала 20-х годов, когда были написаны блоковские
9 Мясковский Н. Я- Статьи, письма, воспоминания, т. 2. М., 1960.
10 Танеев С. Дневники, кн. 1, 2. М., 1981, 1982.
11 Лядов А. К. Из писем. 1901 — 1909. Пг„ 1916, с. 200.
12 Василенко С. Воспоминания. М., 1979, с. 155.
13 Цит. по альбому: Борисов-Мусатов. Л., 1979, с. 60.
20
романсы Мясковского и бальмонтовские — Прокофьева. Все это
тем более примечательно и характерно для музыкального искусст-
ва с его расширенной «дистанцией освоения», что на рубеже
1910-х годов символизм как литературное направление вступил
в фазу кризиса: документальным свидетельством тому явилась
знаменитая дискуссия в журнале «Аполлон» за 1910 год, где были
опубликованы статьи Вяч. Иванова, А. Блока и В. Брюсова.
Но не будем говорить пока о кризисе и конце символизма. Напро-
тив, обратимся к его началу, вернее, началам — без этого нельзя
понять ни причин его возникновения, ни причин притягатель-
ности его для художников разных специальностей — поэтов, жи-
вописцев, театральных деятелей, композиторов.
Вячеслав Иванов в статье «Предчувствия и предвестия» писал,
что под символизмом «не искусство лишь, взятое само по себе,
разумеем мы, но шире — современную душу, породившую это ис-
кусство, произведения которого отмечены как бы жестом указа-
ния, подобным протянутому и на что-то за гранью холста указы-
вающему пальцу на картинах Леонардо да Винчи»14.
Какой же смысл стоит здесь за словами «современная душа»?
Чем эта душа жила и волновалась? Она жила острой неудовлетво-
ренностью «плоской действительностью» и жаждой «иных измере-
ний»15. Ощущение внезапно открывшегося неисчерпаемого много-
образия мира, установка на бесконечное и стремление приоб-
щиться к этой бесконечности путем интуитивного опыта составляли
самую сущность символизма, как русского, так и общеевропей-
ского. Однако в России начало века отмечено было не только
кризисом позитивизма, но и предчувствием социальных бурь.
Социальным’ фоном творческих исканий русских символистов
были «неразрешенные противоречия русской революции, ее се-
годняшнее поражение, но и — явные, несомненные признаки того,
что начавшееся движение непременно приведет в будущем к гран-
диозному взрыву, после которого наступит новая заря в существо-
вании человечества»16. Это наделяло мистические настроения
художников особой тревожностью и наэлектризованностью.
Собственно, такое предожидание было почти физиологически
реальным и не сводилось к мистике. Андрей Белый, которого
считали специалистом по закатам солнца, говорил, что «эпоха
имеет не только „мистическое", но и метеорологическое объясне-
14 Собр. соч., т. 2. Брюссель, 1974, с. 86.
15 Эти психологические черты времени были, как известно, подготовлены кри-
зисом позитивистского рационалистического мировосприятия, проявившегося
в конце XIX века. Чем больше на рубеже столетий подрывались основы преж-
него научного знания (достаточно напомнить об эйнштейновской теории от-
носительности), тем больше возрастал моральный авторитет интуиции, под-
держиваемый новейшей философской мыслью (труды А. Бергсона). Сим-
волистский антипозитивизм ярко проявился, например, в «Симфониях» Андрея
Белого, особенно во Второй, где имеют место сатирические выпады против
кантианства и точного знания, «умерщвляющего дух».
16 Родина Т. Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 50.
21
ние»17. «Да, мы — мистики,— пишет он; — крестьянин тоже мис-
тик, когда у него „свербит в пояснице" и он утверждает: быть гро-
зе»18. (Дальше Белый с сарказмом говорит о «профессоре без
зонта», которого подводит собственная глухота и нечувствитель-
ность к явлениям атмосферы.)
Печать этой «свербящей» тревоги лежит на всех явлениях духов-
ной жизни начала века. Вслушивание в подземный гул времени
активизирует интуитивные, предугадывающие способности пси-
хики. Все в мире начинает приобретать характер знаков и предзна-
менований19. Эпоха воистину мыслит символами — как в искусст-
ве, так и в жизни, в быту. Очень распространена цветовая символи-
ка. Тревожный, даже апокалиптический смысл принимает красный
цвет («Красный смех» Л. Андреева, «Маска красной смерти»
Эдгара По, вошедшая в качестве символа в мемуары А. Белого,
ставшая сюжетом для оперы М. Остроглазова и балета Н. Череп-
нина) . Серый цвет становится символом воинствующей пустоты
и пошлости жизни: «серая паучиха скуки» в статье Блока «Без-
временье» (1906) — не единственный тому пример. Символика се-
рого цвета служит как бы средством «инфернализации» пош-
лости и, наоборот, снижения, обытовления инфернальных образов.
Таков «Некто в сером» у Л. Андреева («Жизнь Человека»),
«Недотыкомка» Ф. Сологуба, давшая основу одноименному ро-
мансу М. Гнесина, «Серое платьице» 3. Гиппиус, привлекшее
внимание С. Прокофьева.
Символы кочуют из жизни в произведения искусства и обратно.
Такое взаимопроникновение, подтверждающее, что символизм был
способом жить и мыслить, чрезвычайно показательно для эпохи.
Ощущение смутных глубин, многозначительная недоговоренность,
неприятие какой бы то ни было «окончательности» сказываются
и в искусстве, и в стиле эпохи в целом. Они определяют даже
«модус поведения», о чем повествует обширная мемуарная лите-
ратура20.
Неприятие интеллигентским сознанием прозы жизни приводило
к особой активности воображения. Вот что пишет, например,
А. Блок в статье на смерть М. Врубеля: «Врубель жил просто, как
все мы живем; при всей страсти к событиям, в мире ему не хватало
17 На рубеже двух столетий, с. 16.
18 Там же.
19 Бытовым проявлением мистических потребностей была «практика столоверче-
ния» — увлечение спиритизмом. Для символистов, большинство из которых
прошло солидную школу естественнонаучных знаний, отталкивание от рацио
в форме подобного рода занятий особенно симптоматично. Брюсов, напри-
мер, писал: «В спиритических сеансах испытал я ощущение транса и ясно-
видения. Я человек до такой степени рассудочный, что эти немногие мгновения,
вырывающие меня из жизни, мне дороги» (Дневники. 1891 —1910. М.,
1927, с. 91).
20 В. Каверин, например, в романе «Освещенные окна» не без улыбки вспоминает
о своем старшем брате, чьи отношения с любимой девушкой (чтение при
слабом свете лампы символистских стихов) так и застыли в неопределенно-
вопросительной стадии...
22
событий, и события перенеслись во внутренний мир — судьба
современного художника»21. Эта же неудовлетворенность сказыва-
лась и в быту, она порождала полуосознанное стремление строить
жизнь как поэму. Проецирование искусства на жизнь, мифологи-
зация художником собственной жизненной судьбы становятся
фактами биографий. О мистическом истолковании событий личной
жизни свидетельствуют эпистолярные материалы, связанные-с
Блоком, Вяч. Ивановым, А. Белым и др. Как миф осознавал свою
судьбу Скрябин, которого мессианская одержимость приводила к
утрате чувства реальности и даже к неверию в возможность соб-
ственной кончины22.
Факты говорят о драматических последствиях подобных актов
мифологизации и о том, что отталкивание художников от внешней
антисобытийности было поистине головокружительным. Вызван-
ная таким отталкиванием утрата реальной почвы — результат
умственного абстрагирования, своего рода интеллектуального
произвола — вообще, по-видимому, была ахиллесовой пятой сим-
волистов, как в искусстве, так и в жизни. Образ их поведения,
запечатленный в эпистолярии, порой вызывает рядом с восхищени-
ем сочувственное удивление наивным схематизмом и отсутствием
критической самооценки...
Но обратимся непосредственно к искусству. Сосредоточимся,
наконец, на музыкальном творчестве и выясним, каким образом
отразился в нем символистский спектр ощущений. Или — выра-
жаясь шире, но точнее — как музыкально проявила себя «совре-
менная душа», о которой писал Вячеслав Иванов. В такой форму-
лировке вопроса учитывается открытость, разомкнутость худо-
жественной системы символизма, несводимость, но и одновременно
причастность к нему, смыкание с ним некоторых характерных осо-
бенностей творческой психологии тех лет.
Так, своеобразный антибытовизм, неприязнь к пресловутой
«прозе» были, конечно, общим признаком времени. Они выра-
жались, например, в тяготении художников к сказочной фантас-
тике, волшебству и красоте «иных миров». Интересно, однако,
что тяготение это принимало особенно направленный характер у
тех, кто так или иначе соприкоснулся с символизмом. Римский-
Корсаков, всегда любивший сказку, делает ее в своей последней
опере орудием далеко идущей аллегории («Золотой петушок»).
У Лядова, другого русского сказочника, это не столько аллегория,
сколько «метерлинковские касания действительности — атмосфера
„Синей птицы"»23. Сказочная образность оркестровых миниатюр
Лядова, фольклорная по природе, словно выступает в неустойчи-
вом свете времени: слишком зыбок и таинственен мир «Волшебного
21 Блок А. Памяти Врубеля.— Собр. соч., т. 5. М., 1962, с. 421.
22 Об этом свидетельствует Л. Сабанеев (Воспоминания о Скрябине. М., 1925).
23 Глебов Игорь. Мысли и думы, ч. 3.— Сов. музыка, 1983, № 2, с. 28—29.
23
озера», слишком стремителен и мимолетен полет Бабы-Яги (сам
миниатюризм лядовских композиций порой рождает ощущение
неуловимости образа). Весьма показателен и эстетизм Лядова,
близкий эстетизму символистов. За изощренной техникой, любов-
ной отделкой деталей здесь стоит та же преданность искусству, то
же стремление скрыться в его волшебном храме от гнетущей повсе-
дневности.
Лядов соприкоснулся и непосредственно с литературой, точнее,
с драматургией символизма — в музыке к драмам Метерлинка
«Сестра Беатриса» и «Аглавена и Селизета». Но тут уж сказалась
другая потребность «современной души» — потребность в самоуг-
лублении. Драмы Метерлинка затронули лирическую струну в
душе композитора, дали возможность проявиться наиболее сокро-
венным эмоциям «тишайшего музыканта» (Б. Асафьев).. В этой
музыке, в частности в «Скорбной песне» из финала «Аглавены и
Селизеты» незримо присутствует дух метерлинковских героев, ко-
торые «повинуются только внутреннему голосу, зовущему их на
подвиг любви, и умирают в мистическом экстазе, без проклятий,
поглощенные своими душевными переживаниями, и как бы не за-
мечают внешнего трагизма своей судьбы»24.
Самоуглубленность, уход от внешней жизни в жизнь внутрен-
нюю, апология «театра души» (В. Комиссаржевская) в противовес
«театру быта» были в высшей степени показательны для симво-
листской культуры, хотя проявлялись на более широкой основе.
Поэзия, проза, драматургия символизма являли прежде всего тор-
жество лирики как способа высказывания25. Если в музыке, в силу
особой специфики ее, лирическое начало присутствовало и раньше,
то у композиторов конца XIX — начала XX века оно концентриру-
ется как никогда. Такова «московская триада» — Скрябин, Рах-
манинов, Метнер, духовно подготовленная Чайковским. Имеет
значение также качество лиризма: наиболее «символистским» (в
смысле многозначительности, недосказанности, завораживающей
суггестивности) оно было у Скрябина; однако отдельные «блики»,
а главное, само стремление к богатству душевных оттенков замет-
ны у всех.
Тенденция фиксировать при помощи звуков тончайшие нюансы
душевных движений приобретала порой значение манифеста. Та-
ковы «психографические» теории и музыкальные опыты В. Ребико-
ва, в которых нельзя не видеть соприкосновений со столь актуаль-
ной в те годы апологией внутренней жизни. Интересно, что совре-
менная критика воспринимала Ребикова именно в этом плане, о
чем свидетельствует нижеследующая цитата: «Новые веяния за-
частую не в одной только музыке; Метерлинк, Верлен, д’Аннунцио,
которых сводят в одну общую группу импрессионистов и декаден-
тов, как и их товарищи в живописи, касаются — иногда, может
быть, в преувеличенной манере — смутных, неопределенных ощу-
24 Венгерова 3. Литературные характеристики, кн. 2. Спб., 1905, с. 4.
25 См., например, об этом: Гинзбург Л. О лирике, Л., 1974.
24
щений разных уголков души, оставшихся до сих пор неразгадан-
ными. У нас вот явился Вл. Ив. Ребиков — и конечно не вследствие
чтения эстетико-философских трактатов...»26. «Психография» Ре-
бикова была прежде всего истинно романтическим требованием
свободы музыкального языка от академических предуказаний:
«Мой компас: „Музыка есть язык чувств", чувства же наши не
имеют заранее установленных форм, каденций, тональностей, рит-
мов...»27. И действительно, музыкальный язык Ребикова поражал
современников своей ненормативностью, вызывая у одних непод-
дельный интерес, у других — обвинения в «декадентстве». Особен-
но необычна и даже экспериментальна в своей необычности реби-
ковская гармония — задолго до Прокофьева и даже в преддверии
зрелых опусов Скрябина и Дебюсси здесь появились и нетерцовая
диссонантная вертикаль, и аккордовые кластеры, и смелые парал-
лелизмы28:
Оставляя в стороне вопрос художественной ценности «психогра-
фического» метода, скрывающего в себе очевидную опасность на-
турализма, подчеркнем еще раз его последовательную «мани-
фестированность». В статьях и автобиографических заметках Ре-
бикова трюизмы вроде «музыка есть язык чувств» повторяются
с маниакальным постоянством, как некое откровение. С этой спо-
собностью быть языком чувств Ребиков связывает не только на-
стоящее, но и будущее музыки, полагая, что на предыдущих этапах
исторического развития утверждал себя либо «принцип абсолют-
ной красоты» (Бетховен), либо «принцип характерности» (Берли-
оз)29. Вряд ли эти рассуждения имеют безотносительную теорети-
ческую ценность. Однако исторически они очень характерны; ха-
рактерна и наивная самореклама композитора, уверенного, что его
музыке принадлежит будущее.
Историческое место Ребикова в русской музыке начала XX века
долгое время замалчивалось, отсутствовала и необходимая инфор-
26 Фрагмент статьи М. М. Иванова в «Новом времени» приводится по автобио-
графическим материалам В. Ребикова (цит. рукопись, с. 75).
27 Там же, с. 43.
28 О гармонических новациях Ребикова см.: Томпакова О. В поисках нового стиля.
(Владимир Иванович Ребиков).— Сов. музыка, 1983, № 6.
29 Ребиков В. Авторизованная рукопись.— ГЦММК им. М. И. Глинки, ф. 68, ед.
хр. 123.
25
мация о нем30. Возможно, одной из причин здесь были действитель-
ные издержки ребиковских новаций, которые вкупе с шумной
рекламой31 надолго закрепили за ним репутацию «пустоцвета
русского модернизма» (Б. Асафьев). Если же отвлечься от этих
издержек и далеко идущих эстетических манифестаций, то обнару-
жится, что талант Ребикова проявился не в сакраментальной глу-
бокомысленности иных замыслов (опера «Альфа и Омега»), а в
особой эмоциональной подвижности, «реактивности» высказыва-
ния, что Ребиков был тонким, проникновенным лириком, создав-
шим образцы изысканной, нежной, трогательно-мечтательной му-
зыки, которая в чем-то, думается, предвосхитила «юношескую»
лирику Прокофьева. Приведем одну из ребиковских тем такого
рода — тему из оперы «Бездна», характеризующую главных ее
героев — студента и гимназистку:
Так или иначе, Ребиков не только пропагандировал психологизм,
но сказал свое слово в лирике начала века, отчасти углубив свои
психологические «изыскания» в связи с символистскими первоис-
точниками (проза Л. Андреева, стихи Бальмонта, Брюсова, кар-
тины Бёклина) и символистскими театральными идеями (о них
разговор впереди).
Не углубляясь сейчас в лирику других русских композиторов,
подчеркнем лишь, что совершенно не случайно именно данная эпо-
ха оказалась эпохой расцвета творчества Скрябина и Рахмани-
нова, этих романтиков активно чувствующей души, что именно
тогда усилились лирико-психологические мотивы в музыке Лядова,
30 Лишь вышедшая в 1989 году монография О. Томпаковой «Владимир Иванович
Ребиков» (М., 1989) заполнила вакуум.
31 Журнал «Весы» писал, например, в одном из своих номеров, что из всех живу-
щих русских композиторов лишь Скрябин и Ребиков достойны остаться в
будущем.
26
Танеева, Глазунова, заявил о себе смятенно-сумрачный лиризм
молодого Мясковского.
В произведениях этих авторов, да и не только их, кроме стремле-
ния к богатству душевных впечатлений проявилась также харак-
терная для эпохи поляризация способов высказывания. Знамена-
тельно, что она давала о себе знать чаще всего в связи с симво-
листскими сюжетами или идеями. Трудно порою сказать, какой
тип эмоций наиболее характерен для музыки, вдохновленной по-
добными идеями,— призрачность, хрупкая недосказанность (как,
например, в камерных опусах того же Ребикова) или космическая
масштабность, патетика, стихийная «заклинательная» сила (тако-
ва, например, кантата Прокофьева «Семеро их» на слова Бальмон-
та). Очевидно, и то и другое. Довольно часто подобная «гиперконт-
растность» имела место в творчестве одного и того же композитора,
а нередко — в одном и том же произведении, наводя на мысль о
некой идейной константе.
Так, в «Аласторе» Мясковского, «Острове мертвых» Рахманино-
ва, «Саде смерти» Василенко (все три произведения принадлежат
жанру оркестровой поэмы или картины) реализуется общая
образная антитеза: неистовый порыв и сковывающая сила молча-
ния, смерти, небытия. Эта антитеза могла воплощаться в различ-
ных вариантах и с различным соотношением сил. В «Саде смерти»,
например, в соответствии с литературной программой32 царит
зачаровывающая, мистически торжественная тишина; действен-
ный образ с элементом патетики постепенно поглощается этой
тишиной, так же как колористический фон берет верх над темати-
чески оформленными образованиями. У Рахманинова же в «Остро-
ве мертвых» прорыв драматических эмоций сквозь таинственно-
сумрачную пейзажную статику слишком силен и откровенен,
чтобы остаться в рамках символистской недосказанности. Прав
Ю. Энгель, говоря о том, что «фантазия уносит композитора
дальше живописца или, вернее сказать, в сторону от него. Вместе
с занимающейся зарей Рахманинов хочет заглянуть по ту сторону
бёклиновских стен, не в преддверие, а в самую обитель мертвых.
И, заглянув, видит там не сумерки жизни бёклиновского античного
элизиума, а чуть ли не дантовский ад и чистилище, с терзаниями,
отчаянием, скрежетом зубовным»33.
Поляризация средств музыкальной выразительности дает о себе
знать, однако, и в том и в другом случае. Статика — динамика,
камерность — туттийность, тематическая разреженность с элемен-
тами фактурного тематизма либо микротематизма — концентри-
рованность, тезисность — эти противоположности как бы взаимо-
гиперболизируются в подобного рода опусах. Так или иначе, девиз
«высшая утонченность — высшая грандиозность» отражал строй
32 Ею послужил отрывок из рассказа О. Уайльда «Дух Кентервилля», в котором
воссоздается некий ночной пейзаж — с длинной травой, траурной ивой, холод-
ным белым месяцем и поющими всю ночь соловьями.
33 Э. Ю. Театр и музыка.— Русские ведомости, 1909, 21 апр.
27
мыслей не одного только Скрябина. В известном смысле все ис-
кусство символизма было искусством «предельных форм» выска-
зывания.
В этом оно, конечно, наследовало опыт романтиков. Шуманов-
ская «флорестано-эвсебиевская» антитеза у Скрябина и его совре-
менников воплощалась с помощью средств импрессионизма и
экспрессионизма, о чем уже писалось в исследованиях34. Но
здесь имело место не только развитие традиций. Остроте чувство-
ваний, «предельности» эмоций способствовала крайне напря-
женная психологическая атмосфера эпохи, своего рода катастро-
физм сознания, предощущение конца. Это предощущение вовсе не
всегда носило пессимистическую окраску. Напротив, оно означало
для многих стремление жить «удесятеренной жизнью» (А. Блок).
Б. Пастернак, констатируя это качество у Скрябина, говорил о
чисто русской тяге к чрезвычайности. В этой чрезвычайности —
отличие Скрябина от Дебюсси, русского символизма — от симво-
лизма французского.
Мотивы эсхатологического характера проявлялись по-разному,
о них еще пойдет речь в связи с основными объектами музыкальной
символизации. Сейчас же подчеркнем сам факт их распространен-
ности и влияния на образ музыкального мышления. Закон поля-
ризации действовал с такой захватывающей силой, что нередко
прибивал художников к противоположным берегам, заставляя их
высказываться в новой, совершенно неожиданной плоскости. Та-
кова симфоническая картина Лядова «Из Апокалипсиса» — слиш-
ком «громкая» для этого «тишайшего музыканта».
Последствием «гиперконтрастности» была жанровая поляриза-
ция, весьма заметная, например, в позднем творчестве Скрябина,
а кроме того — противоречие между жанром и типом высказыва-
ния, точнее — между крупномасштабным замыслом и изощренной
техникой детали. Нельзя не вспомнить в этой связи о «кристалли-
ческой» манере врубелевских живописных фресок или о стремлении
поэтов-символистов, с одной стороны, к детальнейшей психологи-
ческой нюансировке образов, а с другой — к выстраиванию стихов
в крупный монолитный цикл «симфонического» типа. Впрочем,
это противоречивое сочетание, очень ощутимое у того же Скрябина
(«Прометей», поздние сонаты), закономерно связано с одной из
центральных идей символизма — идеей взаимоединства микрокос-
моса человеческой души с «мировой целокупностью» (ибо, как
сказал Бальмонт, «все лики — ипостаси Единого, рассыпанная
ртуть»).
Эстетизм, самоуглубленность, уход в «иные миры», эмоцио-
34 Импрессионизм и экспрессионизм имели в русском искусстве и самостоятель-
ные проявления. Однако не подлежит сомнению тот факт, что, будучи харак-
терными тенденциями постромантической эпохи, они раньше всего и больше
всего явили себя именно в системе символизма (в литературе примером может
служить импрессионизм Бальмонта или экспрессионизм Л. Андреева; см. об
этом в кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — нача-
ла XX века. М., 1975).
28
нальная «предельность» — эти качества создаваемой в начале
века музыки надо дополнить еще одним, пожалуй, наиболее важ-
ным с точки зрения принадлежности ее символизму. Речь идет о
музыкальной символизации в собственном смысле слова. Выше
говорилось о распространенности в те годы цветовой символики.
Эпоха мыслила, однако, не только цветовыми, но и звуковыми
символами. Подобно тому как цветовые символы фигурировали,
наряду с живописью, в поэзии и в музыке (вспомним «Темное
пламя» Скрябина, его же определение Седьмой и Девятой сонат
как «белой» и «черной» месс), звуковая символика проникала в
поэзию и живопись (М. Чюрлёнис). Интересны наблюдения
Б. Асафьева над звуковыми символами Блока, среди которых —
слышимые образы природы (волны, вьюга), голоса призрачных
существ, колокольный звон, тишина35. Насыщенность звуковой
символикой была, несомненно, одним из проявлений музыкаль-
ности новой поэзии. Что же касается собственно музыки, то здесь
эта символика выразилась наиболее слышимо и материально.
В системе музыкальных символов, как и вообще в системе худо-
жественных образов эпохи, сказалась эсхатологическая острота
переживаний, отмеченная выше полярность. На одном полюсе
оказываются статические символы: молчания, сна, смерти, небы-
тия; на другом — динамические: звон колоколов, пророческие сиг-
налы труб. В сочинениях, прямо связанных с темой Апокалипсиса,
как, например, в упомянутой симфонической картине Лядова, оба
полюса соприсутствуют: грозным взываниям медных инструментов
тут же, в пределах главной темы, отвечает хорал дерева, тремо-
лирующих струнных и валторн (Tenebroso) — подобно тому как
весть о конце света вызывает мысль о грядущей смерти, реакцию
мистического трепета, панической жути.
Если у Лядова, в соответствии с жанром картины, а также в
согласии с индивидуальными творческими наклонностями, сюжет
Апокалипсиса фиксируется вплоть до конкретных изобразительных
деталей (так, «семь громов»36 имитируются соло литавр, заклю-
чающим всю композицию), то в других случаях апокалиптическая
символика не имеет видимой связи с библейской первоосновой.
Например, в Шестой симфонии Мясковского, сочинении, выходя-
щем за хронологические рамки символизма как направления
( 1922)37, она как бы объективизируется, сочетаясь с разного рода
жизненными реалиями (революционные темы — символы неумо-
лимого движения времени). Это не мешает, однако, восприятию ее
основных полюсов — пророческого гласа (таков вступительный
35 См.: Видение мира в духе музыки. (Поэзия Блока).— В кн.: Блок и музыка. Л.,
1972.
36 Программную основу симфонической картины Лядова составил отрывок из
десятой главы Откровения святого Иоанна Богослова.
37 Оно выходит и за границы анализируемого нами досоветского периода русской
культуры; однако теснейшая связь с последним (Б. Асафьев назвал Шестую
симфонию «финалом русского дореволюционного симфонизма») дает нам
право говорить здесь о нем.
29
элемент главной партии первой части, подобный нависшему да-
моклову мечу) и скорбных стенаний, молитвенного транса. Ха-
рактерно, что, как и Лядов, Мясковский использовал в своем
произведении символику русского духовного стиха, звучащего
как мольба целого народа, целого человечества о пощаде: в сочи-
нении Лядова процитирована мелодия «Страшного суда», а у
Мясковского — «Расставание души с телом».
Но музыкальные символы не всегда обнаруживают себя в «сис-
темном» виде. Символы фигурируют порой независимо друг от
друга, сохраняя, однако, в контексте произведения (а тем более —
в контексте творчества композитора и контексте культуры) некий
устойчивый смысл. Рассмотрим случаи такой символизации — как
«статической», так и «динамической».
Хорошо известно, сколь привлекателен был для символистов
образ тишины, священного безмолвия36. Тютчевский Silentium не
случайно имел для них программный смысл, о чем пишет в статье
«Заветы символизма» Вяч. Иванов: «„Мысль изреченная есть
ложь“. Этим парадоксом-признанием Тютчев, ненароком обличая
символистскую природу своей лирики, обнажает и самый корень
нового символизма: болезненно пережитое современной душой
противоречие — потребности и невозможности высказать себя»38 39.
Молчание как благость, как истина души, как способность «жить
в себе самом» (Тютчев) наполняет многие и многие создания сим-
волистов. Эта тишина — духовно насыщенная, ибо, как сказал
поэт:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...
Но тишина становится зловещей, как только она лишается этой
духовности; тогда она превращается в пустоту, в небытие.
Оба варианта тишины находим в музыке. Ее проводники —
длительно выдерживаемая приглушенная динамика и пауза —
моменты «абсолютного» безмолвия. Семантическая окраска их
зависит от конкретного случая. В сочетании с лирико-экспрессив-
ной интонацией возникает первый вариант. Таковы, например,
«Волшебное озеро» и в еще большей степени «Скорбная песнь»
Лядова — примеры оркестровых произведений, почти целиком
выдержанных в динамике pianissimo. Впрочем, в «Волшебном
озере» лирика завуалирована пейзажной колористикой, что, веро-
ятно, и имел в виду композитор, когда говорил о своем намерении
изобразить «мертвую» природу, природу «без людей». Стремле-
ние вскрыть за кажущейся неподвижностью множество тонких
эмоциональных оттенков и полутонов40 весьма характерно для
Лядова с его яркой художнической индивидуальностью, однако
38 Вспомним «Тишину» Вяч. Иванова, «Безветрие» Бальмонта, «Молчание»
Л. Андреева, множество стихотворений Блока.
39 Аполлон, 1910, № 8, с. 5.
40 Этот род «музыкальной тишины» в музыке начала века, возможно, был одним
из предвосхищений нынешней «минимальной» музыки.
30
в самом стремлении уйти от людей, от их «просьб и жалоб» чувст-
вуется и общий для эпохи тютческий страх «изреченной мысли»,
боязнь «возмутить ключи»...
Если тишина «Волшебного озера» двулика, как, между прочим,
двулик и символический образ сна в музыке тех лет («Кикимора»
Лядова, «Кащей» Римского-Корсакова, «Колыбельная» из «Жар-
птицы» Стравинского), то у Мясковского тишина природы означа-
ет недобрый покой, покой как прообраз небытия. В оркестровой
притче «Молчание» по Эдгару По момент полной тишины —
.grand-пауза перед исполненной смятения кодой — не что иное,
как очередное заклятье дьявола, некий провал сознания, гибель-
ный для героя.
Иное дело — знаменитые скрябинские паузы, завершающие со-
бой целые произведения или его разделы. В них — символистский
эффект недосказанности, полет в бесконечность, ощущение не-
коего «инобытия» музыки; в них — неприятие конца и отрицание
абсолютного безмолвия41.
В творчестве Скрябина есть и попытки воссоздать «абсолютную
тишину», тишину как пустоту. Таков хорал в среднем разделе тра-
урного марша из Первой сойаты, сопровождаемый авторской ре-
маркой «как бы ничто». Однако этот пример из раннего опуса
остался единственным в своем роде. Смерть как небытие уже не
волновала больше композитора. Поздние опусы Скрябина раскры-
вают смерть как инобытие, как божественный экстаз, растворение
в бескрайнем пространстве космоса. Отсюда — сочетание приглу-
шенной динамики с эффектом красочного, непрерывно вибрирую-
щего пространства (Десятая соната).
Совсем по-другому символизировал смерть Рахманинов. Как
замечает Б. Яворский, Рахманинов, творчество которого окрашено
миром действительности, описывает смерть с позиций оставшегося
в живых42 — поэтому так мрачен колорит многих его произведе-
ний, изображающих слезы, стенания, ритуал похорон. Соответст-
вующим образом интерпретирована в его музыке и секвенция
Dies irae — многовековой символ смерти и Страшного суда. Столь
частое использование композитором этого символа («Остров
мертвых», «Колокола», Третья симфония, «Симфонические тан-
цы», Рапсодия на тему Паганини и т. д.) говорит само за себя.
В сходном варианте смерть трактуется Мясковским: в той же
Шестой симфонии секвенция Dies irae, пронизывающая все части
произведения, звучит как «интернациональный» символ смерти —
наряду с русским (вышеупомянутой цитатой духовного стиха в
финале).
Динамические показатели образа смерти, символизируемой сек-
венцией Dies irae, весьма различны: от еле слышимых затаенных
41 В этом их сходство с «тишиной» Дебюсси, которая означает как бы вслушивание
«в тайны жизни и смерти», в «сверхчувственное» (см.: Яроциньский С. Дебюсси.
Импрессионизм и символизм. М., 1978, с. 209).
42 См.: Яворский Б. Элементы символики Ал. Скрябина. Авторизованная машино-
пись.— ГЦММК им. М. И. Глинки, ф. 146, ед. хр. 4670, с. 9.
31
шагов судьбы — до фанатичного разгула, победного торжества.
Поэтому символику Dies irae трудно связать с каким-либо одним
эмоциональным полюсом. Следует отметить, что в динамическом
варианте она зачастую соединяется с колокольностью (возможно,
причиной такого симбиоза, особенно характерного для Рахманино-
ва, явилась «колокольная», раскачивающаяся интонация самой
секвенции).
Впрочем, колокольность — как противоположность тишине, как
апофеоз звучания — выполняла в русской музыке начала века и
вполне самостоятельные функции43. Сферой колокольности инте-.
ресовались, как известно, многие русские композиторы (от Му-
соргского и Стравинского нить протягивается до наших дней). Это-
му интересу на рубеже веков способствовала, наряду с религиоз-
ными исканиями, волна нового русского возрождения, всколыхнув-
шая древнейшие слои отечественной культуры. Однако не у всех
композиторов колокольность имела подчеркнуто символический
смысл. Для Рахманинова,. Скрябина, Метнера, Мясковского она
была олицетворением тревоги, нервного беспокойства, вселенского
воззвания ко всем живущим. Не случайно из многочисленных жан-
ровых функций колокольных звонов здесь акцентировалась исто-
рически первичная сигнальная функция.
В этом смысле колокольность сближалась с идеей соборности,
исповедуемой символистами. Прямой иллюстрацией такого сбли-
жения являются поздние опусы Скрябина — эскизы будущей
Мистерии. Набатные звучания в Седьмой сонате, тихие таинствен-
ные перезвоны в некоторых прелюдиях и поэмах, усиливающаяся
ритмическая остинатность в сочетании с многосложной гармони-
ческой вертикалью как характерная черта позднего стиля вооб-
ще — все эти проявления скрябинской колокольности служат од-
ной цели. Эта цель — «ускорение разрушительной и возродитель-
ной катастрофы мира»44, ибо Скрябин, выражаясь словами Вяч.
Иванова, говорит здесь «не языком индивидуальной воли, но хоро-
вым звучанием воздымаемого им из глубин соборного множест-
ва»45. Оставляя на будущее более подробный разговор о симво-
листских мистериальных идеях, заметим лишь, что соответствую-
щие эпизоды скрябинской музыки действительно воспринимаются
как наиболее непосредственные, осязательные проявления ее со-
борных, литургических задач.
Темой отдельных исследований может служить (и служит) коло-
кольность Рахманинова. Нам же интересен в ней опять-таки сим-
волистский аспект. Подлинно программным произведением явля-
ется в этом смысле кантата «Колокола» на текст Э. По в переводе
Бальмонта. Четыре части кантаты, соответственно стихотворению
Э. По, последовательно воплощают разные типы колокольности —
43 И не только в русской: вспомним «Затонувший собор» Дебюсси, его же форте-
пианные «Колокола через листву», ряд вокальных пьес.
44 Иванов Вяч. Скрябин и дух революции.— Собр. соч., т. 3. Брюссель, 1971, с. 193.
45 Там же.
32
от нежного позванивания санных колокольчиков и «золотого»
свадебного звона — до грозного набата — вестника беды — и
скорбного ритуала похорон. Изображение в музыке замкнутого
круга человеческой жизни — не индивидуальной судьбы, а жизни
вообще — с ее неотвратимым, роковым концом, несомненно, дости-
гало в творчестве Рахманинова значения символа. Глобальный,
надличный характер идей явно сближает Рахманинова с его
современниками-символистами: универсальной формулой «Жизнь
человека» могла быть названа тогда не одна лишь драма Л. Анд-
реева.. Весьма показательны в этом смысле поздние опусы ком-
позитора и, в частности, его намерение программно истолковывать
три части «Симфонических танцев» как утро, полдень и вечер чело-
веческой жизни. В «Колоколах» излюбленная тема оказалась
воплощенной излюбленными средствами. Результатом (точнее —
сверхзадачей) явилась двойная символизация: семантика движе-
ния «от света к мраку» акцентирует идею предначертанности
судьбы, а сами жизненные состояния воплощаются через колоколь-
ность — наиболее древний и универсальный способ обобщения
эмоций. Заметим, что, хотя Рахманинов был далек от символист-
ских идей соборности, надличный («хоровой» — сказал бы Вяч.
Иванов) смысл его колокольных звонов (вероятно, не случайно
«Колокола» — кантата) в чем-то близок мистериальным идеям
Скрябина.
К колокольным звонам примыкает символика фанфарности. Мы
имеем в виду, однако, не традиционно романтическую фанфар-
ность в духе отдаленно звучащих ностальгических голосов вал-
торн, которая была унаследована, например, Дебюсси. Для рус-
ской музыки начала XX века гораздо показательней символика
трубного гласа. В статье А. Белого «Формы искусства» читаем:
«Труба Архангела — эта апокалиптическая музыка — не разбу-
дит ли нас к окончательному постижению явлений мира?»46
В сложной смысловой структуре этой фразы «труба архангела»
олицетворяет не только музыку как таковую, но музыку Апокалип-
сиса. Именно в таком значении использованы медные инструменты
в начале симфонической картины Лядова под соответствующим
названием; при этом поступенно нисходящие интонации подчер-
кивают грозно-пророческий, повелевающий характер темы:
46 Символизм. М., 1910, с. 167.
2 - Т. Н. Левая
33
Напротив, «трубные гласи» Скрябина (судя по авторским
указаниям, им должна отводиться немалая роль в будущей Мис-
терии) пронизаны восходящими призывно-квартовыми интона-
циями. Некий волевой императив присутствует и здесь, но в
соответствии с философскими утопиями композитора в них слы-
шится не мрачный приговор, а упоение свободой, захватывающее
предчувствие радости. В коде «Поэмы экстаза» тема трубы словно
парит в волшебном пространстве звуков. Интересно, что порой
столь же иерархически организованной оказывается и фортепиан-
ная фактура (коды сонат), где проходящая в верхнем регистре
мелодия как бы прорезает собой многоголосную толщу аккордов.
Тишина, колокольность, «трубный глас» суть главные звуковые
символы эпохи, универсальность которых определена древнейшими
народными и христианскими традициями. Но в музыке начала
века присутствовала и другого рода символика. Не связанная не-
посредственно со звучащим генезисом, она тем не менее также
вписывается в характерную для тех лет эсхатологическую кон-
цепцию мира. Имеем в виду «дионисийскую» символику: вьюги
(«Снежная маска» Блока, скерцо Шестой симфонии Мясковского,
•соната e-moll Метнера с эпиграфом из Тютчева «О чем ты воешь,
ветр ночной...») ; огня (миф о Прометее у Вяч. Иванова и Скряби-
на, скрябинское же «Мрачное пламя», третья часть рахманинов-
ских «Колоколов»); дьявольской стихии («Демон» Врубеля, черт
у Мережковского, «Сатаническая поэма» и Девятая соната
Скрябина, «Альфа и Омега» Ребикова, «Полет ведьм» Василенко).
Показательны и образы «вселенского рыдания», запечатленные в
финале «Колоколов» Рахманинова. и еще больше — в финале
Шестой симфонии Мясковского, словно имитирующем «массовый»
плач Юродивого:
Важнейшие черты творческой психологии второй половины
1900-х — начала 1910-х годов не могли не сказаться на жанровой
картине музыкального творчества. Прямому или косвенному влия-
нию символистской эстетики обязана «концепционная кантата»47,
47 С «Колоколами» Рахманинова по глобальности идей может соперничать
кантата Танеева «По прочтении псалма» на текст А. Хомякова.
34
порой близкая заклинательному хоровому действу48; особый тип
программной симфонической поэмы, динамически «поляризован-
ной» и сочетающей в себе живописность оркестровых красок со
стремлением проникнуть в глубины подсознания49, утонченный
«эскиз-настроение» в фортепианном творчестве; жанр «стихотво-
рения с музыкой» — в вокальном. О стихотворениях с музыкой,
а также инструментальных жанрах (в связи с творчеством Скряби-
на) еще пойдет речь в следующих главах. Сейчас же следует кос-
нуться самой синтетичной и потому наиболее «культурно-детер-
минированной» области творчества — музыкального театра50.
Сразу же оговоримся: прямых аналогов символистской драме в
русском музыкально-театральном творчестве тех лет не возникло.
Наиболее последовательный символист в музыке — Скрябин —
так и не осуществил, в отличие от Дебюсси, свой единственный
оперный замысел, поняв несовместимость для себя путей Мисте-
рии и театра. Соприкосновения с символизмом других оперных
авторов оказались косвенными. Было бы натяжкой, кроме того,
усматривать прямую зависимость музыкального театра того вре-
мени от театра драматического, переживавшего пору радикаль-
нейших реформ и экспериментов. «Театрократия» вообще в боль-
шей мере отличала тогдашнюю живопись, чем музыку: в музыке
она проявила себя позднее и главным образом в связи с дягилев-
скими балетными сезонами. Жанр балета с его «бессловесностью»,
«молчанием и красотой» (А. Бенуа) получил в те времена наибо-
лее благоприятные условия для развития (хотя сама стилистика
«нового балета» уже не укладывалась в рамки художественной
системы символизма; это обстоятельство, а также теснейшая зави-
симость от эстетики мирискусничества заставляют рассматривать
балетный жанр в другом месте и в соответствующем контексте).
Что же касается оперного творчества — а именно на нем
целесообразно сделать сейчас акцент,— то оно в значительной сте-
пени развивалось автономно, испытывая на себе влияние общего
комплекса идей и настроений времени.
Вместе с тем увлекающий пример новой литературы и театраль-
ной режиссуры (напомним, что В. Мейерхольд ставил в те годы не
только драматические, но и оперные спектакли, в частности «Три-
стана и Изольду» Вагнера) не мог пройти для оперных произведе-
ний бесследным, как не остались бесследными для них вообще те-
атральные веяния тех лет.
48 Б. Асафьев причисляет «Семеро их» Прокофьева и «Звездоликого» Стравин-
ского на стихи Бальмонта (так же как и «Свадебку» Стравинского) к роду
«экстатической кантаты» (см.: Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало
XX века. Л., 1968, с. 138).
49 Симфонические поэмы Скрябина, упоминавшиеся выше симфонические кар-
тины Рахманинова, Мясковского, Лядова, Василенко и др.
50 Мы не затрагиваем здесь музыку к драматическим спектаклям в силу специ-
фической несамостоятельности ее и преобладания прикладных задач, хотя
в культурологическом плане она также представляет интерес (данные об авто-
рах, писавших музыку, в частности, к постановкам В. Мейерхольда, см. в кн.:
В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 1, М., 1968, с. 230—236).
2*
35
В символистских художественных и критических кругах можно
столкнуться подчас с фактами своего рода аберрации, когда речь
заходит о некоторых новых музыкально-театральных явлениях.
Таково, например, представление о корсаковском «Сказании о
невидимом граде Китеже» (1903, постановка — 1907) как о сим-
волистской мистерии, где «Феврония является символом христиан-
ских мечтаний, „невидимый град" — торжество и победа этого
символа»51. Существенно, однако, что для подобных истолкований,
пусть иногда «передержанных», опера явно давала повод. На-
родно-легендарная основа «Сказания», отвечающая мифотвор-
ческим исканиям символистов, большая роль религиозно-мисти-
ческих и нравственно-философских мотивов действительно при-
давали опере Римского-Корсакова черты мистерии. Это тем более
показательно, что она создавалась на волне соответствующих на-
строений в среде русской интеллигенции и что в прежние времена
русская тематика интересовала композитора лишь со стороны язы-
ческих верований либо с точки зрения истории и быта.
Впрочем, театр мистерий в собственном смысле слова все же ско-
рее оставался достоянием теории, нежели музыкальной практики.
Более непосредственным и широким было влияние на оперу таких
общих установок театра символистской эпохи, как, с одной сторо-
ны, психологизация, «настроенчество», а с другой — условность,
возрожденный культ маски. (Напомним, что колыбелью нового
театрального психологизма был МХТ во главе с К- Станиславским
и драматургия А. Чехова, а условный театр обязан своим воз-
рождением Мейерхольду.) Психологизирующая тенденция выяви-
лась, например, в увлечении оперой малой формы52. Среди круп-
ных композиторов наиболее последовательным здесь оказался
Рахманинов. Детальная психологическая разработка сцен, особая
концентрация внутреннего действия в противовес внешнему,
единая линия симфонического развития явно сближают его
«Франческу» и «Скупого рыцаря» с современным психологическим
театром, «театром души». Дань малой форме отдали на рубеже ве-
ков и другие композиторы. Что же касается общего духа «настроен-
чества», то он был настолько всеохватывающим, что увлекал за
собой музыкантов, казалось бы, далеких от подобных идеалов. Так,
неожиданно близким к этим идеалам оказался А. Кастальский в
своей лирической опере «Клара Милич» по И. Тургеневу.
Совсем иначе вписывается в художественный контекст эпохи
«Золотой петушок» Римского-Корсакова (1907). Аллегорические
образы пушкинской сказки достигают здесь значения емких симво-
лов; причем если в «Китеже» символика двух различных культур
изображалась «борьбой степи и леса»53, то здесь в лице Додона и
Шемаханской царицы сопоставлены дубоватая русская деспотия
и неуловимо-прекрасный, дразняще загадочный Восток. Сопо-
51 Театр и искусство, 1907, № 7, с. 121.
52 Подробнее о ней см.: Розенберг Р. Русская опера малой формы конца XIX —
начала XX века.— В кн.: Русская музыка на рубеже XX века. М.— Л., 1966.
53 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 33.
36
ставление этих сфер приобретает укрупненный, поистине симфони-
ческий характер, подчиняя себе все детали сюжета. Символистской
многозначностью наделены Звездочет, Петушок и особенно Шема-
ханская царица, этот, по определению автора, «сфинкс без
разгадки». Гротескная заостренность характеристик (додоново
царство) наряду с упомянутой многозначностью и элементами
балаганного представления явно свидетельствуют в пользу теат-
ральной условности «Золотого петушка». Она-то и вдохновила
С. Дягилева и его сподвижников на создание в высшей степени
оригинального спектакля, о котором писали, что это «не балет, ил-
люстрированный музыкой, и не опера, приправленная балетом, а
слияние воедино двух разделенных родов искусства, и притом сли-
яние, происходящее не на сцене (где звук и жест, певцы и тан-
цоры были отделены друг от друга.— Т. Л.), а в душе зрителя.
Прелесть спектакля заключается еще и в том, что, давая зрелище
танцующих мумий и движущихся кукол, он создает атмосферу
эстетической условности на месте фальшивого иллюзионизма ста-
рого балета и старой оперы»54. Автор цитируемых строк утвержда-
ет, что этой новой форме театрального искусства принадлежит бу-
дущее. В самом деле, дягилевский спектакль, созданный в 1914 го-
ду, был уже явно постсимволистским по духу — подобно тому,
как для Мейерхольда условный символистский театр стал формой
перехода к собственно условному театру нового типа55.
Но вернемся к психологической опере 1900-х годов — наиболее
влиятельному направлению музыкального театра. Толчком здесь
нередко служили произведения символистской литературы —
Метерлинка, Уайльда, Э. По, Л. Андреева, Блока, Брюсова и др.
Особенно популярен был Метерлинк. Его «Монна Ванна» увлекла
Рахманинова (хотя этот оперный замысел не был осуществлен), а
на сюжет «Сестры Беатрисы» было создано целых три оперы,
среди которых наиболее достойна внимания опера А. Гречанинова
(1909—1910). Впрочем, дух Метерлинка не слишком сказался в
этом сочинении, слишком открыто эмоциональном (а 1а ранний
Рахманинов) по складу лирики и с пьесой соприкасающемся лишь
в религиозных по духу эпизодах пения монахинь — пожалуй, луч-
ших эпизодах оперы. Еще меньше претендовали на самостоятель-
ность в решении символистских сюжетов «Призрак» и «Маска
красной смерти» М. Остроглазова (первая опера — на тему из
рыцарских времен, вторая — по одноименному рассказу Э. По); в
обеих операх царит атмосфера ужаса, болезненных галлюцинаций,
традиционно является призрак Смерти, используется модный на-
бор «роковых» звучаний...
54 Минский Н. Соединение искусств. Письмо из Парижа.— Утро России, 1914,
№ 118, 24 мая. Контрапункт искусств дополнялся в дягилевском спектакле
колоритнейшей живописью Н. Гончаровой (костюмы и декорации) в духе
народного лубка. Подробнее о спектакле см. в кн.: Дягилев и русское искусство,
т. 1. М„ 1982, с. 463—466.
55 Об этом пишет К. Рудницкий, характеризуя путь Мейерхольда от «Сестры
Беатрисы» Метерлинка к блоковскому «Балаганчику», поставленным в театре
Комиссаржевской (Режиссер Мейерхольд. М., 1969, с. 90).
37
Весьма неоднозначным оказался опыт работы в оперном жанре
В. Ребикова. Выше уже рассказывалось о ребиковской «психогра-
фии». Этот метод композитор кладет в основу своих оперных прин-
ципов, полагая, что «в музыкально-психографической драме музы-
ка является только средством вызывать в слушателях чувства и
настроения. Самостоятельного значения эта музыка может и не
иметь...»56. Подобные манифестации в оперной практике самого
Ребикова оборачивались издержками натурализма и недостатком
музыкальных обобщений. Однако здесь были и несомненно ценные
черты, оказавшиеся достаточно скоро необходимыми в оперной
практике XX века. Это лаконизм оперного письма, нелюбовь к
драматургическим штампам и застоям действия, концентрация
внимания на литературном тексте, как правило, прозаическом и
близком первоисточнику, речитативный склад вокальных партий57,
особая, почти прокофьевская мобильность в характеристике
быстро сменяющихся сценических ситуаций и т. д.
Наиболее ярко эти качества проявились в «Бездне» (1907), чему
немало способствовал динамизм сюжета андреевского рассказа.
Однако не меньшая гибкость воспроизведения эмоций отличает
ребиковские оперы и в случаях отсутствия внешнего действия. Та-
кова,. например, первая картина оперы «Женщина с кинжалом»
(1910). Непринужденный светский разговор в картинной галерее,
какой ведут Паулина и Леонард, полон внутренней экспрессии и
чувства подсознательно растущей «роковой» тайны. Реальное,
повседневное (характерна шутливая реплика Леонарда о человеке,
изображенном на картине: «Может быть, в начале XVI века он
был Вашим знакомым?») тесно сплетается со стихией подсозна-
тельного, иррационального (сюжет драмы А. Шницлера, поло-
женный в основу либретто, навеян фрейдистскими мотива-
ми).
Впрочем, уже в «Елке», сравнительно ранней (1900), хотя и
самой популярной ребиковской опере, тонкости душевных пере-
живаний, в целом более простых и человечных (шницлеровские
«страсти» были впереди), занимают главное внимание автора.
Симптоматично и стремление к жизнеподобию: оно даже навело
композитора на мысль представить в декорациях крайних картин
оперы (девочка, замерзающая в рождественскую ночь под окнами
большого дома) улицу того города, где в очередной раз ставилась
«Елка».
Если в сфере «психографии» и воспроизведения жизненно кон-
кретных ситуаций Ребиковым сделано немало ценного, то гораздо
более сомнительны (хотя исторически очень показательны) его по-
пытки мифологизировать оперу и подчинить ее системе «тоталь-
56 Авторское примечание к опере «Дворянское гнездо».— Цит. по кн.—Асафь-
ев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 50.
57 Автор рекомендует исполнять их «тоновым говором, почти естественным разго-
вором» (цит. по кн.: Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 51).
38
ных» символов58. Так, в опере «Теа» на текст символической поэмы
А. Воротникова (1904) героиня и ее возлюбленный Гейос выступа-
ют, согласно примечанию автора, символами души и материи;
здесь же в эпизодах мелодекламаций предстают, как это бывало в
старинных мистериях и мадригальных комедиях, символические
Видения — Славы, Любви, Милосердия. Музыка оперы в своем
стремлении символизировать духовные начала исполнена возвы-
шенной экзальтации, но Вагнер и Скрябин явно заслоняют здесь
автора; последний словно не выдерживает груза многозначитель-
ности собственных идей.
Более сложна символика другой оперы — «Альфа и Омега»
(1911, текст создан самим композитором), две картины которой
изображают начало и конец существования человека на земле.
Все герои оперы суть символы: Мужчина олицетворяет жажду
познания и власти, Женщина — робость и красоту; в опере фигу-
рируют также символические образы Жизни и Смерти. Главная
пружина действия — Люцифер, вначале сулящий человеку власть
над миром и над всеми его тайнами, а в конце с истинно дьяволь-
ским коварством открывающий ему бренность и ничтожность зем-
ного бытия. Замысел этой оперы небезынтересен с точки зрения
апокалиптических настроений эпохи. Однако большая доля в нем
схематизма — результат чрезмерного «символизирующего усер-
дия» — не могла не сказаться на музыке оперы, также весьма
схематичной. Пунктирно-устремленная ритмика Мужчины, «замо-
раживающая» целотоновость Люцифера и т. д. чересчур навяз-
чивы.и наивно-прямолинейны (не говоря уже о том, что полное из-
гнание лирики — самой органичной для Ребикова сферы — не
пошло на пользу стилевой индивидуальности «Альфы и Омеги»).
Итак, психологизирующая тенденция проявила себя в оперном
творчестве Ребикова более плодотворно, чем принцип мышления
символами. Этот принцип, в свою очередь, получил художественно
убедительную реализацию у позднего Римского-Корсакова. Как
уже отмечалось на примере «Золотого петушка», театральная
символика тесно связана с условностью, что делало ее «формой
перехода» (К. Рудницкий) к условному театру нового типа. (За-
конченные проявления такого театра находим позже — у Стравин-
ского в его «Байке» и «Истории солдата».) Уже в «Золотом пе-
тушке» многое не укладывается в характерную для символизма
систему образов (лубочный гротеск). Что же касается более позд-
них оперных образцов, таких, например, как прокофьевская «Лю-
58 Впрочем, символистичность человеческой психологии тех лет сказывалась и в
соответствующем восприятии «жизиеподобных» ребиковских опусов, например
той же «Елки»: «Не плачьте! — читаем в одной из рецензий на спектакль.—
Маленькая замерзающая девочка — только символ. Только образ нашего оди-
ночества, нашей заброшенности, нашей беспомощности... Этот Requiem —
песня Судьбы над каждым из нас. Эта тоска — цепенеющий холод могилы,
куда, быть может, завтра опустят наше неподвижное тело... а спешащие про-
хожие по-прежнему побегут мимо, укроются в призрачную теплоту, за осве-
щенные окна...»(Музыка, 1912, № 103, с. 960).
39
бовь к трем апельсинам» (1919), то здесь уже перед нами — при-
мер собственно театра масок59, с символистской традицией свя-
занный лишь генетически (примечательно, что сюжет и сама идея
спектакля были подсказаны Прокофьеву Мейерхольдом, уже про-
шедшим к этому времени путь от символистской условности к
условности театра масок).
Впрочем, Прокофьеву оказалась близка и традиция психологи-
ческого театра, о чем свидетельствует «Игрок» (1916, 1927), а
также «Огненный ангел» (1919—1927). Вторая опера, созданная
по повести В. Брюсова,, дает немало материала для наблюдений
над романтической и романтико-символистской сферой прокофьев-
ской музыки60 (сцены галлюцинаций Ренаты, изображение спи-
ритического сеанса, темы «предчувствий», «горьких прорицаний»
и т. д.).
В операх Прокофьева, выходящих за хронологические рамки
символистского направления, психологизирующая тенденция
сочетается с «полнометражностью» масштабов и большой ролью
оркестровой партии, концентрирующей в себе образно яркий, му-
зыкально автономный тематизм. Все это служит гарантией против
ущемления собственно музыкального начала и измельчания опер-
ных форм — опасностей, сплошь и рядом подстерегавших в свое
время «настроенческую» оперу.
Недостатком музыкальных обобщений (наряду с вышеописан-
ной схематизацией образов) были чреваты многие музыкальные
явления, связанные с символизмом: очевидно, возможность утраты
необходимой степени музыкальной автономии коренилась в
синкретичности, «литературности» самих символистских устано-
вок (каковым явился, например, вышеприведенный тезис Реби-
кова о вспомогательной функции музыки в музыкально-психогра-
фической драме). Эта наиболее острая проблема музыкального
символизма будет затронута в следующих главах. Сейчас отметим
лишь, что плодотворность оперных исканий действительно во
многом зависела от меры сохранности обобщающей роли музыки.
Характерно также и то, что самые яркие оперные образцы скорее
питались «аурой» (то есть общей идейно-эмоциональной атмосфе-
рой) символизма, нежели его теориями.
Пестрота, дискуссионность и неравноценность оперных экспе-
риментов тех лет не заслоняют, тем не менее, их нацеленности на
будущее. Ведущие тенденции театра символистской эпохи опреде-
лили не только ближайшие, но и более отдаленные перспективы му-
зыкального театра (к тенденциям психологизации и условности
59 См. об этом подробнее в кн.: Степанов О.Театр масок в опере Прокофьева «Лю-
бовь к трем апельсинам». М., 1972.
60 Романтические черты творчества Прокофьева, думается, недооценены пока
музыковедением — возможно, потому, что более «императивно» выраженные
«скифские» либо классицистские установки композитора отодвигали их в тень.
В числе немногих исследователей, акцентирующих романтическое начало
музыки Прокофьева — Т. Зелиньский (Zielinski Т. A. Style, kierunki i twdrcy
tnuzyki XX wieku. Wyd. П. Warszawa, 1980).
40
необходимо добавить театральное мифотворчество, столь харак-
терное для XX века61; именно в этом русле лежат, например, «ан-
тичные» опусы Стравинского или, с другой стороны, глубинная
символика шёнберговского «Моисея и Аарона»). Все это наряду с
многими жанровыми и стилистическими предвидениями (уже не
только в рамках театра) характеризует символизм как эпоху ве-
ликого перелома в искусстве..
Глава 2
ПОЭЗИЯ СИМВОЛИЗМА В РОМАНСОВОЙ ЛИРИКЕ
Символизм возник в поэзии, поэзия была главной сферой этого
направления, и потому ни один музыкальный жанр не соприкоснул-
ся с символизмом так близко и непосредственно, как жанр романса.
Мобильность этого жанра, предоставляющего композитору воз-
можность самой быстрой реакции на литературные флюиды вре-
мени, общеизвестна. Отсюда и роль современного поэтического
творчества в вокальной музыке любых эпох. Что же касается
рассматриваемого периода культуры, то он в данном отношении
более чем показателен. Бальмонт и Блок, Брюсов и Вяч. Иванов,
Белый, Гиппиус, Сологуб, Эллис, Мережковский занимают среди
авторов романсовых текстов виднейшее место. Удельный вес
символистских стихов в романсовой поэзии тех лет весьма значи-
телен, хотя интерес к ним проявлялся неравномерно — от случаев
глубокой, всепоглощающей заинтересованности (М. Гнесин) до
отдельных и более или менее случайных «вкраплений». Однако
в той или иной мере к ним приобщились все.
Вокальная лирика не исчерпала всего разнообразия тем и моти-
вов поэтов-символистов, но отразила их достаточно широко.
Центральные для поэзии темы любви и природы (разумеется,
с поправкой на их обновленное раскрытие символистами) оказа-
лись и в центре романсового творчества. В романсах отразились
оба полюса символистской лирики: ослепительно-светлый, дифи-
рамбический и мистически-сумрачный, с оттенком фатальности.
Произведения второго рода, пожалуй, количественно преобла-
дают — быть может, потому, что музыка тех лет вообще больше
успела и смогла освоить поэзию «старших» символистов, весьма
склонных к подобного рода мотивам, к миру индивидуалисти-
чески -субъективных переживаний (к Бальмонту это относится
лишь отчасти).
Композиторам не осталась чужда стилизаторская тенденция
новой поэзии, обостренный интерес к истории, старине, культур-
ному прошлому. Не обошла она и сферу восточной экзотики. Одна-
61 Нельзя не вспомнить в этой связи теоретические рассуждения о мифе в театре
мистерий Вяч. Иванова и А. Белого, мифы о Прометее и Дионисе в теории и
творчестве Вяч. Иванова и т. д.
41
ко все это не могло заслонить общего и главного свойства симво-
листских стихов, оказавшегося решающим в обращении к ним
музыкантов. Речь идет об их лирической сущности, о лиризме как
некоей детерминанте, предполагающей «открытое включение
автора в структуру художественного произведения»1. Исповедни-
чество символистов, сосредоточенность на внутренних пережива-
ниях души делали их поэзию потенциально романсовой. Впрочем,
не только потенциально. В самой поэзии романсовый жанр, наряду
с собственно лирическим монологом, завоевывает свои права. Так,
истинной вершиной романсовости было творчество А. Блока —
соответственно интенсивному развитию романса в профессиональ-
ном творчестве, а также в массовом бытовании1 2.
При этом индивидуалистическая усложненность стихов не ока-
залась преградой к их омузыкаливанию. Точно так же рафини-
рованность и вытекающий отсюда «антибытовизм» многих образ-
цов вокальной лирики не противоречили их романсовой сущности,
то есть романсу как типу. Напротив, они явили предельное выра-
жение таких типологических признаков жанра, как «индивидуали-
зация образного воплощения»3.
Немаловажную роль сыграло также качество музыкальности,
в чрезвычайно высокой степени отличавшее поэтический стиль
символистов. В приложении к поэтической технике это означало
сознательную опору на музыкальные принципы звуковой орга-
низации стиха. Очевидно, не все эти принципы могли способ-
ствовать трансформации стихотворения в романс и в этом смысле
«работать» на композитора. Между музыкальностью стихотво-
рения и его способностью стать музыкальным произведением
вообще нет прямой связи. Более того, все, что связано, например,
с понятием фонизма и инструментовки стиха, в музыкальной
реализации неизбежно теряется или нивелируется. Зато в сфере
ритма возможно плодотворное взаимодействие. И здесь прояви-
лось еще одно потенциально романсовое свойство новой поэзии —
ее напевность, ее «певучая сила». Напевность, знаменитая «моно-
тония регулярности» символистского стиха были выражением его
лирической наполненности и одновременно — музыкальности. Они
несли в себе суггестивное начало — например, в случаях рит-
мического повторения, волнообразного нагнетания близких по
окраске слов (прием, особенно характерный для Бальмонта и на-
шедший соответствующую композиторскую интерпретацию).
Духу романса отвечал и лексический строй стихов, который
хотя и испытывал вторжение «иностильных» элементов урбани-
стической или экзотической лексики, но все же опирался на «воз-
вышенный» словарь романтической традиции. Вообще опора на
романтическую традицию, точнее, на традицию русской лиричес-
1 Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974, с. 7.
2 См. об этом: Петровский М. Езда в остров любви, или Что есть русский ро-
манс.— Вопросы литературы, 1984, № 5.
3 Сохор А. Романс и песня.— Сов. музыка, 1959, № 9, с. 9.
42
кой поэзии XIX века, была существенной особенностью симво-
листов4. Известна их любовь к Баратынскому, Тютчеву, Фету,
которых они считали предвестниками символистской эры. Об
исключительной популярности Тютчева и Фета, их втором рожде-
нии в начале XX века свидетельствует статистика: стихи этих
поэтов, наряду с Майковым, Плещеевым, Полонским и Надсоном,
представляют важнейшую часть романсовых текстов тех лет.
Символизм по-новому актуализировал эту поэзию. Так, с Тютче-
вым и Фетом связана романтически-психологизирующая линия
вокального творчества Метнера, соперничающая с его же «клас-
сической», гётевской. Духовно близкий поэтам-символистам и
тесно с ними контактирующий, Метнер, в силу ретроспективности
художественных симпатий, предпочитал символистам их пред-
шественников (лишь два собственно символистских стихотво-
рения привлекли внимание композитора — «Тяжела, бесцветна
и пуста» Брюсова и «Эпитафия» Белого).
Статистическая картина романсовой поэзии тех лет симптома-
тична также своим несовпадением с истинной иерархией цен-
ностей. Среди авторов текстов можно, например, встретить почти
неизвестные сейчас имена, которым при жизни сопутствовала
немалая популярность, явно заслонявшая «классиков» символиз-
ма. Так, стихи М. Лохвицкой пользовались большим вниманием
композиторов, чем стихи Блока, не говоря уже о Белом и Вяч.
Иванове5. Опуская сейчас вопрос доступности поэзии музыкаль-
ному воплощению (совершенно очевидно, что мера этой доступ-
ности может быть различной и среди стихов одинаково высокого
уровня), заметим, что восприятие поэзии современниками вообще
не идентично оценке ее по прошествии десятилетий, когда время
успевает совершить свой отбор и поставить точки над i. Для компо-
зиторов первых двух десятилетий символизм был современностью,
притягательной и беспокойной. На их пристрастия неизбежно вли-
ял литературный быт тех лет, во многом определявший тогдашние
вкусы и симпатии. Для нас бесспорны сейчас достоинства блоков-
ской поэзии, несоизмеримые уже на раннем этапе творчества со
стихами не только М. Лохвицкой, но и К. Бальмонта. Между тем
популярность последнего, даже со скидкой на его старшинство в
сравнении с Блоком, была беспрецедентной. В общей картине ро-
мансовых текстов дореволюционных лет она оставляет далеко
позади решительно всех поэтов за исключением Пушкина.
Б. Асафьев писал: «Яркая внешность звучания и легковейность
поэтических образов прельщает современных музыкантов у Баль-
4 В. Жирмунский видит в русской поэзии классическую и романтическую ветви.
Первая, идущая от Державина и Пушкина, была развита в XX столетии Ахма-
товой, вторая — от Жуковского, Тютчева, Фета, Баратынского и Лермонтова —
вела к символистам; последних автор называет неоромантиками.— В ки.:
Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
5 См. справочник «Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года)».
М., 1966.
43
монта»6. Вероятно, популярность эта объяснялась и тем, чуо
молодой Бальмонт более, чем кто-либо из символистов, был бли-
зок салонной поэзии 1880-х годов — не случайно О. Мандель-
штам называл его «Надсоном русского символизма»7.
Стихи и переводы символистов привлекали музыкантов рз&ных
возрастов и склонностей — «академистов» и новаторов, облада-
телей «аполлонического» дара и поборников музыкального «диони-
сийства». Знаменательно то, что композиторы, подобно многим
своим современникам, воспринимали эту поэзию как самодовлею-
щую ценность, что не могло не отразиться на характере музыкаль-
но-поэтического синтеза в их романсах на соответствующие стихи.
Гипноз поэтического слова, небывалая ранее степень подчи-
ненности музыки стихотворному тексту, приведшая к рождению
специфического жанра «стихотворения с музыкой»,— характер-
нейшая черта русской вокальной лирики начала XX века, уже
описанная исследователями8. Ведушую роль в этом процессе
играла, несомненно, новая поэзия, повысившая значение каждой
детали, каждого произносимого слова. Если согласиться с тем,
что единым принципом вокального интонирования стихотворения
как звучащего литературного жанра является широко понимаемая
декламация9, то иные романсы тех лет можно воспринять как
декламацию в прямом значении этого слова — так сильна и без-
оговорочна в них установка на поэтический текст.
Свидетельством небывалой распространенности «музыкаль-
ного декламирования», превращения его в моду и «обытовления»
может служить искусство А. Вертинского. Не тексты его «ариэток»
(в которых, впрочем, порой угадываются типично символистские
мотивы) и, тем более, не их музыка — пример салонно-эстрад-
ного стереотипа — заставляют вспомнить в данной связи о Вертин-
ском. Имеется в виду его неподражаемая актерско-исполнитель-
ская манера, изобилующая разного рода интонационными нюан-
сами, паузами, аффектированными ускорениями и замираниями,—
словом, вся палитра его исполнительских приемов, как бы соз-
дающая поверх стереотипизированной музыкальной основы само-
стоятельную «актерскую» мелодию.
Что же касается собственно композиторского творчества, то
весьма симптоматичным явился опыт мелодекламации, чтения
стихов под музыку. Его проводили А. Аренский, Е. Вильбушевич,
6 Глебов Игорь. Русская поэзия в русской музыке. Пг., 1921, с. 11.
7 См.: Дневник С. П. Каблукова.— Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина,
ф. 322, ед. хр. 11, с. 260.
8 См. статью Е. Ручьевской «О соотношении слова и мелодии в русской камерно-
вокальной музыке конца XIX — начала XX века».— В кн.: Русская музыка на
рубеже XX века. М.— Л., 1966.
9 Его выдвигает А. Порфирьева в статье «Стилистические особенности претво-
рения слова в ранних романсах Н. Я. Мясковского».— В кн.: Вопросы музы-
кального стиля. Л., 1978.
44
А\ Юрасовский, Н. Киршбаум, Н. Маныкин-Невструев, А. Таскин,
Л\ Лисовский и многие другие. Малая известность композитор-
ских имен, связанных с этим жанром, обратно пропорциональна
его небывалой в те годы популярности. Необычайное оживление в
середине 1900-х годов литературно-салонного уклада, приведшее
к настоящей «литературно-музыкально-вокальной эпидемии»10,
превращение поэзии в звучащий жанр вкупе с ее изначальной
музыкальностью имело результатом возникновение пограничных
художественных явлений. Одним из них и стала мелодекламация,
«погрдничность» которой следует понимать и в смысле срединного
положения ее между поэзией и музыкой, и в смысле промежуточ-
ности между искусством и культурным бытом (ибо мелодеклама-
ция бщла прежде всего способом бытования новой поэзии).
В пользу последнего говорит, в частности, стихотворная основа
мелодекламаций, в большинстве случаев отражающая не столько
новую поэзию как таковую, сколько ее «китчевый осадок» —
в лице «Надсона русского символизма» Бальмонта, просто Над-
сона и Апухтина.
Большинство соответствующих опусов осталось однодневками,
показательными с точки зрения истории культуры. Но кое-что
представляло интерес, думается, и чисто художественный, не гово-
ря уже о самом акте столь смелого жанрового экспериментирова-
ния. Здесь вновь необходимо вспомнить о Ребикове, этом после-
довательнейшем радикале новой русской музыки. Для Ребикова,
который мыслил музыку как некий фон к чувствам и переживаниям
и призывал исполнять вокальные партии в своих операх «почти
естественным разговором», жанр мелодекламации оказался более
чем органичным. Примером могут служить ритмодекламации
«Белый лебедь» и «Ты мне была сестрой» на слова Бальмонта;
романсовая природа последней обнаруживается в экспрессивной
кантилене у фортепиано:
5 В. Ребмков. ,^Гы мне была сестрой”
Если в ритмодекламациях Ребикова импровизационная свобода
«пограничного» жанра корректируется фиксированной речевой
° О ней писал А. Блок в эссе «Вечера искусств — 1908».— Собр. соч., т. 5. М.,
1962, с. 304.
45
ритмикой, то «музыкальное чтение» М. Гнесина предусматривало
и относительную звуковысотную ориентированность декламации.
Этот эксперимент, проводимый Гнесиным в театральной студии
Мейерхольда, также заслуживает внимания11. Преследуя инструк-
тивную цель обучения актеров более точному интонированию
текста (с помощью нотной запйси), «музыкальное чтение»/ пре-
тендовало, по-видимому, и на самостоятельную жизнь, о чем сви-
детельствуют, кроме фрагментов из музыки к античным трагедиям,
пьесы Гнесина ор. 9 на слова М. Станюкович и В. Жуковакого11 12.
Эта идея не получила развития в художественной практике. Оче-
видно, нетождественность вокального и речевого интониррвания,
различие их природы ограничили сферу применения таких приемов
(последние, в варианте Sprechgesang, оказались более уместными
в экспрессионистской музыкальной драме). Вместе с тем «музы-
кальное чтение» было, несомненно, плодом недюжинного, цзощрен-
ного ума; его практическая реализация Гнесиным, судя ро ор. 9,
во многом искусна и оригинальна. Знаменателен живоД отклик
на него современников: С. Бонди свидетельствует, например, что
«музыкальным чтением» интересовался Скрябин, предполагая
использовать его в своей Мистерии13. Нельзя не заметить также
высоких профессионально-технических достоинств гнесинского
эксперимента, выделяющих его на фоне столь популярной в те
годы мелодекламации: последняя, с ее зачастую безвкусным и
натуралистическим характером, превращала новую поэзию в че-
ресчур легкую добычу14.
Каким образом монополия поэтического текста проявила себя
в собственно романсовом жанре?
Естественно, в самом зависимом положении оказалась техника
вокального интонирования. Подчеркнутая декламационность
(теперь уже омузыкаленная), речитативная дискретность вокаль-
ной мелодики, выделение в ней отдельных синтаксических групп
или слов, стремление к «адекватному» произнесению текста —
типичные признаки этих произведений. Соответствующие приемы
находим, в частности, у Мясковского (таково, например, многозна-
чительное выделение слов-символов в «Побледневшей ночи» на
слова Бальмонта). Показателен и вокальный стиль Гнесина-компо-
зитора, который, по признанию многих, чувствовал стихотворение
прежде всего через гибкую, «реактивную» вокальную интонацию
11 См. о нем в статье С. Бонди «О „музыкальном чтении" М. Ф. Гнесина» (в кн.:
Гнесин М. Ф. Статьи, воспоминания», материалы. М., 1961). Примечательно,
что эксперимент Гнесина проводился хронологически параллельно шёнбергов-
скому Sprechgesang, даже несколько опережая его: по свидетельству Бонди,
этот метод был опробован уже в 1908—1909 годах при разучивании одной из
сцен «Антигоны» Софокла.
12 Анализ фрагмента из первого номера ор. 9 см. в статье Е. Ручьевской «О соот-
ношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке конца XIX —
начала XX века», с. 97.
13 См. указ. изд.
14 Об этом справедливо пишет в указ, статье Е. Ручьевская.
46
(таков, среди других, его романс на слова Блока «Никто не ска-
жет\ я безумен»).
Этот метод чреват был буквализмом и утратой собственно му-
зыкальной автономии, что нарушало закон динамической сопря-
женности речевого и музыкального начал. «Добрые намерения»
ревностных поклонников новой поэзии возвести эту поэзию на
пьедестал, подчинив ей целиком музыкальное начало, грозили
таким образом обернуться против художественной ценности про-
изведений — парадокс, описанный Е. Ручьевской15. Но несомненен
и его высокий эстетический результат — в романсах, где музыкаль-
ная основа не приносилась ему в жертву, но лишь приобретала
новую гибкость и пластичность. Среди многих «положительных»
примеров назовем вокальную мелодику Прокофьева, где сквозная
речитативная декламация объединяется вариантной связью
«куплетов».
С не ммьшей очевидностью обновляется и утончается в роман-
сах партия фортепиано. Активизация инструментального фактора
выглядит здесь своего рода реваншем музыкального начала, ком-
пенсацией. тотальной зависимости от поэтического текста. С дру-
гой стороцы, инструментальный пласт воспринимается по отно-
шению к Поэтическому слову как «прозрачная глубина» образа.
Здесь формируются музыкальные эквиваленты литературных сим-
волов, приобретающие значение лейтмотивов. Печальные сталак-
титы в романсе Танеева; исчезнувшие круги на песке — знак
ушедшего времени — в пьесе Мясковского на слова 3. Гиппиус;
мрачные безгласые столбы в финале бальмонтовского цикла
Прокофьева — все это не только поэтические, но и музыкальные
эмблемы, проступающие в звуковой ткани романсов подобно смы-
словым ориентирам:
ба
С. Танеев. Сталактиты”
15 См. указ, статью.
47
С. Прокофьев. ,
f pesante
в Andante lugubre
Если мы продолжим обзор языковых примет символистского ро-
манса, то обнаружим среди них стремление к миниатлоризму
(жанры пьес нередко корректируются словами «наброски»/ «мимо-
летности» и пр.), к смысловой разомкнутости компози й, усу-
губляющей чувство причастности Бесконечному; обра ет вни-
мание и неопределенность, «размытость» красок вкупе с суггестив-
ностью высказывания. Поэзия символизма вызвала к жиз!ни и еще
одну глубинную черту вокальной лирики — особого роД[а много-
значность музыкального образа в соответствии с поэтическим.
Этот «особый род» уже не ограничивается «природной» много-
значностью (внепонятийностью) музыкальной материи, ^о предпо-
внутреннего,
волистов
лагает специфическую взаимосвязь внешнего и
видимой оболочки и скрытого смысла. В стихах с
такая взаимосвязь нередко проявляется через психологизацию
реалий природы. Ночь, море, звезды, луна выступают зд1есь во всей
своей осязаемости и одновременно переживаются, осмысливаются
как символы. Так же и в музыке элементы пластически-изобра-
зительные или звукоподражательные — бег волн, шум леса,
пение птицы — неизменно пронизываются лирической интона-
цией.
В жанре психологического пейзажа написана, в сущности, боль-
шая часть символистских романсов. Их эстетическая изюминка
заключена именно в объемности, «стереоскопичности» образа,
его лирико-изобразительном двуединстве. Показательны в этом
смысле рахманиновские романсы ор. 38 (впрочем, и в романсах
предыдущих лет Рахманинов демонстрировал тончайшее мастер-
ство лирического пейзажа: вспомним «Сирень»).
Но внешние и внутренние грани могут противоречить, диссони-
ровать друг другу. И тогда уже воздействует не объемность, но
психологическая двойственность образа, порой доходящая до тра-
гического исступления. Это касается тех романсов, где присут-
ствует мотив враждебной природы — мотив, особенно характер-
ный для поэзии 3. Гиппиус. Потерянность, страх, леденящий
холод одиночества овладевают душой в минуты особого «дискон-
такта» с миром. И в эти минуты тишина и покой природы полны
рокового смысла. В «Цветах ночи» Мясковского извилистые
мелодические линии, «выползающие» из глубин низкого регистра,
как бы изображают таинственную жизнь цветов среди ночного без-
молвия; завораживающая роскошь гармоний исполнена «злой
красоты». Еще более отчетливо, почти программно мотив дис-
48
Iи с природой звучит в «Противоречиях» (Гиппиус — Мяс-
I. Полярность душевного мира поэтессы воплощается
ким через контраст монотонного движения («молчанье
, сонное, отрадное») и резких эмоциональных всплес-
юзмущенных мыслей».
' Гиппиус в «Цветах ночи» (аналог бодлеровским «Цветам
ша и природа словно «взаимоотравлены», вовлекаясь в
эНо двуединый музыкальный образ, то в «Бабочке» Баль-
Прокофьева они скорее противопоставляются друг другу;
ически конфликтный музыкальный пейзаж составлен
адобно мозаике, из отдельных контрастных элементов (в
жофьевской техники монтажа).
м иной вид диалектика внешнего и внутреннего приобре-
2ером платьице» Прокофьева на слова Гиппиус. Здесь уже
жная символика, но доходящая до гротеска аллегория:
1 в сереньком платьице с глазами пустыми» оказывается
иным, как Враждою, Сомненьем, Тоскою, Разлукою...
ионистская изысканность, свойственная стилю боль-
романсов на стихи символистов, уступает здесь место
прозрачйо-скупому письму. Зато силен элемент иносказательности.
И в стихотворении Гиппиус, и в романсе Прокофьева жутковатый
подтекст! образа обнаруживается не сразу, заслоненный внешне
простой, Чуть игривой интонацией. Условности этого образа немало
способствует сказовая форма стихов, запечатленная Прокофьевым
в эпически-повествовательной начальной теме. Есть здесь и эле-
менты изобразительности, сопутствующие, как это часто бывает у
Прокофьева, эпическому плану: таков эпизод «игр» девочки и
отдельные детали главной темы. Тем рельефнее выступает в этом
контексте третий — символический — план. Он включается с по-
явлением в седьмом такте при словах «чья ты?» диссонирующего
аккорда доминантовой структуры:
Этот аккорд-вопрос — символ той ужасной тайны, что скрыта за
столь невинным, обыденным обликом. В дальнейшем такие аккор-
ды на фоне остинатной фигурации шестнадцатых образуют куль-
минационный эпизод романса, где скрытое наконец становится
явным: «девочка в сереньком платьице» называет свои имя.
49
Вынесение смысла из подтекста в текст, соответствующее разви/
тию поэтического образа, снятие с него покровов — характерная
черта символистской драматургии, и в «Сером платьице» она
проявилась в полной мере, несмотря на то что языковой стрЛй
этого романса не является типично символистским. /
* /
Отношение композиторов к новой поэзии не было одинаковым.
В отборе и интерпретации стихов сыграло роль как многообразие
самой этой поэзии, так и несходство в подходе к ней музыкантов.
Отсюда — соответствующие тенденции поэтически-музыкального
символизма, в рамках которых отчетливее видны литературные
пристрастия композиторов и, с другой стороны, стилевые особен-
ности их творчества, так или иначе соприкоснувшиеся с символист-
ской поэзией. /
Одна из этих тенденций — углубленный психологизм с уклоном
в трагедийную, мрачно-фатальную сферу, сферу «эмоций отрица-
тельного заряда» (Б. Асафьев). Мотивам одиночества, [тщеты,
обреченности, смерти, столь частым в стихах символистов,|отдали
дань едва ли не все авторы романсов. Причем многие из них/именно
«отдали дань», ибо склад творческой личности композиторов не
всегда соответствовал описанному кругу эмоций. Среди последних,
помимо большого числа второразрядных авторов, назовем Стра-
винского (романсы на слова П. Верлена), Прокофьева («Есть
другие планеты» — Бальмонт), Черепнина («Успокоенные» —
Мережковский, «Скиталица небес» — Шелли — Бальмонт). Сум-
рачный тон с оттенком фатальности довольно быстро изжил себя
в последующих опусах названных композиторов.
Зато для Мясковского, который выступил в своем раннем твор-
честве подлинно «певцом печали», эта сфера оказалась органи-
чески близкой, своей16. Даже в бальмонтовских романсах («Мимо-
летности», ор. 2) импрессионистская красочность постепенно
«гасится», драматургия цикла направлена к состоянию гнетущего
оцепенения, сковывающей остинатности. В финале цикла, в роман-
сах «Сфинкс», и «Бог не помнит их» итогом развития становятся
образы молчаливого отчаяния, вечного сна. Мотивы обреченности
ощутимы и в блоковском цикле (ор. 20), где им контрастирует
образ светлой надежды. В романсах же на слова Гиппиус, самых
многочисленных (ор. 4, 5, 16), мотивы эти господствуют всецело.
Сам факт обращения Мясковского к поэзии Гиппиус, столь много-
кратного, далеко не случаен. Исповедуя в ранние годы острый
критицизм, «мучительно неотвязный интерес к сфере реально
жизненного в ее наиболее мрачных, безысходно противоречивых
16 Вместе с тем ею не исчерпывается содержание всех вокальных опусов —
напомним о цикле иа слова Баратынского с его гармонически-уравновешенным
строем чувств или о сюите «Мадригал» на слова Бальмонта, пронизанной дифи-
рамбическим настроением.
50
чертах»17, композитор тянулся к аналогичному же в новой поэзии.
Мясковского не оттолкнул дуализм поэтического мира Гиппиус,
«странное» соседство в нем радости взлетов и уныния, мертвенной
безнадежности; он трактует этот дуализм как «конфликт совести
с инерцией обыденного существования»18.
Язык романсов Мясковского зачастую метафоричен и пронизан
символами — музыкальными эквивалентами символов поэтиче-
ских.Думается, из этого качества раннего творчества, вызванного
к жизни новой поэзией, берет начало и символичность более позд-
них опусов композитора, нередко связанная с использованием
скрытой программы и конкретизирующих ее цитат (вспомним зна-
менитый финал Шестой симфонии и роль в его концепции цитатной
символики).
Несомненно, Мясковский был одним из тех композиторов, кто
проникця символистской поэзией внутренне и глубоко. Музыке его
оказалс^н особенно созвучен «страдальческий» тонус этой поэзии и
запечатленный в ней трагизм душевной опустошенности. Отсюда и
особенности романсового стиля, более склоняющегося к скупой,
экспрессионистски заостренной графике, чем к импрессионисти-
ческой красочности.
Между тем именно это последнее качество довлело в другой
группе романсов на символистские стихи. В двуединстве внешнего
и внутреннего здесь в большей мере фиксировалась первая сторона
(хотя, разумеется, присутствовал и подтекст). Язык таких роман-
сов отличается тонкой звукописью, изощренной колористикой.
Стимулом обновления звуковой палитры служит здесь характер-
ная для символистов поэтизация природы. Собственно, жанр пей-
зажного романса уже существовал к этому времени в русской
музыке — вспомним Чайковского, Римского-Корсакова, Рахма-
нинова. Новая поэзия внесла в эту традицию вкус к детали, обост-
ренное чувство преходящего мига. Таковы романсы Рахманинова
ор. 38 (на слова Блока, Белого, Северянина, Брюсова, Сологуба
и Бальмонта) в сравнении с его же более ранними. Музыкальная
ткань здесь словно дематериализуется, становится зыбкой, невесо-
мой. Особенно хорош «Сон» (Ф. Сологуб), где возникает таинст-
венный, ирреальный образ, будто окутанный мистическим облаком.
С импрессионизмом соприкоснулся и Мясковский в цикле романсов
на слова Вяч. Иванова.
Большая, если не подавляющая часть романсов импрессионист-
ского типа возникла в связи с поэзией Бальмонта. Вероятно, здесь
сказалась импрессионистичность художественной манеры поэта.
В ней — еще одно объяснение поразительной распространенности
бальмонтовской поэзии в те годы. Ибо «философией мгновения»,
игрой едва уловимых, тонко вибрирующих ощущений и впечатле-
17 Житомирский Д. К изучению стиля Н. Я. Мясковского.— В кн.: Н. Я. Мяс-
ковский. Собр. материалов в 2-х т., т. 1. М., 1964, с. 47.
18 Порфирьева А. Стилистические особенности претворения слова в ранних ро-
мансах Н. Я. Мясковского, с. 78.
51
ний было в немалой степени «заражено» художественное созна-
ние 1900—1910-х годов (да и человеческое сознание вообще, еоли
судить по тому, какой отклик получали тогда в России импрес-
сионистские драмы Г. фон Гофмансталя или гамсуновский «Го-
лод», написанный, как отмечалось тогдашней критикой, техникой
«психологического импрессионизма»). Музыканты видели в Валь-
монте скорее импрессиониста, чем символиста. Их влекли в нем не
«Скрытые глубины», но яркость впечатлений, образы внешнего
мира, «миры, полные изменчивой, радужной игры». I
Свидетельством «моды на Бальмонта» служит факт интереса к
нему едва ли не всех композиторов. Важно заметить, что стихи его
хорошо «приживались» не только в традиционной системе средств
(Танеев, отчасти Рахманинов), но и в русле новой эстетики/в итоге
противопоставившей себя романтизму. I
Так, Прокофьева побудила обратиться к этой поэзии/ любовь
к внешне характерному (но и нечто другое, о чем речь пойдет
ниже). В его романсах пантеистическое настроение соединяется
с острой наблюдательностью, с чувственной земной еротикой
(«В моем саду»), детальной звукоизобразительностью| («Голос
птиц»). То же можно сказать о Н. Черепнине, которого привлекла
в Бальмонте сфера сказочной и детской образности. Таковы его
«Фейные сказки» (1905)—пожалуй, наиболее обаятельный
вокальный опус композитора. Рядом с эпизодами салонной музыки,
с ее танцевальными нормативами и «парфюмерными» септаккор-
дами, здесь есть подлинно остроумные м' зыкальные зарисовки.
Например, предельно малозвучная «Глуленькая сказка» или, с
другой стороны, импрессионистски изысканные «Снежинки», где
каждая деталь словно рассмотрена через увеличительное стекло.
Тут же изобразительно яркая «Трясогузка» (посвященная Про-
кофьеву) — капризные вспархивания, снующие тут и там малые
секунды, «клацающие» репетиции... Характеристичность возни-
кает здесь как результат детски непосредственного видения мира.
Этому принципу оказывается подчиненной и форма «Сказок»,
свободная от типовых схем.
Выход в характеристическую образность еще более последо-
вательно осуществлен в бальмонтовских романсах Стравинского
(1911). Обращает внимание по-особому чистое, незамутненное
восприятие природы в них, любование первозданностью ее красот.
Музыкальная ткань предельно индивидуализируется — как в це-
лом, так и в деталях. В романсе «Незабудочка-цветочек» главной
идеей является идея постепенного наложения красок: от тихой,
прозрачной, чуть вибрирующей квинты через наслоение различ-
ного рода фигураций — к объемному красочному пространству
(потребовавшему четырех строчек фортепианной партии). «Го-
лубь» имеет еще более индивидуализированную форму (в ее
основе — свободно понятая вариантность), как бы фиксирующую
весь «изобразительный ряд» стихотворения: взмах крыла, припа-
дание к терему (остинато в партии левой руки), трепет крыльев,
воркование и ворожба, отлет. В эпизоде воркования варьирование
52
В конце — еще один эпизод, русско-песенного склада. Такого
рода материал не появлялся раньше в романсе, но народная ма-
нера, в которой написано бальмонтовское стихотворение, вполне
его предполагает (не говоря уже о той лирической аллегории,
которой наделен в народной поэзии образ воркующего голубя).
Легко заметить, насколько импрессионистичность «Голубя»
Стравинского отличается, например, от импрессионистичности
рахманиновского «Сна». Там изысканность красок диктовалась
мистической глубиной образа, его скрытой тайной. Здесь же на-
лицо его реальность, зримая конкретность. В этой музыкальной
зарисовке уже вполне ощущаются такие стилеобразующие свой-
ства музыки Стравинского (вскоре порвавшего с импрессиониз-
мом), как скульптурная характерность, пластическая осязаемость
звуковых образов.
Так в рамках импрессионизма произошло перерождение соб-
ственно символистской образности в качественно иную. Причина
этого кроется, очевидно, в новых эстетических принципах, выдви-
гаемых Стравинским, Прокофьевым и Черепниным. Хотя эти
принципы не были всеобъемлющими (достаточно вспомнить о
Мясковском), их выдвижение в начале 1910-х годов весьма сим-
птоматично: символизм к этому времени перестает быть центром
художественных пристрастий. Композиторов нового поколения
все больше привлекает поэзия характерного, поэзия сказки и
экзотики, нежели психологические изыски. Не в этом ли еще одна
причина затянувшейся — вплоть до конца 1920-х годов — попу-
лярности Бальмонта, в разностороннем творчестве которого
экзотические мотивы занимают виднейшее место?19.
Так или иначе, с поэзией Бальмонта связана еще одна особен-
ность вокальной музыки тех лет. Речь идет о «заклинательной»
9 Впрочем, при всей синхронности литературного и музыкального процессов,
здесь сказывается и неизбежное отставание музыки: музыкальное осознание
даже наиболее актуальных литературных явлений требует, очевидно, известной
временной дистанции.
53
/
/
образности, текстовой основой для которой послужили древне-
восточные стилизации и обработки. Уже отмечалась важная роль
в символистском методе суггестивного начала, определившего
общестилистическую особенность символистского романса. Однако
ни у кого оно не проявлялось так откровенно и целенаправленно,
как у Прокофьева, буквально «монополизировавшего» эту Образ-
ную сферу (и притом не только в вокальной музыке). Наряду с
кантатой «Семеро их», проникнутой своеобразным «скифским
экспрессионизмом», весьма характерны в этом плане два романса
из ор. 36: «Заклинание воды и огня» и «Помни меня (малайский
заговор для памяти)». Обе пьесы исполнены напряженной экспрес-
сии — то подспудной, то вырывающейся наружу. Большую роль
играет в них завораживающая магия остинатности:
limits
Думается, именно здесь отрабатывался столь излюбленный
Прокофьевым прием вокального остинато, щедро использованный
им в оперных партитурах (особенно в «Огненном ангеле»).
Подведем некоторые итоги. Какую же роль сыграла новая по-
эзия в вокальной лирике начала века?
У композиторов старшего поколения и их последователей она
внесла заметные коррективы в стилистику. У Рахманинова в
ор. 38 это явная импрессионизация, размывание четких границ
образа, углубление его смыслового пространства. В «Имморте-
лях» Танеева (на слова Эллиса) — игра гармонической свето-
тенью и «аклассическая» логика исчезновения, погружения в глу-
бины, отрицания видимой оболочки образа, что особенно харак-
терно для заключительных разделов:
знаменитом «Менуэте» — этом историческом эссе в форме роман-
54
са. Здесь действует символистский принцип преображения, сни-
мания масок, а также метод цитатной символики. В контексте
классически ориентированного творчества Танеева такие явления
особенно обращают на себя внимание.
В романсовом творчестве более молодых авторов с новой по-
эзией связаны не столько корректирующие, сколько стилеобра-
зующие моменты. Такова вокальная мелодика Гнесина и Мясков-
ского, формирование у последнего экспрессионистского комплек-
са средств.
В романсах Стравинского, Прокофьева, Черепнина рождалось
новое качество образной характеристики — варварски-стихийное,
приобретавшее в сущности антиромантический оттенок, а потому
и уводящее за границы собственно символистского видения
мира.
Столь широкий стилистический диапазон, казалось бы, ставит
под сомнение существование самого феномена символистского
романса. Картина усложняется тем, что отмеченные здесь сти-
листические особенности проявлялись, строго говоря, не только
в связи с новой поэзией. Однако обратим внимание на два важных
фактора. Во-первых, популярные в те годы Тютчев, Фет, Полон-
ский, Майков, . Плещеев .осознавались тогда сквозь призму
современного, символистского мировосприятия (о чем уже писа-
лось выше). Во-вторых, разносторонним и богатым было твор-
чество самих символистов, вмещавшее в себя, наряду со своего
рода манифестами символизма, явления, менее показательные
с дочки зрения философии и эстетики этого направления, не гово-
ря уже о разнообразии стилистических уклонов. Неудивительна
в этой связи и языковая многоликость вокальных произведений.
Важно лишь напомнить: в большинстве из них при всей этой мно-
голикости есть черты того явного сходства, которое мы попытались
отметить выше и которое позволяет само понятие «символистского
романса» расценивать отнюдь не только в номинальном значении.
Вокальная продукция, возникшая в связи с символистской
поэзией, была неравноценной. С одной стороны, имела место
обильная дань моде — в форме самого поверхностного касания
новой поэзии, без проникновения в ее суть и смысл20. С другой —
20 Показателем символистской моды в ее неакадемическом, «китчезированном»
варианте был бытовой романс тех лет. Существует устойчивая точка зрения
относительно поляризации профессиональной и бытовой сфер в романсовой
музыке описываемого периода — поляризации, достигшей беспрецедентной
остроты. Но интересны и моменты пересечения этих сфер. Уже упоминался
факт проникновения бытового романса в сферу высокой поэзии (А. Блок).
Происходило и обратное—притом с обратным же знаком. Страдальческий
тонус символистских стихов вкупе с многозначительностью и «красивыми сло-
вами» («красивыми аккордами» — если говорить о музыке) подвергался в бы-
товой среде стремительному удешевлению. Этот процесс не ограничивался
романсно-поэтическим жанром и был симптоматичен для всей культуры
1910-х годов. По справедливому замечанию Л. Гинзбург, в эпоху кризиса сим-
волизма, то есть в эпоху крушения идеологических ценностей названного на-
правления, «символистическая речь неудержимо быстро опускалась к обыва-
55
сказывались заблуждения принципиального порядка; стремление
превратить новую поэзию в самодовлеющую ценность и соответ-
ствующие издержки такого стремления обрекали иных авторов на
путь «искателей-неудачников»21. Очевидно, самый оптимальный
результат возникал лишь в случае органического «вхождения»
в стихи и одновременно — при условии активно выраженной
«встречной» композиторской инициативы, обеспечивающей дина-
мическую сопряженность словесного и музыкального рядов как
гарантию полноценного художественного синтеза. С этими крите-
риями и следует подходить к вокальному творчеству той поры —
как и к вокальному творчеству вообще22. И тогда русский сим-
волистский романс окажется интересным не только в чисто исто-
рическом плане и не только как поучительный опыт овладения
музыкой новой поэзии, но и как непреходящая духовная цен-
ность, как хранилище тончайших творческих откровений, до конца
еще не раскрывшихся слушателю.
Глава 3
СКРЯБИН И «МЛАДОСИМВОЛИСТЫ»
На пестром фоне символистских опытов русских композиторов
творчество Скрябина выделяется не только очевидной художест-
венной ценностью, но и ярко выраженной эстетико-стилевой целе-
направленностью1. Конечно, убедительность эстетической пози-
телю... В дореволюционную эпоху последки символистского слога составляли
основу обывательской литературы, начиная любительскими романсами гим-
назистов, студентов и актрис и кончая такими образцами этой литературы, как
Арцыбашев и т. д.» (Гинзбург Л. Человек за письменным столом (по старым
записным книжкам).— Новый мир, 1982, № 6, с. 244).
21 Так, например, характеризует Б. Асафьев романсовое творчество В. Сенило-
ва (впрочем, отдавая должное широте творческих влечений композитора).
См.: Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 93.
22 Об относительной автономии музыкального содержания романса как условии
полноценной интерпретации стихотворения весьма убедительно пишет Б. Кац:
«Сложны отношения двух жизней поэзии, но очевидно, что сами этн отношения
возникают только тогда, когда „поющийся двойник" стихотворения... становит-
ся фактом бытия музыки... В противном случае стихотворение просто не заме-
чает своих двойников, и те исчезают практически бесследно» (Кац Б. Стань
музыкою, слово! Л., 1983, с. 10).
1 Связь Скрябина с направлением символизма прямо или косвенно отмечалась
уже его современниками поэтами-символистами, о чем свидетельствуют статьи
Вяч. Иванова, а также высказывания на эту тему Бальмонта, Белого и др.
Из музыковедов ее со всей решительностью отметил Л. Сабанеев, заявивший,
что «Скрябин был не чем иным, как символистом в музыке, н те предпосылки,
которые стали традиционными по отношению к символистам поэзии и литера-
туры, целиком и даже в еще более категорической форме приложимы к нему»
(Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925, с. 7). В советском музыко-
знании проблема культурного контекста скрябинского творчества стала разра-
батываться лишь на современном этапе. Большая заслуга принадлежит в этом
Д. Житомирскому, автору содержательного очерка о Скрябине в «Музыке XX
века» (ч. 1, кн. 2, М., 1977). В новейших публикациях символистский контекст
56
ции Скрябина во многом обязана силе его гения. Однако здесь
необходимо подчеркнуть и момент принципиального порядка, кото-
рый поначалу выглядит парадоксом. Как бы вопреки синкретич-
ности мышления современников Скрябин выразил свое символист-
ское мироощущение в формах «чистой», почти исключительно
инструментальной музыки, уже этим самым отведя от себя подо-
зрения в издержках литературности и ущемлении музыкального
начала. Тем не менее замыслы Скрябина никак не сводимы к
«чистой» музыке. Они явно «сверхмузыкальны» — в том смысле,
какой имел в виду Б. Пастернак, говоря о скрябинской тяге к
чрезвычайности: «Действительно, не только музыке надо быть
сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно
превосходить себя, чтобы быть собою»* 2.
Как известно, идею расширения границ искусств и растворения
их во всеобщем единстве символисты унаследовали от роман-
тиков. В эпоху же того глобального кризиса, каким был кризис
рубежа веков, эта идея приобрела едва ли не программный смысл,
облекшись в мечту о синтетическом, соборном, теургическом
искусстве. Об этом искусстве мечтал и Скрябин, стремясь вопло-
тить свой идеал в Мистерии.
Синтетическое, соборное, теургическое искусство, таившее в
каждом из своих звеньев неразрешимые противоречия, сфоку-
сировало' в себе главные философские чаяния символистов, точ-
нее — младосимволистов, к которым и хронологически, и факти-
чески примыкал Скрябин3. Если уже у романтиков синтез искусств
стремился играть «ту же роль, какую играли религии в добур-
творчества Скрябина анализируется как на уровне творческих идей и контак-
тов (Мыльникова И. О «Мистерии» А. Скрябина.— В ки.: Музыкальная клас-
сика и современность. Л., 1983), так и на уровне стиля (Поспелова Н. К пробле-
ме системного анализа стиля Скрябина.— В кн.: К методике проблемного
анализа музыки. Горький, 1983).
Проблема символизма обычно рассматривается на материале произведений
Скрябина зрелого (начиная приблизительно с «Божественной поэмы» и Чет-
вертой сонаты) и позднего периодов, ибо соответствующие тенденции
прогрессировали к концу творческого пути композитора и чем дальше, тем
больше связывались с замыслом Мистерии. Именно эти периоды, а в связи
с Мистерией, главным образом, поздний, будут подразумеваться и в данном
очерке.
2 Пастернак Б. Люди и положения.— Новый мир, 1967, № 1, с. 201.
3 Философская система Скрябина сложилась к 1904 году— этапному в истории
русского символизма (как справедливо отмечает в вышеприведенной статье
Д. Житомирский, отбор и интерпретация Скрябиным философских источни-
ков — от Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра и Ницше до восточных религиозных
учений и «Тайной доктрины» Е. Блаватской — были весьма характерными для
символистской среды). Позже имели место прямые контакты с поэтами.
Особенно взаимоплодотвориой была дружба Скрябина с Вяч. Ивановым,
приходящаяся на 1912—1913 годы. Вот что писал по этому поводу Вяч. Ива-
нов: «Мистическая подоснова миросозерцания оказалась у нас общею, общими
были и многие частности интуитивного постижения, общим в особенности взгляд
на искусство... С благоговейной благодарностью вспоминаю я об этом сближе-
нии» (Иванов Вяч. Взгляд Скрябина на искусство / Публ. и коммент. И. Мыль-
никовой.— В ки.: Памятники культуры. Новые открытия: 1983. Л., 1985, с. 103).
57
жуазных формациях»4, то символисты сделали его непременным
условием свершения мистериального религиозно-художественного
акта. Синтез искусств подразумевался и в скрябинской Мистерии,
которая должна была включать в себя не только звук, слово,
движение, но и реалии природы. Синтетические замыслы Скрябина
встречали более чем сочувственное отношение у поэтов-символис-
тов. Об этом свидетельствует статья Бальмонта «Светозвук в при-
роде и световая симфония Скрябина» (1917), посвященная
«Прометею». Еще более активно их поддерживал Вяч. Иванов.
Возникновение подобных идей Иванов пытается объяснить внепо-
ложенностью внутреннего опыта художника его искусству:
«Жизнь разрешает это противоречие путем сдвига данного искус-
ства в сторону соседнего, откуда приходят в синкретическое соз-
дание новые способы изобразительности, пригодные для усиления
выразимости внутреннего опыта»5. На примере Чюрлёниса —
этого музыканта в живописи — Иванов говорит о художниках
«со сдвинутой осью», о тех одиноких людях (и «по своему положе-
нию в современной культуре, и по своему промежуточному и как
бы нейтральному положению между областями отдельных искус-
ств»6) , которых, однако, становится все больше и больше. В Скря-
бине Иванов отмечает подчиненность художественного комплекса
некоей сверхзадаче и потому видит в нем наиболее плодотворный
выход из тупика «сдвинутой оси».
К этим рассуждениям Вяч. Иванова необходимо добавить, что
от опасности «как бы нейтрального положения между областями
отдельных искусств» Скрябина уберегала слишком очевидная
мощь его музыкального гения. Противоречивость его синтети-
ческих замыслов проявлялась в постоянном «наталкивании» их на
имманентные законы музыки, с которыми композитор всегда был
теснейшим образом связан.
Весьма неоднозначно Скрябин относился, например, к литера-
турному компоненту своего творчества. С одной стороны, он был
одержим словом, чему свидетельством заглавия произведений,
программные комментарии — прозаические и поэтические, подроб-
нейшие исполнительские ремарки, лексический строй которых,
кажется, выходит за рамки прикладного назначения; самостоя-
тельные поэтические опыты7. Если принять во внимание либретто
4 Мурина Е. Проблемы синтеза пространственных искусств. М„ 1982, с. 18.
5 Иванов Вяч. Чюрлёнис и проблема синтеза искусств.— Собр. соч., т. 3. Брюс-
сель, 1971, с. 164.
6 Иванов Вяч. Собр. соч., т. 3, с. 161.
7 Известен сонет Скрябина, посвященный Брюсову. В форме же сонета поэты, в
свою очередь, обращались к Скрябину. В сонете Вяч. Иванова, посмертно
посвященному композитору, есть, между прочим, следующие строки:
Осиротела музыка. И с ней
Поэзия, сестра, осиротела.
Потух цветок волшебный у предела
Их смежных царств...
«Музыка», 1915, № 229
58
проектируемой в начале 1900-х годов оперы и текст «Предвари-
тельного действа», то скрябинская верность слову не оставит ника-
ких сомнений. С другой стороны, в высшей степени знаменателен
тот факт, что ни опера, ни «Предварительное действо» не были
осуществлены (кроме отдельных эскизных фрагментов). Все соз-
данное Скрябиным, за исключением двух романсов и юношески
несовершенного финала Первой симфонии, лишь подразумевает
слово, но не материализует его музыкально. Явно тяготеющий
к слову,. Скрябин предпочитал в итоге его «беззвучный», прог-
раммный вариант. В вопросах синтеза искусств он был столь же
смелым теоретиком, сколько крайне осторожным практиком,
словно постоянно прислушивавшимся к внутреннему голосу своего
музыкантского «я»8.
По-видимому, здесь сказалась типично символистская боязнь
изреченности. Счастливая возможность изъясняться на бессло-
весном языке музыки как бы спасала композитора от изначаль-
ного противоречия символизма (вспомним тютчевский Silentium
в интерпретации Вяч. Иванова). Ограничившись сферой чистого
инструментализма, Скрябин воплотил романтико-символистское
представление о музыке как высшем из искусств, способном на-
иболее адекватно постигать мир.
Вероятно, поэтому собственно примеров синтеза искусств у
Скрябина очень немного, каким бы вдохновляющим ни был при-
мер «Прометея». Гораздо больше здесь поводов говорить о сине-
стезии — «комплексном чувствовании»9. Большинство сочине-
ний Скрябина демонстрирует это качество не столько в реальном
соединении музыки со словом, цветом или жестом, сколько в ассо-
циативном освоении ею последних. Идет ли речь о гармонических
красках, ритмической пластике или философско-поэтической
идее,— полнота ассоциаций не колеблет собственно музыкального
достоинства скрябинских произведений. Трудно назвать компози-
тора, чьи фантазии так далеко уносились бы от прямых задач и
возможностей музыки и одновременно были бы столь неизменно
«интрамузыкальны» (достаточно напомнить о нерушимости для
Скрябина законов сонатной формы или принципов функциональ-
ной гармонии, угадываемых в глубине его сложных созвучий).
Музыка Скрябина поистине «превосходит себя, чтобы быть
собою».
8 Впрочем, эта осторожность отличала н самих идеологов синтетической драмы,
настаивающих на известной автономии ее художественных слагаемых. Так,
Вяч. Иванов связывал слово в театре мистерий с собственно драмой и драмати-
ческими актерами, то есть мыслил слово и музыку в нем контрапунктически
разделенными. Очевидно, по этой причине его в меньшей степени устраивал
оперный жанр (в частности, опера Дебюсси «Пелеас и Мелнзанда» казалась
ему неудачным опытом музыкального истолкования Метерлинка, так как
музыка-пение здесь, по его мнению, «уже обесцвечена до мертвенной декла-
мации» (Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия.— Собр. соч., т. 2, с. 97).
9 О нетождественное™ понятий «синтез» и «синестезия» и о совмещении их в
искусстве символизма см. в кн.: Мурина Е. Проблемы синтеза пространственных
искусств.
59
Не меньше противоречий таит в себе скрябинская интерпрета-
ция идеи соборности. Соборность как выражение объединяющей
способности искусства, соучастия в нем множества людей была
неотъемлемым атрибутом символистской мистерии. Вяч Иванов
в своих теоретических работах, посвященных театру мистерий10 11,
целью последнего полагает не только синтез искусств, более пол-
ный, чем у Вагнера, но и уничтожение рампы, слияние сцены с
общиной, а также особую роль хора (хора малого, связанного с
действием, как в трагедиях Эсхила, и хора расширенного, симво-
лизирующего общину — поющую и движущуюся толпу). Такие
хоровые драмы предполагают иную, нежели обычные театральные
залы, архитектурную обстановку и «перспективность совсем иных
пространств»11.
Столь же необычной должна быть и обстановка исполнения
скрябинской Мистерии: легендарная Индия, куполообразный
храм на берегу озера, грандиозное соборное действо, где нет уже
никакой публики, а все — участники и посвященные (по свиде-
тельству Л. Сабанеева, Скрябин критиковал Вагнера за театраль-
ность и, подобно другим символистам, выступал за преодоление
рампы ради достижения единства переживания). Скрябин желал
участия в Мистерии всего человечества, не считаясь с какими-
либо пространственно-временными ограничениями: храм, в кото-
ром должно развертываться действо, мыслился им как гигантский
алтарь по отношению к истинному храму — всей земле12; сам же
мистериальный акт должен стать лишь началом некоего всеобщего
духовного переворота: «Я хочу не осуществления чего бы то ни
было, а бесконечного подъема творческой деятельности, который
будет вызван моим искусством»13.
Фантастичность такого предприятия более чем очевидна. Собор-
ность, точнее — буквально понимаемая всенародность, вряд ли
могла быть достижимой даже в чисто техническом смысле. Одна-
ко дело не только в «технике» (возьмем на себя смелость предпо-
ложить, что завоевания последней в сфере массовой коммуника-
ции могли бы расширить число участников мистериального акта —
подобно тому, как новейшие технические средства дают возмож-
ность все более полной реализации скрябинской «световой сим-
фонии») . Дело, повторяем, не только и не столько в технике, сколь-
ко в изначальном противоречии между гипердемократичным за-
мыслом и крайне эзотеричной формой еГо художественного вопло-
щения, о чем говорят нотные эскизы «Предварительного действа»,
а также весь стилевой контекст позднего периода творчества.
В этом отношении скрябинская Мистерия была типичным продук-
том символистской эпохи — свидетельством стремления во что бы
10 См.: Иванов Вяч. Вагнер и дионисово действо; Предчувствия и предвестия.—
Собр. соч., т. 2.
11 Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия.— Собр. соч., т. 2, с. 101.
12 Об этом пишет Б. Шлецер на основании бесед с композитором (Шлецер Б.
К. Скрябин, т. 1. Личность. Мистерия. Берлин, 1923, с. 303).
13 Скрябин А. Письма. М., 1965, с. 422.
60
то ни стало преодолеть индивидуалистическую отъединенность
человеческого сознания и одновременно — невозможности выр-
ваться из этого плена.
И все же соборное начало, хотя и не в крайнем, «программном»
варианте, по-своему реализовалось в скрябинском творчестве,
притом задолго до осуществления Мистерии. Оно наделило утон-
ченные высказывания композитора отблеском грандиозности.
Грандиозны сами масштабы его симфонических созданий, гран-
диозен и используемый в них оркестровый аппарат, в который,
начиная с «Поэмы экстаза», вводятся пять труб, орган и колокола.
Не только в «Предварительном действе», но уже в Первой симфо-
нии и «Прометее» символом соборности выступает хор (в «Проме-
тее» по замыслу автора он должен быть облачен в белые одежды —
для усиления литургического эффекта). В соборной функции,
функции единения множества выступает и скрябинская коло-
кольность.
Мистерия как итог и кульминация скрябинских дерзаний должна
была выполнять задачи, явно внеположенные искусству. «Пожар
вселенной», очистительный мировой катаклизм, всеобщий духов-
ный переворот — как бы ни определялась конечная цель симво-
листской мистерии, сама мысль о ней могла возникнуть лишь в
предгрозовой атмосфере начала века, в эпоху апокалиптических
пророчеств и ожидания некоего исторического катарсиса. Театр
мистерий был воплощением социальных утопий русских симво-
листов. Однако для нас сейчас интересен тот аспект этих утопий,
который связан с верой во всемогущую преобразующую силу
искусства. Исповедуемая младосимволистами и провозглашенная
их духовным отцом Вл. Соловьевым, эта вера стала основопола-
гающей и для Скрябина. Не участвуя в борьбе «теургического»
и «эстетического» символизма14 15 и вообще оставаясь в стороне от
литературных схваток своего времени, Скрябин был стихийным
приверженцем теургического направления. Более того, как никто
другой он был озабочен практическим осуществлением соответ-
ствующих задач искусства. Вяч. Иванов писал: «...теоретические
положения его о соборности и хоровом действе... отличались от
моих чаяний, по существу, только тем, что они были для него еще
и непосредственно практическими заданиями»'5.
Впрочем, теургическое и эстетическое начала были, как извест-
но, слишком тесно слиты в зрелом символизме, чтобы стать знаме-
нем принципиально враждующих лагерей и раз навсегда решить
вопрос — быть ли символизму только искусством (позиция Брю-
сова) или магией, пророчеством, теургией (позиция младосимво-
14 Их соперничество обнажилось в полемике на страницах журнала «Аполлон»
(1910) и выразилось, соответственно, в статье А. Блока «О современном состоя-
нии русского символизма» и ответной публикации В. Брюсова «О речи рабской
в защиту поэзии».
15 Иванов Вяч. Взгляд Скрябина на искусство.— Собр. соч., т. 3, с. 183.
61
листов)16. Нераздельны они и у Скрябина. Скрябинский эстетизм
проявился в завораживающих звуковых новшествах — экстра-
ординарности гармонических структур, изощренности ритмических
комбинаций. В этом погружении в необычные звуковые миры есть
соблазн самоцельности. Однако композитор мыслил свои изобре-
тения не целью, но средством. Уже с самого начала 1900-х годов
все произведения его выдают присутствие некоей сверхзадачи.
И если теургия как окончательный и всеохватывающий акт должна
быть признана утопией, то сама вера в преобразующую способ-
ность искусства зарядила скрябинское творчество тем духовным
активизмом, который выходит за границы чисто i эстетического
воздействия. К «магическим» элементам музыки Скрябина следует
отнести, вероятно, такие сильно действующие средства, как про-
грессирующая остинатность, гармоническая и ритмическая «зак-
линательность», повышенно-напряженный эмоционализм, который
«влечет вширь и ввысь, превращая страсть в экстаз и уже тем
самым возвышая личное до всеобщего»17. Знаменательно, что
преобразовательный, теургический акт, сущность которого —
в стремительно растущем творческом самосознании духа, в победе
духовного начала над косной материей, был не только целью, но
и постоянной темой скрябинских произведений, в чем проявилась
опять-таки характерная особенность русского символизма (ибо
развитие последнего шло «от осознания кризисности современ-
ного состояния мира во всех его звеньях к возникновению таких
художественных концепций, в которых сам момент преодоления
кризиса берется и как содержание и как форма художественного
творчества»18).
Итак, противоречивость и утопичность проектов, связанных с
синтезом искусств, соборностью, теургичностью, не помешала им
по-своему воплотиться в музыке Скрябина, определив такие ее
качества, как полнота и активность чувствования, «вселенский»
размах, гипнотическая сила воздействия. Скрябинская музыка
стремилась стать «сверхмузыкой» и в смысле выхода в другие
искусства, и в смысле выхода за пределы искусства вообще.
Творчество Скрябина вместило в себя символистский идейный
комплекс, не поступаясь своими собственно музыкальными зако-
нами. Это произошло, по-видимому, благодаря встречному кон-
такту: универсальности этих законов, с одной стороны, и «пан-
16 Характерны весьма сдержанные высказывания младосимволиста Вяч. Иванова
о теургических дерзаниях художника и об их пределе — со ссылкой на известное
стихотворение Вл. Соловьева:
Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте,—
У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион.
Нужна ей новая победа...
Три подвига.— В кн.: Владимир Соловьев. (Библиотека поэта). Л., 1974.
17 Житомирский Д. Скрябин.— В кн.: Музыка XX века, ч. 1, кн. 2. М., 1977, с. 75.
18 Родина Т. Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 71.
62
музыкальности» исповедуемых символистами философских те-
орий — с другой. В самом деле, идея творческого дерзновения,
становления из хаоса мировой гармонии была осмыслена Скряби-
ным как внутренний закон музыки (движение от полупризрач-
ного, скованного состояния до экстатического торжества). В му-
зыке же, как нигде, достижим эффект трансформации, преобра-
жения, перевоплощения, лежащий в основе символистского мето-
да,— Скрябин войлотил его в специфической многофазности со-
натной драматургии, «многоступенчатости» снятия с первообраза
смысловых покровов. Наконец, сама многозначность музыки как
искусства была использована Скрябиным в аспекте символизации,
ибо как никто из музыкантов он владел даром «тайнописи» (или,
выражаясь словами Брюсова, владел «ключами тайн») — вспом-
ним темы-сфинксы его сочинений, пьесы с симптоматичными
названиями: «Загадка», «Маска», «Странность»...
Вообще символистское мировидение сказалось не только на
«идейном» уровне скрябинских сочинений или проектов. Думается,
оно стало определяющим для самого склада композиторского
мышления Скрябина, по крайней мере, начиная с 30-х опусов; им
обусловлены многие свойства его музыкальной материи, ее гори-
зонталь и вертикаль, ее время и пространство.
Изучение пространственно-временных параметров художест-
венного организма следует признать важнейшей задачей искус-
ствознания, и притом не только в узкотеоретическом смысле. Здесь
возможен выход в сферу обобщений, касающихся как индиви-
дуального стиля художника, так и историко-культурного контекста
его творчества (что для нас сейчас особенно важно). Конечно,
установление общности художественных хронотоповГ9 в парал-
лельно развивающихся искусствах представляет немалые труд-
ности, потому что упирается в специфику каждого отдельного
вида искусства. Однако в известных пределах оно все-таки воз-
можно —в силу сходства тех идейно-эстетических установок, кото-
рыми руководствуются поэты, музыканты, живописцы, театраль-
ные деятели одного художественного направления. Тем более это
касается символизма, который был для своего времени не только
школой, но и философией, умонастроением, выразителем «внутрен-
ней формы культуры» (Г. Кнабе).
Для Скрябина и других художников-символистов, прежде всего
поэтов (аналогия с которыми оправдана и чисто биографически,
и на основании ведущих принципов творчества), было в высшей
степени характерно чувство бесконечности, таинственной непо-
стижимости бытия (вспомним еще раз известные строки: «Откры-
лась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна»). Прин-
цип актуальной, то есть непосредственно переживаемой, беско-
нечности определял и мироощущение и художественный метод
символизма, сущность которого составляло, как известно, беско-
19 Понятие хронотопа, введенное и разработанное М. Бахтиным, отчасти уже
освоено музыковедением (см. научно-реферативный сборник «Время, простран-
ство и ритм в музыке». М., 1981, с. 15—21).
63
нечное погружение в глубины образа, бесконечная игра его скры-
тыми смыслами.
Бесконечность мира могла бы вселить в сознание потерянность
и страх, если бы не мысль о Всеединстве сущего, имевшая для
русских символистов «второй волны» глобальный, всепроникаю-
щий смысл- Она была для них не столько философской доктриной,
сколько восторгом, наитием, романтической мечтой. Духовным
предшественником младосимволистов был в этом отношении
Вл. Соловьев с его концепцией всепобеждающей любви как сим-
вола Всеединства. Приведем отрывок из его «Трех свиданий»:
Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев.
Для Скрябина мысль о бесконечном и едином мире была источ-
ником экстаза, чувства блаженства и мощи. Скрябинский экстаз
означал слияние с этим миром, слияние, преодолевающее про-
странственно-временную ограниченность индивидуального бытия.
Отсюда — возможность аналогий его музыки как с творчеством
младосимволистов, так и с поэзией Вл. Соловьева, с которым
композитор не был связан непосредственно (впрочем, есть свиде-
тельства, что С. Н. Трубецкой знакомил Скрябина в последние
годы его жизни с наследием Вл. Соловьева2").
Всех этих художников объединяет космическая тема: солнце,
звезды, луна, небесная лазурь — для них не суть традиционные
объекты поэтической фантазии, но символы божественного света,
преодолевающего время и суету. Еще раз обратимся к Вл. Со-
ловьеву:
Смерть н Время царят на земле,—
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Некоторую аналогию соловьевскому «солнцу любви» или ива-
новскому «светилу вечному» можно усмотреть в Четвертой сонате
Скрябина. Впрочем, оно неподвижно здесь (то есть вечно), в пере-
воде на язык музыкальных структур, лишь в смысле неизменности
и повторяемости главной темы сонаты — темы звезды; сам же
процесс утверждения этой темы по-скрябински действен и импера-
тивен («В солнце горящее, пожар сверкающий ты разгораешься,—
сияние нежное!» — читаем в авторском комментарии к сонате).
В «Прометее» Скрябин воссоздает образ самого Космоса: знаме-
нитая, долго выдерживаемая в начале произведения «промете-
евская» гармония дает ощущение застывшего гудящего про-
странства — столь же бескрайнего, сколько пронизанного гигант-
ским волевым напряжением (говоря опять-таки на языке музы-
кальных структур, в «Прометее» нет «неподвижной» темы, но зато
есть «неподвижность» всеобъединяющего гармонического комп-
20 Об этом пишет И. Лапшин (рм.: Лапшин И. Заветные думы Скрябина. Пг.,
1922).
64
лекса, в чем сказывается организаторская воля его творца).
Символистское переживание бесконечности, основанное на чув-
стве Всеединства, предполагало неразрывную взаимосвязь част-
ного и общего, одномоментного и протяженного, мгновенного и
Вечного. Такая взаимосвязь определяла мирочувствие поэтов и
соответственно — мотивы их творчества (характерный пример —
стихотворение Вяч. Иванова «Вечность и Миг»). Она же имела
для них «программный» смысл. Так, А. Белый, теоретически раз-
мышляя в одной из своих ранних работ о преображении мира
«сквозь музыку» и выстраивая (не без влияния Вл. Соловьева)
некую схему мистериального процесса, мыслил этот процесс как
одномоментный: «Вся жизнь мира мгновенно пронесется перед
духовным оком»,— пишет он А. Блоку, развивая свои идеи21.
Мгновенное переживание всего исторического опыта челове-
чества (в связи с воссозданием истории рас) предполагал и Скря-
бин в своей Мистерии, говоря об «инволюции стилей» в ней. Что
представляла бы собой эта «инволюция стилей» в условиях скря-
бинского стилевого монизма, можно лишь догадываться: воспро-
изведением исторического времени путем оперирования различ-
ными стилевыми моделями, заметно расширившими представле-
ние о музыкальном хроносе, занимались, как известно, компози-
торы последующих поколений, прежде всего — Стравинский. Ве-
роятнее всего, она вылилась бы в обобщенную архаику квазипро-
метеевских комплексов, олицетворяющих для композитора «тем-
ные глубины прошлого».
Так или иначе, возможность охвата посредством музыки не-
измеримых временных глубин волновала Скрябина постоянно,
о чем свидетельствуют уже его философские записи начала
1900-х годов. Мысль об одномоментном переживании прошлого
и будущего звучит здесь как лейтмотив. «Формы времени таковы,—
пишет композитор,— что я для каждого данного момента создаю
бесконечное прошлое и бесконечное будущее»22. «Глубокая веч-
ность и бесконечное пространство,— читаем в другом месте,—
есть построения вокруг божественного экстаза, есть его излуче-
ние — момент, излучающий вечность»23. Мысли эти еще сильнее
дают о себе знать к концу творческого пути, о чем говорит весь
текст «Предварительного действа» и, в частности, его начальные,
программные строки: «Еще раз хочет Бесконечный себя в конеч-
ном опознать».
Что означали эти философские дедукции для самой музыки
Скрябина?
С одной стороны, они означали тотальную гармоническую
неустойчивость, превращающую композиционную замкнутость
его произведений в условность и делающую их принадлежностью
21 Блок А,—Белый А. Переписка.— В кн.: Летописи Государственного литера-
турного музея, т. 7. М., 1940, с. 11.
22 Записи А. Н. Скрябина.— Русские пропилеи, т. 6. М., 1919, с. 145—146.
23 Там же, с. 163.
3 - Т. Н. Левая
65
некоего бесконечного процесса. С другой же стороны, с ними свя-
зано прогрессирующее сжатие музыкальных событий во времени,
придание им качества одномоментности. Если путь от шестичаст-
ной Первой симфонии к одночастной «Поэме экстаза» еще можно
расценить как восхождение к зрелости, освобождение от юношес-
кой многословности, то в собственно одночастных опусах зрелого
и позднего Скрябина временная концентрация явно превышает
обычную норму. Как своего рода эксперимент со временем воспри-
нимаются поздние фортепианные миниатюры. Например, в «При-
чудливой поэме» ор. 45 заявка на типично скрябинскую сферу
полета и самоутверждения духа сочетается с такой миниатюр-
ностью размеров и стремительностью темпа, что время восприятия
пьесы резко превышает время ее звучания. В подобных случаях
Скрябин выставлял в конце произведения (или его разделов) так-
товые паузы, как бы предоставляя возможность домыслить образ,
а главное — почувствовать его бесконечную перспективу, выход
за рамки реального, физического времени. В названной пьесе
ор. 45 поэма соединяется с миниатюрой — в этом, собственно,
и состоит ее главная «причуда», зафиксированная в названии.
Однако свойства такого рода причудливости можно обнаружить
и в других произведениях позднего Скрябина, где поэмная собы-
тийность сжимается до мига, превращается в намек.
Весьма наглядным выражением диалектики протяженности и
одномоментности являются скрябинские «гармоние-мелодии». Это
понятие, которым пользовался сам композитор, подразумевает
структурное тождество горизонтали и вертикали, естественное в
условиях полной монополии избранного гармонического комплек-
са. Нам же в этом явлении интересен не просто момент горизон-
тально-вертикальной обратимости, который характерен для раз-
личных музыкальных стилей и, в частности, крайне показателен
для серийной техники нововенцев. Здесь заслуживает внимания
специфически скрябинский перевод времени в пространство, ле-
жащий в основе как относительно мелких, так и крупных музы-
кальных построений. Многие темы Скрябина основываются на
постепенном «свертывании» мелодической горизонтали в сложную
кристаллоподобную вертикаль — своего рода микрообраз достиг-
нутого Всеединства. Такова, например, фортепианная пьеса
«Желание» (ор. 57) — миниатюрный вариант экстатических со-
стояний, достигаемых описанным способом «кристаллизации»:
66
Таковы и многозвучные арпеджированные тоники в конце того
же «Желания», «Гирлянд», Шестой сонаты и многих других
скрябинских сочинений; они бы выглядели традиционными заклю-
чительными рамплиссажами, если бы не этот эффект всеобъеди-
нения — не случайно в них собирается воедино, «кристаллизует-
ся» весь звуковой комплекс произведения:
Нетрудно заметить, что явления такого рода, как и вообще
попытки наполнить звучащий момент ощущением бесконечности,
чрезвычайно актуализируют в музыке фактор пространства. Не
говоря уже о сильном пространственно-стабилизирующем
эффекте неизменных гармонических комплексов, переключение
горизонтали в вертикаль, которое мы только что наблюдали на
примере «гармоние-мелодий», стало у Скрябина прогрессирующей
тенденцией стиля. Отсюда — неограниченное разрастание и рас-
слоение звукового объема в его опусах, о чем в фортепианной
музыке уже чисто визуально свидетельствуют трехстрочрые нот-
ные станы. В этом увеличении пространственного объема звуча-
ния участвуют тематизм, гармония (эволюция к шести-восьми-
десятизвучию), наконец, фактурно-регистровые и ритмические
средства.
Включение в пространственный параметр наряду с фактурно-
тембровыми сложных ритмических комбинаций (разные виды
полиритмии) необычайно динамизирует звуковой мир Скрябина,
придает ему черты непрерывно меняющейся атмосферы — то чуть
вибрирующей, то взбудораженной и разгоряченной. Если попы-
з*
67
таться определить форму скрябинского хронотопа типологически,
то, вероятно, надо назвать ее, пользуясь имеющимися терминами,
«формой пребывания в пространстве», но только с поправкой на
особую действенность этого пребывания (прав Б. Шлецер, говоря
о том, что «Скрябин переживал бесконечное как бытие динами-
ческое, становящееся»24). Попутно заметим, что некоторые иссле-
дователи, например К. Мелик-Пашаева, связывают «форму пребы-
вания в пространстве» с традициями французской культуры и с
Дебюсси25. Пример Скрябина, совместно с Дебюсси, заставляет
откорректировать эту точку зрения и признать не только наци-
ональную, но и историко-культурную обусловленность подобного
хронотопа. Ибо на этом этапе исторической эволюции музыкаль-
ных хронотопов романтическое «бесконечное настоящее» наде-
ляется особой — чисто символистской — остротой ощущения
мгновения как бесконечности.
Но вернемся к вопросу о том, как «пребывает» в музыкальном
пространстве Скрябина его ритм. Подчинение пространственному
эффекту ритма и ритмической полифонии в высшей степени пока-
зательно для композитора. Думается, однако, что не только соб-
ственно ритм, но и скрябинский хронос вообще испытывает воз-
действие неких высших сил, отчасти утрачивая качество вектор-
ности и словно утверждая в некоем сферическом пространстве
самоцельность движения как такового. В роли этих центростре-
мительных сил выступает все тот же образ бесконечного и единого
мира, воссоединение с которым принимается композитором как
аксиома, как акт осознавшего свою божественность «играющего
духа». Не случайно столь излюбленными формами движения
являются у Скрябина танец и игра. Говоря условно, на фоне ста-
бильно сложной гармонии, которая как бы излучает вечность,
скрябинский ритм — с его прихотливостью, ахронометричностыо,
свободой, широким использованием tempo rubato — равнозначен
«пульсации мигов». Такое соотношение может быть выражено
бальмонтовскими словами: «Все лики — ипостаси Единого, рас-
сыпанная ртуть».
Впрочем, в некоторых позднейших опусах композитора идея
слияния с Вечностью приводила к тому, что его музыкальное время
как бы утрачивало свойства психологичности, становилось вопло-
щением космической беспристрастности, размеренности, грани-
чащей с небытием. Стабильность гармонии распространялась в
таких случаях и на ритм, словно «замораживая» его. Такова
сплошь остинатная прелюдия № 2 из ор. 74, заставляющая вспом-
нить слова композитора о том, что музыка, по-видимому, способ-
на «заколдовать» время и даже совершенно остановить его26. По
24 Шлецер Б. А. Скрябин, т. 1, с. 88.
25 См.: Мелик-Пашаева К. Пространство и время в музыке и их преломление во
французской традиции.— В кн.: Проблемы кузыкальиой науки, вып. 3. М.,
1975.
26 Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине, с. 49.
68
свидетельству Л. Сабанеева, Скрябин допускал возможность
двоякого исполнения этой пьесы: традиционно-выразительного,
с детализацией и нюансировкой,— и абсолютно размеренного,
без каких-либо оттенков. Вероятно, именно второй вариант испол-
нения имел в виду композитор, когда говорил, что прелюдия эта
словно длится целые века, что она звучит вечно, миллионы
лет27.
Как вспоминает тот же Сабанеев, Скрябин любил проигрывать
эту прелюдию много раз подряд без перерыва,, очевидно желая
глубже пережить подобную ассоциацию.
Если прелюдия № 2 ор. 74 как бы уводит нас по ту сторону
бытия, заставляя прислушиваться к «часам Вечности», то в некото-
рых других сочинениях позднего Скрябина внедрение остинатности
носит резко конфликтный характер. В сочетании с импульсивной
свободой фактуры и ритма, а также в условиях полигармонии ее
заколдовывающая сила приобретает демонический оттенок.
Например, в кодах-кульминациях Девятой сонаты или «Мрач-
ного пламени» попытки остановить время более чем драматичны;
они чреваты срывом в хаос — прекрасная иллюстрация пушкин-
скому: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Впечат-
ляющая амбивалентность этих строк вполне адекватна амбива-
лентности скрябинского переживания бесконечности как «бездны
мрачной», таящей «неизъяснимы наслажденья».
Но обратимся теперь к самой символике бесконечного у Скря-
бина. Центральное значение имеют здесь круг и спираль, излюб-
ленные фигу(Й>1 символистов (судя по теоретической работе
А. Белого «Линия, круг, спираль — символизма»28). Скрябинская
круговая символика вполне соответствует геометрическому образу
актуальной бесконечности, который выражается в бесконечном
количестве точек на окружности (в противоположность потен-
циальной бесконечности, выражающейся в бесконечном коли-
честве точек на прямой). «Форма должна в итоге быть как шар» —
это высказывание композитора можно отнести ко многим его
произведениям.
Кругообразное воплощение бесконечности обладает различными
выразительными возможностями. Оно может быть связано с чув-
ством гнетущей предопределенности — как, например, в гиппиу-
совских «Кругах на песке», ее же «Странах уныния» (с заключи-
тельной фразой «Но нет дерзновенья, кольцо замыкается»), в из-
вестном блоковском «Чертя за кругом плавный круг». У Скрябина
мы тоже сталкиваемся подчас со статикой сосредоточенно-скован-
ного состояния, изображающего рок и смерть. Однако чаще форму-
ла круга несет с собой у него более широкий, магически-суггестив-
ный смысл; скажем, в прелюдии № 1 из ор. 67, обозначенной ремар-
кой Misterioso, непрерывное мелодическое кружение на остинат-
ном гармоническом фоне означает таинство, ворожбу:
27 Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине, с. 270.
28 Труды и дни. М., 1912, № 4—5.
69
13
Andante
Л. Скрябин. Прелкщия ор. 67 И* 1
Несомненна и взаимосвязь круговых движений у Скрябина с
бесконечностью творчески созидательного начала. Зарождение
многих тем его сочинений можно уподобить шарообразному уплот-
нению космических туманностей. Обратим внимание на темы, от-
крывающие центральные симфонические произведения — «Поэму
экстаза» и «Поэму огня», они обладают очевидными признаками
круговой симметрии, причем в «Прометее» радиус круга «на гла-
зах» увеличивается:
14 А. Скрябин. Лромвтей**
Еще более универсальна в данном аспекте выразительность
скрябинской гармонии, имеющей дважды-ладовую основу.
Л. Мазель называет скрябинские лады «круговыми» , подчерки-
вая в них момент тритонового энгармонизма и обусловленную им
возможность бесконечного «перетекания» одной доминанты в дру-
гую. В этой доминантности Скрябин остается, пребывает, по выра-
жению Б. Яворского, «в стадии неустойчивости, раздражения без
исхода»29 30. Сам принцип перманентного оттягивания тоники может
вызвать и вызывает ассоциации с «бесконечной мелодией» Вагне-
ра. Однако тотальное использование «круговых» ладов наделяет
«бесконечное настоящее» Скрябина характерным свойством сфе-
рической замкнутости — результат гипертрофии и экстраполяции
в область гармонии принципа Всеединства.
Если для гармонии Скрябина столь характерна формула круга,
то на композиционно-драматургическом уровне его произведений
кругообразность становится циклической, круг превращается в
круго-линию, то есть в спираль. Уже в Пятой сонате и «Поэме
экстаза» можно наблюдать отчетливую модификацию сонатной
формы, превращение ее в многофазную композицию, где вступ-
ление, экспозиционный раздел, разработка, реприза и кода упо-
добляются виткам «бегущей спирали». Традиционный дуализм
сонатной формы, предусматривающий непосредственное взаимо-
действие тем, с его началом и концом, явно нейтрализуется. На
первом плане — нарастающая динамика состояний и последова-
тельное преображение первообраза, угадываемого в каждой новой
29 См.: Мазель Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972, с. 483.
30 Музыка, 1915, № 220, с. 278.
70
фазе. Соотношение разделов сонатной формы в некоторой мере
сходно с принципом символической эквивалентности в поэтике
символизма, когда подобие на расстоянии оказывается важнее
непосредственно соединяющих связей.
Здесь опять-таки важна бесконечность этого ряда уподоблений.
А. Белый в той же статье рассуждает о ней в духе геометрической
символики, говоря о спирали с расширяющимися кругами. У Скря-
бина принцип расширяющихся кругов воплотился в нарастающей
интенсивности эмоционального напряжения. В «Поэме экстаза»,
например, разработка «интенсивнее» экспозиции, а кода «интен-
сивнее» не только репризы, но и всего того, что было раньше.
Венец нарастания — экстаз — мыслился самим Скрябиным как
уничтожение пространства и времени, слияние с бесконечностью.
Такое ощущение действительно возникает при восприятии заклю-
чительных разделов его произведений даже если они гармони-
чески замкнуты, как Четвертая соната или та же «Поэма экстаза».
Интересно, однако, что в Пятой сонате, этой спутнице «Поэмы
экстаза», круг гармонического развития размыкается, вихревые
пассажи после торжествующего Maestoso возвращают к началу
произведения, к состоянию первичного хаоса. Здесь музыкально
реализуется идея экстаза как абсолютного бытия, граничащего с
небытием и представляющего, так сказать, «потерю сознания,
т. е. возвращение к небытию» — цитируем одну из записей Скряби-
на31. Танеев отчасти был прав, говоря, что Пятая соната «не закан-
чивается, а прекращается». Она н в самом деле «не заканчивает-
ся», ибо возвращение к началу дает возможность предположить
новое прохождение по виткам спирали, новый творческий акт и но-
вое достижение экстаза как абсолютного бытия. Процесс этот в
принципе бесконечен, и потому «прекращение» Пятой сонаты вос-
принимается как неизбежная условность. Чрезвычайно важно под-
черкнуть многоуровневый характер кругообразности в Пятой
сонате и тот факт, что борьба линии и круга выносится здесь на
уровень самого бытия музыкального произведения, не ограничи-
ваясь его структурой.
Уже на данном примере можно судить о том, насколько смел и
ненормативен был Скрябин как создатель крупной формы. Если же
учесть при этом фантастичность его проектов, связанных с Мисте-
рией, то область скрябинских макроформ следует признать
областью едва ли не экстремальных новаций. Однако не менее
изощренно Скрябин мыслил на уровне микроединиц музыкальной
материи, если вспомнить крайнюю рафинированность его тактовой
метрики, непредсказуемое разнообразие временных делений,
любовь к микроразмерам (вплоть до однодольных тактов, пример
которого находим в той же Пятой сонате32).
Эту сложность микро-и макроформ Скрябина, своего рода плюс-
минус-бесконечность и имел в виду В. Каратыгин, когда писал
31 Русские пропилеи, т. 6, с. 170.
32 На это обращает внимание В. Холопова в книге «Русская музыкальная ритми-
ка» (М., 1983, с. 168).
71
о том, что Скрябин «смотрел одним глазом в какой-то чудесный
микроскоп, другим — в исполинский телескоп, не признавая зрения
невооруженным глазом»33. В статье «Элемент формы у Скрябина»,
из которой мы цитируем эти строки, Каратыгин связывает микро-
и макроуровень скрябинской музыки с понятием «предельной
формы», тогда как под «средней формой» подразумевает уровень
предложений и периодов. На академичность, консервативность,
даже «бухгалтерскую расчетливость» (по выражению Л. Сабане-
ева) того, что Каратыгин называет «средней формой», обращали
внимание многие. Чем была для Скрябина эта «средняя форма»?
Инстинктом самосохранения — «внутренним метрономом» (Кара-
тыгин) — или своеобразной издержкой рационализма, который,
как известно, был парадоксально характерен для символистов,
этих «побочных детей века разума, порядка и системы»34? Вероят-
но, и тем и другим. Так или иначе, безмерное и бесконечное высту-
пает у Скрябина в конфликте с конечно-размерным. Важно лишь
подчеркнуть скрытый характер этого конфликта. Ибо рациональ-
ный элемент необходим здесь лишь как некая точка отсчета, как
стартовая площадка для полета в неизвестность.
Но конфликт бесконечного с конечным выразился у Скрябина
не только в противоречии между «предельной» и «средней» фор-
мой — противоречии, так сказать, внутритекстового, лаборатор-
ного порядка. В широком плане этот конфликт можно понять как.
неизбежность «прекращения» его произведений, как физическую
невозможность их бесконечного деления, к чему, казалось бы, они
внутренне предназначены.
Однако устремленность в бесконечное отличала и все творчество
Скрябина, готовившего себя к Мистерии и ее не осуществившего.
Сложение отдельных произведений в некий сверхзамысел было
характерной чертой символистов35. Венцом мессианских задач
представлялся им театр мистерий, далеко идущие цели которого
не получали в их сознании достаточно четких пространственно-
временных очертаний (а попытки приблизить «возродительную
катастрофу» мира лишь подчеркивали эту нечеткость и отсутствие
чувства реальности). В художественно-социальных проектах рус-
ских «теургов» бесконечное обратилось утопией, недосягаемостью.
Скрябин же, умерший почти внезапно и много раньше своих «со-
братьев по ворожбе», быть может, как никто другой воплотил дра-
матизм конечности человеческого существования перед бесконеч-
ностью мечты. И потому не только творчество, но и сама судьба его
остались символами самых смелых и непреоборимых дерзаний.
33 Каратыгин В. Элемент формы у Скрябина.— В кн.: Каратыгин В. Г. Избр.
статьи. М.— Л., 1965, с. 219.
34 Бачелис Т. Шекспир н Крэг. М., 1983, с. 55.
35 Л. Гинзбург справедливо отмечает процесс циклизации в творчестве А. Бло-
ка, а также квазисюжетную линию у А. Белого: «Золото в лазури» — «Пепёл» —
«Урна» (Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974).
«Прекрасная ясность»
Глава 4
ПРЕДПОСЫЛКИ И СИМПТОМЫ НОВОГО КЛАССИЦИЗМА.
ХРОНОЛОГИЯ и типология
В 1910 году, на пороге нового десятилетия, журнал «Аполлон»,
печатный орган акмеистов, стал трибуной активной и очень целе-
направленной критики символистского метода. К тому времени
символизм, переживший свой звездный час, клонился к кризису;
выражаясь словами А. Блока1, «сине-лиловый сумрак» уже сме-
нил собой «золотой свет» теургических устремлений. Почти исчер-
пали себя и многие собственно художественные установки симво-
листской поэзии. Кроме того что в новой ситуации «неуместным»
оказался ее сугубый психологизм — подобно другим прощальным
вспышкам романтизма, уступающего дорогу более трезвому и
деловому веку,— критическое отношение вызывали такие из-
держки ее метода, как аморфность и деструктивность формы, сры-
вы в беспредметность. Вот почему вполне программный смысл име-
ло следующее высказывание поэта М. Кузмина: «Пусть душа ваша
цельна или расколота... умоляю вас, будьте логичны,— да простит-
ся мне этот крик сердца! — логичны в замысле, в построении произ-
ведения, в синтаксисе... Будьте искусным зодчим как в мелочах, так
и в целом... Любите слово, как Флобер, будьте экономны в сред-
ствах и скупы в словах, точны и подлинны, и вы найдете секрет див-
ной вещи, прекрасной ясности, которую я назвал бы кларизмом»1 2.
Примечательно, что «кларизм» или «парнассизм» (как еще опре-
делялось это веяние из-за связи с французским Парнасом) вызре-
вал внутри символистского движения; его принципы близки были
не только Кузмину, но и таким правоверным символистам, как
В. Брюсов, И. Анненский, Вяч. Иванов. Однако особую програм-
мную отчетливость они получили у поэтов нового поколения, «пре-
одолевших символизм» — этими словами названа известная
статья В. Жирмунского 1916 года, посвященная А. Ахматовой и
О. Мандельштаму. Говоря о пушкинской ясности ахматовской
поэзии и классической строгости, «державинской» размеренности
стиха Мандельштама, исследователь склонен видеть за этими
1 Блок А. О современном состоянии русского символизма.— Аполлон, 1910, № 8.
2 Куэмин М. О прекрасной ясности.— Аполлон, 1910, № 4.
73
проявлениями индивидуального стиля приметы новой поэтической
эпохи. Признав впоследствии классическую окраску нарождаю-
щейся поэзии и проследив ее генезис3, Жирмунский констатирует
новизну ее установок: «...вместо сложной, хаотичной, уединен-
ной личности — разнообразие внешнего мира, вместо эмоциональ-
ного, музыкального лиризма — четкость и графичность в сочета-
нии слов, а главное, взамен мистического прозрения в тайну жиз-
ни — простой и точный психологический эмпиризм — такова про-
грамма, объединяющая „гиперборейцев"»4.
Эти противоположности можно продолжить: неясность, смутная
глубинность переживаний, характерная для символистов, у акме-
истов сменяется отчетливым, строгим и точным самонаблюдением,
на смену бесконечному и безмерному приходят конечно-размерные
ценности. «Бесконечное приближение квадрата через 8-угольник,
16-угольник и т. д. к кругу мыслимо лишь математически, но никак
не artis mente. Искусство знает только квадрат, только круг... Ис-
кусство есть прочность»,— писал на страницах «Аполлона»
С. Городецкий5. Там же Н. Гумилев, характеризуя отношение
акмеистов к неведомому и непознаваемому, выразил их принцип
следующим образом: «...всегда помнить о непознаваемом, но не
оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догад-
ками...»6.
Впрочем, журнал «Аполлон», само название которого указывало
на вновь избранный путь (сквозь стихию — к мере и ясности, от
бога Диониса к богу Аполлону), не ограничивался в своих публи-
кациях материалом поэзии. Широкое место занимали в нем статьи
о новой живописи, архитектуре, театре, музыке, равно как и худо-
жественно-исторические исследования, направленные по некоему
общему руслу (чрезвычайно показательна, например, статья
В. Каратыгина о «Саламбо» Мусоргского, где автор, в противовес
общепринятым представлениям о Мусоргском, стремится выявить
в нем «аполлонические» начала7). Тем более универсальной пред-
стает общая эстетическая программа журнала, сформулированная
уже в первых его номерах: хотя «протест против бесформенных
дерзаний творчества, забывшего законы культурной преемствен-
ности»8, и предполагает подражание совершенным художникам
Греции и Ренессанса, но «широкий путь аполлонизма, который гре-
зится нам, не может совпасть с легкой, утоптанной школьными учи-
телями всех веков, дорожкой, ведущей к Парнасу и в холодные
академические кумирни. Аполлон — только символ, дальний зов из
еще непостроенных храмов, возвещающий нам, что для искусства
современности наступила эпоха устремлений... к новой правде,
3 См.: Жирмунский В. О поэзии классической и романтической.— В кн.: Теория
литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
4 Жирмунский В. Преодолевшие символизм.— Там же, с. 111 —112.
5 Аполлон, 1913, № 1, с. 46.
6 Гумилев Н. Заветы символизма и акмеизм.— Аполлон, 1913, № 1, с. 44.
7 Аполлон, 1909, № 2.
8 Аполлон, 1909, № 1, с. 3.
74
So сознательному и стройному творчеству: от разрозненных
— к закономерному мастерству, от расплывчатых эффек-
стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте»9 10 11,
дно заметить охранительный по отношению к искусству
: манифестов, возникших как реакция на крайние проявле-
ивидуализма в современном творчестве: утрату объектив-
териев в отдельно взятых «психологизирующих» опусах,
«отсутствие общей цели, общности устремлений, отсутствие на-
следственности и преемственности»19—в более широком плане.
«Как бы ци называть новое направление — акмеизмом или адамиз-
мом...— п^шет Гумилев в цитировавшейся выше статье,— но оно
во всяком случае требует большего равновесия сил и более точного
знания между субъектом и объектом, чем то было в символизме»11.
И дальше: «...высоко ценя символистов за то, что они указали на
значение в искусстве символа, мы не согласны приносить ему в
жертву прочих способов поэтического воздействия и ищем их пол-
ной согласованности»12.
Проблема равновесия и согласованности элементов целого, по-
жалуй, больше, чем какая-либо другая, сфокусировала в себе по-
требности разных искусств, в том числе и музыки. Как нигде остро
она стояла в русском зодчестве 1900—1910 годов (стимулируе-
мая, среди прочего, тревогой за архитектурную целостность Петер-
бурга). Охранительный, едва ли не экологический оттенок новых
идей, ставка на «целительное и спасительное действие классициз-
ма» потому больше всего сказались именно в архитектуре, что не-
посредственное «вхождение в жизнь» этой сферы искусства,
каждодневность контакта с ней масс людей, зависимость от прак-
тических нужд, необходимость соответствовать общему ансамблю
делают особенно недопустимым здесь произвол случайности. Из
других искусств ближе всего к зодчеству оказалась в данном от-
ношении музыка. На рубеже XX века двойственность ее «архитек-
турно-эмоциональной» природы сказывалась с особой остротой13:
чем больше проявляла себя деструктивность эмоционального эмпи-
ризма, множественность и детализированность впечатлений
(вспомним ребиковскую «психографию»),— тем насущнее были
поиски целостности, подчинение законам «абсолютной красоты».
Не случайно именно в этих искусствах неоклассическое движение,
закрепленное в соответствующем термине, приобрело наиболее
широкий характер. Правда, в музыке собственно неоклассицизм
развернулся позже, достигнув полноты выражения в 20—30-е
годы. Однако тенденции охранительства проявляли себя уже в пер-
вые десятилетия века (а также на подступах к нему). Именно они
9 Аполлон, 1909, № 1, с. 3.
10 Бакст JJ. Пути классицизма в искусстве.— Аполлон, 1909, № 2, с. 78.
11 Аполлон, 1913, № 1, с. 42.
12 Там же, с. 43.
13 Об «архитектурной» и «эмоциональной» музыке писал впоследствии А. Лу-
начарский, связав эти противоположности с именами Танеева и Скрябина (см.:
Танеев и Скрябин.— В кн.: Луначарский А. В мире музыки. М., 1958).
75
определяют характер эстетических идей Ф. Бузони, работы кот£>-
рого, начавшие появляться с середины 1900-х годов, стали первым
манифестом музыкального классицизма XX века в европейском
масштабе. Этим же тенденциям обязаны и рационализирующие
установки таких русских авторов, как Римский-Корсаков и Глазу-
нов, Танеев и Метнер. /
Охранительный смысл имело также движение за автономию
искусств. Правда, в начале века оно еще не имело декларативного
характера, какой приобрело позже (о чем свидетельствует «Музы-
кальная поэтика» Стравинского с ее антивагнерианским духом,
а также ряд других достаточно полемичных высказываний компо-
зитора, в которых содержание музыки трактуется в традициях
гансликовских «движущихся звуковых форм»). Но важно уже то,
что поиски целостности, о которых только что шла речь, производи-
лись изнутри музыки, с учетом имманентных законов ее как само-
стоятельного вида искусства. Это тем более примечательно, что
в символизме действовали подчас внемузыкальные способы инте-
грации: интегрирующую функцию по отношению к музыке выпол-
няла либо поэтическая идея, либо — шире — обобщающая фило-
софская мысль о мире, которая могла бы «компенсировать субъек-
тивное восприятие мира, дробящееся на множество впечатле-
ний»14. На имманентные ценности музыки ориентировался и Бузо-
ни с его идеей иерархической согласованности элементов под эги-
дой мелодии, и Танеев, делающий ставку на абстрактные, а потому
«вечные» законы полифонии («Подвижной контрапункт строгого
письма»), и Метнер, устанавливающий в соответствии с выводи-
мым им законом предел хроматизации лада, многозвучия аккор-
дов, самодовлеющей звучности15 и т. д. В сущности, параллельно и
в противовес романтико-символистскому синкретизму постепенно
нарождалась новая концепция искусства. И так же как акмеисты
стремились освободить слово от «магичности», желая работать
с ним как мастера с материалом, так и у музыкантов сугубый инте-
рес к вопросам формы носил явно «онтологическую» окраску.
Тенденции охранительства частично возникали внутри модерни-
стских направлений: «кларизмом» отмечена третья волна симво-
лизма (представленная весьма влиятельной фигурой М. Кузмина),
а идея братства Диониса и Аполлона была одной из популярных
в литературной публицистике 1900— 1920-х годов. И все-таки
объективно эти тенденции шли извне символистского идейно-
художественного комплекса — не случайно охранительство пере-
росло вскоре в декларацию принципиально новой эстетики, во
многом определившую пути искусства XX века. Между тем новый
классицизм и внутренне, генетически был связан с символистской
14 Житомирский Д. К истории музыкального «классицизма» XX века. (Идеи
Ферручо Бузони).— В кн.: Западное искусство. XX век. М., 1978, с. 275.
15 Теоретическую аргументацию «музыкальных смыслов», или «коррелатов»,
Метнер предпринял в своей книге «Муза и мода», изданной в Париже в 1930-х
годах.
76
культурой. На этот раз следует иметь в виду ее ретроспективист-
ский, культуроведческий аспект16.
Уже на рубеже столетий уход в миф и историю трактовался как
ностальгическая тяга к истокам, естественная в эпоху «сумерек
боговой «утомления культурой». Такова, например, точка зрения
Н. Жиляева, который сравнивал уходящий век с лермонтовским
«Умирающим гладиатором»:
Стараясь заглушить последние страданья.
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья,—
Насмешливых льстецов несбыточные сны17.
Впрочемгпо отношению к России, где в прошлые времена куль-
турная связь эпох и непреходящие ценности Искусства слишком
затмевались Злобой дия, «проклятыми вопросами», объективнее
было бы говорить не об «утомлении культурой», но о долгождан-
ном взрыве художественного самосозиаиия — вспомним бердя-
евскую формулу «русского культурного ренессанса». И хотя он
окрашивался длй многих в «закатные» тона, в нем угадывалась
заря нового искусства, искусства XX века с его обострившимися
интеллектуально-познавательными и рефлектирующими потреб-
ностями.
Так или иначе, вкус к «позапрошлому», антикварному ие в мень-
шей степени характеризовал искусство и культурный быт России
конца XIX — начала XX века, нежели поиски нового, неизведан-
ного. «Эстетизм и коллекционерство дошли до пределов»,— писал
Л. Бакст в 1909 году, убежденный в закономерности такого явле-
ния, подготавливающего почву классической эре искусства18. «От-
крылась новая, неведомая ранее страсть, род недуга — безотчет-
ное, неудержимое, властное влечение к старине и прошлому»,—
читаем также у И. Грабаря19. Журнальная пресса тех времен бук-
вально пестрит сообщениями о выставках античной скульптуры,
старинной живописи и зодчества; в ней можно встретить научные
эссе, посвященные искусству Древней Греции и Византии, России
елизаветинской эпохи, истории русской литографии, античному
хору, древней итальянской пантомиме и т. д. и т. п.
Паломничество в прошлое предполагало интерес к отечественной
истории, к древним пластам национального искусства, к фольк-
лору. Но все же в наибольшей степени оно было движением
вширь — стремлением соприкоснуться с самыми разнообразными
слоями европейской культуры. Более того: если говорить о твор-
16 Культуроведческие интересы символистов проявились, среди прочего, уже в
факте их научной специализации: как известно, Белый и Брюсов были выдаю-
щимися теоретиками-литературоведами, Вяч. Иванов — историком и филоло-
гом, исследователем архивов, И. Анненский — переводчиком Еврипида, глубо-
ким знатоком античной культуры.
17 См.: Жиляеп Н. С. Литературно-музыкальное наследие. М., 1984, с. 96—97.
18 Бакст Л. Пути классицизма в искусстве.— Аполлон, 1909, № 2, с. 69.
19 Грабарь И. Ранний александровский классицизм и его французские источни-
ки.— В кн.: Игорь Грабарь о русской архитектуре. М., 1969, с. 285.
77
ческих итогах собственно неоклассицизма, то он означал для Рос-
сии не столько претворение отечественных традиций, сколько обра-
щение к стилистическим системам западных культур. В/этом
смысле XX век неизмеримо расширил явление «русской европей-
скости», получившей толчок к развитию еще в петровские времена
(не отсюда ли интерес новых художников к петербургскому
XVIII веку?). На новой стадии происходила известная переориен-
тация европейских контактов: в поэзии «кларнетов» и в произведе-
ниях новой живописи германский мистицизм уступал место роман-
ской, французской ясности. Однако важен сам факт таких контак-
тов, не сужающихся, но прогрессирующих; об этом свидетельствует
и явно «европейская» направленность журнала «Аполлон», добрую
половину которого составляла иностранная хроника.
Небывало высокий модус историко-гуманитарно!/оснащенности
превращал поэзию символистов и акмеистов, ра^но как многие
образцы мирискуснической живописи20 или спектакли Старинного
театра21, в некий род искусства об искусстве. В музыке факты исто-
рической направленности вкусов простирались от событий концерт-
ной жизни (выступления В. Ландовской, баховские программы
А. Зилоти, деятельность «Музыкально-теоретической библиотеки»,
«Дома песни» ) до конкретных примеров композиторского^
творчества.. С ними согласуется «полифонический ренессанс» Та-
неева, гётеанство и рыцарские мотивы Н. Метнера, «гавотная ста-
рина» молодого Прокофьева..
Если значительная часть классически ориентированных ком-
позиций питалась из сокровищ собственно музыкального прош-
лого (главным образом, инструментальные жаиры) и здесь трудно
переоценить упомянутую роль концертного просветительства22, то
такие явления, как антологическая вокальная лирика и мифоло-
гический балет, развивались под знаком общего для эпохи куль-
турно-художественного движения. Речь идет о новом ренессансе
античности.
Тенденция эллинизма, возрождение образов и эстетических
20 Напомним о «Nature morte» С. Судейкина, где изображается архитектура древ-
него храма с колоннами и херувимами, его же «балетные пасторали»; «версаль-
скую» и «петергофскую» серии А. Беиуа, многое у К- Сомова, Е. Лансере; нако-
нец — критические журнальные размышления о «петербургском периоде»
русского искусства.
21 Театр был основан в Петербурге в 1907 году по инициативе драматурга и
режиссера Н. Евреинова. Вслед за использованием материала средневековых
мираклей, фарсов и пастурелей в театре возрождался сам дух старинного пред-
ставления. О плодотворности этого опыта писал В. Мейерхольд, сравнивая его
воздействие с тем, как рассматривание средневековых миниатюр может по-
влиять на технику художника, «в особенности художника-декадента, слишком
игнорирующего значение рисунка и привыкшего всецело отдаваться лишь во
власть „музыки" красок» (Мейерхольд В. Старинный театр в Петербурге.—
В кн.: Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 1. М., 1968, с. 189).
22 Интересно, что Прокофьев связывал свою любовь к сочинению гавотов с кон-
кретными музыкальными импульсами, например с h-тоП’иым гавотом И. С. Ба-
ха в обработке Сен-Саиса, который он сам довольно часто исполнял в кругу
друзей (см.: Прокофьев С. С. Автобиография. М., 1982, с. 267—268).
78
принципов античного искусства всегда были знаком наступления
«классицизирующих» эпох23. Это естественно: «в античности, по-
скольку она переживается как золотой век, постулируемый в прош-
лом, особенно охотно усматривались черты гармоничности, совер-
шенства и полноты»24. И то, что среди многих слоев культурного
прошлого искусство рубежа веков особо выделяет античность
и античный миф, по меньшей мере симптоматично. Здесь еще раз
сказалсяутереломный характер символизма как направления, с од-
ной стороны сублимирующего — в общем русле романтической
эстетики —^различные культурно-временные слои, а с другой —
устанавливающего среди этих слоев определенную иерархию.
Античный рум характеризовал русскую культуру уже с середи-
ны 1890-х годов, то есть со времени выступления старших симво-
листов, и был\тем более заметен, что после Пушкина традиции
этого рода пребывали в длительном забвении. Фоном для его воз-
никновения в поэзии и в культурной жизни вообще служило мифо-
логизирование Как важнейший модус эпохи — стремление «по-
грузить каждое частное явление в стихию „первоначал" бытия
и дать через это явление целостный образ мира»25 26. С другой сто-
роны, обращение к античности стимулировалось упомянутым куль-
том красоты, совершенной формы, также вынашиваемым в симво-
листской среде, но принявшим декларативный характер в пост-
символистский период.
В музыке античный идеал во многом постигался через модную
в те годы лирику антологического плана — стилизованную или
переводную, содержащую прямые или косвенные переклички с
древними поэтическими образцами. Скульптурная статика поэти-
ческого образа находит здесь отклик в проясненной и одновремен-
но импрессионистски изысканной звуковой палитре, нередко с эле-
ментами стилизации. В сходном стилистическом ключе создавалась
и музыка «нового русского балета», который делал свои первые
шаги при очевидной ориентации на эллинское пластическое искус-
ство. Постановки на мифологические сюжеты Михаила Фокина
явились предшественниками неоклассического балета, к которому
дягилевская антреприза пришла позже, в 20-е годы. Античность
явилась той почвой, на которой она совершила свою эволюцию от
импрессионизма к неоклассицизму (от «Нарцисса» Н. Черепнина,
«Дафниса и Хлои» Равеля — к «Аполлону Мусагету» Стравин-
ского).
Как известно, античный миф дал основу музыкальному театру
23 То есть эпох, сознательно ориентирующихся на классический идеал. Слова
«классицизация», «классицист» будут употребляться далее и в более узком
смысле — как нечто нетождественное «неоклассицизму» («неоклассику») и
означающее приобщение к классическому образцу художников романтической
эстетики.
24 Габричевский А. Античность и античное.— В кн.: Античность в культуре и ис-
кусстве последующих веков. М., 1984, с. 12.
26 Аверинцев С. Символ.— В кн.: Краткая литературная энциклопедия, т. 6. М.,
1971, с. 827.
79
Стравинского в неоклассический период его творчества («Цдрь
Эдип», «Аполлон», «Персефона», «Орфей»), Создаваемые на про-
тяжении 20 — 40-х годов, его произведения уже чисто хронологи-
чески выходят за рамки дореволюционного периода русской* куль-
туры. Их идейно-эстетические принципы во многом формировались
на французской почве. Универсальный, законодательный ио отно-
шению к европейскому неоклассицизму смысл приобрели/и такие
особенности интерпретации Стравинским античного мифа, как
интеллектуально-нравственный аспект проблематики и' последо-
вательное моделирование музыки отдаленных эпох (уже свобод-
ное от импрессионистского и вообще от постромантического анту-
ража). В этом состояло качественное завоевание нового открытия
античности в XX веке. Однако, говоря об истоках неоклассицизма
Стравинского, нельзя забывать, что высказанное скмим компози-
тором стремление к «большей абстракции» (уже в период написа-
ния «Весны священной»), которое оказалось решающим в по-
следующем стилистическом повороте его творчества, опиралось
во многом на мифологизирующую традицию русской культуры.
Существенны и генетические связи на основе собственно античной
мифологии — как прямые, через фокинско-дягилевский балет, так
и косвенные, выразившиеся в общих принципах освоения антич-
ности новой русской поэзией и драматургией. В первом случае надо
иметь в виду эллинский культ совершенной формы, во втором —
интеллектуализацию и модернизацию мифа — процесс, заметный
у И. Анненского и М. Цветаевой и оказавшийся чрезвычайно
важным для судеб античности в XX веке.
Нетрудно заметить, что под знаком античности историзм и охра-
нительство, точнее, познавательные и потенциально-созидательные
тенденции культуры, в сущности, смыкались. Энтузиасты античной
старины призывали к живому, а не к музейно-научному только ее
восприятию. Л. Бакст, например, писал, что нарождающееся клас-
сическое искусство подразумевает «не столько эллинистические
сюжеты — изображение Аполлонов, Артемид, Афродит и Панов,
сколько эллинистический культ Человека, культ прекрасной
формы»26.
Столь же емким по смыслу было и гётеанство символистов. Культ
Гёте в символистских кругах был выражен чрезвычайно замет-
но26 27, документальным свидетельством чему явился специальный
раздел «Гётеана» в альманахе «Труды и дни» — этом главном
оплоте символизма на позднейшем этапе его существования28.
В известной степени он обусловлен был германской ориентацией
художественных интересов, особенно явной у А. Белого и Э. Мет-
нера, возглавлявших издательство «Мусагет». Но так же как сама
эта ориентация не была случайной, так неудивительны и постоян-
26 Бакст Л. Пути классицизма в искусстве.— Аполлон, 1909, № 2.
27 Подробнее об этом см.: Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1981,
с. 448—473.
28 «Труды и дни» выходили в издательстве «Мусагет» в течение 1912—1916 годов.
80
\
нЬ|е упоминания о Гёте в статьях Бальмонта, Эллиса, Вяч. Ивано-
ва, С. Соловьева. Все они считали Гёте своим предшественником,
ссылаясь на знаменитую строку из «Фауста»: «Alles Vergangliche
ist nur Gleichnis»29 — своего рода программную формулу, повто-
ряемую не реже тютчевского Silentium’a. Однако так же остро они
ощущади «отличие этого великого гения от целой группы поэтов,—
как писал Бальмонт,— заставляющее нас, изнервничавшихся,
утонченйдох и истомленных своей утонченностью, периодически
возвращаться к уравновешенному Гёте... Это отличие заключается
в том, что он — резкая противоположность коренящемуся в нас
трагизму»30.
Как «учитель мудрости» Гёте привлек внимание Н. Метнера,
определив классицистское направление его вокальной лирики. Лег-
кое, прозрачное письмо, жанровая устойчивость, шубертовская на-
певность мелодики характеризуют метнеровские песни 6, 15, 18-го
опусов, образовавшие три внушительных по масштабу гётевских
цикла. Подобно Пушкину (в опусах 29, 32 и 36), Гёте предстает
у Метнера всеобъемлющим, универсальным художником —
живое олицетворение той полноты классического идеала, к кото-
рому стремился сам композитор.
Сосуществование в вокальном творчестве Метнера наряду с уже
упоминавшейся ранее романтико-психологизирующей линией
(тютчевские романсы) линии классицистской не было, таким обра-
зом, лишь проявлением исключительно метнеровской двойствен-
ности. Гётеанство и эллинизм, культуроведение и поиск законов
абсолютной красоты — все эти столь важные для утверждения
новой эстетики процессы зарождались и развивались уже в недрах
символизма, на исходе романтической эпохи.
Подводя сейчас итог их обзору, отметим, что новый классицизм
был связан с символистской культурой не просто обычной логикой
преемственности. Импульсом к его развитию послужила принци-
пиальная антиномичность этой культуры, а с ней и всей художе-
ственной культуры начала века. Об антиномиях символизма уже
говорилось во Введении. Попытаемся конкретизировать их в сле-
дующей схеме:
индивидуалистичность
психологическая конкрет-
ность
«эстетика мгновения»,
дифференциация ощущений
интуитивизм, спонтанность
творческого акта
языковое новаторство,
«эволюционизм»31
— соборность
— мифологизирование
— идея Всеединства,
— интегрирующая тенденция
— рационализм,
теоретизирование
— тяготение к истокам,
идея «золотого века»
29 «Все преходящее — лишь подобие».
30 Бальмонт К. Избранник земли.— Жизнь, 1899, № 9, с. 15.
31 Этот термин используется здесь в духе культурологии начала века как обозна-
чение поступательного, необратимого процесса развития (а не как противо-
поставление «революционизму»).
81
В известной степени эти антиномии сопутствовали эволюции
символистского направления (вспомним о попытках младших сим-
волистов преодолеть индивидуалистические мотивы старших),
хотя очень многое дает убедиться в изначальности этих противо-
речий. Нам уже приходилось говорить о противоречии Скрябина.
Заметим, что правой стороне схемы скорее отвечали теориц и уто-
пии композитора, либо скрытые, подспудные элементы его твор-
чества (например, рациональный элемент). Зато у композиторов
нового поколения, прежде всего у Стравинского, соответствующие
явления вышли на первый план и актуализировались в качестве
предпосылок к неоклассицизму. Имеем в виду мифологизирова-
ние — этот кратчайший путь к «большей абстракции», идею «золо-
того века», запечатленную в античных символах, надындивидуаль-
ный, «соборный» дух обрядовых действ («Весна священная», «Сва-
дебка») и, конечно, уже явно, декларативно выраженное рацио-
нальное начало творчества.
Антитеза Скрябин — Стравинский тем более наглядна, что оба
композитора были авангардистами своих направлений в искус-
стве. Что же касается Танеева или Метнера, то здесь можно гово-
рить о характерном классико-романтическом симбиозе. Так, у Та-
неева рационалистическая ясность затуманивается «дионисий-
скими» подробностями гармонического письма («Иммортели»),
а Метнер, при всей склонности к чисто музыкальному строитель-
ству формы, был «необъяснимо» привязан к программности, к сло-
весно-образной символизации через заглавия и эпиграфы. Такой
симбиоз мог принимать и более острые, парадоксальные формы.
В этом отношении почти уникальна фигура А. Станчинского.
В противоречиях его творчества, о которых еще пойдет речь
позже,— незавершенность рано прерванного творческого пути, но
в них же запечатлена и та самая антиномичность переломной
эпохи, о которой мы только что говорили.
*
Но пора перейти от символистских корней «прекрасной ясности»
к ее перспективам.
По мере того как классицизация перерастала в собственно нео-
классицизм, «корректирующие» средства превращались в стиЛе-
образующие, а охранительство становилось строительством, сози-
данием. Новая эстетика, все более решительно противопоставляю-
щая-себя романтическим и постромантическим направлениям
(позже — экспрессионизму), предполагала более трезвый взгляд
на мир и поиски объективных оснований творчества. Толчком к ее
окончательному самоопределению послужила, как известно, пер-
вая мировая война — эти «официальные похороны XIX века».
В новейших исследованиях обстоятельно представлена история
и хронология нового классицизма, которому в XX веке суждена
была яркая и долгая жизнь. Так, В. Варунц намечает в эволюции
европейского музыкального неоклассицизма пять этапов: ранние
82
истоки (Мендельсон), более поздние внутриромантические прояв-
ления (Брамс, Франк), преддверие неоклассицизма (Бузони, Ре-
гер, Дебюсси, Танеев), собственно неоклассицизм (Стравинский,
Хиндемит, Казелла) и его конец (Петрасси, Маркевич, Франсе)32.
Исследователь также не без оснований упоминает о стилисти-
ческих ретроспекциях в новейшей музыке, возникших как реакция
на послевоенный авангард и проявивших себя в рамках поли-
стилистики.
Такой временной диапазон говорит сам за себя. Неоклассицизм
оказался наиболее влиятельным и стойким из современных музы-
кальных направлений. Кроме того, он репрезентировал общие
черты современного художественного мышления, охватываемые
понятием Neue Sachlichkeit («новая вещественность», «новая
объективность»), проявил широкие потенции к стилевому син-
тезу33 — и потому стал выражением одной из доминирующих тен-
денций современной культуры, по крайней мере на протяжении пер-
вой половины века.
Подобные перспективы вряд ли можно было предвидеть в начале
столетия. Хотя в связи с архитектурным неоклассицизмом, на-
пример, исследователи замечают, что уже в 1910-е годы он был,
по существу, не только реакцией на модерн, на прихотливость его
«либерти» — как казалось тогда, но знаменовал «изменение вкуса
в пользу простых форм и в русле новаторских течений»34. Если
не ограничиваться рамками зодчества, то под этими новаторскими
течениями следует подразумевать, очевидно, акмеизм, кубо-
футуризм, конструктивизм и пр. В более же поздней ситуации 20-х
годов о «нашей классически окрашенной эпохе» (Б. Шлецер) гово-
рилось уже определеннее. Эту «классическую окрашенность»
(если понимать слово «классический» в типологическом аспекте)
в той или иной мере демонстрировали и последующие этапы раз-
вития современной культуры, при всей ее очевидной плюралистич-
ное™.
Так или иначе, в начале века происходила смена не просто от-
дельных тенденций и направлений, но культурно-исторических
эпох. Это объясняет всю глубину кризисной ситуации тех лет и
сложный, стадиальный характер перемен.
В нашем историческом музыкознании сложилась традиция раз-
личать две волны в становлении нового музыкального классициз-
ма, разделенные войной. Первая волна связана с процессами
«классицизации» в рамках романтической эстетики, вторая же воз-
никла на антиромантической основе и явила собой собственно нео-
классицизм. Такое подразделение вполне правомерно и оправдано
32 См.: Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. М., 1988, с. 50.
33 Об этих свойствах нового классицизма нам уже приходилось писать в связи с
творчеством П. Хиндемита (см.: Левая Т. О стиле Хиндемита.— В кн.: Пауль
Хиндемит. Статьи и материалы. М., 1978).
34 Ерофеев А. О возникновении неоклассицизма в русском искусстве
1900—1910 гг.— В кн.: Проблемы истории советской архитектуры. М., 1983,
с. 10.
83
реальной картиной искусства. Не вызывают возражений и терми-
нологические обозначения «волн». В самом деле, в первом случае
имела место определенная коррекция эстетико-стилистических
норм романтического искусства с позиций классических образ-
цов; во втором сами эти образцы уже противопоставлялись роман-
тизму и становились предметом художественной рефлексии35. Диа-
логическая основа термина «неоклассицизм» согласуется с диало-
гической сущностью самого явления: с одной стороны, вторую
волну характеризует более явственное обнажение моделей старин-
ной музыки («классицизм»36), с другой — столь же радикальное,
на уровне последних языковых открытий, обновление («нео»),
В русской музыке первая волна представлена Танеевым, Метне-
ром, отчасти — Станчинским, Рахманиновым; вторая — Стравин-
ским и Прокофьевым.
Если сам факт существования классицизирующей и неокласси-
ческой стадий признается в нашей литературе вполне единодушно,
то в вопросе соотношения этих стадий мнения явно расходятся.
Так, М. Друскин, справедливо отмечая всю рубежно-разделитель-
ную силу «мировой катастрофы», «глубокой трещины», вызванной
войной, практически отказывает двум волнам нового классицизма
в какой бы то ни было преемственности: «Я не согласен с теми, кто
истоки неоклассицизма XX века ищет в веке предшествующем,
девятнадцатом... Между этими поколениями нет никакой
связи!»37 Наоборот, Д. Житомирский подчеркивает «тесную связь
первого и второго этапов музыкального „неоклассицизма"»
(обращаясь к примеру Ф. Бузони)38. «Для плодотворного изучения
музыкального „классицизма" XX века,— пишет он,— ...следует,
как мне кажется, не преувеличивать значение существующей при-
близительной классификации явлений»39.
Из этих вполне противоположных мнений (хотя и имеющих
в виду две стороны одной медали) второе представляется более
гибким и справедливым. Даже самые резкие культурные взрывы
не происходят абсолютно внезапно, но явно или скрыто подготав-
35 В. Медушевский не случайно называет соответствующие стили XX века
«рефлексивными» нли «интерпретирующими» — в отличие от «автономных»
стилей (см. его статью «К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкаль-
ных стилей» в кн.: Музыкальный совремеииик, вып. 5. М., 1984).
36 Мы оставляем сейчас в стороне конкретио-исторнческие типы этих моделей.
Как известно, они были весьма разнообразны и предполагали предельно широ-
кое понимание «классики». «Классика — это решительно все стили, канонизи-
рованные европейским музеем» (Ерофеев А. О возникновении неоклассицизма
в русском искусстве 1900—1910 гг.— В кн.: Проблемы истории советской ар-
хитектуры, с. 12).
37 Друскин М. Игорь Стравинский. Л.— М., 1974, с. 96. Поскольку автор называ-
ет средн представителей XIX века Регера и Танеева, то ясно, что речь здесь идет
не о «календарном» рубеже веков: имеется в виду поколение композиторов,
непосредственно предшествовавшее неоклассикам.
38 Житомирский Д. К истории музыкального «классицизма» XX века.— В кн.:
Западное искусство. XX век, с. 290.
39 Житомирский Д. К истории музыкального «классицизма» XX века.— В кн.:
Западное искусство. XX век, с. 253.
84
ливаются. Выше мы стремились показать эту преемственность
этапов, обусловленную антиномичностью культуры начала века.
Поиски связи времен, вызванная кризисом индивидуализма тяга
к надындивидуальному — эти явления, отмечаемые М. Друскиным
в качестве важнейших психологических стимулов неоклассицизма,
возникли уже тогда. Они только не носили еще характера резкой
оппозиции к романтизму, а были, как это видно на примере симво-
листов, одной из поздних форм его трансформации.
Конечно, охранительство имело место и в прошлом. Есть некая
диалектическая закономерность в том, что чреватый гипертрофией
романтический субъективизм с заметным постоянством вызывал
к жизни свою противоположность — искусство рационально-
объективного плана. Но в ситуации XX века извечная полярность
дионисийского и аполлонического типов приняла особо острые,
«программные» формы. В условиях активизации и дифференциа-
ции новаторски-разрушительных тенденций охранительство приоб-
ретало небывалую в другие эпохи действенность. И в этой дейст-
венности, в конструктивности намерений было уже многое от вновь
нарождающейся эстетики. Ведь охранялось не что иное, как цело-
стность искусства, его право на автономию, на художественную
преемственность (связь времен) — то есть то, что стало позже
предметом главных забот художников-неоклассиков.
Чрезвычайно важно также подчеркнуть то обстоятельство, что
две волны нового классицизма не просто сменяли друг друга. Они
контрапунктически наслаивались, взаимопроникали, сосущество-
вали — и на довольно большом временном протяжении. Так,
начало «классической» (а точнее — неоклассической) линии твор-
чества Прокофьева можно исчислять серединой 1900-х годов (ког-
да началась его работа над фортепианными пьесами ор. 12).
«Классицизирующий» же опыт Танеева и Станчинского распро-
странился на первую половину следующего десятилетия, не говоря
уже о Метнере и Рахманинове, у которого соответствующими
тенденциями особенно отмечен поздний период творчества, то есть
30-е годы.
Примечательно и то, что до известной степени взаимопроникали
сами художественные методы «классицистов» и «неоклассиков».
Как известно, у «классицистов» поиски опоры в прошлом касались
прежде всего сферы формообразования, принципов организации
материала, тогда как у «иеоклассиков» они затронули и языковую,
материальную сферу. Однако первые отнюдь не чуждались стили-
заций, аллюзий и вообще тех или иных видов Urtexten; вторые же
активно разрабатывали Urkraften40. Так или иначе, между двумя
волнами нового классицизма не было непроходимой границы.
Но вернемся к вопросам хронологии. Если творчество Танеева
и Станчинского еще можно вместить в хронологические рамки до-
40 Об использовании неоклассиками Urtexten и Urkraften европейской музыки
(то есть интонационно-ритмических формул и приемов оформления) говорит
в связи со Стравинским Б. Асафьев (см.: Асафьев Б. Книга о Стравинском.
Л., 1977).
85
военного периода, то опыт Метнера и Рахманинова в него явно
не укладывается. С точки зрения теории «непроходимой границы»
этот опыт следовало бы, вероятно, квалифицировать как исключи-
тельно след прошлого, некий традиционалистский осадок. Однако
очевидная художественная ценность явлений, подобных поздним
созданиям Рахманинова, а главное — их явная созвучность
новому времени — заставляют иначе взглянуть на проблему.
Думается, перед нами — «классицизированный романтизм» XX ве-
ка, то есть новая, адаптированная к условиям XX столетия форма
существования романтизма, не исчезнувшего вовсе, но продол-
жающего жить как живая потребность, «психологический компен-
сатор» по отношению к доминирующему стилю эпохи (подобно
тому, как в прошлом, романтическом веке роль такого компенса-
тора и регулятора отводилась, наоборот, искусству рационально-
объективного плана).
Даже самые разрушительные социальные коллизии не в состоя-
нии рассечь художественный процесс до основания, прервав все
преемственные нити и дав этим повод для схематичного, одно-
линейного представления об этом процессе. Принципиальная
полифоничность художественной культуры, о которой мы говорили
во Введении, актуализирует не строго вертикальный (детермини-
рованный событиями социального порядка), а скорее диагональ-
ный аспект рассмотрения происходящих перемен, с учетом их по-
степенности, многофазности, неизбежного совмещения «концов»
и «начал».
Возвращаясь к параллелизму «классицизирующих» и «неоклас-
сических» устремлений, отметим наконец, что причины его не
исчерпываются естественным соседством поколений (при старшин-
стве «классицистов» относительно «неоклассиков») и вышеотме-
ченной компенсирующей потребностью. Здесь сказались также
различия профессионально-художественных традиций, школ, пси-
хологических укладов, которые соответствовали различным регио-
нальным ветвям русской культуры и которые обеспечили частич-
ную синхронность этих устремлений. Во всяком случае, анализ
«волн» нового классицизма как разнообусловленных и сосущест-
вующих во времени кажется нам весьма целесообразным. Попы-
таемся же произвести его в следующей главе, обратившись к кон-
кретным композиторским именам.
Глава 5
МОСКОВСКИЕ «КЛАССИЦИСТЫ»
И ПЕТЕРБУРГСКИЕ «НЕОКЛАССИКИ»
Сравнительная характеристика Москвы и Петербурга давно за-
нимала умы русских ученых и публицистов. Особенно активно этот
вопрос дебатировался в середине прошлого столетия, чему свиде-
тельством известные очерки Герцена, Гоголя, Белинского, Апол-
86
лона Григорьева и др.1 К тому времени произошло не просто
национальное самоопределение русской культуры, но и стала
осознаваться неидентичность ее слагаемых, различие путей,
обусловленных культурно-психологическим климатом двух русских
столиц — старой и новой. Применительно к музыке это вырази-
лось в несходстве эстетических позиций, которые в 1860—1870-е
годы отстаивала «новая русская школа» (балакиревский кружок),
с одной стороны, и московские композиторы, группировавшиеся
вокруг Чайковского, — с другой.
Как известно, это различие, усиленное полемическим задором,
свойственным всякому новому веянию, с годами стиралось, конт-
расты сглаживались. Происходила естественная ассимиляция и
взаимная «миграция» школ. К началу нового столетия содруже-
ство и взаимопонимание между ними было засвидетельствовано
фактами признания Римского-Корсакова в Москве и Танеева
в Петербурге. Эволюционировали и сами школы, о чем позволяет
судить творческая практика беляевского кружка, наследующего
традиции «кучкистов» и одновременно «гармонизовавшего» их
былую боевитость умеренностью и эстетической терпимостью.
И все же этот очень двойственный по характеру процесс не
смог до конца нивелировать коренные особенности школ. Как
и вообще ассимилирующий дух цивилизации не в состоянии, по-
видимому, начисто уничтожить веками создававшиеся традиции и
уклады: они живут, покуда живы сами очаги их, изначально не-
повторимые по складу психологии, климату, географии1 2.
Современные исследователи, пишущие о московской и петер-
бургской композиторских школах, порой чересчур уж осторожны
в оценке их различий, тогда как самоочевидная общность, выра-
жающаяся в принадлежности тех и других композиторов к «пере-
довому реалистическому направлению русской музыки»3, утвер-
1 Литература тех лет обобщается и комментируется во вновь, изданном
сборнике «Физиология Петербурга» (М., 1984), где центральное место занимает
очерк В. Белинского «Петербург и Москва». Впрочем, и позже интерес к
этой тематике не падал; он выражался как в жанрах мемуарной прозы (вплоть
до занимательной книги Вл. Гиляровского «Москва и москвичи», написанной
в 1934 году), так н в исследовательских трудах, посвященных художественной
жизни России и главным очагам русской культуры (см., например, очерк «Из
истории художественной жизни Москвы» в книге Г. Стернина «Русская худо-
жественная культура второй половины XIX — начала XX века» — М., 1984).
Из научных исследований последнего времени наиболее весомым подспорьем
может служить очередной сборник Тартуского университета «Семиотика го-
рода и городской культуры. Петербург» (Труды по знаковым системам,
вып. 18. Тарту, 1984), к которому мы не раз будем обращаться.
2 В этом смысле заслуживает всяческого внимания идея нераздельности прошло-
го и настоящего культуры, проводимая в трудах Д. Лихачева. Ему же принадле-
жат весьма любопытные наблюдения, касающиеся специфики культурного
уклада" не только крупных городов, но даже отдельных городских районов
(см. в указ, тартуском сборнике: Лихачев Д. С. Заметки об интеллектуальной
топографии Петербурга).
3 Музыкальная энциклопедия, т. 3. М., 1976, с. 689.
87
ждается достаточно ревностно. Однако общая картина лишь выиг-
рает в точности и полноте, если первое не будет приноситься
в жертву второму. «Всякое исторически сложившееся своеобразие
умножает богатство культуры». Эти весьма справедливые слова
принадлежат П. Антокольскому, и сказаны они по поводу М. Цве-
таевой и А. Ахматовой — представительниц двух русских столиц,
ярко воссоздавших в своей поэзии их дух и колорит4.
Думается, с не меньшим основанием могут быть сопоставлены
в этом отношении московские и петербургские композиторы начала
XX века. В нашу задачу не входит подробная характеристика
духовных традиций городов; мы коснемся их лишь в объявленном
ракурсе, то есть постольку, поскольку они определяли отношение
музыкантов к классическому наследию и способ обращения с ним.
При этом необходимо учитывать диалогический характер взаимо-
действия с традициями, которые не только формируют худож-
ников, но и сами формируются ими — особенно если речь идет
о фигурах такой влиятельности и такого педагогического мас-
штаба, как Римский-Корсаков или Танеев. Важно иметь в виду и
собственно культурный контекст столиц. Соединяя в себе «истори-
чески крупное и физиогномически мелкое» (П. Антокольский),
объективное и субъективное, закономерное и случайное, он, несом-
ненно, сказался на творческих судьбах музыкантов. Соответствую-
щие факты вряд ли могут быть обойдены вниманием, и некоторые
из них мы постараемся отметить в последующем изложении.
При всей ассимиляции творческих установок на рубеже веков
оставались в силе такие различия в подходе к прошлому и на-
стоящему художественной культуры, как универсализм москви-
чей и избирательность петербуржцев. Хорошо известен своего
рода пуризм композиторов балакиревского кружка — ему противо-
стояла жанрово-стилевая широта и симфонически обобщенный
тип мышления Чайковского; творчество последнего, при всей не-
сомненности национальной основы, было сильнее открыто ветрам
Запада. В начале века поиски эстетико-стилевых опор в разно-
образных пространственно-временных слоях европейской культуры
(включая и музыкальный быт) продолжали оставаться характер-
ной чертой московской школы, хотя и принимали новые формы.
Сохранили силу и различия в способе высказывания. Сознавая
всю нераздельность в музыке изображения и лирического само-
выражения, нельзя не отметить существенную роль первого в
петербургской традиции и примат второго у последователей Чай-
ковского — будь то объективизированная лирика Танеева и Мет-
нера или повышенно-напряженный эмоционализм Скрябина и Рах-
манинова. Такие различия, при всей их относительности, заметны
не только в музыке. Разграничивая художественную продукцию
на искусство переживания и искусство представления, нельзя
не видеть преимущественно московских корней первого и петер-
бургских — второго. Иллюстрацией могут служить театральные
4 Антокольский П. Марина Цветаева.— Собр. соч., т. 4. М., 1973, с. 74.
88
принципы Станиславского, с одной стороны, и Мейерхольда —
с другой; равным образом условность «мирискусников» противо-
стояла лиризму Бунина, Чехова, Левитана... Эти особенности
в приложении к музыке и имел, вероятно, в виду В. Каратыгин,
когда писал в одной из своих статей об «экспансивной Москве»
и «холодном Петербурге»5.
Отмеченные пары противоположностей, конечно же, взаимосвя-
заны. Избирательный подход к явлениям культуры с большей или
меньшей долей эстетизма естествен при той остроте зрения и на-
блюдения, какая характеризовала композиторов петербургской
школы — Римского-Корсакова и Лядова, Прокофьева и Стравин-
ского. С другой стороны, лиризм как способ высказывания, как
ядро романтического мирочувствия предполагает обобщенный, не-
дистанцированный по преимуществу взгляд на культурное прош-
лое, поиск в нем универсальных организующих опор6. В первом
случае возникает благодатная почва для неоклассицизма, во вто-
ром имеет место классицизированный романтизм.
Объединяющая сила традиций, наряду с естественной эстафе-
той поколений (учителя — ученики), проявлялась столь явно, что
духовно и стилистически близкими оказывались порой художники,
весьма далекие по своей творческой и человеческой природе —
такие, например, как Чайковский и Танеев. Сама эта антитеза,
подобно антитезе Скрябин — Метнер, симптоматична для Москвы:
чем сильнее и стихийнее потребность самовыражения, тем настоя-
тельнее в рамках профессионального «цеха» поиски равновесия
и объективных критериев творчества. Останавливаясь сейчас на
мастерах московской школы, напомним, что Танеев как глава , и
мэтр классицистского движения был немало обязан своему учи-
телю и сподвижнику Чайковскому: его сближал с Чайковским
лирико-обобщенный склад мышления, стилевой универсализм и,
5 Каратыгин В. Скрябин и молодые московские композиторы.— Аполлон, 1912,
№ 5, с. 34. Мы опускаем здесь характеристику историко-географических и психо-
логических предпосылок различий в характерах столиц, имея развернутую
статью В. Белинского «Петербург и Москва» нз «Физиологии Петербурга».
В тоне социально-бытовой беллетристики здесь описываются такие, например,
«физиогномические» различия городов, как открытость, семейственность
москвичей и деловитость, замкнутость, озабоченность петербуржцев, больше
питающих пристрастие к казенным местам — вокзалам, театрам, улице. Болт-
ливости москвичей, их страсти рассуждать и спорить автор противопоставляет
скупость на слова петербуржцев. Здесь же читаем: «Москвичи — люди нарас-
пашку, истинные афнняне...» (с. 61); петербуржец же — «всегда вежлив, часто
даже любезен, но как-то холодно и осторожно... доволен сам собою... Отсюда
проистекает его тонкая наблюдательность; от этого постоянно вспыхивает
его тонкая ирония» (с. 67). Подобные характеристики даже со скидкой на их
давность небезынтересны н отнюдь не во всем утратили ныне свою актуаль-
ность.
6 «Универсализм романтической эстетики исключает избирательность по отно-
шению к наследию прошлого»,— справедливо замечает Е. Кириченко (см.:
Кириченко Е. Пространственно-временные характеристики в русской архи-
тектуре середины н второй половины XIX века.— В ки.: Типология русского
реализма второй половины XIX века. М., 1979, с. 290).
89
конечно, моцартианство — способ приобщения к желанному иде-
алу совершенства и красоты.
Вместе с тем эстетические позиции Танеева были глубоко само-
стоятельны и почти уникальны для своего времени. По убеждению
Асафьева, Танеев, „независимо от его вкусов, симпатий и анти-
патий, был источником великой культурной революции в русской
музыке, последнее слово которой еще далеко не сказано»7. В самом
деле, предвидения Танеева заметно опередили свое время. Исто-
ризм мышления, рациональное отношение к творческому процессу,
«связующая сила контрапунктических форм» — то, что лишь
к 1910 — 1920-м годам стало явлениями общекультурного масшта-
ба, характеризовало его деятельность уже начиная с 80-х годов
прошлого столетия. Очевидно, эти принципы могут быть расценены
во многом как его личное завоевание, достигнутое не только талан-
том, но и универсальной образованностью и научной проницатель-
ностью.
Учитывая всю многогранность Танеева, его научную и педаго-
гическую работу на поприще нового классицизма, обратимся все
же к его композиторской практике. Здесь встречаются случаи
дистанцированного воспроизведения музыки отдаленных эпох.
Таков знаменитый «Менуэт» из цикла «Иммортели». В нем присут-
ствует важнейший опознавательный признак неоклассицизма —
стилевой диалог. С одной стороны, перед нами искусная стили-
зация старины, с другой — рефлексия на нее с позиций «позднего
знания». В соответствии со стихотворным текстом происходит по-
следовательное развенчание менуэтной идиллии — как с помощью
тематически-смыслового контраста («£а 1га»), так и посредством
прогрессирующей деформации классической модели (фактурной,
интонационной, наконец, ладогармонической). Если в «Менуэте»
стилевой диалог достаточно обнажен, будучи спровоцирован лите-
ратурной основой, то в «Гавоте» из концертной сюиты для скрипки
с оркестром он сглажен и выступает как атрибут чисто музыкаль-
ного становления формы (постепенное усложнение гавотной темы
хроматизмами, тональными сдвигами и пр. — с тем, чтобы в конце
вернуться к первоначальному варианту). В «Менуэте» классичес-
кая модель бесповоротно дискредитируется, в «Гавоте» же скорее
проверяется на прочность. Потому во втором случае с большим
основанием можно говорить о стилевой адаптации модели, нежели
ее дистанцировании.
Техника адаптации в приложении к материалу старинной музыки
наиболее характерна для Танеева. Ее смысл — в плавности, «не-
заметности» обновляющих средств (чему свидетельством «моцар-
товские» части его квартетов или отдельные номера из «Иммор-
телей» — «Рождение арфы», «Канцона XXXII»). Весьма примеча-
тельны и поиски общего стилевого знаменателя между старым
и новым. В наиболее типичных случаях, как, например, в Прелюдии
из той же Концертной сюиты, композиторские усилия Танеева
7 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 258—259.
90
направлены на выявление романтических потенций барочной мо-
дели — таких, как импровизационная свобода мелодического вы-
сказывания, патетические хроматцзмы, экспрессивная, насьццен-
ная гармония. Нерасчленимый симбиоз барочного и романтическо-
го (притом — русско-романтического, в духе Чайковского и мос-
ковской школы) наблюдается в некоторых темах «Орестеи», на-
пример в теме Аполлона; основой такого симбиоза выступает сек-
веи ци он н ость:
Однако барокко интересовало Танеева не только с точки зрения
тематических прообразов. Более общий и принципиальный смысл
имели для композитора способы организации материала, восходя-
щие к той эпохе, прежде всего полифонические. С барочной, бахов-
ской традицией связан танеевский культ фуги. На эту же традицию
указывает характер трактовки последней — с тенденцией к мону-
ментальности, насыщенности, яркости контрастов. Грандиозной
энциклопедией фуги явилась в этом смысле кантата «По прочте-
нии псалма» — не только духовно-нравственное, но и собственно
музыкальное его credo.
Полифония и полифонические формы были центральной, но не
единственной точкой приложения рационализирующих намерений
Танеева. Другое проявление его организующего ratio — строгая
конструктивность музыкальных композиций, основанных на моно-
тематическом принципе. Этот принцип, восходящий к Листу,
Танеев, в отличие от последнего, трактует не как скрытый атри-
бут романтически-спонтанной свободы высказывания, а как ося-
заемую, слышимую звуковую целостность, своего рода способ
тематического внушения и убеждения. Его до-минорная симфония,
4-й и 6-й квартеты, при всей контрастности материала, подобны
неким музыкальным монолитам. В такого рода монолитности
можно видеть аналогию с полифоническим формообразованием,
опирающимся на диктат главной темы. Так исконно романтический
принцип приобретает у Танеева классицистский оттенок.
91
Охранительное по существу творчество Танеева ориентирова-
лось на вполне отстоявшиеся стилевые нормы. Полифонический
XX век оправдал его прогнозы, но по смелости и решительности
разрыва с традиционными нормами, прежде всего в области гармо-
нии, далеко ушел вперед (в лице таких мастеров, как Шостакович,
Барток, Хиндемит). И все же Танеев не только теоретически пред-
восхитил, но и непосредственно подготовил характерный уже для
1910-х годов рациональный, с опорой на полифонию, метод твор-
чества — прежде всего через плеяду своих учеников, проходивших
в его классе курс теории и контрапункта.
Один из них А. Станчинский. Творчество его, ограниченное глав-
ным образом фортепианными жанрами, до сих пор остается почти
неизвестным слушателю, хотя определенно заслуживает извест-
ности8. Думается, причина кроется не только в обычной инерт-
ности сознания, в данном случае относящейся к музыкантам-
исполнителям, почти вовсе игнорирующим эту ^музыку. Скорее
всего, сочинения его не звучат на эстраде в силу своей специфичес-
ской трудности (так, Ан. Александров считал его каноны для фор-
тепиано «почти неисполнимыми», вспоминая, впрочем, при этом
великолепную интерпретацию Канона G-dur С. Е. Фейнбергом9).
Станчинский воспринял от Танеева принцип полифонического
конструктивизма, придав ему еще более последовательный, даже
ортодоксальный вид (пристрастие к форме канона). Вместе с тем
здесь мало что от танеевской цельности — чувствуются иные
веяния, иной психический склад.
Н. Жиляев, любивший и очень высоко ценивший талант Стан-
чинского, подчеркивал равновесие и согласованность в нем различ-
ных сторон: «Талант его очень гармоничен, то есть все элементы
его находятся в полном соответствии, ни один не развивается в
ущерб другому, и, будучи объединены редким чувством формы, они
в то же время сильно и самобытно развиты»10. Однако гармонич-
ность Станчинского весьма проблематична. Равновесие, о котором
пишет Жиляев, далеко от «мирной согласованности» и подчас про-
тиворечиво напряжено. Нам приходилось уже говорить о разно-
образии стилевых слагаемых этой музыки и о ее антиномичности.
Главная антиномия заключается здесь в «несовместимом» соче-
тании абстрактно-конструктивного и чувственно-непосредствен-
ного восприятия мира, выраженных с равной силой. Второе было
источником весьма необычных и смелых звуковых находок Стан-
чинского вплоть до экстравагантностей в духе молодого Про-
8 К этому имеются реальные основания, в частности факт издания в 1960 году
практически всех фортепианных сочинений композитора, а также публикации —
хотя и крайне редкие — исследовательских работ о нем (см.: Лопатина И. Черты
стиля Станчинского.— В кн.: Вопросы теории музыки, вып. 1. М., . ’68).
Среди неизданных работ см. дипломную работу Е. Бурдаковой «О композиторе
Станчинском» (б-ка Горьковской консерватории, 1985).
9 Александров Ан. О Станчинском.— В кн.: Александров А. А. Воспоминания,
статьи, письма. М., 1979, с. 77.
10 Жиляев Н. С. Литературно-музыкальное наследие, с. 74.
92
кофьева. Но еще больше здесь сказалась причастность компо-
зитора к характерно московскому, скрябинско-рахманиновскому
строю чувствования — романтической аффектации, повышенной
эмоциональной возбудимости, импульсивному, фактурно много-
плановому стилю фортепианного высказывания. Сочетание всего
этого комплекса с поистине железной дисциплиной контрапункта
наделяет творчество Станчинского неповторимым своеобразием и
одновременно делает его крайне показательным для нового клас-
сицизма в его московском варианте. (Очевидно, в этом же сочета-
нии, требующем от интерпретатора полярно противоположных
усилий, заключена и главная трудность исполнения этой музыки).
«Странное» соединение экзальтированности, душевной неурав-
новешенности и жесткой самоорганизации, по-видимому, вообще
отличало натуру Станчинского . Однако в возникновении этого
своеобразного скрябинско-танеевского симбиоза сыграло роль и
двойственное музыкальное воспитание композитора, ученика Та-
неева и Жиляева. Ан. Александров пишет о «перекрестном вли-
янии» на себя и Станчинского «этих двух замечательных музыкан-
тов, столь разных по своим философским и художественным убеж-
дениям. Жиляев был страстным поклонником Новых идей в искус-
стве, считая своими кумирами Скрябина и Дебюсси. Танеев же,
как известно, был резким противником «модернизма», он воспи-
тывал нас на Бахе и классиках, а из русских композиторов на Чай-
ковском...»11 12. (Точности ради добавим, что поскольку сам Жиляев
являлся воспитанником Танеева и при всем интересе к новой му-
зыке никогда не изменял некоторым ведущим танеевским принци-
пам, то вышеописанный комплекс Станчинский мог получить и
непосредственно «из рук» этого выдающегося ученого и педагога,
постоянно и близко общавшегося с ним, в том числе — эписто-
лярно13.)
В своих исканиях и находках Станчинский соприкоснулся с таки-
ми новомыслящими авторами, как Прокофьев, Стравинский, Мяс-
ковский. Кроме того, им немало предвосхищено было в собственно
полифонической сфере, о чем свидетельствуют созданные полсто-
летия спустя фуги Шостаковича ор. 87. Здесь можно обнаружить
и строгую ладовую архаику, и рассредоточенный тип тематической
структуры с подчеркнутой ролью конструктивного интервала,
и линеарное противодвижение раскачивающегося типа с внезап-
ным разрешением в «безусловную», «восклицательную» трезвуч-
ную тонику (сходство фуги Des-dur с 12-м эскизом Станчинского
в этом смысле более чем показательно). Б. Асафьев писал в связи
11 Ан. Александров, описывая в своих мемуарах известный факт психического
заболевания композитора, говорит, что в галлюцинациях ему являлся то бог,
то дьявол (Александров А. А. О Станчинском.— Цит. изд., с. 76). Вероятно,
демон стихии и демиург порядка конфликтно управляли им и в состоянии пси-
хической нормы, наложив печать на творчество.
12 Там же, с. 74.
13 Письма Н. Жиляева А. Станчинскому хранятся в архиве композитора (ГЦММК
им. М. И. Глинки, ф. 239, ед. хр. 5892).
93
со Станчинским об «удивительном предвосхищении классицизма
современности через усвоение суровых, целесообразных и кон-
структивно ясных принципов строительства музыки...»14. Нельзя
не заметить, что предвосхищения такого рода уже имели реальную
почву в ситуации 1910-х годов — времени творчества Станчин-
ского, хотя и осуществлялись еще в рамках романтического звуко-
созерцания, особенно стойкого у композиторов московской школы.
Если у Станчинского, вслед за Танеевым, классицистские прин-
ципы выражались, главным образом, через полифонический кон-
структивизм, то более сложно и многообразно они преломлялись
у «триады» московских лириков — Скрябина, Рахманинова и
Метнера. У первых двух они играли роль сдерживающего проти-
вовеса в условиях гиперромантической свободы высказывания.
При этом в музыке Скрябина, например, сила натяжения между
центробежным и центростремительным началами, при сугубой
скрытости, подспудности второго («средняя форма» как «внутрен-
ний метроном»), была таковой, что здесь больше поводов говорить
о рациональных началах композиторской техники, нежели о соб-
ственно «классицизирующем» комплексе.
Что же касается Рахманинова, то в его произведениях имели
место и прямые «инъекции» классического, начиная от цитируемых
тем и жанров и кончая системой корректирующих средств в позд-
ний период творчества. Тяготение Рахманинова к образцам клас-
сической музыки определялось, по-видимому, целым рядом причин.
Не последнюю роль здесь играла общая широта его стилевой
ориентации, связанная с демократизмом и артистическим духом
большой эстрады: огромный пианистический талант и поистине
листовский размах виртуозности с естественностью предполагал
вкус к транскрипциям и вариационным обработкам. Весьма су-
щественна и тенденция символического истолкования классичес-
ких тем как носителей вечного, надвременного смысла — полноты
и яркости бытия (тема 24-го каприса Паганини), судьбы (La folia
в варианте 12-й скрипичной сонаты Корелли), смерти (средне-
вековая секвенция Dies irae). Но не менее важной представляется
третья причина: возможность использования классических тем,
жанров и приемов письма как внутренней антитезы романти-
ческому способу высказывания с его «несвоевременной» уже от-
крытостью и свободой самовыражения.
Необходимость такой антитезы Рахманинов, один из наиболее
откровенных «эмоционалистов» в музыке, особенно остро осознал
на позднем этапе творчества. Результатом были, как известно,
существенные поправки в стиле: снятие «излишеств» на всех
уровнях языка, тенденция к мотивному лаконизму мелодики, гра-
фической отточенности фортепианной фактуры с характерными
martellato и поп legato, концентрация токкатной ритмики и т. д.
Поздние сочинения Рахманинова подчас выигрывают в сравнении
с более ранними не только в смысле глубины концепций, но и в
14 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века, с. 257.
94
смысле новоприобретенной упругости музыкальной материи, гар-
монической согласованности элементов целого — идеал, к кото-
рому стремились, каждый по-своему, многие художники рубежной
эпохи.
Вместе с тем антиномичность соответствующих средств всегда
давала о себе знать в творчестве Рахманинова (в отлнчие от пол-
ной внутренней слитности барочно-романтического комплекса
у Танеева). Четкость, лаконизм, «стальные» ритмические остинато
с их организующей силой отмечены здесь печатью суровой необ-
ходимости, словно являясь чем-то внешним по отношению к роман-
тически рефлектирующей авторской душе. В поздние, зарубежные
годы бесконечная мелодическая кантилена, столь характерная для
русско-московского периода жизни композитора, уже приобретает
«нездешний», ностальгический оттенок. С другой стороны, налицо
сумрачный, угрожающий тон большинства токкатных эпизодов,
очужд^ние регулярно-акцентных жанрово-танцевальных формул
(в частности, в «Симфонических танцах» и Третьей симфонии)15,
настороженность, недобрая затаенность менуэтов — этих прямых
посланцев прошлого (прелюдии d-moll op. 23 и H-dur op. 32, 12-я
вариация в Рапсодии на тему Паганини, 3-я — в Вариациях на
тему Корелли). Подобная рефлексия говорит в пользу стилевой
диалогичности неоклассического типа. Вместе с тем очевиден и
более широкий смысл тех «классицизирующих» процессов, которые
происходили в поздний период творчества Рахманинова и которые
наметились еще в 1910-е годы.
Для Н. Метнера, в отличие от Рахманинова, классицизм — не
привносимое, но изначально присущее свойство художественного
сознания. Теоретик и пропагандист охранительного движения,
Метнер мыслил классицистские принципы как регулирующее на-
чало отнюдь не только в масштабе собственного творчества. Про-
граммный характер охранительства сближал его с Танеевым, как
и некоторые конкретные пункты этой программы. В соответствую-
щей системе средств важное место занимает полифония, исполь-
зуемая Метнером не в плане законченных.форм, а как полимело-
дический, «мускульный» тип фортепианной фактуры. Существен-
на и монотематическая спаянность композиций (наиболее ощути-
мая в таких, например, масштабных произведениях, как соната
g-moll op. 22). И то и другое обнаруживает в Метнере истинного
последователя и ученика Танеева (каковым он и являлся в точном
смысле слова, будучи воспитанником танеевского теоретического
класса). Вместе с тем и теория, и практика Метнера предполагали
более широкую основу композиторских приемов, связанную с
идеей «диалектических единств» и всеобщей согласованности
элементов целого (о чем уже шла речь в предыдущей главе).
Д. Житомирский в своей фундаментальной статье о Метнере выде-
15 Конфликтное столкновение времяизмерительности и регулярной акцеитиости
с закономерным очуждением последней позволяет провести параллель с
Шостаковичем (что лишний раз подтверждает актуальность для XX века рах-
маниновского опыта).
95
ляет два пути, на которых композитор достигал желаемого равно-
весия: это обновление, освежение старого и регламентированное,
контролируемое использование нового. Охранительный дух таких
установок очевиден. Исследователь замечает при этом, что «Мет-
неру совсем чужды и экзотика сверххарактерного, и ироническая
парадоксальность. Не расположен он и к эффектной модерниза-
ции»16 17. В самом деле, «вещая серьезность» Метнера почти начисто
исключала игровое, дистанцированное отношение к материалу,
в том числе и к музыке минувших эпох. И в «Забытых мотивах»,
и в «Сонате-воспоминании» — произведениях, сами названия ко-
торых настраивают на ретроспекцию,— «старое» адаптируется ав-
тором под знаком абсолютного приятия, как вечная и вневремен-
ная ценность.
Главным объектом внимания Метнера был, как известно, не-
мецкий музыкальный романтизм, притом и в позднем, брамсовском
его варианте, и в раннем, шубертовско-шумановском. Это про-
явилось в ясных жанровых опорах — песенных или танцевальных,
метрической размеренности, часто с чертами «немецкой» дву-
дольности, «баркарольной» распевности терцово-секстовых парал-
лелизмов, брамсовского типа симбиозе лирики и моторики и т. д.
Композитора, по-видимому, привлекала в этом материале неутра-
ченная цельность и гармоничность мироощущения, за отсутствие
которого он порицал современное искусство. Заметим, однако, что
материал такого рода и исторически и эстетически не был столь уж
отдален от эпохи Метнера. Романтизм в своем чистом виде еще
не изжил себя ко времени его творчества, продолжая существо-
вать наряду с позднейшими, вагнеровскими и символистскими
трансформациями этого направления. Не вчерашним, а сегодняш-
ним днем был, например, для русской публики Эдвард Григ, заново
открывший первозданную свежесть романтической лирики и фан-
тастики. Широкий интерес к творчеству Грига русской культурной
среды (отраженный в прессе и в мемуарах) определил во многом
и внимание к нему Метнера — главным образом, в сфере фантас-
тической, «лесной» образности и использовании натуральных
ладовых строев.
Так или иначе, в отличие от других поборников классического,
Метнер тяготел к исторически близким музыкальным объектам.
16 Житомирский Д. К истории музыкального «классицизма» XX века.— В кн.:
Западное искусство. XX век, с. 308.
17 Характерно, что и в отношении к раннему романтизму здесь сказался спе-
цифически «классицизирующий» подход. О таком подходе в связи с Шуманом
проницательно писал В. Каратыгин: «...это романтизм, который в наши дни
должен быть определен как классический романтизм. Говоря „в наши дни", я
разумею эпоху Дебюсси, Скрябина, Шёнберга. Разве не кажутся самые фан-
тастические музыкальные образы Шумана страшно плотными, конкретными,
четкими, классически стройными по сравнению со звуковыми исступлениями
вечно рвущегося к мирам нездешним Скрябина, с волшебной фантасмагорией
загадочных созданий шёнберговской музыки, с тем миром бесплотных видений,
который раскрывается в творчестве французского импрессиониста?» (см.:
Каратыгин В. Творчество Прокофьева.— В кн.: С. С. Прокофьев. Материалы,
документы, воспоминания. М., 1961, с. 307).
96
И это, наряду с антимодернистской настроенностью, подчеркивает
в его установках момент традиционализма. Несомненны издержки
подобных установок в музыке Метнера. Они касаются прежде
всего развивающих фаз в его произведениях, часто непомерно
длинных и риторически-многословных в своей «добротности».
Здесь традиционализм оборачивается «недостаточной художест-
венной проницательйостью» (Б. Асафьев) и пассивным следова-
нием изжитым стандартам романтической «крупной формы». Но
в широком плане наследование традиций недавнего прошлого —
наряду с интересом к «позапрошлому» в неоклассицизме — ока-
залось достаточно живучим в творческой практике композиторов
последующего поколения; речь идет прежде всего о тех, чья уме-
ренная ориентация больше побуждала к обновлению и отбору
предшествующего опыта, нежели к открытию новых звуковых,/
миров 1}ли решительной модернизации давно ушедшего. (В этом
смысле можно говорить, например, о метнерианской линии в твор-
честве таких крупных мастеров, как Н. Мясковский или Ан. Алек-
сандров.)
В годы творчества Метнера было сказано немало слов об исклю-
чительности, «несовременности», равно как и об инородности его
для русской культуры. Несомненно, однако, что «классицизирую-
щий» дух этой музыки вполне вписывался в художественную
атмосферу эпохи, а примат лирики и сочетание рахманиновского
«патетизма» с танеевской сдержанностью указывали на ее мос-
ковский «адрес». Более того, даже такие «странности» Метнера,
как убежденное германофильство (лишь отчасти объясняемое
немецкими генами композитора) и редкий по упорству антимо-
дернизм, питались в конечном счете близкой ему культурной
средой. Здесь уже приходится говорить не только о собственно
музыкальных контактах и параллелях.
В воспоминаниях Вас. Яковлева читаем: «Круг личных умствен-
ных интересов Н. К. Метнера в значительной степени определялся
в молодые годы теми отношениями, какие его связывали, благода-
ря его брату Эмилию Метнеру, с московскими писателями Андреем
Белым, Валерием Брюсовым, Эллисом и др.; отсюда обострение
в нем бывшего и ранее интереса к немецкой литературе прошлого
века (Гёте), а в русской к Пушкину, Тютчеву, Фету. Отсюда и
выбор литературных тем для романсов-песен»18. В самом деле,
и культ Гёте, и вкус к романтической поэзии, русской и немецкой
(в том числе — Шамиссо, Эйхендорфу, Ницше), явно сближали
Метнера с московскими поэтами-символистами, группировавши-
мися вокруг издательства «Мусагет», которое возглавлял Э. Мет-
нер. Влияние было, по-видимому, взаимным. И если литературные
симпатии поэтов находили отклик в композиторском творчестве
Метнера, то, с другой стороны, его музыкальные пристрастия,
связанные с немецкой классикой XIX века, по-своему отразились
18 Яковлев Вас. Николай Карлович Метнер.— В. кн.: Яковлев Вас. Избранные
труды о музыке, т. 2. М., 1970, с. 327.
4 - Т. И. Левая
97
на музыкальных вкусах литераторов. Так, поистине ревностная
привязанность А. Белого к Шуману и Бетховену во многом объяс-
няется контактированием поэта с семьей Метнеров, где постоянно
звучала эта музыка, а также заинтересованным слушанием кон-
цертных программ Н. Метнера, в которых эти имена занимали
центральное место19.
Может показаться странным сочетание у А. Белого авангардных
принципов собственного творчества с музыкальными вкусами,
ограниченными прошлым веком. (Симптоматично, что из поздней-
шей музыки «экстремисты» Вагнер и Скрябин интересовали Бело-
го скорее в абстрактно-теоретическом плане, непосредственной же
духовной пищей была музыка умеренного Метнера, по словам
поэта, «целящая душу ей и только ей известными снадобьями»20.)
Отчасти это явление связано с германской ориентацией литера-
турного символизма и соответственно — с попытками приобщиться
к высотам немецкой классики (в том числе музыкальной). Но
кроме того здесь, возможно, сказалось любительское, «отражен-
ное» восприятие смежной сферы искусства, которому сопутствует
известная пассивность и зависимость от субъективно складываю-
щихся контактов. Заметим также, что академичность музыкаль-
ных вкусов у художников других специальностей, вовсе не являю-
щихся акаДемистами в своих областях, зачастую бывает связана
с инерцией «комПецсативного» восприятия музыки, отношением к
ней как царству увековеченной гармонии, искусству канонизиро-
ванной красоты (предостаточно узком понимании последней).
Можно было бы не останавливаться здесь на музыкальных при-
страстиях А. Белого, если бы не двусторонние контакты его с
Н. Метнером, а также не попытки Э. Метнера подвести под такого
рода «любительский академизм» мощную эстетическую базу.
Старший брат композитора, Эмилий Карлович Метнер, многие
годы тесно общавшийся с А. Белым21, был «точкой пересечения»
описанных взаимовлияний, ибо совмещал в себе амплуа философа,
литератора-публициста и музыкального критика (хотя и не имев-
шего специального музыкального образования). Человек завид-
ной эрудиции, убежденных эстетических воззрений, активный
критик-полемист, Э. Метнер оказывал глубокое влияние на брата
(учитывая также интерес последнего к общеэстетическим вопро-
сам). В уже упоминавшейся здесь книге «Муза и мода» нельзя не
услышать отголосков идей другой книги — сборника Э. Метнера
«Модернизм и музыка», появившейся на свет 22 годами раньше22.
19 См. об этом: Метнер Н. К- Письма. М., 1973, с. 42—43.
20 Белый А. Николай Метнер.—В кн.: Белый А. Арабески. М.. 1911, с. 374.
21 История взаимоотношений А. Белого и Э. Метиера (достаточно близких, но не
всегда идиллических) отражена в переписке; наиболее активно и дружественно
.она (велась в середине 1900-х годов, когда Э. Метнер жил в Нижием Новгоро-
де^работая там цензором.
22 Подобно другим критическим публикациям Э. Метнера, книга вышла под
псевдонимом Вольфинг. Издание датируется 1912 годом, хотя статьи писались
еще раньше, на протяжении 1907—1910 годов.
98
Обе книги отличает публицистический темперамент и ярко выра-
женная антимодернистская направленность, хотя «специализа-
ция» их различна: то, что у Эмилия имеет вид критических эссе,
у Николая переводится на язык конкретных музыкальных реалий
и подвергается строгой логической систематике. Главные же
пункты антимодернистской программы недвусмысленным образом
перекликаются, если не совпадают.
Так, предметом заботы Э. Метнера является самоценная строй-
ность музыкальной формы, поколебленная у современных авторов,
как считает критик, непомерным злоупотреблением програм-
мностью23. Здесь же высказывается мысль об иерархической согла-
сованности основных элементов музыки и о непозволительности
перевода средства в цель. Отсюда — резкая критика Р. Штрауса,
превращающего в самоцель инструментовку и инструментальный
колорит — этот, по мнению Э. Метнера, второстепенный элемент
музыки (с. 19). Тому же Р. Штраусу попадает и за натурализм
Домашней симфонии (на которую с не меньшей критической'
страстью обрушится младший Метнер). Говоря о пресловутой
моде, Э. Метнер понимает под ней временное, тленное, противо-
поставляя преходящему — монументальное (с. 38). Его мысль о
том, что модернизм развивает «моду иа создавание непременно
чего-либо модного» (с. 59), облеклась позже в более краткую
формулу Н. Метнера «модернизм есть мода на моду». Критик
ратует за единое и вечное, «внемодное» искусство — мотив, став-
ший главным в книге «Муза и мода».
Актуальность подобного рода забот в ситуации первых десяти-
летий века несомненна. В то же время налицо издержки катего-
рического императива Э. Метнера — тем более очевидные, что
многие положения лишь полемически декларируются критиком,
но не имеют под собой объективной основы (а в случае рассужде-
ний о музыкальной «кухне» — и научно-теоретической базы;
в этом смысле книга брата явно выигрывает в сравнении). Симпто-
матична также метнеровская позиция исключительности по отно-
шению к музыкальному искусству, «зауженное» представление о
возможностях музыки и постоянное выделение ее из ряда других
искусств как хранительницы неких незыблемых эстетических кано-
нов. Можно лишь удивляться резкости перепадов критической
проницательности писателя: умея столь чутко оценить новейшие
явления в литературе (включая и случаи воздействия на нее дру-
гих искусств — таков, например, его отзыв на «Драматическую
симфонию» А. Белого), он лишал себя малейших следов этой чут-
кости в суждениях о музыке. Священный трепет перед «высшим из
искусств», лишний раз указывающий на связь Э. Метнера с окру-
жавшей его литературно-символистской элитой, обернулся давле-
нием на это искусство с позиций снобистски-дилетантского
императива. z
«Грех дилетантизма», конечно, вряд ли может быть приписан
23 Вольфинг. Модернизм и музыка. М., 1912, с. 77—78.
4*
99
Николаю Метнеру — высокооснащенному мастеру музыкальных
композиций, углубленному теоретику и аналитику музыки (о чем
вполне свидетельствует «Муза и мода»24). Однако эстетические
предпосылки его музыкально-теоретических установлений все же
во многом обязаны тем догмам, которые бытовали в непосред-
ственно близкой ему духовной среде (учитывая также огромную
меру влияния на него брата и его старшинство). Отсюда — из-
вестная ограниченность теоретических предписаний во имя «защи-
ты основ музыкального искусства» в «Музе и моде», не говоря о
консервативной односторонности оценок25; отсюда, вероятно, и
отмеченная Б. Асафьевым «недостаточная художественная про-
ницательность» Метнера-композитора.
Мы отвлеклись сейчас от композиторского творчества Н. Мет-
нера с тем, чтобы показать на его примере, как много значит для
художника формирующая его культурная среда, в каком сложном
соединении музыкальных и внемузыкальных, объективных и субъ-
ективных факторов рождались порой эстетические представления
музыкантов и какие крайности их подстерегали. Важно еще раз
заметить, что и с точки зрения чисто музыкальных московских
параллелей охранительство Метнера, понимаемое как конкретная
система правил, не представляло собой исключительного явления.
Наряду с полифоническим конструктивизмом Танеева и Станчин-
ского, а также стилевой антиномичностью Рахманинова, оно
по-своему участвовало в общем процессе «регенерации» клоня-
щегося к закату музыкального романтизма.
*
Если для «экспансивной Москвы» столь характерными оказа-
лись «классицизирующие» установки, попытки регулировать —
в соответствии с новыми эстетическими требованиями — стихию
лирического самовыражения, то «холодному Петербургу» сужде-
но было стать родиной собственно неоклассицизма. Можно ли
объяснить это обстоятельство только тем, что здесь начали свой
путь Прокофьев и Стравинский — решительно настроенные нова-
торы-антиромантики, в соответствующем духе трактующие и опыт
музыкальной старины? Правильнее было бы поставить вопрос
иначе: почему все же эти композиторы появились именно в Петер-
бурге? Частичный ответ на него дает существующая литература
о Стравинском. Но параллели такого рода могут быть значи-
тельно расширены — и не только по отношению к Стравинскому.
Оговоримся сразу: контекстный анализ творчества обоих ком-
24 Подробный анализ книги «Муза и мода» содержится в упомянутой статье
Д. Житомирского.
25 Консервативность позиции Н. Метнера особенно заметна в ситуации 1930-х
годов — времени публикации его книги: авангардистские крайности
1910—1920-х годов были тогда уже позади, и антимодернистский пафос автора
выглядит запоздалым.
100
позиторов сопряжен с немалыми объективными препятствиями.
И Прокофьев, и Стравинский покинули в молодые годы Россию,
первый временно, второй — навсегда, оказавшись в «парадок-
сальной ситуации лидера несформировавшегося течения в русской
музыке»26. Оба в сильнейшей степени испытали на себе взрыв-
чатый характер культурного развития тех лет, сложную полифонию
«измов», способную запутать органические связи и нити преем-
ственности. И все же основополагающее значение для обоих рус-
ской культуры никак не может быть оспорено. Оно неоспоримо и по
отношению к неоклассическим устремлениям композиторов, хотя
Стравинский в русские годы жизни находился лишь в преддверии
к новому периоду своего творчества, и речь здесь может идти ско-
рее о предпосылках, нежели о законченных формах неокласси-
цизма27». Так или иначе, при внимательном рассмотрении обнару-
живаются не просто русские, но специфически петербургские корни
этих предпосылок. Здесь Прокофьев и Стравинский явно сбли-
жаются — как бы ни разъединяла их впоследствии творческая
судьба (и какую бы дурную службу ни сослужила в этом разъеди-
нении позднейшая критика, занимавшаяся вульгарно-аксиоло-
гическим сравнением Прокофьева и Стравинского, в основном —
не в пользу последнего28). Попробуем же взглянуть на этих компо-
зиторов с позиций их «петербургского родства», одновременно
выясняя природу их неоклассических пристрастий.
Как явствует из последних исследований, характерными призна-
ками петербургской культуры (по накоплении ею к XX веку богато-
го духовного фонда) были рационалистичность, ретроспективность
и театральность29. Рационалистические теории пользовались боль-
шим вниманием в среде Петербургского университета (где в
1900-е годы обучался на юридическом факультете Стравинский30 31).
Но и в более широком плане рационализм отличал культуру Пе-
тербурга, являясь антитезой петербургскому же «мистицизму»
и «фантасмагоризму». Он был отражением намеренности и воле-
вого императива в самой идее возникновения города. В эту идею
входила и намеренность его европеизации3'. В новое время, на
26 Речь идет о неоклассицизме.— Варунц В. Музыкальный неоклассицизм, с. 46.
27 Такой аспект и взят, например, В. Смирновым в статье «О предпосылках эволю-
ции Стравинского к неоклассицизму».— В кн.: Вопросы теории и эстетики
музыки, вып. 5. Л., 1967.
28 На вооружение здесь были взяты и небезызвестные выпады Прокофьева в
адрес Стравинского насчет «обцарапанного Баха» и «бахизмов с ..фальшивиз-
мами“»; даже учитывая действительную неполноту творческого взаимопони-
мания между композиторами, вряд лн стоило приписывать этим шпилькам
силу приговоров — столь же острым на язык Прокофьев бывал и в оценке
музыки других авторов; впрочем, что касается Стравинского, то в едкости своих
характеристик он превосходил, как известно, многих.
29 См. об этом: Семиотика города и городской культуры. Петербург.
30 Об этом пишет в упомянутой статье В. Смирнов.
31 Москва, как город с длительной историей, европеизировалась более стихийно.
Отсюда — качественные различия московского и петербургского западничества,
проявившиеся и в музыке. Уже на примере Чайковского можно наблюдать
101
рубеже XX века такая европеизация тесно соприкоснулась с нео-
классицизмом. Это было традиционно для России, где за отсут-
ствием собственных барочных и классицистских корней одно с
неизбежностью предполагало другое. Для Петербурга же такое
явление более чем показательно. На рубеже XIX—XX веков его
демонстрацией стал, например, «петербургский период» отечест-
венной живописи. Петербург XVIII века, воссоздаваемый Бенуа,
Лансере, Сомовым, был таким же сознательным воплощением
европейских мотивов, каким являлся реальный, исторический
Петербург тех времен. Та же тенденция самопознания культуры
дала о себе знать в неоампирной архитектуре начала XX века32,
равно как и в возникновении предпосылок к неоклассицизму в му-
зыкальном творчестве.
Здесь уже следует говорить о другой важной черте петербург-
ской культуры — ее ретроспективное™. Творчество мирискусников
и краткая, но яркая полоса деятельности Старинного театра —
важнейшие, хотя и не единственные примеры подобного рода.
«Город-музей», «город-книга» — эти качества Петербурга сказа-
лись в ретроспективной настроенности многих созданий искусства.
В них же отразилось и отмеченное выше самопознание культуры:
северная столица явно опровергала свою репутацию города без
истории и корней активным осмыслением накопленных культур-
ных ценностей. В таком самопознании приобретался чрезвычайно
важный для неоклассицизма опыт художественной перекодиров-
ки, принцип поэтики цитат — наряду с поэтикой реалий. У симво-
листов это проявилось, например, в сложном преломлении темы
Медного всадника (статуя Фальконе — поэма Пушкина — про-
изведения Блока, Брюсова, Белого, Вяч. Иванова). Примеры
такого рода актуализировали понятие «петербургского текста» как
интерпретирующего кода33 — особенно по отношению к новой
литературе и живописи. Что же касается музыкального творчества,
то здесь оказалась актуальной сама кодирующая традиция: вне
ее трудно представить и раннеклассические стилизации молодого
Прокофьева, и технику «вариаций на стиль» (С. Савенко) Стра-
винского.
Для музыки и музыкальных ретроспекций, как бы производимых
с позиций внешнего наблюдателя, определяющей явилась также
театральность Петербурга. «Уже природа петербургской архитек-
естественную нераздельность западнических и почвеннических тенденций в
старой столице. В Петербурге же они в значительной степени поляризовывались.
Так, почвенничество кучкистов сменилось позже заметной европеизирован -
ностью беляевцев, в частности моцартианством Римского-Корсакова, вагне-
рианством и бахианством Глазунова. Впрочем, примеры Римского-Корсакова,
а позже Прокофьева н Стравинского показывают, что и в рамках творчества
одного автора этим тенденциям свойственно было скорее разъединяться, чем
сливаться воедино.
32 Показательно, что в Москве неоклассические градостроительные принципы
не получили достаточно последовательного и радикального выражения.
33 См. об этом в сборнике «Семиотика города и городской культуры. Петер-
бург» статью 3. Минц, М. Безродного и А. Данилевского «Петербургский текст
и русский символизм».
102
туры — уникальная выдержанность огромных ансамблей, не рас-
падающихся, как в городах с длительной историей, на участки
разновременной застройки, создает ощущение декораций»,—
пишет Ю. Лотман, говоря тут же об отчетливом разделении го-
родского пространства на «сценическую» и «закулисную» части
и о постоянном сознании присутствия зрителя34. В этой театраль-
ности петербургского пространства — корень многих характерных
явлений в искусстве. С ним связана, очевидно, и «театрократия»
в новой живописи; привлечение художников-мнрискусннков в
театр Дягилева лишь стимулировало эту тенденцию. Театраль-
ностью был проникнут и сам быт Петербурга, чему свидетельством
ежегодные в XIX веке «гулянья на балаганах» с заметными эле-
ментами арлекинады. Реальный мир столицы был одновременно
и миром искусства. Сюда восходит арлекинадная линия у симво-
листов («Балаганчик», «Снежная маска» Блока); во многом отсю-
да же, как и из общекультурной театральной традиции Петербур-
га, увлечение Мейерхольда, а через него Прокофьева театром
Гоцци.
Переходя непосредственно к музыкальному творчеству, заметим,
что именно с театром связаны были отдельные неоклассические
опыты предшественников и старших современников Прокофьева
и Стравинского, композиторов беляевского кружка. Такова опера
Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», опирающаяся на раи-
неклассический состав оркестра (смычковые плюс одинарный
состав деревянных и две валторны), содержащая цитаты из про-
изведений Моцарта и стилизации в духе XVIII века. Таковы бале-
ты Глазунова, стилизующие — нередко в лирико-пасторальном
ключе — старинные гавоты, мюзеты и сарабанды («Барышня-
служанка» по картинам А. Ватто)35. Опыты такого рода совер-
шались в рамках традиционного музыкального театра, и в салон-
ных танцах «Барышни-служанки» еще очень мало от той актив-
ности авторской интерпретации модели, которая отличала, напри-
мер, мирискусников и дягилевский театр в его зрелой фазе, но
все же театральные предпосылки таких опытов очевидны: театр,
и особенно балетный, по самой своей природе склонен к иллю-
стративности и характеристике через стиль; ему свойственно
«представлять» стили, пользуясь законным правом искусства
представления.
К театру тяготел и Н. Черепнин, создававший для дягилевской
сцены свои мифологические балеты — «Нарцисс» и «Павильон
Армиды». Здесь уже, как и у раннего Стравинского, корсаковская
традиция преломляется через мирискусничество и французский
импрессионизм. Высокообразованный музыкант и превосходный
34 Лотман Ю. Символика Петербурга и проблемы семиотики города.— В кн.:
«Семиотика города и городской культуры. Петербург», с. 39.
35 Оркестровая сюита Глазунова «Из средних веков» лишь частично выпадает
из театрального контекста неоклассицизма, так как связана с программным
замыслом, предусматривающим, между прочим, во II части изображение под-
мостков средневекового уличного театра.
103
знаток оркестра, Черепнин являл мастерство «интерпретирующего
стиля» не только в театральных сочинениях. Характерен в этом
плане его Гавот для оркестра, открывающий «гавотную линию»
в новой русской музыке, в том числе в творчестве Прокофьева;
более поздним и уже театральным вариантом гавота — этой
«визитной карточки» неоклассицизма — явилась одна из заглав-
ных тем «Павильона Армиды»:
Прокофьев находился, кстати, в непосредственном контакте с
Черепниным, обучаясь в его дирижерском классе и высоко ценя
эти уроки. Общение с Черепниным на репетициях ученического
оркестра описано им в «Автобиографии»: «Вот послушайте, как
чудно здесь звучит фаготик!— и я постепенно входил во вкус пар-
титур Гайдна и Моцарта: во вкус к гобою, играющему стаккато,
и к флейте, играющей на две октавы выше фагота, и так далее.
Отсюда родилась или надумалась Классическая симфония...»36.
Неоклассические опыты Черепнина, Прокофьева и Стравинско-
го не всегда соприкасались с театром. Более того, освоение законов
старинной музыки побуждало современных неоклассиков, в част-
ности Хиндемита, обращаться скорее к ее «чистым» формам —
симфонии, сюите, концерту. И все же русско-петербургский ва-
риант неоклассицизма и генетически, и методологически неотде-
лим от искусства представления.
Духом театра проникнуто все творчество Прокофьева, и дело,
разумеется, не только в большом количестве созданных компо-
зитором опер и балетов. Пластически-выразительная «жестику-
лирующая» интонация проникает в инструментальные жанры с
заданной классической схемой, наполняя последнюю живостью
и эксцентрикой клоунады. Столь же классическую, сколько теат-
ральную природу имеет конкретность музыкальных образов Про-
кофьева, их четкая локализованность во времени и в пространстве.
Интересно, что, обучаясь на консерваторских уроках контра-
пункту, Прокофьев занимался статистикой ошибок в собственных
упражнениях и в упражнениях своих сокурсников, не без ехид-
ства смакуя эти ошибки (сравним со всеобщим пиететом к контра-
пункту у воспитанников московской школы!) и явно свободнее
ощущая себя в сочинении «песенок», менуэтов и других пьес
«двухколенного склада» — о чем повествует «Автобиография».
36 Прокофьев С. С. Автобиография. М., 1982, с. 409—410.
104
Вряд ли это было только ученическим фрондерством: при таком
внешне не обязывающем методе сочинения открывалось больше
возможностей для гармонических экспериментов и вообще для
сферы ярко характерного; одновременно «двухколенный склад»
мог притягивать композитора и своей близостью раннеклассичес-
ким нормам формообразования. Лаконизм в сочетании с образной
характерностью и позже отличал Прокофьева, подтверждая вза-
имосвязь в его мышлении классичности и театральности.
Еще более артистичен в общении с прошлым был Стравинский,
которому не случайно принадлежит честь создания неокласси-
ческого музыкального театра XX века. Театральную природу имел
«новый инструментальный стиль» Стравинского (Б. Асафьев),
основанный на концертности, о чем свидетельствует «История
солдата» (1917), сочинение поворотное в смысле выхода за рамки
русской стилистики и обращения к неоклассицизму. Дух состя-
зания, блеск импровизации, персонифицированность тембров,
быстрота образных переключений, дающая ощущение пестрого
хоровода масок,— все это очень заметно выражено, например,
в Маленьком концерте, кульминационном моменте «Истории сол-
дата». Концертность оказалась посредником между театром и
инструментальным творчеством Стравинского. Она же направляла
поиски композитора по имманентно-музыкальному руслу даже в
рамках театральных жанров — тем более, что согласно законам
условного театра музыке здесь отводилась значительная доля
автономии.
И у Прокофьева, и у Стравинского неоклассическая тенденция
возникла в условиях «мышления стилями», своеобразного музы-
кального «полиглотства». Неоклассические пьесы ор. 12 (1906—
1913) создавались параллельно романтическим, «шумановско-
равелевским» пьесам ор. 4 («Воспоминание», «Порыв», «Отчая-
ние», «Наваждение»), импрессионистски изысканным романсам
на стихи Бальмонта и квазискрябинским «Снам», а Классическая
симфония (1917) выступает в окружении лубочного «Шута» и
экспрессионистской кантаты «Семеро их»37, У Стравинского же
начало неоклассического периода (которое сам композитор дати-
рует 1915 годом — годом написания Трех легких пьес для форте-
пиано в 4 руки) вклинивается в русско-фольклорную тематику
и стилистику; еще свежи в памяти искусы символистской поэзии
(верленовские и бальмонтовские романсы, кантата «Звездоли-
кий») и тем более буйство «Весны священной» (1913), но уже не
за горами встреча с джазом и поиски общеевропейских универса-
лий (Рэгтайм для одиннадцати инструментов, «История сол-
дата»),
В такой подвижности интересов сказалась, конечно, стремитель-
ность и взрывчатость культурной жизни 1910-х годов, как, вероят-
37 О том, что такое «многоязычие» осознавалось самим автором, свидетельствует
известное высказывание Прокофьева о главных линиях своего творчества:
классической, токкатной («скифской»), скерцозной и лирической.
105
но, и молодость авторов. Но, думается, дала о себе знать здесь и
специфическая «реактивность» петербургского художественного
сознания. М. Волошин писал о ней в связи с «архелогическими
мотивами» в творчестве Л. Бакста: «Он археолог потому, что он
образованный и любопытный человек, потому, что его вкус петер-
буржца влечет ко всему редкому, терпкому, острому и стильному,
потому, что он вдохновляется музеями, книгами и новыми
открытиями»38.
Слово «стилист» звучало высоким комплиментом и в компози-
торской среде. Стилистами называли Лядова, Черепнина, им же
был Римский-Корсаков — «идеальный учитель» и воспитатель
молодой плеяды музыкантов, в том числе будущего неоклассика
Стравинского. Конечно, искусство стилевых метаморфоз, про-
демонстрированное Стравинским, было беспримерным, но почва
для него подготавливалась раньше, и прообразом здесь служила
широта и стилевая многогранность корсаковского творчества.
Традиция стилевых перевоплощений была настолько же показа-
тельна для петербургской школы, насколько для москвичей харак-
терен был стилевой «монологизм», обусловленный спонтанностью
ййрического самовыражения. Заметим, что если Метнер почти
йбвсе не эволюционировал на протяжении своей жизни, то эво-
ЯЬция Скрябина, при всей ее стремительности, лишь усугубляла
монологичный, интроспективный дух его творчества.
Исповедальный дух московской лирики требовал адекватного
инструмента самовыражения — и этим инструментом явилось
«бесколоритное», ио универсальное фортепиано. У петербуржцев
же вкус ко всему «редкому, терпкому, острому и стильному» пред-
полагал обращение к оркестру и оркестровым краскам. Напомним,
что для Стравинского школа Римского-Корсакова была в первую
очередь школой оркестровки. Позже плоды такого воспитания
выразились в обостренном чувстве тембра и в принципах концер-
тирования, столь характерных для неоклассических опусов ком-
позитора. Что же касается Прокофьева, то, получив добротное
фортепианное воспитание, ои все-таки подошел к центральному
произведению неоклассической линии — Классической симфо-
нии — через постижение оркестрового стиля Гайдна и Моцарта
(о чем сам пишет в «Автобиографии»).
Какое место в сложном конгломерате «измов» занимала у обоих
авторов классическая линия? Стравинский, при кажущейся пара-
доксальности композиторского пути, шел к неоклассицизму посте-
пенно и целенаправленно, целиком сосредоточившись на нем
в 1920—1930-е годы (эти же годы оказались пиком неокласси-
ческих увлечений и в общеевропейском масштабе). У Прокофьева
же эта линия проявлялась пунктиром, спорадически (в советский
период творчества ее реминисценции можно обнаружить в «Зо-
лушке», отчасти в «Дуэнье» и «Ромео и Джульетте»), Локальный
характёф соответствующих замыслов, Чередующихся с сочине-
38 Волошин М. Архаизм в русской живописи.— Аполлон, 1909, № 1, с. 46.
106
ниями иного рода, не дает возможности назвать Прокофьева
неоклассиком в точном смысле слова (подобно Стравинскому или
Хиндемиту). Однако важно подчеркнуть другое: и у Прокофьева,
и у Стравинского собственно неоклассические опусы репрезенти-
руют некий общий принцип творчества, позволяющий говорить о
классической окрашенности его в более широком масштабе.
И в этом качестве их музыка, столь обязанная петербургскому
периоду, уже перерастает рамки этого периода, становясь неотъ-
емлемой принадлежностью искусства XX века.
В «Автобиографии» Прокофьев пытается дифференцировать
классическую линию в своем творчестве, которая «то принимает
неоклассический вид (сонаты, концерты), то подражает классике
XVIII века (гавоты, «Классическая симфония», отчасти Симфо-
ниетта)»39. В слове «неоклассический» ударение явно делается на
приставку, в чем фиксируется намеренность претворения класси-
цистских принципов (наряду с намеренностью подражания им
в стилизациях). Так же понимал это слово В. Каратыгин, соот-
ветствующим образом определив дух прокофьевского новатор-
ства и подчеркнув его актуальность. Каратыгин видел в Прокофь-
еве обладателя «большого и индивидуального таланта скорее
„неоклассического", чем модного „импрессионистского" направ-
ления»40 41. Особо высоко критик оценивал динамизм, сопряжения
старого и нового, которого не находил у московского классициста
Метнера: «Вулканический темперамент, умение вливать в старые
меха совершенно новое, великолепного гармонического букета
вино, искусство органически сочетать классическую строгость и
стройность формы и фактуры с содержанием, в высшей степени
отвечающим современному звукосозерцанию,— вот черты, отли-
чающие Прокофьева от более одностороннего и более мертвен-
ного Метнера»4'.
Не вдаваясь сейчас в спор с В. Каратыгиным относительно оцен-
ки музыки Метнера, отметим справедливость его суждений о Про-
кофьеве как о явлении исторически более новом и перспективном.
При всем том, что и Прокофьев, и Стравинский недвусмысленно
соприкоснулись с «модным импрессионистским направлением»,
их творчество уже в 1910-е годы несло с собой резкую переориен-
тацию музыкальных вкусов. В отличие от метода коррекции роман-
тических принципов, характерного для предшествующего периода
и продолженного композиторами московской школы, здесь про-
исходило решительное отталкивание от него с опорой на опыт
«позапрошлых», доромантических эпох.
Так, романтической идее «бесконечного и безмерного» демон-
стративно противопоставлялись конечно-размерные ценности.
Бесконечную мелодию и спиралевидность, разомкнутость движе-
ния сменила осязаемая четкость, порой классическая квадрат-
39 С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 148.
40 Аполлон, 1914, № 5, с. 51.
41 С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 302.
107
ность музыкальных структур. Наиболее ярким воплощением клас-
сического идеала законченности явился культ каданса, особенно
показательный для Прокофьева.
Прокофьев использовал классический каданс как выражение
нерефлектирующей ясности мировосприятия. В знаменитом Гаво-
те из Классической симфонии, благодаря особой концентрации
кадансов и их подчеркнутости внезапными тональными сдвигами,
такая ясность предстает в юмористически-преувеличенном свете.
Вероятно, эта преувеличенность и есть то новое, что, выражаясь
словами самого Прокофьева, представил бы Гайдн, если бы дожил
до наших дней (так формулирует автор замысел своего произве-
дения) .
В полемике с «безмерным», а точнее — в борьбе с риторической
многословностью и издержками спонтанности вырабатывается
новый лаконизм высказывания; отсюда — решительный отказ от
«рамплиссажа». Этот же принцип проецируется на фактуру, от-
ныне графически ясную, подчас возвращающуюся к альбертиевым
фигурам и к «мелкому, дробному, однообразному пианизму в жан-
ре этюдообразных Perpetuum mobile»4 . Проясняется и гармо-
ническая вертикаль: после ультрасложных комплексов позднего
Скрябина неоклассицизм вернул музыке первозданную простоту
мажорного трезвучия и модальных попевок. Кардинально меняет-
ся само эстетическое качество образности: неуловимости психо-
логических нюансов противопоставляются четко материализован-
ные, осязаемые музыкальные «объекты». Здесь чрезвычайно важ-
ная роль принадлежит акцентному ритму. Интересно, что и у
Прокофьева, и у Стравинского акцентный ритм, регулярный или
нерегулярный, был точкой пересечения классицистских и вар-
варистских тенденций (Прокофьев связывал токкатную линию
своего творчества со сферой скифства). Подобные случаи демон-
стрируют обобщающую функцию неоклассицизма, его способность
представлять другие современные стили и вступать с ними в син-
тез. Заслуживает внимания такой, например, симптоматичный
факт, что композиторы-неоклассики (Прокофьев, Стравинский,
Хиндемит, отчасти Барток) оказались одновременно «виталиста-
ми», проводниками столь актуальной в XX веке эстетики Neue
Sachlichkeit.
В рамках очевидной общности неоклассических устремлений
многое и разъединяло Прокофьева и Стравинского — в силу
естественных различий в природе таланта и складе натуры. Инте-
ресно в этом смысле сопоставить фортепианные сборники: Десять
пьес для фортепиано ор. 12 Прокофьева и Три легких пьесы для
фортепиано в 4 руки (отчасти — Восемь очень легких мелодий на
пяти нотах) Стравинского. Для обоих композиторов эти сборники
явились началом неоклассической линии, первыми эксперимен-
тами в данном направлении. И тут н там приобщение к классичес-
42 В. Каратыгин о Скерцо Второго фортепианного концерта Прокофьева
(С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 302).
108
кой ясности достигается через бытовой танцевальный жанр; и в
том и в другом случае жанровая схема носит формульный, типи-
зированный характер, с подчеркиванием самых устойчивых и
общезначимых признаков жанра. Наконец, и у того и у другого
автора традиционный стереотип полемически обыгрывается с по-
зиций современного сознания. В чем же различия?
У Стравинского избранная модель предельно дистанцируется.
Этому способствуют, по-видимому, два обстоятельства: непритя-
зательный «бытовизм» пьес и факт шутливого посвящения их
«прогрессистам» (Марш посвящен А. Казелле, Вальс — Э. Сати,
Полька — С. Дягилеву); впрочем, и сама эта шутка, и выбор
адресатов для Стравинского отнюдь ие случайны. «Бытовизм»
усиливается благодаря предельному обнажению «жанрового ске-
лета» и комической утрировке соответствующих атрибутов: упор-
ное остинато бас — аккорд и занозистые фанфары в Марше, кокет-
ливые колоратуры в Вальсе, подпрыгивающие интонации в Поль-
ке... При этом все словно перевернуто и смещено, подобно развин-
ченным и заново, невпопад собранным механизмам. Регулярное
движение вдруг наталкивается на препятствие (трехдольные
такты в Марше), а гармоническая вертикаль никак не соберется
воедино — из-за постоянных политональных трений (в Польке
Стравинский комически имитирует ошибку переписчика, не ориен-
тирующегося в транспорте: в итоге «верхняя» партия «завышена»
на целый тон относительно «нижней»!43):
43 На этот пример в связи с возникшей позже оркестровой версией Польки обра-
щает внимание А. Шнитке. См. его статью «Особенности оркестрового голосо-
ведения ранних произведений Стравинского».— В кн.: Музыка и современность,
вып. 5. М., 1967, с. 212.
109
Еще более хлестко звучит Pesante — финальный номер из
Восьми очень легких мелодий. Здесь налицо все признаки «жесто-
кого таиго», поданного композитором с истинно артистическим
смаком (некоторые детали Pesante позволяют видеть в нем пер-
воисточник тангообразной темы и темы «разбитого фортепиано»
в Первом Concerto grosso А. Шнитке).
Нет сомнений в том, что все эти пьесы пародийны. Почему Стра-
винский связывал с ними начало своего поворота к неоклассициз-
му? Ведь материал музыкальной старины как таковой здесь отсут-
ствует. Безусловно, композитор имел в виду сам метод написания
этих пьес, предполагающий наличие модели и работу с ней. Опора
на общезначимые музыкальные формулы и предельное прояснение
стиля (вплоть до «техники пяти пальцев») также послужили
симптомом поворота. В позднейших, собственно неоклассических
опусах, зачастую обращающихся непосредственно к старин-
ной музыке, намерения автора вовсе не исчерпывались пародий-
ностью. Однако метод работы с моделью остался в силе, как и
преимущественное дистанцирование последней. Обращение к бы-
товому жанру и техника пародии как крайний случай такого ди-
станцирования сыграли в этом смысле подготовительно-лабора-
торную роль.
Будучи весьма мобильным в выборе объектов творчества, Стра-
винский не изменил этому своему качеству и в неоклассический
период. Поэтому этимологическая неточность термина «неоклас-
сицизм» (отмечаемая многими исследователями) по отношению к
нему особенно заметна. Ренессансная полифония, итальянский
мадригал, инструментальная музыка барокко — собственно эпохе
классицизма здесь отводится не так уж много места. Важно под-
черкнуть в данном случае необходимость расширительного пони-
мания термина, связанную с принципиальной множественностью
используемых моделей. В отношении к образцам старинной музыки
проявилось изначально присущее композитору мастерство пере-
воплощения. Импульсы такого явления у Стравинского, ставшего
вскоре «гражданином мира», весьма разнообразны, и в сущест-
вующей литературе они рассматриваются в самых широких парал-
лелях — от протеизма Пушкина до стилевых метаморфоз Пикассо.
Однако не следует забывать и о чисто петербургских корнях его,
о той поэтике цитат и апелляции к «интерпретирующему коду»,
которые составляли неотъемлемую традицию петербургской куль-
туры и которые были на редкость активно восприняты Стра-
винским44.
44 Относительно специфики неоклассицизма Стравинского мы ограничиваемся
сказанным, имея возможность отослать читателя к исследовательским трудам,
широко разрабатывающим эту тему. В отечественной литературе, наряду с
работами М. Друскина и В. Смирнова, назовем содержательные статьи С. Са-
венко («О неоклассицизме Стравинского».— В кн.: Проблемы музыки XX века.
Горький, 1977), В. Холоповой («„Классицистский комплекс" творчества
И. Ф. Стравинского в контексте русской музыки».— В кн.: И. Ф. Стравинский.
Статьи. Воспоминания. М., 1985) и др.
НО
Но обратимся к Прокофьеву и ею пьесам ор. 12. В отличие от
«очень легких» миниа’тюр Стравинского, это довольно развитые,
фактурно разработанные — с точки зрения «серьезного» пи-
анистического репертуара — композиции. По крайней мере поло-
вина их* уже названиями отсылает к жанрам старинной сюиты:
Гавот, Ригодон, Каприччио, Прелюд, Аллеманда. Несмотря на
связь с первичными жанрами, они вместе с другими пьесами этого
сборника (например, Легендой и,Мазуркой) самой экзотикой и
поэзией старины скорее поднимаются над бытом, чем приближают-
ся к нему. Роль «жанрового кода» выполняют характерные форму-
лы: традиционный затакт в Гавоте, альбертиевы фигуры в Каприч-
чио, широкие скачки в Ригодоне и т. д. Однако в целом преобла-
дает обобщенный, а не конкретно-атрибутивный взгляд на жанро-
вую модель. В ней подчеркнуты такие общие и универсальные
признаки музыкальной старины, как регулярность ритма и диато-
низм (то парадоксальна усиленный хроматическим контекстом —
например, в Ригодоне или Аллеманде, то совершенно «очищен-
ный» — в белоклавишном Прелюде).
Новое и современное в этих пьесах связано прежде всего с гар-
монической вертикалью. Простая трезвучная основа служит лишь
точкой отталкивания. Колючие хроматизмы, фонизм аккордов с
побочными тонами, быстрые прыжки в далекий строй и обратно —
все это, конечно, не предусматривалось классическими правилами
игры:
Привнесены также смелость интонирования, скерцандиая кап-
ризность рисунка, артикуляционные пикантности вроде glissandi
в Прелюде — явные следы воздействия на инструментальный
жанр театральной эксцентрики. Важно заметить, что все эти
«привнесения» близки технике инкрустации и вполне согласуются
со структурной целостностью модели, о чем свидетельствует не-
нарушаемая ритмическая регулярность. При всех признаках сти-
левого диалога старое скорее тесно ассимилируется с новым, чем
дистанцируется. Эстетика неожиданности, дающая эвристическую
свежесть взгляда на давно прошедшее,— вот центр модернизи-
рующих усилий Прокофьева.
В ор. 12 вошли, как известно, пьесы, создаваемые на протяже-
нии нескольких лет, в их числе — и совсем ранние, консерваторские
работы, демонстрирующие навыки писания в «двухколенном скла-
де» (например, g-тоП’ный Гавот). С Гавота начинался и замысел
Классической симфонии, послужившей началом симфоническо-
111
го пути Прокофьева, («...гайдновская техника мне стала как-
то особенно ясна после работ в классе Черепнина, и в этой
знакомой обстановке легче было пуститься в опасное плавание
без фортепьяно»45). Если учесть признание автора о первенствую-
щем значении для него классической линии, «берущей начало еще
в раннем детстве»46, когда мать знакомила будущего композитора
с классическим фортепианным репертуаром, то можно не без осно-
ваний утверждать, что Прокофьев во многом исходил из нее
(в то время как Стравинский пришел к ней искушенным и многое
уже испробовавшим мастером). Объясняется ли умеренность дис-
танцирования классической модели в пьесах ор. 12 естественной
привязанностью к традиции и недостаточной опытностью компо-
зитора? Лишь до известной степени — учитывая, что созданная
позже Классическая симфония демонстрирует в этом отношеннн
действительно большую смелость и свободу. Однако в широком
плане здесь видится скорее закономерное, чем преходящее явле-
ние.
Предпочтение Прокофьевым ранней классики (Гайдн, Моцарт
Скарлатти, отчасти французские клавесинисты) указывает на
принцип «избирательного сродства» как главный принцип его
контакта с прошлым. Общим стилевым знаменателе^ явилась в
этом плане регулярная акцентность ритма — пожалуй, ни у одного
современного автора культ размеренности и токкатная моторика
не получили столь однозначно позитивного истолкования. «Изби-
рательное сродство» Прокофьева было изначально обусловлено
внутренним складом его мышления и на редкость уравновешенным
душевным строем (подобно тому, как «свобода выбора» у Стравин-
ского определялась артистическим складом его таланта). Отсюда
постоянство раннекласснческой модели — при всей нерегуляр-
ности ее появлений — и ассимилирующий подход к ней.
Вчувствование в модель можно объяснить также специфической
сопричастностью Прокофьева к музыкальному романтизму. При
всей дерзости антиромантических выпадов молодого автора роман-
тизм оставался одним из неявных, но глубоко лежащих свойств
его натуры. Иначе нельзя объяснить ни экспрессионизм «Огнен-
ного ангела», ни изысканно-импрессионистскую лирику «Мимо-
летностей», ни, наконец, прогрессирующий эмоционализм поздних
опусов, подчас уже чреватый опасностью академизации. Роман-
тическая константа личности Прокофьева проявилась и в поэти-
зации образов старины (наряду с моментами юмористического
обыгрывания их). В этом он отличался от последовательного
антиромантика Стравинского.
Но в этом он был н истинным петербуржцем, хотя на свой
лад. Интерес к прошлому — не только к классическому, но и на-
ционально-фольклорному,— вкус к эпосу и сказке, поиски новых
оркестровых и гармонических красок (подчас близких поискам
45 С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 158.
46 Там же, с. 148.
112
Мусоргского), приподнятость над бытом, экспрессивность выраже-
ния, не переходящая, впрочем, в «московскую экспансивность»,—
все это достаточно близко романтизму балакиревцев. Так соедини-
лись в Прокофьеве прошлое и настоящее петербургской культуры,
ее романтические чаяния и постромантические рефлексии.
*
Тенденция к «прекрасной ясности», как видим, имела весьма
широкий спектр проявления в русской культуре начала века.
В этой широте и не поддающейся классификации пестроте —
свойство любого переломного момента в искусстве. Если симво-
лизм как поздняя трансформация романтического направления
практически исчерпал себя в рамках дореволюционного периода,
то новый классицизм пребывал тогда еще в стадии формирования,
подготовки к тем решающим сдвигам, которые повсеместно про-
изошли в 1920-е годы. По-видимому, исследователи правы, говоря
о том, что неоклассицизм в зрелом и законченном своем виде не
успел сформироваться в русской музыке: Стравинский был в
1920-е годы уже вне России, а те идеи, которые были порождены
революцией и всей формацией Советской страны, вызывали к жиз-
ни новые, не совместимые с художественными ретроспекциями
формы выражения. Об этом пишет, в частности, В. Варунц в ци-
тировавшейся выше книге. Однако этот же автор говорит о том,
что ставший «гражданином мира» Стравинский «в полной мере
отразил в своем творчестве специфику „русского варианта не-
оклассицизм"47» (в частности, всеохватность источников и при
этой всеохватности — предпочтение образцов романской, условно
не разделяемой «латино-итальяно-французской художественной
культуры»48). Очевидно, в лице Стравинского русская культура с
наибольшей полнотой проявила свои экстравертные потенции,
способность выступать на правах мирового гражданства и асси-
милироваться с другими культурами, что для неоклассицизма
обернулось весьма благоприятным образом.
Волею судеб вне России оказался и Рахманинов. Неокласси-
ческие элементы в его позднем творчестве также связаны с новым
пространственно-временным контекстом, хотя в силу интровертно-
го склада натуры (и представляемого ею духовного пласта)
Рахманинов скорее отторгался от этого контекста, в чем и сказа-
лась специфическая «негативность» привносимых элементов49.
Важно подчеркнуть, однако, что оба композитора уже за рамками
47 Варунц В. Музыкальный неоклассицизм, с. 46.
48 О романской ориентации новой поэзии — в противоположность германизму
символистов — уже писалось. Вообще о подобных предпочтениях говорят
прежде всего общехудожественные параллели Стравинскому — в русской
поэзии, живописи и архитектуре. Что же касается музыки, то здесь романская
линия более активно дополнялась германской (Бах и венские классики).
49 В этом проявилась, вероятно, и московская природа композитора. Возвраща-
ясь еще раз к антитезе Москва — Петербург, напомним, что еще В. Белинский,
113
русского периода продолжали творить памятью культуры и ощу-
щением ее корней, каждый на свой лад.
Но наряду с плодами, которые довелось пожинать Западу,
Россия располагала в отношении к новому классицизму и своим
собственным фондом ценностей. Неоклассические опыты Про-
кофьева, быть может, самые ранние в музыке XX века, состоялись
в рамках русской культуры и хронологически, и «территориально»
(при всем том, что Прокофьеву также суждено было на время
оставить Россию). Если же учесть внушительный «классицизи-
рующий» опыт московской школы (заявленный Танеевым), а так-
же исключительное разнообразие проявлений новой эстетики в
других искусствах, то значение русской культуры в формировании
идеалов «прекрасной ясности» предстанет в полном н впечатляю-
щем объеме.
учитывая происхождение и историческую миссию двух русских столиц, пред-
полагал назначение Москвы в удержании консервативного и национального
начал русской культуры, а назначение Петербурга — в привнесении новизны
(см.: Белинский В. Петербург и Москва.—В ки.: Физиология Петербурга).
Интересно, что в позднейших исследованиях первое качество связывается с
«концентрической городской структурой, то есть с типом города-центра, города
иа горе» (или на холмах), а второе — с эксцентрической: городом, распо-
ложенным на краю культурного пространства — на берегу моря, в устье
реки (см.: Лотман Ю. Символика Петербурга и проблемы семиотики города.—
В кн.: Семиотика города и городской культуры. Петербург). Здесь же уместно
упомянуть антитезу «города-растения» и «города-камия», природно-органи-
ческого, стихийного — и искусственного, сугубо «культурного» городских
типов (этот момент акцентируется в статье В. Топорова «Петербург и петер-
бургский текст русской литературы» из того же сборника). Очевидно, в первом
случае явления культуры болезненнее реагируют на смену контекста. Так,
даже внероссийская судьба русского искусства оказалась во многом предопре-
деленной различием его московских и петербургских истоков.
Музыка в зеркале
м ирискусн ичества
и новейших
художественных
течений
Глава 6
НОВЫЙ РУССКИЙ БАЛЕТ
КАК СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
Если идеалы «новой классики», зародившиеся в недрах симво-
листской культуры, предполагали взаимоочищение искусств и
отстаивание нх онтологизма, то это никак не означало снятия с по-
вестки дня проблемы художественного синтеза. В 1910-е годы,
когда антиномичность культурного процесса достигла высшей
точки, проблема эта продолжала владеть умами, а появление
новых синтетических форм скорее свидетельствовало о скрытой
эволюции идей синтеза, нежели их угасании. Каковы же предпо-
сылки столь устойчивой и показательной для русского искусства
начала XX века тенденции (в русле которой — благодаря не
просто сосуществованию, но реальному контакту искусств — при-
обретает особо конкретный и динамический характер само поня-
тие художественного контекста)?
В связи с символизмом уже шла речь о своеобразной синкре-
тичности мышления — наследии романтической эпохи, а также о
поствагнерианских трансформациях идеи Gesamtkunstwerk. На-
помним и о главной цели символистской мистерии, связанной
с обострившейся ситуацией кризиса индивидуализма: разобщен-
ные человеческие сознания должны объединиться в грандиозном
соборном акте магической силой Всеискусства. Важно заметить,
что театр мистерий сфокусировал в себе более широко понимае-
мые, в духе возрожденного национального самосознания, идеи
синтетичности культуры. «Россия — молодая страна,— писал
А. Блок,— и культура ее — синтетическая культура. Русскому
художнику нельзя и не надо быть „специалистом". Писатель
должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте; тем
более — прозаик о поэте и поэт о прозаике. Бесчисленные примеры
благодетельного для культуры общения (вовсе не непременно
личного) у нас налицо... Так же, как неразлучимы в России живо-
пись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга —
115
философия, религия, общественность, даже—политика. Вместе
они и образуют единый мощный поток, который несет на себе
драгоценную ношу национальной культуры»1.
Но даже и этими глобальными предпосылками не исчерпываются
идеи синтеза искусств в России начала века. Целый ряд факторов
указывает на чисто художественные корни подобных устремле-
ний. Синтез искусств был взращен общим курсом русского искус-
ства на художественное обогащение, признанием безотноситель-
ной ценности красоты. Б. Асафьев вполне резонно связывал такого
рода эстетизм с «романтическими помыслами талантливой моло-
дежи, объявившей пересмотр всем общепринятым в старой России
художественным верованиям». «В этом смысле,— писал он,—
выступления могли быть „искусством для искусства", но не как
лозунгирование бессодержательного искусства (что, по-моему,
вообще абсурд!), а как право искусства на высокую художествен-
ную культуру, „свободную" от посторонних — в данном отноше-
нии — нравоучений и предписаний, ибо в такого рода самоопре-
делении на художественную зрелость и вырабатывается чуткий
выразительный язык искусства»1 2.
«Бескорыстное искусство» стало на рубеже веков насущным
хлебом. Под этим девизом сплачивались художники разной спе-
циализации и разных стилевых направлений. Наиболее крупным
очагом культуры в этом аспекте оказался «Мир искусства» —
знаменитое объединение художников-живописцев, само название
которого звучало манифестом. Такой союз не случайно возник в
сфере изобразительного творчества: именно в этой области эсте-
тизирующее антиакадемическое движение (сутью его было друж-
ное недовольство передвижничеством, к тому времени почти выво-
дившимся и символизировавшим догмы ушедшей эпохи) приняло
наиболее широкий, фронтальный характер. В журнале «Мир
искусства» — печатном органе объединения (издававшемся с
1898 по 1904 год) — наряду со статьями по живописи и графике
можно было прочесть рецензии на постановки МХТа, статьи о
чеховской драматургии, здесь же публиковались новые стихи.
Если добавить к этому столь же известные факты деятельности
«Вечеров современной музыки» и «Русских сезонов» в Париже3, то
мощный культурно-объеднняющий смысл мирискусничества не
оставит никаких сомнений. «Дух единения», «сила общения еди-
номышленников» (С. Дягилев), сплотившихся во имя «глубокой
привязанности к искусству» и «общей тоски по художественной
культуре» (И. Грабарь),— эти отмечаемые самими деятелями
нового движения симптомы охватили, таким образом, всю худо-
жественную среду.
1 Блок А. «Без божества, без вдохновенья».— Собр. соч., т. 6. М., 1962, с.
175—176.
2 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы. Л.— М., 1966, с. 43—44.
3 Напомним, что организаторами «Вечеров современной музыки» были мирискус-
ники В. Ф. Нувель и А. П. Нурок, что же касается второго предприятия, то
оно целиком обязано С. Дягилеву и его ближайшему окружению.
116
Пристальный интерес к художественной форме, характери-
зующий служителей муз нового поколения, как никогда актуали-
зировал вопросы стиля. О своеобразном «стилизме» и стилизатор-
стве мирискусников писалось много. Для нас же эта черта интерес-
на постольку, поскольку в стилевой мобильности художников
таился изначальный «синтетизм» их творческой направленности,
возможность выхода в другие искусства и готовность к сотвор-
честву, к стилевому союзу. Примером такого союза стала, в част-
ности, книжная графика мирискусников. С. Дягилев в своем эссе
о художниках-иллюстраторах в ряду предпосылок рассматри-
ваемой изобразительной отрасли указывал на эту взаимозави-
симость4. О ней же свидетельствует «театрократия» новой живо-
писи, наиболее широко реализовавшая себя в спектаклях «Рус-
ских сезонов». Отражением этой закономерности в музыке яви-
лось творчество И. Стравинского — столь же стилистически под-
вижное, сколь сохранившее верность театру и идеям театрального
синтеза.
Театр как колыбель синтетического искусства стал центром
притяжения художников разных профессий. В эпоху нарастаю-
щего субъективизма высказывания такая тяга к единению и своего
рода монументальному стилю была понятна. Собственно, она и
представляла одну из предпосылок модерна как стиля эпохи,
созданного волевыми усилиями разных художников и полагающе-
го в своей основе синтез искусств. (Мирискусники были причастны
модерну разными сторонами5, но именно в данном пункте эта при-
частность их получила наиболее последовательное, программное
выражение.) «Театр,— писал И. Грабарь,— единственная область,
в которой художник еще может мечтать о большом празднике для
глаз... может найти исход своей тоске о фреске»6. На просторах
сцены оказалось возможным создать ту самодовлеющую худо-
жественную реальность, которая спасала бы от гнетущей повсе-
дневности, пресловутых будней. Конечно, такое спасение было
иллюзорным, как и всякий другой способ «ухода от жизни». Это
сознавали и сами идеологи нового искусства, например А. Бенуа,
писавший об «известной гуманитарной утопии» мирискусников.
И все же паломничество в храм красоты, желание среди прозы
бытия насладиться праздником искусства оказалось живительным.
Новая — художественная — реальность предполагала органи-
зованную совокупность средств, богатство ощущений и гармонию
целого. Отсюда — особая активность взаимодействия и ассими-
4 См.: Дягилев С. Иллюстрации к Пушкину.— В кн.: Сергей Дягилев и русское ис-
кусство, т. 1, М., 1982, с. 97.
5 См. об этом: Сарабьянов Д. Стиль модерн. М., 1989. Вызывает полную солидар-
ность стремление автора рассматривать модерн как эпохальный стиль, то есть
как нечто, стоящее над отдельными искусствами и художественными направ-
лениями, пусть даже это господство не было тотальным и тем более «стериль-
ным» (так, у русских художников автор констатирует соседство модерна с
реалистическими и импрессионистскими тенденциями).
6 Грабарь И. Театр и художник.— Весы, 1908, № 4, с. 92.
117
ляция различных сфер художественного творчества, которая, с
одной стороны, вылилась в конкретные формы Gesamtkunstwerk,
а с другой — стимулировала косвенное взаимообогащение ис-
кусств.
Идея синтетического искусства сближала художников-мирис-
кусников с поэтами-символистами. Идеологи новой поэзии и но-
вой живописи разрабатывали ее практически параллельно (разве
что первые опережали вторых в аспекте теории). Впрочем, симво-
лизм и мирискусничество вообще являли собой параллельные —
как в хронологическом7, так и в фактическом смысле — дви-
жения.
Поэтов и живописцев объединял просветительский дух и актив-
ное приобщение к европейским художественным ценностям, равно
как и германский уклон западнических интересов. Общий для
эпохи историзм и ретроспективизм воплотились у художников в
культивировании античной и славянской древности (Л. Бакст,
Н. Рерих), в классицистских-мотивах (А. Бенуа). Симптоматична
и мифологизация образного строя — например, в творчестве
М. Врубеля, проделавшего столь знаменательный путь от Демона
к Пророку. Подобно поэтам-символистам, художники нового
поколения стремились противопоставить плоскому утилитаризму
«красоту символа». Их образ мыслей был отмечен явной печатью
антипозитивизма. Грабарь прямо писал о падении у нынешнего
поколения художников позитивистских идеалов и о метафизике,
пробивающей себе дорогу; Бенуа не уставал говорить о «божест-
венной тайне» искусства, а Дягилев настаивал на том, что «идеи
должны проявляться непроизвольно и бессознательно, из глуби-
ны души»8.
Стилевые искания художников включали в себя, среди прочего,
«страну Арлекинию», мотив маски и комедиантства. В этой сфере
живописцы порой лидировали, воздействуя на своих собратьев по
искусству. Так, А. Белый признавался, что многие страницы его
поэзии и прозы навеяны полотнами К. Сомова и В. Борисова-
Мусатова (последний, подобно другим художникам «Голубой
розы», вообще олицетворял ту ветвь новой русской живописи,
которая своей музыкальностью и мистицизмом больше всего
соответствовала символистскому строю чувств).
Вполне применимы к поэтам-символистам те характеристики,
которыми К. Петров-Водкин наделил членов объединения «Мир
искусства»: «На рубеже исторических переломов возникают такие
созвездия человеческих групп. Они знают многое ценное за их
спинами н несут собой эти ценности прошлого... Они знают неиз-
бежность конца доживаемой ими эпохи, поэтому у них острота
7 Соответственно манифестам старших символистов, первые выступления худож-
ников и начало издания их журнала относятся к 1890-м годам; кульминация же
й официальный конец объединения (естественно, отнюдь не ставший концом
деятельности его членов) восходят к середине 1900-х годов и совпадают со вто-
рой волной литературного символизма.
8 Дягилев С. Вечная борьба.— Мир искусства, 1899, № 1, с. 16.
118
романтического скепсиса, волнующая элегичность их настроений.
Они — это предреволюционные романтики»9. Итогом этих рас-
суждений звучит тезис, что «Мир искусства», при всей широте
демонстрируемых им стилей, «как бы заканчивал собой симво-
листов»10 *.
Аналогии можно продолжить, если учесть факт прорыва худож-
ников к «новому классицизму», который они совершили парал-
лельно поэтам. Упоминавшийся выше «петербургский период»
отечественной живописи говорит о том, что в сюжетно-иконо-
графическом плане она приобщилась к классицизму раньше и по-
следовательнее других искусств. Что же касается более широко
понимаемых идеалов «новой классики», то и здесь живописцы в
союзе с архитекторами задавали тон. Напомним, что среди авторов
первых манифестов журнала «Аполлон» были Бакст и Бенуа. Так
или иначе, в мирискусничестве наглядно отразилась антиномич-
ность художественной культуры начала века, рассмотренная нами
в предыдущих главах. Антитезу дионисийского и аполлонического
начал, резко обозначившуюся на переломе 1900 — 1910-х годов,
можно назвать «горизонтальной» антитезой, учитывая истори-
ческое превосходство и предрекаемую всеми победу второго
начала.
Но вернемся к идее синтеза искусств. Сближая поэтов и худож-
ников, подчеркивая их общую ненависть к прозе жизни и веру
в неисчерпаемые возможности искусства,, она в итоге оказалась
интерпретирована ими совершенно по-разному. Эти различия и
даже противоположности важны для нас постольку, поскольку
различной оказалась и музыка, вовлеченная в синтетическое
целое — проектируемое или осуществленное, вдохновленное в
одном случае философией и поэзией, в другом — живописью и
театром. Скрябин, с одной стороны, и Стравинский — с другой,
вполне засвидетельствовали эту противоположность.
Рассмотрим же мирйскусническую концепцию художествен-
ного синтеза в плане сравнения ее с символистской концепцией.
Согласно Вяч. Иванову, жанровой основой символистской
мистерии должна служить хоровая драма. В совокупности ее сла-
гаемых важное место отводилось поющемуся или произносимому
слову. Судя по тексту «Предварительного действа» Скрябина,
это — чисто символистское, суггестивно-музыкальное слово, дале-
кое от какой бы то ни было конкретности и скорее апеллирующее
к подсознанию. Мирискусники же в своей (общесимволистской!)
боязни «изреченности» и культивировании «священного безмол-
вия» пошли дальше, сделав основой синтеза бессловесный балет.
«Искусство слова за последнее время дискредитировало себя
и должно быть отдано на слом,— заявлял Бенуа.— Да живет
взамен бездумное молчание, священнодействие танца»11. Главный
9 П ётров-Бодкин К. Пространство Эвклида. Самгфкандия. Л., 1982, с. 609.
10 Там же-, с. 614;
“ БеКуа Л. Книга о новом театре. Спб., 1908, с. 10.
119
идеолог и энтузиаст нового балета, Бенуа ценил в этом жанре
условность, склонность к символике, способность выражать
«невыразимое», но кроме того—изначальный синтетизм жанро-
вой структуры, возможность органически сочетать музыку, плас-
тику, зодчество, орнамент. «Балет — одно из самых последователь-
ных и цельных выражений идеи Gesamtkunstwerk,— писал он,—
именно за эту идею наше поколение готово было положить душу
12 J
СВОЮ» .
Мирискуснический балет не случайно снискал себе репутацию
нового русского балета. Новизна состояла уже в «короткометраж-
ном» типе высказывания. Трудно утверждать со всей точностью,
кому принадлежит патент на изобретение одноактного балетного
спектакля нового типа. Судя по мемуарам Дягилева, Фокина,
Бенуа, идея эта носилась в воздухе и требовала немедленной
реализации. Дягилев, например, вспоминал позже о том времени,
когда он впервые задумался «о новых коротеньких балетах, кото-
рые были бы самодовлеющими явлениями искусства (курсив
мой.— Т.Л.) ив которых три фактора — музыка, рисунок и хорео-
графия — были бы слиты значительно сильнее, чем это наблюда-
лось до сих пор»12 13. «Самодовлеющие явления искусства» не терпе-
ли длиннот, культивировали красочную деталь и требовали четкой
пространственно-временной локализации. Это заметно отличало
мирискуснический Gesamtkunswerk от символистского мисте-
риального действа, судя по скрябинским проектам — неограни-
ченного (или по крайней мере — гипертрофированно разросше-
гося) во времени и пространстве.
Символистский мистериальный театр предполагал, как известно,
иерархическое сочетание компонентов целого под эгидой музыки
(вспомним высказывания на эту тему Вяч. Иванова и А. Белого).
Дягилевский же театр стремился к равноправию компонентов при
установке на визуальное, зрелищное начало. Мирискусническая
эстетика с ее пафосом созерцания углубила зрелищную основу
балетного жанра, его способность останавливать время н как бы
развертывать художественный образ в пространстве. О домини-
рующем значении в новом балете живописи свидетельствуют и
программные заявления его деятелей, и многие конкретные факты.
Дягилев, стремясь охарактеризовать сущность своего театра,
определял его как «живопись движений». Известно, что рисунки
Бакста не только соответствовали своему прямому предназна-
чению, но и влияли на хореографический стиль оформляемых им
спектаклей. В. Нижинский признавался, что в танцах «Послепо-
луденного отдыха фавна» он шел от кубизма. М. Ларионов выра-
батывал хореографию «Шута»; и он, и Н. Гончарова рассматри-
вали хореографию как «живое проявление театральной деко-
рации»14. Если вспомнить, что художники-декораторы порой ста-
12 Бенуа А. Мои воспоминания, т. 4—5. М., 1980, с. 540.
13 Сергей Дягилев и русское искусство, т. 1, с. 261.
14 Там же, с. 29.
120
новились также либреттистами и разрабатывали общий план
спектакля (как, например, Бенуа в «Петрушке», Рерих в «Весне
священной» или — позже — Г. Якулов в «Стальном скоке»), то
преимущественное «авторское право» придется признать именно за
ними.
Заметим, что при всем том и живопись, и все другие компоненты
выступали в Новом русском балете в нетрадиционно самостоя-
тельной роли. Стремясь и каждый по себе стать «самодовлеющим
явлением искусства», они образовывали в итоге некое контра-
пунктическое целое — в противовес «гомофонической» сопод-
чиненности в символистском синтезе, преследующем цель одно-
направленно-суггестивного эмоционального воздействия. В ка-
честве примера последнего приведем светозвуковой комплекс
скрябинского «Прометея», где партия светового клавира, будучи
абсолютно зависимой от тонально-звукового строя, не может пре-
тендовать на какую-либо автономию. Символистская мистерия
вообще больше тяготела к синестезии, к синтезу ощущений, а не
полноправных художественных рядов. В универсальном слово-
сочетании «синтез искусств» можно видеть поэтому разные от-
тенки. Для символистов актуальнее само понятие синтеза, в при-
ложении же к мирискусническому театру акцент возникает на вто-
ром слове; для первых формула «синтез искусств» звучала, так
сказать, хореически, для вторых — ямбически.
Самостоятельность слагаемых в «Русских сезонах» во многом
стимулировалась заботой о чисто художественной стороне спек-
такля и качестве ее сценической реализации. Например, знаме-
нитая оперно-балетная постановка «Золотого петушка» Римского-
Корсакова потому уже вызывала удовлетворение ее авторов, что
благодаря разделению труда здесь достигались «две цели: и совер-
шенство вокального исполнения и красота мимико-пластической
передачи»15. Несомненно, сам момент экспонирования искусства
в дягилевской антрепризе, ставшей своего рода «выставкой до-
стижений» русской культуры за рубежом, способствовал такому
типу театральных представлений. Но были здесь, думается, и внут-
ренние основания. Автономизация искусств в синтетическом целом
подчеркивала их индивидуальную эстетическую значимость,
давала развернуть перед слушателем-зрителем их ничем не ограни-
ченные имманентные возможности16. Не случайно Новый русский
балет дал перспективу самостоятельной жизни искусств-компо-
нентов: в художественных музеях и концертных залах. Что же
касается собственно синтезирующей функции, то значительная
15 Фокин М. Против течения. Л.— М., 1962, с. 318.
16 Знаменательно, что нарушение этого закона каралось самой практикой балета
и мерой успеха спектакля. С. Лифарь, например, полагал, что в известной своей
дискуссионностью хореографической интерпретации «Весны священной» В. Ни-
жинским, которая страдала, по его мнению, излишней зависимостью от
музыкального ритма и отсутствием собственной художественной концепции,
дала знать о себе «месть отвергнутой Терпсихоры» (Лифарь С. Танец. Париж,
1937, с. 152).
121
доля ее перекладывалась на воспринимателя. В этом отношении
первые спектакли «Русских сезонов» послужили колыбелью совре-
менного условного театра, а последующие — вроде «Байки» и
«Свадебки» Стравинского, созданных первоначально не для дяги-
левской сцены, но явно продолживших постановочные традиции
«Золотого петушка»,— уже его классическими образцами.
Если теоретики символистской мистерии восставали против теат-
ральности и призывали к уничтожению рампы во имя «слияния
сцены с общиной» и «единства переживания», то мирискусничес-
кий синтез искусств апеллировал прежде всего к созерцательной
и эстетико-оценочной активности слушателя-зрителя, а потому
рампа как способ отстранения и как знак театральности была ему
необходима (хотя теоретически она порой отрицалась в целях
обновления театра и вывода его из академического застоя). В ши-
роком — а не узкоакадемическом — смысле рампа означала здесь
повышенный коэффициент театральности и театральной услов-
ности во всех компонентах действия.
Нетрудно подвести итог этому ряду сравнительных характе-
ристик. Главным пафосом символистской мистерии была теургия;
иначе говоря, символистская концепция синтеза искусств пресле-
довала цель, внеположенную искусству. Здесь она смыкалась с ли-
тургическим действом и синтезом литургического типа. За пределы
искусства выходили и способы реализации мистериального дейст-
ва: напомним, что Скрябин предполагал в своей Мистерии учас-
тие природных реалий и безграничное расширение синестезийного
комплекса («симфонии ароматов и осязаний»). В ней планирова-
лось, по словам Б. Шлецера, «расширение пределов искусства
материалом низших чувств: во Всеискусстве должны быть ожив-
лены все элементы, которые не могут жить самостоятельно»'7
(курсив мой.— Т. Л.). Дягилевское же предприятие осуществля-
лось в рамках искусства и во имя искусства. Эстетизм был и оста-
вался ведущей тенденцией «Русских сезонов». Это определило и
основной жанр антрепризы, о котором в характерно категоричес-
ком духе высказался Стравинский: «Единственная форма сцени-
ческого искусства, которая ставит себе в краеугольный камень
задачи красоты и больше ничего, есть балет»17 18.
Как видим, и конечная цель художественного синтеза, и его
структура оказались у символистов и мирискусников качественно
различными, если не диаметрально противоположными. Чем мож-
но объяснить такое размежевание?
Отчасти здесь всплывает уже известная антиномия Москвы и
Петербурга. В своем эстетизме, рационалистичности и привязан-
ности к театру мирискусники и Стравинский обнаруживают себя
истинными петербуржцами — настолько же, насколько всепогло-
щающий эмоционализм Скрябина делал его подлинным москви-
чом.
17 Шлецер Б. А. Скрябин. Берлин, 1923, с. 284.
18 Сергей Дягилев и русское искусство, т. 1, с. 192.
122
С другой стороны, в характере синтеза сказалась неадекват-
ность художественного воссоздания мира поэтами и живопис-
цами19. Синтетическое целое попало в зависимость от доминирую-
щих начал: музыкально-поэтического, слухового — в одном случае
и живописного, визуального — в другом. Природа первого больше
связана со стихией эмоций, с широкими возможностями символи-
зации и подсознательно-суггестивного воздействия, равно как и
процессуальностью целого. Второе же неотделимо от мира пред-
ставлений и предполагает материальную закрепленность объектов
творчества — отсюда актуализация пространственного фактора и
апелляция к созерцательно-оценочной способности восприятия.
Однако рассмотренные концепции художественного синтеза
означали нечто большее, чем противоположность московско-
петербургских традиций или онтологические различия видов ис-
кусств. Выше уже говорилось о «теургической» и «эстетической»
тенденциях русской культуры и, соответственно, о двух карди-
нально различных взглядах на искусство, точнее, на проблему
«искусство и жизнь». Здесь уже имела место «вертикальная» анти-
теза (наряду с вышеупомянутой «горизонтальной», дионисийско-
аполлонической) — антитеза сосуществующих и охватывающих
разные грани художественной культуры точек зрения.
Само символистское движение было неоднозначным по на-
правленности и характеризовалось эволюцией от эстетизма к теур-
гии (от «старших» — к «младшим»). Русское искусство рубежа
веков раскрепостилось, почувствовало свое право на художест-
венную автономию, сбросило с себя бремя вечных забот — но с тем
лишь, чтобы вновь ощутить свою судьбу, свою национальную
природу и слиться с жизнью — теперь уже в апокалиптически-
преобразующем акте. Мирискусничество же в этой ситуации за-
нимало противоположный полюс; оно поддерживало статус искус-
ства-цели, проповедовало возвышение искусства над жизнью, его
право на эстетическую дистанцию (что в большой мере стимули-
ровалось западническими тенденциями этого движения) и в ко-
нечном счете выполняло по отношению к нему, при всех соблазнах
эстетизма, охранительную функцию.
Возвращаясь в последний раз к сравнительной характеристике
двух концепций художественного синтеза, обратим внимание на
знаменательнейший факт. Если первая получила лишь частичную
реализацию, а в своем абсолютном варианте замкнулась в сфере
идей, то вторая имела прямой выход в художественную практику,
более того, изначально этой практикой поверялась. В сравнении
с жизненной утопией символистов «гуманитарная утопия» мир-
19 Крайне симптоматично, что литераторы и художники, входящие в ядро «Мира
искусства», так и не могли понять друг друга, что фатально ускорило распад
объединения и конец, издания его журнала. Религиозно-философские искания
первых не сочетались с сугубо эстетическими чаяниями вторых. Впрочем,
известный символистско-мирискуснически'й дуализм отличал на первых порах
н Дягилева и Бенуа. Он же послужил причиной их дальнейшего отхода от собст-
венно символистских доктрин.
123
искусников оказалась менее фатальной, не говоря уже о ее худо-
жественной плодотворности. Получившие мировое признание
«Русские балетные сезоны» в полной мере подтвердили это.
Поскольку дягилевское предприятие, по общему убеждению,
«стало собирающим и рассеивающим фокусом всех явлений совре-
менного искусства»20, это обязывает нас внимательнее рассмот-
реть контакт искусств в антрепризе, а также взглянуть на «соби-
раемые и рассеиваемые» лучи — предпосылки и последствия этого
контакта для художественного процесса. Напомним, что открыв-
шиеся в 1909 году «Русские балетные сезоны» просуществовали
два десятилетия. За это время — время во многом решающее для
судеб искусства XX века — стилистика спектаклей красноречиво
эволюционировала. Для нас преимущественный интерес пред-
ставляет первый, довоенный период деятельности «Сезонов»,
который по праву называют мирискусническим. С некоторыми
оговорками его можно распространить на 1915 год — год написа-
ния Прокофьевым двух ранних балетов, второй из которых, «Шут»,
был поставлен в дягилевском театре уже в послевоенное время.
Приведем краткую хронологию балетных замыслов и премьер
русских авторов (с захватом петербургской предыстории антре-
призы) :
1907 «Евника» (Н. Щербачев, М. Фокин) Петербург,
«Оживленный гобелен» (Н. Черепнин, А. Бенуа, Мариинский
М. Фокин) театр
«Павильон Армнды» (Н. Черепнин, А. Бенуа,
М. Фокин)
1909 «Павильон Армиды» (Н. Черепнин, А. Бенуа, Париж, Гранд-Опера
М. Фокнн)
1910 «Жар-птица» (И. Стравинский, А. Головин,
Л. Бакст, М. Фокин)
1911 «Нарцисс и Эхо» (Н. Черепнин, Л. Бакст) Монте-Карло
«Петрушка» (И. Стравинский, А. Беиуа, Париж, театр
М. Фокин) Шатле
1913 «Весна священная» (И. Стравинский, Н. Рерих, Париж, театр
В. Нижинский) Елисейских полей
Написание Н. Черепниным балета «Маска
Красной смерти»
1914 «Мидас» (М. Штейнберг, Л. Бакст, Париж, Гранд-Опера
М. Добужинский)
1915 Написание С. Прокофьевым балета «Ала и
Лоллий»
1915 — 1920 Работа С. Прокофьева, над балетом
«Шут»
1921 Постановка «Шута» (С. Прокофьев, М. Ларио- Париж, Лондон
нов, Т. Славинский)
1927 «Стальной скок» (С. Прокофьев, Г. Якулов, Париж, Лондон
Л. Мясин)
1928 «Аполлон Мусагет» (И. Стравинский, Париж, театр
Д. Баланчин) Сары Бернар
«Блудный сын» (С. Прокофьев, Ж. Руо,
Д. Баланчин)
20 Лифарь С. Танец, с. 133.
124
Есть искус приписать возникновение нового типа музыкального
театра счастливому стечению обстоятельств. В самом деле, беспре-
цедентным кажется внезапный интерес живописцев к сцене и бале-
ту; удивителен факт экспорта русского искусства в Париж, не-
сомненно, отразившийся на его судьбе; наконец, неповторима и
уникальна фигура С. Дягилева, без которого вряд ли бы состоялся
столь необходимый настоящему театру союз единомышленников.
Но, конечно же, «случай» имел под собой причину, скрытую зако-
номерность.
Упомянутый курс на высокую художественную культуру, теат-
рократический уклон новой живописи, взаимопроникновение жи-
вописно-музыкальных интересов, свидетельствующее о всеобщей
зараженности атмосферой искусства21, наконец, расширение обще-
гуманитарного кругозора (увлечение историей, археологией, лите-
ратурой и т. д.) — весь этот комплекс факторов позволяет утвер-
ждать, что к концу 1900-х годов русская художественно-артис-
тическая среда вполне созрела для практического осуществления
идей нового музыкального театра и нового качества театрального
синтеза.
Плоды этой деятельности удалось продемонстрировать, однако,
лишь за рубежом. Бенуа называл это «культурным законом,
культурным роком». «Но ведь можно было бы там показывать то,
что мы сначала изготовили и показали у себя дома,— писал он
по поводу «Сезонов»..— Это действительно до слез обидно,
что свои не видят той работы, которая производится тут же у
них под боком, и что все это готовится для чуждых, далеких
людей»22.
Дягилевское дело встретило в России глухое непонимание как
со стороны высокопоставленных чиновников — в лице директора
императорских театров В. Теляковского, так и со стороны косно
настроенной прессы (стоит взглянуть на бесчисленные карикатуры
и пасквили в адрес Дягилева, чтобы оценить его подвижнический
труд). Извечные «тормозы русского искусства» грозили задушить
живые ростки нового. Нужна была свобода — и эту свободу дал
Париж. Париж притягивал смелостью поисков, общественной
признанностью новых течений, в России только начавших проби-
вать себе дорогу, быстротой реакции на свежее и неординарное.
Неожиданно возникла возможность взглянуть на отечественную
продукцию со стороны, новыми глазами. Об этом достаточно точно
высказался сам Дягилев: «Вся послепетровская русская культура
с виду космополитична, и надо быть тонким и чутким судьей, чтобы
отметить в ней драгоценные элементы своеобразности, надо быть
иностранцем, чтобы понять в русском русское, они гораздо глубже
21 Нелишне напомнить, что Дягилев и Бенуа были просвещенными музыкантами,
а Стравинский всерьез занималси живописью.
22 Бенуа А. Русские спектакли в Париже.— Речь, 1910, Ns 187, 11 июля.
125
нас чуют, где начинаемся „мы", то есть видят то, что для них всего
дороже и к чему мы положительно слепы»23.
Так обнаружилась позитивная сторона культурного экспорта.
Новое чувство национального, обостренная жажда поиска и откры-
тия, дух экспонирования, обязывающий к постоянному совершен-
ствованию,— все эти особенности «Русских сезонов» оказались
вызваны к жизни их всеевропейской, «международной» специфи-
кой.
Но обратимся непосредственно к Новому русскому балету —
самой показательной части дягилевской культурной программы.
Как известно, значительный процент «Русских сезонов» составляли
интерпретации известных музыкальных образцов (что было связа-
но с пропагандистскими установками антрепризы, желанием озна-
комить мир с шедеврами русской классики). Балету же суждено
было стать также и лабораторией новой музыки?4. Именно в
балете осуществилось первичное взаимодействие искусств25.— то
есть взаимодействие, предполагающее синхронность возникнове-
ния художественных замыслов. Организаторы спектаклей стреми-
лись к возможно более гармоничному сочетанию трех компонен-
тов — музыки, живописи и хореографии, при этом добиваясь
их качественного равноправия. Синхронности усилий в большей
степени способствовал сам Дягилев, не только подготовлявший
почву для творческого сотрудничества, но и непосредственно
руководивший им. «Собирательная личность» (С. Волынский)-,
«блестящий дирижер отлично подобранного оркестра» (М. Нес-
теров) — так аттестовали Дягилева его современники, подчер-
кивая роль в спектаклях единой режиссерской воли. «Гениаль-
ным антрепренером» Дягилев стал, очевидно, благодаря редкому
сочетанию природных качеств. В то же время деятель дягилев-
ского типа, отразивший в себе всеобщую «тоску по художествен-
ной культуре» и совместивший русскую одержимость с западной
деловитостью, мог появиться в России только на рубеже нового
столетия. «Можно рассматривать весь'подвиг Дягилева как боль-
шую индивидуальность,— писал Рерих,— но гораздо естественнее
видеть в нем истинного представителя целого синтетического поко-
ления»26.
В дягилевском определении нового русского балета как «дви-
жущейся живописи» точно схвачен принцип взаимодействия в
нем искусств-компонентов. В этом определении кйк бы оставлен
за скобками тот самоочевидный и тривиальный факт, что балет
был и остается также и движущейся музыкой. Музыка и живо-
пись объединяются и координируются, таким образом, через по-
23 Сергей Дягилев и русское искусство, т. 2, с. 325.
24 Это позволяет нам в дальнейшем более узко толковать само понятие «Новый
русский балет», то есть иметь в виду прежде всего композиции с новой балетной
музыкой русских авторов.
25 Термин О. Соколова. См. его статью «Музыка в системе эстетических связей
искусств» (машинопись. Горький, 1985).
26 Сергей Дягилев и русское искусство, т. 2, с. 325.
126
средство движения. В тройственном союзе искусств хореография
занимает центральное место — ие только как генетический признак
жаира балета, но и как соединительное звено: развертываясь
во времени и пространстве,.она сводит к единству временное искус-
ство — музыку и пространственное искусство — живопись27. Меж-
ду тем именно этот элемент балетных спектаклей труднее всего
поддается мысленной реконструкции, не будучи зафиксированным
на уровне художественного результата28. О хореографии Фокииа
и Нижинского, перевернувшей многие традиционные представле-
ния о балете, можно судить лишь по косвенным свидетельствам
и словесным описаниям, а также рисункам и фотографиям, в
которых она, став неподвижной, как бы приравнялась к живопис-
ному плану. Зато собственно живописная сторона спектаклей,
сохранившаяся в том или ином виде в репродукциях и эскизах
декораций и костюмов, а также музыка, живущая по сей день
самостоятельной жизнью, позволяют судить о характере синтеза
этих онтологически противоположных искусств с достаточной
конкретностью.
Базой для такого синтеза послужило встречное развитие и кос-
венное взаимодействие29 * искусств в художественной практике,
явление своего рода «эстетической диффузии». К этому, в свою
очередь, провоцировал стиль модерн — доминирующая установка
мирискусничества80. В рамках этой установки живопись обретала
качества музыкальности, она апеллировала к эмоциональному вос-
приятию цвета и линии. Характерной чертой модерна (и пересе-
кающегося с ним импрессионизма) была, кроме того, декоратив-
ность, связанная с обращением к крупным жанрам — фреске,
панно, театральной декорации. И здесь открывались новые ре-
сурсы музыкальности, обусловленные техникой орнамента, ши-
ре — эмансипацией ритма и колорита, которые стали самодовлею-
щими и в музыке, дав толчок развитию межвидовой поэтики.
«Мы живем в расцвете чисто живописных тенденций,— писал
в 1913 году Н. Мясковский,— почти все силы нашего воспита-
ния направлены в сторону колорита, внешней красоты и яркости
звучания; мы мечемся от пряных ароматов гармоний Скрябина к
27 Об объединительной функции танца как искусства «сииестезического» писал
в своей книге «Искусство и жест» Жан д’Удин. Книга эта, вышедшая в русском
переводе в 1911 году, отразила возросший к тому времени общий интерес к
проблемам синтеза и синестезии.
28 Донести его до потомков способно только кино, которое в мирискуснический
период дягилевской антрепризы делало лишь первые шаги.
29 Термин О. Соколова (см. указанную статью).
80 В отечественной литературе ведущей стилевой тенденцией мирискусников до
недавнего времени считался импрессионизм. Думается, однако, что признаки,
выдаваемые обычно за русский вариант импрессионизма (яркая декоратив-
ность, насыщенность цветовой гаммы, «узорчато-красочная византийская
расточительность» — если воспользоваться асафьевской характеристикой
партитуры «Жар-птицы» Стравинского) скорее говорят в пользу стили модерн,
который в России хронологически наслаивался иа импрессионизм и порою
довлел иад ним.
127
сверкающему оркестру Равеля, от ошеломляющей крикливости
Р. Штрауса к тончайшим нюансам Дебюсси»31. Конечно, такого
рода тенденции не были всеобъемлющими, и в самом тоне этих
строк чувствуется критическая нота, обнаруживающая в их авторе
скорее метнерианца, чем скрябиниста. Однако широкая распро-
страненность увлечения колоритом отмечена со всей справедли-
востью.
Если находки в сфере гармонии и оркестровой колористики,
активизация фона и красочного пятна были общестилистическим
явлением нового искусства, то самодовлеющая роль ритма имела
более очевидную связь с хореографической основой дягилевского
театра. Именно ритм был той пружиной, которая приводила в дей-
ствие «трехсоставный» механизм нового русского балета, триедин-
ство рисунка, музыки и жеста. В то же время это был не обычный
ритм танцевального действия, а нечто связанное с глубинным
смыслом изображаемого и в конечном счете опять-таки восходя-
щее к основам мирискуснической эстетики — не случайно соответ-
ствующие находки переросли балетный жанр и приобрели более
широкое значение. Речь идет о специфическом характере сюже-
тов и идей, тяготеющих к сфере надындивидуального, к изобра-
жению первоначал бытия — будь то стихийные ритмы природы или
размеренность языческого ритуала.
«Тайна нашего балета заключена в ритме,— писал Л. Бакст.—
Наши танцы, и декорации, и костюмы — всё это так захватывает,
потому что отражает самое неуловимое и сокровенное — ритм
жизни»32. «Неуловимое и сокровенное» воплотилось в мускулистую
пластику прокофьевской музыки, в энергию нерегулярно-акцентно-
го тока у Стравинского, который не случайно предпочитал
«онтологическое» музыкальное время «психологическому» и метод
работы с аналогиями — методу работы с контрастами.
Самодовлеющий ритм давал о себе знать и в поздних спектак-
лях дягилевской антрепризы — например, в «Стальном скоке»
Якулова — Прокофьева. Характер его заметно изменился: в духе
новых идей в нем слышалось уже не шаманское неистовство
древнего обряда, а движение «фабрик и молотов». Но представ-
ление о ритме как первозаконе жизни сохранилось, сохранился
и заданный мирискусничеством надличностный, надындивидуаль-
ный смысл имитируемых с его помощью «игр человеческих».
Предпосылкой и условием синтеза искусств в новом русском
балете послужило некое взаимопроникновение живописного и
музыкального рядов: живопись наделялась здесь качеством про-
цессуальности, а музыка, напротив, подвергалась «опространство-
ванию» и известной нейтрализации во времени. Даже чисто коли-
чественно одноактные балетные композиции больше давали пищи
глазу, чем уху. Сам жанр театральной декорации как жанр мону-
31 Мясковский Н. Н. Метиер. Впечатление о его внешнем облике.— Музыка, 1913,
№ 119, с. 149.
32 Сергей Дягилев и русское искусство, т. 1, с. 214.
128
ментальной живописи предполагал развернутый во времени про-,
цесс восприятия, движение взгляда от одного объекта к другому;
полифония зрительных ощущений дополнялась собственно «дви-
жущейся живописью»— красками костюмов и выразительностью
поз. Впрочем, «движущейся» эта живопись была уже в предва-
рительных рисунках и эскизных набросках — столько динамики
в них порой содержалось (среди многих примеров — знамени-
тые пляшущие вакханки Бакста в балете «Нарцисс»). Видимо,
поэтому к театральной живописи мирискусников оказалась столь
применима музыкальная терминология (Асафьев, например, писал
об «оргаистическом симфонизме бакстовских красочных хоров»33).
В музыке же сокращение временной продолжительности в поль-
зу яркости звукового колорита уже само по себе говорило о
нейтрализации процессуального начала. Этому способствовал и
упомянутый метод работы с аналогиями, культивирование ости-
натно-вариантных приемов развития, столь характерных для Стра-
винского. Превалирование динамики состояний над сюжетно
выраженной событийностью вполне соответствовало эстетическим
принципам мирискусничества: при этом дала о себе знать и отра-
женная в музыке специфика русского варианта импрессиониз-
ма — не ускользающая, а «пойманная» красота, пойманный и
продленный миг настоящего — проекция на музыку одномоментно-
го времени живописи. (В этом — отличие осязаемого «насто-
ящего» мирискусников от бесконечного, туманно слитого с Веч-
ностью и потому как бы не существующего «настоящего» симво-.
листов....)
Живописная концепция музыкальной формы, своего рода ви-
зуализация музыкального ряда проявилась и в некоторых особен-
ностях архитектоники балетов, например, в «эффекте оправы»,
близком распространенному в модерне приему «двойной рамы».
Для мирискусников этот эффект был неотделим от общего пиетета
к красоте, изяществу и гармонии элементов (здесь сказалась,
помимо прочего, связь русского модерна с дизайном, культ худо-
жественного оформительства, необычайно широко распространив-
шегося во всех сферах искусства и жизни). По отношению к новой
балетной музыке можно говорить о некоем живописно-статическом
оформлении: совершенный живописный образ как бы оживал в му-
зыке с тем, чтобы в конце вновь вернуться к прежнему непод-
вижному состоянию. Именно так осуществлена была идея «ожив-
ленного гобелена» в балете Черепнина «Павильон Армиды». Об-
рамляющие и центральные эпизоды балета сюжетно соотносятся
как реальность и сказочно-прекрасный сон. Но кроме сюжетного
такое обрамление имеет и чисто эстетический смысл: музыкаль-
ная композиция «Павильона» стремится к той же красоте про-
порций, которой отмечена декорация Бенуа, где виднеющийся
вдали дворец выступает в рамке роскошного лесного пейзажа
33 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы, с. 102.
5 - T. Н. Левая
129
.(еще заметнее композиционная симметрия выражена в самом
«гобелене», стилизованном Бенуа под галантную старину).
Принципу обрамления Черепнин следовал и в других своих
балетах, например в «Нарциссе», где крайние картины рисуют
дремлющий лес, полный тайн. Созерцательная статика исходного
и конечного состояний, прерываемая в середине сценами разбужен-
ной природы и лесных вакханалий, связана здесь с центральным
образом балета — прекрасным Нарциссом, заколдованным ним-
фой Эхо и превратившимся в неподвижный цветок.
Совсем не статичны, а, напротив, полны праздничного буйства
крайние сцены «Петрушки» Стравинского. Но эффект ожившей
картины есть и здесь. Не только «Русская», отплясываемая
на сцене театрика ожившими куклами, но и все масленичное
действо кажется пущенным в ход ловкой рукой фокусника.
При этом композиция типа обрамления стимулирует зрительный
тип восприятия от общего к деталям: сначала перед нами почти
недифференцированный красочный лубок, затем глаз начинает
различать отдельные фигуры и предметы, пока наконец ему не от-
крывается подспудная драма героев.
Итак, синтез живописи и музыки в новом русском балете до-
военного периода базировался на некоей общности эстетического
фундамента, а именно — на эстетических принципах мирискусни-
чества. Однако этой констатации недостаточно, чтобы судить о
некоторых конкретных проявлениях синтеза, обусловленных стиле-
выми принципами спектаклей. По-видимому, проблема стилевого
единства является проблемой любого синтезирующего акта. Но в
мирискусническом театре она имела особый смысл.
О стремительности смен стилевых установок в дягилевской
антрепризе говорилось и писалось немало. Подобно редким оран-
жерейным цветам, стилевая направленность взятого курса бывала
столь же ярко выраженной, сколь кратковременной. В этом
смысле дягилевское предприятие отразило «направленческий» ха-
рактер искусства первых десятилетий века, и не только отра-
зило, но в значительной мере его будировало, находясь в аван-
гарде художественной жизни. С другой стороны, в дягилев-
ском театре была практически опробована функция стиля как
синхронизирующего и генерализующего начала. Это было весьма
характерно для модерна с его притязаниями на всеобщность
в условиях прогрессирующей пестроты и произвольности художест-
венных поисков. Кроме того, «стилевое единство, возрождение
идеи синтеза искусств представлялись способом преодоления про-
тиворечий времени, кризисной ситуации, как бы давая возмож-
ность встать над ними»34. В «гуманитарной утопии» мирискус-
ников, в системе их взглядов на искусство и его возвышающую
роль стилевая выдержанность целого, оказавшись предметом глав-
ных забот (и одновременно — символом небывало дружного
34 Сарабьянов Д. Стиль модерн, с. 18.
130
союза искусств), приобрела не только эстетический, но и этичес-
кий смысл.
Единство стилевой ориентации в «Русских сезонах» было,
конечно же, результатом глубоко продуманных действий и тща-
тельного расчета. Дягилев в своих проектах и творческих за-
казах отталкивался именно от стилевой идеи спектакля, говоря то о
«национальном» балете, то о спектакле «в духе советского
конструктивизма» и т. д. С другой стороны, параллельность,
синхронность стилевых решений в условиях первичного взаимодей-
ствия искусств не могла не отразить реальных предпосылок такого
содружества в художественной практике. Основой соавторства бы-
ло не просто стилевое взаимопонимание художников, но причаст-
ность их общему направлению, порой «манифестантно» подчерк-
нутая. В конкретных условиях спектаклей она выполняла роль
своего рода «стилистического камертона». Посмотрим, как дейст-
вовал этот камертон и как соотносилась со стилевыми установ-
ками «Сезонов» интересующая нас проблема художественного
синтеза.
Среди главных стилевых направлений дягилевского балета,
которые можно было бы условно определить как импрессионист-
ское, фольклорное, неоклассическое, конструктивистское и т. д.,
первые два, хронологически более ранние, полнее всего соответ-
ствовали мирискуснической концепции синтеза искусств. Они же,
с частичным захватом третьего, вписывались в стилевую систему
модерна, отвечая характерным сюжетно-языковым наклонениям
этого стиля.
В «Жар-птице» и «Нарциссе», стоящих у начала деятельности
«Сезонов», почти программно выражен эстетизм мирискуснической
ориентации, культ самодовлеющей красоты, «избыточной и вместе
с тем рафинированной» (В. Гаевский), установка на яркое зре-
лище. И в музыке, и в общем стиле этих спектаклей проявилась
очевидная связь с французским импрессионизмом (впрямую де-
монстрируемым в балете «Дафнис и Хлоя» Равеля, а также спек-
таклях на музыку Дебюсси). Своего рода импрессионистский
гедонизм чувствуется в ослепительно ярких костюмах Бакста,
в декорациях к «Жар-птице» Головина, изображающих «сад как
персидский ковер, сплетенный из самых фантастических расте-
ний»35. С аналогичными требованиями вдохновители спектаклей
подходили и к музыке: напомним, что решение привлечь
Стравинского возникло у Дягилева после прослушивания «Фейер-
верка», заставившего поверить в живописующий дар композитора
(«Музыка эта горит, пылает, бросает искрами»,— писал о «Фей-
ерверке» М. Фокин36). В импрессионистском ключе работал и
Черепнин, хотя его колористические искания в сфере гармонии и
оркестровки еще сочетаются с традициями большого романти-
ческого балета (особенно в «Павильоне Армиды»); впрочем, с
35 Фокин М. Против течения, с. 264.
36 Там же, с. 256.
5‘ 131
другой стороны, в кропотливой отделке деталей, томной изыскан-
ности линий, «внньеточности» концовок, в столь любимых ком-
позитором мифологических аллюзиях сказалась более явная, чем,
например, у Стравинского, причастность стилю модерн (возмож-
ность применения к музыке этого «немузыкального» по своему про-
исхождению понятия, думается, оправданна37).
Нет необходимости доказывать, насколько органичным было
появление на дягилевской сцене фольклорного балета: националь-
ная экзотика не только отвечала ведущим пунктам мирискусни-
ческой программы, ио и, согласно убеждениям Дягилева, помо-
гала — через призму европейского восприятия — увидеть «в рус-
ском русское».
Идея фольклорного балета воплотилась в нескольких спектак-
лях, описав при этом выразительную амплитуду от балагана
(«Петрушка», «Шут»)—к мистерии («Весна священная»).
Мирискуснической эстетике и концепции художественного син-
теза ближе оказался первый вариант. В самом деле, «Пет-
рушка» стал, например, признанной вершиной «Сезонов» — благо-
даря «прямому попаданию» и в смысле яркой зрелищности, и в
отношении гармонии художественных компонентов, и в столь акту-
альном — через идею балагана — утверждении бессмертия и веч-
ной ценности искусства..
Конечно, здесь сыграл роль поистине счастливый авторский
союз, в некотором роде — идеальный. Стравинский, Фокин, Бенуа
были движимы не только общностью устремлений, но и личным
художественным и жизненным опытом, что помогало им создать
в рамках целого самостоятельные художественные концепции.
Стравинский, по его собственным словам, исходил из чисто зву-
кового образа игрушечного плясуна, сорвавшегося с цепи и сво-
им каскадом дьявольских арпеджио выводящего из терпения ор-
кестр. Задуманный таким образом концертштюк отозвался у Фо-
кина и Бенуа новыми смысловыми обертонами. Бенуа, автор сцена-
рия, декораций и костюмов, мыслил историю Петрушки как живой
памятник исчезнувшему пласту русской городской культуры;
ностальгия по нему, воспоминания юности побудили с особой
тщательностью воссоздать этот ушедший мир, вдохнуть в него
жизнь38. Отсюда — детальная разработанность декорации масле-
ничных картин, щедрый на подробности динамичный рисунок,
красно-синий, «морозный» колорит цветовой гаммы, превратив-
шийся в своеобразный лейтмотив спектакля, и пр. Глубоко
прочувствован был «Петрушка» и Фокиным, который внес в трак-
37 О том, насколько сильна была у Дягилева установка на импрессионистски
красочное зрелище, говорит тот факт, что выбивающийся из этого русла третий
балет Черепнина «Маска красной смерти» так и не был поставлен в «Сезонах».
38 Бенуа отдал дань ему и в своих литературных произведениях — см. соответст-
вующие главы книги «Жизнь художника» (Нью-Йорк, 1955), а также «Воспо-
минания о масленичных балаганах в Петербурге» в книге «Музыкальное
путешествие» (М., 1970).
132
товку балаганного сюжета ощутимую романтическую ноту и стре-
мился к психологизации пластических образов балета39.
Впрочем, вне психологизации невозможно было представить
задуманную авторами кукольную драму. Трагическую противо-
речивость главного персонажа обычно связывают с музыкой
Стравинского. Однако не менее четко ощущал ее и Бенуа, введя
в балет кричащий контраст дня и ночи. Ослепительный колорит
первой сцены предваряется картиной ночного Петербурга, воспро-
изведенной на занавесе спектакля: оскаленная нечисть, витающая
над черными крышами и куполами, заставляет ожидать отнюдь
не идиллический разворот событий. Нощ> вторгается и во вторую
картину балета, непосредственно к Петрушке, под видом холод-
ных черно-звездных стен его комнаты; ощущение неприютности,
«края света» опять-таки дополняется дьявольским мотивом: един-
ственно материальны в этой черной дыре — огромный портрет
Хозяина-фокусника и желтая дверь с фигурами чертей, стере-
гущих Петрушку.
Главный стилистический ключ в «Петрушке»— конечно же,
русский фольклор, притом в его ярмарочно-городском варианте
(музыка крайних сцен, многократно описанная в литературе, в
этом смысле органично сочетается с декорациями и костюмами
Бенуа). Но отмеченный только что психологический диссонанс
(его музыкальным символом может служить политональное балан-
сирование в лейтмотиве Петрушки, а живописным — балансиро-
вание на грани ночи и дня) несомненно вплетается в общую
атмосферу спектакля, еще более подчеркивая его стилевое
единство.
Гораздо однозначнее решен «Шут». «Я просто сочинял веселый
спектакль»,— писал о нем Прокофьев. И в самом деле, балет-
скерцо, балет-лубок, не предполагающий никакого двойного дна,—
таков оказался «Шут» Прокофьева — Ларионова. Рецензенты
находили зрелищную сторону спектакля несколько перегруженной
по сравнению с музыкой40. Думается все же, что выдумки, затей-
ливости, изощренной фантазии достало и Прокофьеву. Интересно
отметить здесь сочетание лубочной наивности письма с «остро-
угольностью» мелодического рисунка, прямолинейностью ритма,
попытками выйти в новое гармоническое измерение. В этом музыка
не могла не соответствовать оформительскому стилю Ларионова,
обозначенному критиками как «кубистический лубок» («Новые
идеи в декорациях выражались в том, чтобы показать одновре-
менно различные стороны дома... В одной из сцен фрагменты
домов, облака, фонари, распускающиеся деревья, казалось, стал-
кивались сумбурно в воздухе»41). Такого рода оформление, явно
----------------------------------------------------w----------
39 См., например, описание в его мемуарах «Против течения» пластической трактов-
ки образов Петрушки и Арапа (с. 287).
40 См., например: Шлецер Б. Дягилевский балет.— Последние новости, 1921,
№ 342, 2 июня.
41 Sokolova L. Dancing for Diaghilev. London, 1960, p. 180.
133
продолжающее манеру гончаровских декораций к «Золотому
петушку», выходило за стилистические границы мирискусничества,
смыкаясь с новейшими живописными течениями. Но фольклор-
ные мотивы и культ яркого зрелища говорят все же о том, что в
широком смысле «Шут» не порывал еще с мирискуснической
традицией дягилевского балета.
Не вполне порывала с ней и «Весна священная», поставленная
много раньше, хотя этому спектаклю суждено было занять особое
положение в «Сезонах». Знаменитая скандальная премьера балета
и отчасти дальнейшая его судьба, больше связанная с концертной
эстрадой, нежели с театральной сценой, позволила исследователям
сделать резонное предположение, что «Весна»— вообще явление
скорее музыкальное, чем театрально-синтетическое. В самом деле,
ни оформление Н„ Рериха, ни хореография Нижинского не
смогли претендовать на какую-либо паритетность относительно
музыки. Первое оказалось не более чем статическим фоном, вто-
рая, по свидетельству видевших спектакль,— «пластическим слеп-
ком» музыкального ряда, лишенным самостоятельной концепции42.
Почему же так произошло — ведь талант и художественный
вес соавторов Стравинского был неоспорим, как и испытанный,
синхронный стиль их работы?43
Вероятно, не просто идейно-сюжетный, но истинно симфо-
нический характер музыкальной концепции «Весны» действительно
не допускал соперничества со стороны других художественных
компонентов и даже подавлял их. Но дело, думается, не только
в этом. Здесь важна особая активность музыкального ряда, свя-
занная с идеей ритуального действа. Ощущение таинства, кре-
щендирующее нарастание «панической жути», исступленный фа-
натизм, доходящий в финальной кульминации до полного самоис-
черпания,— вся эта стихия могла быть адекватно воплощена лишь
магией музыки и магией ритма. Зрелищная сторона и эстетико-
оценочный аспект контрапункта искусств, характерный для мирис-
куснического театра, здесь должен был неизбежно отступить на
второй план. Стихийно возникший диктат музыки оказался неслу-
чайным, став признаком балета-мистерии44.
Так или иначе, в «Весне священной» синтез искусств под-
вергся определенной коррекции, и это, вероятно, следует связать
с глубоко индивидуальным духом произведения. Что же касает-
ся собственно эволюции идей синтеза, то наиболее симптоматично
она дала о себе знать в русле неоклассического балета. Тенден-
ция к неоклассицизму на почве мифологических сюжетов пер-
42 В. Нижинский, судя по всему, верно почувствовал экспрессионистский дух
фольклоро-языческой стихии у Стравинского, ио итогом его усилий стала
скорее стилевая тавтология, чем стилевое единство.
43 Добавим ко всему этому, что Н. Рерих, устойчиво монополизировавший
тематику языческой Руси, имел на иее едва ли ие больше прав, чем Стравинский.
44 Стравинский, вероятно, потому и назвал «Весну» одним из самых сокровенных
своих созданий, что, может быть, как ни один другой его опус, она наполнена
патетической серьезностью священнодействия.
134
воначально проявлялась в рамках импрессионистской красочности,
в условиях чисто мирискуснической сбалансированности театраль-
ных компонентов. Таков, например, «Павильон Армиды»— первый
балет «Сезонов», ставший их визитной карточкой. Подобно самому
«гобелену», источнику вдохновения авторов, балет «соткан» из
гавотных реминисценций Черепнина, проникнутых духом старин-
ной живописи изысканных декораций Бенуа, наконец — мастер-
ских стилизаций Фокина («...весь блеск стиля Людовика XIV,
вся эта пестрота, кричащая роскошь, причудливость и мадригаль-
ная сентиментальность отражены у него в „Павильоне Арми-
ды**»,— писал о фокинской постановке В. Светлов45.). Когда же
почти двадцать лет спустя, в конце существования «Сезонов»,,
в них наметился собственно неоклассический уклон («Аполлон
Мусагет», «Блудный сын»), общая стилевая ситуация была замет-
но другой. Вкус к историзму и стилизаторству отнюдь не исчез,
о чем говорят, например, декорации Жоржа Руо к «Блудному
сыну» Прокофьева, выдержанные в стиле готического собора.
Однако общая постановочная трактовка «Блудного сына» Дж. Ба-
лаичином не только не преследовала синтетичности и доминиро-
вания живописного начала, но, напротив, стремилась к примату
музыки и очищению от зрелищности. Это соответствовало об-
щему курсу на скупой, лаконичный стиль высказывания, в кон-
тексте которого мирискусническая пышность воспринималась уже
как вчерашний день46.
Означала ли баланчинская концепция балета общий спад инте-
реса к проблемам синтеза? Вероятно, нет. И хронологически
сопутствующие неоклассицизму явления в той же дягилевской ан-
трепризе это подтверждают. В частности — «Стальной скок»,
вдохновленный идеями театрального конструктивизма, в котором
живописно-зрелищное начало, хотя и в совершенно иных стилевых
проявлениях, продолжало доминировать (об этом свидетельствует
особая роль Г. Якулова, выступившего не только в качестве
художника, но сценариста и постановщика спектакля). Парал-
лельно новым эстетическим манифестам и в продолжение их
(поворотным моментом здесь много раньше послужила знамени-
тая постановка «Парада» Кокто — Сати с участием Пикассо и
Мясина) «Стальной скок» окончательно порывал с традициями
мирискуснического театра. Во всех отношениях он символизировал
собой новую эпоху.
В этой главе преждевременно рассматривать новые стилевые
принципы, заданные еще «Весной священной»— через урбанис-
45 Светлов В. Современный балет. Спб., 1911, с. 33.
w «Все же как по-разному начинали Балаичии и Фокин,— читаем свидетельства
очевидцев.— Было очень интересно наблюдать разницу между оргией Шехера-
зады с растянувшимися иа коврах девушками, чувственно выразительными
движениями и прыжками, и оргией „Блудного сына" — с фатальной и таинст-
венной атмосферой, акробатическими группировками. В первом балете исполь-
зовались подушки, вино, фрукты, во втором единственными предметами были
забор, скамейка и обруч» (Sokolova L. Dancing for Diaghilev, p. 274).
135
тически осознанный ритм древних обрядовых действ; им посвяще-
на будет глава следующая. Здесь же нам остается воздать должное
мирискусничест^у как явлению исторически переломному, соеди-
нившему в себе, подобно символизму, «концы и начала». Дяги-
левский балет мирискуснической поры заканчивал собой романти-
ческую эпоху, прощался с ней4'; в своем ностальгическом
ретроспективизме он лелеял прошлое — в отличие от пришедших
на смену эстетических программ футуристического толка. Но он
же обращался и к будущему — в акте раскрепощения искусства,
в создании его новых синтетических форм, в желании стилисти-
чески обновить и освежить его, пропустив через горнило синтеза.
Глава 7
КУБОФУТУРИЗМ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Резкость и непредсказуемость стилистических сдвигов в Новом
русском балете лишь отчасти обусловливалась спецификой дяги-
левского предприятия. Здесь дала о себе знать общая ситуация
1910-х годов. Прогрессирующая идея тотального обновления язы-
ка искусства определила путь от «модернизма» к «аван-
гардизму». Полная дискредитация романтических иллюзий, экс-
пансия новаторского поиска, свободного от каких бы то ни было
«предрассудков» и нередко несущего на себе футуристский от-
свет,— отличали поэзию «гилейцев»1 от постромантиков-символис-
тов, равно как живопись новейших объединений — от последо-
вательных мирискусников* 1 2. Если новый классицизм, зародившийся
в недрах символистско-мирискуснического движения, так или ина-
че апеллировал к опыту прошлого, то именно отмежевание от
этого опыта (или его видимое отрицание во имя неведомого бу-
дущего — даже в рамках мифологических сюжетов) составляло
«нерв» упомянутых художественных школ. Прошлое было для них
синонимом обветшалого романтизма, и реакция на него предпола-
гала уже не снятие, а решительное ниспровержение старых истин.
Только в такой ситуации и могла появиться на свет «Весна
священная»— сочинение, которому, по признанию автора, почти
ничто не предшествовало непосредственно.
1913 год — год появления «Весны священной» — оказался и
кульминационным в развитии русского кубофутуризма. К этому
времени уже зарекомендовали себя экспозиции «Бубнового ва-
47 «Урбанист с усадебным складом сознания» — эта характеристика могла быть
отнесена не только к Дягилеву, но и к его ближайшему русскому окружению.
См.: Гаевский В. Сергей Дягилев: черты личности.— В кн.: Сергей Дягилев и
художественная литература XIX — начала XX вв. Пермь, 1989, с. 162.
1 Напомним, что в состав поэтического объединения «Гилея» входили В. Мая-
ковский, В. Хлебников, А. Крученых, братья Д. и Н. Бурлюки, Е. Гуро, В. Ка-
менский, Б. Лившиц.
2 О столкновении разных художественных поколений и неприятии мирискусни-
ческим арьергардом новейшей живописи свидетельствует резкая критика пос-
ледней в «Художественных письмах» А. Бенуа.
136
лета» и петербургского «Союза молодежи», эпатировали вкусы
публики участники выставок «Ослиный хвост»; вышли в свет футу-
ристические манифесты, организовалась «Гилея» и были изданы
сборники новых стихов; возникла идея театра «Будетлянин». Не-
прекращающиеся диспуты о новом искусстве, приезд в Москву и
Петербург вождя итальянского футуризма Ф. Маринетти, издание
сборника «Рыкающий Парнас», а также выставки «Трамвай В»
и «0,10» — свидетельствовали о том, что влияние кубофутуризма
не прерывалось в России вплоть до 1915 года. Сущность новей-
шего направления, особенно активно и программно утверждавшего
себя в поэзии и живописи, легче выявляется при сопоставлении
его с предшествующими и параллельно развивающимися дви-
жениями символизма, акмеизма, а также мирискуснического пост-
импрессионизма. Правда, сделать это не так просто, учитывая
приверженность названных направлений новому и синхронность
существования их в 1910-е годы.
Отражением и объяснением такой синхронности во многом
являлся сам культурный быт столиц. Бурлению новых идей и жи-
вому общению художников, музыкантов, поэтов, актеров немало
способствовали модные в те годы ночные артистические кабаре,
где новое рождалось буквально на глазах, в азарте импровизации.
Первенствующая роль принадлежит здесь, несомненно, петербург-
ской «Бродячей собаке». Знаменитый подвал на Михайловской
площади, возглавляемый четой Судейкиных, посещали К. Баль-
монт, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов. Там бывали также С. Черный,
О- Мандельштам, Н. Гумилев; выступала А. Ахматова, отра-
зившая позже дух этих лет в «Поэме без героя», расцветал
многосторонний талант М. Кузмина; В кабаре устраивались
шумные театральные представления, организовывались вечера
ритмической пластики, звучала старинная музыка (играла Ванда
Ландовска, Т. Карсавина танцевала под Куперена). К 1913 году
тон в «кабачке» стали задавать футуристы: начались бдения
о новом искусстве, выступал В. Маяковский (в связи с приездом
на открытие театра «Будетлянин»), прослушивались доклады
Г. Якулова, В. Шкловского, А. Лурье (соответственно о футу-
ризме в живописи, поэзии и музыке), чествовался приглашен-
ный Н. Кульбиным Ф. Маринетти. Из музыкантов, наряду с
И. Сацем, М. Гнесиным, В. Каратыгиным, А. Лурье и др.,
кабаре посещал молодой Прокофьев. Есть сведения о том, что
в подвале появлялся С. Дягилев, собиравшийся подписать дого-
вор о поездке «Бродячей собаки» в Париж (война помешала осу-
ществить эту идею).
В «Собаке» царил истинно богемный дух3, в ней поощрялось
3 В мемуарах одной из посетительниц кабаре читаем: «...именно „Бродячая соба-
ка’*, подобно предреволюционным кабачкам Парижа, более всего обличала ту
атмосферу неблагополучия, которая никем тогда сознательно не ощущалась, но
которая гнала людей из семейного уюта, из праздничных настроений ярко осве-
щенных зал, из благоустроенных театров в подземный погребок, душный, про-
куренный, наполненный шумом, чадом, вином, где под утро нестройные песни
6-Т.Н. Левая
137
все новое и неординарное, неуютно там чувствовал себя только
филистер (точнее, «фармацевт» — как с легкой руки В. Мейер-
хольда назывались люди, далекие от искусства и оплачивавшие
счета в подвале). Настоящим детищем 1910-х годов делало
«Собаку» вавилонское столпотворение демонстрируемых в ней
художественно-стилевых пристрастий.
Подобным смешением стилевых уклонов характеризовалось и
собственно художественное творчество тех лет. Это обстоятель-
ство, а также факт реальной преемственности направлений (ска-
жем, близость футуризма символизму на почве синестезии)
дали повод некоторым исследователям мыслить столь разные дви-
жения в рамках единой целостности4. Однако временная перс-
пектива позволяет и обязывает дифференцировать их по возмож-
ности отчетливее. Художников, встречавшихся в «Бродячей соба-
ке», отделяли друг от друга целые миры — последующие годы
углубили это сознание их причастности различным эпохам.
Нам уже приходилось писать о демистификации творческого
процесса и новом отношении к художественному материалу у по-
борников «прекрасной ясности». Футуристы, смыкаясь с послед-
ними в данном аспекте, пошли много дальше в своем антиро-
мантическом бунте и языковом радикализме. Вместе с тем вряд ли
правомерно было бы отождествлять на этом основании понятия
футуризма и авангарда (как это делается подчас в литературе,
освещающей 1910-е годы). Авангард относится, очевидно, к разря-
ду более широких понятий, применимых не только к рассматри-
ваемой эпохе5. Футуризм же был вполне конкретным явлением
не только в смысле «времени и места», но и в смысле эстетической
платформы. Он культивировал новую образность, ои воспевал
движение, он выработал свою концепцию времени и пространства
и т. д.
Комплекс выдвинутых футуризмом идей достигает необходимой
полноты в соединении с «кубо». В истории искусства не слу-
чайно утвердилось это синтетическое понятие, возникшее исклю-
сливали всех воедино и где красивое смешивалось с безобразным, истииио
художественное с притворным и напряженно надуманным. Тут можно было
отдаться какой-то странной свободе ото всех загородок, не подозревая, как
скоро должно было рухнуть все то, что казалось тогда чересчур стеснительным»
(цит. по статье: Парное А. Е., Тименчик. Р. Д. Программы «Бродячей собаки».—
В кн.: Памятники культуры. Новые открытия: 1983. Л., 1985, с. 175—176). Впро-
чем, вскоре этой «странной свободе» был положен конец: в 1915 году полиция
закрыла подвал.
4 Так склонен рассматривать эпоху «серебряного века» Детлеф Гойовы в статье
«Музыкальный футуризм в России» (Ruch muzyezny, 1985, № 20).
5 Хотя справедливость требует оговорить наличие в футуризме (или смыкание с
футуризмом) собственно авангардных, то есть новаторски-экстремистских тен-
денций, связанных не столько с эстетическим ядром направления, сколько с
самой идеей обновления и эксперимеитироваиия в сфере художественного
языка. В музыке таковой была, думается, идея четвертитоники, столь популяр-
ная в те годы, а также принципы радикальной хроматики, в чем музыканты-
футуристы оказались прямыми последователями позднего Скрябина.
138
чительно на русской почве6 и обязанное прежде всего тесному
контактированию на стезе экспериментаторства поэтов и худож-
ников. С этим контактированием и смешением интересов связа-
на, вероятно, широта и универсальность постулируемых принци-
пов, могущих быть примененными к разным искусствам, в том
числе к музыке. Пример этого дают знаменитые «Грамоты и
декларации русских футуристов», содержащие формулировку
общих и специальных принципов нового искусства.
Но существовал ли реально кубофутуризм в музыке — так же,
как существовал он в живописи и поэзии? Вопрос этот факти-
чески еще не обсуждался в музыковедении (как остается от-
крытой или же только начинает исследоваться причастность музы-
ки к другим художественным движениям XX века). Исследо-
вание творчества 1910-х годов позволяет убедиться в том, что
музыка соучаствовала в этом движении — прежде всего, в рамках
синтетических замыслов, но не только в них. Восприняв и адап-
тировав в согласии с собственными эстетическими законами
некоторые принципы кубофутуристической платформы, она значи-
тельно обновила свой строй и дух, отчасти предвосхитив
более поздние явления (например, музыкальный конструктивизм
1920-х годов).
В спектре музыкальных реалий, так или иначе связанных с
кубофутуризмом, выделяются примеры манифестируемой и почти
ортодоксально выраженной «левизны». Они представлены в основ-
ном композиторами «второго ряда» (заслуживающими внимания,
впрочем, не только с чисто исторической точки зрения). С другой
стороны, в диалог с кубофутуризмом, скорее скрытый, чем явный,
вступали крупнейшие музыкальные мастера, воспринявшие от него
некоторые существенные принципы художественного мышления.
Обратимся сначала к первому случаю.
Уже отмечалось, что кульминационным в развитии нового
направления оказался 1913 год. Этот год ознаменовался, среди
прочего, появлением легендарной футуристической оперы. Она
носила императивное заглавие — «Победа над солнцем». Правда,
изданную в 1913 году драму Алексея Крученых, снабженную
фрагментами музыки Михаила Матюшина и эскизами Казимира
Малевича, можно было назвать оперой с большой долей услов-
ности (или, точнее, с немалой долей истинно футуристического
фрондерства). И все же синтетичность замысла, отразившая все-
общую заряженность новыми идеями и братство дерзающих
художников-новаторов, не говоря уже о весьма заметной роли в
ней музыки, обязывает нас с должным вниманием отнестись к
этому почти забытому эксперименту.
6 В западном варианте кубизм и футуризм соотносились между собой достаточ-
но антагонистично, ие говоря уже об их разнонациональной природе (фран-
цузской и итальянской). В дополнение к сказанному напомним, что спонтанно
возникшее широкое понятие «кубофутуризма» имело «частный» прецедент:
кубофутуристами называли себя в те годы «гилейцы» — поэты московской
школы.
6*
139
Заслуживает внимания и фигура М. Матюшина, автора музыки
«Победы над солнцем»7. Скрипач по образованию и эрудирован-
ный музыкант-теоретик, Матюшин, судя по всему, был близок
новым веяниям в музыке. Так, в начале 1920-х годов он органи-
зовал совместно с семьей Эндер камерные концерты, в которых
его коллега скрипач Борис Эндер исполнял, наряду с Бахом и Мо-
цартом, Хиндемита, Онеггера и Шостаковича. Впрочем, интерес
к новым звуковым идеям Матюшин проявил много раньше. В 1915
году было издано его «Руководство к изучению четвертей тона
для скрипки»— результат работы в системе «удвоенного хроматиз-
ма». Спустя несколько лет появилась Композиция в четвертях
тона для скрипки и фортепиано (при исполнении ее Матюшиным
и Марией Эндер на квартире у Г. М. Римского-Корсакова при-
сутствовал молодой Шостакович). Как явствует из постскриптума
оперы «Победа над солнцем», Матюшин связывал с четвертн-
тоникой музыку будетлян, то есть музыку грядущего.
Подобная идея явно владела умами. В высшей степени
примечательна, например, символическая трактовка «гаммы будет-
лянина» в стихах В. Хлебникова. В его «Царапине по небу» гамма
будетлянина сочетается с образом скрипача и «звуколюдей»:
Скорее учитесь играть на ладах
Войны без' дикого визга смерти —
Мы звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!
Не внушен ли этот образ Матюшиным? Близость и сотруд-
ничество с ним Хлебникова, а также то, что Матюшин предста-
вительствовал от музыки среди «певцов будущего», дают возмож-
ность высказать такое предположение.
Однако деятельный и разносторонне одаренный человек, Матю-
шин остался в истории искусства не только как музыкант, но как
художник, педагог, талантливый организатор, проницательный
теоретик новой живописи. Ему принадлежала идея «зоркого
ведания» («Зорвед»), предполагавшая новый способ отражения
видимого, «наблюдение доселе закрытого пространства», а также
поиск связи между зрением и слухом, стремление «визуализи-
ровать» звуки (здесь — ключ к пониманию таинственных слов «пе-
реход в голубое и черное», сопровождающих в постскриптуме опе-
ры «Победа над солнцем» «ноты будетлянские»)8:
7 Родившийся в 1860 году в Нижнем Новгороде, Михаил Васильевич Матюшин
в дальнейшем связал свою жизнь с Петербургом (где умер в 1934 г.). В архивах
Матюшина хранятся эскизы (партия скрипки) «Венериных танцев», оригинал
II акта оперы «Победа над солнцем», наброски к I акту оперы «Война» — также
на текст А. Крученых, а кроме того, музыка к пьесам Е. Гуро «Арлекин» (из
сборника «Шарманка»), «Осенний сон» и «Дон-Кихот». Сведения о жизни и
деятельности Матюшина опубликованы в «Ежегоднике рукописного отдела
Пушкинского дома за 1974 год» (Л., 1976).
8 Квадратными нотами обозначены четвертнтоновые понижения и повышения
звуков.
140
Именно Матюшину и Елене Гуро9, устраивавшим в своем доме
на Песочной улице встречи поэтов и художников, во многом обяза-
но возникновение «Союза молодежи» («Союз» сплотил П. Филоно-
ва, К. Малевича, Н. Гончарову, М. Ларионова, В. Татлина, Бурдю-
ков и др., в его альманахах велись диспуты о новом искусстве,
публиковался перевод книги Глеза и Метценже о кубизме и т. д.),
а кроме того — последующее сближение «Союза» с московскими
поэтами-«гилейцами». Художник и музыкант, тесно общав-
шийся с поэтами, Матюшин оказался, несомненно, той «собира-
тельной личностью», в которой еще раз воплотился дух «синтети-
ческой эпохи» и которая олицетворяла всеобщий безогляд-
ный порыв к новому.
В июле 1913 года на даче у Матюшина в Усикирко (Финляндия)
состоялся «Первый Всероссийский съезд баячей будущего». Участ-
ники его были столь же немногочисленны (председателем был
Матюшин, членами — А. Крученых и К- Малевич; предполагалось
также участие В. Хлебникова, который приехать не смог), сколь
решительны в действиях. Разрушительный пафос выпущенного
съездом манифеста (разрушить «доставшийся в наследство образ
мыслей», который следовал законам причинности и логики; «эле-
гантность, легкость и красоту проституирующих художников и пи-
сателей» и т. д.) во многом перекликался со знаменитой «Пощечи-
ной общественному вкусу». Самый же конкретный и конструк-
тивный пункт манифеста касался театра. «Оплоту академической
чахлости»— старому русскому театру — авторы призывали проти-
вопоставить театр будущего: «Художественным, Коршевским,
Александринским, Большим и Малым — нет места в сегодня! —
С этой целью учреждается новый театр „Будетлянин"»10 11.
Среди первых спектаклей «Будетлянина» предполагались дейма":
«Победа над солнцем» Крученых, «Железная дорога» Маяков-
ского и «Рождественская сказка» Хлебникова.
«Баячи будущего» не ограничились словесными проектами и
манифестами. В начале декабря 1913 года в бывшем театре
9 Первая жена Матюшина, рано скончавшаяся.
10 За 7 дней. 1913, № 28, с. 605—606.
11 В обновленном словаре Хлебникова и его сподвижников слово «дёймо» по
смыслу и звучанию близко «действу».
141
В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской состоялись первые спек-
такли футуристического театра: в четные дни шла трагедия
«Владимир Маяковский», в нечетные — «Победа иад солнцем»
(финансировал предприятие «Союз молодежи»).
Воспоминания Матюшина, хранящиеся в архивах12, воссоздают
самозабвенный энтузиазм авторов, непосредственно руководивших
постановкой (Малевич рисовал огромные картины с изображением
сложных машин, Крученых выступал не только как автор текста,
но и как актер — в роли Чтеца и в роли Неприятеля), а также
красноречивые детали спектакля: не поднимающийся, а с треском
рвущийся посередине занавес, гигантские фигуры будетлянских
силачей в ослепительных лучах прожекторов, шум пропеллера, па-
дающий самолет... Здесь же описывается не слишком щедрая
материальная оснащенность постановки (старое пианино вместо
концертного рояля, хористы, взятые напрокат из оперетты) и,
конечно же, весьма скандальный прием — публика резко подели-
лась на сочувствующих и негодующих.
Матюшин касается в своих мемуарах и идейной концепции
оперы. Он пишет, что „опера имеет глубокое внутреннее содер-
жание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословнем...
и что вся „Победа над солнцем" есть победа над старым привыч-
ным понятием о солнце как о красоте»13.
Отнюдь не единичный пример бесцеремонного обращения с
солнцем (вспомним известное стихотворение Маяковского!), опера
уже самим названием являет крайнюю степень футуристского
иконоборчества. «Светило вечное», олицетворявшее для поэтов-
романтиков божественный свет, основу и смысл бытия, повержено
во прах. В конце 1-го дейма хор победоносно возглашает:
Мы вырвали солнце со свежнми корнями
Они пропахли арифметикой жирные
Вот оно смотрите!
Поверженное солнце для создателей спектакля — символ сво-
боды от прошлого («Мы выстрелили в прошлое!»), от прежних
логических связей и законов красоты (последние олицетворяются в
опере ущербной фигурой вечного эстета — Нерон и Калигула в
одном лице, с единственной рукой, согнутой под прямым углом).
Оно же означает и вновь обретенную свободу от законов всемир-
ного тяготения, силу и бесстрашие людей будущего. «Мир
погибнет, а нам нет конца!»— поют будетлянские силачи в финале
оперы (в финальном апофеозе участвуют также Спортсмены,
выступающие «в такт линиям новых зданий»). Слабость и нере-
шительность здесь — удел Трусливых, тоска по привычному —
12 Рукопись мемуаров «Творческий путь художника», оставшихся неоконченными,
хранится в Музее истории Ленинграда; глава этой книги «Русский кубофуту-
ризм» была по просьбе автора отредактирована Н. Харджиевым.
13 Матюшин М. Творческий путь художника. Машинописная рукопись, с. 83.
Цит. по публикации: Капелюш Б. А. Е. Крученых. Письма к М. В. Матюшину.—
В кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1974 год. Л.,
1976, с. 174.
142
удел мещан (таков недальновидный Толстяк, попавший в Десятые
страны). Особая роль в опере принадлежит Путешественнику.
Странствующий через столетия на самолете (своего рода ма-
шине времени), он как бы служит пружиной условно-сюжетного
развертывания действия и одновременно наблюдателем и коммен-
татором происходящего («мужественный искатель, поэт и прони-
цательный художник»— так характеризует его Матюшин).
«Победа над солнцем» выдержала два представления14. Крат-
ковременность жизни спектакля Матюшин объясняет трусостью
финансировавших его меценатов, шокированных скандальным
приемом, и закрытием «Союза молодежи» (последнее, что удалось
сделать «Союзу»,— это вышеупомянутое издание пьесы А. Кру-
ченых с несколькими музыкальными фрагментами и обложкой
К. Малевича). Однако здесь можно предположить и причину
внутреннего порядка: опера являла такой экстракт эпатирующей
новизны, такое неистовство футуристского нигилизма, что «ма-
нифестантный» смысл перехлестывал ее собственно художест-
венную суть, могущую стать гарантией более долговечного су-
ществования.
Рожденная на одном дыхании и в едином творческом порыве,
«Победа над солнцем» продемонстрировала ряд пунктов футурис-
тической программы. Бунт против «романтизма и многопустосло-
вия» выразился более всего в агрессивном антйэстетизме текста
Крученых:
Толстых красавиц
Мы заперли в дом
Пусть там пьяницы
Ходят разные нагишом
Нет у нас песен
Вздохов наград
Что тешили плесеиь
Тухлых наяд!
В своего рода кульминационной функции выступает язык
«зауми» (активно декларируемый Крученых и дружно поддержи-
ваемый— в качестве. «освобожденного слова» и своеобразного
«алогического реализма» — его соавторами15). Его апофеоз —
14 Ровно 70 лет спустя, в сентябре 1983 года, Западноберлинская академия
искусств во время традиционной праздничной недели совершила попытку
реконструкции спектакля. Он сопровождался уникальной выставкой докумен-
тов, картин, скрупулезно воссозданных декораций и костюмов, а также иотиых
эскизов и старых звуковых записей. Музыкальную часть постановки осу-
ществлял Калифорнийский институт искусств из Лос-Анжелеса. По следам
этой реконструкции был опубликован сборник статей о .русском авангарде
(Sieg йЬег die Sonne. Aspekte russischer Kunst zu Beginn der 20. Jahrhunderts.
Berlin, 1983), а кроме того, статья, специально посвященная музыке оперы
Allende-Blin J. Sieg uber die Sonne.— Alexander Skrjabin und Skrjabinisten.
Bd. 2. Musik-Konzepte 37/38. Mtinchen, 1984).
В 1989 году спектакль был возобновлен на отечественной сцене — Театром-
студией Ленинградского Дворца молодежи. Музыка Матюшина, обработанная
П. Бирюковым и заново инструментованная (с привлечением синтезаторов),
дополнялась здесь фрагментами из произведений А. Пярта и В. Артемова.
15 В этом отношении словесный текст оперы прямо вллюстрирует тезисы «Поще-
чины общественному вкусу»: «Мы стали придавать содержание словам по их
начертательной и фонической характеристике... Во имя свободы личного слу-
чая мы отрицаем правописание... Нами уничтожены знаки препинания, чем
роль словесной массы выдвинута впервые и осознана» (Свиток. Спб., 1914).
143
финальная дадаистская песня авиатора (нетрудно уловить общ-
ность этой «военной песни» с хрестоматийно известным «дыр бул
щыл» из книги Крученых и Хлебникова «Слово как таковое»):
Л Л л
кр тлп тлпт кр
кр ра к виба вд кр ку б жр т вубр ду л и диба Р
Шокирующе сниженная лексика вкупе с анархической
«заумью» по-своему отразились в музыке. Такова, например, разу-
хабистая Песня Забияки, демонстрирующая бытовой пласт оперы:
Оголенная фактура: бас-аккорд сочетается в ней с увесисто-
косноязычной гармонией. Тотально диссонантны и другие фраг-
менты произведения (что соответствует апологии диссонатности в
футуристических манифестах)16. Наряду с постоянными высотны-
ми блужданиями, это дает ощущение тональной дезориентирован-
16 См.: Лурье А., Якулов Г. Мы и Запад.— Грамоты и декларации русских футу-
ристов. Спб., 1914.
144
ности — свободы от «законов всемирного тяготения» (хотя радика-
лизм четвертитоники в сохранившихся музыкальных фрагментах
отсутствует).
Впрочем, наиболее последовательно и «программно» эту сво-
боду от «геоцентризма» отстаивал К. Малевич. «Победа над солн-
цем» создавалась в момент поворота Малевича «от кубизма к
супрематизму» (как, соответственно, назывался его теоретический
труд). Символом последнего стал изображенный на занавесе, а
также вмонтированный в декорации и костюмы черный квадрат —
«зародыш всех возможностей» (Малевич), означающий в контек-
сте оперы начало победы над предметностью и трехмерностью
земного пространства с его «верхом — низом», «правым —
левым»17. (Образ утопического негеоцентрического пространства,
в котором оборваны «все земные привязи», возникает в финале
оперы, рисующем головокружительную невесомость жителей Деся-
тых стран.) Вместе с тем Малевич не порывает еще здесь с пред-
метностью. Выполненные в кубистской манере декорации и костю-
мы демонстрируют свободу от земного тяготения скорее в смысле
нарушения привычных пропорций, а также в смысле самодовле-
ющей яркости красок и причудливой игры локализующихся плос-
костей. Таковы впечатляющие фигуры мрачноватого красно-бело-
черного Похоронщика, колюче-остроугольного Неприятеля, «ско-
шенный» силуэт Некоего Злонамеренного. Таков будетлянский
силач, закованный в «конструктивистские» латы, с низко надви-
нутой каской и плечами на уровне рта. Более абстрактны эскизы
декораций и занавеса, хотя и тут угадывается вполне материаль-
ный образ — гигантских, сложно устроенных машин.
Этот образ связан с еще одним существенным мотивом опе-
' ры — собственно урбанистическим. Крученых видел в «Победе
над солнцем» «прославление техники, прежде всего — авиации».
Шумящий пропеллер, изображение частей самолета (самолет
: фигурирует в опере и как способ преодоления земного притя-
) жения, и как эмблема технико-индустриальной эпохи), причудли-
вая архитектура будетлянских небоскребов с направленными
| внутрь окнами и как бы движущимися стенами — все эти обра-
f зы пьесы не могли не найти отклика у такого дерзающего худож-
ника, как Малевич. Откликнулась на них и музыка. Задол-
го до «Завода» А. Мосолова и «Пасифика-231». А. Онеггера в
ней появился «стук машин» (6-я картина, хор Спортсменов)
и гул работающих фабрик (1-я картина, речитатив Путешествен-
ника):
17 Характерный для футуристов протест против геоцентрического образа мира
перекликался с идеями русского философа Н. Федорова, который первым в
истории эстетики заключил, что органическое, замкнутое в себе произведение
искусства есть преодоление силы земного тяготения и потому его ликвидация.
Пример «выхода в космическое пространство» и открытие новых, недоступных
обычному пониманию связей между явлениями мира демонстрировали и другие
художники русского Sturm und Drang’a — например, К. Петров-Водкин с
его «сферической перспективой».
145
21
К. Мапмшя. ДТобедж над соляном**
По-своему воплотилась в ней и кубофутуристическая геомет-
ризация линий, ведущая к конструктивизму. Так, скандированное
Andante maestoso из 6-й картины передает, согласно авторской
ремарке, «прямые линии новой страны»:
В сочетании с туттийной мощью и гиперболичностью звуча-
ния (громоздкие, размашистые аккорды с широким регистровым
охватом — своего рода визитная карточка музыкального стиля
«Победы над солнцем») подобные приемы ассоциировались у Ма-
тюшина с величественным образом Грядущего (в финале оперы
«...перед глазами ясно вставала новая страна с новыми возмож-
ностями. Мне казалось, что я вижу и слышу ритмически пере-
двигающиеся в вечности массы»).
Итак, новации «Победы над солнцем» явили исключительное
творческое единодушие авторов. Каков же идейный заряд этого
единодушия, если взглянуть на него сегодняшними глазами?
Нынешний, явно не футуристский образ мыслей способствует
трезвости такого взгляда. Этот образ мыслей связан, по-видимому,
с пониманием издержек художественного авангарда «второй вол-
ны», но в еще большей степени — с осознанием моральных пос-
ледствий нигилистического бунта против природы и вечных начал
бытия. Поистине надо переселиться в 1913 год, чтобы в грядущем
мире без солнца и без всех земных опор увидеть прообраз «новой
страны с новыми возможностями», а не пророческий символ
146
ядерной зимы, урбанистического апокалипсиса («Десятые страны»
Крученых стали невольным воплощением этого символа задолго
до рассказов Р. Бредбери и других образцов современной на-
учной фантастики).
Нелегок и вопрос художественного качества новизны, прокла-
мируемой авторами оперы. Он приобретает особую остроту в
связи с творчеством авангардного типа, где категории новизны и
ценности нередко автоматически синонимируются. Опять-таки
здесь необходим взгляд со стороны. Он неизбежно приводит к
дифференцированной оценке произведения. Поэт Б. Лившиц, близ-
кий футуристическим кругам, воспринял оперу критически: «Све-
тящийся фокус „Победы иад солнцем11 вспыхнул совсем в неожи-
данном месте, в стороне от ее музыкального текста и, разумеется,
в астрономическом удалении от либретто: то были декорации
и костюмы Малевича»18. Можно согласиться с Лившицем, если
вспомнить впечатляющую яркость последних, а также то, что вмес-
те с опытами В. Кандинского они составили эпоху в развитии
мировой живописи.
По высокому счету можно оценить, впрочем, и Пролог к опере,
сочиненный В. Хлебниковым и воспринимаемый скорее как застав-
ка ко всем спектаклям будетлянского театра. «Самовитое слово»,
рискованно смело демонстрируемое в нем, имеет в то же время
семантическую подоснову — в отличие от дадаистской «зауми»
Крученых. Исполненное свеобразной торжественной певучести,
оно представляет Новый театр и выполняет традиционные функ-
ции обращения к публике — «Слушайте и смотрите!»:
...В детиице созерцога «Будеславль» есть свой подсказчук.
Он позаботится,
чтобы говоровья и певавы шли гладко, не брали розно, но достигнув кияжебна
иад слухатаями, избавили бы
людняк созерцога от гнева суздалей.
Смотравы, написанные худогом, создадут перебдею природы. Места на облаках
и иа деревьях и на китовой мели занимайте до звонка.
Звуки, несущиеся из трубарни, долетят до вас...
Грозосвист пеииствора наполнит созерцебеи.
Звучаре повинуются гуляру-воляру.
Семена «Будеславля» полетят в жизнь.
Созерцебеи есть уста!
Будь слухом (ушаст) созерцаль!
И смотряка.
Что же можно сказать о музыке? Западные критики, с энту-
зиазмом откликнувшиеся на реконструированный спектакль,
вероятно, стали жертвой известного самообмана, если автор
опубликованной в 1984 году статьи19 счел необходимым разрушить
легенду о «композиторе-пророке» и указать на полудилетантские
огрехи нотного текста оперы (случайность голосоведения,неоправ-
18 Цит. по «Ежегоднику рукописного отдела Пушкинского дома за 1974 год»,
с. 180.
19 См.: Allende-Blin J. Sieg uber die Sonne.— Alexander Skrjabin und Skrjabi-
nisten. Bd. 2.
147
данность гармонических вольностей и т. п.)20. Вклад Матюшина
в русскую культуру критик связывает прежде всего с его миссией
художника, педагога и мыслителя-организатора. Трудно не согла-
ситься с таким выводом — композиторство было лишь одной из
сфер многогранной деятельности Матюшина (и, вероятно, не самой
главной). Но именно поэтому ему одному из первых удалось
приобщить музыку к миру новых идей.
Уже в середине 1910-х годов с этими идеями соприкоснулись
другие музыканты «левой» ориентации. Так, сферу микроинтерва-
лики (вспомним «ноты будетлянские») разрабатывали И. Вышне-
градский, А. Лурье, Н. Рославец, А. Авраамов и др. Если новации
Матюшина, возникшие в связи с театральным замыслом и свиде-
тельствующие о прямой причастности композитора кубофутурис-
тической платформе, носили подчас плакатно-иллюстративный ха-
рактер, то композиторы, работавшие в сфере «чистой музыки», экс-
периментировали в глубинах самой звуковой материи. Именно в
этом случае футуризм можно понимать как синоним авангарда,
как работу по созданию «музыки будущего».
Общепризнанно, что именно в России 1910-х годов протекал
«инкубационный период» новейшей беспредметной живописи. Но
немало предвидений и прорывов в новое измерение (возни-
кавших параллельно западным вариантам или даже в опережение
их) совершили и русские музыканты, почти неизвестные сейчас.
Так, Ефим Голышев (1875—1970) уже около 1914 года создал
основы композиторской техники, близкой додекафонии, а Николай
Обухов (1892—1954) задолго до Веберна реализовал принципы
новой афористичности (таков цикл его пьес «Десять психоло-
гических таблиц», написанный в 1915 году). Толчком для этих
открытий во многом послужило позднее творчество Скрябина.
Выросшее из символизма, оно в языковом отношении наметило
целый ряд принципов новейшей музыки: рационалистичный квази-
серийный тип звуковой организации, некоторые приемы фактурно-
го оформления материала, ведущие к пуантилизму, афористич-
ность высказывания (в фортепианных миниатюрах) и т. д.
Композиторы же нового поколения стремились осмыслить и узако-
нить эти принципы в рамках новой эстетики21. Впрочем,
согласно свидетельствам самих «радикалов»22, а также учитывая
хронологию, здесь можно говорить не только о влияниях, но и о
параллелизме поисков.
20 Впрочем, в этом могла быть повинна недостаточная сохранность и разночтения
в имеющихся вариантах нотных эскизов.
21 Этой преемственной связи, возникшей как бы помимо мировоззренческих раз-
личий, на почве общей — авангардной — концепции творчества, посвящены
статьи упомянутого выше сборника «Alexander Skrjabin und Skrjabinisten».
В некоторых из них предпринимается решительный пересмотр взгляда на рус-
ский музыкальный авангард 1910-х годов, который по своему значению для
судеб современной музыки приравнивается к нововенской школе.
22 См., например: Николай Рославец о себе и о своем творчестве.— Современная
музыка, 1924, № 5, ноябрь-декабрь.
148
Одним из наиболее последовательных авангардистов-«пост-
скрябйцианцев» оказался А. Лурье. Эта фигура заслуживает бо-
лее пристального внимания — хотя бы потому, что Лурье находил-
ся в центре собственно футуристического движения и стремился
подчинить звуковые новации его доктринам23.
Лурье был завсегдатаем «Бродячей собаки», автором одной
из музыкальных эмблем «подвала». Там же им читались доклады
о новом искусстве, исполнялись сочиненные им камерно-инстру-
ментальные и вокальные опусы, завязывались контакты с поэта-
ми новых направлений24. Лурье представительствовал от музыки
в футуристском альманахе «Стрелец». С подобной же миссией
он выступил в «Грамотах и декларациях русских футуристов».
Один из авторов декларации «Мы и Запад», задуманной как
полемический ответ Маринетти, он совместно с поэтом Б. Лив-
шицем и художником Г. Якуловым сформулировал здесь выше-
упомянутые «общие» и «специальные» принципы нового искус-
ства. К собственно же музыкальным реформам Лурье можно
отнести его проект четвертитоновой нотации, опубликованной в
1915 году.
Соучастие Лурье в футуристском движении выразилось в пло-
дах совместного творчества. Так, уже в начале следующего,
послереволюционного десятилетия был издан Марш Маяковского
«Дней бык пег» с музыкой Лурье и обложкой П. Митурича.
Однако как искушенный высокообразованный музыкант радикаль-
ного направления Лурье проявил себя более всего в жанрах
«чистой» музыки. Таковы его Струнный квартет, а также форте-
пианные циклы «Синтезы» и «Формы в воздухе».
Звуковой основой в них является 12-тоновая хроматичес-
кая система скрябинского образца. В первом из фортепианных
циклов названию «Синтезы» отвечают многоплановая, 6—8-звуч-
ная, гармоническая вертикаль. Интервальная структура ее зачас-
тую симметрична:
23 Здесь ни в коей мере не преследуется задача создать творческий портрет
А. Лурье— композитора, прожившего долгую жизнь и неоднократно меняв-
шего, в духе современного плюрализма, стилевую манеру (так, наряду с ультра-
сложными экспериментами, Лурье соприкоснулся позже с фольклором и стари-
ной, а также культивировал ультрапростоту «нового одноголосия», отчасти
предвосхитившего позднейшую «минимальную» музыку). Нас интересует преж-
де всего творчество Лурье футуристской поры.
24 Близкие и долгие отношения связывали Артура Лурье с Анной Ахматовой.
Лурье были написаны Десять песен на ее стихи из сборника «Венок роз»,
Триптих для ритмического чтения с женским хором, Траурный плач памяти
Александра Блока. Ахматова писала также для Лурье балетный сценарий по
мотивам «Снежной маски» Блока. Оиа посвятила композитору ряд стихотворе-
ний 1917 года, а кроме того — фрагменты «Поэмы без героя», написанной много
лет спустя. Образ Лурье должен был фигурировать и в балетном сценарии, ко-
торый Ахматова планировала сделать на основе этой поэмы. Лурье же в свою
очередь откликнулся на «Поэму» вокальным циклом «Заклинания». Почти
мистическим совпадением кажется одновременный уход из жизни (в 1966 году)
этих людей, столь тесно общавшихся в годы молодости н разделенных в даль-
нейшем судьбой и расстоянием.
149
Ощущение же синтетичности возникает благодаря специфи-
ческому сплаву диатоники и хроматики, а также реально возни-
кающей полигармонии:
24
soutenu Лурье. »£ммтезы”
Несомненна близость этих весьма сложных комбинаций скря-
бинским сочинениям послепрометеевского периода, где гармони-
ческая вертикаль уже не ощущается как неделимое целое, а дает
почувствовать свою внутреннюю неоднородность.
Заметим, что «синтетическая гармония» послепрометеевского
типа оказалась также весьма близкой Николаю Рославцу, посвя-
тившему ей немало теоретических рассуждений и даже введшему
в теоретический обиход новый термин «синтетаккорд». «Синте-
таккорды», по Рославцу, это «основные созвучия, вертикально
и горизонтально развернутые в плане 12-ти ступеней хромати-
ческой скалы, по особым принципам голосоведения»25. Один из
примеров «синтетаккорда»— кульминация второй пьесы из цикла
Рославца «Пять прелюдий для фортепиано»:
25 Николай Рославец о себе и о своем творчестве.— Указ, изд., с. 136.
150
HiXвернемся к Лурье. Изыскания его не ограничивались об-
ласть гармонии. В тех же «Синтезах» прямым продолжением
скрябйрской рассредоточенно-пульсирующей фактуры восприни-
маются'^ случаи своеобразной пуантилистики:
26
А. Лурье. ,£интезы”
По-видимому, именно отсюда, из техники регистрового рас-
средоточения звуковой ткани, возникла идея «визуальной му-
зыки» — подобно «визуальной поэзии» у футуристов. Впрочем,
сам Лурье отталкивался здесь от живописных «прецедентов».
В его «Формах в воздухе», посвященных Пабло Пикассо, нот-
ная запись принимает вид расчлененных и разновысотных фраг-
ментов нотных станов (в духе партитур нового авангарда).
Эти фрагменты фиксируют то, что звучит; паузы же, разряжающие
фактуру, становятся «воздухом» и в чисто зрительном плане.
Дискретность музыкальной материи, подчеркнутая в этих трех
пьесах графическим способом, напоминает образцы синтетического
кубизма и действительно соответствует посвящению. Впечатление
причудливой, несколько отвлеченной звуковой мозаики, опять-
таки ассоциирующейся с новейшей живописью, возникает и на слу-
ховом уровне, хотя приглушенной нюансировкой, гармонической
изысканностью и своего рода «заклинательной» интонационностью
эта музыка снова напоминает о позднем Скрябине — в середине
третьей пьесы есть момент, прямо перекликающийся с «магичес-
кой» формулой Девятой сонаты:
А. Лурье. „Формы в воздухе”
Так или иначе, «Формы в воздухе» являют любопытнейший
пример скрябинианства, трактованного в кубофутуристическом ас-
пекте.
Отразились ли в творчестве Лурье другие принципы кубо-
151
футуризма, в частности те, что сформулированы им в качестве
«специальных начал» для музыки в декларации «Мы и Запад»?
К этим началам Лурье относит «преодоление линеарности/(архи-
тектоники) путем внутренней перспективы (синтез-примитив)»,
а также «субстанциональность элементов»26. Под линеарностью
здесь понимается традиционная музыкальная архитектоника, под-
чиняющаяся старым принципам тематической разработки и по-
строения формы в целом. Новые законы формообразования, вы-
двигаемые Лурье, предполагали свободную последовательность
неменяющихся (то есть не развивающихся в традиционном смыс-
ле) элементов, которая и определялась понятием «синтез-прими-
тив». Вышерассмотренные «Синтезы» могут служит^» примером и
в данном отношении. Хотя свободная смена мелойико-гармони-
ческих импульсов не выглядит здесь «беспрецедентной», вновь да-
вая уловить скрябинские «гены», подобный метод формообразова-
ния, близкий монтажу, оказался весьма перспективным для новой
музыки (например, для С. Прокофьева).
Здесь же находит объяснение то, что Лурье называл «суб-
станциональностью элементов». Впрочем, это понятие относится,
по-видимому, не только к аспекту формы. В нем нашла отражение
характерная для кубофутуризма апология художественного мате-
риала. «Самовитое слово», декларируемое поэтами, так же подни-
малось в своей не отягощенной старыми смыслами фонети-
чески-звуковой роли, как приобретала самостоятельный вырази-
тельный смысл игра плоскостей в новой живописи — наряду
с символикой цвета27. В приложении к музыке такая апология
материала означала эмансипацию диссонанса и вообще самоцен-
ность звучащего момента, нередко подчеркнутую его чисто фони-
ческим своеобразием. В «Синтезах» Лурье показательный пример
находим во второй пьесе, отмеченной «сквозным» звучанием боль-
шой септимы. Примеров можно найти, однако, много больше —
и не только у Лурье, если учесть возросшую роль «фонизма» в
музыке новых направлений.
Итак, Лурье не ограничился словесным манифестированием
футуризма, но стремился опробовать соответствующие принципы
в творческой практике. Вместе с тем позиция его оказалась в дос-
таточной степени компромиссной: один из активнейших деятелей
нового направления, Лурье как музыкант-практик не вполне про-
никся его внутренней сутью, оставаясь в русле авангардизма пост-
скрябинского образца. Да и выводимые им «специальные начала
26 Лурье А., Якулов Г. Мы и Запад.— Грамоты и декларации русских футуристов.
27 Интересно в этом плане психологическое истолкование цвета В. Кандинским.
Согласно его теории, краски противостоят: «Желтая (теплое, телесное) —
синяя (холодное, духовное), красная (движение в себе) — зеленая (отсутствие
движения). С учетом вторичного ряда (оранжевая — фиолетовая) и в рамках
основного, главного противоположения белая (рождение) — черная (смерть)
получалось „нечто космическое"» (Кандинский В. О духовном в искусстве.—
В кн.: Труды всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 —
январь 1912. Пг., 1914, с. 75).
152
для музыки» не охватывают всего комплекса признаков, рожден-
ных нбвой эстетикой и психологией.
Между тем именно глубинное приобщение к этой психологии,
производимое скорее интуитивно, чем рационально-осознанно,
характеризовало ведущих русских авторов 1910-х годов, пришед-
ших на смену скрябинскому поколению. Речь идет прежде всего о
Прокофьеве и Стравинском. Их отношения с кубофутуризмом
носили характер диалога. Никоим образом не укладываясь в
рамки декларируемых в те годы доктрин, творчество обоих тем
не менее отразило некоторые сущностные стороны нового движе-
ния в искусстве — те самые стороны, которые, отчасти соприка-
саясь с тенденциями варваризма, неопримитивизма, неофолькло-
ризма и других «нео», все-таки именно в кубофутуризме нашли,
думается, самое широкое обоснование.
Но как совместить этот тезис с причастностью обоих компо-
зиторов неоклассическому направлению (о чем повествовалось
выше)? Ведь, как мы уже указывали, здесь имели место карди-
нальные различия в отношении к опыту прошлого. Этот видимый
парадокс снимается тем существенным обстоятельством, что футу-
ризм и неоклассицизм (в поэзии скорее можно говорить об ак-
меизме) смыкались на почве антиромантического бунта, по-
своему соучаствуя в формировании новой концепции художествен-
ного творчества, характерной для первой половины XX века
(об этом опять-таки уже писалось). И у Прокофьева, и у
Стравинского сочетание подобных принципов носило характер
напряженного равновесия аполлонического и дионисийского начал
(Прокофьев не случайно выделял среди главных линий своего
творчества «классическую» и «новаторскую». У Стравинского же
кульминацией дионисийства оставалась «Весна священная»28,
после чего возобладали аполлонические тенденции, приведшие уже
в пределах «русского периода» к большей ясности и аскетической
строгости письма).
Немаловажен также и момент снятия у обоих композиторов
нигилистических крайностей футуристской концепции мира —
той самой концепции, которая представлена, например, в «Победе
над солнцем». В «Весне священной» (1913) и в «Скифской
сюите» (1915)—сочинениях, по времени написания и радика-
лизму стилевых установок явно соприкасающихся с новейшими
течениями искусства, основой содержания служит языческий
миф — в духе обшей тенденции к мифологизму, характеризующей
также и классицистские опыты. На стилевом уровне это повлекло
за собой обращение к древним пластам фольклора (особенно
28 Заметим — с точки зрения контекста культурного быта,— что стихия диони-
сийства, оставшаяся в наследство от символизма и обновленная языческими
мотивами, продолжала волновать в те годы умы. Небезынтересна в этом плане
постановка в 1912 году в Литейном театре «Козлоногих» на музыку И. Саца.
В следующем году эта хореографическая сцена, впечатлявшая современников
своей «жуткой» экспрессией и исступленностью (равно как и артистическим
талантом О. Глебовой-Судейкиной), была воспроизведена в «Бродячей собаке».
153
явное у Стравинского, у Прокофьева же проявившееся больше в
«Шуте»), что уже само по себе свидетельствовало не о ликвида-
ции, но об укреплении всех «земных привязей». Впрочем, здесь
Прокофьев и Стравинский оказались близки тем художникам рус-
ского кубофутуризма, которые (в отличие от итальянскогр вариан-
та направления) склонны были подчеркивать национальную спе-
цифику искусства (такова православно-«азиатская» Тематика у
В. Хлебникова, фольклорная окраска стихов у В. Каменского,
интерес к лубку и к древней иконе у Н. Гончаровой, MJ Ларионова,
К. Петрова-Водкина и т. д.).
Возвращаясь к названным сочинениям, заметим, что и с Солн-
цем их авторы «общались» совершенно иначе. Балет Стравин-
ского, изображающий обряд жертвоприношения во имя бога вес-
ны, уже самим названием взывает к праосновам бытия. «Скиф-
ская» же сюита венчается грандиозной картиной «шествия солн-
ца», символизирующего победу над Чужбогом, нечистью и силами
тьмы. Трудно представить себе нечто более полярное в идейном
смысле, чем эти сочинения и рассмотренная выше опера. И все
же такое несходство концепций скорее говорит о противоречиях
и внутренней неоднородности самого нового движения, чем отри-
цает причастность к нему названных авторов.
Причастность эта имела и внешние проявления. Стравинский
и Прокофьев сотрудничали с художниками-кубистами в дягилев-
ском театре, там же в связи с их творчеством возникла идея
«футуристской музыки» и спектакля «в стиле конструктивизма»29.
Известен факт знакомства Прокофьева с Маринетти (во время
приезда последнего в Россию), а также поездки композитора
в Италию (1915), по следам которой была написана статья
«Музыкальные инструменты футуристов»30. В Краткой автобиогра-
фии Прокофьев описывает свои встречи с Маяковским, Д. Бур-
люком, Каменским. Последний вспоминает, в свою очередь
(в книге «Жизнь Маяковского»), о выступлении в московском
кафе поэтов Прокофьева — выступлении, побудившем Маяковско-
го сделать портретный набросок с выразительной надписью:
«Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира
Владимировича». Можно говорить, по-видимому, и о флюидах
подлинного творческого взаимопонимания между двумя «предсе-
дателями земного шара», в чем они сами признавались. Мая-
ковский, не абсолютно все принимавший в Прокофьеве, писал,
например, что ему близок «Прокофьев грубых, стремительных
маршей».
Эти небезызвестные факты отчасти объясняют и внутреннюю,
стилевую близость молодого Прокофьева поэтам-футуристам. Кро-
29 Дягилев предполагал постановку «Литургического балета» Стравинского с
участием футуристских механических инструмеитов; во втором случае имеется
в виду «Стальной скок».
30 Напечатана в кн.: С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания. М.,
1961.
154
ме культа «грубых, стремительных маршей», она выразилась в
особой уплотненности звуковых событий — своеобразной аналогии
«тугой ^фактуры» и превалирования согласных у поэтов-футу-
ристов (известный автограф Прокофьева без гласных букв в этом
смысле весьма показателен), а также в тотальной ударности
ритма, создающей впечатление полного изгнания женских рифм
и слабых стопных ударений — в этом плане знаменитому «дней
бык пег» соответствует, например, скандированная концовка мар-
ша из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Стравинский же, думается, ближе стоял к кубизму. Об этом
говорит не только сотрудничество композитора с П. Пикассо,
но и прямые параллели с его творчеством31, равно как с кубиз-
мом в целом. Здесь надо отметить прежде всего многоплоскостное
видение мира (о нем еще пойдет речь ниже) и принцип дефор-
мации модели. В. Каратыгин связывал этот принцип с «идеей
сдвига». По поводу «Весны священной», где эта идея реализу-
ется почти тотально, критик писал: «Сдвинулись тональности,
громоздящиеся друг на друга, и сдвинулись интервалы. Октавы
внезапно соскользнули на септимы, Сдвинулись ритмы. От пра-
вильных тактов отсечены где четверть, где восьмушка и преспо-
койно разгуливают на свободе... Везде я вижу сдвиг... Сдвиг
в музыке — пеа plus ultra музыкального модернизма»32
Однако эти различия параллелей, сами по себе далеко не аб-
солютные, не мешают видеть общности некоторых важнейших
принципов, ставших основополагающими для кубофутуристичес-
кого взгляда на мир. Речь идет о новом характере образности и о
новой концепции времени.
«Вещный», материально-осязаемый склад музыки Прокофьева
был по достоинству оценен современниками. Тот же Каратыгин
определял прокофьевскую линию как «линию в значительной мере
параллельную современным русским живописным течениям из бо-
лее левых. Долой всякую утонченность и изысканность, импрес-
сионистскую зыбкость и хрупкость, „вкусное" изящество и дели-
катность рисунка и колорита, и да здравствует полновесная сила,
мощная энергия выражения, крупные линии, плотные, веские
формы, насыщенные краски. Вот один из лозунгов Прокофь-
ева . и многих новейших радикалов отечественной живописи»33.
Под «новейшими радикалами отечественной живописи» критик
подразумевал, очевидно, «бубнововалетцев»— последователей Се-
занна и ранних кубистов, творчество которых вполне соответ-
ствовало сформулированному выше лозунгу (продолжая эту ана-
логию, можно говорить и о своеобразной геометризации, «выпрям-
ленности» звуковых образов Прокофьева, столь далеких от скря-
бинской иллюзорности и расплывчатости). Что же касается «Весны
31 Интересные суждения по этому поводу высказаны в статье: Савенко С. Стра-
винский и Пикассо. К история одного сотрудничества.— В ки.: И. Ф. Стравин-
ский. Статьи и воспоминания. М., 1985.
32 Каратыгин В. Музыка старая и новая.— Театр и искусство, 1914, № 9, с. 206.
33 С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 305.
155
священной», то мощный оркестровый аппарат, огромная роль
ударных инструментов, многозвучная, «глыбистая» аккордика го-
ворят здесь сами за себя. Б. Асафьев связывал это качество
«тяжести» звуковой материи с культом земли и плодородия.
Излишне напоминать, насколько такая «весомость, грубость, зри-
мость» соответствовала коренным принципам кубофутуризма, реа-
лизуясь в упомянутой «тугой фактуре» стихотворчества и в под-
черкнутой фактурности новой живописи.
Характер кубофутуристической образности во многом опреде-
лялся также сознательным культивированием «алогизмов» и «дис-
сонансов» (оба понятия постоянно фигурируют в футуристи-
ческих манифестах). Адепты нового движения видели здесь спо-
соб освобождения от предрассудков и старых причинно-след-
ственных связей. Именно так интерпретирует, например, К. Мале-
вич свою композицию «Коровы и скрипки в кубистической
постройке»34. Что же касается поэзии, то программным воплоще-
нием алогизмов выступал здесь упомянутый язык «зауми», равно
как и многочисленные словесно-семантические диссонансы вроде
«дохлой луны», «плевочков»-звезд и тому подобных примеров
дискредитации возвышенно-романтической лексики. В музыке сис-
тема алогизмов проявила себя достаточно многообразно —
и как деформация модели с помощью «сдвига», и как более широко
понимаемая эстетика неожиданностей. У Прокофьева, например,
последняя обнаруживается уже на мельчайшем масштабном
уровне — таковы, скажем, головокружительные мелодические
скачки и стремительные фактурно-гармонические смены в четыр-
надцатой «мимолетности» (впрочем, подобными микронеожидан-
ностями питается вся прокофьевская «скерцозная линия»), В
масштабе же целостной композиции нормой становилось антиро-
мантическое по сути «комментирование» квазилирических эпизо-
дов острогротескными (как в третьем и пятом «сарказмах»).
Наряду с обновленной образностью, и Прокофьев и Стравин-
ский стали проводниками основополагающей идеи кубофутуриз-
ма — идеи движения. И «Весна священная», и «Скифская сюита»
в этом смысле чрезвычайно показательны, что объясняется,
по-видимому, не только хореографической природой этой музыки.
Апофеоз движения, достигающего полного самоисчерпания, явля-
ет «Великая священная пляска». В «Шествии солнца» неумолимо
крещендирующая поступательность достигается сменой эпизодов,
по-разному реализующих идею движения: сначала лавинообраз-
ное триольное нарастание, затем скандированная поступь («марш
солнца»), снова нарастание — и ослепительная кода, выражаю-
щая сокрушительную испепеляющую мощь светила35. Передача
непрерывного поступательного движения (подобно неумолимо
приближающемуся поезду или автомобилю в кинокадре) говорит
34 См.: Малевич К- О новых системах в искусстве. Витебск, 1919.
35 Этой мощи не вынес А. Глазунов, удалившись с репетиции «Скифской сюиты»
за несколько тактов до полного восхода солнца (как повествует об этом сам ав-
тор).
156
о векторном ощущении времени, столь непохожем на самоцельное
движение-игру и движение-вибрацию в замкнутом сферическом
пространстве — у Скрябина (при всем сходстве экстатических фи-
налов Скрябина и Стравинского в «Весне»).
С «материализацией» движения связано и ощущение физичес-
кой пульсации времени. В передаче этого ощущения Стравинский
и Прокофьев вряд ли имеют себе равных: самодовлеющий акцент-
ный ритм выступает здесь едва ли не в главной стилеобразующей
функции36. Примечательно, что в сфере ритмически подчеркнутой
моторики неоклассические тенденции обоих авторов пересекались
с их же футуристическими («скифскими», варваристскими, урба-
нистическими и пр.) устремлениями. «Самодовление ритмов и тем-
пов» было ведущим пунктом футуристической программы и фигу-
рировало в «Грамотах и декларациях русских футуристов».
При этом у Стравинского благодаря нерегулярной акцент-
ности достигается особая степень насыщенности «сиюсекундного»
временного тока. Широко понятая остинатность, предполагающая
внутреннее сопротивление материала, становится как бы способом
его фиксации, давая ощущение «продолженного настоящего»37.
Это свойство музыкального мышления Стравинского объясняет
то на первый взгляд парадоксальное обстоятельство, что ценитель
русской древности и классической старины предпочитал в то же
время жить con tempo и заявлял: «Я не живу ни в прошлом, ни в
будущем. Я — в настоящем... Для меня существует только истина
сегодняшнего дня»38.
Приведение к максимуму настоящего момента, актуализиро-
вание сиюминутности восприятия было характерным свойством
кубофутуристического образа мира. Оно связано, по-видимому,
не только с «самодовлением ритмом и темпов», но также с выше-
отмеченной самоценностью рабочего материала. Кубистская живо-
пись выдвинула в качестве определяющего принцип симульта-
низма — множественности точек зрения на предмет изображения.
Демонстрируя модель скорее умопостигаемую, чем видимую, ху-
дожники совершали выход в новое — временное — измерение жи-
вописи. При этом динамизм временного осмысления объекта
заключался в запечатлении его как бы движущегося состояния,
в фиксации совокупности мгновений. На смену символистскому
отождествлению мига и вечности, дающему ощущение недиффе-
ренцированно-бесконечного «времени-пребывания», пришло физи-
чески осязаемое, дискретное, «квантующееся» время39.
Именно с этих позиций многоплоскостного поливременнбго
мировосприятия музыкальная теория и критика тех лет склонна
36 См. об этом: Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой по-
ловины XX века. М„ 1971.
37 Об этом явлении пишет О. Притыкина в статье «Категория времени в эстетике
Стравинского» (в кн.: Вопросы музыкального стиля. Л., 1978).
38 Стравинский Игорь. Хроника моей жизни. Л., 1963, с. 250.
39 См. на эту тему: Семенов О. Категория времени в модернистской западной
живописи.— В кн.: О современной буржуазной эстетике. М., 1972.
157
была трактовать метод политонального письма. На эту тему выска-
зался А. Казелла в известной статье о политональности. В. Кара-
тыгин усматривал параллель между «многотональной „гетерофо-
нией“» у Прокофьева и плоскостной «гетерографией» у кубис-
тов40. От новой живописи отталкивался И. Глебов, подчеркивая
в политональной музыке момент синтетичности восприятия;
синтез этот аналогичен, по мнению исследователя, «явлениям,
встречающимся при зрительном восприятии, и состоит в том, что
слух суммирует впечатление путем оформления двух или нес-
кольких движущихся многокрасочных рядов звуков в один»41.
Самым же последовательным воплощением политонального
метода, подлинной энциклопедией политональных приемов была
признана «Весна священная». Политональная гетерофония, щедро
представленная уже во Вступлении и рисующая картину весен-
него пробуждения природы, действительно выступает едва ли не
главным стилевым показателем произведения. В сочетании с остро-
угольностью контуров, упрощенностью повторяющихся первоэле-
ментов звуковой материи, а также универсальной идеей «сдвига»,
она позволяет видеть в балете Стравинского беспрецедентный
в мировой практике музыкальный аналог кубизму. (Судя по хоре-
ографическому замыслу В. Нижинского, ориентированному на
принципы «иконописного кубизма», к новым стилевым идеям
тяготела и постановка балета в целом.)
Итак, новая русская музыка 1910-х годов в лице наиболее
ярких ее представителей актуализировала векторность, сиюминут-
ность и дискретную многоплановость временного потока. Все это
указывает на небывало возросшую роль в ней фактора времени —
в противоположность самодовлеющей пространственности у Скря-
бина. Не «пребывание в пространстве», а материализация времени,
нередко связанная с апологией движения,— вот что лежит в ее
основе,, кардинально отличной от символистской «смены состоя-
ний».
Пример Стравинского и Прокофьева позволяет также убедить-
ся в том, что подлинные принципы новой эстетики закладываются
не в словесных декларациях, а в живой практике творчества,
в сложном переплетении рационально осознанной и интуитивно
угаданной новизны. В той же «Весне» заряд последней оказался
столь сильным, что не исчерпывался на протяжении многих десяти-
летий. Это подтвердило неослабевающую актуальность для ис-
кусства XX века художественных открытий Стравинского и будиру-
ющую роль в них кубофутуризма, ставшего «горячей точкой» в
развитии новых художественных идей42.
40 См..: С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания, с. 306.
41 Современная музыка, 1925, № 7, с. 9—10.
42 В этой главе мы ограничились описанием русской художественной ситуации
1910-х годов. Между тем, ею не исчерпывается культурный контекст «Весны
священной» (как и контекст дягилевского балета вообще, впитавшего в себя
158
Однако кроме многообразных близких и дальних связей с ис-
кусством XX века кубофутуризм в музыке имел и непосредственное,
прямое продолжение. Имеется в виду уже упоминавшийся здесь
музыкальный конструктивизм 1920-х годов43. Развитие этого на-
правления __уже в советское время — можно объяснить не убы-
вающей, но укрепляющейся в мировом масштабе урбанистической
концепцией мира. С другой стороны, футурологическая утопия и
переворот в области художественных форм не могли не стимули-
роваться в России революционным тонусом нового десятилетия.
Решительное отрицание прошлого, убежденность в том, что худо-
жественная революция должна быть неотделима от революции
социальной, стали характерными психологическими приметами
1920-х годов, хотя намечались уже в эпоху кубофутуризма44.
В 1920-е годы произошла лишь заметная переориентация: футу-
рологический заряд распространился на предметную среду — не
случайно главными сферами приложения идей конструктивизма
оказались архитектура и театр.
В музыке конструктивистские принципы проявились хотя и опо-
средованно, но достаточно отчетливо. И здесь без труда можно
узнать их предреволюционную родословную. Трезвое отношение
к рабочему материалу, бросающее вызов пресловутым «трансу»
и «вдохновению», привело к сугубой рационалистичности его
организации (вплоть до своеобразной «системомании»— напри-
мер, у Н. Рославца). Сам материал эволюционирует к «железу
и стали» (этими словами Прокофьев определил характер своей
Второй симфонии) — подобно тому, как «самовитое слово» футу-
ристов предварило повышенную «грузоподъемность» слова у рев-
нителей «производственной поэзии». Ощутимо возросла пропа-
гандируемая А. Лурье «субстанциональность элементов»— сво-
бода от детерминирующей логики старых форм, приведшая к
созданию индивидуализированных композиций монтажного типа
сквозь художественную атмосферу Парижа новейшие флюиды общеевропейско-
го искусства). Постановка «Парада» Ж. Кокто — Э. Сати (с участием П. Пикас-
со н Л. Мясина), идеи «футуристской музыки», внедрение на сцену кубистского
оформления и акробатической хореографии свидетельствовали о все более
широком и межнациональном развитии соответствующих тенденций в дяги-
левском театре (что неудивительно, если учесть к тому же акты новых эстетиче-
ских манифестаций — например, опубликование в 1918 году в Париже мани-
феста Кокто «Петух и Арлекин»). Но эти явления возникли, однако, позже, на
исходе 1910-х годов. Чтобы совершить беспрецедеитный прорыв к новому уже
в 1913 году (и даже раньше — ведь партитура «Весны» была готова осенью
1912 года), требовалась, по-видимому, не только сила проницательного гения
Стравинского, но и необходимая «питающая среда», в немалой степени форми-
руемая художниками русского авангарда.
43 Анализ этого феномена впервые проделан И. Барсовой. См. ее статью «Раннее
творчество А. Мосолова. (двадцатые годы)» (в кн.: А. В. Мосолов. Статьи и
воспоминания. М., 1986).
44 Об этом свидетельствуют словесные высказывания его вождей. Так, К. Малевич
писал, например, что «кубизм и футуризм были движения революционные в
искусстве, предупредившие и революцию в экономической н политической жиз-
ни 1917 года» (Малевич К. О новых системах в искусстве, с. 10).
159
из неповторяющихся эпизодов (каковыми явились, например,
Вторая и Третья симфонии Шостаковича). Материализация дви-
жения приобрела подчеркнуто урбанистический смысл. Воспетая
кубофутуристами «романтика машины» увенчалась ко второй
половине 1920-х годов настоящим бумом индустриализации45.
Он выразился в целом ряде опусов с производственной, «сталь-
ной» тематикой. Таковы балет «Сталь» и опера «Плотина» А. Мо-
солова, опера «Лед и сталь» и музыка к пьесе «Рельсы» В. Деше-
вова, упомянутый «Стальной скок» С. Прокофьева46 47. Оркестро-
вые фрагменты из этих произведений, прежде всего—знамени-
тый «Завод» А. Мосолова и заключительные номера «Стального
скока» («Фабрика», «Молоты») стали — наряду с «Пасифик-231»
Онеггера —своего рода эталоном музыкального урбанизма 1920-х
годов.
Художественно-непреходящий смысл этой динамичной, суровой,
по-своему захватывающей музыки оценен сейчас по достоинству.
Но вряд ли следует забывать и о ее предвестниках — исполнен-
ных головокружительной фантазии иллюстрациях «Победы над
солнцем», скорее предугадывавших, чем реально воспроизводящих
грядущую техническую эру. При всех крайностях и заблуждениях
футуристского Sturm und Drang’a оии наряду с авангардными
исканиями «постскрябинианцев», а также прорывами в новые
музыкальные параметры, совершенными Стравинским и Прокофь-
евым, действительно стали «семенами Будеславля», полетевшими
в жизнь...
45 Об этом свидетельствуют, например, материалы журнала «Совремеиная музы-
ка» за 1926 год. Среди них — отклики на «Пасифик-231» Онеггера и на меха-
нический балет Джорджа Антейля, рецензии на «машинные» опыты советских
авторов (типа нашумевшей — в буквальном смысле слова — «Симфонии
паровых гудков» А. Авраамова), описание экспериментов с механическими
инструментами. Здесь же — теоретические эссе, отстаивающие право музыки
на «внеличные и внеэмоциональные» темы, на изображение машинных рит-
мов — для адекватного воссоздания современной реальности, отмеченной
«величием и гигантским размахом инженерии» (ибо, как констатирует Игорь
Глебов, «кончились привилегии ручьев, рощиц, лесов, лунного света, театраль-
ных бурь и тому подобных атрибутов „пейзажиста" и любования природой
сквозь стиль рококо и жеманство последователей Руссо».— Современная му-
зыка, 1926, № 13—14, с. 70).
46 Этот парижский балет Прокофьева оказался не только сюжетио, но и конкрет-
но-стилистически тесно связанным с исканиями советского конструктивизма —
судя по значению в спектакле художника-конструктивиста Г. Якулова, а также
по той роли, какую сыграли в возникновении идеи балета гастроли в 1923 году
в Париже Камерного театра Таирова.
47 В постановке «Стального скока» образ машины нашел впечатляющее сцени-
ческое воплощение. По воспоминаниям очевидцев, на сцене изображалась
работа с молотками н большими молотами, вращение трансмиссий и махови-
ков, вспыхивание световых сигналов. «В то время как движения танцоров ста-
новились все более энергичными, колеса начииали вращаться, а рычаги и
поршни двигаться... Эффект дополнялся лязганием огромных молотов, вы-
пусканием пара из паровых котлов» (Grigoriev S. The Diaghilev Ballets 1909—
1929. London, 1960, p. 243).
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Итак, мифотворчество символистов, синтетический театр мир-
искусников, языковые прозрения художников авангарда — этим
и многим другим определяется историческая перспективность «рус-
ского культурного ренессанса» начала века.
Как, однако, реализовались эти перспективы, каковы были,
выражаясь словами Н. Бердяева, «последствия творческого подъ-
ема» тех уникальных лет? На примере авангардной ветви рус-
ского искусства (кубофутуризм 1910-х годов — конструктивизм
1920-х) уже была показана своеобразная преемственность деся-
тилетий, казалось бы, разведенных в России непроходимой про-
пастью. Преемственность осуществлялась и в более широком пла-
не; о ней будет сказано дальше.
Однако октябрьский катаклизм и его последствия отозвались
на развитии культуры и всем человеческом бытии слишком зна-
чительными переменами. Последующие годы протекали в России
под знаком крутого социального переустройства, сделавшего не-
возможным прямое продолжение наметившихся путей1. Более то-
го: словно в исполнение апокалиптических пророчеств начала
века «русский культурный ренессанс» оказался свидетелем и жерт-
вой действительного апокалипсиса — изгнанничество или гибель
большинства наиболее активных его участников это подтверждает.
Судьба духовного наследия начала века сложилась драмати-
чески. Ее не избежали и музыкальные герои нашего повество-
вания. Лишь некоторых из них сравнительно ранняя смерть убе-
регла от грядущих коллизий: заметной вехой в смене поколений
проходят 1914—1915 годы — начало мировой войны, годы смерти
Скрябина, Станчинского, Танеева. Других ожидала чужбина.
Уехали Черепнин, Шаляпин, Зилоти, Кусевицкий. Рассеялись по
миру звезды «Русских сезонов»,, впрочем, с самого начала не
связанные российским пространством. За рубежом оказались
«московские классицисты» и «петербургские неоклассики»— Рах-
1 Эго, собственно, и дало нам основание ограничить период начала века 1917 го-
дом, вкладывая в это понятие не только хронологический, но и некий содержа-
тельный смысл.
161
манинов и Метнер, Прокофьев и Стравинский (первый временно,
второй — навсегда). На примере А. Лурье можно убедиться, что
страну покидали и футуристически настроенные художники, не-
смотря на свойственный им поначалу революционный энтузиазм
и даже сотрудничество в Наркомпросе с Луначарским (кроме
Лурье к сотрудничеству были привлечены тогда Кандинский и
Шагал). Роковым сигналом для многих послужили события
1921 года — смерть Блока и расстрел Гумилева, воспринятые как
конец всяких надежд.
Судьба Гумилева (позже — и Мандельштама) композиторов
как будто бы не постигла. Но погибнуть значило в те годы не обя-
зательно умереть насильственной смертью. Упомянутыми собы-
тиями, не говоря о прогрессирующем идеологическом давлении
на художественную интеллигенцию, подрубались сами основы
отечественной культуры, последняя лишалась духовного стержня.
Неудивительно, что и многие талантливые музыканты, вскормлен-
ные ренессансом начала века, обречены были позже на творческое
молчание либо на бесконечные компромиссы — рапмовский, а за-
тем сталинский террор этот процесс усугубили. Исчезли целые
пласты музыкальной культуры, в небытие ушли — вместе с раз-
рушенными храмами и церквами — жанры хоровой литургиче-
ской музыки, бурный расцвет которой соответствовал общему
ренессансу русской древности на рубеже веков.
Сохранилось ли — в свете подобных перемен — само понятие
русской художественной культуры? Как исторически сложившаяся
целостность, как единый организм со множеством связей и пере-
плетений, она понесла невосполнимые потери. Изменился ее прост-
ранственный контекст, расслоившись на русско-зарубежную
и русско-советскую сферы. Культура русского зарубежья, храня
в себе живые нити преемственности, вряд ли могла рассчитывать
на долгое их поддержание. Советская же культура, возникшая как
будто бы «на месте» прежней, оказывалась — чем дальше, тем
больше — на грани полного обескровливания, сжимаемая жестки-
ми идеологическими тисками. Железный занавес сталинских вре-
мен обрек эти сферы на длительную взаимную изоляцию.
Двадцатое столетие вообще сурово обошлось с доставшимися
ему художественными ценностями. Герои «серебряного века» ока-
зались едва ли не в центре этой драмы, что не могло не повлиять
на общие процессы развития искусства. Ведь «расцвет русской
культуры в начале века был частью и залогом общемирового
взлета, задержанного потом тоталитарными режимами, второй
мировой войной и ее последствиями»2.
Ненаписанных произведений, оборванных жизней не вернуть.
Но в наших силах противостоять худшим последствиям изоляции
и репрессий — забвению, атрофии культурной памяти, утрате
чувства духовных корней. Успех такой работы определяется
мерой устранения на карте отечественного искусства пресловутых
2 Иванов Вяч. Вс. В поисках утраченного.— Наше наследие, 1989, № 1, с. 1.
162
белых пятен. Но не только этим. Он зависит и от нашего стремле-
ния восстановить нарушенную целостность, увидеть за частью —
общее, за отдельным творческим фактом — утраченный образ са-
мой Культуры.
Это делать тем более необходимо, что, вопреки «скучным ошиб-
кам эпох» (О. Мандельштам), всходы, посеянные русским ренес-
сансом, все-таки продолжали произрастать, в том числе и на ниве
музыки, нити преемственности не прерывались окончательно, пе-
риодически возрождаясь в новых, неожиданных контекстах. Си-
туация уходящего столетия побуждает нас бросить взгляд «из
конца в начало», осмыслив близкие и далекие, прямые и опосре-
дованные связи с возможной полнотой.
Естественность таких связей обусловливалась самой жизнью,
точнее — законом ее биологической непрерывности. Если говорить
о советской музыке, то в первые десятилетия века начали свой
путь и практически сложились как музыканты виднейшие ее дея-
тели— Мясковский и Прокофьев, Ан. Александров и Гнесин,
Василенко и Крейн, Штейнберг и Щербачев. Многим из них суж-
дена была долгая жизнь и нелегкая стилистическая эволюция,
но творческий импульс молодых лет не мог не остаться основопо-
лагающим. Напряженный самоанализ и цитатная эмблематика
Мясковского не состоялись бы, например, вне контактов с поэзией
символизма. А неистощимый театральный дар Прокофьева пол-
ностью обязан'был взрастившей его петербургской театральной
традиции.
Одним из «модулирующих аккордов», связавших до- и после;
революционный периоды отечественной музыки, было скрябини-
анство. Повышенный тонус жизненной активности в сочетании
с языковым экспериментом обусловили неожиданную актуаль-
ность Скрябина в новой, казалось бы, радикально изменившейся
обстановке. Скрябинистские тенденции проявлялись в 1920-е го-
ды по-разному: от всепоглощающей близости первообразцу
(С. Фейнберг) до отдельных стилевых соприкосновений в русле
авангардной концепции творчества. Но во всех случаях гипноз
творца Мистерии оставался очень сильным.
Музыкальные завоевания рубежа веков сказались и в творче-
стве последующих десятилетий, чему свидетельство — Шостако-
вич, буквально выстрадавший свое право быть наследником ду-
ховно-нравственных традиций отечественной культуры. О причаст-
ности этим традициям говорит постоянная обремененность его
искусства социальными проблемами, а также неотвязная потреб-
ность осмыслить Добро и Зло в их философски-глобальной сути.
Зло как дьявольская стихия, принявшая личину «серой паучихи»
пошлости (А. Блок), и обратно: «серость как нуменальный ужас
и грех» (А. Белый) — волновали умы художников уже на рубеже
веков. И здесь русские символисты вслед за Достоевским прямо
предвосхитили музыкальные образы Шостаковича. Можно гово-
рить и о других «линиях родства» композитора со своими русски-
ми предшественниками. Так, в Шостаковиче опосредованно про-
163
явилась и обрела новые формы та полярность эмоционально-
интеллектуального («дионисийско-аполлонического») мира, кото-
рая была характерна для русской культуры рубежа веков и в
музыке демонстрировалась антитезами Чайковский — Танеев,
Скрябин — Метнер.
Во времена «оттепели», на рубеже 1950—1960-х годов, совет-
ская музыка заново осваивала опыт Стравинского. Сконцентри-
рованный в русле «новой фольклорной волны», он получил в то
же время более широкую сферу распространения. Поскольку
же Стравинский воплотил (как уже отмечалось) «экстраверт-
ные» потенции русской культуры, ее универсализм и способность
к культурной ассимиляции, то этим определяется мировое значе-
ние развитых им традиций. Эти традиции оказались весьма вну-
шительными и в смысле временной перспективы. Культивируе-
мое Стравинским мышление стилями, воспитанное еще петербург-
ской школой «интерпретирующего кода», определило неокласси-
цизм первой половины столетия, но кроме того, подготовило
полистилистику 1960—1970-х годов.
Впрочем, прямая стилистического процесса, соответствующая
художественной биографии нашего века, с приближением послед-
него к концу все больше склоняется к кругу, спирали. И вот уже
вчерашним днем кажется антиромантическая «объективность»
и охлаждающая рационалистичность письма, равно как и само-
ценность авангардных новаций. Нынешняя волна неоромантизма
актуализировала те идеалы, которым первая мировая война
вынесла, казалось бы, бесповоротный приговор. Активизируется —
не без ностальгической ноты — чувство культурной памяти и свя-
зи времен. Новые импульсы получает «эсхатологическая» поляр-
ность и острота переживаний. Симптоматичен отказ от эстети-
ческой самоценности искусства — если не в плане миропреобра-
зующих утопий, то в плане медитации. Возрождается романтико-
символистский синкретизм — в квазипрограммных симфониях
и симфонических поэмах последних лет. Заново открывается
Скрябин. Из двух полюсов его творчества — «высшей утончен-
ности и высшей грандиозности»— нынешнее поколение музыкан-
тов предпочитает первое. Это неудивительно: скрябинская интро-
спективность, глубокая степень самопогружения и самососредо-
точения оказываются весьма созвучны сегодняшнему модусу чув-
ствования, духу медитативной рефлексии.
Отношение современной культуры к художественным открыти-
ям начала века было, таким образом, далеко не однозначным
и претерпело естественную эволюцию. Неослабевающая, но обна-
руживающая всё новые грани актуальность этих открытий по-
буждает еще раз задуматься об их перспективности, жизнеспо-
собности, а главное — заставляет с достаточной полнотой осмыс-
лить стоящий за ними духовный опыт.
Этой задаче и была посвящена данная монография. Она от-
нюдь не исчерпала всей проблематики русской музыки начала
века. За ее пределами остались некоторые бытовавшие в те годы
164
стилевые тенденции и музыкальные жанры. Еще ждут изучения
такие явления рубежа веков, как возрождение древнерусского
пласта, выразившееся в новом подъеме хорового творчества.
Лишь частично, главным образом, в связи с символизмом, был
задет слой культурного быта. Мы ориентировались на те стороны
русской культуры начала XX столетия, в которых нагляднее всего
проявилась ее динамика — ее переломный характер, .ее полифо-
низм и ее синтетичность. Поэтому в центре внимания оказались
ведущие культурные антиномии, а также те импульсы обновления,
которые имели общехудожественный смысл и обнаруживали жи-
вое соучастие музыки в многоголосье искусств. Думается, благо-
даря этой динамике, этой воистину «удесятеренной жизни» твор-
ческий заряд начала века остается неисчерпанным и по сей день.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение .............................................. 3
Музыкальное творчество и символизм.................. 15
Глава!. Символизм как тенденция культуры . . . 15
Глава 2. Поэзия символизма в романсовой лирике . 41
Глава 3. Скрябин и «младосимволисты» .... 56
«Прекрасная ясность».................................. 73
Глава 4. Предпосылки и симптомы нового класси-
цизма. Хронология н типология . . . . 73
Глава 5. Московские «классицисты» и петербургские
«неоклассики» .......................... 86
Музыка в зеркале мирискусничества и новейших художе-
ственных течений.................................... 115
Глава 6. Новый русский балет как синтетическое
единство................................ 115
Глава 7. Кубофутуризм: музыкальные параллели . 136
Вместо заключения.................................... 161
Левая Т.
Л 34 Русская музыка начала XX века в художествен-
ном контексте эпохи: Исслед.— М.: Музыка, 1991.—
166 с., нот.
ISBN 5—7140—0331—4
Книга представляет собой обобщающее исследование одного нз сложных перио-
дов русской музыкальной культуры. Явлении музыкального искусства автор рас-
сматривает в неразрывной связи с художественной н социально-психологической
атмосферой начала XX века» проводит параллели музыки с поэзией, живописью н
театром, дает информацию о малоизвестных ныне композиторах той эпохи. Во
многом новое освещение получают столь значительные творческие индивидуаль-
ности, как Скрябин, Рахманинов, Метнер, Прокофьев, Стравинский и другие.
Предназначается для музыкантов-спецнвлнстов, студентов музыкальных ву-
зов, а также читателей, интересующнхсн историей отечественной культуры.
4905000000—145
Л ---------------21—91
025(01)—91
ISBN 5—7140—0331—4
ББК 85.31
Исследование
Тамара Николаевна Левая
РУССКАЯ МУЗЫКА НАЧАЛА XX ВЕКА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ
Редактор JC. Кондахчан. Худож. редактор А. Головкина.
Техн, редакторы С Буданова, Т. Сергеева. Корректор Е. Орехова.
ИВ №4072
Подписано в набор 02.04.90. Подписано в печать 17.07.91. Формат 60x901/16.
Бумага офсетная №1. Гарнитура литературная. Печать офсет. Объем печ.л. 10,5.
Усл.п. л. 10,5. Усл. кр.отт. 11,0. Уч.-изд.л. 11,19. Тираж 8000 экз. Изд. №14721.
Зак. № 221. Цена 2 р. 10 к.
Издательство Музыка”, 103031, Москва, Неглинная, 14
Московская типография № 6 Госкомпечати СССР,
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24