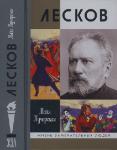/
Автор: Анзикеев В.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран политика история империализм
Год: 1987
Текст
Поле битвы- сердца людей
ИМПЕРИАЛИЗМ
империализм:
События
Факты
Документы
ПОЛЕ БИТВЫ-
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
ЛИТЕРАТУРА,
ИСКУССТВО,
КУЛЬТУРА-
БОРЬБА ИДЕЙ, МИРОВОЗЗРЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987
ББК 83.3Р7 П49
Составитель:
В. Анзикеев
Рецензент:
д-р филос. наук, проф. Р. Яновский
Художник:
В. Дадья
Оформление серии:
А. Бобров
4603010102-031 8?
028(01)-87
© Составление, оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.
Существенная особенность идеологической работы заключена и в том, что она идет в обстановке острого противоборства социалистической и буржуазной идеологий. Буржуазная идеология-идеоло- гия обслуживания капитала и прибылей монополий, авантюризма и социального реванша, идеология общества без будущего. Ее установки очевидны: любыми приемами приукрасить капитализм, прикрыть его природную античеловечность и несправедливость, навязать свои стандарты жизни и культуры; всеми способами очернить социализм, исказить смысл таких ценностей, как демократия, свобода, равенство, социальный прогресс.
Развязанная империализмом «психологическая война» не может квалифицироваться иначе, как особая форма агрессии, информационного империализма, попирающих суверенитет, историю, культуру народов. Это и прямая политико-психологическая подготовка к войне, не имеющая, естественно, ничего общего ни с действительным сопоставлением взглядов, ни со свободным обменом идей, о чем фарисействуют на Западе. Иначе и не могут расцениваться действия, когда людей учат смотреть на любое негодное империализму общество через прорезь прицела.
Конечно, переоценивать влияние буржуазной пропаганды нет оснований. Советские люди достаточно хорошо знают истинную цену разного рода пророкам и пророчествам, хорошо разбираются в подлинных целях подрывных действий правящих монополистических сил. Но забывать о том, что «психологическая война»-это борьба за умы людей, их миропонимание, их жизненные, социальные и духовные 5
ориентиры, не имеем права. Мы имеем дело с искушенным классовым противником, политический опыт которого разнообразен, измеряется по времени веками. Он создал гигантскую машину массированной пропаганды, оснащенную современными техническими средствами, располагающую огромным аппаратом вышколенных ненавистников социализма.
Изворотливости и беспринципности буржуазных пропагандистов должны быть противопоставлены высокий профессионализм наших идеологических работников, мораль социалистического общества, его культура, открытость информации, смелый и творческий характер нашей пропаганды. Нужна наступа- тельность-ив том, что касается разоблачения идеологических диверсий, и в доведении правдивой информации о реальных достижениях социализма, социалистическом образе жизни.
Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза
СЛОВО ПОЛКОВОДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЬЕЙ СИЛЫ
Л. Замятин
БОРЬБА ЗА УМЫ ЛЮДЕЙ
(Стратегия идеологической агрессии США)
1. «Полюсы» социальных систем. Правда о жизни народов. Психологическая война-неизбежность конфронтации?
В современном мире развернулась невиданная за весь послевоенный период по своей интенсивности и остроте борьба за умы людей. Она пронизывает международные отношения, является важнейшим компонентом борьбы различных политических сил на мировой арене.
Идеологическая борьба объективно отражает противоборство двух полярно противоположных мировоззрений, двух противоположных социальных систем-социалистической и капиталистической. Классовая борьба между ними в сфере экономики, политики и, разумеется, идеологии будет продолжаться. Иначе и быть не может, ибо мировоззрение и классовые цели социализма и капитализма диаметрально противоположны и непримиримы. Однако должно ли это политическое противостояние, противоборство идей, экономическое соревнование неминуемо принять форму военного конфликта? Социалистические страны считают, что этого можно и необходимо избежать.
Социалистические страны в своих практических действиях исходят из того, что исторически неизбежная борьба различных общественных формаций должна вестись мирными средствами. Идеологическая борьба между социализмом и капитализмом не должна являться препятствием для развития между государствами, принадлежащими к противоположным социальным системам, нормальных отношений и взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов мирного сосуществования.
Органы информации социалистических государств видят свою задачу в распространении правды о жизни своих народов, показе объективной картины международных событий; им чужды попытки вызвать напряженность в отношениях между государствами, вмешиваться в дела других стран. Такова принципиальная линия Советского государства со времени его создания. «Вся 8
наша политика и пропаганда,-писал В. И. Ленин,-направлена отнюдь не к тому, чтобы втравливать народы в войну, а чтобы положить конец войне»1.
Позиция СССР подразумевает отказ от практики использования внешнепропагандистской деятельности и международной информации для вмешательства во внутренние дела других государств. Она нашла свое реальное выражение в законодательном запрещении Советским Союзом пропаганды войны, расовой или национальной ненависти.
Однако приходится учитывать тот факт, что в последнее время возрос накал идеологической борьбы на международной арене. Это объясняется в значительной степени тем, что империализм сознательно пошел на ее обострение, пытаясь превратить сферу идеологии и пропаганды в плацдарм широкой диверсионной деятельности против социализма.
Средствам массовой информации и печати на Западе поручают играть роль не только пропагандистов империалистической политики, но и прямых организаторов подрывных акций против социализма, координационных и руководящих центров контрреволюционных сил, антисоциалистических элементов.
«Психологическая война» ведется на разных направлениях : против социалистических, развивающихся государств, против национально-освободительных сил и движений. Она нацелена на то, чтобы поставить барьеры на пути прогрессивных изменений в мире, вернуть империалистическим державам роль вершителей судеб народов, нагнетать и дальше международную напряженность, раскручивать гонку вооружений, духовно закабалять миллионы людей.
Противники социализма, враги мира и сотрудничества считают, что политика мирного сосуществования и углубления разрядки ограничивает их возможности открыто вмешиваться в дела народов. Вот почему развязывание «психологической войны» против социалистических стран-опоры политики разрядки-составляет в современной обстановке существенный элемент внешнеполитической стратегии и тактики стран НАТО, особенно Соединенных Штатов Америки. При этом идеологические диверсии перемежаются открытыми призывами к войне против социализма. Современной 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 99.
внешнеполитической пропаганде империализма присущ агрессивный антикоммунистический характер.
Внешнеполитическая пропаганда империализма - это также средство манипулирования сознанием масс в своих собственных странах в интересах монополистического капитала. Она пытается замаскировать агрессивную политику империализма, его антинародную сущность.
Возросшая агрессивность по всем направлениям, включая область идеологической борьбы,-это реакция стратегов империализма как на его поражения в последние годы на фронтах мировой политики, так и на кризисные явления в собственном тылу. Под пропагандистский шум о неизбежной конфронтации с социализмом правящие круги США пытаются отвлечь американское и мировое общественное мнение от углубляющегося экономического кризиса капитализма, обострения социальных противоречий, роста безработицы и нищеты, разгула расизма и откровенно заявляющего о себе неофашизма. Буржуазные идеологи стремятся компенсировать отсутствие у капитализма положительного идеала назойливой рекламой псевдоценностей американского «мира свобод и демократии».
Новым проявлением общего курса мировой реакции на ожесточенную конфронтацию с Советским Союзом и его союзниками, на «уничтожение социализма как общественно-политической системы» стал идеологический «крестовый поход против коммунизма».
2. «Отряды» антикоммунизма. «Глобальная кампания», «крестовый поход», «психическая атака» - риторика клеветы. Проект «истина»-что это?
В идеологическое наступление противник бросает все свои отряды, форсируется процесс интеграции ведущих империалистических держав в антикоммунистической, антисоветской пропаганде. Транснациональные корпорации прибирают к рукам, монополизируют средства информации и печати. Характерным для нынешнего момента является то, что владельцами средств информации становятся корпорации, занятые непосредственно в военно-промышленном бизнесе.
Прямым следствием этого общего для США и других стран Запада процесса является создание наднациональных органов пропаганды в рамках НАТО и Евро-
10
пейского экономического сообщества. Складываются также консультативные институты, такие, как трехсторонняя комиссия (США, Западная Европа, Япония), «Римский клуб», координационный комитет по пропаганде стран НАТО. В Лондоне в присутствии вице-президента США Дж. Буша, премьер-министра Англии М. Тэтчер, канцлера ФРГ Г. Коля и других был создан новый «антисоциалистический интернационал» - «международный демократический союз», объединивший наиболее реакционные партии Западной Европы.
В качестве главной задачи этой «глобальной кампании», объявленной Р. Рейганом в его выступлении в британском парламенте, провозглашено «укрепление инфраструктуры демократии, системы свободной прессы, профсоюзов, политических партий, университетов». На деле же речь идет о новом звене в цепи мероприятий, осуществляемых правящими кругами США по линии идеологических диверсий против свободолюбивых народов, об идейно-политическом и психологическом обеспечении агрессивного внешнеполитического курса США, проводимого в глобальном масштабе. Не случайно, как признают руководители информационного агентства США (ЮСИА), перед ними поставлена задача обеспечить внешнеполитической пропаганде такое «новое качественное развитие, которое поставило бы ее на уровень военных задач обеспечения безопасности Запада».
Выполнением этой задачи активно занялись в последнее время и сами руководители администрации США. Почерпнутые из геббельсовских архивов сентенции о «десяти заповедях Ленина» сменяются залихватскими обещаниями «отбросить коммунизм на пепелище истории», «крестовый поход» против мира социализма прямо трактуется как завещанное «Священным писанием и Иисусом Христом» противоборство со «средоточием зла» в современном мире, каковым, по их утверждениям, является Советский Союз.
Вооружая страну не только оружием, но и идеологией, Пентагон в своей пропаганде навязывает мысль о том, что Америка должна быть полицейским на каждом перекрестке земного шара.
Роджер Мадд, американский телепублицист
12
Подобную риторику можно было бы считать простым повторением никогда не умолкавших в США в послевоенные десятилетия заклинаний ультраправых, если бы не тот факт, что она исходит от тех, кто стоит сегодня у руля американской политики и в этом качестве представляет некоторые весьма характерные для нынешнего этапа воззрения и установки влиятельной части правящего класса США.
Пропагандистская машина Запада наращивает обороты, пытаясь настроить международную общественность в антисоветском духе, вбить в сознание людей стереотипы о советской военной угрозе, «экспансионистских устремлениях СССР», «экспорте социальных революций», в кривом зеркале представить реальный социализм. Насаждаются воинственный национализм, милитаризованный патриотизм и шовинизм. В ход идут все пропагандистские приемы манипулирования общественным сознанием: дезинформация, ложь и клевета, апелляция к различного рода политическим предрассудкам и невежественным представлениям. Это неотъемлемые компоненты «психологической войны», которая стала, по существу, частью военной политики Вашингтона. Она используется как своего рода «психическая атака» на мировое общественное мнение, инструмент давления и нажима на другие страны.
Размах клеветнической антисоветской кампании соответствует масштабам программы милитаризации, осуществляемой Вашингтоном с целью достижения военного превосходства над СССР. Выдвигаемые против нас злобные «обвинения» должны, по мысли их авторов, внушить зарубежной общественности идеи о невозможности не только сотрудничества, но и сосуществования с СССР, социалистическим содружеством, о неизбежности военной конфронтации.
Нельзя сказать, что это проходит бесследно. Согласно опросам общественного мнения в западных странах,
Политика неизбежно вторгается в область поэзии. Они оказываются тесно связанными друг с другом, поскольку как политики, так и поэты имеют дело с одним и тем же, а именно: с человеком, с судьбами людей.
Альберт Каи, американский публицист 13
часть обывателей склонна верить, что главную для них опасность представляет Советский Союз, его Вооруженные Силы. Но неоспоримым фактом является и рост антивоенных, антимилитаристских, а в Западной Европе, в развивающихся странах-и антиамериканских настроений.
Происходящие в последнее время изменения в общественном мнении, прежде всего в странах Западной Европы, в пользу заключения соглашений на женевских советско-американских переговорах по разоружению, растущее сознание губительных последствий милитаристского курса США-факторы, подтверждающие понимание мировой общественностью, откуда в действительности исходит угроза миру. Безудержная гонка вооружений и создание все новых видов оружия массового уничтожения приводят к разоблачению американского подхода к проблеме войны и мира.
Вашингтонская администрация принимает меры к тому, чтобы замалчивать крупные советские инициативы, направленные на обеспечение договоренностей по вопросам разоружения, прежде всего ядерного. Известно немало фактов, когда пропагандистские органы США устраивают многослойный железный занавес- меры по ограничению осведомленности жителей США о нашей политике. Запрещаются и затрудняются контакты с советскими людьми, раздувается антисоветская шпиономания, организуется травля сотрудничающих с Советским Союзом представителей деловых, журналистских, общественных кругов.
Задачам борьбы против советской внешнеполитической пропаганды, оправдания «крестового похода» против СССР, социализма служит проект «Истина», под эгидой которого, начиная с 1981 года, американцы осуществляют почти все антисоветские подрывные идеологические акции. В центральном аппарате информационной службы США-ЮСИА - созданы новые подразделения : специальная группа по наблюдению за советской пропагандой и служба «оперативного реагирования», выпускающая и распространяющая материалы антисоветского содержания, искажающие суть советских мирных инициатив, извращающие советскую позицию по актуальным вопросам международной жизни.
Американскую пропаганду отличает крайняя злобность, стремление любой ценой навязать свое толкование событий на полях идеологических битв. С конца 14
70-х годов американцы осуществили как минимум три крупные подрывные кампании против реального социализма: лживые обвинения в «нарушении прав человека», «причастности СССР к международному терроризму», миф о советском военном превосходстве, «советской военной угрозе».
Небывалая ожесточенность нынешней волны идеологического наступления на СССР и другие страны социалистического содружества объясняется острой реакцией правоконсервативной части правящего класса США на неуклонную эрозию позиций американского империализма в мире, на явственно осязаемый распад «американской империи». На эти негативные для американского империализма процессы на международной арене наложился, тесно с ними переплетаясь, серьезный внутриполитический и экономический кризис, обострение экономических, социальных и расовых проблем.
Еще в ходе предвыборной кампании Р. Рейган обещал сделать основной упор на распространение «идей и идеалов Америки за рубежом». Однако возрождение идеологических догматов примитивного антикоммунизма с соответствующим разделением мира на «силы добра и зла» отражает далеко не примитивные стратегические расчеты американской правящей верхушки по мобилизации усилий империализма США перед лицом неблагоприятных для него изменений в предшествующие десятилетия.
Дело в том, что нынешняя волна пропагандистского наступления США, стержнем которого является миф о «советской угрозе», преследует двоякую цель:
- внутриполитическая задача этой кампании состоит в том, чтобы, создав в стране атмосферу осажденного лагеря, военной истерии, попытаться восстановить политическую стабильность американского общества, насадить дух маккартизма и тем самым сделать невозможным или чрезвычайно затруднить проявления социального недовольства, неизбежного в условиях острейшего за послевоенный период экономического кризиса;
- внешнеполитическое острие гальванизации мифа о «военной угрозе» направлено на то, чтобы, запугивая Западную Европу и Японию мнимой агрессивностью Советского Союза, создать глобальный военно-политический блок от Вашингтона до Токио.
Об этом отчетливо свидетельствуют документы, 15
принятые руководителями семи ведущих капиталистических государств на совещании в Вильямсберге. В декларации этого совещания отчетливо просматривается стремление США подчинить своему военному и экономическому влиянию собственных союзников, добиться от них выделения большей доли бюджета на военные расходы, включить их в новые программы гонки вооружений. США отчетливо проводят свою линию на ослабление конкурентоспособности валют и товаров западноевропейских стран и Японии. Не последнее место в этой политике американских монополий занимает ломка традиционных связей этих стран с Советским Союзом и социалистическими странами (введение эмбарго на торговлю, ужесточение кредитной системы, усиление технологических барьеров). Всему этому в Белом доме хотят придать некий «благообразный» вид: интересы безопасности, борьба с утечкой военной технологии и т. п. Но все это лишь только камуфляж.
Ставшие достоянием общественности сведения о «директиве по национальной безопасности № 75» наглядно демонстрируют, что идеологические догмы нынешней администрации знаменуют собой радикальный отход от идеологических установок большинства послевоенных американских администраций. В этой директиве впервые с трумэновской и даллесовской поры провозглашается в качестве национальной цели американской внешней политики необходимость добиваться военного давления на Советский Союз как способа воздействия на «поведение СССР» на международной арене.
Нетрудно заметить, что данная директива прямо перекликается с основополагающим внешнеполитическим документом периода «холодной войны»-директивой совета национальной безопасности № 68. Этот документ, составленный под наблюдением Д. Ачесона, предусматривал вовлечение СССР в гонку вооружений и его «экономическое изматывание», «интенсификацию тайных операций в области экономической, политической и психологической войны». Переговоры с СССР считались целесообразными лишь с точки зрения «фиксирования постепенного отступления Советского Союза». Директивы рейгановской администрации читаются как прямое продолжение трумэновских.
Восстановление былого военного превосходства США и-соответственно-ломка нынешнего соотношения сил прокламируются Вашингтоном как цель, для 16
достижения которой, по мнению американских политиков, «все средства хороши». Отсюда скачок в ядерном мышлении - от доктрины «сдерживания» до постулата о «допустимости ведения ядерной войны и достижения в ней победы». Отсюда беспрецедентное количественное наращивание фальсификации и дезинформации в используемых против СССР антикоммунистических стереотипах; нынешняя администрация опирается при этом на весь накопленный за послевоенные десятилетия опыт ведения психологических диверсий против мира социализма.
Такой курс американской администрации сопровождается чудовищной дезинформацией, проводимой американскими телевизионными и радиокомпаниями, печатью. Раздувание антисоветизма в США имело неоднозначные последствия. С одной стороны, такая кампания дает возможность администрации поддерживать атмосферу военной истерии в стране, добиться консолидации правых сил на платформе антисоветизма и антикоммунизма.
С другой стороны, налицо усиление антивоенных, антиядерных настроений. Нынешняя политика Белого дома вызвала справедливое чувство страха среди населения США перед реальностью ядерной войны. Не случайно все больше людей задают вопрос: куда заведет США такая политика? Не случайно и то, что в Белом доме начали поговаривать о «гибкости», о «желании развивать контакты с Советским Союзом», демонстрировать «готовность» к переговорам и т. п. Но в этой связи хочется сказать: реальность перспективы определяется не словами, а делами. Проникнутся ли в Вашинг-
Американские средства массовой информации ни на минуту не прекращали свою кампанию против СССР. Газеты, радио и телевидение вдохнули новую жизнь в забытые было стереотипы времен «холодной войны». Советские интересы превратились в «советские замыслы». Сам Советский Союз стал именоваться «советской империей». Обороноспособность СССР превратилась в его «наступательный потенциал».
Майкл Паренти, американский публицист 17
тоне пониманием того, что с Советским Союзом можно вести переговоры только на равных? Многое зависит от этого. «Демонстрировать твердость в отношении коммунистов»-для правых и «гибкость» и «миролюбие»- для успокоения антивоенных настроений - это еще отнюдь не свидетельство желания вести реальные переговоры, снижать уровень военного противостояния.
3. «Суперминистерство» - как это делается. «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа» - деньги и цели.
Теперь о методах пропаганды в США. В отличие от предшествующих послевоенных администраций, при Р. Рейгане антисоветская внешнеполитическая пропаганда возведена в ранг государственной политики.
В Соединенных Штатах функционирует огромный пропагандистский аппарат. При этом на цели внешнеполитической пропаганды ежегодно затрачиваются миллиарды долларов. Идеологическими диверсиями против стран социализма занимается гигантский штат сотрудников пропагандистских служб, в состав которых включены разного рода отщепенцы, выехавшие из социалистических стран, привлечено немало и тех, кто сотрудничал в годы войны с гитлеровцами.
В Вашингтоне появилось пропагандистское, как его называют, «суперминистерство» - специальная группа планирования пропаганды. В группу входят государственный секретарь, министр обороны, директор ЦРУ, директор информационного агентства США, представители Пентагона и ряд других лиц.
Особое место уделяется активизации враждебной подрывной радиопропаганды. Так, на деятельность радиостанций «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа» ассигнования превышают полмиллиарда долларов. Только эти станции вещают 1818 часов в неделю на 45 языках, причем большая часть времени используется для подрывных передач на социалистические страны.
Крупномасштабная реорганизация шропагандист- ской службы США означает, что вашингтонская администрация стремится вести и дальше тотальное, не сдерживаемое никакими ограничениями, содержащимися в международных актах, подписанных президентами США в разные годы, пропагандистское наступление против СССР, других социалистических стран, да и всего мира.
18
Основным объектом идеологической экспансии США в рамках разрабатываемых проектов становятся также развивающиеся страны. Предполагается, например, долговременная, рассчитанная на период до двадцати лет, серия масштабных, щедро финансируемых акций по созданию в развивающихся странах своего рода американской идеологической инфраструктуры.
Новая пропагандистская программа такого рода получила пышное наименование «Программа демократии и публичной дипломатии»; сейчас она находится на рассмотрении американского конгресса.
Государственный секретарь США, выступая в комиссии палаты представителей по иностранным делам, следующим образом конкретизировал некоторые практические аспекты этой амбициозной затеи: «Эта программа предусматривает активное содействие признанию ценностей, в которые мы верим, вместо того чтобы просто сидеть сложа руки, рассчитывая, что люди сами собой признают их».
Обращает на себя внимание и разрабатываемый ныне в недрах специальной группы планирования комплекс мероприятий по обработке представителей так называемой «западноевропейской элиты нового поколения»- учителей, журналистов, руководителей политических партий-с целью создания противовеса усиливающимся антиамериканским настроениям европейской молодежи. Предполагается, в частности, собрать за счет привлечения частных фондов средства для того, чтобы удвоить масштабы молодежного обмена между Европой и США с 15000 до 30000 человек ежегодно, осуществить серию исследований по изучению общественного мнения в западноевропейских странах, учредить постоянные политические семинары, нацеленные на обработку «элиты нового поколения».
Вашингтонские творцы проектов «истина», «демократия», «публичная дипломатия» всячески расписывают «открытый» характер своих идеологических изобретений. Между тем уши ЦРУ, других разведывательных ведомств торчат из всех этих планируемых диверсий. Все, чем занималось в 50-60-е годы ЦРУ и что стало известно в ходе проведенных в прошлом десятилетии расследований его деятельности, предусмотрено новыми идеологическими программами Вашингтона. Подготовкой полицейского и сыскного персонала, проникновением в профсоюзы, партии, студенческие ор19
ганизации, подкупом политических деятелей и партийных функционеров всегда занимались и продолжают заниматься «рыцари плаща и кинжала», только теперь они больше говорят при этом о «негаснущем факеле свободы», «нетленных идеалах демократии», которые Америка несет остальному миру. «Нравится нам это или нет,-выспренно заявил, выступая в Техасе, Р. Рейган,-но судьба свободы и мира возложена на наши плечи». И еще из Рейгана: «Нам следует перестать беспокоиться о том, любит ли нас остальной мир, и решить, что мы заставим уважать себя, как прежде...»
Все это может и впрямь нравиться высшим чинам американской администрации, однако самовольно присвоенная ими роль миссионеров империализма, их попытки навязать силой в сочетании с пропагандистским и психологическим нажимом американские порядки всему миру встречают растущий отпор.
Тотальная пропагандистская война против сил мира и прогресса приобретает при нынешней администрации невиданный географический размах. Прямым объектом идеологической, а зачастую и военной экспансии Вашингтона становятся целые регионы, с поразительным цинизмом объявленные «критически важными для безопасности и процветания США».
В соответствии с обнародованной президентской директивой № 77 по национальной безопасности предполагается серия акций по созданию в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки своего рода пятой колонны из проамерикански настроенных деятелей в политических, деловых, религиозных и научных кругах. Объектом особенно враждебных пропагандистских кампаний становятся прежде всего те государства Азии, Африки и Латинской Америки, которые порывают с зависимостью от империализма и западных монополий и становятся на путь подлинно самостоятельного развития.
Факты последнего времени говорят о том, что империализм все активнее сочетает «дипломатию средств массовой информации» с приемами и методами военнодипломатического шантажа, внешнеполитических провокаций, идеологических диверсий и террористических актов.
Будучи выражением глубокого кризиса империализма, отмечалось на состоявшемся в Москве совещании руководящих партийных и государственных деятелей 20
социалистических стран, антикоммунистический «крестовый поход» на деле служит орудием агрессии против растущих сил мира, демократии и социального прогресса, нацелен на вмешательство во внутренние дела других стран, на разжигание враждебности в отношениях между государствами, еще большее нагнетание международной напряженности.
4. Культ человеконенавистничества; апология ослепления и дезинформации. «Убей русского!»-ядовитые семена пропаганды.
Характер современного идеологического противоборства, идеологическая агрессия империализма, которая используется как средство вмешательства во внутренние дела государств и народов, как орудие массового ослепления и дезинформации, культивирования розни и человеконенавистничества,- все это требует классовой закалки и бескомпромиссной борьбы с буржуазной идеологией.
В решениях ЦК КПСС поставлены основные задачи идеологической борьбы. В них с полным основанием подчеркивается, что нагнетание антикоммунизма и антисоветизма, призванное разжечь ненависть между народами, отвлечь внимание от насущных проблем сохранения мира, не только опасно, но и преступно.
В наш ракетно-ядерный век слепая сила становится опасной. Мне довелось видеть на Таймс-сквер в Нью- Йорке в лавках, где продают всякую несуразицу, развешанные бляхи со словами «убей русского». Это тоже часть американской пропаганды. На кого рассчитанной? На солдатню, которая слоняется в этом районе по вечерам? На молодых подонков, из которых здесь рекрутируют убийц для банд в Анголе, Мозамбике и Афганистане? На всех, кому угар человеконенавистнической пропаганды отравляет сознание? Здесь уместен вопрос к тем, кто сеет повсюду такие ядовитые семена: понимают ли они, что не все им дано и не все они могут?
Осуществляя эскалацию ядерного безумия, нагнетая международную напряженность, раздувая и провоцируя конфликты, вашингтонская администрация проводит политику, которая противоречит жизненным интересам всего человечества, как, впрочем, и национальным интересам подавляющей части американцев. Такой курс не может быть разумной основой реальной политики в наш ядерный век.
Р. Косолапов
«СИЛОЙ РАЗУМА И ЧУВСТВА...»
(Ответы на вопросы «Литературной газеты»)
Год Маркса-Век Маркса. Хлеб истины и камень предубеждения? Теория-руководство к действяо. Протшоречия или недостатки? С чего начтается социализм? «Нельзя, чтоб страх повелевал уму...» «Обычай» рабовладельцев. Пропагандистское пугало машет знаменем «свободы». «Масскульт»-эстетика вседозволенности. «Что есть сущее?- Борьба!»
- Хотелось бы побеседовать с Вами по поводу завершения 1983 года, который был назван в нашем календаре Годом Маркса в связи с исполнившимися 165-летием со дня рождения и 100-летнем со дня смерти Прометея революции.
Известно ленинское высказывание о том, что марксизм как бы вылит из одного куска стали: он сводит воедино объективное познание действительности и сознательное выражение интересов рабочего класса, духовно и политически поднявшегося до роли авангарда освободительного движения.
Ни в коей мере не забывая об этом, мы вправе тем не менее спросить, что определяет движение марксистской мысли в наше время, что характерно для марксистской постановки вопросов общественного развития сегодня.
- Вы весьма кстати напомнили одну из самых емких и ярких ленинских характеристик марксизма, признаюсь, особенно дорогую мне лично. Марксизм как бы вылит из одного куска стали не только потому, что сводит воедино объективное знание о мире и сознательное выражение интересов рабочего класса, всех трудящихся, но и потому, что представляет собой единую систему революционных взглядов, складывающуюся из трех составных частей-диалектико-материалистической философии, пролетарской политической экономии, научного социализма (коммунизма).
Марксизм-это не склад механически подобранных сведений из разных областей человеческой деятельности, не гербарий засушенных догм или же собрание пожелтевших от времени рецептов, а динамично функцио22
нирующий, всегда молодой мировоззренческий организм, обладающий высокоразвитой избирательной способностью, активно ассимилирующий лучшие достижения человеческого разума и решительно отторгающий все чужеродное, несовместимое с его теорией и методом, с его высокой миссией в освободительном движении. Он непримиримый враг какого бы то ни было эклектизма, половинчатости, неопределенности и требует везде и во всем осуществлять строго выдержанный классовый подход, четкую методологическую дисциплину мысли, подлинно объективную оценку действительности.
Считаю уместным сказать Вам об этом потому, что и поныне встречаются авторы, либо неосознанно допускающие в своих трудах взаимоисключающие утверждения, либо-со ссылкой на мнимую объективность - ставящие на одну доску истину и сомнительный вывод. Но можно ли говорить об объективности там, где суждение, искажающее действительность, считается, по сути, столь же правомерным и допустимым, как и суждение, ей соответствующее? И можно ли доверять специалисту, который не понимает, что он кладет в руку человека, жаждущего знания: хлеб истины или же камень предубеждения,-да еще и выставляет это как свою добродетель? Марксизму по самой его природе чужды подобные явления. Он всегда относился к истине как к высочайшей ценности, а переводя это отношение в нравственную сферу, всегда утверждал безукоризненную честность. Честность перед наукой, перед массами и перед историей.
Марксизм максимально точен и ювелирно тонок в своем анализе. Он беспощаден к любой фальши и нелогичности, неизменно последователен в своих заключениях. Поэтому только недоумение могут вызывать попытки изъять из употребления те или иные тезисы марксизма отнюдь не потому, что они устарели, а лишь на том зыбком основании, что они-де «раздражают» некоторых людей. Мало ли что кого раздражает! Истина никогда не принадлежала к десертным блюдам и довольно часто воспринималась кое-кем с негодованием. Разве она утрачивала от этого свои достоинства? На Западе можно встретить немало личностей, выходящих из себя при упоминании одного только термина «марксизм-ленинизм». Буржуазия давно и с завидным старанием пытается вытравить из общественного лексикона 23
термин «классовая борьба». Попадаются гневающиеся в адрес терминов «пролетариат» и «диктатура пролетариата»... Но никогда подобные чувства не могли быть аргументом в серьезном споре.
Что определяет движение марксистской мысли в наше время? У этого движения есть по меньшей мере два источника. Во-первых, это бурный прогресс научного познания, постоянно пропускаемый через тигель диалектико-материалистической методологии. Во-вторых, это необычайно расширившаяся по сравнению с временем, когда жил Маркс, практика социального обновления мира, то есть классовой борьбы труда против капитала, национально-освободительного движения, социалистического и коммунистического строительства, борьбы сил мира и прогресса против сил реакции и войны.
Подлинный марксизм не знает и не признает так называемой «чистой теории». Любые его, даже самые отвлеченные фундаментальные положения, сколь бы удаленными от непосредственно практической сферы они ни казались, практичны по существу, в конечном итоге «работают» как инструменты революционного действия. «Чистая теория», если с нею и приходится встречаться еще в нашем обществоведении,-это, увы, по большей части то самое схоластическое теоретизирование, которое давно осуждено партией. Подобно тому как жизненность марксистской теории постоянно поддерживается ее практичностью, марксистская практика жизненна благодаря тому, что она руководствуется научно-революционной теорией. Следование этому принципу насущно необходимо при постановке и решении вопросов общественного развития в наши дни. Интенсификация производства, ускорение экономического и социального развития страны с необходимостью требуют и интенсификации работы творческой теоретической мысли. Признаемся откровенно, мы все еще миримся с консерватизмом, инертностью, бесплодием многих обществоведов, делаем ненужные поправки на отжившее свое авторитеты, слабо боремся с академическим угодничеством, хотя все это принципиально несовместимо с интересами социализма.
- Положение «марксизм-не догма, а руководство к действию» стало классическим. Думаю, Вы не обвините меня в упрощенчестве, если я скажу, что во многом именно благодаря этой «рабочей формуле» сторонники 24
нового революционного учения обеспечили рождение социализма и его, по выражению Маркса, «жизнеспособность».
- Да, Вы правы.
Самым сложным, гигантски трудным для любого революционера делом является «перевод» им своей теории, собственных убеждений и устремлений в практику, воплощение их в действительность. Как известно, что- либо подобное никому до большевиков не удавалось. История многих стран знала цельных, мужественных людей, готовых во имя революции пойти на плаху, но даже самые удачливые из них были вынуждены довольствоваться лишь частичным осуществлением своих целей и чаще всего гибли, если настаивали на полном претворении своих идеалов в жизнь. До того качественного изменения исторического процесса, которое обеспечивается соединением марксизма с рабочим движением и получает наиболее полное выражение в создании социалистического строя-первой сознательно регулируемой общественной системы, иначе и не могло быть. Как раз сознательное регулирование и коммунистически направленное развитие общественных отношений при неизменной опоре на творческий марксизм и обеспечивает исключительную жизнеспособность социализма. И доныне сохранили всю свою ценность указания Ленина: «Назначение наших теоретических взглядов состоит в том, чтобы руководить нами в нашей революционной деятельности. Лучшим местом для проверки наших теоретических взглядов является поле боевой деятельности. Подлинная проверка для коммуниста-это его понимание (как), где и когда превращать свой марксизм в действие» L
К сожалению, новейшая история знает и такие примеры, когда недооценка марксизма (зачастую из-за слабого знакомства с ним) в качестве руководства к действию или же превращению его исключительно в объект ритуального славословия становились причинами серьезных политических просчетов некоторых братских партий. Такие же результаты порой давали попытки довольствоваться только марксизмом, изложенным в популярных учебниках, либо применять лишь отдельные его положения. Именно в подобных случаях, по словам Ленина, «мы делаем марксизм односторонним,
1 Ленинский сборник, XXXVII, с. 249. 25
уродливым, мертвым, мы вынимаем из него его душу живу, мы подрываем его коренные теоретические основания-диалектику, учение о всестороннем и полном противоречий историческом развитии; мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут меняться при каждом новом повороте истории»1. Именно поэтому задача по возможности разностороннего марксистского образования и самообразования, рассматриваемая как одно из важнейших условий успешной революционной практики, никогда не будет снята с повестки дня.
- Противоречия исторического развития при социализме, надо заметить, носят особый характер. Они, как и вообще большинство недостатков, считал Ленин, неизбежны в первой фазе коммунистического общества, «которое только что вышло на свет божий из недр капитализма, которое носит во всех отношениях отпечаток старого общества...»2. Как с этой точки зрения выглядит, на Ваш взгляд, диалектика развития социализма на современном этапе?
- Тут я вынужден с Вами поспорить. Вы относите противоречия к числу «недостатков» да еще ссылаетесь при этом на Ленина. Однако это неточная интерпретация. На самом деле противоречия в такой же мере недостатки, как и достоинства. Без противоречий, учит марксизм-ленинизм, немыслимо развитие. Как раз благодаря им постоянно воспроизводится необходимый импульс самодвижения общества ко все новым рубежам социального прогресса. Так что противоречия неизбежны и будут играть позитивно-творческую роль не только в первой, но и во второй фазе коммунизма. Вопрос в другом-в том, какие из противоречий Вы имеете в виду.
Судя по всему, Вы затронули только один вид противоречий при социализме-противоречия, связанные с тем, что новое общество рождается из старого. Такой вид противоречий действительно заметно дает знать о себе. Это противоречия, вызываемые живучестью частнособственнических пережитков, противоречия между социалистическим образом жизни и ростками коммунизма, с одной стороны, и «родимыми пятнами» капитализма, «коростой» буржуазности и мелкобуржуазно1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 84.
2 Там же, т. 33, с. 92.
26
сти-с другой. Они и впрямь могут быть связаны с недостатками в утверждении принципов коллективизма, в развитии социалистических общественных отношений и др.
Но есть и другой вид противоречий, которые можно назвать противоречиями самого социализма, ибо они возникают на его собственной основе, без непосредственного влияния капиталистического, как и любого иного частнособственнического уклада. Это прежде всего противоречия между старым и новым, порожденные развитием собственной природы новой общественной системы, между ростом сознательности и стихийными тенденциями в жизни общества. Как Вы, наверное, догадываетесь, этот второй вид противоречий пока что изучен гораздо меньше, чем первый, и тут есть о чем поразмыслить, причем не только нашим обществоведам, но и литераторам.
Можно ли, однако, кое-какие противоречия прямо отнести к недостаткам? Мне кажется, можно. Но это всегда противоречия, вытекающие не из объективного положения вещей, не неизбежные для нашей системы, а вызываемые субъективными промахами, ошибками и неправильными оценками, которые приводят к тому, что неумело используются богатейшие преимущества социализма, допускаются материальные и моральные издержки, не вскрываются и не включаются в дело большие резервы.
Попытка относить все противоречия социализма к его недостаткам, на мой взгляд, антидиалектична по своей сути, и она, увы, не нова. Эта попытка либо выдает утопическое желание иметь общество, избавленное от каких бы то ни было коллизий, управляемое без каких-либо серьезных усилий и не знающее забот, бесконфликтное и беспроблемное, либо, напротив, свидетельствует о стремлении опорочить социализм по той простой причине, что он не создает условий райского идиллического бытия. Против подобных воззрений выступает вся социальная практика. Марксисты никогда не страшились противоречий, а, наоборот, всегда шли им навстречу, трезво их анализировали, боролись за их своевременное разрешение. Они считали для себя недопустимым уклоняться от трудностей общественного развития, прятаться под сенью спасительных фраз, призванных оправдать пассивность в борьбе. Более того, Ленин утверждал, что «работа марксистов всегда «труд27
на», и они отличаются от либералов именно тем, что не объявляют трудное невозможным. Либерал называет трудную работу невозможной,-подчеркивал Ленин,- чтобы прикрыть свое отречение от нее. Марксиста трудность работы заставляет стремиться к более тесному сплочению лучших элементов для преодоления трудностей» L
Вы правильно заметили, что противоречия исторического развития при социализме носят особый характер. Это выражается в том, что такие противоречия при научно осознанном подходе к ним утрачивают черты социального антагонизма. Ведь теперь уже нет классов с непримиримыми интересами и общество состоит из одних трудящихся, далеко продвинулось по пути достижения полного социально-политического и идейного единства.
Означает ли это, что в нем изжиты конфликты, исчезли причины столкновения интересов и мнений?
Конечно же, нет.
Во-первых, отдельные носители пережитков буржуазного прошлого могут вступать в антагонистическое отношение с обществом в целом, но этот антагонизм носит теперь не социальный, а индивидуальный характер.
Во-вторых, если не подходить к неантагонистическим противоречиям сознательно и не разрешать их вовремя,-а такое иногда случается,-они могут приобретать конфликтную форму, именно по форме напоминая давнишний антагонизм.
Что же касается тех противоречий, которые естественно и нормально возникают на собственной весьма подвижной базе социализма, то они, на мой взгляд, связаны с необходимостью постоянной замены отживающих, ветшающих, мешающих дальнейшему прогрессу общественных форм, хотя те и неплохо послужили на пройденных уже этапах нашего строительства, формами потенциально более сильными, динамичными, способствующими нашему дальнейшему движению вперед.
Вы можете мне сказать, что эти старые формы порождены все же новым строем и к ним надо относиться бережно. И с таким суждением нельзя не согласиться. Оно справедливо в том отношении, что предостерегает от исторической бестактности, от действий сгоряча, от
1 Ленин В. И. Поли. собр. сон., т. 24, с. 24. 28
непродуманных упразднений и реорганизаций, от решений скорее по наитию, чем по науке. Это истина, но еще не вся истина. В то же время мы как коммунисты не вправе не вслушиваться в то, что Александр Блок называл музыкой мирового оркестра, в вечно беспокойный зов критически-бдительной диалектики. Вряд ли допустимо забывать, что наш строй возник не вчера, а существует уже седьмое десятилетие. Исключительные жизнестойкость и перспективность его основ глубоко и всесторонне доказаны самой историей. Однако из этого вовсе не вытекает, что буквально все, что имеет, так сказать, социалистическое происхождение, так же как эти основы, выдерживает испытание временем. Не только борьба против пережитков капитализма в сознании и поведении людей, но и борьба социалистической нови с тоже социалистическим, но устаревшим, испытание этой нови на зрелость и коммунистичность-вот наиболее характерные черты нашей социальной действительности.
И еще одно замечание. Все, что говорилось до сих пор о противоречиях при социализме, относится к уже построенному социалистическому обществу. Тут недопустимы какие-либо двусмысленности. Этот вопрос качественно по-иному рассматривается применительно к обществу переходного периода с многоукладной экономикой, включающей ряд секторов, в том числе мелкотоварный и даже капиталистический. Как показал опыт, в братских странах, где еще не завершено построение основ социализма и не решен окончательно вопрос «кто кого?», временами возможно известное обострение классовой борьбы. Не вызывает сомнения и действие там, хотя и в определенных ограниченных сферах, социального антагонизма. Все эти условия принципиально непереносимы на общества, оставившие позади переходный период. Иначе будет нарушен марксистско- ленинский конкретно-исторический подход. Я говорю об этом потому, что подобные ошибки уже допускались.
- Если выделить в теории социализма самые важные на сегодня вопросы, то в число таковых наверняка попадут «новое отношение к труду» и «природа товара в новых социальных условиях». Вы писали, помню, что под предлогом того, будто в XIX веке нельзя было предвидеть конкретных черт социализма, нередко делаются заявления по поводу «несовпадения» глубоких 29
замечаний Маркса и Энгельса о судьбе товарного производства в новом обществе с практикой социалистического строительства.
Насколько совпадают социально-экономические прогнозы основоположников марксизма с социалистической действительностью? Я бы даже добавил: всегда ли мы помним экономическую азбуку марксизма? точно ли выполняем его социальные установки?
- Вы ставите здесь не один, а три вопроса. И на первый из них я со своей стороны ответил бы тоже вопросом. А какой отрезок исторического пути Вы имеете в виду, сколь длительный и сколь содержательный период социалистического и коммунистического строительства рассматриваете? Делаю я так потому, что совпадение прогнозов с действительностью, о котором Вы говорите, по-разному выглядит на разных этапах нашего продвижения к коммунизму. Вместе с тем общим правилом может быть признано следующее: при правильной, научно-революционной политике с течением времени постепенно нарастает сходство основных черт нового общества с предвидением классиков марксизма- ленинизма.
Но бывают ли отклонения? Да, бывают, и они объясняются по меньшей мере двумя обстоятельствами: во-первых, встречающейся пока непоследовательностью в претворении в жизнь марксистско-ленинского учения, отходом от него в тех или иных аспектах; во- вторых, менее быстрым, чем это виделось сквозь даль десятилетий, и вместе с тем относительно неравномерным осуществлением некоторых преобразований. Дает о себе знать также довольно типичное желание иметь на сегодняшний день куда более совершенное социалистическое общество, чем это возможно при наличных социально-экономических условиях, и связанное с таким желанием преувеличение достигнутого.
Приведу конкретный пример. Прежнее польское руководство провозгласило 70-е годы исторической полосой построения развитого социализма, в то время как в Польше не были еще решены проблемы предшествующего, переходного периода. Можно ли было ожидать успеха при подобной исторической торопливости и сбивчивости? Теоретически уже с самого начала на этот вопрос давался отрицательный ответ. Но теорию не стали слушать, как это еще, к сожалению, случается, и получили тяжкий практический результат. Сказалось зо
забвение прежде всего азбучной истины марксизма, что «только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом»1. Теория от этого не пострадала, но нашему общему делу был причинен значительный ущерб.
Таким образом, я уже стал отвечать на Ваши вопросы: всегда ли мы помним экономическую азбуку марксизма? точно ли выполняем его социальный наказ?
Взять, например, известное ленинское положение о том, что социализм есть преодоление товарного производства. Оно прямо вытекает из содержания всего Марксова наследия. Это положение можно замолчать, можно объявить принадлежащим прошедшей эпохе, но оно все равно будет задевать совесть честного исследователя. Отрицать его может только тот, кто ожидал подобного преобразования с сегодня на завтра: ложился спать при наличии товарного производства, а проснуться надеялся, когда его и след простыл...
Но разве так совершается реальная история? Ее «технология», конечно, включает резкие скачки, но они практикуются главным образом в политической сфере, где по самой природе вещей возможны быстрые перестройки. Что же касается производственных, всей совокупности общественных отношений, то тут она «работает» длительными многоплановыми, основательными и громоздкими процессами. И это в полной мере относится к судьбам товарного производства.
Обратимся к другим азбучным истинам марксизма.
С чего начинает социализм? С того, что изымает рабочую силу с товарного рынка, ликвидирует ее куплю- продажу. Трудно не увидеть в этом революционный поворот, значение которого пока что недооценивается в экономической науке. Трудно не признать это началом конца товарного производства.
Вместо самовозрастания стоимости, являющегося целью капиталистического производства, получения максимальной прибыли, к которой стремятся каждый капиталист, корпорация, монополия, при социализме целью производства становится сам человек с его растущими и возвышающимися материальными и духовными потребностями. И вполне логично, что на первом
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 138.
31
плане теперь оказывается не только и не столько стоимость, хотя без нее с точки зрения обеспечения рационального хозяйствования и не обойтись, сколько потребительная стоимость, конкретная полезность производимого продукта. Неужели это не меняет всю систему координат? И хотя товарное производство в ряде аспектов все еще себя не исчерпало, а денежно-стоимостные регуляторы и стимуляторы пока ничем не заменить, акценты в экономике решительно смещаются. Ныне явно недостаточно, как это делали некоторые авторы в прошлые годы, без конца абстрактно призывать ко всемерному развертыванию товарно-денежных отношений, избегая между тем скрупулезно точного определения их изменившегося содержания («природы товара в новых социальных условиях», как говорите Вы), не учитывая ограничения, налагаемого на них нетоварным характером рабочей силы, общественной собственностью на средства производства, плановым характером экономики; уклоняясь от обязательного уточнения и позитивных и негативных возможностей, сфер и рамок полезного применения этих отношений в новой общественной системе. Прошу понять меня правильно. Никто не заинтересован искусственно ускорять процесс изживания товарно-денежных отношений-так относиться к естественно-историческому процессу недопустимо,-речь идет лишь о том, чтобы не впадать в другую крайность-в лишенный духа диалектики безоглядный товарно-денежный «романтизм»...
Возьмем частный пример: сложившуюся ситуацию с отставанием производительности труда от роста денежной заработной платы, с пресловутым дефицитом, который возник и из-за того, что массе денежных средств, скапливающейся у населения, все еще не противостоит равноценный поток предметов потребления. Можно ли, не греша перед истиной, утверждать, что эта ситуация не содержит в себе возможности стихийного, неконтролируемого воздействия «свободных» денег на плановое хозяйство? И можно ли кого-либо убедить, что ориентация некоторых хозяйственников по преимуществу на стоимостные результаты производства-при очевидном пренебрежении его натуральными показателями - не усиливает тот же дефицит?
В центре внимания социалистического общества находится человек труда, его всестороннее гармоничное развитие. Чем «отоваривается» это внимание со сто32
роны общественного производства? Определенной совокупностью материальных и духовных благ-потребительных стоимостей, наращиванием их массы, о достаточности которой для общества бывает весьма трудно судить по ее стоимости. Это тоже азбука марксизма. Вместе с тем основными отчетными показателями у нас длительный период являлись показатели стоимостные- рубли, по сути неспособные отразить натуральный состав произведенного продукта, а значит, и не дающие должной информации о том, в какой мере этот продукт может удовлетворить общественные потребности. Достаточно бывало простого повышения цен, чтобы «благополучной» статистической картиной деятельности предприятия прикрыть недодачу им необходимых советским людям предметов потребления. Не случайно партия в последние годы отводит этой стороне дела первостепенную роль.
Давно пора признать потребительную стоимость ведущей экономической категорией при социализме, разумеется, не только декларируя это, но и рассматривая потребительную стоимость во всех ее реальных связях и опосредствованиях. Такой шаг тем более назрел, что отговорки по данному поводу в том смысле, что-де Маркс считал потребительную стоимость категорией не политической экономии, а товароведения1, опровергал сам Маркс. «...Только vir obscurus2, не понявший ни слова в моем «Капитале»,-писал он в замечаниях на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии»,-может заключать: так как Маркс в одном примечании в первом издании «Капитала» отвергает всю вздорную болтовню немецких профессоров насчет «потребительной стоимости» вообще и отсылает читателей, желающих знать что-либо о действительных потребительных стоимостях, к «руководствам по товароведению», то потребительная стоимость не играет у него никакой роли...
Если приходится анализировать «товар»-эту простейшую экономическую конкретность,-пояснял далее Маркс,-то надо оставить в стороне все отношения, не имеющие ничего общего с данным объектом анализа. Поэтому то, что следует сказать о товаре, как потребительной стоимости, я сказал в немногих строках, а с другой стороны, я подчеркнул характерную форму, в 1 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 44.
2 Темный муж-Ред.
33
2. Поле битвы-сердца людей
которой здесь выступает потребительная стоимость, продукт труда... Благодаря этому потребительная стоимость-как потребительная стоимость «товара»-сама обладает специфически историческим характером»1. О специфически историческом характере потребительной стоимости при социализме, принципиально ином, чем при капитализме, и ведется мной речь. В противовес капиталистическому производству Маркс считал возможным производство, которое являлось бы «лишь средством для удовлетворения потребностей производителей, таким производством, в котором господствовала бы только потребительная стоимость»2. К этому-то производству и делаются сейчас решительные шаги.
В точном соответствии с тем, чему учил нас Маркс, необходимо строжайшим образом спрашивать с наших хозяйственников прежде всего за материально-вещественное содержание того, что произведено, то есть за выполнение плана по номенклатуре, и за качество изделий, которое у нас фиксируется их сортностью, при безусловном соблюдении общественно необходимых нормативов затрат. Таково требование теории и времени. Ничего мистического и невозможного при нынешней оснащенности народного хозяйства электронно-вычислительной техникой в этом требовании нет. Следовало бы более критично относиться к всевозможным рассуждениям на тот счет, что, мол, задача выработки натуральных показателей и агрегирования их со стоимостными чрезвычайно трудна. Надо не живописать трудности, а преодолевать их. Как писал любимый Марксом Данте:
Нельзя, чтоб страх повелевал уму; Иначе мы отходим от свершений...
Не может, разумеется, быть предана забвению и коммерческая, количественная сторона дела, ибо только она дает нужное представление о текущей рентабельности производства, которое должно быть прибыльным или же по меньшей мере безубыточным. Экономистам предстоит твердо решить, на какие показатели тут опи1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 384-385.
2 Там же, т. 26, ч. III, с. 50.
34
раться, имея в виду, что общество заинтересовано в снижении себестоимости и повышении производительности труда, соблюдении нормативов по экономии и, что рекомендовал еще Ленин, в применении «index-number (число-показатель) для оценки состояния всего нашего народного хозяйства...»1.
Но мы с Вами сильно увлеклись азбучными истинами марксизма...
- Многие беды цивилизации, считает, к примеру, читатель «ЛГ» Я. Л. из Владимирской области, проистекают от того, что производственные отношения отстают от развития производительных сил, и происходит это, по его мнению, когда научно-техническая революция в тех или иных странах опережает «социальную революцию в глобальном масштабе».
Что можно сказать по этому поводу?
- Полагаю, что в утверждении Я. Л. есть большая доля истины. Та гонка ракетно-ядерных вооружений, которую навязывает миру американский империализм, создавая угрозу новой мировой войны, есть не что иное, как капиталистическое использование результатов научно-технической революции, процесс, свидетельствующий о превращении тем самым производительных сил в силы разрушительные. При этом Запад даже не пытается скрывать свои контрреволюционные, антикоммунистические замыслы. Объявленный Рейганом «крестовый поход» против реального социализма объясняется намерением перехватить политическую инициативу и предотвратить смену буржуазных производственных отношений, которой объективно требуют современные производительные силы, социалистическими. Засасываемый пучиной своего общего кризиса, капитализм становится особенно опасным. Во времена глубокой древности рабовладельцы и феодальные владыки, умирая, завещали хоронить с собою своих жен, слуг и рабов. В наши дни капитализм, уходя с исторической сцены, готов унести с собой все живое на Земле. Вот какой грозной реальностью оборачивается для современного человечества отставание производственных отношений от производительных сил.
- В канун 60-летия СССР «Литературная газета» завершила цикл бесед с партийными и государственными руководителями союзных республик по проблемам со1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 122-123.
35
вершенствования социалистического образа жизни. Очень актуальная, на наш взгляд, тема.
Мы много говорим сейчас о том, что сделать социалистический образ жизни естественной повседневной потребностью людей-одна из наших главных целей. Как бы ни была сложна связь между развитием экономических и политических структур и изменениями в образе жизни, последнее остается, принято считать, самым существенным для исторического развития.
Какова на этот счет точка зрения марксизма?
- Эти беседы читались с повышенным интересом и являются несомненной творческой удачей газеты.
Самым существенным для исторического развития-а вернее, его содержанием - все же является подъем производительных сил и приведение в соответствие с этим производственных отношений. Таковы всеобщие условия любых крупных социальных изменений, в том числе и в образе жизни.
Мне не хотелось бы вдаваться в трактовку данного понятия. Об этом очень много спорили в 70-х годах. Скажу только, что об образе жизни народов, классов, социальных групп, семей и индивидов подчас невозможно судить, оперируя лишь общими категориями. В конечном итоге образ жизни есть не что иное, как определенный, обусловленный многими факторами и связанный с реальными жизненными условиями, типичный способ жизнедеятельности. А жизнедеятельность в своем фактическом выражении есть всегда жизнедеятельность конкретных людей. Не принимая этого во внимание, можно много и красиво рассуждать об образе жизни вообще, но так и не связать его с жизнью, как она есть. В таком понимании образ жизни обладает и всеобщими характеристиками, ведущими свое происхождение от определенного уровня производительных сил, от экономического базиса и соответствующей ему политической, юридической и идеологической надстройки, и характеристиками среднего уровня (особенными), специфичными для той или иной социальной (прежде всего классовой), национальной и региональной общности людей, и, наконец, индивидуальными (единичными) характеристиками, поскольку ведет данный образ жизни все же прежде всего индивид.
Извините меня за, может быть, излишне абстрактное рассуждение, но оно необходимо для уяснения вопроса. Указанная «ступенчатость» образа жизни объяс36
няет, почему создание всеобщих условий социалистического бытия лишь со временем доводится до создания его индивидуальных условий, почему при коллективистском строе попадаются еще (и в немалом числе) индивидуалисты, почему при социализме встречаются лица, ведущие, увы, не социалистический образ жизни. Отсюда вытекает, что свершение социалистической революции, построение основ социализма или же, к примеру, развитого социалистического общества, меняющие в первую очередь всеобщие характеристики общественного бытия и общественного сознания, требуют вместе с тем достройки, если хотите-отделки, нового строя во всех этажах общественной жизни, должны коснуться, как теперь модно говорить, всех «экологических ниш». А это и означает, по Марксу, «изменить снизу доверху все условия своего промышленного и политического существования, а следовательно, и весь свой образ жизни»!. И требует сил и времени. Эта задача отчасти и подразумевается формулой «совершенствование социализма».
- По сей день в немарксистской литературе, посвященной актуальным проблемам современности, кочует миф об антиличностном характере марксизма, невозможности создать в рамках марксизма-холодной, отвлеченной от человека теории - подлинно гуманистическую и реалистическую концепцию социального развития.
- Вы упомянули, пожалуй, наиболее типичное социологическое и пропагандистское пугало буржуазии. Ей во что бы то ни стало хочется соорудить ледяную стену отчуждения между марксизмом и отдельным конкретным человеком. И в основу этого кладется обычная
Истинный социализм тем-то и замечателен, что весь он в движении, в бурном развитии, в пути, что в нем нет места застою, неподвижности, самоудовлетворенности; напротив, всюду кипит борьба, идет поиск новых решений, новых форм сотрудничества, новых методов солидарности.
Петер Шютт, западногерманский поэт, публицист
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 162. 37
в подобных случаях передержка. Между тем марксизм никак не антиличностен-он антииндивидуалистичен, а это далеко не одно и то же. Точка зрения буржуазного индивидуалиста, много раз менявшая свои словесные облачения, на протяжении веков оставалась одной и той же: было бы хорошо мне, а там пусть погибает мир. И тому можно привести массу доказательств. Точка зрения марксиста, то есть сознательного труженика, стоящего на классово-пролетарских позициях: освобождение массы есть условие освобождения личности; личность не может не страдать, не ощущать себя ущемленной, если хоть в малейшей степени угнетена масса; свободное всестороннее развитие каждого есть условие всестороннего свободного развития всех.
Социалистическая революция для Маркса, как потом и для Ленина, была не завершением, а лишь отправным пунктом, кардинальным объективным условием разрешения накопившейся веками гуманистической проблематики во всей ее полноте, достижением того состояния общества, когда задача свободного развития каждого, становления личности в массе становится со всех точек зрения реально выполнимой.
Буржуазные идеологи предпочитают, как правило, изолированного обеспеченного индивида, самодовольного или вконец запуганного, этакую рыбку в аквариуме, обывателя с собственным противоатомным бункером, рассчитывающего выжить безотносительно к судьбе всех остальных. И это именуют человеколюбием. Марксисты, напротив, формируют сознание индивида, как открытое для восприятия чувств и чаяний, страданий и надежд людей труда, народов всего мира. Не клевета ли говорить после этого о марксизме как о холодной, отвлеченной от человека теории?
Помните, у Владимира Маяковского: Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди видят замурованного в мрамор, гипсом
холодеющего старика.
38
Но когда революционной тропкой первый
делали
рабочие шажок, о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс и мысль свою зажег!
Ничего подобного поэт не мог бы сказать ни об одном из буржуазных мыслителей.
- В свете этого напрашивается другой вопрос: о правах и свободе личности при социализме и при капитализме. Причем отдельно хотел бы попросить Вас сказать о политических факторах освобождения труда и роли законов как гарантов прав человека.
- Ленин еще в 1919 году предсказал, что капитализм «против нас выдвинет знамя свободы»1. И не потому, что победивший в революции пролетариат не освобождает массу трудящегося населения, а потому, что освобождение массы трудящегося населения ущемляет свободу буржуазии. Речь идет, таким образом, не о свободе вообще, а о буржуазной свободе, связанной со свободой частной собственности и эксплуатации труда. Не случайно Ленин тогда же заявил: «Свобода, нечего говорить, для всякой революции, социалистической ли или демократической, это есть лозунг, который очень и очень существен. А наша программа заявляет: свобода, если она противоречит освобождению труда от гнета капитала, есть обман»2.
Думаю, что если бы мы более разносторонне, наступательно и в яркой публицистической форме пропагандировали марксистско-ленинское понимание свободы, это дало бы большой идейно-политический эффект. Ведь что получается. С легкой руки Картера против нас ведется оголтелая, беспардонно лживая кампания о нарушении «прав человека» в Советском Союзе и других социалистических странах. Это «нарушение» стало пропагандистским стереотипом, хотя за ним, если вглядеться внимательно и непредвзято, просматривается 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 347.
2 Там же, с. 346.
39
весьма убогое содержание. Что тут имеется в виду? Регламентирование государственными органами выездов за рубеж, которое существует во многих странах мира... Претензии нескольких десятков непризнанных «гениев», зачастую просто психически не уравновешенных личностей... Эксцессы, которые они время от времени устраивают... И вот эти-то примерчики, носящие всякий раз сугубо частный характер, бессовестно используются для характеристики нашей общественной системы в целом. При этом буржуазии в известной степени удается создать камуфляж вокруг грубого и массового подавления прав человека у себя дома. Вот где непочатый край нашей пропагандистской и контрпропагандистской работы.
Идеологический противник упорно не желает считаться с принятыми у нас традициями и нормами социалистической законности, нагло пытается учить нас жить в соответствии с буржуазными мерками и стандартами. И это вызывает бурный протест у советских граждан, обладающих развитым сознанием нашего социалистического первородства, настоящих патриотов и интернационалистов. Тут нам не в чем оправдываться и не из-за чего «комплексовать». Наше право носит классовый характер, оно представляет собой возведенную в закон волю людей труда. Советские законы по самой своей природе не являются репрессивными мерами против свободы, а, напротив, в своей совокупности составляют, как говорил Маркс, «библию свободы народа»1. И их претворение в жизнь есть одно из важнейших условий поддержания социалистического образа жизни. В этом мы видим гарантию прав человека в том виде и с того момента, как они стали утверждаться Октябрьской революцией.
- Чем шире будет связь государства с обществом, чем дальше и глубже распространится в обществе государственный интерес, тем более редким явлением станут эгоизм, аморальность и ограниченность. Это мысль Маркса.
Позже Ленин указывал: «Чем больше размах, чем больше широта исторических действий, тем больше число людей, которое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и 1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 63.
40
сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов»1.
Наша партия постоянно подчеркивает необходимость дальнейшего развития социалистической демократии в самом широком ее смысле, то есть все более активного участия трудящихся масс в управлении государственными и общественными делами.
Как можно было бы прокомментировать преемственность этой задачи?
- Задача эта, можно сказать, стержневая для всего процесса социалистического и коммунистического строительства. Без постоянного и всемерного развития социалистической демократии не может нормально функционировать ни одна из сфер нашей общественной системы.
Возьмем хотя бы общественную собственность на средства производства, в противовес частной собственности демократическую по существу. Разве ее общественная, коллективистская природа может быть ощутима для каждого труженика, стать фактором его жизнедеятельности без систематического вовлечения этого труженика в управление общественным производством, без повседневного укрепления в нем чувства хозяина страны? Программной задачей партии и советского строя Ленин считал поголовное вовлечение граждан в управление государством и общественными делами. Это не простая задача. Она требует и огромных организационных мер, и широко поставленной воспитательной работы. Нужен высокий уровень политической культуры трудящихся, всего населения, и этого неуклонно добивается наша партия.
- Маркс определял капиталистическую формацию как завершающий этап предыстории человеческого общества. На исходе этого этапа носители буржуазного мировоззрения исторически неизбежно переживают кризис культурно-идеологических устоев и идеалов.
Как с этой точки зрения выглядят идеология и культура на Западе в наши дни?
- Идеология и культура не идентичные понятия. Буржуазная идеология давно и всерьез порвала с передовой культурой. Она представляет собой эклектическую смесь специально подбираемых и постоянно подновляемых концепций и пропагандистских штампов, 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 140.
41
формирующих психологию конформизма, предназначенных для того, чтобы духовно цементировать частнособственнический строй. Правда, буржуазия, преследуя свои идеологические цели, в последние десятилетия все чаще стала обращаться к науке. Но обращение это носит весьма специфический характер. Буржуазию интересует не вся наука и тем более не ее революционно-социалистические выводы, а только те ее результаты, которые могут быть полезны с точки зрения управления духовной жизнью населения, закрепления стереотипов и «ценностей» буржуазного образа жизни. Глубоко заблуждался бы тот, кто, видя, что буржуазия добивается определенных целей с помощью инструментов, заимствованных у науки, надеялся заимствовать нечто для себя ценное из буржуазной идеологии. Буржуазная идеология-это гангрена общественного сознания, угрожающая поразить весь общественный организм. Она может пока пустить пыль в глаза своим наукообразием, но деструктивна по существу.
Что касается культуры, то тут дело выглядит сложнее. На Западе, например, мы можем только приветствовать такое замечательное, хотя и во многом противоречивое явление, как современный американский роман. Мне как читателю дороги имена таких современных зарубежных писателей, как Уайлдер и Уоррен, Маркес и Моруа, Моравиа и Ремарк, Олдридж и Фалла- да. Не могу без восхищения вспоминать и такие, например, сгустки правдивости и гуманистического мужества, какими представляются мне фильмы Крамера. И это перечисление можно продолжить. Но делают ли они погоду в культурной жизни? К сожалению, нет.
По сути, все западные каналы информации и потребления духовных ценностей заполнены фабрикуемыми на индустриальный лад изделиями «массовой культуры», рассчитанными на невзыскательные, в лучшем случае средневзвешенные вкусы и засоряющими даже сознание тех, кто испытывает потребность в более здоровой духовной пище. Вседозволенность, которая ныне пропагандируется со страниц книг, с экранов кино и телевизоров, размывает какое бы то ни было представление о нравственности. Даже классика, которая всегда облагораживала души на высоких образцах, и та подвергается адаптации и опошлению, упорно перерабатывается во все ту же дежурную стряпню «масскульта». Поскольку 42
над всякой духовной деятельностью тяготеет, ее определяет денежный, коммерческий интерес, довольно безразличный к средствам своего удовлетворения, духовный облик людей на Западе подвергается значительной эрозии. Разумеется, эта тенденция сталкивается с контртенденцией, с активным протестом против насаждаемых бездуховности и аморализма. Но господствующий класс продолжает настойчиво развращать население, сводя на нет творческую свободу деятелей культуры, мешая им честно выполнять свою миссию проповедников Истины, Добра и Красоты. Пагубно и то, что, например, культурная жизнь западноевропейских, латиноамериканских стран и Японии подвергается агрессивной американизации, что заокеанский «масскульт» стремится вытеснить более развитые и гуманные (хотя, конечно, и менее подвижные с точки зрения широкого освоения) национальные культуры.
Пессимистическая картина, не правда ли? Но что поделаешь, ведь речь идет об общественном строе, давно переживающем свой общий кризис. Поневоле напрашивается аналогия с Древним Римом накануне упадка, когда, по свидетельству очевидцев, признаки тления затронули все части общества.
- В свое время в литературе высказывалась, по-моему, очень важная для нашей сегодняшней беседы мысль: социализм жизненно нуждается в точном систематическом самоанализе и всестороннем самопознании уже хотя бы потому, что это-научно организуемое общество. Тут прямая связь, мне кажется, с той оценкой марксизма, которая уже прозвучала. И вспомним слова Маркса: «...конструирование будущего и провозглашение раз навсегда готовых решений для всех грядущих времен не есть наше дело...»1
- Мысль, которую Вы упомянули, на мой взгляд, элементарна. Однако это не означает, что она всеми и повсюду проводится в жизнь. Для этого требуется солидная марксистско-ленинская подготовка. Именно такая подготовка (а не только специальное образование) выступает как обязательная предпосылка адекватного понимания происходящих социальных перемен и их правильного регулирования, становится все более настоятельно необходимой. Между тем для ее приобрете1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 379.
43
ния подчас не хватает терпения даже некоторым обществоведам.
...На моем столе лежат два тома избранных произведений Карла Маркса, выпущенные к 50-летию его смерти, полвека назад Партиздатом при ЦК ВКП(б). Серая холщовая обложка, грубая серая бумага, тусклая печать, но мне эти невзрачные старые книги дороже иных ярких фолиантов. С них многие мои сверстники начинали свое марксистское образование, к которому были эмоционально подготовлены, ощутив опаляющее дыхание Отечественной войны. «Манифест Коммунистической партии» с первых слов покорял своей бесподобной афористичностью, логикой и страстью. Следующие за тем работы «Наемный труд и капитал» и «Заработная плата, цена и прибыль» с математической строгостью и изяществом демонстрировали неопровержимость Марксовой теории прибавочной стоимости. Это были поистине «идеи... которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть,-это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им» L Попав к ним в «плен», можно свободно и уверенно штудировать «Немецкую идеологию» и «Анти-Дюринг», «К критике политической экономии» и «Капитал», «Гражданскую войну во Франции» и «Критику Готской программы», с позиций зрелой методологии осваивать опубликованное рукописное наследие Маркса.
Не посчитайте, что мне вдруг почему-то вздумалось перечислить здесь всем известные классические труды по научному коммунизму. Просто хочется упрекнуть отдельных специалистов в недостаточном внимании к ним. Помнится, работая в 60-х годах в одном из экономических НИИ Академии наук СССР, я был искренне удивлен, не обнаружив в списке литературы кандидатского минимума по политической экономии «Капитала» Маркса. А ведь среди аспирантов этого института было немало молодых людей, имеющих филологическое, юридическое, финансовое, историческое образование, то есть нуждающихся в серьезной политэкономиче- ской доподготовке. Вот и получалось, что даже среди «остепененных» лиц попадались и такие, кто этот труд 1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 118.
44
не читал. Неловко упоминать об этом, но и замалчивать это тоже, пожалуй, грешно... Очевидно, у нас должно быть лучше поставлено раннее и основательное марксистское образование молодежи, построенное так, чтобы она глубоко знала идейных предшественников и историю марксизма, грамотно разбиралась в первоисточниках, была невосприимчива к позитивистским и иным чуждым веяниям, умея любой факт, любой научный результат просветить рентгеном марксистско- ленинской методологии. А как без этого обеспечить точный систематический самоанализ и всестороннее самопознание социализма?
Все еще остается нерешенной исследовательская задача поистине фундаментального характера и стратегического значения-органическое продолжение анализа, осуществленного Марксом в «Капитале» и Лениным в его работах «Развитие капитализма в России» и «Империализм, как высшая стадия капитализма», в послеоктябрьских уловиях, распространение принципов этого анализа на новую общественно-экономическую формацию. «Стратегия партии в совершенствовании развитого социализма должна опираться на прочный марксистско-ленинский фундамент,- отмечалось на июньском Пленуме ЦК КПСС.-Между тем, если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок» 1.
Конструирование будущего и провозглашение раз и навсегда готовых рецептов для грядущих времен, о которых говорится в приводимой Вами цитате, как мне представляется, появляются там и тогда, где и когда некоторые активные товарищи пытаются (вполне возможно, из благих побуждений) соединять свое полузнание с изрядной долей фантазии. Однако эта манера не имеет ничего общего с марксизмом. Ни тени утопии - так характеризовал Ленин подход Маркса к определению основных черт социализма и коммунизма на базе исследования ведущих тенденций развития современного ему капиталистического общества.
1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. M., Политиздат, 1983, с. 29-30.
45
- Во время учебы в Берлинском университете по ночам Маркс писал стихи, баллады, песни... Именно тогда появились эти мятежные, смелые строки:
...Силой разума и чувства Охватить весь мир готов.
Не кажется Вам, что юношеские стихи прекрасно отразили лейтмотив всей последующей жизни великого ученого и борца?
- Да, стихи эти не разошлись с действительностью. Выраженного в них юношеского романтизма Маркс не утратил до конца жизни. Вы, должно быть, помните, что в знаменитой анкете, предложенной ему дочерьми, на вопрос «Ваше представление о счастье» он ответил: «Борьба»,-а на вопрос «Ваше представление о несчастье»-«Подчинение». На вопрос одного журналиста, на этот раз сугубо философский: «Что есть сущее?»- Маркс опять-таки ответил: «Борьба!»
Жизненное кредо Маркса подтверждают и сама его многолетняя подвижническая деятельность, и авторитетные оценки его ближайших соратников. «Наука,-говорил Энгельс над могилой своего гениального друга,- была для Маркса исторически движущей, революционной силой. Какую бы живую радость ни доставляло ему каждое новое открытие в любой теоретической науке, практическое применение которого подчас нельзя было даже и предвидеть,-его радость была совсем иной, когда дело шло об открытии, немедленно оказывающем революционное воздействие на промышленность, на историческое развитие вообще...
Ибо Маркс был прежде всего революционер. Принимать тем или иным образом участие в ниспровержении капиталистического общества и созданных им государственных учреждений, участвовать в деле освобождения современного пролетариата, которому он впервые дал сознание его собственного положения и его потребностей, сознание условий его освобождения,- вот что было в действительности его жизненным призванием. Его стихией была борьба. И он боролся с такой страстью, с таким упорством, с таким успехом, как борются немногие» L
Маркс и сегодня живет среди нас. Живет и борется. Чуждый всякой слепой стихийности, марксизм действует и обогащается в стихии сознательной классовой борьбы.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,' т. 19, с. 351.
Гр. Оганов
К УРОКАМ ОДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ
Атаки: «в лоб», «слева», «справа», «с тыла». Отрицание «всего и всея». «Глуписты» от философии. Слепые «ценители изящного». Путь Пикассо: противоречия и споры. «Герника» борется. «Святое» следование образцам или повторение пройденного? Эйфелева башня и «Рабочий и колхозница». Идеологический вандализм. «Барские сады», «нуль- пространство» или поле боя?
Атаки на искусство социалистического реализма, как и на всю духовную жизнь реального социализма, ведутся на Западе давно, и ведутся с самых разных позиций, как говорится, и «слева» и «справа». Это атаки фронтальные, направленные против основного в социалистическом реализме-его исторического оптимизма, уверенности в неоспоримой правильности избранного нами пути, в исторической справедливости ленинского дела. Даже для иных западных интеллектуалов, кто прямо не связывает себя с классом капиталистов, а предпочитает числиться в «независимых» прогрессивистах- либералах, цельность нашего мировоззрения, питающего оптимизм искусства, кажется чем-то предосудительным. В ясности нашего взгляда на мир, в оптимистичности рассуждений о судьбах человечества они хотят видеть признаки некой ограниченности или по крайней мере слабой чувствительности искусства, якобы используемого в утилитарных «интересах государства» и посему-де лишенного свободы, тонкости и глубины...
При этом, конечно, максимально искажаются имеющие отношение к делу марксистские взгляды, посылки, установки. Кстати говоря, очень радуются буржуазные ученые оппоненты социализма, когда встречаются в нашей искусствоведческой литературе отдельные факты и фактики примитивно-прямолинейного подхода к толкованию сложных теоретических проблем, некоего приспособительного вульгаризаторства, которое-из лучших побуждений!-допускают порой наши критики, литературоведы, журналисты. Вот зло, с которым надо 47
бороться,- и потому, что оно дает пищу измышлениям наших идеологических противников, и прежде всего потому, что мешает нам самим с достаточной полнотой оценить те богатейшие возможности, те многообразные пути, которые социалистический реализм как метод открывает перед художниками в эстетическом освоении развивающейся действительности.
С другой стороны, ведутся атаки, так сказать, фланговые, куда менее шумные, без демагогически широковещательной рекламы, без развернутых знамен антикоммунизма и антисоветизма. В своих «трудах» вкрадчивым доверительным шепотом пытаются наиболее «квалифицированные» из «советологов» от искусствоведения разгородить пространство нашего искусства разного рода перегородками, искусственно отделяя национальные литературы от общего потока искусства социалистического реализма, «усматривая» в тех или иных десятилетиях нашей истории чуть ли не враждебные друг другу тенденции в развитии духовной жизни, злонамеренно противопоставляя традиции - новаторству, лирику-публицистике, притворно восторгаясь одними из художников и нарочито не замечая других, не менее ярких и талантливых, и прочая, и прочая, и прочая. Очень стараются они и нарушить добрые связи нашего искусства с искусством прогрессивных художников Запада, «отлучить» социалистический реализм от демократической реалистической тенденции, представить нас узкомыслящими, не допускающими никакого многообразия почерков, манер, стилей «догматиками соц. реализма».
Замечу попутно, что идеологические противники не упускают случая «поощрить» кое-что в нашем искусстве: выделяют они своей благосклонностью прежде всего те произведения, которые находятся как бы в стороне от главной стремнины жизни, от рубежей созидания и борьбы, где круг авторского видения ограничен суетой повседневности и этим определен масштаб нравственной проблематики.
Не прекращающиеся вот уже больше шести десятилетий прямые нападки буржуазных критиков нашего искусства, нашей культурной политики имеют не только свою эмоциональную окраску, но и свою сущностную подоплеку: научная стройность, цельность, человечность коммунистического мировоззрения, оказывая столь благотворное влияние на содержание и пафос со48
ветского социалистического искусства, выводят из равновесия наших оппонентов.
Так велик диссонанс, так разительно далеки жизнеутверждающие качества социализма от вселенского пессимизма и эклектически хаотических представлений, присущих сознанию многих западных интеллектуалов, что неприятие, протест, отрицание «всего и всея» начинают буквально «резонировать» в них.
И молодые ученые, делающие себе карьеру на опровержении социализма, и ветхие старцы, хранящие завет всевозможных обветшалых «систем», с одинаковым усердием нападают на нас-это еще дооктябрьское наблюдение В. И. Ленина очень точно характеризует тот «единый фронт» ниспровергателей социализма, социалистического реализма, с которым мы имеем дело сегодня. Не важно, что в этом пестром конгломерате мы видим и искренне заблуждающихся буржуазных мыслителей, своего рода-воспользуемся снова метким ленинским определением-«глупистов» от философии, и профессиональных антикоммунистов-«советологов», и совсем уже изолгавшуюся публику из числа беглых диссидентствующих отщепенцев. Куда существеннее логика такого «плюрализма». Выступая на стороне неправого дела, всегда рискуешь оказаться в дурной компании, и если иные западные интеллигенты вдруг обнаруживают рядом с собой уголовника Буковского или бандитов пера из «Бильдцайтунг», то сетовать им не на кого, кроме как на самих себя. Ничто ведь так не объединяет, как общие грехи. Хотя призадуматься о сокровенном смысле такого «совпадения», такого постыдного «чернилосмесительства» им не мешало бы.
Литература социалистического реализма развивалась благодаря вдохновенной творческой способности писателей воплощать в поэтические формы повседневный опыт простых людей и народные рассказы о прошлом, благодаря тому, что культура советского народа опиралась в своих творческих исканиях на все лучшее, созданное историей человечества.
Катарина Сусанна Причард, австралийская писательница
49
Если бы они были способны сделать это усилие не только «умственное», но и нравственное,-то поняли бы, в какое топкое обскурантистское болото их затягивает попытка «чисто политически» отвергнуть нашу культуру, нашу цивилизацию, наше искусство. Отвергнуть, не дав себе труда разобраться - по возможности беспристрастно-в сложнейших проблемах социально-философского порядка, решаемых социалистическим реализмом, и понять, насколько глубоко и антидогматично, ответственно и человечно проявляет себя эстетическое мышление нового мира. Наделенное, помимо партийности и народности-свойств, от которых как черт от ладана отшатываются иные западные интеллектуалы,- таким важнейшим качеством, как историзм, это мышление внимательнейшим образом исследует жизнь во всех ее взаимосвязях, изменениях и превращениях, в ее противоречиях и тенденциях.
Уже это одно позволяет говорить о сближении (не в технологии, конечно, а в степени достоверности, социальной и художественной справедливости результатов) искусства с наукой. Кстати, именно по этому пункту разгораются жаркие споры. Искусство в век атома и электроники не может оставаться таким же, каким оно 50
было до того, заявляют наши оппоненты, используя этот, в общем бесспорный тезис, для «доказательства» правомерности любых вывихов модернизма и апокалипсических видений. И хотя нам постоянно твердят, что авангардистская заумь и модернистский скепсис куда как чутко и современно корреспондируют с «эпохой НТР», мы полагаем, что оптимистичность социалистического реализма и его познавательная сила все-таки ближе истине научного знания. Одним словом, наше искусство, обращаясь по преимуществу к событиям реальной истории, к живой, кипящей, многоцветной действительности, шаг за шагом осваивает ее и не испытывает потребности в негативном мифотворчестве, не нуждаясь в мистике рока, разрывающего саму связь времен. Оно не потеряло веру в возможности разума.
Еще в середине прошлого века Флобер в одном из писем изложил любопытный и мало что в то время сказавший кому-либо вывод из своих наблюдений над ходом современного ему развития. Флобер писал: «Чем дальше, тем Искусство становится более научным, а на-
51
ука-более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине» 1.
Мог ли «кудесник стиля» так зорко предвидеть те весьма отдаленные времена, когда теме, ныне изящно формулируемой как «прямое и косвенное (опосредованное) влияние НТР на содержание и язык современного искусства», равно как и влияние искусства на науку, будет посвящено множество статей, монографий, симпозиумов? Впрочем, если бы дар предвидения помог ему угадать простодушные и хитроумные спекуляции, что нагромождены в 60-70-х годах нашего века, в попытках «легко и радостно» объяснить все свершившиеся к тому времени искажения и деформации действительности, все измены искусства новейших времен человеку и человечности неким магическим воздействием научно-технической революции, Флобер, вероятно, с содроганием отказался бы от этой своей вроде бы мимолетно брошенной фразы.
А ведь он был прав!
Во все времена искусство в той или иной мере было связано с жизнью общества, в том числе и с движением человеческой мысли, стремящейся к познанию. Оно всегда способствовало развитию продуктивного воображения, столь необходимого и в науке и во всех других областях сознательной человеческой деятельности. Искусству мы обязаны не только искренними и достовернейшими свидетельствами эпох - оживающими образами современников, живыми картинами уклада, быта, нравов, но и-когда речь идет о больших художниках-возможностью составить себе глубокое, целостное представление о социально-экономической сущности конкретного общества, куда более яркое и содержательное, чем его могут дать иные специальные исследования и научные трактаты. Впервые с полной определенностью сказал об этом-применительно к гению Бальзака-Фридрих Энгельс.
Это верно для всех времен. Сколько сообщили нам чуть ли не первые из известных человечеству петроглифов и живописных наскальных изображений! Не будем погружаться в академическую пучину споров: насколько правомерно полагать реалистическими фрески пер1 Флобер Гюстав. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1984, с. 147.
52
вобытных художников, в которых иные «ценители изящного» не видят ничего, кроме примитива, символов-иероглифов. Между тем ведь это сама действительность властно диктовала им непредвзятую правду сюжетов и строгую лаконичность формы, вместивших в себя философскую (и вполне житейскую) суть вечно противоречивого драматичного, трагедийного и прекрасного человеческого существования-бытия. Собственно, в эту пору человек еще не умел каким-либо иным, более убедительным образом поведать окружающим, а тем более грядущим поколениям правду о своей жизни. Художники доисторических времен, может быть, инстинктивно, неосознанно создавали эстетически содержательную сагу «о времени и о себе», они любовались прекрасным-тем, что ощущали как прекрасное-в жизнедеятельности своего племени, осуществляли естественную потребность удвоения себя в окружающем мире. Ибо, по выражению Маркса, «именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утверждает себя как родовое существо».
«...Человек удваивает себя не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном им мире» L Да, так было всегда. По мере того как человечество все дальше и дальше продвигалось сквозь тьму безвре- мений и краткие вспышки исторических взлетов, это подтверждалось все с большей убедительностью. Более того, действительность, отраженная и переработанная мыслью и чувством великих художников - подлинно передовых людей своего времени, помогала увидеть и облик неизбежного грядущего. Этот дар-одно из сильнейших свойств эстетического мышления, порой не зависящего от субъективных намерений. Именно об этом писал Ленин, определяя творческую мощь Толстого, «который с громадной силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства» 1 2, стал «зеркалом русской революции», хотя его проповедь нравственного совершенствования человека и человечества и строилась на чисто утопической основе.
Бессмысленно предъявлять художникам прошлого, 1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 94.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 38.
53
как, впрочем, и современным художникам, творящим на капиталистическом Западе, претензии по поводу непоследовательности их мировоззрения и ожидать, что после надлежащей критики их можно будет как представителей «отживших» культур либо «отодвинуть в сторону», либо они, громко покаявшись в своих прегрешениях, немедленно и в полном объеме усвоят передовые научные взгляды и вступят в лоно социалистического реализма. Ленин не раз высмеивал такие благие намерения «сразу избавиться от дурного наследства»1. В самом деле, ведь мировоззрение есть как раз такой продукт социального и духовного становления человека, который не рождается готовым, не выходит сразу, как Афродита из морской пены. Художников следует принимать такими, какие они есть, тщательно исследуя многообразные сложные связи их творчества с жизнью, с временем, с настроениями эпохи, выделяя все сильные и слабые стороны каждого из них. И странно, что классический пример глубокого, диалектически проникновенного ленинского анализа творчества Толстого как бы «забывается» иными нашими искусствоведами, когда они рассуждают о современном искусстве, о современных художниках.
Об этом приходится говорить, поскольку время от времени сталкиваешься с достойной сожаления односторонностью оценок, весьма мало продуктивной с точки зрения выяснения истины. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, представляющуюся мне своего рода отрыжкой застарелых вульгарно-социологических или нормативно-формальных суждений о характере, содержании и результатах творчества, сложившихся еще на рубеже 20-х годов и, увы, не преодоленных до конца, можно сослаться хотя бы на ту разноголосицу в толковании творческого опыта Пабло Пикассо, которая всегда сопутствовала попыткам осмысления его творчества и с новой силой возникла в недавний столетний юбилей великого художника (так же, впрочем, как и подвергшиеся уже критике высказывания наших и зарубежных критиков, литературоведов, философов, писателей в связи с юбилейными датами Ф. М. Достоевского).
Творческий путь Пикассо - сложный, противоречивый, длившийся более семи десятилетий, вобравший в себя все тревоги века и отразивший в себе все изломы 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 181.
54
эстетического развития-не имеет аналогов и к тому же в силу этой противоречивости никак не поддается выведению однозначных оценок. И как это обычно случается в таких обстоятельствах, снова и снова высказываются суждения, столь крайние, что они уже не только исключают друг друга, а просто начинают противоречить здравому смыслу и уж никак не способствуют выяснению истины. Одни, восторгаясь энергией, плодовитостью и многоликостью Пикассо, указывая на его никогда не менявшиеся политические взгляды (это, кажется, единственное, что не менялось у Пикассо), на его принадлежность к партии французских коммунистов, готовы объявить художника непогрешимым гением всех времен и народов, не видят в его творчестве ни противоречий, ни неудачных экспериментов. Другим Пикассо представляется неким коварным исчадием модернистического ада, принимающим время от времени более или менее реалистические личины, дабы скрыть свое почти некрофильское пристрастие к распаду форм и изничтожению искусства. А впоследствии, запутав, соблазнить и погубить крепких в кисти, но почему-то слабых духом реалистов, заставить их засомневаться в благотворной необходимости писать жизнь в формах самой жизни и, как к дурманящему наркотику, пристраститься к проклятому абстракционизму или еще там к какому-нибудь ультрамодному завирательству.
Эти полемические крайности могут показаться смешными в наше время. Печально, однако же, что столь значительное, столь многогранное явление, каким предстает перед нами творчество Пикассо, искусство, крайне интересное уже тем, что внимательное, вдумчивое изучение его может раскрыть перед исследователем подробнейшую панораму движения эстетической мысли, борьбы направлений, поисков и потерь, тупиков и открытий, оказывается порой лишь поводом для произнесения заклинаний. Излишне упоминать, что такого рода «споры» ведутся чаще всего в узких пределах замкнутого внутриэстетического пространства и-что хуже всего-вне соотнесения с теми бурями и катаклизмами, которые переживает мир на протяжении всего XX столетия и которые не могут не сказаться самым властным образом на мироощущении художника, на его духовных, эстетических исканиях. Дыхание этих бурь, коснувшись творчества действительно крупных, честных художников капиталистического Запада, помогает им 55
определить свои политические симпатии и художественные позиции, ощутить заботы и надежды людей, и это-мы тому частые свидетели-становится живым источником для создания произведений прогрессивного, демократического искусства. К сожалению, влияние это не всегда носит позитивный характер, не всегда созидательно. Оно может производить и разрушительную работу, заражать неверием, растерянностью, заставить обратиться в бегство, дезертировать с фронта искусств.
Вот почему как философ, подобно поэту, должен обладать поэтическим даром-об этом говорил еще Гегель,-иначе он превратится в замшелого буквоеда, так и ученый-эстетик, человек, изучающий вселенную искусства, обязан видеть, знать, понимать великий философский смысл происходящих исторических перемен и их воздействие на творческий потенциал современников и на характер самого восприятия искусства. Здесь все в движении. Разве мало привела история примеров поразительных изменений во вкусах, предпочтениях, самих критериях прекрасного! Ведь если бы их не было, этих изменений, то и в наше время, как сто пятьдесят лет назад, Бенедиктов был бы куда более читаемым поэтом, чем Пушкин, великолепная «Кармен» Бизе, освистанная современниками, была бы прочно забыта и никому из трезвых атеистов не пришла бы в голову мысль трудиться над реставрацией гениальных фресок Рублева и Дионисия в московских и владимирских храмах. Мы были бы куда беднее и примитивнее.
К счастью, предположение это фантастично. Не прерывается связь времен, и не прихотью судьбы, а исторической закономерностью определяется эстетический идеал каждого общества, каждого отмеченного социально-экономической и политической новизной периода. Необходимость выразить этот идеал приводит к определенному выбору художественных средств и при-
Практика и опыт искусства не менее важны для человека, нежели использование научных открытии и научное познание. Два этих центральных способа восприятия и осмысления бытия взаимодополняющн, а отнюдь не враждебны друг другу.
Джон Фаулз, английский писатель 56
емов, которые в условиях достаточной устойчивости и составляют в совокупности основу для выработки более или менее четких представлений о направлении и стиле, отвечающих вполне определенным художественным задачам. В свою очередь эти задачи, осознанные художником, связаны с проблемами времени, с вопросами, волнующими современников. Вот почему изменение, развитие, смена стилей, возникновение новых направлений-явления закономерные, они знаменуют движение жизни. И поэтому же канонизация того или иного стиля, попытка трактовать его как традицию, абсолютизировать его роль превращают стиль в догму, приводят искусство к стилизации, а в конечном счете-к упадку и вырождению.
Это касается и более общих понятий искусства, в том числе таких, как художественный метод. Каждый из таких методов, зарождаясь в исторически конкретных обстоятельствах, претерпел изменения в своем развитии. В процессе постоянного развития, обогащения, совершенствования видим мы и метод социалистического реализма, подтверждение чему-творчество наших признанных мастеров, умеющих сказать свое слово в искусстве, ищущих новые средства выражения вечно меняющейся действительности.
Ибо именно содержанием народной жизни, поступательным движением общества, мощными течениями мирового развития определяются и новизна интересов нашего социалистического искусства, и смелый прорыв пытливой художественной мысли в толщу сложнейших процессов материального и духовного бытия, и явление миру нового, причастного ко всему, что происходит на Земле, героя, и соответствующий этому настойчивый поиск, творение, испытание новых форм. Как хлеб, как воздух нужны эти формы современному искусству, если оно хочет, развиваясь, оставаться реалистическим. Без них не выразить, не раскрыть нового содержания, новой действительности, так же как не разобраться в ней без глубокого социального анализа. В то же время следует четко себе представить, что новые формы, новые стили сами по себе, в некоем «тайном» пространстве не существуют. Их нельзя «заимствовать». Они могут быть рождены лишь осмыслением действительности и осознанным стремлением выразить ее адекватным образом.
Движение к этим истинам не было простым, ибо сложными, извилистыми были пути развития искусства 57
в XX веке-и не только где-то там, за морями, за долами, айв нашей стране, где в упорных поисках средств выразительности, соответствующих новой жизни, сталкивались самые разные, порой диаметрально противоположные, наивные и воинственные взгляды и течения. Картина осложнялась также кризисными явлениями в культуре буржуазного Запада, не всегда правильно понятыми нашими художниками. Мы знаем художников - и у нас, и в других странах,- чей творческий почерк, творческие пристрастия складывались под влиянием этих явлений. Далеко не все они выстояли, далеко не все сумели сказать свое слово. Мы знаем, как завладела бледная немочь упадничества в начале века многими талантами и как погубила их; мы знаем шумных футуристов, забежавших «впереди века», провозгласивших себя глашатаями будущего и не заметивших, как безнадежно они отстали; мы знаем декадентов, утративших веру не только в человечество, но и в самих себя,-крайний пессимизм, смерть, молчание в прямом и переносном смысле становились логическим завершением их земного и творческого пути. Мы знаем и лириков- бодрячков, не перестающих, как говорил Маяковский, «мандолинить» нечто душещипательно-ландриновое даже в дни всемирного потопа.
На Западе в эпицентре этих эстетических потрясений, этой неслыханной разноголосицы был Пикассо. Он испытал все: и безмятежность идиллии, и потрясение величайшим горем; любовь и ненависть попеременно сжигали его сердце. Он мог бы повторить вслед за другим великим Пабло - Нерудой: «Агонизирующий капитализм наполняет чашу творчества горьким напитком. Мы пили этот напиток, содержащий все сорта ядов». Ему ведомо было самое жестокое, самое отвратительное зло. И он знал всю безмерность человеческой красоты и человеческого мужества.
В 1937 году Пикассо создает полотно, которому суждено было стать величайшей картиной века. Как и знаменитая, облетевшая всю планету «Голубка», оно известно, кажется, всем. Это «Герника», мгновенный, как вспышка молнии, отклик художника на страшную весть о варварском разрушении стервятниками гитлеровского легиона «Кондор» древнего священного города басков на севере Испании. Мечутся в замкнутом пространстве полотна в холодных, зловещих вспышках света люди и звери; изломы тел, осколки предметов, иска58
женные нечеловеческой болью лица-маски, конвульсивные движения фигур, вопль матери с безжизненным тельцем ее ребенка на руках-этот трагический художественный образ распятой, растерзанной Герники потрясает сознание. Сам строй картины, разорванность формы, ее монохромный, с неярким стальным свечением колорит создают сильное, неизгладимое и очень своеобразное впечатление. Она не взывает к милосердию, хотя, кажется, сердце готово разорваться от криков боли и ужаса, исходящих от полотна. Но еще сильнее, еще громче картина учит ненависти. В ней с невероятной мощью концентрации передан отвратительный, нечеловеческий облик зла. Зла, которое нельзя понять и нельзя простить.
«Герника» вызвала ярость фашистов и заставила замолчать искусствоведческих недругов художника. Она была создана живописцем-бунтарем и не укладывалась в прокрустово ложе устоявшихся академических схем, но и требования модернистских «измов» не позволяли канонизировать ее в сфере абстрактного или любого иного из новейших модных направлений. Она поставила в тупик и изысканных эстетов, шокированных ее страстным набатным звучанием: такое не к лицу «чистому искусству формы». Словом, никто не мог назвать «Гернику» картиной, сравнимой с чем-либо созданным до того, но смысл ее, ее гневный пламенный призыв поняли все.
Вот интереснейшее свидетельство народного художника СССР Павла Корина: «Я со многим не согласен у Пикассо, многое не приемлю, но вот неожиданность: я ходил по музею, мне хотелось получить отрицательное впечатление от этого художника, и я шел к «Гернике». И когда увидел это полотно, этот большой холст, прекрасную тональность, волевую, энергичную прорисовку деталей, меня это захватило. Я с сомнением приближался к «Гернике»-неожиданно картина произвела огромное впечатление. Но я смотрю как художник. И после того что я увидел, я изменил к Пикассо отношение, он стал для меня большим мастером. Я почувствовал: он человек ищущий, мятущийся и мятежный. Я почувствовал: много мучений, много дум вкладывает он в искусство».
Да, «Герника» Пикассо, как бы ни морщились ученые ортодоксы от классического искусствоведения (те, для кого аристотелевский «мимезис»-незыблемый канон, альфа и омега, начало и конец всей эстетики),- 59
это куда более реалистическое произведение, чем многие вполне традиционные, «спокойные» и «нормальные» картины других художников, творивших в то же неспокойное время, что и Пикассо, но не ощутивших в себе тревоги, возмущения, не почувствовавших, что варварское уничтожение Герники есть генеральная репетиция грядущих «зон пустыни». Следовать прекрасной, ничем не нарушаемой гармонии или безмятежному наслаждению жизнью, создавать идиллические пасторали в ту грозную пору, когда фашизм начал творить свое кровавое злодейство, значило полностью пренебречь всякой действительностью, не видеть бушующего пламени, не слышать стонов гибнущих жертв. Какой уж тут реализм! Типичное модернистическое бегство от жизни в райские кущи ласкающих глаз очень натуральных иллюзий. Вот какие злые шутки может сыграть с «убежденными традиционалистами» неумение понять происходящие перемены и откликнуться на них.
Такова беспощадная диалектика движения: нельзя дважды (а тем более в третий, пятый, двадцатый раз) войти в одни и те же воды быстротекущей реки жизни. Великое, гениальное, будучи заимствованным, «повторенным» в иных условиях, в иных исторических обстоятельствах, теряет все свои первородные достоинства, рискует выглядеть уродством, насмешкой, кощунством. Ибо не отвечает этим новым условиям, не порождено ими, не являет собой непосредственного, живого, трепетного отклика на эти конкретные обстоятельства, на жгучие вопросы современности.
Более того, такое «святое» следование образцам, такое апологетическое подражание, такое «повторение пройденного», движение по замкнутому кругу приводят их участников в болото бескрылой вторичности, на грань декаданса. Некоторых-к салонной красивости, других-в кущи странных ностальгических видений, идеализирующих давным-давно минувшее, отжившее, преодоленное. И те и другие, впрочем, далеко не всегда понимают свое истинное положение, а критика наша бывает еще очень робка в оказании нелицеприятных услуг. И как бы ни казалось им, что они исправно следуют к триумфу по расстеленной ковровой дорожке традиции, что они-то и есть истые выразители народного духа, понимаемого ими и внеклассово и внеисторически (кстати, «традиционалисты» эти странным образом дружно уклоняются от наиболее существенного в тра60
дициях русского искусства-его идейности, его социальной активности, его высокой гражданственности), на самом деле и те и другие стремительно удаляются от живой, полнокровной, противоречивой действительности. Они не отвечают на вопросы, изменяют правде, а тем самым и традиции. А реальные драмы века либо выхолащиваются при этом до неузнаваемости, приобретая черты некоего пошлого фарса, либо игнорируются вовсе.
Здесь оппоненты обычно выдвигают кажущийся им неотразимым тезис о роли жизнелюбия и оптимизма, которые, мол, не должны иссякать никогда. Хочется сказать им: о жизнелюбии вы поговорите с матерями, потерявшими в Гернике (в Лидице, в Хатыни, в Соуэто, в Сонгми, в Бейруте...) детей, а своим хорошо наигранным оптимизмом померяйтесь с суровой решимостью ленинградцев, умиравших в блокадном кольце, но не сдавших город ненавистному врагу. Герои не хуже вас знают, что такое оптимизм и как его надо выстрадать. Что касается нас, современников великого созидания и великой войны, то нам ведомы и глубокая печаль, и грандиозная страсть оптимистических трагедий.
И надо сказать, что эти высокие чувства и сами породившие их коллизии, не сконструированные умозрительно, не «сочиненные», а взятые из жизни, из исторического течения времени и переплавленные в новую, эстетически осмысленную цельность, с огромной впечатляющей силой выражены в замечательных произведениях, которыми по праву может гордиться духовная культура социализма.
Океан этого искусства необозрим. И, отмечая беглым пунктиром его протяженные берега, мы обозначим лишь отдельные вехи-от шолоховского «Тихого Дона» до леоновской «Золотой кареты», от исторической трилогии А. Толстого до исследований-хроник М. Шагинян, от бессмертных поэм Маяковского до «Василия Теркина» Твардовского, исаевского «Суда памяти» и «Стены» Марцинкявичюса, от фадеевского «Разгрома» до повестей Быкова и романов Айтматова... И каждому из них присущи своя манера, свой почерк, свое видение мира, свои пристрастия. Крупнейшие из них-и это не надо забывать! - стали подлинными революционерами формы: «Двенадцать» Блока, «черное солнце» в финале шолоховской эпопеи, зигзагами молний летящие строки Маяковского-тому первые свиде61
тельства. И это только в литературе. А музыка, где признанными мировыми лидерами стали наши Прокофьев и Шостакович; а театр-от его великих реформаторов Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова до Товстоногова, до грузинского театра, поразившего англичан подлинно шекспировской мощью своих трактовок; а кинематограф, ворвавшийся на экраны «Броненосцем «Потемкин», «Чапаевым», «Балладой о солдате», а планетарные полотна Петрова-Водкина и устремленные в день завтрашний скульптуры-птицы Веры Мухиной?!
Память настойчиво возвращает меня к середине века и еще глубже, в год двадцатилетия Октября. Он совпал с проведением Всемирной выставки в Париже, и было решено участвовать в ней, построить на берегу Сены советский павильон. Автором проекта стал крупный советский архитектор Б. М. Иофан. По его замыслу корпус здания павильона должна была венчать скульптурная группа-рабочий и колхозница. Конкурс, в котором приняли участие такие выдающиеся скульпторы, как Иван Шадр, Вячеслав Андреев и Матвей Манизер, выиграла Вера Игнатьевна Мухина. В этом соревновании она оказалась бесспорным лидером, лучше всех поняв замысел и с великолепным чувством гармонии, динамического единства решив сложнейшую задачу синтеза архитектурных форм со скульптурой, ставшей отнюдь не «завершением» здания и, уж конечно, не украшением его, а мощной выразительницей главной идеи.
Когда все было готово, «Рабочий и колхозница» покорили парижан. Нечто новое, необычное вошло в жизнь Парижа, в его изысканную, утонченную символику. На фотографиях, облетевших весь мир, скульптура Мухиной устремлялась в небо Парижа, а в отдалении этому полету внимала знаменитая Эйфелева башня. Как ни странно, «Рабочий и колхозница», олицетворявшие другой мир, иное мироощущение, иную философию, оказались не чем-то чужеродным, а зажили здесь, на берегах Сены, полнокровной и очень интересной жизнью. Посмотреть скульптуру приходили семьями, рабочими коллективами. «Рабочего и колхозницу» приветствовали как почетных посланцев государства трудящихся. Скульптуре посвящали страстные публицистические статьи и восторженные искусствоведческие эссе, ее сравнивали с античными шедеврами, с Никой Самофра- кийской.
62
Это был триумф. «На берегах Сены,- говорил Ромен Роллан,-два молодых советских гиганта в неукротимом порыве возносят серп и молот, и мы слышим, как из их груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе».
Редко, очень редко даже самому гениальному художнику удается так точно, так глубоко и так вдохновенно выразить время. Наш век знает лишь несколько - во всех видах искусств!-таких произведений. Два из них появились в 1937 году, и оба стали известны миру на парижской выставке: «Рабочий и колхозница» Мухиной и «Герника» Пикассо, выставленная в павильоне республиканской Испании. Это было великое мгновение в истории мирового искусства, мгновение, оставшееся жить века двумя гениальными произведениями, двумя крас- норечивейшими символами эпохи. Ничто, казалось, нс могло быть столь отличным друг от друга, столь диаметрально противоположным по выбору средств выражения, художественному языку, эстетическим принципам, положенным в основу творения. Но эти, как день и ночь разнящиеся между собой вещи, эта скульптура и эта картина-фреска явили человечеству драматическую правду о великом противостоянии двух миров, двух идеологий, двух полюсов XX века. С одной стороны- героический пафос утверждения величия человека и, с другой,- «пляска смерти», человеконенавистническая злоба ублюдков из мира капитала, возомнивших себя «сверхчеловеками».
Конечно, они жили и «работали», делали свое дело и сами по себе-ликующая, увлекающая вас в мир ясный и здоровый, в мир созидания и мечты скульптура Веры Мухиной и трагическое, разящее, обжигающее полотно Пикассо, где странные деформации позволяли убедительно, почти физически ощутимо осознать всю дикость, всю кошмарную абсурдность самой идеи убийства, массового человекоистребления. Но вместе, в сопоставлении они родили ток высочайшего исторического напряжения, обрели пророческий смысл: вот они, силы, которые всего через несколько лет сойдутся в смертельной схватке, и разве не ясно, кто одержит верх-тевтонское рогатое чудовище, проклятое пламенном испанцем, или эти красивые, сильные люди, Рабочий и Колхозница, сменившие серп и молот на священный карающий меч и ставшие бессмертным Солдатом и легендарной Партизанкой?
63
Пожалуй, никогда еще художникам не доводилось создавать вещи, столь значимые для человечества, произведения столь высокого образного, философски обобщающего и столь актуально острого политического звучания. Они потрясают воображение, волнуют масштабом поднятых проблем, смелым прикосновением к вечной тайне борьбы добра и зла, представленных не абстрактным противостоянием формул, не символическими фигурами героев мифа, а воплощенных в образах, реальность которых засвидетельствована самой историей.
Сопоставляя эти две уникальные работы, мы не должны забывать также, что каждая из них не просто «сочинение»-пусть выполненное гениально-«на заданную тему», а рожденное абсолютной исторически обусловленной необходимостью и сложившееся в конкретной социально-исторической обстановке искреннее, непосредственное и убежденное высказывание художника- гражданина. Они неотъемлемы от эпохи, неразделимы с судьбой миллионов и-в силу тех же причин-принадлежат вечности. В этом-судьба и самих произведений, живая, волнующая, совсем не безразличная нам1.
Мухина после парижской Всемирной выставки могла гордиться, как и Маяковский, что своим искусством она сказала нечто важное «векам истории и мирозданию». Она творила в пору, которую Горький охарактеризовал высокими, вдохновенными словами: «Мы хотим создать новое человечество и уже начали создавать его». Энтузиазм, мечта и массовый героизм сливались в трудовой жизни миллионов, в гуманистическом по своей сути и своим целям созидании, которым была охвачена вся страна.
Такой была атмосфера, в которой складывалось ми1 Мы знаем драматическую историю изгнания, долгих лет вынужденной «эмиграции» и наконец недавнего возвращения «Герники» на родину, в Испанию. Это-как судьба человека-борца, не склонившего головы. Будем надеяться, что не повторится эпизод, случившийся в Музее современного искусства в Нью-Йорке, где некто-то ли полусумасшедший, то ли недобитый фашист - залил полотно краской. Больших трудов стоила тогда реставрация «Герники».
«Рабочий и колхозница» давно уже в Москве-сразу после Парижа. Скульптуру сохранили в годы Великой Отечественной, спасли от бомб фашистов. Однако есть у нее другой враг-окисление, коррозия. Сделано немало, чтобы сберечь металл скульптуры, но предстоит сделать еще многое. И вряд ли можно считать окончательными ее местоположение, высоту постамента...
64
роощущение Веры Мухиной-человека и художника. Счастливая участь: нет разлада с миром, обществом, эпохой. Нет богатых и капризных меценатов, но нет и нужды в них. Не к горстке «избранных» обращаешь ты свои творения, а хочешь в полный голос говорить с массами людей и рассчитываешь на понимание, на отклик. Возвышенное, идеал ясно представляются твоему внутреннему взору, и это не нечто «внеземное», мечтатель- но-гфантастическое, сконструированное воображением, это реальность тенденции, реальность рождающегося в жизни:
Воспаленной губой
припади и попей из реки по имени-«Факт».
Уловить эту реальность и художественно осмыслить, представить адекватно в образах, волнующих воображение, ярких, запоминающихся, совсем не просто. Нужна высокая мера таланта, нужен тот героической строй мышления, который единственно и способен дать поэтическое истолкование новой действительности. Имя этому искусству-социалистический реализм.
Совсем иными гранями открывался мир острому, чувствительному взору Пабло Пикассо. Вопиющие противоречия буржуазного общества, проявляющиеся прежде всего в нелепом, бесчеловечном миропорядке, «узаконившем» жестокую эксплуатацию, репрессии, нищету одних и баснословные прибыли, неограниченную власть, фантастическую роскошь других. Кровь, муки, бессмысленная бойня первой империалистической, последовавшая за ней экономическая катастрофа, безработица, голод миллионов людей в израненной Европе. Духовное опустошение, отсутствие перспектив, распад человеческих связей, наблюдавшиеся повсюду, страх и террор империалистической реакции, фашизм, угрожавший человечеству физическим и духовным рабством. Что могло противостоять этому кошмару, этой жуткой мистерии подавления и убийств в сознании европейского интеллигента? Надежда на союз всех прогрессивных сил во главе с рабочим классом? Да, конечно. Но Испанская республика при попустительстве западных «демократий» была отдана на растерзание фашизму, Народный фронт во Франции был предан социал-демокра65
3. Поле битвы-сердца людей
тией, а в Германии свирепствовал нацистский террор и цвет рабочего класса был загнан в концлагеря... Сама капиталистическая действительность ежедневно и ежечасно измывалась над мечтами и надеждами людей, являя массу мерзких, но весомых доказательств противного.
И все же был в те тревожные годы мощный излучатель оптимизма, уверенности, надежды: Советский Союз, первая страна социализма. Сам факт существования нового общества, отринувшего путы частнособственни- чества и эксплуатации, возвысившего человека труда, свершающего самые дерзкие планы и замыслы, значил многое для судеб цивилизации. И к нам тянулось все лучшее, все прогрессивное, что было в мировой культуре. К нам приезжали Ромен Роллан и Мартин Андер- сен-Нексе, Анри Барбюс и Бернард Шоу, Рене Клер и Диего Ривера, приезжали не из туристского любопытства - они черпали в нашей действительности душевные силы и веру в человека, и кто знает, каким был бы духовный облик Западной Европы да и мира в целом, если бы на пути умело культивируемого пессимизма и парализующего волю и мысль видения грядущего апокалипсиса не встала гуманистическая идея братства и солидарности всех честных людей планеты.
Но не будем забывать, что для миллионов людей на Западе в ту предвоенную пору СССР был чем-то далеким, информация о нем была скудной или же всячески извращалась: буржуазная пропаганда и тогда стращала народ небылицами об «ужасах большевизма» и «русском медведе», так что нынешние клеветнические пропагандистские эскапады вашингтонской администрации имеют давнюю предысторию. Цель их всегда была одна-скрыть правду.
Так или иначе, искусство той поры на Западе характеризовали искания-смятенные, судорожные. Ломка привычных представлений, отказ от проторенных путей, казавшихся кощунственными, были очевидны. Что должно прийти на смену, не ясно. Не ясно, как выразить это время, это безвременье, как достучаться до человеческого сердца. Пора распутий-время всякого рода формалистических вывертов, вплоть до прямой бессмыслицы, полной потери какой-либо связи с действительностью, с чувством, время ухода многих художников в мистику, в пустое, но «многозначительное» формотворчество. Именно в такой атмосфере, вдобавок
66
искусственно нагнетаемой юродствующими «идеологами» буржуазии и ловкими коммерсантами от искусства, преследующими корыстные цели, появляются вернисажи, на которых посетителю предлагаются в качестве произведения искусства серийный фабричного выпуска фарфоровый писсуар (роль художникачсавтора» свелась в этом конкретном случае к поиску подходящего названия. «Фонтан»-так назвал «свой» экспонат Марсель Дюшан и сразу выдвинулся в ряды мэтров «авангардного» искусства) или натуральное изображение консервной банки с томатным супом, повторенное множество раз («автор»-Энди Уоролл, еще одна знаменитость).
Не надо думать, что эти «художественные» выходки были лишь отдельными, из ряда вон выходящими скандальными происшествиями. Увы, они тут же находили «солидное» искусствоведческое, а то и философское обоснование и провозглашались вопреки всякой логике шедеврами, знаменующими некие новые горизонты современного искусства. Основанием для таких умозаключений по поводу, скажем, той же консервной банки служил принципиальный отказ буржуазной эстетики признать за искусством его социально-эстетическую гуманистическую функцию, его связь с жизнью, его миссию объективно верного отражения действительности. Корни этой философско-эстетической позиции следует искать в конкретности социально-политического порядка: буржуазию, современный капитализм страшит познание правды массами, им особенно ненавистна подмеченная еще Чернышевским способность искусства не только воспроизводить и объяснять действительность, но и выносить приговоры явлениям жизни.
И именно модернизм, включая его новейшие, подделывающиеся под реализм разновидности-вроде новой вещественности, гиперреализма, фотореализма, признан «отвлечь» художника от этой гуманистической задачи. И в этом-главная драматическая коллизия современного западного искусства.
Что происходит при этом с художником? Подтверждается старая марксистская истина, гласящая, что противоречие между его внутренним миром и господствующими общественными отношениями приводит художника к кризису, к драме, к расщепленности сознания. И все же он, собрав все свои душевные и творческие силы, может исполнить свой долг, не уклоняясь от ответственности, может, как это неопровержимо доказал Ленин,
з*
67
выразить существеннейшее в этой жизненной трагедии, в этом жестоком, подлом мироустройстве. Для этого он должен высвободиться из пут модернизма.
Такую тяжкую миссию взял на себя Пикассо.
Встреча Пикассо и Мухиной, историческое сопоставление двух гениальных произведений, в один день и час вошедших в духовную жизнь потрясаемого катаклизмами мира, были встречей, контактом, взаимодействием двух ветвей современного прогрессивного искусства- социалистического реализма, прочно стоящего на здоровой основе реалистической традиции, постоянно развивающегося, вбирающего в себя все самое ценное, самое жизненное из мировой культуры и, таким образом, наиболее перспективного направления, и нового критического реализма, направления, которое не могло не появиться в условиях капиталистической действительности XX века, а появившись, дало человечеству, несмотря на крайне неблагоприятные условия развития, большие художественные ценности, особенно в литературе. Правда, это направление испытало сильное влияние упадочной эстетики модернизма, даже самых экстремальных его проявлений, и это наложило свой отпечаток на многие произведения и творческие судьбы. Более того. Немало честных, тяготевших к реализму художников на тех или иных этапах своего творчества поддавалось модернистским соблазнам, и в их работах порой можно обнаружить явные несовпадения замысла и выбранных выразительных средств, что, бесспорно, снижало идейно-эстетическую ценность произведения, затуманивало его смысл.
Однако точно так же, как характер современной эпохи несводим лишь к кризису капитализма, так и состояние искусства в мире не выражается лишь модернистским отрицанием содержательности и распадом формы. Процесс революционного преобразования мира, обретения новых горизонтов бытия, новых перспектив развития-вот главная, определяющая линия в спектре современной жизни, и она не только оплодотворяет творчество мастеров социалистического искусства, а и являет собой великую оптимистическую альтернативу, вселяющую надежды, придающую силы всем честным, мыслящим людям, в том числе и западным художникам, помогая им преодолеть упадочничество и бесплодность авангардистской эстетики.
Сложность реальной ситуации в современном искус68
стве выдвигает ряд настоятельных требований к марксистской критике. Столкнувшись с противоречивой картиной художественной жизни на Западе, разбираясь в разнородности, пестроте философских и эстетических пристрастий отдельных художников, мы должны, как говорил Плеханов, не плакать, не смеяться, а понимать. Менее всего надо торопиться причислить к лику модернистов того-то и того-то. Задача состоит не в том, чтобы, поддавшись внешнему, поверхностному впечатлению, дать немедленную решительную, однозначную оценку: это прогрессивно, это реакционно. В области изобразительного искусства, в частности, не очень продуктивно судить о характере произведения лишь по формальным признакам (таким, как стиль, жизнеподо- бие форм, правдивость деталей и т. п.), отложив в сторону такие существеннейшие качества, как выраженное в произведении отношение художника к конкретной социальной действительности, степень постижения глубин жизни.
К сожалению, именно так часто бывает на практике, порою даже на искусствоведческом уровне, и немало произведений пустых, бессодержательных и весьма далеких от подлинной современности, от мыслей, чувств и забот реальных людей принимается за реалистические только в силу одного видимого обстоятельства-жизне- подобия изображенного. Здесь коренятся и причины многих ошибочных оценок, и многие истоки тех искусствоведческих ограничений, всякого рода псевдотеоре- тических регламентаций, которые так характерны для вульгарно-социологических представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях искусства с действительностью.
Реализм, в том числе его наиболее активный и правомочный наследник-продолжатель - социалистический реализм как творческий метод, отнюдь не требует некоего стилевого однообразия и не ограничивает себя неким реестром жизненных явлений, которые должны быть отображены его художниками. Он никогда не рассматривал искусство только как форму познания, а видел в нем эстетически познавательное единство Ц никог-
1 См.: Егоров А. Проблемы эстетики; Зись А. Искусство и эстетика; Сучков Б. Исторические судьбы реализма; Храпчен- ко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. 69
да не требовал копирования природы, имитирования действительности, «иллюзионизма». Такие представления есть не что иное, как клевета на наше искусство, усердно распространяемая недругами социализма. Можно сказать даже, что эти приписываемые нам требования копирования, имитации как раз и получили свое воплощение в новейших течениях «авангардного» искусства, в том же, например, «фотореализме», натуралистическом, мертвенном воспроизведении внешнего облика вещей. Модернизму, как всякому ложному явлению, весьма свойственно приписывать кому-то свои собственные грехи.
От всего этого бесконечно далека практика искусства социалистического реализма, всестороннее развитие которого всегда было важнейшей составной частью культурной политики партии рабочего класса, партии Ленина. Будучи, как писал Луначарский, классом познающим, и познающим во всей правдивости, рабочий класс заинтересован в максимально верном, адекватном осмыслении реальности, закономерностей и противоречий развития, его тенденций и перспектив. Это в конечном счете и определяет основательность, строгую объективность и глубину художественного освоения действительности в искусстве социалистического реализма, в том числе и таких ее сфер, к которым искусство ранее не прикасалось, его способность широко раздвинуть диапазон мыслей, чувств и ответственности героя. Свойственное искусству социалистического реализма умение видеть в явлениях настоящего не только то, что наблюдается современниками, не только результат предшествующего развития, но и перспективу, составляет примечательную особенность его историзма- черты, которой начисто лишен модернизм. Появляется наконец вполне реальная возможность произнести, как говорил философ, волшебное слово, вызывающее образ будущего. Неоспоримая связь этого будущего с реальным социализмом, с коммунистическим созиданием и вызывает раздражение наших идеологических противников.
Что же касается подлинно прогрессивного искусства, то оно всегда было «мобилизованным и призванным», всегда сражалось за человека. Оно сражалось на баррикадах Мадрида, и Пикассо мог гордиться тем, что бойцы-республиканцы шли в бой, положив репродукцию «Герники» себе на сердце, под гимнастеркой, 70
как брали великую книгу Николая Островского советские герои-воины. Сражалось на экранах европейских рабочих клубов фильмами «Броненосец «Потемкин» и «Чапаев». Сражалось фресками Сикейроса, которые пытались замазать белилами, соскрести со стен подосланные реакцией мерзавцы. Сражалось бессмертными репортажами Фучика и мужественными стихами Хик- мета. Сражалось седьмой симфонией Шостаковича, прозвучавшей на весь мир из блокадного Ленинграда. Сражалось песнями Поля Робсона и Виктора Хары. Музы вопреки расхожей поговорке не молчат даже тогда, когда говорят пушки. Но они и не затыкают себе уши ватой, дабы грохот битвы не ворвался, чего доброго, в безмятежное тренькание пасторальных наигрышей, не нарушил лелеемой гармонии стонами раненых и лязгом железа.
Музы в наше время должны быть куда как мужественны и суровы, их не должны обезоруживать ни ностальгические видения былой стабильности жизненного уклада, подчиненного патриархальной старине, ни фальшиво-сладенькие призывы ко всеобщей доброте и умильному благоволению, так же как не должны запугать до кроличьего безволия апокалипсические предчувствия или наглые демонстрации силы, похваляющейся своей готовностью совершить любое зло.
Нет, мир искусства и в самые мирные дни не область «барских садов» и не нуль-пространство для абстракционистских экзерсисов. Скорее поле боя. Искусство - оружие. Клинок, затачиваемый на оселке времени. Это хорошо понимали великие. И дрались в меру сил и таланта. Дрались в одиночку, осыпаемые насмешками недругов, опутанные интригами завистников, окруженные, как стеной, непониманием доктринеров, дрались, опровергая древнюю мудрость, будто «один в поле не воин». Воин! И потенциально-всегда!-не один.
У. Гуральник
АТАКУЮЩЕЕ СЛОВО
Акции советологов-непротивление злу насилием? Поделки от филологии. Пигмеи в роли великанов. Школа провокации - кто платит за обучение? Эпигоны Глеба Струве-развитие идей «мэтра» к полному краху.
Одним из ответственнейших участков идеологической борьбы является сфера художественного творчества и литературной критики. Антикоммунисты всякого рода пытаются извратить, переиначить идейно-образное содержание классических шедевров, ошельмовать творчество советских писателей. Однако международный авторитет русского «искусства живописи словом», его всемирное значение, отмеченное В. И. Лениным еще на пороге XX века, неуклонно возрастают. Преодолевая возводимые приверженцами психологической «холодной войны» завалы, литература страны победившего социализма вызывает живой интерес у читателей всех континентов, завоевывает признание все новых и новых поколений.
Значит ли сказанное, что мы вправе игнорировать акции советологов, оставаться безучастными, руководствуясь теорией «непротивления злу насилием»? Должны ли мы не обращать внимания на активнейшую деятельность воинствующего антикоммунизма в области искусства и литературы? Только на первый взгляд эти вопросы могут показаться надуманными. Разумеется, «на всякий чих не наздравствуешься». Однако обходить молчанием идеологические диверсии значило бы не только оставлять безнаказанными их вдохновителей, но и-это главное-уступать свои позиции в благородной борьбе за умы и души людей, изо дня в день подвергаемых массированной пропагандистской атаке антисоветчиков.
72
Сошлюсь на один эпизод из нашей литературоведческой практики.
В 1974 году издательство «Художественная литература» выпустило в свет десятитысячным тиражом подготовленный в ИМЛИ имени Горького АН СССР сборник статей «Русская литература и ее зарубежные критики». Как и аналогичные работы, осуществленные в Московском университете под редакцией профессора В. Кулешова («Русская литература в оценке современной зарубежной критики»), книга содержала аргументированный разбор суждений западных литературоведов о русских классиках-Пушкине, Толстом, Тургеневе, Достоевском, Блоке. Авторы сборника раскрывали мировое значение русской литературы и ее роль в идеологической борьбе. Обращение к наиновейшим американским, английским, западногерманским, скандинавским монографиям, журнальным статьям, газетным отзывам и рецензиям, другим публикациям дало возможность, с одной стороны, выявить серьезные труды искренних друзей великой русской литературы, стремящихся честно разобраться в ее национальной специфике и непреходящем мировом значении, а с другой-разоблачить фальсификаторов, идущих на все тяжкие, лишь бы обесценить свободолюбивые и гуманистические идеалы нашей культуры.
Стремясь расшатать единство лагеря социализма, посеять яд неверия в реальность перспектив коммунистического строительства, дезориентировать подрастающее поколение, советологи извращают идейнонравственное содержание русского классического наследия. Идеи и образы классической литературы, ее нравственный пафос противопоставляются советской действительности. Но все эти попытки бессильны поколебать прочную и ясную истину: именно в Советском Союзе впервые в истории обрели плоть и кровь самые дерзновенные, самые высокие идеалы гуманизма, страстными пропагандистами которых были русские писатели-классики.
Сборник был с интересом принят у нас, замечен и зарубежными специалистами.
Прошло несколько лет. Во время одного международного симпозиума в Москве ко мне подошел американский гость, славист по профессии, и сказал, что, будучи составителем и редактором названного издания, я, вероятно, хотел бы знать, какую реакцию эта и ей по73
добные книги вызывают за океаном. Так вот, заявил он, зря советские литературоведы тратят энергию на разоблачение всякого рода советологических поделок. Стоит ли вступать в полемику с авторами, которых, поверьте, в Штатах настоящие филологи всерьез в расчет не принимают? Ведь, собственно, к науке как таковой они прямого отношения не имеют...
Об этой беглой беседе я вспоминаю всякий раз, когда листаю очередное «исследование», посвященное русской литературе, классической или современной. Нет, нельзя нам предаваться благодушию и оставлять без ответа измышления наших идеологических противников, сеющих семена вражды между народами! Беспардонно манипулируя читательским сознанием, ориентируясь на стереотипное мировосприятие, эти господа вводят в заблуждение, дезинформируют напуганных антисоветскими россказнями людей.
Конечно, к настоящей науке лжеученые типа, скажем, западногерманского «русиста» Вольфганга Казака (кстати сказать, весьма активного и плодовитого) отношения не имеют, хотя они и не прочь выступать под солидными академическими масками. Тот же Казак в своем скандально известном «Лексиконе русской литературы после 1917 года» собрал большой фактический материал, призванный заворожить доверчивого читателя. Внешне словарь и не отличишь от добропорядочных капитальных энциклопедических справочников. Но весь громадный «аппарат», эти монбланы соответствующим образом препарированных фактов должны, по замыслу составителя, служить одной только цели: В. Казаку важно политически заклеймить, нравственно оболгать буквально всех советских писателей-от Горького и Шолохова до Эренбурга и Симонова. А на первый план выдвигаются пигмеи, творческие импотенты из числа так называемых «несогласных»...
Ослепленные ненавистью к нашей Родине, ко всему светлому и жизнеутверждающему в литературе, советологи порой сами себя разоблачают. Не следует, однако, недооценивать их изворотливости и оперативности. Ими накоплен немалый провокаторский опыт, пройдена соответствующая «школа». Советологи пользуются, как известно, по сути, неограниченной поддержкой со стороны власть имущих. Им обеспечено благоволение в определенных политических сферах.
Враждебную деятельность советологов в области 74
литературы нельзя оставлять без ответа еще и потому, что под их влияние подчас попадают и вроде бы респектабельные буржуазные ученые, гордящиеся своей «неангажированностью». Последние довольно охотно демонстрируют свой либерализм, ухитряясь в то же время шагать в ногу с адептами антикоммунизма. Так, английский русист Маклин, автор не лишенной определенных достоинств монографии о Лескове, счел возможным, так сказать, между делом ввести в свое историко-литературное повествование расхожие антисоветские тезисы, не делающие чести ученому.
Партия нацеливает нас на активный отпор антисоветизму. Советская литературная наука и критическая мысль всегда отличались своим наступательным духом. Они неизменно выходили победителями в сражениях с идеологическим противником. Вспомним хотя бы наследие А. В. Луначарского-ренессансного масштаба, высокого духовного мужества, неоглядных знаний. Его острые, блестящие по форме, неопровержимые по логике аргументации выступления во многом сохраняют свое актуальное значение и сегодня. Вот у кого надобно учиться стратегии и тактике борьбы против новомодных буржуазных и ревизионистских «учений», против тех, кому неймется дискредитировать культурное строительство в СССР.
Мы живем в эпоху резкого противостояния антагонистических социальных систем, мировоззрений, в условиях, когда решаются судьбы мира. Накал борьбы накладывает свою печать фактически на все области духовной жизни, в том числе, естественно, и на литературу. Сошлемся на книги и статьи А. Беляева и В. Озерова, Ю. Суровцева, Д. Затонского, А. Овчаренко и Ф. Кузнецова, Л. Новиченко и А. Зися, Т. Мотылевой и В. Дмитриева, Е. Книпович и Я. Засурского, Н. Ана- стасьева и П. Топера, в которых дается достойная отповедь современной советологии, содержится партийный анализ складывающейся в мировой художественной культуре ситуации.
Бескомпромиссность и принципиальность, широта мировоззрения и умение заглянуть в будущее отличают лучшие выступления наших литературоведов и критиков, обращающихся к международным проблемам. В строю остаются глубокие труды И. Анисимова и Б. Сучкова. Выдержала испытание временем посмертно изданная в середине 70-х годов книга А. Дымшица «Ни75
щета советологии и ревизионизма». Но довольствоваться достигнутым уровнем, идти проторенными путями мы не можем: жизнь каждодневно выдвигает новые, все более сложные задачи.
В свете сказанного заслуживают пристального внимания недавно вышедшие в свет содержательные работы двух авторитетных литераторов, бойцовские качества которых принесли им известность не только у нас, но и за рубежом. Они находятся на передней линии огня, сознают себя постоянно «мобилизованными и призванными». Речь идет о книгах Ю. Лукина «Идеология и художественная культура» и В. Борщукова «Поле битвы идей».
Отнюдь не собираюсь выдавать эти работы за некие безупречные модели, следование которым гарантирует безусловный успех. Но нельзя не разделить пафос их создателей, главную мысль каждой из них. Не забудем, что работы подобного рода, помимо фундаментальных знаний, научной целеустремленности и политической зрелости, требуют еще и гражданского мужества.
Это разные книги-и не только по авторскому почерку, темпераменту, использованному материалу, но и по самому подходу к анализу насущных проблем развития художественной культуры в расколотом мире, в условиях все обостряющейся и принимающей все более изощренные формы идеологической борьбы.
Ю. Лукин склонен к крупномасштабной теоретикометодологической постановке вопроса, к обобщениям. Его книга насквозь полемична, но полемика эта ведется не впрямую, не в лоб. Автор, думается, прав, полагая, что одним из эффективных, действенных приемов борьбы против враждебных концепций в области культуры является творческое развитие и утверждение наших, марксистско-ленинских представлений о природе, специфике, целенаправленности духовной деятельности человека, ее социально-классовой обусловленности. И это ему удается доказать, особенно в главах «Социалистическая художественная культура», «Художественная культура и идеология», «Возрастание роли художественной культуры в обществе развитого социализма».
Чем крепче «тылы», тем сплоченнее наши ряды, тем успешнее, результативнее борьба с оппонентами по ту сторону баррикад. Ю. Лукин четко выявляет и точно квалифицирует отступления от основополагающих принципов материалистической эстетики, которые под76
час еще допускаются иными отечественными теоретиками искусства, историками национальной культуры, литературными критиками. Убедительный разбор допускаемых ошибок содержится, в частности, в разделе «Только демократические и социалистические элементы». Он и составляет зерно главы «Культурное наследие и классовый критерий». К сожалению, той же обстоятельности и неторопливости недостает важной по замыслу главе, касающейся культурного обмена в условиях идеологической конфронтации, идеологического сотрудничества и взаимообогащения братских культур.
Книга Ю. Лукина в целом еще раз убеждает в том, что незаменимую роль в развенчании мифов враждебной коммунизму пропаганды призваны в полной мере играть не только труды тех специалистов, которые заняты непосредственным опровержением советологических концепций культуры. Исследования, направленные «вовнутрь», содержащие здоровые элементы трезвой самокритики, служащие развитию и укреплению основ нашей методологии,-не менее действенное оружие.
Автор книги «Поле битвы идей» В. Борщуков-многоопытный, компетентный, основательно эрудированный литератор. Последней книге, снабженной подзаголовком «Современная зарубежная критика о советской литературе», предшествовали такие издания, как «Правда и ложь о советской литературе» (1972), «Советская литература с буржуазной точки зрения. Критика критики» (совместно с профессором Э. Хаксельшнайде- ром, 1980) и др.
Книга В. Борщукова отличается своим поистине энциклопедическим размахом. В ней упомянута без малого тысяча писателей, критиков, теоретиков искусства - отечественных и зарубежных, даны ссылки на пятьсот с лишним источников, преимущественно западногерманских, а также американских и английских. Учтены, по сути, все новейшие публикации в СССР и странах социалистического содружества по проблемам социалистического реализма, истории многонациональной советской литературы. В своих раздумьях и выводах В. Борщуков стремится-и это тоже немаловажно-быть максимально объективным и непредвзятым.
В книге В. Борщукова обстоятельно исследуется такая важная и актуальная сейчас проблема, как изучение советской литературы за рубежом, в социалистических и капиталистических странах. Анализируя богатый и 77
разнообразный материал, автор создает впечатляющую панораму взаимодействия литературы Страны Советов с мировым литературным процессом на протяжении многих десятилетий.
Значительное место в книге занимает критика буржуазных советологических концепций, извращающих самую суть советской литературы, ее эстетические ценности, историю ее развития от самых истоков до наших дней. Острая полемика ведется по коренным теоретическим проблемам: революция и литература, историко- литературные концепции, творческий метод, наследие крупнейших советских писателей. При этом в книге рассматриваются и новые направления и тенденции в современной советологии.
Книга В. Борщукова убедительно показывает, что интерпретация советской литературы на Западе всегда была и есть поле битвы идей, где сталкиваются в непримиримой борьбе правда и ложь, прогресс и реакция, реализм и модернизм.
К безусловным удачам автора мы отнесли разбор советологических сочинений таких ярых антикоммунистов, как Э. фон Сахно, А. Штайнингер, Э. Браун. Немало справедливого сказано о незадачливых эпигонах Глеба Струве, чье «творчество» свидетельствует о полном крахе идей их некогда столь влиятельного мэтра. Таких страниц в книге немало.
Современная советология-явление «многоотраслевое». И борьба с ним ведется на разных уровнях. Наряду с летучими публицистическими выступлениями, оперативными «рейдами», нужна повседневная углубленная аналитическая работа, дающая возможность осмыслить современный историко-литературный процесс в широком контексте международного социально-политического развития и духовной жизни человечества сегодня. Эта задача нам по плечу.
А. Беляев
МИФЫ ДЕМИНГА БРАУНА
«Профессор русской литературы» Деминг Браун-кто он? «Классики» отщепенцев. Фабрика лжи - технология производства. Как «освободить» советских писателей? Крокодиловы слезы советологов. Галиматья от науки. Ярлыки и жетоны. Курс «анти»-советской литературы. Как Д. Браун «заменял» марксизм-ленинизм. Куда же плывет «Белый пароход»? Непризнанные «толстые» и «Достоевские» и их патрон.
Американский советолог Деминг Браун числится профессором русской литературы в Мичиганском университете. Недавно он выпустил в свет очередную книгу под названием «Советская русская литература после Сталина». Книга вышла в Лондоне, Нью-Йорке и Мельбурне. В обычных для американских изданий рекламных отзывах, помещаемых на обложке, книга преподносится как «долгожданная», «единственная по глубине и охвату исследуемой темы» и настоятельно рекомендуется прежде всего для использования в качестве вузовского учебника, а также и для всех прочих «западных читателей».
Свою деятельность на ниве советологии Д. Браун начинал в Америке в мрачные годы маккартизма. Вышедшие в 1952 и в 1954 годах книги Д. Брауна «Американские авторы в Советской России, 1917-1941 гг.» и «Указатель к переводам американской литературы на русский язык в советское время» (совместно с Гленорой Браун) носят явный отпечаток пережитого автором испуга от маккартистской идеологической агрессивности, перед которой он сразу и, похоже, навсегда капитулировал. В сочинениях Д. Брауна нельзя не заметить подчеркнутого антикоммунизма и открытого антисоветизма автора.
В дальнейшем Д. Браун продолжал расширять и, так сказать, развивать свою первоначальную тему о переводах американской литературы на русский язык. На одном из международных конгрессов он уже выступал с докладом от лица американских «славистов», докладом настолько тенденциозным и предвзятым, что 79
был по заслугам раскритикован в советском литературоведении за откровенную политическую предубежденность и научную недобросовестность. В 1982 году Д. Браун выпустил книгу «Советское отношение к американской литературе», которая, в сущности, мало в чем отличалась от предыдущих двух его книг. Вот разве только суждения, выводы и оценки автора приобрели более пропагандистский, пронизанный злобой к советской культуре и советскому человеку характер. Стало очевидным, что антикоммунизм и антисоветизм превратились в норму мышления автора и он потерял способность судить объективно и здраво о советской культуре и культурной политике КПСС. Советские литературоведы-американисты дали достойную отповедь клеветнической книжке Д. Брауна.
И вот перед нами новое сочинение советолога. На этот раз он дерзнул (судя по оглавлению) отойти от заезженной им темы и дать обзор и оценку советской литературе за последние двадцать пять лет.
Что ж, опыт советской литературы последней четверти века действительно представляет большой интерес для объективного исследователя. Восстановление ленинских норм в жизни советского общества после XX съезда КПСС, последовательная работа партии по развитию социалистического демократизма в нашей стране позволили советским писателям добиться выдающихся творческих успехов.
Очень многие произведения советской художественной литературы, созданные за эти годы, получили широкое признание не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Престиж и авторитет советской литературы, несущей миру правду о реальном социализме, советском человеке и советском образе жизни, правду, воплощенную в ярких художественных образах, заметно окрепли и возросли.
Ныне общепризнаны не только художественные достоинства советской литературы, но и исключительный ее гуманизм, высота ее нравственных критериев.
Разумеется, как и все живое, советская литература развивалась, преодолевая противоречия. Одни из них порождались движением времени, несоответствием уровня художественной мысли стремительному развитию мысли общественной, другие коренились в самой природе художественного творчества. Разобраться во 80
всем этом-задача, право же, хотя и не простая, но заслуживающая серьезного внимания и поддержки.
Однако уже первая страница сочинения Д. Брауна вызывает недоумение. В самом деле, как согласовать заголовок книги «Советская (курсив мой-Л. Б.) русская литература...» со следующим безапелляционным утверждением : «В последние годы термин «советская литература» становится все более непригодным». Для кого «непригодным»? От чьего имени изрекает подобное советолог? Д. Браун, принимая позу строгого судьи, выносит словно бы приговор: «...термин «советская литература» стал, в сущности, бессмысленным»1.
Вот так-то. Ни больше и ни меньше. Нет ее, оказывается, для Д. Брауна, этой советской литературы, и советолог желает, чтобы не было ее ни для кого. И выдает, как видим, лично им желаемое за общественное и свершившееся.
Аргументация этого «закрытия» советской литературы у Д. Брауна носит сугубо спекулятивный и политический характер. Разыгрывая наивного простачка, советолог вопрошает: а что, мол, разве не являются сочинения Солженицына или, скажем, некоего Амальрика «советской литературой»? Подхлестывая себя, советолог возбужденно спрашивает: «Правильно ли считать, что произведения перестают считаться принадлежащими советской литературе, как только их авторы покинули пределы СССР?»
Нет, отвечает сам себе Д. Браун, считать так было бы, по его просвещенному мнению, неправильным. Тог-
В наши дни Соединенные Штаты насаждают как во внутренней, так и во внешней политике самые разнообразные формы жестокости, захватничества, деградации личности и разрушения свобод, что, по их же беспардонному утверждению, якобы свойственно «чудовищу» - коммунизму.
Фарли Моуэт, канадский прозаик и публицист 1 Brown Deming. Sowiet Russian Literature since Stalin. Cambridge University Press, 1979 (Далее цит. по этому изданию).
81
да, мол, от современной художественной литературы, скорбно вещает советолог, в СССР ничего не останется.
И «подтверждает» это свое ни на чем не основанное мнение ошеломляющим заявлением о том, что все публикуемое в Советском Союзе в журналах и в виде книг представляет собой, дескать, лишь «претензию на литературу». Он далее обвиняет советских писателей в «бесчестности» и «поверхностности», а их творчество объявляет «скучным, заданным и лишенным художественного воображения». Мало того, войдя в обличительный раж, Д. Браун утверждает, что советским писателям якобы присущ «недостаток образования и эрудиции» (!), и клеймит советскую власть, которая, дескать, «не разрешает им (т. е. советским писателям.-Л. Б.) быть просвещенными».
Заявляя о том, что издающаяся в СССР советская литература якобы находится в критическом положении, что ей не хватает «символичности, впечатляющей образности (density of imagery) и богатства метафор», Д. Браун всячески выпячивает и восхваляет сочинительство потерявших Родину отщепенцев. Он назойливо старается сохранить за этим сочинительством право гражданства, внушая мысль, что это, мол, тоже есть советская литература. Вот почему советолог объявляет: «Независимо от того, изданы ли произведения в СССР или только за его пределами... в этой моей книге термин «советская литература» будет применяться и к тем, и к другим».
Демагогический характер подобных заявлений ясен и понятен. Он продиктован тщетным стремлением сохранить «на плаву» фигуры, полностью себя дискредитировавшие в политическом и художественном отношениях.
Ныне никому уже не надо доказывать, что, скажем, в сочинительстве Солженицына нет ничего советского. Было и есть только злобное, доходящее до исступленной графомании изрыгание безудержной хулы на социализм и на советский народ. И давно уже не является секретом, что деятельность этого литературного власовца осуществлялась по заказу антикоммунистических центров империализма, прежде всего американского.
Навязчивость попыток советолога «пристегнуть» к великой советской литературе жалкую кучку отщепенцев убедительно говорит о том, что само по себе сочинительство этих личностей не представляет ровно ника82
кого интереса. Ни политического, ни тем более художественного. Вот почему антикоммунистам выгодно числить подотчетные им продажные перья по разряду «советской литературы».
Утверждая, что советской литературы как таковой не существует, Д. Браун в то же время пишет, что она за последние двадцать пять лет все же в какой-то степени, дескать, развивалась, правда, по мнению советологии, вопреки желанию «властей».
Роль «власти» в развитии художественной литературы в СССР Д. Браун видит прежде всего в навязывании неких ограничительных и запретительных предписаний писателям, которые, мол, только и должны, что «просвещать и убеждать читателя работать во имя программы партии». Браун, похоже, всерьез считает, что «власти требуют, чтобы литература выполняла узкую просветительскую и направляющую роль инструктора, в деталях втолковывая читателям идеологические ценности и образцы общественного поведения».
Какими же путями и средствами проводит в жизнь эти свои «требования» советская власть? А очень простыми и даже примитивными. «Руководители партии,- пишет автор,-отбирали главные темы и сюжеты литературы и тщательно следили за их идеологическим наполнением, суть которого составляют шовинизм... ненависть ко всему иностранному... восхваление «нового советского человека»...
Подобных нелепых утверждений и домыслов в книге Д. Брауна немало. К их числу относятся и отличающиеся крайней тенденциозной нетерпимостью суждения советолога о Союзе писателей СССР, который является, как пишет Браун, «важным и мощным инструментом контроля», осуществляющим «монопольную власть над всей официальной литературной деятельностью».
Разумеется, даже Д. Браун не рискует отрицать, что политика Союза писателей вырабатывается на его съездах «демократично», как демократично избирается на съездах и его руководство-правление Союза. Но это, мол, «номинально». Правление руководит деятельностью Союза, избирая из своей среды секретариат, «который осуществляет повседневное руководство жизнью Союза». Но и это, мол, только «в строго формальном смысле слова». А по существу, таинственно намекает советолог, внутри секретариата существует «неуставной узкий круг людей», большинство кото83
рых-«если не все» - являются представителями... КГБ(!). Они-то, видите ли, ежедневно и вершат все писательские дела в СССР, и «принимают ключевые решения».
Причем интересно проследить за методологией фабрикации лжи Д. Брауном, которой он следует на протяжении всей своей книги. Д. Браун оперирует порой действительно имеющими место фактами, однако со свойственной ему изобретательностью он препарирует их в одном-единственном негативном смысле.
Вот, к примеру, как пишет он о том, что входит составной частью в деятельность Союза писателей. Будучи организацией творческой, профессиональной, Союз писателей, как известно, и в самом деле время от времени обсуждает и творческие отчеты писателей, и их новые, еще не напечатанные произведения, так же как и уже вышедшие в свет книги, и труд переводчиков, и деятельность издательств, органов печати, подведомственных этой общественной организации, и публикует отчеты об этих обсуждениях. А Д. Браун вещает:
«Главное внимание Союза поглощает надзор за издательской политикой и руководство сетью периодических изданий... значительное время у руководителей Союза уходит на чтение и обсуждение рукописей... чтобы определить, каким образом следует доработать то или иное произведение... процесс простой: писатель вызывается на ковер, и ему говорится, как и что он должен изменить в своей книге, если хочет увидеть ее напечатанной».
Итак, схема руководства литературным процессом в СССР, по Д. Брауну, до примитивности проста: руководители партии «отбирают темы и сюжеты» для писателей. Ну, а раз «отбирают сюжеты», следовательно кто-то и как-то их распределяет по персоналиям. Может, Д. Браун полагает, что в Москве существует некий закрытый «распределитель» тем и сюжетов? Право, недоговоренность советолога приводит в недоумение, тем более что он, судя по всему, в избытке обладает способностью к выдумке самых фантастических и бредовых предположений, выдаваемых за сущее.
Абсурдная схема руководства литературным движением в СССР, нарисованная в книге Д. Брауна, могла возникнуть только в воспаленном воображении советолога, отравленного неизлечимым недугом антикоммунизма. Она предназначена для внедрения антисоветских 84
взглядов и настроений и служит своего рода «теоретическим обоснованием» злобных выпадов американских советологов в адрес Союза писателей СССР.
В докладе на съезде советских писателей Г. Марков метко высмеял подобную линию в писаниях советологов, утверждающих, что советские писатели создают якобы свои произведения чуть ли не под диктовку комиссаров. Под аплодисменты делегатов съезда он заявил: «Товарищи, утешим господ, скажем им правду: действительно, в Союзе писателей много комиссаров. Их восемь тысяч! Все мы, советские писатели, по убеждению, по духу, по складу жизни неукротимые комиссары, для которых нет ничего дороже ленинской правды на земле, великого дела нашего героического народа и родной Коммунистической партии!»1
Авторитет Союза писателей СССР в советском обществе действительно высок. Союз писателей проявил себя компетентным и высокопрофессиональным организатором литературного процесса. А принцип его жизни и деятельности сформулирован еще М. Горьким на Первом съезде советских писателей: «Союз создается не для того, чтобы объединить только физически художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений ее творчества, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всею трудотворческой энергией страны. Речь идет, конечно, не о том, чтобы ограничить индивидуальность творчества, но чтобы представить для него широчайшие возможности дальнейшего мощного развития»2.
Союз писателей СССР действительно располагает «широчайшими возможностями» для создания благоприятной и деловой творческой атмосферы, в том числе большой сетью домов творчества, писательских клубов, возможностью оплачивать творческие поездки писателей по стране и за ее пределами. Союз заботится о жилищных условиях писателей, строит поликлиники, помогает при необходимости и материально. Благо Литфонд СССР, «чьи огромные доходы составляются из 1 Шестой съезд писателей СССР. Стенографический отчет. M., Советский писатель, 1978, с. 19.
2 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., Госиздат, 1934, с. 17.
85
членских взносов» (так пишет Д. Браун), в состоянии эффективно позаботиться о нуждах каждого члена Союза писателей СССР.
Но именно эти благодатные возможности Д. Браун комментирует осуждающе. Ему очень не по душе, что труд писателя высокопрестижен в советском обществе, что советский писатель видит в своей профессиональной творческой организации надежную опору и защитника его интересов. Д. Браун лицемерно сетует, что подобные благоприятные условия, дескать, лишают советских писателей «независимости мышления»(!), порождают «самодовольство, приятно обволакивающий конформизм».
Пропагандистская цель подобных рассуждений Брауна не нуждается в особой расшифровке. Его бесит и выводит из себя органическая слитность общества развитого социализма со своими художниками, щедрая поддержка творческих поисков и постоянная забота о совершенствовании мастерства художников, создание для этого необходимых условий. Советский художник - равноправный член общества, а не отверженный пария, он такой же хозяин своей судьбы и судьбы народной, как рабочий и крестьянин. «Радуюсь я-это мой труд вливается в труд моей республики!»-гордо заявлял Маяковский.
Антикоммунисты жаждут разорвать эту кровную связь советского художника с жизнью своего народа, превратить художника в стороннего наблюдателя, в злорадного обличителя, противопоставить художника своему обществу, идеям социализма. Именно в этом суть спекулятивной демагогии о «зависимом» и «независимом» мышлении художника. Браун хотел бы-и это с неумолимой логикой следует из его сентенций-добиться «независимости» художника от социализма и советского образа жизни с его принципами коллективизма, равенства и братства всех людей. Для чего? Для того, чтобы художник перешел - и это тоже следует с неумолимой логикой-на позиции зависимости от капитализма и антисоветских пропагандистских центров Запада.
В этом - и только в этом - классовый смысл критических пассажей Д. Брауна по поводу благоприятных условий творческого труда советских писателей.
Усиление злобных нападок американских советологов на Союз писателей СССР в последние годы как 86
нельзя лучше подтверждает, что Союз писателей СССР, его секретариат и правление эффективно, компетентно и умело строят свою работу по руководству литературным процессом и проведению в жизнь рекомендаций и решений партии в сфере художественной мысли. Эта работа находит полную поддержку и признание советских писателей, ибо она помогает им лучше осознать свою кровную связь с коммунистическим строительством, пробуждает высокие чувства советского патриотизма, верности Советской Родине и идеалам коммунизма, преданности делу ленинской партии и советскому народу.
Д. Браун старается внушить читателю клеветническую мысль о том, что «революция и возникшая в результате ее политическая система не достигли успеха в создании особого советского человека».
Поэтому, неумолимо диктует советолог, советским читателям следует вернуться к «обычной человечности в литературе, независимой от политических и социальных систем», как будто бы это было в 20-е годы. А достичь этого «заманчивого уровня» сегодня советские писатели, по Д. Брауну, могут лишь тогда, когда они (внимание!) сумеют «приблизиться к той манере творчества, которая характерна для писателей современного Запада...».
Заметим: «независимой от политической и социальной систем». Ранее, в книге «Советское отношение к американской литературе», Д. Браун вел речь о том, что советским писателям необходимо, дескать, «освободиться» от марксистско-ленинской идеологии, которая, утверждал советолог, якобы «сужает» горизонт художнического видения советских писателей. Он утверждал, что идеологическое единство лишает советскую литературу «множества идей и влияний, которые могли бы освежить и обогатить ее»1.
Теперь Браун конкретизировал свою мысль и уже впрямую призывает советских писателей «приблизиться к той манере творчества, которая характерна для писателей современного Запада...».
Формализм, нигилизм, мистицизм, проповедь расизма, насилия и эротики-не к этим ли «идеям» призывает «приблизиться» Д. Браун? Политическая цель 1 Brown D. Sowiet Attitudes Toward Amerikan Writing. Princeton, 1962, p. 103.
87
культивирования всех этих идей, переполняющих современное буржуазное искусство и литературу, в частности американскую, заключается в одном: увести художественную мысль подальше от коренных проблем жизни общества, от активного участия художника в решении социальных вопросов, иными словами, увести художника от политики, связанной с борьбой трудящихся за справедливость, за социализм и мир на земле.
Как и предшествующие поколения американских советологов, главную помеху в осуществлении этих своих вожделений Д. Браун видит в творческом методе советских писателей, выросшем из практики художественного осмысления революционного движения пролетариата в России, методе, связавшем воедино художественную мысль с борьбой за победу идеалов социализма и коммунизма. Имя этому методу-социалистический реализм. Он дал миру Максима Горького, Владимира Маяковского, Михаила Шолохова... Этими именами лишь начинается советская литература, обогатившая за истекшие шесть десятилетий мировую литературу выдающимися новаторскими произведениями, в которых впервые в истории главным героем выступил освобожденный от капиталистического угнетения человек новой формации-советский человек.
По меткому замечанию Сергея Наровчатова, советский народ дал миру много талантливых и ярких писателей, творчество которых «напоено живыми соками ленинизма»1, укрепляющего веру людей в справедливое жизнеустройство.
Даже и не стараясь вникнуть в суть художественной практики советских писателей, Д. Браун с унылой монотонностью повторяет свои давние обличения социалистического реализма, обвиняя его во всех смертных грехах. В книге «Советское отношение к американской литературе» Д. Браун изображал метод социалистического реализма в виде некоего подобия «социалистической науки футурологии» («...главной функцией социалистического реализма является указание путей к обществу будущего2).
Через 17 лет Д. Браун вновь утверждает, что социалистический реализм якобы требует от советских писа1 Коммунист, 1974, № 1, с. 95.
2 Brown D. Sowiet Attitudes Toward Amerikan Writing, p. 12.
88
телей изображать жизнь «частично как она есть, но главным образом какой она должна стать»1.
Д. Браун стремится запугать американского читателя, создать у него превратное представление о художественном методе советских писателей. Советолог многократно повторяет, что социалистический реализм-это, мол, «запреты» и «заранее предопределенные искажения истины» и т. д. и т. п.
Ну а раз «удушающие ограничения», раз сплошные «запреты» и «предопределенные искажения истины», то, заявляет Д. Браун, нечего и ожидать чего-либо выдающегося от советских писателей. И незачем, дескать, требовать переводов их произведений на доступный американскому читателю язык. Все, что следует знать об этой литературе американскому читателю, сказано в книгах советологов. Альтернативы практически нет: американские буржуазные издатели наглухо блокировали дорогу произведениям современной советской литературы к американскому читателю. Они не переводят и не издают почти ничего под различными надуманными предлогами.
А теоретическое обоснование позиция издателей находит в трудах советологов, упрямо старающихся «закрыть» великую художественную литературу общества развитого социализма.
Создается впечатление, что в изучении советской литературной теории советологи остановились на периоде РАППа и все тезисы рапповских «теоретиков», давно уже развенчанные нашей критикой, произвольно переносят в день сегодняшний и выдают за самоновейшее толкование социалистического реализма.
Вот уж действительный парадокс истории: советологи в роли воскресителей рапповских взглядов, давно похороненных и изгнанных из советской литературной практики.
Социалистический реализм отнюдь не система запретов и ограничений, а метод, постоянно развивающийся, стимулирующий художественную мысль, ее раскрепощение, требующий от художника высокого уровня исполнения и классового подхода к понятию «художественная правда».
Надо сказать, что отдельных советских писателей
1 Brown D. Sowiet Russian Literature since Stalin, p. 17 (Далее цит. по этому изданию).
89
Д. Браун вроде бы и готов признать, но с большими оговорками, а порой даже с рекомендациями. Вот, скажем, как будто ценит он Юрия Трифонова за его «городские повести». Но... все бы вроде ничего, да жаль, вздыхает Браун, в повестях Трифонова не нашел он темы «гомосексуализма»... Так, эдакий намек, легкое недовольство вроде бы, но вывод напрашивается неумолимый: будешь о гомосексуализме писать-признаем за европейскую по крайней мере величину. Не хватает Ю. Трифонову, дескать, только этого.
Очень бы хотелось Д. Брауну, чтобы «влияние современной западной литературы» на творчество советских писателей стало бы «значительно большим». Да вот беда-мешает этому «официальный контроль».
Советолог жаждет разрушить, ликвидировать этот «контроль», мешающий подчинить советскую литературу западным стандартам.
Жажда его останется неутоленной. Ибо творчество советских писателей, самобытное, оригинальное, новаторское, развивается по своим собственным законам и отнюдь не собирается подчиняться чьему-то влиянию и подстраиваться под западные «стандарты», хотя бы и стократно разрекламированные американскими советологами. Менее всего они нуждаются в поучениях господина Брауна.
К измышлениям Д. Брауна по поводу социалистического реализма близко примыкают и его насквозь лицемерные сетования по поводу переводов в Советском Союзе зарубежной литературы. Он словно бы признает, что в последние двадцать лет западную литературу в СССР стали издавать шире и что «соответственно», как рассчитывает советолог, советские писатели становятся «более восприимчивы к западным влияниям».
Но угодить Д. Брауну положительно невозможно. Признавая, что в СССР издают в переводах многие зарубежные произведения, автор капризно морщится: «...некоторые советские писатели все еще не очень хорошо знакомы с творчеством своих западных современников».
Ах, какая незадача! Не проследили до конца, проморгали-и вот, извольте, неудовольствие. Да кто же этому виновник? Подать его сюда!
Деминг Браун сердито выговаривает: «Контроль за переводами и импортом литературы из-за границы про- 90
должает ограничивать возможности знакомства с иностранной литературой». (Обратите внимание: вновь пример той же методологии лжи-жесткое слово «контроль» намеренно употребляется вместо того, чтобы конкретно рассказать о наших принципах отбора произведений для перевода,-пусть Д. Браун с ними и не согласится.)
А мы-то, как говорится, старались! Тираж журнала «Иностранная литература» вырос до полумиллиона экземпляров; издали около семи тысяч названий книг американских авторов миллионными тиражами... И кого только не издавали: и Стейнбека, и Хемингуэя, и Олби, и Паррингтона, и Маламуда, и Сэлинджера, и О’Хару, и Фолкнера, и Драйзера, и Чивера, и Хейли, и Ван Вик Брукса, и Апдайка, Доктороу, Миллера, Воннегута... Издали даже трехтомную «Литературную историю США» (под редакцией Спиллера)...
Не потрафили тем не менее... Приходится опустить очи долу. Ведь ежели такой нагоняй господин Браун учиняет нашим организациям за слабую работу по переводам, то вполне закономерно предположить, что уж у них-то там, в США, переводческое дело и издание советской литературы поставлено на широчайшую ногу и, в отличие от «некоторых советских писателей», американские писатели... «очень хорошо знакомы с творчеством своих советских современников...».
Иначе какое же моральное право имел бы Д. Браун укорять советских издателей?
Однако достаточно посмотреть на статистику переводов и изданий советской художественной литературы в США, чтобы обнаружить, прямо скажем, картину незавидную. Ну совершенно неконкурентоспособную. Как говорится, слезы наворачиваются. Судите сами: против семи тысяч изданных в СССР американских авторов в США за все годы советской власти издали всего лишь около 500 книг советских авторов, то есть в 14 раз меньше! О тиражах не приходится и говорить-тут разрыв достигает астрономических размеров, и не в пользу Америки... Ежегодно советские люди могут видеть на экранах 20-25 американских художественных кинофильмов, в то время как в США советские фильмы в широком прокате отсутствуют вовсе. На сценах советских театров идет около сорока пьес американских драматургов, а что может противопоставить этому Америка?
Д. Браун печалится о том, что «некоторые» совет91
ские писатели все еще не очень хорошо знакомы с творчеством своих западных современников.
Что же сказать нам о массе писателей американских, которые не имеют, в сущности, никакой возможности знакомиться с советской литературой, ибо ее просто не переводят и не издают в США, ссылаясь на некие «коммерческие невыгоды» или демагогически прикрываясь абстрактными теоретическими критериями, параметры которых, конечно же, безразмерны.
К слову сказать, не так давно другой советолог, М. Фридберг, подготовил наукообразный доклад, в котором пытался объяснить необъяснимое и доказать «правоту» американских издателей, не торопящихся выполнять Хельсинкские соглашения об обмене идеями и не публикующих книг советских писателей.
В «докладе» М. Фридберга утверждается, что произведения советской художественной литературы не издаются в США исключительно по причинам эстетическим. «Нет ни одного советского писателя, чьи произведения были бы запрещены в Соединенных Штатах»1 ,- патетически восклицает советолог. Американские издатели, продолжает М. Фридберг, публикуют то, что им хочется публиковать, то, что им нравится, а чего не хочется-то и не публикуют. А вот, мол, в СССР издатели выпускают в свет лишь те произведения иностранной художественной литературы, которые прошли некий придирчивый правительственный контроль(!).
Итак, наличие «придирчивого правительственного контроля» позволило выпустить в СССР свыше семи тысяч названий произведений американских авторов. А
В США запрещен въезд всемирно известным прогрессивным писателям, чьи политические взгляды и произведения не устраивают Вашингтон. Так, было отказано в визе видному колумбийскому писателю, лауреату Нобелевской премии Габриэлю Гарсиа Маркесу, известному итальянскому писателю Альберто Моравиа и другим.
По страницам зарубежной печати 1 «New Jork Times», 15.04.80.
92
«полная свобода» американских издателей едва-едва обеспечила выпуск пятисот названий советских авторов за все годы существования советской литературы...
Любому непредвзятому человеку ясна суть политической демагогии М. Фридберга, тщетно старающегося прикрыть фиговым листком словесной эквилибристики постыдную ситуацию с изданием советской художественной литературы в США.
Патетическое заявление о том, что «нет ни одного советского писателя, чьи произведения были бы запрещены в Соединенных Штатах», есть пустая фраза, не более того. Цифры говорят, что на каждое изданное в СССР произведение американского писателя в США «подвергаются запрету» тридцать советских. Рассуждения Фридберга о том, что эти произведения являются якобы «назидательными, ханжескими и, как это ни парадоксально, в общем, старомодными», абсолютно голословны и не выдерживают никакой критики.
И, пожалуй, напрасно М. Фридберг уподобляет всех американских издателей той знаменитой гоголевской Хивре (или Хавронье Никифоровне, как вежливо именовал ее дружок сердца попович Афанасий Иванович), которая, распаляясь, вопила на честного парубка в белой свитке: «Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь! И тетка дрянь!»1
Чтобы судить о советской литературе, надо ее знать из первых, как говорится, рук, а не в предвзятом пересказе советологов.
Как известно, Хельсинкские соглашения предполагают среди других договоренностей, направленных на закрепление добрососедских отношений между странами и народами, также и постоянный обмен культурными ценностями.
Наиболее показательным в этом плане является перевод и издание зарубежной литературы в каждой стране, подписавшей соглашения. И когда мы сравниваем цифры переводов, то видим, кто на самом деле обеспечивает своим народам возможность приобщения к мировой литературе, а кто только пустословит об этом и занимается выдумыванием демагогических доводов в оправдание своего нежелания дать народам воз1 Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., Художественная литература, 1976, с. 17.
93
можность читать литературу социалистических стран и прежде всего советскую литературу.
«В целом народы социалистических стран значительно лучше осведомлены о жизни на Западе, чем трудящиеся массы капиталистических стран о социалистической действительности. В чем причина этого явления? Самая глубокая состоит в том, что правящий класс в буржуазных странах явно не заинтересован в том, чтобы трудящиеся этих стран из первоисточников узнавали правду о странах социализма, их общественном и культурном развитии, о политических и нравственных устоях граждан социалистического общества» ^ отмечалось на Конференции коммунистических и рабочих партий Европы в Берлине.
Именно в этих словах и заключена вся правда о причинах, заставляющих буржуазных издателей злонамеренно игнорировать великую литературу современности-литературу советскую.
Сугубо политические рассуждения Д. Брауна, которыми он начиняет свою книгу, выполняют четкую психологическую задачу: возбудить в умах читателей книги априорно негативное восприятие предмета исследования, то есть советской литературы. Советолог не стесняется в выборе средств для формирования предвзятого отношения читателей к литературе Страны Советов. В ход идет все: фальсификации, подтасовки, подмена одних понятий другими, наконец, клевета. И все это затуманивается этаким легким флером сочувственной грусти по поводу судьбы советских писателей... Д. Браун в роли заботливого «друга» советской литературы-более лицемерную позицию представить трудно.
После того как Д. Браун объяснил американскому читателю, что советской литературы как таковой нет, а писатели в СССР пишут по указаниям и чуть ли не под диктовку партии, что вообще писатели в Советской России, мягко говоря, малообразованны и «не эрудиро- ваны», что они лишены возможностей для знакомства с современной западной литературой и т. д. и т. п.,-после всего этого автор начинает подробно рассматривать жанры и направления той самой советской литературы 1 За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Европе. К итогам Конференции коммунистических и рабочих партий Европы. M., Политиздат, 1976, с. 12.
94
за последнюю четверть века, которую он объявил несуществующей!
Надо отметить, чТо Д. Браун попытался расширить стандартную для американских советологов обойму имен советских писателей и поэтов и ввел в свои рассуждения более широкий круг советских авторов и произведений последних двадцати пяти лет.
Скажем, ведя речь о литературе, посвященной военной теме, Д. Браун называет не только «Василия Теркина» А. Твардовского, «Взятие Великошумска» Л. Леонова, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Дни и ночи» К. Симонова, но и В. Панову и Э. Казакевича (хотя самого яркого произведения-повести «Звезда»- советолог даже не упоминает), и Г. Бакланова, и В. Быкова, и Ю. Бондарева, и В. Богомолова, и некоторых других. Однако почему-то не привлекли внимания советолога такие выдающиеся произведения военной поры, как «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Морская душа» Л. Соболева, военные пьесы и стихи К. Симонова, «Русский характер» А. Толстого, публицистика И. Эренбурга.
Бросается в глаза неадекватное внимание Д. Брауна к определенным авторам. Скажем, разговор о промелькнувшей в ряду многих подобных произведений повести Б. Балтера «До свиданья, мальчики» занимает в книге целых полторы страницы, а, скажем, о романе В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», вызвавшем острый интерес читателей и изданном во многих странах, нет ни строчки. А «Поднятой целине» М. Шолохова советолог «уделил» всего три(!) строки.
Специальную главу посвящает Д. Браун мемуарной литературе, появившейся после XX съезда КПСС. Рас-
Пока многие из наших сограждан верят, что в странах социализма на повестке дня стоит голод, очереди, скука, военная муштра и принудительный труд, едва ли они пожелают серьезно задуматься вместе с нами о принципиальных общественных переменах, о пути к социализму у себя в стране.
Петер Шютт, западногерманский поэт, публицист
95
сматривая ее под весьма специфическим углом зрения, советолог старается отыскать в мемуарах советских писателей подтверждение сработанным в пропагандистских мастерских антикоммунизма концепциям о бесполезности социальных революций, тем более революций социалистических. Ничего, мол, кроме зла, эти революции людям не приносили и положительных перемен в жизни народов за собой не влекли.
Именно подобный предвзятый подход обнаруживается, например, при оценке Д. Брауном «Повести о жизни» К. Паустовского.
Известно, что в этом произведении с большой художественной выразительностью автор явил всю силу своей любви к Родине, к ее природе, ее героической истории. Но с особой гордостью пишет автор о тех колоссальных позитивных переменах, которые произошли в жизни трудовой России после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Столетиями трудовой народ России прозябал в нищете, неграмотности. Он был забит и угнетен. Народная власть под руководством ленинской партии большевиков в исторически короткий срок вывела советский народ в число самых просвещенных в мире, совершив промышленную революцию в городе и деревне, совершив культурную революцию. Ликвидировав всякие формы национального угнетения, советская власть создала невиданное в истории добровольное объединение братских наций и народностей, где все равны, а дух интернационализма не мешает национальному своеобразию.
Подчеркнув необходимость самого бережного отношения к культурным и нравственным ценностям, накопленным за тысячелетнюю историю народа, К. Паустовский воспевает нового советского человека и советский образ жизни. Не случайно именно это произведение стало одним из любимых у нашего читателя.
Но Д. Браун ничего подобного, разумеется, у Паустовского «не обнаружил». Советологу нужно было подогнать Паустовского под свою схему, и потому Д. Браун пишет, что Паустовский-де «тонко передал ощущение того, что течение русского образа жизни в основном не зависит от исторических событий»... То есть, иными словами, Октябрьская социалистическая революция ничего, дескать, не изменила в «течении русского образа жизни».
Эта навязчивая идея вновь появляется у Д. Брауна в 96
главе о так называемой «деревенской литературе». Автор утверждает, что в советской деревне писатели обнаружили «упрямое постоянство крестьянской психологии и культуры, а сам русский характер оказался почти не затронутым революцией».
Да, лучшие черты русского характера, формировавшиеся веками: свободолюбие, беззаветность в борьбе за народное дело, храбрость, умение переносить трудности, взаимопомощь, честность, доброта и порядочность, классовая солидарность и глубокий интернационализм-помогли русским рабочим и крестьянам свергнуть под руководством ленинской партии самодержавие и власть буржуазии, совершить величайшую в истории человечества революцию и стать подлинными хозяевами своей страны, своей жизни. В ходе революционной борьбы за социализм эти черты русского характера закалились, обрели новые краски, благодаря марксистско-ленинской идеологии обогатились новыми свойствами, что и позволило создать мощное Советское государство, осуществить индустриализацию, коллективизацию, разгромить наголову немецкий фашизм и вот уже четвертый десяток лет обеспечивать мирную жизнь.
Зубоскальство Брауна по поводу «незатронутости» русского характера революцией по меньшей мере неуместно. Русский характер и цели Октябрьской социалистической революции удивительно гармонично совпали и не противоречат друг другу.
Что же касается утверждения о том, что «течение русского образа жизни» не изменилось и якобы «не зависит от исторических событий», то научная несостоятельность его очевидна. Еще как зависит! Разве не претерпел радикальных изменений образ жизни, к примеру, бывших русских помещиков и капиталистов? Где он теперь, этот прежний их «образ жизни»? И где они сами, господин советолог?
Возврата к дореволюционному укладу жизни угнетателей русского трудового народа, как ясно каждому, быть не может. Следовательно, зависит «от исторических событий» образ жизни? Безусловно, зависит, и спорить здесь не о чем.
А образ жизни русских рабочих и крестьян разве остался неизменным после Октябрьской революции? Исчезли угнетение и эксплуатация народа; народ стал хозяином своей судьбы и создал советский образ жизни. 97
4. Поле битвы-сердца людей
Классовое единство, советский патриотизм и глубокий интернационализм - характерные признаки современного советского общества, целиком возникшие под воздействием, под влиянием Октябрьской социалистической революции.
Воздействие идей Октября и победоносной социалистической революции сказалось не только на перестройке образа жизни советского народа. Оно сказалось и на коренной перестройке отношений в мире, вызвав крах колониальной системы империализма и неостановимое освобождение от гнета капитализма почти на всех континентах земли.
Пропагандистские потуги советологов приуменьшить влияние социальных революций на образ жизни того или иного народа продиктованы классовыми целями империализма-увековечить свое владычество над миром труда. Цели эти ныне пришли в полное противоречие с ходом человеческой истории. Народы мира рвут цепи капитала то в одной стране, то в другой. Вчера это случилось на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Эфиопии, Анголе, сегодня-в Никарагуа, в Афганистане...
Это объективный процесс, и никакие заклинания советологов остановить ход истории не способны.
Разговор о жанрах советской литературы Д. Браун начинает с поэзии, которой посвящены целых четыре главы: «Старейшие поэты», «Первое поколение советских поэтов», «Поэты военной поры» и «Младшее поколение поэтов».
В основной политической посылке при рассмотрении творчества советских поэтов различных поколений советолог верен себе: он назойливо повторяет одну-един- ственную мысль о том, что советская поэзия «под влиянием партийных указаний о воспитательной функции искусства выродилась в пустую риторику», при этом, как кажется Д. Брауну, «основной жертвой» стала лирика, ибо «требование, чтобы поэзия поддерживала официальные взгляды и популяризировала партийные догмы, подразумевало лишь такую позицию, которой были чужды размышления или раздумья, а выражения личных эмоций поэта и вовсе были не нужны».
Браун утверждает, что в советской поэзии все было под запретом, на все смотрели с подозрением: будь то «выражение личной скорби, любви, меланхолии, даже восхищение ландшафтом как таковым...».
98
Поэтов старшего поколения, кроме Ахматовой и Пастернака, Д. Браун не жалует и при этом в выражениях не стесняется. Он не анализирует их творчества, не пытается аргументировать или доказывать свое отрицательное мнение о произведениях того или иного советского поэта. Советолог просто изрекает конечные оценки как якобы общепринятые и аксиоматичные. Так, он пишет: «...одаренный...поэт Николай Тихонов... большую часть последних 40 лет посвятил пропагандистскому сочинительству...»
Николай Асеев? Ну, кривит губы Браун, это, мол, поэт, «который, пожалуй, растратил свой талант, служа государству...».
Семен Кирсанов? «...Сумасбродный экспериментатор в стихах, который...трудолюбиво строчил огромное количество пропагандистских стихов, впрямую полезных советскому правительству».
Самуил Маршак? «Подобно Асееву и Кирсанову, он исполнял государственную службу - писал политическую сатиру на заданные международные темы, а во время второй мировой войны сочинял тексты для пропагандистских плакатов».
Право, когда читаешь подобные развязные суждения о советской поэзии и о конкретных всемирно известных советских поэтах, то становится предельно ясной цель советологов: любой ценой скомпрометировать творчество советских поэтов, преданных Родине, советской власти, идеалам коммунизма.
Глава «Первое поколение советских поэтов» завершается большим разделом, посвященным поэзии Александра Твардовского. Не вдаваясь в характеристику художественных особенностей творчества выдающегося советского поэта-коммуниста, автор скупо роняет: «Как поэт он (то есть А. Твардовский-Л. Б.) дал Советскому Союзу любимого литературного героя второй мировой войны-солдата Василия Теркина...»
Информация, казалось бы, справедливая.
Однако целью Д. Брауна вовсе не является объективная констатация художественной истины. Он ищет способов извратить ясное политическое звучание любимой народом поэмы, извратить образ Теркина, в котором А. Твардовскому с непревзойденной талантливостью удалось выразить лучшие черты простого советского человека, одетого в солдатскую шинель, этого героя из народа, выросшего при социализме и осознан99
4*
но защищающего не только свой советский образ жизни, но и саму идею социализма. Д. Браун пишет, что, с симпатией и любовью описывая Теркина, показывая его беззаветную храбрость в бою, Твардовский якобы «ухитряется намекнуть (фразеология-то какая: «ухитряется намекнуть!-Л. Б.), что война была выиграна не благодаря государственному устройству страны и политическому руководству, она выиграна простым народом».
Под пером советолога Василий Теркин превращается чуть ли не в скрытого оппонента советской власти! Он, дескать, воевал сам по себе, а политический строй был ни при чем. Народ, Советская Армия существовали, дескать, сами по себе, воевали неизвестно за что и почему, а политическая организация общества не имела, оказывается, к этой борьбе никакого отношения.
Железные догмы антикоммунизма неумолимо направляют мысль Д. Брауна на путь подтасовок, фальсификации, а то и прямой клеветы. Неуклюжая его попытка отъединить, отчленить Василия Теркина от советской власти-весьма наглядный тому пример.
«Однако-раздраженно пишет Д. Браун,-Твардовский остался преданным коммунистом». Ну а раз так, раз не «оправдал» надежд советологов, то советологи найдут тысячи мнимых поводов, чтобы попытаться принизить все творчество поэта. Д. Браун заявляет: «Ясность выражения, фактическая точность поэтического воображения казались ему (А. Твардовскому.-Л. Б.) более важным, чем соображения формальной виртуозности. В результате его стихи предстают старомодными, неоригинальными...»
Так «разделался» Д. Браун с А. Твардовским. И жаль, что у читателей книги Брауна практически нет возможности хоть как-то проверить подобные клеветнические суждения-поэзию Твардовского они прочитать на своем языке не смогут, она в Америке не переведена. Оспорить мнение демингов браунов и фридбергов в США, увы, практически некому.
Среди перечисленных поэтов военного поколения Д. Браун называет Е. Винокурова, Б. Слуцкого, К. Ван- шенкина, Д. Самойлова, О. Берггольц, М. Алигер, Ю. Друнину, Б. Окуджаву. По прихоти советолога мы не встречаем в этой главе имен К. Симонова, С. Орлова, М. Дудина, М. Луконина, С. Наровчатова, Н. Старшинова, А. Межирова, А. Недогонова, С. Гудзенко, М. Львова и многих других талантливых совет100
ских поэтов, чье творческое становление пришлось как раз на годы войны и которые создали немало прекрасных произведений, ярко и самобытно запечатлевших и опоэтизировавших великий подвиг народа, разгромившего фашизм. Зато с удивлением можно встретить пространные рассуждения Д. Брауна кое о ком из тех, кто давно уже утратил право называться советским поэтом, утратил Родину и, обретаясь ныне в зарубежных идеологических захолустьях антикоммунизма, злобно шипит в одинаково бездарных стихах и прозе на свое бывшее отечество.
Глава «Младшее поколение поэтов» начинается заявлением о том, что из сотен поэтов, которых можно было отнести к «младшему поколению», советолог «выбрал только восемь для анализа». Это означает, признает Д. Браун, что он «исключил из обзора» целый ряд поэтов, которые в другом контексте вполне, мол, заслуживают серьезного рассмотрения.
Д. Браун пишет, что в 60-х годах некоторые из названных им поэтов стали «эстрадными поэтами, выступающими с чтением своих стихов перед тысячными аудиториями». Поощряемые властями, пишет далее советолог, «поэты стали широко путешествовать по отдаленным районам страны, описывая прелести тайги и тундры и романтически возвышая трудную жизнь пионеров в нехоженых местах».
Однако, ухмыляется Д. Браун, поездки по стране не смогли заменить более широкого знакомства с миром. Имелась настоятельная потребность увидеть мир, особенно Запад.
И поэтому, мол, многие советские поэты, торжествующе заявляет советолог, «обскакали» чуть ли не весь мир «в поисках новаций в форме стиха, обуреваемые жаждой развить новый современный стиль». Как явствует из текста, под «новациями» подразумеваются только формалистические изыски и выкрутасы.
Браун утверждает, что молодые русские советские поэты в 60-е годы чуть ли не все поголовно ринулись в эти «новации», напрочь якобы отвергая классический русский стих.
Подобное утверждение не выдерживает критики. Разные были и есть в Советской стране поэты, среди них есть и те, кто действительно «тяготеет к новациям» в форме. Но есть и большой отряд русских советских поэтов, которые, опираясь на традиции классического рус101
ского стиха, создали новаторские по своей сути произведения. Достаточно назвать лауреата Ленинской премии Егора Исаева, или Василия Федорова, или Владимира Солоухина, или Анатолия Жигулина-если говорить лишь о некоторых из поколения, заявившего о себе именно в последнюю четверть века. Их последовательная верность русскому классическому стиху опровергает пропагандистские заверения советолога о поголовной якобы жажде западных/(новаций в форме», свойственной «младшему поколению» советских поэтов.
Разнообразие творческих поэтических стилей, художественных пристрастий всегда отличали русскую советскую поэзию. И в этом ее сила-в богатом многообразии манер, направлений, поисков. Главным же при всем при том всегда оставалась самобытность русской советской поэзии. Ей незачем идти на поклон к Западу, как того страстно ни желал бы Д. Браун.
Нелестно в целом оценив советскую поэзию, лишив ее к тому же каких-либо перспектив и надежд, Д. Браун переходит к жанру рассказа и поясняет, почему он выделяет именно этот жанр. Дело в том, что, по просвещенному мнению Д. Брауна, «русский роман сегодня находится в упадке, а лучшие писатели предпочитают «короткий рассказ или повесть».
Известно, что в последние годы в советской критике прошло несколько дискуссий, в ходе которых констатировалась очевидная ситуация в современной советской литературе: необычное развитие за последние 25 лет получил именно жанр советского романа. Именно в эти годы увидели свет вторая книга «Поднятой целины», «Русский лес», «Костер», «Битва в пути», «Иду на грозу», «Живые и мертвые», «Истоки», «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Дипломаты», «Первая Всероссийская», «Вечный зов», «Судьба», «Сибирь», «Блокада», «В августе сорок четвертого...», «Война», «Ивушка неплакучая», «Последний поклон», «Пряслины», «Дом», «Тяжелый песок»-это только малая толика романов, появившихся в русской советской литературе и получивших широкое признание и в нашей стране, и далеко за ее пределами.
В то же время критика отметила некоторое замедленное развитие как раз жанра рассказа, условно говоря, «отставание» от романа. Однако Д. Браун имеет на сей счет собственное суждение. Он утверждает: «Почти все написанные большие романы за последние 20 лет 102
были скучными, заранее заданными и тяжеловесными. А те, кто писал как объемистые романы, так и более короткие произведения... наиболее преуспевали в последнем».
Чем же аргументирует свое безапелляционное суждение советолог? Может, он ссылается на авторитетные анализы конкретных произведений? Может, оспаривает мнение советских критиков?
Ничего подобного в книге Д. Брауна нет. Есть лишь высокомерное изрекание не подлежащих сомнению суровых приговоров. Причем «подсудимому» даже не объясняют, за что так строго-то?
Реальные произведения советской литературы, созданные за последние четверть века, говорят сами за себя. Их высокие идейно-художественные достоинства, гуманизм, широта видения мира, высокие нравственные и эстетические идеалы со всей очевидностью обнажают демагогическую декларативность суждений Д. Брауна.
Расправившись столь несложным образом с советским романом, советолог переходит собственно к рассказу. В чем же он видит «взлет» этого жанра, что повлияло на его расцвет? Все, оказывается, очень просто. Развитие диалога и монолога в советских рассказах последней четверти века «обязано...влиянию Запада». Это-раз.
Далее: «О писателях, склонных к документализму в творчестве, часто говорят, что они подражали Дос Пас- сосу». Это-два.
Но и этого мало: «Тяга к компактности, сжатости, динамизму, использованию коротких фраз...все это свидетельствует о влиянии Запада».
Таким образом, по Брауну, развитие жанра советского рассказа по всем параметрам обязано: а) Западу, б) Западу и в) еще раз Западу.
Советским писателям, выходит, кроме как у Запада, не у кого было и поучиться писать свои рассказы. Словно не было в истории русской и советской литературы Льва Толстого, не было Чехова, не было Бунина и Куприна, не было Горького, Шолохова, Алексея Толстого и других советских литераторов мирового значения, традиции и опыт которых остаются неиссякаемым источником новых и новых творческих дерзаний для современных советских писателей, тяготеющих к жанру рассказа. Конечно же, не остается без внимания и опыт лучших зарубежных мастеров этого жанра. Но не ви103
деть в советском рассказе самобытности и оригинальности можно только по причине безнадежной слепоты.
Не так давно Соединенные Штаты посетил известный советский писатель, особенно преуспевающий именно в жанре рассказа,- Юрий Нагибин. О своих впечатлениях он рассказал в очерке «Летающие тарелочки». В частности, он пишет, что там, в США, ему попался в руки «толстый том» Д. Брауна, «несомненно претендующий на чин курса советской литературы. Я просмотрел этот «курс», а большой раздел, посвященный рассказу, прочел целиком. Впечатление такое, что Д. Браун перестал следить за советской литературой где-то в начале 60-х годов. Выдающейся рассказчицей он считает писательницу, лишь прикоснувшуюся- очень талантливо-к этому жанру и перешедшую в тяжелый вес романа. А Виктора Астафьева и Георгия Семенова, без которых невозможно представить себе советскую новеллистику, он даже не упоминает. Студенты, изучающие русский язык, знакомятся с нашей литературой только по рассказам; повести и романы им не по силам. В качестве пособий они пользуются сборниками, выходившими в милые Д. Брауну годы: конец пятидесятых - начало шестидесятых, с тех пор подобные сборники почти не появлялись. Представление студентов о нашей рассказовой литературе вполне адекватно брауновскому. И если они заглянут в толстый труд ученого, то сочтут, что знают советскую малую прозу в лучших образцах.
Браун не наталкивает студентов на новое, более современное и зачастую более талантливое...
То, что мне показывали на кафедрах под видом «курса советской литературы», вызывало порой глубокое недоумение. Однажды, не выдержав, я прямо сказал: «По- моему, это курс не советской, а антисоветской литературы». Старый профессор-славист посмотрел на меня с видом крайнего изумления, огорчения и растерянности: «А что бы вы посоветовали?» Я стал называть авторов, он старательно записывал, но свет узнавания не вспыхивал в его темных опечаленных глазах. Он не был злоумышленником, лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности».
Возможно, старый профессор-славист, с кем довелось беседовать Ю. Нагибину, действительно был лишь «жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности».
104
Но Д. Браун под эту категорию не подходит. Он пишет ложь, и делает это сознательно, ибо нанят своими работодателями для того, чтобы писать именно ложь о советской литературе и внедрять эту ложь в сознание американских студентов.
Пространная глава в книге Д. Брауна посвящена так называемой «деревенской литературе». Компетентность суждений автора в этой области творчества советских писателей видна хотя бы из следующей фразы: «Литература о крестьянской жизни всегда была заметной в Советском Союзе. А некоторые из наиболее интересных писателей: Борис Пильняк, Леонид Леонов, Михаил Шолохов, Андрей Платонов и Александр Твардовский-целиком посвятили свое творчество деревенской теме».
Эта фраза обнаруживает по меньшей мере крайне приблизительное знакомство Д. Брауна с творчеством названных писателей. Ни один из них, конечно, не посвящал «целиком» свое творчество деревенской теме. Да, у каждого из них есть отдельные произведения, в которых действие происходит в деревне. Но ограничивать творческий диапазон, ограничивать художественное мышление Шолохова, Леонова, Платонова, Твардовского рамками одной-единственной, пусть весьма интересной и важной темы-значит намеренно стремиться сузить масштабы их творчества.
Можно ли «уложить», к примеру, «Поднятую целину» Шолохова в рамки «деревенской темы»? Разве в этом произведении не звучит коренная проблема XX века-проблема освобождения человечества от вековой частнособственнической психологии и перехода на коллективистские, социалистические начала? Иными словами: в «Поднятой целине» главной темой является не деревенская жизнь как таковая, но осуществление социалистических преобразований в деревне.
Тема эта не может быть только «деревенской», она имеет более широкое значение. Влияние этого произведения на умы людей огромно в силу необычайно талантливого художественного воплощения народной жизни в период ее революционного перестройства. Это- то влияние и страшит советологов. Вот почему они стремятся любыми путями локализовать, сузить, принизить значение подобных произведений в истории мировой литературы и навязывают читателям фальси105
фицированное представление о выдающихся книгах советской литературы.
Продолжая рассматривать «деревенскую тему» в советской литературе хронологически, советолог обнаружил вдруг, что «после XX съезда КПСС» внимание советских писателей вновь, дескать, обратилось к деревне.
Почему? Для чего? А вот для чего: «В большой степени растущий серьезный интерес к деревне как теме литературного исследования объясняется поиском устойчивых национальных ценностей, поворотом к крестьянству как к источнику морального обновления. Писатели... подчеркивали незыблемость крестьянской психологии и культуры и показывали, что революция мало в чем повлияла на русский характер». Писатели якобы старались показать крестьянина в качестве чуть ли не «последнего прибежища дорогих черт национального характера: индивидуализма и надежды на самого себя».
Как видим, Д. Браун вновь игнорирует конкретные сложности развития советской литературы, которые есть в ней, как и во всякой иной, и спекулятивно обобщает отдельные факты, выдавая их за основную тенденцию развития.
Таким образом, Д. Браун пытается доказать, что разговоры о коллективизме, новой жизни, о новом советском человеке представляют собой выдумку большевистской пропаганды. Каким был русский мужик сермяжным индивидуалистом, таким он и остался. Этим, мол, и привлек к себе внимание писателей.
И вот уже Д. Браун готов писателей-«деревенщиков» чуть ли не противопоставить советской власти. Он пишет: «Если и не отчетливое неприятие Октябрьской
...Люди в Штатах не читают; у нас все умеют писать, но никто не читает. Это не шутка-в Америке действительно мало читают. У американцев не хватает времени на чтение. Наша культура основывается на производстве и успехе, то есть затраты на производство должны обернуться прибылью. В Америке читают преимущественно женщины.
Уильям Фолкнер, американский писатель 106
революции, то, по меньшей мере, отрицательная реакция на многие изменения, привнесенные революцией: урбанизацию, развитие техники, а также современное бюрократическое общество»,-в этом якобы и состоит вся суть творчества советских писателей-«деревенщи- ков».
Стремление выдавать желаемое за реально существующее всегда отличало советологрв. Нет нужды доказывать, сколь далеко творчество писателей, близких к теме развития советской колхозно-совхозной деревни, от мифических предположений советологов.
Советская литература, в том числе и «деревенская», связана неразрывными узами с проблемами развития советского общества. Естественно, что, живописуя процессы, характеризующие промышленную революцию в деревне, писатели не обходят вниманием трудности и недостатки, тормозящие прогрессивные процессы развития. Слов нет, наша литература о деревне остросоциальна и порой критична. Но критика эта носит конструктивный характер, она направлена на укрепление социалистического метода хозяйствования на земле, а вовсе не наоборот, как то силятся доказать советологи.
И когда Д. Браун заявляет, что нынешние советские писатели якобы обнаружили «не столько перемены, которые принес с собой социализм, сколько продолжающуюся неизменность крестьянской жизни», то это его заявление может служить очень убедительной и наглядной иллюстрацией лживости его концепции.
Ибо «продолжающаяся неизменность крестьянской жизни» есть ложь, ложь откровенная и очевидная: давно уже советский крестьянин перешел от единоличной сохи и лоскутного частного земельного надела на коллективное ведение хозяйства; давно уже на коллективных бескрайних полях трудятся мощные армады тракторов, комбайнов, сеялок, копалок, жаток; давно уже возникли и развиваются животноводческие комплексы, межколхозные специализированные объединения,-словом, все то, что характеризует собой переход коллективного земледелия на промышленные основы. Кстати, заметим, что давно уже на селе возник и с каждым годом ширится и крепнет рабочий класс: механизаторы, операторы, техники и инженеры.
Старая деревня стремительно уступает место деревне новой-с современной техникой ведения сельского хозяйства, обеспечивающей высокие результаты труда 107
крестьянина и высокий его жизненный уровень, с новыми поселками и домами с городскими удобствами, с гарантированной стабильной зарплатой. На наших глазах происходит реальное стирание существенных различий между городом и деревней. И эти процессы нашли художественно адекватное отражение в произведениях Ф. Абрамова, В. Белова, Г. Троепольского, М. Алексеева, Г. Радова, И. Винниченко, Л. Иванова, И. Васильева, В. Тендрякова и многих других советских писателей.
Между тем советологи продолжают бубнить о «неизменности крестьянской жизни» в СССР, о мифическом противостоянии советских писателей благотворным переменам в жизни современной деревни.
И хотя Д. Браун признает в конце концов: «Невозможно и, пожалуй, немыслимо, чтобы советский писатель в роли адвоката выступал за возврат к частному владению землей», он тем не менее делает архиспекуля- тивный вывод с далеко идущими политическими расчетами.
Обращение советских писателей к жизни деревни объясняется, по Брауну, не больше и не меньше, как «поисками ценностей, которые могли бы заменить марксистско-ленинскую идеологию, которая совершенно (!) очевидно не удовлетворяет (!) многие основные духовные потребности». (Хочется спросить: чьи потребности? Д. Брауна?)
В этом-то и заключена изощренная суть пропагандистских установок и целей неприкрытой демагогии Д. Брауна: объявить марксистско-ленинскую идеологию «устаревшей», подвести американских читателей к выводу о том, что «основные духовные потребности» они должны удовлетворять строго в рамках буржуазного общества. Ибо если уж советские писатели заняты «поисками ценностей, которые могли бы заменить марксистско-ленинскую идеологию», то американцам и вовсе незачем обращать внимание на идеологию марксизма-ленинизма.
Таким нехитрым образом Д. Браун торопится, так сказать, «закрыть» идеологию марксизма-ленинизма.
Вот уж действительно мартышкин труд.
Иезуитские приемы при истолковании литературы СССР-не исключение в истории американской советологии, а скорее норма. Вспомним хотя бы бесплодную словесную эквилибристику, которой занимался в 1962 108
году М. Фридберг в попытках преподнести читателю в антикоммунистическом духе издательскую практику в СССР. Именно М. Фридберг заявил, что массовое издание произведений классиков русской и мировой литературы сразу после победоносной Октябрьской революции было вызвано якобы тем, что в «сфере литературы образовался огромный вакуум», а своих писателей у молодой советской власти еще не было.
М. Фридберг писал тогда с потугами на иронию: «Считалось, что пяти лет будет достаточно для того, чтобы довести до масс лучшие образцы литературы прошлого, а тем временем первая в мире республика рабочих и крестьян создаст новую, собственную литературу, которая постепенно будет дополнять, а позже даже и заменит классику»1.
Подобное «объяснение» вряд ли было способно удовлетворить сколько-нибудь взыскательного читателя, ибо за годы советской власти великая литература социалистического реализма создана; многообразная, многонациональная, глубоко гуманистическая, она по праву заняла ведущее положение в мировой литературе, а классику тем не менее издают все чаще и все большими тиражами, вовсе не пытаясь «заменить» ее современной советской литературой.
М. Фридберг придумал новое объяснение: интерес к классике у советских читателей вызывается якобы тягой «к несоветской жизни и ценностям». А классику следует, мол, считать «соединительным звеном» с сегодняшним капиталистическим миром.
Итак, один советолог сочинял мифы о том, как советская власть пыталась якобы «заменить» классику, поскольку классика являлась «соединительным звеном» с капиталистическим миром, по которому, судя по рассуждениям Фридберга, все еще тоскуют советские люди.
Другой советолог сочиняет новые мифы о советских писателях, занятых «поисками» в советской деревне «ценностей, которые могли бы заменить марксистско- ленинскую идеологию».
Методологическая нищета и склонность к фальсифицированному и крайне тенденциозному истолкованию современной советской литературы, столь обнаженно 1 Fridberg M. Russian Classics in Soviet Jackets. N. Y., 1962, p. 81.
109
проявившиеся в сочинениях Д. Брауна, как видим, характерны в целом для американских советологов, с младых ногтей вымуштрованных в духе слепой, нерассуждающей ненависти как к идеям коммунизма, так и к художественной культуре реального социализма.
Мысли о «замене» марксистско-ленинской идеологии Д. Браун развивает и в главе, посвященной теме современности в советской литературе. Д. Браун повторяет свои избитые измышления о методе социалистического реализма. Советолог верен себе и стремится представить развитие советской литературы, усиление в ней аналитического начала, словом, всю художественную практику социалистического реализма таким образом, будто после 1953 года «новая литература критического реализма серьезно потеснила каноническую литературу социалистического реализма».
Он поясняет: «Концепция социалистического реализма требует, чтобы интересы личности тесно сочетались-впрямую или косвенно-с интересами государства. Однако литература все больше и больше писала о частной жизни индивидуумов, и потому это сочетание становилось менее обязательным, а часто и вообще из- чезало. В творчестве лучших писателей, например, исчезла из романов коммунистическая партия».
Более того, Браун утверждает, что «к середине 60-х годов» в советской литературе валом пошли «герои», которые, конечно же, были «абсолютно индифферентны к идеологии», именно к марксистско-ленинской.
Однако остановимся и переведем дух.
Во-первых, концепция социалистического реализма вовсе не отрицает права литератора писать «о частной жизни индивидуумов». Напротив, эта концепция требует от писателя глубокого проникновения в психологию личности (или, по терминологии Брауна, «индивидуума»), что только и может убедительно раскрыть мотивы его «частной жизни».
Что же касается нарочито неуклюжей формулы Брауна о «тесном сочетании» интересов личности с интересами общества, государства, вытекающими якобы из тех же «требований» социалистического реализма, то советолог совершает привычную для него подтасовку, подменяя и сводя проблему творческого метода к философским мировоззренческим вопросам.
Да, мировоззрение советского писателя, основанное на марксистско-ленинской философии, дает возможно
ность воспринимать и оценивать реальный мир живого человека во всех его взаимосвязях - исторических, географических ит. п. И «связь» личности отдельного человека с обществом, государством понимается советским писателем как раз в свете известного ленинского положения о том, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
И чем активнее личность, тем гармоничнее сливаются интересы индивидуума и социалистического общества.
Таким образом, «описание частной жизни индивидуумов» никогда, ни до 1953 года, ни после, не было запретным в советской литературе. Это обычные измышления советологов, пытающиеся внушить своим читателям представление о литературе социалистического реализма как якобы целиком состоящей из казенных, бездушных роботов, одномерных и однообразных, по командам свыше отправляющих свои жизненные функции и не имеющих собственного лица, собственных мнений, убеждений.
Во-вторых, информация Брауна о том, какой была советская литература к «середине 60-х годов», не выдерживает никакой критики. Попытки советолога свести все необычайно широкое многообразие героев советской литературы тех лет к одному-единственному, «абсолютно индифферентному к идеологии», лишь подчеркивают его глубокий субъективизм, продиктованный политической предвзятостью.
И дело вовсе не в том, появлялись или нет в некоторых произведениях подобные «герои», ведь мы знаем, что они могут быть и в жизни. Советская критика не проходила мимо отдельных произведений, в которых тот или иной персонаж проявлял в большей или меньшей степени «индифферентность к идеологии», и давала им своевременную принципиальную оценку, рассматривая вопрос конкретно и по существу. Она поддерживала обличение мещанских представлений о жизни в социалистическом обществе и выступала против буржуазных взглядов на «безгеройную» литературу, оборачивающуюся нередко проповедью безыдейности литературы.
Дело в намеренной фальсификации Брауном реального литературного процесса тех лет.
Вспомним, какие книги в 60-е годы были в центре внимания общественности, какие литературные герои 111
вызывали симпатию читателей? Назвать их не сложно, они еще у всех на памяти: это Андрей Соколов из рассказа Шолохова «Судьба человека», это генерал Серпи- лин и журналист Синцов из романа К. Симонова «Живые и мертвые», это ученый Крылов из романа Д. Гранина «Иду на грозу», это В. И. Ленин в повестях В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене» и Э. Казакевича «Синяя тетрадь», это руководитель крупной стройки Балуев из романа В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!», это Вохминцев из романа Ю. Бондарева «Тишина», это реальные люди из документальной книги С. Смирнова «Брестская крепость» и т. д.
Но разве герои названных произведений были «индифферентны к идеологии»? Как раз наоборот. Они жили, боролись, гибли и побеждали, вдохновляемые марксистско-ленинской идеологией и во имя ее, они самоотверженно трудились, и целью их осознанного труда как раз и являлось личное участие в строительстве общества будущего-коммунизма. Именно такие герои и владели умами читателей в 60-е годы.
Не обходит вниманием Д. Браун и так называемый «производственный роман» в советской литературе. Отношение его к этой теме также весьма скептическое. Скажем, о романе Д. Гранина «Искатели», вызвавшем в свое время большую дискуссию в советской критике, советолог отзывается кисло и даже выговаривает писателю за то, что роман «не подвергает сомнению устоявшиеся социальные цели и методы их достижения». «Рабочая тема остается важной темой в советской литературе...-с иронией вещает советолог,-все еще считается, что труд имеет особую важность в человеческой жизни...»
Неуместная ирония! Труд в обществе действительно «имеет особую важность в человеческой жизни», а в социалистическом обществе место человека определяется по его труду на благо общества. «По труду и честь»- гласит народная поговорка.
Объективный подход к раскрытию темы труда в творчестве советских писателей неизбежно предполагает элементарную обязанность исследователя разъяснять принципы отношения к труду в социалистическом обществе. И тогда все станет ясно. Почему тема труда занимает такое важное место в советской литературе и почему общество гордится и поощряет за доблесть в труде? Именно такой объективный подход позволил бы 112
раскрыть новаторский характер литературы социалистического реализма, в центре которого стоит образ создателя всех материальных ценностей на земле, образ трудящегося человека.
Но объективность в методологической картотеке американских советологов не значится. И это понятно: если целью ставится не изучение, а обличение советской литературы, то объективность может лишь мешать. И потому-вон ее из арсенала советологов.
Об этом же свидетельствуют и смехотворные уверения Д. Брауна о том, что современные советские писатели пишут, мол, одно, а современные советские читатели понимают написанное ими якобы совсем по-другому. Вроде как бы договор такой негласный заключили читатели с писателями. Если, значит, роман имеет счастливую концовку, то читатель вместо радости испытывает, по Брауну, меланхолию и грусть, потому как «жизнеутверждающие концовки опровергаются всем содержанием романов», более того, Браун уверяет, что содержание советских романов «отрицает возможность счастливых концов».
Д. Браун словно бы и не замечает, что тем самым противоречит себе же: значит, советская литература и критична, и отнюдь не поверхностно оптимистична, а действительно показывает жизненные проблемы во всей их сложности. И надо ли здесь говорить, что пресловутые «счастливые концы» вовсе не норма советской литературы. Просто Д. Брауну совсем не по душе вера советских людей в поступательное развитие истории.
Кстати, предвзятость толкования Д. Брауном принципов советской литературы демонстрирует хотя бы его оценка повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Как известно, повесть была высоко оценена читателями, критикой, ее автору присуждена Государственная премия СССР. Но советолог заявляет, что повесть эта, дескать, «направлена на... раз венчание советской действительности» (!).
Более того, Д. Браун уверяет, что «Белый пароход» не имеет якобы «ничего общего с социалистическим реализмом по множеству причин, главная из которых состоит в том, что повесть «мрачна» и «пессимистична». И добавляет: «То же можно сказать... о произведениях Пановой... Семина... Дубова».
Итак, по Брауну, литература социалистического реализма не имеет права на произведения трагедийные, из
остродраматичные, просто печальные. Не положено по изобретенному самим советологом «уставу»...Советолог представляет американскому читателю советских писателей эдакими бездумными бодрячками, под барабанный маршевый бой лихо перекладывающими на литературный язык политические лозунги, а из всей гаммы человеческих чувств оставляющих своим героям лишь одну радость.
Как говорится, просто до примитивности. И лживо до откровенной очевидности.
Подобные утверждения Д. Брауна лишний раз доказывают вполне осознанный характер извращенного толкования советологом принципов социалистического реализма, который, конечно же, никогда не требовал от писателя подмены живой многообразной действительности во всей сложности человеческих отношений однолинейным изображением ее в своих сочинениях, а именно, изображением мажорно-радостным и беспечальным. Утверждения Д. Брауна лишний раз доказывают пропагандистский характер писаний советологов, ничего общего не имеющих с подлинной научностью.
Три последних, не малых по объему, главы книги Д. Брауна отведены соответственно: одна-лично Солженицыну, другая-лично Абраму Терцу и третья- вообще некоей «подпольной» литературе.
Глава о Солженицыне содержит весь стандартный набор рекламных приемов советологов, долженствующих во что бы то ни стало возвеличивать эту давно уже скомпрометировавшую себя в политическом и литературном плане одиозную фигуру.
Продукт и порождение «холодной войны», Солженицын нужен антикоммунистам в качестве инструмента для разжигания антисоветизма. Д. Браун уныло конста-
«Постыдная продажность» печати проявляется не обязательно в прямой лжи. И без лжи можно исказить истину, сохраняя только те ее элементы, которые носят определенный характер. Чтобы состряпать антисоветскую статью, достаточно, обратившись к советской прессе, привести из нее критику недостатков и не приводить ничего другого.
Андре Вюрмсер, французский писатель 114
тирует, что, хотя этот литературный власовец «энергично работал, чтобы возбудить мировое общественное мнение против СССР», ничего из этих стараний не вышло.
Как показало время, истерическое кликушество матерого антисоветчика, вышвырнутого за пределы Советского государства, не получило того резонанса, на который делали ставку пропагандистские центры антикоммунизма. И он исчез с политического горизонта, не говоря уже о литературном.
Столь же пространно и горячо пропагандирует Д. Браун и Абрама Терца-Синявского, который, как пишет советолог, стремится «подорвать всю концепцию социалистического реализма, доведя ее до абсурда».
Словом, сидит этот Терц где-то в Франции, играет в оловянные солдатики и воображает, что он ловко и умело сокрушает бастионы социалистического реализма. Пусть себе играется дядя. Социалистическому реализму от этого ни жарко, ни холодно.
Плохи, видно, дела у советологов, если они вынуждены возлагать столь непомерные надежды на эфемерную «борьбу» отщепенцев, подобных Терцу. А возмутительные высказывания Синявского о русском народе, способном якобы «продать любую красоту...за бутылку чистого спирта», старательно приводимые в книге Д. Брауна, свидетельствуют лишь о дурном вкусе советолога, вынужденного, как видно, подбирать даже дурно пахнущие отбросы из помойной политической ямы истории.
Когда читаешь главу «Подпольная литература», то поражаешься: сколько, оказывается, у нас непризнанных «толстых» и «Достоевских»! Д. Браун трудолюбиво перечисляет фамилии никому не известных личностей. Без зазрения совести советолог относит их сочинительство «к лучшим образцам советской литературы». Хотя тут же эдак осторожненько допускает, что «сочинения» приводимых в его книге подпольных «толстых» и «Достоевских» не печатают в СССР скорее всего «из-за отсутствия каких-либо литературных достоинств».
Д. Браун горько сетует, что литературная общественность СССР дала своевременную и принципиальную оценку различного рода отщепенцам. «События последнего десятилетия оказались...разочаровывающи115
ми»,-плачется советолог. Все эти подпольные «литераторы» своевременно разоблачались, получали должную оценку общественности, и многие из них по истечении времени один за другим оказывались за пределами нашего государства, там, где и находятся их подлинные хозяева.
Книга Д. Брауна, насыщенная злобной и агрессивной клеветой по адресу советской культуры, сеет вражду и ненависть к литературе Страны Советов, к идеям социализма, к советскому образу жизни. Всем своим содержанием она противоречит положениям Хельсинкских соглашений, под которыми стоит подпись и президента США. Широкая и активная пропаганда книги Д. Брауна в странах западного мира свидетельствует о страхе идеологов империализма перед всепобеждающей правдой о стране реального социализма, заключенной в каждой талантливой книге советского писателя.
РАЗРУШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Я. Засурский
ЛИТЕРАТУРА И ИДЕОЛОГИЯ В США
Что читают американцы? Магия телевидения, фабрика фильмов - «дешевые» деньги. Ремесленники от литературы. «Война звезд» - звездные войны. «Парк Горького»: политические боевики и их заказчики. 18 тысяч убийств в вашем доме. Американский истеблишмент и искусство. Мещанский вариант абсурда.
Часто говорят, что американцы читают мало художественных произведений. А американские писатели особенно жалуются на то, что у них в стране почти не читают романов. Это не совсем так. Американцы читают много романов, но в основном это романы, которые создаются в США по телевизионным фильмам и передачам или кинофильмам. В чтении американцев они занимают гораздо большее место, чем наиболее значительные художественные произведения, те, с которыми мы стараемся знакомить в переводах советского читателя.
Такова же точка зрения и многих американских писателей. На встрече советских и американских писателей, которая происходила в Лос-Анджелесе, во время обмена мнениями между американцами Эдгаром Лоуренсом Доктороу и Элизабет Хардуик с одной стороны, и нашими писателями-с другой, Хардуик категорически заявила, что обычно серьезная литература не может быть издана в США большими тиражами, так издаются только книги широкого «потребления».
Не будет натяжкой сказать, что для нашей страны характерен иной подход: большими тиражами издаются лучшие произведения классиков русской литературы, литератур народов СССР и современных советских писателей. Это, правда, не означает, что и у нас иногда большими тиражами не издаются посредственные произведения, что отметил, в частности, Даниил Гранин, участвовавший в дискуссии. Но, как правило, большой тираж отражает качество художественного произведения.
Что касается Соединенных Штатов Америки, то для многих американских писателей-скажем, для Доктороу, который в общем-то не может пожаловаться на не118
внимание читателей, или для Хардуик, чье творчество рассчитано на более камерную аудиторию,-несомненно, что массовый тираж означает уступки коммерческим вкусам издателей; настоящему, серьезному писателю к широкому кругу читателей пробиться трудно.
Один из важнейших барьеров на этом пути-американское телевидение, кино, средства массовой информации. «Поточная» книжная продукция занимает сегодня существенное место в литературной жизни Америки и соответственно отражается на вкусах читателей, на издательских вкусах, которые навязываются массовой беллетристике, а иногда даже и серьезной литературе.
В повседневной информационно-пропагандистской деятельности телевидение в Соединенных Штатах Америки вышло на первое место и определяет повестку дня ежедневной печати, а во многом и деятельность журналов, издательств. В последние годы особенно серьезное значение стали приобретать так называемые «телевизионные книги», или телевизионные романы, написанные по наиболее актуальным и острым документальным программам, по самым известным и по тем или иным причинам привлекающим внимание общественности художественным или документальным передачам. Они распространяются массовым тиражом. Характерен в этом отношении недавний пример-книга, сделанная по двадцатисерийному советско-американскому фильму «Великая Отечественная», который шел в Соединенных Штатах Америки под названием «Неизвестная война». Такое же название носит и книга, написанная по этой телевизионной эпопее американским журналистом Гаррисоном Солсбери1. Он воспроизводит наиболее интересные, с его точки зрения, видеоэпизоды и дает фильму свою интерпретацию. Солсбери добавил в книгу и материалы, не вошедшие в фильм, причем некоторые из них имеют сугубо пропагандистский характер и противоречат духу фильма. Обложку
Телевидение решает, о чем думать американцам, что им чувствовать и что покупать. В этом у телевидения нет конкурентов.
По страницам американской печати 1 Salisburg Harrison. The Unknown War. Toronto. N. Y. London, Bantanu Books, 1978.
119
книги автор увенчал двумя военными наградами - фашистским орденом и золотой медалью с пятиконечной звездой. И это тоже придает книге тенденциозную окраску. Поскольку фильм в США и в других странах вызвал живой отклик и пробудил интерес к самой истории Великой Отечественной войны, книга имела достаточно большой тираж, была переведена на французский, немецкий и некоторые другие языки, и показ фильма в странах Западной Европы сопровождался одновременным ее изданием. Она становилась своего рода «спутником телезрителя», его путеводителем по фильму. Но путеводителем не очень объективным.
Книга Солсбери-типичный пример взаимодействия телевидения, с одной стороны, и литературы-с другой.
За последние двадцать лет в структуре и развитии американских средств информации произошли серьезные изменения-на первый план в информационнопропагандистском бизнесе выдвинулось телевидение. В 1966 году в США приходилось более одной ежедневной газеты на семью, а телевизорами раполагали 89,4% семей. В 1981 году разовый тираж ежедневных газет на 17 млн. 188 тысяч уступал общему количеству семей в США. Другими словами, по крайней мере 21,6% американских семей не читают сейчас ежедневных газет, а если учесть, что некоторые семьи покупают не одну газету, общее количество тех, кто ежедневных газет не имеет, окажется еще больше. Телевизоров же в США в 1981 году было более 100 миллионов, в 98% домов есть, по крайней мере, один телевизор, а у 51% семей два и более. Таким образом, телевидение, как источник постоянной информации, оттеснило ежедневную газету на второй план. Не удивительно, что именно телевидение показом тех или иных художественных и документальных программ во многом определяет и читательские интересы своей аудитории: если по книге сделан телефильм (особенно если лента удалась), на книгу возникает повышенный спрос. Это обстоятельство в полной мере учитывают американские телевизионные компании и кинопромышленность, которые сегодня тесно связаны с книгоиздательством.
В случае с Солсбери речь шла о публицистике. Но теми же методами осуществляется взаимосвязь между художественной литературой и кино. Кино все больше зависит от информационно-пропагандистской промышленности, многие известные голливудские фирмы ста120
новятся не просто фабриками по производству фильмов, но так называемыми «коммуникационными компаниями». Скажем, знаменитая студия «Уорнер Бра- зерс» входит теперь как киноотдел в концерн «Уорнер коммьюникейшис компани». Частью этой компании является и издательство «Уорнер букс». Это новые информационно-пропагандистские концерны часто имеют также подразделения, обеспечивающие соответствующей кинопродукцией и телевидение. Как видим, подобный способ концентрации средств массовой коммуникации включает кино и тесно связан с книгоизданием.
Производство многотиражной книги входит в сферу деятельности средств массовой информации, а сама книга становится, таким образом, частью массовой культуры.
На поток поставлено не только изготовление фильмов, чем всегда славился Голливуд, или издание книг, но и организация спроса на книгу, а в ряде случаев и творческий, казалось бы, процесс создания книги, художественной или документальной,-в соответствии с организованным при помощи умело сделанной киноленты читательским спросом. Достаточно назвать хотя бы издающиеся сегодня особенно большими тиражами кинороманы. Как уже говорилось, по каждому сколько- нибудь значительному фильму создается кинороман или переиздается книга, ставшая основой сценария.
Конечно, в тех случаях, когда фильм снимается по значительному художественному произведению, экранизация играет положительную роль, способствуя его продвижению к читателю. Скажем, когда вышел на экран «Великий Гэтсби», роман Фицджеральда был переиздан с иллюстрациями, заимствованными из фильма.
Более типичны, однако, случаи другого рода-как правило, резкое возрастание спроса на книги, экранизированные для телевидения или кино, используется при популяризации откровенно пропагандистских боевиков или дешевого чтива, где пропагандистские стереотипы упрятаны в упаковку занимательности и развлекательности.
Примером экранизации политического боевика может служить лента «Вся президентская рать», с выходом на экраны которой книга Вудварда и Берстина об уотергейтском деле, прославляющая американскую буржуазную журналистику, была переиздана массовым тиражом с кадрами из фильма в качестве иллюстраций.
121
Более близкий по времени пример-телевизионная серия американской компании Эн-би-си по милитаристской книге «Третья мировая война», написанной семью отставными натовскими генералами под руководством и командованием отставного английского генерала сэра Джона Хэккета. После показа в феврале 1982 года этого антисоветского милитаристского боевика была переиздана и книга.
Чаще всего кинолента или телефильм становятся отправной точкой для новой книги. Здесь возможны по крайней мере три варианта изготовления книжной продукции.
Первый-в основе фильма лежит ходкая книга, бестселлер, а по ее экранизации создается новый роман. Так вышло несколько лент, использующих сюжет книги Артура Хейли «Аэропорт». Одна из них называется «Аэро- порт-77», под тем же названием вышел и кинороман (авторы-сценаристы Майкл Шефф и Дэвид Спектор). На обложке книги указано, что она «вдохновлена» романом «Аэропорт» Артура Хейли. Конечно, авторов и издательство вдохновляла в гораздо большей степени возможность выжать из закупленного кинокомпанией сюжета максимум прибыли. Надо ли говорить о том, что эта «художественная продукция», издающаяся большими тиражами, является, по существу, ремесленной поделкой.
Другой вариант подобной литературно-кинематографической акции-в основе сценария лежит рассказ, а по выходе фильма сценарий переделывается в кинороман. Таков фильм «Родилась звезда». Сюжетом его послужил рассказ Уильяма Чэлмана и Роберта Карсона. Сценарий был написан Джоном Грегори Данном, Фрэнком Пирсоном и маститой писательницей Джоан Дидион. После выхода на экраны фильма появился кинороман, сработанный Александром Эдвардсом. И книга «Родилась звезда» с фотографией исполнительницы
Все больше появляется в Соединенных Штатах книг, пропагандирующих войну, разжигающих у американцев дух милитаризма и шовинизма. Многомиллионным тиражом была издана книга генерала Хэккета «Третья мировая война».
По страницам американской печати 122
главной роли Барбары Стрейзанд на обложке широко распространилась в Соединенных Штатах. Это было произведение, созданное, как о том свидетельствует титульный лист, по крайней мере шестью литераторами.
Третий вариант «кинопрозы»-книга по оригинальному сценарию. Таков кинороман «Телесеть»: сценарий известного американского драматурга Педди Чаевско- го был «романизирован» Сэмом Хэдрином, как указано на обложке, тоже украшенный портретами снимавшихся в фильме актеров-Фей Данауэй, Уильяма Холдена, Питера Финча и Роберта Дюваля. Подобным же образом был сделан и кинороман «Война звезд» по одноименному фильму, с той только разницей, что автором сценария и романа здесь выступал постановщик фильма Джордж Лукас.
Следует заметить, что для всех перечисленных вариантов кинороманов и телепрозы характерно упрощенное, стереотипное видение мира. Это литературная жвачка, предназначенная для самого невзыскательного массового читателя, но именно она сегодня определяет уровень и характер литературных интересов, вкусов и запросов среднего американца. Суть этой коммерческой операции передает реклама «Уорнер коммьюникейшис компани»: «Посмотри фильм, прочитай книгу!»
Создание подобной «художественной продукции» в США поставлено на конвейер, ибо в современных условиях взаимодействие средств массовой информации и художественной культуры в этой стране является серьезным средством формирования социальной психологии, очень важным фактором идеологической борьбы. Связь здесь двусторонняя. Материалы массовой культуры играют существенную роль на телевидении и в печати, способствуя внедрению буржуазных идей и стереотипов мышления в общественное сознание. А телевидение, кино и другие средства массовой информации усиленно используются для создания, я бы сказал, псевдолитературы, имеющей широкое хождение среди населения.
Если журналистика прямо связана с политической жизнью и идеологической борьбой, то литература отражает их опосредованно, но также от них неотделима. Связи литературы и современной идеологической борьбы осуществляются по нескольким линиям.
Во-первых, существует апологетическая, якобы реалистическая беллетристика, которая обслуживает 123
идеологические интересы американских монополий. Я уже назвал одну ветвь ее-кино и телевизионные романы. Здесь зависимость литературы от идеологической борьбы очевидна.
Другую ветвь представляют книги, написанные по политическому заказу. О некоторых таких «политических боевиках», например о «Парке Горького», писала «Литературная газета». Автор этого романа Мартин Кроуз Смит спекулирует на внешних деталях московского быта, но даже весьма благожелательный по отношению к антисоветской продукции и не скупящийся на похвалы в адрес Смита редактор отдела литературы еженедельного журнала «Сатердей ревью» Роберт Р. Харрис вынужден отметить, что «Смит, очевидно, провел мало времени в России» слишком заметны многие несуразности повествования, несмотря на всю изворотливость автора.
Еще пример. Вышла очередная книга Аллена Друри, которая называется «Вершины лета»1 2. В ней излагаются перспективы новой мировой войны с участием Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Китая. Автора страшит возможность улучшения советско- китайских отношений, и внешнеполитические концепции американского правительства, американских правящих кругов, стремящихся разыграть китайскую карту в своих антисоветских планах и акциях, представлены им с большой откровенностью.
Такого рода произведения тоже издаются в Соединенных штатах Америки значительными тиражами и в списках бестселлеров, публикуемых в еженедельнике «Тайм», в «Нью-Йорк тайме бук ревью», занимают порой очень существенное место, о чем свидетельствует, например, анализ списков бестселлеров, в этом смысле особенно показательный.
Апологетическая литература, таким образом, отражает прямое воздействие монополий на художественное творчество, прежде всего через политический роман, детектив, фантастику, через многие виды псевдореалисти- ческой конъюнктурной беллетристики. В частности, и через произведения, связанные с модернистским ширпотребом.
1 «Saturday Review», 1981, December.
2 См. статью А. Мулярчика «Партитуры угроз и предупреждений».-Иностранная литература, 1980, № 5.
124
Когда речь идет о литературе реалистической, ее связь с современной оказывается более сложной. Американские писатели-реалисты, стоящие на гуманистических позициях, очень остро и болезненно воспринимают бездуховность американского общества. Вместе с тем, живя в условиях буржуазной Америки, они остаются под сильным влиянием официальной политики и идеологии, и это сказывается в первую очередь на их публицистике. Многие американские литераторы, к сожалению, и сегодня в своих политических взглядах, в выступлениях по тем или иным политическим вопросам оказываются на позициях, далеких от истинного понимания существенных проблем международной жизни. Здесь можно говорить даже о писателях, казалось бы стремящихся к взаимопониманию,-об участниках советско-американских встреч, таких, как Воннегут, Олби, Стайрон, Хардуик, Брэдбери, Доктороу. Их политические концепции обнаруживают нередко неточность и незрелость, особенно, когда речь идет о социалистических странах. Тут предвзятость их суждений, плохая информированность, недоверие сказываются так ощутимо, что барьер этот очень трудно преодолеть.
Например, Эдвард Олби, конечно же являющийся одним из крупнейших современных американских драматургов, с предубеждением относится к нашим сообщениям о том, что его пьесы имеют успех в Советском Союзе. Он воспринимает это с непонятным для нас сомнением, обнаруживая непонимание как советской политики и действительности, так и советской литературы и театра. Между тем пьеса Олби «Все кончено» на самом деле пользуется успехом в постановке МХАТа и была несколько раз показана по телевидению. Эта и Росту преступности в США способствует и «массовая культура», проповедующая насилие: до 18 лет американец проводит в среднем 15 тысяч часов у телевизора, наблюдая за это время на экране до 18 тысяч убийств; на занятия в школе за тот же период приходится 11 тыс. часов. Каждые 13 секунд в США продается единица огнестрельного оружия, общий арсенал которого по стране оценивается в 55 млн. долларов.
Из американской печати
125
другие его вещи идут также в других городах нашей страны, привлекая зрителя бескомпромиссной и решительной критикой бездуховности американского буржуазного мира, господства обесчеловечивающего и нивелирующего чистогана, американского мещанства. И создается парадоксальная ситуация: Олби, который иногда выступает с резкими и непродуманными заявлениями в наш адрес, не может зачастую увидеть своих пьес на американской сцене. Его пьеса «Старая леди из Дебюка», по его словам, провалилась на Бродвее. Он сделал новую, по известной книге В. Набокова «Лолита», которой дал свою интерпретацию. Но, несмотря на популярность книги, и эта пьеса, как признал сам автор, также провалилась на Бродвее. Мы не будем вдаваться в оценки художественных достоинств этих драм и утверждать, что у нас они прошли бы хорошо. Но ведь Бродвей не принял и имеющую у нас успех пьесу «Все кончено».
Говоря об этом, я хотел бы подчеркнуть существенное противоречие, непоследовательность позиции некоторых американских писателей. С одной стороны, их политические взгляды, складывающиеся под сильным влиянием буржуазной идеологии, политических кампаний, американских средств массовой информации, с другой - гуманистические убеждения, часто не согласующиеся с их же собственными политическими взглядами. Вот почему, понимая сложность современной политической борьбы, критикуя и отвергая домыслы, неточные, неправильные, а порой и враждебные высказывания тех или иных писателей, мы должны быть тем не менее внимательны к их художественному творчеству, которое часто этим высказываниям противоречит.
Обратимся, например, к творчеству даже такого писателя, который в последнее время сделал антисоветизм чуть ли не второй своей профессией. Я имею в виду Артура Миллера. Он часто выступает с позиции, предвзятой во многих, если не во всех отношениях, допускает самые грубые антисоветские заявления. Но вот последняя пьеса Миллера «Американские часы». В ней он рассказывает о своем детстве и юношестве в 30-е годы, годы кризиса. Кто же его герои? Молодые люди, которых привлекает газета «Дейли уоркер» и деятельность американских коммунистов. Конечно, их суждения кажутся немного наивными, но не смешными. 126
Опасными же у Миллера оказываются фашисты и те американцы, которые им сочувствуют.
Пьеса «Американские часы» дает основания говорить о том, что один из крупнейших драматургов - Артур Миллер в своем творчестве, пожалуй, стоит на позициях более точных, чем в политических высказываниях. Поэтому, критикуя Миллера-политика, Миллера- публициста, может быть, не стоит закрывать глаза на сильные стороны его художественного творчества, его драматургии. Это ставит перед нами очень серьезные и сложные задачи анализа и современной американской литературы, и тех процессов, которые являются достоянием ее истории.
Еще один момент, который хотелось бы отметить, говоря о связи литературы и идеологической борьбы,- определенное стремление к политизации мышления, очевидное сегодня среди американских писателей. Оно нашло отражение на съезде американских писателей, который состоялся недавно в Нью-Йорке по инициативе журнала «Нейшн». Участвовало в нем более трех тысяч человек. И Воннегут, и Стайрон, и многие другие писатели больше всего говорили на этом съезде о трудностях, с которыми они сталкиваются в сегодняшней Америке и о враждебности американского истеблишмента искусству. Знаменательно, что первым оратором на этом съезде была Меридель Лесюр, американская писательница, которую все мы знаем по 30-м годам, по эпохе пролетарского романа в США. Меридель Лесюр является членом Коммунистической партии США и активно участвует в работе ее организации в штате Миннесота. Выступление Лесюр перебросило мостик от писательских съездов 30-х годов к современному писательскому движению США. Конечно, не каждый участник нынешнего съезда подписался бы под документами съезда писателей 1937 года, но все они аплодировали Меридель Лесюр, потому что ее выступление было направлено против истеблишмента, против идей конформизма, против превращения искусства в служанку империалистической политики-против тех зол, борьба с которыми служит объединению американских писателей и росту их политического сознания.
Этот вывод подтверждают и впечатления, полученные во время встречи американских и советских писателей в Лос-Анджелесе,-уже тогда многие американцы однозначно критически говорили о приходе к
127
власти Рейгана. Правда, они надеялись, что новая администрация улучшит отношения между США и Советским Союзом, и строили по этому поводу разные домыслы, но не сомневались, что правление Рейгана принесет огромные бедствия американскому народу. «Нам от Рейгана достанется, он нам покажет!» Прогноз в отношении того, что Рейган «покажет» американской интеллигенции, оказался справедливым. Наступление в США реакционных сил, активизация так называемых неоконсерваторов стали катализатором процесса политизации американской литературной жизни. Этот процесс захватил и многих писателей, не подготовленных к активному участию в политической жизни,- отсюда неточность их политических высказываний, непоследовательность, а в некоторых случаях даже неразборчивость. Повторяю, нам следует судить о писателях, поэтах, драматургах не только по политическим высказываниям, которые мы должны правильно и принципиально оценивать, критиковать и не затушевывать, но и по главной сфере их деятельности-их творчеству. Наш долг анализировать его с позиций марксистско-ленинского литературоведения, объективно, всесторонне и по-партийному глубоко, видя гуманистическую основу там, где она есть, и отвергая отступления от нее. Потому что с этой точки зрения некоторые крупные современные художники слова в Соединенных Штатах Америки могут оказаться нашими единомышленниками, борясь против бездуховности, бесчеловечности и агрессивности современной Америки - Америки монополий и транснациональных корпораций.
К. Воннегут издал недавно сборник статей о литературе и искусстве «Вербное воскресение. Автобиографический коллаж». Одна из них относится к советско-американским литературным связям. При всех выпадах, которые допустил в ней Воннегут, он признает необходимость и полезность общения советских и американских писателей, он против «холодной войны» и тем более против войны «горячей», но в целом его политическая программа оказывается очень эклектичной и неразборчивой, гораздо упрощеннее и наивнее, чем многие его произведения, с которыми знаком советский читатель, и которые отражают гуманистическую основу творчества Воннегута, позволяют увидеть в нем противника бездуховности и жестокости буржуазного мира, противника социальной несправедливости и мещанства.
128
Существенным элементом воздействия буржуазных идеологических концепций, наконец, остается модернистская литература, где под маской неоконформист- ской элитарности, автономности и аполитичности искусства скрывается не столько протест против коммерческой массовой культуры, сколько апология абсурдности буржуазного мира. Больше того, модернистская литература, до недавнего времени кичившаяся своей ан- тимещанской изысканностью, сегодня в Соединенных Штатах Америки существует в новых формах, в частности в «омещаненных» вариантах, очень близких массовой культуре.
Пик популярности модернистской продукции у американской литературной интеллигенции позади. Все чаще раздаются в ее адрес критические голоса. Омещанившийся характер подобной литературы точно подметил Джон Гарднер в книге «О нравственной литературе»: «Правда модерниста стремится быть не ответственной и рассудительной, а просто модной». Модернизм тем не менее по-прежнему играет существенную роль в идеологической борьбе, диктуя наиновейшие литературные моды и фасоны и воздействуя на более узкий круг читателей, который, однако, особенно важен для развития литературы, поскольку включает в себя, как правило, и значительную часть писателей. Вот почему эта проблема требует специального исследования.
Американская литература является важным элементом современной идеологической борьбы и, следовательно, требует нашего объективного, всестороннего, основанного на марксистско-ленинском подходе изучения.
«Искусство,-отмечал в цитированной книге Джон Гарднер,-от поколения к поколению заново открывает, что необходимо для человечности»1. Выполнению этой благородной миссии литературы мешает давление на американских писателей информационно-пропагандистского комплекса и другие формы идеологического воздействия монополий. Однако в ряде случаев, как мы видели, их политическая позиция объективно приходит в противоречие с гуманистической направленностью их произведений. Тем более ценим мы вклад писателей, сохраняющих и отстаивающих принципы гуманизма.
1 Gardner John. On moral fiction. N. Y., Basic Books, 1978.
5. Поле битвы-сердца людей
Ю. Каграманов
ЕВРОПА И «АМЕРИКАНИЗМ»
Сюзерены и вассалы. Франция - колония США? Вирусы «американской болезни». Мясорубка массовой культуры и Великий Заокеанский Сатана. Чепуха как товар. Наследники мракобеса. «Маркс или Иисус?» Карточные игроки от политики. Как воспитать американца в европейце. Гарвардская школа бизнеса, орден иезуитов и прусский генеральный штаб. Транснационализация культуры.
Старый миф о похищении Европы Зевсом, вероятно, более чем когда-либо может служить метафорой нынешних отношений между западноевропейскими странами и США. Разумеется, заокеанская держава в этой связи выступает в роли похитителя.
Казалось бы, вопрос не нов. Хорошо известно, что уже в первые послевоенные годы западноевропейские страны были поставлены в «вассальные» отношения с заокеанским партнером, чья экономическая и военнополитическая гегемония в западном мире была тогда неоспоримой. С тех пор соотношение сил изменилось как раз в пользу Европы: в значительной мере она наверстала свое отставание от США в экономической области, а в политическом плане проявляет большую, чем прежде, самостоятельность. Так в чем же дело?
А дело в том, что в то время как западные европейцы наращивали мускулы, они утрачивали собственную оригинальную физиогномику и становились похожими на американцев. Иначе говоря, страны Западной Европы утрачивали свою самобытность, свою национальную культуру, уступая натиску заокеанского образа жизни, заокеанской «массовой культуры». О том, как далеко зашел этот процесс, свидетельствуют, на примере одной страны, факты, собранные в книге французского публициста Жака Тибо «Колонизованная Франция». На пороге 80-х годов, делает вывод Тибо, стало очевидным, что в культурном отношении Франция «колонизирована» Соединенными Штатами; другие западноевропейские страны, по мнению автора, «колонизированы» в еще большей степени, чем Франция. Если подобные утверждения и заключают в себе некоторый 130
перебор, то, во всяком случае, доля истины в них безусловно есть.
Еще в 60-е годы «американизм» воспринимался его противниками в Западной Европе как внешняя угроза. Теперь же в нем видят скорее внутреннюю угрозу, настолько «американизированы» оказались, говоря научным языком, инфраструктуры общества и культуры. Быт, нравы, даже язык несут на себе глубокий отпечаток заокеанских влияний. «Американский образ жизни,-утверждает тот же Тибо,-изменил самые глубины французского общества, его воображение и его разум, его строй чувств и его мышление» 1. Что это не пустые слова, подтверждает художественная литература и кинофильмы последних лет. Взять, к примеру, служащих транснациональной фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» - героев романа Рене-Виктора Пия «Обличитель», знакомого читателю «Иностранной литературы» (1978, № 11, 12). Кто они: французы или американцы? Еще, как говорится, вопрос.
Можно обратиться за свидетельствами к художественной продукции, публицистике и т. д. других стран Западной Европы. Для шведов, например, как пишет шведская писательница Сара Лидман, «Джеймс Бонд и Коджек стали необходимостью наравне с хрустящими хлебцами в повседневном рационе»2. В итальянском фильме «Распад» скромный провинциальный конторщик, прежде чем совершить какой-либо поступок, мысленно ставит себя в положение героя того или иного американского кинофильма, а потом уже «переводит» с языка фантазии на язык окружающей его реальности. В знакомой советскому читателю повести П. Хандке «Короткое письмо к долгому прощанию» герой, насмотревшись американских комиксов, даже собственные сны видит выстроенными аналогичным образом-разбитыми на коротенькие серии, по четыре картинки в каждой. И так далее-примеров найдется немало.
Особую озабоченность вызывает у западных европейцев их будущее-дети, молодежь. «Наши дети растут слишком похожими на их (американцев) детей»-подобные сетования можно услышать в любой точке западной части континента, от Исландии до Сицилии. Растущее поколение в силу ряда причин легко поддается 1 Thibau J. La France colonisee. P., 1980, p. 310.
2 См. сб.: Запад вблизи. M., 1982, с. 780.
131
5*
воздействию американских и американизированных телепередач, кинофильмов, комиксов и т. д., легко усваивает стандарты «американского образа мыслей».
«Американцы...- пишет французский писатель А. Лану,-через свою прессу, песни, фильмы воздействуют на французскую молодежь... Это очень серьезно. Серьезнее, может быть, чем проекты американских штабов или их политического мозгового треста» 1. Схожим образом устами одного из своих героев бьет тревогу итальянский писатель Л. Шаша: итальянское общество (конкретно речь идет о сицилийцах) начинает перенимать американскую систему воспитания детей и тем самым «отдаляет их от себя», лишает «чувства» их традиционных прав (замечу, что в контексте речи «чувства»-не просто эмоции, но скорее та интуиция, которая создается опытом культуры)2.
Многие молодые французы, констатирует видный французский социолог М. Крозье (о его книге «Американская болезнь» речь еще будет идти ниже), сегодня «больше американцы, чем сами американцы».
В распространении «американского образа мыслей» Лану (и не только он) не склонен видеть результат целенаправленной кампании, скорее это, утверждает он, «нечто вроде эпидемии». Вот тут писателю можно возразить: дело, на наш взгляд, не просто в «эпидемии». Хотя принципом культурного процесса в Соединенных Штатах является самотек-в строго определенных, заранее заданных берегах,-их внешняя культурная экспансия развивается как запланированная, тщательно продуманная акция. Кстати говоря, недавно в Париже вышла книга Ива Эда «Завоевание умов. Механизм американского культурного экспорта», где автор (судя по рецензии, опубликованной в буржуазной газете «Монд») приводит новые доказательства того, что культурная экспансия Соединенных Штатов - операция, разработанная соответствующими правительственными учреждениями, и что она развивается бок о бок с военно-политической экспансией.
Культурное наступление Соединенных Штатов, «тихое», но оттого особенно эффективное, чем дальше, тем больше тревожит западных европейцев. Не кто иной, как министр культуры Франции Ж. Ланг, выступая на
1 Чем жив писатель.-Иностранная литература, 1982, № 10, с. 215.
2 Шаша Л. Винного цвета море. M., Прогресс, 1982, с. 353.
132
Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по вопросам культуры, состоявшейся в Мехико, восклицал: «Почему мы миримся с таким вмешательством? Почему соглашаемся с таким обезличиванием? Долго ли мы будем бездействовать? Неужели наши государства, подобно решету, будут пассивно пропускать через себя всю зрелищную продукцию, которой их бомбардируют? Неужели наша участь-стать вассалами гигантской империи тех, кто заботится только о своей прибыли? Такой финансовый и интеллектуальный империализм больше не прибегает к захвату чужих территорий,- во всяком случае, делает это крайне редко. Он завоевывает сознание людей, подчиняет их образ мышления и образ жизни».
Столь резкое выступление на столь официальном уровне прозвучало, кажется, впервые.
Не случайно, что его автором явился именно французский деятель. Среди западноевропейских стран Франция - традиционный оппонент Америки и «американизма». Французы, пишет американский историк Д. Страус, всегда «реагировали на американскую угрозу более резким образом, чем другие (западные) европейцы»; стоя в основном на той же позиции, что и их соседи, они выражали ее «с особой ясностью и силой» 1.
С другой стороны, нельзя не отметить, что именно во Франции в недавние времена имели место и программные проамериканские выступления, получившие наибольший резонанс. Назову такие книги, как «Американский вызов» Ж.-Ж. Серван-Шрайбера (1967) и «Ни Маркс, ни Иисус» Ж.-Ф. Ревеля (1971). И сегодня поклонников «американизма» в этой стране более чем достаточно, что показала, в частности, дискуссия, развернувшаяся вокруг выступлений Ланга.
Речь министра вызвала множество сочувственных откликов. Ланг, писала в журнале «Нувель обсерватер» журналистка К. Рибейро, «заговорив о зле, от которого
Нет уже больше ни великих писателей, ни философов, ни ученых, с честью несущих звания властителей дум. Отныне все пропускается через мясорубку массовой культуры. Культуры коммерческой, само собой разумеется.
Пьер Гаскар, французский писатель 1 Strauss D. Menace in the West. Westport, 1978, p. 282.
134
почти все мы страдаем, убедительно выразил то, о чем сотни французских творческих работников думают слишком давно» 1. Здесь необходимо напомнить, что уже многие годы «говорят о зле» французские коммунисты, занимающие наиболее последовательную позицию в вопросе о защите национальной культуры от заокеанского вторжения.
Но выступление Ланга вызвало и множество нападок. «Новый философ» Б.-А. Леви заявил, например, что «антиамериканизм», исповедуемый Лангом, представляет «набор банальностей» и есть не что иное, как результат будто бы искони свойственной французам ксенофобии. Писатель и теоретик «авангарда» Ф. Соллерс не усмотрел в американском культурном проникновении ничего дурного и даже выразил готовность «стать американцем». Другой литератор, А. Финкель- краут, отверг мысль, что Франция способна оказать сколько-нибудь эффективное сопротивление американскому вторжению; «никакая страна,-утверждал он,-даже наша, не в силах освободиться от чувства своей посредственности, возникающего при сравнении с Великим Заокеанским Сатаной»2. Некоторые довольно почтенные деятели культуры, не углубляясь в существо вопроса, реагировали на выступление министра в том духе, что если, дескать, по телевидению непременно надо смотреть какую-то чепуху, то лучше уж смотреть американскую чепуху, чем французскую.
Что касается «чепухи» (а она, как известно, тоже способна оказывать не чепуховое воздействие на умы и чувства), то такие предположения с определенной точки зрения понять можно. Производство «массовой» культурной продукции в США ведется с большим размахом и основательным знанием дела. Поэтому там, где искусство-промышленность, там у американцев приоритет, а западноевропейская соответствующая продукция выглядит второсортной. Другое дело, когда искусство является искусством в настоящем смысле слова, тогда промышленность не столько помогает, сколько мешает.
Разумеется, в Европу из Соединенных Штатов попадает не только «массовая культура». В области литературы и искусства, а также науки за океаном создано немало значительного и подчас великого, что европейца1 Le Nouvel Observateur. 1982, № 982, р. 12.
2 Ibid., р. 22.
135
ми (нередко сперва именно европейцами, а потом уже соотечественниками) оценено по достоинству. Стоит назвать хотя бы имена Фолкнера и Хемингуэя (замечу, кстати, что полное собрание сочинений Фолкнера до сих пор издано только в Париже, в переводе на французский). И даже в отношении, скажем, Уолта Диснея или Луи Армстронга «за» перевесят «против». Даже то, что проходит по ведомству «массовой культуры», не все плохо: в груде мусора попадаются хотя бы скромные жемчужные зерна.
Но здесь речь идет не о тех американских влияниях, которые обогащают европейскую культуру, а о тех, что обедняют ее.
Между тем американское культурное проникновение в Западной Европе не ограничивается экспортом соответствующей готовой продукции: фильмов, литературы и т. п. Теперь уже и собственная продукция западноевропейских средств массовой информации, самые принципы их деятельности все больше равняются на американские образцы.
Примером может служить проведенная несколько лет назад реорганизация французского телевидения. Суть ее сводится к дальнейшей коммерциализации этого, по общему признанию, важнейшего из средств массовой информации: принцип конкуренции программ ставится во главу угла, возрастает роль рекламы и т. п. (Новое правительство попыталось остановить процесс коммерциализации, но о результатах его усилий пока судить рано.) Тем самым еще больше подрывается воспитательное, учительское начало, заложенное в культурных традициях Старого Света. Вместо того чтобы вести «человека массы», следуют за ним-в тех узких пределах, куда его загоняют. В экономике это называется «маркетинг»: продукт «доводится» до потребителя, как бы идет навстречу его пожеланиям. Те же приемы рыночной торговли у средств массовой информации.
Коммерциализация культуры - процесс, общий для всего капиталистического мира. Основная причина его в том, что экономическая и социальная практика современного капитализма диктует чисто прагматический, инструментальный подход к эстетическим, этическим и другим ценностям. Идеалы и цели, отличающие высокую культуру, не имеют «спроса». Как сказал бы Салтыков-Щедрин, «нет запроса на благородные мысли». И все-таки до поры до времени Западная Европа 136
находилась в более выгодном положении сравнительно с США: сила культурных традиций, инерция определенных институтов оказывали энергичное сопротивление фактору «спроса». Теперь это сопротивление заметно слабеет. Известный французский писатель и социолог Режи Дебре в своей недавно вышедшей книге «Интеллектуальная власть во Франции» показал, например, что средства массовой информации оттесняют такие традиционные центры культурной деятельности, как университет и издательство, и что сами они все больше подчиняются закону рынка, становясь одновременно монополизированным средством пропаганды на службе правящего класса.
Но вот на что нельзя не обратить внимание. Пока стандарты «американизма» вытаптывают столетиями ухоженные урочища, пока благородные шерифы, супермены, ковбои и прочие наглядные «доказательства» превосходства «американского образа жизни» покоряют большие и малые экраны западноевропейских стран, «Великий Заокеанский Сатана» начинает утрачивать тот «магнетизм», который порою притягивал к нему довольно разные категории западных европейцев. Экранные шерифы еще лучатся уверенностью и энергией, а реальная Америка замешкалась на распутье, не имея перед собой никаких четких перспектив.
Надо уточнить, что «магнетизм», о котором идет речь, складывался из разных компонентов, но самым существенным из них был тот, который создала научно- техническая революция. В послевоенные, трудные для Европы годы богатая и процветающая Америка представлялась купающейся в лучах научно-технического прогресса; многим тогда казалось, что только это- научно-технический прогресс-имеет значение, все же остальное не столь существенно. На волне НТР в Соединенных Штатах окончательно сложился и распространился по миру стиль мышления и деятельности, выдавший себя за единственно современный. Его отличительной чертой стала рациональность, понятая в узкотехническом смысле.
Замечу, кстати, что в те же послевоенные годы в Америке приобрел громадную власть человек малообразованный и косный, угрюмый и злобный мракобес-сенатор Джозеф Маккарти. Под предлогом борьбы с «происками мирового коммунизма» Маккарти развернул кампанию против любого рода инакомыс137
лия и повел ее с такой поистине средневековой нетерпимостью, что она недаром вошла в историю под именем «охоты за ведьмами». За спиной Маккарти стояла дремучая американская провинция - понятие не столько территориальное, сколько социально-психологическое,-немедленно свирепеющая, когда кто-то или что- то угрожает или ей кажется, что кто-то или что-то угрожает ее благополучию.
Американские либералы обычно стремятся создать впечатление, будто маккартизм-это нечто такое, что неразрывно связано с особой Маккарти и что Америкой давно уже преодолено. На самом деле маккартизм как явление возник задолго до того, как Маккарти выступил на политической сцене, и продолжал существовать после того, как он ушел; только обычно он принимал не столь откровенные формы. Оживление маккартизма в сегодняшних США - очевидное тому доказательство.
Соединенные Штаты-страна сложная и противоречивая, сплошь и рядом в американской действительности и в самом американском характере соседствуют черты на первый взгляд несовместимые. Но иногда выясняется, что несовместимость эта-только кажущаяся. Так, культ рациональности и маккартизм-явления, если разобраться, не столь уж противоречащие друг другу : оба они так или иначе соответствуют американской традиции, имя которой антиинтеллектуализм и конформизм. Потому что и культ рациональности, как ни странно это может показаться, вовсе не чужд искони свойственного американцам недоверия к рефлексии. Ибо рациональность того типа, какой был пущен в оборот американскими университетами и «фабриками мысли»,- плоская, ползучая: она признает только «опыт» и не признает отвлеченную, «воспаряющую в метафизические высоты» мысль.
Американцы привыкли ставить себе в заслугу то, что всегда было их недостатком: невосприимчивость к метафизике (в смысле учения о сущности мира, а не в смысле антидиалектики) выдавалась, а нередко и сейчас еще выдается за свидетельство «трезвого», «реалистического» направления ума. Мысль, «воспаряющая в метафизические высоты», оставляла американцев равнодушными; величественные философские системы, завезенные «из Германии туманной», редко находили в США последователей или хотя бы тех, кто проявлял бы к ним какой-то интерес (даже такие свои писатели, как, напри138
мер, Г. Торо или Г. Мелвилл, имели крайне ограниченный круг читателей). В этой стране было принято гордиться своим практицизмом (даже ее философы, в большинстве своем, поставили во главу угла однобоко истолкованный принцип «практики») и глядеть свысока на старую Европу, «погрязшую» в идеологических спорах, «отягощенную» своей многовековой культурой, нескончаемо бьющуюся над странными вопросами, именуемыми «вечными» и даже «проклятыми».
Научно-техническая революция, таким образом, лишь внесла некоторые коррективы в давно сложившееся положение вещей. К старым идолам «жизненно конкретного» и «практически полезного» добавились новые: идолы «научности» и «точности». К этому американскому капищу была приобщена и Западная Европа. Долгое время «энтээровская» Америка прельщала многих западных европейцев, видевших в ней только этот фасад целесообразности. Это касается также и части западноевропейской интеллигенции. Люди, морщившиеся от глупых американских фильмов, ждали всяческих благ, и не только материальных, от Америки деловой и науковооруженной. Авторы всевозможных «техноидиллий» пытались создать впечатление, что власть в Соединенных Штатах переходит к экспертам, которые будут управлять страной «по науке». Подобные утверждения казались особенно убедительными в пору президенства Дж.-Ф. Кеннеди, стало принято привлекать к участию в управлении, на различных этажах власти, высококвалифицированных специалистов.
Но уже во второй половине 60-х годов образ Америки, управляемой «по науке», стал быстро тускнеть. Становилось очевидным, что никакие «эксперты» не в состоянии справиться с ее острейшими проблемами, такими, например, как проблема бедности. «Американский тип рациональности» обнаруживал свою неэффективность (или хотя бы недостаточную эффективность) даже в практическом смысле. Новый удар-особенно чувствительный оттого, что это был удар, нанесенный «изнутри», выходцами из привилегированного класса,- нанесла ему контркультура, лишний раз продемонстрировала его ущербность в духовном плане.
Между прочим, в книге Ревеля «Ни Маркс, ни Иисус» была сделана попытка (пользуясь выражением французского писателя, употребленным по другому по139
воду) сложить в одну корзину головы Робеспьера и Марии-Антуанетты - воздать хвалу одновременно Америке деловой, прогрессистской и ее «блудным детям», ставшим под флаг иррационализма и мистицизма. В их конфликте Ревель усмотрел залог будущего «обновления» Соединенных Штатов, страны, отличительным свойством которой, по его словам, является неистребимая «витальность», жизненная сила.
Минуло одно десятилетие, и теперь уже самый утвержденный апологет «американизма» не станет утверждать, что «конфликт поколений» принес Соединенным Штатам какое-то реальное обновление. Контркультура лишь еще больше дискредитировала «американский тип рациональности». А мечты экспертов об «онаучивании» системы управления на различных ее уровнях окончательно развеялись в президентство Рейгана, по сути знаменовавшее возвращение к методам руководства «на глазок».
Итак, рыцари практической рациональности выбиты из седла или, во всяком случае, перестали воинственно трубить в рога. В свою очередь, контркультура в общем и целом потерпела еще большее фиаско. Из чего, однако, вовсе не вытекает, что она не оставила после себя никакого следа. На взгляд американских исследователей этого вопроса, контркультура стимулировала некоторые существенные трансформации «американского характера». Традиционный активный индивидуализм в какой-то мере вытеснен более пассивным эгоцентризмом. Глубокие корни пустила потребительская психология, утратили былое значение такие вещи, как этика труда и сколько-нибудь последовательная гражданственность.
Перемены «на уровне личности»-самый существенный момент тех изменений, которые претерпевает американская культура в целом. (Культура - это ведь не что иное, как личностный «срез» процесса общественного развития.) Кризис культуры в США-прежде всего кризис традиционной для этой страны концепции личности.
А теперь обратим внимание, что в разноголосом хоре западноевропейских критиков «американизма» в самое последнее время довольно неожиданно зазвучали голоса тех, кто еще вчера не выдвигал против него никаких существенных возражений, даже более того, прямо или косвенно его пропагандировал.
140
Так, уже упоминавшийся М. Крозье долгое время выступал как один из апостолов «американского типа рациональности» и в особенности американских методов управления производством. А в новой своей книге «Американская болезнь» он приходит к заключению, что Соединенные Штаты стали «больным человеком» западного мира и что причина начавшегося упадка этой страны-в ее несостоятельности в плане культуры.
Соединенные Штаты, утверждает Крозье, утрачивают право на лидерство в капиталистическом мире, так как они лишились той жизненной энергии, которая еще совсем недавно была им свойственна. Их военнополитическая мощь по-прежнему очень велика, но она уже не может скрыть слабости тылов. К этому можно было бы добавить, что именно ощущение слабости тылов-одна из причин взятого Вашингтоном курса на «холодную войну» и наращивание вооружений. Не так ли в американских фильмах-вестернах «плохие парни», проигрывая, скажем, в перетягивании каната или в борьбе за сердце девушки, хватаются за оружие как за последний аргумент?
Но чем конкретно аргументирует это французский социолог? По его мнению, научно-технический прогрессизм недооценил важность человеческого фактора, в нынешних условиях приобретающего первостепенное значение. «При новой сдаче» (игральных карт- Ю. К.),- пишет Крозье,- перед которой поставлен весь мир, самое главное - качества людей и умение их использовать». «Американская индустрия,-читаем в другом месте,-открывает для себя, с некоторым опозданием, что она уже не располагает теми человеческими ресурсами, каких требует от нее ужесточившаяся конкуренция, и что становится необходимой их переквалификация» 1.
Действительно, сами американцы сетуют на возрастающий дефицит таких человеческих качеств, как элементарная добросовестность и чувство ответственности. Нацию, прежде славившуюся своим трудолюбием, теперь отличает низкая, сравнительно с другими, дисциплина труда. Между тем возрастающая сложность технических систем менее всего терпит, чтобы к ним относились спустя рукава; отсюда-эскалация технических сбоев и срывов.
1 Crosier М. Le mal americain, р. 278.
141
Порча «человеческого материала», согласно Кро- зье,-основной симптом «американской болезни». Он признает, что и западные европейцы поражены теми же самыми вирусами эгоцентризма, возрастающей некоммуникабельности и т. д. Но это, пишет он, вопрос степени: у американцев деградация зашла слишком далеко; в отличие от европейцев, они не имеют устойчивых культурных традиций, которые удержали бы их от сползания по наклонной плоскости.
Аналогичный взгляд развивает другой крупный французский социолог и теоретик менеджмента Ж. Брильман в своей книге «Модели культуры и достижения экономики». Брильман тоже указывает на качество «человеческого материала» как на важнейшее условие экономического развития. Между тем модель человека, на которого может сегодня полагаться индустрия Запада,-это «расчетливый и завистливый эгоист». Модель, утверждает Брильман, общая для западных стран, но наиболее законченную форму принявшая в США.
Оба социолога винят в сложившемся положении вещей американскую воспитательную систему, которую некритически переняли и западные европейцы: она ослабляет тягу к знаниям, поощряет «вседозволенность». Каковы бы ни были ее исходные идеалы, в конечном счете она переключает интерес с «ценностей труда» на «ценности досуга». Оба социолога, однако, отдают себе отчет в том, что педагогические порядки-только производное от системы культуры. На взгляд Крозье, основное зло-отрыв от культурных традиций; в наибольшей степени он характерен для homo americanus. Результат: американцы погрузились в «устрашающее одиночество». и это, подчеркивает автор, не только личная беда каждого из них: любые стороны личной жизни имеют отношение к той сфере индивидуальной человеческой деятельности, которая называется функционально-ролевой.
Сила культурных традиций, развивает свою мысль Крозье, в настоящих условиях приобретает исключительное значение даже в практическом плане. Вот почему западные европейцы приобретают определенные преимущества сравнительно с американцами: у них больше возможностей двигаться вперед, черпая из «ре- зурвуаров культуры». Но самый яркий пример в этом смысле показывают японцы: своими успехами в экономической области они обязаны не столько умению ша142
гать в ногу со временем, сколько тому, что в своих традициях они сумели найти живую силу, которая помогла им выстоять в борьбе с конкурентами. Традиции эти, по словам Крозье, уходят в глубь веков, ко времени эпохи Хэйан и Камакура. Поэтому и «своими предприятиями они (японцы) управляют без американской торопливости, но в ритме медленного созревания, характерного для стиля мышления феодальной эпохи».
Аналогичным образом и Брильман указывает на Японию как на пример общества, сумевшего в экономическом отношении вырваться вперед благодаря своим культурным традициям. Синтоизм, конфуцианство, дзэ- буддизм и т. д.-вот где, пишет он, истоки таких качеств, как умеренность и скромность, большое самообладание и умение не выделяться среди себе подобных, привычка к субординации, и некоторых других, позволивших японцам сделаться лидерами в экономическом соперничестве со странами Запада.
Особенно высоко ставит Брильман японскую систему школьного воспитания, прямо противопоставляя ее американской системе. По его утверждению, американские школы воспитывают разгильдяев, в то время как японские искусно прививают детям любовь к труду и к знаниям, а главное, воспитывают в них послушание.
В Западной Европе только у иезуитов Брильман находит педагогический идеал, близкий японскому. Его привлекает и такая сторона японских методов обучения, как их личностный характер: ученик непременно должен быть под началом учителя, «наставника-исповедника». И здесь, пишет он, «возможна параллель с ученичеством у иезуитов (утверждают, между прочим, что для того, чтобы стать генералом (главой ордена-ТО. К.) иезуитов, совершенно необходимо какое-то время стажироваться в Японии)»1.
Крозье, будто сговорившись со своим коллегой, тоже ставит в пример американцам иезуитов, только высвечивает у последних более широкий аспект их идеологии, а именно: их нравственную философию. Беда Соединенных Штатов, объявляет Крозье, в том, что у них отсутствует разработанная метафизика добра и зла; их идеология застряла на концепциях просветителей XVIII века, упрощенно представлявших себе человека 1 Bril man J. Modeles culturels et performances economiques. Boulogne-Billancourt, 1981, p. 273.
143
как существо доброе по природе и предписывавших «доверие к другому». Американцам с их черно-белыми моральными представлениями и характерными срывами из идеализма в цинизм, полагает он, следовало бы подучиться у иезуитов их искусству нюансировки, их умению смотреть на вещи с точки зрения «грубого реализма», свободного как от идеализма, так и от цинизма.
Парадоксальная на первый взгляд попытка французских авторов (достаточно далеких от теологии и религиозных институтов) опереться на опыт иезуитов стоит того, чтобы в ней разобраться, ибо за ней встает проект серьезных преобразований в области идеологии и культуры.
Прежде всего о том, что означает «доверие к другому», о котором пишет Крозье. Оно означает главным образом то, что в Соединенных Штатах принципы капитализма были интернализированы, «овнутрены» глубже, чем в Западной Европе. Динамизм американского общества в определенной степени скрадывал классовые антагонизмы, а идеология «американизма» навязывалась, и, как известно, не без успеха, сверху вниз-небуржуазным слоям. Американцам внушалось, что каждый из них рано или поздно может стать собственником, и слишком многие из них слишком долго в это верили. Вот откуда относительная однородность образа мыслей, еще в недавние времена отличавшая Соединенные Штаты. И, конечно, «добро» в данной системе оценок - это «ценности» капитализма, а зло-все то, что им противостоит.
Европейская буржуазия никогда не находилась в таком блестящем положении, как американская, но зато опыт классовой борьбы научил ее гибкости, неизвестной за океаном. На уровне теории это лишний раз подтверждает апелляция Брильмана и Крозье к иезуитам. Что делает традицию иезуитов актуальной? Вспомним историю. Орден иезуитов появился в момент, когда средневековое общество переживало жесточайший кризис, принявший характер кризиса веры. Его выражением стала Реформация. Протестантизм обновил веру, сделав ее индивидуальной. Огонь протестантизма, раздуваемый энергией первоначального накопления, был, собственно, суммой огоньков, зажженных в груди каждого протестанта (как ни далеко ушли Соединенные Штаты от времен пуританства, их идеология, особенно в парадной своей части, выстроена в значительной мере 144
на принципах протестантской этики). Иезуиты переключили внимание с проблемы веры на проблему организации, для них важно было сохранить здание, оболочку. На место авторитета веры они поставили веру в авторитет.
Такая позиция иезуитов объясняет их мораль. Хорошо известно, сколь мало щепетильны были они сами в этом отношении; знаменитый принцип «цель оправдывает средства» ославил их на столетия. Но это только одна сторона дела. Другая состоит в том, что они были весьма снисходительны к прегрешениям своей паствы - постольку поскольку последние не угрожали существующим светским и церковным порядкам.
Снисходительность эта была вынужденной: иезуиты достаточно трезво смотрели на вещи и видели, что упадок религиозной (католической) морали - процесс необратимый ; они стремились спасти целое и ради этого готовы были пожертвовать «частностями» и потому смотрели сквозь пальцы на те или иные провинности при условии, что провинившиеся, подобно малым детям, проявляют покорство и послушание. Зато всякое принципиальное непослушание преследовали с особенной нетерпимостью.
Иначе говоря, иезуиты отказались от того важного требования христианской доктрины, которое попытались спасти протестанты; а именно: что каждый человек обязан подчинять все свои поступки велениям нравственного долга. В этом плане нетрудно увидеть определенную аналогию между моралью иезуитов и традиционной японской моралью. У японцев существует «область привязанностей» и «область послаблений», свободная от жестких предписаний и норм. «Двойственность японской натуры,-пишет известный советский публицист В. Овчинников в книге «Ветка сакуры»,-проявляется в контрасте между суровым, бескомпромиссным подавлением личных порывов во имя долга и поразительной терпимостью к человеческим слабостям...» 1
Ясно, какой урок хотели бы извлечь Крозье и Брильман из опыта иезуитов. Идеалы капитализма сегодня так же мало способны воодушевить массы людей, как и римско-католический бог в эпоху, когда появились ие1 Овчинников В. Ветка сакуры. М., Молодая гвардия, 1971, с. 76.
145
зуиты: следовательно, надо меньше полагаться на то, что идеалы эти «овнутряются» массами, и больше нажимать на опеку и принуждение, меньше уповать на искреннюю приверженность существующим порядкам и больше на дисциплину. И в то же время не следует мешать грешным земным существам «спускать лишние пары». Урок сей должен быть преподан в первую очередь американцам, так как именно их концепция личности обнаруживает в настоящее время полную несостоятельность.
Вера в идеалы капитализма в свое время делала удивительные дела. Это она вызвала к жизни рассыпной строй, который американские и французские революционные войска с замечательным успехом применили против неповоротливых линейных боевых порядков соответственно англичан и пруссаков. Общий энтузиазм превращал каждого солдата в самостоятельную боевую единицу. Те, кто покорял Запад в США, тоже шли, фигурально выражаясь, рассыпным строем, и у каждого «солдата» в ранце был «маршальский жезл», то есть миллионное состояние. Разумеется, «маршальский жезл» и даже менее скромные варианты «мечты об успехе» были чем дальше, тем больше иллюзиями, но иллюзиями работавшими (иллюзии, как известно, тоже нередко работают) и потому сохраненными как составная часть идеологии «американизма».
Вот с этими-то иллюзиями теперь призывают покончить-не потому, что они иллюзии, а потому, что они перестали работать, перестали быть «эффективными». Речь идет, таким образом, о том, что следует найти какие-то новые моральные стандарты, адекватные эпохе корпоративных организаций. Отнюдь нельзя сказать, что в самих США до сих пор не замечают, сколь иллюзорна в нынешних условиях старая «американская мечта». Нельзя не заметить, что в реальной действительности традиционного индивидуалиста давно уже вытесняет «человек организации». Американские социологи описывают этот процесс эмпирически и обычно ностальгически, сожалея о том, что приходится расставаться с традиционными идеалами частного предпринимательства. Но в общественном сознании идеалы эти до сих пор занимают огромное место. Иллюзия частнопредпринимательской самоопорности, выступающая в разных обличьях, проявляет необычайную живучесть; несмотря ни на что, герой-одиночка остается популяр146
нейшим героем американских фильмов, произведений «массовой литературы» и т. д.
По словам Крозье, идеологию «американизма» отличает отсутствие гибкости, прямолинейность, а сейчас именно гибкость (не та гибкость, поясняет он, которая позволяет мгновенно применяться к обстоятельствам, а та, которая позволяет изменять или вносить коррективы в самые основы этой идеологии) является тем качеством, какое должны проявить американцы, если они хотят устоять в борьбе за выживание. Сегодня не Америка бросает вызов миру, а, наоборот, мир бросает вызов Америке, и чтобы суметь на него ответить, американцы должны «научиться учиться у других».
Нельзя не отметить, что в рассуждениях этих отсутствует реальная картина расстановки сил в современном мире. Если уж прибегать к излюбленному буржуазными теоретиками понятию «вызов», тогда надо констатировать, что главный «вызов» современной эпохи-тот, перед которым капиталистическое общество поставлено самим фактом существования социалистической системы. И он отнюдь не ограничивается ареной промышленно-технических достижений; спор идет вокруг основ существования, таких, как образ жизни, мораль, культура. И всякие поиски идеологических «вариантов», идущие в буржуазном лагере, всякие призывы проявлять в этом отношении «гибкость» являются прежде всего-хотя об этом и не обязательно говорят открыто-реакцией на успехи, которые одерживает передовая идеология.
Итак, мы видели, что оба социолога настаивают на том, что необходимо обратиться к «ресурсам культуры» Старого Света, но оба судят о культуре с индустриально-техницистской, прагматической точки зрения. Для них культура имеет значение лишь постольку (или главным образом постольку), поскольку она оказывает влияние на «ход игры»-рядом с такими факторами, как, например, наличие дешевого сырья или обеспеченность транспортом.
Проблема защиты национальных культур от наступающего «американизма» их нисколько не интересует. И Крозье и Брильман рассматривают вопрос о культуре «с высоты» интересов транснациональных корпораций, идеологами которых они являются по содержанию «позитивной» части их выступлений (а возможно, также и по должности: Крозье возглавляет парижский Центр 147
социологии организаций, Брильман - Центр исследований по управлению).
Поскольку корпорации эти имеют определенную «прописку», они имеют и национальность, то есть являются американскими, английскими и т. д. Но у капиталистической монополии национальная принадлежность-понятие, как известно, специфическое. Тем более это относится к корпорациям транснациональным: они наилучшим образом демонстрируют истину о безразличии капитала к сферам своего приложения. Притом ТНК выступают не только как магнаты промышленности, но и как рассадники определенного стиля жизни, стиля культуры - они возникли в США, как и сами ТНК, но, распространившись по другим странам, как бы утратили свои национальные цвета. Так, в средние века церковная латынь и сама католическая церковь существовали как бы поверх («транс») местных обычаев и языков, поверх королевств и герцогств со всеми их специфическими местными особенностями.
«Транснационализация,-пишет Ж. Тибо,-не только охватила нашу экономику. Она также покорила наши умы» L В ее основе-дух голой деловитости, дух утилитаризма и прагматизма, завезенный из Соединенных Штатов. Но тот же дух утилитаризма и прагматизма повелевает ныне обратиться к той почве, на которой стоят ТНК, к ее, говоря языком археолога, культурным слоям. Оба француза видят в них средство укрепить порядки капитализма. Не удивительно, что оба они озабочены в первую очередь судьбой капитализма в целом: все капиталистические страны объединяет общность стратегических интересов.
В то же время между строк книг Брильмана и Крозье проглядывает некоторое злорадство европейской буржуазии : самоуверенные янки, вчера еще смотревшие на своих партнеров сверху вниз, сегодня начинают скользить по той же наклонной плоскости, по какой давно уже скатывается Англия. А навыки эффективной организации производства, столь выгодно отличавшие заокеанских партнеров, перестали казаться их неотъемлемым преимуществом - западные европейцы, а также японцы (японцы особенно) добиваются результатов таких же и даже лучших. И японские и западноевропей-
1 Thibau J. La France colonisee, p. 219.
148
ские монополии начинают теснить американцев на мировом капиталистическом рынке.
Для французских социологов начавшийся упадок Соединенных Штатов означает не то, что американская модель капитализма в целом оказалась несостоятельной, а только то, что она нуждается в некоторых исправлениях и дополнениях. В основе же своей она будто бы вполне хороша и жизнеспособна. Более того, Крозье, скажем, порою отпускает весьма неумеренные комплименты в ее адрес, называя, к примеру, Гарвардскую школу бизнеса «одним из величайших институтов, когда-либо созданных человеческим гением» (!), к каковым он относит также орден иезуитов (!!) и прусский генеральный штаб (!!!).
Итак, если научно-техническая революция, центром которой в масштабах капиталистического мира явились США, призвана была омолодить дряхлеющий капитализм, то теперь пытаются его укрепить за счет исторических и культурных традиций Старого Света. Культура, кроме того, оказывается фактором, дающим монополиям одних стран определенные преимущества перед монополиями других стран. «Культура,-не устает повторять Брильман,-становится жизненной экономической необходимостью, основой экономики будущего», и те страны и экономические группировки, которые вовремя отдадут себе отчет в этом, сумеют вырваться вперед и оставить позади конкурентов.
Разумеется, надежды укрепить капитализм за счет культурных традиций-если и не в масштабах всего капиталистического мира, то хотя бы в масштабах отдельных его регионов-совершенно химеричны. Хотя американцы начинают проигрывать в той игре, которой они же сами научили своих конкурентов, последние отнюдь не имеют оснований испытывать особенное удовлетворение. Слишком уж тяжелые времена переживает экономика капиталистического мира в целом, слишком серьезны сотрясающие его экономические коллизии. Из того, что Соединенные Штаты начинают двигаться по нисходящей, еще не следует, что какая-то другая страна или другая часть капиталистического мира движется по восходящей, хотя бы к ней и пристало звучное прозвище Страна Восходящего Солнца.
важно не только затем, чтобы установить, кто сильнее и конкурентоспособнее. В конце концов это, так сказать, семейная, «домашняя» проблема. А ведь речь идет еще и о другом: о судьбах культуры. Оба французских социолога порою как будто начисто забывают, что культура-это не только фактор экономики, это прежде всего «воздух», которым жив человек. Именно как человек, а не как «человеческий материал».
«Транснационализация» культуры, на которой настаивают оба автора,-это тоже продукт «американского типа рациональности», диктующего сугубо деловой, практически-технический подход к культуре. Такие критики «американизма», как Брильман и Крозье (при том, что их критические выступления содержат немало ценных наблюдений), по сути, стремятся лишь «дополнить» его, приспособив для этой цели определенные традиции культуры Старого Света, в первую очередь Европы.
Это очень старый Старый Свет. Это шипенье ки- плинговского змея Каа, мудрого долгожителя, хорошо знающего законы джунглей. Это кривая старческая усмешка Великого инквизитора, по Достоевскому, ведающего о том, что иллюзорная вера должна уступить место авторитету организации, что на месте храма воздвигается новая вавилонская башня.
В очередной раз подтверждается истина о том, что из прошлого можно извлечь уроки противоположного рода, что каждая культура заключает в себе, согласно известному ленинскому определению, «две культуры», что есть традиции, которые помогают идти вперед, и есть традиции, которые тянут назад. Традиции различных «вероучителей» и реакционных философов, Игнатия Лойолы и Фридриха II (первый - основатель ордена иезуитов, второй - основоположник прусско- немецкой военной машины), к которым ныне цинично апеллирует буржуазный «прогрессизм» (как тут не заключить это слово в кавычки!),-и традиции передовых мыслителей и ученых, поэтов и художников, наконец, безымянных творцов народной культуры, способные послужить надежным гороскопом в настоящем и будущем. И для нашего континента, и не только для него. «Священные камни Европы»-не музейные экспонаты; они участники в битве идей, в столкновении идеалов культуры и образов жизни.
В. Молчанов
ШПИОНОМАНИЯ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ
«Советский парапсихологический центр»-роман из подземелья. Кого больше в мире: шпионов или обыкновенных людей? Страх за пару долларов. Тень Маты Хари. Роман-загадка-разоблачение-преследование: попытки теории жанра. Страсти Яна Флеминга. Модель «Джеймс Бонд».
Дарвин Фолл приезжает в Самарканд. Приезжает в научную командировку, а вовсе не для того, чтобы любоваться прекрасными мечетями. Его, авторитетного, несмотря на молодость, ученого, пригласили для консультаций в «советский парапсихологический центр», расположенный в глубоком подземелье, как раз под одной из тех мечетей, на которые Фолл-ноль внимания. Руководители центра обратились к нему за помощью : они не могут понять, почему последние полеты в космос сопровождаются неудачами, и предполагают существование мощного биополя, создаваемого сверхъестественной волей какого-то злобного субъекта. На самом же деле русским нужен сам Фолл, его знания и талант. Космические катастрофы-предлог. Однако ученый, как оказалось, сам отряжен своим разведывательным центром, чтобы выяснить возможности потенциального противника в области телекинеза и телепатии...
Так начинается роман американского беллетриста Майкла Мэрфи. Название его на первый взгляд никак не вяжется с содержанием-«Конец обычной истории». И все же это действительно обычная история, похожая на десятки и даже сотни таких же клеветнических и злобных по отношению к нашей стране историй, относящихся к жанру «шпионского романа». Надо ли говорить о том, что приключенческая литература разных стран, книги о разведчиках в частности, всегда и всюду пользовалась широкой популярностью и подчас представляла весьма достойные в художественном плане образцы, имевшие к тому же и воспитательное 151
значение: главными действующими лицами лучших приключенческих книг были люди бесстрашные и мужественные, ловкие и сообразительные, благородные, преданные идее и верные товарищам,-словом, такие, каким хотелось бы подражать читателям.
В то же время, как правильно отметил болгарский писатель Богомил Райнов, «художественная литература, посвященная разведке, всегда в своей основе является политической литературой, а концепции автора- всегда политические концепции, независимо от того, выражаются ли они непосредственно или завуалированы какой-либо этической или психологической проблематикой» 1.
На пересечении этих двух исконных свойств жанра и возникло явление, представляющее частный случай, о котором пойдет речь в этой статье: западный «шпионский» роман, безоговорочно служащий идеям антикоммунизма и антисоветизма. Он, разумеется, не исчерпывает всего содержания издающейся сегодня на Западе приключенческой литературы, однако удельный вес его в общей массе такой литературы в последнее время возрос, несмотря на то, что по художественным достоинствам такого рода романы явно не поднимаются над уровнем бульварной книжной продукции. В США, например, каждую неделю выходит в среднем по два романа о подвигах отечественных секретных агентов или похождениях русских шпионов. Это обстоятельство заинтересовало западных литературных критиков, обычно относящихся к подобного рода книгам с джентльменским презрением. В одном из последних номеров еженедельника «Нью-Йорк тайме бук ревью» были напечатаны два обзора американской и английской «шпионской» беллетристики начала 80-х годов. В обоих отмечена «повышенная активность жанра». Ивэн Хантер: «Временами кажется, будто в мире больше шпионов, чем обыкновенных людей». Губерт Зааль: «Британские писатели видят русских шпионов всюду, где только можно, и, кажется, одержимы страхом проникновения предателей на высокие посты»2.
Чем же вызван нынешний пароксизм шпиономании в умах обывателей на Западе и в бульварной литерату1 Райнов Б. Черный роман. M., 1975, с. 186.
2 «The New York Times Book Review», 1982, 24 Jan., p. 12.
152
ре? Вопрос не такой уж простой, требующий учета разных факторов: внешних - политической обстановки в мире, остроты психологических атак, предпринимаемых западными пропагандистскими службами; и внутренних-специфики «шпионского» романа, сложившейся хотя и за сравнительно короткую, но все же насыщенную событиями историю этой разновидности популярного жанра, а также его коммерческого успеха. И еще надо учитывать, что внутренние факторы находятся в прямой зависимости от внешних: когда империалистические круги выводят гонку вооружений на новый виток, соответствующим образом обрабатывается и сознание обывателя - нагнетается страх перед якобы угрожающим Западу Советским Союзом. Так было в 50-е годы-в период «холодной войны». Так происходит и сегодня, когда расходы на военные приготовления в США и странах НАТО достигли сумм небывалых, что, разумеется, не вызывает симпатий у большинства граждан и чревато открытым недовольством. Поэтому правящие круги западных государств и заботятся о том, чтобы повлиять на общественное мнение в нужном им направлении. При этом в их распоряжении все пропагандистские службы с достаточным набором изощренных приемов и средств. В число их входит и та разновидность «шпионского» романа, которую мы выделили. Политическая тенденциозность-главная отличительная черта этого беллетризованного пропагандистского средства. Вот уже едва ли не сто лет оно служит надежным разносчиком буржуазной идеологии.
В XIX веке даже бульварные сочинители-не говоря уже о настоящих писателях,-если и выводили шпионов в своих произведениях, то, как правило, личностями хитрыми и мерзкими. Само понятие «шпионаж» ассоциировалось с безнравственными поступками: предательством, доносительством, поэтому в те времена секретные агенты в книгах были исключительно иностранцами.
В романах одного из родоначальников жанра, английского сочинителя Уильяма Ле Ке, шпионы обычно люди жестокие, не брезгующие никакими средствами.
Книжки Ле Ке примитивны и рассчитаны на невзыскательный вкус. Но они тем не менее представляют определенный интерес для исследователя буржуазной массовой культуры, так как в них заложены элементы, отличающие антисоветскую и антикоммунистическую 153
разновидность современной западной «шпионской» беллетристики. Это прежде всего реакционная политическая направленность, крикливый лжепатриотизм, расовая нетерпимость. Враги «сделаны» в этих книгах по раз и навсегда заданному трафарету: злобные, коварные, стоящие на несколько порядков ниже благородных и мужественных англосаксонских контрразведчиков.
Но вот разразилась первая империалистическая война. В военной обстановке резко возросла стратегическая значимость разведки. Никогда прежде сотрудник ее не приносил столько пользы генеральному штабу каждой из враждующих сторон.
Английский офицер Лоуренс Аравийский, например, был не просто выдающимся разведчиком, но шпионом- полководцем. В знойной аравийской пустыне он собрал целую диверсионную армию из воинственных бедуинов. Дерзкие акции «верблюжьего корпуса» доставили немало хлопот немцам и их тогдашним союзникам-туркам. Француженка Марта Рише-кстати, одна из первых в мире женщин-летчиц, что немало способствовало ее популярности,-выкрала ценнейшие документы из сейфа германской контрразведки. В ловкости, мужестве и искусстве конспирации не уступала ей и немецкая танцовщица Мата Хари.
Подвиги этих и еще многих других героев-шпионов стали достоянием широчайшей гласности, и теперь секретный агент предстал перед публикой в ореоле восторженной таинственности и героизма. Книги о шпионах (теперь это уже не были, конечно, только иностранцы) стали необыкновенно популярны и многочисленны. Но наряду с честными мемуарами бывших разведчиков сразу же стали появляться и наспех
Для основной массы американцев выпускают так называемые «пэйпер букс»-книжки в мягкой обложке; они незамысловаты по содержанию и сравнительно недороги: 1,5-2,5 доллара. Согласно данным социологов, более половины американцев читают именно такую «облегченную» литературу.
По страницам американской печати 154
скроенные поделки, выполнявшие вполне определенный пропагандистский заказ. Издатели охотно печатали и фальсифицированные «воспоминания», не заботясь об их достоверности. Для чего? Главное, чтобы публика раскупала.
Учитывая читательский спрос на книги о разведчиках, издатели стали подряжать литературных ремесленников, набивших руку на изготовлении «полицейских» романов. Пусть, дескать, профессионалы дадут волю самой головокружительной своей фантазии. Пусть покажут, на что способны. И эта «многочисленная, разношерстная и тем не менее хорошо организованная банда» 1 (так откровенно высказался о бульварных писаках еще знаменитый Сент-Бев) показала. Кстати, теперь, сознательно стремясь завоевать для подобной беллетристики «серьезный» авторитет, ввести ее в круг литературы, многие западные исследователи посвящают ей теоретические работы. И в частности, споря о природе жанра «шпионского» романа, утверждают, что он есть отпочкование от романа «полицейского».
Так, французские сочинители детективных сюжетов Пьер Буало и Тома Нарсежак, выступающие одновременно и в роли теоретиков жанра, утверждают, что единственное отличие «шпионской» беллетристики от «полицейской» связано с характером главного героя. Шпион, пишут они, «не принадлежит тому миру, что мы с вами, он принадлежит некоему засекреченному сообществу». Да, шпион иногда убивает, крадет, обманывает, но ставить его в один рад с каким-нибудь Джеком- потрошителем нельзя. Потому что он-человек военный, выполняет приказ, и тем самым оправдывается даже жестокость. Во всем же остальном, утверждают Буало и Нарсежак, особых различий между этими разновидностями развлекательной литературы нет, граница между ними весьма условна.
Внешняя структура тех и других романов во многом действительно сходна: как и детектив, «шпионский» роман может быть «романом-загадкой», «романом-разоблачением», «романом-преследованием». Но не наша задача вдаваться в теорию жанра. Для наших рассуждений важно другое-то, что оба жанра могут служить и в случае, о котором идет речь, служат лишь формой, бел- 1 Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, с. 217.
155
летризованной (порой увлекательно и изобретательно) оболочкой, внутри которой-сильнодействующее идеологическое снадобье.
То же можно сказать и о герое «шпионского» романа. Соотечественник Буало и Нарсежака филолог Даниэль Пажо убежден, например, в том, что не долг, звание или задание определяют характер героя-шпиона, а его романтичность. Об этом свидетельствуют, говорит он, одни и те же, повторяющиеся из романа в роман генетические признаки: бескорыстный авантюризм и рыцарское презрение к опасности. Да, это так. Но во имя чего побеждает опасности герой «шпионского» романа? Этот вопрос не менее важен.
Английский критик Джулиан Саймонс всю западную «шпионскую» беллетристику 20-40-х годов назвал недвусмысленно «националистической по тону и правой по политическим симпатиям».
Точно так же можно охарактеризовать «антикоммунистическую ветвь» западной «шпионской» беллетристики периода «холодной войны» и нашего времени. И суть не столько в том, что ее «благородные» герои пользуются зачастую весьма сомнительными с точки зрения нравственности методами, а в том, какие «идеалы» они защищают. Побудительные мотивы тех, кто обслуживает НАТО, ЦРУ, «Интеллидженс сервис» и другие зловещие институты, деятельность которых направлена на разжигание войны, против интересов мира и социализма, высокоморальными не назовешь, а ведь именно они определяют место такого рода «шпионского» романа в системе агрессивной буржуазной идеологии и обусловливают его специфику.
«Шпионский» роман до известной степени верно отразил нравственный облик агента западной секретной службы. Уж как выставлял себя «неоромантиком» один из «классиков» французской «шпионской» беллетристики 50-х годов Жан Брюс, уж как выказывал себя учеником Дюма-отца - все напрасно. Герой многочисленных книжек Брюса-виконт Юбер Бонисье де ля Бат. В этом образе можно без особого труда обнаружить кое-какие черточки, взятые напрокат от каждого из четырех знаменитых мушкетеров. Но помимо них Брюс не мог не наделить своего героя качествами, которые у романтических героев Дюма-отца начисто отсутствовали - жестокостью и редкостным цинизмом. Ибо именно такими были главные характерные признаки «героев», 156
державших невидимый фронт «холодной войны»: прообразов Юбера Бонисье де ля Бата, и проспиртованного Лемми Коушена-«сквозного» персонажа романов Питера Чини, и Джерри Коттона-любимца Центрального разведывательного управления, и многих других.
Этот Джерри был главным действующим лицом «шпионского эпоса», состоящего из нескольких десятков серий, выпуск которых наладило в 50-е годы западногерманское издательство «Бастей». Приключения бесшабашного Джерри-плод коллективного творчества. Работала целая бригада анонимных соавторов. Среди скоростных писак были люди самых разных профессий: несколько газетных репортеров, университетский преподаватель, врач, судья, даже повар. Обязанности каждого строго разграничены-один пишет диалоги, другой завязывает интригу, третий живописует всевозможные членовредительства: простреленные головы, выдавливаемые глаза, вырезаемые из кожи спины ремни, четвертый-«специалист по Востоку»-изображает «кровожадных комиссаров» в боярских шапках с красным околышем. Словом, все были при деле.
Литературные родители бравого Джерри предпочитали оставаться в тени. Может быть, они все же стыдились низкопробных похождений своего отпрыска. Их чувства можно понять: разнузданной удалью и садизмом Джерри оставил далеко позади не то что лощеного де ля Бата, но и самого Джеймса Бонда, признанного фаворита беллетристической антисоветской «шпио- нианы» 50-х годов.
Создатель Бонда, небезызвестный Ян Флеминг, в отличие от членов комплексной бригады поденщиков при издательской фирме «Бастей», никогда своего героя не стыдился, о собственном творчестве был чрезвычайно высокого мнения («Я благодарен судьбе за мой неожиданный дар») и романы писал не только из-за страсти к гонорарам. Не в пример большинству своих коллег, Флеминг никогда не знал бедности. Нет, не унизительная материальная нужда заставила его клеветать на нашу страну, а нечто более значительное-идеологические мотивы.
Литературную карьеру молодой Флеминг начал еще в довоенное время, когда работал корреспондентом влиятельной английской газеты в ненавистной ему большевистской Москве. Уже тогда его репортажи о жизни в СССР были пропитаны желчью и злорадством 157
по поводу малейших неудач. Но ненависть требовала большего выхода. Она скапливалась в душе Флеминга и ждала своего часа. И час этот настал - «холодная война». Накопленный Флемингом багаж антикоммунизма нашел повышенный спрос.
Вот тогда-то и проявился во всей своей красе этот беллетрист, отдавший литературные способности в бессрочную аренду политической реакции. Определенные литературные способности у Флеминга действительно были. Его шпионские истории построены динамично. Читатель ловко и умело вовлекается в головокружительные перипетии. Однако дело не в талантах автора. Дело в том, что Флемингу удалось создать эффективную с точки зрения буржуазной морали модель героя. Главный признак подобной эффективности - относительная долговременность модели.
Секрет изготовления Бонда, в общем, прост: Флеминг сложил его из двух половинок - «сверхчеловека» и обыкновенного человека. Удачливый сочинитель потратил, по его признанию, много труда, дабы придать его персонажу естественность и одновременно романтичность. Всеми силами Флеминг убеждает читателя: Бонд-великолепная, редкостная мужская особь, но при этом он такой же обыкновенный парень, как мы с тобой; только он научился собирать в один железный кулак силу, ловкость, сметливость, волю, не рассуждать о правоте дела своей родной секретной службы и наносить по вражеским планам сокрушительный удар. Поэтому, когда Бонд работает, с ним лучше не связываться, в борьбе со всем, что «пахнет» коммунизмом, он любого супермена за пояс заткнет, ради выполнения задания родной матери не пожалеет. Зато вне службы это обаятельный компанейский парень.
Не преувеличивая значения Флеминга, признаем, что рассчитал он верно: модель «Бонд» до сих пор не сходит с конвейера массовой культуры. И хотя прошло почти двадцать лет со дня смерти самого «конструктора», хотя созданы «модели» более изощренные и, следовательно, более опасные с точки зрения идеологических диверсий, Флеминг продолжает контролировать свое в высшей степени доходное предприятие. На суперобложках некоего английского беллетриста Гарднера («Мандат возобновляется», 1981, и «По специальному зада158
нию», 1982) внизу фамилия настоящего автора, вверху фантасмагорического: Ян Флеминг. Пришлось поделиться славой. Права на Джеймса Бонда-именно этот персонаж позаимствовал Гарднер для своих повествований - неприкосновенны.
Сегодня, как видим, вновь на рынке массовой культуры бондовский бум: кроме упомянутых романов Гарднера-Флеминга, в начале 80-х годов вышли два новых фильма о похождениях агента 007, множество переизданий самого Флеминга, а сколько телевизионных и радиопередач, видеокассет!..
Комплексный характер этого бума помогает в какой-то мере понять, чем вызвана новая волна повальной шпиономании на Западе: она сопровождает глобальную психологическую атаку на потребителя массовой культуры, умело управляемую пропагандистскими службами и предприимчивыми дельцами. Жанр «шпионского» романа тоже взят ими на вооружение.
Эплтон Портер, центральный персонаж романа «Шпион второпях», поставленного на американский книжный рынок Марком Ловеллом в 1982 году, поначалу мало походит на человека военного, а уж на Джеймса Бонда тем более-не та выправка, да и характер не тот. И вообще он-ученый, лингвист, в разведку попал, можно сказать, по чистой случайности. Эплтон - чрезвычайно церемонный и стеснительный малый. Он мгновенно краснеет, стоит ему услышать крепкое словцо, да еще от какой-нибудь разбитной девицы из тех, что были «раскрепощены» сексуальной революцией. Но, попав в условия шпионской службы, лингвист постепенно превращается в настоящего парня. Он вполне профессионально бьется с теми, кого его начальство именует «террористами», он становится хитрым, изворотливым стратегом, он без труда обольщает тех самых развязных девиц, которых раньше так боялся, а главное, он полностью освоил арсенал антикоммунистических идей и представлений - то есть превратился в стопроцентного Джеймса Бонда. И дальше уже сюжет романа развивается по флеминговскому образцу.
«Шпионская» литература такого рода вообще удивительно шаблонна при всем кажущемся разнообразии ее сюжетов и образов. Сам Флеминг в определенной степени следовал ранее изготовленному клише в изображе-
159
нии главного героя: многие знатоки «шпионского» романа находят несомненное сходство между Бондом и Бульдогом Драммондом, центральным персонажем целой серии бульварных книжонок, написанных в 20-е годы одним из родоначальников жанра, англичанином Германом Макнейлом, который деликатно прикрывался псевдонимом Сапер.
Шаблонность «шпионских» историй, сотнями выходящих сейчас на Западе, лучше всего видна в пародиях. В 1981 году, например, вышел такой роман-пародия. Называется он коротко-«Шпионы». Автор его, Скотт Стаун, выказал себя человеком насмешливым и наблюдательным. Есть в его романе-пародии и разведывательная служба, и враг в образе женщины, что весьма характерно, и господин, которого уважительно именуют «доктор Джеймс Бонд», есть там и извечные шпионские принадлежности: портфель-дипломат, который можно мгновенно переоборудовать в снайперскую винтовку, ручка-пульверизатор, разбрызгивающая на сто метров смертоносное ОВ, лазер в виде электробритвы и многое другое. Но самое показательное то, что пародируется и главный шаблон «шпионского» романа-оголтелый антикоммунизм и неразборчивость в средствах борьбы со всеми, кто не приемлет ортодоксии так называемого «свободного мира», звериная ненависть к ним. Именно такого рода ненавистью, ненавистью, доведенной до абсурда, пропитано большинство «шпионских» романов, изготовленных идейными наследниками Флеминга.
Вот один из них - американский сочинитель Альфред Коппел. Выпускающий примерно по одной книжке в год, Коппел специализируется на теме «русская опасность». Время действия в его романах чаще всего-не особенно далекое будущее. В «Гастингском заговоре» (1980) это 90-е годы. Именно тогда автор предрекает приход к власти в Великобритании «марксистского премьер-министра». Событие это приводит к столкновению между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которого Коппел, очевидно, ждет не дождется.
Футурологическая маскировочная сетка нисколько не скрывает главного пропагандистского замысла Коппела и ему подобных - запугать обывателей военной угрозой, якобы исходящей от Советского Союза, создать у него представление о советских людях как о 160
злобных демонах, открыто и злорадно готовящих «судный день».
В последние два-три года такой «шпионский» роман вместе со многими средствами массовой информации участвует в пропагандистской кампании, подрывающей идею сотрудничества между странами с различным общественным устройством, пытается очернить тех трезвых политиков и деловых людей, которые выступают за более тесные контакты с нашей страной. Не случайно в романе известного в США литературного поденщика Мартина Круза Смита «Парк Горького» (1981) бизнесмен Джон Осборн, энергичный сторонник разрядки и контактов, «на деле» оказывается убийцей- маньяком и матерым шпионом, работающим, конечно же, на Россию.
Что ж, «шпионский» роман еще с 20-х годов отводил немало страниц теме «русской опасности». Отводит и сегодня в соответствии с одним из самых распространенных законов буржуазной пропаганды - «законом искажения и преувеличения». Уже само это название, придуманное французским политологом Жаном Домена- ком, достаточно красноречиво и в дополнительной расшифровке не нуждается.
В одном из романов Сапера, изданных в 20-е годы, Бульдог Драммонд «открывает» заговор русских, направленный на подрыв могущества британской короны с помощью хитроумно организуемых (из Москвы!) забастовок. А спустя полвека соотечественник Бульдога, изысканный, чем-то напоминающий Шерлока Холмса, Джим Дональдсон разоблачает на страницах нового «шпионского» романа некоего советского резидента Кена Норриса, якобы занимавшего кресло директора крупной авиационной компании. На заводах этой самой компании готовится к выпуску опытная модель сверхзвукового пассажирского самолета «207». По замыслу
Колумбус, штат Огайо. Четырнадцатилетний мальчик, объяснивший, что он воспроизводил эпизод из фильма «Грязный Гарри», напал на своего одиннадцатилетнего брата и убил его из пистолета 22-го калибра.
Из американской печати 161
автора книги англичанина Ричарда Кокса, коварные русские запланировали с помощью Норриса сорвать испытания «207-го», чтобы, во-первых, нанести удар тем самым по своему конкуренту-британской промышленности, а во-вторых, организовать массовую стачку недовольных рабочих, выброшенных на улицу в результате свертывания производства.
В какие только места не посылает «русских резидентов» творческая фантазия, а вернее сказать, пропагандистское рвение писателей-«шпионистов»: в штаб НАТО, профсоюзную организацию, на космический корабль, теннисный корт... Самые разные люди, на первый взгляд абсолютно не соответствующие представлению о шпионе, оказываются «красными агентами». Среди них можно встретить миллионера, священника, наркомана, артистку, исполняющую танец живота на экзотическом восточном базаре... И это не только развлекательный прием. Русские вездесущи, они воистину опасны, хотят убедить читателей авторы подобных историй. Убеждается в этом и очаровательная Сьюзен Торнтон, героиня романа Ли Николса «Дом грома» (1982).
Она приходит в себя в больничной палате и с изумлением узнает,-какой провал в памяти! - что угодила в автомобильную катастрофу и несколько дней была в забытьи. Но теперь все страшное позади, вокруг заботливый медицинский персонал, постоянно дежурит у постели Сьюзен ее лечащий врач - обаятельный мистер Макги. Он часами беседует с ней на самые разнообразные темы. И мисс Торнтон доверчиво тянется к нему, пока случайно не приходит к жуткому открытию: Макги - никакой не доктор, а... советский исследователь, у которого задание-во что бы то ни стало разговорить ее, крупного ученого, работающего над сверхсекретным оружием. Но самое главное и самое страшное-находится она не дома, в Штатах, а в России.
Как и парапсихолога Фолла, красавицу ученую заманили в ловушку. Никто не застрахован от такого, внушают читателю Майкл Мэрфи, Ли Николс и иже с ними.
Вот так и бомбардируют западную публику мифами о «советской угрозе». Бомбардируют шестьдесят с лишним лет. Правда, с различной интенсивностью. Сегодня пропагандистский обстрел явно усилился. Это связано с 162
попытками буржуазных политиков подстегнуть гонку вооружений, уничтожить те положительные результаты, которые успела принести разрядка.
Надо обработать общественное мнение в соответствующем духе-духе «холодной войны», надо воспитать у людей стойкую неприязнь ко всему, что связано с социалистическим преобразованием мира. Вот почему в срочном порядке вербуется и призывается к большей активности опытный идеологический персонал, на вооружении которого разнообразные пропагандистские препараты. «Шпионский» роман-из наиболее сильнодействующих. Недооценивать его нельзя. Он эффективно опустошает и затем хладнокровно убивает душу. Миллионы душ.
М. Салганик
«ЛЮБЛЮ ЛЮСИ», ИЛИ КОЛОНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Футбол для двух миллиардов. Троянский конь телевидения. Информационный империализм в действии. Как продать полмиллиона за 250 долларов. Горячка «в стиле диско». Добрый дядя Сэм на видеорынке.
Четыре с половиной миллиарда жителей Земли имеют сегодня чуть больше миллиарда радиоприемников и с полмиллиарда телевизоров. Полторы сотни крупных телеграфных агентств, двадцать пять тысяч радиостанций и телецентров снабжают информацией население планеты. Газеты выходят миллионными тиражами.
Все человечество может увидеть собственными глазами, как свершаются события глобального, а то и космического значения-для этого нужно привести в действие три международные ТВ-системы: «Интервидение», «Евровидение» и «Интелсат».
Мяч ударился в штангу-два миллиарда человек на всех континентах могут одновременно ахнуть.
При желании всем им сразу можно показать телевизионную серию «Люблю Люси»-технических препятствий к этому нет.
Около сотни государств располагают сегодня собственными каналами информации, но и сегодня еще не устарели строки Леонида Мартынова, написанные два десятка лет назад об Африке, которая вынуждена
...следить за полем боя По своим же свежим ранам И за собственной судьбою По газетам иностранным.
Газет каждой сотне африканцев достается примерно четыре с половиной экземпляра, а телевизоров-один на три сотни.
164
Ну и что же, хорошо это или плохо?
Оставим в стороне газеты - они давно уже стали привычной приметой жизни человечества, а вот новенькие аудиовизуальные средства массовой информации - благо они для Азии и Африки или беда? Страны с прочными традициями чтения и те несколько ошарашены все- проникаемостью ТВ и говорят о вступлении в «постграмотную эру», а тут речь идет о миллионах, которые усаживаются перед телеэкраном, не успев раскрыть букварь. Зрителем становятся быстрее, чем Читателем,- это легче.
Но раз так, то Зрителя можно быстрее и легче приобщить к современности, не дожидаясь, пока он научится грамоте, для чего ему нужно дать учителей, подготовить и напечатать учебники. Странам многоплеменным и многоязыким-а таких в Азии и Африки большинство-нужно еще решить, на каком языке учить людей читать и писать, а это проблема совсем не простая.
На решение «классического» набора проблем колониального наследия необходимо время, которого нет у бывших колоний. Как говорили древние: мир человека не ждет. У него нет времени.
Аудиовизуальные средства массовой информации, в силу самой своей природы, способны стать машиной времени для освободившихся от колониализма народов Азии и Африки, распространяя в короткие сроки знания, содействуя культурной интеграции многонациональных государств, пробивая путь в общее русло мировой культуры самобытным культурным формам.
Уже сегодня можно говорить об опыте ряда развивающихся стран, где средства массовой информации помогают одолеть отсталость, выравнивают диспропорцию развития, оставленную миру колониализмом. Крупнейший сенегальский писатель Сембет Усман, которого можно считать отцом африканского кинематографа, назвал кино «вечерней школой Африки».
Вопрос в другом-чему и по каким школьным программам будут учить в этой школе?
Африканский журналист Атта Коффи в статье «Телевидение и культурная колонизация Черной Африки» так формулирует суть проблемы:
«В Африке телевидение в добрых руках есть незаменимый фактор прогресса, но в злых оно обращается троянским конем, помогая новым культурным колонизаторам занять место прежних колонизаторов».
165
Чтобы использовать почти фантастический потенциал кинематографа и особенно телевидения, технически отстающим странам Азии и Африки нужно оборудование. А международный рынок сам по себе претерпевает перемены очень интересные, если рассматривать их как показатель удельного веса и роли информации в нашем сегодняшнем мире.
На Западе в последние годы вошел в употребление весьма выразительный термин - «индустриально-информационный комплекс». Продукция этой индустрии- информация, которую надо продавать. При всей своей специфичности, информация как товар подчинена законам товарного обращения: товар требуется сбывать, для него нужны рынки, ему положено приносить прибыли и сверхприбыли. Понятно, что сколько бы ни зарабатывали экспортеры для оборудования на продаже развивающимся странам устарелой техники-это пустяки по сравнению с возможностями, которые открывает торговля самим видеотоваром.
Пакистанский журналист Ахмад Салим пишет в прогрессивном еженедельнике «Вьюпойнт»:
«Хотя по объему телевидение в Пакистане и других развивающихся странах отстает от индустриальных государств, оно делает заметные успехи. Теперь уже никого не удивляют антенны на крышах хижин. В странах «третьего мира», где больше половины населения до сих пор неграмотно, телевидение, такое понятное и массовое по форме, оказывает огромное влияние на сознание телезрителей. Это положение дел исключительно благоприятно для западных телекомпаний, и эксперты не зря называют обмен телепрограммами «улицей с односторонним движением».
Над прессой господствует капитал. В наше время для того, чтобы основать ежедневную газету, нужны такие капиталовложения, что только предприятие, способное авансировать миллиарды и в течение нескольких лет ежемесячно терять миллионы, может пойти на это.
Капитал господствует, и веление наживы определяет лицо прессы.
Андре Вюрмсер, французский писатель
166
Заметней всего на этой улице американский видеотовар, который катит по ней к зрителю Азии и Африки. Почему именно американский - понять нетрудно. Американское телевидение росло и развивалось такими темпами и так быстро пошло по уже протоптанной шоу- бизнесом тропе к превращению в индустрию, что ему скоро показалось тесно на внутреннем рынке. Когда же оно попало под частичный государственный контроль и число телекорпораций было сокращено до пяти, индустрия, чтобы наверстать упущенное, бросилась на внешние рынки. И телевидение было не просто включено в общие программы политической и экономической экспансии США-ему было отведено в них важное место.
Собственно, началось уже с торговли телеаппаратурой: стране, которая по какой-то причине становилось объектом интереса США, техника продавалась по льготным ценам. К примеру, Саудовской Аравии и Ирану Америка в свое время чуть ли не подарила оборудование, и по сей день считающееся лучшим на всем Ближнем Востоке.
Но это было началом.
«Информационный империализм» (выражение принадлежит Урхо Кекконену) всерьез дал себя почувствовать, когда пошел масштабный экспорт американских телепрограмм. В отдельные годы экспорт американских боевиков, детективов и мюзиклов составлял до 200 000 часов телевизионного времени, а это приблизительно третья часть вещания в Западной Европе и больше половины-в Азии и Африке.
По грубым подсчетам, американские ТВ-корпорации зарабатывали на этом до 250 миллионов долларов в год. Принцип льгот и преференций соблюдался неукоснительно. Скажем, часовая программа реальной стоимостью в 400-500 тысяч долларов продается Египту всего за 250 долларов, а иным странам еще дешевле.
Социологический опрос, проведенный, например, в Канаде, показал: в результате телевизионного обучения из США канадцы знают американскую историю и культуру лучше, чем собственную. Многие дети убеждены, что они живут в США.
Это Канада. А как воздействуют американские телепрограммы на неискушенных зрителей Азии и Африки?
Ахмад Салим отвечает:
«Американские программы в Пакистане навязывают зрителю модель образа жизни и систему ценностей, 168
чуждые исторически сформировавшимся традициям нашего духовного мира. Среднему зрителю редко удается распознать идеологическую цель, скрытую за технической безупречностью съемки и увлекательностью сюжета американского фильма».
Здесь следовало бы чуть подробней остановиться на некоторых характеристиках вот этого «среднего зрителя». В Пакистане, как и во многих других азиатских и африканских странах, до появления телевизионных антенн на деревенских крышах абсолютное большинство населения существовало в замкнутом культурном пространстве, силой традиции отгороженном от прямых влияний извне. Влияние внешнего мира, как правило, вначале сказывалось на немногочисленной образованной элите, и через нее, как через фильтр, медленно просачивалось вглубь, успевая еще и трансформироваться применительно к местным условиям. Картинки, замелькавшие на экране в деревне, постоянно испытывающей зрелищный голод, ворвались в ее замкнутый мир, минуя все фильтры, опрокидывая все преграды. С огромной силой сработал знаменитый вовлекающий эффект телевидения.
Миллионы людей оказались вовлеченными в международный китч. Нарядная иллюзия заменила собой тягостную реальность. «Бионическая женщина», «Ангелы Чарли», «Большая долина» и прочие «шедевры» масс- культуры творили в глазах телезрителей социальный имидж общества неограниченного потребления, безоблачного процветания, успеха, доступного каждому,-да разве не зависит он исключительно от личной предприимчивости и трудолюбия?
Ахмад Салим встревожен тем, что сердечные переживания Люси и прочие развлекательные программы выглядят столь невинными,-жадно следя за фабулой фильма, зритель проглатывает и пропаганду американского образа жизни. Фильмы другого типа реклами-
Освещение политических событии в прессе ведется предвзято. Милитаристы получают больше места в газетах, чем те, кто борется за мир.
П. Сатвик, индийский журналист 169
руют справедливость, обязательно торжествующую в «свободном мире». В боевиках и детективах благородные полицейские и красавцы ковбои действуют теми же методами, что и злодеи, внушая зрителю мысль о дозволенности «культа золотого тельца, безнравственности, половой распущенности».
Все это так. Но дело даже не только в этом.
Общеизвестно, как выросла роль информации в формировании и стереотипов поведения, и общественных отношений. Феллини едва ли преувеличивал ее, когда заметил:
«...Тот, кто делает фильмы для широкого потребителя, определяет направление образа мыслей и нравов, психологическое состояние целых народов...»
К этому нужно только добавить, что, проникая в самую гущу народных масс Азии и Африки, импортированная масскультура, к тому же, в силу специфики аудиовизуальных средств, потребляемая пассивно, отторгает народы от национальной культуры, рубит прямо по ее корням - а этого на протяжении веков не могли добиться никакие колониальные культуртрегеры, никакие христианские миссионеры.
И как раз тогда, когда передовая, патриотически настроенная творческая интеллигенция Азии и Африки ищет способа преодолеть дистанцию между собою и народом, вернуться к корням национальной культуры, как раз в это время народ подвергается активному облучению китчем.
Нигерийский литератор Энтони Джон-Канем отмечает:
«...Средства массовой информации воздействуют на образ нашей жизни, показывая нам, как живут другие, и заставляя нас сравнивать себя с ними...»
Легче всего поддается соблазну незрелая молодежь, поэтому на нее нацелено особое внимание стратегов средств массовой информации.
Тони Манеро молод, полон сил и всем доволен. Работает в нью-йорском магазине скобяных товаров, а в субботу вечером надевает красивую нейлоновую рубашку под белоснежный костюм из акрилона и веселится в дискотеке-узнаем мы в начале американского фильма «Горячка субботнего вечера».
«Горячка» охватила толпы молодежи в десятках стран одновременно в результате тщательно скоординированных действий транснациональной прокатной 170
компании «Синема интернэшнл», фирмы грамзаписи «Полидор», а также концернов по производству синтетического волокна.
«С тех самых пор,-пишет Ф. Матта в индийском еженедельнике «Линк»,-как синтетическое волокно заменило шерсть и хлопок (сырье, преимущественно поставляемое странами «третьего мира»), и с тех самых пор, как целое поколение проносило джинсы, химическая промышленность искала способа напомнить об удобстве одежды из полиэстера и нейлона. Так смотрите же-Тони Манеро обожает рубашки из искусственного волокна!»
Нужно ли сомневаться, что буквально наутро после «Горячки субботнего вечера» пошла бойкая торговля и рубашками, «как на Тони», и пластинками, и видеокассетами этого фильма.
Расхватывая нейлоновое барахло и дискокассеты, молодежь раскупает и соответствующие ролевые установки, а следовательно, и образ мышления, который Матта называет «сердечнейше-рациональными взаимоотношениями между молодежью и потребительским рынком».
Обаятельная улыбка Тони Манеро выполняет социальный заказ транснационального бизнеса на формирование аполитичного поколения доверчивых потребителей. Бизнесу рентабелен стандарт, включая и стандартизованного потребителя, значит, культурный плюрализм архаичен, и да здравствует транснациональная молодежная субкультура - единая для всех, технологичная и конформистская!
«Фильм скрыто приводит в действие идеологический механизм, подрывающий национальные нормы жизни... Молодежь мира выделяется в особую социальную группу, и основой для этого избирается конформизм - надо карабкаться по иерархической лестнице общества, которое само всех защищает, всем открывает возможности, в том числе и представителям народов «третьего мира», которым удается выжить в итальянских, негритянских, пуэрто-риканских гетто Америки...»
Так суммирует Ф. Матта суть «Горячки».
Легче всего манипулировать сознанием людей, отторгнутых от национальной культурной основы.
Молодежи стран Азии, Африки пытаются вбить в голову, что за переживаниями прелестной Люси, за танцами Тони Манеро, за суперменством героев «Большой 171
долины», за диско-музыкой и панк-одеждой стоит тот идеал, к достижению которого ведет развивающиеся страны весь ход истории, и долг молодежи - приблизить идеал к действительности.
Стратеги информационного империализма стараются действовать глобально - никто ведь не намерен расходовать средства на подготовку специальных фильмов или телепрограмм для стран, которые намечено превратить в конечных потребителей конвейерного китча,- что поглощает американский обыватель, то съедят и там. Важно только обеспечить бесперебойную работу конвейера на долгие времена. Методы, блистательно описанные некогда в «Королях и капусте», остались принципиально теми же, цели-тоже. «Юнайтед фрут» не может допустить, чтобы на целый цент вздорожали бананы! А вот арсенал средств значительно расширился за счет изощренных способов «ловли душ», явных и потаенных.
Явно блокируется развитие национальных средств массовой информации-африканские и азиатские программы вытесняются с собственных телеэкранов.
«Американские телекорпорации,- объясняет Ахмад Салим,- поставляют свои программы по бросовым ценам, и в результате многие молодые национальные компании вынуждены отказываться от производства собственных фильмов».
Больше того, под эту практику подводится и теоретическая база. На редкость откровенно высказался на этот счет, например, Элик Кац, один из западных теоретиков массовой информации.
«Вероятно,-изрек он,-развивающимся странам следует занять космополитические позиции. Несомненно, дешевле покупать телефильмы у дяди Сэма, чем делать их самостоятельно... Ведь не исключено, что эти государства исчезнут с лица земли прежде, чем их культура подвергнется нивелировке телевидением и другими средствами массовой информации».
Но действительность уже сейчас показывает, что, вопреки всем трудностям, происходит совершенно очевидный процесс становления и развития средств массовой информации в государствах, освободившихся от колониальной зависимости.
Все чаще нарушается одностороннее движение на улице межгосударственного и даже чисто коммерческого обмена телепрограммами. Надо полагать, что в 172
дальнейшем таких нарушений будет все больше, по той простой причине, что всеобъемлющие перемены в жизни освободившихся стран получают все более полнокровное эстетическое выражение, что художественный опыт культур Азии и Африки уже наглядно и доказательно опроверг все расистские концепции некоей его второсортности.
«Короли и капуста» были написаны давно. Пришли другие времена.
Незачем принижать опасность «информационного империализма», но нужно помнить и о том, что нет возможности подменить единство рода человеческого его единообразием.
Могущество средств массовой информации может и должно служить цели, предвещанной «Коммунистическим манифестом»: делать общим достоянием плоды духовной деятельности отдельных наций.
Е. Степанян, К. Степанян
РОБИНЗОНАДЫ ОДИНОКОГО СОЗНАНИЯ
Когда идете, нужно взяться за руки.
Р.-П. Уоррен, «Август»
Сейчас, быть может, особенно важна способность литературы научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе.
Ч. Айтматов, «Все касается всех»
В наши дни, когда угроза существованию человечества предельно реальна, уже не надо напрягать воображение, чтобы придумать те или иные варианты конца света: он у порога. Вот почему в современных произведениях многих зарубежных авторов-при том, что описывают они обыденную действительность и происходящее почти не выступает за грань реального,-явственно слышен «подземный гул»:
«Мир охвачен страхом... конец близок. Наступило... всеобщее вырождение... и на свет вот-вот явится Антихрист... Изо дня в день все расширяется страшная трещина в почве. Озеро, рыжее от глины озеро, мало-помалу заполняет долину... По мере того как уровень воды в нем изо дня в день поднимается, это безымянное озеро сливается с вздымающимися озерами других долин, пока Альпы не превращаются всего лишь в архипелаг- группу островов и глетчеров, нависающих над морем... Склоны оползли... Долины наполнились бурлящей пеной... Вокруг падают булыжники... ползут змеи, бегут кролики... и ветер дует туда же, унося с собой листья, кастрюли, жестянки, телефоны, оконные рамы, печные трубы, стальные конструкции и канцелярские скрепки... Через час начнется последняя мировая война... и тогда остановится Время».
В этом абзаце соединены цитаты из многих рассматриваемых здесь произведений. Назовем их все: повести швейцарца М. Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена» (1979) и западного немца М. Вальзера «По ту сторону любви» (1976), колумбийца Г. Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» (1981) и француза 174
Ж.-Л. Кюртиса «Сады Запада» (1976), романы японца К. Оэ «Объяли меня воды до души моей...» (1973) и «Записки пинчраннера» (1976), норвежца К. Фалдбаккера «Страна заката» (1974) и шведа С. Арнэра «Стать другим человеком» (1972), три американских романа: «Осенний свет» Дж. Гарднера (1977), «Второе пришествие» У. Перси (1980) и «Отель «Нью-Гэмпшир» Дж. Ирвинга (1981). Как видим, книги эти созданы в последнее десятилетие; за исключением романов У. Перси и Дж. Ирвинга, все они переведены у нас и впервые опубликованы-кроме произведений Дж. Гарднера и С. Арнэра-в «Иностранной литературе».
Конца света люди ожидают уже много веков. Только в новое время провозвестниками конца-Антихристами - назывались поочередно: Наполеон, Гитлер, Киссинджер, Садат, Рейган. Но теперь возник претендент, чьи претензии не могут быть оспорены никем: ядерная бомба в руках безответственных политиканов.
Существует и «запасной» вариант конца человечества-экологический кризис. Согласно мнению буржуазных ученых (тех, кто не учитывает возможности коренной перестройки общества потребления на более разумных началах), если рост населения, индустриализация, загрязнение природы и истощение ресурсов продолжатся сегодняшними темпами, то предельные потенциалы развития будут исчерпаны уже в ближайшее столетие.
В подобных условиях все большее число мыслящих людей на Западе начинает сознавать, что для предотвращения глобальной катастрофы чрезвычайно важно изменить культивируемый капиталистическим миропорядком тип человеческого мышления, основанного на принципиальном различии «я»-«они» (остальные, другие люди). Человек существует лишь благодаря другим людям-это верно и в философском (гносеологическом) плане, и в реально-практическом, и в самом глубинном, бытийном-в плане сохранения жизни на Земле. Но понять это рассудком недостаточно. Осознать, постичь, почувствовать, что «я»-это и есть «они», а «они»-это и есть «я» и иначе принципиально невозможно бытие,-такая задача встает ныне перед каждым.
Закономерно, что минувшее десятилетие стало в общественном сознании-и, следовательно, в литературе- временем особенно напряженного внимания к коренным проблемам бытия. Где основы человеческого 175
существования? Насколько прочны связи людей между собой? Что Жизнь может противопоставить Смерти? Никогда еще так остро и беспощадно не обнажалось на Западе всеразъедающее воздействие индивидуализма, не делались попытки найти ему противоядие.
Утверждается понимание важной истины: индивидуализм бессмыслен и губителен прежде всего для самой личности-и не только потому, что, отстранившись от борьбы с грозящей миру опасностью, подписываешь смертный приговор и себе, но и потому, что бес индивидуализма способен покончить с человеком еще до наступления мировой катастрофы. Как проницательно заметила писательница из Великобритании Э. Смит: «... понятие достоинства и ценности каждой человеческой личности, непомерно разросшееся, превратилось в свою противоположность... Человек оказывается в замкнутом круге... Индивидуалистическая доктрина таит в себе семена отчаяния...»
Именно эту утрату реальности собственной личности, мира внутри себя и одновременно - как следствие и как причина-мира вне себя и зафиксировала западная литература еще в 20-х годах нашего века.
Предполагается... что все существующее ложно.
С. Арнэр, «Стать другим человеком»
Два произведения 20-х годов - новелла «Гриджия» Р. Музиля и роман Г. Гессе «Степной Волк»-с разных сторон отражают процессы, разворачивающиеся в одиноком сознании человека Запада: бесконечное дробление человеческого «я», взаимоотражение и взаимоотри- цание частиц этого «я», его неокончательность, нестабильность. Без всякого сомнения, человек и должен быть незавершен, с какой-то долей изменчивости, живой непоследовательности в каждый отдельный момент своего бытия. Но в то же время необходимо постоянно соотносить себя и все окружающее с чем-то устойчивым, неизменным-иначе говоря, нужен некий духовный стержень, скрепляющий человеческую жизнь и соединяющий человека с жизнью вокруг, с человечеством. Индивидуалистическое мироощущение представить личности основу существования не может.
Гомо, герой «Гриджии», едет работать в горы; оторванный от семьи, от привычных условий существова-
176
ния, он переживает изменение всего своего человеческого состава, утрату всех-внешних и внутренних-опор собственной жизни: «... его неотвязно преследовало ощущение, что здешняя жизнь, ясная и прямая, не в пример любой прежней, вовсе не реальность, а легкая, воздушная игра...
Меж деревьев с ядовито-зелеными бородами опустился он на колени, раскинул руки, чего никогда не делал прежде в своей жизни, и на душе у него было так, будто в это мгновение у него из рук взяли его самого». Поразительна вариативность описываемого состояния: оно не разделено на «легкую, воздушную игру» и на выход из себя, слияние с чем-то большим, чем сам Гомо. Но так смешивать разные стороны бытия очень опасно: они не уживаются вместе, и в конце концов игра все захлестывает и самые высокие состояния окрашивает собой, делает отчасти шуточными. Затянувшаяся игра, испытание самого себя и новых условий жизни, связь Гомо с крестьянкой Гриджией кончаются: Гомо умирает мучительной смертью от руки мужа Гриджии.
Ту же психологическую текучесть, бесконечное дробление самого себя и бесконечный поиск возможностей своего «я» видим мы и в «Степном Волке» Германа Гессе. Этот роман не дает нам никакого, в сущности, окончательного и положительного знания о герое. Он ищет себя везде-и везде находит. Одинокий, «высоколобый» интеллектуал, он находит себя (но окончательно ли?) и в мире своей подруги Термины-мире чувственной любви, карнавального травестирования, музыки и танцев. Все, в сущности, относительно в системе ценностей «Степного Волка»,-правда, выше всего вознесено искусство (сонм «небожителей», среди которых упоминаются Бетховен, Гете, Моцарт). Гарри-героя «Степного Волка»-преследует страшный и прекрасный смех небожителей, но этот смех поражает холодом. Характерно, что в финале романа образ, полный для Гессе несомненного величия,-Моцарт-идентифицируется с образом джазового трубача Пабло, красавца и героя- любовника всех танцевальных площадок города. (Кстати, не случайно в «Гриджии» также мелькает имя Моцарта: некий Моцарт Амадео Хоффенгот устраивает поездку Гомо в горы, являясь как бы его деловым антрепренером, а по существу-вершителем его судьбы.)
Все это робинзонады одинокого сознания, идущего от себя и возвращающегося к себе же. Оно переживает 178
самые различные перипетии и приключения-в себе, и только в себе самом. Ценно для него лишь искусство как наивысший результат самовыражения личности (знаменательна трактовка образа Моцарта на страницах «Гриджии» и «Степного Волка»: Моцарт - не только гений, воплощающий собой мир искусства, но и в чем-то абсолютное выражение личности, развившей свои творческие возможности до мыслимых пределов; Моцарт присутствует тут как символ великого искусства, в котором, однако же, индивидуалистическое сознание находит способ увидеть собственное отражение).
Возможности личности очень широки. Но есть ведь вещи более высокие, чем даже личность; вещи, превосходящие своей ценностью то, что добыто искусством,- например, милосердие, братская порука человечества, стремление к добру? Для отображенного Гессе и Музи- лем эгоцентричного сознания это уже понятия во многом трансцендентные.
Роман шведского писателя С. Арнэра «Стать другим человеком»1 и повесть М. Вальзера «По ту сторону любви»2 как бы замыкают окружность, исходной точкой которой мы приняли «Гриджию» и «Степного Волка». Описание выхолощенного «безлюбого» существования суперменствующего шведского этнографа Тернера и служащего мюнхенской зубопротезной фирмы Хорна на совершенно другом уже уровне воссоздают самоопустошение одинокой личности в буржуазном обществе.
«Будь самим собой!»-советует один из персонажей романа С. Арнэра другому и получает в ответ: «Конечно; только быть-то нечему».
Вся атмосфера общества потребления ориентирует личность на собственное «я», только на него. Индивидуалистическое сознание начинает критически переосмыслять, а затем и отвергать «устаревшие» моральные нормы и духовные ценности. Но лишенный основ подлинной личности-чести, веры, любви, сострадания, надежды-и не обретший новых, человек утрачивает в итоге реальность собственного существования. Глухая стена одиночества не пропускает сигналы из окружающего мира, который поневоле тоже начинает представляться тенью, миражем.
1 Арнэр Сивар. Стать другим человеком. M., Прогресс, 1977.
2 Иностранная литература, 1979, № 6.
179
Герой известного романа М. Фриша «Назову себя Гантенбайн», постоянно видя вокруг себя маски вместо лиц и полностью утратив критерии реальности, в отчаянии восклицает: «... я жажду предательства. Я хочу знать, что я существую. Все, что меня не предает, подозревается в том, что живет оно только в моем воображении...» Квинтэссенция утраты собственного «я»-та сцена в романе, когда герой присутствует на собственных похоронах и не может вмешаться: доказательств своего бытия он представить не способен. Стремясь «пробить» стену фальши, преодолеть иллюзорность существования, Гантенбайн решает притвориться слепым. «Быть собой-это все равно что быть слепым»-так сформулирована сущность одинокого отчаяния в недавно опубликованном у нас романе Р.-П. Уоррена «Потоп» написанном в один год с «Гантенбайном» (показательны закономерности искусства!). Но и ложная слепота не спасает Гантенбайна, в мертвой тоске перебирающего свои «роли».
Тем же занят младший современник Гантенбайна - Гернер из романа С. Арнэра, примеряющий маски то Сократа, то Иисуса, то рыбы, то женщины, то лягушки,-при полной невозможности остановиться. В постоянной сменяемости масок-ролей-при полной «атрофии личностного начала»-живет Уилл Баррет, герой «Второго пришествия» (как и его предшественник Ланселот из одноименного романа У. Перси).
Страшный мир-страшный именно обыденностью человеческого вырождения-рисуют нам Арнэр и Валь- зер, Фриш и Перси. Это мир-в котором человек склонен поверить в существование бога лишь потому, что несколько раз подряд успевает вовремя добежать до туалета;
- в котором человек, узнавший, что через год ему предстоит умереть, думает в первую очередь о женщинах-«обо всех, которых «упустил», и «мысли его только об их лоне, в их лоне»;
- в котором деловая поездка за границу приобретает смысл лишь потому, что в гостиничном номере человек не воспользовался ванной и тем обеспечил живущему в ней пауку «несколько спокойных деньков».
Пустотелость героя в современной западной литературе, отражающей кризис индивидуалистического со1 См.: Новый мир, 1982, № 4-8.
180
знания (и в известной мере порожденной им), влечет за собой то, что назвали бы пустотой конфликта. В первую очередь-в философском, бытийном смысле.
Так, все приметы острого психологического столкновения, коллизии между свободной волей и властью есть в романе X. Кортасара «Выигрыши». Пассажирам теплохода под предлогом заразной болезни воспрещен вход на корму. «Отчего?» - негодует одна часть пассажиров. Оттого, что это опасно, резонерски отвечает другая, заранее соглашаясь на все условия комфортабельного морского круиза. Напряжение нагнетается, стремление бороться против запрета все сильнее-и вот несколько героев ценой жертв и потерь пробираются к корме. Один из них-ему-то, единственному, и суждено подняться на корму, а потом быть убитым-видит, что корма пуста. И именно вокруг этой пустоты кипели страсти, сталкивались самолюбия. Увидеть эту пустоту означает для героев Кортасара снять запрет и стать свободными хотя бы и ценой смерти. Конфликт налицо, но сомнительна ценность того, что отстаивают герои. Они, в сущности, настаивают на своем праве на пустоту.
Конечно, на этом сравнительно давнем романе Кортасара сказалось влияние экзистенциализма. Но много разительнее и ярче пустота конфликта в повести М. Вальзера, где душа героя мечется между любовью- ненавистью к верховной карающей и милующей силе- своему директору - и стремлением освободиться из-под его влияния посредством «бунта»: неограниченного потребления пива. И в романе Арнэра, чьи персонажи, играя в любовные треугольники, на деле вовсе не нужны друг другу. Даже попытки каких-либо конечных выводов, положительных решений-уж не говоря о том, что Достоевский именовал «указующим перстом, страстно поднятым»,-не найдем мы в этих произведениях. И наивысшей оценкой, которой они заслуживают, были бы слегка перефразированные слова Паулы из «Выигрышей»: «И все же нам-грустней, но не мудрей». (Более того, в этот ряд можно было бы-с известными оговорками-включить даже такие шедевры литературы XX века, как «Степной Волк» или «Сто лет одиночества»; ведь и Гессе, и Гарсиа Маркес всячески подчеркивают относительность своих выводов, не указывая ясно и прямо путей выхода из кризиса.)
И уж подлинно «холостым выстрелом» завершается 181
роман «Страна заката»1, повествующий об отчаянной попытке нескольких жителей большого европейского города найти спасение от экономического спада и экологического мора-на городской свалке. Смысловой центр романа как будто составляет идея объединения и очеловечения людей перед лицом катастрофы. Но и в финале, после сложных испытаний, сплотивших враждовавших прежде экс-горожан в товарищество, герой ощущает освобождение от гнетущего чувства одиночества лишь после того, как у него побыла проститутка (с которой он никак не решится сойтись окончательно).
Романы С. Арнэра и его северного соседа К. Фалд- баккена знаменательны еще в одном аспекте. Скандинавии в буржуазной системе ценностей отведено место «земного рая», образца благоденствующего общества, где у людей есть все, чего душа пожелает (сейчас вернее было бы говорить: «тело»). Но, читая эти романы, трудно отделаться от ощущения, что действующие лица их-дикари, с недоумением вертящие в руках обломки цивилизации с ее «духовными ценностями». Вот их рассуждения:
«- А что значит «предать все то, во что верил»?
- Это как-то связано с «честью». Понимаешь, считалось, что, если человек что-нибудь сказал или пришел к какому-то убеждению, он уже не имеет права отступаться от этого. А то он перестанет себя уважать. Или что- то в этом роде.
- Как странно,-удивилась Лиза, тщетно пытаясь понять, в чем здесь дело.-Нельзя же говорить и думать всю жизнь одно и то же-ведь все изменяется так быстро...» («Страна заката»).
По мнению ряда западных теоретиков, колоссальное распространение индивидуализма вызвано тем, что человечество в целом и каждый в отдельности оторвались от древнего, дородового чувства коллективизма, покоящегося в подсознательных глубинах человеческого «я». Достаточно вспомнить, оживить его-в том числе и с помощью искусства,-и наступит искомая общность.
Но, во-первых, отнюдь не панацея-бессознательный коллективизм. Вспомним новеллу X. Кортасара «Южное шоссе»2. Сообщество людей, непроизвольно возникшее в результате дорожного затора,-общая 1 Иностранная литература, 1980, № 3, 4.
2 Иностранная литература, 1970, № 1.
182
беда на какое-то время заставила людей объединиться. Но как же иллюзорно и недолговечно это неосознанное изнутри, насильственное объединение эгоистов! Они и называют-то друг друга не по имени, а по маркам машин-Таунус, Флорида, Форд-Меркури, Порш, Четыреста четвертый-и мгновенно бросаются врассыпную, стоит только вырваться из затора (то же происходит с пассажирами теплохода в «Выигрышах»). Есть большая доля правды в словах циника Смайли из романа «Страна заката»: солидарность «обесчеловеченных людей» - фикция. Людям надо сначала вернуть человеческий облик. И тут тоже искусство-не универсальный рецепт.
Обращаясь к «Степному Волку», мы уже упоминали о том, что искусство порой возносится на вершинную и главную ступень в иерархии человеческих ценностей и как бы стремится заменить собой распавшиеся человеческие связи, заполнить психологический вакуум между людьми и в каждом человеке в отдельности. Но искусство само по себе не восстанавливает распавшихся связей, более того, оно может быть даже губительно, когда его человеческая ценность и содержание забываются, а есть только восхищение и преклонение зрителя перед формальным великолепием произведения. Так, нервозные восторги меломанов из рассказа X. Кортасара «Менады» страшно и гротескно завершаются убийством исполнителей; концерт превращается в нечто среднее между оргией и черной мессой.
Другой аспект полнейшей уязвимости культурной брони выявлен М. Фришем в повести «Человек появляется в эпоху голоцена» *. Небольшое наводнение, на несколько дней отгородившее героя повести от окружающих, обнаруживает абсолютную ненадежность его связей с миром и цивилизацией: вспомнить ему практически нечего и не о ком, душа пуста. Накопленные предшествующими поколениями знания, с помощью которых г-н Гайзер пытается спастись от космического одиночества и надвигающегося безумия, переписаны или вырезаны им из энциклопедий и расклеены по стенам квартиры. Но стоит подуть сильному ветру-эти лоскутки слетают со стен. И тогда респектабельный швейцарский буржуа-при полном продуктов холодильнике,-свернув голову любимой кошке, кидает ее в огонь, чтобы зажарить и съесть... Как пророчески писал 1 Иностранная литература, 1981, № 1.
183
Достоевский: «Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть», но если не «сдирают сейчас с людей кожу», то потому, «что еще пока запрещено, а... за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию».
Но все, о чем шла речь выше,-это поиски и тупики западноевропейской общественной и художественной мысли (отнесем сюда и X. Кортасара, и не только потому, что большую часть творческой жизни он прожил в Европе, но потому, что своим мироощущением он, на наш взгляд, гораздо ближе к Европе, чем к Латинской Америке). Может быть, как уверяют приверженцы модных ныне геополитических и этнических доктрин, гуманистическая мысль Европы просто-напросто истощилась, а другие культуры (Латинская Америка, Восток) дают нам более верные «рецепты спасения»?
Дело в том... что мир понемногу идет к концу и такие вещи больше не случаются.
Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества» Спасти себя мы должны сами.
К. Оэ. Из интервью
Латиноамериканский роман казался и кажется многим свежей кровью, вливаемой в вены уставшей цивилизации. По справедливым самооценкам латиноамериканских писателей, вызвано это было тем, что роман выполнял - на первых порах - в духовной жизни народов континента роль эпоса, творимого писателем, не утратившим еще соучастия в общественном бытии.
Однако миросознание «огненного континента» в условиях буржуазного строя не может долго оставаться заповедным. Г. Гарсиа Маркес понял это и выразил еще в романе «Сто лет одиночества».
Кризис индивидуалистического сознания-процесс, бесспорно, зависящий от географических и этнических условий, но в основе своей неизменно социальный. Интересно, как роман Гарсиа Маркеса отразил это,-интересно в том особенно отношении, что автор описывает робинзонады сознания совсем другого типа, чем перечисленные выше. Рисуемому им сознанию чуждо сухое 184
европейское отчаяние. Его мир так естественно управляется фантазией оттого, что этот мир, еще погруженный в фольклорную стихию или, во всяком случае, не вознесшийся над нею окончательно, омываемый ею. Но характерно, что действие романа, вначале заполненного перемещениями целых людских толп, странствиями и открытиями новых земель, к концу, по мере втягивания Макондо в орбиту буржуазной цивилизации, редуцируется до жизнеописания влюбленной пары среди обезлюдевшего города. Одиночество этой пары полно обаяния и во многом фантастично; однако их любовь недейственна и бесплодна: ребенка (родившегося с атавистическим поросячьим хвостиком) пожирают муравьи.
Удивительно, что многие критики, писавшие о романе «Сто лет одиночества», будто не хотели заметить, что этот роман Гарсиа Маркеса не о прошлом, а о будущем: это роман-предсказание, роман-предупреждение, в отличие от «пергаментов» старика цыгана Мелкиадеса (где с помощью таинственных знаков была изложена грядущая история семьи Буэндиа), не зашифрованный, чтобы люди имели возможность это будущее предотвратить.
В 70-е годы большой интерес читателей и критики вызвали романы японского писателя К. Оэ, ориентировавшегося на основные «болевые точки» буржуазной цивилизации.
Молодые герои романа К. Оэ «Объяли меня воды до души моей...»-выброшенные из общества подростки, отрицающие весь окружающий миропорядок, проклинающие его конвейерную, машинизированную жестокость, протестуя против зла, совершают новое и новое зло. Бесконечно ужасен суд над Коротким: страшна жертва, страшны и судьи, протыкающие ее колом. Стремление спровоцировать автокатастрофу, стремление умертвить и умереть-в подростках из романа Оэ, в сущности, живет дух камикадзе, непреклонно и неукоснительно ведущий их к смерти. Смерть, разумеется, откликается на такой настойчивый зов. Лишь в финале романа намечается некое просветление^ и связано это с темой Времени: погибают те из образованного подростками Союза свободных мореплавателей, которые «считают, что будущего нет, и поэтому не делают ничего, чтобы подготовиться к нему»,-Бой, Короткий, Красномордый, их заложник и наставник Исана, но ухо185
дят в будущее поверивший в возрождение Союза Така- ки и обновленная любовью Инаго, унося с собой трехлетнего Дзина (имя это повторяет звучание иероглифа «человечность»).
Здесь мы подходим к еще одной проблеме, которая сейчас остро встала перед человечеством, а значит-и перед литературой.
Человек... не может быть заменен в своей ответственности.
Р. Гвардини. «Конец нового времени»
Индивидуалистическому сознанию существование во времени неведомо: для него нет прошлого, ибо нет памяти, и нет будущего, ибо нет ответственности. Но люди, живущие по принципу «после меня хоть потоп!», все больше приближают реальность этого потопа. Впервые возникает возможность исчезновения Времени.
«Потерять память-вот что было бы страшно»,-записывает г-н Гайзер на стенах своего разрушаемого катастрофой жилища. Но герой Фриша имеет в виду лишь накопленные человечеством знания, которые, как мы видели выше, в апокалипсической ситуации могут превратиться в мертвый капитал. Речь же должна идти о Памяти как нравственной категории: об ощущении себя неотъемлемым звеном в цепи поступательного движения человечества, звеном, чье существование оправдано и искуплено миллионами предшествующих жизней. Если же понимать Историю как путь из «ниоткуда в никуда», как выражается «преуспевающий» писатель Бре-
В модернистских произведениях былая вера в способности человека почти целиком исчезает, а протест ограничен в основном анархической свободой индивида. Модернистское искусство неуклонно приобретает субъективистский характер, и писатели отказываются от попыток постичь социальную действительность или дать в своем произведении целостное представление о мире.
Гейлорд Лерой, американский писатель 186
дуэлл Толливер из романа «Потоп»,-страшно одиноким и бездомным сразу становится человек.
С ощущением своего места в потоке Времени, в Истории неразрывно связаны ответственность и готовность-понятия, для индивидуалистического сознания непостижимые. «Быть готовым-вот что важно»,-без конца повторяет в своих записях г-н Гайзер. Но в момент катастрофы выясняется, что даже к мини-потопу он абсолютно не готов, ибо «господин Гайзер не верит во всемирный потоп»-то есть не приемлет саму идею наказания за неправедную жизнь. Да и никто из земляков г-на Гайзера «не ждет всемирного потопа». «Мы, люди XX века, больше ни во что не верим»,-заявляет герой повести Ж.-Д. Кюртиса1-эстет Иоганнес, успокаивающий себя мыслью, что «кто-то там» продлит «отсрочку перед концом света» ровно настолько, чтобы хватило на жизнь самого Иоганнеса, позволяя ему жить маленькими удовольствиями тела и невинными забавами духа.
Повесть Кюртиса неспроста названа «Сады Запада». Одна из давних-со времен вольтеровского Кандида и даже еще раньше-концепций «спасения» западного человека: если нет сил сражаться с мировым злом, надо «возделывать свой сад», не вмешиваясь в смуту за его пределами. Но вдумаемся хотя бы в один факт: в мире ежедневно (а это значит и сейчас, когда мы пишем, и сейчас, когда вы читаете) 40 000 детей умирают от голода и болезней. Возделывание сада все чаще оборачивается преступной созерцательностью. И не случайно позиция пассивного созерцания становится ныне врагом номер один человечества и, естественно, литературы. Лишь понимание каждым человеком своей решающей роли в борьбе с опасностью ядерной войны, экологическим кризисом, голодом, войнами поможет спасти мир. А поэтому каждый должен считать себя «ответственным за все, что происходит вокруг», заявил в одном из выступлений К. Оэ. Герой романа «Объяли меня воды...» Исана обновление своей человеческой природы испытал лишь тогда, когда понял собственную «вину перед детьми всей Земли, начиная от Индии и кончая Европой». Но такое глобальное понимание вины не должно исключать конкретной ответственности кон1 К юрт и с Ж.-Л. Сады Запада (в кн.: К юрт и с Ж.-Л. Парадный этаж. М., Прогресс. 1980).
187
кретного действия. Об этом - роман Оэ «Записки пинч- раннера»1. Роль пинчраннеров 2 одной команды - человечества-принимают на себя герои книги-Мори и его отец, спасающие людей от глобальной ядерной катастрофы, замышленной «могущественным господином А.».
Именно активным призывом к действию интересен и важен новый роман японского писателя, созданный с четко сформулированной задачей: «взорвать воображение третьих лиц», тех, кто в битве человечества за выживание склонен считать себя болельщиком, третьим лишним. Ведь пассивным чувством вины за исполняемые ими «роли» нежат остатки своей совести даже такие индивидуалисты-созерцатели, как Гантенбайн или Иоганнес. Но для спасения мира сегодня необходимо только действие.
Нужно понять, что... все мы братья и сестры в коротком путешествии, имя которому-жизнь. Если каждый осознает это, тогда никому не придет в голову причинять вред другому. Подлинная литература как раз об этом и должна говорить с людьми.
Патрик Д. Смит. Из ответа на вопросы анкеты журнала «Иностранная литература»
И с точки зрения отдельного индивида, и с точки зрения человечества справедливо следующее: пока существует Жизнь (взаимосвязь и взаимоответственность всего живого, память)-не существует Смерть (распад, забвение). И наоборот. Битва эта, достигшая ныне невиданного накала, происходит как в мировом масштабе, так и «в каждом отдельном «я» (М. Фриш).
Разными путями приходит к этой мысли литература западного мира, о чем свидетельствуют три последних произведения, которые предстоит нам здесь рассмотреть,-произведения, вышедшие из-под пера Г. Гарсиа Маркеса, Дж. Ирвинга, Дж. Гарднера.
1 Иностранная литература, 1981, № 11-12.
2 Пинчраннер-игрок в бейсболе, который в момент критического положения своей команды должен стремительным рывком выправить положение.
188
Одному из авторов статьи уже доводилось писать, что в повести «Хроника объявленной смерти»1 Маркес создал запоминающуюся метафору теснейшей взаимосвязи людей. Кульминация произведения-убийство братьями Викарио, во исполнение требований чести, молодого Сантьяго Насара. Но парадокс в том, что о приближении смерти к Насару знают все и никто не желает ее, даже убийцы. Однако стоит на какой-то миг случайно оборваться взаимной ответственности людей (а в основе «случайности» каждый раз лежит незначительная поблажка собственной совести)-как смерть немедленно проникает в образовавшуюся брешь.
Но мир этой повести, над которым рок тяготеет неминуемо и в котором между людьми стоит таинственный психологический заслон, предстает неомраченным, полным жизни. Утро убийства светло. В это утро зарождается упорная страсть Анхелы Викарио к навязанному и немилому ей прежде жениху. Сантьяго Насар умирает в белых одеждах. Он оплакан и не забыт.
Дело в том, что мир, в котором разворачивается эта драма,-живой. Жизнь в нем не иссякает, не пасует перед смертью. Смерть не господствует над мыслями героев духовной неотвратимостью. Смерть-всего лишь тень, которую отбрасывают предметы этого мира.
«С)тель «Нью-Гэмпшир» Дж. Ирвинга не контрастирует, а во многом совпадает по мироощущению с «Хроникой...». Хотя это произведения разных культур и литератур, с резко отличными персонажами и обстоятельствами места действия.
Но главное-книга Ирвинга, казалось бы, оснащена полным набором «красот» модернистского романа: глубокая «закомплексованность» главного героя-молодого Джона; маниакальная страсть его отца-главы небогатого американского семейства-иметь собственный отель, завершающаяся тем, что он, уже слепой, становится хозяином «отеля»... в котором никто не живет (однако близкие уверяют его, что комнаты полны постояльцев); инцест и самоубийства; постоянное присутствие смерти, воплощенной в чучеле любимого пса, всюду сопровождающего семью героя; живущие бок о бок леваки-террористы, намеревающиеся взорвать Венскую оперу,-и «артель» проституток, чей быт воссоздан во всех подробностях. И вместе с тем в атмосфере рома1 Иностранная литература, 1981, № 12.
189
на царствует юмор-не сумрачный юмор воннегутовского или хеллеровского толка, а иной, светлый, настоящий юмор жизни (чего стоит хотя бы друг семьи, старый еврей Фрейд, прозванный так потому, что, бродя по пляжам с ручным медведем, «излечивал» тоску и скуку у курортников!).
Роман стойко оптимистичен, несмотря на звучащие в нем эсхатологические мотивы. Мы все - пассажиры большого корабля, находящегося в кругосветном плавании, говорит патриарх семьи, старый Айово Боб, и в любую минуту нас может смыть с палубы. «Но несмотря на эту опасность-вернее, из-за нее-нам нельзя быть подавленными или несчастными. То, как устроен мир, не должно служить основанием для безудержного цинизма или инфантивного отчаяния». Кульминация романа такова: террористы, начинив автомобиль взрывчаткой, захватывают семью Джона и, угрожая оружием, требуют, чтобы кто-нибудь из пленников сел за руль и на полном ходу врезался в здание оперы. Взять на себя эту миссию вызывается старик Фрейд, который, ни минуты не колеблясь, взрывает автомобиль вместе с собой и террористами во имя спасения сотен ничего не подозревающих венцев, собравшихся на открытие оперного сезона.
И, наконец, роман, о котором писать и радостно и печально. Радостно потому, что он убедительно свидетельствует о неистребимости великих традиций подлинной литературы. Печально потому, что никогда уже не возьмет в руки перо его автор-Джон Гарднер.
Последний роман Гарднера «Осенний свет» известен советскому читателю1. Действие его разворачивается в маленьких фермерских поселениях, в одном из «нестоличных» американских штатов-Вермонте, где живут и тяжко трудятся те, кого принято называть простыми американцами.
Здесь имеется в виду основной роман, ибо в произведении есть еще роман «вставной»-пародия на псев- доинтеллектуальные авангардистские боевики. Слишком легким решением для писателя было бы противопоставить и этому «роману», и потому изверившейся западной литературе вообще патриархальную идиллию, в которой пребывают чуждые миазмам американской цивилизации Филемоны и Бавкиды. Но какая уж 1 Гарднер Джон. Осенний свет. M., Прогресс, 1981.
190
тут идиллия? Конфликты в мире Джеймса Пэйджа и его земляков не менее остры и драматичны, чем на самых магистральных перекрестках современной цивилизации (разве что менее эффективны): взять хотя бы «душераздирающую» вину и муку отца, своими руками толкнувшего сына на самоубийство! Главное различие между литературой безумствующего общества (представителем которой в «Осеннем свете» служит «вставной» роман «Контрабандисты с утеса Погибших Душ») и произведениями Гарднера в другом: там царство мертвых, здесь, у Гарднера,-мир живых. Среди героев основного романа (в отличие от персонажей «Контрабандистов...») такие понятия, как долг, честь, справедливость, «абсолютная честность», даже не подлежат обсуждению или тем паче рефлексии - поступать в соответствии с их требованиями так же естественно, как жить: «Джеймс был ветераном войны, ушел воевать на вторую мировую войну, хоть и был уже далеко не молод, да и не полагалось как фермеру. «Долг»,-сказал он». Органичная, глубинная связь с бытием, друг с другом присуща этим людям. Душевное здоровье (что вовсе не равнозначно идиллической безмятежности), сохраненное и в старости, позволяет Джеймсу Пэйджу и его сестре Салли и на склоне лет чувствовать себя молодыми людьми, лишь по недоразумению заключенными в старое тело.
Джеймс Пэйдж, вспоминая свою трудную, скупую на радости жизнь, приходит к выводу: «Жизнь была когда-то хороша, ну, конечно, была, она и теперь прекрасна...» А сравнить предсмертные страх и сожаления Эндерлина из романа «Назову себя Гантенбайн» (об упущенных женщинах и их лоне) и предсмертный монолог друга Джеймса, старого Эда Томаса,-подлинное слово о жизни! Если старый Томас о чем и жалеет, то лишь о том, что не сможет уже принять участие в великом обновлении природы от зимы к весне. Так могут существовать и мыслить лишь те, кто живет в союзе с жизнью.
Еще один показатель душевного здоровья героев Гарднера - названный А. Зверевым «светом совестливости»,-неизбывная ответственность за совершающееся вокруг зло, понимание своей вины и за то, к чему впрямую не причастен. Даже маленький Дикки приходит к выводу-: это я во всем виноват, я обронил у тети Салли в комнате ту «грязную книжку», с того дня все и началось (имеется в виду цепь конфликтов в семье Пэйджей, за-
191
вершившаяся ранением приемной матери Дикки). И потому даровано персонажам Гарднера «чистое время - прозрачное, свежее Время, упоительные, избыточные дни». А в конце романа-повторим, отнюдь не безмятежно-идиллического - «солнечно-солнечно».
Мир героев Дж. Гарднера, в сущности, очень тесен и мал, но они живут в этом своем мире по законам жизни и совести среди зла, захлестнувшего души и искусство западного общества в наши дни. А из таких островков складываются континенты. И торжество основного закона бытия (добро-сущностно, смерть и зло-конечны) в этом романе весьма наглядно: смешны в своей эфемерности «посланцы» безумного мира: «грязная книжка» о наркоманах, телепередачи, писатели-декаденты из столицы.
Когда из передач последних известий узнаешь, что в штате Вермонт, находящемся, по заявлению одного из гарднеровских персонажей, «в стороне от мира», 156 из 175 городских общин приняли резолюцию, призывающую президента США заморозить ядерные арсеналы, думаешь, что среди подписавших резолюцию (а возможно, и инициаторов ее) наверняка были Джеймс Пэйдж и его земляки. Ведь, по справедливому замечанию самого Гарднера, «искусство соприкасается с жизнью, воздействует на нее, а жизнь, в свою очередь, входит в искусство».
Жизнь, к сожалению, истребима. Однако человек, ее высшее порождение, освобождаясь постепенно, но неуклонно от мора индивидуализма, перестраивая свое сознание на «для-всех-бытие», будет все более сжимать вокруг очага смерти кольцо жизни. С надеждой на это вступили люди в предпоследнее десятилетие века.
Лев Токарев
ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Размышления над страницами журнала «Кэнзэн литтерэр»
Каменное чудовище оскалило пасть. Альберт Эйнштейн и гамлетовский вопрос. Атомный Молох. «Завоевание умов» - правила войны.
С обложки специального номера парижского журнала «Кэнзэн литтерэр», который озаглавлен «Война. Несколько тем для размышления», на читателя тупо уставилось каменное чудовище, угрожающе оскалив зубастую пасть.
«Надо ли удивляться, что темой этого номера выбран такой сюжет, как война?-спрашивает в передовой статье главный редактор журнала, известный критик Морис Надо.-Над большей частью планеты, над нами, европейцами, тяготеет страх, психоз страха... Наш ум неотступно преследует пламя ядерного пожара. Для нас это соответствует концу света, апокалипсису».
Сегодня, когда агрессивно-авантюристическая политика Вашингтона поставила мир на грань катастрофы, для подобных мрачных настроений действительно имеется немало оснований. Вопрос о мире стоит в центре внимания общественности планеты, превратился в глобальную программу. Угроза термоядерной войны впервые в истории поставила человечество перед роковым гамлетовским вопросом «быть или не быть?». Не однажды об этом предупреждали ученые-гуманисты XX столетия. «Существует опасность полного самоуничтожения человечества, которую нельзя сбрасывать со счетов»,-писал Альберт Эйнштейн.
В наши дни атомная угроза приобрела качественно новый характер. Империализм стремится решать внутренние проблемы за счет агрессивности внешней политики и реально угрожает всеобщему миру, подталкивая человечество к опасной бездне. Не секрет, что с 1946 по 1975 год высшие правительственные и военные инстан193
7. Поле битвы-сердца людей
ции США девятнадцать раз обсуждали вопрос о применении ядерного оружия. Империалистические поджигатели войны в буквальном, а не фигуральном смысле слова играют с огнем. В августе 1945 года американский империализм принес в жертву атомному Молоху триста тысяч японцев. Теперь, в условиях беспрецедентной, навязанной им человечеству гонки вооружений, империализм, если случится непоправимое и разразится третья мировая война, способен разрушить цивилизацию, погубить жизнь на Земле.
Но сегодня возможности империализма диктовать свою волю миру резко сузились.
Проблема войны и мира находится в эпицентре идеологической борьбы современности. Буржуазная идеология в последнее десятилетие все откровеннее приспосабливала свои социальные теории, стратегические концепции и пропаганду к той политике конфронтации, которую проводят самые реакционные и агрессивные силы империализма. Предпринимается множество попыток фальсифицировать само содержание проблемы войны и мира в нашу эпоху, похоронить разрядку, расколоть единство и подорвать влияние движения сторонников мира, привлечь на сторону милитаризма и его человеконенавистнических идей широкие слои западной- особенно творческой-интеллигенции, заставить простых людей примириться с мыслью, психологически сжиться с тем, что мировая ядерная война неизбежна. Именно в этом политико-идеологическом контексте следует рассматривать разнообразные материалы, опубликованные на страницах журнала «Кэнзэн литтерэр». Умело скомпонованные, они преследуют очевидную цель: дать «пищу» для размышлений буржуазной ин-
Существует проверенное временем изречение, что те, кто не считается с уроками истории, обречены на повторение прежних ошибок. Правительство Рейгана и его планы милитаризации космоса могут служить подтверждением этого предостережения в масштабах немыслимых до сих пор как в плане издержек, так и в смысле стратегических последствии.
Эдвард Кеннеди, сенатор 194,
теллигенции Франции - главным образом писателям,-в конечном счете убедить их, что роль деятелей культуры в борьбе за мир ничтожна, а их призвание-заниматься «чистым» искусством.
Морис Надо уверяет читателей, что редакция, отбирая материалы, следовала девизу Спинозы «не смеяться, не плакать, но понимать», то есть придерживалась бесстрастной объективности. Чтение специального номера убеждает в обратном. В журнале помещена, например, рецензия на книгу французского автора Ива Эда «Завоевание умов», где приводится весьма откровенное высказывание крупного специалиста по изучению общественного мнения США Джорджа Гэллапа, хорошо раскрывающее суть буржуазной пропаганды. «Лучший и самый надежный принцип,-заявляет Дж. Гэллап,-которого следует придерживаться в идеологической войне, это руководствоваться правилами «войны горячей». В борьбе за завоевание умов писателей и деятелей культуры авторы журнала «Кэнзэн лит- терэр» не брезгуют этими методами и поэтому подсовывают им в качестве темы для размышлений тезис о «беззащитной Европе».
ЗЛОВЕЩИЕ СЦЕНАРИИ
«Третья мировая война началась?»-шуточки «Монд». Ложь столетня и сценаристы катастрофы. «Танатос», что означает смерть.
Парижская газета «Монд» 7 сентября 1979 года поместила рекламную страницу, которая была посвящена выходу в свет французского перевода книги английского генерала Джона Хэккета «Третья мировая война. 4-22 августа 1985 года». Обращенная в будущее реклама скрупулезно имитировала первую полосу газеты от... 6 августа 1985 года. «Третья мировая война началась»,- возвещает «шапка» полосы. Не менее хлестко подан и центральный материал, его заголовок гласит: «Наступление, начатое ночью 4 августа силами Варшавского договора против ФРГ, расширяется». Но суть этой жутковатой и пошлой «шутки» раскрывается в заметке «Ночь 4 августа», где поставлены точки над «i»:
«Москва расценивает наступление танковых дивизий Варшавского договора как превентивную акцию... Ра195
зумеется, официальное коммюнике о вступлении в войну прибавляет, что «Советский Союз прежде всего желает прочного мира».
Вот такие шуточки позволяет себе «Монд»!
Я вспомнил об этой циничной газетной провокации потому, что книгу генерала Хэккета и по прошествии трех лет снова рекомендует для размышления автор журнала «Кэнзэн литтерэр», сотрудник Французского института международных отношений Жан Клейн в статье «Риск войны в Европе». С глубокомысленным видом Клейн, у которого совершенно отсутствует галльский здравый смысл, анализирует различные варианты «советской военной угрозы», забывая, что даже буржуазные журналисты давно окрестили этот миф «ложью столетия». Излюбленный прием нагнетания лжи сводится к разработке и пропаганде «всевозможных сценариев» вооруженного конфликта на Европейском континенте, где «нападающей стороной» непременно выступает Советский Союз.
Клейн с неподражаемой наивностью признает, что данный способ разжигания психоза страха перед «угрозой с Востока» пользуется «особой благосклонностью» у буржуазной пропаганды. Стоит внимательнее присмотреться к тем упражнениям, которым предаются, говоря его словами, «военные эксперты, одержимые стратегическими играми».
В основе «сценариев» будущей войны в Европе, утверждает Клейн, обычно лежат две схемы: «нападение с применением классического вооружения и превентивная акция ядерного типа». Первая схема «покорения» Западной Европы СССР разработана в книгах отставного бельгийского генерала Клоза «Европа без обороны» и французского полковника Доли «Шестая колонна». Эти «сценаристы катастрофы», словно профессиональные гадалки, выдвигают различные варианты судьбы «беззащитной Европы», судят да рядят, где (на берегах Рейна или Ла-Манша?) и когда (через два или три дня?) примчатся внезапно «красные танки».
Однако буржуазные средства массовой информации, как с прелестной непосредственностью замечает Клейн, «все-таки отдают предпочтение «сценариям» внезапной агрессии с использованием атомного оружия». Один из них предложил в книге «Мир конфликтов» французский генерал Пьер Галлуа, чья проникнутая паническим страхом перед «красной угрозой» статья, красноречиво 196
названная «Запад готовит собственное военное и политическое поражение», представлена на страницах журнала «Кэнзэн литтерэр». Генерал Галлуа принадлежит к неисправимым пессимистам, он убежден, что «западная политическая и экономическая система обречена», а Западной Европе не избежать «советизации». Он выдвигает фальшивый тезис, будто Запад безнадежно отстал от СССР в военной области, попав в «ловушку» политики разрядки, которая якобы выгодна только Советскому Союзу и странам социалистического содружества, будто у США «недостаточно» стратегических ядерных вооружений. Короче, сам себя разрушающий Запад «беззащитен». И поэтому ослепленный антисоветизмом и антикоммунизмом генерал Галлуа пугает западноевропейцев своим бредовым «сценарием», чья суть сводится к тому, что Советский Союз первым способен нанести ядерный удар по Западной Европе, поставив НАТО и США перед свершившимся фактом и, таким образом, нанеся им, как он выражается, «поражение без битвы».
Странно, однако, что генерал Галлуа, говоря его словами, «полностью исключает гипотезу конфликта» с применением в Европе ядерного оружия. Он даже высказывает мысль, будто локальные конфликты не приведут к использованию атомных вооружений и тем самым мировая ядерная война невозможна в силу «огромности риска», нависшего над человечеством. Так почему мрачно настроенный генерал выдумывает свой «сценарий» катастрофы? Ответ на этот вопрос дать нетрудно: «стратегические изыскания» Галлуа рассчитаны на то, чтобы фальсифицировать миролюбивую политику Советского Союза и стран социализма, посеять страх среди западноевропейцев, убедить их, что безопасность Западной Европы зависит от США. Всему миру прекрасно известно, что СССР в одностороннем порядке принял на себя обязательство не применять первым ядерного оружия, что наша страна неуклонно выступает за превращение Европы в континент мира.
Общеизвестно, что не Советский Союз предлагает Европе довооружиться, а США, в чьих стратегических концепциях она рассматривается как потенциальный «театр военных действий» и мишень ответного удара. Не Советский Союз, а США фактически саботируют переговоры в Женеве об ограничении ядерных вооруже197
ний в Европе. Для западноевропейцев не секрет - это хорошо знает и генерал Галлуа,-что между СССР и США, НАТО и организацией Варшавского договора существует военно-стратегическое равновесие, ядерный «паритет», и Советская Армия, в отличие от мифического Зевса, не намерена похищать красавицу Европу.
Кстати, подтверждения этому можно найти и на страницах специального номера «Кэнзэн литтерэр». Даже Ж. Клейн делает в этой связи выразительное признание.
«Учитывая нынешнее соотношение сил,-пишет он,- не установлено, что армии Варшавского договора способны одним ударом одержать верх над армиями НАТО, которые оснащены достаточным количеством современного оборонительного вооружения».
А другой автор журнала, Жак Вернан, в статье «Уроки войны на Мальвинах» прямо заявляет:
«Этот конфликт с очевидностью свидетельствует об абсурдности тезиса, согласно которому нестабильность в современном мире и угроза прибегнуть к силе вызываются идеологической борьбой и происками Советского Союза».
Но почему же в «сценарии» воображаемого ядерного нападения Советского Союза на «безоружную Европу» Клейн усматривает некую «педагогическую ценность» и призывает ответственных за безопасность Запада лиц «извлечь из него уроки»? Педагогика всегда была наукой жизни, ее никому не по силам превратить в «науку» ядерной смерти. Цель «педагогов» атомного апокалипсиса ясна: пугая западноевропейцев мифической «угрозой с Востока», они стремятся парализовать их волю к борьбе с невыдуманной, а вполне реальной опасностью ядерного катаклизма. Эти «педагоги» хотят обмануть народы... И здесь снова необходимо вспомнить провокационную рекламную полосу «Монд». На ней помещена заметка «Танатос», что в переводе с древнегреческого означает «смерть».
«Итак,-читаем мы,-третий раз в этом веке разверзлась пропасть. Безумие власти и жажда гегемонии открыли перспективы третьей мировой войны, имея конечной перспективой возможное уничтожение человечества. Цивилизации знают, что они смертны, но все происходит так, как если бы смерть была их логическим завершением...
198
Танатос возобладал над Эросом, влечение к смерти- над инстинктом жизни. Человек устроен так, что иногда ему приходится сознательно, сохраняя ясность разума, делать выбор в пользу собственного полного исчезновения...»
Нет, не человечество делает выбор «в пользу собственного полного исчезновения»! Этот выбор противен самой природе жизни и человеческого разума: свидетельством тому-широчайшее движение народных масс против ядерной войны. Поэтому генерал Галлуа недоволен движением борцов за мир, презрительно называя его участников «наемными манифестантами». Генералу очень бы хотелось дезориентировать антивоенное движение в Западной Европе и, вместо борьбы за прочный мир, повернуть его на укрепление «европейской обороны». Поэтому средства буржуазной пропаганды вновь и вновь запугивают народы истрепанным пугалом «советской военной угрозы».
«Ослабление военной угрозьС невозможно без Создания климата доверия в отношениях между государствами,-заявлено в Политической декларации государств- участников Варшавского договора, принятой в Праге 5 января 1983 года.-Это требует - наряду с развитием политического диалога, принятием соответствующих мер в экономической и военной областях - распространения правдивой информации, отказа от претензий на великодержавие, пропаганды расизма, шовинизма и национальной исключительности, от попыток поучать другие народы, как им устраивать свою жизнь, от проповеди насилия, раздувания военного психоза».
«Кэнзэн литтерэр»-издание литературное, в основном пропагандирующее искусство, далекое от политики, элитарно-изысканное, если не заумное. Но удивительное дело - в объемистом специальном номере «Война» мы не найдем даже крохотной заметки об участии западноевропейских, в том числе и французских писателей в антивоенном движении. Сам этот факт есть выразительное свидетельство отсутствия «правдивой информации», попытка способствовать «раздуванию военного психоза», чему в итоге и призван служить тезис о «беззащитной Европе».
199
ДВУЛИКИЙ ЯНУС, ИЛИ ПОЛЕМОЛОГИЯ
«Игра королей» или «наука о войне». Кто может предвидеть то, что случится завтра? Идеальный мир-кладбище. Храм Януса. «Инстинкт смерти».
В последние годы на Западе все большее распространение приобретают идеи так называемой полемологии, то есть особой науки о войне, которую разрабатывал французский социолог Гастон Бутуль, основавший в 1945 году в Париже специальный институт, имеющий статус частного учреждения.
«Войны, которые в XVIII веке были игрой королей, теперь превратились в катастрофу, а завтра станут катаклизмом,-заявлял он-Без быстрого создания полемологии все остальные науки рискуют быть излишними».
Оставим в стороне чрезмерную самоуверенность этого заявления и посмотрим, в чем суть и каковы главные задачи полемологии.
На этот вопрос Гастон Бутуль незадолго до своей смерти в 1979 году ответил в интервью, напечатанном парижским журналом «Магазин литтерэр». Ученый настойчиво подчеркивал научность и объективность полемологии, исходя из постулата нерасторжимой связи проблем войны и мира.
«Отношение «война-мир»,-писал он,-до сих пор остается загадочным социальным фактом».
Пока здесь нет ничего оригинального: социология, экономика, военная история, демография и т. д. давно занимаются этими проблемами.
Гастон Бутуль предлагает совершенно абстрактные и внеклассовые определения мира и войны. Состояние мира весьма наивно характеризуется как «процесс накопления и управления разными благами». В противоположность миру, война предстает «ускорением потребления во всех его формах, включая разрушение и... развитие систематического человекоубийства». Он призывал рассматривать проблему войны и мира более «научно и глобально, без предрассудков». Вместо социально-классового анализа столь сложного явления, как война, которая всегда отличается неповторимыми историческими особенностями, он пытался все свести к «воинственным импульсам» человека и «фатальным разрушительным стремлениям» общества. Как видим, 200
эти посылки полемологии ничем не отличаются от психологических трактовок причин возникновения и природы войны, будь то «воля к власти» Ницше или «врожденная агрессивность» людей австрийского этолога Конрада Лоренца.
Созерцательный подход к изучению войны привел Бутуля к недооценке новых реальностей нашей эпохи: разделения мира на противоположные социальные системы и появления атомного оружия массового поражения. Правда, справедливости ради нужно отметить, что основатель полемологии усматривал в ядерном оружии причину «тревоги и психоза общей неуверенности», царящих в современном мире. И при этом он заявлял:
«Надо также иметь смелость поставить вопрос, является ли мир естественным состоянием?»
У марксистско-ленинской науки есть свой ответ на этот абстрактный вопрос. Фатальной неизбежности войны нет, мир может и должен быть спасен, стать естественным состоянием человечества. Но пока существует империализм, который несет всю полноту ответственности за две мировые войны, пережитые человечеством в нашем столетии, мир нельзя гарантировать с абсолютной уверенностью. Хотя это вовсе не означает, будто следует принять то смирение и покорность перед неизбежным, которые предлагал Гастон Буту ль, с грустью констатировавший: «Никто не может предвидеть того, что случится завтра».
Верно, предусмотреть всего не дано никому. И также верно, что главная опасность безудержной гонки вооружений сводится в том числе и к резкому возрастанию фактора случайности в возникновении возможной ядер- ной войны. Однако истиной остается тот факт, что миру угрожают вполне определенные социально-политические силы, то есть самые реакционные силы современного империализма. «Ястребов» XX века не усовестишь благими речами, на пути их геростратовских замыслов надо поставить непобедимый заслон сил, отстаивающих мир.
Гастон Бутуль полагал, что созданная им «чистая» наука о войне позволяет выработать некие «полемоло- гические барометры», которые, основываясь на исчерпывающем исследовании всех явлений насилия в сегодняшнем мире и систематическом изучении военных конфликтов прошлого, «помогут распознавать накопле201
ние опасностей и смогут когда-нибудь способствовать тому, чтобы спасти мир прежде, чем будет слишком поздно». Какая наивная вера! Война не математика, чьи формулы и законы всеобщи и всесоциальны. Попытки Бутуля отыскать определение войны, основанное на строго научных параметрах, исключая всевозможные, как он любил говорить, «идеологические предрассудки», даже буржуазный журнал «Магазин литтерэр», где было посмертно опубликовано его интервью, назвал «иллюзорной затеей». Поэтому вывод французского ученого звучит так безнадежно пессимистически.
«Бесконфликтное общество,-писал он,-в котором отдельные люди видят образец идеального мира, существует только на кладбищах».
Таким образом, полемология попадает в порочный круг: если человек, с ее точки зрения, предстает «по сути своей конфликтующим существом», одержимым смутными импульсами агрессивности и иррациональности, а война-«физической или умственной эпидемией», то никаких «полемологических барометров», базирующихся на рационально-научных, всеобщих данных, отыскать попросту невозможно.
Символическим олицетворением полемологии Бу- туль считал древнеримского двуликого бога Януса. Старческий лик этого бога был обращен в прошлое, а юношеский-в будущее, что, вероятно, дало французскому ученому основание назвать Януса «божеством предвидения». Янус-бог входов и выходов, дверей и всякого начала, «добрый созидатель»-призывался также при объявлении войны, что могло означать связь войны и мира. Врата посвященного ему храма на форуме для верующих раскрывались лишь с началом войны и запирались в мирное время. Эту мифологическую символику легко трактовать по-разному. Может быть, Гастон Бутуль этой аллегорией хотел намекнуть, что войны, которые изучает созданная им полемология, должны навсегда кануть в прошлое и что в будущем, куда глядит юношеский лик Януса, им нет места. Но эту же аллегорию нетрудно истолковать как символ тщетности усилий полемологов: ведь если не наступит благословенное естественное состояние мира и разразится термоядерная катастрофа, то погибнет жизнь и цивилизация, не станет прошлого и будущего, а в настоящем «полемологическим барометром» просто некому будет воспользоваться.
202
Однако оставим мифологию. Теперь парижский Институт полемологии возглавляет Жан Поко, пространную беседу с которым публикует «Кэнзэн литтерэр». Своему предшественнику Поко бросает упрек в том, что он не сделал всех выводов из анализа проблемы ядер- ной угрозы. В работе института полемологии новый директор намерен уделять больше внимания исследованию взаимоотношений политики и стратегии, хотя главным остается сбор данных о тех проблемах, которые создают в нынешнем мире разгул насилия и локальные войны в разных районах земли. По сути же полемология не меняет фундаментальных позиций: чтобы искать путей к миру, повторяет Поко, сначала надо познать «механизмы» войн, конфликтов и кризисов.
В решении животрепещущей проблемы мира Поко признает примат политики, утверждая, будто «военная» война, освобожденная от политического контроля, ушла в прошлое. И тем не менее проблематика полемологии в его изложении крайне противоречива. Отмечая, что всякая мысль о войне сегодня прежде всего ассоциируется с ядерной угрозой и в условиях растущей гонки ядерных вооружений существует опасность потерять контроль над развитием международной ситуации, Поко совершенно неожиданно впадает в розовый, безосновательный оптимизм, когда заявляет, будто в наши дни «ядерная война не имеет значения, ибо она не произойдет». Он, оказывается, не верит, что в настоящее время широкие круги общественности, к примеру, Франция или ФРГ испытывают подлинный страх перед угрозой войны, хотя считает американскую стратегическую «доктрину гибкого реагирования» «относительно опасной, так как она представляет собой источник гонки вооружений». Дань здравому смыслу отдает Поко, когда делает одно очень важное признание.
«Я думаю,-говорит он,-что с начала 60-х годов слишком многие эксперты отдавали большую часть своего времени изучению возможных «сценариев» советской агрессии против Запада, но мне кажется, что именно этот «сценарий» никогда не будет разыгран».
Казалось бы, эти высказывания свидетельствуют, что полемология сделала шаг вперед от поисков всеобщих «механизмов войны» к пониманию действительной сложности современной международной обстановки и 203
признанию политических реальностей нашей эпохи. К сожалению, впечатление это обманчиво.
Если атомная война не разразится-этого мы от души желаем вместе с Жаном Поко,-что же тогда останется на долю полемологии? Бесконечно продолжать накапливать информацию о локальных войнах, терроризме, различных проявлениях насилия, грязной деятельности мафии и т. д. Заодно выдвигается задача- продвинуть работы по прогностике, то есть исследовать перспективы на будущее, искать путей к миру. Но полемология изменила бы самой себе, если бы прямо признала, что бороться в первую очередь необходимо с главным виновником войн в нашу эпоху - империализмом и его поджигательной политикой. А Жан Поко наивно утверждает, что нужно поставить вопрос, кто сегодня может быть «врагом».
«Рассуждения о мире,-пишет он,-не должны превращаться в его воспевание или ограничиваться утопией, суть которой сводится к вере в то, что разрушив орудия войны, можно построить мир».
Воспевать мир-это благородный долг поэтов, но одними песнопениями войну не остановишь, это ясно всем. Обязанность народов-бороться с гонкой вооружений, воплотить в жизнь великий идеал человечества- добиться всеобщего и полного разоружения, устранить войну из жизни общества. И, как видим из рассуждений Поко, полемология отрицает этот идеал.
«Если хочешь мира, познай войну». Эта фраза стоит эпиграфом к журналу «Полемологические исследования». Однако она в современную эпоху неверна. Девиз сил, противостоящих в наши дни войне и милитаризму, иной: «Хочешь мира-борись за него!»
«Ирония истории», говорил Маркс, проявляется не только в социальной действительности, но и в развитии социальных идей. Пока полемологи «познают» войну, пентагоновские «ястребы» вовсю готовятся к новой мировой войне. Журнал «Тайм» сообщил, что в городе Ливермор, где находится научный центр, разрабатывающий новейшие средства ведения войны, состоялась репетиция «кнопочной войны эпохи компьютеров» под кодовым названием «Янус».
«Военная игра по проекту «Янус»,- пишет «Тайм»,- противопоставляет войска США вооруженным силам, смоделированным по образцу вооруженных сил русских».
204
А полемология продолжает отыскивать абстрактные «механизмы» войны и уверяет, будто у человечества теперь нет врага, угрожающего самим основам его существования. Что это-наивность кабинетных ученых или сознательная фальсификация проблемы войны и мира? Суждения Жана Поко убеждают в справедливости второго предположения.
Ж. Поко призывает «защищать демократию», хотя ей, по его мнению, вроде бы никто не угрожает: согласно Поко, «врага» не существует. Обязательство Советского Союза не применять первым ядерного оружия он называет «не имеющим большого смысла». Жаль, что «полемологический барометр» не показывает исследователям «механизмов» войны, что эта важнейшая инициатива СССР есть воплощение политики мира в действии.
«Все теперь политика»,-констатирует Жан Поко. Да, это так, и никому не дано стать «над схваткой» двух идеологий и двух политик-социалистической и империалистической. Принципиальной и последовательной миролюбивой политике, которую предлагают всем государствам и народам планеты Советский Союз и страны социализма, нет реальной альтернативы, кроме всеобщей катастрофы, которую хладнокровно планируют стратеги «атомной смерти».
Журнал «Тайм», рассказывая об «игре» «Янус», пишет:
«Города превращены в руины. Леса объяты пламенем, которое изображается мигающими красными точками... Взрыв ядерной бомбы обозначила оранжевая вспышка. Затем распространившийся во все стороны белый круг показал, что он уничтожил войска противника...»
Вот какие «механизмы» отрабатывают пентагоновские убийцы!
Читатель вправе спросить, какое все это имеет отношение к литературе. Самое прямое. В наше суровое время писателю недостаточно просто осуждать войну. Мастера слова, все честные, озабоченные судьбами мира и цивилизации деятели культуры сегодня обязаны выполнить ленинский завет: разоблачать всякого рода «софизмы, которые оправдывают войну». Полемология есть один из таких «софизмов».
Танатос, инстинкт смерти, как утверждает Гастон Бутуль, достигающий кульминации в человекоубийстве 205
и самоубийственных импульсах человека, проявляющийся в агрессивности, присущ всем обществам. Это тоже «софизм». Социалистическое общество не подвержено «инстинкту смерти». Оно видит свой высший идеал в мире и сознательном созидании коммунистического будущего.
МОДА НА АПОКАЛИПСИС
Война, неизвестная экспертам. Древнекитайский полководец Сунь Цзы и конфликт на Мальвинах. Автоматика военной машины. О чем можно поговорить с ядерным бомбардировщиком.
«Атака была молниеносной. В ракетной войне остаются всего секунды, если не доли секунды, чтобы ответить на нападение... Это ошеломляюще, это новая, неизвестная военным экспертам война».
Это свидетельство капитана Солта, который командовал английским эсминцем «Шеффилд», потопленным аргентинской ракетой во время конфликта на Фолклендских (Мальвинских) островах. Его приводит в статье «Обратный отсчет начался», которую публикует «Кэнзэн литтерэр», французский публицист Поль Вири- лио, серьезно анализирующий другую важную тему, предложенную журналом для размышлений,- человек и «нынешняя революция в способах разрушения».
Величайшая опасность безудержной гонки вооружений, особенно ядерных, чревата тем, что малейшая случайность, технические просчеты и неполадки могут привести к самым трагическим, непоправимым последствиям. И поэтому чрезвычайно возрастает роль фактора времени. «Быстрота-сущность войны»,-писал древнекитайский полководец и военный теоретик Сунь Цзы. Стремительный прогресс военной техники, широкое применение в ней сложнейших электронных систем, создание так называемого «разумного оружия» «автоматизируют,-как пишет Вирилио,-не только средства разрушения, но прежде всего и главным образом ведение войны». Причем утрата контроля над современным оружием-это не просто страшные предсказания фантастов-мизантропов, а вполне реальная угроза. Поль Ви- рилио замечает, что автоматизация средств войны предваряет автоматизацию ее целей. «...Военная машина может внезапно превратиться в машину объявления войны, «машину Страшного суда»,-пишет он-Тогда 206
исчезнет и выйдет из-под нашего контроля даже возможность какого-либо политического выбора между войной и миром». Эту ситуацию он называет апокалипсической и делает совершенно правильный вывод, что необходимо отказаться от нелепых мечтаний о военном превосходстве и безумной доктрины «первого ядерного удара».
Самое чудовищное в этих человеконенавистнических планах «компьютерной войны» то, что нынешние Геростраты стремятся выбить из рук человека его надежнейшее оружие-разум, лишить людей возможности решать свою собственную судьбу. П. Вирилио цитирует американского автора Эндрью Страттона, который пишет:
«Прогресс в области обмена ракетными ударами может свести на нет время, необходимое для принятия человеком решения вмешаться в эту систему».
Гонка вооружений и угроза ядерной войны, таким образом, лишают человека времени, нужного для трезвого, взвешенного подхода к принятию жизненно важных решений. Ведь «разумное оружие», говоря словами П. Вирилио, действует по принципу «выстрели и забудь». И эта «сверхскорость» современных систем ядерно-ракетного вооружения, подчеркивает он, «лишая нас необходимого для размышления времени, тем самым окончательно отнимает у нас ответственность перед нашей судьбой».
Да, нависший над планетой кошмар ядерной угрозы действительно грозит отнять у человечества время-не только настоящее, но прошлое и будущее.
Цинизм апологетов ядерной смерти не знает границ. Они готовы сделать орудием разрушения даже мысль и слово. «Кэнзэн литтерэр» перепечатывает из парижской газеты «Либерасьон» заметку Д. Пиньона «Завтрашняя война», которая заслуживает того, чтобы привести ее полностью.
«Конструкторы военных самолетов рассматривают прямое, минуя экран радара, использование слова для связи с самолетом. Живого слова для пилота, который будет управлять самолетом. Искусственного слова для самолета, которое будет корректировать действия пилота... Но требования электроники, может быть, вынуждают идти еще дальше. Зачем терять несколько долей секунды на произнесение двух или трех слов? Техники вполне серьезно намерены спарить пилота с самолетом 207
напрямую, минуя его чувства, подключить мозг пилота к бортовому компьютеру. Использовать лишь мысль пилота. Именно это военные называют биокибернетикой. Электроэнцефалограмма находит здесь уже не медицинское, а военное применение. Датчики, расположенные на голове пилота, улавливают электрические сигналы его мозга. Калькулятор сортирует сигналы и по электроэнцефалограмме опознаёт то решение, о котором подумал пилот. После этого речь идет лишь о том, что электронная аппаратура на борту заставит его выполнить это решение. Фирма «Дуглас» практически работает над биокибернетикой и предсказывает ее операционное применение в авиации через десять лет».
Такова зловещая мечта империалистических «ястребов» - полностью отключить человеческое сознание, сделать человека послушным роботом смерти.
Война, замечает другой автор журнала, Жан Шено, в статье «Схватка с временем» становится «электронной». «И эта электронная война стоит безумно дорого». Он приводит ошеломляющие цифры: по подсчетам английской газеты «Морнинг стар», денег, потраченных на время конфликта на Фолклендских (Мальвинских) островах, хватило бы на то, чтобы дать каждому жителю архипелага более чем по миллиону фунтов стерлингов. Гонка вооружений отнимает у человечества не только колоссальные материальные средства, но и растрачивает бесценные творческие и духовные силы тех людей, которые заняты разработкой новейших, все более губительных способов «научного убийства». Атомное оружие массового поражения, стремительная техническая революция в военном деле, продолжающаяся по вине империализма гонка вооружений-таковы те
О подготовке США к войне против СССР и других стран социалистического содружества говорит так называемая «базовая стратегия» Вашингтона. По официальным данным, Соединенные Штаты имеют за рубежом, на территории 32 государств, более 1500 различных военных баз и объектов. На них постоянно находится свыше полумиллиона американских военнослужащих.
По страницам зарубежной печати 208
новые реальности наших дней, те факторы мировой политики, все последствия которых должна ясно сознавать и современная передовая литература, если она хочет быть действенным инструментом мира. Хорошо сказал об этом известный прозаик Эмманюэль Роблес, отвечая на анкету журнала «Иностранная литература»:
«...Нынешние писатели должны неустанно разоблачать чудовищную бессмысленность войны и (если учесть ужасающую разрушительную силу современного оружия) неизбежность ее трагических последствий для человечества. Они равным образом (а может быть, и в первую очередь) обязаны изобличать глубинные причины, порождающие военную опасность».
ЛИТЕРАТУРА-И УРОК МИРА
«Странная, скандальная, невыразимая тайна». «Наслаждение войной». Меч над головой Дамокла.
При чтении специального номера «Кэнзэн литтерэр» может создаться впечатление, будто журнал не желает предлагать в качестве темы для размышления художественную литературу, которая тысячами нитей связана сегодня с животрепещущей проблемой войны и мира. На его сорока страницах не найти не только статьи об антивоенном движении писателей, но и даже упоминания о писательских форумах, на которых обсуждалась роль литературы в деле защиты мира. Однако это не означает, что в журнале отсутствует определенная концепция роли литературы в освещении проблемы войны и мира. Она изложена в статье публициста, литературного директора крупного издательства «Сэй» Жака- Клода Гийбо, выразительно названной «Странная, скандальная, невыразимая тайна».
Ж.-К. Гийбо-специалист по «горячим точкам» планеты, он, по его словам, наблюдал восемь войн, в основном в развивающихся странах. «Тайна», о которой говорит французский публицист, заключена, оказывается, в том, что все без исключения люди «испытывают непристойное, гнусное наслаждение войной» и избавиться от этого не дано никому. Войну он понимает в духе полемологии, как «скрытую эпидемию», а не конкретносоциальное явление. Поскольку все люди заражены этим «наслаждением войной», постольку они не способны достичь «ясного понимания вещей», то есть разо209
браться в причинах войны и содействовать их устранению. Это «наслаждение войной» якобы присуще человеку от природы, и само по себе оно значит «согласие с войной», ее приятие. Чувство это фатально и неизбежно, по мнению Гийбо, люди не смогут от него никогда полностью избавиться. В борьбе с войной и ее угрозой, навязчиво подчеркивает Гийбо, не поможет ничто: «ни добродетельное возмущение», ни «обвинения», ни «пацифистский протест».
«Мы, мирные интеллигенты,-пишет он,-носим на себе войну, как стафилококк».
Что в этом случае выпадает на долю писателей? Гийбо призывает интеллигенцию - в том числе и творческую -не жаловаться на войну, не удручаться ею, не осуждать ее с точки зрения морали, а «равнодушно рассуждать о постоянстве войны». По существу, Гийбо предлагает литературе капитулировать перед войной, свалив всю ответственность на изначальное несовершенство человеческой природы, которую, мол, нельзя преодолеть. Французский публицист прямо признается, что эти идеи он почерпнул в полемологии Гастона Буту- ля. Но приписывать человеку извечное «наслаждение войной» означает отвергать гуманизм и разум, отдавать людей в плен хаоса и неразумия, призывать писателей к трусливому смирению перед судьбой. Однако пусть Гийбо ответит французский писатель Андре Стиль, который сказал:
«Трусостью является именно приятие войны, а не страстное утверждение мира».
Сегодня, как никогда раньше, перед мастерами слова стоит грандиозная задача-сделать все, чтобы никто не оставался равнодушным в великом деле эпохи-борьбе за предотвращение ядерной катастрофы.
«Война начинается исподволь,-говорит американский писатель Уильям Сароян,-когда одни позволяют себе трусость, предательство, спекуляцию идеями и принципами, а другие терпят все это».
Мудрые слова! В наши дни необыкновенно возрастает просветительская роль литературы, призвание которой-разоблачать все софизмы, которыми оправдывают войну. Ее оружие в священной борьбе за мир-это бесстрашие правды. Литература должна способствовать тому, чтобы страх перед войной не превращался в безропотное, покорное смирение, ее долг-звать на борьбу за мир, служа идеалам мира, творчества и про210
гресса. «Огромное достижение современной литературы по сравнению с предвоенной состоит в том,-писала газета «Кельнише рундшау»,-что ныне в мире нет писателя, который выступал бы за войну».
Действительно, все больше писателей, придерживающихся самых разных политических и эстетических взглядов, объединяются на платформе гуманизма и мира, понимая, что альтернатива миру сегодня-это всеобщее уничтожение. Но успокаиваться рано! Еще находятся писатели, которые хотят, чтобы разгорелась война. К их числу, например, принадлежит редактор парижского еженедельника «Фигаро магазин», небезызвестный мракобес Луи Повель. Прикрываясь демагогическими рассуждениями о необходимости восстановить чувство «европейского патриотизма, вернуть Западной Европе ее роль «центра и культурного двигателя мира», он желает, чтобы разразилась трагедия.
«В конце концов,-заявляет он,-Европа пережила не один кризис, не одно разрушение и выжила».
Этот защитник западной культуры обманывается сам и обманывает других. Если в Европе разразится ядерная катастрофа, то итогом этой трагедии станет гибель европейской цивилизации.
Борьба литературы за мир сейчас неотрывна от борьбы за очеловечивание жизни. Художнику слова как воздух нужны ясный разум и твердая воля, чтобы внушать людям сознание, что ядерная война уже не может быть продолжением политики, что она себя изжила. Мир выступает сегодня как высшая ценность гуманизма, как непременное условие сохранения жизни и цивилизации. Человечество устало существовать в условиях так называемого «равновесия страха». И это хорошо осознает передовая, чувствующая свою ответственность литература.
«Когда тиран Дионисий подвесил на лошадином волосе тяжелый меч над головой Дамокла,-пишет в книге «Во что я верю» известный французский писатель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Эрве Базен,-то сделал он это лишь на время пира! Нам же, обладающим теперь оружием, способным нас взаимно уничтожить, надо отказаться от его использования навсегда...»
В осуществление этой мечты народов литература может внести и вносит свой вклад. Поэтому писатели должны разоблачать мрачный фатализм, вселенский ка211
тастрофизм и безысходный пессимизм, которые пытаются внушить людям сторонники и пропагандисты ядерного апокалипсиса.
Голос совести и разума, литература способна найти такие слова, которые сумеют объединить людей, воспитать и закалить их волю к миру. Слову дано звучать набатом, предупреждающим человечество о грозящей ему опасности, оно властно разбудить равнодушных. Вспомним то решительное и страстное «нет!», которое сказал войне западногерманский писатель Вольфганг Борхерт-этот гениальный юноша, убитый фашизмом: «Тогда последний оставшийся в живых человек начнет блуждать под палящим солнцем, с искромсанными кишками и зачумленными легкими, одинокий и бессловесный, под колеблющимися созвездиями, один среди необозримых общих могил, среди мрачных бетонных истуканов одичавших городов- гигантов, последний человек-изнуренный, обезумевший, хулящий, умоляющий; и его страшный вопль: зачем?-заглохнет неуслышанным в степи, развеется в оскалившихся руинах, задохнется под прахом церквей, отпрянет от стен бомбоубежищ, захлебнется в луже крови-неуслышанный, безответный, последний животный крик последнего животного - человека.
Все это наступит завтра, быть может, завтра, а может, и сегодня ночью, может быть, ночью, если- если вы не скажете НЕТ».
Вся честная прогрессивная литература планеты во весь голос говорит сегодня гневное «нет!» ядерной смерти.
В приложении к газете «Монд» была опубликована замечательная статья «Воспитывать детей в мире». Корреспондентка газеты рассказала о том, что во Франции среди преподавательниц начальных классов родилась идея проводить с детьми «уроки мира». Она побывала на одном таком уроке, где дети обсуждали с учительницей сказку Поля Элюара «Ребенок, который не хотел расти». Маленькая героиня поэта Каролина, увидев однажды по телевизору войну, решила, что она не будет больше расти, чтобы не оказаться в жестоком мире взрослых. Какой глубокий смысл! По существу, вся литература призвана быть великим уроком мира, преподающим людям основы добра и справедливости, доверия и творчества, созидания и любви.
РУССКАЯ КЛАССИКА ЗА РУБЕЖОМ
Т. Мотылева
ЛИТЕРАТУРА, ОТКРЫТАЯ МИРУ
Заметки о международной судьбе русской классики
1. Заявки Джона Джонса. Гениальный художник или паражурналист? «Наваждения и ночные видения».
Передо мной книга, только что полученная в Москве,-она вышла в текущем году1. Издательская аннотация сообщает, что автор, Джон Джонс, профессор поэтики в Оксфорде, исследует наследие Достоевского под углом зрения «повествовательной техники и языковых тонкостей», пересматривая «ортодоксальные прочтения, в частности те, которые даны редакторами нынешнего советского издания». Об этом же говорит и автор в кратком вступлении к книге: да, он хочет «найти ошибки у группы советских редакторов, работающих в данный момент в Пушкинском Доме в Ленинграде». Заявка выглядит интригующе. Но она не оправдывается. В самом деле, Джон Джонс тщательно изучал тексты, опубликованные в 23-х томах Полного собрания сочинений Достоевского, он пересказывает и комментирует их, попутно внося микроскопические уточнения в существующие английские переводы. Дотошность исследователя местами приобретает почти курьезный характерной на нескольких страницах вникает в оттенки смысла русского слова «дескать» и на многих страницах уличает создателя «Братьев Карамазовых» в сюжетных неувязках. Изредка он делает замечания и по адресу советских комментаторов,-замечания эти носят характер настолько мелкий и шаткий, что не заслуживают серьезного разговора. Удивляет развязность Джонса,-он безапелляционно объявляет роман «Подросток» не1 Jones John. Dostoevsky. Oxford, Clarendon Press, 1983.
214
удачным, а роман «Идиот» называет книгой «натужной, истеричной, гиперболичной, противной и скучной». Часть книги, посвященная романам «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы», названа «Паражурналист»; к этому странному термину автор не раз прибегает и по ходу своего анализа, имея в виду интерес Достоевского-художника к газетной хронике. Подчас тут возникают и мимолетные ассоциации с Кафкой, Сартром, Беккетом. Но в чем величие Достоевского, в чем суть его вклада в мировую литературу- остается неясным. Зато автор позаботился о том, чтобы была ясна его зависимость от политического климата сегодняшней буржуазной Англии. С первых же страниц он высказывается в духе откровенного недоброжелательства к советскому обществу и «так называемому Социалистическому Реализму»: и о том и о другом он судит понаслышке.
По контрасту скорей, чем по аналогии, вспоминается другая книга, тоже вышедшая недавно: труд известного исследователя Достоевского, профессора Иельско-* го университета Роберта Луиса Джексона. Она называется «Искусство Достоевского»1. На первых порах озадачивает ее подзаголовок-«Наваждения и ночные видения». Но этот сенсационный, явно неудачный подзаголовок, к счастью, не отвечает содержанию книги. Художественное своеобразие, философско-этическая проблематика произведений Достоевского раскрываются здесь в их связях с трагической действительностью царской России, с личным жизненным опытом художника. Анализируя «Записки из Мертвого дома» и ряд последующих произведений Достоевского, автор высказывает интересные самостоятельные суждения (кстати, одна из глав его книги, «Вынесение приговора Федору Павловичу Карамазову», была опубликована в свое время на русском языке в сборнике «Достоевский. Материалы и исследования», вып. 2. Л., Наука, 1976). Джексон ведет свой разговор о Достоевском, так сказать, по большому счету-в контексте таких явлений мировой культуры, как «Фауст» Гете и искусство греческих трагиков, привлекает для сопоставлений и Шиллера, и Ибсена, и Жорж Санд. Все сказанное не значит, что труд Джексона бесспорен. Он с самого начала-отдав дань 1 Jackson Robert Louis. The Art of Dostoevsky. Deliriums and nocturnes. Prinston University Press, 1981.
215
уважения советским исследователям - декларирует свою приверженность к критике совсем иного склада, интерпретирующей Достоевского в «метафизическом и онтологическом» плане. И это сказывается в его работе. О противоречиях политической мысли Достоевского он говорит как-то неуверенно, мимоходом, в примечании к одной из последних глав. Налет метафизической абстрактности нарастает в финале исследования и идет ему в ущерб.
Обе названные здесь книги отражают по-своему аспекты современной зарубежной русистики. В странах Запада выходят одна за другой работы о Достоевском, Толстом, Гоголе, Чехове,-сам факт их выхода свидетельствует о том, что в этих странах имеется стойкий читательский интерес к русским классикам. Новые книги показывают, что за последние десятилетия повысился уровень осведомленности иностранных специалистов по русской литературе,-они читают художественные тексты в оригинале, они лучше знакомы и с советскими исследованиями. Однако уровень и направленность новых западных работ о русских классиках очень неодинаковы,-об этом можно судить и по только что приведенным примерам. Притом любопытно, что те или иные антисоветские пассажи встречаются именно в тех книгах, которые в научном отношении легковесны. Серьезные исследователи, как правило, относятся к нашей стране лояльно,-даже и тогда, когда далеки от нас по взглядам. Но так или иначе, присматриваясь к работам иностранных русистов, даже к лучшим из них, мы убеждаемся, что изучение, интерпретация, оценка русской классической литературы в современном мире- сфера научного спора, а в иных случаях - и идеологического противоборства.
Есть круг вопросов, которые мало привлекают внимание западных исследователей (хотя, казалось бы, именно им тут и книги в руки). Это-мировое значение русской классики, ее вклад в развитие русской литературы, ее судьба за рубежом. Этот круг вопросов заслуживает в современных условиях повышенного внимания.
У нас собрано уже немало фактического материала о судьбе русской литературы в зарубежных странах, об j отношении видных писателей XIX и XX веков к нашим классикам. И тем не менее нельзя сказать, чтобы весь тот сложный комплекс связей, притяжений, отталкива-
216
ний, сходств и несходств, в котором выражается мировое значение русской литературы, был нами по-настоящему изучен.
2. Как воспринимают русскую литературу за границей? Стереотипы и недоразумения. Морис Дрюон и Лев Толстой. Культ Раскольникова. Новая литературная форма или новый мир? «Мимесис» - что это?
Пора более отчетливо разобраться в закономерностях, определяющих международную судьбу русской классики, определить временные и географические, а главное, идеологические и художественные аспекты этой судьбы. И - освободиться от упрощений, неточностей, которые ведут к смещению реальной исторической перспективы.
Стоит задуматься и над разграничением понятий «значение», «признание», «влияние». Пример Пушкина показывает, что художник мирового уровня иной раз не получает-или получает далеко не сразу-то всемирное признание, которого он, по силе своего творчества, заслуживает. В принципе вполне правомерно говорить о вкладе писателя в мировую литературу, совершенно отвлекаясь от того, кем и когда он был признан, как и на кого повлиял за пределами собственной страны. Восприятие писателя в других странах, история его переводов, оценок, совокупность критических суждений о нем- все это в зарубежном литературоведении часто обозначается термином «рецепция», все это образует особый ракурс историко-литературного изучения: не генетический, не типологический, а функциональный. Д. Марков верно заметил (в докладе на международной конференции в Минске, посвященной славянским культурам): мировое значение писателя, конечно, не сводится к рецепции, но без рецепции невозможно воздействие писателя на литературный процесс в других странах. Следовательно, восприятие, различные оценки того или иного русского классика, резонанс его творчества в разных странах и в разное время ни в коем случае не безразличны для нас.
Стоит условиться относительно того, где искать точку отсчета. Стремительный подъем интереса к русской литературе в Западной Европе и в США, поток переводов, изданий и переизданий, множество откликов в пе218
чати-все это, как известно, ведет свое начало с 80-х годов прошлого века. Но все-таки ошибочно считать, будто выход русской литературы на мировую арену совершился лишь в это время, начиная с первых переводов «Войны и мира» и «Преступления и наказания» на иностранные языки. (В этом смысле вношу поправку в то, что говорилось в моих прежних работах.) На международную арену русская литература вышла впервые благодаря Тургеневу-ранние переводы «Записок охотника» появились и обратили на себя внимание еще в 50-е годы,- эта книга стала первым произведением русской прозы, которое приобрело широкий резонанс за рубежом, по крайней мере в литературной среде. Однако именно начиная с 80-х годов благодаря Толстому и Достоевскому русская литература осознается иностранной критикой как оригинальное и мощное национальное целое.
Как была воспринята русская литература за границей, как воспринимается она сегодня? Тут накопилось некоторое количество недоразумений. В иных работах наших литературоведов возникает своего рода стереотип. С одной стороны, русская литература обособляется от основного потока литературы мировой, трактуется как нечто ни с чем не сопоставимое. С другой стороны, читатели и почитатели русской литературы за рубежом объединяются в синтетическом понятии «Запад», ко- торый-де мало что понял в русской литературе и в то же время пришел в восторг.
Авторы учебных и популярных пособий охотно подтверждают мировое значение русской литературы подборками высказываний иностранцев о русских писателях. И тут все идет в дело-и цитаты из статей, и интервью (взятые чаще всего не из первых рук), и свидетельства мемуаристов, и суждения писателей действительно крупных, и мнения случайных рецензентов. Такие высказывания, вырванные из контекста, приводимые без анализа, без критической проверки, мало что могут объяснить, а иной раз скорей способны дезориентировать читателей. Цитируются, к примеру, слова Мельхиора де Вопоэ, сказанные им о Достоевском: «Вот приходит скиф, настоящий скиф, который перевернет все наши умственные привычки... Достоевского нужно рассматривать, как явление другого мира, чудовище несовершенное, но могущественное...» Подобные сомнительные славословия русским писате219
лям, густо окрашенные экзотикой, вряд ли можно рассматривать как доказательство их подлинного могущества.
Известно, что русская литература, в лице ее величайших мастеров, за последние сто лет широко вошла в духовный обиход человечества,-трудно найти в какой бы то ни было стране серьезного писателя, который бы не был с ней знаком. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Чехов, Горький получили во всем мире прочное признание,-их книги читаются, изучаются, выходят во все новых переводах не только в странах Запада, но и во многих странах Востока. Все это бесспорно и может быть подтверждено текущей издательской статистикой. Но из всего этого не следует, что можно говорить-как иной раз говорится-о «всеохватывающем» влиянии русской литературы на мировую. Ведь всякое литературное влияние избирательно, в нем обязательно взаимодействуют две стороны - «старший» и «младший». Младший писатель может с интересом, даже с увлечением, даже с восторгом читать старшего, но сохранить иммунитет к его влиянию в силу собственных взглядов и склонностей, собственных национальных традиций, которые этому влиянию противостоят.
Иногда иностранный литератор, с восхищением отзывающийся о русском классике, оказывается в собственной творческой практике крайне далек от него. Известный романист Морис Дрюон не раз, устно и печатно, говорил о своей глубокой привязанности к создателю «Войны и мира». Однако нашумевший цикл романов самого М. Дрюона «Проклятые короли» по общей своей концепции сильно напоминает те сочинения историков, которые Толстой пародийно пересказал в эпилоге «Войны и мира»: у такого-то короля были «такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией»... Принципы Толстого-романиста не пошли впрок французскому писателю, находящемуся во власти традиций буржуазной исторической беллетристики.
Жизнь той или другой национальной литературы в инонациональной среде-это всегда процесс динамический, многосложный, определяемый разнообразными предпосылками, включающий множество индивидуальных фактов. Нецелесообразно иллюстрировать мировое значение того или иного русского классика- как это делается-декларативными утверждениями, 220
перечислительными оборотами: Толстой повлиял на иностранных писателей А, Б, В; Достоевский - на Г, Д, Е; Тургенев повлиял на... и так далее: ведь в каждом отдельном случае важно установить, кто именно подвергся влиянию, каков был характер влияния и его границы.
Бытование, функционирование русской литературы в литературной и общественной жизни зарубежных стран представляет в совокупности картину крайне пеструю. Тут необходим вдумчивый, дифференцированный подход, даже если ограничить исследование рамками нескольких наиболее богатых западных литератур. Неуместно, даже и в этих рамках, бездумно оперировать глобальным понятием «Запад»,-литературный «Запад» многоразличен.
Острая социальная проблемность русской классической литературы, смелость ее художественных открытий-все это рождало и рождает разногласия: в них по- своему отражается расстановка идейно-литературных сил в каждой из зарубежных стран, где публиковались и читались русские книги. Русская литература вошла в литературу мировую в атмосфере споров, не прекратившихся и по сей день.
Громадная заслуга Тургенева как пропагандиста русской литературы за рубежом была не только в том, что он сам силою своего таланта был живым доказательством ее оригинальности и творческой мощи, не только в том, что он самоотверженно продвигал книги русских собратьев к иностранному читателю, но и в том, что за его творчеством и личностью, за его бесчисленными рассказами о России в парижском литературном кругу вставал образ великой страны, охваченной социальным брожением. Именно это представление о России - и о русской литературе - отозвалось в статьях о Тургеневе, опубликованных Франсом (1877) и Мопассаном (1880, 1883) еще до того, как Вогюэ выпустил свою, ставшую знаменитой, книгу «Русский роман» (1886).
О достоинствах и недостатках этой книги у нас не раз уже говорилось. Тонкая, во многом проницательная характеристика художественных завоеваний русской прозы сочеталась у Вогюэ с неисторической, внесо- циальной ее трактовкой. Именно отсюда берут свое начало те интерпретации русской литературы в духе иррационализма и мистицизма, которые живут-вплоть до 221
нашего времени-в работах довольно многочисленных зарубежных русистов1.
Русская литература стала в странах Запада предметом резких разноречий почти сразу после того, как она стала предметом всеобщего внимания. Параллельно с потоком восторженных рецензий шла серия критических и публицистических атак (особенно усилившихся в связи с бунтарскими выступлениями позднего Толстого). Во Франции и в Германии нападки на «русскую моду» исходили от литераторов правого, националистического лагеря. В Англии и США романы русских писателей-и «Преступление и наказание», и «Воскресение», порой даже и «Анна Каренина»-шокировали ревнителей пуританской добродетели реалистической откровенностью.
Здесь нет места для того, чтобы осветить этапы и аспекты идейной борьбы вокруг русской литературы в странах Запада. Стоит лишь - в подтверждение того, какие живые, взволнованные и противоречивые отклики 1 Здесь стоит отметить, что всего через год после выхода труда Вогюэ вышла в Мадриде книга Эмилии Прадо Басан «Революция и роман в России». Испанская писательница, не владевшая русским языком, но встречавшаяся в Париже с русскими эмигрантами-народниками и знакомая с их публикациями, использовала в своей работе материалы из разных источников, в том числе из статей Вогюэ. Но по своей идейной позиции она принципиально отличалась от французского предшественника. В основу своего анализа она поставила мысль о том, что сила русской литературы прежде всего в постановке социальных и политических проблем, насущно важных не только для России, но и для Западной Европы. Деятельности Э. Прадо Басан как пропагандиста русской литературы в Испании посвящена недавно вышедшая монография ленинградского испаниста, где приводится, в частности, обобщающее суждение писательницы, выражающее общую концепцию ее книги: «В романе Герцена начинают проявляться тенденции нигилизма, в романе Чернышевского они определяются и конкретизируются, романы Гоголя и Тургенева помогают сокрушить крепостное право, романы того же Тургенева, Достоевского, Толстого, Гончарова, Щедрина являются документами, к которым завтра обратятся историки, чтобы узнать подробности важнейшего судебного процесса между революцией и старым строем» (см.: Бега- но В. Е. Эмилия Прадо Басан и русская литература в Испании. Л., Наука, 1982, с. 51). Уже из этих строк-если отвлечься от неудачного употребления термина «нигилизм»-достаточно ясно, что Прадо Басан строила свои обобщения на широкой основе и верно почувствовала общую тенденцию русского исторического процесса, отразившуюся в художественной литературе XIX века.
222
могла она вызывать, еще на исходе минувшего века, в широких слоях молодой западной интеллигенции - привести фрагмент статьи из немецкого журнала «Sozialis- tische Monatshefte» (1901, № 5), где идет речь о восприятии Достоевского в Германии:
«Деклассированные сыны буржуазного мира, отвергшие национальные авторитеты, находили настроения, близкие себе, в потрясающих творениях Достоевского, воссоздающих роковые метания человеческого духа. Общественная почва, унаследованная от прошлого, исчезла у них из-под ног, традиция мифологических верований угасла, социальная нужда мучительно грызла их, революционные идеи овладевали ими, смутно и на разные лады; они культивировали в себе великие страсти, подчас сводившиеся лишь к мелким заблуждениям, они тосковали по грандиозному беззаконию, которое сокрушит все привычные ценности, они исступленно всматривались в зарю грядущего тысячелетнего царства, не работая над тем, чтобы ускорить его приближение, и в глубине души чувствовали, что способны лишь бряцать своими цепями, оставаясь ненужными людьми в трезвом деятельном мире. Их опьяняла прежде всего психология Раскольникова. Они с жадностью юности стремились погрузиться в хаос инстинктов, не упорядоченных мышлением, проникнуть в глубь мятущегося Я, подслушать самих себя, изобличить себя в затаенных слабостях, измышлениях и хитростях, быть сыщиками по отношению к самим себе»1.
Автором статьи был Курт Эйснер - видный деятель германской социал-демократии (впоследствии - Независимой социал-демократической партии), которому предстояло в 1918-1919 годах возглавить правительство Баварской советской республики. Цитированные строки, отмеченные ироническим, критическим отношением к молодым почитателям Достоевского, самой своей стилистикой выдают кровную привязанность Эйснера к тем, кого он критиковал, и очень выразительно свидетельствуют, что Достоевский был для определенных кругов своих западных почитателей на исходе XIX века подрывной, взрывчатой силой, расшатывающей основы
1 Цит. по кн.: Russische Literatur in Deutschland. Herausgegeben von Sigfrid Hoefert. Tubingen, 1974, S. XVII.
223
буржуазного миропорядка,-не в меньшей, а может быть, и в большей мере, чем Толстой. Анархически- мятежное восприятие Достоевского, засвидетельствованное Эйснером, представляло, конечно, лишь одну из граней того сложного комплекса явлений в духовной жизни Запада, которые вызывала или стимулировала русская классическая литература в первые десятилетия знакомства западноевропейских читателей с ней. Но эта грань немаловажна.
Наперекор попыткам реакционной критики взять автора «Бесов» себе в союзники, наперекор попыткам либеральной критики обойти те конкретные, наболевшие проблемы социальной жизни, которые ставились автором «Воскресения», наперекор стараниям критики эстетствующей свести заслуги Тургенева к отдельным художественным находкам, значительные круги читателей в странах Запада увидели в русской литературе не только необозримое богатство образов, но и источник тревожных и тревожащих идей-социальных, нравственных, философских. И тут не помогали старания тех знатоков русской словесности, которые вслед за Вогюэ усматривали в ней выражение непостижимых свойств извечной «славянской души», отделенной якобы непроходимым барьером от западного мира.
Для иностранных читателей, особенно молодых,- совестливых, мыслящих, задыхавшихся в буржуазной мещанской среде,-русская литература на рубеже столетий все в более сильной степени становилась не просто чтением, источником художественного наслаждения, но - возбудителем недовольства, возмутителем спокойствия, стимулом к напряженным духовным поискам. В таком смысле на них воздействовали - или могли воздействовать - и «Рудин» или «Новь», и «Смерть Ивана Ильича» или «Воскресение», и «Преступление и наказание» или «Записки из Мертвого дома», пусть даже этим читателям и не могла быть понятна связь между миром образов русской литературы и нарастанием освободительного движения в России.
Первыми, кто ясно увидел эту связь, были Маркс и Энгельс. Взгляд на Россию как на передовой отряд революционного движения в Европе побуждал их, особенно в последний период их совместной деятельности, вдумчиво изучать русскую литературу, не только экономическую и историческую, но и художественную. При224
том их подчас особенно интересовало именно то, что не привлекало, как правило, внимания буржуазной западной критики. «Большое» литературоведение на Западе игнорировало Чернышевского и Добролюбова, а Маркс и Энгельс высоко ставили их. Ценители русской литературы на Западе чаще всего проходили мимо творчества Салтыкова-Щедрина (о котором зарубежная общественность узнала впервые благодаря статье Тургенева об «Истории одного города», напечатанной в Англии в 1871 году), а в библиотеке Маркса был ряд его книг на русском языке,-в книге «Господа ташкентцы», читанной в оригинале, есть много пометок и подчеркиваний, сделанных рукою владельца. В библиотеке Маркса находился том стихотворений Некрасова, в ту пору почти неведомого читателям Западной Европы; имеются мемуарные свидетельства и о том, что он был знаком с романами Тургенева. Чтение русской литературы давало Марксу основание для выводов о «брожении», происходящем «глубоко в низах» народа.
Общеизвестны слова В. И. Ленина о «всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература»1. Однако, читая эти слова в контексте, соотнося их с высказываниями Ленина в других работах, мы убеждаемся, что в понятие «всемирное значение» он вкладывал смысл совершенно иной, нежели тот, какой могли иметь в виду западные ценители русских классиков. Существенными для Ленина были не только внешние проявления международной славы наших писателей, поток изданий и хор похвал, толки и споры в печати, сколько тот факт, что русская литература отражала-и возвещала всему миру-нарастание и неизбежность великих революционных перемен всемирно-исторической значимости.
В воспоминаниях Горького о Ленине имеется любопытное признание. «Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу». Эти строки даны рядом с записью краткого разговора о Толстом-того, где Ленин сказал: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было...
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 25.
225
8. Поле битвы-сердца людей
Кого в Европе можно поставить рядом с ним?.. Некого» 1.
Толстой был для Ленина предметом национальной гордости-в немалой степени потому, что этот граф, как никто в мировой литературе до него, смог перешагнуть границы собственного классового бытия, стать «зеркалом» жизненных процессов всемирной, эпохальной важности. Наблюдение Горького естественно ассоциируется у нас со статьей Ленина «О национальной гордости великороссов», с его словами: «Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм...»2 Характерное качество этой ленинской национальной гордости - беспощадная трезвость и требовательность оценок, сказавшаяся и в его анализе силы и слабости Толстого, и в откровенном разборе ошибок высоко ценимого им Герцена, и в той дружеской прямоте, с которой он критиковал колебания и заблуждения горячо любимого им Горького. Именно «радостная любовь» к родной культуре, гордость ею побуждала Ленина быть безжалостно взыскательным по отношению ко всему тому, что было ему дорого.
Первая суммарная характеристика русской литературы, сделанная зарубежным марксистом,-статья Розы Люксембург «Душа русской литературы» (1918) по основным положениям примыкает к статьям Ленина о русских писателях. Мы отчетливо видим сегодня в этой давней работе-наряду с отдельными нечеткими или устаревшими формулировками-тонкие и верные суждения, которые выдержали проверку временем.
Позиция Розы Люксембург отчетливо противостояла воззрениям тех буржуазных литературоведов, для которых суть русской литературы определялась свойствами таинственной «славянской души» и сводилась к сентиментальной, вполне безопасной для власть имущих «религии человеческого страдания». В анализе Розы Люксембург такие качества русской литературы, как дух борьбы, бескомпромиссная острота критициз1 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17. М., Гослитиздат, 1952, с. 39.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 107-108.
226
ма, ни в коей мере не отрываются от ее нравственной силы-социальное не противостоит общечеловеческому. Напротив: высота нравственного уровня русской литературы, ее обращенность к страдающим и угнетенным, по мысли Люксембург, естественно связаны с чувством гражданской ответственности, выросшим и укрепившимся в условиях векового самодержавного гнета.
Несколько раньше, чем очерк Розы Люксембург,-в годы мировой империалистической войны, в преддверии русской революции, появилась первая работа западного ученого, где была сделана попытка определить место русской литературы в развитии литературы мировой. Это книга Дьёрдя (Георга) Лукача «Теория романа», опубликованная на немецком языке в 1916 году. Ее автор в ту пору еще не был марксистом; его ранняя книга сложилась под заметным влиянием идеалистических философских течений начала XX века, и он сам с большой самокритической прямотой признал это в предисловии к западногерманскому изданию 1962 года. Однако Лукач был, кажется, первым, кто столь уверенно и широко включил мастеров русского романа в контекст всемирной литературы, в круг величайших ее представителей. В «Теории романа» не так уж много имен, в центре исследования-величайшие художники разных стран: Данте, Сервантес, Гете, Флобер, а наряду с ними и Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский. Притом творчество Достоевского и Толстого оценивается как принципиально новый этап в развитии художественной прозы, как начало новой художественной эпохи. Автор писал об этом в предисловии к изданию 1962 года: «Теория романа» носит не охранительный, а взрывчатый характер... Тот факт, что книга достигает высшей точки в анализе Толстого и завершается Достоевским, который уже писал «не романы, а нечто иное», отчетливо показывает, что тут недвусмысленно ожидалось рождение не новой литературной формы, а «нового мира»1. Молодой ученый, исполненный возмущения и гнева по адресу общества, виновного в мировой военной катастрофе, связывал с Россией смутные надежды на радикальное обновление мира, и классики русского романа укрепляли его в этих надеждах. Он вспоминал об этом много лет спустя в авто1 Lukacs Georg. Die Theorie des Romans. Darmstadt und Neuwied, 1962, S. 14.
227
8*
биографическом интервью, опубликованном посмертно,-здесь в лапидарной форме говорится о значении Толстого и Достоевского для того поколения западноевропейской интеллигенции, к которому принадлежал сам Лукач. «Толстой и Достоевский вразумили нас в том, как можно осудить общественную систему целиком и полностью. У них речь идет не о том, что капитализм страдает теми или иными недостатками,-нет, по мнению Толстого и Достоевского, вся система, как она есть, бесчеловечна»1. Иначе говоря, мировое значение мастеров русского реализма прежде всего в бескомпромиссной, необычайно глубокой критике строя, порождающего угнетение человека человеком, нищету масс, гибель миллионов людей на полях сражений.
Сборник работ Лукача «Русский реализм в мировой литературе», вышедший после второй мировой войны, стал настольной книгой для первого послевоенного поколения русистов в ГДР, в Венгерской Народной Республике, отчасти и в других странах социалистического мира. Этот сборник, почти не содержащий прямой полемики, самой сутью своего анализа противостоял воззрениям, укоренившимся в буржуазном литературоведении. Величие и мировое значение русских классиков рассматривалось в нем в свете становления и движущих сил русской революции. В книге Лукача затрагивается и тема мирового влияния русского реалистического романа, в частности Толстого. «Русский Толстой оказал глубокое воздействие на лучшие силы мировой литературы. При углубленном исследовании этого воздействия мы видим, что постижение содержания и формы творчества Толстого помогло Томасу Манну стать подлинно немецким, Ромену Роллану подлинно французским, Шоу подлинно английским писателем»2. Русская литература, писал Лукач, благодаря силе своего реализма, благодаря своим традициям гражданственности, общественного служения многому научила и еще может научить писателей других стран.
Очень важный аспект работ Лукача о русской литературе XIX века-решительное, очень категорическое 1 Lukacs Georg. Gelebtes Denken, Eine Autobiographic im Dialog. Frankfurt am Main, 1981, S. 75.
2 Lukacs Georg. Der russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin, 1952, S. 9.
228
отстаивание наследия русской революционной демократии. Еще в 1939 году написана его статья «Международное значение русской революционно-демократической критики» - первая в мировой научной литературе работа на эту тему. Там Лукач с большой убежденностью шел наперекор традициям, прочно сложившимся в зарубежной русистике,-либо вовсе игнорировать Белинского, Чернышевского, Добролюбова, либо высокомерно упрекать их за присущий им якобы утилитарный подход к искусству слова.
В те же годы, когда Лукач создавал основные свои работы о русских классиках, над закономерностями развития реализма в мировой литературе глубоко задумывался другой крупный ученый с международным историко-культурным кругозором, антифашист буржуазнодемократической ориентации Эрих Ауэрбах. Находясь в эмиграции, он написал ставшую знаменитой книгу «Мимесис», носившую подзаголовок «Изображение действительности в западноевропейской литературе». Ограничив круг своего исследования теми национальными литературами, языками которых он владел, он не включил в свою книгу главу о русском реализме, которая, по логике развития темы, была бы там необходима. Но он дал обобщенную характеристику русской литературы, постарался определить то значение, которое оно приобрела для стран Запада на рубеже столетий.
Основные черты русской классической литературы, как их видит Ауэрбах,-«серьезное восприятие повседневных явлений жизни», утверждение достоинства каждого человека, «к какому бы сословию он ни принадлежал и какое бы положение ни занимал». «Существенный признак внутреннего движения, как оно отразилось в созданиях русского реализма, заключается в том, что восприятие жизни у изображаемых тут людей отличается нецредвзятой, безграничной широтой и особой страстностью»; «размах маятника их существа-их действий, мыслей и чувств - гораздо шире, чем где-либо в Европе»...
На этой основе Э. Ауэрбах пытается очертить характер воздействия русского реализма на литературы Западной Европы: «...русский подход к европейской культуре в XIX веке много значил не только для России. Как бы ни оказывался он иной раз путаным и дилетантским... в нем было безошибочное инстинктивное пони229
мание всего кризисного и обреченного на гибель в культуре Европы. И в этом отношении влияние Толстого и тем более Достоевского в Западной Европе было очень велико, и если, начиная с последнего перед мировой войной десятилетия, во многих областях жизни, в том числе и в реалистической литературе, резко обострился моральный кризис и стало ощущаться предчувствие грядущих катастроф, то всему этому весьма существенно способствовало влияние реалистических писателей России» 1.
Все это сказано бегло, суммарно. Ауэрбах не сумел- да и не ставил себе задачи - выявить своеобразие путей исторического развития России и вытекающее отсюда своеобразие путей развития русского классического реализма. Но в процитированных строках ясно отражается то положительное, что возвышает труд Ауэрбаха над обычным уровнем западноевропейского буржуазного литературоведения: утверждение единства мировой культуры в ее гуманистических основах, утверждение ценности реализма как метода и глубоко заложенных в нем демократических тенденций.
Произведения русских классиков, по очевидной и верной мысли Ауэрбаха, приобрели международное значение в немалой степени благодаря тому, что классики эти видели все «кризисное и обреченное на гибель» не только в России, но и в странах западного мира. В немногих строках своего труда автор «Мимесиса» показал связь социально-нравственного содержания великих русских романов с теми острыми проблемами, общественными и моральными, которые волновали передовые умы Западной Европы на рубеже XIX и XX веков.
3. Русская литература и Запад. Флобер и Тургенев. Пруст и Толстой. Открытие «души русской литературы». Дневники Т. Манна. Как читал русскую классику Хемингуэй.
Влияние русской литературы на писателей Запада- не сумма разрозненных единичных фактов, а процесс (или, вернее, совокупность процессов), в котором есть 1 Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., Прогресс, 1976, с. 512, 513, 514, 515.
230
свои закономерности: именно поэтому нецелесообразно изучать или даже иллюстрировать это влияние путем простого накопления вырванных из контекста цитат. Но вместе с тем-свидетельства иностранных писателей, их отзывы о русской литературе, взятые вместе, принципиально важны. Статьи, этюды, эссе иностранных мастеров слова о русских мастерах (которые, будучи собраны, могли бы составить объемистый том) способны многое дать исследователю или даже просто любознательному читателю-уже потому, что в каждой из таких работ отражается творческая индивидуальность пишущего, его идейная позиция, логика его развития. Нередко подобные работы носят программный характер,- зарубежные авторы опираются на старших русских собратьев в отстаивании тех эстетических и жизненных принципов, которые дороги им самим. По-другому интересны и свидетельства, так сказать, неофициальные, не предназначавшиеся для печати-фрагменты дневников, писем,-где отношение иностранного писателя к русскому выражено в непринужденной форме и подчас с неожиданной стороны.
Например, письма Флобера к Тургеневу (до сих пор, к сожалению, не переведенные полностью на русский язык) примечательны не только тем, как искренне и горячо высказаны в них чувства дружбы, духовного родства, но и конкретными оценками, которые в них содержатся.
Флобер писал Тургеневу 16 марта 1863 года, прочитав «Рудина» и сборник его рассказов: «Вы с давних пор для меня мастер. И чем больше я вас изучаю, тем больше я изумлен вашим талантом. Я восхищаюсь вашей манерой, в одно и то же время взволнованной и сдержанной, вашей симпатией, снисходящей даже к самым ничтожным существам и одухотворяющей пейзажи». И несколько дальше: «Обращаясь к частному, вы даете общее. Как много я нашел у вас такого, что я испытал и пережил сам!» Эта же мысль и в письме от 2 августа 1873 года: «Вешние воды» не всколыхнули меня так, как «Несчастная»; но я был смущен, подавлен, в некотором смысле даже опешил. Ведь это-история любого из нас, увы! Краснеешь за самого себя. Что за человек мой друг Тургенев! Что за человек!» Еще более сильное впечатление произвела на Флобера «Новь», он писал об этом 10 мая 1877 года: «Мой добрый великан Человек, я только что закончил «Новь». Вот это-книга: она очи231
щает мозг от того, что прочитано прежде! Я ошарашен ею, хотя отлично схватываю ее общий смысл. Какой вы живописец! И какой вы моралист, мой дорогой, очень дорогой друг! Тем хуже для ваших соотечественников, если они не понимают, что ваша книга чудо. А мое мнение именно таково,-а я-то разбираюсь в книгах»1. Об этих же произведениях Тургенева-«Несчастная», «Вешние воды», «Новь» - Флобер с большим восхищением говорил и в письмах другим лицам-г-же Роже де Женетт, Мопассану2.
В письмах Флобера как бы пунктиром намечены мотивы, оказавшиеся необычайно важными для восприятия Тургенева на Западе: высокая оценка его мастерства как художника и как психолога; признание «всеобщности» морального содержания его книг; удивление по поводу его способности симпатизировать даже самым «ничтожным существам», то есть угнетенным, обездоленным. И не один Флобер обратил особое внимание на роман «Новь»-сигнал общественных волнений, исподволь назревавших в империи царей.
Подобные же мотивы мы находим и в четырех статьях Генри Джеймса, ставших теперь доступными советским читателям. Однако у Джеймса-свои акценты, свои оттенки. Он внимательно отмечает у русского собрата подчас именно то, чего недостает ему самому. Джеймс ценит в Тургеневе широту социального кругозора,-об этом говорится в его статьях разных лет. «Если по манере он реалист-исследователь, то по натуре- серьезный и внимательный наблюдатель, и в силу этого своего качества охватывает великий спектакль человеческой жизни, шире, беспристрастнее, яснее и разумнее, чем любой другой известный нам писатель»;3 в кругу своих парижских собратьев Тургенев выделяется именно тем, что ему присуще «понимание всего многообразия жизни, знание ее необычных, ее малодоступных сторон» (514). Джеймс отмечает заслуги Тургенева как 1 Flaubert Gustave. Lettres inedites a TourguenefT. Monaco, 1946, p. 3, 69, 136.
2 См.: Флобер Гюстав. Собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII. М., ГИХЛ, 1938, с. 409, 414, 472.
3 Статьи Джеймса о Тургеневе напечатаны в качестве приложения в книге: Джеймс Генри. Женский портрет. М., Наука, 1981, с. 495.
Далее все ссылки на указанные издания даются в тексте.
232
писателя, подрывавшего устои крепостного права, уподобляет его американскому плантатору-южанину, который стал бы наперекор личным интересам сочувствовать «идеям Севера» (525). Специальную статью Джеймс посвятил роману «Новь», который заинтересовал его прежде всего непривычностью, свежестью жизненного материала.
В статье-некрологе 1884 года Джеймс, отдав должное, как обычно, высокому искусству Тургенева, прямо сказал и о том, что было и оставалось для русского мастера несравненно важнее всех профессионально-художественных забот. «Я рассказал о Тургеневе только то, что вынес из личного знакомства с ним, и, увы, у меня почти не осталось места, чтобы коснуться вещей, заполнявших его существование куда больше, чем соображения, как строить рассказ,-о его надеждах и опасениях, связанных с родной страной. Он писал романы и драмы, но величайшей драмой его собственной жизни была борьба за лучшее будущее России» (523-524).
Гражданское, социальное содержание творчества Тургенева, тесная связь его с русской национальной действительностью-сквозная тема обеих статей Мопассана о Тургеневе. «...Как стрелы, бьющие в одну и ту же цель, каждая его страница разила в самое сердце помещичью власть и ненавистный принцип крепостного права. Так была создана историческая книга под названием «Записки охотника»1. Эта книга, говорит Мопассан, «положила начало известности ее автора как писателя и как человека свободолюбивого,-можно было бы даже сказать как «освободителя»-и в то же время она является основой его широкой популярности» (67). «Благодаря могучему дару наблюдательности, которым обладал Тургенев, ему удалось заметить пробивающиеся ростки русской революции еще задолго до того, как это явление вышло на поверхность» (139); в этой связи Мопассан упоминает романы «Отцы и дети», «Дым», «Новь». Притом Тургенев для Мопассана не одиноко стоящий художник, а часть богатой, сильной русской литературы, представленной именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Белинского.
1 Мопассан Ги де. Поли. собр. соч., т. XIII. М., Гослитиздат, 1950, с. 66.
233
Суждения Мопассана об искусстве русского писателя, который «придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов», создавал роман нового типа, безукоризненно верный жизни, «без интриги и без грубых приключений» (139), представляются тем более значительными, если рассматривать статьи о Тургеневе в контексте других выступлений Мопассана как литературного критика. Он считал себя вправе говорить от имени «реалистической литературной школы», стремящейся «правдиво отражать действительность», расширять «рамки своих наблюдений» (108, 110). И в этом смысле опыт Тургенева, как и опыт старших французских собратьев - Флобера, Золя, был для Мопассана опорой.
Однако в первом очерке Мопассана о Флобере (1876) можно найти и такое наблюдение: «Флобер-великий художник, в противоположность большинству других писателей. Он безучастно высится над страстями, которые приводит в движение. Вместо того чтобы смешаться с толпой, он уединяется в башне, наблюдая оттуда происходящее на земле...» (9). И в этом первом очерке, и во втором (1884) отмечена прочная дружба, которая связывала Флобера с Тургеневым. Но вполне ли отчетливо видел Мопассан принципиальное различие между обоими веЛикими мастерами реалистической прозы, русским и французским? Ведь Тургенев-то вовсе не был склонен уединяться в башню! В различии двух родственных творческих индивидуальностей отражалось по-своему несходство путей развития двух национальных литератур.
Тот водораздел, от которого французские друзья Тургенева могли еще отвлекаться и как бы его не замечать, становился все более очевидным по мере того, как русская литература выходила за рубежи России. Сколь бы ни были несхожи между собой Тургенев и Толстой, Достоевский и Толстой, а также и Гоголь, Гончаров, в дальнейшем Чехов, наиболее проницательные иностранные писатели подмечали в них общие, родовые черты русской литературы-то, что было непривычно для западного литературного мира и в какой-то мере даже шло вразрез с господствующими вкусами: неприятие артистической элитарности, глубокую озабоченность судьбами своего народа, взгляд на художественное творчество как на выполнение высокого долга перед людьми.
234
Все крупнейшие писатели мира, которые вошли в литературу в последние десятилетия XIX века или в течение XX, формировались в атмосфере повышенного внимания к русской литературе. Эта литература вошла как постоянно действующий фактор в интеллектуальную жизнь стран Западной Европы и США (а затем и Японии, Китая, Индии, других европейских стран) не просто как сумма прославленных имен, но именно как целое, как сложный комплекс идей, образов, художественных принципов.
По мере того как в наш литературоведческий обиход все шире включаются не только художественные произведения больших зарубежных писателей XX века, но и их опубликованные посмертно дневники, письма, мемуарные свидетельства о них, мы все с большей полнотой можем себе представить, сколь многочисленны те иностранные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, для которых русская литература стала существенным компонентом их духовного мира. Тут невозможно ограничиваться лишь наиболее бесспорными и привычными для нас именами. Это не только Р. Роллан, Ф. Мориак или Л. Арагон, но и М. Пруст, Ж. Бер- нанос, А. Камю, А. Мальро. Не только Б. Шоу или Дж. Голсуорси, но и Д. Джойс и В. Вулф. Не только братья Манн или С. Цвейг, но и Р. Музиль и Ф. Кафка.
Понятно, что характер и глубина восприятия русской литературы у писателей различного идейного склада были неодинаковыми, что самое это восприятие было разнонаправленным. Для такого искреннего ценителя русской литературы, как А. Моруа, оставались закрытыми важные социальные ее аспекты,-он воспринимал общественную и философскую проблематику этой литературы лишь в меру собственных либеральных воззрений. У такого тонкого мастера, как Пруст, который о Толстом написал статью и заставляет своего героя напряженно размышлять о Достоевском, восприятие обоих русских классиков оставалось в значительной мере субъективистским, никак не связывалось с русской действительностью. Кафка с неподдельным восхищением отзывался и о Гоголе, и о Достоевском, и о Толстом, с интересом читал и Герцена, но мир его собственных идей и образов был очень далек от мира русской литературы... Можно приводить еще и еще подобные примеры, но не в них дело. Как бы 235
то ни было, размышления крупных иностранных писателей XX века о писателях русских заключают в себе богатый материал наблюдений, заслуживают изучения - не суммарного, а детального.
Во многих случаях любопытно отметить, что зарубежный писатель, тяготевший-в силу собственной творческой природы-к одному из русских классиков, живо интересовался и другими русскими мастерами. Мартен дю Гар сам считал себя учеником Толстого, результаты этого ученичества давно уже обнаружены и исследованы критикой, однако в его творческой биографии участвовали и Тургенев, и Гоголь, и в особенности Чехов, пьесы которого автор «Семьи Тибо» обрабатывал для французской сцены. Известен многолетний спор Роже Мартен дю Гара с Андре Жидом о Толстом и Достоевском: это был спор глубоко принципиальный о том, как следует писать, чему следует учиться у русской литературы. В итоге оба спорящих, конечно, не переубедили друг друга, однако Мартен дю Гар назвал Достоевского одним из тех писателей, которые «вспахали» его наиболее глубоко, а А. Жид перечитывал «Войну и мир», работая над наиболее социальным из своих романов, «Фальшивомонетчики». Шоу переписывался с Толстым, высоко ценил его, солидаризировался с ним в критике буржуазного мира, а одну из лучших своих пьес, «Дом, где разбиваются сердца», написал в чеховской манере. Бернанос по сути мировоззрения и творчества преемственно связан с Достоевским; вместе с тем его роман «Дневник сельского священника» содержит вдохновенные слова о Горьком, о России, облик которой раскрывается герою романа в книге «Детство»-книге, заставившей его задуматься над миссией русского народа как «заступника бедноты» 1.
В иных случаях логика внутренней эволюции того или иного зарубежного писателя определяет и выбор русских наставников или собеседников, сдвиги в отношении к ним. Молодой Иоганнес Р. Бехер посвящал стихи и Толстому, и Достоевскому, выдвигая в них на первый план то, что было созвучно его собственным отвлеченно-бунтарским настроениям тех лет; в последую1 См.: Бернанос Жорж. Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты. M., Художественная литература, 1978, с. 327.
236
щие десятилетия Бехер вовсе отвернулся от Достоевского (влияние которого, впрочем, оставило свой след и в его зрелом творчестве), сохранил живую привязанность к Толстому, однако главными его творческими ориентирами стали Горький и Маяковский.
Шервуд Андерсон еще в молодые годы открыл для себя Горького, в ком увидел образец художника подлинно демократического, кровно близкого к миру угнетенных; в более зрелые годы он оценил Достоевского, чьи «Братья Карамазовы» стали для него библией; однако решающие творческие импульсы он получил от Тургенева,-новаторская жанровая природа «Записок охотника» отозвалась в книге Андерсона «Уайнсбург, Огайо»1.
Генрих Манн знакомился с русскими классиками еще в молодости,-в ряде его произведений имеются мотивы, восходящие к Толстому или Достоевскому; в библиотеке Г. Манна сохранилась книга Короленко «История моего современника», в которой в качестве предисловия напечатана статья Розы Люксембург «Душа русской литературы»2. Эту статью Г. Манн прочи-
Мне нравится ваша страна, я люблю ее музыку, культуру, душевное тепло, бессмертные страницы ее героической истории, гордость и красоту ее городов, люблю широту взглядов ее народа, ее достижения и близко к сердцу принимаю ее горести. В то же время я боюсь своей собственной страны. Боюсь ее милитаризма, боюсь неразумности и невежества некоторых ее правителей, отсутствия широты во взглядах и интернационализма в отношении к другим народам, боюсь ее опасных городов, боюсь ограниченности ума некоторых ее граждан.
Чарлз Облер, американский экономист 1 См.: Зубарева К. А. Генрих Манн и прогрессивные традиции немецкой и мировой литературы. Изд-во Омского педагогического института, 1972, с. 287, 344.
2 Ландор М. Большая проза-из малой.-Вопросы литературы, 1982, № 8.
237
тал, возможно, еще на рубеже 20-х годов. Но только жизненный опыт, накопленный старым писателем за десятилетия, и в особенности размышления, связанные с разгромом гитлеровской диктатуры, смогли подсказать ему ту яркую обобщенную характеристику русской литературы (во многом близкую к концепции Розы Люксембург), которая дана в книге его воспоминаний «Обзор века».
Все эти процессы в творческих биографиях мастеров западной прозы заслуживают того, чтобы исследователи пристально в них всмотрелись. Притом стоит заметить, что иной раз, даже когда отношение того или иного писателя к русской литературе у всех на виду, запечатлено и в его собственных свидетельствах, и в сопоставительных работах литературоведов, посмертные публикации вносят существенные новые оттенки, позволяют многое уточнить.
В западных литературах XX века немало крупных мастеров, которые на протяжении всего своего писательского пути, если можно так выразиться, жили с русской литературой, читали и перечитывали русских классиков, писали статьи и эссе о них. Эта постоянная связь нередко раскрывается с новых сторон по мере того, как появляются документы из их наследия.
При жизни Ромена Роллана в нашей критике существовало представление, которое приобрело силу устойчивого стереотипа: Роллан смолоду стал последователем Толстого, а потом, десятилетия спустя, перешел на революционные позиции и сделался единомышленником Горького. Но насколько сложнее все обстояло на самом деле! Уже из студенческого дневника Роллана, опубликованного вскоре после его смерти, мы почерпнули убеждение, что он всегда воспринимал Толстого не изолированно, а в широком контексте русской литературы,-узнали, с каким вниманием он читал Тургенева, Гоголя, как много значил для него Достоевский. С другой стороны, перед нами с каждой новой публикацией писем Роллана все более отчетливо раскрывается многосложная, богатая перипетиями история его духовных поисков. В частности-и в осмыслении наследия Толстого. Принципиальный философский спор с русским учителем начался у Роллана еще на рубеже веков. В августе 1901 года он писал Толстому: «Позвольте мне-поскольку правда и есть высший закон-сказать 238
вам, что нас (и меня, и моих немногочисленных друзей) подчас смущает то, как вы опираетесь в ваших суждениях на авторитет Христа и христианства... Это несколько озадачивает нас, потому что получается так, будто надо рассматривать все вещи с двух точек зрения-и разума, и веры». Роллан решительно отдавал предпочтение разуму перед верой,-с этих позиций критиковал он «евангельский» финал романа «Воскресение». Еще в январе 1900 года он писал в дневнике: «Толстой, который, как мне казалось прежде, стоит в центре мира и, как зеркало, отражает жизнь в целом, добровольно надел на себя шоры, чтобы смотреть только в одном направлении». В противовес тем литераторам и ученым, которые видели в Толстом прежде всего проповедника, религиозного пророка, Роллан рассматривал Толстого как противоречивое единство и выдвигал в его наследии как главное не христианскую проповедь, а художественное творчество. Он писал литератору М. Сер- клие в январе 1926 года: «В своих сказках, деревенских сценках Толстой, сколь бы он ни был обременен своей системой, идеей, своей моралью, своей религией, которою заполнены его дидактические писания (порою страшно тяжеловесные), забывает о своих догмах, о своей социальной педагогике, когда стоит перед людьми и природой и создает произведения искусства. Каждая строчка, каждое слово у него дышит жизнью - не его собственной, а той, которая у него перед глазами, жизнью вселенной. И сила нравственного воздействия в этих объективно написанных рассказах в конечном счете гораздо больше, чем во всех его кредо!» 1 Сопоставляя давно известные нам критико-публицистические работы Роллана с документами, опубликованными недавно, мы яснее видим закономерность того идейного поворота, который подготовлялся самою логикой внутреннего развития писателя в течение десятилетий. И видим, в частности, что известная статья «Ленин-Искусство и действие» не результат какого-то внезапного прозрения, а итог многолетних поисков и размышлений. Этот вывод станет для нас еще более бесспорным, когда читателям будет полностью доступна переписка Роллана с Горьким.
Наряду с Роменом Ролланом Томас Манн-один 1 Cahiers Romain Rolland, Monsieur le comte. Paris, 1978, p. 51, 49, 152-153.
239
тех западных писателей, у которых вся жизнь прошла в интенсивном духовном общении с русской литературой.
О том, насколько повседневным, насколько живым и трепетным было это общение, мы узнаем теперь, по мере того как публикуются том за томом дневники Т. Манна, которые, согласно его завещанию, до 1975 года находились под спудом. Писатель имел привычку точно фиксировать события своей жизни день за днем, включая и ежедневные или ежевечерние чтения. Русская литература занимала в этих чтениях едва ли не преобладающее место, включаясь-каждый раз по-своему-в контекст социальных, философских раздумий Т. Манна.
Записей о русской литературе множество во всех известных нам пяти объемистых томах дневников Т. Манна. И в частности-томе дневников за 1918-1921 годы Это были переломные для него годы. Ему было нелегко определить свое отношение к революционной России, но, так или иначе, она оставалась для него родиной гениальных художников, которых он неизменно чтил. Отсюда проистекала его готовность к взаимопониманию, даже союзу с только что возникшим Советским государством. В 1918-1921 годах Томас Манн, работая исподволь над романом «Волшебная гора», особенно интенсивно перечитывал русских классиков и фиксировал свои впечатления в дневнике. «Читал Гоголя. Спор обоих Иванов из-за ружья-нечто такое, что может примирить с жизнью. Комизм тут отчаянный, но именно потому он и комичен. Великолепен после всех шутовских эпизодов глубоко грустный финал. Он читал эту историю Пушкину. Тон здесь именно такой, какой годится для «Волшебной горы». Политические новости вызывают у Т. Манна неожиданные ассоциации с русскими классиками. «То, что эта война будет означать конец буржуазного общества, предвидел еще Достоевский». С восхищением читаются «Господа Головлевы». «Вчера вечером... закончил Салтыкова. Наверное, это в смысле горечи и меланхолии-самая сильная книга, какая когда-либо была написана. Оргия страдания в конце: Иудушка в финале перестает быть отвратительным, потому что страдает». Прочитав тургеневское «Довольно», Т. Манн сопоставляет трех рус1 Mann Thomas. Tagebiicher 1918-1921. Frankfurt am Main, 1979.
240
ских мастеров, Тургенев кажется ему «слишком эстетическим». «Я в юности искренне любил его как художника, я продолжаю и сегодня считать «Отцы и дети» шедевром. Но Толстой, конечно, так же и как художник,-совсем другая категория, и Достоевский тоже. «Социализм» тут ни при чем,-просто Тургенев слабее и как моралист и поборник этики». Повторно читаются «Идиот», «Преступление и наказание». «Весь день был мрачен, страшно растерян в связи с «Волш, горой». Чтение Достоевского тут же приободрило меня». Т. Манн читает вслух своим детям страницы из «Детства» Горького, размышляет над очерком Горького о Толстом: «Горький о Толстом-превосходно, лучшее, что у него есть». Чтение русских писателей, осмысление политических событий в Германии и во всей Европе, работа над романом «Волшебная гора»- все это парадоксально совмещалось в сознании писателя и на страницах его дневника. «Вечером Чехов. «Именины»-очень хорошо. Думал о том, возможно ли ввести также и в «Волшебную гору» русские хилиастиче- ски-коммунистические мотивы».
Дневники Томаса Манна наводят на мысль, что интерес к русской литературе становился у него особенно острым в периоды наибольшего духовного и творческого напряжения. Таким периодом стали для него в особенности годы второй мировой войны, когда он, активно участвуя в борьбе против фашизма, завершал тетралогию «Иосиф и его братья», а потом начал писать роман «Доктор Фаустус». В этот период дневник Т. Манна по своему содержанию резко политизируется,-дела личные занимают меньше места, чем в предыдущие годы, сообщения с фронтов второй мировой войны фиксируются едва ли не каждый день, дотошно и взволнованно,-а наряду с этим, в качестве своеобразного контрапункта к хронике военных событий, делаются лаконичные записи о чтении повестей Лескова, произведений Гоголя, в частности «Мертвых душ», романов Достоевского, отдельных произведений Тургенева, Толстого. Иногда такие записи носят и более развернутый характер. «Многое в «Бесах». Болезненная грандиозность. Ставрогин-Лиза-в высшей степени жутко и чудовищно. Гениальные политические предчувствия. Русский национализм в силу самой природы этих русских предстает в сомнительном свете. Ненависть к Тургеневу-Кармазинову, Merci и Карлсруэ-правота всего это241
го проблематична. Грандиозная болезненность видит в цивилизации всего лишь щегольство. А она не глупа, а страшна, и рассматривать страшное в цивилизации всего лишь как глупость-это, быть может, ошибка»1. Здесь - при всем преклонении перед величием Достоевского-художника-сделана, пусть в смутной форме, одна из первых попыток Т. Манна критически разобраться в его идейном наследии.
В дневнике за 1942-1943 годы размышления над событиями войны подчас очень непосредственно - и каждый раз неожиданно-стыкуются с заметками о прочитанных и перечитанных русских книгах. «Натиск русских, отвоевывающих обратно свои крепости, производит сильнейшее впечатление-Читал «Фауста». Ночью- «Раскольникова». Удивителен образ Свидригайлова». «Победное шествие русских, кажется, ничто не может их остановить. Скоро они, судя по всему, возьмут Ростов. Немцам, видимо, предстоит генеральная катастрофа». И на следующей странице: «Продиктовал поздравление русской армии к 25-летнему юбилею... Перед сном-«Хаджи-Мурат». «Новости из Африки благоприятны. Немцы отброшены назад. Русские идут на Киев... Перед сном Толстой, «Юность». В круг чтений Т. Манна вошла и публицистика Алексея Толстого: «Статьи Толстого по-английски. Очень ободряюще о патриотизме, Кронштадте и Тулоне».
Каждая из приведенных здесь дневниковых записей Т. Манна, взятая в отдельности, представляет интерес в лучшем случае биографический. Но, будучи взяты вместе, эти записи (а также и многие другие, которые по недостатку места невозможно привести) представляют интерес принципиальный. Они подтверждают, что русская литература на разных этапах жизни немецкого писателя была для него ценнейшим источником мыслей и образов, возбудителем духовной энергии. Мы как бы входим в творческую лабораторию Т. Манна, видим, как накоплялись познания и впечатления, которые сказались в его книгах разных лет, в частности и в его статьях и этюдах, посвященных русской литературе,-от «Русской антологии» (1921) до «Слова о Чехове», написанного им незадолго до смерти.
1 Mann Thomas. Tagebiicher 1940-1943. Frankfurt am Main, 1982, S. 150-151.
242
Эрнест Хемингуэй по сравнению с Томасом Манном был творчески связан с русской литературой менее тесно, менее постоянно. Но мы помним те проникновенные записи о чтении русских книг, которые имеются в «Зеленых холмах Африки», «Празднике, который всегда с тобой»; помним и страницы, посвященные Толстому, в его вступительной статье к антологии «Люди на войне», где он, критикуя автора «Войны и мира» и за обилие философских отступлений, и за чрезмерно заостренную, по его мнению, сатирическую трактовку Наполеона, в то же время признает, что именно у Толстого он учился писать «как можно правдивее, честнее, объективнее и скромнее»1 2.
Книги Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Чехова, прочитанные впервые в Париже, в годы литературного ученичества, дали Хемингуэю, по его словам, «чудесный мир», который навсегда остался с ним: естественно, что память о русских книгах отзывается и в его письмах разных лет, которые недавно стали доступны читателю. Понятно, что в восприятии русских классиков решающим образом сказываются особенности самого Хемингуэя как творческой личности. Философская проблематика русской литературы, судя по всему, мало затронула его. Толстой остался для Хемингуэя прежде всего-непревзойденным мастером в области военной темы. В сравнении с «Войной и миром» множество других книг о войне казалось «ужасно романтичным», отталкивало «орнаментальной» трактовкой сражений и смертей-иной раз Хемингуэй приходил к мысли,-как он и писал М. Перкинсу в 1926 году,-что после Толстого «вообще больше не нужно писать книг о войне» L
А много лет спустя, в 1953 году, он рассказывал критику Ч. Пуру, как создавалась его собственная книга «Прощай, оружие!»-с оглядкой на Толстого. «Запомни, Чарли,- в первой войне я главным образом прислушивался, как ребята разговаривают, особенно в госпиталях и во время выздоровления. У них опыт, может быть, богаче твоего, и ты сочиняешь, используя все, что ты знаешь и что знают другие. Страна тебе известна, 1 Литературное наследство, 1965, т. 75. Толстой и зарубежный мир, кн. 1, с. 159.
2 Hemingway Ernest. Selected letters 1917-1961. New York, 1981, p. 202.
243
погода тоже. Потом берешь карту-всего фронта или одного сектора, масштабом в 1 : 50 000, и карту поменьше, если можешь достать,-1 :5000. Потом сочиняешь, включая чужой опыт и знание и все то, что испытал сам. А потом какой-нибудь сукин сын приходит и доказывает, что ты, мол, не был в такой-то битве. Славно. Сам Толстой был в Севастополе. А под Бородином он не был, в те времена он еще не занимался этим делом. Но он мог сочинять, используя тот факт, что все мы были в том или ином Севастополе, черт побери».
Чтение Тургенева ассоциировалось у молодого Хемингуэя с размышлениями, в высшей степени важными для его собственного творчества,-о том, как велика разница между подлинным художником, предельно взыскательным к себе, и писателем-профессионалом, умеющим бесперебойно выпускать книгу за книгой. В восприятии Тургенева у Хемингуэя был и некий критический оттенок,-15 декабря 1925 года он писал Скотту Фицджеральду: «Отцы и дети-не самая лучшая его книга, если смотреть на расстоянии. Есть великолепные вещи в ней, но она уже не может так возбуждать, как при первом появлении, а это адски вредно для книги». Но всего пять дней спустя Хемингуэй в письме к Арчибалду Маклишу высказался об авторе «Отцов и детей» более развернуто: «Я тут все это время читал. Тургенев для меня-величайший писатель, какой когда- либо был. Он не написал величайших книг, но был величайшим писателем. Это для меня, конечно. Читал ли ты когда-нибудь его короткий рассказ-Стучит? Это во втором томе Записок охотника. Война и мир-лучшая книга, какую я знаю, но вообрази, какая это могла бы быть книга, если бы Тургенев написал ее. Чехов написал примерно 6 хороших рассказов. Но он был писателем-любителем. Толстой был пророком. Мопассан был профессиональным писателем, Бальзак был профессиональным писателем, Тургенев был художником».
Конечно, и в этих, и в других оценках и замечаниях Хемингуэя, высказанных в личном письме, вовсе не для печати и не для потомства, есть доля случайного, субъективного. Элемент случайного есть и в других суждениях иностранных писателей, которые приводились выше. Но в самой этой непосредственности суждений-«для себя» или для близких друзей-есть свое 244
обаяние искренности и своя познавательная ценность. Мы видим как бы вблизи сам процесс вхождения русской литературы в творческое сознание зарубежных мастеров слова, соотносивших русский опыт со своим собственным опытом, со своими собственными проблемами. И это дает нам дополнительный материал для выводов о том, как воздействовала русская классическая литература на развитие литературы мировой.
4. На пороге XX века. «Гуманистический герметизм» или подлинное понимание? Арагон: «Я никогда не учился писать, или С чего начинаются рукописи». Как перевести Лескова?
Стоит напомнить. С основными произведениями Толстого и Достоевского читатели Западной Европы и США ознакомились сразу, в кратчайший срок-во второй половине 80-х годов. В эти же годы за рубежом переиздавались книги Тургенева и Гоголя, круг читателей которых стремительно расширялся: переводились книги Гончарова, Писемского, Гаршина, вскоре стал известен и Чехов. Словом, русская литература вошла в западный читательский обиход с поистине космической скоростью. И скоро заставила о себе задуматься как необыкновенно значительный и яркий культурный феномен. Заставила задуматься в немалой степени потому, что по своему содержанию, по своей нравственной, философской проблематике она далеко выходила за рамки собственно литературные - и за рамки российской действительности.
Русская литература включилась в мировой литературный процесс на пороге эпохи империализма, в десятилетия, когда быстро усиливалась экономическая и политическая взаимосвязь, взаимодействие между разными странами и континентами. Россия, преодолев вековую отсталость, вошла в строй империалистических держав. Вместе с тем в России, именно в силу того, что наследие этой отсталости было очевидным и живучим, назревавший кризис, обреченность эксплуататорского строя ощущались в повседневной жизни-и отражались в литературе-с большей остротой и резкостью, чем где-либо. В этих исторических условиях социально-кри245
тический пафос русской литературы мог находить-и находил-живой отзвук в сознании западных читателей. И в этих исторических условиях виднейшие иностранные писатели могли-каждый на свой лад, конечно,-найти для себя нечто родственное, близкое в классических романах, даже если они сами, по рождению и воспитанию, были прочно привязаны к господствующему строю жизни.
На пороге XX века-и тем более в последующие десятилетия-крупные западные деятели культуры переживали нечто похожее на те внутренние сдвиги, которые пережил Толстой (конечно, не в такой глубокой, не в такой драматичной форме). Применительно к ним можно перефразировать-с учетом всех различий-известные слова Ленина, сказанные о Толстом: ломка старых устоев старого мира обострила внимание этих художников, углубила их интерес к тому, что происходило вокруг них. Рост социальных противоречий, назревание острейших международных конфликтов - все это заставляло их по-новому задуматься и над смыслом происходящих и надвигающихся исторических потрясений, и над собственным общественным долгом. В этой связи есть основание отметить глубинное типологическое сходство между гениальным русским художником и его иностранными «меньшими братьями», которые сложились как писатели в условиях невиданных прежде исторических встрясок. Все это важно иметь в виду, изучая те объективные исторические условия, в которых возрастало и продолжает возрастать мировое значение русской классической литературы. Оно возрастает именно благодаря тому, что наиболее проницательные западные мастера культуры видят в творчестве и судьбах великих русских писателей не экзотику, а нечто родственное их собственным жизненным проблемам и судьбам.
Восприятие русской литературы иностранными писателями, а тем более критиками было и осталось очень неоднородным и далеко не всегда безоглядно восторженным. Но в одном важнейшем пункте крупнейшие писатели мира оказались единодушны. Как бы ни относились они к социальным идеям и мотивам русской литературы, они признавали, не могли не признать, что литература эта, взятая в ее главных образцах,-явление необычайной художественной силы. В этом на протяжении столетия сходились все серьезные мастера, каковы 246
бы ни были разногласия между ними в плоскости идеологии и эстетики,-условно говоря, все мастера в диапазоне от Барбюса до Джойса.
В связи с этим надо иметь в виду, что модернизм-не монолит, а сложная совокупность идеологических и художественных фактов, внутри него есть свои противоречия и большое разнообразие оттенков; противостояние реализма и модернизма не означает взаимной изоляции, имеется много промежуточных и переходных явлений. Но противостояние это существует, оно выражается и в общей концепции мира и человека, и во взглядах на отношения литературы и действительности, художника и общества.
Русская классика своим опытом и примером оказала влияние на общее соотношение сил в мировой литературе конца XIX-XX века: она поддержала авторитет реализма в десятилетия, когда реализм был отчасти дискредитирован (практикой эпигонов натурализма), подвергался массированным атакам (со стороны идеологов модернизма). Она навлекала и навлекает на себя антипатию наиболее активных и открытых противников содержательного, демократического искусства.
Однако среди почитателей русской классики мы находим не только писателей, причисляющих себя (или причисляемых нами) к реалистам, но и приверженцев иных художественных течений, связанных с реализмом лишь частично или от реализма отошедших. Джойс, Кафка, Пруст, Камю, Вирджиния Вулф не разделяли идейно-эстетических позиций великих русских романистов, в собственном художественном творчестве они шли иными путями, но они в разной форме-в эссе, письмах, интервью - высказывали тонкие замечания о мастерстве русской прозы. Думается, что тема «русская классика и модернистская литература на Западе» заслуживает специального изучения. Тут были отношения не прямолинейно антагонистические, а очень неоднозначные.
Это стоит показать хотя бы на одном примере, который еще не фигурировал в нашем литературоведческом обиходе. Один из старейших мастеров современной западной прозы, французская писательница-академик Маргерит Юрсенар-художник аристократического, элитарного склада, эрудит и изощренный стилист; ее позиция, по определению французского критика-марк- 247
смета, представляет собой «гуманистический герме- тизм»1. От мира идей и образов русской литературы она, по существу, крайне далека. Однако в недавно опубликованной книге интервью2 она говорит о русской литературе с неподдельным уважением. Она еще в ранней юности почувствовала «громадную любовь» к русским писателям. Толстой (наряду с Ибсеном и Ницше) для нее - «один из очень великих писателей XIX века, строптивых, взрывчатых, находившихся в оппозиции к их эпохе и окружению, ко всяческой людской посредственности». И по сей день она перечитывает «Толстого и Чехова»; занимаясь вплотную проблемами охраны природы, она ссылается на Чехова, который, в ряду других «проницательных умов», еще в начале века с ужасом говорил о разрушении русского леса. Достоевский, по ее словам, не оказал на нее влияния, но уже при первом чтении у нее «захватывало дыхание, так это было великолепно»; христианские идеи Достоевского, говорит Юрсенар, были противоположны ее собственным взглядам, но старец Зосима оставил в ней «чувство взволнованного восхищения». Работая над книгой о собственном детстве, она обращается к «Детству» и «Отрочеству»,-ведь Толстой «всем мастерам мастер», он сумел, как немногие, воссоздать «становление человека»... Отказываясь от личного вмешательства в битвы века, Маргерит Юрсенар отдает себе отчет, что «писатель может содействовать политической борьбе, если просто рассказывает о том, что он видел. «Записки из Мертвого дома» Достоевского действовали, как мощное орудие, против царского режима в России, и «Воскресение» Толстого - тоже».
Этот пример-один из многих, которые можно было бы привести,- показывает, что художник с развитым интеллектуальным и нравственным чутьем не проходит, не может пройти мимо мира идей и образов русской литературы, как бы ни был он сам от него отдален по личным взглядам, привычкам и склонностям.
Но, так или иначе, основными последователями, пропагандистами, друзьями, вдумчивыми читателями 1 Prevost Claude. Litteratures du depaysement. Paris, 1979, p. 299.
2 Yourcenar Marguerite. Les yeux ouverts, Entretiens avec Mathieu Galley. Ed. du Centurion, 1980.
248
русской классической литературы за рубежом были и остались, с последних десятилетий XIX века до наших дней, писатели реалистической ориентации (в плане идейном). На практике оба эти плана чаще всего совпадают.
В свое время М. де Вогюэ без колебаний охарактеризовал мастеров русского романа как реалистов-это для него разумелось само собой-и предварил свою книгу таким общим тезисом: «Мы увидим, что русские защищают дело реализма с помощью новых аргументов, на мой взгляд, лучших, нежели аргументы их западных соперников»1. Однако эти новые аргументы в его анализе сводились к проповеди жалости, коренящейся в христианской религии. Вогюэ (по словам Пьера Паскаля, автора предисловия к новому изданию его книги) хотел противопоставить французской литературе, «радикально материалистической, литературу русскую, которая называла себя реалистической и даже «натуральной», но для которой реальность не исключала души и которая постоянно словно бы ищет источник вдохновения в Евангелии». Предисловие Паскаля носит целиком апологетический характер,-даже и не упомянуто, какие существенные поправки внес ход русской истории в концепцию консерватора и монархиста Вогюэ, не принят во внимание и тот очевидный факт, что у всех крупнейших западных писателей, опять-таки в диапазоне «от Барбюса до Джойса», восприятие русской литературы было и осталось внерелигиозным (мы отчасти уже могли убедиться в этом, обращаясь к свидетельствам такого горячего почитателя Толстого, каким был Ромен Роллан)2.
Те наиболее проницательные западные писатели, ко1 Vogue de Е. М. Le Roman russe. Ed. L’Age d’homme (Suisse). 1971, p. 37.
2 Само собой разумеется, что религиозный компонент мировоззрения Гоголя, Толстого, Достоевского не может быть сброшен со счетов и заслуживает внимательного изучения. У каждого из них христианство было в той или иной форме недогматическим, неортодоксальным, отношения каждого из них с православной церковью были по-своему сложны. Однако нельзя согласиться с теми западными исследователями русской литературы, которые тенденциозно выдвигают в ней на первый план именно теологическую проблематику. И примечательно, что все большие западные писатели, приверженные к русским классикам, ценят их именно как художников, мастеров слова, нередко и как общественных деятелей и публицистов, но не как вероучителей.
249
торые сумели воспользоваться опытом русской литературы, опереться на нее в своих собственных поисках, оказались способны почувствовать в ней не только самобытную художественную силу, но и ее главную идейную суть. Почувствовать именно то, что с такой категоричностью высказал Лукач в своем последнем интервью : русская литература помогала своим читателям на Западе увидеть, что капитализм - как и всякий строй, основанный на угнетении человека человеком,-порочен в корне как система, невыносим, отжил свой век. Русская классическая литература в своих лучших образцах - при всех различиях во взглядах или в оттенках мысли разных ее мастеров-несла в себе необычайно могучий критико-аналитический заряд. И ее высокая гуманность, поражавшая и заражавшая зарубежных читателей, была заключена не в «евангельском» милосердии, а в жажде преобразования мира.
О национальном своеобразии русской классической литературы, выросшем из своеобразия русской истории, в последние десятилетия написано уже многое в трудах советских ученых, в книгах Д. Лихачева, Б. Бур- сова, Л. Лотман, Е. Купреяновой и Г. Макогоненко, Г. Фридлендера. Не стоит повторять здесь то, что ими сказано. Но, пожалуй, стоит напомнить ту-далеко не устаревшую-суммарную характеристику русской литературы, которую дал Горький в своих каприйских лекциях.
В царской России, говорит Горький, «все должны были объединяться на почве оппозиции правительству, и политические вопросы просачивались в душу человека извне даже тогда, когда он не хотел этого.
Тем более подчинялись политике литераторы, как люди широких обобщений, как наиболее чутко воспринимающие; объективно мыслящий мозг-вот причина, почему русская литература, вплоть до наших дней, стояла в теснейшей связи с революционными течениями...
Необходимо было создать что-то, что объединяло бы всю массу общества, необходима была борьба с идеологией бюрократии и царей... требовалось внимательное изучение народа»1.
Тут один из существеннейших аспектов новаторства русской литературы. По мысли Горького, «вниматель1 Горький M. История русской литературы. M., ГИХЛ, 1939, с. 86.
250
ное изучение народа»-трезвое, не имевшее ничего общего с романтической идеализацией-должно было противостоять той официальной народности, которая у идеологов царской России обязательно ассоциировалась с самодержавием и православием. Демократизация художественной литературы, выдвижение трудящихся и угнетенных в качестве полноправных литературных героев стали в XIX веке велением времени. Об этом по- разному свидетельствовали в западных литературах те писатели, которые не зря и не спроста приобрели широкую популярность в России: Гейне, Гюго, Жорж Санд, Диккенс, Золя. Но русская классическая литература дала такие образы рядовых тружеников, которые по своей реалистической достоверности, по эстетической и нравственной значительности намного превосходят то, что было в этой области создано западными писателями.
Новаторство русской классической литературы шло навстречу закономерностям всемирной истории. К концу XIX века, а тем более в течение века XX неуклонно возрастал, продолжает возрастать удельный вес народных масс в исторических событиях всемирной значимости. Согбенные выпрямляются, безгласные обретают голос. Русская классическая литература в известной мере предвосхитила эти жизненные процессы-литература советская отразила их.
Собирательный образ трудового народа приобрел в творчестве русских писателей новые черты нравственной и социальной активности. Все это наложило свой отпечаток на развитие реализма в мировой литературе нашего столетия. Не в том смысле, конечно, что русские классики дали писателям других стран готовые образцы для подражания: в подлинном искусстве так не бывает. Но лучшие творения русского реализма дали передовым, демократическим писателям конца XIX-XX века важные творческие стимулы, точки опоры. А в иных случаях и определили судьбы крупных писателей, выдвижение новых тематических пластов или новых литературных жанров. Наиболее очевидный пример тому-«Война и мир». Книга дала писателям разных стран первоначальную, исходную модель реалистического романа-эпопеи L
1 Этот аспект мирового значения русской литературы был впервые раскрыт в книге А. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи» (М., Советский писатель, 1958; изд. 2-е-1975).
251
Наиболее вдумчивые иностранные исследователи русской литературы (и в особенности писатели) не раз говорили о том, что русский роман-и не только «Война и мир» - принес с собой необычайное расширение рамок художественного повествования: и в смысле охвата людских характеров и судеб, и в смысле прямого участия народных масс в романическом действии, и-наиболее заметно-в смысле пространственной и временной протяженности. Иначе говоря, русская литература вывела искусство романа за традиционные пределы изображения частной жизни - на новые эпические просторы. Потребность в повествованиях, включающих личные жизненные пути отдельных персонажей в широкий поток национальной и мировой истории, диктовалась самой логикой исторического развития человечества в нашем столетии. И русский роман дал писателям мира ценнейшие источники художественного опыта, которым воспользовались на разные лады и классики западной реалистической прозы XX века, и писатели европейских славянских стран, и в уже недавнее время-романисты Латинской Америки.
Величайшие русские писатели раздвинули границы художественного познания реального мира-по-разному и в разных направлениях. Тургенев, Толстой, затем Чехов1 достигли новых высот в достоверном, наглядном воссоздании повседневной действительности. Гоголь, Достоевский расширили рамки реализма в ином смысле-преображением, заострением этой действительности, позволяющим увидеть с новых сторон заложенные в ней конфликты, противоречия, то бесчеловечное, подчас нелепое, что таится под оболочкой будней. Если в современном реалистическом искусстве узаконен и широко привился гротеск, иной раз доходящий до фантастики, то в этом в немалой степени сказывается плодотворное воздействие открытий, сделанных 1 О своеобразии и мировом значении творчества Чехова см. статью Д. Затонского «Вклад Чехова», а также сообщения М. Рев (Венгрия), В. Дювеля (ГДР) на Международной конференции славистов в Берлине,-в кн.: Slavische Kulturen in der Geschichte der euro- paischen Kulturen von 18. bis zum 20. Jahrhundert. Berlin, Akademie- Verlag, 1982.
252
авторами «Мертвых душ» и «Преступления и наказания»1.
Можно на многих примерах показать, как русская литература помогала и помогает зарубежным писателям найти конкретные решения тех или иных, важных для них, частных художественных задач или утвердиться на этих решениях. Любопытно, например, свидетельство Арагона, которое он дал в автобиографическом этюде «Я никогда не учился писать, или С чего начинаются рукописи». У русских классиков он нашел уже в немолодые годы подтверждение своего, издавна сложившегося, писательского правила,-начинать роман с фразы, которая сразу вводила бы читателя в суть действия, наподобие пушкинского «гости съезжались на дачу»2. Такой тип начала, без преамбул, без предварительных рассуждений или описаний,-характерная примета современной прозы: русские романисты XIX века опередили прозаиков века XX-в этом, как и во многом другом. В такой, казалось бы, малосущественной частности по-своему сказывается общая тенденция развития реалистического словесного искусства: насколько возможно приближать художественное повествование к течению подлинной жизни.
Русская литература обогатила литературу мировую многими конкретными художественными открытиями и находками. Сколь бы ни были они различны и подчас даже, казалось бы, несовместимы, в них есть общая основа. Разнообразные эти открытия проистекают из писательских стремлений, восходящих к национальным особенностям русской классики XIX века: из желания возможно точнее увидеть и воссоздать связь индивидуального человеческого существования с большим общественным, народным целым, возможно острее поставить, самою логикою действия, кардинальные вопросы человеческого бытия. Этим целям служат и эмоционально окрашенная устная интонация (сказ), введенная 1 О гоголевской фантастике справедливо замечено, что она заключает в себе «актуальное идеологическое содержание... Эта фантастика образует тот чрезвычайно чуткий камертон, который в сегодняшнем мире улавливает и отражает острейшие конфликты современности» (Манн Ю. Гоголь в мировой культуре-В кн.: Славянские культуры и мировой культурный процесс. Международная конференция. Тезисы докладов и сообщений. Минск, Наука и техника, 1982, с. 92).
2 Aragon. Je n’ai Jamais appris a ecrire, ou les In ci pit. Paris. Skira, 1981, pp. 86-87.
253
Гоголем в искусство прозы, и неожиданные взрывы страстей, перебивающие мирное течение жизни в романах Достоевского, и толстовское искусство внутреннего монолога, и чеховская ювелирно тонкая пластика и лаконизм, с какими передаются затаенные драмы повседневности.
Русской классической прозе оказались доступны разнообразные стили, манеры, повествовательные структуры. И искусство предельно напряженного сюжета, развертывающегося через неожиданности и катастрофические повороты; и тот тип повествования, где напряжение мысли и чувства глубоко спрятано в подтексте и выявляется именно через подтекст; и спокойная объективность манеры, в которой авторская позиция обнаруживается исподволь, ненавязчиво; и повествование, насыщенное идеями, публицистически-философскими вторжениями, диалогами-дискуссиями, где проблемы большого масштаба ставятся в обнаженной и заостренной форме. Нет основания говорить о каком-либо едином типе русского классического романа или повести. Можно сказать по-другому: социально-философская проблемность русского реализма сказывается на разных полюсах его развития, определяя в иных случаях - предельную достоверность и даже тяготение к документальности, а в иных случаях-склонность к символическим и притчевым формам художественного обобщения. Так или иначе, в конечном счете это разнообразие художественных манер, порой экспериментальная смелость, побуждающая художников испробовать до конца возможности, заложенные в манере явно непривычной,- все это направлено в сторону беспокойной и настойчивой постановки коренных проблем социального бытия. И в сторону углубленного познания отдельно взятого человека.
Психология личности: вот здесь, быть может, заключены важнейшие художественные открытия, сделанные русской классической литературой. И быть может, именно здесь-тот главный побудительный мотив, в силу которого русские классические романы могли захватывать и покорять далеко за рубежами России и самых искушенных литераторов, и «просто» читателей,-одновременно обращаться-это признал не кто иной, как Альбер Камю,-«и к самому простому сердцу, и к самому изощренному вкусу», «воскрешать 254
людей в их плоти и в их длительном существовании» 1.
Иностранные читатели разных уровней много раз свидетельствовали, что герои русских романов воспринимались ими как живые люди и возбуждали любопытство, интерес, а то и симпатию к России именно потому, что это страна Базарова или Обломова, Раскольникова или Анны Карениной. Понятно, что у каждого из русских классиков были свои принципы человековедения, свой излюбленный круг персонажей, свои конкретные способы художественного воплощения человека. Но для многих зарубежных читателей русской литературы существовало устойчивое обобщенное понятие-«герой русского романа». Это значило-личность сложная, показанная в изменении, текучести или в борении внутренних противоречий, но, так или иначе, личность внутренне незаурядная. Тут есть повод вспомнить слова Э. Ауэрбаха о людях, изображаемых русскими писателями-реалистами: «...размах маятника их существа-их действий, мыслей и чувств - гораздо шире, чем где-либо в Европе».
Герой русского романа-человек, вовсе не обязательно воплощающий в себе некий нравственный идеал. Но это всегда человек, оцениваемый автором в свете нравственного идеала; не обязательно нашедший верный путь, но, как правило, ищущий правду, тяготеющий к ней. Русская литература покоряла своих иностранных читателей, конечно, не тем, что предлагала те или иные бесспорные рецепты совершенствования жизни и людей, а скорей именно исканием правды, пафосом правдоискательства, необычайно привлекательным и заразительным для лучших мастеров западного реализма в XX веке.
* * *
Говоря об освоении русского художественного опыта за рубежом, следует, разумеется, помнить, что достижения русской литературы были восприняты на Западе далеко не в полном объеме. Говоря о мировом значении
1 Camus Albert. Essais. Paris, Gallimard, 1965, p. 1912, 1133.
255
и влиянии русской литературы, мы на практике имеем в виду главным образом - и даже почти исключительно - русский роман или повесть. Есть основание, конечно, говорить и о мировом значении русской новеллы, но эта тема пока еще очень мало разработана в конкретных исследованиях. С русской поэзией XIX века иностранные читатели до сих пор еле-еле знакомы, первым русским поэтом, чье творчество приобрело международный резонанс, стал, в сущности, Маяковский. Русская драма долгое время оставалась практически неизвестной зарубежному зрителю: ни «Борис Годунов», ни «Горе от ума», ни «Гроза» не получили за границей того сценического воплощения, какого они заслуживали. Первыми русскими драмами, постановка которых на иностранной сцене стала заметным событием, явились «Власть тьмы», а затем «На дне»; позднее широкую известность и влияние приобрели пьесы Чехова; только в недавние десятилетия оценен и многократно поставлен гоголевский «Ревизор».
Переводы русской классики на иностранные языки - особая проблема, вернее даже-большой круг проблем. Сто десять лет назад Достоевский в статье «По поводу выставки» забил тревогу в связи с тем, что повести Гоголя в первом их издании на французском языке переведены крайне слабо-исчез гоголевский юмор, все яркое, характерное в его стиле. Он приходил к пессимистическому выводу: за границей не поймут, не смогут понять русских писателей,-«Записки охотника» «точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя»1. Предположение Достоевского, что русские писатели так и останутся неизвестными, непонятыми за рубежом, как мы теперь знаем, не оправдалось. Но в его тревоге был и некий серьезный резон: переводы книг русских классиков, выходившие за границей в последние десятилетия XIX века, страдали большими погрешностями, были в них и произвольные купюры, и неуклюжие буквализмы, и прямые ошибки. И это в какой-то мере искажало представление иностранных читателей о форме, стилях, мастерстве русской классической прозы. Только постепенно ранние ремесленные подобия книг русских классиков вытеснялись новыми иностранными текстами, более близкими к оригиналам. И лишь в самые недавние годы 1 Достоевский Ф. M. Поли. собр. соч. в 30-ти томах, т. 21. М., Наука, 1980, с. 69.
256
перевод русских классиков на иностранные языки стал интересовать западных филологов не только как практическая задача, но и как предмет изучения, размышления: появились первые статьи о том, как надо (или, наоборот, не надо) переводить Толстого, Достоевского; специальный интерес вызвал даже вопрос о том, как можно воспроизвести на иностранных языках своеобразие стиля такого сверхтрудного автора, как Лесков1. В разных странах предпринимаются все новые попытки художественно адекватных переводов русской классической поэзии.
Мы вправе сказать сегодня, что ознакомление с богатствами русской классической литературы за рубежами нашей страны далеко еще не завершено, но оно продолжается, пусть и не без срывов и помех. Расширяется круг русских писателей и произведений, которые становятся доступны читателям зарубежных стран. Тем самым создаются предпосылки для более глубокого освоения богатств русского реализма в зарубежных литературах.
Недавно было верно отмечено: «Опыт исторической жизни XIX и XX веков углубил наше понимание русской и зарубежной классики, раскрыл в ней для человечества новые важные философские и художественные смыслы, часто еще недоступные современникам»2. Возможности более углубленного понимания, нового претворения-на разнообразных национальных основах- тех духовных и художественных ценностей, которые заложены в русской классике, поистине безграничны.
Стоит еще добавить. Опыт международной жизни наших дней заставляет нас заново задуматься над тем, что русская классика-не только объект идеологического противоборства, но аргумент в этом противоборстве, и аргумент весомый.
В стране, где жили, творили, навсегда остались в памяти народной Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, литература издавна ставила себе целью пробуждать в людях чувства добрые.
1 См.: Edgerton William В. Translating Leskov: the almost insoluble problem-In: Leskoviana. A cura di D. Cavaion e P. Cazzola. Bologna, 1982.
2 Фридлендер Г. К. Маркс и вопросы современной литературной наукиВопросы литературы, 1983, № 3, с. 18.
257
9. Поле битвы-сердца людей
Связь русской классической литературы с душой народной-неотъемлемое ее свойство. После Октября эта литература стала достоянием миллионов масс. На ней воспитывались и воспитываются поколения советских людей всех наций и народностей, населяющих СССР.
Лучшие писатели мира, на протяжении более чем столетия, единодушны в признании гуманистической сути русской классики.
Этим гуманистическим наследием вдохновлялись советские люди в боях с фашизмом, в победе над ним. Они вдохновляются этим наследием и теперь - в отстаивании жизни на земле.
Д. Затонский
ВКЛАД ЧЕХОВА
Классики и современники. Уроки Чехова. Отношение к жизни или сама жизнь? «Загадка русской души». Чьи традиции лучше? «Уайнс- бург, Огайо»-роман или сборник новелл? Край пропасти: взглянуть вниз и возродиться.
И сейчас еще существует не так уж мало современников Драйзера или Ромена Роллана. Современников Чехова почти не осталось. Но Драйзер или Ромен Роллан-история литературы (славная, значительная и все- таки история), а Чехов-как бы сама современность. Мне, по крайней мере, всегда трудно отделаться от странного ощущения, будто многие чеховские вещи написаны чуть ли не вчера. Иллюзия эта связана с тем, как он рисует окружающую его жизнь и как умеет почувствовать и понять населяющих землю людей.
Эрнест Хемингуэй писал рассказы, можно бы сказать, «чеховского склада»: они коротки, экономны, пластичны, исполнены подтекста и пронизаны настроением героя. Собственно, Хемингуэй пошел в этом направлении дальше Чехова. Его проза являет собою открытый разрыв с прежней спокойной описательностью, с безмятежной прочностью авторского всеведения, с закругленностью словесных периодов, отделяющих и отдаляющих от себя объект изображения. Хемингуэй довершил разрушение «автономной» риторики, начатое Стендалем, Флобером, Толстым, Достоевским, Чеховым. И не только в том смысле, что начисто отказался от всех самодельных стилистических фигур, от всех красивостей. Он привел к полному, по-своему прямо-таки «идеальному» соответствию своего героя, его лирический мир и манеру о них рассказывать. У него нет ни одного пейзажа, ни одного портрета, ни одного диалога, который выпадал бы из общего тона, существовал бы сам по себе, как-то противостоял бы целому. С точки зрения литературной эволюции хемингуэевский путь 259
был необходимостью, но в некотором смысле вел к неизбежным потерям. Чехов по-прежнему остается современным, а Хемингуэй порой начинает казаться как бы «представителем» 30-40-х годов нашего века.
Искусство не впадать в экстрему-один из важных чеховских уроков. Но дело не только в этом. Чехов обновлял литературу, открывал ей путь в XX век. То был путь и неповторимо индивидуальный, и в то же время самый широкий, самый общий, вбиравший разные потоки и освящавший их. Отсюда и отсутствие музейной пыли на формах чеховского реализма.
Вклад писателя в развитие литературы (особенно если писатель велик)-это не просто сумма его произведений, взятых, так сказать, в самих себе, во всей непосредственности их содержания и во всей обусловленности формы. Вклад писателя-это и прочерченный им след, тот исходящий от него новый толчок, который способен ускорить темп общего литературного движения или даже-пусть ненамного-изменить направление последнего. Этой стороны чеховского вклада в мировой художественный процесс я и намерен коснуться. О ней можно написать целую книгу. А я пишу лишь короткую статью, почему и вынужден себя ограничивать. Чехов осуществил революцию на театре. Французский писатель А. Лану сказал о нем: «Большая часть нашей драматургии обязана ему своим эмоциональным своеобразием, неожиданным звучанием, своей особой, сложной и вместе с тем уверенной манерой проникновения во внутренний мир персонажей». Я, однако, остановлюсь лишь на вкладе Чехова-прозаика, да и тот обозначу в самых общих чертах. Тех, что, как мне кажется, определяют место автора «Дамы с собачкой» или «Архиерея» в становлении повествовательных форм XX века.
«Было бы приятно,-писал Чехов,-сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в семистах строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам». Возможно, что Чехов и в самом деле видел первопричину в этом: в необходимости, в привычке, сложившейся еще в годы работы для «Зрителя», «Будильника», «Осколков», где ничего, кроме миниатюр до сотни строк, в печать не 260
брали. Вообще не суть важно, что было здесь яйцом, а что-курицей. В свете чеховского вклада важно лишь, что, изображая своих героев, писатель «все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе». По Чехову, это-отказ от субъективности. Оно так и есть, если принимать во внимание только ту авторскую субъективность, которая отдает риторикой и дидактикой, ибо оторвана от изображаемого и блюдет по отношению к нему дистанцию. Существует, однако, и иной вид субъективности. Она как бы исходит от персонажей, поскольку повествовательная ткань оказывается пронизанной их мироощущением; действительность являет себя читателю чем-то претворенным, даже присвоенным ими; жизнь и представление о ней, ее оценка плотно прилегают друг к другу, чуть ли не сливаются.
Этот симбиоз субъективного и объективного и порождает особую, неповторимую чеховскую интонацию: «...было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,-так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине». Описание первых минут после близости пропущено через ощущения, через настроение Гурова. Тем самым описание перестает быть описанием; вернее, поднимается над самим собой. Оно не утрачивает ни объективности, ни информативности, но оно заострено и прояснено вмешательством индивидуального сознания. Завядшие черты, печально висящие длинные волосы, унылая поза-все это не просто один из портретов Анны Сергеевны, а отражение, моментальный снимок ее душевного смятения, который, может статься, не слишком верен в смысле эмпирической точности. Тем более что портрет Анны Сергеевны- одновременно и след душевного смятения самого Гурова. Но зато душевное смятение каждого из героев воссоздано не только в сложности своей, айв предельной своей наглядности.
«Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня; канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешились. 261
Канава обрывалась отвесно, край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга»- это отрывок из «Пармской обители» Стендаля, из той ее знаменитой главы, где изображается битва при Ватерлоо. Сцена набросана энергичными, резкими штрихами, предельно скупо и на удивление наглядно. Воистину, закроешь глаза и видишь: купы деревьев, набухшая, желтая глина канавы, горстка всадников на мокром лугу... Но дело, конечно, не только в ясности, экономности, простоте слога. Битва при Ватерлоо дана глазами Фабрицио, пронизана его ощущением и его непониманием происходящего. И в этом, вероятно, главный секрет: по-настоящему пластичным способен стать лишь образ, видение, восприятие, ощущение которого мы, читатели, делим с героями, образ, который опосредуется через них или даже прямо через автора, но не автора-эпика, автора-ритора, вещающего с расстояния, а того, что меряет мир на себя, что не рассказывает, а показывает.
Удивительно ли, что именно Чехов по-настоящему открыл в литературе богатство пластического рисунка?
У Стендаля нет других глав, которые были бы написаны так, как посвященная битве при Ватерлоо; Флобер и Толстой, в чем-то унаследовавшие эту его манеру, пользовались ею тоже далеко не всегда. Поздний Чехов почти сплошь, ничего не рассказывая, все показывает. «...Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо»-это из «Анны на 1пее». Из «Дамы с собачкой»: «Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков».
В отрывках этих на поверхности лежит четкость, выпуклость, какая-то даже пронзительность зрительного впечатления. Но есть и нечто иное, не сразу, не вдруг уловимое, делающее каждый из текстов чем-то особым, на прочие непохожим. Причем именно оттого, что они построены по одному принципу. Пьяненького Петра Леонтьича видит Аня; провинциальный театр во время антракта-Гуров. И каждый живет в своей ситуации, у 262
каждого-свое настроение. Аня только что обвенчалась с нелюбимым, чужим стариком, вместо свадебного путешествия едет с ним на богомолье и потому так остро ощущает всю фальшь, всю противоестественность происходящего. Гуров, понукаемый тоской по «даме с собачкой», неожиданно для самого себя поехал к ней и спугнул ее в театре - отсюда (от волнения его, от смущения, от неспособности самого себя понять) то странное, сдвинутое, дробное и несогласуемое переживание окружающего, которым проникнут отрывок.
Итак, каждый из отрывков, помимо зрительского образа, создает определенное настроение, со зрительным образом органически связанное, диктующее ему его форму. Настроение это не столько выражается словами, сколько стоит за ними, неизмеримо углубляя картину воссоздаваемой действительности. Это и есть чеховский подтекст. Он наличествует не только тогда, когда прямое называние явления, лица, предмета заменено намеком; он как бы разлит по всей повествовательной ткани-по крайней мере, если речь идет о лучших произведениях Чехова. И это-тоже вклад, то, что отличает прозу до него от прозы после него. Конечно, до Чехова была и лермонтовская «Тамань», и некоторые страницы Стендаля, Флобера, Толстого, Достоевского. Однако подтекст не просто как отдельный прием, а, если угодно, как стиль ввел в литературу Чехов.
В известном смысле этим был обозначен и сдвиг в изображении человеческой психологии.
Стендаль, нарисовавший войну, какой ее видит юный Фабрицио, в остальном, как правило, удовлетворялся традиционным психологическим анализом. Он разбирает характеры своих героев, раскладывает их черты по полочкам, комментирует и систематизирует. Иными словами, касаясь внутреннего, остается снаружи. Кроме того, в этот момент человеческое сознание как бы принимается им за нечто статичное, самому себе равное.
Не ограничившись описанием личности, представляя ее внутренний мир в непрерывном, непрямолиней- ном движении, Толстой сделал решающий шаг и проник не только в тайны, айв сам механизм человеческой психики (достаточно вспомнить «поток сознания» раненого князя Андрея в «Войне и мире»). И все-таки как диалектик души Толстой по большей части не покидал 263
надежного русла психологического анализа-даже когда представлял Анну Каренину за считанные минуты до самоубийства. Толстой передает не столько содержание мыслей Анны, сколько их форму; он не говорит: «она была растерянна», а отражает растерянность эту в строе мышления. Однако он упоминает «раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца», ее отвращение, ее страдания. Потом и самой Анне, и нам, читателям (не говоря уже об авторе), она вполне открыта, совершенно понятна.
У Чехова все это выглядит нередко иначе: «Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовлетворение от того, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты». Так изображен странный поступок земского врача Овчинникова в рассказе «Неприятность»-никак не объяснен, но и не просто показан. Происшествие подано изнутри, как бы из поля зрения самого Овчинникова, но не выглядит от этого более мотивированным. Напротив, вне окружения всех обуревавших доктора чувств пощечина могла бы показаться более естественной: ведь фельдшер-в который уж раз- явился в больницу пьяным. Однако почему бить человека (причем именно человека, занимающего определенную позицию в этой жизни) для кроткого Овчинникова-удовольствие, непонятно не только Овчинникову. Вне контекста рассказа это осталось бы непонятным и читателю. Впрочем, и в дальнейшем Чехов никакого комментария не дает, он лишь подводит нас к верному решению тем, что усложняет и заостряет ситуацию. Доктор мечется: то ему хочется, чтобы фельдшера выгнали, то чтобы восторжествовала несправедливость в лице влиятельной фельдшеровой тетушки и в отставку отправили его самого. А фельдшера, явившегося с повинной, он уговаривает подать в суд, вызывая презрение последнего. Узел до безнадежности запутывается. Но когда председатель земской управы (который не может себе позволить роскошь лишиться такого врача, как Ов264
чинников) все же распутывает узел, заставив озлобившегося фельдшера просить прощения, это тоже не то: «Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать лет судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!
- Что же вам нужно? - огрызнулся на него председатель-Прогнать? Извольте, я прогоню...
- Нет, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!»
Последние, как бы случайно вырвавшиеся слова- ключ: речь все время идет об отношении к жизни и о самой жизни-о неустроенности, дикости, несправедливости, немыслимости российского бытия на рубеже столетий. Только противоречия и социальные антагонизмы преломлены сознанием доктора Овчинникова, более того, они приняли вид глубоко личных его проблем. Это не умаляет их значения, скорее, сообщает им ту болезненность и ту всеобщность, которые сами по себе внушают мысль о необходимости, о неизбежности перемен.
Так внутреннее, индивидуальное, психологическое начинает нести у Чехова гораздо больщую содержательную нагрузку, чем то было до него. Но мыслимо это, по-видимому, лишь при условии, что расшифровка душевных движений уходит в подтекст. Потому что выполнить свою функцию способен лишь образ сознания, слитого с определяющим его бытием, представленным в живом, сложном, текучем взаимодействии с ним, а не на столе для анатомических вскрытий.
Однако вот какой возникает вопрос. Чеховская интонация, чеховская пластика, чеховский подтекст, наконец, особый чеховский психологизм-разве все это не атрибуты и одновременно не порождения излюбленной Чеховым малой формы? Возможно ли (да и нужно ли?) на всем протяжении объемистого романа писать лишь такой вот скупой, лиричной, субтильной прозой, вовсе обходясь без описательности, риторики, густой и красочной образности, даже просто длиннот? История романа, существовавшего до Чехова, утверждает: нельзя; опыт романа, появившегося после Чехова, свидетельствует: можно (из чего, разумеется, никак не следует, будто это единственный достойный внимания опыт, указующий путь всему романному развитию).
265
Впрочем, к теме «Чехов и жанр романа» я намерен обратиться ниже, а здесь взгляну на только что поставленные вопросы в ином аспекте. Нет сомнения, что конгениальная Чехову-прозаику форма - это форма малая. Однако лишь в ограниченной степени он свою малую форму унаследовал от предшественников («Тамань» Лермонтова, «Коляска» Гоголя и т. д.), в основном же создал ее сам.
«Новелла...-так определил в свое время сущность этого жанра Ф. Шлегель,-это анекдот, «история», новость, фактическое происшествие или даже независимая фабула, но такая, которая существовала до художника...» Иными словами, организующим моментом в новелле является сюжет, внешний по отношению к действующим лицам, не ими порождаемый, а вовлекающий их в свою орбиту. Ранний Чехов (и даже не такой уж ранний) писал новеллы. Они строились на неожиданности, на недоразумении, вторгавшихся в человеческую жизнь. Чехов зрелый писал рассказы, где сюжетами была сама жизнь. О чем «Скучная история»? О старом человеке, лишенном «общей идеи», утратившем (а может, так и не нашедшем!) себя, отчужденном от близких, не знающем, как предотвратить их гибель. О чем «Дама с собачкой»? О любви-серьезной, тоскливой, безнадежной и лишенной приключений. О чем «Архиерей»? Об одиночестве, о смерти, о забвении. О чем «Именины»? О женщине, любившей мужа, но мучившей его и себя. О чем «Студент»? О круговороте и связи времен. Даже в «Неприятности» пощечина-не происшествие, а линза, преломляющая бытие.
Чеховские «скучные истории» выглядят произвольными извлечениями из нескончаемого потока действительности. Поэтому их зачины нередко кажутся случайными, а концовки-разомкнутыми, открытыми. Даже в тех случаях, когда рассказ завершается смертью героя, они не обрывают нить, ставят не точку, а многоточие. Как в «Архиерее», где преосвященного Петра скоро забыли и только мать его, выходя по вечерам на выгон за коровой, бывало, рассказывала другим женщинам, «что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили».
В рассказах этих отсутствует видимый, традиционный строй (завязка, кульминация, развязка), ибо держатся они напряжением стиля и нравственной своею 266
силой-убежденностью в том, что дальше так продолжаться не может, и верой в будущее.
Спору нет, во всем этом есть немало индивидуального, неповторимо чеховского. Но есть и нечто другое, связанное со временем, с эпохой, с начавшимся на рубеже веков пересозданием литературы.
Взглянем на рассказ Генри Джеймса «В следующий раз» (написан он в 1895 году, то есть в пору чеховской зрелости). Там некий критик и эссеист не без скептической и горьковатой иронии излагает историю писательской карьеры своего приятеля и единомышленника Рея Лимберта. Лимберт - настоящий художник, большой талант, которого ценят знатоки, но не понимает мещанская публика, держат на голодном пайке издатели. Обремененный семьей, замученный долгами да еще имея перед глазами пример в лице родственницы жены, Джейн Хаймор, успешно торгующей своими литературными поделками, Лимберт пробует писать ниже своих возможностей, потакать неразвитым вкусам. «Однако это нелепое, даже чем-то героическое усилие,- констатирует рассказчик,-не устояло перед целомудренной чистотой его таланта». Каждая новая книга Лимберта-это «откровенный, беспощадный, бесстыдный шедевр!.. Слишком странен был этот провал, слишком жутким торжество!» После очередного провала Лимберт надеется написать плохую книгу «в следующий раз», но так и умирает, не дождавшись своего «триумфа». И ситуации здесь английские, и реалии, даже юмор. Но есть и другое, по-своему общезначимое.
«Впервые читая роман Достоевского или знакомясь с пьесой Чехова,-писал Т.-С. Элиот,-мы оказываемся... заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем». Наблюдение это и будучи перевернутым справедливости не утратит. При всей своей специфичности рассказ Джеймса структурно близок чеховским рассказам. Отношения Лимберта с читающими снобами, их нежелание его понять и его неумение к ним приспособиться-это сугубо личная проблема героя. Но в ней отражены, преломлены, как в фокусе, собраны конфликты и противоречия общественные. Если хороший писатель не признан обществом-это уже свидетельство против общества. И если он прилагает все 267
силы, чтобы стать плохим,-значит, воистину завелась гниль в Датском королевстве! Наконец, последний, самый высокий аккорд: писателю это не удается; он снова создал «бесстыдный шедевр»... Неудача не только говорит в пользу Лимберта, она и обличает социальную систему. Ибо какова должна быть пропасть между нравственным идеалом и житейской нормой, чтобы пропасть эту нельзя было преодолеть?
Социальное воплощение в личном, в индивидуальном-разве не напоминает это чеховскую «Неприятность»? Спору нет, неудавшаяся халтура-одно, а нанесенная фельдшеру пощечина-другое. Но, право же, и в попытке Лимберта опуститься до Джейн Хаймор есть какой-то неосознанный, смешной, жалкий, гротескный протест. Это тоже пощечина-себе и обществу. Да и художественная роль обеих пощечин сходна: создавать не острый фабульный поворот, а многозначную психологическую коллизию.
К новеллистическим сюжетам Джеймс уже в середине 80-х годов относился почти так же, как зрелый Чехов. «М-р Безант,- иронизировал он над одним из своих оппонентов,-с моей точки зрения, не проясняет вопроса, утверждая, что сюжет, если только он хочет сохранить свои признаки сюжета, должен состоять из «приключений». Почему из приключений, а не из зеленых очков?»
«В следующий раз»-не событие, не происшествие из жизни Рея Лимберта, а чуть ли не вся его жизнь. Но она преподнесена в чужом пересказе и потому может быть начата, казалось бы, в любой точке: вообще не с Лимберта, а с визита к рассказчику миссис Хаймор. И завершается история эта, так сказать, ироническим многоточием. «Отступничество»,-так характеризует рассказчик последнее, неоконченное произведение Лимберта,-ве-
Мы видим различия между нами, нашими жизненными укладами, государственными принципами. Но искусство, сближая народы, позволяет нам осознать общее: мы все-люди, каждому дана единственная жизнь. У нас одна жизнь и одни возможности.
Маргит Нидерхаубер, доктор филологии, Австрия 268
ликолепный фрагмент и безусловно обещал сделаться одной из самых удачных его книг. Не стану, впрочем, утверждать, что она пробудила бы библиотечные коллекторы от их вековечной спячки».
Интонационно стиль Джеймса значительно отличается от чеховского: он более энергический, лишен мягкости, то откровенно ироничен, то несколько приподнят ; подтекст не играет в нем сколько-нибудь существенной роли. Но Джеймс, как и Чехов, экономен в использовании поэтических средств, скуп в описаниях лиц и предметов. Словом, его рассказ принадлежит в принципе к тому же новому жанровому образованию, что и рассказ чеховский.
О прямых влияниях не может быть речи: Чехов вряд ли что-нибудь слышал о Джеймсе, так как умер еще до того, как Джеймс стал превращаться в классика, а Джеймс (не только раньше родившийся, но и позже умерший) лишь в старости мог оказаться среди свидетелей начинающейся мировой славы русского собрата. Близость между ними свойства типологического.
А. В. Чичерин предложил термин «нерудовский этап в истории критического реализма». Чешский писатель Ян Неруда, расцвет творчества которого приходится на 60-70-е годы, вместо широких эпических полотен создавал короткие рассказы, отмеченные тонкой разработкой деталей, проникновением в сферы обыденного, житейски прозаического, ясным осознанием порочности буржуазного строя. Это, по мнению А. В. Чичерина,-веление времени, закономерности движущегося, развивающегося литературного процесса. «Чехов,- писал исследователь,-вовсе не знавший произведений Яна Неруды, в 80-х годах по-своему решает те же задачи, создавая не «Войну и мир», а «Крыжовник», не «Анну Каренину», а «Ариадну» или «Анну на шее»1.
Корифеями переходного, переломного этапа, когда малые формы прозы потеснили монументальный роман, были и Мопассан, и Гарди, и Джеймс, и Уайльд, и Пиранделло (хотя все они писали романы). Но этап начался и кончился, а Чехов остался. Не только как автор неких бессмертных творений (в этом смысле остались и прочие названные писатели), а и как живой пример. Его влияние на литературу в XX веке - после того как роман 1 Чичерин А. В. Идеи и стиль. Изд. 2-е. М., 1968, с. 334.
269
восстановил свои позиции-не упало; напротив, оно возросло.
Естественно, что прежде всего в глаза бросается «зависимость» от Чехова тех прозаиков, что работают с малыми формами. Если писатель не очень крупен и не слишком самобытен, он способен превратиться в сознательного или бессознательного эпигона-столь естественными, столь само собой разумеющимися выглядят в нашем столетии чеховское художественное направление и чеховская манера письма. Взять хотя бы французского писателя Марселя Арлана и его рассказ «Близость» (1937). Стареющие муж и жена. В веренице похожих один на другой дней он и не заметил, как все в них самих изменилось. Но вдруг взглянул на жену и обнаружил, что она-чужая: «...пустой взгляд, усталый рот, ссутулившиеся плечи». Ему не по себе; и он уходит побродить по ночному лесу. А возвращаясь, видит человека, который стоит и смотрит на их ничем не примечательный дом. И чувство близости к жене, опирающееся на все совместно прожитое и пережитое, вернулось. Он пытается объяснить ей про человека, глядевшего на свет их окон, но не умеет, да и она не понимает, и он беспомощно заканчивает разговор: «Нет, нет! Но ведь... но ведь это же чудесно...»
И сюжет, и интонация, и подтекст, и весь повествовательный строй здесь типично чеховские. Однако именно эта наталкивающая на сравнения близость обнаруживает ахиллесову пяту плохо написанного рассказа Арлана. В нем есть все, кроме чеховской глубины, чеховской значительности; он-только о жизни этих двух людей, в остальном же-почти ни о чем.
Меньше чеховских аксессуаров и больше чеховского духа в рассказе другого французского писателя, Эжена Даби, «Человек и собака» (1936). Старик каменщик приютил бездомного пса. Пес понравился маленькой девочке, живущей в вилле по соседству с его работой. И старик отдал пса, потому что пес привязался к девочке и потому что у богатых ему будет лучше. Но каменщик тоскует, чувствует себя еще более одиноким и неприкаянным. За скупыми строками незамысловатой, построенной на полутонах истории проглядывают дали. Ведь тут соприкасаются и тотчас расходятся два чуждых, несоединимых мира.
Пьер Гаскар, еще один французский писатель, сказал : «Правдивость и простота, свойственные чеховско270
му искусству, не представляют собой для других писателей какой-то «модели». Скорее, это для них-призыв. Писателей обычно восхищает у Чехова именно то, что они уже сами ощущали и вынашивали в себе; имя этому-душевное благородство и чувство справедливости». В целом Гаскар, без сомнения, прав: Чехову нельзя подражать. Но следовать за ним можно и нужно. Причем не только в нравственных убеждениях. Думается, что многие из чеховских художественных уроков воспринимаются порой как правила самой литературы потому, что они уже усвоены, стали сегодня чем-то чуть ли не повсеместно принятым.
У самого Гаскара есть рассказ под названием «На маленькой площади» (1956). По общей своей архитектонике это почти чеховская картинка из жизни. Маленький городок, возрождаемый детскими воспоминаниями рассказчика. Булочная. Кузня. Молодая жена булочника, зачем-то бегающая через площадь между булочной и сараем. И сын кузнеца, в нее влюбившийся. Их молчаливый роман и их бегство. Все это дано пластично, через визуальные детали, порождающие особое настроение и подтекст. Но у Гаскара своя индивидуальная манера, собственный творческий почерк. Слог у него напряженный, и весь образ действительности выглядит от этого заостренным, приподнятым, чуть экстатичным: «Был только один человек на площади, чей взгляд не только весил-он давил, обжигал; с болезненной неподвижностью он был устремлен в одну точку и тревожил меня. То был взгляд младшего кузнеца». Гаскар-писатель, познавший трагедию второй мировой войны и ужас нацистской оккупации, в чем-то зависимый от экзистенциализма. Но в чем-то он и наследник Чехова.
У Чехова-разные наследники. Пожалуй, самый среди них общеизвестный и бесспорный-это английская писательница Кэтрин Мэнсфилд, автор сборников «В немецком пансионе» (1911), «Блаженство» (1920), «Праздник в саду» (1922), «Гнездо голубки и другие рассказы» (1923), «Нечто детское и другие рассказы» (1924). Ее даже называли «английским Чеховым» как за открытую к Чехову приверженность, так и за умение без поучения и дидактики, лишь с помощью тонкого психологического рисунка выразить неустроенность, конфликтность британской жизни первой четверти нашего века. Однако Мэнсфилд-и, надо сказать, не она одна-толковала Чехова несколько позитивистски: как художника, 271
ограничивающегося изображением зла и грустной улыбки по поводу его распространенности. Мэнсфилд и в своем творчестве старалась следовать этому чеховскому мифу.
Оттого интереснее и, наверное, продуктивнее американская ветвь наследников Чехова. Короткий рассказ (short story)-это в Соединенных Штатах особый, можно сказать, национальный жанр, со своей историей и собственной судьбой. И когда под влиянием великих общественных сдвигов началось пересоздание этого жанра, русский художественный опыт оплодотворил национальную традицию. Первым реформатором американской новеллы был Шервуд Андерсон, создатель книг «Уайнсбург, Огайо» (1919), «Триумф яйца» (1921), «Кони и люди» (1923). И он писал: «Пока я не нашел русских прозаиков-Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова,-я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла. У нас в Америке плохая традиция, идущая от англичан и французов. Наши пользующиеся популярностью рассказы в журналах привлекают остроумным сюжетом, разного рода трюками и фокусами. Закономерным результатом этого является то, что описание жизни человека перестает быть важным, становится второстепенным. Сюжет не вырастает из драмы, естественно возникающей из переплетения человеческих отношений, тогда как у... русских писателей всюду, на каждой странице чувствуется жизнь». Андерсон, таким образом, высказывается против новеллы и за рассказ. Причем за рассказ чеховского склада. Об этом свидетельствует и его художественная практика.
«Уайнсбург, Огайо» открывается миниатюрой «Книга о гротескных людях». Над этой книгой работает старый писатель, с недавнего времени обнаруживающий в людях, с которыми сталкивается, гротескные черты. Некогда, твердит писатель, пока мир был еще молод, существовало множество прекрасных мыслей. Но люди превратили их в застывшие истины. И каждый норовил присвоить себе побольше таких истин. Это-то и делает из людей гротески, то есть существа ограниченные, неподвижные, нетерпимые...
Перед нами-программа не только нравственная, но и эстетическая. Андерсон ратует, по сути дела, за литературу «антигротескную» и сам создает ее-прозу, которая не навязывает решений, а будит чувство справедливости, объективную и одновременно лири- 272
иную, простую, ясную и исполненную сложного внутреннего значения.
Элис Хайндмен отдалась Неду Карри, но тому не удалось устроиться в местной газете, и он уехал на Запад, в Чикаго. Она ждала, работала в мануфактурной лавке и копила деньги на будущую их жизнь. Элис страшилась одиночества и потому посещала методистскую церковь и позволяла аптекарскому приказчику Уилу Харли провожать себя домой. А однажды она голой выбежала под дождь и окликнула одинокого прохожего. Но тот оказался стариком, к тому же глуховатым. «Многим людям,-с грустной иронией заканчивает рассказ Андерсон,-суждено жить и умирать в одиночестве, даже в Уайнсбурге». Рассказ именуется «Приключение». Название это тоже иронично, потому что никакого приключения у Элис не было; была только совсем загубленная жизнь. Как у Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой», как у Кати из «Скучной истории», как у Ольги Михайловны из «Именин» или даже как у Ариадны, которая, подобно Элис, боялась одиночества. И в то же время «Приключение»-чисто американский рассказ. Специфичны в нем не только реалии и характеры; сам композиционный строй, сама логика построения действия традиционны для Нового Света. Будучи пролагателем путей в национальном искусстве, Андерсон как бы скрещивает американскую традицию с чеховской линией художественного развития. Это, надо думать, наиболее плодотворный путь.
Вклад Чехова не ограничивается влиянием на судьбы малой прозы; он относится и к прозе большой. Между прочим, и в том смысле, что способствовал расшатыванию незыблемых границ между малой и большой прозой. В 1889 году Чехов работал над романом, он писал его, как сообщал А. С. Суворину, «в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собой общностью интриги, идей и действующих лиц». Роман так и не увидел света. Но в данном случае интересен не результат, а замысел. Роман в новеллах, конечно, не открытие Чехова. В русской литературе нечто вроде такого, свободно сложенного, но и по-своему цельного, романа представляли собою «Записки охотника». Однако по-настоящему промежуточный этот жанр стал утверждаться лишь в XX столетии, причем как раз в среде чеховских наследников*
«Уайнсбург, Огайо»-не просто сборник новелл; они 273
10. Поле битвы-сердца людей
между собою связаны если не «общностью интриги», так, по крайней мере, общностью «идей и действующих лиц». Все герои живут в Уайнсбурге-вымышленном, типично американском провинциальном городке; их судьбы как-то переплетены; и, главное, все они-жертвы безвременья, пасынки жизни. По-иному (более изощренно, но и более искусственно) сложна книга Хемингуэя «В наше время»: сначала было восемнадцать миниатюр; потом к ним присоединились восемнадцать рассказов, вставленных между миниатюрами; и последние стали именоваться «главами» и приобрели порядковые номера; наконец, в качестве своего рода введения всему этому был придан фрагмент «В порту Смирны». Согласования же внутренние еще менее уловимы, чем у Андерсона, и вытекают из общего душевного состояния, единого излома тревожной, негармоничной эпохи. Что же до хемингуэевского «Иметь и не иметь», то, хотя там существует сквозной герой-Гарри Морган,-это роман в новеллах, две из которых даже публиковались отдельно.
Жанровые отличия между романом и рассказом стираются в известной мере и у Фолкнера. Его роман «Дикие пальмы»-результат слияния двух самостоятельных рассказов; рассказ «Перси Грим» эмансипировался от текста романа «Свет в августе», а рассказ «Пестрые мулы», напротив, превратился в известный эпизод романа «Деревушка». Но может быть, особо в этом смысле примечателен фолкнеровский рассказ «Когда наступает ночь». Там изображен страх негритянки Нэнси, которая еженощно ждет, что муж ее Джеба, прячущийся где-то во тьме оврага, придет и зарежет неверную жену. Фолкнер во многом противоположен Чехову: он нередко многословен, привержен рембрандтовским световым и теневым контрастам, красочности, даже меднотрубной торжественности. Однако и он не описывает страх Нэнси, а показывает его с помощью немногих деталей, запечатленных детским сознанием Квентина Компсона. Например, Нэнси не чувствует боли, когда прикасается к стеклу керосиновой лампы или берется за раскаленную сковороду, и это выдает ее истерическое состояние... Сама по себе история Нэнси предельно проста и требует для своей реализации не более одного-двух свидетелей страха героини. На деле же их много больше: кроме Квентина Компсона, его брат и сестра, отец и мать, их черная служанка Дилси-как бы перекочевавшие сюда 274
из романа «Шум и ярость». Рассказ «Когда наступает ночь» имеет два измерения: в первом-он стоит лишь за самое себя, во втором-относится к фолкнеровской йок- напатофской эпопее в целом.
Нечто подобное можно найти и у Бальзака в его «Человеческой комедии». Во-первых, почти каждое из входящих в нее произведений следует рассматривать и как нечто самостоятельное, и как слагаемое единого колоссального цикла. Во-вторых, эти слагаемые в жанровом отношении разнородны: ведь и в «Человеческую комедию» входят романы, повести и новеллы. Причем объемистый роман «Блеск и нищета куртизанок», средняя по размеру повесть «Гобсек» и небольшая новелла «Обедня безбожника» здесь в некотором роде равноправны. И такое равноправие уже само по себе способствует размыванию границ между малой и большой прозой.
Новелла и роман издавна друг с другом взаимодействовали, но и друг с другом воевали, являя наглядный пример единства и борьбы противоположностей. Роман (по крайней мере в новое время) начинал складываться как сумма, цепь новелл. Достаточно вспомнить «Декамерон» Боккаччо или его композиционно более зрелых пикарескных потомков, связанных внутри себя уже не обрамлением, а сквозным героем-плутом Ласарильо или плутом Гусманом, переходящим от хозяина к хозяину и тем самым из ситуации в ситуацию. Однако в XVIII-XIX веках роман эмансипировался от новеллы не только по своему строю, но и по слогу. В это же время примерно новелла обзавелась законченной и строгой теорией, к созданию которой приложили руку и Гете, и романтики, и Пауль Гейзе. Никогда, пожалуй, между романом и новеллой не было такого «антагонизма», как в первой половине XIX столетия. Но обострение несовместимости лишь предвещало ее конец. Победоносный, более экспансивный роман то и дело вторгался на чужую территорию. Например, так называемый «физиологический очерк»-форма, способствовавшая утверждению критического реализма,- был не чем иным, как романным представлением о малой прозе, хотя бы в силу своей совершенно противопоказанной классической новелле описательности.
Казалось бы, фолкнеровский рассказ «Когда наступает ночь» играет посреди йокнапатофской саги сходную роль. Но сходство обманчиво. Да, перегородки сломаны. Однако у Фолкнера доминирует стиль рас275
10*
сказа. Фолкнер-если и не ученик Чехова, так, во всяком случае, писатель, который пришел в литературу после чеховского пересоздания повествовательных жанров.
«Все его творчество,-написал Т. Манн о Чехове,- отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает необъятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противоестественности дореволюционных порядков»1. Да, Чехов создал свою эпопею. И ее значительность не просто в разнообразии сюжетов, в совокупной всеохватности тематики и даже не только во взгляде на изображаемое-мудром, грустном, обвиняющем и исполненном надежды. Взгляд этот неотделим от чеховской прозы, немыслим вне ее-ее ритма, ее простоты, ее глубины, ее сдержанности, ее живописности. Как, например, в рассказе «Студент». «Прошлое,-думал он,-связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь в гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосою светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».
Чеховская проза (вне зависимости от того, сознавал это Чехов или нет) не предназначена только для рассказа. Рассказ для нее-своего рода опытное поле, где испытывались формы общезначимые. Не поэтому ли именно после Чехова прозаики все легче и все свободнее нарушают жанровые табу?
И стирание различий между прозой большой и малой не ограничивалось объединением нескольких рассказов в роман или тем, что стиль эпоса поступал, так сказать, на выучку к стилю рассказа. Сам строй чеховского рассказа начал влиять на романную архитектонику. Действие внутреннее вытесняло действие внешнее, и это, в свою очередь, влияло на характер сюжета. Вместо растянувшейся на десятилетия хроники одна- 1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. M., Гослитиздат, 1961, с. 539.
276
другая ситуация, разрешимая - по крайней мере на поверхности-в течение немногих дней. Хемингуэй признавался, что, берясь за перо, ни разу не имел намерения написать роман, а только рассказ - просто некоторые из них сами собой разрастались. Попробуйте пересказать «Фиесту»: увечный Джейк Барнс любит развратную Брет Эшли; он пьет с ней, и с Майклом, и с Биллом, и с греческим графом; потом они, исключая графа, но включая Роберта Кона, едут в Испанию, ловят форель и пьют во время фиесты; Брет удирает с юным матадором, и Джейк приезжает за ней в Мадрид. Ну чем не сюжет для небольшого рассказа? Рассказ Чехова «В овраге», где действие объемлет несколько лет и имеет своим предметом упадок семейства деревенского купца Цы- букина, больше напоминает традиционный роман. Однако именно чеховская техника передачи внешнего через внутреннее, объективного через субъективное, социального через индивидуальное способствовала становлению таких романов, как «Фиеста», как «Зима тревоги нашей» Стейнбека, как «Завтрак для чемпионов» Воннегута, как «Энгельберт Рейнеке» Шал люка, как «Тетушка Хулиа и писака» Льосы, романов, в которых широкое, несомненное обобщение вырастает из конфликта как будто частного.
Вот лишь один из многих возможных примеров: книга современного американского писателя Джозефа Хеллера «Что-то случилось» (1974). Там некто Боб Слокум повествует о себе. Он-самый простой американец чуть выше среднего достатка. И жизнь у него тоже самая простая, американская: служба в фирме, умеренный карьеризм, мелкие взаимные подсиживания и отношения с женой, с детьми, с соседями. Но в том-то и дело, что «что-то случилось», и простая жизнь вышла из наезженной колеи, превзошла меру дозволенной ненормальности. Слокум без видимой, разумной причины боится всех своих сослуживцев - не только начальников, но и подчиненных. И ничто у него больше не ладится: ни отношения с любовницами, ни постельные дела с женой, ни взаимопонимание с дочерью и сыном. Все шатается, рушится, уходит, как вода между пальцами. Очерченный Хеллером мир намеренно сужен: это лишь непосредственное окружение Боба Слокума, предел, ограниченный интересами и запросами его незамысловатой личности. Никакой широкой картины действительности, тем более панорамы социального бытия. Обще277
ства, пусть антагонистического, но цельного, нет хотя бы потому, что сослуживцы Слокума-все эти Грины, Блэки, Уайты, Брауны, Кейглы-даны лишь в момент отталкивания от него, а не в связях с ним и между собою. Оттого и фирма, в которой все они заняты,-не нечто реально обозримое, а мифическое, кафковское, чуть кошмарное. Фирма показана не такой, какая она есть на самом деле, а какой ее боится и не понимает Слокум. Однако герметика не препятствует проникновению в слокумовское логово социальной болезни. Напротив, неблагополучие мира, окружающего героя, просматривается тем явственнее, тем непоправимее, чем индиви- дуальнее, даже интимнее сфера приложения изображаемого Хеллером кризиса.
Возможно, читателю прежде всего бросилась в глаза связь этого романа с Достоевским. К чеховской грусти и к чеховской светлой мягкости у книги Хеллера прямого отношения нет. Но есть непрямое и тем не менее очень существенное отношение к Чехову. Оно прежде всего в том, что и сюжет, и строй романа «Что-то случилось» по-своему ближе всего к сюжету и строю рассказа. Причем в двух смыслах: во-первых, мы в целом имеем здесь дело с ситуацией частной и одноплановой, а во-вторых, и сама ситуация эта (то есть жизнь Боба Слокума) слагается из простых, частных и одноплановых ситуаций, не видоизменяющих, только варьирующих основной конфликт. И роман «Что-то случилось» - это «рассказ» в принципе чеховский. Он «кусок жизни» без вымышленного начала и искусственного конца; автор в нем говорит и думает в тоне своего героя и чувствует в его духе ; наконец, Слокум, повествуя о себе самом, точно так же себя не понимает, как доктор Овчинников из чеховской «Неприятности».
Есть, впрочем, у новейшей литературы Запада и иные формы связи с традицией Чехова-более органичные, непосредственные, глубокие, непреходящие.
«Сейчас мой идеал - Чехов,- недавно сказал австрийский писатель Петер Хандке.-Я бы хотел писать, как он,-свободно, естественно, неброско и точно. Чехов привлекателен для меня еще и тем, что он далек от истории, в которой я вижу большую опасность»1.
В своей юношеской прозе Хандке подражал Роб- Грийе и вообще французскому «новому роману», в 1 Иностранная литература, 1978, № 11, с. 260
278
своих нашумевших авангардистских пьесах он чем-то был близок Ионеско и Беккету. Однако последние десять лет Хандке пишет небольшие романы-«Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Несчастье без желаний», «Час истинного ощущения», «Женщина-левша», «Медленное возвращение на родину»,-романы, принесшие ему мировую известность. Правда, с чеховскими рассказами их, на первый взгляд, сближает лишь размер да еще то, что и здесь все построено на частном конфликте, что социальная критика прорастает сквозь судьбу личности. Но на деле сегодняшний Хандке ближе к Чехову, чем Хеллер. Как и Хеллер, он рисует людей неблагополучных, несчастливых, одиноких, отчужденных. Однако с некоторых пор Хандке все настойчивее пытается нащупать путь к человеческому счастью, к цельности, к нравственному благородству.
Герой «Часа истинного ощущения» Грегор Кой- шинг, сотрудник австрийского посольства в Париже, переживает тот же кризис, что и Боб Слокум, может быть, даже в форме более резкой, обостренной. Он выпадает из естественного движения жизни, утрачивает связи с миром. Ему осточертевает служба, его оставляет любовница, от него уходит жена, и в довершение в уличной сутолоке он теряет ребенка. И все же Хандке дает герою некий шанс, приоткрывает дверь в возможное будущее. Койшинг присаживается на скамью в сквере. В песке у своих ног он обнаруживает три предмета: лист каштана, осколок зеркала и детскую приколку для волос. «В этот момент,-так разъяснял Хандке смысл этого эпизода в одном из интервью,-этим вечером на протяжении одной-двух секунд он ощущает это как успокоение - подобно тому как в сказке в лесу герой видит на земле три волшебных предмета, и они помогают ему-и переживает в течение нескольких вздохов счастье, согласие, удовлетворенность и тайну...»
Казалось бы, ничего особенного: утопия, сказка. Но то, что герой подошел к краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и возродиться, типично для некоторой части зарубежной литературы 70-х годов. Она не в силах дальше жить чистым отрицанием, дышать хаосом-пусть даже это отрицание старого мира и запах хаоса, возникающего при его крушении. И литература отправляется на поиски идеала: для нее снова важно надеяться, ей снова нужна доброта, человечность, поэзия. Оставаясь 279
современной и по идеям, и по форме, она за всем этим обращается к классике. И наверное, не случайно прежде всего к Чехову. Ведь он-не только сама современность, это о нем написал А. И. Куприн: «Мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей».
Чехов-эпоха в мировой литературе. Писатели Запада следуют за ним на самых разных путях, непрестанно открывая в нем все новые и новые грани, наиболее близкие творчеству и мироощущению каждого из них, особенно их волнующие. Оттого почти немыслимо объять чеховский вклад целиком. И остается присоединиться к Шону О’Кейси, некогда признавшемуся:
«Трудно говорить о Чехове-он слишком велик, слишком многогранен, чтобы его можно было измерить...»
СИЛОЙ РАЗУМА И ЧУВСТВА
Е. Книпович
ПАМЯТЬ
(У истоков писательского движения за мир)
«Прошлое страстно глядится в грядущее...» Речь, которая не была произнесена. Защита культуры. Гримасы фашистской музы. Карманный апокалипсис. Где «торчит чертово копыто»? Эта призрачная золотая середина. Возвращение к реальности.
Когда, обращаясь к 30-м годам нашего века, мы говорим «антифашистская литература»-обычно это относится к литературам Германии, Франции, Испании и других стран Европы. Причем-и это правильно и справедливо-в понятие «литература» включаются здесь не только стихи, проза, драматургия, но и документальные произведения, публицистика, выступления больших мастеров слова на международных конгрессах.
Но советская литература 30-х годов чаще всего рассматривается как бы отдельно от этой категории. Воскрешение памяти первой мировой войны, возвращение к опыту войны гражданской, попытки предугадать, каким станет будущее столкновение двух миров,-все это шло во многих критических работах «по ведомству» литературы военной или оборонной.
Да, конечно, наша литература была оборонной, потому что с первого дня своего существования советская власть никому не угрожала и первым ее декретом был Декрет о мире. Но острое предчувствие столкновения двух миров, провидение неизбежной борьбы, огромных жертв во имя победы со всей силой звучат в творчестве наших художников в 20-30-е годы, от «Гренады» Светлова до «Продолжения жизни» Корнилова, от «Мы, русский народ» Вишневского до «Тени друга» Тихонова.
Конечно, попытки, так сказать, конкретно заглянуть в будущее страдали серьезными недостатками. Что же касается возвращения к прошлому, то оно объяснялось не отходом от сегодняшних задач, а стремлением мобилизовать для решения этих задач весь опыт страны и на282
рода, раскрыть, как, начиная с дней перехода войны империалистической в гражданскую, формировался тот человек-современник (для 20-30-х годов), строитель и боец, который вскоре и неизбежно будет защищать великие завоевания Октября от сил реакции и войны.
Все это так или иначе проявилось в творчестве советских писателей-очень разных: от Алексея Толстого до Николая Тихонова, от Всеволода Вишневского до Аркадия Гайдара. Возвращение к прошлому, давнему и недавнему, было и насыщено знанием того, что художник «прошел сам», и обогащено последующим опытом его самого и всего советского народа. Опыт наших писателей, опыт самых больших писателей зарубежных стран, по существу, включал в те годы лишь половину их жизненного и творческого пути.
Вишневский «прошел сам» годы Отечественной войны и ленинградскую блокаду, так же как и Николай Тихонов. Смертью храбрых пал воспитатель будущей краснозвездной гвардии Аркадий Гайдар, словом великого мужества и доблести сражались в Отечественную войну Алексей Толстой и Леонид Леонов. Писательское слово было в ту великую и трудную пору «делом». И «делом» был «Седьмой крест» Анны Зегерс, и «Репортаж с петлей на шее» Фучика, и «Прощание» Бехера, и «Нож в сердце» Арагона, и «Жизнь Галилея» Брехта, и сотни и сотни произведений лирики, публицистики, сотни песен, листовок, которые вошли в плоть и кровь современной литературы мира.
В плоть и кровь этой литературы вошел и личный опыт десятков и сотен художников слова, опыт борьбы с фашизмом и реакцией не только словом, пером, но и винтовкой, опыт участия в грандиознейшей битве за планету, в которой защита культуры идет прежде всего под знаком борьбы за сохранение мира, самой жизни, самого человечества, втягивает в себя многочисленные массы людей всех континентов.
«Прошлое страстно глядится в грядущее» - эти слова Александра Блока можно поставить как эпиграф ко многим и многим произведениям советской и мировой литературы, созданным в период между двумя мировыми войнами. Достаточно вспомнить «Мать» Брехта или «Юность Генриха IV» Генриха Манна. «Отступая» в историю другого народа на тридцать лет, как Брехт, или на четыреста, как Генрих Манн, оба эти художника ставили и решали весьма актуальные вопросы современно283
сти. Сам автор двух романов о французском короле говорит в статье «Памятное лето» (1938) о том, что образное воплощение темы воинствующего гуманизма, защиты «с мечом в руке» разума, свободы, достоинства человека было неразрывно связано с боевой общественной атмосферой 30-х годов, времени, когда тот же автор создал такие книги огненной силы, как «Ненависть» и «Мужество».
Да, несомненно, в общее понятие «литература» должны войти не только, так сказать, чисто литературные произведения, но и публицистика, и устные выступления в защиту мира и культуры на международных форумах. И конечно же, первым надо помянуть великого организатора прогрессивных сил современности, старейшину всего отряда деятелей культуры Советского Союза-Максима Горького. В 1932 году на Амстердамском конгрессе в защиту мира Горький свою речь произнести не смог. Советская делегация, куда входили он и Е. Д. Стасова, не получила визы и прибыть в Амстердам не могла. Но голос Горького-через «головы правительств» - тем не менее прозвучал и был услышан. «Делегатам антивоенного конгресса. Речь, которая не была произнесена» была прочитана и под этим же заголовком пошла в печать. «Я говорю,-стоит в этой произнесенной речи,-о тех подлинных творцах общечеловеческой культуры, которые считают деяние основой познания, глубоко чувствуют поэзию труда, о людях, которым человечество обязано неоспоримыми ценностями науки, искусства; я говорю о людях, которых не соблазняет грязный рай буржуазии, о людях, которые хорошо видят, как нищенски бедна творческой энергией современная буржуазия, как отвратителен созданный ею быт...»1
Об этих истинных борцах за мир, истинных наследниках культуры говорил Горький и в 1935 году, в послании Парижскому конгрессу в защиту культуры, на который он не смог приехать по состоянию здоровья: «...в мире есть только один класс, способный понять и почувствовать всемирное, всечеловеческое значение гуманизма, класс этот-пролетариат.
Поэтому наши усилия должны быть направлены не к примирению непримиримостей, не к реформации буржуазного общества, которое по структуре своей не мо1 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 26, с. 344.
284
жет, не способно жить без вражды, без угнетения большинства людей,-усилия наши должны быть направлены на работу освобождения неисчерпаемых резервов интеллектуальной энергии, заключенной в сотнях миллионов трудового народа.
Подлинным гуманизмом может быть только гуманизм пролетариата, который ставит перед собой великую цель: изменение всех основ социально-экономического бытия мира нашего. В стране, где пролетариат взял власть в свои руки,-в этой стране мы видим, какую грандиозную энергию скрывает он в своей массе, какие таланты разгораются в нем и как быстро он изменяет формы жизни, влагая в них новое содержание»1.
Пафос послания Горького был просветительским, даже пропагандистским. Ну что ж-советские деятели культуры всегда поднимали как знамя завоеванные советским народом духовные и материальные ценности, прямо говорили о том, за что они борются и что отстаивают.
«Есть одно слово на свете, которым в последнее время все чаще пугают людей,-так начал А. Фадеев свое выступление на Первом Всемирном конгрессе сторонников мира, проходившем в 1949 году в США,-это слово-пропаганда. Чтобы не было никаких недоразумений насчет моего доклада, я прежде всего должен сказать, что буду заниматься пропагандой за мир и против поджигателей войны». Такой пропагандой за мир и дружбу между народами, за истинное понимание великих традиций мировой культуры, против фашистских поджигателей войны и разрушения культуры были все выступления советских делегатов на международных форумах 30-х годов. И собственная гордость деятелей культуры Страны Советов сочеталась в их речах с высоким уважением к чужой культуре и чужим заслугам, интернационализм-с сознанием высокого долга и ответственности советского патриота.
Многочисленные и очень разные участники этих конгрессов - писатели Европы и Америки, безоговорочно определившие свое отношение к фашизму и войне,- вместе с тем не всегда вкладывали однозначное содержание 1 Здесь и далее выступления участников конгресса цит. по кн.: «Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь, 1935. Доклады и выступления». M., Художественная литература, 1936.
285
в самые понятия «защита культуры», «гуманизм», «исторический оптимизм». Это явственно сказалось на работе Парижского конгресса 1935 года, где даже среди художников, нашедших впоследствии путь к народной борьбе против фашизма, порой проявлялось стремление защитить автономию искусства от политики. Тем любопытнее, что при этом самый живой отклик всего конгресса в целом вызвали те речи советских делегатов, где элементы «просветительства» сочетались с острой и яркой пропагандой.
Коллектив Академии искусств ГДР ценой огромного и кропотливого труда восстановил достаточно полную картину работы Парижского конгресса, включив его материалы в четырехтомное издание «К традиции немецкой социалистической литературы». Соответственные тома этого издания свидетельствуют, насколько внимательно были выслушаны речи Алексея Тостого и Всеволода Иванова, И. Луппола, Якуба Ко- ласа, И. Микитенко, в которых содержалась информация о положении писателей в СССР, об отношении к культурному наследию, об издательской политике, о развитии национальных литератур, то есть обо всем, что в середине 30-х годов было, в сущности, неизвестно европейской интеллигенции.
Конечно, материал этих выступлений был «повернут» против поджигателей войны и разрушителей культуры, против сил фашизма и реакции. Но наиболее эмоциональный отклик собравшихся (как свидетельствуют отчеты) все же вызвали страстные «пропагандистские» речи М. Кольцова и Н. Тихонова, в которых два советских деятеля культуры-каждый по-своему-говорили о том, как наша литература, вторгаясь в жизнь и учась у жизни, помогает в великой переделке жизни.
Недавно в печати были помянуты слова покойного Романа Кармена: «Снимать-это значит участвовать». Писать - значит участвовать, таков был смысл речей, о которых я говорила. Книга-поступок, речь-поступок, вот чего требовали от себя и других участники форума. И пожалуй, в речи Н. Тихонова с особой остротой был виден тот ракурс «просветительства», при котором оно естественно становится «участием» и пропагандой.
В речи этой не только были раскрыты общие задачи, общие идеалы нашей литературы. В ней «лицом к лицу» были противопоставлены поэты Советского Союза: Маяковский, Багрицкий, Демьян Бедный, Пастернак- 286
стихотворцам фашистской Германии и певцам самурайских традиций Японии. Столкновение двух миров вставало в речи как столкновение двух идеологий, двух культур.
«Нет,-говорил Н. Тихонов,-поэты Японии и поэты Германии знают, что делают. У них маленький стакан, но они пьют из своего стакана, из своего шрапнельного стакана. Человек для них как раз не самое существенное. Мужчина-это ведь только мясо великого стада войны...
Поэты живут мечтой, как их вожди, повторить Тев- тобургский лес в мировом масштабе. Но для победы в этом гиперболическом лесу, которым может стать вся Европа, должны умереть многие. Пусть они умрут не рассуждая, пусть умирают несчетно-их зараннее назвали героями. С них довольно сего названия. И вот создается поэтический пафос легкой смерти...
Мобилизуются души всех предков и духи всех арийских вождей. Но мы смотрим в этот туман с ясной бодростью уверенных в себе людей, отдавая полный отчет в совершающемся.
Не сможет фашистская муза Запада и Востока бороться с прибоем нашей, советской поэзии. Она будет смыта в этой исторической буре, которую так старательно вызывает сама...
Мы только начали, но мы уже сделали много. Лирический порох мы держим сухим. Мы не боимся никаких врагов. Пусть в иных странах жгут книги и убивают поэтов. Ничто не остановит волю к борьбе, ничто не разорвет этого крепкого союза между поэзией и жизнью во имя лучшего будущего всего человечества».
Впечатления от конгресса и поездок непосредственно за ним по Франции и Бельгии, по местам боев первой мировой войны, Европа, которая, не оправившись от одной войны, уже смотрит в лицо другой, еще более страшной,-вот содержание книги Н. Тихонова «Тень друга», которая увидела свет год спустя, в 1936 году, и была названа одним из ленинградских друзей поэта «карманным апокалипсисом».
Антифашистский, антивоенный, антиимпериалистический пафос, проявившийся со всей силой в речах многих делегатов, как бы «спаял» их в единое целое, определил общее лицо конгресса.
Со словами, близкими, по сути своей, выступлению Н. Тихонова, вышла на трибуну Анна Зегерс-еще со-
287
всем молодая, еще не классик современной мировой литературы: «какова же наша задача? Что не должны мы упустить из виду? Что война не только угрожает, но и соблазняет. Человек, получающий пособие по безработице, человек у конвейера в рабочем лагере-ничто. Пред лицом смерти человек как будто опять становится чем-то. В известном смысле эта ложь-правда, и потому она страшно соблазнительна: «Отечество нуждается в тебе». До сих пор этот же человек, со всеми своими ценностями, своими способностями, ни на что не годился, не был использован, мешал... И вдруг он оказывается нужным. Отечество не пользовалось ни одним его жестом, мыслью, усилием. И вдруг ему нужен весь человек, высшие жертвы. То, чего он жаждал всю молодость, как будто наступило,-он может показать, на что он способен. Война делает бесконечно нужными ненужных, она становится выходом для безысходного мира... во время мира не было равенства, теперь же появился мощный обманчивый соблазн - равенство перед смертью. Ведь все бок о бок одинаково жестоко сражаются за тот же квадратный метр земли. Но они сражаются вовсе не за то же самое: один сражается за доходы с этой земли, за наследство, другой сражается за проклятия и силы, отданные этой земле».
Антифашистский, антивоенный накал в деле защиты культуры был так силен, что он оказал влияние на многие выступления отнюдь не революционеров, а просто «честных либералов».
Романы Э.-М. Форстера, может быть, и нельзя назвать в прямом смысле антиколониальными. Но анти- расистскими они были несомненно.
Он сам, основной докладчик по первому вопросу общей повестки конгресса («Культурное наследство»), так представился собравшимся: «Что касается моих политических убеждений, то вы, вероятно, догадались, что я не фашист... И вы также, может быть, догадались, что я не коммунист, хотя, если б я был помоложе и смелее, я, может быть, был бы коммунистом, потому что в коммунизме для меня зиждется надежда... В настоящий момент я тот, кем меня сделали мой возраст и мое воспитание: буржуа, согласный с английской конституцией, скорее согласный, чем поддерживающий ее... Прошлое мне небезразлично. Мне небезразличны сохранность и расширение свободы... В моей стране наше дело пока плохо, я в этом не сомневаюсь, но у нас есть то преиму288
щество, что правителям приходится делать вид, будто они любят свободу...
У нас опасность фашизма-разве если будет война, тогда может случиться что угодно,-незначительна. Нам угрожает нечто иное, нечто гораздо более вкрадчивое, что я мог бы назвать «фабианским фашизмом»,- диктаторский дух, спокойно прокладывающий себе дорогу за фасадом конституционной формы, то проводя небольшой закон (вроде закона о подстрекательстве), то утверждая где-нибудь в департаменте местную тиранию, углубляя в другом месте национальные требования тайны и нашептывая и воркуя каждый вечер так называемые «новости» по радио, пока оппозиция не оказывается укрощенной и обманутой. «Фабианский фашизм»-вот чего я боюсь».
О своей буржуазной ограниченности умный и ироничный оратор вновь помянул в конце своей речи: «Относительно положения в нашей стране мои коллеги, вероятно, согласны со мной, но вполне возможно, что они не согласны с моим старомодным отношением к нему и считают, что говорить о свободе и традиции, когда экономическая структура общества неудовлетворительна,- пустая трата времени». И все же-и в этом не только личная правда Форстера-и ему, и тем, кто близки ему по духу, надо продолжать «мастерить нашими старыми орудиями производства», хотя в случае новой войны- это он понимает: «Я уверен в том, что мы будем сметены, и я думаю еще больше, что будет новая война. Мне кажется, что если народы вот уже примерно год, не переставая, нагромождают оружие, то им обязательно придется избавиться от всей этой дряни, как животному, которое, не переставая есть, обязательно должно испражняться».
Нет, речь шла еще не о возможности глобальной катастрофы, но разноплеменные борцы за мир и культуру понимали, говоря словами немецкой пословицы, «где торчит чертово копыто».
И раскрывалось это не только в выступлениях, непосредственно касающихся политики, но и в речах, так сказать, философско-теоретических-таких, как доклады Генриха Манна и Анри Барбюса.
В свое время я расспрашивала о конгрессе его участника, который последним из всех наших делегатов ушел из жизни. Любопытно, что на молодого в ту пору русского поэта Николая Тихонова наибольшее впечатление 289
произвели именно два эти выступления-доклад Барбю- са по пятому вопросу повестки «Нация и культура», доклад Генриха Манна по шестому вопросу «Достоинство мысли и проблемы творчества».
Любопытно также и то, что докладчики по всем вопросам были «старшие»-по возрасту, по литературному и общественному опыту. Не все они в дальнейшем выдержали «испытание историей» (как пример можно привести здесь Андре Жида), но большинство осталось постоянными «зачинателями» в работе международных форумов защиты мира и культуры.
Когда Генрих Манн поднялся на трибуну и начал говорить, вспоминал Н. Тихонов, он произвел скорее впечатление ученого, мыслителя, привыкшего логически развивать свои положения перед слушателями, не проявляя чувств и не стремясь воздействовать на чувства аудитории. Но когда в его речи о величии разума и подлинной свободе творчества дело дошло до фашизма, до преступлений тех, чье иго легло на немецкий народ,-в голосе, в самом строе речи оратора зазвучал гнев трибуна, борца, одного из организаторов антифашистского движения Европы. «Симптомы одного и того же заболевания,-говорил Г. Манн,-с большей или меньшей силой проявляются в самых различных местах: это все, что можно сказать. Несомненно, свобода мысли еще существует, а то бы мы вообще не могли здесь собраться. Но там, где она еще имеется, к сожалению, создается впечатление, что ее не считают необходимой для жизни. Когда же страна уже подавила мысль, тогда она, наоборот, громко выражает убеждение, что для жизни совершенно необходимо подавить всякую мысль. Вождь государства, где царствует насилие, будет просто требовать, чтобы свобода печати, еще существующая в соседнем государстве, была отнята. С другой стороны, еще никогда не было случая, чтобы представитель либерального государства требовал малейшей свободы для соседней страны, потерявшей свободу».
Анри Барбюс-со свойственной тем временам суровостью в оценке собственной работы-назвал свой доклад «длинным» и «поверхностным». Мне кажется (судя по стенограмме, на которую я все время ссылаюсь), что собравшиеся не разделили его мнения. Еще меньше способен разделить его нынешний читатель. «Цель национализма,-говорил Барбюс,-который является догматом государств на пяти шестых земного шара (так и 290
обстояло дело в 1935 году.-£. К.), заключается в том, чтобы бороться против обобществления масс, которые выбиваются из низов. Национализм антиобщественен, и если б он водворился во всех странах земного шара, он все-таки сохранил бы свой антиобщественный характер. Нация становится высшей целью, стеной. Все идеи реквизируются и захватываются ради величия одной- единственной страны против всех других... Из большого общего дома делают крепость, а следовательно - тюрьму. В гражданине убивают общественного человека, если не убивают самого гражданина, чтобы убить общественного человека. Шовинизм, эта закваска всякой агитации и эксцессов, порождает полицейские расправы и сгоняет в одну кучу разнообразнейших людей в целях ненависти и войны с иностранными державами. Мастера искусства оказываются прирученными, и светочи культуры годятся только для факельных процессий...
Чтобы решить вопрос о развитии человеческого рода и его спасении, нужно сделать выбор между национализмом, необходимым для владычества буржуазии... и интернационализмом, необходимым людям, чтобы водворить справедливость и мир».
Но, солдат идеологического фронта борьбы, Барбюс видел и еще одну опасность, подстерегающую мастеров культуры Запада: «Мы должны избегать того, чтобы под предлогом эгоистической независимости каждый из нас не оказался над, то есть вне этих двух великих основных тенденций современной общественной жизни. Факты запрещают нам спасаться в облаках. Платоническая защита духа и культуры-пустые слова. Это только фейерверк из летящих искр мировой истины...
Кроме того-никаких промежуточных позиций! Никакой спокойной золотой середины! Эта третья позиция мнима и призрачна. Те, которые избирают ее, защищают не демократическую свободу, не культуру в опасности, они защищают-временно!-только свое спокойствие. Что это-недостаток активности? Нет-неверная позиция. Силой своей инерции они, как и все, кто сохраняет нейтралитет, способствуют укреплению существующего строя...»
Первый Всесоюзный съезд советских писателей прошел за год до Парижского конгресса (летом 1934 года). Но память о нем как об одном из наглядных примеров 291
общей созидательной работы советского народа вставала и в речах тех, кто был гостем съезда и выступал на нем, как Жан-Ришар Блок, и в речах тех, кто там не был, как Генрих Манн.
Советский Союз-его политика, его культура, место, какое он занимает при общей расстановке сил прогресса и реакции,-«зримо или незримо» присутствовал в большинстве выступлений по всем вопросам повестки конгресса. И эта «просоветская» настроенность форума помогла, при всеобщем одобрении, дать должный отпор в репликах Н. Тихонова, И. Эренбурга, А. Зегерс попытке троцкистской группки французских литераторов учинить некую антисоветскую демонстрацию. (Об этом эпизоде вспоминал Н. Тихонов и в «Устной книге», и в приветствии Анне Зегерс к ее дню рождения.) Обо всем этом свидетельствует и спор Арагона с Элюаром, и спор Жана Геенно с Жюльеном Бенда. Нет, атмосфера конгресса была напряженной, и Иоганнес Бехер имел право сказать в письме к немецким писателям, что большой успех конгресса был даже несколько неожиданным для его организаторов.
Еще одно наблюдение читающего материалы конгресса в 1982 году: бесконечно выросли в своем значении те речи, в которых оратор, говоря словами Брехта, умел «думать вперед», и увяли те выступления (например, доклад Олдоса Хаксли), в которых диалектика истории подменялась довольно скользким релятивизмом.
Брехт-подобно Маяковскому, неутомимый «ассенизатор» всех уголков человеческого сознания в кризисные периоды истории-посвятил свою речь, весьма актуальную для наших дней, «очередной критике добра», опасности разрыва между непосредственной эмоциональной реакцией и проверенным разумом действием, поступком.
Эмоциональное осуждение зла без попытки понять, чем это зло порождено и кому оно выгодно, не может быть долговременным и стойким, говорил Брехт. Если фашизм-лишь вспышка имманентного стихийного зла, борьба с ним неизбежно сведется лишь ко все более и более однородной констатации преступлений.
Если же путеводителем эмоции станет разум, если художник начнет разоблачение зла с формулы римского права-«кому выгодно», тогда он неизбежно установит, где исторический корень зла, какова его социально292
историческая сущность, то есть придет к материалистическому, марксистскому пониманию явлений.
«Многие из нас, писателей,-говорил Брехт,-испытавших зверства фашизма и возмущенных ими, все еще, однако, не поняли сущности этого учения (марксизма.- Е. Л*.), все еще не добрались до корней той жестокости, которая их так волнует. Им все еще угрожает опасность рассматривать фашистские зверства лишь как ненужную жестокость. Они отстаивают принцип частной собственности, полагая, что она не нуждается для своей защиты в жестокостях фашизма. Но это не так. Для сохранения существующей формы собственности эти зверства необходимы... Те из наших друзей, которые так же возмущены зверствами фашизма, как и мы, но которые, однако, стремятся сохранить собственность или проявляют равнодушие к вопросу об уничтожении ее, не в состоянии энергично и долго бороться против все возрастающего варварства, потому что они не содействуют проведению в жизнь тех общественных отношений, при которых варварство стало бы излишним».
Некоторый ригоризм этой оценки «эмоциональной» борьбы против фашизма не отменяет ее «общей» правильности. Но через пять лет, когда угроза, уже нависшая над миром в дни конгресса, стала реальностью, Брехт откроет для себя и «диалектику» эмоционального протеста, который может стать и концом чувства ответственности за судьбы своего народа и всего мира, но может стать и началом - привести большого художника в ряды стойких борцов за «самый корень жизни». То, чего опасался автор пьесы «Что тот солдат, что этот», было «перекрыто» тем, что увидел и понял автор «Винтовок Тересы Каррар»-художник, в те же годы воздавший должное «предостерегающим», «пророческим»
Я думаю, что писатель на протяжении всей своей жизни ведет целенаправленную и вместе с тем многообразную борьбу-борьбу против физической смерти и против всех видов социальной смерти, таких, как несправедливость, лишения, эксплуатация, угнетение.
Яннис Рицос, греческий поэт 293
чертам творчества таких писателей-гуманистов, как Генрих Манн или Арнольд Цвейг.
Большие художники, чуткие к основному содержанию эпохи, обладают даром не только думать вперед, но и прямо заглядывать в будущее - о том, что в Древнем Риме понятия «пророк» и «поэт» определялись одним словом, напомнил на одной из международных встреч 60-х годов Леонид Леонов. Нет, в середине 30-х годов над человечеством еще не нависала угроза «глобальной» катастрофы. Но о какой бы стране и национальной литературе ни шла речь, в лучших, самых долговечных произведениях ее живет предчувствие тягчайших испытаний, и призыв встретить их «стоя», и вера в конечную победу, в возможность своей волей и мужеством завоевать ее. Предчувствие этого с каждым годом становилось острее, разрыв между необходимостью «писать историю» - все короче; с тем врагом, с тем злом-о нем говорили делегаты Парижского конгресса-некоторым из них год-два спустя пришлось встретиться лицом к лицу на земле республиканской Испании, борющейся против фашизма.
Многие делегаты Мадридского конгресса 1937 года в защиту мира и культуры подымались на трибуны, прибыв непосредственно из окопов народной войны. И если на Парижском конгрессе порою ощущалось стремление увести «защиту культуры» в область общефилософских категорий, в Мадриде уже возвращение к отвлеченной проблематике стало невозможным. Любое произведение литературы, любое выступление художника должно было быть прежде всего поступком, действием, и боевая, социальная действенность должна была определять и форму произведения. Это убеждение, которое лишь формировалось на Парижском конгрессе, стало как бы итогом Мадридского конгресса, участниками которого были командиры и комиссары Интернациональных бригад, такие, например, как Людвиг Ренн и Мате Залка. Новый смысл приобрели слова Арагона о «возвращении к реальности», прозвучавшие еще на Парижском конгрессе. Слова эти вспоминали и на конгрессе, происходившем в Мадриде, Валенсии, Барселоне и завершившем свою работу в Париже. О новой «тональности» в определении защиты культуры справедливо говорил один из откликов на работу конгресса, опубликованный в журнале немецких антифашистских писателей «Дас ворт»: «Над трибуной висел огромный портрет 294
убитого фашистами большого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки. Этот портрет возвышался над конгрессом как символ той действительности, которая требует уже не дискуссий о цели, а действия, действительности, которая требует уже не постановки проблемы, а выполнения долга». Понятие «долга»-«действия» включало для делегатов конгресса, для тех передовых писателей мира, которые не присутствовали на нем, прежде всего профессиональный долг. Командир батальона имени Тельмана Людвиг Ренн говорил в своем выступлении, что мы должны бороться не только винтовкой, но и словом.
О том, насколько твердым, выстраданным и бесспорным было это убеждение, свидетельствуют произведения, которые были созданы в период между двумя конгрессами и непосредственно за вторым,-«Зрелость Генриха IV» Генриха Манна, вторая книга цикла «Реальный мир» Арагона («Богатые кварталы»), «Освобождение» Анны Зегерс и многие, многие другие.
В довольно широких кругах общественности, в том числе и советской, существует мнение, что интернациональная помощь борющемуся народу Испании исходила преимущественно от передовой интеллигенции Европы и Америки. Это неверно - основным составом Интернациональных бригад были рядовые граждане разных стран мира-в большинстве своем представители рабочего класса, всеми правдами и неправдами добиравшиеся до места, где можно было непосредственно, с оружием в руках схватиться с фашистским зверем.
Это сочетание интернационализма и демократизма в великом деле защиты мира и культуры сказалось и в том, что приветствовать участников заключительного заседания конгресса-уже в Париже-пришли и французские матросы торгового флота, и рабочие завода Рено, и строители Всемирной выставки и другие представители рабочего класса Франции. Что касается Испании, работы конгресса, протекавшей на ее окровавленной земле, то тут сочувствие и благодарность поистине были всенародными. И пожалуй, наиболее горячо проявились эти чувства в отношении советских делегатов, посланцев той страны, которая внесла огромный вклад в дело помощи испанскому народу.
Батальонам Интернациональных бригад были присвоены имена не только великих революционеров и деятелей культуры прошлого. Наряду с батальоном Карла 295
Маркса были в составе одной из Интернациональных бригад батальоны Эрнста Тельмана, Анри Барбюса, Георгия Димитрова, а наряду с батальоном Максима Горького в составе Интербригад был батальон «Чапаев» и батальон «Матросы из Кронштадта». Столь разные памятники той поры, как «Испанский дневник» М. Кольцова и «Записки детского поэта» Агнии Барто, как старые номера журнала «Интернациональная литература» и других изданий советской периодики, сохранили для будущего самую атмосферу конгресса, в дни которого, по слову одного из старейшин прогрессивной литературы Европы Мартина Андерсена-Нексе, «в зал заседаний врывалась сама жизнь, жестокая и возвышенная». И на этом конгрессе «старейшины» были на высоте. Генрих Манн, председательствовавший на заключительном заседании конгресса в Париже, воздал хвалу тем, кто, как Мате Залка (генерал Лукач) и Ральф Фокс, кровью и жизнью своей подтвердил высокую правду того, о чем говорили их книги. «Я жалею лишь об о дном,- сказал Генрих Манн,-что мне уже не тридцать лет. И уверяю вас, что это первый в моей жизни случай, когда я завидую некоторым моим коллегам, тем избранникам судьбы, которым она дала право поднять оружие свободы...»
«Мобилизацией всех сил культуры» назвал конгресс в своей речи Всеволод Вишневский. На выступления советских делегатов зал конгресса отвечал овациями.
«Мы в Испании хорошо вас знаем,- говорил еще на Первом съезде советских писателей его гость-Рафаэль Альберти.-Знаем таких поэтов, как Маяковский, Светлов, Асеев, и прозаиков, как Горький, Гладков, Фадеев, Шолохов, Федин. Эти имена не сходят с книжных выставок наших магазинов».
И эти любовь и внимание к советской литературе и культуре были для народов республиканской Испании неотделимы от братской, сыновней любви к Стране Советов, от преданности традициям Октября. Со времен Мадридского конгресса прошло сорок пять лет. Изменилась карта мира, возникло мощное содружество социалистических стран. Сотни миллионов жителей бывших колоний вступили на путь самостоятельного экономического и социального развития. Деятельное движение стороников мира на всей планете, международные форумы деятелей культуры в Советском Союзе и странах социализма - все это свидетельствует о необратимо296
сти тех исторических процессов, которые составляют содержание нашей эпохи. Но вместе с тем возрастает и интенсивность сопротивления империалистической реакции, готовой обречь на гибель само человечество в слепом и бессмысленном стремлении удержать свою исторически обреченную власть.
У сил реакции и войны есть и свой штат идеологических работников разного ранга, мастеров дезинформации и клеветы. Я думаю, что в той пропаганде мира и дружбы, в той идейной борьбе против клеветы на социализм и жизнь социалистических стран, которую ведут работники идеологического фронта Советского Союза, стран социализма, всех прогрессивных организаций планеты,-могут и должны послужить хорошим оружием старые, вечно живые традиции интернациональной дружбы культур и народов, совместной борьбы за мир, за жизнь, за лучшее будущее всего человечества.
А. Гулыга
ПОИСКИ ПУТИ
(Заметки с Международной книжной ярмарки во Франкфурте)
«Иммануил Кант» Бернгарда: антиамериканский памфлет? 143 минуты-ТВ, 15-книге. «В чем разница между бестселлером и «лучшей книгой»? Должен ли догадываться читатель, что его обманывают? Беспардонность, обеспечивающая сбыт. Письмо без указания адреса отправителя. Издержки юбилеев. «Почему марксизм враждебен религии?»
По приглашению издательства «Инзель» я прилетел во Франкфурт-на-Майне. Накануне здесь открылась Международная книжная ярмарка. Уже прозвучали приветственные речи, окончилась торжественная часть и началась деловая.
По дороге от аэродрома, в машине, которую ловко, минуя заторы, вел встретивший меня сотрудник издательства, я начал расспрашивать его о ярмарке. Кого из крупных немецкоязычных писателей можно здесь увидеть? Приехал ли Томас Бернгард? Из крупных приехал Вольфганг Хильдесхаймер. Бернгарда нет. Жаль.
Мне хотелось расспросить Бернгарда о его пьесе «Иммануил Кант». Прочел я ее в прошлом году, и она вызвала у меня недоумение. Автор перенес Канта в наши дни. Действие происходит на океанском лайнере: вместе с женой, слугой и попугаем философ направляется в Америку, чтобы получить диплом почетного доктора Колумбийского университета, а заодно и подвергнуть операции слепнущие глаза. Канту оказывают знаки заслуженного внимания, наряду с самыми почетными пассажирами он обедает за одним столом с капитаном корабля. Однако в Нью-Йорке вместо делегации Колумбийского университета философа встречают санитары и отправляют его в психиатрическую больницу.
Антиамериканский памфлет? Для заокеанских бизнесменов и гангстеров философ - всего лишь полоумный, которого как можно скорее надо упрятать в лечебницу для душевнобольных?
298
Антиамериканские настроения сегодня сильны в ФРГ. Западным немцам надоела американская опека, идущая вразрез с их национальными интересами, и они не прочь лишний раз показать свое культурное превосходство. Но в данном случае, увы, автор руководствовался иными мотивами.
Вчитываясь в то, что произносит бернгардовский Кант, понимаешь, что и в самом деле говорит маразматик. О Канте известно, что в самые последние свои годы он действительно страдал старческим слабоумием. Но, произнося имя Канта, мы думаем о другом-о его свершениях в философии; в сегодняшних нравственных исканиях он напутствует нас своим учением о категорическом императиве, требующем безусловного следования моральному долгу. А в пьесе Бернгарда попугай повторяет бессмысленно: «Императив, императив, императив».
«Зачем все это?»-спрашивал я критиков, с которыми встречался во Франкфурте. Пожимали плечами: «Какое-то недоразумение», «Бернгард-позитивный циник, для него нет ничего святого, кроме самой святости, больше всего он не терпит святош», «С Кантом носятся, но кто знает его? Для большинства он такой, каким выведен в пьесе», «Мир сошел с ума, и сам Кант в подобном мире должен быть сумасшедшим».
Журнал «Кант-штудиен», посвященный кантовской философии, откликнулся на пьесу Бернгарда язвительно, рецензией всего в несколько строк, которая заканчивается следующей ее оценкой: «Невольная автокарикатура комедианта Томаса Бернгарда, заблудившегося в вершинах Канта». Пока его пьесу, появившуюся в 1978 году, не решился поставить ни один театр.
Впервые книжная ярмарка во Франкфурте была проведена в 1949 году. Тогда в ней приняли участие двести издательств. На нынешней, тридцать третьей по счету, представлены пять тысяч сто фирм из пятидесяти семи стран, выставлены двести восемьдесят тысяч книг, из них восемьдесят одна тысяча новинок.
Размах огромный. Однако знатоки отмечают падение читательского спроса. Тем не менее министр экономики Отто Ламбсдорф, открывая ярмарку, говорил, что печатному слову не угрожает конкуренция других средств информации: никакие телепередачи и видеомагнитофоны не заменят чтения, «Будденброки» всегда будут лежать перед нами в виде книги. И хотя 299
стране в целом грозит хозяйственный спад, он не коснется ни производства, ни сбыта книжной продукции.
Оптимистически настроен и доктор Зигфрид Ун- зельд, глава издательского комбината «Зуркамп»-«Ин- зель» (это одна фирма, имеющая два лица: под грифом «Зуркамп» выходят главным образом серийные издания-новинки художественной литературы и гуманитарного знания, а также собрания сочинений, «Инзель» выпускает несерийные художественные издания, детскую литературу).Доктор Унзельд-не просто коммерсант, это широко образованный литературовед (диссертация о Гессе, книги о Гете и Рильке). В ходе ярмарки его издательство проводит пять мероприятий: встреча литературных критиков (с чтением новинок), два приема для прессы (один посвящен кубинской литературе, другой- книге о немецких писателях-антифашистах, эмигрировавших из гитлеровской Германии в Советский Союз), прием для иностранных издательств, встреча с владельцами книжных магазинов. Душа всех мероприятий-сам Унзельд, он произносит вступительное слово, приветствует и представляет гостей, острит и никогда не забывает о деле. «Зуркамп» и «Инзель» издают триста сорок названий в год, Унзельд знакомится со всеми рукописями. Каждая минута у него на счету. Во время ярмарки он почти не спит, в конце ее он сляжет в постель от переутомления, но пока он полон сил и в ходе одной из наших бесед (всегда кратковременных) четко обрисовывает обстановку.
По его мнению, падает спрос на легкую беллетристику, «чтиво». Установлено, что житель ФРГ в среднем ежедневно проводит сто сорок три минуты перед телевизором и пятнадцать - за чтением. И «Зуркамп» и «Инзель» ориентируются не на «середняка», а на подготовленного читателя. На него жаловаться не приходится: хорошая книга находит спрос.
- Знаете ли вы разницу между бестселлером и «лучшей книгой»?-спрашивает меня Унзельд.
Я не знаю, и он объяснит мне. Бестселлер - это то, что лучше всего продается. Списки бестселлеров ФРГ еженедельно публикует журнал «Шпигель». Списки «лучших книг» ежемесячно (с 1975 года) сообщает юго- западное радио. «Лучшую книгу» определяет компетентное жюри из двадцати семи литературных критиков.
зоо
Конечно, здесь возможны просчеты, вкусовщина и просто безвкусица, дань моде, политической конъюнктуре и иные коллективные аберрации оценок. В этом я убедился, просмотрев списки «лучших книг». Достаточно сказать, что нет в них ни одного произведения советских авторов (хотя они переводятся и пользуются успехом, а «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского стал даже бестселлером).
И все же списки «лучших книг» дают представление о том, что сейчас читают в стране. Здесь мы встречаем знакомые имена: Петер Хандке, Мартин Вальзер, Гюнтер Грасс, недавно скончавшийся Петер Вайс (Генрих Бель промелькнул лишь раз, его повесть «Поруганная честь Катарины Блюм» заняла в марте 1975 года...десятое место). Есть и имена новые.
Фридрих Кристиан Делиус, известный ранее как поэт, дебютировал в качестве прозаика, его «Герой внутренней безопасности» оказался на первом месте среди «лучших книг» марта 1981 года. Роман воссоздает атмосферу осени 1977 года, когда террористами был похищен и умерщвлен известный промышленник Ганс Мартин Шляйер. Герой романа, ближайший помощник похищенного магната (все имена в книге вымышлены), обеспокоен судьбой шефа. Потом, однако, выясняется, что на самом деле его волнует собственная судьба, а точнее-собственная карьера: как бы новый босс не отодвинул его в сторону. Получив повышение, он успокаивается. А о жертве похищения все постепенно забывают. Какие выводы сделали власть имущие? Усилили меры собственной безопасности, усложнили систему пропусков, увеличили броню кабинетов, установили видеокамеры, фиксирующие наличие в помещении посторонних, глушители, препятствующие подслушиванию. Никаких изменений в образе жизни, в образе мыслей, в образе управления не наступило, и это тревожит автора. Канва действительности служит ему материалом для социальной критики.
Роман Делиуса я получил со стенда издательства «Ровольт». В павильонах ярмарки книги не продаются, но охотно раздаются заинтересованным лицам (журналистам, специалистам, представителям деловых кругов). Меня интересует биографический жанр, и у стенда издательства «Зуркамп» мне вручат новый презент- книгу В. Хильдесхаймера «Марбот».
302
«Марбот» тогда только что вышел и еще не получил оценки жюри юго-западного радио, но написанный перед этим «Моцарт» Хильдесхаймера занял в ноябре 1977 года в списке «лучших» второе место.
«Сэр Эндрью Марбот,-говорится в издательской аннотации на суперобложке,- герой данной биографии, вплетен в историю культуры начала XIX столетия». Он, оказывается, встречался с Гете, Шопенгауэром, Плате- ном, Байроном, Леопарди, следил за их творчеством, одобряя и критически его оценивая. Главным предметом его изучения была живопись.
Итак, биография ученого. На фронтисписе портрет Марбота работы Делакруа (из Национальной библиотеки в Париже). Среди других иллюстраций-картины Джотто, Боттичелли, Рембрандта, которые разбирает Марбот, портреты родителей героя-леди Кэтрин и сэра Фрэнсиса Марбота (хранятся в известных собраниях).
Эндрью Марбот-теоретик, предвосхитивший фрейдовские идеи. А сам-носитель эдипова комплекса. Хильдесхаймер приводит (в переводе на немецкий и частично в английском оригинале) письма леди Кэтрин своему сыну, из коих явствует наличие инцеста. Последнее обстоятельство, видимо, заставило Марбота покинуть родные места и пуститься в странствование по Европе, завершившееся добровольным уходом из жизни. Посмертно вышел его труд «Искусство и жизнь».
Автор знакомит нас с документальной записью бесед Марбота с Гете, отзывами Гете о Марботе, письмом к нему Отилии Гете. Во Флоренции Марбот встречался с Шопенгауэром. Последние записи Марбота-дискуссия с Шопенгауэром, запрещавшим самоубийство. Марбот пытается оправдать принятое им и вскоре осуществленное решение.
К книге, как полагается в научно-художественном жанре, приложен указатель имен. Вот Кант-на странице такой-то приведена цитата из его произведений, вот Гегель-на странице такой-то сказано, что он не видел подлинников Джотто, а судил о них по гравюрам. Я хочу уточнить дату смерти отца Марбота и, к своему удивлению, не нахожу в индексе сэра Фрэнсиса. И леди Кэтрин там нет. И Эдуарда Реншоу, автора книги «Английская художественная критика в XIX веке», называвшего Марбота гениальным дилетантом. Во влазоз
сти иллюзии я листаю энциклопедию Брокгауза, но не нахожу там этих имен, как и имени самого Марбота.
Все оказывается мистификацией. И портрет работы Делакруа, и шокирующий инцест, и беседы с Гете. Чистый вымысел. Аккуратная подделка.
Я дважды слушал выступления Хильдесхаймера с чтением отрывков из «Марбота». Аудитория, которая ничего не подозревала, реагировала сдержанно: добротная проза, и все тут. Зарубежных издателей доктор Унзельд предварительно ввел в курс дела, а когда Хиль- десхаймер на безупречном английском языке стал излагать содержание книги, в зале не смолкал смех. Искусство допускает обман, но реципиент (в данном случае читатель) должен хотя бы догадываться, что его обманывают.
Хильдесхаймер говорил мне, что не приемлет современной технической цивилизации, в городе ему тяжело, он живет в тихой швейцарской деревушке. Он влюблен в прошлое и считает, что в «Марботе» удалось воссоздать культурную атмосферу минувшего века. Что касается вымышленной биографии и подделки под научность, то не он первый. Швейцарские психологи еще семь лет назад выпустили сборник статей памяти своего (никогда не существовавшего) коллеги Эрнста Августа Дэлле.
По просьбе Хильдесхаймера издательство «Ганс Хубер» прислало мне эту книгу-«Дихотомия и двойственность. Основные проблемы психологического познания». Коллективный труд семнадцати авторов, среди которых есть известные. Книга снабжена всеми атрибутами научности: ссылками на авторитетные источники и полемическими выкладками, схемами, рисунками, таблицами, математической символикой; к каждой статье приложен список использованной литературы, а в самом конце-«полная библиография» трудов Дэлле. Но вот в тексте упомянут ученый труд: «Общество между материнским бюстом и отцовским чувством».
Тут уж и профану становится ясно: «психологи шутят».
Впрочем, достается и философии: Дэлле-создатель «душевной логики», он перебросил мост от современного мышления к досократикам. Гераклит говорит: «Все течет», для Дэлле логика-«учение о том, что остается, утекая».
Пародия-древнейший литературный жанр. Книга о Дэлле свидетельствует о расширении его границ: объек304
том пародии стала наука, пародистами-сами ученые. Возвращаясь к «Марботу», должен, однако, сказать, что в книге Хильдесхаймера пародийное начало приглушено. Это скорее тонкая стилизация, вызывающая не смех, а улыбку. Автор сбивает читателя с пути в расчете на то, что тот сам его отыщет. Поведав вымышленную биографию, писатель надеется вызвать интерес к подлинной истории. Прием не новый, и называется он остране- ние (очуждение). Прием не новый, но рискованный: весь вопрос в том, всегда ли он уместен. В «Канте» Бернгарда он обернулся, например, явной бестактностью.
Петер Вайс известен советскому читателю своими пьесами «Марат-Сад», «Дознание», «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». В 1981 году Вайс закончил трехтомный роман «Эстетика сопротивления», книга заняла первое место в списке «лучших книг» и была отмечена премией телевидения ФРГ. Вручение премии состоялось в Кельне сразу после закрытия Франкфуртской книжной ярмарки. Вайс прилетел из Стокгольма, где он постоянно жил, и сразу же убыл обратно.
Строго говоря, «Эстетика сопротивления» не роман. И, разумеется, не трактат по эстетике, хотя рассуждения об искусстве занимают в книге значительное место. Это хроника антифашистской борьбы, репортаж, в котором мелькают имена и события. Тысяча страниц текста без единого абзаца-создается впечатление, что автор собрал материал, но еще не обработал его. И это после десяти лет кропотливого труда, о котором свидетельствуют записные книжки Вайса, изданные одновременно с романом.
Рассказ ведется от первого лица. Рассказчик-ровесник новой эпохи.
О писателе Вайсе известно, что он родился на год раньше Октябрьской революции. Вайс родом из семьи коммерсанта и долгое время сторонился политики. Герой-сын социал-демократа, рабочий, активный участник коммунистического движения. Следовательно, роман-биография, которую в лучшем случае хотел иметь писатель.
Перед читателем проходят картины берлинского политического подполья в первые годы после захвата власти фашистами, антифашистская эмиграция в Праге, ис305
панские события, рабочее движение в Швеции. Рассказывая обо всем этом, автор далеко не всегда оценивает события с учетом нынешней исторической перспективы. Он пишет много лет спустя после победы над фашизмом, но некоторые страницы его звучат растерянно, как будто он и сегодня живет настроениями тех, кто растерялся в те годы. Иное звучит и просто кощунственно. Например, сопоставление вторжения гитлеровского вермахта в Польшу с освободительной миссией советских войск в Западной Украине и Белоруссии.
Перу Вайса принадлежит пьеса «Троцкий в изгнании», справедливо подвергшаяся критике в советской печати. «Впоследствии Петер Вайс признал ошибочность своей пьесы,-говорится в «Истории литературы ФРГ»,-ибо она, как он констатировал, невольно бросала тень на советскую действительность в целом. Он настоял на изъятии пьесы из репертуара некоторых театров. Однако ряд идей, в ней прозвучавших, оказался весьма существенным для автора и в дальнейшем».
В «Эстетике сопротивления» автор не скрывает симпатий к Троцкому. Явной клеветой звучит утверждение, которое особенно пришлось по вкусу рецензенту журнала «Шпигель», будто коммунистическая партия «уничтожала своих творческих мыслителей и давала место только шаблону».
К счастью, не эти и им подобные места определяют лицо романа. В целом это книга борьбы. Апогей-в третьем томе, где рассказывается о действиях антифашистских групп в гитлеровской Германии в годы войны. Их немного, но они спасают честь нации.
Описывая казнь одиннадцати антифашистов, членов группы «Красная капелла», автор поднимается до подлинно трагического пафоса. Здесь исчезает утомительная скороговорка, в которой перемешаны разные слои повествования, рассказчик уходит в сторону, и сам автор с проникновенной точностью воспроизводит детали смертной казни в застенке Плетцензее. Трех женщин гильотинируют, восьмерых мужчин вешают. Прежде чем удавить жертву, палач вежливо просит открыть рот, чтобы внести в реестр количество золотых зубов-они не должны пропасть.
В своих искусствоведческих экскурсах Вайс старается исходить из принципов «сражающейся эстетики». За ломкой художественных форм он видит ломку устоев старого общества. «Мы рассматривали картины Макса
306
Эрнста Клее, Кандинского, Швиттерса, Дали, Магритта как устранение визуальных предрассудков, молниеподобное освещение распада и гниения, паники и развала, мы различали, где была атака на отжившее и погибающее, а где-лишь беспардонность, обеспечивающая сбыт».
Но вот проблема (Вайс лишь ставит ее в своей книге): почему как раз представители гибнущего капитализма, респектабельные буржуа выступают в роли меценатов «левого» искусства, а революционным массам оно остается чуждым, просто-напросто неизвестным? «Рабочие и солдаты в ноябре семнадцатого не видели этих художественных устремлений и не слышали о них».
Борющиеся массы не обладают соответствующим уровнем образования, им можно простить отсталость и воспитать так или иначе их вкус. Все дело, однако, в том, что и вожди пролетариата не принимали «авангардизма». Маркс, Энгельс, Ленин, читаем мы в книге Вайса, «были традиционалистами в отношении идеала прекрасного... Они были противниками путчей бланкистского, прудонистского, бакунинского толка, и как они не принимали экстремистского радикализма и авангардистской риторики, так предпочитали устоявшихся классиков таким мятущимся натурам, как Гельдерлин, Новалис, Клейст или Бюхнер, французские прозаики были им ближе, чем Рембо, Верлен, Бодлер, они стояли на стороне мелодичных симфоников, атональная музыка должна была их раздражать».
Оставим на совести героя романа и автора адекватность характеристик художественных вкусов Маркса, Энгельса и Ленина. Важно отметить другое: хотел ли того Вайс или нет, в приведенной цитате содержится ответ на поставленную проблему: «экстремистский радикализм и авангардистская риторика» действительно недопустимы, ни в жизни, ни в искусстве, все это чуждо народу, чуждо подлинной революции и ее подлинным вождям. Подлинное надо отличать от мнимого, наносного, порожденного издержками времени.
Вопрос о назначении искусства, его роли в жизни общества-вопрос не одной только формы, а формы, взятой в единстве с содержанием. Ломать форму можно и во имя революции, и во имя реакции, и ради «беспардонности, обеспечивающей сбыт». А ныне то, что некогда называлось «авангардом», все более становится художественным «арьергардом», устаревает, теряет свою
307
и*
привлекательность даже для интеллигентских кругов Запада. Налицо определенный возврат к традиции и классике. Но это разговор уже не об «Эстетике сопротивления», а о других книгах и о другом писателе.
Петер Хандке, лауреат Бюхнеровской премии (высшая литературная награда в ФРГ) и премии Кафки (высшая награда в Австрии), находится в центре сегодняшних литературных споров1. Он начинал как «авангардист», в 70-е годы стал пересматривать свои художественные принципы и сейчас стоит на реалистических позициях.
В 1981 году вышли две книги Хандке-«Детская история» и «Путями Деревни», завершившие его тетралогию «Медленное возвращение домой». В тетралогии нет ни единого сюжета, ни единого героя, нет даже жанрового единства, только идейное, выраженное в названии.
Первая часть озаглавлена, как и вся тетралогия, «Медленное возвращение домой». Это повесть. Ее герой Зоргер работает геологом где-то за Полярным кругом, на Аляске. На чужбине ему становится тошно, и он возвращается восвояси.
Вторая часть тетралогии Хандке «Уроки гряды Сент-Виктуар» - философско-искусствоведческое эссе. Эстетика созидания. Рассказ ведется от автора, но читатель предупрежден: «Зоргера, геолога, я превратил в самого себя». Писатель вернулся из заморских стран в Европу, в родную природу, в родную культуру.
Применительно к живописи, о которой рассуждает автор, это означает поворот от формалистических устремлений к классике. У сюрреалистов Кирико, Эрнста, Магритта нет пейзажа в привычном смысле. Путь Хандке лежит от Сезанна к Курбе и Рейсдалю. По имени горной гряды Сент-Виктуар в Провансе, где жил и творил Сезанн, он и назвал свою книгу.
И еще одно имя всплывает в памяти автора (воспоминание о поездке в Советский Союз?)-Пиросмани. «Грузинский художник бродил по стране, зарабатывал на жизнь тем, что писал вывески для трактиров, а последние дни своей жизни провел «неузнанным в чулане, 1 На русском языке вышли его произведения: Хандке П. Повести. М., 1980; Женщина-левша-Иностранная литература, 1982, № 2.
308
который, по моим представлениям, находился «под лестницей».
И уже новая ассоциация возникает у писателя: «неузнанным», «под лестницей» скончался Алексей, человек божий, герой житийского повествования; сын богатого римлянина, он покинул отчий дом, жену, богатство и после многих лет скитания на чужбине вернулся восвояси, поселился среди прислуги и умер, так и не открывшись близким. «В дедушкином доме была деревянная лестница, под которой находилась каморка без окон. В таком помещении «под лестницей», как мне тогда казалось, и лежал святой Алексей, вернувшийся неузнанным издалека, в победном трепете своей сокрытности (который был мне знаком)».
Из подобных ассоциаций, воспоминаний о пережитом, размышлений и новых впечатлений рождается книга о гряде Сент-Виктуар, историю написания которой Хандке излагает внутри самого повествования. И логично встает перед автором, родившимся и ныне проживающим в Австрии, вопрос: кто же он такой, где его родина?
«Мой отчим родом из Германии. Его родители переехали в Берлин перед первой мировой войной. И мой отец-немец, он родом из Гарца (где я никогда не был). А все предки моей матери-словенцы. Мой дед в 1920 году голосовал за присоединение южноавстрийских земель к нововозникшей Югославии, и за это те, кто говорил по-немецки, грозили его убить. Моя мать девочкой играла в самодеятельном словенском театре. Она всегда гордилась, что знает этот язык, ее словенский помогал нам после войны в Берлине, куда вступили русские войска. Первым моим родным языком, видимо, был словенский. Сельский парикмахер потом мне рассказывал, что, когда я впервые пришел к нему стричься, я ни слова не понимал по-немецки и мы говорили с ним по-словенски. Я этого не помню и язык забыл полностью. (Я всегда считал, что родом из других мест.) В школьные годы на австрийской земле возникла у меня тоска по дому, по Германии, по большому городу, каким был для меня послевоенный Берлин. Когда я узнал о «третьем рейхе», я понял, что ничего более злого никогда не было, и вел себя в соответствии с этой мыслью, хотя уже ребенком понимал, что Германия и фашизм не одно и то же.
Потом почти десять лет я провел в различных ме309
стах Федеративной Республики, которые показались мне светлее и просторнее, чем родимый край. Я и сейчас охотно могу себе представить свою жизнь там, ибо знаю, что нигде нет такого количества «упрямцев», которые ежедневно лакомятся литературой, нигде нет такого многочисленного потаенного народа - читателей». Родина для Хандке-это и принятый стереотип культуры. И близкие тебе люди. В дни своих раздумий о родине автор «случайно» навестил отца, с которым давно не виделся. После смерти второй жены тот жил одиноко, даже собаки не было у него, и лишь вечерами звонил он по телефону соседям, подавая тем самым признаки жизни. «Я увидел в его глазах страх смерти и пережил запоздалое чувство ответственности».
Но это не все. Родина - это и ласкающий взор облик земли, привычный ландшафт. Именно поэтому о пейзажной живописи и ведет разговор автор.
Художник, стремящийся проникнуть в суть вещей, становится мыслителем. Философская тема с необходимостью возникает в книге. Кто владеет здесь думами Хандке? Когда-то в немецкой философии, уставшей от поверхностной болтовни позитивизма, раздался призыв: «Назад, к Канту!» Хандке этого мало: Кант провозгласил активность познания, конструирующего мир человека, первозданная природа для Канта существует «сама по себе», не раскрываясь до конца перед познающим разумом. Хандке же хочет слиться с природой, он тянется к докантовскому пантеизму. Он цитирует некоего «философа», не называя его по имени. Это Спиноза, для которого природа была богом.
В своем «возвращении домой», к здоровым традиционным устоям, автор проходит помимо школы искусства и философии еще одну-семьи. Об этом идет речь в третьей книге тетралогии-автобиографической повести «Детская история». Название не должно ввести в заблуждение: книга не для детей. И вообще это история не ребенка, а отца, мужчины, по-иному взглянувшего на мир после того, как он обзавелся ребенком. Не только родители воспитывают детей, наличие детей делает взрослых мудрее и мужественнее. Вот об этом обретений мудрости и мужества с помощью дочери повествует Хандке.
Себя он не называет по имени. Речь идет о некоем «взрослом», «мужчине», «отце». И ребенок в повести не имеет имени. Города, в которых они живут, также на-
310
званы иносказательно, но они угадываются легко, как и вся история общения Хандке со своей дочерью Аминой.
Вильгельм Буш, немецкий народный поэт-юморист, сказал:
Стать отцом-на грош труда. Быть отцом-вот это да!
В данном случае ребенок желанный, и рассказчик готов быть отцом. Но одного желания, одной готовности мало. Ребенок-это повседневные хлопоты, требующие от родителей терпения, внимания и самообладания. Даже в условиях нового дома, построенного писателем специально для дочери за городом.
Произошла авария, новый дом заливает вода, больше в доМе никого нет, только ребенок и отец, ребенок закатывается в плаче, и потерявший самообладание отец дает младенцу затрещину. «Реакция раскаяния была мгновенной. Он носил на руках плачущего ребенка, страдая от того, что сам не мог заплакать, и чувствовал себя как перед Страшным судом. Хотя у ребенка поначалу только припухла щека, он знал, что удар был достаточно сильным, чтобы лишить его жизни. Взрослый чувствовал себя самым плохим человеком, злодеем, подонком, того, что он сделал, нельзя было ничем искупить».
Можно себе представить, что воображение писателя преувеличило размеры случившегося. С ребенком ничего не произошло, а возникшее чувство вины укрепило отцовские чувства.
Другой эпизод оказался еще более важным в воспитании отца. Мы знаем, что с некоторых пор Хандке волнует проблема национальной принадлежности. Он воспринимает нацию как определенный стереотип культуры, не как вопрос происхождения и «крови». Писатель чужд расизму. Нацизм он знает только по рассказам других и по книгам, с сионизмом ему пришлось столкнуться лицом к лицу.
Когда девочке пришло время учиться, семья находилась в «любимом городе за границей» (читай: Париже). Отец выбрал для дочери, как бы мы сказали, «спецшколу», где преподавание велось на иврите (как многие немцы после войны, он испытывал чувство вины перед евреями).
Девочку приняли в школу временно, через год учительница вызвала отца и предложила искать другое 311
учебное заведение: «Будущей осенью начнется религиозное воспитание, и это принесет только вред ребенку, который принадлежит принципиально иной традиции. Пытаясь убедить женщину в противоположном, отец ссылается на свой многолетний опыт. Говорил, что для таких, как он, не существует никакой желанной традиции, какую он мог бы передать своему ребенку; но старая учительница, знавшая все лучше, только качала головой». Отец возвращался домой с ребенком «как безвинно отверженный, с сознанием ответственности за то, что он выходец из недонарода, вернее что он вообще лишен народа».
И вот однажды «пришло письмо без указания адреса отправителя, где от имени избранного народа ребенку грозили смертью как потомку злейших гонителей этого народа, причем употреблены были выражения, обычно в разговоре недопустимые».
Импульсивный отец взорвался, начал розыски обидчика и «довольно быстро установил, кто угрожал «растерзать», «разорвать», поскольку «миллионы невинно погибших нельзя вернуть к жизни», и подписался ветхозаветным именем. Как сыщик, нашел он адрес, сунул в карман нож и выскочил из дома с сознанием того, что он находится сейчас в центре мировой истории. В такси он ясно представил себе, что произойдет дальше: он нанесет удар ножом в сердце, исполнив акт законного возмездия. (Времени для раздумий было достаточно: поездка на другой берег реки оказалась долгой.) Переступив порог автора письма, он почувствовал, однако, гротескность ситуации. Он не убьет: не тот случай. И чувствует он только слабость в суставах. Он проходит в глубь дома, и вот стоят они друг против друга, строя хитрые гримасы; каждый даже чувствует себя немного польщенным: один-потому, что поразил своей способностью разгадать происхождение письма, а другой- тем, что его приняли всерьез. Вместе выходят они из холодной квартиры, идут на ближайшее кладбище, прогуливаются там, беседуют о многом и понимают, что врагами им не быть, но и близкими никогда». На свете живут не одни только близкие, главное, чтобы не было в мире вражды. Брататься не обязательно, достаточно взаимного уважения, понимания, терпимости.
Девочку перевели в другую (обычную, французскую) школу, но и здесь ей неуютно. Опять новая, на этот раз церковная школа. В конце концов отец понимает, что 312
«надо возвращаться туда, где говорят на родном языке, и как можно скорее». Домой! Домой! «Только вернувшийся восвояси живет действительной жизнью!» Так забота о чаде вернула писателя своему народу. И отец спрашивает в конце повествования свою дочь: «Ты еще дитя или уже немка?»
При этом уроки истории не забыты: призрак собственного расизма витает кошмаром в немецкой памяти, здесь недопустимы никакие компромиссы. Девочке десять лет, она учится теперь в родных краях и каждый день по дороге в школу видит в лесу скворечники, помеченные свастикой. Никто на нее не обращает внимания, но девочка обеспокоена и предлагает отцу замазать зловещие знаки. «Полдня они проводят на деревьях с кистью и краской. Дело пустячное, кто подбадривает их одобрительными возгласами, а кто кидает мрачные, мстительные взгляды».
Четвертая часть тетралогии-«Путями Деревни» - появилась осенью 1981 года. Драматическое стихотворение-так определил Хандке жанр своей новой работы. Точнее было бы назвать ее ораторией в прозе. Это пьеса, но лишенная действия, герои не столько беседуют, сколько произносят монологи, выражаясь в основном прозой весьма торжественной, иногда высокопарной. В указаниях для актеров автор, правда, требует «внутренней иронии», но текст ее не содержит. Мелкий семейный эпизод поднят здесь до уровня античной трагедии, хотя ничего трагического не происходит.
Вначале некто Нова, олицетворяющая собой «новое», «грядущее», представляет героя:
Он ценил свой покой и не рвался домой, За морем жил,
ни о чем не тужил, Зритель беспечный, баловень вечный, Спутник без тени,
для всех молодец, Где ж оказался ты наконец?
Грегор (так зовут героя) оказался на родине. Он получил письмо от младшего брата Ганса, в котором тот просит его отказаться от доставшегося ему в наследство по праву старшинства дома и земельного участка, чтобы их сестра, работающая продавщицей, могла открыть собственное дело. Далее следует выяснение род313
ственных отношений. Когда разговор заходит о будущем, Ганс печально констатирует: «Мы не на ложном пути, потому что у нас вообще нет никакого пути». Как бы опровергая это, Нова произносит заключительный спич во славу труда, мира и сельских начал жизни. «Не верьте тем, кто стремится ввысь, они-во власти прихоти, ибо высочайшую вершину нельзя завоевать, разве что прогуляться по ней. Пусть будет вашей мерой восходящее солнце, только «солнце и вы», оно укажет вам путь и поможет. Природа-единственное, что я могу вам пообещать и сдержать свое обещание... Только народ творцов, каждый на своем месте, может обрести юность и радость... Небо без конца и без края. И вечный мир близок... Внимайте голосу поэта. Идите друг другу навстречу. Путями Деревни».
Так Хандке пришел к своего рода «деревенской прозе». Он не зовет разрушить города и разбрестись по лесам и полям. Современное общество-городского типа, и не случайно вторая часть тетралогии «Уроки гряды Сент-Виктуар» завершается (после прогулки по лесу) знаменательным призывом: «Назад, в город, назад, к площадям и мостам, к набережным и эстакадам, стадионам и радиопередачам, к колокольному звону и повседневным делам, назад, к блеску золота и складкам драпировки».
Уйти от городской культуры нельзя, но сохранить ее как культуру можно лишь двигаясь «путями Деревни», то есть приверженностью традиции, руководствуясь ее веками сложившимися простыми законами нравственности, бережным отношением к природе.
Возврат к традиции сегодня-форма антифашизма. Коричневая угроза не исчезла. Однако нынешние штурмовики не рядятся в национальные одежды. Неонацизм существует на деньги наднациональных, межгосударственных монополий, своих сторонников он вербует из деклассированного всеевропейского отребья.
Читая тетралогию Хандке, я думал о «Комиссии» Залыгина, о «Ладе» Белова, о повестях Астафьева, Распутина, Абрамова и других наших «деревенщиков». Альпийские крестьяне у Хандке философствуют, как сибирские мужики Залыгина, поэзия народной традиции одинаково дорога каждому из них. Конечно, в каждой стране свой народ, своя «деревня» (а в ней свое хорошее и свое плохое), но есть и нечто общее-пути культуры и мира.
314
Критика приняла последнюю вещь Хандке сдержанно. (Мне удалось ознакомиться лишь с первыми газетными рецензиями.) Уж очень идиллична нарисованная картина. Но все признают, что писатель передает «новейшее настроение на Западе». Опасения за судьбу культуры владеют многими. И не только один Хандке «возвращается» к традиционным ценностям. Этим путем идет и Мартин Вальзер, отмеченный в 1981 году Бюхнеровской премией. Имя Мартина Вальзера известно советскому читателю, у нас выходили его пьесы, а одна из наиболее известных его повестей-«Бегущая лошадь» (в списке «лучших книг»-первое место в марте 1978 года)-разбиралась на страницах «Иностранной литературы».
Вручение премии состоялось в Дармштадтской академии немецкого языка и литературы на следующий день после вручения в Кельне премии Вайсу. Я встретился с Вальзером на приеме, устроенном издательством «Зуркамп» в его честь. Среди приглашенных-писатели, бюхнеровские лауреаты прошлых лет, журналисты, художники, критики. Вместо приветственного слова американский германист профессор Э. Хеллер прочитал отрывок из своего эссе о Ницше, который заканчивался апологией Достоевского как гуманиста.
Затем начался общий разговор о русском классике, 100-летие со дня его смерти уже исполнилось, а 160-летие со дня рождения приближалось. Юбилейная шумиха «года Достоевского» в ФРГ не обошлась без сомнительных характеристик и сенсационных нелепостей. Газета «Ди цайт» (в номере от 6 февраля) опубликовала беседу с неким «знатоком русской души», который заявил, что, по Достоевскому, «человек-это вошь, не более того». Хотелось бы думать, что это все издержки юбилея. В Западной Германии есть и знатоки Достоевского. В Тюбингенском университете интересный спецкурс по Достоевскому читает профессор Людольф Мюллер, он же выступает инициатором подготовки нового Полного собрания сочинений русского классика в улучшенном переводе и обстоятельно комментированного (с использованием опыта 30-томного советского издания). Мне называют другое имя-Райнгард Лаут. Это мюнхенский профессор, выпустивший еще в 50-е годы фундаментальный труд «Философия Достоевского». В издательстве «Зуркамп» вышли к юбилею две книги-сборник «Достоевский в Швейцарии» и исследо315
вание Ф.-П. Ингольда «Достоевский и еврейство», где опровергается ставший расхожим тезис об антисемитизме русского классика.
Я спрашиваю Мартина Вальзера, как он относится к Достоевскому.
- Это самый великий русский писатель. Но мне ближе Гоголь. У Гоголя я учился.
И тут же задает вопрос мне:
- Почему марксизм враждебен религии?
Проблема религии волнует западную интеллигенцию. Об этом пишут, об этом говорят. Религия выходит из храма божьего на улицу. В павильонах книжной ярмарки мне довелось слышать не только политических ораторов, протестовавших против кровопролития в Иране, требовавших убрать американские ракеты из Европы, но и юных проповедников, призывавших вернуться к Христу. В 1982 году книжная ярмарка во Франкфурте будет посвящена теме «Вчерашняя религия в сегодняшнем мире».
У Вальзера интерес к религии выражен сильнее, чем у Хандке. Свое выступление при получении Бюхнеров- ской премии он назвал «Отчего умирает бог». Он говорил о нравственном упадке западной цивилизации, об инфантильном безразличии людей друг к другу. «Молокосос, который поносит окружающий мир,-вот наш образец. Для молокососа бог не умирает: он сам себе собственный бог. Не пустота безбожия страшит его, а ближний, другой человек. Для того, кто видит в себе бога, другой человек-это исчадие ада». То, что Вальзер понимает под богом, мы называем духовными ценностями и сызмальства стараемся привить их членам нашего общества.
Об этом я сказал Вальзеру. Веротерпимость и свобода совести-вот что отличает марксистское миропонимание.
Я прошу Вальзера написать для нашей прессы несколько приветственных слов. Он обещает, но говорит, что надо подумать, сейчас он устал, разве что завтра утром... Утром он уезжает, не оставив записки.
Однако на следующий день от него приходит телеграмма, содержащая привет советским читателям: «Было время, когда могло показаться, что нет необходимости напутствовать приветами советского гражданина, повстречавшегося мне в Федеративной Республике Германии. А теперь крайне необходимо приветствовать 316
друг друга через границы, чтобы не возникли образы вражды».
В Бюхнеровской речи Вальзера содержится тревога по поводу современной политической и культурной ситуации, гонки смертоносного вооружения, вмешательства во внутренние дела других стран. «Тем, кто считает, что на земле складывается безвыходная ничья, надо сказать: сегодня встает вопрос не о том, чтобы установить правильный образ жизни, а о том, чтобы воспрепятствовать ложному образу смерти-от атомной бомбы». Мудрые слова, открывающие путь к взаимопониманию.
На приеме в честь Вальзера меня познакомили еще с одним писателем. Небольшого роста седой человек с мягкими движениями и добрыми глазами протянул руку и сказал:
- Ленц.
Я назвал себя и стал говорить, что его роман «Урок немецкого» пользуется у нас широкой известностью. Он перебил меня:
- Вы имеете в виду Зигфрида Ленца, а я-Герман Ленц.
Возникла неловкая пауза, хозяйка дома, которая свела нас, начала извиняться, что не предупредила меня. Герман Ленц улыбнулся, взял меня под руку и сказал, что моя ошибка извинительна: в Советском Союзе его не знают.
(До недавнего времени он был мало известен и у себя на родине. Зигфрид Ленц-автор бестселлеров, а имени Германа Ленца нет даже в списках «лучших книг», что, впрочем, свидетельствует лишь о возможных ошибках: в 1976 году Герман Ленц был отмечен премией Бюхнера. В нашей «Истории литературы ФРГ» Зигфриду Ленцу посвящена специальная глава, а Герману-несколько абзацев, как и другому бюхнеровскому лауреату-Хиль - десхаймеру.)
Хотя его книги на русском языке не издавались, говорит Герман Ленц, сам он однажды оказался героем русского произведения-своего рода документальной прозы. Во время войны его отправили на Восточный фронт, он угодил простым пехотинцем в волховские болота. Дело было в 1944 году, немцы еще находились в глубине России, но война явно шла к концу. В этом духе он однажды высказался своему товарищу, а тот попал вскоре в плен и рассказал о настроениях и словах Ленца. 317
В результате появилась русская листовка, обращенная к солдатам 212-й дивизии, в которой, он помнит ее, дословно говорилось: «Ефрейтор Ленц 6-й роты 316-го пехотного полка сказал: «Русские прорвутся в Восточную Пруссию. Война кончится через по л го да». Ефрейтор Ленц прав».
К тому времени Ленц уже не служил в роте, его перевели в штаб дивизии писарем. Он только что вернулся из отпуска, когда листовка попала к его начальнику. К счастью, тот оказался порядочным человеком и постарался замять дело.
Вся эта история с листовкой описана в последнем романе Ленца «Новое время». Героя зовут Рапп, но книга в значительной степени автобиографична и аутентично передает настроение немецкой интеллигенции в «третьем рейхе». Рапп - студент-искусствовед, фашистские бонзы дают ему в руки винтовку и посылают его на войну. Перебежать к русским? Он не уверен, что в плену его встретят с распростертыми объятьями. Он довольствуется пока сознанием, что у него нет ненависти к противнику, что он никого не убил, и надеется, что так будет и дальше. Когда подвернулась возможность, Рапп помогает русской девушке избежать отправки в Германию. Конвоируя литовского партизана, он готов отпустить его и выстрелить в воздух. У него не хватает мужества для открытого сопротивления и протеста, но посильными актами саботажа он вносит свой вклад в общую борьбу. В конце концов Рапп сдается американцам, работает на полях Аризоны и затем благополучно возвращается домой.
Не у Ленца ли заимствовал Хандке идею «возвращения домой» из заморского плена чужеродных иллюзий? В свое время именно Хандке «открыл» Германа Ленца для читающей публики. Он напечатал на страницах «Зюддойче цайтунг» обширную статью о писателе, которого почти не замечала литературная общественность и чьи книги не находили спроса. Хандке рассказал, как он читал Ленца, что вынес из этого чтения. «У меня возникло при чтении переживание детства-как будто все пропавшие без вести вернулись домой». Свою программную книгу «Уроки гряды Сент-Виктуар» Хандке посвятил Герману Ленцу «с благодарностью за январь 1979 года». Первая часть тетралогии «Медленное возвращение домой» увидела свет осенью того же года.
318
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Экклезиаст был неправ: даже на заре цивилизации время шло вперед.
Просто путь в будущее лежит через прошедшее: общество неизбежно оглядывается назад, обращается к культурной традиции в поисках ответов на встающие перед ним проблемы, в поисках пути.
Сегодня это особенно актуально. Ибо возникло «под солнцем» нечто такое, чего никогда еще не было в истории,-угроза истощения материальных ресурсов человеческого бытия. Литература и философия давно уже подметили, что безудержное развитие техники и производства таит в себе роковые последствия. Сегодня проблема прогресса привлекла внимание точных наук. Достигнутые результаты обескураживают тем более, что перед нами не туманные пророчества, а строгие расчеты, построенные по принципу «если-то».
В свете таких размышлений обретают более глубокий смысл и интерес к истории Хильдесхаймера, и «деревенские» искания Хандке. В них не ностальгия по прошлому, не попытки повернуть общество вспять, а забота о том, как сочетать наше движение вперед с традиционной системой ценностей, веками обеспечивавшей равновесие в системе человек-природа. В ФРГ ширится движение так называемых «зеленых», главной заботой которых является сохранение окружающей среды. Пока они не сложились как политическая партия, но голоса их слышны все громче, и призыв Хандке идти «путями Деревни» сливается с ними.
В ногу с утопией всегда марширует антиутопия, социальный оптимизм порождает пессимизм и скепсис. Для последних сегодня условия благоприятствуют, и я уже упоминал имя носителя подобных настроений-Томас Бернгард.
У нас он мало известен. Между тем это писатель масштаба Хандке. И сегодня своеобразный его антипод, как бы анти-Хандке. Действительно, Хандке «вернулся домой», считает, что прочно там утвердился, верит в человека, в его способность понять другого, жить в сообществе. Бернгард «бродит по свету», во всем сомневается, всюду видит распад, его герои-люди неполноценные, обреченные на одиночество и пустоту. «Имитатор голосов» Бернгарда-сборник коротких историй,
319
каждая из которых завершается либо смертью, либо сумасшествием. Последняя притча называется «Вернулся домой», речь идет об известном художнике, который уехал в заморскую страну, потом, «измученный тоской по родине», вернулся восвояси и ныне коротает дни в психиатрической больнице. Только то обстоятельство, что притча «Вернулся домой» появилась на год раньше «Медленного возвращения домой», не позволяет считать ее ответом на первую часть тетралогии Хандке.
В 1981 году Бернгард опубликовал две пьесы. В одной из них-«Тихие вершины»-рассказывается о знаменитом писателе, завершившем некую тетралогию. С ним носятся все: журналист, приехавший взять интервью, ловит каждое его слово; докторантка, сочиняющая о нем диссертацию, делает десятки его снимков; издатель всячески его превозносит, а писатель твердит банальности, повторяет чужие мысли, и вся его тетралогия-звук пустой.
Другая пьеса Бернгарда-«У цели». Ее главная героиня, пожилая эгоистичная дама (вся пьеса, по сути дела, один растянувшийся ее монолог, в котором раскрывается ее мелочная натура), бросает реплику, ставящую под сомнение возможность обрести будущее: «Существует ли хоть один человек, знающий путь?» Я не хочу сказать, что Бернгард полемизирует здесь с Хандке (героиня которого Нова такой путь указывает). Но две различные трактовки вопроса налицо.
Общество встало сейчас перед глобальными проблемами. И главная из них-«быть или не быть» человечеству. Художественная литература все более непосредственно обращается именно к этим проблемам. Писатели, которые стремятся к взаимопониманию и сотрудничеству, апеллируют к гуманистической традиции и верят в торжество разумного начала,-наши единомышленники и соратники. Имя им легион. Многие книги, привезенные из Франкфурта,- красноречивое тому свидетельство.
Н. Федоренко
ПОНИМАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ
(Творческие контакты советских и зарубежных писателей-во имя разрядки и мира)
Деловое общение-доброжелательность контактов. «Москва - Берлин-Дели-Хельсинки». Зарубежная литература в СССР-подлинный интерес. Путь в будущее.
В наши дни в центре внимания мировой общественности-многосложный комплекс проблем, волнующих человечество в связи с нависшей над миром угрозой термоядерной катастрофы. Особое значение приобретает в этих условиях проблема взаимопонимания народов, знание условий их жизни и мировосприятия.
Нет нужды доказывать, что ни один народ не может полноценно развиваться в условиях изоляции от остального мира, ни один народ не может достичь подлинных духовных высот, с высокомерием относясь к другим народам, к их укладу жизни, к их культуре. Ныне святыни одного народа становятся святынями всего человечества ; гений, проникая в тайну души своего народа, говоря своему народу пусть самую горькую и неподкупную правду о нем, становится понятен и дорог каждому на земле, под какими бы звездами он ни родился, на каком бы языке ни писал.
Современная литература просто не может жить и развиваться вне связей с другими народами. Вот почему Союз писателей СССР уделял и уделяет большое внимание созданию и упрочению традиций доброжелательных контактов, делового общения с литературами всех стран. К таким традициям, в частности, относятся сотрудничество с редакциями зарубежных журналов, совместная подготовка специальных номеров, посвященных советской литературе. Это сотрудничество, продолжающееся уже почти десять лет, позволило существенно расширить круг читателей советской литературы, главным образом в странах Западной Европы, Азии и Арабского Востока, ознакомить их со многими талантливыми произведениями советских поэтов и про321
заиков. Без преувеличения можно сказать, что совместные номера стали влиятельной трибуной популяризации нашей многонациональной литературы.
Интерес зарубежных читателей к советской литературе постоянно растет. Лучшие произведения наших авторов ежегодно переводятся в мире на сорок - пятьдесят иностранных языков.
В современных условиях, когда международная обстановка серьезно обострилась и наши противники стремятся перевести идеологическую борьбу в русло «психологической войны», значение правдивой информации о нашей стране особенно возрастает. Зарубежные журнальные публикации прокладывают дорогу советским книгам, открывают читателям других стран доселе неизвестные им имена советских писателей.
Примером может служить Куба, где после выхода в свет журнала «Унисон», посвященного советской литературе, были опубликованы книги «Тридцать советских поэтесс», «Советские поэты-детям», в этом году ожидается выход (впервые на испанском языке) двухтомника пьес, где будут представлены советская классика и современная драматургия. Готовится трехтомная антология советской поэзии (сто семьдесят имен).
Можно сказать, что еще не остыл в руках издателей номер журнала «Сюд» (орган писателей юга Франции, марсельцев), представляющий творчество восьмидесяти поэтов союзных республик и малых народов, населяющих нашу страну. В течение последних лет редакция этого журнала во главе с главным редактором Ивом Бруссаром многое сделала для популяризации советской литературы во Франции. Несомненно, что издание подобного номера журнала является заметным событием в литературной жизни двух народов, служит укреплению традиционных советско-французских литературных связей.
Нам уже приходилось говорить о плодотворной деятельности редакции другого французского журнала- «Эроп», основанного в свое время Роменом Ролланом, а ныне возглавляемого писателями Пьером Га- марра и Шарлем Добжинским. Много страниц посвящает этот журнал иностранным литературам, творчеству крупнейших писателей мира, пропаганде дружбы между народами, идей гуманизма. В недавнем прошлом совместными усилиями советских и французских лите322
раторов был создан номер «Советская Арктика». В номере «Литературная Грузия» читатели журнала «Эроп» встретятся впервые с грузинскими прозаиками Н. Дум- бадзе, Р. Чейшвили, С. Клдиашвили, Р. Мишвеладзе, поэтами И. Абашидзе, А. Каландадзе, А. Чарквиани, Г. Гегечкори, критиком Г. Асатиани, деятелями театра, кино, художниками.
Два номера посвятил советской поэзии индийский журнал «Поэт». В письме главного редактора Кришны Шриниваса в Союз писателей СССР есть такие слова: «Тысячи людей на всех континентах, которые каждый месяц читают журнал, будут благодарны вам за сделанный им подарок. Мы любим Советский Союз и ваш великий народ, заслуживающий всемерного восхищения».
Слова благодарности Союз писателей СССР получил и от редакции итальянского журнала «Ридотто», выпустившего номер «Советский театр». Разнообразный по тематике номер ознакомил итальянских читателей с творчеством таких советских драматургов, как А. Салынский, В. Розов, Э. Ветемаа, Г. Горин, Р. Ибрагимбеков, Э. Радзинский, А. Гельман, И. Чи- гринов, М. Карим, Б. Васильев, А. Софронов, А. Арбузов, опубликовал фотомонтаж о театральных спектаклях страны.
В свою очередь советский журнал «Театр» познакомил нас с творчеством итальянских драматургов. В скором времени в Италии выйдет еще пять литературных журналов с советскими материалами, в том числе журналы «Стибл», «Новолунарио», «Троянский конь». Стихи советских поэтов М. Танка, М. Дудина, Д. Кугуль- тинова будут также включены в антологию «Мировая поэзия в борьбе за мир», которая готовится сейчас в Италии.
К сожалению, невозможно рассказать обо всех журналах, редакции которых трудились или трудятся над советскими номерами. Назову лишь некоторые: «Паннония» (орган венгерских и австрийских издателей), «Жвандун» (Афганистан), «Нандан», «Чилдренз уорлд» (Индия), «Крейн бэг» (Ирландия), «Аль-абад аль-адж- набийя» (Сирия), «Баррикада» (Никарагуа), «Магазин литтерэр» (Франция). Параллельно с журналами за рубежом готовится немало сборников, в составлении которых принимают активное участие советские литераторы.
323
В год 60-летия образования СССР за помощью к советским писателям обратились Союз малийских писателей в лице его генерального секретаря Гауссу Диавара, перуанский поэт Уинстон Оррильо, возглавляющий издательство «Каусачан», сирийский поэт, ныне аспирант Института востоковедения Айман Абу Шаар. Все они готовят сборники, а последний-трехтомную антологию многонациональной советской поэзии. На арабском языке советская поэзия в столь полном объеме будет представлена впервые.
Недавно в Хельсинки вышел сборник стихов советских и финских поэтов, получивший название «Парус». Составители так определяют его замысел: «На четырех языках говорят на берегах Финского залива: на русском, финском, шведском и эстонском. Четыре ветви четырех поэзий под парусом белой ночи сплетаются в единый гимн красоте этого удивительного мира... И мы решили по обоюдному согласию в одной этой праздничной книге закрепить единство четырех поэзий, устремленных к человеческой радости». Появление книги стало возможным благодаря инициативе известного советского поэта Михаила Дудина, деятельному участию союзов писателей СССР и Финляндии, общества «Финляндия - СССР».
К этому следует добавить, что итогом совместной творческой работы писателей разных стран являются и сборники «Москва - Берлин», «Москва - Дели», «Москва-Хельсинки», «Европа-XX век».
Большую работу проводят смешанные комиссии СП СССР и союзов писателей Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии по сотрудничеству, переводу и изданию художественной литературы. Укрепляются связи с литературами героического Вьетнама: в СССР вышли в свет двенадцать книг 15-томной серии «Библиотека вьетнамской литературы», с каждым годом увеличивается и число изданий советских авторов в СРВ. В Финляндии усилиями восьми издательств создана серия «Советская литература», в которой к настоящему времени издано более шестидесяти книг советских писателей. Десятитомная «Библиотека финской литературы» явилась как бы нашей ответной акцией на инициативу финских издателей.
Следует назвать также такие цифры: за два года Союзом писателей СССР послано за рубеж более трех тысяч машинописных страниц параллельного текста про- 324
изве дений более четырехсот советских писателей. Примечательно, что за перевод этих текстов на многие языки мира берутся ведущие переводчики. И все большее число зарубежных читателей понимает, что наш творческий метод не декретирован, а рожден потребностями революционного преобразования мира, его духовного обеспечения, как метко определил Александр Твардовский.
Советская литература всегда стремилась расширять и углублять свои творческие связи с литературами других стран, в том числе с американской. В СССР уделяется много внимания переводу произведений американской литературы во имя общих целей-взаимопонимания и взаимного уважения между нашими народами. Советские читатели хорошо знакомы с творчеством прогрессивных американских писателей. Только за последние годы журнал «Иностранная литература», например, ознакомил многомиллионную аудиторию советских читателей с произведениями таких писателей, как Дж. Болдуин, Дж. Джонс, К. Воннегут, Т. Капоте, Р. Стоун, С. Теркел, Р.-П. Уоррен, Н. Мейлер, П. Смит, У. Стайрон, И. Шоу, и многих других-всего тридцать восемь имен.
В свою очередь американский журнал «Шот сториз интернэшнл» опубликовал рассказы Н. Думбадзе, Ю. Бондарева, В. Распутина, Ч. Айтматова, М. Чибо- тару; журнал «Атлантик»-рассказ Ю. Нагибина.
В истории наших отношений с США были периоды творческого взаимопонимания и периоды обострения существующих разногласий. Та история, которая разыгрывается в последнее время в печати США вокруг нашей страны, заставляет задуматься о перспективах наших творческих контактов. Уверен, однако, что писатели не могут, не должны выступать «с позиции силы», не могут поддерживать чаяния реакционных кругов, как не могут и оставаться пассивными наблюдателями происходящего. На карту поставлена сама жизнь, судьба цивилизации, и абсолютное большинство человечества всем сердцем-за разрядку международной напряженности, за упрочение мира, за мир без войн.
Многонациональная советская литература всегда отдавала свои таланты миру. Ценой невосполнимых жертв она доказала свою верность защите мира против злейшего врага человечества-фашизма. В первые же дни Великой Отечественной войны 953 советских писа325
теля оказались в рядах Советской Армии, что составляло по тем временам половину Союза писателей СССР. Многие писатели отдали жизнь за свое Отечество. Радостно сознавать, что интерес к подвигу советских людей не остывает и за рубежом. В. Богомолов, А. Адамович, В. Астафьев, В. Быков, Е. Носов, Г. Бакланов, Я. Брыль-произведения этих прозаиков включены в сборник военной прозы, состав которого Союз писателей СССР помогает скомплектовать для Всеобщего союза палестинских писателей и журналистов. Над этой же темой работает в Москве иракский писатель, дипломант Литературного института имени А. М. Горького Саади аль-Малех.
Мы не мыслим своего литературного развития без общения с другими литературами, без изучения их творческого опыта. Все более глубокое знакомство с культурной сокровищницей других народов вдохновляет нас, дает новые импульсы к творчеству.
Известно, что в Советском Союзе уделяется большое внимание художественному переводу. В решении этой задачи участвуют более ста журналов и газет, общий тираж которых-12 миллионов экземпляров. Все они публикуют зарубежных авторов, год от года расширяя представления советских людей о литературе других наций и народов.
Можно напомнить, что за годы Советской власти в нашей стране издано 45 миллионов экземпляров книг Джека Лондона, 27 миллионов - Чарлза Диккенса, 31 миллион-Виктора Гюго, 29,4 миллиона-Оноре де Бальзака, 25,5 миллиона-Марка Твена, 21 миллион- Эмиля Золя, 24,2 миллиона -Жюля Верна, 21 миллион- Теодора Драйзера, 19 миллионов-Ги де Мопассана, 14 миллионов-Джона Голсуорси, свыше 10 миллионов- Лиона Фейхтвангера, 5 миллионов-Генрика Сенкевича, около 5 миллионов - Болеслава Пруса, 4 миллиона- Анны Зегерс, 3 миллиона-Михаила Садовяну, около 3 миллионов - Ивана Вазова.
В капитальном издании 200-томной «Библиотеки всемирной литературы» (1967-1978 гг.), которое является одним из крупнейших в мире издательских начинаний такого рода, 137 томов посвящены зарубежным литературам. В них представлено творчество свыше 2600 писателей из большинства стран мира.
326
Книги зарубежных авторов переводятся на языки многих народов нашей страны. Так, произведения Вильяма Шекспира издавались в СССР на 28 языках, Виктора Гюго-на 46, Лу Синя-на 23, Генрика Сенкевича-на 24, Ивана Вазова, Шандора Петефи-на 18, Генриха Гейне-на 20 языках и т. д.
Особенно быстро растут тиражи переводной литературы после Хельсинкского совещания. Если в 1975 году в СССР было издано 80 миллионов экземпляров книг зарубежных авторов, то в 1976 году-уже 98 миллионов, а в 1979 году общий тираж этих изданий достиг 113 миллионов экземпляров.
Следует подчеркнуть, что наряду с произведениями классиков зарубежных литератур советские издательства систематически и в широких масштабах знакомят читателей с произведениями современных зарубежных авторов. Так, за последние годы выдержали по нескольку изданий книги Дж. Апдайка, Р. Брэдбери, К. Воннегута, Дж. Сэлинджера, Р.-П. Уоррена, Дж.-К. Оутс (США); Ч.-П. Сноу, И. Во, А. Мердок, А. Силлитоу, Дж. Уэйна, Дж. Олдриджа, Дж.-Б. Пристли, С.-Н. Паркинсона (Великобритания); Э. Базена, Л. Арагона, Б. Клавеля, Р. Мерля, М. Дрюона, Ф. Саган (Франция); многих современных писателей Италии, Испании, ФРГ, Швеции, Японии, Австралии и других стран.
По данным ЮНЕСКО, в СССР выходит переводной литературы в пять раз больше, чем в Англии, в два раза больше, чем в Японии, США и Франции. За годы, минувшие после совещания в Хельсинки, в Советском Союзе издано свыше 8500 произведений зарубежных авторов. Книги зарубежных писателей переводятся, естественно, не только на русский язык, но и на языки большинства народов нашей страны.
Последовательное осуществление хельсинкских договоренностей, верность традициям писателей старшего поколения, выступавших против фашизма и реакции в 30-40-х годах, обязывает нас продолжать постоянный творческий диалог с литераторами всех континентов. Борьба за международную безопасность, за устойчивое и прочное счастье людей, не омраченное гибельной перспективой ядерной катастрофы,-нет сегодня задачи важнее, и советская литература, сознавая это, помогает прокладывать пути в будущее, в эпоху без военных столкновений, без подавления одного народа другим, без диктата силы.
Чингиз Айтматов
ЭХО МИРА
(Злободневные мечтания)
Тайны богов и воля люден. Жизнь «по-старому» и жизнь «по-новому». Как бы об этом написал Толстой? Современна ли современная литература? Библейские пророчества и реальный «конец света». Кто он- положительный герой?
Начну с утверждения, с моей точки зрения, отнюдь не парадоксального, напротив, понимаемого мной безусловно однозначно.
Настало время судить о литературе с позиции не только традиционных эстетических идеалов, но прежде всего с высоты самых насущных и жестких требований дня.
Расщепив атом, человечество вторглось в такие тайны мироздания, которые, казалось, доступны и подвластны только «богам». Все зависит отныне от нас, от воли людей-мы держим в руках могучую энергию Вселенной. При разумном использовании она может принести великие блага, но легкомыслие, безответственность чреваты угрозой невиданной катастрофы-исчезновения всего живого на планете. И что же обнаружилось? Тяжко, страшно быть «богом». Так вот. Если современная литература не способствует тому, чтобы люди, ставшие «богами» над самими собой, ощущали себя все-таки сначала людьми, если она не способствует возвышению и распространению высшей идеи человечества-социалистического гуманизма, идеи, которую мы обязаны противопоставить бездуховности, бесчеловечности империализма и милитаризма, то эта литература не может претендовать на статус современной.
Если литература способствует преобладанию в мире главной мысли эпохи, ведущей к рождению нового сознания, к взаимопониманию между обществами, народами, отдельными людьми,-это наисовременнейшая литература.
Мне представляется, что судить себя и других надо 328
исходя из этих требований. Вся так называемая текущая литература должна быть к этому устремлена. Миссия ее в том, чтобы в своем живом развитии она помогла породить мыслителей-художников типа Толстого или Достоевского наших дней.
Почему типа Толстого? Почему типа Достоевского?
Потому что они-«эталоны» художественного самопознания действительности. Не случайно сразу же по выходе романа «Братья Карамазовы» И. Н. Крамской писал в одном из своих писем: «После Карамазовых (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все это идет по-старому и что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня Судного».
И все-таки жизнь идет «по-старому» и... «не по-старому».
Каким был до и стал после Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Маяковского мир и человек в мире?
Сколько поистине гигантских шагов в своем художественном развитии сделало человечество благодаря им!
Я не думаю, что классикам было легче пробиться к душе человека. Это никогда не бывает «легче».
Другое дело, что любое произведение, написанное нынешним автором, неизбежно прочитывается на фоне Пушкина.
Кстати, этот «фон» остро чувствовали такие гении русской литературы, как Толстой, Достоевский, Блок. Недаром первый из них называл Пушкина «отцом».
Мне кажется, всякий сегодняшний писатель, берясь за какую-либо самую архисовременную тему, не может не задаваться вопросом: а как об этом написал бы Толстой?
Личность-подтекст творчества.
Подражать в литературе-дело безнадежное.
Суть же истинного, стало быть, современного твор329
чества в другом. Толстой размышлял и об этом: чтобы быть в состоянии сказать нужное и важное людям, писатель должен быть участником «общей жизни человечества».
«Общая жизнь человечества» сегодня, от чего зависит состояние, то есть историческое и нравственнофилософское мироощущение художника, призванного сказать нужное и важное людям,-это и Октябрьская революция, и победа над фашизмом, чумой XX века, и выход человечества в космос, и, наконец, всеобщая тревога за всеобщую судьбу всех нас.
Важно осмыслить эти всемирно-исторические прозрения, потрясения, принципиальным образом повернувшие и изменившие судьбу человечества, как события личной духовной жизни.
Осмыслить-прежде всего выстрадать.
Говоря иными словами, писатель (кто, по определению Горького, не нянька собственной души, а эхо мира) обязан выстрадать историю.
Только в том случае, если вся его душа переполнена болью, негодованием и любовью, он имеет моральное право называться писателем, ибо только так и можно «служить литературе», а не служить в ней или при ней.
Я уверен, необходимо вернуть истинный смысл понятиям, выражающим суть и назначение искусства, которые были священны для тех, кого мы сегодня величаем классиками, и не стесняться признать, что они мыслили масштабнее, смелее, чем мыслят многие из нас, желающих «мыслить лучше».
Легко сетовать, что классикам «повезло»: они, мол, не дожили до Хиросимы и Нагасаки, до фашистских концлагерей смерти, до безумия страха, охватившего ныне человечество перед угрозой самоистребления, до...-удалось бы им с той же непревзойденной художественной мощью выразить все это?
Я же уверен, что ожидание художников типа Толстого и Достоевского (сумевших в свое время потрясти человека изображением невероятных бездн и вершин его духа, пытавшихся угадать и выявить наглость зла, унижающего и оскорбляющего человека,- и все во имя того, чтобы заставить его любить жизнь во всех ее бесконечных проявлениях) сегодня продиктовано самой насущной, не терпящей отлагательств надобностью и потребностью.
Увидеть и понять, каков он, сегодняшний мир, ка330
ковы мы, сегодняшние люди,-значит прежде всего стать не только свидетелем великого зрелища бытия, но и творцом яростно-прекрасного мира, сегодняшнего и будущего. Значит, испытать ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к бессмертию человеческого духа, ибо, сознательно участвуя в бесконечном процессе созидания, человек ищет себя и свое место во времени и пространстве.
Не хочу, чтобы читатель считал меня человеком, неспособным увидеть и оценить то интересное, что уже существует в литературе при нас.
Если взять в целом мировую литературу-от Шолохова до Фолкнера, от Томаса Манна до Леонова, от Ауэзова до Маркеса, то нам есть над чем размышлять всерьез. И наши мысли и чувства запечатлены этими писателями в спектре литературы XX века с достаточной силой.
Это еще одна причина, почему, решая-современна ли современная литература наших дней и насколько современна?-надо судить себя по самой верхней нравственно-эстетической отметке.
Когда же мы судим о современной литературе в пределах НТР, в пределах локальных событий, в пределах только тематических пластов, в пределах риторикодекларативной поэзии, а порой в рамках прописных истин, выдаваемых и воспринимаемых как откровение, разговор не может быть полноценным и перспективным.
Не объясняется ли это обстоятельство, в частности, тем, что сегодня действительно все труднее потрясти человека силой искусства-болевой порог резко повысился: даже библейские пророчества «конца света» стушевались и совсем уже стали наивными перед тем ужасом, какой дамокловым мечом навис над человечеством?
Неужели и в самой жизни нет ничего, что бы уже теперь не восстало против грозящей катастрофы и в чем литература могла бы черпать новые, неведомые ей, не- испробованные силы?
Разумеется, есть. Не может не быть.
Всегда ли мы умеем увидеть, распознать это-вот в чем вопрос.
Мне приходилось уже рассказывать одну потрясшую меня историю. Повторю ее, чтобы со всей очевидностью проиллюстрировать мою мысль.
Это было сравнительно недавно. Видавшая виды 331
американская пехота, окопавшись на краю джунглей, вела мощный обстрел крупнокалиберными снарядами позиций вьетнамских бойцов, находившихся на противоположном краю поля. Огонь был шквальным, рассчитанным на то, чтобы стереть с лица земли все живое и неживое.
А в это самое время под навесным артиллерийским огнем, под грохот и взрывы снарядов шли по полю пахари, следуя за плугами, нарезая борозду за бороздой. Шли, не поднимая голов. А за ними размеренным шагом сеятелей следовали женщины, бросая семена в землю.
И это священнодействие, воспетое и возблагодаренное еще в текстах ветхозаветных пророков, жизнеутверждающее шествие сеятелей, было символом неистребимости народного духа, противопоставлением извечного труда и разума смертоносной войне.
Эту сцену увидел и описал один американский журналист, которому принадлежат горькие, но правдивые слова позора, стыда и отрезвляющего прозрения: «Мы их никогда не победим! Мы проклятые воители!» Каким же должно быть современное искусство, чтобы иметь моральное право говорить от имени этих людей?! От имени самой жизни, которая в образе пахаря идет против смерти?!
Ныне человечество совершает свой неимоверно тяжкий и благородный путь под «навесным огнем» разного рода крупнокалиберных снарядов, будь то смертоносные артиллерийские или снаряды буржуазной пропаганды, нацеленные в души людей и рассчитанные на то, чтобы оставить от человека пустую оболочку.
Помнится, Лорка сказал, что поэт-творец современных мифов.
Но разве порой не меркнет любой миф перед непридуманной жизнью?
На сегодняшний день в идеологическом арсенале Пентагона насчитывается 1850 периодических издании, в том числе 366 журналов и 1038 военных газет, разовый тираж которых превышает 12 млн. экз.
Г. Шиллер, американский ученый
332
Возможно, спустя столетия наша реальная история станет восприниматься как легенда и будущие участники одной из подобных дискуссий сломают немало копий в поисках ее корней. И может быть, подумают о наивнофантастическом миросозерцании, присущем человечеству в седом прошлом, то есть в XX веке.
Не хочется, чтобы кто-то из них, опустившись из заоблачных высей абстрактных рассуждений, высказал и такую точку зрения: «миф», коль скоро он родился и выдержал испытание временем, имел же он в основе своей нечто реальное, а не служил только сказкой для детей.
Эта реальность-мера нашей нравственности, активного гуманизма, гражданственности, неизбежная в любой сфере человеческой деятельности, если мы всерьез исповедуем идею, что человек-творец собственного отношения и к миру, и к самому себе.
Вне этого бесполезно говорить о концепции личности современного человека, идеал которого заявлен в литературе социалистического реализма - «положительный герой».
Создан ли его канонический образ? Убежден, что, ставя так именно вопрос, мы уже совершаем ошибку, ибо, вынужденные признать, что «нет», можем усомниться в самой идее «положительного героя».
Выскажу по ходу одно соображение.
Не упрекаем же мы Достоевского, мечтавшего о «положительно прекрасном человеке»: кого из его героев, с точки зрения иных нынешних критиков, можно было бы причислить к лику таковых? Ведь, пожалуй, никого.
И все-таки он есть. Этот герой-правда, которую в муках и борениях искал писатель вместе со своими героями. И та самозабвенная и самоотверженная любовь к правде, которую он воспитывал в читателе, в человеке.
Вернувшись к нашим делам, нужно не огорчаться, а благодарить судьбу, что «образ положительного героя» не поддается канонизации, что он не желает быть втиснутым в рамки регламентированных недальновидными критиками поступков, чувств, мыслей.
Задача состоит в том, чтобы изобразить «положительного героя» человеком мыслящей души. Современная литература современна настолько, насколько современен герой, ею изображаемый,-какой накал страсти способен он испытывать в борьбе за социальную справедливость, сколь велики его боль и тревога за судьбу 333
сегодняшнего мира, сколь глубока и остра его историческая память, его вера в будущее человечества.
Николай Тихонов говорил, что мировоззрение-внутреннее солнце поэта.
Так вот. Если в книге мы не ощущаем внутреннего света, присутствия солнца надежды, которое должно засиять, хотя бы небо было затянуто тучами, мало сказать, что такая книга несовременна-она тянет назад.
И подлинно современная литература, призванная помочь сделать правильный выбор человечеству и отдельному человеку, тогда лишь может надеяться, что выполнит свою миссию, если поднимется на высший уровень нравственно-философского и художественного мышления.
СОДЕРЖАНИЕ
СЛОВО-ПОЛКОВОДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЬЕЙ СИЛЫ
Л. Замятин. Борьба за умы людей 8
Р. Косолапов. «Силой разума и чувства...» 22
Гр. Оганов. К урокам одного исторического сопоставления ... 47
У. Гуральник. Атакующее слово 72
A. Беляев. Мифы Деминга Брауна 79
РАЗРУШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Я. Засурский. Литература и идеология в США 118
Ю. Каграманов. Европа и «американизм» 130
B. Молчанов. Шпиономания на книжном рынке 151
М. Салганик. «Люблю Люси», или Колонизация культуры ... 164
Е. Степанян, К. Степанян. Робинзонады одинокого сознания 174
Л. Токарев. Допустить нельзя! 193
РУССКАЯ КЛАССИКА ЗА РУБЕЖОМ
Т. Мотылева. Литература, открытая миру 214
Д. Затонский. Вклад Чехова 259
СИЛОЙ РАЗУМА И ЧУВСТВА
Е. Книпович. Память 282
А. Гулыга. Поиски пути 298
Н. Федоренко. Понимание через литературу 321
Ч. Айтматов. Эхо мира 328
П49 Поле битвы-сердца людей: Литература, искусство, культура-борьба идей, мировоззрений, политических систем-М.: Худож. лит., 1987.-335 с. (Серия: Империализм: События. Факты. Документы).
Борьба за умы и сердца людей активизируется в современном мире, отражает борьбу политических сил на мировой арене. «Шпиономания на книжном рынке», «Колонизация культуры», «Робинзонады одинокого сознания»...-эти и другие статьи известных публицистов и писателей, среди которых Л. Замятин, А. Беляев, Н. Федоренко, Ч. Айтматов, посвящены разоблачению антигуманной сущности реакционных направлений современной буржуазной литературы, искусства, культуры. * Э.
4603010102-031 028(01>87
п
ББК 83.3Р7
ПОЛЕ БИТВЫ-СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
Сборник статен
Составитель
Владимир Иванович Анзикеев
Редакторы :
Э. Гурецкая, В. Зуев
Художественный редактор
А. Максимов
Технический редактор Л. Зайцева
Корректор Г. Асланянц
ИБ № 4037
Сдано в набор 05.03.86. Подписано к печати А-10648 от 12.09.86. Формат 84х1081/?2- Бумага офсетн. № 1. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ.л. 17,64. Усл.кр.-отт. 18,27. Уч.-изд. л. 18,0.
Тираж 25000 экз. Изд. № IX-1566. Заказ № 282. Цена 70 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.