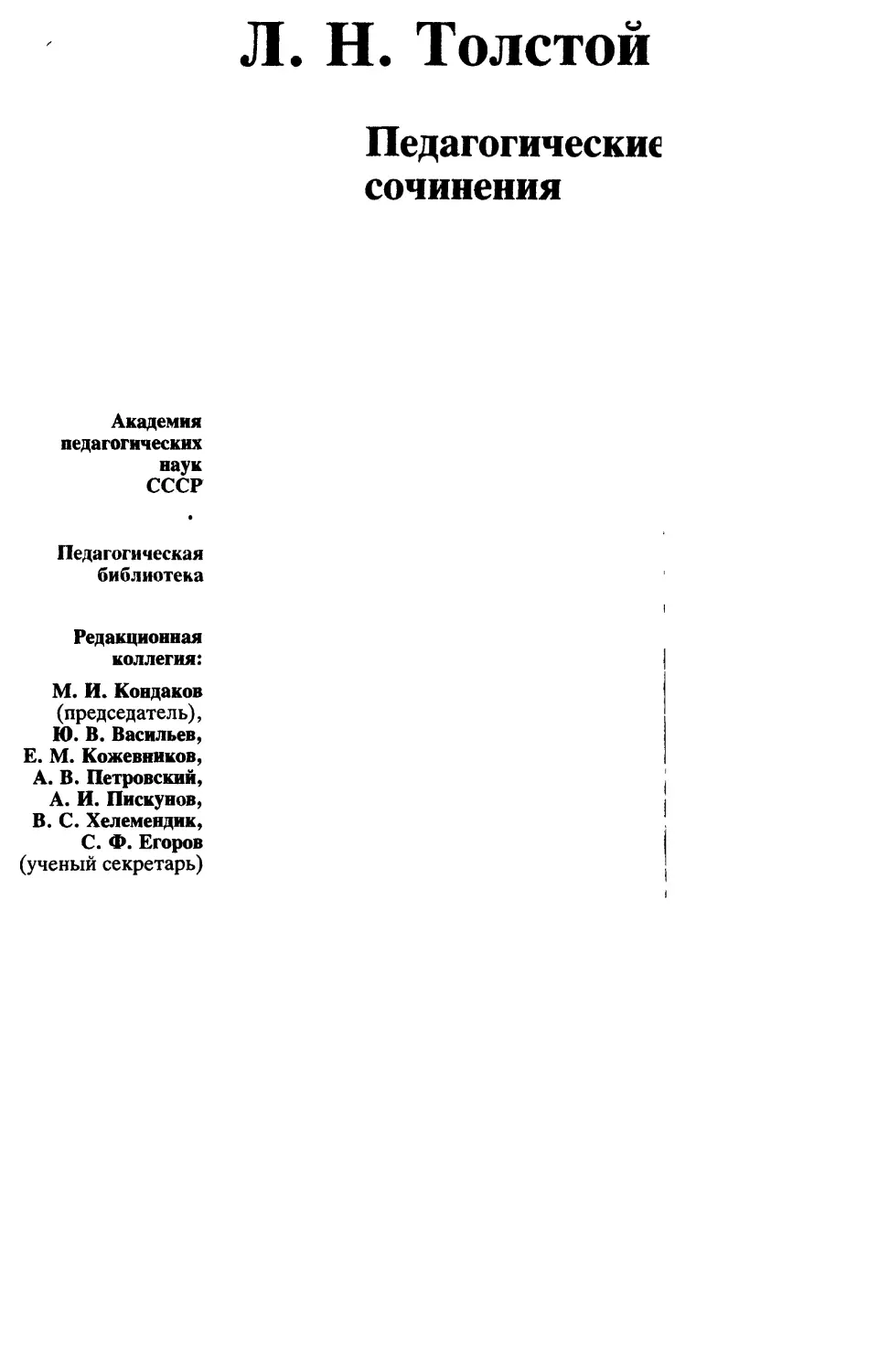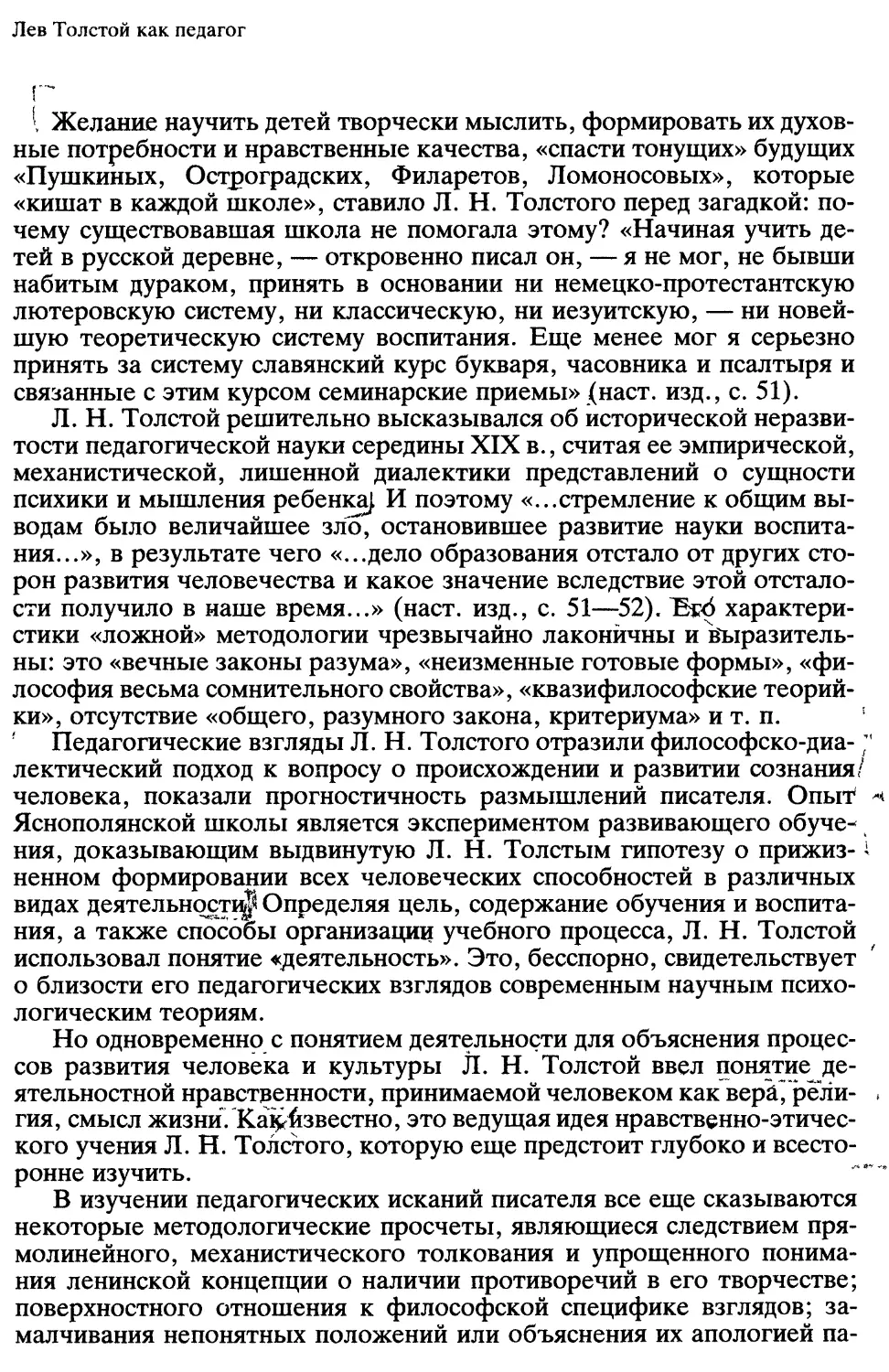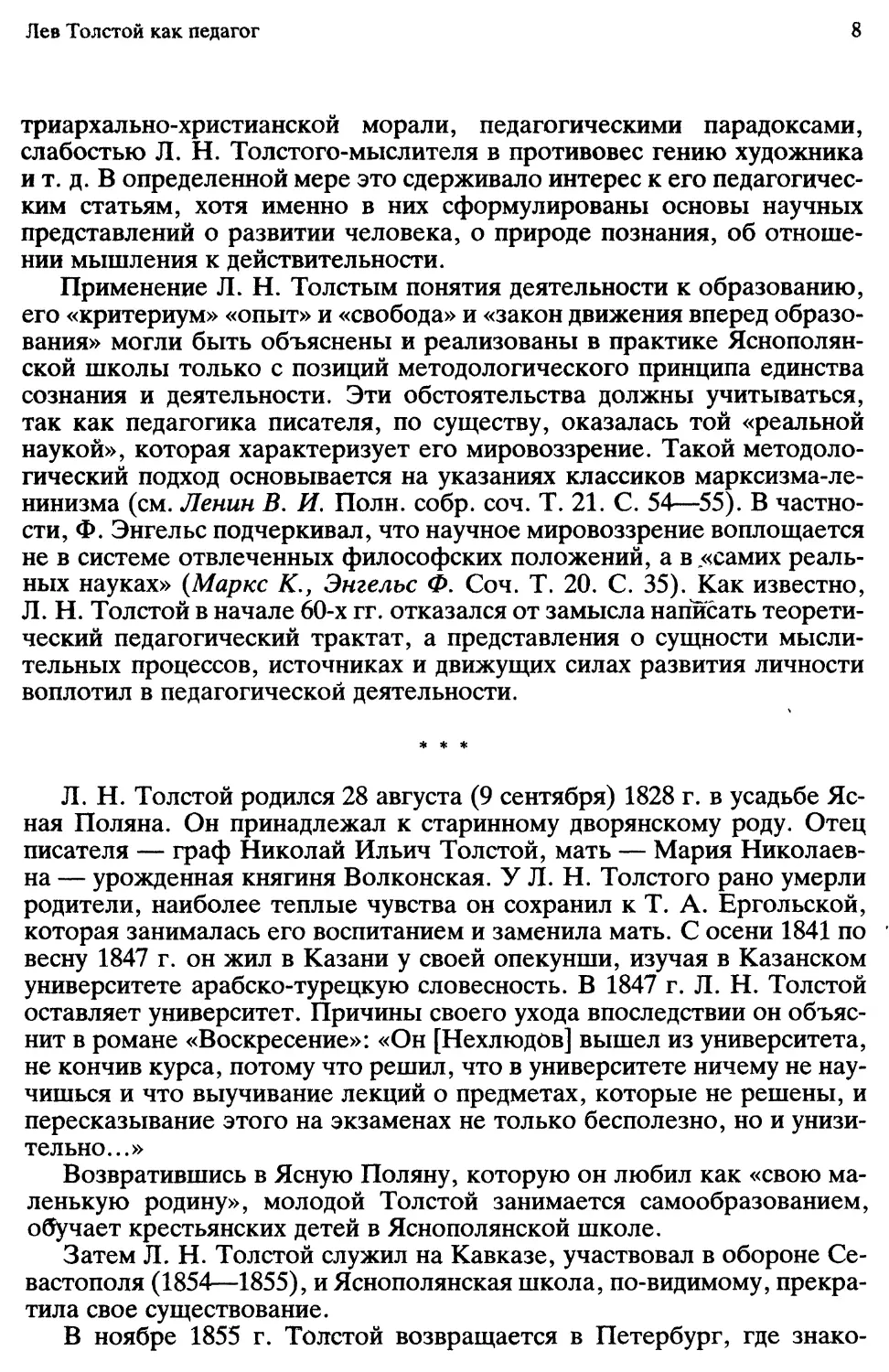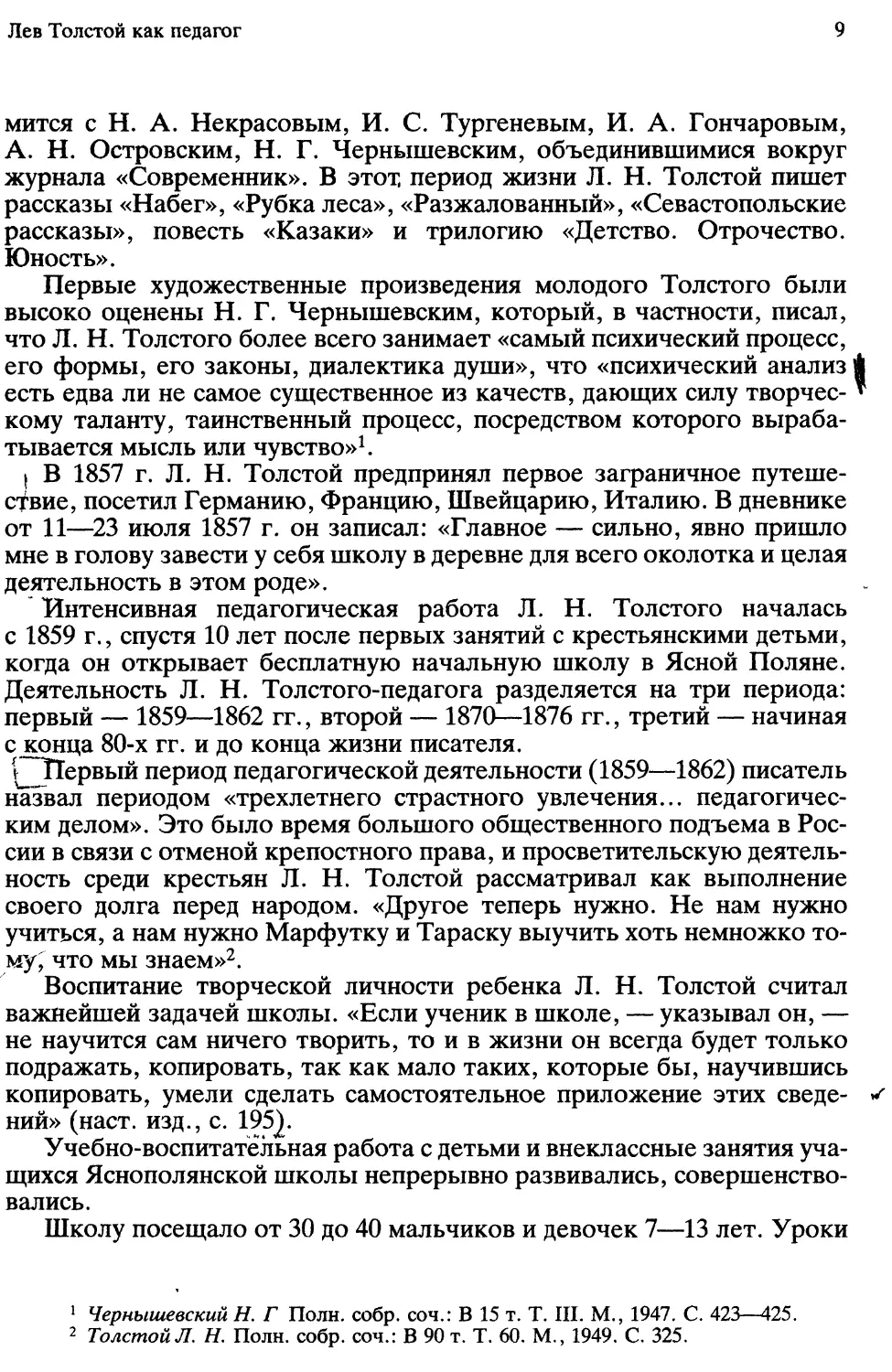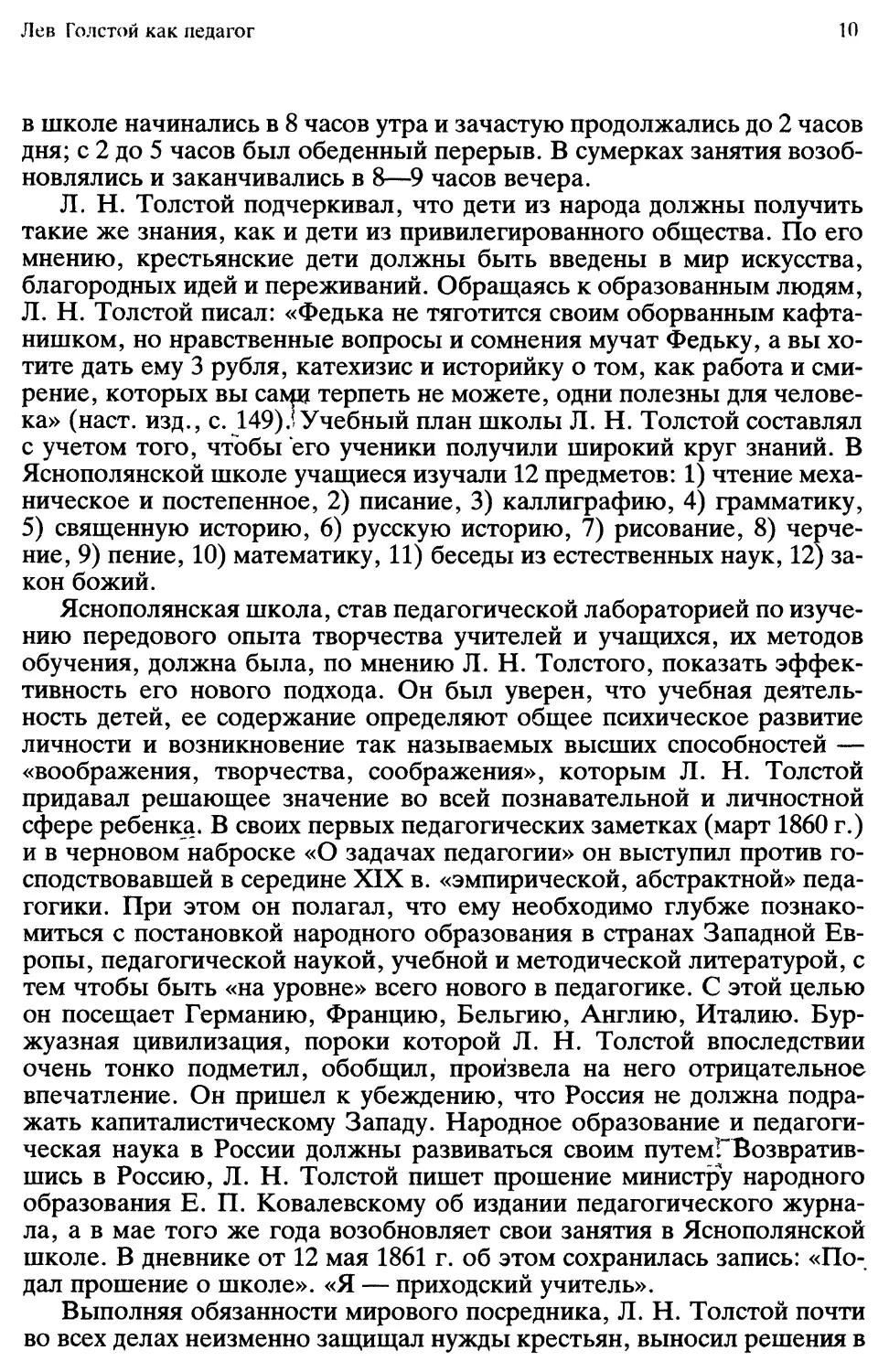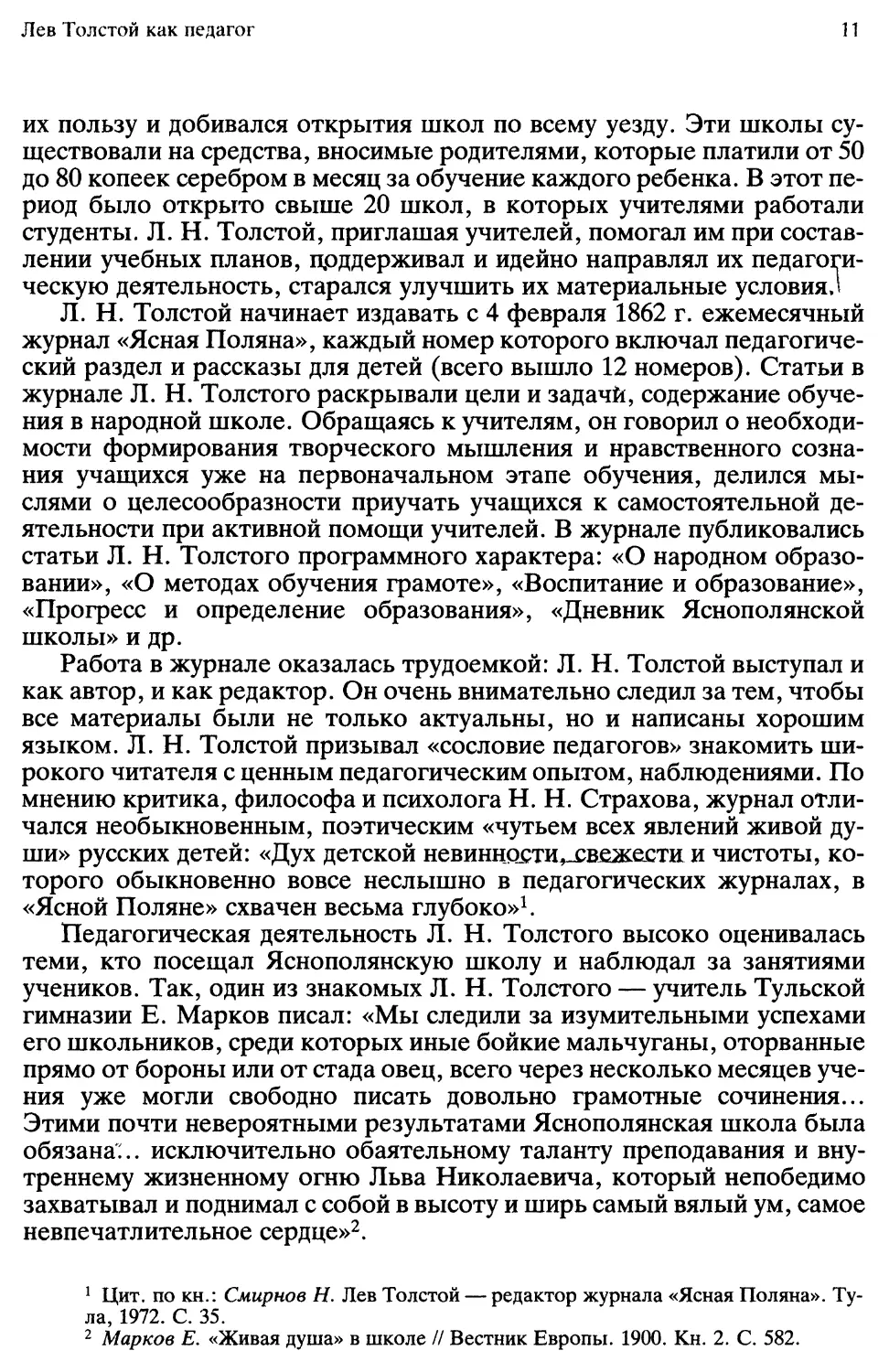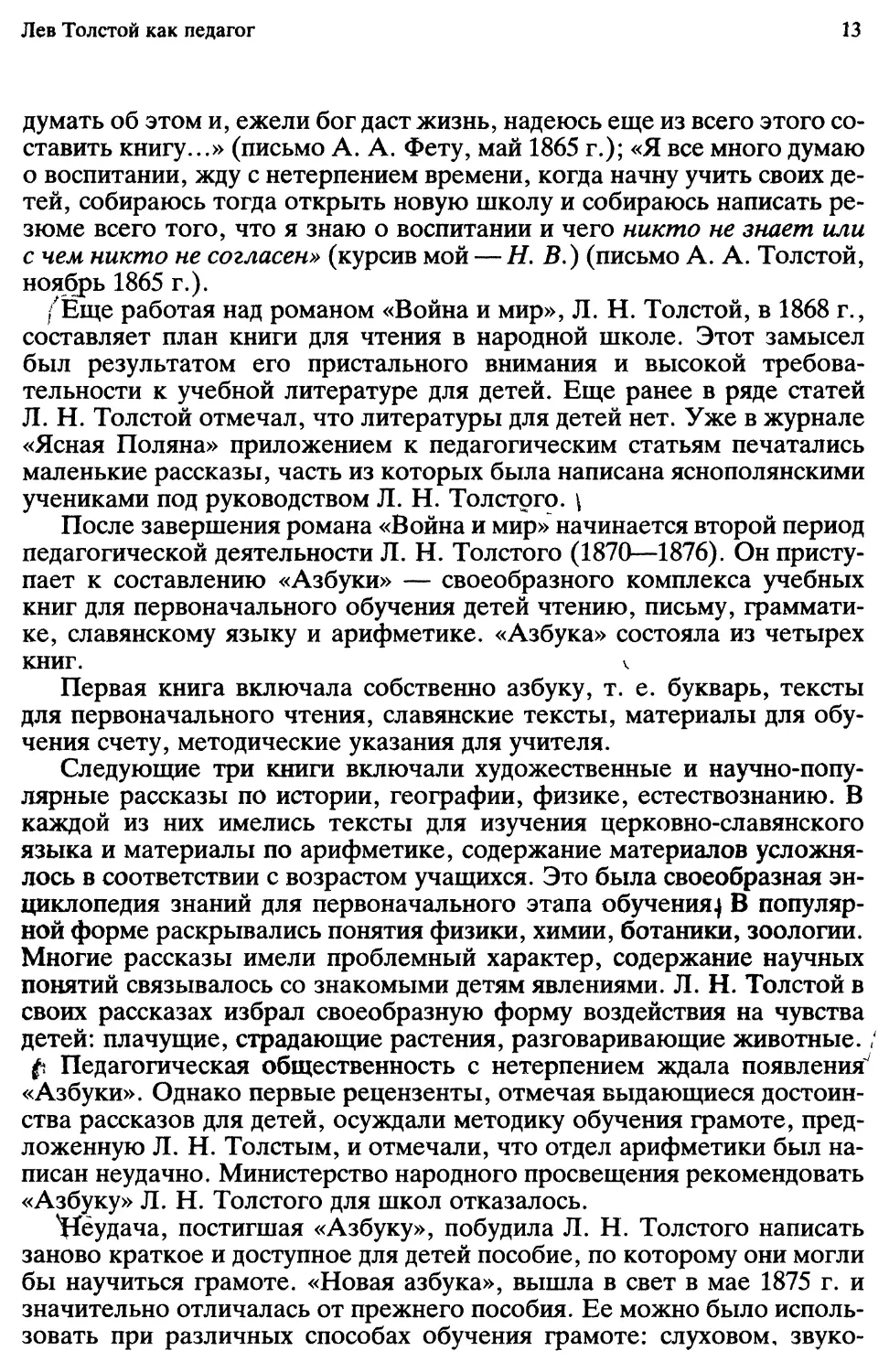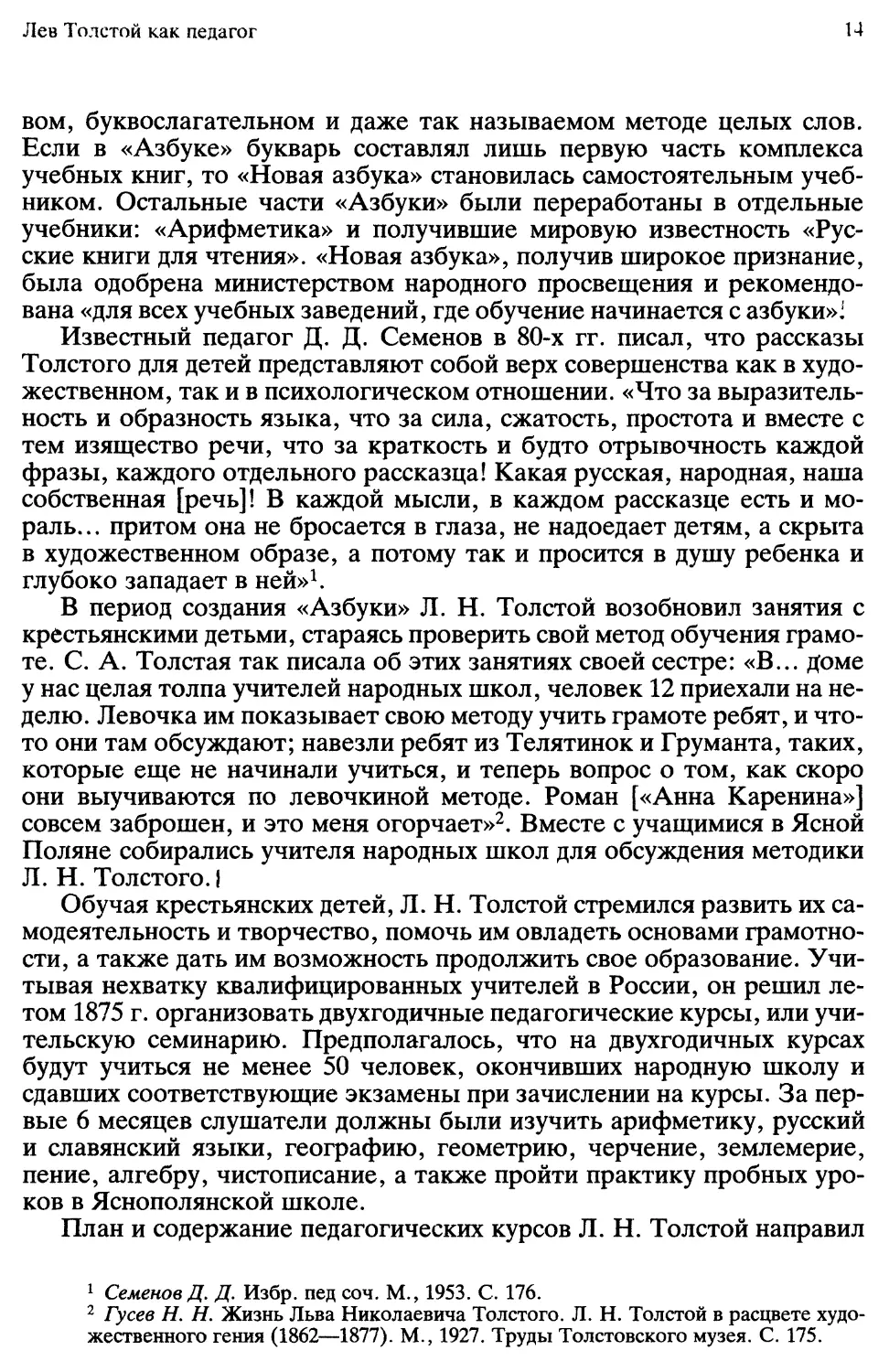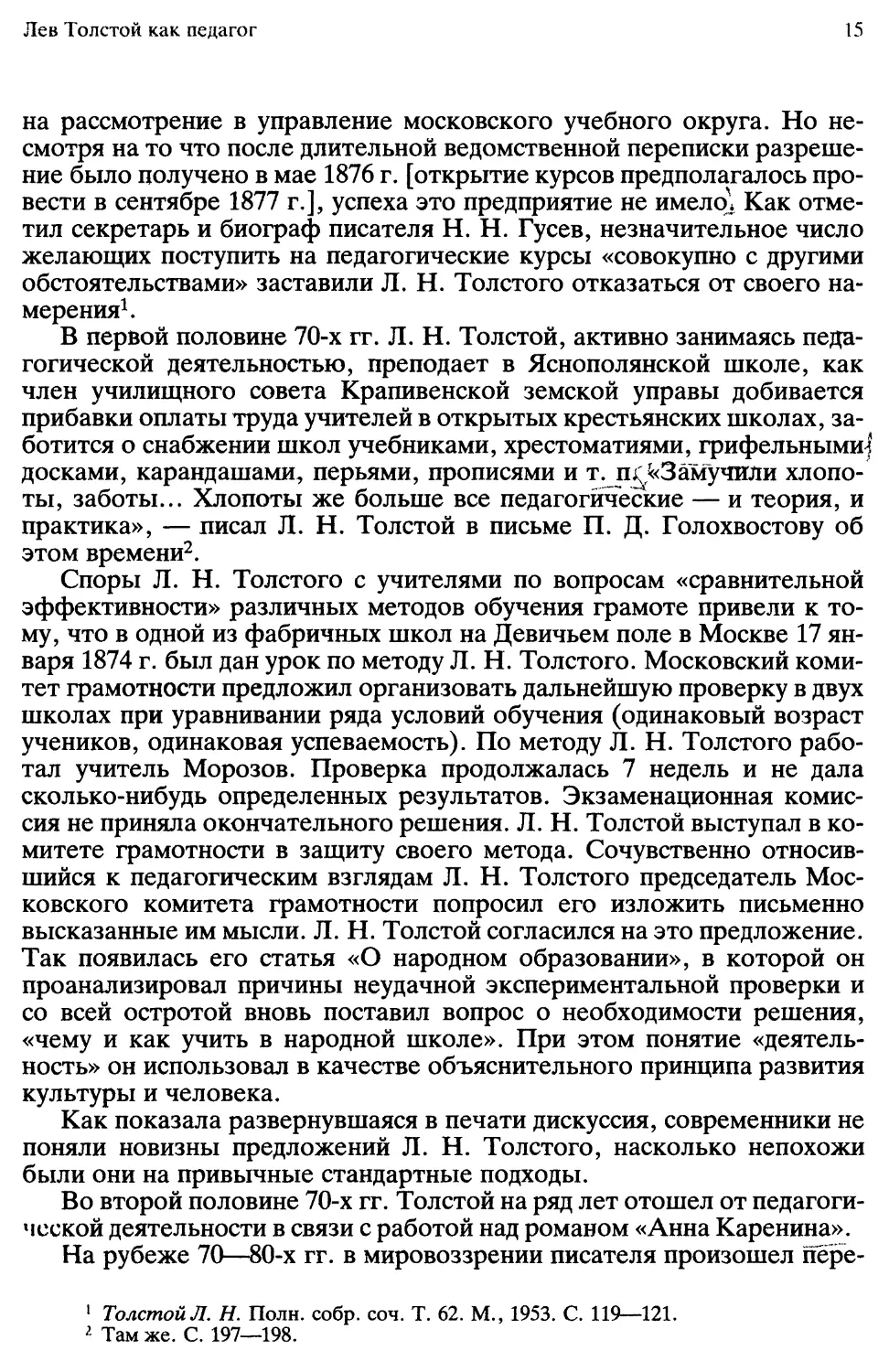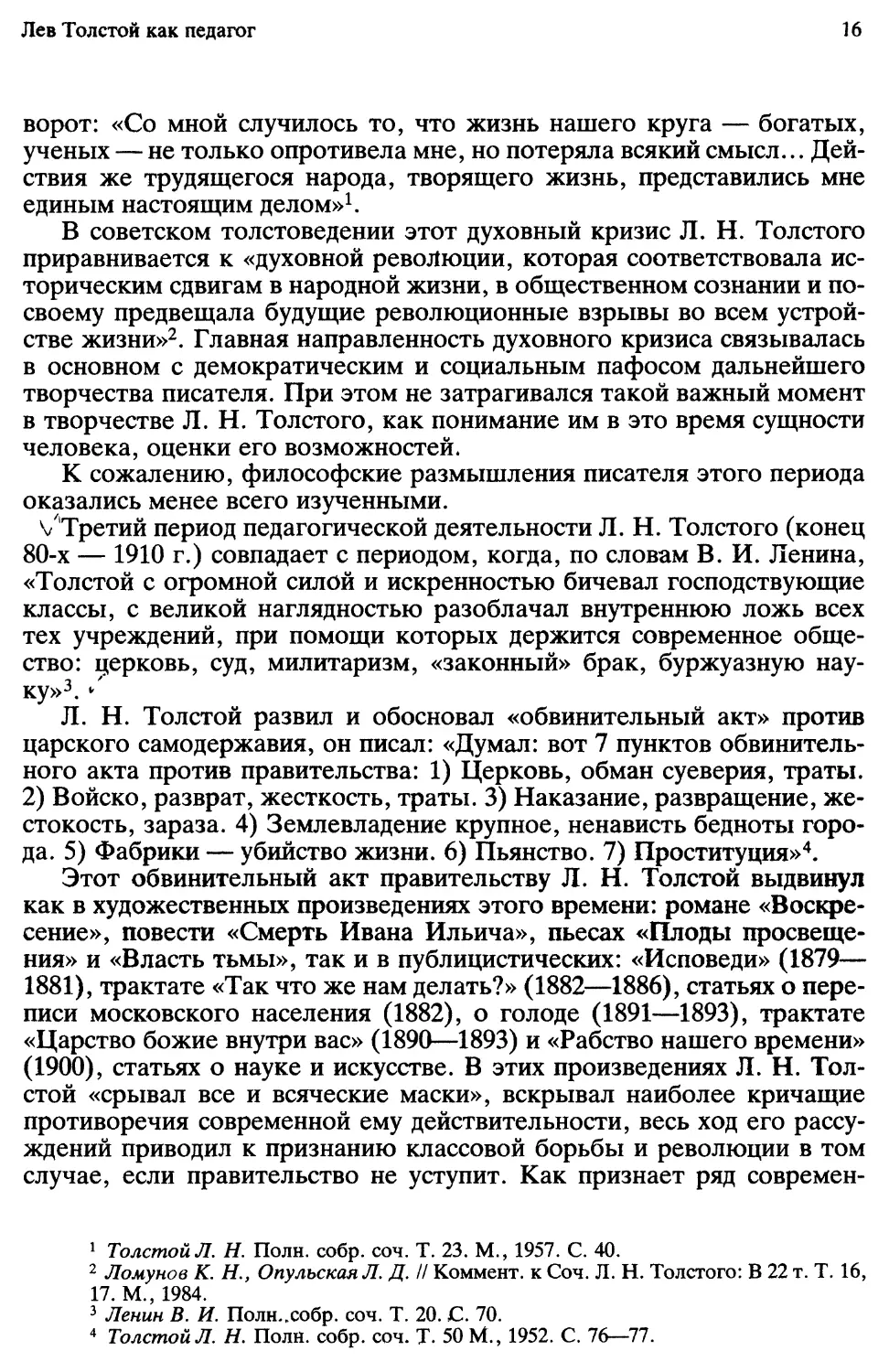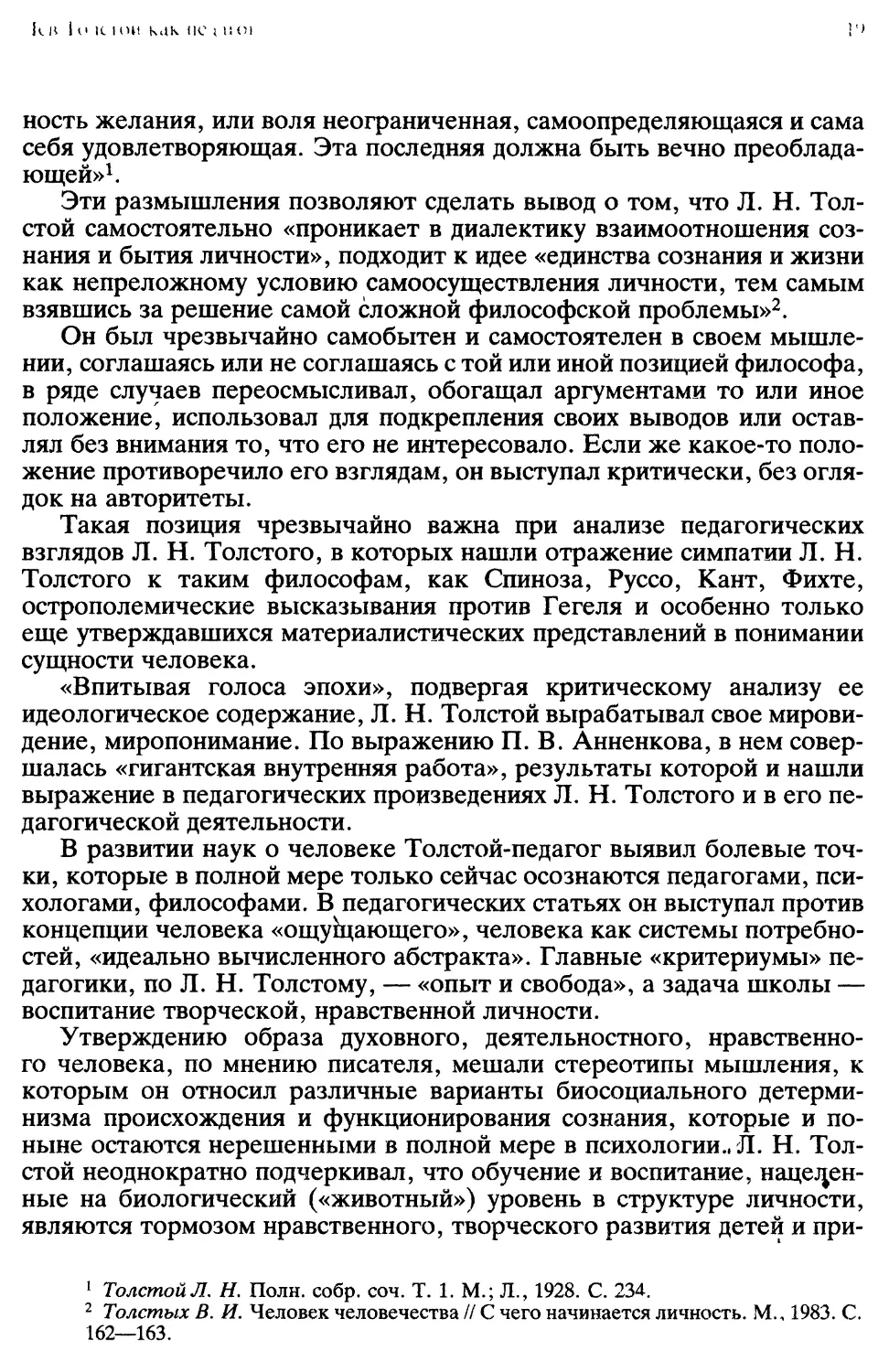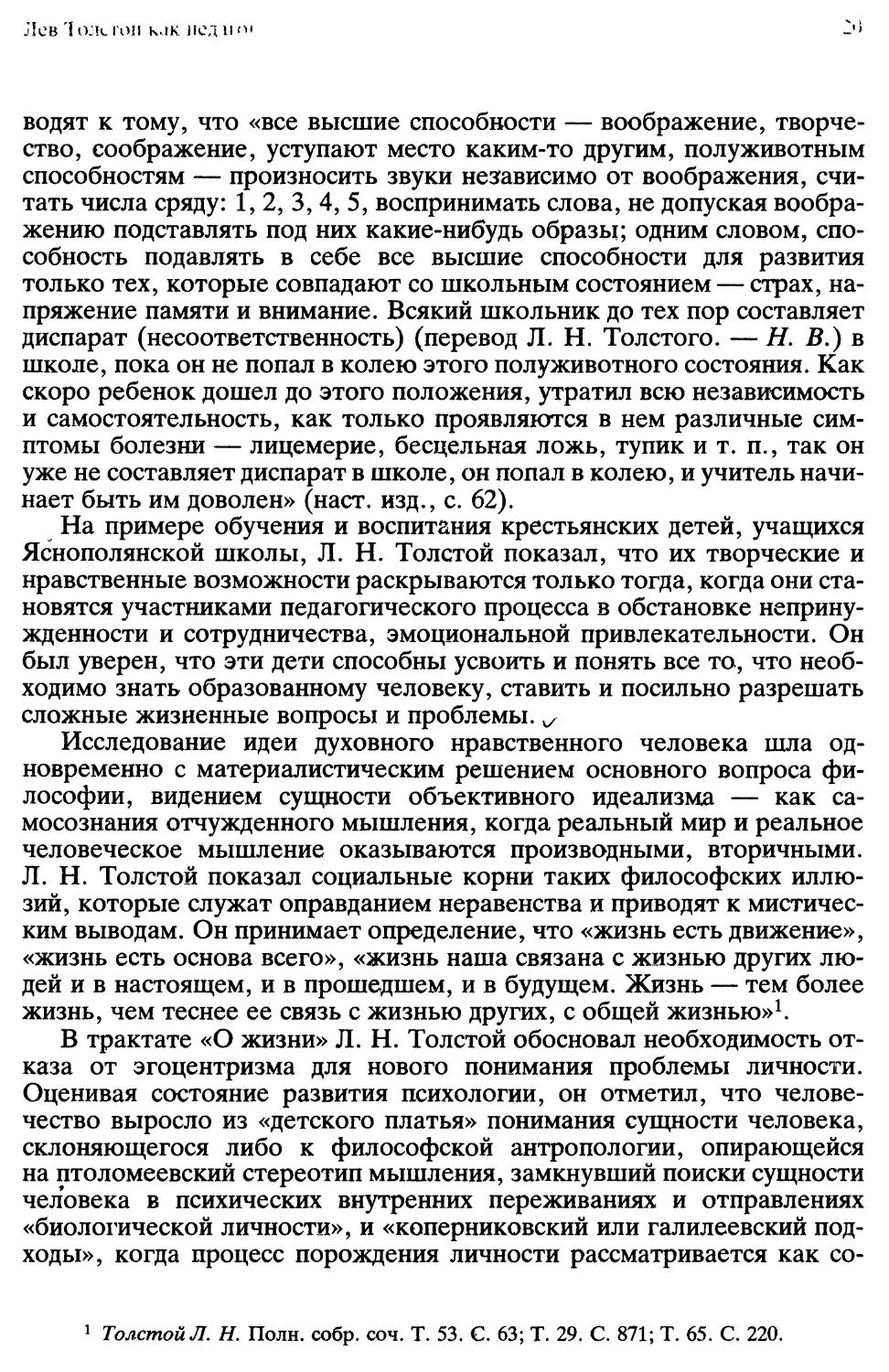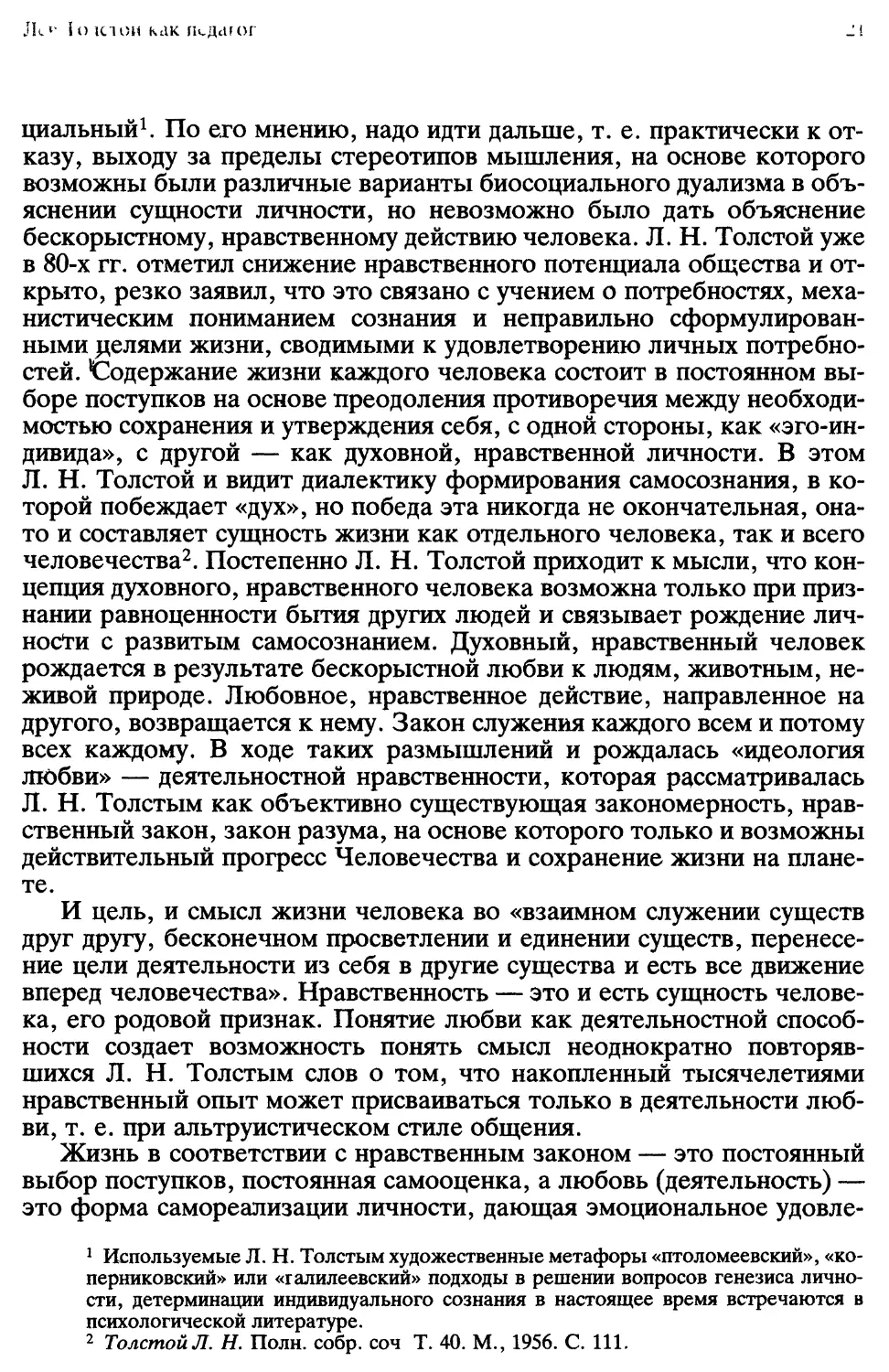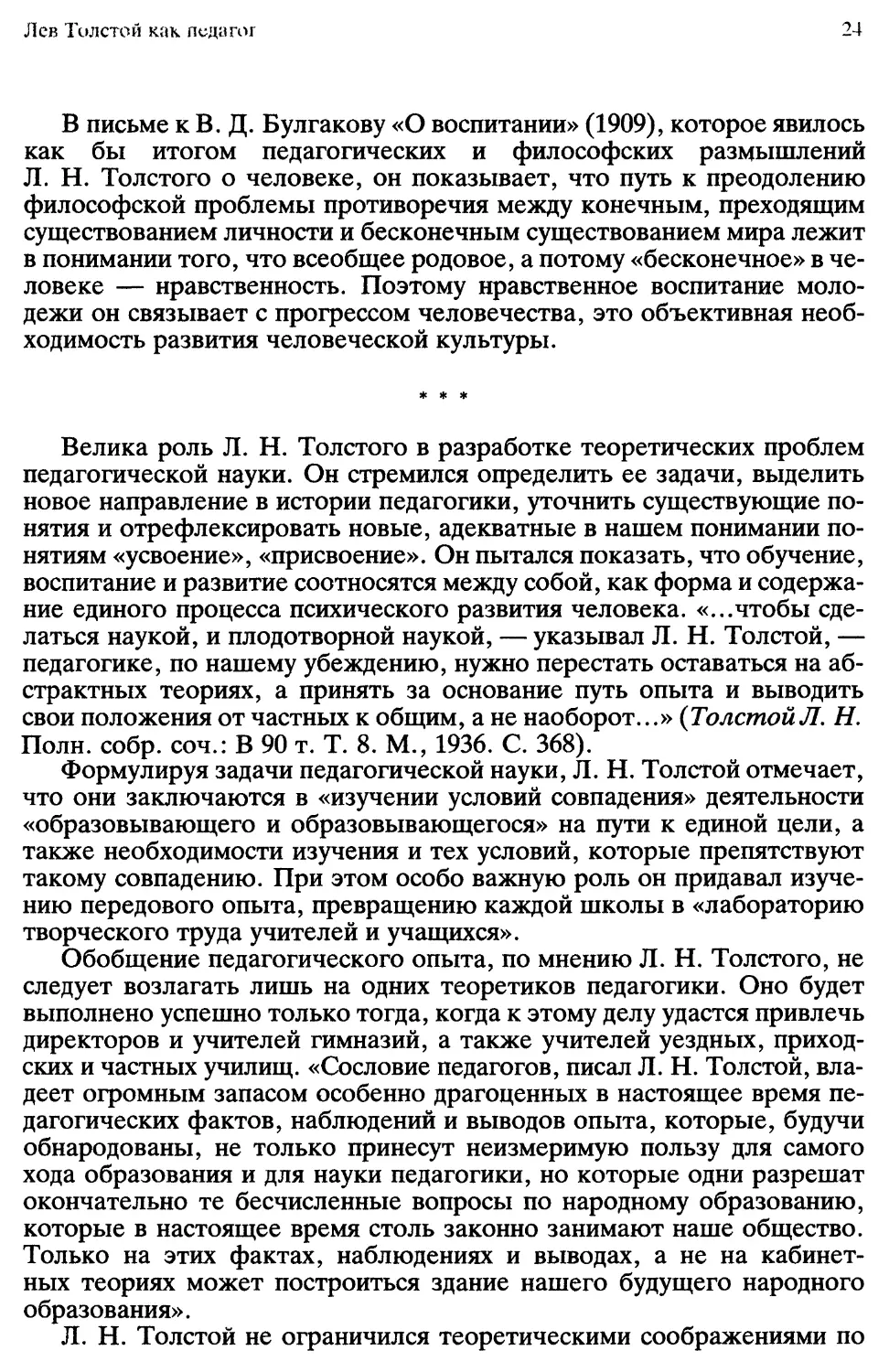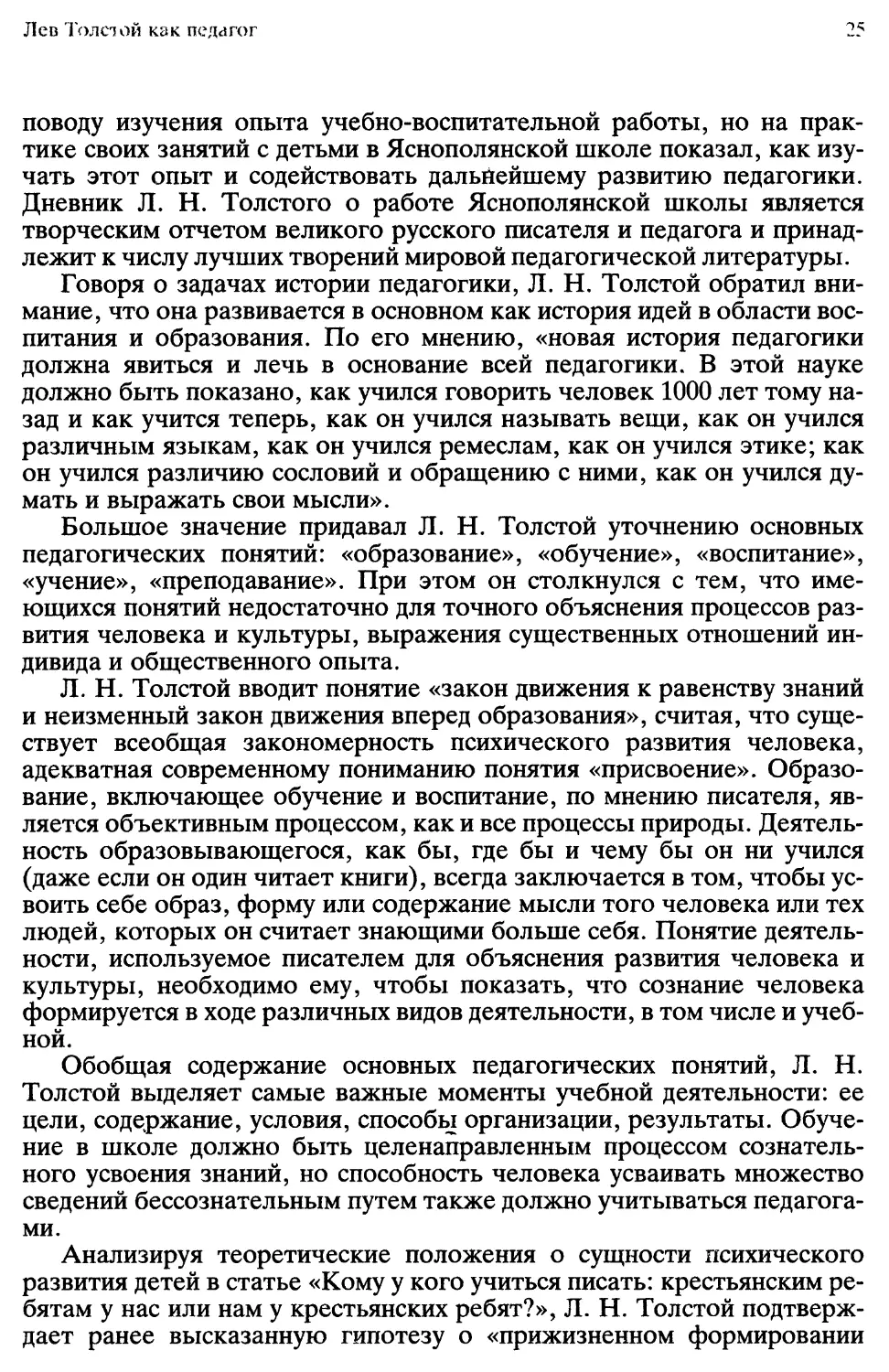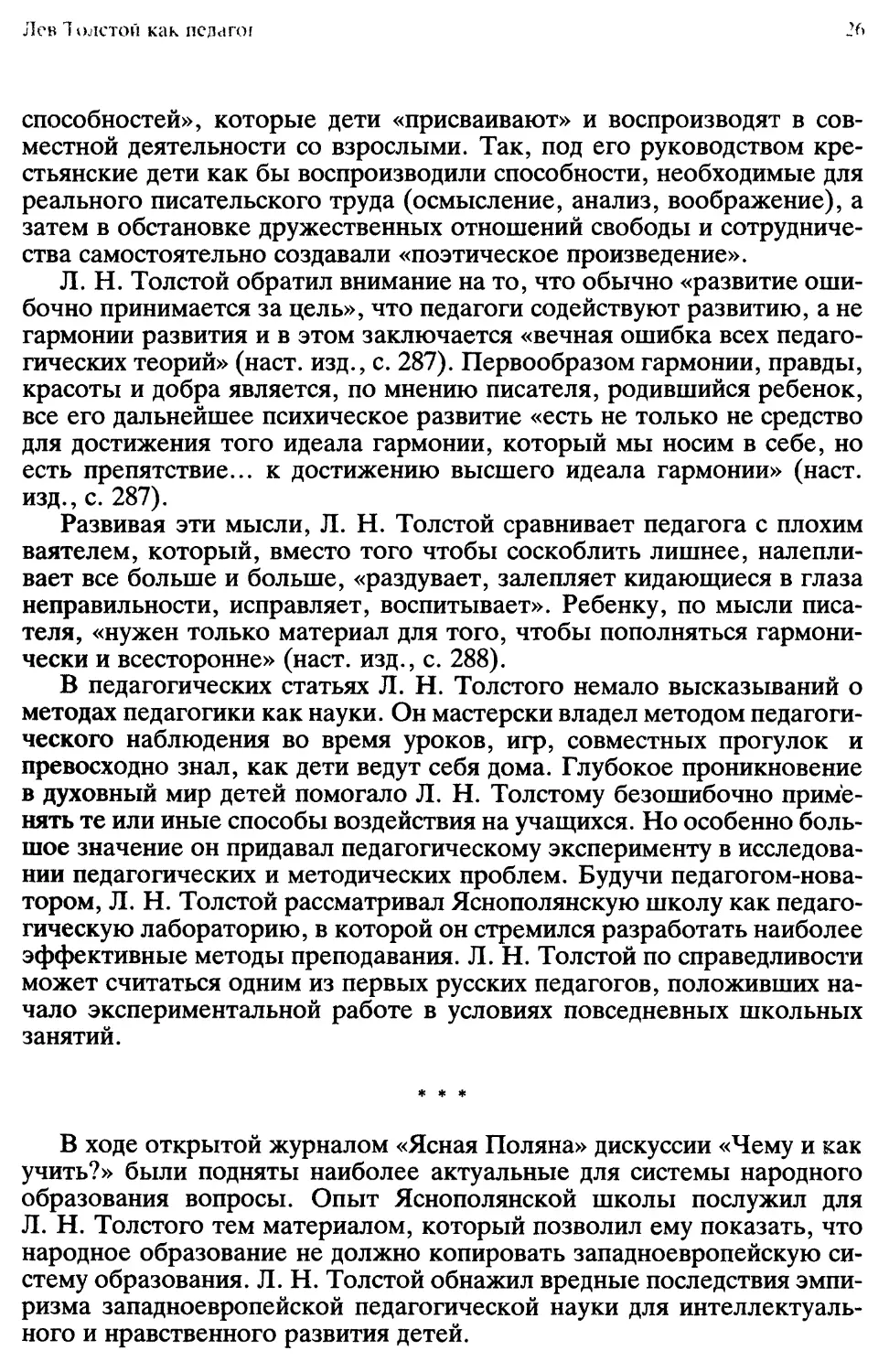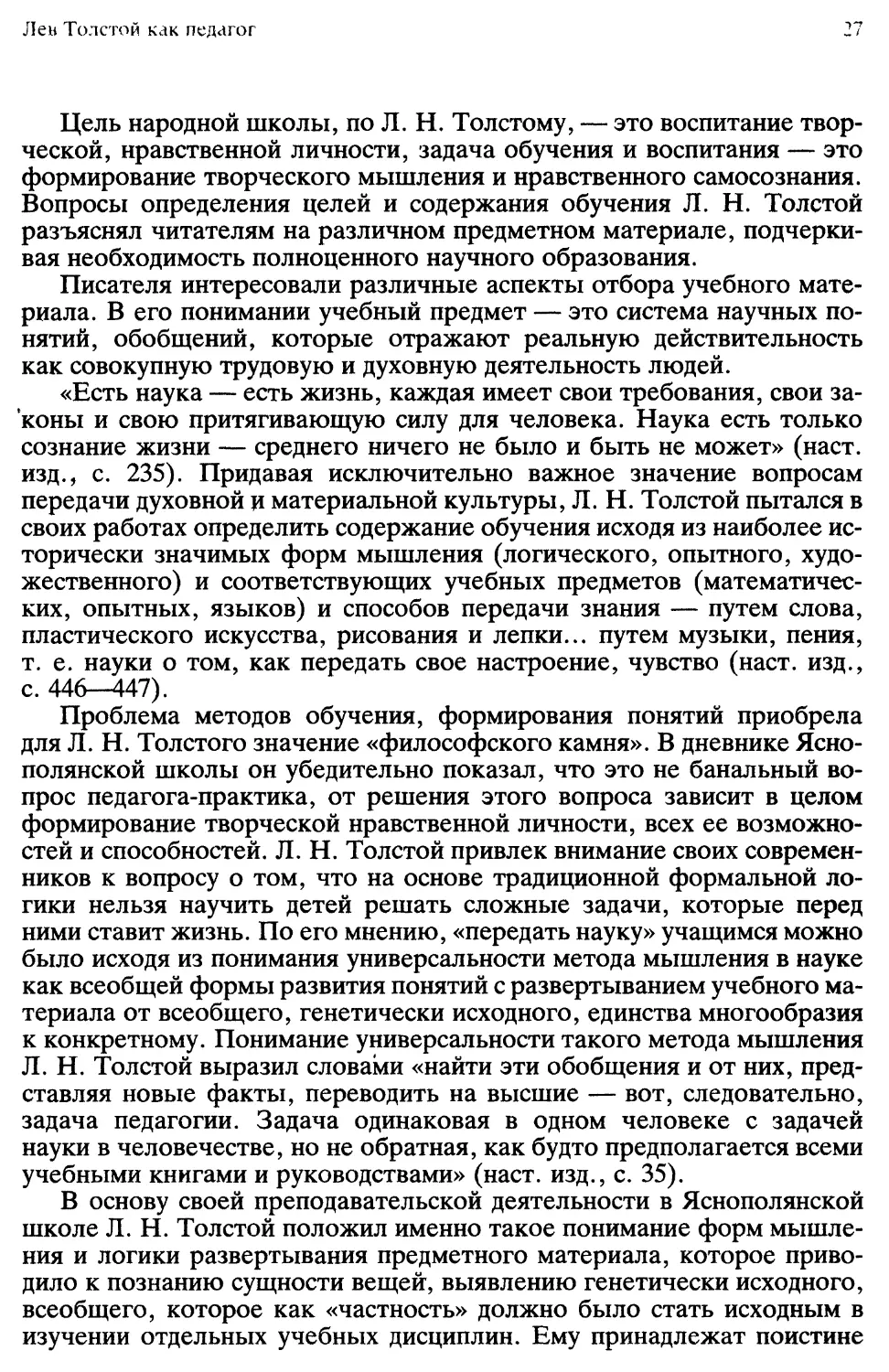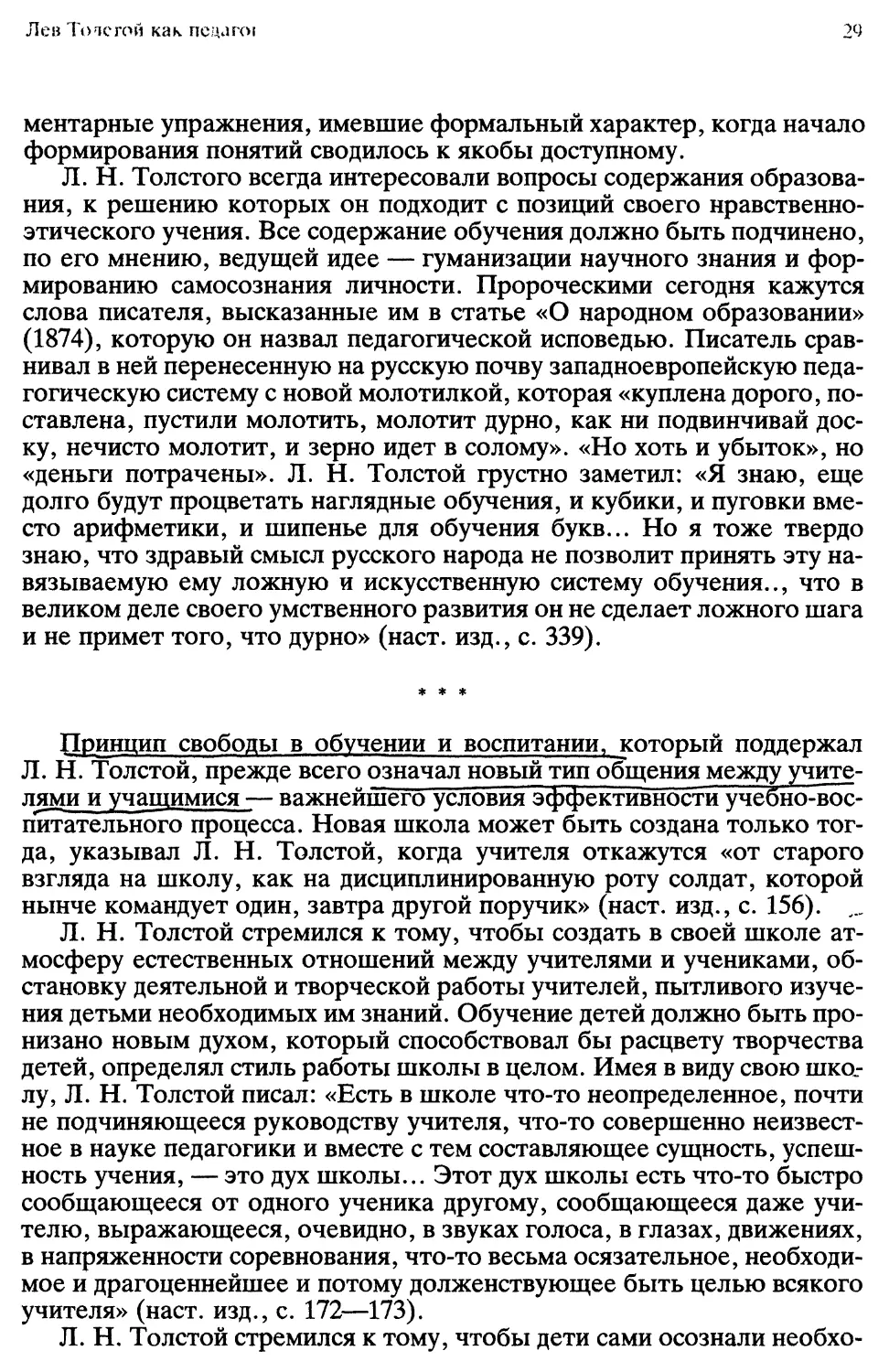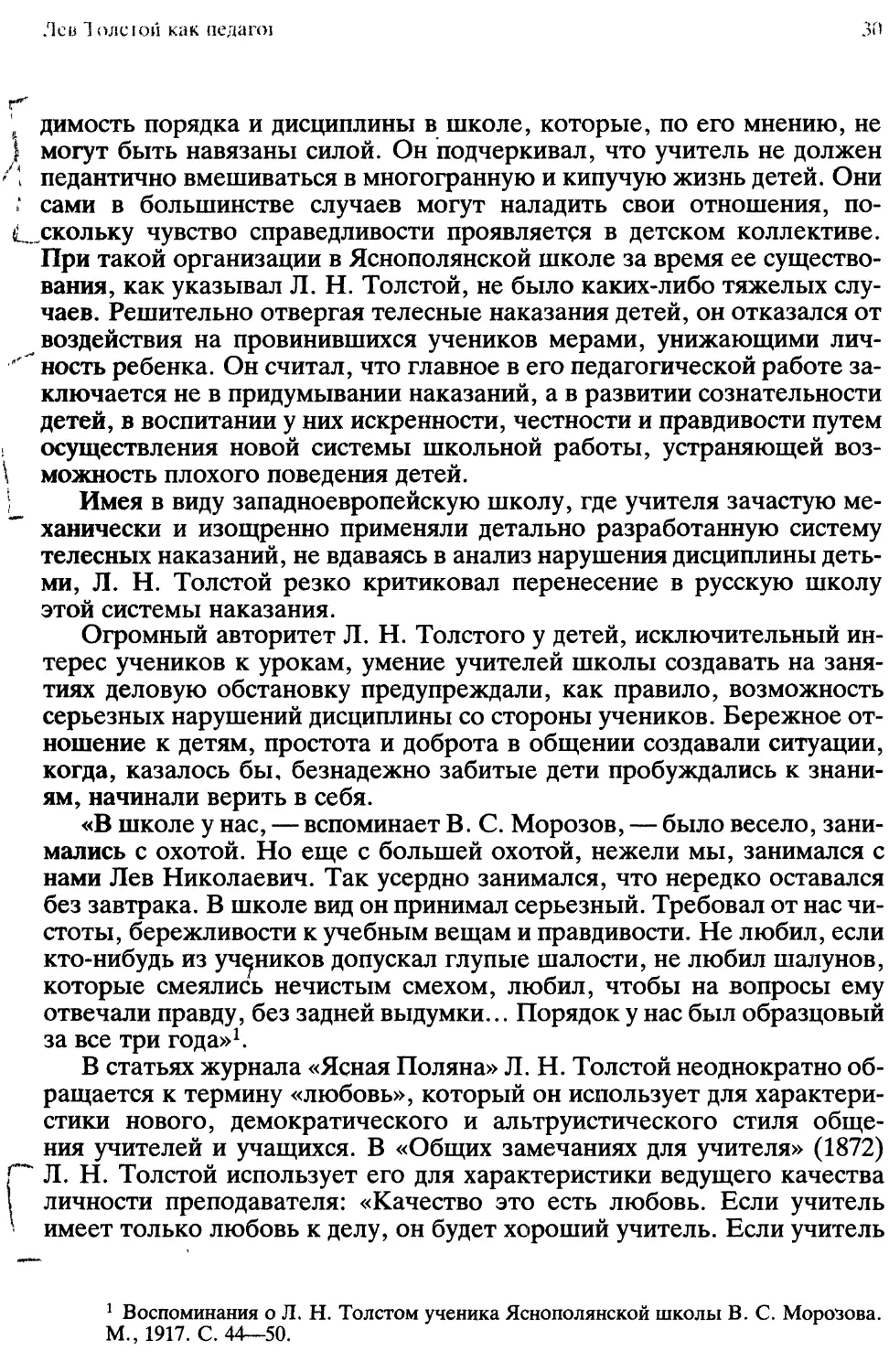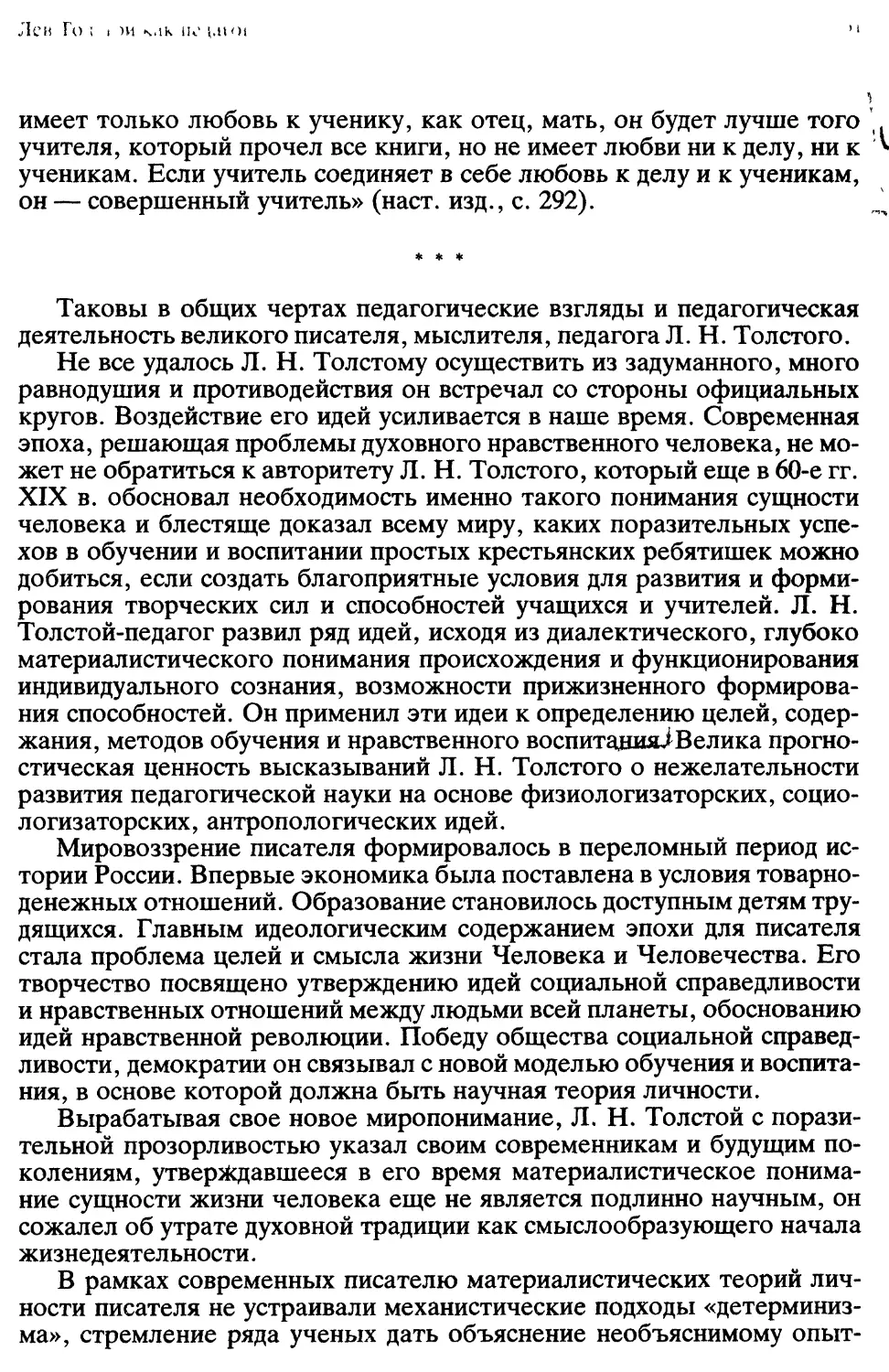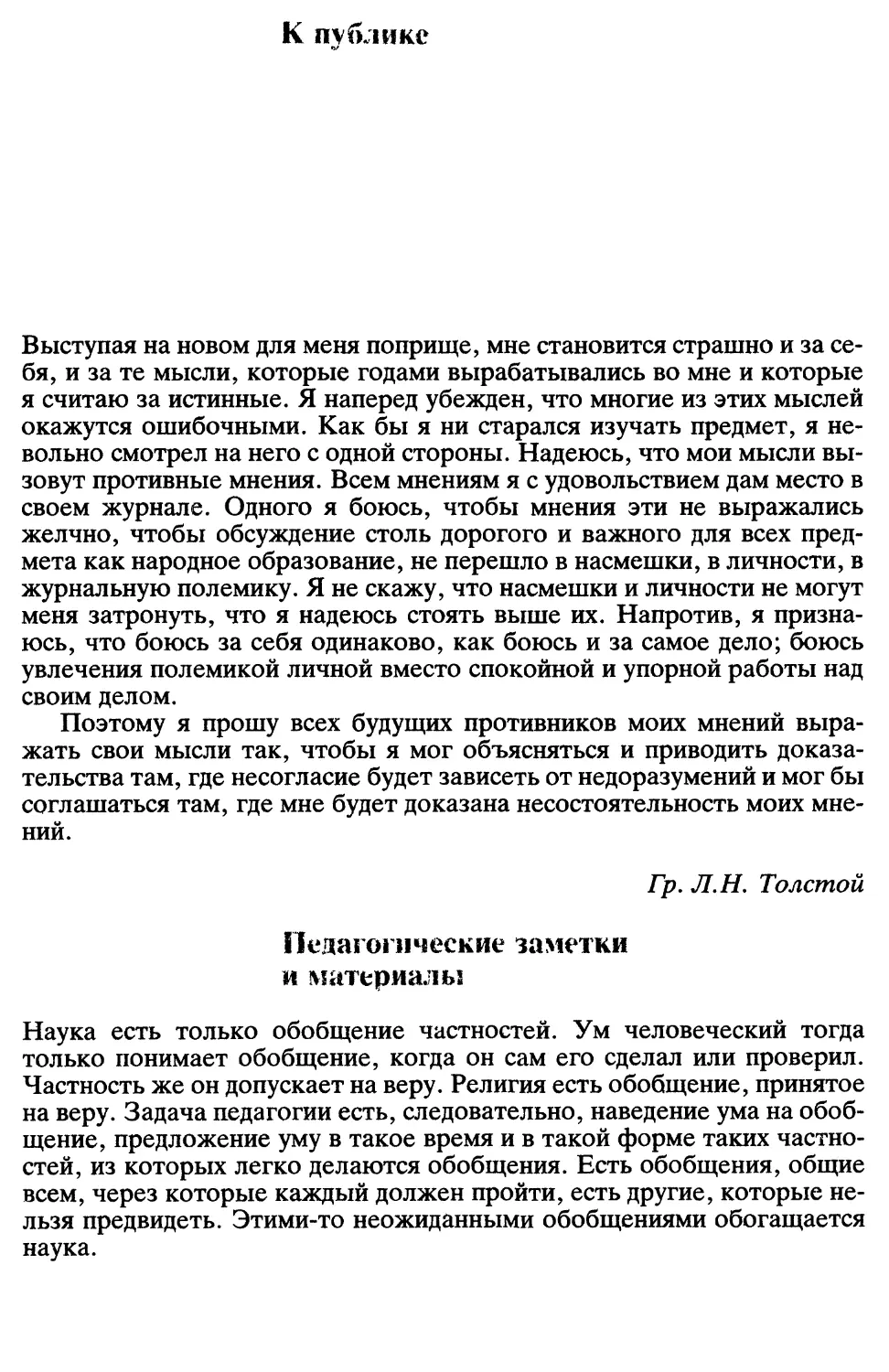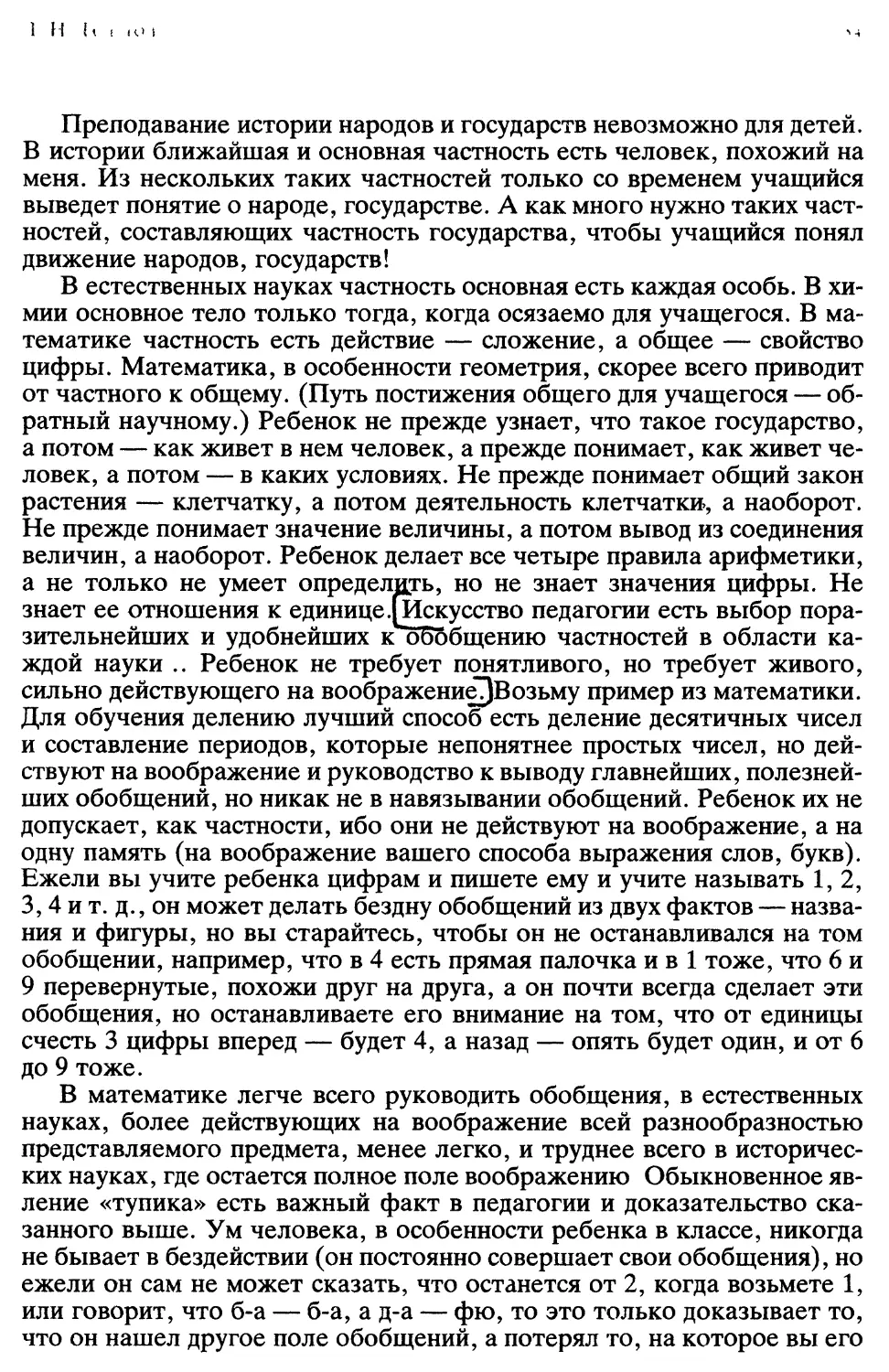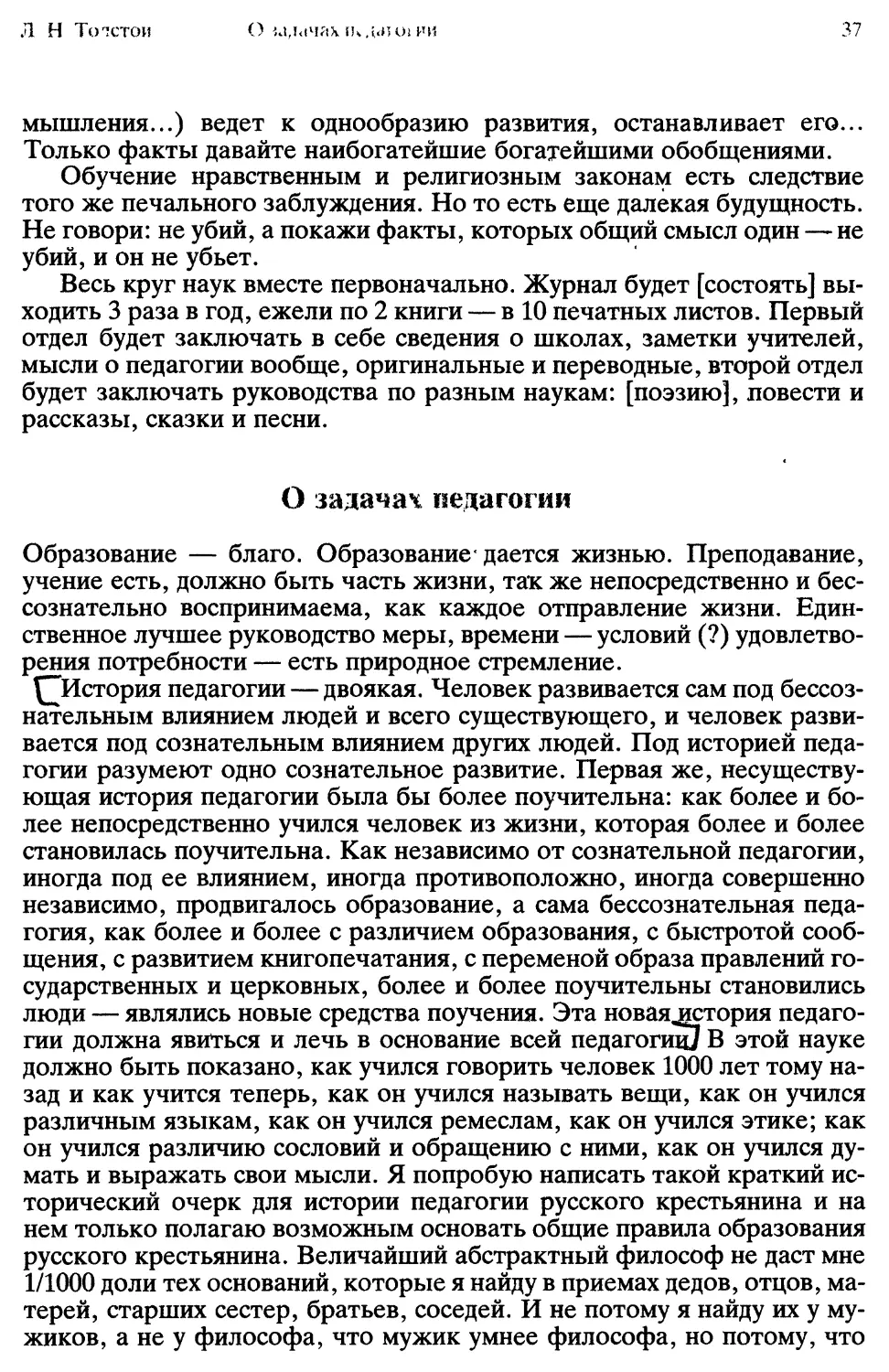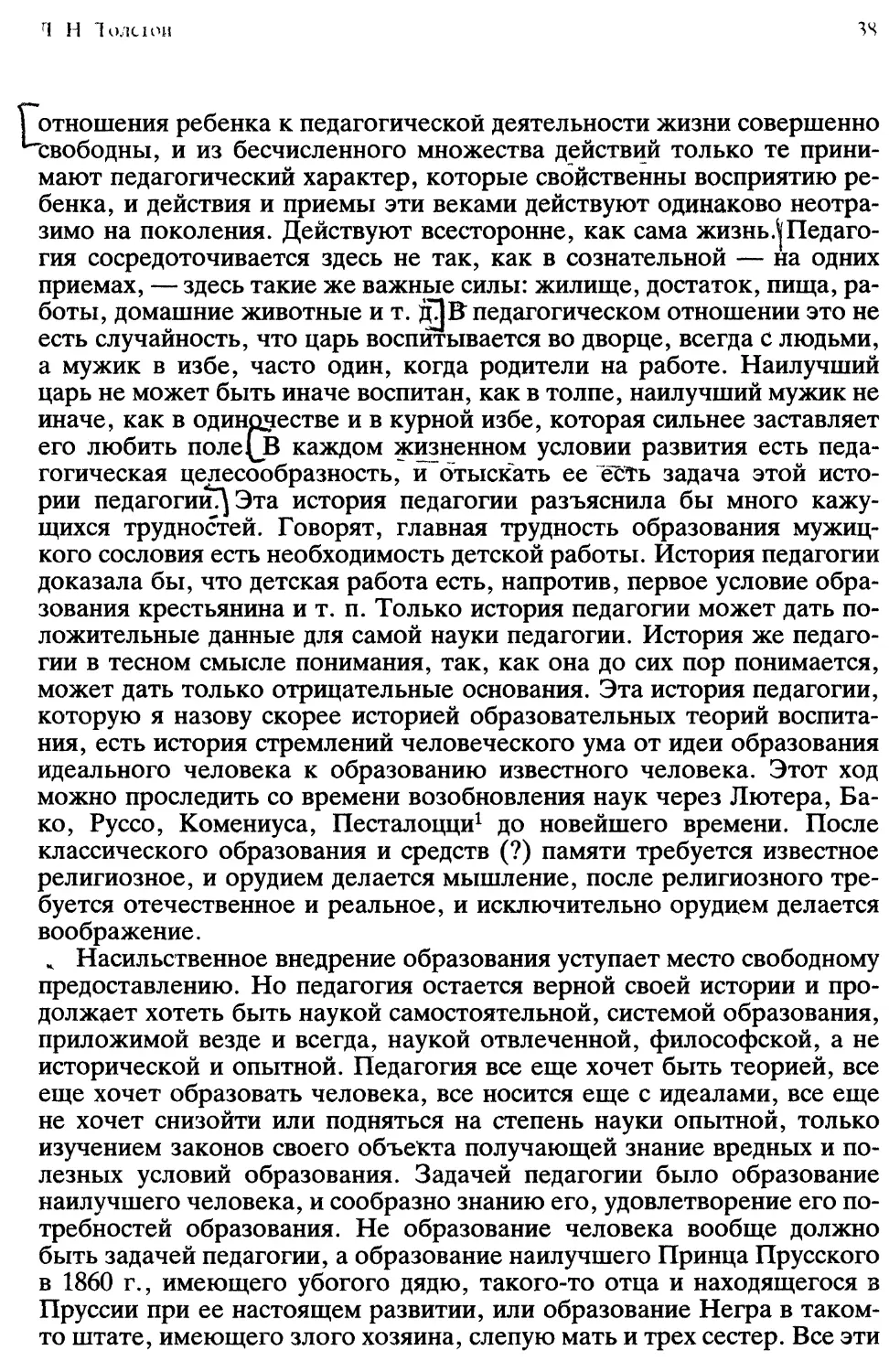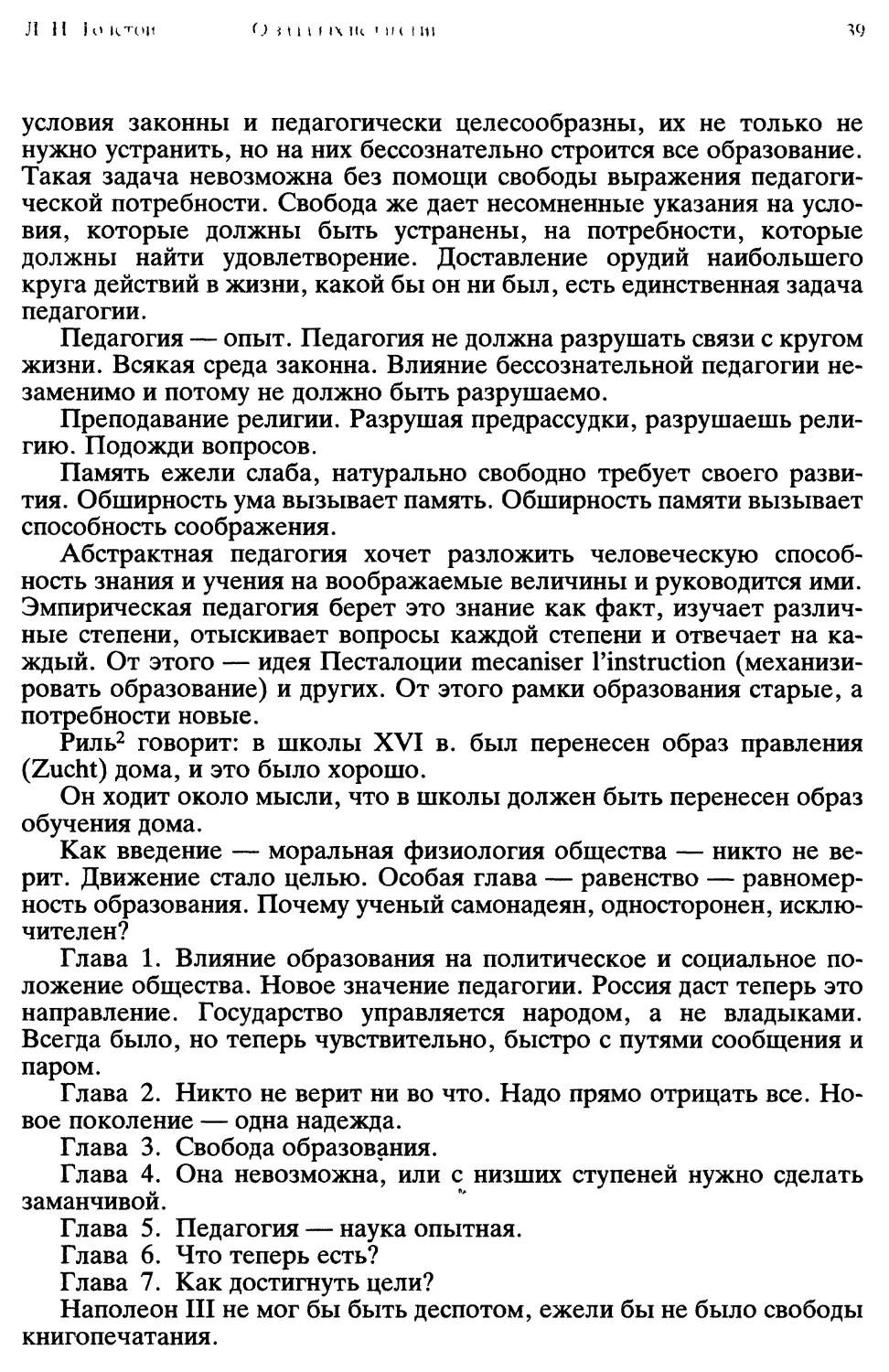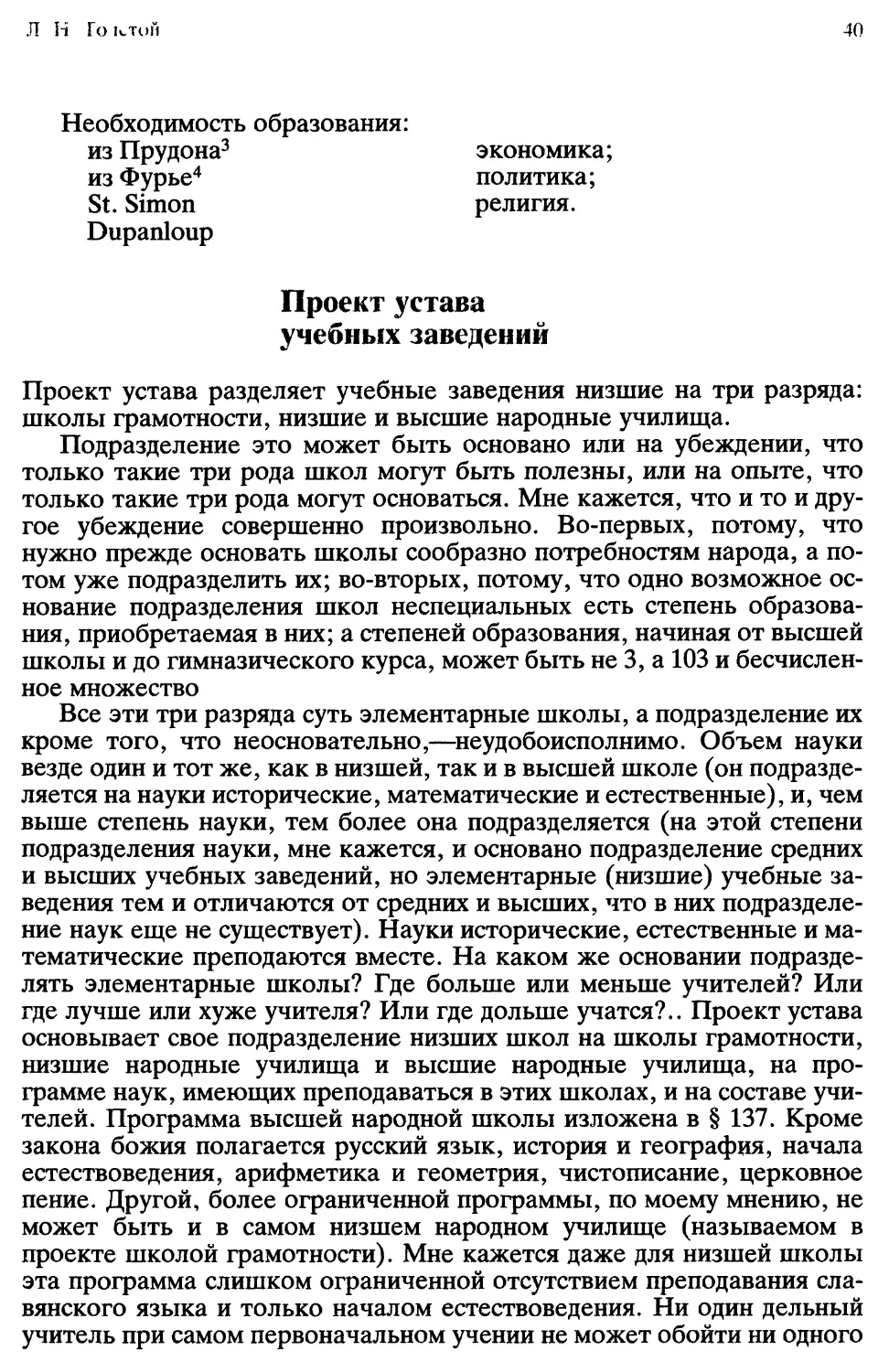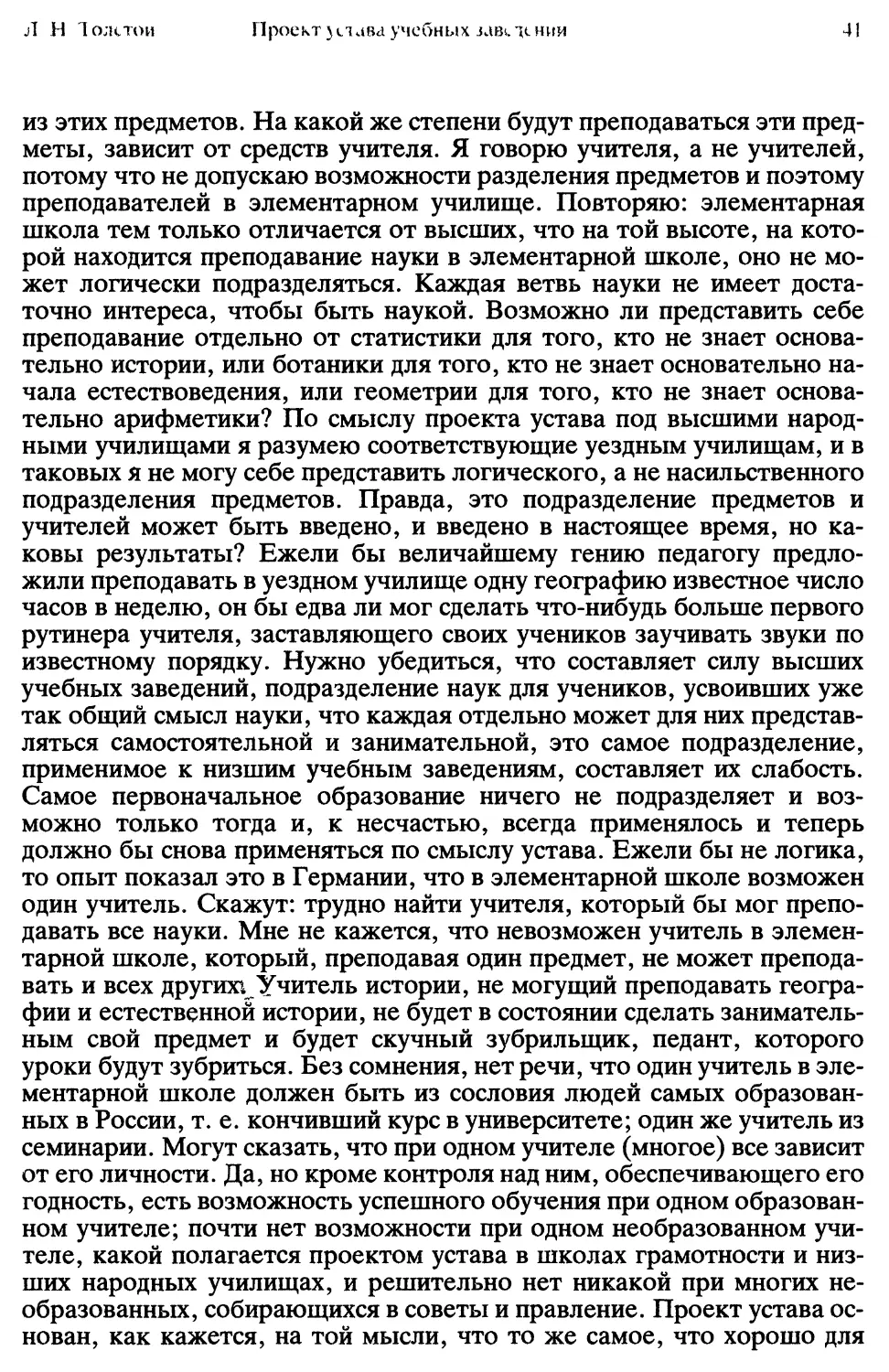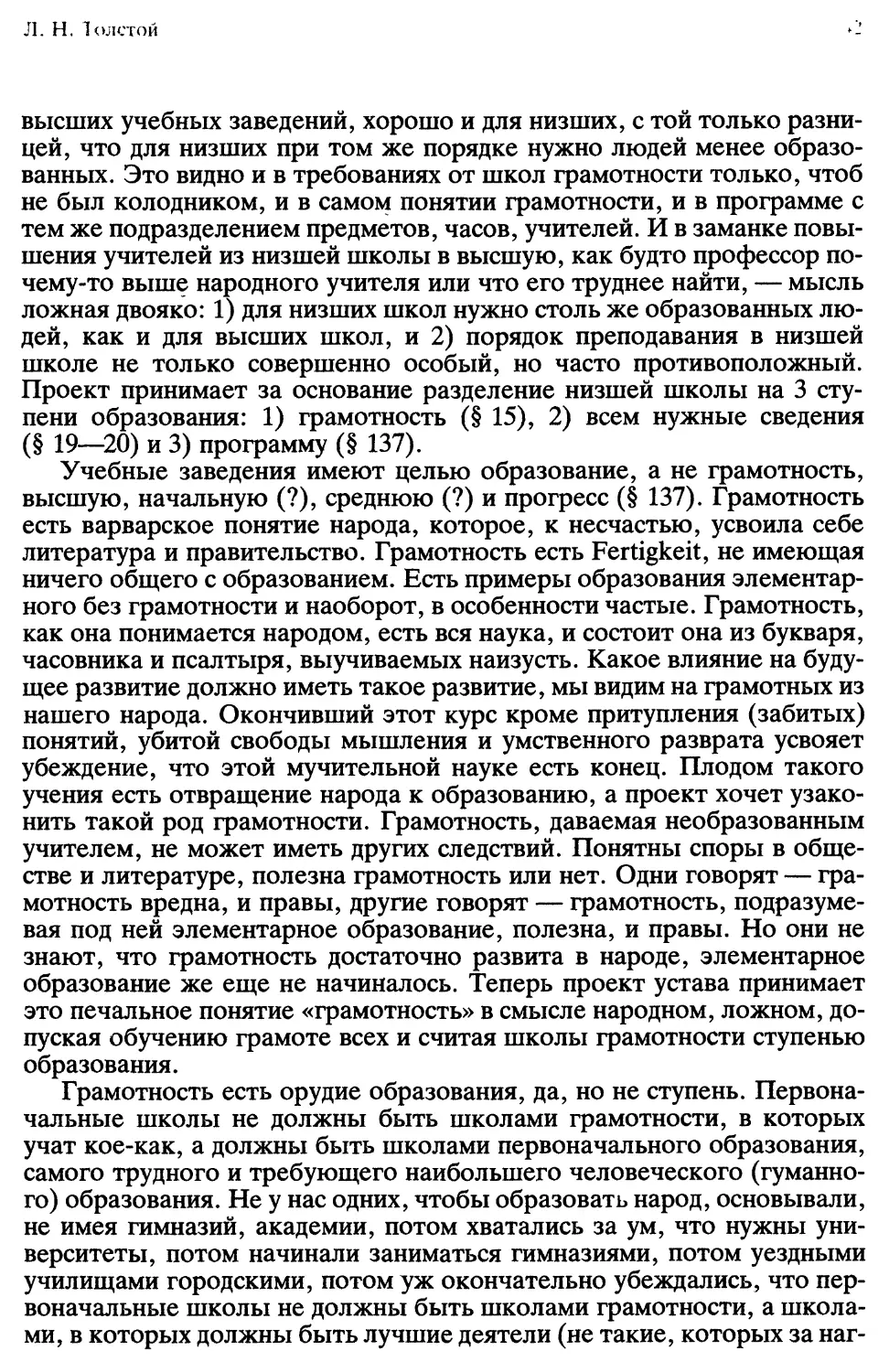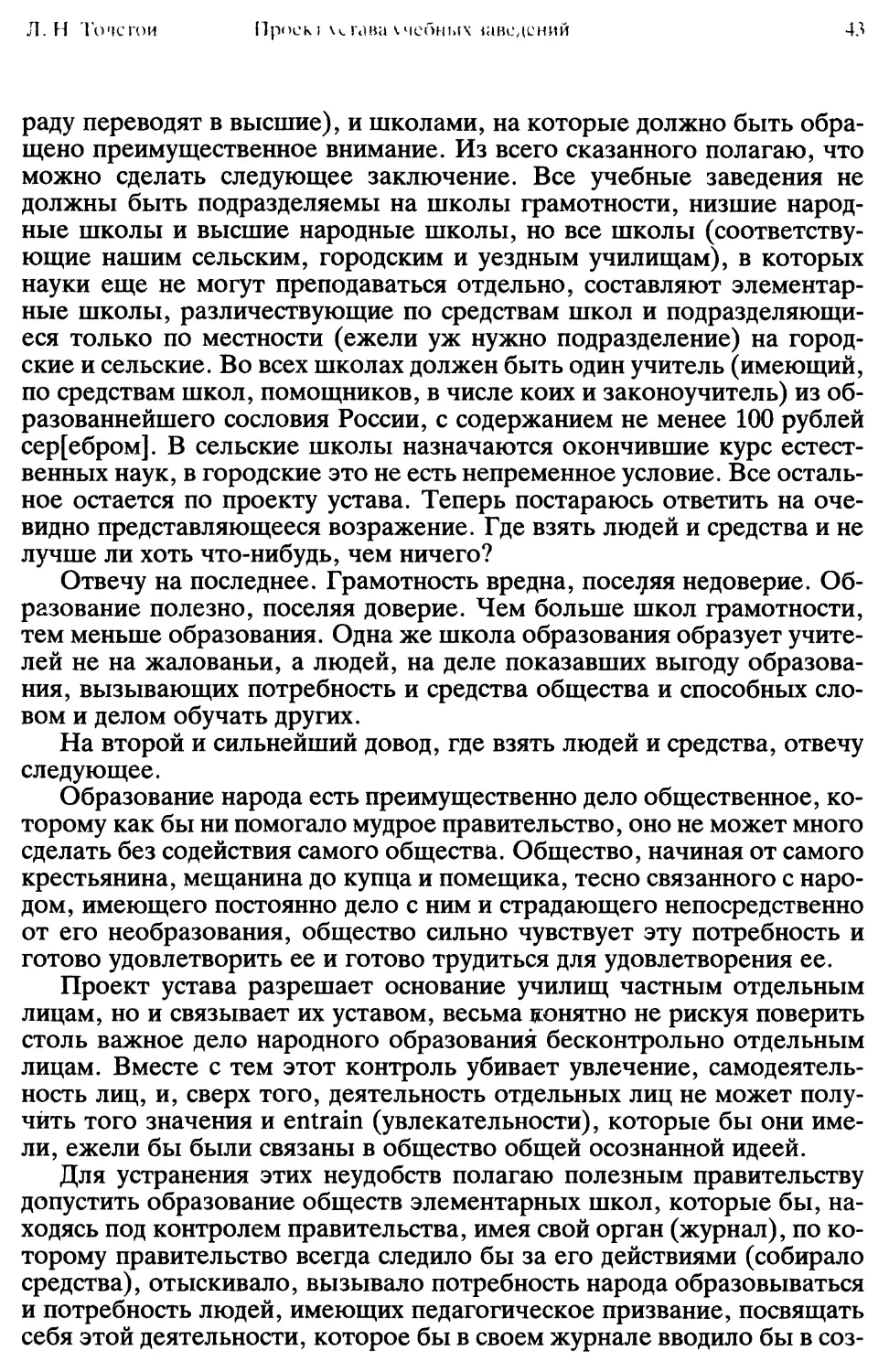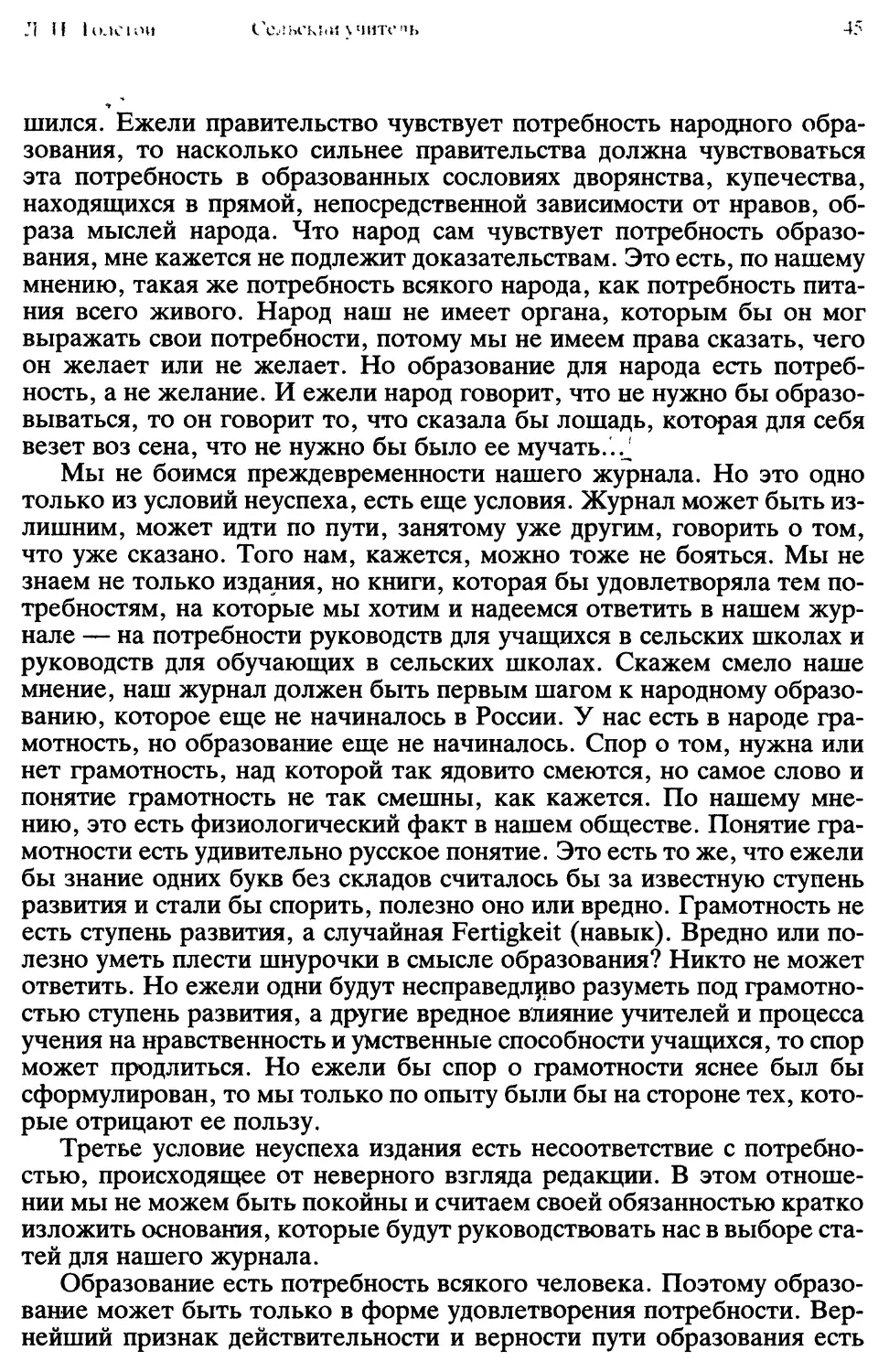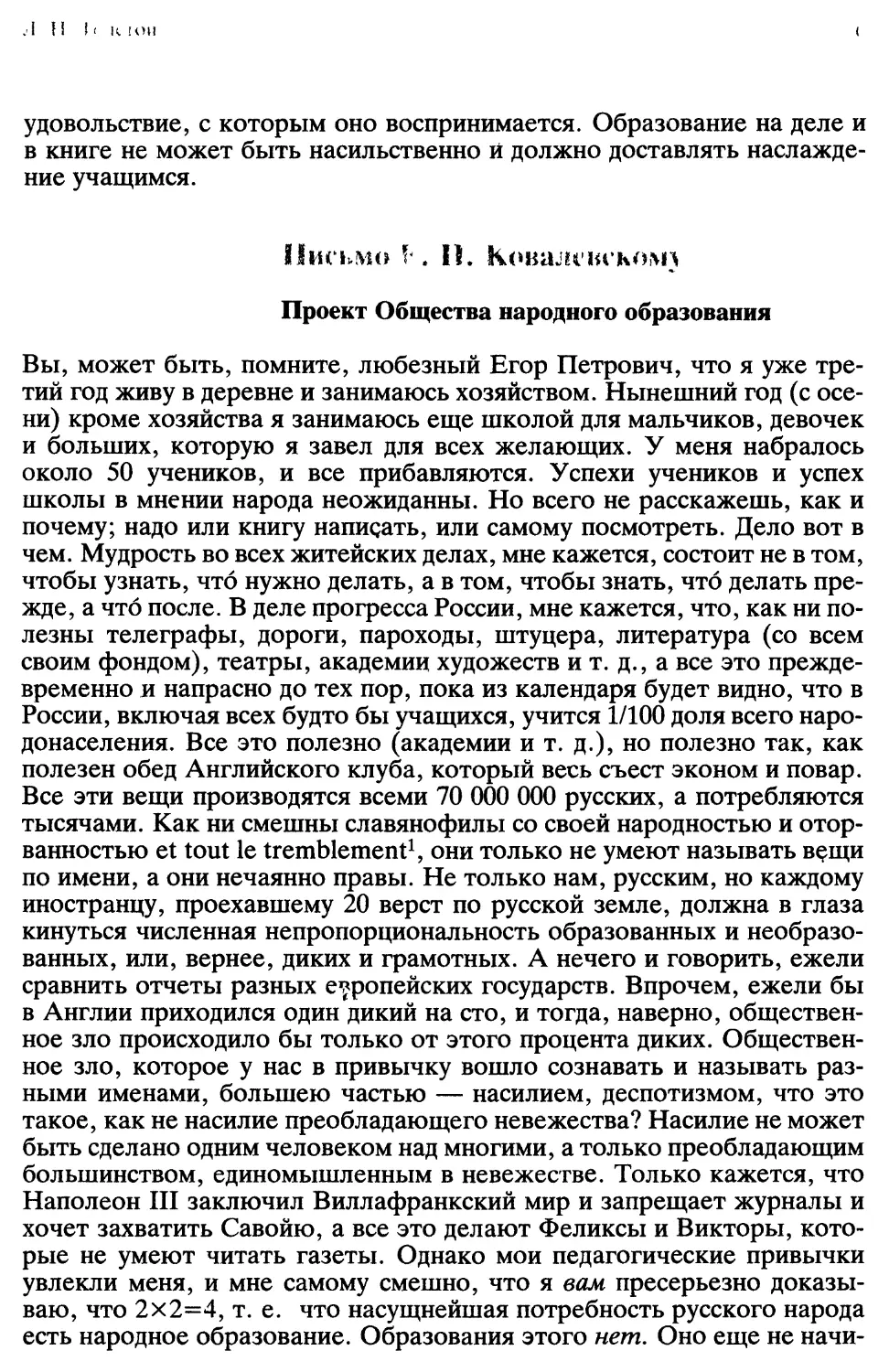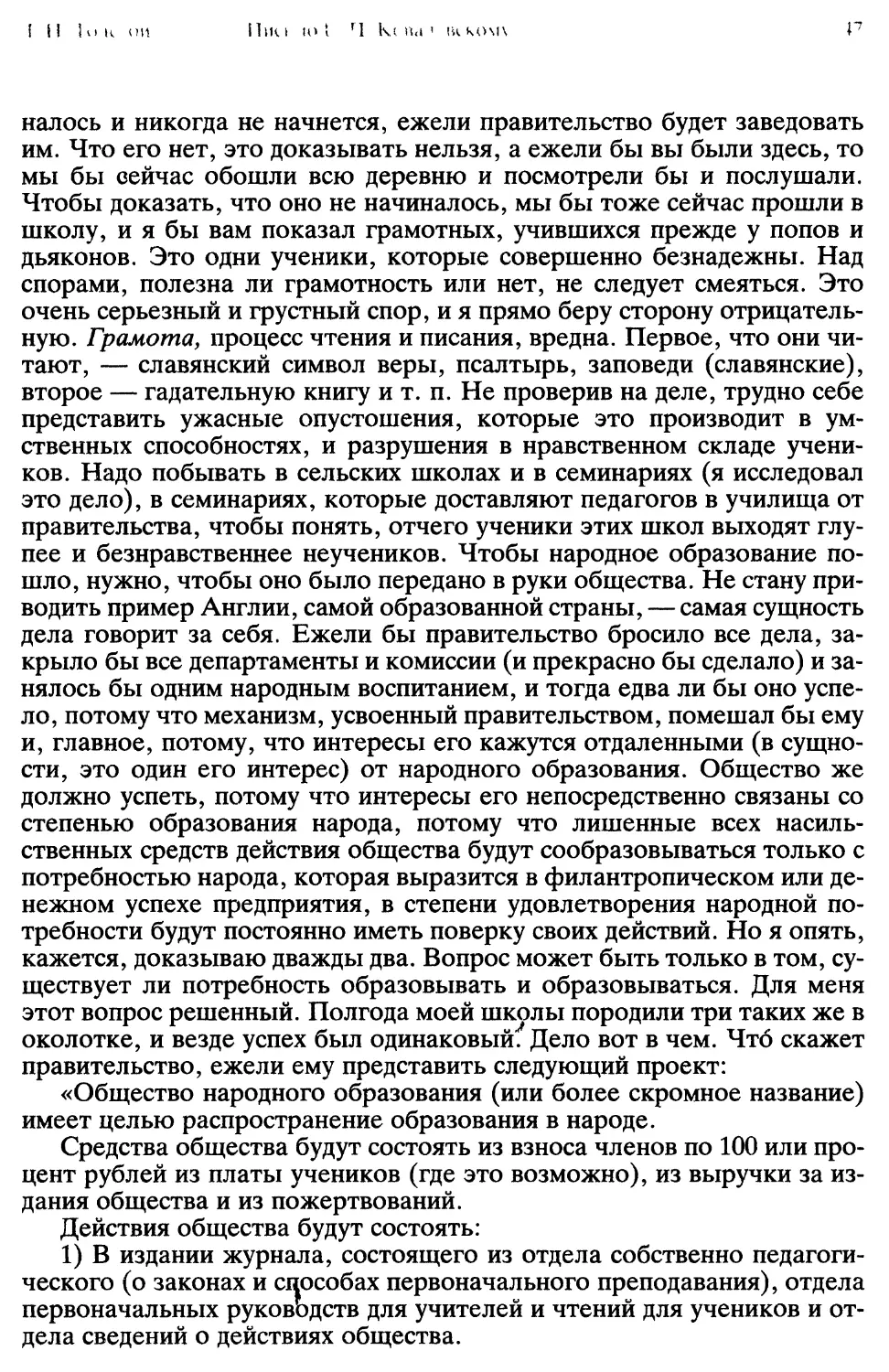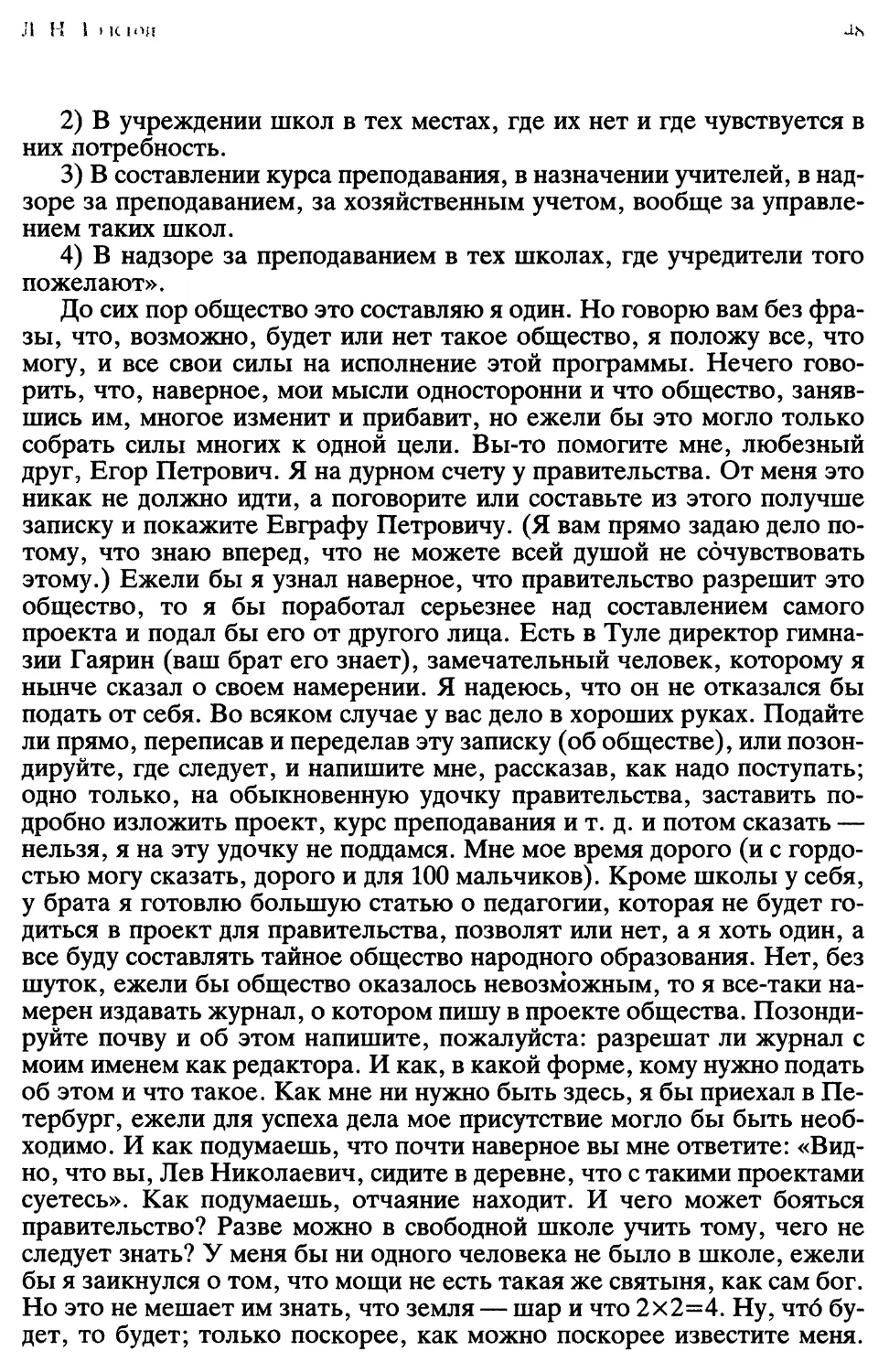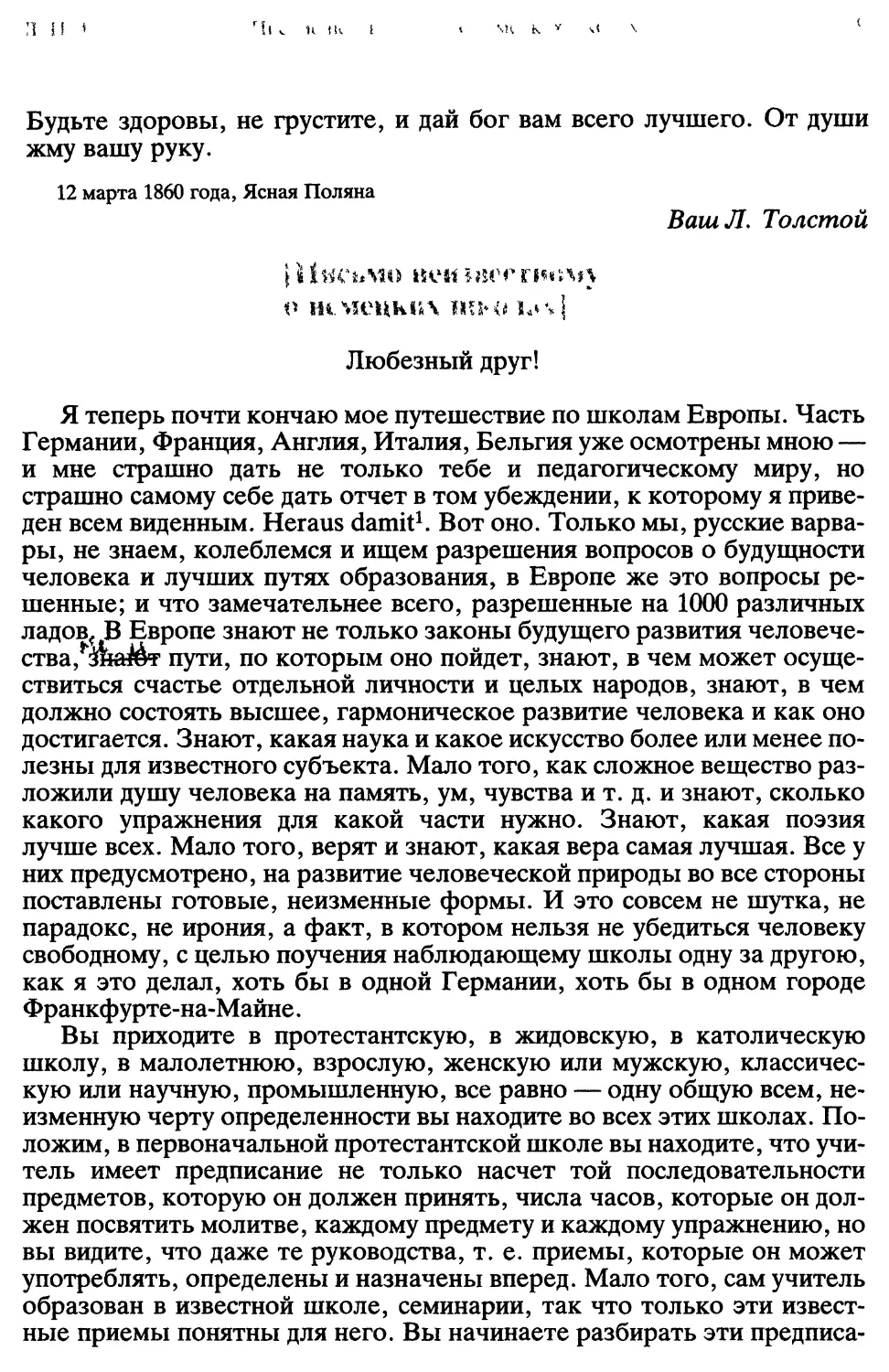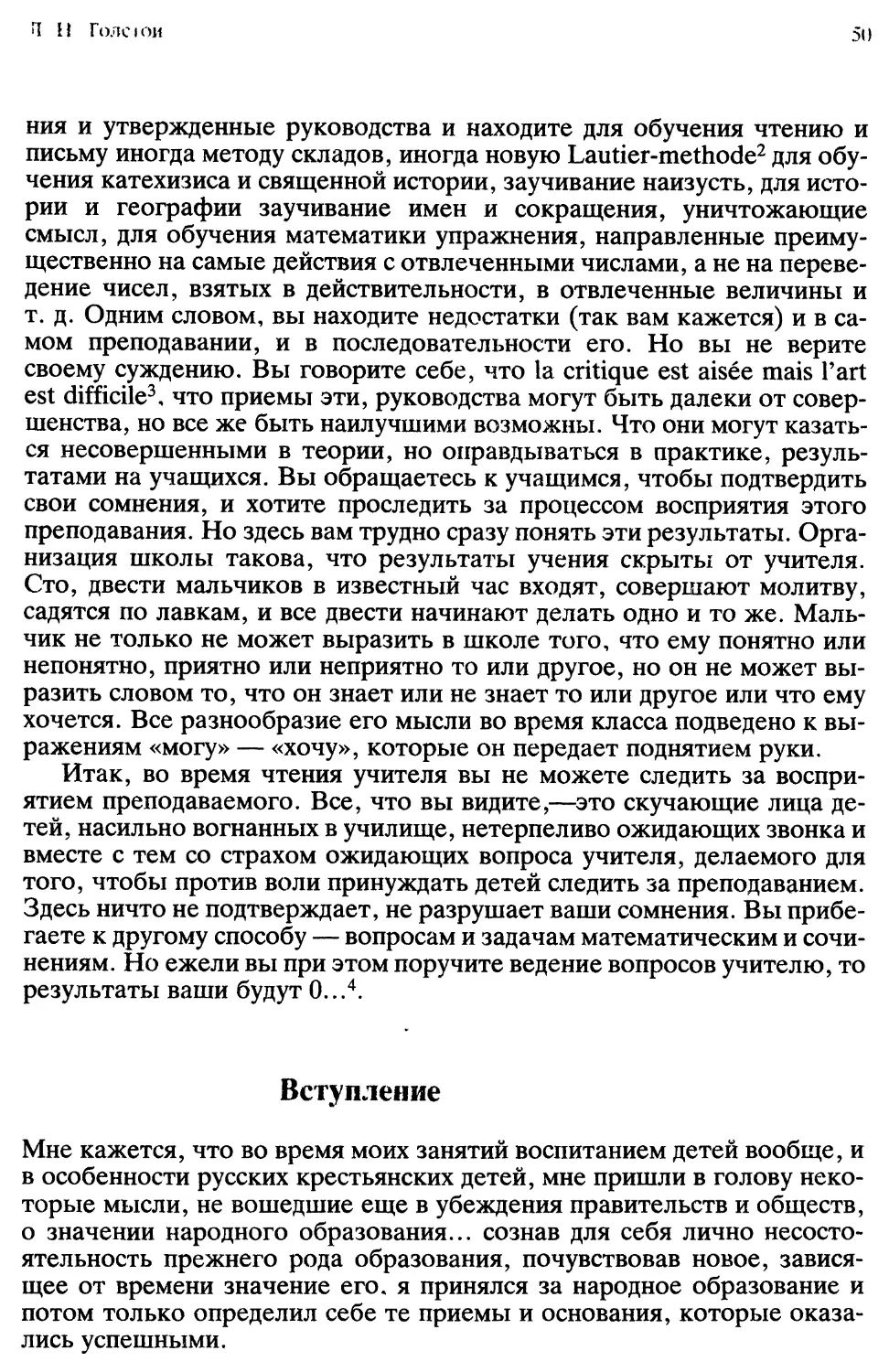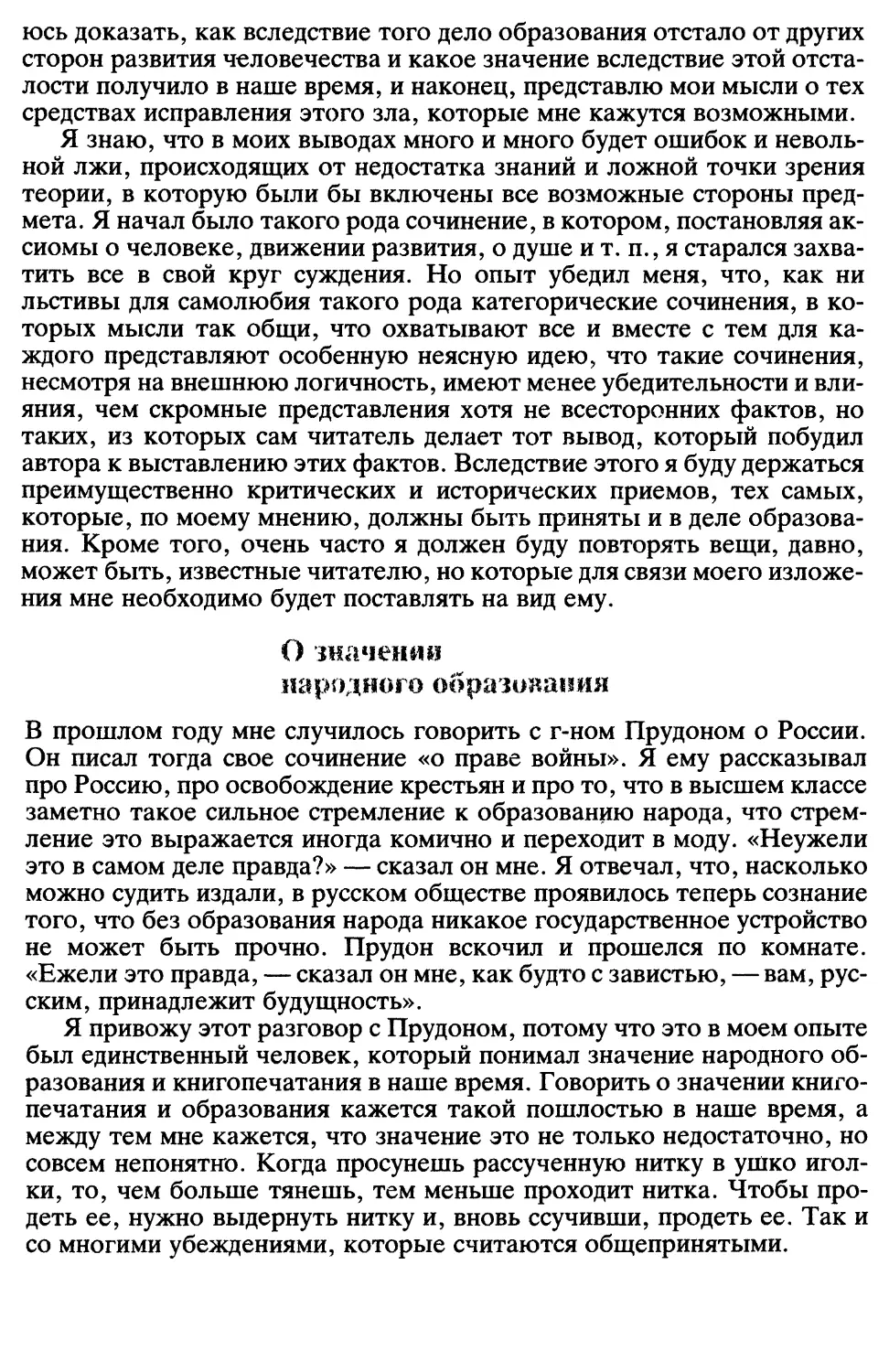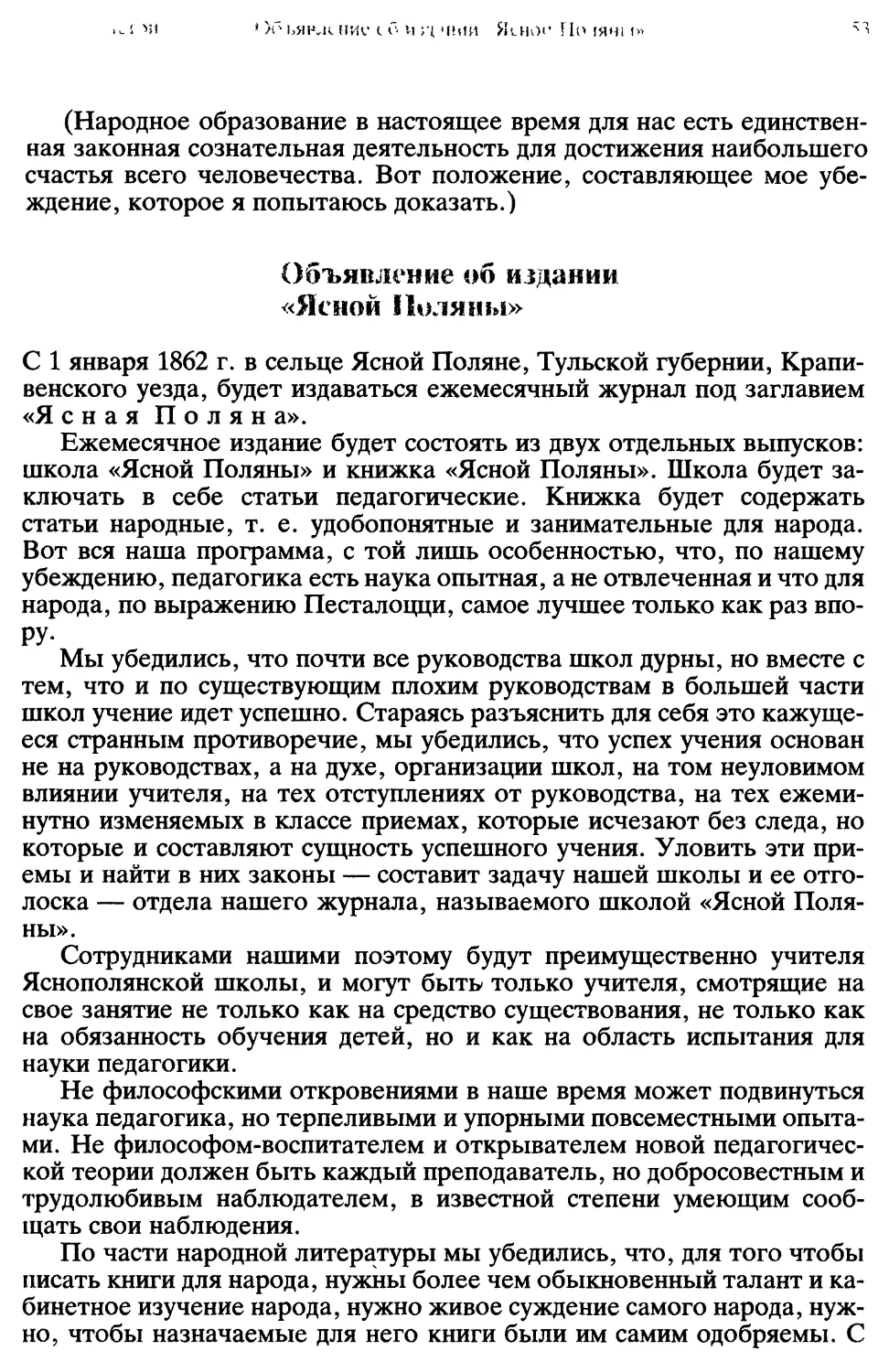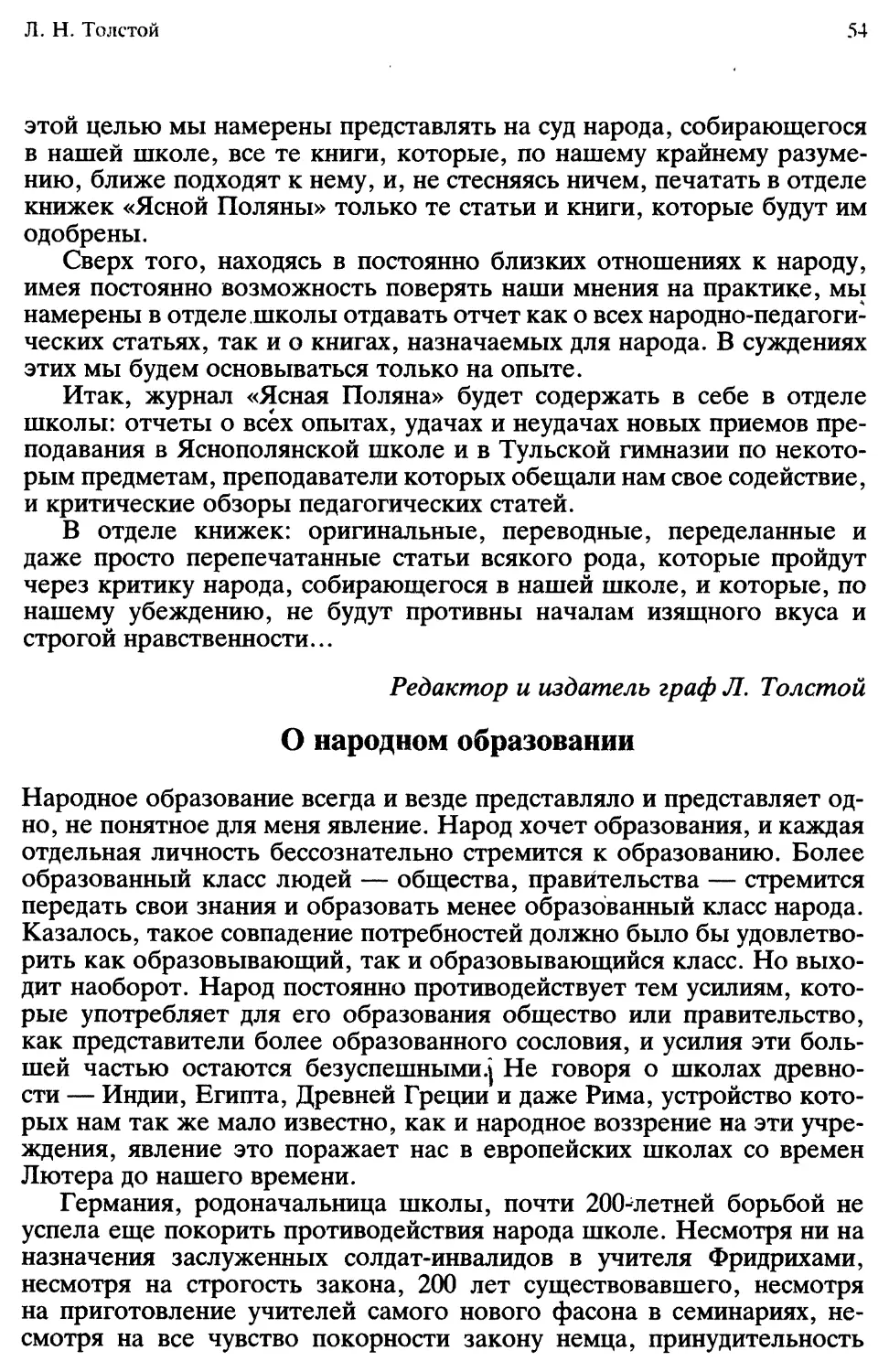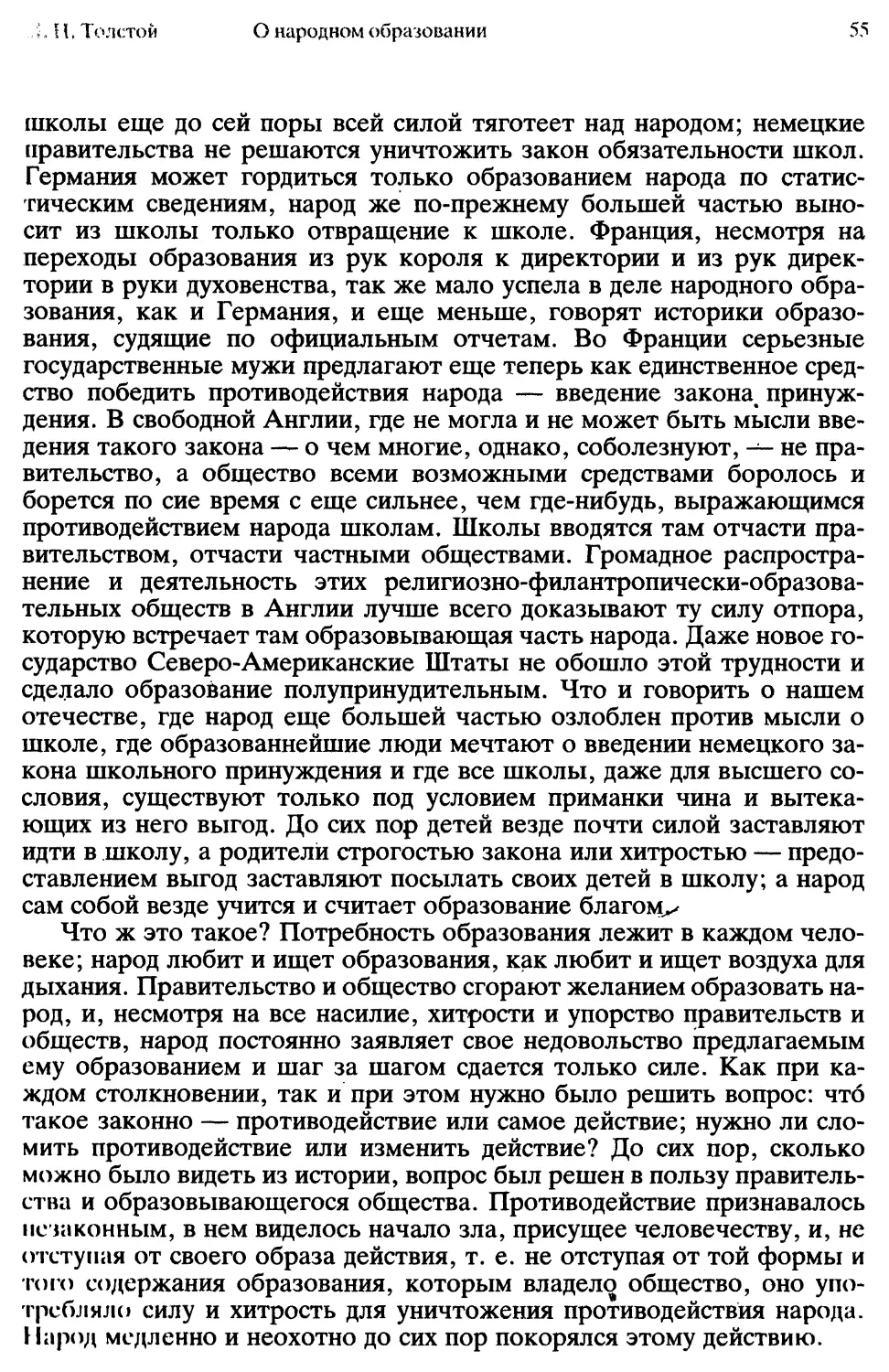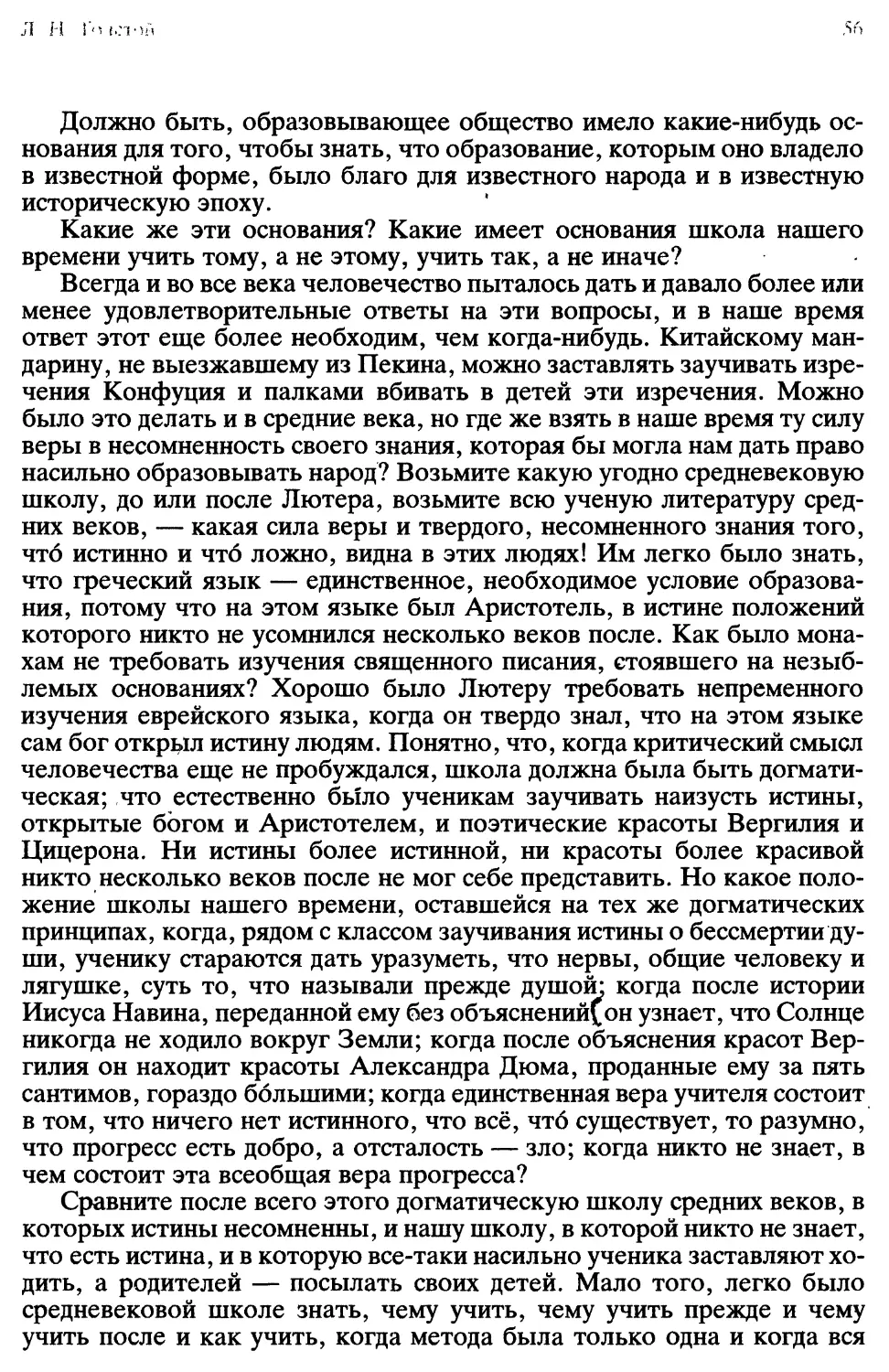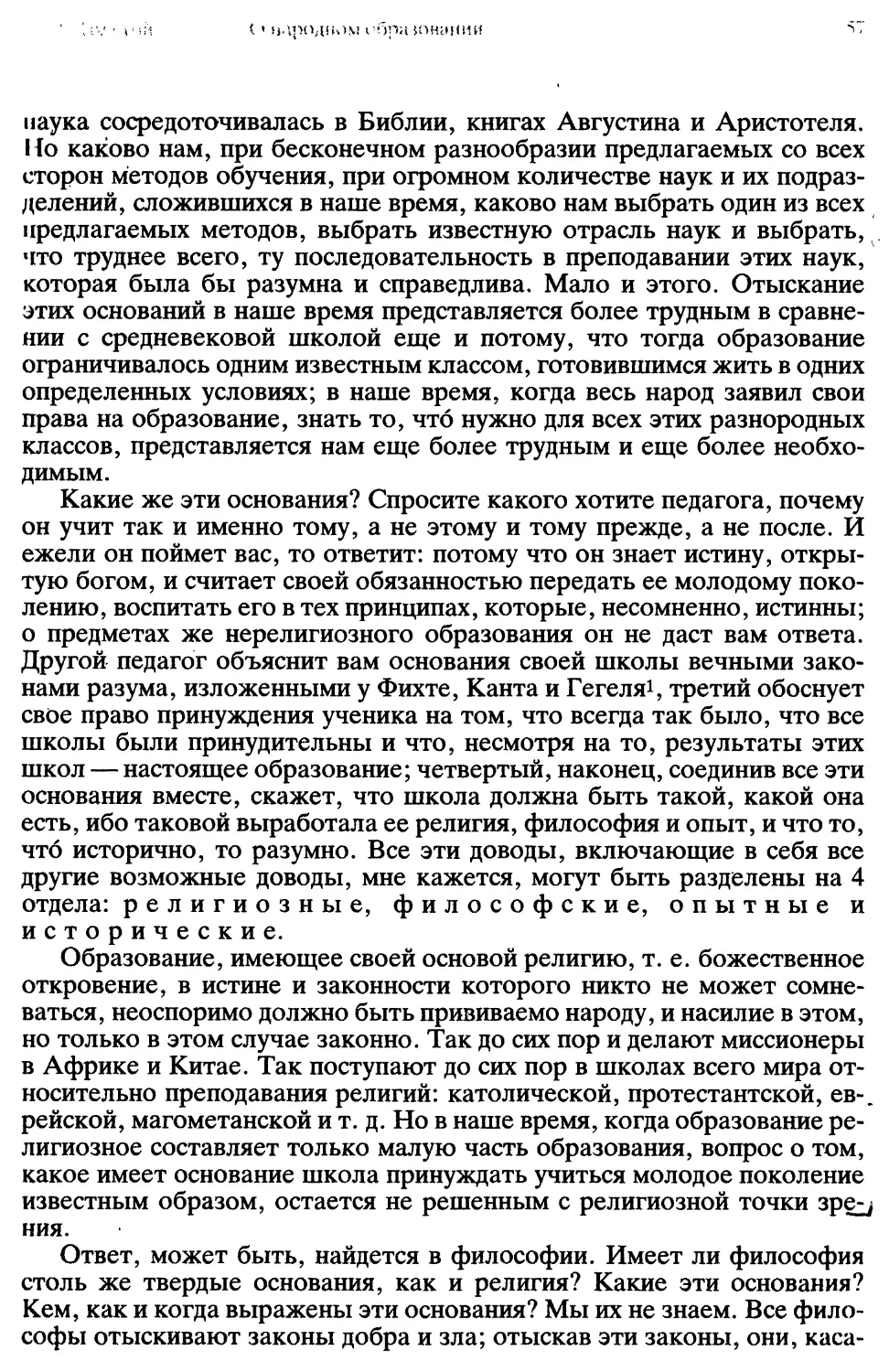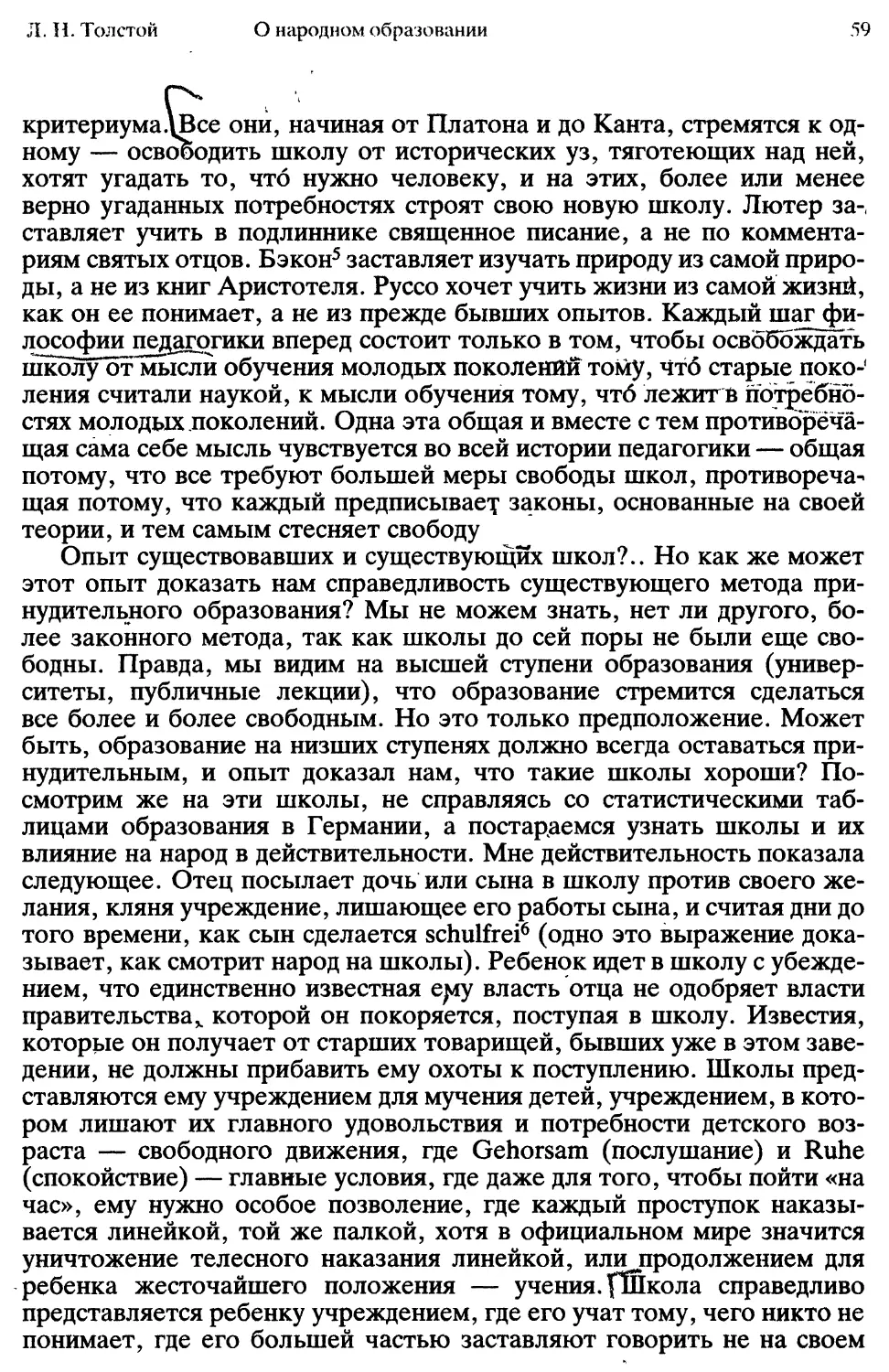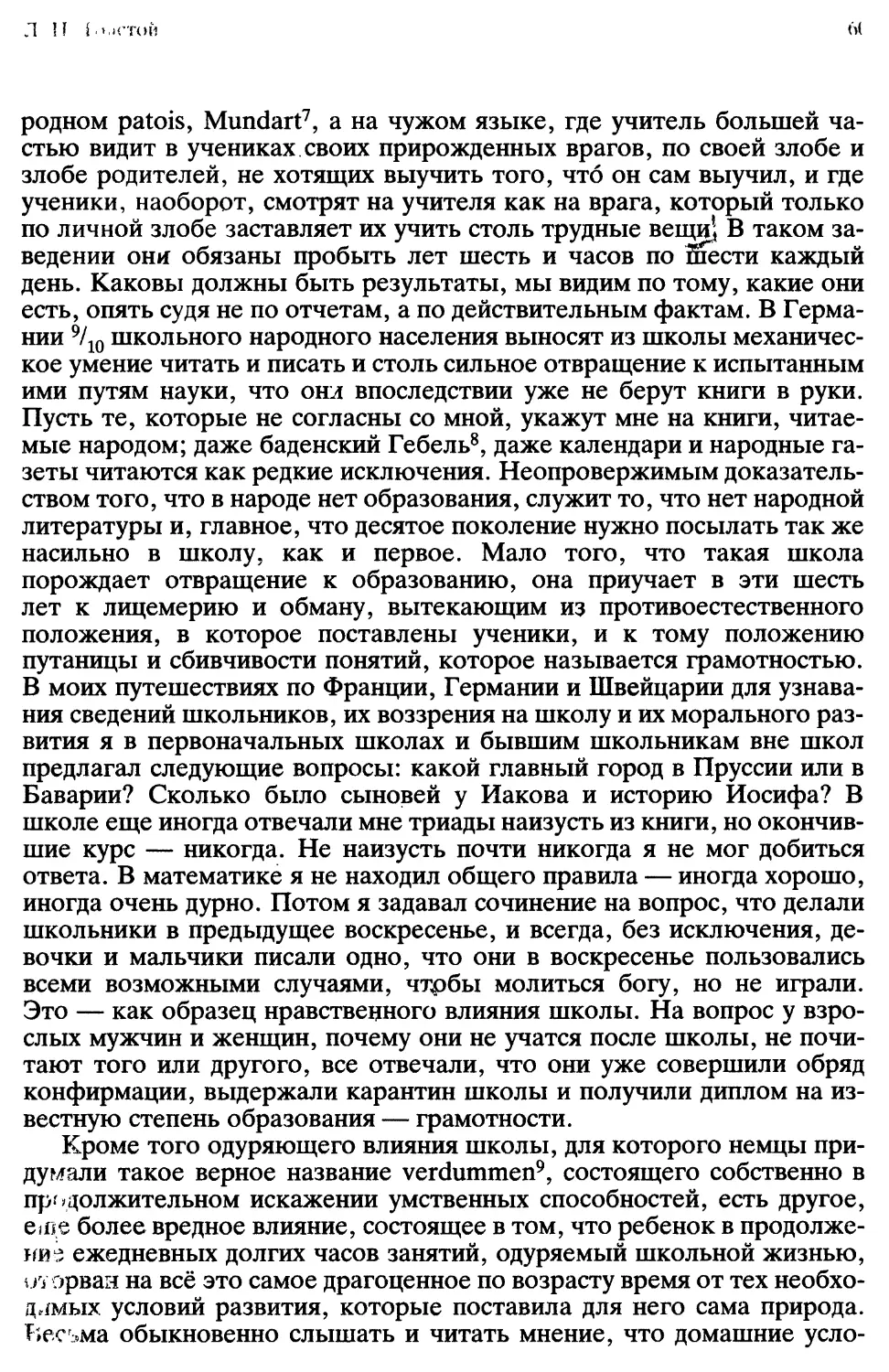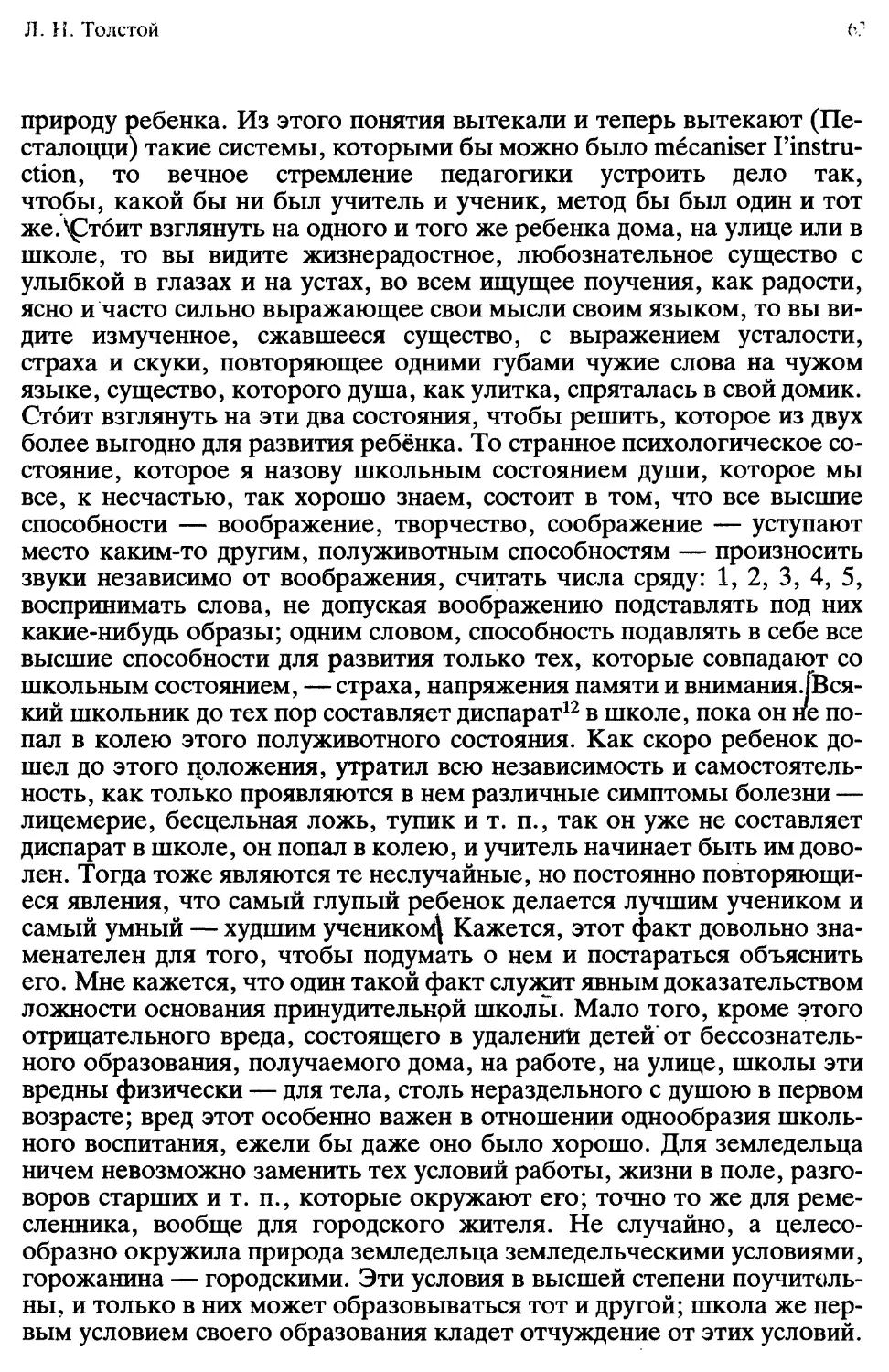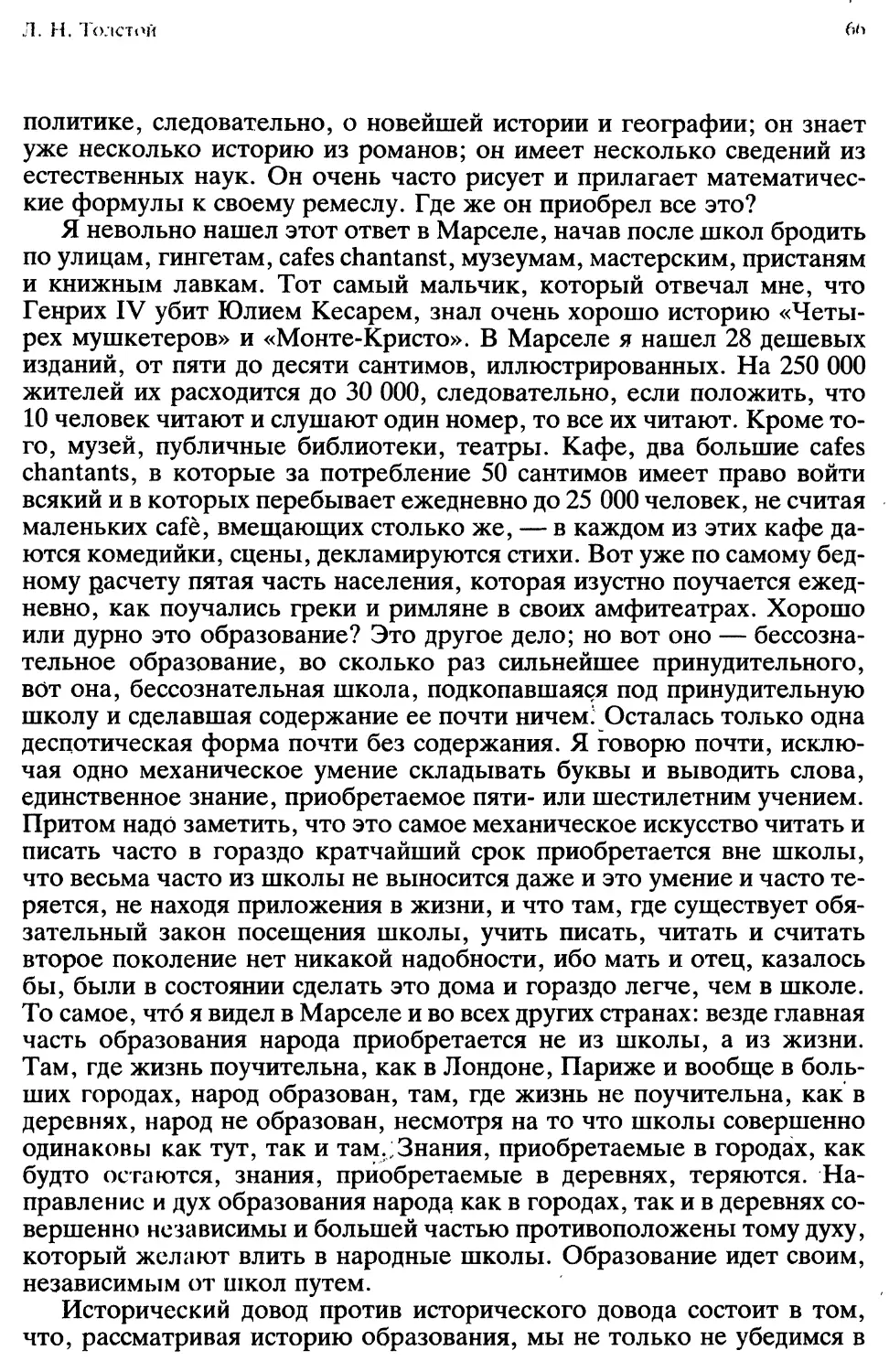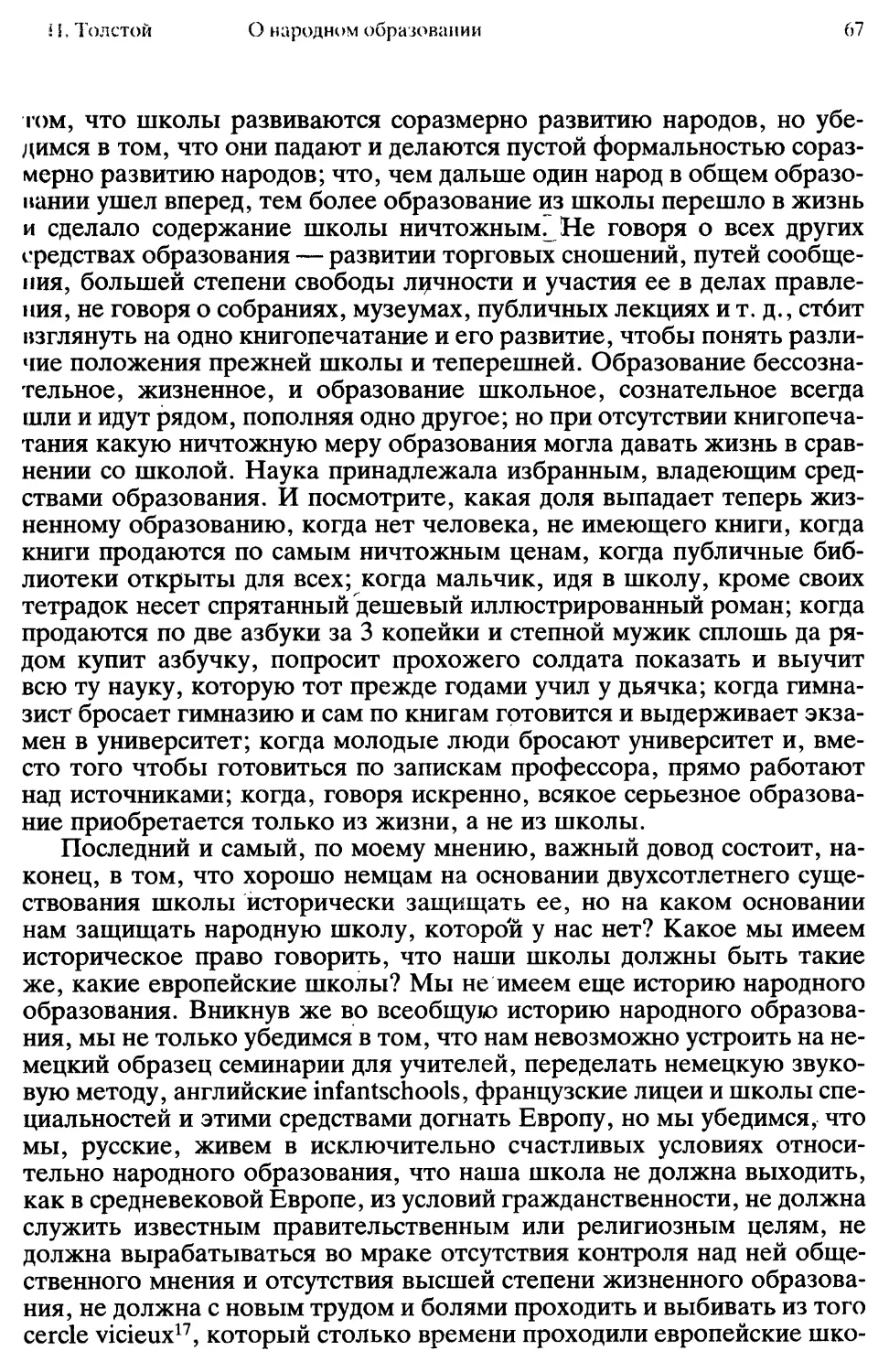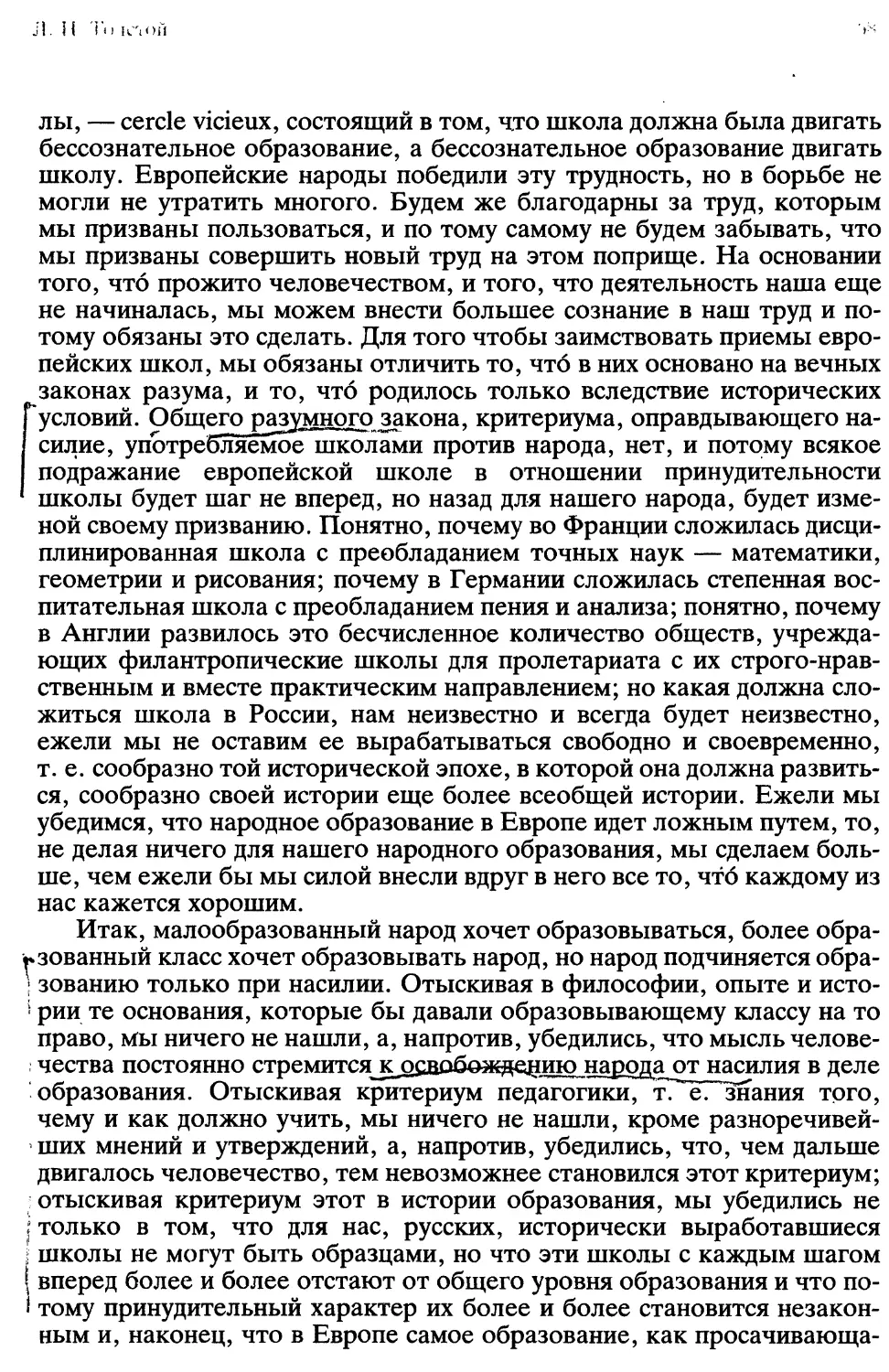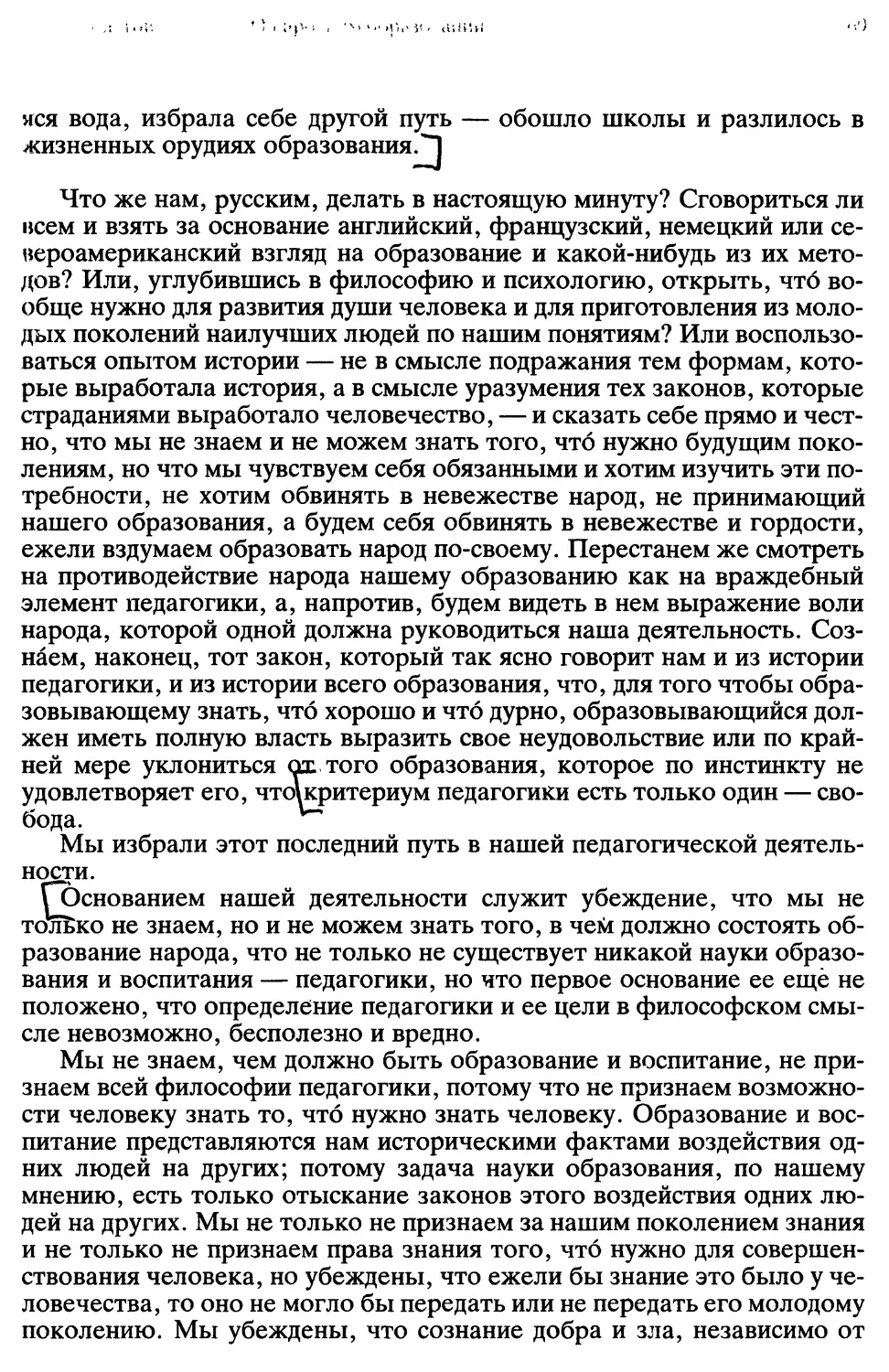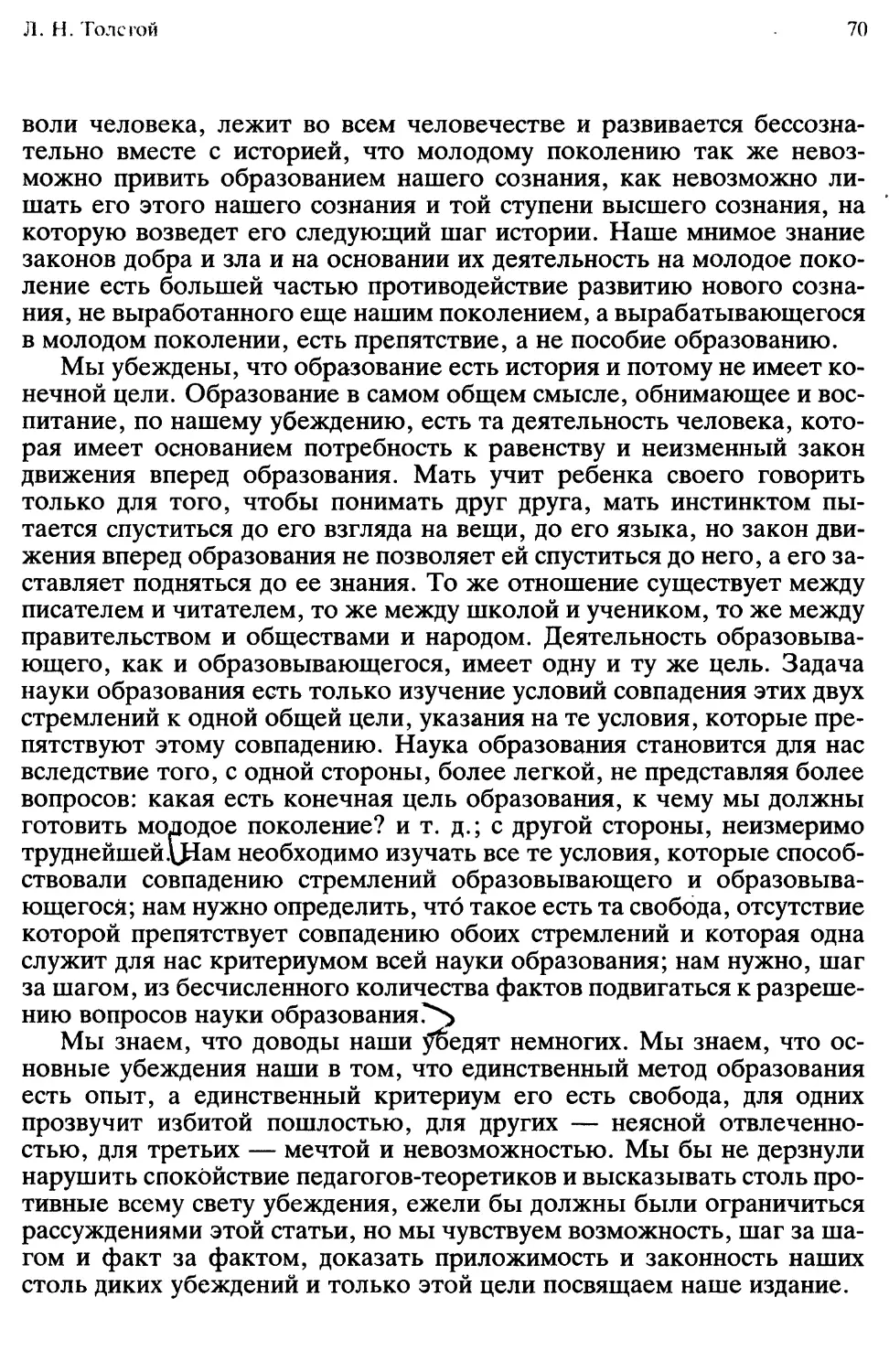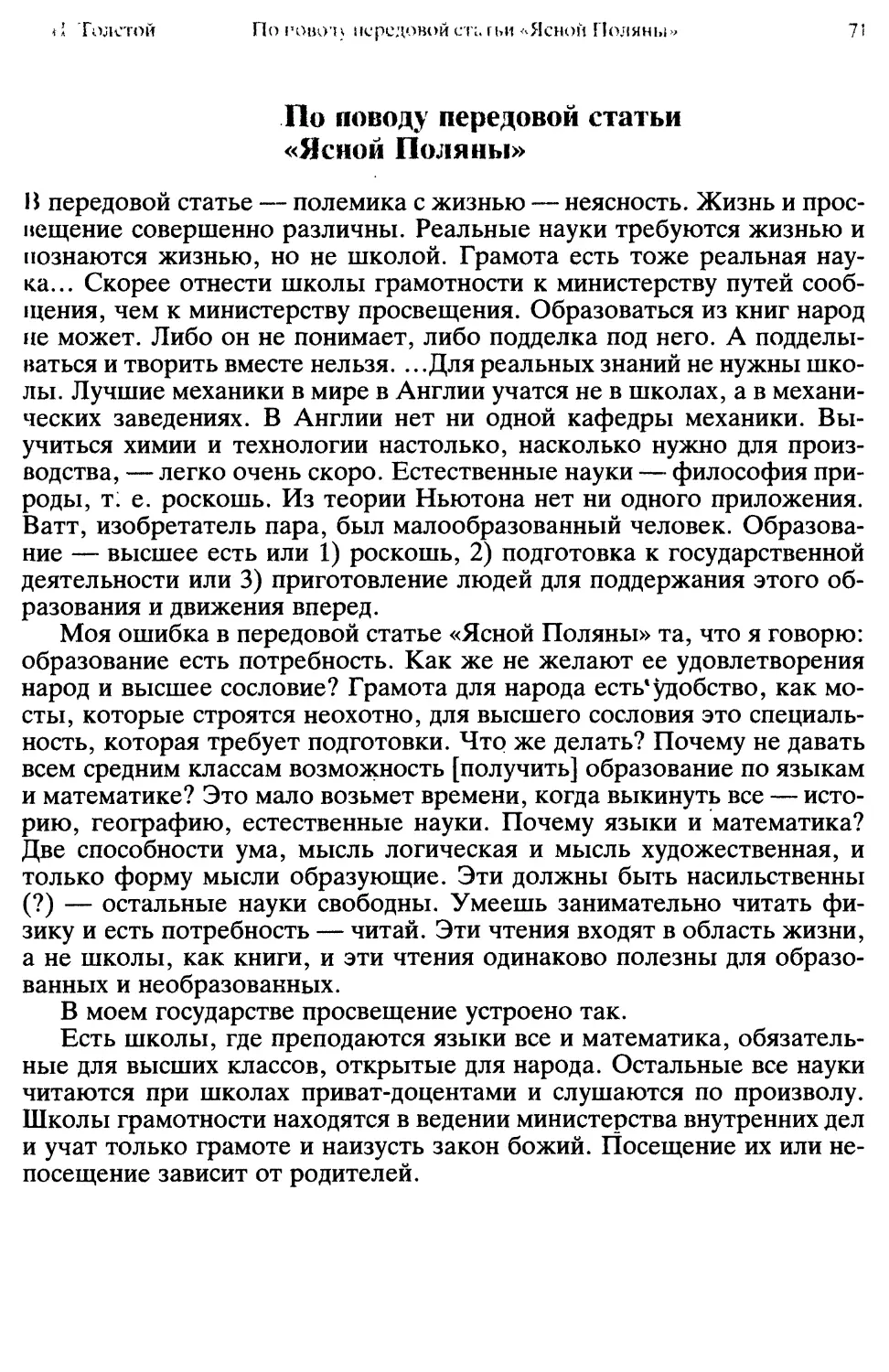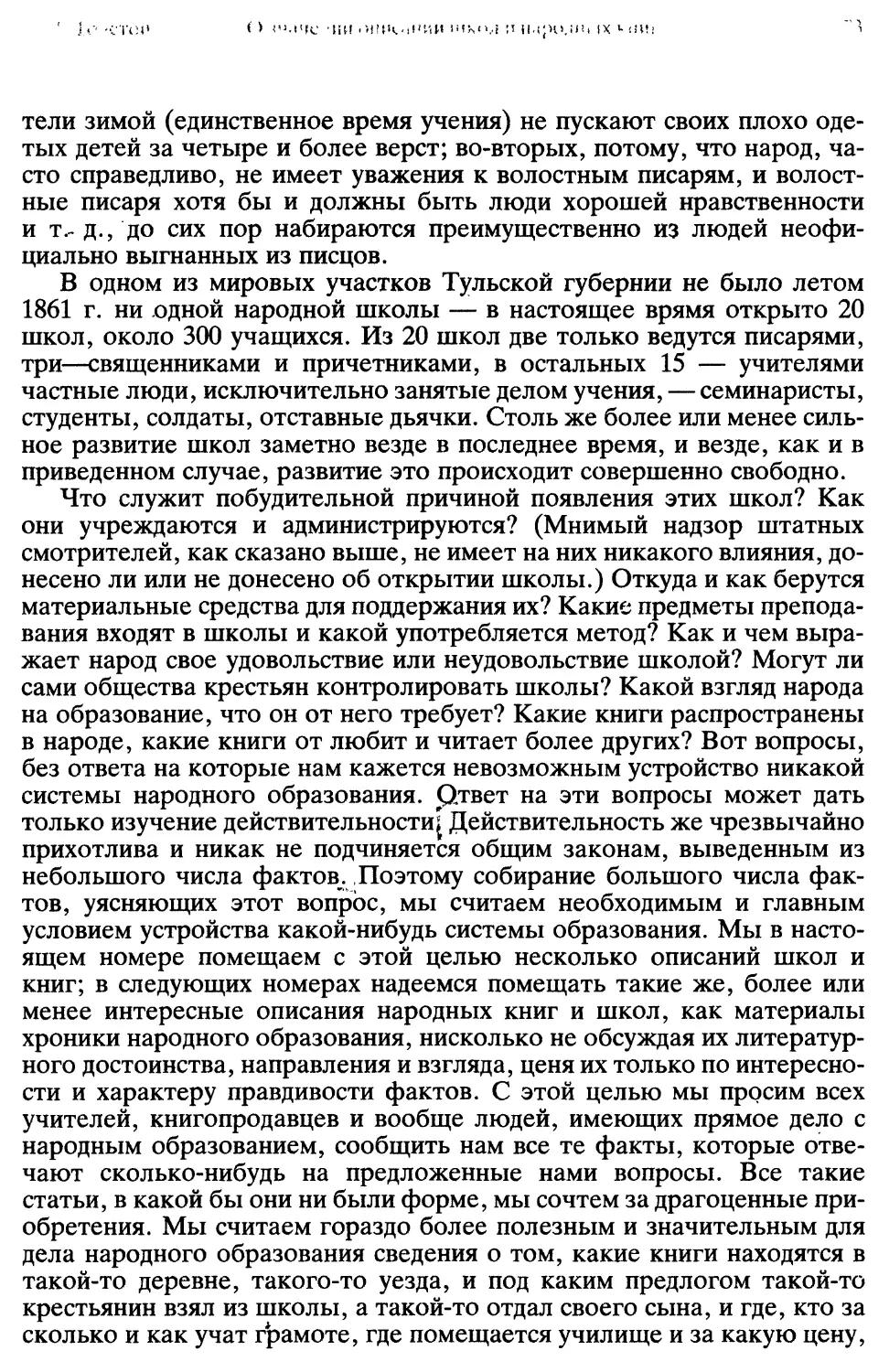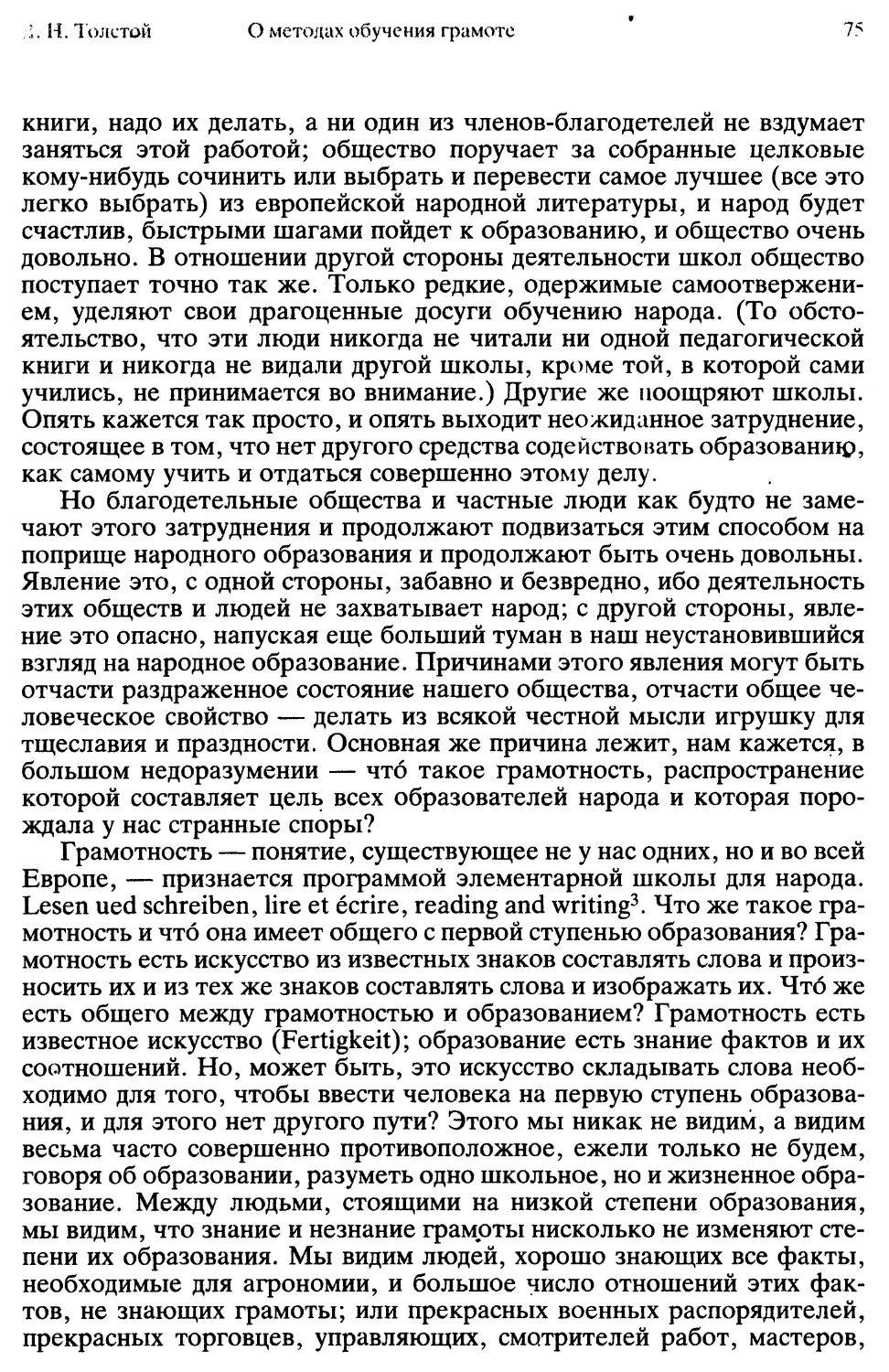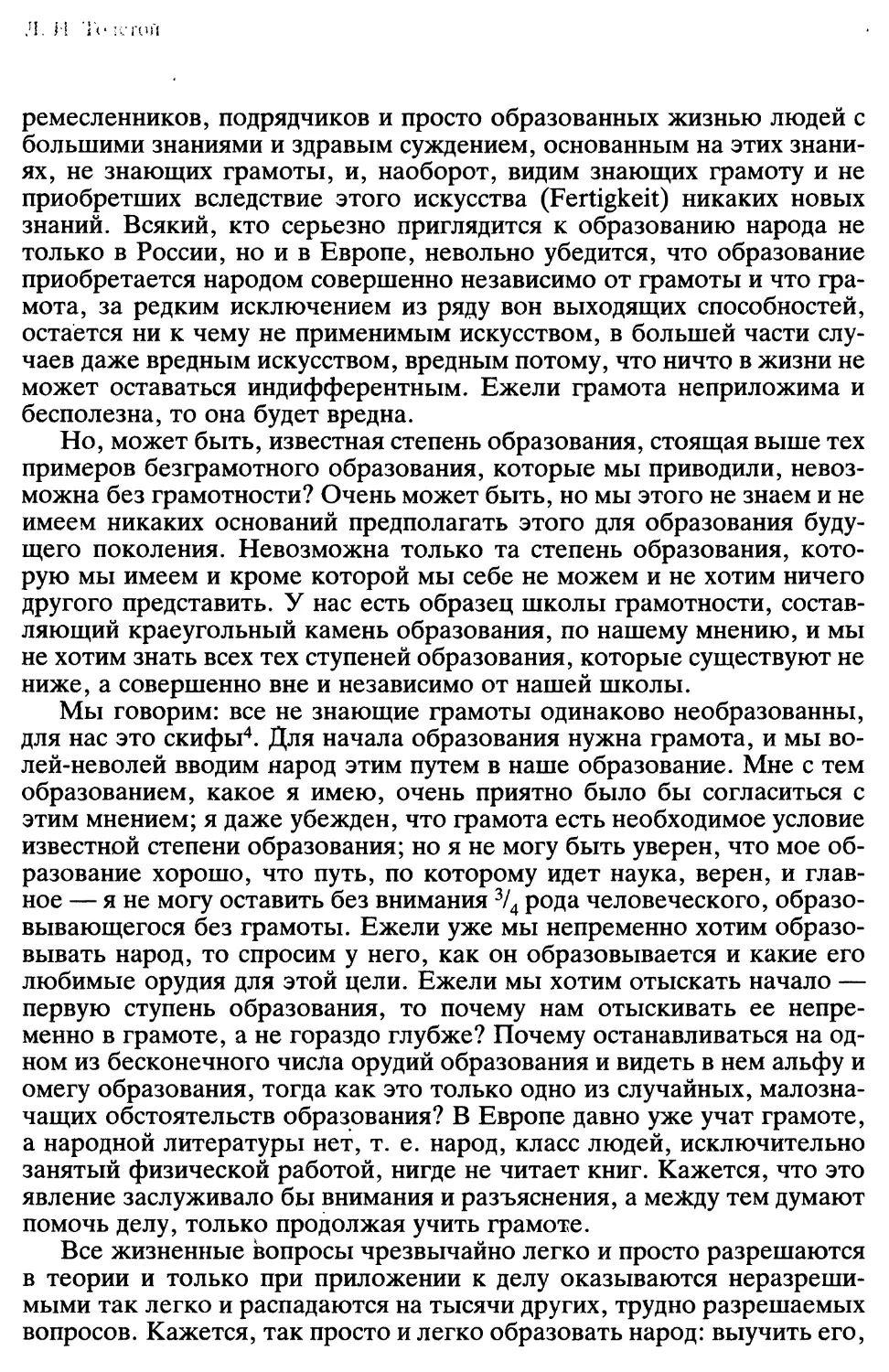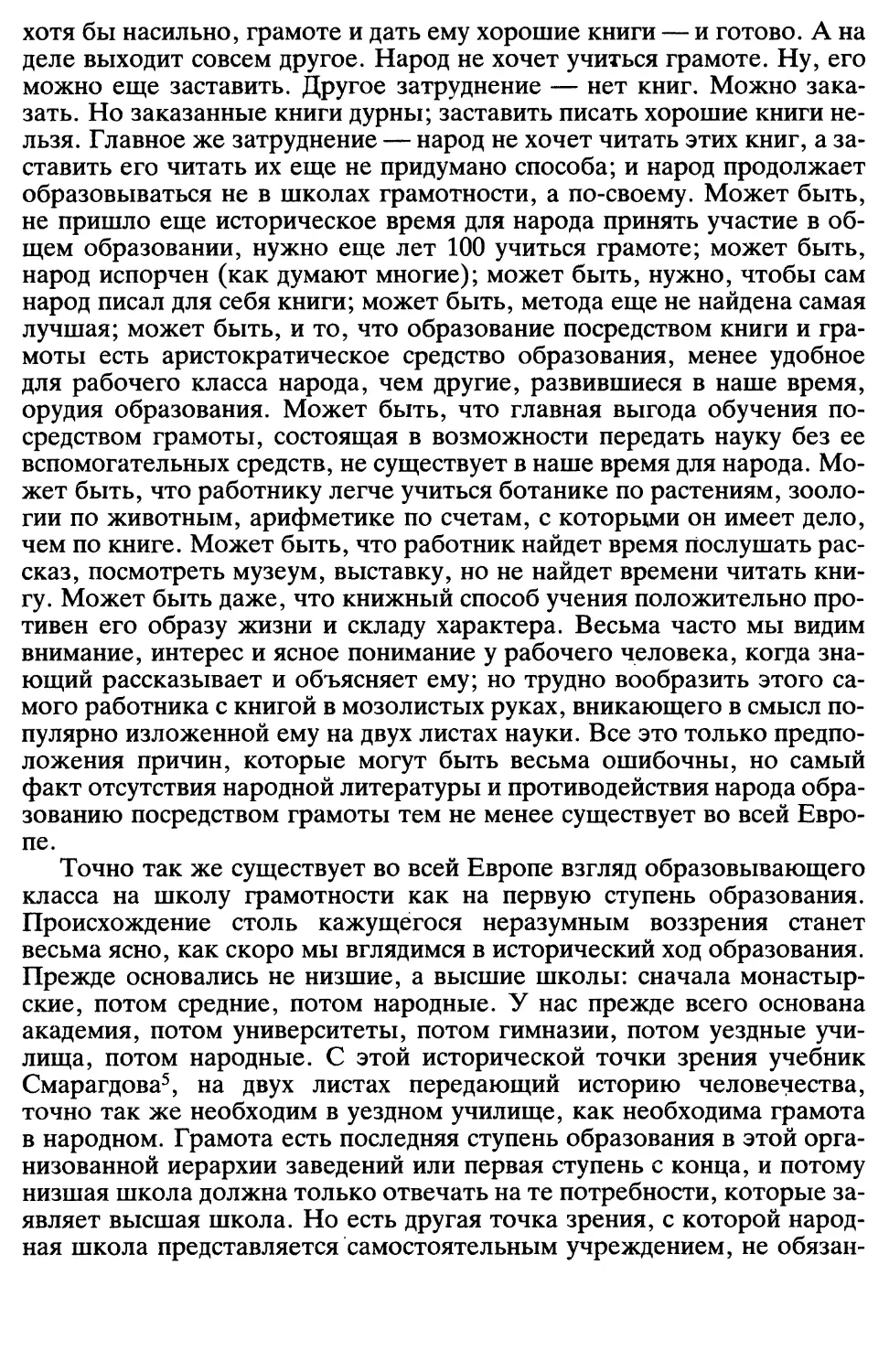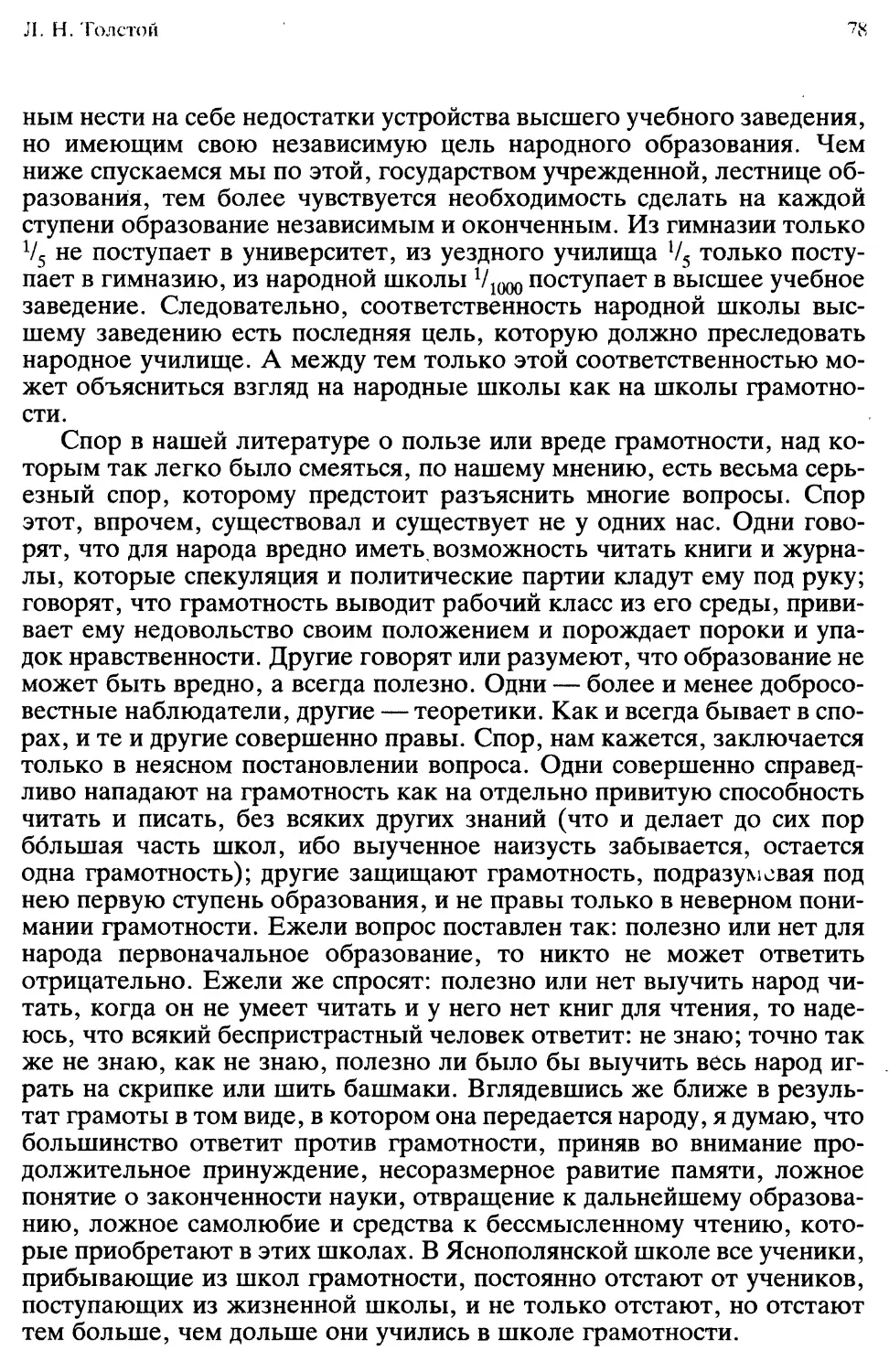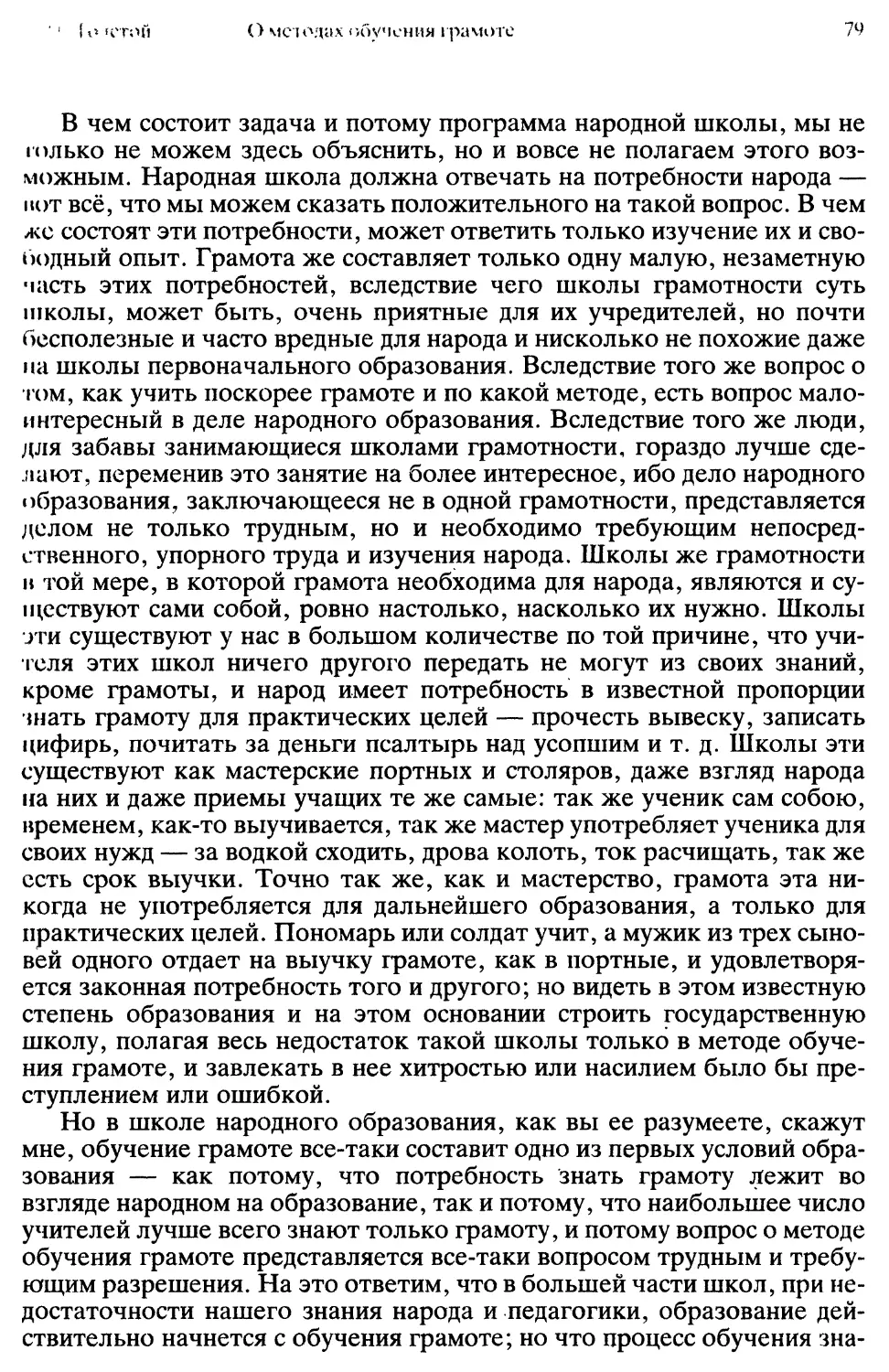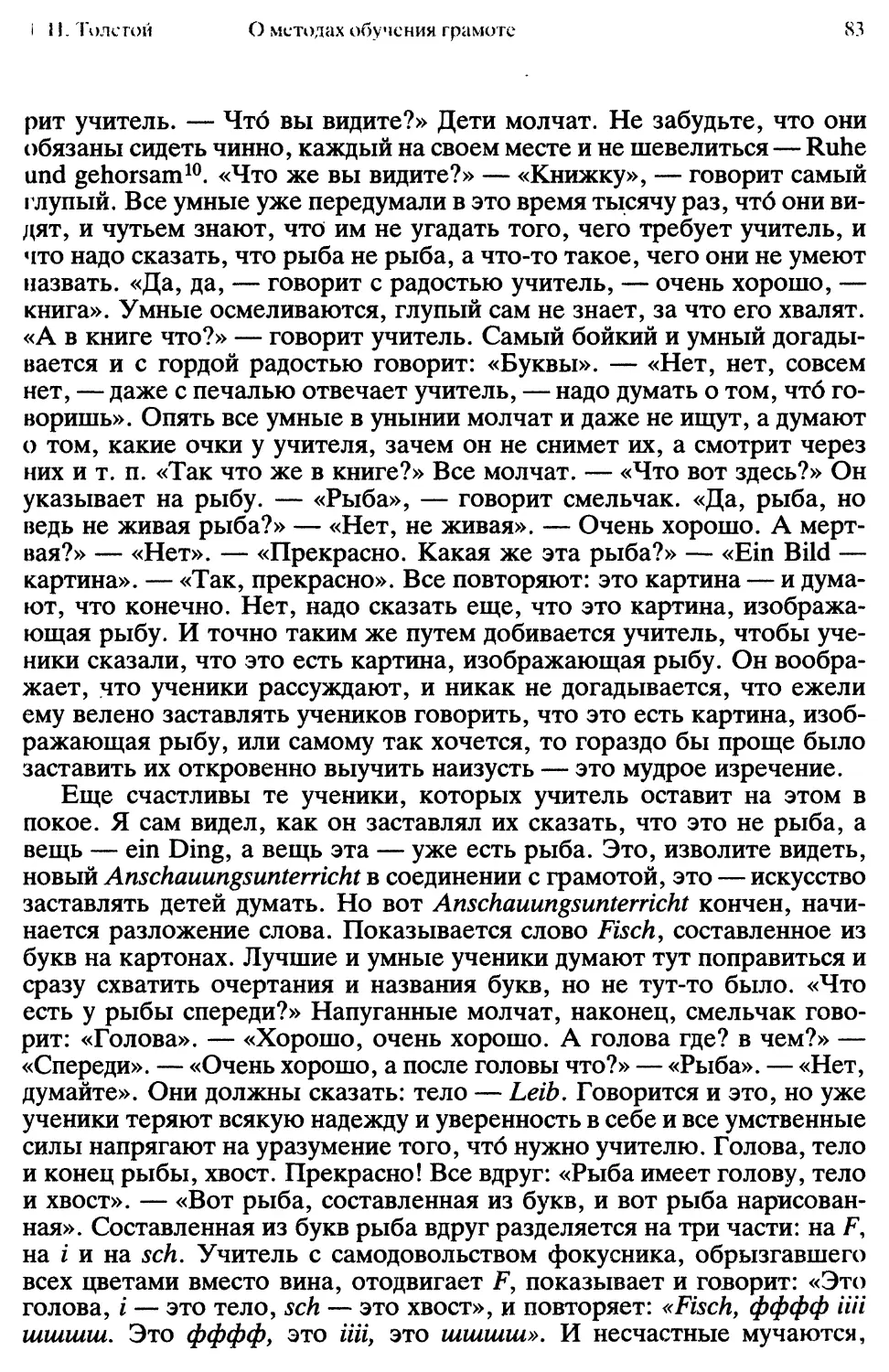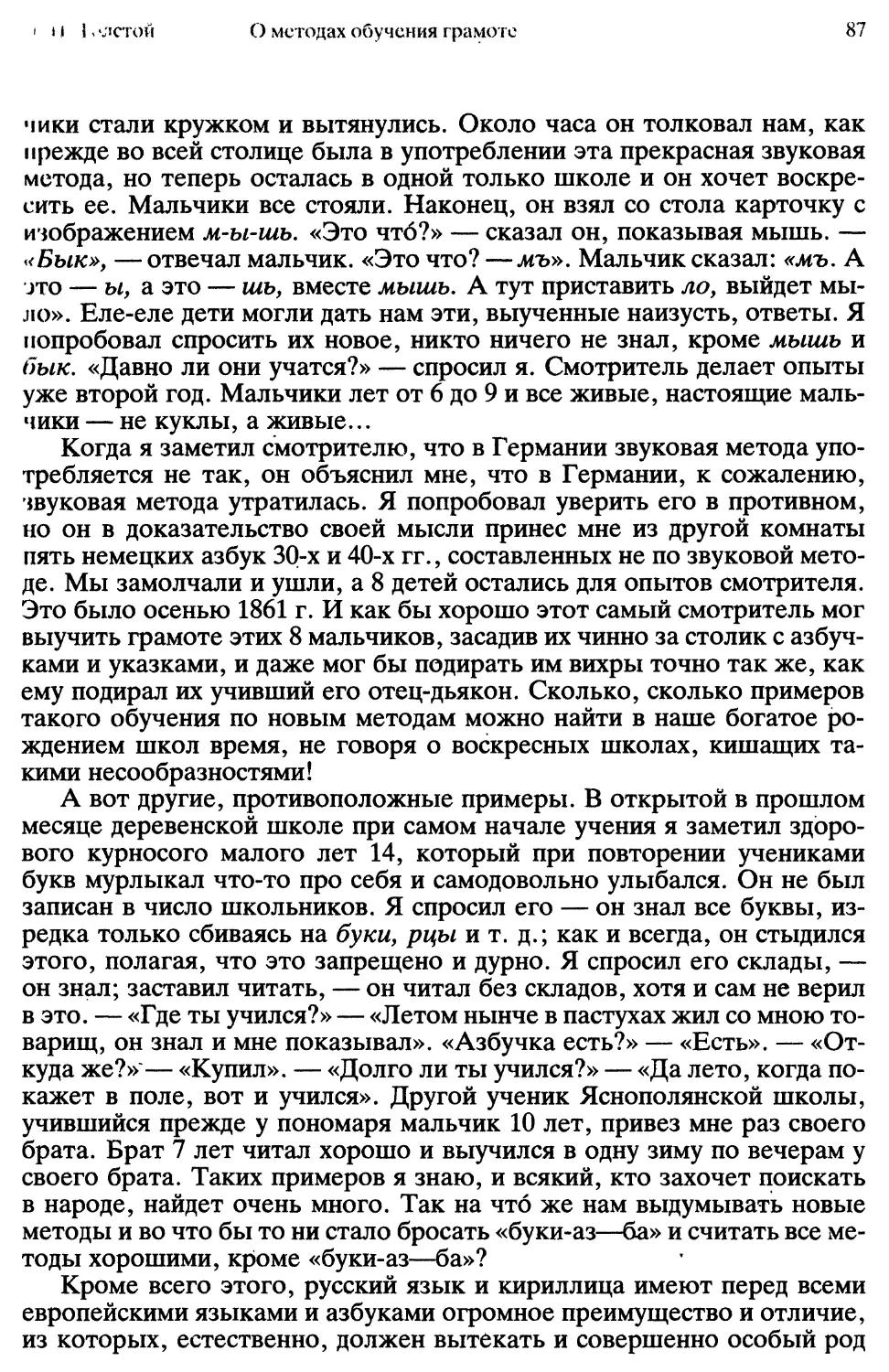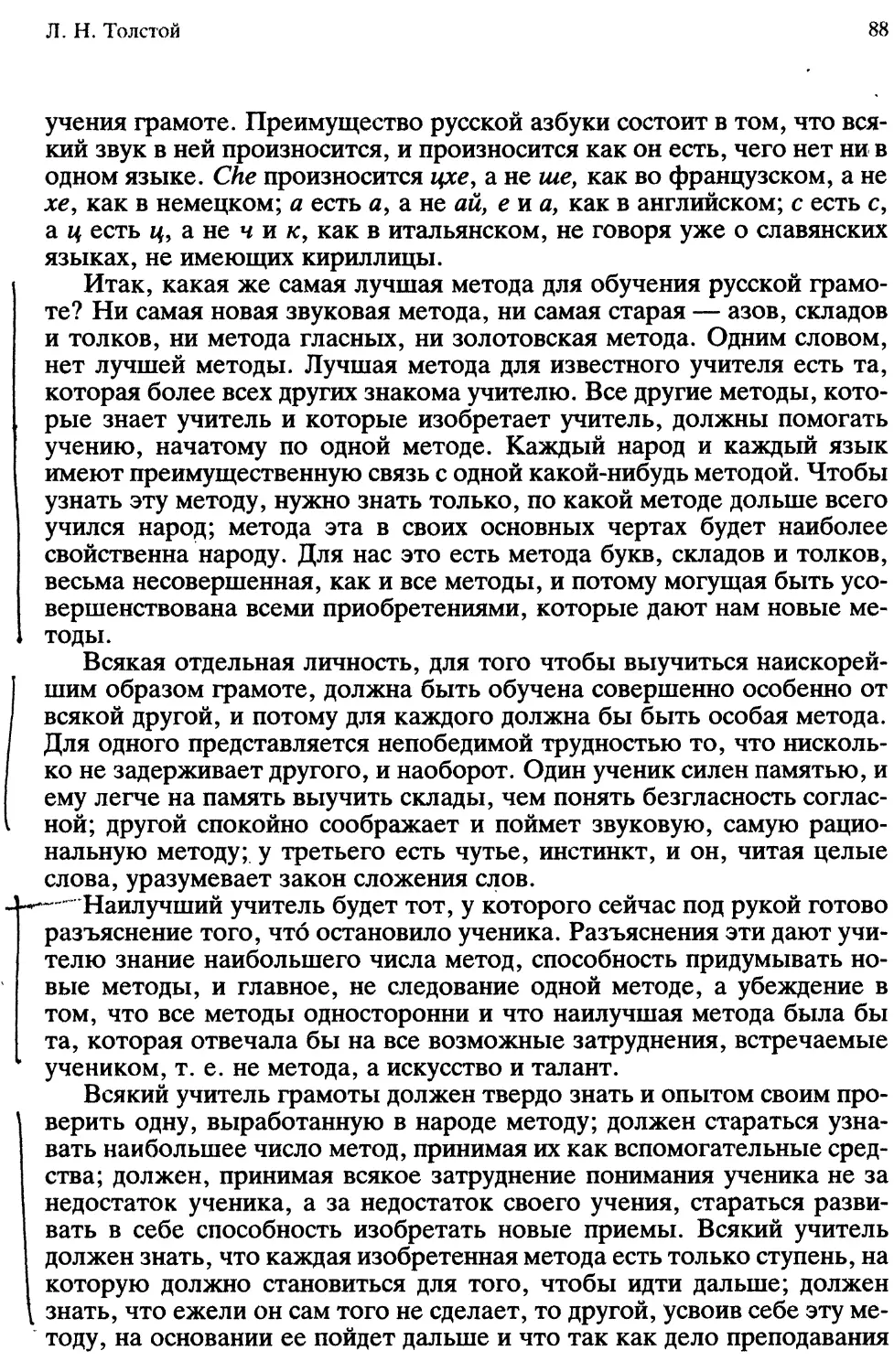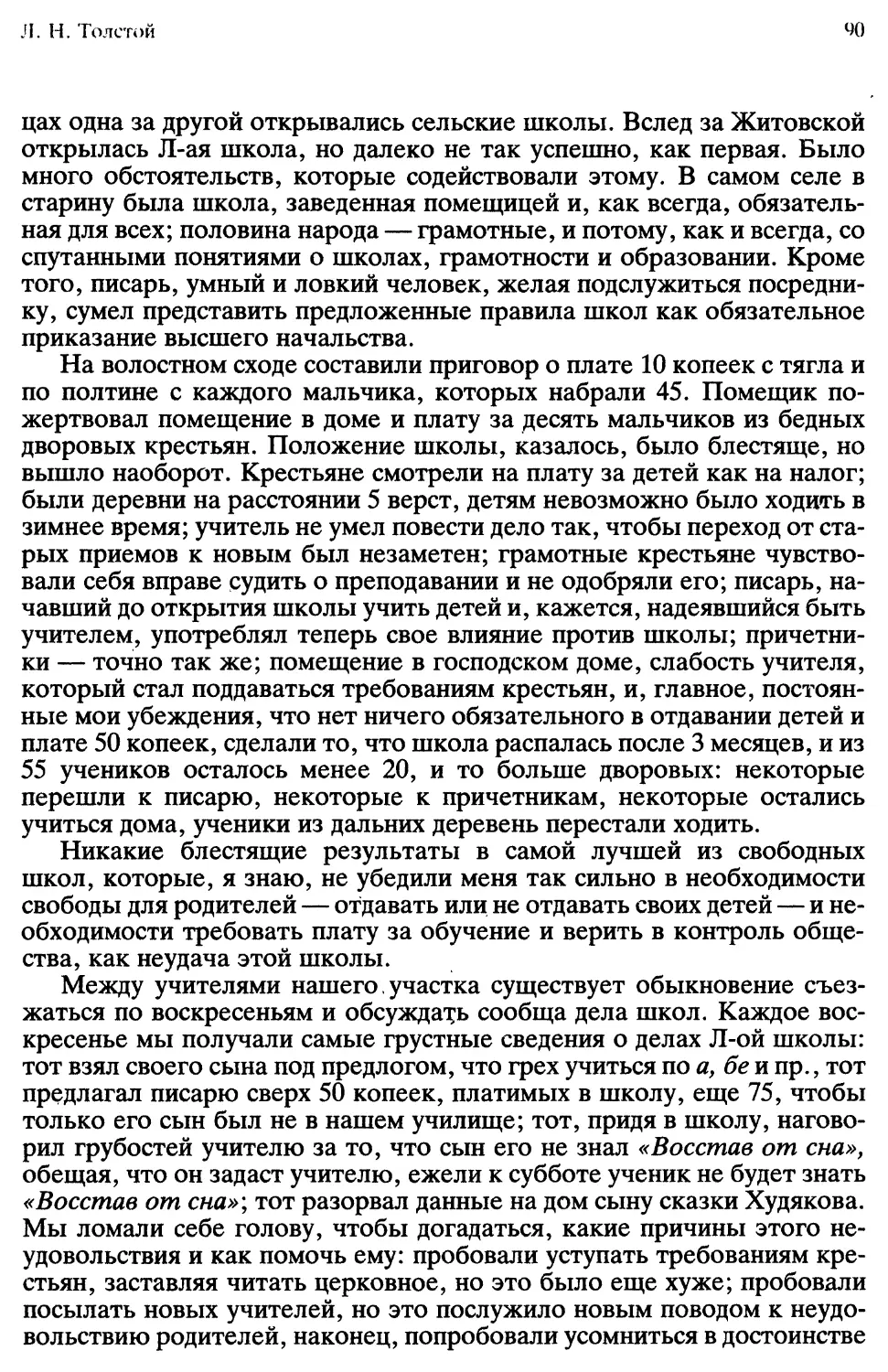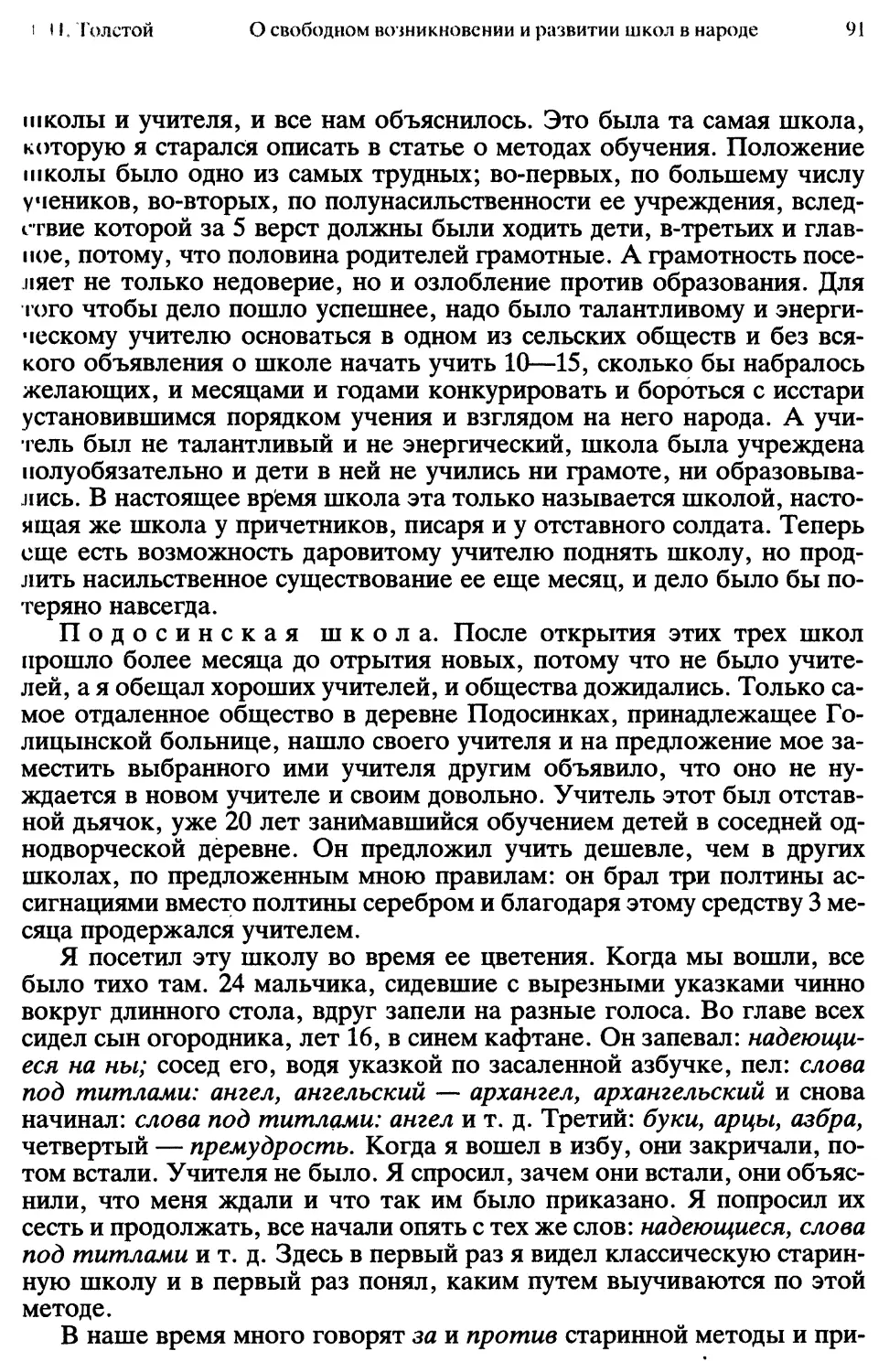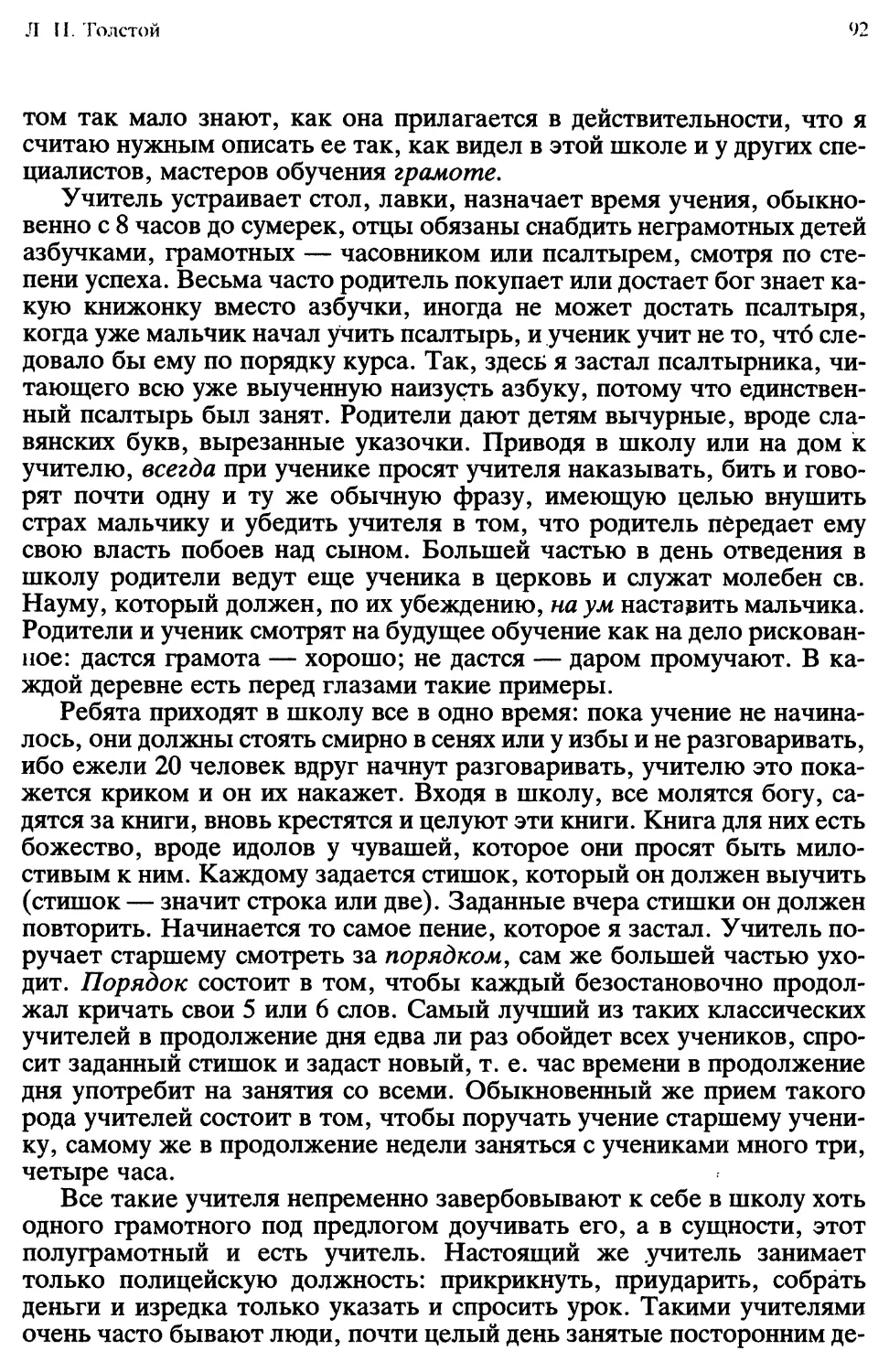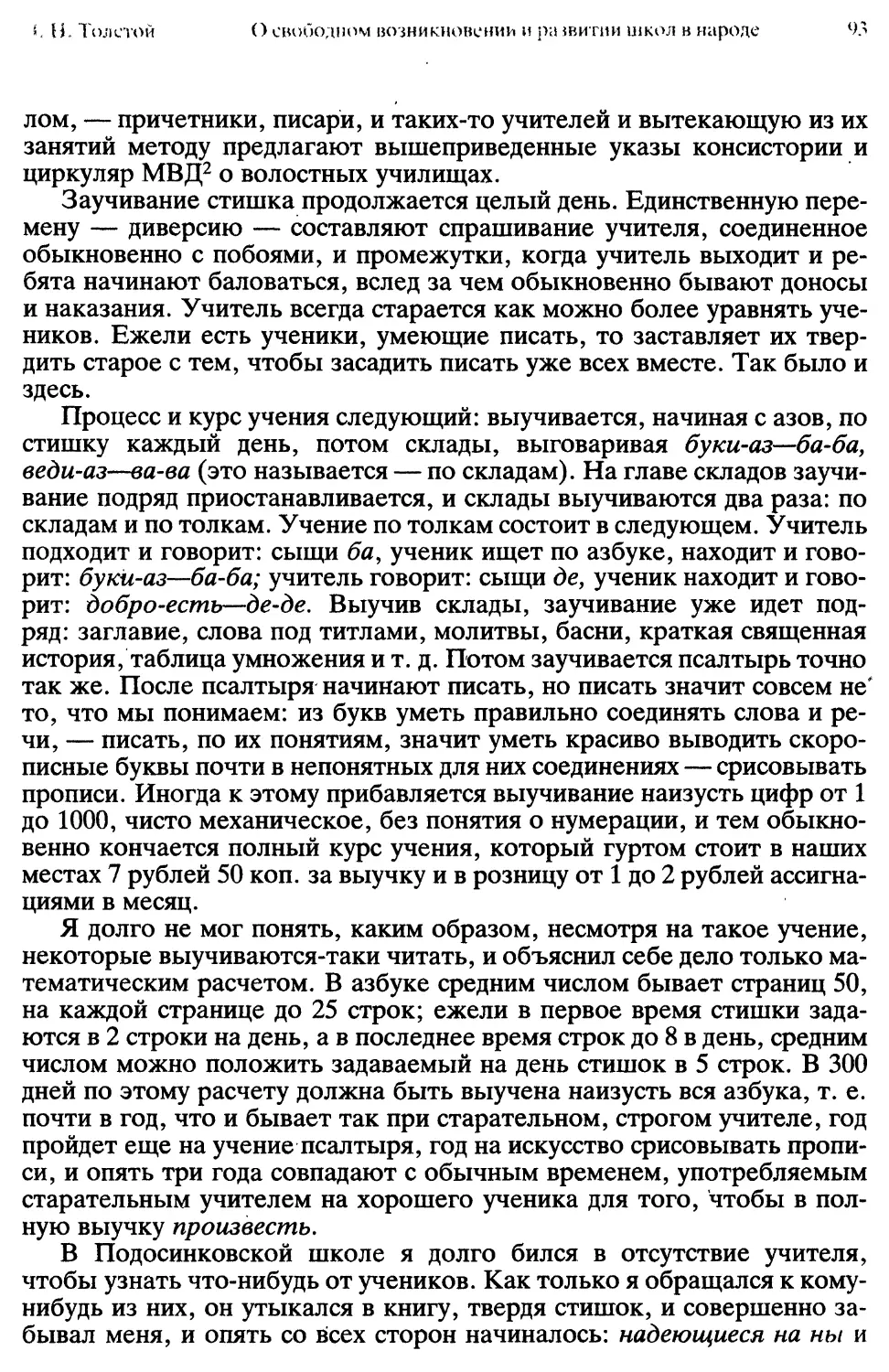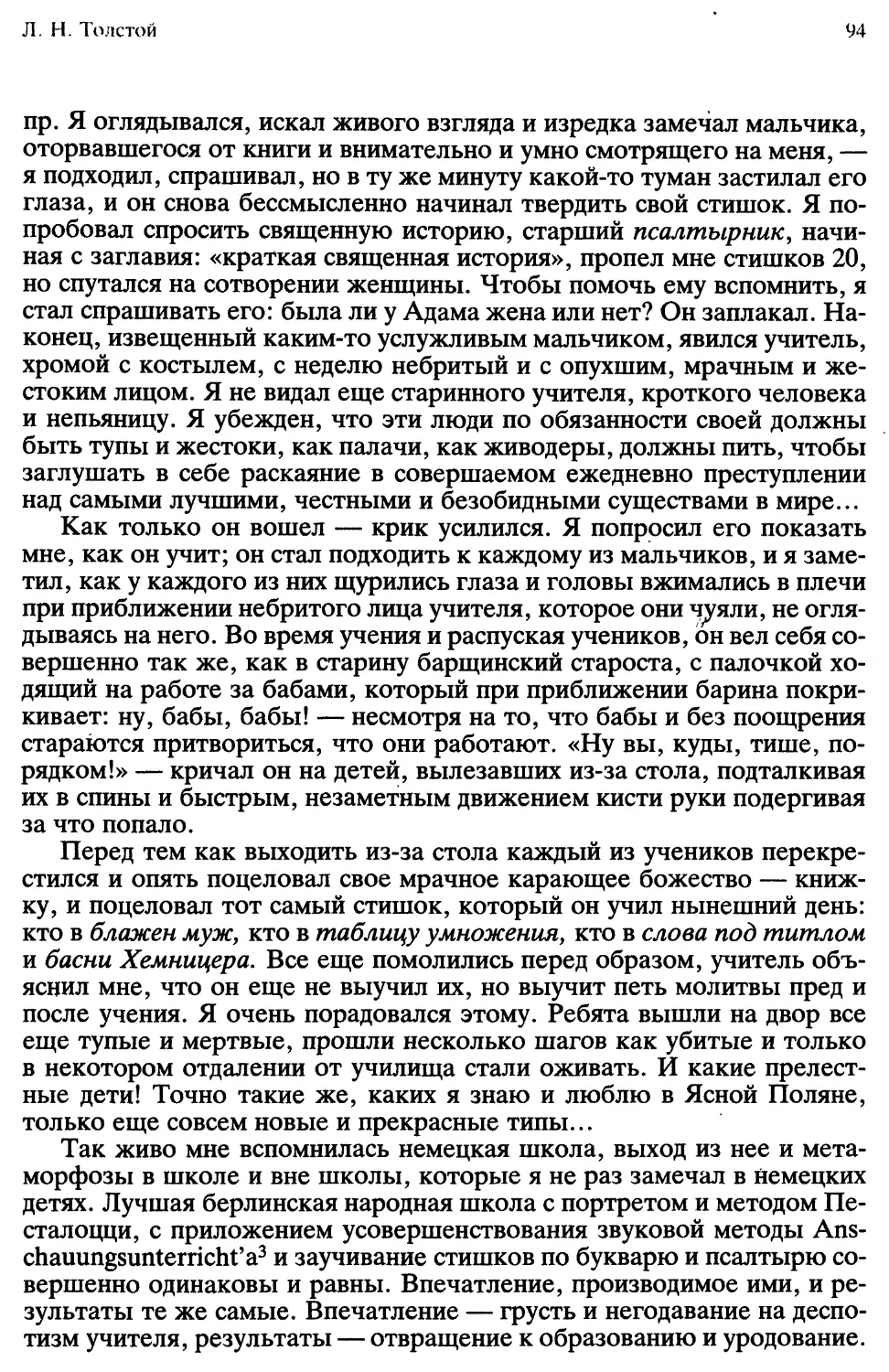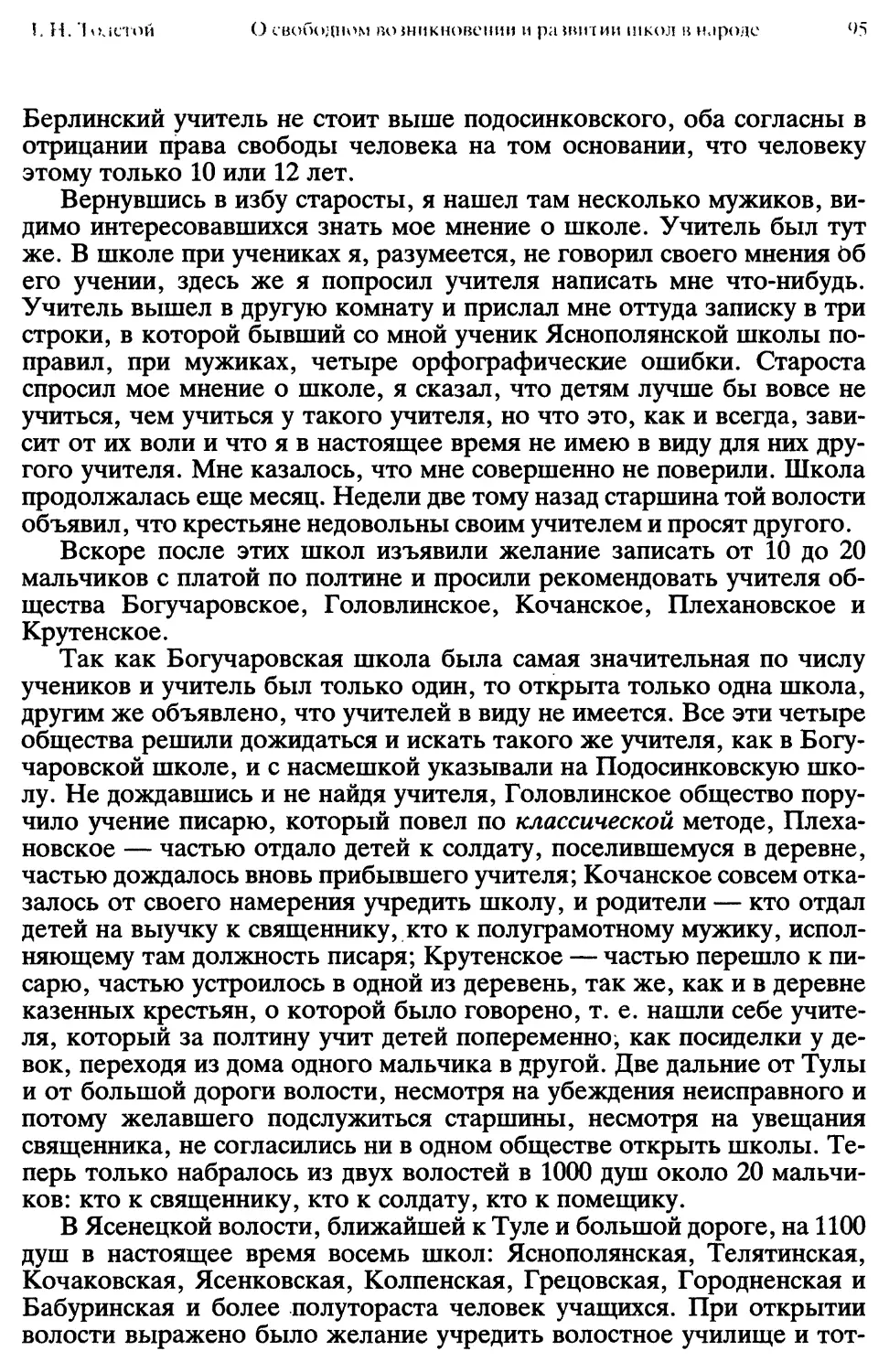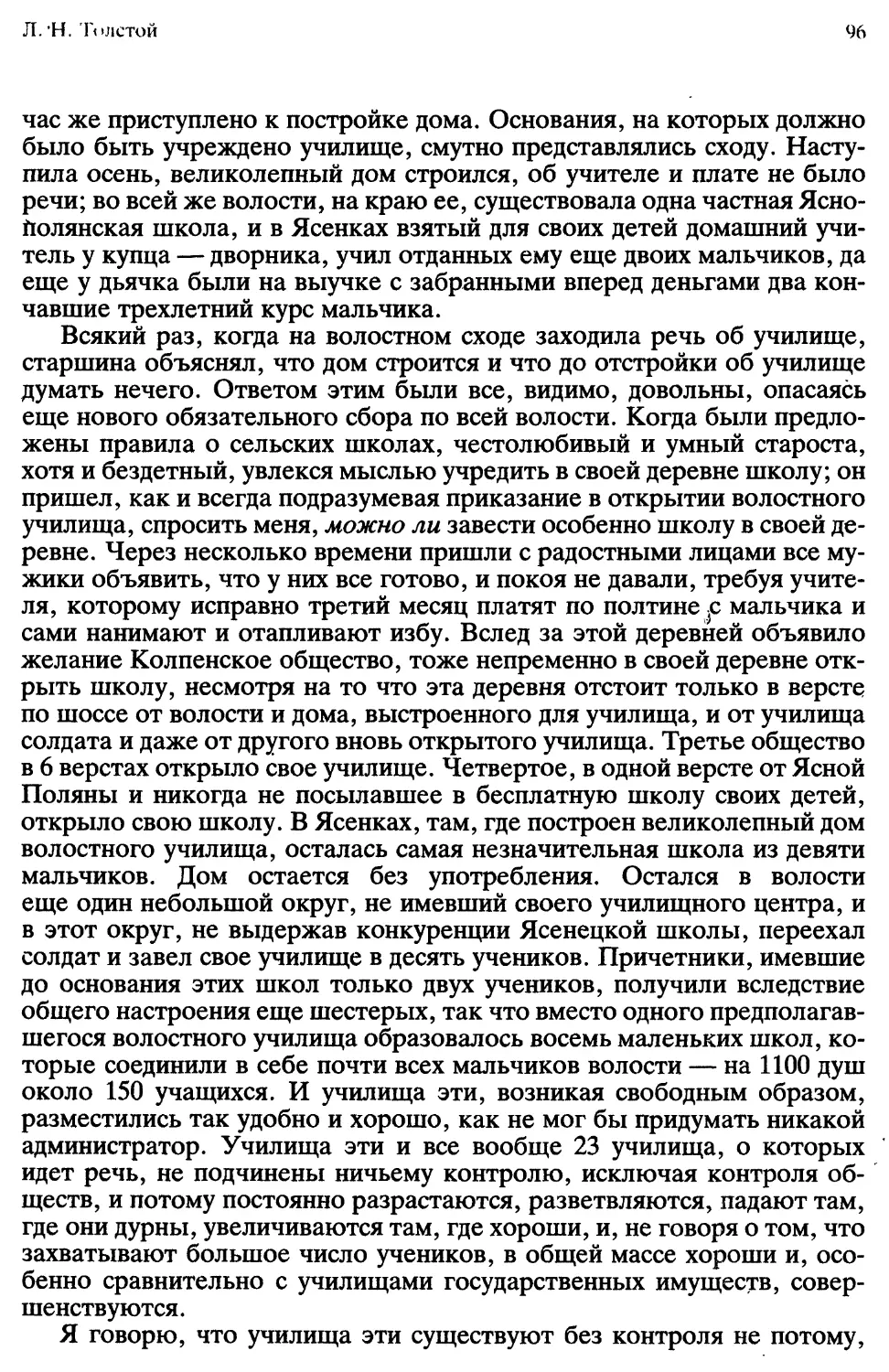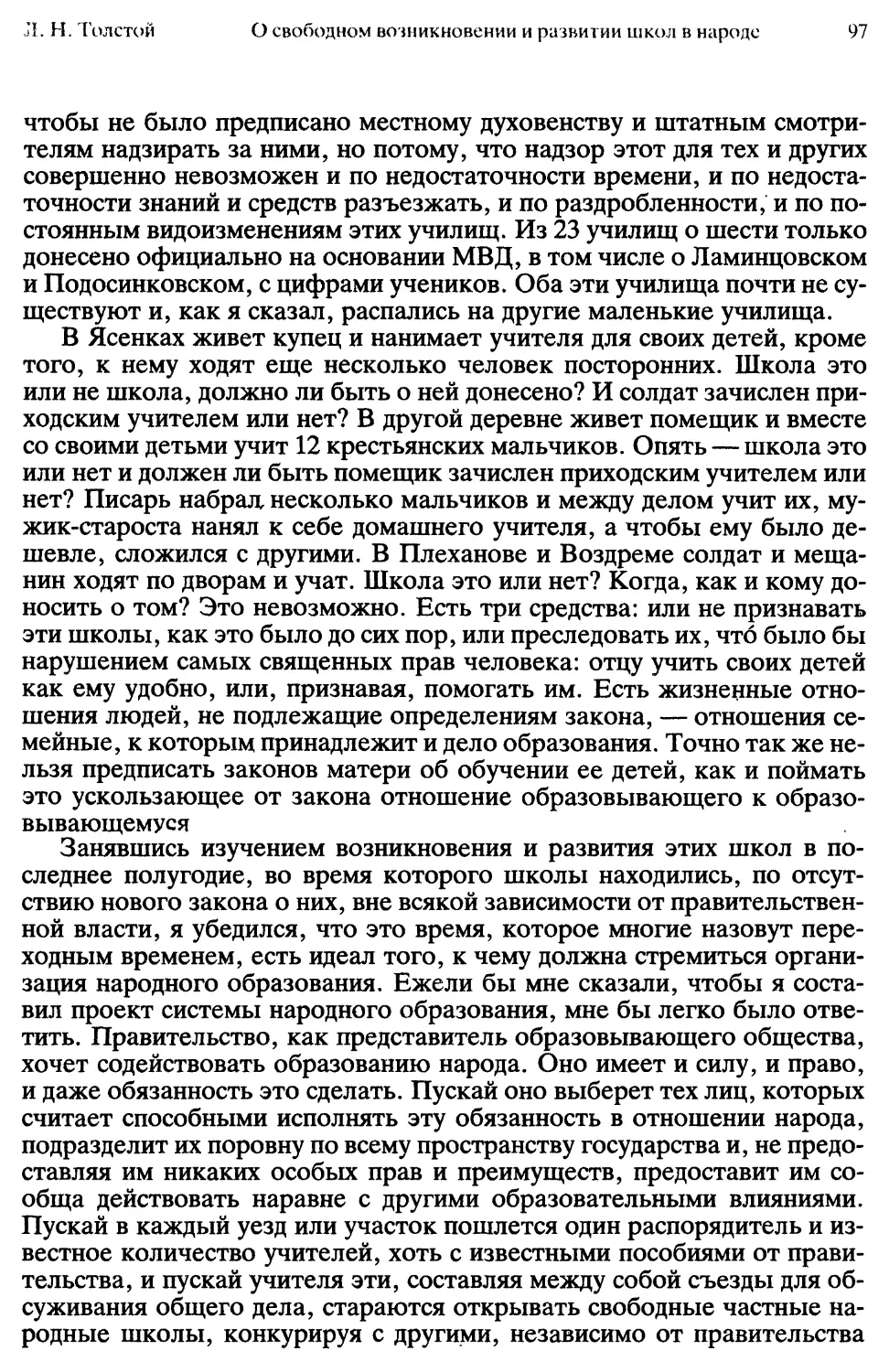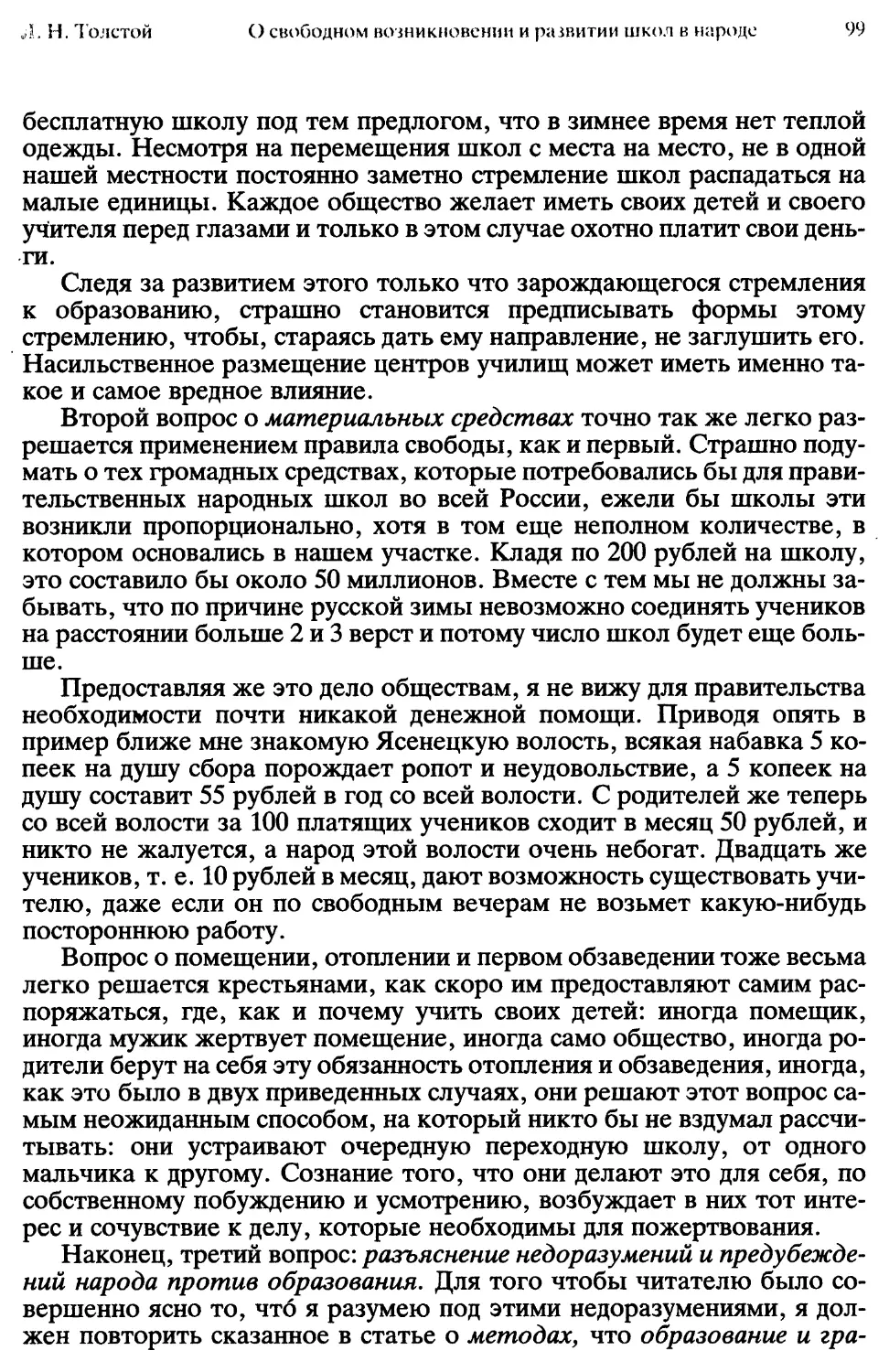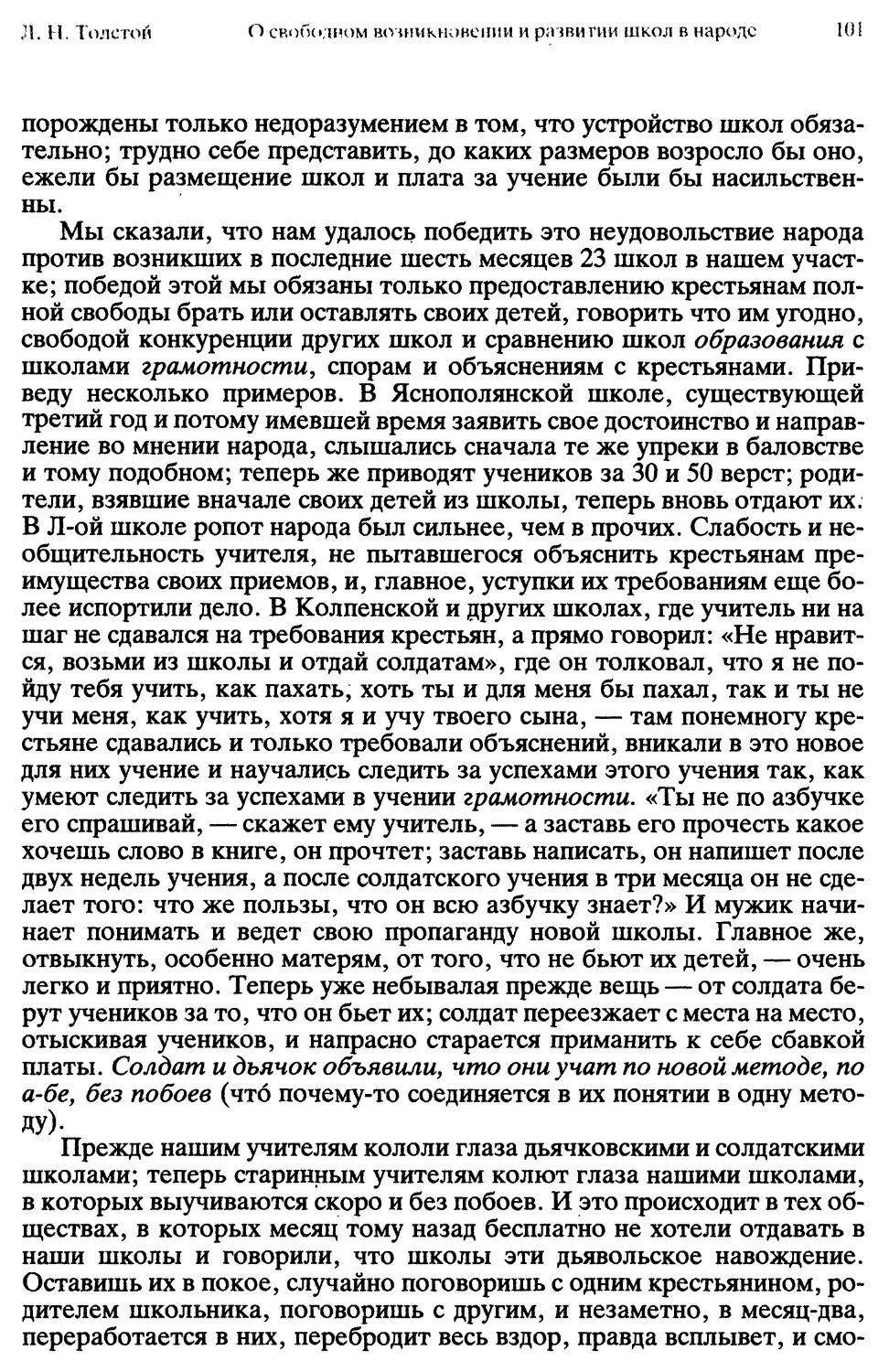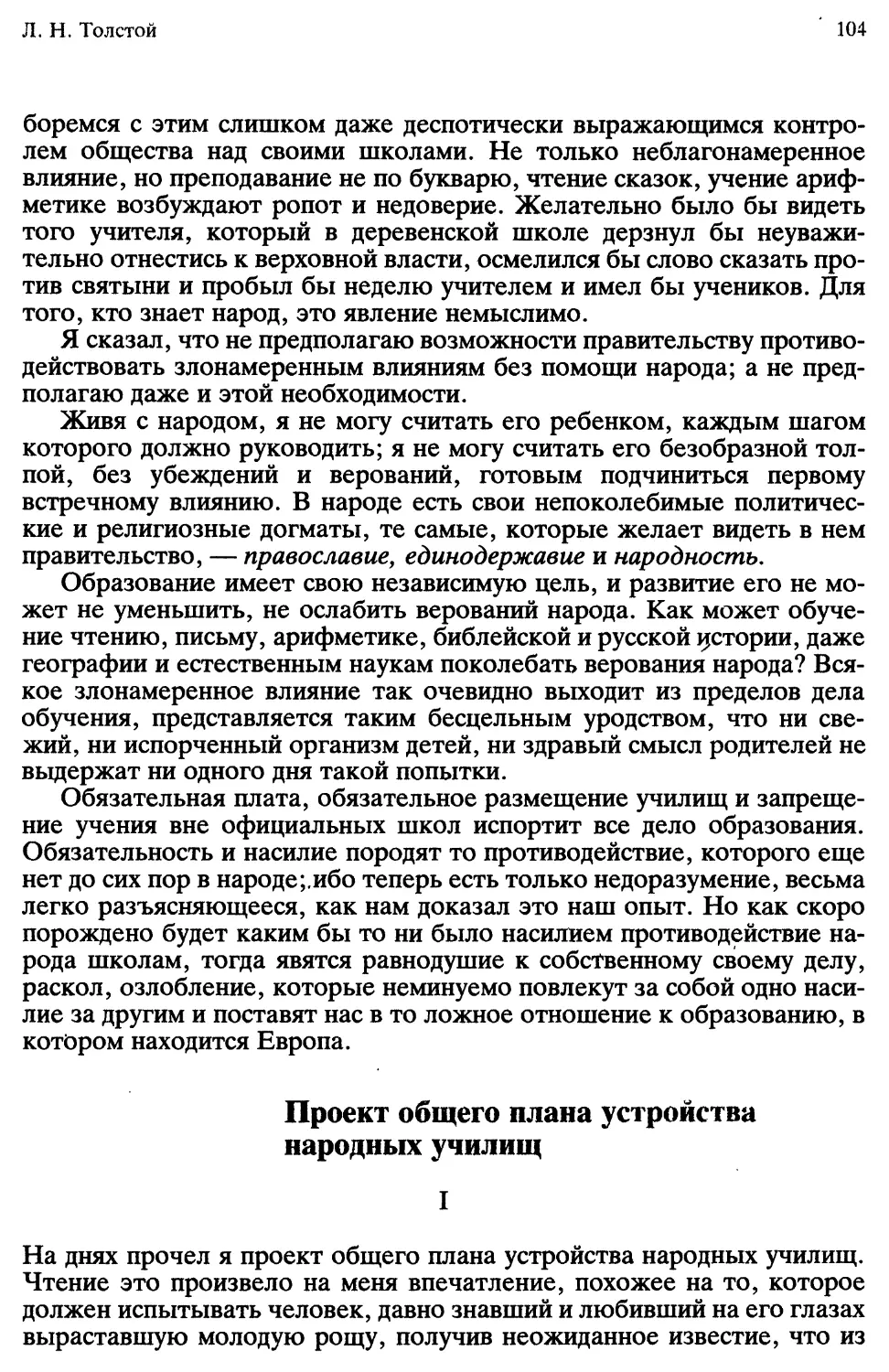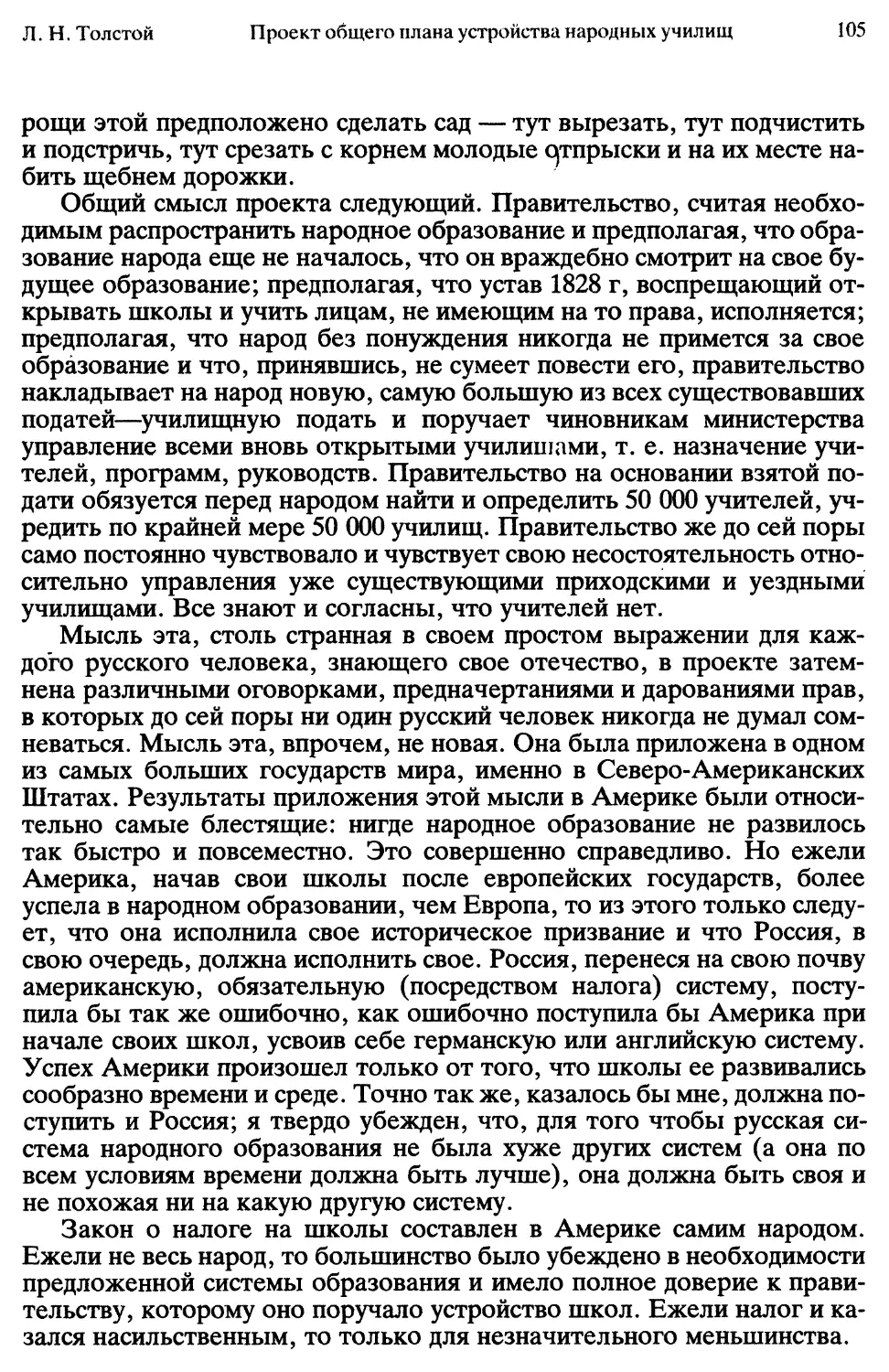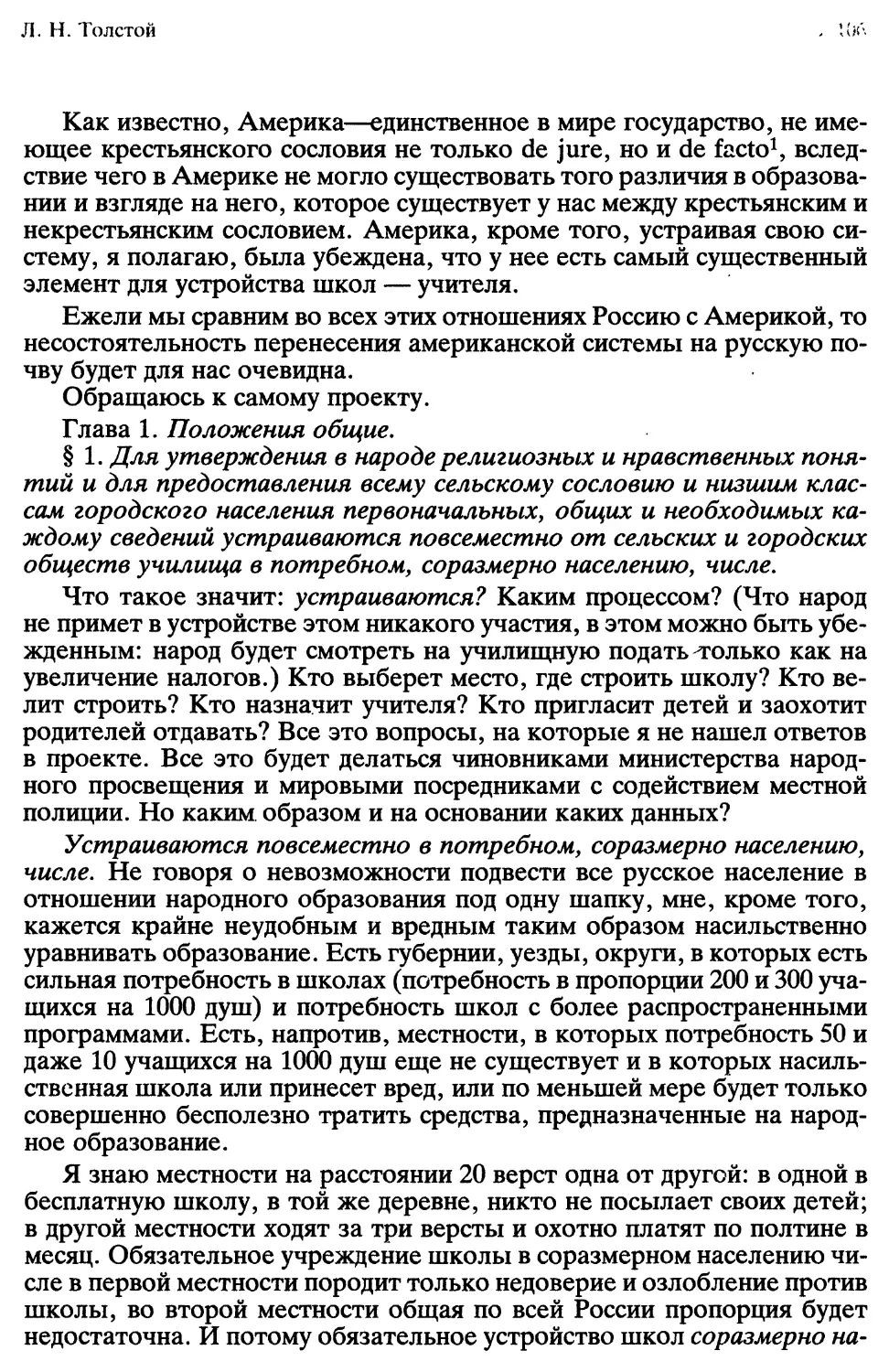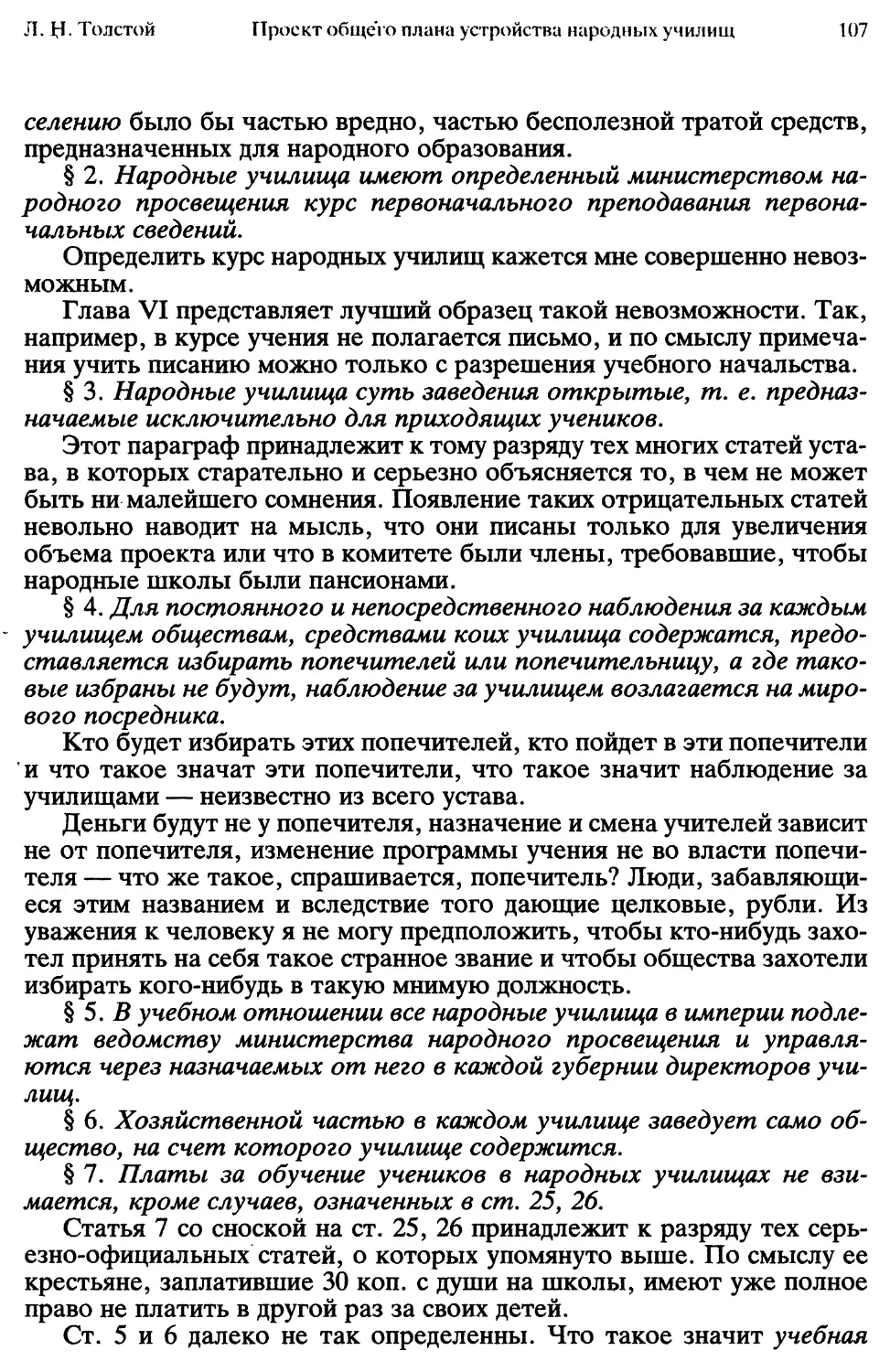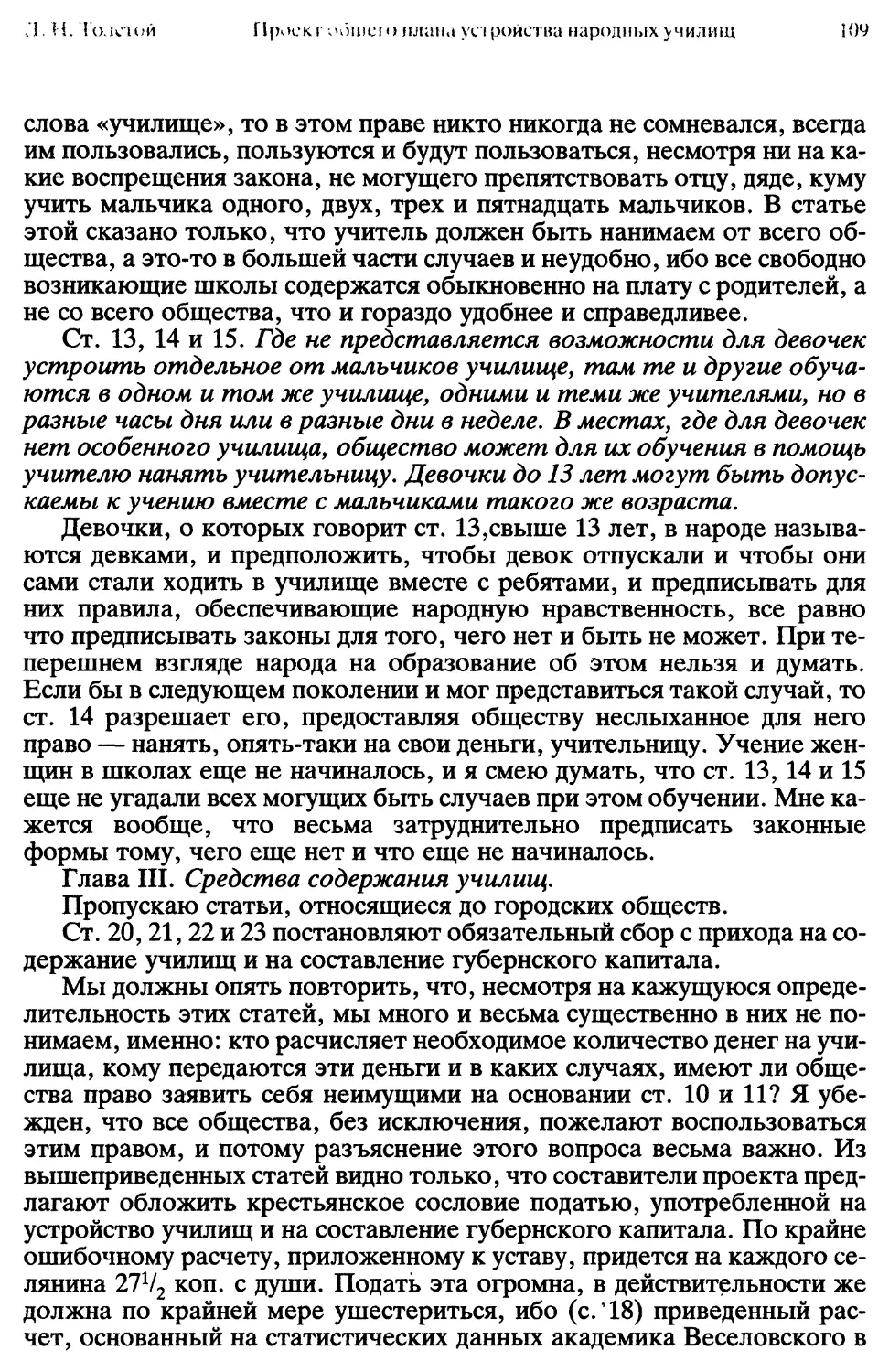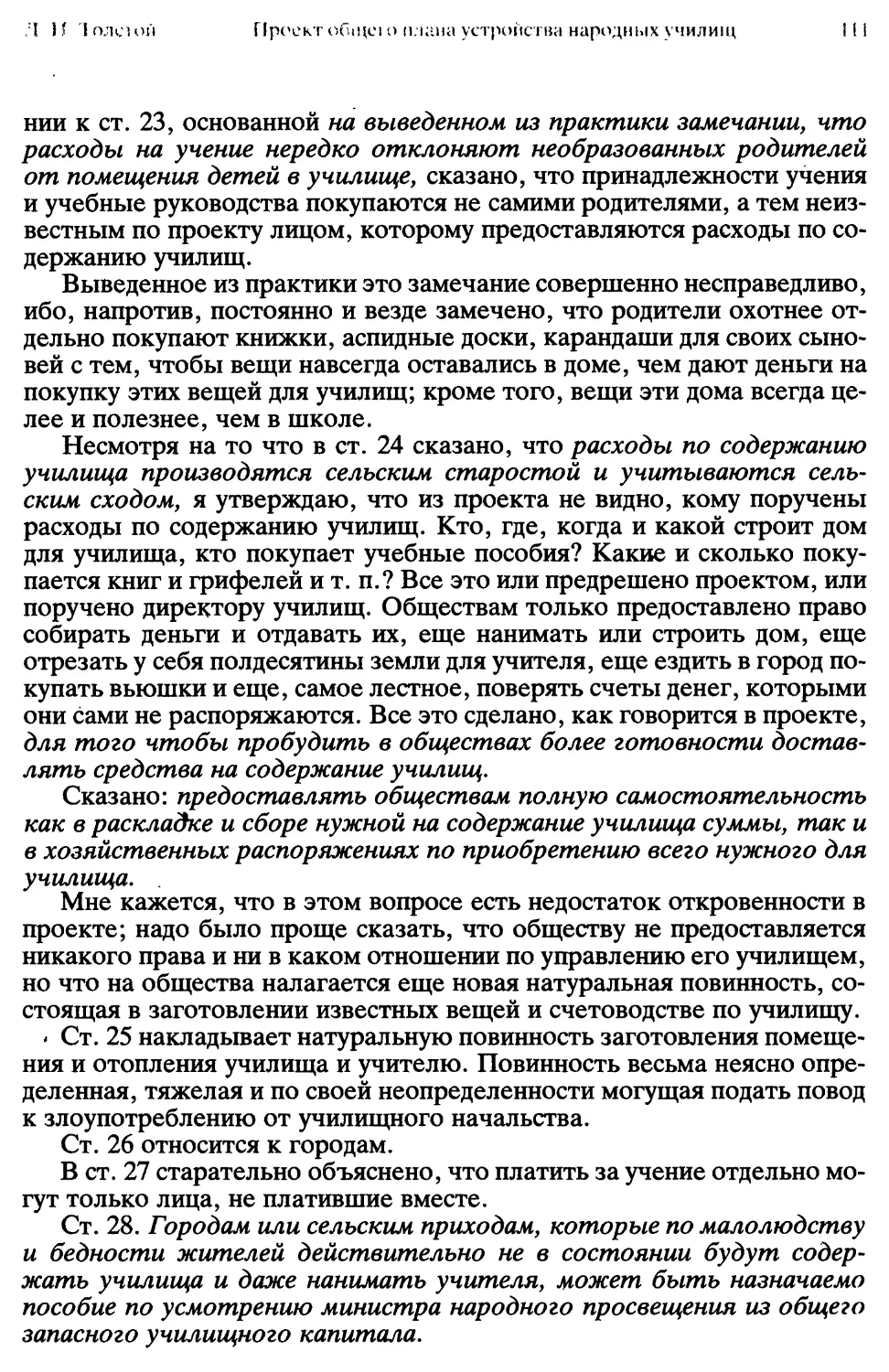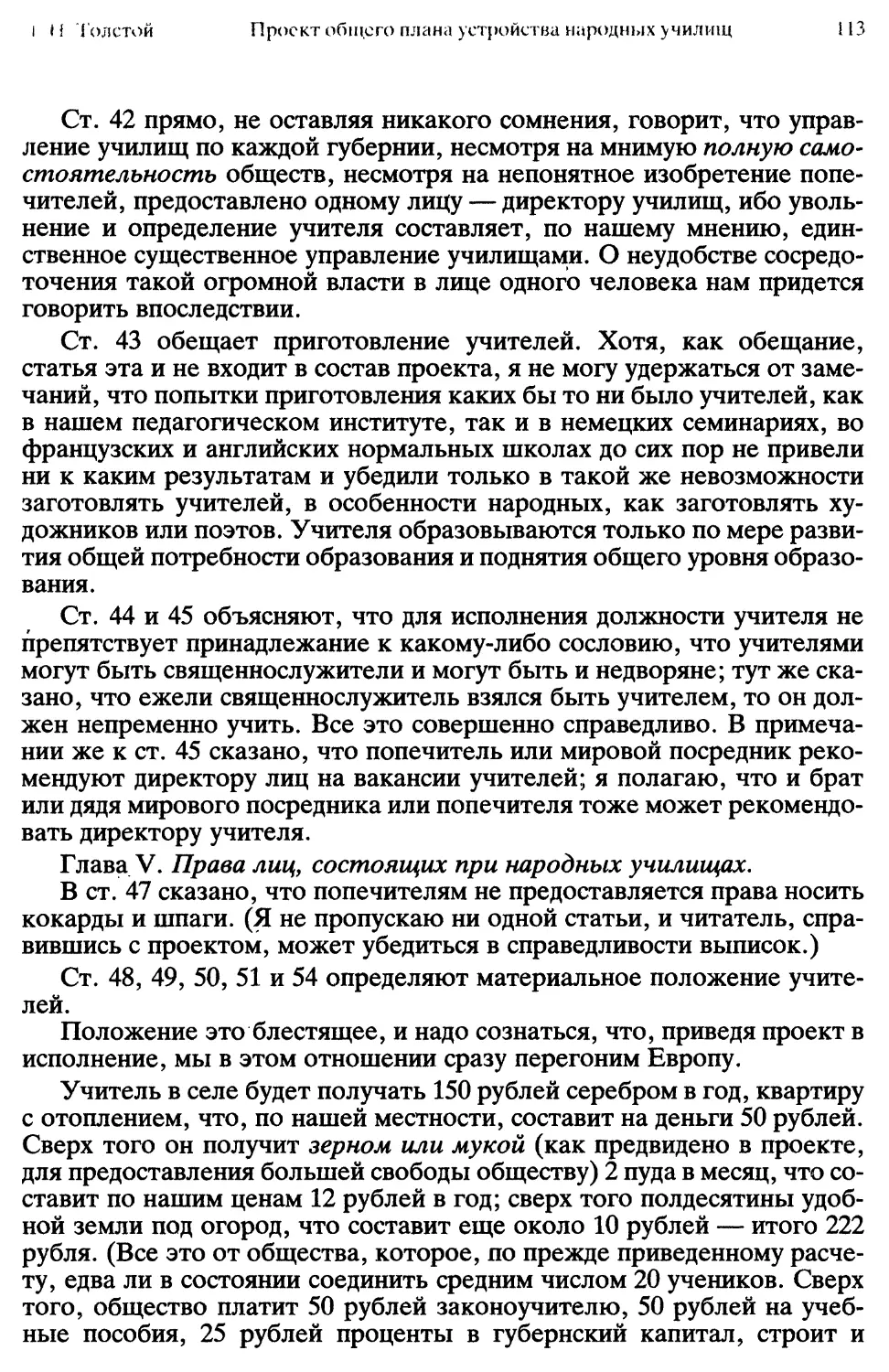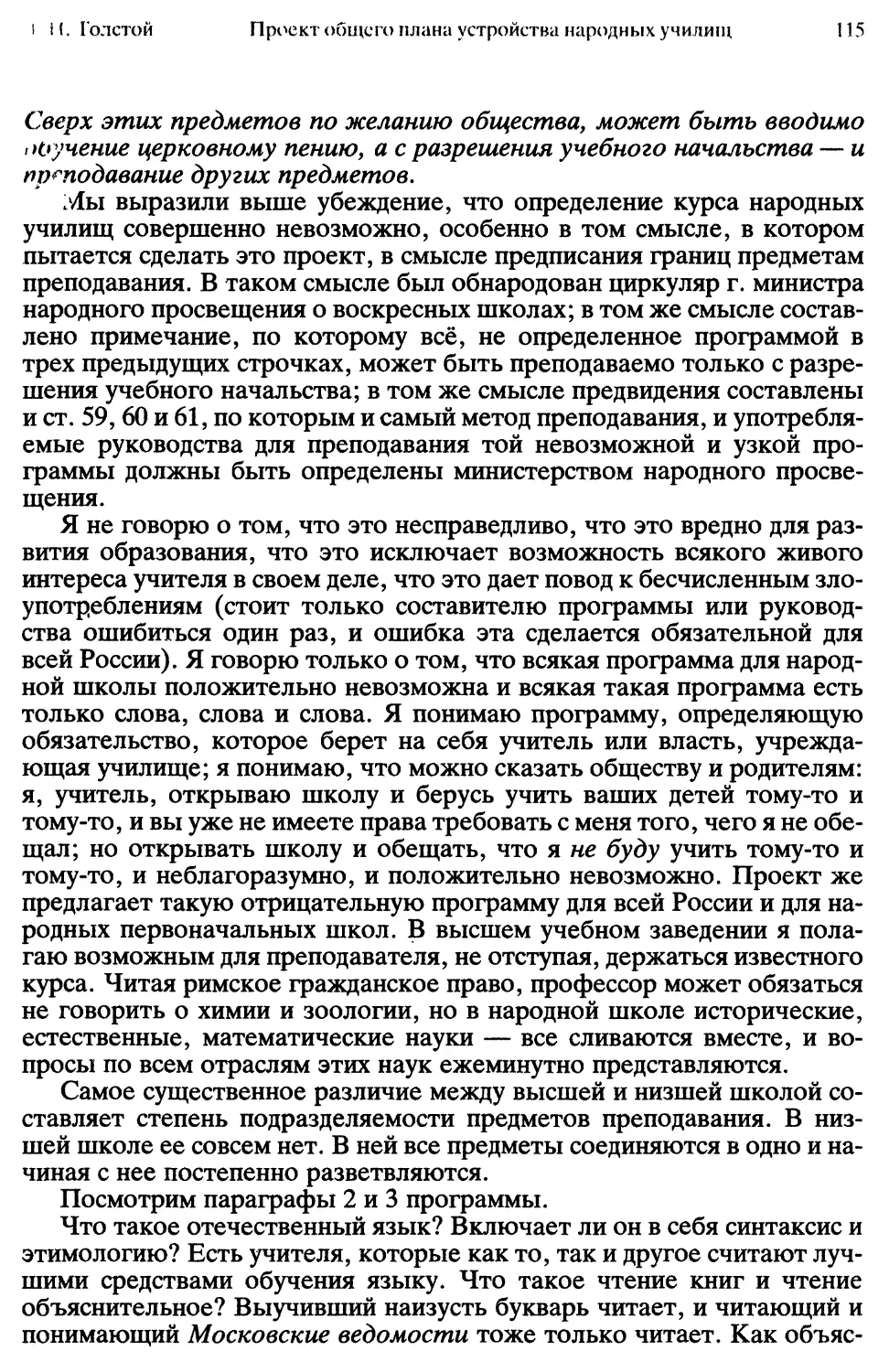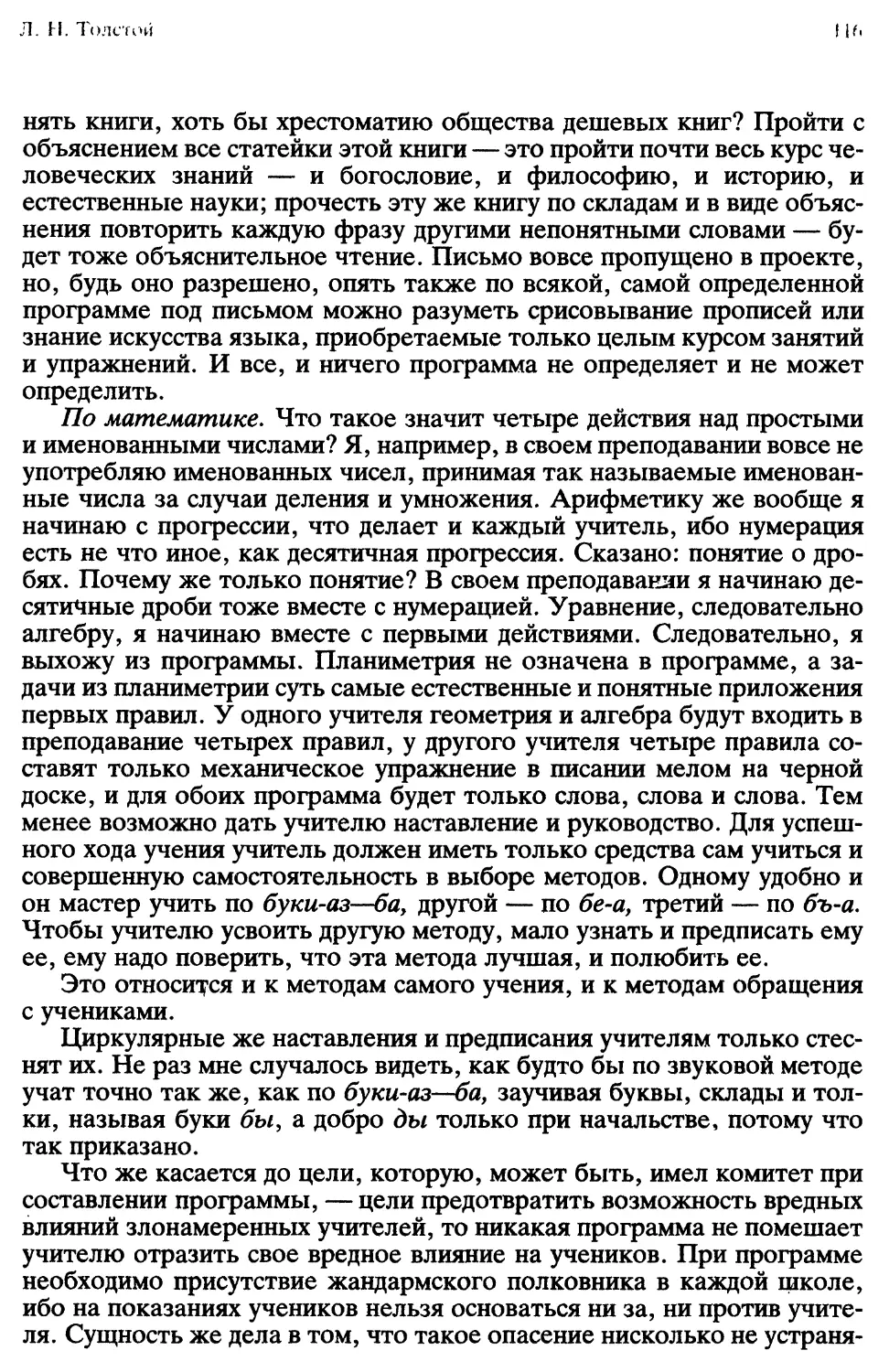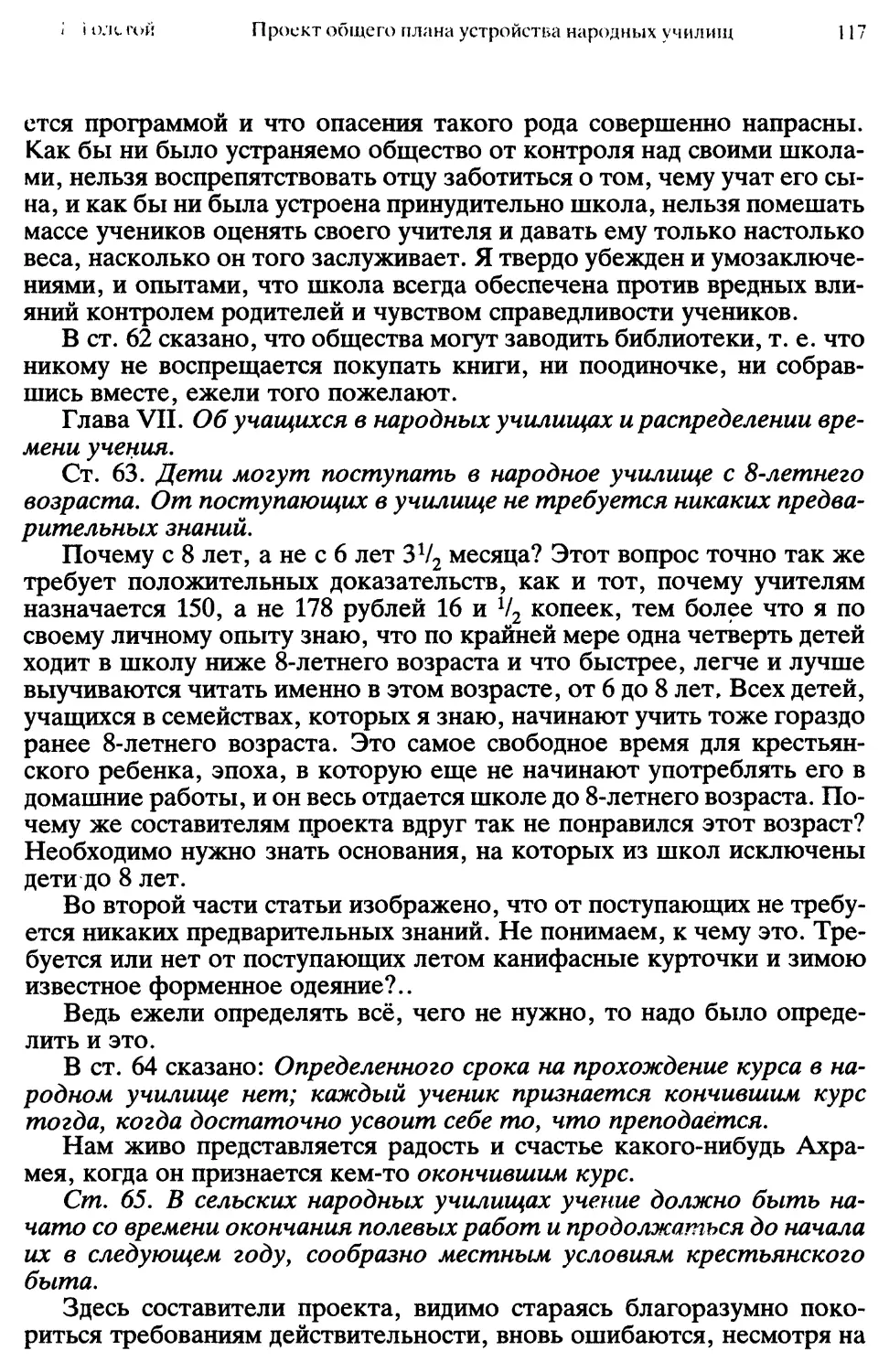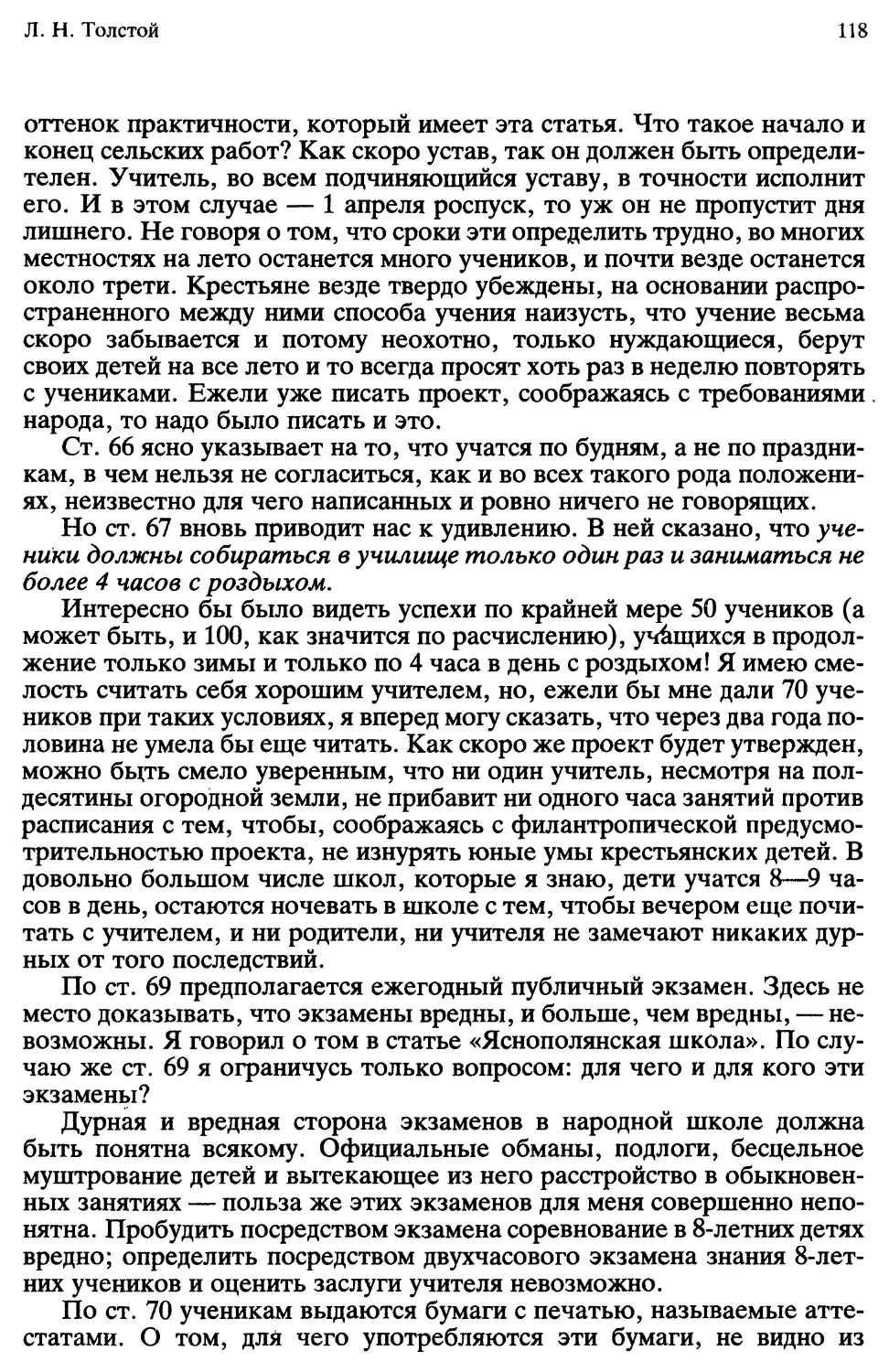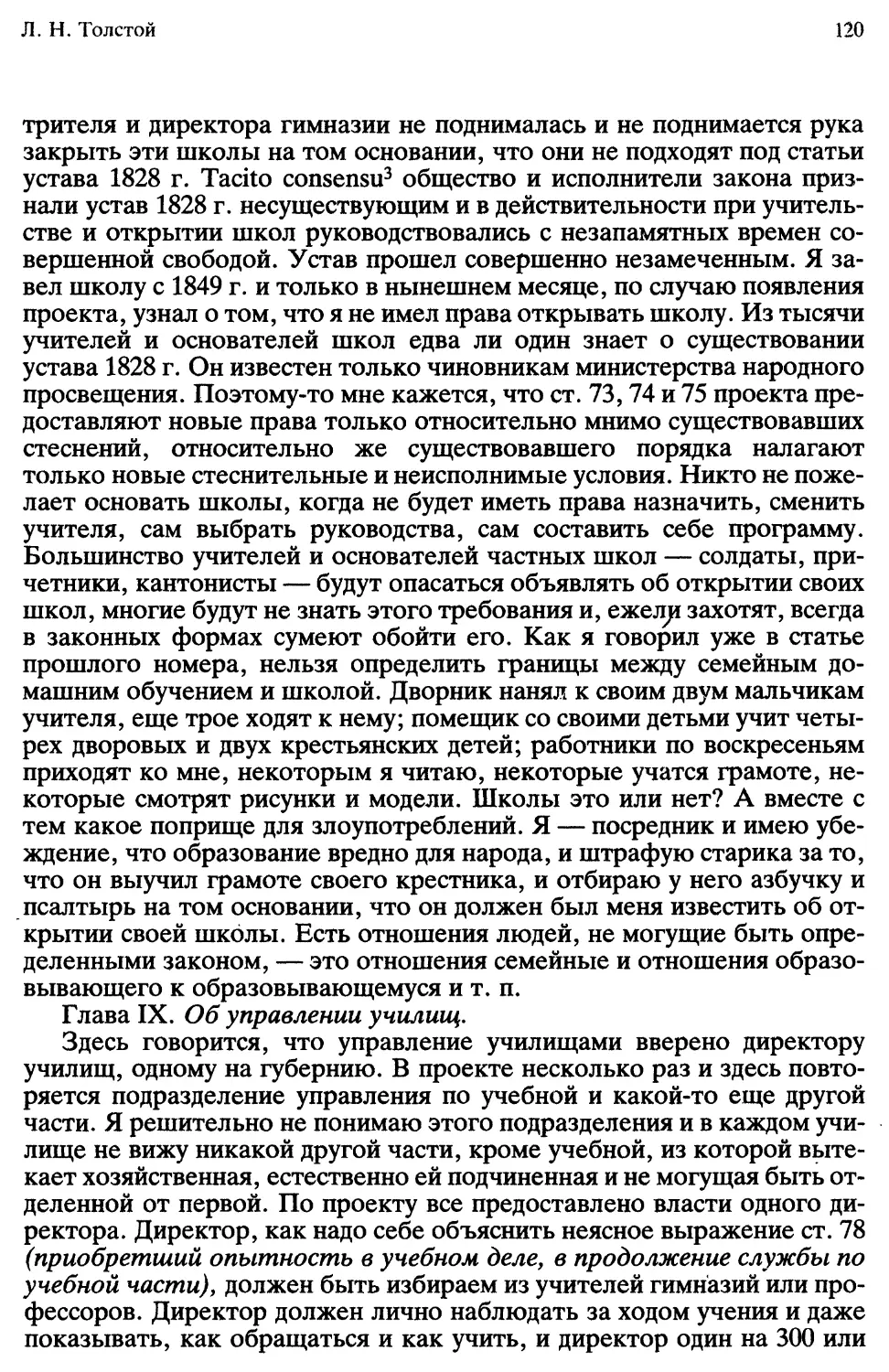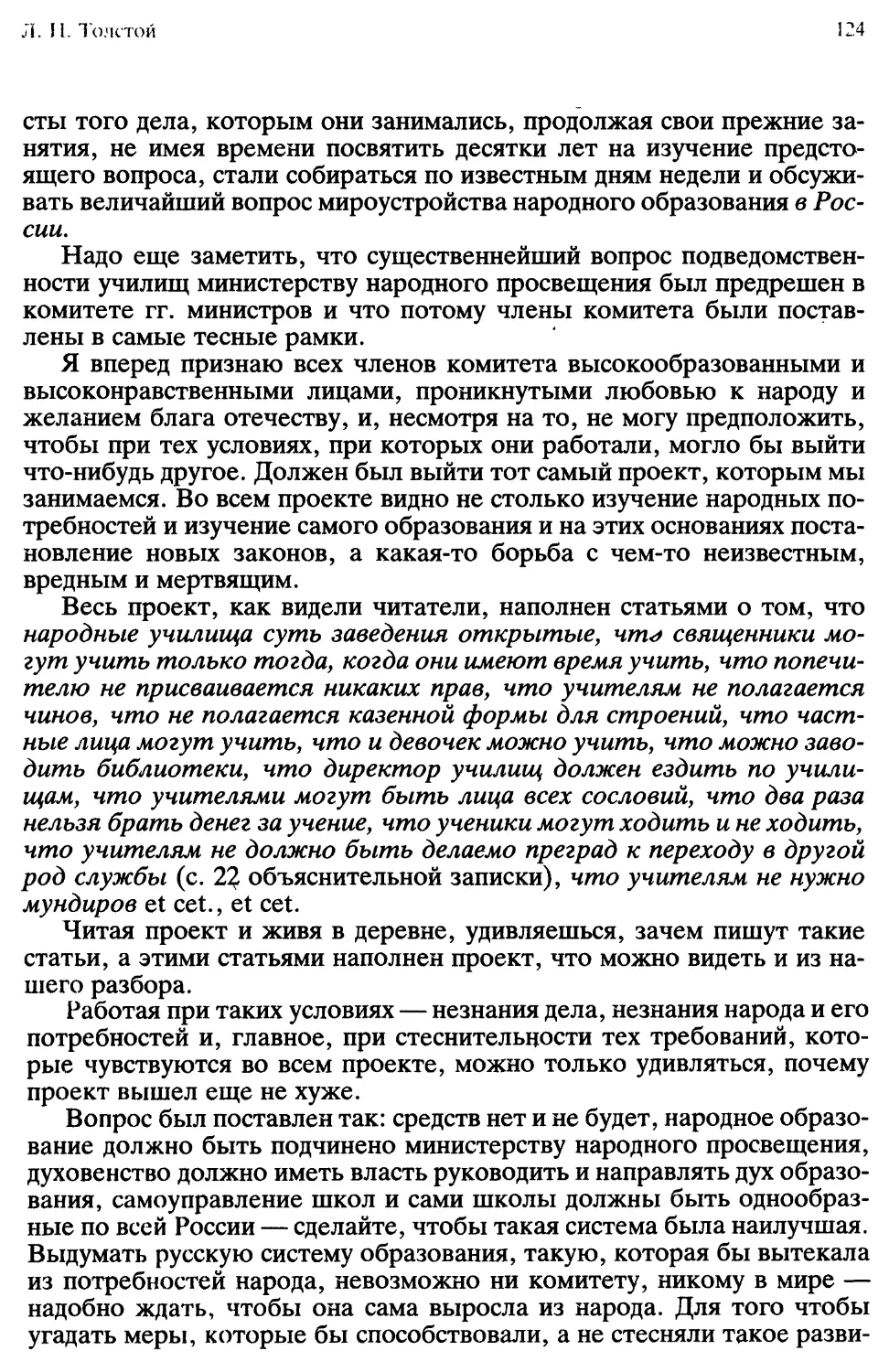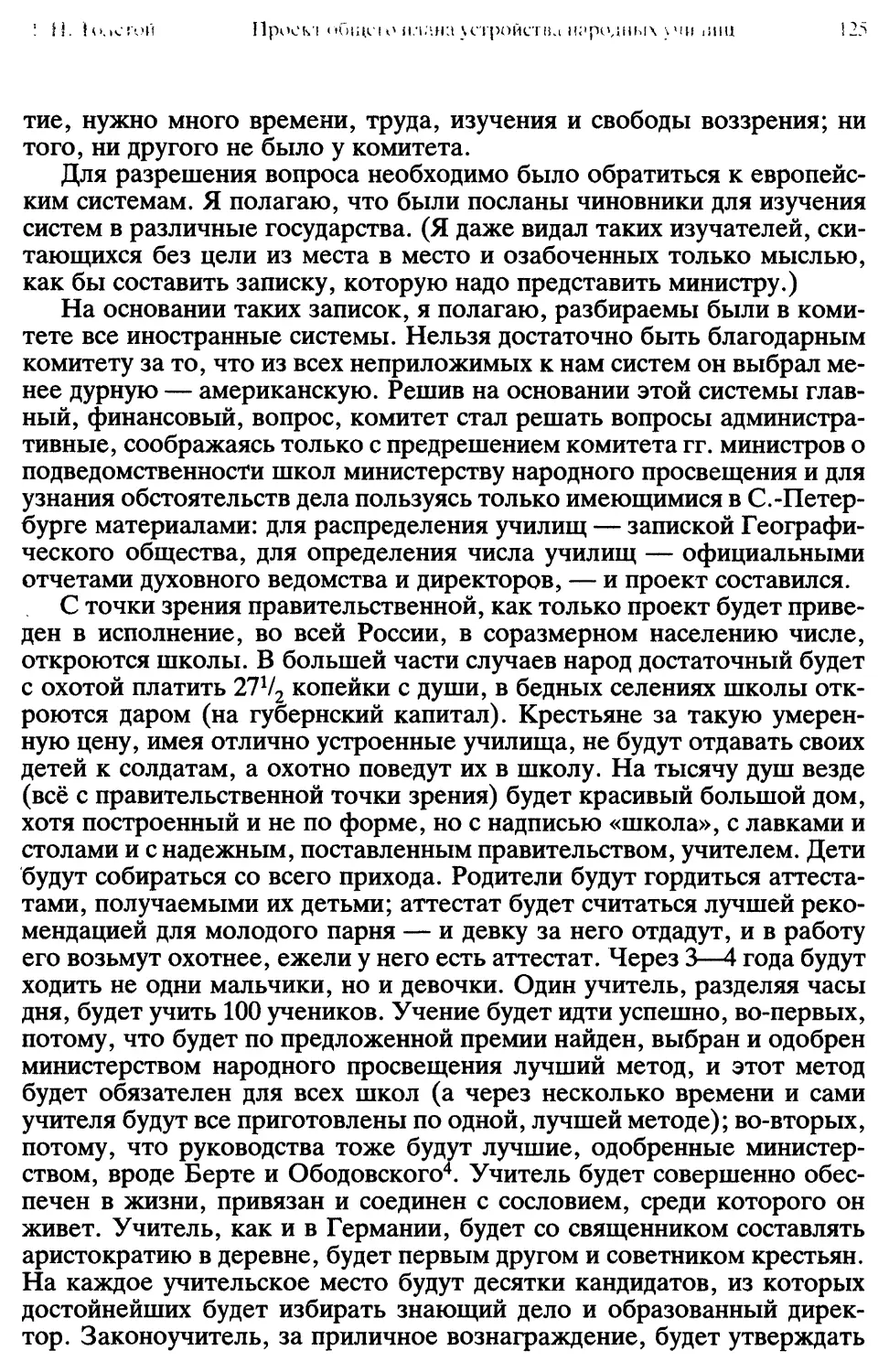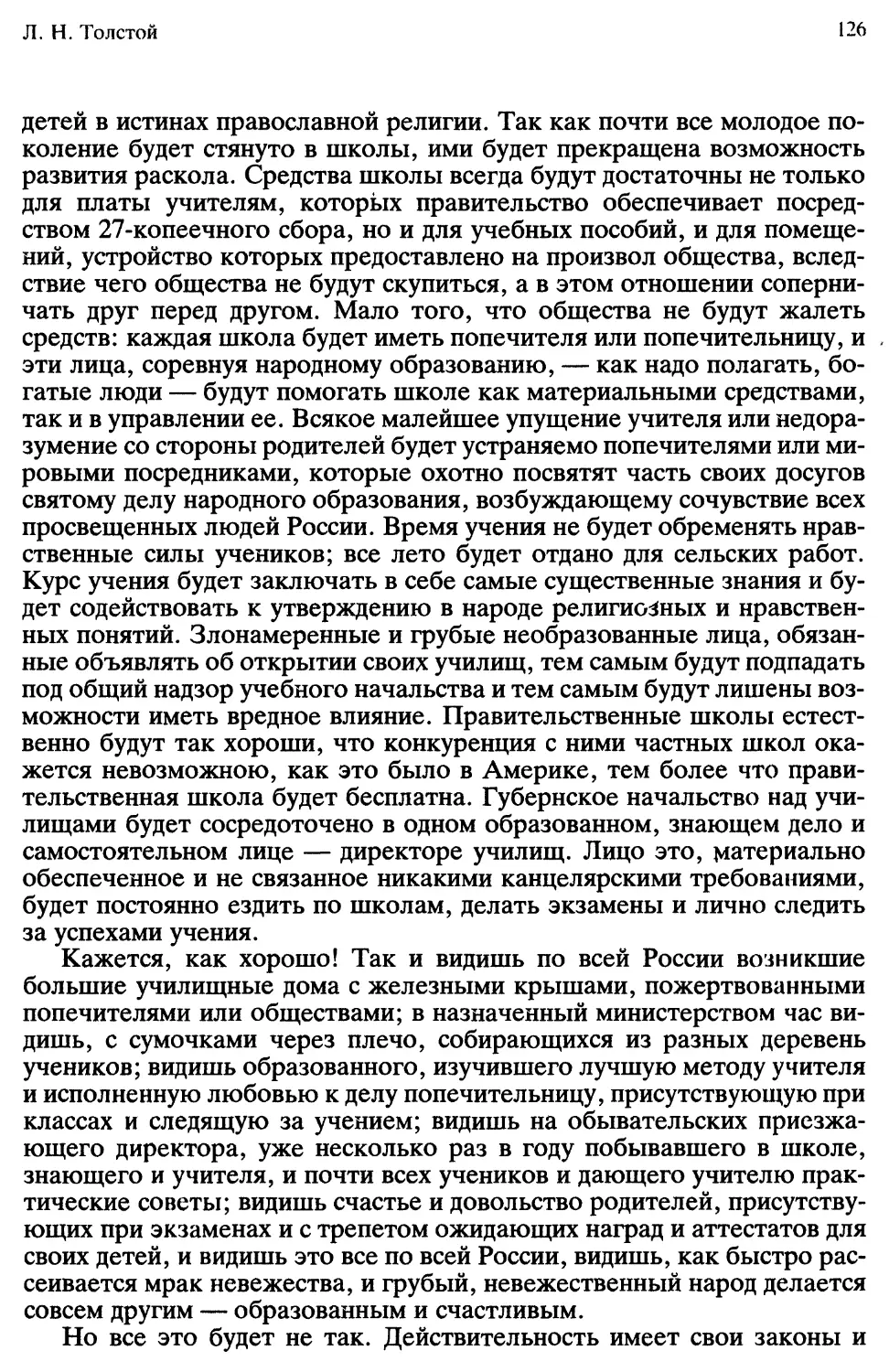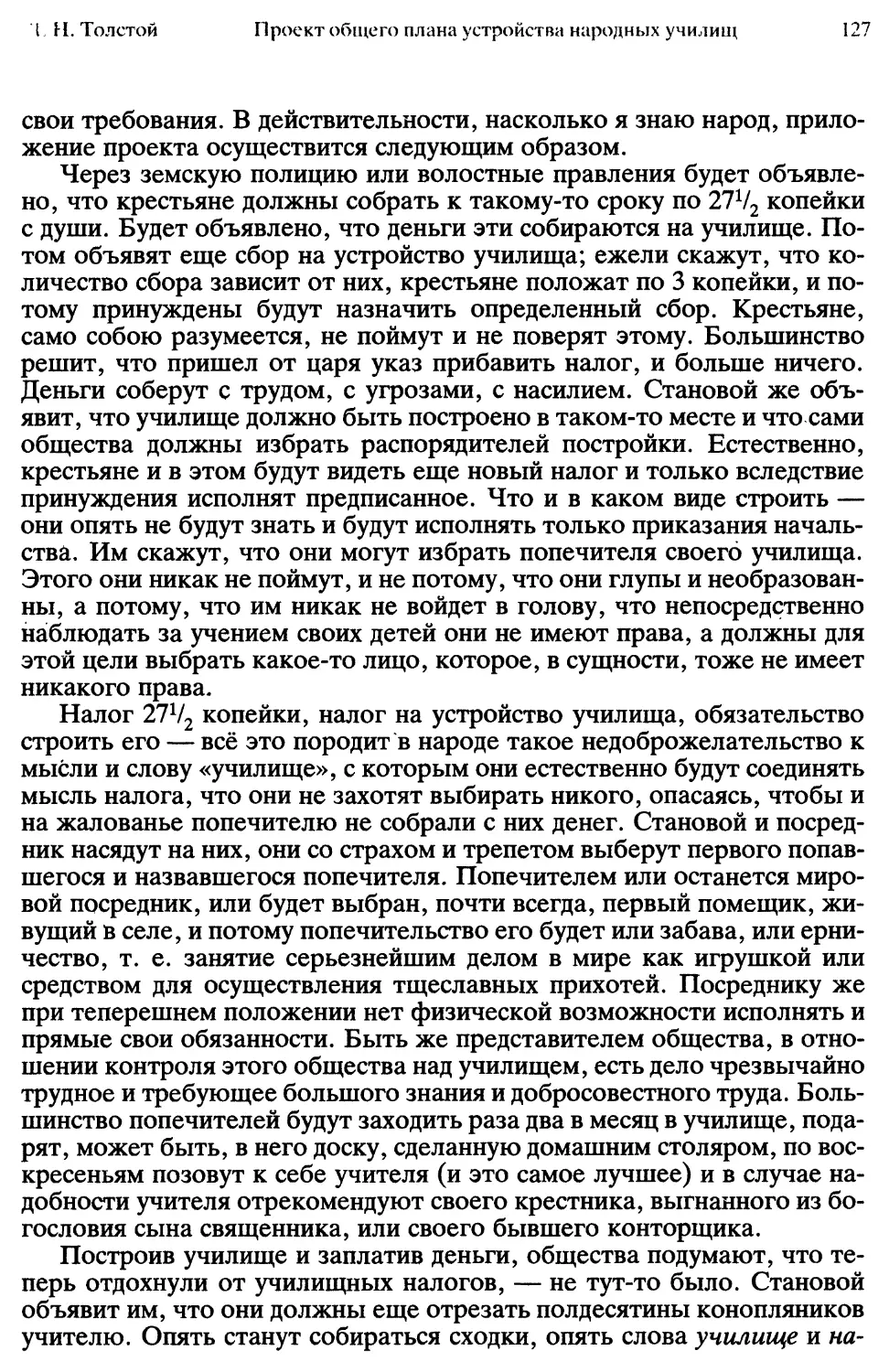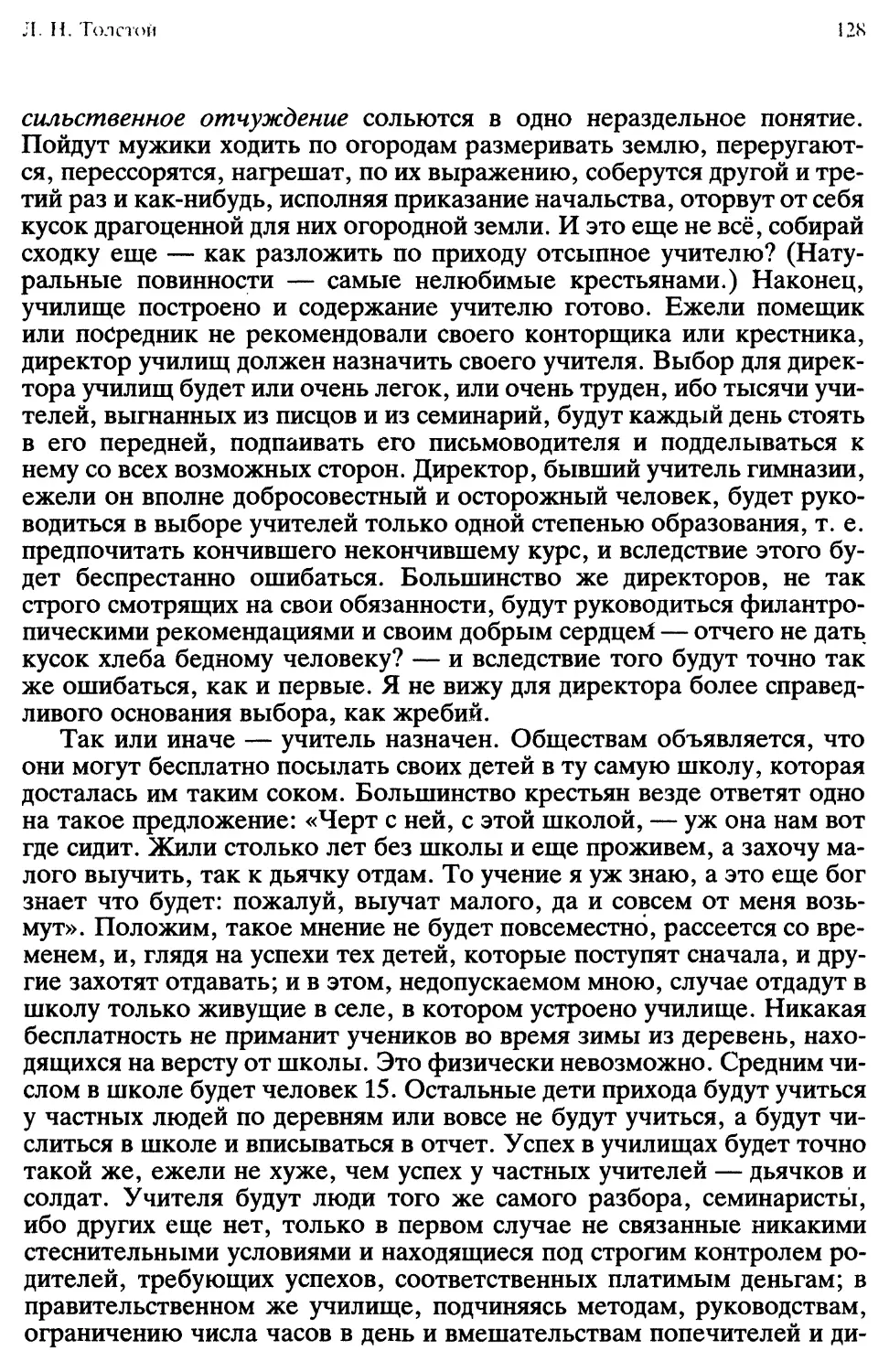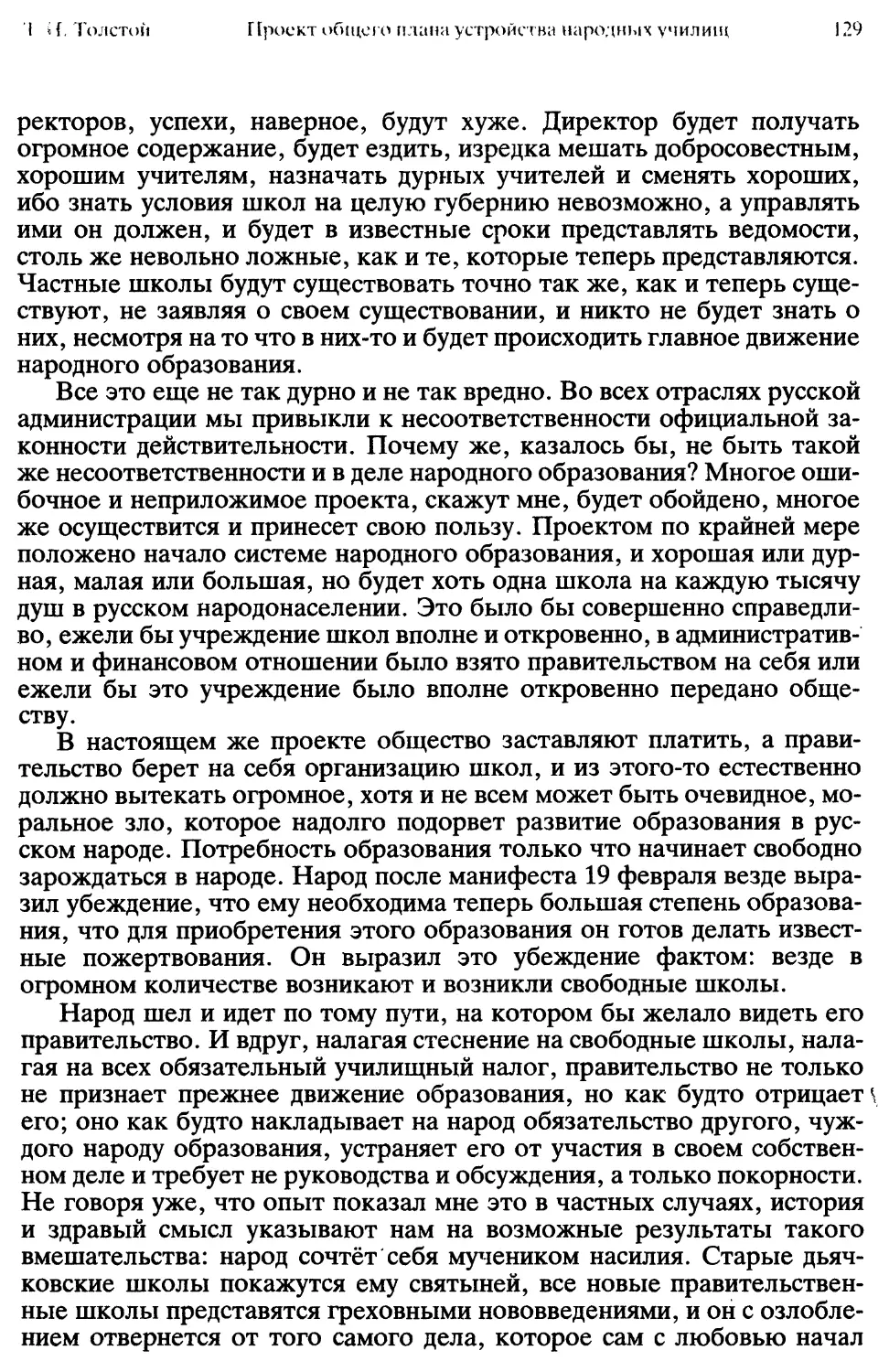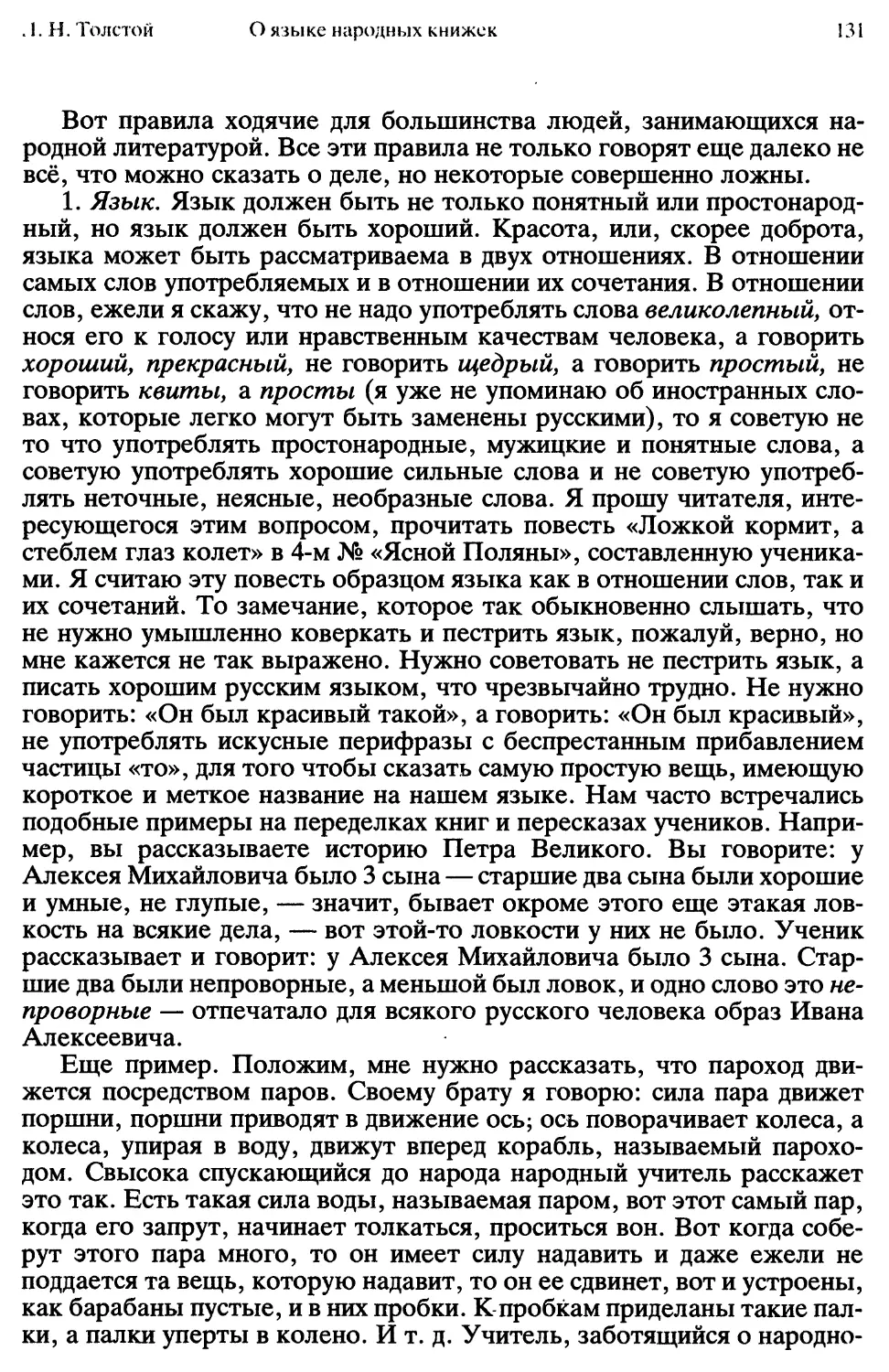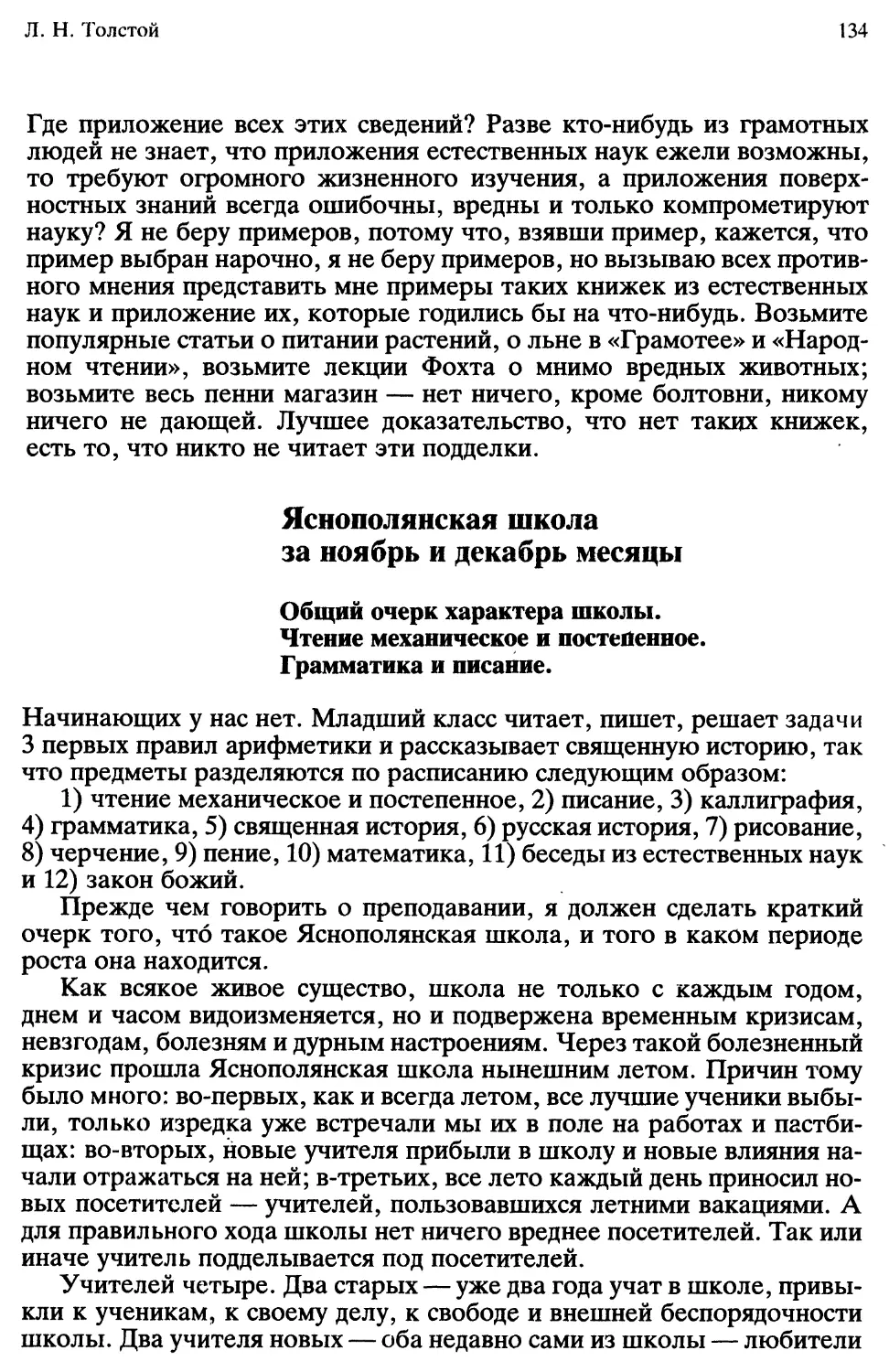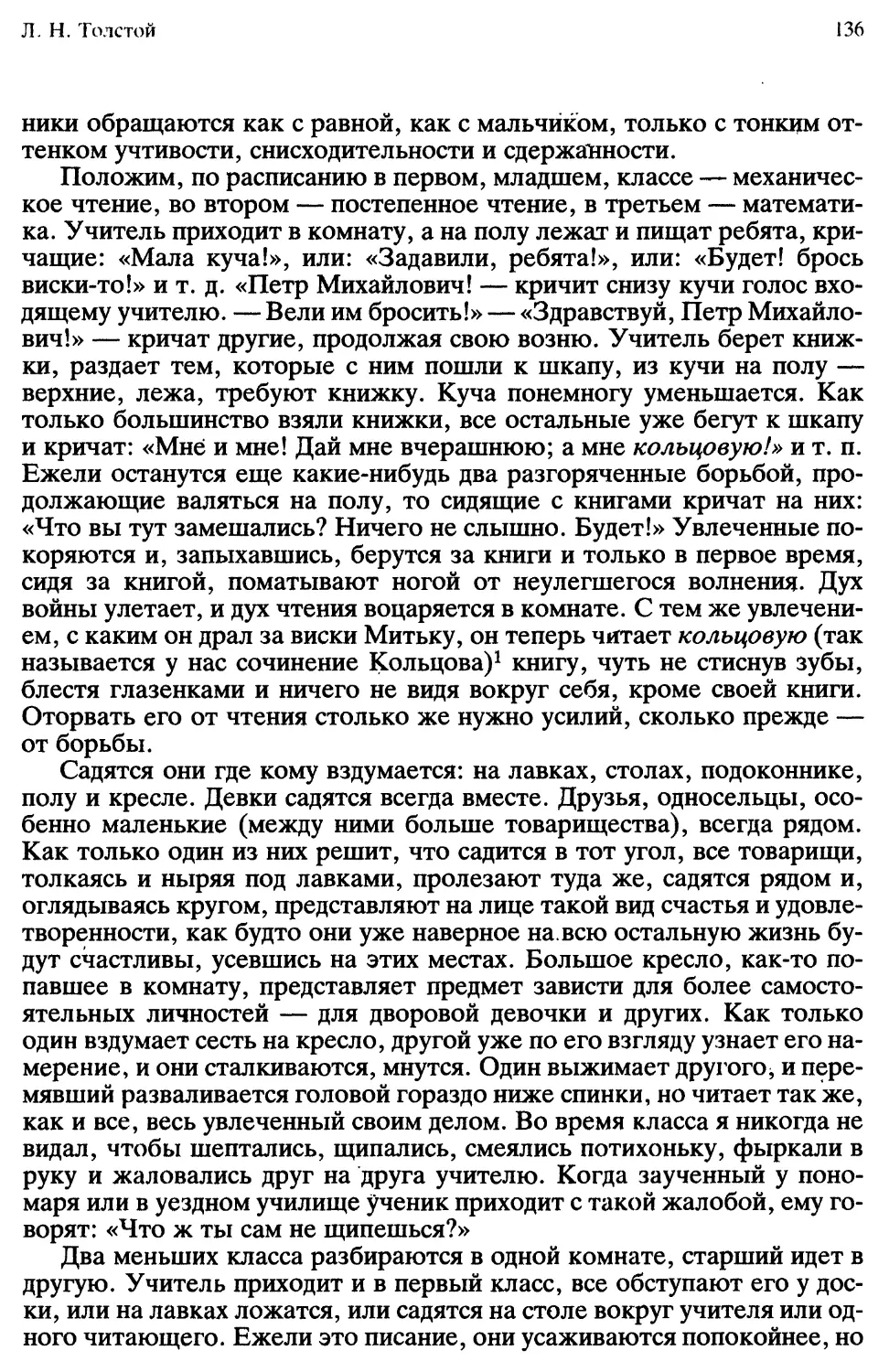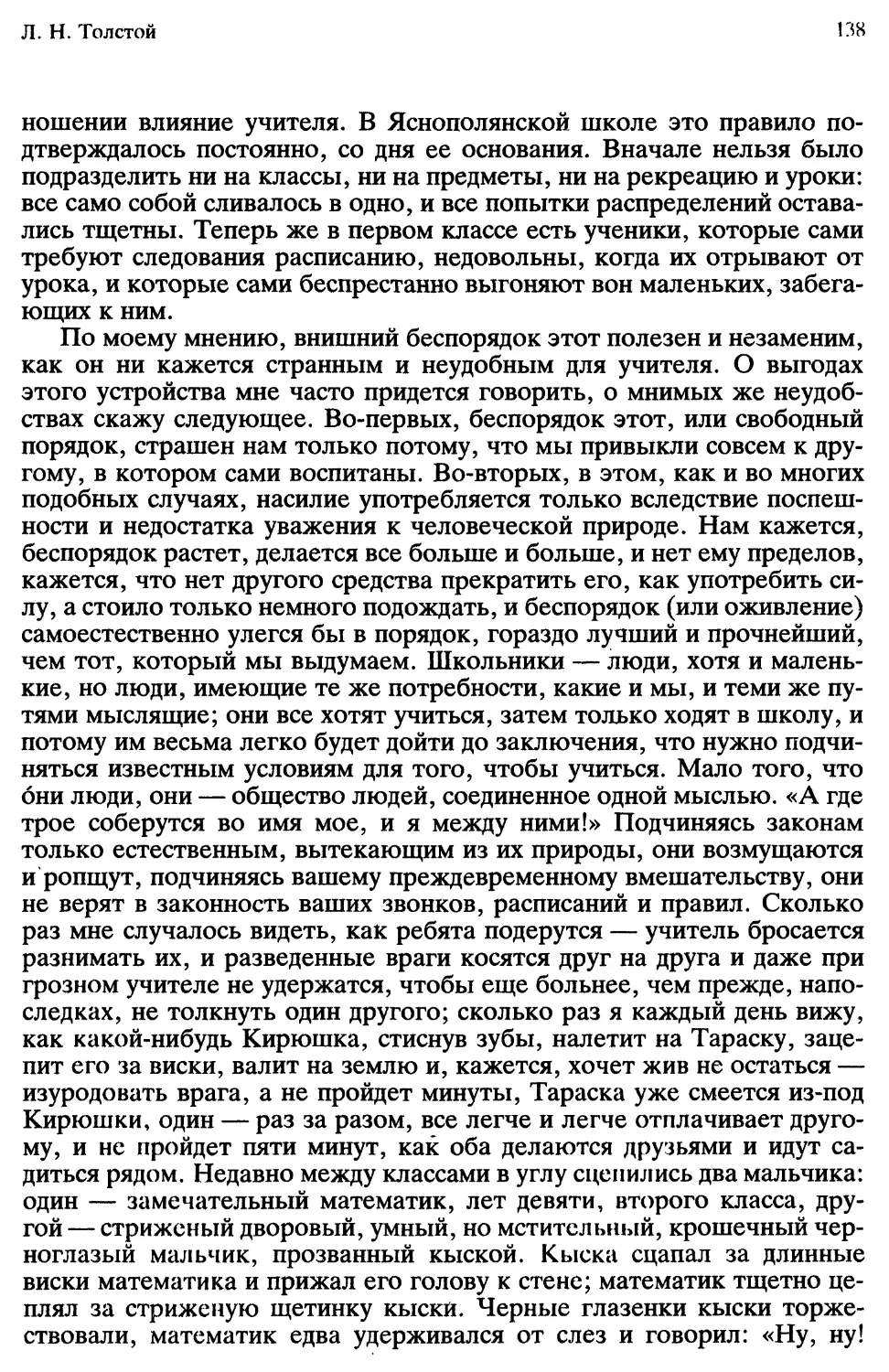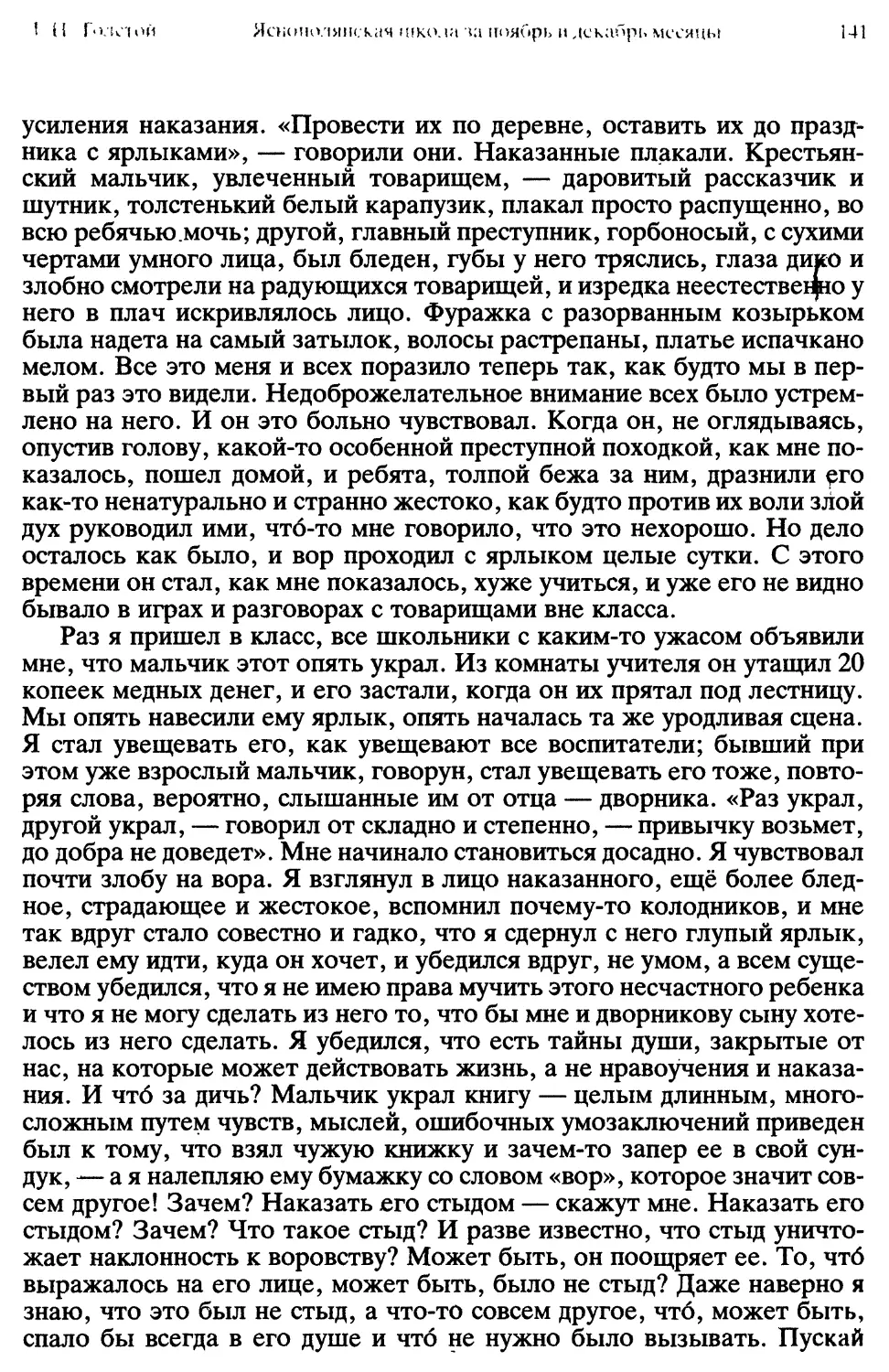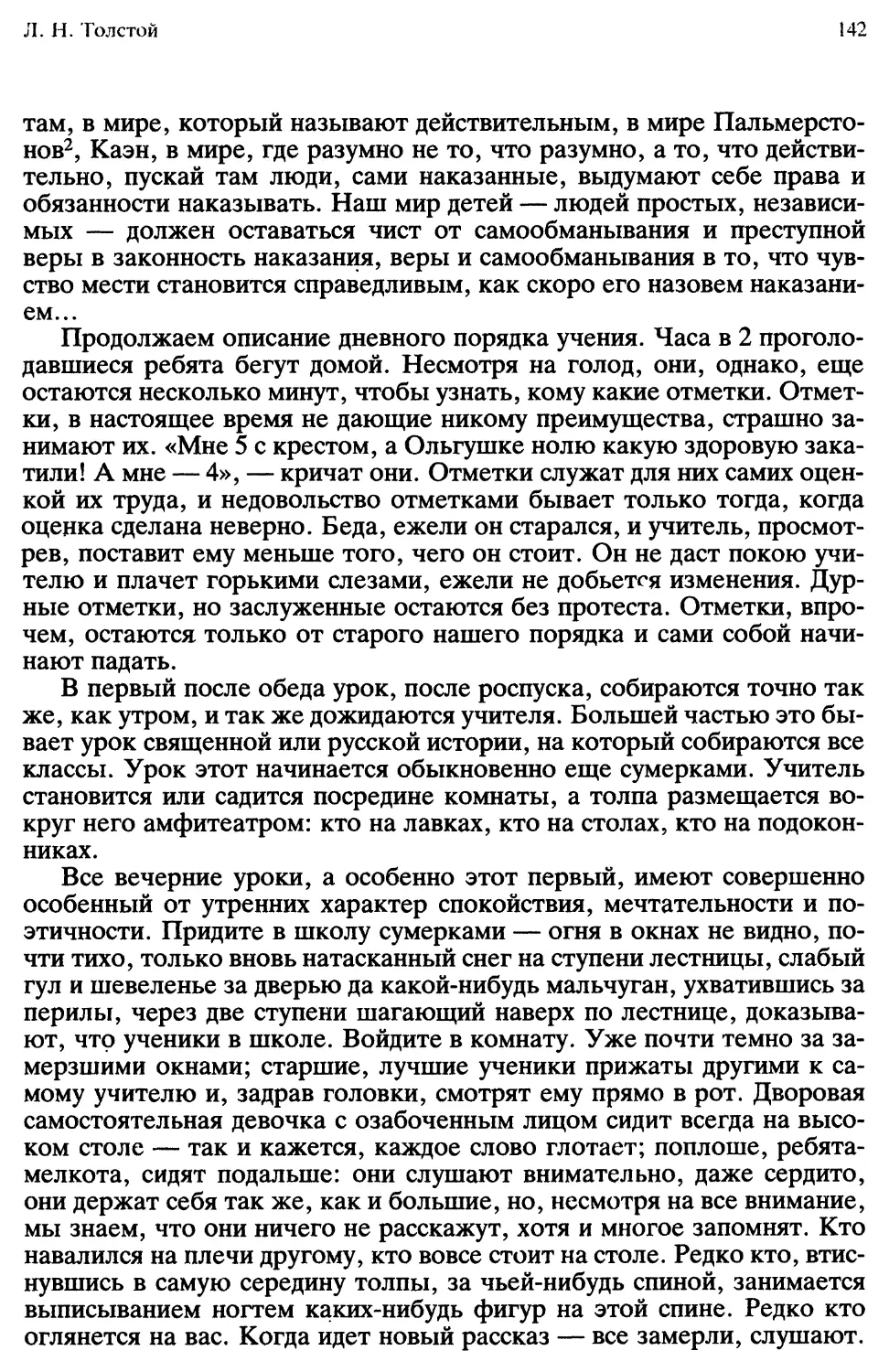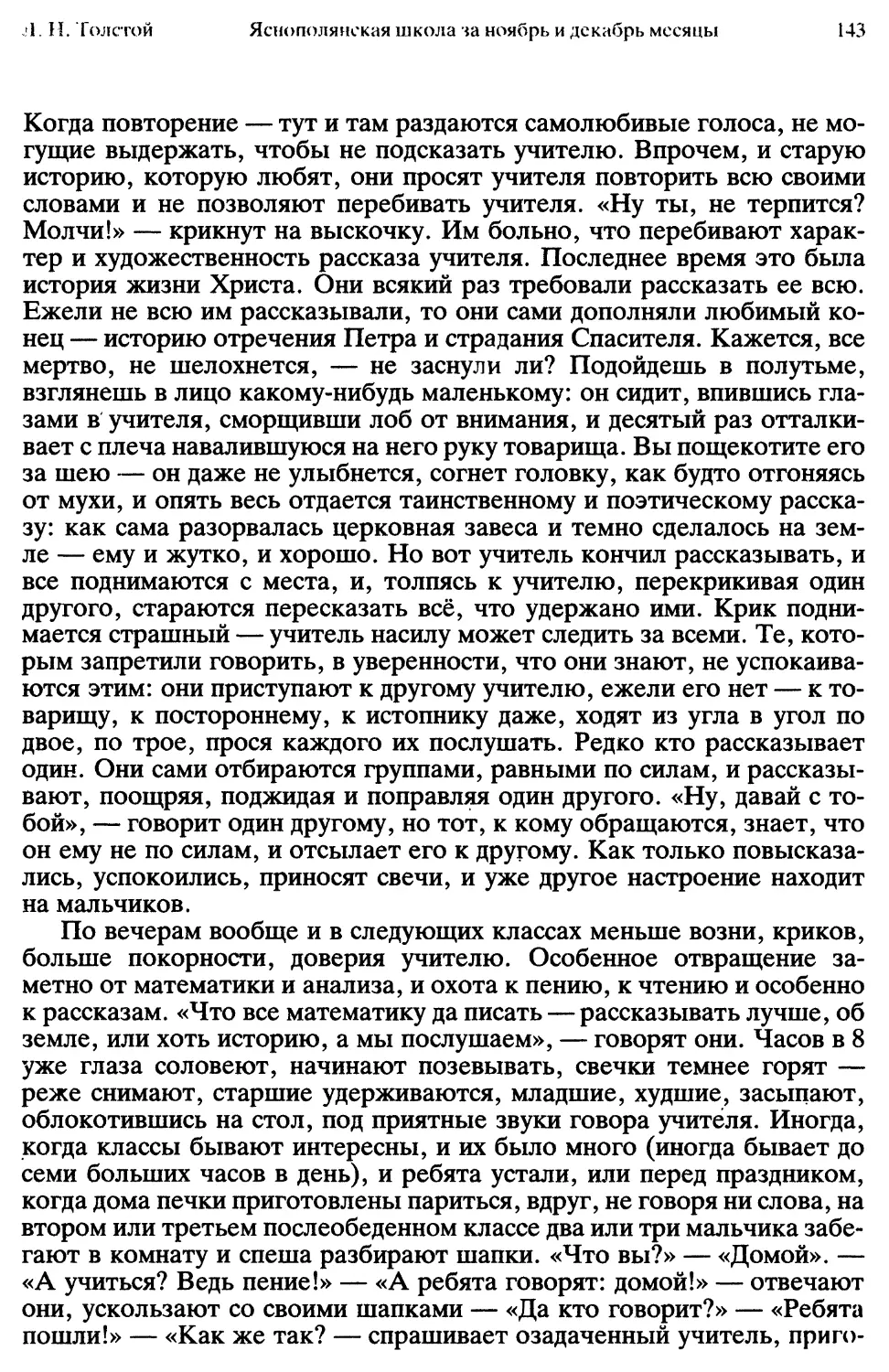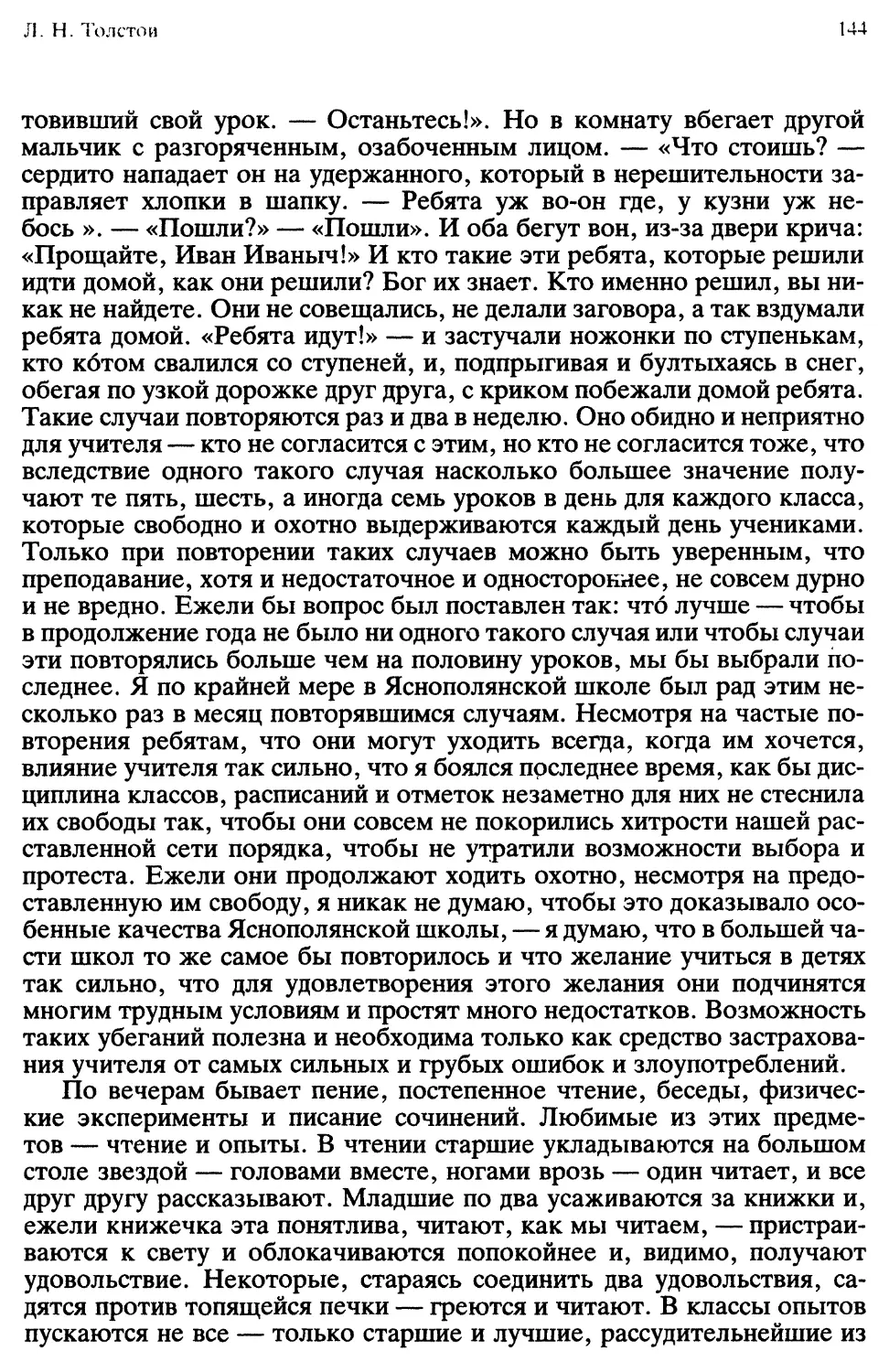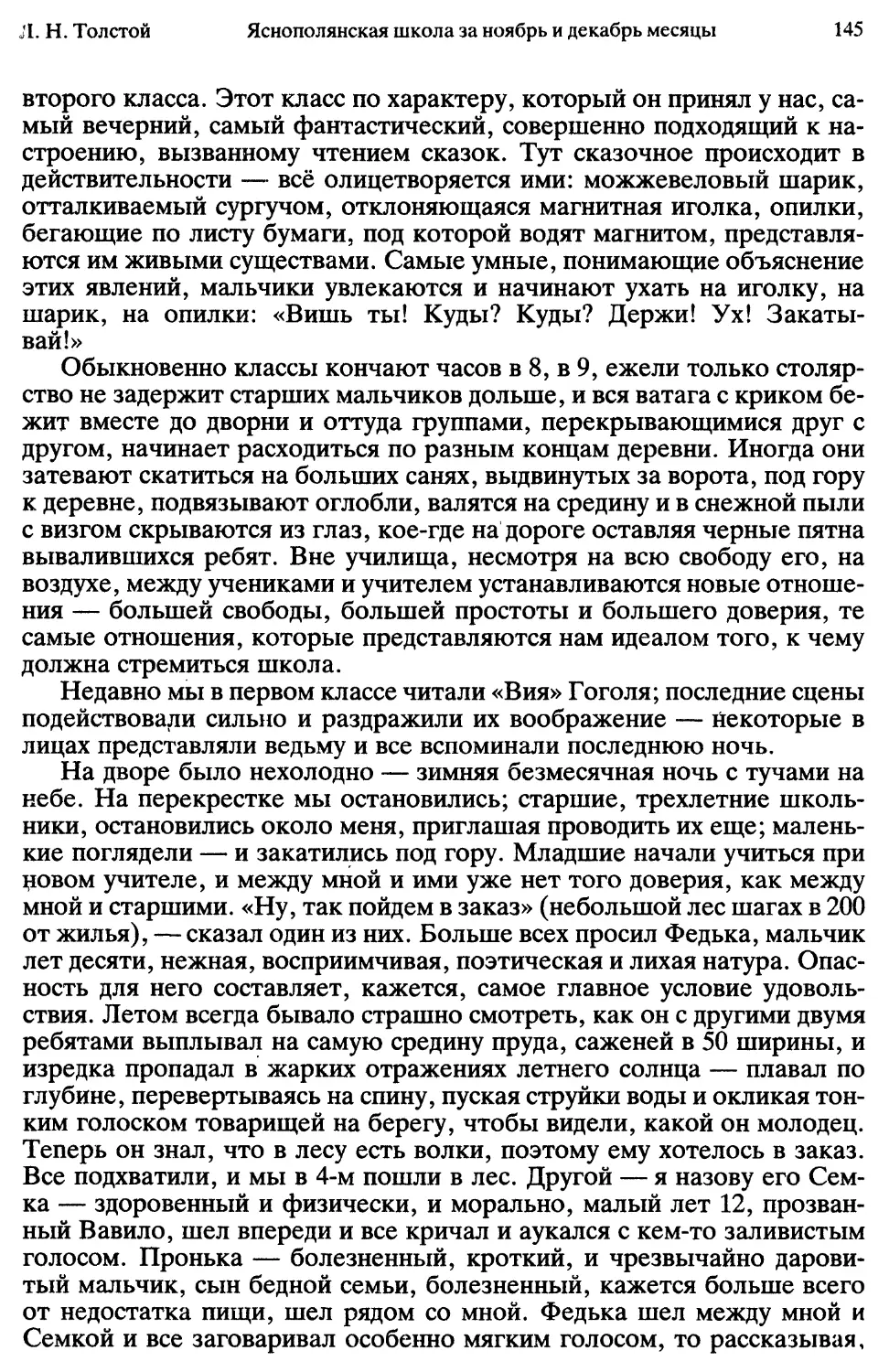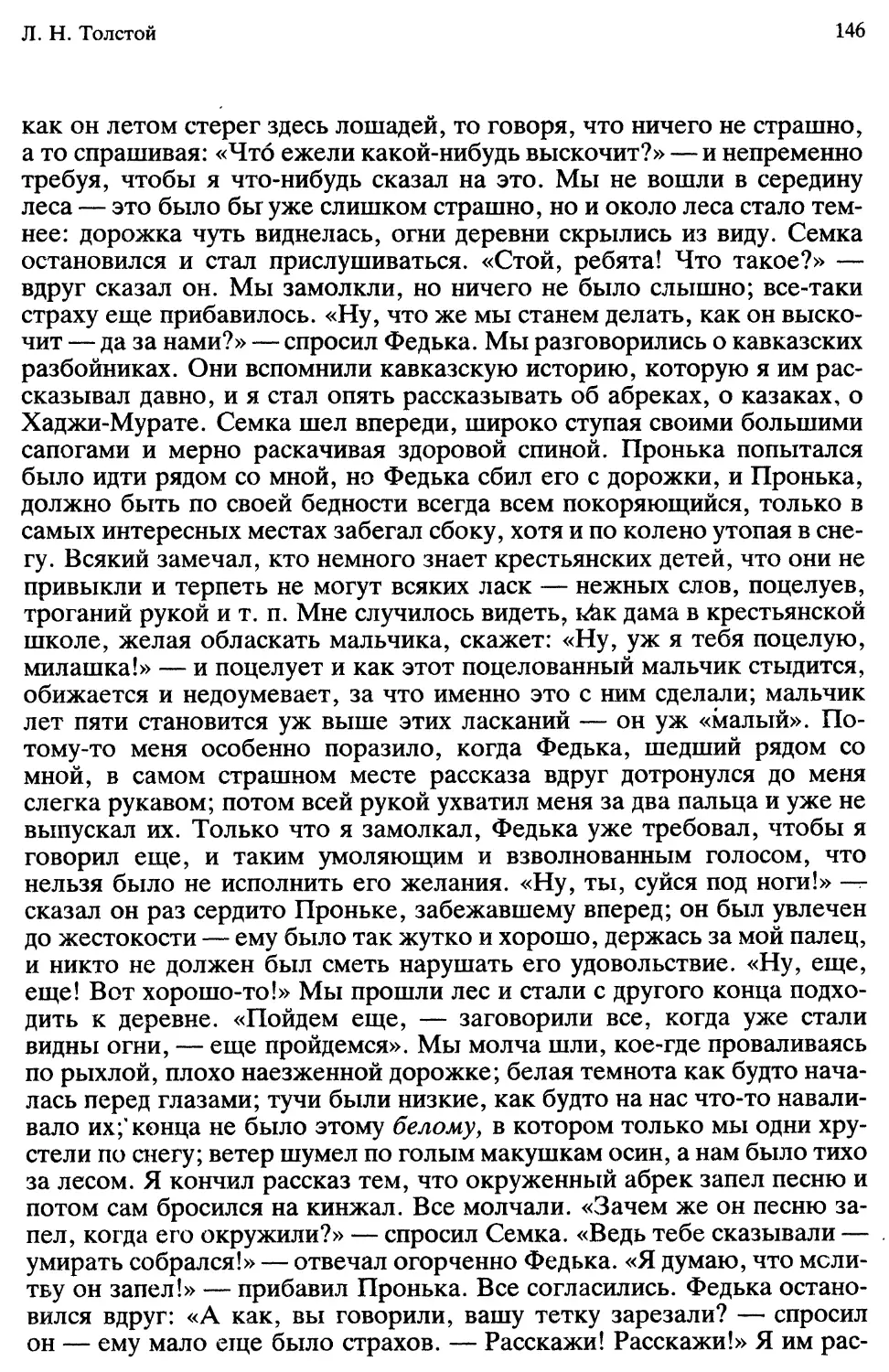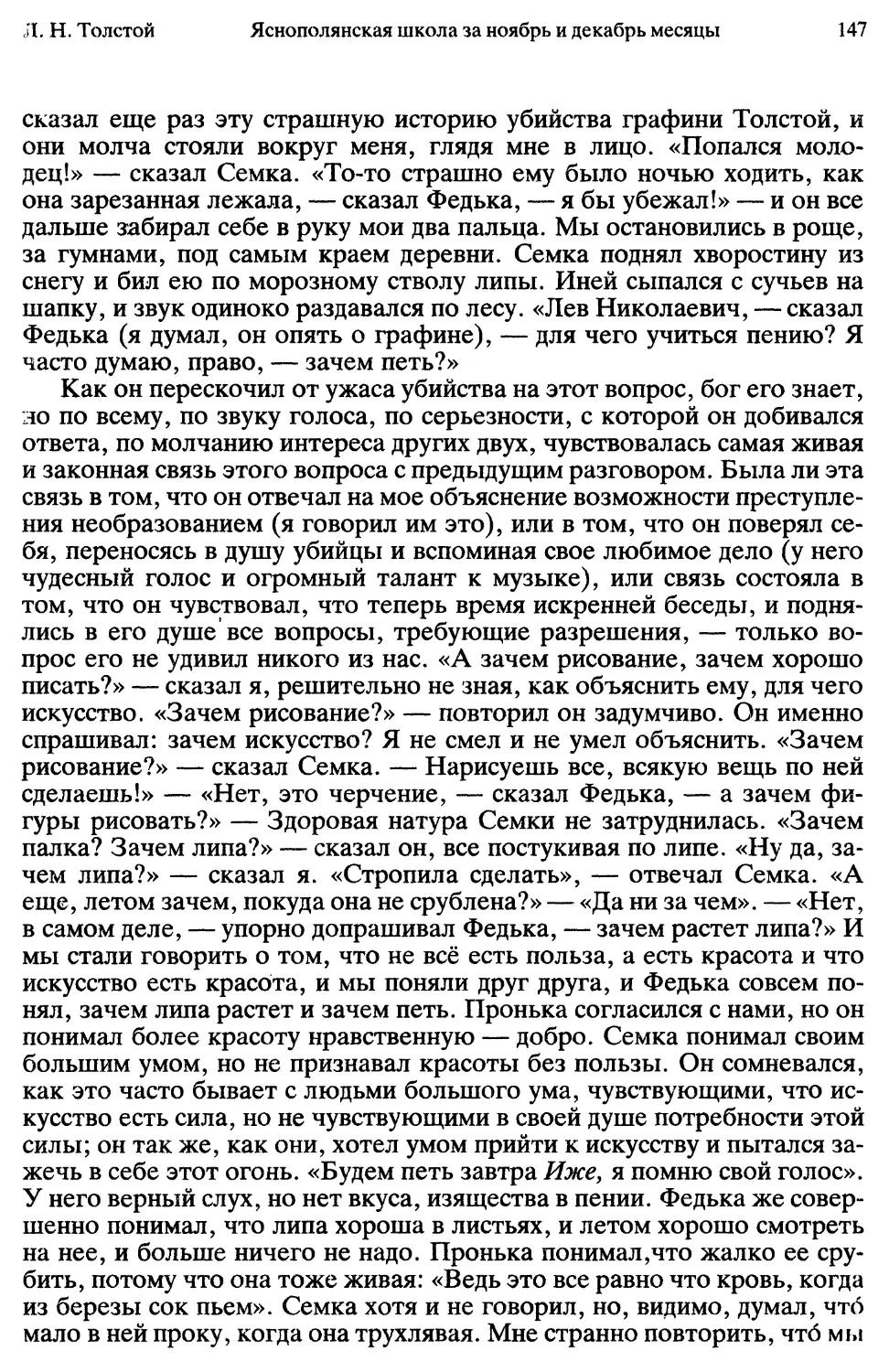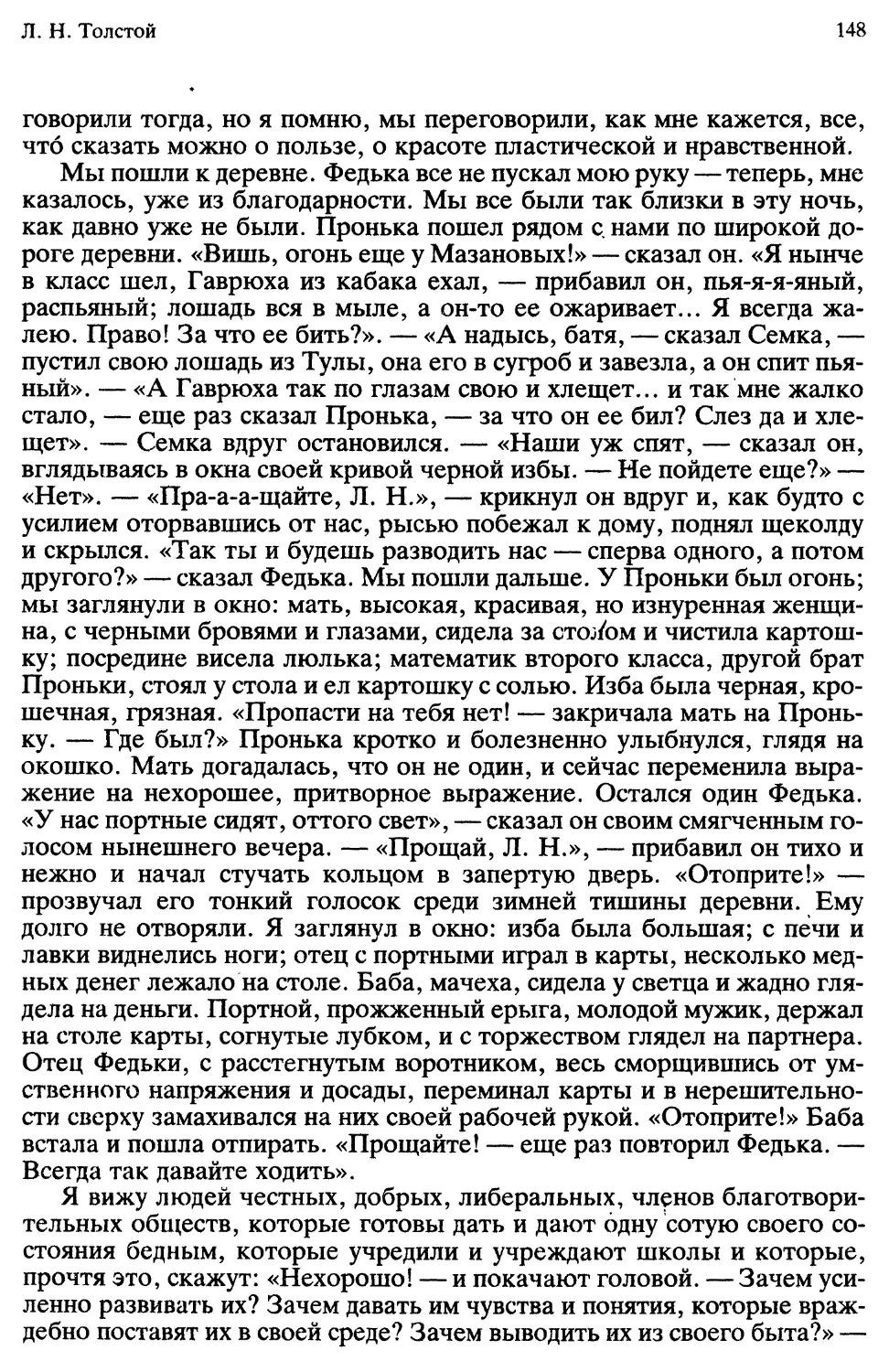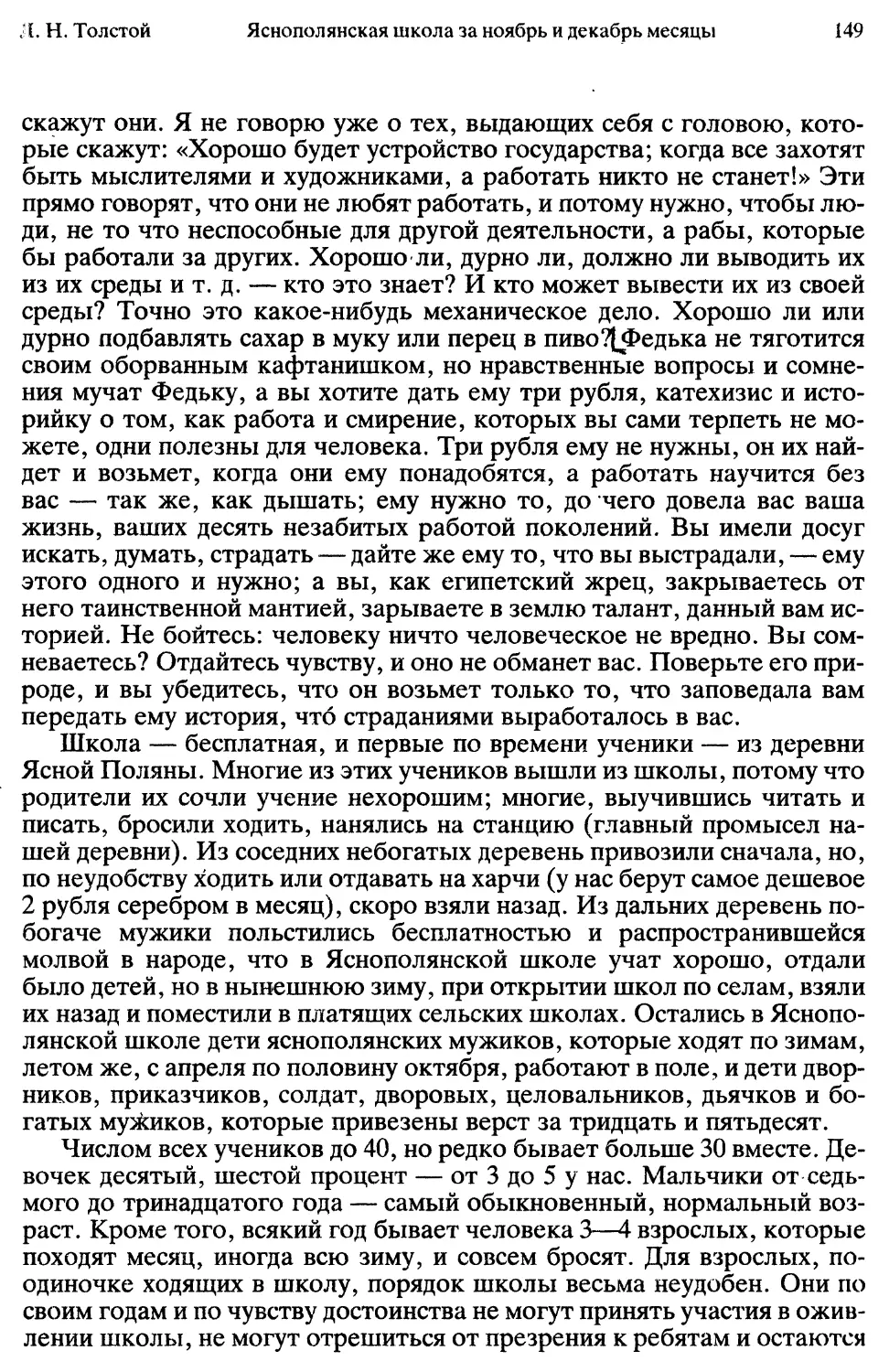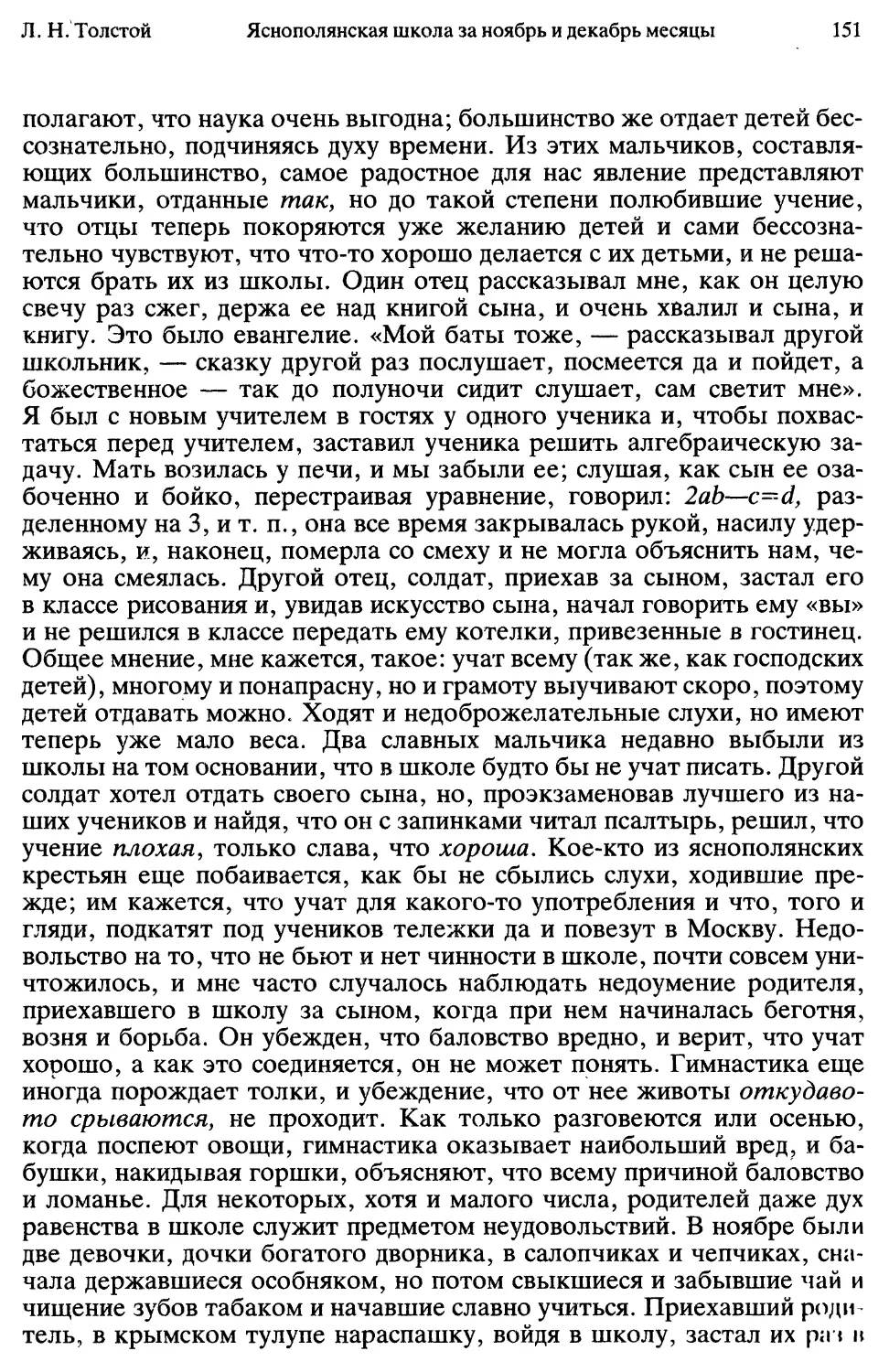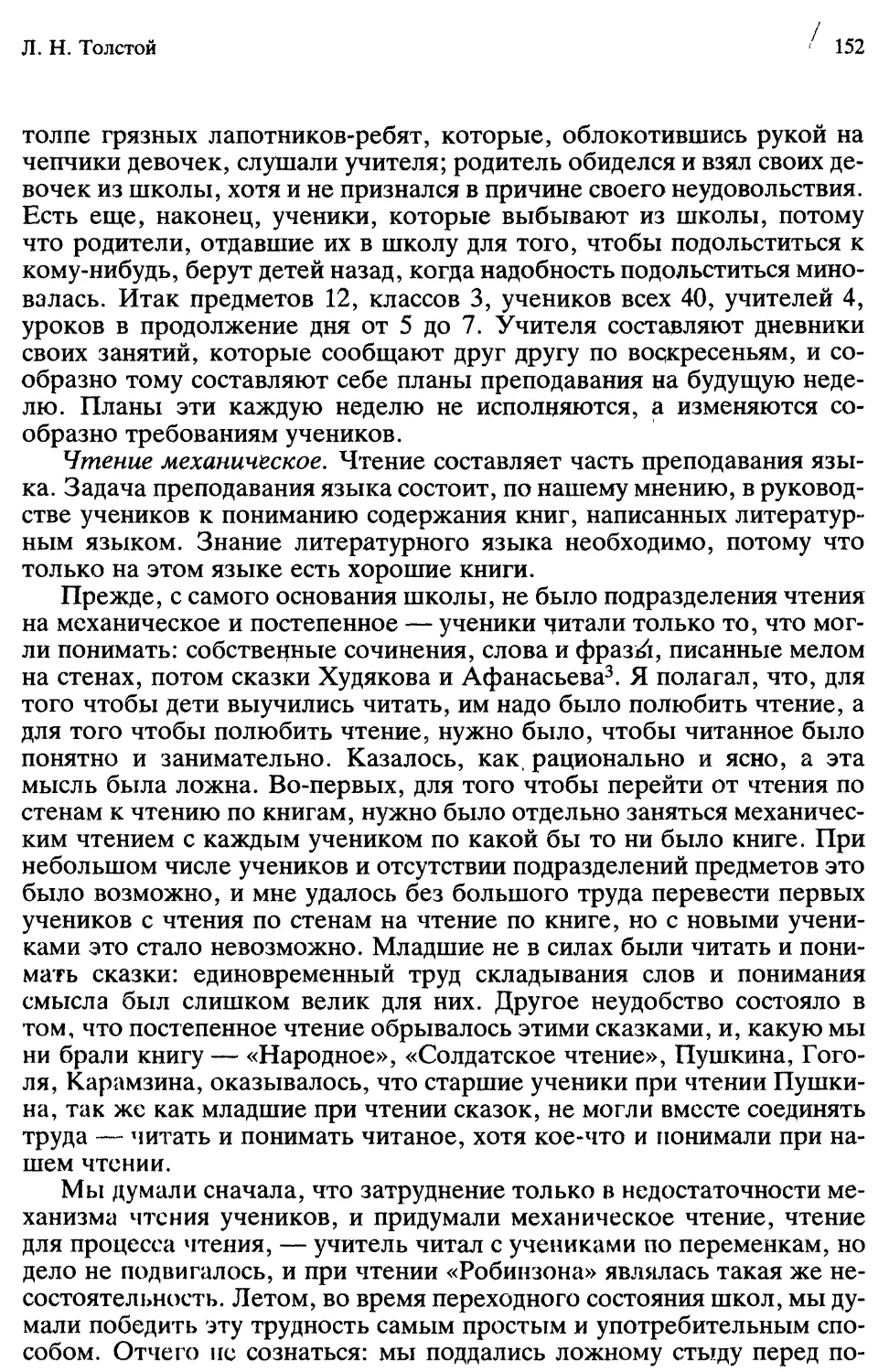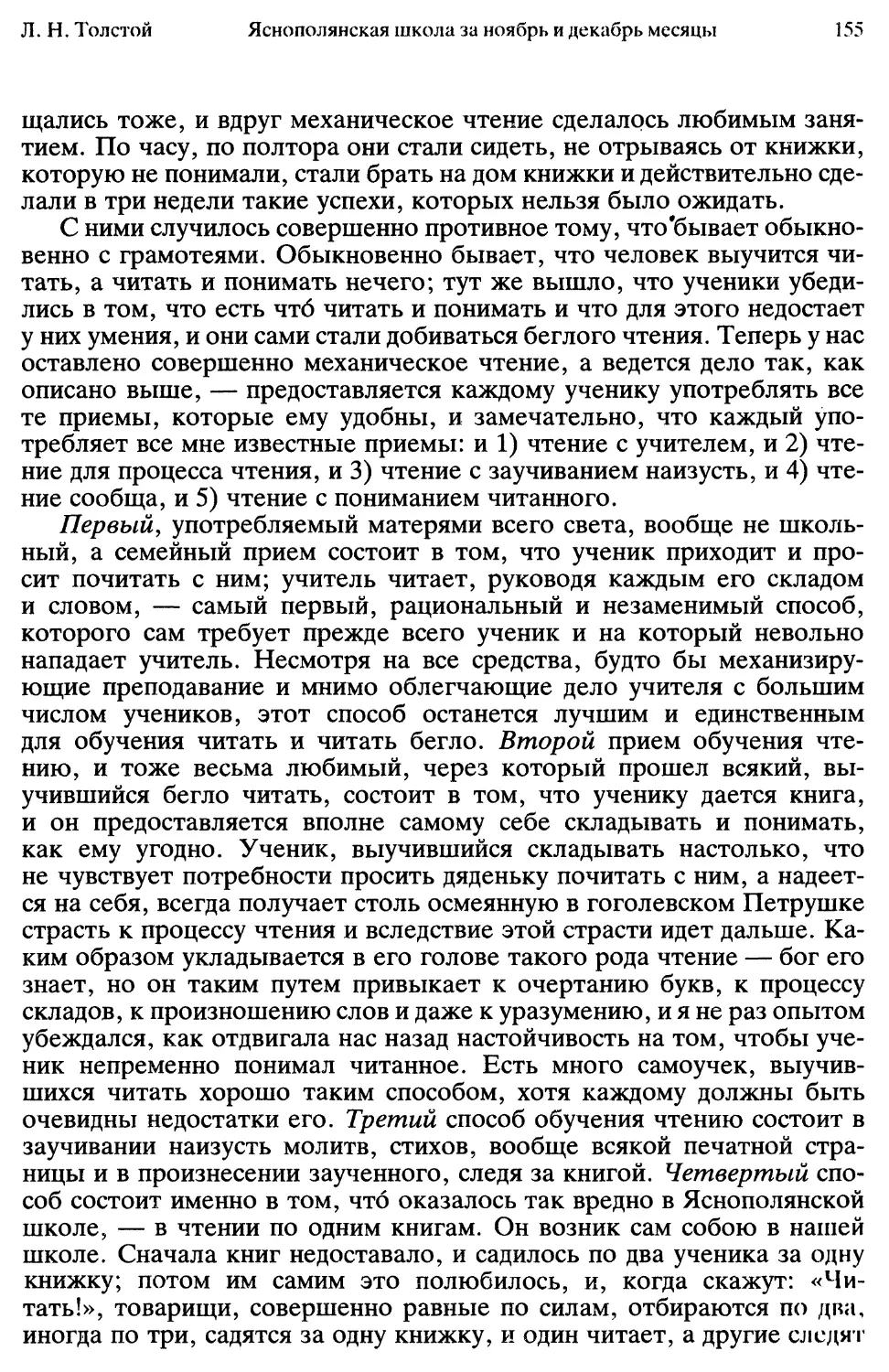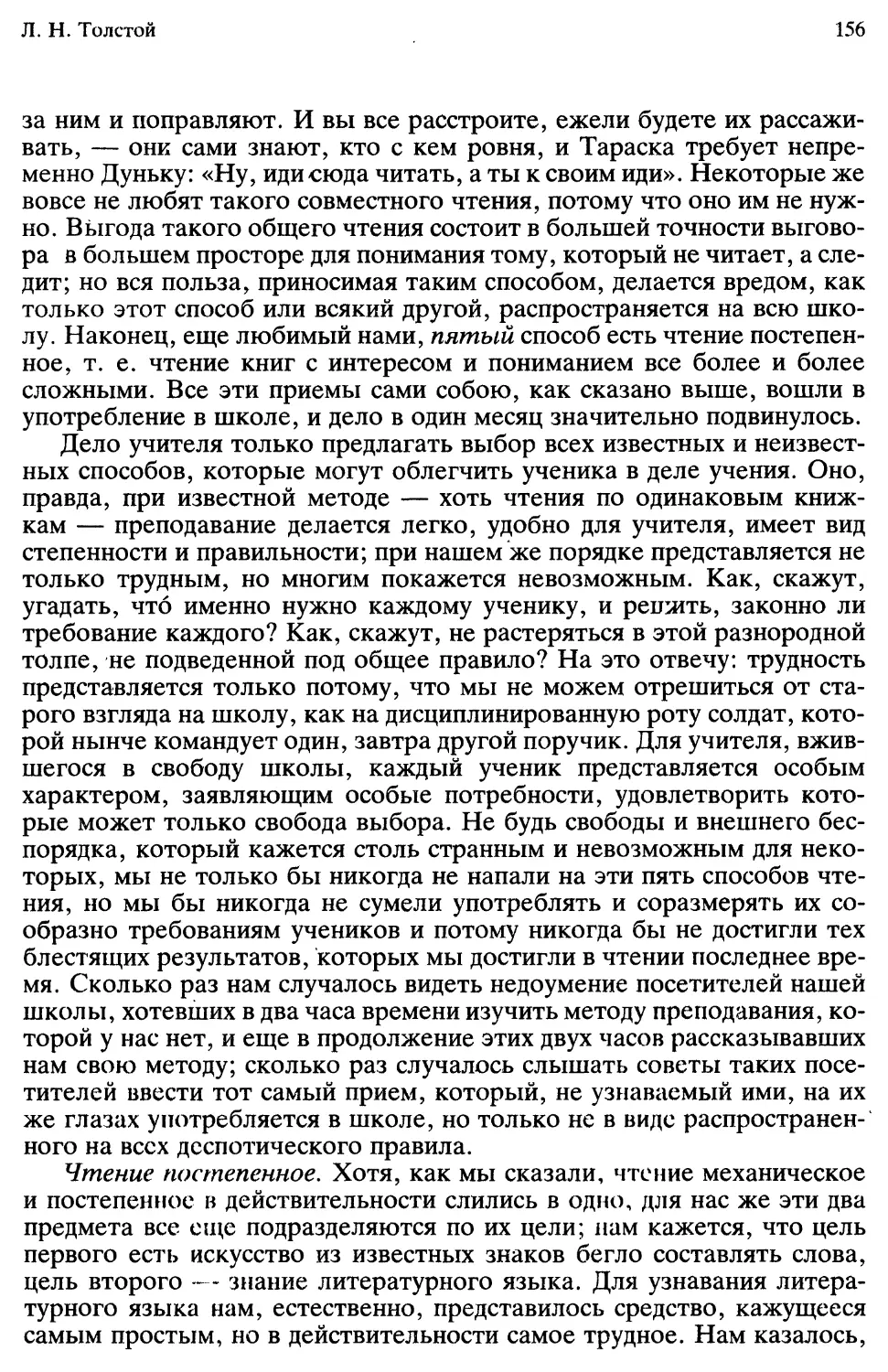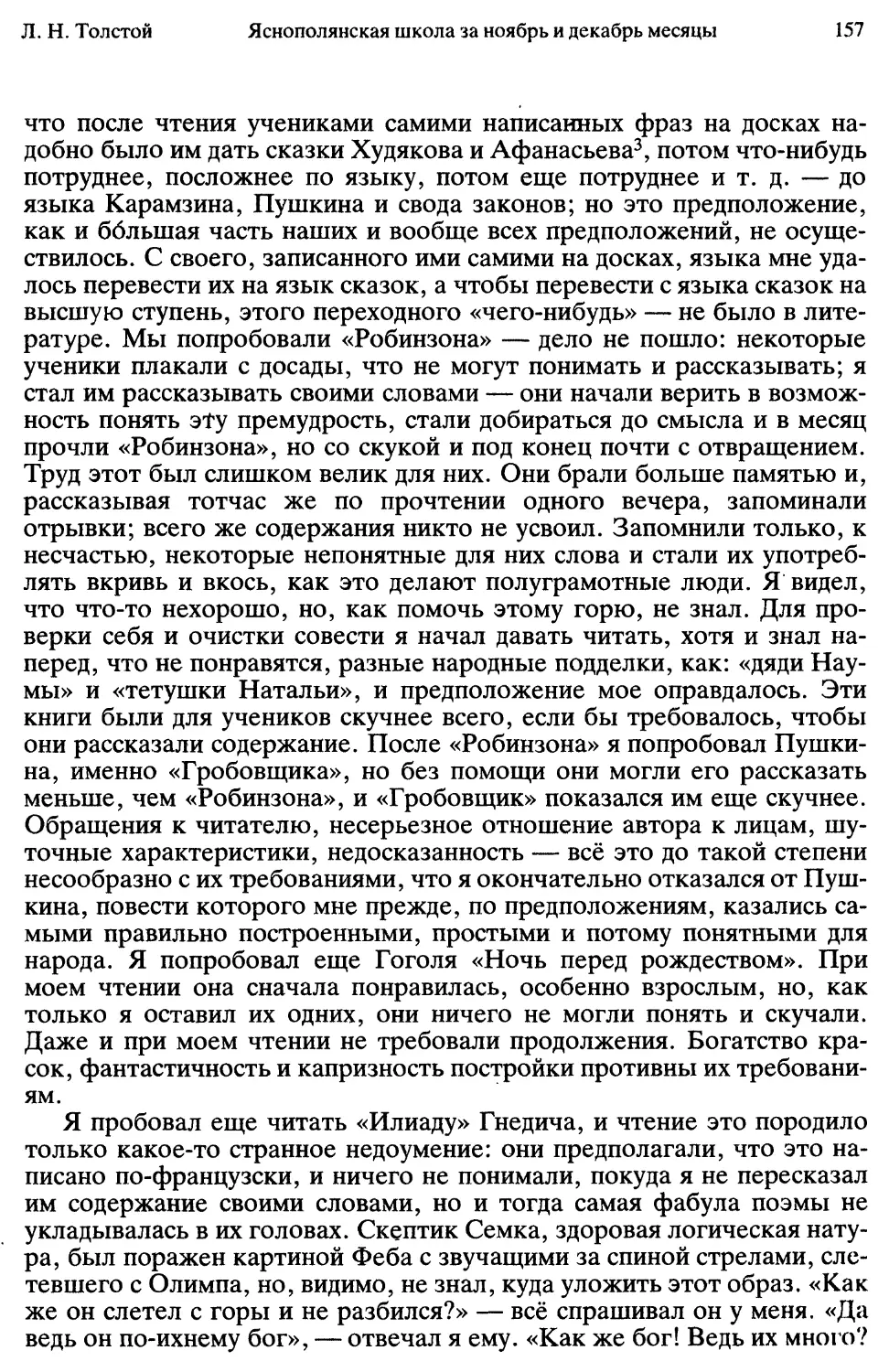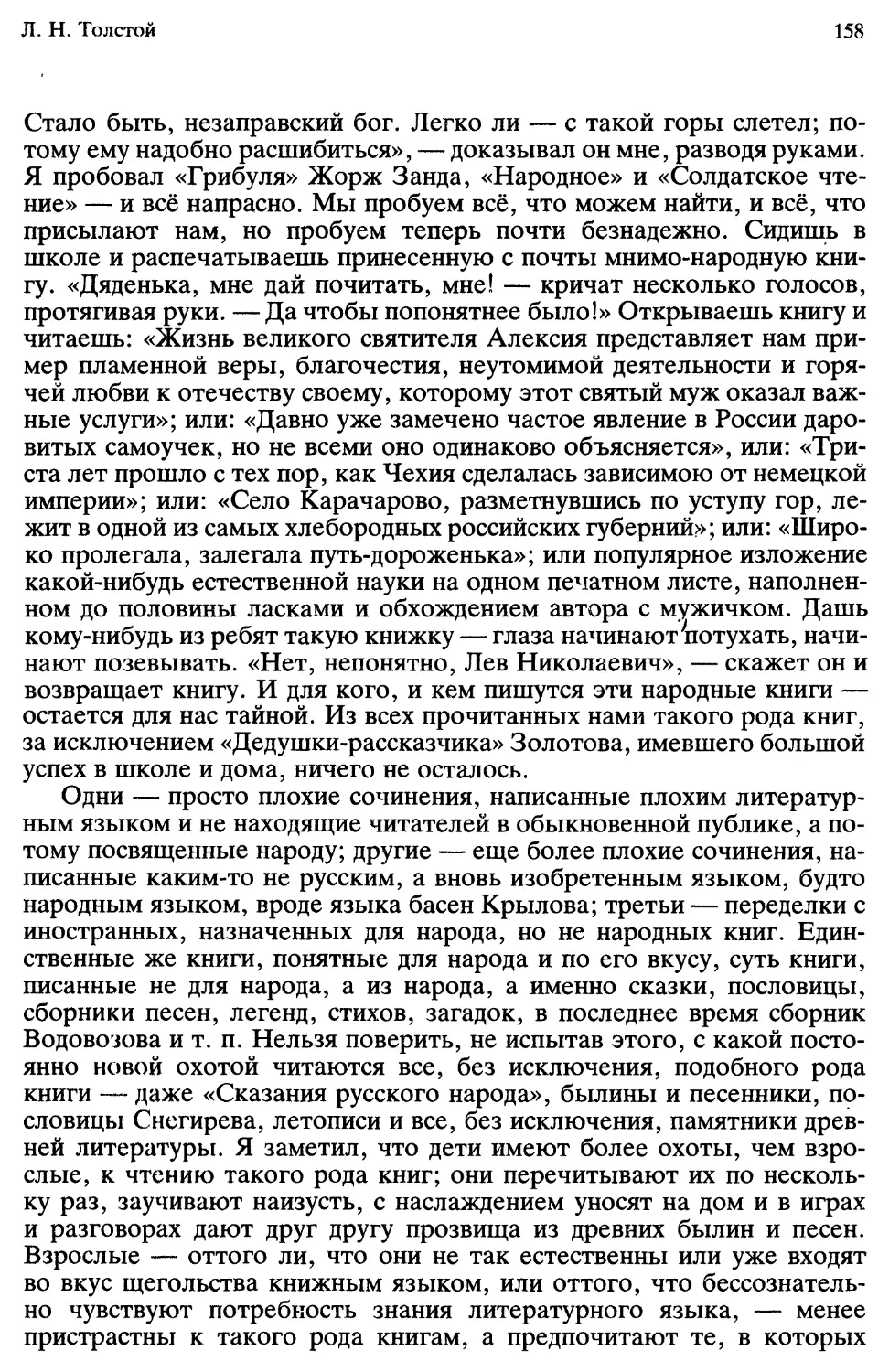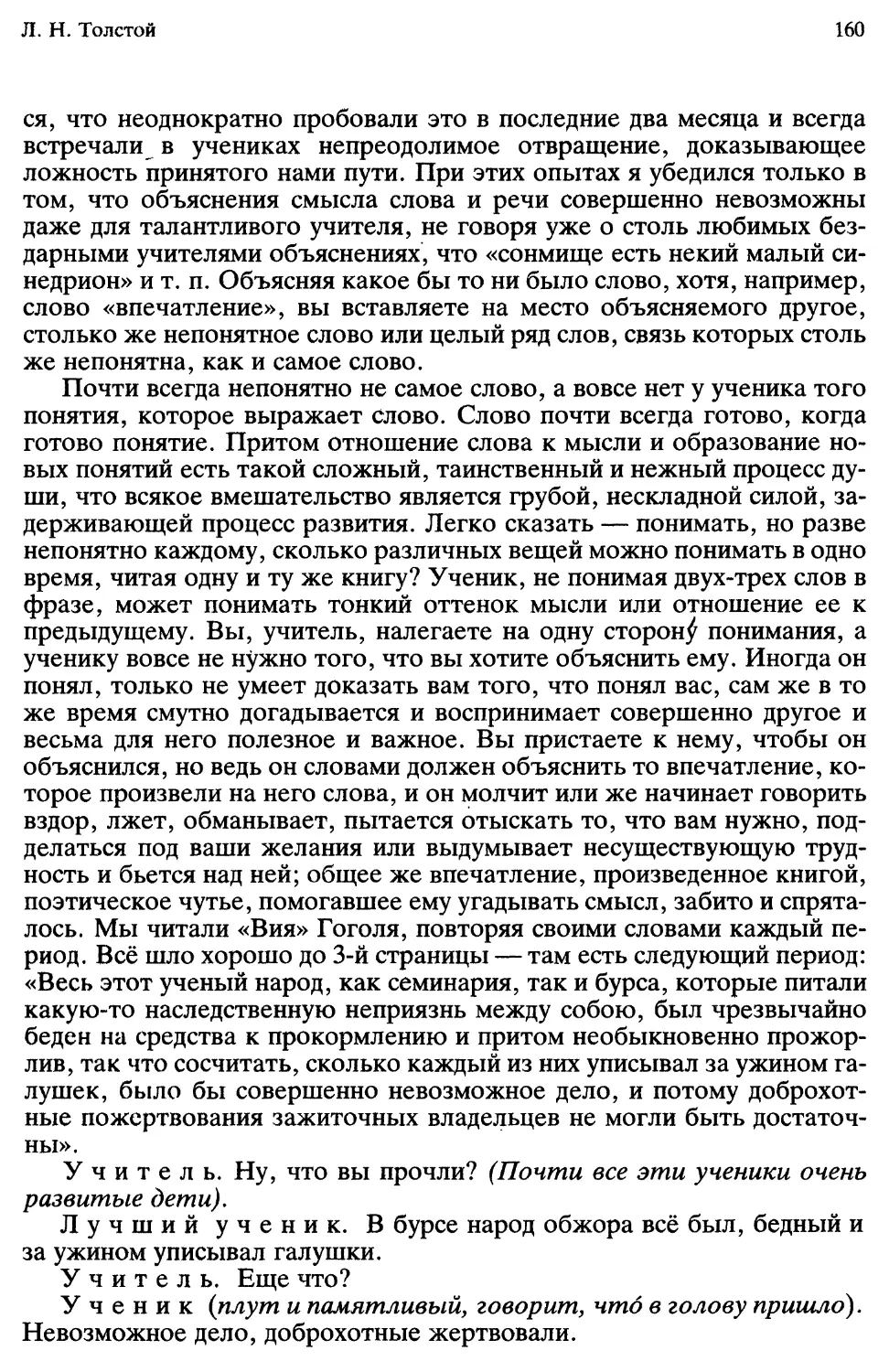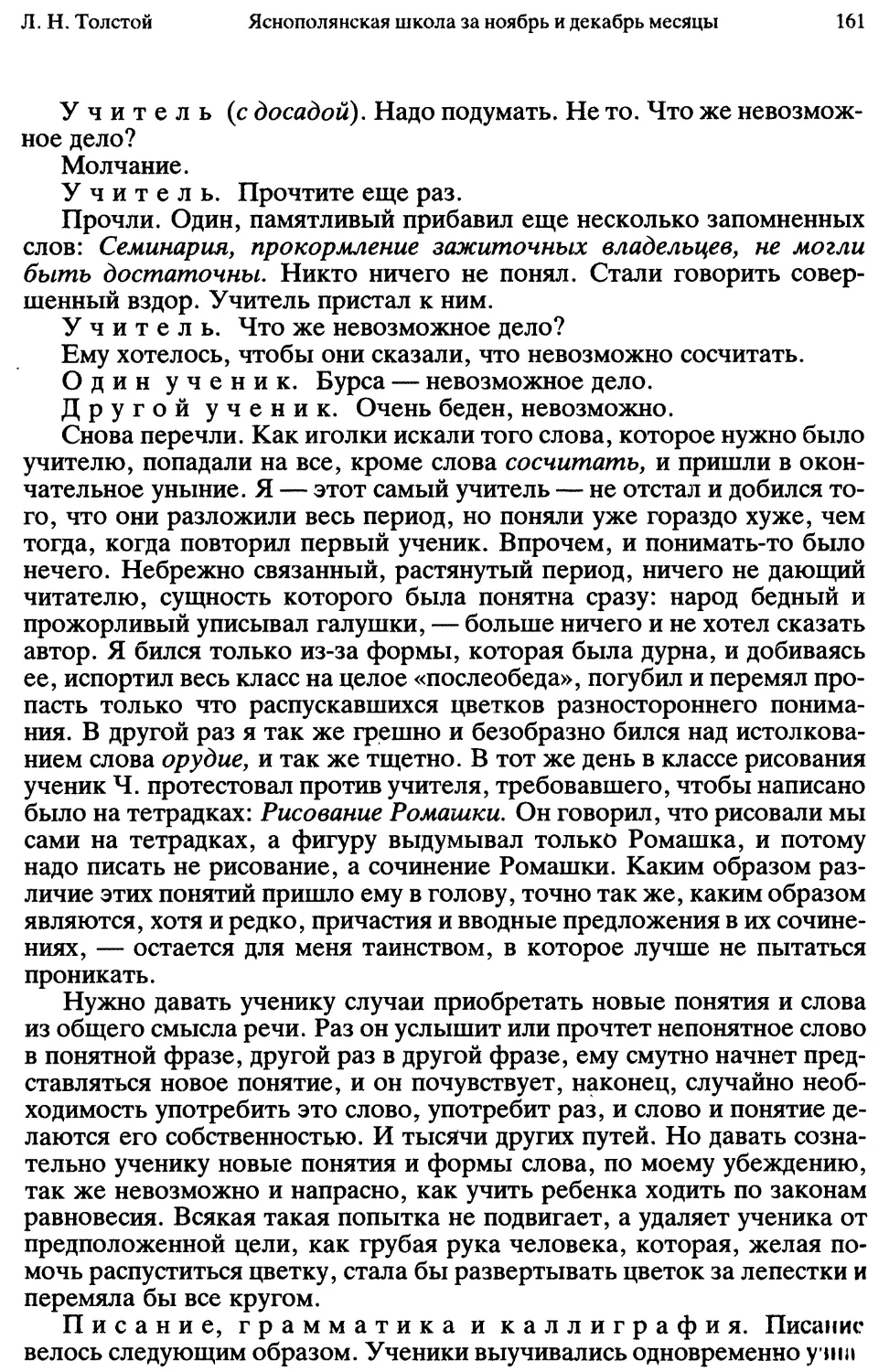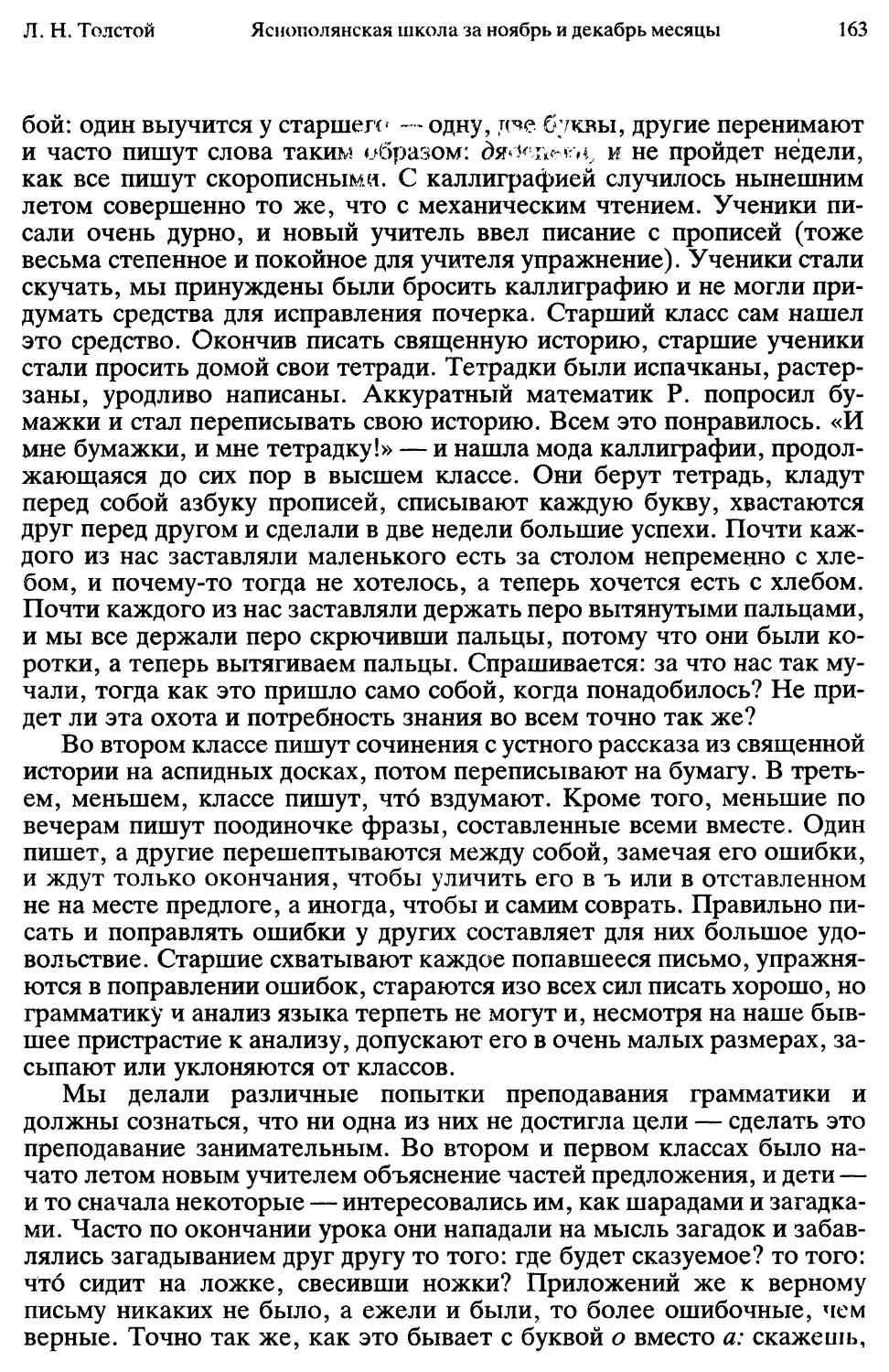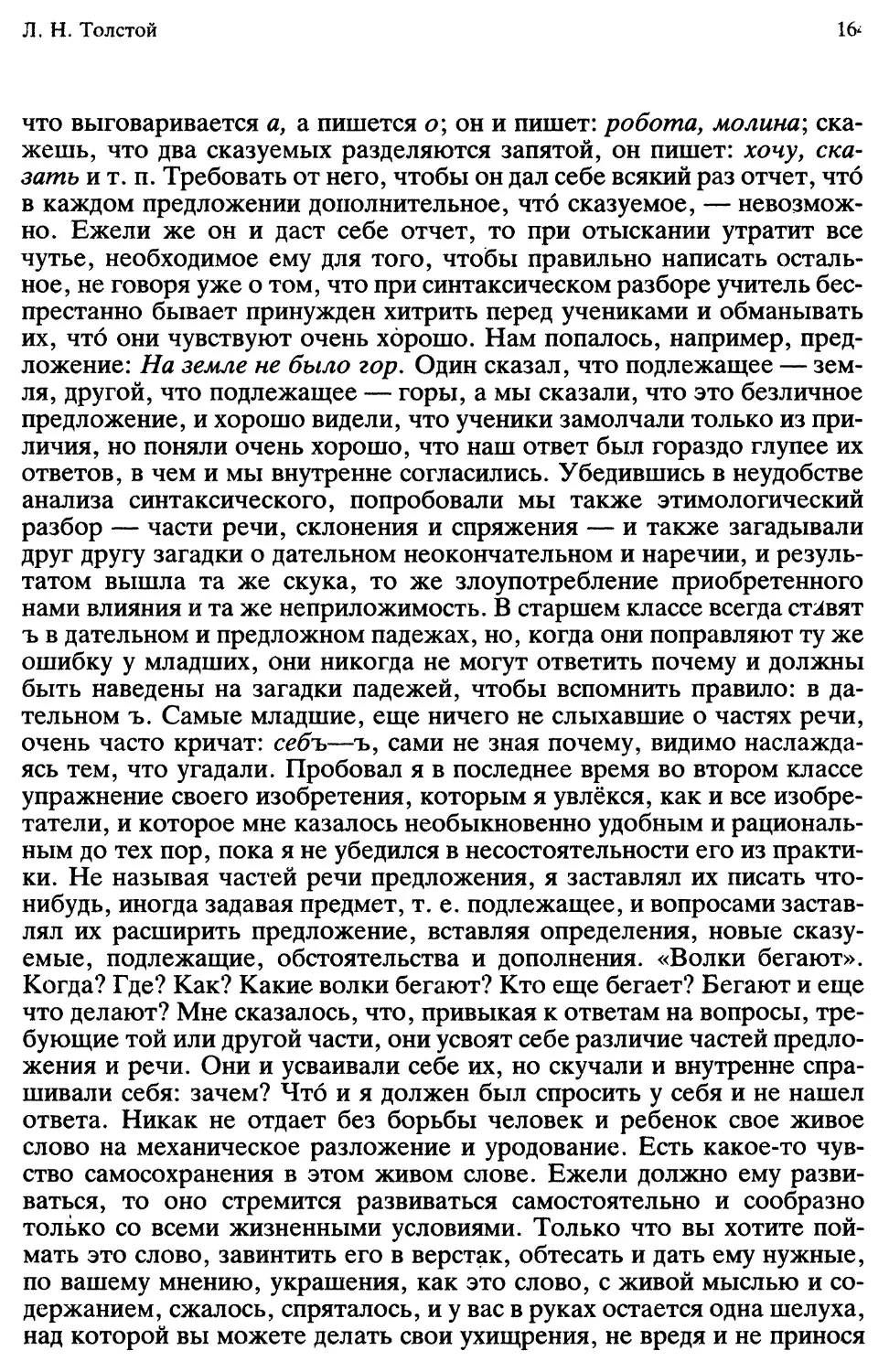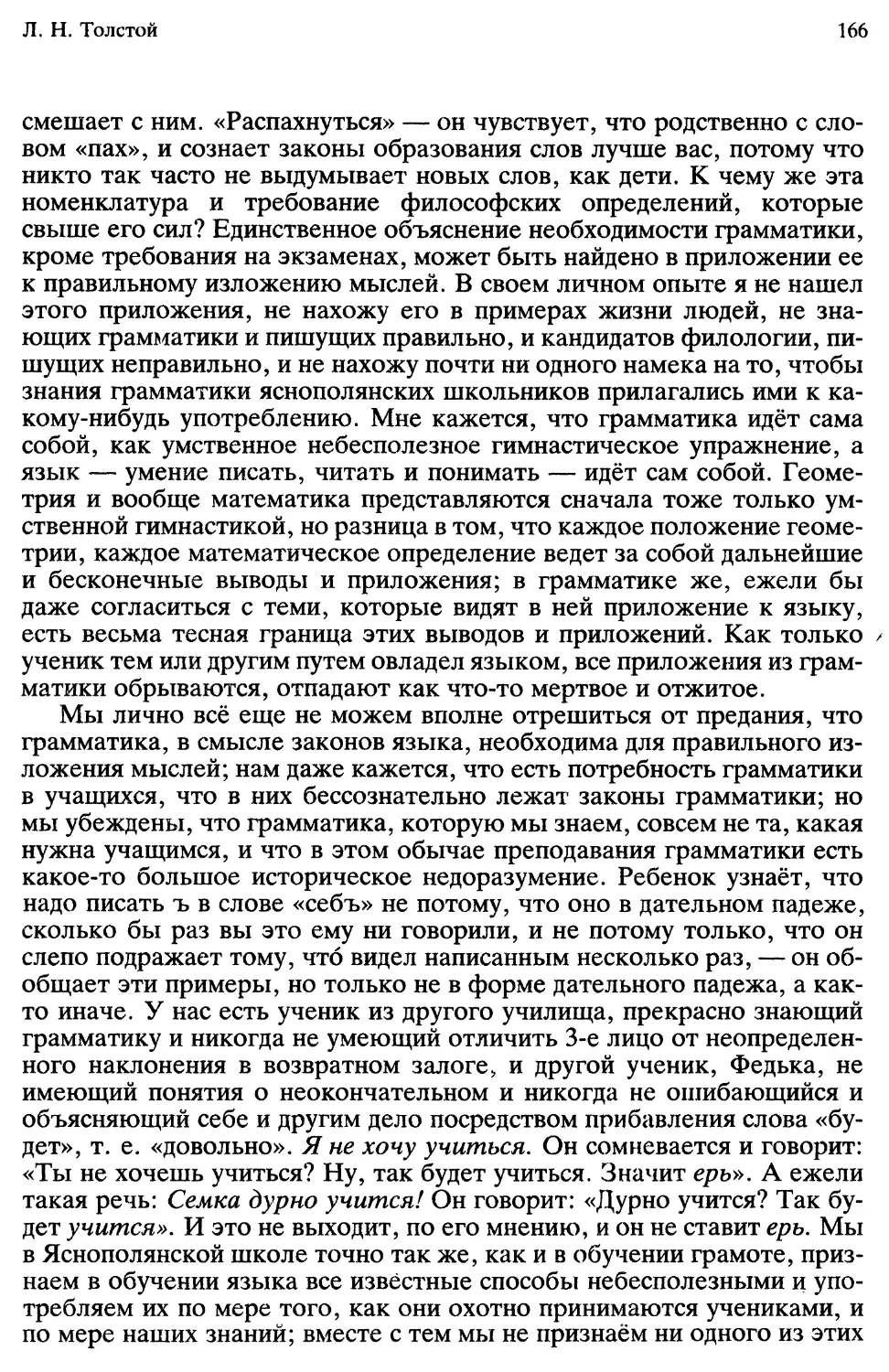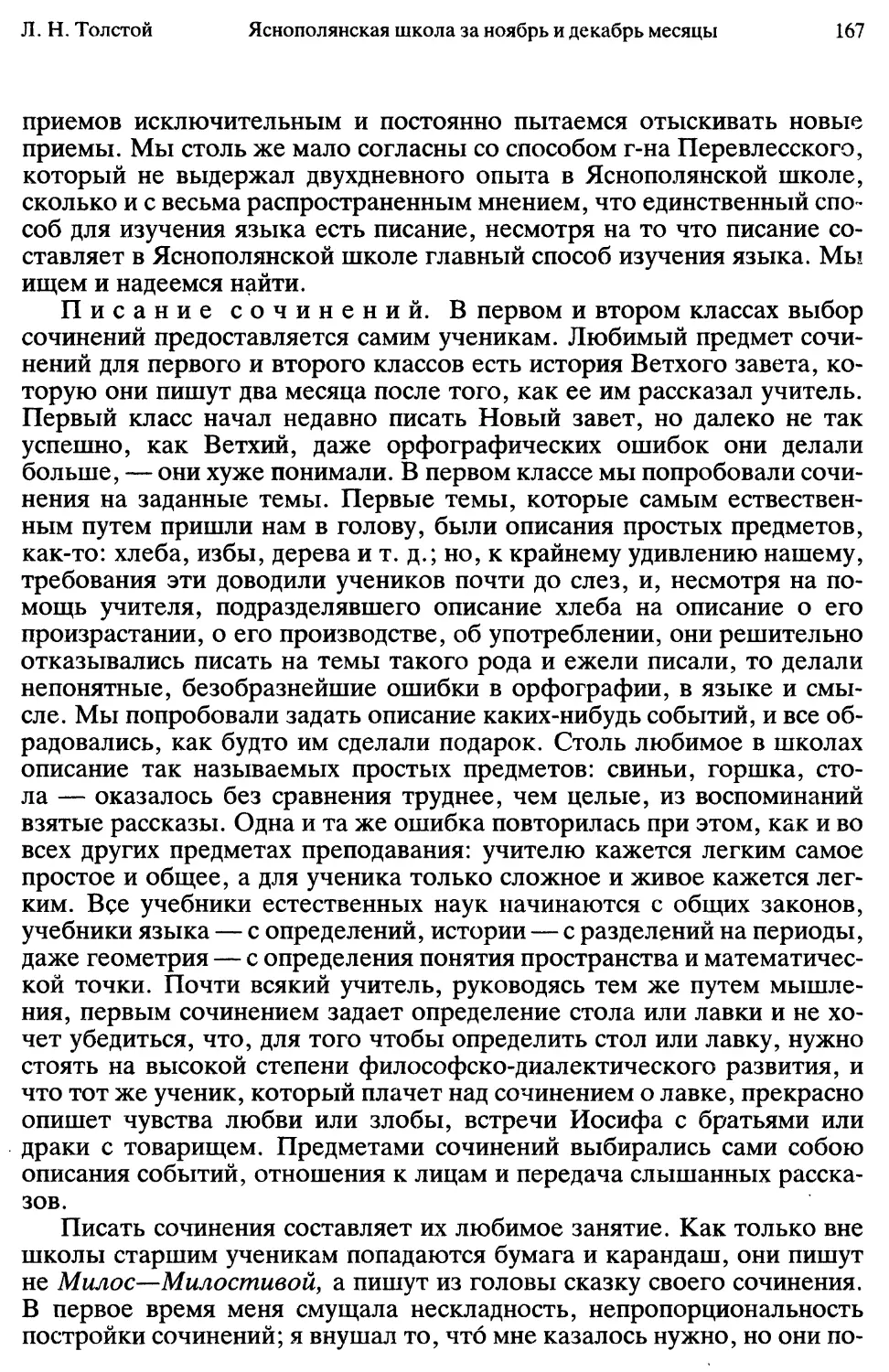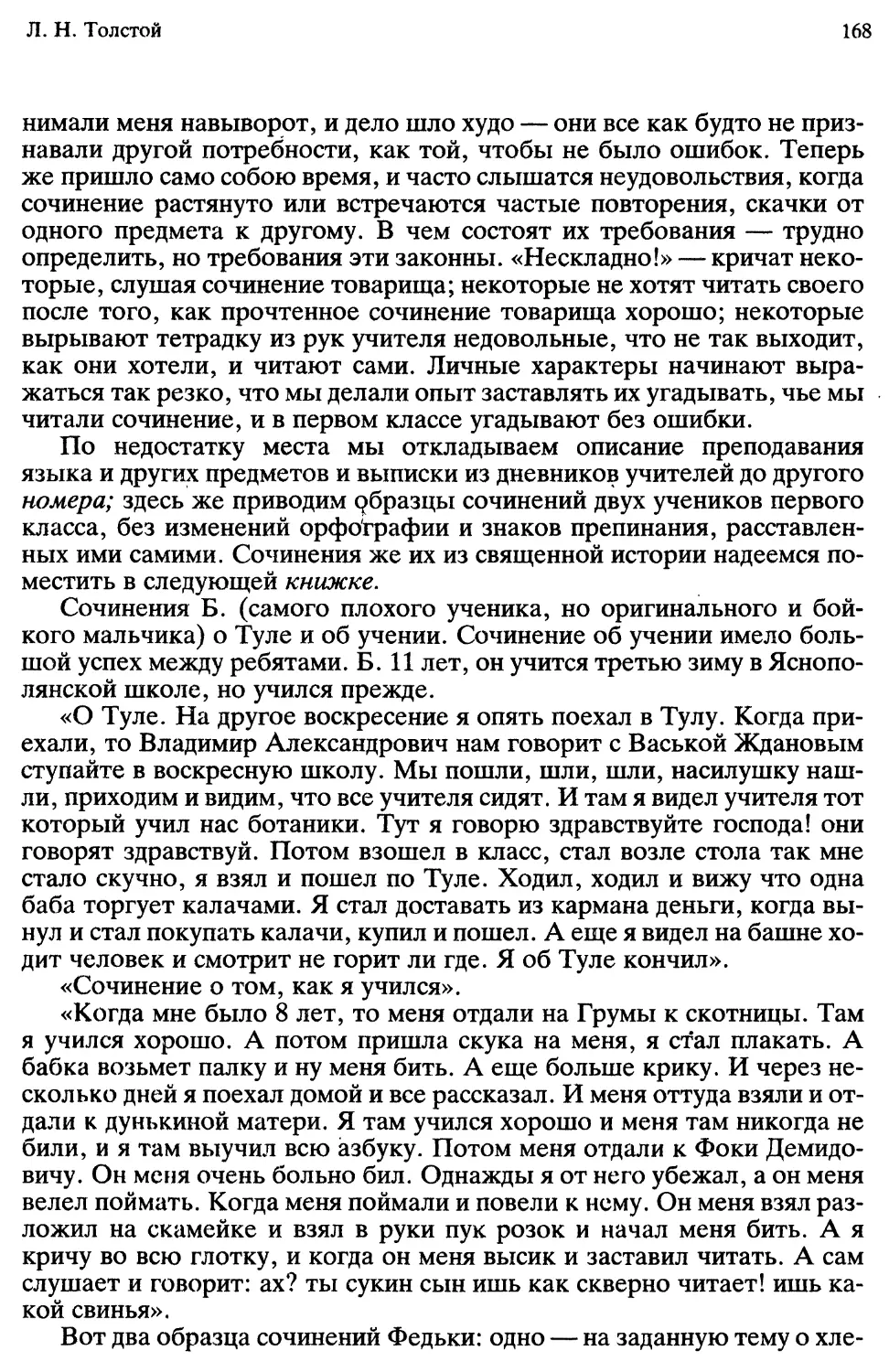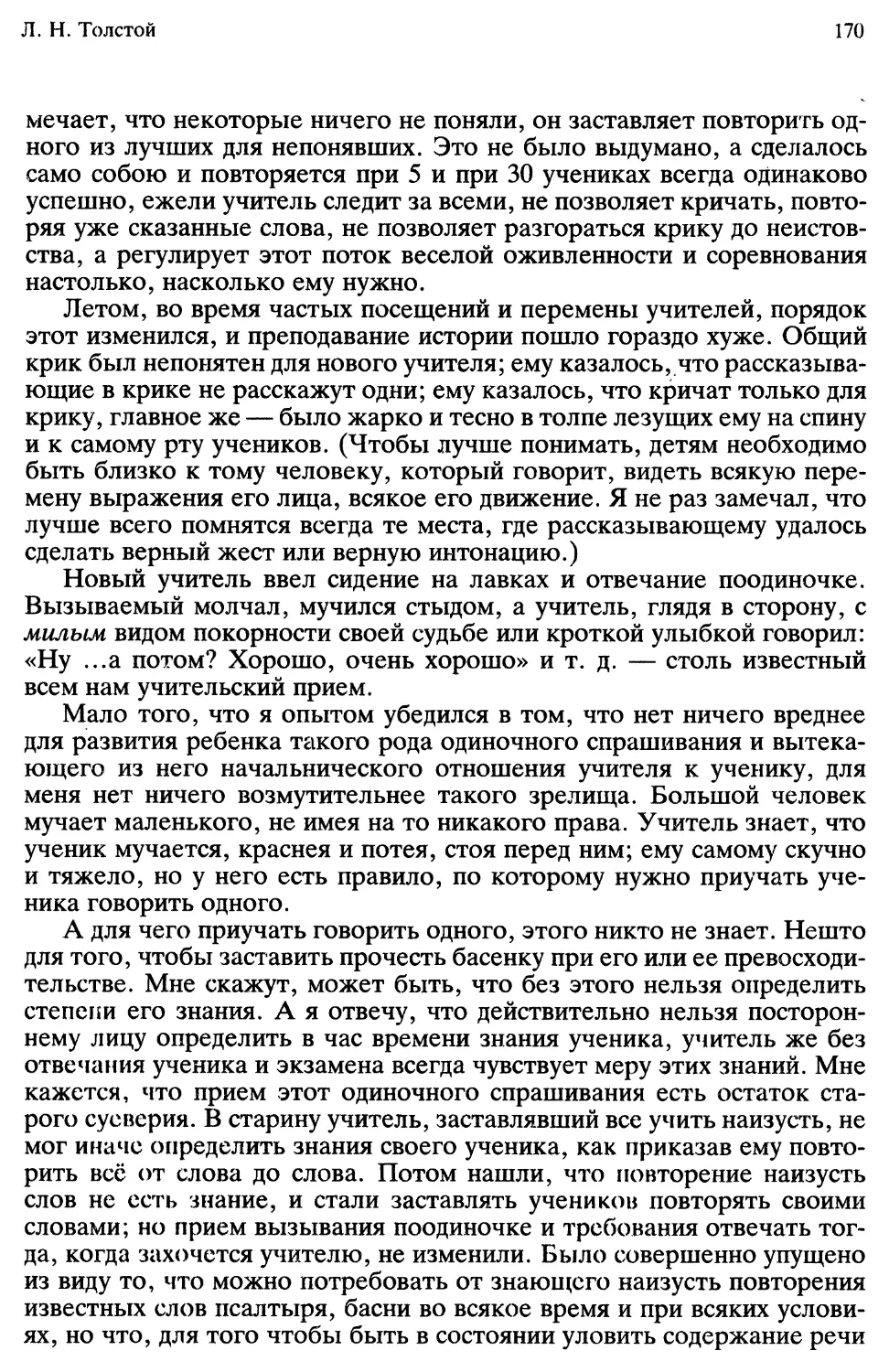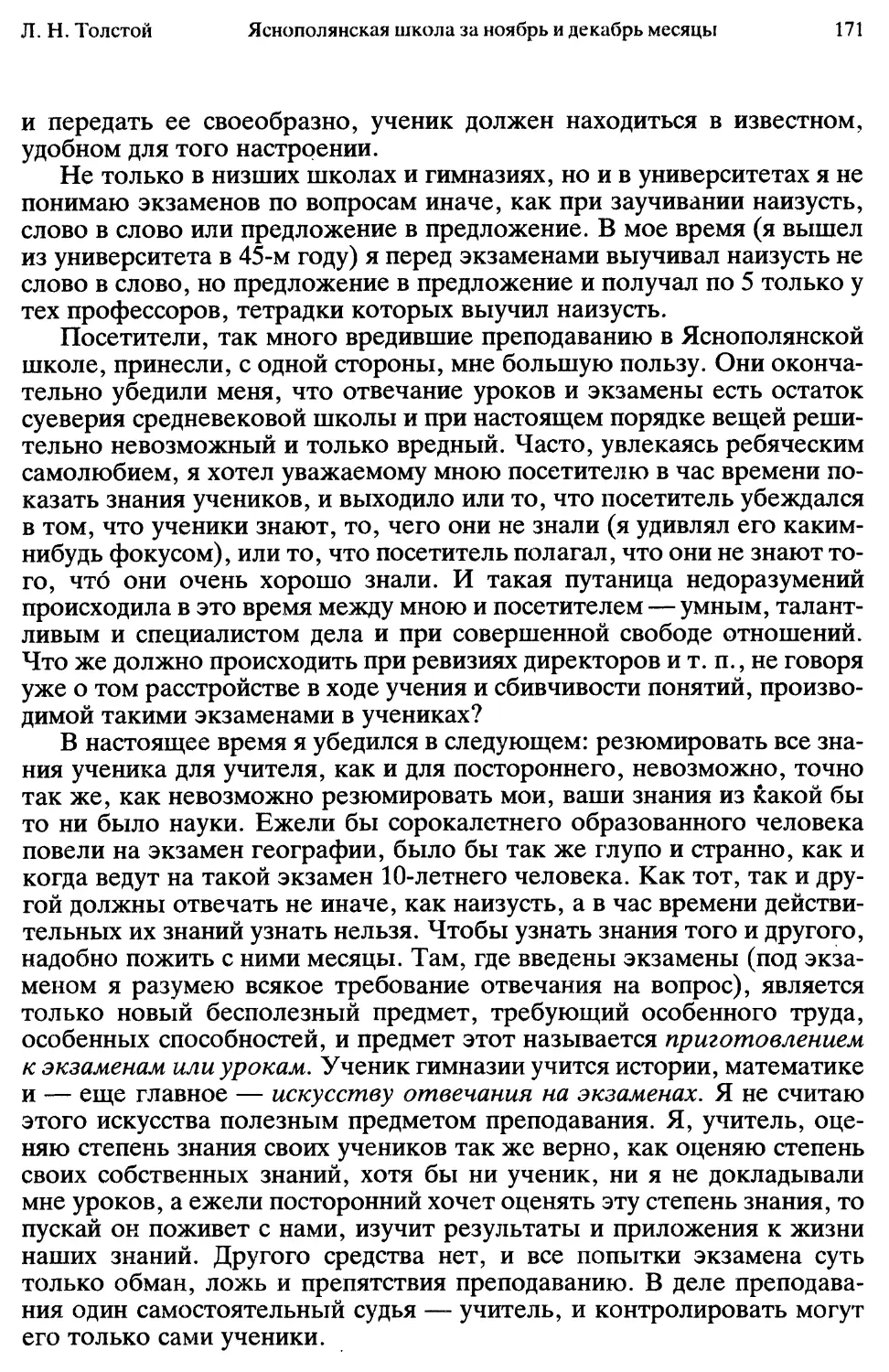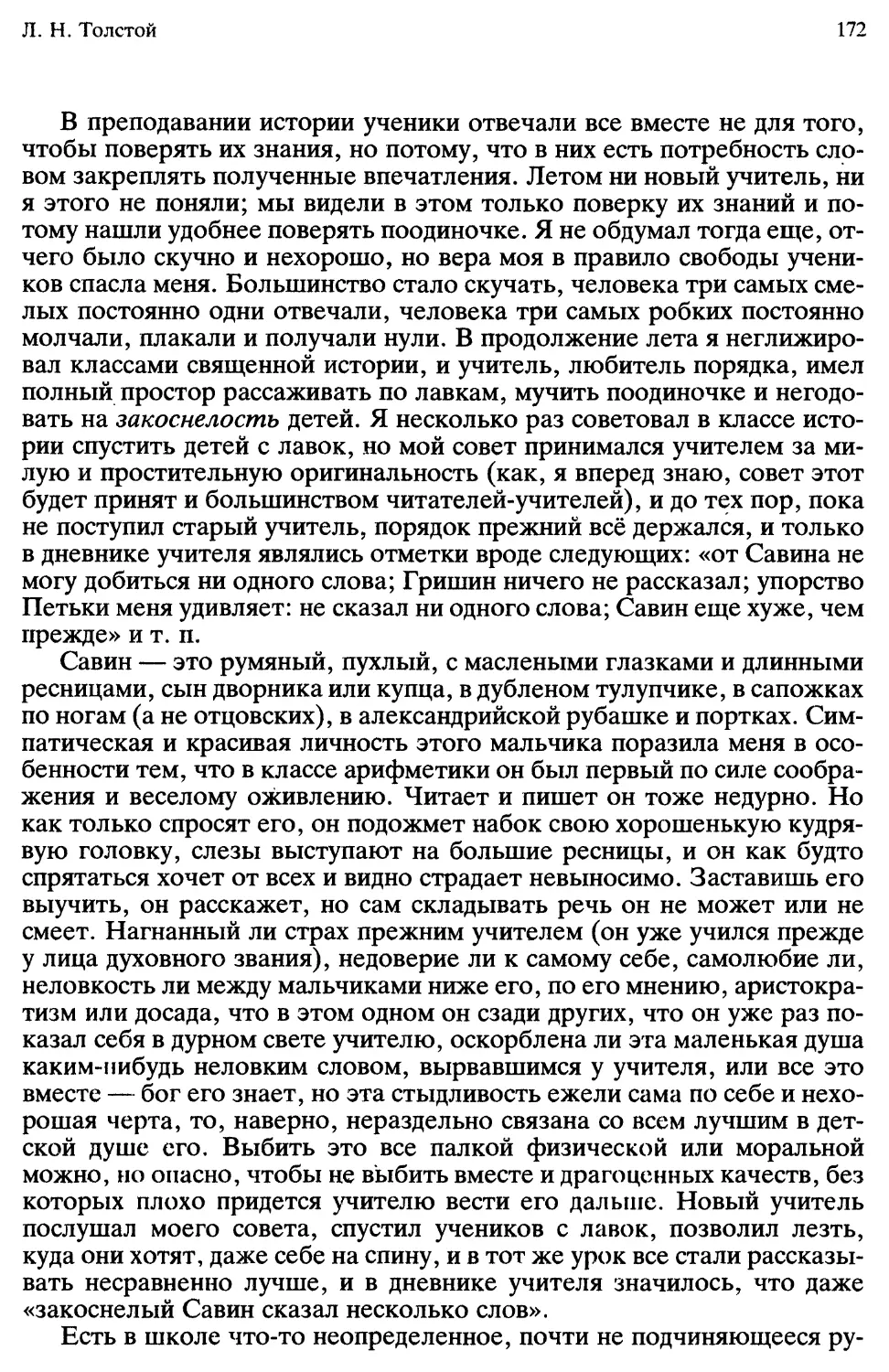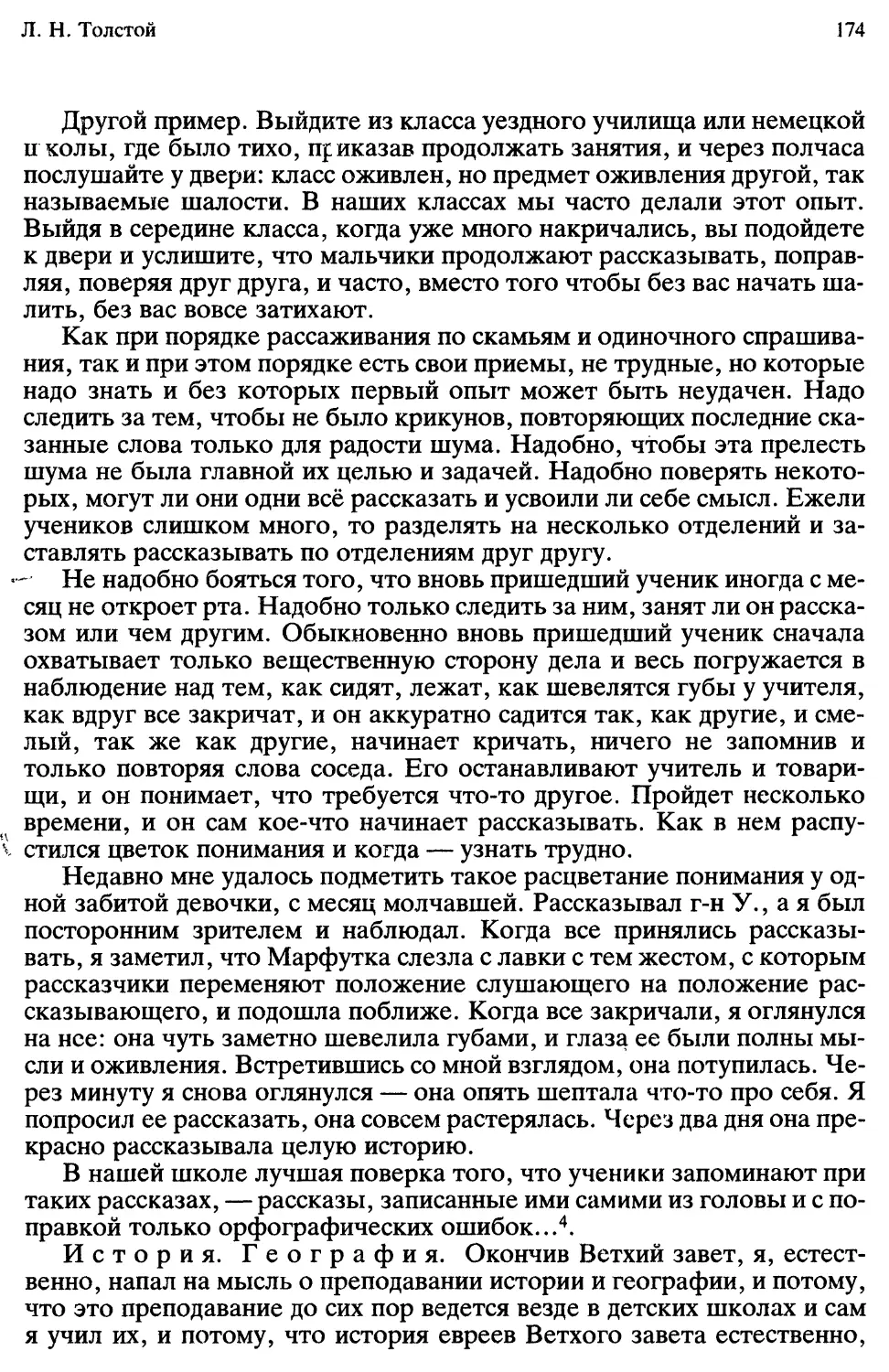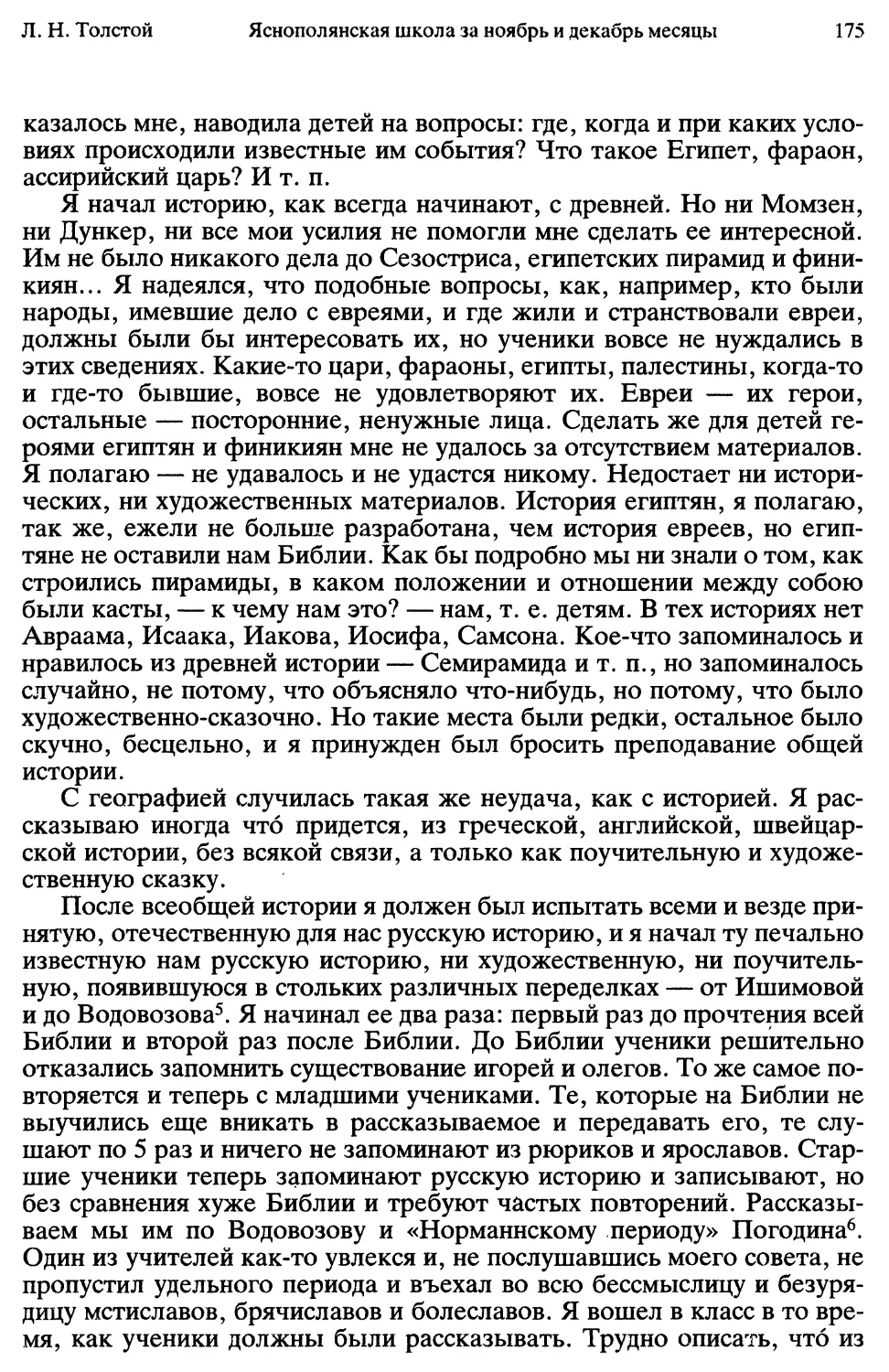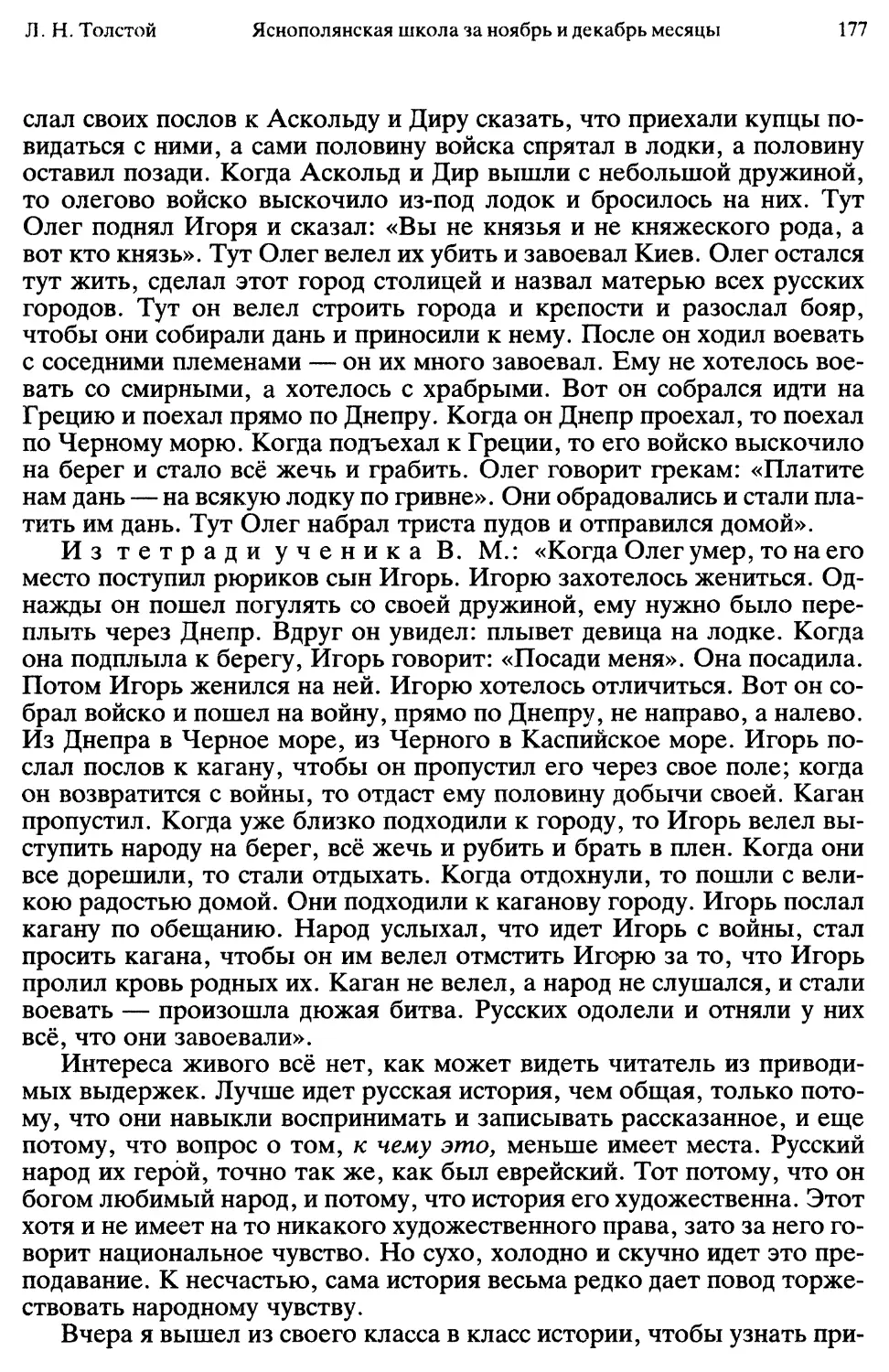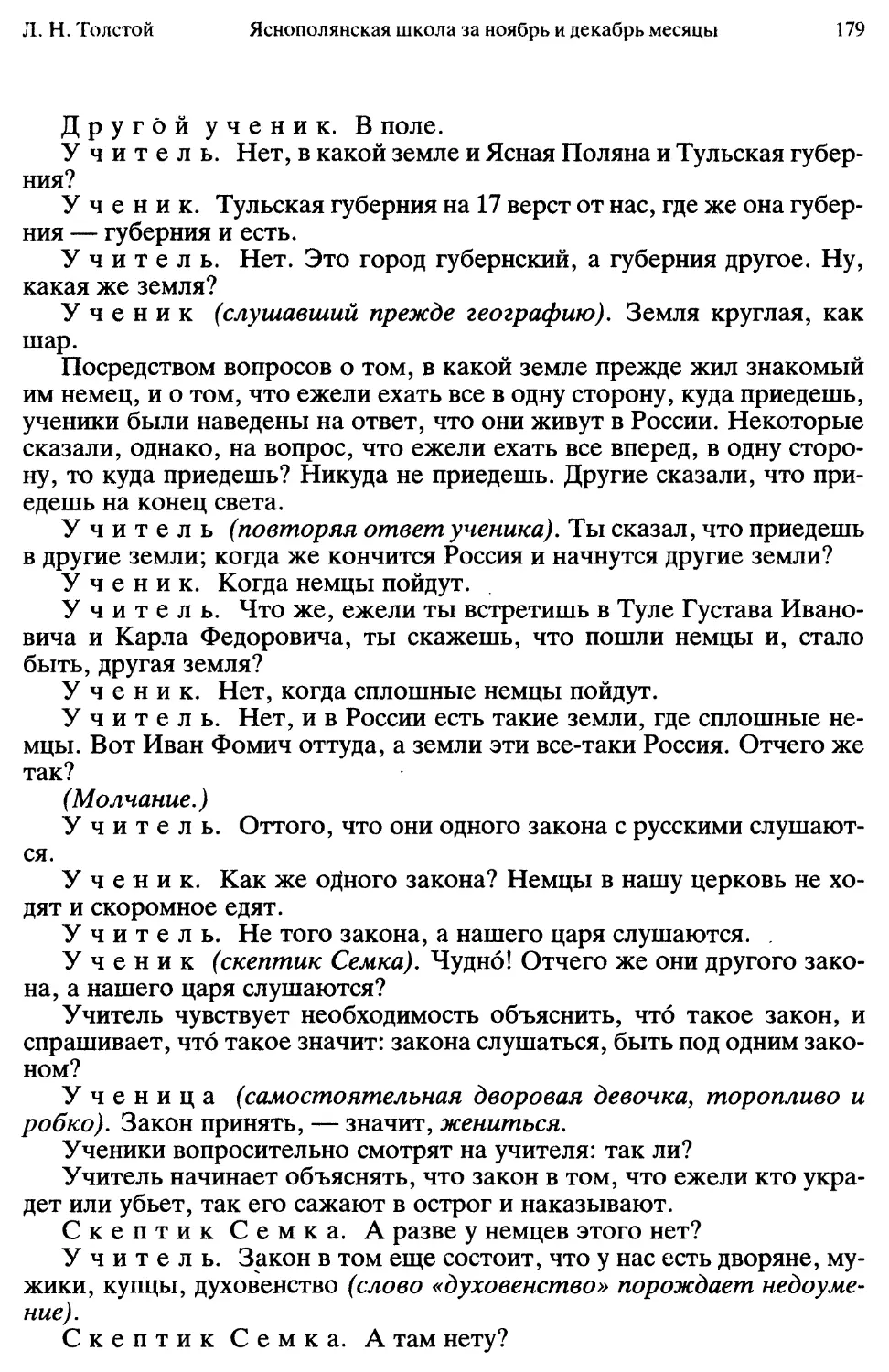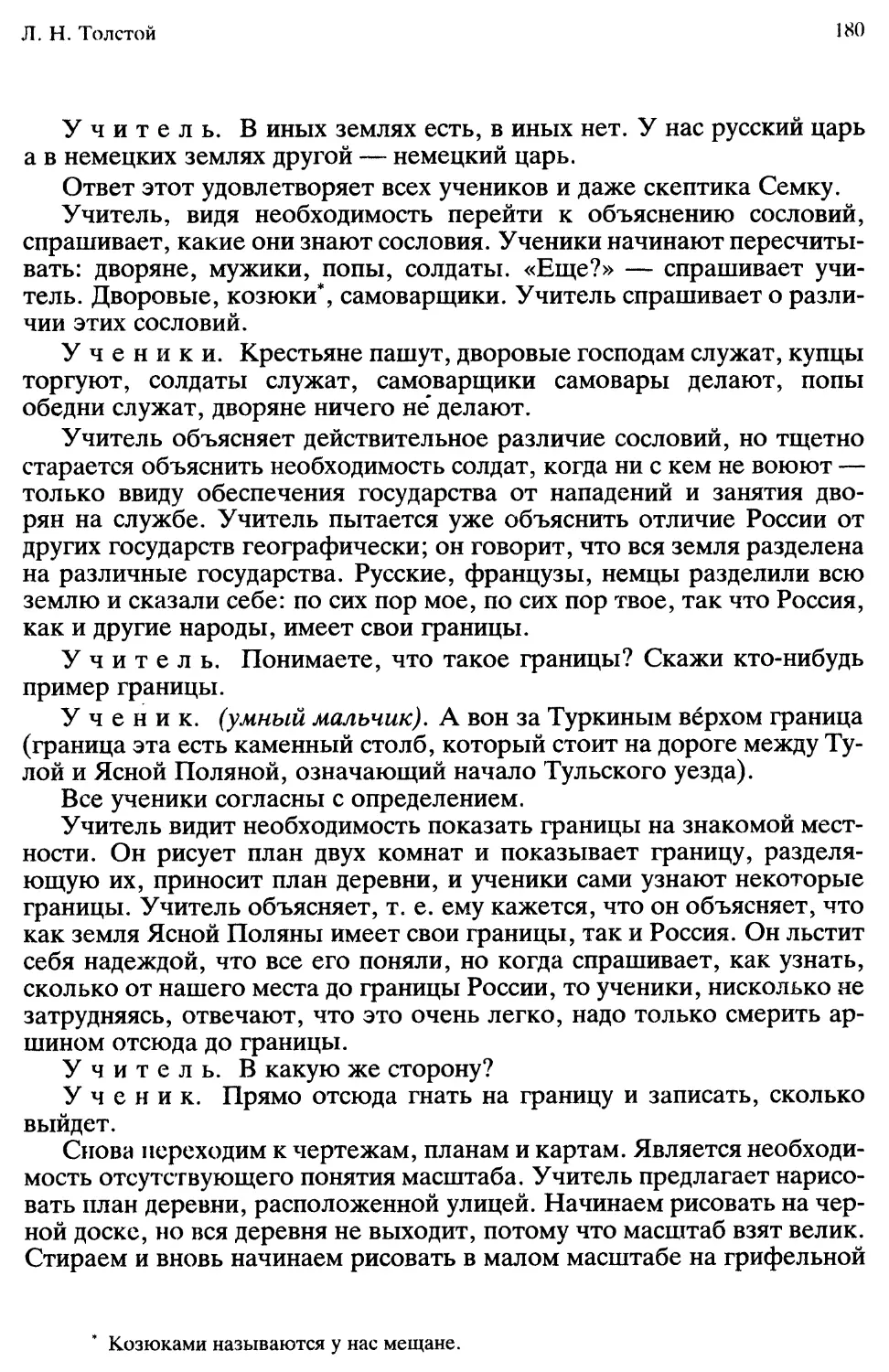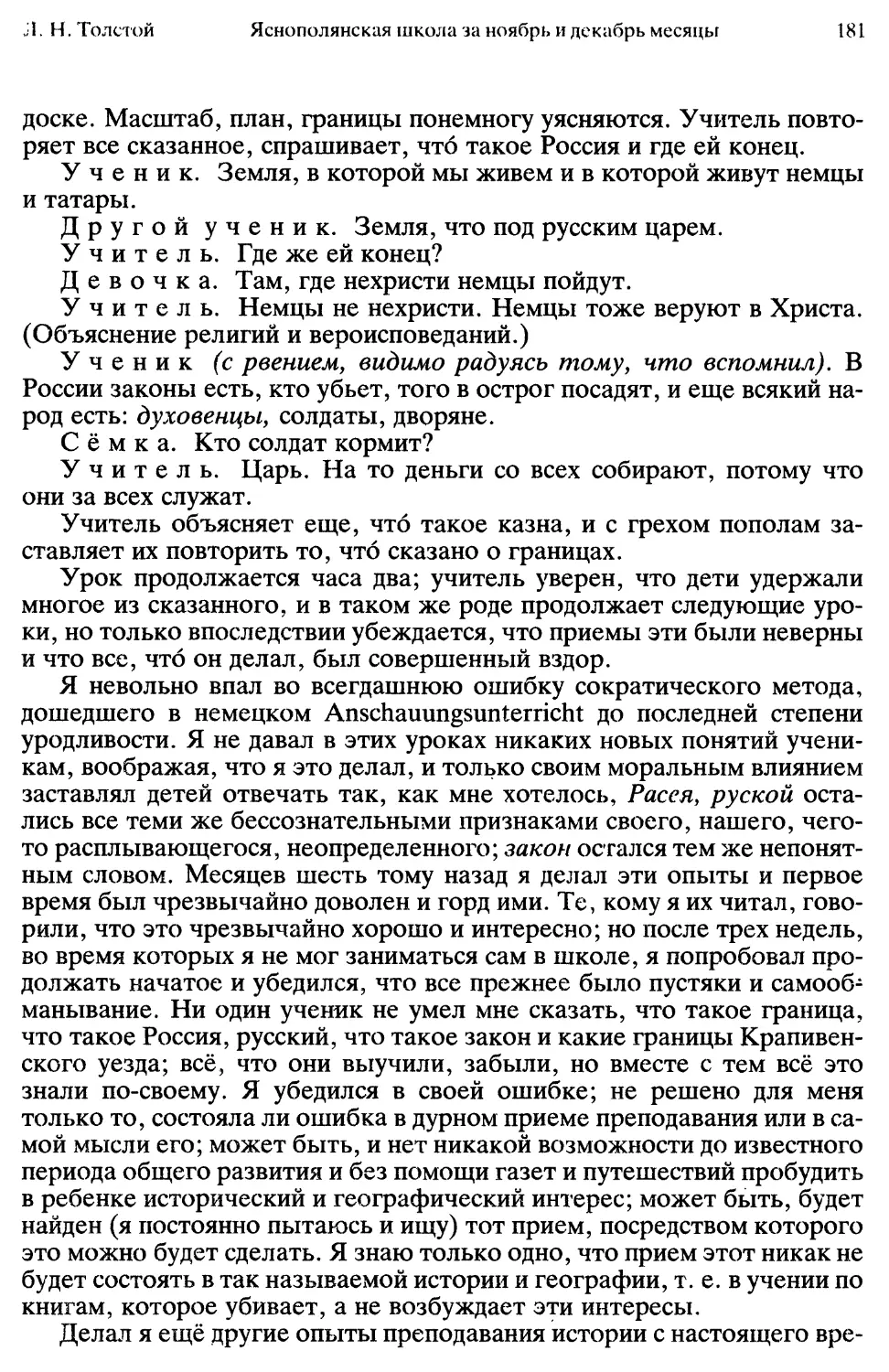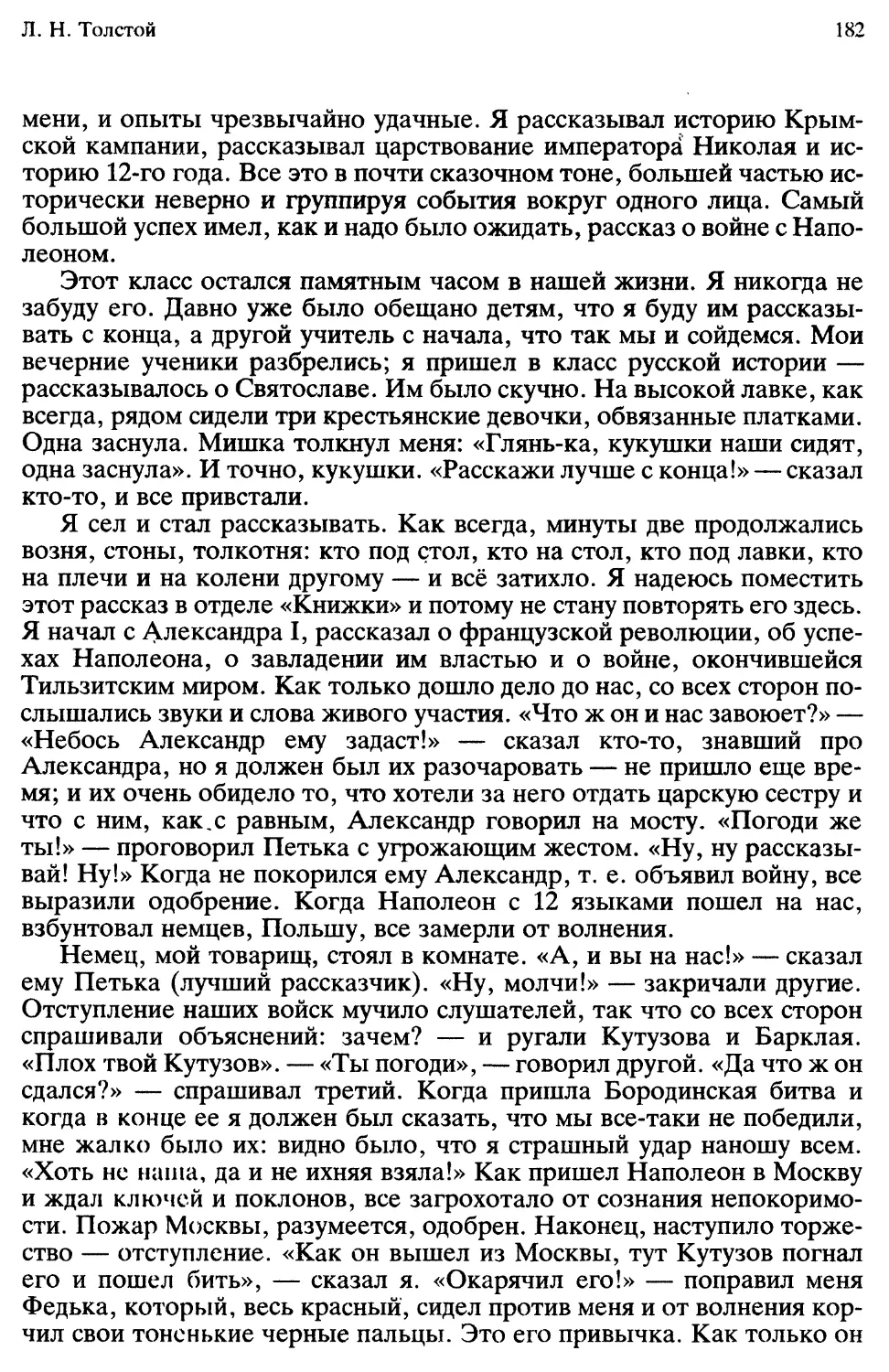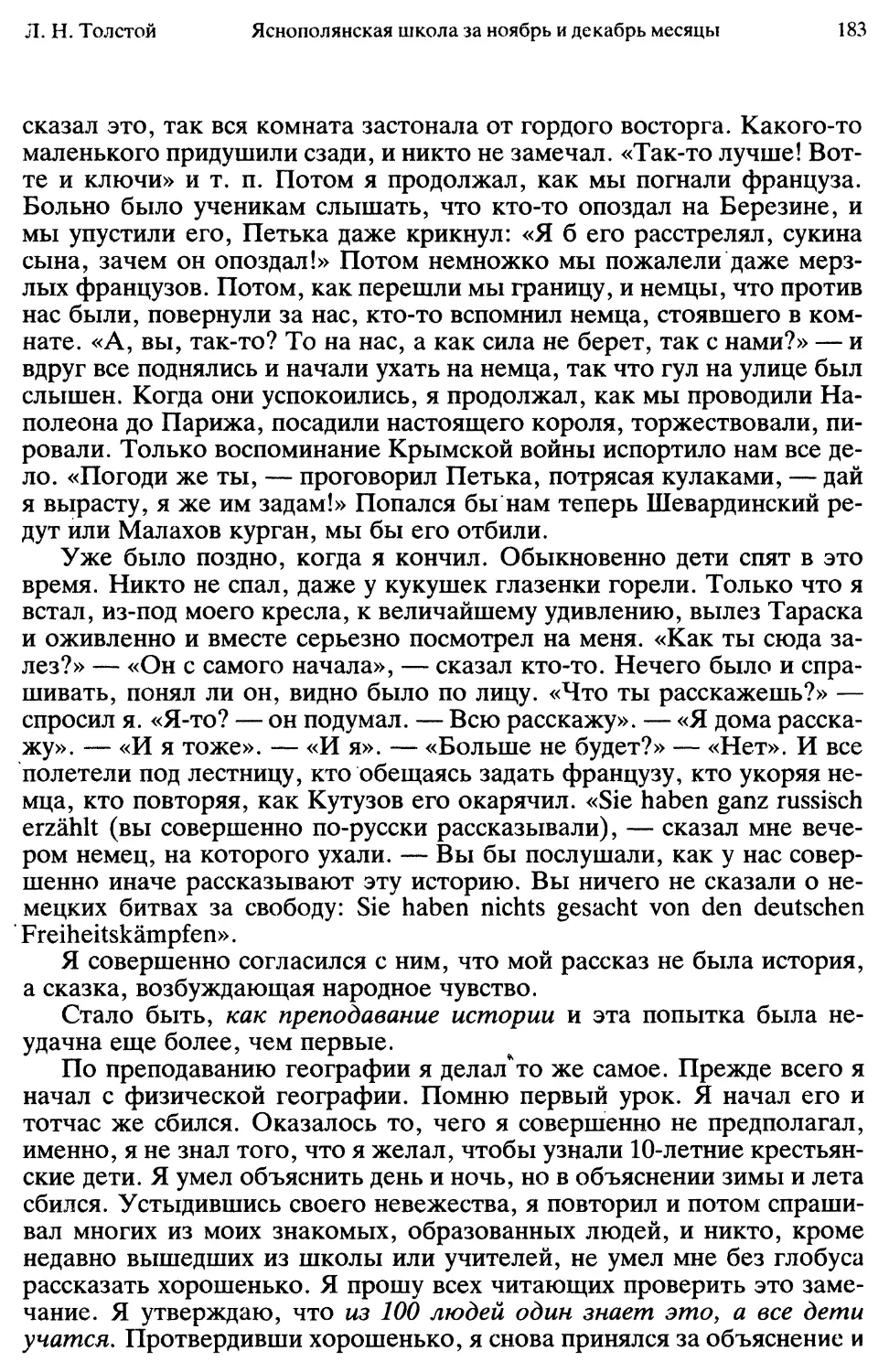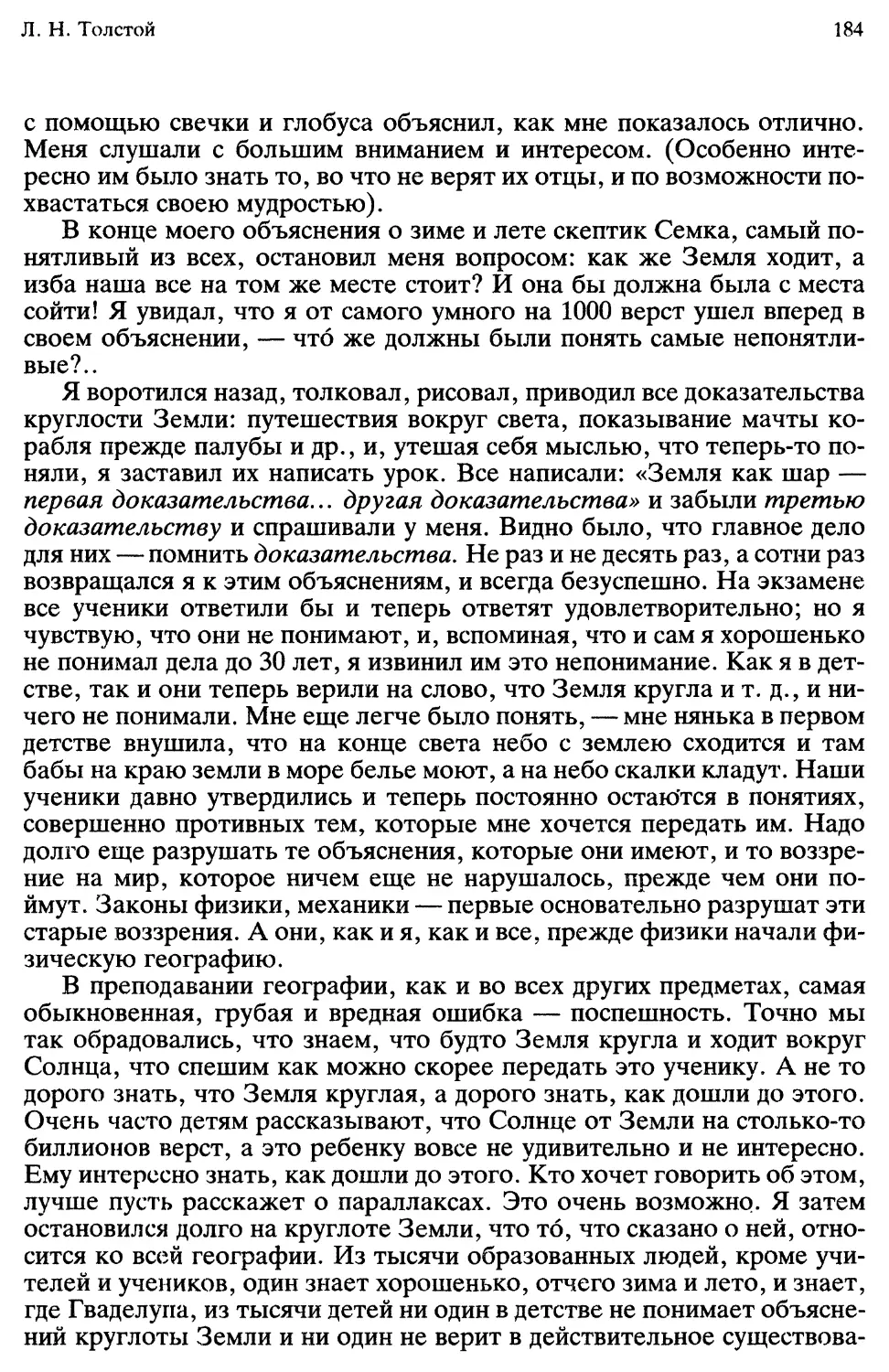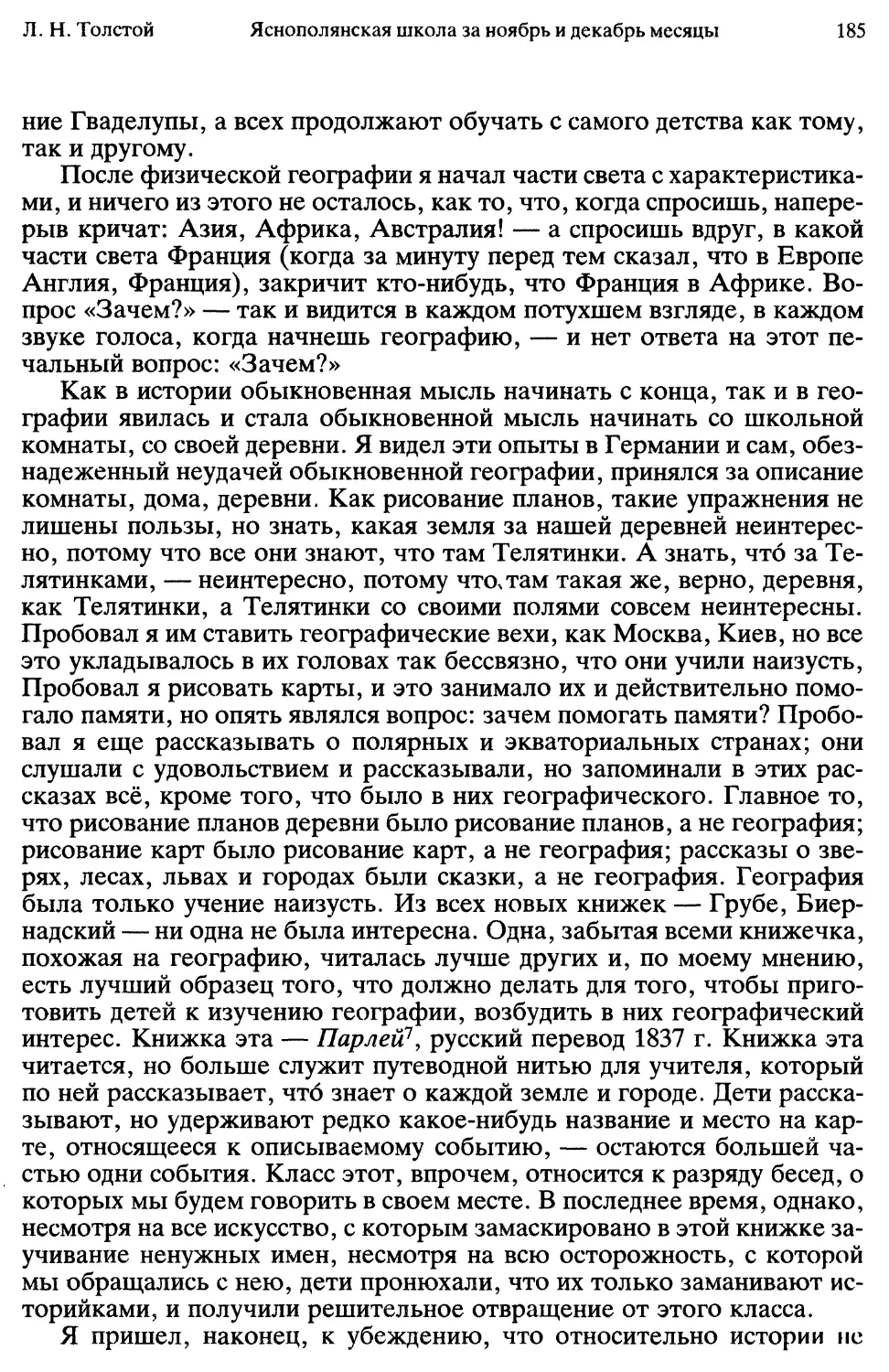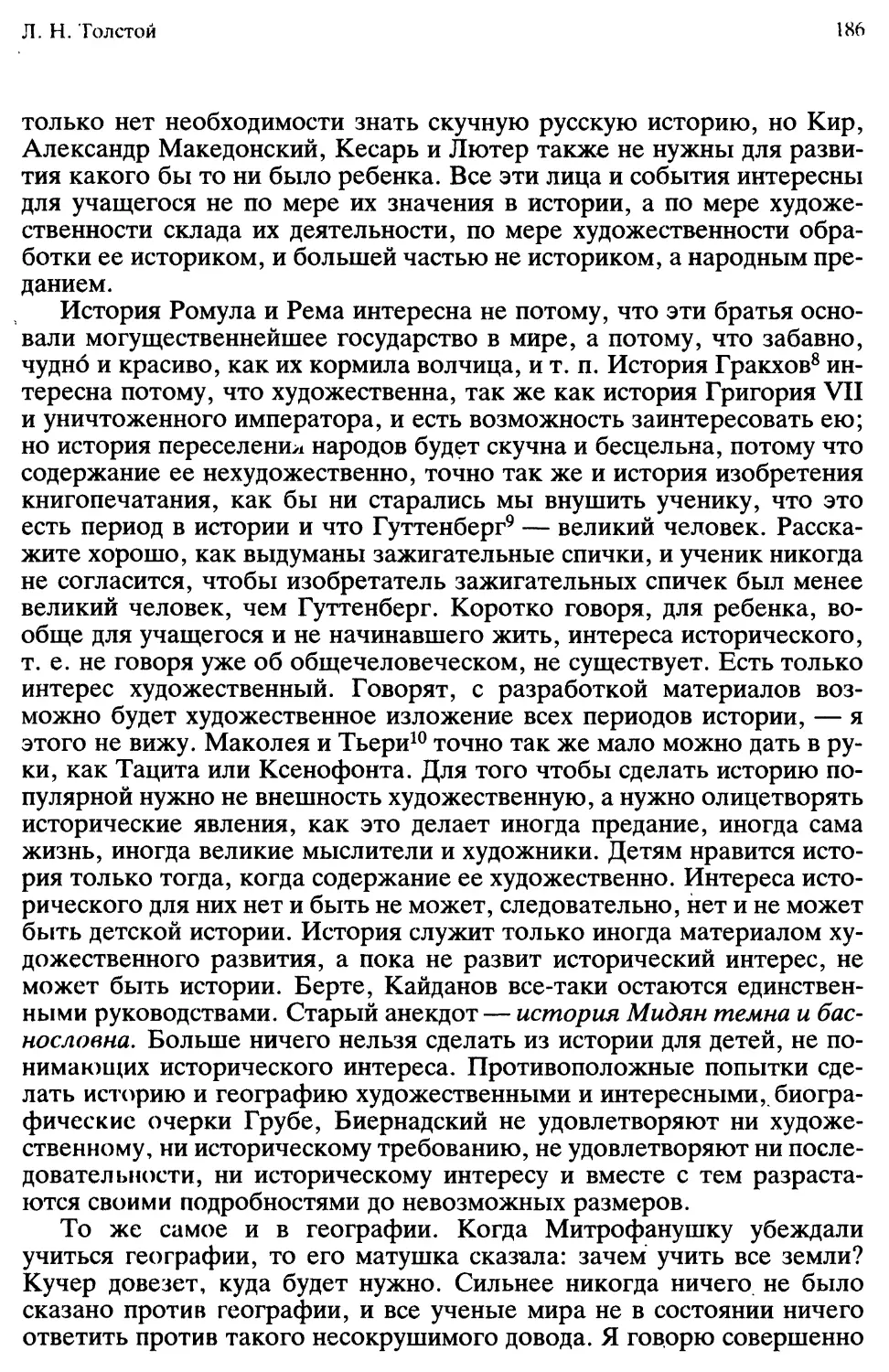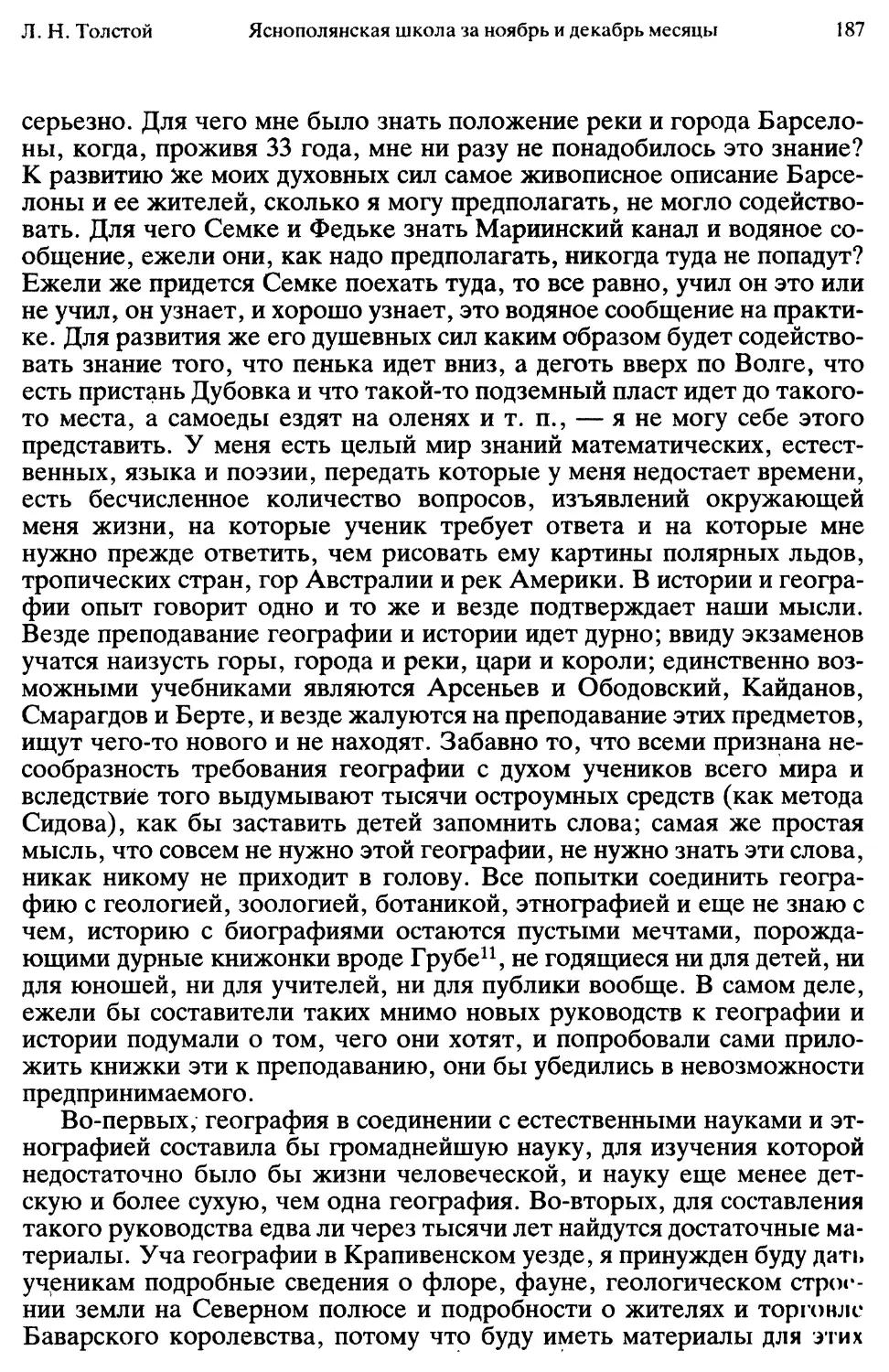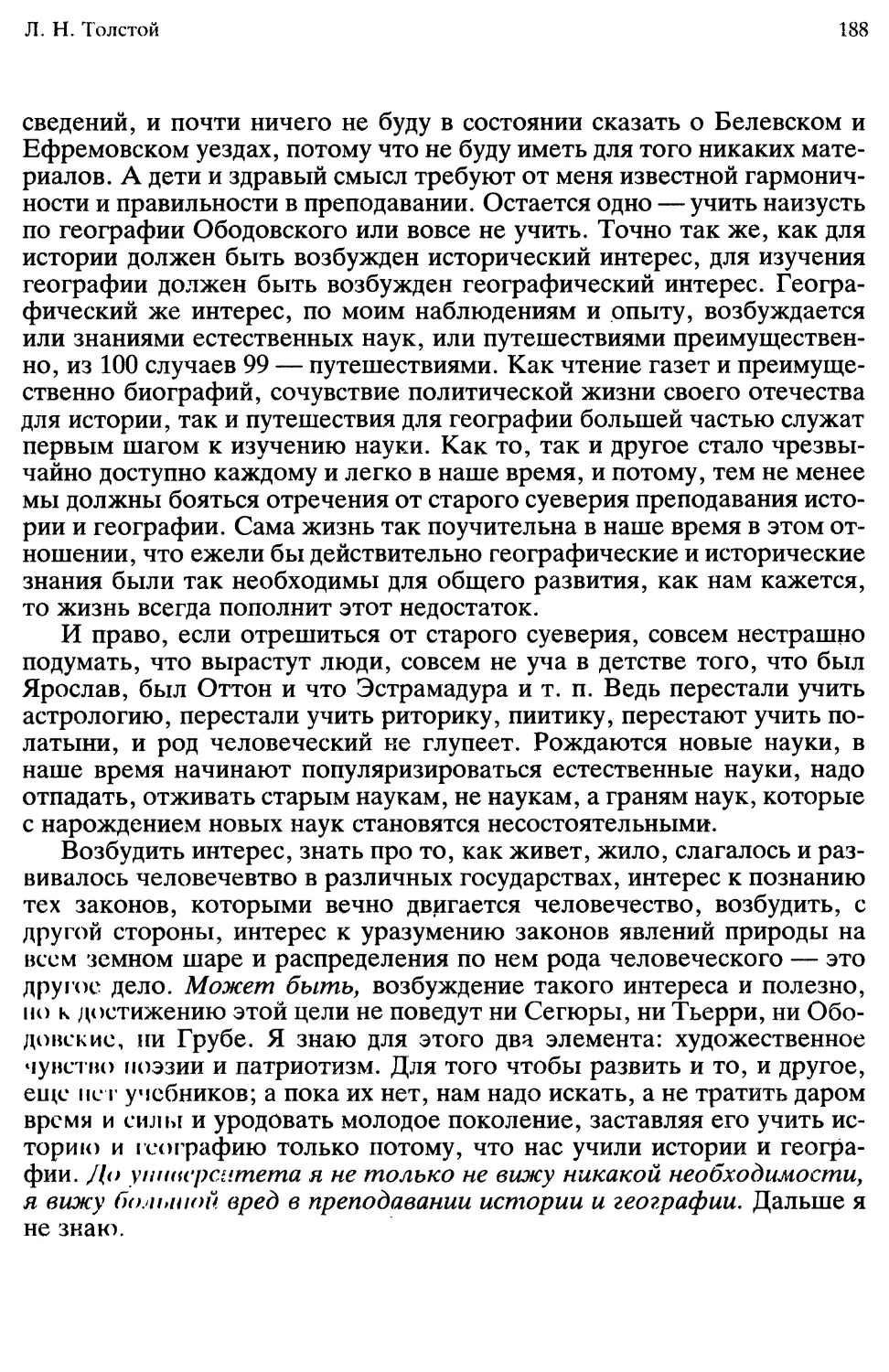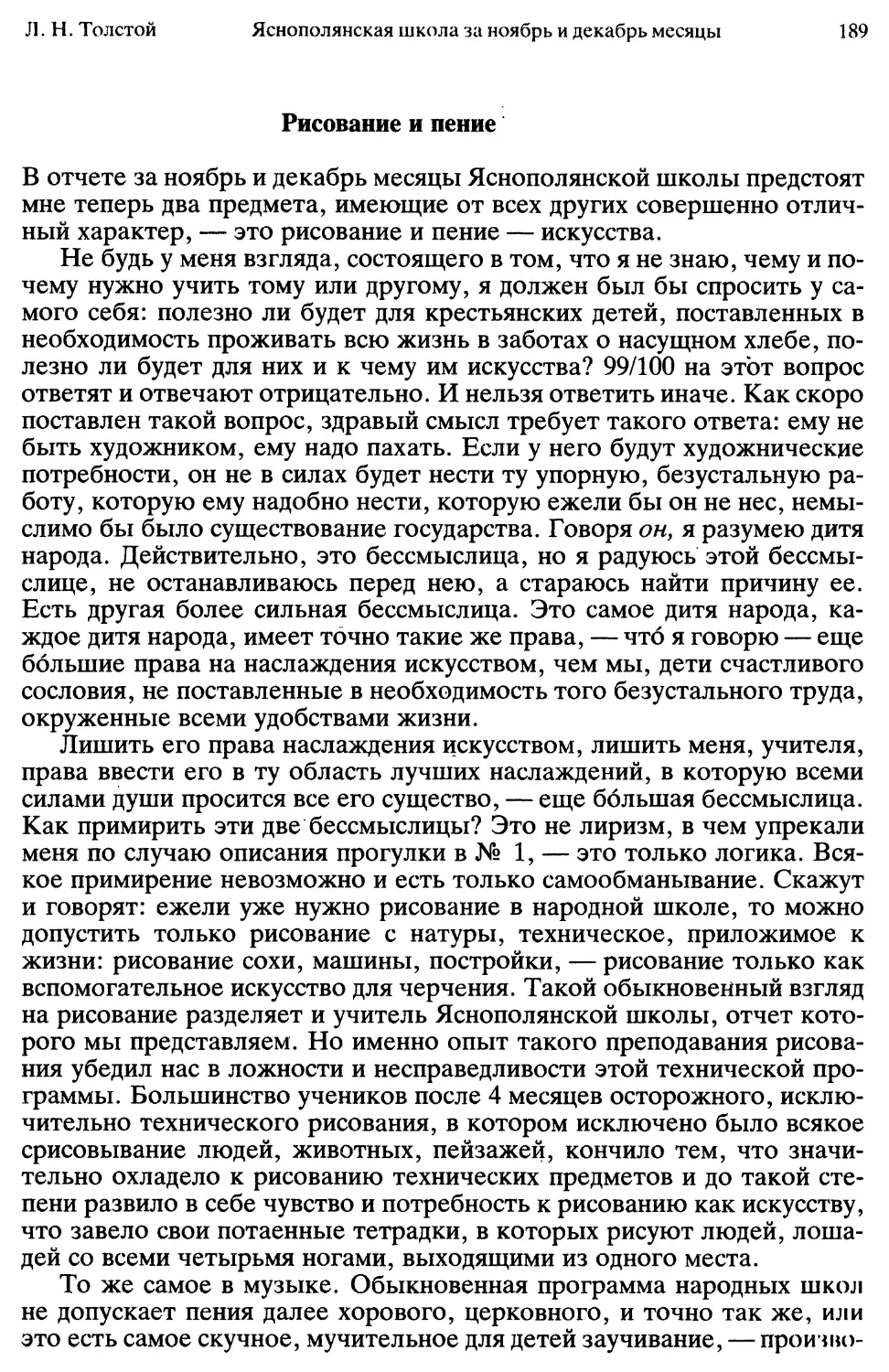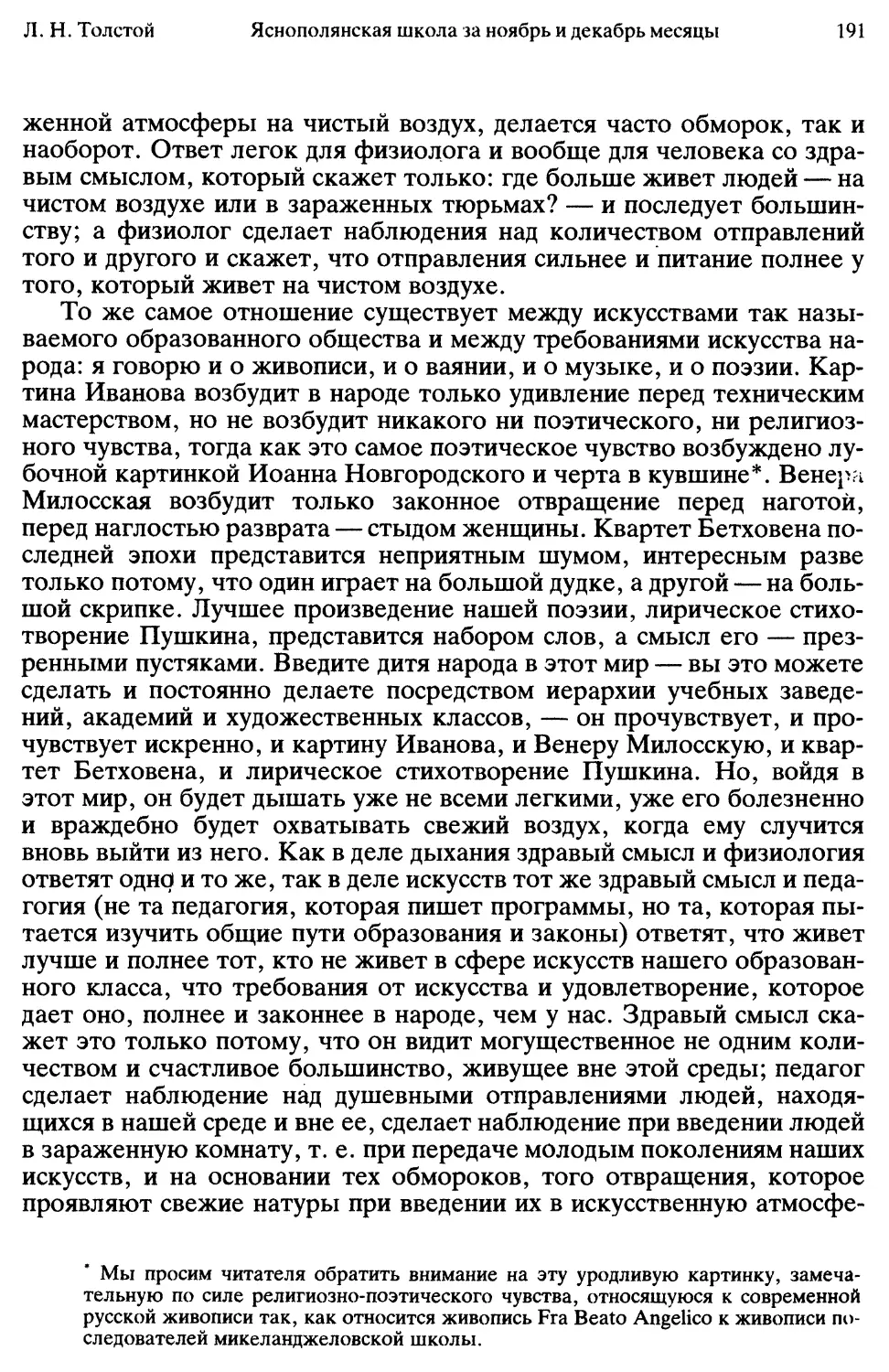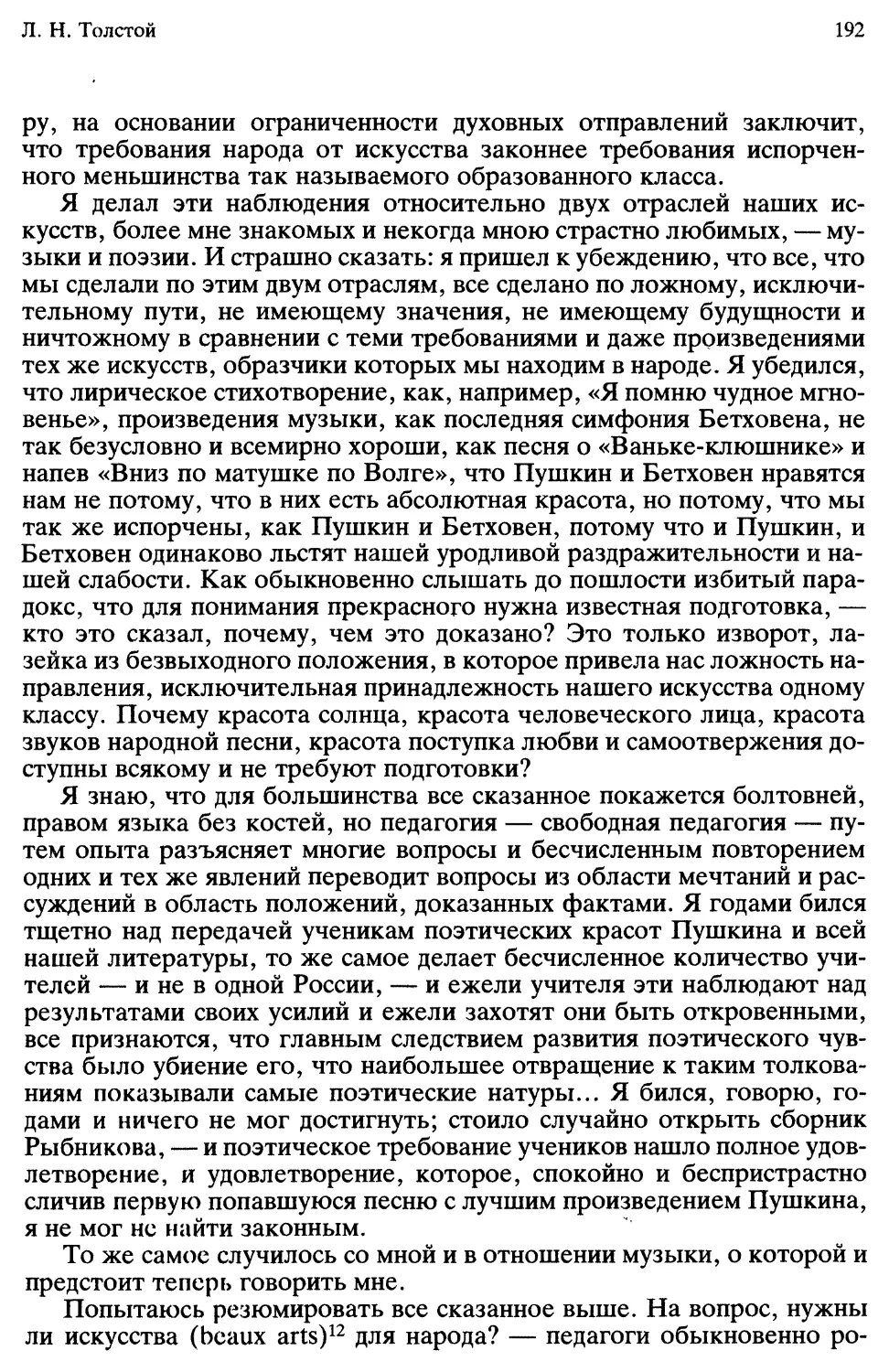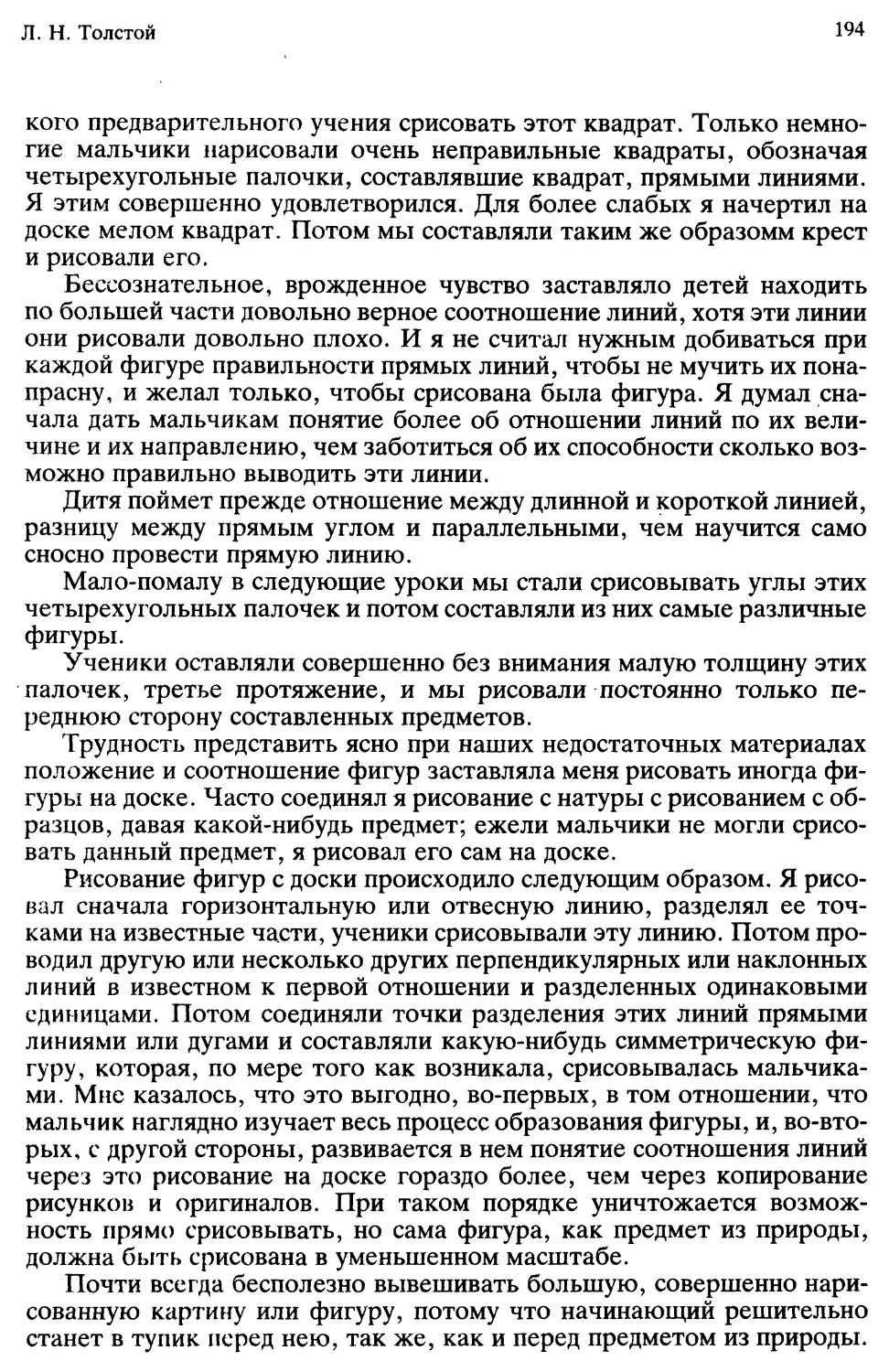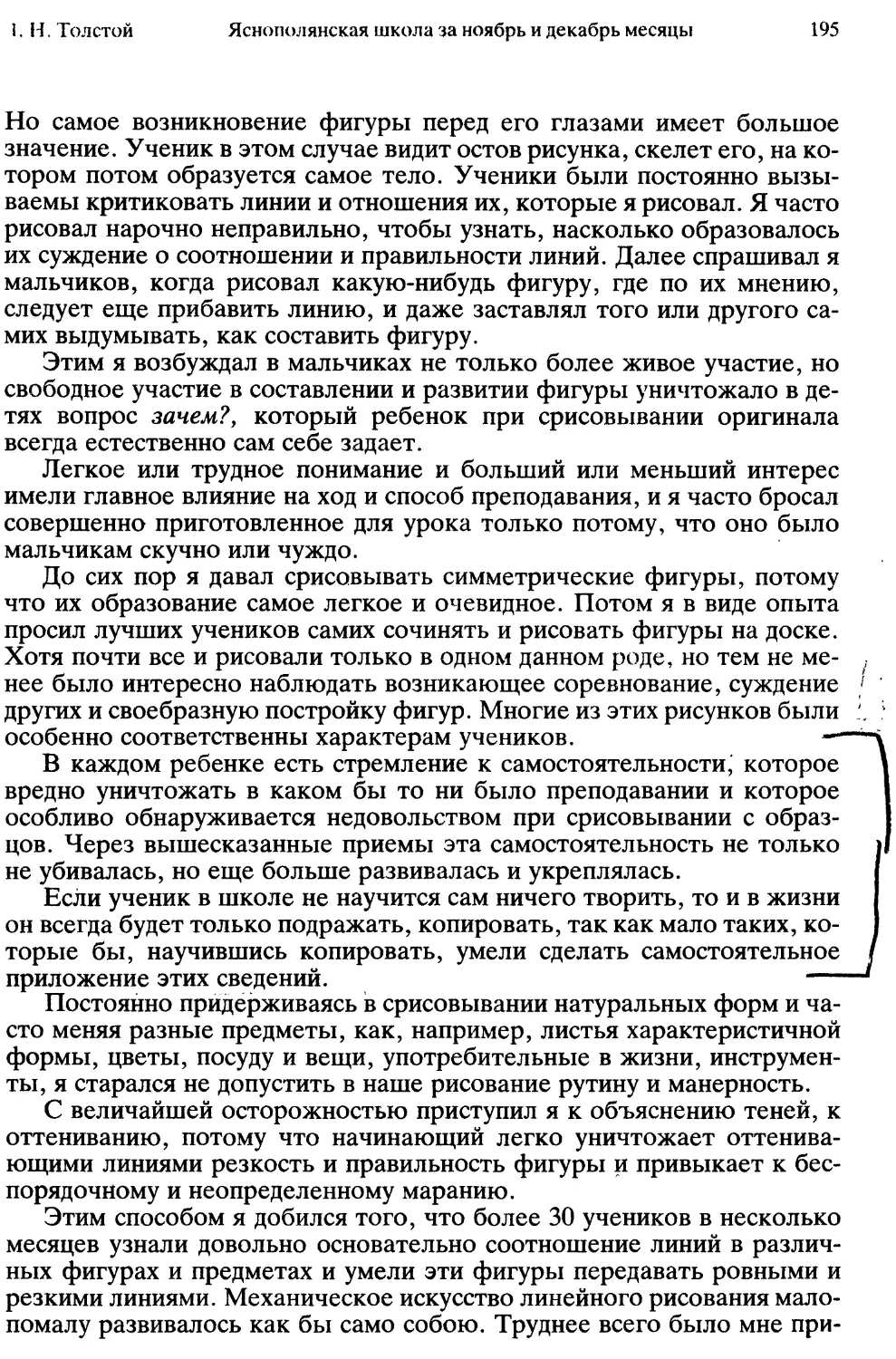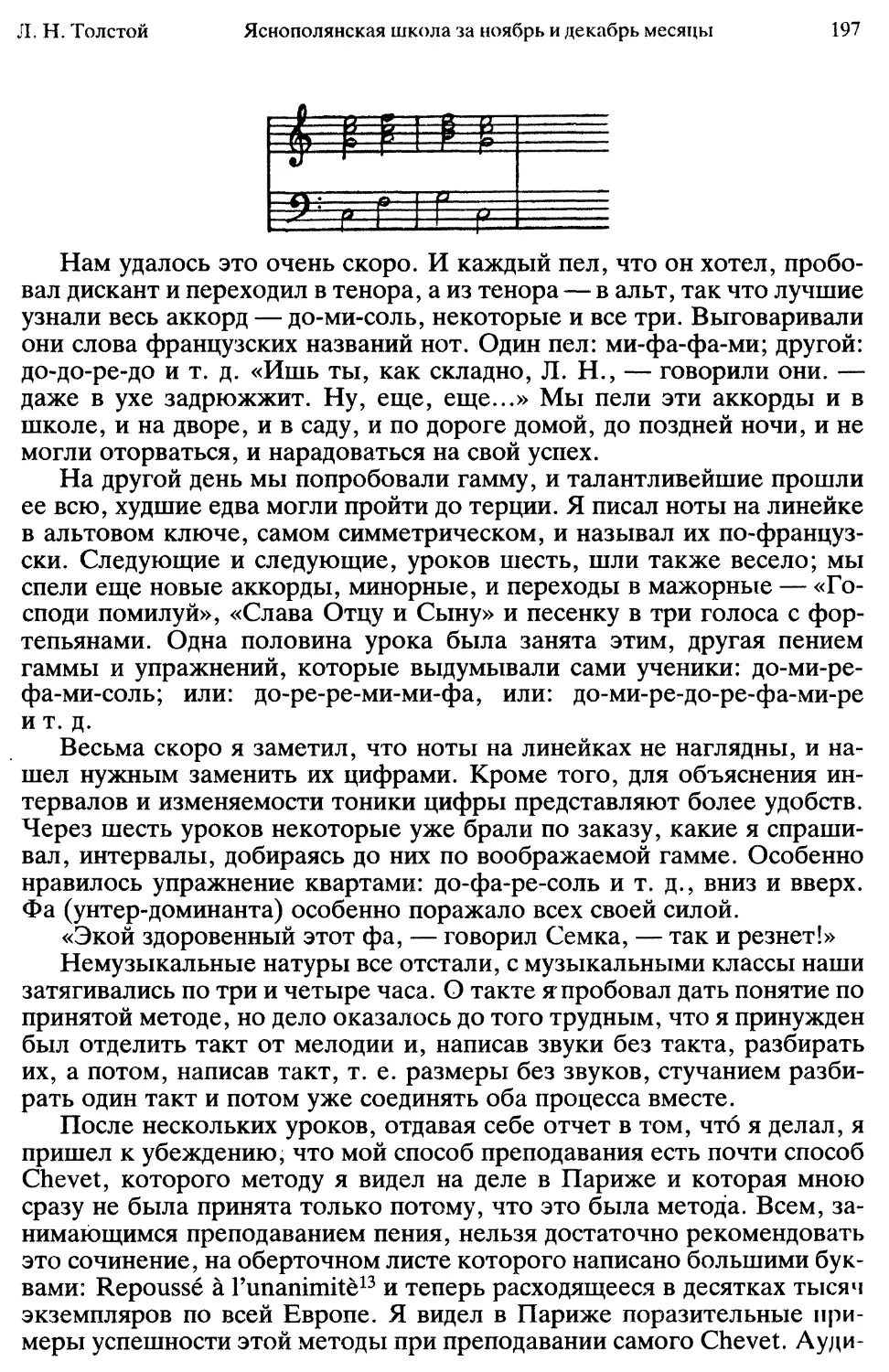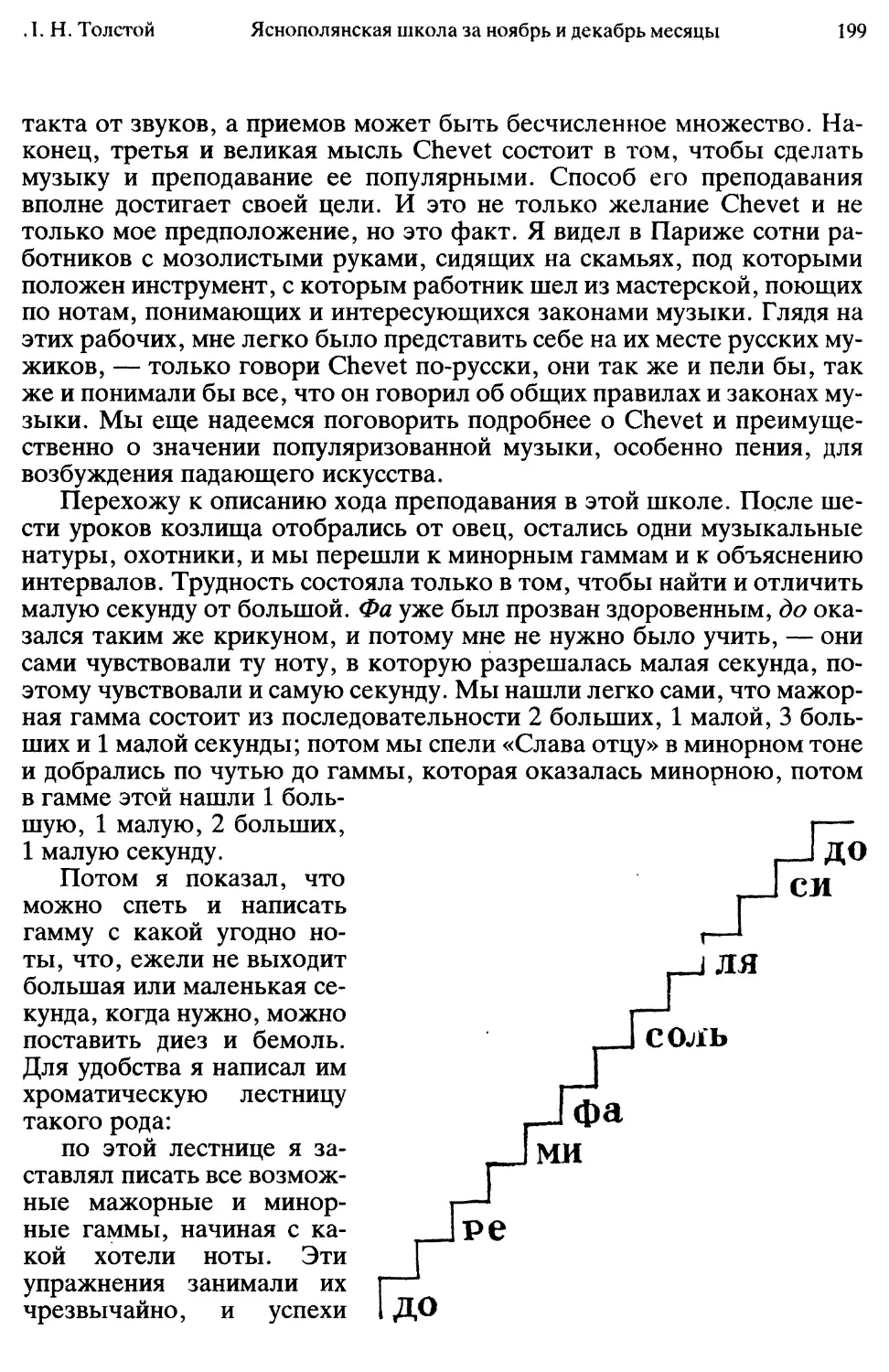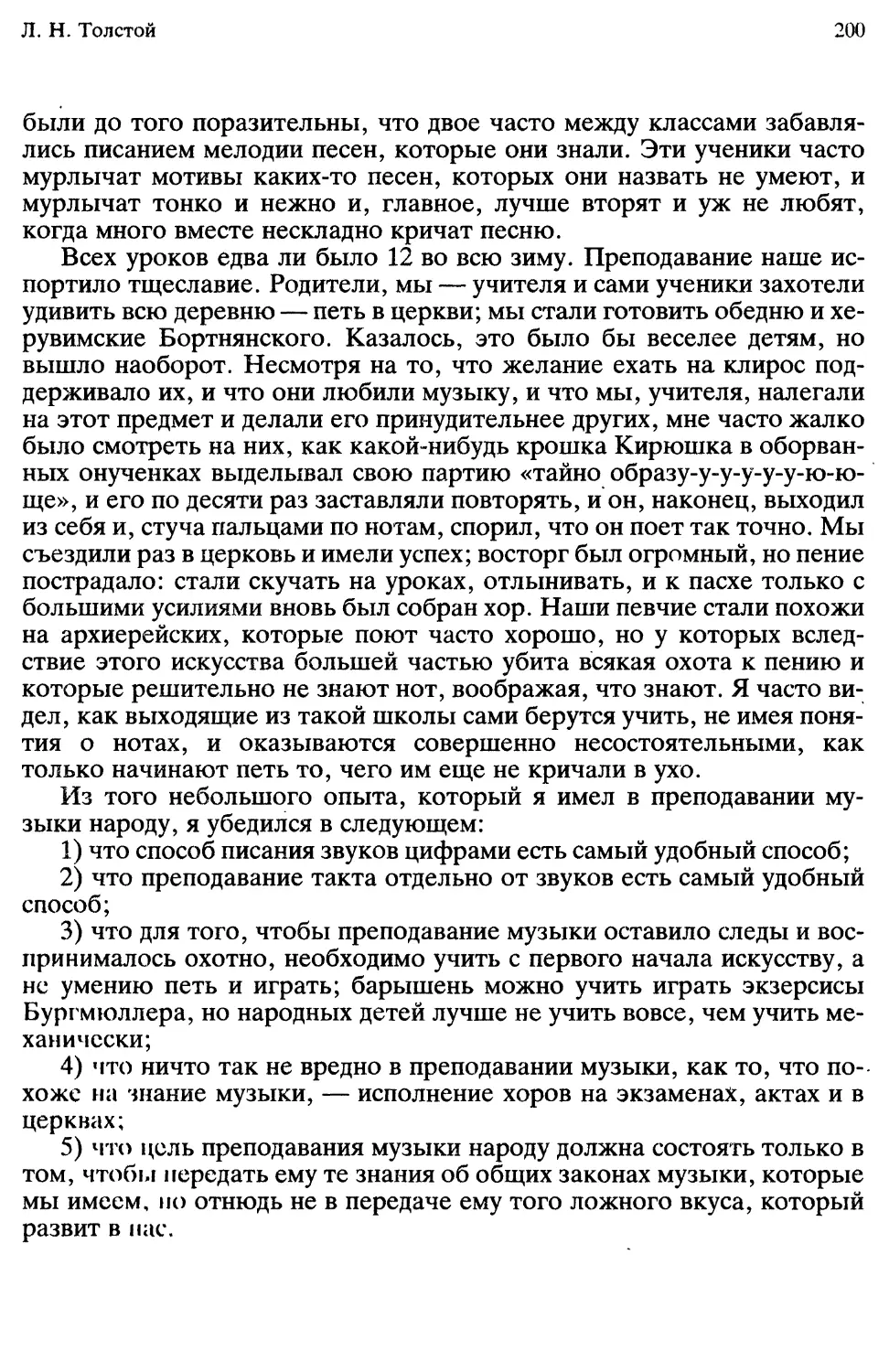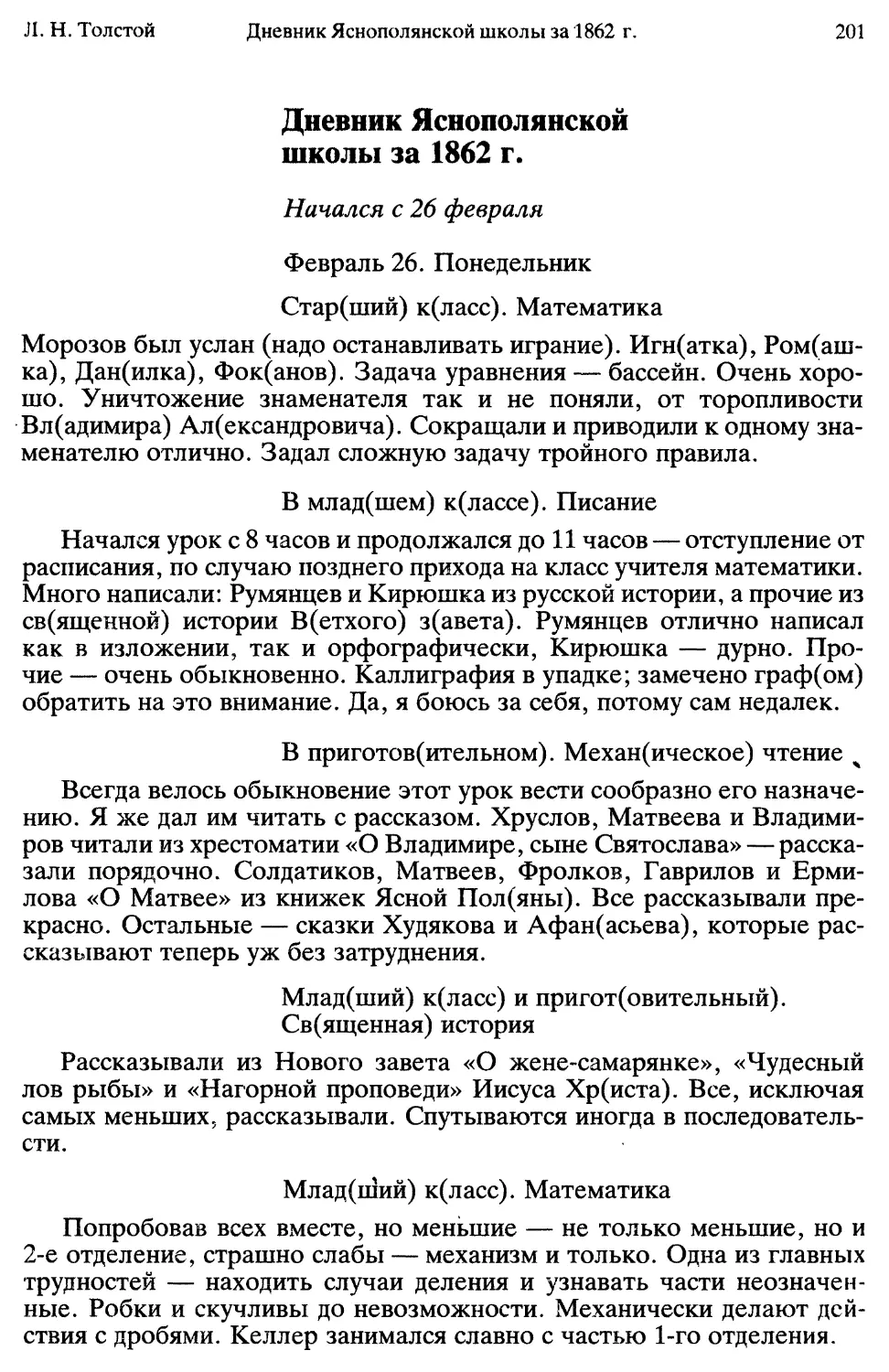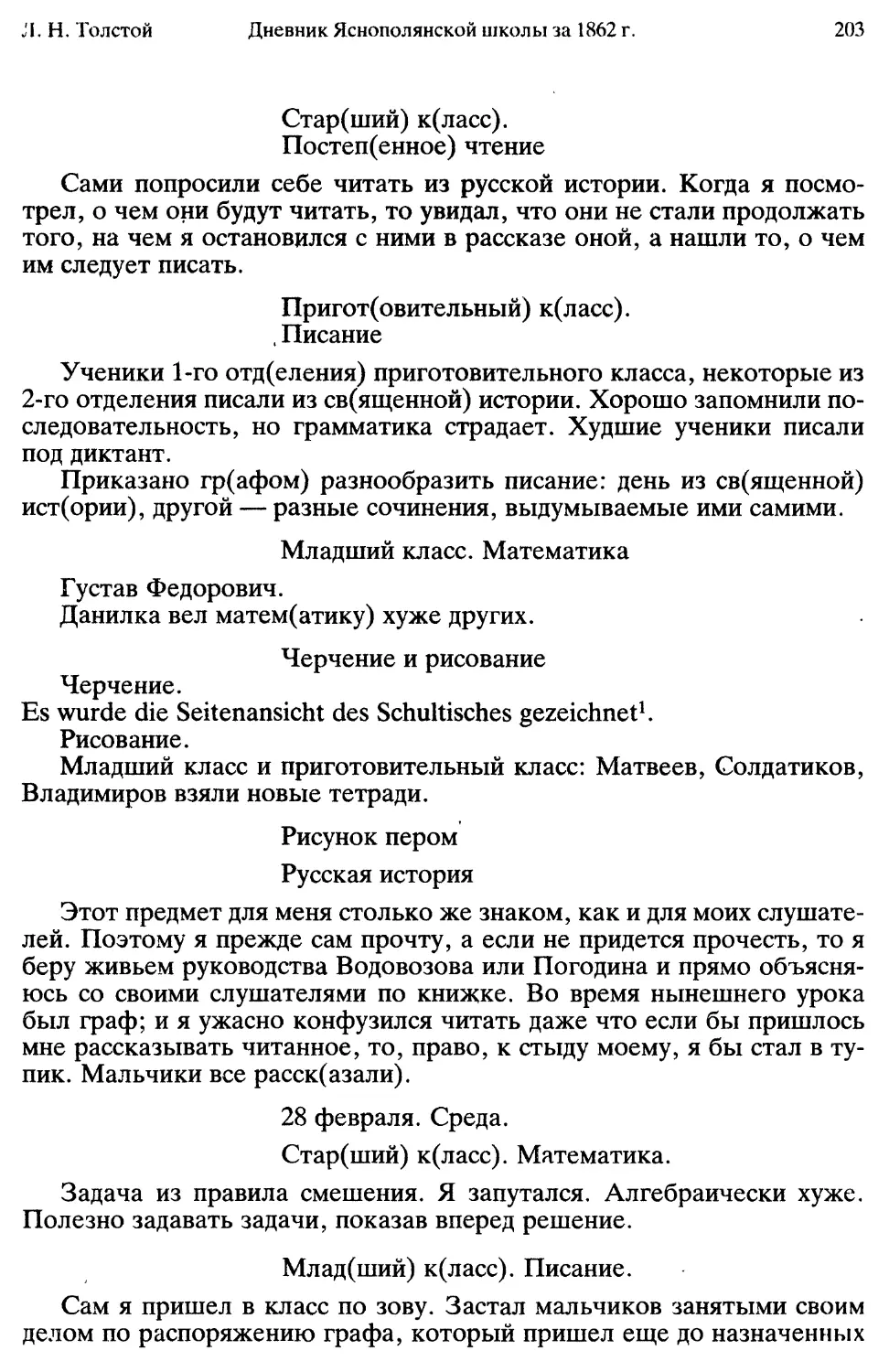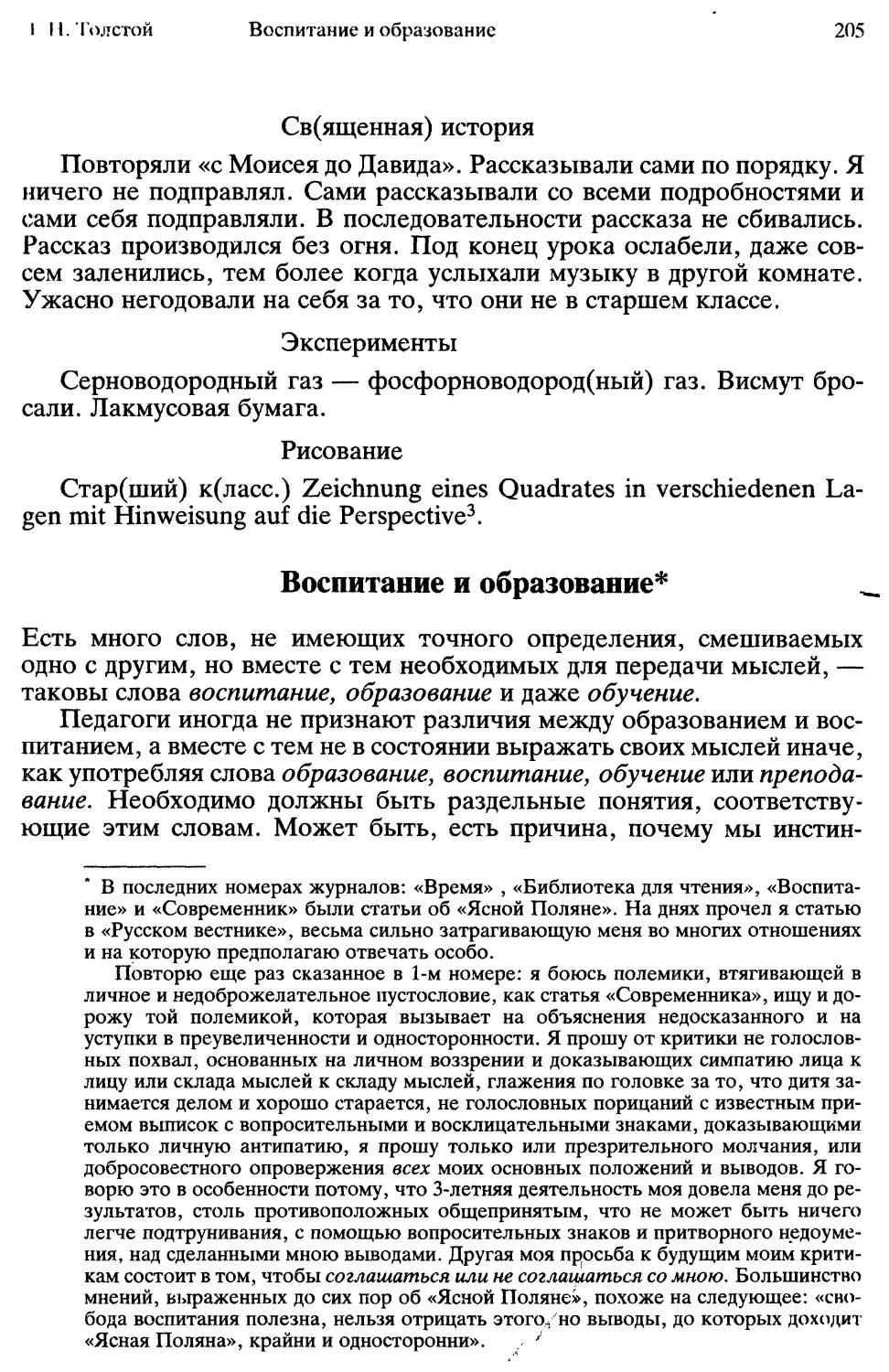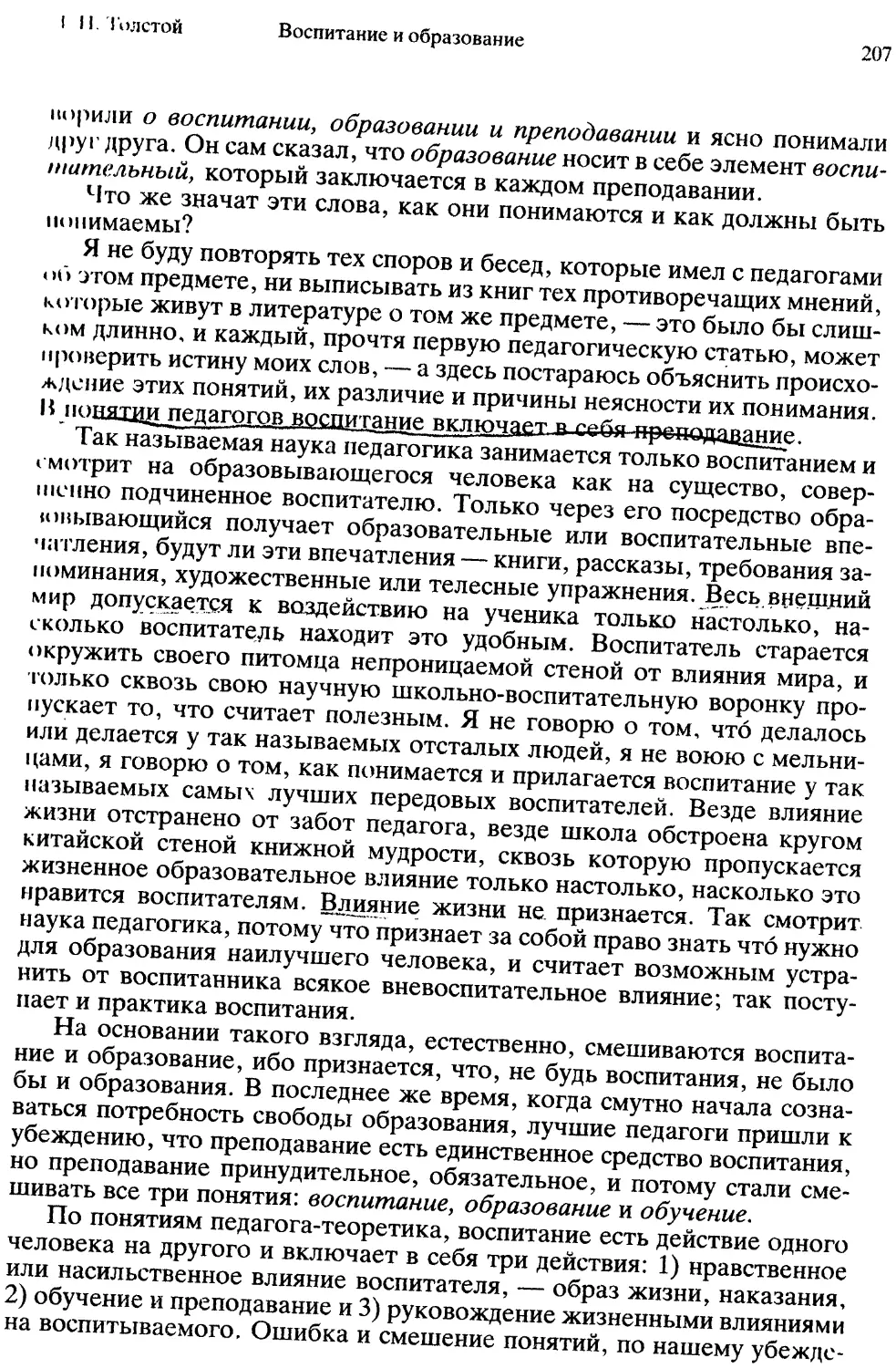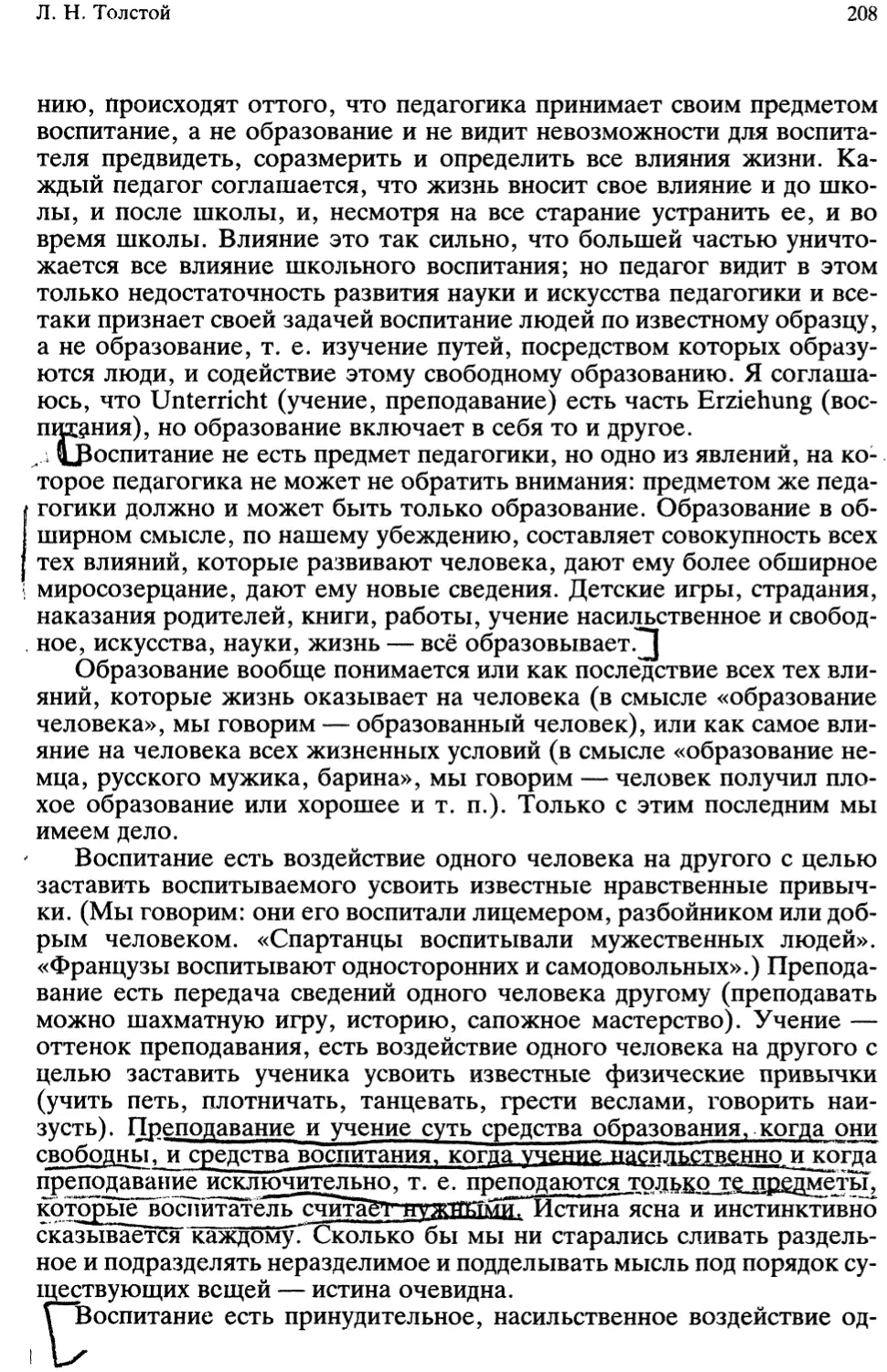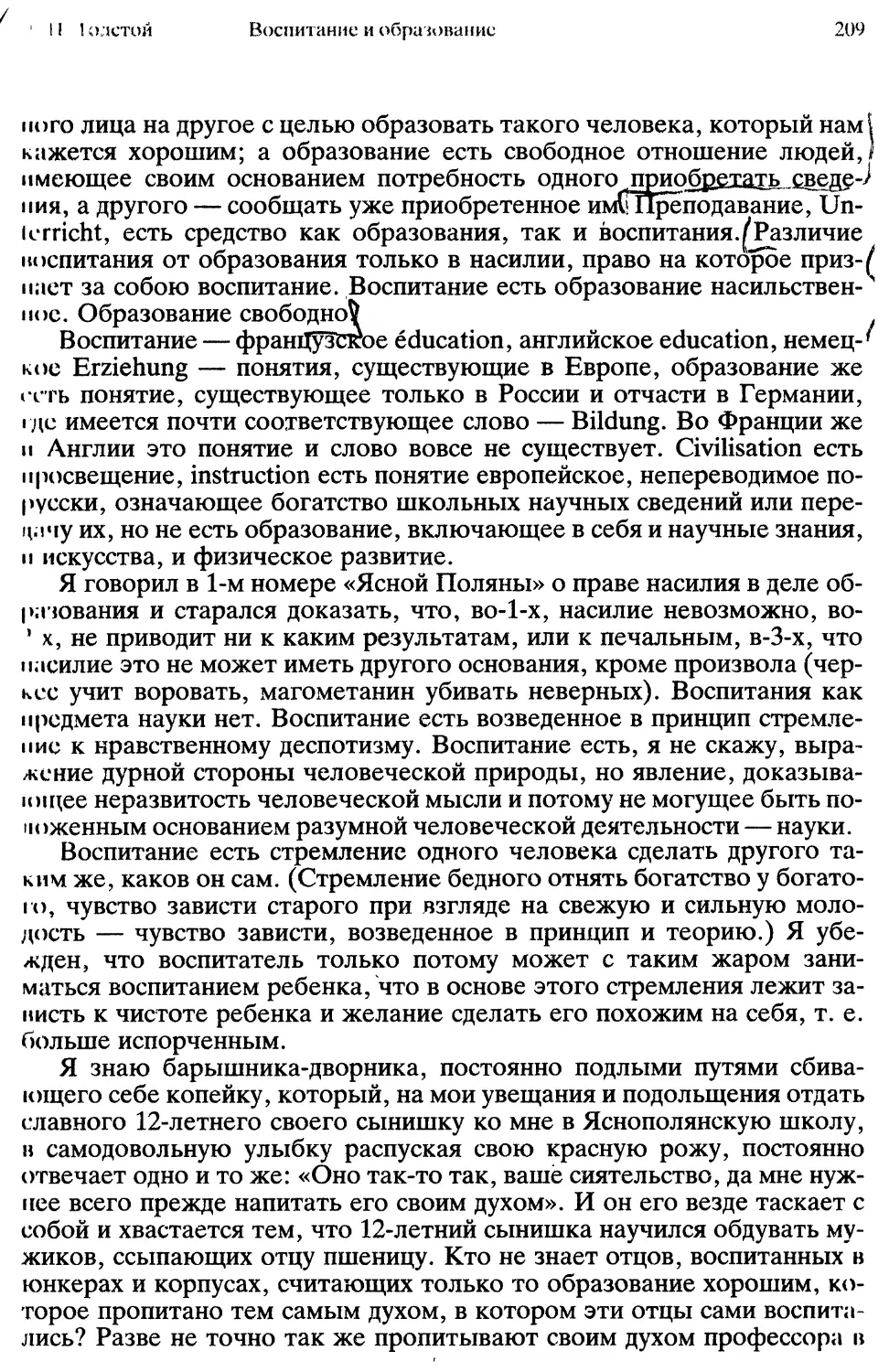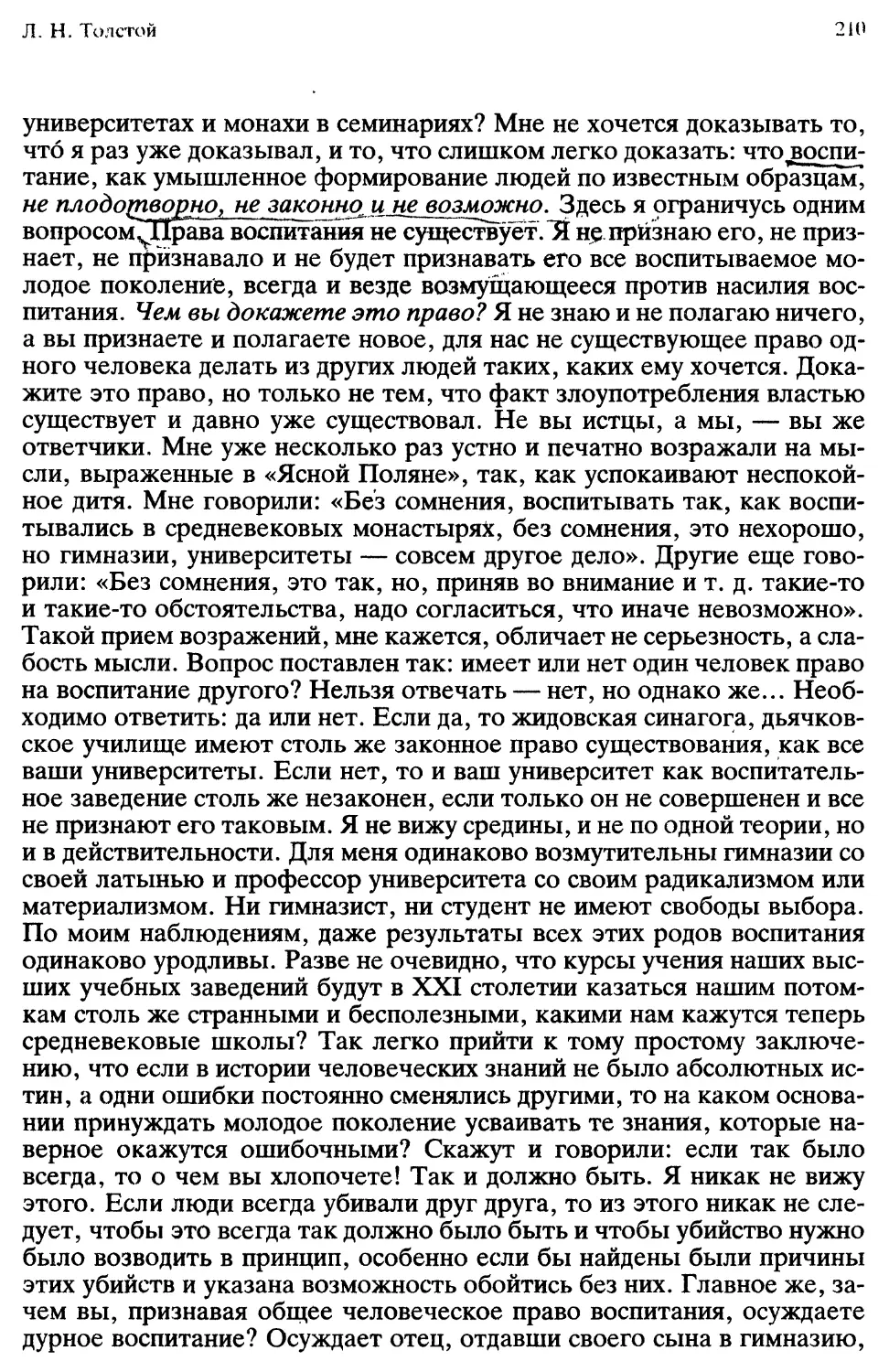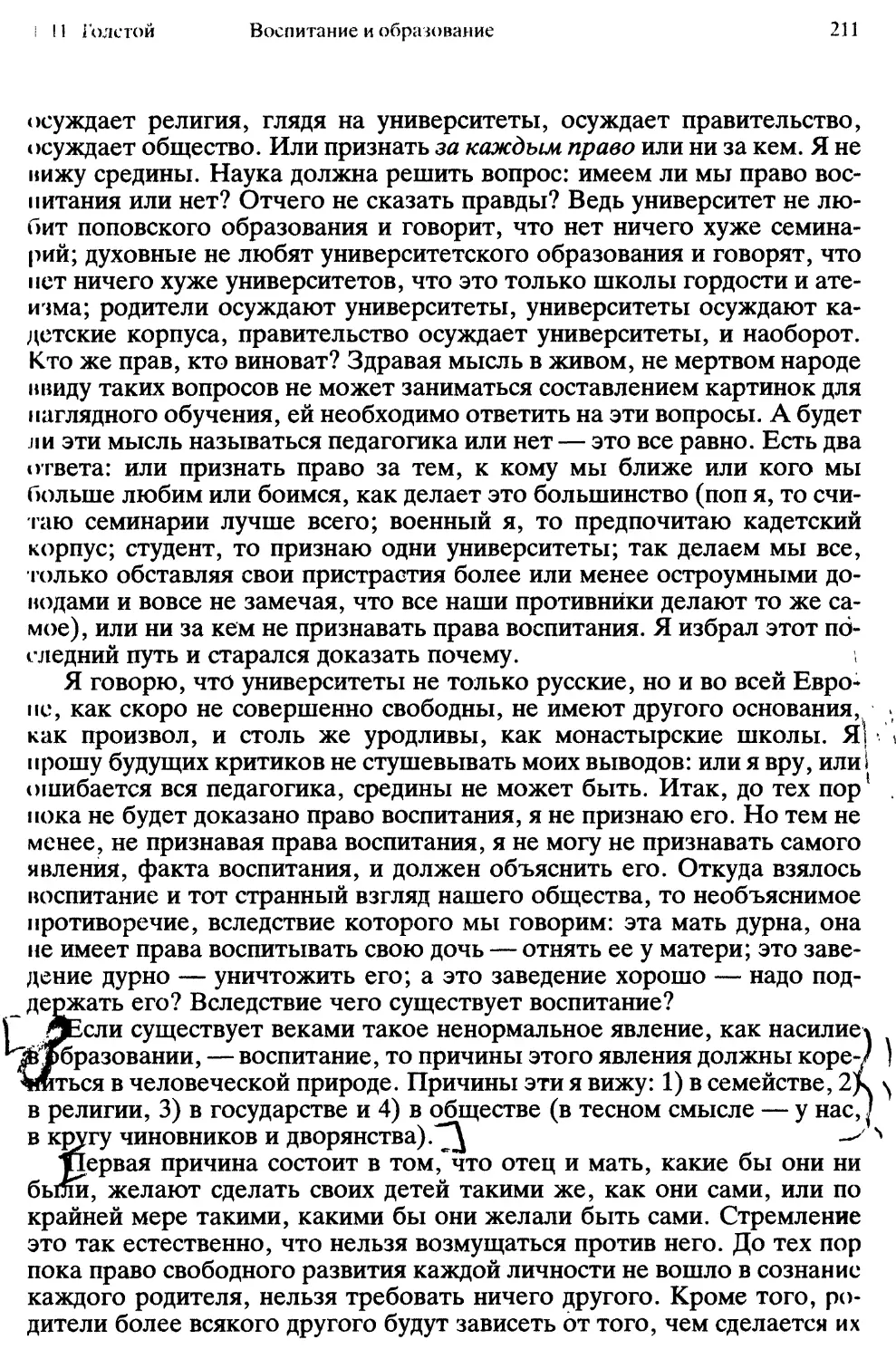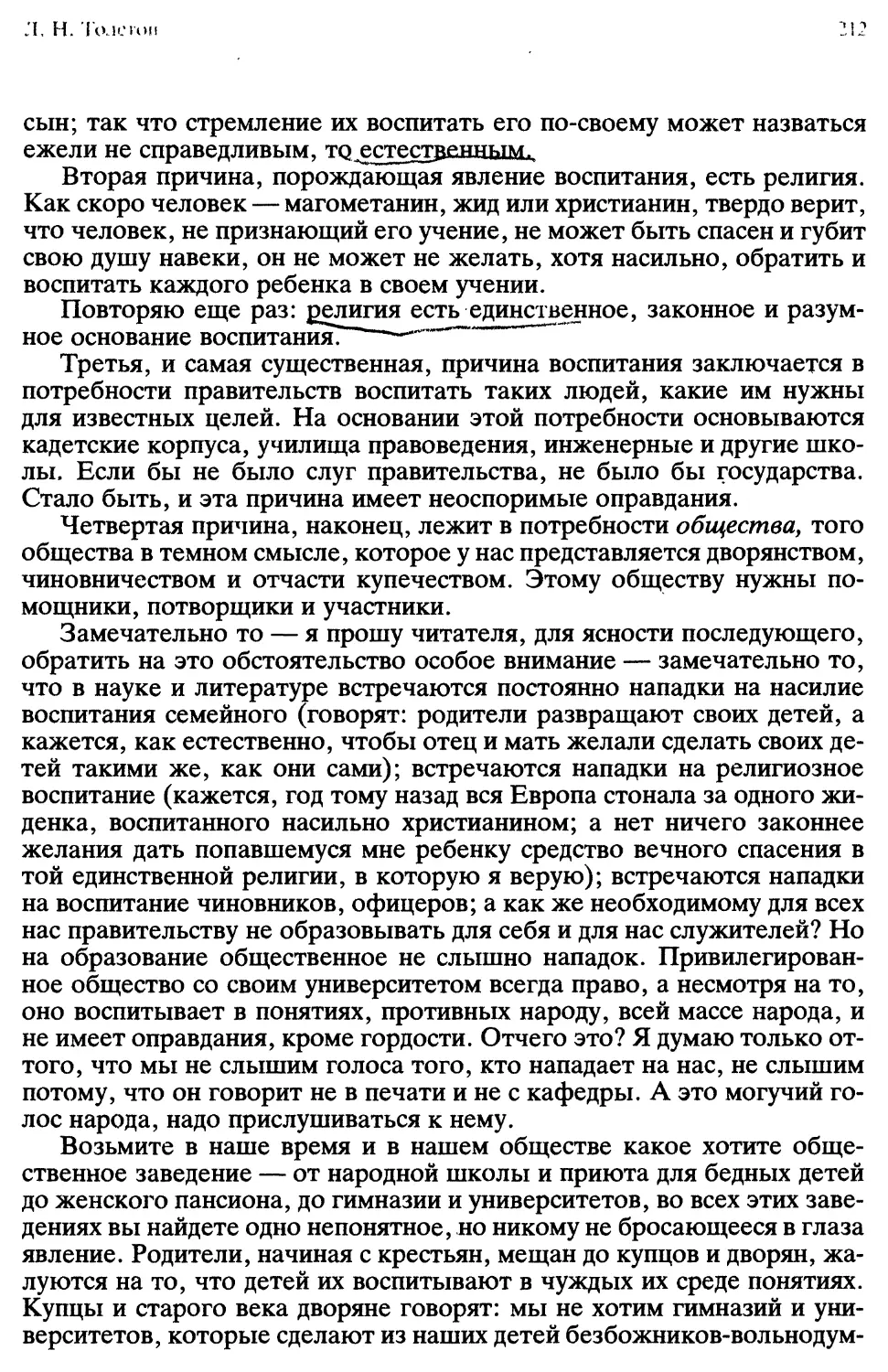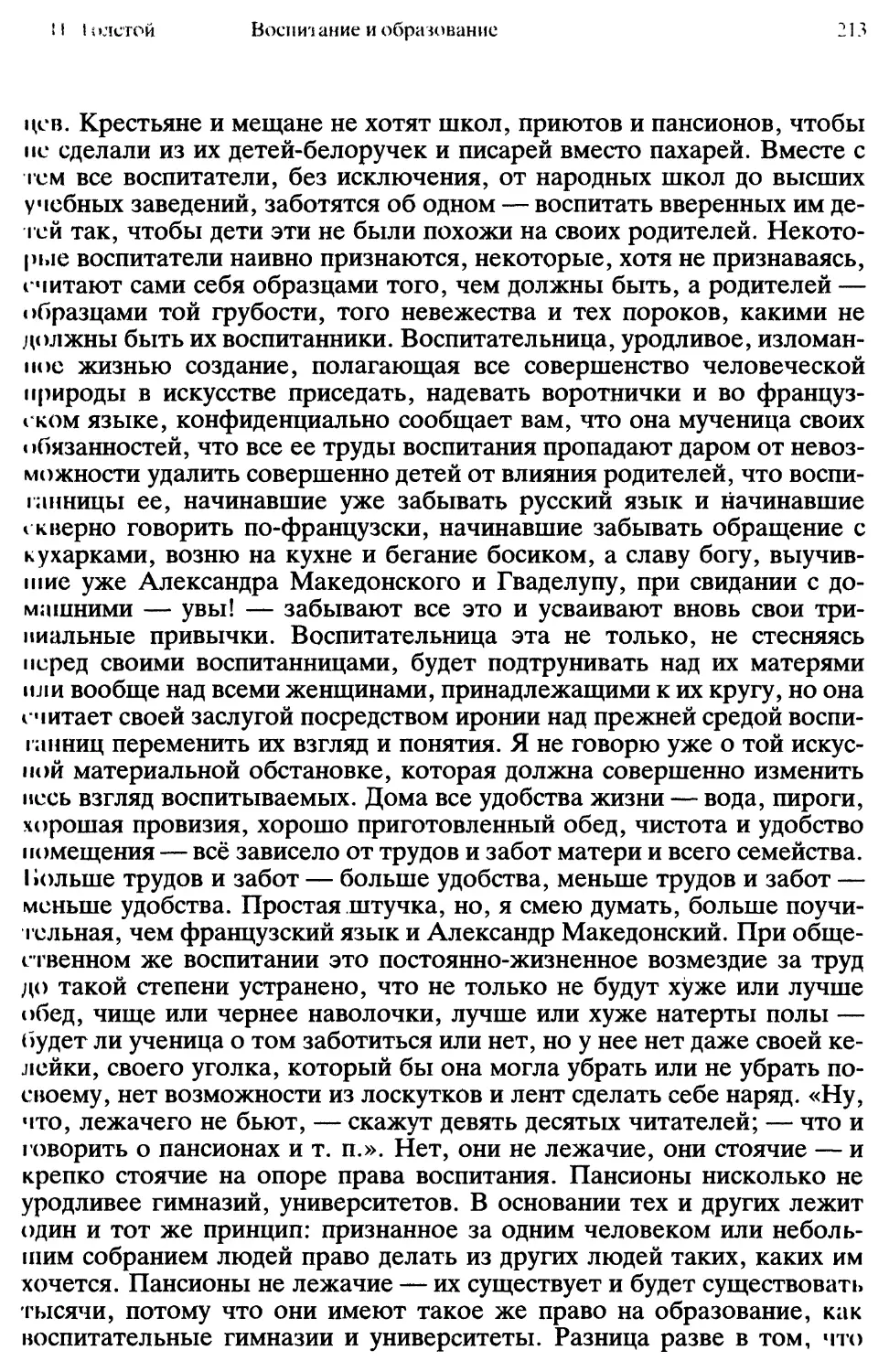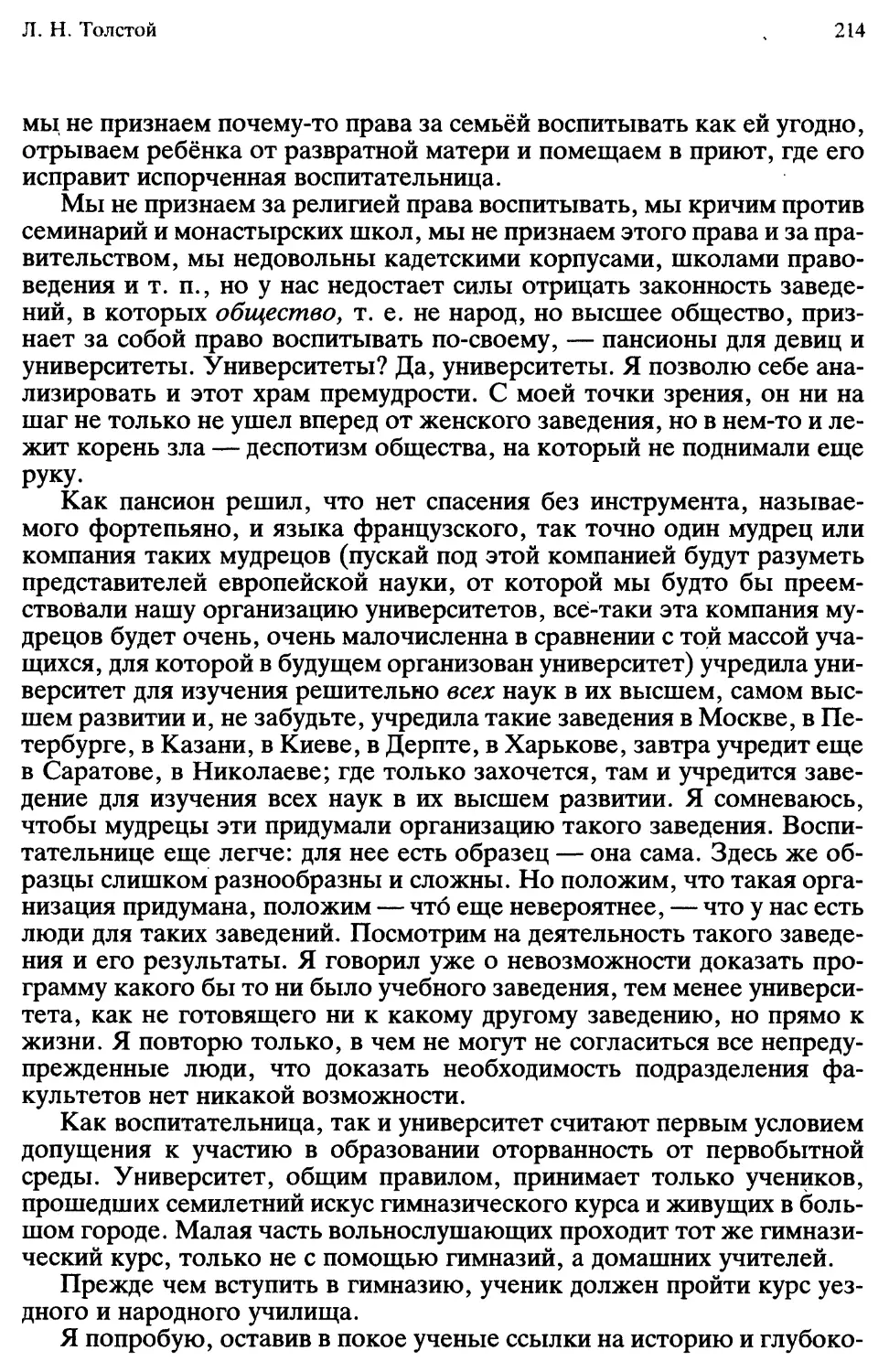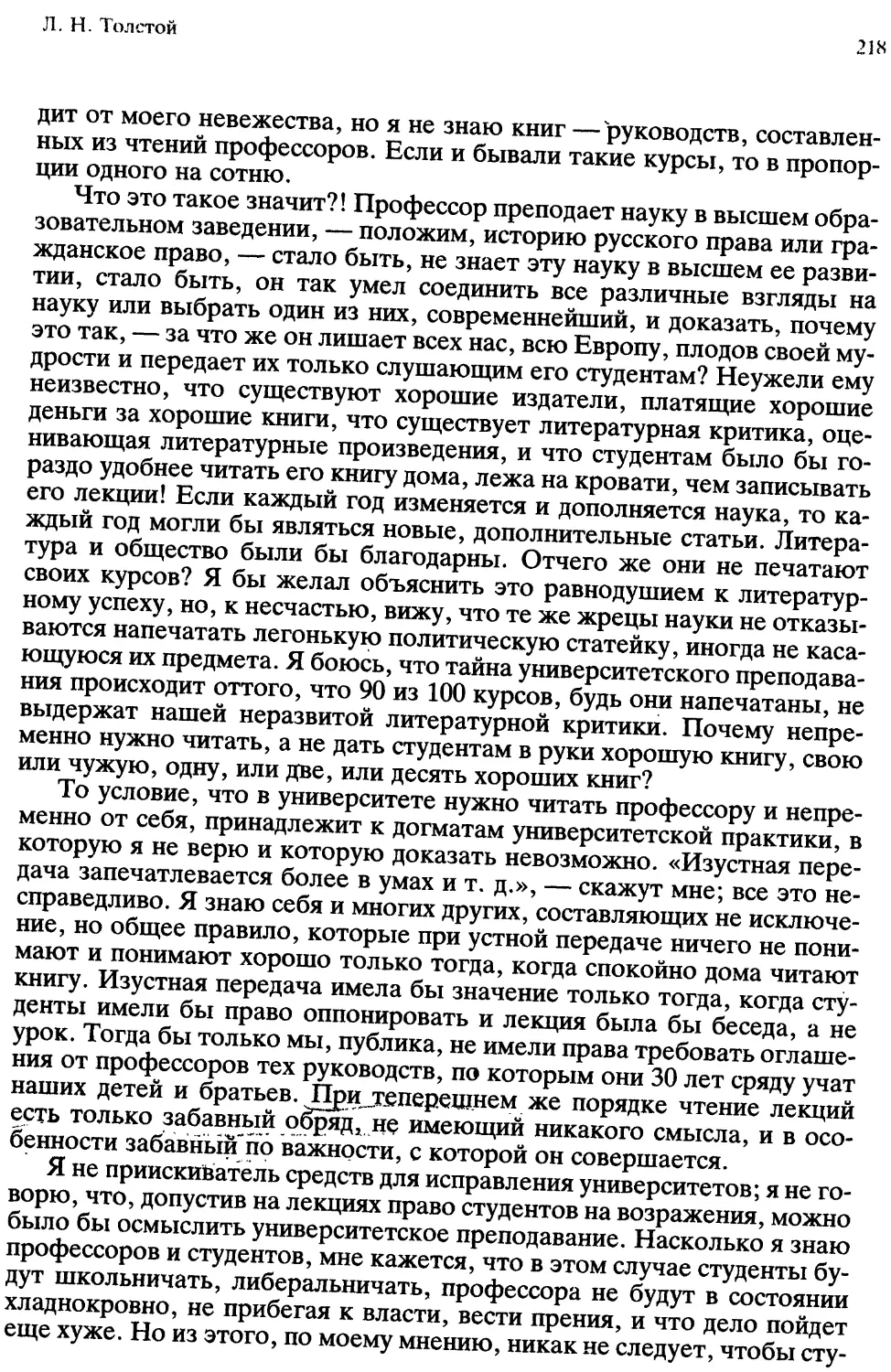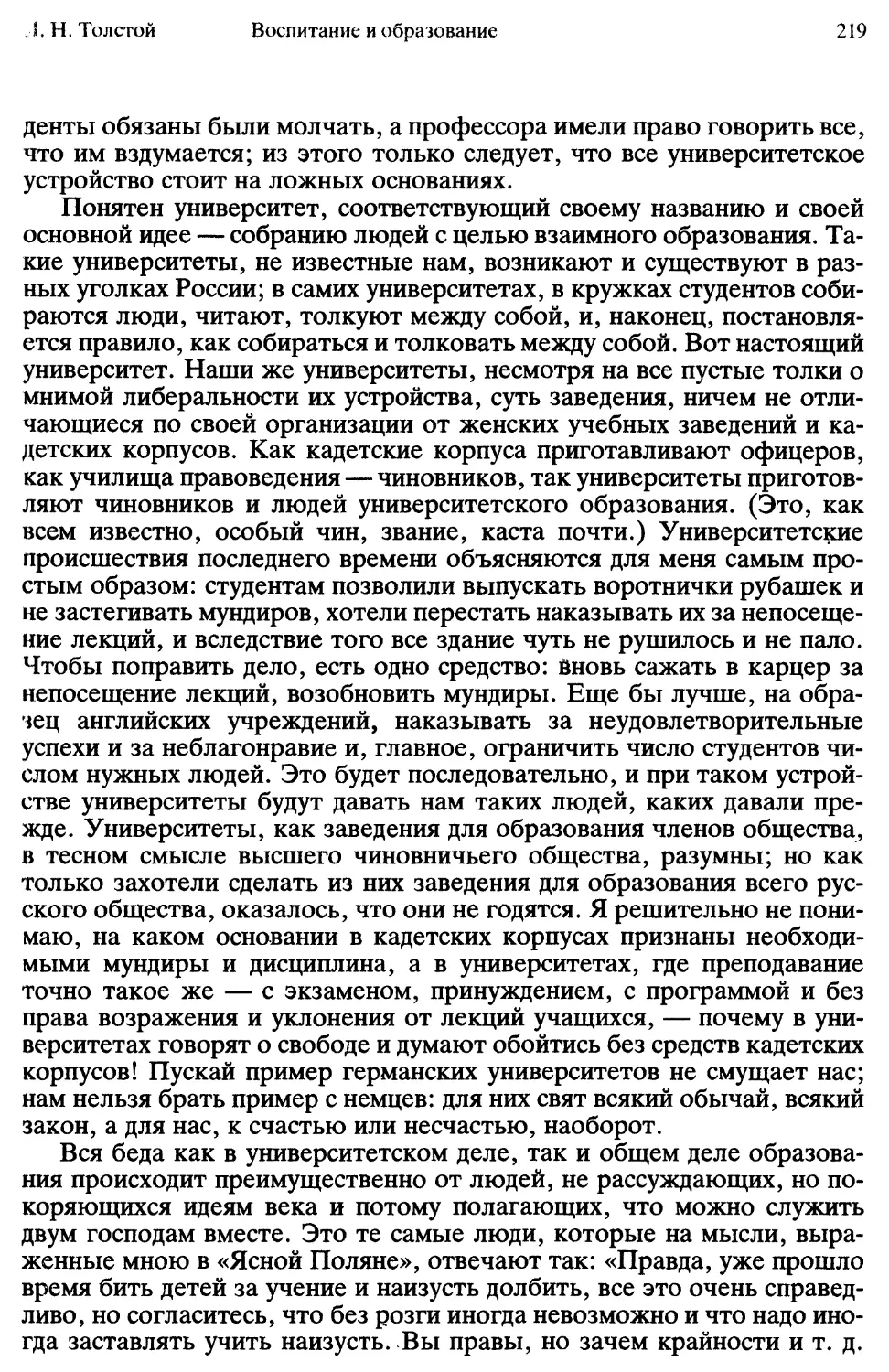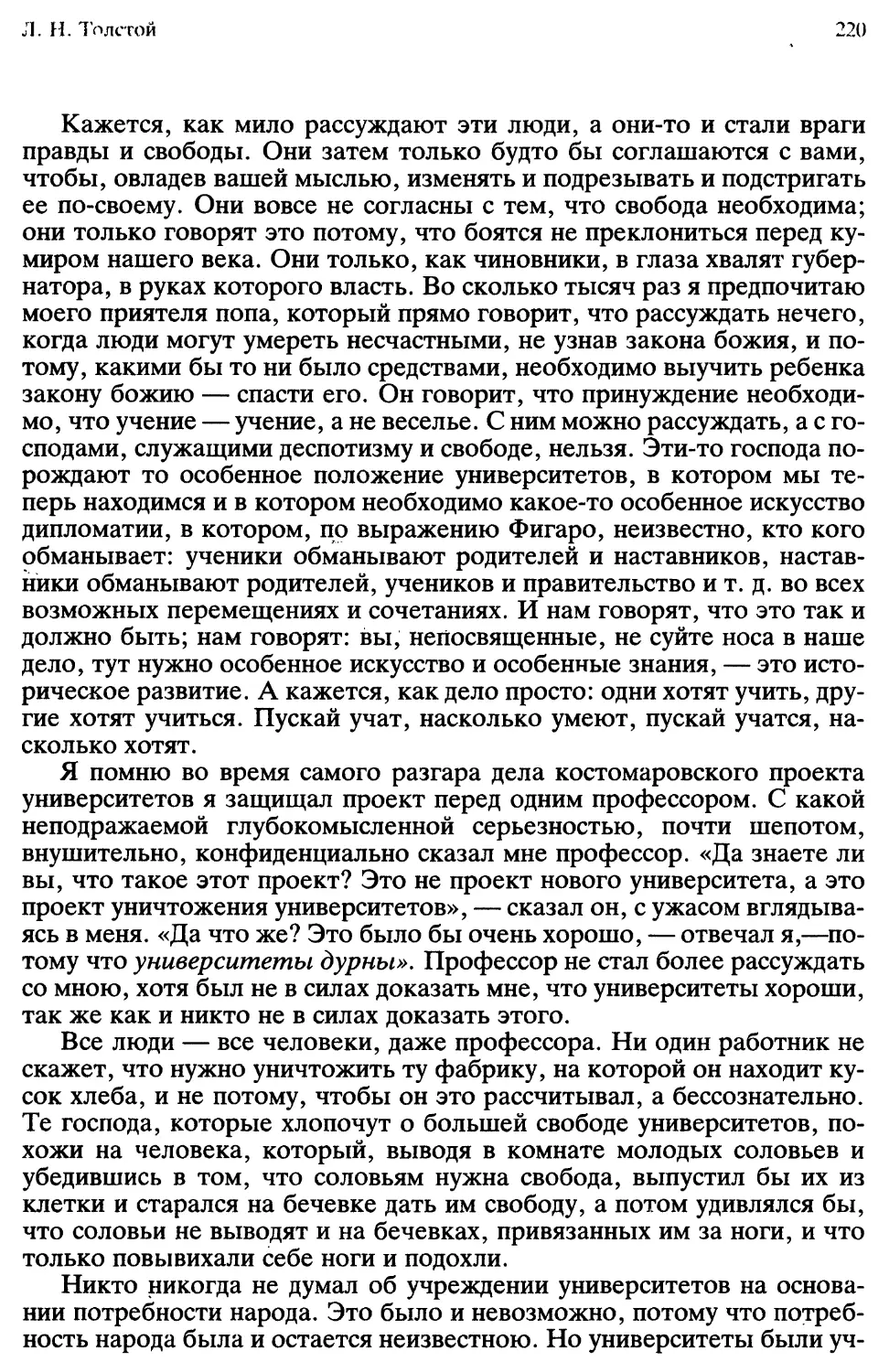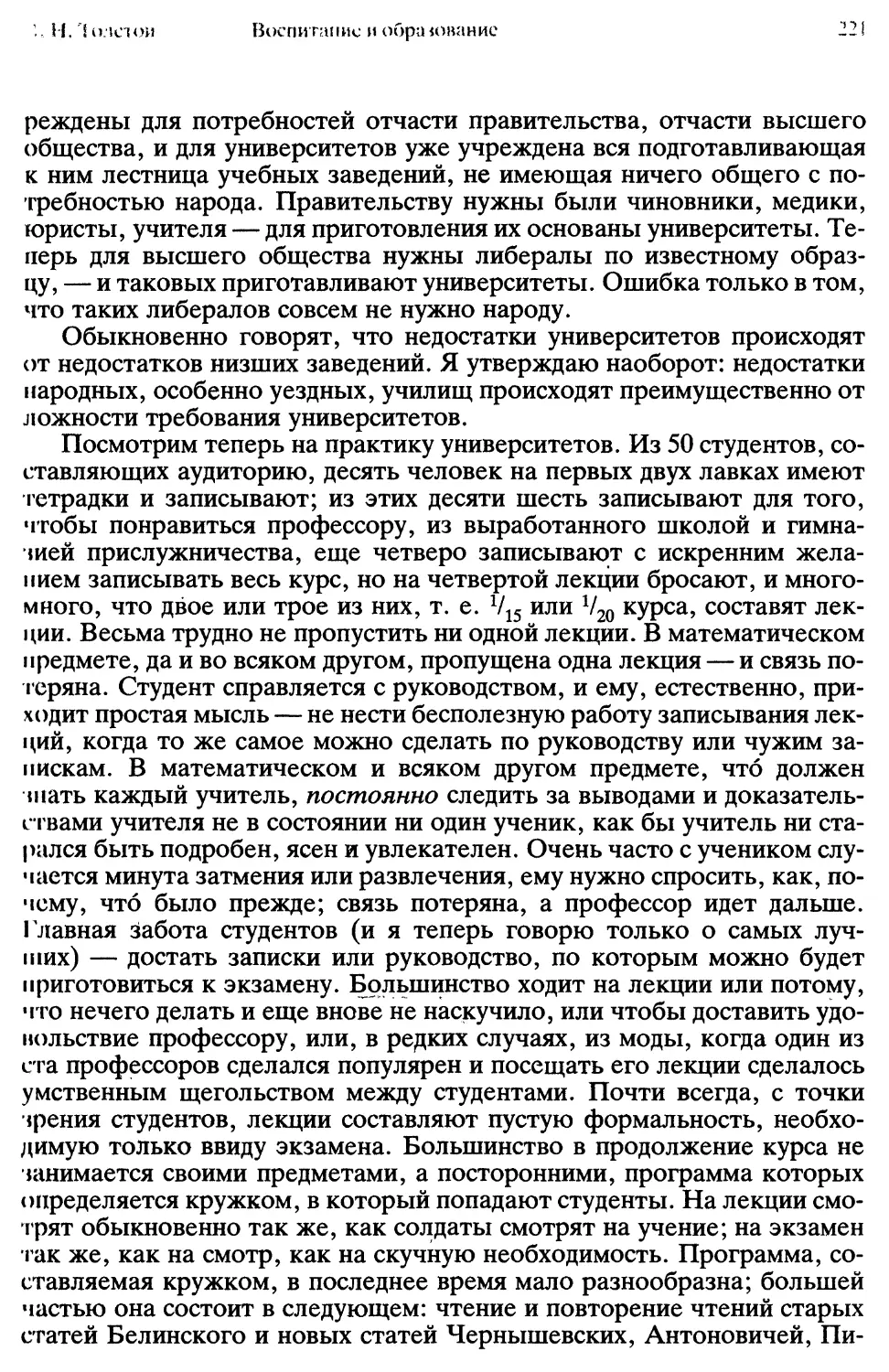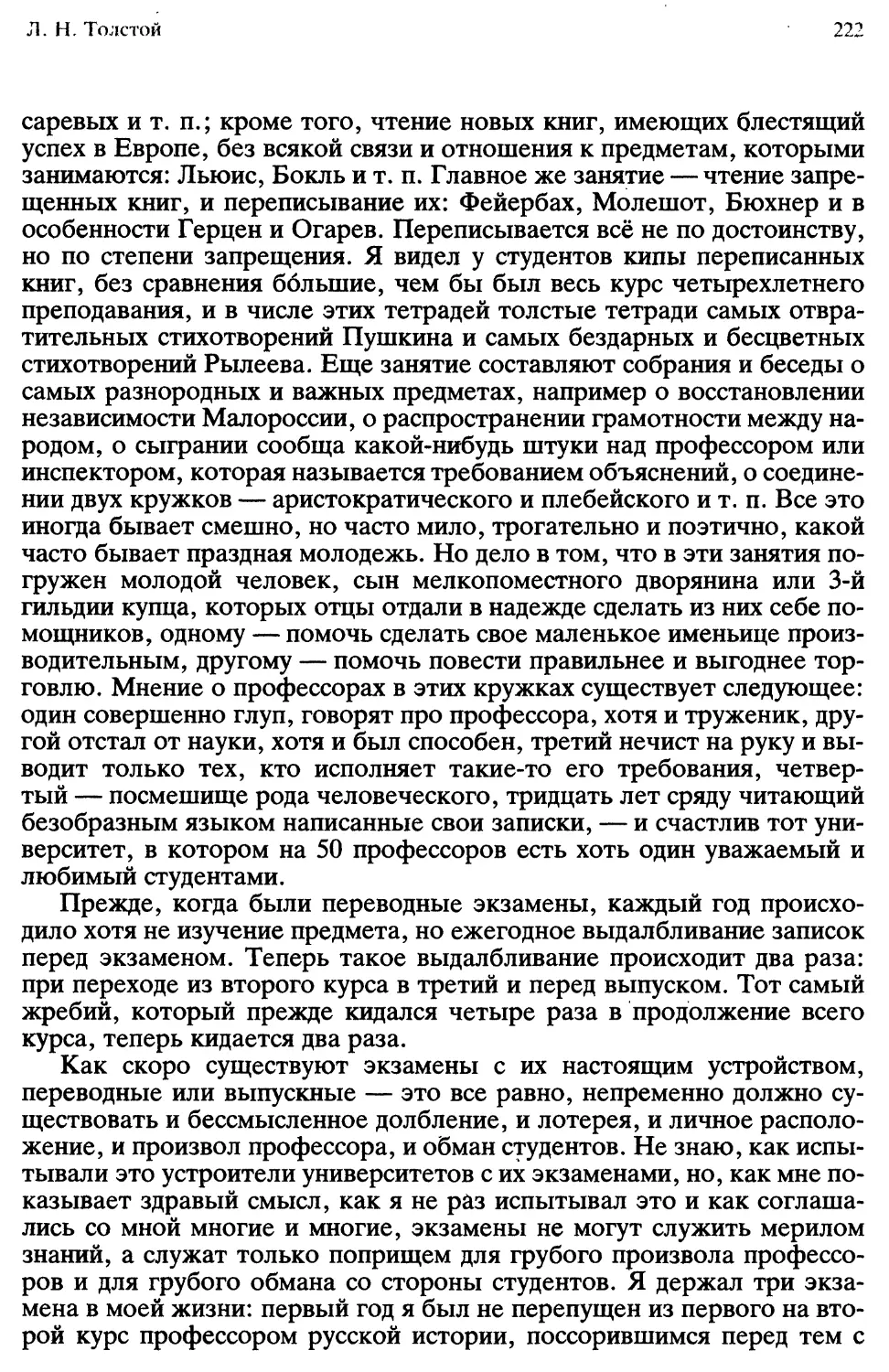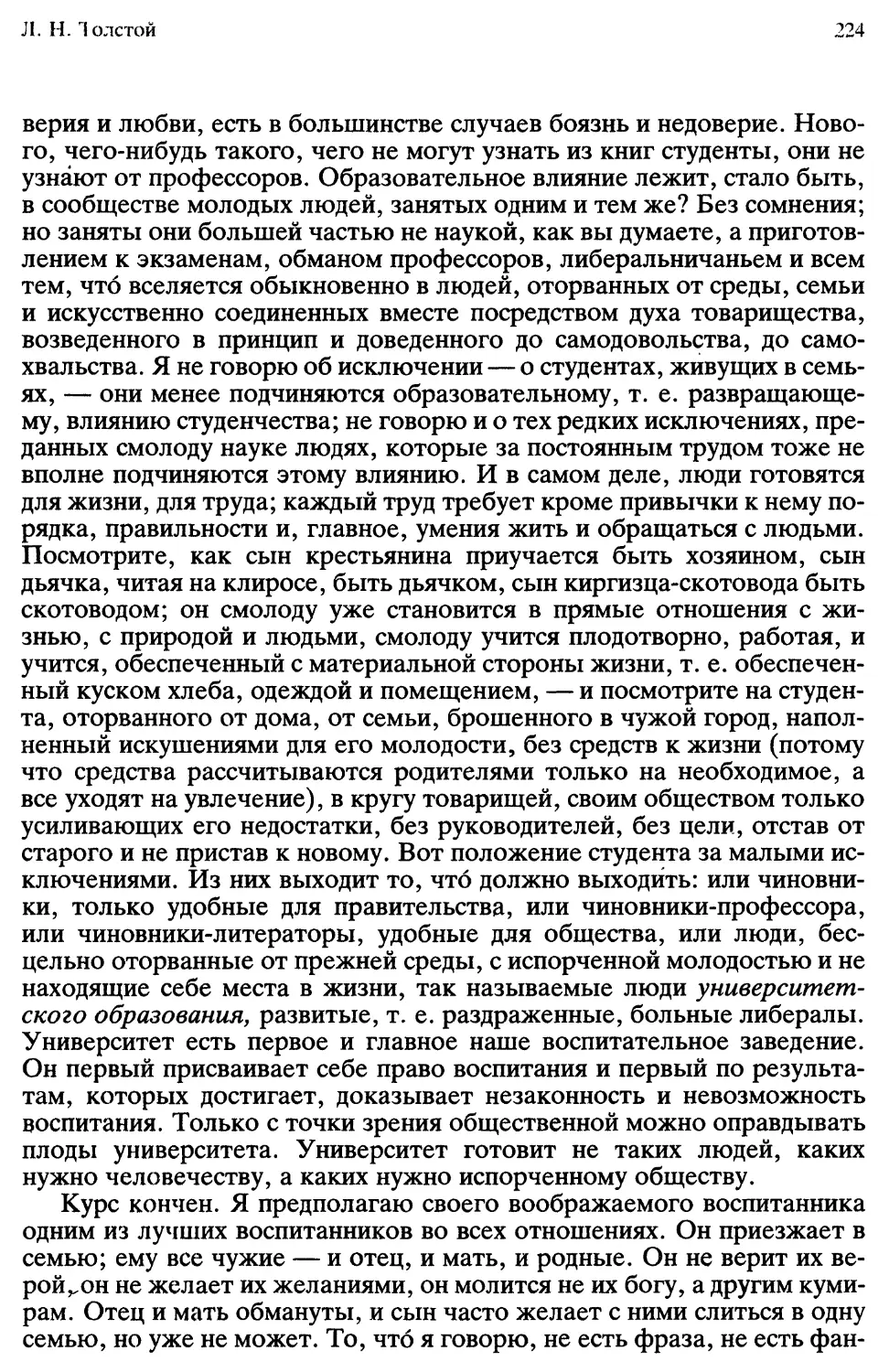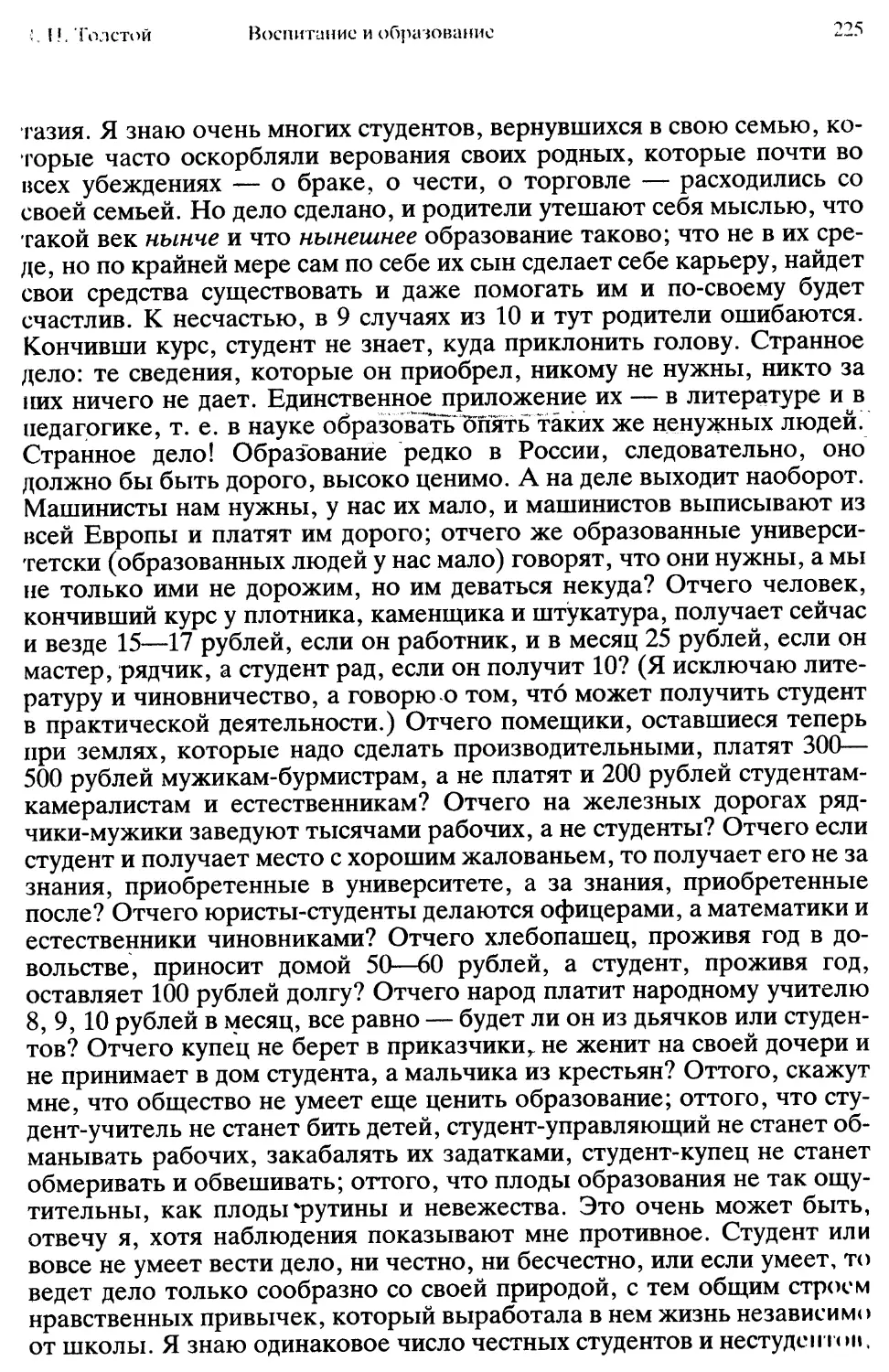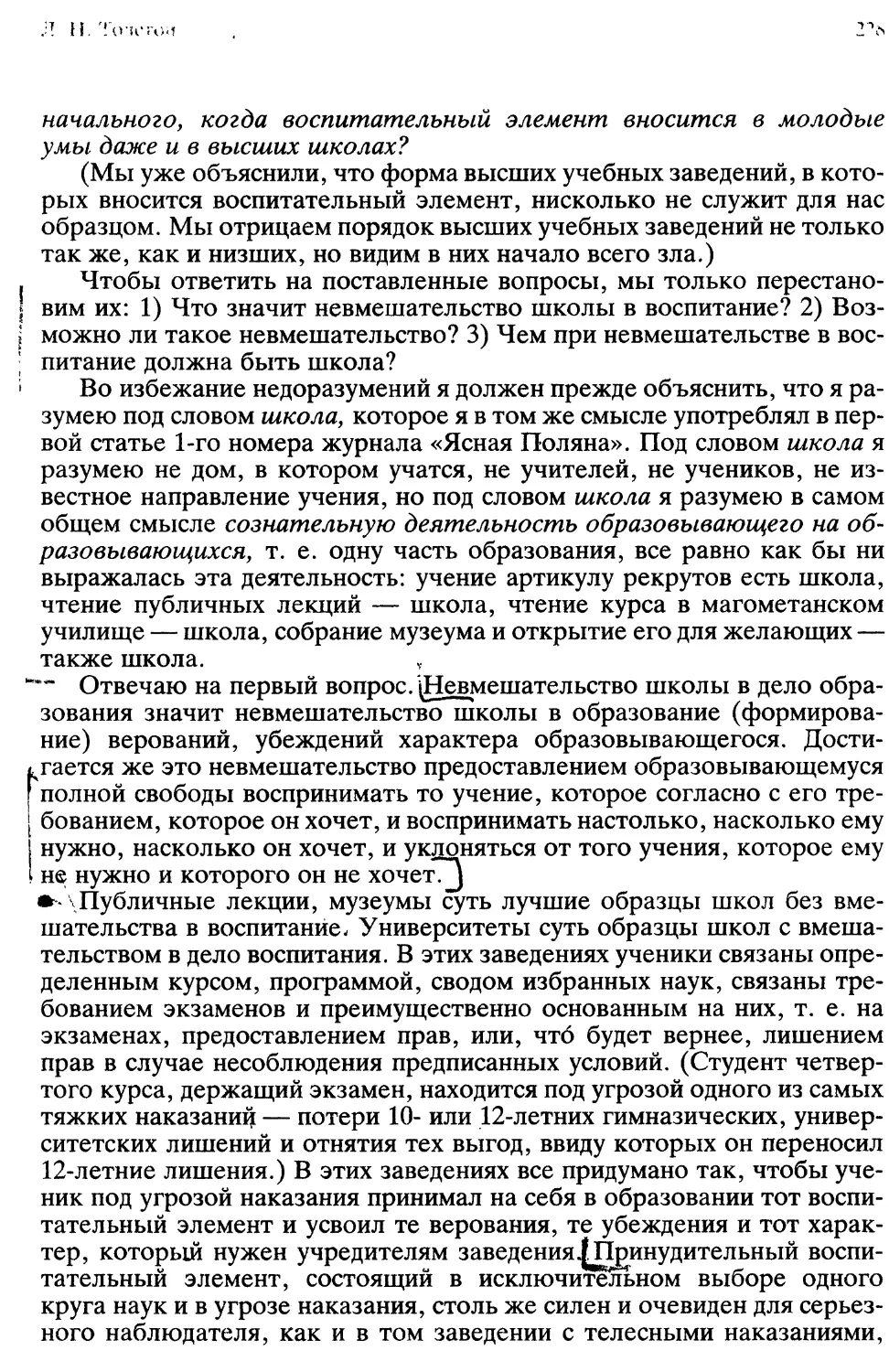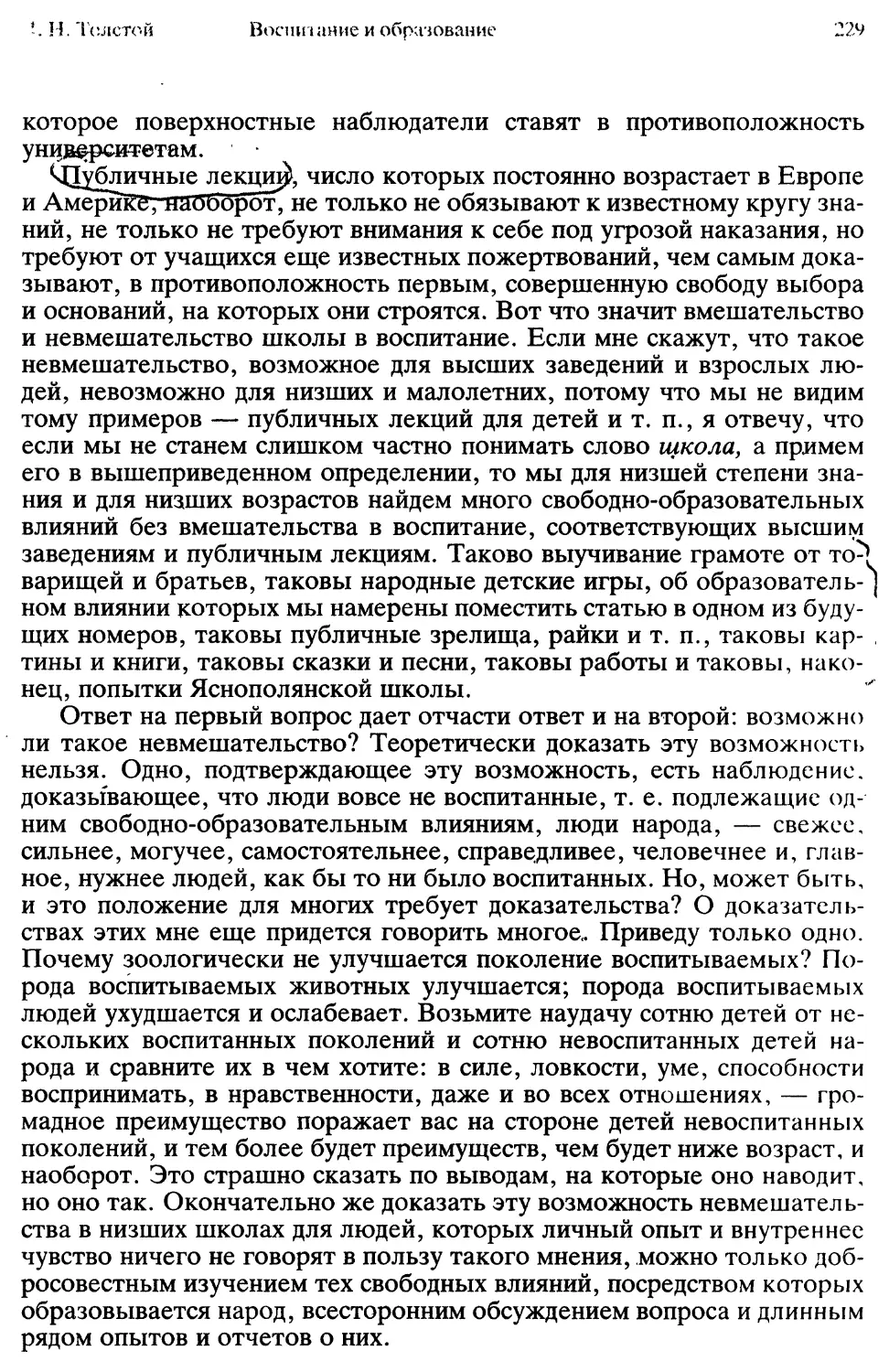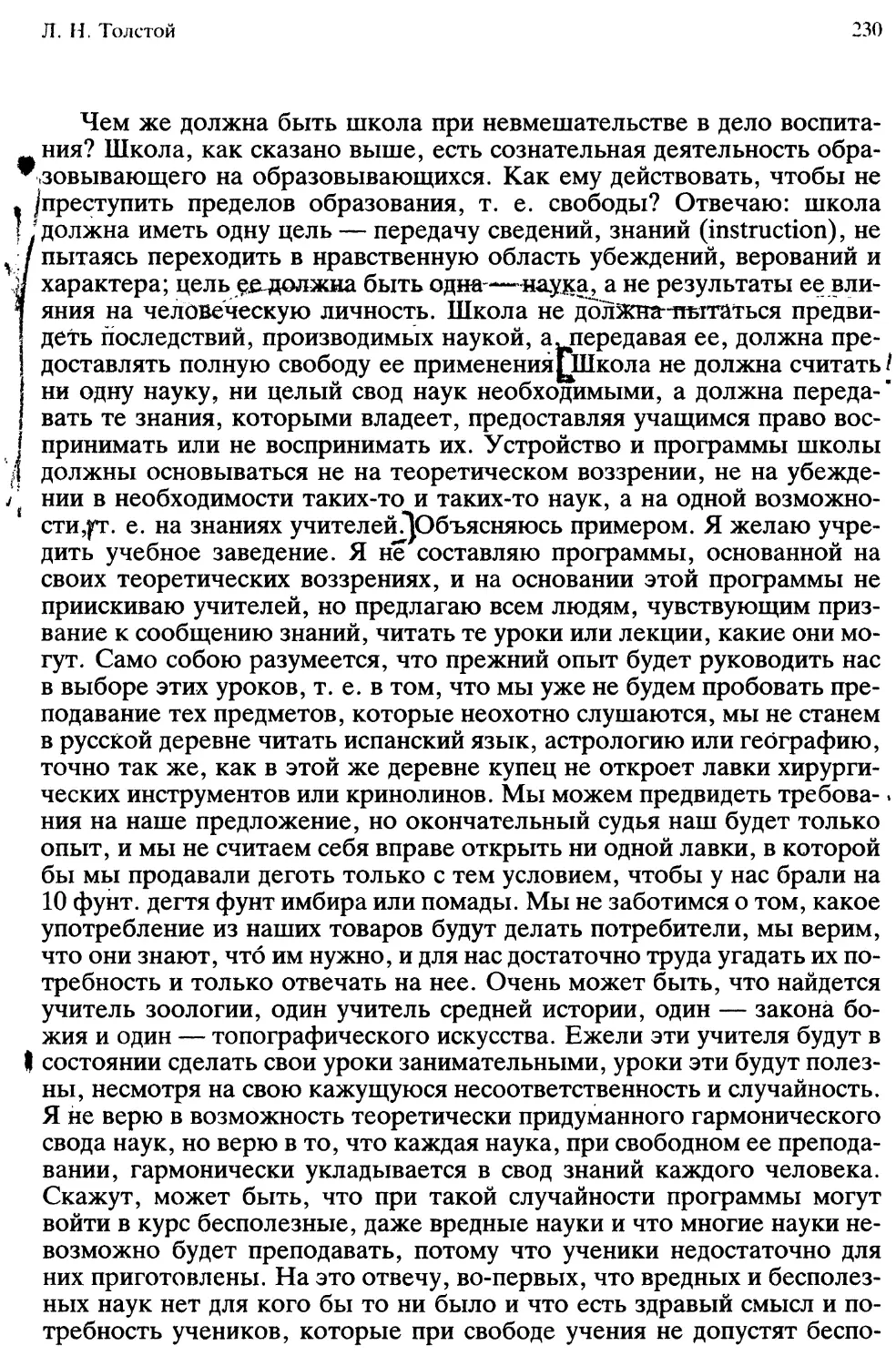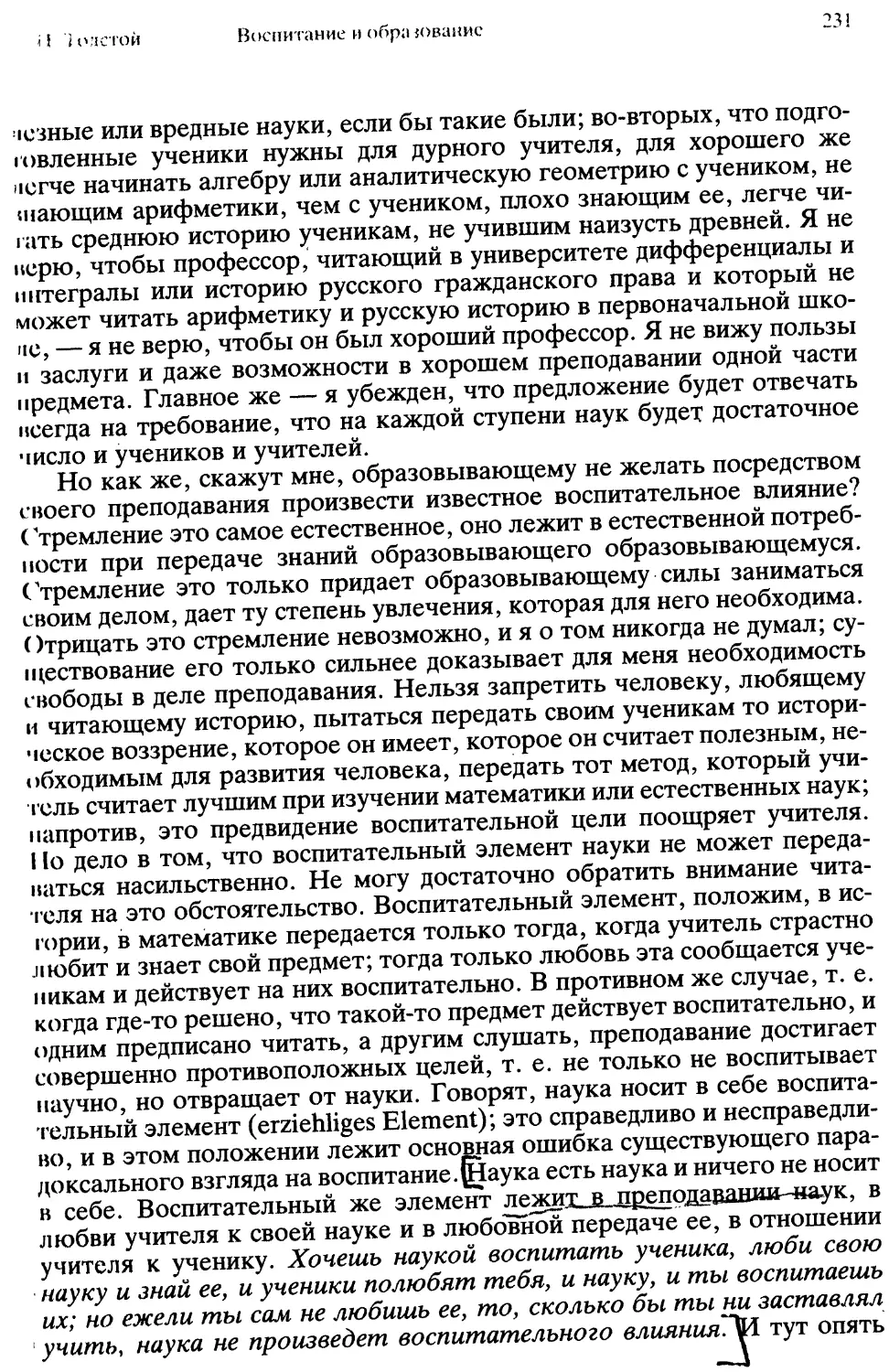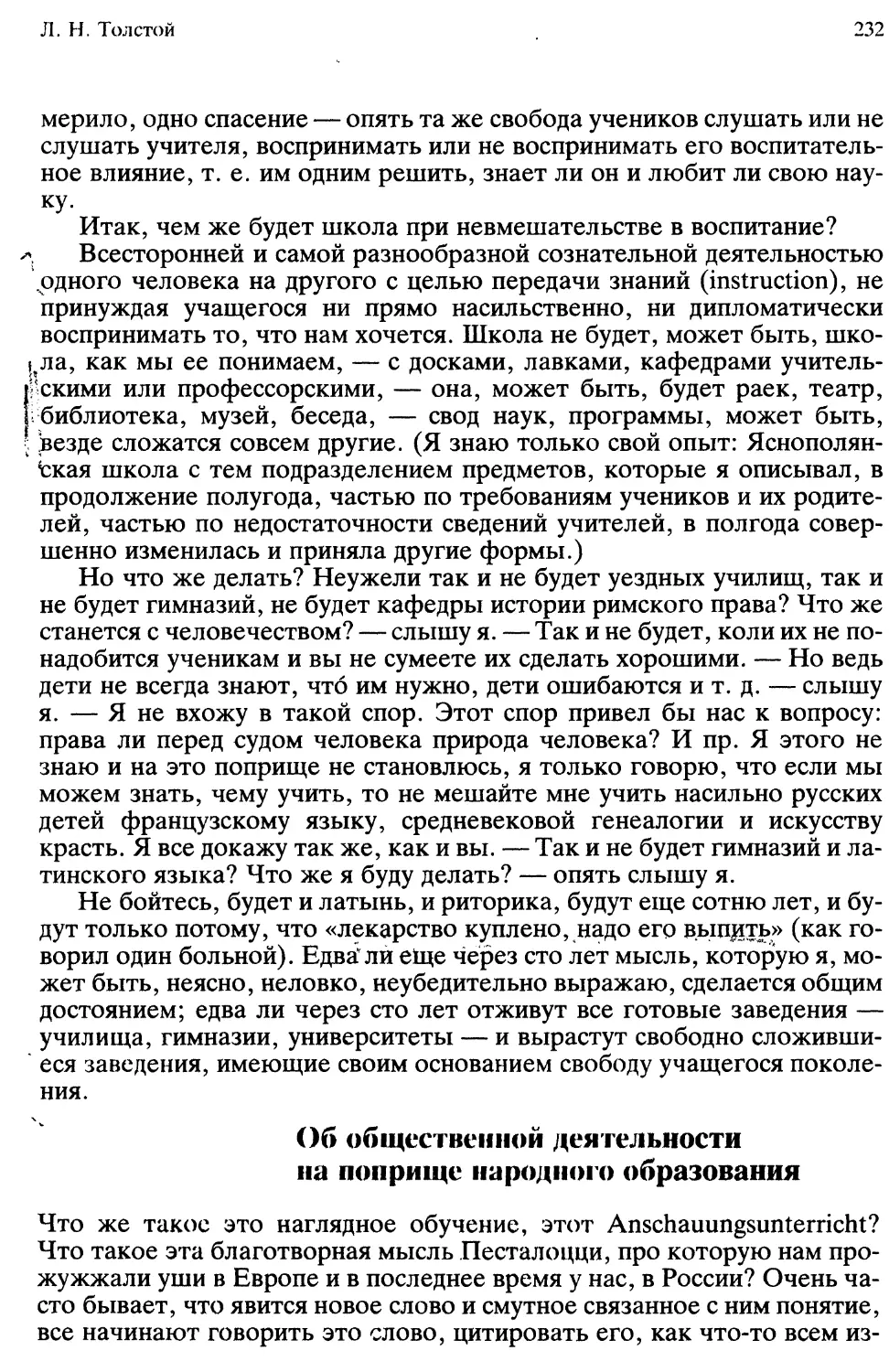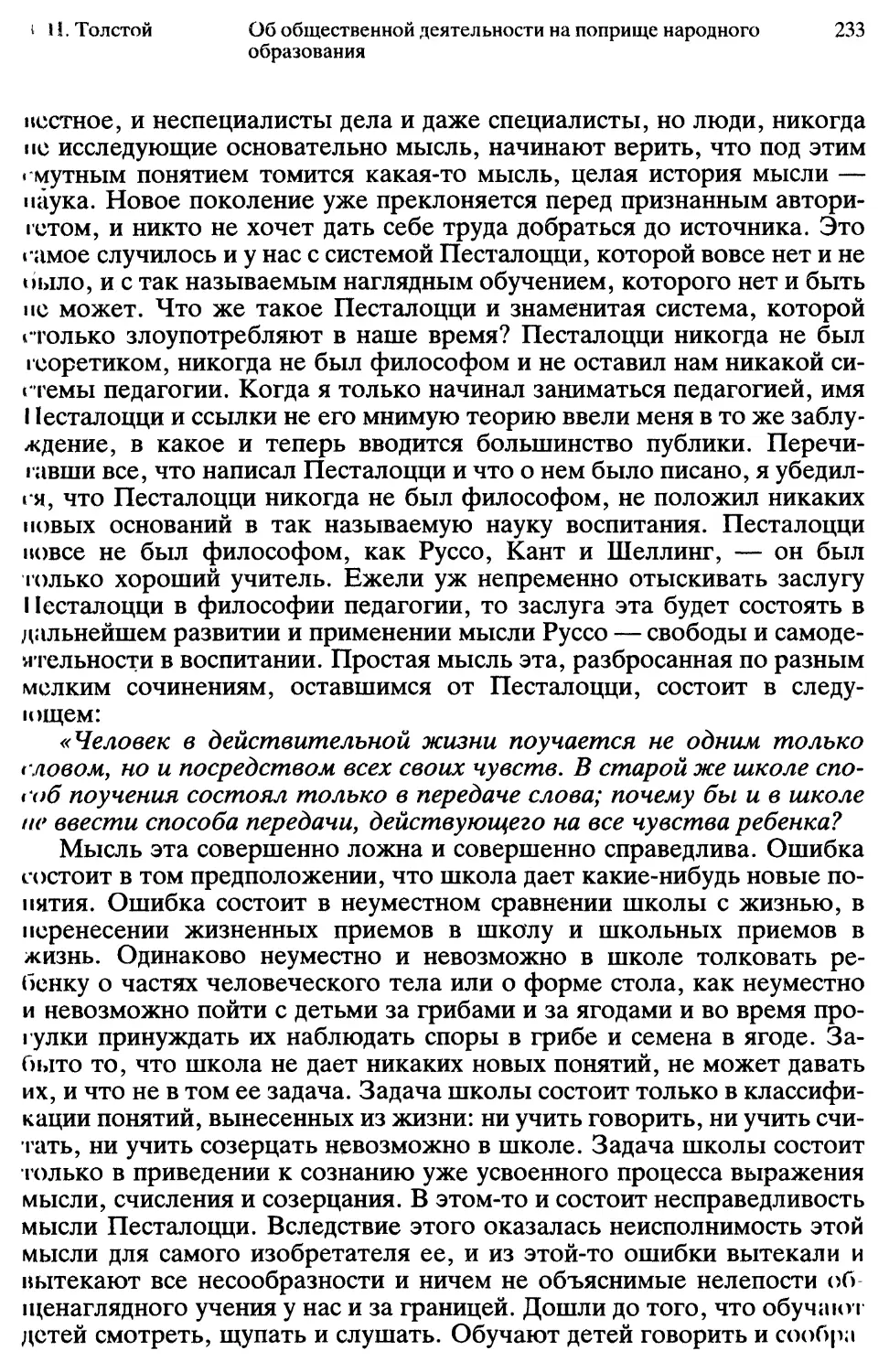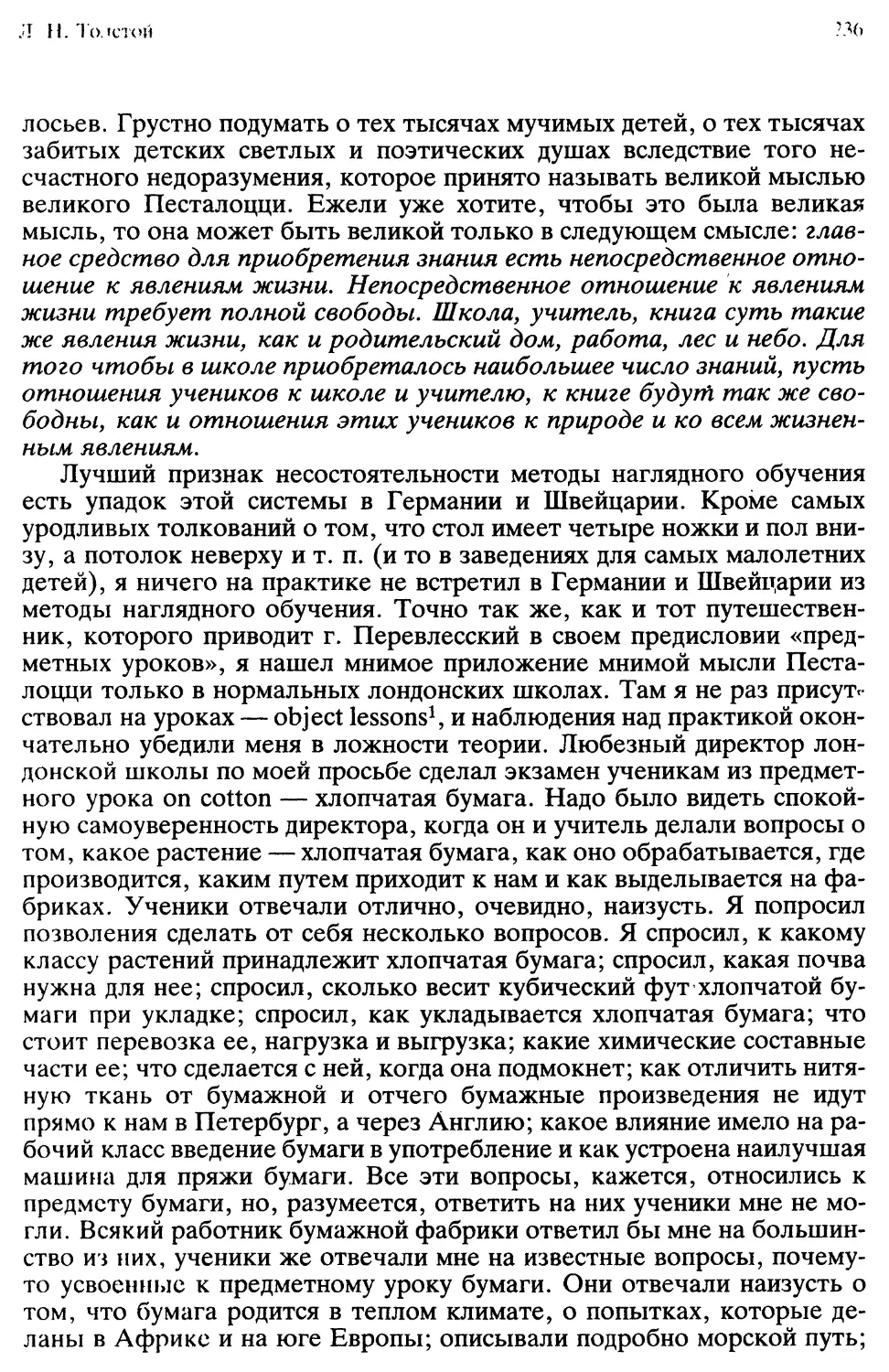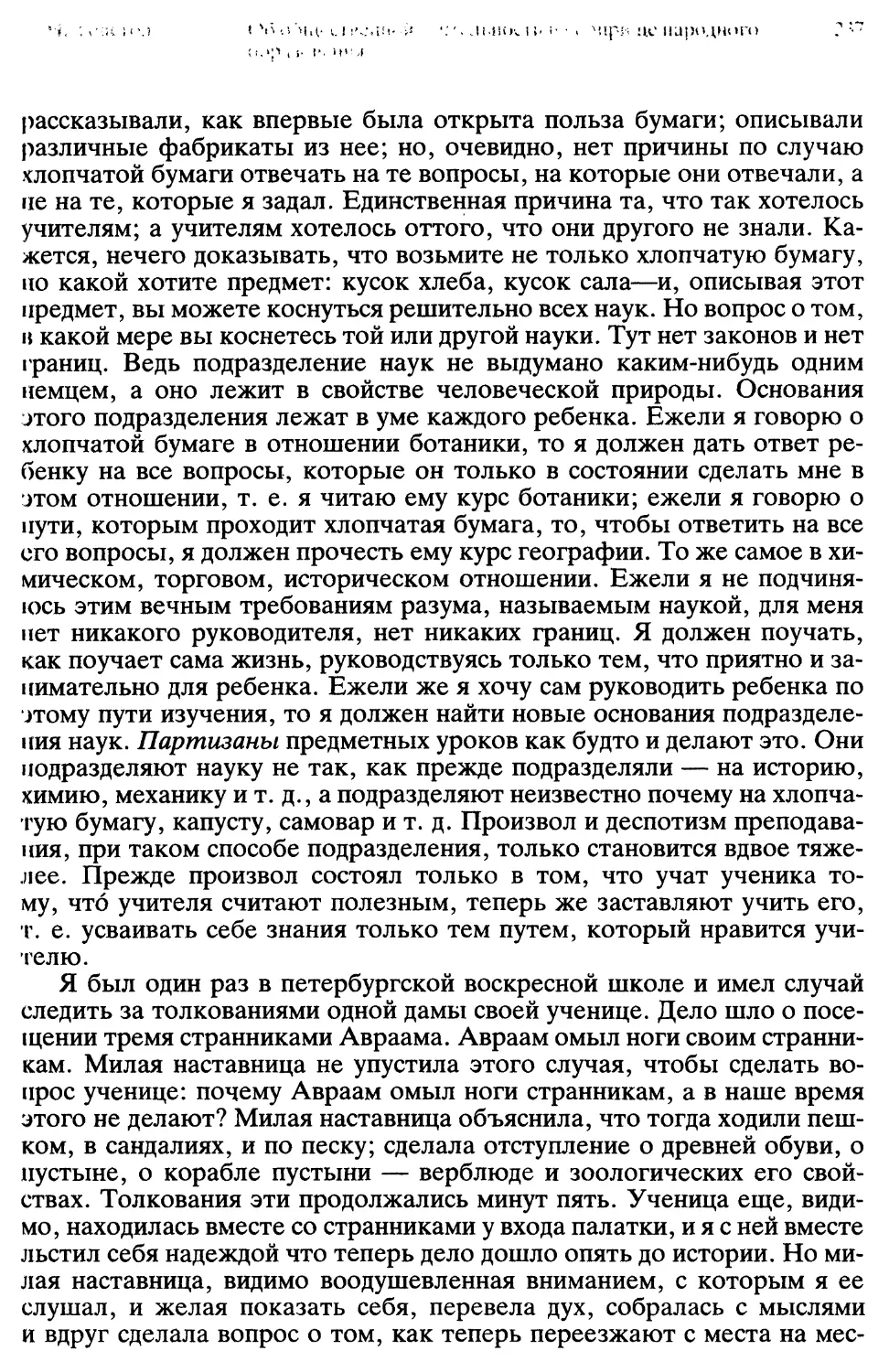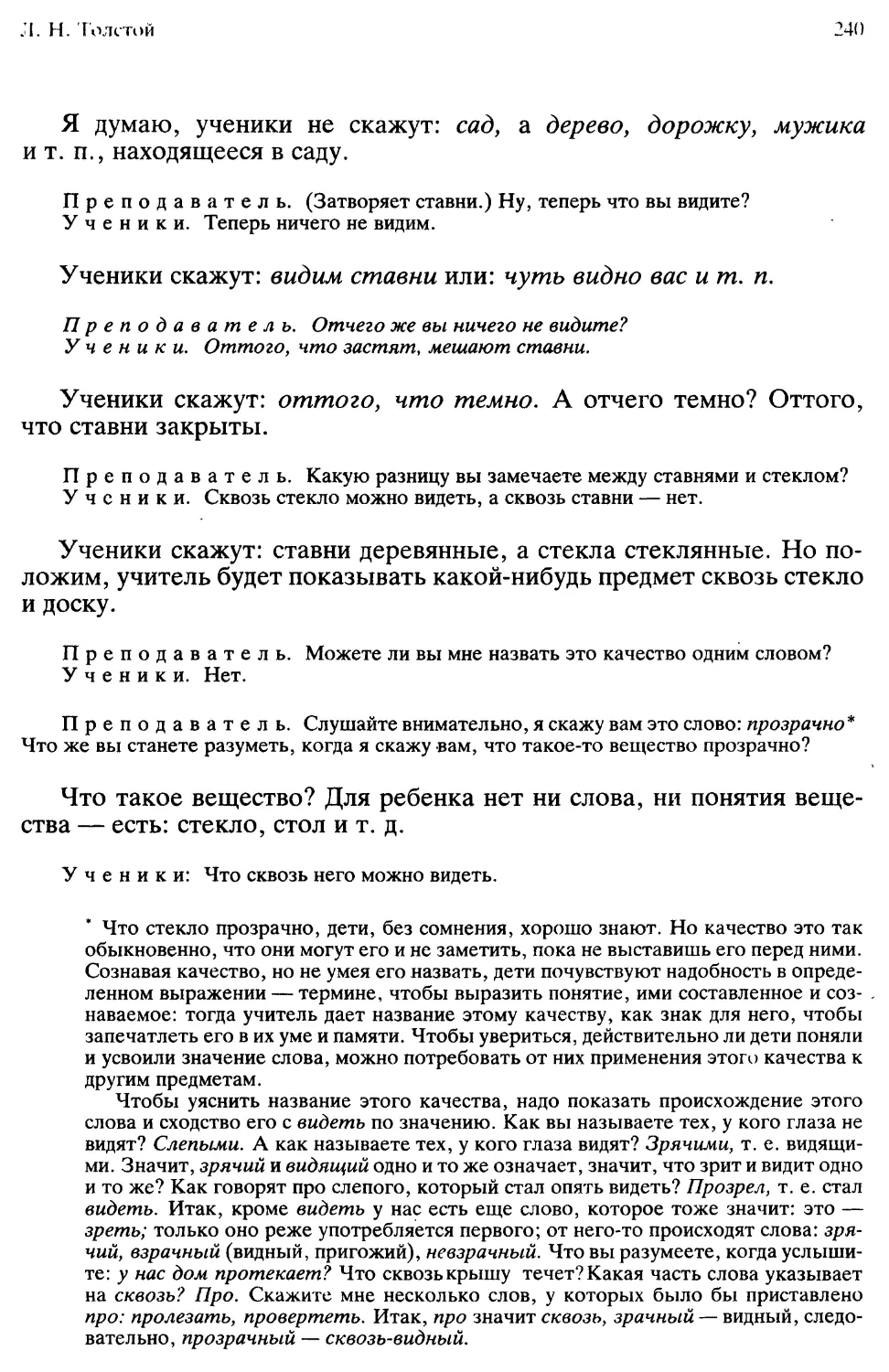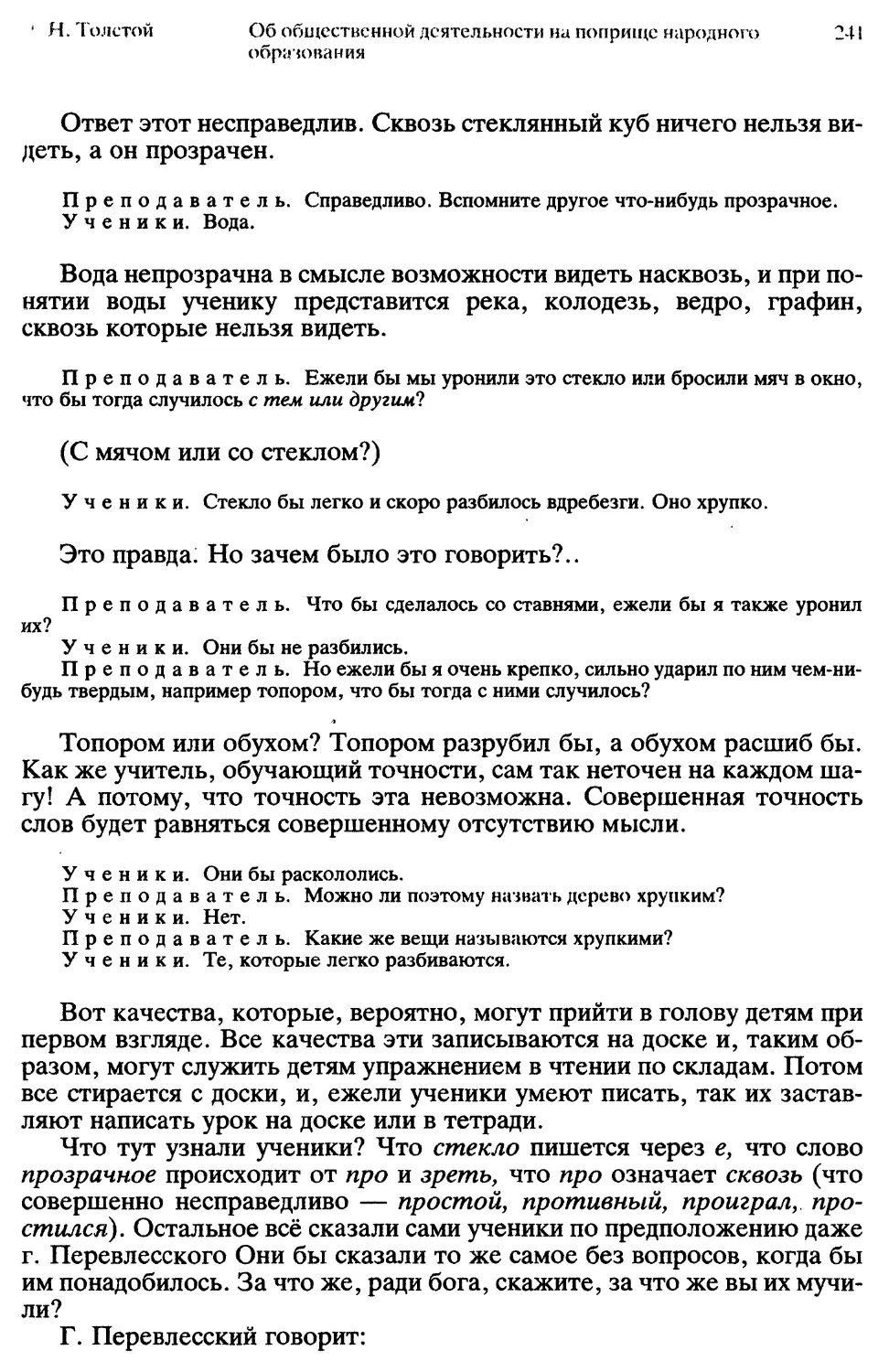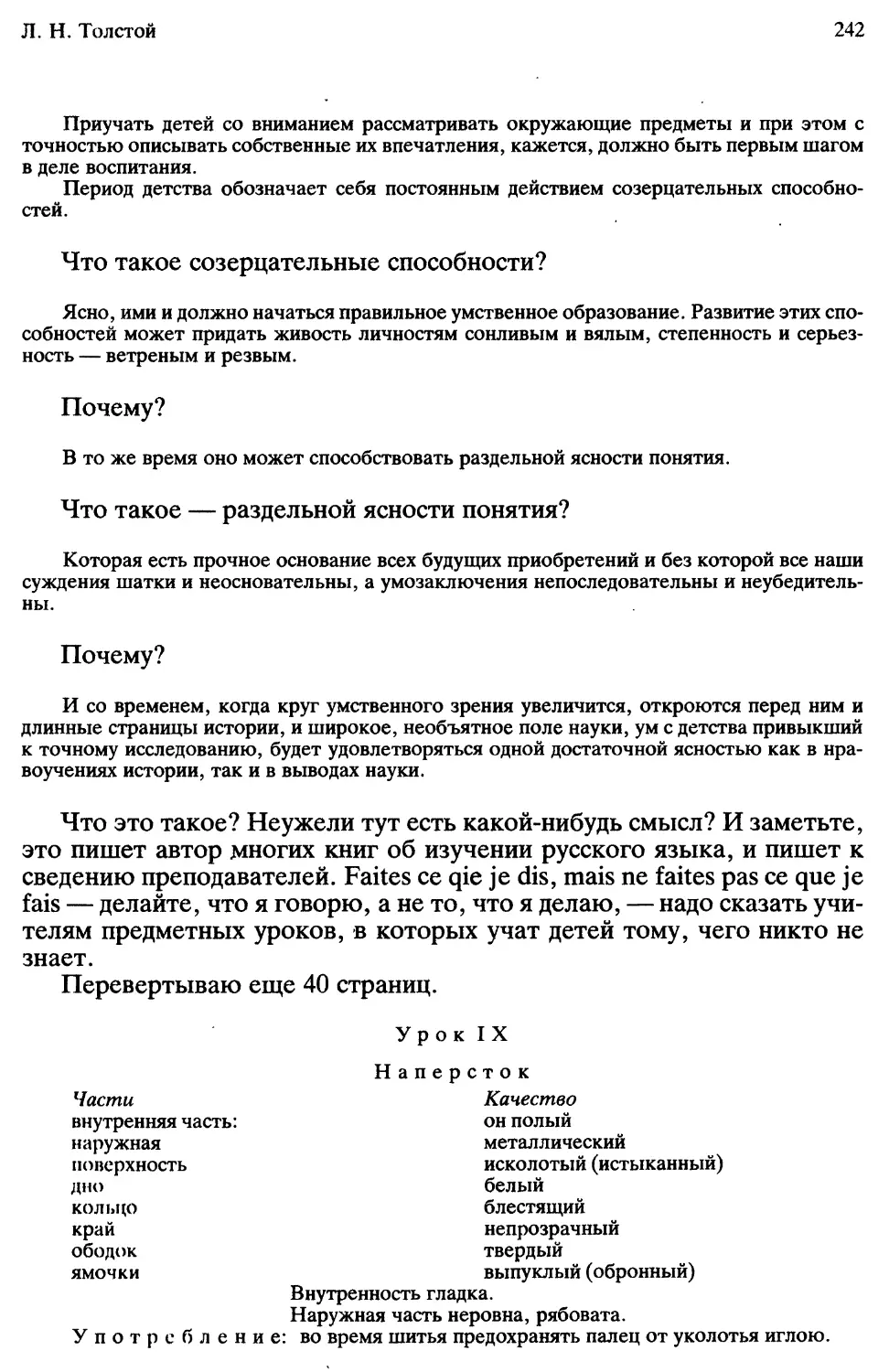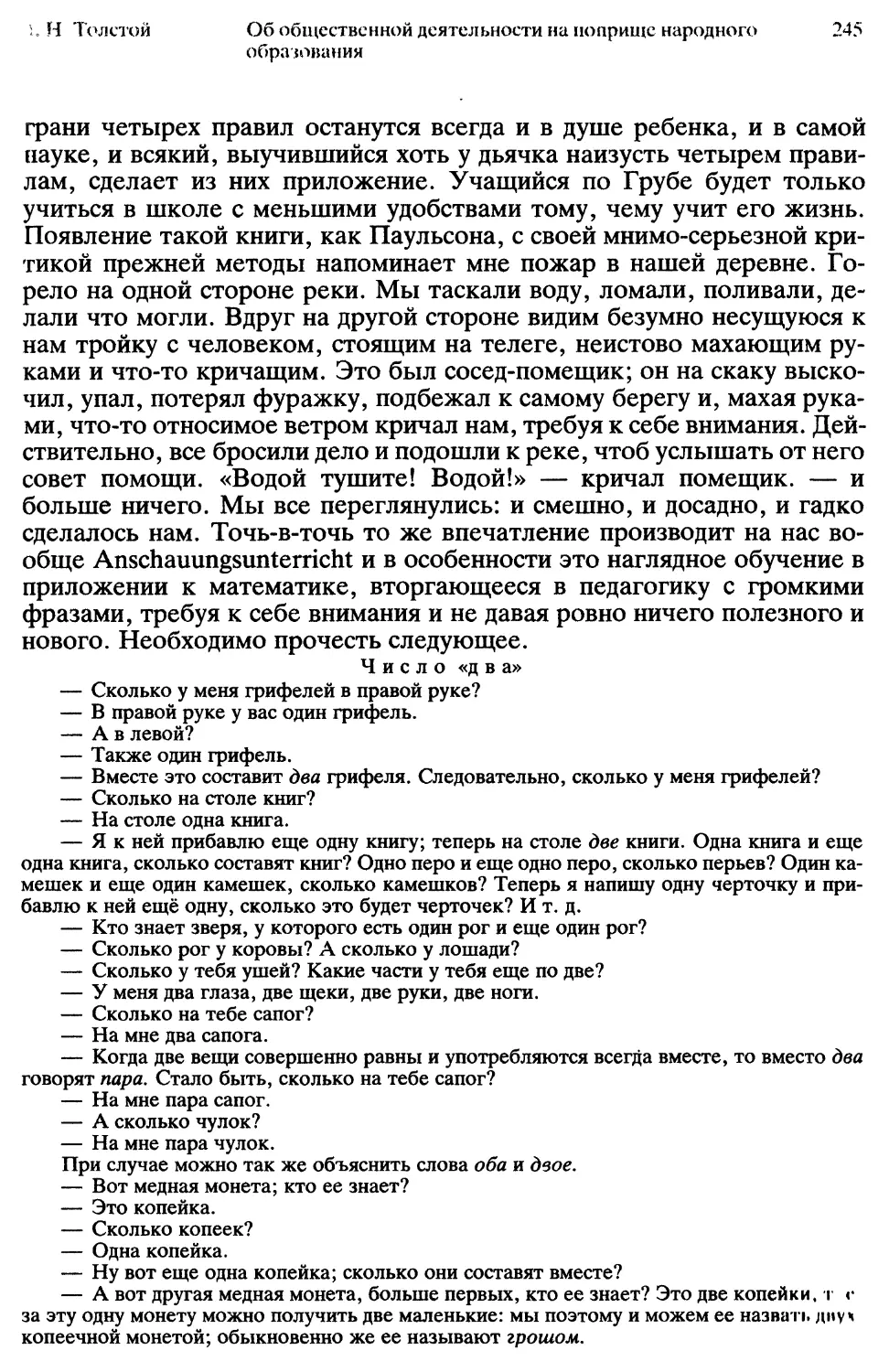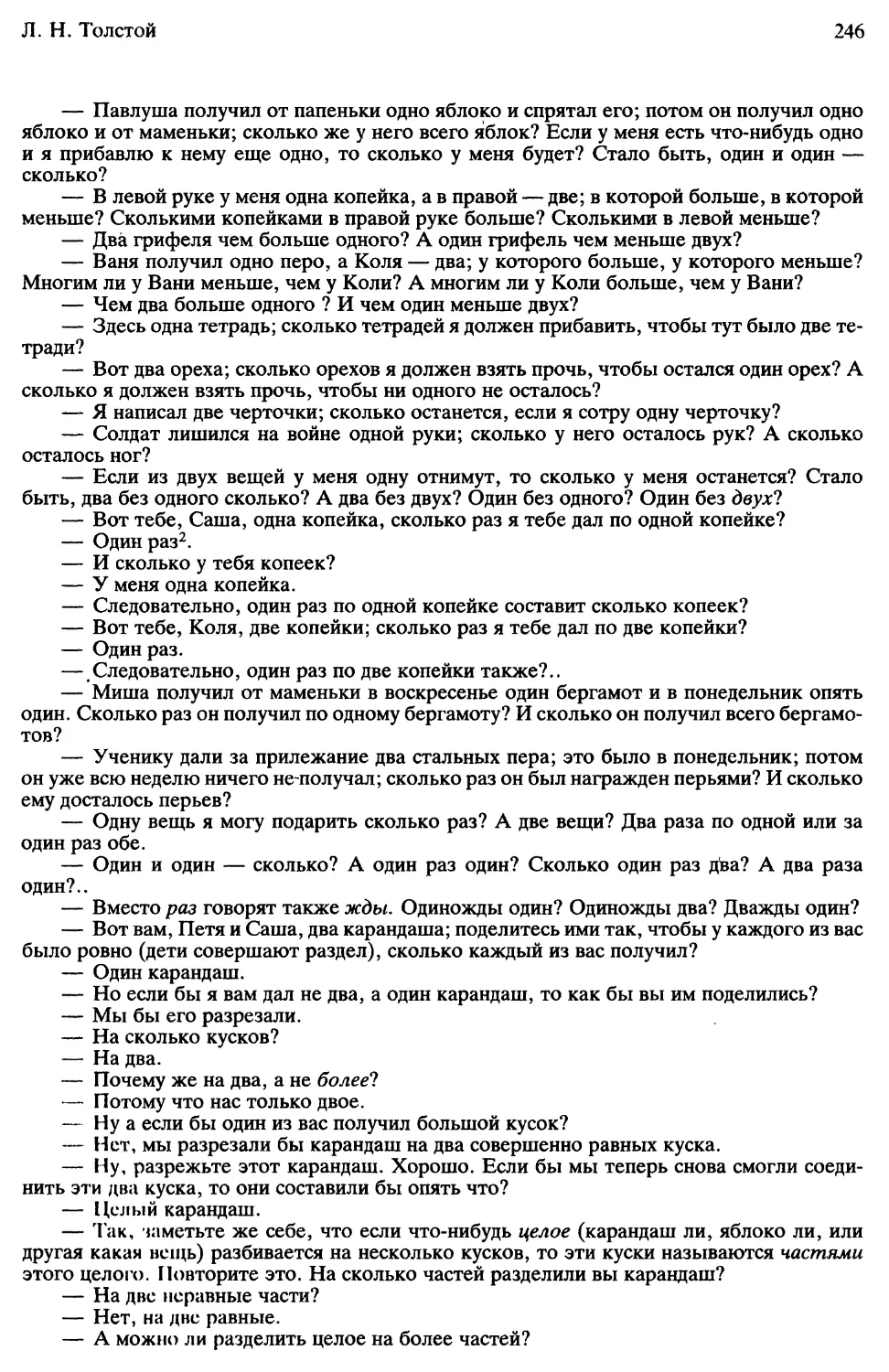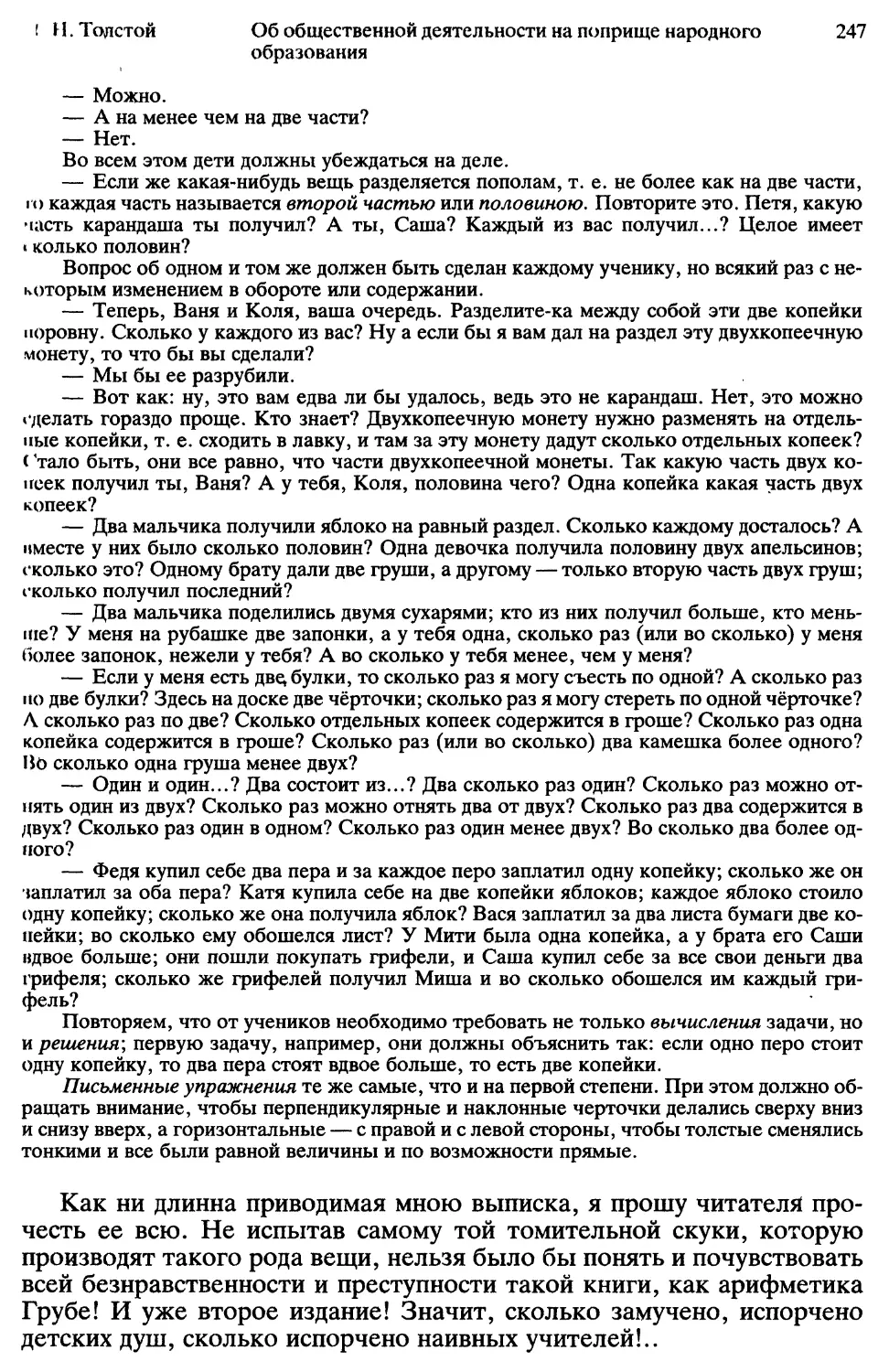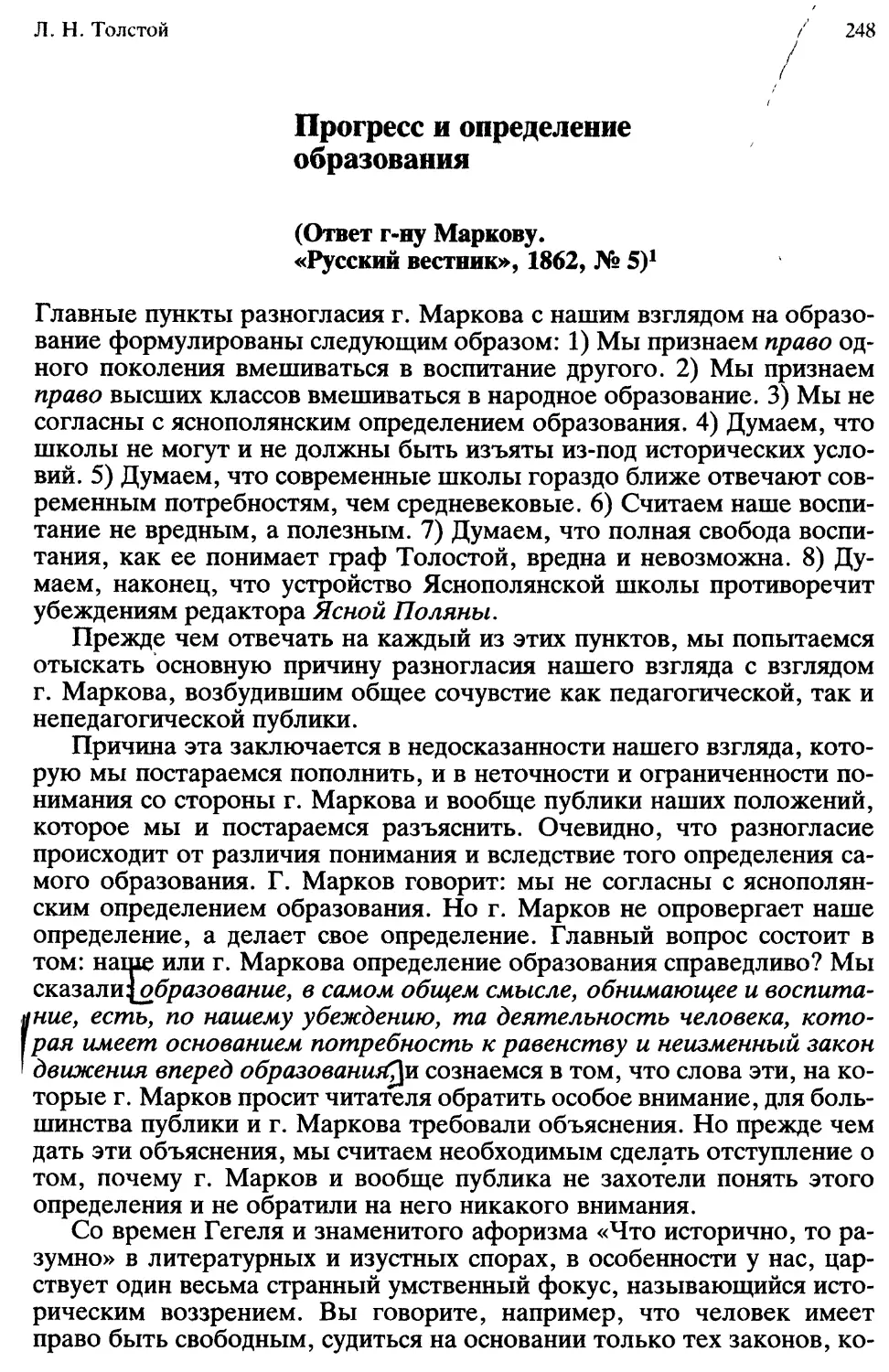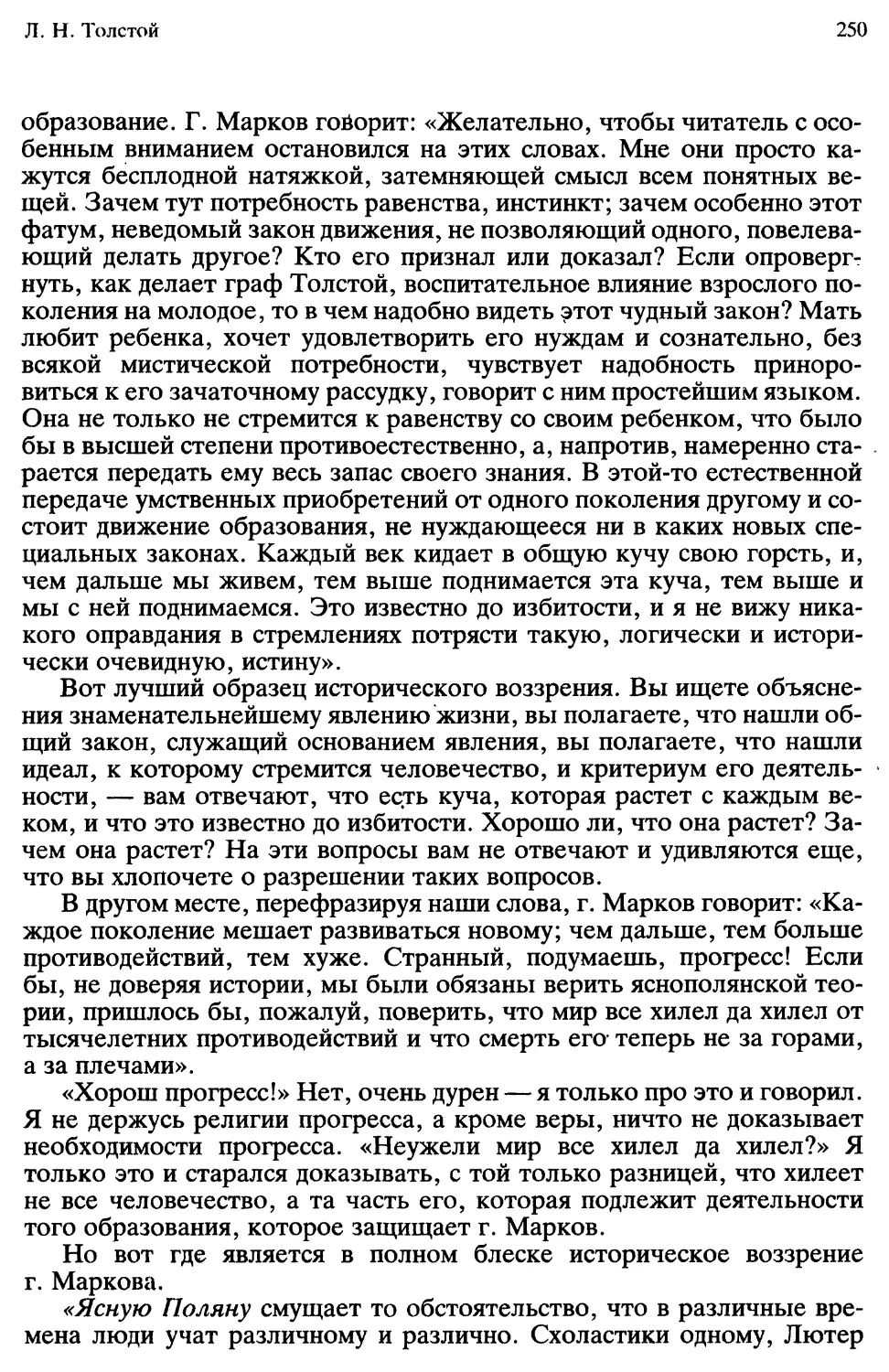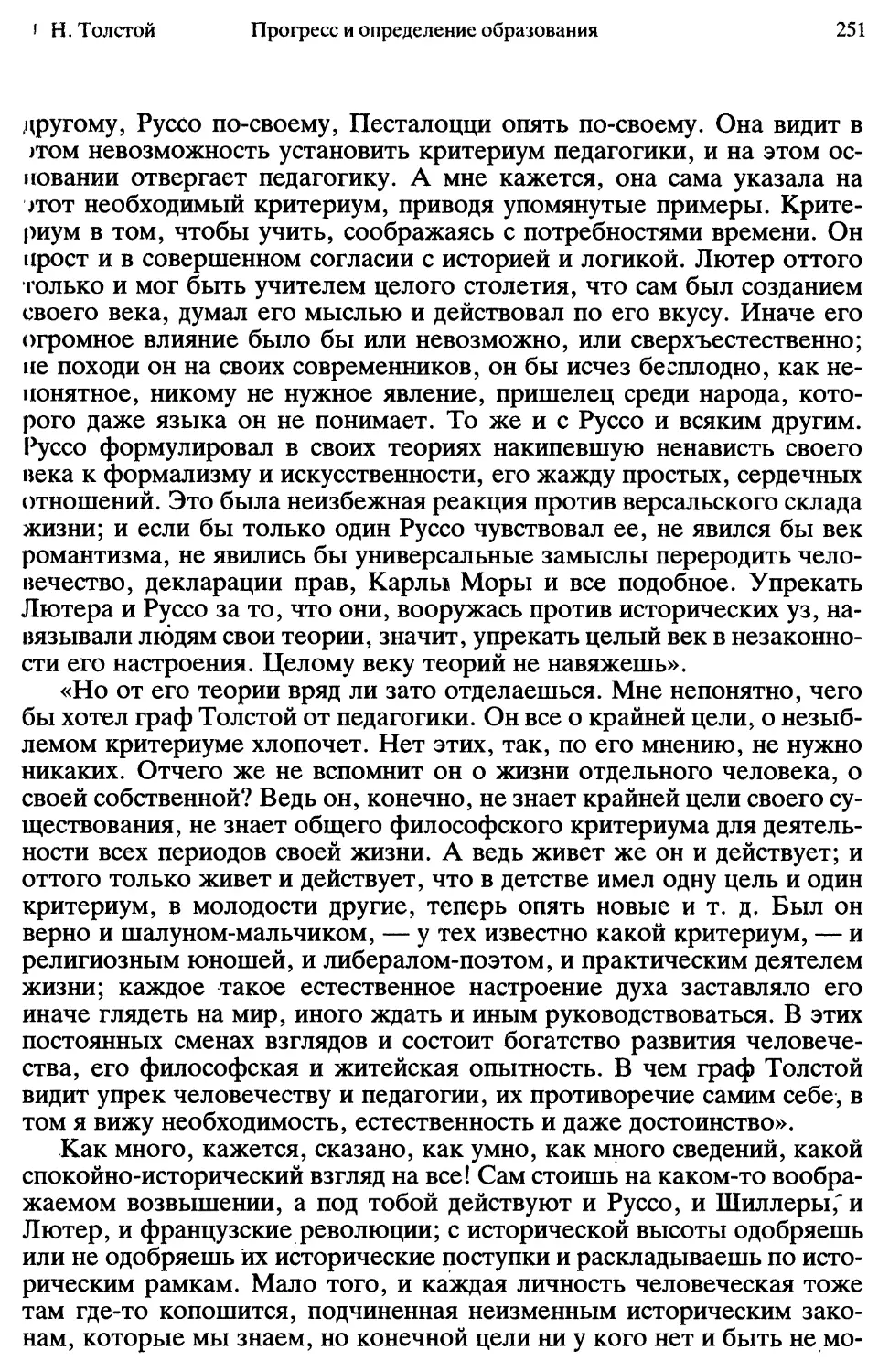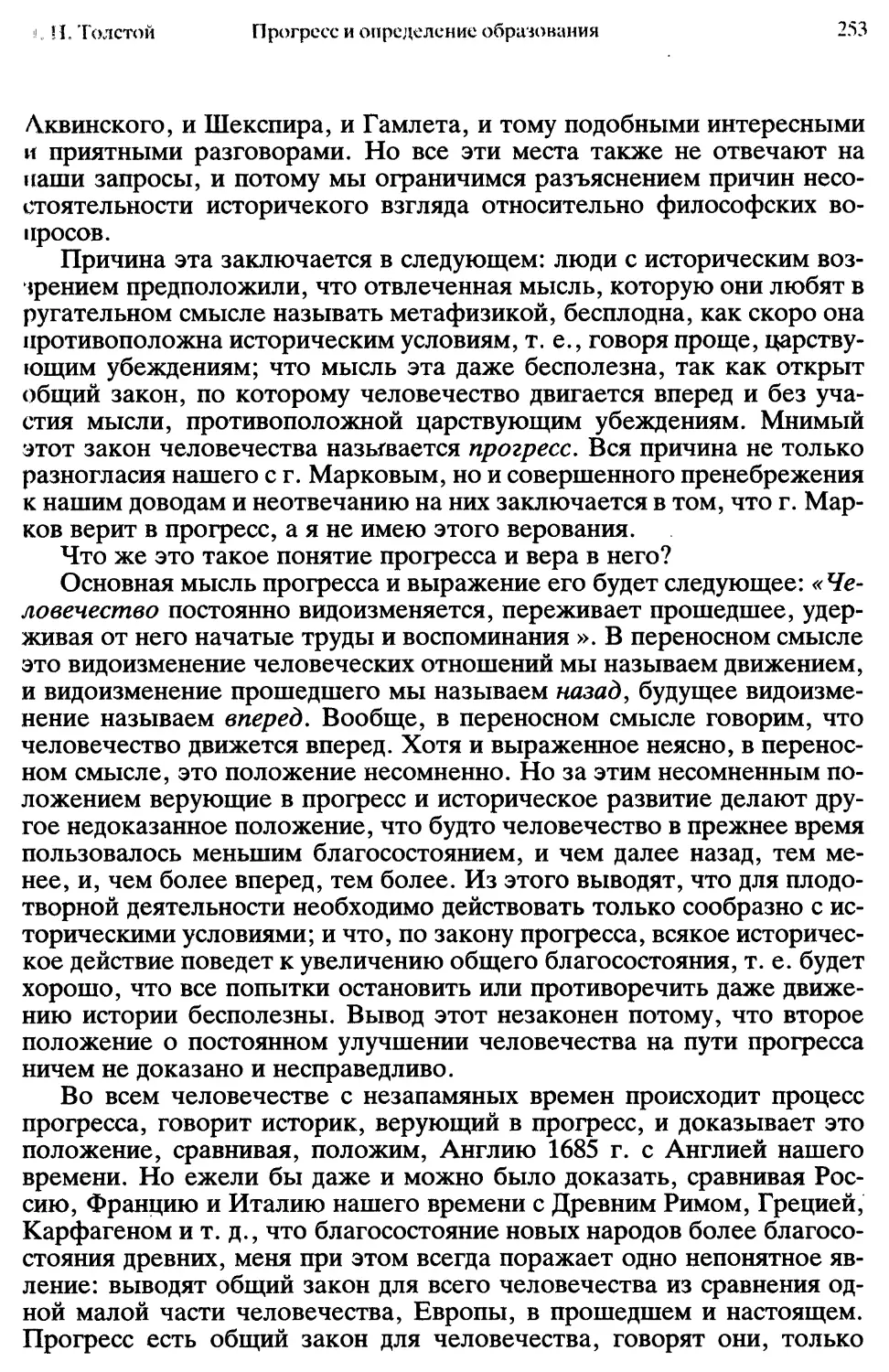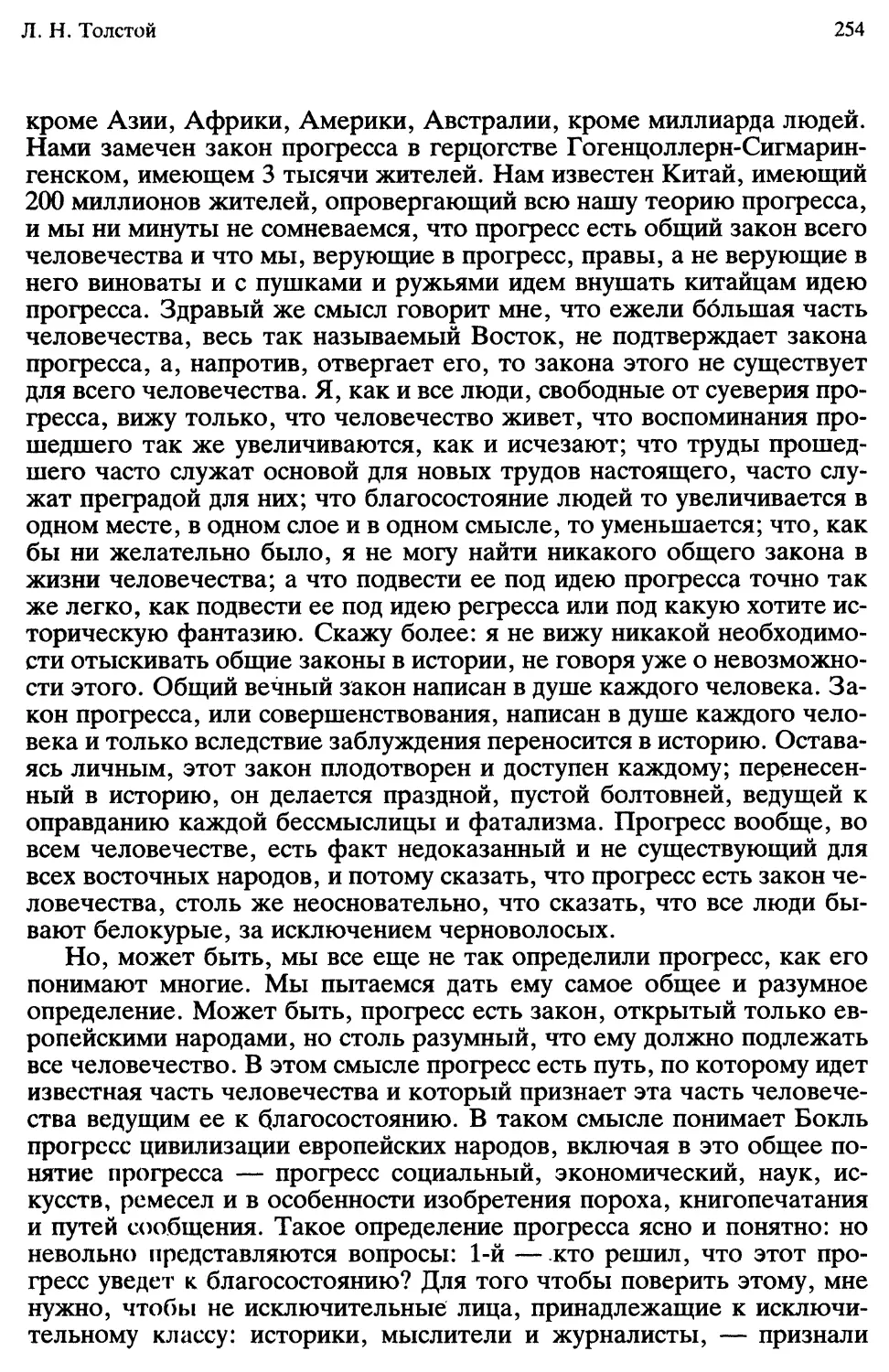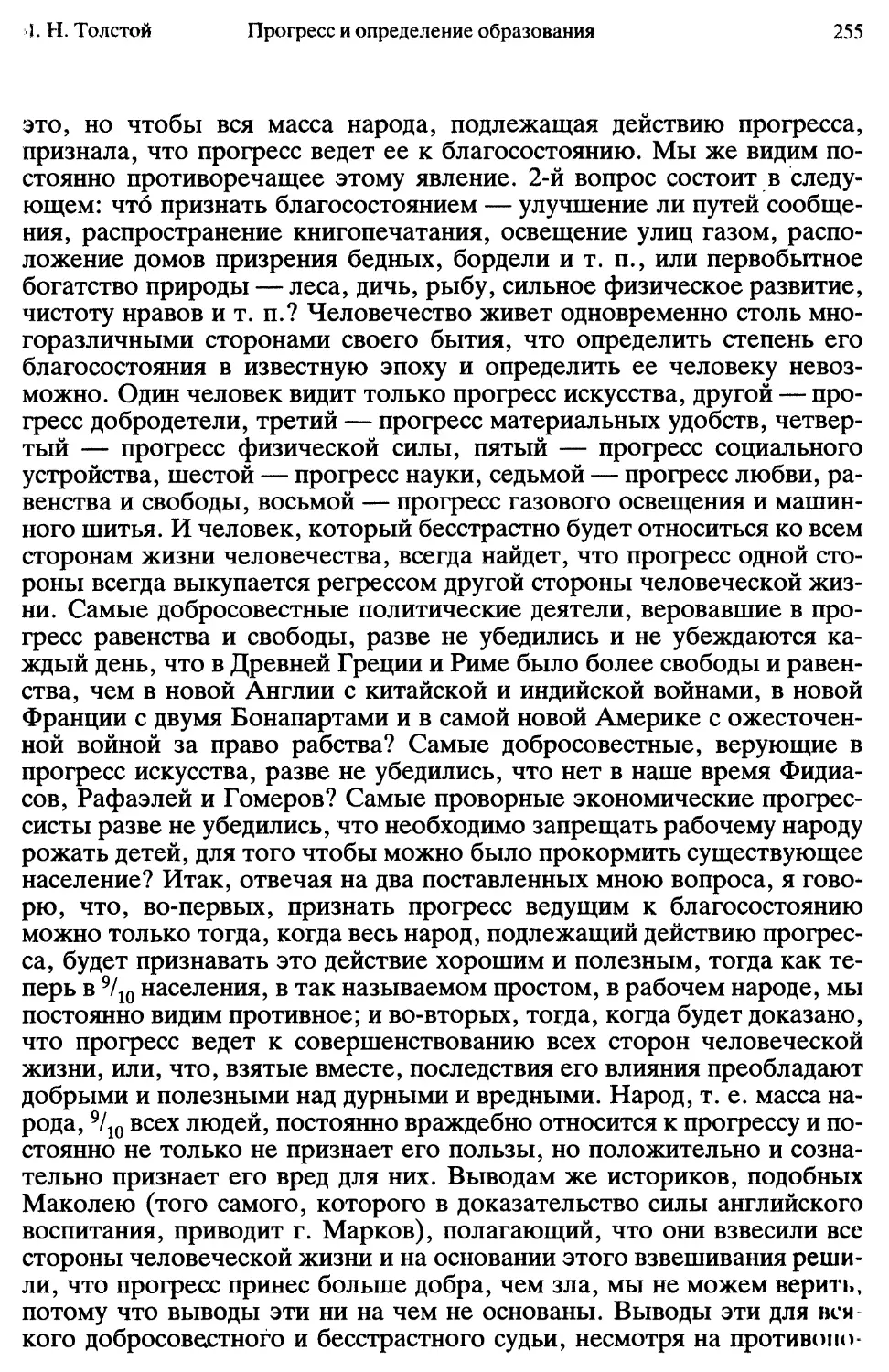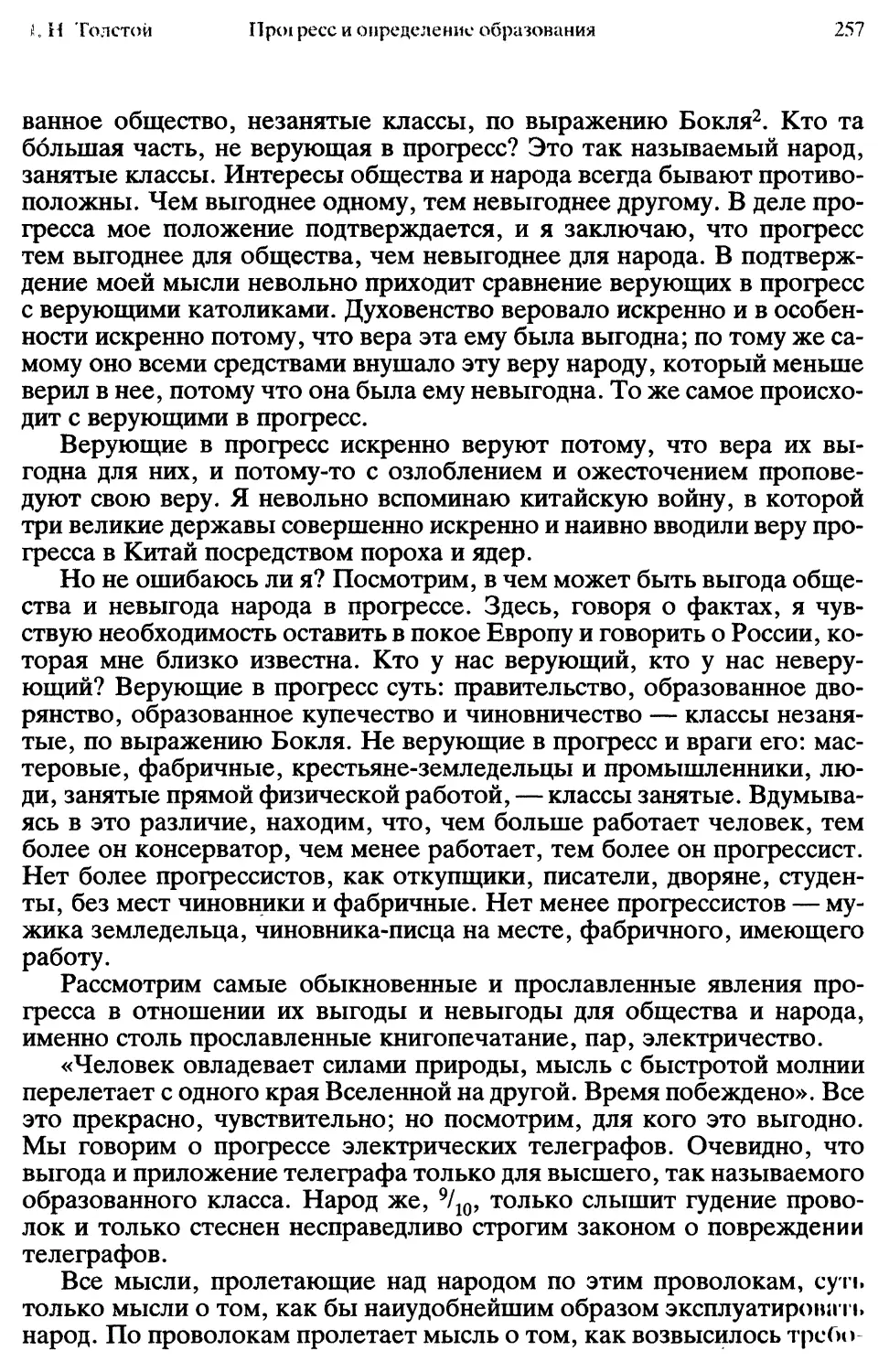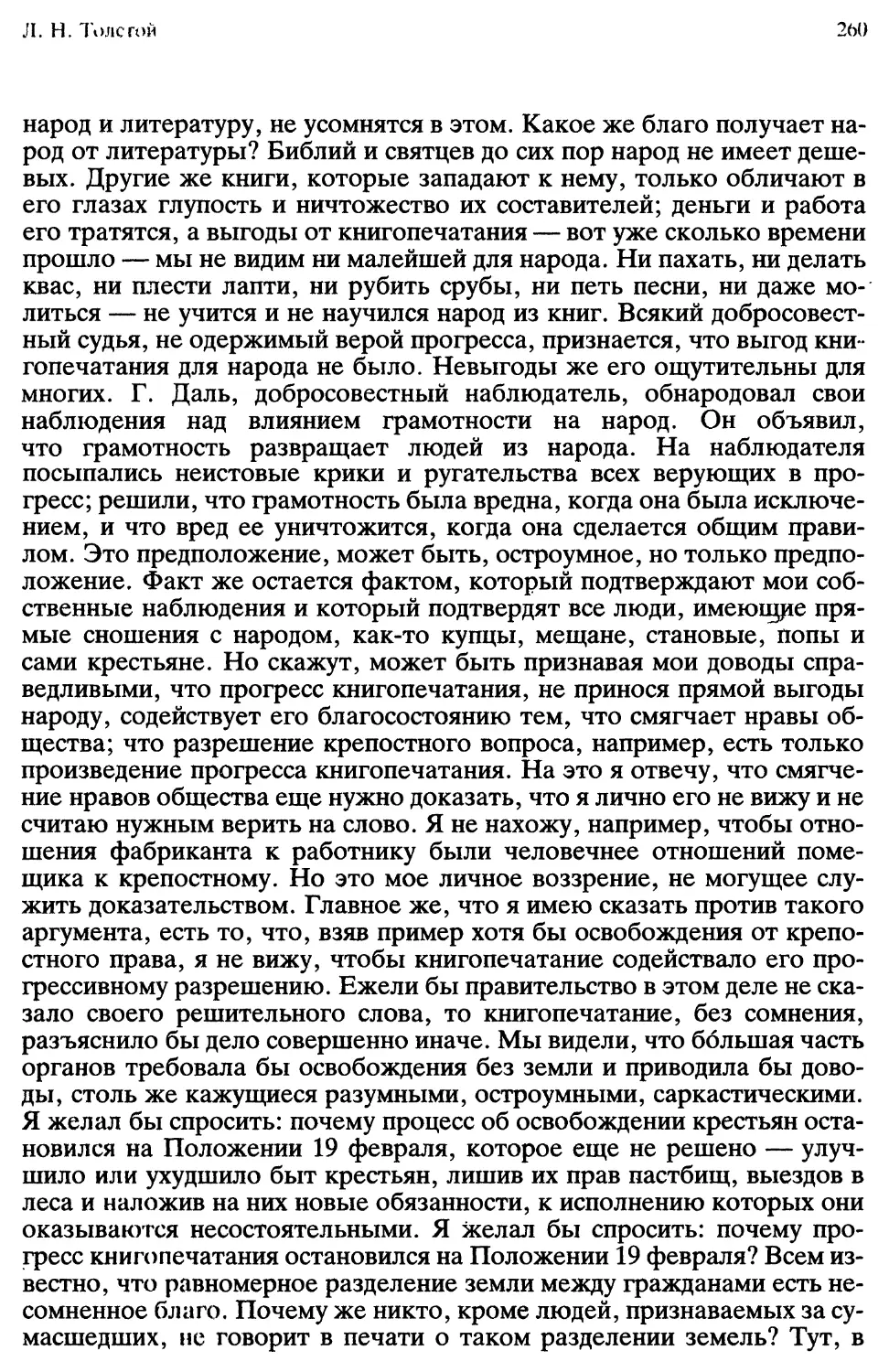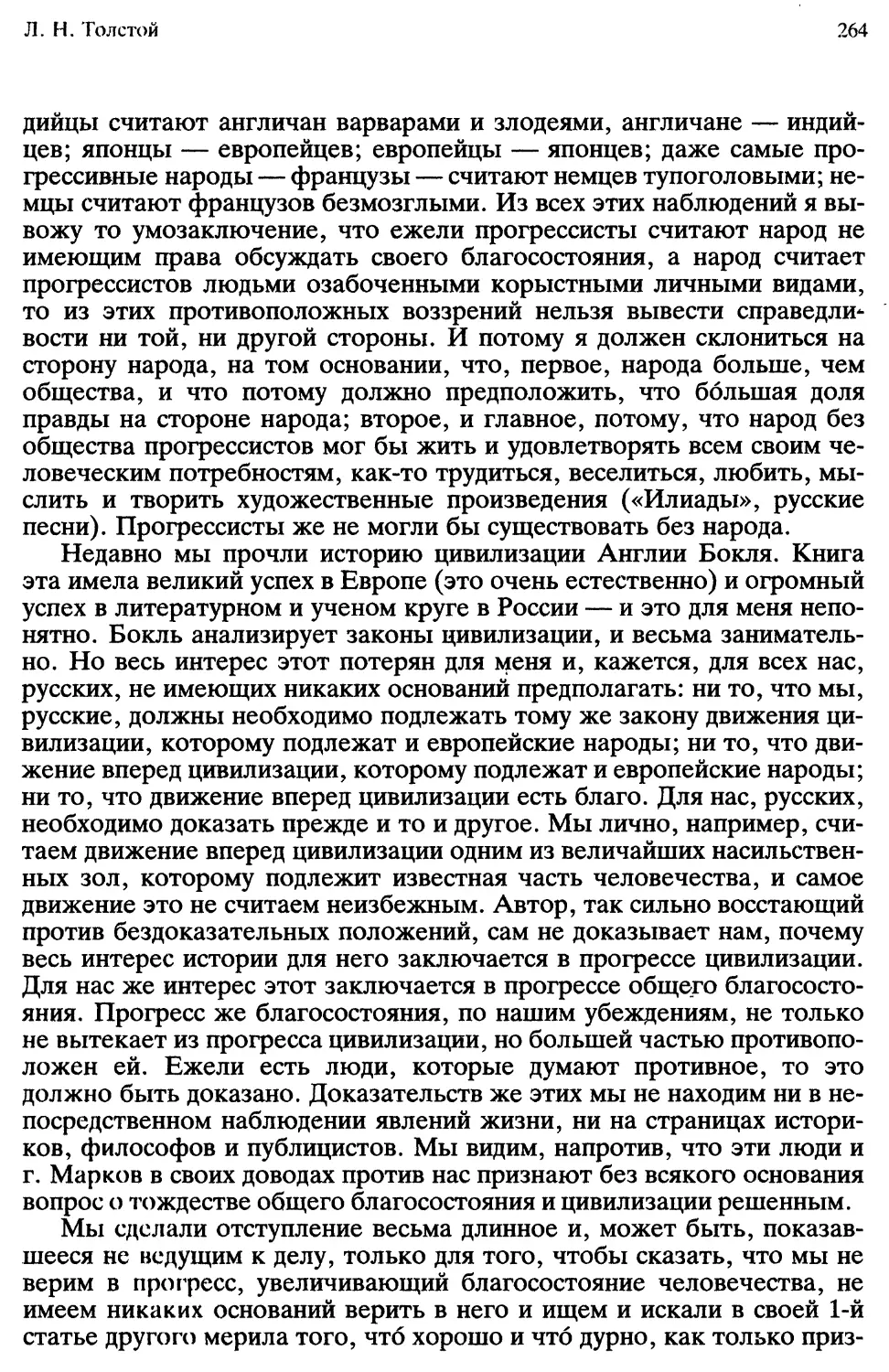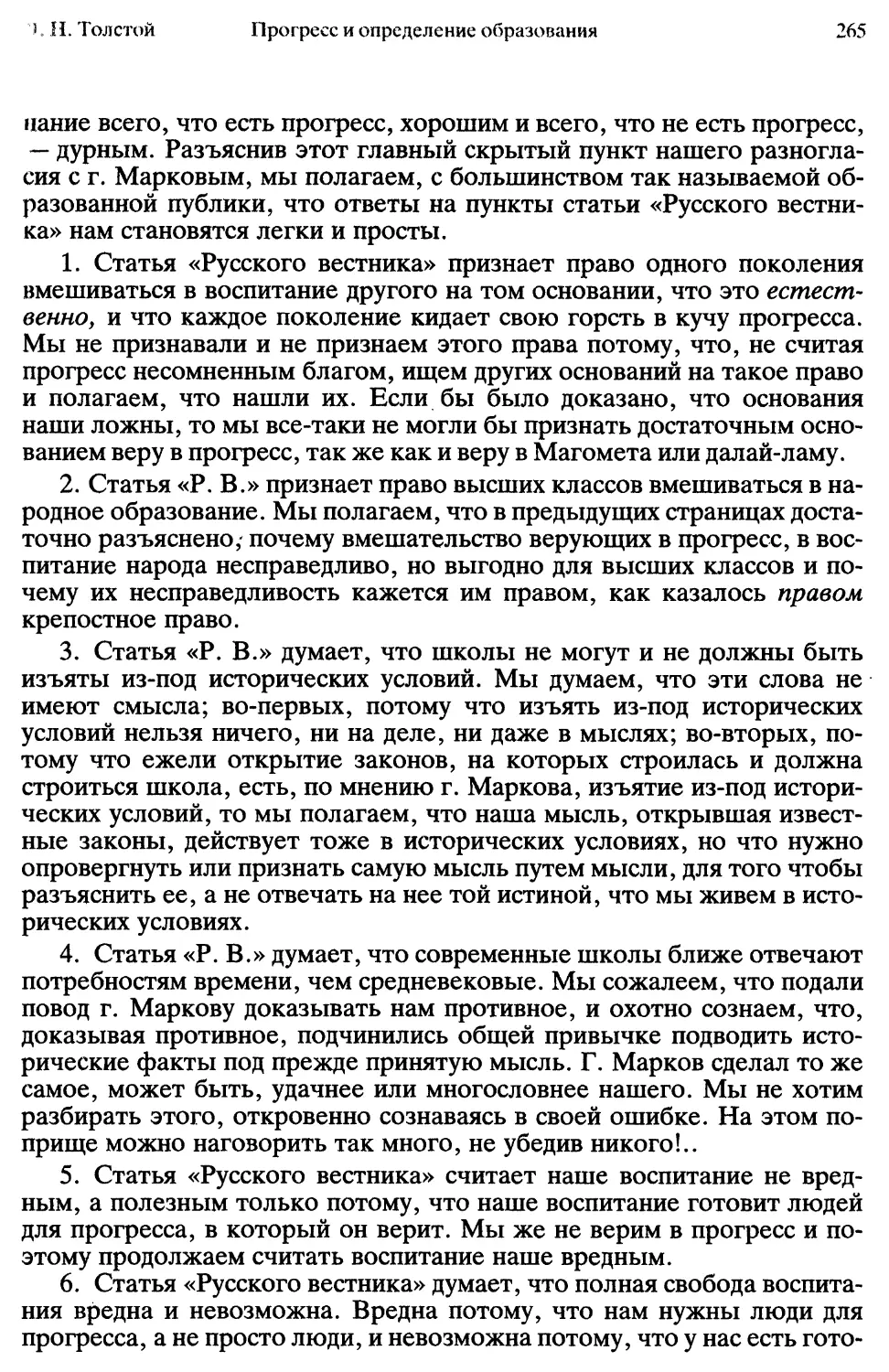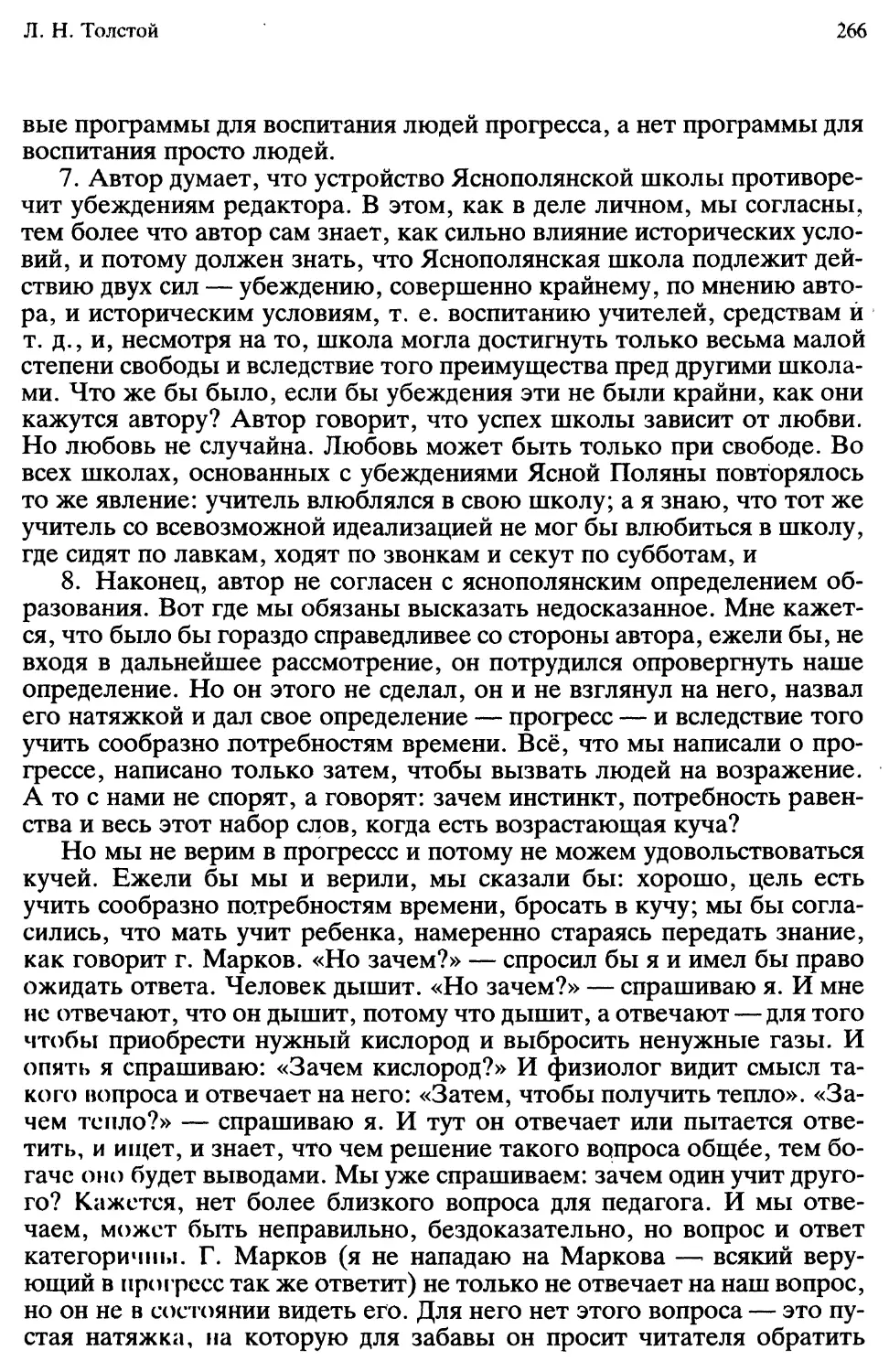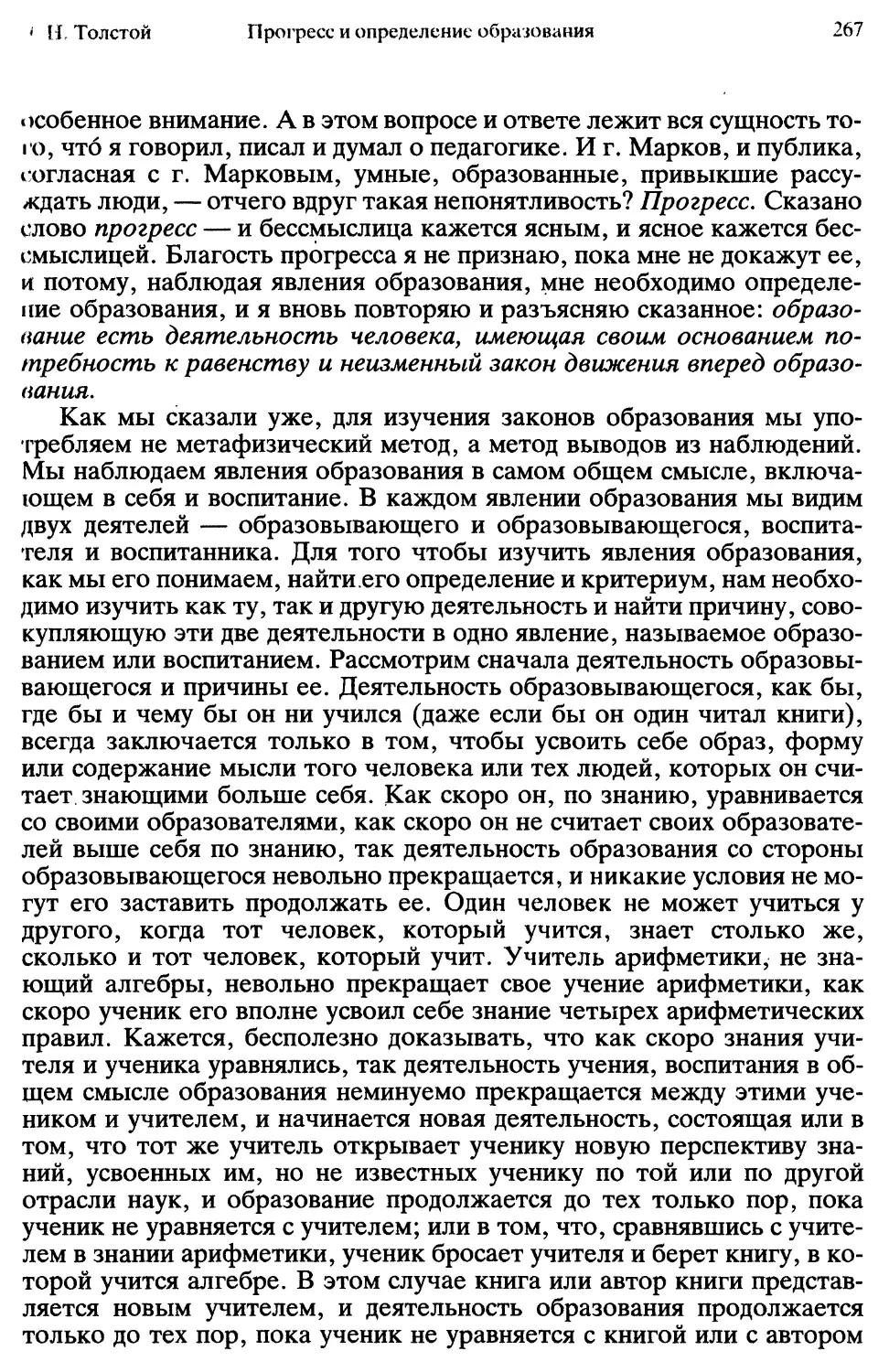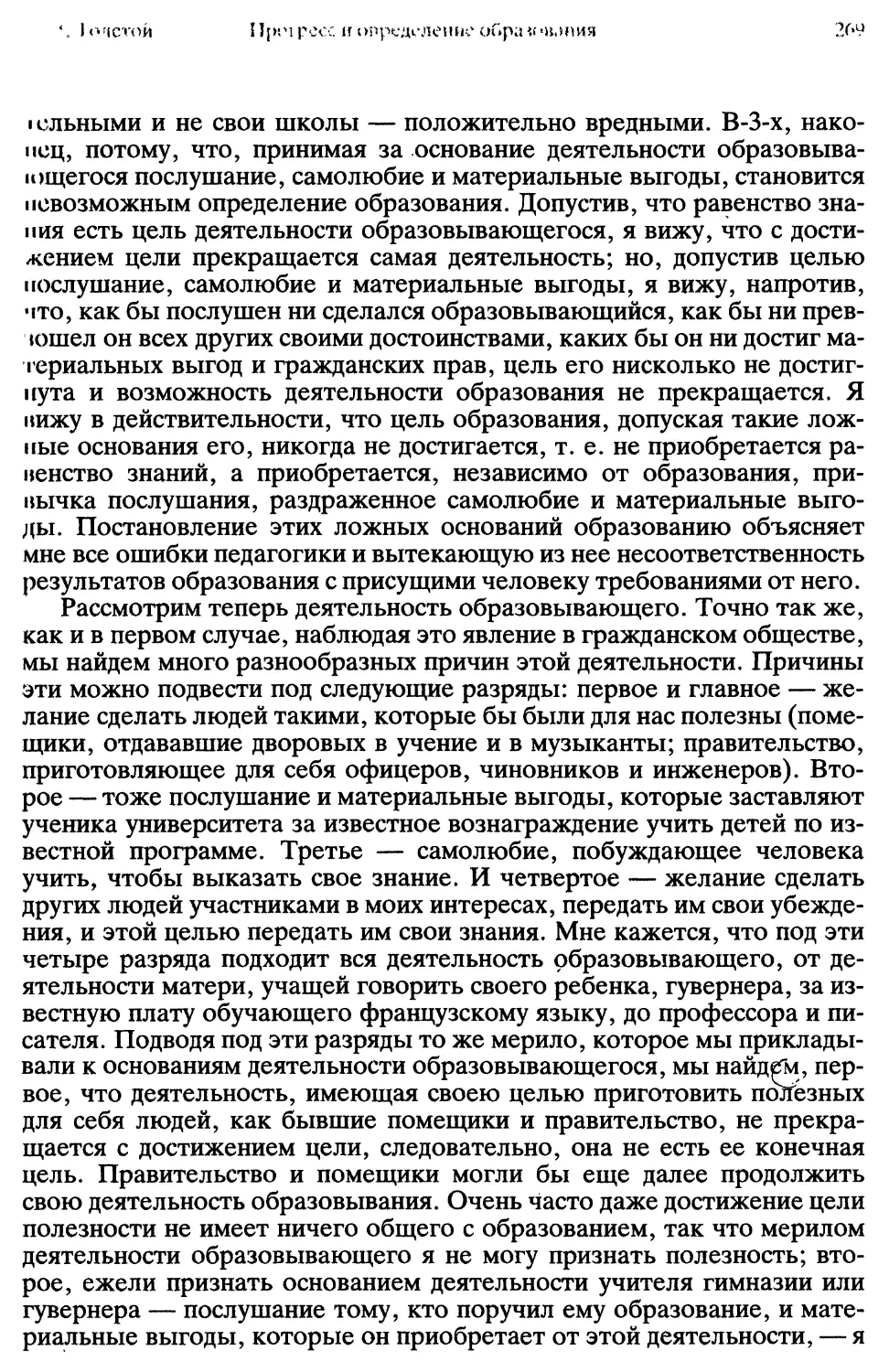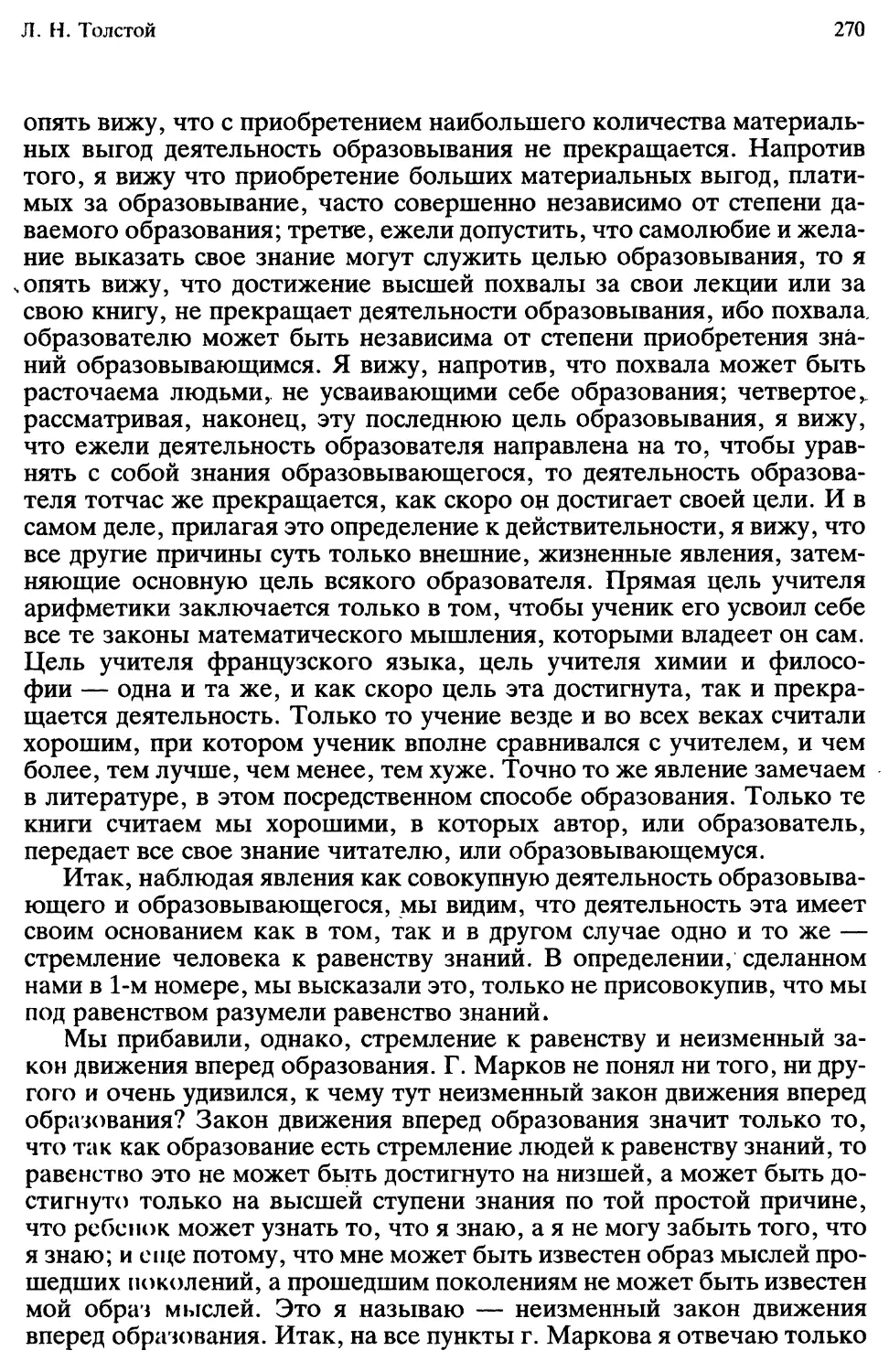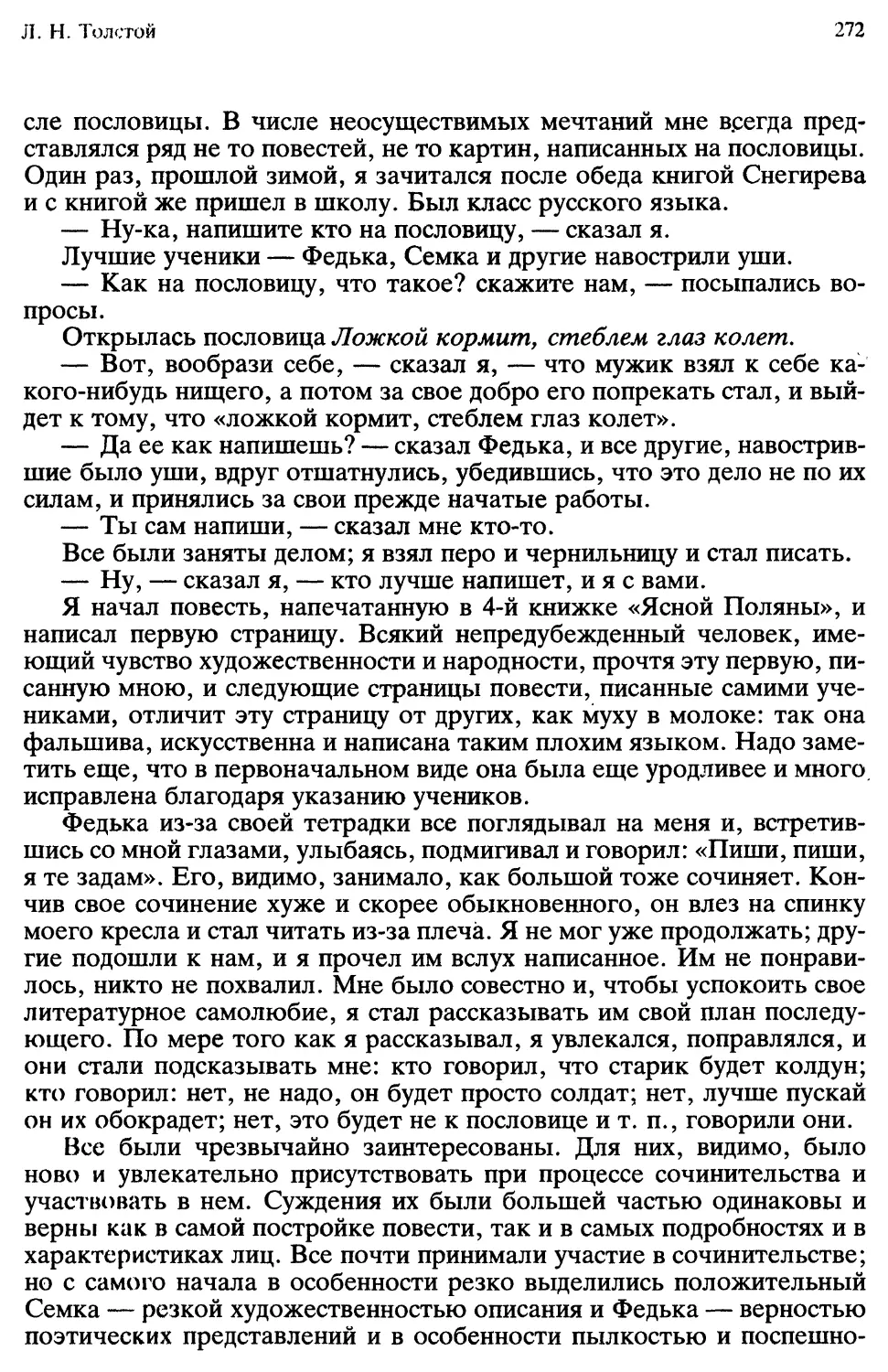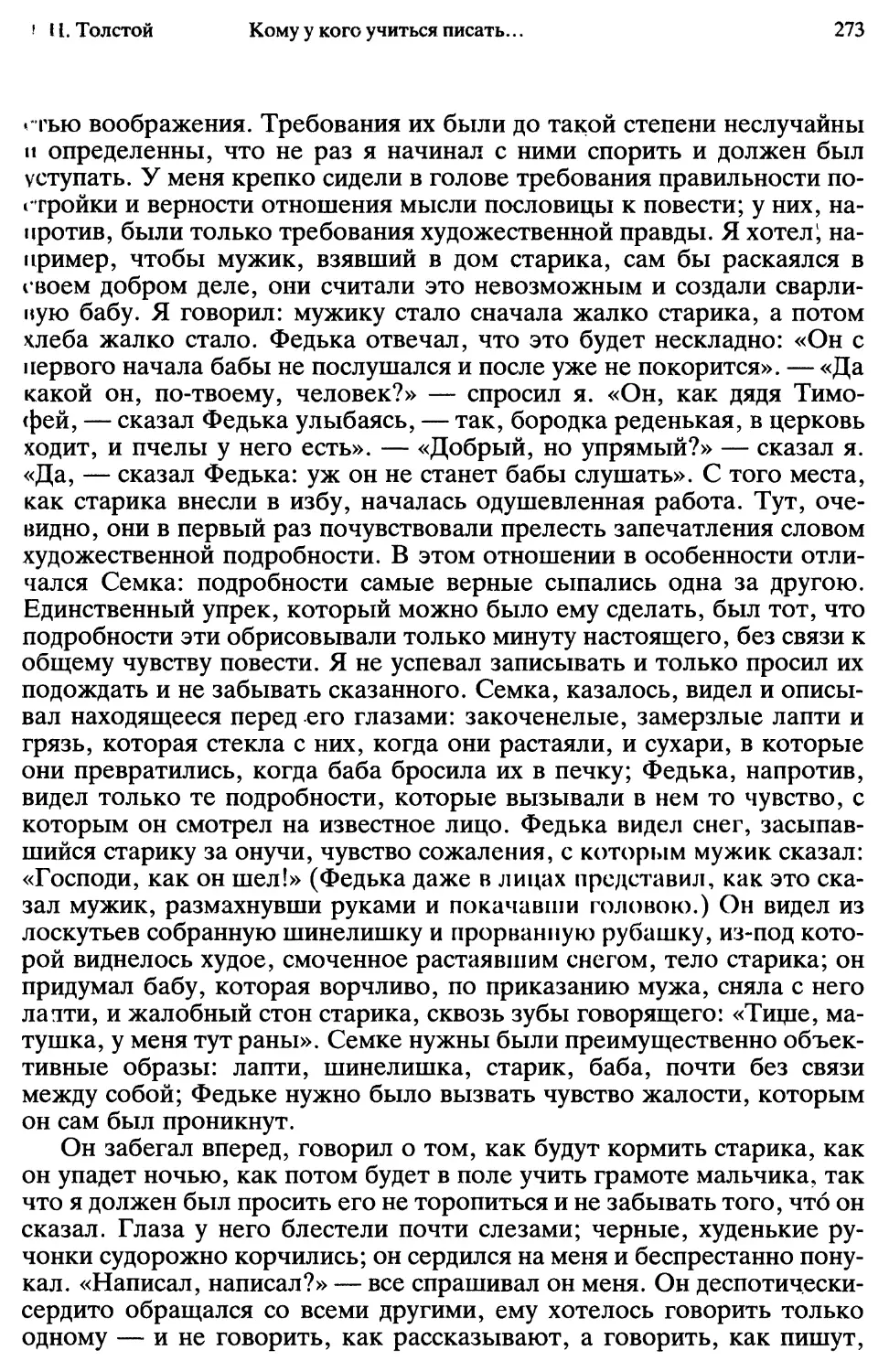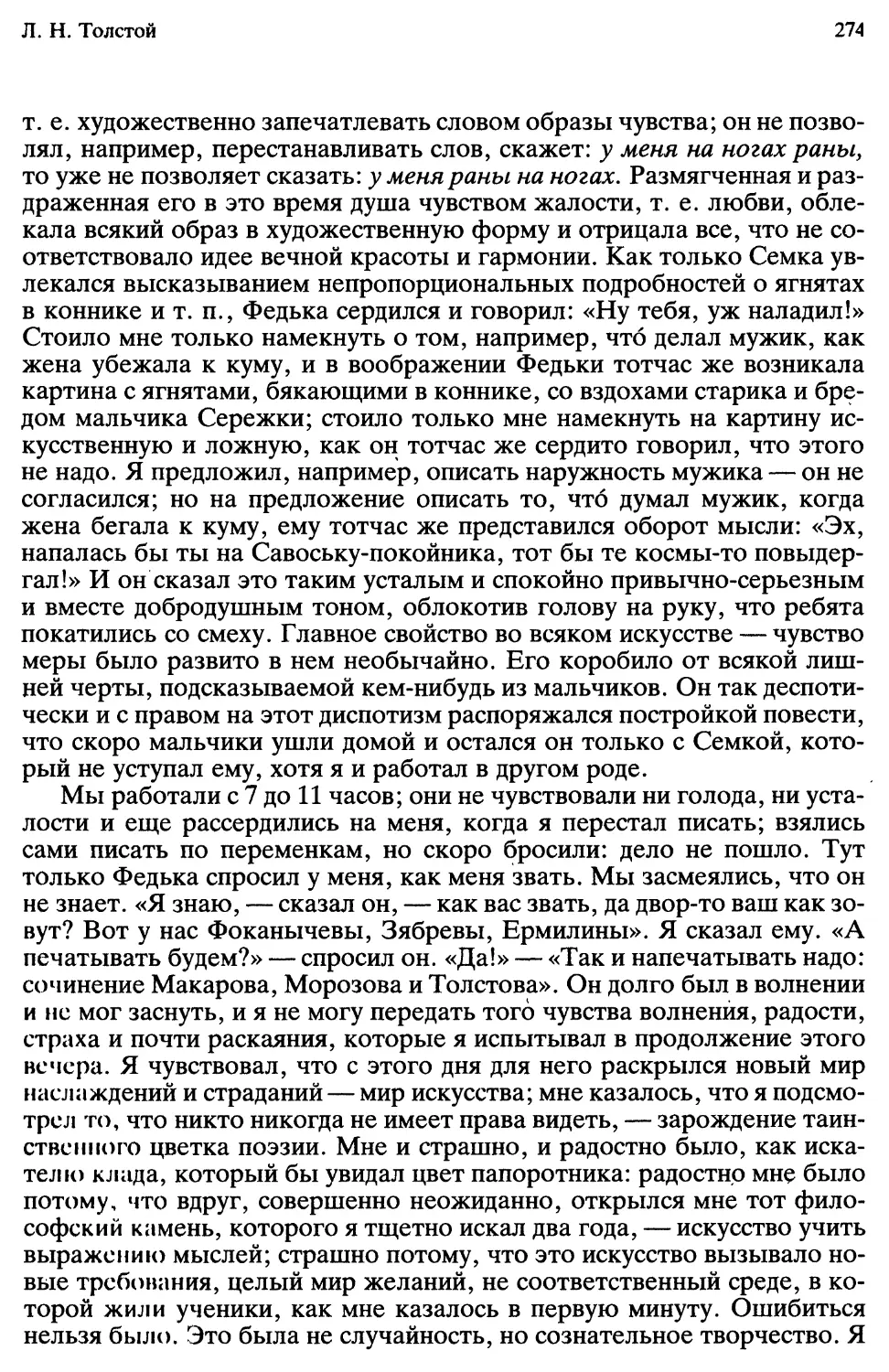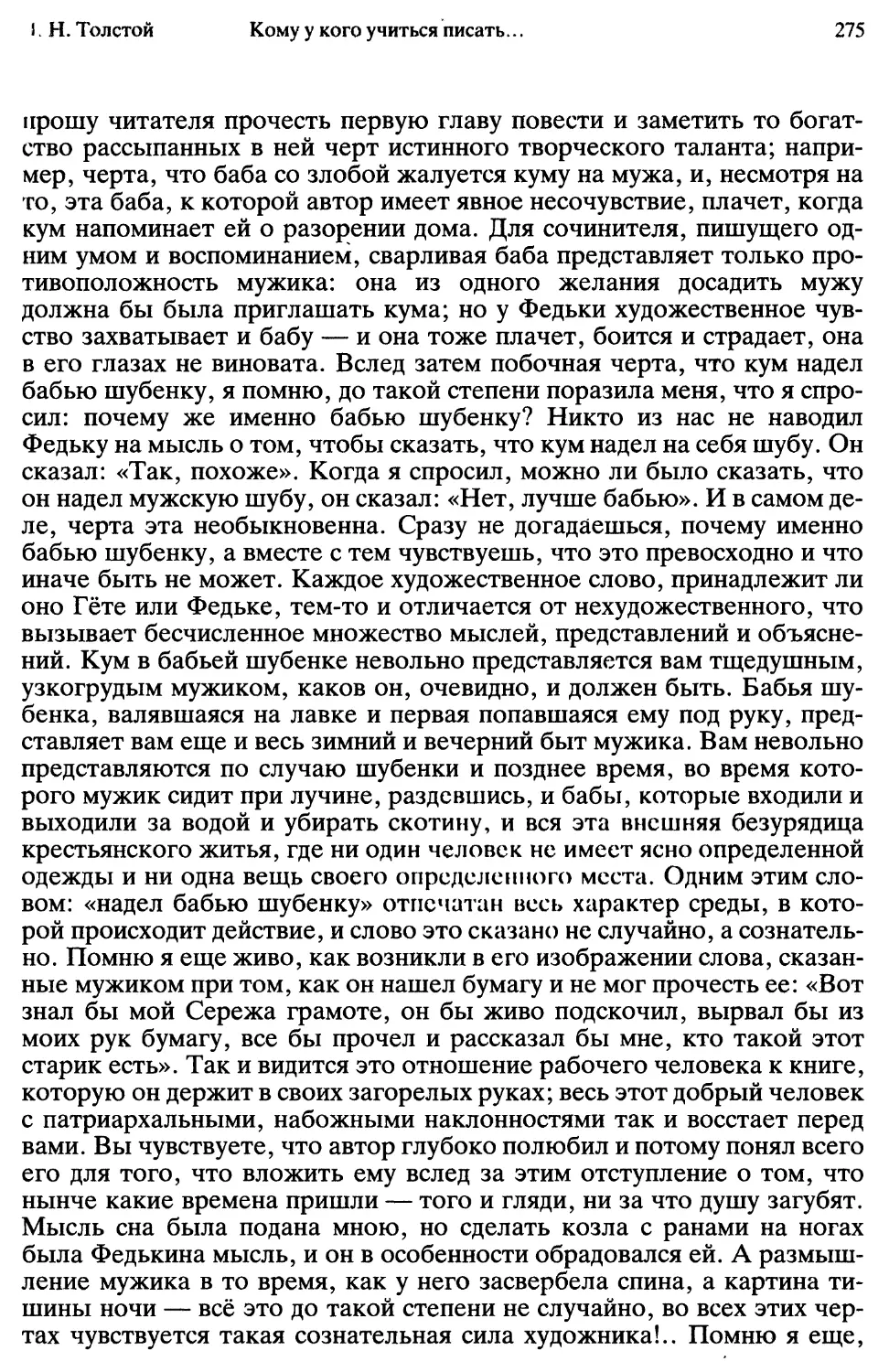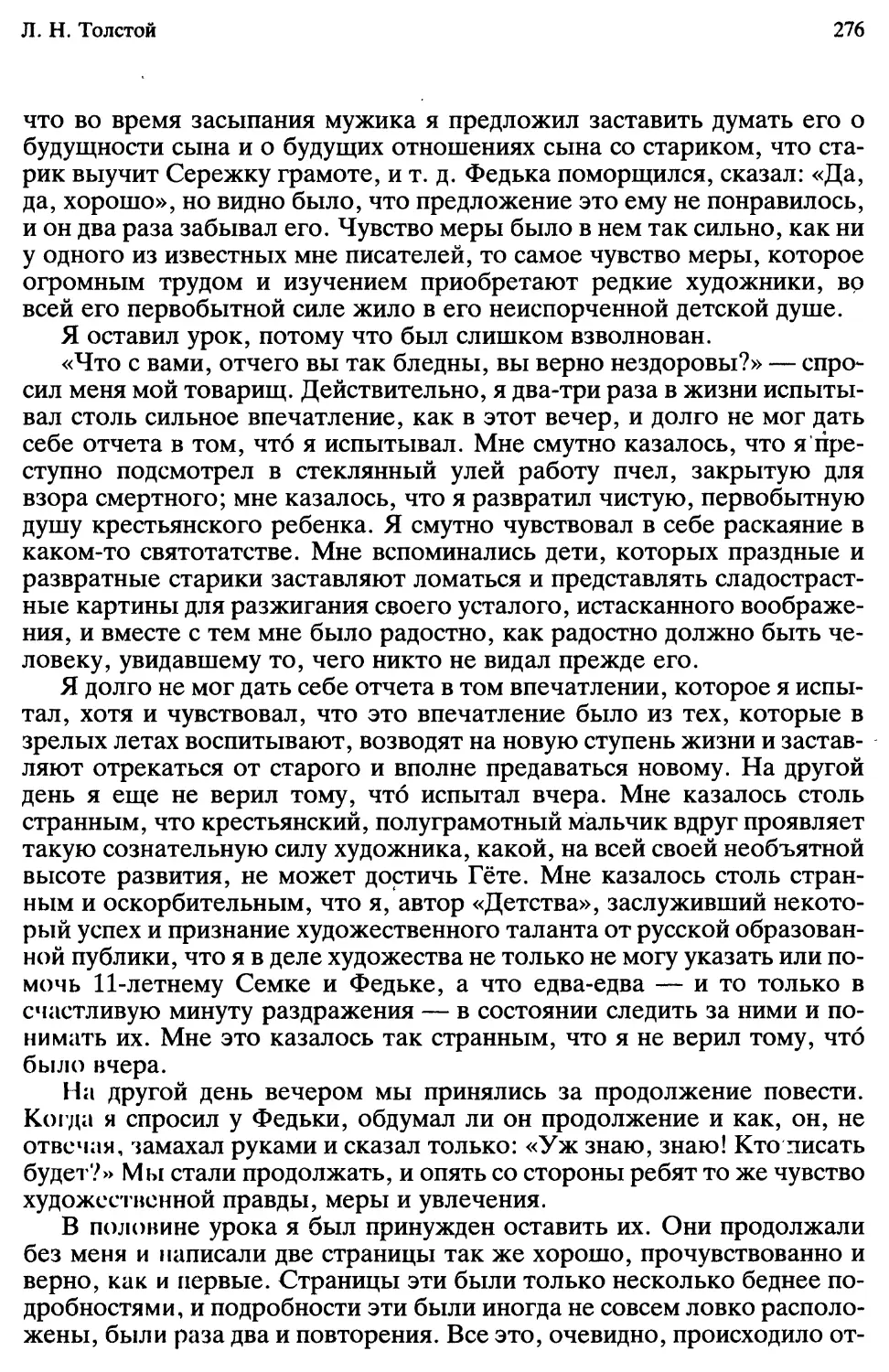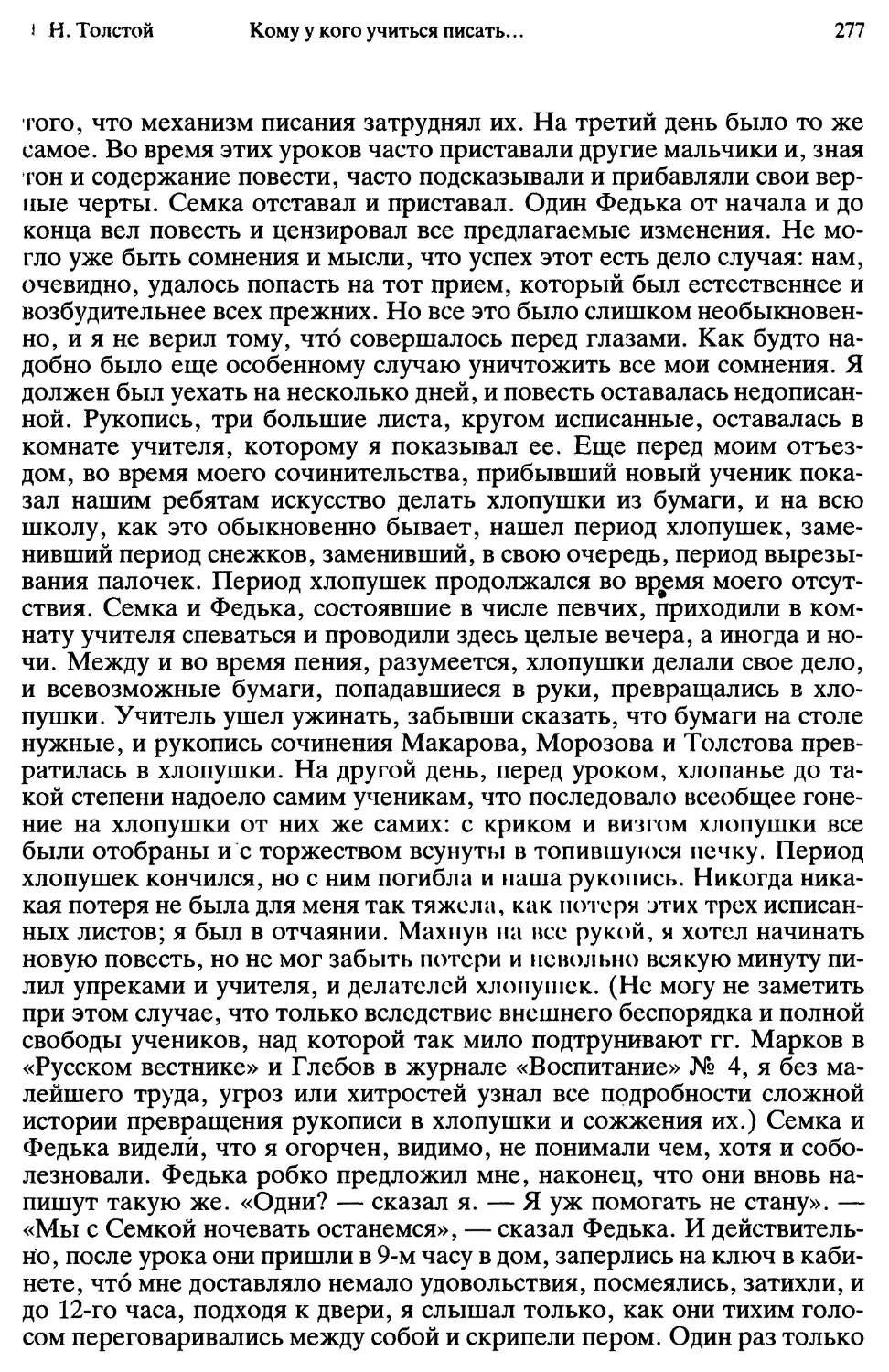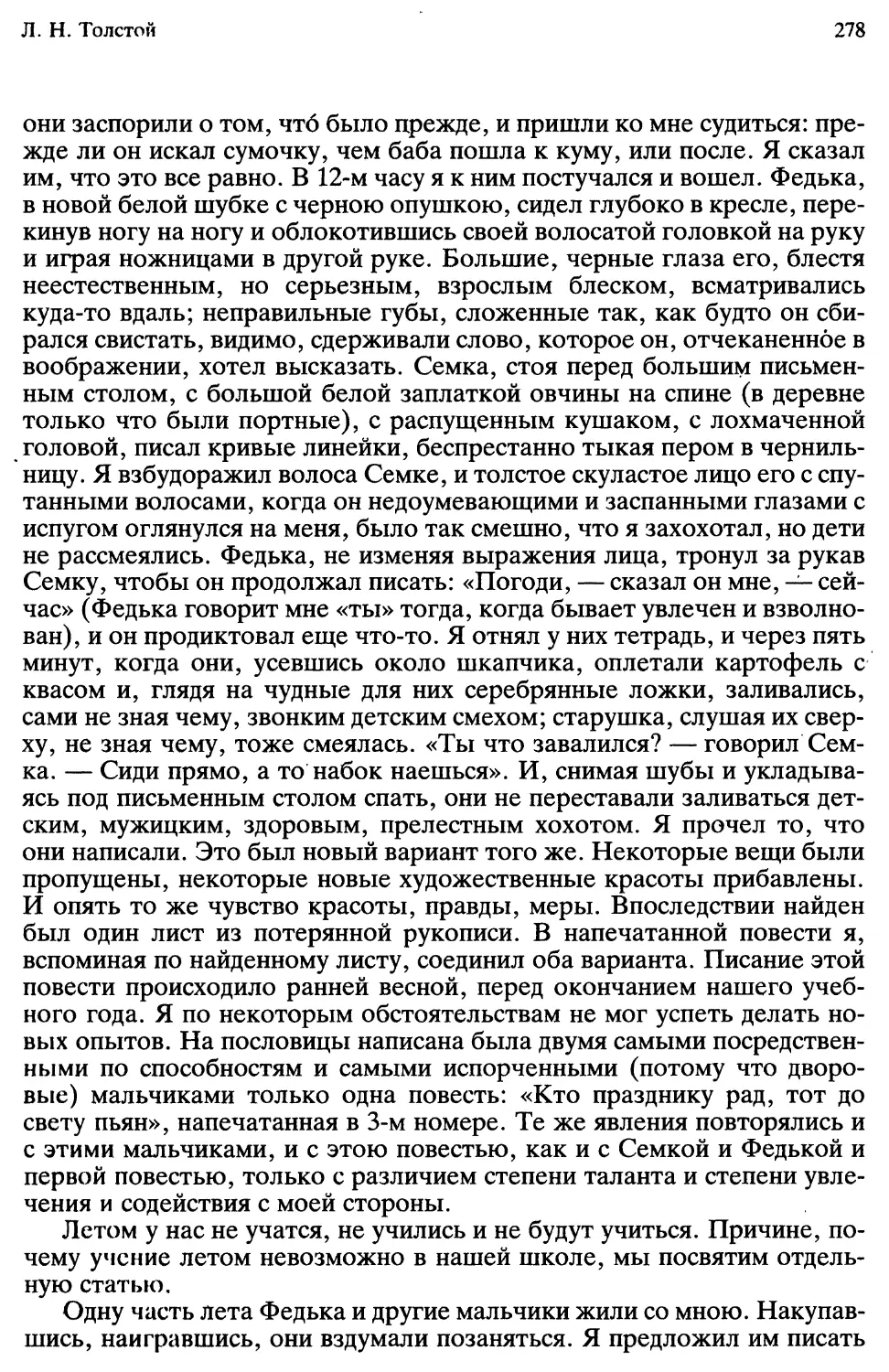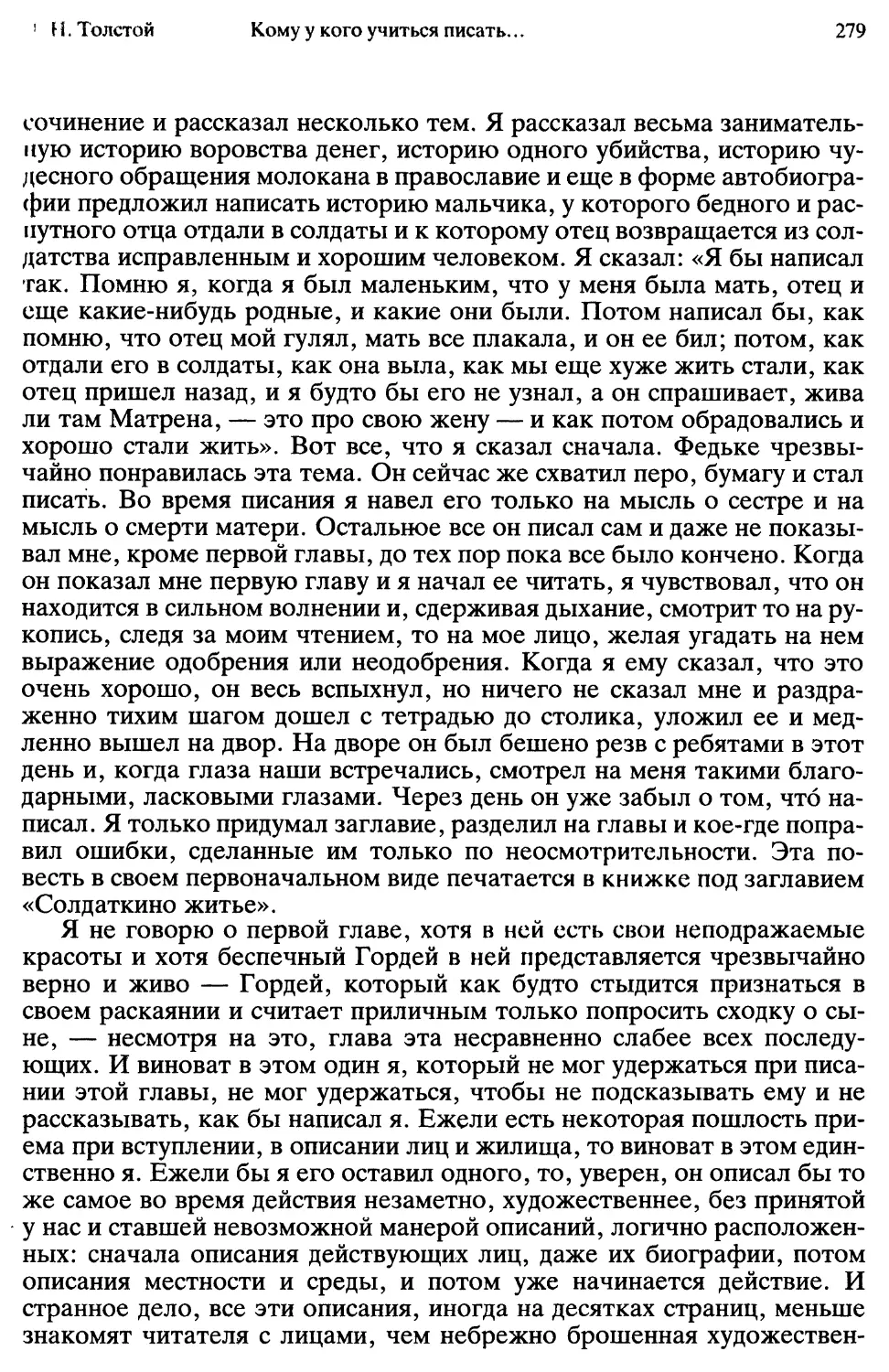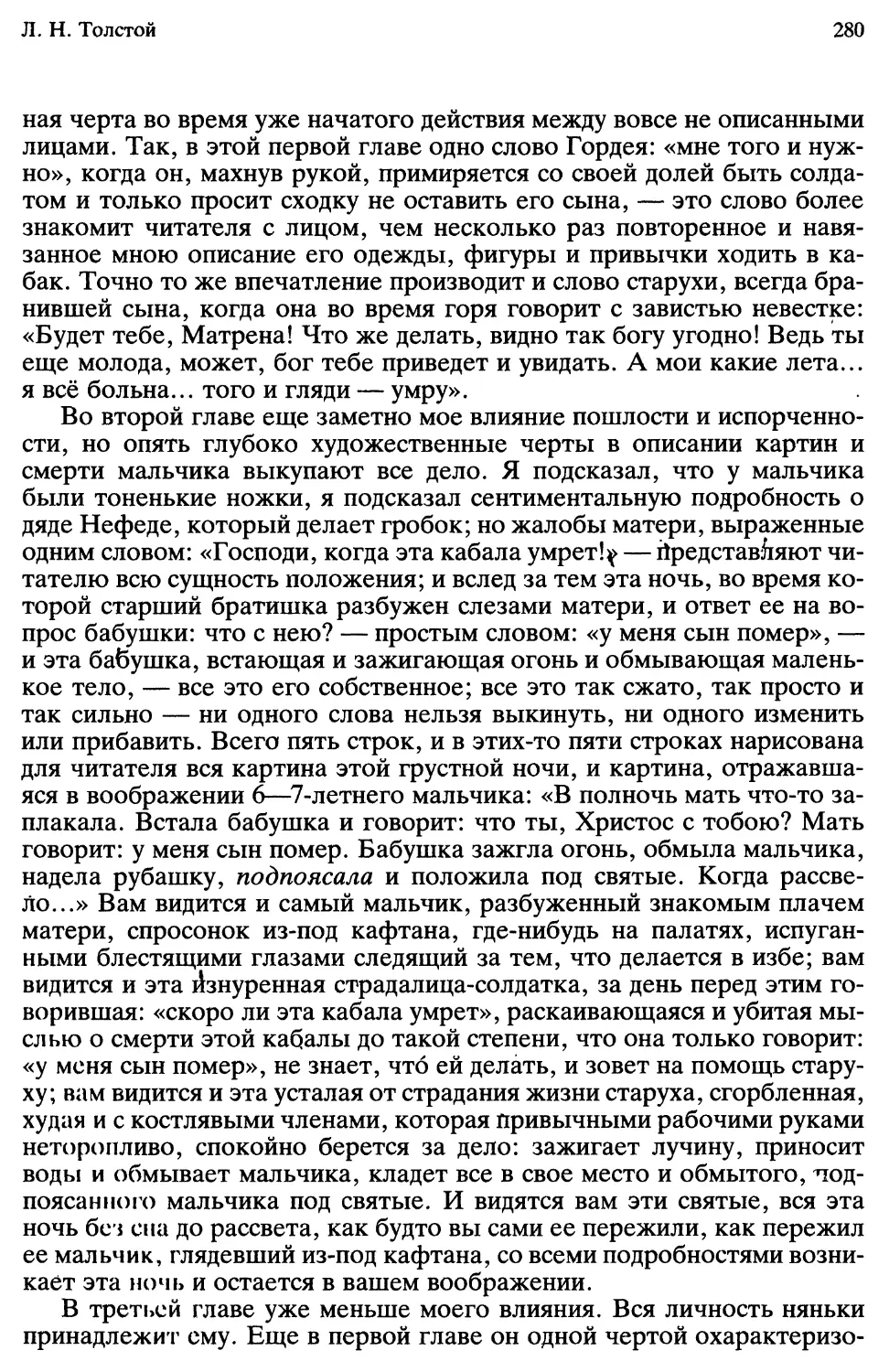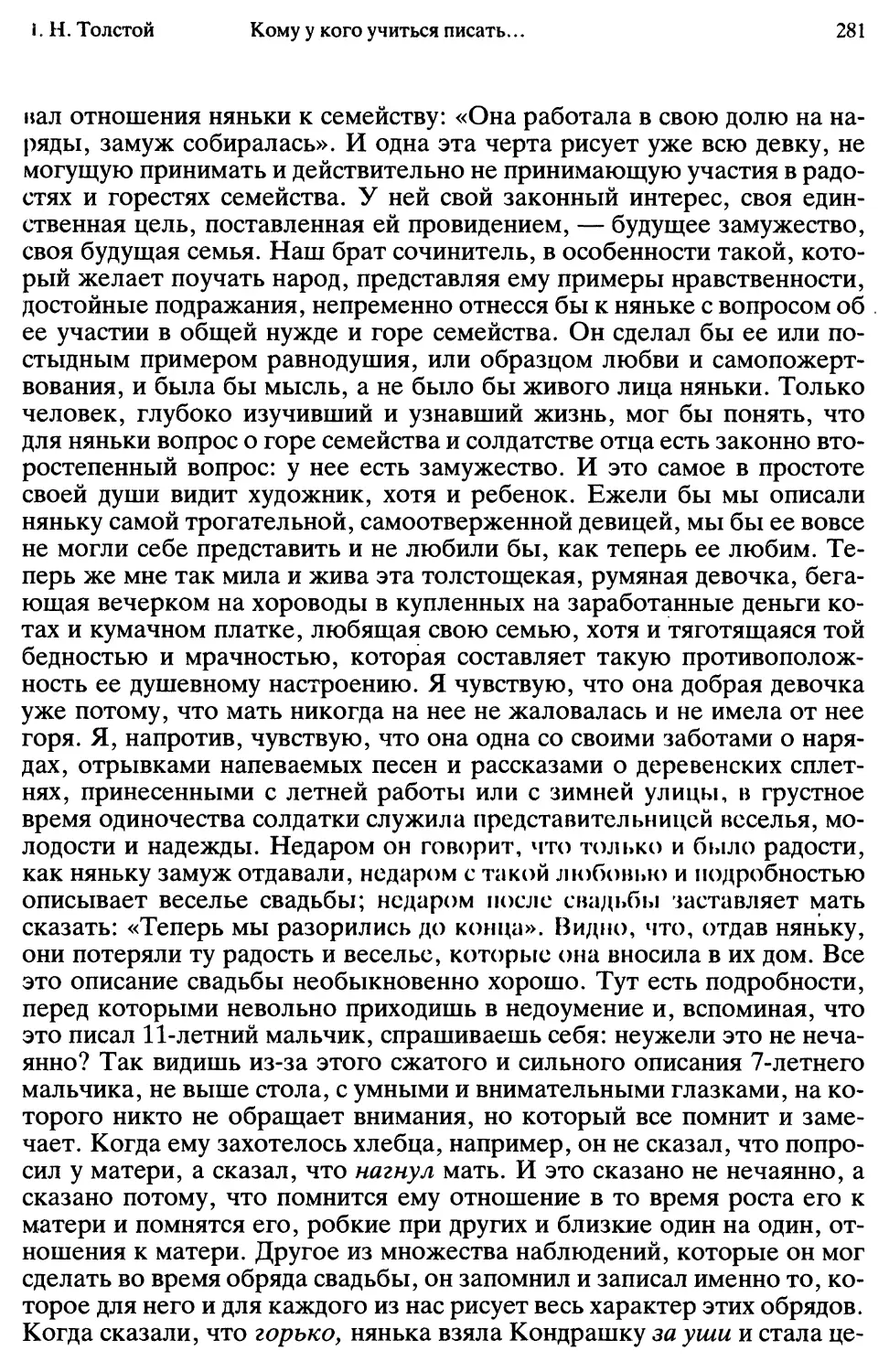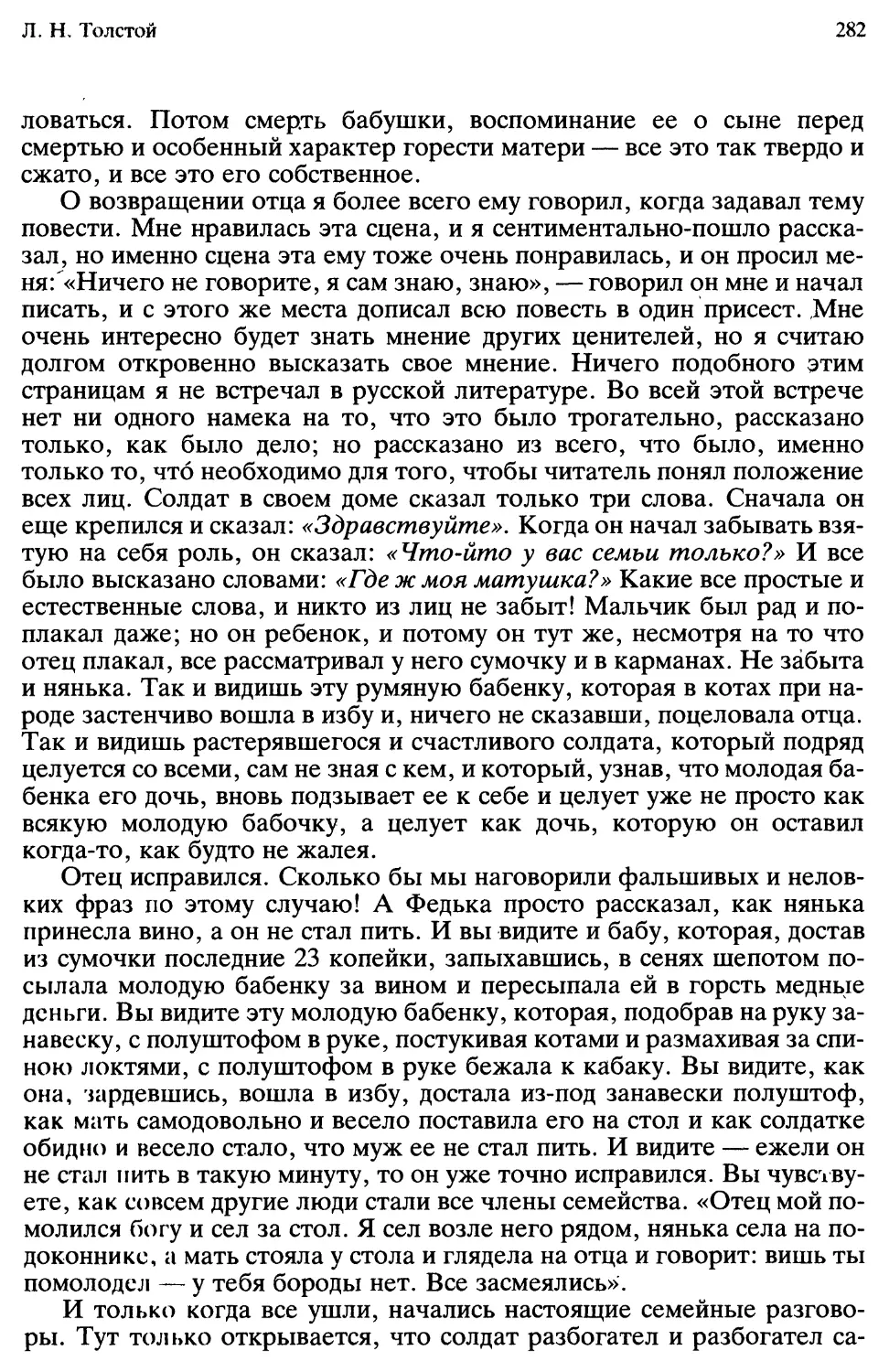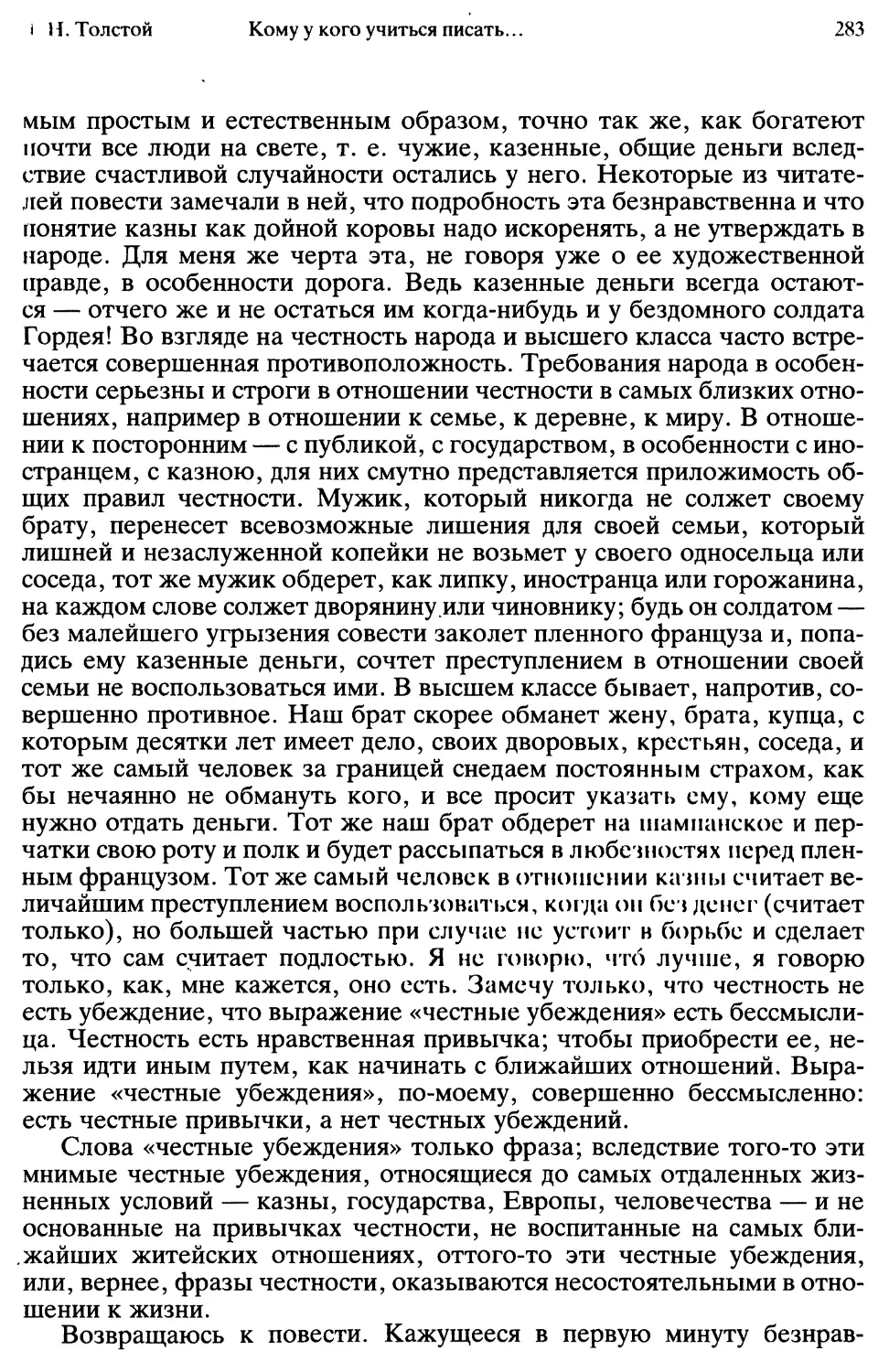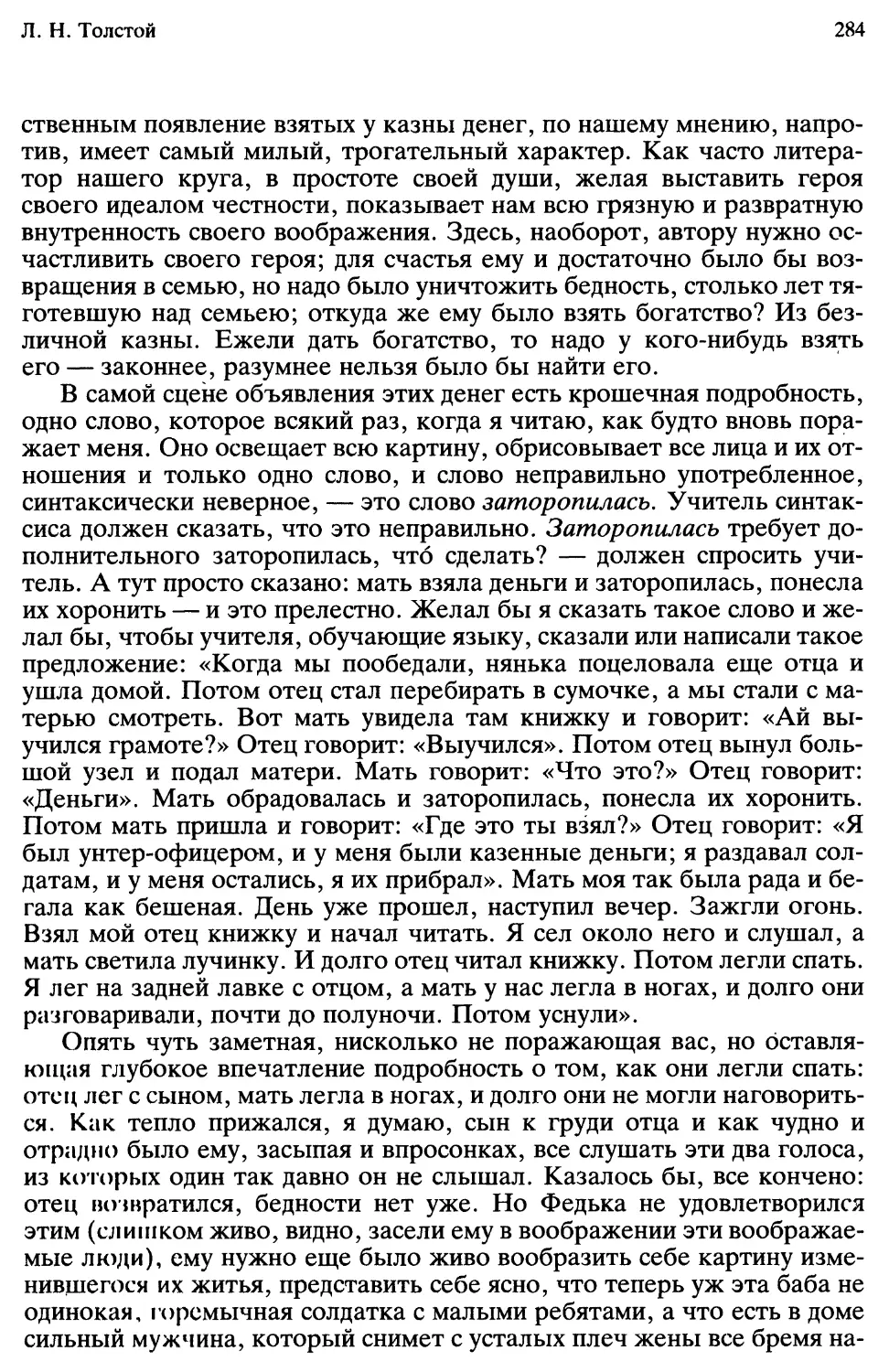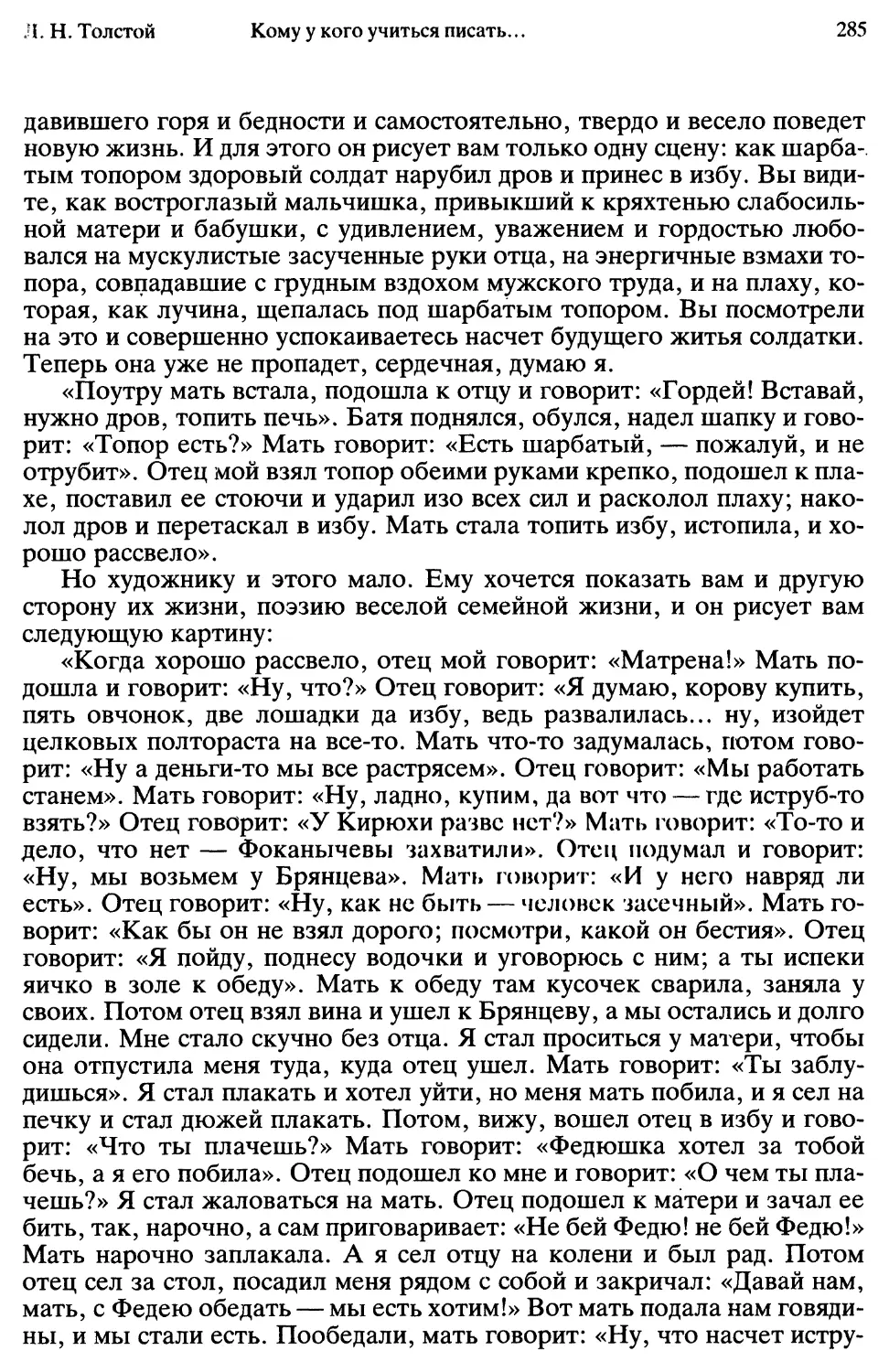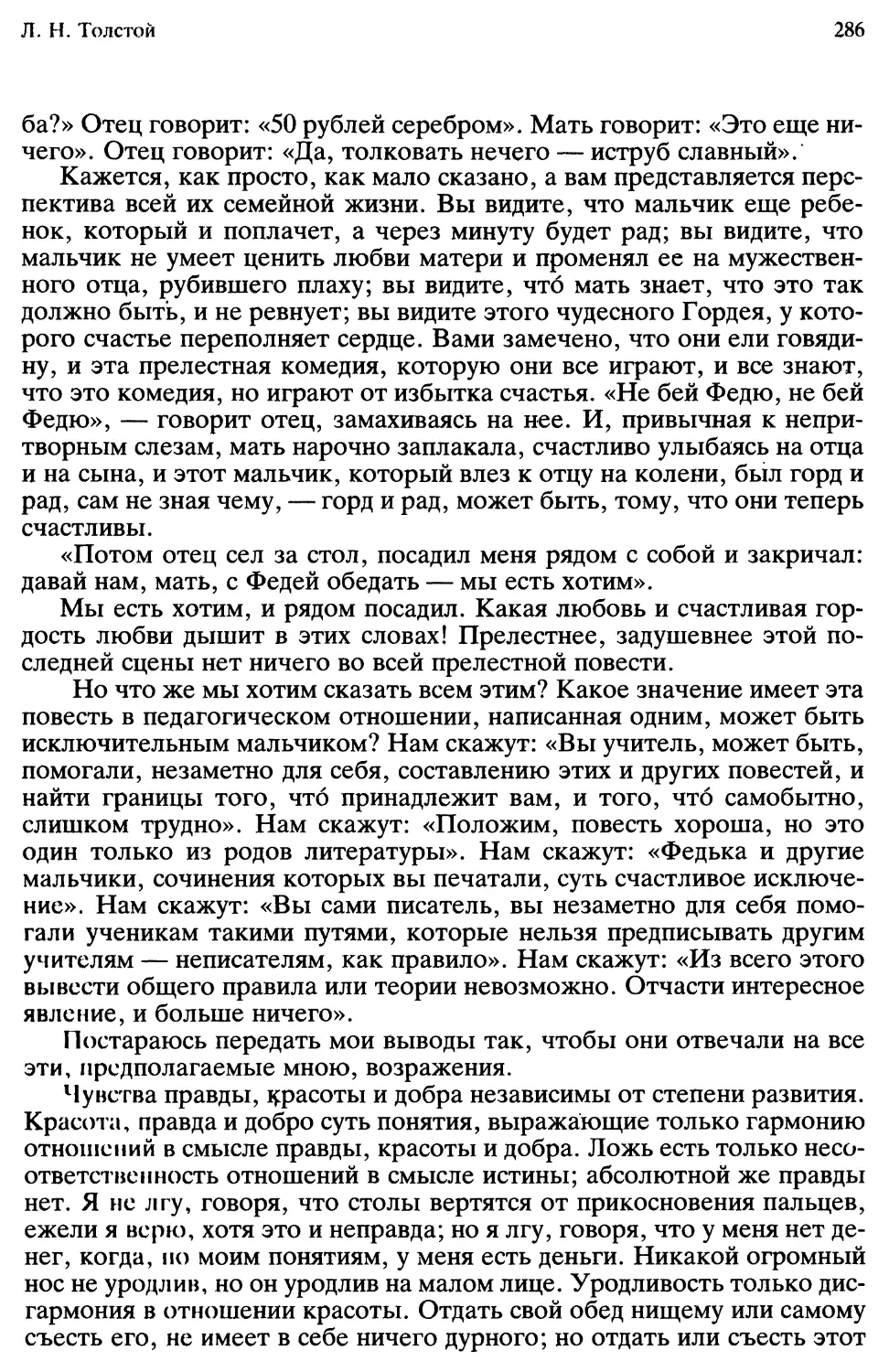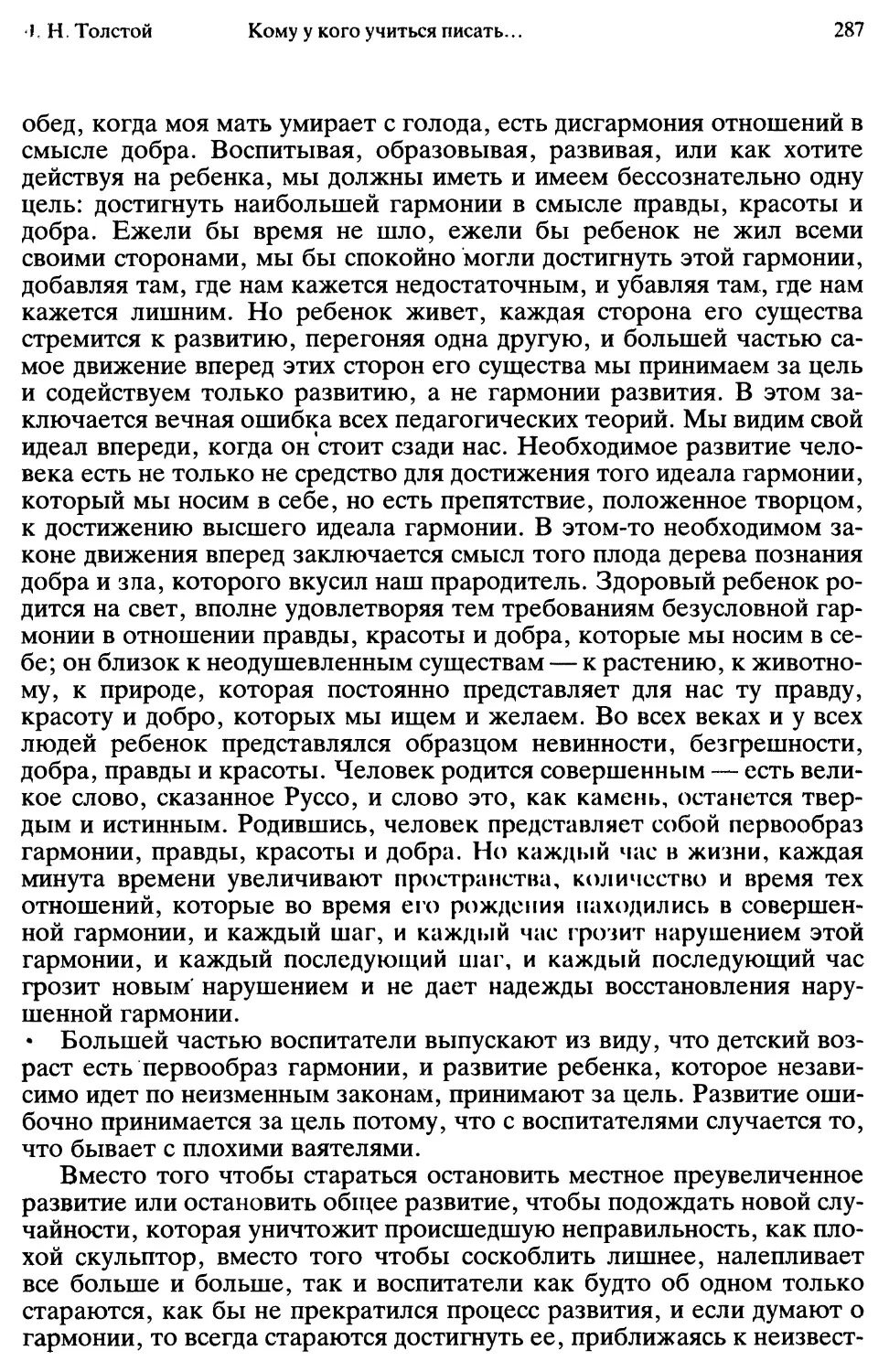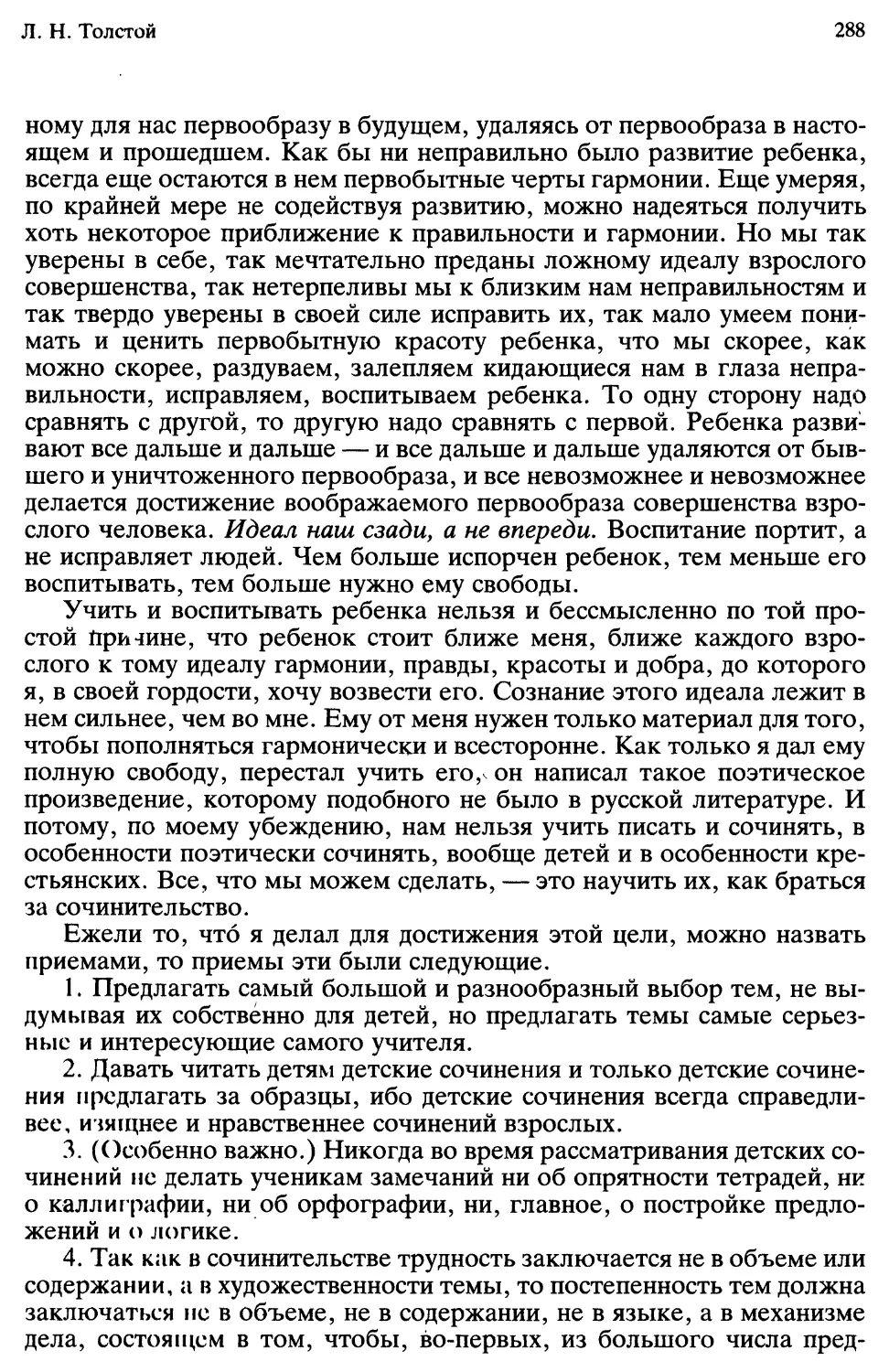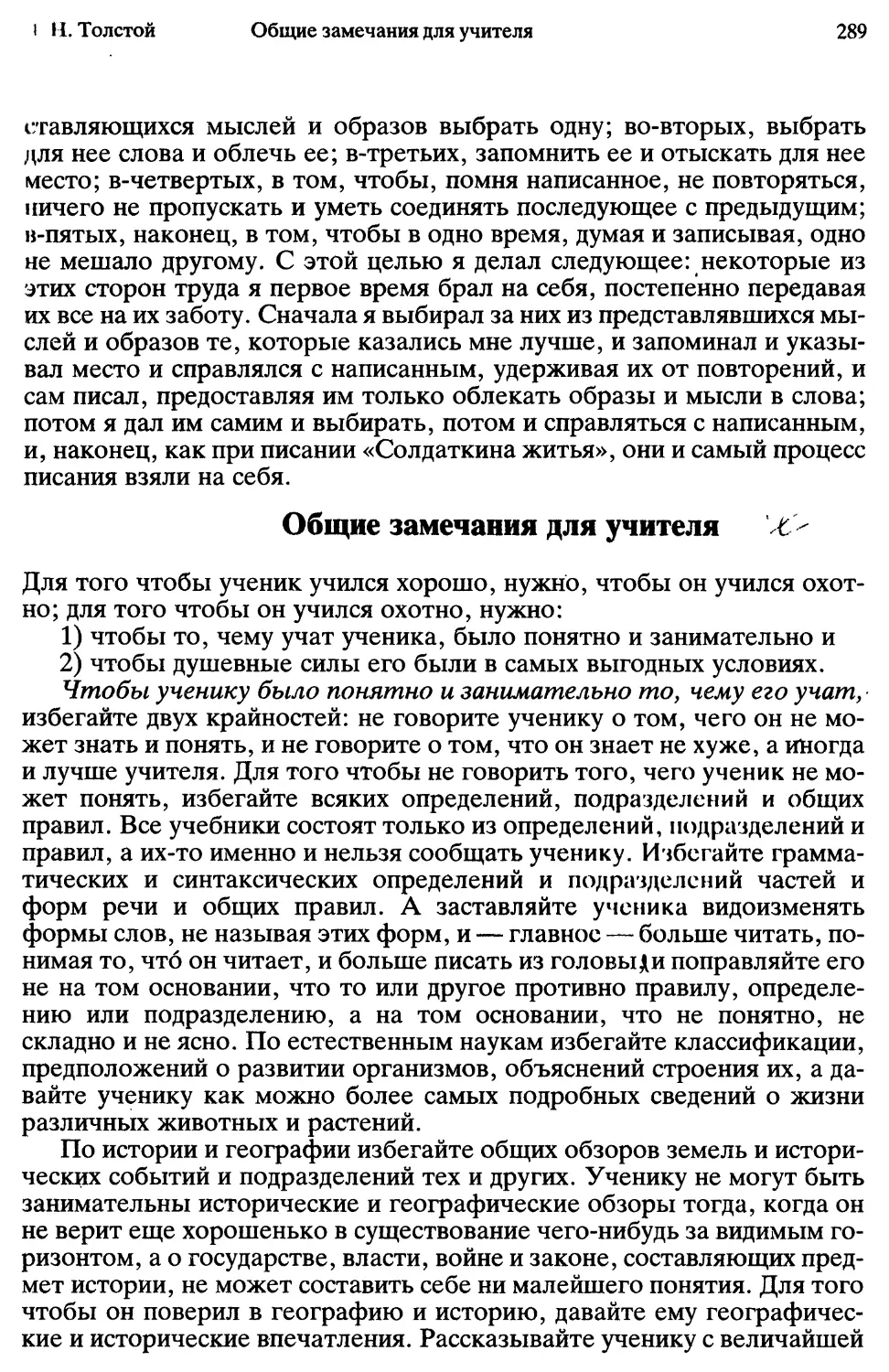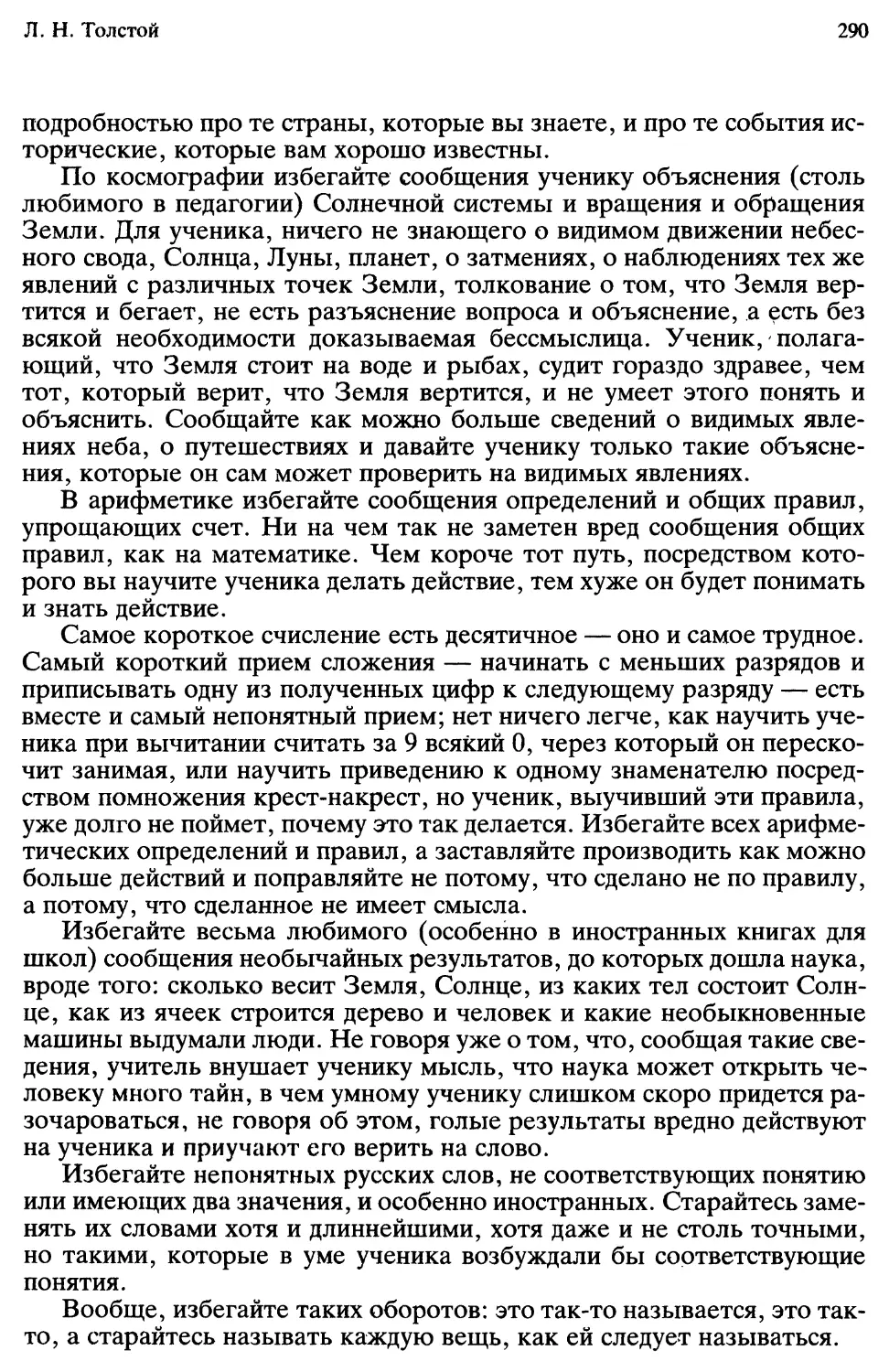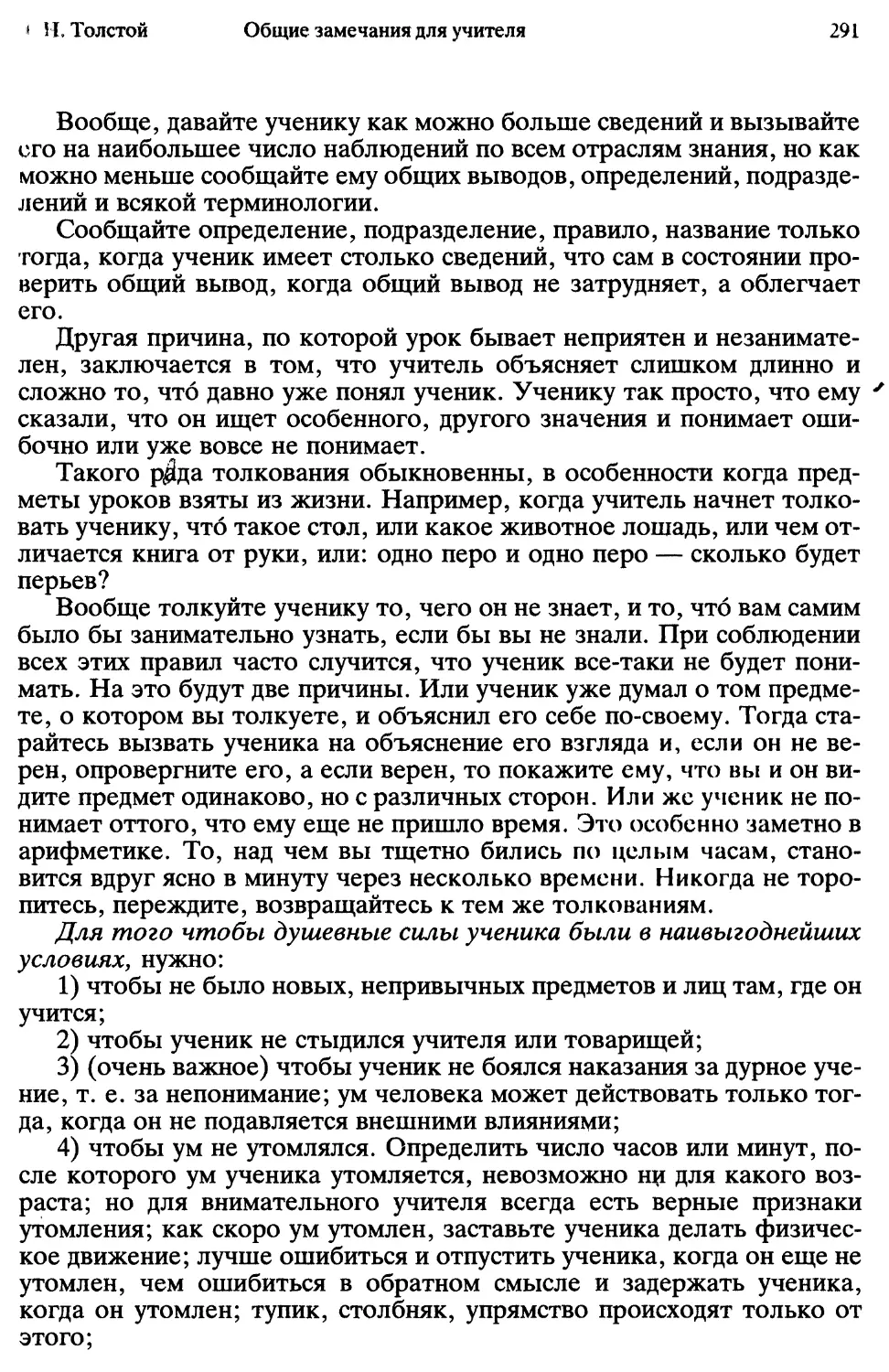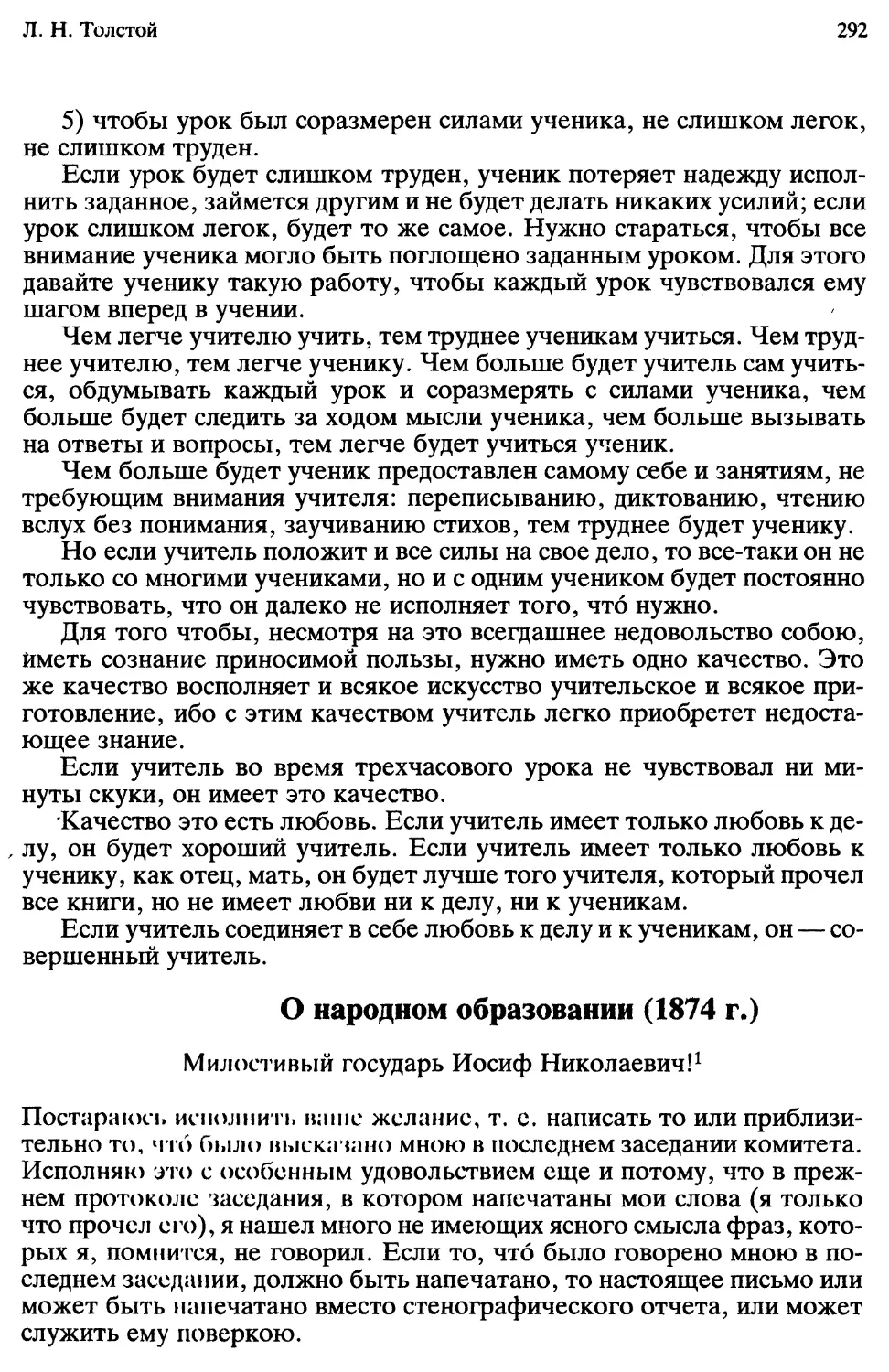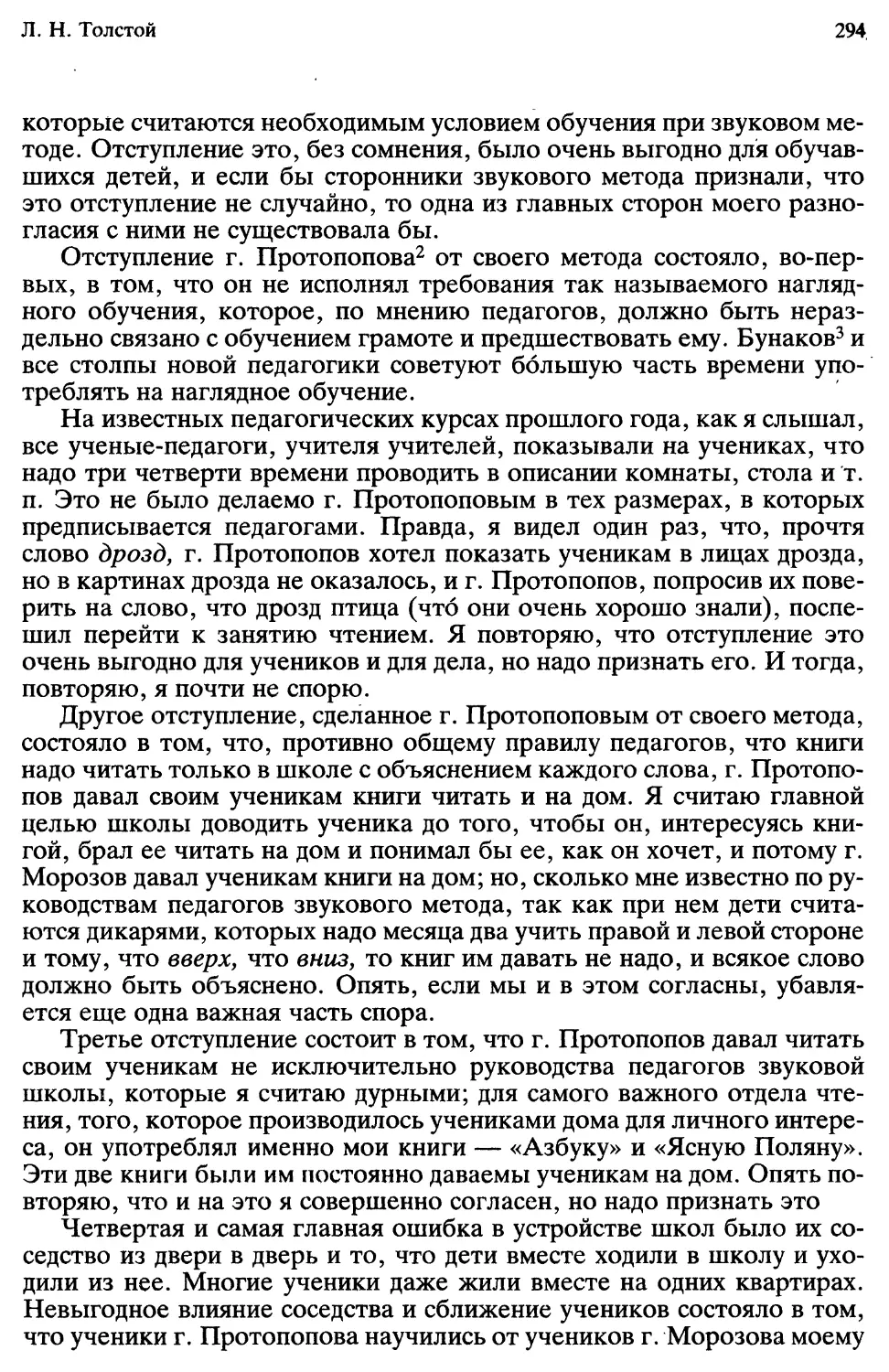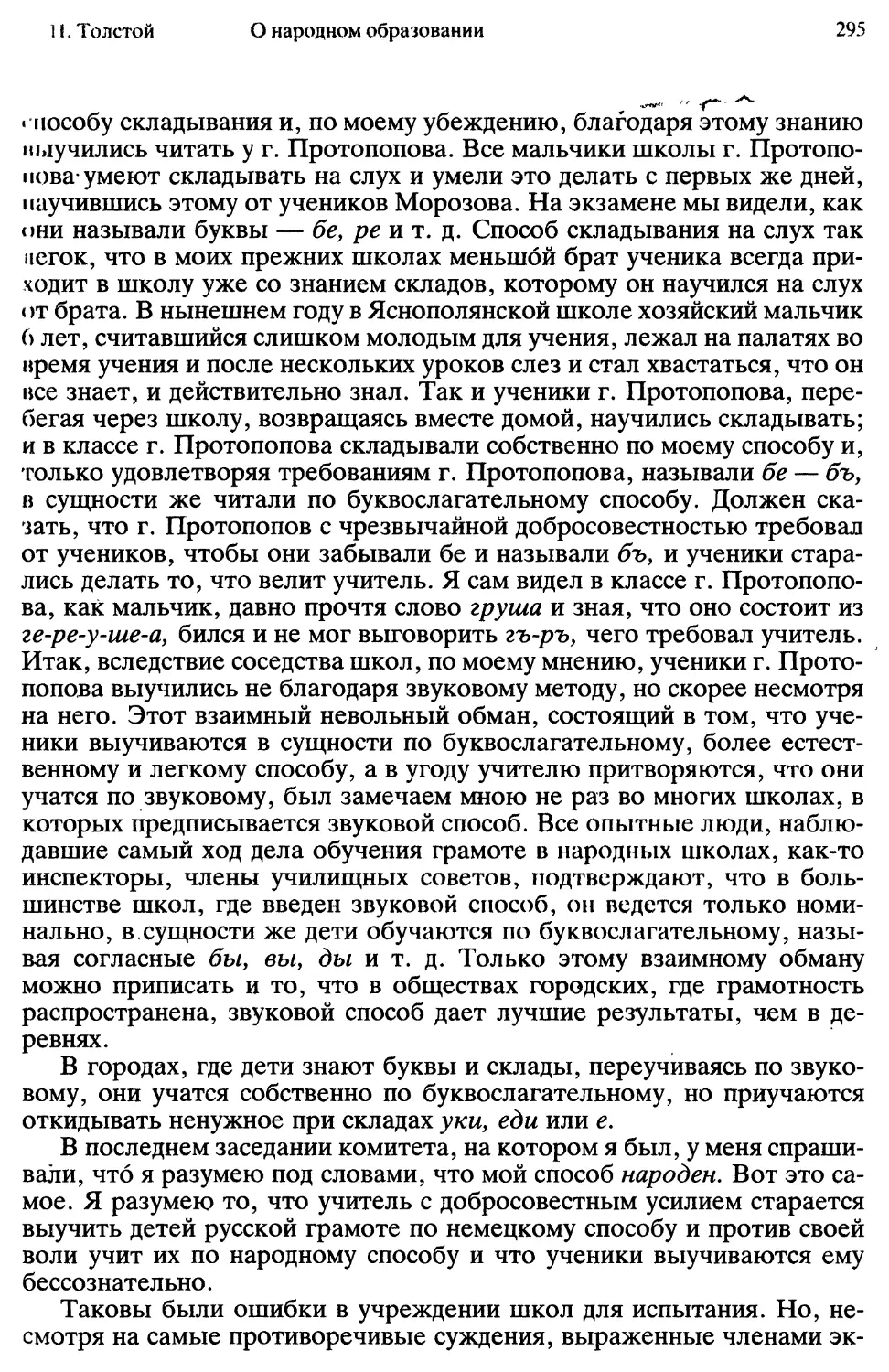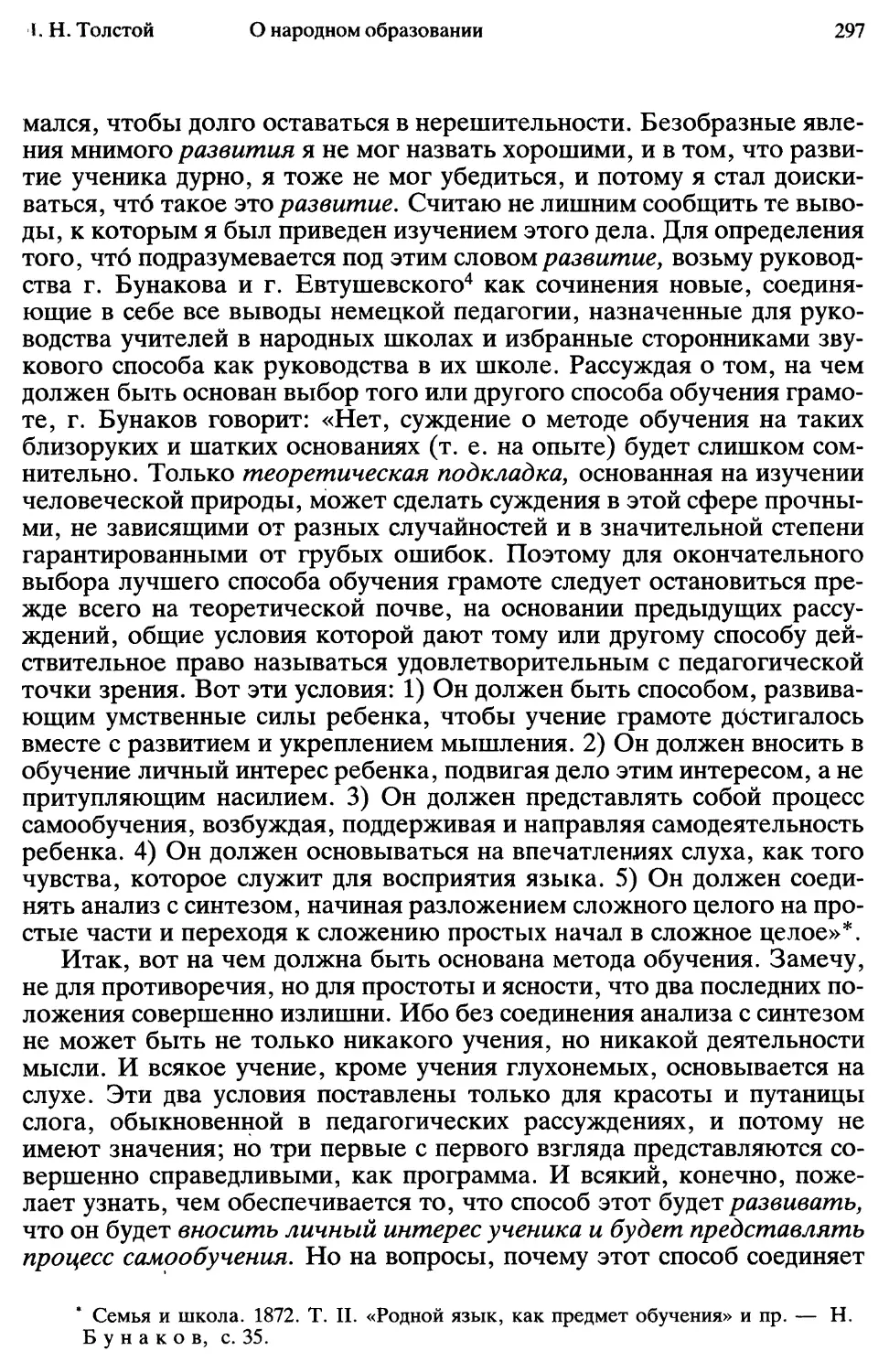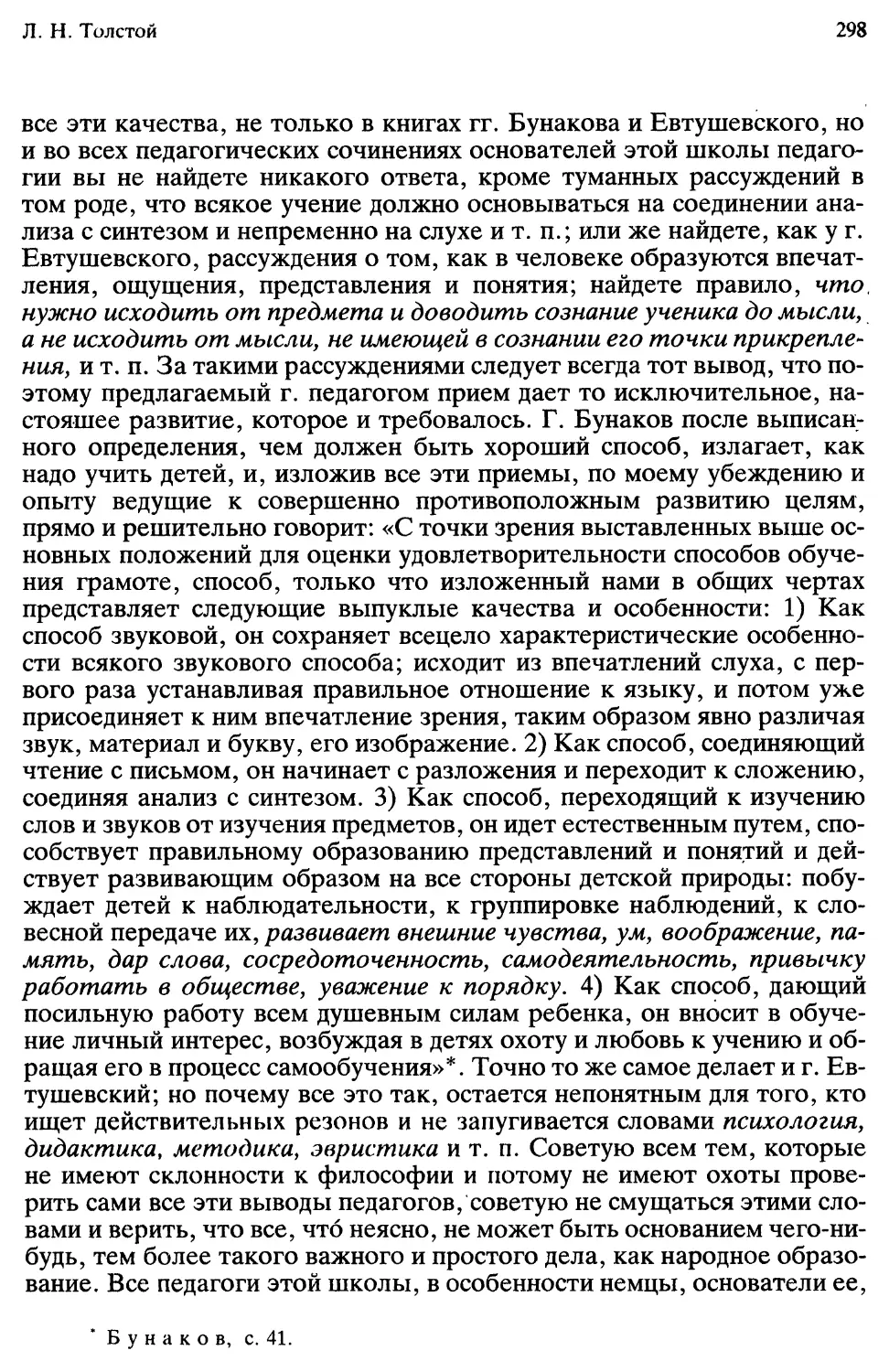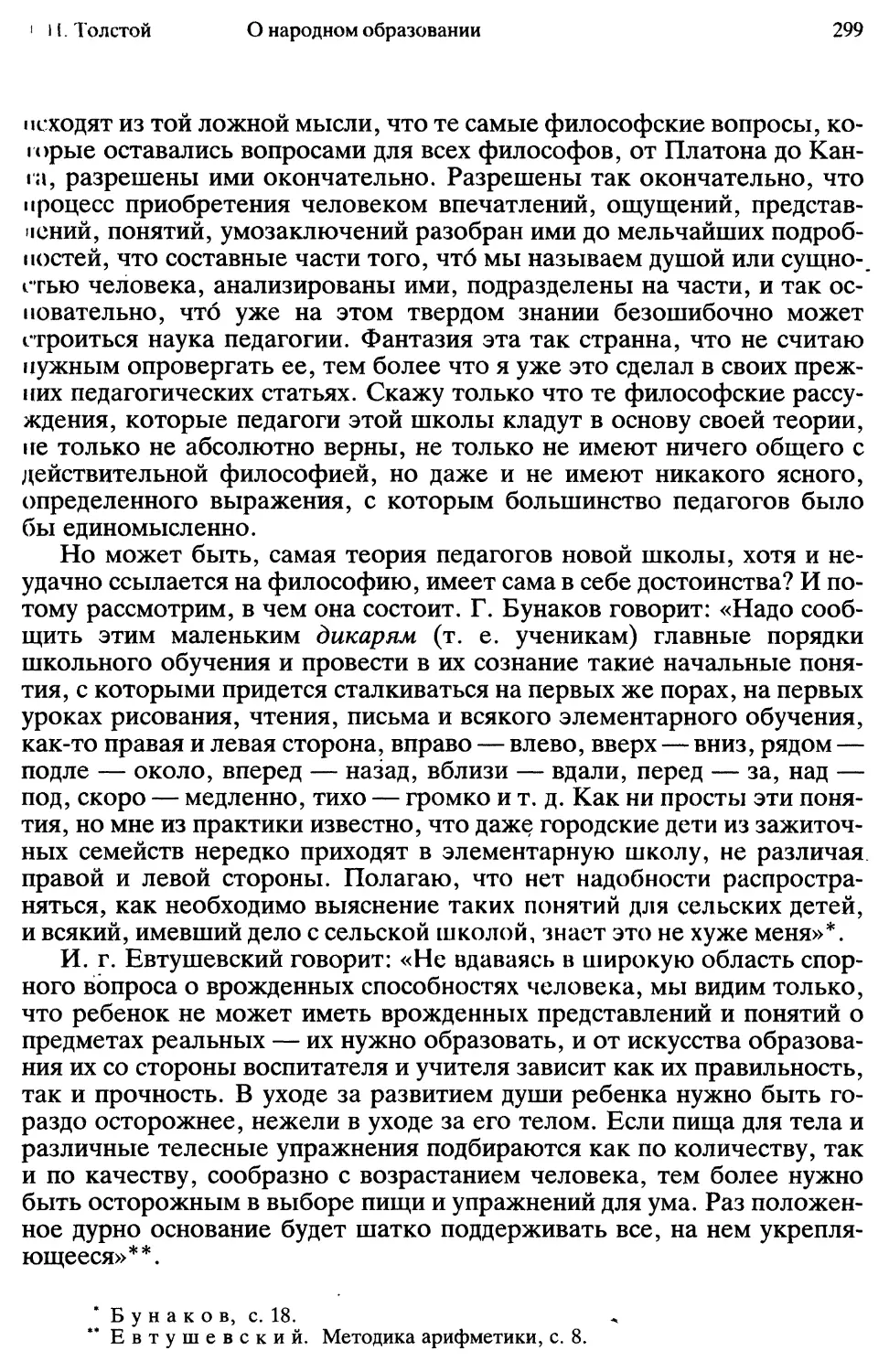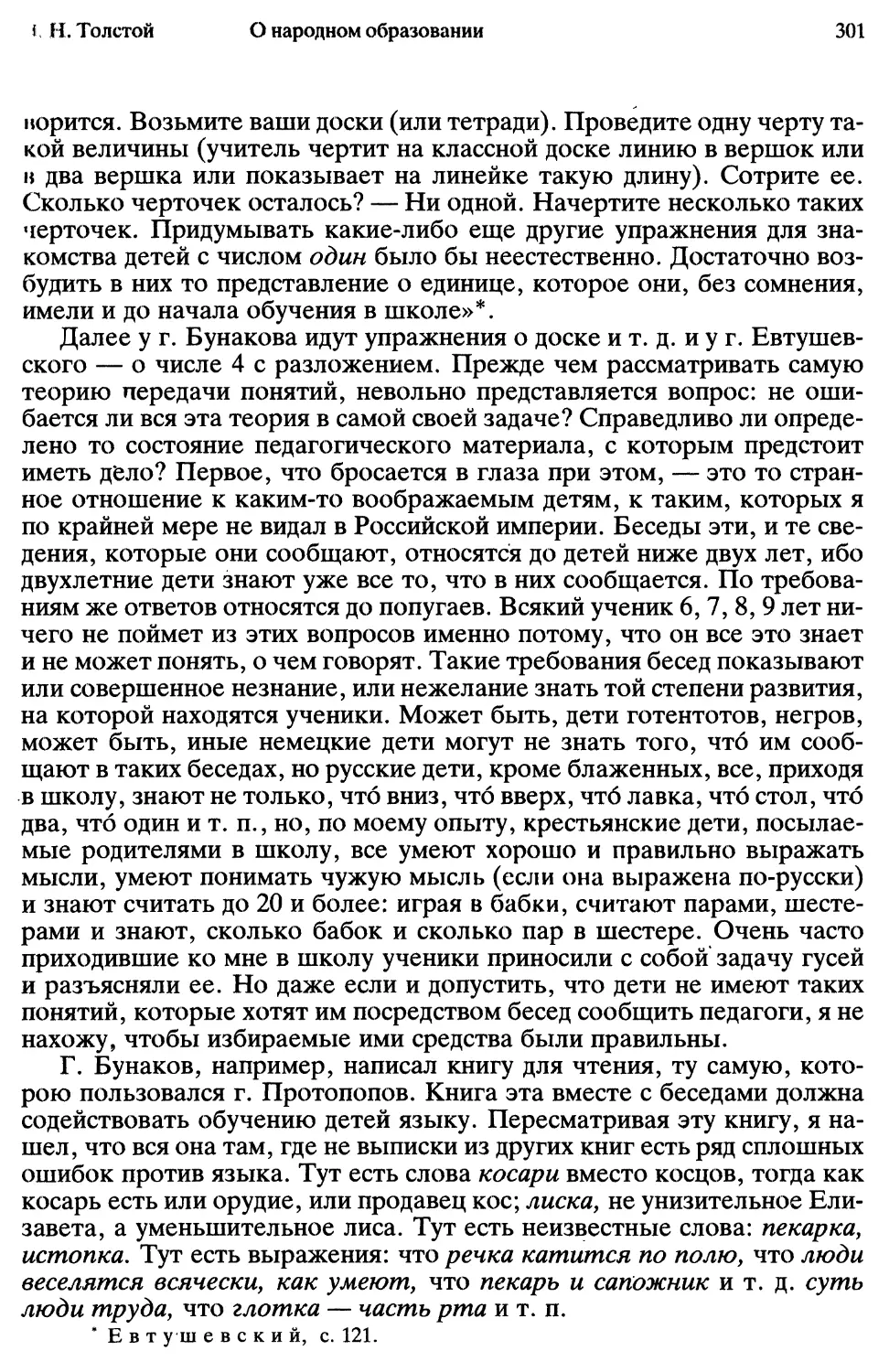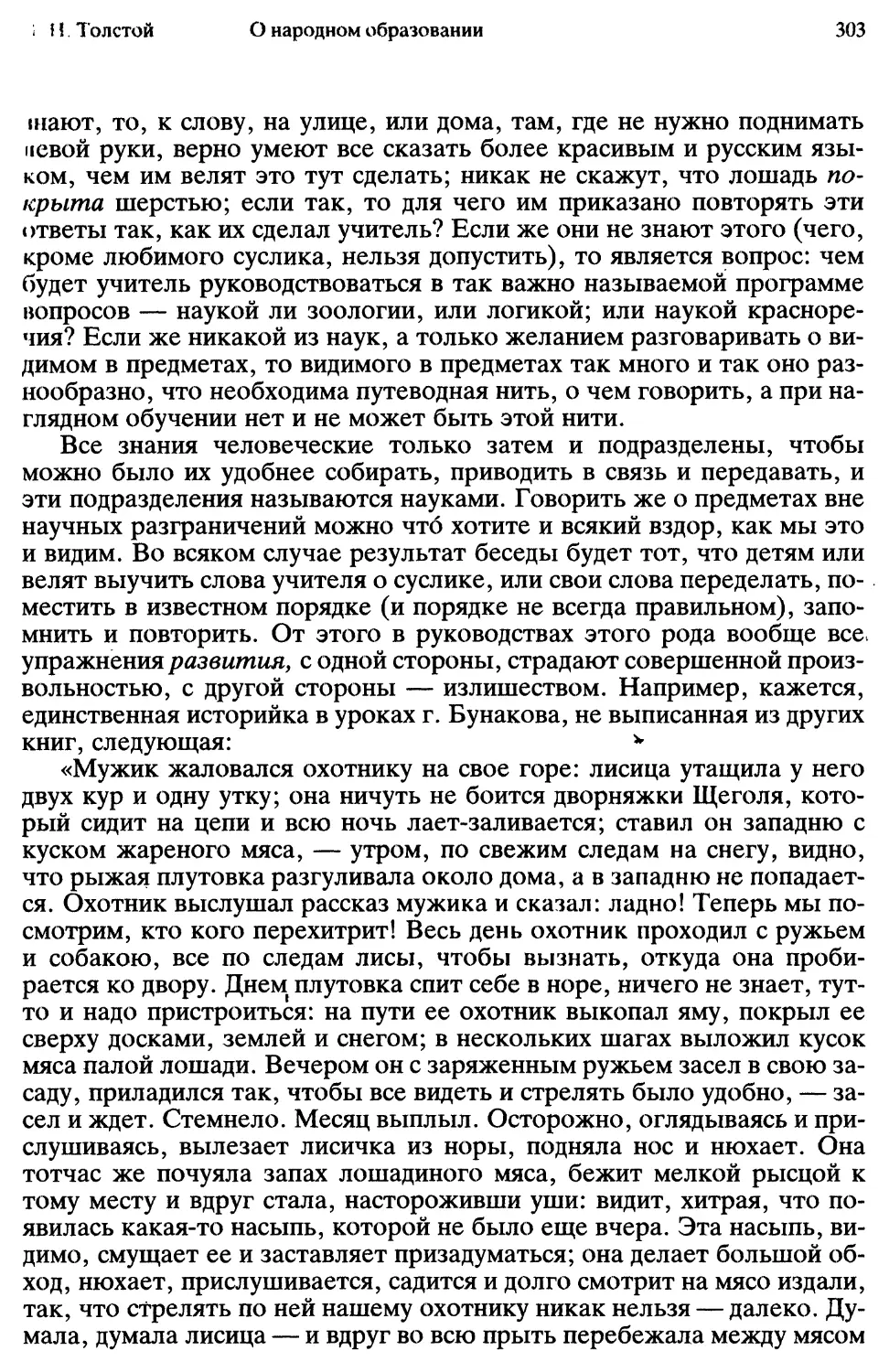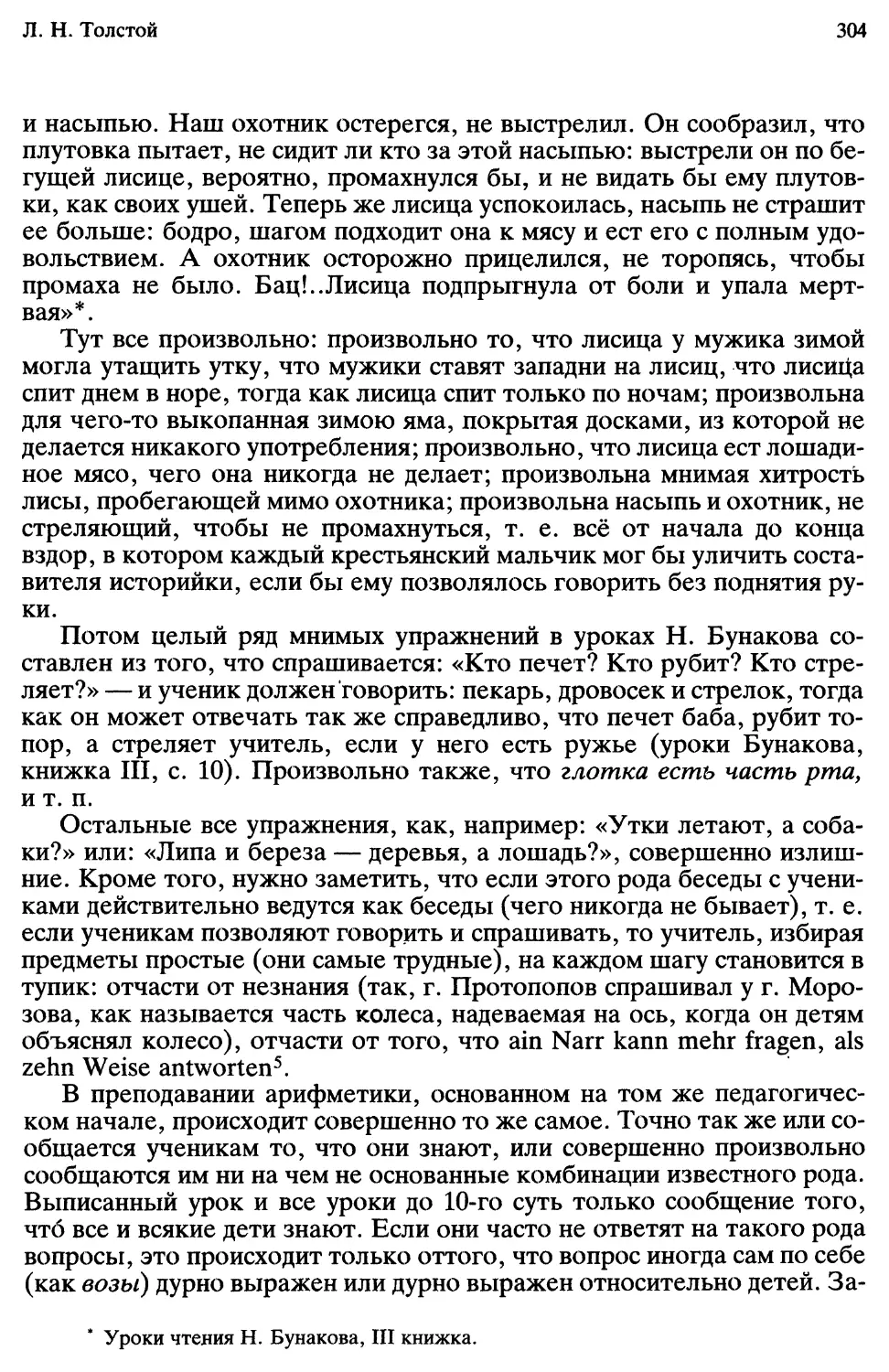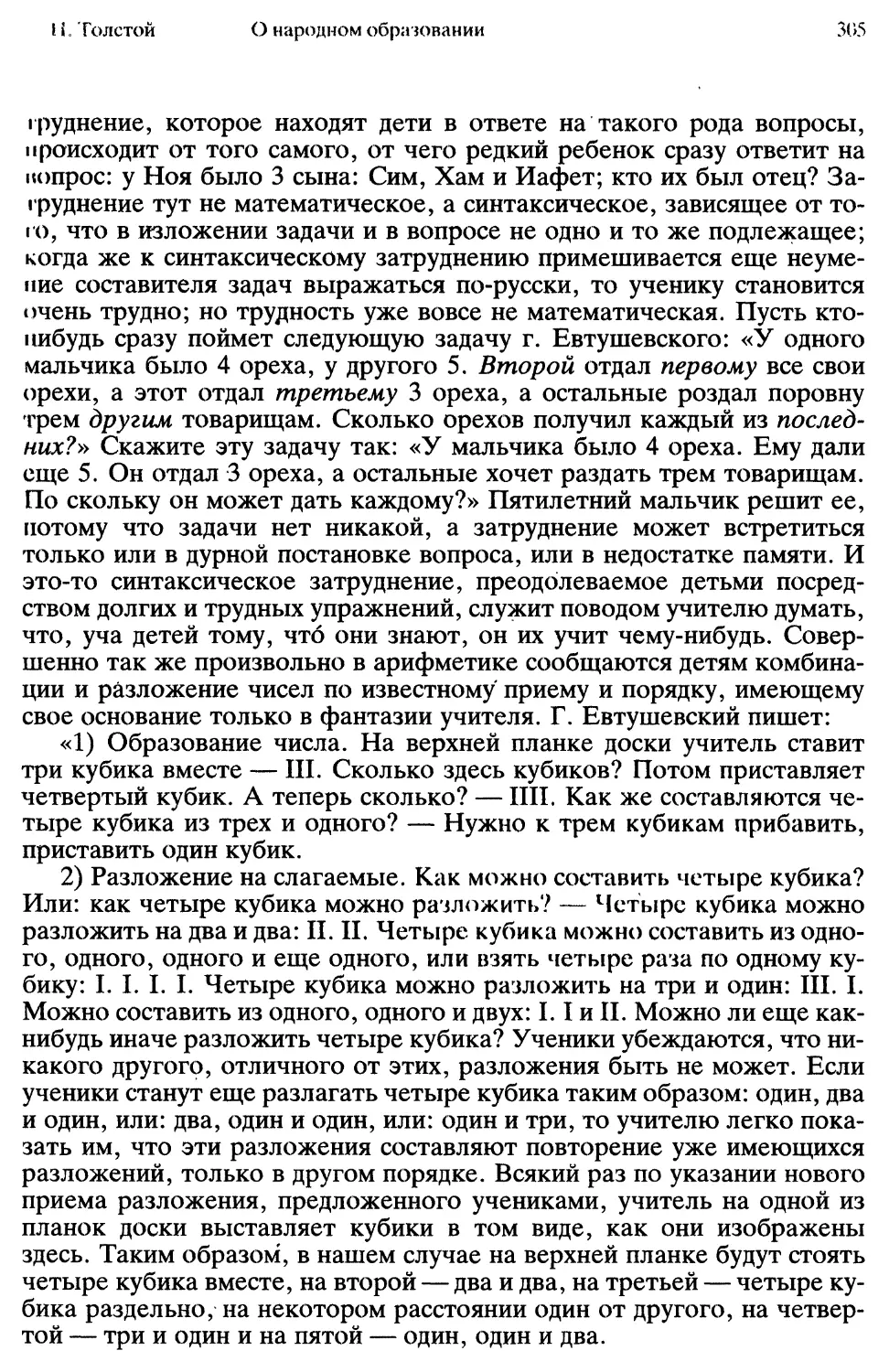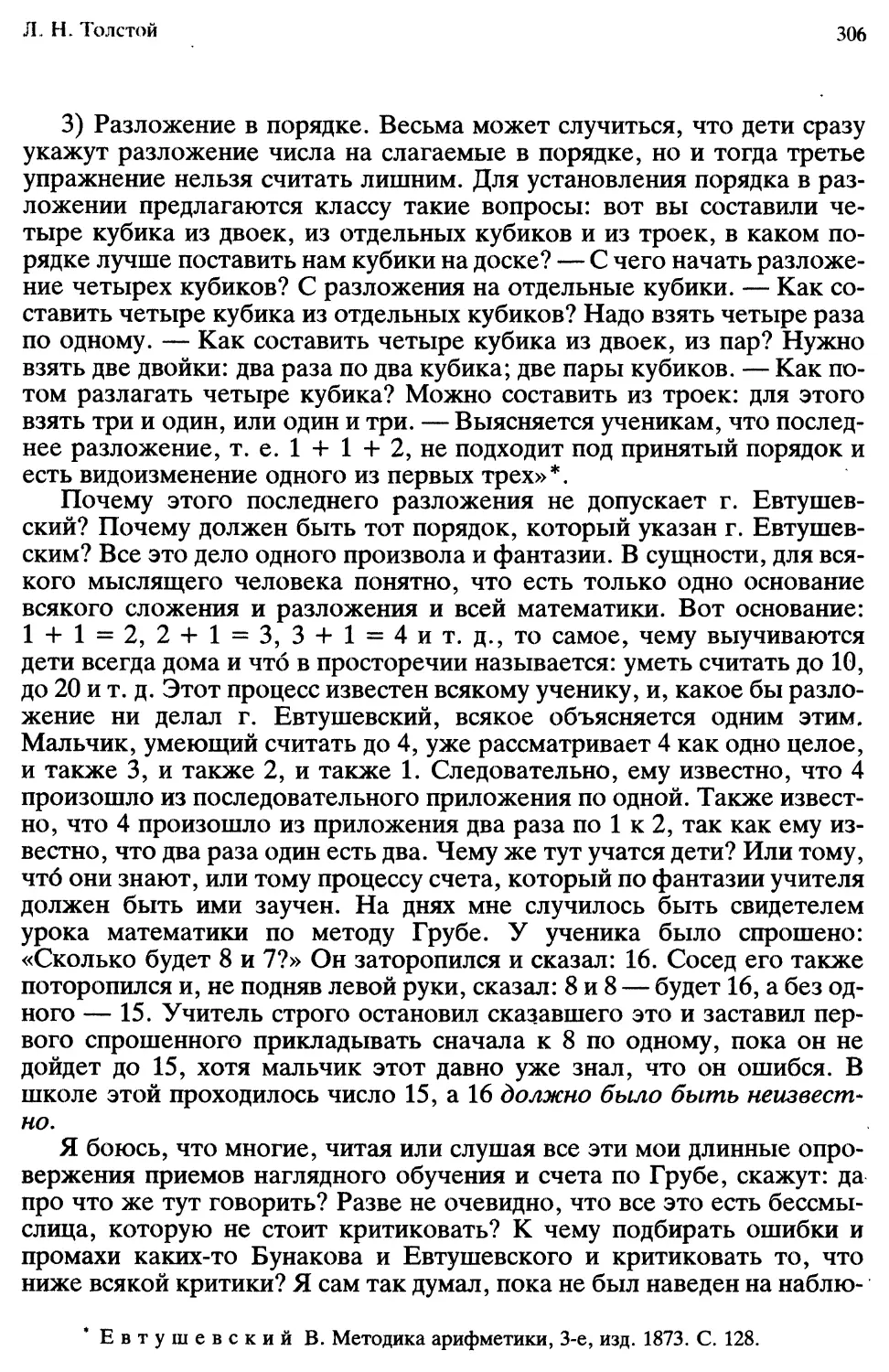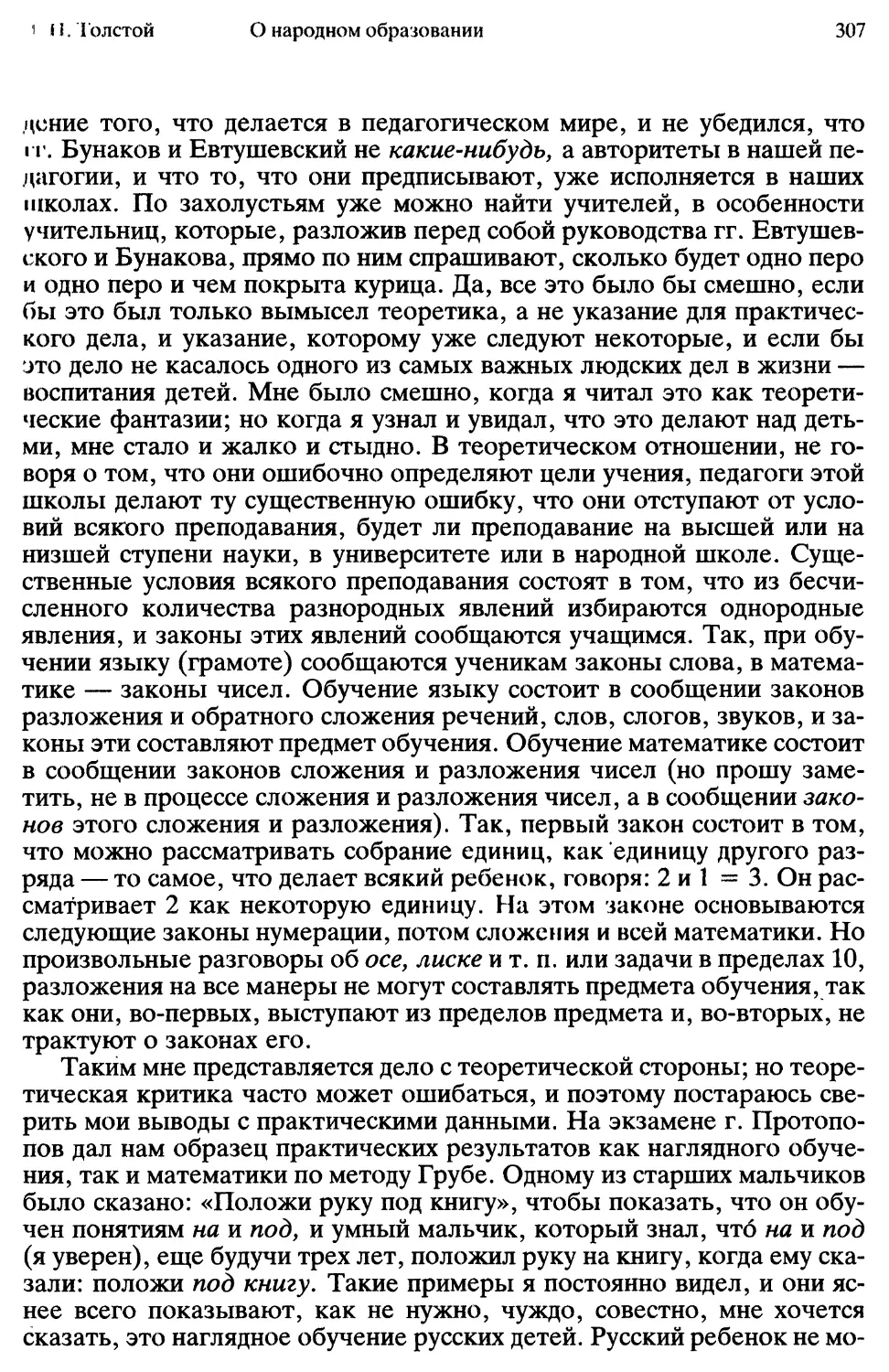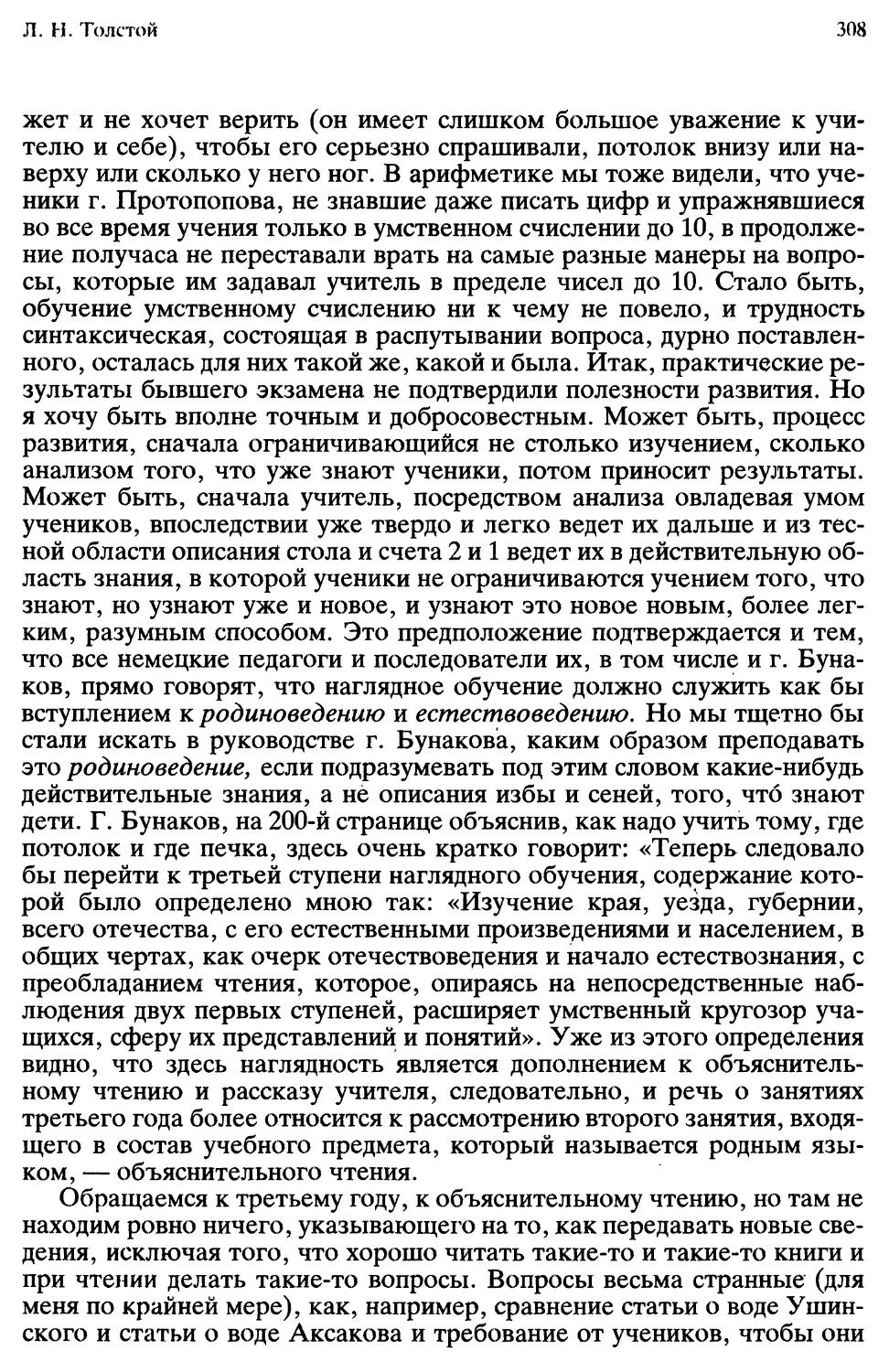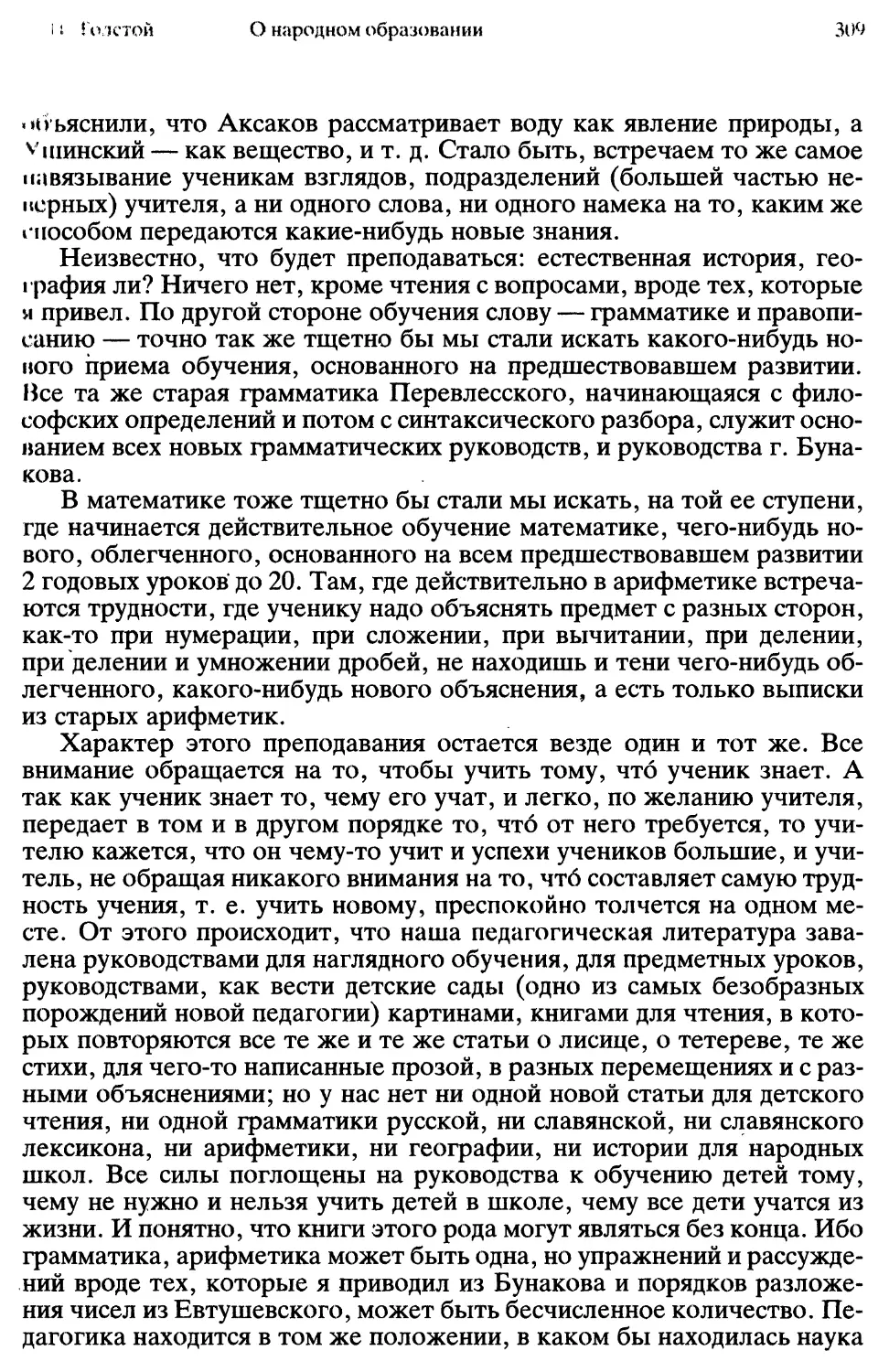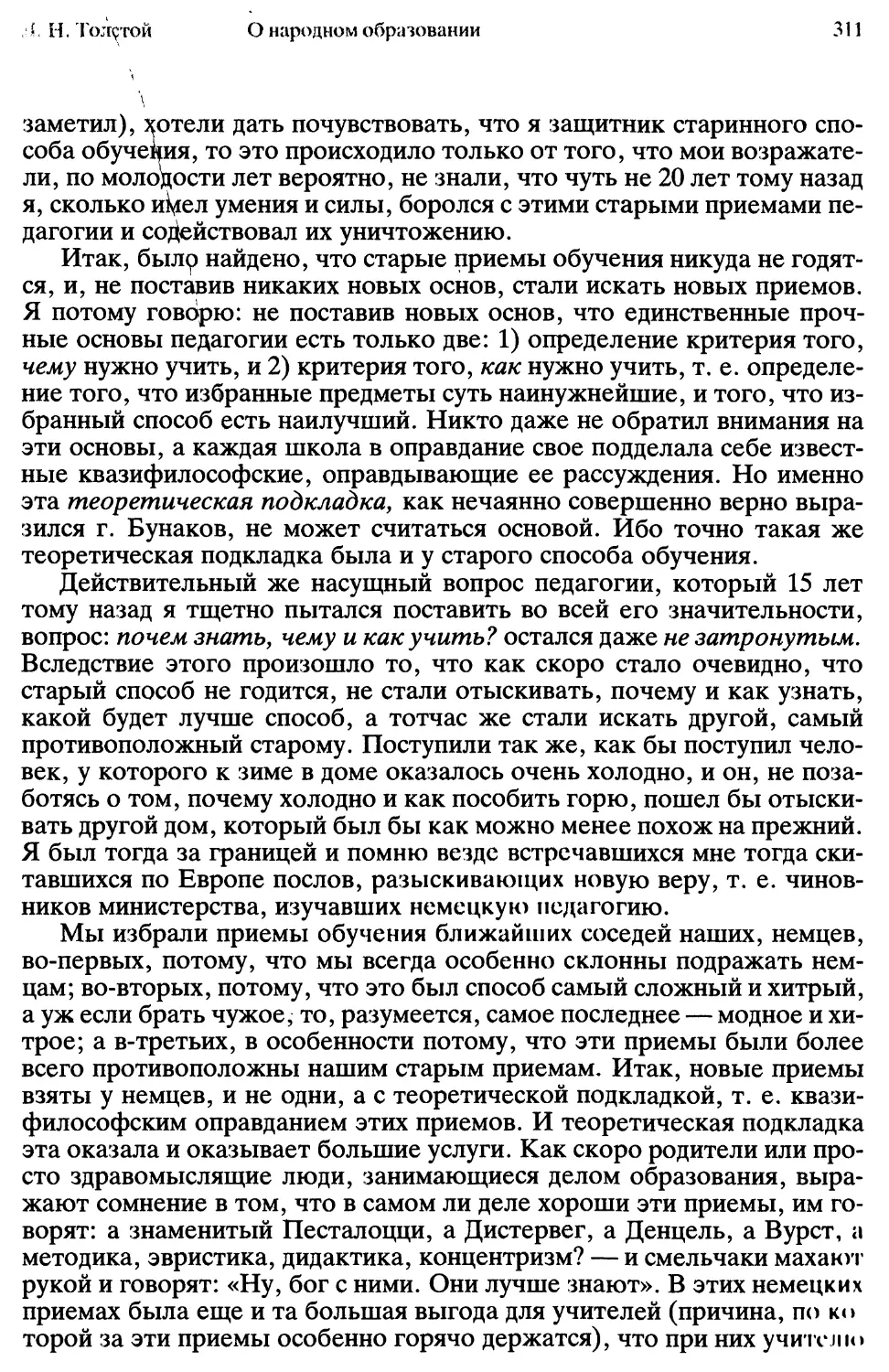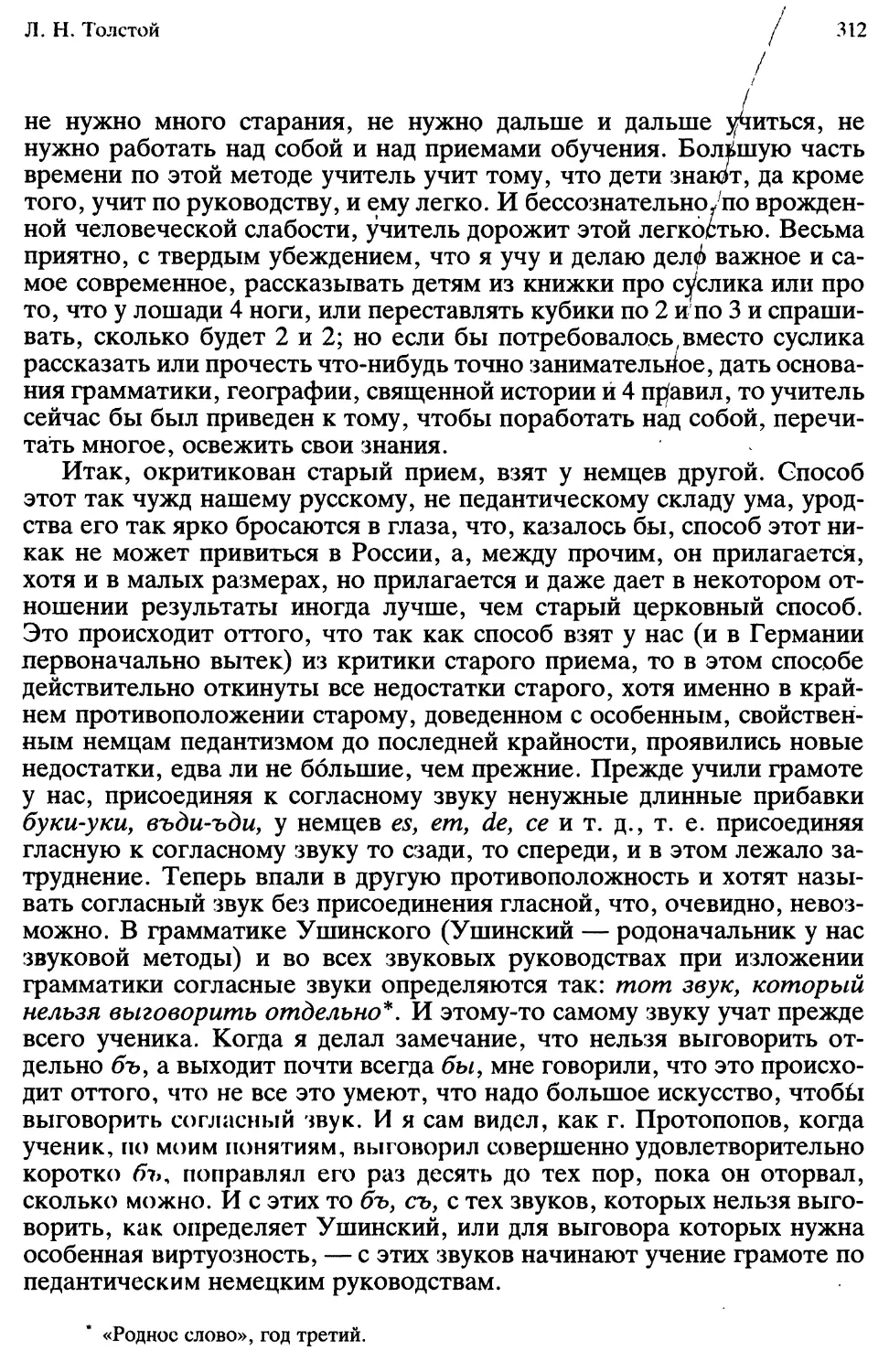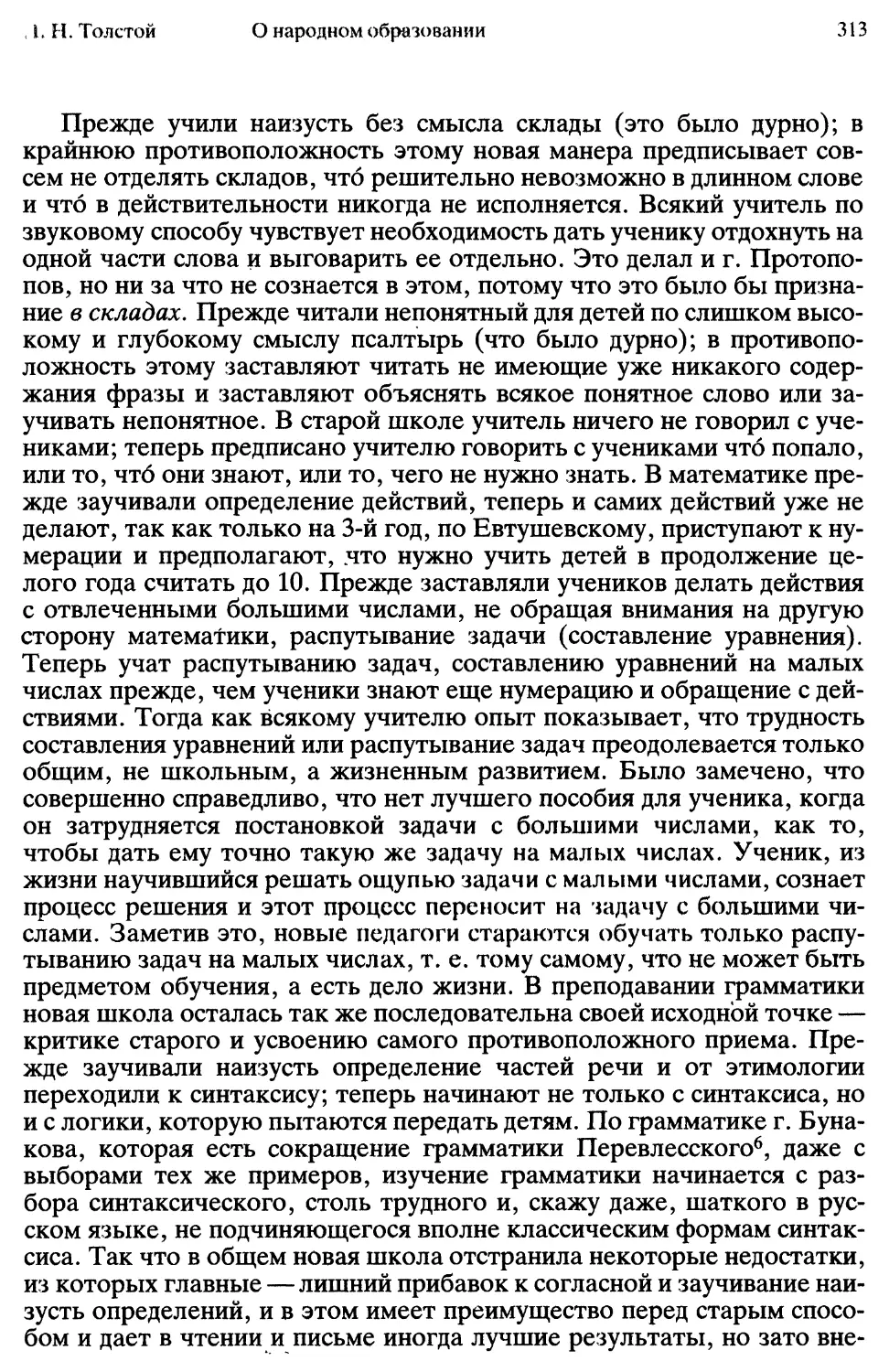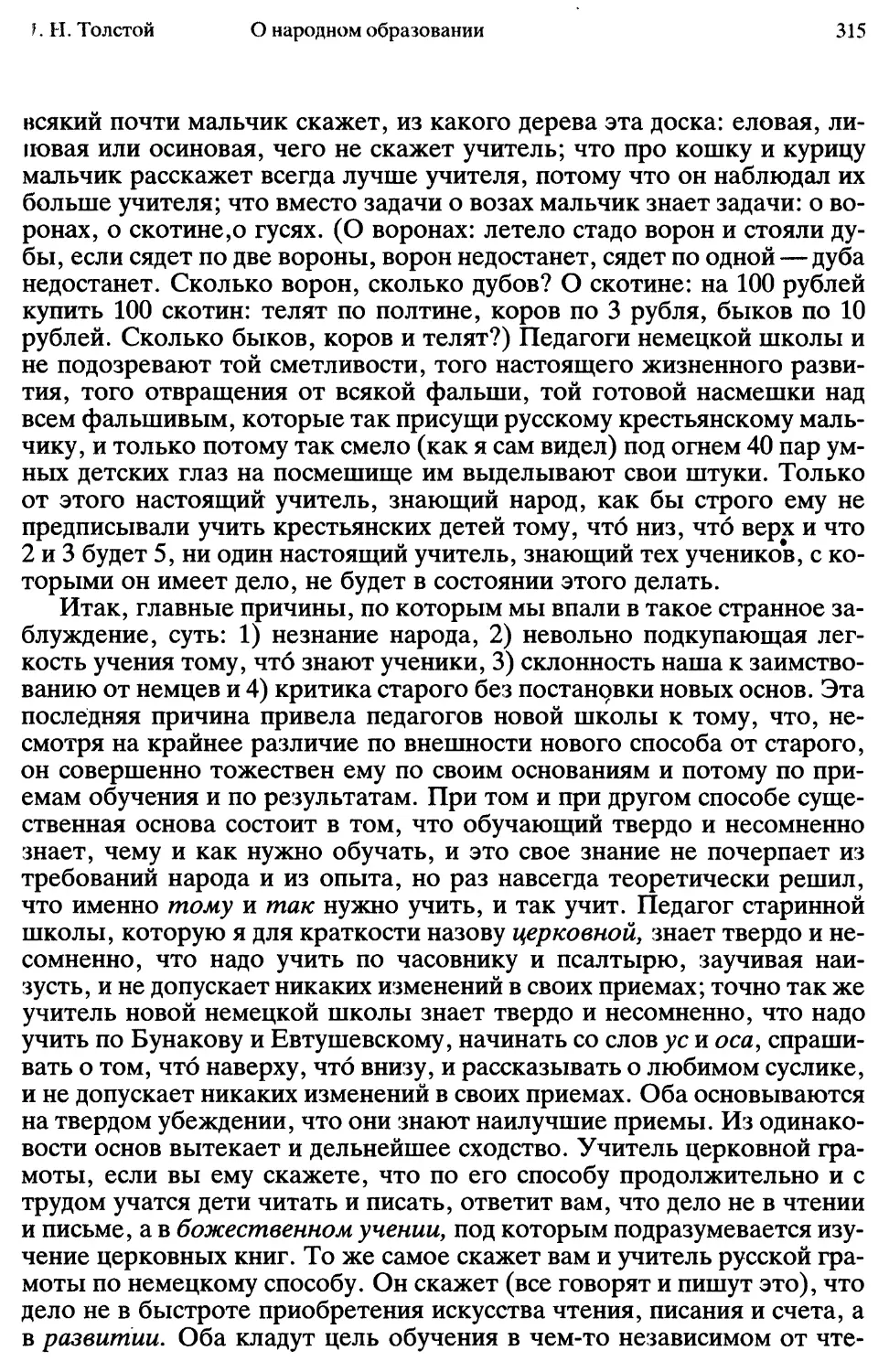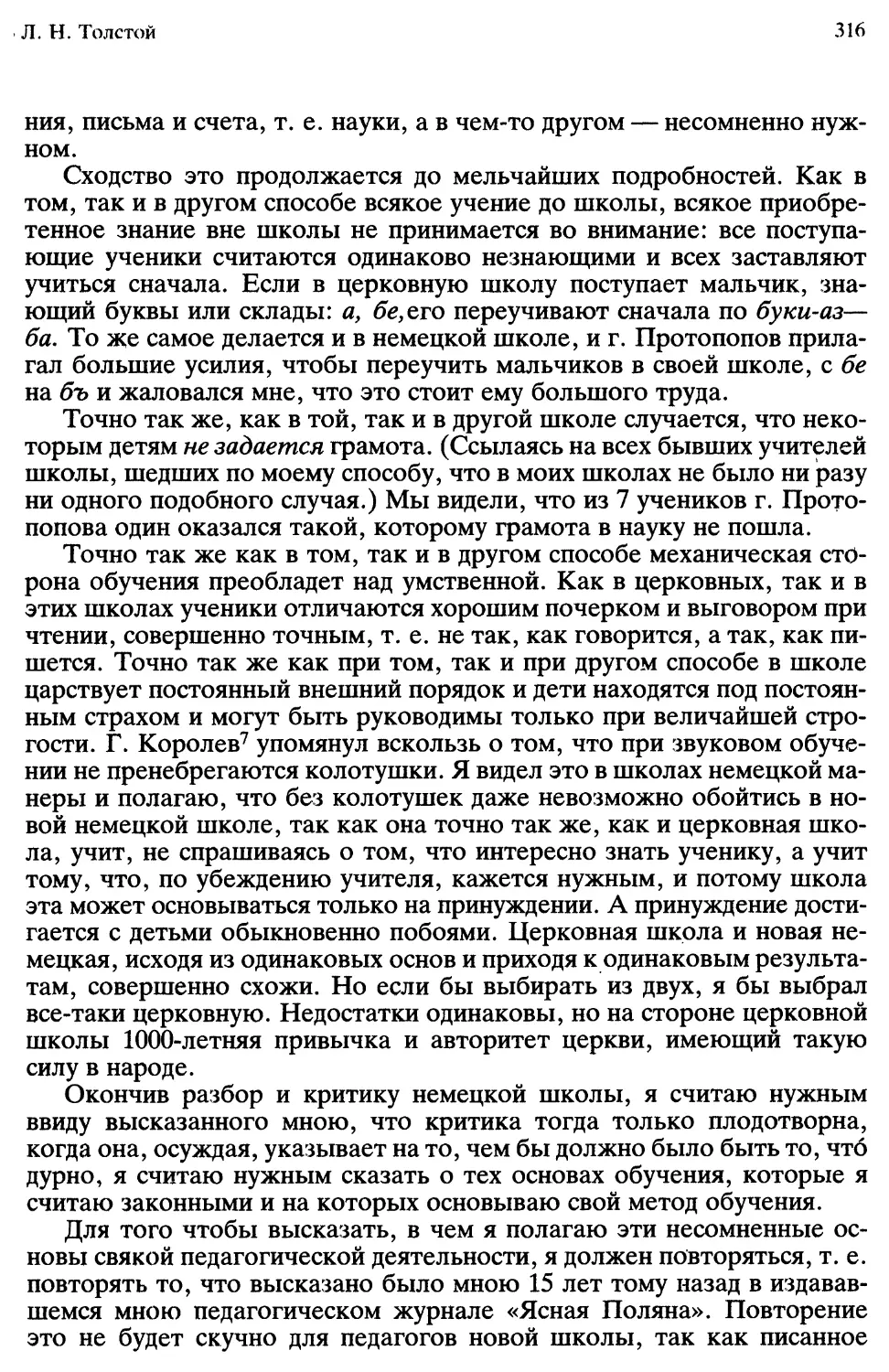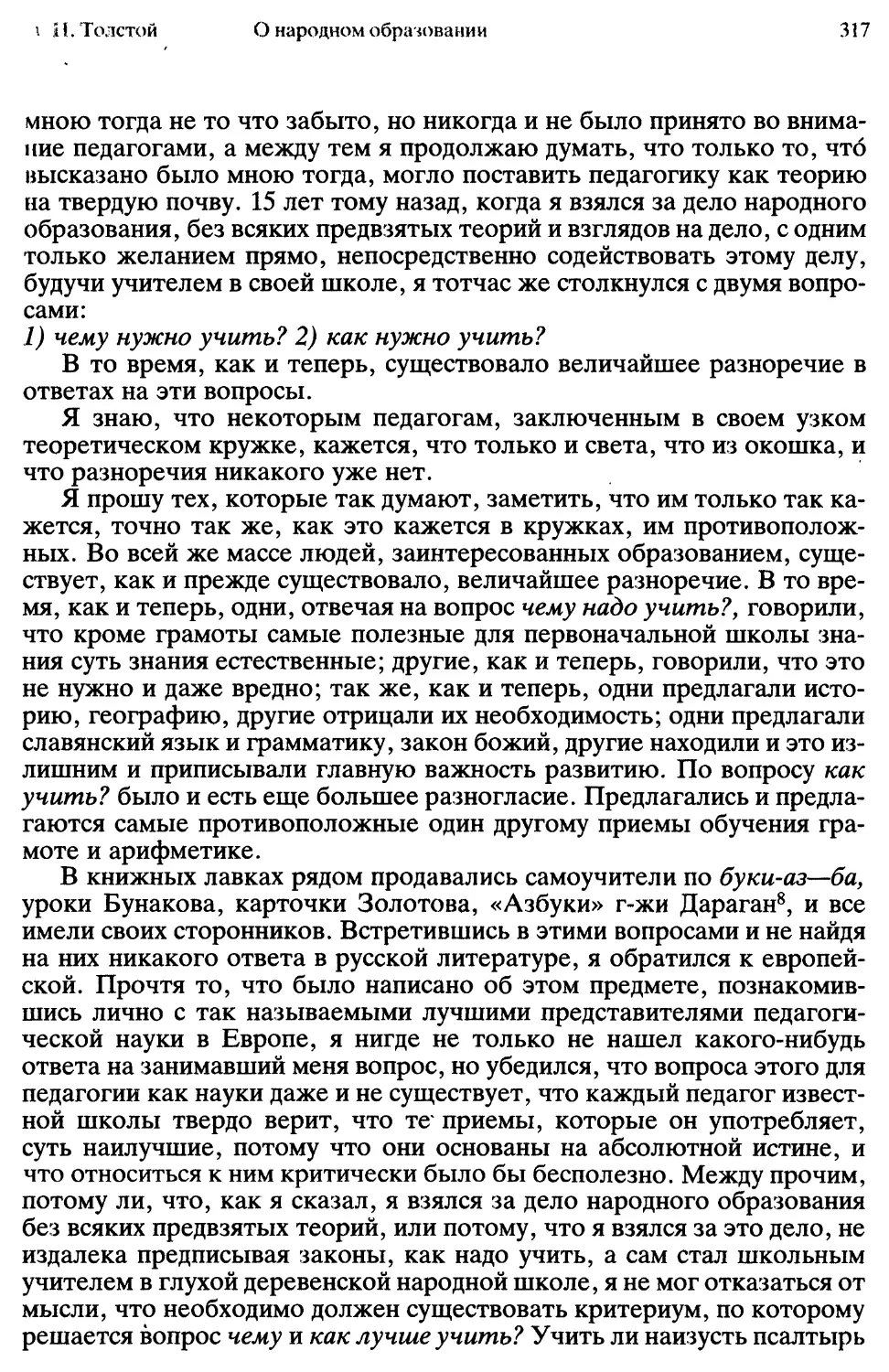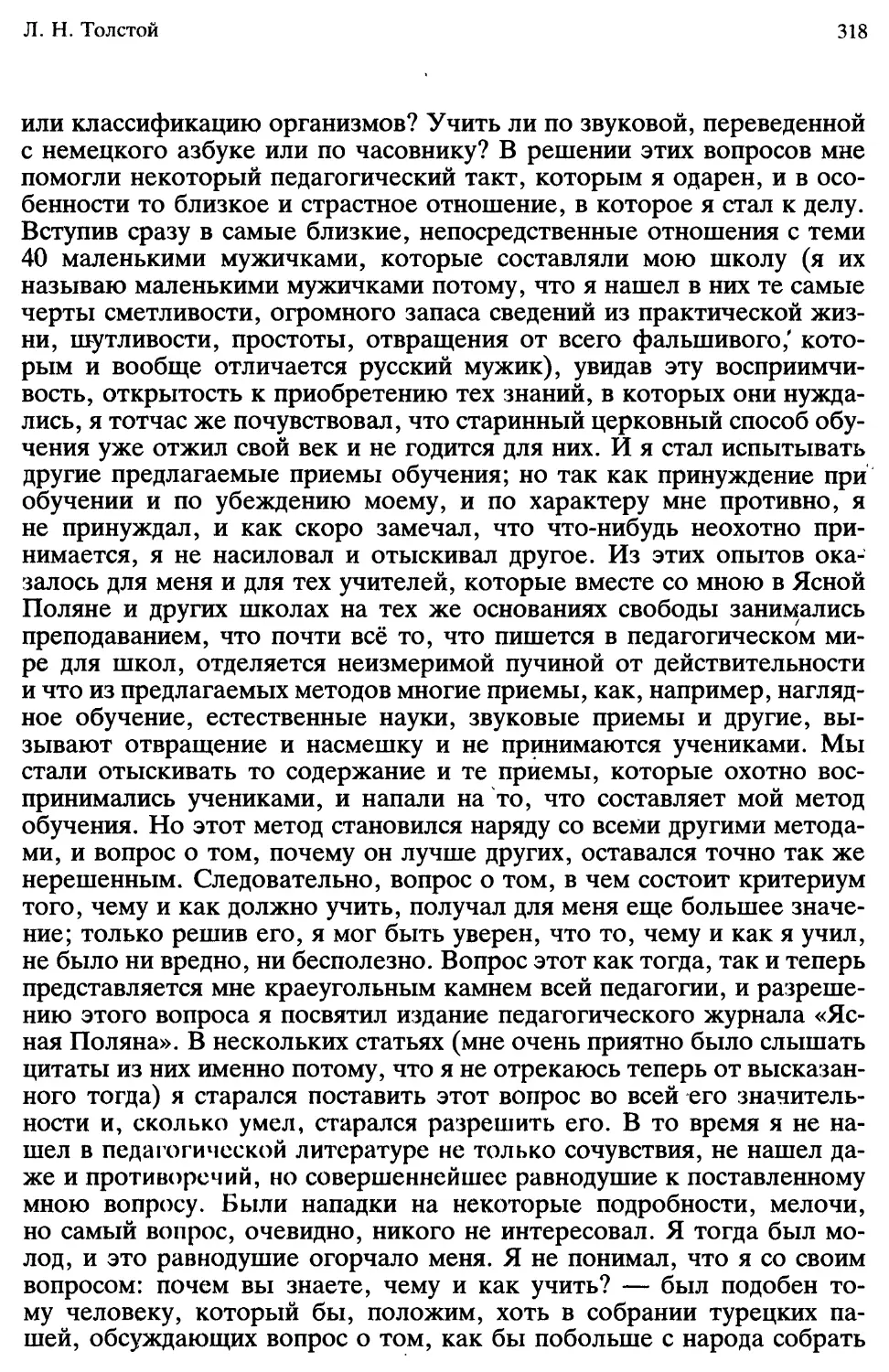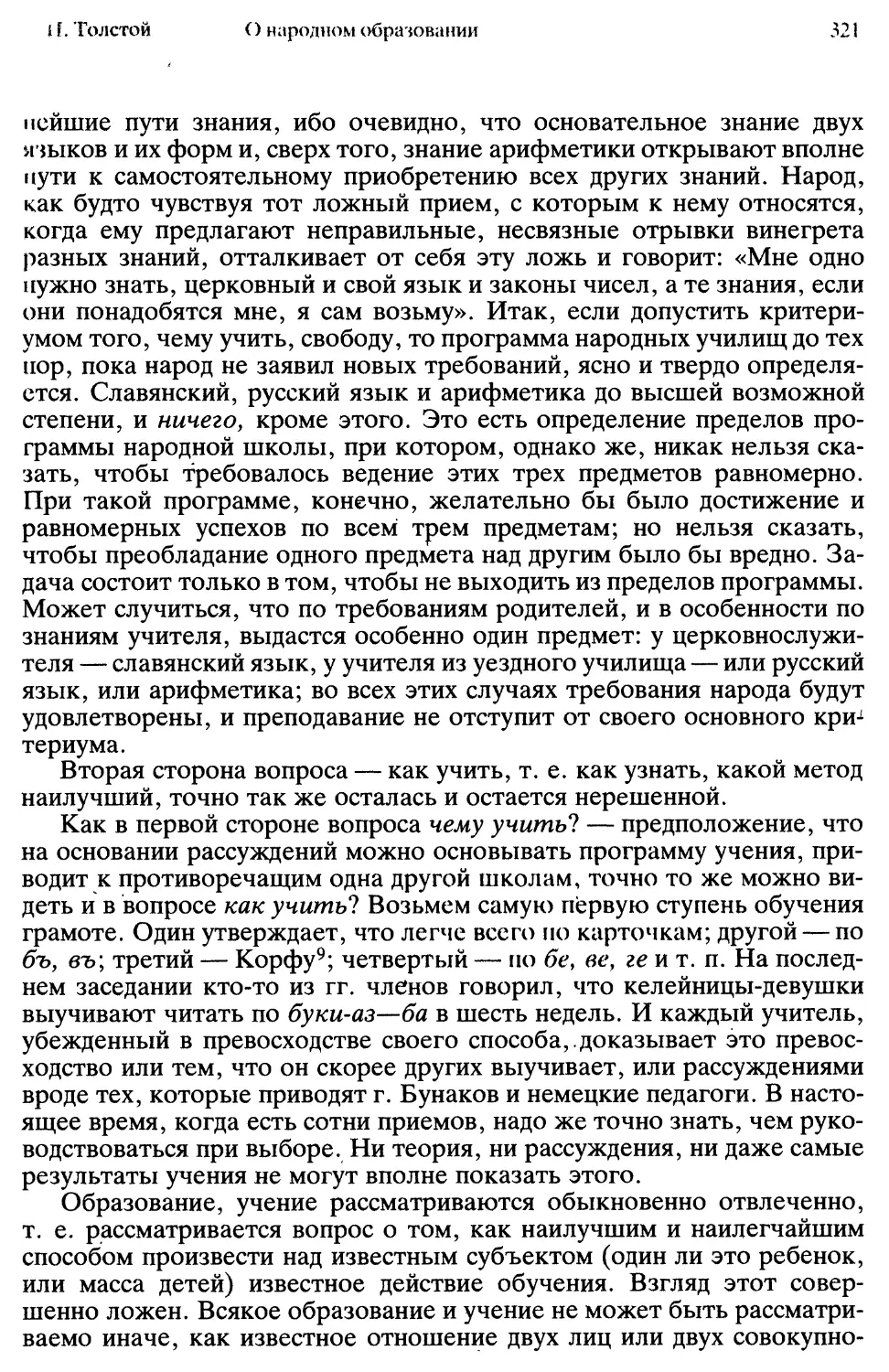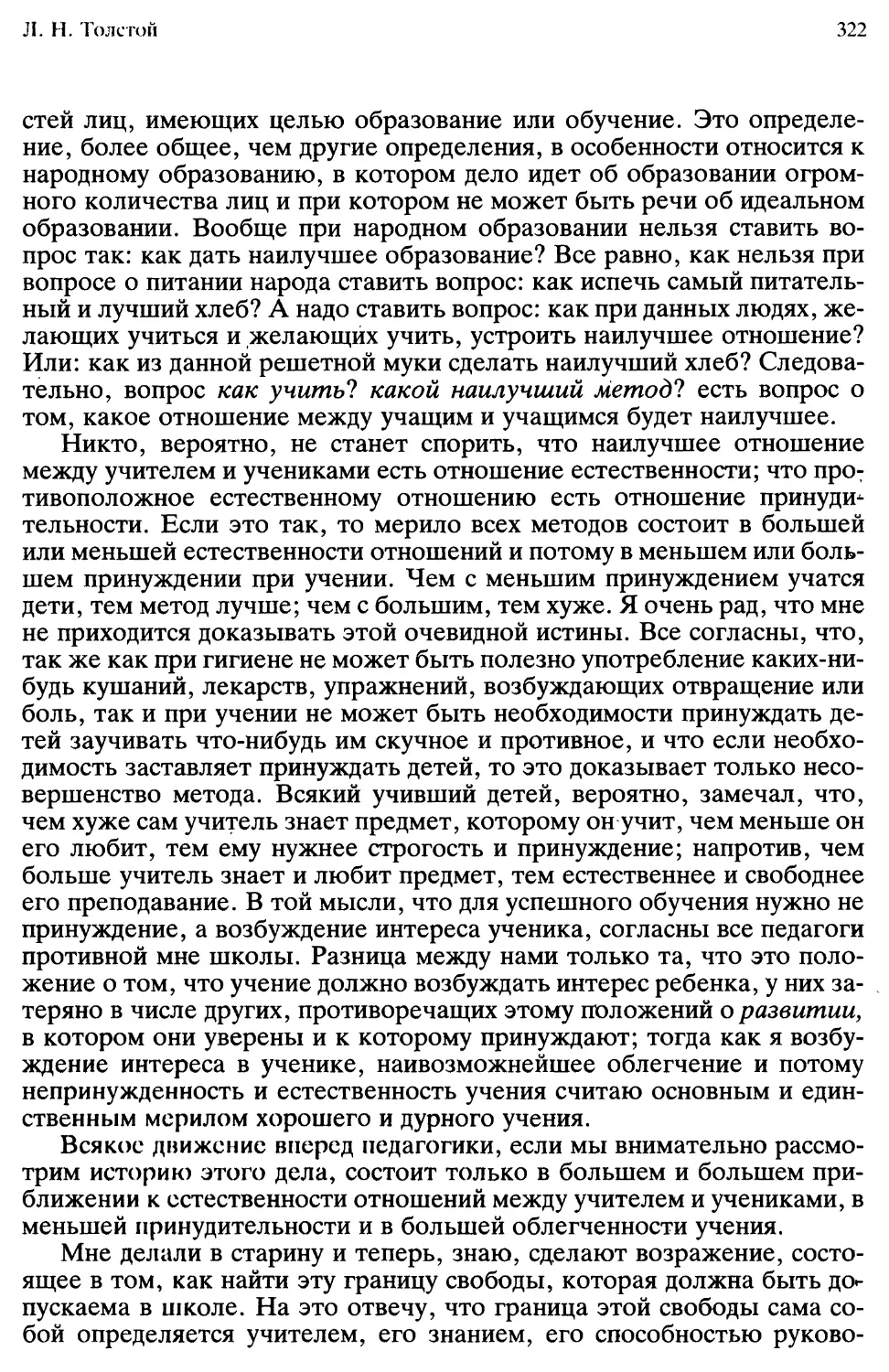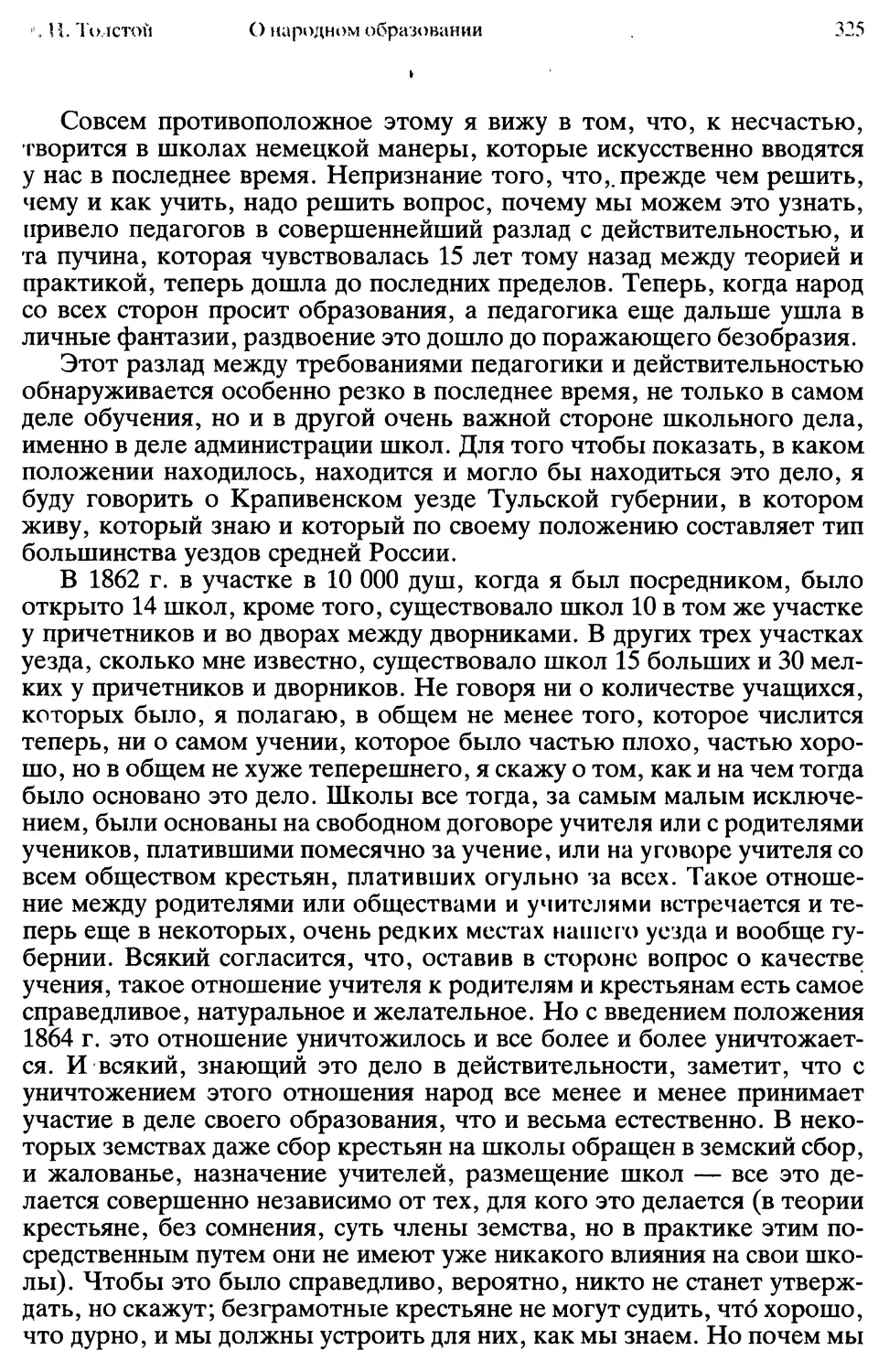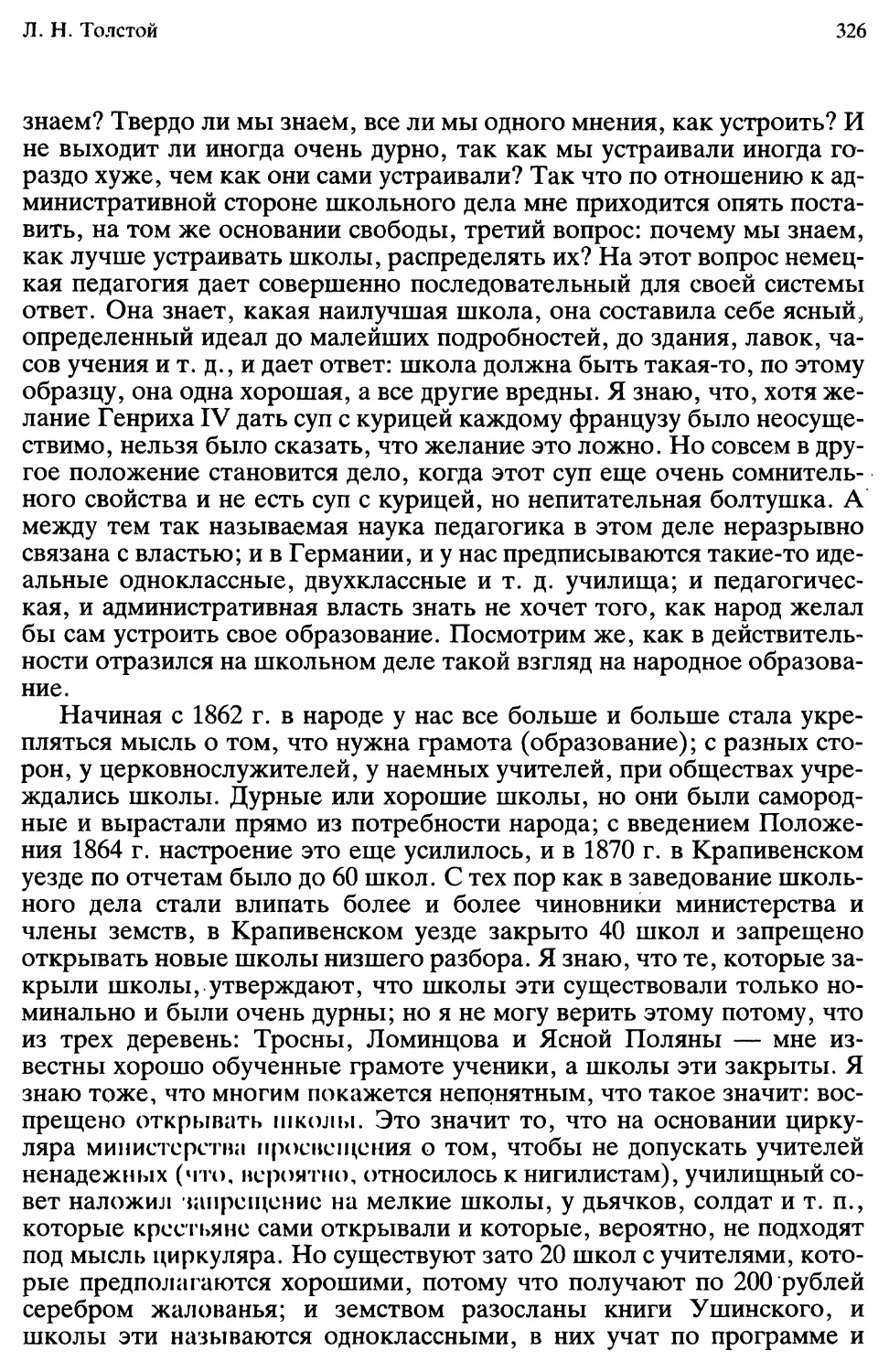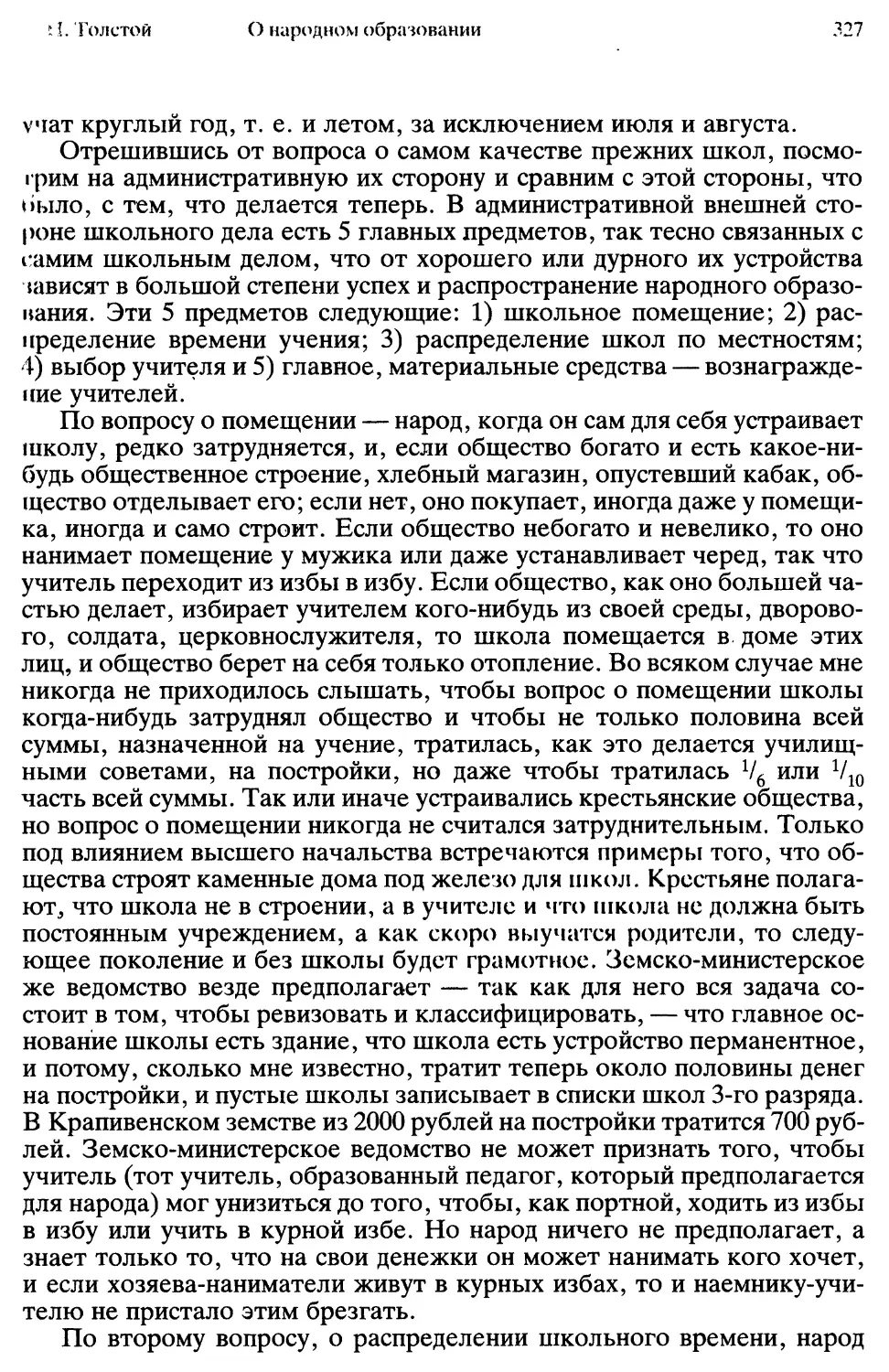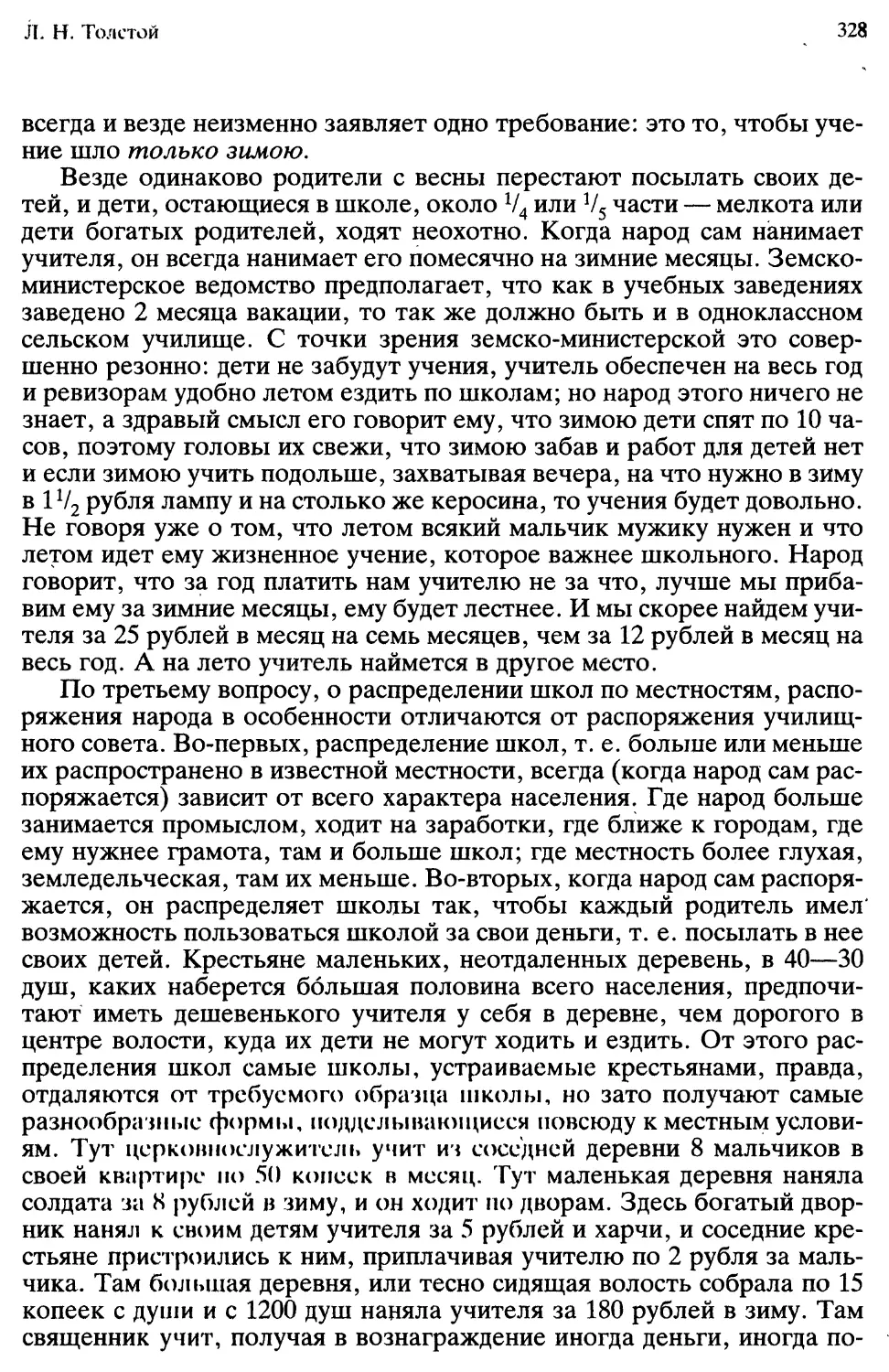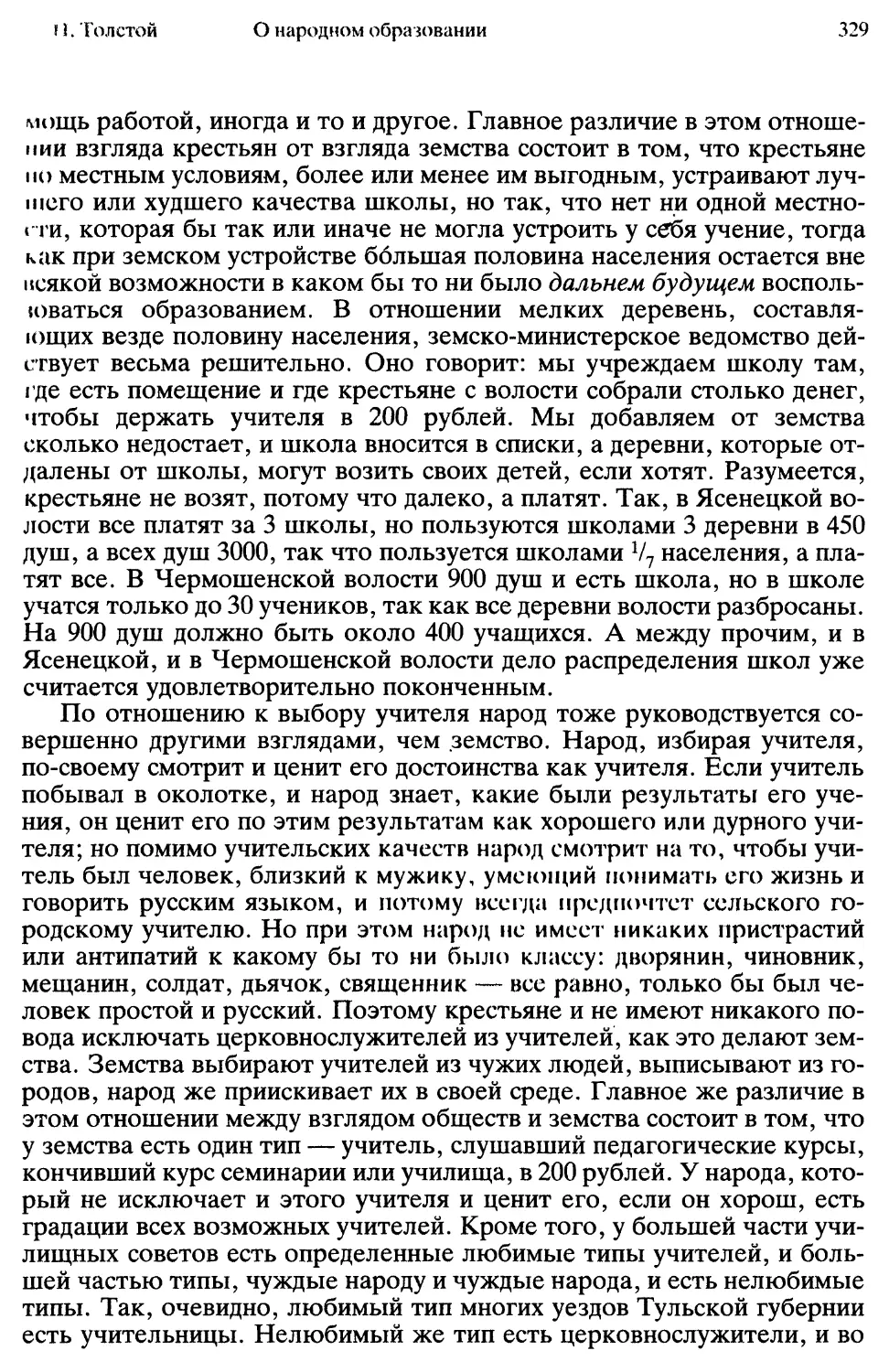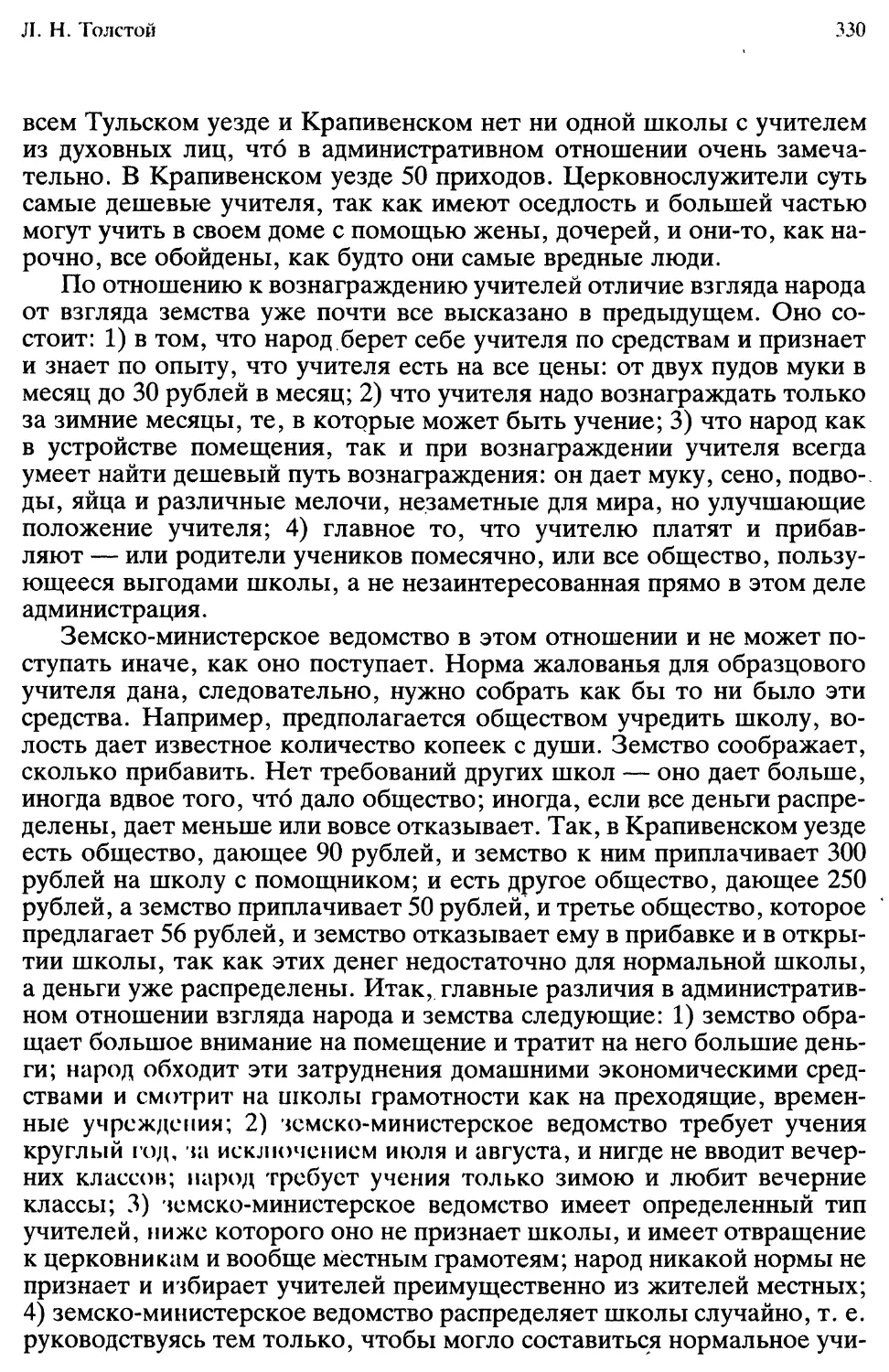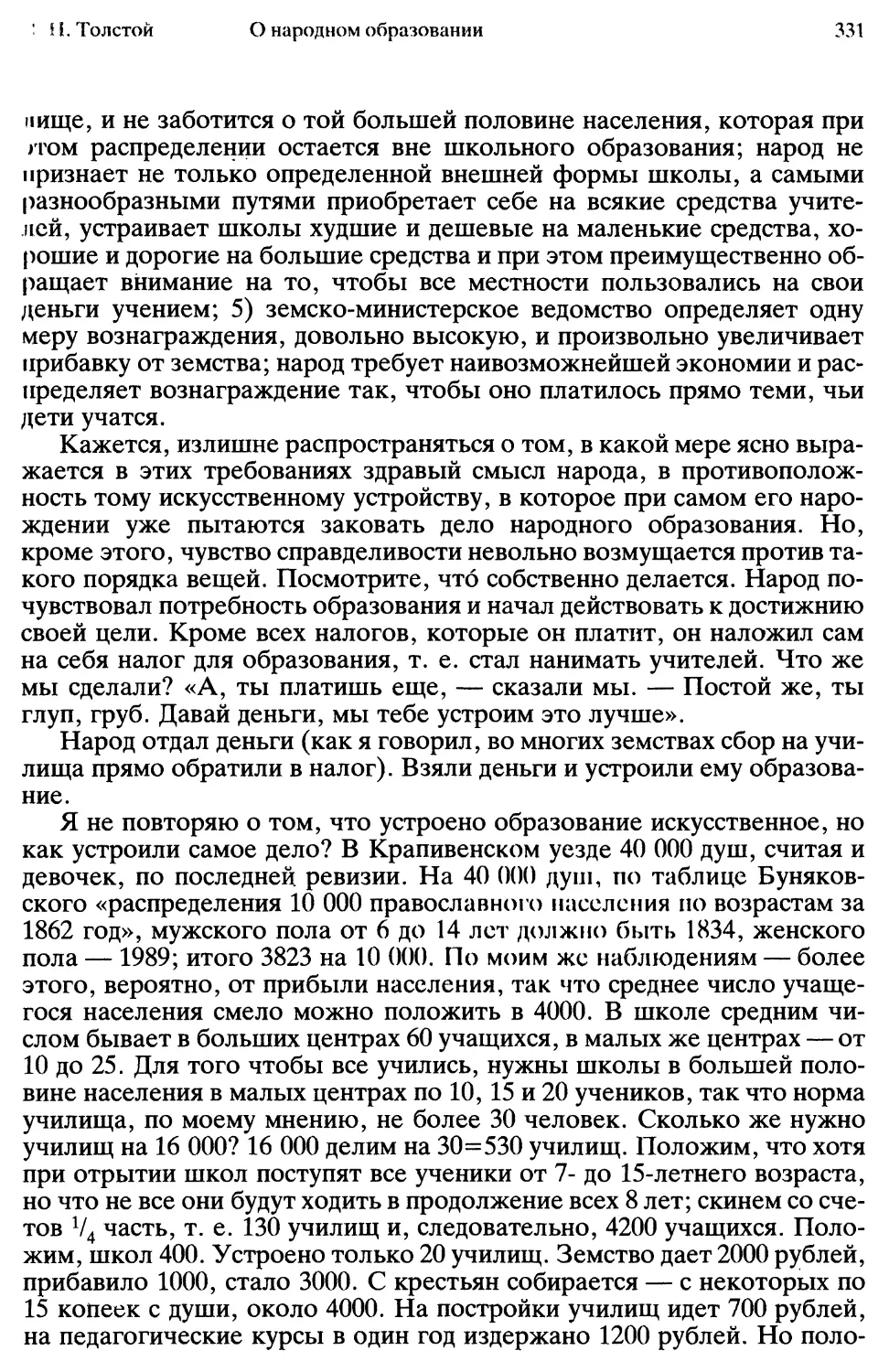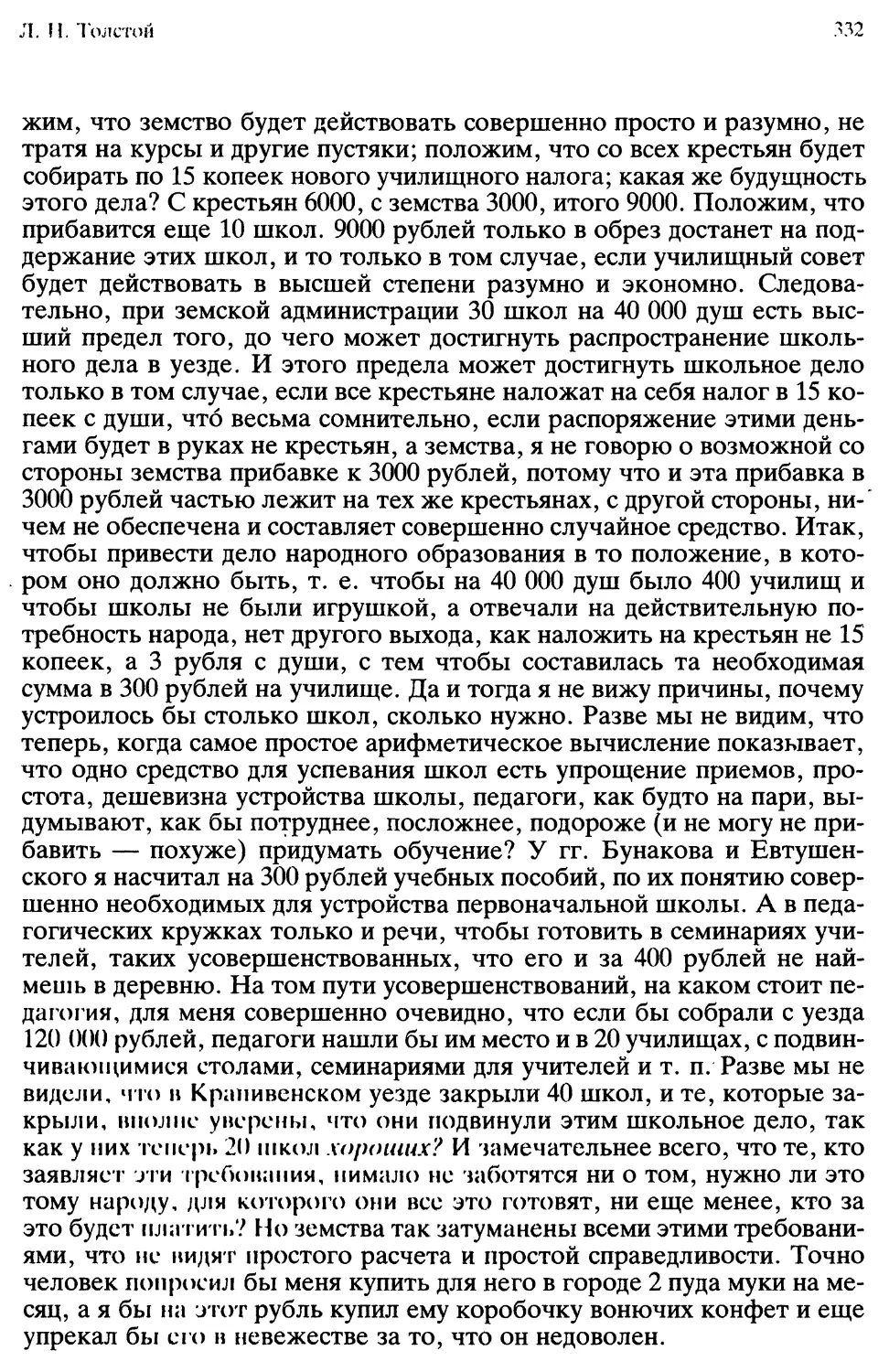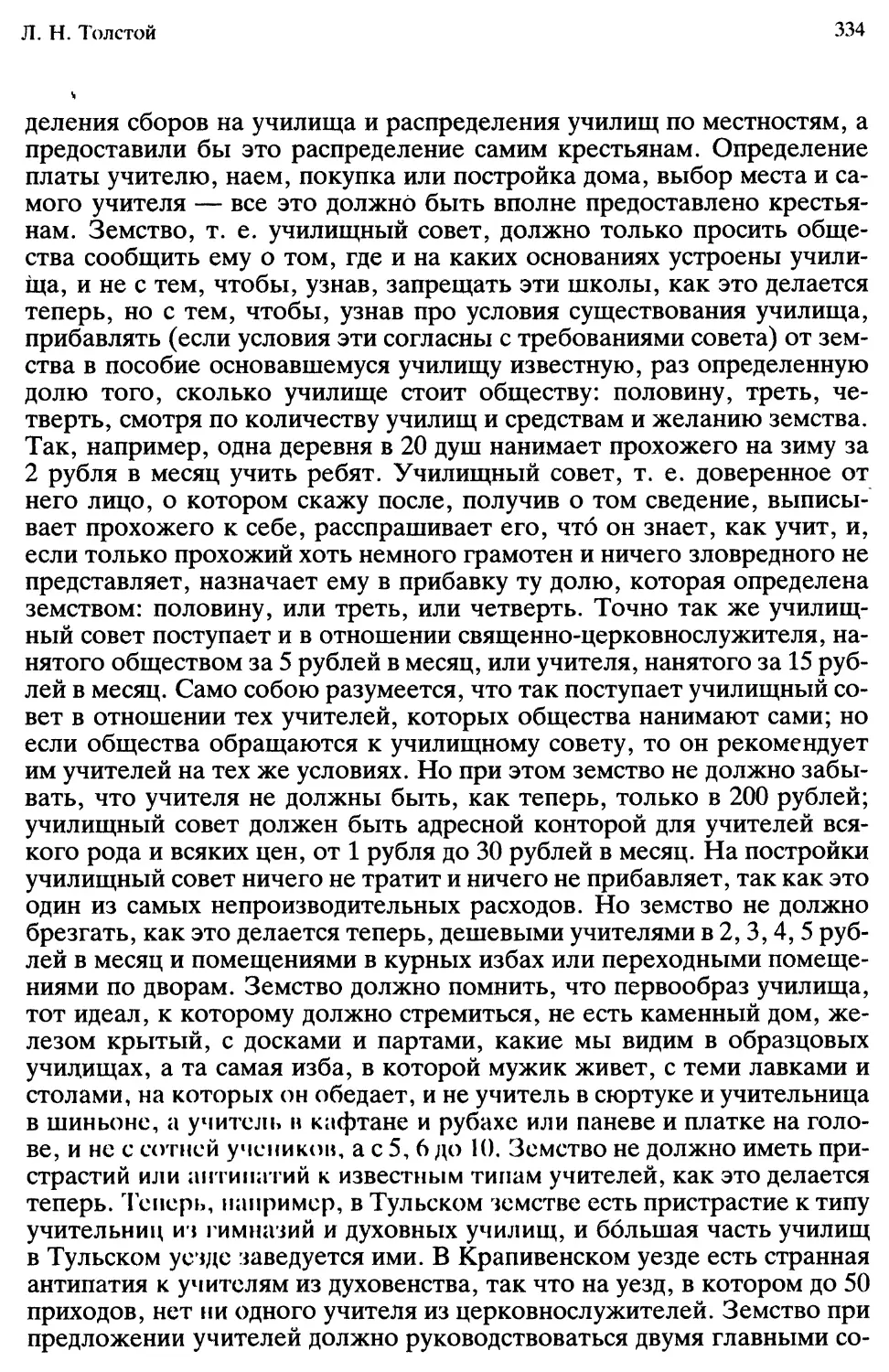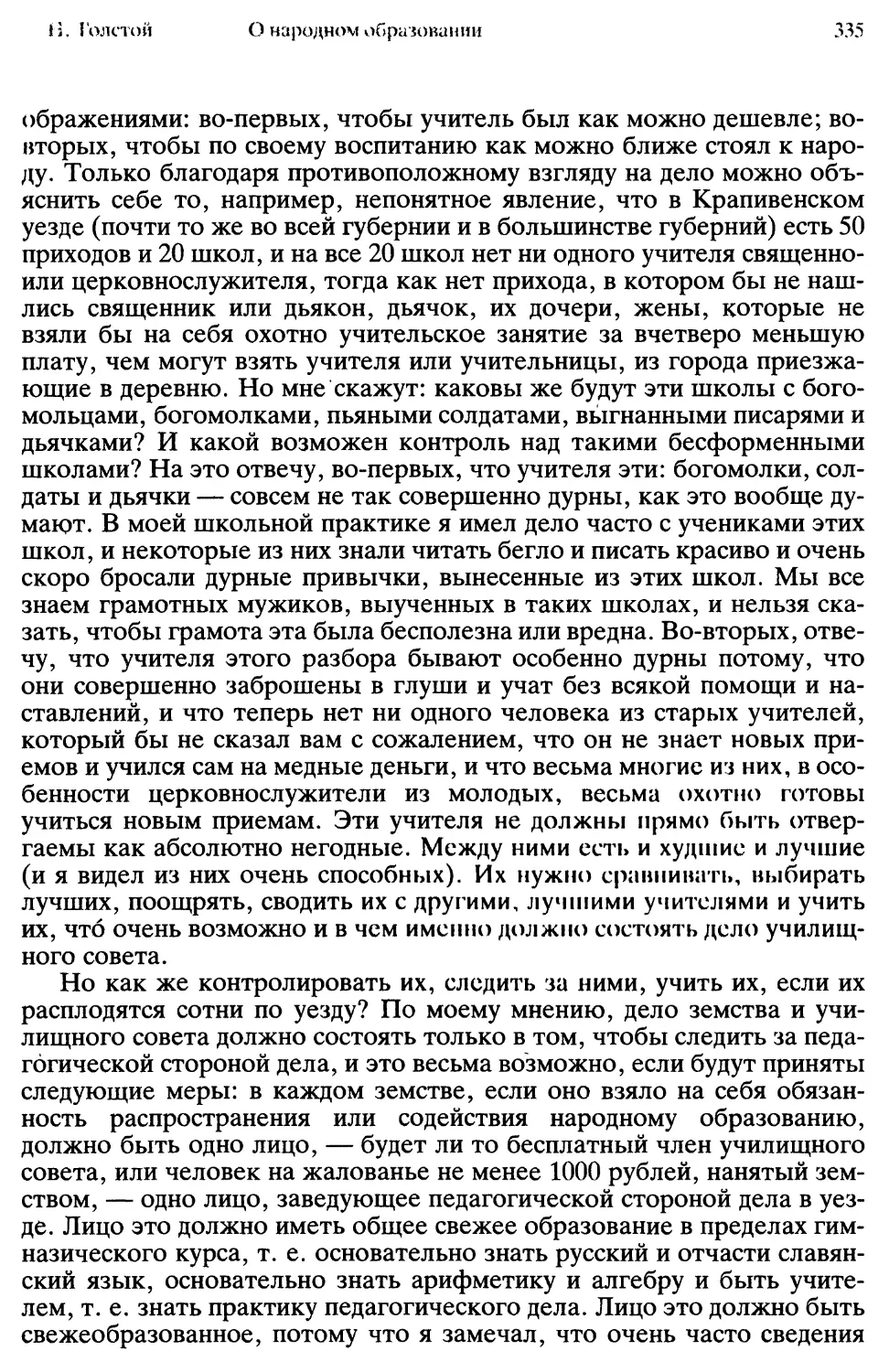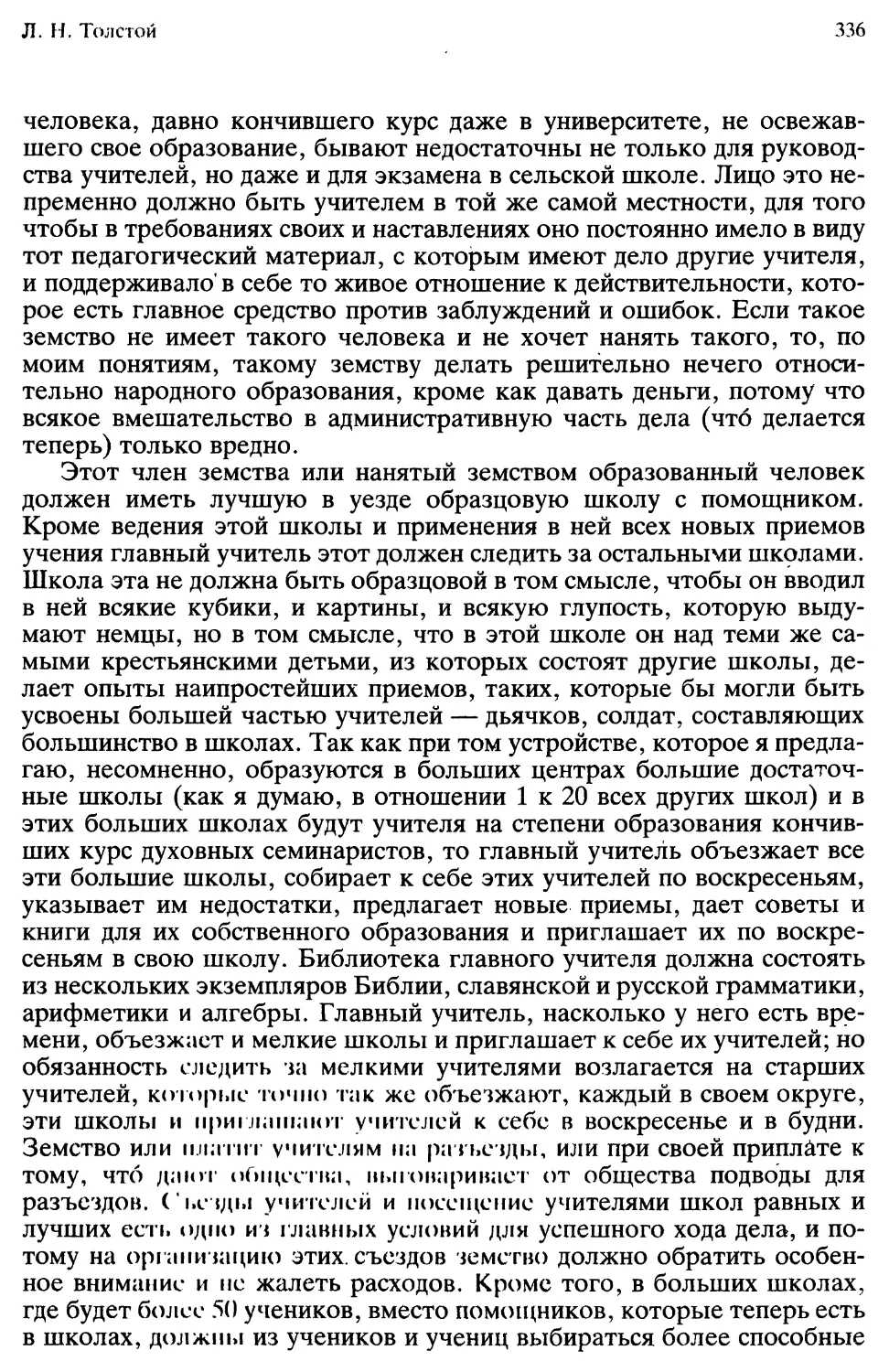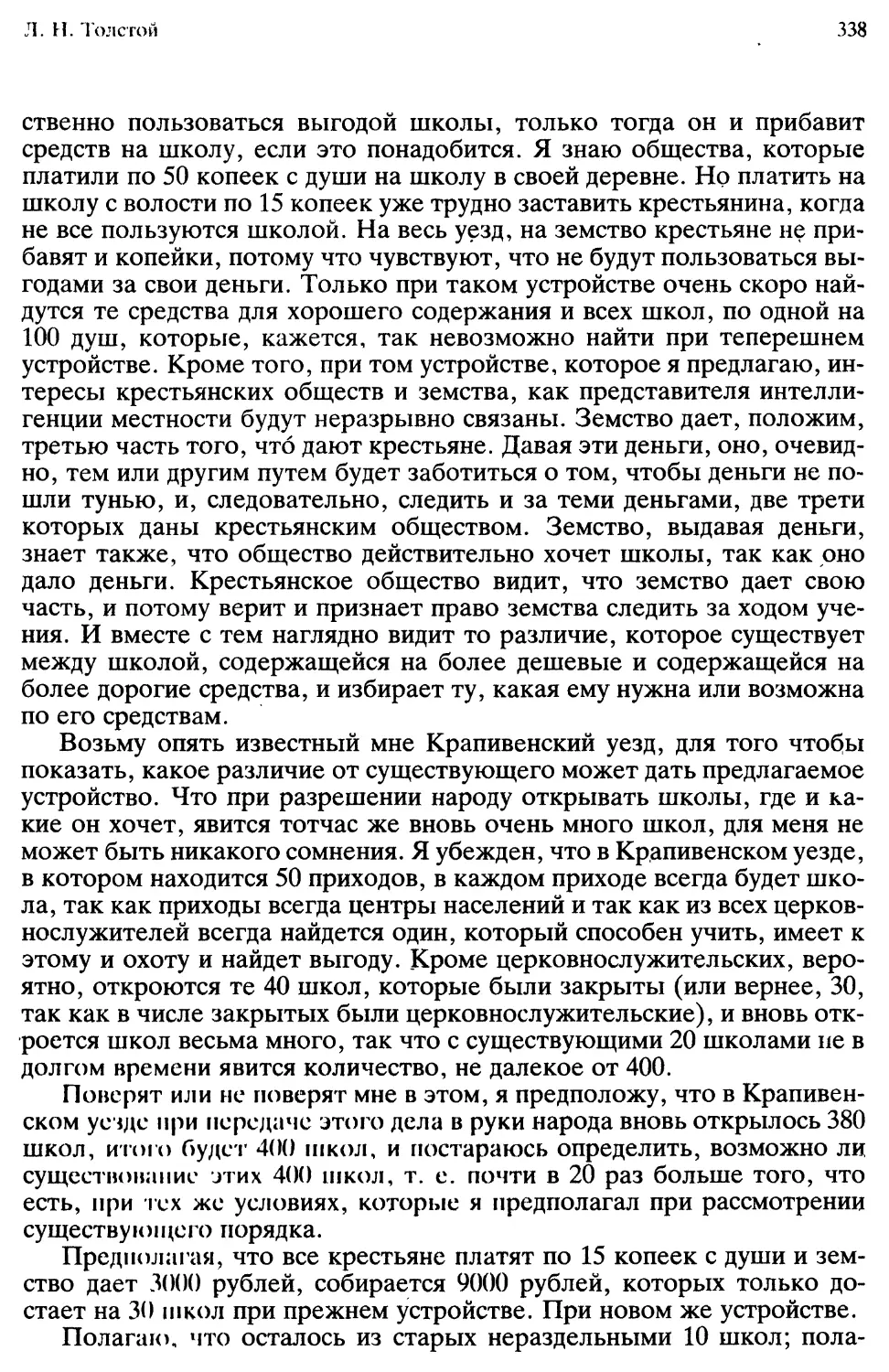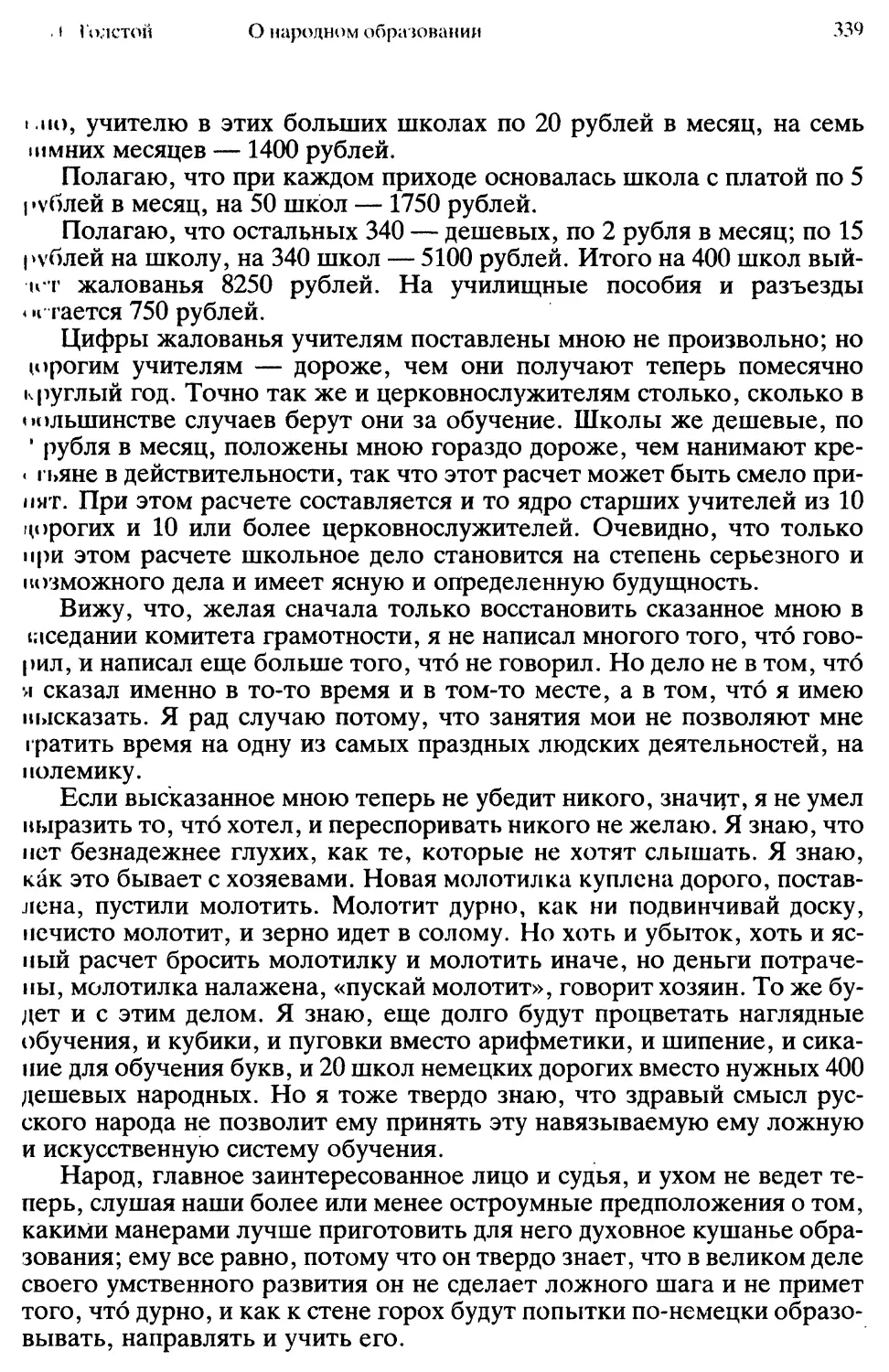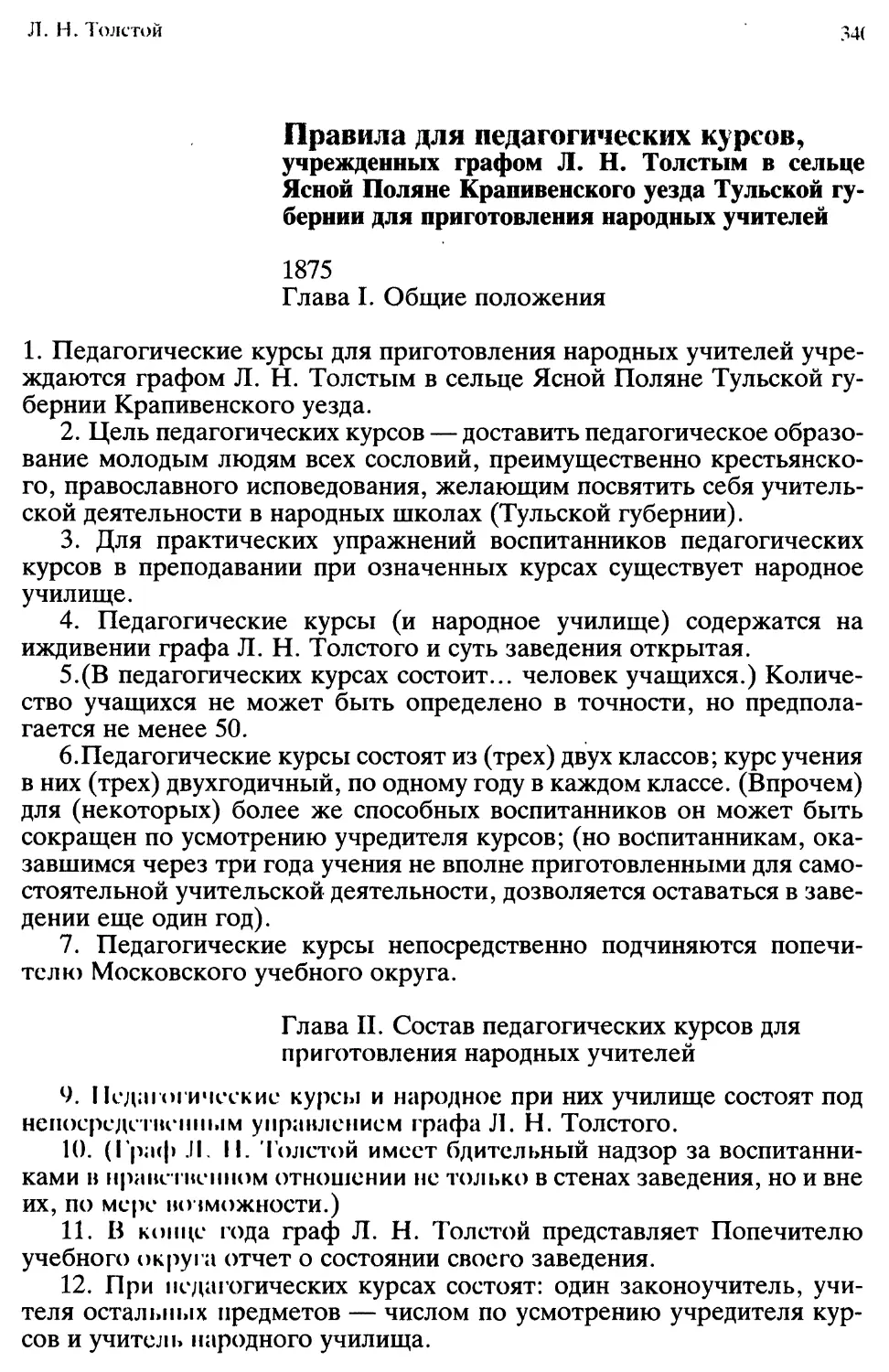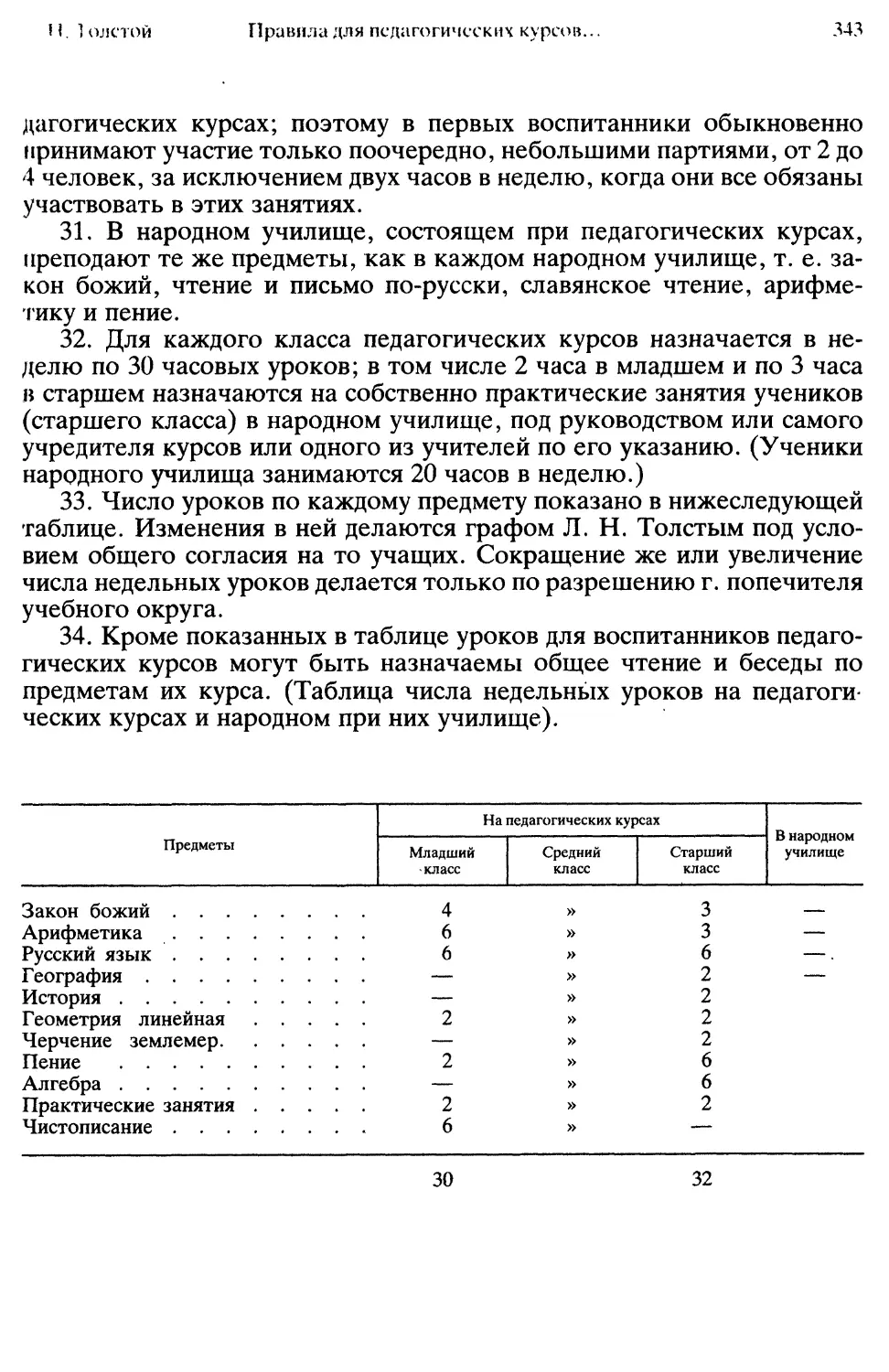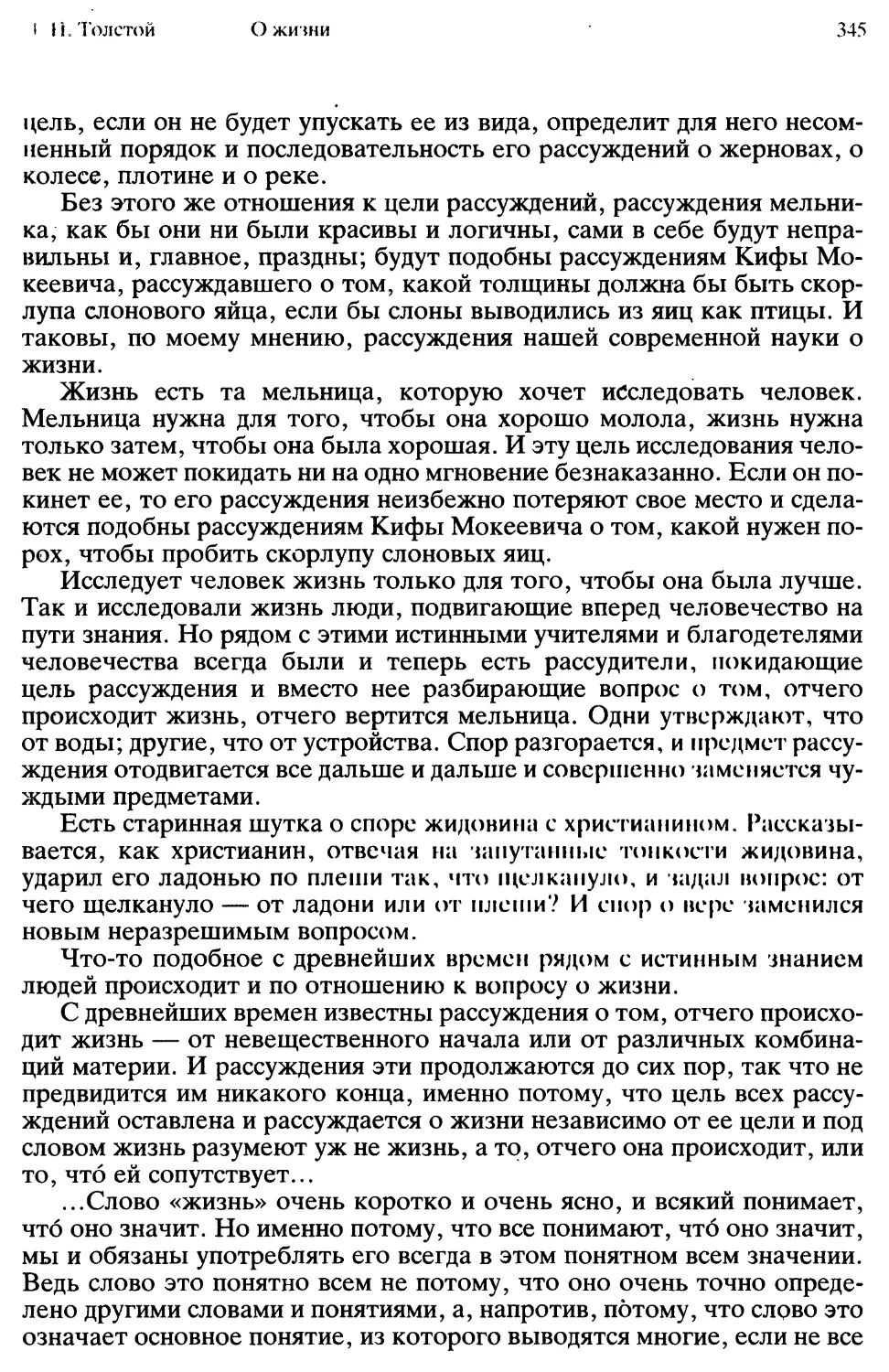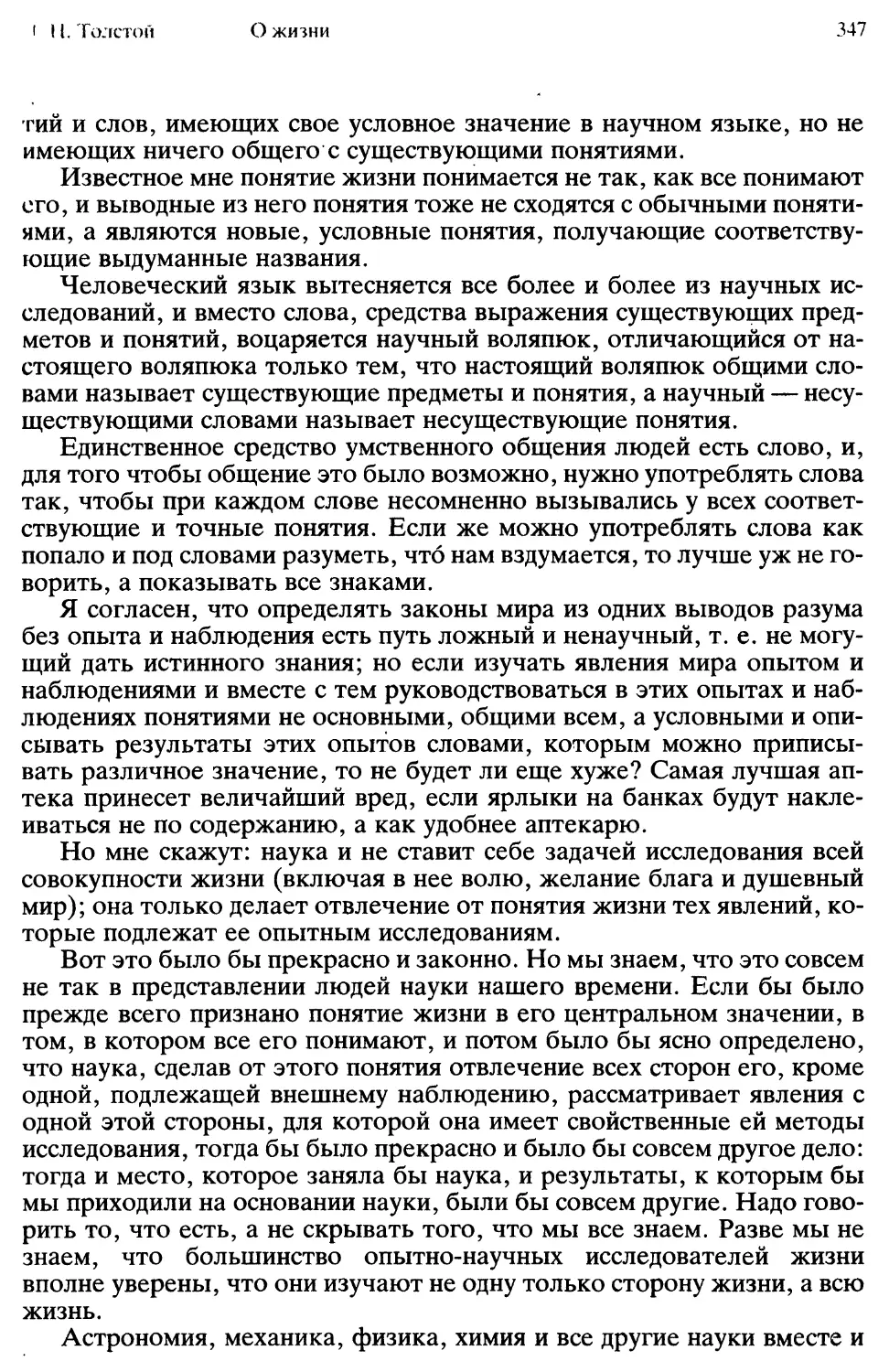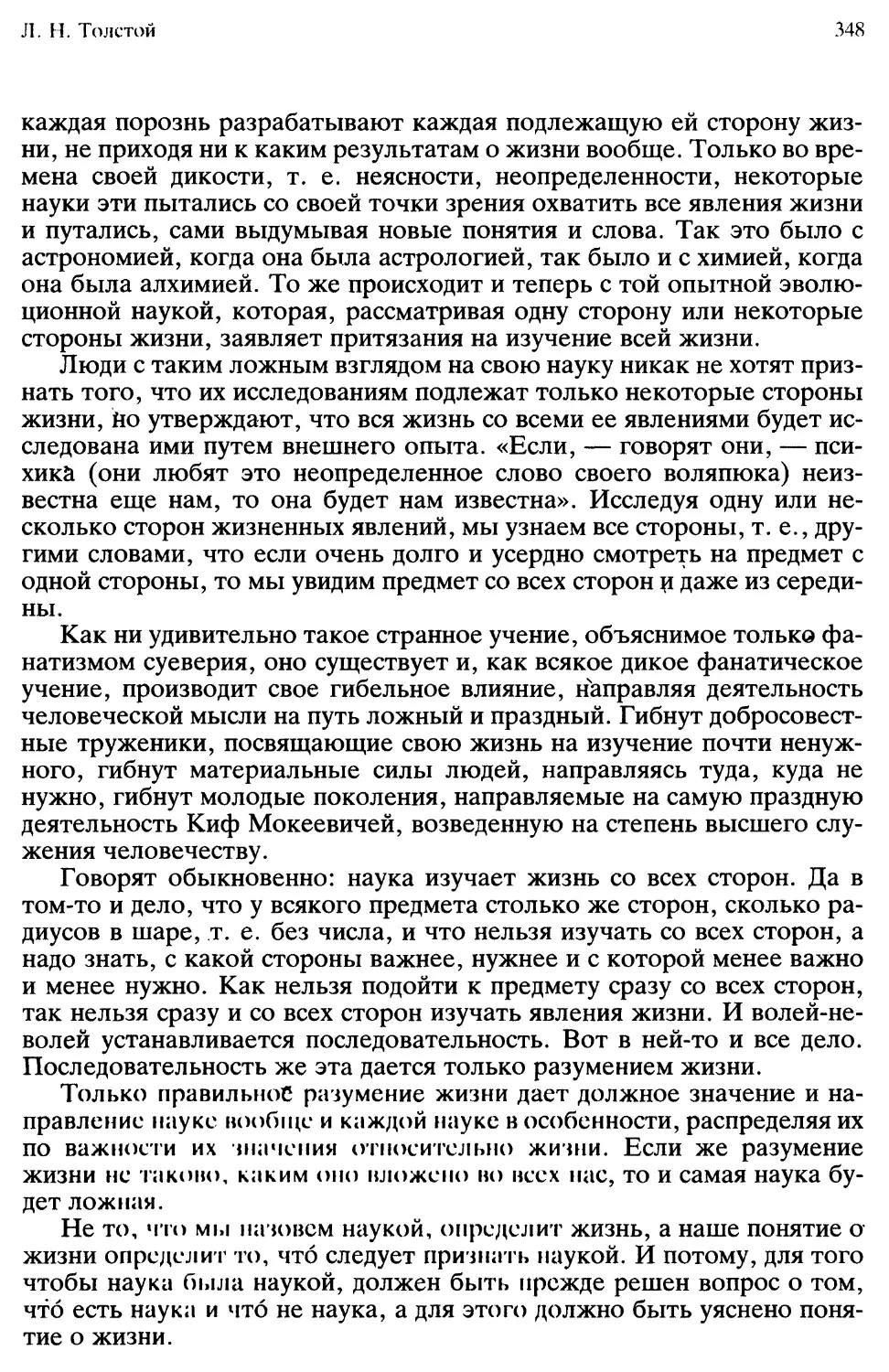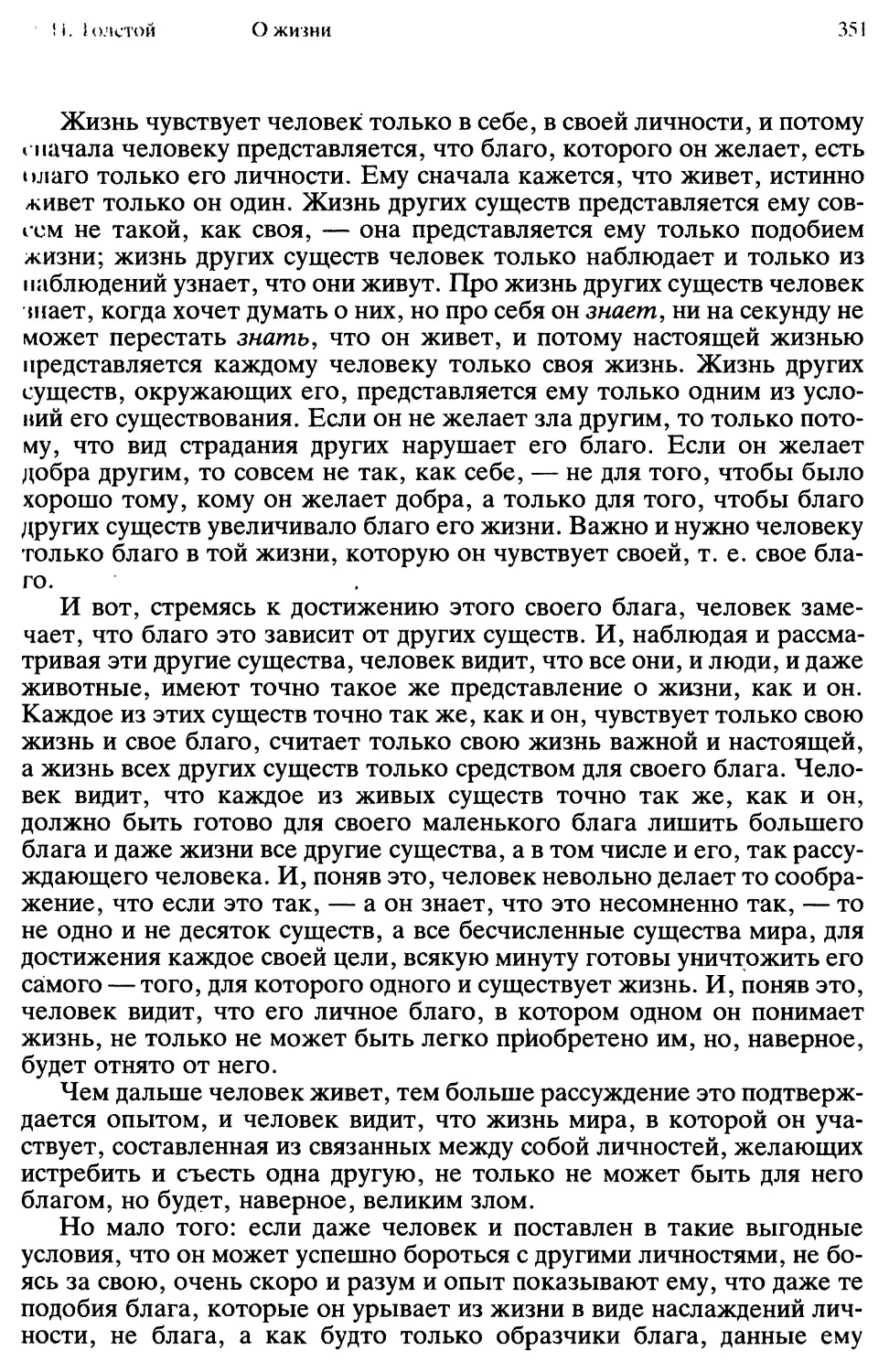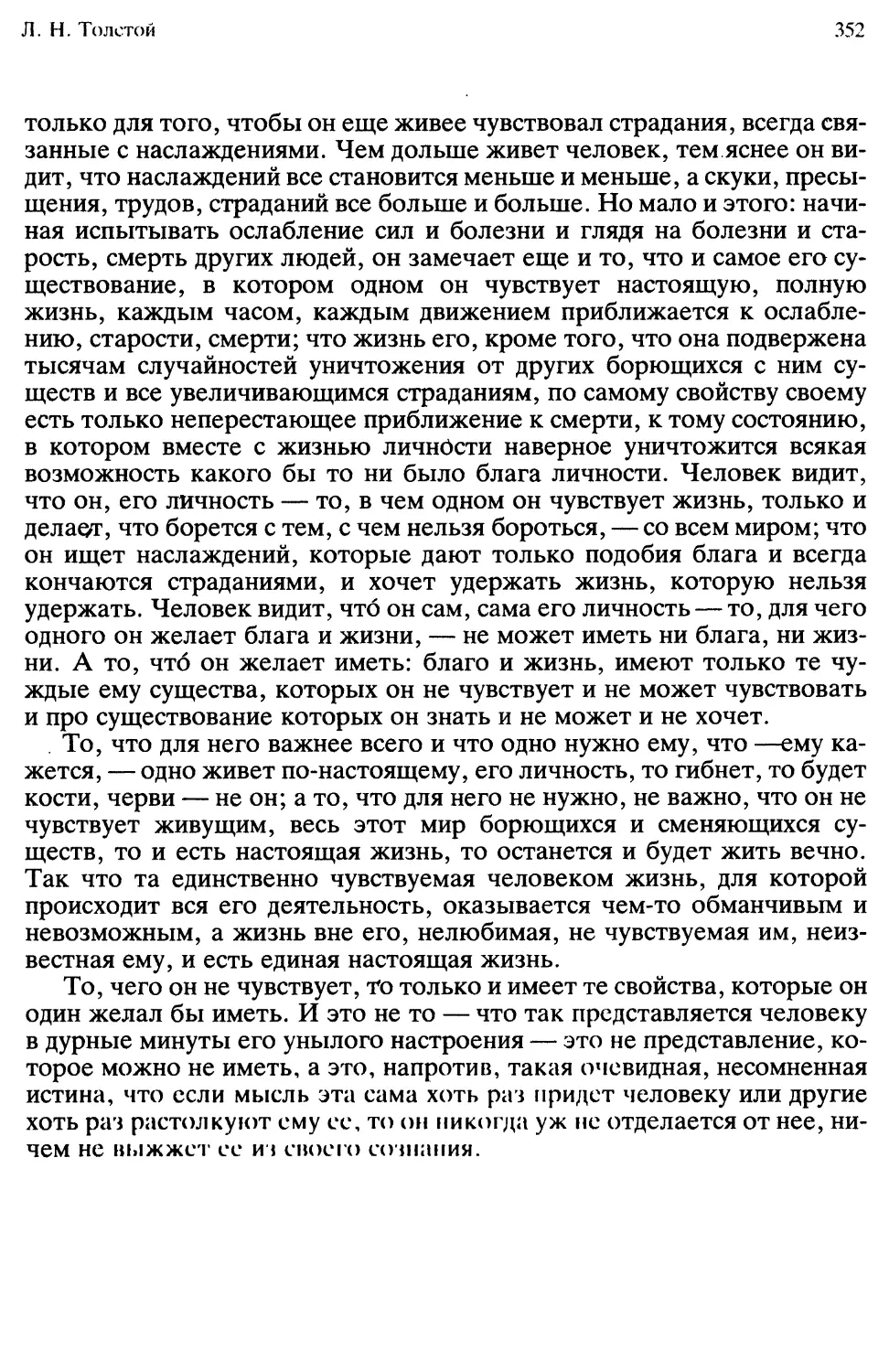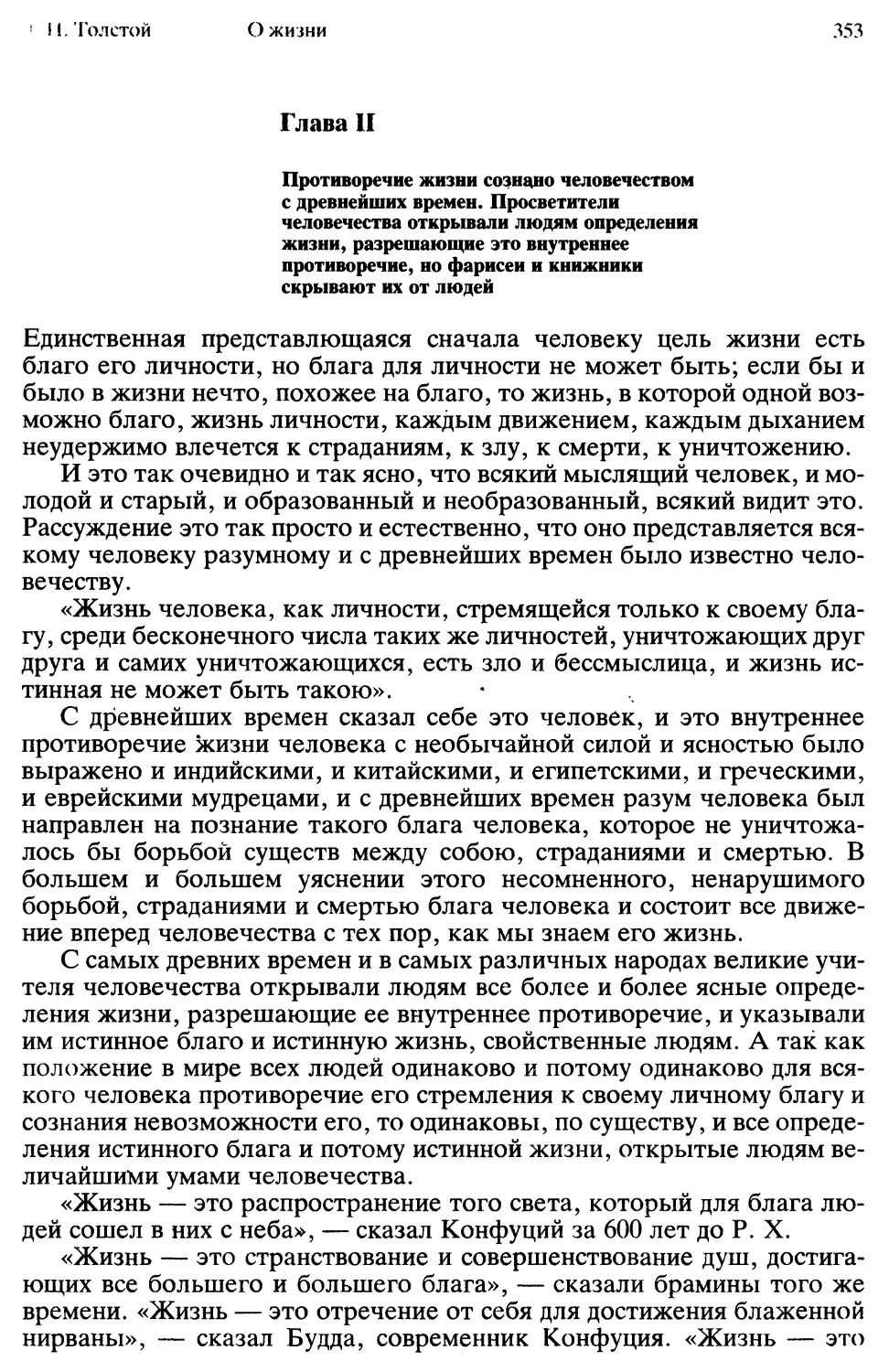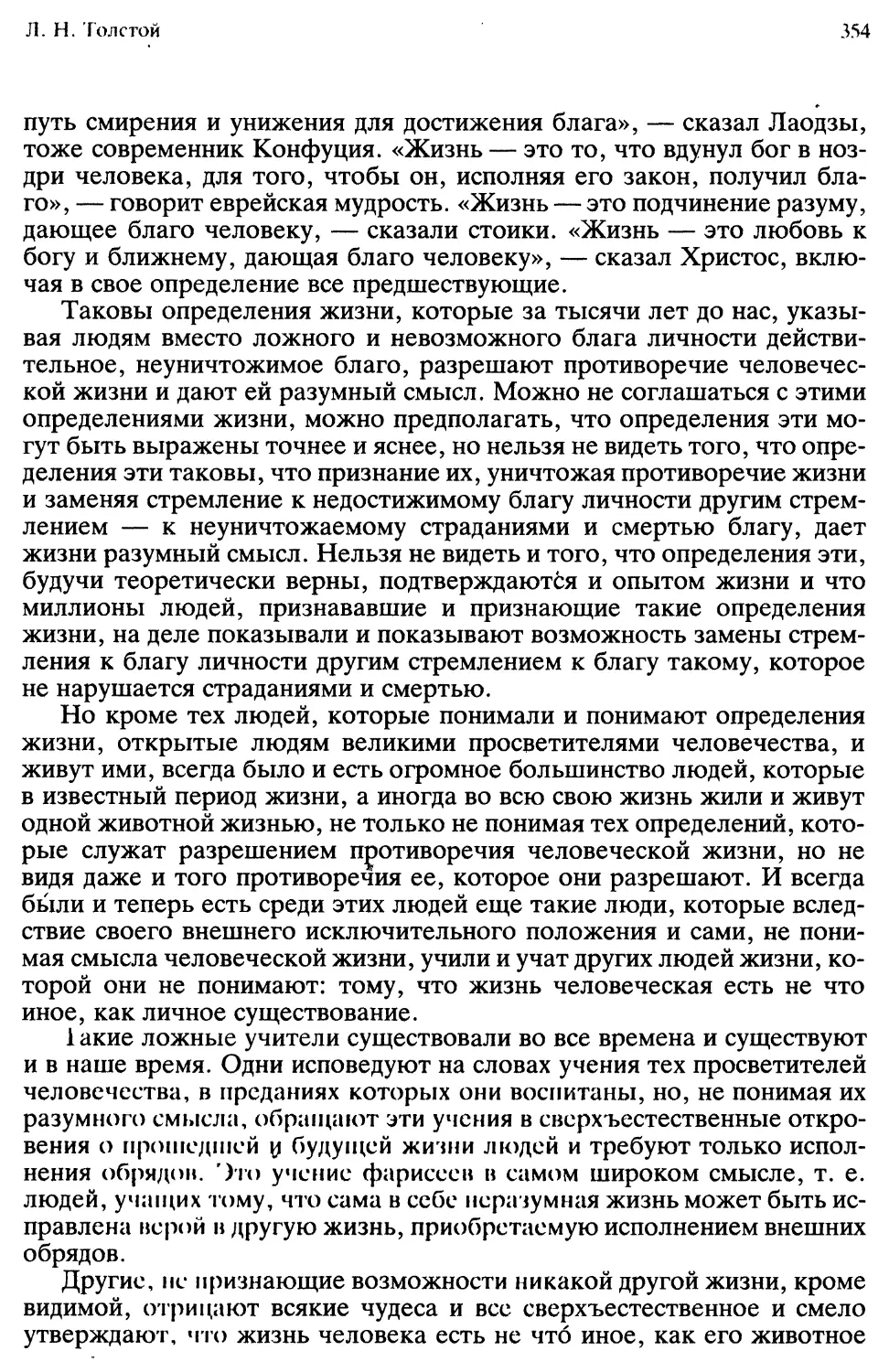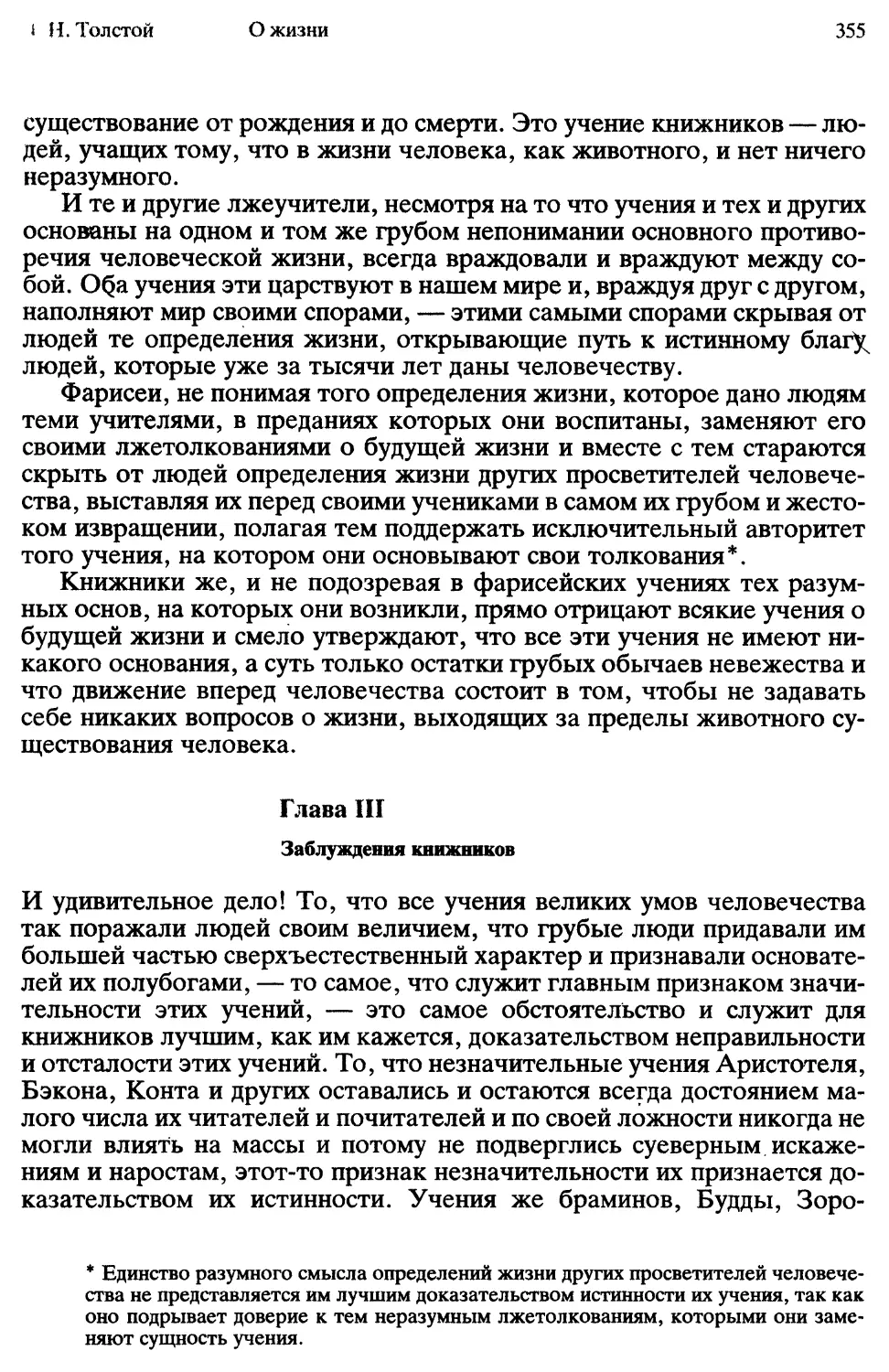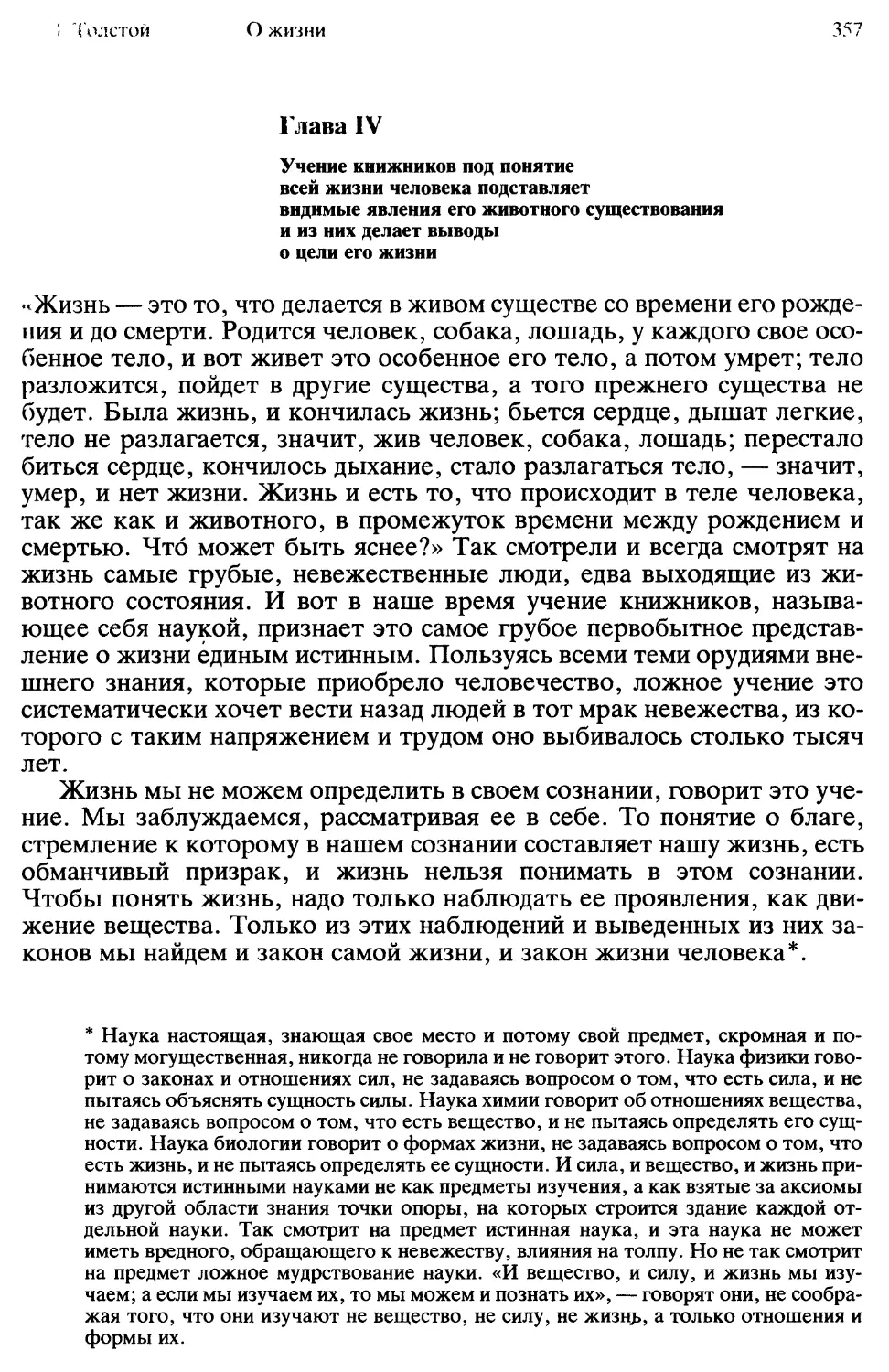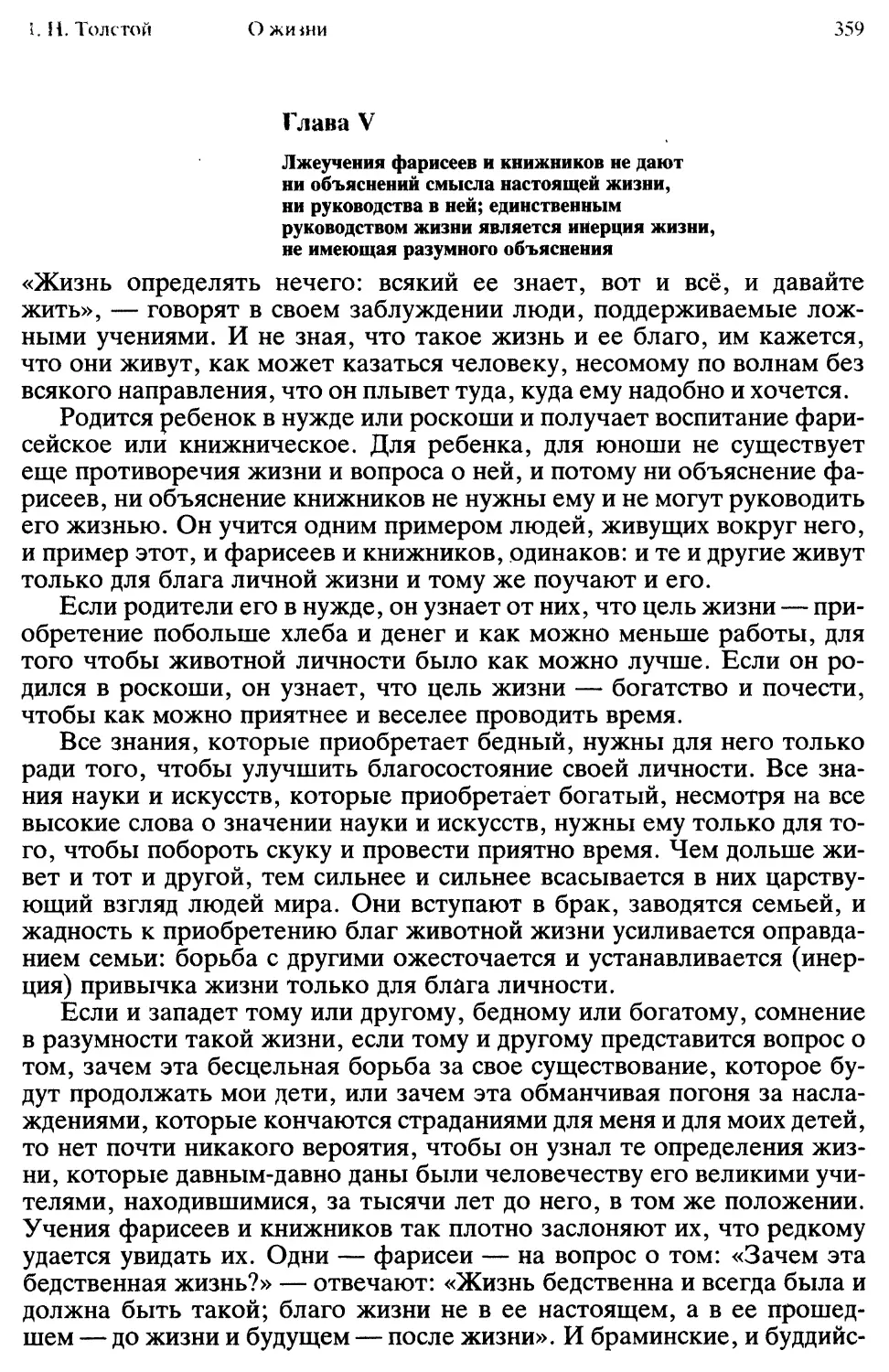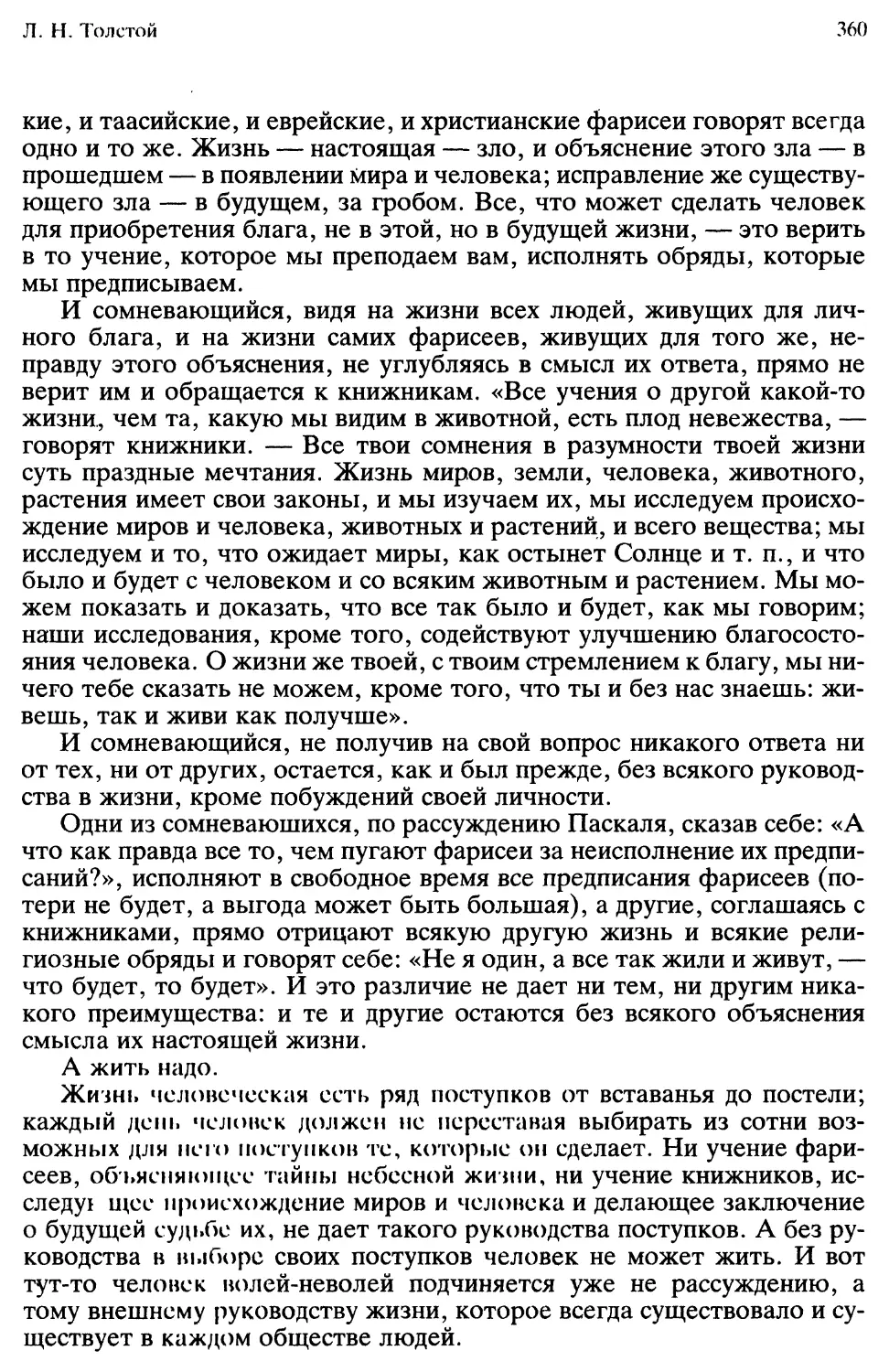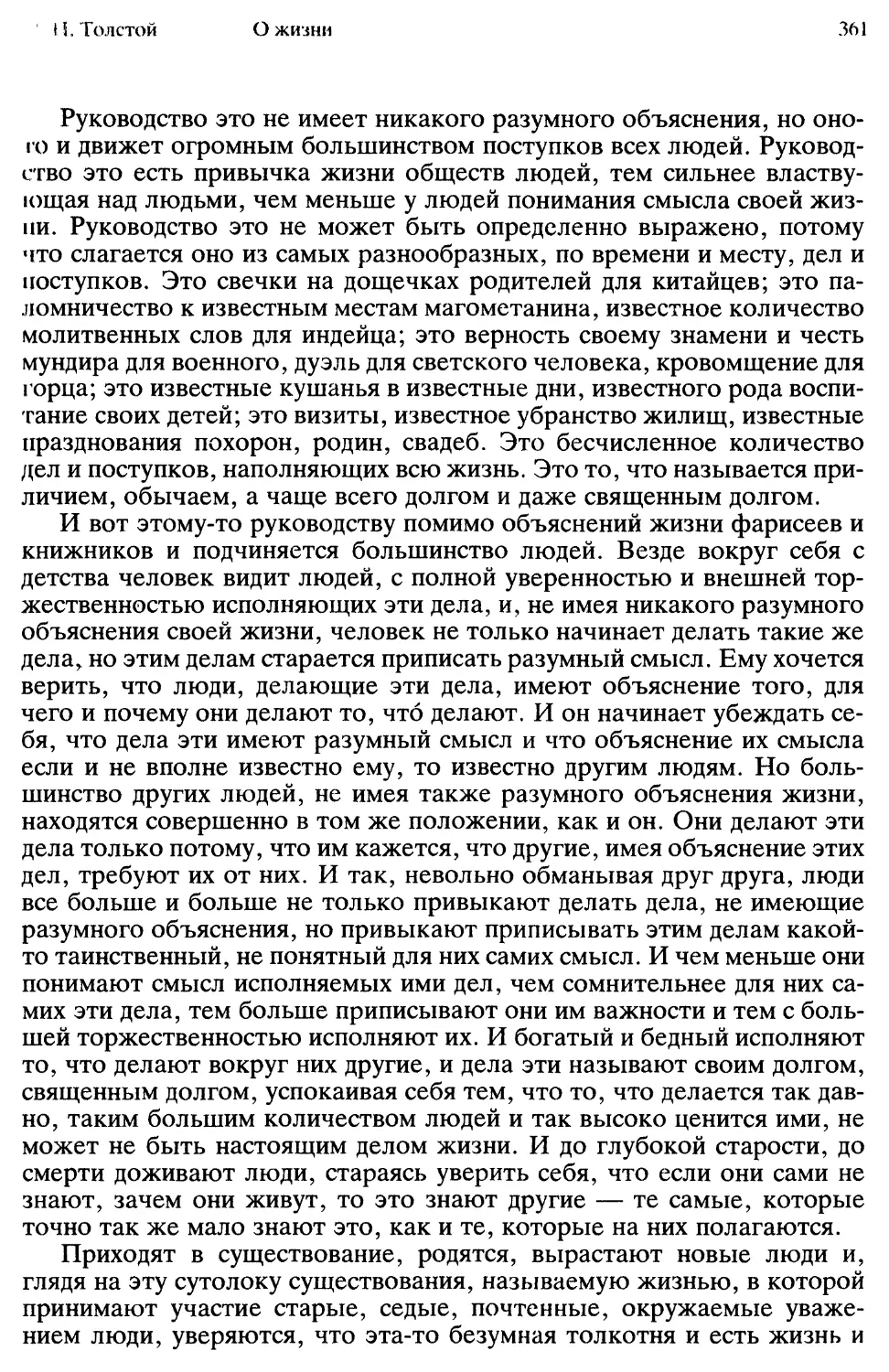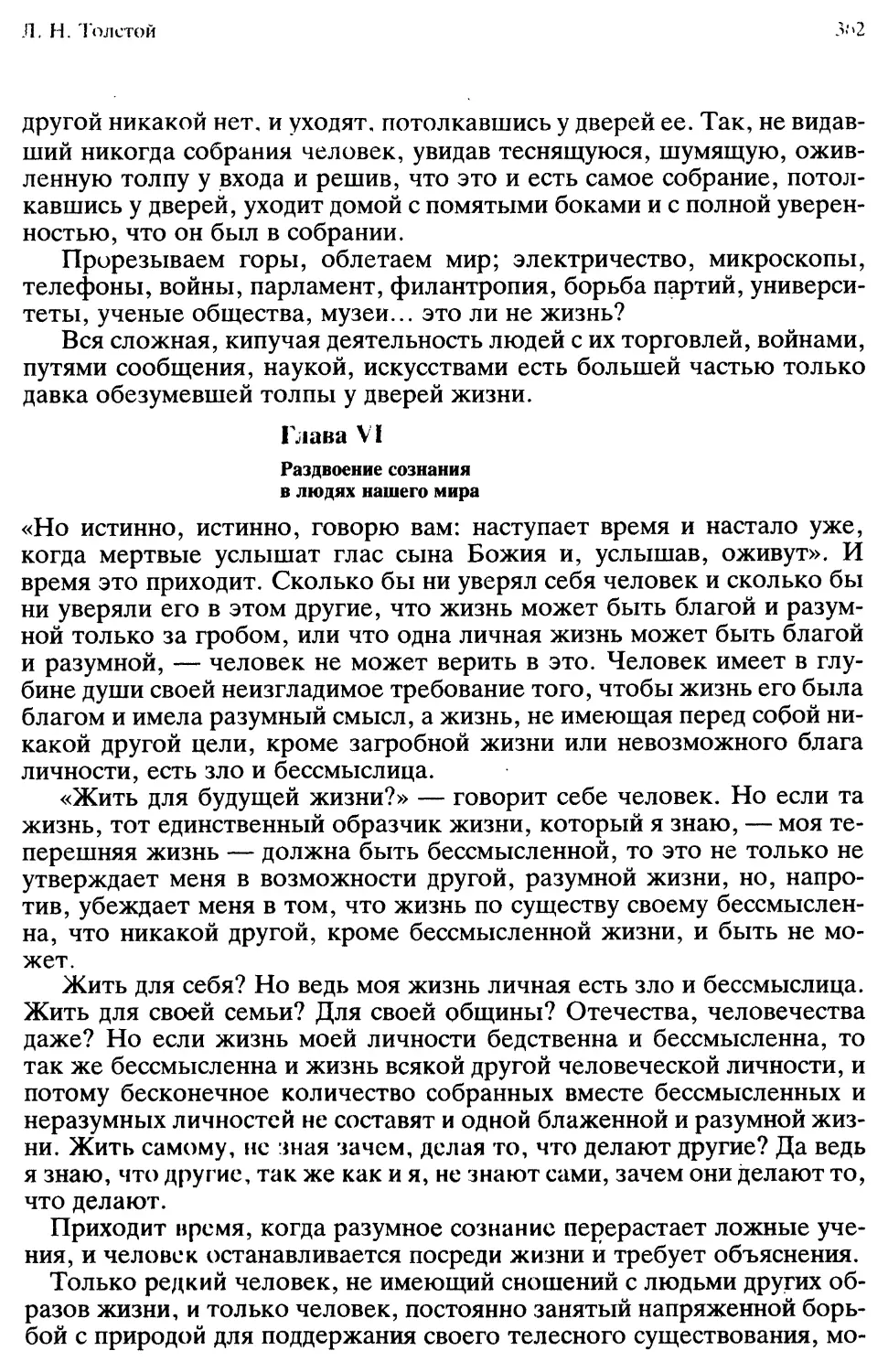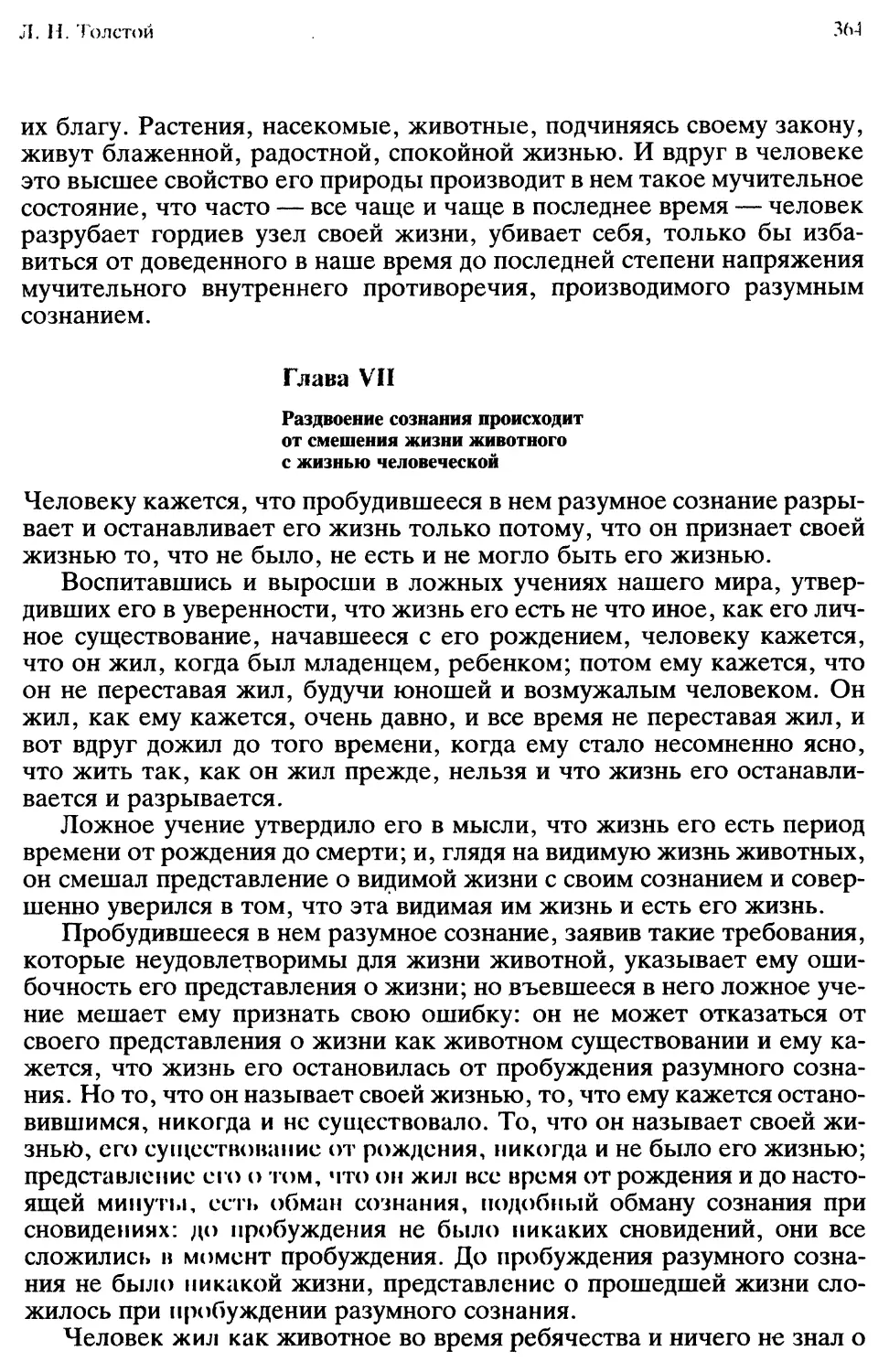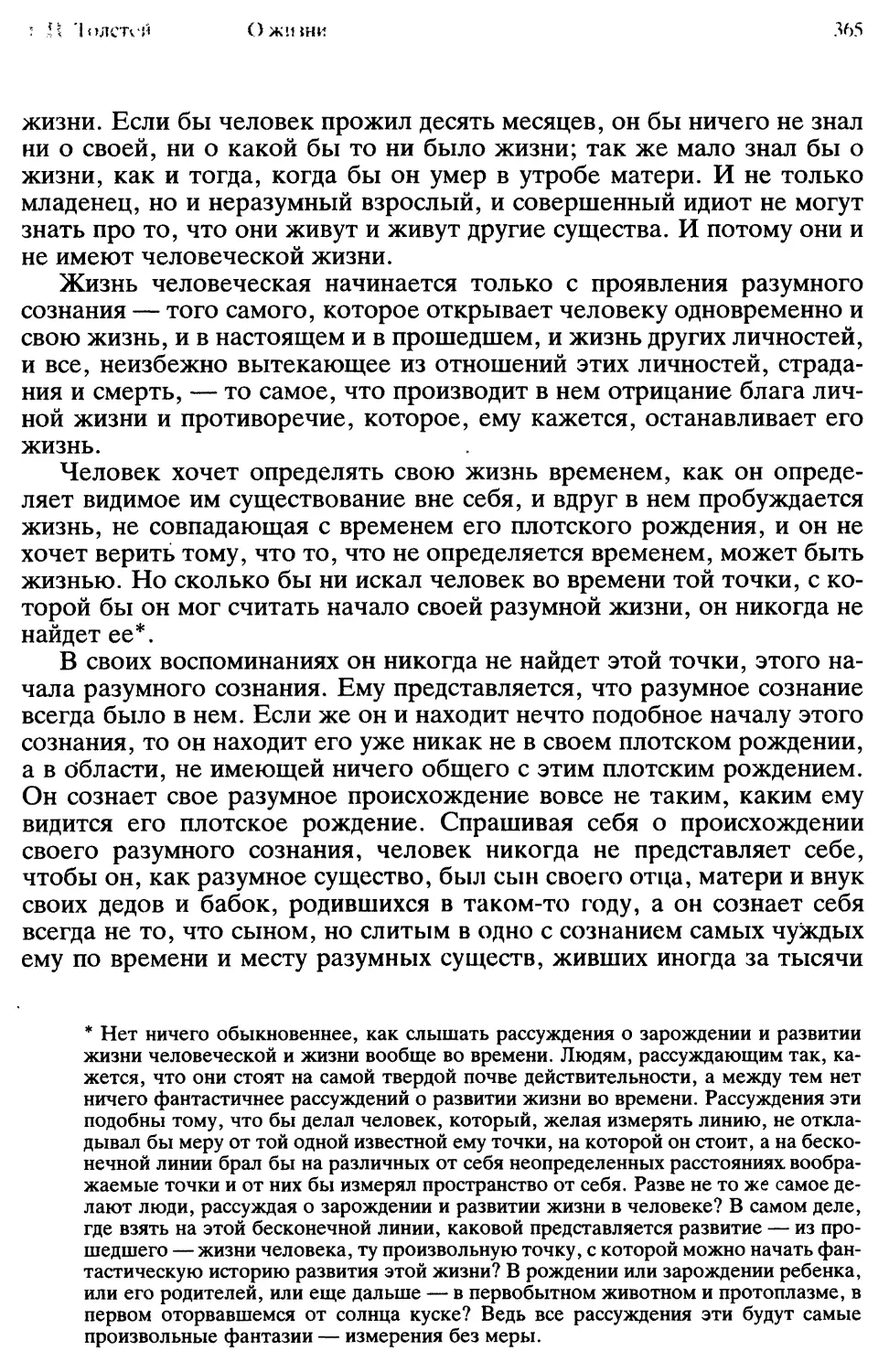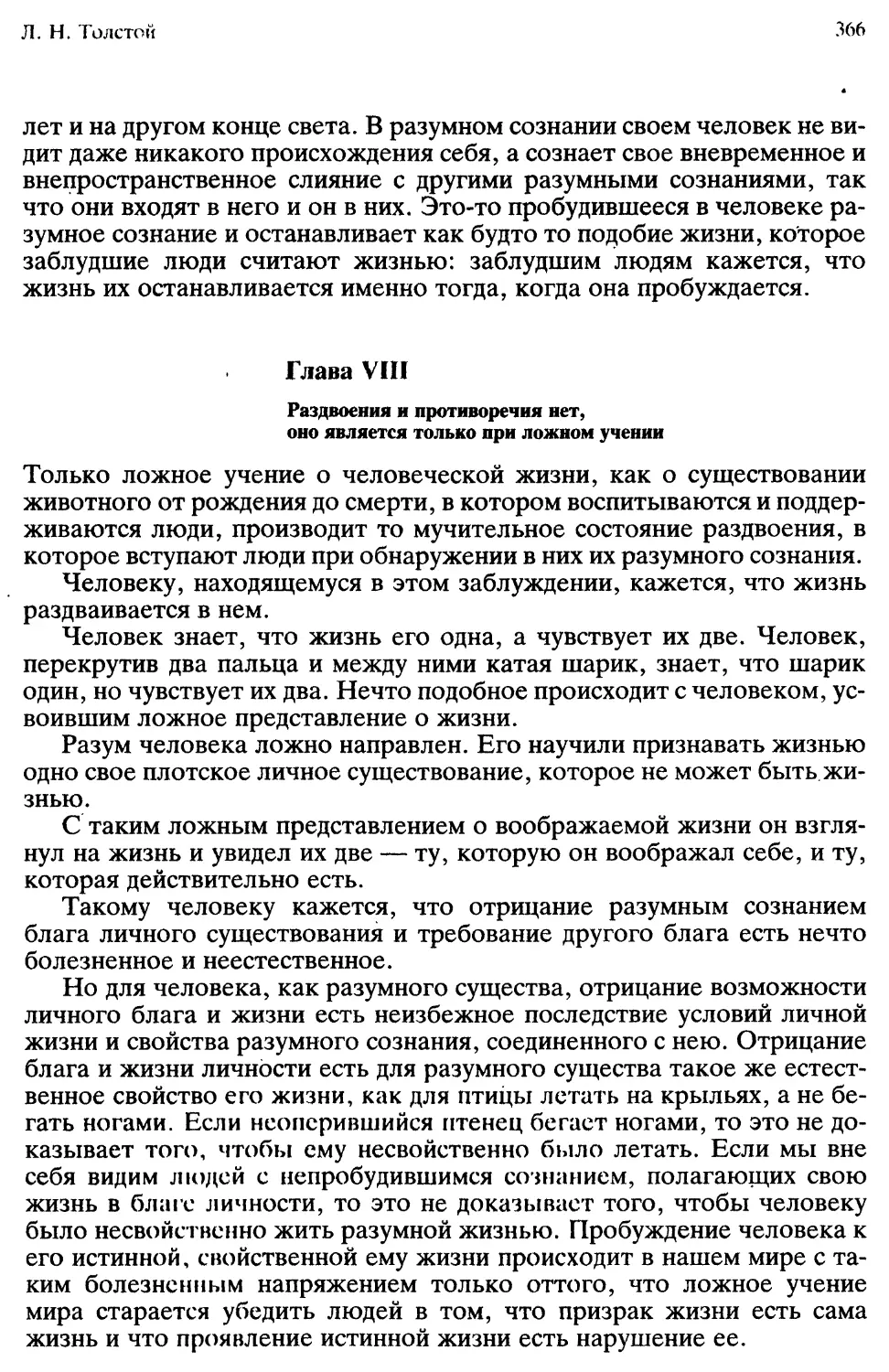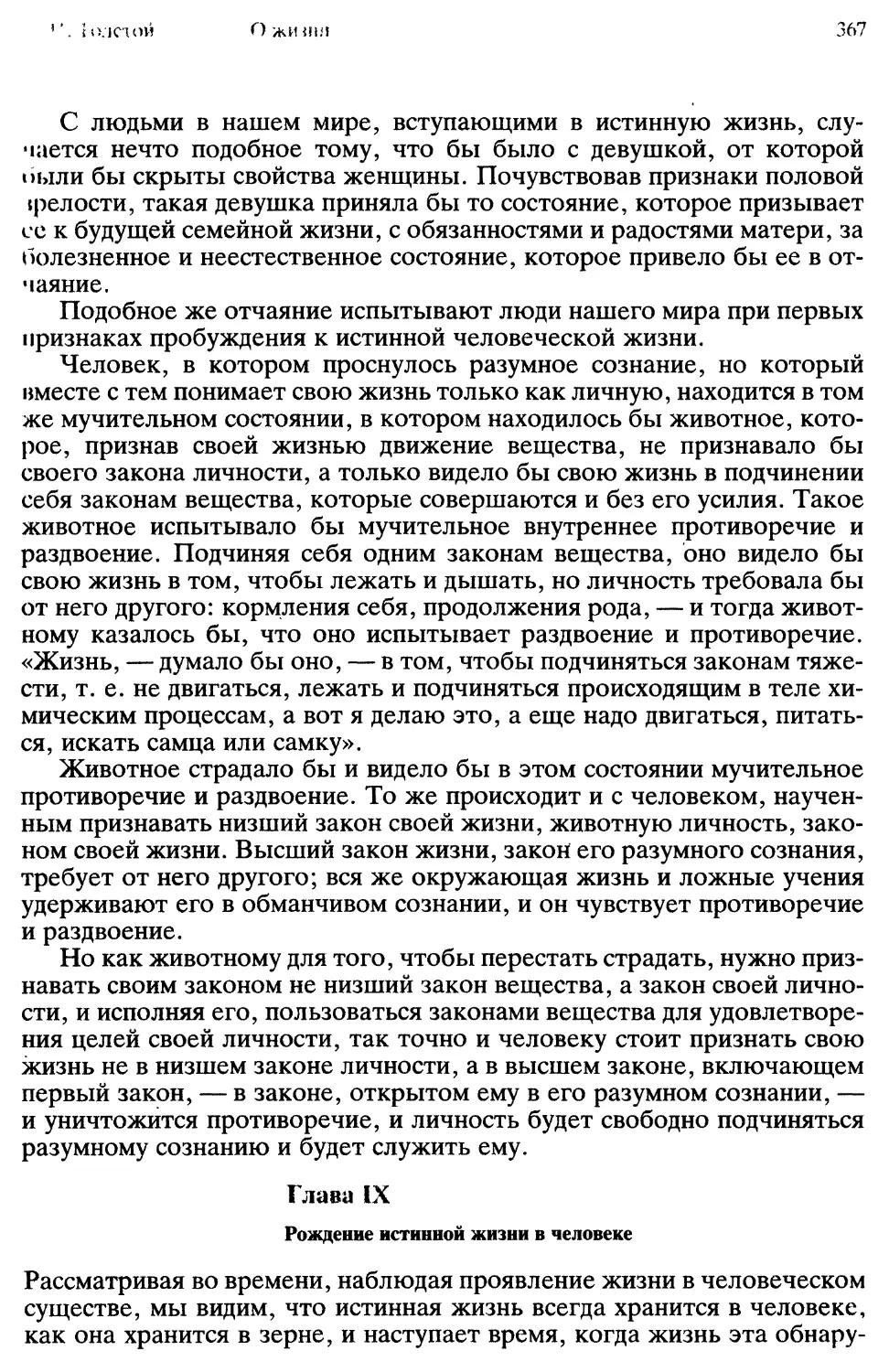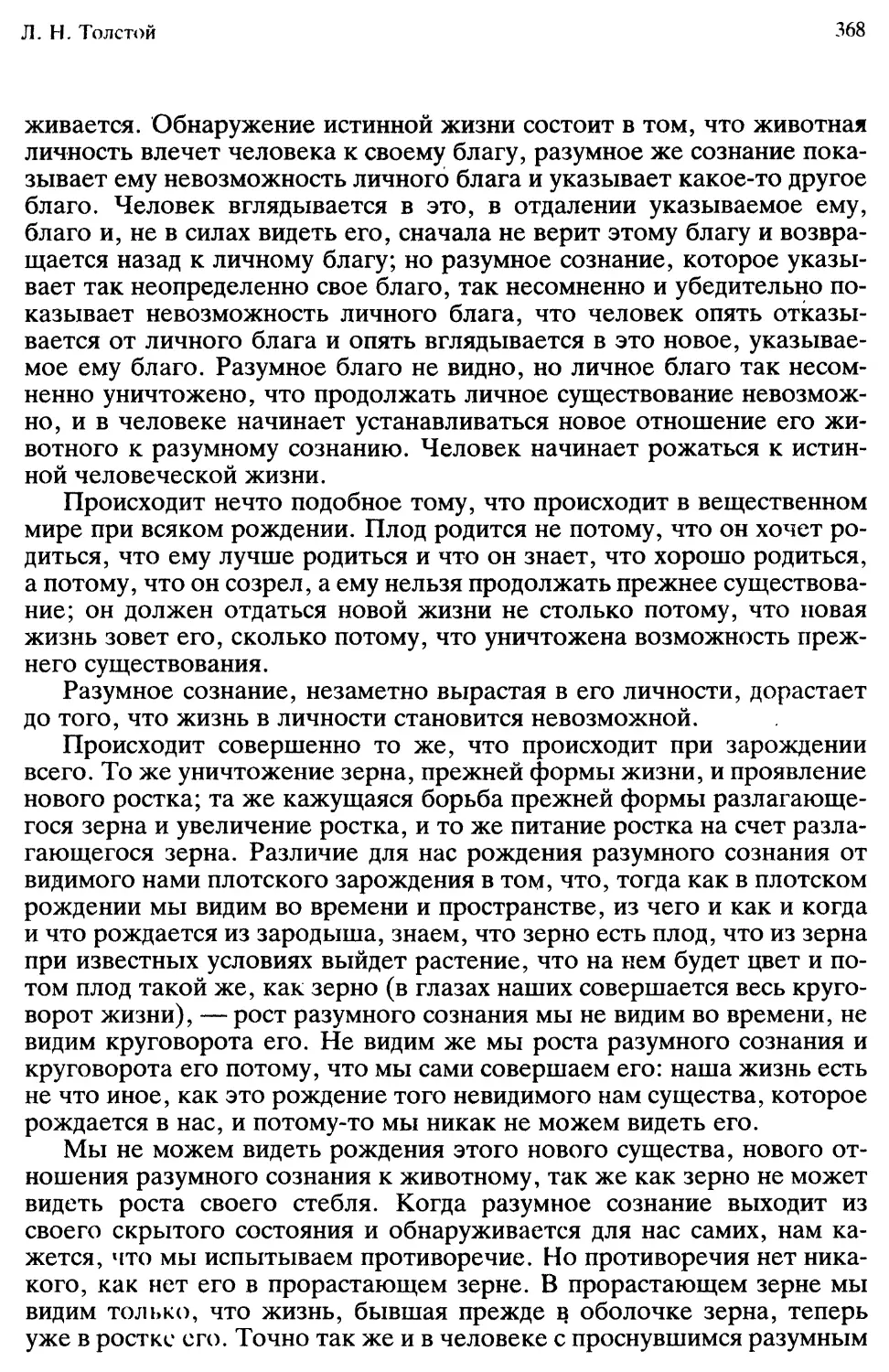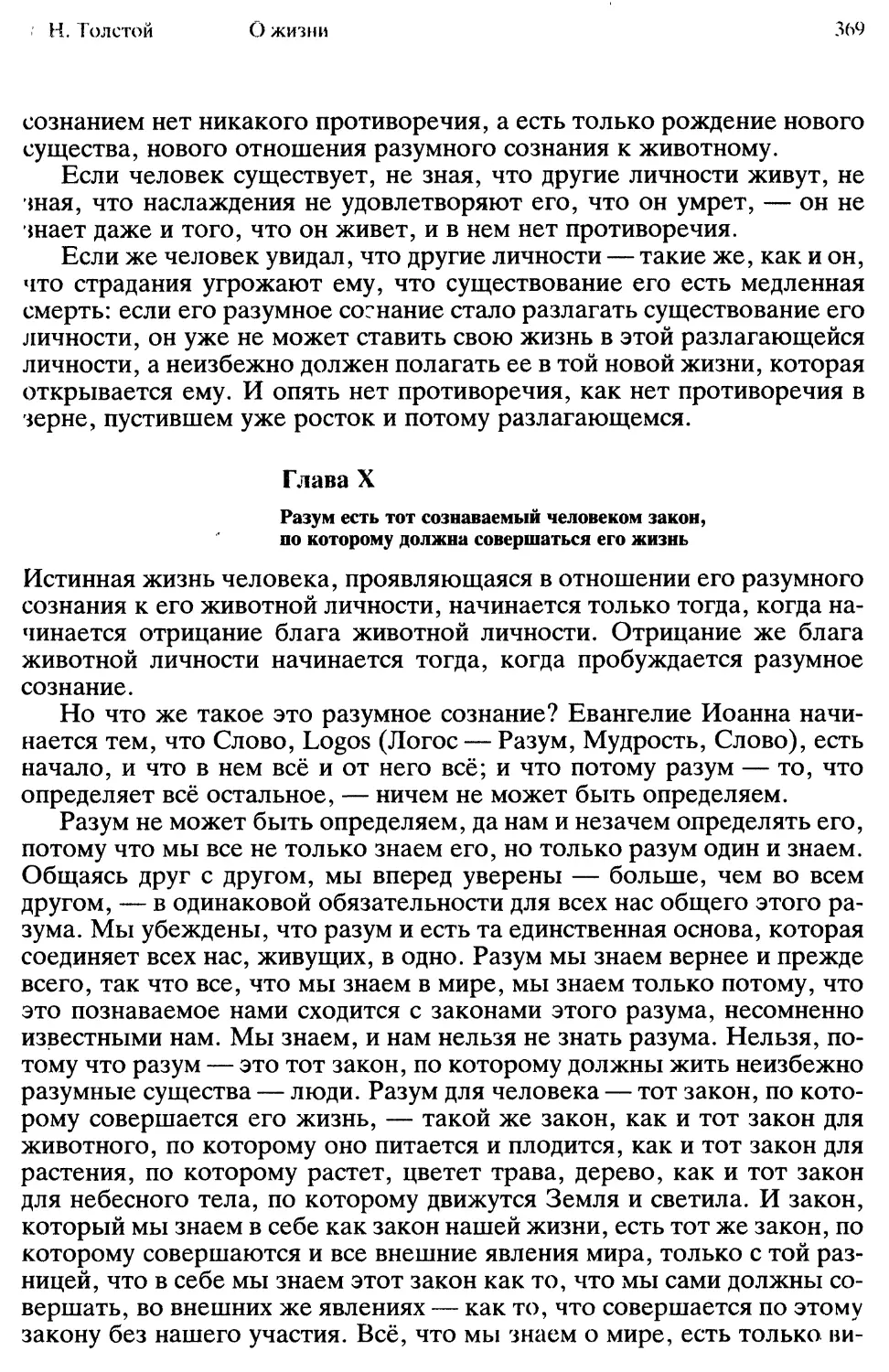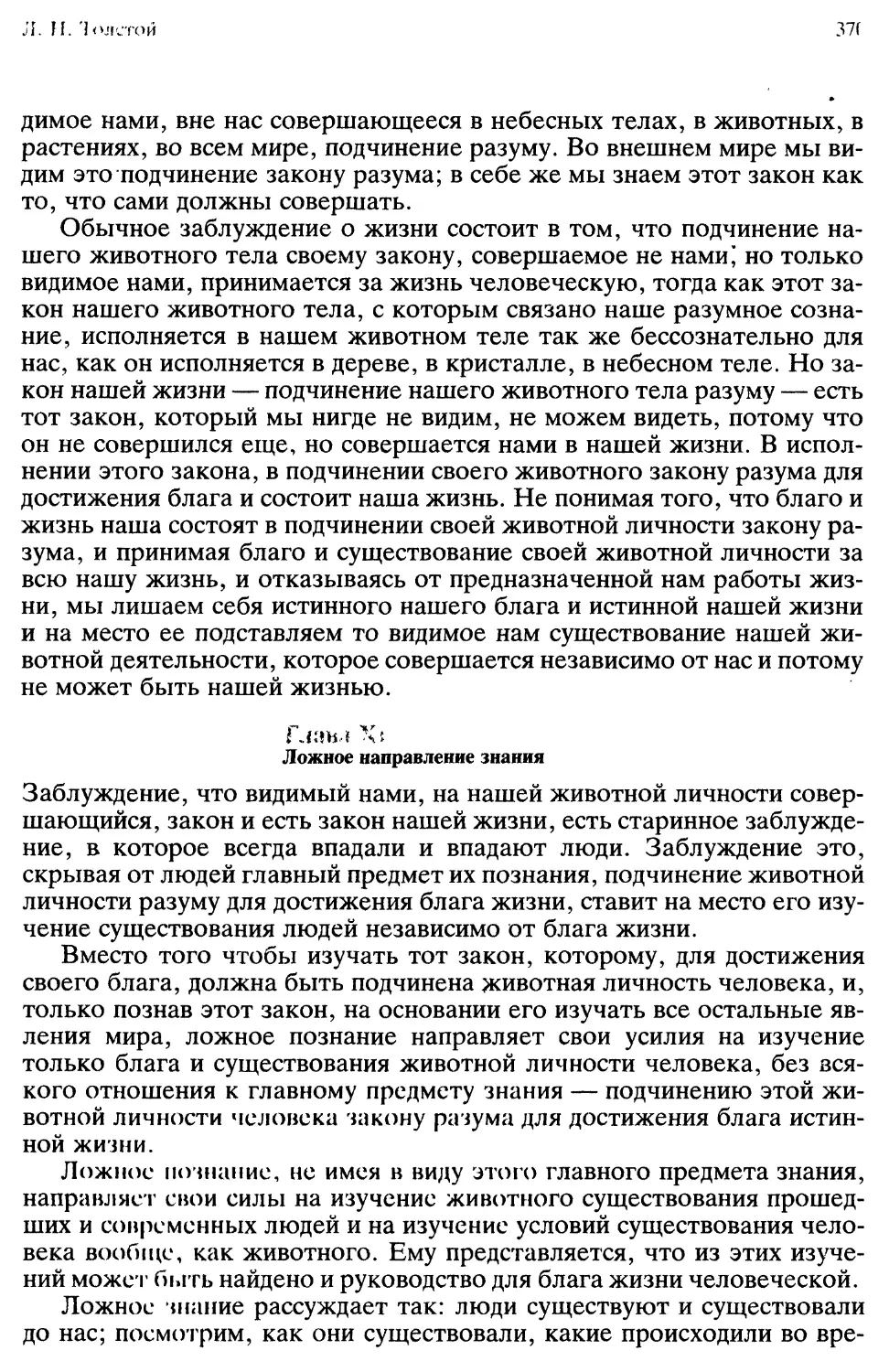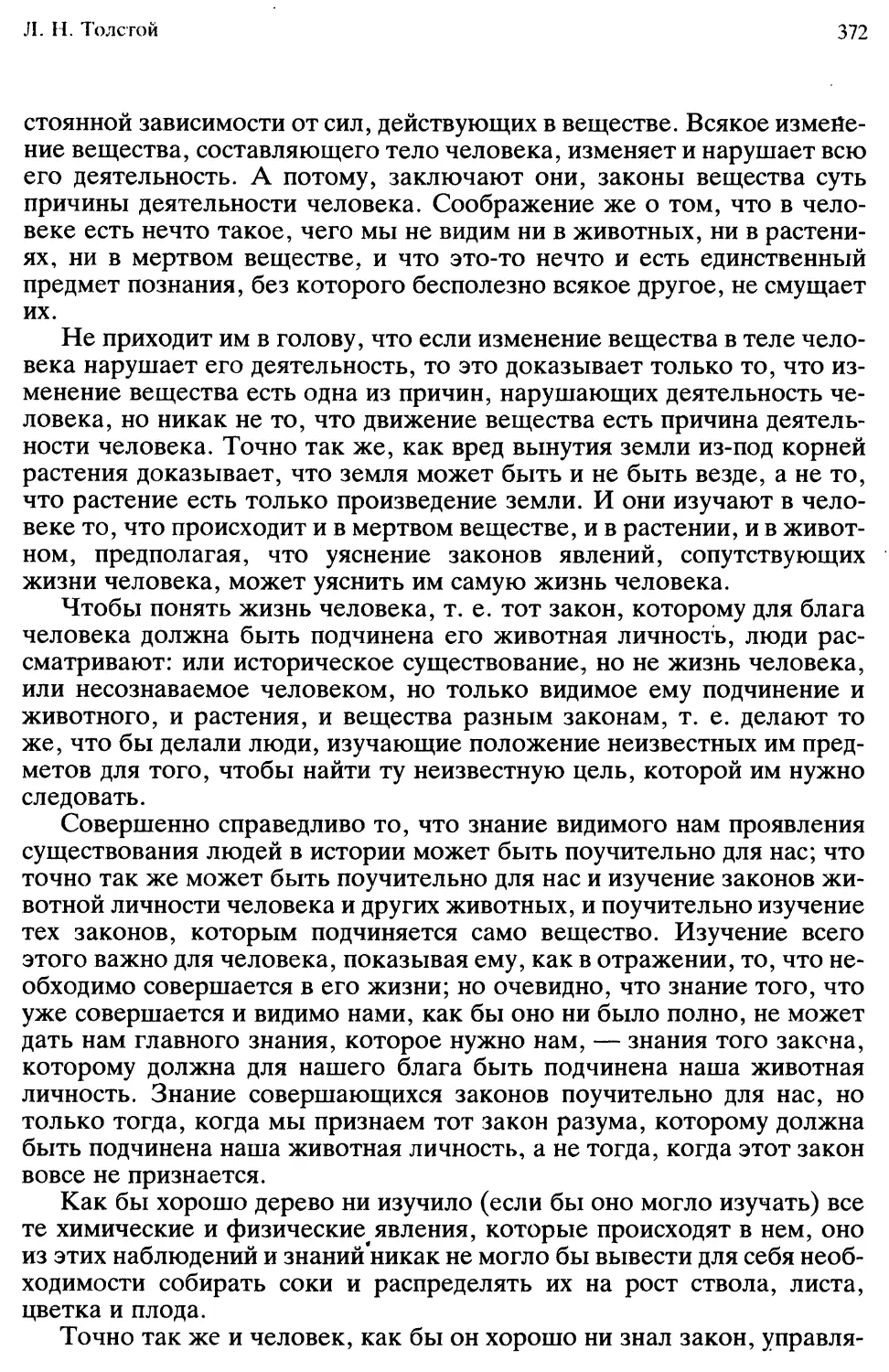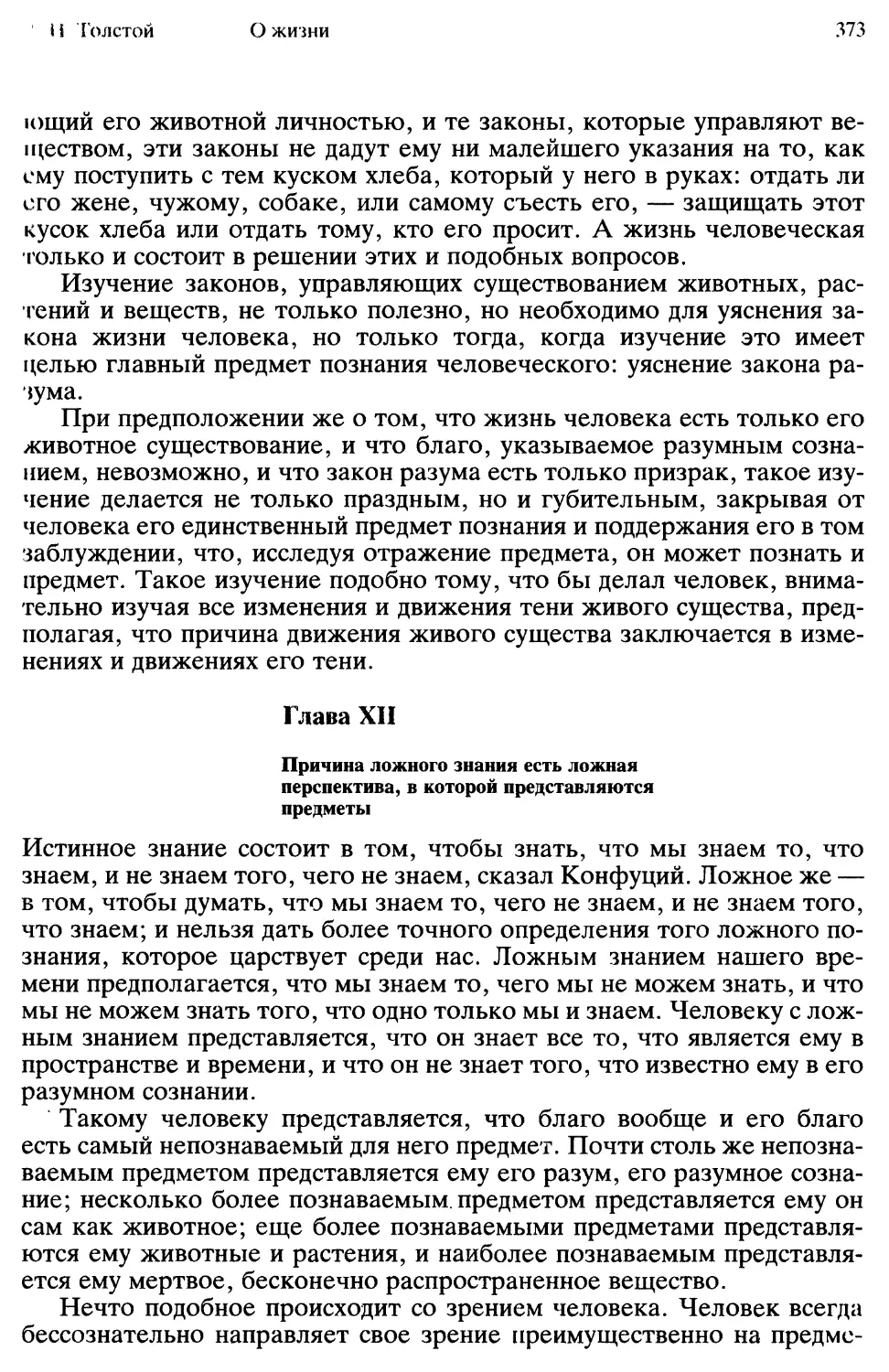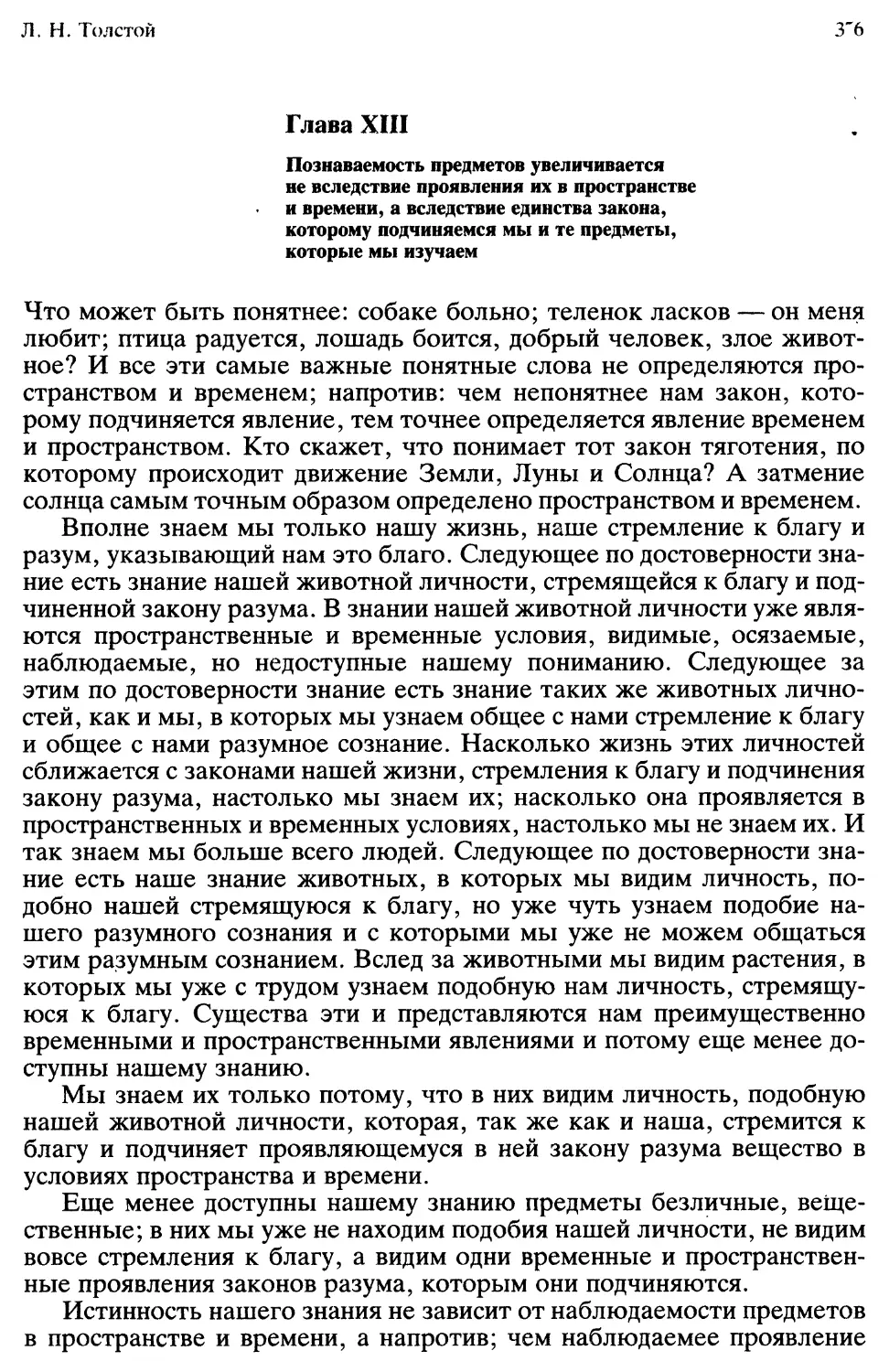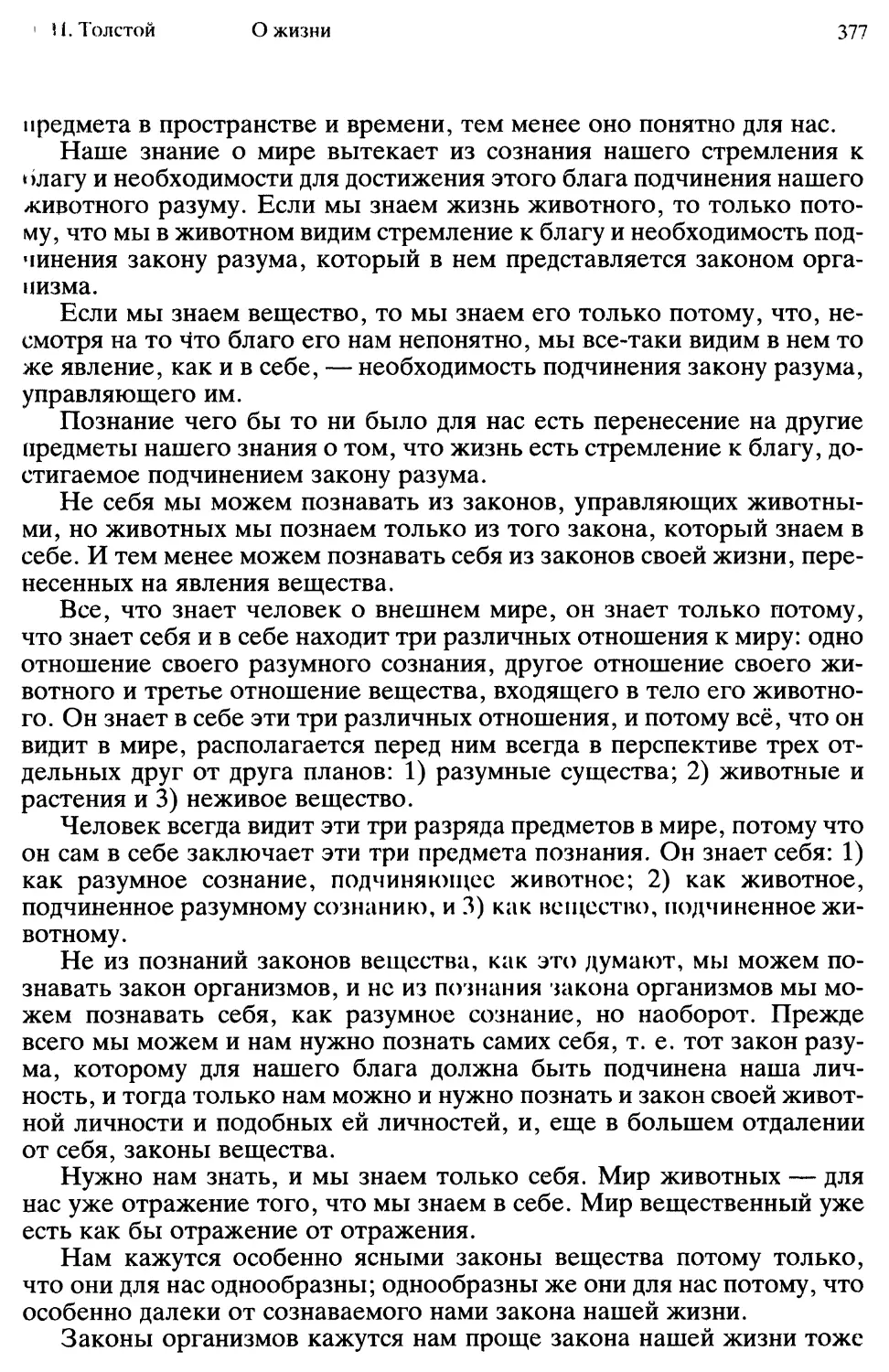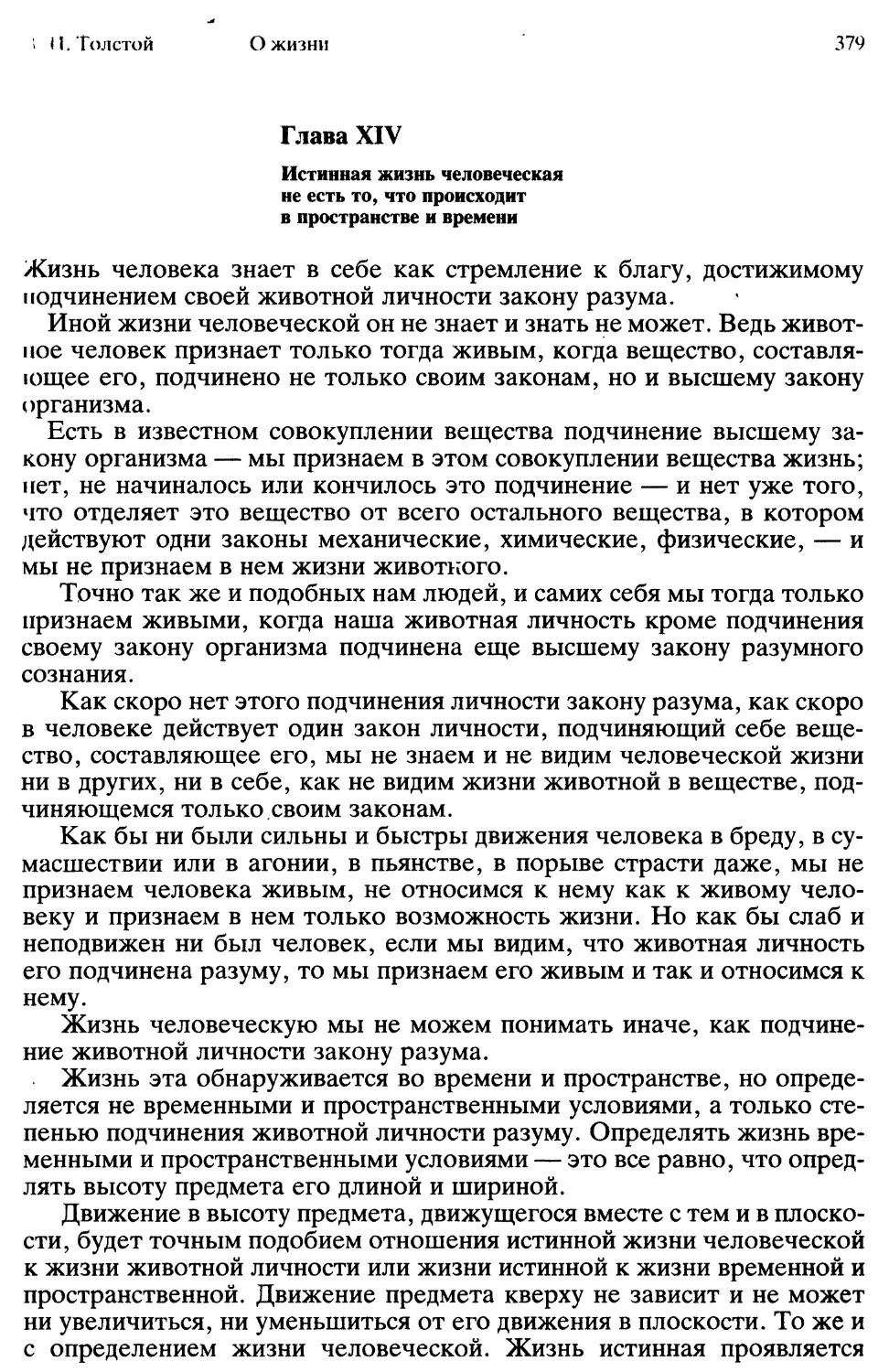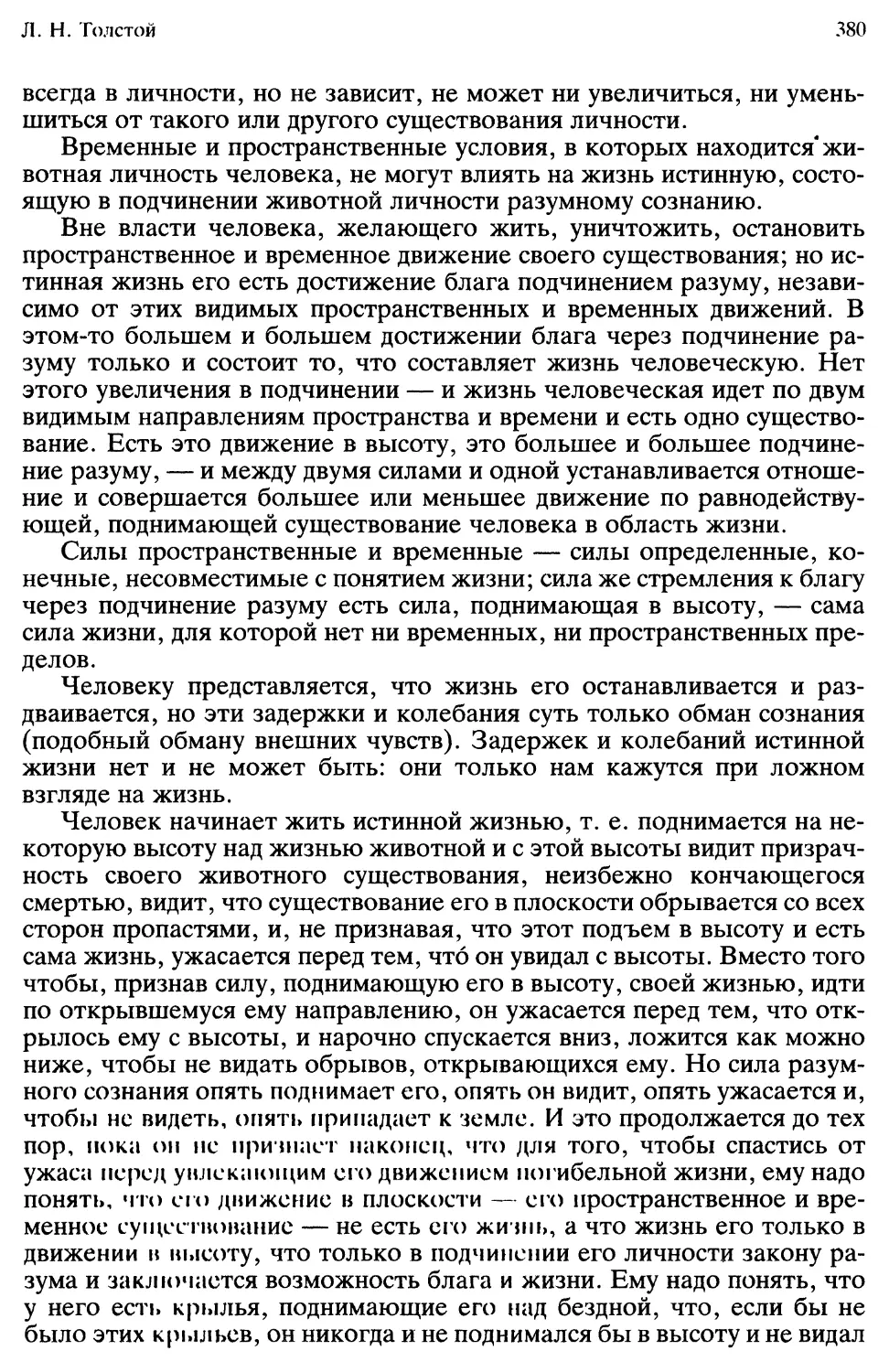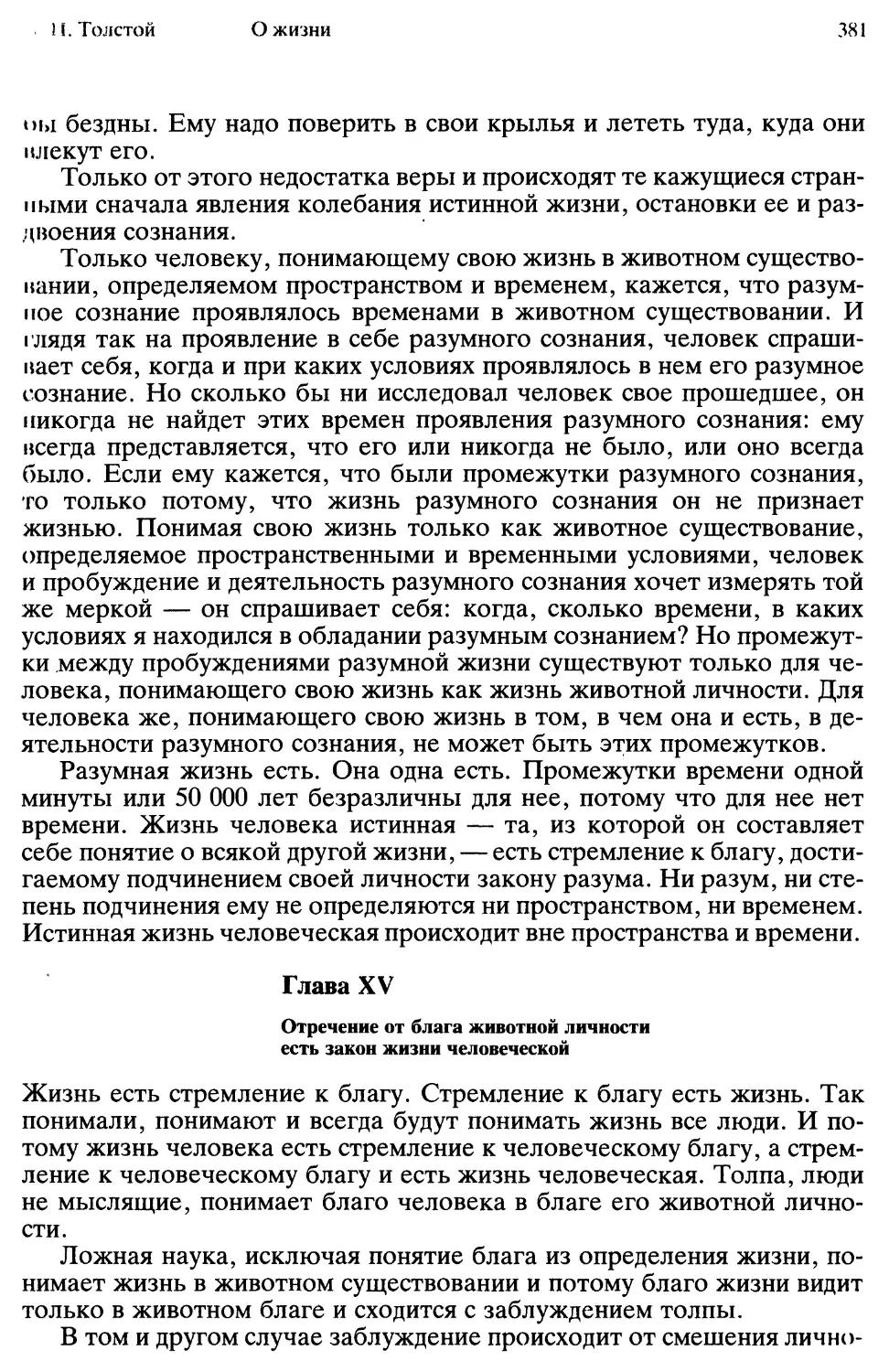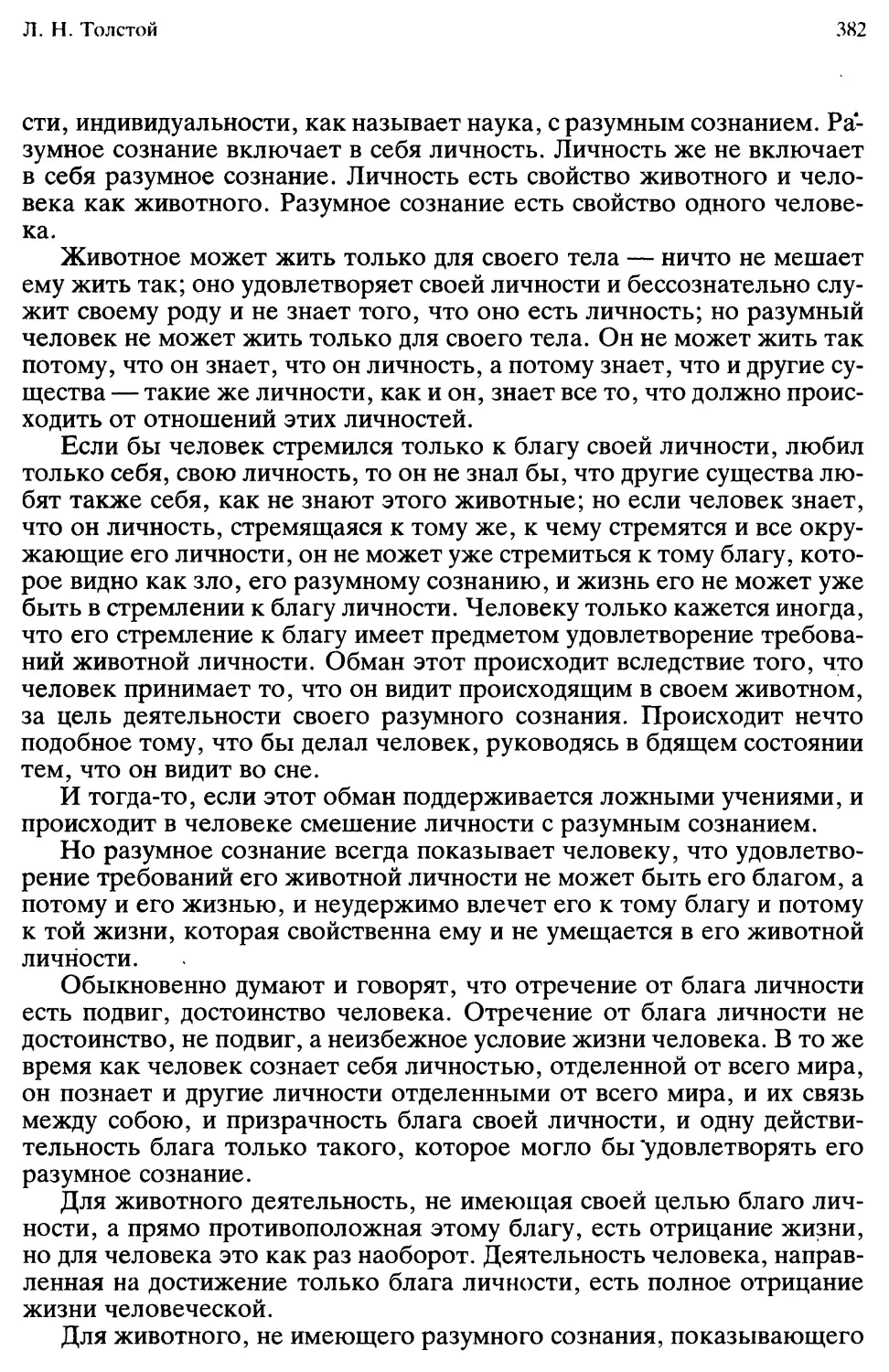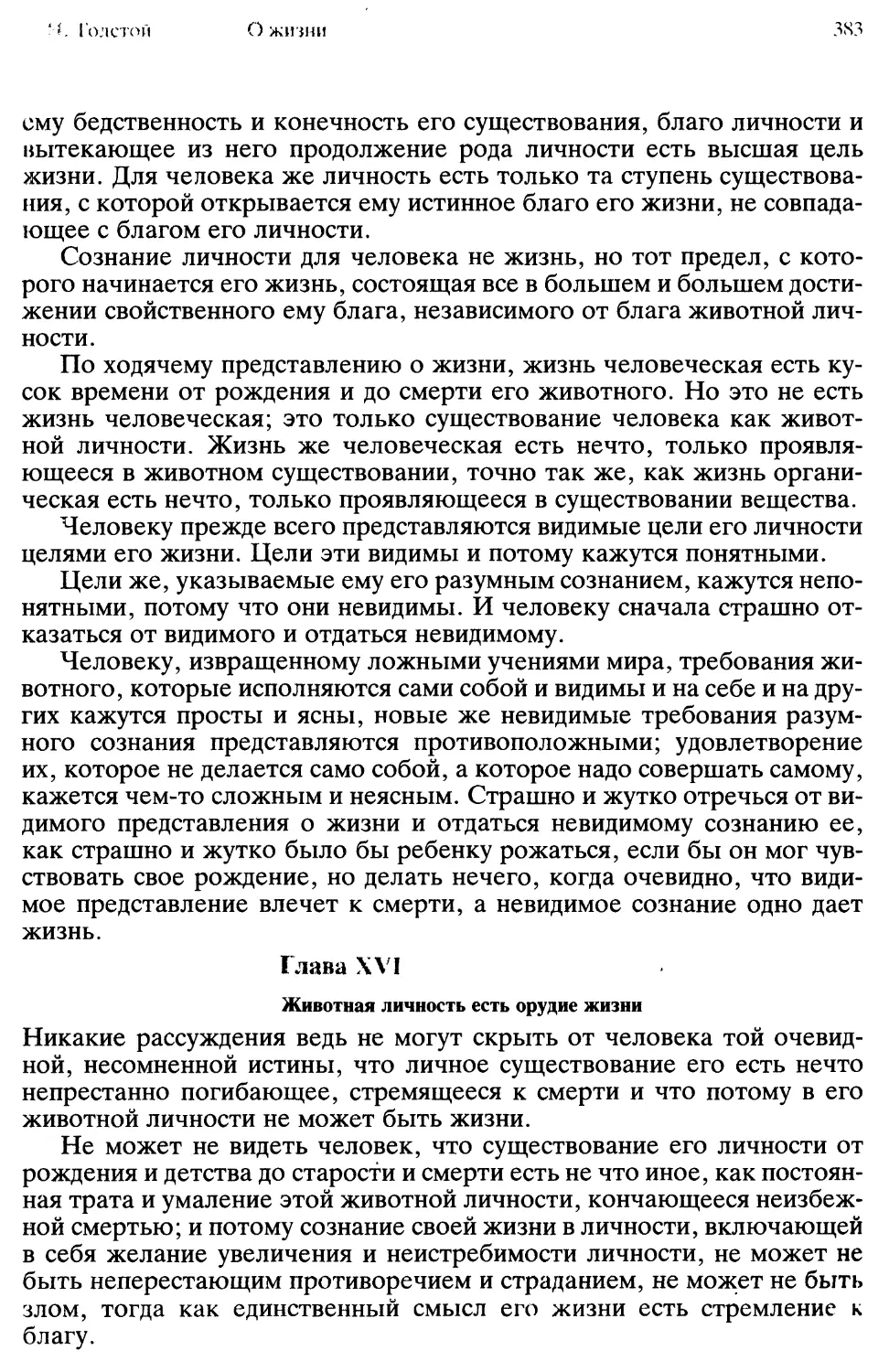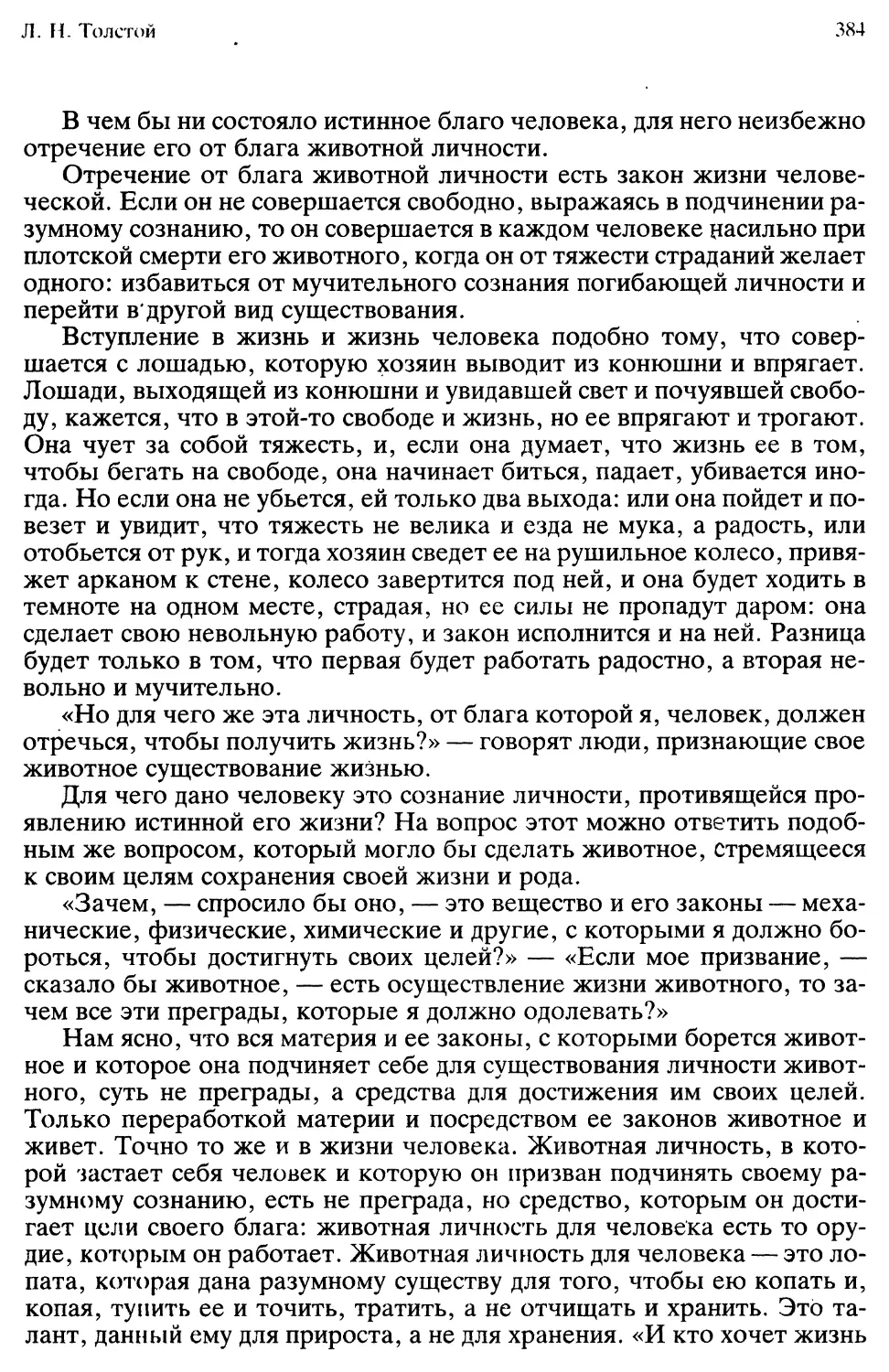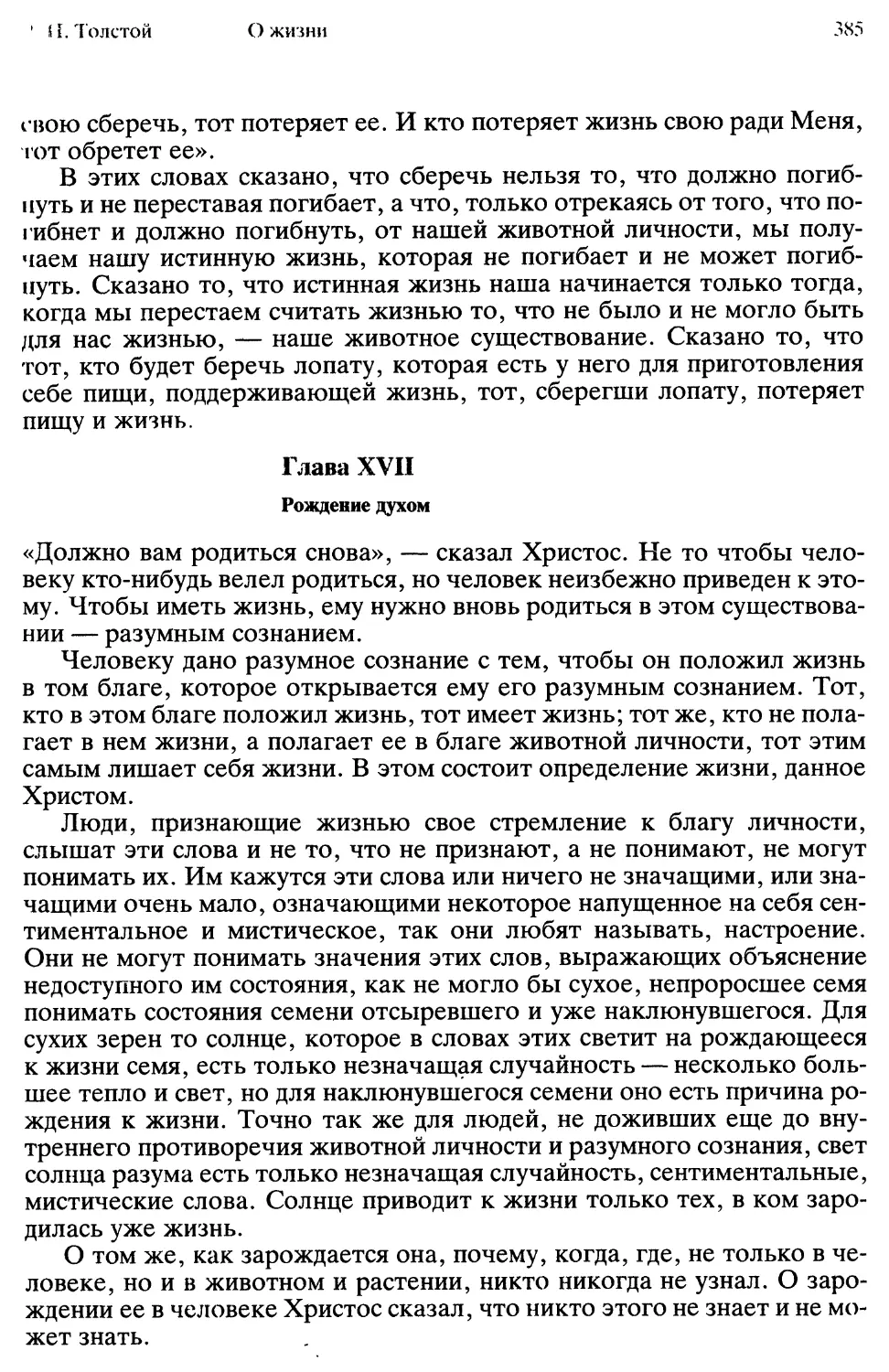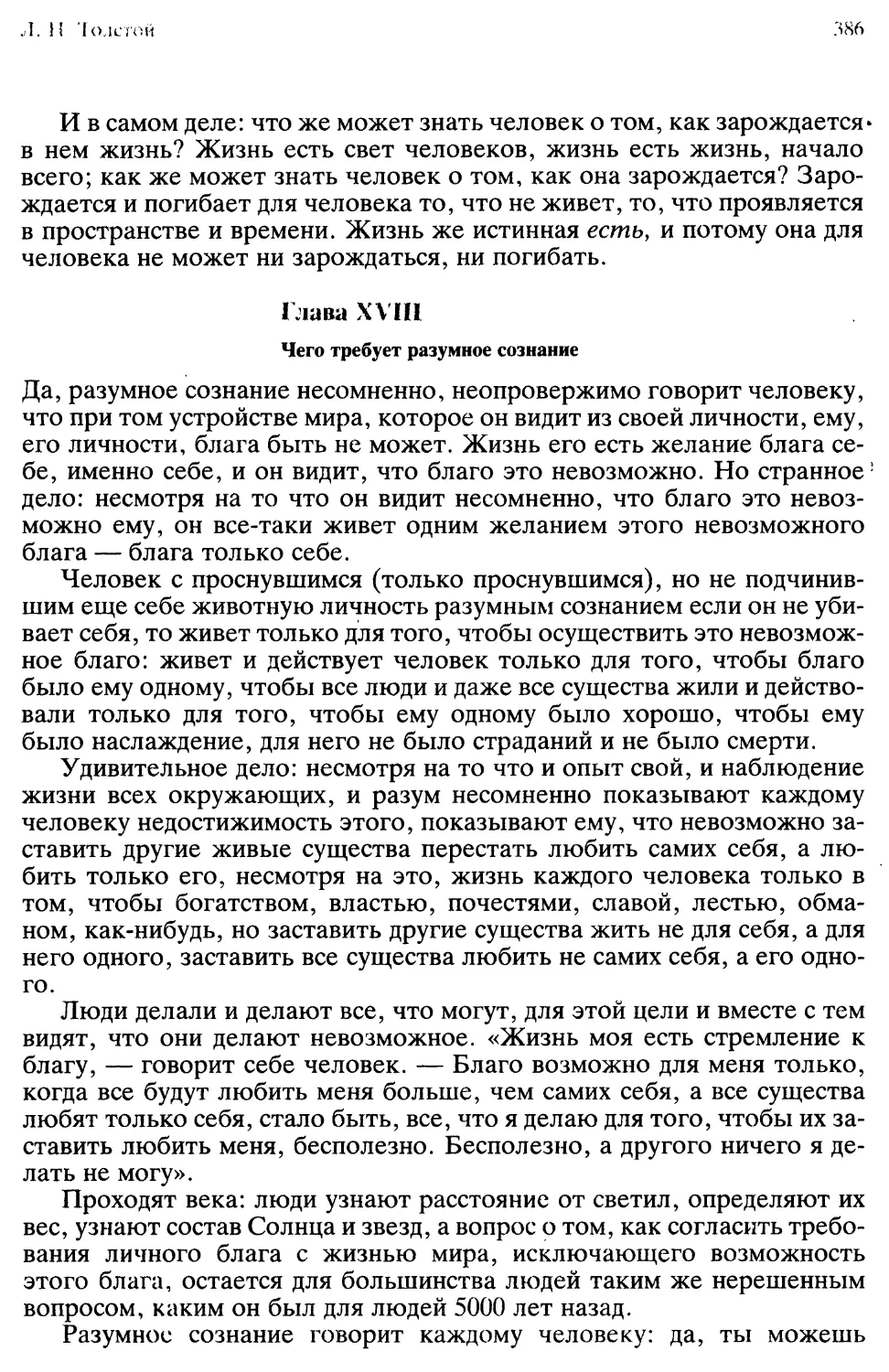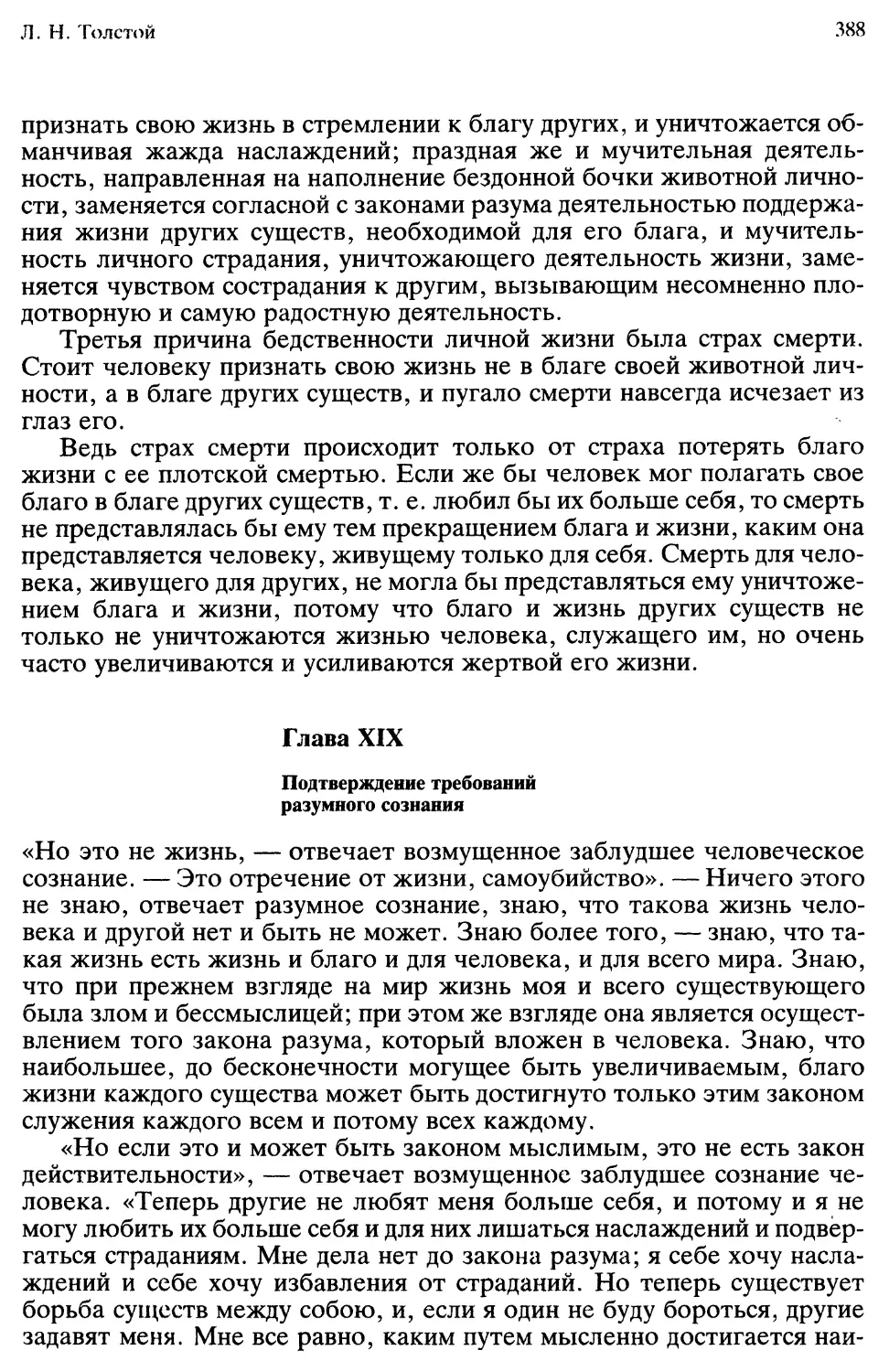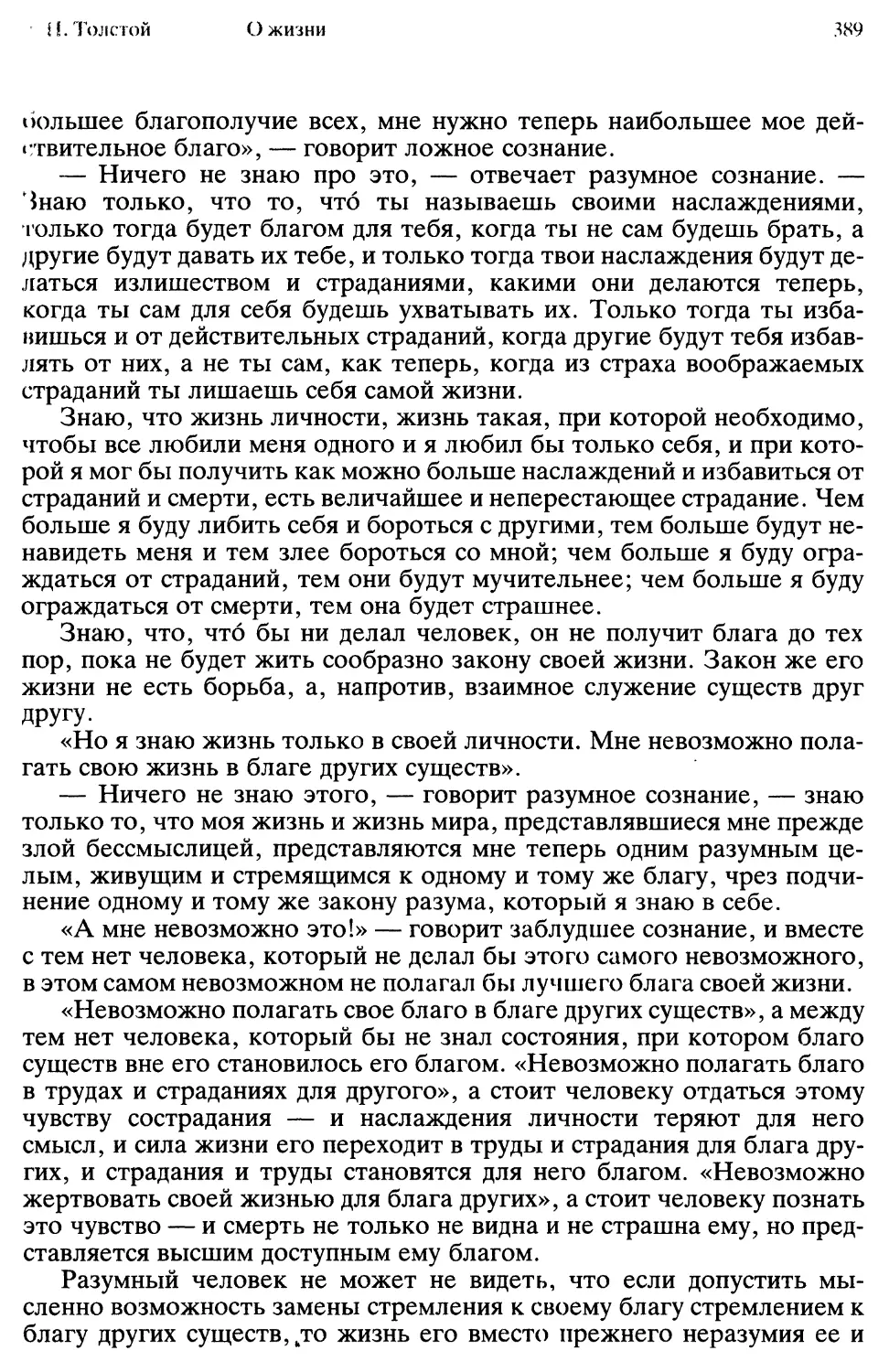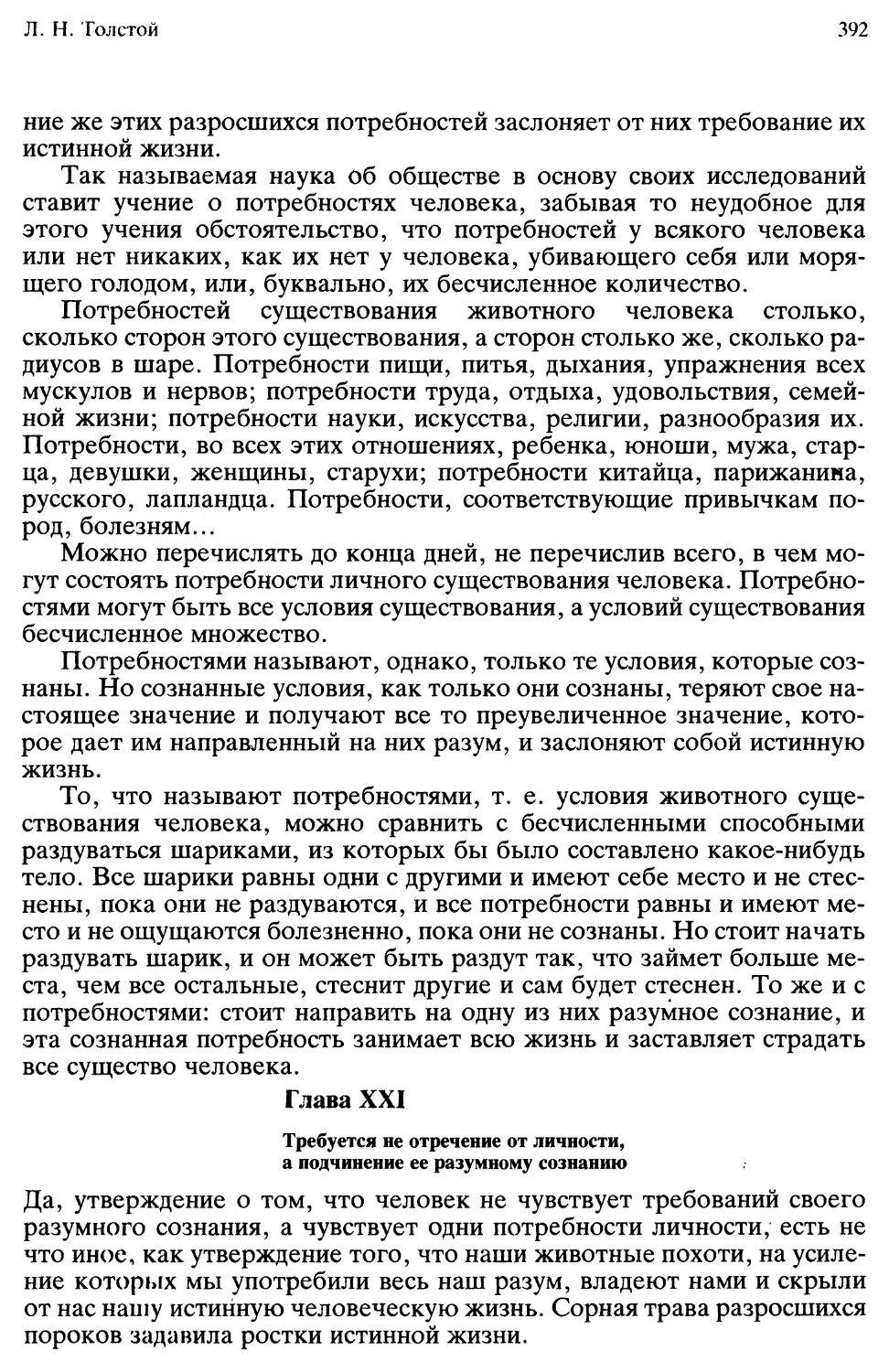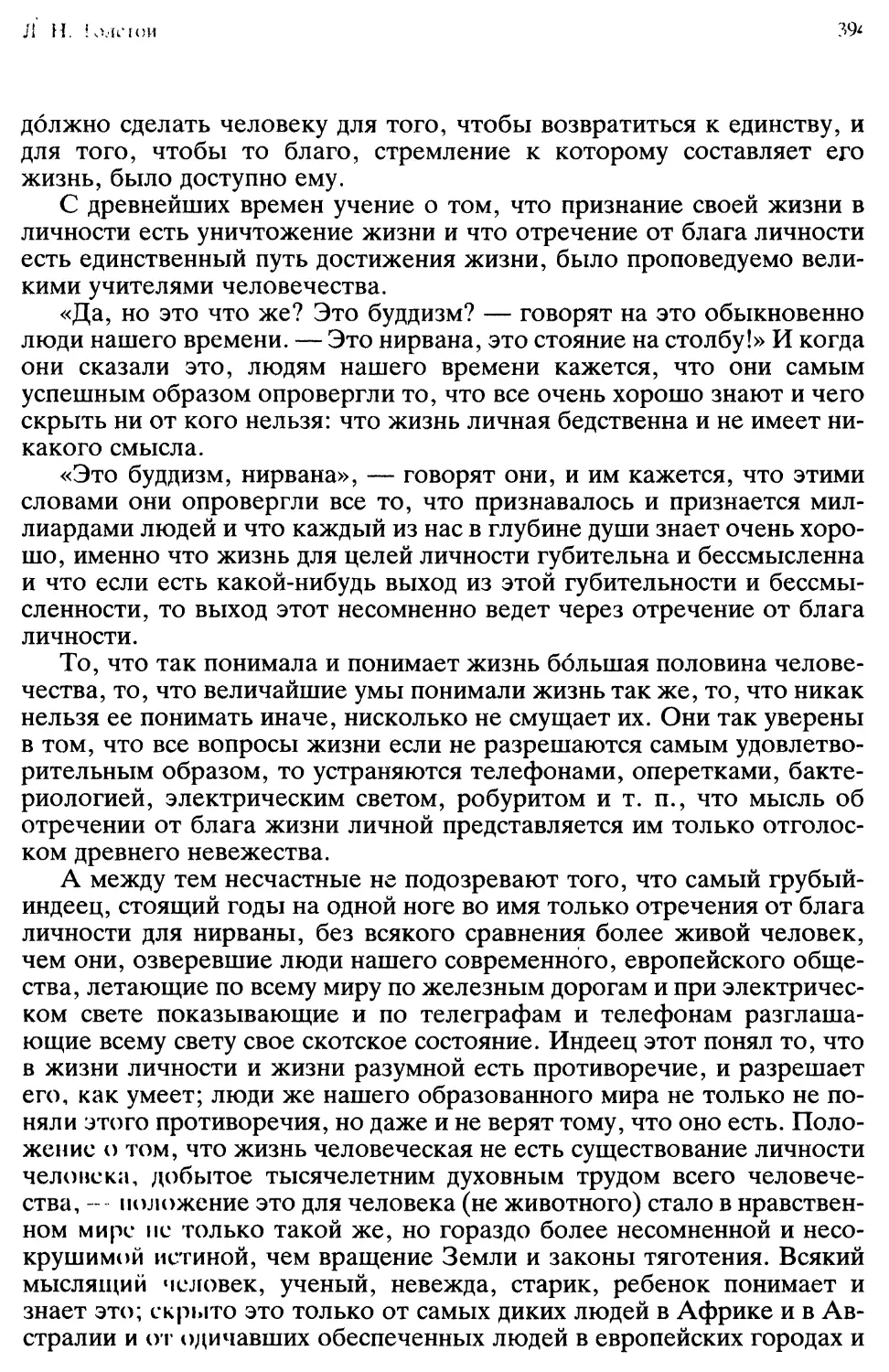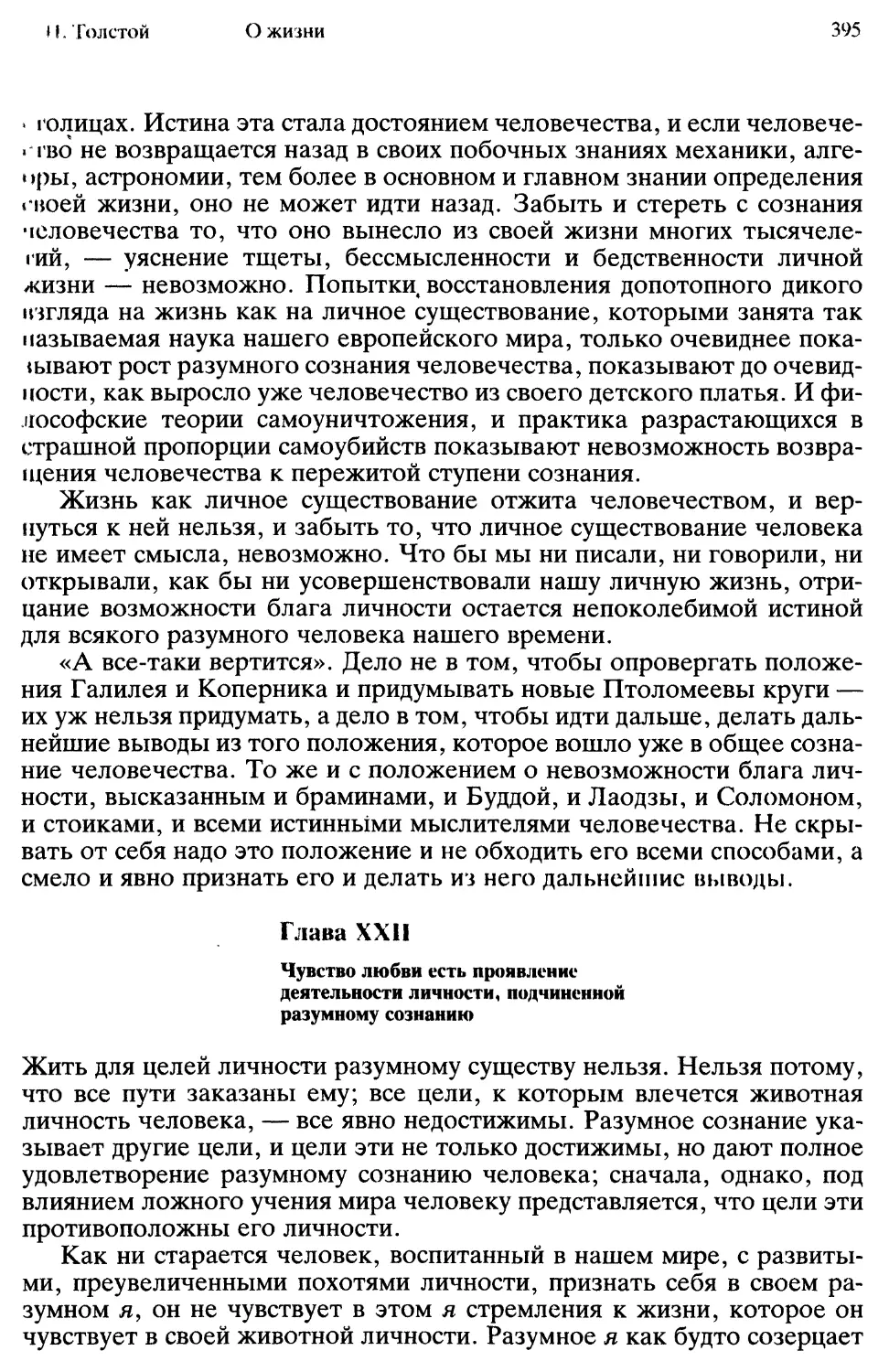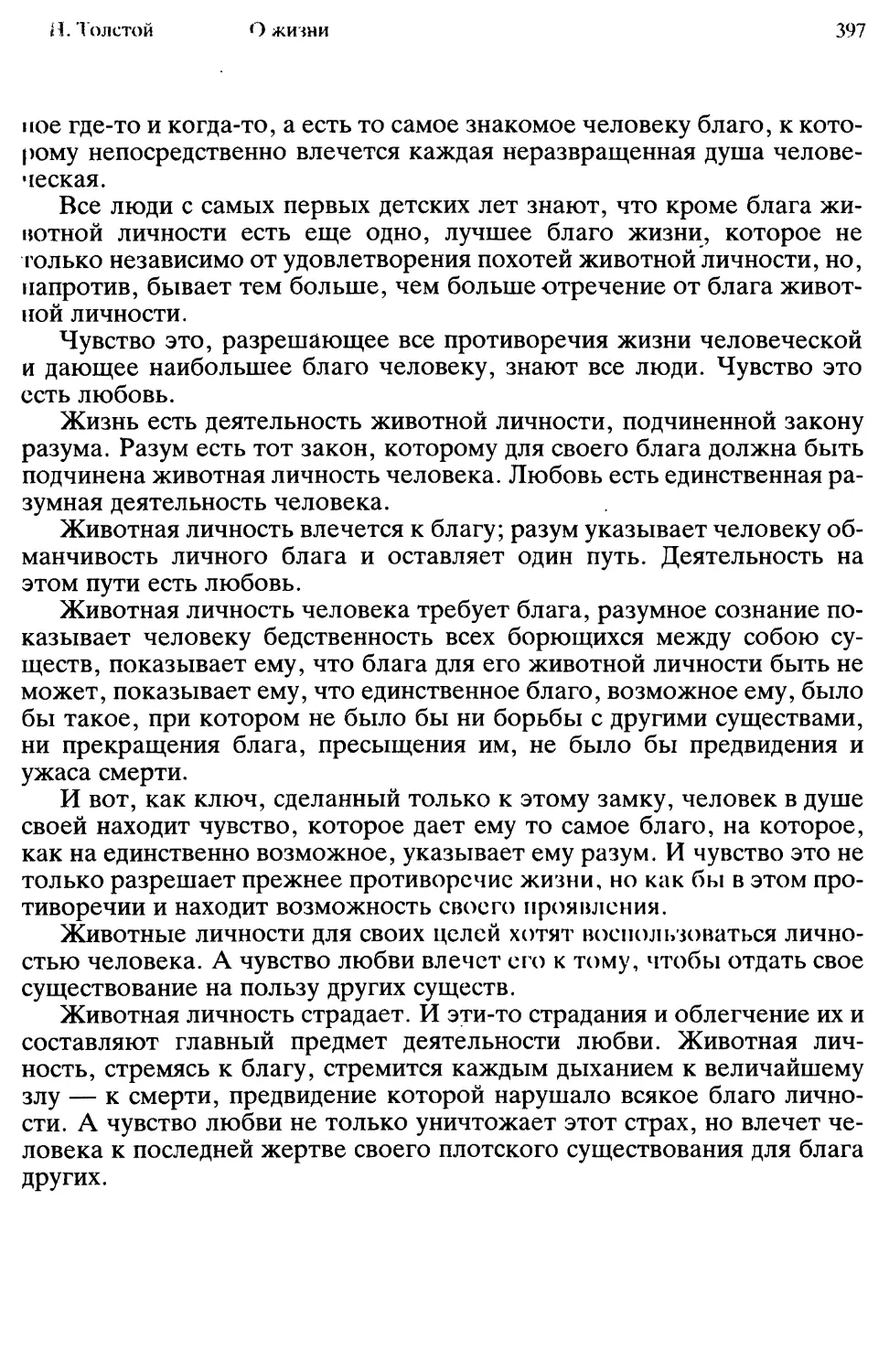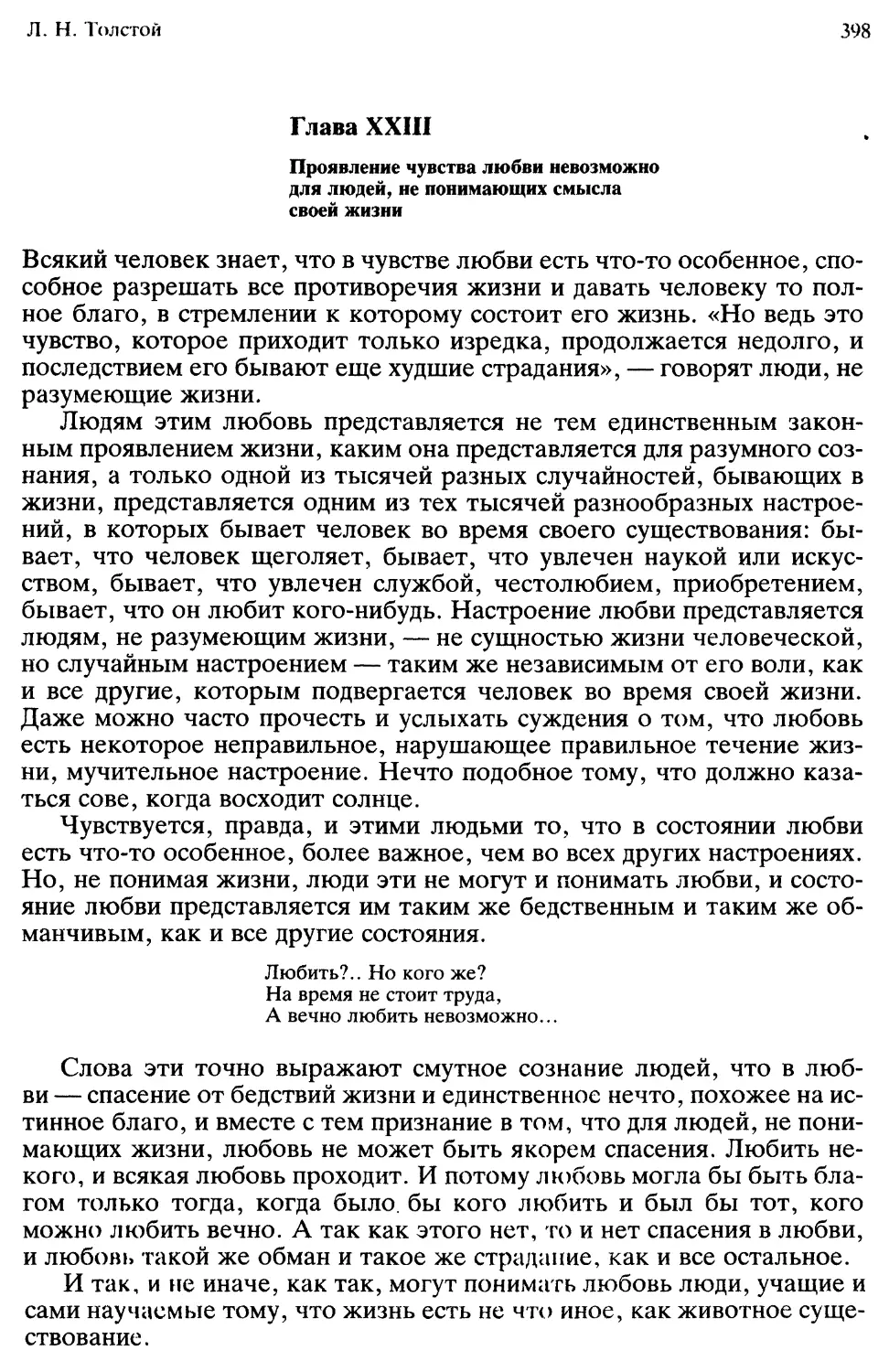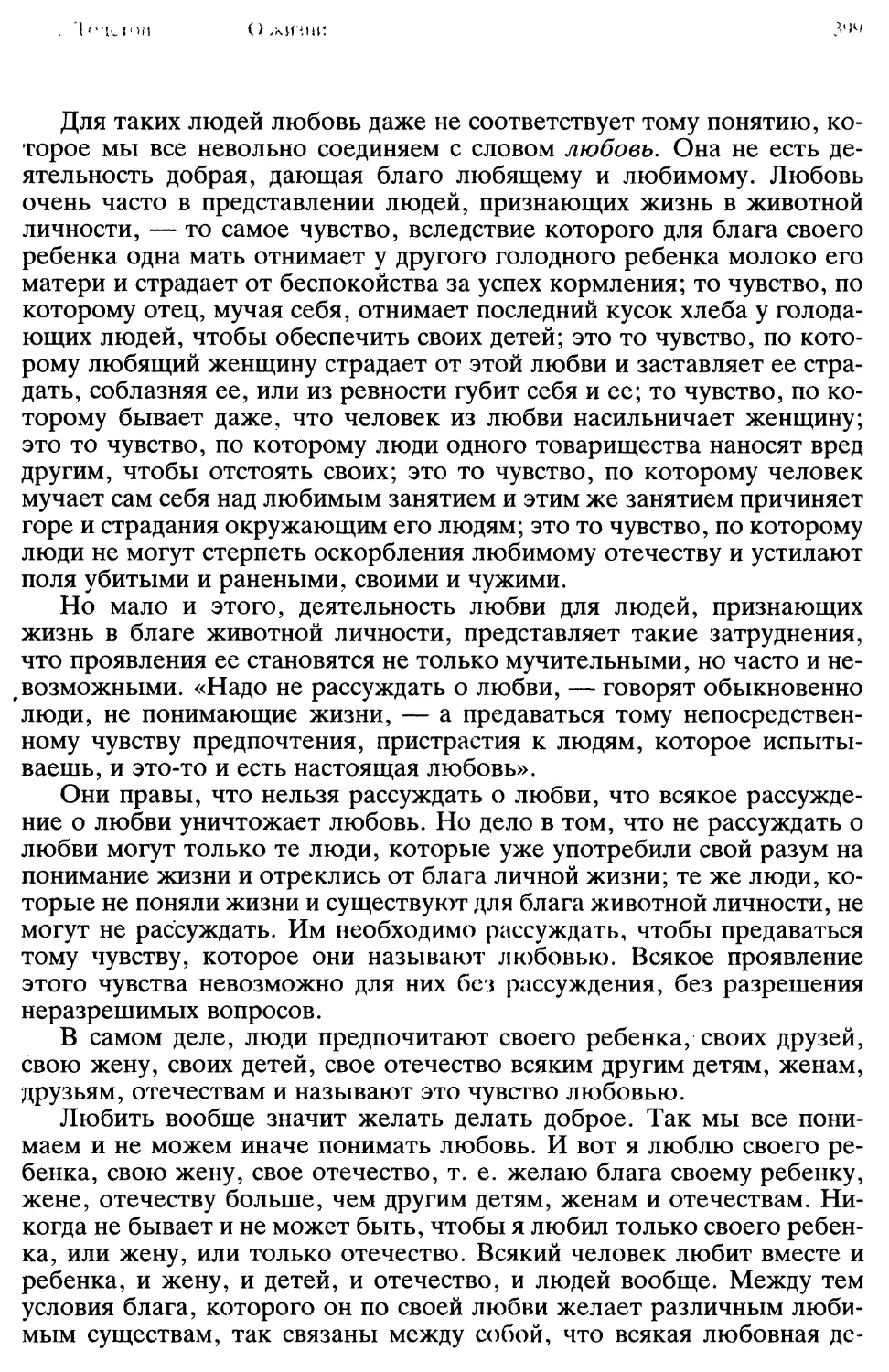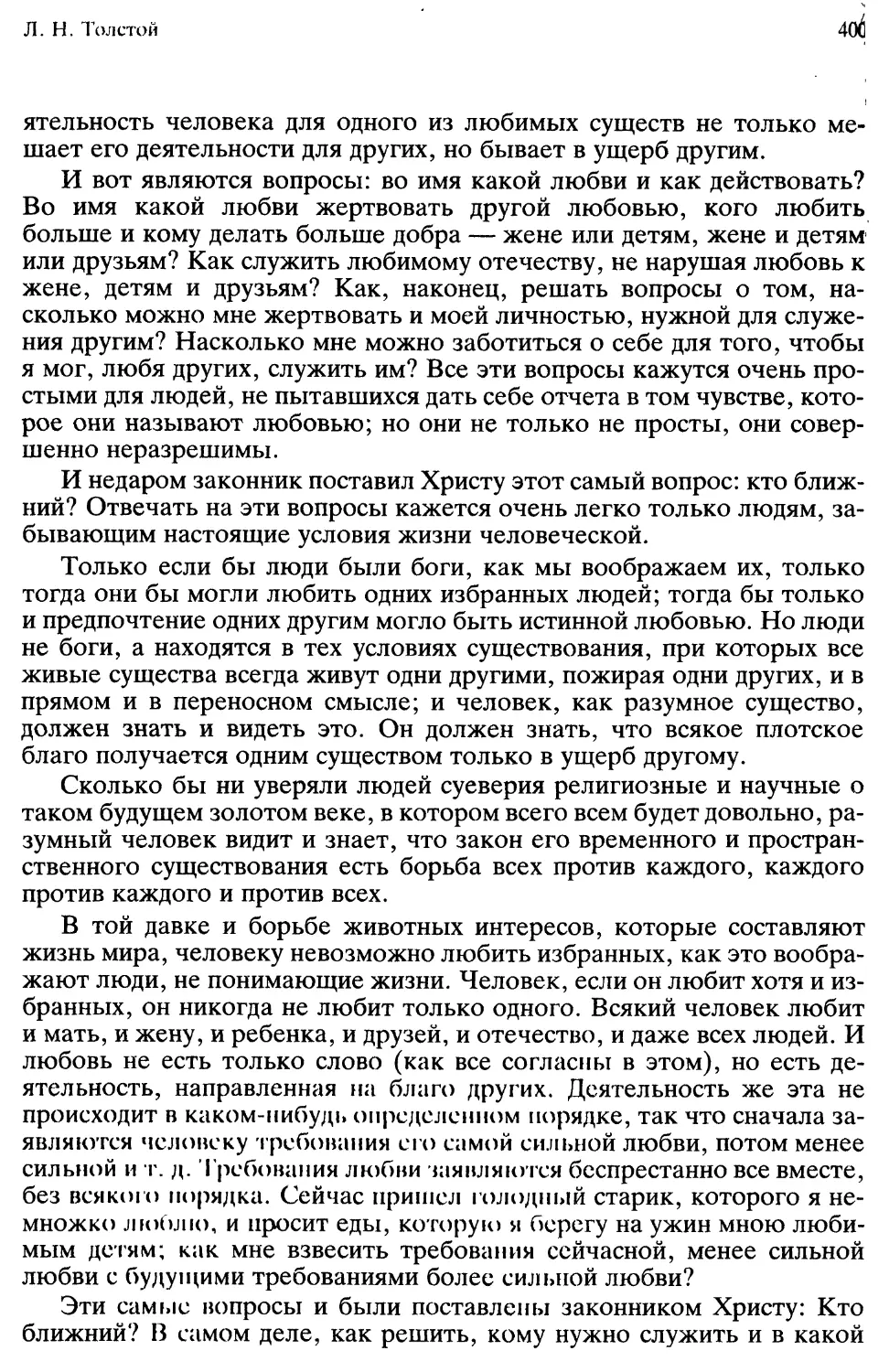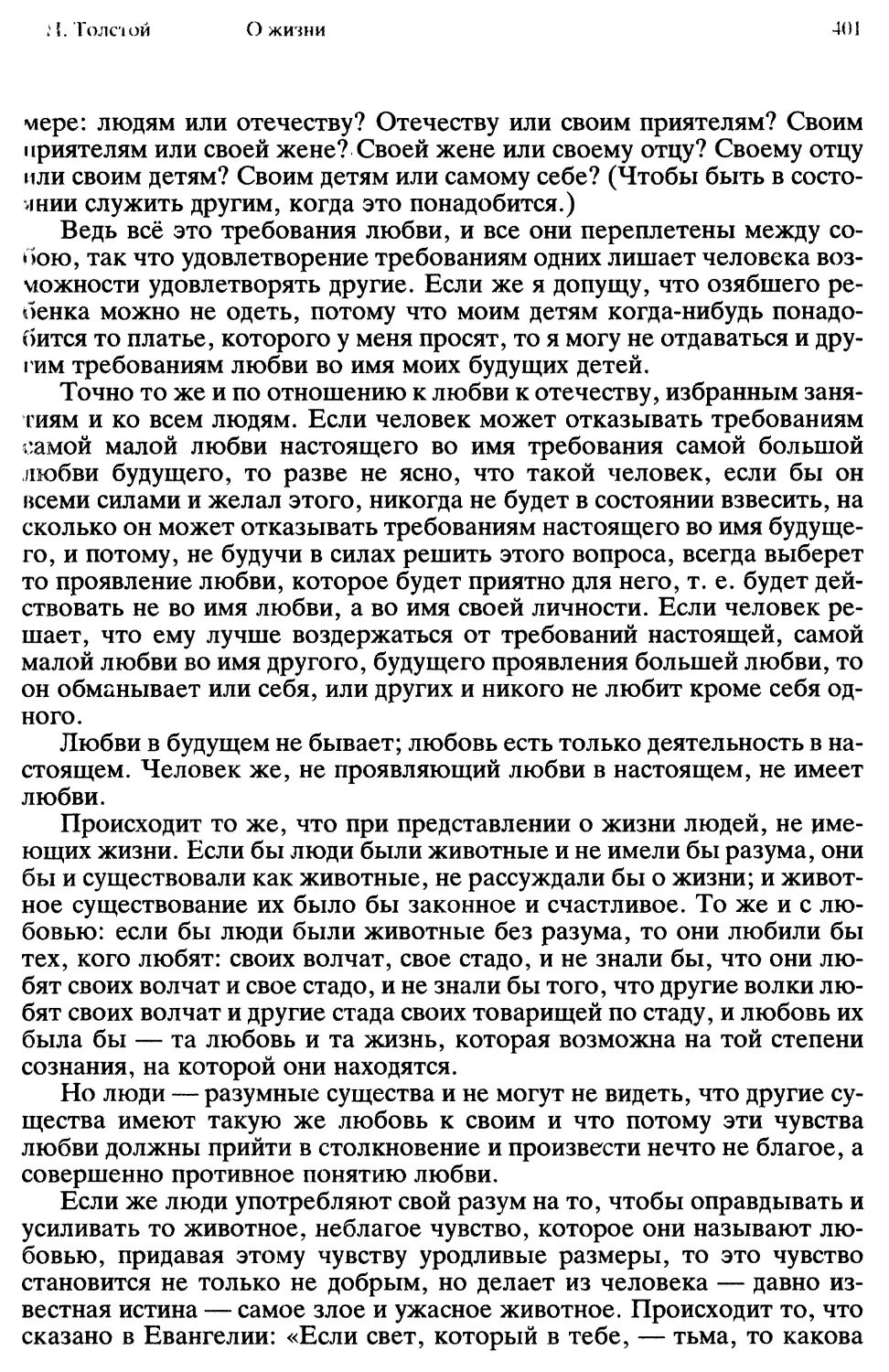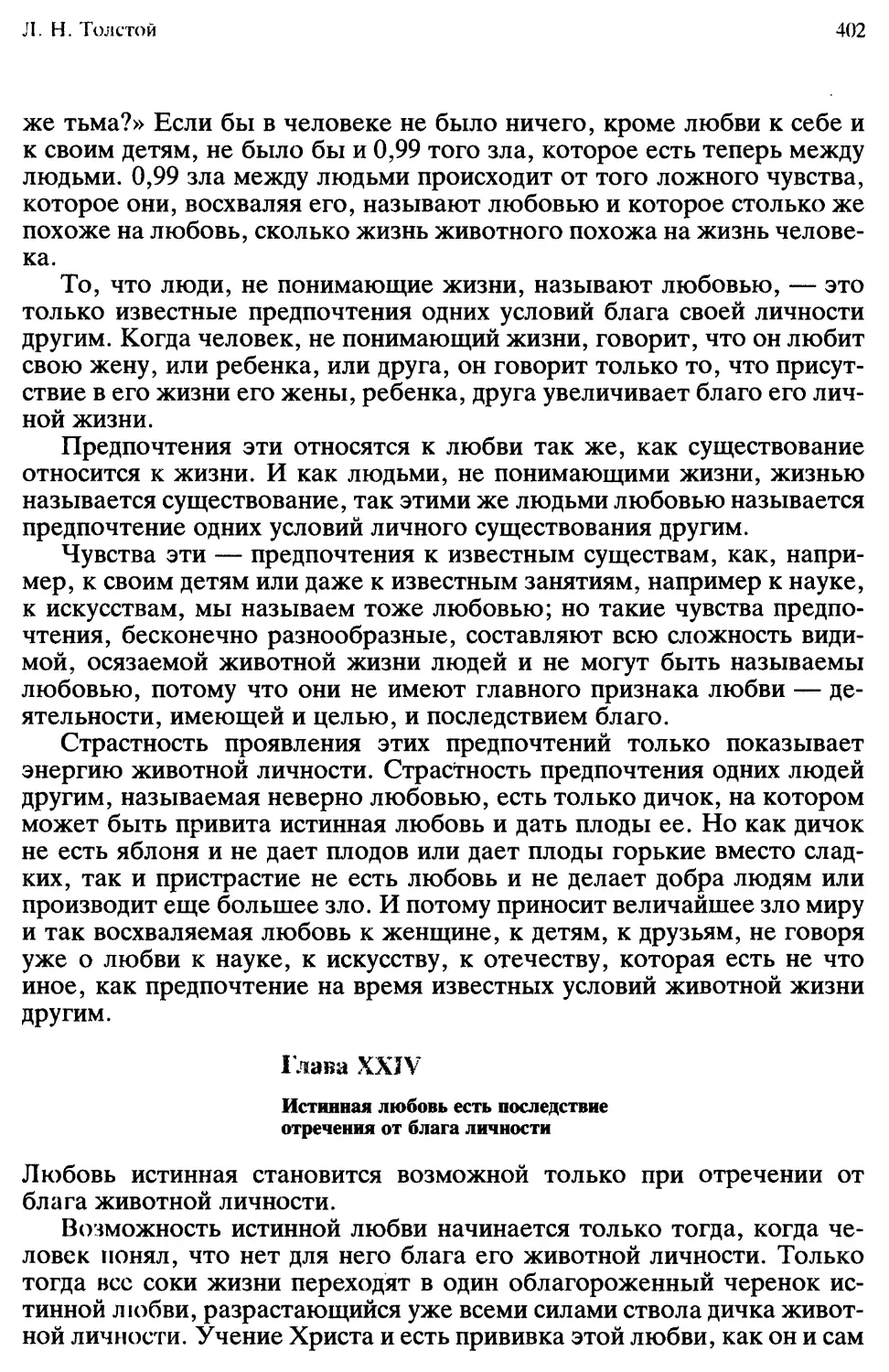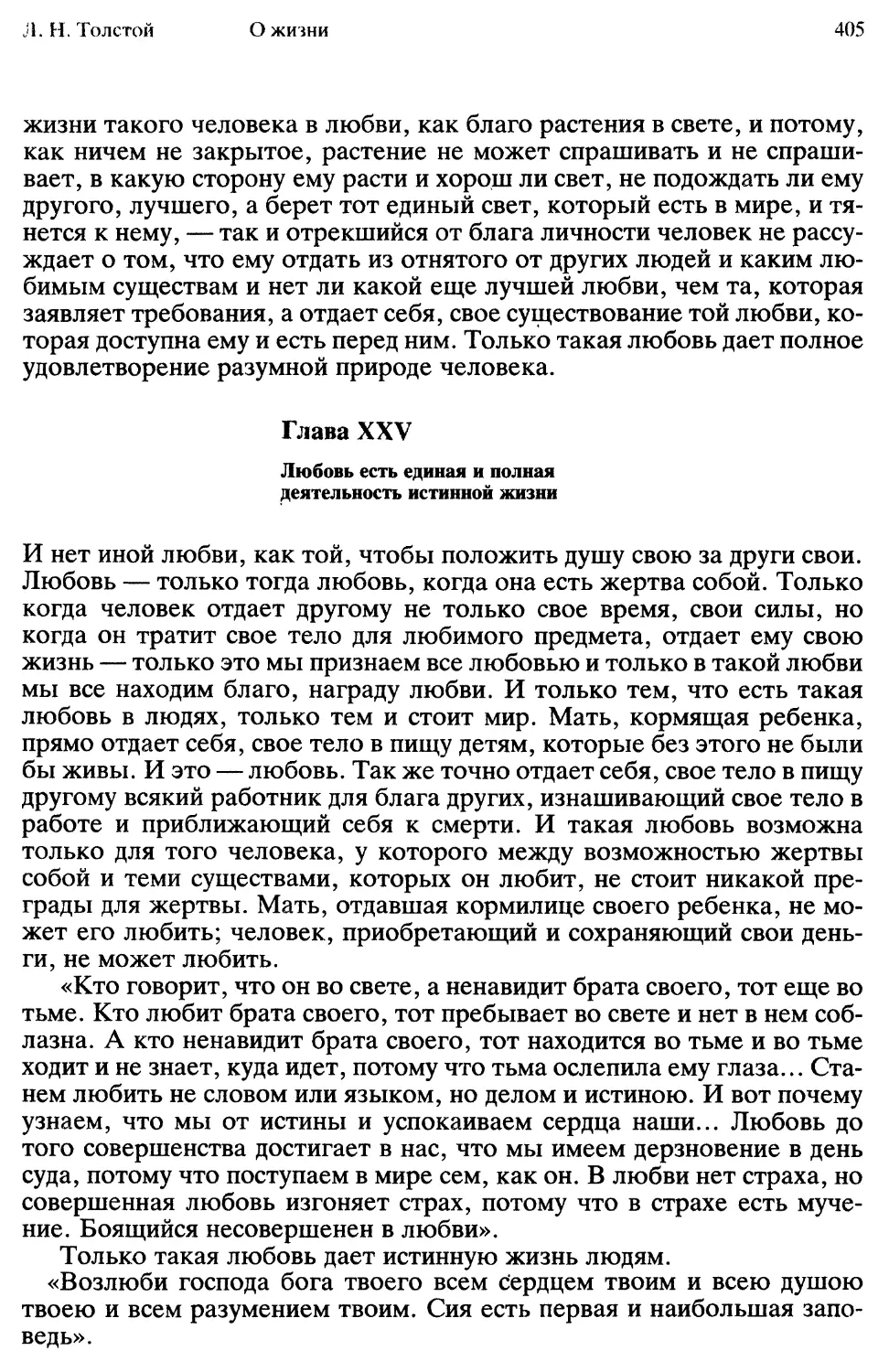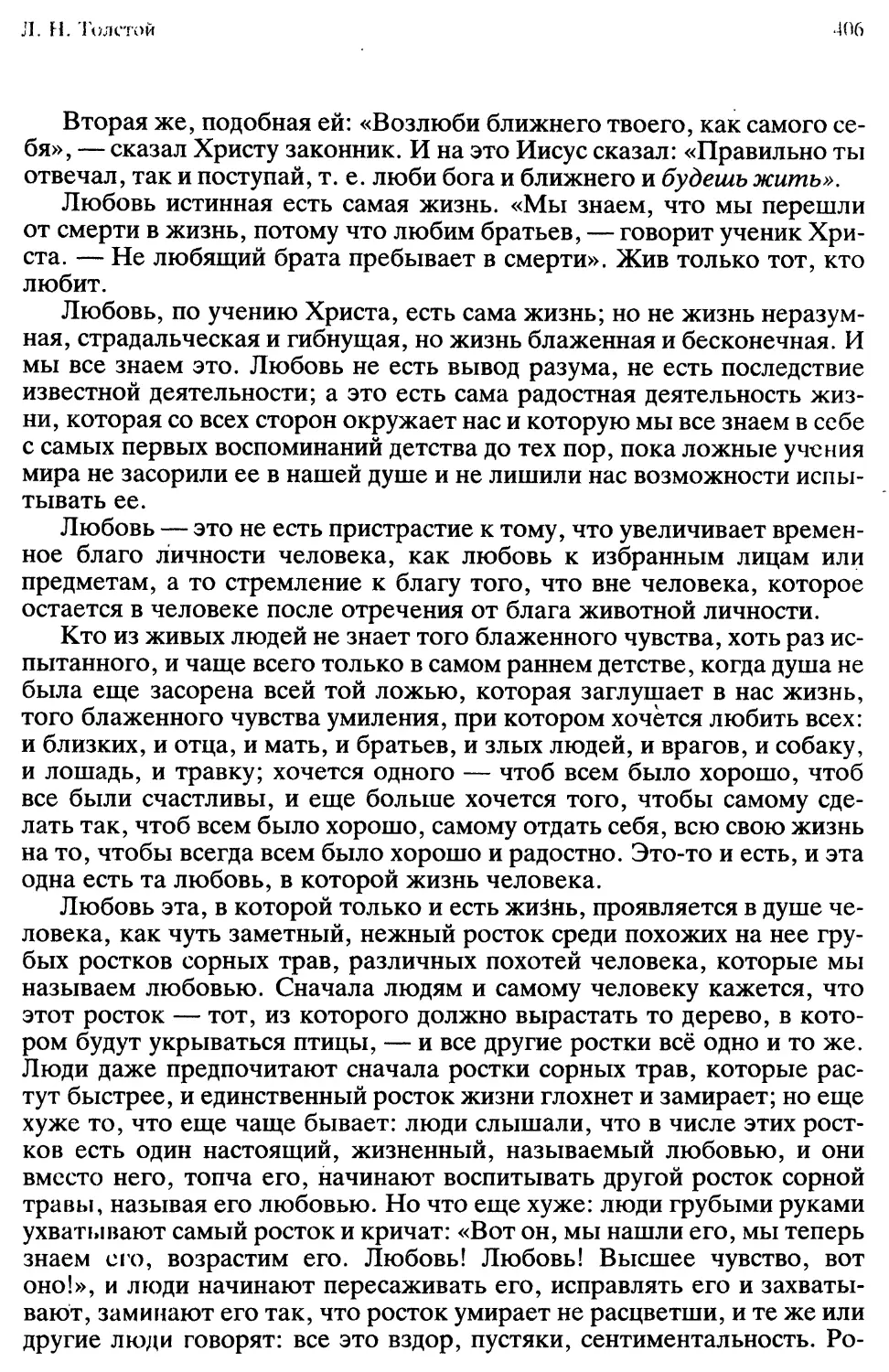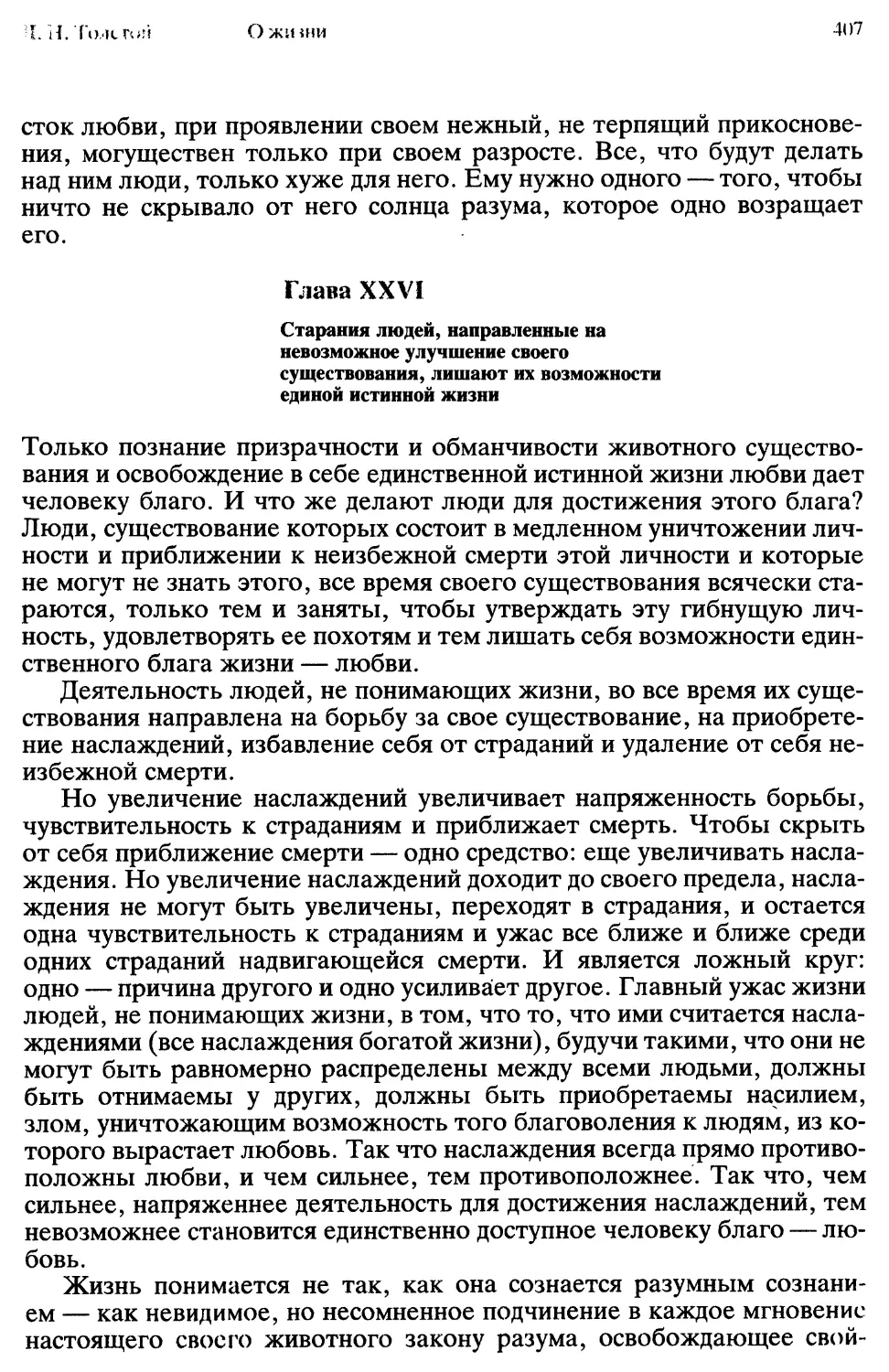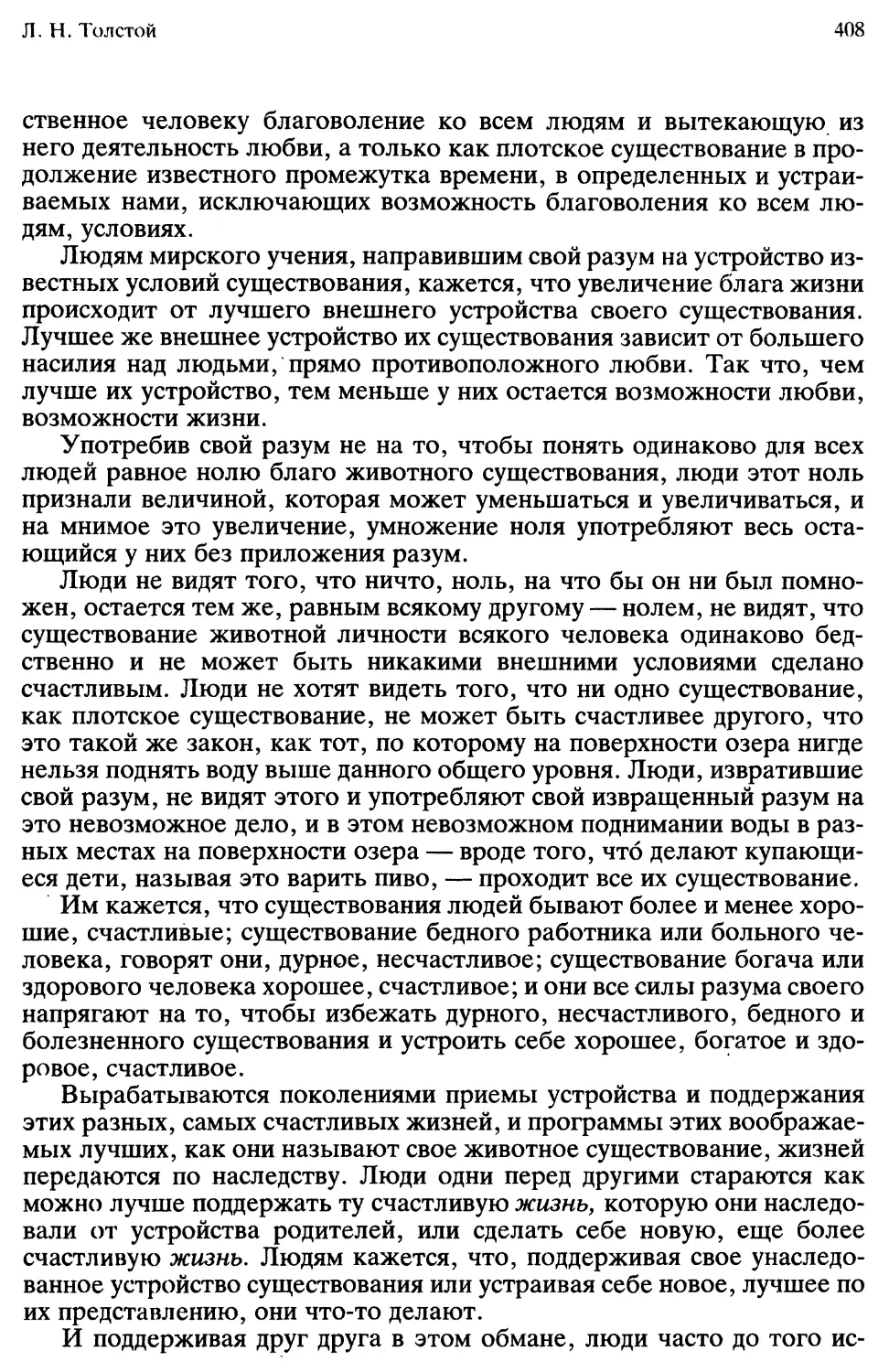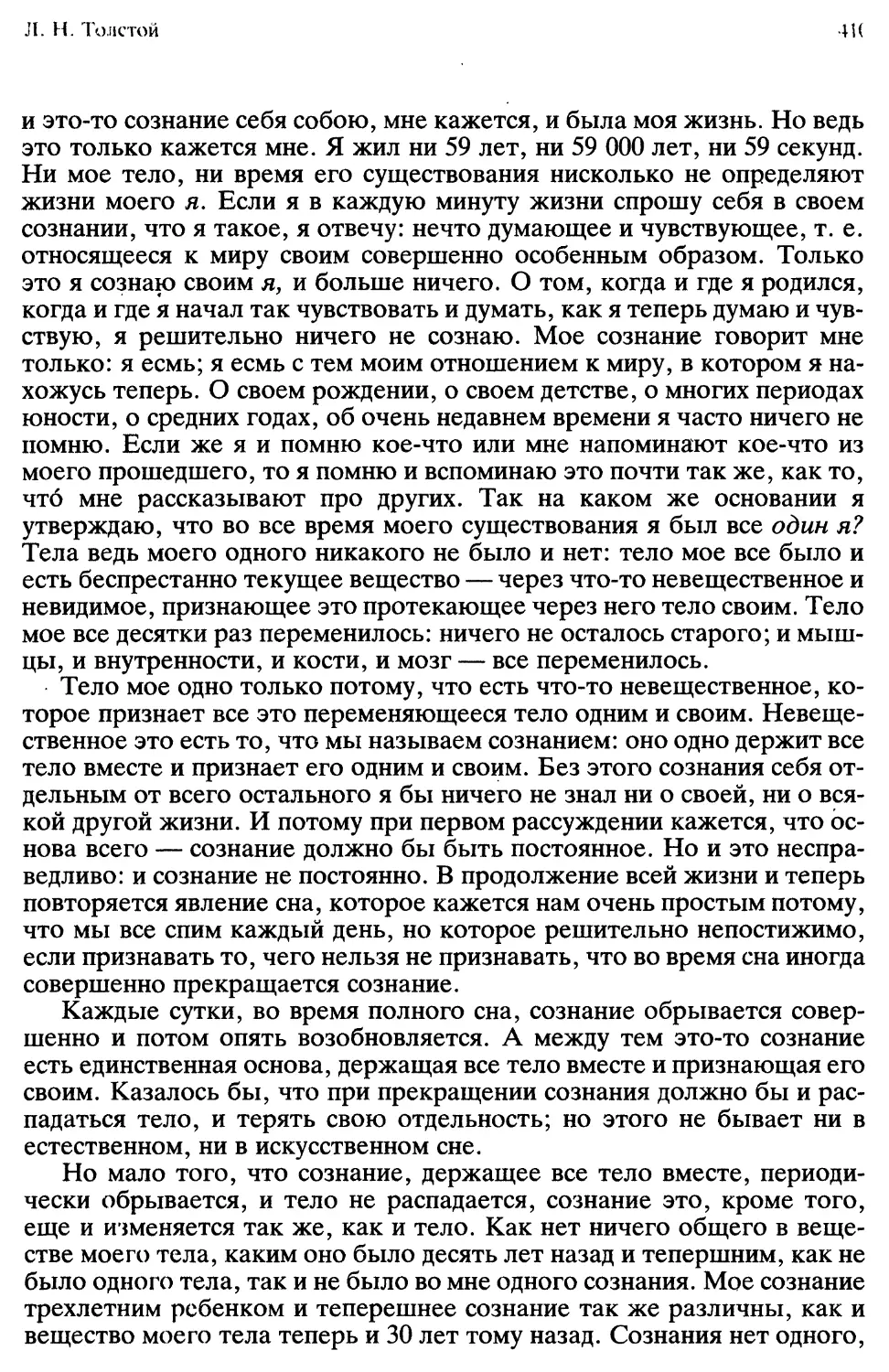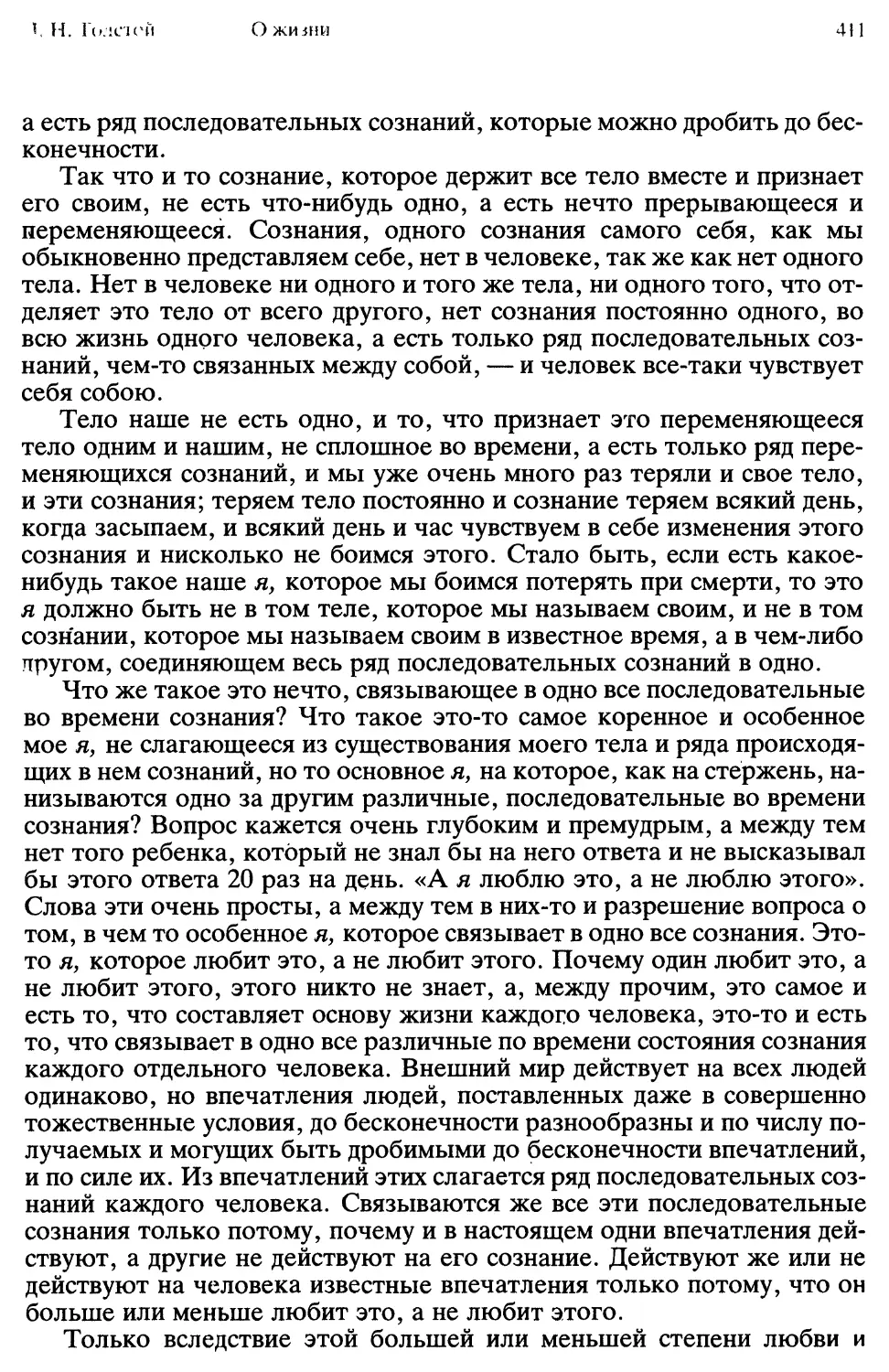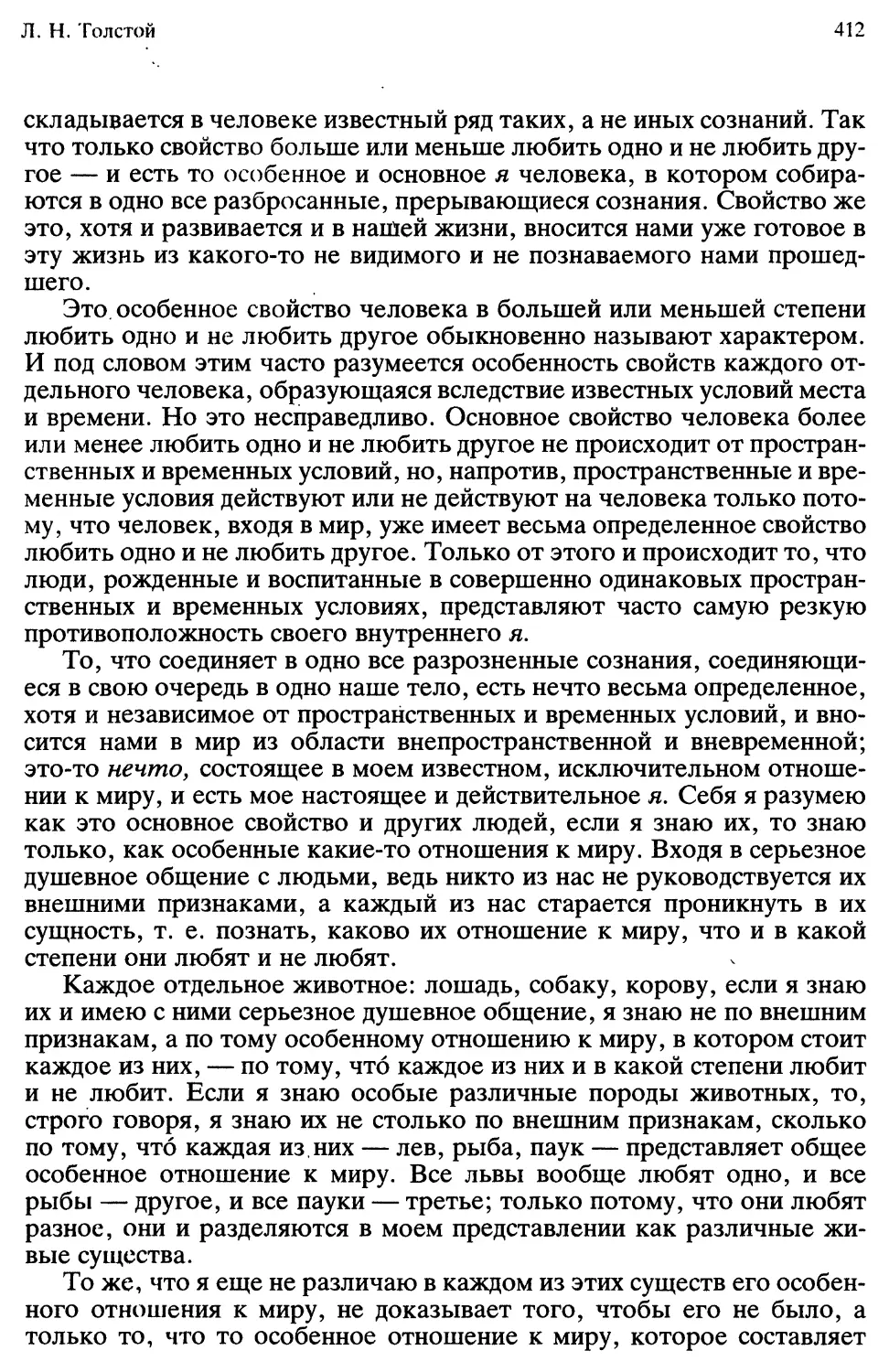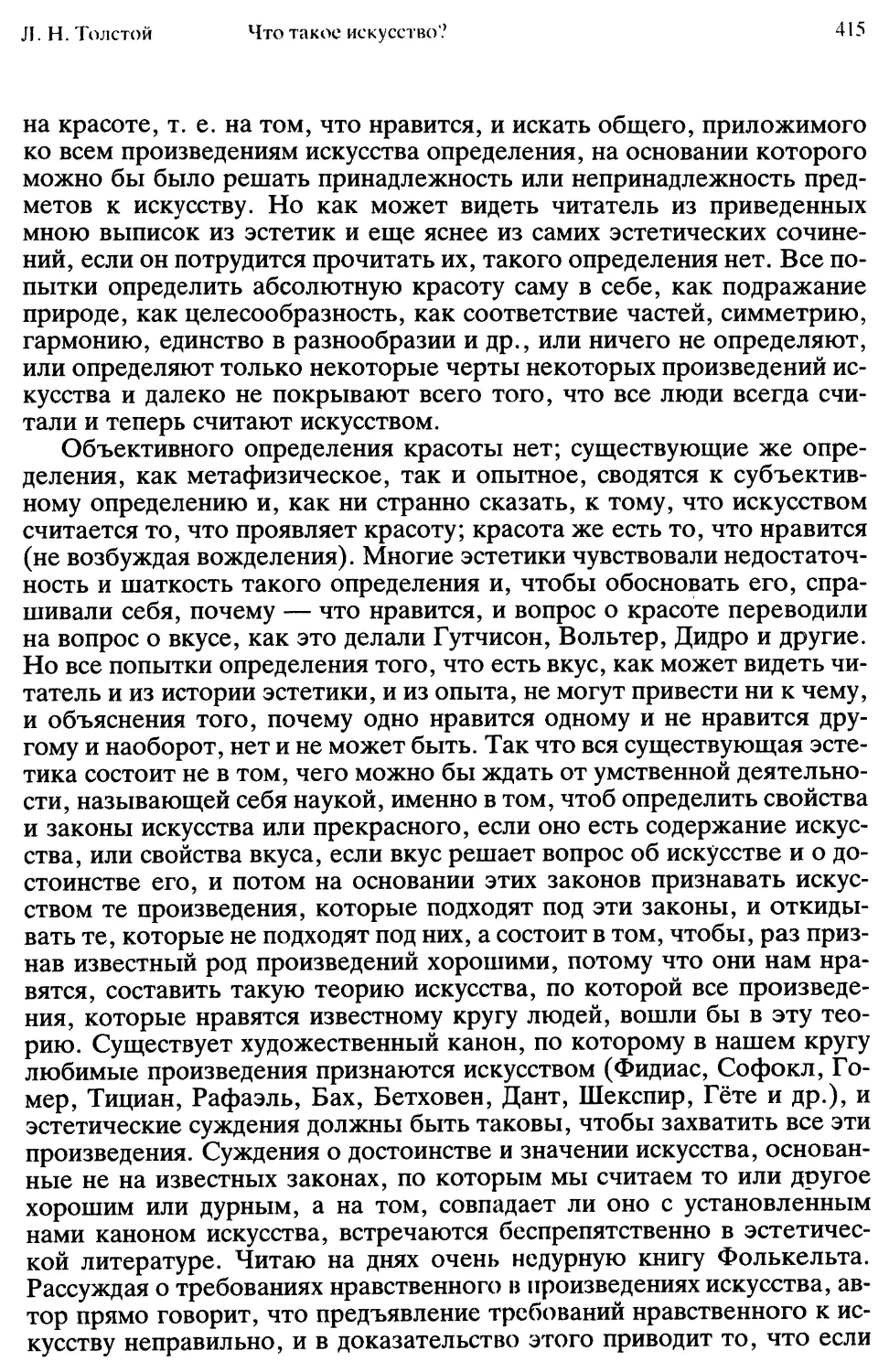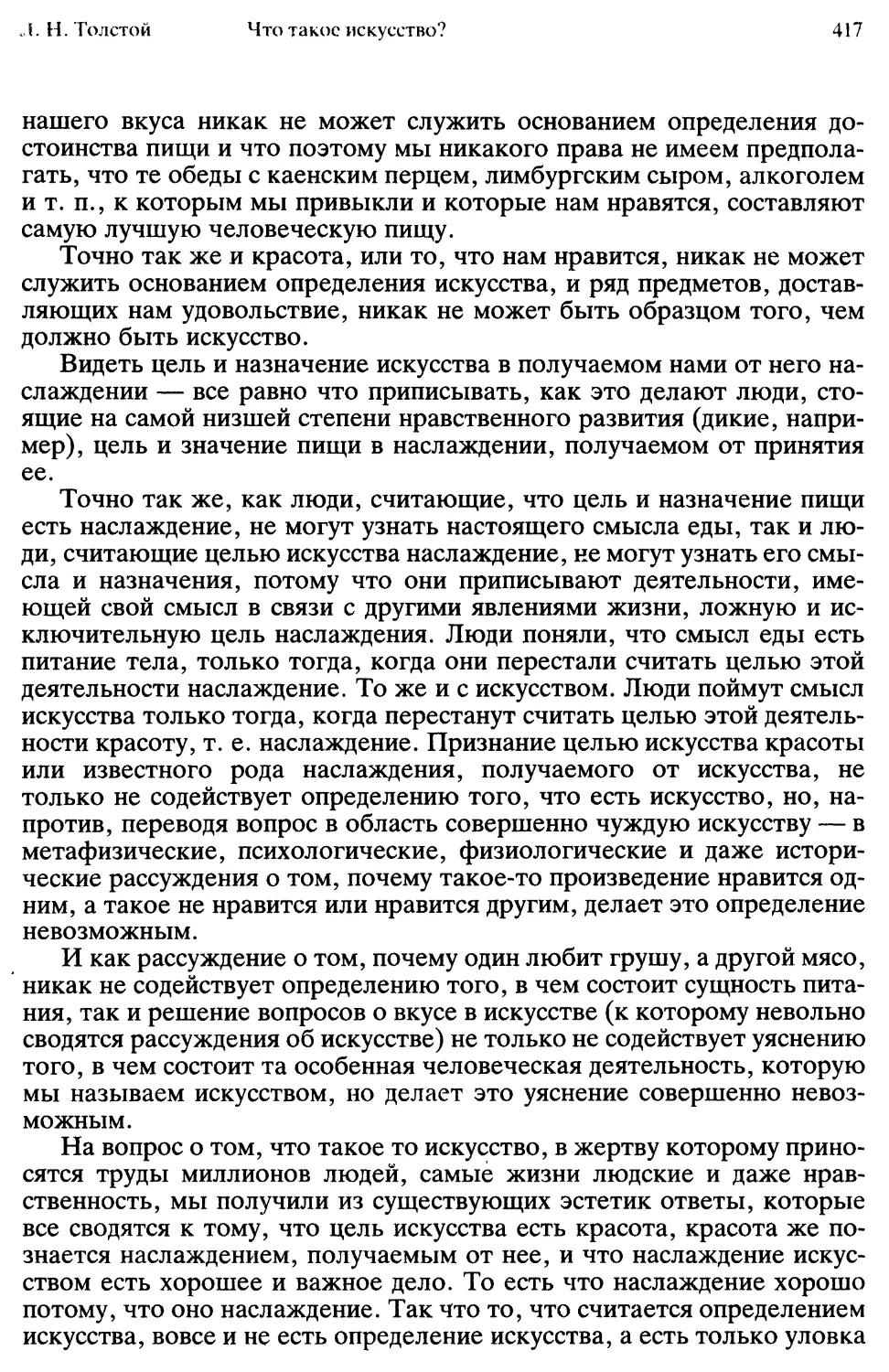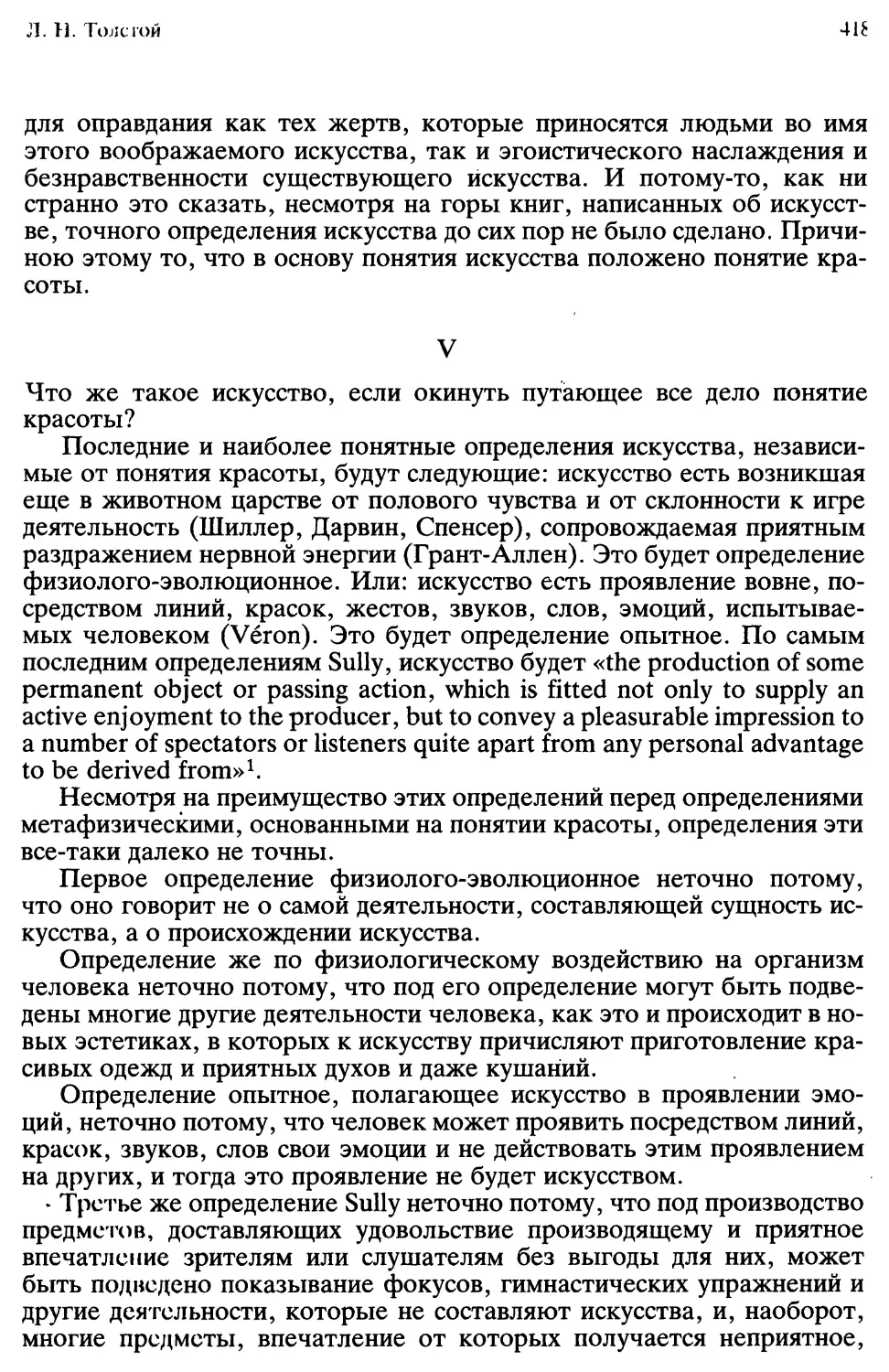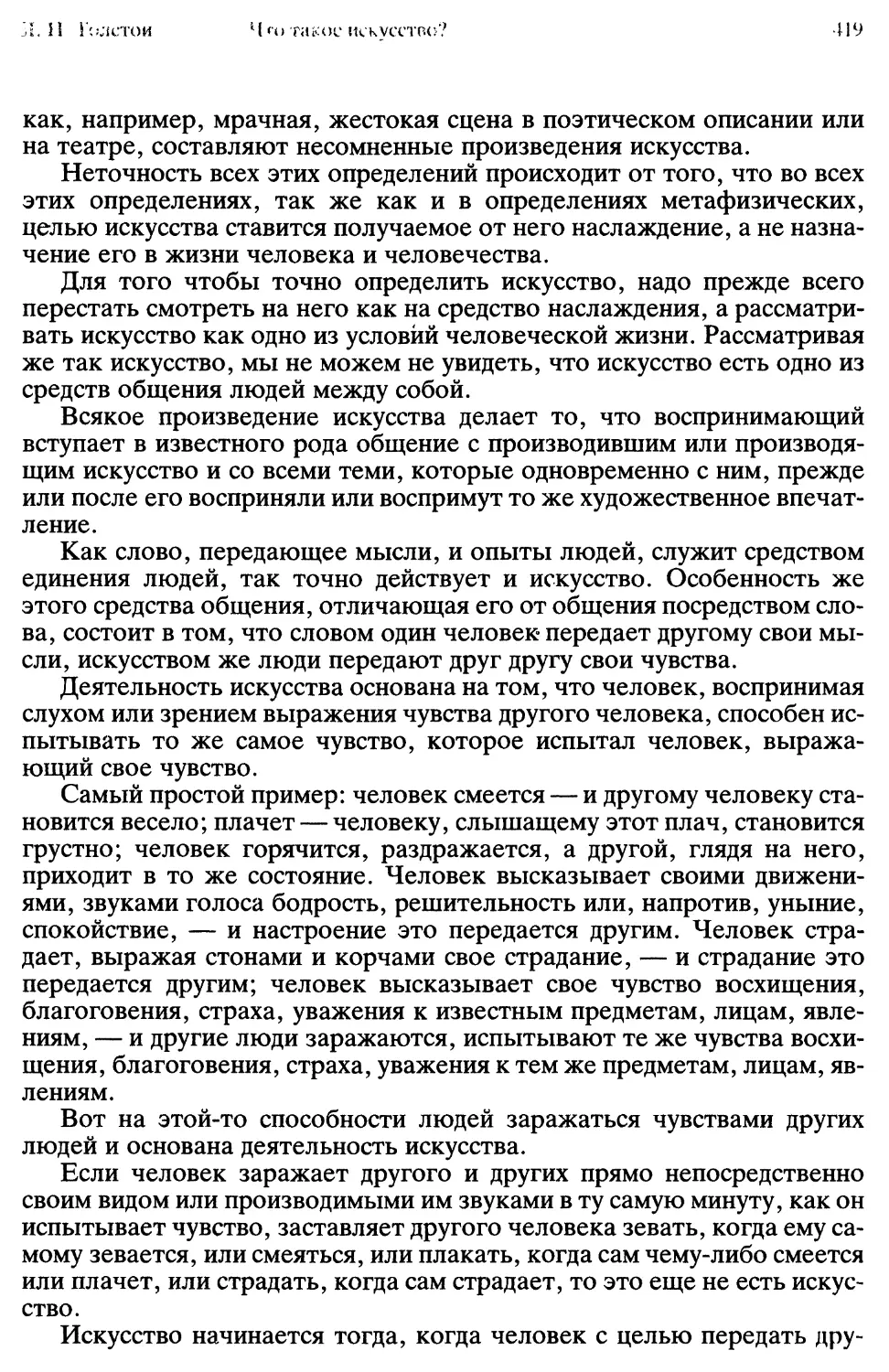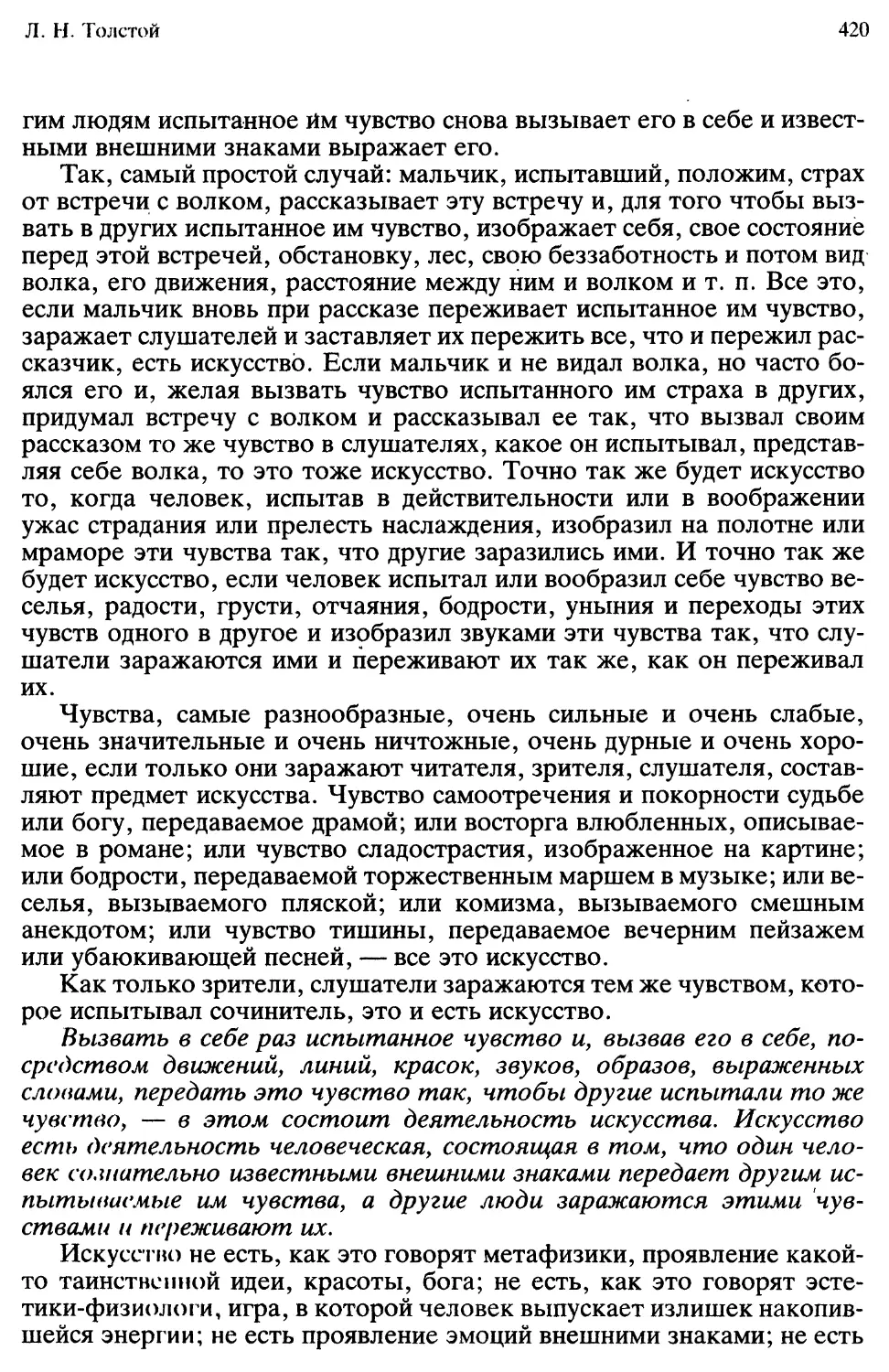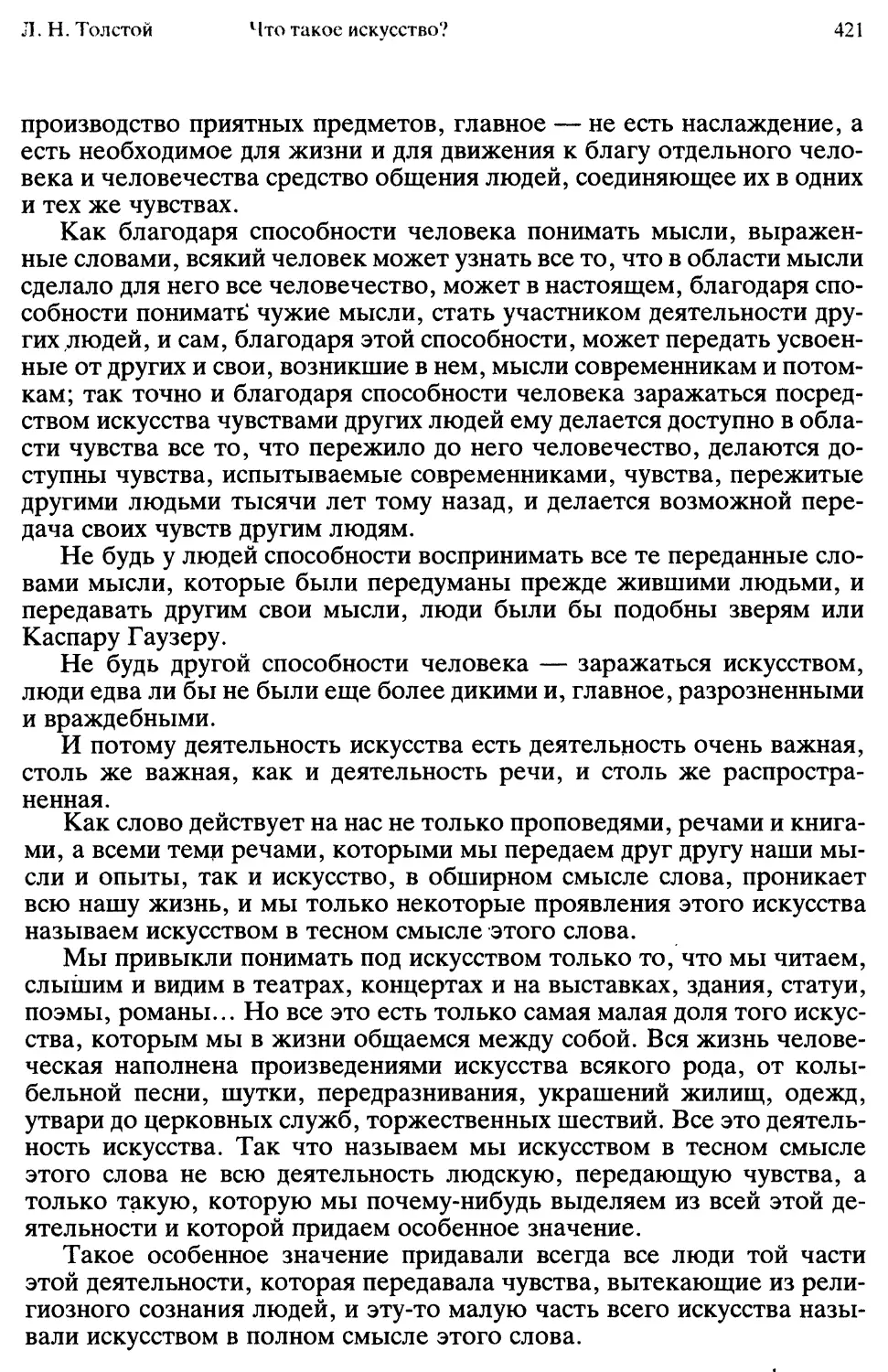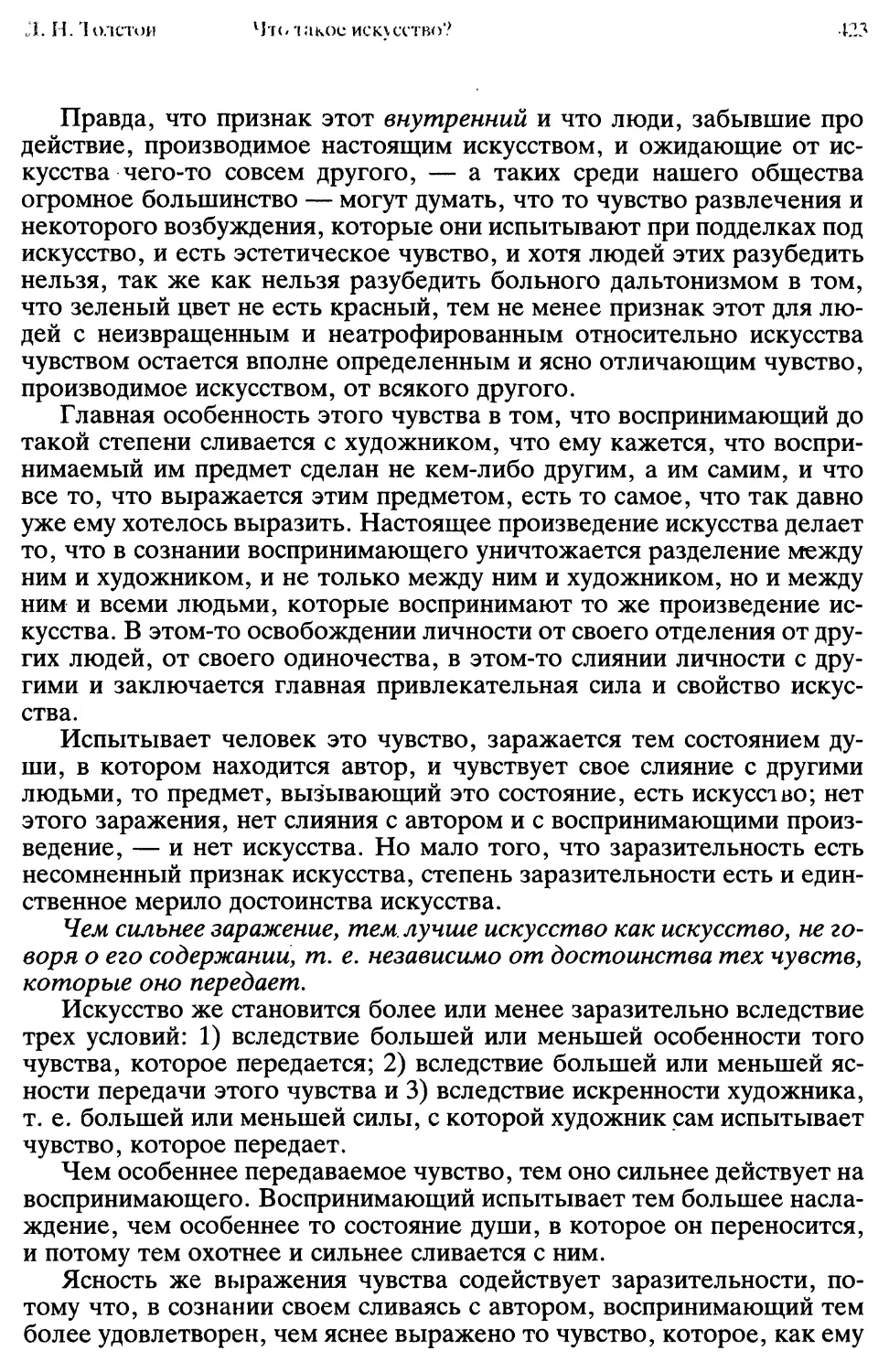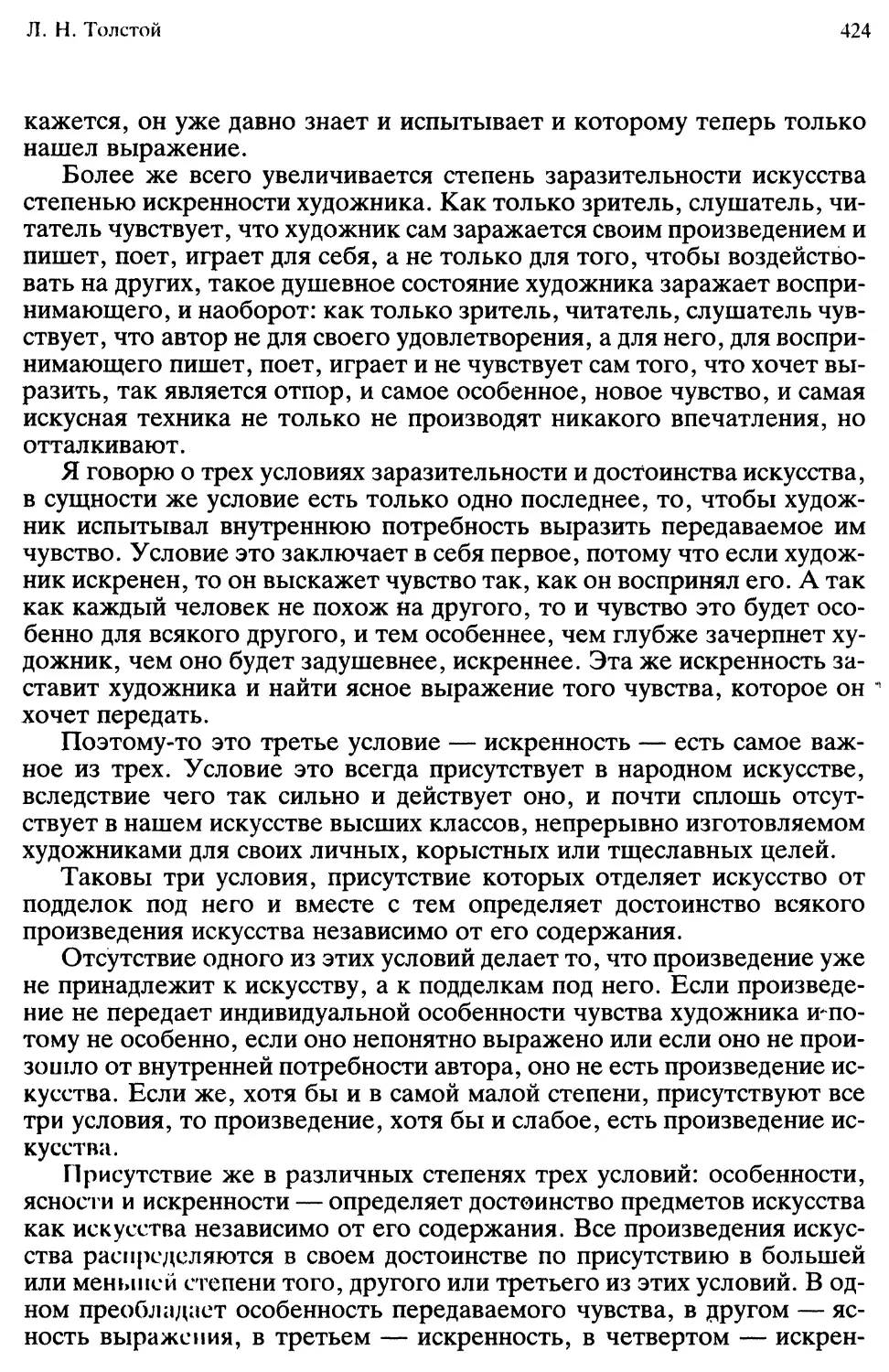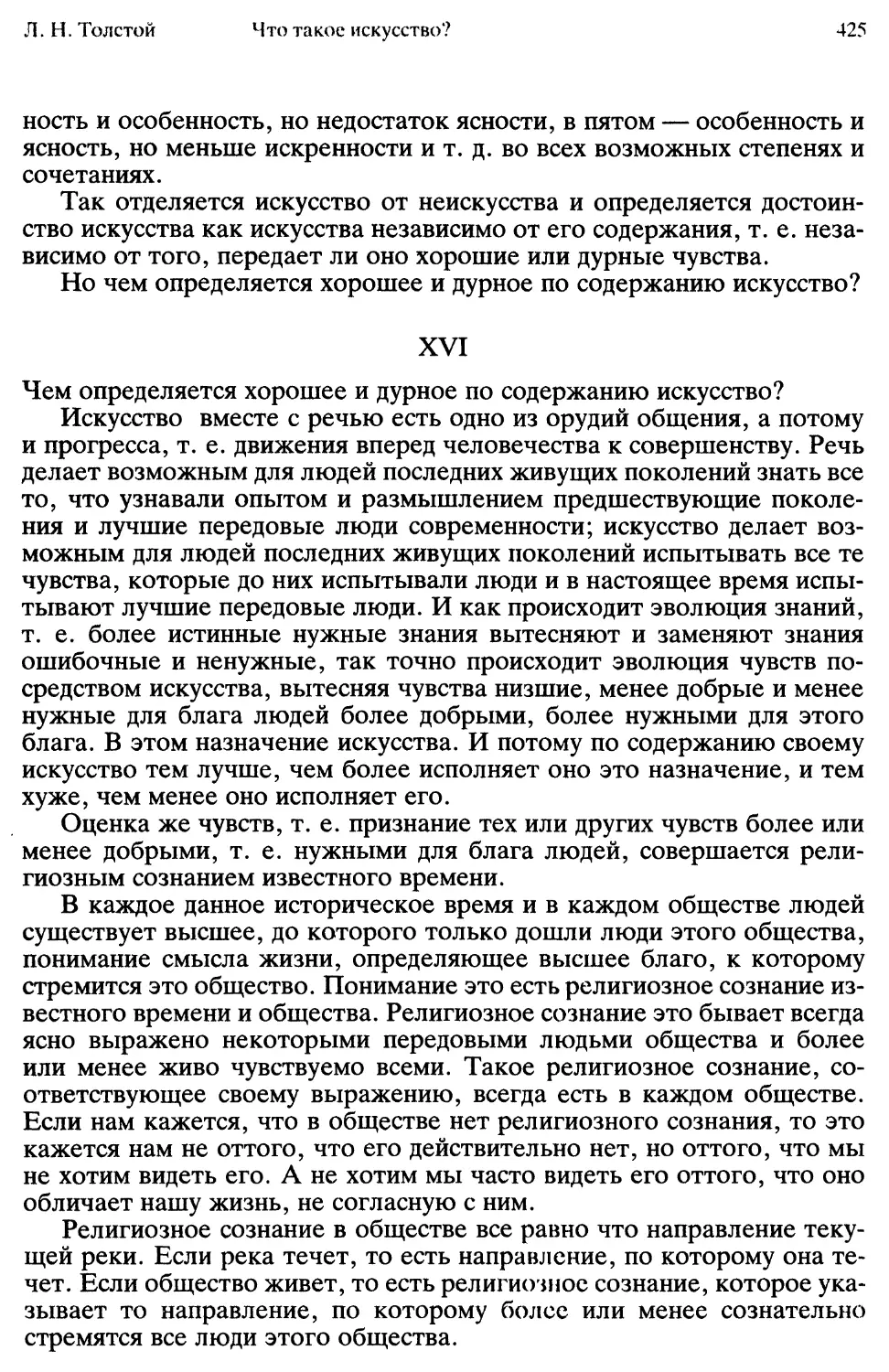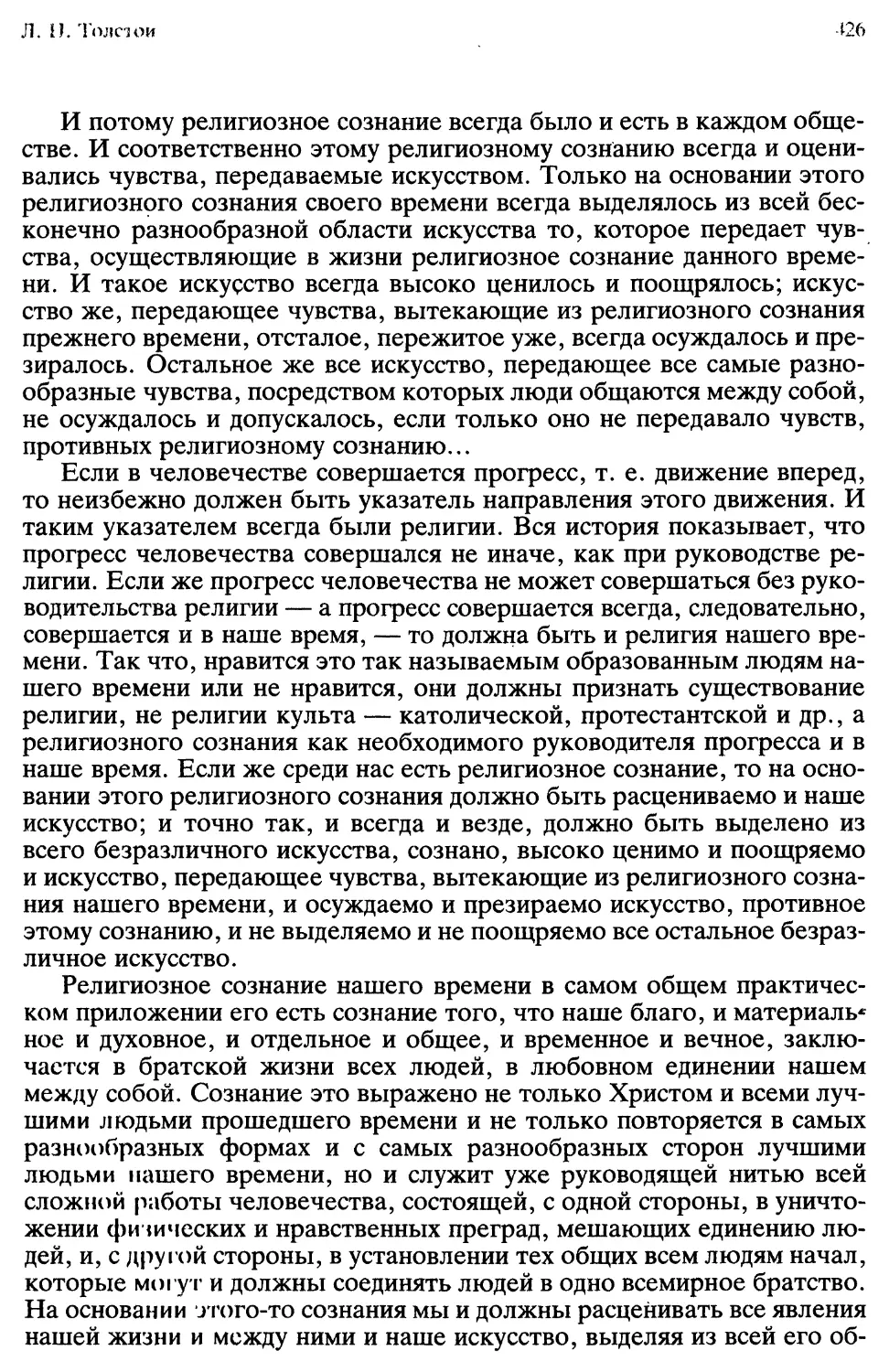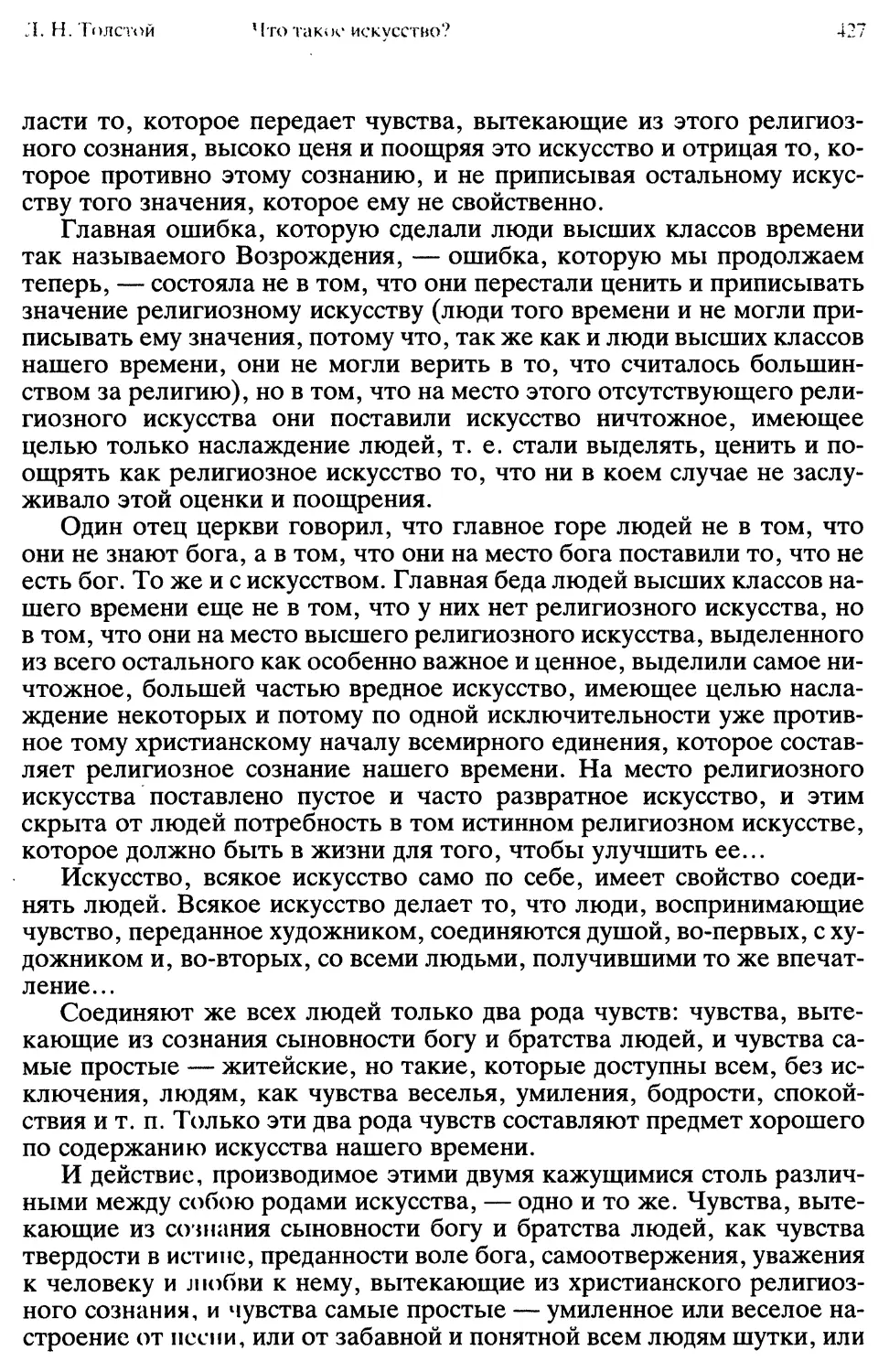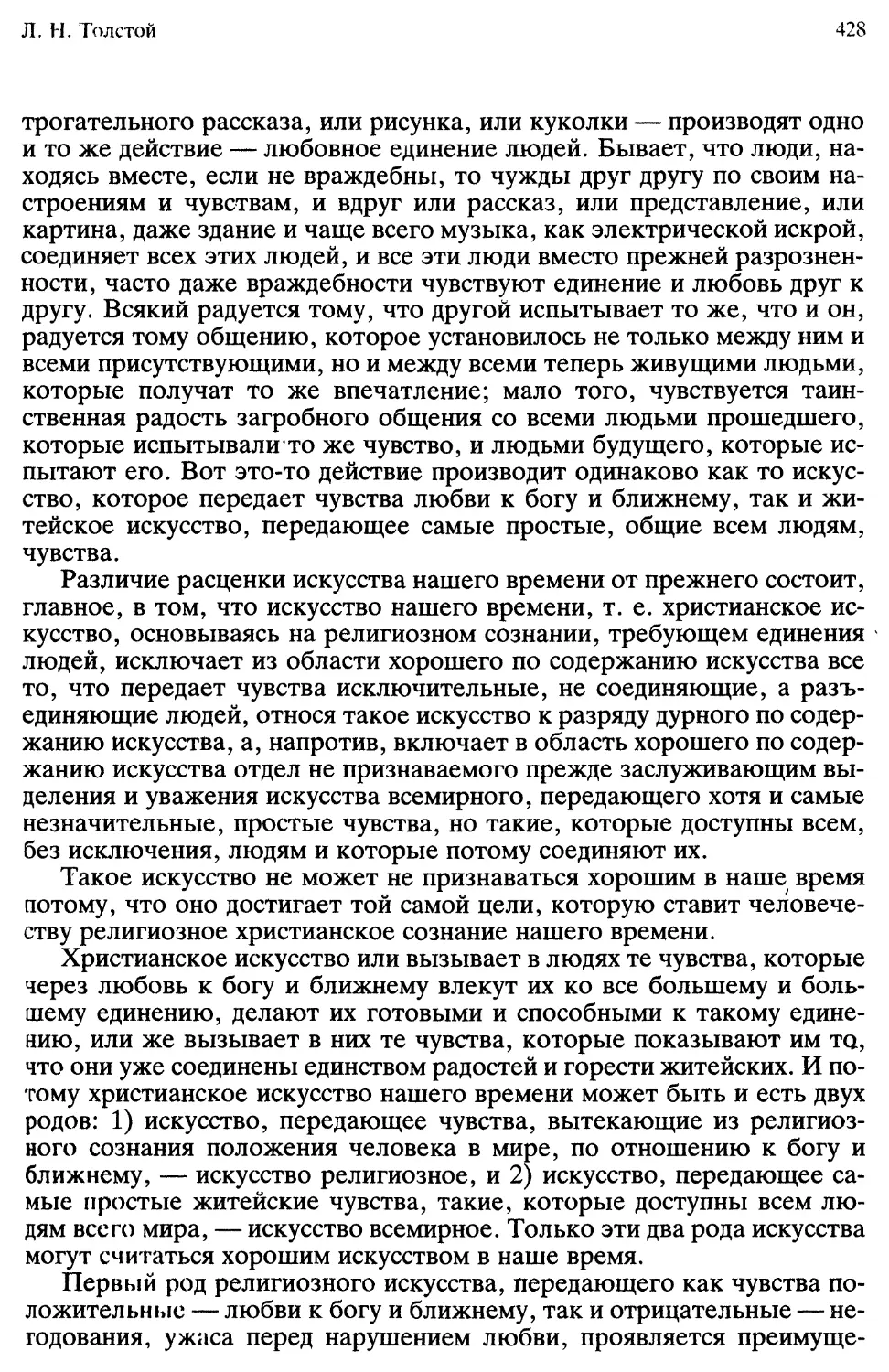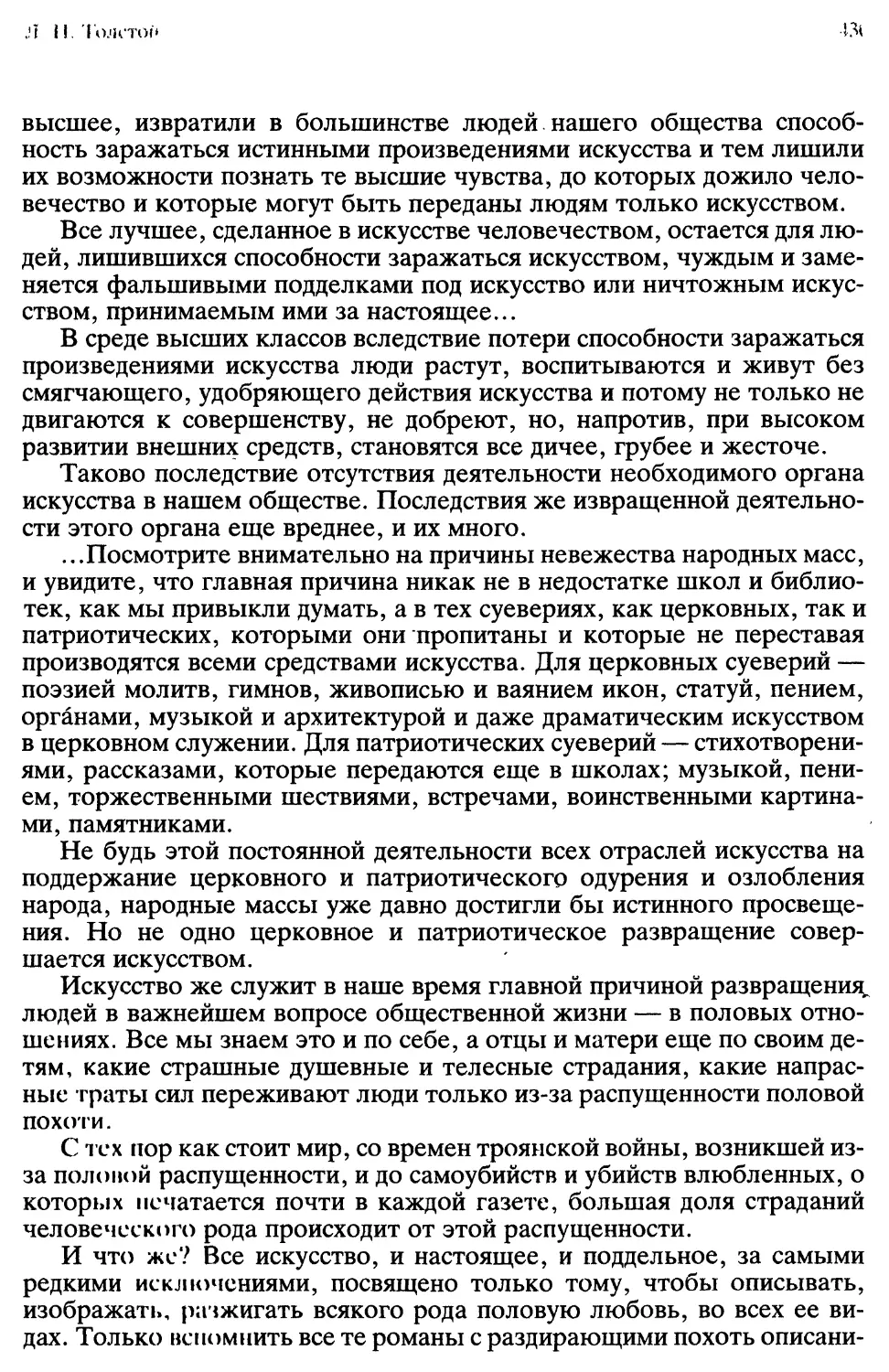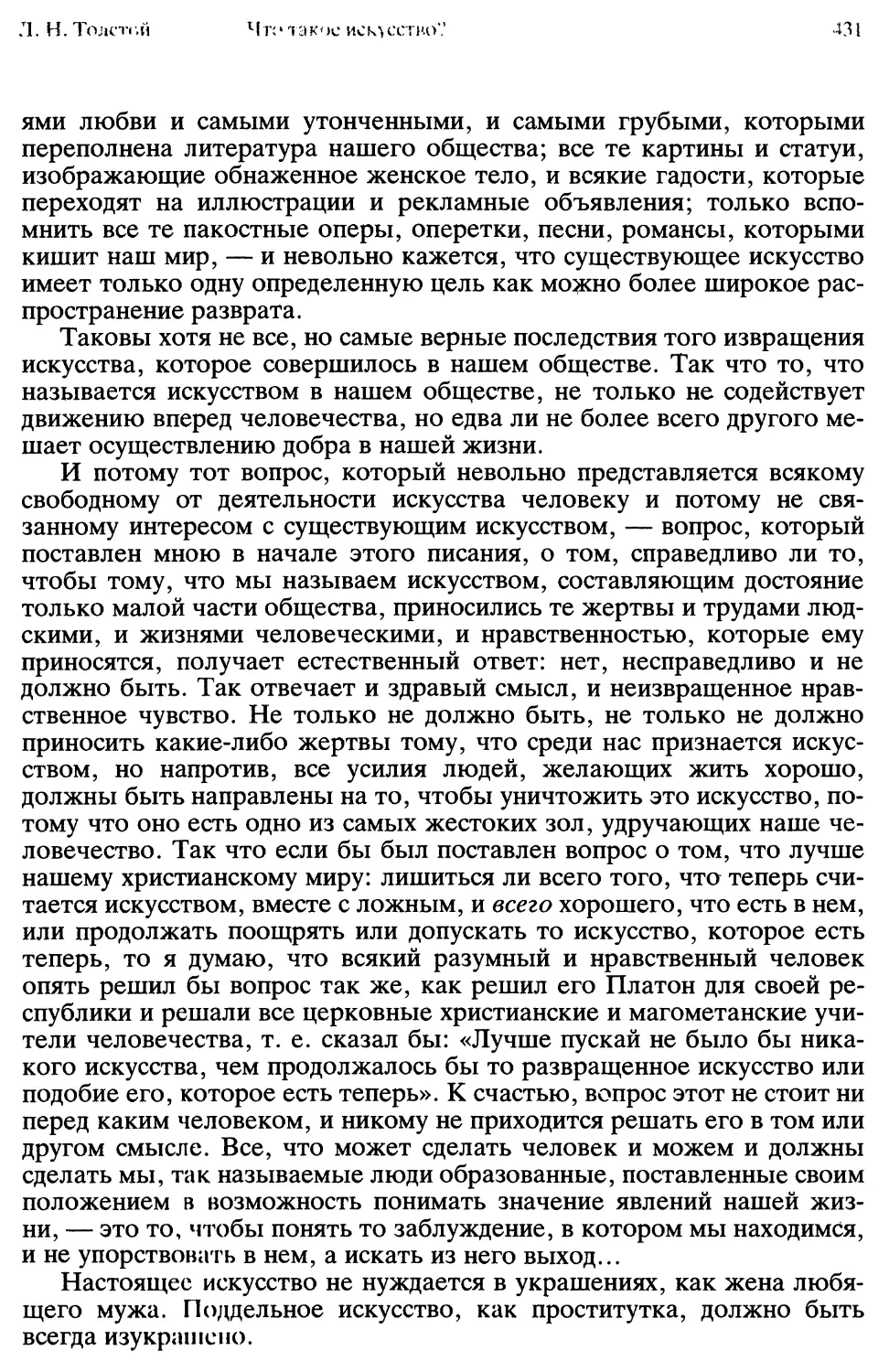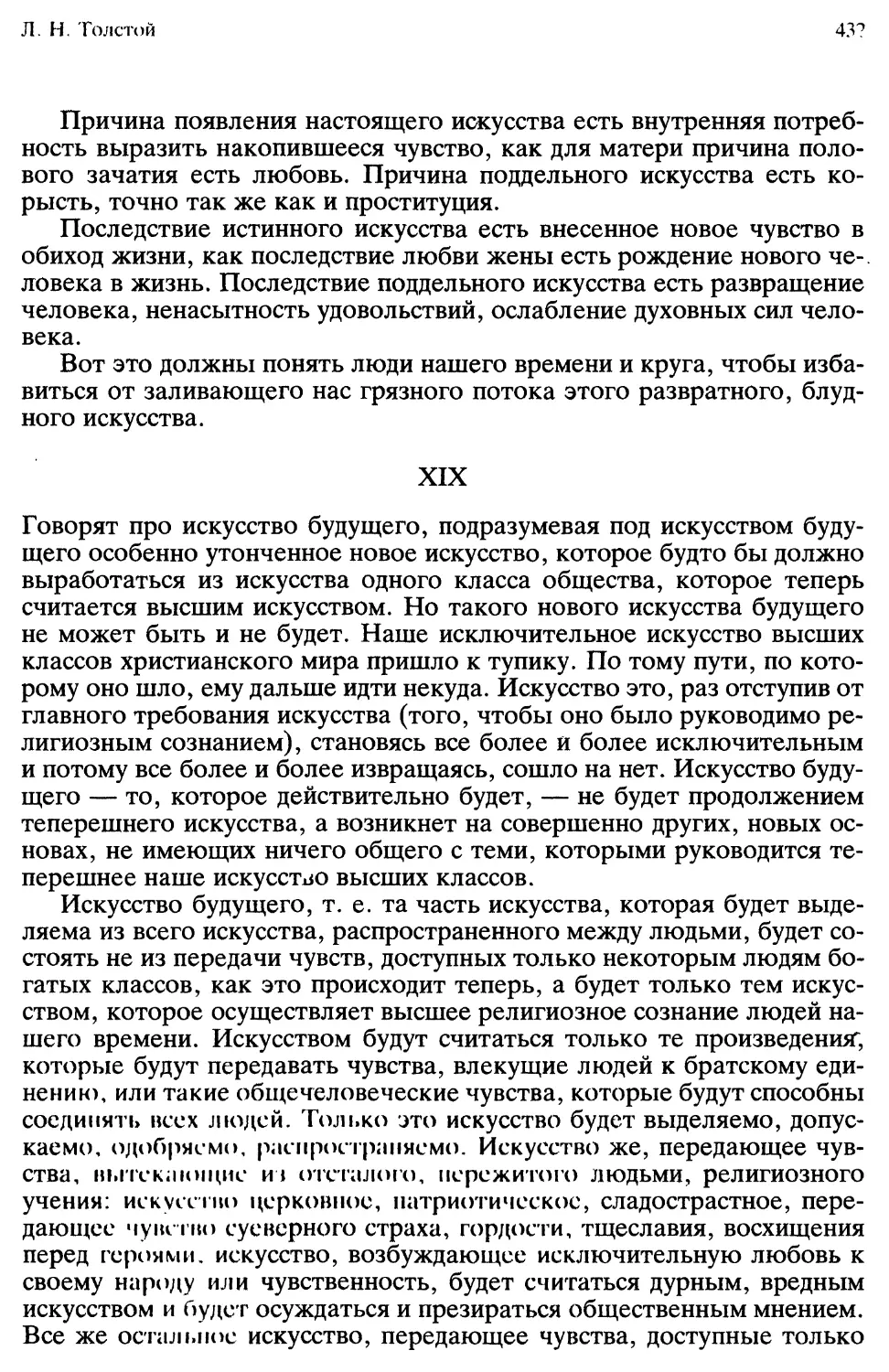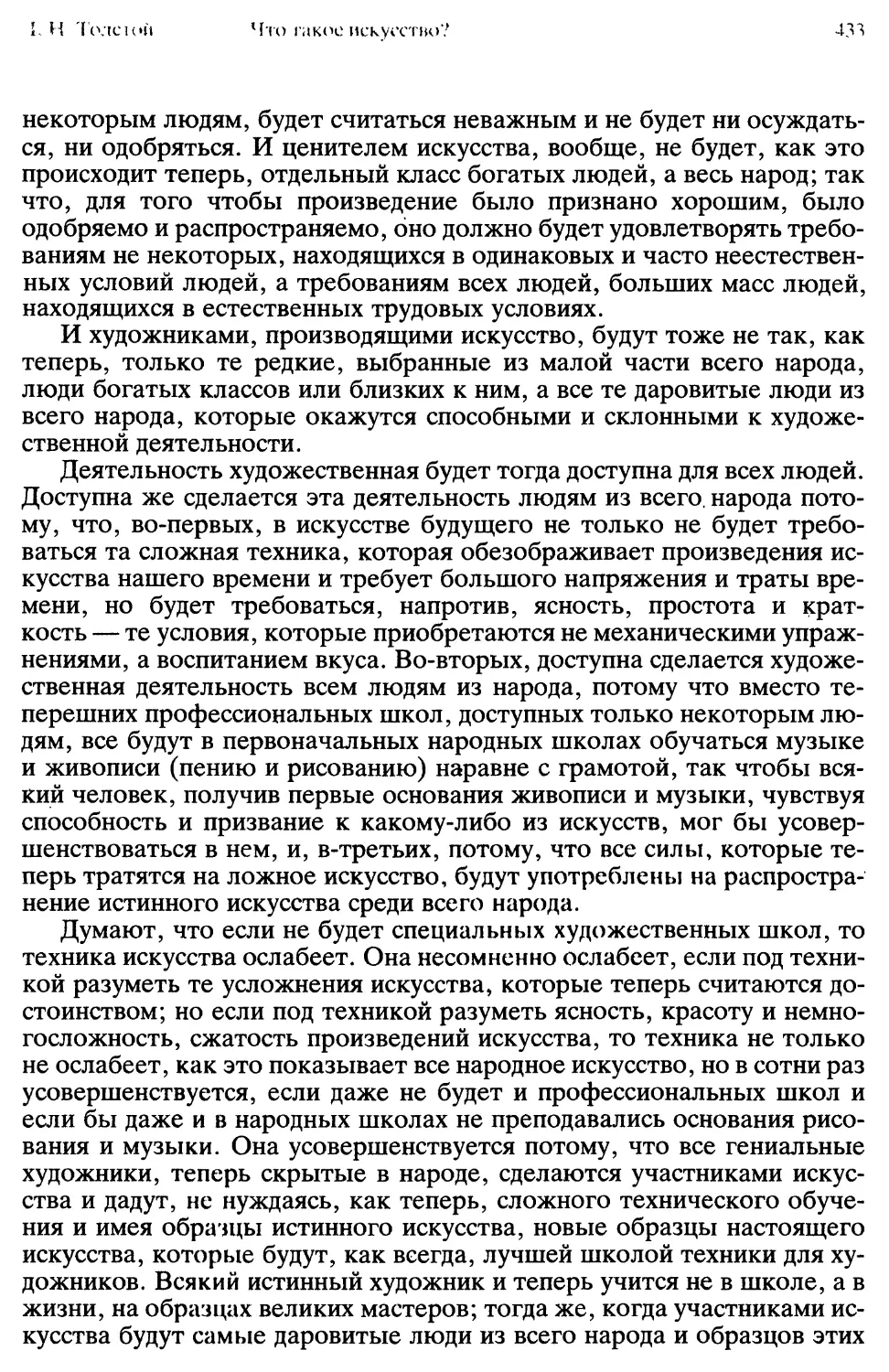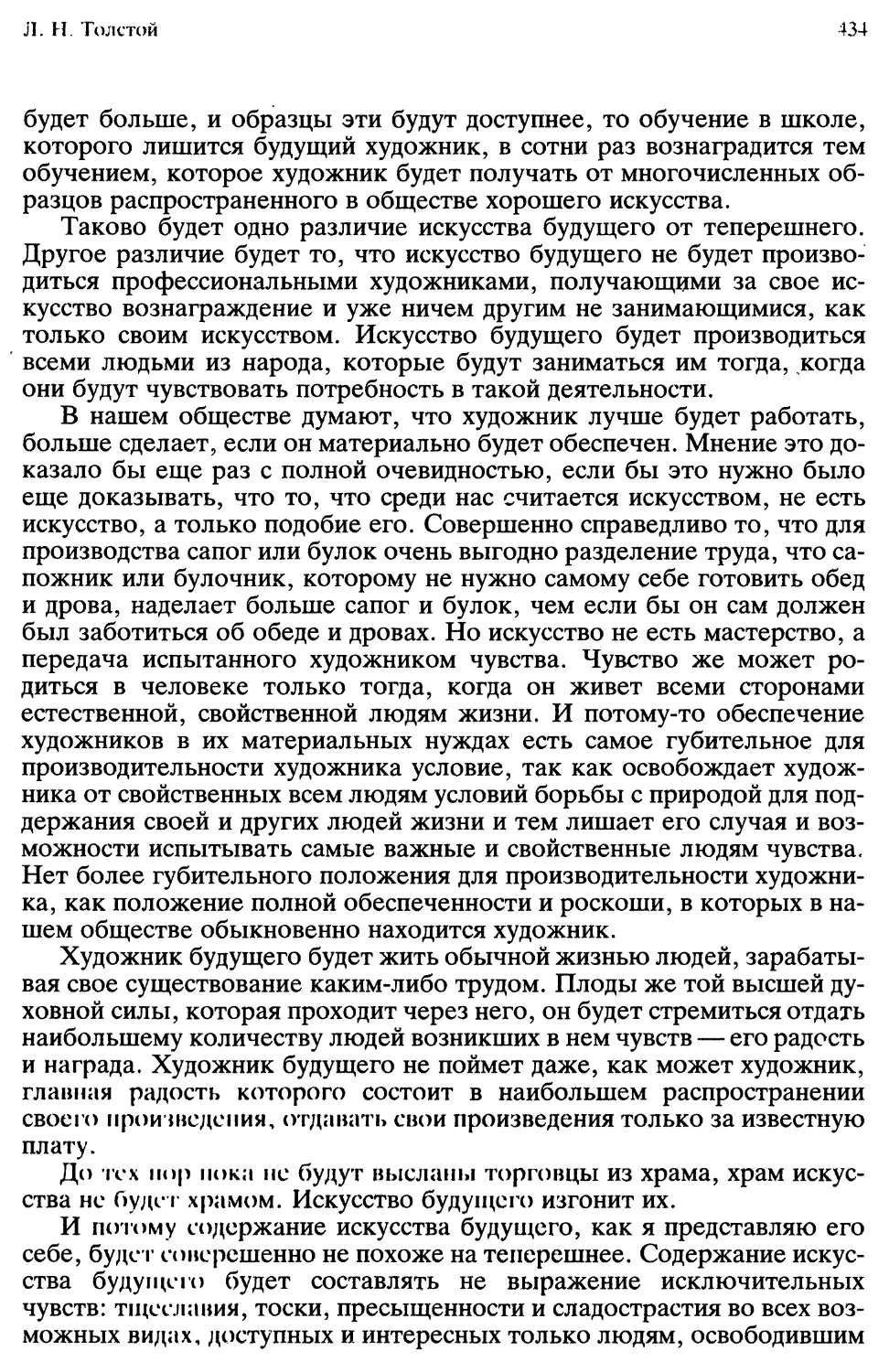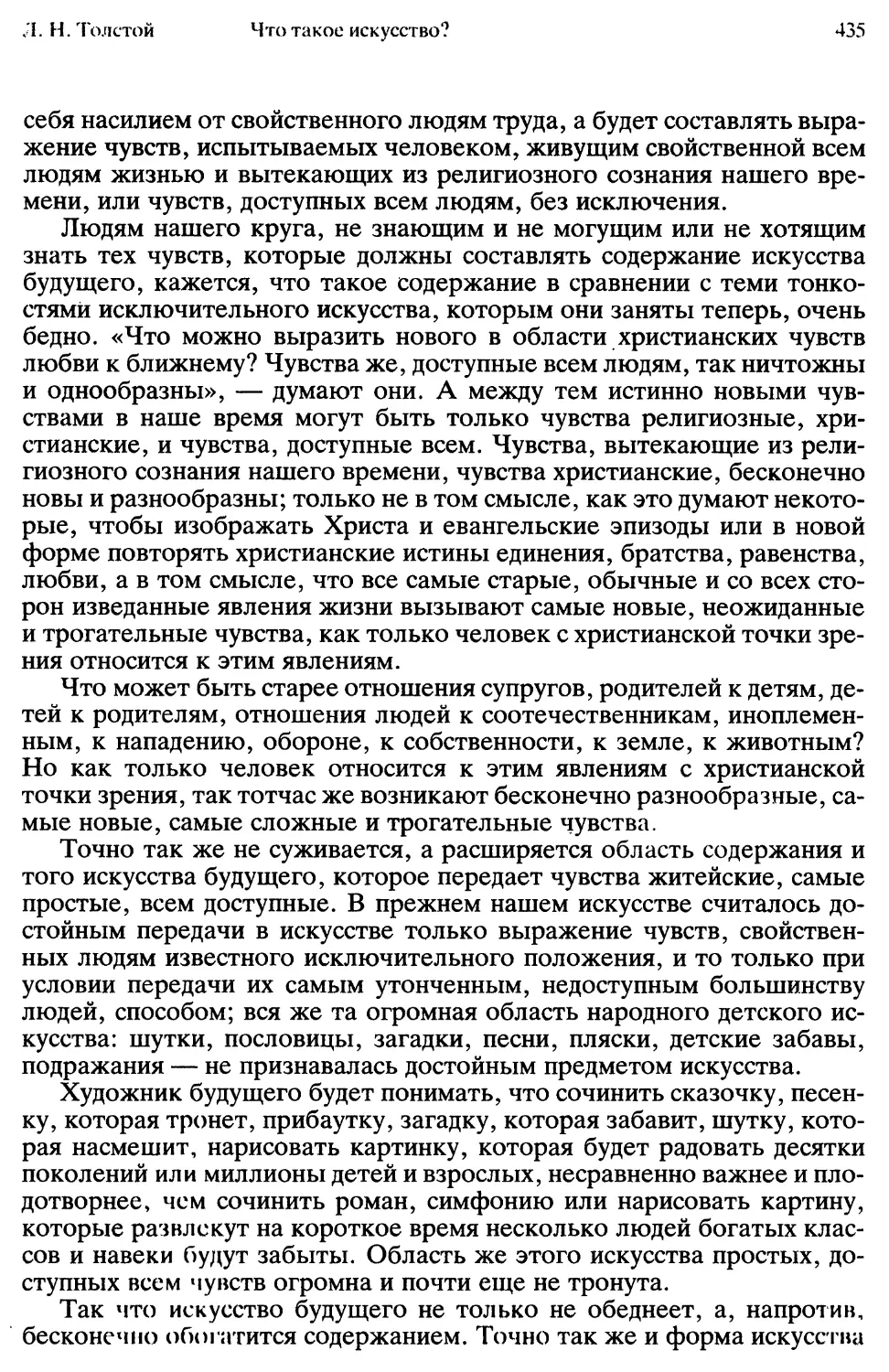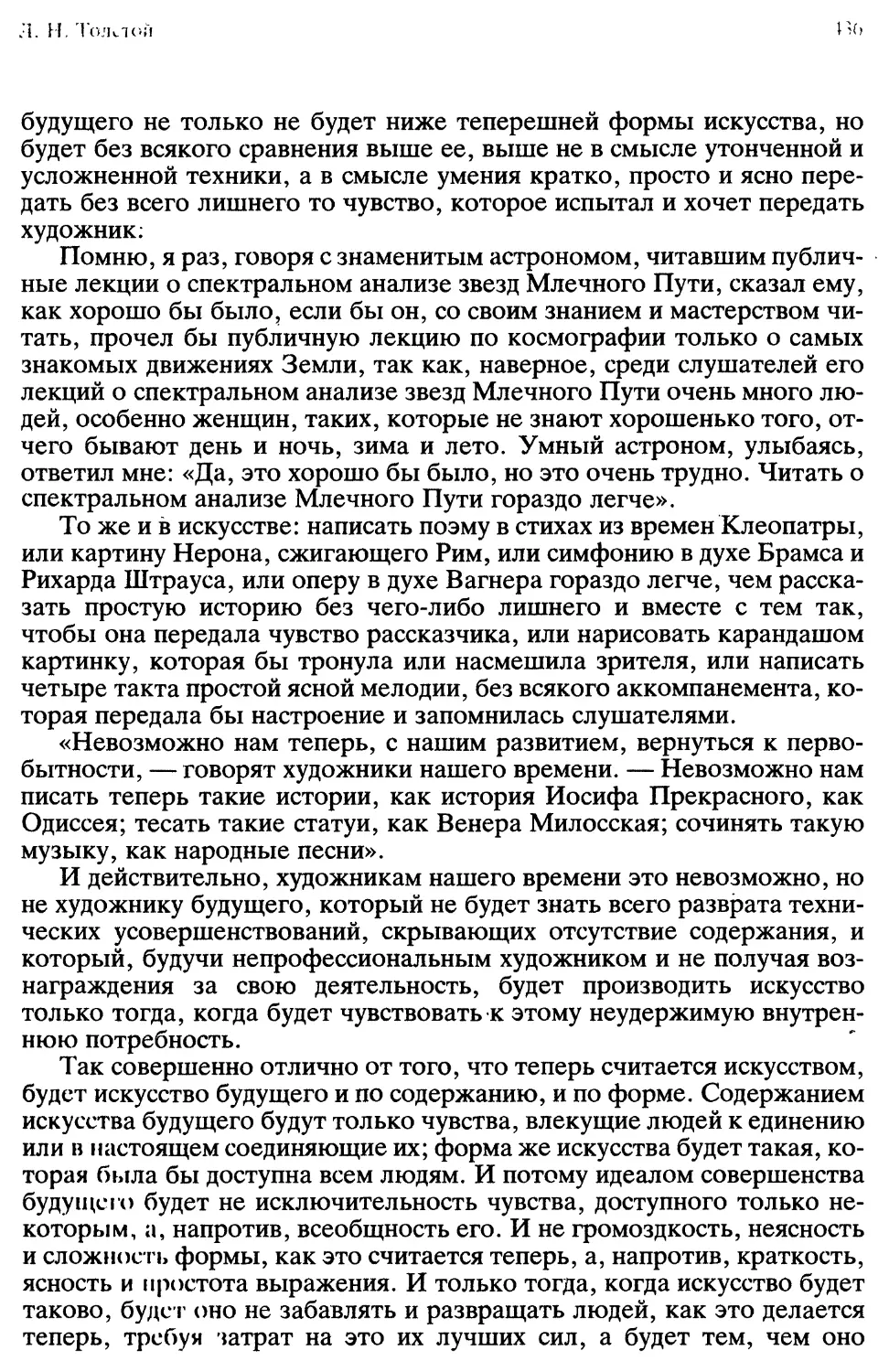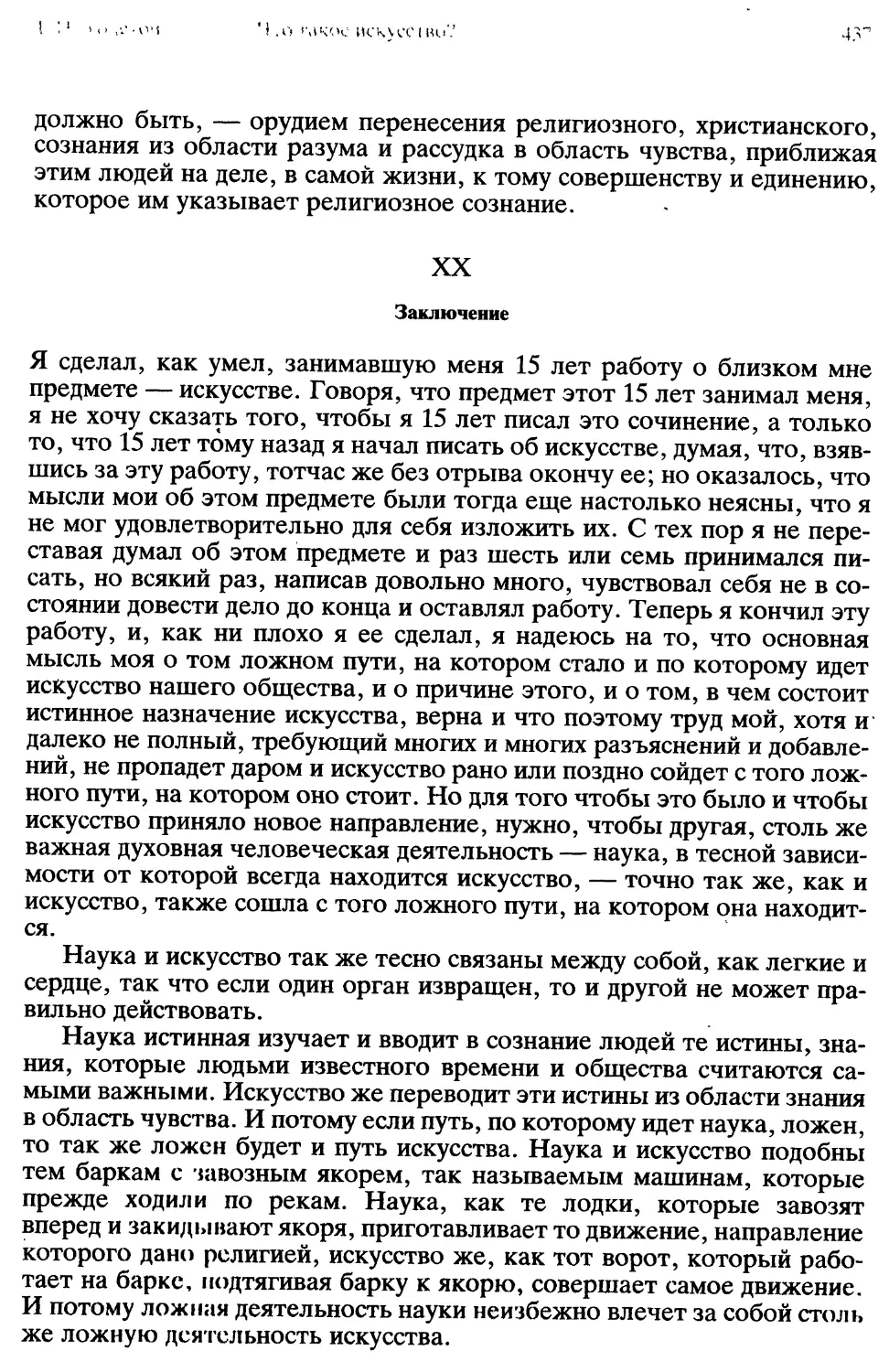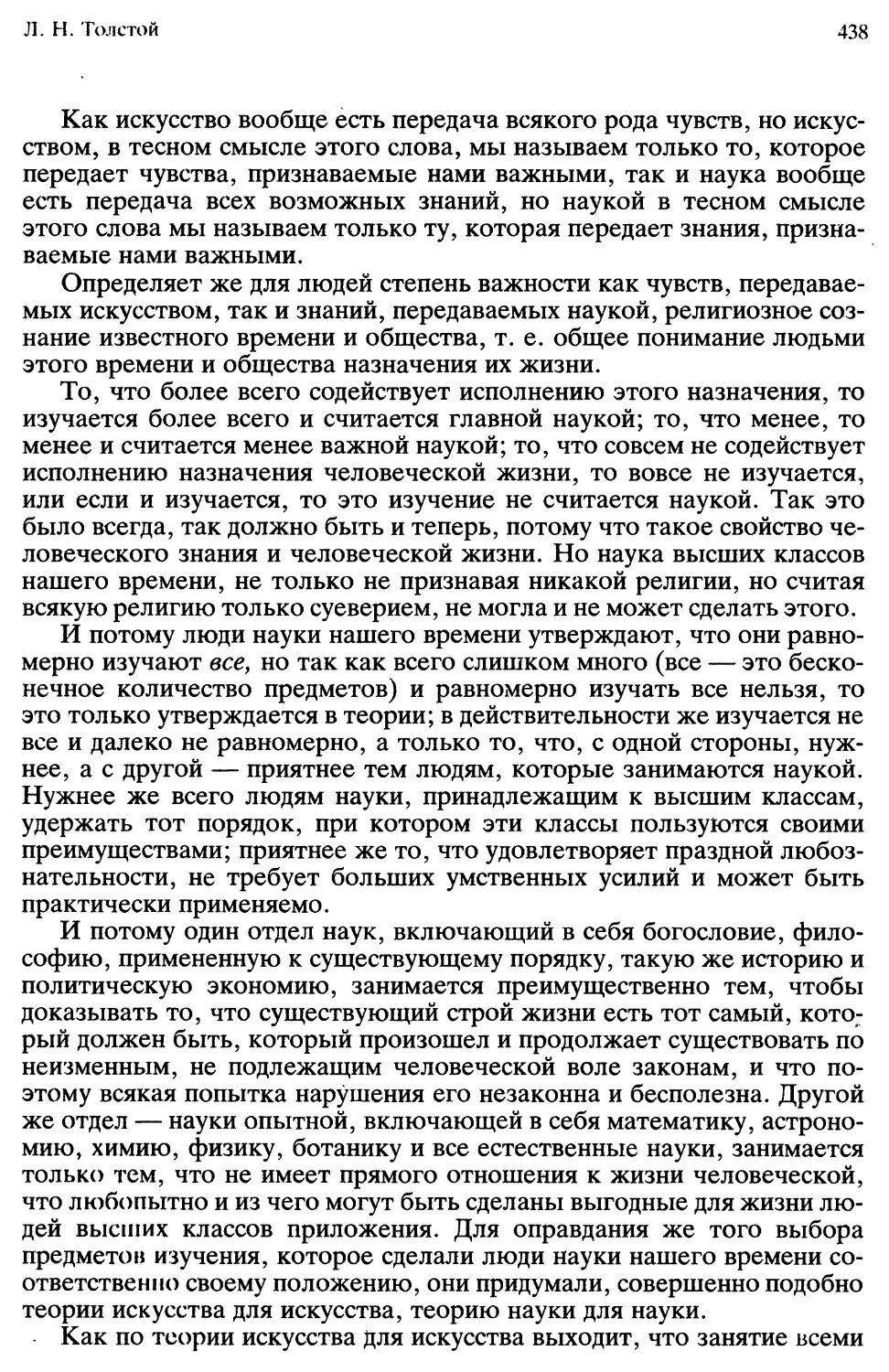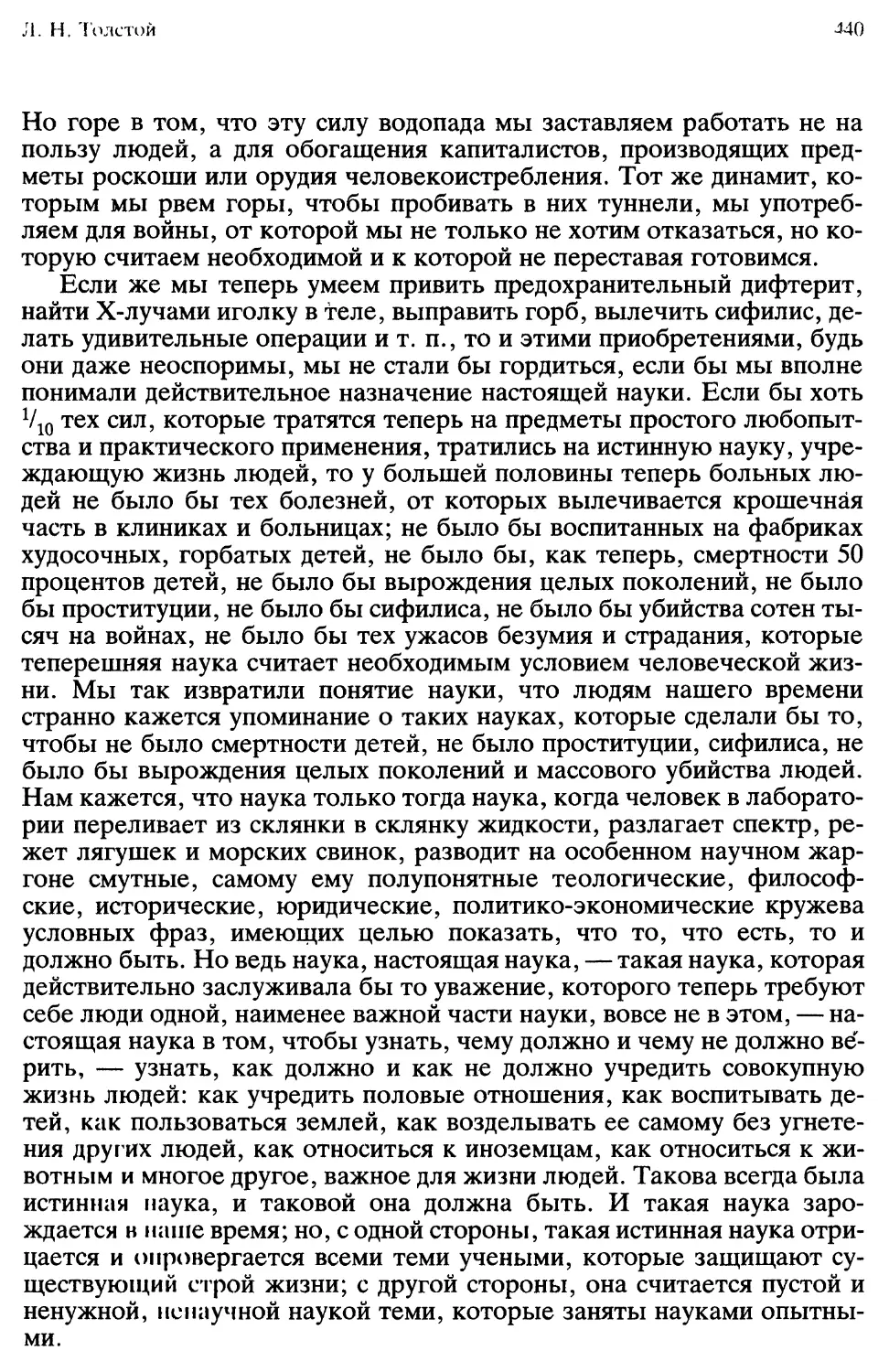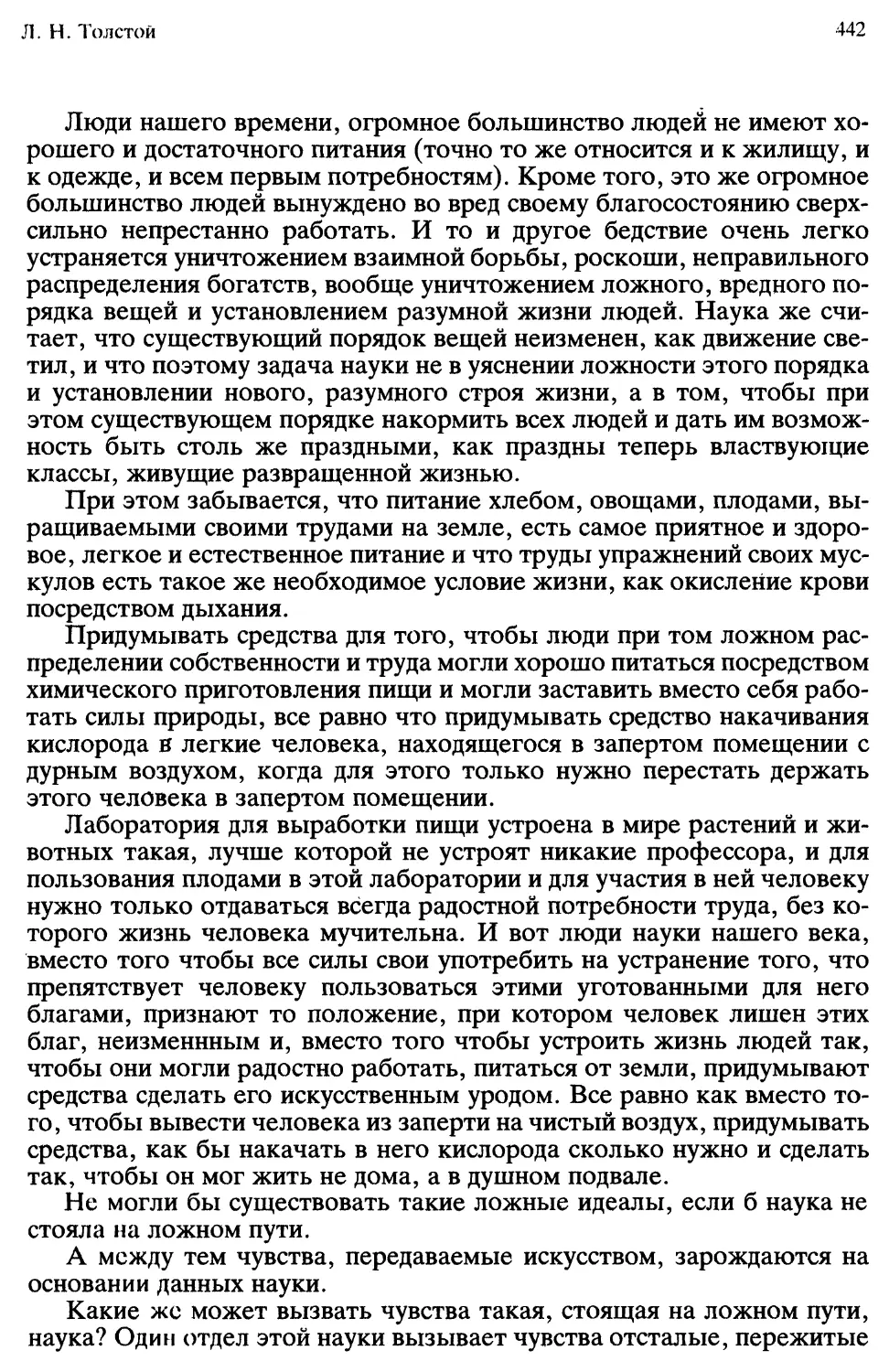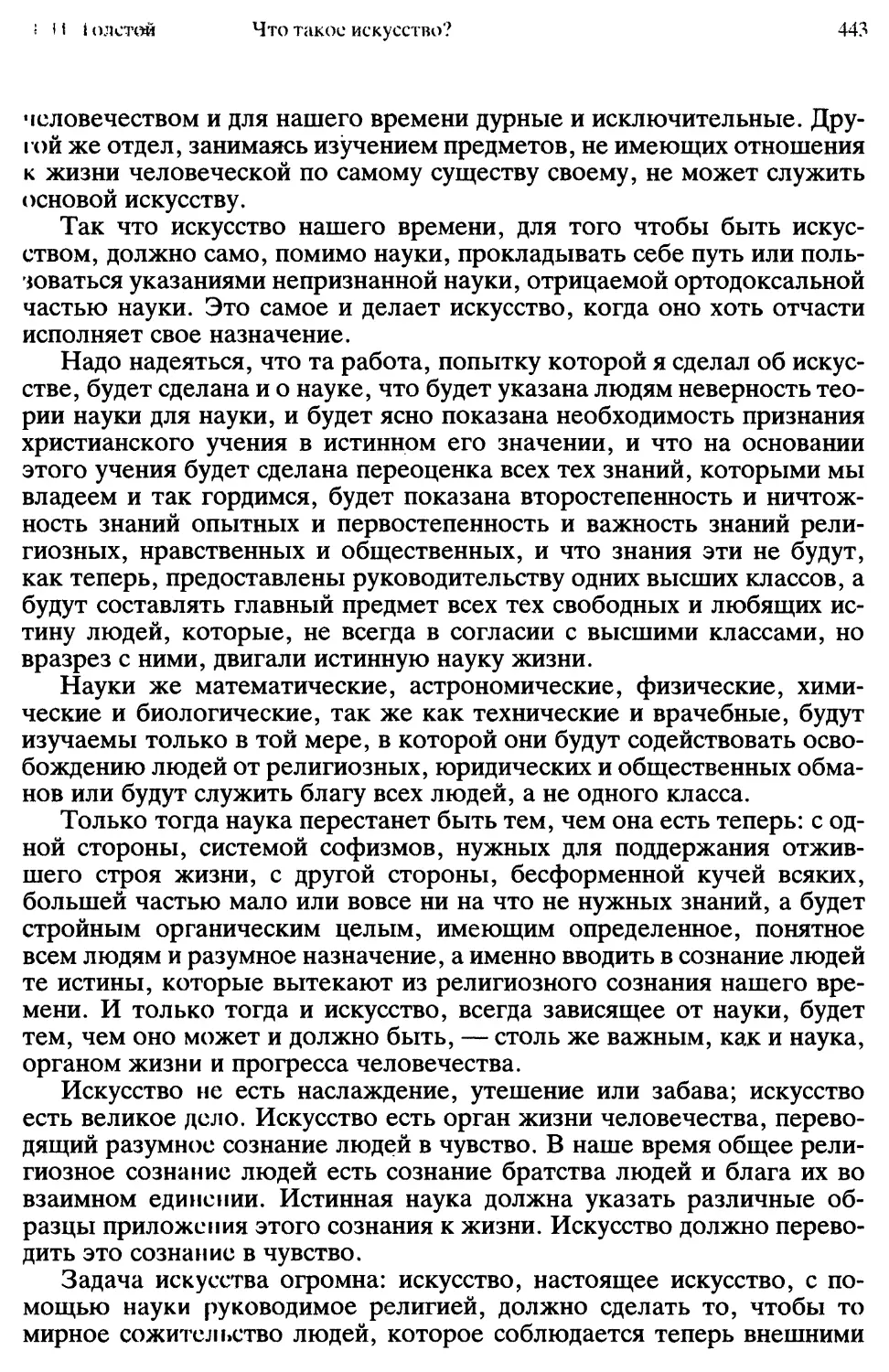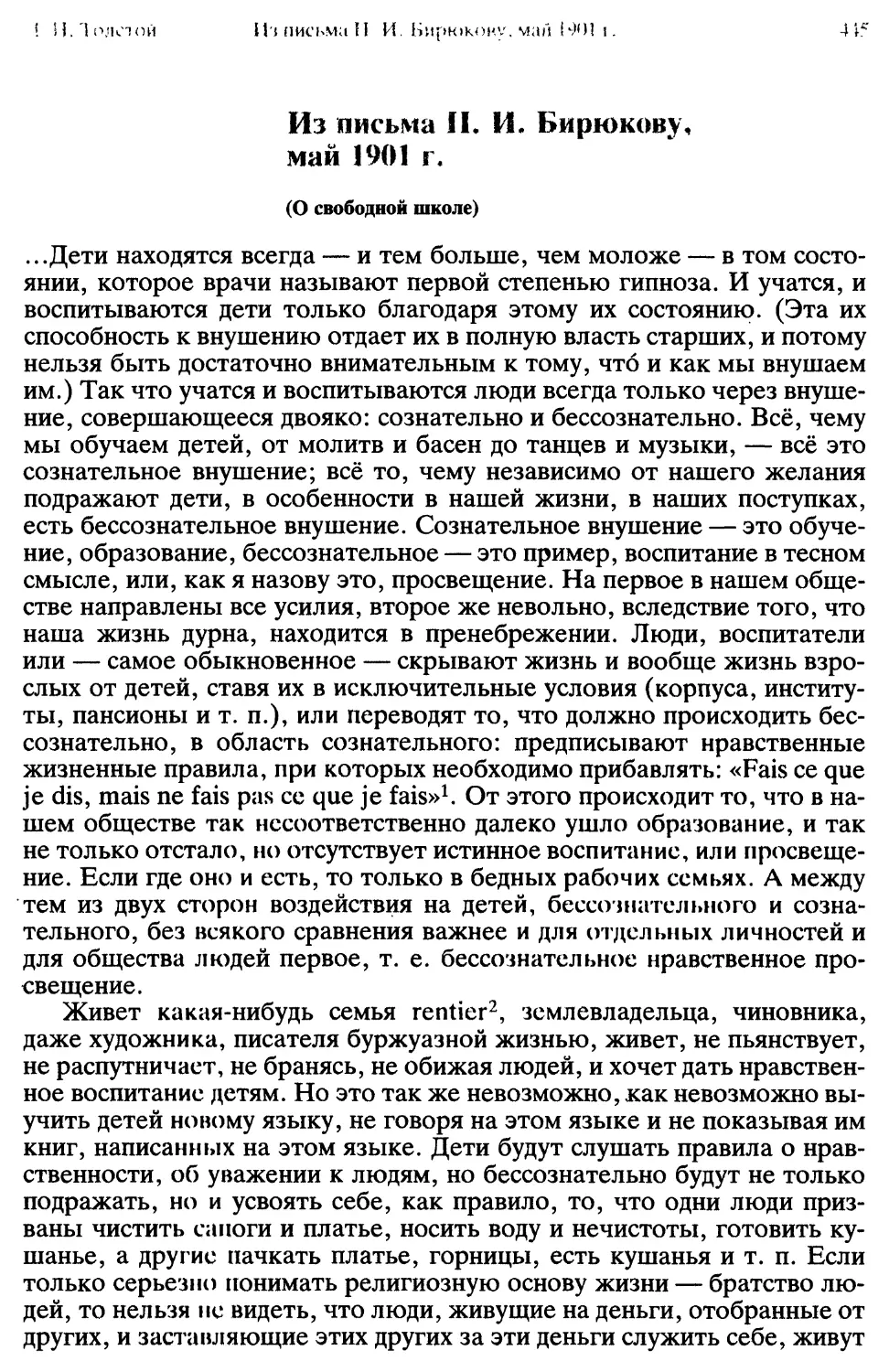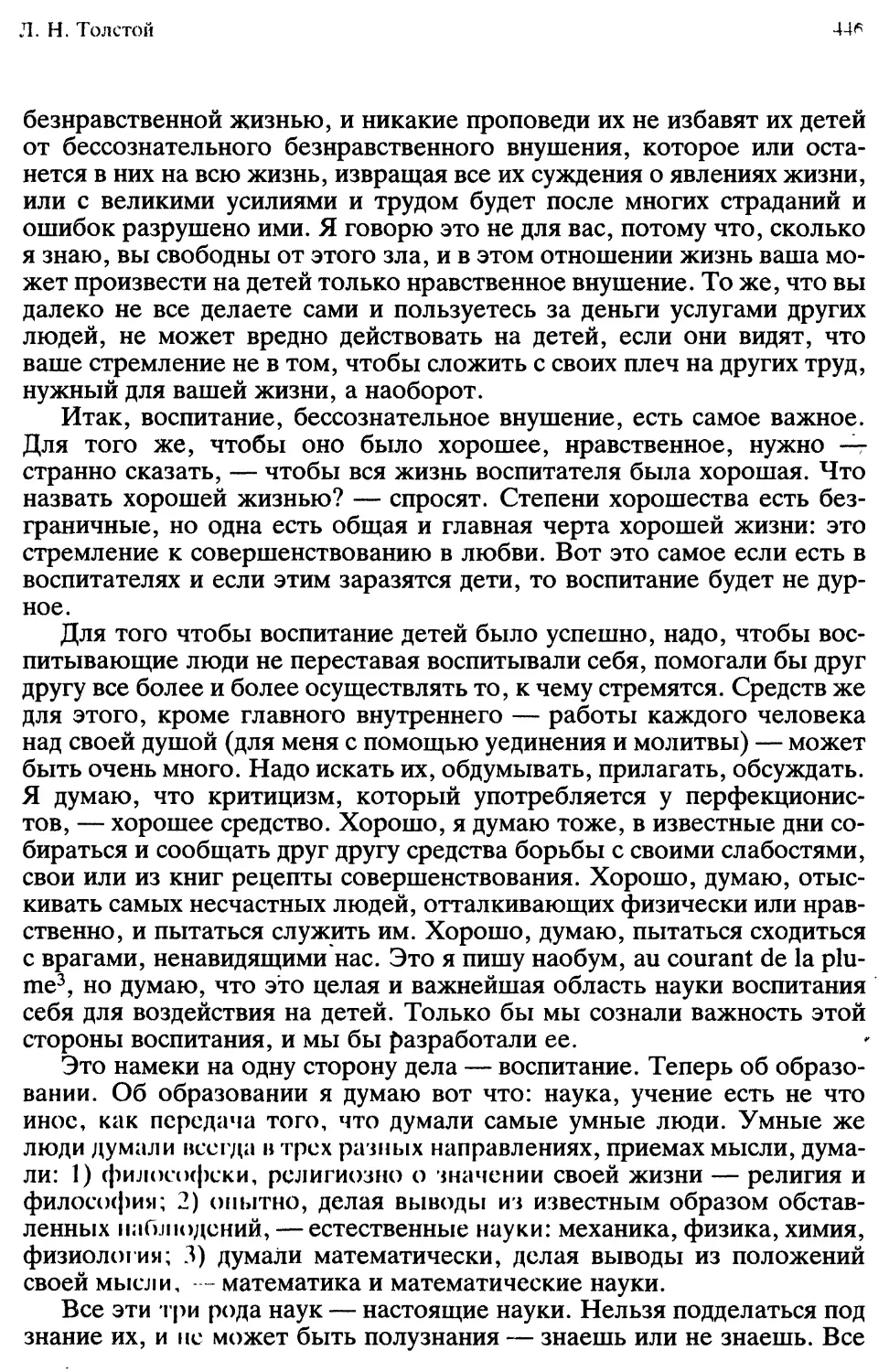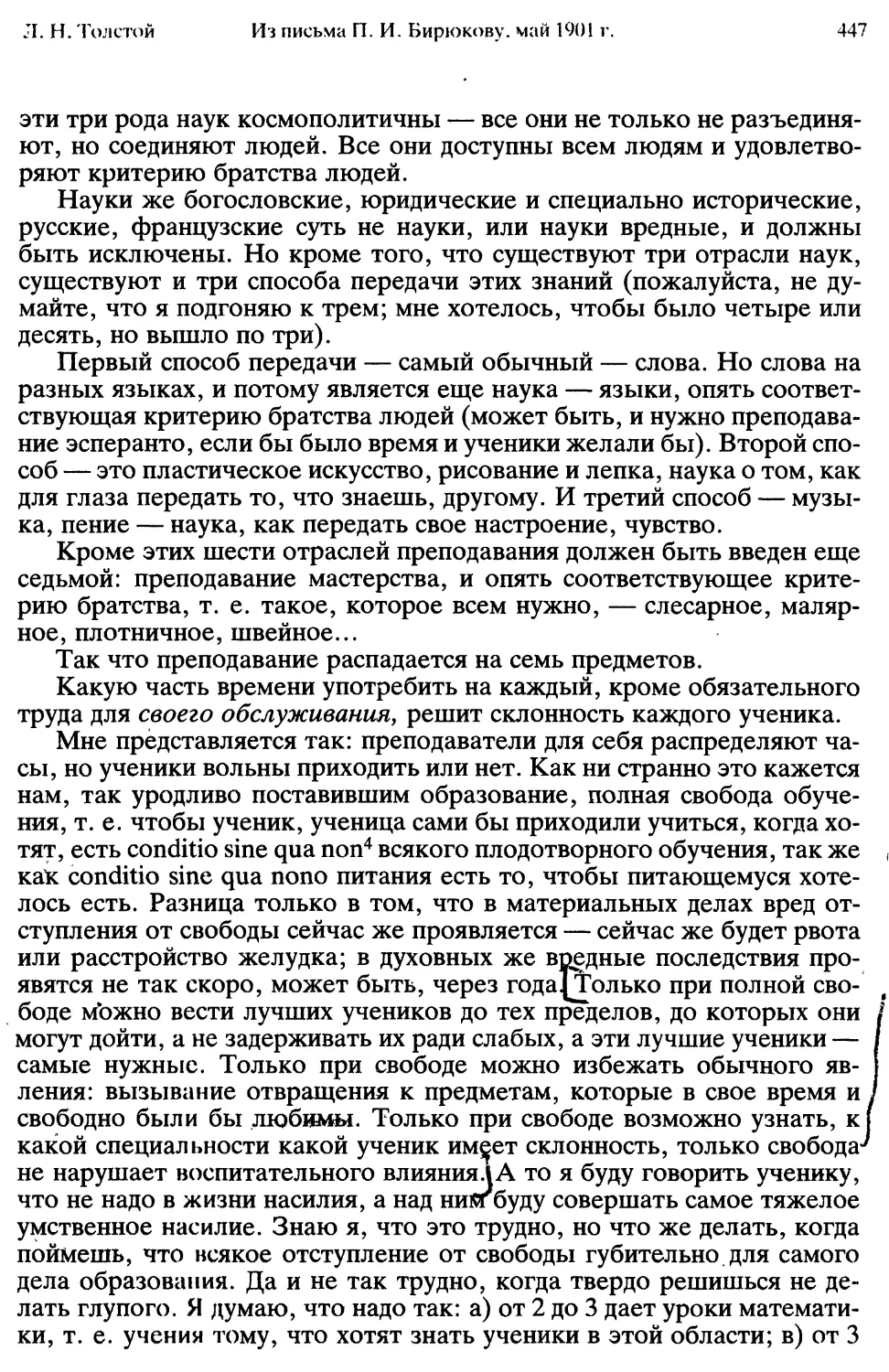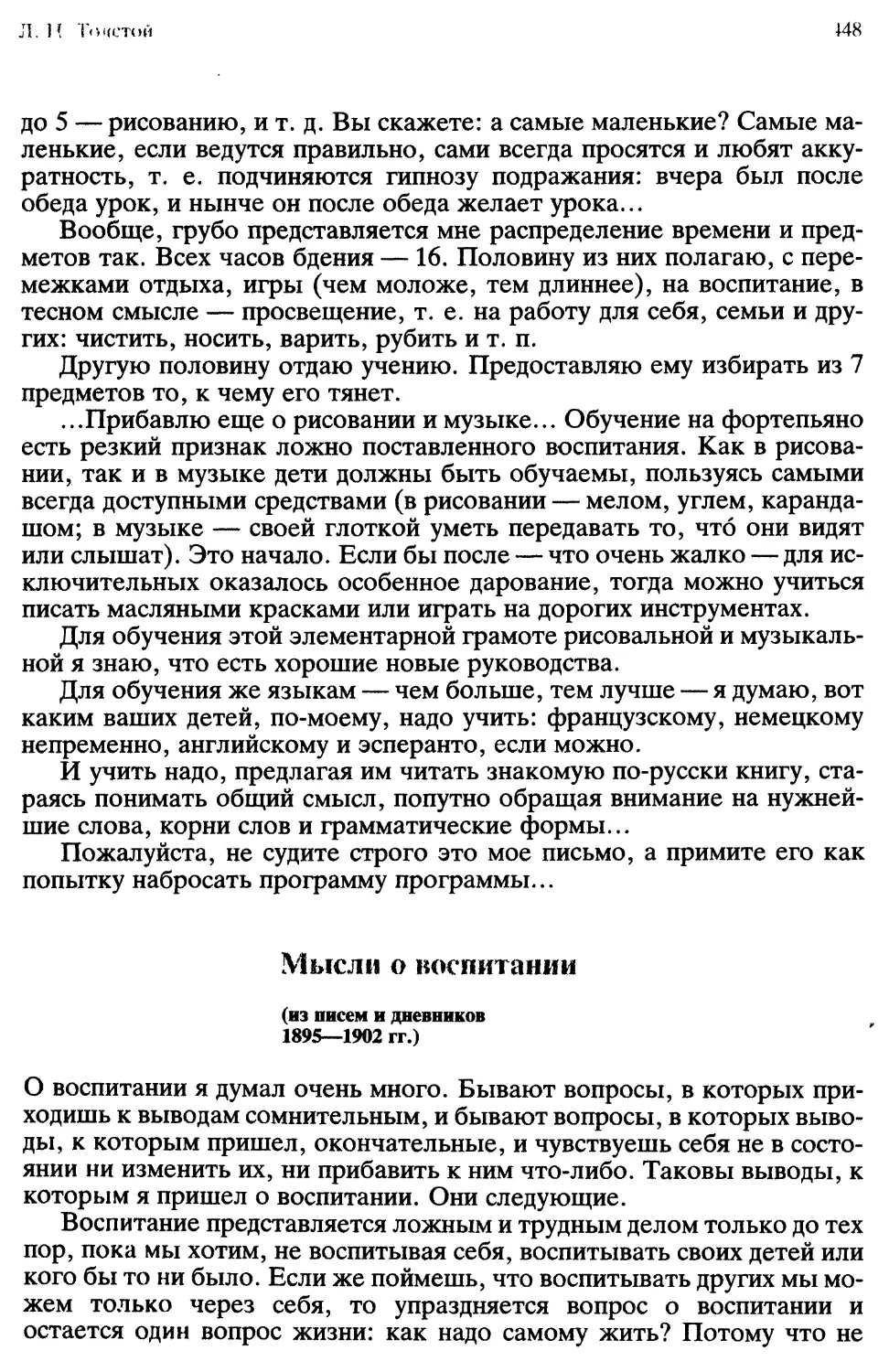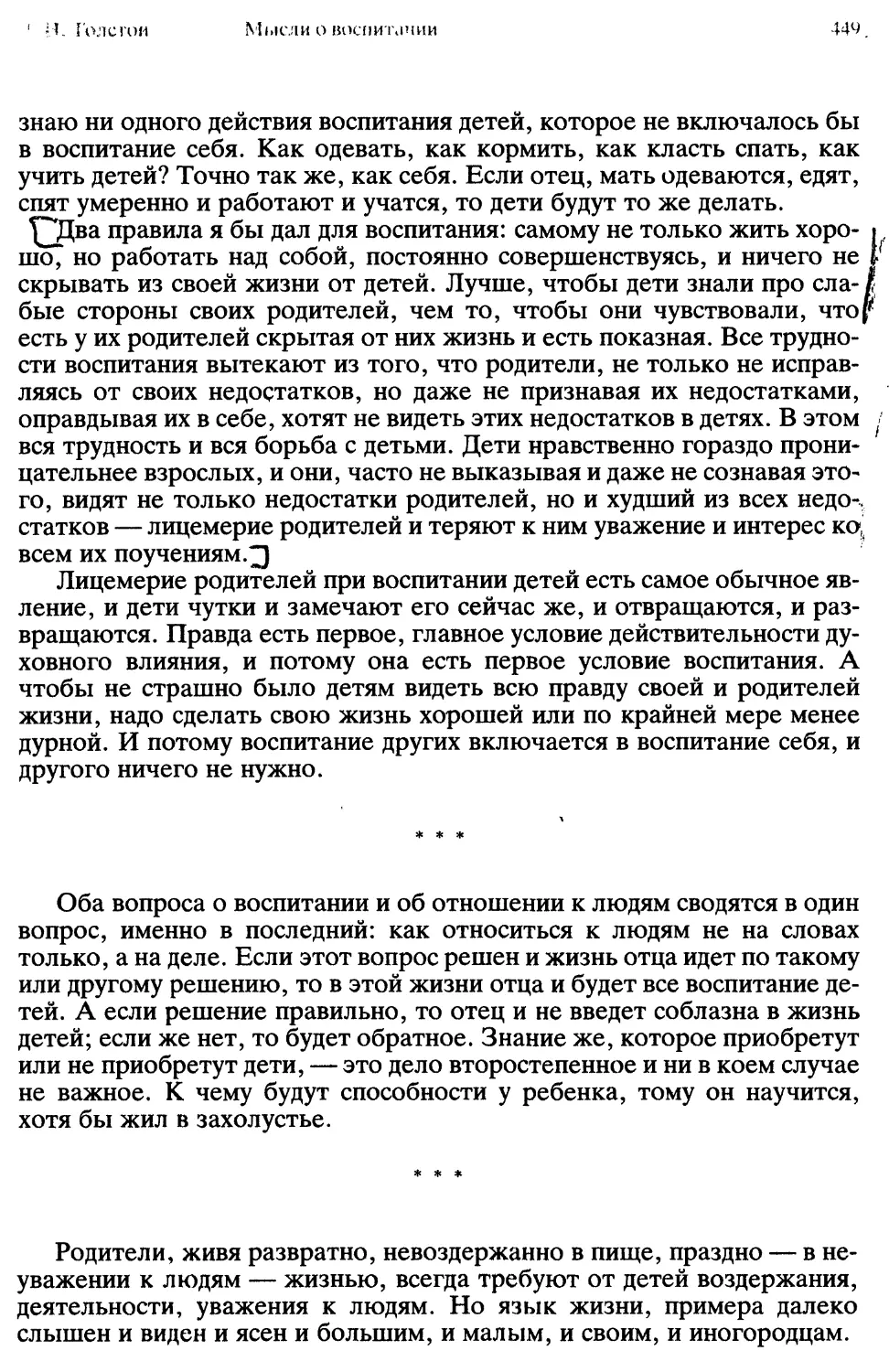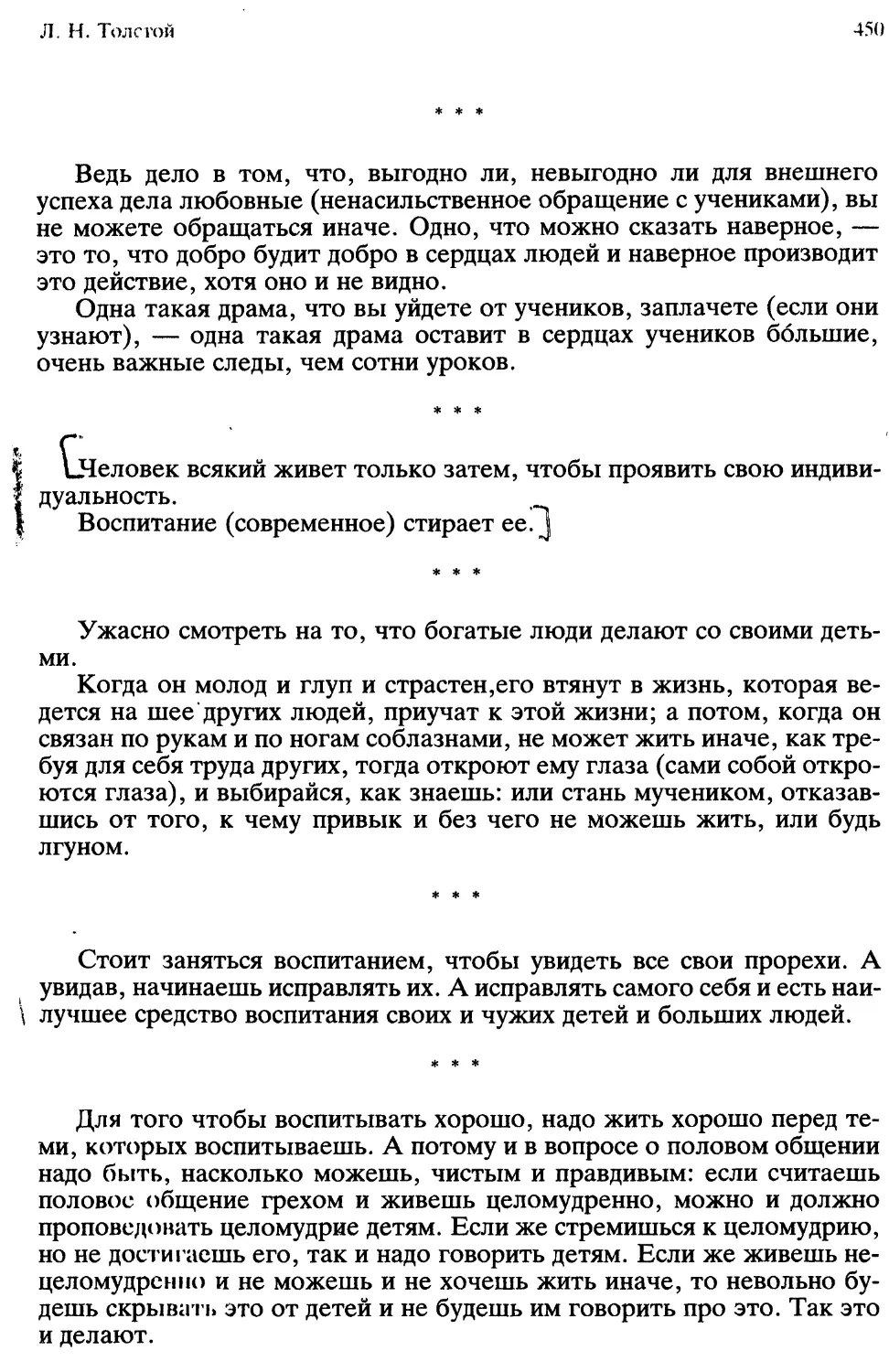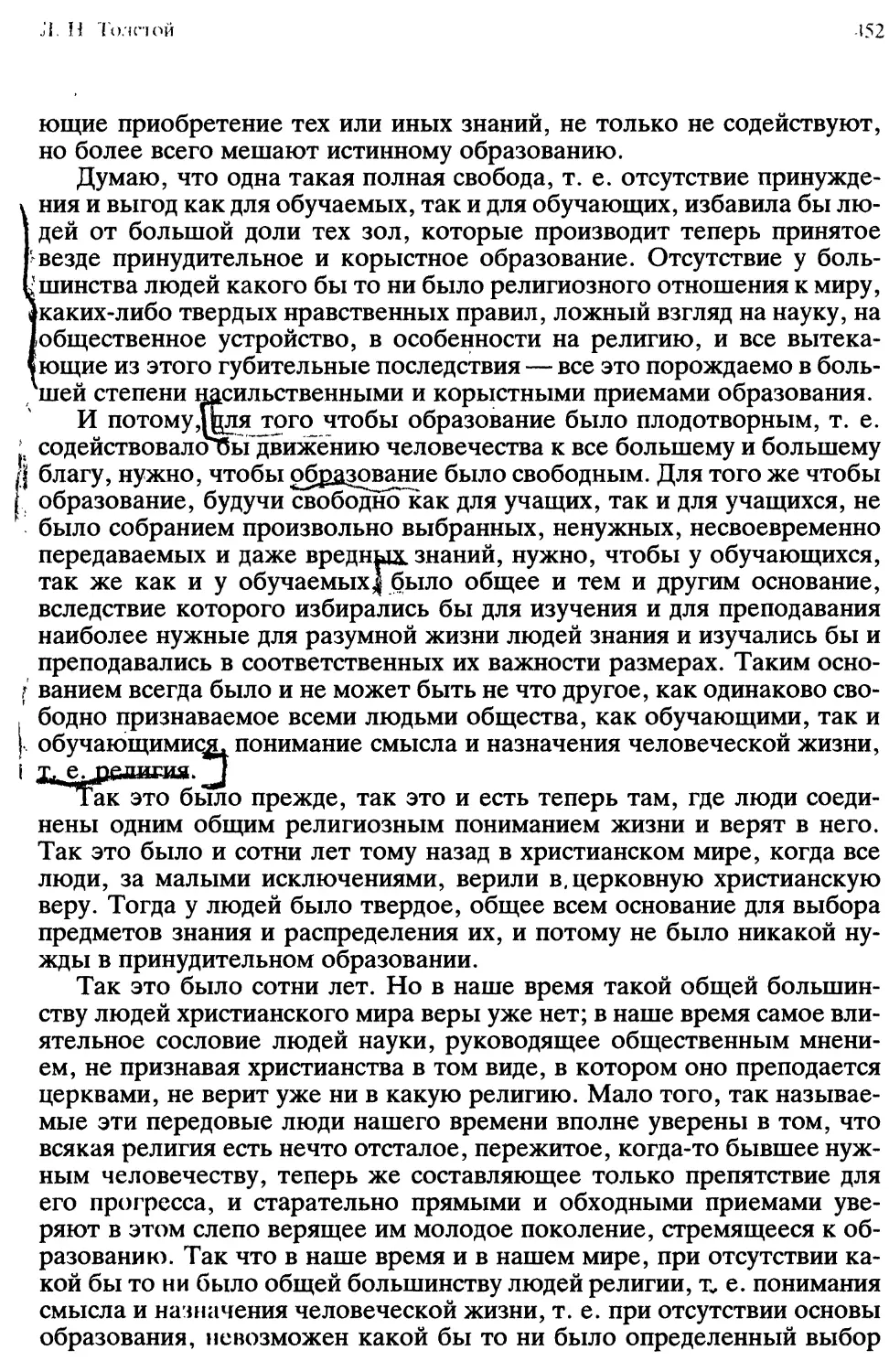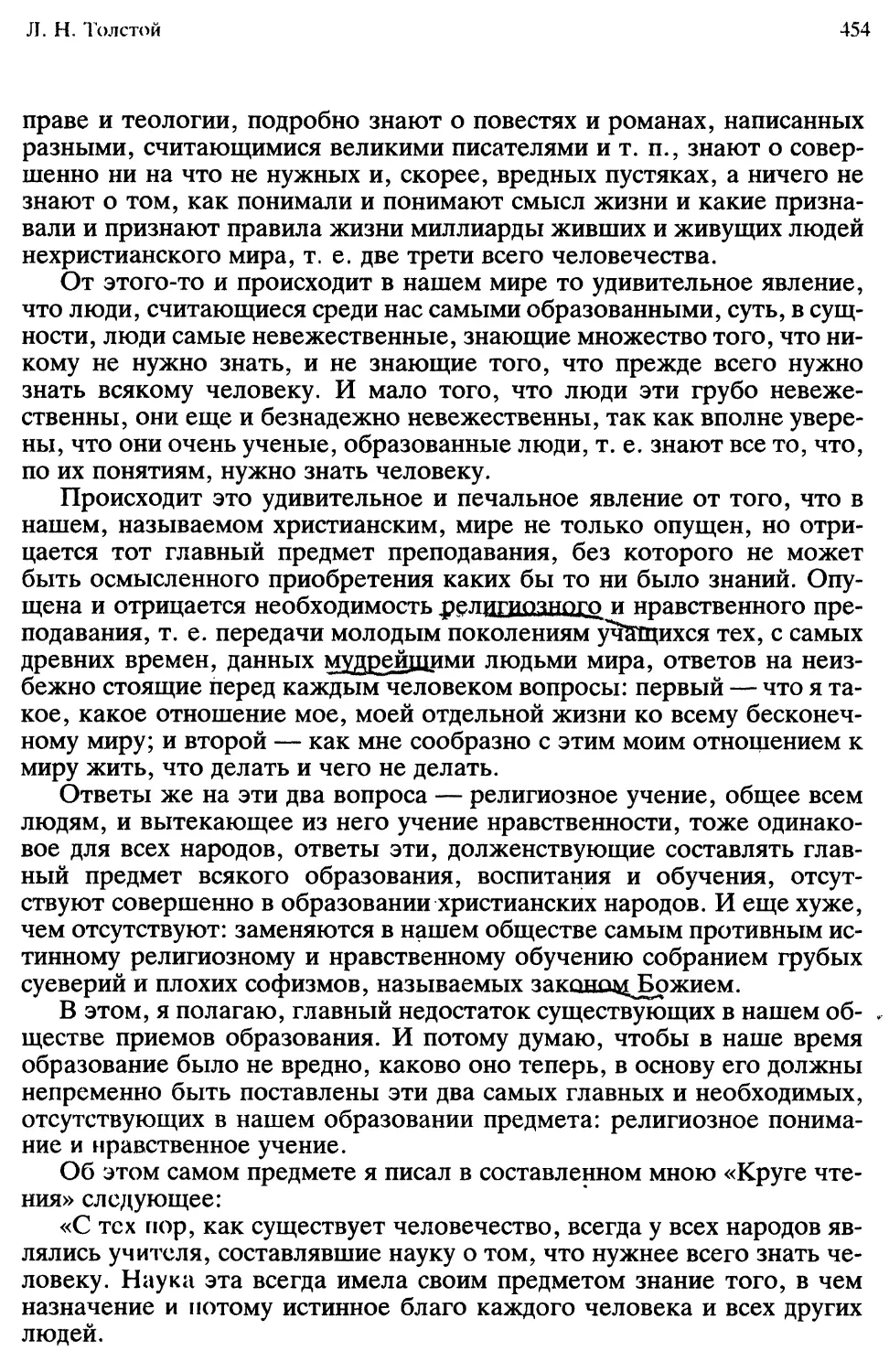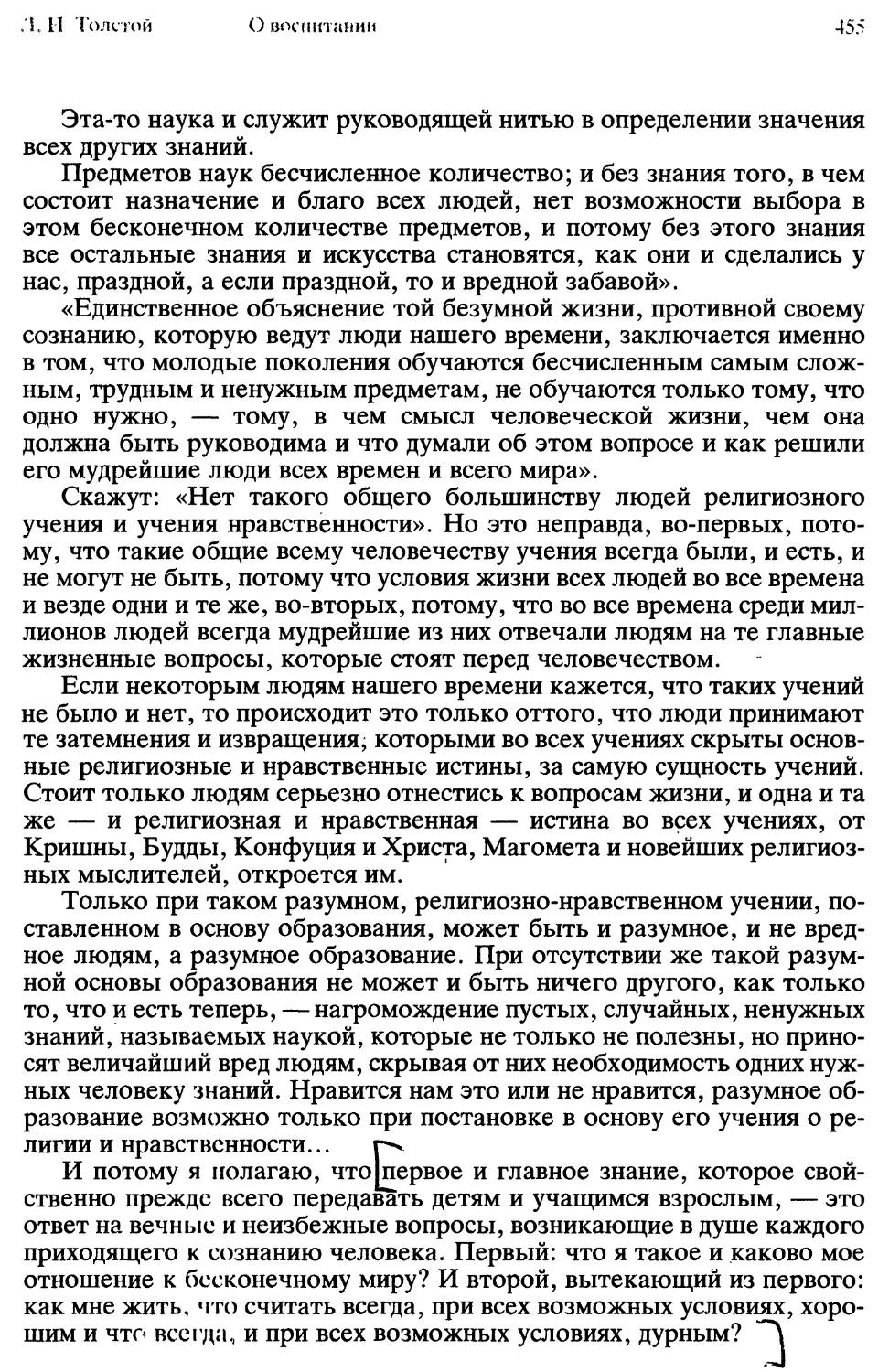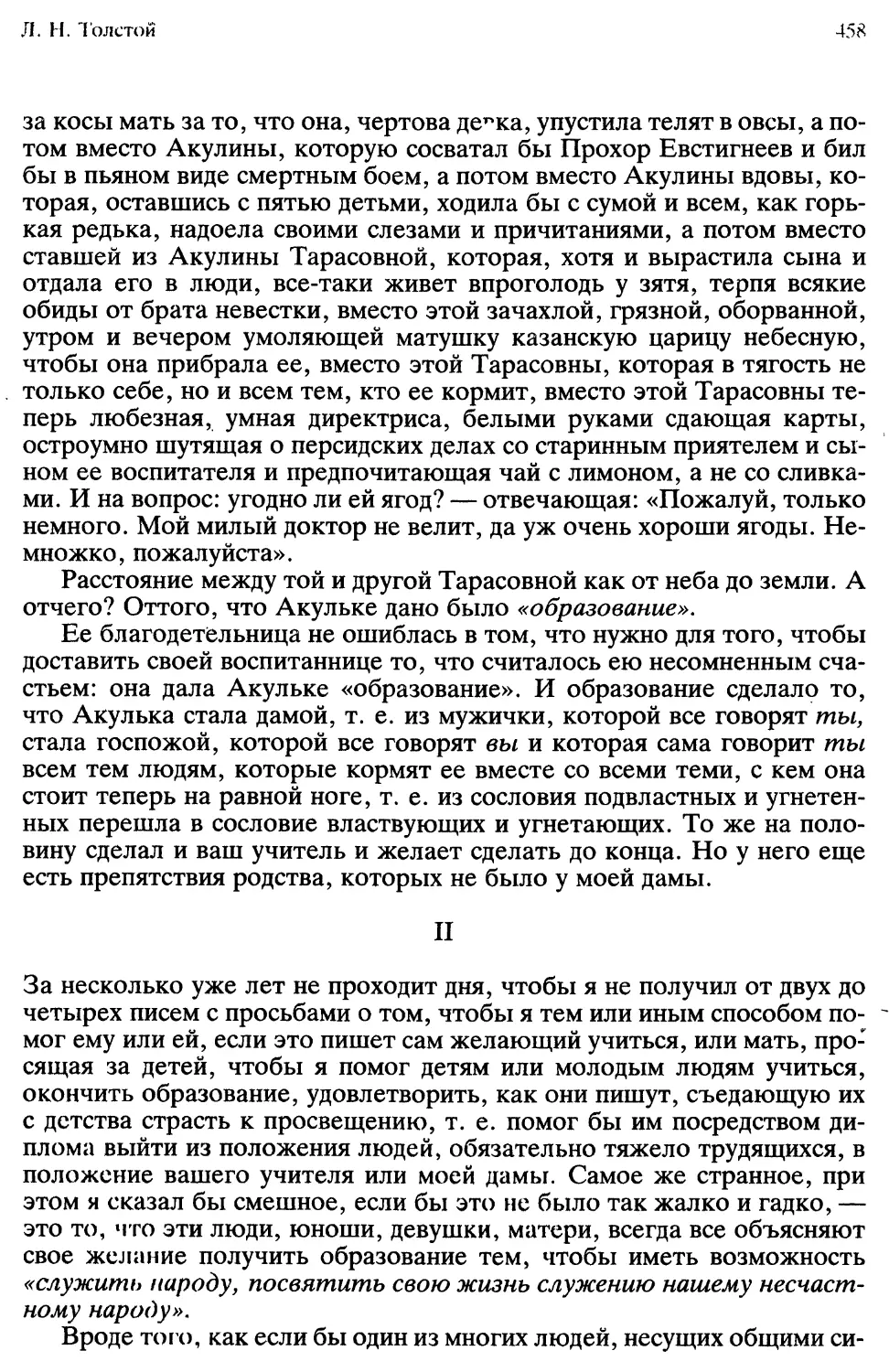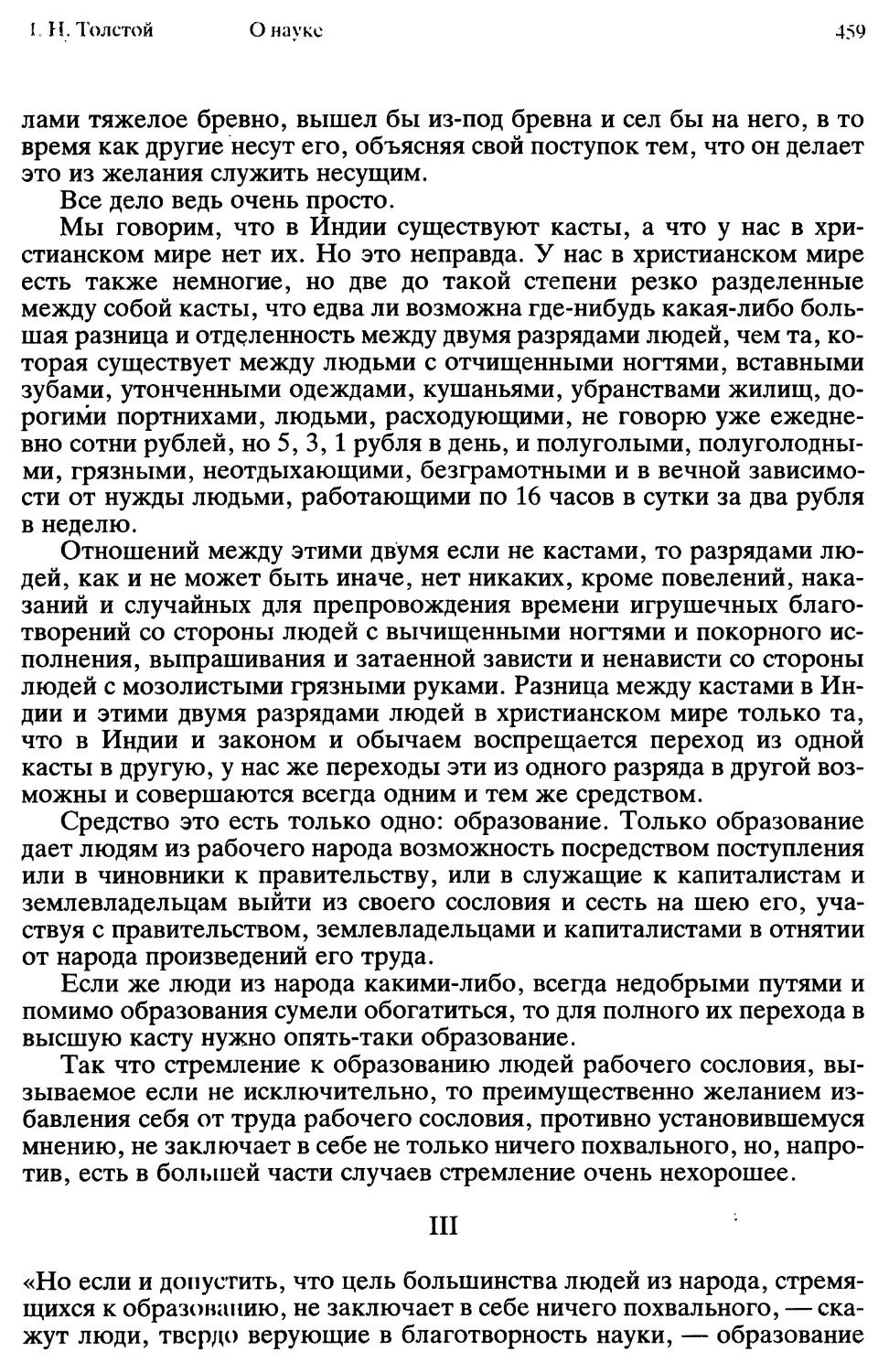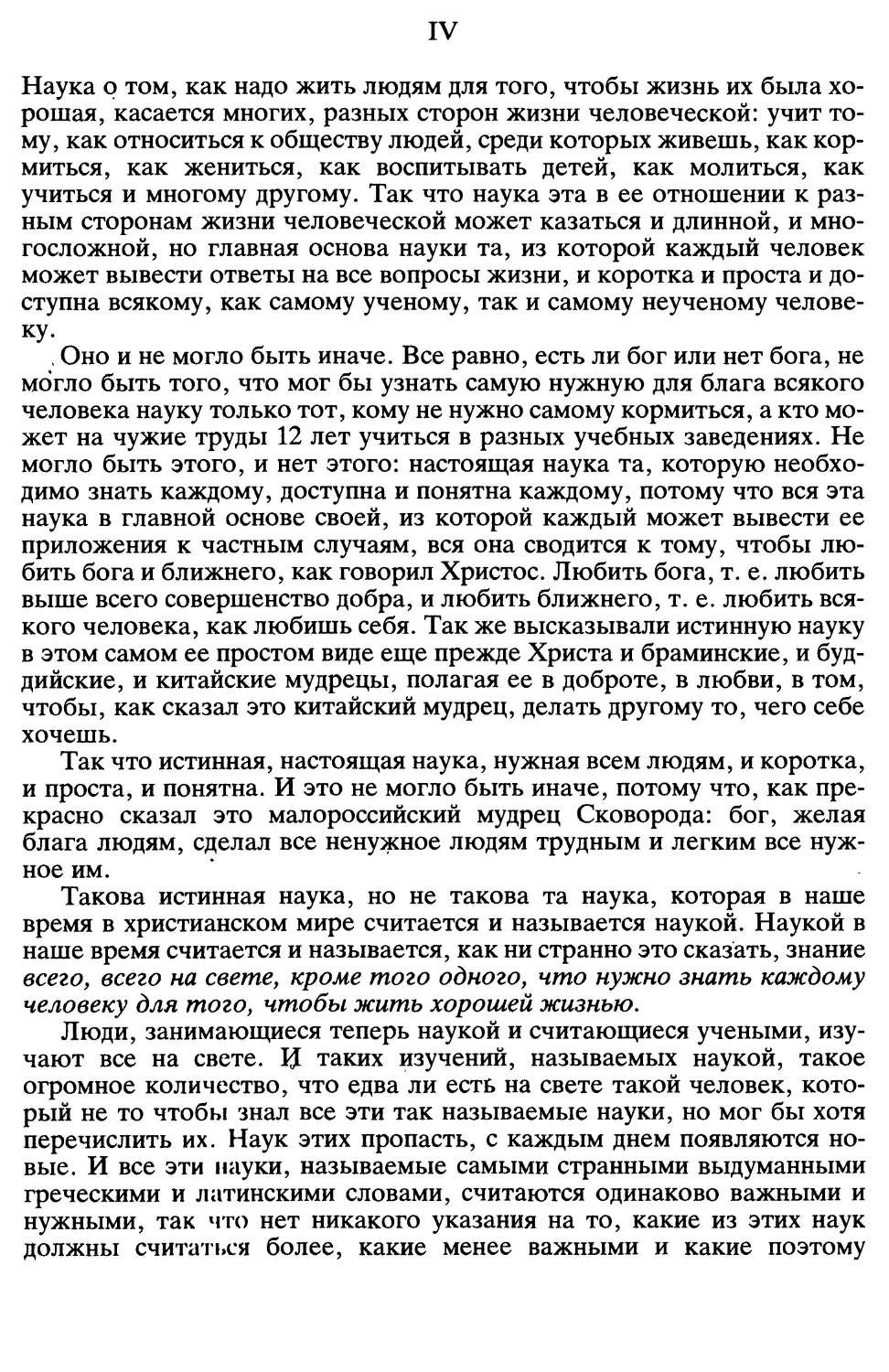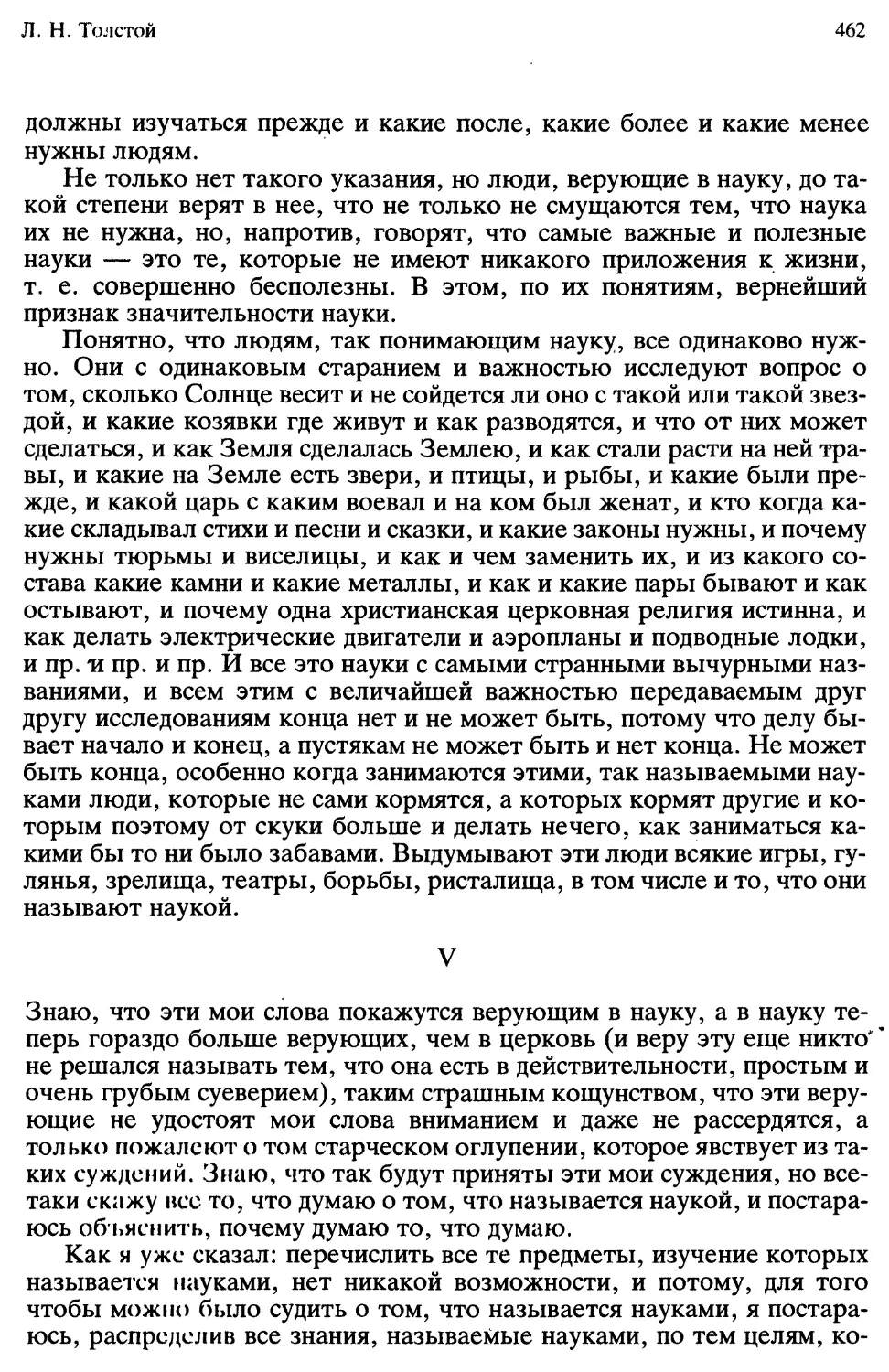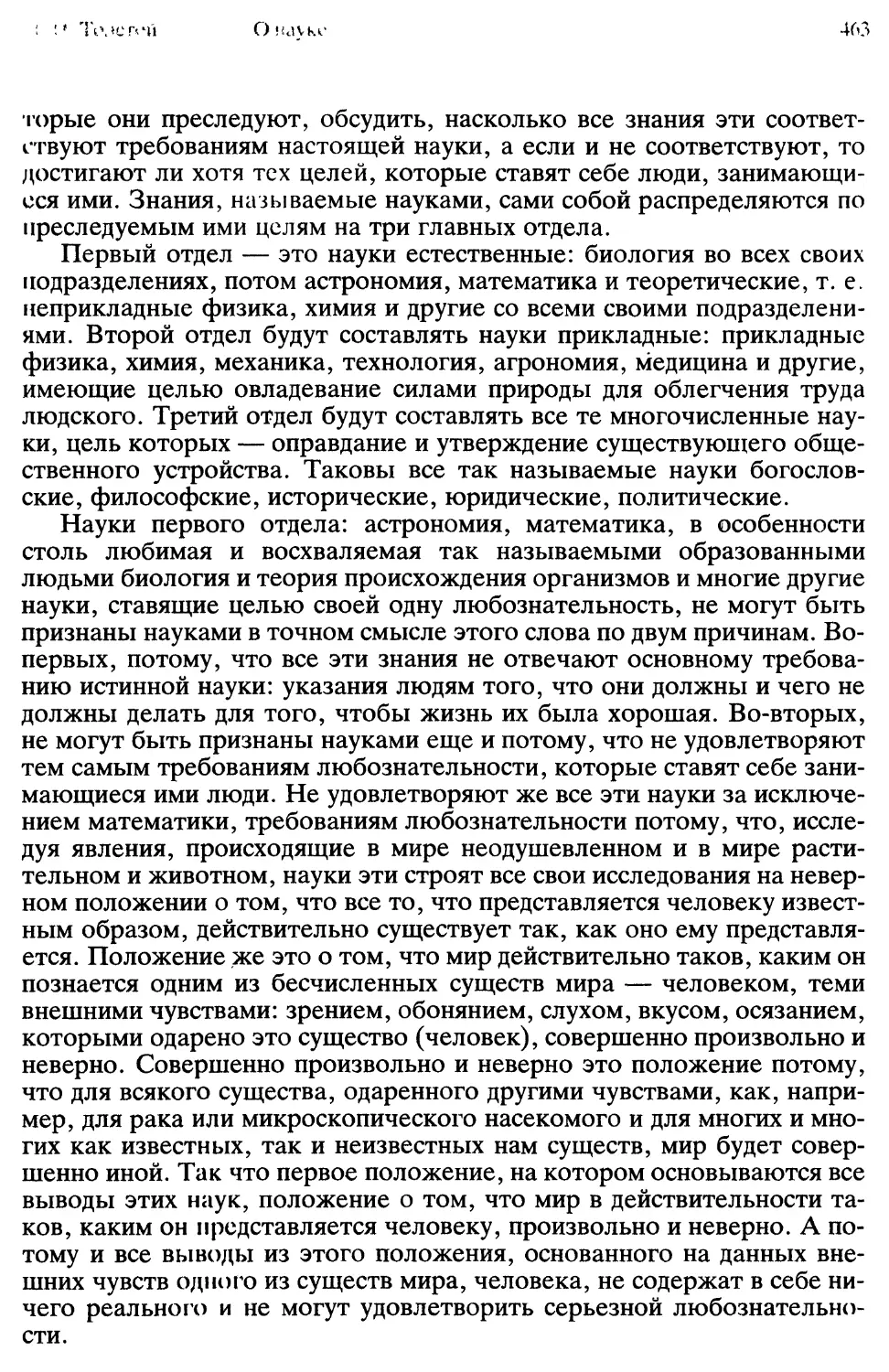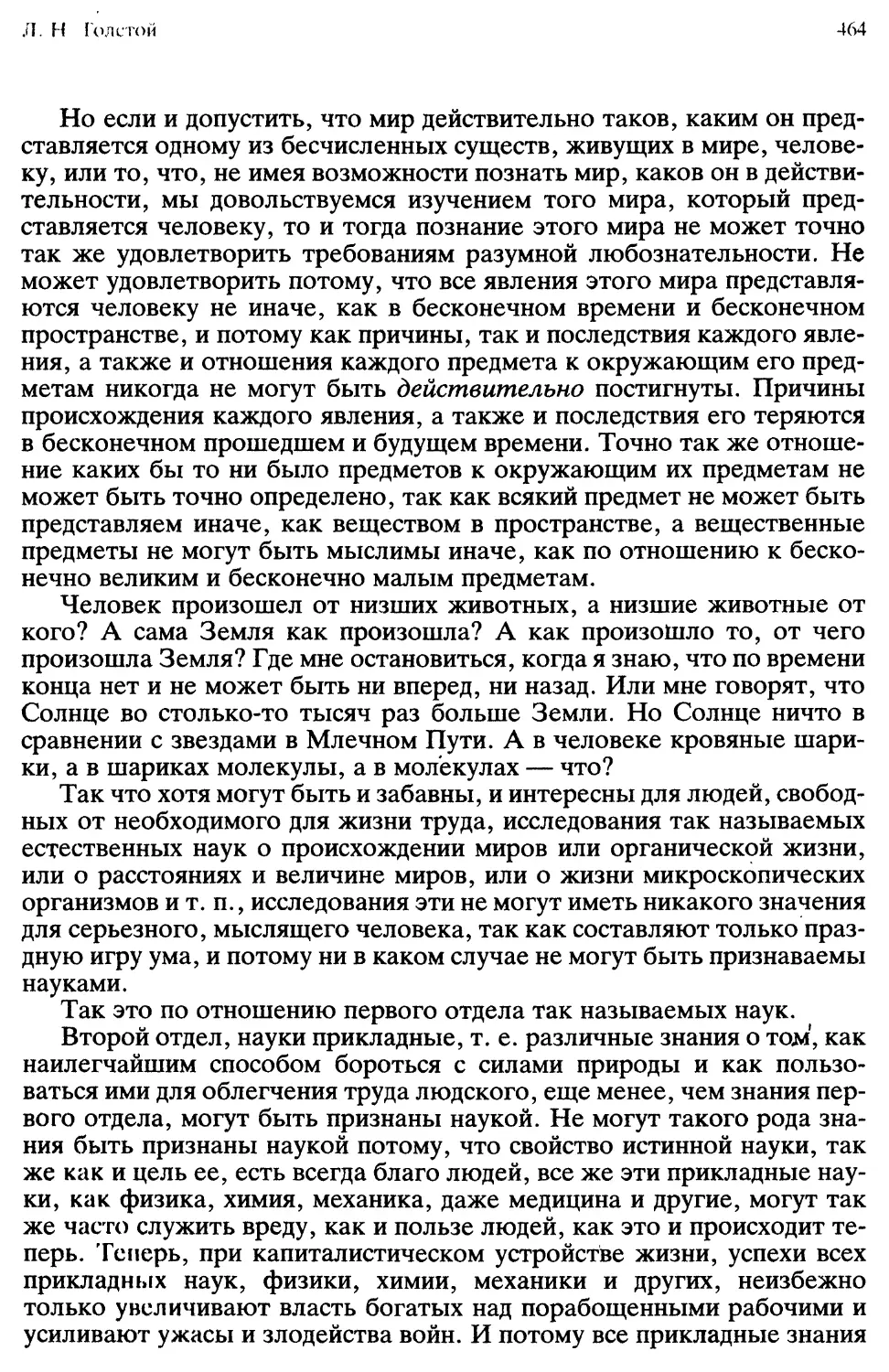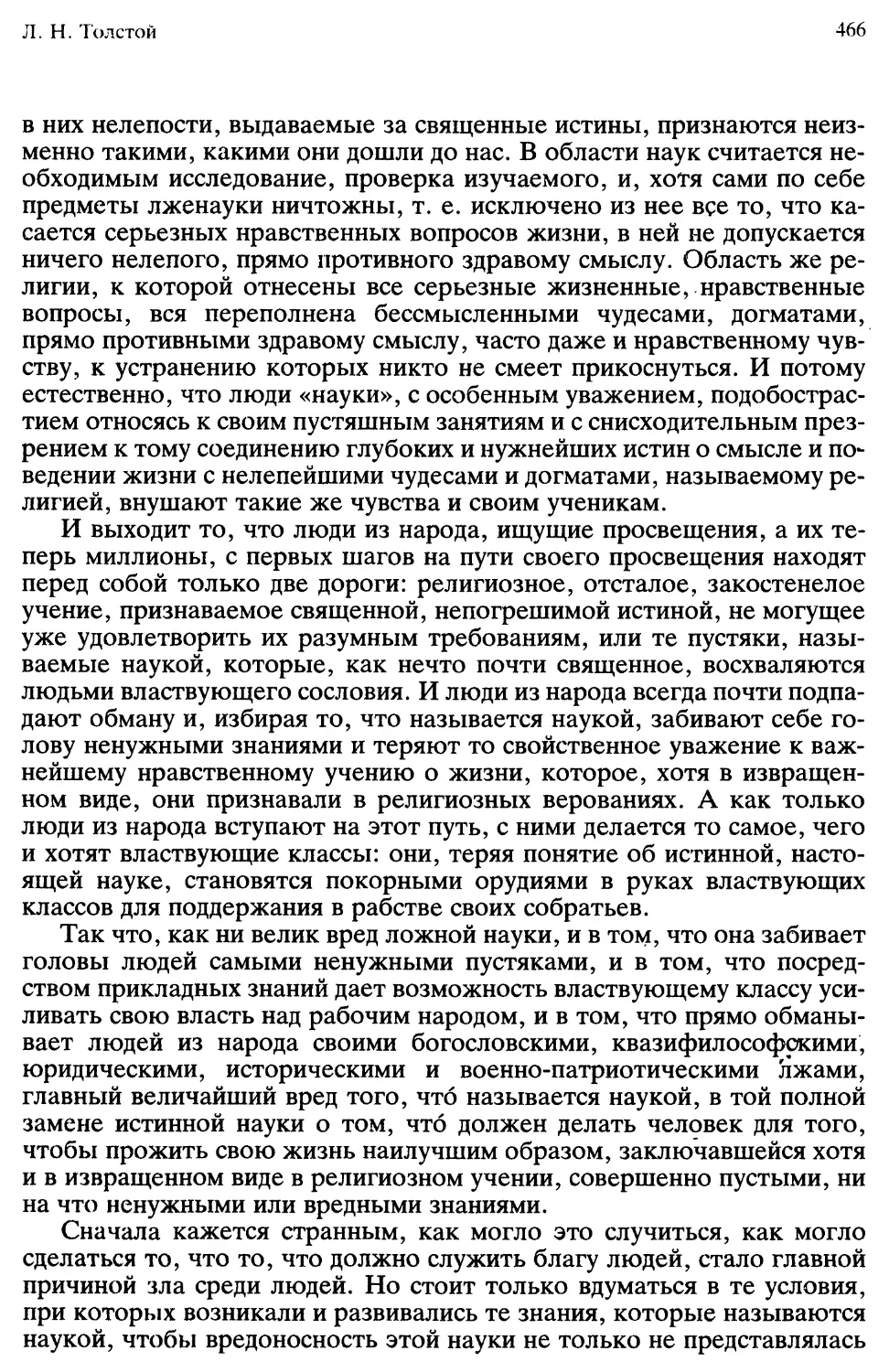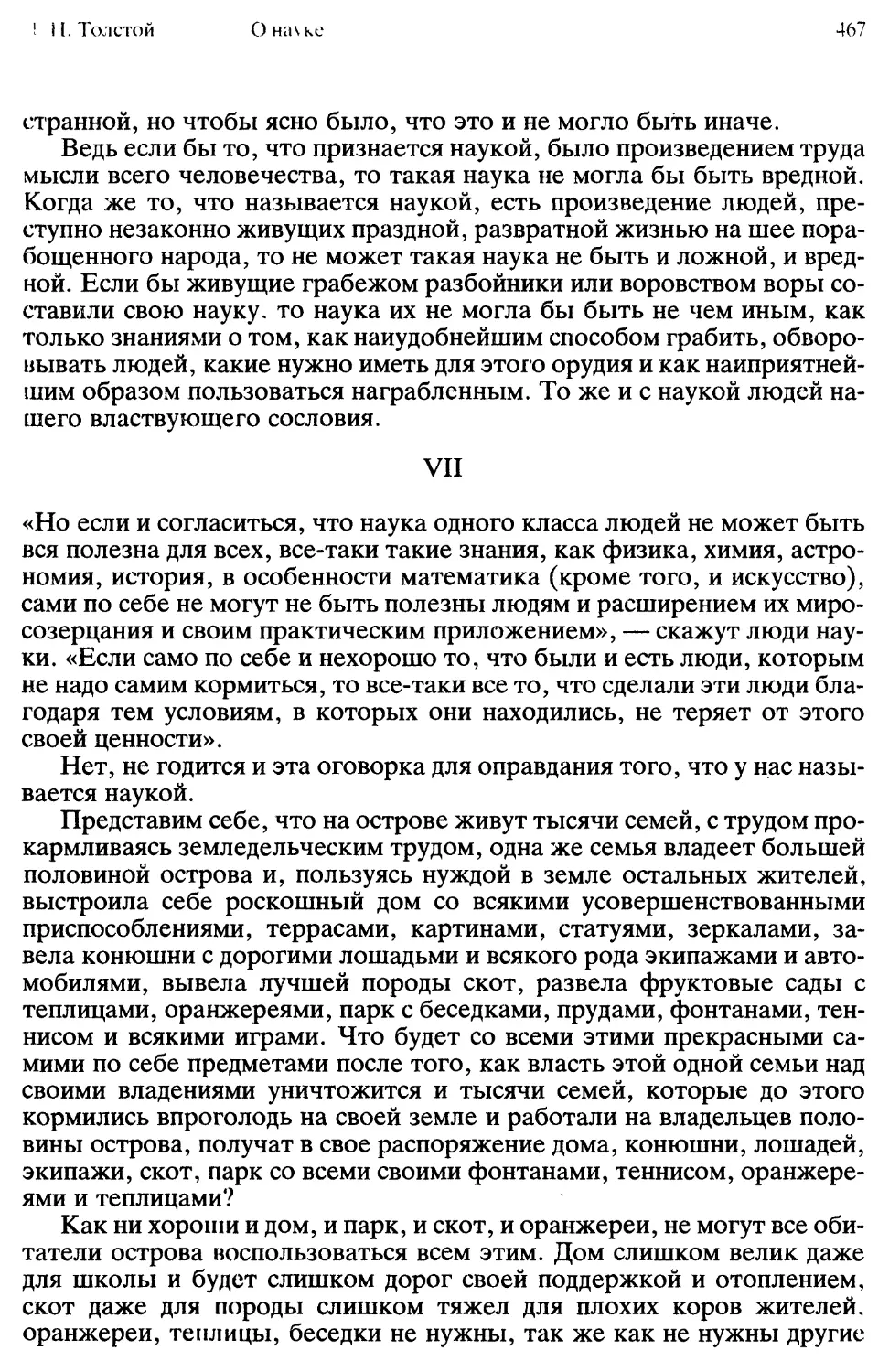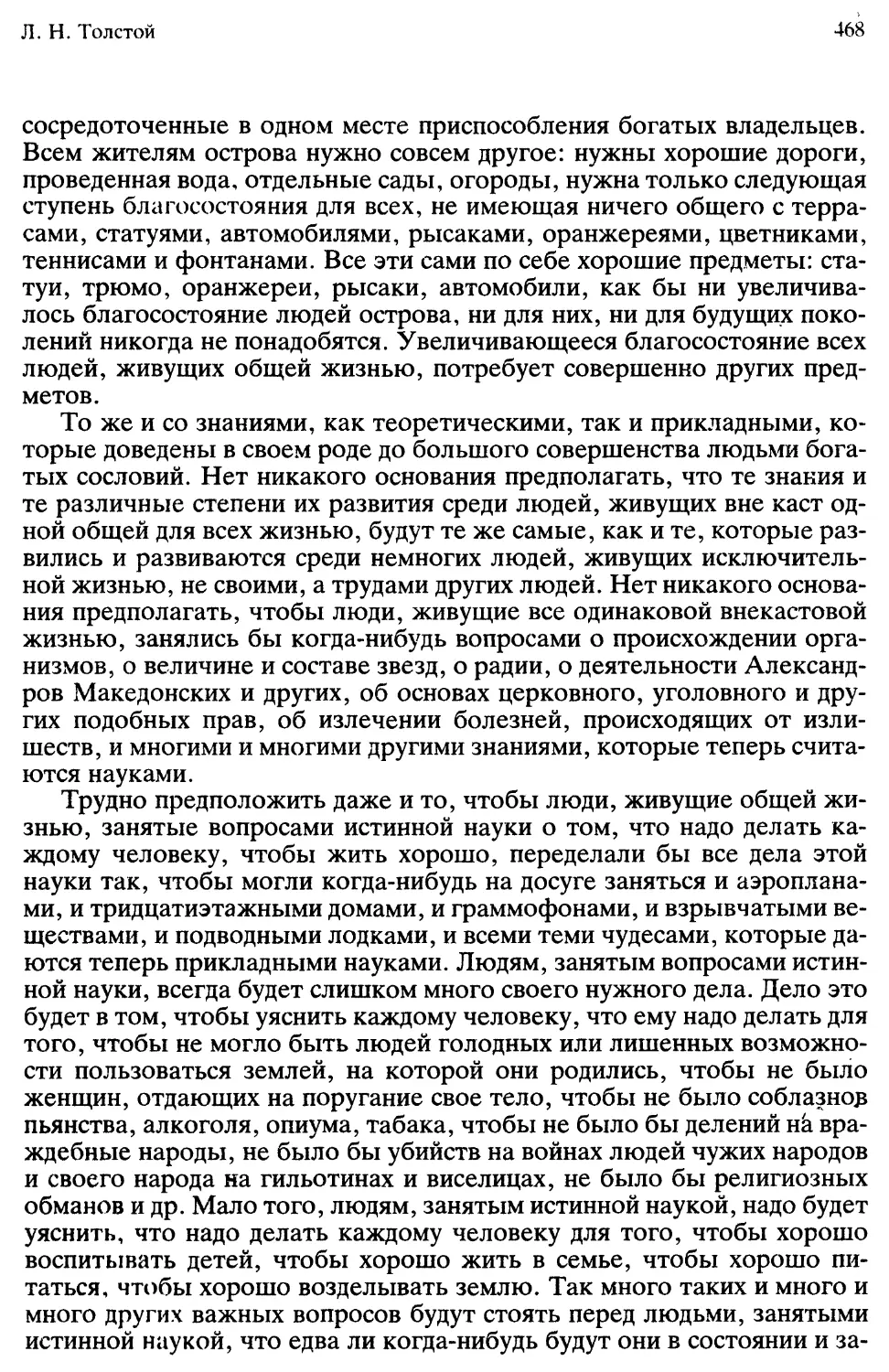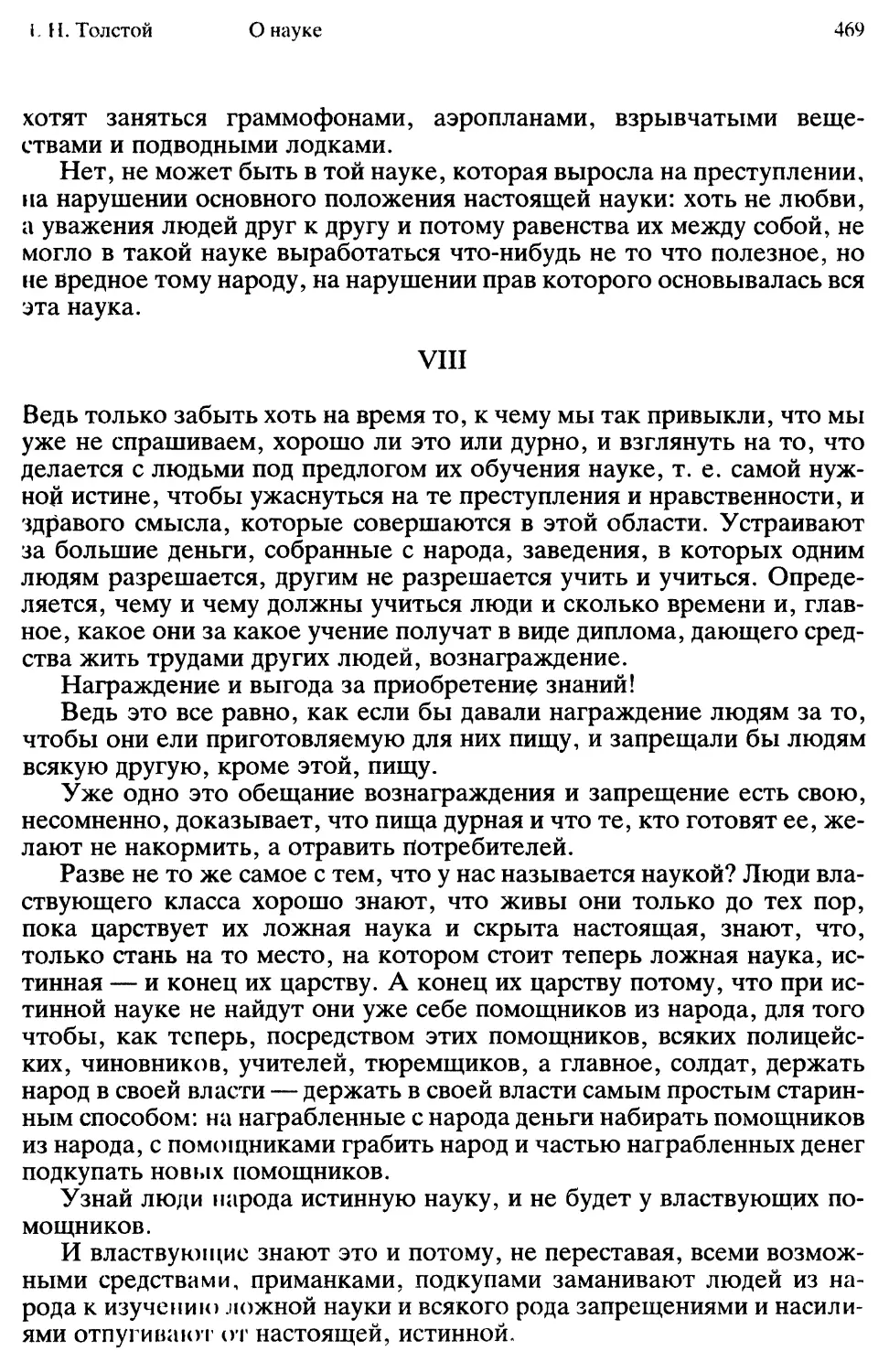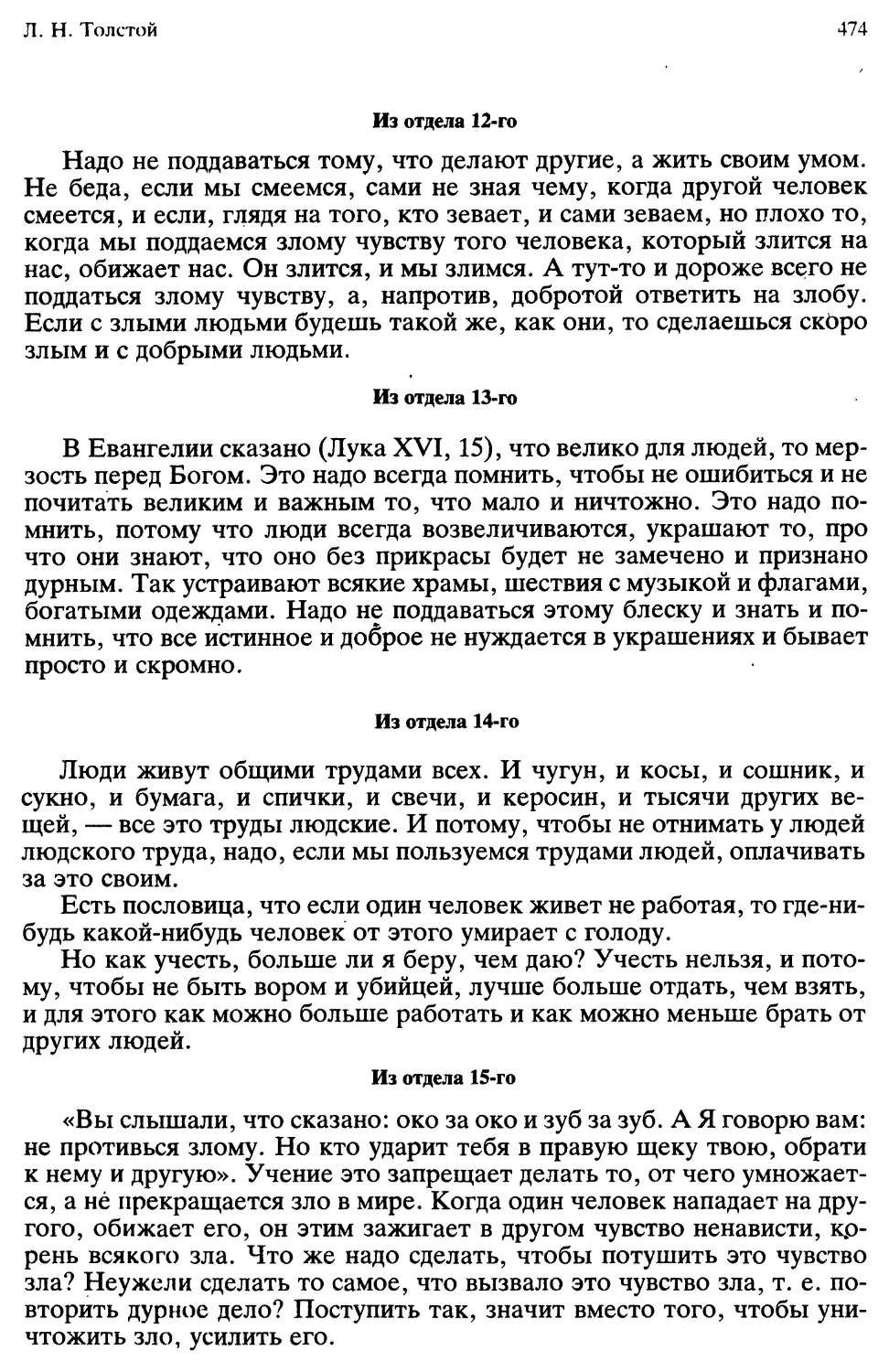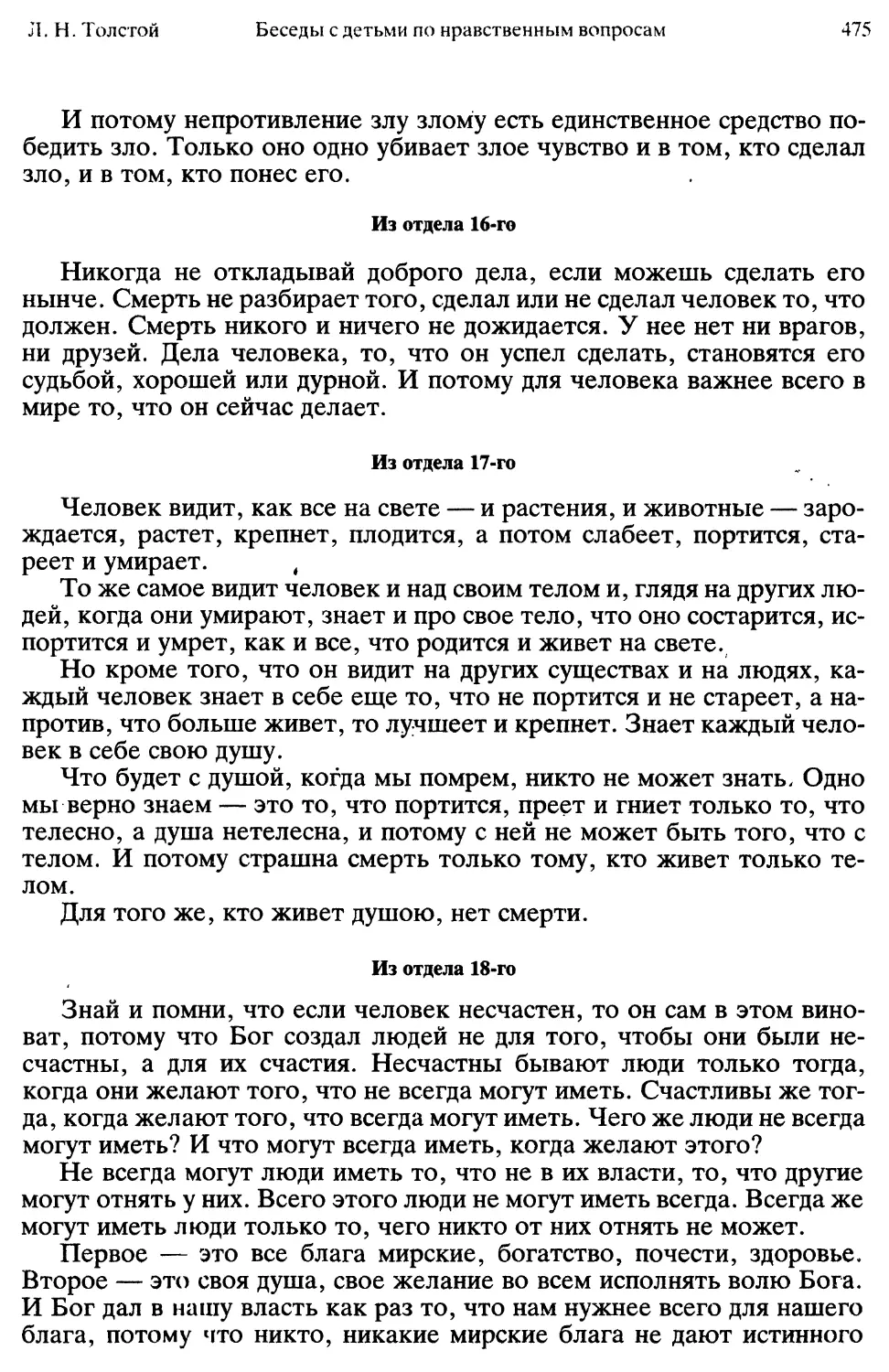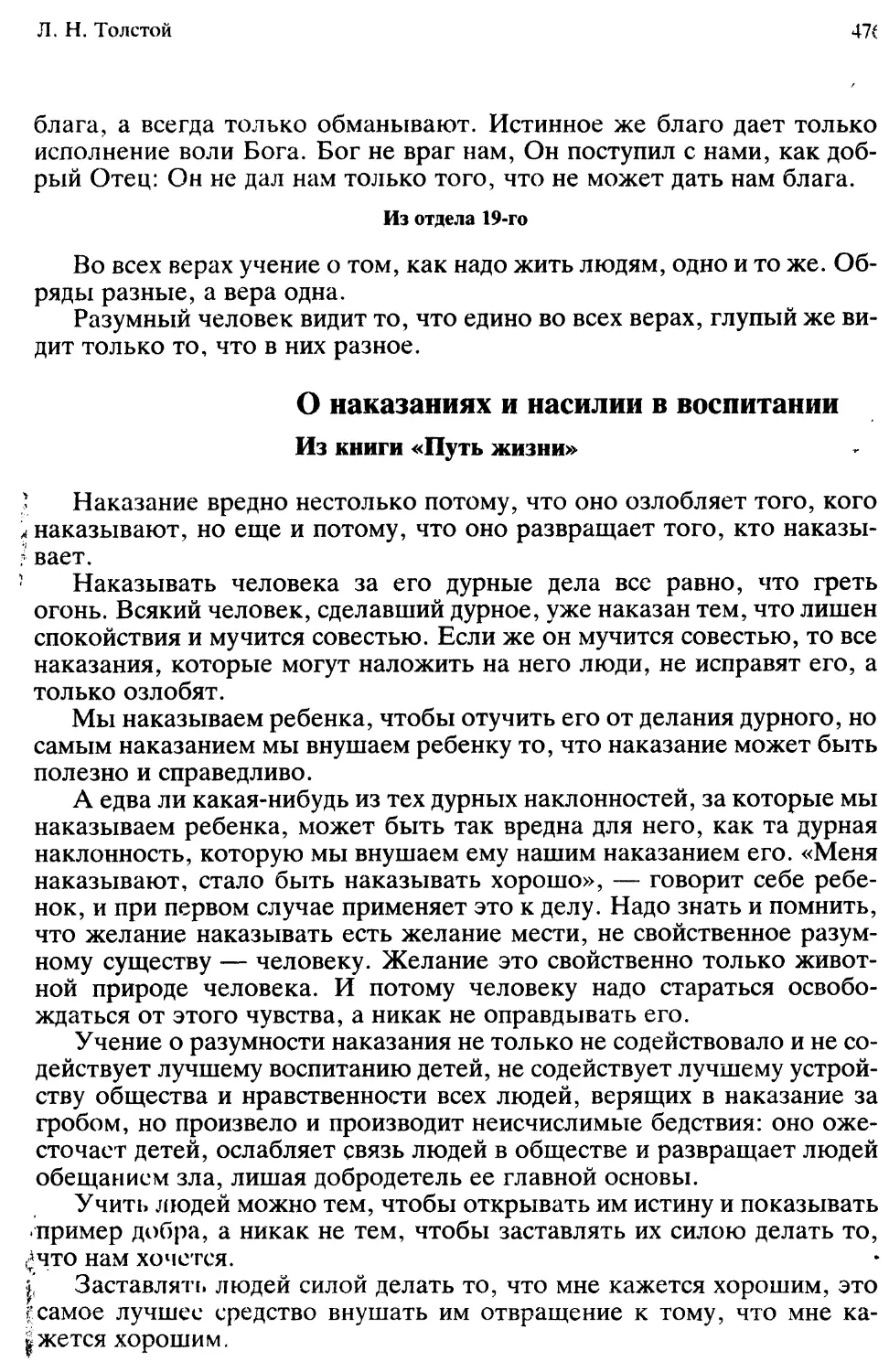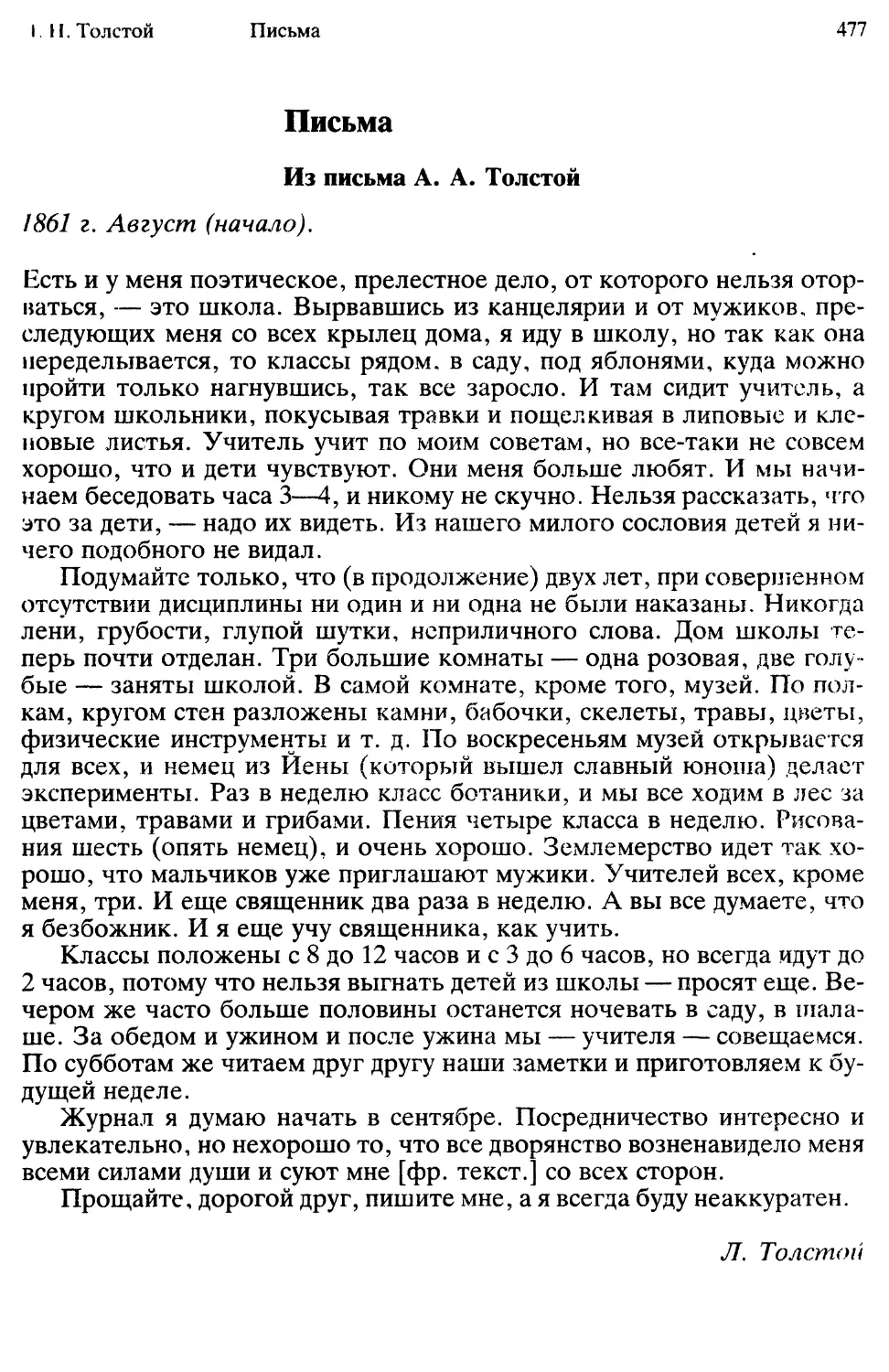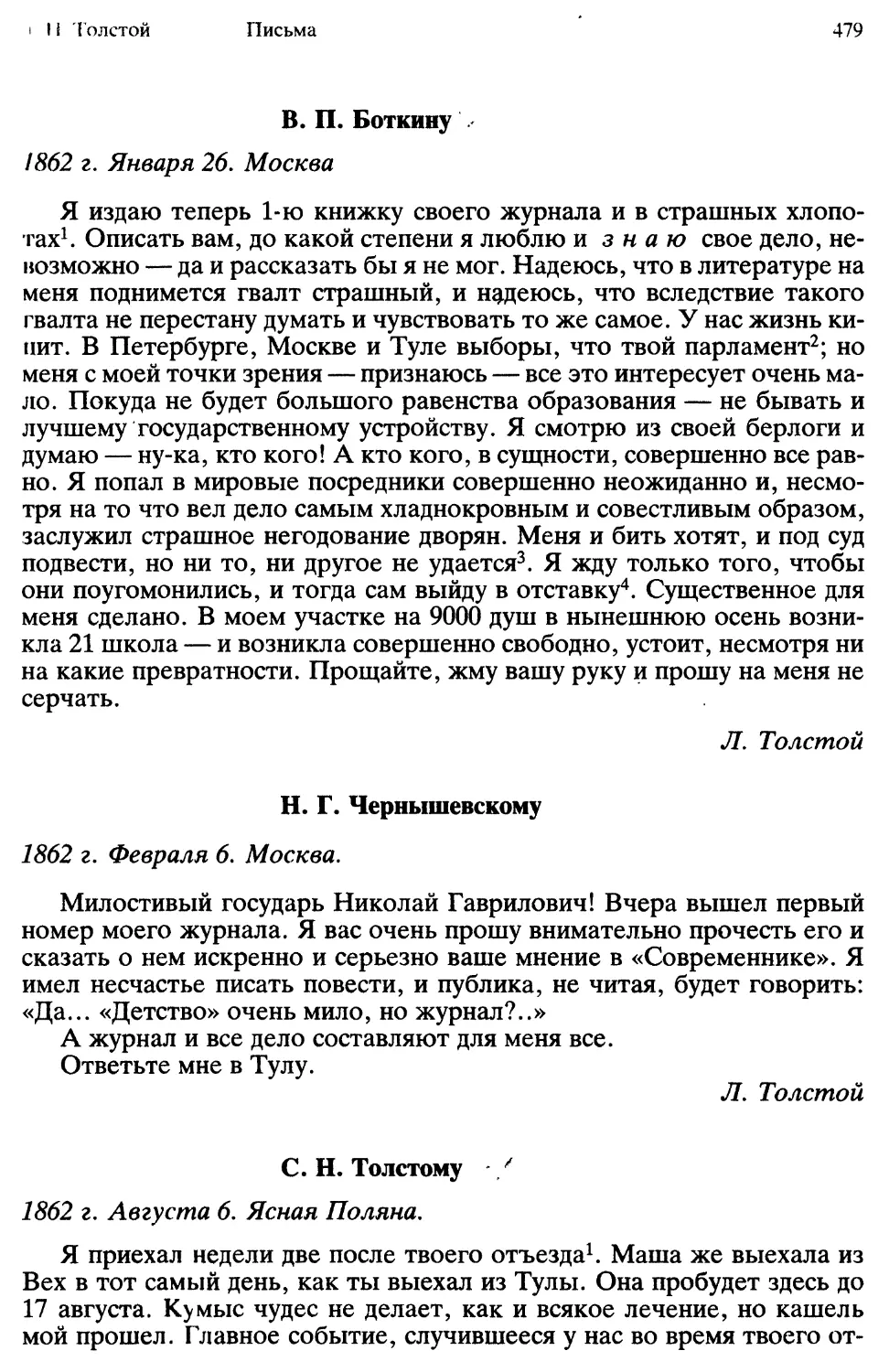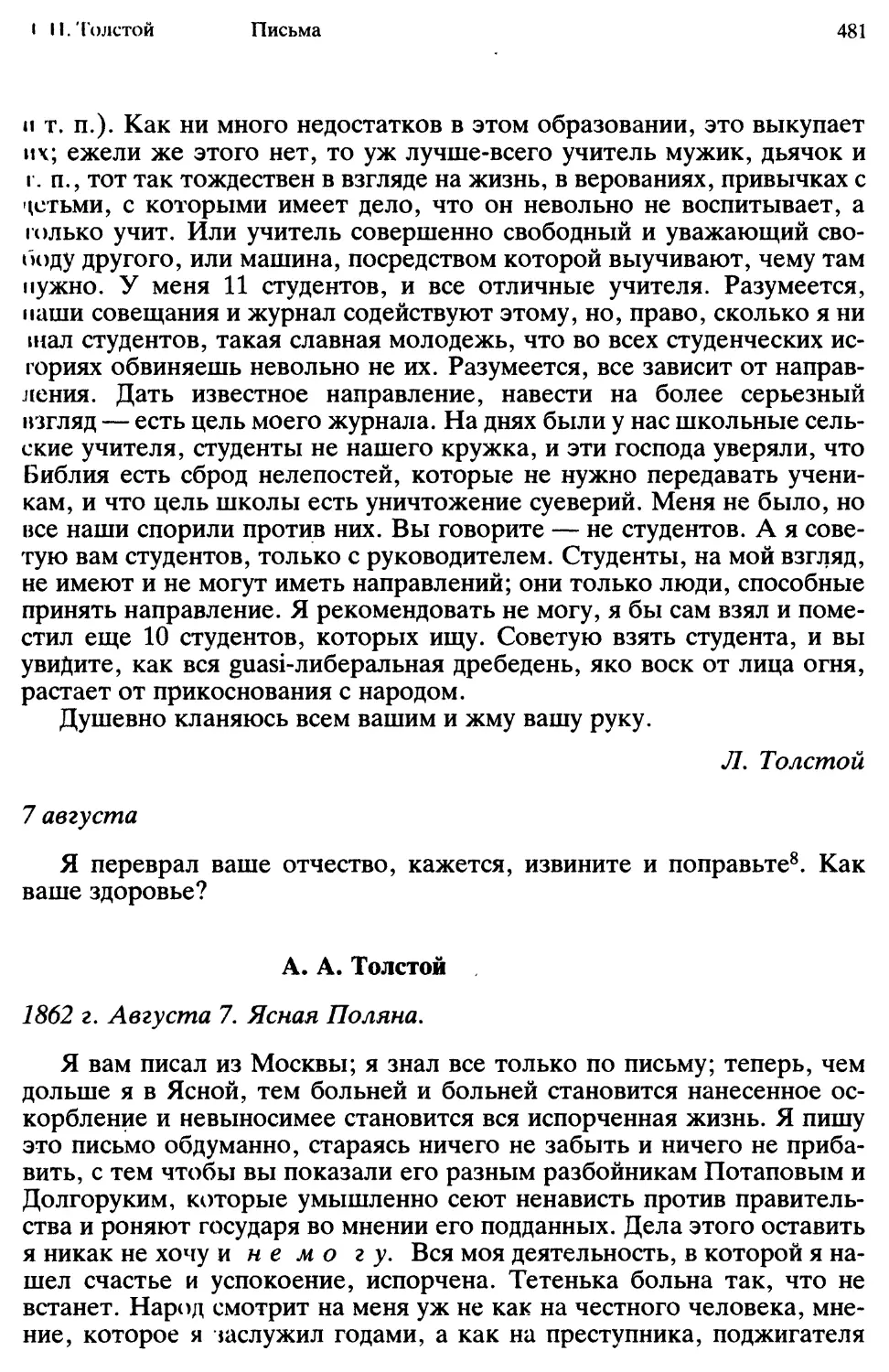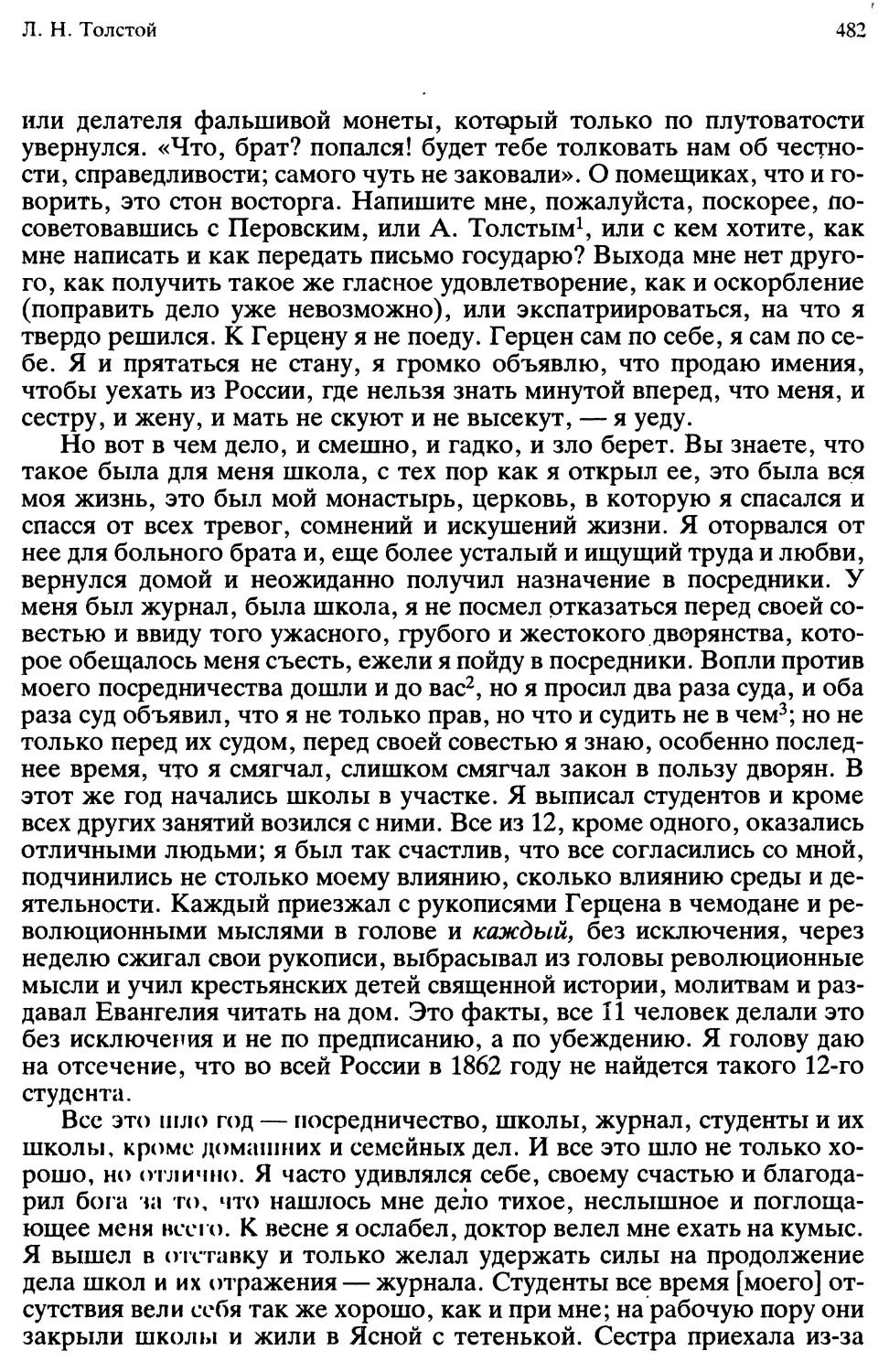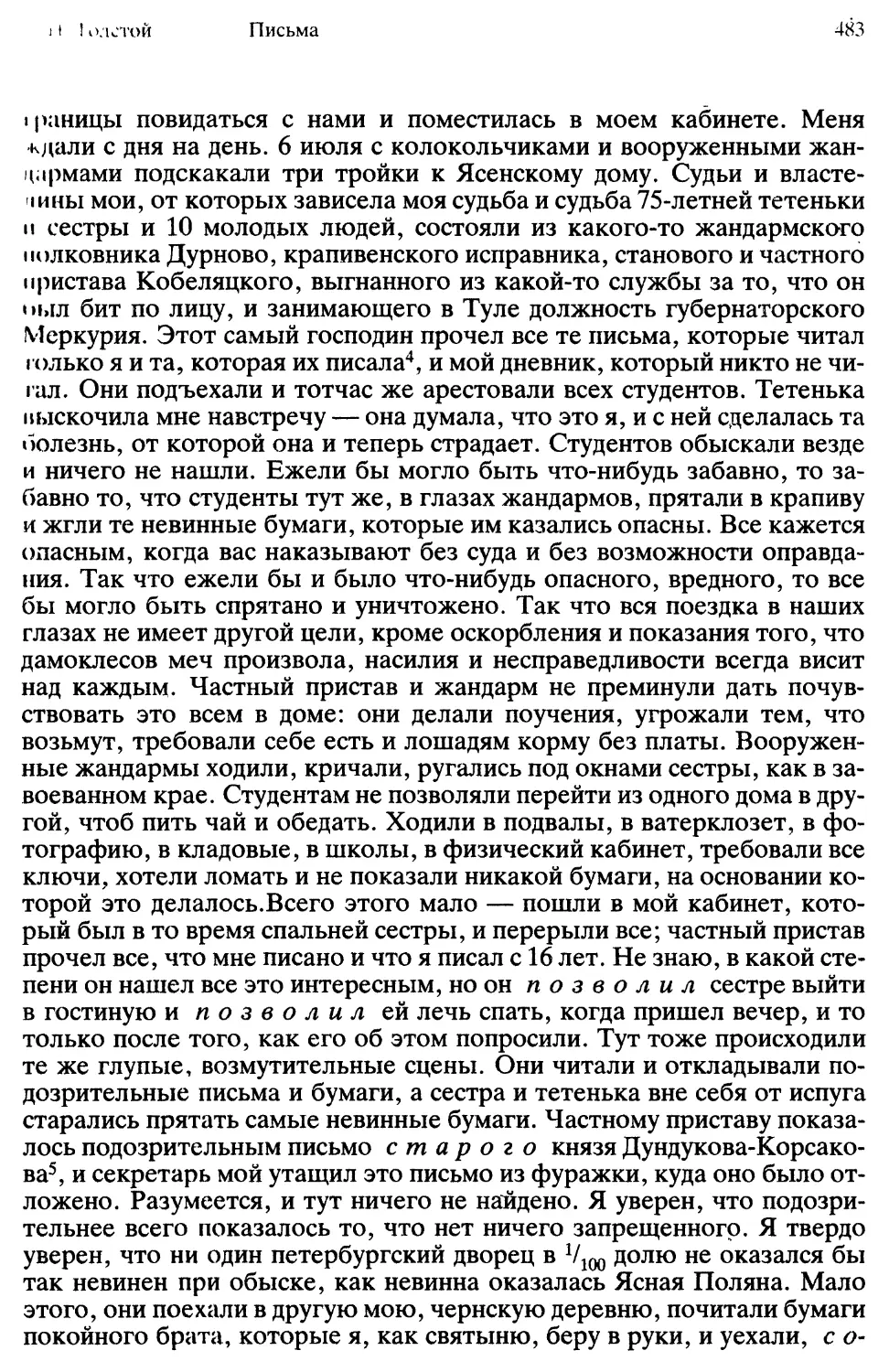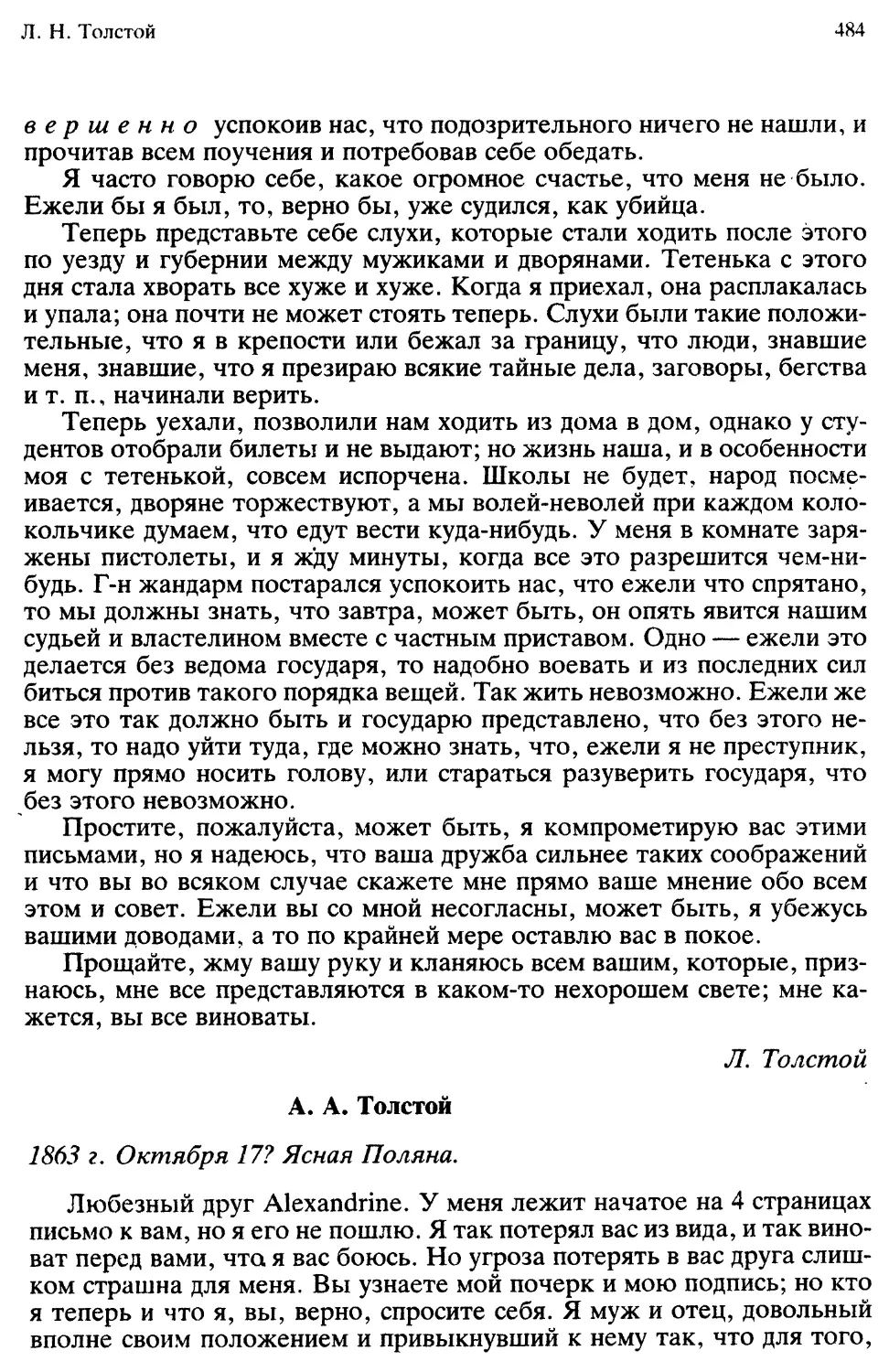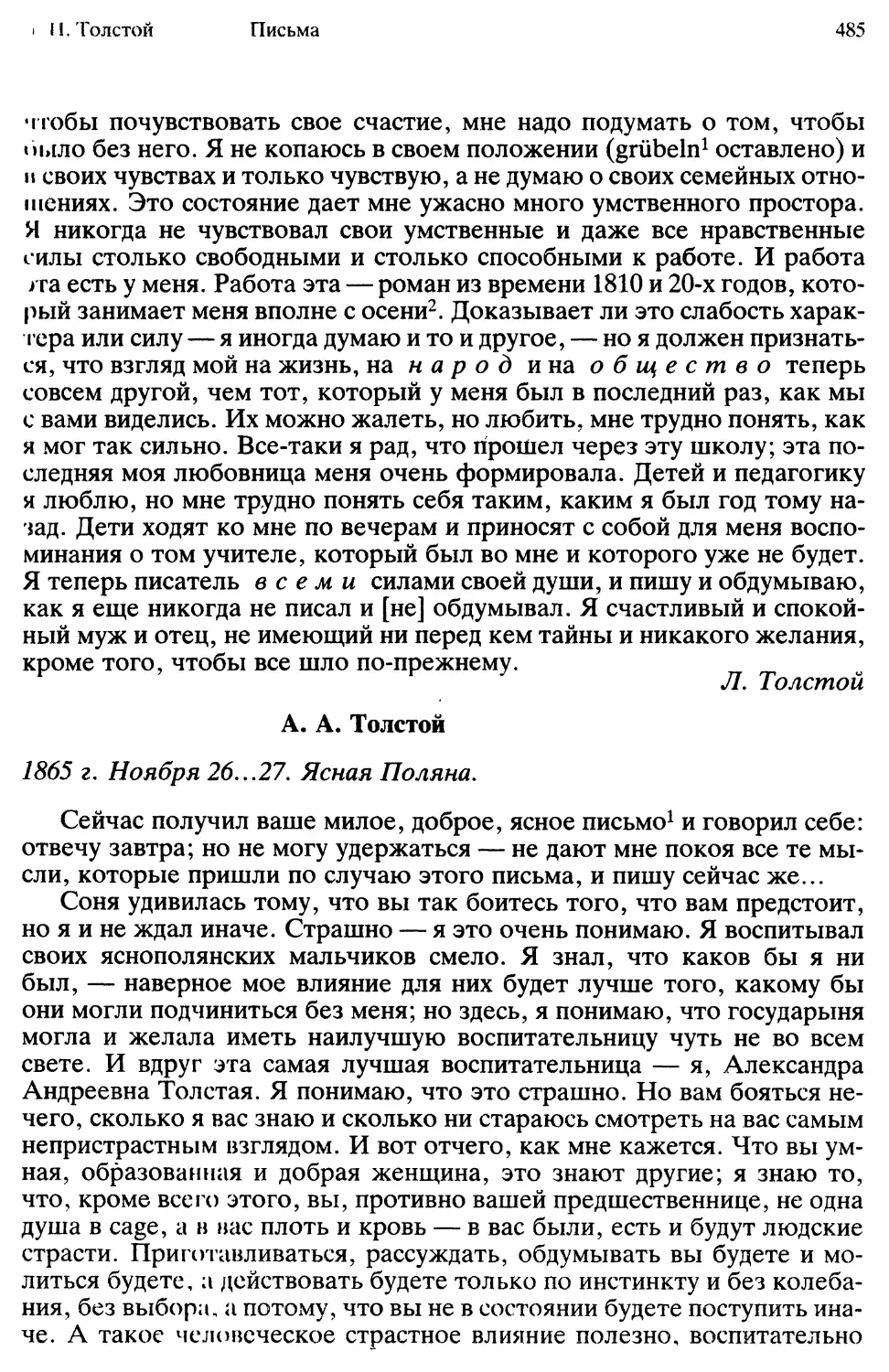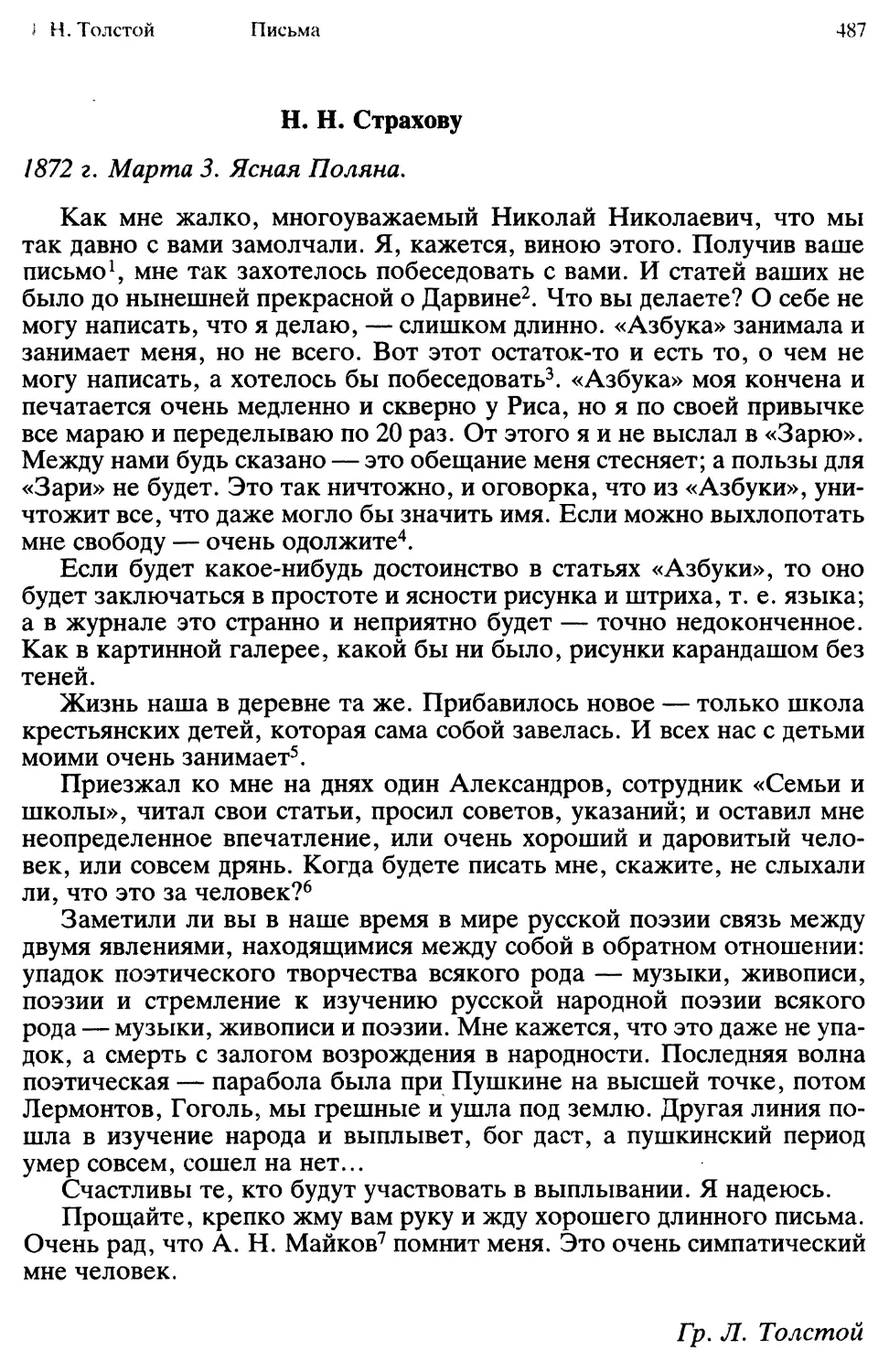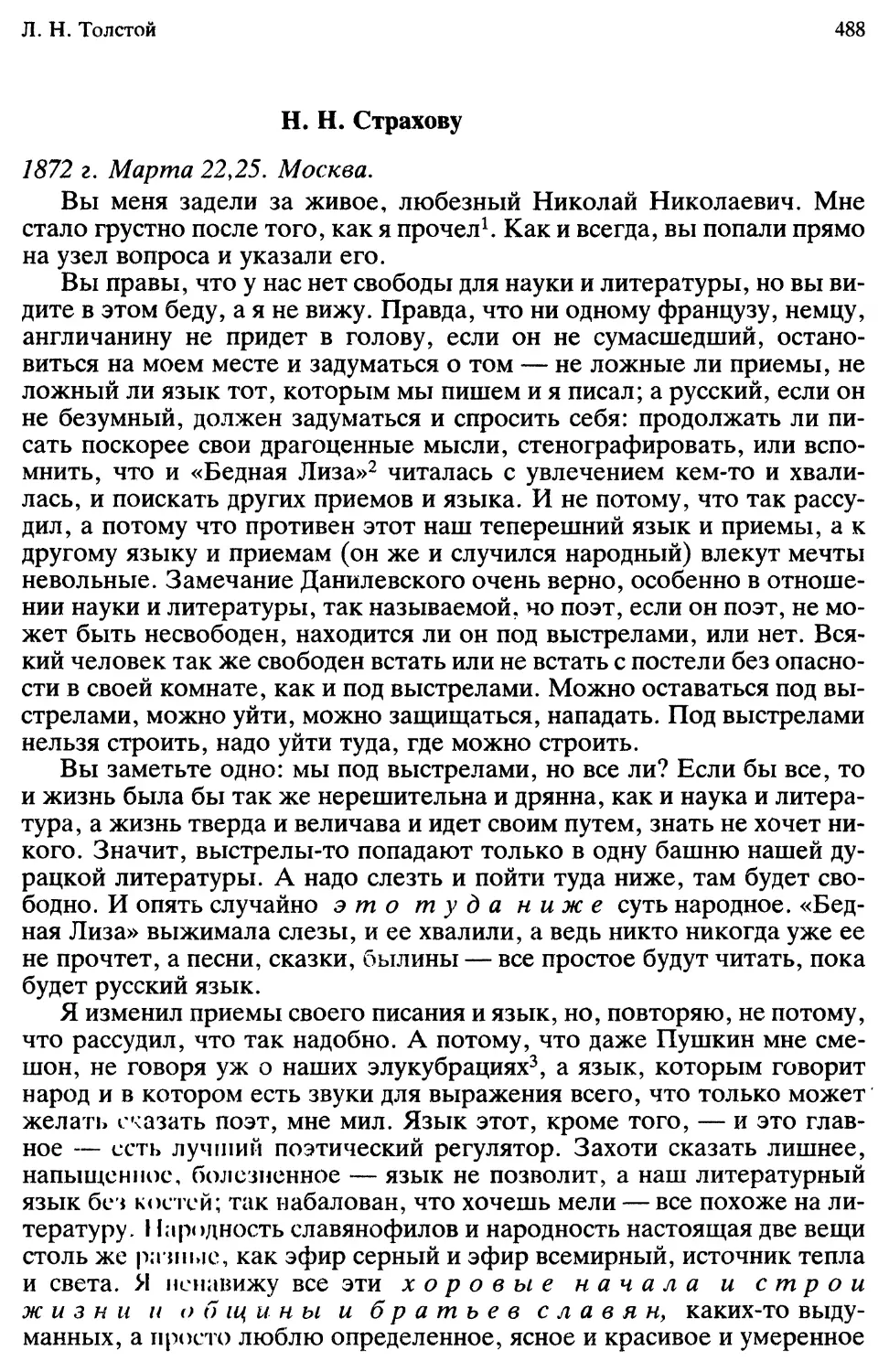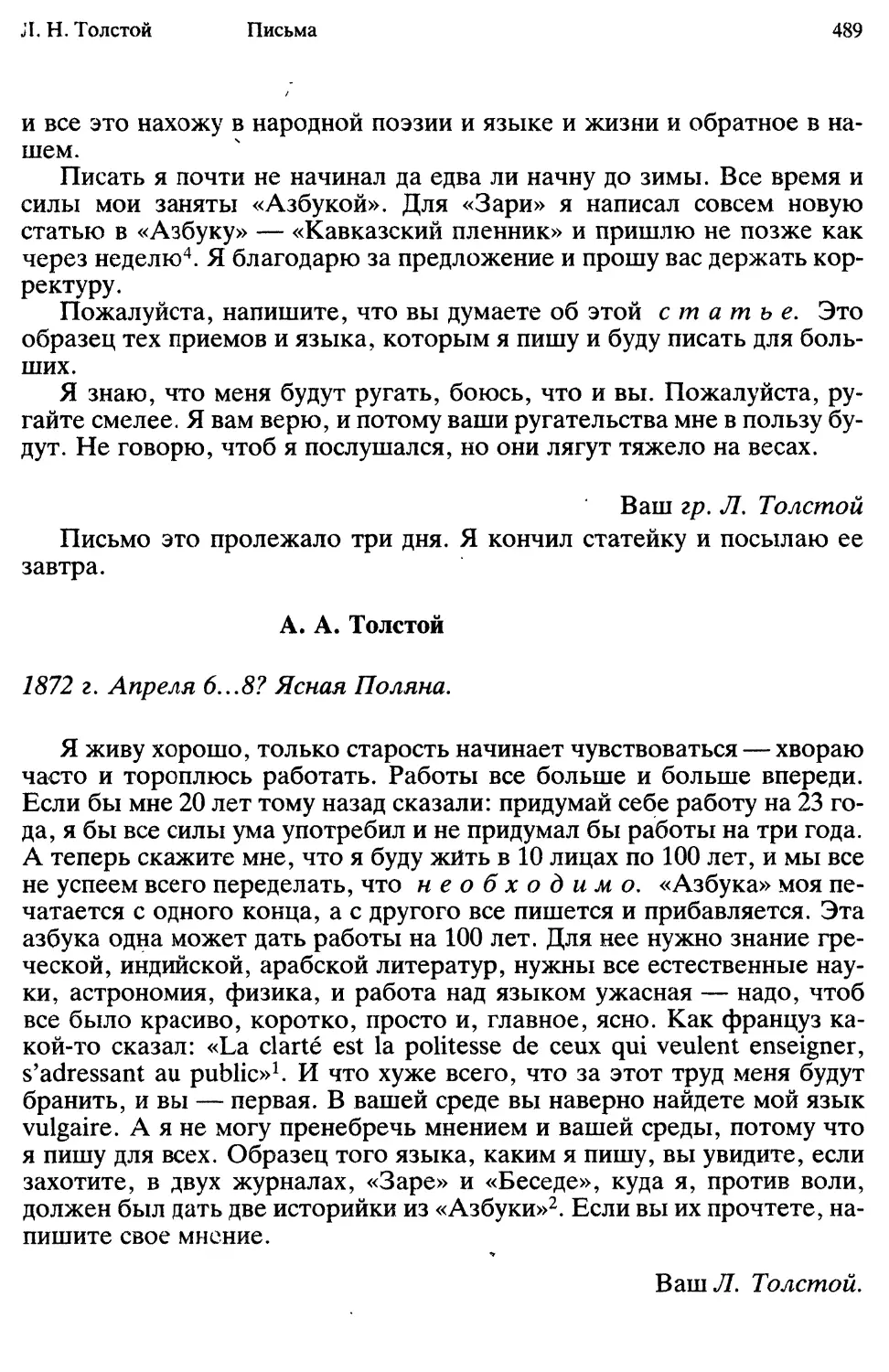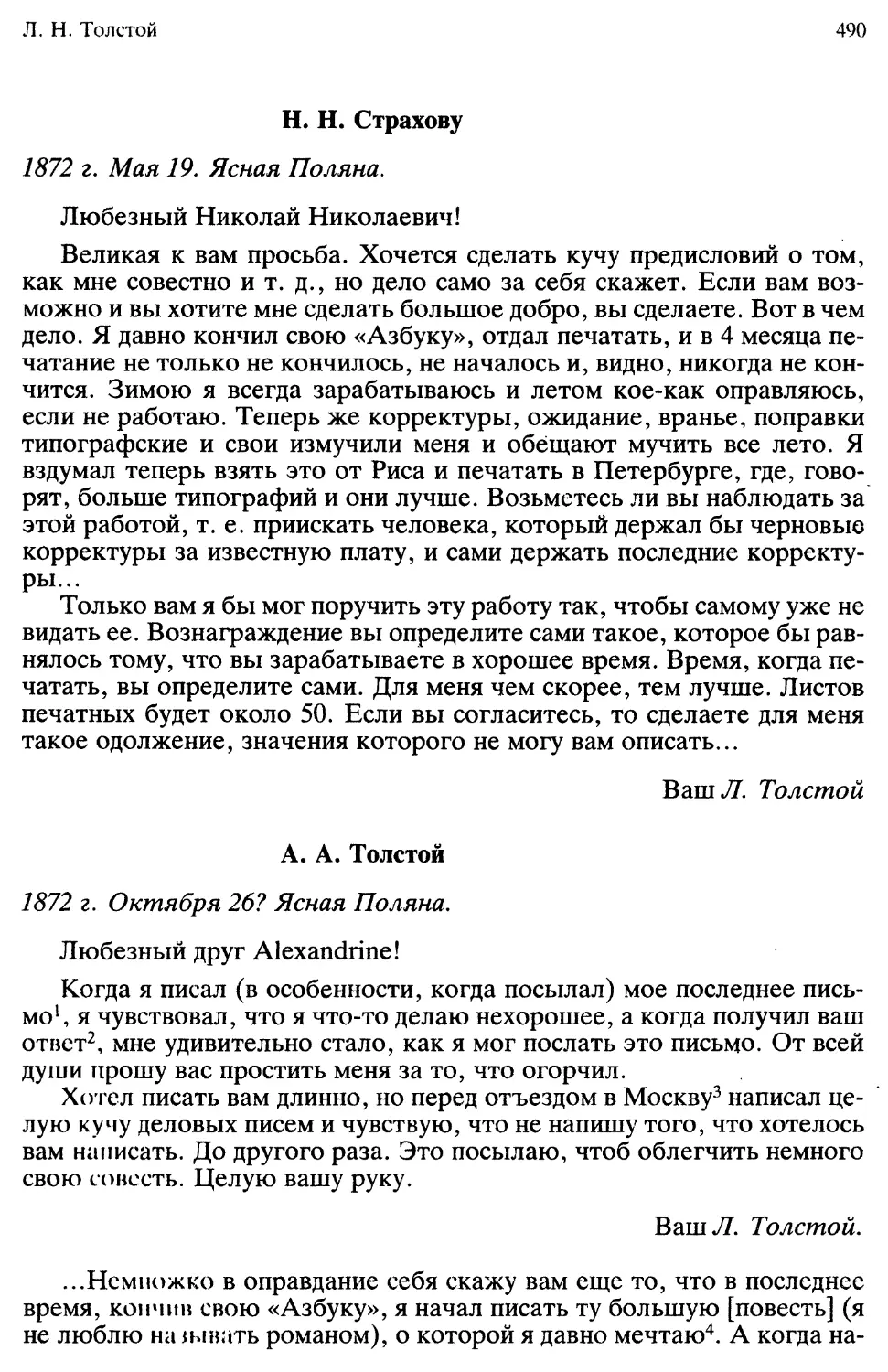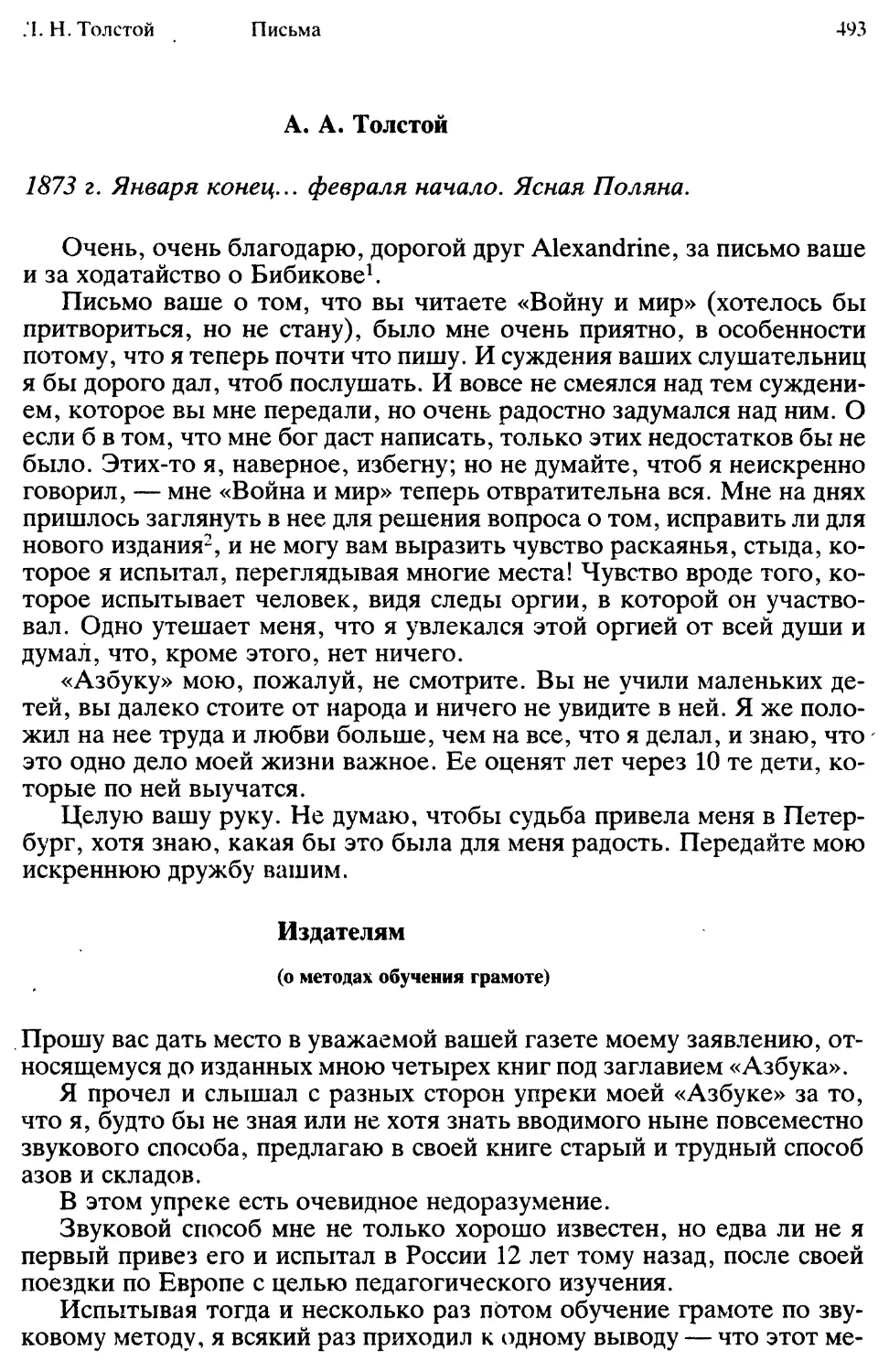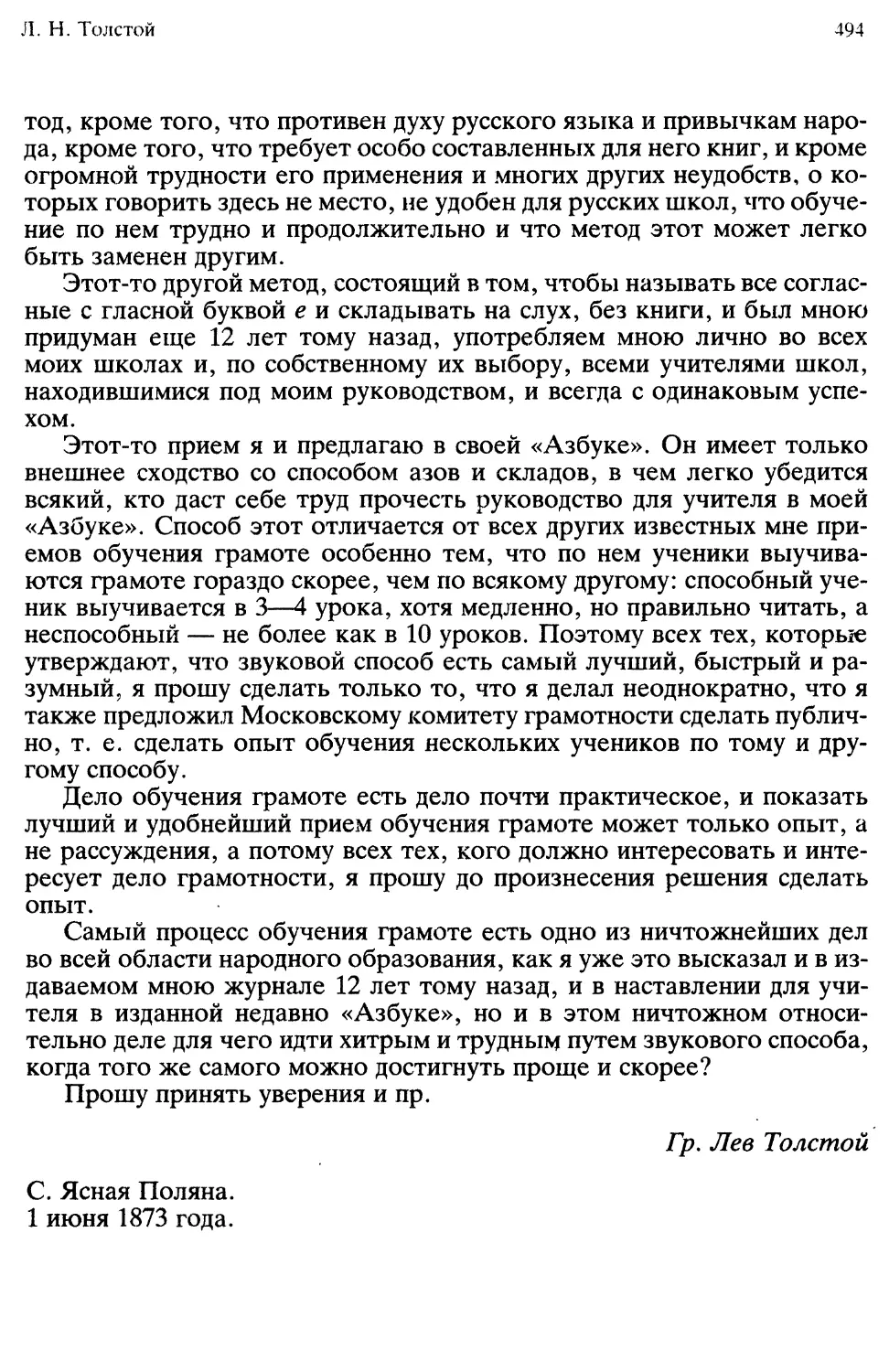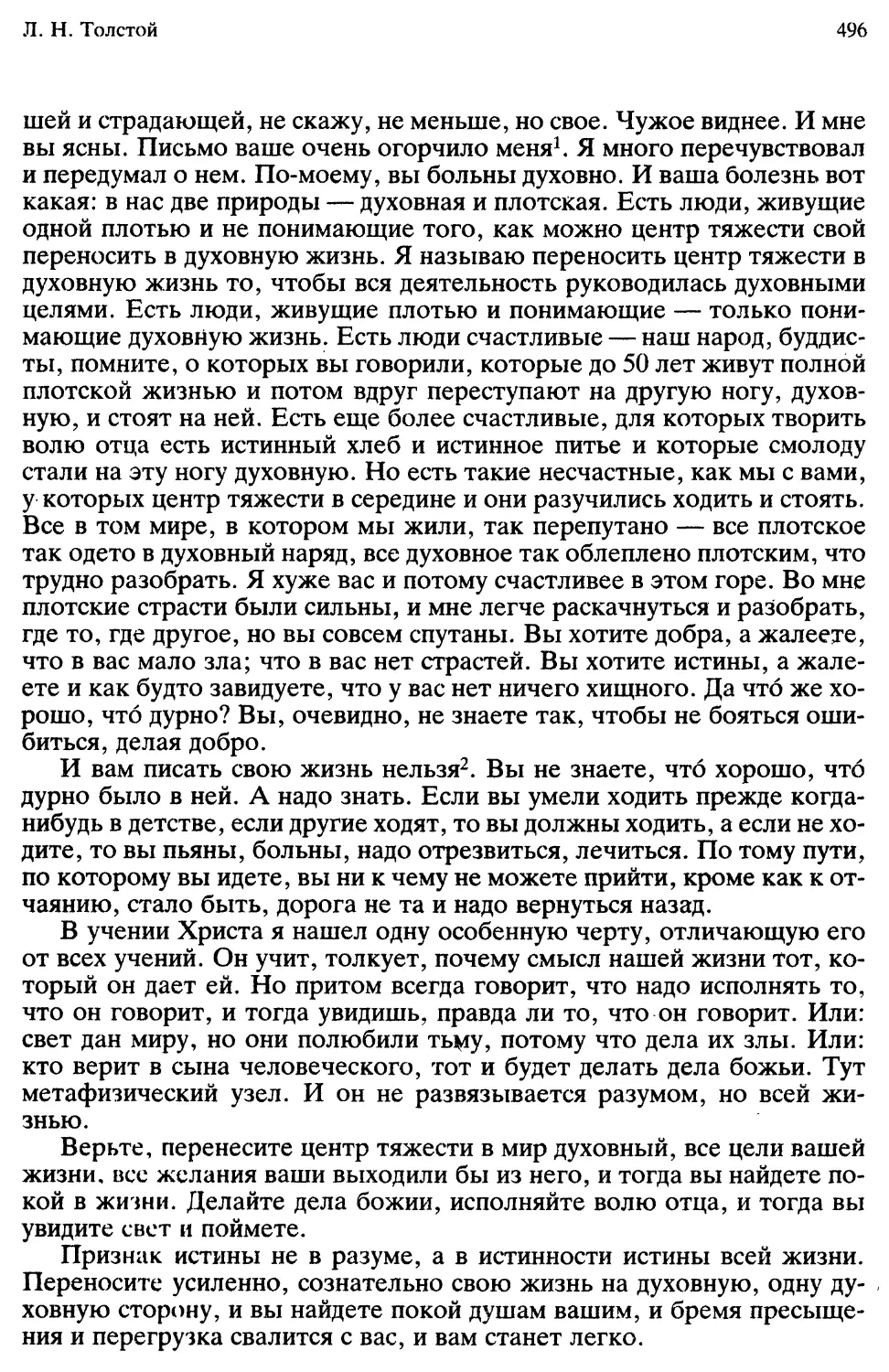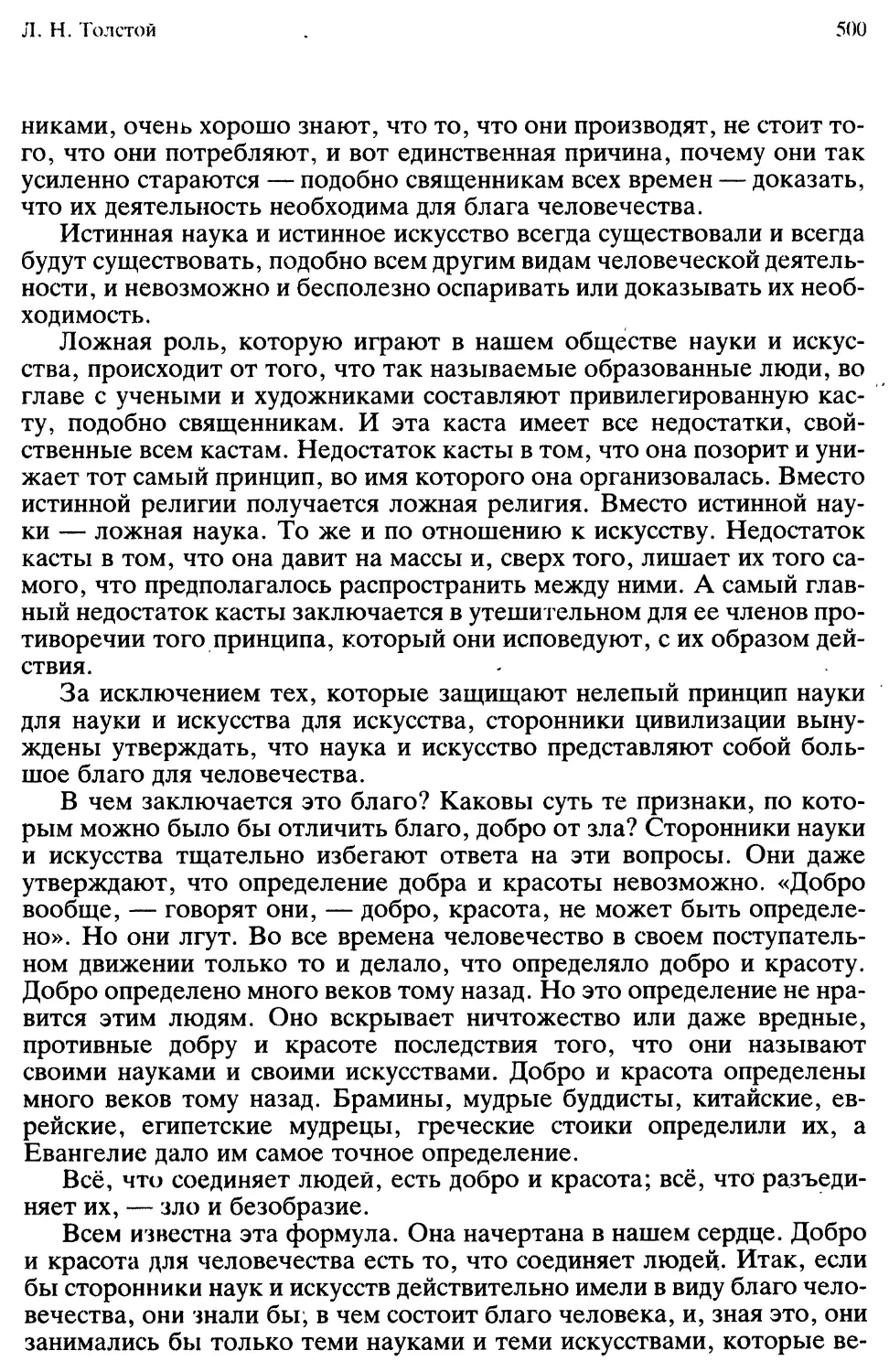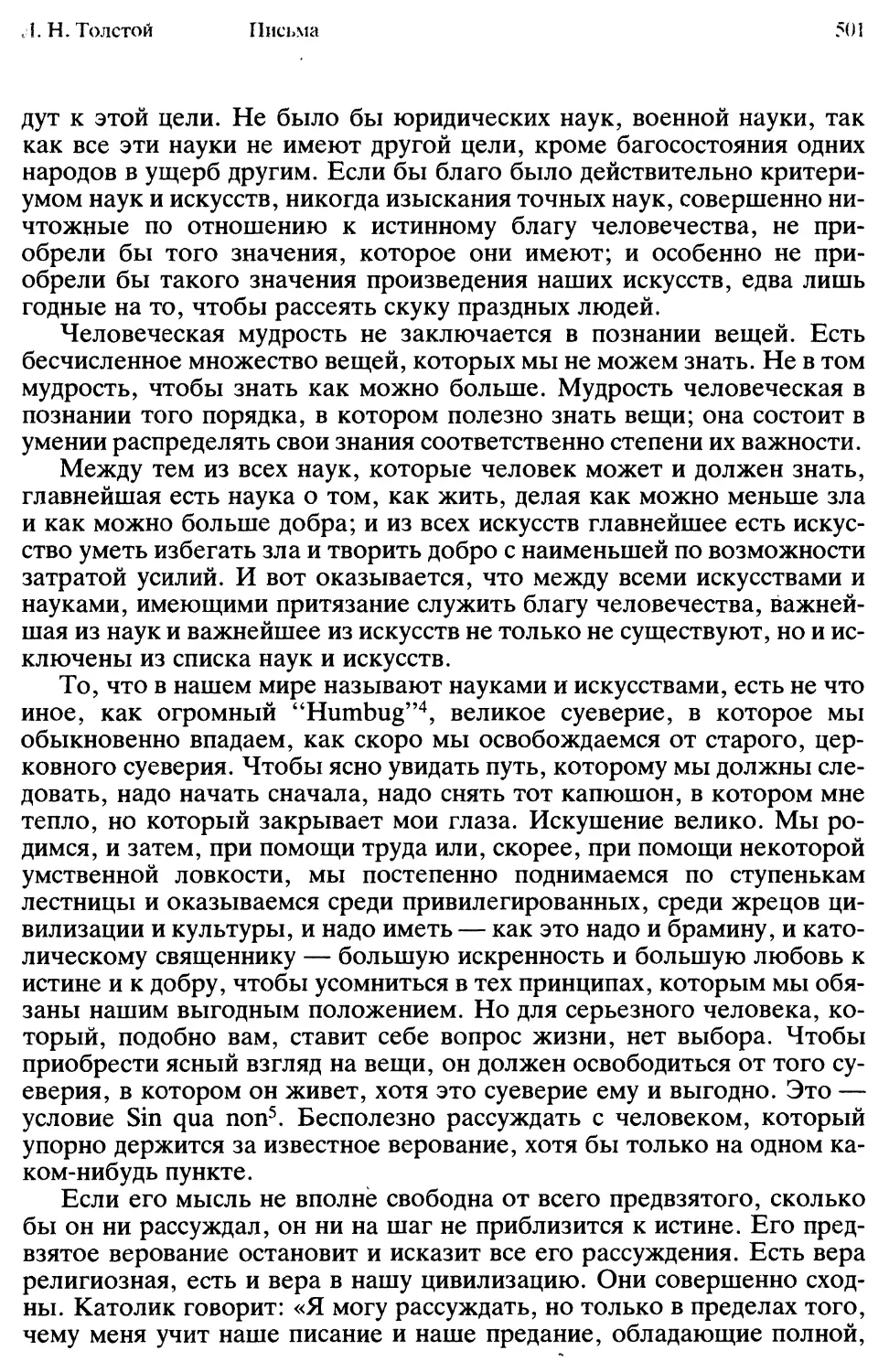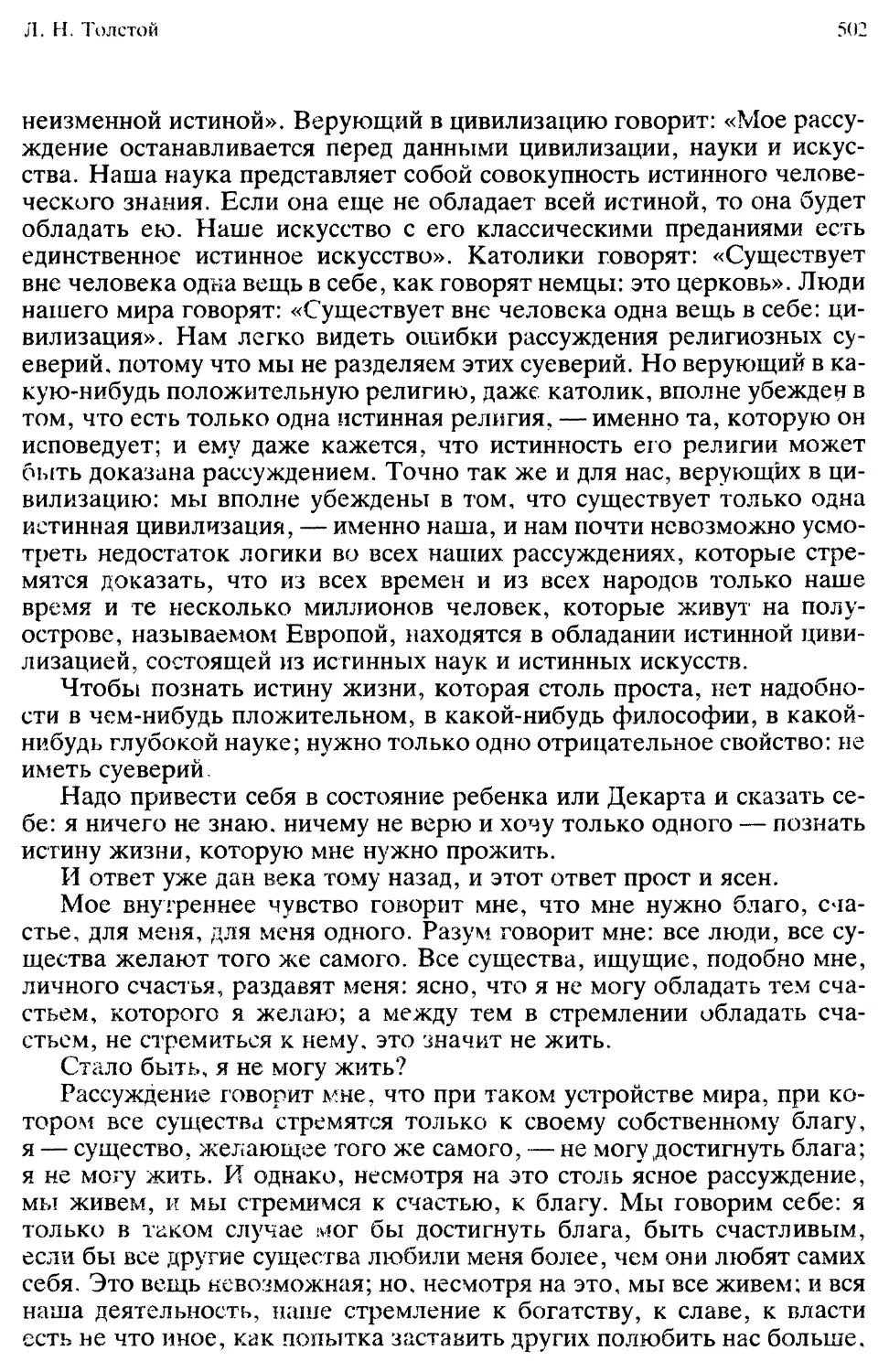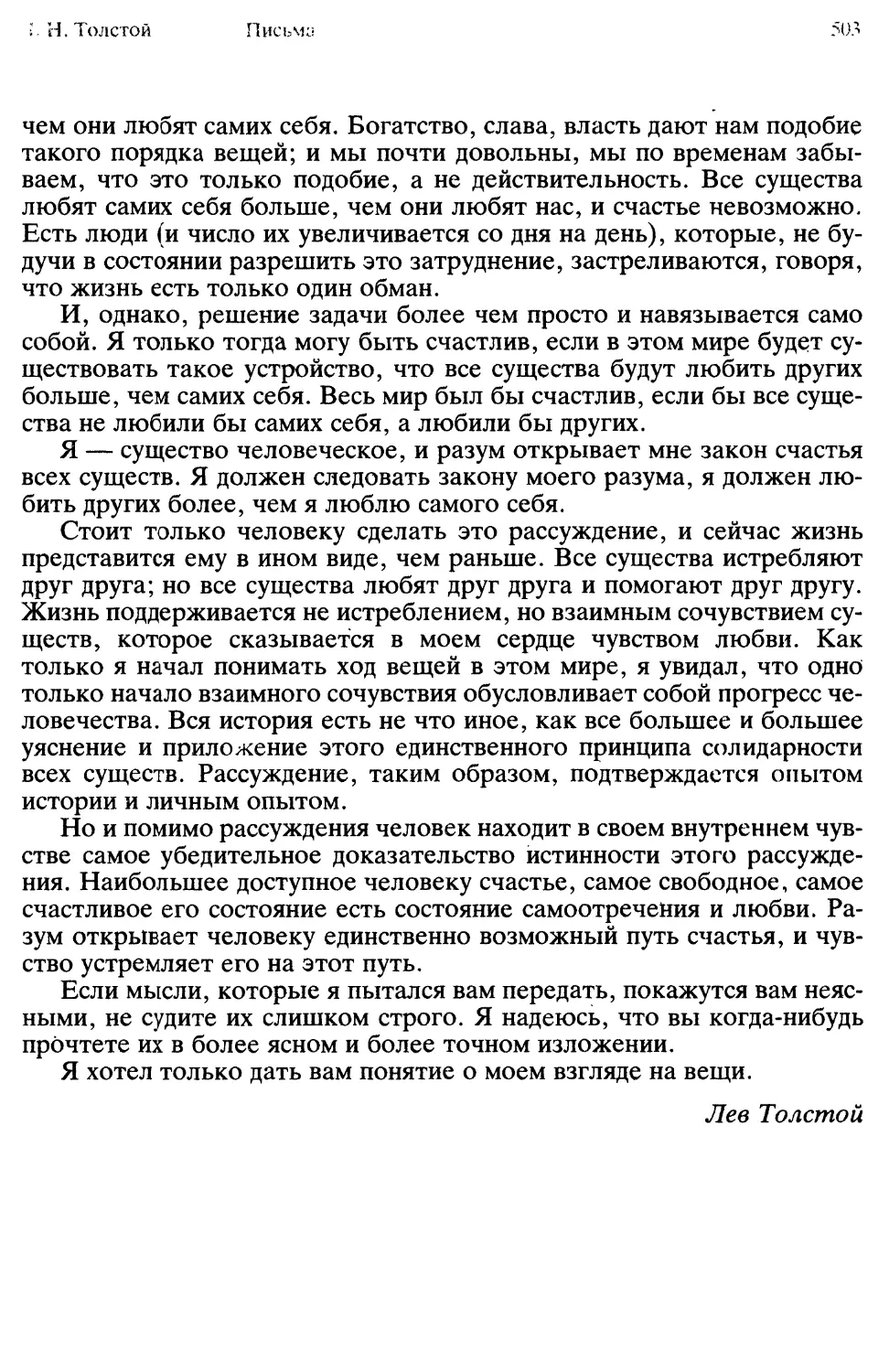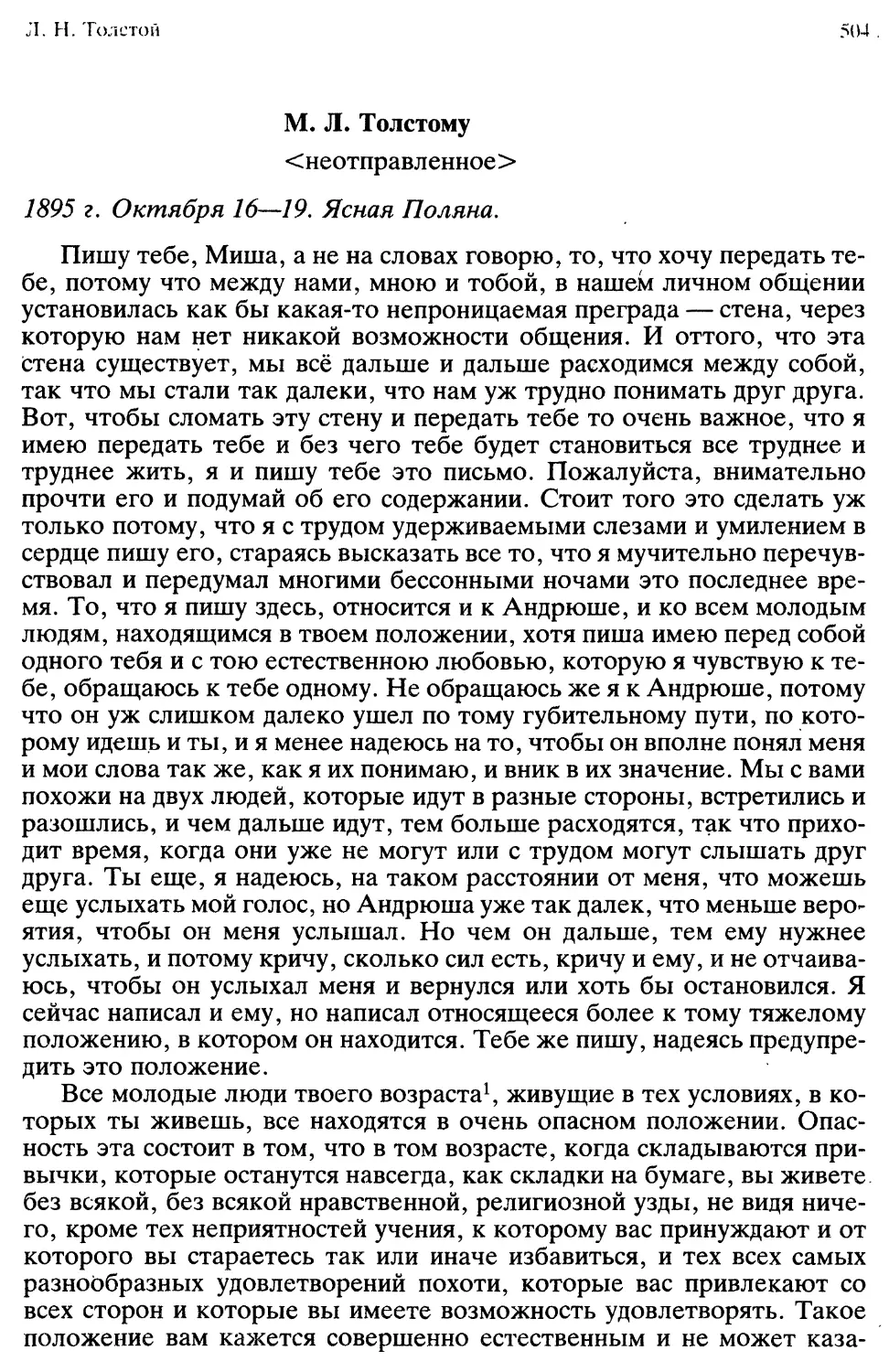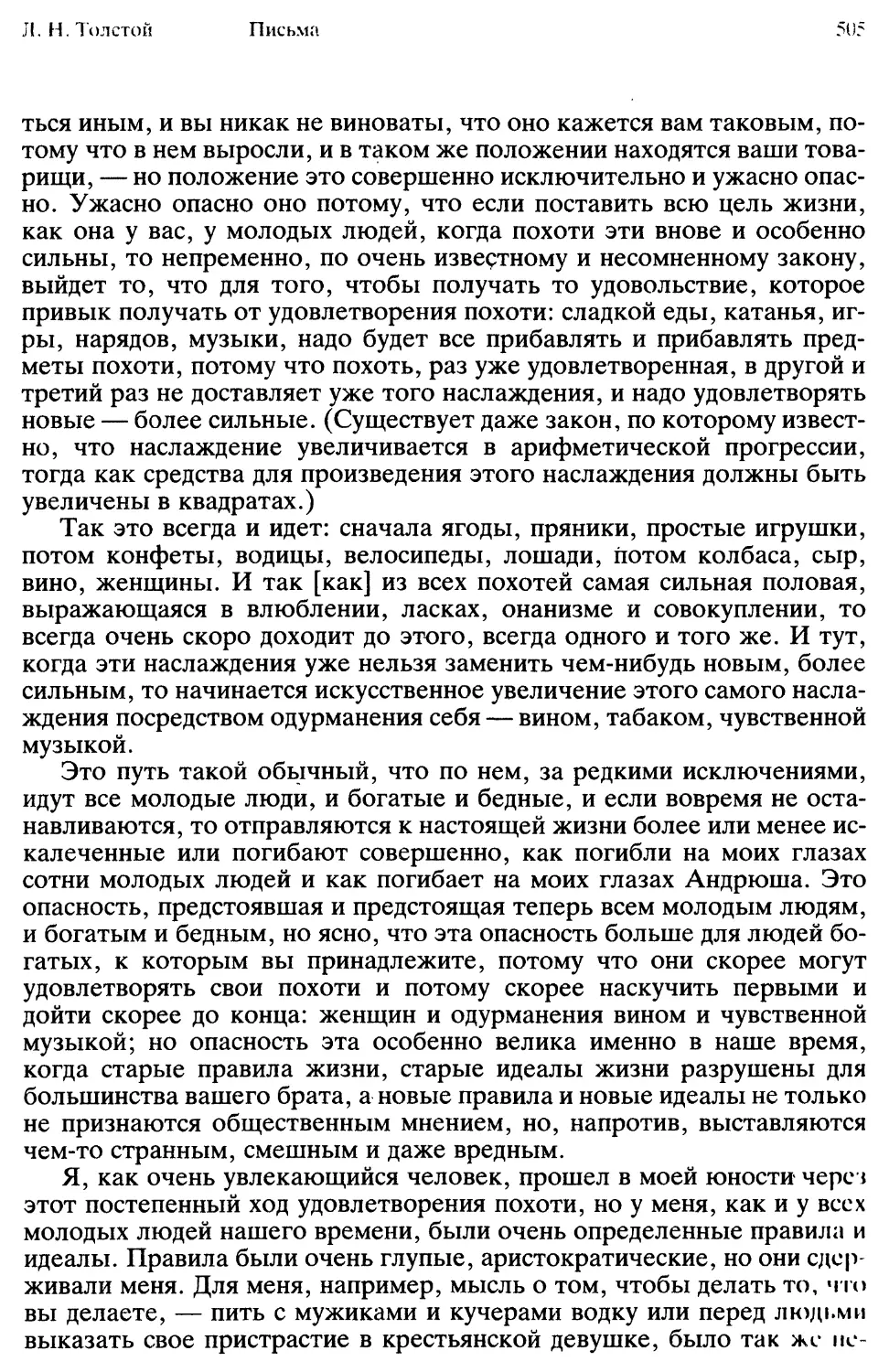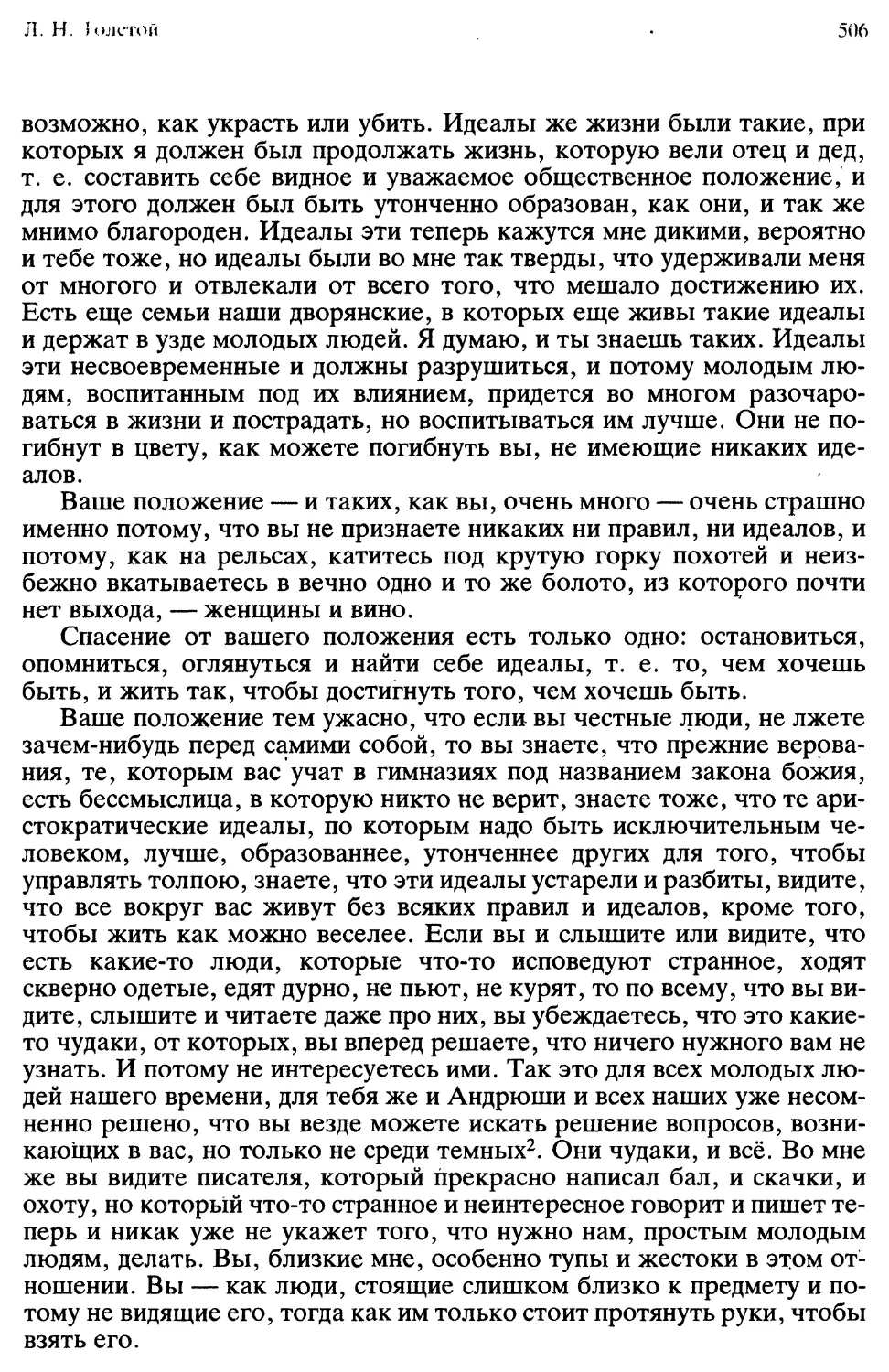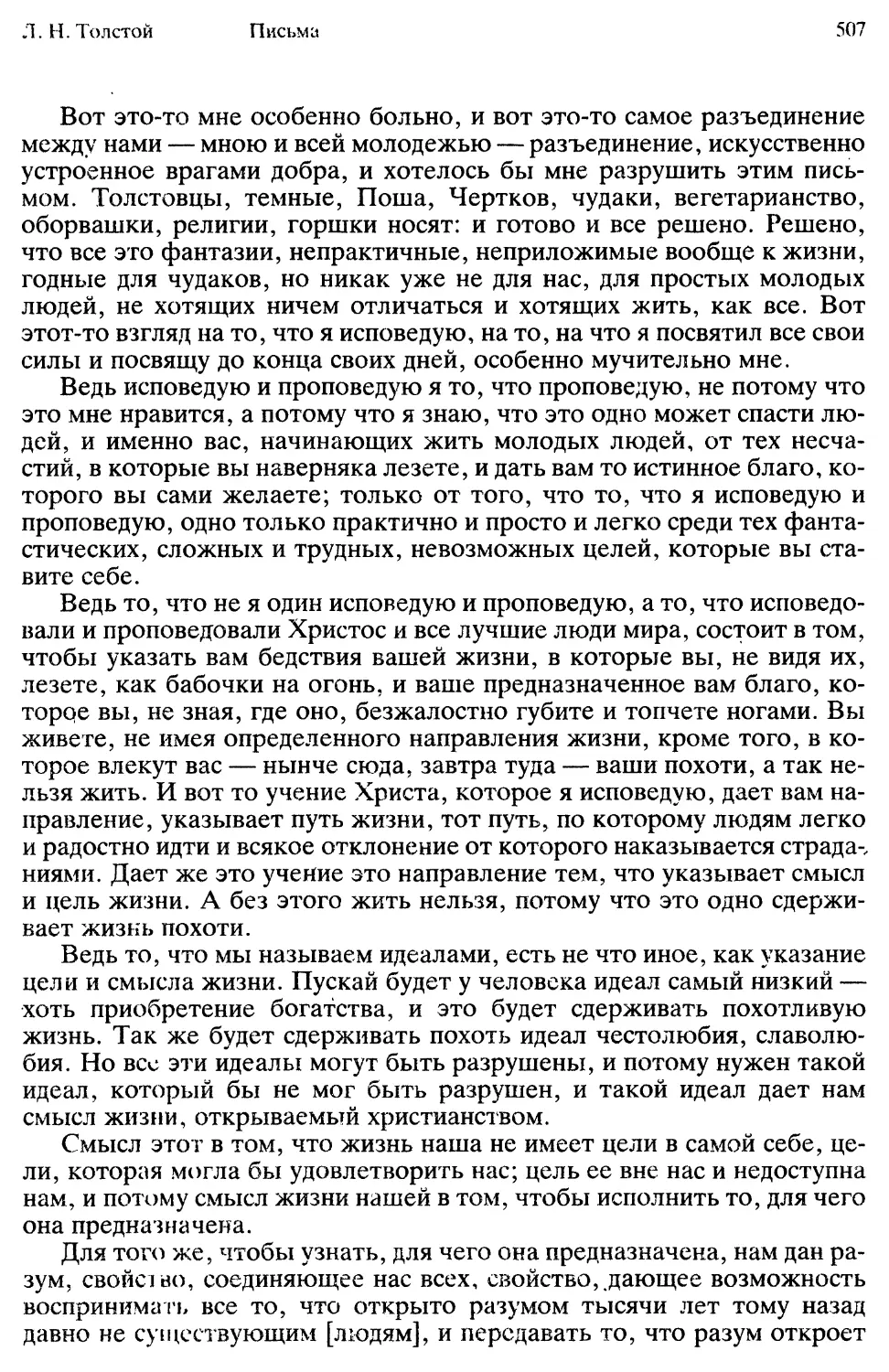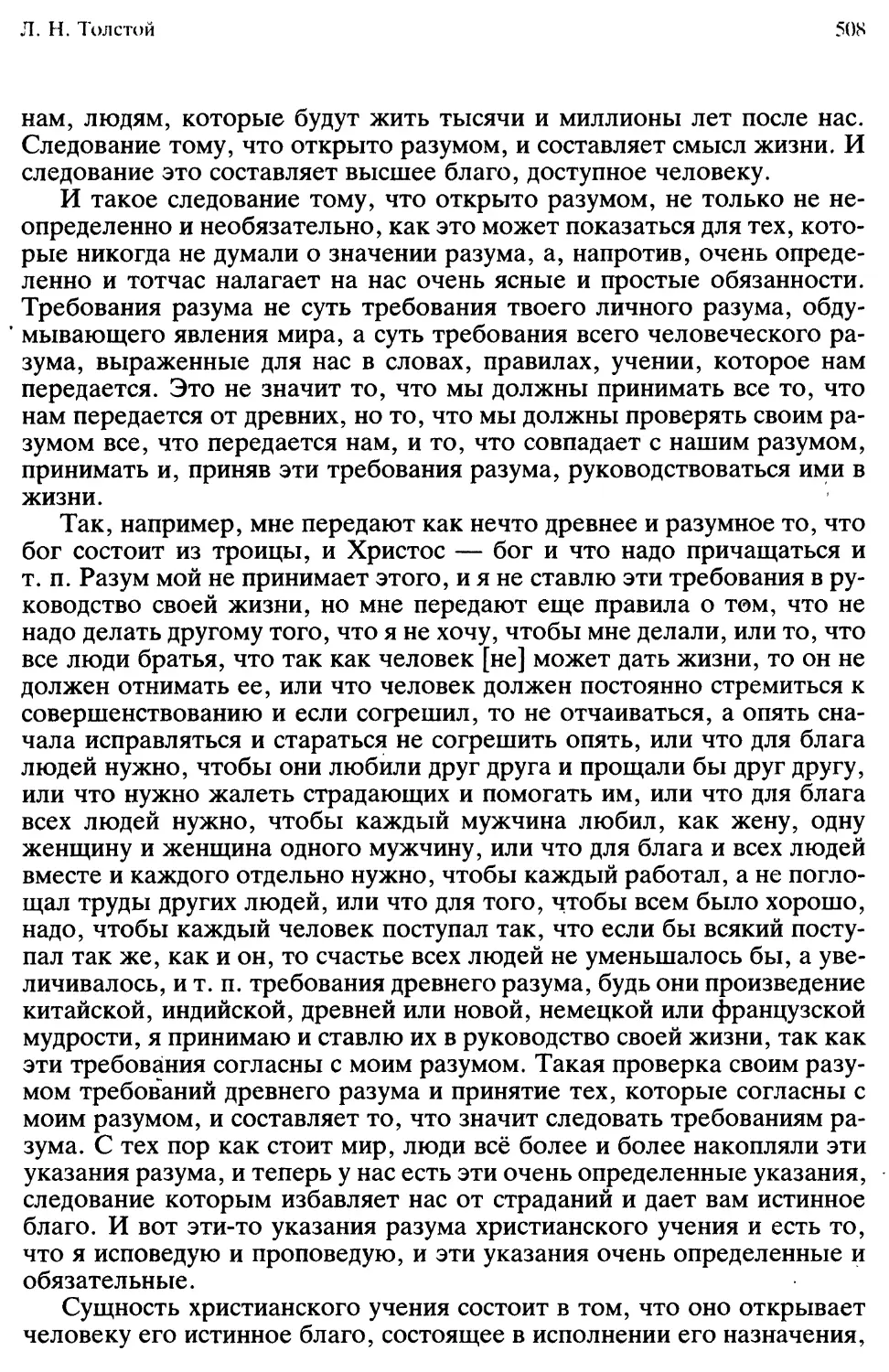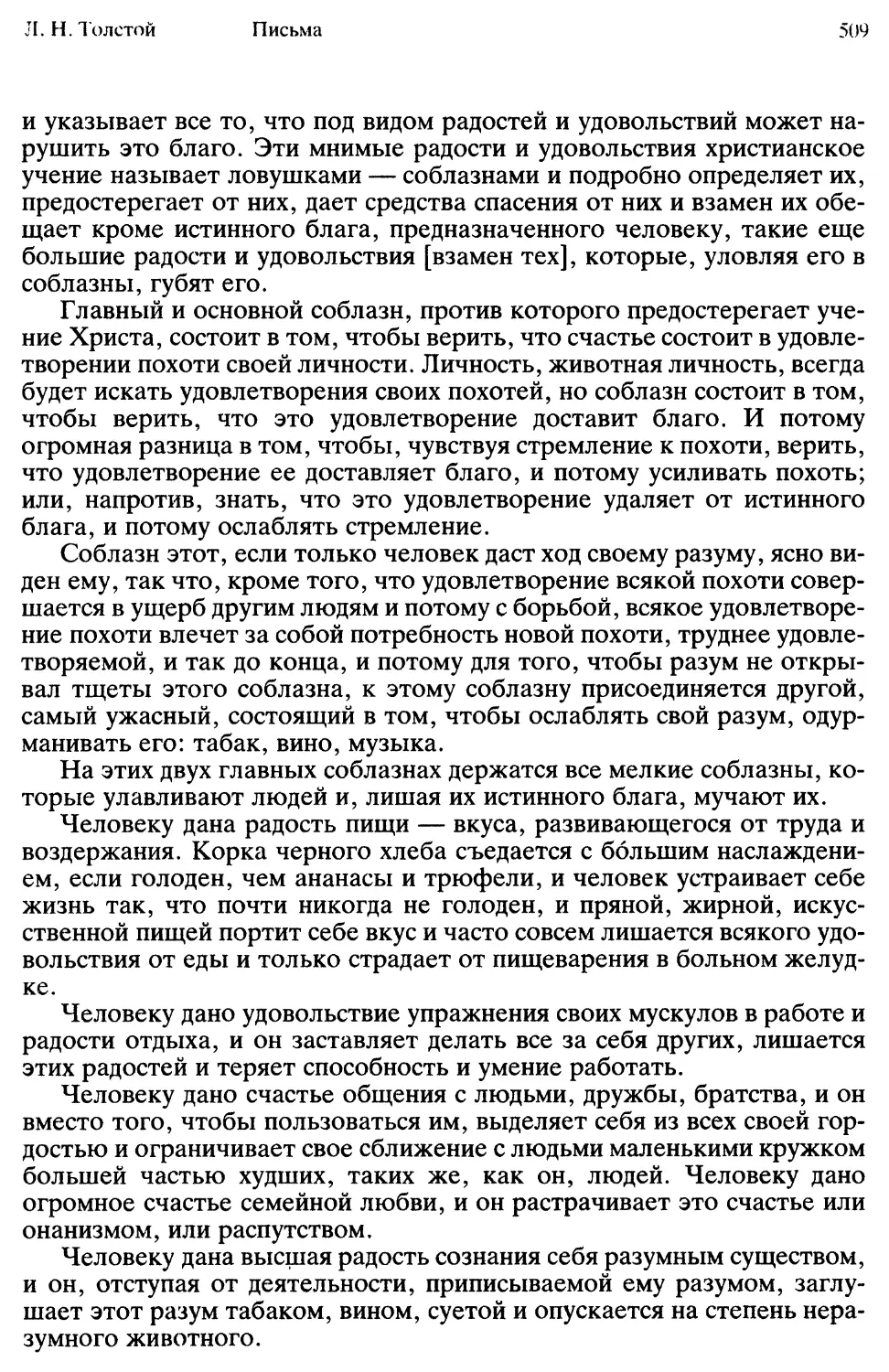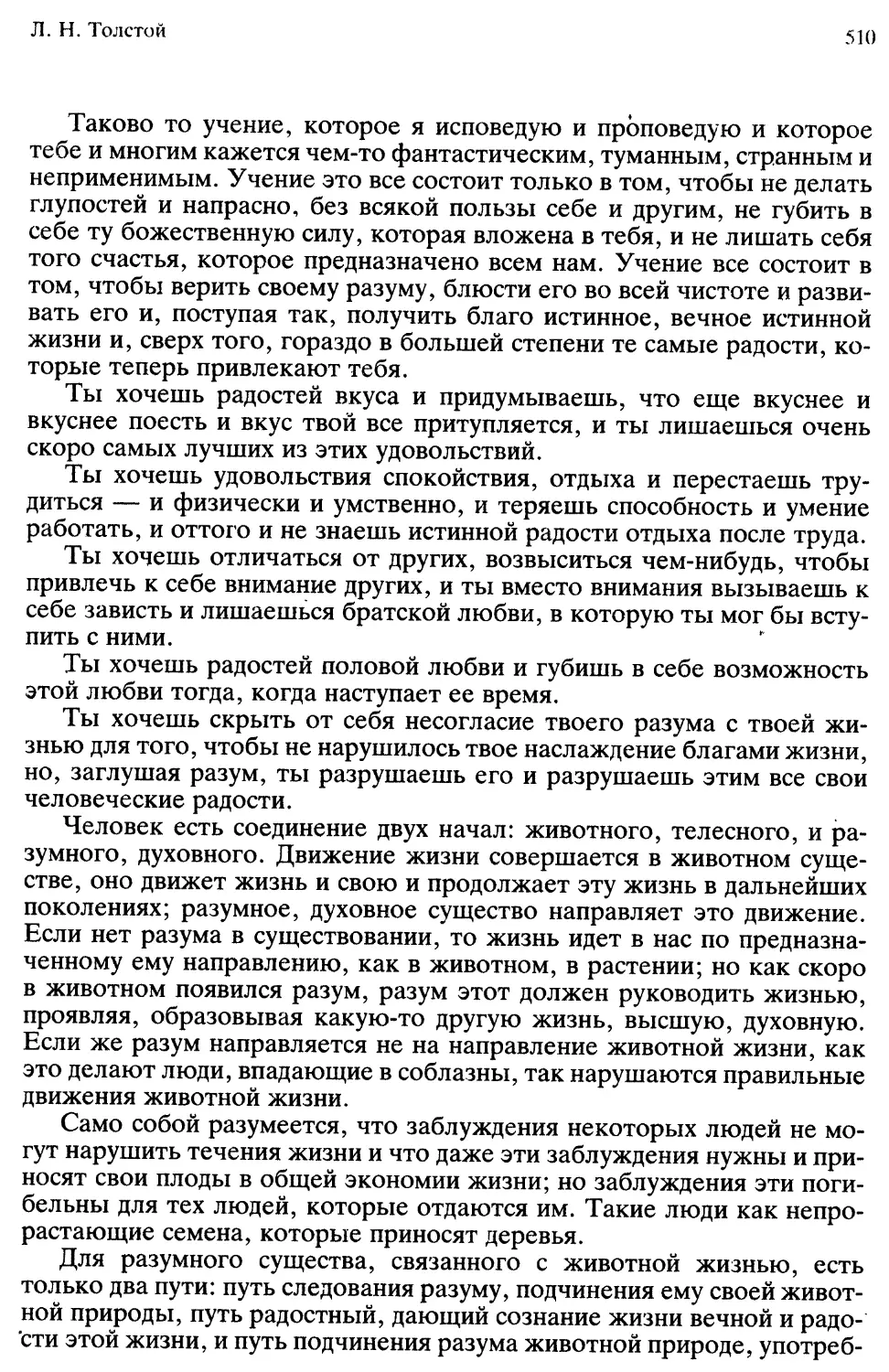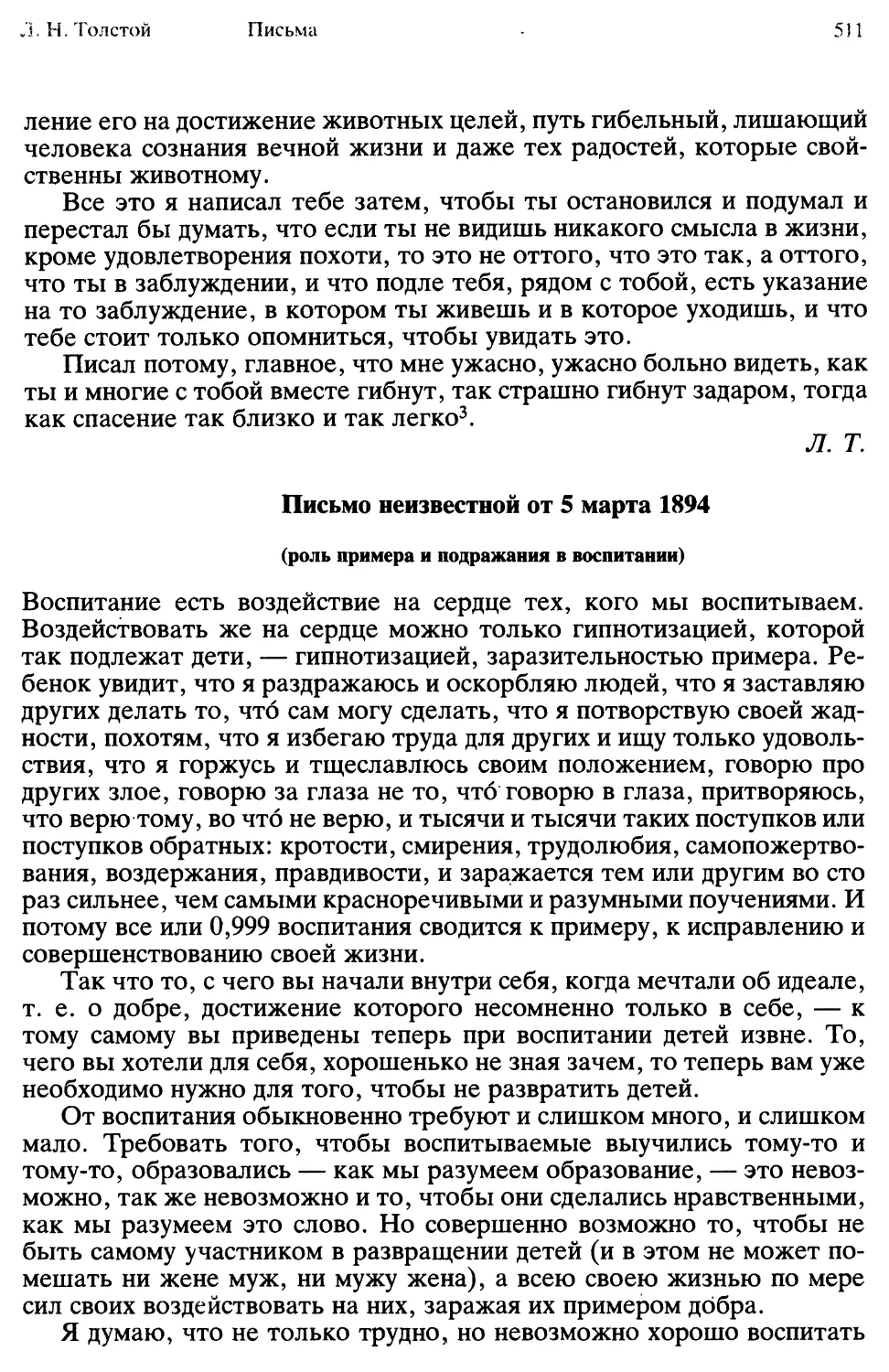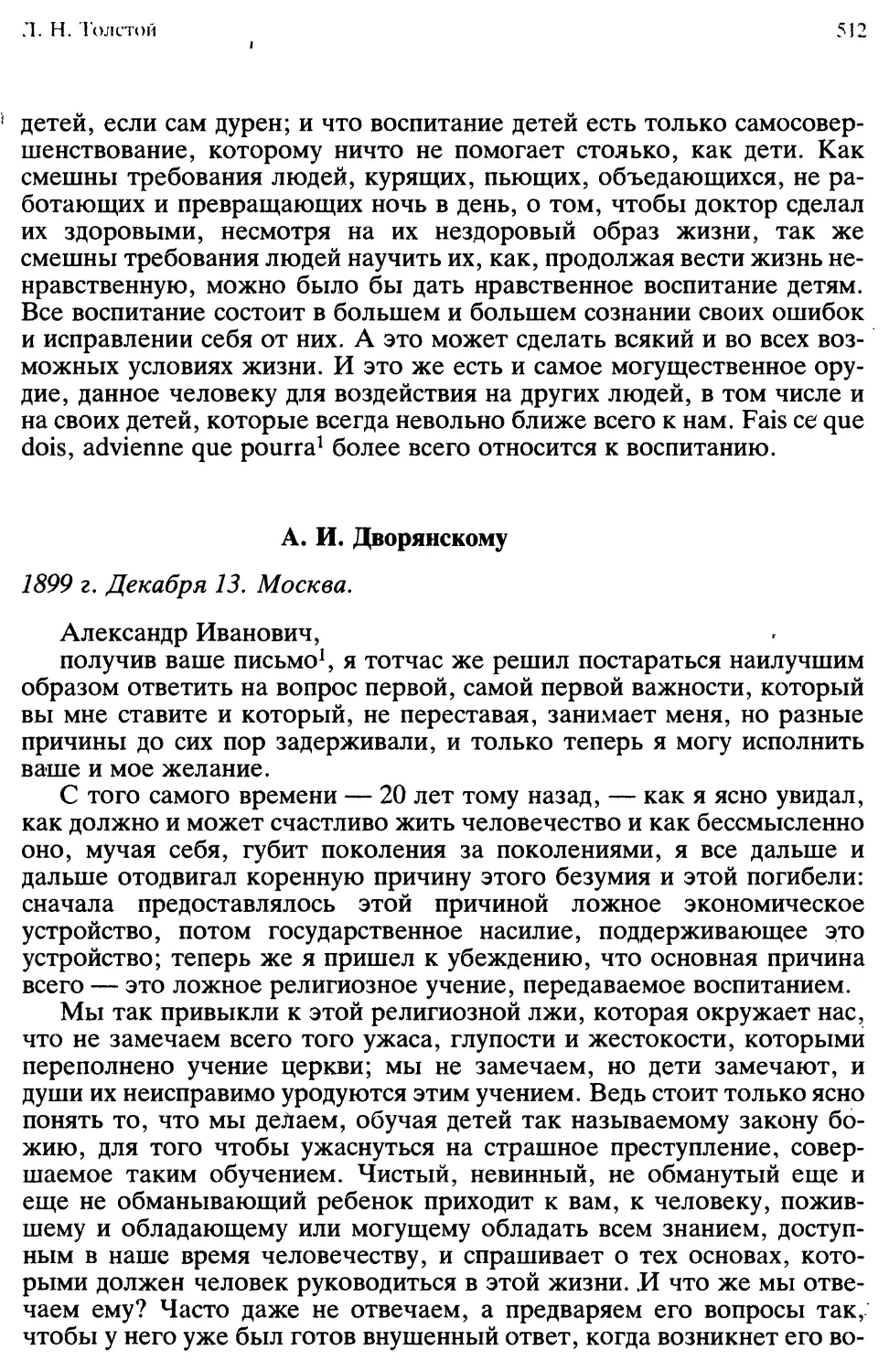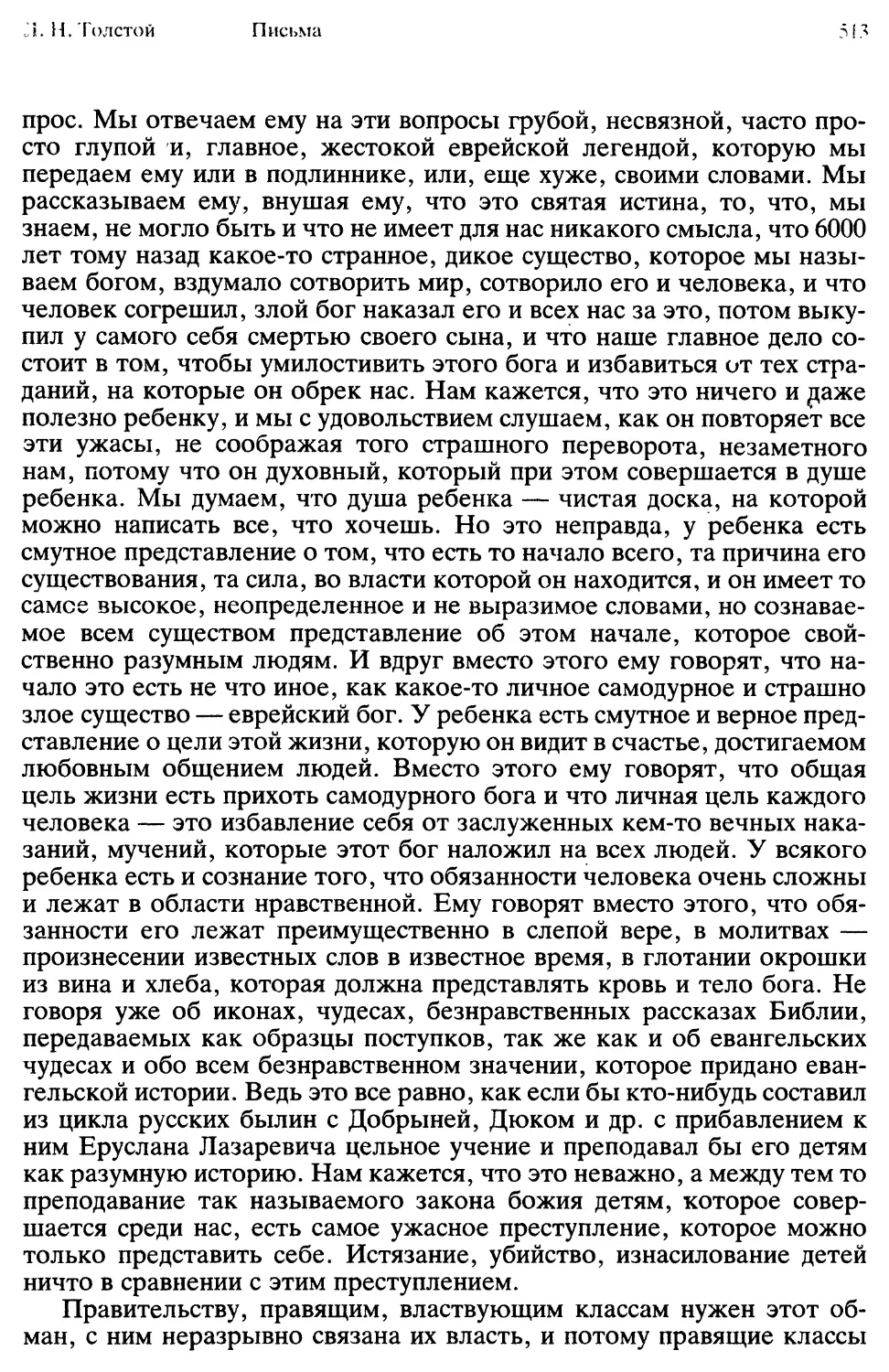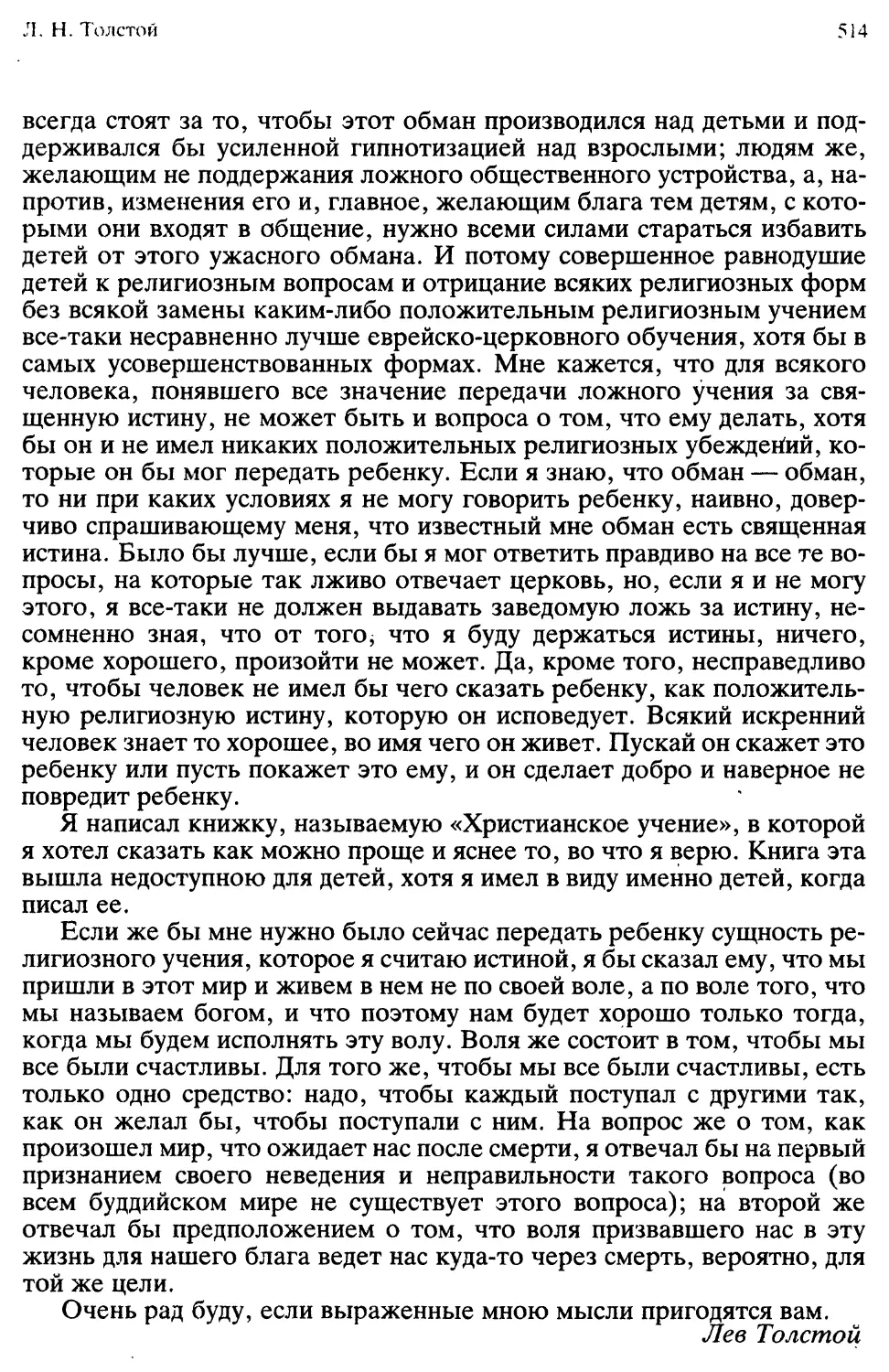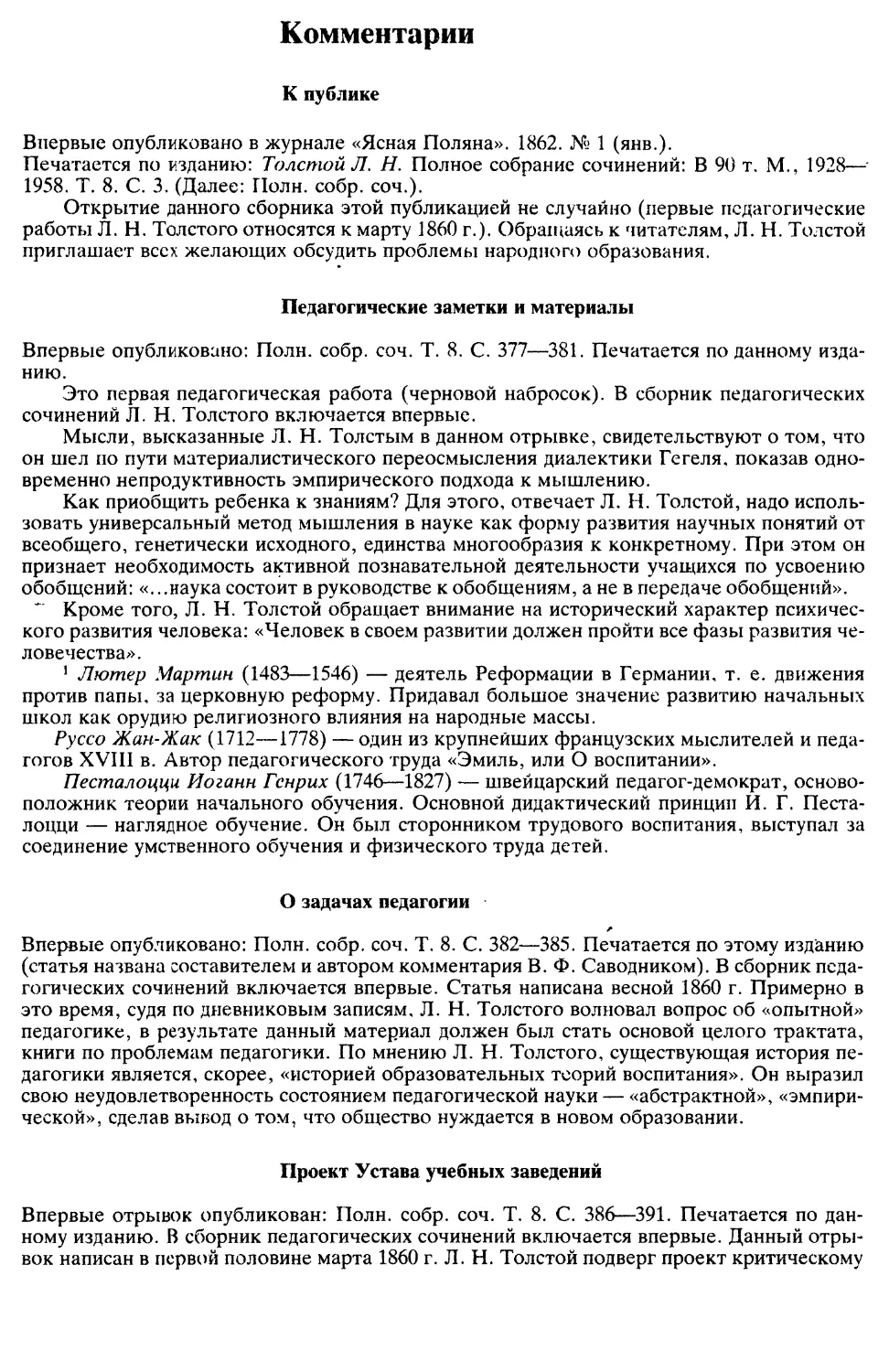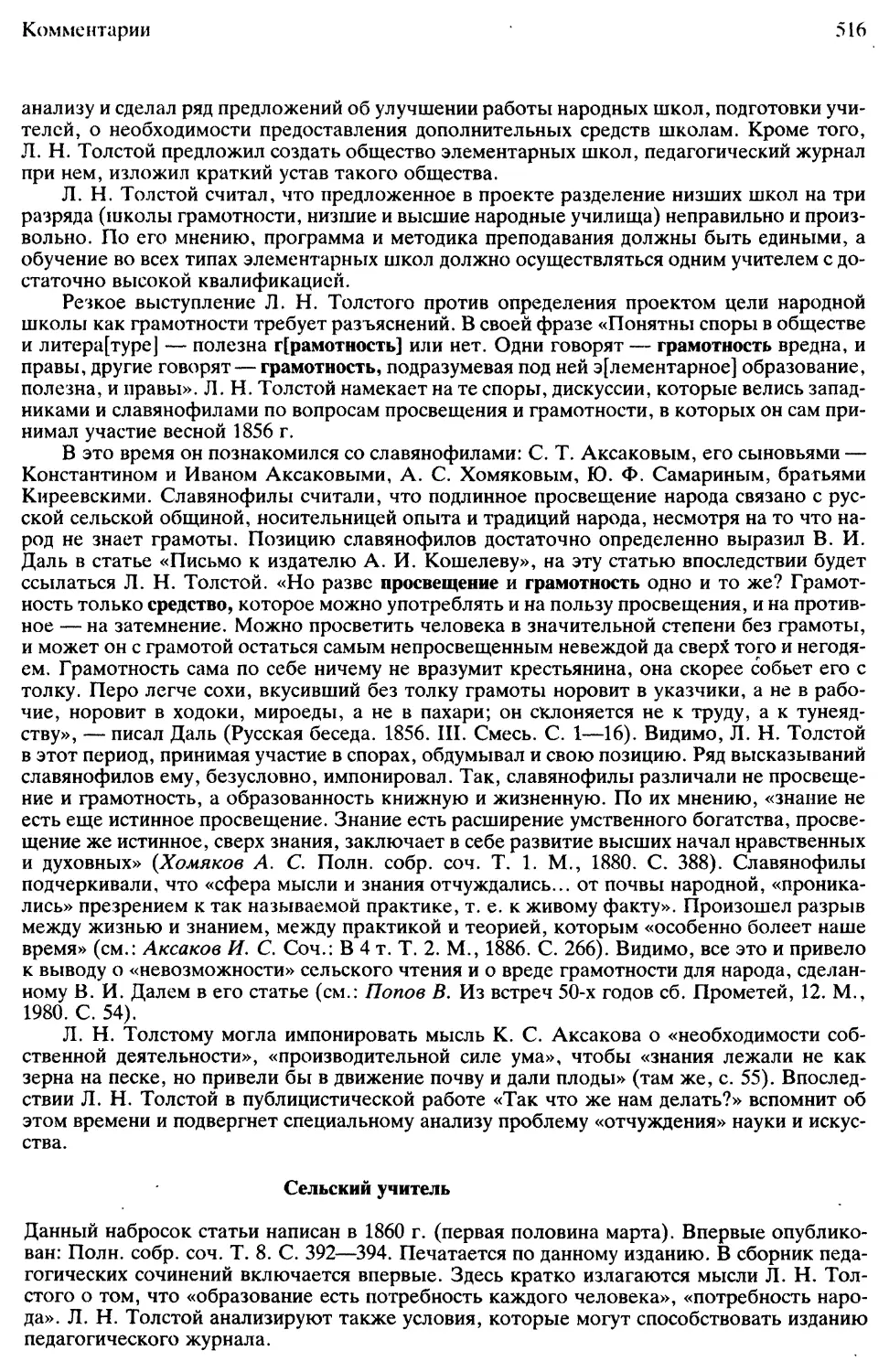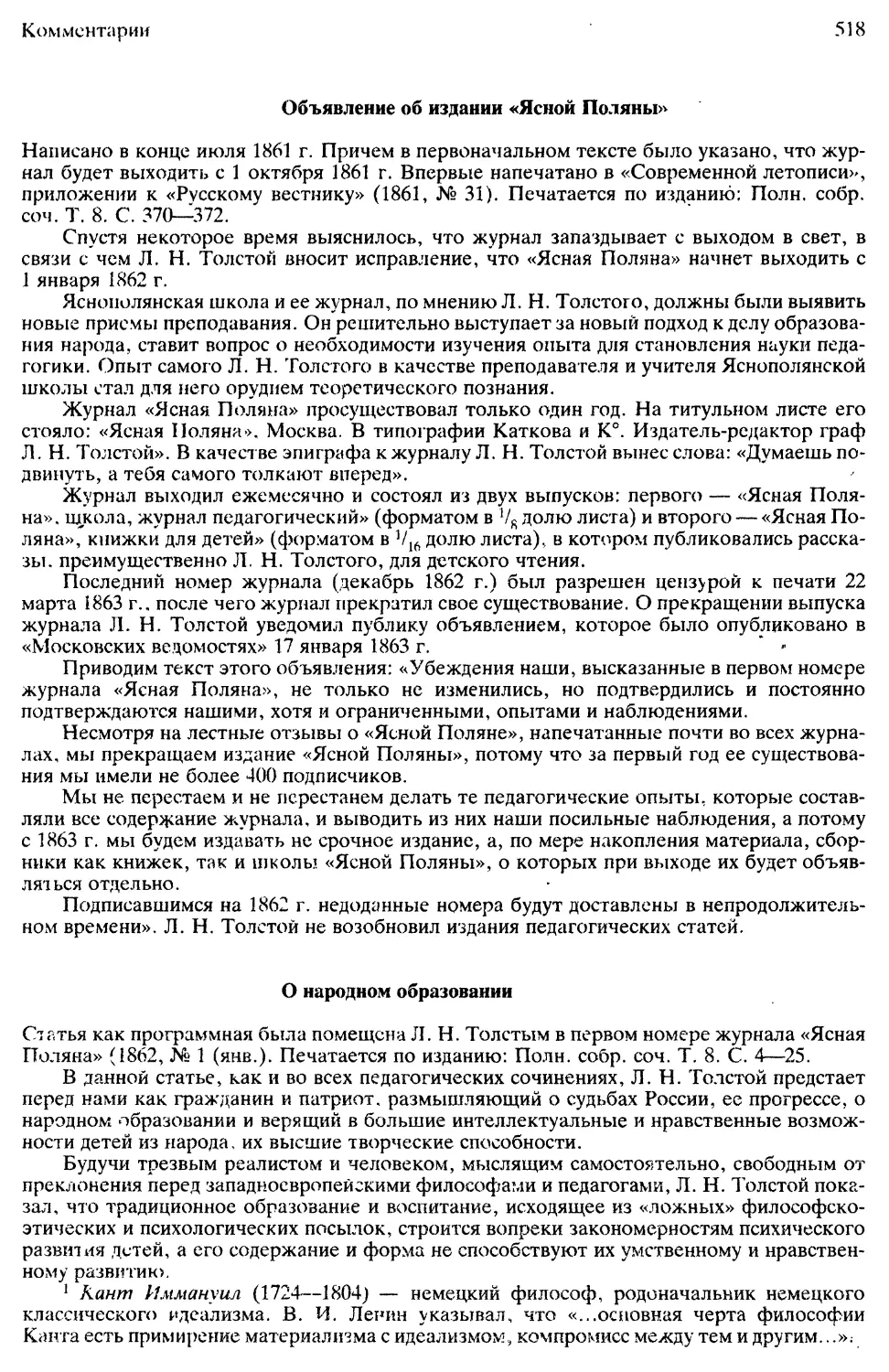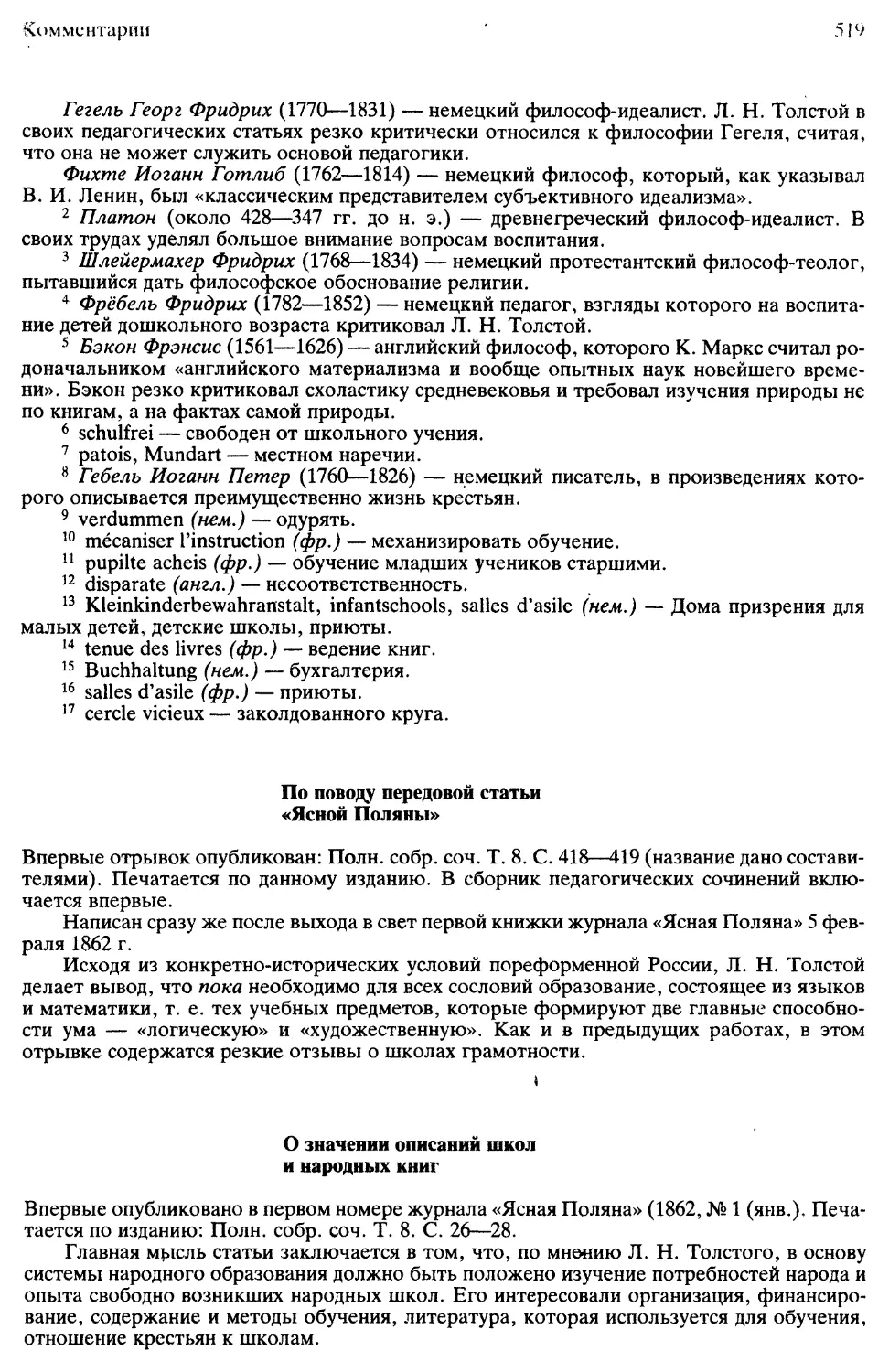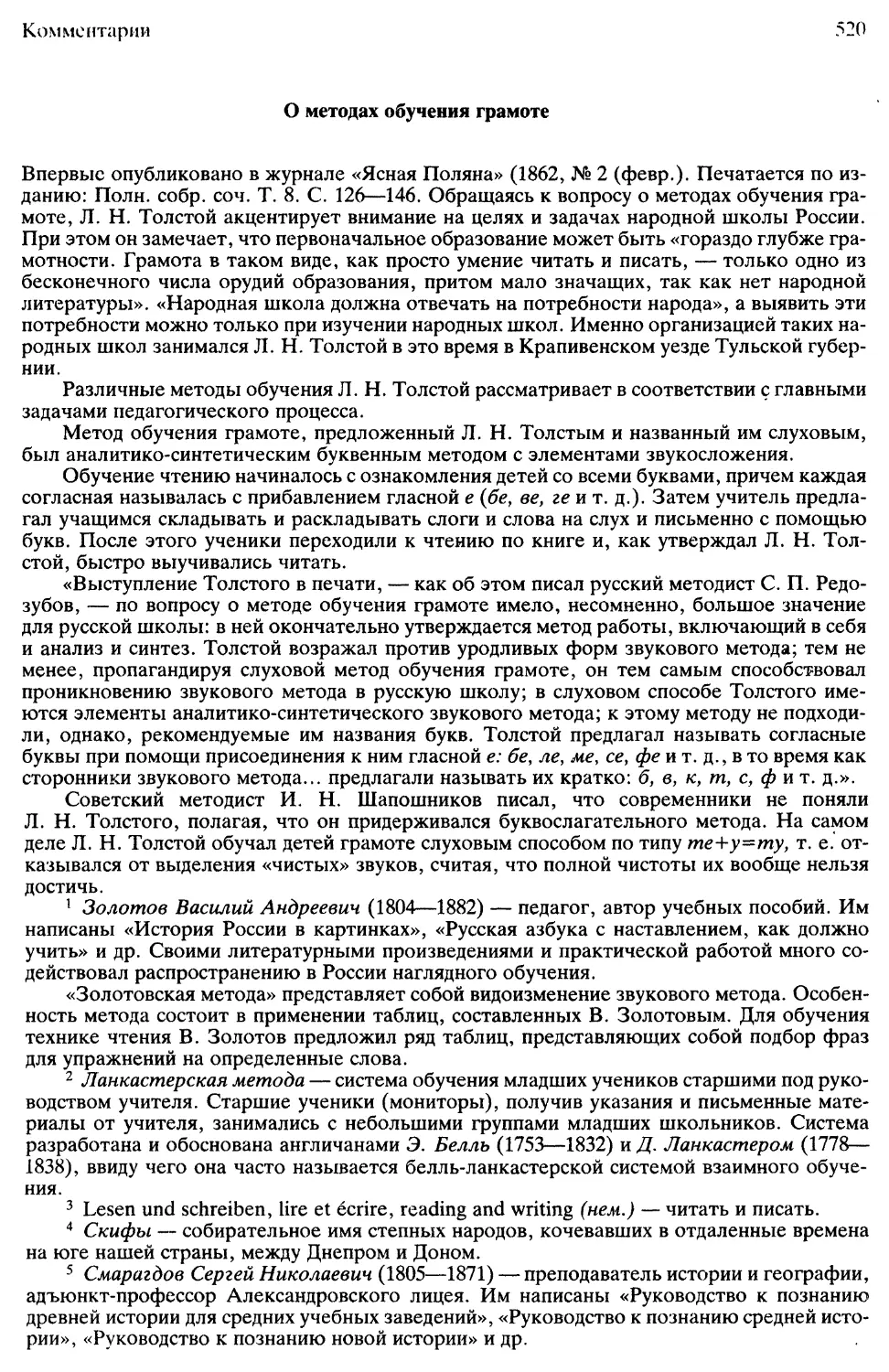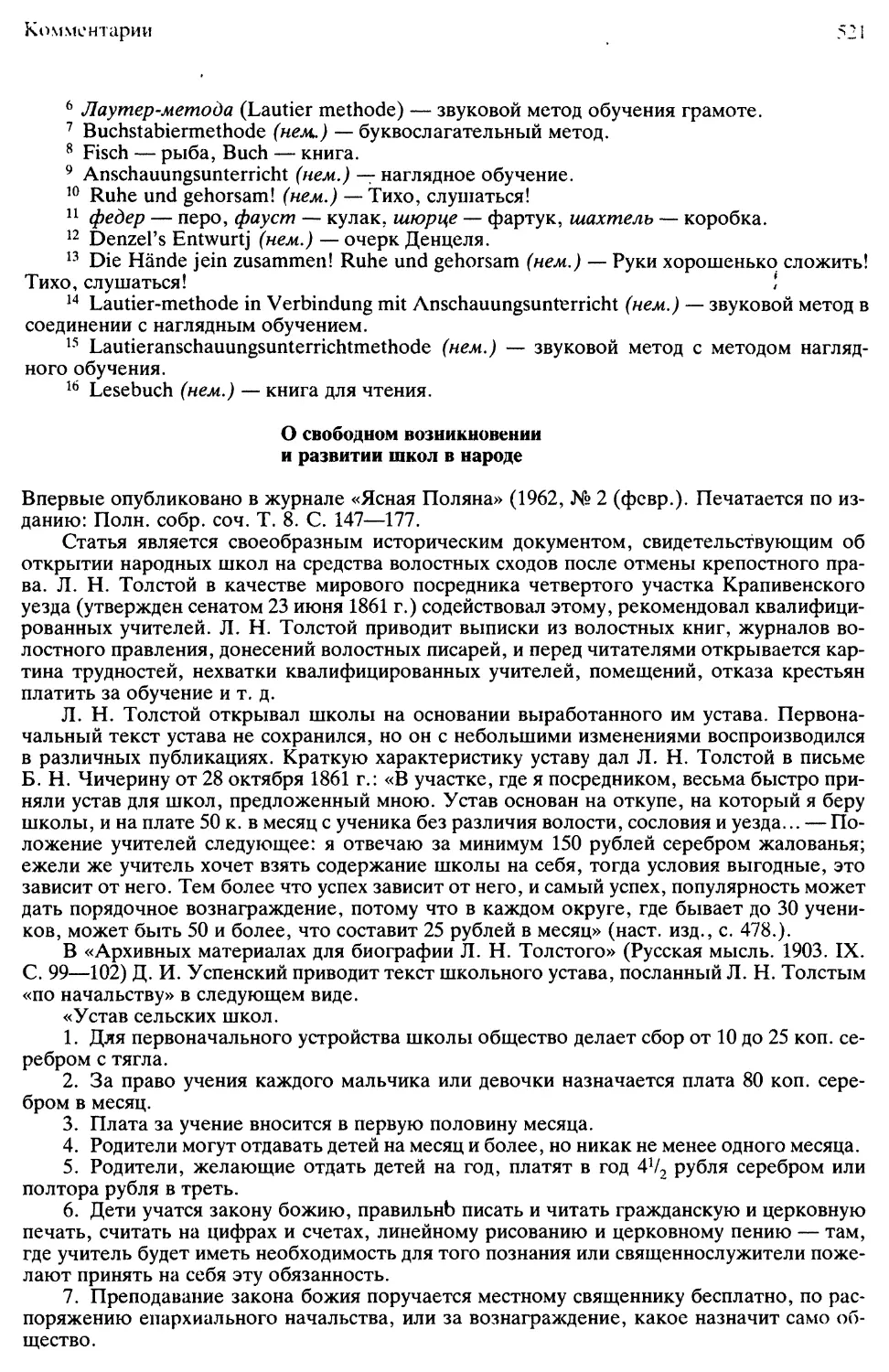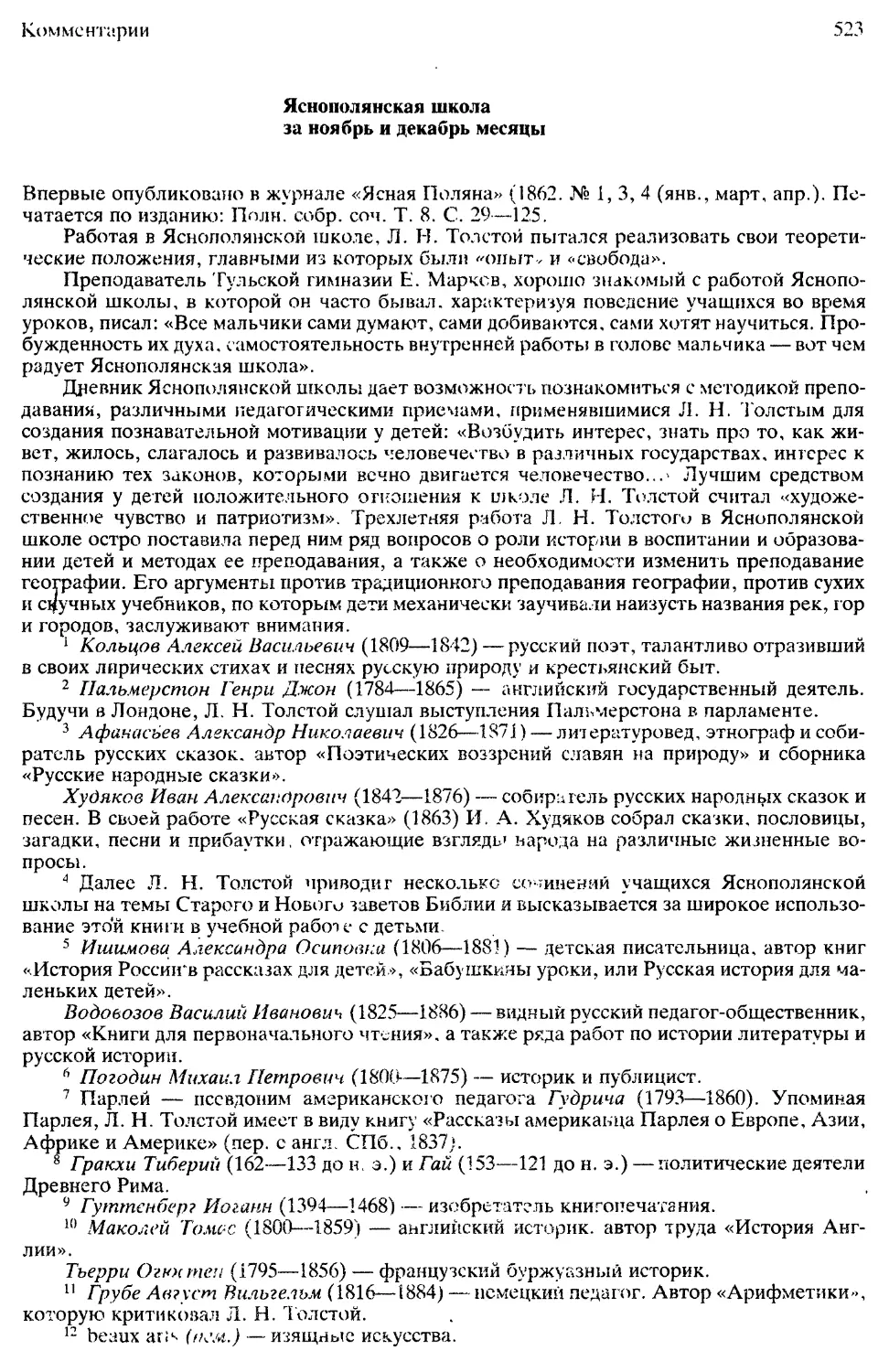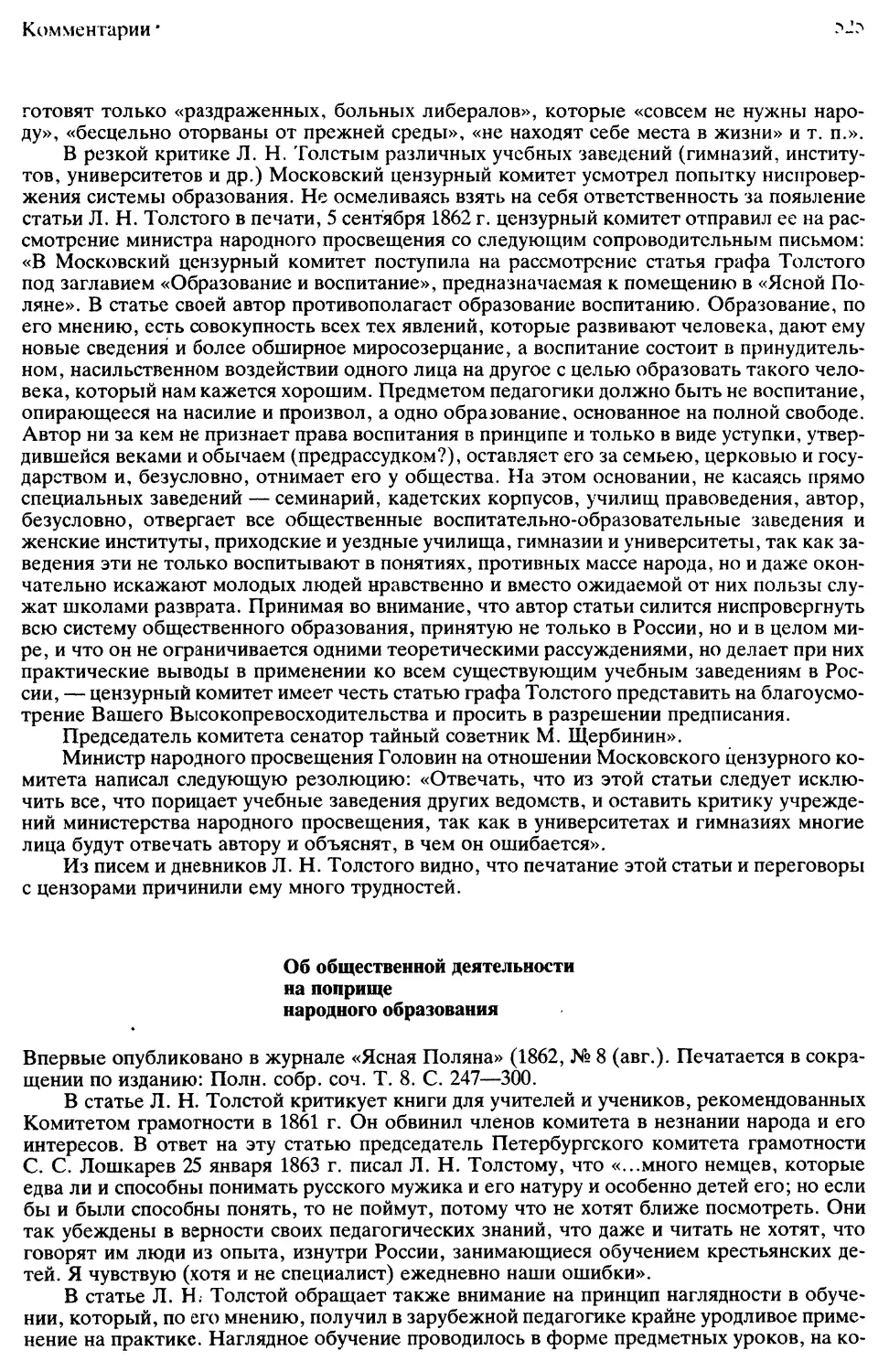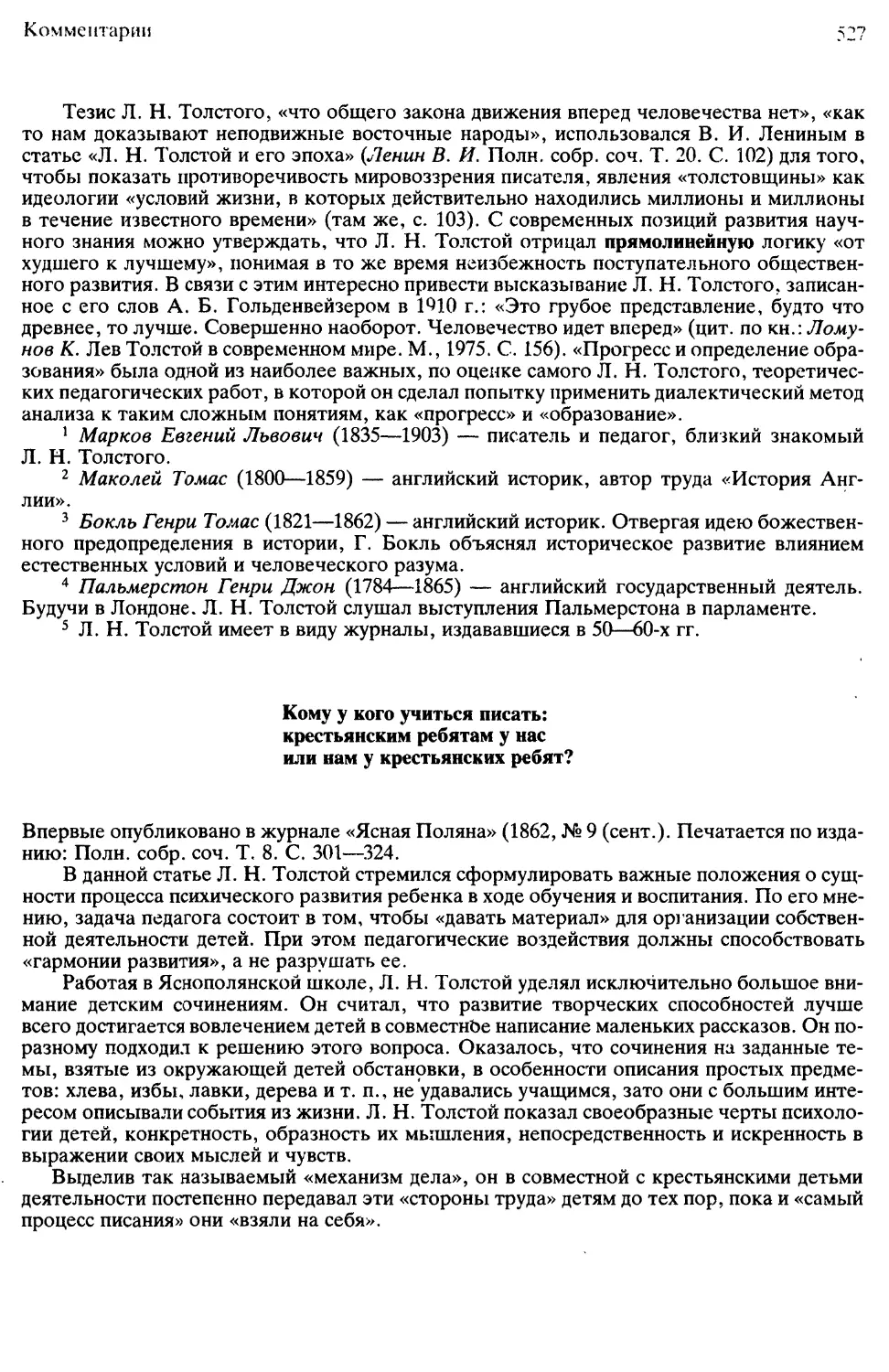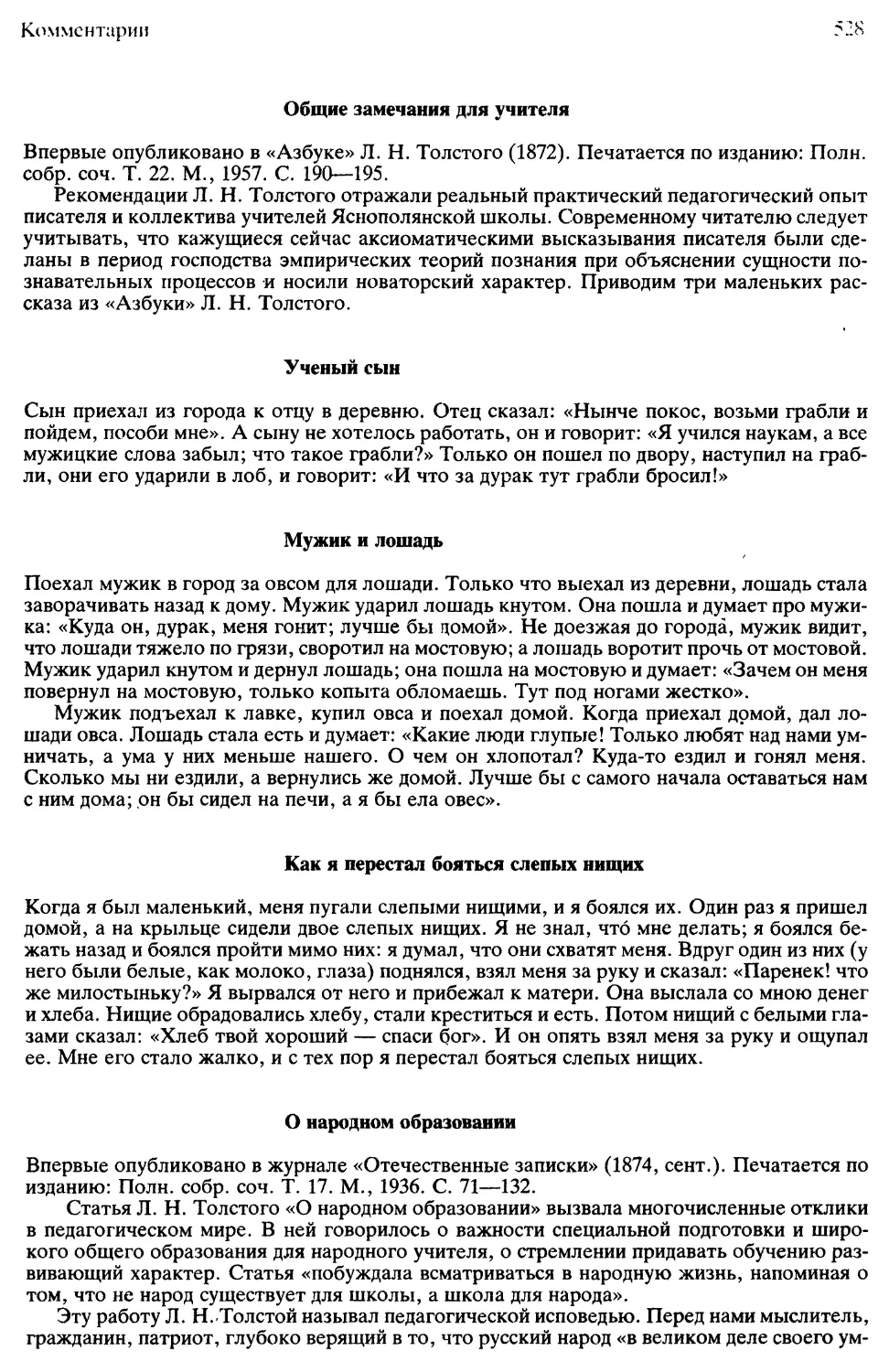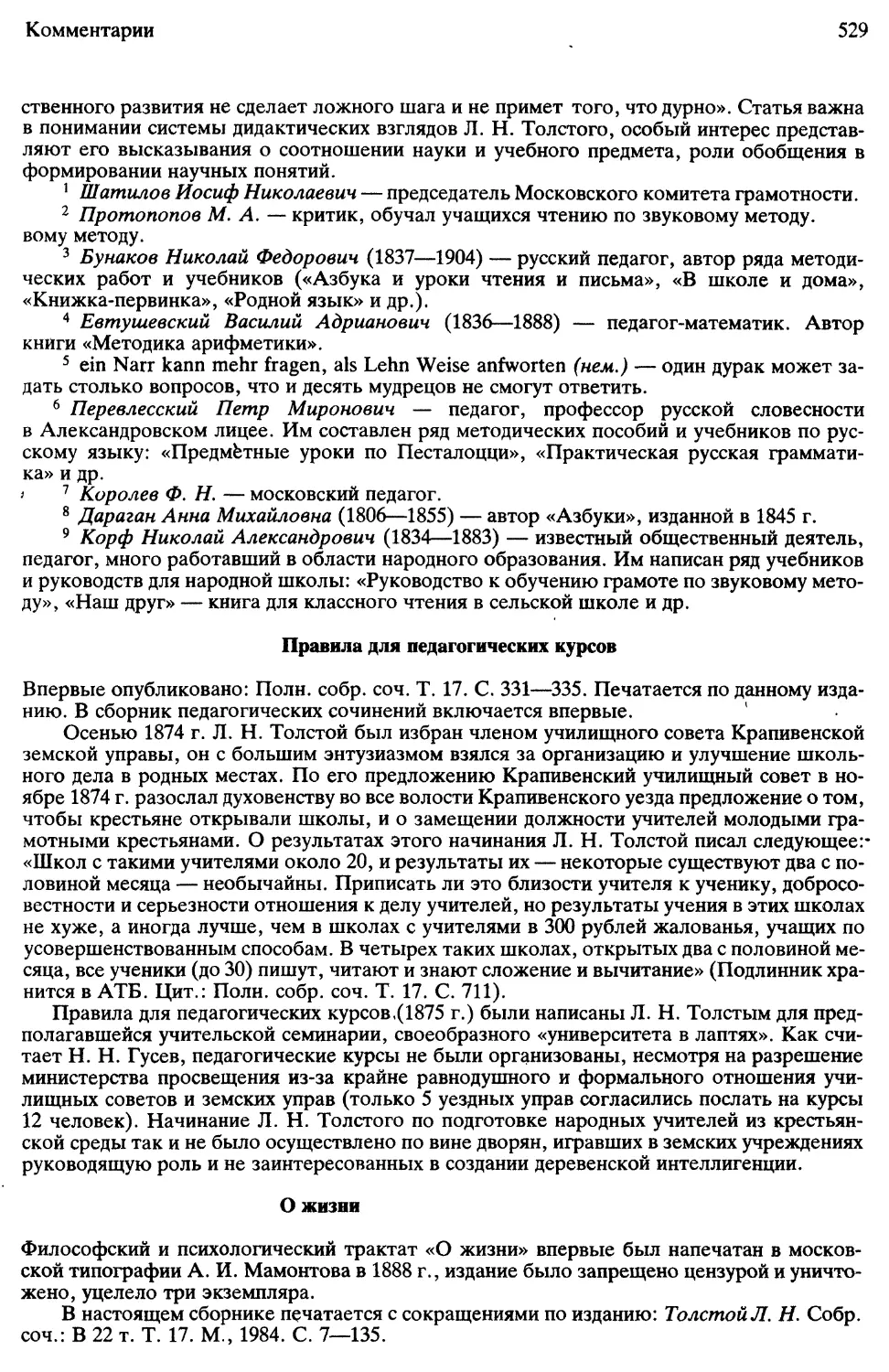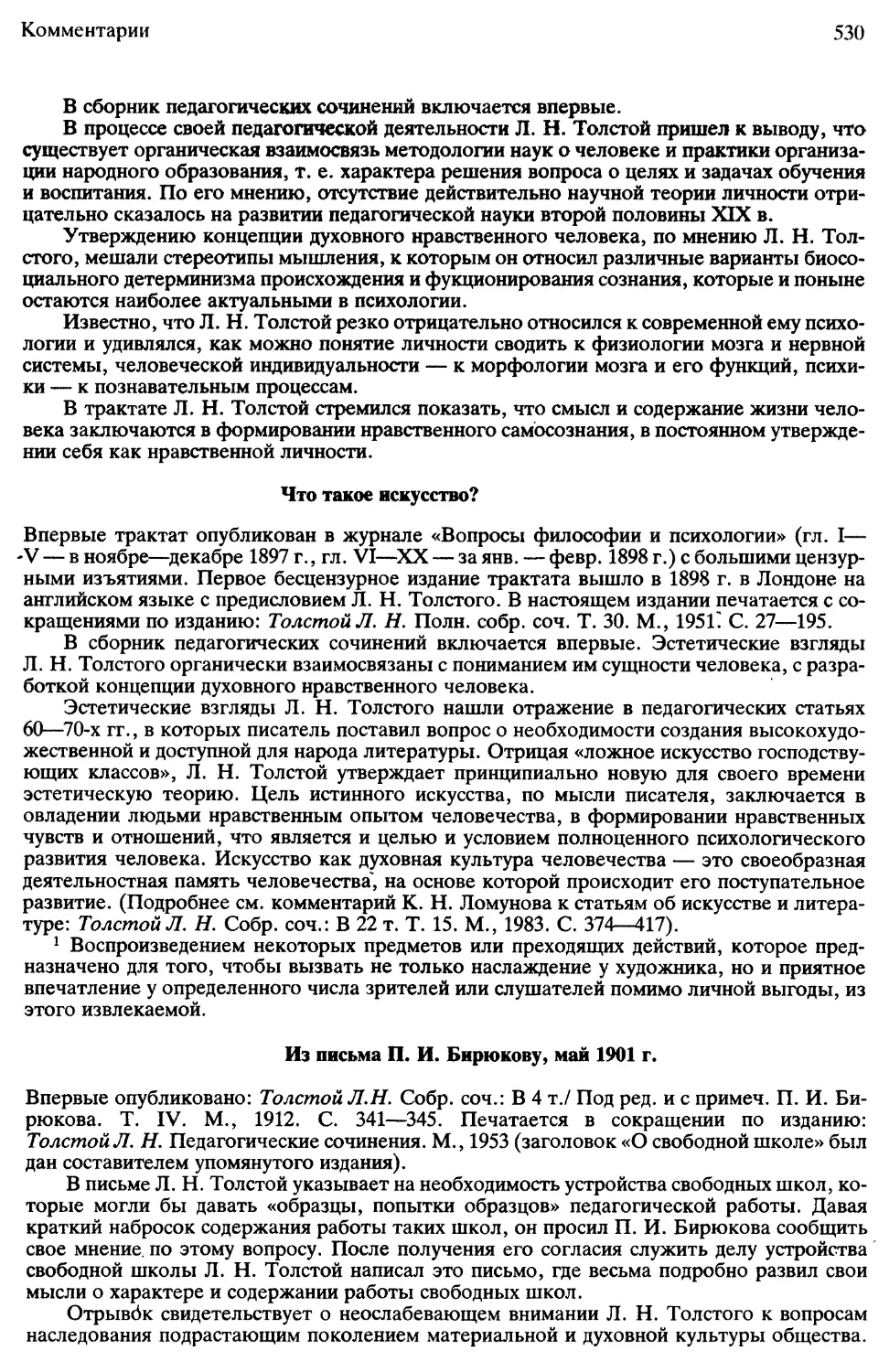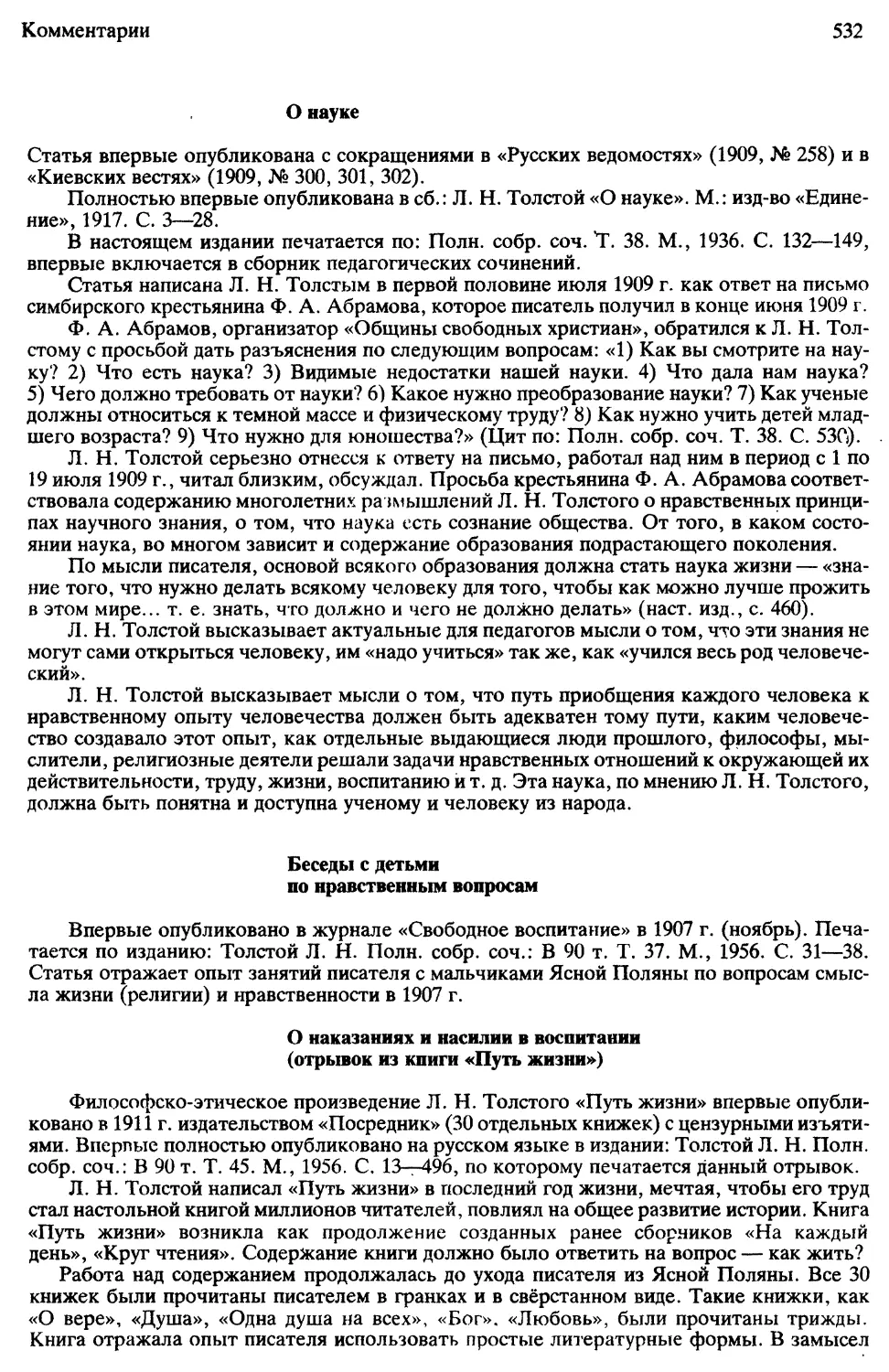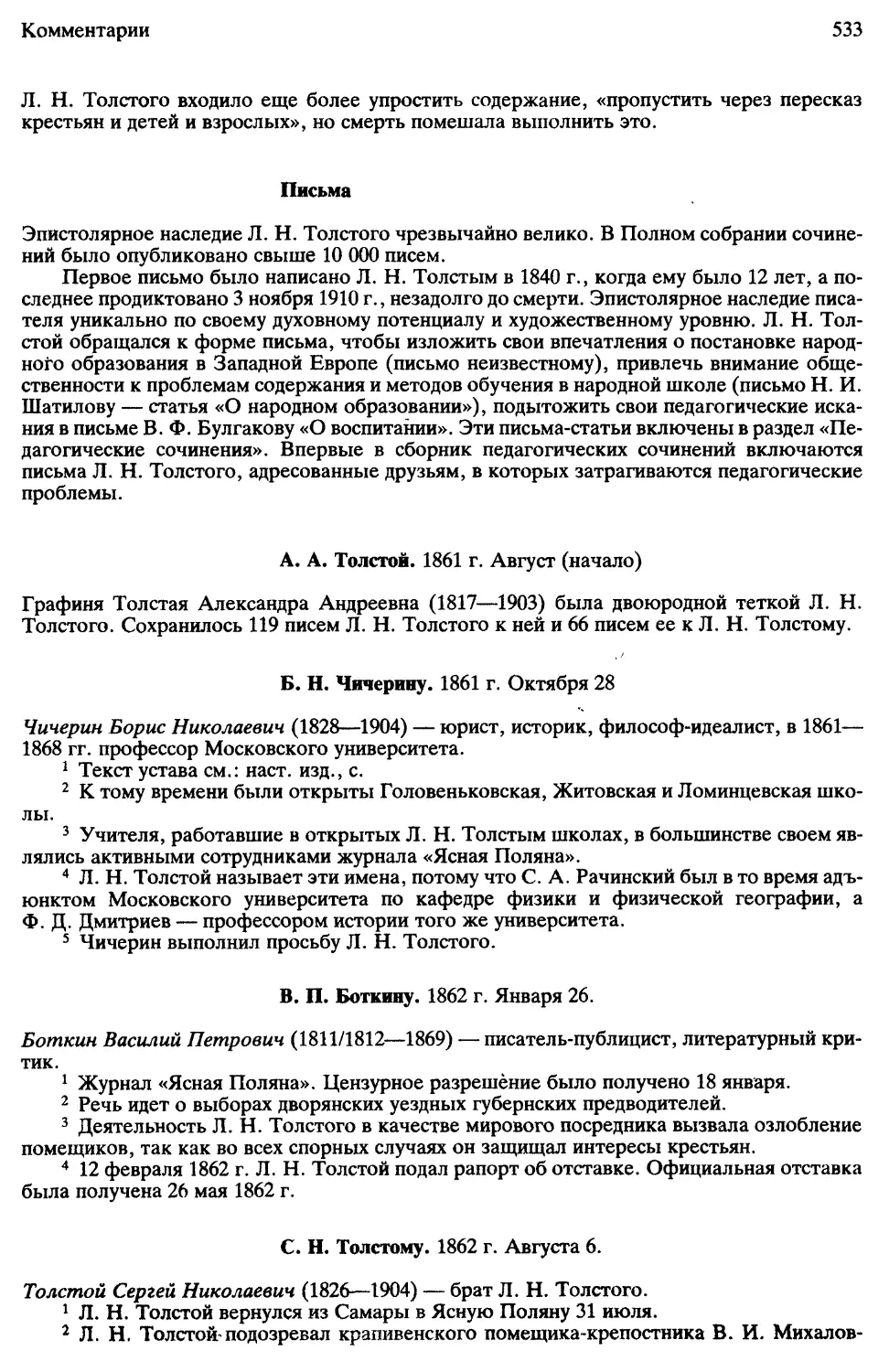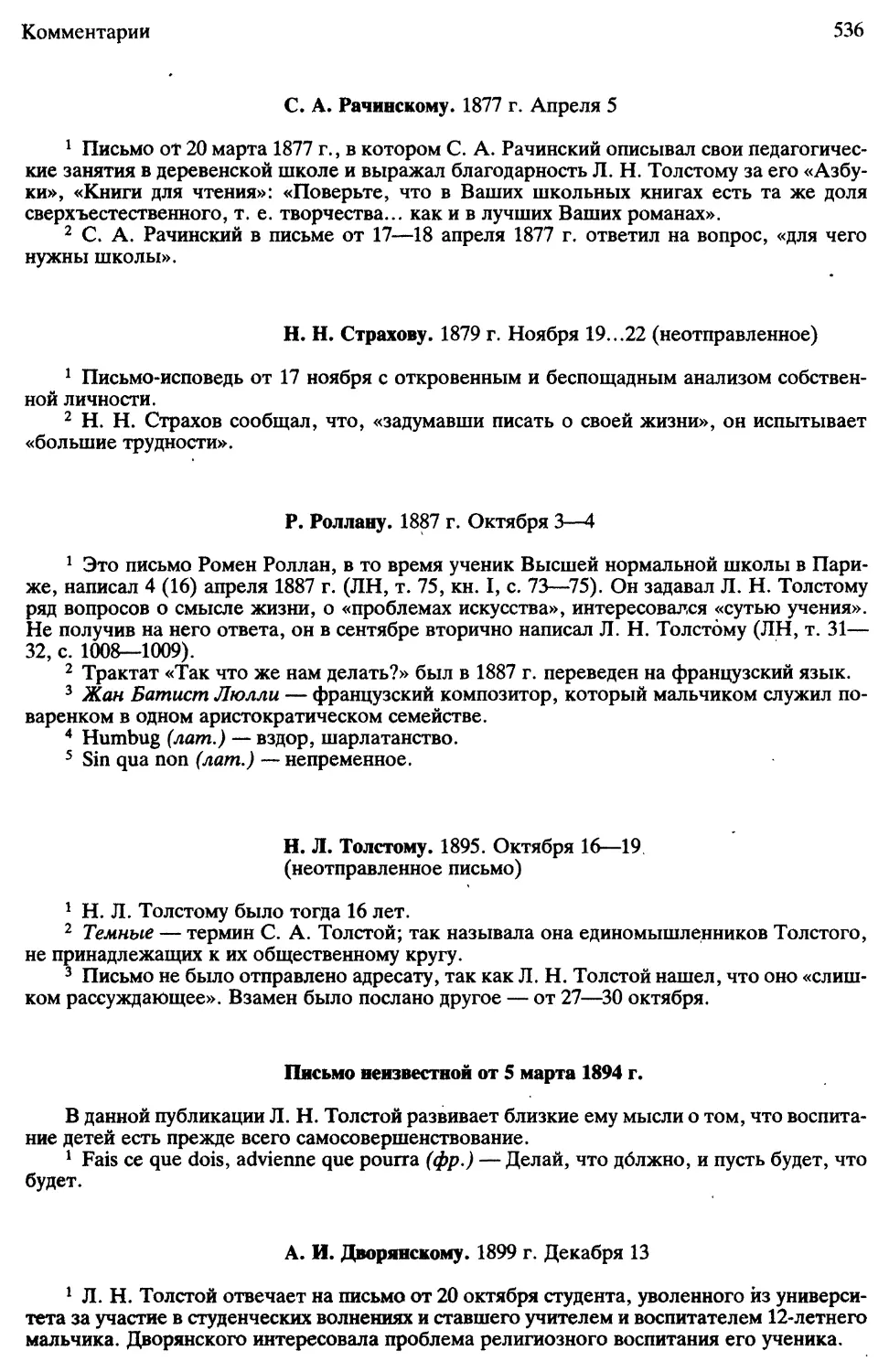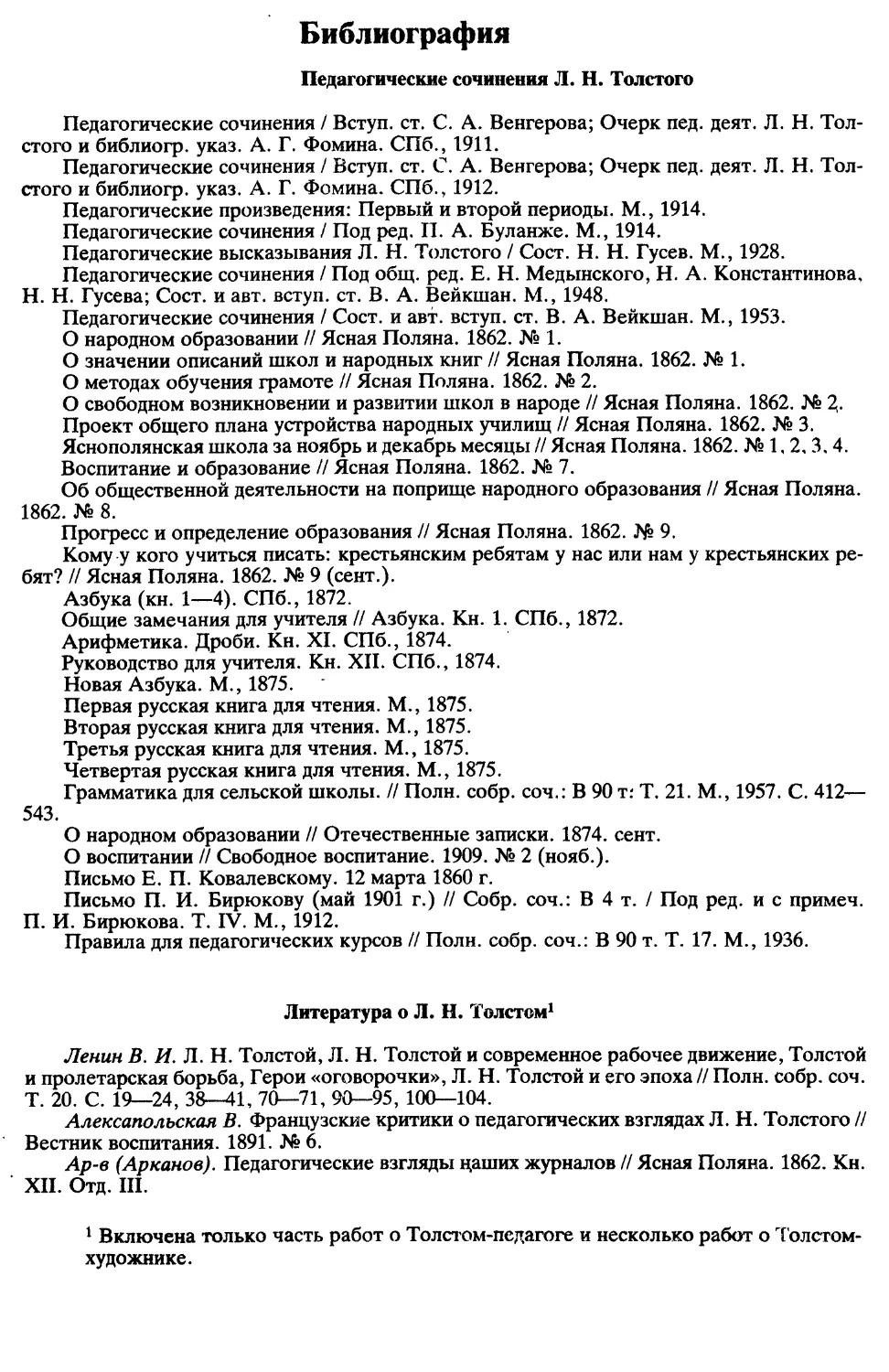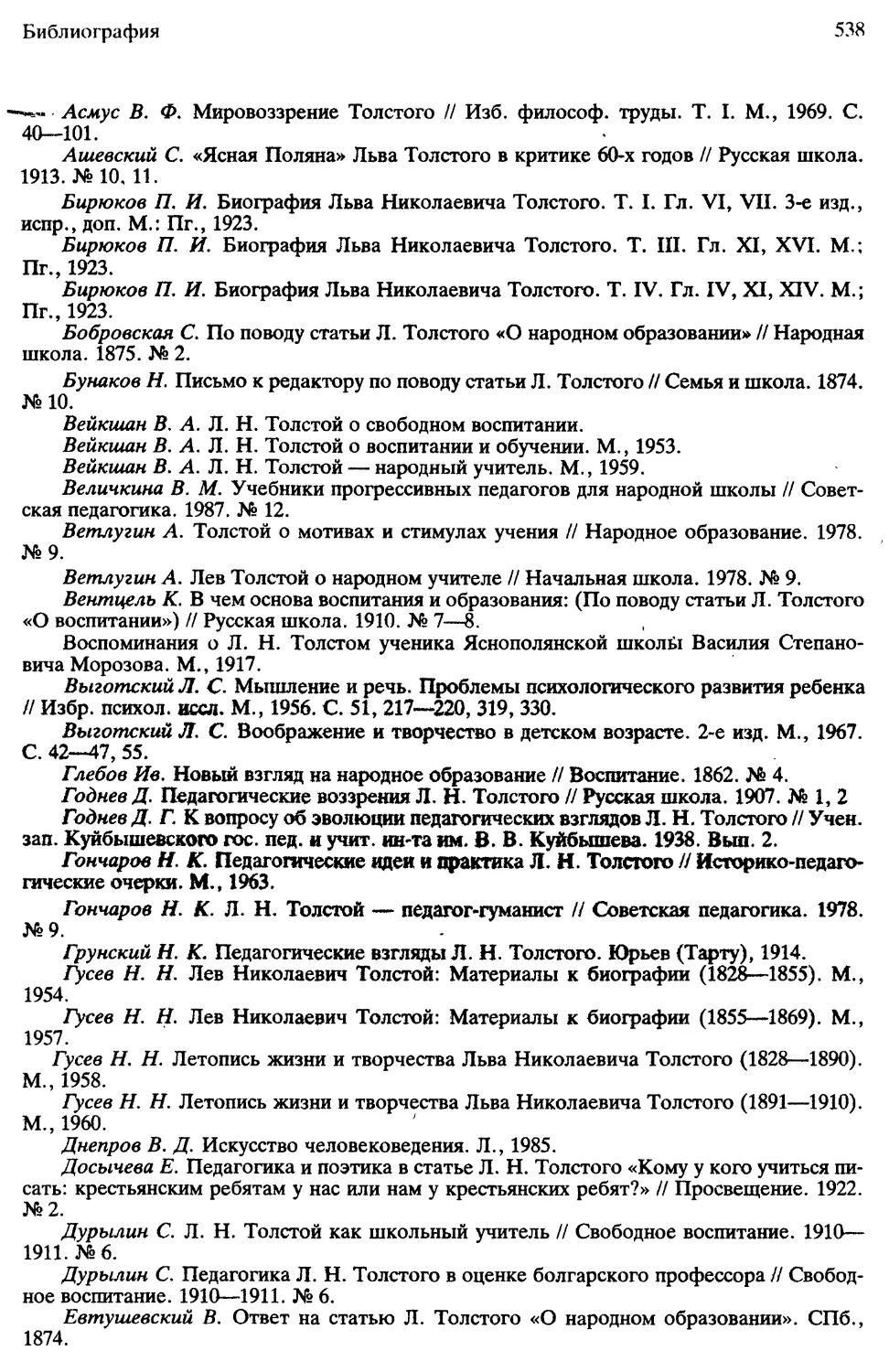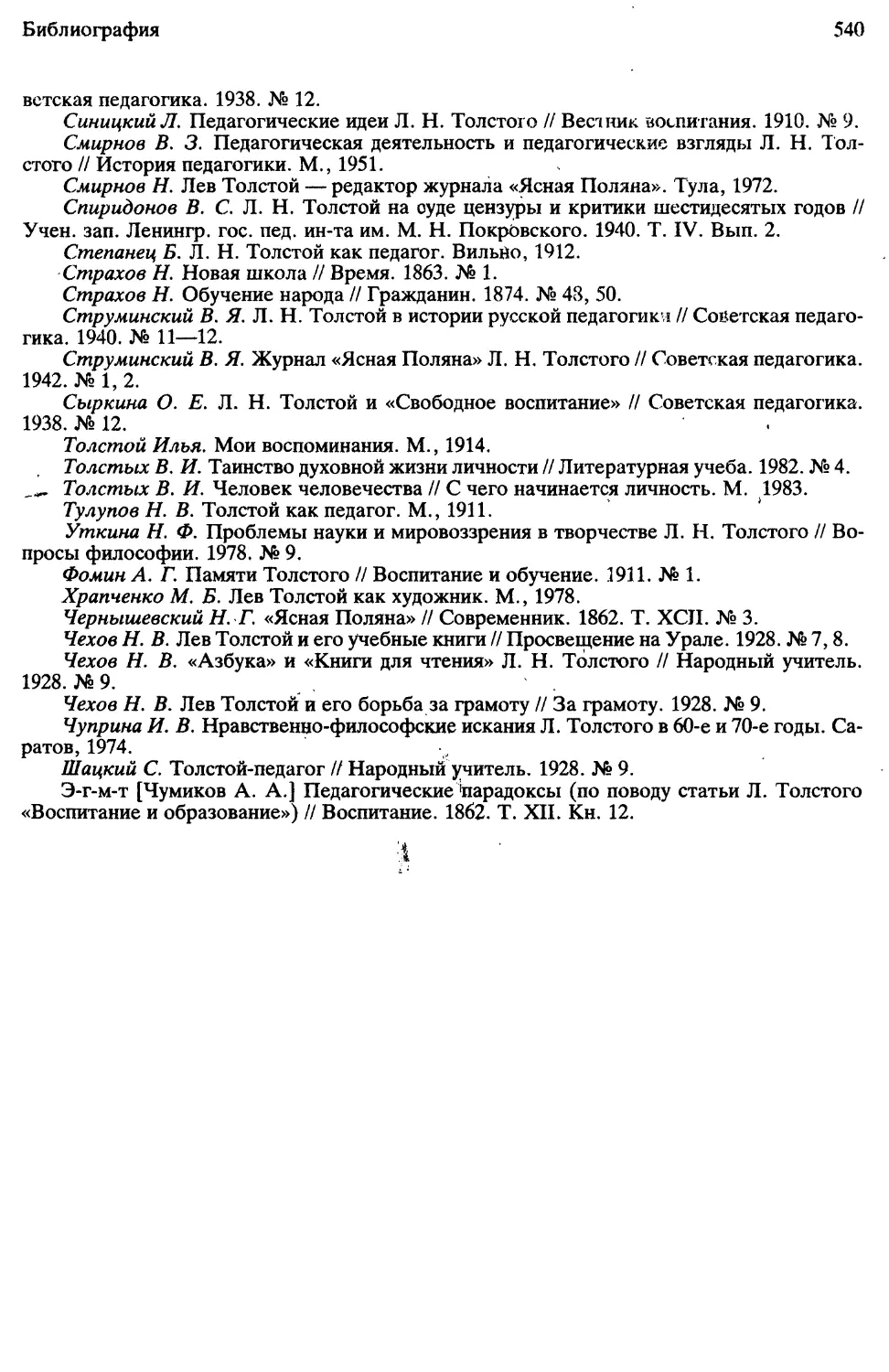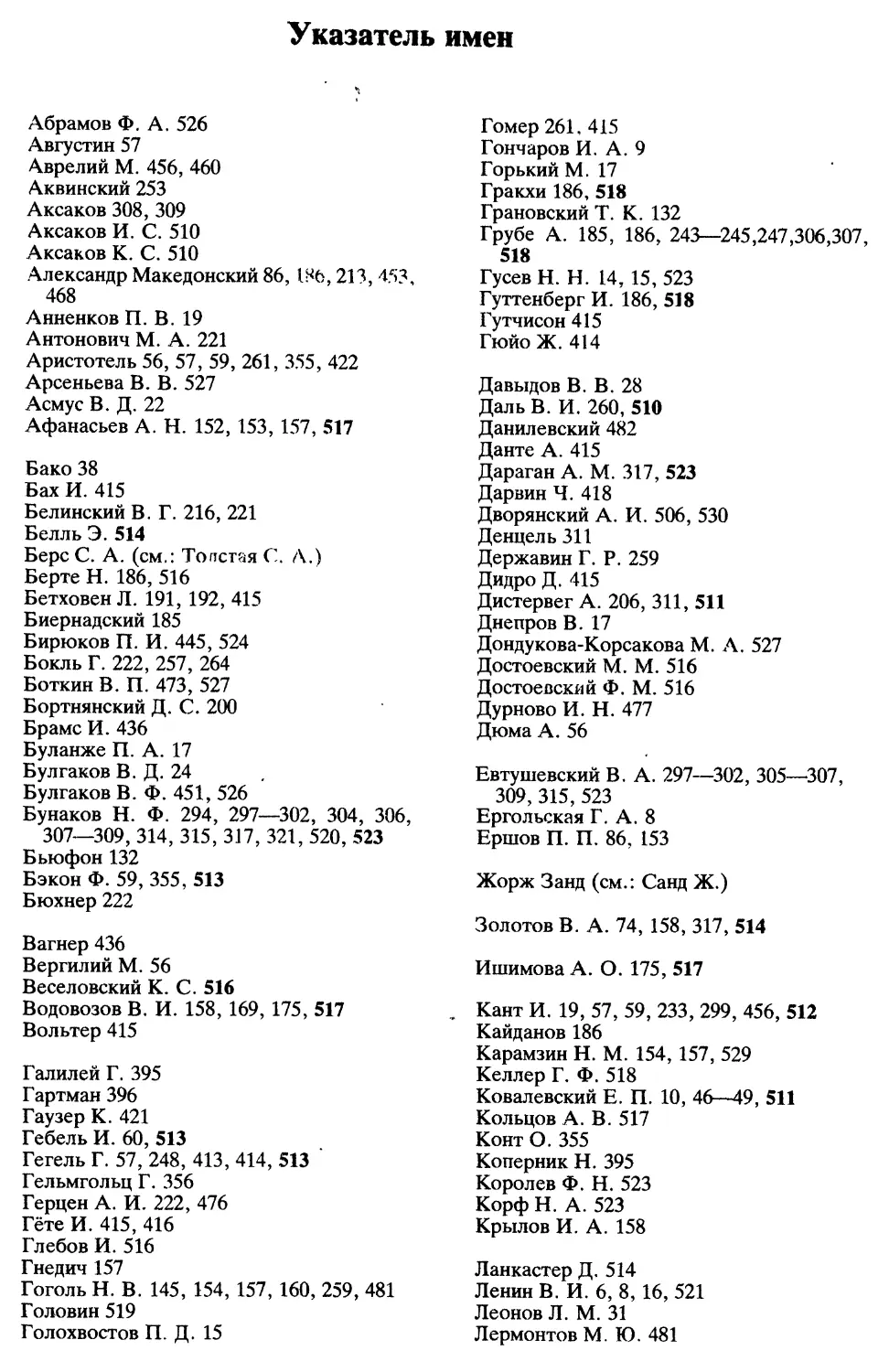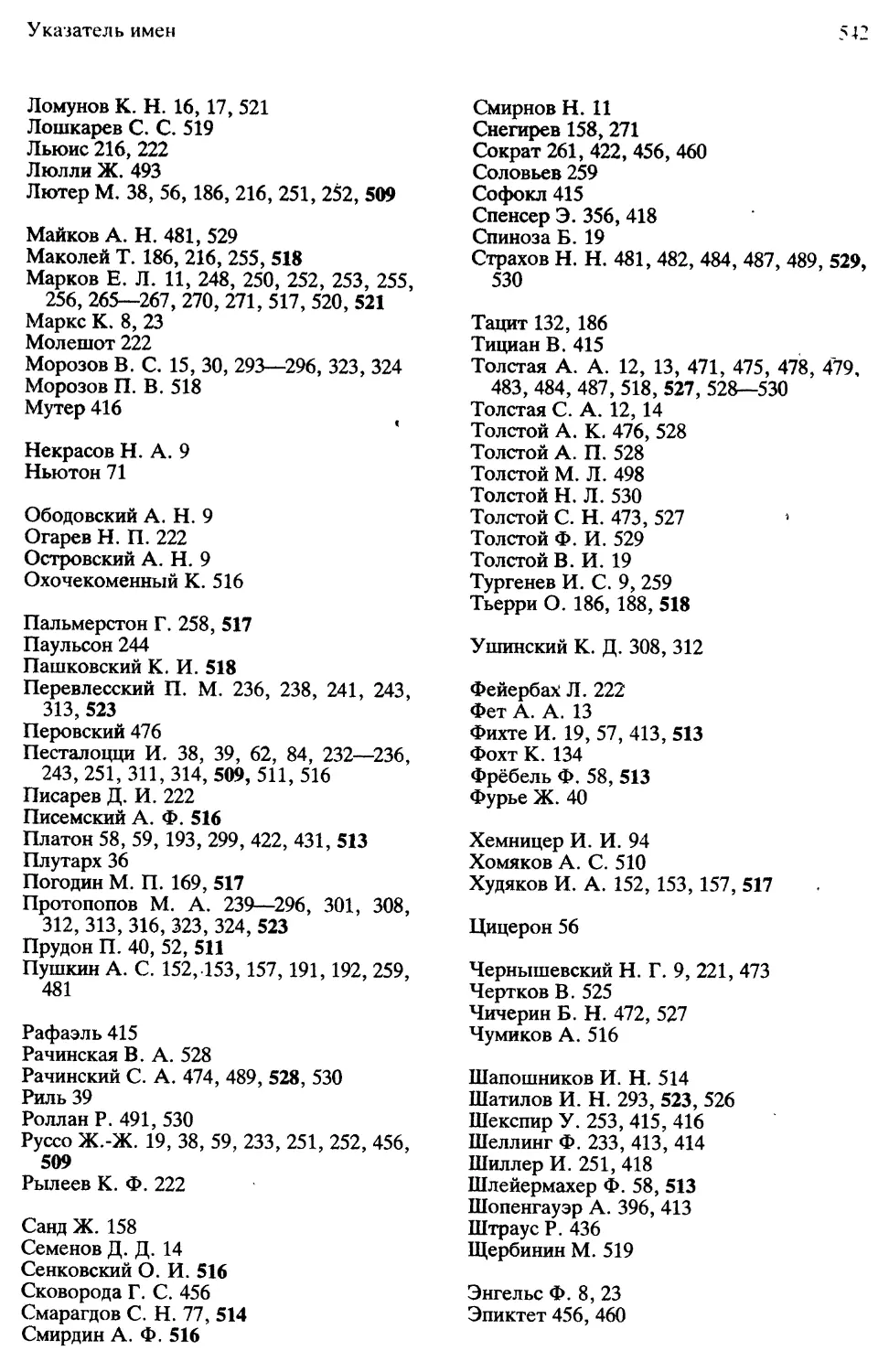Автор: Толстой Л.Н.
Теги: история народного образования и педагогической мысли педагогика
ISBN: 5-7155-0012-5
Год: 1989
Текст
Академия педагогических иаук СССР
Педагогическая библиотека
Л. Н. Толстой
Педагогические сочинения
Академия педагогических наук СССР
Педагогическая библиотека
Редакционная коллегия:
М. И. Кондаков (председатель), Ю. В. Васильев, Е. М. Кожевников, А. В. Петровский, А. И. Пискунов, В. С. Хелемендик, С. Ф. Егоров (ученый секретарь)
Л. Н. Толстой
Педагогические сочинения
Л
Москва «Педагогика» 1989
ББК747ПТ*
k/T53
Утверждено к печати Редакционной коллегией серии «Педагогическая библиотека» Академии педагогических наук СССР
Ответственный редактор
И. Ф. ПРОТЧЕНКО
Составитель
Н. В. ВЕЙКШАН (КУДРЯВАЯ)
Рецензент
доктор филологических наук Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ
Толстой Л. Н. _______________ „
Т 53 Педагогические сочинения/Сост. H. В. Вейкшан (Кудрявая). — М.: Педагогика, 1989. — 544 с. — (Педагогическая б-ка).
ISBN-5-7155-0012-5
Пер. 2 р. 20 к.
В настоящее издание вошли сочинения великого русского писателя, посвященные вопросам воспитания и обучения детей. В &нигу включены письма, статьи, дневниковые записи о народном образовании, задачах педагогики, детском чтении и учебных книгах для детей.
Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.
гр 4302000000-019 ББК 74 03
т Ш1)-й— 22‘89
ISBN 5-7155-0012-5
© Издательство «Педагогика», 1989
От составителя
Лев Николаевич Толстой (1828—1910) — великий русский писатель, мыслитель, публицист, много сил отдавший школе, детям, педагогике.
В своих статьях он стремился определить цели, содержание, методы обучения и воспитания, исходя из необходимости формирования творческого мышления и нравственного самосознания человека. Осмысление духовного, нравственного становления и развития человеческой личности явилось осно-' вой всего наследия писателя.
Общественный интерес к педагогической деятельности Л. Н. Толстого был всегда велик. Его педагогические сочинения входили во все прижизненные собрания сочинений писателя. В послеоктябрьское время наиболее полно они представлены в юбилейном издании Л. Н. Толстого в 90 томах.
В данный сборник вошли теоретические статьи Л. Н. Толстого: «О народном образовании», «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», «Дневник Яснополянской школы за 1862 г.» и др.
Впервые в сборник педагогических сочинений включены отрывки из философского, психологического трактата «О жизни» и трактата «Что такое искусство?», а также письма, что позволит читателю глубже понять педагогические искания писателя, решение им проблемы нравственного воспитания.
Настоящий однотомник печатается в основном по текстам полного юбилейного собрания сочинений (М , 1928— 1958). В примечаниях использованы сведения комментаторов предыдущих изданий. Сочинения писателя расположены в хронологическом порядке.
Предлагаемая книга позволит читателю полнее представить педагогические взгляды Л. Н. Толстого, его практическую деятельность и новаторский подход к решению проблем воспитания и обучения.
Автором вступительной статьи и комментариев, библиографии является Н. В. Вейкшан (Кудрявая).
Новое издание педагогических сочинений Л. Н. Толстого представит большой интерес для современной школы и педагогической науки.
Лев Толстой как педагог
Ежели в моих мыслях о народном образовании найдется хоть малая доля истины, которая войдет в сознание человечества и послужит основанием дальнейшему развитию новых, сообразных времени идей образования, я, не увлекаясь самолюбием, знаю, что большей доле того, что я сделаю, я буду обязан не своей личности, но тому обществу, в котором я должен был действовать.
Л. Н. Толстой
В творчестве Л. Н. Толстого, по словам В. И. Ленина, отразилась целая эпоха жизни русского общества. Он оставил уникальное педагогическое наследие: статьи, письма, дневник Яснополянской школы, «Азбуку», «Новую азбуку», русские книги для чтения.
В наше время, время преобразований в социальной и духовной жизни общества, педагогические поиски Л. Н. Толстого привлекают актуальностью постановки проблем обучения, воспитание подрастающего поколения, демократизации народного образования. Идею создания новой школы и воспитания творческой личности Л. Й. Толстой считал наиважнейшей, а занятия педагогикой — самым радостным и счастливым временем своей жизни. Возможность предоставить детям из народа полноценное образование, достойное человека нравственное развитие он связывал с прогрессом своей Родины и Человечества.
В раздумьях о новой школе и новой педагогической науке отразились те черты, о которых В. И. Ленин писал применительно к «позднему» Л. Н. Толстому, когда он «обрушился с Страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки», бичуя буржуазную науку и искусство, обличая фальшь и лицемерие, «которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь буржуазно-дворянского общества»1.
Критика Л. Н. Толстым буржуазной педагогической науки беспощадна, всеобъемлюща, универсальна. Его заключения носили «революционный характер, были созвучны требованиям эпохи, отвечали коренным интересам трудового народа»1 2. В. И. Ленин высоко ценил толстовское бесстрашное стремление «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс»3.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 40, 70.
2 Козлов Н. С. К вопросу о характере социальных исканий Л. Н. Толстого // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1972. С. 277.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 40.
Лев Толстой как педагог
R
!, Желание научить детей творчески мыслить, формировать их духовные потребности и нравственные качества, «спасти тонущих» будущих «Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых», которые «кишат в каждой школе», ставило Л. Н. Толстого перед загадкой: почему существовавшая школа не помогала этому? «Начиная учить детей в русской деревне, — откровенно писал он, — я не мог, не бывши набитым дураком, принять в основании ни немецко-протестантскую лютеровскую систему, ни классическую, ни иезуитскую, — ни новейшую теоретическую систему воспитания. Еще менее мог я серьезно принять за систему славянский курс букваря, часовника и псалтыря и связанные с этим курсом семинарские приемы» (наст, изд., с. 51).
Л. Н. Толстой решительно высказывался об исторической неразвитости педагогической науки середины XIX в., считая ее эмпирической, механистической, лишенной диалектики представлений о сущности психики и мышления ребенка^ И поэтому «...стремление к общим выводам было величайшее зло, остановившее развитие науки воспитания...», в результате чего «...дело образования отстало от других сторон развития человечества и какое значение вследствие этой отсталости получило в наше время...» (наст, изд., с. 51—52). Етб характеристики «ложной» методологии чрезвычайно лаконичны и выразительны: это «вечные законы разума», «неизменные готовые формы», «философия весьма сомнительного свойства», «квазифилософские теорийки», отсутствие «общего, разумного закона, критериума» и т. п. : ' Педагогические взгляды Л. Н. Толстого отразили философско-диа-лектический подход к вопросу о происхождении и развитии сознания/ человека, показали прогностичность размышлений писателя. Onbit * Яснополянской школы является экспериментом развивающего обучения, доказывающим выдвинутую Л. Н. Толстым гипотезу о прижиз- i ненном формировании всех человеческих способностей в различных видах деятельности® Определяя цель, содержание обучения и воспитания, а также способы организации учебного процесса, Л. Н. Толстой использовал понятие «деятельность». Это, бесспорно, свидетельствует о близости его педагогических взглядов современным научным психологическим теориям.
Но одновременно с понятием деятельности для объяснения процессов развития человека и культуры Л. Н. Толстой ввел понятие деятельностной нравственности, принимаемой человеком как вера,рёли- ♦ гия, смысл жизни. Как йзвестно, это ведущая идея нравственно-этического учения Л. Н. Толстого, которую еще предстоит глубоко и всесторонне изучить.
В изучении педагогических исканий писателя все еще сказываются некоторые методологические просчеты, являющиеся следствием прямолинейного, механистического толкования и упрощенного понимания ленинской концепции о наличии противоречий в его творчестве; поверхностного отношения к философской специфике взглядов; замалчивания непонятных положений или объяснения их апологией па-
Лев Толстой как педагог
8
триархал ьно-христианской морали, педагогическими парадоксами, слабостью Л. Н. Толстого-мыслителя в противовес гению художника и т. д. В определенной мере это сдерживало интерес к его педагогическим статьям, хотя именно в них сформулированы основы научных представлений о развитии человека, о природе познания, об отношении мышления к действительности.
Применение Л. Н. Толстым понятия деятельности к образованию, его «критериум» «опыт» и «свобода» и «закон движения вперед образования» могли быть объяснены и реализованы в практике Яснополянской школы только с позиций методологического принципа единства сознания и деятельности. Эти обстоятельства должны учитываться, так как педагогика писателя, по существу, оказалась той «реальной наукой», которая характеризует его мировоззрение. Такой методологический подход основывается на указаниях классиков марксизма-ленинизма (см. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 54—55). В частности, Ф. Энгельс подчеркивал, что научное мировоззрение воплощается не в системе отвлеченных философских положений, а в «самих реальных науках» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 35). Как известно, Л. Н. Толстой в начале 60-х гг. отказался от замысла написать теоретический педагогический трактат, а представления о сущности мыслительных процессов, источниках и движущих силах развития личности воплотил в педагогической деятельности.
* * *
Л. Н. Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 г. в усадьбе Ясная Поляна. Он принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец писателя — граф Николай Ильич Толстой, мать — Мария Николаевна — урожденная княгиня Волконская. У Л. Н. Толстого рано умерли родители, наиболее теплые чувства он сохранил к Т. А. Ергольской, которая занималась его воспитанием и заменила мать. С осени 1841 по весну 1847 г. он жил в Казани у своей опекунши, изучая в Казанском университете арабско-турецкую словесность. В 1847 г. Л. Н. Толстой оставляет университет. Причины своего ухода впоследствии он объяснит в романе «Воскресение»: «Он [Нехлюдов] вышел из университета, не кончив курса, потому что решил, что в университете ничему не научишься и что выучивание лекций о предметах, которые не решены, и пересказывание этого на экзаменах не только бесполезно, но и унизительно...»
Возвратившись в Ясную Поляну, которую он любил как «свою маленькую родину», молодой Толстой занимается самообразованием, обучает крестьянских детей в Яснополянской школе.
Затем Л. Н. Толстой служил на Кавказе, участвовал в обороне Севастополя (1854—1855), и Яснополянская школа, по-видимому, прекратила свое существование.
В ноябре 1855 г. Толстой возвращается в Петербург, где знако
Лев Толстой как педагог
9
мится с Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, А. Н. Островским, Н. Г. Чернышевским, объединившимися вокруг журнала «Современник». В этот, период жизни Л. Н. Толстой пишет рассказы «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки» и трилогию «Детство. Отрочество. Юность».
Первые художественные произведения молодого Толстого были высоко оценены Н. Г. Чернышевским, который, в частности, писал, что Л. Н. Толстого более всего занимает «самый психический процесс, его формы, его законы, диалектика души», что «психический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту, таинственный процесс, посредством которого вырабатывается мысль или чувство»1.
। В 1857 г. Л. Н. Толстой предпринял первое заграничное путешествие, посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию. В дневнике от 11—23 июля 1857 г. он записал: «Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде».
Интенсивная педагогическая работа Л. Н. Толстого началась с 1859 г., спустя 10 лет после первых занятий с крестьянскими детьми, когда он открывает бесплатную начальную школу в Ясной Поляне. Деятельность Л. Н. Толстого-педагога разделяется на три периода: первый — 1859—1862 гг., второй — 1870—1876 гг., третий — начиная с конца 80-х гг. и до конца жизни писателя.
СТТервый период педагогической деятельности (1859—1862) писатель назвал периодом «трехлетнего страстного увлечения... педагогическим делом». Это было время большого общественного подъема в России в связи с отменой крепостного права, и просветительскую деятельность среди крестьян Л. Н. Толстой рассматривал как выполнение своего долга перед народом. «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому^ что мы знаем»1 2.
Воспитание творческой личности ребенка Л. Н. Толстой считал важнейшей задачей школы. «Если ученик в школе, — указывал он, — не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» (наст, изд., с. 195^.
Учебно-воспитательная работа с детьми и внеклассные занятия учащихся Яснополянской школы непрерывно развивались, совершенствовались.
Школу посещало от 30 до 40 мальчиков и девочек 7—13 лет. Уроки
1 Чернышевский Н. Г Поли. собр. соч.: В 15 т. Т. III. М., 1947. С. 423—425.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 60. М., 1949. С. 325.
Лев Толстой как педагог
10
в школе начинались в 8 часов утра и зачастую продолжались до 2 часов дня; с 2 до 5 часов был обеденный перерыв. В сумерках занятия возобновлялись и заканчивались в 8—9 часов вечера.
Л. Н. Толстой подчеркивал, что дети из народа должны получить такие же знания, как и дети из привилегированного общества. По его мнению, крестьянские дети должны быть введены в мир искусства, благородных идей и переживаний. Обращаясь к образованным людям, Л. Н. Толстой писал: «Федька не тяготится своим оборванным кафта-нишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему 3 рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека» (наст, изд., с. 149)/Учебный план школы Л. Н. Толстой составлял с учетом того, чтобы его ученики получили широкий круг знаний. В Яснополянской школе учащиеся изучали 12 предметов: 1) чтение механическое и постепенное, 2) писание, 3) каллиграфию, 4) грамматику, 5) священную историю, 6) русскую историю, 7) рисование, 8) черчение, 9) пение, 10) математику, И) беседы из естественных наук, 12) закон божий.
Яснополянская школа, став педагогической лабораторией по изучению передового опыта творчества учителей и учащихся, их методов обучения, должна была, по мнению Л. Н. Толстого, показать эффективность его нового подхода. Он был уверен, что учебная деятельность детей, ее содержание определяют общее психическое развитие личности и возникновение так называемых высших способностей — «воображения, творчества, соображения», которым Л. Н. Толстой придавал решающее значение во всей познавательной и личностной сфере ребенка. В своих первых педагогических заметках (март 1860 г.) и в черновом наброске «О задачах педагогии» он выступил против господствовавшей в середине XIX в. «эмпирической, абстрактной» педагогики. При этом он полагал, что ему необходимо глубже познакомиться с постановкой народного образования в странах Западной Европы, педагогической наукой, учебной и методической литературой, с тем чтобы быть «на уровне» всего нового в педагогике. С этой целью он посещает Германию, Францию, Бельгию, Англию, Италию. Буржуазная цивилизация, пороки которой Л. Н. Толстой впоследствии очень тонко подметил, обобщил, произвела на него отрицательное впечатление. Он пришел к убеждению, что Россия не должна подражать капиталистическому Западу. Народное образование и педагогическая наука в России должны развиваться своим путемГВозвратив-шись в Россию, Л. Н. Толстой пишет прошение министру народного образования Е. П. Ковалевскому об издании педагогического журнала, а в мае того же года возобновляет свои занятия в Яснополянской школе. В дневнике от 12 мая 1861 г. об этом сохранилась запись: «Подал прошение о школе». «Я — приходский учитель».
Выполняя обязанности мирового посредника, Л. Н. Толстой почти во всех делах неизменно защищал нужды крестьян, выносил решения в
Лев Толстой как педагог 11
их пользу и добивался открытия школ по всему уезду. Эти школы существовали на средства, вносимые родителями, которые платили от 50 до 80 копеек серебром в месяц за обучение каждого ребенка. В этот период было открыто свыше 20 школ, в которых учителями работали студенты. Л. Н. Толстой, приглашая учителей, помогал им при составлении учебных планов, прддерживал и идейно направлял их педагогическую деятельность, старался улучшить их материальные условия.I
Л. Н. Толстой начинает издавать с 4 февраля 1862 г. ежемесячный журнал «Ясная Поляна», каждый номер которого включал педагогический раздел и рассказы для детей (всего вышло 12 номеров). Статьи в журнале Л. Н. Толстого раскрывали цели и задачй, содержание обучения в народной школе. Обращаясь к учителям, он говорил о необходимости формирования творческого мышления и нравственного сознания учащихся уже на первоначальном этапе обучения, делился мыслями о целесообразности приучать учащихся к самостоятельной деятельности при активной помощи учителей. В журнале публиковались статьи Л. Н. Толстого программного характера: «О народном образовании», «О методах обучения грамоте», «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», «Дневник Яснополянской школы» и др.
Работа в журнале оказалась трудоемкой: Л. Н. Толстой выступал и как автор, и как редактор. Он очень внимательно следил за тем, чтобы все материалы были не только актуальны, но и написаны хорошим языком. Л. Н. Толстой призывал «сословие педагогов» знакомить широкого читателя с ценным педагогическим опытом, наблюдениями. По мнению критика, философа и психолога Н. Н. Страхова, журнал отличался необыкновенным, поэтическим «чутьем всех явлений живой души» русских детей: «Дух детской невинности,„свежести и чистоты, которого обыкновенно вовсе неслышно в педагогических журналах, в «Ясной Поляне» схвачен весьма глубоко»1.
Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого высоко оценивалась теми, кто посещал Яснополянскую школу и наблюдал за занятиями учеников. Так, один из знакомых Л. Н. Толстого — учитель Тульской гимназии Е. Марков писал: «Мы следили за изумительными успехами его школьников, среди которых иные бойкие мальчуганы, оторванные прямо от бороны или от стада овец, всего через несколько месяцев учения уже могли свободно писать довольно грамотные сочинения... Этими почти невероятными результатами Яснополянская школа была обязана:.. исключительно обаятельному таланту преподавания и внутреннему жизненному огню Льва Николаевича, который непобедимо захватывал и поднимал с собой в высоту и ширь самый вялый ум, самое невпечатлительное сердце»1 2.
1 Цит. по кн.: Смирнов Н. Лев Толстой — редактор журнала «Ясная Поляна». Тула, 1972. С. 35.
2 Марков Е. «Живая душа» в школе И Вестник Европы. 1900. Кн. 2. С. 582.
Лев Толстой как педагог
12
Распространение образования среди крестьян, организация школ, рассмотрение споров между помещиками и крестьянами, в которых, как правило, он вставал на защиту крестьян, издание журнала «Ясная Поляна» не вызывали одобрения со стороны правительственных учреждений. Неприязненно относились к журналу «Ясная Поляна» ведущие педагогические журналы России — «Учитель» и «Журнал министерства народного просвещения», замалчивая деятельность Л. Н. Толстого. Из-за цензурных придирок журнал часто выходил с большими опозданиями.
Утомленный напряженными занятиями в школе, изданием журнала «Ясная Поляна» и огромной работой по организации народных школ, Л. Н. Толстой 12 мая 1862 г. выехал из Ясной Поляны в Самарскую губернию, в башкирское кочевье, для отдыха и лечения. Во время его отсутствия по распоряжению властей в Ясной Поляне был произведен обыск: искали тайную типографию, нелегальную литературу1.
Бесцеремонное вмешательство жандармов потрясло писателя. В письме А. А. Толстой он писал: «Народ смотрит на меня уже не как на честного человека, мнение, которое я заслуживал годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся. «Что брат? Попался! Будет тебе толковать нам об честности, справедливости; самого чуть не заковали»1} Обыск, постоянные цензурные придирки при издании журнала, обстоятельства личной жизни в связи с женитьбой на Софье Андреевне Берс, начало работы над романом «Война и мир» — все это привело к тому, что Толстой в 1862 г. прекратил свою работу в Яснополянской школе.
В работах периода 1860—1862 гг. Л. Н. Толстой пытается ответить на ряд важных вопросов педагогики: определить цели и задачи обучения и воспитания, разработать содержание образования, обосновать новый, свободный тип общения между учителями и учащимися. Предельно откровенный на страницах своего дневника, Л. Н. Толстой замечал, что он не был услышан в полной мере современниками. При этом он выражал надежду, что будущее поколение поймет и оценит истинный смысл его педагогических идей.
' В 1863 г. Л. Н. Толстой приступил а работе над «Войной и миром» (1863—1869). В «великой книге жизни» писатель продолжал анализировать психологические особенности личности, поступки и действия своих героев, одновременно обдумывая «педагогические начала».
Это позволяло подойти к пониманию сущности человека. Он пытался изложить свои взгляды в виде отдельной книги, делал записи в дневнике, делился педагогическими размышлениями в письмах к друзьям и близким. «Нынче утром записал кое-что по педагогике» (апрель 1865 г.); «... думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать все об этом деле» (сентябрь 1865 г.); «... не перестаю
1 Толстой Л Н Поли. собр. соч Т. 60. С. 438
Лев Толстой как педагог
13
думать об этом и, ежели бог даст жизнь, надеюсь еще из всего этого составить книгу...» (письмо А. А. Фету, май 1865 г.); «Я все много думаю о воспитании, жду с нетерпением времени, когда начну учить своих детей, собираюсь тогда открыть новую школу и собираюсь написать резюме всего того, что я знаю о воспитании и чего никто не знает или с чем никто не согласен» (курсив мой — Н. В.) (письмо А. А. Толстой, ноябрь 1865 г.).
/'Еще работая над романом «Война и мир», Л. Н. Толстой, в 1868 г., составляет план книги для чтения в народной школе. Этот замысел был результатом его пристального внимания и высокой требовательности к учебной литературе для детей. Еще ранее в ряде статей Л. Н. Толстой отмечал, что литературы для детей нет. Уже в журнале «Ясная Поляна» приложением к педагогическим статьям печатались маленькие рассказы, часть из которых была написана яснополянскими учениками под руководством Л. Н. Толстого, i
После завершения романа «Война и мир» начинается второй период педагогической деятельности Л. Н. Толстого (1870—1876). Он приступает к составлению «Азбуки» — своеобразного комплекса учебных книг для первоначального обучения детей чтению, письму, грамматике, славянскому языку и арифметике. «Азбука» состояла из четырех книг. к
Первая книга включала собственно азбуку, т. е. букварь, тексты для первоначального чтения, славянские тексты, материалы для обучения счету, методические указания для учителя.
Следующие три книги включали художественные и научно-популярные рассказы по истории, географии, физике, естествознанию. В каждой из них имелись тексты для изучения церковно-славянского языка и материалы по арифметике, содержание материалов усложнялось в соответствии с возрастом учащихся. Это была своеобразная энциклопедия знаний для первоначального этапа обучения^ В популярной форме раскрывались понятия физики, химии, ботаники, зоологии. Многие рассказы имели проблемный характер, содержание научных понятий связывалось со знакомыми детям явлениями. Л. Н. Толстой в своих рассказах избрал своеобразную форму воздействия на чувства детей: плачущие, страдающие растения, разговаривающие животные. / р Педагогическая общественность с нетерпением ждала появления7 «Азбуки». Однако первые рецензенты, отмечая выдающиеся достоинства рассказов для детей, осуждали методику обучения грамоте, предложенную Л. Н. Толстым, и отмечали, что отдел арифметики был написан неудачно. Министерство народного просвещения рекомендовать «Азбуку» Л. Н. Толстого для школ отказалось.
'Неудача, постигшая «Азбуку», побудила Л. Н. Толстого написать заново краткое и доступное для детей пособие, по которому они могли бы научиться грамоте. «Новая азбука», вышла в свет в мае 1875 г. и значительно отличалась от прежнего пособия. Ее можно было использовать при различных способах обучения грамоте: слуховом, звуко
Лев Толстой как педагог
14
вом, буквоедагательном и даже так называемом методе целых слов. Если в «Азбуке» букварь составлял лишь первую часть комплекса учебных книг, то «Новая азбука» становилась самостоятельным учебником. Остальные части «Азбуки» были переработаны в отдельные учебники: «Арифметика» и получившие мировую известность «Русские книги для чтения». «Новая азбука», получив широкое признание, была одобрена министерством народного просвещения и рекомендована «для всех учебных заведений, где обучение начинается с азбуки»!
Известный педагог Д. Д. Семенов в 80-х гг. писал, что рассказы Толстого для детей представляют собой верх совершенства как в художественном, так и в психологическом отношении. «Что за выразительность и образность языка, что за сила, сжатость, простота и вместе с тем изящество речи, что за краткость и будто отрывочность каждой фразы, каждого отдельного рассказца! Какая русская, народная, наша собственная [речь]! В каждой мысли, в каждом рассказце есть и мораль... притом она не бросается в глаза, не надоедает детям, а скрыта в художественном образе, а потому так и просится в душу ребенка и глубоко западает в ней»1.
В период создания «Азбуки» Л. Н. Толстой возобновил занятия с крестьянскими детьми, стараясь проверить свой метод обучения грамоте. С. А. Толстая так писала об этих занятиях своей сестре: «В... доме у нас целая толпа учителей народных школ, человек 12 приехали на неделю. Левочка им показывает свою методу учить грамоте ребят, и что-то они там обсуждают; навезли ребят из Телятинок и Груманта, таких, которые еще не начинали учиться, и теперь вопрос о том, как скоро они выучиваются по левочкиной методе. Роман [«Анна Каренина»] совсем заброшен, и это меня огорчает»1 2. Вместе с учащимися в Ясной Поляне собирались учителя народных школ для обсуждения методики Л. Н. Толстого. I
Обучая крестьянских детей, Л. Н. Толстой стремился развить их самодеятельность и творчество, помочь им овладеть основами грамотности, а также дать им возможность продолжить свое образование. Учитывая нехватку квалифицированных учителей в России, он решил летом 1875 г. организовать двухгодичные педагогические курсы, или учительскую семинарию. Предполагалось, что на двухгодичных курсах будут учиться не менее 50 человек, окончивших народную школу и сдавших соответствующие экзамены при зачислении на курсы. За первые 6 месяцев слушатели должны были изучить арифметику, русский и славянский языки, географию, геометрию, черчение, землемерие, пение, алгебру, чистописание, а также пройти практику пробных уроков в Яснополянской школе.
План и содержание педагогических курсов Л. Н. Толстой направил
1 Семенов Д. Д. Избр. пед соч. М., 1953. С. 176.
2 Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862—1877). М., 1927. Труды Толстовского музея. С. 175.
Лев Толстой как педагог
15
на рассмотрение в управление московского учебного округа. Но несмотря на то что после длительной ведомственной переписки разрешение было получено в мае 1876 г. [открытие курсов предполагалось провести в сентябре 1877 г.], успеха это предприятие не имелся Как отметил секретарь и биограф писателя Н. Н. Гусев, незначительное число желающих поступить на педагогические курсы «совокупно с другими обстоятельствами» заставили Л. Н. Толстого отказаться от своего намерения1.
В первой половине 70-х гг. Л. Н. Толстой, активно занимаясь педагогической деятельностью, преподает в Яснополянской школе, как член училищного совета Крапивенской земской управы добивается прибавки оплаты труда учителей в открытых крестьянских школах, заботится о снабжении школ учебниками, хрестоматиями, грифельными) досками, карандашами, перьями, прописями и т. п. <<3амучили хлопоты, заботы... Хлопоты же больше все педагогические — и теория, и практика», — писал Л. Н. Толстой в письме П. Д. Голохвостову об этом времени1 2.
Споры Л. Н. Толстого с учителями по вопросам «сравнительной эффективности» различных методов обучения грамоте привели к тому, что в одной из фабричных школ на Девичьем поле в Москве 17 января 1874 г. был дан урок по методу Л. Н. Толстого. Московский комитет грамотности предложил организовать дальнейшую проверку в двух школах при уравнивании ряда условий обучения (одинаковый возраст учеников, одинаковая успеваемость). По методу Л. Н. Толстого работал учитель Морозов. Проверка продолжалась 7 недель и не дала сколько-нибудь определенных результатов. Экзаменационная комиссия не приняла окончательного решения. Л. Н. Толстой выступал в комитете грамотности в защиту своего метода. Сочувственно относившийся к педагогическим взглядам Л. Н. Толстого председатель Московского комитета грамотности попросил его изложить письменно высказанные им мысли. Л. Н. Толстой согласился на это предложение. Так появилась его статья «О народном образовании», в которой он проанализировал причины неудачной экспериментальной проверки и со всей остротой вновь поставил вопрос о необходимости решения, «чему и как учить в народной школе». При этом понятие «деятельность» он использовал в качестве объяснительного принципа развития культуры и человека.
Как показала развернувшаяся в печати дискуссия, современники не поняли новизны предложений Л. Н. Толстого, насколько непохожи были они на привычные стандартные подходы.
Во второй половине 70-х гг. Толстой на ряд лет отошел от педагогической деятельности в связи с работой над романом «Анна Каренина».
На рубеже 70—80-х гг. в мировоззрении писателя произошел пере
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 62. М., 1953. С. 119—121.
2 Там же. С. 197—198.
Лев Толстой как педагог
16
ворот: «Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом»1.
В советском толстоведении этот духовный кризис Л. Н. Толстого приравнивается к «духовной революции, которая соответствовала историческим сдвигам в народной жизни, в общественном сознании и по-своему предвещала будущие революционные взрывы во всем устройстве жизни»1 2. Главная направленность духовного кризиса связывалась в основном с демократическим и социальным пафосом дальнейшего творчества писателя. При этом не затрагивался такой важный момент в творчестве Л. Н. Толстого, как понимание им в это время сущности человека, оценки его возможностей.
К сожалению, философские размышления писателя этого периода оказались менее всего изученными.
К/ Третий период педагогической деятельности Л. Н. Толстого (конец 80-х — 1910 г.) совпадает с периодом, когда, по словам В. И. Ленина, «Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку»3. S
Л. Н. Толстой развил и обосновал «обвинительный акт» против царского самодержавия, он писал: «Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства: 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жесткость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция»4.
Этот обвинительный акт правительству Л. Н. Толстой выдвинул как в художественных произведениях этого времени: романе «Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича», пьесах «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», так и в публицистических: «Исповеди» (1879— 1881), трактате «Так что же нам делать?» (1882—1886), статьях о переписи московского населения (1882), о голоде (1891—1893), трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893) и «Рабство нашего времени» (1900), статьях о науке и искусстве. В этих произведениях Л. Н. Толстой «срывал все и всяческие маски», вскрывал наиболее кричащие противоречия современной ему действительности, весь ход его рассуждений приводил к признанию классовой борьбы и революции в том случае, если правительство не уступит. Как признает ряд современ
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. 40.
2 Ломунов К. Н., ОпулъскаяЛ. Д. И Коммент, к Соч. Л. Н. Толстого: В 22 т. Т. 16, 17. М., 1984.
3 Ленин В. И. Поли..собр. соч. Т. 20. С. 70.
4 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 50 М., 1952. С. 76—77.
;> 1 олстои как ледапм
17
ных исследователей художественного и публицистического наследия Л. Н. Толстого, он даже заимствовал у революционеров аргументацию для доказательства «последнего предела» непереносимости зла и необходимости революционного переворота (К. Ломунов, В. Днепров).
/Именно в этот период Л. Н. Толстой обосновал новую для своего времени идею о нравственной революции на основе свободного само-улучшения личности, которая была направлена против первоначально выдвинутого им положения постепенного «выпрямления» «кривых» людей. В трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893) Л. Н. Толстой доказывал, что духовный ненасильственный переворот может произойти со скоростью, сравнимой со скоростью революционного процесса.
Подлинный демократизм, гуманизм и народность его творчества поставили Л. Н. Толстого в это время, по словам М. Горького, в число тех, «на кого смотрит весь мир, из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянутся живые, трепетные нити, его душа — для всех и навсегда». Vх
Для пропаганды своих идей Л. Н. Толстой использовал издательство «Посредник», идейным вдохновителем и организатором которого он выступил. Придавая исключительно важное значение роли доступной и высокохудожественной литературы для простого народа, •Л. Н. Толстой напечатал свои рассказы «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и ранний рассказ «Кавказский пленник» и др. К работе издательства «Посредник» Л. Н. Толстой привлекал известных писателей и художников.
4 В замыслы Л. Н. Толстого, по свидетельству одного из знакомых педагогов — П. А. Буланже, написавшего впоследствии очерк педагогической деятельности Л. Н. Толстого к посмертному изданию его педагогических сочинений в 1914 г., а в те годы жившего недалеко от Ясной Поляны, входило создание энциклопедического словаря для крестьян и целого ряда учебников по всем отраслям знаний. Л. Н. Толстой даже поручил П. А. Буланже составить программу такого издания. Чувствуя, что эту работу он не успеет завершить, Л. Н. Толстой перешел к изданию своеобразных компиляций, переложений мыслей, изречений, афоризмов писателей, ученых, публицистов, в которые включались и собственные мысли и афоризмы, в том числе по вопросам воспитания. Так, в издательстве «Посредник» Л. Н. Толстой издает «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни», начинает работать над своеобразным пособием для родителей и воспитателей («Детский круг чтения») и в последний год своей жизни пишет ряд рассказов «Детская мудрость».
Статья «Беседы с детьми по нравственным вопросам» была опубликована в журнале «Свободное воспитание» (1908), в которой рассказывалось об опыте занятий писателя с мальчиками по вопросам морали в Ясной Поляне в 1906—1908 гг. Этому писатель придавал большое значение. Об этом сохранилась марта 1907 г. «За
Лев Io it ши imi. иезагог
это время был занят только детскими уроками. Чем дальше иду, то вижу большую и большую трудность дела и вместе с тем большую надежду успеха. Все, что до сих пор сделано, едва ли годится. Вчера разделил на два класса. Нынче с меньшим классом обдумывал»1. 5 апреля того же года: «детские уроки и приготовление к ним поглощают меня всего. Замечаю ослабление сил физических и умственных, но обратно пропорционально нравственным. Хочется многое писать, но многое уже навсегда оставил неоконченным и даже не начатым»1 2.
До последних лет жизни Л. Н. Толстой не утратил желания заниматься педагогической деятельностью. 14 сентября 1909 г. в Крекшине Л. Н. Толстой встретился с народными учителями и учительницами земских школ Звенигородского уезда Московской губернии, тщательно готовился к этой беседе, написав предварительно текст в виде небольшой статьи «В чем главная задача учителя?». Даже в период величайшего душевного разлада, когда писатель решил окончательно уйти из Ясной Поляны и порвать с теми условиями жизни, которые противоречили его учению, 25 октября 1910 г. (за три дня до ухода) Л. Н. Толстой утром посетил Яснополянскую школу и принес учащимся экземпляры детского журнала «Солнышко», попросив учителя раздать эти книги детям. В два часа дня Л. Н. Толстой снова был в школе, хотел побеседовать с детьми по поводу книг «Солнышко». Узнав, что учитель еще не успел передать детям книги, Л. Н. Толстой сам сделал это.
Деятельность Л. Н. Толстого на поприще народного образования являла пример гражданского мужества и патриотизма. Подняв свой голос в защиту полноценного образования детей из народа, писатель считал, что путь развития творческих способностей и высоконравственного сознания человека приведет к взаимопониманию всех людей на планете.
♦ * * \
Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого самым тесным образом связана с исследованием проблемы личности в его художественных и публицистических произведениях. Очень рано Л. Н. Толстой подошел к необходимости решения вопроса о смысле человеческого существования, о сущности человека, которую он связывал с нравственностью, умением подчинить плотское сознанию, личное — благу других, стремлением осмыслить зависимость своих поступков от окружающих обстоятельств, сделать свою жизнь «не произведением обстоятельств, а произведением души». «Человек состоит из двух различных деятельностей или способностей желания, — писал он, — одно из которых ограничено и зависимо и приходит от тела, и составляет все то, что мы называем потребностями человека, вторая деятельность есть способ
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 56. М., 1937. С. 18.
2 Там же. С. 23.
к в i о к ion как ле i uoi 1 *>
ность желания, или воля неограниченная, самоопределяющаяся и сама себя удовлетворяющая. Эта последняя должна быть вечно преобладающей»1.
Эти размышления позволяют сделать вывод о том, что Л. Н. Толстой самостоятельно «проникает в диалектику взаимоотношения сознания и бытия личности», подходит к идее «единства сознания и жизни как непреложному условию самоосуществления личности, тем самым взявшись за решение самой сложной философской проблемы»1 2.
Он был чрезвычайно самобытен и самостоятелен в своем мышлении, соглашаясь или не соглашаясь с той или иной позицией философа, в ряде случаев переосмысливал, обогащал аргументами то или иное положение, использовал для подкрепления своих выводов или оставлял без внимания то, что его не интересовало. Если же какое-то положение противоречило его взглядам, он выступал критически, без оглядок на авторитеты.
Такая позиция чрезвычайно важна при анализе педагогических взглядов Л. Н. Толстого, в которых нашли отражение симпатии Л. Н. Толстого к таким философам, как Спиноза, Руссо, Кант, Фихте, острополемические высказывания против Гегеля и особенно только еще утверждавшихся материалистических представлений в понимании сущности человека.
«Впитывая голоса эпохи», подвергая критическому анализу ее идеологическое содержание, Л. Н. Толстой вырабатывал свое мирови-дение, миропонимание. По выражению П. В. Анненкова, в нем совершалась «гигантская внутренняя работа», результаты которой и нашли выражение в педагогических произведениях Л. Н. Толстого и в его педагогической деятельности.
В развитии наук о человеке Толстой-педагог выявил болевые точки, которые в полной мере только сейчас осознаются педагогами, психологами, философами. В педагогических статьях он выступал против концепции человека «ощущающего», человека как системы потребностей, «идеально вычисленного абстракта». Главные «критериумы» педагогики, по Л. Н. Толстому, — «опыт и свобода», а задача школы — воспитание творческой, нравственной личности.
Утверждению образа духовного, деятельностного, нравственного человека, по мнению писателя, мешали стереотипы мышления, к которым он относил различные варианты биосоциального детерминизма происхождения и функционирования сознания, которые и поныне остаются нерешенными в полной мере в психологии., Л. Н. Толстой неоднократно подчеркивал, что обучение и воспитание, нацеленные на биологический («животный») уровень в структуре личности, являются тормозом нравственного, творческого развития детей и при
1 Толстой Л, Н. Поли. собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1928. С. 234.
2 Толстых В. И. Человек человечества И С чего начинается личность. М., 1983. С. 162—163.
Лев 1 ож гои как под и о«
водят к тому, что «все высшие способности — воображение, творчество, соображение, уступают место каким-то другим, полуживотным способностям — произносить звуки независимо от воображения, считать числа сряду: 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению подставлять под них какие-нибудь образы; одним словом, способность подавлять в себе все высшие способности для развития только тех, которые совпадают со школьным состоянием — страх, напряжение памяти и внимание. Всякий школьник до тех пор составляет диспарат (несоответственность) (перевод Л. Н. Толстого. — Н. В.) в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного состояния. Как скоро ребенок дошел до этого положения, утратил всю независимость и самостоятельность, как только проявляются в нем различные симптомы болезни — лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т. п., так он уже не составляет диспарат в школе, он попал в колею, и учитель начинает быть им доволен» (наст, изд., с. 62).
На примере обучения и воспитания крестьянских детей, учащихся Яснополянской школы, Л. Н. Толстой показал, что их творческие и нравственные возможности раскрываются только тогда, когда они становятся участниками педагогического процесса в обстановке непринужденности и сотрудничества, эмоциональной привлекательности. Он был уверен, что эти дети способны усвоить и понять все то, что необходимо знать образованному человеку, ставить и посильно разрешать сложные жизненные вопросы и проблемы.
Исследование идеи духовного нравственного человека шла одновременно с материалистическим решением основного вопроса философии, видением сущности объективного идеализма — как самосознания отчужденного мышления, когда реальный мир и реальное человеческое мышление оказываются производными, вторичными. Л. Н. Толстой показал социальные корни таких философских иллюзий, которые служат оправданием неравенства и приводят к мистическим выводам. Он принимает определение, что «жизнь есть движение», «жизнь есть основа всего», «жизнь наша связана с жизнью других людей и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Жизнь — тем более жизнь, чем теснее ее связь с жизнью других, с общей жизнью»1.
В трактате «О жизни» Л. Н. Толстой обосновал необходимость отказа от эгоцентризма для нового понимания проблемы личности. Оценивая состояние развития психологии, он отметил, что человечество выросло из «детского платья» понимания сущности человека, склоняющегося либо к философской антропологии, опирающейся на птоломеевский стереотип мышления, замкнувший поиски сущности человека в психических внутренних переживаниях и отправлениях «биологической личности», и «коперниковский или галилеевский подходы», когда процесс порождения личности рассматривается как со
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 53. С. 63; Т. 29. С. 871; Т. 65. С. 220.
Jk p io клон как педагог
Ji
циальный1. По его мнению, надо идти дальше, т. е. практически к отказу, выходу за пределы стереотипов мышления, на основе которого возможны были различные варианты биосоциального дуализма в объяснении сущности личности, но невозможно было дать объяснение бескорыстному, нравственному действию человека. Л. Н. Толстой уже в 80-х гг. отметил снижение нравственного потенциала общества и открыто, резко заявил, что это связано с учением о потребностях, механистическим пониманием сознания и неправильно сформулированными целями жизни, сводимыми к удовлетворению личных потребностей. 'Содержание жизни каждого человека состоит в постоянном выборе поступков на основе преодоления противоречия между необходимостью сохранения и утверждения себя, с одной стороны, как «эго-ин-дивида», с другой — как духовной, нравственной личности. В этом Л. Н. Толстой и видит диалектику формирования самосознания, в которой побеждает «дух», но победа эта никогда не окончательная, она-то и составляет сущность жизни как отдельного человека, так и всего человечества1 2. Постепенно Л. Н. Толстой приходит к мысли, что концепция духовного, нравственного человека возможна только при признании равноценности бытия других людей и связывает рождение личности с развитым самосознанием. Духовный, нравственный человек рождается в результате бескорыстной любви к людям, животным, неживой природе. Любовное, нравственное действие, направленное на другого, возвращается к нему. Закон служения каждого всем и потому всех каждому. В ходе таких размышлений и рождалась «идеология любви» — деятельностной нравственности, которая рассматривалась Л. Н. Толстым как объективно существующая закономерность, нравственный закон, закон разума, на основе которого только и возможны действительный прогресс Человечества и сохранение жизни на планете.
И цель, и смысл жизни человека во «взаимном служении существ друг другу, бесконечном просветлении и единении существ, перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества». Нравственность — это и есть сущность человека, его родовой признак. Понятие любви как деятельностной способности создает возможность понять смысл неоднократно повторявшихся Л. Н. Толстым слов о том, что накопленный тысячелетиями нравственный опыт может присваиваться только в деятельности любви, т. е. при альтруистическом стиле общения.
Жизнь в соответствии с нравственным законом — это постоянный выбор поступков, постоянная самооценка, а любовь (деятельность) — это форма самореализации личности, дающая эмоциональное удовле
1 Используемые Л. Н. Толстым художественные метафоры «птоломеевский», «коперниковский» или «галилеевский» подходы в решении вопросов генезиса личности, детерминации индивидуального сознания в настоящее время встречаются в психологической литературе.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч Т. 40. М., 1956. С. 111.
1ев 1 ок гои как nejaroi
творение человеку в его жизни. В третьем периоде педагогической деятельности для Л. Н. Толстого характерно, что, сближая понятия «творчество», «любовь», «нравственность», он сделал попытку с помощью понятия «любовь» (понимаемого как «деятельностная способность», «деятельностное чувство») объяснить способ познания мира человеком и рождения личности. В октябре 1893 г. он записал в дневнике:
«Есть два способа познания внешнего мира: один самый грубый и неизбежный способ познания пятью чувствами. Из этого способа познания не сложился бы в нас тот мир, который мы знаем, а был бы хаос, дающий нам различные ощущения. Другой способ состоит в том, чтобы, познав любовью к себе себя, познать потом любовью к другим существам эти существа; перенестись мыслью в другого человека, животное, растение, камень даже. Этим способом познаешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. Этот способ есть то, что называют поэтическим даром, это же есть любовь»1.
Но как сделать, чтобы человек стремился к бескорыстному нравственному поступку, как создать такие условия? Идеология любви Л. Н. Толстого и является обоснованием необходимости альтруистического стиля общения, при котором у человека появляется потребность в нравственном поведении, а ситуация доброты и доверия возникает только в совместной деятельности.
Основываясь на этих идеях, Л. Н. Толстой высказал мысль о необходимости нравственного совершенствования человека, а затем и нравственной революции в обществе. Альтруистический стиль общения создает условия, при которых человек стремится к самоограничению, преодолевает все новые препятствия, ощущает себя «автором» своей судьбы. Жизнь его становится произведением не «обстоятельств», а разума, воли и совести.
Концепция нравственной жизни должна приниматься человеком как «синоним силы жизни, осмысленного существования, условия сознающей свое назначение деятельности»1 2. Так называемая религиозная терминология Л. Н. Толстого сводилась, по его словам, к следующему: «Когда я говорю религиозный человек, я имею в виду просто высоконравственный человек»; «Когда я говорю бог, я имею в виду добро»; «Когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца нравственные отношения между людьми».
При рассмотрении вопросов развития культуры и человека перед Л. Н. Толстым во всей сложности и многообразии встали проблемы эстетики. Он пытался определить цель и назначение искусства в жизни человека и человечества. Ничтожные произведения, по мысли писателя, извратили в большинстве людей способность заражаться истин
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 52. М., 1952. С. 101.
2 Асмус В. Д. Религиозно-философские трактаты Л. Н. Толстого И Предисл. к кн.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. М., 1957. С IX—X.
Лев То четой как педаго!
23
ными произведениями искусства и лишили их возможности познать высшие чувства. Поэтому люди воспитываются и живут без «смягчающего, удобряющего действия» искусства, не двигаются к совершенству, не добреют, а становятся при высоком развитии внешних средств «все дичее, грубее, жестче». Искусство должно быть основано на «общечеловеческих чувствах, доступных всем — самых сложных и трогательных — отношениях супругов, родителей к детям, детей к родителям, соотечественникам, иностранцам, к земле, к животным, растениям, к ненападению, обороне». Наука и искусство как сердце и легкие связаны между собой, наука вводит в сознание истины, «искусство переводит эти истины из области знания в область чувств» (наст, изд., с. 437).
В трактатах «Об искусстве», «Что такое искусство» Л. Н. Толстой дал ряд важных определений роли искусства в воспитании, в выработке гуманного, нравственного отношения детей к родителям, соотечественникам, иностранцам, земле, животным, растениям и т. д.
Анализ всех существующих эстетических теорий позволил Л. Н. Толстому дополнить свою концепцию человека и обосновать цель истинного искусства, одного из средств общения людей, а потому и прогресса, т. е. «движения вперед человечества к совершенству» (наст, изд., с. 425). «Искусство есть очень определенный и необходимый в каждое данное историческое время орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувства и потом в дело и жизнь» — такое заключение писателя совпадает с оценкой роли искусства в современной эстетике.
Л. Н. Толстой считал, что невежественность современного ему мира и состоит в том, что даже «самые образованные люди знают множество того, чего никому не нужно знать, и не знают того, что прежде всего нужно знать всякому человеку». Он выдвигает задачу создания науки человековедения, цель которой — «указывать различные образцы приложения этого (нравственного. — Н. В.) сознания к жизни, а искусство должно переводить это сознание в чувства» (наст, изд., с. 443). Наука человековедения — это, по его мнению, «наука жизни», на основе которой «человек должен учиться, как поступать, как пользоваться, как воспитывать, как относиться». Высказывания Л. Н. Толстого о роли нравственных принципов развития всего совокупного научного знания, направленного на единение людей, чрезвычайно актуальны и соответствуют современным требованиям гуманизации наук.
Защита Л. Н. Толстым гуманистического назначения морально-этических начал и принципов научного знания совпадает с мыслью К. Маркса о том, что в науке будущего исчезнет деление на естественнонаучное и человеческое знание и человек станет предметом «единой науки»1.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 124.
Лев Толстой как педагог
24
В письме к В. Д. Булгакову «О воспитании» (1909), которое явилось как бы итогом педагогических и философских размышлений Л. Н. Толстого о человеке, он показывает, что путь к преодолению философской проблемы противоречия между конечным, преходящим существованием личности и бесконечным существованием мира лежит в понимании того, что всеобщее родовое, а потому «бесконечное» в человеке — нравственность. Поэтому нравственное воспитание молодежи он связывает с прогрессом человечества, это объективная необходимость развития человеческой культуры.
* * ♦
Велика роль Л. Н. Толстого в разработке теоретических проблем педагогической науки. Он стремился определить ее задачи, выделить новое направление в истории педагогики, уточнить существующие понятия и отрефлексировать новые, адекватные в нашем понимании понятиям «усвоение», «присвоение». Он пытался показать, что обучение, воспитание и развитие соотносятся между собой, как форма и содержание единого процесса психического развития человека, «...чтобы сделаться наукой, и плодотворной наукой, — указывал Л. Н. Толстой, — педагогике, по нашему убеждению, нужно перестать оставаться на абстрактных теориях, а принять за основание путь опыта и выводить свои положения от частных к общим, а не наоборот...» (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 8. М., 1936. С. 368).
Формулируя задачи педагогической науки, Л. Н. Толстой отмечает, что они заключаются в «изучении условий совпадения» деятельности «образовывающего и образовывающегося» на пути к единой цели, а также необходимости изучения и тех условий, которые препятствуют такому совпадению. При этом особо важную роль он придавал изучению передового опыта, превращению каждой школы в «лабораторию творческого труда учителей и учащихся».
Обобщение педагогического опыта, по мнению Л. Н. Толстого, не следует возлагать лишь на одних теоретиков педагогики. Оно будет выполнено успешно только тогда, когда к этому делу удастся привлечь директоров и учителей гимназий, а также учителей уездных, приходских и частных училищ. «Сословие педагогов, писал Л. Н. Толстой, владеет огромным запасом особенно драгоценных в настоящее время педагогических фактов, наблюдений и выводов опыта, которые, будучи обнародованы, не только принесут неизмеримую пользу для самого хода образования и для науки педагогики, но которые одни разрешат окончательно те бесчисленные вопросы по народному образованию, которые в настоящее время столь законно занимают наше общество. Только на этих фактах, наблюдениях и выводах, а не на кабинетных теориях может построиться здание нашего будущего народного образования».
Л. Н. Толстой не ограничился теоретическими соображениями по
Лев Толстой как педагог
25
поводу изучения опыта учебно-воспитательной работы, но на практике своих занятий с детьми в Яснополянской школе показал, как изучать этот опыт и содействовать дальйейшему развитию педагогики. Дневник Л. Н. Толстого о работе Яснополянской школы является творческим отчетом великого русского писателя и педагога и принадлежит к числу лучших творений мировой педагогической литературы.
Говоря о задачах истории педагогики, Л. Н. Толстой обратил внимание, что она развивается в основном как история идей в области воспитания и образования. По его мнению, «новая история педагогики должна явиться и лечь в основание всей педагогики. В этой науке должно быть показано, как учился говорить человек 1000 лет тому назад и как учится теперь, как он учился называть вещи, как он учился различным языкам, как он учился ремеслам, как он учился этике; как он учился различию сословий и обращению с ними, как он учился думать и выражать свои мысли».
Большое значение придавал Л. Н. Толстой уточнению основных педагогических понятий: «образование», «обучение», «воспитание», «учение», «преподавание». При этом он столкнулся с тем, что имеющихся понятий недостаточно для точного объяснения процессов развития человека и культуры, выражения существенных отношений индивида и общественного опыта.
Л. Н. Толстой вводит понятие «закон движения к равенству знаний и неизменный закон движения вперед образования», считая, что существует всеобщая закономерность психического развития человека, адекватная современному пониманию понятия «присвоение». Образование, включающее обучение и воспитание, по мнению писателя, является объективным процессом, как и все процессы природы. Деятельность образовывающегося, как бы, где бы и чему бы он ни учился (даже если он один читает книги), всегда заключается в том, чтобы усвоить себе образ, форму или содержание мысли того человека или тех людей, которых он считает знающими больше себя. Понятие деятельности, используемое писателем для объяснения развития человека и культуры, необходимо ему, чтобы показать, что сознание человека формируется в ходе различных видов деятельности, в том числе и учебной.
Обобщая содержание основных педагогических понятий, Л. Н. Толстой выделяет самые важные моменты учебной деятельности: ее цели, содержание, условия, способы организации, результаты. Обучение в школе должно быть целенаправленным процессом сознательного усвоения знаний, но способность человека усваивать множество сведений бессознательным путем также должно учитываться педагогами.
Анализируя теоретические положения о сущности психического развития детей в статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», Л. Н. Толстой подтверждает ранее высказанную гипотезу о «прижизненном формировании
Лев 1 олстой как педагог
26
способностей», которые дети «присваивают» и воспроизводят в совместной деятельности со взрослыми. Так, под его руководством крестьянские дети как бы воспроизводили способности, необходимые для реального писательского труда (осмысление, анализ, воображение), а затем в обстановке дружественных отношений свободы и сотрудничества самостоятельно создавали «поэтическое произведение».
Л. Н. Толстой обратил внимание на то, что обычно «развитие ошибочно принимается за цель», что педагоги содействуют развитию, а не гармонии развития и в этом заключается «вечная ошибка всех педагогических теорий» (наст, изд., с. 287). Первообразом гармонии, правды, красоты и добра является, по мнению писателя, родившийся ребенок, все его дальнейшее психическое развитие «есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие... к достижению высшего идеала гармонии» (наст, изд., с. 287).
Развивая эти мысли, Л. Н. Толстой сравнивает педагога с плохим ваятелем, который, вместо того чтобы соскоблить лишнее, налепли-вает все больше и больше, «раздувает, залепляет кидающиеся в глаза неправильности, исправляет, воспитывает». Ребенку, по мысли писателя, «нужен только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне» (наст, изд., с. 288).
В педагогических статьях Л. Н. Толстого немало высказываний о методах педагогики как науки. Он мастерски владел методом педагогического наблюдения во время уроков, игр, совместных прогулок и превосходно знал, как дети ведут себя дома. Глубокое проникновение в духовный мир детей помогало Л. Н. Толстому безошибочно применять те или иные способы воздействия на учащихся. Но особенно большое значение он придавал педагогическому эксперименту в исследовании педагогических и методических проблем. Будучи педагогом-новатором, Л. Н. Толстой рассматривал Яснополянскую школу как педагогическую лабораторию, в которой он стремился разработать наиболее эффективные методы преподавания. Л. Н. Толстой по справедливости может считаться одним из первых русских педагогов, положивших начало экспериментальной работе в условиях повседневных школьных занятий.
* * *
В ходе открытой журналом «Ясная Поляна» дискуссии «Чему и как учить?» были подняты наиболее актуальные для системы народного образования вопросы. Опыт Яснополянской школы послужил для Л. Н. Толстого тем материалом, который позволил ему показать, что народное образование не должно копировать западноевропейскую систему образования. Л. Н. Толстой обнажил вредные последствия эмпиризма западноевропейской педагогической науки для интеллектуального и нравственного развития детей.
Лен Толстой как педагог
Цель народной школы, по Л. Н. Толстому, — это воспитание творческой, нравственной личности, задача обучения и воспитания — это формирование творческого мышления и нравственного самосознания. Вопросы определения целей и содержания обучения Л. Н. Толстой разъяснял читателям на различном предметном материале, подчеркивая необходимость полноценного научного образования.
Писателя интересовали различные аспекты отбора учебного материала. В его понимании учебный предмет — это система научных понятий, обобщений, которые отражают реальную действительность как совокупную трудовую и духовную деятельность людей.
«Есть наука — есть жизнь, каждая имеет свои требования, свои законы и свою притягивающую силу для человека. Наука есть только сознание жизни — среднего ничего не было и быть не может» (наст, изд., с. 235). Придавая исключительно важное значение вопросам передачи духовной и материальной культуры, Л. Н. Толстой пытался в своих работах определить содержание обучения исходя из наиболее исторически значимых форм мышления (логического, опытного, художественного) и соответствующих учебных предметов (математических, опытных, языков) и способов передачи знания — путем слова, пластического искусства, рисования и лепки... путем музыки, пения, т. е. науки о том, как передать свое настроение, чувство (наст, изд., с. 446—447).
Проблема методов обучения, формирования понятий приобрела для Л. Н. Толстого значение «философского камня». В дневнике Яснополянской школы он убедительно показал, что это не банальный вопрос педагога-практика, от решения этого вопроса зависит в целом формирование творческой нравственной личности, всех ее возможностей и способностей. Л. Н. Толстой привлек внимание своих современников к вопросу о том, что на основе традиционной формальной логики нельзя научить детей решать сложные задачи, которые перед ними ставит жизнь. По его мнению, «передать науку» учащимся можно было исходя из понимания универсальности метода мышления в науке как всеобщей формы развития понятий с развертыванием учебного материала от всеобщего, генетически исходного, единства многообразия к конкретному. Понимание универсальности такого метода мышления Л. Н. Толстой выразил словами «найти эти обобщения и от них, представляя новые факты, переводить на высшие — вот, следовательно, задача педагогии. Задача одинаковая в одном человеке с задачей науки в человечестве, но не обратная, как будто предполагается всеми учебными книгами и руководствами» (наст, изд., с. 35).
В основу своей преподавательской деятельности в Яснополянской школе Л. Н. Толстой положил именно такое понимание форм мышления и логики развертывания предметного материала, которое приводило к познанию сущности вещей, выявлению генетически исходного, всеобщего, которое как «частность» должно было стать исходным в изучении отдельных учебных дисциплин. Ему принадлежат поистине
Лев Толстой как педагог
28
уникальные высказывания о роли образного, конкретного и отвлеченного, об опасности оперирования словами-терминами до того, как сложилось понятие. Л. Н. Толстой делает вывод: «.. .учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка — с определений, истории — с разделения на периоды, даже геометрия — с определения понятия пространства и математической точки. Почти каждый учитель, руководствуясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или лавку, нужно стоять на высокой ступени философско-диалектического развития (курсив мой. — Н. В.) и что тот же ученик, который’ плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувства любви или злобы...» (наст, изд., с. 167).
Организовав экспериментальное обучение в Яснополянской школе J Л. Н. Толстой делает ряд выводов по методике преподавания, которые не утратили своей актуальности и сегодня. Предложенное им «развертывание» учебного материала, идентичное пути получения открытий в науке, и требование самостоятельных действий учащихся при прохождении этого пути под руководством преподавателя, который «расставляет приманки для воображения» и «избавляет» от «объездов», в полной мере соответствует современным диалектико-материалистическим представлениям о методах формирования содержательных! обобщений, научных понятий1.
Широта философского кругозора Л. Н. Толстого позволила ему выделить еще одно направление критики «эмпирической», «отставшей от жизни педагогики», компромиссом которой он назвал использование на так называемых «предметных уроках» принципа наглядности. Здесь выявилось его отношение к чувственному и рациональному познанию. Он видел искусственность их противопоставления, которое исходило из сведения всех элементов мысли (понятия) к чувственно-на; глядным опорам. По его мнению, «непосредственное отношение к жизни», которое понималось последователями Песталоцци как наглядное обучение, — «это аксиома — главное средство для приобретения знаний». Однако элементы рационального знания, выражающегося в умении детей «сличать», «различать», «распутывать», уже характеризует начальный этап процесса познания.
Народная школа второй половины XIX в., по мнению Л. Н. Толстому го, вступила в непосильное соревнование с жизнью. Она стремилась V обогатить имеющийся у детей опыт, а на самом деле отупляющим образом действовала так называемыми предметными уроками, фактически мешала психическому развитию детей. Широко известны описанные Л. Н. Толстым примеры отдельных «предметных» уроков, в процессе которых широко использовались скучные шаблонные эле
1 Смл Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
Лев То псгой как педагсм
29
ментарные упражнения, имевшие формальный характер, когда начало формирования понятий сводилось к якобы доступному.
Л. Н. Толстого всегда интересовали вопросы содержания образования, к решению которых он подходит с позиций своего нравственноэтического учения. Все содержание обучения должно быть подчинено, по его мнению, ведущей идее — гуманизации научного знания и формированию самосознания личности. Пророческими сегодня кажутся слова писателя, высказанные им в статье «О народном образовании» (1874), которую он назвал педагогической исповедью. Писатель сравнивал в ней перенесенную на русскую почву западноевропейскую педагогическую систему с новой молотилкой, которая «куплена дорого, поставлена, пустили молотить, молотит дурно, как ни подвинчивай доску, нечисто молотит, и зерно идет в солому». «Но хоть и убыток», но «деньги потрачены». Л. Н. Толстой грустно заметил: «Я знаю, еще долго будут процветать наглядные обучения, и кубики, и пуговки вместо арифметики, и шипенье для обучения букв... Но я тоже твердо знаю, что здравый смысл русского народа не позволит принять эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения.., что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно» (наст, изд., с. 339).
* * *
Принцип свободы в обучении и воспитании, который поддержал Л. Н. Толстой, прежде всего означал новый тип общения между учителями и учащимися — важнейшего условия эффективности учебно-вос-питательного процесса. Новая школа может быть создана только тогда, указывал Л. Н. Толстой, когда учителя откажутся «от старого взгляда на школу, как на дисциплинированную роту солдат, которой нынче командует один, завтра другой поручик» (наст, изд., с. 156).
Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы создать в своей школе атмосферу естественных отношений между учителями и учениками, обстановку деятельной и творческой работы учителей, пытливого изучения детьми необходимых им знаний. Обучение детей должно быть пронизано новым духом, который способствовал бы расцвету творчества детей, определял стиль работы школы в целом. Имея в виду свою шкалу, Л. Н. Толстой писал: «Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, — это дух школы... Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого учителя» (наст, изд., с. 172—173).
Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы дети сами осознали необхо-
Лев 1 (viciой как педаго!
30
р димость порядка и дисциплины в школе, которые, по его мнению, не | могут быть навязаны силой. Он подчеркивал, что учитель не должен педантично вмешиваться в многогранную и кипучую жизнь детей. Они : сами в большинстве случаев могут наладить свои отношения, по-^ скольку чувство справедливости проявляется в детском коллективе.
При такой организации в Яснополянской школе за время ее существования, как указывал Л. Н. Толстой, не было каких-либо тяжелых случаев. Решительно отвергая телесные наказания детей, он отказался от воздействия на провинившихся учеников мерами, унижающими лич-ность ребенка. Он считал, что главное в его педагогической работе заключается не в придумывании наказаний, а в развитии сознательности детей, в воспитании у них искренности, честности и правдивости путем i осуществления новой системы школьной работы, устраняющей воз-\ можность плохого поведения детей.
5 Имея в виду западноевропейскую школу, где учителя зачастую ме-~ ханически и изощренно применяли детально разработанную систему телесных наказаний, не вдаваясь в анализ нарушения дисциплины детьми, Л. Н. Толстой резко критиковал перенесение в русскую школу этой системы наказания.
Огромный авторитет Л. Н. Толстого у детей, исключительный интерес учеников к урокам, умение учителей школы создавать на занятиях деловую обстановку предупреждали, как правило, возможность серьезных нарушений дисциплины со стороны учеников. Бережное отношение к детям, простота и доброта в общении создавали ситуации, когда, казалось бы, безнадежно забитые дети пробуждались к знаниям, начинали верить в себя.
«В школе у нас, — вспоминает В. С. Морозов, — было весело, занимались с охотой. Но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В школе вид он принимал серьезный. Требовал от нас чистоты, бережливости к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто-нибудь из учеников допускал глупые шалости, не любил шалунов, которые смеялись нечистым смехом, любил, чтобы на вопросы ему отвечали правду, без задней выдумки... Порядок у нас был образцовый за все три года»1.
В статьях журнала «Ясная Поляна» Л. Н. Толстой неоднократно обращается к термину «любовь», который он использует для характеристики нового, демократического и альтруистического стиля общения учителей и учащихся. В «Общих замечаниях для учителя» (1872) Г” Л. Н. Толстой использует его для характеристики ведущего качества I личности преподавателя: «Качество это есть любовь. Если учитель • имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель
1 Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы В. С. Морозова. М., 1917. С. 44—50.
Лев Го ; i ж члк нс мни
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того ’ учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель» (наст, изд., с. 292).
Таковы в общих чертах педагогические взгляды и педагогическая деятельность великого писателя, мыслителя, педагога Л. Н. Толстого.
Не все удалось Л. Н. Толстому осуществить из задуманного, много равнодушия и противодействия он встречал со стороны официальных кругов. Воздействие его идей усиливается в наше время. Современная эпоха, решающая проблемы духовного нравственного человека, не может не обратиться к авторитету Л. Н. Толстого, который еще в 60-е гг. XIX в. обосновал необходимость именно такого понимания сущности человека и блестяще доказал всему миру, каких поразительных успехов в обучении и воспитании простых крестьянских ребятишек можно добиться, если создать благоприятные условия для развития и формирования творческих сил и способностей учащихся и учителей. Л. Н. Толстой-педагог развил ряд идей, исходя из диалектического, глубоко материалистического понимания происхождения и функционирования индивидуального сознания, возможности прижизненного формирования способностей. Он применил эти идеи к определению целей, содержания, методов обучения и нравственного воспитация^Велика прогностическая ценность высказываний Л. Н. Толстого о нежелательности развития педагогической науки на основе физиологизаторских, социо-логизаторских, антропологических идей.
Мировоззрение писателя формировалось в переломный период истории России. Впервые экономика была поставлена в условия товарно-денежных отношений. Образование становилось доступным детям трудящихся. Главным идеологическим содержанием эпохи для писателя стала проблема целей и смысла жизни Человека и Человечества. Его творчество посвящено утверждению идей социальной справедливости и нравственных отношений между людьми всей планеты, обоснованию идей нравственной революции. Победу общества социальной справедливости, демократии он связывал с новой моделью обучения и воспитания, в основе которой должна быть научная теория личности.
Вырабатывая свое новое миропонимание, Л. Н. Толстой с поразительной прозорливостью указал своим современникам и будущим поколениям, утверждавшееся в его время материалистическое понимание сущности жизни человека еще не является подлинно научным, он сожалел об утрате духовной традиции как смыслообразующего начала жизнедеятельности.
В рамках современных писателю материалистических теорий личности писателя не устраивали механистические подходы «детерминизма», стремление ряда ученых дать объяснение необъяснимому опыт
Jk в Голсгои как педагог
42
ным путем. Л. Н. Толстой подверг всесторонней критике образ человека как системы потребностей и образ человека-машины, которые использовались в качестве методологической основы в педагогических системах.
Одним из первых Л. Н. Толстой вскрыл зависимость способа обучения (а не только воспитания в узком понимании слова) и нравственного развития человека, показал влияние эмпиризма в обучении и воспитании на всю структуру личности. В статье «Воспитание и образование» он дал портрет «продукта» эмпирической педагогики, портрет юноши Вани, прошедшего весь курс наук в учебных заведениях России, и в результате «чужим умом думающего», «чужим умом говорящего», «курящего папиросы и пьющего вино», «самоуверенного и самодовольного».
Возрастает роль педагогических сочинений писателя в наши дни, когда начинается переосмысление советским толстоведением значения его нравственно-этического учения.
Именно педагогические сочинения Л. Н. Толстого позволяют понять содержание и смысл двух так называемых духовных кризисов в его творчестве, в результате которых он сформулировал кардинальные положения нравственно-этического учения.
Л. Н. Толстому есть что сказать современному человеку. Очищенные от сугубо толстовской терминологии, его высказывания сегодня воспринимаются нами как чрезвычайно актуальные для формирования самосознания личности. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Леонида Леонова на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, о том, что «любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре»1. Нас не перестают беспокоить и сегодня сложные вопросы воспитания духовности, нравственности, гуманности молодежи. Преодолению негативных явлений в развитии советской психологической и педагогической науки также могло бы в определенной мере способствовать и педагогическое наследие Л. Н. Толстого.
Л. Н. Толстой блестяще решил подсказанную ему самой жизнью задачу осмыслить причины отставания дела образования и воспитания и всем своим педагогическим творчеством показал, какой вред делу обучения и воспитания подрастающего поколения приносит неразработанность методологических аспектов педагогической науки. В период, когда воспитание творческой нравственной личности является объективно необходимым процессом, еще более притягательной силой для нас начинает обладать педагогические наследие великого писателя.
Н. В. Вейкшан (Кудрявая)
1 Леонов Л. М. Литература и время. М., 1983. С. 273.
К публике
Выступая на новом для меня поприще, мне становится страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперед убежден, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь, чтобы мнения эти не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной вместо спокойной и упорной работы над своим делом.
Поэтому я прошу всех будущих противников моих мнений выражать свои мысли так, чтобы я мог объясняться и приводить доказательства там, где несогласие будет зависеть от недоразумений и мог бы соглашаться там, где мне будет доказана несостоятельность моих мнений.
Гр. Л.Н. Толстой
Педагогические заметки и материалы
Наука есть только обобщение частностей. Ум человеческий тогда только понимает обобщение, когда он сам его сделал или проверил. Частность же он допускает на веру. Религия есть обобщение, принятое на веру. Задача педагогии есть, следовательно, наведение ума на обобщение, предложение уму в такое время и в такой форме таких частностей, из которых легко делаются обобщения. Есть обобщения, общие всем, через которые каждый должен пройти, есть другие, которые нельзя предвидеть. Этими-то неожиданными обобщениями обогащается наука.
1 H h
Преподавание истории народов и государств невозможно для детей. В истории ближайшая и основная частность есть человек, похожий на меня. Из нескольких таких частностей только со временем учащийся выведет понятие о народе, государстве. А как много нужно таких частностей, составляющих частность государства, чтобы учащийся понял движение народов, государств!
В естественных науках частность основная есть каждая особь. В химии основное тело только тогда, когда осязаемо для учащегося. В математике частность есть действие — сложение, а общее — свойство цифры. Математика, в особенности геометрия, скорее всего приводит от частного к общему. (Путь постижения общего для учащегося — обратный научному.) Ребенок не прежде узнает, что такое государство, а потом — как живет в нем человек, а прежде понимает, как живет человек, а потом — в каких условиях. Не прежде понимает общий закон растения — клетчатку, а потом деятельность клетчатки, а наоборот. Не прежде понимает значение величины, а потом вывод из соединения величин, а наоборот. Ребенок делает все четыре правила арифметики, а не только не умеет определить, но не знает значения цифры. Не знает ее отношения к единице .[Искусство педагогии есть выбор поразительнейших и удобнейших к обобщению частностей в области каждой науки .. Ребенок не требует понятливого, но требует живого, сильно действующего на воображение?)Возьму пример из математики. Для обучения делению лучший способ есть деление десятичных чисел и составление периодов, которые непонятнее простых чисел, но действуют на воображение и руководство к выводу главнейших, полезнейших обобщений, но никак не в навязывании обобщений. Ребенок их не допускает, как частности, ибо они не действуют на воображение, а на одну память (на воображение вашего способа выражения слов, букв). Ежели вы учите ребенка цифрам и пишете ему и учите называть 1,2, 3, 4 и т. д., он может делать бездну обобщений из двух фактов — названия и фигуры, но вы старайтесь, чтобы он не останавливался на том обобщении, например, что в 4 есть прямая палочка и в 1 тоже, что 6 и 9 перевернутые, похожи друг на друга, а он почти всегда сделает эти обобщения, но останавливаете его внимание на том, что от единицы счесть 3 цифры вперед — будет 4, а назад — опять будет один, и от 6 до 9 тоже.
В математике легче всего руководить обобщения, в естественных науках, более действующих на воображение всей разнообразностью представляемого предмета, менее легко, и труднее всего в исторических науках, где остается полное поле воображению Обыкновенное явление «тупика» есть важный факт в педагогии и доказательство сказанного выше. Ум человека, в особенности ребенка в классе, никогда не бывает в бездействии (он постоянно совершает свои обобщения), но ежели он сам не может сказать, что останется от 2, когда возьмете 1, или говорит, что б-а — б-а, а д-а — фю, то это только доказывает то, что он нашел другое поле обобщений, а потерял то, на которое вы его
Л Н I октон
I КД I! 01 И’КСМк И\1с(ЧИ1‘ Mupiklil'
наставили. Ежели бы этого не было, он бы сейчас опять понял то, что вы ему говорите, но он не может оторвать своего ума от того другого обобщения, в совершении которого он находится. Тупику подвержены очень тупые (и) одаренные очень живым воображением дети. Очень тупые потому, что им представляются более легкие обобщения, чем те, которые вы предлагаете ему. Очень живые потому, что им представляются много других, труднейших.
Главное — не нужно забывать того, что наука состоит в руководстве к обобщениям (а не в передаче обобщений), сначала из фактов, а впоследствии из обобщений, сделанных учащимися и уже принятых им за факты (т. е. одетыми воображением в известную форму). Передавать же обобщения нельзя. Природа человеческая отказывается в принятии их. Но всякая наука строится на обобщениях. Каким же образом передавать науку тем, которыми не найдены, не проверены еще эти обобщения, у которых нет никаких обобщений, исключая тех, которые дает жизнь до известного возраста? Найти эти обобщения и от них, представляя новые факты, переводить на высшие — вот, следовательно, задача педагогии. Задача одинаковая в одном человеке с задачей науки в человечестве; но не обратная, как будто предполагается всеми учебными книгами и руководствами. (Для подтверждения сходства пути науки в человеке с человечеством приведу один пример священной истории — факт, что история младенчества человечества понятна для каждого младенца-человека. Естественные науки младенчества человечества — стихия, земля, кончающаяся водой, и т. д. — по нятны для младенца-человека .)Шеловек в своем развитии должен пройти все фазы развития человечества. И только одно развитие всего человечества показывает тот несомненный путь, по которому должен идти человек. Ежели до сих пор учились и учатся люди, то, без сомнения,! задача эта педагогии и ее ход должны быть известны и приложимы, но только отчасти и одной практикой, хорошим учителем в его словах, в его домашнем деле учения; но, по невежеству ли моему или нет, я до сих пор не видал педагогической книги, в которой бы не был принят обратный ход задаче педагогии и задаче науки, книги, в которой бы (прежде не были) не допускались принятые на веру обобщения, которых не может иметь учащийся. Поэтому в теории мне кажется, что, к несчастью, господствует еще противоположный здравому смыслу взгляд на педагогию. Без сомнения, идя вперед и обобщая законы свои, наука становится легче, доступнее уму. Но она доступнее только тому уму, который из фактов вывел эти обобщения. Для того же, который через факты не прошел все ступени обобщений, она с каждым высшим обобщением становится сложнее. Педагоги как будто забывают это, как будто, поработав над предметом, они так обрадуются, что, обобщив, объяснили себе его, что они торопятся те же обобщения передать учащимся. Они как будто забывают, что, уяснив обобщением свой предмет, они достигли только одну половину труда, они только узнали ту дорогу, по которой должны будут идти другие, но им пред
Л Н 7
3b
стоит снова от первого шага вести их (указывая путь), расставляя на дороге приманки для воображения и избавляя от объездов, а не рассказывать им, что есть там, куда они должны идти. Ребенку кажется очень просто, что есть рожь и береза, но, когда вы ему скажете, что есть рожь и береза, а еще есть двусемядольные и односемядольные растения, имеющие такие и такие свойства, вы ему только сделаете сложнее то, что было просто, ибо он не может понять вашего обобщения, не сделав предварительно обобщения о законах жизни растений, которых он тоже не может понять, не сделав обобщения о законах разделения на части растения, которого он не может понять, не сделав обобщения о присутствии таковых во многих растениях — не рассмотрев много новых (?) растений. Начните с того, что есть растение, он это знает., Как оно живет и питается, он это знает или (?) не понимает. Но ведь что вы хотите сказать, когда вы говорите, что растение имеет лист, стебель и корень? Вы хотите сказать, что, какой бы ни был фигуры корень и где бы он ни был, он — корень, ежели он исполняет (то-то и то-то), проводит в растение из земли растворимые неорганические] тела; но для того чтобы сказать это, надо сказать, что в растение входят неорганические тела. Вы говорите, что оно питается. Но этим вы что хотите сказать? Что, какое бы ни было растение, оно всегда живет. Вот это-то и покажите ему на одном, на другом и т. д. и руководствуйте его в обобщениях. Покажите ему типы цветковых и типы бесцветковых и т. д. Он знает, что есть царь Александр], Н[иколай] и был Моисей, а вы ему сказали, что есть еще д[ревняя], с[редняя] и н[овая] история, ему стало только труднее помнить. Но что вы хотите сказать, что очень давно, то называется старое, а что не очень давно, то новое, — он это знает. Прежде жили тогда-то все такие-то, а после такие-то. Вам кажется, что вы для него это разделили, а напротив, вы это разделили для себя, чтобы знать, как, в какой последовательности, в каком духе вы будете передавать ему такие-то и такие-то факты.
Для составления научных книг давно уже поняли, что нужно отбрасывать всю историю своей эрудиционной или опытной работы, всю машинистику своего дела. Для педагогии точно так же необходимо отбрасывать всю философию своего изложения, все выводы, сделанные после изучения.
Я сказал, что, несмотря на такую ошибку педагогии, педагогия идет, но идет с значительными ошибками, проистекающими из такого положения ее. Недостаток теории пополняется отчасти практикой: выпуском бесполезного и вредного, прибавлением изустно и письменно нужного и руководством книг случайных, непедагогических, произведениями искусства, изящной литературы и историческими памятниками (Библия, сказки, летописи, Плутарх и т. п.). Но ошибочный взгляд теории, не останавливая совершенно, сильно затрудняет педагогию. Из этих зол назову главнейшие: 1) невозможность образования без преподавателя; 2) усвоение памятью непроверенных обобщений (одно из величайших зол, нарушающих всегда самый процесс
Л Н То^ стон
О ',а,!ачах sk дакп ии
37
мышления...) ведет к однообразию развития, останавливает его... Только факты давайте наибогатейшие богатейшими обобщениями.
Обучение нравственным и религиозным законам есть следствие того же печального заблуждения. Но то есть еще далекая будущность. Не говори: не убий, а покажи факты, которых общий смысл один — не убий, и он не убьет.
Весь круг наук вместе первоначально. Журнал будет [состоять] выходить 3 раза в год, ежели по 2 книги — в 10 печатных листов. Первый отдел будет заключать в себе сведения о школах, заметки учителей, мысли о педагогии вообще, оригинальные и переводные, второй отдел будет заключать руководства по разным наукам: [поэзию], повести и рассказы, сказки и песни.
О задачах педагогии
Образование — благо. Образование дается жизнью. Преподавание, учение есть, должно быть часть жизни, так же непосредственно и бессознательно воспринимаема, как каждое отправление жизни. Единственное лучшее руководство меры, времени — условий (?) удовлетворения потребности — есть природное стремление.
^История педагогии — двоякая. Человек развивается сам под бессознательным влиянием людей и всего существующего, и человек развивается под сознательным влиянием других людей. Под историей педагогии разумеют одно сознательное развитие. Первая же, несуществующая история педагогии была бы более поучительна: как более и более непосредственно учился человек из жизни, которая более и более становилась поучительна. Как независимо от сознательной педагогии, иногда под ее влиянием, иногда противоположно, иногда совершенно независимо, продвигалось образование, а сама бессознательная педагогия, как более и более с различием образования, с быстротой сообщения, с развитием книгопечатания, с переменой образа правлений государственных и церковных, более и более поучительны становились люди — являлись новые средства поучения. Эта новая^история педагогии должна явиться и лечь в основание всей педагогии? В этой науке должно быть показано, как учился говорить человек 1000 лет тому назад и как учится теперь, как он учился называть вещи, как он учился различным языкам, как он учился ремеслам, как он учился этике; как он учился различию сословий и обращению с ними, как он учился думать и выражать свои мысли. Я попробую написать такой краткий исторический очерк для истории педагогии русского крестьянина и на нем только полагаю возможным основать общие правила образования русского крестьянина. Величайший абстрактный философ не даст мне 1/1000 доли тех оснований, которые я найду в приемах дедов, отцов, матерей, старших сестер, братьев, соседей. И не потому я найду их у мужиков, а не у философа, что мужик умнее философа, но потому, что
Ч Н Толеiон
3S
Готношения ребенка к педагогической деятельности жизни совершенно ^свободны, и из бесчисленного множества действий только те принимают педагогический характер, которые свойственны восприятию ребенка, и действия и приемы эти веками действуют одинаково неотразимо на поколения. Действуют всесторонне, как сама жизнь .^[Педагогия сосредоточивается здесь не так, как в сознательной — на одних приемах, — здесь такие же важные силы: жилище, достаток, пища, работы, домашние животные и т. д^В педагогическом отношении это не есть случайность, что царь воспитывается во дворце, всегда с людьми, а мужик в избе, часто один, когда родители на работе. Наилучший царь не может быть иначе воспитан, как в толпе, наилучший мужик не иначе, как в одиночестве и в курной избе, которая сильнее заставляет его любить поле(Ъ каждом жизненном условии развития есть педагогическая целесообразность, и отыскать ее есть задача этой истории педагогии^ Эта история педагогии разъяснила бы много кажущихся трудностей. Говорят, главная трудность образования мужицкого сословия есть необходимость детской работы. История педагогии доказала бы, что детская работа есть, напротив, первое условие образования крестьянина и т. п. Только история педагогии может дать положительные данные для самой науки педагогии. История же педагогии в тесном смысле понимания, так, как она до сих пор понимается, может дать только отрицательные основания. Эта история педагогии, которую я назову скорее историей образовательных теорий воспитания, есть история стремлений человеческого ума от идеи образования идеального человека к образованию известного человека. Этот ход можно проследить со времени возобновления наук через Лютера, Бако, Руссо, Комениуса, Песталоцци1 до новейшего времени. После классического образования и средств (?) памяти требуется известное религиозное, и орудием делается мышление, после религиозного требуется отечественное и реальное, и исключительно орудием делается воображение.
ч Насильственное внедрение образования уступает место свободному предоставлению. Но педагогия остается верной своей истории и продолжает хотеть быть наукой самостоятельной, системой образования, приложимой везде и всегда, наукой отвлеченной, философской, а не исторической и опытной. Педагогия все еще хочет быть теорией, все еще хочет образовать человека, все носится еще с идеалами, все еще не хочет снизойти или подняться на степень науки опытной, только изучением законов своего объекта получающей знание вредных и полезных условий образования. Задачей педагогии было образование наилучшего человека, и сообразно знанию его, удовлетворение его потребностей образования. Не образование человека вообще должно быть задачей педагогии, а образование наилучшего Принца Прусского в 1860 г., имеющего убогого дядю, такого-то отца и находящегося в Пруссии при ее настоящем развитии, или образование Негра в таком-то штате, имеющего злого хозяина, слепую мать и трех сестер. Все эти
JI II loiroii О Miiiixik 'in ни 49
условия законны и педагогически целесообразны, их не только не нужно устранить, но на них бессознательно строится все образование. Такая задача невозможна без помощи свободы выражения педагогической потребности. Свобода же дает несомненные указания на условия, которые должны быть устранены, на потребности, которые должны найти удовлетворение. Доставление орудий наибольшего круга действий в жизни, какой бы он ни был, есть единственная задача педагогии.
Педагогия — опыт. Педагогия не должна разрушать связи с кругом жизни. Всякая среда законна. Влияние бессознательной педагогии незаменимо и потому не должно быть разрушаемо.
Преподавание религии. Разрушая предрассудки, разрушаешь религию. Подожди вопросов.
Память ежели слаба, натурально свободно требует своего развития. Обширность ума вызывает память. Обширность памяти вызывает способность соображения.
Абстрактная педагогия хочет разложить человеческую способность знания и учения на воображаемые величины и руководится ими. Эмпирическая педагогия берет это знание как факт, изучает различные степени, отыскивает вопросы каждой степени и отвечает на каждый. От этого — идея Песталоции mecaniser 1’instruction (механизировать образование) и других. От этого рамки образования старые, а потребности новые.
Риль2 говорит: в школы XVI в. был перенесен образ правления (Zucht) дома, и это было хорошо.
Он ходит около мысли, что в школы должен быть перенесен образ обучения дома.
Как введение — моральная физиология общества — никто не верит. Движение стало целью. Особая глава — равенство — равномерность образования. Почему ученый самонадеян, односторонен, исключителен?
Глава 1. Влияние образования на политическое и социальное положение общества. Новое значение педагогии. Россия даст теперь это направление. Государство управляется народом, а не владыками. Всегда было, но теперь чувствительно, быстро с путями сообщения и паром.
Глава 2. Никто не верит ни во что. Надо прямо отрицать все. Новое поколение — одна надежда.
Глава 3. Свобода образования.
Глава 4. Она невозможна, или с низших ступеней нужно сделать заманчивой.
Глава 5. Педагогия — наука опытная.
Глава 6. Что теперь есть?
Глава 7. Как достигнуть цели?
Наполеон III не мог бы быть деспотом, ежели бы не было свободы книгопечатания.
JI H Го UToii
40
Необходимость образования:
из Прудона3 экономика;
из Фурье4 политика;
St. Simon религия.
Dupanloup
Проект устава учебных заведений
Проект устава разделяет учебные заведения низшие на три разряда: школы грамотности, низшие и высшие народные училища.
Подразделение это может быть основано или на убеждении, что только такие три рода школ могут быть полезны, или на опыте, что только такие три рода могут основаться. Мне кажется, что и то и другое убеждение совершенно произвольно. Во-первых, потому, что нужно прежде основать школы сообразно потребностям народа, а потом уже подразделить их; во-вторых, потому, что одно возможное основание подразделения школ неспециальных есть степень образования, приобретаемая в них; а степеней образования, начиная от высшей школы и до гимназического курса, может быть не 3, а 103 и бесчисленное множество
Все эти три разряда суть элементарные школы, а подразделение их кроме того, что неосновательно,—неудобоисполнимо. Объем науки везде один и тот же, как в низшей, так и в высшей школе (он подразделяется на науки исторические, математические и естественные), и, чем выше степень науки, тем более она подразделяется (на этой степени подразделения науки, мне кажется, и основано подразделение средних и высших учебных заведений, но элементарные (низшие) учебные заведения тем и отличаются от средних и высших, что в них подразделение наук еще не существует). Науки исторические, естественные и математические преподаются вместе. На каком же основании подразделять элементарные школы? Где больше или меньше учителей? Или где лучше или хуже учителя? Или где дольше учатся?.. Проект устава основывает свое подразделение низших школ на школы грамотности, низшие народные училища и высшие народные училища, на программе наук, имеющих преподаваться в этих школах, и на составе учителей. Программа высшей народной школы изложена в § 137. Кроме закона божия полагается русский язык, история и география, начала естествоведения, арифметика и геометрия, чистописание, церковное пение. Другой, более ограниченной программы, по моему мнению, не может быть и в самом низшем народном училище (называемом в проекте школой грамотности). Мне кажется даже для низшей школы эта программа слишком ограниченной отсутствием преподавания славянского языка и только началом естествоведения. Ни один дельный учитель при самом первоначальном учении не может обойти ни одного
Л Н Iолстои
Проект jстава учебных заведении
41
из этих предметов. На какой же степени будут преподаваться эти предметы, зависит от средств учителя. Я говорю учителя, а не учителей, потому что не допускаю возможности разделения предметов и поэтому преподавателей в элементарном училище. Повторяю: элементарная школа тем только отличается от высших, что на той высоте, на которой находится преподавание науки в элементарной школе, оно не может логически подразделяться. Каждая ветвь науки не имеет достаточно интереса, чтобы быть наукой. Возможно ли представить себе преподавание отдельно от статистики для того, кто не знает основательно истории, или ботаники для того, кто не знает основательно начала естествоведения, или геометрии для того, кто не знает основательно арифметики? По смыслу проекта устава под высшими народными училищами я разумею соответствующие уездным училищам, и в таковых я не могу себе представить логического, а не насильственного подразделения предметов. Правда, это подразделение предметов и учителей может быть введено, и введено в настоящее время, но каковы результаты? Ежели бы величайшему гению педагогу предложили преподавать в уездном училище одну географию известное число часов в неделю, он бы едва ли мог сделать что-нибудь больше первого рутинера учителя, заставляющего своих учеников заучивать звуки по известному порядку. Нужно убедиться, что составляет силу высших учебных заведений, подразделение наук для учеников, усвоивших уже так общий смысл науки, что каждая отдельно может для них представляться самостоятельной и занимательной, это самое подразделение, применимое к низшим учебным заведениям, составляет их слабость. Самое первоначальное образование ничего не подразделяет и возможно только тогда и, к несчастью, всегда применялось и теперь должно бы снова применяться по смыслу устава. Ежели бы не логика, то опыт показал это в Германии, что в элементарной школе возможен один учитель. Скажут: трудно найти учителя, который бы мог преподавать все науки. Мне не кажется, что невозможен учитель в элементарной школе, который, преподавая один предмет, не может преподавать и всех других! Учитель истории, не могущий преподавать географии и естественной истории, не будет в состоянии сделать занимательным свой предмет и будет скучный зубрилыцик, педант, которого уроки будут зубриться. Без сомнения, нет речи, что один учитель в элементарной школе должен быть из сословия людей самых образованных в России, т. е. кончивший курс в университете; один же учитель из семинарии. Могут сказать, что при одном учителе (многое) все зависит от его личности. Да, но кроме контроля над ним, обеспечивающего его годность, есть возможность успешного обучения при одном образованном учителе; почти нет возможности при одном необразованном учителе, какой полагается проектом устава в школах грамотности и низших народных училищах, и решительно нет никакой при многих необразованных, собирающихся в советы и правление. Проект устава основан, как кажется, на той мысли, что то же самое, что хорошо для
Л. Н, Толстой
высших учебных заведений, хорошо и для низших, с той только разницей, что для низших при том же порядке нужно людей менее образованных. Это видно и в требованиях от школ грамотности только, чтоб не был колодником, и в самом понятии грамотности, и в программе с тем же подразделением предметов, часов, учителей. И в заманке повышения учителей из низшей школы в высшую, как будто профессор почему-то выше народного учителя или что его труднее найти, — мысль ложная двояко: 1) для низших школ нужно столь же образованных людей, как и для высших школ, и 2) порядок преподавания в низшей школе не только совершенно особый, но часто противоположный. Проект принимает за основание разделение низшей школы на 3 ступени образования: 1) грамотность (§ 15), 2) всем нужные сведения (§ 19—20) и 3) программу (§ 137).
Учебные заведения имеют целью образование, а не грамотность, высшую, начальную (?), среднюю (?) и прогресс (§ 137). Грамотность есть варварское понятие народа, которое, к несчастью, усвоила себе литература и правительство. Грамотность есть Fertigkeit, не имеющая ничего общего с образованием. Есть примеры образования элементарного без грамотности и наоборот, в особенности частые. Грамотность, как она понимается народом, есть вся наука, и состоит она из букваря, часовника и псалтыря, выучиваемых наизусть. Какое влияние на будущее развитие должно иметь такое развитие, мы видим на грамотных из нашего народа. Окончивший этот курс кроме притупления (забитых) понятий, убитой свободы мышления и умственного разврата усвояет убеждение, что этой мучительной науке есть конец. Плодом такого учения есть отвращение народа к образованию, а проект хочет узаконить такой род грамотности. Грамотность, даваемая необразованным учителем, не может иметь других следствий. Понятны споры в обществе и литературе, полезна грамотность или нет. Одни говорят — грамотность вредна, и правы, другие говорят — грамотность, подразумевая под ней элементарное образование, полезна, и правы. Но они не знают, что грамотность достаточно развита в народе, элементарное образование же еще не начиналось. Теперь проект устава принимает это печальное понятие «грамотность» в смысле народном, ложном, допуская обучению грамоте всех и считая школы грамотности ступенью образования.
Грамотность есть орудие образования, да, но не ступень. Первоначальные школы не должны быть школами грамотности, в которых учат кое-как, а должны быть школами первоначального образования, самого трудного и требующего наибольшего человеческого (гуманного) образования. Не у нас одних, чтобы образовать народ, основывали, не имея гимназий, академии, потом хватались за ум, что нужны университеты, потом начинали заниматься гимназиями, потом уездными училищами городскими, потом уж окончательно убеждались, что первоначальные школы не должны быть школами грамотности, а школами, в которых должны быть лучшие деятели (не такие, которых за наг
Л. Н Гоче гои
Проем гава ччсбних заведений
43
раду переводят в высшие), и школами, на которые должно быть обращено преимущественное внимание. Из всего сказанного полагаю, что можно сделать следующее заключение. Все учебные заведения не должны быть подразделяемы на школы грамотности, низшие народные школы и высшие народные школы, но все школы (соответствующие нашим сельским, городским и уездным училищам), в которых науки еще не могут преподаваться отдельно, составляют элементарные школы, различествующие по средствам школ и подразделяющиеся только по местности (ежели уж нужно подразделение) на городские и сельские. Во всех школах должен быть один учитель (имеющий, по средствам школ, помощников, в числе коих и законоучитель) из образованнейшего сословия России, с содержанием не менее 100 рублей сер[ебром]. В сельские школы назначаются окончившие курс естественных наук, в городские это не есть непременное условие. Все остальное остается по проекту устава. Теперь постараюсь ответить на очевидно представляющееся возражение. Где взять людей и средства и не лучше ли хоть что-нибудь, чем ничего?
Отвечу на последнее. Грамотность вредна, поселяя недоверие. Образование полезно, поселяя доверие. Чем больше школ грамотности, тем меньше образования. Одна же школа образования образует учителей не на жалованьи, а людей, на деле показавших выгоду образования, вызывающих потребность и средства общества и способных словом и делом обучать других.
На второй и сильнейший довод, где взять людей и средства, отвечу следующее.
Образование народа есть преимущественно дело общественное, которому как бы ни помогало мудрое правительство, оно не может много сделать без содействия самого общества. Общество, начиная от самого крестьянина, мещанина до купца и помещика, тесно связанного с народом, имеющего постоянно дело с ним и страдающего непосредственно от его необразования, общество сильно чувствует эту потребность и готово удовлетворить ее и готово трудиться для удовлетворения ее.
Проект устава разрешает основание училищ частным отдельным лицам, но и связывает их уставом, весьма понятно не рискуя поверить столь важное дело народного образования бесконтрольно отдельным лицам. Вместе с тем этот контроль убивает увлечение, самодеятельность лиц, и, сверх того, деятельность отдельных лиц не может получить того значения и entrain (увлекательности), которые бы они имели, ежели бы были связаны в общество общей осознанной идеей.
Для устранения этих неудобств полагаю полезным правительству допустить образование обществ элементарных школ, которые бы, находясь под контролем правительства, имея свой орган (журнал), по которому правительство всегда следило бы за его действиями (собирало средства), отыскивало, вызывало потребность народа образовываться и потребность людей, имеющих педагогическое призвание, посвящать себя этой деятельности, которое бы в своем журнале вводило бы в соз
Л. Н. Толст ий
44
нание народа необходимость этого дела и, наконец, находило бы в обществе средства к удовлетворению этих потребностей, т. е. основывало бы школы в селах и городах, смотря по потребностям края.
Устав общества первоначальных школ.
§ 1. Общество имеет целью основания первоначальных школ в городах и селах.
§ 2. Общество имеет право основывать школы во всех городах и местечках Российской империи с платой или бесплатно.
§ 3. Учителями в школах могут быть только люди, выдержавшие педагогический экзамен при университетах.
§ 4. Закон божий преподается во всех школах приходскими священниками.
§ 5. Общество состоит из председателя, членов, избираемых по баллотировке.
§ 6. Члены вносят по ... рублей при избрании.
§ 7. Общество принимает пожертвования.
§ 8. Общество издает журнал, выручка с которого поступает для целей общества.
Программа журнала первоначальных школ.
Журнал.
Сельский учитель
Назначение журнала не состоит в том, чтобы вызывать новую деятельность, но в том, чтобы отвечать на потребность деятельности, существующую в обществе, в том, чтобы группировать силы, направленные к одной цели, и тем увеличить влияние известной деятельности. Цель сельского учителя есть первоначальное народное образование. Ошиблись ли мы в мнении, что потребность образовывается в народе и потребность образовывать народ в более образованном сословии чувствуется в настоящее время в нашем обществе, покажет успех нашего журнала. Нам кажется, что потребность эта чувствуется в сильнейшей степени народом, образованным сословием и правительством. Правительство, особенно последнее время, видимо, признало народное образование необходимым условием благосостояния, видимо, признало необходимость делать реформы в методе образования, начиная с низших школ. Прежде всего у нас основалась академия, потом университеты, потом гимназии. Весьма естественно на низкой степени общественного развития думать, что возможны ученые академии и университеты без ученых гимназий и народных училищ. Россия прошла через это заблуждение, как и другие народы. Теперь заметен переход к более серьезному взгляду на низшие учебные заведения. Теперь занимаются гимназиями более, чем университетами. Со временем будут заниматься уездным училищем и сельской школой более, чем гимназией, университетом и академией. В Германии и Англии, где долее всех других государств наука педагогии, переход этот уже совер
Л Н lojciow Сельекьи 45
шился. Ежели правительство чувствует потребность народного образования, то насколько сильнее правительства должна чувствоваться эта потребность в образованных сословиях дворянства, купечества, находящихся в прямой, непосредственной зависимости от нравов, образа мыслей народа. Что народ сам чувствует потребность образования, мне кажется не подлежит доказательствам. Это есть, по нашему мнению, такая же потребность всякого народа, как потребность питания всего живого. Народ наш не имеет органа, которым бы он мог выражать свои потребности, потому мы не имеем права сказать, чего он желает или не желает. Но образование для народа есть потребность, а не желание. И ежели народ говорит, что не нужно бы образовываться, то он говорит то, что сказала бы лошадь, которая для себя везет воз сена, что не нужно бы было ее мучать...J
Мы не боимся преждевременности нашего журнала. Но это одно только из условий неуспеха, есть еще условия. Журнал может быть излишним, может идти по пути, занятому уже другим, говорить о том, что уже сказано. Того нам, кажется, можно тоже не бояться. Мы не знаем не только издания, но книги, которая бы удовлетворяла тем потребностям, на которые мы хотим и надеемся ответить в нашем журнале — на потребности руководств для учащихся в сельских школах и руководств для обучающих в сельских школах. Скажем смело наше мнение, наш журнал должен быть первым шагом к народному образованию, которое еще не начиналось в России. У нас есть в народе грамотность, но образование еще не начиналось. Спор о том, нужна или нет грамотность, над которой так ядовито смеются, но самое слово и понятие грамотность не так смешны, как кажется. По нашему мнению, это есть физиологический факт в нашем обществе. Понятие грамотности есть удивительно русское понятие. Это есть то же, что ежели бы знание одних букв без складов считалось бы за известную ступень развития и стали бы спорить, полезно оно или вредно. Грамотность не есть ступень развития, а случайная Fertigkeit (навык). Вредно или полезно уметь плести шнурочки в смысле образования? Никто не может ответить. Но ежели одни будут несправедливо разуметь под грамотностью ступень развития, а другие вредное влияние учителей и процесса учения на нравственность и умственные способности учащихся, то спор может продлиться. Но ежели бы спор о грамотности яснее был бы сформулирован, то мы только по опыту были бы на стороне тех, которые отрицают ее пользу.
Третье условие неуспеха издания есть несоответствие с потребностью, происходящее от неверного взгляда редакции. В этом отношении мы не можем быть покойны и считаем своей обязанностью кратко изложить основания, которые будут руководствовать нас в выборе статей для нашего журнала.
Образование есть потребность всякого человека. Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть
J H h мои
удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственно й должно доставлять наслаждение учащимся.
Письмо К II. Ковале некому
Проект Общества народного образования
Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уже третий год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год (с осени) кроме хозяйства я занимаюсь еще школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завел для всех желающих. У меня набралось около 50 учеников, и все прибавляются. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны. Но всего не расскажешь, как и почему; надо или книгу напирать, или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 1/100 доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т. д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь съест эконом и повар. Все эти вещи производятся всеми 70 000 000 русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванностью et tout le tremblement1, они только не умеют называть в$щи по имени, а они нечаянно правы. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных, или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился один дикий на сто, и тогда, наверно, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью — насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества? Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил Виллафранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить Савойю, а все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я вам пресерьезно доказываю, что 2x2=4, т. е. что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого нет. Оно еще не начи-
I II Ion. он iliKi io! rI Кд па ’ niKOM\ I7
налось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им. Что его нет, это доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу, и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами, полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают, — славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе — гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны, — самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела, закрыло бы все департаменты и комиссии (и прекрасно бы сделало) и занялось бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело, потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему и, главное, потому, что интересы его кажутся отдаленными (в сущности, это один его интерес) от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны со степенью образования народа, потому что лишенные всех насильственных средств действия общества будут сообразовываться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия, в степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два. Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же в околотке, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем. Чтб скажет правительство, ежели ему представить следующий проект:
«Общество народного образования (или более скромное название) имеет целью распространение образования в народе.
Средства общества будут состоять из взноса членов по 100 или процент рублей из платы учеников (где это возможно), из выручки за издания общества и из пожертвований.
Действия общества будут состоять:
1) В издании журнала, состоящего из отдела собственно педагогического (о законах и способах первоначального преподавания), отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников и отдела сведений о действиях общества.
JI H I ИС lон
J-h
2) В учреждении школ в тех местах, где их нет и где чувствуется в них потребность.
3) В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом, вообще за управлением таких школ.
4) В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают».
До сих пор общество это составляю я один. Но говорю вам без фразы, что, возможно, будет или нет такое общество, я положу все, что могу, и все свои силы на исполнение этой программы. Нечего говорить, что, наверное, мои мысли односторонни и что общество, занявшись им, многое изменит и прибавит, но ежели бы это могло только собрать силы многих к одной цели. Вы-то помогите мне, любезный друг, Егор Петрович. Я на дурном счету у правительства. От меня это никак не должно идти, а поговорите или составьте из этого получше записку и покажите Евграфу Петровичу. (Я вам прямо задаю дело потому, что знаю вперед, что не можете всей душой не сочувствовать этому.) Ежели бы я узнал наверное, что правительство разрешит это общество, то я бы поработал серьезнее над составлением самого проекта и подал бы его от другого лица. Есть в Туле директор гимназии Гаярин (ваш брат его знает), замечательный человек, которому я нынче сказал о своем намерении. Я надеюсь, что он не отказался бы подать от себя. Во всяком случае у вас дело в хороших руках. Подайте ли прямо, переписав и переделав эту записку (об обществе), или позондируйте, где следует, и напишите мне, рассказав, как надо поступать; одно только, на обыкновенную удочку правительства, заставить подробно изложить проект, курс преподавания и т. д. и потом сказать — нельзя, я на эту удочку не поддамся. Мне мое время дорого (и с гордостью могу сказать, дорого и для 100 мальчиков). Кроме школы у себя, у брата я готовлю большую статью о педагогии, которая не будет годиться в проект для правительства, позволят или нет, а я хоть один, а все буду составлять тайное общество народного образования. Нет, без шуток, ежели бы общество оказалось невозможным, то я все-таки намерен издавать журнал, о котором пишу в проекте общества. Позондируйте почву и об этом напишите, пожалуйста: разрешат ли журнал с моим именем как редактора. И как, в какой форме, кому нужно подать об этом и что такое. Как мне ни нужно быть здесь, я бы приехал в Петербург, ежели для успеха дела мое присутствие могло бы быть необходимо. И как подумаешь, что почти наверное вы мне ответите: «Видно, что вы, Лев Николаевич, сидите в деревне, что с такими проектами суетесь». Как подумаешь, отчаяние находит. И чего может бояться правительство? Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать? У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть такая же святыня, как сам бог. Но это не мешает им знать, что земля — шар и что 2x2=4. Ну, чтб будет, то будет; только поскорее, как можно поскорее известите меня.
Будьте здоровы, не грустите, и дай бог вам всего лучшего. От души жму вашу руку.
12 марта 1860 года, Ясная Поляна
Ваш Л. Толстой
О ШЛ5СЦки\ ни* о
Любезный друг!
Я теперь почти кончаю мое путешествие по школам Европы. Часть Германии, Франция, Англия, Италия, Бельгия уже осмотрены мною — и мне страшно дать не только тебе и педагогическому миру, но страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным. Heraus damit1. Вот оно. Только мы, русские варвары, не знаем, колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущности человека и лучших путях образования, в Европе же это вопросы решенные; и что замечательнее всего, разрешенные на 1000 различных ладов* В Европе знают не только законы будущего развития человече-ства/ЗкаЙт пути, по которым оно пойдет, знают, в чем может осуществиться счастье отдельной личности и целых народов, знают, в чем должно состоять высшее, гармоническое развитие человека и как оно достигается. Знают, какая наука и какое искусство более или менее полезны для известного субъекта. Мало того, как сложное вещество разложили душу человека на память, ум, чувства и т. д. и знают, сколько какого упражнения для какой части нужно. Знают, какая поэзия лучше всех. Мало того, верят и знают, какая вера самая лучшая. Все у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы. И это совсем не шутка, не парадокс, не ирония, а факт, в котором нельзя не убедиться человеку свободному, с целью поучения наблюдающему школы одну за другою, как я это делал, хоть бы в одной Германии, хоть бы в одном городе Франкфурте-на-Майне.
Вы приходите в протестантскую, в жидовскую, в католическую школу, в малолетнюю, взрослую, женскую или мужскую, классическую или научную, промышленную, все равно — одну общую всем, неизменную черту определенности вы находите во всех этих школах. Положим, в первоначальной протестантской школе вы находите, что учитель имеет предписание не только насчет той последовательности предметов, которую он должен принять, числа часов, которые он должен посвятить молитве, каждому предмету и каждому упражнению, но вы видите, что даже те руководства, т. е. приемы, которые он может употреблять, определены и назначены вперед. Мало того, сам учитель образован в известной школе, семинарии, так что только эти известные приемы понятны для него. Вы начинаете разбирать эти предписа
П Н Голе।он
50
ния и утвержденные руководства и находите для обучения чтению и письму иногда методу складов, иногда новую Lautier-methode2 для обучения катехизиса и священной истории, заучивание наизусть, для истории и географии заучивание имен и сокращения, уничтожающие смысл, для обучения математики упражнения, направленные преимущественно на самые действия с отвлеченными числами, а не на переведение чисел, взятых в действительности, в отвлеченные величины и т. д. Одним словом, вы находите недостатки (так вам кажется) и в самом преподавании, и в последовательности его. Но вы не верите своему суждению. Вы говорите себе, что la critique est aisee mais 1’art est difficile3, что приемы эти, руководства могут быть далеки от совершенства, но все же быть наилучшими возможны. Что они могут казаться несовершенными в теории, но оправдываться в практике, результатами на учащихся. Вы обращаетесь к учащимся, чтобы подтвердить свои сомнения, и хотите проследить за процессом восприятия этого преподавания. Но здесь вам трудно сразу понять эти результаты. Организация школы такова, что результаты учения скрыты от учителя. Сто, двести мальчиков в известный час входят, совершают молитву, садятся по лавкам, и все двести начинают делать одно и то же. Мальчик не только не может выразить в школе того, что ему понятно или непонятно, приятно или неприятно то или другое, но он не может выразить словом то, что он знает или не знает то или другое или что ему хочется. Все разнообразие его мысли во время класса подведено к выражениям «могу» — «хочу», которые он передает поднятием руки.
Итак, во время чтения учителя вы не можете следить за восприятием преподаваемого. Все, что вы видите,—это скучающие лица детей, насильно вогнанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка и вместе с тем со страхом ожидающих вопроса учителя, делаемого для того, чтобы против воли принуждать детей следить за преподаванием. Здесь ничто не подтверждает, не разрушает ваши сомнения. Вы прибегаете к другому способу — вопросам и задачам математическим и сочинениям. Но ежели вы при этом поручите ведение вопросов учителю, то результаты ваши будут О...4.
Вступление
Мне кажется, что во время моих занятий воспитанием детей вообще, и в особенности русских крестьянских детей, мне пришли в голову некоторые мысли, не вошедшие еще в убеждения правительств и обществ, о значении народного образования... сознав для себя лично несостоятельность прежнего рода образования, почувствовав новое, зависящее от времени значение его. я принялся за народное образование и потом только определил себе те приемы и основания, которые оказались успешными.
f И Г хисгой Встугпение Я
| Мысль об определении и изложении этих начал пришла мне вследствие разговора с одним немцем1, который в середине моего рассказа о приемах, опытах и результатах моей школы прервал меня вопросом: имел ли я систему, теорию воспитания, прежде чем я приступил к делу? Я ответил ему, что единственная система, которую я имел, состояла в том, чтобы не иметь никакой системы^ Немец принял меня за забавника или пустомелю: но, действительно, вся моя система состоит в том, чтобы не иметь системы, и эта-то мысль, кажущаяся таким вычурным парадоксом, составляет сущность всего последующего.
В самом деле, как и во многом другом, так и в деле воспитания мы, русские, находимся в исключительно счастливом положении.
Ежели в моих мыслях о народном образовании найдется хоть малая доля истины, которая войдет в сознание человечества и послужит основанием дальнейшему развитию новых времясообразных идей образования, я, не увлекаясь самолюбием, знаю, что большей доле того, что я сделаю, я буду обязан не своей личности, но тому обществу, в котором я должен был действовать.
Начиная учить детей в русской деревне, я не мог, не бывши набитым дураком, принять в основание ни немецко-протестантскую лютеровскую систему, ни классическую, ни иезуитскую, ни новейшую теоретическую систему воспитания. Еще менее мог я серьезно принять за систему славянский курс букваря,^часовника и псалтыря и связанные с этим курсом семинарские приемы^ Нерусские теории были чужды, невозможны для русских учеников, несостоятельность их, на мой взгляд, была доказана для самих себя, самими иностранцами; русская же система была, на мой взгляд, также невозможна для меня, как бы обучение детей игре на инструменте, которого уже не существует. На мне не лежало ни исторических школьных уз Европы, ни религиозных и философских авторитетов своего отечества. Без всякого искания новых путей, без противодействия или подчинения известным направлениям, без всякой зависимости от общества и правительства я бессознательно и свободно должен был идти и пошел своим особенным путем, руководствуясь одним изучением потребности тех учеников, с которыми я имел дело.
Тем легче мне было ошибаться! Без сомнения. Я даже твердо убежден, что я непременно бы ошибся в основаниях, ежели бы из того пу-। и, в который я был вовлечен условиями своего развития и моих учеников, я бы стал делать общий вывод о тех началах, на которых должна основываться вся наука образования; но я этого не стану делать. Я, напротив, попытаюсь доказать, что всякий частный прием в образовании верен относительно и всякий общий вывод не может быть верен по-юму уже, что он общий вывод.
Я попытаюсь доказать, как для каждого условия может быть отыскан наивернейший путь и как все общие пути всегда должны быть неверны. Я постараюсь доказать, что стремление к общим выводам было величайшее зло, остановившее развитие науки воспитания, постара-
юсь доказать, как вследствие того дело образования отстало от других сторон развития человечества и какое значение вследствие этой отсталости получило в наше время, и наконец, представлю мои мысли о тех средствах исправления этого зла, которые мне кажутся возможными.
Я знаю, что в моих выводах много и много будет ошибок и невольной лжи, происходящих от недостатка знаний и ложной точки зрения теории, в которую были бы включены все возможные стороны предмета. Я начал было такого рода сочинение, в котором, постановляя аксиомы о человеке, движении развития, о душе и т. п., я старался захватить все в свой круг суждения. Но опыт убедил меня, что, как ни льстивы для самолюбия такого рода категорические сочинения, в которых мысли так общи, что охватывают все и вместе с тем для каждого представляют особенную неясную идею, что такие сочинения, несмотря на внешнюю логичность, имеют менее убедительности и влияния, чем скромные представления хотя не всесторонних фактов, но таких, из которых сам читатель делает тот вывод, который побудил автора к выставлению этих фактов. Вследствие этого я буду держаться преимущественно критических и исторических приемов, тех самых, которые, по моему мнению, должны быть приняты и в деле образования. Кроме того, очень часто я должен буду повторять вещи, давно, может быть, известные читателю, но которые для связи моего изложения мне необходимо будет поставлять на вид ему.
О значения парадного образования
В прошлом году мне случилось говорить с г-ном Прудоном о России. Он писал тогда свое сочинение «о праве войны». Я ему рассказывал про Россию, про освобождение крестьян и про то, что в высшем классе заметно такое сильное стремление к образованию народа, что стремление это выражается иногда комично и переходит в моду. «Неужели это в самом деле правда?» — сказал он мне. Я отвечал, что, насколько можно судить издали, в русском обществе проявилось теперь сознание того, что без образования народа никакое государственное устройство не может быть прочно. Прудон вскочил и прошелся по комнате. «Ежели это правда, — сказал он мне, как будто с завистью, — вам, русским, принадлежит будущность».
Я привожу этот разговор с Прудоном, потому что это в моем опыте был единственный человек, который понимал значение народного образования и книгопечатания в наше время. Говорить о значении книгопечатания и образования кажется такой пошлостью в наше время, а между тем мне кажется, что значение это не только недостаточно, но совсем непонятно. Когда просунешь рассученную нитку в ушко иголки, то, чем больше тянешь, тем меньше проходит нитка. Чтобы продеть ее, нужно выдернуть нитку и, вновь ссучивши, продеть ее. Так и со многими убеждениями, которые считаются общепринятыми.
i ЬЯР,К HHV С б М И Ч’ЛШ Якнос По !ЯН1 I»
(Народное образование в настоящее время для нас есть единственная законная сознательная деятельность для достижения наибольшего счастья всего человечества. Вот положение, составляющее мое убеждение, которое я попытаюсь доказать.)
Объявление об издании
«Ясной Поляны»
С 1 января 1862 г. в сельце Ясной Поляне, Тульской губернии, Крапивенского уезда, будет издаваться ежемесячный журнал под заглавием «Ясная Поляна».
Ежемесячное издание будет состоять из двух отдельных выпусков: школа «Ясной Поляны» и книжка «Ясной Поляны». Школа будет заключать в себе статьи педагогические. Книжка будет содержать статьи народные, т. е. удобопонятные и занимательные для народа. Вот вся наша программа, с той лишь особенностью, что, по нашему убеждению, педагогика есть наука опытная, а не отвлеченная и что для народа, по выражению Песталоцци, самое лучшее только как раз впо-РУ-
Мы убедились, что почти все руководства школ дурны, но вместе с тем, что и по существующим плохим руководствам в большей части школ учение идет успешно. Стараясь разъяснить для себя это кажущееся странным противоречие, мы убедились, что успех учения основан не на руководствах, а на духе, организации школ, на том неуловимом влиянии учителя, на тех отступлениях от руководства, на тех ежеминутно изменяемых в классе приемах, которые исчезают без следа, но которые и составляют сущность успешного учения. Уловить эти приемы и найти в них законы — составит задачу нашей школы и ее отголоска — отдела нашего журнала, называемого школой «Ясной Поляны».
Сотрудниками нашими поэтому будут преимущественно учителя Яснополянской школы, и могут быть только учителя, смотрящие на свое занятие не только как на средство существования, не только как на обязанность обучения детей, но и как на область испытания для науки педагогики.
Не философскими откровениями в наше время может подвинуться наука педагогика, но терпеливыми и упорными повсеместными опытами. Не философом-воспитателем и открывателем новой педагогической теории должен быть каждый преподаватель, но добросовестным и трудолюбивым наблюдателем, в известной степени умеющим сообщать свои наблюдения.
По части народной литературы мы убедились, что, для того чтобы писать книги для народа, нужны более чем обыкновенный талант и кабинетное изучение народа, нужно живое суждение самого народа, нужно, чтобы назначаемые для него книги были им самим одобряемы. С
Л. Н. Толстой
54
этой целью мы намерены представлять на суд народа, собирающегося в нашей школе, все те книги, которые, по нашему крайнему разумению, ближе подходят к нему, и, не стесняясь ничем, печатать в отделе книжек «Ясной Поляны» только те статьи и книги, которые будут им одобрены.
Сверх того, находясь в постоянно близких отношениях к народу, имея постоянно возможность поверять наши мнения на практике, мы намерены в отделе школы отдавать отчет как о всех народно-педагогических статьях, так и о книгах, назначаемых для народа. В суждениях этих мы будем основываться только на опыте.
Итак, журнал «Ясная Поляна» будет содержать в себе в отделе школы: отчеты о всех опытах, удачах и неудачах новых приемов преподавания в Яснополянской школе и в Тульской гимназии по некоторым предметам, преподаватели которых обещали нам свое содействие, и критические обзоры педагогических статей.
В отделе книжек: оригинальные, переводные, переделанные и даже просто перепечатанные статьи всякого рода, которые пройдут через критику народа, собирающегося в нашей школе, и которые, по нашему убеждению, не будут противны началам изящного вкуса и строгой нравственности...
Редактор и издатель граф Л. Толстой
О народном образовании
Народное образование всегда и везде представляло и представляет одно, не понятное для меня явление. Народ хочет образования, и каждая отдельная личность бессознательно стремится к образованию. Более образованный класс людей — общества, правительства — стремится передать свои знания и образовать менее образованный класс народа. Казалось, такое совпадение потребностей должно было бы удовлетворить как образовывающий, так и образовывающийся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство, как представители более образованного сословия, и усилия эти большей частью остаются безуспешными j Не говоря о школах древности — Индии, Египта, Древней Греции и даже Рима, устройство которых нам так же мало известно, как и народное воззрение на эти учреждения, явление это поражает нас в европейских школах со времен Лютера до нашего времени.
Германия, родоначальница школы, почти 20(Рлетней борьбой не успела еще покорить противодействия народа школе. Несмотря ни на назначения заслуженных солдат-инвалидов в учителя Фридрихами, несмотря на строгость закона, 200 лет существовавшего, несмотря на приготовление учителей самого нового фасона в семинариях, несмотря на все чувство покорности закону немца, принудительность
, к Н. Толстой О народном образовании 55
школы еще до сей поры всей силой тяготеет над народом; немецкие правительства не решаются уничтожить закон обязательности школ. Германия может гордиться только образованием народа по статистическим сведениям, народ же по-прежнему большей частью выносит из школы только отвращение к школе. Франция, несмотря на переходы образования из рук короля к директории и из рук директории в руки духовенства, так же мало успела в деле народного образования, как и Германия, и еще меньше, говорят историки образования, судящие по официальным отчетам. Во Франции серьезные государственные мужи предлагают еще теперь как единственное средство победить противодействия народа — введение закона, принуждения. В свободной Англии, где не могла и не может быть мысли введения такого закона — о чем многие, однако, соболезнуют, — не правительство, а общество всеми возможными средствами боролось и борется по сие время с еще сильнее, чем где-нибудь, выражающимся противодействием народа школам. Школы вводятся там отчасти правительством, отчасти частными обществами. Громадное распространение и деятельность этих религиозно-филантропически-образова-тельных обществ в Англии лучше всего доказывают ту силу отпора, которую встречает там образовывающая часть народа. Даже новое государство Северо-Американские Штаты не обошло этой трудности и сделало образование полупринудительным. Что и говорить о нашем отечестве, где народ еще большей частью озлоблен против мысли о школе, где образованнейшие люди мечтают о введении немецкого закона школьного принуждения и где все школы, даже для высшего сословия, существуют только под условием приманки чина и вытекающих из него выгод. До сих пор детей везде почти силой заставляют идти в школу, а родители строгостью закона или хитростью — предоставлением выгод заставляют посылать своих детей в школу; а народ сам собой везде учится и считает образование благом^
Что ж это такое? Потребность образования лежит в каждом человеке; народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания. Правительство и общество сгорают желанием образовать народ, и, несмотря на все насилие, хитрости и упорство правительств и обществ, народ постоянно заявляет свое недовольство предлагаемым ему образованием и шаг за шагом сдается только силе. Как при каждом столкновении, так и при этом нужно было решить вопрос: чтб такое законно — противодействие или самое действие; нужно ли сломить противодействие или изменить действие? До сих пор, сколько можно было видеть из истории, вопрос был решен в пользу правительства и образовывающегося общества. Противодействие признавалось незаконным, в нем виделось начало зла, присущее человечеству, и, не отступая от своего образа действия, т. е. не отступая от той формы и того содержания образования, которым владело общество, оно употребляло силу и хитрость для уничтожения противодействия народа. Народ медленно и неохотно до сих пор покорялся этому действию.
Должно быть, образовывающее общество имело какие-нибудь основания для того, чтобы знать, что образование, которым оно владело в известной форме, было благо для известного народа и в известную историческую эпоху.
Какие же эти основания? Какие имеет основания школа нашего времени учить тому, а не этому, учить так, а не иначе?
Всегда и во все века человечество пыталось дать и давало более или менее удовлетворительные ответы на эти вопросы, и в наше время ответ этот еще более необходим, чем когда-нибудь. Китайскому мандарину, не выезжавшему из Пекина, можно заставлять заучивать изречения Конфуция и палками вбивать в детей эти изречения. Можно было это делать и в средние века, но где же взять в наше время ту силу веры в несомненность своего знания, которая бы могла нам дать право насильно образовывать народ? Возьмите какую угодно средневековую школу, до или после Лютера, возьмите всю ученую литературу средних веков, — какая сила веры и твердого, несомненного знания того, чтб истинно и чтб ложно, видна в этих людях! Им легко было знать, что греческий язык — единственное, необходимое условие образования, потому что на этом языке был Аристотель, в истине положений которого никто не усомнился несколько веков после. Как было монахам не требовать изучения священного писания, стоявшего на незыблемых основаниях? Хорошо было Лютеру требовать непременного изучения еврейского языка, когда он твердо знал, что на этом языке сам бог открыл истину людям. Понятно, что, когда критический смысл человечества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая; что естественно было ученикам заучивать наизусть истины, открытые богом и Аристотелем, и поэтические красоты Вергилия и Цицерона. Ни истины более истинной, ни красоты более красивой никто несколько веков после не мог себе представить. Но какое положение школы нашего времени, оставшейся на тех же догматических принципах, когда, рядом с классом заучивания истины о бессмертии души, ученику стараются дать уразуметь, что нервы, общие человеку и лягушке, суть то, что называли прежде душой; когда после истории Иисуса Навина, переданной ему без объяснений^он узнает, что Солнце никогда не ходило вокруг Земли; когда после объяснения красот Вергилия он находит красоты Александра Дюма, проданные ему за пять сантимов, гораздо большими; когда единственная вера учителя состоит в том, что ничего нет истинного, что всё, что существует, то разумно, что прогресс есть добро, а отсталость — зло; когда никто не знает, в чем состоит эта всеобщая вера прогресса?
Сравните после всего этого догматическую школу средних веков, в которых истины несомненны, и нашу школу, в которой никто не знает, что есть истина, и в которую все-таки насильно ученика заставляют ходить, а родителей — посылать своих детей. Мало того, легко было средневековой школе знать, чему учить, чему учить прежде и чему учить после и как учить, когда метода была только одна и когда вся
(♦ в-фодном
наука сосредоточивалась в Библии, книгах Августина и Аристотеля. Но каково нам, при бесконечном разнообразии предлагаемых со всех сторон методов обучения, при огромном количестве наук и их подразделений, сложившихся в наше время, каково нам выбрать один из всех предлагаемых методов, выбрать известную отрасль наук и выбрать, что труднее всего, ту последовательность в преподавании этих наук, которая была бы разумна и справедлива. Мало и этого. Отыскание этих оснований в наше время представляется более трудным в сравнении с средневековой школой еще и потому, что тогда образование ограничивалось одним известным классом, готовившимся жить в одних определенных условиях; в наше время, когда весь народ заявил свои права на образование, знать то, что нужно для всех этих разнородных классов, представляется нам еще более трудным и еще более необходимым.
Какие же эти основания? Спросите какого хотите педагога, почему он учит так и именно тому, а не этому и тому прежде, а не после. И ежели он поймет вас, то ответит: потому что он знает истину, открытую богом, и считает своей обязанностью передать ее молодому поколению, воспитать его в тех принципах, которые, несомненно, истинны; о предметах же нерелигиозного образования он не даст вам ответа. Другой педагог объяснит вам основания своей школы вечными законами разума, изложенными у Фихте, Канта и Гегеля*, третий обоснует свое право принуждения ученика на том, что всегда так было, что все школы были принудительны и что, несмотря на то, результаты этих школ — настоящее образование; четвертый, наконец, соединив все эти основания вместе, скажет, что школа должна быть такой, какой она есть, ибо таковой выработала ее религия, философия и опыт, и что то, что исторично, то разумно. Все эти доводы, включающие в себя все другие возможные доводы, мне кажется, могут быть разделены на 4 отдела: религиозные, философские, опытные и исторические.
Образование, имеющее своей основой религию, т. е. божественное откровение, в истине и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, и насилие в этом, но только в этом случае законно. Так до сих пор и делают миссионеры в Африке и Китае. Так поступают до сих пор в школах всего мира относительно преподавания религий: католической, протестантской, ев-, рейской, магометанской и т. д. Но в наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать учиться молодое поколение известным образом, остается не решенным с религиозной точки зре^ ния.
Ответ, может быть, найдется в философии. Имеет ли философия столь же твердые основания, как и религия? Какие эти основания? Кем, как и когда выражены эти основания? Мы их не знаем. Все философы отыскивают законы добра и зла; отыскав эти законы, они, каса
Л. Н. Толстой
58
ясь педагогики (все не могли не касаться педагогики), заставляют образовывать род человеческий по этим законам. Но каждая из этих теорий в ряду других теорий является неполной и вносит только новое звено в сознание добра и зла, лежащее в человечестве.
Всякий мыслитель выражает только то, что осознано его эпохой, и потому образование молодого поколения в смысле этого сознания совершенно излишне — сознание это уже присуще живущему поколе-нию7"\
Вёе педагогически-философские теории имеют целью и задачей образование добродетельных людей. Понятие же добродетели остается или все то же, или бесконечно развивается, и, несмотря на все теории, упадок и процветание добродетели не зависят от образования. Добродетельный китаец, добродетельный грек, римлянин и француз нашего времени или одинаково добродетельны, или все одинаково далеки от добродетели. Философские теории педагогики разрешают вопрос о том, как воспитать наилучшего человека по известной теории этики, выработанной в то или другое время и признающейся несомненной. Платон2 не сомневается в истинах своей этики и на основании ее строит свое воспитание, а на воспитании — свое государство. Шлеермахер3 говорит, что этика еще наука незаконченная и потому воспитание и образование должны иметь целью приготовлять таких людей, которые бы способны были вступить в те условия, которые они находят в жизни, и вместе с тем способны были бы с силой работать над представляющимися усовершенствованиями. Образование вообще, говорит Шлеермахер, имеет целью передать готового члена государству, церкви, общественной жизни и знанию. Только одна этика, хотя неоконченная наука, дает ответ на то, каким членом этих 4 элементов жизни должен быть воспитанный человекдКак Платон так и все педагоги-философы задачу и цель образования ищут в этике, одни — признавая ее извест-ной, другие — признавая ее вечным вырабатывающимся сознанием человечества; но на вопрос, чему и как должно учить народ, ни одна теория не дает положительного ответа. Один говорит одно, другой — другое, и чем дальше, тем разноречивее становятся их положения. Являются одновременно различные теории, противоположные одна другой. Богословское направление борется со схоластическим, схоластическое с классическим, классическое с реальным, и в настоящее время все эти направления существуют, не поборов одно другого, и никто не знает, что ложь, что правда. Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных теорий, как Руссо, Песталоцци, Фрёбель4 ит. д., являются все существующие школы рядом — реальные, классические и богословские учреждения. Все недовольны тем, чтосушеству ет. и не знают, что новое именно нужно и возможно. . «^Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете в ней не критериум образования, но, напротив, одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании всех педагогов, несмотря на их частое между собой разногласие, мысль, убеждающую нас в отсутствии этого
Л. Н. Толстой
О народном образовании
59
критериумаДВсе они, начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному — осво&одить школу от исторических уз, тяготеющих над ней, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих, более или менее верно угаданных потребностях строят свою новую школу. Лютер за-, ставляет учить в подлиннике священное писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон5 заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из самой жизнй, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг фи-лософии педагогики вперед состоит только в том, чтобы освобождать школу^оГмьхслй обучения молодых поколений тому, чтб старые поколения считали наукой, к мысли обучения тому, чтб лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая сама себе мысль чувствуется во всей истории педагогики — общая потому, что все требуют большей меры свободы школ, противоречащая потому, что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу
Опыт существовавших и существующих школ?.. Но как же может этот опыт доказать нам справедливость существующего метода принудительного образования? Мы не можем знать, нет ли другого, более законного метода, так как школы до сей поры не были еще свободны. Правда, мы видим на высшей ступени образования (университеты, публичные лекции), что образование стремится сделаться все более и более свободным. Но это только предположение. Может быть, образование на низших ступенях должно всегда оставаться принудительным, и опыт доказал нам, что такие школы хороши? Посмотрим же на эти школы, не справляясь со статистическими таблицами образования в Германии, а постараемся узнать школы и их влияние на народ в действительности. Мне действительность показала следующее. Отец посылает дочь или сына в школу против своего желания, кляня учреждение, лишающее его работы сына, и считая дни до того времени, как сын сделается schulfrei6 (одно это выражение доказывает, как смотрит народ на школы). Ребенок идет в школу с убеждением, что единственно известная е^у власть отца не одобряет власти правительства% которой он покоряется, поступая в школу. Известия, которые он получает от старших товарищей, бывших уже в этом заведении, не должны прибавить ему охоты к поступлению. Школы представляются ему учреждением для мучения детей, учреждением, в котором лишают их главного удовольствия и потребности детского возраста — свободного движения, где Gehorsam (послушание) и Ruhe (спокойствие) — главные условия, где даже для того, чтобы пойти «на час», ему нужно особое позволение, где каждый проступок наказывается линейкой, той же палкой, хотя в официальном мире значится уничтожение телесного наказания линейкой, или продолжением для ребенка жесточайшего положения — учения.ПЛкола справедливо представляется ребенку учреждением, где его учат тому, чего никто не понимает, где его большей частью заставляют говорить не на своем
Л Н Ь’.и’той
6(
родном patois, Mundart7, а на чужом языке, где учитель большей частью видит в учениках своих прирожденных врагов, по своей злобе и злобе родителей, не хотящих выучить того, что он сам выучил, и где ученики, наоборот, смотрят на учителя как на врага, который только по личной злобе заставляет их учить столь трудные вещи^ В таком заведении они обязаны пробыть лет шесть и часов по шести каждый день. Каковы должны быть результаты, мы видим по тому, какие они есть, опять судя не по отчетам, а по действительным фактам. В Германии 9/10 школьного народного населения выносят из школы механическое умение читать и писать и столь сильное отвращение к испытанным ими путям науки, что они впоследствии уже не берут книги в руки. Пусть те, которые не согласны со мной, укажут мне на книги, читаемые народом; даже баденский Гебель8, даже календари и народные газеты читаются как редкие исключения. Неопровержимым доказательством того, что в народе нет образования, служит то, что нет народной литературы и, главное, что десятое поколение нужно посылать так же насильно в школу, как и первое. Мало того, что такая школа порождает отвращение к образованию, она приучает в эти шесть лет к лицемерию и обману, вытекающим из противоестественного положения, в которое поставлены ученики, и к тому положению путаницы и сбивчивости понятий, которое называется грамотностью. В моих путешествиях по Франции, Германии и Швейцарии для узнавания сведений школьников, их воззрения на школу и их морального развития я в первоначальных школах и бывшим школьникам вне школ предлагал следующие вопросы: какой главный город в Пруссии или в Баварии? Сколько было сыновей у Иакова и историю Иосифа? В школе еще иногда отвечали мне триады наизусть из книги, но окончившие курс — никогда. Не наизусть почти никогда я не мог добиться ответа. В математике я не находил общего правила — иногда хорошо, иногда очень дурно. Потом я задавал сочинение на вопрос, что делали школьники в предыдущее воскресенье, и всегда, без исключения, девочки и мальчики писали одно, что они в воскресенье пользовались всеми возможными случаями, чтобы молиться богу, но не играли. Это — как образец нравственного влияния школы. На вопрос у взрослых мужчин и женщин, почему они не учатся после школы, не почитают того или другого, все отвечали, что они уже совершили обряд конфирмации, выдержали карантин школы и получили диплом на известную степень образования — грамотности.
Кроме того одуряющего влияния школы, для которого немцы придумали такое верное название verdummen9, состоящего собственно в продолжительном искажении умственных способностей, есть другое, еще более вредное влияние, состоящее в том, что ребенок в продолжение ежедневных долгих часов занятий, одуряемый школьной жизнью, то орвая на всё это самое драгоценное по возрасту время от тех необходимых условий развития, которые поставила для него сама природа. Весьма обыкновенно слышать и читать мнение, что домашние уело-
\ / '.k-pojt • !Х! V -ьании
кия, грубость родителей, полевые работы, деревенские игры и т. п. < уть главные помехи школьному образованию. Может быть, они точно мешают тому школькому образованию, которое разумеют педа-юги, но пора убедиться, что все эти условия суть главные основания всякого образования, что не только они не враги и не помехи школе, но первые и главные деятели ее. Ребенок никогда не мог бы выучиться пи различию линий, составляющих различие букв, ни числам, ни способности выражать свои мысли, ежели бы не эти домашние условия. Отчего бы, кажется, эта грубая домашняя жизнь могла научить ребенка столь трудным вещам и'вдруг эта самая домашняя жизнь не только становится несостоятельной для обучения ребенка таким легким вещам, как чтение, писание и т. д., а даже становится вредной для этого обучения? Лучшим доказательством служит сравнение крестьянского, никогда не учившегося мальчика с барским мальчиком, учившимся у гувернера с пяти лет. Преимущество ума и знаний всегда на стороне первого. Мало того, интерес знать, что бы ни было, и вопросы, на которые имеет задачей отвечать школа, порождаются только этими домашними условиями. А всякое учение должно быть только ответом на вопрос, возбужденный жизнью. Но школа не только не возбуждает вопросов, она даже не отвечает на те, которые возбуждены жизнью. Она постоянно отвечает на одни и те же вопросы, несколько веков тому назад поставленные человечеством, а не детским возрастом, до которых еще нет дела ребенку. Это вопросы о том, как сотворен мир. Кто был первый человек? Что было тому 2000 лет назад? Какая земля Азия? Какую имеет форму Земля? Каким образом помножить сотни на тысячи и что будет после смерти? и т. п. На вопросы же, представляющиеся ему из жизни, он не получает ответа, тем более что по полицейскому устройству школы он не имеет права открыть рта даже для того, чтобы попроситься «на двор», а должен это делать знаками, чтобы не нарушить тишины и не помешать учителям. Школа же учреждается так потому, что цель правительственной школы, учрежденной свыше, заключается большей частью не в том, чтобы образовывать народ, а чтобы образовать его по нашей методе — чтобы, главное, была школа и было много школ. Нет учителей? Сделать учителей. — И все-таки недостает учителей! — Сделать так, чтобы один учитель мог учить 500 детей, mecaniser I’instruction10, ланкастерскую методу, pupilte achers11. Поэтому школы, устроенные свыше и насильственно, не пастырь для стада, а стадо для пастыря. Школа учреждается не так, чтобы детям было удобно учиться, но так, чтобы учителям было удобно учить. Учителю неудобны говор, движение, веселость детей, составляющие для них необходимое условие учения, и в школах, строящихся как тюремные заведения, запрещены вопросы, разговоры и движения. Вместо того чтобы убедиться, что, для того чтобы действовать успешно на какой-нибудь предмет, нужно изучить его (а в воспитании этот предмет есть свободный ребенок), они хотят учить так, как умеют, как вздумалось, и при неуспехе хотят переменить не образ учения, а самую
Л. И. Толстой
Ь?
природу ребенка. Из этого понятия вытекали и теперь вытекают (Пе-сталоцци) такие системы, которыми бы можно было mecaniser I’instru-ction, то вечное стремление педагогики устроить дело так, чтобы, какой бы ни был учитель и ученик, метод бы был один и тот же.^тбит взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улице или в школе, то вы видите жизнерадостное, любознательное существо с улыбкой в глазах и на устах, во всем ищущее поучения, как радости, ясно и часто сильно выражающее свои мысли своим языком, то вы видите измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке, существо, которого душа, как улитка, спряталась в свой домик. Стоит взглянуть на эти два состояния, чтобы решить, которое из двух более выгодно для развития ребёнка. То странное психологическое состояние, которое я назову школьным состоянием души, которое мы все, к несчастью, так хорошо знаем, состоит в том, что все высшие способности — воображение, творчество, соображение — уступают место каким-то другим, полуживотным способностям — произносить звуки независимо от воображения, считать числа сряду: 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению подставлять под них какие-нибудь образы; одним словом, способность подавлять в себе все высшие способности для развития только тех, которые совпадают со школьным состоянием, — страха, напряжения памяти и внимания.ГВся-кий школьник до тех пор составляет диспарат12 в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного состояния. Как скоро ребенок дошел до этого положения, утратил всю независимость и самостоятельность, как только проявляются в нем различные симптомы болезни — лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т. п., так он уже не составляет диспарат в школе, он попал в колею, и учитель начинает быть им доволен. Тогда тоже являются те неслучайные, но постоянно повторяющиеся явления, что самый глупый ребенок делается лучшим учеником и самый умный — худшим учеником^ Кажется, этот факт довольно знаменателен для того, чтобы подумать о нем и постараться объяснить его. Мне кажется, что один такой факт служит явным доказательством ложности основания принудителькрй школы. Мало того, кроме этого отрицательного вреда, состоящего в удалений детей от бессознательного образования, получаемого дома, на работе, на улице, школы эти вредны физически — для тела, столь нераздельного с душою в первом возрасте; вред этот особенно важен в отношении однообразия школьного воспитания, ежели бы даже оно было хорошо. Для земледельца ничем невозможно заменить тех условий работы, жизни в поле, разговоров старших ит. п., которые окружают его; точно то же для ремесленника, вообще для городского жителя. Не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, горожанина — городскими. Эти условия в высшей степени поучительны, и только в них может образовываться тот и другой; школа же первым условием своего образования кладет отчуждение от этих условий.
Н Ъх'стой
О народном образовании
Мало этого для школы, мало того, что она по шести часов в день отрывает в лучшие годы детей от жизни, она трехлетних детей хочет оторвать от влияния матери. Изобретены заведения (Kleinkinderbewahran-stalt, infantschools, salles d’asile)13, о которых нам придется говорить еще подробнее. Недостает только изобретения паровой машины, которая бы заменила мать-кормилицу. .Все согласны, что школы несовершенны (я, с своей стороны, убежден, что они вредны). Все согласны, что нужно много и много улучшений. Все согласны, что улучшения эти должны основываться на большем удобстве для учеников. Все согласны, что узнать эти удобства можно, только изучив потребности школьного возраста вообще и потребности каждого сословия в особенности. Что же делается для этого трудного и сложного изучения? В продолжение нескольких веков каждая школа учреждается на образец другой, учрежденной на образец прежде бывшей, и в каждой из этих школ непременным условием поставлена дисциплина, воспрещающая детям говорить, спрашивать, выбирать тот или другой предмет учения, одним словом, приняты все меры для лишения учителя возможности делать выводы о потребностях учеников.[Принудительное устройство школы исключает возможность всякого прогресса. А между тем, как подумаешь о том, сколько веков прошло в отвечании детям на те вопросы, которых они не думали задавать, о том, как далеко ушли нынешние поколения от той древней формы образования, которая прививается им, то непонятно становится, как еще держатся школы. Школа, нам бы казалось, должна быть и орудием образования, и вместе с тем опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы. Только когда опыт будет основанием школы, только тогда, когда каждая школа будет, так сказать, педагогической лабораторией, только тогда шкода не отстанет от всеобщего прогресса, и опыт будет в состоянии положить твердые основания для науки образования.
Но, может быть, история ответит нам на тщетный вопрос наш: на чем основано право принуждать к образованию и родителей, и учеников? Существующие школы, скажет она, выработались историческим путем, историческим путем точно так же должны вырабатываться дальше и видоизменяться сообразно требованиям общества и времени; чем дольше мы живем, тем школы делаются лучше и лучше. На это отвечу: во-первых, что доводы исключительно философские столь же односторонни и ложны, как и доводы исключительно исторические. Сознание человечества составляет главный элемент истории, и потому, ежели'человечество сознает несостоятельность своих школ, то этот факт сознания уже будет главным историческим фактом, на котором должно основаться устройство школы. Во-вторых, чем дольше мы живем, тем школы становятся не лучше, а хуже, хуже относительно того уровня образования, которого достигло общество.ЦПкола есть одна из тех органических частей государства, которая не может быть рассматриваема и оцениваема отдельно, ибо достоинство ее состоит только в большем или меньшем соответствии ее с остальными частями
государства. Школа хороша только тогда, когда она осознала те основные законы, которыми живет народ?|Прекрасная школа для степной русской деревни, удовлетворяющая всем потребностям своих учеников, будет весьма плохая школа для парижанина, и самая лучшая школа XVII в. будет самой дурной школой в наше время; и наоборот, самая плохая школа средних веков в свое время была лучше самой лучшей школы в наше время, ибо более соответствовала своему времени и стояла все-таки наравне с общим образованием, ежели не впереди, тогда как наша школа стоит позади его. Ежели задача школы, допуская самое общее определение, состоит в передаче всего выработанного и осознанного народом и в отвечании.на те вопросы, которые жизнь представляет человеку, то нет сомнения, что в средневековой школе и предания были ограниченнее, и вопросы, представляющиеся в жизни, были удоборазрешимее, и эта задача школы более удовлетворялась. Передать предания Греции и Рима по недостаточным и неразработанным источникам, религиозные догматы, грамматику и ту часть математики, которая была известна, гораздо легчег чем все те предания, которые мы прожили с тех пор и которые настолько же отодвинули назад предания древних народов, и все те знания естественных наук, которые необходимы в наше время, как ответы на повседневные явления жизни. А между тем способ передачи остался тот же, и потому школа должна была отстать и сделаться не лучше, а хуже. Для того чтобы удержать школу в той же форме, в какой она была, и не отстать от движения образования, нужно было быть последовательнее: не только делать законы принуждений для школ, но и запретить образованию двигаться вперед другими путями — запретить машины, пути сообщения и книгопечатание.
Сколько известно из истории, только китайцы были строго логичны в этом отношении. Попытки других народов стеснения книгопечатания и вообще стеснения движения образования были только временны и недостаточно последовательны. И потому китайцы одни могут в настоящее время гордиться школой хорошей и вполне соответствующей общему уровню образования.
Ежели нам скажут, что школы историческим путем совершенствуются, мы ответим только, что совершенствование школ должно разуметь относительно и что относительно школы, напротив, с каждым годом и с каждым часом принуждения делаются хуже и хуже, т. е. более и более отстают от общего уровня образования, ибо движение их вперед несоразмерно движению образования со временем изобретения книгопечатания.
В-третьих, на исторический довод, что школы существовали и потому хороши, отвечу также историческим доводом. Год тому назадГя был в Марселе и посетил все учебные заведения для рабочего народа этого города. Отношение учащихся к населению так велико, что за малым исключением все дети ходят в школу в продолжение трех, четырех и шести лет. Программы школ состоят в изучении наизусть катехи-
<иса, священной и всеобщей истории, четырех правил арифметики, французской орфографии и счетоводства. Каким образом счетоводство может составить предмет преподавания, я никак не мог понять, и ни один учитель не мог объяснить мне. Единственное объяснение, которое я сделал себе, рассмотрев, как ведутся книги учениками, окончившими этот курс, есть то, что они не знают и трех правил арифметики, а выучили наизусть операции с цифрами и потому также наизусть должны выучить tenue des livres14. (Кажется, нечего доказывать, что lenue des livres, Buchhaltung15, преподающееся в Германии и в Англии, есть наука, требующая четыре часа объяснения для всякого ученика, знающего четыре правила арифметики.) Ни один мальчик в этих школах не умел решить, т. е. постановить самой простой задачи сложения и вычитания.^Вместе с тем с отвлеченными числами они делали операции, помножая тысячи с ловкостью и быстротой. На вопросы из истории Франции отвечали наизусть хорошо, но по разбивке я получил ответ, что Генрих IV убит Юлием Кесарем. То же самое в географии и священной истории. То же самое в орфографии и чтении. Женский пол больше чем наполовину не умеет читать иначе, как по выученным книгам. Шесть лет школы не дают возможности написать слова без ошибки. Я знаю, что приводимые мною факты так невероятны, что многие усомнятся; но я мог бы написать целые книги о том невежестве, которое видал в школах Франции, Щвейцарии и Германии. Впрочем, кому это дело близко к сердцу, пусть тот так же, как и я, не по отчетам публичных экзаменов постарается изучить школы, а по продолжительным посещениям и беседам с учителями и учениками в школах и вне школ. Видел я еще в Марселе одну светскую и одну монашескую школу для взрослых. Из 250 000 жителей меньше 1000, и только 200 мужчин, посещают эти школы. Преподавание то же самое: механическое чтение, которого достигают в год и более, счетоводство без знания арифметики, духовные поучения и т. п. Видел я после светской школы ежедневные поучения в церквах, видел salles d’asile16, в которых четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны богу и своим благодетелям, и убедился, что учебные заведения города Марселя чрезвычайно плохи. Ежели бы кто-нибудь, каким-нибудь чудом видел все эти заведения, не видав народа на улицах, в мастерских, в кафе, в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитываемом таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежественный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите городского работника лет тридцати — он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильно; он имеет понятие о
Л. Н. Толстой
6h
политике, следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук. Он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?
Я невольно нашел этот ответ в Марселе, начав после школ бродить по улицам, гингетам, cafes chantanst, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Кесарем, знал очень хорошо историю «Четырех мушкетеров» и «Монте-Кристо». В Марселе я нашел 28 дешевых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных. На 250 000 жителей их расходится до 30 000, следовательно, если положить, что 10 человек читают и слушают один номер, то все их читают. Кроме того, музей, публичные библиотеки, театры. Кафе, два большие cafes chantants, в которые за потребление 50 сантимов имеет право войти всякий и в которых перебывает ежедневно до 25 000 человек, не считая маленьких cafe, вмещающих столько же, — в каждом из этих кафе даются комедийки, сцены, декламируются стихи. Вот уже по самому бедному расчету пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование? Это другое дело; но вот оно — бессознательное образование, во сколько раз сильнейшее принудительного, вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем: Осталась только одна деспотическая форма почти без содержания. Я говорю почти, исключая одно механическое умение складывать буквы и выводить слова, единственное знание, приобретаемое пяти- или шестилетним учением. Притом надо заметить, что это самое механическое искусство читать и писать часто в гораздо кратчайший срок приобретается вне школы, что весьма часто из школы не выносится даже и это умение и часто теряется, не находя приложения в жизни, и что там, где существует обязательный закон посещения школы, учить писать, читать и считать второе поколение нет никакой надобности, ибо мать и отец, казалось бы, были в состоянии сделать это дома и гораздо легче, чем в школе. То самое, что я видел в Марселе и во всех других странах: везде главная часть образования народа приобретается не из школы, а из жизни. Там, где жизнь поучительна, как в Лондоне, Париже и вообще в больших городах, народ образован, там, где жизнь не поучительна, как в деревнях, народ не образован, несмотря на то что школы совершенно одинаковы как тут, так и там.:Знания, приобретаемые в городах, как будто остаются, знания, прйобретаемые в деревнях, теряются. Направление и дух образования народа как в городах, так и в деревнях совершенно независимы и большей частью противоположены тому духу, который желают влить в народные школы. Образование идет своим, независимым от школ путем.
Исторический довод против исторического довода состоит в том, что, рассматривая историю образования, мы не только не убедимся в
11, Толстой
О народном образовании
67
том, что школы развиваются соразмерно развитию народов, но убедимся в том, что они падают и делаются пустой формальностью соразмерно развитию народов; что, чем дальше один народ в общем образовании ушел вперед, тем более образование из школы перешло в жизнь и сделало содержание школы ничтожным^ Не говоря о всех других средствах образования — развитии торговых сношений, путей сообщения, большей степени свободы личности и участия ее в делах правления, не говоря о собраниях, музеумах, публичных лекциях и т. д., стбит взглянуть на одно книгопечатание и его развитие, чтобы понять различие положения прежней школы и теперешней. Образование бессознательное, жизненное, и образование школьное, сознательное всегда шли и идут рядом, пополняя одно другое; но при отсутствии книгопечатания какую ничтожную меру образования могла давать жизнь в сравнении со школой. Наука принадлежала избранным, владеющим средствами образования. И посмотрите, какая доля выпадает теперь жизненному образованию, когда нет человека, не имеющего книги, когда книги продаются по самым ничтожным ценам, когда публичные библиотеки открыты для всех; когда мальчик, идя в школу, кроме своих тетрадок несет спрятанный дешевый иллюстрированный роман; когда продаются по две азбуки за 3 копейки и степной мужик сплошь да рядом купит азбучку, попросит прохожего солдата показать и выучит всю ту науку, которую тот прежде годами учил у дьячка; когда гимназист бросает гимназию и сам по книгам готовится и выдерживает экзамен в университет; когда молодые люди бросают университет и, вместо того чтобы готовиться по запискам профессора, прямо работают над источниками; когда, говоря искренно, всякое серьезное образование приобретается только из жизни, а не из школы.
Последний и самый, по моему мнению, важный довод состоит, наконец, в том, что хорошо немцам на основании двухсотлетнего существования школы исторически защищать ее, но на каком основании нам защищать народную школу, которой у нас нет? Какое мы имеем историческое право говорить, что наши школы должны быть такие же, какие европейские школы? Мы не имеем еще историю народного образования. Вникнув же во всеобщую историю народного образования, мы не только убедимся в том, что нам невозможно устроить на немецкий образец семинарии для учителей, переделать немецкую звуковую методу, английские infantschools, французские лицеи и школы специальностей и этими средствами догнать Европу, но мы убедимся, что мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования, что наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбивать из того cercle vicieux17, который столько времени проходили европейские шко-
JI. Н Тм клой
лы, — cercle vicieux, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Европейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще. На основании того, что прожито человечеством, и того, что деятельность наша еще не начиналась, мы можем внести большее сознание в наш труд и потому обязаны это сделать. Для того чтобы заимствовать приемы европейских школ, мы обязаны отличить то, чтб в них основано на вечных законах разума, и то, что родилось только вследствие исторических ь условий. Общего разумного закона, критериума, оправдывающего насилие, употребляемое школами против народа, нет, и потому всякое подражание европейской школе в отношении принудительности школы будет шаг не вперед, но назад для нашего народа, будет изменой своему призванию. Понятно, почему во Франции сложилась дисциплинированная школа с преобладанием точных наук — математики, геометрии и рисования; почему в Германии сложилась степенная воспитательная школа с преобладанием пения и анализа; понятно, почему в Англии развилось это бесчисленное количество обществ, учреждающих филантропические школы для пролетариата с их строго-нравственным и вместе практическим направлением; но какая должна сложиться школа в России, нам неизвестно и всегда будет неизвестно, ежели мы не оставим ее вырабатываться свободно и своевременно, т. е. сообразно той исторической эпохе, в которой она должна развиться, сообразно своей истории еще более всеобщей истории. Ежели мы убедимся, что народное образование в Европе идет ложным путем, то, не делая ничего для нашего народного образования, мы сделаем больше, чем ежели бы мы силой внесли вдруг в него все то, чтб каждому из нас кажется хорошим.
Итак, малообразованный народ хочет образовываться, более образованный класс хочет образовывать народ, но народ подчиняется обра-; зованию только при насилии. Отыскивая в философии, опыте и исто-1 рии те основания, которые бы давали образовывающему классу на то право, мы ничего не нашли, а, напротив, убедились, что мысль человечества постоянно стремится^освобождению народаотнасилия в деле образования. Отыскивая критериум педагогики, тГ~е7"~знания того, чему и как должно учить, мы ничего не нашли, кроме разноречивей-ших мнений и утверждений, а, напротив, убедились, что, чем дальше двигалось человечество, тем невозможнее становился этот критериум; отыскивая критериум этот в истории образования, мы убедились не Столько в том, что для нас, русских, исторически выработавшиеся j школы не могут быть образцами, но что эти школы с каждым шагом вперед более и более отстают от общего уровня образования и что по-1 тому принудительный характер их более и более становится незаконным и, наконец, что в Европе самое образование, как просачивающа
яся вода, избрала себе другой путь — обошло школы и разлилось в жизненных орудиях образования?^
Что же нам, русским, делать в настоящую минуту? Сговориться ли всем и взять за основание английский, французский, немецкий или североамериканский взгляд на образование и какой-нибудь из их методов? Или, углубившись в философию и психологию, открыть, чтб вообще нужно для развития души человека и для приготовления из молодых поколений наилучших людей по нашим понятиям? Или воспользоваться опытом истории — не в смысле подражания тем формам, которые выработала история, а в смысле уразумения тех законов, которые страданиями выработало человечество, — и сказать себе прямо и честно, что мы не знаем и не можем знать того, что нужно будущим поколениям, но что мы чувствуем себя обязанными и хотим изучить эти потребности, не хотим обвинять в невежестве народ, не принимающий нашего образования, а будем себя обвинять в невежестве и гордости, ежели вздумаем образовать народ по-своему. Перестанем же смотреть на противодействие народа нашему образованию как на враждебный элемент педагогики, а, напротив, будем видеть в нем выражение воли народа, которой одной должна руководиться наша деятельность. Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно говорит нам и из истории педагогики, и из истории всего образования, что, для того чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или по крайней мере уклониться ох того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, чтопсритериум педагогики есть только один — свобода.
Мы избрали этот последний путь в нашей педагогической деятельности.
("Основанием нашей деятельности служит убеждение, что мы не только не знаем, но и не можем знать того, в чеК! должно состоять образование народа, что не только не существует никакой науки образования и воспитания — педагогики, но что первое основание ее ещё не положено, что определение педагогики и ее цели в философском смысле невозможно, бесполезно и вредно.
Мы не знаем, чем должно быть образование и воспитание, не признаем всей философии педагогики, потому что не признаем возможности человеку знать то, что нужно знать человеку. Образование и воспитание представляются нам историческими фактами воздействия одних людей на других; потому задача науки образования, по нашему мнению, есть только отыскание законов этого воздействия одних людей на других. Мы не только не признаем за нашим поколением знания и не только не признаем права знания того, что нужно для совершенствования человека, но убеждены, что ежели бы знание это было у человечества, то оно не могло бы передать или не передать его молодому поколению. Мы убеждены, что сознание добра и зла, независимо от
Л. Н. Толстой
70
воли человека, лежит во всем человечестве и развивается бессознательно вместе с историей, что молодому поколению так же невозможно привить образованием нашего сознания, как невозможно лишать его этого нашего сознания и той ступени высшего сознания, на которую возведет его следующий шаг истории. Наше мнимое знание законов добра и зла и на основании их деятельность на молодое поколение есть большей частью противодействие развитию нового сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом поколении, есть препятствие, а не пособие образованию.
Мы убеждены, что образование есть история и потому не имеет конечной цели. Образование в самом общем смысле, обнимающее и воспитание, по нашему убеждению, есть та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования. Мать учит ребенка своего говорить только для того, чтобы понимать друг друга, мать инстинктом пытается спуститься до его взгляда на вещи, до его языка, но закон движения вперед образования не позволяет ей спуститься до него, а его заставляет подняться до ее знания. То же отношение существует между писателем и читателем, то же между школой и учеником, то же между правительством и обществами и народом. Деятельность образовывающего, как и образовывающегося, имеет одну и ту же цель. Задача науки образования есть только изучение условий совпадения этих двух стремлений к одной общей цели, указания на те условия, которые препятствуют этому совпадению. Наука образования становится для нас вследствие того, с одной стороны, более легкой, не представляя более вопросов: какая есть конечная цель образования, к чему мы должны готовить молодое поколение? и т. д.; с другой стороны, неизмеримо труднейшей Щам необходимо изучать все те условия, которые способствовали совпадению стремлений образовывающего и образовывающегося; нам нужно определить, что такое есть та свобода, отсутствие которой препятствует совпадению обоих стремлений и которая одна служит для нас критериумом всей науки образования; нам нужно, шаг за шагом, из бесчисленного количества фактов подвигаться к разрешению вопросов науки образования >>
Мы знаем, что доводы наши убедят немногих. Мы знаем, что основные убеждения наши в том, что единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода, для одних прозвучит избитой пошлостью, для других — неясной отвлеченностью, для третьих — мечтой и невозможностью. Мы бы не дерзнули нарушить спокойствие педагогов-теоретиков и высказывать столь противные всему свету убеждения, ежели бы должны были ограничиться рассуждениями этой статьи, но мы чувствуем возможность, шаг за шагом и факт за фактом, доказать приложимость и законность наших столь диких убеждений и только этой цели посвящаем наше издание.
Толстой
По гово’п передовой ст:, гьи аЯсной Поляны»
71
По поводу передовой статьи «Ясной Поляны»
В передовой статье — полемика с жизнью — неясность. Жизнь и просвещение совершенно различны. Реальные науки требуются жизнью и познаются жизнью, но не школой. Грамота есть тоже реальная наука... Скорее отнести школы грамотности к министерству путей сообщения, чем к министерству просвещения. Образоваться из книг народ не может. Либо он не понимает, либо подделка под него. А подделываться и творить вместе нельзя. .. .Для реальных знаний не нужны школы. Лучшие механики в мире в Англии учатся не в школах, а в механических заведениях. В Англии нет ни одной кафедры механики. Выучиться химии и технологии настолько, насколько нужно для производства, — легко очень скоро. Естественные науки — философия природы, т: е. роскошь. Из теории Ньютона нет ни одного приложения. Ватт, изобретатель пара, был малообразованный человек. Образование — высшее есть или 1) роскошь, 2) подготовка к государственной деятельности или 3) приготовление людей для поддержания этого образования и движения вперед.
Моя ошибка в передовой статье «Ясной Поляны» та, что я говорю: образование есть потребность. Как же не желают ее удовлетворения народ и высшее сословие? Грамота для народа есть'удобство, как мосты, которые строятся неохотно, для высшего сословия это специальность, которая требует подготовки. Что же делать? Почему не давать всем средним классам возможность [получить] образование по языкам и математике? Это мало возьмет времени, когда выкинуть все — историю, географию, естественные науки. Почему языки и математика? Две способности ума, мысль логическая и мысль художественная, и только форму мысли образующие. Эти должны быть насильственны (?) — остальные науки свободны. Умеешь занимательно читать физику и есть потребность — читай. Эти чтения входят в область жизни, а не школы, как книги, и эти чтения одинаково полезны для образованных и необразованных.
В моем государстве просвещение устроено так.
Есть школы, где преподаются языки все и математика, обязательные для высших классов, открытые для народа. Остальные все науки читаются при школах приват-доцентами и слушаются по произволу. Школы грамотности находятся в ведении министерства внутренних дел и учат только грамоте и наизусть закон божий. Посещение их или непосещение зависит от родителей.
J, Н, г нм* ~'
О значении описаний школ и народных книг
В первом номере «Нашего времени» мы прочли следующее: «В настоящее время находится в рассмотрении в высшем государственном учреждении работа об устройстве народных школ и вообще о системе народного образования».
Мы убеждены и в предыдущей статье старались объяснить основания нашего убеждения, что система народных школ и образования может быть прочно основана только на потребностях народа. Система народного образования только тогда не принесет того вреда, который приносили и приносят собой все системы, когда в основание ее лягут изучение взгляда народа на образование, изучение потребности народа и изучение прежде существовавших в народе, свободно возникших школ. Народные школы, несмотря на непризнавание их, существуют в некоторых местностях в довольно большом отношении к народонаселению. В последнее время в селениях временнообязанных крестьян народные школы возникают с каждым днем и отношение их к народонаселению становится значительно.
Народные школы до сих пор по закону находятся в ведении штатных смотрителей, большей частью соединяющих с должностью смотрителя учительское место и потому едва успевающих следить за своими школами. Мнимое наблюдение штатных смотрителей, директоров гимназий и вообще министерства народного просвещения над большей частью мнимо существующими народными и частными школами становится неудобным в настоящее время при повсеместном возникновении действительных народных школ. Школы эти до сих пор в действительности подлежат: у государственных крестьян — управляющему палатой и окружным начальникам, у временнообязанных крестьян — мировым посредникам, и только эти чиновники имеют действительное влияние на школы, ежели им угодно обратить на них свое внимание. Большей же частью школы эти предоставлены самим себе, так как общества крестьян по закону не имеют права сменять и назначать учителей. Право это мнимо принадлежит министерству народного просвещения.
В недавнее время благочинными были получены указы консисторий, имеющие предметом распространение образования в народе и собрание сведений о числе школ и учащихся. С той же целью был обнародован циркуляр министерства внутренних дел.
Обе эти меры имели весьма мало влияния на народное образование и на собрание точных сведений о его движении и отразились на народе в действительности совсем не так, как можно было бы предполагать. Священникам и причету нигде нет времени и возможности заниматься обучением детей. Народ смотрит недоверчиво на бесплатное обучение. Волостные школы не учреждаются, во-первых, потому, что волостное правление находится большей частью в отдалении от селений, а роди
b? -стер
( ) ИИ < НИЧчНИИ ;т Нлри.Н!» ix t нНг
тели зимой (единственное время учения) не пускают своих плохо одетых детей за четыре и более верст; во-вторых, потому, что народ, часто справедливо, не имеет уважения к волостным писарям, и волостные писаря хотя бы и должны быть люди хорошей нравственности и т.- д., до сих пор набираются преимущественно из людей неофициально выгнанных из писцов.
В одном из мировых участков Тульской губернии не было летом 1861 г. ни одной народной школы — в настоящее врямя открыто 20 школ, около 300 учащихся. Из 20 школ две только ведутся писарями, три—священниками и причетниками, в остальных 15 — учителями частные люди, исключительно занятые делом учения, — семинаристы, студенты, солдаты, отставные дьячки. Столь же более или менее сильное развитие школ заметно везде в последнее время, и везде, как и в приведенном случае, развитие это происходит совершенно свободно.
Что служит побудительной причиной появления этих школ? Как они учреждаются и администрируются? (Мнимый надзор штатных смотрителей, как сказано выше, не имеет на них никакого влияния, донесено ли или не донесено об открытии школы.) Откуда и как берутся материальные средства для поддержания их? Какие предметы преподавания входят в школы и какой употребляется метод? Как и чем выражает народ свое удовольствие или неудовольствие школой? Могут ли сами общества крестьян контролировать школы? Какой взгляд народа на образование, что он от него требует? Какие книги распространены в народе, какие книги от любит и читает более других? Вот вопросы, без ответа на которые нам кажется невозможным устройство никакой системы народного образования, Ответ на эти вопросы может дать только изучение действительности^ Действительность же чрезвычайно прихотлива и никак не подчиняется общим законам, выведенным из небольшого числа фактов. Поэтому собирание большого числа фактов, уясняющих этот вопрос, мы считаем необходимым и главным условием устройства какой-нибудь системы образования. Мы в настоящем номере помещаем с этой целью несколько описаний школ и книг; в следующих номерах надеемся помещать такие же, более или менее интересные описания народных книг и школ, как материалы хроники народного образования, нисколько не обсуждая их литературного достоинства, направления и взгляда, ценя их только по интересности и характеру правдивости фактов. С этой целью мы просим всех учителей, книгопродавцев и вообще людей, имеющих прямое дело с народным образованием, сообщить нам все те факты, которые отвечают сколько-нибудь на предложенные нами вопросы. Все такие статьи, в какой бы они ни были форме, мы сочтем за драгоценные приобретения. Мы считаем гораздо более полезным и значительным для дела народного образования сведения о том, какие книги находятся в такой-то деревне, такого-то уезда, и под каким предлогом такой-то крестьянин взял из школы, а такой-то отдал своего сына, и где, кто за сколько и как учат грамоте, где помещается училище и за какую цену,
Л. Н. 'Голстой
74
чем знать по разграфленному листу, сколько, какого вероисповедания, каких лет и какого пола в таком и таком-то месяце учатся в такой и такой-то губернии.
В следующем номере мы надеемся представить историю возникновения этих 20 школ в знакомой нам местности и исследование о книгах, читаемых народом.
О методах обучения грамоте
Весьма много людей в настоящее время очень серьезно заняты отысканием, заимствованием или изобретением наилучшей методы обучения грамоте; весьма многие даже изобрели и отыскали эту лучшую методу. Нам весьма часто приходится встречать в литературе и в жизни вопрос: по какой методе вы учите? Надо признаться, однако, что вопрос этот слышится большей частью от людей или весьма малообразованных, давно как ремеслом занимающихся обучением детей, или от людей, сочувствующих народному образованию из своего кабинета и готовых в пользу его даже написать статейку и собрать подписку для напечатания азбуки по лучшей методе, или от людей, пристрастных к своей одной методе, или, наконец, от людей, вовсе не занимавшихся учением, — от публики, повторяющей то, что говорит большее число людей. Люди, серьезно занятые делом и образованные, уже не задают таких вопросов.
Всеми как будто признано за несомненную истину, что задача народной школы есть обучение грамоте, что грамотность есть первая ступень образования и что потому необходимо найти лучшую методу этого обучения. Один вам скажет, что звуковая метода очень хороша, а другой уверяет, что Золотова метода1 самая лучшая, а третий знает еще самую лучшую методу — ланкастерскую2 и т. п. Только ленивый не подтрунивает над учением по «буки-аз—ба», и все уверены, что для распространения образования в народе нужно только выписать лучшую методу, пожертвовать по 3 рубля серебром, нанять дом и учителя или даже самому от избытка образования уделить маленькую частичку его — в воскресенье, между обедней и визитами, несчастному, погибающему в невежестве народу—и дело сделано.
Сойдутся умные, образованные и богатые люди; высокая и счастливая мысль мелькает в голове одного из них — облагодетельствовать этот ужасный русский народ. «Давайте!» Все соглашаются, и рождается общество, имеющее целью народное образование — печатание дешевых хороших книг для народа, учреждение школ, поощрение учителей и т. п. Пишется устав, дамы принимают участие, вся формалистика обществ проделывается, и деятельность общества начинается. Печатать хорошие книги для народа! Как просто и легко кажется, как и все великие мысли. Одно только затруднение: хороших книг для народа нет не только у нас, но и в Европе. Для того чтобы печатать такие
Н. 'Голстон О методах обучения грамоте 75
книги, надо их делать, а ни один из членов-благодетелей не вздумает заняться этой работой; общество поручает за собранные целковые кому-нибудь сочинить или выбрать и перевести самое лучшее (все это легко выбрать) из европейской народной литературы, и народ будет счастлив, быстрыми шагами пойдет к образованию, и общество очень довольно. В отношении другой стороны деятельности школ общество поступает точно так же. Только редкие, одержимые самоотвержением, уделяют свои драгоценные досуги обучению народа. (То обстоятельство, что эти люди никогда не читали ни одной педагогической книги и никогда не видали другой школы, кроме той, в которой сами учились, не принимается во внимание.) Другие же поощряют школы. Опять кажется так просто, и опять выходит неожиданное затруднение, состоящее в том, что нет другого средства содействовать образовании), как самому учить и отдаться совершенно этому делу.
Но благодетельные общества и частные люди как будто не замечают этого затруднения и продолжают подвизаться этим способом на поприще народного образования и продолжают быть очень довольны. Явление это, с одной стороны, забавно и безвредно, ибо деятельность этих обществ и людей не захватывает народ; с другой стороны, явление это опасно, напуская еще больший туман в наш неустановившийся взгляд на народное образование. Причинами этого явления могут быть отчасти раздраженное состояние нашего общества, отчасти общее человеческое свойство — делать из всякой честной мысли игрушку для тщеславия и праздности. Основная же причина лежит, нам кажется, в большом недоразумении — что такое грамотность, распространение которой составляет цель всех образователей народа и которая порождала у нас странные споры?
Грамотность — понятие, существующее не у нас одних, но и во всей Европе, — признается программой элементарной школы для народа. Lesen ued schreiben, lire et ecrire, reading and writing3. Что же такое грамотность и чтб она имеет общего с первой ступенью образования? Грамотность есть искусство из известных знаков составлять слова и произносить их и из тех же знаков составлять слова и изображать их. Что же есть общего между грамотностью и образованием? Грамотность есть известное искусство (Fertigkeit); образование есть знание фактов и их соотношений. Но, может быть, это искусство складывать слова необходимо для того, чтобы ввести человека на первую ступень образования, и для этого нет другого пути? Этого мы никак не видим, а видим весьма часто совершенно противоположное, ежели только не будем, говоря об образовании, разуметь одно школьное, но и жизненное образование. Между людьми, стоящими на низкой степени образования, мы видим, что знание и незнание грамоты нисколько не изменяют степени их образования. Мы видим людей, хорошо знающих все факты, необходимые для агрономии, и большое число отношений этих фактов, не знающих грамоты; или прекрасных военных распорядителей, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителей работ, мастеров,
ремесленников, подрядчиков и просто образованных жизнью людей с большими знаниями и здравым суждением, основанным на этих знаниях, не знающих грамоты, и, наоборот, видим знающих грамоту и не приобретших вследствие этого искусства (Fertigkeit) никаких новых знаний. Всякий, кто серьезно приглядится к образованию народа не только в России, но и в Европе, невольно убедится, что образование приобретается народом совершенно независимо от грамоты и что грамота, за редким исключением из ряду вон выходящих способностей, остается ни к чему не применимым искусством, в большей части случаев даже вредным искусством, вредным потому, что ничто в жизни не может оставаться индифферентным. Ежели грамота неприложима и бесполезна, то она будет вредна.
Но, может быть, известная степень образования, стоящая выше тех примеров безграмотного образования, которые мы приводили, невозможна без грамотности? Очень может быть, но мы этого не знаем и не имеем никаких оснований предполагать этого для образования будущего поколения. Невозможна только та степень образования, которую мы имеем и кроме которой мы себе не можем и не хотим ничего другого представить. У нас есть образец школы грамотности, составляющий краеугольный камень образования, по нашему мнению, и мы не хотим знать всех тех ступеней образования, которые существуют не ниже, а совершенно вне и независимо от нашей школы.
Мы говорим: все не знающие грамоты одинаково необразованны, для нас это скифы4. Для начала образования нужна грамота, и мы волей-неволей вводим народ этим путем в наше образование. Мне с тем образованием, какое я имею, очень приятно было бы согласиться с этим мнением; я даже убежден, что грамота есть необходимое условие известной степени образования; но я не могу быть уверен, что мое образование хорошо, что путь, по которому идет наука, верен, и главное — я не могу оставить без внимания 3/4 рода человеческого, образовывающегося без грамоты. Ежели уже мы непременно хотим образовывать народ, то спросим у него, как он образовывается и какие его любимые орудия для этой цели. Ежели мы хотим отыскать начало — первую ступень образования, то почему нам отыскивать ее непременно в грамоте, а не гораздо глубже? Почему останавливаться на одном из бесконечного числа орудий образования и видеть в нем альфу и омегу образования, тогда как это только одно из случайных, малозначащих обстоятельств образования? В Европе давно уже учат грамоте, а народной литературы нет, т. е. народ, класс людей, исключительно занятый физической работой, нигде не читает книг. Кажется, что это явление заслуживало бы внимания и разъяснения, а между тем думают помочь делу, только продолжая учить грамоте.
Все жизненные вопросы чрезвычайно легко и просто разрешаются в теории и только при приложении к делу оказываются неразрешимыми так легко и распадаются на тысячи других, трудно разрешаемых вопросов. Кажется, так просто и легко образовать народ: выучить его,
хотя бы насильно, грамоте и дать ему хорошие книги — и готово. А на деле выходит совсем другое. Народ не хочет учиться грамоте. Ну, его можно еще заставить. Другое затруднение — нет книг. Можно заказать. Но заказанные книги дурны; заставить писать хорошие книги нельзя. Главное же затруднение — народ не хочет читать этих книг, а заставить его читать их еще не придумано способа; и народ продолжает образовываться не в школах грамотности, а по-своему. Может быть, не пришло еще историческое время для народа принять участие в общем образовании, нужно еще лет 100 учиться грамоте; может быть, народ испорчен (как думают многие); может быть, нужно, чтобы сам народ писал для себя книги; может быть, метода еще не найдена самая лучшая; может быть, и то, что образование посредством книги и грамоты есть аристократическое средство образования, менее удобное для рабочего класса народа, чем другие, развившиеся в наше время, орудия образования. Может быть, что главная выгода обучения посредством грамоты, состоящая в возможности передать науку без ее вспомогательных средств, не существует в наше время для народа. Может быть, что работнику легче учиться ботанике по растениям, зоологии по животным, арифметике по счетам, с которыми он имеет дело, чем по книге. Может быть, что работник найдет время послушать рассказ, посмотреть музеум, выставку, но не найдет времени читать книгу. Может быть даже, что книжный способ учения положительно противен его образу жизни и складу характера. Весьма часто мы видим внимание, интерес и ясное понимание у рабочего человека, когда знающий рассказывает и объясняет ему; но трудно вообразить этого самого работника с книгой в мозолистых руках, вникающего в смысл популярно изложенной ему на двух листах науки. Все это только предположения причин, которые могут быть весьма ошибочны, но самый факт отсутствия народной литературы и противодействия народа образованию посредством грамоты тем не менее существует во всей Европе.
Точно так же существует во всей Европе взгляд образовывающего класса на школу грамотности как на первую ступень образования. Происхождение столь кажущегося неразумным воззрения станет весьма ясно, как скоро мы вглядимся в исторический ход образования. Прежде основались не низшие, а высшие школы: сначала монастырские, потом средние, потом народные. У нас прежде всего основана академия, потом университеты, потом гимназии, потом уездные училища, потом народные. С этой исторической точки зрения учебник Смарагдова5, на двух листах передающий историю человечества, точно так же необходим в уездном училище, как необходима грамота в народном. Грамота есть последняя ступень образования в этой организованной иерархии заведений или первая ступень с конца, и потому низшая школа должна только отвечать на те потребности, которые заявляет высшая школа. Но есть другая точка зрения, с которой народная школа представляется самостоятельным учреждением, не обязан-
JI. Н. 'Голстон
ным нести на себе недостатки устройства высшего учебного заведения, но имеющим свою независимую цель народного образования. Чем ниже спускаемся мы по этой, государством учрежденной, лестнице образования, тем более чувствуется необходимость сделать на каждой ступени образование независимым и оконченным. Из гимназии только V5 не поступает в университет, из уездного училища V5 только поступает в гимназию, из народной школы поступает в высшее учебное заведение. Следовательно, соответственность народной школы высшему заведению есть последняя цель, которую должно преследовать народное училище. А между тем только этой соответственностью может объясниться взгляд на народные школы как на школы грамотности.
Спор в нашей литературе о пользе или вреде грамотности, над которым так легко было смеяться, по нашему мнению, есть весьма серьезный спор, которому предстоит разъяснить многие вопросы. Спор этот, впрочем, существовал и существует не у одних нас. Одни говорят, что для народа вредно иметь возможность читать книги и журналы, которые спекуляция и политические партии кладут ему под руку; говорят, что грамотность выводит рабочий класс из его среды, прививает ему недовольство своим положением и порождает пороки и упадок нравственности. Другие говорят или разумеют, что образование не может быть вредно, а всегда полезно. Одни — более и менее добросовестные наблюдатели, другие — теоретики. Как и всегда бывает в спорах, и те и другие совершенно правы. Спор, нам кажется, заключается только в неясном постановлении вопроса. Одни совершенно справедливо нападают на грамотность как на отдельно привитую способность читать и писать, без всяких других знаний (что и делает до сих пор большая часть школ, ибо выученное наизусть забывается, остается одна грамотность); другие защищают грамотность, подразумевая под нею первую ступень образования, и не правы только в неверном понимании грамотности. Ежели вопрос поставлен так: полезно или нет для народа первоначальное образование, то никто не может ответить отрицательно. Ежели же спросят: полезно или нет выучить народ читать, когда он не умеет читать и у него нет книг для чтения, то надеюсь, что всякий беспристрастный человек ответит: не знаю; точно так же не знаю, как не знаю, полезно ли было бы выучить весь народ играть на скрипке или шить башмаки. Вглядевшись же ближе в результат грамоты в том виде, в котором она передается народу, я думаю, что большинство ответит против грамотности, приняв во внимание продолжительное принуждение, несоразмерное равитие памяти, ложное понятие о законченности науки, отвращение к дальнейшему образованию, ложное самолюбие и средства к бессмысленному чтению, которые приобретают в этих школах. В Яснополянской школе все ученики, прибывающие из школ грамотности, постоянно отстают от учеников, поступающих из жизненной школы, и не только отстают, но отстают тем больше, чем дольше они учились в школе грамотности.
{ О Ч'ТОЙ
О методах обучения грамоте
79
В чем состоит задача и потому программа народной школы, мы не только не можем здесь объяснить, но и вовсе не полагаем этого возможным. Народная школа должна отвечать на потребности народа — вот всё, что мы можем сказать положительного на такой вопрос. В чем же состоят эти потребности, может ответить только изучение их и свободный опыт. Грамота же составляет только одну малую, незаметную часть этих потребностей, вследствие чего школы грамотности суть школы, может быть, очень приятные для их учредителей, но почти бесполезные и часто вредные для народа и нисколько не похожие даже па школы первоначального образования. Вследствие того же вопрос о том, как учить поскорее грамоте и по какой методе, есть вопрос малоинтересный в деле народного образования. Вследствие того же люди, для забавы занимающиеся школами грамотности, гораздо лучше сделают, переменив это занятие на более интересное, ибо дело народного образования, заключающееся не в одной грамотности, представляется делом не только трудным, но и необходимо требующим непосредственного, упорного труда и изучения народа. Школы же грамотности и той мере, в которой грамота необходима для народа, являются и существуют сами собой, ровно настолько, насколько их нужно. Школы эти существуют у нас в большом количестве по той причине, что учителя этих школ ничего другого передать не могут из своих знаний, кроме грамоты, и народ имеет потребность в известной пропорции знать грамоту для практических целей — прочесть вывеску, записать цифирь, почитать за деньги псалтырь над усопшим и т. д. Школы эти существуют как мастерские портных и столяров, даже взгляд народа на них и даже приемы учащих те же самые: так же ученик сам собою, временем, как-то выучивается, так же мастер употребляет ученика для своих нужд — за водкой сходить, дрова колоть, ток расчищать, так же есть срок выучки. Точно так же, как и мастерство, грамота эта никогда не употребляется для дальнейшего образования, а только для практических целей. Пономарь или солдат учит, а мужик из трех сыновей одного отдает на выучку грамоте, как в портные, и удовлетворяется законная потребность того и другого; но видеть в этом известную степень образования и на этом основании строить государственную школу, полагая весь недостаток такой школы только в методе обучения грамоте, и завлекать в нее хитростью или насилием было бы преступлением или ошибкой.
Но в школе народного образования, как вы ее разумеете, скажут мне, обучение грамоте все-таки составит одно из первых условий образования — как потому, что потребность знать грамоту лежит во взгляде народном на образование, так и потому, что наибольшее число учителей лучше всего знают только грамоту, и потому вопрос о методе обучения грамоте представляется все-таки вопросом трудным и требующим разрешения. На это ответим, что в большей части школ, при недостаточности нашего знания народа и педагогики, образование действительно начнется с обучения грамоте; но что процесс обучения зна-
d н.
кам печати и письма представляется нам самым ничтожным и давно известным. Дьячки выучивают по «буки-аз—ба» грамоте в три месяца; умный отец или брат этим же способом выучивает гораздо скорее; по золотовской и Лаутир-методе6 выучиваются, говорят, еще скорее. Но, выучившись как по той, другой и третьей методе, ничего не выиграют, ежели не будут выучены понимать читанное, что составляет главную задачу при обучении грамоте. Об этой же самой нужной, трудной и еще не найденной методе ничего не слышно. А потому вопрос о том, как удобнее всего выучить грамоте, хотя и требующий ответа, представляется нам весьма ничтожным, и упорство в отыскании методы и трата сил, имеющих более важное приложение к дальнейшему образованию, кажутся цам большим недоразумением, вытекающим из неточного понимания грамотности и образования.
Сколько нам известно, все существующие методы можно разделить на три методы и их сочетания:
1. Метода «азов, складов и толков и выучение почти наизусть одной книжки — Buchstabiermethode7.
2. Метода гласных и приставления к ним согласных, выражаемых только вместе с гласной.
3. Звуковая метода.
Золотовская метода есть остроумное сочетание второй и третьей, как и все другие методы суть только сочетания этих трех основных метод.
Все методы эти одинаково хороши, каждая с известной стороны имеет преимущество над другой вообще и преимущество относительно известного языка и даже известных способностей ученика, и каждая имеет свои затруднения. Первая, например, облегчает выучивание азов, называя их: аз, буки, веди—или: ананас, баран и т. д., и переносит всю трудность в склады, которые отчасти выучиваются наизусть, отчасти познаются инстинктом при чтении с указкой наизусть целой книги. Вторая облегчает склады и сознание безгласности согласной, но затрудняет в выучивании букв, в произношении полугласных и в сложных тройных и четверных складах, особенно в нашем языке. Метода эта для нашего языка представляет затруднение в сложности и большом числе оттенков наших гласных. Ь и все составленные из нее гласные: ъа — я, ъе — е, ъу — ю невозможны; я с приставлением к нему б будет бья, а не бя, Для того чтобы произносить бя и бю, бъ и бе, надо выучить склады наизусть, иначе будет: бъя, бью, бъ и бъе. Звуковая метода, одно из самых комичных порождений немецкого ума, представляет большие удобства в сложных складах, но зато невозможна для изучения букв. И несмотря на то что по правилам семинарий бухш-табирметоде не должно признавать, буквы выучиваются по старой методе, только вместо того, чтобы откровенно произнести по-старому эфъ — i — ша, учитель и ученики ломают себе рот, чтобы произнести фъ — i — шъ, да притом ш составляется из sch, а не есть одна буква.
JL H Толстой
О методах обучения грамоте
81
Золотовская метода представляет большее удобство в соединении слогов в слова и в сознании безгласности согласных, но представляет свои трудности в заучивании букв и в сложных складах. Она удобнее других только потому, что есть соединение двух метод, но далеко не совершенна, потому что есть — метода.
Наша бывшая метода, состоящая в том, чтобы выучивать буквы, называя их бе, ее, ге, ме, ле, се, фе и т. д., и потом складывать на слух, откидывая ненужную гласную е и наоборот, представляет тоже свои выгоды и невыгоды и тоже состоит из соединения трех метод. Опыт убедил нас, что нет ни одной методы дурной и ни одной хорошей, что недостаток методы состоит только в исключительном следовании одной методе, а лучшая метода есть отсутствие всякой методы, но знание и употребление всех метод и изобретение новых по мере встречающихся трудностей.
Мы подразделили методы на три отдела, но подразделение это несущественно. Мы сделали его только для ясности; собственно же нет никаких метод, и каждая заключает в себе все другие. Всякий, обучивший другого грамоте, употребил для этого, хотя и бессознательно, все существующие и имеющие существовать методы. Изобретение новой методы есть только сознание той новой стороны, с которой можно подходить к учащемуся для вразумления его, и потому новая метода не исключает старой, не только не лучше старой, но становится хуже, ибо большей частью сначала попадает на самый существенный прием. Большей же частью изобретением нового приема считалось уничтожение старого, хотя в действительности старый прием все-таки оставался самым существенным, и изобретатели, сознательно отрицавшие старые приемы, этим отрицанием только больше затрудняли дело, становились сзади тех, которые употребляли сознательно старые приемы и бессознательно новые и будущие приемы. Приведем для примера самую старую и самую новую методу: методу Кирилла и Мефодия и звуковую методу — остроумную Fisch — Buch8, употребляемую в Германии. Дьячок, мужик, учащий по-старому «аз, буки», почти всегда догадается объяснить ученику безгласность согласной и скажет, что в буки выговаривается только бъ. Я видел мужика, учившего своего сына, объяснявшего бъ, ръ и потом снова продолжавшего учить по складам и толкам. Ежели учитель не догадается этого сделать, то ученик сам поймет, что в бе существенный звук есть бъ. Вот звуковая метода.
Почти всякий старый учитель, заставляя складывать слово из двух и более складов, закроет один склад и скажет: это бо, а это го, а эторо и т. д. Вот часть приемов золотовской методы и методы гласных. Каждый, заставляя учить букварь, заставляет ученика смотреть на изображение слова бог, в то же время произносит бог и таким путем прочитывает с ним целую книгу, и процесс складывания усваивается учеником свободно, соединяя органическое с раздельным, соединяя речь знакомую (молитву, насчет необходимости знания которой не может быть вопроса в уме мальчика) с разложением этой речи на составные
JI. H. Толстое
части. Вот все новые методы и еще сотни других приемов, которые бессознательно употребляет всякий умный, старый учитель для объяснения процесса чтения своему ученику, предоставляя ему всю свободу объяснять самому себе процесс чтения тем путем, который ученик найдет удобнейшим.
Не говоря о том, что при старой методе «буки-аз—ба» я знаю сотни примеров весьма быстрого выучивания грамоте и сотни весьма медленного по новым методам; я утверждаю только то, что старая имеет всегда преимущество перед новой в том, что она включает в себя все новые методы, хотя и бессознательно, новая же исключает старые, и еще в том, что старая свободна, новая принудительна. Как свободна, скажут мне, когда при старой методе розгами вбивают склады, а при новой детям говорят «вы» и просят их только понять? В этом-то и состоит насилие, самое тяжелое и вредное для ребенка, когда его просят понять точно так же, как понимает учитель. Всякий, кто сам учил, должен был замечать, что как же различно, как можно сложить 3, 4 и 8, так же различно можно сложить б, р, а. У одного ученика 3 и 4 = 7, да еще 3 = 10, да 5 осталось, точно так же у него а или аз, да р или рцы да впереди ра еще буки — бра, а другого 8 да 3 = И, да еще 4 = 15 и точно так же буки, рцы должно быть бра, потому что все складывали бра, вра, гра и т. д., а коли не бра, так бру, и еще тысячи различных путей, из которых бъ, ръ, да а выйдет бра, — есть один, и может быть (по моему мнению) один из последних. Надобно никогда не учить и не знать людей и детей, чтобы думать, что так как бра есть только соединение бъ, ръ и а, то каждому ребенку надо выучить бъ, ръпа, и он будет складывать. Вы ему говорите: б, р, а—какой звук? Он отвечает: ра — и совершенно прав: у него так ухо устроено; другой говорит: а; третий говорит: бръ\ так же, как в ща-сча он говорит: сч или щ; так же, как в фъ он говорит: хвъ и т. д. Вы говорите ему: а, е, и, о, у — главные буквы: а для него ръ, лъ главные буквы, и он ловит совсем не те звуки, которых вы хотите.
Но этого мало. Учитель из немецкой семинарии, обученный наилучшей методе, учит по фиш-буху. Смело, самоуверенно он садится в классе, инструменты готовы: дощечки с буквами, доска с планочками и книжка с изображением рыбы. Учитель оглядывает своих учеников и уже знает все, чтб они должны понимать; знает, из чего состоит их душа и много еще другого, чему он научен в семинарии.
Он открывает книгу и показывает рыбу. «Что это такое, милые дети?» Это, изволите видеть, Anschauungsunterricht9. Бедные дети обрадуются на эту рыбу, ежели до них уже не дошли слухи из других школ и от старших братьев, каким соком достается эта рыба, как морально ломают и мучают их за эту рыбу. Как бы то ни было, они скажут: «Это рыба». — «Нет», — отвечает учитель. (Все, что я рассказываю, есть не выдумка, не сатира, а повторение тех фактов, которые я без исключения видел во всех лучших школах Германии и тех школах Англии, где успели заимствовать эту прекрасную и лучшую методу.) «Нет, — гово
i IL Толстой
О методах обучения грамоте
S3
рит учитель. — Что вы видите?» Дети молчат. Не забудьте, что они обязаны сидеть чинно, каждый на своем месте и не шевелиться — Ruhe und gehorsam10. «Что же вы видите?» — «Книжку», — говорит самый глупый. Все умные уже передумали в это время тысячу раз, чтб они видят, и чутьем знают, что им не угадать того, чего требует учитель, и что надо сказать, что рыба не рыба, а что-то такое, чего они не умеют назвать. «Да, да, — говорит с радостью учитель, — очень хорошо, — книга». Умные осмеливаются, глупый сам не знает, за что его хвалят. «А в книге что?» — говорит учитель. Самый бойкий и умный догадывается и с гордой радостью говорит: «Буквы». — «Нет, нет, совсем нет, — даже с печалью отвечает учитель, — надо думать о том, чтб говоришь». Опять все умные в унынии молчат и даже не ищут, а думают о том, какие очки у учителя, зачем он не снимет их, а смотрит через них и т. п. «Так что же в книге?» Все молчат. — «Что вот здесь?» Он указывает на рыбу. — «Рыба», — говорит смельчак. «Да, рыба, но ведь не живая рыба?» — «Нет, не живая». — Очень хорошо. А мертвая?» — «Нет». — «Прекрасно. Какая же эта рыба?» — «Ein Bild — картина». — «Так, прекрасно». Все повторяют: это картина — и думают, что конечно. Нет, надо сказать еще, что это картина, изображающая рыбу. И точно таким же путем добивается учитель, чтобы ученики сказали, что это есть картина, изображающая рыбу. Он воображает, что ученики рассуждают, и никак не догадывается, что ежели ему велено заставлять учеников говорить, что это есть картина, изображающая рыбу, или самому так хочется, то гораздо бы проще было заставить их откровенно выучить наизусть — это мудрое изречение.
Еще счастливы те ученики, которых учитель оставит на этом в покое. Я сам видел, как он заставлял их сказать, что это не рыба, а вещь — ein Ding, а вещь эта — уже есть рыба. Это, изволите видеть, новый Anschauungsunterricht в соединении с грамотой, это — искусство заставлять детей думать. Но вот Anschauungsunterricht кончен, начинается разложение слова. Показывается слово Fisch, составленное из букв на картонах. Лучшие и умные ученики думают тут поправиться и сразу схватить очертания и названия букв, но не тут-то было. «Что есть у рыбы спереди?» Напуганные молчат, наконец, смельчак говорит: «Голова». — «Хорошо, очень хорошо. А голова где? в чем?» — «Спереди». — «Очень хорошо, а после головы что?» — «Рыба». — «Нет, думайте». Они должны сказать: тело — Leib. Говорится и это, но уже ученики теряют всякую надежду и уверенность в себе и все умственные силы напрягают на уразумение того, чтб нужно учителю. Голова, тело и конец рыбы, хвост. Прекрасно! Все вдруг: «Рыба имеет голову, тело и хвост». — «Вот рыба, составленная из букв, и вот рыба нарисованная». Составленная из букв рыба вдруг разделяется на три части: на Г, на i и на sch. Учитель с самодовольством фокусника, обрызгавшего всех цветами вместо вина, отодвигает F, показывает и говорит: «Это голова, i — это тело, sch — это хвост», и повторяет: «Fisch, фффф НИ шшшш. Это фффф, это iiii, это шшшш». И несчастные мучаются,
Л Н. Толстой
84
шипят и фыркают, произнося согласную без гласной, чтб физически невозможно. Не признавая того, сам учитель за ф употребляет полугласную, составляющую середину между ъ и ы. Ученики сначала забавляются этим шипением, но потом замечают, что от них требуют запоминания этих ффъ и шшъ, и говорят: шиф, шиш, фиф и решительно не узнают своего слова фиш в фффф..Ли...шшш.Учитель, знающий наилучшую методу, не придет им на помощь, посоветовав запомнить ф по федер, фауст и иг по шюрце, шахтелъ11 и т. д., но требует шшш; не только не придет на помощь, но решительно не позволит выучить буквы по азбуке с картинками или по фразам, как, например: азъ, буду, ведать, глагол..., не позволит выучить склады и читать знакомое, не зная складов; одним словом, выражаясь по-немецки: игнорирует обязан не знать все другие методы, кроме фиш, и то, что рыба есть вещь, и т. д. Для грамоты есть метода и для первоначального развития мышления есть метода Anschauungsunterricht (смотри DenziVs Entwurf)12, обе соединяются вместе, и дети должны пройти в эти игли-ные уши. Все меры приняты для того, чтобы другого развития, кроме как по этому пути, не могло быть в школе. Всякое движение, слово, вопрос запрещены. Die Hande fein zusammen! Ruhe ind Gehorsam13l И есть люди, подтрунивающие над «буки-аз—ба», утверждающие, что «буки-аз—ба» есть убивающая умственные способности метода, и рекомендующие Lautier-methode in Verbindung mit Anschauungsunterricht14, т. e. рекомендуют заучивать наизусть: рыба есть вещь и фъ есть голова, i — тело, а шъ — хвост рыбы, а не заучивать наизусть псалтырь и часовник.
Англичане и французы-педагоги с гордостью произносят трудное для них слово Anschauungsunterricht и говорят, что вводят его вместе с первоначальным обучением. Для нас этот Anschauungsunterricht, о котором мне еще придется говорить подробно, представляется чем-то совершенно непонятным. Что такое это наглядное обучение? Да какое же может быть обучение, как не наглядное? Все пять чувств участвуют в обучении, и потому всегда был и будет Anschauungsunterricht.
Для европейской школы, выбивающейся из средневекового формализма, понятны название и мысль наглядного обучения, в противоположность прежнему обучению, извинительны даже ошибки, состоящие в удержании старого метода и в изменении только внешних приемов; но для нас, я повторяю, Anschauungsunterricht не имеет смысла. Я до сих пор после тщетного искания этого Anschauungsunterricht"а и метода Песталоцци по всей Европе ничего не нашел, кроме того, что географию надо учить по картам выпуклым, ежели они есть, краскам — по краскам, геометрии — по чертежам, зоологии — по зверям и т. д., что каждый из нас знает с тех пор, как родился, чего вовсе не нужно выдумывать, потому что это давно выдумано самой природою, вследствие чего это каждому, не воспитанному в противных понятиях, и известно. И эти, и подобные методы, и методы приготовления учителей по известным методам серьезно предлагают нам, начинающим
J И. Толстой
О методах обучения грамоте
85
свои школы во второй половине XIX в., без всех исторических обуз и ошибок, лежащих на нас, совсем с другим сознанием, чем то, которое было основанием европейских школ. Да и не говоря о лжи этих метод, о насиловании духа учеников, для чего нам, у которых по «буки-аз—ба» пономари выучивают грамоте в шесть месяцев, заимствовать Lautieranschauungsunterrichtmethode15, по которой учатся год и более!
Мы сказали выше, что, по нашему мнению, всякая метода хороша и всякая односторонна; всякая удобна для известного языка и народа. Поэтому звуковая метода и всякая другая не русская метода будет для нас хуже «буки-аз—ба». Ежели Lautieranschauungsunterricht в Германии, где несколько поколений уже воспитаны так, чтобы думать по известным, определенным Кантами и Шлеермахерами законам, где учителя приготавливаются самые лучшие, где Lautiermethode начата с XVII в. и где все-таки метода приносит такие неблестящие результаты, то что бы было у нас, ежели бы законом признана была известная метода, известный Lesebuch16 с нравственными изречениями? Чтб выйдет из обучения по какой бы то ни было не усвоенной народом и учителями вновь введенной методе?
Расскажу несколько близких случаев. Нынешней осенью учитель, занимавшийся в Яснополянской школе, открыл свою школу в деревне, где из 40 учеников половина уже была обучена по азам и толкам и одна треть умела читать. Через две недели выразилось общее недовольство крестьян школой. Главные пункты обвинения были: что учат по-немецки — а, бе, а не аз, буки, что учат сказки, а не молитвы и нет порядка в школе. При свидании с учителем я передал ему мнение крестьян. Учитель, университетского образования, с презрительной улыбкой объяснил мне, что он переучивает а, бе вместо аз, буки для облегчения складов, что сказки читают для того, чтобы приучить понимать читанное, сообразное с их понятиями, а что при новой его методе — наказывать детей он считает ненужным, и потому старого порядка, к которому привыкли крестьяне, видя своих детей с указками за складами, быть не может.
Я посетил школу эту на третьей неделе. Мальчики разделены были на три разряда, и учитель старательно ходил от одних к другим. Одни, низшие, стоя у стола, по картонному листу азбуки учили наизусть места, где стоят буквы. Я стал спрашивать их; более половины знали буквы, называя их: аз, буки и пр., другие знали даже склады; один знал читать, но учился сначала, тыкал пальцами и повторял: а, бе, ее, воображая, что это что-то новое; другие, средние, складывали на слух: с, к, а, — ска, — один задавал, другие отвечали. И это они делали третью неделю, тогда как довольно много одного дня, чтобы усвоить себе этот процесс откидывания лишней гласной е. Из них я нашел тоже знающих склады по-старому и читающих. Они, так же как и первые, стыдились своего знания и отрекались от него, воображая, что нет спасения, не сложивши бе, ре, а — бра. Третьи, наконец, читали. Эти несчастные сидели на полу, каждый держа в руке книжку прямо перед глазами, и,
Л. Н. Толстой
86
притворяясь, что читают, повторяли громко следующие два стиха: Там, где только кончик неба, Там народ живет без хлеба.
Окончив эти стихи, они опять начинали то же сначала, с грустными и озабоченными лицами, изредка покашиваясь на меня, как будто спрашивая: хорошо ли? Страшно и неимоверно рассказывать. Из этих мальчиков одни совсем не умели читать, другие не умели складывать; умеющие удерживались из дружного чувства, неумеющие повторяли наизусть, и три недели все повторяли только эти два стиха из отвратительнейшей переделки нехорошей для народа сказки Ершова.
Я стал спрашивать из священной истории, — никто ничего не знал, потому что учитель по новой методе не заставлял учить наизусть, а рассказывал по краткой священной истории. Я спросил нумерацию — никто не знал, хотя учитель по два часа в день показывал, опять по новой методе, нумерацию на доске всем вместе до миллионов сразу, а не заставлял учить наизусть. Я спросил молитвы — ни один не знал: говорили «Вотчу» с ошибками, как выучились дома. И все отличные, полные жизни, ума и охоты к учению мальчики! И что ужаснее всего — все это делалось по моей методе! Все приемы, употребляемые в моей школе, были и тут: учение букв, написанных мелом всеми вместе, и склады на слух, и первое чтение, понятное для ребенка, и изустный рассказ священной истории, и математика без выучивания наизусть. Но вместе с тем во всем чувствовался прием, самый знакомый учителю, учения наизусть, которого он сознательно избегал и которым одним он владел и против своей воли прилагал к совершенно другим материалам: Он заставлял учить наизусть не молитву, а сказку Ершова, заставлял учить наизусть священную историю не с книги, а со своего дурного, мертвого рассказа; то же самое с математикой и складами. И невозможно выбить из головы этого несчастного учителя университетского образования, что все упреки грубых мужиков тысячу раз справедливы, что пономарь без всякого сравнения учит лучше его и что ежели он хочет учить, то может учить грамоте по «буки-аз—ба», заучивая наизусть, и этим способом может принести известную практическую пользу. Но учитель университетского образования изучил, по его словам, методу Яснополянской школы, которую ему почему-то угодно принять за образец.
Другой пример я видел в уездном училище одной из наших столиц. Прослушав с замиранием сердца, как в нашу честь оттрубил нам в высшем классе лучший ученик водные сообщения России и историю Александра Македонского — в среднем, мы уже хотели уходить с товарищем, с которым посещали школы, как штатный смотритель пригласил нас к себе посмотреть на его новую, им изобретенную и готовящуюся к печати методу обучения грамоте. «Я отобрал 8 человек самых бедных, — сказал он нам, — и над ними делаю опыты и проверяю свою методу». Мы вошли; восемь мальчиков стояли кучкой. «По местам!» — крикнул смотритель голосом самой старой методы. Маль-
। t i L ‘Летой
О методах обучения грамоте
87
пики стали кружком и вытянулись. Около часа он толковал нам, как прежде во всей столице была в употреблении эта прекрасная звуковая метода, но теперь осталась в одной только школе и он хочет воскресить ее. Мальчики все стояли. Наконец, он взял со стола карточку с изображением м-ы-шь. «Это чтб?» — сказал он, показывая мышь. — «Бык», — отвечал мальчик. «Это что? — мъ». Мальчик сказал: «мъ. А это — ы, а это — иль, вместе мышы А тут приставить ло, выйдет мыло». Еле-еле дети могли дать нам эти, выученные наизусть, ответы. Я попробовал спросить их новое, никто ничего не знал, кроме мышь и бык. «Давно ли они учатся?» — спросил я. Смотритель делает опыты уже второй год. Мальчики лет от 6 до 9 и все живые, настоящие мальчики — не куклы, а живые...
Когда я заметил смотрителю, что в Германии звуковая метода употребляется не так, он объяснил мне, что в Германии, к сожалению, звуковая метода утратилась. Я попробовал уверить его в противном, но он в доказательство своей мысли принес мне из другой комнаты пять немецких азбук 30-х и 40-х гг., составленных не по звуковой методе. Мы замолчали и ушли, а 8 детей остались для опытов смотрителя. Это было осенью 1861 г. И как бы хорошо этот самый смотритель мог выучить грамоте этих 8 мальчиков, засадив их чинно за столик с азбучками и указками, и даже мог бы подирать им вихры точно так же, как ему подирал их учивший его отец-дьякон. Сколько, сколько примеров такого обучения по новым методам можно найти в наше богатое рождением школ время, не говоря о воскресных школах, кишащих такими несообразностями!
А вот другие, противоположные примеры. В открытой в прошлом месяце деревенской школе при самом начале учения я заметил здорового курносого малого лет 14, который при повторении учениками букв мурлыкал что-то про себя и самодовольно улыбался. Он не был записан в число школьников. Я спросил его — он знал все буквы, изредка только сбиваясь на буки, рцы и т. д.; как и всегда, он стыдился этого, полагая, что это запрещено и дурно. Я спросил его склады, — он знщ1; заставил читать, — он читал без складов, хотя и сам не верил в это. — «Где ты учился?» — «Летом нынче в пастухах жил со мною товарищ, он знал и мне показывал». «Азбучка есть?» — «Есть». — «Откуда же?» — «Купил». — «Долго ли ты учился?» — «Да лето, когда покажет в поле, вот и учился». Другой ученик Яснополянской школы, учившийся прежде у пономаря мальчик 10 лет, привез мне раз своего брата. Брат 7 лет читал хорошо и выучился в одну зиму по вечерам у своего брата. Таких примеров я знаю, и всякий, кто захочет поискать в народе, найдет очень много. Так на что же нам выдумывать новые методы и во что бы то ни стало бросать «буки-аз—ба» и считать все методы хорошими, кроме «буки-аз—ба»?
Кроме всего этого, русский язык и кириллица имеют перед всеми европейскими языками и азбуками огромное преимущество и отличие, из которых, естественно, должен вытекать и совершенно особый род
Л. Н. Толстой
88
учения грамоте. Преимущество русской азбуки состоит в том, что всякий звук в ней произносится, и произносится как он есть, чего нет ни в одном языке. Che произносится цхе, а не ше, как во французском, а не хе. как в немецком; а есть а. а не ай, е и а, как в английском; с есть с, а ц есть ц. а не ч и к, как в итальянском, не говоря уже о славянских языках, не имеющих кириллицы.
Итак, какая же самая лучшая метода для обучения русской грамоте? Ни самая новая звуковая метода, ни самая старая — азов, складов и толков, ни метода гласных, ни золотовская метода. Одним словом, нет лучшей методы. Лучшая метода для известного учителя есть та, которая более всех других знакома учителю. Все другие методы, которые знает учитель и которые изобретает учитель, должны помогать учению, начатому по одной методе. Каждый народ и каждый язык имеют преимущественную связь с одной какой-нибудь методой. Чтобы узнать эту методу, нужно знать только, по какой методе дольше всего учился народ; метода эта в своих основных чертах будет наиболее свойственна народу. Для нас это есть метода букв, складов и толков, весьма несовершенная, как и все методы, и потому могущая быть усовершенствована всеми приобретениями, которые дают нам новые методы.
Всякая отдельная личность, для того чтобы выучиться наискорейшим образом грамоте, должна быть обучена совершенно особенно от всякой другой, и потому для каждого должна бы быть особая метода. Для одного представляется непобедимой трудностью то, что нисколько не задерживает другого, и наоборот. Один ученик силен памятью, и ему легче на память выучить склады, чем понять безгласность согласной; другой спокойно соображает и поймет звуковую, самую рациональную методу; у третьего есть чутье, инстинкт, и он, читая целые слова, уразумевает закон сложения слов.
Наилучший учитель будет тот, у которого сейчас под рукой готово разъяснение того, что остановило ученика. Разъяснения эти дают учителю знание наибольшего числа метод, способность придумывать новые методы, и главное, не следование одной методе, а убеждение в том, что все методы односторонни и что наилучшая метода была бы та, которая отвечала бы на все возможные затруднения, встречаемые учеником, т. е. не метода, а искусство и талант.
Всякий учитель грамоты должен твердо знать и опытом своим проверить одну, выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы. Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть только ступень, на которую должно становиться для того, чтобы идти дальше; должен L знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании ее пойдет дальше и что так как дело преподавания
* I! Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
89
сеть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны.
Мы в одном из следующих номеров представим образец этого развития нашего приема преподавания грамоты, происшедшего на наших глазах.
О свободном возникновении и развитии школ в народе
Житовская школа. Следующая по времени школа основалась Житовская. Волостное правление находится по положению при приходе в селе Т. Село Т. бедно, самые сильные деревни находятся в пятиверстном расстоянии. Когда был прочтен священником указ о школах и понят как приказание, крестьяне отдаленных деревень были в большом горе, несколько раз ходили к посреднику за советом и чрезвычайно обрадовались предложению свободной сельской школы. На волостном сходе все единогласно объявили, что не может быть сомнения в согласии родителей платить по полтине с каждого мальчика. Набралось 22 ученика, из которых два бедные единогласно приняты стипендиатами общества. Помещиком была пожертвована изба бесплатно для помещения, и школа, не уменьшаясь, не увеличиваясь, существует четвертый месяц и дает возможность к существованию учителя на средства, платимые родителями, и вместе с тем ставит учителя под самый строгий контроль общества. Несмотря на то что проект учреждения этой школы был принят весьма охотно, в принятии этом была известная доля увлечения, оказавшегося впоследствии. Некоторые ученики из дальних деревень отстали. (На место их поступили другие). Отдаленное от школы общество села Т. протестовало против волостного сбора на обзаведение училища: волостной приговор изменен, училище стало сельское, а не волостное. Семь мальчиков села Т. составили другую маленькую школу у дьякона. Две совершенно противоположные методы, употребляемые в этих школах, составляют нескончаемый предмет рассуждений и споров между крестьянами, и, несмотря на то что обучение в школе дьякона дешевле, из деревень, находящихся на равном расстоянии от той и другой школы, отдают преимущественно в Житовскую, и в последнее время метода: а, бе, ее и свобода учеников, видимо, получает преимущество в общественном мнении. Замечательно при учреждении этого училища то, что, несмотря на известное крестьянам требование от благочинного, чтобы священник обучал бесплатно и ежедневно, сельское общество, учредившее школу, сочло справедливым положить священнику вознаграждение за обучение закону божию в Житовской школе по два раза в неделю. Оно положило за это 14 рублей из штрафных денег.
Л-ая школа1. Пример Житовской школы чрезвычайно сильно подействовал на другие общества, и в сентябре, октябре и ноябре меся
JI. H. Толстой
90
цах одна за другой открывались сельские школы. Вслед за Житовской открылась Л-ая школа, но далеко не так успешно, как первая. Было много обстоятельств, которые содействовали этому. В самом селе в старину была школа, заведенная помещицей и, как всегда, обязательная для всех; половина народа — грамотные, и потому, как и всегда, со спутанными понятиями о школах, грамотности и образовании. Кроме того, писарь, умный и ловкий человек, желая подслужиться посреднику, сумел представить предложенные правила школ как обязательное приказание высшего начальства.
На волостном сходе составили приговор о плате 10 копеек с тягла и по полтине с каждого мальчика, которых набрали 45. Помещик пожертвовал помещение в доме и плату за десять мальчиков из бедных дворовых крестьян. Положение школы, казалось, было блестяще, но вышло наоборот. Крестьяне смотрели на плату за детей как на налог; были деревни на расстоянии 5 верст, детям невозможно было ходить в зимнее время; учитель не умел повести дело так, чтобы переход от старых приемов к новым был незаметен; грамотные крестьяне чувствовали себя вправе судить о преподавании и не одобряли его; писарь, начавший до открытия школы учить детей и, кажется, надеявшийся быть учителем, употреблял теперь свое влияние против школы; причетники — точно так же; помещение в господском доме, слабость учителя, который стал поддаваться требованиям крестьян, и, главное, постоянные мои убеждения, что нет ничего обязательного в отдавании детей и плате 50 копеек, сделали то, что школа распалась после 3 месяцев, и из 55 учеников осталось менее 20, и то больше дворовых: некоторые перешли к писарю, некоторые к причетникам, некоторые остались учиться дома, ученики из дальних деревень перестали ходить.
Никакие блестящие результаты в самой лучшей из свободных школ, которые, я знаю, не убедили меня так сильно в необходимости свободы для родителей — отдавать или не отдавать своих детей — и необходимости требовать плату за обучение и верить в контроль общества, как неудача этой школы.
Между учителями нашего участка существует обыкновение съезжаться по воскресеньям и обсуждать сообща дела школ. Каждое воскресенье мы получали самые грустные сведения о делах Л-ой школы: тот взял своего сына под предлогом, что грех учиться по а, бе и пр., тот предлагал писарю сверх 50 копеек, платимых в школу, еще 75, чтобы только его сын был не в нашем училище; тот, придя в школу, наговорил грубостей учителю за то, что сын его не знал «Восстав от сна», обещая, что он задаст учителю, ежели к субботе ученик не будет знать «Восстав от сна»; тот разорвал данные на дом сыну сказки Худякова. Мы ломали себе голову, чтобы догадаться, какие причины этого неудовольствия и как помочь ему: пробовали уступать требованиям крестьян, заставляя читать церковное, но это было еще хуже; пробовали посылать новых учителей, но это послужило новым поводом к неудовольствию родителей, наконец, попробовали усомниться в достоинстве
I II. Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
91
школы и учителя, и все нам объяснилось. Это была та самая школа, которую я старался описать в статье о методах обучения. Положение школы было одно из самых трудных; во-первых, по большему числу учеников, во-вторых, по полунасильственности ее учреждения, вследствие которой за 5 верст должны были ходить дети, в-третьих и главное, потому, что половина родителей грамотные. А грамотность поселяет не только недоверие, но и озлобление против образования. Для того чтобы дело пошло успешнее, надо было талантливому и энергическому учителю основаться в одном из сельских обществ и без всякого объявления о школе начать учить 10—15, сколько бы набралось желающих, и месяцами и годами конкурировать и бороться с исстари установившимся порядком учения и взглядом на него народа. А учитель был не талантливый и не энергический, школа была учреждена полуобязательно и дети в ней не учились ни грамоте, ни образовывались. В настоящее время школа эта только называется школой, настоящая же школа у причетников, писаря и у отставного солдата. Теперь еще есть возможность даровитому учителю поднять школу, но продлить насильственное существование ее еще месяц, и дело было бы потеряно навсегда.
Подосинская школа. После открытия этих трех школ прошло более месяца до отрытия новых, потому что не было учителей, а я обещал хороших учителей, и общества дожидались. Только самое отдаленное общество в деревне Подосинках, принадлежащее Го-лицынской больнице, нашло своего учителя и на предложение мое заместить выбранного ими учителя другим объявило, что оно не нуждается в новом учителе и своим довольно. Учитель этот был отставной дьячок, уже 20 лет занимавшийся обучением детей в соседней однодворческой деревне. Он предложил учить дешевле, чем в других школах, по предложенным мною правилам: он брал три полтины ассигнациями вместо полтины серебром и благодаря этому средству 3 месяца продержался учителем.
Я посетил эту школу во время ее цветения. Когда мы вошли, все было тихо там. 24 мальчика, сидевшие с вырезными указками чинно вокруг длинного стола, вдруг запели на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, лет 16, в синем кафтане. Он запевал: надеющиеся на ны; сосед его, водя указкой по засаленной азбучке, пел: слова под титлами: ангел, ангельский — архангел, архангельский и снова начинал: слова под титлами: ангел и т. д. Третий: буки, арцы, азбра, четвертый — премудрость. Когда я вошел в избу, они закричали, потом встали. Учителя не было. Я спросил, зачем они встали, они объяснили, что меня ждали и что так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать, все начали опять с тех же слов: надеющиеся, слова под титлами и т. д. Здесь в первый раз я видел классическую старинную школу и в первый раз понял, каким путем выучиваются по этой методе.
В наше время много говорят за и против старинной методы и при
Л II. Толстой
92
том так мало знают, как она прилагается в действительности, что я считаю нужным описать ее так, как видел в этой школе и у других специалистов, мастеров обучения грамоте.
Учитель устраивает стол, лавки, назначает время учения, обыкновенно с 8 часов до сумерек, отцы обязаны снабдить неграмотных детей азбучками, грамотных — часовником или псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель покупает или достает бог знает какую книжонку вместо азбучки, иногда не может достать псалтыря, когда уже мальчик начал учить псалтырь, и ученик учит не то, чтб следовало бы ему по порядку курса. Так, здесь я застал псалтырника, читающего всю уже выученную наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь был занят. Родители дают детям вычурные, вроде славянских букв, вырезанные указочки. Приводя в школу или на дом к учителю, всегда при ученике просят учителя наказывать, бить и говорят почти одну и ту же обычную фразу, имеющую целью внушить страх мальчику и убедить учителя в том, что родитель передает ему свою власть побоев над сыном. Большей частью в день отведения в школу родители ведут еще ученика в церковь и служат молебен св. Науму, который должен, по их убеждению, на ум наставить мальчика. Родители и ученик смотрят на будущее обучение как на дело рискованное: дастся грамота — хорошо; не дастся — даром промучают. В каждой деревне есть перед глазами такие примеры.
Ребята приходят в школу все в одно время: пока учение не начиналось, они должны стоять смирно в сенях или у избы и не разговаривать, ибо ежели 20 человек вдруг начнут разговаривать, учителю это покажется криком и он их накажет. Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь крестятся и целуют эти книги. Книга для них есть божество, вроде идолов у чувашей, которое они просят быть милостивым к ним. Каждому задается стишок, который он должен выучить (стишок — значит строка или две). Заданные вчера стишки он должен повторить. Начинается то самое пение, которое я застал. Учитель поручает старшему смотреть за порядком, сам же большей частью уходит. Порядок состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои 5 или 6 слов. Самый лучший из таких классических учителей в продолжение дня едва ли раз обойдет всех учеников, спросит заданный стишок и задаст новый, т. е. час времени в продолжение дня употребит на занятия со всеми. Обыкновенный же прием такого рода учителей состоит в том, чтобы поручать учение старшему ученику, самому же в продолжение недели заняться с учениками много три, четыре часа.
Все такие учителя непременно завербовывают к себе в школу хоть одного грамотного под предлогом доучивать его, а в сущности, этот полуграмотный и есть учитель. Настоящий же учитель занимает только полицейскую должность: прикрикнуть, приударить, собрать деньги и изредка только указать и спросить урок. Такими учителями очень часто бывают люди, почти целый день занятые посторонним де
LIL Толстой
О свободном возникновении и ра шитии школ в народе
93
лом, — причетники, писари, и таких-то учителей и вытекающую из их занятий методу предлагают вышеприведенные указы консистории и циркуляр МВД2 о волостных училищах.
Заучивание стишка продолжается целый день. Единственную перемену — диверсию — составляют спрашивание учителя, соединенное обыкновенно с побоями, и промежутки, когда учитель выходит и ребята начинают баловаться, вслед за чем обыкновенно бывают доносы и наказания. Учитель всегда старается как можно более уравнять учеников. Ежели есть ученики, умеющие писать, то заставляет их твердить старое с тем, чтобы засадить писать уже всех вместе. Так было и здесь.
Процесс и курс учения следующий: выучивается, начиная с азов, по стишку каждый день, потом склады, выговаривая буки-аз—ба-ба, веди-аз—ва-ва (это называется — по складам). На главе складов заучивание подряд приостанавливается, и склады выучиваются два раза: по складам и по толкам. Учение по толкам состоит в следующем. Учитель подходит и говорит: сыщи ба. ученик ищет по азбуке, находит и говорит: буки-аз—ба-ба; учитель говорит: сыщи де, ученик находит и говорит: добро-естъ—де-де. Выучив склады, заучивание уже идет подряд: заглавие, слова под титлами, молитвы, басни, краткая священная история, таблица умножения и т. д. Потом заучивается псалтырь точно так же. После псалтыря начинают писать, но писать значит совсем не* то, что мы понимаем: из букв уметь правильно соединять слова и речи, — писать, по их понятиям, значит уметь красиво выводить скорописные буквы почти в непонятных для них соединениях — срисовывать прописи. Иногда к этому прибавляется выучивание наизусть цифр от 1 до 1000, чисто механическое, без понятия о нумерации, и тем обыкновенно кончается полный курс учения, который гуртом стоит в наших местах 7 рублей 50 коп. за выучку и в розницу от 1 до 2 рублей ассигнациями в месяц.
Я долго не мог понять, каким образом, несмотря на такое учение, некоторые выучиваются-таки читать, и объяснил себе дело только математическим расчетом. В азбуке средним числом бывает страниц 50, на каждой странице до 25 строк; ежели в первое время стишки задаются в 2 строки на день, а в последнее время строк до 8 в день, средним числом можно положить задаваемый на день стишок в 5 строк. В 300 дней по этому расчету должна быть выучена наизусть вся азбука, т. е. почти в год, что и бывает так при старательном, строгом учителе, год пройдет еще на учение псалтыря, год на искусство срисовывать прописи, и опять три года совпадают с обычным временем, употребляемым старательным учителем на хорошего ученика для того, чтобы в полную выучку произвестъ.
В Подосинковской школе я долго бился в отсутствие учителя, чтобы узнать что-нибудь от учеников. Как только я обращался к кому-нибудь из них, он утыкался в книгу, твердя стишок, и совершенно забывал меня, и опять со всех сторон начиналось: надеющиеся на ны и
Л . Н. Толстой
94
пр. Я оглядывался, искал живого взгляда и изредка замечал мальчика, оторвавшегося от книги и внимательно и умно смотрящего на меня, — я подходил, спрашивал, но в ту же минуту какой-то туман застилал его глаза, и он снова бессмысленно начинал твердить свой стишок. Я попробовал спросить священную историю, старший псалтырник, начиная с заглавия: «краткая священная история», пропел мне стишков 20, но спутался на сотворении женщины. Чтобы помочь ему вспомнить, я стал спрашивать его: была ли у Адама жена или нет? Он заплакал. Наконец, извещенный каким-то услужливым мальчиком, явился учитель, хромой с костылем, с неделю небритый и с опухшим, мрачным и жестоким лицом. Я не видал еще старинного учителя, кроткого человека и непьяницу. Я убежден, что эти люди по обязанности своей должны быть тупы и жестоки, как палачи, как живодеры, должны пить, чтобы заглушать в себе раскаяние в совершаемом ежедневно преступлении над самыми лучшими, честными и безобидными существами в мире...
Как только он вошел — крик усилился. Я попросил его показать мне, как он учит; он стал подходить к каждому из мальчиков, и я заметил, как у каждого из них щурились глаза и головы вжимались в плечи при приближении небритого лица учителя, которое они чуяли, не оглядываясь на него. Во время учения и распуская учеников, он вел себя совершенно так же, как в старину барщинский староста, с палочкой ходящий на работе за бабами, который при приближении барина покрикивает: ну, бабы, бабы! — несмотря на то, что бабы и без поощрения стараются притвориться, что они работают. «Ну вы, куды, тише, порядком!» — кричал он на детей, вылезавших из-за стола, подталкивая их в спины и быстрым, незаметным движением кисти руки подергивая за что попало.
Перед тем как выходить из-за стола каждый из учеников перекрестился и опять поцеловал свое мрачное карающее божество — книжку, и поцеловал тот самый стишок, который он учил нынешний день: кто в блажен муж, кто в таблицу умножения, кто в слова под титлом и басни Хемницера. Все еще помолились перед образом, учитель объяснил мне, что он еще не выучил их, но выучит петь молитвы пред и после учения. Я очень порадовался этому. Ребята вышли на двор все еще тупые и мертвые, прошли несколько шагов как убитые и только в некотором отдалении от училища стали оживать. И какие прелестные дети! Точно такие же, каких я знаю и люблю в Ясной Поляне, только еще совсем новые и прекрасные типы...
Так живо мне вспомнилась немецкая школа, выход из нее и метаморфозы в школе и вне школы, которые я не раз замечал в немецких детях. Лучшая берлинская народная школа с портретом и методом Пе-сталоцци, с приложением усовершенствования звуковой методы Ans-chauungsunterricht’a3 и заучивание стишков по букварю и псалтырю совершенно одинаковы и равны. Впечатление, производимое ими, и результаты те же самые. Впечатление — грусть и негодавание на деспотизм учителя, результаты — отвращение к образованию и уродование.
I. H.’liметой
(J свободном вошикновении и pa нипии школ в народе
05
Берлинский учитель не стоит выше подосинковского, оба согласны в отрицании права свободы человека на том основании, что человеку этому только 10 или 12 лет.
Вернувшись в избу старосты, я нашел там несколько мужиков, видимо интересовавшихся знать мое мнение о школе. Учитель был тут же. В школе при учениках я, разумеется, не говорил своего мнения Об его учении, здесь же я попросил учителя написать мне что-нибудь. Учитель вышел в другую комнату и прислал мне оттуда записку в три строки, в которой бывший со мной ученик Яснополянской школы поправил, при мужиках, четыре орфографические ошибки. Староста спросил мое мнение о школе, я сказал, что детям лучше бы вовсе не учиться, чем учиться у такого учителя, но что это, как и всегда, зависит от их воли и что я в настоящее время не имею в виду для них другого учителя. Мне казалось, что мне совершенно не поверили. Школа продолжалась еще месяц. Недели две тому назад старшина той волости объявил, что крестьяне недовольны своим учителем и просят другого.
Вскоре после этих школ изъявили желание записать от 10 до 20 мальчиков с платой по полтине и просили рекомендовать учителя общества Богучаровское, Головлинское, Кочанское, Плехановское и Крутенское.
Так как Богучаровская школа была самая значительная по числу учеников и учитель был только один, то открыта только одна школа, другим же объявлено, что учителей в виду не имеется. Все эти четыре общества решили дожидаться и искать такого же учителя, как в Богу-чаровской школе, и с насмешкой указывали на Подосинковскую школу. Не дождавшись и не найдя учителя, Головлинское общество поручило учение писарю, который повел по классической методе, Плехановское — частью отдало детей к солдату, поселившемуся в деревне, частью дождалось вновь прибывшего учителя; Кочанское совсем отказалось от своего намерения учредить школу, и родители — кто отдал детей на выучку к священнику, кто к полуграмотному мужику, исполняющему там должность писаря; Крутенское — частью перешло к писарю, частью устроилось в одной из деревень, так же, как и в деревне казенных крестьян, о которой было говорено, т. е. нашли себе учителя, который за полтину учит детей попеременно, как посиделки у девок, переходя из дома одного мальчика в другой. Две дальние от Тулы и от большой дороги волости, несмотря на убеждения неисправного и потому желавшего подслужиться старшины, несмотря на увещания священника, не согласились ни в одном обществе открыть школы. Теперь только набралось из двух волостей в 1000 душ около 20 мальчиков: кто к священнику, кто к солдату, кто к помещику.
В Ясенецкой волости, ближайшей к Туле и большой дороге, на 1100 душ в настоящее время восемь школ: Яснополянская, Телятинская, Кочаковская, Ясенковская, Колпенская, Грецовская, Городненская и Бабуринская и более полутораста человек учащихся. При открытии волости выражено было желание учредить волостное училище и тот
Л.’Н. Толстой
96
час же приступлено к постройке дома. Основания, на которых должно было быть учреждено училище, смутно представлялись сходу. Наступила осень, великолепный дом строился, об учителе и плате не было речи; во всей же волости, на краю ее, существовала одна частная Ясно-йолянская школа, и в Ясенках взятый для своих детей домашний учитель у купца — дворника, учил отданных ему еще двоих мальчиков, да еще у дьячка были на выучке с забранными вперед деньгами два кончавшие трехлетний курс мальчика.
Всякий раз, когда на волостном сходе заходила речь об училище, старшина объяснял, что дом строится и что до отстройки об училище думать нечего. Ответом этим были все, видимо, довольны, опасаясь еще нового обязательного сбора по всей волости. Когда были предложены правила о сельских школах, честолюбивый и умный староста, хотя и бездетный, увлекся мыслью учредить в своей деревне школу; он пришел, как и всегда подразумевая приказание в открытии волостного училища, спросить меня, можно ли завести особенно школу в своей деревне. Через несколько времени пришли с радостными лицами все мужики объявить, что у них все готово, и покоя не давали, требуя учителя, которому исправно третий месяц платят по полтине р мальчика и сами нанимают и отапливают избу. Вслед за этой деревней объявило желание Колпенское общество, тоже непременно в своей деревне открыть школу, несмотря на то что эта деревня отстоит только в версте по шоссе от волости и дома, выстроенного для училища, и от училища солдата и даже от другого вновь открытого училища. Третье общество в 6 верстах открыло свое училище. Четвертое, в одной версте от Ясной Поляны и никогда не посылавшее в бесплатную школу своих детей, открыло свою школу. В Ясенках, там, где построен великолепный дом волостного училища, осталась самая незначительная школа из девяти мальчиков. Дом остается без употребления. Остался в волости еще один небольшой округ, не имевший своего училищного центра, и в этот округ, не выдержав конкуренции Ясенецкой школы, переехал солдат и завел свое училище в десять учеников. Причетники, имевшие до основания этих школ только двух учеников, получили вследствие общего настроения еще шестерых, так что вместо одного предполагавшегося волостного училища образовалось восемь маленьких школ, которые соединили в себе почти всех мальчиков волости — на 1100 душ около 150 учащихся. И училища эти, возникая свободным образом, разместились так удобно и хорошо, как не мог бы придумать никакой администратор. Училища эти и все вообще 23 училища, о которых идет речь, не подчинены ничьему контролю, исключая контроля обществ, и потому постоянно разрастаются, разветвляются, падают там, где они дурны, увеличиваются там, где хороши, и, не говоря о том, что захватывают большое число учеников, в общей массе хороши и, особенно сравнительно с училищами государственных имуществ, совершенствуются.
Я говорю, что училища эти существуют без контроля не потому,
Л. Н. Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
97
чтобы не было предписано местному духовенству и штатным смотрителям надзирать за ними, но потому, что надзор этот для тех и других совершенно невозможен и по недостаточности времени, и по недостаточности знаний и средств разъезжать, и по раздробленности, и по постоянным видоизменениям этих училищ. Из 23 училищ о шести только донесено официально на основании МВД, в том числе о Ламинцовском и Подосинковском, с цифрами учеников. Оба эти училища почти не существуют и, как я сказал, распались на другие маленькие училища.
В Ясенках живет купец и нанимает учителя для своих детей, кроме того, к нему ходят еще несколько человек посторонних. Школа это или не школа, должно ли быть о ней донесено? И солдат зачислен приходским учителем или нет? В другой деревне живет помещик и вместе со своими детьми учит 12 крестьянских мальчиков. Опять — школа это или нет и должен ли быть помещик зачислен приходским учителем или нет? Писарь набрал несколько мальчиков и между делом учит их, мужик-староста нанял к себе домашнего учителя, а чтобы ему было дешевле, сложился с другими. В Плеханове и Воздреме солдат и мещанин ходят по дворам и учат. Школа это или нет? Когда, как и кому доносить о том? Это невозможно. Есть три средства: или не признавать эти школы, как это было до сих пор, или преследовать их, что было бы нарушением самых священных прав человека: отцу учить своих детей как ему удобно, или, признавая, помогать им. Есть жизненные отношения людей, не подлежащие определениям закона, — отношения семейные, к которым принадлежит и дело образования. Точно так же нельзя предписать законов матери об обучении ее детей, как и поймать это ускользающее от закона отношение образовывающего к образовывающемуся
Занявшись изучением возникновения и развития этих школ в последнее полугодие, во время которого школы находились, по отсутствию нового закона о них, вне всякой зависимости от правительственной власти, я убедился, что это время, которое многие назовут переходным временем, есть идеал того, к чему должна стремиться организация народного образования. Ежели бы мне сказали, чтобы я составил проект системы народного образования, мне бы легко было ответить. Правительство, как представитель образовывающего общества, хочет содействовать образованию народа. Оно имеет и силу, и право, и даже обязанность это сделать. Пускай оно выберет тех лиц, которых считает способными исполнять эту обязанность в отношении народа, подразделит их поровну по всему пространству государства и, не предоставляя им никаких особых прав и преимуществ, предоставит им сообща действовать наравне с другими образовательными влияниями. Пускай в каждый уезд или участок пошлется один распорядитель и известное количество учителей, хоть с известными пособиями от правительства, и пускай учителя эти, составляя между собой съезды для об-суживания общего дела, стараются открывать свободные частные народные школы, конкурируя с другими, независимо от правительства
Л. Н. Толстой
48
открывающимися уродливыми школами грамотности. Только таким путем правительство приобретет ту законную силу влияния, которое по существу государственного устройства принадлежит ему. Только таким путем правительство будет в состоянии образовать народ в том духе и в том направлении, в котором оно находит это справедливым. Только таким путем правительство обойдет тот вечный камень преткновения насилия в народном образовании, который производил и производит религиозные и нравственные расколы, который ведет к деспотизму и революции. Только таким путем дело народного образования найдет себе не врага, а помощника в народе и без скачков, усилий и пожертвований, безостановочно поведет общество к вечной цели совершенствования .
Как в отношениях учеников к учителю, так и народа к школе и власти образовывающего общества я руководствуюсь одним опытом. Опыт возникновения и развития этих 23 школ и многих других, которые я знаю, хотя мне и не удалось изучать их на месте, самым блистательным образом доказывает, что главнейшее условие успеха развития школ есть совершенная свобода отношений к ним народа.
В деле устройства школ представляются три главные вопроса:
1) Вопрос географического размещения их, имеющего хотя и мало признаваемое, но огромное влияние на их успех.
2) Материальные средства для их существования.
3) Разъяснение недоразумений народа касательно всего нового вообще, в особенности нового для него образования.
Опыт всех 23 школ доказал, что при свободном их развитии размещение их состоялось не только не по приходам, как предполагало епархиальное начальство, не только не по волостям, как предполагал циркуляр МВД, но по таким местностям, которые не предполагали даже самые общества и которые указала сама жизнь. Будь обязательна Ясе-нецкая волостная школа, в ней было бы номинально 100 человек учащихся и 10 в действительности, точно так же, как это бывает в школах государственных крестьян; все общество негодовало бы на беззаконный и бесцельный сбор и на дело школ и образования. А теперь 150 человек действительно учащихся в той же волости, общества, учителя и ученики соперничествуют друг перед другом своими школами, родители с радостью платят свою полтину с ученика и только сердятся на сбор, на который напрасно построили училищный дом. В волостях, где еще не установились центры училищ, как, например, в Л-ой, спросите меня, знающего все подробности условий, о том, как разместить школы, ия непременно скажу вздор, а при правительственном открытии училищ и соединении большого числа учеников в одни центры распоряжения эти будут делаться из директорских кабинетов. Мало того, знания местности и условий народа ничего не покажут. В Крутенской волости в маленькой деревне стоит рота и унтер-офицер, талантливый и старательный учитель. За три версты бросили учиться у дьячка и пошли учиться к солдату, а в другой раз за версту нельзя перетянуть в
L H. Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
99
бесплатную школу под тем предлогом, что в зимнее время нет теплой одежды. Несмотря на перемещения школ с места на место, не в одной нашей местности постоянно заметно стремление школ распадаться на малые единицы. Каждое общество желает иметь своих детей и своего учителя перед глазами и только в этом случае охотно платит свои деньги.
Следя за развитием этого только что зарождающегося стремления к образованию, страшно становится предписывать формы этому стремлению, чтобы, стараясь дать ему направление, не заглушить его. Насильственное размещение центров училищ может иметь именно такое и самое вредное влияние.
Второй вопрос о материальных средствах точно так же легко разрешается применением правила свободы, как и первый. Страшно подумать о тех громадных средствах, которые потребовались бы для правительственных народных школ во всей России, ежели бы школы эти возникли пропорционально, хотя в том еще неполном количестве, в котором основались в нашем участке. Кладя по 200 рублей на школу, это составило бы около 50 миллионов. Вместе с тем мы не должны забывать, что по причине русской зимы невозможно соединять учеников на расстоянии больше 2 и 3 верст и потому число школ будет еще больше.
Предоставляя же это дело обществам, я не вижу для правительства необходимости почти никакой денежной помощи. Приводя опять в пример ближе мне знакомую Ясенецкую волость, всякая набавка 5 копеек на душу сбора порождает ропот и неудовольствие, а 5 копеек на душу составит 55 рублей в год со всей волости. С родителей же теперь со всей волости за 100 платящих учеников сходит в месяц 50 рублей, и никто не жалуется, а народ этой волости очень небогат. Двадцать же учеников, т. е. 10 рублей в месяц, дают возможность существовать учителю, даже если он по свободным вечерам не возьмет какую-нибудь постороннюю работу.
Вопрос о помещении, отоплении и первом обзаведении тоже весьма легко решается крестьянами, как скоро им предоставляют самим распоряжаться, где, как и почему учить своих детей: иногда помещик, иногда мужик жертвует помещение, иногда само общество, иногда родители берут на себя эту обязанность отопления и обзаведения, иногда, как это было в двух приведенных случаях, они решают этот вопрос самым неожиданным способом, на который никто бы не вздумал рассчитывать: они устраивают очередную переходную школу, от одного мальчика к другому. Сознание того, что они делают это для себя, по собственному побуждению и усмотрению, возбуждает в них тот интерес и сочувствие к делу, которые необходимы для пожертвования.
Наконец, третий вопрос: разъяснение недоразумений и предубеждений народа против образования. Для того чтобы читателю было совершенно ясно то, что я разумею под этими недоразумениями, я должен повторить сказанное в статье о методах, что образование и гра-
Л. Н. Толстой
ню
мощность — две вещи совершенно различные и часто противоположные. Народ, отцы, понимают и любят грамотность, ученики, дети, любят и требуют образования. Мы, учителя, любим и хотим передать народу не мастерство грамотности, а известную степень образования. В этом-то заключается столкновение, законное с обеих сторон и одинаково опасное в случае насилия с той или другой стороны. Было бы одинаково вредно запретить школы образования, как и школы грамотности. В первом случае образование избрало бы себе другой, ненормальный, путь; во втором случае доверие к образованию было бы навсегда нарушено в народе и породило бы в деле образования то же явление, как раскол в религиозном отношении, — вызвало бы народ на упрямое, молчаливое противодействие, на уклончивость от обсуждения вопроса, на тупой фанатизм и озлобление против всего, что носило бы на себе печать образования.
При начале открытия наших школ, когда в некоторых местах предложение завести школы было принято за приказание, нам удалось подметить в народе что-то вроде начала такого школьного раскола.
Народ имеет твердо установившиеся и ясные понятия о том, что такое есть грамотность, и о том, как искусство это приобретается. Нашим личным опытом и по сведениям от всех учителей в народных школах, без исключения, мы убедились, что народ требует, чтобы детей их учили по азбучкам наизусть, так чтобы отец и мать в состоянии были проверять успехи своего сына. «Мой уж «Верую» прошел, а мой «Помилуй мя, боже», — скажет крестьянин, определяя успехи своего сына, и глядя на непонятные для него знаки в книжке, заставит его почитать вечером и очень доволен, когда еще страничка прочтена и перевернута. Страх и потому побои он считает главным средством для успеха и потому требует от учителя, чтобы не жалели его сына. Всякий предмет учения вне азбуки, как-то: священная история, арифметика, только замедляет, по его мнению, необходимое выучивание азбуки. Все, без исключения, требуют, чтобы детей их били и учили по азбучкам и кроме азбучки ничего другого не учили. Как только требования их не исполняются, опять везде повторяется неизменно одинаковое явление, рождаются раскол, глухой ропот и самые непонятные, безобразные слухи, клонящиеся к вреду новых школ и приемов и вообще образования. Является суеверие, тайные ораторы — солдаты и мещане, рассказывающие невероятный вздор. Наш крестьянин ничего не говорит на вопросы о качестве школы, нешто печально ответит: «должно быть так нужно», а между собой у них уже решено, что не бьют в школах потому, что всех детей готовят везти в Москву, в казаки или солдаты, что детей ничему не учат только для того, чтобы потом сказать «мало сбору» и еще наложить новую подать; что учение не по азам и букам есть чертовское учение и смертный грех, что еще больший грех есть учение арифметике и что, раз начавши такое учение, оно должно продолжаться ровно двенадцать лет, и тому подобные непонятные своею нелепостью слухи. Надо заметить, что слухи эти были
JI. H. Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
101
порождены только недоразумением в том, что устройство школ обязательно; трудно себе представить, до каких размеров возросло бы оно, ежели бы размещение школ и плата за учение были бы насильственны.
Мы сказали, что нам удалось победить это неудовольствие народа против возникших в последние шесть месяцев 23 школ в нашем участке; победой этой мы обязаны только предоставлению крестьянам полной свободы брать или оставлять своих детей, говорить что им угодно, свободой конкуренции других школ и сравнению школ образования с школами грамотности, спорам и объяснениям с крестьянами. Приведу несколько примеров. В Яснополянской школе, существующей третий год и потому имевшей время заявить свое достоинство и направление во мнении народа, слышались сначала те же упреки в баловстве и тому подобном; теперь же приводят учеников за 30 и 50 верст; родители, взявшие вначале своих детей из школы, теперь вновь отдают их. В Л-ой школе ропот народа был сильнее, чем в прочих. Слабость и необщительность учителя, не пытавшегося объяснить крестьянам преимущества своих приемов, и, главное, уступки их требованиям еще более испортили дело. В Колпенской и других школах, где учитель ни на шаг не сдавался на требования крестьян, а прямо говорил: «Не нравится, возьми из школы и отдай солдатам», где он толковал, что я не пойду тебя учить, как пахать, хоть ты и для меня бы пахал, так и ты не учи меня, как учить, хотя я и учу твоего сына, — там понемногу крестьяне сдавались и только требовали объяснений, вникали в это новое для них учение и научались следить за успехами этого учения так, как умеют следить за успехами в учении грамотности. «Ты не по азбучке его спрашивай, — скажет ему учитель, — а заставь его прочесть какое хочешь слово в книге, он прочтет; заставь написать, он напишет после двух недель учения, а после солдатского учения в три месяца он не сделает того: что же пользы, что он всю азбучку знает?» И мужик начинает понимать и ведет свою пропаганду новой школы. Главное же, отвыкнуть, особенно матерям, от того, что не бьют их детей, — очень легко и приятно. Теперь уже небывалая прежде вещь — от солдата берут учеников за то, что он бьет их; солдат переезжает с места на место, отыскивая учеников, и напрасно старается приманить к себе сбавкой платы. Солдат и дьячок объявили, что они учат по новой методе, по а-бе, без побоев (что почему-то соединяется в их понятии в одну мето-ду)-
Прежде нашим учителям кололи глаза дьячковскими и солдатскими школами; теперь старинным учителям колют глаза нашими школами, в которых выучиваются скоро и без побоев. И это происходит в тех обществах, в которых месяц тому назад бесплатно не хотели отдавать в наши школы и говорили, что школы эти дьявольское навождение. Оставишь их в покое, случайно поговоришь с одним крестьянином, родителем школьника, поговоришь с другим, и незаметно, в месяц-два, переработается в них, перебродит весь вздор, правда всплывет, и смо
Л. Н. Толстой
102
тришь — идут, просят рекомендовать им хорошего нового учителя, и просят, не дают покоя, пока не удовлетворишь их желания. Мы только что получили и прочли проект общего плана устройства училищ...
С нашей точки зрения смысл этого проекта следующий.
Правительство, в видах общей пользы, накладывает на всех крестьян Российской империи новый училищный налог, по моему расчету от 30 до 50 миллионов рублей серебром, и берет в свое исключительное заведование и распоряжение все народные училища. С точки зрения государственной я нахожу это совершенно законным и справедливым, но только в том случае, ежели правительство может себе сказать, что оно может поставить в 100 000 училищ, которые нужны по моему расчету, 100 000 учителей и 1000 распорядителей таких, какие нужны, по его же мнению, для успешного хода образования. Вместе с тем из самого же проекта видно, что правительство не имеет в своем распоряжении никаких учителей и никаких распорядителей. Следовательно, налог будет заплачен, а правительство будет не в состоянии исполнить предпринятого или невольно исполнит его несоответственно предначертанию и несоответственно пожертвованиям народа. Народ, соединив мысль о неуспехе правительственного предприятия с общей мыслью образования, получит недоверие и озлобление к школам и образованию.
Дурные школы нимало не полезны, а положительно вредны — для нас несомненная истина, доказательству которой мы намерены посвятить отдельную статью в журнале. Единственно полезная мера проекта есть назначение директоров училищ, но не губернских, а участковых (не более 10 тысяч душ), и директоров не училищ (неуловимых, как отдельные единицы), а вообще правительственных деятелей по народному образованию в известном округе. Деятельность этих лиц должна была бы состоять, по моему мнению, в отыскании этих непризнанных мелких школ, которые тысячами зарождаются теперь по губерниям, в содействии им, в возбуждении интересов к образованию, в содействии возникновению новых школ, в руководстве в этом отношении крестьянских обществ, в приглашении и размещении учителей, в составлении съездов из учителей округа, в выдаче временных пособий, в снабжении училищ нужными вещами, книгами и т. п., в наблюдении за духом и направлением преподавания и в составлении правительственных отчетов о ходе народного образования. Все остальное: вознаграждение учителя, выбор учителей родителями и учеников учителями и размещение школы — должно быть совершенно свободно и независимо.
При всяком другом устройстве официально признанные школы будут составлять десятую долю действительно существующих школ, и только эти школы будут подведомственны правительственным лицам; остальные девять десятых будут существовать без всякого контроля.. Обязательство доносить об открытии школ будет так же мало исполняемо, как прежде исполнялось воспрещение открывать школы ли
I. Н. Толстой
О свободном возникновении и развитии школ в народе
103
цам, не имеющим на то права. Безграмотный дьячок или злонамеренный человек одинаково скажут, что у них не школа, а что они живут домашними учителями у таких и таких-то крестьян, или скажут еще, что они вовсе не учат, а беседуют с крестьянскими детьми, что будет совершенно справедливо, и никакой закон не в состоянии воспретить этого.
Теперь остается мне ответить на замечание, которое я хотел предположить во многих из моих читателей и которое прямо делает проект народных училищ. Проект на странице 24 говорит: «А как не столько опасно плохое, тяжелое и вообще дурное преподавание, сколько то, чтобы обучение не попало в руки людей наблагонамеренных, правительство должно бдительно наблюдать за преподаванием в частных школах, устраняя от преподавания лиц, оказавшихся в деле неблагонадежными». Совершенно признавая всю важность этого замечания и необходимость для правительства быть обеспеченным в деле образования против неблагонамеренности лиц, избирающих святое дело образования средством к достижению своих преступных целей, я не признаю только для правительства возможности оградить себя от неблагонамеренности таких людей одними внешними полицейскими мерами, не рассчитывая на помощь в этом самого народа. Ни обязательства объявлять об открытии школ, ни устранение неблагонамеренных лиц не помогут делу. Неблагонамеренные лица сумеют стать вне пределов закона или, что еще опаснее, в пределах и формах закона. Один неблагонамеренный человек, попавший в директора училищ, сделает больше вреда, чем сотни разбросанных исключенных студентов, занимающихся обучением и находящихся под строгим контролем родителей, платящих за детей, которых учат эти студенты. Я совершенно не согласен и не согласен на основании опыта, с мыслью, выраженной в проекте на той же 24-й странице. Там сказано: «Но, дозволяя это, т. е. каждому открывать училища, нельзя иметь надежды, чтобы в наблюдении за воспитанием приняли деятельное участие сами общества и родители: кто не знает, что даже в семействах образованных и притом платящих большие деньги за обучение своих детей и этим самым доказывающих свое неравнодушие к учению, ни отец, ни мать, за недосугом и развлечениями, часто не только не следят за холодом и направлением уроков, но даже не знают, что и как преподается их детям; тем менее, конечно, можно ожидать этого от родителей необразованных или вовсе безграмотных.
Что может быть справедливо для семейств образованных и неравнодушных к обучению своих детей, на том основании, что они платят большие деньги, что может быть даже справедливо для народа, принужденного платить большую училищную подать и вследствие того с озлоблением отвернувшегося от дела своего образования, то совершенно несправедливо относительно свободных народных школ, в которых каждый отец охотно платит за своего сына только с тем условием, чтобы знать, как и чему учится его сын. Мы в продолжение шести месяцев
Л. Н. Толстой
104
боремся с этим слишком даже деспотически выражающимся контролем общества над своими школами. Не только неблагонамеренное влияние, но преподавание не по букварю, чтение сказок, учение арифметике возбуждают ропот и недоверие. Желательно было бы видеть того учителя, который в деревенской школе дерзнул бы неуважительно отнестись к верховной власти, осмелился бы слово сказать против святыни и пробыл бы неделю учителем и имел бы учеников. Для того, кто знает народ, это явление немыслимо.
Я сказал, что не предполагаю возможности правительству противодействовать злонамеренным влияниям без помощи народа; а не предполагаю даже и этой необходимости.
Живя с народом, я не могу считать его ребенком, каждым шагом которого должно руководить; я не могу считать его безобразной толпой, без убеждений и верований, готовым подчиниться первому встречному влиянию. В народе есть свои непоколебимые политические и религиозные догматы, те самые, которые желает видеть в нем правительство, — православие, единодержавие и народность.
Образование имеет свою независимую цель, и развитие его не может не уменьшить, не ослабить верований народа. Как может обучение чтению, письму, арифметике, библейской и русской цстории, даже географии и естественным наукам поколебать верования народа? Всякое злонамеренное влияние так очевидно выходит из пределов дела обучения, представляется таким бесцельным уродством, что ни свежий, ни испорченный организм детей, ни здравый смысл родителей не выдержат ни одного дня такой попытки.
Обязательная плата, обязательное размещение училищ и запрещение учения вне официальных школ испортит все дело образования. Обязательность и насилие породят то противодействие, которого еще нет до сих пор в народе;.ибо теперь есть только недоразумение, весьма легко разъясняющееся, как нам доказал это наш опыт. Но как скоро порождено будет каким бы то ни было насилием противодействие народа школам, тогда явятся равнодушие к собственному своему делу, раскол, озлобление, которые неминуемо повлекут за собой одно насилие за другим и поставят нас в то ложное отношение к образованию, в котором находится Европа.
Проект общего плана устройства народных училищ
I
На днях прочел я проект общего плана устройства народных училищ. Чтение это произвело на меня впечатление, похожее на то, которое должен испытывать человек, давно знавший и любивший на его глазах выраставшую молодую рощу, получив неожиданное известие, что из
Л. Н. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
105
рощи этой предположено сделать сад — тут вырезать, тут подчистить и подстричь, тут срезать с корнем молодые сугпрыски и на их месте набить щебнем дорожки.
Общий смысл проекта следующий. Правительство, считая необходимым распространить народное образование и предполагая, что образование народа еще не началось, что он враждебно смотрит на свое будущее образование; предполагая, что устав 1828 г, воспрещающий открывать школы и учить лицам, не имеющим на то права, исполняется; предполагая, что народ без понуждения никогда не примется за свое образование и что, принявшись, не сумеет повести его, правительство накладывает на народ новую, самую большую из всех существовавших податей—училищную подать и поручает чиновникам министерства управление всеми вновь открытыми училищами, т. е. назначение учителей, программ, руководств. Правительство на основании взятой подати обязуется перед народом найти и определить 50 000 учителей, учредить по крайней мере 50 000 училищ. Правительство же до сей поры само постоянно чувствовало и чувствует свою несостоятельность относительно управления уже существующими приходскими и уездными училищами. Все знают и согласны, что учителей нет.
Мысль эта, столь странная в своем простом выражении для каждого русского человека, знающего свое отечество, в проекте затемнена различными оговорками, предначертаниями и дарованиями прав, в которых до сей поры ни один русский человек никогда не думал сомневаться. Мысль эта, впрочем, не новая. Она была приложена в одном из самых больших государств мира, именно в Северо-Американских Штатах. Результаты приложения этой мысли в Америке были относительно самые блестящие: нигде народное образование не развилось так быстро и повсеместно. Это совершенно справедливо. Но ежели Америка, начав свои школы после европейских государств, более успела в народном образовании, чем Европа, то из этого только следует, что она исполнила свое историческое призвание и что Россия, в свою очередь, должна исполнить свое. Россия, перенеся на свою почву американскую, обязательную (посредством налога) систему, поступила бы так же ошибочно, как ошибочно поступила бы Америка при начале своих школ, усвоив себе германскую или английскую систему. Успех Америки произошел только от того, что школы ее развивались сообразно времени и среде. Точно так же, казалось бы мне, должна поступить и Россия; я твердо убежден, что, для того чтобы русская система народного образования не была хуже других систем (а она по всем условиям времени должна быть лучше), она должна быть своя и не похожая ни на какую другую систему.
Закон о налоге на школы составлен в Америке самим народом. Ежели не весь народ, то большинство было убеждено в необходимости предложенной системы образования и имело полное доверие к правительству, которому оно поручало устройство школ. Ежели налог и казался насильственным, то только для незначительного меньшинства.
Л. Н. Толстой , Ж
Как известно, Америка—единственное в мире государство, не имеющее крестьянского сословия не только de jure, но и de facto1, вследствие чего в Америке не могло существовать того различия в образовании и взгляде на него, которое существует у нас между крестьянским и некрестьянским сословием. Америка, кроме того, устраивая свою систему, я полагаю, была убеждена, что у нее есть самый существенный элемент для устройства школ — учителя.
Ежели мы сравним во всех этих отношениях Россию с Америкой, то несостоятельность перенесения американской системы на русскую почву будет для нас очевидна.
Обращаюсь к самому проекту.
Глава 1. Положения общие.
§ 1. Для утверждения в народе религиозных и нравственных понятий и для предоставления всему сельскому сословию и низшим классам городского населения первоначальных, общих и необходимых каждому сведений устраиваются повсеместно от сельских и городских обществ училища в потребном, соразмерно населению, числе.
Что такое значит: устраиваются? Каким процессом? (Что народ не примет в устройстве этом никакого участия, в этом можно быть убежденным: народ будет смотреть на училищную подать столько как на увеличение налогов.) Кто выберет место, где строить школу? Кто велит строить? Кто назначит учителя? Кто пригласит детей и заохотит родителей отдавать? Все это вопросы, на которые я не нашел ответов в проекте. Все это будет делаться чиновниками министерства народного просвещения и мировыми посредниками с содействием местной полиции. Но каким образом и на основании каких данных?
Устраиваются повсеместно в потребном, соразмерно населению, числе. Не говоря о невозможности подвести все русское население в отношении народного образования под одну шапку, мне, кроме того, кажется крайне неудобным и вредным таким образом насильственно уравнивать образование. Есть губернии, уезды, округи, в которых есть сильная потребность в школах (потребность в пропорции 200 и 300 учащихся на 1000 душ) и потребность школ с более распространенными программами. Есть, напротив, местности, в которых потребность 50 и даже 10 учащихся на 1000 душ еще не существует и в которых насильственная школа или принесет вред, или по меньшей мере будет только совершенно бесполезно тратить средства, предназначенные на народное образование.
Я знаю местности на расстоянии 20 верст одна от другой: в одной в бесплатную школу, в той же деревне, никто не посылает своих детей; в другой местности ходят за три версты и охотно платят по полтине в месяц. Обязательное учреждение школы в соразмерном населению числе в первой местности породит только недоверие и озлобление против школы, во второй местности общая по всей России пропорция будет недостаточна. И потому обязательное устройство школ соразмерно на
Л. Н- Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
107
селению было бы частью вредно, частью бесполезной тратой средств, предназначенных для народного образования.
§ 2. Народные училища имеют определенный министерством народного просвещения курс первоначального преподавания первоначальных сведений.
Определить курс народных училищ кажется мне совершенно невозможным.
Глава VI представляет лучший образец такой невозможности. Так, например, в курсе учения не полагается письмо, и по смыслу примечания учить писанию можно только с разрешения учебного начальства.
§ 3. Народные училища суть заведения открытые, т. е. предназначаемые исключительно для приходящих учеников.
Этот параграф принадлежит к тому разряду тех многих статей устава, в которых старательно и серьезно объясняется то, в чем не может быть ни малейшего сомнения. Появление таких отрицательных статей невольно наводит на мысль, что они писаны только для увеличения объема проекта или что в комитете были члены, требовавшие, чтобы народные школы были пансионами.
§ 4. Для постоянного и непосредственного наблюдения за каждым училищем обществам, средствами коих училища содержатся, предоставляется избирать попечителей или попечительницу, а где таковые избраны не будут, наблюдение за училищем возлагается на мирового посредника.
Кто будет избирать этих попечителей, кто пойдет в эти попечители и что такое значат эти попечители, что такое значит наблюдение за училищами — неизвестно из всего устава.
Деньги будут не у попечителя, назначение и смена учителей зависит не от попечителя, изменение программы учения не во власти попечителя — что же такое, спрашивается, попечитель? Люди, забавляющиеся этим названием и вследствие того дающие целковые, рубли. Из уважения к человеку я не могу предположить, чтобы кто-нибудь захотел принять на себя такое странное звание и чтобы общества захотели избирать кого-нибудь в такую мнимую должность.
§ 5. В учебном отношении все народные училища в империи подлежат ведомству министерства народного просвещения и управляются через назначаемых от него в каждой губернии директоров училищ.
§ 6. Хозяйственной частью в каждом училище заведует само общество, на счет которого училище содержится.
§ 7. Платы за обучение учеников в народных училищах не взимается, кроме случаев, означенных в ст. 25, 26.
Статья 7 со сноской на ст. 25, 26 принадлежит к разряду тех серьезно-официальных статей, о которых упомянуто выше. По смыслу ее крестьяне, заплатившие 30 коп. с души на школы, имеют уже полное право не платить в другой раз за своих детей.
Ст. 5 и 6 далеко не так определенны. Что такое значит учебная
Л. Н. Толстой
!<>Х
часть, заведование которой предоставлено директору училищ, и хозяйственная часть, предоставленная обществу? Назначение и смена учителей, устройство училища, выбор для негр места, плата учителю, выбор книг, программ — все это зависит от министерства народного просвещения. В чем же состоит остальная часть, предоставленная обществу?.. В покупке заслонок и задвижек, в выборе — прорубить дверь справа или слева, в наемке сторожа к училищу, в мытье полов и т. п. И даже в этом отношении обществу предоставлено право только платить за всё своими деньгами. Как и что должно быть устроено, — всё уже обдумано в уставе и будет исполняемо училищным начальством.
По ст. 5 полагается директор училищ. На каждого директора придется от 300 до 500 училищ. Объехать все училища раз в год директору будет невозможно, а потому управление директора училищами будет только канцелярское.
Глава II. Учреждение училищ.
Я пропускаю ст. 8 и 9, относящиеся до городских училищ, которые я не изучал и про которые вследствие того не могу судить.
Ст. 10. В селениях каждый приход обязан иметь по крайней мере одно народное училище.
Слово «обязано» уничтожает всякое сомнение в том, что по смыслу проекта будут или не будут крестьяне принуждаемы открывать училища. Представляются только вопросы: 1) что такое приход (составители проекта разумели, может быть, волость?) и 2) каким образом будет поступаемо в случае, который повторится чаще всего, когда крестьяне откажутся принимать какое бы то ни было участие в учреждении школ и только вследствие полицейских мер отдадут свою училищную подать? Кто выберет место, строение, учителя и т. п.?
Ст. 11. Приходы, коих средства на содержание училища недостаточны, могут, взамен устройства училища, нанимать от общества учителя для бесплатного обучения детей того прихода в отведенной ему квартире, или в сборной избе, или у очередного хозяина.
Ст. 12. По правилам, в предшедшей 11-й ст. постановленным, поступают и отдельные, удаленные от приходских церквей селения, когда, за дальностью расстояния и неудобством сообщения, затруднительно посылать детей в училище своего прихода.
Ст. И и 12, с одной стороны, совершенно непонятны, с другой принадлежат к разряду определительных официальных статей, о которых было упомянуто.
Когда приходы наймут учителя и наймут избу, то почему же это не училище, а приходы только могут это делать? До сих пор мне казалось, что ежели есть ученики, учитель и помещение, то есть и училище; почему же учитель, помещение и ученики — не училище? Ежели же надо разуметь, что отдаленным и малонаселенным обществам предоставляется право самим выбирать учителей, не соображаясь с определенным проектом содержанием учителя, и не надписывать над избой
Л. Н. Толстой
(I рое к г ooidcio плана устройства народных училищ
109
слова «училище», то в этом праве никто никогда не сомневался, всегда им пользовались, пользуются и будут пользоваться, несмотря ни на какие воспрещения закона, не могущего препятствовать отцу, дяде, куму учить мальчика одного, двух, трех и пятнадцать мальчиков. В статье этой сказано только, что учитель должен быть нанимаем от всего общества, а это-то в большей части случаев и неудобно, ибо все свободно возникающие школы содержатся обыкновенно на плату с родителей, а не со всего общества, что и гораздо удобнее и справедливее.
Ст. 13, 14 и 15. Где не представляется возможности для девочек устроить отдельное от мальчиков училище, там те и другие обучаются в одном и том же училище, одними и теми же учителями, но в разные часы дня или в разные дни в неделе. В местах, где для девочек нет особенного училища, общество может для их обучения в помощь учителю нанять учительницу. Девочки до 13 лет могут быть допускаемы к учению вместе с мальчиками такого же возраста.
Девочки, о которых говорит ст. 13,свыше 13 лет, в народе называются девками, и предположить, чтобы девок отпускали и чтобы они сами стали ходить в училище вместе с ребятами, и предписывать для них правила, обеспечивающие народную нравственность, все равно что предписывать законы для того, чего нет и быть не может. При теперешнем взгляде народа на образование об этом нельзя и думать. Если бы в следующем поколении и мог представиться такой случай, то ст. 14 разрешает его, предоставляя обществу неслыханное для него право — нанять, опять-таки на свои деньги, учительницу. Учение женщин в школах еще не начиналось, и я смею думать, что ст. 13,14 и 15 еще не угадали всех могущих быть случаев при этом обучении. Мне кажется вообще, что весьма затруднительно предписать законные формы тому, чего еще нет и что еще не начиналось.
Глава III. Средства содержания училищ.
Пропускаю статьи, относящиеся до городских обществ.
Ст. 20,21, 22 и 23 постановляют обязательный сбор с прихода на содержание училищ и на составление губернского капитала.
Мы должны опять повторить, что, несмотря на кажущуюся определительность этих статей, мы много и весьма существенно в них не понимаем, именно: кто расчисляет необходимое количество денег на училища, кому передаются эти деньги и в каких случаях, имеют ли общества право заявить себя неимущими на основании ст. 10 и 11? Я убежден, что все общества, без исключения, пожелают воспользоваться этим правом, и потому разъяснение этого вопроса весьма важно. Из вышеприведенных статей видно только, что составители проекта предлагают обложить крестьянское сословие податью, употребленной на устройство училищ и на составление губернского капитала. По крайне ошибочному расчету, приложенному к уставу, придется на каждого селянина 27V2 коп. с души. Подать эта огромна, в действительности же должна по крайней мере ушестериться, ибо (с. 18) приведенный расчет, основанный на статистических данных академика Веселовского в
JI II. Толстой НО
«Записках» ИРГО2, не только не имеет никаких оснований, но должен заключать в себе какую-нибудь типографскую ошибку. Трудно верить, чтобы члены комитета могли так мало знать условия государства, в котором живут, и условия народного образования, которому они посвятили свои труды.
Число детей, подлежащих первоначальному обучению, т. е. имеющих от 8 до 10 лет, составляет до 5% в общей массе народного населения.
Число детей, подлежащих первоначальному обучению, будет втрое больше приведенного, ибо, может быть, известно каждому, кто потрудится войти в какую-нибудь народную школу, что нормальный школьный возраст не от 8 до 10 лет, а мало положить от 7 до 13 лет, вернее же будет от 6 до 14. В настоящее время, при недостаточном еще распространении школ, в Ясенецкой волости на 1000 душ — 150 человек учащихся, в Головеньковской на 400 душ — 60 человек учащихся, в Трасненской на 500 душ — 70 человек учащихся. Везде, при теперешнем неполном развитии школ, не 5%, а 12 и 15%. Надо заметить притом, что далеко еще не все дети учатся и девочки составляют только V20 всех учащихся.
Следовательно, на 1000 душ мужского населения^ далее говорит проект, надо полагать до 50 мальчиков, подлежащих по возрасту первоначальному обучению, а в равном числе женского населения — до 50 девочек. Обучение такого числа не будет слишком обременительно для одного учителя.
Учеников, как доказали выше, будет втрое больше, учить же одному учителю 50 мальчиков и 50 девочек вместе не только обременительно, но положительно невозможно. Но не во всем этом еще вся сила опечатки. Как известно каждому русскому, в России 6 месяцев зима, морозы и метели, в России же крестьянские дети все лето на работах, а зимой редкие имеют достаточно теплое платье, чтобы выходить вдаль, но бегают по улице в отцовском полушубке, надетом на голову, и опять — в избу, на печку. В России же большая часть селений раскинуты, по 50 и до 100 душ, на расстоянии 2 и 3 верст. Как же по всей России собрать учеников хоть по 50 в одну школу? Как мне показала действительность, средним числом на одну школу нельзя рассчитывать более как от 10 до 15 учеников.
Ежели в расчислении не было опечатки и ежели проект действительно назначался к исполнению, то на основании ошибки в расчете процентов школьного населения налог должен увеличиться втрое, потому что на 1000 душ будет не одна, а три школы по 50 учеников в каждой. На основании ошибки в расчете соединить по 50 учеников на училище налог должен увеличиться еще вдвое, т. е., полагая хоть по 25 учеников на училище и на 1000 душ 6 училищ, итого 6 раз 27V2 коп., за вычетом 10% на губернский капитал, составит по меньшей мере полтора рубля с души, не считая нужного на устройство, ремонт училища и натуральную повинность учителю. Налог невозможный. В примеча
Л Н 'Толпой
Проект обще» о плана устройства народных училищ
Hi
нии к ст. 23, основанной на выведенном из практики замечании, что расходы на учение нередко отклоняют необразованных родителей от помещения детей в училище, сказано, что принадлежности учения и учебные руководства покупаются не самими родителями, а тем неизвестным по проекту лицом, которому предоставляются расходы по содержанию училищ.
Выведенное из практики это замечание совершенно несправедливо, ибо, напротив, постоянно и везде замечено, что родители охотнее отдельно покупают книжки, аспидные доски, карандаши для своих сыновей с тем, чтобы вещи навсегда оставались в доме, чем дают деньги на покупку этих вещей для училищ; кроме того, вещи эти дома всегда целее и полезнее, чем в школе.
Несмотря на то что в ст. 24 сказано, что расходы по содержанию училища производятся сельским старостой и учитываются сельским сходом, я утверждаю, что из проекта не видно, кому поручены расходы по содержанию училищ. Кто, где, когда и какой строит дом для училища, кто покупает учебные пособия? Какие и сколько покупается книг и грифелей и т. п.? Все это или предрешено проектом, или поручено директору училищ. Обществам только предоставлено право собирать деньги и отдавать их, еще нанимать или строить дом, еще отрезать у себя полдесятины земли для учителя, еще ездить в город покупать вьюшки и еще, самое лестное, поверять счеты денег, которыми они сами не распоряжаются. Все это сделано, как говорится в проекте, для того чтобы пробудить в обществах более готовности доставлять средства на содержание училищ.
Сказано: предоставлять обществам полную самостоятельность как в расклабке и сборе нужной на содержание училища суммы, так и в хозяйственных распоряжениях по приобретению всего нужного для училища.
Мне кажется, что в этом вопросе есть недостаток откровенности в проекте; надо было проще сказать, что обществу не предоставляется никакого права и ни в каком отношении по управлению его училищем, но что на общества налагается еще новая натуральная повинность, состоящая в заготовлении известных вещей и счетоводстве по училищу.
* Ст. 25 накладывает натуральную повинность заготовления помещения и отопления училища и учителю. Повинность весьма неясно определенная, тяжелая и по своей неопределенности могущая подать повод к злоупотреблению от училищного начальства.
Ст. 26 относится к городам.
В ст. 27 старательно объяснено, что платить за учение отдельно могут только лица, не платившие вместе.
Ст. 28. Городам или сельским приходам, которые по малолюдству и бедности жителей действительно не в состоянии будут содержать училища и даже нанимать учителя, может быть назначаемо пособие по усмотрению министра народного просвещения из общего запасного училищного капитала.
Л. Н. Толстой
112
Как сказано выше, все, без исключения, общества, ежели поймут смысл проекта, пожелают подлежать этой ст. 28 и совершенно справедливо скажут, что большинство жителей бедно. (Бедность, в особенности деньгами, как известно, есть общее условие массы русского крестьянства.) Кто определит, какое общество может подлежать ст. 28? Какое прежде, какое после? На основании чего и кем будут решаться подобные вопросы? Проект ничего не говорит нам на это, а вопросы эти, по нашему убеждению, представятся повсеместно.
Ст. 29 повторяет еще раз, что обществу предоставляется право прорубать двери в училище с правой или с левой стороны, делать сосновые или дубовые скамейки и даже не стесняться в способах приобретения, т. е. имеют полное право купить или из своего леса построить.
Только ст. 30, как обещание принять меры к удешевлению учебников, возбуждает полное наше сочувствие.
Ст. 31, 32 и 33 не относятся собственно до устройства сельских школ, а касаются составления губернского капитала, причем мы не можем согласиться с целесообразностью меры, отчуждающей от обществ известную часть средств и передающей их в руки правительства, с тем чтобы вновь употребить эти средства на общества. Нам кажется, что эти деньги могли бы быть вернее и полезнее употреблены на то самое общество, из которого они взяты.
Глава IV. Личный состав народных училищ.
В ст. 34 сказано, что в каждом училище должен быть учитель и законоучитель, что совершенно справедливо. Кроме того, обществу предоставляется право избирать попечителей или попечительниц. В последующих статьях объяснено, что попечители и попечительницы не имеют никакого значения и никакого права и для избрания не обязаны иметь никаких условий.
В ст. 37 объяснено, что попечитель или попечительница вступают в должность немедленно по избрании и о выступлении в исправление оной сообщают директору училищ губернии.
Кроме того, в ст. 38 обозначено, что попечители не подчинены, а сносятся с училищным начальством, пишут потому не рапорты, а отношения, что весьма лестно и определительно.
Но зато в ст. 36, где сказано, что попечители имеют наблюдение за точным исполнением учащими их обязанностей за исправной платой учащим жалованья, за своевременным доставлением училищу всего необходимого и за внешним порядком в училище, не сказано, что может и должен делать попечитель в случае неисправного исполнения обязанностей учащими. Он может только сноситься, т. е. доносить директору, может это делать справедливо и несправедливо, с знанием дела и, как можно предполагать, в большей части случаев без знания дела. Нельзя предположить, чтобы такое вмешательство совершенно лишнего и постороннего лица могло быть полезно.
Ст. 39, 40, 41 и 46 определяют отношения законоучителя к училищу.
I i{ 1 одетой
Проект общего плана устройства народных училищ
Ст. 42 прямо, не оставляя никакого сомнения, говорит, что управление училищ по каждой губернии, несмотря на мнимую полную самостоятельность обществ, несмотря на непонятное изобретение попечителей, предоставлено одному лицу — директору училищ, ибо увольнение и определение учителя составляет, по нашему мнению, единственное существенное управление училищами. О неудобстве сосредоточения такой огромной власти в лице одного человека нам придется говорить впоследствии.
Ст. 43 обещает приготовление учителей. Хотя, как обещание, статья эта и не входит в состав проекта, я не могу удержаться от замечаний, что попытки приготовления каких бы то ни было учителей, как в нашем педагогическом институте, так и в немецких семинариях, во французских и английских нормальных школах до сих пор не привели ни к каким результатам и убедили только в такой же невозможности заготовлять учителей, в особенности народных, как заготовлять художников или поэтов. Учителя образовываются только по мере развития общей потребности образования и поднятия общего уровня образования.
Ст. 44 и 45 объясняют, что для исполнения должности учителя не препятствует принадлежание к какому-либо сословию, что учителями могут быть священнослужители и могут быть и не дворяне; тут же сказано, что ежели священнослужитель взялся быть учителем, то он должен непременно учить. Все это совершенно справедливо. В примечании же к ст. 45 сказано, что попечитель или мировой посредник рекомендуют директору лиц на вакансии учителей; я полагаю, что и брат или дядя мирового посредника или попечителя тоже может рекомендовать директору учителя.
Глава V. Права лиц, состоящих при народных училищах.
В ст. 47 сказано, что попечителям не предоставляется права носить кокарды и шпаги. (Я не пропускаю ни одной статьи, и читатель, справившись с проектом, может убедиться в справедливости выписок.)
Ст. 48, 49, 50, 51 и 54 определяют материальное положение учителей.
Положение это блестящее, и надо сознаться, что, приведя проект в исполнение, мы в этом отношении сразу перегоним Европу.
Учитель в селе будет получать 150 рублей серебром в год, квартиру с отоплением, что, по нашей местности, составит на деньги 50 рублей. Сверх того он получит зерном или мукой (как предвидено в проекте, для предоставления большей свободы обществу) 2 пуда в месяц, что составит по нашим ценам 12 рублей в год; сверх того полдесятины удобной земли под огород, что составит еще около 10 рублей — итого 222 рубля. (Все это от общества, которое, по прежде приведенному расчету, едва ли в состоянии соединить средним числом 20 учеников. Сверх того, общество платит 50 рублей законоучителю, 50 рублей на учебные пособия, 25 рублей проценты в губернский капитал, строит и
Л. Н. Толстой
114
поддерживает училище, нанимает училищного сторожа, что по меньшей мере составит еще рублей 80, — итого 427 рублей с общества.) В ст. 50 сказано, что общество имеет право нанять еще учительницу.
Учитель, прослуживший 20 лет, получает две трети оклада; кроме того, увольняется от податей и рекрутства, что опять ляжет на общество — около 10 рублей в год. Положение учителя действительно блестящее, но я позволяю себе усомниться в том, было ли бы оно так же хорошо, ежели бы общество само вознаграждало его по заслугам или ежели бы составители проекта принуждены были черпать средства из других источников. (Права, предоставленные учителям по ст. 52, 56 и 57, — право считаться на государственной службе, право получить медаль на александровской ленте и быть избранным в помощники директора училищ—ежели и не лежат на обществе, то взамен того, полагаю, не будут иметь и для учителей той заманчивости, которую будут иметь права, предоставленные им из средств общества.) Вопрос о прибавлении содержания учителям народных школ есть вопрос, уже давно и сильно занимающий правительства европейских государств и только шаг за шагом получающий разрешение; у нас же вопрос этот разрешается сразу, несколькими строчками проекта. Эта Самая простота и легкость разрешения кажутся мне подозрительными. Невольно представляется вопрос, почему назначается только 150 рублей, а не 178 рублей и 16V3 копеек, на 178 рублей и 16V3 копеек мы бы были уверены иметь еще лучших учителей. И почему же не положить 178 рублей, когда источник, из которого мы черпаем, находится совершенно бесконтрольно в нашей власти? Почему полдесятины удобной земли под огород, а не 82/3 десятины под пахоть? В примечании сказано: священнослужители, занимающие одновременно должности законоучителя и учителя, пользуются полным содержанием только по должности учителя, а из оклада законоучителя получают половину. Должно быть, все цифры эти внимательно обдуманы, когда так старательно выгадывается 25 рублей у законоучителя. Должно быть, цифры эти определены по положительным данным. Эти данные необходимо должны быть известны, тем более должны быть известны, что по тем данным, которые многие из нас собрали личным опытом, училищная подать, налагаемая вследствие такого расчета на общества, несоразмерно велика, невыплатима, и по нашим данным ни одно общество не согласится платить пятой доли этого налога на училище, и в России нет сотой доли учителей, заслуживающих такого содержания.
Глава VI. Курс народных училищ.
Первый параграф ст. 58 определяет программу закона божия. Как преподавание, так и обсуждение этого предмета исключительно предоставлено духовным лицам.
§ 2. Отечественный язык: чтение книг церковной и славянской печати; объяснительное чтение книг, приноровленных к первоначальному обучению. § 3. Арифметика: четыре действия над целыми, простыми и именованными числами, понятие о дробях. Примечание.
i H. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
115
Сверх этих предметов по желанию общества, может быть вводимо поучение церковному пению, а с разрешения учебного начальства — и преподавание других предметов.
Мы выразили выше убеждение, что определение курса народных училищ совершенно невозможно, особенно в том смысле, в котором пытается сделать это проект, в смысле предписания границ предметам преподавания. В таком смысле был обнародован циркуляр г. министра народного просвещения о воскресных школах; в том же смысле составлено примечание, по которому всё, не определенное программой в трех предыдущих строчках, может быть преподаваемо только с разрешения учебного начальства; в том же смысле предвидения составлены и ст. 59, 60 и 61, по которым и самый метод преподавания, и употребляемые руководства для преподавания той невозможной и узкой программы должны быть определены министерством народного просвещения.
Я не говорю о том, что это несправедливо, что это вредно для развития образования, что это исключает возможность всякого живого интереса учителя в своем деле, что это дает повод к бесчисленным злоупотреблениям (стоит только составителю программы или руководства ошибиться один раз, и ошибка эта сделается обязательной для всей России). Я говорю только о том, что всякая программа для народной школы положительно невозможна и всякая такая программа есть только слова, слова и слова. Я понимаю программу, определяющую обязательство, которое берет на себя учитель или власть, учреждающая училище; я понимаю, что можно сказать обществу и родителям: я, учитель, открываю школу и берусь учить ваших детей тому-то и тому-то, и вы уже не имеете права требовать с меня того, чего я не обещал; но открывать школу и обещать, что я не буду учить тому-то и тому-то, и неблагоразумно, и положительно невозможно. Проект же предлагает такую отрицательную программу для всей России и для народных первоначальных школ. В высшем учебном заведении я полагаю возможным для преподавателя, не отступая, держаться известного курса. Читая римское гражданское право, профессор может обязаться не говорить о химии и зоологии, но в народной школе исторические, естественные, математические науки — все сливаются вместе, и вопросы по всем отраслям этих наук ежеминутно представляются.
Самое существенное различие между высшей и низшей школой составляет степень подразделяемости предметов преподавания. В низшей школе ее совсем нет. В ней все предметы соединяются в одно и начиная с нее постепенно разветвляются.
Посмотрим параграфы 2 и 3 программы.
Что такое отечественный язык? Включает ли он в себя синтаксис и этимологию? Есть учителя, которые как то, так и другое считают лучшими средствами обучения языку. Что такое чтение книг и чтение объяснительное? Выучивший наизусть букварь читает, и читающий и понимающий Московские ведомости тоже только читает. Как объяс
Л. Н. Толстой
Н6
нять книги, хоть бы хрестоматию общества дешевых книг? Пройти с объяснением все статейки этой книги — это пройти почти весь курс человеческих знаний — и богословие, и философию, и историю, и естественные науки; прочесть эту же книгу по складам и в виде объяснения повторить каждую фразу другими непонятными словами — будет тоже объяснительное чтение. Письмо вовсе пропущено в проекте, но, будь оно разрешено, опять также по всякой, самой определенной программе под письмом можно разуметь срисовывание прописей или знание искусства языка, приобретаемые только целым курсом занятий и упражнений. И все, и ничего программа не определяет и не может определить.
По математике. Что такое значит четыре действия над простыми и именованными числами? Я, например, в своем преподавании вовсе не употребляю именованных чисел, принимая так называемые именованные числа за случаи деления и умножения. Арифметику же вообще я начинаю с прогрессии, что делает и каждый учитель, ибо нумерация есть не что иное, как десятичная прогрессия. Сказано: понятие о дробях. Почему же только понятие? В своем преподавании я начинаю десятичные дроби тоже вместе с нумерацией. Уравнение, следовательно алгебру, я начинаю вместе с первыми действиями. Следовательно, я выхожу из программы. Планиметрия не означена в программе, а задачи из планиметрии суть самые естественные и понятные приложения первых правил. У одного учителя геометрия и алгебра будут входить в преподавание четырех правил, у другого учителя четыре правила составят только механическое упражнение в писании мелом на черной доске, и для обоих программа будет только слова, слова и слова. Тем менее возможно дать учителю наставление и руководство. Для успешного хода учения учитель должен иметь только средства сам учиться и совершенную самостоятельность в выборе методов. Одному удобно и он мастер учить по буки-аз—ба, другой — по бе-а, третий — по бъ-а. Чтобы учителю усвоить другую методу, мало узнать и предписать ему ее, ему надо поверить, что эта метода лучшая, и полюбить ее.
Это относится и к методам самого учения, и к методам обращения с учениками.
Циркулярные же наставления и предписания учителям только стеснят их. Не раз мне случалось видеть, как будто бы по звуковой методе учат точно так же, как по буки-аз—ба, заучивая буквы, склады и толки, называя буки бы, а добро ды только при начальстве, потому что так приказано.
Что же касается до цели, которую, может быть, имел комитет при составлении программы, — цели предотвратить возможность вредных влияний злонамеренных учителей, то никакая программа не помешает учителю отразить свое вредное влияние на учеников. При программе необходимо присутствие жандармского полковника в каждой школе, ибо на показаниях учеников нельзя основаться ни за, ни против учителя. Сущность же дела в том, что такое опасение нисколько не устрани-
i олс гой Проект общего плана устройства народных училищ 117
ется программой и что опасения такого рода совершенно напрасны. Как бы ни было устраняемо общество от контроля над своими школами, нельзя воспрепятствовать отцу заботиться о том, чему учат его сына, и как бы ни была устроена принудительно школа, нельзя помешать массе учеников оценять своего учителя и давать ему только настолько веса, насколько он того заслуживает. Я твердо убежден и умозаключениями, и опытами, что школа всегда обеспечена против вредных влияний контролем родителей и чувством справедливости учеников.
В ст. 62 сказано, что общества могут заводить библиотеки, т. е. что никому не воспрещается покупать книги, ни поодиночке, ни собравшись вместе, ежели того пожелают.
Глава VII. Об учащихся в народных училищах и распределении времени учения.
Ст. 63. Дети могут поступать в народное училище с 8-летнего возраста. От поступающих в училище не требуется никаких предварительных знаний.
Почему с 8 лет, а не с 6 лет 3V2 месяца? Этот вопрос точно так же требует положительных доказательств, как и тот, почему учителям назначается 150, а не 178 рублей 16 и V2 копеек, тем более что я по своему личному опыту знаю, что по крайней мере одна четверть детей ходит в школу ниже 8-летнего возраста и что быстрее, легче и лучше выучиваются читать именно в этом возрасте, от 6 до 8 лет. Всех детей, учащихся в семействах, которых я знаю, начинают учить тоже гораздо ранее 8-летнего возраста. Это самое свободное время для крестьянского ребенка, эпоха, в которую еще не начинают употреблять его в домашние работы, и он весь отдается школе до 8-летнего возраста. Почему же составителям цроекта вдруг так не понравился этот возраст? Необходимо нужно знать основания, на которых из школ исключены дети до 8 лет.
Во второй части статьи изображено, что от поступающих не требуется никаких предварительных знаний. Не понимаем, к чему это. Требуется или нет от поступающих летом канифасные курточки и зимою известное форменное одеяние?..
Ведь ежели определять всё, чего не нужно, то надо было определить и это.
В ст. 64 сказано: Определенного срока на прохождение курса в народном училище нет; каждый ученик признается кончившим курс тогда, когда достаточно усвоит себе то, что преподаётся.
Нам живо представляется радость и счастье какого-нибудь Ахра-мея, когда он признается кем-то окончившим курс.
Ст. 65. В сельских народных училищах учение должно быть начато со времени окончания полевых работ и продолжаться до начала их в следующем году, сообразно местным условиям крестьянского быта.
Здесь составители проекта, видимо стараясь благоразумно покориться требованиям действительности, вновь ошибаются, несмотря на
Л. Н. Толстой
118
оттенок практичности, который имеет эта статья. Что такое начало и конец сельских работ? Как скоро устав, так он должен быть определителей. Учитель, во всем подчиняющийся уставу, в точности исполнит его. И в этом случае — 1 апреля роспуск, то уж он не пропустит дня лишнего. Не говоря о том, что сроки эти определить трудно, во многих местностях на лето останется много учеников, и почти везде останется около трети. Крестьяне везде твердо убеждены, на основании распространенного между ними способа учения наизусть, что учение весьма скоро забывается и потому неохотно, только нуждающиеся, берут своих детей на все лето и то всегда просят хоть раз в неделю повторять с учениками. Ежели уже писать проект, соображаясь с требованиями народа, то надо было писать и это.
Ст. 66 ясно указывает на то, что учатся по будням, а не по праздникам, в чем нельзя не согласиться, как и во всех такого рода положениях, неизвестно для чего написанных и ровно ничего не говорящих.
Но ст. 67 вновь приводит нас к удивлению. В ней сказано, что ученики должны собираться в училище только один раз и заниматься не более 4 часов с роздыхом.
Интересно бы было видеть успехи по крайней мере 50 учеников (а может быть, и 100, как значится по расчислению), учащихся в продолжение только зимы и только по 4 часа в день с роздыхом! Я имею смелость считать себя хорошим учителем, но, ежели бы мне дали 70 учеников при таких условиях, я вперед могу сказать, что через два года половина не умела бы еще читать. Как скоро же проект будет утвержден, можно бщть смело уверенным, что ни один учитель, несмотря на полдесятины огородной земли, не прибавит ни одного часа занятий против расписания с тем, чтобы, соображаясь с филантропической предусмотрительностью проекта, не изнурять юные умы крестьянских детей. В довольно большом числе школ, которые я знаю, дети учатся 8—9 часов в день, остаются ночевать в школе с тем, чтобы вечером еще почитать с учителем, и ни родители, ни учителя не замечают никаких дурных от того последствий.
По ст. 69 предполагается ежегодный публичный экзамен. Здесь не место доказывать, что экзамены вредны, и больше, чем вредны, — невозможны. Я говорил о том в статье «Яснополянская школа». По случаю же ст. 69 я ограничусь только вопросом: для чего и для кого эти экзамены?
Дурная и вредная сторона экзаменов в народной школе должна быть понятна всякому. Официальные обманы, подлоги, бесцельное муштрование детей и вытекающее из него расстройство в обыкновенных занятиях — польза же этих экзаменов для меня совершенно непонятна. Пробудить посредством экзамена соревнование в 8-летних детях вредно; определить посредством двухчасового экзамена знания 8-лет-них учеников и оценить заслуги учителя невозможно.
По ст. 70 ученикам выдаются бумаги с печатью, называемые аттестатами. О том, для чего употребляются эти бумаги, не видно из
I H. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
119
проекта. С ними не связано никаких прав и преимуществ, и потому не полагаю, чтобы обманчивая мысль, что бумаги с печатями иметь очень лестно, могла иметь долго ход в народе и служить побуждением к поступлению в школу. Ежели на первое время и удастся обмануть народ значением этих бумаг, он скоро поймет свою ошибку.
Ст. 71 предоставляет то же право на бумаги с печатями и лицам, учившимся вне школы, которые, по моему убеждению, еще менее могут польститься на такое право.
Ст. 72 с примечанием, напротив того, заслуживает полного доверия и более всех других соответствует цели и духу проекта. Вот эта статья: по окончании каждого учебного года учитель или учительница представляет губернскому директору по прилагаемой форме ведомость о числе учащихся в народном училище и о числе подвергавшихся в нем испытанию на получение аттестата.
Примечание. Ведомость эта заключает в себе статистические данные, необходимые для общего отчета по министерству народного просвещения, и потому форма ее должна всегда быть согласуема с вопросами, определяемыми этим отчетом. Директор училищ должен доставлять в училища печатные бланки ведомостей, изготовляемые на счет суммы, отпускаемой ему на канцелярские припасы.
Как все обдумано, как все предвидено, даже заготовление б ланок, даже суммы, на которые они заготовляются! Так и предчувствуешь эту безучастную правильность и неизменность формы и даже содержания будущих отчетов, и точно таких, какие требуются правительству, — отчетов не о том, что должно бы быть в действительности, даже не о том, что есть, ибо главная часть образования в частных школах ускользнет от этих ответов, но о том, что должно бы было быть по неисполняемым распоряжениям правительства. И этой статьей заключается весь проект государственных школ. Далее следует:
глава VIII. Частные народные училища.
Три статьи этой главы предоставляют каждому лицу право открывать частные школы, определяют условия такого открытия, ограничивают программы таких школ одной грамотностью в тесном смысле и учреждают над ними контроль духовенства. Можно быть уверенным, что в Nord и других иностранных газетах предоставление такого права будет принято и оценено как новый наш шаг к прогрессу. Не знающий русской жизни критик проекта достанет устав 1828 г., по которому открытие школ и частное учительство воспрещены, и, сравнив прежние стеснительные меры с новым проектом, в котором требуется только объявить об открытии школ, скажет, что в деле народного образования дается проектом несравненно большая свобода, чем прежде. Для нас же, живущих русской жизнью, дело представляется иначе. Устав 1828 г. был только устав, и никто никогда не думал с ним соображаться; всеми, как обществом, так и исполнителями устава, была признана его несостоятельность и невозможность исполнения. Существовали и существуют тысячи школ без разрешения, и ни у одного штатного смо
Л. Н. Толстой
120
трителя и директора гимназии не поднималась и не поднимается рука закрыть эти школы на том основании, что они не подходят под статьи устава 1828 г. Tacito consensu3 общество и исполнители закона признали устав 1828 г. несуществующим и в действительности при учительстве и открытии школ руководствовались с незапамятных времен совершенной свободой. Устав прошел совершенно незамеченным. Я завел школу с 1849 г. и только в нынешнем месяце, по случаю появления проекта, узнал о том, что я не имел права открывать школу. Из тысячи учителей и основателей школ едва ли один знает о существовании устава 1828 г. Он известен только чиновникам министерства народного просвещения. Поэтому-то мне кажется, что ст. 73,74 и 75 проекта предоставляют новые права только относительно мнимо существовавших стеснений, относительно же существовавшего порядка налагают только новые стеснительные и неисполнимые условия. Никто не пожелает основать школы, когда не будет иметь права назначить, сменить учителя, сам выбрать руководства, сам составить себе программу. Большинство учителей и основателей частных школ — солдаты, причетники, кантонисты — будут опасаться объявлять об открытии своих школ, многие будут не знать этого требования и, ежелц захотят, всегда в законных формах сумеют обойти его. Как я говорил уже в статье прошлого номера, нельзя определить границы между семейным домашним обучением и школой. Дворник нанял к своим двум мальчикам учителя, еще трое ходят к нему; помещик со своими детьми учит четырех дворовых и двух крестьянских детей; работники по воскресеньям приходят ко мне, некоторым я читаю, некоторые учатся грамоте, некоторые смотрят рисунки и модели. Школы это или нет? А вместе с тем какое поприще для злоупотреблений. Я — посредник и имею убеждение, что образование вредно для народа, и штрафую старика за то, что он выучил грамоте своего крестника, и отбираю у него азбучку и псалтырь на том основании, что он должен был меня известить об открытии своей школы. Есть отношения людей, не могущие быть определенными законом, — это отношения семейные и отношения образовывающего к образовывающемуся и т. п.
Глава IX. Об управлении училищ.
Здесь говорится, что управление училищами вверено директору училищ, одному на губернию. В проекте несколько раз и здесь повторяется подразделение управления по учебной и какой-то еще другой части. Я решительно не понимаю этого подразделения и в каждом училище не вижу никакой другой части, кроме учебной, из которой вытекает хозяйственная, естественно ей подчиненная и не могущая быть отделенной от первой. По проекту все предоставлено власти одного директора. Директор, как надо себе объяснить неясное выражение ст. 78 (приобретший опытность в учебном деле, в продолжение службы по учебной части), должен быть избираем из учителей гимназий или профессоров. Директор должен лично наблюдать за ходом учения и даже показывать, как обращаться и как учить, и директор один на 300 или
I H. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
121
500 училищ по губернии. Для того же, чтобы иметь право подать какой-нибудь совет учителю, нужно по крайней мере в продолжение недели изучить положение каждой школы, а дней в году, как известно, 365. Правительству ж будут стоить эти чиновники около 200 тысяч рублей на всю Россию.
В ст. 79 сказано, что директор, избегая переписки, обязан лично следить за делом.
В следующих статьях даны инструкции директору, чего требовать от учителей.
В ст. 86 назначены деньги для разъездов директору. Очевидно желание составителей проекта, чтобы наблюдение директора было не формальное, а действительное. Но самое положение этого чиновника исключает возможность действительного наблюдения. Воспитанник университета, бывший учитель гимназии или профессор университета и потому уже никогда не имевший дела с народом и народными школами, обязан, живя в городе и ведя канцелярское дело — назначение учителей, награды, ведомости и т. п., руководить школами, в которых он не может побывать более одного раза в год (и то едва ли). Я знаю директоров гимназий, находящихся почти в том же положении, со всевозможным жаром и любовью занимающихся делом приходских школ и на каждом шагу, при ревизиях, экзаменах, назначениях и сменах учителей, делающих ошибки за ошибками только потому, что круг деятельности их во сто раз обширнее того, каким бы он должен и мог бы быть. Один человек может управлять корпусом и, сделав инспекторский смотр, знать, в хорошем или дурном состоянии корпус, но управлять десятью школами уже слишком много для одного человека.
Всякий, знающий народные школы, должен знать то, как трудно и невозможно ревизией, экзаменом определить степень успеха и направление школ. Как часто добросовестный учитель, с чувством своего достоинства, не позволяя себе щеголять своими учениками, представляется в худшем свете, чем бессовестный солдат-учитель, который целый год уродует учеников и работает только ввиду предстоящего смотра, и как хитры бывают эти бессовестные люди, и как часто успевают обманывать хороших и честных начальников. Что и говорить о том страшном вреде, который производит такое инстанционное начальство на учеников. Но если бы даже со мной не согласились в этом, учреждение должности директора будет бесполезно и вредно только потому, что один директор на губернию будет назначать, сменять учителей и назначать награды только по слухам, по предположениям или произволу, ибо одному человеку знать, что делается в пятистах училищах, невозможно.
Далее следует образец ведомости о числе учащихся, исчисления суммы, потребной на содержание народных училищ, и штат губернского управления народными училищами. Далее объяснительная записка.
Из объяснительной записки видно, что деятельность комитета раз
Л. Н. Толстой
122
делилась на два отдела: 1) приискание мер для развития народного обучения в настоящее время, до окончательного устройства сельского состояния, и 2) самый план проекта, которым мы занимаемся. Предварительные меры эти осуществлены, сколько мне известно, циркуляром министерства внутренних дел относительно порядка открытия училищ и обязательства заявлять о них. Что же касается до назначения и удаления учителей губернским директором, до предоставленного местному духовенству наблюдения и до требования, чтобы употребляемые учебники были одобрены министерством народного просвещения и святейшим синодом, мне неизвестно, несмотря на то что я специально занимаюсь школами, есть ли это предположение или закон. Очень может быть, что я совершаю преступление, употребляя в школе неодобрен-ные учебники, и общества точно так же преступны, сменяя и назначая учителей без директора. Ежели состоялся или имеет состояться такого рода закон, то недостаточно ст. 1 Свода законов, гласящей, что никто не имеет права отговариваться незнанием закона: такие новые неожиданные законы необходимо читать по всем церквам и приходам. Нам неизвестно тоже, принято ли министерством народного просвещения предложение комитета изготовить в наискорейшем времени учителей и сколько и где заготавливаются таковые. О том, что мера, предписываемая циркуляром министра внутренних дел, неудобоисполнима, я говорил прежде. Обратимся к некоторым мыслям, выраженным в объяснительной записке, особенно поражающим нас.
Отчего бы, кажется, в таком серьезном государственном деле не быть откровенным? Я говорю о том участии, значении и влиянии, которое в деле образования, по проекту, дается у нас в России нашему русскому духовенству. Я живо представляю себе составителей проекта, которые, вводя хотя следующее замечание: с возложением на приходское духовенство наблюдения, чтобы преподавание совершалось в духе православия и христианской нравственности и т. п., — я живо представляю себе, какая улыбка покорности и сознания необходимости своего превосходства и вместе с тем сознания ложности этой меры играла на устах составителей проекта, когда они слушали и записывали в протокол эту статью. Точно такую же улыбку производит это во всех опытных людях, которые думают знать жизнь. «Что ж делать, это понятно», — говорят они. Другие, неопытные, умные и любящие дело люди возмущаются и озлобляются при чтении этой статьи. От кого хотят скрыть печальную истину? Должно быть, от народа. Но народ лучше нас знает ее. Неужели столько веков живя в самых близких отношениях к духовенству, он не успел узнать и оценить его? Народ оценил духовенство и настолько дает ему участия и влияния в своем образовании, насколько духовенство того заслуживает. В проекте много таких статей, неоткровенных, дипломатических. По существу дела все они будут обойдены и не было бы никакой разницы, ежели бы они не были никогда написаны; но статьи эти, хоть та, которую мы привели здесь, по своей лживости и неясности открывают огромное поприще
’L H. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
123
для злоупотреблений, которых нельзя и предвидеть. Я знаю священников, которые говорят, что учить по бе, а не по буки — грех, что переводить по-русски и толковать молитвы — грех, что учить священную историю должно только по азбучке и т. п.
II
Я сам чувствую, что принятый мною способ обсуждения проекта недостаточно серьезен, и что я как будто стараюсь только подтрунивать над проектом и как будто принял за правило отрицать всё, что в нем находится. Такое мое отношение к проекту произошло невольно, вследствие противоположности моего, происшедшего из близких отношений к народу, практического взгляда на дело и совершенной отчужденности от действительности взгляда и предначертаний проекта. Мы стоим на столь противоположных и отдаленных друг от друга точках воззрения, что, несмотря на все уважение и даже страх, возбуждаемый во мне проектом, я как будто не верю в действительность его. И несмотря на усилия, которые делаю над собой, не могу относиться к нему вполне серьезно. Я не могу найти возражений в той области мыслей, в которой действовал комитет. Сущность возражений моих направлена не против ошибок и недоговорок проекта, но против той самой сферы деятельности, из которой он вышел, и состоит только в отрицании приложимости и возможности такого проекта.
Я постараюсь перенестись в ту сферу мысли и деятельности, из которой возник проект. Мне понятно, что в настоящую эпоху всеобщих преобразований в России вопрос устройства системы народного образования естественно должен был возникнуть в правительственных кругах. Правительство, всегда имевшее и имеющее инициативу во всех преобразованиях, новоучреждениях, должно было естественно прийти к убеждению, что именно в настоящее время на нем лежит обязанность устройства системы народного образования. Придя к такому убеждению, оно также естественно должно было поручить устройство системы известным чиновникам различных министерств. Основательнее и либеральнее той мысли, что в составлении проекта должны участвовать представители всех ведомств, ничего нельзя было придумать, ничего нельзя было и требовать. (Можно было бы заметить только, почему в этом комитете, занятия которого важнее в тысячу раз крестьянского комитета, не были приглашены эксперты так же, как при обсуждении вопроса об освобождении крестьян, но замечание это не имеет силы, ибо, по нашему убеждению, ежели бы и были приглашены так называемые эксперты, проект мало бы изменился от того, что он есть.) О том, чтобы сам народ, до которого только и касается дело проекта, сам бы, посредством своих представителей, составлял свою систему, не могло быть и речи.
Люди, хотя и весьма почтенные, служащие чиновнику, никогда не изучавшие ни народ, ни вопросы народного образования, неспециалис-
Л. IL Толстой
124
сты того дела, которым они занимались, продолжая свои прежние занятия, не имея времени посвятить десятки лет на изучение предстоящего вопроса, стали собираться по известным дням недели и обсуживать величайший вопрос мироустройства народного образования в России,
Надо еще заметить, что существеннейший вопрос подведомственности училищ министерству народного просвещения был предрешен в комитете гг. министров и что потому члены комитета были поставлены в самые тесные рамки.
Я вперед признаю всех членов комитета высокообразованными и высоконравственными лицами, проникнутыми любовью к народу и желанием блага отечеству, и, несмотря на то, не могу предположить, чтобы при тех условиях, при которых они работали, могло бы выйти что-нибудь другое. Должен был выйти тот самый проект, которым мы занимаемся. Во всем проекте видно не столько изучение народных потребностей и изучение самого образования и на этих основаниях постановление новых законов, а какая-то борьба с чем-то неизвестным, вредным и мертвящим.
Весь проект, как видели читатели, наполнен статьями о том, что народные училища суть заведения открытые, чпи священники могут учить только тогда, когда они имеют время учить, что попечителю не присваивается никаких прав, что учителям не полагается чинов, что не полагается казенной формы для строений, что частные лица могут учить, что и девочек можно учить, что можно заводить библиотеки, что директор училищ должен ездить по училищам, что учителями могут быть лица всех сословий, что два раза нельзя брать денег за учение, что ученики могут ходить и не ходить, что учителям не должно быть делаемо преград к переходу в другой род службы (с. 2? объяснительной записки), что учителям не нужно мундиров et cet., et cet.
Читая проект и живя в деревне, удивляешься, зачем пишут такие статьи, а этими статьями наполнен проект, что можно видеть и из нашего разбора.
Работая при таких условиях — незнания дела, незнания народа и его потребностей и, главное, при стеснительности тех требований, которые чувствуются во всем проекте, можно только удивляться, почему проект вышел еще не хуже.
Вопрос был поставлен так: средств нет и не будет, народное образование должно быть подчинено министерству народного просвещения, духовенство должно иметь власть руководить и направлять дух образования, самоуправление школ и сами школы должны быть однообразные по всей России — сделайте, чтобы такая система была наилучшая. Выдумать русскую систему образования, такую, которая бы вытекала из потребностей народа, невозможно ни комитету, никому в мире — надобно ждать, чтобы она сама выросла из народа. Для того чтобы угадать меры, которые бы способствовали, а не стесняли такое разви
H. Проем устройства народных\чи ниц 12?
тие, нужно много времени, труда, изучения и свободы воззрения; ни того, ни другого не было у комитета.
Для разрешения вопроса необходимо было обратиться к европейским системам. Я полагаю, что были посланы чиновники для изучения систем в различные государства. (Я даже видал таких изучателей, скитающихся без цели из места в место и озабоченных только мыслью, как бы составить записку, которую надо представить министру.)
На основании таких записок, я полагаю, разбираемы были в комитете все иностранные системы. Нельзя достаточно быть благодарным комитету за то, что из всех неприложимых к нам систем он выбрал менее дурную — американскую. Решив на основании этой системы главный, финансовый, вопрос, комитет стал решать вопросы административные, соображаясь только с предрешением комитета гг. министров о подведомственности школ министерству народного просвещения и для узнания обстоятельств дела пользуясь только имеющимися в С.-Петербурге материалами: для распределения училищ — запиской Географического общества, для определения числа училищ — официальными отчетами духовного ведомства и директоров, — и проект составился.
С точки зрения правительственной, как только проект будет приведен в исполнение, во всей России, в соразмерном населению числе, откроются школы. В большей части случаев народ достаточный будет с охотой платить 27V2 копейки с души, в бедных селениях школы откроются даром (на губернский капитал). Крестьяне за такую умеренную цену, имея отлично устроенные училища, не будут отдавать своих детей к солдатам, а охотно поведут их в школу. На тысячу душ везде (всё с правительственной точки зрения) будет красивый большой дом, хотя построенный и не по форме, но с надписью «школа», с лавками и столами и с надежным, поставленным правительством, учителем. Дети будут собираться со всего прихода. Родители будут гордиться аттестатами, получаемыми их детьми; аттестат будет считаться лучшей рекомендацией для молодого парня — и девку за него отдадут, и в работу его возьмут охотнее, ежели у него есть аттестат. Через 3—4 года будут ходить не одни мальчики, но и девочки. Один учитель, разделяя часы дня, будет учить 100 учеников. Учение будет идти успешно, во-первых, потому, что будет по предложенной премии найден, выбран и одобрен министерством народного просвещения лучший метод, и этот метод будет обязателен для всех школ (а через несколько времени и сами учителя будут все приготовлены по одной, лучшей методе); во-вторых, потому, что руководства тоже будут лучшие, одобренные министерством, вроде Берте и Ободовского4. Учитель будет совершенно обеспечен в жизни, привязан и соединен с сословием, среди которого он живет. Учитель, как и в Германии, будет со священником составлять аристократию в деревне, будет первым другом и советником крестьян. На каждое учительское место будут десятки кандидатов, из которых достойнейших будет избирать знающий дело и образованный директор. Законоучитель, за приличное вознаграждение, будет утверждать
Л. Н. Толстой
126
детей в истинах православной религии. Так как почти все молодое поколение будет стянуто в школы, ими будет прекращена возможность развития раскола. Средства школы всегда будут достаточны не только для платы учителям, которых правительство обеспечивает посредством 27-копеечного сбора, но и для учебных пособий, и для помещений, устройство которых предоставлено на произвол общества, вследствие чего общества не будут скупиться, а в этом отношении соперничать друг перед другом. Мало того, что общества не будут жалеть средств: каждая школа будет иметь попечителя или попечительницу, и эти лица, соревнуя народному образованию, — как надо полагать, богатые люди — будут помогать школе как материальными средствами, так и в управлении ее. Всякое малейшее упущение учителя или недоразумение со стороны родителей будет устраняемо попечителями или мировыми посредниками, которые охотно посвятят часть своих досугов святому делу народного образования, возбуждающему сочувствие всех просвещенных людей России. Время учения не будет обременять нравственные силы учеников; все лето будет отдано для сельских работ. Курс учения будет заключать в себе самые существенные знания и будет содействовать к утверждению в народе религиозных и нравственных понятий. Злонамеренные и грубые необразованные лица, обязанные объявлять об открытии своих училищ, тем самым будут подпадать под общий надзор учебного начальства и тем самым будут лишены возможности иметь вредное влияние. Правительственные школы естественно будут так хороши, что конкуренция с ними частных школ окажется невозможною, как это было в Америке, тем более что правительственная школа будет бесплатна. Губернское начальство над училищами будет сосредоточено в одном образованном, знающем дело и самостоятельном лице — директоре училищ. Лицо это, материально обеспеченное и не связанное никакими канцелярскими требованиями, будет постоянно ездить по школам, делать экзамены и лично следить за успехами учения.
Кажется, как хорошо! Так и видишь по всей России возникшие большие училищные дома с железными крышами, пожертвованными попечителями или обществами; в назначенный министерством час видишь, с сумочками через плечо, собирающихся из разных деревень учеников; видишь образованного, изучившего лучшую методу учителя и исполненную любовью к делу попечительницу, присутствующую при классах и следящую за учением; видишь на обывательских приезжающего директора, уже несколько раз в году побывавшего в школе, знающего и учителя, и почти всех учеников и дающего учителю практические советы; видишь счастье и довольство родителей, присутствующих при экзаменах и с трепетом ожидающих наград и аттестатов для своих детей, и видишь это все по всей России, видишь, как быстро рассеивается мрак невежества, и грубый, невежественный народ делается совсем другим — образованным и счастливым.
Но все это будет не так. Действительность имеет свои законы и
L H. Толстой
Проект общего плана устройства народных училищ
127
свои требования. В действительности, насколько я знаю народ, приложение проекта осуществится следующим образом.
Через земскую полицию или волостные правления будет объявлено, что крестьяне должны собрать к такому-то сроку по 27V2 копейки с души. Будет объявлено, что деньги эти собираются на училище. Потом объявят еще сбор на устройство училища; ежели скажут, что количество сбора зависит от них, крестьяне положат по 3 копейки, и потому принуждены будут назначить определенный сбор. Крестьяне, само собою разумеется, не поймут и не поверят этому. Большинство решит, что пришел от царя указ прибавить налог, и больше ничего. Деньги соберут с трудом, с угрозами, с насилием. Становой же объявит, что училище должно быть построено в таком-то месте и что сами общества должны избрать распорядителей постройки. Естественно, крестьяне и в этом будут видеть еще новый налог и только вследствие принуждения исполнят предписанное. Что и в каком виде строить — они опять не будут знать и будут исполнять только приказания начальства. Им скажут, что они могут избрать попечителя своего училища. Этого они никак не поймут, и не потому, что они глупы и необразованны, а потому, что им никак не войдет в голову, что непосредственно наблюдать за учением своих детей они не имеют права, а должны для этой цели выбрать какое-то лицо, которое, в сущности, тоже не имеет никакого права.
Налог 27х/2 копейки, налог на устройство училища, обязательство строить его — всё это породит в народе такое недоброжелательство к мысли и слову «училище», с которым они естественно будут соединять мысль налога, что они не захотят выбирать никого, опасаясь, чтобы и на жалованье попечителю не собрали с них денег. Становой и посредник насядут на них, они со страхом и трепетом выберут первого попавшегося и назвавшегося попечителя. Попечителем или останется мировой посредник, или будет выбран, почти всегда, первый помещик, живущий в селе, и потому попечительство его будет или забава, или ерничество, т. е. занятие серьезнейшим делом в мире как игрушкой или средством для осуществления тщеславных прихотей. Посреднику же при теперешнем положении нет физической возможности исполнять и прямые свои обязанности. Быть же представителем общества, в отношении контроля этого общества над училищем, есть дело чрезвычайно трудное и требующее большого знания и добросовестного труда. Большинство попечителей будут заходить раза два в месяц в училище, подарят, может быть, в него доску, сделанную домашним столяром, по воскресеньям позовут к себе учителя (и это самое лучшее) и в случае надобности учителя отрекомендуют своего крестника, выгнанного из богословия сына священника, или своего бывшего конторщика.
Построив училище и заплатив деньги, общества подумают, что теперь отдохнули от училищных налогов, — не тут-то было. Становой объявит им, что они должны еще отрезать полдесятины конопляников учителю. Опять станут собираться сходки, опять слова училище и на
JI. H. Толпой
128
сильственное отчуждение сольются в одно нераздельное понятие. Пойдут мужики ходить по огородам размеривать землю, переругаются, перессорятся, нагрешат, по их выражению, соберутся другой и третий раз и как-нибудь, исполняя приказание начальства, оторвут от себя кусок драгоценной для них огородной земли. И это еще не всё, собирай сходку еще — как разложить по приходу отсыпное учителю? (Натуральные повинности — самые нелюбимые крестьянами.) Наконец, училище построено и содержание учителю готово. Ежели помещик или посредник не рекомендовали своего конторщика или крестника, директор училищ должен назначить своего учителя. Выбор для директора училищ будет или очень легок, или очень труден, ибо тысячи учителей, выгнанных из писцов и из семинарий, будут каждый день стоять в его передней, подпаивать его письмоводителя и подделываться к нему со всех возможных сторон. Директор, бывший учитель гимназии, ежели он вполне добросовестный и осторожный человек, будет руководиться в выборе учителей только одной степенью образования, т. е. предпочитать кончившего некончившему курс, и вследствие этого будет беспрестанно ошибаться. Большинство же директоров, не так строго смотрящих на свои обязанности, будут руководиться филантропическими рекомендациями и своим добрым сердцек! — отчего не дать кусок хлеба бедному человеку? — и вследствие того будут точно так же ошибаться, как и первые. Я не вижу для директора более справедливого основания выбора, как жребий.
Так или иначе — учитель назначен. Обществам объявляется, что они могут бесплатно посылать своих детей в ту самую школу, которая досталась им таким соком. Большинство крестьян везде ответят одно на такое предложение: «Черт с ней, с этой школой, — уж она нам вот где сидит. Жили столько лет без школы и еще проживем, а захочу малого выучить, так к дьячку отдам. То учение я уж знаю, а это еще бог знает что будет: пожалуй, выучат малого, да и совсем от меня возьмут». Положим, такое мнение не будет повсеместно, рассеется со временем, и, глядя на успехи тех детей, которые поступят сначала, и другие захотят отдавать; и в этом, недопускаемом мною, случае отдадут в школу только живущие в селе, в котором устроено училище. Никакая бесплатность не приманит учеников во время зимы из деревень, находящихся на версту от школы. Это физически невозможно. Средним числом в школе будет человек 15. Остальные дети прихода будут учиться у частных людей по деревням или вовсе не будут учиться, а будут числиться в школе и вписываться в отчет. Успех в училищах будет точно такой же, ежели не хуже, чем успех у частных учителей — дьячков и солдат. Учителя будут люди того же самого разбора, семинаристы, ибо других еще нет, только в первом случае не связанные никакими стеснительными условиями и находящиеся под строгим контролем родителей, требующих успехов, соответственных платимым деньгам; в правительственном же училище, подчиняясь методам, руководствам, ограничению числа часов в день и вмешательствам попечителей и ди-
I 4, Толстой
Проект общего плана устройс тва народных училищ
129
ректоров, успехи, наверное, будут хуже. Директор будет получать огромное содержание, будет ездить, изредка мешать добросовестным, хорошим учителям, назначать дурных учителей и сменять хороших, ибо знать условия школ на целую губернию невозможно, а управлять ими он должен, и будет в известные сроки представлять ведомости, столь же невольно ложные, как и те, которые теперь представляются. Частные школы будут существовать точно так же, как и теперь существуют, не заявляя о своем существовании, и никто не будет знать о них, несмотря на то что в них-то и будет происходить главное движение народного образования.
Все это еще не так дурно и не так вредно. Во всех отраслях русской администрации мы привыкли к несоответственности официальной законности действительности. Почему же, казалось бы, не быть такой же несоответственности и в деле народного образования? Многое ошибочное и неприложимое проекта, скажут мне, будет обойдено, многое же осуществится и принесет свою пользу. Проектом по крайней мере положено начало системе народного образования, и хорошая или дурная, малая или большая, но будет хоть одна школа на каждую тысячу душ в русском народонаселении. Это было бы совершенно справедливо, ежели бы учреждение школ вполне и откровенно, в административном и финансовом отношении было взято правительством на себя или ежели бы это учреждение было вполне откровенно передано обществу.
В настоящем же проекте общество заставляют платить, а правительство берет на себя организацию школ, и из этого-то естественно должно вытекать огромное, хотя и не всем может быть очевидное, моральное зло, которое надолго подорвет развитие образования в русском народе. Потребность образования только что начинает свободно зарождаться в народе. Народ после манифеста 19 февраля везде выразил убеждение, что ему необходима теперь большая степень образования, что для приобретения этого образования он готов делать известные пожертвования. Он выразил это убеждение фактом: везде в огромном количестве возникают и возникли свободные школы.
Народ шел и идет по тому пути, на котором бы желало видеть его правительство. И вдруг, налагая стеснение на свободные школы, налагая на всех обязательный училищный налог, правительство не только не признает прежнее движение образования, но как будто отрицает \ его; оно как будто накладывает на народ обязательство другого, чуждого народу образования, устраняет его от участия в своем собственном деле и требует не руководства и обсуждения, а только покорности. Не говоря уже, что опыт показал мне это в частных случаях, история и здравый смысл указывают нам на возможные результаты такого вмешательства: народ сочтёт себя мучеником насилия. Старые дьячковские школы покажутся ему святыней, все новые правительственные школы представятся греховными нововведениями, и он с озлоблением отвернется от того самого дела, которое сам с любовью начал
Л. Н. Толстой
130
прежде, и только потому, что поторопились, не дали ему додумать свое дело, не дали ему самому выбрать дорогу, а насильно повели его по той дороге, которую он еще не считает лучшей.
Осуществление проекта кроме всех недостатков в сущности его, о которых говорено было выше, породит одно неизмеримое зло — раскол образования, молчаливое отрицательное противодействие школе и фанатизм невежества или старого образования.
Ответ критикам
Некоторые номера последних журналов представили заметки об издаваемом мною журнале. Я сказал в первом номере, что, выступая на новом поприще с совершенно новым, может быть, ошибочным взглядом на народное образование, я желаю и вместе с тем боюсь выражения противоположных мнений, желаю, потому что обсуждение уяснит вопрос, боюсь, потому что не надеюсь стоять всегда на уровне всей значительности вопроса, боюсь вдаться в личную полемику. До сих пор я еще уверен в себе.
Статьи журналов по времени доходили до меня в следующем порядке: 1) заметка священника в «Московских ведомостях», 2) заметка во «Времени», 3) в «Журнале для воспитания», 4) в «Библиотеке».
Упоминать о критике «Современника» я считаю недостойным себя, что для меня тем более счастливо, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни одной мысли, а только неприличные отзывы.
Заметка в «Московских ведомостях» самая беглая из всех лестных для меня мнений, выраженных до сей поры о Ясной Поляне, доставила мне наибольшее удовольствие и есть значительное для меня мнение. Сказано: чтение в школе повести «Матвей» произвело на учеников обаятельное впечатление. Не могу достаточно часто повторять того, что только суждение учеников может руководить нас в выборе и составлении для них книжек, и потому вновь прошу всех, принимающих к сердцу дело народного образования, сообщить публике свои наблюдения над впечатлениями, производимыми как книжками Ясной Поляны, так и другими. Сведения эти всегда найдут место в журнале.
О языке народных книжек
Есть в отношении книжек для детей и для народа общие правила, выработавшиеся и подтверждаемые самым поверхностным опытом.
1) Язык должен быть понятный, народный и умышленно не испещренный словами местного наречия.
2) Содержание должно быть доступно, неотвлеченно.
3) Не должно слишком стараться быть поучительным, а дидактика должна скрываться под занимательностью формы.
Л. Н. Толстой
О языке народных книжек
131
Вот правила ходячие для большинства людей, занимающихся народной литературой. Все эти правила не только говорят еще далеко не всё, что можно сказать о деле, но некоторые совершенно ложны.
1. Язык. Язык должен быть не только понятный или простонародный, но язык должен быть хороший. Красота, или, скорее доброта, языка может быть рассматриваема в двух отношениях. В отношении самых слов употребляемых и в отношении их сочетания. В отношении слов, ежели я скажу, что не надо употреблять слова великолепный, относя его к голосу или нравственным качествам человека, а говорить хороший, прекрасный, не говорить щедрый, а говорить простым, не говорить квиты, а просты (я уже не упоминаю об иностранных словах, которые легко могут быть заменены русскими), то я советую не то что употреблять простонародные, мужицкие и понятные слова, а советую употреблять хорошие сильные слова и не советую употреблять неточные, неясные, необразные слова. Я прошу читателя, интересующегося этим вопросом, прочитать повесть «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» в 4-м № «Ясной Поляны», составленную учениками. Я считаю эту повесть образцом языка как в отношении слов, так и их сочетаний. То замечание, которое так обыкновенно слышать, что не нужно умышленно коверкать и пестрить язык, пожалуй, верно, но мне кажется не так выражено. Нужно советовать не пестрить язык, а писать хорошим русским языком, что чрезвычайно трудно. Не нужно говорить: «Он был красивый такой», а говорить: «Он был красивый», не употреблять искусные перифразы с беспрестанным прибавлением частицы «то», для того чтобы сказать самую простую вещь, имеющую короткое и меткое название на нашем языке. Нам часто встречались подобные примеры на переделках книг и пересказах учеников. Например, вы рассказываете историю Петра Великого. Вы говорите: у Алексея Михайловича было 3 сына — старшие два сына были хорошие и умные, не глупые, — значит, бывает окроме этого еще этакая ловкость на всякие дела, — вот этой-то ловкости у них не было. Ученик рассказывает и говорит: у Алексея Михайловича было 3 сына. Старшие два были непроворные, а меньшой был ловок, и одно слово это непроворные — отпечатало для всякого русского человека образ Ивана Алексеевича.
Еще пример. Положим, мне нужно рассказать, что пароход движется посредством паров. Своему брату я говорю: сила пара движет поршни, поршни приводят в движение ось; ось поворачивает колеса, а колеса, упирая в воду, движут вперед корабль, называемый пароходом. Свысока спускающийся до народа народный учитель расскажет это так. Есть такая сила воды, называемая паром, вот этот самый пар, когда его запрут, начинает толкаться, проситься вон. Вот когда соберут этого пара много, то он имеет силу надавить и даже ежели не поддается та вещь, которую надавит, то он ее сдвинет, вот и устроены, как барабаны пустые, и в них пробки. К пробкам приделаны такие палки, а палки уперты в колено. И т. д. Учитель, заботящийся о народно
JI. H. To. i стой
сти, скажет так. Как поставит баба чугун в печь (хорошо еще, ежели он не скажет, вот, братцы мои, я вам всю правду-матку отрежу и т. д.), начнет на нем крышка прыгать. Видал? Ну, видал, так смекай, кто ее двигает, крышку-то? Сила? Так верно. Вот эта-то сила и есть, что пароход двигает, что глупые люди чертовыми крыльями, называют. Это не чертовы крылья, а силы природы-матушки, которыми всякий человек пользоваться должен. Все дано на благо человеку. Вот эта сила называется паром и т. д. Народный учитель-педант расскажет так. Всё, что движет, всё есть сила. Сил в природе много, вы знаете их — сила человека, лошади, воды, сила огня; такая же сила — пар. Пар есть вода. Учитель-дама расскажет так: когда мы едем на пароходе, милые дети, нам кажется удивительно, что мы едем так скоро и что нет ни лошади, ни паруса. Надо подумать, что же это за сила. Я вам расскажу, дети, и постараюсь быть вам нескучной. Ничто не будет скучно, ежели мы будем любить учиться и не скучать за книжкой. И т. д. Умный мужик, которые езжал на пароходе, вернувшись домой, расскажет так. Сделан котел, под котлом топка, пар не пущают, а проведен в машину. Машина проведена к колесам — она и бежит. А за нее сколько нужно коляски цепляют. Всякий крестьянин поймет из этого то, что ему нужно понять, и только потому, что это сказано хорошим русским языком.
2. Сочетание слов. Как в словах, так и в речах, т. е. периодах, мало сказать — нужны понятные короткие предложения, нужен просто хороший, мастерской язык, которым отпечатывает простолюдин (простонародье) всё, что ему нужно сказать, то, чему мы учимся у него и не можем научиться. Длинный, закрученный период, со вставочными и вводными предложениями, тот период, который в старину составлял славу Бюфонов, не только не есть красота, но он почти всегда скрывает слабость мысли и всегда неясность мысли. Не знаю, как скажут другие, откровенно проверив себя, но я признаюсь без исключения, всегда я впутывался и впутываюсь в длинный период, когда мне не ясна мысль, которую я хочу высказать, когда я не вполне овладел ею.
Мало того, есть формы удлинения речи, совершенно чуждые русскому языку и которые искусственно и бесполезно введены в русский язык, — таковы причастия. Зачем вы говорите: имея желание знать ваше мнение, прошу вас. Разве не проще и яснее — желаю знать ваше мнение, прошу. Официальный язык, язык по преимуществу причастий, есть язык самый темный, за ним следует язык литературный — «сказал он, проходя мимо». Вот язык литературный, к которому мы так привыкли, что нам странно бы его не слышать, а разве не проще: проходит мимо и говорит и т. д. Но это трудно. Тацит, Грановский, народная легенда, песня. Итак, по языку в обоих отношениях, я говорю, правилами ничего не сделаешь, правил нет, есть одно — нам надо учиться писать хорошо, а не умеем — не писать. Если изложение для нас требует точности, то для народа требуется точности и меткости в тысячу раз больше, и писать нельзя, не умея.
/I. ИЛ олстои
О я пике народных книжек
133
Теперь о содержании.
Содержание должно быть доступно, неотвлеченно. Это совершенно ложно. Содержание может быть какое хотите. Но не должно быть болтовни заместо дела, не должно набором слов скрывать пустоту содержания. Казалось бы, что то, что я говорю, весьма просто, но мне придется большим числом примеров объяснять то, что я разумею под этим отсутствием болтовни. Возьмите «Мир божий» или любую школьную и народную английскую или немецкую книгу — и вы увидите образец этого набора слов, преимущественно относительно столь любимых в последнее время естественных наук. Например, Земля имеет форму шара и обращается вокруг своей оси один раз в сутки. Это болтовня: во-первых, Земля не имеет формы шара, во-вторых, ежели говорить о форме Земли, надо объяснить, каким образом держится такое тело в пространстве — закон тяготения, в-третьих, что такое ось, как она обращается, и, в-четвертых, она вовсе не обращается. Или: Землю окружает воздух на 40 миль, воздух этот состоит из азота, кислорода и углерода. Во-первых, это вздор, во-вторых, что такое газ — азот, кислород и т. п., в-третьих, от чего он на 40 миль, в-четвертых, простолюдин видит все-таки синий свод неба и т. д. Это в естественных науках. В исторических — вы рассказываете ему, что история России разделяется так-то. Это вздор. Но положим, вы этого не делаете; вы говорите: предки наши славяне жили там-то и там-то, так-то и так-то. Во-первых, это вздор — никто не знает, как и где они жили, и, во-вторых, ежели бы он знал это, то ему от этого нет никакой пользы и лучше не знать. Попробуем рассказать из прикладных наук. Многие пробуют, например, из сельского хозяйства, не догадываясь, что им рассказать нечего, что простолюдин знает в 1000 раз больше каждого составителя. Рассказывают, как питается растение, чего и сами не знают хорошенько, говорят только фразы вместо растение растет — «оно питается через устьица» и тому подобный вздор; вместо воздух «азот и кислород» (точно это не все равно); рассказывают, как питается, а сами не знают, когда пахать под овес и как соху домой возят. Простолюдин смеется над этой книжкой или читает для процесса чтения, узнать из нее что-нибудь новое невозможно. Я не разбираю ни одной книги, но все, без исключения, книги теоретически никуда не годятся, кроме обертки. О производствах, фабриках руководства всегда непонятны. Все сведения о том, как мужики сами учились по книгам, все эти сведения и благодарность за книги подложные — я не могу им верить, как не могу верить, чтобы кто-нибудь выучился арифметике по руководству. И кто интересуется миткалевой фабрикой? Работник. На фабрике ему лучше покажет все дело старшой, чем 1000 книг. На чугунном, винном, на каком хотите заводе, на какой хотите фабрике — точно то же. И все эти книги, об отсутствии которых так сожалеют и которые так стараются распространить, никуда не годятся. Но положим даже, что можно выучиться по книге, — какая польза от того, что простолюдин будет знать, что в замашке тычинки, а в конопле пестик?
Л. Н. Толстой
134
Где приложение всех этих сведений? Разве кто-нибудь из грамотных людей не знает, что приложения естественных наук ежели возможны, то требуют огромного жизненного изучения, а приложения поверхностных знаний всегда ошибочны, вредны и только компрометируют науку? Я не беру примеров, потому что, взявши пример, кажется, что пример выбран нарочно, я не беру примеров, но вызываю всех противного мнения представить мне примеры таких книжек из естественных наук и приложение их, которые годились бы на что-нибудь. Возьмите популярные статьи о питании растений, о льне в «Грамотее» и «Народном чтении», возьмите лекции Фохта о мнимо вредных животных; возьмите весь пенни магазин — нет ничего, кроме болтовни, никому ничего не дающей. Лучшее доказательство, что нет таких книжек, есть то, что никто не читает эти подделки.
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
Общий очерк характера школы.
Чтение механическое и постепенное. Грамматика и писание.
Начинающих у нас нет. Младший класс читает, пишет, решает задачи 3 первых правил арифметики и рассказывает священную историю, так что предметы разделяются по расписанию следующим образом:
1) чтение механическое и постепенное, 2) писание, 3) каллиграфия, 4) грамматика, 5) священная история, 6) русская история, 7) рисование, 8) черчение, 9) пение, 10) математика, 11) беседы из естественных наук и 12) закон божий.
Прежде чем говорить о преподавании, я должен сделать краткий очерк того, что такое Яснополянская школа, и того в каком периоде роста она находится.
Как всякое живое существо, школа не только с каждым годом, днем и часом видоизменяется, но и подвержена временным кризисам, невзгодам, болезням и дурным настроениям. Через такой болезненный кризис прошла Яснополянская школа нынешним летом. Причин тому было много: во-первых, как и всегда летом, все лучшие ученики выбыли, только изредка уже встречали мы их в поле на работах и пастбищах: во-вторых, новые учителя прибыли в школу и новые влияния начали отражаться на ней; в-третьих, все лето каждый день приносил новых посетителей — учителей, пользовавшихся летними вакациями. А для правильного хода школы нет ничего вреднее посетителей. Так или иначе учитель подделывается под посетителей.
Учителей четыре. Два старых — уже два года учат в школе, привыкли к ученикам, к своему делу, к свободе и внешней беспорядочности школы. Два учителя новых — оба недавно сами из школы — любители
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
135
внешней аккуратности, расписания, звонка, программ и т. п., не вжившиеся в жизнь школы так, как первые. То, чтб для первых кажется разумным, необходимым, не могущим быть иначе, как черты лица любимого, хотя и некрасивого ребенка, росшего на глазах, для новых учителей представляется иногда исправимым недостатком.
Школа помещается в двухэтажном каменном доме. Две комнаты заняты школой, одна — кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой; в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху в сенях — верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит расписание.
Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить.
На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и поодиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет необходимости ему дожидаться и кричать: «Эй, ребята! В училищу!» Уже он знает, что училище среднего рода, много кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. Пришло ему время, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их характеры. Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли, — нешто кто из самых маленьких или из вновь поступивших, начатых в других школах. С собой никто ничего не несет —ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.
Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание, и никогда не опаздывают: нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются, — кто около крыльца, толкаясь со ступенек или катаясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно, ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: «Эй, девки, что не катаетесь?», или: «Девки-то, вишь, замерзли!», или: «Ну, девки, выходи все на меня одного!» Только одна из девочек, дворовая, с огромными и всесторонними способностями, лет десяти, начинает выходить из табуна девок. И с этой только уче
Л. Н. Толстой
136
ники обращаются как с равной, как с мальчиком, только с тонким оттенком учтивости, снисходительности и сдержанности.
Положим, по расписанию в первом, младшем, классе — механическое чтение, во втором — постепенное чтение, в третьем — математика. Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «Мала куча!», или: «Задавили, ребята!», или: «Будет! брось виски-то!» и т. д. «Петр Михайлович! — кричит снизу кучи голос входящему учителю. — Вели им бросить!» — «Здравствуй, Петр Михайлович!» — кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкапу, из кучи на полу — верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяли книжки, все остальные уже бегут к шкапу и кричат: «Мне и мне! Дай мне вчерашнюю; а мне колъцовую!» и т. п. Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: «Что вы тут замешались? Ничего не слышно. Будет!» Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только в первое время, сидя за книгой, поматывают ногой от неулегшегося волнения. Дух войны улетает, и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за виски Митьку, он теперь читает колъцовую (так называется у нас сочинение Кольцова)1 книгу, чуть не стиснув зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилий, сколько прежде — от борьбы.
Садятся они где кому вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле. Девки садятся всегда вместе. Друзья, односельцы, особенно маленькие (между ними больше товарищества), всегда рядом. Как только один из них решит, что садится в тот угол, все товарищи, толкаясь и ныряя под лавками, пролезают туда же, садятся рядом и, оглядываясь кругом, представляют на лице такой вид счастья и удовлетворенности, как будто они уже наверное на вею остальную жизнь будут счастливы, усевшись на этих местах. Большое кресло, как-то попавшее в комнату, представляет предмет зависти для более самостоятельных личностей — для дворовой девочки и других. Как только один вздумает сесть на кресло, другой уже по его взгляду узнает его намерение, и они сталкиваются, мнутся. Один выжимает другого^ и перемявший разваливается головой гораздо ниже спинки, но читает так же, как и все, весь увлеченный своим делом. Во время класса я никогда не видал, чтобы шептались, щипались, смеялись потихоньку, фыркали в руку и жаловались друг на друга учителю. Когда заученный у пономаря или в уездном училище ученик приходит с такой жалобой, ему говорят: «Что ж ты сам не щипешься?»
Два меньших класса разбираются в одной комнате, старший идет в другую. Учитель приходит и в первый класс, все обступают его у доски, или на лавках ложатся, или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это писание, они усаживаются попокойнее, но
JI. H. 1 одетой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
137
беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у друга, и показывают свои учителю. По расписанию до обеда значится четыре урока, а выходит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику и перейдет к геометрии, начнет священную историю, а кончит грамматикой. Иногда увлекутся учитель и ученики, и вместо одного часа класс продолжается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: «Нет, еще — еще!» — и кричат на тех, которым надоело. «Надоело, так и ступай к маленьким», — говорят они презрительно. В класс закона божия, который один только бывает регулярно, потому что законоучитель живет за две версты и бывает два раза в неделю, и в класс рисования все ученики собираются вместе. Перед этими классами оживление, возня, крики и внешний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из одной комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит за хлебом, кто пропекает этот хлеб в печке, кто отнимает что-нибудь у другого, кто делает гимнастику, и опять так же, как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их самих успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно рассадить их. При теперешнем духе школы остановить их физически невозможно. Чем громче кричит учитель — это случалось, — тем громче кричат они: его крик только возбуждает их. Остановишь их или, если удастся, увлечешь их в другую сторону, и это маленькое море начнет колыхаться все реже и реже — и уляжется. Даже большей частью и говорить ничего не нужно. Класс рисования, любимый класс для всех, бывает в полдень, когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить лавки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимается страшная; но, несмотря на то, как только учитель готов, — ученики готовы, и тому, кто задерживает начало класса, достанется от них же самих.
Я должен оговориться. Представляя описание Яснополянской школы, я не думаю представлять образец того, чтб нужно и хорошо для школы. Я полагаю, что такие описания могут принести пользу. Если мне удастся в следующих номерах представить ясно историю развития школы, то читателю будет понятно, почему характер школы сложился именно такой, почему я считаю такой порядок хорошим и почему изменить его, ежели бы даже я захотел, мне было бы совершенно невозможно. Школа развивалась свободно из начал, вносимых в нее учителем и учениками. Несмотря на все преимущество влияния учителяд ученик всегда имел право не ходить в школу и даже, ходя в школу, не ‘ слушать учителя. Учитель имел право не пускать к себе ученика и имел возможность действовать всей силой своего влияния на большинство учеников, на общество, всегда составляющееся из школьников. Чем дальше идут ученики, тем больше разветвляется преподавание и тем необходимее становится порядок. Вследствие того при нормальном, ненасильственном развитии школы, чем более образовываются ученики, тем они становятся способнее к порядку, тем сильнее чувствуется ими самими потребность порядка и тем сильнее на них в этом от
Л. Н. Толстой
138
ношении влияние учителя. В Яснополянской школе это правило подтверждалось постоянно, со дня ее основания. Вначале нельзя было подразделить ни на классы, ни на предметы, ни на рекреацию и уроки: все само собой сливалось в одно, и все попытки распределений оставались тщетны. Теперь же в первом классе есть ученики, которые сами требуют следования расписанию, недовольны, когда их отрывают от урока, и которые сами беспрестанно выгоняют вон маленьких, забегающих к ним.
По моему мнению, внишний беспорядок этот полезен и незаменим, как он ни кажется странным и неудобным для учителя. О выгодах этого устройства мне часто придется говорить, о мнимых же неудобствах скажу следующее. Во-первых, беспорядок этот, или свободный порядок, страшен нам только потому, что мы привыкли совсем к другому, в котором сами воспитаны. Во-вторых, в этом, как и во многих подобных случаях, насилие употребляется только вследствие поспешности и недостатка уважения к человеческой природе. Нам кажется, беспорядок растет, делается все больше и больше, и нет ему пределов, кажется, что нет другого средства прекратить его, как употребить силу, а стоило только немного подождать, и беспорядок (или оживление) самоестественно улегся бы в порядок, гораздо лучший и прочнейший, чем тот, который мы выдумаем. Школьники — люди, хотя и маленькие, но люди, имеющие те же потребности, какие и мы, и теми же путями мыслящие; они все хотят учиться, затем только ходят в школу, и потому им весьма легко будет дойти до заключения, что нужно подчиняться известным условиям для того, чтобы учиться. Мало того, что они люди, они — общество людей, соединенное одной мыслью. «А где трое соберутся во имя мое, и я между ними!» Подчиняясь законам только естественным, вытекающим из их природы, они возмущаются и ропщут, подчиняясь вашему преждевременному вмешательству, они не верят в законность ваших звонков, расписаний и правил. Сколько раз мне случалось видеть, как ребята подерутся — учитель бросается разнимать их, и разведенные враги косятся друг на друга и даже при грозном учителе не удержатся, чтобы еще больнее, чем прежде, напоследках, не толкнуть один другого; сколько раз я каждый день вижу, как какой-нибудь Кирюшка, стиснув зубы, налетит на Тараску, зацепит его за виски, валит на землю и, кажется, хочет жив не остаться — изуродовать врага, а не пройдет минуты, Тараска уже смеется из-под Кирюшки, один — раз за разом, все легче и легче отплачивает другому, и не пройдет пяти минут, как оба делаются друзьями и идут садиться рядом. Недавно между классами в углу сцепились два мальчика: один — замечательный математик, лет девяти, второго класса, другой — стриженый дворовый, умный, но мстительный, крошечный черноглазый мальчик, прозванный кыской. Кыска сцапал за длинные виски математика и прижал его голову к стене; математик тщетно цеплял за стриженую щетинку кыскй. Черные глазенки кыски торжествовали, математик едва удерживался от слез и говорил: «Ну, ну!
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
139
Что? Что?» — но ему, видно, плохо приходилось, и он только храбрился. Это продолжалось довольно долго, и я был в нерешительности, чтб делать. «Дерутся, дерутся!» — закричали ребята и столпились около угла. Маленькие смеялись, но большие, хотя и не стали разнимать, как-то серьезно переглянулись, и эти взгляды и молчание не ушли от кыски. Он понял, что делает что-то нехорошее, и начал преступно улыбаться и отпускать понемногу виски математика. Математик вывернулся, толкнул кыску так, что тот ударился затылком об стену, и, удовлетворенный, отошел. Маленький заплакал, пустился за своим врагом и из всей силы ударил его по шубе, но не больно. Математик хотел было отплатить, но в ту же минуту раздалось несколько неодобрительных голосов. «Вишь, с маленьким связался!» — закричали зрители. «Удирай, кыска!» Дело тем и кончилось, как будто его и не было, исключая, я предполагаю, смутного сознания того и другого, что драться неприятно, потому что обоим больно. Здесь мне удалось как будто подметить чувство справедливости, руководившее толпой; но сколько раз решаются такие дела так, что не поймешь — на основании какого закона, но решаются, удовлетворяй обе стороны. Как произвольны и несправедливы в сравнении с этим все воспитательные приемы в таких случаях. «Вы оба виноваты, станьте на колени!» — говорит воспитатель, и воспитатель неправ, потому что виноват один, и этот один торжествует, стоя на коленках и пережевывая свою не всю вылившуюся злобу, и вдвойне наказан невинный. Или: «Ты виноват в том, что ты то-то и то-то сделал, и будешь наказан», — скажет воспитатель, и наказанный еще больше ненавидит своего врага за то, что на его стороне деспотическая власть, законность которой он не признает. Или: «Прости его, так бог велит, и будь лучше его», — скажет воспитатель. Вы ему говорите: будь лучше его, а он хочет быть только сильнее и другого лучше не понимает и не может понимать. Или: «Вы оба виноваты: попросите друг у друга прощения и поцелуйтесь, детки». Это уже хуже всего, и по неправде, выдуманности этого поцелуя, и потому, что утихавшее дурное чувство тут вновь загорается. А оставьте их одних, ежели вы не отец, не мать, которым просто жалко свое детище и которые потому всегда правы, оттаскав за вихры того, кто прибил их сына; оставьте их и посмотрите, как все это разъясняется и укладывается так же просто и естественно и вместе так же сложно и разнообразно, как все бессознательные жизненные отношения. Но, может быть, учителя, не испытавшие такого беспорядка или свободного порядка, подумают, что без учительского вмешательства беспорядок этот может иметь физически вредные последствия: перебьются, переломаются и т. д. В Яснополянской школе с прошлой весны было два только случая ушибов со знаками. Одного мальчика столкнули с крыльца, и он рассек себе ногу до кости (рана зажила в две недели), другому обожгли щеку зажженной резинкой, и он недели две носил болячку. Не больше как раз в неделю случится, что поплачет кто-нибудь, и то не от боли, а от досады или стыда. Побоев, синяков, шишек,
Л. Н. Толстой
кроме этих двух случаев, мы не можем вспомнить за все лето при 30 и ^учениках, предоставленных вполне своей воле.
убежден, что школа не должна вмешиваться в дело воспитания, подлежащее одному семейству, что школа не должна и не имеет права | награждать и наказывать, что лучшая полиция и администрация I школы состоит в предоставлении полной свободы ученикам учиться и । ведаться между собой, как им хочется. Я убежден в этом, но, несмотря I на то, старые привычки воспитательных школ так сильны в нас, что. >мы в Яснополянской школе нередко отступаем от этого правила?^ 'Прошлым полугодием, именно в ноябре, было два случая наказаний.
Во время класса рисования недавно прибывший учитель заметил мальчика, который кричал, не слушая учителя, и неистово бил своих соседей без всякой причины. Не найдя возможности успокоить его словами, учитель вывел его с места и взял у него доску — это было наказание. Мальчик обливался все время урока слезами. Это был тот самый мальчик, которого я в начале Яснополянской школы не принял, сочтя его за безнадежного идиота. Главные черты мальчика — тупость и кротость. Товарищи никогда не принимают его в игры, смеются, издеваются над ним и сами с удивлением рассказывают: «Какой чудной Петька! Побьешь, — его маленькие и те бьют, а он встряхнется и пойдет прочь». «Совсем у него сердца нет», — сказал мне про него один мальчик. Ежели такого мальчика довели до того состояния ярости, за которое его наказал учитель, то виноват был, верно, не наказанный. Другой случай. Летом, во время перестройки дома, из физического кабинета пропала лейденская банка, несколько раз пропадали карандаши
и пропали книжки уже в то время, когда ни плотников, ни маляров не работало в доме. Мы спросили мальчиков: лучшие ученики, первые школьники по времени, старые друзья наши, покраснели и заробели так, что всякий следователь подумал бы, что замешательство это есть верное доказательство их вины. Но я знал их и мог ручаться за них, как за себя. Я понял, что одна мысль подозрения глубоко и больно оскорбила их: мальчик, которого я назову Федором, даровитая и нежная натура, весь бледный, дрожал и плакал. Они обещались сказать, ежели узнают; но искать отказались. Через несколько дней открылся вор — дворовый мальчик из дальней деревни. Он увлек за собой крестьянского мальчика, приехавшего с ним из той же деревни, и они вместе прятали краденые вещи в сундучок. Открытие это произвело странное чувство в товарищах: как будто облегчение, и даже радость, и вместе с тем презрение и сожаление к вору. Мы предложили им самим назначить наказание: одни требовали высечь вора, но непременно самим; другие говорили: ярлык пришить с надписью вор. Это наказание, к стыду нашему, было употребляемо нами прежде, и именно тот самый мальчик, который год тому назад сам носил ярлык с надписью лгун, настоятельнее всех требовал теперь ярлыка на вора. Мы согласились на ярлык, и, когда девочка нашивала ярлык, все ученики со злой радостью смотрели и подтрунивали над наказанными. Они требовали еще
I (1 Г«кк'|ой
Яснонолянскач школа за ноябрь и декабрь месяцы
141
усиления наказания. «Провести их по деревне, оставить их до праздника с ярлыками», — говорили они. Наказанные плакали. Крестьянский мальчик, увлеченный товарищем, — даровитый рассказчик и шутник, толстенький белый карапузик, плакал просто распущенно, во всю ребячью.мочь; другой, главный преступник, горбоносый, с сухими чертами умного лица, был бледен, губы у него тряслись, глаза дико и злобно смотрели на радующихся товарищей, и изредка неестестве^ро у него в плач искривлялось лицо. Фуражка с разорванным козырьком была надета на самый затылок, волосы растрепаны, платье испачкано мелом. Все это меня и всех поразило теперь так, как будто мы в первый раз это видели. Недоброжелательное внимание всех было устремлено на него. И он это больно чувствовал. Когда он, не оглядываясь, опустив голову, какой-то особенной преступной походкой, как мне показалось, пошел домой, и ребята, толпой бежа за ним, дразнили его как-то ненатурально и странно жестоко, как будто против их воли злой дух руководил ими, чтб-то мне говорило, что это нехорошо. Но дело осталось как было, и вор проходил с ярлыком целые сутки. С этого времени он стал, как мне показалось, хуже учиться, и уже его не видно бывало в играх и разговорах с товарищами вне класса.
Раз я пришел в класс, все школьники с каким-то ужасом объявили мне, что мальчик этот опять украл. Из комнаты учителя он утащил 20 копеек медных денег, и его застали, когда он их прятал под лестницу. Мы опять навесили ему ярлык, опять началась та же уродливая сцена. Я стал увещевать его, как увещевают все воспитатели; бывший при этом уже взрослый мальчик, говорун, стал увещевать его тоже, повторяя слова, вероятно, слышанные им от отца — дворника. «Раз украл, другой украл, — говорил от складно и степенно, — привычку возьмет, до добра не доведет». Мне начинало становиться досадно. Я чувствовал почти злобу на вора. Я взглянул в лицо наказанного, ещё более бледное, страдающее и жестокое, вспомнил почему-то колодников, и мне так вдруг стало совестно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык, велел ему идти, куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а всем существом убедился, что я не имею права мучить этого несчастного ребенка и что я не могу сделать из него то, что бы мне и дворникову сыну хотелось из него сделать. Я убедился, что есть тайны души, закрытые от нас, на которые может действовать жизнь, а не нравоучения и наказания. И чтб за дичь? Мальчик украл книгу — целым длинным, многосложным путем чувств, мыслей, ошибочных умозаключений приведен был к тому, что взял чужую книжку и зачем-то запер ее в свой сундук, — а я налепляю ему бумажку со словом «вор», которое значит совсем другое! Зачем? Наказать его стыдом — скажут мне. Наказать его стыдом? Зачем? Что такое стыд? И разве известно, что стыд уничтожает наклонность к воровству? Может быть, он поощряет ее. То, чтб выражалось на его лице, может быть, было не стыд? Даже наверно я знаю, что это был не стыд, а что-то совсем другое, чтб, может быть, спало бы всегда в его душе и что не нужно было вызывать. Пускай
Л. Н. Толстой
142
там, в мире, который называют действительным, в мире Пальмерстонов2, Казн, в мире, где разумно не то, что разумно, а то, что действительно, пускай там люди, сами наказанные, выдумают себе права и обязанности наказывать. Наш мир детей — людей простых, независимых — должен оставаться чист от самообманывания и преступной веры в законность наказания, веры и самообманывания в то, что чувство мести становится справедливым, как скоро его назовем наказанием...
Продолжаем описание дневного порядка учения. Часа в 2 проголодавшиеся ребята бегут домой. Несмотря на голод, они, однако, еще остаются несколько минут, чтобы узнать, кому какие отметки. Отметки, в настоящее время не дающие никому преимущества, страшно занимают их. «Мне 5 с крестом, а Ольгушке нолю какую здоровую закатили! А мне — 4», — кричат они. Отметки служат для них самих оценкой их труда, и недовольство отметками бывает только тогда, когда оценка сделана неверно. Беда, ежели он старался, и учитель, просмотрев, поставит ему меньше того, чего он стоит. Он не даст покою учителю и плачет горькими слезами, ежели не добьется изменения. Дурные отметки, но заслуженные остаются без протеста. Отметки, впрочем, остаются только от старого нашего порядка и сами собой начинают падать.
В первый после обеда урок, после роспуска, собираются точно так же, как утром, и так же дожидаются учителя. Большей частью это бывает урок священной или русской истории, на который собираются все классы. Урок этот начинается обыкновенно еще сумерками. Учитель становится или садится посредине комнаты, а толпа размещается вокруг него амфитеатром: кто на лавках, кто на столах, кто на подоконниках.
Все вечерние уроки, а особенно этот первый, имеют совершенно особенный от утренних характер спокойствия, мечтательности и поэтичности. Придите в школу сумерками — огня в окнах не видно, почти тихо, только вновь натасканный снег на ступени лестницы, слабый гул и шевеленье за дверью да какой-нибудь мальчуган, ухватившись за перилы, через две ступени шагающий наверх по лестнице, доказывают, что ученики в школе. Войдите в комнату. Уже почти темно за замерзшими окнами; старшие, лучшие ученики прижаты другими к самому учителю и, задрав головки, смотрят ему прямо в рот. Дворовая самостоятельная девочка с озабоченным лицом сидит всегда на высоком столе — так и кажется, каждое слово глотает; поплоше, ребята-мелкота, сидят подальше: они слушают внимательно, даже сердито, они держат себя так же, как и большие, но, несмотря на все внимание, мы знаем, что они ничего не расскажут, хотя и многое запомнят. Кто навалился на плечи другому, кто вовсе стоит на столе. Редко кто, втиснувшись в самую середину толпы, за чьей-нибудь спиной, занимается выписыванием ногтем каких-нибудь фигур на этой спине. Редко кто оглянется на вас. Когда идет новый рассказ — все замерли, слушают.
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
143
Когда повторение — тут и там раздаются самолюбивые голоса, не могущие выдержать, чтобы не подсказать учителю. Впрочем, и старую историю, которую любят, они просят учителя повторить всю своими словами и не позволяют перебивать учителя. «Ну ты, не терпится? Молчи!» — крикнут на выскочку. Им больно, что перебивают характер и художественность рассказа учителя. Последнее время это была история жизни Христа. Они всякий раз требовали рассказать ее всю. Ежели не всю им рассказывали, то они сами дополняли любимый конец — историю отречения Петра и страдания Спасителя. Кажется, все мертво, не шелохнется, — не заснули ли? Подойдешь в полутьме, взглянешь в лицо какому-нибудь маленькому: он сидит, впившись глазами в учителя, сморщивши лоб от внимания, и десятый раз отталкивает с плеча навалившуюся на него руку товарища. Вы пощекотите его за шею — он даже не улыбнется, согнет головку, как будто отгоняясь от мухи, и опять весь отдается таинственному и поэтическому рассказу: как сама разорвалась церковная завеса и темно сделалось на земле — ему и жутко, и хорошо. Но вот учитель кончил рассказывать, и все поднимаются с места, и, толпясь к учителю, перекрикивая один другого, стараются пересказать всё, что удержано ими. Крик поднимается страшный — учитель насилу может следить за всеми. Те, которым запретили говорить, в уверенности, что они знают, не успокаиваются этим: они приступают к другому учителю, ежели его нет — к товарищу, к постороннему, к истопнику даже, ходят из угла в угол по двое, по трое, прося каждого их послушать. Редко кто рассказывает один. Они сами отбираются группами, равными по силам, и рассказывают, поощряя, поджидая и поправляя один другого. «Ну, давай с тобой», — говорит один другому, но тот, к кому обращаются, знает, что он ему не по силам, и отсылает его к другому. Как только повысказа-лись, успокоились, приносят свечи, и уже другое настроение находит на мальчиков.
По вечерам вообще и в следующих классах меньше возни, криков, больше покорности, доверия учителю. Особенное отвращение заметно от математики и анализа, и охота к пению, к чтению и особенно к рассказам. «Что все математику да писать — рассказывать лучше, об земле, или хоть историю, а мы послушаем», — говорят они. Часов в 8 уже глаза соловеют, начинают позевывать, свечки темнее горят — реже снимают, старшие удерживаются, младшие, худшие, засыпают, облокотившись на стол, под приятные звуки говора учителя. Иногда, когда классы бывают интересны, и их было много (иногда бывает до семи больших часов в день), и ребята устали, или перед праздником, когда дома печки приготовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, на втором или третьем послеобеденном классе два или три мальчика забегают в комнату и спеша разбирают шапки. «Что вы?» — «Домой». — «А учиться? Ведь пение!» — «А ребята говорят: домой!» — отвечают они, ускользают со своими шапками — «Да кто говорит?» — «Ребята пошли!» — «Как же так? — спрашивает озадаченный учитель, приго
Л. Н. Толстой
144
товивший свой урок. — Останьтесь!». Но в комнату вбегает другой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. — «Что стоишь? — сердито нападает он на удержанного, который в нерешительности заправляет хлопки в шапку. — Ребята уж во-он где, у кузни уж небось ». — «Пошли?» — «Пошли». И оба бегут вон, из-за двери крича: «Прощайте, Иван Иваныч!» И кто такие эти ребята, которые решили идти домой, как они решили? Бог их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не совещались, не делали заговора, а так вздумали ребята домой. «Ребята идут!» — и застучали ножонки по ступенькам, кто котом свалился со ступеней, и, подпрыгивая и бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя — кто не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие одного такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а иногда семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками. Только при повторении таких случаев можно быть уверенным, что преподавание, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. Ежели бы вопрос был поставлен так: что лучше — чтобы в продолжение года не было ни одного такого случая или чтобы случаи эти повторялись больше чем на половину уроков, мы бы выбрали последнее. Я по крайней мере в Яснополянской школе был рад этим несколько раз в месяц повторявшимся случаям. Несмотря на частые повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, влияние учителя так сильно, что я боялся прследнее время, как бы дисциплина классов, расписаний и отметок незаметно для них не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста. Ежели они продолжают ходить охотно, несмотря на предоставленную им свободу, я никак не думаю, чтобы это доказывало особенные качества Яснополянской школы, — я думаю, что в большей части школ то же самое бы повторилось и что желание учиться в детях так сильно, что для удовлетворения этого желания они подчинятся многим трудным условиям и простят много недостатков. Возможность таких убеганий полезна и необходима только как средство застрахования учителя от самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений.
По вечерам бывает пение, постепенное чтение, беседы, физические эксперименты и писание сочинений. Любимые из этих предметов — чтение и опыты. В чтении старшие укладываются на большом столе звездой — головами вместе, ногами врозь — один читает, и все друг другу рассказывают. Младшие по два усаживаются за книжки и, ежели книжечка эта понятлива, читают, как мы читаем, — пристраиваются к свету и облокачиваются попокойнее и, видимо, получают удовольствие. Некоторые, стараясь соединить два удовольствия, садятся против топящейся печки — греются и читают. В классы опытов пускаются не все — только старшие и лучшие, рассудительнейшие из
JI. H. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
145
второго класса. Этот класс по характеру, который он принял у нас, самый вечерний, самый фантастический, совершенно подходящий к настроению, вызванному чтением сказок. Тут сказочное происходит в действительности — всё олицетворяется ими: можжевеловый шарик, отталкиваемый сургучом, отклоняющаяся магнитная иголка, опилки, бегающие по листу бумаги, под которой водят магнитом, представляются им живыми существами. Самые умные, понимающие объяснение этих явлений, мальчики увлекаются и начинают ухать на иголку, на шарик, на опилки: «Вишь ты! Куды? Куды? Держи! Ух! Закатывай!»
Обыкновенно классы кончают часов в 8, в 9, ежели только столяр-ство не задержит старших мальчиков дольше, и вся ватага с криком бежит вместе до дворни и оттуда группами, перекрывающимися друг с другом, начинает расходиться по разным концам деревни. Иногда они затевают скатиться на больших санях, выдвинутых за ворота, под гору к деревне, подвязывают оглобли, валятся на средину и в снежной пыли с визгом скрываются из глаз, кое-где на дороге оставляя черные пятна вывалившихся ребят. Вне училища, несмотря на всю свободу его, на воздухе, между учениками и учителем устанавливаются новые отношения — большей свободы, большей простоты и большего доверия, те самые отношения, которые представляются нам идеалом того, к чему должна стремиться школа.
Недавно мы в первом классе читали «Вия» Гоголя; последние сцены подействовали сильно и раздражили их воображение — йекоторые в лицах представляли ведьму и все вспоминали последнюю ночь.
На дворе было нехолодно — зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. На перекрестке мы остановились; старшие, трехлетние школьники, остановились около меня, приглашая проводить их еще; маленькие поглядели — и закатились под гору. Младшие начали учиться при цовом учителе, и между мной и ими уже нет того доверия, как между мной и старшими. «Ну, так пойдем в заказ» (небольшой лес шагах в 200 от жилья), — сказал один из них. Больше всех просил Федька, мальчик лет десяти, нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура. Опасность для него составляет, кажется, самое главное условие удовольствия. Летом всегда бывало страшно смотреть, как он с другими двумя ребятами выплывал на самую средину пруда, саженей в 50 ширины, и изредка пропадал в жарких отражениях летнего солнца — плавал по глубине, перевертываясь на спину, пуская струйки воды и окликая тонким голоском товарищей на берегу, чтобы видели, какой он молодец. Теперь он знал, что в лесу есть волки, поэтому ему хотелось в заказ. Все подхватили, и мы в 4-м пошли в лес. Другой — я назову его Семка — здоровенный и физически, и морально, малый лет 12, прозванный Вавило, шел впереди и все кричал и аукался с кем-то заливистым голосом. Пронька — болезненный, кроткий, и чрезвычайно даровитый мальчик, сын бедной семьи, болезненный, кажется больше всего от недостатка пищи, шел рядом со мной. Федька шел между мной и Семкой и все заговаривал особенно мягким голосом, то рассказывая,
Л. Н. Толстой
146
как он летом стерег здесь лошадей, то говоря, что ничего не страшно, а то спрашивая: «Что ежели какой-нибудь выскочит?» — и непременно требуя, чтобы я что-нибудь сказал на это. Мы не вошли в середину леса — это было бы уже слишком страшно, но и около леса стало темнее: дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из виду. Семка остановился и стал прислушиваться. «Стой, ребята! Что такое?» — вдруг сказал он. Мы замолкли, но ничего не было слышно; все-таки страху еще прибавилось. «Ну, что же мы станем делать, как он выскочит — да за нами?» — спросил Федька. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую историю, которую я им рассказывал давно, и я стал опять рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть по своей бедности всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Мне случилось видеть, к&к дама в крестьянской школе, желая обласкать мальчика, скажет: «Ну, уж я тебя поцелую, милашка!» — и поцелует и как этот поцелованный мальчик стыдится, обижается и недоумевает, за что именно это с ним сделали; мальчик лет пяти становится уж выше этих ласканий — он уж «малый». По-тому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа вдруг дотронулся до меня слегка рукавом; потом всей рукой ухватил меня за два пальца и уже не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще, и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания. «Ну, ты, суйся под ноги!» — сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости — ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. «Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!» Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне. «Пойдем еще, — заговорили все, когда уже стали видны огни, — еще пройдемся». Мы молча шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто началась перед глазами; тучи были низкие, как будто на нас что-то наваливало их;’конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать собрался!» — отвечал огорченно Федька. «Я думаю, что молитву он запел!» — прибавил Пронька. Все согласились. Федька остановился вдруг: «А как, вы говорили, вашу тетку зарезали? — спросил он — ему мало еще было страхов. — Расскажи! Расскажи!» Я им рас
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
147
сказал еще раз эту страшную историю убийства графини Толстой, и они молча стояли вокруг меня, глядя мне в лицо. «Попался молодец!» — сказал Семка. «То-то страшно ему было ночью ходить, как она зарезанная лежала, — сказал Федька, — я бы убежал!» — и он все дальше забирал себе в руку мои два пальца. Мы остановились в роще, за гумнами, под самым краем деревни. Семка поднял хворостину из снегу и бил ею по морозному стволу липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук одиноко раздавался по лесу. «Лев Николаевич, — сказал Федька (я думал, он опять о графине), — для чего учиться пению? Я часто думаю, право, — зачем петь?»
Как он перескочил от ужаса убийства на этот вопрос, бог его знает, ио по всему, по звуку голоса, по серьезности, с которой он добивался ответа, по молчанию интереса других двух, чувствовалась самая живая и законная связь этого вопроса с предыдущим разговором. Была ли эта связь в том, что он отвечал на мое объяснение возможности преступления необразованием (я говорил им это), или в том, что он поверял себя, переносясь в душу убийцы и вспоминая свое любимое дело (у него чудесный голос и огромный талант к музыке), или связь состояла в том, что он чувствовал, что теперь время искренней беседы, и поднялись в его душе все вопросы, требующие разрешения, — только вопрос его не удивил никого из нас. «А зачем рисование, зачем хорошо писать?» — сказал я, решительно не зная, как объяснить ему, для чего искусство. «Зачем рисование?» — повторил он задумчиво. Он именно спрашивал: зачем искусство? Я не смел и не умел объяснить. «Зачем рисование?» — сказал Семка. — Нарисуешь все, всякую вещь по ней сделаешь!» — «Нет, это черчение, — сказал Федька, — а зачем фигуры рисовать?» — Здоровая натура Семки не затруднилась. «Зачем палка? Зачем липа?» — сказал он, все постукивая по липе. «Ну да, зачем липа?» — сказал я. «Стропила сделать», — отвечал Семка. «А еще, летом зачем, покуда она не срублена?» — «Да ни за чем». — «Нет, в самом деле, — упорно допрашивал Федька, — зачем растет липа?» И мы стали говорить о том, что не всё есть польза, а есть красота и что искусство есть красота, и мы поняли друг друга, и Федька совсем понял, зачем липа растет и зачем петь. Пронька согласился с нами, но он понимал более красоту нравственную — добро. Семка понимал своим большим умом, но не признавал красоты без пользы. Он сомневался, как это часто бывает с людьми большого ума, чувствующими, что искусство есть сила, но не чувствующими в своей душе потребности этой силы; он так же, как они, хотел умом прийти к искусству и пытался зажечь в себе этот огонь. «Будем петь завтра Иже, я помню свой голос». У него верный слух, но нет вкуса, изящества в пении. Федька же совершенно понимал, что липа хороша в листьях, и летом хорошо смотреть на нее, и больше ничего не надо. Пронька понимал,что жалко ее срубить, потому что она тоже живая: «Ведь это все равно что кровь, когда из березы сок пьем». Семка хотя и не говорил, но, видимо, думал, что мало в ней проку, когда она трухлявая. Мне странно повторить, чтб мы
Л. Н. Толстой
148
говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной.
Мы пошли к деревне. Федька все не пускал мою руку — теперь, мне казалось, уже из благодарности. Мы все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом q нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще у Мазановых!» — сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал, — прибавил он, пья-я-я-яный, распьяный; лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает... Я всегда жалею. Право! За что ее бить?». — «А надысь, батя, — сказал Семка, — пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завезла, а он спит пьяный». — «А Гаврюха так по глазам свою и хлещет... и так мне жалко стало, — еще раз сказал Пронька, — за что он ее бил? Слез да и хлещет». — Семка вдруг остановился. — «Наши уж спят, — сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. — Не пойдете еще?» — «Нет». — «Пра-а-а-щайте, Л. Н.», — крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. «Так ты и будешь разводить нас — сперва одного, а потом другого?» — сказал Федька. Мы пошли дальше. У Проньки был огонь; мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина, с черными бровями и глазами, сидела за стоком и чистила картошку; посредине висела люлька; математик второго класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нет! — закричала мать на Пронь-ку. — Где был?» Пронька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменила выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, оттого свет», — сказал он своим смягченным голосом нынешнего вечера. — «Прощай, Л. Н.», — прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте!» — прозвучал его тонкий голосок среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачеха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки, с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахивался на них своей рабочей рукой. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! — еще раз повторил Федька. — Всегда так давайте ходить».
Я вижу людей честных, добрых, либеральных, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: «Нехорошо! — и покачают головой. — Зачем усиленно развивать их? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их в своей среде? Зачем выводить их из своего быта?» —
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
149
скажут они. Я не говорю уже о тех, выдающих себя с головою, которые скажут: «Хорошо будет устройство государства; когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет!» Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы люди, не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые бы работали за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и т. д. — кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Хорошо ли или дурно подбавлять сахар в муку или перец в пиво?[Федька не тяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет и возьмет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас — так же, как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять незабитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать — дайте же ему то, что вы выстрадали, — ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас.
Школа — бесплатная, и первые по времени ученики — из деревни Ясной Поляны. Многие из этих учеников вышли из школы, потому что родители их сочли учение нехорошим; многие, выучившись читать и писать, бросили ходить, нанялись на станцию (главный промысел нашей деревни). Из соседних небогатых деревень привозили сначала, но, по неудобству ходить или отдавать на харчи (у нас берут самое дешевое 2 рубля серебром в месяц), скоро взяли назад. Из дальних деревень побогаче мужики польстились бесплатностью и распространившейся молвой в народе, что в Яснополянской школе учат хорошо, отдали было детей, но в нынешнюю зиму, при открытии школ по селам, взяли их назад и поместили в платящих сельских школах. Остались в Яснополянской школе дети яснополянских мужиков, которые ходят по зимам, летом же, с апреля по половину октября, работают в поле, и дети дворников, приказчиков, солдат, дворовых, целовальников, дьячков и богатых мужиков, которые привезены верст за тридцать и пятьдесят.
Числом всех учеников до 40, но редко бывает больше 30 вместе. Девочек десятый, шестой процент — от 3 до 5 у нас. Мальчики от седьмого до тринадцатого года — самый обыкновенный, нормальный возраст. Кроме того, всякий год бывает человека 3—4 взрослых, которые походят месяц, иногда всю зиму, и совсем бросят. Для взрослых, поодиночке ходящих в школу, порядок школы весьма неудобен. Они по своим годам и по чувству достоинства не могут принять участия в оживлении школы, не могут отрешиться от презрения к ребятам и остаются
Л. Н. Толстой
150
совсем одиноки. Оживление школы им только мешает. Они приходят большей частью доучиваться, уже кое-что зная, и с убеждением, что учение есть только то самое заучивание книжки, про которое они слыхали или которое даже испытали прежде. Для того чтобы прийти в школу, ему нужно было преодолеть свой страх и дичливость, выдержать семейную грозу и насмешки товарищей. «Вишь, мерин какой — учиться ходит!» И кроме того, он постоянно чувствует, что каждый потерянный день в школе есть потерянный день для работы, составляющей его единственный капитал, и потому все время в школе он находился в раздраженном состоянии поспешности и усердия, которые больше всего вредят учению. За то время, про которое я пишу, было три таких взрослых, из которых один и теперь учится. Взрослые в школе — точно на пожаре: только что он кончает писать в тот же момент, как кладет одной рукой перо, он другой захватывает книжку и стоя начинает читать; только что у него взяли книгу, он берется за грифельную доску; когда и эту отнимут у него, он совсем потерян. Был один работник, который учился и топил в школе нынешней осенью. Он в две недели выучился читать и писать, но это было не учение, а какая-то болезнь вроде запоя. Проходя с дровами через класс, он останавливался и с дровами в руках, перегибаясь через голову мальчика, складывал: с-к-а-ска и шел к своему месту. Когда он этого не успевал сделать, то с завистью, со злобой почти, смотрел на ребят, когда же он был свободен, то с ним нельзя было ничего сделать: он впивался в книгу, твердя б-а-ба; р-и-ри и т. д., и находясь в этом состоянии, он лишался способности понимать что-либо другое. Когда взрослым случалось петь или рисовать, или слушать рассказ истории, или смотреть опыты, видно было, что они покорялись жестокой необходимости и, как голодные, оторванные от своего корма, ждали только минуты опять впиться в книгу с азами. Оставаясь верен своему правилу, я не заставлял как мальчика учить азбучку, когда ему этого не хотелось, так и взрослого учиться механике или черчению, когда ему хотелось азбучку. Каждый брал то, что ему было нужно.
Вообще взрослые, заученные прежде, еще не нашли себе места в Яснополянской школе, и их учение идет дурно: что-то есть неестественного и болезненного в отношении их к школе. Воскресные школы, которые я видел, представляют то же самое явление относительно взрослых, и потому все сведения об успешном и свободном образовании взрослых были бы для нас драгоценнейшими приобретениями.
Взгляд народа на школу много изменился с начала ее существования. О прежнем взгляде нам придется говорить в истории Яснополянской школы; теперь же в народе говорят, что в Яснополянской школе всему учат и всем наукам, и такие дошлые есть учителя, что бяда\ гром и молнию, сказывают, приставляют! Одначе ребята хорошо понимают — читать и писать стали. Одни, богатые дворники, отдают детей из тщеславия в полную науку произвесть, чтобы и делению занялся (деление есть высшее понятие о школьной премудрости); другие отцы
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
151
полагают, что наука очень выгодна; большинство же отдает детей бессознательно, подчиняясь духу времени. Из этих мальчиков, составляющих большинство, самое радостное для нас явление представляют мальчики, отданные так, но до такой степени полюбившие учение, что отцы теперь покоряются уже желанию детей и сами бессознательно чувствуют, что что-то хорошо делается с их детьми, и не решаются брать их из школы. Один отец рассказывал мне, как он целую свечу раз сжег, держа ее над книгой сына, и очень хвалил и сына, и книгу. Это было евангелие. «Мой баты тоже, — рассказывал другой школьник, — сказку другой раз послушает, посмеется да и пойдет, а божественное — так до полуночи сидит слушает, сам светит мне». Я был с новым учителем в гостях у одного ученика и, чтобы похвастаться перед учителем, заставил ученика решить алгебраическую задачу. Мать возилась у печи, и мы забыли ее; слушая, как сын ее озабоченно и бойко, перестраивая уравнение, говорил: 2ab~c--d, разделенному на 3, ит. п., она все время закрывалась рукой, насилу удерживаясь, и, наконец, померла со смеху и не могла объяснить нам, чему она смеялась. Другой отец, солдат, приехав за сыном, застал его в классе рисования и, увидав искусство сына, начал говорить ему «вы» и не решился в классе передать ему котелки, привезенные в гостинец. Общее мнение, мне кажется, такое: учат всему (так же, как господских детей), многому и понапрасну, но и грамоту выучивают скоро, поэтому детей отдавать можно. Ходят и недоброжелательные слухи, но имеют теперь уже мало веса. Два славных мальчика недавно выбыли из школы на том основании, что в школе будто бы не учат писать. Другой солдат хотел отдать своего сына, но, проэкзаменовав лучшего из наших учеников и найдя, что он с запинками читал псалтырь, решил, что учение плохая, только слава, что хороша. Кое-кто из яснополянских крестьян еще побаивается, как бы не сбылись слухи, ходившие прежде; им кажется, что учат для какого-то употребления и что, того и гляди, подкатят под учеников тележки да и повезут в Москву. Недовольство на то, что не бьют и нет чинности в школе, почти совсем уничтожилось, и мне часто случалось наблюдать недоумение родителя, приехавшего в школу за сыном, когда при нем начиналась беготня, возня и борьба. Он убежден, что баловство вредно, и верит, что учат хорошо, а как это соединяется, он не может понять. Гимнастика еще иногда порождает толки, и убеждение, что от нее животы откудаво-то срываются, не проходит. Как только разговеются или осенью, когда поспеют овощи, гимнастика оказывает наибольший вред, и бабушки, накидывая горшки, объясняют, что всему причиной баловство и ломанье. Для некоторых, хотя и малого числа, родителей даже дух равенства в школе служит предметом неудовольствий. В ноябре были две девочки, дочки богатого дворника, в салопчиках и чепчиках, сначала державшиеся особняком, но потом свыкшиеся и забывшие чай и чищение зубов табаком и начавшие славно учиться. Приехавший родитель, в крымском тулупе нараспашку, войдя в школу, застал их раз в
/
152
Л. Н. Толстой
толпе грязных лапотников-ребят, которые, облокотившись рукой на чепчики девочек, слушали учителя; родитель обиделся и взял своих девочек из школы, хотя и не признался в причине своего неудовольствия. Есть еще, наконец, ученики, которые выбывают из школы, потому что родители, отдавшие их в школу для того, чтобы подольститься к кому-нибудь, берут детей назад, когда надобность подольститься миновалась. Итак предметов 12, классов 3, учеников всех 40, учителей 4, уроков в продолжение дня от 5 до 7. Учителя составляют дневники своих занятий, которые сообщают друг другу по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются, а изменяются сообразно требованиям учеников.
Чтение механическое. Чтение составляет часть преподавания языка. Задача преподавания языка состоит, по нашему мнению, в руководстве учеников к пониманию содержания книг, написанных литературным языком. Знание литературного языка необходимо, потому что только на этом языке есть хорошие книги.
Прежде, с самого основания школы, не было подразделения чтения на механическое и постепенное — ученики читали только то, что могли понимать: собственные сочинения, слова и фразой, писанные мелом на стенах, потом сказки Худякова и Афанасьева3. Я полагал, что, для того чтобы дети выучились читать, им надо было полюбить чтение, а для того чтобы полюбить чтение, нужно было, чтобы читанное было понятно и занимательно. Казалось, как, рационально и ясно, а эта мысль была ложна. Во-первых, для того чтобы перейти от чтения по стенам к чтению по книгам, нужно было отдельно заняться механическим чтением с каждым учеником по какой бы то ни было книге. При небольшом числе учеников и отсутствии подразделений предметов это было возможно, и мне удалось без большого труда перевести первых учеников с чтения по стенам на чтение по книге, но с новыми учениками это стало невозможно. Младшие не в силах были читать и понимать сказки: единовременный труд складывания слов и понимания смысла был слишком велик для них. Другое неудобство состояло в том, что постепенное чтение обрывалось этими сказками, и, какую мы ни брали книгу — «Народное», «Солдатское чтение», Пушкина, Гоголя, Карамзина, оказывалось, что старшие ученики при чтении Пушкина, так же как младшие при чтении сказок, не могли вместе соединять труда — читать и понимать читаное, хотя кое-что и понимали при нашем чтении.
Мы думали сначала, что затруднение только в недостаточности механизма чтения учеников, и придумали механическое чтение, чтение для процесса чтения, — учитель читал с учениками по переменкам, но дело не подвигалось, и при чтении «Робинзона» являлась такая же несостоятельность. Летом, во время переходного состояния школ, мы думали победить эту трудность самым простым и употребительным способом. Отчего нс сознаться: мы поддались ложному стыду перед по
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
153
сетителями. (Ученики наши читали много хуже учеников, учившихся столько же времени у дьячка.) Новый учитель предложил ввести чтение вслух по одним и тем же книжкам, и мы согласились. Задавшись раз ложной мыслью, что ученикам необходимо нужно бегло читать в нынешнем же году, мы написали в расписании: чтение механическое и постепенное — и заставили их читать по 2 часа в день, по одним и тем же книжкам, и нам было очень удобно. Но одно отступление от правила свободы учеников повело за собой ложь и одну ошибку за другой. Куплены были книжечки — сказочки Пушкина и Ершова; мальчиков сажали на лавки, и один должен был читать громко, а другие следить за его чтением; для того чтобы поверять, действительно ли все следят, учитель попеременно спрашивает то того, то другого. Первое время нам казалось это очень хорошо. Приходишь в школу — чинно сидят на лавочках, один читает, все следят. Читающий произносит: «Смилуйся, государыня рыбка», другие, или учитель, поправляют: «смилуйся» — все следят. «Иванов, читай!» Иванов поищет немного и читает. Все заняты, учителя слышно, каждое слово выговаривают верно и читают довольно бегло. Кажется, хорошо, а вникните хорошенько — тот, который читает, читает уже то же самое в тридцатый или сороковой раз. (Лист печатный хватит не больше, как на неделю; покупать же всякий раз новые книги страшно дорого, да и книг, понятных для крестьянских детей, только есть две: сказки Худякова и Афанасьева. Кроме того, книга, раз зачитанная одним классом и запомненная наизусть некоторыми, уже знакома не только всем школьникам, но надоела и домашним.) Читающий робеет, слушая свой одиноко раздающийся голос в тишине комнаты, все силы его устремлены на соблюдение знаков и ударений, и он усваивает себе привычку читать, не стараясь понять смысла, ибо обременен другими требованиями. .Слушающие делают то же самое и, надеясь всегда попасть на настоящее место, когда их спросят, равномерно водят пальцами по строкам, скучают и увлекаются посторонними развлечениями. Смысл прочитанного как постороннее дело, против их воли иногда укладывается, иногда не укладывается в их голове. Главный же вред состоит в этой вечной школьной борьбе хитрости и уловок между учениками и учителем, которая развивается при таком порядке и которой до этого не было в нашей школе; единственная же выгода этого приема чтения, состоящая в правильном выговоре слов, не имела для наших учеников никакого значения. Ученики наши начали читать по стенам писанные и произнесенные ими самими фразы, и все знали, что пишется кого, а говорится «каво»; выучивать же остановкам и переменам голоса по знакам препинания я полагаю бесполезным, ибо всякий пятилетний ребенок верно употребляет знаки препинания голосом, когда понимает, что говорит. Стало быть, легче его выучить понимать, что он говорит с книги (чего рано или поздно он должен достигнуть), чем выучить его по знакам препинания петь, как по нотам. А кажется, как удобно для учителя!
Л. Н. Толстой 154
г Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики.
Эти три закона в преподавании самым осязательным образом отразились в Яснополянской школе на механическом чтении.
Благодаря живучести духа школы, особенно когда вернулись в нее старые ученики с сельских работ, чтение это упало само собой: стали скучать, шалить, отлынивать от урока. Главное же — чтение с рассказами, поверявшее успехи механического, доказало, что успехов этих нет, что за пять недель ни на шаг не подвинулись в чтении, многие же отстали. Лучший математик первого класса Р., делающий в голове извлечение квадратных корней, до такой степени разучился читать за это время, что пришлось с ним читать, занимаясь складами. Мы бросили чтение по книжкам и ломали себе голову, придумывая способ механического чтения. Та же простая мысль, что не пришло еще время хорошего механического чтения и что нет никакой необходимости в нем в настоящее время, что ученики сами найдут наилучший способ, когда явится потребность, только недавно пришла нам в голову. Во время этого искания само собой сложилось следующее. &о время классов чтения, уже только по имени разделяющегося на постепенное и механическое, самые плохие чтецы берут по двое книжки (иногда сказки, иногда евангелие, иногда сборник песен, номер «Народного чтения») и читают вдвоем только для процесса чтения, а когда эта книжка понятная сказка — с пониманием, и требует, чтобы учитель прослушал их, хотя класс и называется механическим чтением. Иногда, большей частью самые плохие, по несколько раз берут ту же книгу, открывают на той же странице, читают одну и ту же сказку и запоминают ее наизусть не только без приказания, но даже несмотря на запрещение учителя; иногда эти плохие приходят к учителю или к старшему и просят прочесть с ними вместе. Читающие получше, из второго класса, меньше любят читать в компании, реже читают для процесса чтения и ежели запоминают наизусть, то стихи, а не сказку в прозе. У старших повторяется то же явление с одной поразившей меня в прошлом месяце особенностью. В их классе постепенного чтения дается им одна какая-нибудь книга, которую они читают по переменкам и потом все вместе рассказывают ее содержание. К ним с этой осени присоединился, чрезвычайно талантливая натура, ученик Ч., учившийся два года у пономаря и потому обогнавший их всех в чтении; он читает так же, как мы, и потому при постепенном чтении ученики понимают, хотя и немного, только тогда, когда Ч. читает, и вместе с тем каждому из них хочется читать самому. Но как только начинает читать плохой чтец, все выражают свое неудовольствие, особенно когда история интересна, — смеются, сердятся, плохой чтец стыдится, и возникают бесконечные споры. В прошлом месяце один из них объявил, что во что бы то ни стало добьется того, чтобы через неделю читать так же, как Ч.; другие обе
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
155
щались тоже, и вдруг механическое чтение сделалось любимым занятием. По часу, по полтора они стали сидеть, не отрываясь от книжки, которую не понимали, стали брать на дом книжки и действительно сделали в три недели такие успехи, которых нельзя было ожидать.
С ними случилось совершенно противное тому, что’бывает обыкновенно с грамотеями. Обыкновенно бывает, что человек выучится читать, а читать и понимать нечего; тут же вышло, что ученики убедились в том, что есть чтб читать и понимать и что для этого недостает у них умения, и они сами стали добиваться беглого чтения. Теперь у нас оставлено совершенно механическое чтение, а ведется дело так, как описано выше, — предоставляется каждому ученику употреблять все те приемы, которые ему удобны, и замечательно, что каждый употребляет все мне известные приемы: и 1) чтение с учителем, и 2) чтение для процесса чтения, и 3) чтение с заучиванием наизусть, и 4) чтение сообща, и 5) чтение с пониманием читанного.
Первый, употребляемый матерями всего света, вообще не школьный, а семейный прием состоит в том, что ученик приходит и просит почитать с ним; учитель читает, руководя каждым его складом и словом, — самый первый, рациональный и незаменимый способ, которого сам требует прежде всего ученик и на который невольно нападает учитель. Несмотря на все средства, будто бы механизирующие преподавание и мнимо облегчающие дело учителя с большим числом учеников, этот способ останется лучшим и единственным для обучения читать и читать бегло. Второй прием обучения чтению, и тоже весьма любимый, через который прошел всякий, выучившийся бегло читать, состоит в том, что ученику дается книга, и он предоставляется вполне самому себе складывать и понимать, как ему угодно. Ученик, выучившийся складывать настолько, что не чувствует потребности просить дяденьку почитать с ним, а надеется на себя, всегда получает столь осмеянную в гоголевском Петрушке страсть к процессу чтения и вследствие этой страсти идет дальше. Каким образом укладывается в его голове такого рода чтение — бог его знает, но он таким путем привыкает к очертанию букв, к процессу складов, к произношению слов и даже к уразумению, и я не раз опытом убеждался, как отдвигала нас назад настойчивость на том, чтобы ученик непременно понимал читанное. Есть много самоучек, выучившихся читать хорошо таким способом, хотя каждому должны быть очевидны недостатки его. Третий способ обучения чтению состоит в заучивании наизусть молитв, стихов, вообще всякой печатной страницы и в произнесении заученного, следя за книгой. Четвертый способ состоит именно в том, что оказалось так вредно в Яснополянской школе, — в чтении по одним книгам. Он возник сам собою в нашей школе. Сначала книг недоставало, и садилось по два ученика за одну книжку; потом им самим это полюбилось, и, когда скажут: «Читать!», товарищи, совершенно равные по силам, отбираются по два, иногда по три, садятся за одну книжку, и один читает, а другие следят
Л. Н. Толстой
156
за ним и поправляют. И вы все расстроите, ежели будете их рассаживать, — они сами знают, кто с кем ровня, и Тараска требует непременно Дуньку: «Ну, иди сюда читать, а ты к своим иди». Некоторые же вовсе не любят такого совместного чтения, потому что оно им не нужно. Выгода такого общего чтения состоит в большей точности выговора в большем просторе для понимания тому, который не читает, а следит; но вся польза, приносимая таким способом, делается вредом, как только этот способ или всякий другой, распространяется на всю школу. Наконец, еще любимый нами, пятый способ есть чтение постепенное, т. е. чтение книг с интересом и пониманием все более и более сложными. Все эти приемы сами собою, как сказано выше, вошли в употребление в школе, и дело в один месяц значительно подвинулось.
Дело учителя только предлагать выбор всех известных и неизвестных способов, которые могут облегчить ученика в деле учения. Оно, правда, при известной методе — хоть чтения по одинаковым книжкам — преподавание делается легко, удобно для учителя, имеет вид степенности и правильности; при нашем же порядке представляется не только трудным, но многим покажется невозможным. Как, скажут, угадать, что именно нужно каждому ученику, и решить, законно ли требование каждого? Как, скажут, не растеряться в этой разнородной толпе, не подведенной под общее правило? На это отвечу: трудность представляется только потому, что мы не можем отрешиться от старого взгляда на школу, как на дисциплинированную роту солдат, которой нынче командует один, завтра другой поручик. Для учителя, вжившегося в свободу школы, каждый ученик представляется особым характером, заявляющим особые потребности, удовлетворить которые может только свобода выбора. Не будь свободы и внешнего беспорядка, который кажется столь странным и невозможным для некоторых, мы не только бы никогда не напали на эти пять способов чтения, но мы бы никогда не сумели употреблять и соразмерять их сообразно требованиям учеников и потому никогда бы не достигли тех блестящих результатов, которых мы достигли в чтении последнее время. Сколько раз нам случалось видеть недоумение посетителей нашей школы, хотевших в два часа времени изучить методу преподавания, которой у нас нет, и еще в продолжение этих двух часов рассказывавших нам свою методу; сколько раз случалось слышать советы таких посетителей ввести тот самый прием, который, не узнаваемый ими, на их же глазах употребляется в школе, но только не в виде распространенного на всех деспотического правила.
Чтение постепенное. Хотя, как мы сказали, чтение механическое и постепенное в действительности слились в одно, для нас же эти два предмета все еще подразделяются по их цели; нам кажется, что цель первого есть искусство из известных знаков бегло составлять слова, цель второго — знание литературного языка. Для узнавания литературного языка нам, естественно, представилось средство, кажущееся самым простым, но в действительности самое трудное. Нам казалось,
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
157
что после чтения учениками самими написанных фраз на досках надобно было им дать сказки Худякова и Афанасьева3, потом что-нибудь потруднее, посложнее по языку, потом еще потруднее и т. д. — до языка Карамзина, Пушкина и свода законов; но это предположение, как и бблыпая часть наших и вообще всех предположений, не осуществилось. С своего, записанного ими самими на досках, языка мне удалось перевести их на язык сказок, а чтобы перевести с языка сказок на высшую ступень, этого переходного «чего-нибудь» — не было в литературе. Мы попробовали «Робинзона» — дело не пошло: некоторые ученики плакали с досады, что не могут понимать и рассказывать; я стал им рассказывать своими словами — они начали верить в возможность понять эТу премудрость, стали добираться до смысла и в месяц прочли «Робинзона», но со скукой и под конец почти с отвращением. Труд этот был слишком велик для них. Они брали больше памятью и, рассказывая тотчас же по прочтении одного вечера, запоминали отрывки; всего же содержания никто не усвоил. Запомнили только, к несчастью, некоторые непонятные для них слова и стали их употреблять вкривь и вкось, как это делают полуграмотные люди. Я видел, что что-то нехорошо, но, как помочь этому горю, не знал. Для проверки себя и очистки совести я начал давать читать, хотя и знал наперед, что не понравятся, разные народные подделки, как: «дяди Наумы» и «тетушки Натальи», и предположение мое оправдалось. Эти книги были для учеников скучнее всего, если бы требовалось, чтобы они рассказали содержание. После «Робинзона» я попробовал Пушкина, именно «Гробовщика», но без помощи они могли его рассказать меньше, чем «Робинзона», и «Гробовщик» показался им еще скучнее. Обращения к читателю, несерьезное отношение автора к лицам, шуточные характеристики, недосказанность — всё это до такой степени несообразно с их требованиями, что я окончательно отказался от Пушкина, повести которого мне прежде, по предположениям, казались самыми правильно построенными, простыми и потому понятными для народа. Я попробовал еще Гоголя «Ночь перед рождеством». При моем чтении она сначала понравилась, особенно взрослым, но, как только я оставил их одних, они ничего не могли понять и скучали. Даже и при моем чтении не требовали продолжения. Богатство красок, фантастичность и капризность постройки противны их требованиям.
Я пробовал еще читать «Илиаду» Гнедича, и чтение это породило только какое-то странное недоумение: они предполагали, что это написано по-французски, и ничего не понимали, покуда я не пересказал им содержание своими словами, но и тогда самая фабула поэмы не укладывалась в их головах. Скептик Семка, здоровая логическая натура, был поражен картиной Феба с звучащими за спиной стрелами, слетевшего с Олимпа, но, видимо, не знал, куда уложить этот образ. «Как же он слетел с горы и не разбился?» — всё спрашивал он у меня. «Да ведь он по-ихнему бог», — отвечал я ему. «Как же бог! Ведь их много?
Л. Н. Толстой
158
Стало быть, незаправский бог. Легко ли — с такой горы слетел; потому ему надобно расшибиться», — доказывал он мне, разводя руками. Я пробовал «Грибуля» Жорж Занда, «Народное» и «Солдатское чтение» — и всё напрасно. Мы пробуем всё, что можем найти, и всё, что присылают нам, но пробуем теперь почти безнадежно. Сидишь в школе и распечатываешь принесенную с почты мнимо-народную книгу. «Дяденька, мне дай почитать, мне! — кричат несколько голосов, протягивая руки. — Да чтобы попонятнее было!» Открываешь книгу и читаешь: «Жизнь великого святителя Алексия представляет нам пример пламенной веры, благочестия, неутомимой деятельности и горячей любви к отечеству своему, которому этот святый муж оказал важные услуги»; или: «Давно уже замечено частое явление в России даровитых самоучек, но не всеми оно одинаково объясняется», или: «Триста лет прошло с тех пор, как Чехия сделалась зависимою от немецкой империи»; или: «Село Карачарово, разметнувшись по уступу гор, лежит в одной из самых хлебородных российских губерний»; или: «Широко пролегала, залегала путь-дороженька»; или популярное изложение какой-нибудь естественной науки на одном печатном листе, наполненном до половины ласками и обхождением автора с мужичком. Дашь кому-нибудь из ребят такую книжку — глаза начинают ^потухать, начинают позевывать. «Нет, непонятно, Лев Николаевич», — скажет он и возвращает книгу. И для кого, и кем пишутся эти народные книги — остается для нас тайной. Из всех прочитанных нами такого рода книг, за исключением «Дедушки-рассказчика» Золотова, имевшего большой успех в школе и дома, ничего не осталось.
Одни — просто плохие сочинения, написанные плохим литературным языком и не находящие читателей в обыкновенной публике, а потому посвященные народу; другие — еще более плохие сочинения, написанные каким-то не русским, а вновь изобретенным языком, будто народным языком, вроде языка басен Крылова; третьи — переделки с иностранных, назначенных для народа, но не народных книг. Единственные же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок, в последнее время сборник Водовозова и т. п. Нельзя поверить, не испытав этого, с какой постоянно новой охотой читаются все, без исключения, подобного рода книги — даже «Сказания русского народа», былины и песенники, пословицы Снегирева, летописи и все, без исключения, памятники древней литературы. Я заметил, что дети имеют более охоты, чем взрослые, к чтению такого рода книг; они перечитывают их по нескольку раз, заучивают наизусть, с наслаждением уносят на дом и в играх и разговорах дают друг другу прозвища из древних былин и песен. Взрослые — оттого ли, что они не так естественны или уже входят во вкус щегольства книжным языком, или оттого, что бессознательно чувствуют потребность знания литературного языка, — менее пристрастны к такого рода книгам, а предпочитают те, в которых
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
159
наполовину слова, образы и мысли для них непонятны. Но как ни любимы учениками подобного рода книги, цель, которую мы, может быть ошибочно, поставили себе, ими не достигается: между этими книгами и литературным языком остается та же пучина. Выйти из этого ложного круга мы не видим до сих пор никакого средства, хотя делали и постоянно делаем новые попытки, новые предположения, — стараемся отыскать свою ошибку и просим всех тех, кому это дело близко к сердцу, сообщить нам свои предположения, опыты и решения вопроса. Неразрешимый для нас вопрос состоит в следующем: для образования народа необходима возможность и охота читать хорошие книги — хорошие книги писаны языком, которого народ не понимает. Для того чтобы выучиться понимать, нужно много читать; для того чтобы охотно читать, нужно понимать... В чем тут ошибка и как выйти из этого положения?
Может быть, есть переходная литература, которой мы не признаем только по недостатку знания; может быть, изучение книг, ходящих в народе, и взгляд народа на эти книги откроют нам те пути, которыми люди из народа достигают понимания литературного языка. Такому изучению мы посвящаем особый отдел в журнале и просим всех, понимающих важность этого дела, присылать нам свои статьи по этому предмету.
Может быть, причиной тому наша оторванность от народа, насильственное образование высшего класса, и делу может помочь только время, которое породит не хрестоматию, а целую переходную литературу, составившуюся из всех появляющихся теперь книг и которая сама собою органически уляжется в курс постепенного чтения. Может быть и то, что народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка, потому что нечего его понимать, потому что вся наша литература для него не годится, и он вырабатывает сам для себя свою литературу. Наконец, последнее предположение, которое кажется нам более всех вероятным, состоит в том, что кажущийся недостаток лежит не в сущности дела, а в нашей заданности той мыслью, что цель преподавания языка есть возведение учеников на степень знания литературного языка, и, главное, в поспешности к достижению этой цели. Очень может быть, что постепенное чтение, о котором мы мечтаем, явится само собою и что знание литературного языка придет в свое время каждому ученику само собою, как это мы беспрестанно видим у людей, читающих подряд без понимания псалтырь, роман, судейские бумаги и этим путем как-то доходящих до знания книжного языка. При этом предположении нам непонятно только то, почему появляющиеся книги все так дурны и не по вкусу народа и что должны делать школы, дожидаясь этого времени, ибо только одного предположения мы не можем допустить, чтобы, решив в своем уме, что знание литературного языка полезно, можно было бы насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить народ против его воли литера турному языку, как выучивают французскому. Мы должны признан.
Л. Н. Толстой
160
ся, что неоднократно пробовали это в последние два месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвращение, доказывающее ложность принятого нами пути. При этих опытах я убедился только в том, что объяснения смысла слова и речи совершенно невозможны даже для талантливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарными учителями объяснениях, что «сонмище есть некий малый синедрион» и т. п. Объясняя какое бы то ни было слово, хотя, например, слово «впечатление», вы вставляете на место объясняемого другое, столько же непонятное слово или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое слово.
Почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Притом отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития. Легко сказать — понимать, но разве непонятно каждому, сколько различных вещей можно понимать в одно время, читая одну и ту же книгу? Ученик, не понимая двух-трех слов в фразе, может понимать тонкий оттенок мысли или отношение ее к предыдущему. Вы, учитель, налегаете на одну сторон^ понимания, а ученику вовсе не нужно того, что вы хотите объяснить ему. Иногда он понял, только не умеет доказать вам того, что понял вас, сам же в то же время смутно догадывается и воспринимает совершенно другое и весьма для него полезное и важное. Вы пристаете к нему, чтобы он объяснился, но ведь он словами должен объяснить то впечатление, которое произвели на него слова, и он молчит или же начинает говорить вздор, лжет, обманывает, пытается отыскать то, что вам нужно, подделаться под ваши желания или выдумывает несуществующую трудность и бьется над ней; общее же впечатление, произведенное книгой, поэтическое чутье, помогавшее ему угадывать смысл, забито и спряталось. Мы читали «Вия» Гоголя, повторяя своими словами каждый период. Всё шло хорошо до 3-й страницы — там есть следующий период: «Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив, так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за ужином галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны».
Учитель. Ну, что вы прочли? (Почти все эти ученики очень развитые дети).
Лучший ученик. В бурсе народ обжора всё был, бедный и за ужином уписывал галушки.
Учитель. Еще что?
Ученик (плут и памятливый, говорит, что в голову пришло). Невозможное дело, доброхотные жертвовали.
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
161
Учитель (с досадой). Надо подумать. Не то. Что же невозможное дело?
Молчание.
Учитель. Прочтите еще раз.
Прочли. Один, памятливый прибавил еще несколько запомненных слов: Семинария, прокормление зажиточных владельцев, не могли быть достаточны. Никто ничего не понял. Стали говорить совершенный вздор. Учитель пристал к ним.
Учитель. Что же невозможное дело?
Ему хотелось, чтобы они сказали, что невозможно сосчитать. Один ученик. Бурса — невозможное дело.
Другой ученик. Очень беден, невозможно.
Снова перечли. Как иголки искали того слова, которое нужно было учителю, попадали на все, кроме слова сосчитать, и пришли в окончательное уныние. Я — этот самый учитель — не отстал и добился того, что они разложили весь период, но поняли уже гораздо хуже, чем тогда, когда повторил первый ученик. Впрочем, и понимать-то было нечего. Небрежно связанный, растянутый период, ничего не дающий читателю, сущность которого была понятна сразу: народ бедный и прожорливый уписывал галушки, — больше ничего и не хотел сказать автор. Я бился только из-за формы, которая была дурна, и добиваясь ее, испортил весь класс на целое «послеобеда», погубил и перемял пропасть только что распускавшихся цветков разностороннего понимания. В другой раз я так же грешно и безобразно бился над истолкованием слова орудие, и так же тщетно. В тот же день в классе рисования ученик Ч. протестовал против учителя, требовавшего, чтобы написано было на тетрадках: Рисование Ромашки. Он говорил, что рисовали мы сами на тетрадках, а фигуру выдумывал только Ромашка, и потому надо писать не рисование, а сочинение Ромашки. Каким образом различие этих понятий пришло ему в голову, точно так же, каким образом являются, хотя и редко, причастия и вводные предложения в их сочинениях, — остается для меня таинством, в которое лучше не пытаться проникать.
Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или прочтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует, наконец, случайно необходимость употребить это слово, употребит раз, и слово и понятие делаются его собственностью. И тысячи других путей. Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия. Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от предположенной цели, как грубая рука человека, которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за лепестки и перемяла бы все кругом.
Писание, грамматика и каллиграфия. Писание велось следующим образом. Ученики выучивались одновременно узин
Л. Н. Толстой
162
вать и чертить буквы, складывать и писать слова, понимать прочитанное и писать. Они становились около стены, расчеркивая мелом отделы, и один из них диктовал то, что ему приходило в голову, другие писали. Ежели их было много, то они разделялись на несколько групп. Потом по очереди диктовали другие, и все перечитывали друг у друга. Писали печатными буквами и сначала поправляли ошибки неверностей складов и отделение слов, потом ошибки о-я, а потом Ъ е и т. д. Класс этот образовался сам собою. Каждый выучившийся писать буквы ученик бывает одержим страстью писать, и первое время двери, наружные стены школы и изб, где живут ученики, бывают исписаны буквами и словами. Написать же целую фразу (вроде того, что нынче Марфутка подралась с Ольгушкой) доставляет ему еще большее удовольствие. Чтобы организовать этот класс, учителю стоило только научить детей, как вести дело вместе, так же как взрослый научает ребят какой-нибудь детской игре. И в самом деле, класс этот без изменений велся два года, и каждый раз так же весело и живо, как хорошая игра. Тут и чтение, и выговор, и писание, и грамматика. При этом письме достигается само собою труднейшее дело для начала изучения языка — вера в непоколебимость формы слова, не одного печатного, но и устного, своего слова. Я думаю, что каждый учитель, преподававший язык не по одной грамматике Востокова, встречался с этой первой трудностью. Вы хотите обратить внимание ученика на какое-нибудь слово — меня, положим. Вы ловите его фразу. «Микишка столкнул меня с крыльца», — сказал он. «Кого столкнул?» — говорите вы, прося его повторить фразу и надеясь найти меня. «Нас», — отвечает он. «Нет, как ты сказал?» — спрашиваете вы. «Мы упали с крыльца от Микишки» или: «Как он торкнет нас — Праскутка полетела, и я за ней», — отвечает он. Вы ищете тут ваш винительный падеж единственного числа и его окончание. А он не может понять, чтобы было что-нибудь различное в сказанных им словах. Ежели же вы возьмете книжку или станете повторять его фразу, то он будет разбирать с вами не живое слово, а что-то совсем другое. Когда же он диктует, каждое слово его ловится на лету другими учениками и пишется: «Как ты сказал? как?» И уже ему не дадут изменить ни одной буквы. При этом беспрестанно бывают споры из-за того, что один написал так, а другой иначе, и весьма скоро диктующий начинает задумываться, как сказать, и начинает понимать, что есть в речи две вещи: форма и содержание. Он скажет какую-нибудь фразу, думая только о содержании, — быстро, как одно слово, вылетит из него эта фраза. Его начинают допрашивать: как? что? — и он, сам себе повторяя ее по нескольку раз, уясняет форму и составные части речи и закрепляет их словом.
Так пишут в третьем, т. е. низшем классе: кто умеет писать скорописными, кто — печатными. Мы не только не настаиваем на писании скорописными, но, ежели бы позволяли себе что-нибудь запрещать ученикам, мы бы не позволяли им писать скорописными, которые портят руку и не четки. Скорописные буквы входят в их писание сами со
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
163
бой: один выучится у старшей- — одну, тпе буквы, другие перенимают и часто пишут слова таким образом: дя^сп^ч и не пройдет недели, как все пишут скорописными. С каллиграфией случилось нынешним летом совершенно то же, что с механическим чтением. Ученики писали очень дурно, и новый учитель ввел писание с прописей (тоже весьма степенное и покойное для учителя упражнение). Ученики стали скучать, мы принуждены были бросить каллиграфию и не могли придумать средства для исправления почерка. Старший класс сам нашел это средство. Окончив писать священную историю, старшие ученики стали просить домой свои тетради. Тетрадки были испачканы, растерзаны, уродливо написаны. Аккуратный математик Р. попросил бумажки и стал переписывать свою историю. Всем это понравилось. «И мне бумажки, и мне тетрадку!» — и нашла мода каллиграфии, продолжающаяся до сих пор в высшем классе. Они берут тетрадь, кладут перед собой азбуку прописей, списывают каждую букву, хвастаются друг перед другом и сделали в две недели большие успехи. Почти каждого из нас заставляли маленького есть за столом непременно с хлебом, и почему-то тогда не хотелось, а теперь хочется есть с хлебом. Почти каждого из нас заставляли держать перо вытянутыми пальцами, и мы все держали перо скрючивши пальцы, потому что они были коротки, а теперь вытягиваем пальцы. Спрашивается: за что нас так мучали, тогда как это пришло само собой, когда понадобилось? Не придет ли эта охота и потребность знания во всем точно так же?
Во втором классе пишут сочинения с устного рассказа из священной истории на аспидных досках, потом переписывают на бумагу. В третьем, меньшем, классе пишут, что вздумают. Кроме того, меньшие по вечерам пишут поодиночке фразы, составленные всеми вместе. Один пишет, а другие перешептываются между собой, замечая его ошибки, и ждут только окончания, чтобы уличить его в ъ или в отставленном не на месте предлоге, а иногда, чтобы и самим соврать. Правильно писать и поправлять ошибки у других составляет для них большое удовольствие. Старшие схватывают каждое попавшееся письмо, упражняются в поправлении ошибок, стараются изо всех сил писать хорошо, но грамматику и анализ языка терпеть не могут и, несмотря на наше бывшее пристрастие к анализу, допускают его в очень малых размерах, засыпают или уклоняются от классов.
Мы делали различные попытки преподавания грамматики и должны сознаться, что ни одна из них не достигла цели — сделать это преподавание занимательным. Во втором и первом классах было начато летом новым учителем объяснение частей предложения, и дети — и то сначала некоторые — интересовались им, как шарадами и загадками. Часто по окончании урока они нападали на мысль загадок и забавлялись загадыванием друг другу то того: где будет сказуемое? то того: что сидит на ложке, свесивши ножки? Приложений же к верному письму никаких не было, а ежели и были, то более ошибочные, чем верные. Точно так же, как это бывает с буквой о вместо а: скажешь,
Л. Н. Толстой
16‘
что выговаривается а, а пишется о; он и пишет: робота, молина; скажешь, что два сказуемых разделяются запятой, он пишет: хочу, сказать и т. п. Требовать от него, чтобы он дал себе всякий раз отчет, что в каждом предложении дополнительное, что сказуемое, — невозможно. Ежели же он и даст себе отчет, то при отыскании утратит все чутье, необходимое ему для того, чтобы правильно написать остальное, не говоря уже о том, что при синтаксическом разборе учитель беспрестанно бывает принужден хитрить перед учениками и обманывать их, что они чувствуют очень хорошо. Нам попалось, например, предложение: На земле не было гор. Один сказал, что подлежащее — земля, другой, что подлежащее — горы, а мы сказали, что это безличное предложение, и хорошо видели, что ученики замолчали только из приличия, но поняли очень хорошо, что наш ответ был гораздо глупее их ответов, в чем и мы внутренне согласились. Убедившись в неудобстве анализа синтаксического, попробовали мы также этимологический разбор — части речи, склонения и спряжения — и также загадывали друг другу загадки о дательном неокончательном и наречии, и результатом вышла та же скука, то же злоупотребление приобретенного нами влияния и та же неприложимость. В старшем классе всегда ставят ъ в дательном и предложном падежах, но, когда они поправляют ту же ошибку у младших, они никогда не могут ответить почему и должны быть наведены на загадки падежей, чтобы вспомнить правило: в дательном ъ. Самые младшие, еще ничего не слыхавшие о частях речи, очень часто кричат: себъ—ъ, сами не зная почему, видимо наслаждаясь тем, что угадали. Пробовал я в последнее время во втором классе упражнение своего изобретения, которым я увлёкся, как и все изобретатели, и которое мне казалось необыкновенно удобным и рациональным до тех пор, пока я не убедился в несостоятельности его из практики. Не называя частей речи предложения, я заставлял их писать что-нибудь, иногда задавая предмет, т. е. подлежащее, и вопросами заставлял их расширить предложение, вставляя определения, новые сказуемые, подлежащие, обстоятельства и дополнения. «Волки бегают». Когда? Где? Как? Какие волки бегают? Кто еще бегает? Бегают и еще что делают? Мне сказалось, что, привыкая к ответам на вопросы, требующие той или другой части, они усвоят себе различие частей предложения и речи. Они и усваивали себе их, но скучали и внутренне спрашивали себя: зачем? Что и я должен был спросить у себя и не нашел ответа. Никак не отдает без борьбы человек и ребенок свое живое слово на механическое разложение и уродование. Есть какое-то чувство самосохранения в этом живом слове. Ежели должно ему развиваться, то оно стремится развиваться самостоятельно и сообразно только со всеми жизненными условиями. Только что вы хотите поймать это слово, завинтить его в верстак, обтесать и дать ему нужные, по вашему мнению, украшения, как это слово, с живой мыслью и содержанием, сжалось, спряталось, и у вас в руках остается одна шелуха, над которой вы можете делать свои ухищрения, не вредя и не принося
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
165
пользы тому слову, которое вы хотели образовывать.
До сих пор во втором классе продолжаются синтаксический и грамматический анализы, упражнение в расширении предложений, но идут вяло и, полагаю, скоро падут сами собою.
Кроме того, как упражнение в языке, хотя и вовсе не грамматическое, мы употребляем следующее:
1. Из заданных слов мы предлагаем составлять периоды; например, мы пишем: Николай, дрова, учиться, а они пишут — один: «Ежели бы Николай не рубил дрова, то пришел бы учиться», а другой: «Николай хорошо дрова рубит, надо у него поучиться» и т. д.
2. Сочиняем стихи на заданный размер, и это упражнение более всех других занимает старших учеников. Стихи выходят вроде следующих:
У окна сидит старик В прорванном тулупе, А на улице мужик Красны яйца лупит.
3. Упражнение, имеющее большой успех в низшем классе: задается какое-нибудь слово — сначала существительное, потом прилагательное, наречие, предлог. Один выходит за дверь, а из оставшихся каждый должен составить фразу, В которой бы находилось заданное слово. Выходивший должен угадывать.
Все эти упражнения — писание фраз по данным словам, стихосложение и угадывание слов — имеют одну общую цель: убедить ученика в том, что слово есть слово, имеющее свои непоколебимые законы, изменения, окончания и соотношения между этими окончаниями, — убеждение, которое долго не приходит им в голову и которое необходимо прежде грамматики. Все эти упражнения нравятся; все упражнения в грамматике порождают скуку. Страннее, знаменательнее всего то, что грамматика скучна, несмотря на то, что нет ничего легче ее. Как только вы не станете учить ее по книге начиная с определений, шестилетний ребенок через полчаса начинает склонять, спрягать, узнавать роды, числа, времена, подлежащие и сказуемые, и вы чувствуете, что он знает все это точно так же хорошо, как и вы сами. (В нашей местности нет среднего рода: ружье, сено, масло, окно — все она, большая и дурная, и тут грамматика ничего не помогает. Старшие ученики третий год знают все правила склонения и окончаний родов, а все-таки пишут: «В этой сене много щавельнику» — и отвыкают только настолько, насколько их поправляешь и насколько помогает чтение.) Чему же я их учу, спрашиваешь себя, когда они все это знают так же, как я? Спрошу ли я у них, как будет «большой» множественного числа родительного падежа женского рода? Спрошу ли, где сказуемое, где дополнение? Спрошу ли, от какого слова происходит «распахнулся»? Ему трудна только номенклатура, а прилагательное, в каком хотите падеже и числе, он употребит всегда без ошибки. Стало быть, он знает склонение. Речи он никогда не скажет без сказуемого и дополнения нс
Л. Н. Толстой
166
смешает с ним. «Распахнуться» — он чувствует, что родственно с словом «пах», и сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети. К чему же эта номенклатура и требование философских определений, которые свыше его сил? Единственное объяснение необходимости грамматики, кроме требования на экзаменах, может быть найдено в приложении ее к правильному изложению мыслей. В своем личном опыте я не нашел этого приложения, не нахожу его в примерах жизни людей, не знающих грамматики и пишущих правильно, и кандидатов филологии, пишущих неправильно, и не нахожу почти ни одного намека на то, чтобы знания грамматики яснополянских школьников прилагались ими к какому-нибудь употреблению. Мне кажется, что грамматика идёт сама собой, как умственное небесполезное гимнастическое упражнение, а язык — умение писать, читать и понимать — идёт сам собой. Геометрия и вообще математика представляются сначала тоже только умственной гимнастикой, но разница в том, что каждое положение геометрии, каждое математическое определение ведет за собой дальнейшие и бесконечные выводы и приложения; в грамматике же, ежели бы даже согласиться с теми, которые видят в ней приложение к языку, есть весьма тесная граница этих выводов и приложений. Как только ученик тем или другим путем овладел языком, все приложения из грамматики обрываются, отпадают как что-то мертвое и отжитое.
Мы лично всё еще не можем вполне отрешиться от предания, что грамматика, в смысле законов языка, необходима для правильного изложения мыслей; нам даже кажется, что есть потребность грамматики в учащихся, что в них бессознательно лежат законы грамматики; но мы убеждены, что грамматика, которую мы знаем, совсем не та, какая нужна учащимся, и что в этом обычае преподавания грамматики есть какое-то большое историческое недоразумение. Ребенок узнаёт, что надо писать ъ в слове «себъ» не потому, что оно в дательном падеже, сколько бы раз вы это ему ни говорили, и не потому только, что он слепо подражает тому, что видел написанным несколько раз, — он обобщает эти примеры, но только не в форме дательного падежа, а как-то иначе. У нас есть ученик из другого училища, прекрасно знающий грамматику и никогда не умеющий отличить 3-е лицо от неопределенного наклонения в возвратном залоге, и другой ученик, Федька, не имеющий понятия о неокончательном и никогда не ошибающийся и объясняющий себе и другим дело посредством прибавления слова «будет», т. е. «довольно». Я не хочу учиться. Он сомневается и говорит: «Ты не хочешь учиться? Ну, так будет учиться. Значит ерь». А ежели такая речь: Семка дурно учится! Он говорит: «Дурно учится? Так будет учится». И это не выходит, по его мнению, и он не ставит ерь. Мы в Яснополянской школе точно так же, как и в обучении грамоте, признаем в обучении языка все известные способы небесполезными и употребляем их по мере того, как они охотно принимаются учениками, и по мере наших знаний; вместе с тем мы не признаём ни одного из этих
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
167
приемов исключительным и постоянно пытаемся отыскивать новые приемы. Мы столь же мало согласны со способом г-на Перевлесского, который не выдержал двухдневного опыта в Яснополянской школе, сколько и с весьма распространенным мнением, что единственный спо соб для изучения языка есть писание, несмотря на то что писание составляет в Яснополянской школе главный способ изучения языка. Мы ищем и надеемся найти.
Писание сочинений. В первом и втором классах выбор сочинений предоставляется самим ученикам. Любимый предмет сочинений для первого и второго классов есть история Ветхого завета, которую они пишут два месяца после того, как ее им рассказал учитель. Первый класс начал недавно писать Новый завет, но далеко не так успешно, как Ветхий, даже орфографических ошибок они делали больше, — они хуже понимали. В первом классе мы попробовали сочинения на заданные темы. Первые темы, которые самым ествествен-ным путем пришли нам в голову, были описания простых предметов, как-то: хлеба, избы, дерева и т. д.; но, к крайнему удивлению нашему, требования эти доводили учеников почти до слез, и, несмотря на помощь учителя, подразделявшего описание хлеба на описание о его произрастании, о его производстве, об употреблении, они решительно отказывались писать на темы такого рода и ежели писали, то делали непонятные, безобразнейшие ошибки в орфографии, в языке и смысле. Мы попробовали задать описание каких-нибудь событий, и все обрадовались, как будто им сделали подарок. Столь любимое в школах описание так называемых простых предметов: свиньи, горшка, стола — оказалось без сравнения труднее, чем целые, из воспоминаний взятые рассказы. Одна и та же ошибка повторилась при этом, как и во всех других предметах преподавания: учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка — с определений, истории — с разделений на периоды, даже геометрия — с определения понятия пространства и математической точки. Почти всякий учитель, руководясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что, для того чтобы определить стол или лавку, нужно стоять на высокой степени философско-диалектического развития, и что тот же ученик, который плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувства любви или злобы, встречи Иосифа с братьями или драки с товарищем. Предметами сочинений выбирались сами собою описания событий, отношения к лицам и передача слышанных рассказов.
Писать сочинения составляет их любимое занятие. Как только вне школы старшим ученикам попадаются бумага и карандаш, они пишут не Милос—Милостивой, а пишут из головы сказку своего сочинения. В первое время меня смущала нескладность, непропорциональность постройки сочинений; я внушал то, что мне казалось нужно, но они по
Л. Н. Толстой
168
нимали меня навыворот, и дело шло худо — они все как будто не признавали другой потребности, как той, чтобы не было ошибок. Теперь же пришло само собою время, и часто слышатся неудовольствия, когда сочинение растянуто или встречаются частые повторения, скачки от одного предмета к другому. В чем состоят их требования — трудно определить, но требования эти законны. «Нескладно!» — кричат некоторые, слушая сочинение товарища; некоторые не хотят читать своего после того, как прочтенное сочинение товарища хорошо; некоторые вырывают тетрадку из рук учителя недовольные, что не так выходит, как они хотели, и читают сами. Личные характеры начинают выражаться так резко, что мы делали опыт заставлять их угадывать, чье мы читали сочинение, и в первом классе угадывают без ошибки.
По недостатку места мы откладываем описание преподавания языка и других предметов и выписки из дневников учителей до другого номера; здесь же приводим 9бразцы сочинений двух учеников первого класса, без изменений орфографии и знаков препинания, расставленных ими самими. Сочинения же их из священной истории надеемся поместить в следующей книжке.
Сочинения Б. (самого плохого ученика, но оригинального и бойкого мальчика) о Туле и об учении. Сочинение об учении имело большой успех между ребятами. Б. 11 лет, он учится третью зиму в Яснополянской школе, но учился прежде.
«О Туле. На другое воскресение я опять поехал в Тулу. Когда приехали, то Владимир Александрович нам говорит с Васькой Ждановым ступайте в воскресную школу. Мы пошли, шли, шли, насилушку нашли, приходим и видим, что все учителя сидят. И там я видел учителя тот который учил нас ботаники. Тут я говорю здравствуйте господа! они говорят здравствуй. Потом взошел в класс, стал возле стола так мне стало скучно, я взял и пошел по Туле. Ходил, ходил и вижу что одна баба торгует калачами. Я стал доставать из кармана деньги, когда вынул и стал покупать калачи, купил и пошел. А еще я видел на башне ходит человек и смотрит не горит ли где. Я об Туле кончил».
«Сочинение о том, как я учился».
«Когда мне было 8 лет, то меня отдали на Грумы к скотницы. Там я учился хорошо. А потом пришла скука на меня, я стал плакать. А бабка возьмет палку и ну меня бить. А еще больше крику. И через несколько дней я поехал домой и все рассказал. И меня оттуда взяли и отдали к дунькиной матери. Я там учился хорошо и меня там никогда не били, и я там выучил всю азбуку. Потом меня отдали к Фоки Демидовичу. Он меня очень больно бил. Однажды я от него убежал, а он меня велел поймать. Когда меня поймали и повели к нему. Он меня взял разложил на скамейке и взял в руки пук розок и начал меня бить. А я кричу во всю глотку, и когда он меня высик и заставил читать. А сам слушает и говорит: ах? ты сукин сын ишь как скверно читает! ишь какой свинья».
Вот два образца сочинений Федьки: одно — на заданную тему о хле
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
169
бе, как он растет; другое, выбранное им самим, — о поездке в Тулу. (Федька учится третью зиму. Ему 10 лет.)
«О хлебе. Хлеб растет из земли. С начала он зеленый бывает хлеб. А когда подрастет, то из ней выростут колосья и их жнут бабы. Еще бывает хлеб как трава, то скотина его ест очень хорошо».
Этим все кончилось. Он чувствовал, что нехорошо, и был огорчен. О Туле же написал следующее, без поправок:
«О Туле: Когда я еще был мал, мне, было годов пять; то я слышал народ ходил в какую-то Тулу и я сам не знал, что за такая Тула. Вот я спросил батю. Бать! в какую это вы Тулу ездите, ай она хороша? Батя говорит: хороша. Вот я говорю, Бать! возьми меня с собой, я посмотрю Тулу. Батя говорит ну что-ж, пусть придет воскресенье я тебя возьму. Я обрадовался стал по лавке бегать и прыгать. После этих дней пришло воскресенье. Я только встал по утру а батя уже запрягает лошадей во дворе, я скорее стал обуваться и одеваться. Только я оделся и вышел во двор, а батя уж запрег лошадей. Я сел в сани и поехал. Ехали, ехали, проехали четырнадцать верст. Я увидал высокую церковь и закричал: батюшка! вон какая церковь высокая. Батюшка говорит: есть церковь ниже да красивей, я стал его просить, батюшка пойдем туда, я помолюсь Богу. Батюшка пошел. Когда мы пришли, то вдруг ударили в колокол, я испугался и спросил батюшку, что это такое, или играют в бубны. Батюшка говорит: нет это начинает обедня. Потом мы пошли в церковь молиться Богу. Когда мы помолились то мы пошли на торг. Вот я иду, иду, а сам спотыкаюсь, все смотрю по сторонам. Вот мы пришли на базар, я увидал продают калачи и хотел, взять без денег. А мне батюшка говорит, не бери, а то шапку снимут. Я говорю за что снимут, а батюшка говорит, не бери без денег, я говорю ну дай мне гривну, я куплю себе калачика. Батя мне дал, я купил три калача и съел и говорю: батюшка, какие калачи хорошие. Когда мы закупили все, мы пошли к лошадям и напоили их, дали им сена, когда они поели, мы запрегли лошадей и поехали домой, я взошел в избу и разделся и начал рассказывать всем, как я был Туле, и как мы с батюшкой были в церкви, молились Богу. Потом я заснул и вижу во сне будто батюшка едет опять в Тулу. Тотчас я проснулся, и вижу все спят, я взял и заснул».
Священная история.
Русская история. География
Священная история. С самого основания школы и даже в настоящее время занятия по предмету священной и русской истории идут таким образом. Дети собираются около учителя, и учитель, руководствуясь только Библией, а для русской истории — «Норманским периодом» Погодина и сборником Водовозова, рассказывает, потом спрашивает, и все начинают говорить вдруг. Когда слишком много голосов вместе, учитель останавливает, заставляя говорить одного; как только один заминается, он снова вызывает других. Когда учитель за
Л. Н. Толстой
170
мечает, что некоторые ничего не поняли, он заставляет повторить одного из лучших для непонявших. Это не было выдумано, а сделалось само собою и повторяется при 5 и при 30 учениках всегда одинаково успешно, ежели учитель следит за всеми, не позволяет кричать, повторяя уже сказанные слова, не позволяет разгораться крику до неистовства, а регулирует этот поток веселой оживленности и соревнования настолько, насколько ему нужно.
Летом, во время частых посещений и перемены учителей, порядок этот изменился, и преподавание истории пошло гораздо хуже. Общий крик был непонятен для нового учителя; ему казалось, что рассказывающие в крике не расскажут одни; ему казалось, что кричат только для крику, главное же — было жарко и тесно в толпе лезущих ему на спину и к самому рту учеников. (Чтобы лучше понимать, детям необходимо быть близко к тому человеку, который говорит, видеть всякую перемену выражения его лица, всякое его движение. Я не раз замечал, что лучше всего помнятся всегда те места, где рассказывающему удалось сделать верный жест или верную интонацию.)
Новый учитель ввел сидение на лавках и отвечание поодиночке. Вызываемый молчал, мучился стыдом, а учитель, глядя в сторону, с милым видом покорности своей судьбе или кроткой улыбкой говорил: «Ну ...а потом? Хорошо, очень хорошо» и т. д. — столь известный всем нам учительский прием.
Мало того, что я опытом убедился в том, что нет ничего вреднее для развития ребенка такого рода одиночного спрашивания и вытекающего из него начальнического отношения учителя к ученику, для меня нет ничего возмутительнее такого зрелища. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого права. Учитель знает, что ученик мучается, краснея и потея, стоя перед ним; ему самому скучно и тяжело, но у него есть правило, по которому нужно приучать ученика говорить одного.
А для чего приучать говорить одного, этого никто не знает. Нешто для того, чтобы заставить прочесть басенку при его или ее превосходительстве. Мне скажут, может быть, что без этого нельзя определить степени его знания. А я отвечу, что действительно нельзя постороннему лицу определить в час времени знания ученика, учитель же без отвечания ученика и экзамена всегда чувствует меру этих знаний. Мне кажется, что прием этот одиночного спрашивания есть остаток старого суеверия. В старину учитель, заставлявший все учить наизусть, не мог иначе определить знания своего ученика, как приказав ему повторить все от слова до слова. Потом нашли, что повторение наизусть слов не есть знание, и стали заставлять учеников повторять своими словами; но прием вызывания поодиночке и требования отвечать тогда, когда захочется учителю, не изменили. Было совершенно упущено из виду то, что можно потребовать от знающего наизусть повторения известных слов псалтыря, басни во всякое время и при всяких условиях, но что, для того чтобы быть в состоянии уловить содержание речи
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
171
и передать ее своеобразно, ученик должен находиться в известном, удобном для того настроении.
Не только в низших школах и гимназиях, но и в университетах я не понимаю экзаменов по вопросам иначе, как при заучивании наизусть, слово в слово или предложение в предложение. В мое время (я вышел из университета в 45-м году) я перед экзаменами выучивал наизусть не слово в слово, но предложение в предложение и получал по 5 только у тех профессоров, тетрадки которых выучил наизусть.
Посетители, так много вредившие преподаванию в Яснополянской школе, принесли, с одной стороны, мне большую пользу. Они окончательно убедили меня, что отвечание уроков и экзамены есть остаток суеверия средневековой школы и при настоящем порядке вещей решительно невозможный и только вредный. Часто, увлекаясь ребяческим самолюбием, я хотел уважаемому мною посетителю в час времени показать знания учеников, и выходило или то, что посетитель убеждался в том, что ученики знают, то, чего они не знали (я удивлял его каким-нибудь фокусом), или то, что посетитель полагал, что они не знают того, что они очень хорошо знали. И такая путаница недоразумений происходила в это время между мною и посетителем — умным, талантливым и специалистом дела и при совершенной свободе отношений. Что же должно происходить при ревизиях директоров и т. п., не говоря уже о том расстройстве в ходе учения и сбивчивости понятий, производимой такими экзаменами в учениках?
В настоящее время я убедился в следующем: резюмировать все знания ученика для учителя, как и для постороннего, невозможно, точно так же, как невозможно резюмировать мои, ваши знания из какой бы то ни было науки. Ежели бы сорокалетнего образованного человека повели на экзамен географии, было бы так же глупо и странно, как и когда ведут на такой экзамен 10-летнего человека. Как тот, так и другой должны отвечать не иначе, как наизусть, а в час времени действительных их знаний узнать нельзя. Чтобы узнать знания того и другого, надобно пожить с ними месяцы. Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею всякое требование отвечания на вопрос), является только новый бесполезный предмет, требующий особенного труда, особенных способностей, и предмет этот называется приготовлением к экзаменам или урокам. Ученик гимназии учится истории, математике и — еще главное — искусству отвечания на экзаменах. Я не считаю этого искусства полезным предметом преподавания. Я, учитель, оце-няю степень знания своих учеников так же верно, как оценяю степень своих собственных знаний, хотя бы ни ученик, ни я не докладывали мне уроков, а ежели посторонний хочет оценять эту степень знания, то пускай он поживет с нами, изучит результаты и приложения к жизни наших знаний. Другого средства нет, и все попытки экзамена суть только обман, ложь и препятствия преподаванию. В деле преподавания один самостоятельный судья — учитель, и контролировать могут его только сами ученики.
Л. Н. Толстой
172
В преподавании истории ученики отвечали все вместе не для того, чтобы поверять их знания, но потому, что в них есть потребность словом закреплять полученные впечатления. Летом ни новый учитель, ни я этого не поняли; мы видели в этом только поверку их знаний и потому нашли удобнее поверять поодиночке. Я не обдумал тогда еще, отчего было скучно и нехорошо, но вера моя в правило свободы учеников спасла меня. Большинство стало скучать, человека три самых смелых постоянно одни отвечали, человека три самых робких постоянно молчали, плакали и получали нули. В продолжение лета я неглижировал классами священной истории, и учитель, любитель порядка, имел полный простор рассаживать по лавкам, мучить поодиночке и негодовать на закоснелость детей. Я несколько раз советовал в классе истории спустить детей с лавок, но мой совет принимался учителем за милую и простительную оригинальность (как, я вперед знаю, совет этот будет принят и большинством читателей-учителей), и до тех пор, пока не поступил старый учитель, порядок прежний всё держался, и только в дневнике учителя являлись отметки вроде следующих: «от Савина не могу добиться ни одного слова; Гришин ничего не рассказал; упорство Петьки меня удивляет: не сказал ни одного слова; Савин еще хуже, чем прежде» и т. п.
Савин — это румяный, пухлый, с маслеными глазками и длинными ресницами, сын дворника или купца, в дубленом тулупчике, в сапожках по ногам (а не отцовских), в александрийской рубашке и портках. Симпатическая и красивая личность этого мальчика поразила меня в особенности тем, что в классе арифметики он был первый по силе соображения и веселому оживлению. Читает и пишет он тоже недурно. Но как только спросят его, он подожмет набок свою хорошенькую кудрявую головку, слезы выступают на большие ресницы, и он как будто спрятаться хочет от всех и видно страдает невыносимо. Заставишь его выучить, он расскажет, но сам складывать речь он не может или не смеет. Нагнанный ли страх прежним учителем (он уже учился прежде у лица духовного звания), недоверие ли к самому себе, самолюбие ли, неловкость ли между мальчиками ниже его, по его мнению, аристократизм или досада, что в этом одном он сзади других, что он уже раз показал себя в дурном свете учителю, оскорблена ли эта маленькая душа каким-нибудь неловким словом, вырвавшимся у учителя, или все это вместе — бог его знает, но эта стыдливость ежели сама по себе и нехорошая черта, то, наверно, нераздельно связана со всем лучшим в детской душе его. Выбить это все палкой физической или моральной можно, но опасно, чтобы не выбить вместе и драгоценных качеств, без которых плохо придется учителю вести его дальше. Новый учитель послушал моего совета, спустил учеников с лавок, позволил лезть, куда они хотят, даже себе на спину, и в тот же урок все стали рассказывать несравненно лучше, и в дневнике учителя значилось, что даже «закоснелый Савин сказал несколько слов».
Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся ру-
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
173
ково детву учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, — это дух школы. Этот дух подчинен известным законам и отрицательному влиянию учителя, т. е. что учитель должен избегать некоторых вещей, для того чтобы не уничтожить этот дух... Дух школы, например, находится всегда в обратном отношении к принуждению и порядку школы, в обратном отношении к вмешательству учителя в образ мышления учеников, в прямом отношении к числу учеников, в обратном отношении к продолжительности урока и т. п. Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, — что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого учителя. Как слюна во рту необходима для пищеварения, но неприятна и излишня без пищи, так и этот дух напряженного оживления, скучный и неприятный вне класса, есть необходимое условие принятия умственной пищи. Настроение это выдумывать и искусственно приготавливать нельзя, да и не нужно, ибо оно всегда само собой является.
В начале школы я делал такие ошибки. Как скоро мальчик начинал плохо и неохотно понимать, находило на него столь обыкновенное школьное состояние тупика, я говорил: «Попрыгай, попрыгай!» Мальчик начинал прыгать, другие и он сам смеялись, и после прыгания ученик был другой. Но, повторив несколько раз это прыгание, оказалось, что, как скажешь: «Попрыгай!» на ученика находит еще большая тоска, он начинает плакать. Он видит, что душевное состояние его не то, какое должно бы было быть и нужно, а управлять своей душой не может и никому не хочет позволить. Ребенок и человек воспринимают только в раздраженном состоянии, поэтому смотреть на веселый дух школы как на врага, как на помеху есть грубейшая ошибка, которую мы слишком часто делаем.
Но когда оживление это в большом классе так сильно, что мешает учителю руководить классом, что учителя уже не слышно и не слушают, как же тогда, кажется, не прикрикнуть на детей и не подавить этого духа? Ежели оживление это имеет предметом урок, то лучше и желать нечего. Ежели же оживление это перешло на другой предмет, то виноват был учитель, не руководивший этим оживлением. Задача учителя, которую почти каждый исполняет бессознательно, состоит в том, чтобы постоянно давать пищу этому оживлению и постепенно отпускать поводья ему. Вы спрашиваете одного, другому хочется рассказать — он знает, он, перегнувшись к вам, смотрит на вас во все глаза, насилу может удержать свои слова, жадно следит за рассказчиком и не пропустит ему ни одной ошибки. Спросите его, и он расскажет страстно, и то, что он расскажет, навсегда врежется в его памяти, но продержите его в таком напряжении, не позволяя ему рассказывать, полчаса, он станет заниматься щипанием соседа.
Л. Н. Толстой
174
Другой пример. Выйдите из класса уездного училища или немецкой ц колы, где было тихо, приказав продолжать занятия, и через полчаса послушайте у двери: класс оживлен, но предмет оживления другой, так называемые шалости. В наших классах мы часто делали этот опыт. Выйдя в середине класса, когда уже много накричались, вы подойдете к двери и услишите, что мальчики продолжают рассказывать, поправляя, поверяя друг друга, и часто, вместо того чтобы без вас начать шалить, без вас вовсе затихают.
Как при порядке рассаживания по скамьям и одиночного спрашивания, так и при этом порядке есть свои приемы, не трудные, но которые надо знать и без которых первый опыт может быть неудачен. Надо следить за тем, чтобы не было крикунов, повторяющих последние сказанные слова только для радости шума. Надобно, чтобы эта прелесть шума не была главной их целью и задачей. Надобно поверять некоторых, могут ли они одни всё рассказать и усвоили ли себе смысл. Ежели учеников слишком много, то разделять на несколько отделений и заставлять рассказывать по отделениям друг другу.
- Не надобно бояться того, что вновь пришедший ученик иногда с месяц не откроет рта. Надобно только следить за ним, занят ли он рассказом или чем другим. Обыкновенно вновь пришедший ученик сначала охватывает только вещественную сторону дела и весь погружается в наблюдение над тем, как сидят, лежат, как шевелятся губы у учителя, как вдруг все закричат, и он аккуратно садится так, как другие, и смелый, так же как другие, начинает кричать, ничего не запомнив и только повторяя слова соседа. Его останавливают учитель и товарищи, и он понимает, что требуется что-то другое. Пройдет несколько времени, и он сам кое-что начинает рассказывать. Как в нем распустился цветок понимания и когда — узнать трудно.
Недавно мне удалось подметить такое расцветание понимания у одной забитой девочки, с месяц молчавшей. Рассказывал г-н У., а я был посторонним зрителем и наблюдал. Когда все принялись рассказывать, я заметил, что Марфутка слезла с лавки с тем жестом, с которым рассказчики переменяют положение слушающего на положение рассказывающего, и подошла поближе. Когда все закричали, я оглянулся на нее: она чуть заметно шевелила губами, и глаза ее были полны мысли и оживления. Встретившись со мной взглядом, она потупилась. Через минуту я снова оглянулся — она опять шептала что-то про себя. Я попросил ее рассказать, она совсем растерялась. Через два дня она прекрасно рассказывала целую историю.
В нашей школе лучшая поверка того, что ученики запоминают при таких рассказах, — рассказы, записанные ими самими из головы и с поправкой только орфографических ошибок...4.
История. География. Окончив Ветхий завет, я, естественно, напал на мысль о преподавании истории и географии, и потому, что это преподавание до сих пор ведется везде в детских школах и сам я учил их, и потому, что история евреев Ветхого завета естественно,
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
175
казалось мне, наводила детей на вопросы: где, когда и при каких условиях происходили известные им события? Что такое Египет, фараон, ассирийский царь? И т. п.
Я начал историю, как всегда начинают, с древней. Но ни Момзен, ни Дункер, ни все мои усилия не помогли мне сделать ее интересной. Им не было никакого дела до Сезостриса, египетских пирамид и финикиян... Я надеялся, что подобные вопросы, как, например, кто были народы, имевшие дело с евреями, и где жили и странствовали евреи, должны были бы интересовать их, но ученики вовсе не нуждались в этих сведениях. Какие-то цари, фараоны, египты, палестины, когда-то и где-то бывшие, вовсе не удовлетворяют их. Евреи — их герои, остальные — посторонние, ненужные лица. Сделать же для детей героями египтян и финикиян мне не удалось за отсутствием материалов. Я полагаю — не удавалось и не удастся никому. Недостает ни исторических, ни художественных материалов. История египтян, я полагаю, так же, ежели не больше разработана, чем история евреев, но египтяне не оставили нам Библии. Как бы подробно мы ни знали о том, как строились пирамиды, в каком положении и отношении между собою были касты, — к чему нам это? — нам, т. е. детям. В тех историях нет Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Самсона. Кое-что запоминалось и нравилось из древней истории — Семирамида и т. п., но запоминалось случайно, не потому, что объясняло что-нибудь, но потому, что было художественно-сказочно. Но такие места были редки, остальное было скучно, бесцельно, и я принужден был бросить преподавание общей истории.
С географией случилась такая же неудача, как с историей. Я рассказываю иногда что придется, из греческой, английской, швейцарской истории, без всякой связи, а только как поучительную и художественную сказку.
После всеобщей истории я должен был испытать всеми и везде принятую, отечественную для нас русскую историю, и я начал ту печально известную нам русскую историю, ни художественную, ни поучительную, появившуюся в стольких различных переделках — от Ишимовой и до Водовозова5. Я начинал ее два раза: первый раз до прочтения всей Библии и второй раз после Библии. До Библии ученики решительно отказались запомнить существование Игорей и Олегов. То же самое повторяется и теперь с младшими учениками. Те, которые на Библии не выучились еще вникать в рассказываемое и передавать его, те слушают по 5 раз и ничего не запоминают из рюриков и Ярославов. Старшие ученики теперь запоминают русскую историю и записывают, но без сравнения хуже Библии и требуют частых повторений. Рассказываем мы им по Водовозову и «Норманнскому периоду» Погодина6. Один из учителей как-то увлекся и, не послушавшись моего совета, не пропустил удельного периода и въехал во всю бессмыслицу и безуря-дицу Мстиславов, брячиславов и болеславов. Я вошел в класс в то время, как ученики должны были рассказывать. Трудно описать, что из
Л. Н. Толстой
176
этого вышло. Долго все молчали. Вызванные учителем, наконец, заговорили, кто посмелее и попамятливее. Все умственные силы были напряжены на то, чтобы запомнить «чудные» имена, а кто что делал, было для них дело второстепенное.
«Вот он, как его, Барикав, — что ль? — начал один, — пошел на... как бишь его?» — «Муслав, JI. Н.?» — подсказывает девочка. «Мстислав», — отвечал я. «Иразбил его на голову», — с гордостью говорит один. «Ты постой! Река тут была». — «А сын его войску собрал и наголову расшиб... как бишь его?» — «Да что ее никак не поймешь», — говорит девочка, которая памятлива, как слепой. «И то чудная какая-то, — говорит Семка. — Ну ее, Мислав, Числав, на что ее, черт ее разберет!» — «Да ты не мешай, коли не знаешь!» — «Ну, ты знаешь, ловок больно!» — «Да ты что пихаешься-то?». Самые памятливые попытались еще и сказали бы, пожалуй, верно, ежели бы подсказать им кое-что. Но до того все это было уродливо и до того жалко было смотреть на этих детей; все они, как куры, которым кидали прежде зерна и вдруг кинули песку, вдруг растерялись, раскудахтались, напрасно засуетились и готовы перещипать друг друга, что мы решили с учителем больше не делать таких ошибок. Пропустив удельный период, мы продолжаем русскую историю, и вот что из нее выходит в тетрадях старших учеников.
Из тетради ученика В. Р.: «Наши предки назывались славянами. У них не было ни царей, ни князей. Они разделялись на роды, друг на друга нападали и ходили воевать. Однажды напали на славян норманны и победили, обложили данью. Потом они говорят: «Что мы так живем! Давайте выберем себе князя, чтобы он над нами владел». Тут они выбрали Рюрика с двумя братьями — Синеусом и Трувором. Рюрик поселился в Ладоге. Синеус — в Изборске у кривичей, Трувор — на Белоозере. Потом те братья померли. Рюрик поступил на их место.
Потом пошли двое в Грецию, Аскольд и Дир, и зашли в Киев и говорят: «Кто тут владеет?» Киевляне говорят: «Тут были трое: Кий, Щек да Харив. Теперь они померли». Аскольд да Дир говорят: «Давайте мы будем вами владеть». Народ согласился и стал платить им дань.
Потом Рюрик приказал строить города и крепости и рассылал бояр, чтобы они собирали дань и приносили к нему. Потом Рюрик вздумал идти войной на Константинополь с двумястами лодок. Когда он подъехал к этому городу, то в это время императора не было. Греки послали за ним. Народ всё молился богу. Потом архиерей вынес ризу божией матери и обмочил в воду, и поднялась страшная буря, и лодки рюри-ковы все разметало. И так даже очень немного спаслось. Потом Рюрик пошел домой и там умер. Остался у него один сын Игорь. Когда он был мал, то на его место поступил Олег. Ему хотелось завоевать Киев; он взял с собою Игоря и поехал прямо по Днепру. На пути он завоевал города Любич и Смоленск. Когда они подъехали к Киеву, то Олег по
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
177
слал своих послов к Аскольду и Диру сказать, что приехали купцы повидаться с ними, а сами половину войска спрятал в лодки, а половину оставил позади. Когда Аскольд и Дир вышли с небольшой дружиной, то олегово войско выскочило из-под лодок и бросилось на них. Тут Олег поднял Игоря и сказал: «Вы не князья и не княжеского рода, а вот кто князь». Тут Олег велел их убить и завоевал Киев. Олег остался тут жить, сделал этот город столицей и назвал матерью всех русских городов. Тут он велел строить города и крепости и разослал бояр, чтобы они собирали дань и приносили к нему. После он ходил воевать с соседними племенами — он их много завоевал. Ему не хотелось воевать со смирными, а хотелось с храбрыми. Вот он собрался идти на Грецию и поехал прямо по Днепру. Когда он Днепр проехал, то поехал по Черному морю. Когда подъехал к Греции, то его войско выскочило на берег и стало всё жечь и грабить. Олег говорит грекам: «Платите нам дань — на всякую лодку по гривне». Они обрадовались и стали платить им дань. Тут Олег набрал триста пудов и отправился домой».
Из тетради ученика В. М.: «Когда Олег умер, то на его место поступил рюриков сын Игорь. Игорю захотелось жениться. Однажды он пошел погулять со своей дружиной, ему нужно было переплыть через Днепр. Вдруг он увидел: плывет девица на лодке. Когда она подплыла к берегу, Игорь говорит: «Посади меня». Она посадила. Потом Игорь женился на ней. Игорю хотелось отличиться. Вот он собрал войско и пошел на войну, прямо по Днепру, не направо, а налево. Из Днепра в Черное море, из Черного в Каспийское море. Игорь послал послов к кагану, чтобы он пропустил его через свое поле; когда он возвратится с войны, то отдаст ему половину добычи своей. Каган пропустил. Когда уже близко подходили к городу, то Игорь велел выступить народу на берег, всё жечь и рубить и брать в плен. Когда они все дорешили, то стали отдыхать. Когда отдохнули, то пошли с великою радостью домой. Они подходили к каганову городу. Игорь послал кагану по обещанию. Народ услыхал, что идет Игорь с войны, стал просить кагана, чтобы он им велел отмстить Игорю за то, что Игорь пролил кровь родных их. Каган не велел, а народ не слушался, и стали воевать — произошла дюжая битва. Русских одолели и отняли у них всё, что они завоевали».
Интереса живого всё нет, как может видеть читатель из приводимых выдержек. Лучше идет русская история, чем общая, только потому, что они навыкли воспринимать и записывать рассказанное, и еще потому, что вопрос о том, к чему это, меньше имеет места. Русский народ их герой, точно так же, как был еврейский. Тот потому, что он богом любимый народ, и потому, что история его художественна. Этот хотя и не имеет на то никакого художественного права, зато за него говорит национальное чувство. Но сухо, холодно и скучно идет это преподавание. К несчастью, сама история весьма редко дает повод торжествовать народному чувству.
Вчера я вышел из своего класса в класс истории, чтобы узнать при
Л. Н. Толстой
178
чину оживления, слышного мне из другой комнаты. Это была Куликовская битва. Все были в волнении. «Вот так история! Ловко! Послушай, Лев Николаевич, как он татаровей распужил! Дай я расскажу! Нет, я! — закричали голоса. — Как кровь рекой лилась!» Почти все в состоянии были рассказать, и все были в восторге. Но если удовлетворять одному национальному чувству, что же останется из всей истории? 612-го, 812-го года — и все. Отвечая на национальное чувство, не пройдешь всей истории. Я понимаю, что можно пользоваться историческим преданием для развития и удовлетворения всегда присущего детям художественного интереса, но это будет не история. Для преподавания истории необходимо предварительное развитие в детях исторического интереса. Как это сделать?
Часто мне случается слышать, что преподавание истории нужно начинать не с начала, но с конца, т. е. не с древней, а с новейшей истории. Мысль эта, в сущности, совершенно справедлива. Как рассказывать ребенку и заинтересовать его началом государства Российского, когда он не знает, что такое государство Российское и вообще государство? Тот, кто имел дело с детьми, должен знать, что каждый русский ребенок твердо убежден, что весь мир есть такая же Россия, как и та, в которой он живет, точно так же французский и немецкий ребенок. Отчего у всех детей и даже у взрослых, детски-наивных людей, всегда является удивление, что немецкие дети говорят по-немецки?.. Исторический интерес большей частью является после интереса художественного. Нам интересно знать историю основания Рима, потому что мы знаем, что такое была Римская империя в цветущие времена, как интересно детство человека, которого мы признали великим. Противоположность этого могущества с ничтожною толпой беглых составляет для нас сущность интереса. Мы следим за развитием Рима, имея в воображении картину того, до чего оно дошло. Нам интересно основание Московского царства, потому что знаем, что такое Русская империя. По моим наблюдениям и опыту, первый зародыш исторического интереса проявляется вследствие познания современной истории, иногда участия в ней, вследствие политического интереса, политических мнений, споров, чтения газет, и потому мысль начинать историю с настоящего, естественно, должна представиться всякому думающему учителю.
Я еще летом делал эти опыты, записал их и здесь привожу один из них.
Первый урок истории
Я имел намерение в первом уроке объяснить, чем Россия отличается от других земель, ее границы, характеристику государственного устройства, сказать, кто царствует теперь, как и когда император взошел на престол.
Учитель. Где мы живем, в какой земле?
Один ученик. В Ясной Поляне.
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
179
Другой ученик. В поле.
Учитель. Нет, в какой земле и Ясная Поляна и Тульская губерния?
Ученик. Тульская губерния на 17 верст от нас, где же она губерния — губерния и есть.
Учитель. Нет. Это город губернский, а губерния другое. Ну, какая же земля?
Ученик (слушавший прежде географию). Земля круглая, как шар.
Посредством вопросов о том, в какой земле прежде жил знакомый им немец, и о том, что ежели ехать все в одну сторону, куда приедешь, ученики были наведены на ответ, что они живут в России. Некоторые сказали, однако, на вопрос, что ежели ехать все вперед, в одну сторону, то куда приедешь? Никуда не приедешь. Другие сказали, что приедешь на конец света.
Учитель (повторяя ответ ученика). Ты сказал, что приедешь в другие земли; когда же кончится Россия и начнутся другие земли?
Ученик. Когда немцы пойдут.
Учитель. Что же, ежели ты встретишь в Туле Густава Ивановича и Карла Федоровича, ты скажешь, что пошли немцы и, стало быть, другая земля?
Ученик. Нет, когда сплошные немцы пойдут.
Учитель. Нет, и в России есть такие земли, где сплошные немцы. Вот Иван Фомич оттуда, а земли эти все-таки Россия. Отчего же так?
(Молчание.)
Учитель. Оттого, что они одного закона с русскими слушаются.
Ученик. Как же одного закона? Немцы в нашу церковь не ходят и скоромное едят.
Учитель. Не того закона, а нашего царя слушаются.
Ученик (скептик Семка). Чудно! Отчего же они другого закона, а нашего царя слушаются?
Учитель чувствует необходимость объяснить, что такое закон, и спрашивает, что такое значит: закона слушаться, быть под одним законом?
Ученица (самостоятельная дворовая девочка, торопливо и робко). Закон принять, — значит, жениться.
Ученики вопросительно смотрят на учителя: так ли?
Учитель начинает объяснять, что закон в том, что ежели кто украдет или убьет, так его сажают в острог и наказывают.
Скептик Семка. А разве у немцев этого нет?
Учитель. Закон в том еще состоит, что у нас есть дворяне, мужики, купцы, духовенство (слово «духовенство» порождает недоумение).
Скептик Семка. А там нету?
Л. Н. Толстой
180
Учитель. В иных землях есть, в иных нет. У нас русский царь а в немецких землях другой — немецкий царь.
Ответ этот удовлетворяет всех учеников и даже скептика Семку.
Учитель, видя необходимость перейти к объяснению сословий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты. «Еще?» — спрашивает учитель. Дворовые, козюки*, самоварщики. Учитель спрашивает о различии этих сословий.
Ученики. Крестьяне пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.
Учитель объясняет действительное различие сословий, но тщетно старается объяснить необходимость солдат, когда ни с кем не воюют — только ввиду обеспечения государства от нападений и занятия дворян на службе. Учитель пытается уже объяснить отличие России от других государств географически; он говорит, что вся земля разделена на различные государства. Русские, французы, немцы разделили всю землю и сказали себе: по сих пор мое, по сих пор твое, так что Россия, как и другие народы, имеет свои границы.
Учитель. Понимаете, что такое границы? Скажи кто-нибудь пример границы.
Ученик, (умный мальчик). А вон за Туркиным верхом граница (граница эта есть каменный столб, который стоит на дороге между Тулой и Ясной Поляной, означающий начало Тульского уезда).
Все ученики согласны с определением.
Учитель видит необходимость показать границы на знакомой местности. Он рисует план двух комнат и показывает границу, разделяющую их, приносит план деревни, и ученики сами узнают некоторые границы. Учитель объясняет, т. е. ему кажется, что он объясняет, что как земля Ясной Поляны имеет свои границы, так и Россия. Он льстит себя надеждой, что все его поняли, но когда спрашивает, как узнать, сколько от нашего места до границы России, то ученики, нисколько не затрудняясь, отвечают, что это очень легко, надо только смерить аршином отсюда до границы.
Учитель. В какую же сторону?
Ученик. Прямо отсюда гнать на границу и записать, сколько выйдет.
Снова переходим к чертежам, планам и картам. Является необходимость отсутствующего понятия масштаба. Учитель предлагает нарисовать план деревни, расположенной улицей. Начинаем рисовать на черной доске, но вся деревня не выходит, потому что масштаб взят велик. Стираем и вновь начинаем рисовать в малом масштабе на грифельной
Козюками называются у нас мещане.
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
181
доске. Масштаб, план, границы понемногу уясняются. Учитель повторяет все сказанное, спрашивает, что такое Россия и где ей конец.
Ученик. Земля, в которой мы живем и в которой живут немцы и татары.
Другой ученик. Земля, что под русским царем.
Учитель. Где же ей конец?
Девочка. Там, где нехристи немцы пойдут.
Учитель. Немцы не нехристи. Немцы тоже веруют в Христа. (Объяснение религий и вероисповеданий.)
Ученик (с рвением, видимо радуясь тому, что вспомнил). В России законы есть, кто убьет, того в острог посадят, и еще всякий народ есть: духовенцы, солдаты, дворяне.
Сёмка. Кто солдат кормит?
Учитель. Царь. На то деньги со всех собирают, потому что они за всех служат.
Учитель объясняет еще, что такое казна, и с грехом пополам заставляет их повторить то, что сказано о границах.
Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети удержали многое из сказанного, и в таком же роде продолжает следующие уроки, но только впоследствии убеждается, что приемы эти были неверны и что все, что он делал, был совершенный вздор.
Я невольно впал во всегдашнюю ошибку сократического метода, дошедшего в немецком Anschauungsunterricht до последней степени уродливости. Я не давал в этих уроках никаких новых понятий ученикам, воображая, что я это делал, и только своим моральным влиянием заставлял детей отвечать так, как мне хотелось, Расея, руской остались все теми же бессознательными признаками своего, нашего, чего-то расплывающегося, неопределенного; закон остался тем же непонятным словом. Месяцев шесть тому назад я делал эти опыты и первое время был чрезвычайно доволен и горд ими. Те, кому я их читал, говорили, что это чрезвычайно хорошо и интересно; но после трех недель, во время которых я не мог заниматься сам в школе, я попробовал продолжать начатое и убедился, что все прежнее было пустяки и самооб-манывание. Ни один ученик не умел мне сказать, что такое граница, что такое Россия, русский, что такое закон и какие границы Крапивенского уезда; всё, что они выучили, забыли, но вместе с тем всё это знали по-своему. Я убедился в своей ошибке; не решено для меня только то, состояла ли ошибка в дурном приеме преподавания или в самой мысли его; может быть, и нет никакой возможности до известного периода общего развития и без помощи газет и путешествий пробудить в ребенке исторический и географический интерес; может быть, будет найден (я постоянно пытаюсь и ищу) тот прием, посредством которого это можно будет сделать. Я знаю только одно, что прием этот никак не будет состоять в так называемой истории и географии, т. е. в учении по книгам, которое убивает, а не возбуждает эти интересы.
Делал я ещё другие опыты преподавания истории с настоящего вре
Л. Н. Толстой
182
мени, и опыты чрезвычайно удачные. Я рассказывал историю Крымской кампании, рассказывал царствование императора Николая и историю 12-го года. Все это в почти сказочном тоне, большей частью исторически неверно и группируя события вокруг одного лица. Самый большой успех имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном.
Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. Давно уже было обещано детям, что я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись; я пришел в класс русской истории — рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня: «Глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула». И точно, кукушки. «Расскажи лучше с конца!» — сказал кто-то, и все привстали.
Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжались возня, стоны, толкотня: кто под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому — и всё затихло. Я надеюсь поместить этот рассказ в отделе «Книжки» и потому не стану повторять его здесь. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия. «Что ж он и нас завоюет?» — «Небось Александр ему задаст!» — сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать — не пришло еще время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как.с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты!» — проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну рассказывай! Ну!» Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с 12 языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения.
Немец, мой товарищ, стоял в комнате. «А, и вы на нас!» — сказал ему Петька (лучший рассказчик). «Ну, молчи!» — закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? — и ругали Кутузова и Барклая. «Плох твой Кутузов». — «Ты погоди», — говорил другой. «Да что ж он сдался?» — спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их: видно было, что я страшный удар наношу всем. «Хоть не наша, да и не ихняя взяла!» Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотало от сознания непокоримо-сти. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление. «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», — сказал я. «Окарячил его!» — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
183
сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. «Так-то лучше! Вот-те и ключи» и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его, Петька даже крикнул: «Я б его расстрелял, сукина сына, зачем он опоздал!» Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. «А, вы, так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?» — и вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали. Только воспоминание Крымской войны испортило нам все дело. «Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками, — дай я вырасту, я же им задам!» Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.
Уже было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» — «Он с самого начала», — сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он, видно было по лицу. «Что ты расскажешь?» — спросил я. «Я-то? — он подумал. — Всю расскажу». — «Я дома расскажу». — «И я тоже». — «И я». — «Больше не будет?» — «Нет». И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил. «Sie haben ganz russisch erzahlt (вы совершенно по-русски рассказывали), — сказал мне вечером немец, на которого ухали. — Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу: Sie haben nichts gesacht von den deutschen Freiheitskampfen».
Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство.
Стало быть, как преподавание истории и эта попытка была неудачна еще более, чем первые.
По преподаванию географии я делал*то же самое. Прежде всего я начал с физической географии. Помню первый урок. Я начал его и тотчас же сбился. Оказалось то, чего я совершенно не предполагал, именно, я не знал того, что я желал, чтобы узнали 10-летние крестьянские дети. Я умел объяснить день и ночь, но в объяснении зимы и лета сбился. Устыдившись своего невежества, я повторил и потом спрашивал многих из моих знакомых, образованных людей, и никто, кроме недавно вышедших из школы или учителей, не умел мне без глобуса рассказать хорошенько. Я прошу всех читающих проверить это замечание. Я утверждаю, что из 100 людей один знает это, а все дети учатся. Протвердивши хорошенько, я снова принялся за объяснение и
Л. Н. Толстой
184
с помощью свечки и глобуса объяснил, как мне показалось отлично. Меня слушали с большим вниманием и интересом. (Особенно интересно им было знать то, во что не верят их отцы, и по возможности похвастаться своею мудростью).
В конце моего объяснения о зиме и лете скептик Семка, самый понятливый из всех, остановил меня вопросом: как же Земля ходит, а изба наша все на том же месте стоит? И она бы должна была с места сойти! Я увидал, что я от самого умного на 1000 верст ушел вперед в своем объяснении, — что же должны были понять самые непонятливые?..
Я воротился назад, толковал, рисовал, приводил все доказательства круглости Земли: путешествия вокруг света, показывание мачты корабля прежде палубы и др., и, утешая себя мыслью, что теперь-то поняли, я заставил их написать урок. Все написали: «Земля как шар — первая доказательства... другая доказательства» и забыли третью доказательству и спрашивали у меня. Видно было, что главное дело для них — помнить доказательства. Не раз и не десять раз, а сотни раз возвращался я к этим объяснениям, и всегда безуспешно. На экзамене все ученики ответили бы и теперь ответят удовлетворительно; но я чувствую, что они не понимают, и, вспоминая, что и сам я хорошенько не понимал дела до 30 лет, я извинил им это непонимание. Как я в детстве, так и они теперь верили на слово, что Земля кругла и т. д., и ничего не понимали. Мне еще легче было понять, — мне нянька в первом детстве внушила, что на конце света небо с землею сходится и там бабы на краю земли в море белье моют, а на небо скалки кладут. Наши ученики давно утвердились и теперь постоянно остаются в понятиях, совершенно противных тем, которые мне хочется передать им. Надо долго еще разрушать те объяснения, которые они имеют, и то воззрение на мир, которое ничем еще не нарушалось, прежде чем они поймут. Законы физики, механики — первые основательно разрушат эти старые воззрения. А они, как и я, как и все, прежде физики начали физическую географию.
В преподавании географии, как и во всех других предметах, самая обыкновенная, грубая и вредная ошибка — поспешность. Точно мы так обрадовались, что знаем, что будто Земля кругла и ходит вокруг Солнца, что спешим как можно скорее передать это ученику. А не то дорого знать, что Земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого. Очень часто детям рассказывают, что Солнце от Земли на столько-то биллионов верст, а это ребенку вовсе не удивительно и не интересно. Ему интересно знать, как дошли до этого. Кто хочет говорить об этом, лучше пусть расскажет о параллаксах. Это очень возможно. Я затем остановился долго на круглоте Земли, что то, что сказано о ней, относится ко всей географии. Из тысячи образованных людей, кроме учителей и учеников, один знает хорошенько, отчего зима и лето, и знает, где Гваделупа, из тысячи детей ни один в детстве не понимает объяснений круглоты Земли и ни один не верит в действительное существова
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
185
ние Гваделупы, а всех продолжают обучать с самого детства как тому, так и другому.
После физической географии я начал части света с характеристиками, и ничего из этого не осталось, как то, что, когда спросишь, наперерыв кричат: Азия, Африка, Австралия! — а спросишь вдруг, в какой части света Франция (когда за минуту перед тем сказал, что в Европе Англия, Франция), закричит кто-нибудь, что Франция в Африке. Вопрос «Зачем?» — так и видится в каждом потухшем взгляде, в каждом звуке голоса, когда начнешь географию, — и нет ответа на этот печальный вопрос: «Зачем?»
Как в истории обыкновенная мысль начинать с конца, так и в географии явилась и стала обыкновенной мысль начинать со школьной комнаты, со своей деревни. Я видел эти опыты в Германии и сам, обезнадеженный неудачей обыкновенной географии, принялся за описание комнаты, дома, деревни. Как рисование планов, такие упражнения не лишены пользы, но знать, какая земля за нашей деревней неинтересно, потому что все они знают, что там Телятинки. А знать, что за Телятинками, — неинтересно, потому что^там такая же, верно, деревня, как Телятинки, а Телятинки со своими полями совсем неинтересны. Пробовал я им ставить географические вехи, как Москва, Киев, но все это укладывалось в их головах так бессвязно, что они учили наизусть, Пробовал я рисовать карты, и это занимало их и действительно помогало памяти, но опять являлся вопрос: зачем помогать памяти? Пробовал я еще рассказывать о полярных и экваториальных странах; они слушали с удовольствием и рассказывали, но запоминали в этих рассказах всё, кроме того, что было в них географического. Главное то, что рисование планов деревни было рисование планов, а не география; рисование карт было рисование карт, а не география; рассказы о зверях, лесах, львах и городах были сказки, а не география. География была только учение наизусть. Из всех новых книжек — Грубе, Биер-надский — ни одна не была интересна. Одна, забытая всеми книжечка, похожая на географию, читалась лучше других и, по моему мнению, есть лучший образец того, что должно делать для того, чтобы приготовить детей к изучению географии, возбудить в них географический интерес. Книжка эта — Парлеи1, русский перевод 1837 г. Книжка эта читается, но больше служит путеводной нитью для учителя, который по ней рассказывает, что знает о каждой земле и городе. Дети рассказывают, но удерживают редко какое-нибудь название и место на карте, относящееся к описываемому событию, — остаются большей частью одни события. Класс этот, впрочем, относится к разряду бесед, о которых мы будем говорить в своем месте. В последнее время, однако, несмотря на все искусство, с которым замаскировано в этой книжке заучивание ненужных имен, несмотря на всю осторожность, с которой мы обращались с нею, дети пронюхали, что их только заманивают историйками, и получили решительное отвращение от этого класса.
Я пришел, наконец, к убеждению, что относительно истории не
Л. Н. Толстой
186
только нет необходимости знать скучную русскую историю, но Кир, Александр Македонский, Кесарь и Лютер также не нужны для развития какого бы то ни было ребенка. Все эти лица и события интересны для учащегося не по мере их значения в истории, а по мере художественности склада их деятельности, по мере художественности обработки ее историком, и большей частью не историком, а народным преданием.
История Ромула и Рема интересна не потому, что эти братья основали могущественнейшее государство в мире, а потому, что забавно, чудно и красиво, как их кормила волчица, и т. п. История Гракхов8 интересна потому, что художественна, так же как история Григория VII и уничтоженного императора, и есть возможность заинтересовать ею; но история переселения народов будет скучна и бесцельна, потому что содержание ее нехудожественно, точно так же и история изобретения книгопечатания, как бы ни старались мы внушить ученику, что это есть период в истории и что Гуттенберг9 — великий человек. Расскажите хорошо, как выдуманы зажигательные спички, и ученик никогда не согласится, чтобы изобретатель зажигательных спичек был менее великий человек, чем Гуттенберг. Коротко говоря, для ребенка, вообще для учащегося и не начинавшего жить, интереса исторического, т. е. не говоря уже об общечеловеческом, не существует. Есть только интерес художественный. Говорят, с разработкой материалов возможно будет художественное изложение всех периодов истории, — я этого не вижу. Маколея и Тьери10 точно так же мало можно дать в руки, как Тацита или Ксенофонта. Для того чтобы сделать историю популярной нужно не внешность художественную, а нужно олицетворять исторические явления, как это делает иногда предание, иногда сама жизнь, иногда великие мыслители и художники. Детям нравится история только тогда, когда содержание ее художественно. Интереса исторического для них нет и быть не может, следовательно, нет и не может быть детской истории. История служит только иногда материалом художественного развития, а пока не развит исторический интерес, не может быть истории. Берте, Кайданов все-таки остаются единственными руководствами. Старый анекдот — история Мидян темна и баснословна, Больше ничего нельзя сделать из истории для детей, не понимающих исторического интереса. Противоположные попытки сделать историю и географию художественными и интересными, биографические очерки Грубе, Биернадский не удовлетворяют ни художественному, ни историческому требованию, не удовлетворяют ни последовательности, ни историческому интересу и вместе с тем разрастаются своими подробностями до невозможных размеров.
То же самое и в географии. Когда Митрофанушку убеждали учиться географии, то его матушка сказала: зачем учить все земли? Кучер довезет, куда будет нужно. Сильнее никогда ничего не было сказано против географии, и все ученые мира не в состоянии ничего ответить против такого несокрушимого довода. Я говорю совершенно
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
187
серьезно. Для чего мне было знать положение реки и города Барселоны, когда, проживя 33 года, мне ни разу не понадобилось это знание? К развитию Же моих духовных сил самое живописное описание Барселоны и ее жителей, сколько я могу предполагать, не могло содействовать. Для чего Семке и Федьке знать Мариинский канал и водяное сообщение, ежели они, как надо предполагать, никогда туда не попадут? Ежели же придется Семке поехать туда, то все равно, учил он это или не учил, он узнает, и хорошо узнает, это водяное сообщение на практике. Для развития же его душевных сил каким образом будет содействовать знание того, что пенька идет вниз, а деготь вверх по Волге, что есть пристань Дубовка и что такой-то подземный пласт идет до такого-то места, а самоеды ездят на оленях и т. п., — я не могу себе этого представить. У меня есть целый мир знаний математических, естественных, языка и поэзии, передать которые у меня недостает времени, есть бесчисленное количество вопросов, изъявлений окружающей меня жизни, на которые ученик требует ответа и на которые мне нужно прежде ответить, чем рисовать ему картины полярных льдов, тропических стран, гор Австралии и рек Америки. В истории и географии опыт говорит одно и то же и везде подтверждает наши мысли. Везде преподавание географии и истории идет дурно; ввиду экзаменов учатся наизусть горы, города и реки, цари и короли; единственно возможными учебниками являются Арсеньев и Ободовский, Кайданов, Смарагдов и Берте, и везде жалуются на преподавание этих предметов, ищут чего-то нового и не находят. Забавно то, что всеми признана несообразность требования географии с духом учеников всего мира и вследствие того выдумывают тысячи остроумных средств (как метода Сидова), как бы заставить детей запомнить слова; самая же простая мысль, что совсем не нужно этой географии, не нужно знать эти слова, никак никому не приходит в голову. Все попытки соединить географию с геологией, зоологией, ботаникой, этнографией и еще не знаю с чем, историю с биографиями остаются пустыми мечтами, порождающими дурные книжонки вроде Грубе11, не годящиеся ни для детей, ни для юношей, ни для учителей, ни для публики вообще. В самом деле, ежели бы составители таких мнимо новых руководств к географии и истории подумали о том, чего они хотят, и попробовали сами приложить книжки эти к преподаванию, они бы убедились в невозможности предпринимаемого.
Во-первых, география в соединении с естественными науками и этнографией составила бы громаднейшую науку, для изучения которой недостаточно было бы жизни человеческой, и науку еще менее детскую и более сухую, чем одна география. Во-вторых, для составления такого руководства едва ли через тысячи лет найдутся достаточные материалы. Уча географии в Крапивенском уезде, я принужден буду дать ученикам подробные сведения о флоре, фауне, геологическом строении земли на Северном полюсе и подробности о жителях и торговле Баварского королевства, потому что буду иметь материалы для этих
Л. Н. Толстой
188
сведений, и почти ничего не буду в состоянии сказать о Белевском и Ефремовском уездах, потому что не буду иметь для того никаких материалов. А дети и здравый смысл требуют от меня известной гармоничности и правильности в преподавании. Остается одно — учить наизусть по географии Ободовского или вовсе не учить. Точно так же, как для истории должен быть возбужден исторический интерес, для изучения географии должен быть возбужден географический интерес. Географический же интерес, по моим наблюдениям и опыту, возбуждается или знаниями естественных наук, или путешествиями преимущественно, из 100 случаев 99 — путешествиями. Как чтение газет и преимущественно биографий, сочувствие политической жизни своего отечества для истории, так и путешествия для географии большей частью служат первым шагом к изучению науки. Как то, так и другое стало чрезвычайно доступно каждому и легко в наше время, и потому, тем не менее мы должны бояться отречения от старого суеверия преподавания истории и географии. Сама жизнь так поучительна в наше время в этом отношении, что ежели бы действительно географические и исторические знания были так необходимы для общего развития, как нам кажется, то жизнь всегда пополнит этот недостаток.
И право, если отрешиться от старого суеверия, совсем нестрашно подумать, что вырастут люди, совсем не уча в детстве того, что был Ярослав, был Оттон и что Эстрамадура и т. п. Ведь перестали учить астрологию, перестали учить риторику, пиитику, перестают учить по-латыни, и род человеческий не глупеет. Рождаются новые науки, в наше время начинают популяризироваться естественные науки, надо отпадать, отживать старым наукам, не наукам, а граням наук, которые с нарождением новых наук становятся несостоятельными.
Возбудить интерес, знать про то, как живет, жило, слагалось и развивалось человечевтво в различных государствах, интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество, возбудить, с другой стороны, интерес к уразумению законов явлений природы на всем земном шаре и распределения по нем рода человеческого — это другое дело. Может быть, возбуждение такого интереса и полезно, но к достижению этой цели не поведут ни Сегюры, ни Тьерри, ни Обо-довские, ни Грубе. Я знаю для этого два элемента: художественное чувство поэзии и патриотизм. Для того чтобы развить и то, и другое, еще нет учебников; а пока их нет, нам надо искать, а не тратить даром время и силы и уродовать молодое поколение, заставляя его учить историю и географию только потому, что нас учили истории и географии. До университета я не только не вижу никакой необходимости, я вижу большой вред в преподавании истории и географии. Дальше я не знаю.
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
189
Рисование и пение
В отчете за ноябрь и декабрь месяцы Яснополянской школы предстоят мне теперь два предмета, имеющие от всех других совершенно отличный характер, — это рисование и пение — искусства.
Не будь у меня взгляда, состоящего в том, что я не знаю, чему и почему нужно учить тому или другому, я должен был бы спросить у самого себя: полезно ли будет для крестьянских детей, поставленных в необходимость проживать всю жизнь в заботах о насущном хлебе, полезно ли будет для них и к чему им искусства? 99/100 на этот вопрос ответят и отвечают отрицательно. И нельзя ответить иначе. Как скоро поставлен такой вопрос, здравый смысл требует такого ответа: ему не быть художником, ему надо пахать. Если у него будут художнические потребности, он не в силах будет нести ту упорную, безустальную работу, которую ему надобно нести, которую ежели бы он не нес, немыслимо бы было существование государства. Говоря он, я разумею дитя народа. Действительно, это бессмыслица, но я радуюсь этой бессмыслице, не останавливаюсь перед нею, а стараюсь найти причину ее. Есть другая более сильная бессмыслица. Это самое дитя народа, каждое дитя народа, имеет точно такие же права, — что я говорю — еще большие права на наслаждения искусством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходимость того безустального труда, окруженные всеми удобствами жизни.
Лишить его права наслаждения искусством, лишить меня, учителя, права ввести его в ту область лучших наслаждений, в которую всеми силами души просится все его существо, — еще большая бессмыслица. Как примирить эти две бессмыслицы? Это не лиризм, в чем упрекали меня по случаю описания прогулки в № 1, — это только логика. Всякое примирение невозможно и есть только самообманывание. Скажут и говорят: ежели уже нужно рисование в народной школе, то можно допустить только рисование с натуры, техническое, приложимое к жизни: рисование сохи, машины, постройки, — рисование только как вспомогательное искусство для черчения. Такой обыкновенный взгляд на рисование разделяет и учитель Яснополянской школы, отчет которого мы представляем. Но именно опыт такого преподавания рисования убедил нас в ложности и несправедливости этой технической программы. Большинство учеников после 4 месяцев осторожного, исключительно технического рисования, в котором исключено было всякое срисовывание людей, животных, пейзажей, кончило тем, что значительно охладело к рисованию технических предметов и до такой степени развило в себе чувство и потребность к рисованию как искусству, что завело свои потаенные тетрадки, в которых рисуют людей, лошадей со всеми четырьмя ногами, выходящими из одного места.
То же самое в музыке. Обыкновенная программа народных школ не допускает пения далее хорового, церковного, и точно так же, или это есть самое скучное, мучительное для детей заучивание, — произво
Л. Н. Толстой
190
дить известные звуки, т. е. что дети делаются и рассматриваются как горла, заменяющие трубочки органа, или развивается чувство изящного, находящее удовлетворение в балалайке, гармонике и часто безобразной песне, которых не признает педагог и в которых не считает уже нужным руководить учеников. Одно из двух: или искусства вообще вредны и ненужны, что совсем не так странно, как кажется с первого взгляда, или каждый, без различия сословий и занятий, имеет на него право и право вполне отдаться ему на том основании, что искусство не терпит посредственности.
Бессмыслица не в том, бессмыслица в самом постановлении такого вопроса, как вопрос: имеют ли дети народа право на искусства? Спросить это — точно то же, что спросить: имеют ли право дети народа есть говядину, т. е. имеют ли право удовлетворять свою человеческую потребность? Вопрос не в том, хороша ли та говядина, которую мы предлагаем и которую мы запрещаем народу. Точно так же, как, предлагая народу известные знания, в нашей власти находящиеся, и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю не то, что народ дурен оттого, что не принимает этих знаний, не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания. Я заключаю только, что знания эти и искусства живут среди нас и кажутся невредными нам, но не могут жить среди народа и кажутся вредными для него только потому, что эти знания и искусства не те, которые нужны вообще, а что мы живем среди них потому только, что мы испорчены, потому только, что безвредно сидящие пять часов в зараженном воздухе фабрики или трактира не страдают от того самого воздуха, который убивает вновь пришедшего свежего человека.
Скажут: кто сказал, что знания и искусства нашего образованного сословия ложны? Почему из того, что народ не воспринимает их, вы заключаете о их ложности? Все вопросы разрешаются весьма просто: потому что нас тысячи, а их миллионы.
Продолжаю сравнение с известным физиологическим фактом. Человек со свежего воздуха приходит в накуренную, надышанную низкую комнату; все жизненные отправления его еще полны, организм его посредством дыхания питался большим количеством кислорода, который он брал из чистого воздуха. С той же привычкой организма он начинает дышать в зараженной комнате; вредные газы сообщаются крови в большом количестве, организм ослабевает (часто делается обморок, иногда смерть). Между тем как сотни людей продолжают дышать и жить в том же зараженном воздухе только потому, что все. отправления их сделались незначительнее, — они, другими словами, слабее, меньше живут.
Ежели мне скажут: живут как те, так и другие люди и кто решит, чья жизнь нормальнее и лучше? Как с человеком, выходящим из зара
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
191
женной атмосферы на чистый воздух, делается часто обморок, так и наоборот. Ответ легок для физиолога и вообще для человека со здравым смыслом, который скажет только: где больше живет людей — на чистом воздухе или в зараженных тюрьмах? — и последует большинству; а физиолог сделает наблюдения над количеством отправлений того и другого и скажет, что отправления сильнее и питание полнее у того, который живет на чистом воздухе.
То же самое отношение существует между искусствами так называемого образованного общества и между требованиями искусства народа: я говорю и о живописи, и о ваянии, и о музыке, и о поэзии. Картина Иванова возбудит в народе только удивление перед техническим мастерством, но не возбудит никакого ни поэтического, ни религиозного чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуждено лубочной картинкой Иоанна Новгородского и черта в кувшине*. Венера Милосская возбудит только законное отвращение перед наготой, перед наглостью разврата — стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой — на большой скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его — презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир — вы это можете сделать и постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, академий и художественных классов, — он прочувствует, и прочувствует искренно, и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезненно и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему случится вновь выйти из него. Как в деле дыхания здравый смысл и физиология ответят одно и то же, так в деле искусств тот же здравый смысл и педагогия (не та педагогия, которая пишет программы, но та, которая пытается изучить общие пути образования и законы) ответят, что живет лучше и полнее тот, кто не живет в сфере искусств нашего образованного класса, что требования от искусства и удовлетворение, которое дает оно, полнее и законнее в народе, чем у нас. Здравый смысл скажет это только потому, что он видит могущественное не одним количеством и счастливое большинство, живущее вне этой среды; педагог сделает наблюдение над душевными отправлениями людей, находящихся в нашей среде и вне ее, сделает наблюдение при введении людей в зараженную комнату, т. е. при передаче молодым поколениям наших искусств, и на основании тех обмороков, того отвращения, которое проявляют свежие натуры при введении их в искусственную атмосфе-
Мы просим читателя обратить внимание на эту уродливую картинку, замечательную по силе религиозно-поэтического чувства, относящуюся к современной русской живописи так, как относится живопись Fra Beato Angelico к живописи последователей микеланджеловской школы.
Л. Н. Толстой
192
ру, на основании ограниченности духовных отправлений заключит, что требования народа от искусства законнее требования испорченного меньшинства так называемого образованного класса.
Я делал эти наблюдения относительно двух отраслей наших искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно любимых, — музыки и поэзии. И страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям, все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-клюшнике» и напев «Вниз по матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что и Пушкин, и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости. Как обыкновенно слышать до пошлости избитый парадокс, что для понимания прекрасного нужна известная подготовка, — кто это сказал, почему, чем это доказано? Это только изворот, лазейка из безвыходного положения, в которое привела нас ложность направления, исключительная принадлежность нашего искусства одному классу. Почему красота солнца, красота человеческого лица, красота звуков народной песни, красота поступка любви и самоотвержения доступны всякому и не требуют подготовки?
Я знаю, что для большинства все сказанное покажется болтовней, правом языка без костей, но педагогия — свободная педагогия — путем опыта разъясняет многие вопросы и бесчисленным повторением одних и тех же явлений переводит вопросы из области мечтаний и рас-суждений в область положений, доказанных фактами. Я годами бился тщетно над передачей ученикам поэтических красот Пушкина и всей нашей литературы, то же самое делает бесчисленное количество учителей — и не в одной России, — и ежели учителя эти наблюдают над результатами своих усилий и ежели захотят они быть откровенными, все признаются, что главным следствием развития поэтического чувства было убиение его, что наибольшее отвращение к таким толкованиям показывали самые поэтические натуры... Я бился, говорю, годами и ничего не мог достигнуть; стоило случайно открыть сборник Рыбникова, — и поэтическое требование учеников нашло полное удовлетворение, и удовлетворение, которое, спокойно и беспристрастно сличив первую попавшуюся песню с лучшим произведением Пушкина, я не мог не найти законным.
То же самое случилось со мной и в отношении музыки, о которой и предстоит теперь говорить мне.
Попытаюсь резюмировать все сказанное выше. На вопрос, нужны ли искусства (beaux arts)12 для народа? — педагоги обыкновенно ро-
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
193
беют и путаются (только Платон смело и отрицательно решил этот вопрос). Говорят, нужно, но с известными ограничениями: дать всем возможность быть художниками вредно для общественного устройства. Говорят: известные искусства и степень их могут существовать только в известном классе общества. Говорят: искусства должны иметь своих исключительных служителей, преданных одному делу. Говорят: большие дарования должны иметь возможность выходить из среды народа и вполне отдаваться служению искусству. Это самая большая уступка, которую делает педагогия праву каждого быть, чем он хочет. На достижение этих целей направлены все заботы педагогов относительно искусств. Я считаю все это несправедливым. Я полагаю, что потребность наслаждения искусством и служение искусству лежат в каждой человеческой личности, к какой бы породе и среде она ни принадлежала, и что эта потребность имеет права и должна быть удовлетворена. Принимая это положение за аксиому, я говорю, что если представляются неудобства и несоответственности в наслаждении искусством и воспроизведении его для каждого, то причина этих неудобств лежит не в способе передачи, не в распространении или сосредоточии искусства между многими или некоторыми, но в характере и направлении искусства, в котором мы должны сомневаться, как для того, чтобы не навязывать ложного молодому поколению, так и для того, чтобы дать возможность этому молодому поколению вырабатывать новое как по форме, так и по содержанию.
Представляю отчет учителя рисования за ноябрь и декабрь. Способ этого преподавания, мне кажется, может почесться удобным по тем приемам, которыми незаметным и веселым для учеников путем обойдены технические трудности. Вопрос же самого искусства не затронут, потому что учитель, начиная преподавание, предрешил вопрос о том, что детям крестьян бесполезно быть художниками.
Рисование. Когда я девять месяцев назад приступил к учению рисования, то у меня не было еще определенного плана ни о том, как расположить содержание преподавания, ни о том, как руководить учениками. У меня не было ни рисунков, ни моделей, кроме нескольких иллюстрированных альбомов, которыми я, впрочем, не пользовался во время моего дальнейшего учения, ограничиваясь простыми вспомогательными средствами, которые всегда можно найти в каждой деревенской школе. Деревянная крашеная доска, мел, аспидные доски и четве-роугольные деревянные различной длины палочки, употребляемые для наглядного обучения математике, — вот все наши средства при преподавании, которые, впрочем, не мешали нам срисовывать все, что было под руками. Ни один из учеников прежде не учился рисовать; они принесли ко мне только свою способность суждения, которой была предоставлена полная свобода высказываться, как и когда они хотели, и по которой я хотел познакомиться с их требованиями и тогда уже составить определенный план занятий. На первый раз я составил из четырех палочек квадрат и попробовал, в состоянии ли мальчики без вся-
Л. Н. Толстой
194
кого предварительного учения срисовать этот квадрат. Только немногие мальчики нарисовали очень неправильные квадраты, обозначая четырехугольные палочки, составлявшие квадрат, прямыми линиями. Я этим совершенно удовлетворился. Для более слабых я начертил на доске мелом квадрат. Потом мы составляли таким же образомм крест и рисовали его.
Бессознательное, врожденное чувство заставляло детей находить по большей части довольно верное соотношение линий, хотя эти линии они рисовали довольно плохо. И я не считал нужным добиваться при каждой фигуре правильности прямых линий, чтобы не мучить их понапрасну, и желал только, чтобы срисована была фигура. Я думал сначала дать мальчикам понятие более об отношении линий по их величине и их направлению, чем заботиться об их способности сколько возможно правильно выводить эти линии.
Дитя поймет прежде отношение между длинной и короткой линией, разницу между прямым углом и параллельными, чем научится само сносно провести прямую линию.
Мало-помалу в следующие уроки мы стали срисовывать углы этих четырехугольных палочек и потом составляли из них самые различные фигуры.
Ученики оставляли совершенно без внимания малую толщину этих палочек, третье протяжение, и мы рисовали постоянно только переднюю сторону составленных предметов.
Трудность представить ясно при наших недостаточных материалах положение и соотношение фигур заставляла меня рисовать иногда фигуры на доске. Часто соединял я рисование с натуры с рисованием с образцов, давая какой-нибудь предмет; ежели мальчики не могли срисовать данный предмет, я рисовал его сам на доске.
Рисование фигур с доски происходило следующим образом. Я рисовал сначала горизонтальную или отвесную линию, разделял ее точками на известные части, ученики срисовывали эту линию. Потом проводил другую или несколько других перпендикулярных или наклонных линий в известном к первой отношении и разделенных одинаковыми единицами. Потом соединяли точки разделения этих линий прямыми линиями или дугами и составляли какую-нибудь симметрическую фигуру, которая, по мере того как возникала, срисовывалась мальчиками. Мне казалось, что это выгодно, во-первых, в том отношении, что мальчик наглядно изучает весь процесс образования фигуры, и, во-вторых, с другой стороны, развивается в нем понятие соотношения линий через это рисование на доске гораздо более, чем через копирование рисунков и оригиналов. При таком порядке уничтожается возможность прямо срисовывать, но сама фигура, как предмет из природы, должна быть срисована в уменьшенном масштабе.
Почти всегда бесполезно вывешивать большую, совершенно нарисованную картину или фигуру, потому что начинающий решительно станет в тупик перед нею, так же, как и перед предметом из природы.
I. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
195
Но самое возникновение фигуры перед его глазами имеет большое значение. Ученик в этом случае видит остов рисунка, скелет его, на котором потом образуется самое тело. Ученики были постоянно вызываемы критиковать линии и отношения их, которые я рисовал. Я часто рисовал нарочно неправильно, чтобы узнать, насколько образовалось их суждение о соотношении и правильности линий. Далее спрашивал я мальчиков, когда рисовал какую-нибудь фигуру, где по их мнению, следует еще прибавить линию, и даже заставлял того или другого самих выдумывать, как составить фигуру.
Этим я возбуждал в мальчиках не только более живое участие, но свободное участие в составлении и развитии фигуры уничтожало в детях вопрос зачем?, который ребенок при срисовывании оригинала всегда естественно сам себе задает.
Легкое или трудное понимание и больший или меньший интерес имели главное влияние на ход и способ преподавания, и я часто бросал совершенно приготовленное для урока только потому, что оно было мальчикам скучно или чуждо.
До сих пор я давал срисовывать симметрические фигуры, потому что их образование самое легкое и очевидное. Потом я в виде опыта просил лучших учеников самих сочинять и рисовать фигуры на доске. Хотя почти все и рисовали только в одном данном роде, но тем не ме- , нее было интересно наблюдать возникающее соревнование, суждение / других и своебразную постройку фигур. Многие из этих рисунков были \ 1 особенно соответственны характерам учеников. —
В каждом ребенке есть стремление к самостоятельностикоторое 1 вредно уничтожать в каком бы то ни было преподавании и которое ' особливо обнаруживается недовольством при срисовывании с образцов. Через вышесказанные приемы эта самостоятельность не только J не убивалась, но еще больше развивалась и укреплялась.
Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное I приложение этих сведений. -----'
Постоянно придерживаясь в срисовывании натуральных форм и часто меняя разные предметы, как, например, листья характеристичной формы, цветы, посуду и вещи, употребительные в жизни, инструменты, я старался не допустить в наше рисование рутину и манерность.
С величайшей осторожностью приступил я к объяснению теней, к оттениванию, потому что начинающий легко уничтожает оттенива-ющими линиями резкость и правильность фигуры и привыкает к беспорядочному и неопределенному маранию.
Этим способом я добился того, что более 30 учеников в несколько месяцев узнали довольно основательно соотношение линий в различных фигурах и предметах и умели эти фигуры передавать ровными и резкими линиями. Механическое искусство линейного рисования мало-помалу развивалось как бы само собою. Труднее всего было мне при-
Л. Н. Толстой
196
учать учеников к чистоте обращения с тетрадями и чистоте самого рисунка. Удобство стирать нарисованное на аспидных досках много затруднило мне дело в этом отношении. Дав лучшим, более талантливым ученикам тетради, я достиг большей чистоты в самом рисовании, ибо большая трудность стирания принуждает их к большей опрятности в обращении с тем, на чем рисуется.
В короткое время лучшие ученики достигли столь верного и чистого управления карандашом, что могли рисовать чисто и правильно не только прямолинейные фигуры, но и самые причудливые составные из кривых линий.
Я заставлял некоторых учеников контролировать фигуры других, когда они оканчивали свои, и эта учительская деятельность замечательно поощряла учеников, ибо через это они могли тотчас прилагать выученное.
В последнее время я занимался со старшими рисованием предметов в самых различных положениях в перспективе, не придерживаясь исключительно столь известной методы Dupuis. Об образе и ходе этого преподавания, равно и о черчении, будет говорено впоследствии.
Пение, Мы шли прошлым летом с купания. Всем нам было очень весело. Крестьянский мальчик, тот самый, который был соблазнен на воровство книжек дворовым мальчиком, толстоскулый, коренастый мальчик, весь облитый веснушками, с кривыми, внутрь загнутыми ножонками, со всеми приемами взрослого степного мужика, но умная, сильная и даровитая натура, пробежал вперед и сел в телегу, ехавшую перед нами. Он взял вожжи, сбил шляпу набок, сплюнул на сторону и запел какую-то протяжную мужицкую песню, да как запел! — с чувством, с роздыхом, с подкрикиванием. Ребята засмеялись: «Семка-то, как играет ловко!» Семка был совершенно серьезен. «Ну, ты не перебивай песни», — особенным, нарочно хриплым голосом сказал он в промежутке и совершенно серьезно и степенно продолжал петь. Два самых музыкальных мальчика подсели в телегу, начали подлаживать и подладили. Один ладил то в октаву, то в сексту, другой — в терцию, и вышло отлично. Потом пристали другие мальчики, стали петь: «Как под яблоней такой», стали кричать, и вышло шумно, но нехорошо. С этого же вечера началось пение; теперь, после восьми месяцев, мы поем «Ангел вопияше» и две херувимские — 4-й и 7-й номера, всю обыкновенную обедню и маленькие хоровые песни. Лучшие ученики (только два) записывают мелодии песен, которые они знают, и почти читают ноты. Но до сих пор еще всё, что они поют, далеко не так хорошо, как хороша была их песня, когда мы шли с купания. Я говорю все это не с какой-нибудь задней мыслью, не для того, чтобы доказать что-нибудь, но я говорю, что есть. Теперь же расскажу, как шло преподавание, которым сравнительно я доволен.
В первый урок я разделил всех на три голоса, и мы спели следующие аккорды:
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
197
Нам удалось это очень скоро. И каждый пел, что он хотел, пробовал дискант и переходил в тенора, а из тенора — в альт, так что лучшие узнали весь аккорд — до-ми-соль, некоторые и все три. Выговаривали они слова французских названий нот. Один пел: ми-фа-фа-ми; другой: до-до-ре-до и т. д. «Ишь ты, как складно, Л. Н., — говорили они. — даже в ухе задрюжжит. Ну, еще, еще...» Мы пели эти аккорды и в школе, и на дворе, и в саду, и по дороге домой, до поздней ночи, и не могли оторваться, и нарадоваться на свой успех.
На другой день мы попробовали гамму, и талантливейшие прошли ее всю, худшие едва могли пройти до терции. Я писал ноты на линейке в альтовом ключе, самом симметрическом, и называл их по-французски. Следующие и следующие, уроков шесть, шли также весело; мы спели еще новые аккорды, минорные, и переходы в мажорные — «Господи помилуй», «Слава Отцу и Сыну» и песенку в три голоса с фор-тепьянами. Одна половина урока была занята этим, другая пением гаммы и упражнений, которые выдумывали сами ученики: до-ми-ре-фа-ми-соль; или: до-ре-ре-ми-ми-фа, или: до-ми-ре-до-ре-фа-ми-ре ит. д.
Весьма скоро я заметил, что ноты на линейках не наглядны, и нашел нужным заменить их цифрами. Кроме того, для объяснения интервалов и изменяемости тоники цифры представляют более удобств. Через шесть уроков некоторые уже брали по заказу, какие я спрашивал, интервалы, добираясь до них по воображаемой гамме. Особенно нравилось упражнение квартами: до-фа-ре-соль и т. д., вниз и вверх. Фа (унтер-доминанта) особенно поражало всех своей силой.
«Экой здоровенный этот фа, — говорил Семка, — так и резнет!»
Немузыкальные натуры все отстали, с музыкальными классы наши затягивались по три и четыре часа. О такте я пробовал дать понятие по принятой методе, но дело оказалось до того трудным, что я принужден был отделить такт от мелодии и, написав звуки без такта, разбирать их, а потом, написав такт, т. е. размеры без звуков, стучанием разбирать один такт и потом уже соединять оба процесса вместе.
После нескольких уроков, отдавая себе отчет в том, чтб я делал, я пришел к убеждению, что мой способ преподавания есть почти способ Chevet, которого методу я видел на деле в Париже и которая мною сразу не была принята только потому, что это была метода. Всем, занимающимся преподаванием пения, нельзя достаточно рекомендовать это сочинение, на оберточном листе которого написано большими буквами: Repousse a I’unanimite13 и теперь расходящееся в десятках тысяч экземпляров по всей Европе. Я видел в Париже поразительные примеры успешности этой методы при преподавании самого Chevet. Ауди-
Л* Н. Толстой
198
тория в 500—600 человек мужчин и женщин, иногда в 40—50 лет, поющих в один голос a livre ouvert14 всё, что им откроет учитель. В методе Chevet есть много правил, упражнений, предписанных приемов, которые не имеют никакого значения и которых каждый умный учитель выдумает сотни и тысячи на поле сражения, т. е. во время класса; там есть весьма комическая, может быть, и удобная манера читать такт без звуков, например в 4/4 ученик говорит: та-фа-те-фе-, в 3/4 ученик говорит: та-те-ти, 8/8 — та-фа-те-фе-те-ре-ле-ли-ри. Все это интересно как один из способов, посредством которых можно учить музыке, интересно как история известной музыкальной школы, но правила эти не абсолютны и не могут составить методу. В этом-то всегда состоит источник ошибок метод. Но у Chevet есть замечательные по своей простоте мысли, их которых три составляют сущность его методы: первая, хотя и старая, еще выраженная Ж.-Ж. Руссо в своем Di-ctionnaire de musique15 мысль выражения музыкальных знаков цифрами. Что бы ни говорили противники этого способа писания, каждый учитель пения может сделать этот опыт и всегда убедится в огромном преимуществе цифр перед линейками как при чтении, так и при писании. Я учил по линейкам уроков 10 и один раз только показал по цифрам, сказав, что это одно и то же, и ученики всегда просят писать цифрами и всегда сами пишут цифрами. Вторая замечательная мысль, исключительно принадлежащая Chevet, состоит в том, чтобы учить звукам отдельно от такта и наоборот. Приложив хоть раз эту методу для обучения, всякий увидит, что то, что представлялось неодолимой трудностью, вдруг становится так легко, что только удивляешься, как прежде никому не пришла такая простая мысль. Скольких бы мучений избавились несчастные дети, выучивающие в архиерейских певчих и других хорах «Да исправится» и т. п., ежели бы регенты попробовали эту простую вещь — заставить учащегося, ничего не поя, простукать палочкой или пальцем по той фразе нот, которую он должен петь: четыре раза по целой, раз на V4, раз на 2/8 и т. д., потом спеть без такта ту же фразу, потом опять спеть один такт и потом опять вместе.
Например, написано:
Ученик сперва поет (без такта): до-ре-ми-фа-соль-ми-ре-до; потом ученик не поет, а, ударяя по ноте 1-го такта, говорит: раз-два-три-че-тыре; потом по каждой ноте 2-го такта и говорит: раз-два-три-четыре; потом по первой ноте 3-го такта ударяет два раза и говорит: раз-два; по второй ноте 3-го такта и говорит: три-четыре и т. д.; а потом поет то же с тактом и ударяет, а другие ученики вслух считают. Это мой способ, который точно так же, как и способ Chevet, нельзя предписывать, который может быть удобен, но удобнее которого могут быть найдены еще многие. Но дело только в том, чтобы отделить изучение
Л. Н. Толстой
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
199
такта от звуков, а приемов может быть бесчисленное множество. Наконец, третья и великая мысль Che vet состоит в том, чтобы сделать музыку и преподавание ее популярными. Способ его преподавания вполне достигает своей цели. И это не только желание Che vet и не только мое предположение, но это факт. Я видел в Париже сотни работников с мозолистыми руками, сидящих на скамьях, под которыми положен инструмент, с которым работник шел из мастерской, поющих по нотам, понимающих и интересующихся законами музыки. Глядя на этих рабочих, мне легко было представить себе на их месте русских мужиков, — только говори Chevet по-русски, они так же и пели бы, так же и понимали бы все, что он говорил об общих правилах и законах музыки. Мы еще надеемся поговорить подробнее о Chevet и преимущественно о значении популяризованной музыки, особенно пения, для возбуждения падающего искусства.
Перехожу к описанию хода преподавания в этой школе. После шести уроков козлища отобрались от овец, остались одни музыкальные натуры, охотники, и мы перешли к минорным гаммам и к объяснению интервалов. Трудность состояла только в том, чтобы найти и отличить малую секунду от большой. Фа уже был прозван здоровенным, до оказался таким же крикуном, и потому мне не нужно было учить, — они
сами чувствовали ту ноту, в которую разрешалась малая секунда, поэтому чувствовали и самую секунду. Мы нашли легко сами, что мажорная гамма состоит из последовательности 2 больших, 1 малой, 3 больших и 1 малой секунды; потом мы спели «Слава отцу» в минорном тоне и добрались по чутью до гаммы, которая оказалась минорною, потом в гамме этой нашли 1 боль-
шую, 1 малую, 2 больших, 1 малую секунду.
Потом я показал, что можно спеть и написать гамму с какой угодно ноты, что, ежели не выходит большая или маленькая секунда, когда нужно, можно поставить диез и бемоль. Для удобства я написал им хроматическую лестницу такого рода:
по этой лестнице я заставлял писать все возможные мажорные и минорные гаммы, начиная с какой хотели ноты. Эти упражнения занимали их чрезвычайно, и успехи
Л. Н. Толстой
200
были до того поразительны, что двое часто между классами забавлялись писанием мелодии песен, которые они знали. Эти ученики часто мурлычат мотивы каких-то песен, которых они назвать не умеют, и мурлычат тонко и нежно и, главное, лучше вторят и уж не любят, когда много вместе нескладно кричат песню.
Всех уроков едва ли было 12 во всю зиму. Преподавание наше испортило тщеславие. Родители, мы — учителя и сами ученики захотели удивить всю деревню — петь в церкви; мы стали готовить обедню и херувимские Бортнянского. Казалось, это было бы веселее детям, но вышло наоборот. Несмотря на то, что желание ехать на клирос поддерживало их, и что они любили музыку, и что мы, учителя, налегали на этот предмет и делали его принудительнее других, мне часто жалко было смотреть на них, как какой-нибудь крошка Кирюшка в оборванных онученках выделывал свою партию «тайно образу-у-у-у-у-у-ю-ю-ще», и его по десяти раз заставляли повторять, и он, наконец, выходил из себя и, стуча пальцами по нотам, спорил, что он поет так точно. Мы съездили раз в церковь и имели успех; восторг был огромный, но пение пострадало: стали скучать на уроках, отлынивать, и к пасхе только с большими усилиями вновь был собран хор. Наши певчие стали похожи на архиерейских, которые поют часто хорошо, но у которых вследствие этого искусства большей частью убита всякая охота к пению и которые решительно не знают нот, воображая, что знают. Я часто видел, как выходящие из такой школы сами берутся учить, не имея понятия о нотах, и оказываются совершенно несостоятельными, как только начинают петь то, чего им еще не кричали в ухо.
Из того небольшого опыта, который я имел в преподавании музыки народу, я убедился в следующем:
1) что способ писания звуков цифрами есть самый удобный способ;
2) что преподавание такта отдельно от звуков есть самый удобный способ;
3) что для того, чтобы преподавание музыки оставило следы и воспринималось охотно, необходимо учить с первого начала искусству, а не умению петь и играть; барышень можно учить играть экзерсисы Бургмюллера, но народных детей лучше не учить вовсе, чем учить механически;
4) что ничто так не вредно в преподавании музыки, как то, что похоже на знание музыки, — исполнение хоров на экзаменах, актах и в церквах;
5) что цель преподавания музыки народу должна состоять только в том, чтобы передать ему те знания об общих законах музыки, которые мы имеем, но отнюдь не в передаче ему того ложного вкуса, который развит в нас.
JI. Н. Толстой
Дневник Яснополянской школы за 1862 г.
201
Дневник Яснополянской школы за 1862 г.
Начался с 26 февраля
Февраль 26. Понедельник
Стар(ший) к(ласс). Математика
Морозов был услан (надо останавливать играние). Игн(атка), Ром(аш-ка), Дан(илка), Фок(анов). Задача уравнения — бассейн. Очень хорошо. Уничтожение знаменателя так и не поняли, от торопливости Вл(адимира) Ал(ександровича). Сокращали и приводили к одному знаменателю отлично. Задал сложную задачу тройного правила.
В млад(шем) к(лассе). Писание
Начался урок с 8 часов и продолжался до 11 часов — отступление от расписания, по случаю позднего прихода на класс учителя математики. Много написали: Румянцев и Кирюшка из русской истории, а прочие из св(ященной) истории В(етхого) з(авета). Румянцев отлично написал как в изложении, так и орфографически, Кирюшка — дурно. Прочие — очень обыкновенно. Каллиграфия в упадке; замечено граф(ом) обратить на это внимание. Да, я боюсь за себя, потому сам недалек.
В приготов(ительном). Механ(ическое) чтение ч
Всегда велось обыкновение этот урок вести сообразно его назначению. Я же дал им читать с рассказом. Хруслов, Матвеева и Владимиров читали из хрестоматии «О Владимире, сыне Святослава» — рассказали порядочно. Солдатиков, Матвеев, Фролков, Гаврилов и Ермилова «О Матвее» из книжек Ясной Пол(яны). Все рассказывали прекрасно. Остальные — сказки Худякова и Афан(асьева), которые рассказывают теперь уж без затруднения.
Млад(ший) к(ласс) и пригот(овительный).
Св(ященная) история
Рассказывали из Нового завета «О жене-самарянке», «Чудесный лов рыбы» и «Нагорной проповеди» Иисуса Хр(иста). Все, исключая самых меньших, рассказывали. Спутываются иногда в поеледовательсти.
Млад(ший) к(ласс). Математика
Попробовав всех вместе, но меньшие — не только меньшие, но и 2-е отделение, страшно слабы — механизм и только. Одна из главных трудностей — находить случаи деления и узнавать части неозначенные. Робки и скучливы до невозможности. Механически делают действия с дробями. Келлер занимался славно с частью 1-го отделения.
Л. Н. Толстой
202
Математика, самые младшие
Начал с деления — не знают и боятся меня — умножение, вычитание, сложение, нумерация — тоже. Механизм в формах сознания. Я был обманут. Поручил Ромашке. Он вел класс необычайно спокойно, толково и не скучно. Сам выдумывал задачи из жизни, и недурно.
П(етр) В(асилъевич). Прошу — заставляйте из старшего класса по переменкам учить математике младших. Ежели я не приду, присылайте их — очередных учителей — ко мне за наставлением. — Переплетчик.
Приготов(ительный) к(ласс). Писание
В этом классе прежде писали лучшие ученики из св(ященной) истории, В(етхого) з(авета), а худшие — под диктант. Ныне изменили старой привычке: все писали соч(ин)ения; темы для этих сочинений выбирали сами произвольно. Владимиров, Михеев и Гаврилов удовлетворительно написали с немалыми орфографическими ошибками. Остальные что-то написали, кажется сносное по их смыслу.
В стар(шем), млад(шем)
и пригот(овительном) 1-го отд(еления).
* Чтение
Для чтения давал, кому что нравится. Мальчики стар(шего) класса) читали из русской истории с большей охотой; только Историю Погодина скучновато. 2-го отд(еления) ученики книжку св(ященной) истории, а прочие разные книжки. Все вообще читали и рассказывали с охотою. Предложено граф(ом) разнообразить чтение.
Февраль 27. Вторник.
Стар(ший) к(ласс). Математика
Задачи из планиметрии — очень плохо. Забыли много и могут забыть.
Младший класс. Писание
Писали двое из русской истории, написали достаточно, прочие из св(ященной) истории — тоже со смыслом. Думаю, помогло им вчерашнее чтение по книге из священной истории. Потому что и ныне многие с дракой хватались за эту книжку.
Пригот(овительный) обоих отд(елений).
Чтение
Кучками продолжали чтение Матвея. Некоторые, и самые худшие, «Сказки» Худякова. Всех заставлял рассказывать, и все рассказывали порядочно.
JI. Н. Толстой
Дневник Яснополянской школы за 1862 г.
203
Стар(ший) к(ласс).
Постеп(енное) чтение
Сами попросили себе читать из русской истории. Когда я посмотрел, о чем они будут читать, то увидал, что они не стали продолжать того, на чем я остановился с ними в рассказе оной, а нашли то, о чем им следует писать.
Пригот(овительный) к(ласс).
. Писание
Ученики 1-го отд(еления) приготовительного класса, некоторые из 2-го отделения писали из св(ященной) истории. Хорошо запомнили последовательность, но грамматика страдает. Худшие ученики писали под диктант.
Приказано гр(афом) разнообразить писание: день из св(ященной) ист(ории), другой — разные сочинения, выдумываемые ими самими.
Младший класс. Математика
Густав Федорович.
Данилка вел матем(атику) хуже других.
Черчение и рисование
Черчение.
Es wurde die Seitenansicht des Schultisches gezeichnet1.
Рисование.
Младший класс и приготовительный класс: Матвеев, Солдатиков, Владимиров взяли новые тетради.
Рисунок пером
Русская история
Этот предмет для меня столько же знаком, как и для моих слушателей. Поэтому я прежде сам прочту, а если не придется прочесть, то я беру живьем руководства Водовозова или Погодина и прямо объясняюсь со своими слушателями по книжке. Во время нынешнего урока был граф; и я ужасно конфузился читать даже что если бы пришлось мне рассказывать читанное, то, право, к стыду моему, я бы стал в тупик. Мальчики все расск(азали).
28 февраля. Среда.
Стар(ший) к(ласс). Математика.
Задача из правила смешения. Я запутался. Алгебраически хуже. Полезно задавать задачи, показав вперед решение.
Млад(ший) к(ласс). Писание.
Сам я пришел в класс по зову. Застал мальчиков занятыми своим делом по распоряжению графа, который пришел еще до назначенных
Л. Н. Толстой
204
часов в расписании. Румянцев писал из русской истории хорошо и много. Банникова, Фоканов и Жданов — из св(ященной) истории — тоже писали порядочно, с немногими грамматич(ескими) ошибками.
Приготов(ительный) к(ласс). Чтение.
Все читали и рассказывали. Хруслов, Резунов из русской истории, Осипов — из св(ященной) истории. Прочие продолжали читать «Матвея». Плохие чтецы — сказки. Без исключения все рассказали. Вчера еще приехал новый школьник, сын священника Димитрий Сахаров, который знает читать и немного писать.
Млад(ший) класс. Математика.
Задача из правила смешения. Я запутался, но потом разобрался. Арифметич(ески) много легче. Надо.
(1) Задача: Ein Kaufman hat 600 A(rschin) Tuch2
Кирилл купил: V4 A. 2 p. 50 к. стоит.
Дунька купила: 50 А. 5 р. 15 к.
Купец дал Дуньке два аршина, которые ничего не стоят.
Васька купил, что осталось.
Все сукно, которое купец продавал, он за него взял 2400 рублей.
Сколько аршин Васька взял, сколько денег заплатил за каждый аршин? И т. п.
(2) Задача. В бочке было 2550 кружек.
Дунька взяла 2/8 + 150 кружек.
Васька взял V5, Тараска взял V12 + 50 кружек и т. д.
Стар(ший) класс и приготов(ительный). Писание.
Из старшего класса трое писали из св(ященной) ист(ории) Нов(ого) завета; а трое из русской истории. Богданов дописал из св(ященной) истории. Вообще писали лениво.
Младшие ученики писали сочинения и переписали на бумагу. Все почти написали о масленице.
Старший класс. Сочинения Второй класс. Мате.мат(ика) Чернов
Писали сочинения — все о театре. Васька — о том, что бы он сделал, коли бы попался в плен. — Радуются на тетради — надо поддерживать эту охоту. Пожалуйста, Петр Васильевич! — Ром(ашка) о учении. Кир(юшка) ни на шаг не уступал Успенскому. — в Андр. Несчастном. Чернов плохо задает задачи. Надо приостановиться в дробях и больше решать
Часто в мл(адшем) кл(ассе), М(орозов?) особенно, когда я в(хо-жу?), возьмет позовет меня, посмотрит, улыбнется, и больше ничего.
I H. Толстой
Воспитание и образование
205
Св(ященная) история
Повторяли «с Моисея до Давида». Рассказывали сами по порядку. Я ничего не подправлял. Сами рассказывали со всеми подробностями и сами себя подправляли. В последовательности рассказа не сбивались. Рассказ производился без огня. Под конец урока ослабели, даже совсем заленились, тем более когда услыхали музыку в другой комнате. Ужасно негодовали на себя за то, что они не в старшем классе.
Эксперименты
Серноводородный газ — фосфорноводород(ный) газ. Висмут бросали. Лакмусовая бумага.
Рисование
Стар(ший) к(ласс.) Zeichnung eines Quadrates in verschiedenen Lagen mit Hinweisung auf die Perspective3.
Воспитание и образование*
Есть много слов, не имеющих точного определения, смешиваемых одно с другим, но вместе с тем необходимых для передачи мыслей, — таковы слова воспитание, образование и даже обучение.
Педагоги иногда не признают различия между образованием и воспитанием, а вместе с тем не в состоянии выражать своих мыслей иначе, как употребляя слова образование, воспитание, обучение или преподавание. Необходимо должны быть раздельные понятия, соответствующие этим словам. Может быть, есть причина, почему мы инстин-
В последних номерах журналов: «Время» , «Библиотека для чтения», «Воспитание» и «Современник» были статьи об «Ясной Поляне». На днях прочел я статью в «Русском вестнике», весьма сильно затрагивающую меня во многих отношениях и на которую предполагаю отвечать особо.
Повторю еще раз сказанное в 1-м номере: я боюсь полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья «Современника», ищу и дорожу той полемикой, которая вызывает на объяснения недосказанного и на уступки в преувеличенности и односторонности. Я прошу от критики не голословных похвал, основанных на личном воззрении и доказывающих симпатию лица к лицу или склада мыслей к складу мыслей, глажения по головке за то, что дитя занимается делом и хорошо старается, не голословных порицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию, я прошу только или презрительного молчания, или добросовестного опровержения всех моих основных положений и выводов. Я говорю это в особенности потому, что 3-летняя деятельность моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною выводами. Другая моя просьба к будущим моим критикам состоит в том, чтобы соглашаться или не соглашаться со мною. Большинство мнений, выраженных до сих пор об «Ясной Поляне», похоже на следующее: «свобода воспитания полезна, нельзя отрицать этого/но выводы, до которых доходит «Ясная Поляна», крайни и односторонни». . z
Л. Н. Толстой
206
ктивно не хотим употреблять эти понятия в точном и настоящем их смысле; но понятия эти существуют и имеют право существовать отдельно. В Германии существует ясное подразделение понятий — Erzi-ehung (воспитание) и Unterricht (преподавание). Признано, что воспитание включает в себя преподавание, что преподавание есть одно из главных средств воспитания, что всякое преподавание носит в себе воспитательный элемент (erziehliges Element). Понятие же образование (Bildung) смешивается либо с воспитанием, либо с преподаванием. Немецкое определение, самое общее, будет следующее: воспитание есть образование наилучших людей, сообразно с выработанным известной эпохой идеалом человеческого совершенства. Преподавание, вносящее нравственное развитие, есть хотя и не исключительное средство к достижению цели, но одно из главнейших средств к достижению ее, в числе которых кроме преподавания есть постановление воспитываемого в известные, выгодные для цели воспитания, условия — дисциплина и насилие (Zucht).
Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан, как тело, гимнастикой (der Geist muss geziichtigt werden).
Образование (Bildung) в Германии, в обществе и даже иногда в педагогической литературе, как сказано, или смешивается с преподаванием и воспитанием, или признается явлением общественным, до которого нет дела педагогике. Во французском языке я даже не знаю слова, соответствующего понятию образование: education, instruction, civilisation1 — совершенно другие понятия. Точно так же и в английском нет слова, соответствующего понятию образование.
Германские педагоги-практики иногда даже вовсе не признают подразделения воспитания и образования; то и другое сливается в их понятии в одно целое, нераздельное. Беседуя со знаменитым Дистерве-гом, я навел его на вопрос об образовании, воспитании и преподавании. Дистервег с злой иронией отозвался о людях, подразделяющих то и другое, — в его понятии то и другое сливаются. А вместе с тем мы го-
Мне кажется, мало сказать: это крайность, надо указать причину, доведшую до крайности. Выводы мой основываются не на одной теории, а на теории и на фактах. В обоих отношениях я прошу только одного: или полноты и серьезности презрения, или полноты и серьезности согласия или возражения. Из всех мыслей и недоумений, выраженных в первых статьях об «Ясной Поляне», более всех требующими объяснений показались мне мысли в статье журнала для «Воспитания». В ней особенно поразили меня две мысли. Одна замечательная мысль относится к значению литературного языка как явления ненормального и случайного. Об этом вопросе поговорим впоследствии. Теперь же займемся исключительно разъяснением тех вопросов о праве вмешательства школы в дело воспитания, которые рецензент ставит следующим образом:
«Ожидая дальнейших результатов от полной свободы учения, предоставленной ученикам Яснополянской школы, мы не можем, однако, не обратить внимания на следующее: чем же должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания? И что значит это невмешательство школы в дело воспитания? Ужели можно отделять воспитание от учения, особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?»
I IL Толстой
Воспитание и образование
207
корили о воспитании, образовании и преподавании и ясно понимали друг друга. Он сам сказал, что образование носит в себе элемент воспитательный, который заключается в каждом преподавании.
Что же значат эти слова, как они понимаются и как должны быть понимаемы?
Я не буду повторять тех споров и бесед, которые имел с педагогами об этом предмете, ни выписывать из книг тех противоречащих мнений, которые живут в литературе о том же предмете, — это было бы слишком длинно, и каждый, прочтя первую педагогическую статью, может проверить истину моих слов, — а здесь постараюсь объяснить происхождение этих понятий, их различие и причины неясности их понимания. I1 понятии педагогов воспитание включаете себя нрепогтавание.
Так называемая наука педагогика занимается только воспитанием и смотрит на образовывающегося человека как на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления — книги, рассказы, требования запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемой стеной от влияния мира, и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с мельницами, я говорю о том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых самых лучших передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде школа обстроена кругом китайской стеной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, потому что признает за собой право знать что нужно для образования наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое вневоспитательное влияние; так поступает и практика воспитания.
На основании такого взгляда, естественно, смешиваются воспитание и образование, ибо признается, что, не будь воспитания, не было бы и образования. В последнее же время, когда смутно начала сознаваться потребность свободы образования, лучшие педагоги пришли к убеждению, что преподавание есть единственное средство воспитания, но преподавание принудительное, обязательное, и потому стали смешивать все три понятия: воспитание, образование и обучение.
По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть действие одного человека на другого и включает в себя три действия: 1) нравственное или насильственное влияние воспитателя, — образ жизни, наказания, 2) обучение и преподавание и 3) руковождение жизненными влияниями на воспитываемого. Ошибка и смешение понятий, по нашему убежде
Л. Н. Толстой
208
нию, происходят оттого, что педагогика принимает своим предметом воспитание, а не образование и не видит невозможности для воспитателя предвидеть, соразмерить и определить все влияния жизни. Каждый педагог соглашается, что жизнь вносит свое влияние и до школы, и после школы, и, несмотря на все старание устранить ее, и во время школы. Влияние это так сильно, что большей частью уничтожается все влияние школьного воспитания; но педагог видит в этом только недостаточность развития науки и искусства педагогики и все-таки признает своей задачей воспитание людей по известному образцу, а не образование, т. е. изучение путей, посредством которых образуются люди, и содействие этому свободному образованию. Я соглашаюсь, что Unterricht (учение, преподавание) есть часть Erziehung (вос-шдания), но образование включает в себя то и другое.
„ воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на которое педагогика не может не обратить внимания: предметом же педагогики должно и может быть только образование. Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и свободное, искусства, науки, жизнь — всё образовывает?]
Образование вообще понимается или как последствие всех тех влияний, которые жизнь оказывает на человека (в смысле «образование человека», мы говорим — образованный человек), или как самое влияние на человека всех жизненных условий (в смысле «образование немца, русского мужика, барина», мы говорим — человек получил плохое образование или хорошее и т. п.). Только с этим последним мы имеем дело.
Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим: они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком. «Спартанцы воспитывали мужественных людей». «Французы воспитывают односторонних и самодовольных».) Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение — оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно, и когда преподавание исключительно, т. е. преподаются только те предметы, которые восийтатель^чш^ и инстинктивно
сказывается каждому ГСколькобы мы ни старались сливать раздельное и подразделять неразделимое и подделывать мысль под порядок существующих вещей — истина очевидна.
^Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие од-
11 1 одетой
Воспитание и образование
209
иого лица на другое с целью образовать такого человека, который нам! кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей,) имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведе-) ния, а другого — сообщать уже приобретенное им(ГПреподавание, Un-icrricht, есть средство как образования, так и воспитания.^Различие воспитания от образования только в насилии, право на которое приз-/ наст за собою воспитание. Воспитание есть образование насильствен-4 нос. Образование свободной
Воспитание — французское education, английское education, немец-' кое Erziehung — понятия, существующие в Европе, образование же есть понятие, существующее только в России и отчасти в Германии, где имеется почти соответствующее слово — Bildung. Во Франции же н Англии это понятие и слово вовсе не существует. Civilisation есть просвещение, instruction есть понятие европейское, непереводимое по-русски, означающее богатство школьных научных сведений или пере-ц.зчу их, но не есть образование, включающее в себя и научные знания, и искусства, и физическое развитие.
Я говорил в 1-м номере «Ясной Поляны» о праве насилия в деле образования и старался доказать, что, во-1-х, насилие невозможно, во-’ х, не приводит ни к каким результатам, или к печальным, в-3-х, что насилие это не может иметь другого основания, кроме произвола (черкес учит воровать, магометанин убивать неверных). Воспитания как предмета науки нет. Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу, выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли и потому не могущее быть пониженным основанием разумной человеческой деятельности — науки.
Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость — чувство зависти, возведенное в принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, т. е. больше испорченным.
Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, который, на мои увещания и подолыцения отдать славного 12-летнего своего сынишку ко мне в Яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «Оно так-то так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с собой и хвастается тем, что 12-летний сынишка научился обдувать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались? Разве не точно так же пропитывают своим духом профессора в
Л. Н. Толстой
210
университетах и монахи в семинариях? Мне не хочется доказывать то, что я раз уже доказывал, и то, что слишком легко доказать: что,воспи-тание, как умышленное формирование людей по известным образцам’, не плодотворно, не законно й не возможно. Здесь я ограничусь одним вопросокцПрава воспитания не существует. Я не прйзнаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания. Чем вы докажете это право? Я не знаю и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для нас не существующее право одного человека делать из других людей таких, каких ему хочется. Докажите это право, но только не тем, что факт злоупотребления властью существует и давно уже существовал. Не вы истцы, а мы, — вы же ответчики. Мне уже несколько раз устно и печатно возражали на мысли, выраженные в «Ясной Поляне», так, как успокаивают неспокойное дитя. Мне говорили: «Без сомнения, воспитывать так, как воспитывались в средневековых монастырях, без сомнения, это нехорошо, но гимназии, университеты — совсем другое дело». Другие еще говорили: «Без сомнения, это так, но, приняв во внимание и т. д. такие-то и такие-то обстоятельства, надо согласиться, что иначе невозможно». Такой прием возражений, мне кажется, обличает не серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так: имеет или нет один человек право на воспитание другого? Нельзя отвечать — нет, но однако же... Необходимо ответить: да или нет. Если да, то жидовская синагога, дьячковское училище имеют столь же законное право существования, как все ваши университеты. Если нет, то и ваш университет как воспитательное заведение столь же незаконен, если только он не совершенен и все не признают его таковым. Я не вижу средины, и не по одной теории, но и в действительности. Для меня одинаково возмутительны гимназии со своей латынью и профессор университета со своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни студент не имеют свободы выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих родов воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно, что курсы учения наших высших учебных заведений будут в XXI столетии казаться нашим потомкам столь же странными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средневековые школы? Так легко прийти к тому простому заключению, что если в истории человеческих знаний не было абсолютных истин, а одни ошибки постоянно сменялись другими, то на каком основании принуждать молодое поколение усваивать те знания, которые наверное окажутся ошибочными? Скажут и говорили: если так было всегда, то о чем вы хлопочете! Так и должно быть. Я никак не вижу этого. Если люди всегда убивали друг друга, то из этого никак не следует, чтобы это всегда так должно было быть и чтобы убийство нужно было возводить в принцип, особенно если бы найдены были причины этих убийств и указана возможность обойтись без них. Главное же, зачем вы, признавая общее человеческое право воспитания, осуждаете дурное воспитание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию,
I 11 Голстой Воспитание и образование 211
осуждает религия, глядя на университеты, осуждает правительство, осуждает общество. Или признать за каждым право или ни за кем. Я не нижу средины. Наука должна решить вопрос: имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не сказать правды? Ведь университет не любит поповского образования и говорит, что нет ничего хуже семинарий; духовные не любят университетского образования и говорят, что пет ничего хуже университетов, что это только школы гордости и атеизма; родители осуждают университеты, университеты осуждают кадетские корпуса, правительство осуждает университеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здравая мысль в живом, не мертвом народе ввиду таких вопросов не может заниматься составлением картинок для наглядного обучения, ей необходимо ответить на эти вопросы. А будет ни эти мысль называться педагогика или нет — это все равно. Есть два ответа: или признать право за тем, к кому мы ближе или кого мы больше любим или боимся, как делает это большинство (поп я, то считаю семинарии лучше всего; военный я, то предпочитаю кадетский корпус; студент, то признаю одни университеты; так делаем мы все, только обставляя свои пристрастия более или менее остроумными доводами и вовсе не замечая, что все наши противники делают то же самое), или ни за кем не признавать права воспитания. Я избрал этот последний путь и старался доказать почему.
Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей Европе, как скоро не совершенно свободны, не имеют другого основания, как произвол, и столь же уродливы, как монастырские школы. Я^ прошу будущих критиков не стушевывать моих выводов: или я вру, или! ошибается вся педагогика, средины не может быть. Итак, до тех пор1 пока не будет доказано право воспитания, я не признаю его. Но тем не менее, не признавая права воспитания, я не могу не признавать самого явления, факта воспитания, и должен объяснить его. Откуда взялось воспитание и тот странный взгляд нашего общества, то необъяснимое противоречие, вследствие которого мы говорим: эта мать дурна, она не имеет права воспитывать свою дочь — отнять ее у матери; это заведение дурно — уничтожить его; а это заведение хорошо — надо поддержать его? Вследствие чего существует воспитание?
ЛЕсли существует веками такое ненормальное явление, как насилие^ ^Образовании, — воспитание, то причины этого явления должны коре-/ «иться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2k в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле — у нас, | в кругу чиновников и дворянства).^
’Первая причина состоит в том,"что отец и мать, какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, или по крайней мере такими, какими бы они желали быть сами. Стремление это так естественно, что нельзя возмущаться против него. До тех пор пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их
Л. Н. Голсгои
сын; так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то^стестренным.
Вторая причина, порождающая явление воспитания, есть религия. Как скоро человек — магометанин, жид или христианин, твердо верит, что человек, не признающий его учение, не может быть спасен и губит свою душу навеки, он не может не желать, хотя насильно, обратить и воспитать каждого ребенка в своем учении.
Повторяю еще раз: религия есть единственное, законное и разумное основание воспитания? —
Третья, и самая существенная, причина воспитания заключается в потребности правительств воспитать таких людей, какие им нужны для известных целей. На основании этой потребности основываются кадетские корпуса, училища правоведения, инженерные и другие школы. Если бы не было слуг правительства, не было бы государства. Стало быть, и эта причина имеет неоспоримые оправдания.
Четвертая причина, наконец, лежит в потребности общества, того общества в темном смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники.
Замечательно то — я прошу читателя, для ясности последующего, обратить на это обстоятельство особое внимание — замечательно то, что в науке и литературе встречаются постоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят: родители развращают своих детей, а кажется, как естественно, чтобы отец и мать желали сделать своих детей такими же, как они сами); встречаются нападки на религиозное воспитание (кажется, год тому назад вся Европа стонала за одного жи-денка, воспитанного насильно христианином; а нет ничего законнее желания дать попавшемуся мне ребенку средство вечного спасения в той единственной религии, в которую я верую); встречаются нападки на воспитание чиновников, офицеров; а как же необходимому для всех нас правительству не образовывать для себя и для нас служителей? Но на образование общественное не слышно нападок. Привилегированное общество со своим университетом всегда право, а несмотря на то, оно воспитывает в понятиях, противных народу, всей массе народа, и не имеет оправдания, кроме гордости. Отчего это? Я думаю только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим потому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа, надо прислушиваться к нему.
Возьмите в наше время и в нашем обществе какое хотите общественное заведение — от народной школы и приюта для бедных детей до женского пансиона, до гимназии и университетов, во всех этих заведениях вы найдете одно непонятное, но никому не бросающееся в глаза явление. Родители, начиная с крестьян, мещан до купцов и дворян, жалуются на то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимназий и университетов, которые сделают из наших детей безбожников-вольнодум-
I I IОЛСТ0Й
Воспитание и образование
213
цсв. Крестьяне и мещане не хотят школ, приютов и пансионов, чтобы нс сделали из их детей-белоручек и писарей вместо пахарей. Вместе с гем все воспитатели, без исключения, от народных школ до высших учебных заведений, заботятся об одном — воспитать вверенных им детей так, чтобы дети эти не были похожи на своих родителей. Некоторые воспитатели наивно признаются, некоторые, хотя не признаваясь, считают сами себя образцами того, чем должны быть, а родителей — образцами той грубости, того невежества и тех пороков, какими не должны быть их воспитанники. Воспитательница, уродливое, изломанное жизнью создание, полагающая все совершенство человеческой природы в искусстве приседать, надевать воротнички и во французском языке, конфиденциально сообщает вам, что она мученица своих обязанностей, что все ее труды воспитания пропадают даром от невозможности удалить совершенно детей от влияния родителей, что воспитанницы ее, начинавшие уже забывать русский язык и начинавшие скверно говорить по-французски, начинавшие забывать обращение с кухарками, возню на кухне и бегание босиком, а славу богу, выучившие уже Александра Македонского и Гваделупу, при свидании с домашними — увы! — забывают все это и усваивают вновь свои тривиальные привычки. Воспитательница эта не только, не стесняясь перед своими воспитанницами, будет подтрунивать над их матерями или вообще над всеми женщинами, принадлежащими к их кругу, но она считает своей заслугой посредством иронии над прежней средой воспитанниц переменить их взгляд и понятия. Я не говорю уже о той искусной материальной обстановке, которая должна совершенно изменить весь взгляд воспитываемых. Дома все удобства жизни — вода, пироги, хорошая провизия, хорошо приготовленный обед, чистота и удобство помещения — всё зависело от трудов и забот матери и всего семейства, больше трудов и забот — больше удобства, меньше трудов и забот — меньше удобства. Простая штучка, но, я смею думать, больше поучительная, чем французский язык и Александр Македонский. При общественном же воспитании это постоянно-жизненное возмездие за труд до такой степени устранено, что не только не будут хуже или лучше обед, чище или чернее наволочки, лучше или хуже натерты полы — будет ли ученица о том заботиться или нет, но у нее нет даже своей келейки, своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать по-своему, нет возможности из лоскутков и лент сделать себе наряд. «Ну, что, лежачего не бьют, — скажут девять десятых читателей; — что и говорить о пансионах и т. п.». Нет, они не лежачие, они стоячие — и крепко стоячие на опоре права воспитания. Пансионы нисколько не уродливее гимназий, университетов. В основании тех и других лежит один и тот же принцип: признанное за одним человеком или небольшим собранием людей право делать из других людей таких, каких им хочется. Пансионы не лежачие — их существует и будет существовать тысячи, потому что они имеют такое же право на образование, как воспитательные гимназии и университеты. Разница разве в том, что
Л. Н. Толстой
214
мы не признаем почему-то права за семьёй воспитывать как ей угодно, отрываем ребёнка от развратной матери и помещаем в приют, где его исправит испорченная воспитательница.
Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кричим против семинарий и монастырских школ, мы не признаем этого права и за правительством, мы недовольны кадетскими корпусами, школами правоведения и т. п., но у нас недостает силы отрицать законность заведений, в которых общество, т. е. не народ, но высшее общество, признает за собой право воспитывать по-своему, — пансионы для девиц и университеты. Университеты? Да, университеты. Я позволю себе анализировать и этот храм премудрости. С моей точки зрения, он ни на шаг не только не ушел вперед от женского заведения, но в нем-то и лежит корень зла — деспотизм общества, на который не поднимали еще руку.
Как пансион решил, что нет спасения без инструмента, называемого фортепьяно, и языка французского, так точно один мудрец или компания таких мудрецов (пускай под этой компанией будут разуметь представителей европейской науки, от которой мы будто бы преем-ствовали нашу организацию университетов, всё-таки эта компания мудрецов будет очень, очень малочисленна в сравнении с той массой учащихся, для которой в будущем организован университет) учредила университет для изучения решительно всех наук в их высшем, самом высшем развитии и, не забудьте, учредила такие заведения в Москве, в Петербурге, в Казани, в Киеве, в Дерпте, в Харькове, завтра учредит еще в Саратове, в Николаеве; где только захочется, там и учредится заведение для изучения всех наук в их высшем развитии. Я сомневаюсь, чтобы мудрецы эти придумали организацию такого заведения. Воспитательнице еще легче: для нее есть образец — она сама. Здесь же образцы слишком разнообразны и сложны. Но положим, что такая организация придумана, положим — что еще невероятнее, — что у нас есть люди для таких заведений. Посмотрим на деятельность такого заведения и его результаты. Я говорил уже о невозможности доказать программу какого бы то ни было учебного заведения, тем менее университета, как не готовящего ни к какому другому заведению, но прямо к жизни. Я повторю только, в чем не могут не согласиться все непредупрежденные люди, что доказать необходимость подразделения факультетов нет никакой возможности.
Как воспитательница, так и университет считают первым условием допущения к участию в образовании оторванность от первобытной среды. Университет, общим правилом, принимает только учеников, прошедших семилетний искус гимназического курса и живущих в большом городе. Малая часть вольнослушающих проходит тот же гимназический курс, только не с помощью гимназий, а домашних учителей.
Прежде чем вступить в гимназию, ученик должен пройти курс уездного и народного училища.
Я попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю и глубоко
' Н. Толстой
Воспитание и образование
215
мысленные сравнения положения дела в европейских государствах, просто говорить о том, что происходит на наших глазах в России.
Надеюсь, все согласны, что назначение наших воспитательных учреждений состоит преимущественно в распространении образования между всеми сословиями, а не в поддержании образования в исключительно завладевшем им сословии, т. е. что мы не столько заботимся о том, чтобы были образованны сыновья какого-нибудь богача или вельможи (эти найдут себе образование если не в русском, то в европейском заведении), сколько нам дорого дать образование сыну дворника, третьей гильдии купца, мещанина, священника, сыну бывшего дворового и т. п. Я не говорю о крестьянине — это были бы далеко неисполнимые мечтания. Одним словом, цель университета — распространение образования на наибольшее число людей. Возьмем для примера сына мелкого городского купца или мелкого местного дворянина. Мальчика прежде всего отдают учиться грамоте. Учение это, как известно, состоит мз зубрения непонятных славянских речей, продолжающегося, как известно, три-четыре года. Вынесенные из такого учения знания оказываются неприложимыми к жизни; нравственные привычки, вынесенные оттуда же, состоят в неуважении к старшим, к учителям, иногда в воровстве книг и т. п. и, главное, в праздности и лени.
Кажется, излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что он может выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной праздности. По возвращении из такой школы девять десятых родителей, в особенности матерей, находят своих детей отчасти испорченными, физически расслабленными и отчужденными; но потребность сделать из них людей с успехом в свете побуждает отдать их дальше, в уездное училище. В этом заведении обучение праздности, обману, лицемерию и физическое расслабление продолжаются с большей силой. В уездном училище еще видишь здоровые лица, в гимназии — редко, в университете — почти никогда. В уездном училище предметы преподавания еще менее приложимы к жизни, чем в первом. Тут начинаются Александр Македонский, Гваделупа и мнимое объяснение явлений природы, ничего не дающее ученику, кроме ложной гордости и презрения к родителям, в котором пример учителя поддерживает его. Кто не знает этих учеников, глубоко презирающих весь простой, необразованный народ на том основании, что они слышали от учителя, что Земля кругла и что воздух состоит из азота и кислорода! После уездного училища та глупая мать, над которой так мило подтрунивают писатели повестей, еще больше тужит над физически и нравственно изменившимся детищем. Наступает гимназический курс с теми же приемами экзаменов и принуждения, развивающими лицемерие, обман и праздность, и сын купцы или мелкопоместного дворянина, не знающего, где сыскать работника или приказчика, учит уже наизусть французскую, латинскую грамма
Л. Н. Толстой
216
тику, историю Лютера и на не свойственном себе языке изощряется писать сочинения о выгодах представительного образа правления. Кроме всей этой, ни к чему не приложимой мудрости он учится уже деланию долгов, обманам, выманиванию у родителей денег, распутству и т. п. наукам, которые свое окончательное развитие получают в университете. Здесь, в гимназии, мы уже видим окончательное отречение от дома. Просвещенные учителя стараются возвысить его над его природной средой, с этой целью ему дают читать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; все это не потому, чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность, а чтобы вообще развить его, как они это называют. И гимназист на основании смутных понятий и соответствующих им слов: прогресс, либерализм, материализм, историческое развитие и т. п., — с презрением и отчуждением смотрит на свое прошедшее. Цель наставников достигнута, но родители, и в особенности мать, еще с большим недоумением и грустью смотрят на своего измоз-жденного, чужим языком говорящего, чужим умом думающего, курящего папиросы и пьющего вино, самоуверенного и самодовольного Ваню. Дело сделано, «и другие такие же, — думают родители, — должно быть, так надо», и Ваня отправляется в университет. Родители не смеют сказать самим себе, что они ошиблись.
В университете, как сказано уже, редко кого увидишь со здоровым и свежим лицом, и ни одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно, смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый литератор и чиновник.
Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложим к жизни, и преподают их точно так же, как заучивают псалтырь и географию Ободовского. Я исключаю только предметы опытные, как то: химию, физиологию, анатомию, даже астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, как то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены — переходные или выпускные, это все равно. Я вижу высокомерное презрение профессоров, читающих эти строки. Они не удостоят меня даже озлоблением и не снизойдут с высоты своего величия для того, чтобы доказать писателю повестей, что он ничего не понимает в этом важном и таинственном деле. Я это знаю, но никак не могу вследствие того удержать выводов рассудка и наблюдательности. Никак не могу я вместе с гг. профессорами признать невидимо совершающегося над студентами таинства образования, независимо от форйы и содержания лекций профессоров. Не признаю я всего этого так же, как не признаю столь же таинственного, никем не объясненного образовательного влияния класси
1 Н. Толстой
Воспитание и образование
217
ческого воспитания, о котором уже не считают нужным спорить. (Только бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по характеру людей ни утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить латинскую грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать в переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития человека нужно стоять три часа на одной ноге. Это нужно доказать не одним опытом. Опытом доказывается всё, что годно. Псалтырник опытом доказывает, что лучшее средство выучить грамоте — это заставить учить псалтырь; башмачник говорит, что лучшее средство выучить мастерству — заставлять ребят два года таскать воду, рубить дрова и т. д. Таким путем докажете всё, что угодно.. Все это я говорю только к тому, чтобы защитники университетов не говорили бы мне об историческом значении, о таинственном образовательном влиянии, об общей связи государственных воспитательных учреждений, не приводили бы мне в пример оксфордские, гейдельбергские университеты, а позволили бы мне рассуждать по простому и здравому смыслу и сами бы рассуждали так же. Я знаю только то, что, поступая в университет 16—18 лет, для меня, по факультету, в который я поступил, уже определен круг моих занятий, и определен совершенно произвольно. Я прихожу на какую-нибудь лекцию из предписанных мне по факультету: я обязан не только слушать всё, что читает мне профессор, но и заучить это, если не слово в слово, то предложение в предложение. Если я не выучу всё это, профессор не даст мне необходимого аттестата при выпускном или переводном экзамене. Я не говорю уже о злоупотреблениях, повторяющихся сотни раз. Для того чтобы получить этот аттестат, я должен исполнить любимые привычки профессора: или сидеть всегда на первой лавке и записывать, или иметь испуганный или веселый вид на экзамене, или иметь одинаковые убеждения с профессором, или посещать аккуратно его вечера (это не мои выдумки, а мнения студентов, которые можно всегда слышать в каждом университете). Слушая лекции, я могу не соглашаться с взглядом профессора, могу на основании чтений по предмету, которым занимаюсь, находить, что лекции профессора плохи, — я всё-таки должен их слушать или по крайней мере выучивать.
В университетах существует догмат, который не высказывается профессорами, это догмат папской непогрешимости профессора. Мало того, образование студентов профессором совершается, как и у всех жрецов, тайно, келейно и с требованием благоговения от непосвященных и студентов. Как скоро профессор назначен, профессор начинает читать, и, будь он глуп от природы, поглупей он во время исполнения своей должности, отстань он совершенно от науки, будь он недостойным по характеру человеком, он продолжает читать, пока продолжает жить, и нет студентам никакого средства выразить свое удовольствие или неудовольствие. Мало того, что, что читает профессор, остается тайной для всех, кроме студентов. Может быть, это происхо
Л. Н. Толстой
218
дит от моего невежества, но я не знаю книг — руководств, составленных из чтений профессоров. Если и бывали такие курсы, то в пропорции одного на сотню.
Что это такое значит?! Профессор преподает науку в высшем образовательном заведении, — положим, историю русского права или гражданское право, — стало быть, не знает эту науку в высшем ее развитии, стало быть, он так умел соединить все различные взгляды на науку или выбрать один из них, современнейший, и доказать, почему это так, — за что же он лишает всех нас, всю Европу, плодов своей мудрости и передает их только слушающим его студентам? Неужели ему неизвестно, что существуют хорошие издатели, платящие хорошие деньги за хорошие книги, что существует литературная критика, оценивающая литературные произведения, и что студентам было бы гораздо удобнее читать его книгу дома, лежа на кровати, чем записывать его лекции! Если каждый год изменяется и дополняется наука, то каждый год могли бы являться новые, дополнительные статьи. Литература и общество были бы благодарны. Отчего же они не печатают своих курсов? Я бы желал объяснить это равнодушием к литературному успеху, но, к несчастью, вижу, что те же жрецы науки не отказываются напечатать легонькую политическую статейку, иногда не касающуюся их предмета. Я боюсь, что тайна университетского преподавания происходит оттого, что 90 из 100 курсов, будь они напечатаны, не выдержат нашей неразвитой литературной критики. Почему непременно нужно читать, а не дать студентам в руки хорошую книгу, свою или чужую, одну, или две, или десять хороших книг?
То условие, что в университете нужно читать профессору и непременно от себя, принадлежит к догматам университетской практики, в которую я не верю и которую доказать невозможно. «Изустная передача запечатлевается более в умах и т. д.», — скажут мне; все это несправедливо. Я знаю себя и многих других, составляющих не исключение, но общее правило, которые при устной передаче ничего не понимают и понимают хорошо только тогда, когда спокойно дома читают книгу. Изустная передача имела бы значение только тогда, когда студенты имели бы право оппонировать и лекция была бы беседа, а не урок. Тогда бы только мы, публика, не имели права требовать оглашения от профессоров тех руководств, по которым они 30 лет сряду учат наших детей и братьев. Йринтеперещнем же порядке чтение лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавный-по важности, с которой он совершается.
Я не приискиватель средств для исправления университетов; я не говорю, что, допустив на лекциях право студентов на возражения, можно было бы осмыслить университетское преподавание. Насколько я знаю профессоров и студентов, мне кажется, что в этом случае студенты будут школьничать, либеральничать, профессора не будут в состоянии хладнокровно, не прибегая к власти, вести прения, и что дело пойдет еще хуже. Но из этого, по моему мнению, никак не следует, чтобы сту
L Н. Толстой
Воспитание и образование
219
денты обязаны были молчать, а профессора имели право говорить все, что им вздумается; из этого только следует, что все университетское устройство стоит на ложных основаниях.
Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее — собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, не известные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самих университетах, в кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов. Как кадетские корпуса приготавливают офицеров, как училища правоведения — чиновников, так университеты приготовляют чиновников и людей университетского образования. (Это, как всем известно, особый чин, звание, каста почти.) Университетские происшествия последнего времени объясняются для меня самым простым образом: студентам позволили выпускать воротнички рубашек и не застегивать мундиров, хотели перестать наказывать их за непосещение лекций, и вследствие того все здание чуть не рушилось и не пало. Чтобы поправить дело, есть одно средство: йновь сажать в карцер за непосещение лекций, возобновить мундиры. Еще бы лучше, на образец английских учреждений, наказывать за неудовлетворительные успехи и за неблагонравие и, главное, ограничить число студентов числом нужных людей. Это будет последовательно, и при таком устройстве университеты будут давать нам таких людей, каких давали прежде. Университеты, как заведения для образования членов общества, в тесном смысле высшего чиновничьего общества, разумны; но как только захотели сделать из них заведения для образования всего русского общества, оказалось, что они не годятся. Я решительно не понимаю, на каком основании в кадетских корпусах признаны необходимыми мундиры и дисциплина, а в университетах, где преподавание точно такое же — с экзаменом, принуждением, с программой и без права возражения и уклонения от лекций учащихся, — почему в университетах говорят о свободе и думают обойтись без средств кадетских корпусов! Пускай пример германских университетов не смущает нас; нам нельзя брать пример с немцев: для них свят всякий обычай, всякий закон, а для нас, к счастью или несчастью, наоборот.
Вся беда как в университетском деле, так и общем деле образования происходит преимущественно от людей, не рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому полагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те самые люди, которые на мысли, выраженные мною в «Ясной Поляне», отвечают так: «Правда, уже прошло время бить детей за учение и наизусть долбить, все это очень справедливо, но согласитесь, что без розги иногда невозможно и что надо иногда заставлять учить наизусть. Вы правы, но зачем крайности и т. д.
Л. Н. Толстой
220
Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали враги правды и свободы. Они затем только будто бы соглашаются с вами, чтобы, овладев вашей мыслью, изменять и подрезывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны с тем, что свобода необходима; они только говорят это потому, что боятся не преклониться перед кумиром нашего века. Они только, как чиновники, в глаза хвалят губернатора, в руках которого власть. Во сколько тысяч раз я предпочитаю моего приятеля попа, который прямо говорит, что рассуждать нечего, когда люди могут умереть несчастными, не узнав закона божия, и потому, какими бы то ни было средствами, необходимо выучить ребенка закону божию — спасти его. Он говорит, что принуждение необходимо, что учение — учение, а не веселье. С ним можно рассуждать, а с господами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то господа порождают то особенное положение университетов, в котором мы теперь находимся и в котором необходимо какое-то особенное искусство дипломатии, в котором, по выражению Фигаро, неизвестно, кто кого обманывает: ученики обманывают родителей и наставников, наставники обманывают родителей, учеников и правительство и т. д. во всех возможных перемещениях и сочетаниях. И нам говорят, что это так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суйте носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и особенные знания, — это историческое развитие. А кажется, как дело просто: одни хотят учить, другие хотят учиться. Пускай учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.
Я помню во время самого разгара дела костомаровского проекта университетов я защищал проект перед одним профессором. С какой неподражаемой глубокомысленной серьезностью, почти шепотом, внушительно, конфиденциально сказал мне профессор. «Да знаете ли вы, что такое этот проект? Это не проект нового университета, а это проект уничтожения университетов», — сказал он, с ужасом вглядываясь в меня. «Да что же? Это было бы очень хорошо, — отвечал я,—потому что университеты дурны». Профессор не стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах доказать мне, что университеты хороши, так же как и никто не в силах доказать этого.
Все люди — все человеки, даже профессора. Ни один работник не скажет, что нужно уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он это рассчитывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут о большей свободе университетов, похожи на человека, который, выводя в комнате молодых соловьев и убедившись в том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из клетки и старался на бечевке дать им свободу, а потом удивлялся бы, что соловьи не выводят и на бечевках, привязанных им за ноги, и что только повывихали себе ноги и подохли.
Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною. Но университеты были уч
'... If. 1 О.1С1ОИ
Воспитание и обраюаание
221
реждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя — для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, — и таковых приготавливают университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу.
Обыкновенно говорят, что недостатки университетов происходят от недостатков низших заведений. Я утверждаю наоборот: недостатки народных, особенно уездных, училищ происходят преимущественно от ложности требования университетов.
Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 студентов, составляющих аудиторию, десять человек на первых двух лавках имеют тетрадки и записывают; из этих десяти шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, из выработанного школой и гимназией прислужничества, еще четверо записывают с искренним желанием записывать весь курс, но на четвертой лекции бросают, и много-много, что двое или трое из них, т. е. х/15 или х/20 курса, составят лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В математическом предмете, да и во всяком другом, пропущена одна лекция — и связь потеряна. Студент справляется с руководством, и ему, естественно, приходит простая мысль — не нести бесполезную работу записывания лекций, когда то же самое можно сделать по руководству или чужим запискам. В математическом и всяком другом предмете, что должен знать каждый учитель, постоянно следить за выводами и доказательствами учителя не в состоянии ни один ученик, как бы учитель ни старался быть подробен, ясен и увлекателен. Очень часто с учеником случается минута затмения или развлечения, ему нужно спросить, как, почему, что было прежде; связь потеряна, а профессор идет дальше. Главная забота студентов (и я теперь говорю только о самых лучших) — достать записки или руководство, по которым можно будет приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции или потому, что нечего делать и еще внове не наскучило, или чтобы доставить удовольствие профессору, или, в редких случаях, из моды, когда один из e ra профессоров сделался популярен и посещать его лекции сделалось умственным щегольством между студентами. Почти всегда, с точки зрения студентов, лекции составляют пустую формальность, необходимую только ввиду экзамена. Большинство в продолжение курса не занимается своими предметами, а посторонними, программа которых определяется кружком, в который попадают студенты. На лекции смо-грят обыкновенно так же, как солдаты смотрят на учение; на экзамен гак же, как на смотр, как на скучную необходимость. Программа, составляемая кружком, в последнее время мало разнообразна; большей частью она состоит в следующем: чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Пи
Л. HL Толстой
222
саревых и т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие — чтение запрещенных книг, и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается всё не по достоинству, но по степени запрещения. Я видел у студентов кипы переписанных книг, без сравнения бблыпие, чем бы был весь курс четырехлетнего преподавания, и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева. Еще занятие составляют собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, например о восстановлении независимости Малороссии, о распространении грамотности между народом, о сыгрании сообща какой-нибудь штуки над профессором или инспектором, которая называется требованием объяснений, о соединении двух кружков — аристократического и плебейского и т. п. Все это иногда бывает смешно, но часто мило, трогательно и поэтично, какой часто бывает праздная молодежь. Но дело в том, что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопоместного дворянина или 3-й гильдии купца, которых отцы отдали в надежде сделать из них себе помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именьице производительным, другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю. Мнение о профессорах в этих кружках существует следующее: один совершенно глуп, говорят про профессора, хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был способен, третий нечист на руку и выводит только тех, кто исполняет такие-то его требования, четвертый — посмешище рода человеческого, тридцать лет сряду читающий безобразным языком написанные свои записки, — и счастлив тот университет, в котором на 50 профессоров есть хоть один уважаемый и любимый студентами.
Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год происходило хотя не изучение предмета, но ежегодное выдалбливание записок перед экзаменом. Теперь такое выдалбливание происходит два раза: при переходе из второго курса в третий и перед выпуском. Тот самый жребий, который прежде кидался четыре раза в продолжение всего курса, теперь кидается два раза.
Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или выпускные — это все равно, непременно должно существовать и бессмысленное долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман студентов. Не знаю, как испытывали это устроители университетов с их экзаменами, но, как мне показывает здравый смысл, как я не раз испытывал это и как соглашались со мной многие и многие, экзамены не могут служить мерилом знаний, а служат только поприщем для грубого произвола профессоров и для грубого обмана со стороны студентов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, поссорившимся перед тем с
’ IL Толстой
Воспитание и образование
223
моими домашними, несмотря на то что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса. В следующем году я из русской истории получил 5, потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого лучше память, мы выучили по одному вопросу наизусть, и мне достался на экзамене тот самый вопрос, который я выучил, как теперь помню — биография Мазепы. Это было в 46-м году. В 48-м году я держал экзамен на кандидата в Петербургском университете, и буквально ничего не знал, и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, готовясь из каждого предмета не более недели. В нынешнем, 62-м году я знал студентов, кончающих курс и начинающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом. В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделывали билеты; знаю, что один профессор поставил студенту 3, а не 5 за то, что студент позволил себе улыбнуться. Профессор заметил ему: «Нам можно улыбаться, а вам нельзя» — и поставил 3.
Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за исключение. Всякий, знающий университеты, знает, что приведенные случаи составляют правило, а не исключение, что иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы можем привести миллионы случаев. Найдутся изобличители и с подписью фамилий по министерству народного просвещения, как нашлись по министерству внутренних дел и юстиции. Что было в 48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, пока организация останется та же. Уничтожение мундиров и переводных экзаменов ни на волос не помогает делу свободы; это новые заплаты на старые платья, только разрушающие старое платье. Вино новое не вливают в мехи старые. Я льщу себя надеждой, что даже защитники университетов скажут: «Да, это правда или правда отчасти. Но вы забываете, что есть студенты, с любовью следящие за лекциями, и для которых вовсе не нужны экзамены, и главное — вы забываете образовательное влияние университетов». Нет, я не забываю ни того, ни другого: о первых — о студентах, самостоятельно работающих, — скажу, что для них не нужны университеты с их организацией, им нужны только пособия — библиотека, не лекции, которые бы они могли слушать, а беседы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли дадут университеты знания, соответственные их среде, если только они не хотят быть литераторами или профессорами. Главное же, и это меньшинство подпадет тому влиянию, которое называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием университетов. Второе же возражение — об образовательном влиянии университетов — принадлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде всего должны быть доказаны. Кто и чем доказал, что университеты имеют это образовательное влияние, откуда вытекает это таинственное образовательное влияние? Общения с профессорами нет — нет вытекающих из него до
JI. H. Толстой
224
верия и любви, есть в большинстве случаев боязнь и недоверие. Нового, чего-нибудь такого, чего не могут узнать из книг студенты, они не узнают от профессоров. Образовательное влияние лежит, стало быть, в сообществе молодых людей, занятых одним и тем же? Без сомнения; но заняты они большей частью не наукой, как вы думаете, а приготовлением к экзаменам, обманом профессоров, либеральничаньем и всем тем, что вселяется обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи и искусственно соединенных вместе посредством духа товарищества, возведенного в принцип и доведенного до самодовольства, до самохвальства. Я не говорю об исключении — о студентах, живущих в семьях, — они менее подчиняются образовательному, т. е. развращающему, влиянию студенчества; не говорю и о тех редких исключениях, преданных смолоду науке людях, которые за постоянным трудом тоже не вполне подчиняются этому влиянию. И в самом деле, люди готовятся для жизни, для труда; каждый труд требует кроме привычки к нему порядка, правильности и, главное, умения жить и обращаться с людьми. Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая, и учится, обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением, — и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающих его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студента за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-л итераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченной молодостью и не находящие себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу.
Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспитанника одним из лучших воспитанников во всех отношениях. Он приезжает в семью; ему все чужие — и отец, и мать, и родные. Он не верит их ве-рой,,он не желает их желаниями, он молится не их богу, а другим кумирам. Отец и мать обмануты, и сын часто желает с ними слиться в одну семью, но уже не может. То, что я говорю, не есть фраза, не есть фан-
L IL Толстой
Воспитание и образование
225
газия. Я знаю очень многих студентов, вернувшихся в свою семью, которые часто оскорбляли верования своих родных, которые почти во всех убеждениях — о браке, о чести, о торговле — расходились со своей семьей. Но дело сделано, и родители утешают себя мыслью, что такой век нынче и что нынешнее образование таково; что не в их среде, но по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру, найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-своему будет счастлив. К несчастью, в 9 случаях из 10 и тут родители ошибаются. Кончивши курс, студент не знает, куда приклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает. Единственное приложение их — в литературе и в педагогике, т. е. в науке образовать опять таких же ненужных людей/ Странное дело! Образование редко в России, следовательно, оно должно бы быть дорого, высоко ценимо. А на деле выходит наоборот. Машинисты нам нужны, у нас их мало, и машинистов выписывают из всей Европы и платят им дорого; отчего же образованные университетски (образованных людей у нас мало) говорят, что они нужны, а мы не только ими не дорожим, но им деваться некуда? Отчего человек, кончивший курс у плотника, каменщика и штукатура, получает сейчас и везде 15—17 рублей, если он работник, и в месяц 25 рублей, если он мастер, рядчик, а студент рад, если он получит 10? (Я исключаю литературу и чиновничество, а говорю о том, что может получить студент в практической деятельности.) Отчего помещики, оставшиеся теперь при землях, которые надо сделать производительными, платят SOO-SOO рублей мужикам-бурмистрам, а не платят и 200 рублей студентам-камералистам и естественникам? Отчего на железных дорогах рядчики-мужики заведуют тысячами рабочих, а не студенты? Отчего если студент и получает место с хорошим жалованьем, то получает его не за знания, приобретенные в университете, а за знания, приобретенные после? Отчего юристы-студенты делаются офицерами, а математики и естественники чиновниками? Отчего хлебопашец, проживя год в довольстве, приносит домой 50—60 рублей, а студент, проживя год, оставляет 100 рублей долгу? Отчего народ платит народному учителю 8, 9, 10 рублей в месяц, все равно — будет ли он из дьячков или студентов? Отчего купец не берет в приказчики г не женит на своей дочери и не принимает в дом студента, а мальчика из крестьян? Оттого, скажут мне, что общество не умеет еще ценить образование; оттого, что студент-учитель не станет бить детей, студент-управляющий не станет обманывать рабочих, закабалять их задатками, студент-купец не станет обмеривать и обвешивать; оттого, что плоды образования не так ощутительны, как плоды *рутины и невежества. Это очень может быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мне противное. Студент или вовсе не умеет вести дело, ни честно, ни бесчестно, или если умеет, то ведет дело только сообразно со своей природой, с тем общим строем нравственных привычек, который выработала в нем жизнь независимо от школы. Я знаю одинаковое число честных студентов и нестуден гон,
JI. H. Толстой
226
и наоборот. Но положим даже, что университетское образование развивает чувство справедливости в человеке и что вследствие этого необразованные люди предпочитают студентам необразованных же людей и ценят их выше студентов. Положим, что это так; почему же мы, так называемые образованные люди и имеющие средства, дворяне, литераторы, профессора, не можем никуда употребить студентов, кроме как на службу? Я не говорю о службе на том основании, что служебное вознаграждение не может быть принято мерилом заслуг и знаний. Каждому известно, что студент, отставной офицер, промотавшийся помещик, иностранец и др., как только им почему-нибудь нужно приобрести средства к жизни, едут в столицу и по мере связей и степени требований получают место в администрации или если не получают, то считают себя оскорбленными. Я потому не говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю: почему тот же самый профессор, который давал образование студентам, дает 15 рублей в месяц дворнику или 20 рублей плотнику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он очень жалеет, что не может ему дать места, кроме похлопотать у чиновников, или предлагает ему 10 рублей за место переписчика или корректора по издаваемому сочинению, предлагает ему такое место, в котором приложимы только знания, вынесенные из уездного училища — умение писать? Мест же, где бы была приложима история римского права,—греческая литература и интегральное исчисление, нет и не может быть.
Итак, в большей части случаев вернувшийся к отцу сын из университета не оправдывает надежд родителей и, чтобы не стать бременем для семейства, должен занять место, в котором нужно только уметь писать и в котором он становится в конкуренцию со всеми русскими грамотными. Одним преимуществом остается чин, но только для службы, в которой большое значение имеют связи и другие условия; другим преимуществом является либерализм, ни к чему не приложимый. Мне кажется, что пропорция людей из университета, занимающих вне службы места с хорошим вознаграждением, будет необычайно мала. Верные статистические сведения о деятельности вышедших студентов были бы важным материалом для науки об образовании и, я убежден, доказали бы математически ту истину, которую я стараюсь выяснить только по предположениям и по имеющимся данным, — истину, что люди университетского образования мало нужны и направляют свою деятельность преимущественно на литературу и педагогику, т. е. на повторение того же вечного круга образования таких же не нужных для жизни людей.
Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источника возражений, естественно представляющегося у большинства моих читателей: почему то же самое высшее образование, которое оказывается столь плодотворным в Европе, было бы неприложимо у нас? Европейские общества образованнее русского общества, почему и русскому обществу не идти тем же путем, которым шли европейские народы?
. Н. 1 илстои
Воспитание и образование
227
Возражение это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первых, что тот путь, по которому шли европейские народы, есть наилучший путь, во-вторых, что все человечество идет одинаковым путем и, в-третьих, что образование наше прививается народу. Весь Восток образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем европейское человечество. Если бы было доказано, что молодое животное, волк или собака, воспитано мясом и доведено этим путем до полного развития, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая молодую лошадь или зайца, я не могу их довести до полного развития иначе, как посредством мяса? Разве из этих противоположных опытов я бы мог заключить, наконец, что, воспитывая молодого медведя, ему необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы показал мне, что для него необходимо и то и другое. Если мне и кажется, что естественнее образование мяса посредством мяса, и если прежние опыты подтверждают мое предположение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, если он всякий раз выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу. Точно то же происходит с европейским как по форме, так и по содержанию, образованием, которое перенесено на нашу почву. Организм русского народа не ассимилирует его, а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая его организм, ибо он живет. Эта пища кажется нам не пищей, как трава для хищного животного, а между тем исторически физиологический процесс совершается, и эта не признаваемая нами пища ассимилируется организмом народа, и огромное животное крепнет и вырастает.
1. Образование и воспитание суть два различных понятия.
2. Образование свободно и потому законно и справедливо; воспитание насильственно и потому незаконно и несправедливо, не может быть оправдываемо разумом и потому не может быть предметом педагогики. ’
3. Воспитание как явление имеет свое начало: а) в семье, Ь) в вере, с) в правительстве, d) в обществе.
4. Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды, — каковы университеты и университетское образование. ?
Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образование и воспитание и определив границы того и другого, мы можем ответить на вопросы, становимые г. Глебовым в журнале «Воспитание» (1862, № 5), вопросы, первые естественно представляющиеся при серьезном вникновении в дело образования.
1) Чем должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания?
2) Что значит невмешательство школы в дело воспитания?
3) Возможно ли отделять воспитание от учения, особенно перво
начального, когда воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?
(Мы уже объяснили, что форма высших учебных заведений, в которых вносится воспитательный элемент, нисколько не служит для нас образцом. Мы отрицаем порядок высших учебных заведений не только так же, как и низших, но видим в них начало всего зла.)
Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы только перестановим их: 1) Что значит невмешательство школы в воспитание? 2) Возможно ли такое невмешательство? 3) Чем при невмешательстве в воспитание должна быть школа?
Во избежание недоразумений я должен прежде объяснить, что я разумею под словом школа, которое я в том же смысле употреблял в первой статье 1-го номера журнала «Ясная Поляна». Под словом школа я разумею не дом, в котором учатся, не учителей, не учеников, не известное направление учения, но под словом школа я разумею в самом общем смысле сознательную деятельность образовывающего на образовывающихся, т. е. одну часть образования, все равно как бы ни выражалась эта деятельность: учение артикулу рекрутов есть школа, чтение публичных лекций — школа, чтение курса в магометанском училище — школа, собрание музеума и открытие его для желающих — также школа. v
—« Отвечаю на первый вопрос. [Невмешательство школы в дело образования значит невмешательство школы в образование (формирование) верований, убеждений характера образовывающегося. Достигается же это невмешательство предоставлением образовывающемуся полной свободы воспринимать то учение, которое согласно с его требованием, которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, насколько он хочет, и уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого он не хочет/)
а-Пу б личные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ без вмешательства в воспитание Университеты суть образцы школ с вмешательством в дело воспитания. В этих заведениях ученики связаны определенным курсом, программой, сводом избранных наук, связаны требованием экзаменов и преимущественно основанным на них, т. е. на экзаменах, предоставлением прав, или, что будет вернее, лишением прав в случае несоблюдения предписанных условий. (Студент четвертого курса, держащий экзамен, находится под угрозой одного из самых тяжких наказаний — потери 10- или 12-летних гимназических, университетских лишений и отнятия тех выгод, ввиду которых он переносил 12-летние лишения.) В этих заведениях все придумано так, чтобы ученик под угрозой наказания принимал на себя в образовании тот воспитательный элемент и усвоил те верования, те убеждения и тот характер, который нужен учредителям заведения|2^инудительный воспитательный элемент, состоящий в исключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказания, столь же силен и очевиден для серьезного наблюдателя, как и в том заведении с телесными наказаниями,
II. Толстой Восшпание и образование 229
которое поверхностные наблюдатели ставят в противоположность университетам.
ЦТубличные лекци^, число которых постоянно возрастает в Европе и Америк^ттглоооротГ, не только не обязывают к известному кругу знаний, не только не требуют внимания к себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще известных пожертвований, чем самым доказывают, в противоположность первым, совершенную свободу выбора и оснований, на которых они строятся. Вот что значит вмешательство и невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, что такое невмешательство, возможное для высших заведений и взрослых людей, невозможно для низших и малолетних, потому что мы не видим тому примеров — публичных лекций для детей и т. п., я отвечу, что если мы не станем слишком частно понимать слово школа, а примем его в вышеприведенном определении, то мы для низшей степени знания и для низших возрастов найдем много свободно-образовательных влияний без вмешательства в воспитание, соответствующих высшим заведениям и публичным лекциям. Таково выучивание грамоте от то^ варищей и братьев, таковы народные детские игры, об образовательном влиянии которых мы намерены поместить статью в одном из будущих номеров, таковы публичные зрелища, райки и т. п., таковы картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и таковы, наконец, попытки Яснополянской школы.
Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй: возможно ли такое невмешательство? Теоретически доказать эту возможность нельзя. Одно, подтверждающее эту возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди вовсе не воспитанные, т. е. подлежащие одним свободно-образовательным влияниям, люди народа, — свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное, нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но, может быть, и это положение для многих требует доказательства? О доказательствах этих мне еще придется говорить многое.. Приведу только одно. Почему зоологически не улучшается поколение воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается; порода воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от нескольких воспитанных поколений и сотню невоспитанных детей народа и сравните их в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности, даже и во всех отношениях, — громадное преимущество поражает вас на стороне детей невоспитанных поколений, и тем более будет преимуществ, чем будет ниже возраст, и наоборот. Это страшно сказать по выводам, на которые оно наводит, но оно так. Окончательно же доказать эту возможность невмешательства в низших школах для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего не говорят в пользу такого мнения, можно только добросовестным изучением тех свободных влияний, посредством которых образовывается народ, всесторонним обсуждением вопроса и длинным рядом опытов и отчетов о них.
Л. Н. Толстой
230
Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания? Школа, как сказано выше, есть сознательная деятельность обра-^зовывающего на образовывающихся. Как ему действовать, чтобы не /преступить пределов образования, т. е. свободы? Отвечаю: школа 'должна иметь одну цель — передачу сведений, знаний (instruction), не / пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований и характера; цель ^должна быть одна—наука, а не результаты ее влияния на человеческую личность. Школа не долЖна-пытаться предвидеть последствий, производимых наукой, а .передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее примененияЦПкола не должна считать / ни одну науку, ни целый свод наук необходимыми, а должна переда-' вать те знания, которыми владеет, предоставляя учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройство и программы школы должны основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении в необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности,}^. е. на знаниях учителейДОбъясняюсь примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не составляю программы, основанной на своих теоретических воззрениях, и на основании этой программы не приискиваю учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призвание к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие они могут. Само собою разумеется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в том, что мы уже не будем пробовать преподавание тех предметов, которые неохотно слушаются, мы не станем в русской деревне читать испанский язык, астрологию или географию, точно так же, как в этой же деревне купец не откроет лавки хирургических инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть требова-» ния на наше предложение, но окончательный судья наш будет только опыт, и мы не считаем себя вправе открыть ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только с тем условием, чтобы у нас брали на 10 фунт, дегтя фунт имбира или помады. Мы не заботимся о том, какое употребление из наших товаров будут делать потребители, мы верим, что они знают, что им нужно, и для нас достаточно труда угадать их потребность и только отвечать на нее. Очень может быть, что найдется учитель зоологии, один учитель средней истории, один — закона божия и один — топографического искусства. Ежели эти учителя будут в | состоянии сделать свои уроки занимательными, уроки эти будут полезны, несмотря на свою кажущуюся несоответственность и случайность. Я не верю в возможность теоретически придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука, при свободном ее преподавании, гармонически укладывается в свод знаний каждого человека. Скажут, может быть, что при такой случайности программы могут войти в курс бесполезные, даже вредные науки и что многие науки невозможно будет преподавать, потому что ученики недостаточно для них приготовлены. На это отвечу, во-первых, что вредных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было и что есть здравый смысл и потребность учеников, которые при свободе учения не допустят беспо-
И /о,четой
Воспитание и обра кование
231
юзные или вредные науки, если бы такие были; во-вторых, что подго-
товленные ученики нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не шающим арифметики, чем с учеником, плохо знающим ее, легче читать среднюю историю ученикам, не учившим наизусть древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в университете дифференциалы и интегралы или историю русского гражданского права и который не может читать арифметику и русскую историю в первоначальной школе, — я не верю, чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и заслуги и даже возможности в хорошем преподавании одной части предмета. Главное же — я убежден, что предложение будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени наук будет достаточное число и учеников и учителей.
Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежит в естественной потребности при передаче знаний образовывающего образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать это стремление невозможно, и я о том никогда не думал; существование его только сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя запретить человеку, любящему
и читающему историю, пытаться передать своим ученикам то истори-
ческое воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учи-
тель считает лучшим при изучении математики или естественных наук; напротив, это предвидение воспитательной цели поощряет учителя. 11о дело в том, что воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный элемент, положим, в истории, в математике передается только тогда, когда учитель страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно. В противном же случае, т. е. когда где-то решено, что такой-то предмет действует воспитательно, и
одним предписано читать, а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, т. е. не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука носит в себе воспитательный элемент (erziehliges Element); это справедливо и несправедли-
во, и в этом положении лежит основная ошибка существующего парадоксального взгляда на воспитание.[Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании-ч<аук, в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении
учителя к ученику. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят тебя, и науку, и ты воспитаешь
их; но ежели ты сам не любишь ее, то, сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияниями, тут опять
Л. Н. Толстой
232
мерило, одно спасение — опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние, т. е. им одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.
Итак, чем же будет школа при невмешательстве в воспитание?
Всесторонней и самой разнообразной сознательной деятельностью .одного человека на другого с целью передачи знаний (instruction), не принуждая учащегося ни прямо насильственно, ни дипломатически воспринимать то, что нам хочется. Школа не будет, может быть, шко-,ла, как мы ее понимаем, — с досками, лавками, кафедрами учитель-> скими или профессорскими, — она, может быть, будет раек, театр, библиотека, музей, беседа, — свод наук, программы, может быть, везде сложатся совсем другие. (Я знаю только свой опыт: Яснополянская школа с тем подразделением предметов, которые я описывал, в продолжение полугода, частью по требованиям учеников и их родителей, частью по недостаточности сведений учителей, в пол год а совершенно изменилась и приняла другие формы.)
Но что же делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством? — слышу я. — Так и не будет, коли их не понадобится ученикам и вы не сумеете их сделать хорошими. — Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д. — слышу я. — Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? И пр. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь, я только говорю, что если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу так же, как и вы. — Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? — опять слышу я.
Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут еще сотню лет, и будут только потому, что «лекарство куплено, надо его выпить» (как говорил один больной). Едва" ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут все готовые заведения — училища, гимназии, университеты — и вырастут свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения.
Об общественной деятельности на поприще народного образования
Что же такое это наглядное обучение, этот Anschauungsunterricht? Что такое эта благотворная мысль Песталоцци, про которую нам прожужжали уши в Европе и в последнее время у нас, в России? Очень часто бывает, что явится новое слово и смутное связанное с ним понятие, все начинают говорить это слово, цитировать его, как что-то всем из-
i 11. Толстой Об общественной деятельности на поприще народного 233
образования
постное, и неспециалисты дела и даже специалисты, но люди, никогда не исследующие основательно мысль, начинают верить, что под этим « мутным понятием томится какая-то мысль, целая история мысли — наука. Новое поколение уже преклоняется перед признанным авторитетом, и никто не хочет дать себе труда добраться до источника. Это самое случилось и у нас с системой Песталоцци, которой вовсе нет и не иыло, и с так называемым наглядным обучением, которого нет и быть не может. Что же такое Песталоцци и знаменитая система, которой столько злоупотребляют в наше время? Песталоцци никогда не был теоретиком, никогда не был философом и не оставил нам никакой системы педагогии. Когда я только начинал заниматься педагогией, имя 11есталоцци и ссылки не его мнимую теорию ввели меня в то же заблуждение, в какое и теперь вводится большинство публики. Перечитавши все, что написал Песталоцци и что о нем было писано, я убедился, что Песталоцци никогда не был философом, не положил никаких новых оснований в так называемую науку воспитания. Песталоцци новее не был философом, как Руссо, Кант и Шеллинг, — он был только хороший учитель. Ежели уж непременно отыскивать заслугу 11есталоцци в философии педагогии, то заслуга эта будет состоять в дальнейшем развитии и применении мысли Руссо — свободы и самодеятельности в воспитании. Простая мысль эта, разбросанная по разным мелким сочинениям, оставшимся от Песталоцци, состоит в следующем:
«Человек в действительной жизни поучается не одним только словом, но и посредством всех своих чувств. В старой же школе способ поучения состоял только в передаче слова; почему бы и в школе не ввести способа передачи, действующего на все чувства ребенка?
Мысль эта совершенно ложна и совершенно справедлива. Ошибка состоит в том предположении, что школа дает какие-нибудь новые понятия. Ошибка состоит в неуместном сравнении школы с жизнью, в перенесении жизненных приемов в школу и школьных приемов в жизнь. Одинаково неуместно и невозможно в школе толковать ребенку о частях человеческого тела или о форме стола, как неуместно и невозможно пойти с детьми за грибами и за ягодами и во время прогулки принуждать их наблюдать споры в грибе и семена в ягоде. Забыто то, что школа не дает никаких новых понятий, не может давать их, и что не в том ее задача. Задача школы состоит только в классификации понятий, вынесенных из жизни: ни учить говорить, ни учить считать, ни учить созерцать невозможно в школе. Задача школы состоит только в приведении к сознанию уже усвоенного процесса выражения мысли, счисления и созерцания. В этом-то и состоит несправедливость мысли Песталоцци. Вследствие этого оказалась неисполнимость этой мысли для самого изобретателя ее, и из этой-то ошибки вытекали и вытекают все несообразности и ничем не объяснимые нелепости об щенаглядного учения у нас и за границей. Дошли до того, что обучаю т детей смотреть, щупать и слушать. Обучают детей говорить и сообра
Л. Н. "Голстон
?34
жать, что один и один — будет два (арифметка по методе Грубе, Паульсона); доходят до того, что с четырех-пятилетнего возраста вместо игр устраивают поучительное занятие и беспрестанно заставляют детей наблюдать и соображать (Kindergarten Frobel). Но для того чтобы дойти до такого непонятного бессмыслия, необходима должна была быть в мысли Песталоцци другая, глубокая, справедливая сторона, которая и ввела в заблуждение всю толпу педагогов-практиков, не имеющих привычки вдумываться в сущность вопросов. Эта сторона действительно существует и состоит в следующем. Школа не дает никаких новых понятий, а только непосредственное, жизненное отношение к предметам поучает и дает новые понятия. Школа никогда этого не делала и не в состоянии этого делать. Но школа никогда не понимала своего бессилия в этом отношении и забывала то, что, если бы жизнь не подготавливала к ней учеников, не давала бы ее ученикам того материала, который будет перерабатывать школа, школа была бы бессильна и бесплодна. Школа в своем наивном заблуждении предполагала, что она одна дает понятия, знания, и с досадой и упреком смотрела на жизнь, которая в своей свободной конкуренции отбивала у нее учеников. Школа думала, что без участия жизни она может давать знания ученикам, но такое знание могло быть воспринимаемо только одним путем — памятью. Так учились и буквы, и склады, и процесс чтения, и история, и география, и даже математика. Ежели оставалось у нас что-нибудь в голове из выученных наизусть букв, то только потому, что формам линий и сочитаниям их мы научились из жизни. Ежели оставалось что-нибудь из выученного наизусть, то только потому, что мы узнавали человеческое слово, которому мы научились из жизни. Ежели помнишь что из истории, то только потому, что узнал из жизни, что такое царь, что такое народ, что такое война. Ежели помнишь таблицу умножения, то только потому, что в жизни научился считать бабки. Жизнь бессознательным путем дает понятия, школа сознательным путем приводит их в гармонию и систему.
Идеал выгоднейших условий для образования составляет соразмерность приобретения знаний из жизни и классификации их в школе.
Школа в своем заблуждении для высших классов общества давно уже перешла ту границу, которую ей положила природа человека. Она захватила область жизни.
Детей заучивают
Школа классифицирует мнимые знания, которых не успел ребенок приобрести в жизни, предполагая, что она может давать новые понятия. Происходит странная путаница: школа думает давать новые понятия и ничего не дает. Человек же приобретает новые понятия только бессознательным путем. Свобода есть наивыгоднейшее условие для приобретения наибольшего числа понятий. Школа лишает ученика свободы, и потому, полагая, что она дает ему новые понятия, только
L Н. Толстой Об общественной деятельности на поприще народного 235
образования
лишает его возможности приобретать, стесняет его школьными условиями. Ребенок, с пяти лет отданный в школу, приобретает свои понятия только из школьной жизни, из отношений с товарищами, с учителями, с книгами. Понятия его малы и узки, и потому в школе легко классифицировать их.
Старая история, про которую я уже говорил не раз. Трудно учить мальчика, которому мы дадим простор своеобразного жизненного развития, трудно написать книгу для так называемого простолюдина, а учить мальчика, который прошел уже через всю расставленную для него суживающую и умаляющую лестницу учебных предметов, ребенка, которого мы уже прогнали сквозь строй школьной жизни, того ребенка учить легко. Ничего нет легче, как быть профессором университета, и ничего нет труднее, как быть народным учителем: в первом случае все вопросы и трудности уже предвидены, во-втором — ширина требований поражает и ужасает нас.
Мысль Песталоцци справедлива в том смысле, что действительные знания приобретаются только непосредственным, жизненным путем и что для увеличения массы понятий необходимо усиление способов приобретения по этому пути. Но мысль его несправедлива в смысле перенесения непосредственного способа приобретения в школу. Непосредственный способ приобретения понятий требует полной свободы, и потому руководить им невозможно. Непосредственный способ приобретения знаний требует не только внимания, но увлечения, полного отдания себя впечатлению, а такого увлечения нельзя искусственно производить в школе.
Для того чтобы ребенок узнал, что такое лошадь и все части ее тепа, надобно, чтобы он когда-нибудь полюбил всей душой свою или отцовскую живую лошадь. А этой любви и вытекающего из нее внимания и наблюдательности нельзя произвести в школе.
Школа обязана только классифицировать те увлечения и вытекающие из них наблюдения, которые произвела жизнь. Классификация же эта есть наука, имеющая свои законы, а не предметные уроки и наглядное обучение, не имеющие никакой внутренней системы и потому никакого обаяния на ум учеников. Есть наука — есть жизнь; каждая имеет свои требования, свои законы и свою притягивающую силу для человека. Наука есть только сознание жизни — среднего ничего не было и быть не может.
Только наука, не удовлетворяющая жизни, отставшая от нее, и еще более отставшая педагогика могут бросаться в такие компромиссы, как наглядное обучение. Только ребенку, дошедшему до того, что он в жизнь свою не видал дерева и колоса ржи, может быть необходимо показывать эти предметы в школе. До тех пор пока ребенок не полежит в поле ржи, бессознательно выдергивая и переламывая колосья, пока не заглядится на взмахи топора мужика, срубающего дерево, не поковыряет ногтем коры этого дерева, — до тех пор он не узнает ни ржи, ни дерева, несмотря на наилучшие выставки разрезов дерев и ко
J! H. Tojctom
?36
лосьев. Грустно подумать о тех тысячах мучимых детей, о тех тысячах забитых детских светлых и поэтических душах вследствие того несчастного недоразумения, которое принято называть великой мыслью великого Песталоцци. Ежели уже хотите, чтобы это была великая мысль, то она может быть великой только в следующем смысле: главное средство для приобретения знания есть непосредственное отношение к явлениям жизни. Непосредственное отношение к явлениям жизни требует полной свободы. Школа, учитель, книга суть такие же явления жизни, как и родительский дом, работа, лес и небо. Для того чтобы в школе приобреталось наибольшее число знаний, пусть отношения учеников к школе и учителю, к книге будут так же свободны, как и отношения этих учеников к природе и ко всем жизненным явлениям.
Лучший признак несостоятельности методы наглядного обучения есть упадок этой системы в Германии и Швейцарии. Кроме самых уродливых толкований о том, что стол имеет четыре ножки и пол внизу, а потолок неверху и т. п. (и то в заведениях для самых малолетних детей), я ничего на практике не встретил в Германии и Швейцарии из методы наглядного обучения. Точно так же, как и тот путешественник, которого приводит г. Перевлесский в своем предисловии «предметных уроков», я нашел мнимое приложение мнимой мысли Песталоцци только в нормальных лондонских школах. Там я не раз присутствовал на уроках — object lessons1, и наблюдения над практикой окончательно убедили меня в ложности теории. Любезный директор лондонской школы по моей просьбе сделал экзамен ученикам из предметного урока on cotton — хлопчатая бумага. Надо было видеть спокойную самоуверенность директора, когда он и учитель делали вопросы о том, какое растение — хлопчатая бумага, как оно обрабатывается, где производится, каким путем приходит к нам и как выделывается на фабриках. Ученики отвечали отлично, очевидно, наизусть. Я попросил позволения сделать от себя несколько вопросов. Я спросил, к какому классу растений принадлежит хлопчатая бумага; спросил, какая почва нужна для нее; спросил, сколько весит кубический фут хлопчатой бумаги при укладке; спросил, как укладывается хлопчатая бумага; что стоит перевозка ее, нагрузка и выгрузка; какие химические составные части ее; что сделается с ней, когда она подмокнет; как отличить нитяную ткань от бумажной и отчего бумажные произведения не идут прямо к нам в Петербург, а через Англию; какое влияние имело на рабочий класс введение бумаги в употребление и как устроена наилучшая машина для пряжи бумаги. Все эти вопросы, кажется, относились к предмету бумаги, но, разумеется, ответить на них ученики мне не могли. Всякий работник бумажной фабрики ответил бы мне на большинство из них, ученики же отвечали мне на известные вопросы, почему-то усвоенные к предметному уроку бумаги. Они отвечали наизусть о том, что бумага родится в теплом климате, о попытках, которые деланы в Африке и на юге Европы; описывали подробно морской путь;
t '*'• мц- >. i!'.?.iи- й . ji.jHK i ь . Mips; не народного
рассказывали, как впервые была открыта польза бумаги; описывали различные фабрикаты из нее; но, очевидно, нет причины по случаю хлопчатой бумаги отвечать на те вопросы, на которые они отвечали, а не на те, которые я задал. Единственная причина та, что так хотелось учителям; а учителям хотелось оттого, что они другого не знали. Кажется, нечего доказывать, что возьмите не только хлопчатую бумагу, по какой хотите предмет: кусок хлеба, кусок сала—и, описывая этот предмет, вы можете коснуться решительно всех наук. Но вопрос о том, в какой мере вы коснетесь той или другой науки. Тут нет законов и нет границ. Ведь подразделение наук не выдумано каким-нибудь одним немцем, а оно лежит в свойстве человеческой природы. Основания этого подразделения лежат в уме каждого ребенка. Ежели я говорю о хлопчатой бумаге в отношении ботаники, то я должен дать ответ ребенку на все вопросы, которые он только в состоянии сделать мне в этом отношении, т. е. я читаю ему курс ботаники; ежели я говорю о пути, которым проходит хлопчатая бумага, то, чтобы ответить на все его вопросы, я должен прочесть ему курс географии. То же самое в химическом, торговом, историческом отношении. Ежели я не подчиняюсь этим вечным требованиям разума, называемым наукой, для меня пет никакого руководителя, нет никаких границ. Я должен поучать, как поучает сама жизнь, руководствуясь только тем, что приятно и занимательно для ребенка. Ежели же я хочу сам руководить ребенка по этому пути изучения, то я должен найти новые основания подразделения наук. Партизаны предметных уроков как будто и делают это. Они подразделяют науку не так, как прежде подразделяли — на историю, химию, механику и т. д., а подразделяют неизвестно почему на хлопчатую бумагу, капусту, самовар и т. д. Произвол и деспотизм преподавания, при таком способе подразделения, только становится вдвое тяжелее. Прежде произвол состоял только в том, что учат ученика тому, чтб учителя считают полезным, теперь же заставляют учить его, т. е. усваивать себе знания только тем путем, который нравится учителю.
Я был один раз в петербургской воскресной школе и имел случай следить за толкованиями одной дамы своей ученице. Дело шло о посещении тремя странниками Авраама. Авраам омыл ноги своим странникам. Милая наставница не упустила этого случая, чтобы сделать вопрос ученице: почему Авраам омыл ноги странникам, а в наше время этого не делают? Милая наставница объяснила, что тогда ходили пешком, в сандалиях, и по песку; сделала отступление о древней обуви, о пустыне, о корабле пустыни — верблюде и зоологических его свойствах. Толкования эти продолжались минут пять. Ученица еще, видимо, находилась вместе со странниками у входа палатки, и я с ней вместе льстил себя надеждой что теперь дело дошло опять до истории. Но милая наставница, видимо воодушевленная вниманием, с которым я ее слушал, и желая показать себя, перевела дух, собралась с мыслями и вдруг сделала вопрос о том, как теперь переезжают с места на мес
Л. Н. Золетой
238
то, и самым естественным образом дело дошло до пара, локомотива ит. д.
Предметные уроки, которые я слышал в Лондоне, ничем не лучше предметного урока этой дамы. Я предпочитаю даже урок дамы; в нем по крайней мере дан полный простор воображению. В лондонских же предметных уроках установилась какая-то общая казенная мера, имеющая столь же мало основания и требующая так же, как и урок дамы, только покорного заучивания от учеников.
Г. Перевлесский в своих предметных уроках, как бы чувствуя этот недостаток, старается сколь возможно ограничить круг знаний, которые он хочет передать по случаю известного предмета; но нам кажется, что произвол учителя и требование голословного заучивания со стороны учеников не будут уничтожены до тех пор, пока круг предметных уроков не будет сужен до бесконечно малого, т. е. до нуля.
Как сказано выше, прием предметных уроков есть прием жизненный, который не может быть подведен ни под какие формы. Первое и единственное условие его есть свобода.
«Приучать детей со вниманием рассматривать окружающие предметы и при этом с точностью описывать собственные их впечатления, кажется, должно быть первым шагом в деле воспитания», — говорит г. Перевлесский.
Следовательно, г. Перевлесский хочет учить детей созерцанию и разговору. Неужели школе больше делать нечего, как учить детей тому, чему легко и незаметно учит жизнь? Ведь и я, и г. Перевлесский, и каждый 15-летний мальчик знаем все это, никогда не учившись. Мало того, что мы это знаем, — вспоминая свое самое отдаленное детство, я не помню ни одной минуты, где бы мне чувствовался недостаток в умении созерцать и говорить. Отчего же не учить людей дышать и переваривать пищу? Может быть, люди еще были бы лучше, если бы умели делать это по руководству.
У р о к I
Преподаватель. Что это я держу в руке?
Ученики. Кусок стекла.
По моему предположению, ученики скажут: оскреток, черепок или просто стекло.
Преподаватель. Как пишется слово стекло? (Тогда учитель пишет слово стекло посредине доски и говорит классу: это предмет нашего урока.) Вы все рассматривали стекло; что же вы в нем приметили? Можете ли о нем сказать мне что-нибудь?*
Ученики. Оно блестяще.
На первых порах преподаватель не употребляет слова качество, тем более свойство, потому что дети, по всей вероятности, не поймут ни того, ни другого слова и затруднятся ответом; впоследствии из частого употребления этого слова они узнают его значение, и тогда смело будут его употреблять.
• I 1 олсгой Об общее 1 ьенний деятельности на поприще народного 236
обра юзания
По-моему же, на это все ученики скажут, что на стекле пузыри или пятна или оно остро с угла, но никогда ни один не скажет, что оно блестяще. Дети сначала усваивают себе крайности. Для ребенка блестяще солнце, металл на солнце, алмаз, но с понятием стекла он еще не связывает понятия блеска.
Преподаватель. (Тогда преподаватель, написав в заглавии слово: качества, пишет под ним: оно блестяще.) Возьмите его в руку и ощупайте его: что же вы замечаете (ощущаете)?*
Неужели жизнь недостаточно упражняет различные чувства? В то самое время учитель толкует признак гладкости стекла, ученик ощупывает стол снаружи и снизу и сличает.
Слово качество можно написать сверху и поставить две точки, но дать детям понятие о том, что мы разумеем под качеством, невозможно, тем более что, вникнув хорошенько в дело, мы сами не знаем, что такое качество и какое различие качества от явления, сущности и т. п.
Ученики. Оно холодно. (Качество это также пишется под первым.)
Преподаватель. Ощупайте его еще раз, сравните его с губкой, что висит на доске, и скажите, что такое еще вы заметили в стекле**
Боюсь тоже, что, ощупывая стекло, дети не скажут, что оно холодно, гладко и твердо. Они скажут скорее, что оно шершаво, склизко, визжит, как по нем проведешь, что оно пачкается и что оно нетвердо. Самые существенные признаки им так хорошо известны, что они не назовут именно их, а противоположные — нетвердо, шершаво и т. д. Даже при сравнении с губкой их поразит преимущественно различие формы и то, что губку можно уронить, а стекло нельзя, что губка не порежет, а стекло порежет, и тысячи других признаков назовут они, только не существенные — именно потому, что признаки эти слишком хорошо им известны. Эти же признаки, как, например, гладкий и шершавый, они найдут не в сравнении губки и стекла, а в сравнении двух стекол.
Ученики. Оно гладко, оно твердо.
Преподаватель. Кроме этого куска где вы еще видите стекло в классе? Ученики. В окнах (в дверях — если они со стеклами).
Другого сказать не могут ученики, но зачем?
Преподаватель. Посмотрите в окно и скажите, что вы там видите. Ученики. Сад.
* Долг преподавателя — последовательными вопросами непременно упражнять различные чувства.
** Преподаватель, чтобы дать ученикам легче заметить, что стекло гладко, заставляет сравнивать стекло с другим предметом, совершенно ему противоположным по качеству.
JL H. Толстой
240
Я думаю, ученики не скажут: сад, а дерево, дорожку, мужика ит. п., находящееся в саду.
Преподаватель. (Затворяет ставни.) Ну, теперь что вы видите? Ученики. Теперь ничего не видим.
Ученики скажут: видим ставни или: чуть видно вас и т. п.
Преподаватель. Отчего же вы ничего не видите?
Ученики. Оттого, что застят, мешают ставни.
Ученики скажут: оттого, что темно. А отчего темно? Оттого, что ставни закрыты.
Преподаватель. Какую разницу вы замечаете между ставнями и стеклом? Ученики. Сквозь стекло можно видеть, а сквозь ставни — нет.
Ученики скажут: ставни деревянные, а стекла стеклянные. Но положим, учитель будет показывать какой-нибудь предмет сквозь стекло и доску.
Преподаватель. Можете ли вы мне назвать это качество одним словом?
Ученики. Нет.
Преподаватель. Слушайте внимательно, я скажу вам это слово: прозрачно* Что же вы станете разуметь, когда я скажу вам, что такое-то вещество прозрачно?
Что такое вещество? Для ребенка нет ни слова, ни понятия вещества — есть: стекло, стол и т. д.
Ученики: Что сквозь него можно видеть.
Что стекло прозрачно, дети, без сомнения, хорошо знают. Но качество это так обыкновенно, что они могут его и не заметить, пока не выставишь его перед ними. Сознавая качество, но не умея его назвать, дети почувствуют надобность в определенном выражении — термине, чтобы выразить понятие, ими составленное и сознаваемое: тогда учитель дает название этому качеству, как знак для него, чтобы запечатлеть его в их уме и памяти. Чтобы увериться, действительно ли дети поняли и усвоили значение слова, можно потребовать от них применения этого качества к другим предметам.
Чтобы уяснить название этого качества, надо показать происхождение этого слова и сходство его с видеть по значению. Как вы называете тех, у кого глаза не видят? Слепыми. А как называете тех, у кого глаза видят? Зрячими, т. е. видящими. Значит, зрячий и видящий одно и то же означает, значит, что зрит и видит одно и то же? Как говорят про слепого, который стал опять видеть? Прозрел, т. е. стал видеть. Итак, кроме видеть у нас есть еще слово, которое тоже значит: это — зреть; только оно реже употребляется первого; от него-то происходят слова: зрячий, взрачный (видный, пригожий), невзрачный. Что вы разумеете, когда услышите: у нас дом протекает? Что сквозь крышу течет? Какая часть слова указывает на сквозь? Про. Скажите мне несколько слов, у которых было бы приставлено про: пролезать, провертеть. Итак, про значит сквозь, зрачный — видный, следовательно, прозрачный — сквозь-видный.
Н. Толстой
Об общественной деятельности на поприще народного
образования
241
Ответ этот несправедлив. Сквозь стеклянный куб ничего нельзя видеть, а он прозрачен.
Преподаватель. Справедливо. Вспомните другое что-нибудь прозрачное.
Ученики. Вода.
Вода непрозрачна в смысле возможности видеть насквозь, и при понятии воды ученику представится река, колодезь, ведро, графин, сквозь которые нельзя видеть.
Преподаватель. Ежели бы мы уронили это стекло или бросили мяч в окно, что бы тогда случилось с тем или другим?
(С мячом или со стеклом?)
Ученики. Стекло бы легко и скоро разбилось вдребезги. Оно хрупко.
Это правда: Но зачем было это говорить?..
Преподаватель. Что бы сделалось со ставнями, ежели бы я также уронил их?
Ученики. Они бы не разбились.
Преподаватель. Но ежели бы я очень крепко, сильно ударил по ним чем-нибудь твердым, например топором, что бы тогда с ними случилось?
Топором или обухом? Топором разрубил бы, а обухом расшиб бы. Как же учитель, обучающий точности, сам так неточен на каждом шагу! А потому, что точность эта невозможна. Совершенная точность слов будет равняться совершенному отсутствию мысли.
Ученики. Они бы раскололись.
Преподаватель. Можно ли поэтому назвать дерево хрупким?
Ученики. Нет.
Преподаватель. Какие же вещи называются хрупкими?
Ученики. Те, которые легко разбиваются.
Вот качества, которые, вероятно, могут прийти в голову детям при первом взгляде. Все качества эти записываются на доске и, таким образом, могут служить детям упражнением в чтении по складам. Потом все стирается с доски, и, ежели ученики умеют писать, так их заставляют написать урок на доске или в тетради.
Что тут узнали ученики? Что стекло пишется через е, что слово прозрачное происходит от про и зреть, что про означает сквозь (что совершенно несправедливо — простой, противный, проиграл, простился). Остальное всё сказали сами ученики по предположению даже г. Перевлесского Они бы сказали то же самое без вопросов, когда бы им понадобилось. За что же, ради бога, скажите, за что же вы их мучили?
Г. Перевлесский говорит:
Л. Н. Толстой
242
Приучать детей со вниманием рассматривать окружающие предметы и при этом с точностью описывать собственные их впечатления, кажется, должно быть первым шагом в деле воспитания.
Период детства обозначает себя постоянным действием созерцательных способностей.
Что такое созерцательные способности?
Ясно, ими и должно начаться правильное умственное образование. Развитие этих способностей может придать живость личностям сонливым и вялым, степенность и серьезность — ветреным и резвым.
Почему?
В то же время оно может способствовать раздельной ясности понятия.
Что такое — раздельной ясности понятия?
Которая есть прочное основание всех будущих приобретений и без которой все наши суждения шатки и неосновательны, а умозаключения непоследовательны и неубедительны.
Почему?
И со временем, когда круг умственного зрения увеличится, откроются перед ним и длинные страницы истории, и широкое, необъятное поле науки, ум с детства привыкший к точному исследованию, будет удовлетворяться одной достаточной ясностью как в нравоучениях истории, так и в выводах науки.
Что это такое? Неужели тут есть какой-нибудь смысл? И заметьте, это пишет автор многих книг об изучении русского языка, и пишет к сведению преподавателей. Faites се qie je dis, mais ne faites pas ce que je fais — делайте, что я говорю, а не то, что я делаю, — надо сказать учителям предметных уроков, в которых учат детей тому, чего никто не знает.
Перевертываю еще 40 страниц.
Урок IX
Наперсток
Части Качество
внутренняя часть: он полый
наружная металлический
поверхность исколотый (истыканный)
дно белый
кольцо блестящий
край непрозрачный
ободок твердый
ямочки выпуклый (обронный)
Внутренность гладка.
Наружная часть неровна, рябовата.
Употребление: во время шитья предохранять палец от уколотья иглою.
I. Н. Толстой Об общественной деятельности на поприще народного 243
образования
Как г. Перевлесский, так и каждый семилетний мальчик знает все эти признаки, исключая несуществующие слова обронный и т. п. Г. Перевлесский и каждый семилетний мальчик знают еще кроме этих много других качеств наперстка (хотя, по-моему, не может быть качеств у наперстка), что наперсток уже кверху, шире книзу, гладкий внутри, хлопает, когда выдернешь из него палец, катается по столу и много других признаков и частей кроме описанных г. Перевлесским. В наперстке есть верх, низ, середина, разрез, составные части его суть тоже кислород, железо и т. д.
Почему же только выбраны известные качества и известные части предметов? Чтобы ученик произнес их так, как хочет г. Перевлесский, надо только учителю заучить вопросы, а ученику понять, что от него не требуют никакой работы мысли или воображения. Ребенку надо только убедиться, что ему надо как можно глупее отвечать на вопросы учителя. Я бы советовал только каждому, желающему учить по методе г. Перевлесского, прочесть самому всю книгу.
...В числе одобренных комитетом книг есть арифметика по способу немецкого педагога Грубе... Необходимо прочесть ее для того, чтобы испытать то чувство озлобления, оскорбления и грусти, которое испытываю я, занимаясь этой книгой. Начну с начала, с предисловия. Опять во всем виноват несчастный Песталоцци, с каким-то мнимым способом наглядного обучения. Дело, изволите ли видеть, в том, что как для естественных наук Песталоцци будто бы открыл, что естественные науки разделяются не на химию, физику, ботанику и т. д., а на морковь, магнит, говядину и т. д., так и в математике Песталоцци будто бы открыл, что арифметика разделяется не на сложение, вычитание, умножение и деление, а на числа: 2, 3, 4, 5, 6 и т. д. Ведь это неимоверно. Сказали бы, что это клевета, если бы нельзя было привести доказательств, и все это произвел какой-то великий немецкий педагог Грубе, которому мы должны подражать, которого метода в большом ходу в Германии и... наши благодетели-педагоги стараются ввести к нам.
.. .Делить арифметику на четыре действия выдумал не какой-нибудь немец, сидя у себя в кабинете, а такое деление составляет общее свойство человеческого ума. Каждый ребенок, не видавший в глаза учителя, из жизни точно так же, как из старой школы, учится сначала сложению, потом вычитанию, умножению и делению. Найдите новое философское основание делению науки, которое бы обнимало прежнее подразделение науки, тогда вы найдете новые педагогические основания; например, возьмите для основания математики нумерацию и признайте все математические действия только видоизменениями нумерации — и тогда вы будете иметь новое основание педагогической теории; или признайте основанием математики количество отношений величин между собою; или признайте геометрию основанием всякого арифметического вычисления — и тогда у вас будет, может быть, ложная, неполная, новая педагогическая теория, но на основании такой теории вы будете иметь право сделать и новое подразделение. Вместо
JL H Толстой
244
всего этого великие нововводители Грубе и Паульсон, устранив старое подразделение, имевшее своим основанием известные различные приемы сложения, приняли за основание подразделения различное количество единиц. Они делали совершенно то же, что сделал бы нововво дитель в механике, в которой вместо законов сил стал бы учить блоку, ремню, подшипнику и т. д. Гг. эти велят изучать просто числа: 1, 2, 3, 4, забывая то, что числа эти и их отношения выучены без школы каждым ребенком. Видно, что эти господа либо не имели никогда дела с живым ребенком, либо до такой степени утратили способности педагогов — следить и угадывать все пути, которыми все учащиеся доходят до знания, — что они пишут арифметику либо для себя одних, либо для воображаемых детей, воспитанных с детства вне всяких впечатлений числа, для таких детей, которых надо выучить считать так же, как выучивают считать ученую лошадь. Видно, что автор никогда не делал над детьми тех сотен наблюдений, бросающихся на глаза каждому живому учителю, что 1) самодеятельность детей возбуждается только тогда, когда задана им задачка более или менее замысловатая; 2) что дети чрезвычайно любят делать задачи большими отвлеченными числами, без всякого приложения, увлекаясь поэзией чистой математики; 3) что дети терпеть не могут задач, взятых из жизни (для детей гораздо отвлеченнее вопрос о том, сколько взял купец барыша на сотню аршин бархата, чем о том, сколько будет 50 т, помноженные на 100 т); 4) что у детей гораздо прежде развивается способность вычислять, чем способность определенно выражать результаты и процесс вычисления, и это не недостаток, но необходимое условие развития; 5) что требование со стороны учителя ясного выражения результата и процесса вы- ' числения препятствует математическому развитию; 6) что при самодеятельности учеников необходимейшее для них условие есть свобода и увлечение, которые не может производить по заказу учитель, а которого он должен ожидать и с умением им пользоваться; 7) что, несмотря на систематическую порчу учеников в большей части учебных заведений, ученики ждут от взрослого человека — учителя дельного и умного вопроса, и становятся в тупик от вопроса: у Ноя было три сына: Сим, Хам и Афет — кто им был отец? Я помню еще из своего детства, как я мучился над этим вопросом. Вся книжка г. Паульсона составлена из таких вопросов, и всё происходит оттого, что великие педагоги Грубе и Паульсон заботятся о том, как бы учить тому, чему всякий ребенок давным-давно выучился. Заботятся о том способе обучения, который составлен давным-давно господом богом, поставившим разумное существо — человека со дня его рождения в условия пространства, времени и числа. Математика имеет задачей не обучение исчислению, но обучение приемам человеческой мысли при исчислении. Педагогия не может основываться на фантазиях и односторонних опытах. Она основывается только на вечных законах философии и науки, одинаково проявляющихся в высших выражениях мысли и знания и в первобытной душе ребенка. Плохо ли, хорошо ли учили по четырем правилам, но
1.Н Толстой Об общественной деятельности на поприще народного 245
образования
грани четырех правил останутся всегда и в душе ребенка, и в самой пауке, и всякий, выучившийся хоть у дьячка наизусть четырем правилам, сделает из них приложение. Учащийся по Грубе будет только учиться в школе с меньшими удобствами тому, чему учит его жизнь. Появление такой книги, как Паульсона, с своей мнимо-серьезной критикой прежней методы напоминает мне пожар в нашей деревне. Горело на одной стороне реки. Мы таскали воду, ломали, поливали, делали что могли. Вдруг на другой стороне видим безумно несущуюся к нам тройку с человеком, стоящим на телеге, неистово махающим руками и что-то кричащим. Это был сосед-помещик; он на скаку выскочил, упал, потерял фуражку, подбежал к самому берегу и, махая руками, что-то относимое ветром кричал нам, требуя к себе внимания. Действительно, все бросили дело и подошли к реке, чтоб услышать от него совет помощи. «Водой тушите! Водой!» — кричал помещик. — и больше ничего. Мы все переглянулись: и смешно, и досадно, и гадко сделалось нам. Точь-в-точь то же впечатление производит на нас вообще Anschauungsunterricht и в особенности это наглядное обучение в приложении к математике, вторгающееся в педагогику с громкими фразами, требуя к себе внимания и не давая ровно ничего полезного и нового. Необходимо прочесть следующее.
Число «два»
— Сколько у меня грифелей в правой руке?
— В правой руке у вас один грифель.
— Ав левой?
— Также один грифель.
— Вместе это составит два грифеля. Следовательно, сколько у меня грифелей?
— Сколько на столе книг?
— На столе одна книга.
— Як ней прибавлю еще одну книгу; теперь на столе две книги. Одна книга и еще одна книга, сколько составят книг? Одно перо и еще одно перо, сколько перьев? Один камешек и еще один камешек, сколько камешков? Теперь я напишу одну черточку и прибавлю к ней ещё одну, сколько это будет черточек? И т. д.
— Кто знает зверя, у которого есть один рог и еще один рог?
— Сколько рог у коровы? А сколько у лошади?
— Сколько у тебя ушей? Какие части у тебя еще по две?
— У меня два глаза, две щеки, две руки, две ноги.
— Сколько на тебе сапог?
— На мне два сапога.
— Когда две вещи совершенно равны и употребляются всегда вместе, то вместо два говорят пара. Стало быть, сколько на тебе сапог?
— На мне пара сапог.
— А сколько чулок?
— На мне пара чулок.
При случае можно так же объяснить слова оба и двое.
— Вот медная монета; кто ее знает?
— Это копейка.
— Сколько копеек?
— Одна копейка.
— Ну вот еще одна копейка; сколько они составят вместе?
— А вот другая медная монета, больше первых, кто ее знает? Это две копейки, г с за эту одну монету можно получить две маленькие: мы поэтому и можем ее назвать дну и копеечной монетой; обыкновенно же ее называют грошом.
Л. Н. Толстой
246
— Павлуша получил от папеньки одно яблоко и спрятал его; потом он получил одно яблоко и от маменьки; сколько же у него всего яблок? Если у меня есть что-нибудь одно и я прибавлю к нему еще одно, то сколько у меня будет? Стало быть, один и один — сколько?
— В левой руке у меня одна копейка, а в правой — две; в которой больше, в которой меньше? Сколькими копейками в правой руке больше? Сколькими в левой меньше?
— Два грифеля чем больше одного? А один грифель чем меньше двух?
— Ваня получил одно перо, а Коля — два; у которого больше, у которого меньше? Многим ли у Вани меньше, чем у Коли? А многим ли у Коли больше, чем у Вани?
— Чем два больше одного ? И чем один меньше двух?
— Здесь одна тетрадь; сколько тетрадей я должен прибавить, чтобы тут было две тетради?
— Вот два ореха; сколько орехов я должен взять прочь, чтобы остался один орех? А сколько я должен взять прочь, чтобы ни одного не осталось?
— Я написал две черточки; сколько останется, если я сотру одну черточку?
— Солдат лишился на войне одной руки; сколько у него осталось рук? А сколько осталось ног?
— Если из двух вещей у меня одну отнимут, то сколько у меня останется? Стало быть, два без одного сколько? А два без двух? Один без одного? Один без двух?
— Вот тебе, Саша, одна копейка, сколько раз я тебе дал по одной копейке?
— Один раз2.
— И сколько у тебя копеек?
— У меня одна копейка.
— Следовательно, один раз по одной копейке составит сколько копеек?
— Вот тебе, Коля, две копейки; сколько раз я тебе дал по две копейки?
— Один раз.
— Следовательно, один раз по две копейки также?..
— Миша получил от маменьки в воскресенье один бергамот и в понедельник опять один. Сколько раз он получил по одному бергамоту? И сколько он получил всего бергамо-тов?
— Ученику дали за прилежание два стальных пера; это было в понедельник; потом он уже всю неделю ничего не получал; сколько раз он был награжден перьями? И сколько ему досталось перьев?
— Одну вещь я могу подарить сколько раз? А две вещи? Два раза по одной или за один раз обе.
— Один и один — сколько? А один раз один? Сколько один раз два? А два раза один?..
— Вместо раз говорят также жды. Одиножды один? Одиножды два? Дважды один?
— Вот вам, Петя и Саша, два карандаша; поделитесь ими так, чтобы у каждого из вас было ровно (дети совершают раздел), сколько каждый из вас получил?
— Один карандаш.
— Но если бы я вам дал не два, а один карандаш, то как бы вы им поделились?
— Мы бы его разрезали.
— На сколько кусков?
— На два.
— Почему же на два, а не более!
— Потому что нас только двое.
— Ну а если бы один из вас получил большой кусок?
— Нет, мы разрезали бы карандаш на два совершенно равных куска.
— Ну, разрежьте этот карандаш. Хорошо. Если бы мы теперь снова смогли соединить эти два куска, то они составили бы опять что?
— Целый карандаш.
— Так, заметьте же себе, что если что-нибудь целое (карандаш ли, яблоко ли, или другая какая вещь) разбивается на несколько кусков, то эти куски называются частями этого целого. Повторите это. На сколько частей разделили вы карандаш?
— На две неравные части?
— Нет, на две равные.
— А можно ли разделить целое на более частей?
! И. Толстой Об общественной деятельности на поприще народного 247
образования
— Можно.
— А на менее чем на две части?
— Нет.
Во всем этом дети должны убеждаться на деле.
— Если же какая-нибудь вещь разделяется пополам, т. е. не более как на две части, го каждая часть называется второй частью или половиною. Повторите это. Петя, какую часть карандаша ты получил? А ты, Саша? Каждый из вас получил...? Целое имеет < колько половин?
Вопрос об одном и том же должен быть сделан каждому ученику, но всякий раз с некоторым изменением в обороте или содержании.
— Теперь, Ваня и Коля, ваша очередь. Разделите-ка между собой эти две копейки поровну. Сколько у каждого из вас? Ну а если бы я вам дал на раздел эту двухкопеечную монету, то что бы вы сделали?
— Мы бы ее разрубили.
— Вот как: ну, это вам едва ли бы удалось, ведь это не карандаш. Нет, это можно сделать гораздо проще. Кто знает? Двухкопеечную монету нужно разменять на отдельные копейки, т. е. сходить в лавку, и там за эту монету дадут сколько отдельных копеек? С "тало быть, они все равно, что части двухкопеечной монеты. Так какую часть двух копеек получил ты, Ваня? А у тебя, Коля, половина чего? Одна копейка какая часть двух копеек?
— Два мальчика получили яблоко на равный раздел. Сколько каждому досталось? А имеете у них было сколько половин? Одна девочка получила половину двух апельсинов; сколько это? Одному брату дали две груши, а другому — только вторую часть двух груш; сколько получил последний?
— Два мальчика поделились двумя сухарями; кто из них получил больше, кто меньше? У меня на рубашке две запонки, а у тебя одна, сколько раз (или во сколько) у меня более запонок, нежели у тебя? А во сколько у тебя менее, чем у меня?
— Если у меня есть две, булки, то сколько раз я могу съесть по одной? А сколько раз по две булки? Здесь на доске две чёрточки; сколько раз я могу стереть по одной чёрточке? А сколько раз по две? Сколько отдельных копеек содержится в гроше? Сколько раз одна копейка содержится в гроше? Сколько раз (или во сколько) два камешка более одного? Во сколько одна груша менее двух?
— Один и один...? Два состоит из...? Два сколько раз один? Сколько раз можно отпять один из двух? Сколько раз можно отнять два от двух? Сколько раз два содержится в двух? Сколько раз один в одном? Сколько раз один менее двух? Во сколько два более одного?
— Федя купил себе два пера и за каждое перо заплатил одну копейку; сколько же он заплатил за оба пера? Катя купила себе на две копейки яблоков; каждое яблоко стоило одну копейку; сколько же она получила яблок? Вася заплатил за два листа бумаги две копейки; во сколько ему обошелся лист? У Мити была одна копейка, а у брата его Саши вдвое больше; они пошли покупать грифели, и Саша купил себе за все свои деньги два грифеля; сколько же грифелей получил Миша и во сколько обошелся им каждый грифель?
Повторяем, что от учеников необходимо требовать не только вычисления задачи, но и решения} первую задачу, например, они должны объяснить так: если одно перо стоит одну копейку, то два пера стоят вдвое больше, то есть две копейки.
Письменные упражнения те же самые, что и на первой степени. При этом должно обращать внимание, чтобы перпендикулярные и наклонные черточки делались сверху вниз и снизу вверх, а горизонтальные — с правой и с левой стороны, чтобы толстые сменялись тонкими и все были равной величины и по возможности прямые.
Как ни длинна приводимая мною выписка, я прошу читателя прочесть ее всю. Не испытав самому той томительной скуки, которую производят такого рода вещи, нельзя было бы понять и почувствовать всей безнравственности и преступности такой книги, как арифметика Грубе! И уже второе издание! Значит, сколько замучено, испорчено детских душ, сколько испорчено наивных учителей!..
Л. Н. Толстой
248
Прогресс и определение образования
(Ответ г-ну Маркову.
«Русский вестник», 1862, № 5)1
Главные пункты разногласия г. Маркова с нашим взглядом на образование формулированы следующим образом: 1) Мы признаем право одного поколения вмешиваться в воспитание другого. 2) Мы признаем право высших классов вмешиваться в народное образование. 3) Мы не согласны с яснополянским определением образования. 4) Думаем, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. 5) Думаем, что современные школы гораздо ближе отвечают современным потребностям, чем средневековые. 6) Считаем наше воспитание не вредным, а полезным. 7) Думаем, что полная свобода воспитания, как ее понимает граф Толостой, вредна и невозможна. 8) Думаем, наконец, что устройство Яснополянской школы противоречит убеждениям редактора Ясной Поляны.
Прежде чем отвечать на каждый из этих пунктов, мы попытаемся отыскать основную причину разногласия нашего взгляда с взглядом г. Маркова, возбудившим общее сочувстие как педагогической, так и непедагогической публики.
Причина эта заключается в недосказанности нашего взгляда, которую мы постараемся пополнить, и в неточности и ограниченности понимания со стороны г. Маркова и вообще публики наших положений, которое мы и постараемся разъяснить. Очевидно, что разногласие происходит от различия понимания и вследствие того определения самого образования. Г. Марков говорит: мы не согласны с яснополянским определением образования. Но г. Марков не опровергает наше определение, а делает свое определение. Главный вопрос состоит в том: наше или г. Маркова определение образования справедливо? Мы сказали ^образование, в самом общем смысле, обнимающее и воспитание, есть, по нашему убеждению, та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образованиями сознаемся в том, что слова эти, на которые г. Марков просит читателя обратить особое внимание, для большинства публики и г. Маркова требовали объяснения. Но прежде чем дать эти объяснения, мы считаем необходимым сделать отступление о том, почему г. Марков и вообще публика не захотели понять этого определения и не обратили на него никакого внимания.
Со времен Гегеля и знаменитого афоризма «Что исторично, то разумно» в литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческим воззрением. Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, ко
Н. Толстой
Прогресс и определение образования
249
торые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа. Вы говорите, что вы верите в бога, — историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что «Илиада» есть величайшее эпическое произведение, — историческое воззрение отвечает, что «Илиада» есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, хороша или не хороша «Илиада», не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте «Илиады», а только указывает вам то место, которое ваша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории; оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений. Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь, — историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дети, ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово историческое, и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом миросозерцании.
Г. Марков говорит: «Общая цель есть результат всей жизни, окончательный вывод из действия разнородных сил. Его можно видеть только при окончании, и в нем пока нет нужды. Стало быть, и педагогия вправе не иметь конечной цели, вправе стремиться к своим временным и местным целям, по преимуществу имеющим значение для жизни». Искать критериум педагогики, по его мнению, бесполезно. Достаточно знать, что мы находимся в исторических условиях, — и все хорошо.
Г. Марков вполне усвоил себе историческое воззрение; он, как и большинство русских мыслящих людей нашего времени, обладает искусством присоединять понятие исторического ко всякому явлению жизни, умеет наговорить много ученого и остроумного в историческом смысле, на каждый случай, вполне владеет историческим каламбуром. В первой статье «Ясной Поляны» сказано было, что образование имеет своим основанием потребность к равенству и закон движения вперед образования. Хотя высказанное и без доказательств, это положение объясняло причину явления. Можно было не согласиться и требовать доказательств; но только историческое воззрение может не чувствовать необходимости изыскания причин такого явления, каково
Л. Н. Толстой
250
образование. Г. Марков говорит: «Желательно, чтобы читатель с особенным вниманием остановился на этих словах. Мне они просто кажутся бесплодной натяжкой, затемняющей смысл всем понятных вещей. Зачем тут потребность равенства, инстинкт; зачем особенно этот фатум, неведомый закон движения, не позволяющий одного, повелевающий делать другое? Кто его признал или доказал? Если опроверг^ нуть, как делает граф Толстой, воспитательное влияние взрослого поколения на молодое, то в чем надобно видеть этот чудный закон? Мать любит ребенка, хочет удовлетворить его нуждам и сознательно, без всякой мистической потребности, чувствует надобность приноровиться к его зачаточному рассудку, говорит с ним простейшим языком. Она не только не стремится к равенству со своим ребенком, что было бы в высшей степени противоестественно, а, напротив, намеренно старается передать ему весь запас своего знания. В этой-то естественной передаче умственных приобретений от одного поколения другому и состоит движение образования, не нуждающееся ни в каких новых специальных законах. Каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и, чем дальше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся. Это известно до избитости, и я не вижу никакого оправдания в стремлениях потрясти такую, логически и исторически очевидную, истину».
Вот лучший образец исторического воззрения. Вы ищете объяснения знаменательнейшему явлению жизни, вы полагаете, что нашли общий закон, служащий основанием явления, вы полагаете, что нашли идеал, к которому стремится человечество, и критериум его деятельности, — вам отвечают, что есть куча, которая растет с каждым веком, и что это известно до избитости. Хорошо ли, что она растет? Зачем она растет? На эти вопросы вам не отвечают и удивляются еще, что вы хлопочете о разрешении таких вопросов.
В другом месте, перефразируя наши слова, г. Марков говорит: «Каждое поколение мешает развиваться новому; чем дальше, тем больше противодействий, тем хуже. Странный, подумаешь, прогресс! Если бы, не доверяя истории, мы были обязаны верить яснополянской теории, пришлось бы, пожалуй, поверить, что мир все хилел да хилел от тысячелетних противодействий и что смерть его теперь не за горами, а за плечами».
«Хорош прогресс!» Нет, очень дурен — я только про это и говорил. Я не держусь религии прогресса, а кроме веры, ничто не доказывает необходимости прогресса. «Неужели мир все хилел да хилел?» Я только это и старался доказывать, с той только разницей, что хилеет не все человечество, а та часть его, которая подлежит деятельности того образования, которое защищает г. Марков.
Но вот где является в полном блеске историческое воззрение г. Маркова.
«Ясную Поляну смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики одному, Лютер
f H. Толстой
Прогресс и определение образования
251
другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в jtom невозможность установить критериум педагогики, и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на jtot необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум в том, чтобы учить, соображаясь с потребностями времени. Он кроет и в совершенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление, пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искусственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни; и если бы только один Руссо чувствовал ее, не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав, Карлы Моры и все подобное. Упрекать Лютера и Руссо за то, что они, вооружась против исторических уз, навязывали людям свои теории, значит, упрекать целый век в незаконности его настроения. Целому веку теорий не навяжешь».
«Но от его теории вряд ли зато отделаешься. Мне непонятно, чего бы хотел граф Толстой от педагогики. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих, так, по его мнению, не нужно никаких. Отчего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые и т. д. Был он верно и шалуном-мальчиком, — у тех известно какой критериум, — и религиозным юношей, и либералом-поэтом, и практическим деятелем жизни; каждое такое естественное настроение духа заставляло его иначе глядеть на мир, иного ждать и иным руководствоваться. В этих постоянных сменах взглядов и состоит богатство развития человечества, его философская и житейская опытность. В чем граф Толстой видит упрек человечеству и педагогии, их противоречие самим себе, в том я вижу необходимость, естественность и даже достоинство».
Как много, кажется, сказано, как умно, как много сведений, какой спокойно-исторический взгляд на все! Сам стоишь на каком-то воображаемом возвышении, а под тобой действуют и Руссо, и Шиллеры/и Лютер, и французские революции; с исторической высоты одобряешь или не одобряешь их исторические поступки и раскладываешь по историческим рамкам. Мало того, и каждая личность человеческая тоже там где-то копошится, подчиненная неизменным историческим законам, которые мы знаем, но конечной цели ни у кого нет и быть не мо
Л. Н. Толстой
252
жет — есть одно историческое воззрение! Но ведь мы совсем не о том спрашиваем, мы пытаемся найти тот общий умственный закон, которым руководилась деятельность человека в образовании и который поэтому мог бы служить критериумом правильности человеческой деятельности в образовании. Историческое же воззрение на все наши попытки отвечает только тем, что Руссо и Лютер были произведениями своего времени. Мы ищем то вечное начало, которое выразилось в них, а нам говорят о той форме, в которой оно выразилось, и распределяют их по классам и отрядам. Нам говорят, что критериум только в том, чтобы учить сообразно потребностям времени, и говорят, что это очень просто. Учить сообразно догматам христианской или магометанской религии — я понимаю, но учить сообразно потребностям времени — я решительно не понимаю ни одного слова из этой фразы. Какие это потребности? Кто их определит? Где они выразятся? Очень может быть забавно рассуждать вкривь и вкось о тех исторических условиях, которые заставили Руссо выразиться именно в той форме, в какой он выразился, но найти те исторические условия, в которые имеет выразиться будущий Руссо, невозможно. Мне понятно, почему Руссо с озлоблением писал против искусственности жизни, но решительно непонятно, почему явился Руссо и почему он открыл великие истины. Мне дела нет до Руссо и его обстановки, меня занимают только те мысли, которые он высказал, и поверять и понять его мысль я могу только мыслью, а не рассуждением о его месте в истории.
Выразить и определить этот критериум в педагогии было моей задачей. Историческое же воззрение, не идя за мной по этому пути, отвечает, что и Руссо и Лютер были на своем месте (как будто они могли быть не на своем месте), и что бывают различные школы (как будто мы этого не знаем), и что каждая приносит зерно в эту таинственную историческую кучу. Историческое воззрение может породить много занимательных разговоров, когда делать нечего, объяснить то, что всем известно; но сказать слово, на котором бы могла строиться действительность, оно не в состоянии. Ежели оно и проговорится, то скажет только фразу вроде того, что надо учить сообразно с потребностями времени. Скажите же нам — какие эти потребности в Сызрани, в Женеве, на Сырдарье? Где можно найти выражение этих потребностей и потребности времени — какого времени? Уж ежели речь пошла об историческом, то в настоящем есть только момент исторический. Один принимает требования 25-х годов за требования настоящего; другой знает требования августа 1862 г., третий считает настоящими требованиями требования средневековые. Повторяю, ежели умышленно написана фраза учить сообразно с требованиями времени, для нас ни в одном слове не имеющая смысла, мы просим: укажите нам эти требования; мы от всей души, искренно говорим, что мы желали бы знать эти требования и не знаем их.
Мы могли бы привести еще много образцов исторического воззрения г. Маркова ссылками на Trivium u Quadrivium Касидора, и Фомы
L IL Толстой
Прогресс и определение образования
253
Аквинского, и Шекспира, и Гамлета, и тому подобными интересными и приятными разговорами. Но все эти места также не отвечают на наши запросы, и потому мы ограничимся разъяснением причин несостоятельности историчекого взгляда относительно философских вопросов.
Причина эта заключается в следующем: люди с историческим воззрением предположили, что отвлеченная мысль, которую они любят в ругательном смысле называть метафизикой, бесплодна, как скоро она противоположна историческим условиям, т. е., говоря проще, царствующим убеждениям; что мысль эта даже бесполезна, так как открыт общий закон, по которому человечество двигается вперед и без участия мысли, противоположной царствующим убеждениям. Мнимый этот закон человечества называется прогресс. Вся причина не только разногласия нашего с г. Марковым, но и совершенного пренебрежения к нашим доводам и неотвечанию на них заключается в том, что г. Марков верит в прогресс, а я не имею этого верования.
Что же это такое понятие прогресса и вера в него?
Основная мысль прогресса и выражение его будет следующее: «Человечество постоянно видоизменяется, переживает прошедшее, удерживая от него начатые труды и воспоминания ». В переносном смысле это видоизменение человеческих отношений мы называем движением, и видоизменение прошедшего мы называем назад, будущее видоизменение называем вперед. Вообще, в переносном смысле говорим, что человечество движется вперед. Хотя и выраженное неясно, в переносном смысле, это положение несомненно. Но за этим несомненным положением верующие в прогресс и историческое развитие делают другое недоказанное положение, что будто человечество в прежнее время пользовалось меньшим благосостоянием, и чем далее назад, тем менее, и, чем более вперед, тем более. Из этого выводят, что для плодотворной деятельности необходимо действовать только сообразно с историческими условиями; и что, по закону прогресса, всякое историческое действие поведет к увеличению общего благосостояния, т. е. будет хорошо, что все попытки остановить или противоречить даже движению истории бесполезны. Вывод этот незаконен потому, что второе положение о постоянном улучшении человечества на пути прогресса ничем не доказано и несправедливо.
Во всем человечестве с незапамяных времен происходит процесс прогресса, говорит историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, Англию 1685 г. с Англией нашего времени. Но ежели бы даже и можно было доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с Древним Римом, Грецией, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более благосостояния древних, меня при этом всегда поражает одно непонятное явление: выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части человечества, Европы, в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для человечества, говорят они, только
Л. Н. Толстой
254
кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Сигмарин-генском, имеющем 3 тысячи жителей. Нам известен Китай, имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса, и мы ни минуты не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие в прогресс, правы, а не верующие в него виноваты и с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый же смысл говорит мне, что ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает закона прогресса, а, напротив, отвергает его, то закона этого не существует для всего человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что, как бы ни желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества; а что подвести ее под идею прогресса точно так же легко, как подвести ее под идею регресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается праздной, пустой болтовней, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс вообще, во всем человечестве, есть факт недоказанный и не существующий для всех восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь же неосновательно, что сказать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых.
Но, может быть, мы все еще не так определили прогресс, как его понимают многие. Мы пытаемся дать ему самое общее и разумное определение. Может быть, прогресс есть закон, открытый только европейскими народами, но столь разумный, что ему должно подлежать все человечество. В этом смысле прогресс есть путь, по которому идет известная часть человечества и который признает эта часть человечества ведущим ее к благосостоянию. В таком смысле понимает Бокль прогресс цивилизации европейских народов, включая в это общее понятие прогресса — прогресс социальный, экономический, наук, искусств, ремесел и в особенности изобретения пороха, книгопечатания и путей сообщения. Такое определение прогресса ясно и понятно: но невольно представляются вопросы: 1-й — кто решил, что этот прогресс уведет к благосостоянию? Для того чтобы поверить этому, мне нужно, чтобы не исключительные лица, принадлежащие к исключительному классу: историки, мыслители и журналисты, — признали
I. H. Толстой
Прогресс и определение образования
255
это, но чтобы вся масса народа, подлежащая действию прогресса, признала, что прогресс ведет ее к благосостоянию. Мы же видим постоянно противоречащее этому явление. 2-й вопрос состоит в следующем: что признать благосостоянием — улучшение ли путей сообщения, распространение книгопечатания, освещение улиц газом, расположение домов призрения бедных, бордели и т. п., или первобытное богатство природы — леса, дичь, рыбу, сильное физическое развитие, чистоту нравов и т. п.? Человечество живет одновременно столь многоразличными сторонами своего бытия, что определить степень его благосостояния в известную эпоху и определить ее человеку невозможно. Один человек видит только прогресс искусства, другой — прогресс добродетели, третий — прогресс материальных удобств, четвертый — прогресс физической силы, пятый — прогресс социального устройства, шестой — прогресс науки, седьмой — прогресс любви, равенства и свободы, восьмой — прогресс газового освещения и машинного шитья. И человек, который бесстрастно будет относиться ко всем сторонам жизни человечества, всегда найдет, что прогресс одной стороны всегда выкупается регрессом другой стороны человеческой жизни. Самые добросовестные политические деятели, веровавшие в прогресс равенства и свободы, разве не убедились и не убеждаются каждый день, что в Древней Греции и Риме было более свободы и равенства, чем в новой Англии с китайской и индийской войнами, в новой Франции с двумя Бонапартами и в самой новой Америке с ожесточенной войной за право рабства? Самые добросовестные, верующие в прогресс искусства, разве не убедились, что нет в наше время Фидиа-сов, Рафаэлей и Гомеров? Самые проворные экономические прогрессисты разве не убедились, что необходимо запрещать рабочему народу рожать детей, для того чтобы можно было прокормить существующее население? Итак, отвечая на два поставленных мною вопроса, я говорю, что, во-первых, признать прогресс ведущим к благосостоянию можно только тогда, когда весь народ, подлежащий действию прогресса, будет признавать это действие хорошим и полезным, тогда как теперь в 9/10 населения, в так называемом простом, в рабочем народе, мы постоянно видим противное; и во-вторых, тогда, когда будет доказано, что прогресс ведет к совершенствованию всех сторон человеческой жизни, или, что, взятые вместе, последствия его влияния преобладают добрыми и полезными над дурными и вредными. Народ, т. е. масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно относится к прогрессу и постоянно не только не признает его пользы, но положительно и сознательно признает его вред для них. Выводам же историков, подобных Маколею (того самого, которого в доказательство силы английского воспитания, приводит г. Марков), полагающий, что они взвесили все стороны человеческой жизни и на основании этого взвешивания решили, что прогресс принес больше добра, чем зла, мы не можем верить, потому что выводы эти ни на чем не основаны. Выводы эти для вся кого добросовестного и бесстрастного судьи, несмотря на противопо
Л. Н. Толстой
256
ложную цель писателя, очевидно доказывают, что прогресс принес больше зла, чем пользы народу; народу, т. е. большей части людей, не говоря о государстве. Я прошу серьезного читателя прочесть всю 3-ю главу 1-й части истории Маколея. Вывод сделан смело и решительно, но на чем он основан — решительно непонятно для здорового человека, не отуманенного верой в прогресс. Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — увеличилось так, что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было — теперь оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала наполовину больше, цены же на все увеличились, и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятерилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок. Я прошу читателя прочесть эту 3-ю главу с добросовестным вниманием и вспомнить те простые факты, что раз увеличенное войско никогда уже не может быть уменьшено; что раз уничтоженные вековые леса никогда уже не могут быть возобновлены; что раз развращенное население удобствами комфорта никогда уже не может быть возвращено к первобытной простоте и умеренности. Я прошу читателя, не имеющего веры в прогресс или отрешившегося на время от этой веры, прочесть всё что сказано, в доказательство благости прогресса, и спросить себя, но отрешившись совершенно от веры: есть ли доказательства на то, что прогресс принес больше пользы, чем вреда людям? Непредубежденному человеку нельзя доказать это; для предубежденного же человека можно всякий парадокс, как и парадокс прогресса, одеть историческими фактами.
Что за странное и непонятное явление! Общего закона движения вперед человечества нет, как то нам доказывают неподвижные восточные народы. Доказать, что европейские народы постоянно движутся к улучшению благосостояния, невозможно, и никто никогда еще не доказал этого; и наконец, самое замечательное — 9/10 того же самого европейского народа, будто бы находящегося в процессе прогресса, сознательно ненавидят прогресс и всеми средствами стараются противодействовать ему, а мы признаем прогресс цивилизации несомненным благом. Как ни непонятно кажется это явление, но оно разъяснится для нас, ежели мы без предубеждения рассмотрим его.
Только одна небольшая часть общества верит в прогресс, проповедует его и старается доказать его благость. Другая, большая, часть общества противодействует прогрессу и не верит в благость его. Из этого я заключаю, что для малой части общества прогресс есть благо; для большей же части он есть зло. Я заключаю так потому, что все люди сознательно или бессознательно стремятся к благу, или удаляются от зла. Сделавши этот вывод, я поверяю его, подводя под него факты. Кто та малая часть, верующая в прогресс? Это так называемое образо-
LH Толстой
Ilpoi ресс и определение образования
257
ванное общество, незанятые классы, по выражению Бокля2. Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы. Интересы общества и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому. В деле прогресса мое положение подтверждается, и я заключаю, что прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа. В подтверждение моей мысли невольно приходит сравнение верующих в прогресс с верующими католиками. Духовенство веровало искренно и в особенности искренно потому, что вера эта ему была выгодна; по тому же самому оно всеми средствами внушало эту веру народу, который меньше верил в нее, потому что она была ему невыгодна. То же самое происходит с верующими в прогресс.
Верующие в прогресс искренно веруют потому, что вера их выгодна для них, и потому-то с озлоблением и ожесточением проповедуют свою веру. Я невольно вспоминаю китайскую войну, в которой три великие державы совершенно искренно и наивно вводили веру прогресса в Китай посредством пороха и ядер.
Но не ошибаюсь ли я? Посмотрим, в чем может быть выгода общества и невыгода народа в прогрессе. Здесь, говоря о фактах, я чувствую необходимость оставить в покое Европу и говорить о России, которая мне близко известна. Кто у нас верующий, кто у нас неверующий? Верующие в прогресс суть: правительство, образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество — классы незанятые, по выражению Бокля. Не верующие в прогресс и враги его: мастеровые, фабричные, крестьяне-земледельцы и промышленники, люди, занятые прямой физической работой, — классы занятые. Вдумываясь в это различие, находим, что, чем больше работает человек, тем более он консерватор, чем менее работает, тем более он прогрессист. Нет более прогрессистов, как откупщики, писатели, дворяне, студенты, без мест чиновники и фабричные. Нет менее прогрессистов — мужика земледельца, чиновника-писца на месте, фабричного, имеющего работу.
Рассмотрим самые обыкновенные и прославленные явления прогресса в отношении их выгоды и невыгоды для общества и народа, именно столь прославленные книгопечатание, пар, электричество.
«Человек овладевает силами природы, мысль с быстротой молнии перелетает с одного края Вселенной на другой. Время побеждено». Все это прекрасно, чувствительно; но посмотрим, для кого это выгодно. Мы говорим о прогрессе электрических телеграфов. Очевидно, что выгода и приложение телеграфа только для высшего, так называемого образованного класса. Народ же, 9/10, только слышит гудение проволок и только стеснен несправедливо строгим законом о повреждении телеграфов.
Все мысли, пролетающие над народом по этим проволокам, суть только мысли о том, как бы наиудобнейшим образом эксплуатировать народ. По проволокам пролетает мысль о том, как возвысилось трсбо
Л. Н. Толстой
258
вание на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет; или мысль о том, что так как вооружение Франции увеличилось, то призвать как можно скорее к службе еще столько-то граждан; или мысль о том, что народ становится недоволен своим положением в таком-то месте и что необходимо послать для усмирения его столько-то солдат; или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу, укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени 40 тысяч франков. Не делая подробной статистики телеграфичес-ких депеш, можно быть твердо уверенным, что все депеши принадлежат только тем родам корреспонденции, образцы которых я выставил здесь. Яснополянский мужик Тульской губернии, или какой бы то ни было русский мужик (не надо забывать, что эти мужики составляют всю массу народа, благосостояние которого думает делать прогресс), никогда не послал и не получил и долго еще не пошлет и не получит ни одной депеши. Все депеши, которые пролетают над его головой, не могут ни на одну песчинку прибавить его благосостояния, потому что все, что ему нужно, он имеет из своего поля, из своего леса, и он одинаково равнодушен к дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, и к низвержению короля Оттона, и к речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III, и к чувствам барыни, пишущей из Флоренции. Все эти мысли, с быстротой молнии облетающие Вселенную, не увеличивают производительность его пашни, не ослабляют караул в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него. Для правоверных же прогресса телеграфические нити принесли и приносят огромные выгоды. Я не спорю о выгодах, я стараюсь только доказать, что не надобно думать и убеждать других, что то, что выгодно для меня, есть величайшее благо и для всего мира. Надобно, во-1-х, доказать это или по крайней мере подождать, чтобы все люди признали благом то, что для нас выгодно. В так называемом же порабощении пространства и времени посредством электричества мы этого никак не видим. Мы видим, напротив, что поборники прогресса в этом отношении рассуждают совершенно так же, как старые помещики, уверяющие, что для крестьян, для государства и для всего человечества нет ничего выгоднее крепостного права и барщинной работы; разница только в том, что вера помещиков старая — разоблаченная, а вера прогрессистов еще свежая и царствующая.
Книгопечатанине—другая любимая, избитая тема прогрессистов. Распространение его и вследствие того грамотности всегда безусловно считается несомненным благом для всего народа. Почему это так? Книгопечатание, грамотность и то, что мы называем образованием, суть коренные суеверия религии прогресса, и потому в этом деле я прошу читателя в особенности искренно отречься от всякой веры и со
I. H. Толстой
Прогресс и определение образования
259
вершенно искренно спросить себя: почему это так и почему то образование, которое мы, меньшинство, для себя считаем благом, и вследствие того то книгопечатание и ту грамотность, которую бы мы желали распространить, — почему это книгопечатание, эта грамотность и это образование будут благом для большинства, для народа? Мы говорили уже в некоторых статьях «Ясной Поляны» о том, почему то образование, которым мы владеем, по сущности своей не может быть благом для народа. Мы будем говорить теперь исключительно о книгопечатании. Для меня очевидно, что расположение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемики, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как литературный. Никакие проценты так не велики, как литературные. Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличивается соразмерно увеличению ее органов. Но ежели число книг и журналов увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. «Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались», — отвечу я. Успех литературы указывал бы на удовлетворение потребности народа только тогда, когда бы весь народ сочувствовал ей; но этого нет, так же как и не было при откупах. Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная дла народа. Есть «Современник», есть «Современное слово», есть «Современная летопись», есть «Русское слово», «Русский мир», «Русский вестник», есть «Время» и «Наше время», есть «Журнал для детей» и «Детский журнал», есть «Журнал для юношества» и «Юношеский журнал», есть «Орел», «Звездочка», «Гирлянда», есть «Грамотей», «Народное чтение» и «Чтение для народа»3 — есть известные слова в известных сочетаниях и перемещениях, как заглавия журналов и газет, и все эти журналы твердо верят, что они проводят какие-то мысли и направления. Есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, Филарета. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, не известны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уже об опытах, деланных мной для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или «историю» Соловьева, надобно этому человеку перестать быть, чем он есть, т. е. человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу, надеюсь — люди, знающие
JI. H. Толстой
260
народ и литературу, не усомнятся в этом. Какое же благо получает народ от литературы? Библий и святцев до сих пор народ не имеет дешевых. Другие же книги, которые западают к нему, только обличают в его глазах глупость и ничтожество их составителей; деньги и работа его тратятся, а выгоды от книгопечатания — вот уже сколько времени прошло — мы не видим ни малейшей для народа. Ни пахать, ни делать квас, ни плести лапти, ни рубить срубы, ни петь песни, ни даже молиться — не учится и не научился народ из книг. Всякий добросовестный судья, не одержимый верой прогресса, признается, что выгод книгопечатания для народа не было. Невыгоды же его ощутительны для многих. Г. Даль, добросовестный наблюдатель, обнародовал свои наблюдения над влиянием грамотности на народ. Он объявил, что грамотность развращает людей из народа. На наблюдателя посыпались неистовые крики и ругательства всех верующих в прогресс; решили, что грамотность была вредна, когда она была исключением, и что вред ее уничтожится, когда она сделается общим правилом. Это предположение, может быть, остроумное, но только предположение. Факт же остается фактом, который подтверждают мои собственные наблюдения и который подтвердят все люди, имеклцце прямые сношения с народом, как-то купцы, мещане, становые, попы и сами крестьяне. Но скажут, может быть признавая мои доводы справедливыми, что прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я отвечу, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному. Но это мое личное воззрение, не могущее служить доказательством. Главное же, что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв пример хотя бы освобождения от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело совершенно иначе. Мы видели, что большая часть органов требовала бы освобождения без земли и приводила бы доводы, столь же кажущиеся разумными, остроумными, саркастическими. Я желал бы спросить: почему процесс об освобождении крестьян остановился на Положении 19 февраля, которое еще не решено — улучшило или ухудшило быт крестьян, лишив их прав пастбищ, выездов в леса и наложив на них новые обязанности, к исполнению которых они оказываются несостоятельными. Я желал бы спросить: почему прогресс книгопечатания остановился на Положении 19 февраля? Всем известно, что равномерное разделение земли между гражданами есть несомненное благо. Почему же никто, кроме людей, признаваемых за сумасшедших, не говорит в печати о таком разделении земель? Тут, в
L H. Толстой Прогресс и определение образования 261
сущности, ничего нет сумасшедшего, и прямое дело прогресса книгопечатания было бы разъяснять необходимость и выгоды такого разделения, а вместе с тем ни в России, ни в Англии, ни во всей Европе никто не печатает об этом. Причина такого явления для меня совершенно очевидна. Прогресс книгопечатания, как и прогресс электрических телеграфов, есть монополия известного класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые под словом прогресс разумеют свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы от праздности, я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно написать или издать статейку и получить за нее деньги и известность. Мне приятно получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать верно, какой цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и в другом случае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям увеличивались; но совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия совпадают с увеличением благосостояния всего человечества. Думать это так же несправедливо, как думать то, что думал откупщик или помещик, что, получая без труда большие доходы, ой осчастливливает человечество тем, что поощряет искусство и своей роскошью дает многим работу. Прошу заметить, что Гомер, Сократ, Аристотель, немецкие сказки и песни, русский эпос и, наконец, Библия и Евангелие не нуждались в книгопечатании для того, чтобы остаться вечными.
Пар, железные дороги и столь восхваленные пароходы, паровозы и машины. Рассуждая об этом, самом близком для нас деле, я опять предуведомляю читателя, что надо как можно искреннее отрешиться от верований и от политикоэкономических парадоксов, принимаемых за истину, надо рассматривать только существующие, перед нами совершающиеся факты. Мы хотим решить вопрос: содействует ли развитие приложения пара к передвижению и к фабричному производству увеличению благосостояния народа? Мы не будем говорить о том, что может быть впоследствии, о результатах, которые выходят из такого приложения по противоположным одна другой теориям политической экономии, а мы будем рассматривать просто те выгоды, которые принес и приносит пар массе народа. Я вижу близкого и хорошо известного мне тульского мужика, который не нуждается в быстрых переездах из Тулы в Москву, на Рейн, в Париж и обратно. Возможность таких переездов не прибавляет для него нисколько благосостояния. Всем потребностям своим он удовлетворяет собственным трудом и, начиная от пищи до одежды, все производится им самим: деньги для него не составляют богатства. Это до такой степени справедливо, что, когда у него есть деньги, он зарывает их в землю и не находит нужным делать из них никакого употребления. Поэтому, если железные дороги делают для него более доступными предметы мануфактур и торговли, он остается совершенно равнодушным к этой большой доступности. Ему
Л. Н. Толстой
262
не нужны ни трико, ни атласы, ни часы, ни французское вино, ни сардинки. Все, что ему нужно и что в его глазах составляет богатство и улучшение благосостояния, приобретается его трудом на его земле. Маколей говорит, что лучшим мерилом благосостояния рабочего народа есть степень заработной платы. Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек, без исключения, назовет, несомненно, богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы, и назовет, несомненно, бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определить богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить по всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, т. е. для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилом благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства. Очевидно, что нам нужно искать других оснований, чем те, которые существуют в Европе; а между тем европейская политическая экономия хочет предписывать нам свои законы. Для большей части русского населения деньги не составляют богатства, и удешевление предметов мануфактурной промышленности не увеличивает благосостояния. Вследствие этого железные дороги не приносят большей массе населения никакой пользы (прошу заметить, что я говорю о выгоде по понятиям самого народа, а не о тех выгодах, которые насильно хочет навязать прогресс цивилизации).
По понятиям русского народа увеличение благосостояния состоит в равномерном разделении земель, в увеличении сил почвы, в увеличении скотоводства, в увеличении количества хлеба, а вследствие того в удешевлении его (прошу заметить, что ни один крестьянин не жалуется на дешевизну хлеба; только европейские политэкономы утешают его тем, что хлеб будет дороже и потому ему легче будет покупать предметы мануфактуры, — он этого не желает), в увеличении рабочих сил (никогда мужик не жалуется на то, что у него в селе слишком много народа), в увеличении лесов и пастбищ, в отсутствии городских соблазнов. Какие же из этих благ приносят крестьянину железные дороги? Они увеличивают соблазны, они уничтожают леса, они отнимают работников, они поднимают цены хлеба, они уничтожают коннозаводство. Может быть, я ошибся, говоря о причинах, по которым дух народа всегда недоброжелательно относится к нововведениям железных дорог. Может быть, я упустил некоторые причины, но несомнен
Л. Н. Толстой
Прогресс и определение образования
263
ный факт всегдашнего противодействия народного духа к введению железных дорог существует во всей своей силе. Народ примиряется с ними только в той мере, в которой, испытав соблазн железных дорог, он сам делается участником этой эксплуатации. Настоящий народ, т. е. народ прямо, непосредственно работающий и живущий плодотворно, народ преимущественно земледелец, 9/10 всего народа, без которых бы немыслим был никакой прогресс, всегда враждебно относится к ним. Итак, верующие в прогресс, малая часть общества, говорят, что железные дороги есть увеличение благосостояния народа, большая часть общества говорит, что это есть уменьшение его.
Такое противодействие прогрессу со стороны народа мы могли бы проверить и объяснить в каждом проявлении прогресса; но мы ограничимся приведенными примерами и постараемся ответить на естественно представляющийся вопрос: нужно ли верить этому противодействию народа? Вы говорите, скажут нам, что недовольны железными дорогами мужики — земледельцы, проводящие жизнь на полатях в курной избе или за сохою, сами ковыряющие себе лапти и ткущие себе рубахи, никогда не читавшие ни одной книги, раз в две недели снимающие вшивую рубаху, по солнышку и по петухам узнающие время и не имеющие других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство. «Это не люди, а животные, — скажут и подумают прогрессисты. — И потому мы считаем себя вправе не обращать внимания на их мнение и делать для них то самое, что мы нашли хорошим для себя». Такое мнение, ежели и не высказанное, всегда лежит в основании рас-суждений прогрессистов; но я полагаю, что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства, и в особенности свойства искать, где лучше, как рыба, где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров ит. д. В этой мысли подтверждается и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что работник точно так же саркастически и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает — что соха, чтб сволока, чтб гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать какой след; как узнать, те льна ли корова или нет, и за то, что барин живет всю жизнь, ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, плант и т. п., и за то, что он в праздник напивается, как животное, и не знает как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собой, совершенно искренне называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейскими. Ин
Л. Н. Толстой
264
дийцы считают англичан варварами и злодеями, англичане — индийцев; японцы — европейцев; европейцы — японцев; даже самые прогрессивные народы — французы — считают немцев тупоголовыми; немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуждать своего благосостояния, а народ считает прогрессистов людьми озабоченными корыстными личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что, первое, народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на стороне народа; второе, и главное, потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения («Илиады», русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа.
Недавно мы прочли историю цивилизации Англии Бокля. Книга эта имела великий успех в Европе (это очень естественно) и огромный успех в литературном и ученом круге в России — и это для меня непонятно. Бокль анализирует законы цивилизации, и весьма занимательно. Но весь интерес этот потерян для меня и, кажется, для всех нас, русских, не имеющих никаких оснований предполагать: ни то, что мы, русские, должны необходимо подлежать тому же закону движения цивилизации, которому подлежат и европейские народы; ни то, что движение вперед цивилизации, которому подлежат и европейские народы; ни то, что движение вперед цивилизации есть благо. Для нас, русских, необходимо доказать прежде и то и другое. Мы лично, например, считаем движение вперед цивилизации одним из величайших насильственных зол, которому подлежит известная часть человечества, и самое движение это не считаем неизбежным. Автор, так сильно восстающий против бездоказательных положений, сам не доказывает нам, почему весь интерес истории для него заключается в прогрессе цивилизации. Для нас же интерес этот заключается в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большей частью противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов. Мы видим, напротив, что эти люди и г. Марков в своих доводах против нас признают без всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным.
Мы сделали отступление весьма длинное и, может быть, показавшееся не ведущим к делу, только для того, чтобы сказать, что мы не верим в прогресс, увеличивающий благосостояние человечества, не имеем никаких оснований верить в него и ищем и искали в своей 1-й статье другого мерила того, чтб хорошо и что дурно, как только приз
L IL Толстой
Прогресс и определение образования
265
нание всего, что есть прогресс, хорошим и всего, что не есть прогресс, — дурным. Разъяснив этот главный скрытый пункт нашего разногласия с г. Марковым, мы полагаем, с большинством так называемой образованной публики, что ответы на пункты статьи «Русского вестника» нам становятся легки и просты.
1. Статья «Русского вестника» признает право одного поколения вмешиваться в воспитание другого на том основании, что это естественно, и что каждое поколение кидает свою горсть в кучу прогресса. Мы не признавали и не признаем этого права потому, что, не считая прогресс несомненным благом, ищем других оснований на такое право и полагаем, что нашли их. Если бы было доказано, что основания наши ложны, то мы все-таки не могли бы признать достаточным основанием веру в прогресс, так же как и веру в Магомета или далай-ламу.
2. Статья «Р. В.» признает право высших классов вмешиваться в народное образование. Мы полагаем, что в предыдущих страницах достаточно разъяснено, почему вмешательство верующих в прогресс, в воспитание народа несправедливо, но выгодно для высших классов и почему их несправедливость кажется им правом, как казалось правом крепостное право.
3. Статья «Р. В.» думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла; во-первых, потому что изъять из-под исторических условий нельзя ничего, ни на деле, ни даже в мыслях; во-вторых, потому что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что наша мысль, открывшая известные законы, действует тоже в исторических условиях, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли, для того чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее той истиной, что мы живем в исторических условиях.
4. Статья «Р. В.» думает, что современные школы ближе отвечают потребностям времени, чем средневековые. Мы сожалеем, что подали повод г. Маркову доказывать нам противное, и охотно сознаем, что, доказывая противное, подчинились общей привычке подводить исторические факты под прежде принятую мысль. Г. Марков сделал то же самое, может быть, удачнее или многословнее нашего. Мы не хотим разбирать этого, откровенно сознаваясь в своей ошибке. На этом поприще можно наговорить так много, не убедив никого!..
5. Статья «Русского вестника» считает наше воспитание не вредным, а полезным только потому, что наше воспитание готовит людей для прогресса, в который он верит. Мы же не верим в прогресс и поэтому продолжаем считать воспитание наше вредным.
6. Статья «Русского вестника» думает, что полная свобода воспитания вредна и невозможна. Вредна потому, что нам нужны люди для прогресса, а не просто люди, и невозможна потому, что у нас есть гото
Л. Н. Толстой
266
вые программы для воспитания людей прогресса, а нет программы для воспитания просто людей.
7. Автор думает, что устройство Яснополянской школы противоречит убеждениям редактора. В этом, как в деле личном, мы согласны, тем более что автор сам знает, как сильно влияние исторических условий, и потому должен знать, что Яснополянская школа подлежит действию двух сил — убеждению, совершенно крайнему, по мнению автора, и историческим условиям, т. е. воспитанию учителей, средствам й т. д., и, несмотря на то, школа могла достигнуть только весьма малой степени свободы и вследствие того преимущества пред другими школами. Что же бы было, если бы убеждения эти не были крайни, как они кажутся автору? Автор говорит, что успех школы зависит от любви. Но любовь не случайна. Любовь может быть только при свободе. Во всех школах, основанных с убеждениями Ясной Поляны повторялось то же явление: учитель влюблялся в свою школу; а я знаю, что тот же учитель со всевозможной идеализацией не мог бы влюбиться в школу, где сидят по лавкам, ходят по звонкам и секут по субботам, и
8. Наконец, автор не согласен с яснополянским определением образования. Вот где мы обязаны высказать недосказанное. Мне кажется, что было бы гораздо справедливее со стороны автора, ежели бы, не входя в дальнейшее рассмотрение, он потрудился опровергнуть наше определение. Но он этого не сделал, он и не взглянул на него, назвал его натяжкой и дал свое определение — прогресс — и вследствие того учить сообразно потребностям времени. Всё, что мы написали о прогрессе, написано только затем, чтобы вызвать людей на возражение. А то с нами не спорят, а говорят: зачем инстинкт, потребность равенства и весь этот набор слов, когда есть возрастающая куча?
Но мы не верим в прогрессе и потому не можем удовольствоваться кучей. Ежели бы мы и верили, мы сказали бы: хорошо, цель есть учить сообразно потребностям времени, бросать в кучу; мы бы согласились, что мать учит ребенка, намеренно стараясь передать знание, как говорит г. Марков. «Но зачем?» — спросил бы я и имел бы право ожидать ответа. Человек дышит. «Но зачем?» — спрашиваю я. И мне нс отвечают, что он дышит, потому что дышит, а отвечают — для того чтобы приобрести нужный кислород и выбросить ненужные газы. И опять я спрашиваю: «Зачем кислород?» И физиолог видит смысл такого вопроса и отвечает на него: «Затем, чтобы получить тепло». «Зачем тепло?» — спрашиваю я. И тут он отвечает или пытается ответить, и ищет, и знает, что чем решение такого вопроса общёе, тем богаче оно будет выводами. Мы уже спрашиваем: зачем один учит другого? Кажется, нет более близкого вопроса для педагога. И мы отвечаем, может быть неправильно, бездоказательно, но вопрос и ответ категоричны. Г. Марков (я не нападаю на Маркова — всякий верующий в прогресс так же ответит) не только не отвечает на наш вопрос, но он не в состоянии видеть его. Для него нет этого вопроса — это пустая натяжка, на которую для забавы он просит читателя обратить
' IL Толстой
Прогресс и определение образования
267
особенное внимание. А в этом вопросе и ответе лежит вся сущность того, что я говорил, писал и думал о педагогике. И г. Марков, и публика, согласная с г. Марковым, умные, образованные, привыкшие рассуждать люди, — отчего вдруг такая непонятливость? Прогресс. Сказано слово прогресс — и бессмыслица кажется ясным, и ясное кажется бессмыслицей. Благость прогресса я не признаю, пока мне не докажут ее, и потому, наблюдая явления образования, мне необходимо определение образования, и я вновь повторяю и разъясняю сказанное: образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования.
Как мы сказали уже, для изучения законов образования мы употребляем не метафизический метод, а метод выводов из наблюдений. Мы наблюдаем явления образования в самом общем смысле, включающем в себя и воспитание. В каждом явлении образования мы видим двух деятелей — образовывающего и образовывающегося, воспитателя и воспитанника. Для того чтобы изучить явления образования, как мы его понимаем, найти его определение и критериум, нам необходимо изучить как ту, так и другую деятельность и найти причину, совокупляющую эти две деятельности в одно явление, называемое образованием или воспитанием. Рассмотрим сначала деятельность образовывающегося и причины ее. Деятельность образовывающегося, как бы, где бы и чему бы он ни учился (даже если бы он один читал книги), всегда заключается только в том, чтобы усвоить себе образ, форму или содержание мысли того человека или тех людей, которых он считает знающими больше себя. Как скоро он, по знанию, уравнивается со своими образователями, как скоро он не считает своих образовате-лей выше себя по знанию, так деятельность образования со стороны образовывающегося невольно прекращается, и никакие условия не могут его заставить продолжать ее. Один человек не может учиться у другого, когда тот человек, который учится, знает столько же, сколько и тот человек, который учит. Учитель арифметики, не знающий алгебры, невольно прекращает свое учение арифметики, как скоро ученик его вполне усвоил себе знание четырех арифметических правил. Кажется, бесполезно доказывать, что как скоро знания учителя и ученика уравнялись, так деятельность учения, воспитания в общем смысле образования неминуемо прекращается между этими учеником и учителем, и начинается новая деятельность, состоящая или в том, что тот же учитель открывает ученику новую перспективу знаний, усвоенных им, но не известных ученику по той или по другой отрасли наук, и образование продолжается до тех только пор, пока ученик не уравняется с учителем; или в том, что, сравнявшись с учителем в знании арифметики, ученик бросает учителя и берет книгу, в которой учится алгебре. В этом случае книга или автор книги представляется новым учителем, и деятельность образования продолжается только до тех пор, пока ученик не уравняется с книгой или с автором
Л. Н. Толстой
268
книги. И опять деятельность образования прекращается немедленно при достижении равенства в знании. Истину эту, которая может быть; проверена во всевозможных случаях образования, кажется бесполезно доказывать. Из этих наблюдений и соображений мы заключаем, что деятельность образования, рассматриваемая только со стороны образовывающегося, имеет своим основанием стремление образовывающегося к равенству в знании с образовывающим. Истина эта доказывается тем простым наблюдением, что как скоро равенство достигнуто, так немедленно и неминуемо прекращается самая деятельность, и еще другим, более простым наблюдением, что во всяком образовании заметно это достижение большей или меньшей степени равенства. Хорошее или дурное образование всегда и везде, во всем роде человеческом, определяется только тем, медленно или скоро достигается равенство между учащим и учащимся: чем медленнее, тем хуже; чем скорее, тем лучше. Истина эта так проста и очевидна, что доказывать ее нет надобности. Но необходимо доказать, почему эта простая истина никому не приходит в голову, никем не высказывается и встречает озлобленное противодействие, когда бывает высказана. Причины эти следующие: кроме главного основания всякого образования, вытекающего из самой сущности деятельности образования — стремления_к^)авен-_ ству знания, в гражданском обществесложились другие причины^ по- . буждающие к образованию. Эти причины кажутся столь настоятельными, что педагоги имеют в виду только их, упуская из виду главное основание. Рассматривая теперь только деятельность образовывающегося, мы найдем много кажущихся оснований к образованию, кроме того существенного, которое мы высказали. Невозможность допустить эти основания легко может быть доказана. Ложные, но ощутительные эти основания следующие. Первое и самое употребительное — ребенок учится для того, чтобы не быть наказанным. Второе — ребенок учится для того, чтобы быть награжденным. Третье — ребенок учится для того, чтобы быть лучше других. Четвертое — ребенок, или молодой человек, учится для того, чтобы получить выгодное положение в свете. Эти основания, признаваемые всеми, могут быть подведены под три главные разряда: 1) учение на основании послушания, 2) учение на основании самолюбия и 3) учение на основании материальных выгод и честолюбия. И в самом деле, на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы. Протестантские — на послушании; католические иезуитские — на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия.
Неосновательность этих побудительных причин очевидна. Во-1-х, в действительности по общему недовольству всех на существующие на таких основаниях образовательные заведения. Во-2-х, по той причине, которую я высказывал десять раз и буду высказывать до тех пор, пока мне на нее не ответят, что при таких основаниях (послушание, самолюбие и материальные выгоды) нет общего критериума педагогики: и богослов, и естественник одновременно считают свои школы непогреши-
\ I очетой
Ilpoi peer, if определение oGpaиомпия
269
юльными и не свои школы — положительно вредными. В-З-х, наконец, потому, что, принимая за основание деятельности образовывающегося послушание, самолюбие и материальные выгоды, становится невозможным определение образования. Допустив, что равенство знания есть цель деятельности образовывающегося, я вижу, что с достижением цели прекращается самая деятельность; но, допустив целью послушание, самолюбие и материальные выгоды, я вижу, напротив, что, как бы послушен ни сделался образовывающийся, как бы ни превзошел он всех других своими достоинствами, каких бы он ни достиг материальных выгод и гражданских прав, цель его нисколько не достигнута и возможность деятельности образования не прекращается. Я вижу в действительности, что цель образования, допуская такие ложные основания его, никогда не достигается, т. е. не приобретается равенство знаний, а приобретается, независимо от образования, привычка послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды. Постановление этих ложных оснований образованию объясняет мне все ошибки педагогики и вытекающую из нее несоответственность результатов образования с присущими человеку требованиями от него.
Рассмотрим теперь деятельность образовывающего. Точно так же, как и в первом случае, наблюдая это явление в гражданском обществе, мы найдем много разнообразных причин этой деятельности. Причины эти можно подвести под следующие разряды: первое и главное — желание сделать людей такими, которые бы были для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в учение и в музыканты; правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров). Второе — тоже послушание и материальные выгоды, которые заставляют ученика университета за известное вознаграждение учить детей по известной программе. Третье — самолюбие, побуждающее человека учить, чтобы выказать свое знание. И четвертое — желание сделать других людей участниками в моих интересах, передать им свои убеждения, и этой целью передать им свои знания. Мне кажется, что под эти четыре разряда подходит вся деятельность образовывающего, от деятельности матери, учащей говорить своего ребенка, гувернера, за известную плату обучающего французскому языку, до профессора и писателя. Подводя под эти разряды то же мерило, которое мы прикладывали к основаниям деятельности образовывающегося, мы найдем, первое, что деятельность, имеющая своею целью приготовить полезных для себя людей, как бывшие помещики и правительство, не прекращается с достижением цели, следовательно, она не есть ее конечная цель. Правительство и помещики могли бы еще далее продолжить свою деятельность образовывания. Очень часто даже достижение цели полезности не имеет ничего общего с образованием, так что мерилом деятельности образовывающего я не могу признать полезность; второе, ежели признать основанием деятельности учителя гимназии или гувернера — послушание тому, кто поручил ему образование, и материальные выгоды, которые он приобретает от этой деятельности, — я
Л. Н. Толстой
270
опять вижу, что с приобретением наибольшего количества материальных выгод деятельность образовывают не прекращается. Напротив того, я вижу что приобретение больших материальных выгод, платимых за образовывание, часто совершенно независимо от степени даваемого образования; третке, ежели допустить, что самолюбие и желание выказать свое знание могут служить целью образовывания, то я > опять вижу, что достижение высшей похвалы за свои лекции или за свою книгу, не прекращает деятельности образовывания, ибо похвала, образователю может быть независима от степени приобретения знаний образовывающимся. Я вижу, напротив, что похвала может быть расточаема людьми, не усваивающими себе образования; четвертое^ рассматривая, наконец, эту последнюю цель образовывания, я вижу, что ежели деятельность образователя направлена на то, чтобы уравнять с собой знания образовывающегося, то деятельность образователя тотчас же прекращается, как скоро он достигает своей цели. И в самом деле, прилагая это определение к действительности, я вижу, что все другие причины суть только внешние, жизненные явления, затемняющие основную цель всякого образователя. Прямая цель учителя арифметики заключается только в том, чтобы ученик его усвоил себе все те законы математического мышления, которыми владеет он сам. Цель учителя французского языка, цель учителя химии и философии — одна и та же, и как скоро цель эта достигнута, так и прекращается деятельность. Только то учение везде и во всех веках считали хорошим, при котором ученик вполне сравнивался с учителем, и чем более, тем лучше, чем менее, тем хуже. Точно то же явление замечаем в литературе, в этом посредственном способе образования. Только те книги считаем мы хорошими, в которых автор, или образователь, передает все свое знание читателю, или образовывающемуся.
Итак, наблюдая явления как совокупную деятельность образовывающего и образовывающегося, мы видим, что деятельность эта имеет своим основанием как в том, так и в другом случае одно и то же — стремление человека к равенству знаний. В определении, сделанном нами в 1-м номере, мы высказали это, только не присовокупив, что мы под равенством разумели равенство знаний.
Мы прибавили, однако, стремление к равенству и неизменный закон движения вперед образования. Г. Марков не понял ни того, ни другого и очень удивился, к чему тут неизменный закон движения вперед образования? Закон движения вперед образования значит только то, что так как образование есть стремление людей к равенству знаний, то равенство это не может быть достигнуто на низшей, а может быть достигнуто только на высшей ступени знания по той простой причине, что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мыслей прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мыслей. Это я называю — неизменный закон движения вперед образования. Итак, на все пункты г. Маркова я отвечаю только
1. Н. Толстой
Кому у кого учиться писать...
271
следующее: во-первых, доказывать нельзя тем, что все идет к лучшему, нужно прежде доказать, идет ли все к лучшему, или нет; во-вторых, то, что образование есть только та деятельность человека, которая имеет основанием потребность человека к равенству и неизменный закон движения вперед образования. Я старался только вывести г. Маркова из плоскости бесполезных исторических рассуждений и объяснить то, чего он не понял.
Граф Лев Толстой
Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?
В 5-й книжке «Ясной Поляны», в отделе детских сочинений, напечатана по ошибке редакции «История о том, как мальчика напугали в Туле». Историйка эта сочинена не мальчиком, но составлена учителем из виденного им и рассказанного мальчикам сна. Некоторые из читателей, следящие за книжками «Ясной Поляны», выразили сомнение в том, что действительно ли повесть эта принадлежит ученику. Я спешу извиниться перед читателем в этой неосмотрительности и при этом случае заметить, как невозможны подделки в этом роде. Повесть эта узнана не потому, что она лучше, а потому, что она хуже, несравненно хуже всех детских сочинений. Все остальные повести принадлежат самим детям. Две из них: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Сол-даткино житье», печатаемые в этой книжке, составились следующим образом.
Главное искусство учителя при изучении языка и главное упражнение с этой целью в руководстве детей к сочинениям состоит в задавании тем, и не столько в задавании, сколько в предоставлении большого выбора, в указании размера сочинения, в показании первоначальных приемов. Многие умные и талантливые ученики писали пустяки, писали «Пожар загорелся, стали таскать, а я вышел на улицу», — и ничего не выходило, несмотря на то что сюжет сочинения был богатый и что описываемое оставило глубокое впечатление на ребенке. Они не понимали главного: зачем писать и что хорошего в том, чтоб написать? Не понимали искусства — красоты выражения жизни в слове и увлекательности этого искусства. Я, как уже писал во 2-м номере, пробовал много различных приемов задавания сочинений. Я задавал, смотря по наклонностям, точные, художественные, трогательные, смешные, эпические темы сочинений — дело не шло. Вот как я нечаянно попал на настоящий прием.
Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смы-
Л. Н. Толстой
272
еле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы. Один раз, прошлой зимой, я зачитался после обеда книгой Снегирева и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка.
— Ну-ка, напишите кто на пословицу, — сказал я.
Лучшие ученики — Федька, Семка и другие навострили уши.
— Как на пословицу, что такое? скажите нам, — посыпались вопросы.
Открылась пословица Ложкой кормит, стеблем глаз колет.
— Вот, вообрази себе, — сказал я, — что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом за свое добро его попрекать стал, и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз колет».
— Да ее как напишешь? — сказал Федька, и все другие, навострившие было уши, вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои прежде начатые работы.
— Ты сам напиши, — сказал мне кто-то.
Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.
— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет, и я с вами.
Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной Поляны», и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена благодаря указанию учеников.
Федька из-за своей тетрадки все поглядывал на меня и, встретившись со мной глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «Пиши, пиши, я те задам». Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое сочинение хуже и скорее обыкновенного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать; другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное. Им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно и, чтобы успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик будет колдун; кто говорил: нет, не надо, он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.
Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большей частью одинаковы и верны как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и в характеристиках лиц. Все почти принимали участие в сочинительстве; но с самого начала в особенности резко выделились положительный Семка — резкой художественностью описания и Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешно-
• Ц. Толстой
Кому у кого учиться писать...
273
гтью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны п определенны, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел; например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле, они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба жалко стало. Федька отвечал, что это будет нескладно: «Он с первого начала бабы не послушался и после уже не покорится». — «Да какой он, по-твоему, человек?» — спросил я. «Он, как дядя Тимофей, — сказал Федька улыбаясь, — так, бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него есть». — «Добрый, но упрямый?» — сказал я. «Да, — сказал Федька: уж он не станет бабы слушать». С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении в особенности отличался Семка: подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закоченелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку; Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: «Господи, как он шел!» (Федька даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнувши руками и покачавши головою.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: «Тище, матушка, у меня тут раны». Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собой; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.
Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал. «Написал, написал?» — все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному — и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут,
Л. Н. Толстой
274
т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уже не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его в это время душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике ит. п., Федька сердился и говорил: «Ну тебя, уж наладил!» Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило только мне намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську-покойника, тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот диспотизм распоряжался постройкой повести, что скоро мальчики ушли домой и остался он только с Семкой, который не уступал ему, хотя я и работал в другом роде.
Мы работали с 7 до И часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать по переменкам, но скоро бросили: дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать. Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему. «А печатывать будем?» — спросил он. «Да!» — «Так и напечатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и нс мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть, — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника: радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года, — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, не соответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество. Я
1 . Н. Толстой
Кому у кого учиться писать...
275
прошу читателя прочесть первую главу повести и заметить то богатство рассыпанных в ней черт истинного творческого таланта; например, черта, что баба со злобой жалуется куму на мужа, и, несмотря на то, эта баба, к которой автор имеет явное несочувствие, плачет, когда кум напоминает ей о разорении дома. Для сочинителя, пишущего одним умом и воспоминанием, сварливая баба представляет только противоположность мужика: она из одного желания досадить мужу должна бы была приглашать кума; но у Федьки художественное чувство захватывает и бабу — и она тоже плачет, боится и страдает, она в его глазах не виновата. Вслед затем побочная черта, что кум надел бабью шубенку, я помню, до такой степени поразила меня, что я спросил: почему же именно бабью шубенку? Никто из нас не наводил Федьку на мысль о том, чтобы сказать, что кум надел на себя шубу. Он сказал: «Так, похоже». Когда я спросил, можно ли было сказать, что он надел мужскую шубу, он сказал: «Нет, лучше бабью». И в самом деле, черта эта необыкновенна. Сразу не догадаешься, почему именно бабью шубенку, а вместе с тем чувствуешь, что это превосходно и что иначе быть не может. Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений. Кум в бабьей шубенке невольно представляется вам тщедушным, узкогрудым мужиком, каков он, очевидно, и должен быть. Бабья шубенка, валявшаяся на лавке и первая попавшаяся ему под руку, представляет вам еще и весь зимний и вечерний быт мужика. Вам невольно представляются по случаю шубенки и позднее время, во время которого мужик сидит при лучине, раздевшись, и бабы, которые входили и выходили за водой и убирать скотину, и вся эта внешняя безурядица крестьянского житья, где ни один человек не имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего определенного места. Одним этим словом: «надел бабью шубенку» отпечатан весь характер среды, в которой происходит действие, и слово это сказано не случайно, а сознательно. Помню я еще живо, как возникли в его изображении слова, сказанные мужиком при том, как он нашел бумагу и не мог прочесть ее: «Вот знал бы мой Сережа грамоте, он бы живо подскочил, вырвал бы из моих рук бумагу, все бы прочел и рассказал бы мне, кто такой этот старик есть». Так и видится это отношение рабочего человека к книге, которую он держит в своих загорелых руках; весь этот добрый человек с патриархальными, набожными наклонностями так и восстает перед вами. Вы чувствуете, что автор глубоко полюбил и потому понял всего его для того, что вложить ему вслед за этим отступление о том, что нынче какие времена пришли — того и гляди, ни за что душу загубят. Мысль сна была подана мною, но сделать козла с ранами на ногах была Федькина мысль, и он в особенности обрадовался ей. А размышление мужика в то время, как у него засвербела спина, а картина тишины ночи — всё это до такой степени не случайно, во всех этих чертах чувствуется такая сознательная сила художника!.. Помню я еще,
Л. Н. Толстой
276
что во время засыпания мужика я предложил заставить думать его о будущности сына и о будущих отношениях сына со стариком, что старик выучит Сережку грамоте, и т. д. Федька поморщился, сказал: «Да, да, хорошо», но видно было, что предложение это ему не понравилось, и он два раза забывал его. Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.
Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.
«Что с вами, отчего вы так бледны, вы верно нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его.
Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне предаваться новому. На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-летнему Семке и Федьке, а что едва-едва — и то только в счастливую минуту раздражения — в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера.
На другой день вечером мы принялись за продолжение повести. Когда я спросил у Федьки, обдумал ли он продолжение и как, он, не отвечая, замахал руками и сказал только: «Уж знаю, знаю! Кто писать будет?» Мы стали продолжать, и опять со стороны ребят то же чувство художественной правды, меры и увлечения.
В половине урока я был принужден оставить их. Они продолжали без меня и написали две страницы так же хорошо, прочувствованно и верно, как и первые. Страницы эти были только несколько беднее подробностями, и подробности эти были иногда не совсем ловко расположены, были раза два и повторения. Все это, очевидно, происходило от
} Н. Толстой
Кому у кого учиться писать...
277
того, что механизм писания затруднял их. На третий день было то же самое. Во время этих уроков часто приставали другие мальчики и, зная гон и содержание повести, часто подсказывали и прибавляли свои верные черты. Семка отставал и приставал. Один Федька от начала и до конца вел повесть и цензировал все предлагаемые изменения. Не могло уже быть сомнения и мысли, что успех этот есть дело случая: нам, очевидно, удалось попасть на тот прием, который был естественнее и возбудительнее всех прежних. Но все это было слишком необыкновенно, и я не верил тому, чтб совершалось перед глазами. Как будто надобно было еще особенному случаю уничтожить все мои сомнения. Я должен был уехать на несколько дней, и повесть оставалась не дописанной. Рукопись, три большие листа, кругом исписанные, оставалась в комнате учителя, которому я показывал ее. Еще перед моим отъездом, во время моего сочинительства, прибывший новый ученик показал нашим ребятам искусство делать хлопушки из бумаги, и на всю школу, как это обыкновенно бывает, нашел период хлопушек, заменивший период снежков, заменивший, в свою очередь, период вырезывания палочек. Период хлопушек продолжался во время моего отсутствия. Семка и Федька, состоявшие в числе певчих, приходили в комнату учителя спеваться и проводили здесь целые вечера, а иногда и ночи. Между и во время пения, разумеется, хлопушки делали свое дело, и всевозможные бумаги, попадавшиеся в руки, превращались в хлопушки. Учитель ушел ужинать, забывши сказать, что бумаги на столе нужные, и рукопись сочинения Макарова, Морозова и Толстова превратилась в хлопушки. На другой день, перед уроком, хлопанье до такой степени надоело самим ученикам, что последовало всеобщее гонение на хлопушки от них же самих: с криком и визгом хлопушки все были отобраны и с торжеством всунуты в топившуюся печку. Период хлопушек кончился, но с ним погибла и наша рукопись. Никогда никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих трех исписанных листов; я был в отчаянии. Махнув на все рукой, я хотел начинать новую повесть, но не мог забыть потери и невольно всякую минуту пилил упреками и учителя, и делателей хлопушек. (Нс могу не заметить при этом случае, что только вследствие внешнего беспорядка и полной свободы учеников, над которой так мило подтрунивают гг. Марков в «Русском вестнике» и Глебов в журнале «Воспитание» № 4, я без малейшего труда, угроз или хитростей узнал все подробности сложной истории превращения рукописи в хлопушки и сожжения их.) Семка и Федька видели, что я огорчен, видимо, не понимали чем, хотя и соболезновали. Федька робко предложил мне, наконец, что они вновь напишут такую же. «Одни? — сказал я. — Я уж помогать не стану». — «Мы с Семкой ночевать останемся», — сказал Федька. И действительно, после урока они пришли в 9-м часу в дом, заперлись на ключ в кабинете, что мне доставляло немало удовольствия, посмеялись, затихли, и до 12-го часа, подходя к двери, я слышал только, как они тихим голосом переговаривались между собой и скрипели пером. Один раз только
Л. Н. Толстой
278
они заспорили о том, чтб было прежде, и пришли ко мне судиться: прежде ли он искал сумочку, чем баба пошла к куму, или после. Я сказал им, что это все равно. В 12-м часу я к ним постучался и вошел. Федька, в новой белой шубке с черною опушкою, сидел глубоко в кресле, перекинув ногу на ногу и облокотившись своей волосатой головкой на руку и играя ножницами в другой руке. Большие, черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым блеском, всматривались куда-то вдаль; неправильные губы, сложенные так, как будто он сбирался свистать, видимо, сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать. Семка, стоя перед большим письменным столом, с большой белой заплаткой овчины на спине (в деревне только что были портные), с распущенным кушаком, с лохмаченной головой, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в чернильницу. Я взбудоражил волоса Семке, и толстое скуластое лицо его с спутанными волосами, когда он недоумевающими и заспанными глазами с испугом оглянулся на меня, было так смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не изменяя выражения лица, тронул за рукав Семку, чтобы он продолжал писать: «Погоди, — сказал он мне, — сейчас» (Федька говорит мне «ты» тогда, когда бывает увлечен и взволнован), и он продиктовал еще что-то. Я отнял у них тетрадь, и через пять минут, когда они, усевшись около шкапчика, оплетали картофель с квасом и, глядя на чудные для них серебрянные ложки, заливались, сами не зная чему, звонким детским смехом; старушка, слушая их сверху, не зная чему, тоже смеялась. «Ты что завалился? — говорил Семка. — Сиди прямо, а то набок наешься». И, снимая шубы и укладываясь под письменным столом спать, они не переставали заливаться детским, мужицким, здоровым, прелестным хохотом. Я прочел то, что они написали. Это был новый вариант того же. Некоторые вещи были пропущены, некоторые новые художественные красоты прибавлены. И опять то же чувство красоты, правды, меры. Впоследствии найден был один лист из потерянной рукописи. В напечатанной повести я, вспоминая по найденному листу, соединил оба варианта. Писание этой повести происходило ранней весной, перед окончанием нашего учебного года. Я по некоторым обстоятельствам не мог успеть делать новых опытов. На пословицы написана была двумя самыми посредственными по способностям и самыми испорченными (потому что дворовые) мальчиками только одна повесть: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», напечатанная в 3-м номере. Те же явления повторялись и с этими мальчиками, и с этою повестью, как и с Семкой и Федькой и первой повестью, только с различием степени таланта и степени увлечения и содействия с моей стороны.
Летом у нас не учатся, не учились и не будут учиться. Причине, почему учение летом невозможно в нашей школе, мы посвятим отдельную статью.
Одну часть лета Федька и другие мальчики жили со мною. Накупавшись, наигравшись, они вздумали позаняться. Я предложил им писать
1 Н. Толстой
Кому у кого учиться писать...
279
сочинение и рассказал несколько тем. Я рассказал весьма занимательную историю воровства денег, историю одного убийства, историю чудесного обращения молокана в православие и еще в форме автобиографии предложил написать историю мальчика, у которого бедного и распутного отца отдали в солдаты и к которому отец возвращается из солдатства исправленным и хорошим человеком. Я сказал: «Я бы написал так. Помню я, когда я был маленьким, что у меня была мать, отец и еще какие-нибудь родные, и какие они были. Потом написал бы, как помню, что отец мой гулял, мать все плакала, и он ее бил; потом, как отдали его в солдаты, как она выла, как мы еще хуже жить стали, как отец пришел назад, и я будто бы его не узнал, а он спрашивает, жива ли там Матрена, — это про свою жену — и как потом обрадовались и хорошо стали жить». Вот все, что я сказал сначала. Федьке чрезвычайно понравилась эта тема. Он сейчас же схватил перо, бумагу и стал писать. Во время писания я навел его только на мысль о сестре и на мысль о смерти матери. Остальное все он писал сам и даже не показывал мне, кроме первой главы, до тех пор пока все было кончено. Когда он показал мне первую главу и я начал ее читать, я чувствовал, что он находится в сильном волнении и, сдерживая дыхание, смотрит то на рукопись, следя за моим чтением, то на мое лицо, желая угадать на нем выражение одобрения или неодобрения. Когда я ему сказал, что это очень хорошо, он весь вспыхнул, но ничего не сказал мне и раздраженно тихим шагом дошел с тетрадью до столика, уложил ее и медленно вышел на двор. На дворе он был бешено резв с ребятами в этот день и, когда глаза наши встречались, смотрел на меня такими благодарными, ласковыми глазами. Через день он уже забыл о том, что написал. Я только придумал заглавие, разделил на главы и кое-где поправил ошибки, сделанные им только по неосмотрительности. Эта повесть в своем первоначальном виде печатается в книжке под заглавием «Солдаткино житье».
Я не говорю о первой главе, хотя в ней есть свои неподражаемые красоты и хотя беспечный Гордей в ней представляется чрезвычайно верно и живо — Гордей, который как будто стыдится признаться в своем раскаянии и считает приличным только попросить сходку о сыне, — несмотря на это, глава эта несравненно слабее всех последующих. И виноват в этом один я, который не мог удержаться при писании этой главы, не мог удержаться, чтобы не подсказывать ему и не рассказывать, как бы написал я. Ежели есть некоторая пошлость приема при вступлении, в описании лиц и жилища, то виноват в этом единственно я. Ежели бы я его оставил одного, то, уверен, он описал бы то же самое во время действия незаметно, художественнее, без принятой у нас и ставшей невозможной манерой описаний, логично расположенных: сначала описания действующих лиц, даже их биографии, потом описания местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело, все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художествен
Л. Н. Толстой
280
ная черта во время уже начатого действия между вовсе не описанными лицами. Так, в этой первой главе одно слово Гордея: «мне того и нужно», когда он, махнув рукой, примиряется со своей долей быть солдатом и только просит сходку не оставить его сына, — это слово более знакомит читателя с лицом, чем несколько раз повторенное и навязанное мною описание его одежды, фигуры и привычки ходить в кабак. Точно то же впечатление производит и слово старухи, всегда бранившей сына, когда она во время горя говорит с завистью невестке: «Будет тебе, Матрена! Что же делать, видно так богу угодно! Ведь ты еще молода, может, бог тебе приведет и увидать. А мои какие лета... я всё больна... того и гляди — умру».
Во второй главе еще заметно мое влияние пошлости и испорченности, но опять глубоко художественные черты в описании картин и смерти мальчика выкупают все дело. Я подсказал, что у мальчика были тоненькие ножки, я подсказал сентиментальную подробность о дяде Нефеде, который делает гробок; но жалобы матери, выраженные одним словом: «Господи, когда эта кабала умрет!^ — йредставйяют читателю всю сущность положения; и вслед за тем эта ночь, во время которой старший братишка разбужен слезами матери, и ответ ее на вопрос бабушки: что с нею? — простым словом: «у меня сын помер», — и эта бабушка, встающая и зажигающая огонь и обмывающая маленькое тело, — все это его собственное; все это так сжато, так просто и так сильно — ни одного слова нельзя выкинуть, ни одного изменить или прибавить. Всего пять строк, и в этих-то пяти строках нарисована для читателя вся картина этой грустной ночи, и картина, отражавшаяся в воображении 6—7-летнего мальчика: «В полночь мать что-то заплакала. Встала бабушка и говорит: что ты, Христос с тобою? Мать говорит: у меня сын помер. Бабушка зажгла огонь, обмыла мальчика, надела рубашку, подпоясала и положила под святые. Когда рассвело...» Вам видится и самый мальчик, разбуженный знакомым плачем матери, спросонок из-под кафтана, где-нибудь на палатях, испуганными блестящими глазами следящий за тем, что делается в избе; вам видится и эта йзнуренная страдалица-солдатка, за день перед этим говорившая: «скоро ли эта кабала умрет», раскаивающаяся и убитая мыслью о смерти этой кабалы до такой степени, что она только говорит: «у меня сын помер», не знает, что ей делать, и зовет на помощь старуху; вам видится и эта усталая от страдания жизни старуха, сгорбленная, худая и с костлявыми членами, которая привычными рабочими руками неторопливо, спокойно берется за дело: зажигает лучину, приносит воды и обмывает мальчика, кладет все в свое место и обмытого, подпоясанного мальчика под святые. И видятся вам эти святые, вся эта ночь без сна до рассвета, как будто вы сами ее пережили, как пережил ее мальчик, глядевший из-под кафтана, со всеми подробностями возникает эта ночь и остается в вашем воображении.
В третьей главе уже меньше моего влияния. Вся личность няньки принадлежит ему. Еще в первой главе он одной чертой охарактеризо
I. H. Толстой
Кому у кого учиться писать...
281
вал отношения няньки к семейству: «Она работала в свою долю на наряды, замуж собиралась». И одна эта черта рисует уже всю девку, не могущую принимать и действительно не принимающую участия в радостях и горестях семейства. У ней свой законный интерес, своя единственная цель, поставленная ей провидением, — будущее замужество, своя будущая семья. Наш брат сочинитель, в особенности такой, который желает поучать народ, представляя ему примеры нравственности, достойные подражания, непременно отнесся бы к няньке с вопросом об ее участии в общей нужде и горе семейства. Он сделал бы ее или постыдным примером равнодушия, или образцом любви и самопожертвования, и была бы мысль, а не было бы живого лица няньки. Только человек, глубоко изучивший и узнавший жизнь, мог бы понять, что для няньки вопрос о горе семейства и солдатстве отца есть законно второстепенный вопрос: у нее есть замужество. И это самое в простоте своей души видит художник, хотя и ребенок. Ежели бы мы описали няньку самой трогательной, самоотверженной девицей, мы бы ее вовсе не могли себе представить и не любили бы, как теперь ее любим. Теперь же мне так мила и жива эта толстощекая, румяная девочка, бегающая вечерком на хороводы в купленных на заработанные деньги котах и кумачном платке, любящая свою семью, хотя и тяготящаяся той бедностью и мрачностью, которая составляет такую противоположность ее душевному настроению. Я чувствую, что она добрая девочка уже потому, что мать никогда на нее не жаловалась и не имела от нее горя. Я, напротив, чувствую, что она одна со своими заботами о нарядах, отрывками напеваемых песен и рассказами о деревенских сплетнях, принесенными с летней работы или с зимней улицы, в грустное время одиночества солдатки служила представительницей веселья, молодости и надежды. Недаром он говорит, что только и было радости, как няньку замуж отдавали, недаром с такой любовью и подробностью описывает веселье свадьбы; недаром после свадьбы заставляет мать сказать: «Теперь мы разорились до конца». Видно, что, отдав няньку, они потеряли ту радость и веселье, которые она вносила в их дом. Все это описание свадьбы необыкновенно хорошо. Тут есть подробности, перед которыми невольно приходишь в недоумение и, вспоминая, что это писал 11-летний мальчик, спрашиваешь себя: неужели это не нечаянно? Так видишь из-за этого сжатого и сильного описания 7-летнего мальчика, не выше стола, с умными и внимательными глазками, на которого никто не обращает внимания, но который все помнит и замечает. Когда ему захотелось хлебца, например, он не сказал, что попросил у матери, а сказал, что нагнул мать. И это сказано не нечаянно, а сказано потому, что помнится ему отношение в то время роста его к матери и помнятся его, робкие при других и близкие один на один, отношения к матери. Другое из множества наблюдений, которые он мог сделать во время обряда свадьбы, он запомнил и записал именно то, которое для него и для каждого из нас рисует весь характер этих обрядов. Когда сказали, что горько, нянька взяла Кондрашку за уши и стала це-
Л. Н, Толстой
282
ловиться. Потом смерть бабушки, воспоминание ее о сыне перед смертью и особенный характер горести матери — все это так твердо и сжато, и все это его собственное.
О возвращении отца я более всего ему говорил, когда задавал тему повести. Мне нравилась эта сцена, и я сентиментально-пошло рассказал, но именно сцена эта ему тоже очень понравилась, и он просил меня: «Ничего не говорите, я сам знаю, знаю», — говорил он мне и начал писать, и с этого же места дописал всю повесть в один присест. Мне очень интересно будет знать мнение других ценителей, но я считаю долгом откровенно высказать свое мнение. Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе. Во всей этой встрече нет ни одного намека на то, что это было трогательно, рассказано только, как было дело; но рассказано из всего, что было, именно только то, что необходимо для того, чтобы читатель понял положение всех лиц. Солдат в своем доме сказал только три слова. Сначала он еще крепился и сказал: «Здравствуйте». Когда он начал забывать взятую на себя роль, он сказал: «Что-йто у вас семьи только?» И все было высказано словами: «Где ж моя матушка?» Какие все простые и естественные слова, и никто из лиц не забыт! Мальчик был рад и поплакал даже; но он ребенок, и потому он тут же, несмотря на то что отец плакал, все рассматривал у него сумочку и в карманах. Не забыта и нянька. Так и видишь эту румяную бабенку, которая в котах при народе застенчиво вошла в избу и, ничего не сказавши, поцеловала отца. Так и видишь растерявшегося и счастливого солдата, который подряд целуется со всеми, сам не зная с кем, и который, узнав, что молодая бабенка его дочь, вновь подзывает ее к себе и целует уже не просто как всякую молодую бабочку, а целует как дочь, которую он оставил когда-то, как будто не жалея.
Отец исправился. Сколько бы мы наговорили фальшивых и неловких фраз по этому случаю! А Федька просто рассказал, как нянька принесла вино, а он не стал пить. И вы видите и бабу, которая, достав из сумочки последние 23 копейки, запыхавшись, в сенях шепотом посылала молодую бабенку за вином и пересыпала ей в горсть медные деньги. Вы видите эту молодую бабенку, которая, подобрав на руку занавеску, с полуштофом в руке, постукивая котами и размахивая за спиною локтями, с полуштофом в руке бежала к кабаку. Вы видите, как она, зардевшись, вошла в избу, достала из-под занавески полуштоф, как мать самодовольно и весело поставила его на стол и как солдатке обидно и весело стало, что муж ее не стал пить. И видите — ежели он не стал пить в такую минуту, то он уже точно исправился. Вы чувствуете, как совсем другие люди стали все члены семейства. «Отец мой помолился богу и сел за стол. Я сел возле него рядом, нянька села на подоконнике, а мать стояла у стола и глядела на отца и говорит: вишь ты помолодел — у тебя бороды нет. Все засмеялись».
И только когда все ушли, начались настоящие семейные разговоры. Тут только открывается, что солдат разбогател и разбогател са
I H. Толстой
Кому у кого учиться писать...
283
мым простым и естественным образом, точно так же, как богатеют почти все люди на свете, т. е. чужие, казенные, общие деньги вследствие счастливой случайности остались у него. Некоторые из читателей повести замечали в ней, что подробность эта безнравственна и что понятие казны как дойной коровы надо искоренять, а не утверждать в народе. Для меня же черта эта, не говоря уже о ее художественной правде, в особенности дорога. Ведь казенные деньги всегда остаются — отчего же и не остаться им когда-нибудь и у бездомного солдата Гордея! Во взгляде на честность народа и высшего класса часто встречается совершенная противоположность. Требования народа в особенности серьезны и строги в отношении честности в самых близких отношениях, например в отношении к семье, к деревне, к миру. В отношении к посторонним — с публикой, с государством, в особенности с иностранцем, с казною, для них смутно представляется приложимость общих правил честности. Мужик, который никогда не солжет своему брату, перенесет всевозможные лишения для своей семьи, который лишней и незаслуженной копейки не возьмет у своего односельца или соседа, тот же мужик обдерет, как липку, иностранца или горожанина, на каждом слове солжет дворянину.или чиновнику; будь он солдатом — без малейшего угрызения совести заколет пленного француза и, попадись ему казенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи не воспользоваться ими. В высшем классе бывает, напротив, совершенно противное. Наш брат скорее обманет жену, брата, купца, с которым десятки лет имеет дело, своих дворовых, крестьян, соседа, и тот же самый человек за границей снедаем постоянным страхом, как бы нечаянно не обмануть кого, и все просит указать ему, кому еще нужно отдать деньги. Тот же наш брат обдерет на шампанское и перчатки свою роту и полк и будет рассыпаться в любезностях перед пленным французом. Тот же самый человек в отношении казны считает величайшим преступлением воспользоваться, когда он без денег (считает только), но большей частью при случае не устоит в борьбе и сделает то, что сам считает подлостью. Я не говорю, чтб лучше, я говорю только, как, мне кажется, оно есть. Замечу только, что честность не есть убеждение, что выражение «честные убеждения» есть бессмыслица. Честность есть нравственная привычка; чтобы приобрести ее, нельзя идти иным путем, как начинать с ближайших отношений. Выражение «честные убеждения», по-моему, совершенно бессмысленно: есть честные привычки, а нет честных убеждений.
Слова «честные убеждения» только фраза; вследствие того-то эти мнимые честные убеждения, относящиеся до самых отдаленных жизненных условий — казны, государства, Европы, человечества — и не основанные на привычках честности, не воспитанные на самых ближайших житейских отношениях, оттого-то эти честные убеждения, или, вернее, фразы честности, оказываются несостоятельными в отношении к жизни.
Возвращаюсь к повести. Кажущееся в первую минуту безнрав
Л. Н. Толстой
284
ственным появление взятых у казны денег, по нашему мнению, напротив, имеет самый милый, трогательный характер. Как часто литератор нашего круга, в простоте своей души, желая выставить героя своего идеалом честности, показывает нам всю грязную и развратную внутренность своего воображения. Здесь, наоборот, автору нужно осчастливить своего героя; для счастья ему и достаточно было бы возвращения в семью, но надо было уничтожить бедность, столько лет тяготевшую над семьею; откуда же ему было взять богатство? Из безличной казны. Ежели дать богатство, то надо у кого-нибудь взять его — законнее, разумнее нельзя было бы найти его.
В самой сцене объявления этих денег есть крошечная подробность, одно слово, которое всякий раз, когда я читаю, как будто вновь поражает меня. Оно освещает всю картину, обрисовывает все лица и их отношения и только одно слово, и слово неправильно употребленное, синтаксически неверное, — это слово заторопилась. Учитель синтаксиса должен сказать, что это неправильно. Заторопилась требует дополнительного заторопилась, что сделать? — должен спросить учитель. А тут просто сказано: мать взяла деньги и заторопилась, понесла их хоронить — и это прелестно. Желал бы я сказать такое слово и желал бы, чтобы учителя, обучающие языку, сказали или написали такое предложение: «Когда мы пообедали, нянька поцеловала еще отца и ушла домой. Потом отец стал перебирать в сумочке, а мы стали с матерью смотреть. Вот мать увидела там книжку и говорит: «Ай выучился грамоте?» Отец говорит: «Выучился». Потом отец вынул большой узел и подал матери. Мать говорит: «Что это?» Отец говорит: «Деньги». Мать обрадовалась и заторопилась, понесла их хоронить. Потом мать пришла и говорит: «Где это ты взял?» Отец говорит: «Я был унтер-офицером, и у меня были казенные деньги; я раздавал солдатам, и у меня остались, я их прибрал». Мать моя так была рада и бегала как бешеная. День уже прошел, наступил вечер. Зажгли огонь. Взял мой отец книжку и начал читать. Я сел около него и слушал, а мать светила лучинку. И долго отец читал книжку. Потом легли спать. Я лег на задней лавке с отцом, а мать у нас легла в ногах, и долго они разговаривали, почти до полуночи. Потом уснули».
Опять чуть заметная, нисколько не поражающая вас, но оставляющая глубокое впечатление подробность о том, как они легли спать: отец лег с сыном, мать легла в ногах, и долго они не могли наговориться. Как тепло прижался, я думаю, сын к груди отца и как чудно и отрадно было ему, засыпая и впросонках, все слушать эти два голоса, из которых один так давно он не слышал. Казалось бы, все кончено: отец возвратился, бедности нет уже. Но Федька не удовлетворился этим (слишком живо, видно, засели ему в воображении эти воображаемые люди), ему нужно еще было живо вообразить себе картину изменившегося их житья, представить себе ясно, что теперь уж эта баба не одинокая, горемычная солдатка с малыми ребятами, а что есть в доме сильный мужчина, который снимет с усталых плеч жены все бремя на
JI. H. Толстой
Кому у кого учиться писать...
285
давившего горя и бедности и самостоятельно, твердо и весело поведет новую жизнь. И для этого он рисует вам только одну сцену: как шарба-тым топором здоровый солдат нарубил дров и принес в избу. Вы видите, как востроглазый мальчишка, привыкший к кряхтенью слабосильной матери и бабушки, с удивлением, уважением и гордостью любовался на мускулистые засученные руки отца, на энергичные взмахи топора, совпадавшие с грудным вздохом мужского труда, и на плаху, которая, как лучина, щепалась под шарбатым топором. Вы посмотрели на это и совершенно успокаиваетесь насчет будущего житья солдатки. Теперь она уже не пропадет, сердечная, думаю я.
«Поутру мать встала, подошла к отцу и говорит: «Гордей! Вставай, нужно дров, топить печь». Батя поднялся, обулся, надел шапку и говорит: «Топор есть?» Мать говорит: «Есть шарбатый, — пожалуй, и не отрубит». Отец мой взял топор обеими руками крепко, подошел к плахе, поставил ее стоючи и ударил изо всех сил и расколол плаху; наколол дров и перетаскал в избу. Мать стала топить избу, истопила, и хорошо рассвело».
Но художнику и этого мало. Ему хочется показать вам и другую сторону их жизни, поэзию веселой семейной жизни, и он рисует вам следующую картину:
«Когда хорошо рассвело, отец мой говорит: «Матрена!» Мать подошла и говорит: «Ну, что?» Отец говорит: «Я думаю, корову купить, пять овчонок, две лошадки да избу, ведь развалилась... ну, изойдет целковых полтораста на все-то. Мать что-то задумалась, потом говорит: «Ну а деньги-то мы все растрясем». Отец говорит: «Мы работать станем». Мать говорит: «Ну, ладно, купим, да вот что — где иструб-то взять?» Отец говорит: «У Кирюхи разве нет?» Мать говорит: «То-то и дело, что нет — Фоканычевы захватили». Отец подумал и говорит: «Ну, мы возьмем у Брянцева». Мать говорит: «И у него навряд ли есть». Отец говорит: «Ну, как нс быть — человек засечный». Мать говорит: «Как бы он не взял дорого; посмотри, какой он бестия». Отец говорит: «Я пойду, поднесу водочки и уговорюсь с ним; а ты испеки яичко в золе к обеду». Мать к обеду там кусочек сварила, заняла у своих. Потом отец взял вина и ушел к Брянцеву, а мы остались и долго сидели. Мне стало скучно без отца. Я стал проситься у матери, чтобы она отпустила меня туда, куда отец ушел. Мать говорит: «Ты заблудишься». Я стал плакать и хотел уйти, но меня мать побила, и я сел на печку и стал дюжей плакать. Потом, вижу, вошел отец в избу и говорит: «Что ты плачешь?» Мать говорит: «Федюшка хотел за тобой бечь, а я его побила». Отец подошел ко мне и говорит: «О чем ты плачешь?» Я стал жаловаться на мать. Отец подошел к матери и зачал ее бить, так, нарочно, а сам приговаривает: «Не бей Федю! не бей Федю!» Мать нарочно заплакала. А я сел отцу на колени и был рад. Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закричал: «Давай нам, мать, с Федею обедать — мы есть хотим!» Вот мать подала нам говядины, и мы стали есть. Пообедали, мать говорит: «Ну, что насчет истру-
Л. Н. Толстой
286
ба?» Отец говорит: «50 рублей серебром». Мать говорит: «Это еще ничего». Отец говорит: «Да, толковать нечего — иструб славный».
Кажется, как просто, как мало сказано, а вам представляется перспектива всей их семейной жизни. Вы видите, что мальчик еще ребенок, который и поплачет, а через минуту будет рад; вы видите, что мальчик не умеет ценить любви матери и променял ее на мужественного отца, рубившего плаху; вы видите, что мать знает, что это так должно быть, и не ревнует; вы видите этого чудесного Гордея, у которого счастье переполняет сердце. Вами замечено, что они ели говядину, и эта прелестная комедия, которую они все играют, и все знают, что это комедия, но играют от избытка счастья. «Не бей Федю, не бей Федю», — говорит отец, замахиваясь на нее. И, привычная к непритворным слезам, мать нарочно заплакала, счастливо улыбаясь на отца и на сына, и этот мальчик, который влез к отцу на колени, был горд и рад, сам не зная чему, — горд и рад, может быть, тому, что они теперь счастливы.
«Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закричал: давай нам, мать, с Федей обедать — мы есть хотим».
Мы есть хотим, и рядом посадил. Какая любовь и счастливая гордость любви дышит в этих словах! Прелестнее, задушевнее этой последней сцены нет ничего во всей прелестной повести.
Но что же мы хотим сказать всем этим? Какое значение имеет эта повесть в педагогическом отношении, написанная одним, может быть исключительным мальчиком? Нам скажут: «Вы учитель, может быть, помогали, незаметно для себя, составлению этих и других повестей, и найти границы того, что принадлежит вам, и того, что самобытно, слишком трудно». Нам скажут: «Положим, повесть хороша, но это один только из родов литературы». Нам скажут: «Федька и другие мальчики, сочинения которых вы печатали, суть счастливое исключение». Нам скажут: «Вы сами писатель, вы незаметно для себя помогали ученикам такими путями, которые нельзя предписывать другим учителям — неписателям, как правило». Нам скажут: «Из всего этого вывести общего правила или теории невозможно. Отчасти интересное явление, и больше ничего».
Постараюсь передать мои выводы так, чтобы они отвечали на все эти, предполагаемые мною, возражения.
Чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия, выражающие только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра. Ложь есть только несо-ответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет. Я не лгу, говоря, что столы вертятся от прикосновения пальцев, ежели я верю, хотя это и неправда; но я лгу, говоря, что у меня нет денег, когда, по моим понятиям, у меня есть деньги. Никакой огромный нос не уродлив, но он уродлив на малом лице. Уродливость только дисгармония в отношении красоты. Отдать свой обед нищему или самому съесть его, не имеет в себе ничего дурного; но отдать или съесть этот
I.H. Толстой
Кому у кого учиться писать...
287
обед, когда моя мать умирает с голода, есть дисгармония отношений в смысле добра. Воспитывая, образовывая, развивая, или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Ежели бы время не шло, ежели бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большей частью самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он стоит сзади нас. Необходимое развитие человека есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие, положенное творцом, к достижению высшего идеала гармонии. В этом-то необходимом законе движения вперед заключается смысл того плода дерева познания добра и зла, которого вкусил наш прародитель. Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится совершенным — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количество и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый шаг, и каждый час грозит нарушением этой гармонии, и каждый последующий шаг, и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.
• Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель. Развитие ошибочно принимается за цель потому, что с воспитателями случается то, что бывает с плохими ваятелями.
Вместо того чтобы стараться остановить местное преувеличенное развитие или остановить общее развитие, чтобы подождать новой случайности, которая уничтожит происшедшую неправильность, как плохой скульптор, вместо того чтобы соскоблить лишнее, налепливает все больше и больше, так и воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвест
Л. Н. Толстой
288
ному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорее, как можно скорее, раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. То одну сторону надо сравнять с другой, то другую надо сравнять с первой. Ребенка развивают все дальше и дальше — и все дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза, и все невозможнее и невозможнее делается достижение воображаемого первообраза совершенства взрослого человека. Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше его воспитывать, тем больше нужно ему свободы.
Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой йритине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему от меня нужен только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне. Как только я дал ему полную свободу, перестал учить его< он написал такое поэтическое произведение, которому подобного не было в русской литературе. И потому, по моему убеждению, нам нельзя учить писать и сочинять, в особенности поэтически сочинять, вообще детей и в особенности крестьянских. Все, что мы можем сделать, — это научить их, как браться за сочинительство.
Ежели то, что я делал для достижения этой цели, можно назвать приемами, то приемы эти были следующие.
1. Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые серьезные и интересующие самого учителя.
2. Давать читать детям детские сочинения и только детские сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых.
3. (Особенно важно.) Никогда во время рассматривания детских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.
4. Так как в сочинительстве трудность заключается не в объеме или содержании, а в художественности темы, то постепенность тем должна заключаться не в объеме, не в содержании, не в языке, а в механизме дела, состоящем в том, чтобы, во-первых, из большого числа пред-
1 II. Толстой
Общие замечания для учителя
289
ставляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, не повторяться, ничего не пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно время, думая и записывая, одно не мешало другому. С этой целью я делал следующее: некоторые из этих сторон труда я первое время брал на себя, постепенно передавая их все на их заботу. Сначала я выбирал за них из представлявшихся мыслей и образов те, которые казались мне лучше, и запоминал и указывал место и справлялся с написанным, удерживая их от повторений, и сам писал, предоставляя им только облекать образы и мысли в слова; потом я дал им самим и выбирать, потом и справляться с написанным, и, наконец, как при писании «Солдаткина житья», они и самый процесс писания взяли на себя.
Общие замечания для учителя
Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того чтобы он учился охотно, нужно:
1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.
Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей: не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя. Для того чтобы не говорить того, чего ученик не может понять, избегайте всяких определений, подразделений и общих правил. Все учебники состоят только из определений, подразделений и правил, а их-то именно и нельзя сообщать ученику. Избегайте грамматических и синтаксических определений и подразделений частей и форм речи и общих правил. А заставляйте ученика видоизменять формы слов, не называя этих форм, и — главное — больше читать, понимая то, что он читает, и больше писать из головыми поправляйте его не на том основании, что то или другое противно правилу, определению или подразделению, а на том основании, что не понятно, не складно и не ясно. По естественным наукам избегайте классификации, предположений о развитии организмов, объяснений строения их, а давайте ученику как можно более самых подробных сведений о жизни различных животных и растений.
По истории и географии избегайте общих обзоров земель и исторических событий и подразделений тех и других. Ученику не могут быть занимательны исторические и географические обзоры тогда, когда он не верит еще хорошенько в существование чего-нибудь за видимым горизонтом, а о государстве, власти, войне и законе, составляющих предмет истории, не может составить себе ни малейшего понятия. Для того чтобы он поверил в географию и историю, давайте ему географические и исторические впечатления. Рассказывайте ученику с величайшей
Л. Н. Толстой
290
подробностью про те страны, которые вы знаете, и про те события исторические, которые вам хорошо известны.
По космографии избегайте сообщения ученику объяснения (столь любимого в педагогии) Солнечной системы и вращения и обращения Земли. Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, Солнца, Луны, планет, о затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек Земли, толкование о том, что Земля вертится и бегает, не есть разъяснение вопроса и объяснение, а есть без всякой необходимости доказываемая бессмыслица. Ученик, полагающий, что Земля стоит на воде и рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что Земля вертится, и не умеет этого понять и объяснить. Сообщайте как можно больше сведений о видимых явлениях неба, о путешествиях и давайте ученику только такие объяснения, которые он сам может проверить на видимых явлениях.
В арифметике избегайте сообщения определений и общих правил, упрощающих счет. Ни на чем так не заметен вред сообщения общих правил, как на математике. Чем короче тот путь, посредством которого вы научите ученика делать действие, тем хуже он будет понимать и знать действие.
Самое короткое счисление есть десятичное — оно и самое трудное. Самый короткий прием сложения — начинать с меньших разрядов и приписывать одну из полученных цифр к следующему разряду — есть вместе и самый непонятный прием; нет ничего легче, как научить ученика при вычитании считать за 9 всякий 0, через который он перескочит занимая, или научить приведению к одному знаменателю посредством помножения крест-накрест, но ученик, выучивший эти правила, уже долго не поймет, почему это так делается. Избегайте всех арифметических определений и правил, а заставляйте производить как можно больше действий и поправляйте не потому, что сделано не по правилу, а потому, что сделанное не имеет смысла.
Избегайте весьма любимого (особенно в иностранных книгах для школ) сообщения необычайных результатов, до которых дошла наука, вроде того: сколько весит Земля, Солнце, из каких тел состоит Солнце, как из ячеек строится дерево и человек и какие необыкновенные машины выдумали люди. Не говоря уже о том, что, сообщая такие сведения, учитель внушает ученику мысль, что наука может открыть человеку много тайн, в чем умному ученику слишком скоро придется разочароваться, не говоря об этом, голые результаты вредно действуют на ученика и приучают его верить на слово.
Избегайте непонятных русских слов, не соответствующих понятию или имеющих два значения, и особенно иностранных. Старайтесь заменять их словами хотя и длиннейшими, хотя даже и не столь точными, но такими, которые в уме ученика возбуждали бы соответствующие понятия.
Вообще, избегайте таких оборотов: это так-то называется, это так-то, а старайтесь называть каждую вещь, как ей следует называться.
t H. Толстой
Общие замечания для учителя
291
Вообще, давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания, но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.
Сообщайте определение, подразделение, правило, название только тогда, когда ученик имеет столько сведений, что сам в состоянии проверить общий вывод, когда общий вывод не затрудняет, а облегчает его.
Другая причина, по которой урок бывает неприятен и незанимателен, заключается в том, что учитель объясняет слишком длинно и сложно то, что давно уже понял ученик. Ученику так просто, что ему сказали, что он ищет особенного, другого значения и понимает ошибочно или уже вовсе не понимает.
Такого р$да толкования обыкновенны, в особенности когда предметы уроков взяты из жизни. Например, когда учитель начнет толковать ученику, что такое стол, или какое животное лошадь, или чем отличается книга от руки, или: одно перо и одно перо — сколько будет перьев?
Вообще толкуйте ученику то, чего он не знает, и то, что вам самим было бы занимательно узнать, если бы вы не знали. При соблюдении всех этих правил часто случится, что ученик все-таки не будет понимать. На это будут две причины. Или ученик уже думал о том предмете, о котором вы толкуете, и объяснил его себе по-своему. Тогда старайтесь вызвать ученика на объяснение его взгляда и, если он не верен, опровергните его, а если верен, то покажите ему, что вы и он видите предмет одинаково, но с различных сторон. Или же ученик не понимает оттого, что ему еще не пришло время. Это особенно заметно в арифметике. То, над чем вы тщетно бились по целым часам, становится вдруг ясно в минуту через несколько времени. Никогда не торопитесь, переждите, возвращайтесь к тем же толкованиям.
Для того чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно:
1) чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится;
2) чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей;
3) (очень важное) чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т. е. за непонимание; ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями;
4) чтобы ум не утомлялся. Определить число часов или минут, после которого ум ученика утомляется, невозможно ни для какого возраста; но для внимательного учителя всегда есть верные признаки утомления; как скоро ум утомлен, заставьте ученика делать физическое движение; лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, когда он утомлен; тупик, столбняк, упрямство происходят только от этого;
Л. Н. Толстой
292
5) чтобы урок был соразмерен силами ученика, не слишком легок, не слишком труден.
Если урок будет слишком труден, ученик потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий; если урок слишком легок, будет то же самое. Нужно стараться, чтобы все внимание ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении.
Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик.
Чем больше будет ученик предоставлен самому себе и занятиям, не требующим внимания учителя: переписыванию, диктованию, чтению вслух без понимания, заучиванию стихов, тем труднее будет ученику.
Но если учитель положит и все силы на свое дело, то все-таки он не только со многими учениками, но и с одним учеником будет постоянно чувствовать, что он далеко не исполняет того, что нужно.
Для того чтобы, несмотря на это всегдашнее недовольство собою, Иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество. Это же качество восполняет и всякое искусство учительское и всякое приготовление, ибо с этим качеством учитель легко приобретет недостающее знание.
Если учитель во время трехчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество.
Качество это есть любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.
О народном образовании (1874 г.)
Милостивый государь Иосиф Николаевич!1
Постараюсь исполнить ваше желание, т. с. написать то или приблизительно то, что было высказано мною в последнем заседании комитета. Исполняю это е особенным удовольствием еще и потому, что в прежнем протоколе заседания, в котором напечатаны мои слова (я только что прочел его), я нашел много не имеющих ясного смысла фраз, которых я, помнится, не говорил. Если то, что было говорено мною в последнем заседании, должно быть напечатано, то настоящее письмо или может быть напечатано вместо стенографического отчета, или может служить ему поверкою.
I H. Толстой
О народном образовании
293
Опыт испытания* преимущества того или другого метода посредством учреждения двух школ и экзамена был столь неудачен, что после испытания оказались возможными самые противоположные суждения. Были сделаны ошибки в самом устройстве школ.
Первая ошибка состояла в том, что взяты в школы дети слишком малые, ниже того возраста школьной зрелости, при котором дети бывают способны к учению. Очевидно, что на детях, не способных еще учиться, нельзя делать опыта, каким образом легче и труднее учиться. Трехлетний ребенок одинаково не выучится ничему ни по какому способу; пяти-, шестилетний почти, ничему не выучится; только на детях 10, 11 лет можно видеть, по какому способу они выучатся скорее. Большинство же учеников обеих школ были дети 6, 7 и 8 лет, не достигшие еще возраста школьной зрелости, и потому только на старших учениках могло выказаться преимущество того или другого способа. В обеих школах было только по трое таких, и потому, сравнивая успехи той и другой школы, я буду говорить преимущественно о трех старших учениках.
Вторая ошибка состояла в том, что допущены были в школу посетители. В напечатанном в моей «Азбуке» кратком руководстве для учителя сказано, что одно из главных условий для успеха учения состоит в том, чтобы там, где учатся, не было новых предметов и лиц, развлекающих внимание учеников. В школе же постоянно бывало по нескольку человек посторонних лиц, которые развлекали учеников. Казалось бы, что условие это должно быть одинаково невыгодно как для той, так и для другой школы, но оно было невыгодно только для моей школы, потому что главное основание обучения по моему способу состоит в отсутствии принуждения и в свободном интересе ученика к тому, чтб ему предлагает учитель; тогда как обучение в звуковой школе основано на принуждении и весьма строгой дисциплине. Понятно, что учителю легче заинтересовать ученика там, где нет ничего развлекающего внимание учеников, а там, где постоянно входят и выходят новые лица, привлечь внимание ученика будет очень трудно, и что, напротив, в принудительной школе влияние развлечения будет менее ощутительно.
Третья ошибка состояла в том, что г. Протопопов отступил при обучении в своей школе от приемов, которые я считаю вредными, но
По предложению И. Н. Шатилова были учреждены в Москве при комитете грамотности две .первоначальные школы. В одной из них учение ведено было по звуковому способу г. Протопоповым, избранным учителем сторонниками звукового способа; в другой учил учитель Морозов по способу гр. Л. Н. Толстого. Ученики были разделены в обе школы по равенству лет и способностей. Учение продолжалось равное время в той и другой школе, и обе школы были открыты для посетителей. После семи недель была назначена экзаменационная комиссия для произведения экзамена и заседание комитета для заключения о преимуществах того и другого способа. Но члены экзаменационной комиссии разделились в мнениях, каждый почти подал отдельное мнение; и заседание комитета грамотности не пришло ни к какому заключению, и вопрос оставлен открытым.
Л. Н. Толстой
294
которые считаются необходимым условием обучения при звуковом методе. Отступление это, без сомнения, было очень выгодно для обучавшихся детей, и если бы сторонники звукового метода признали, что это отступление не случайно, то одна из главных сторон моего разногласия с ними не существовала бы.
Отступление г. Протопопова2 от своего метода состояло, во-первых, в том, что он не исполнял требования так называемого наглядного обучения, которое, по мнению педагогов, должно быть нераздельно связано с обучением грамоте и предшествовать ему. Бунаков3 и все столпы новой педагогики советуют большую часть времени употреблять на наглядное обучение.
На известных педагогических курсах прошлого года, как я слышал, все ученые-педагоги, учителя учителей, показывали на учениках, что надо три четверти времени проводить в описании комнаты, стола и т. п. Это не было делаемо г. Протопоповым в тех размерах, в которых предписывается педагогами. Правда, я видел один раз, что, прочтя слово дрозд, г. Протопопов хотел показать ученикам в лицах дрозда, но в картинах дрозда не оказалось, и г. Протопопов, попросив их поверить на слово, что дрозд птица (что они очень хорошо знали), поспешил перейти к занятию чтением. Я повторяю, что отступление это очень выгодно для учеников и для дела, но надо признать его. И тогда, повторяю, я почти не спорю.
Другое отступление, сделанное г. Протопоповым от своего метода, состояло в том, что, противно общему правилу педагогов, что книги надо читать только в школе с объяснением каждого слова, г. Протопопов давал своим ученикам книги читать и на дом. Я считаю главной целью школы доводить ученика до того, чтобы он, интересуясь книгой, брал ее читать на дом и понимал бы ее, как он хочет, и потому г. Морозов давал ученикам книги на дом; но, сколько мне известно по руководствам педагогов звукового метода, так как при нем дети считаются дикарями, которых надо месяца два учить правой и левой стороне и тому, что вверх, что вниз, то книг им давать не надо, и всякое слово должно быть объяснено. Опять, если мы и в этом согласны, убавляется еще одна важная часть спора.
Третье отступление состоит в том, что г. Протопопов давал читать своим ученикам не исключительно руководства педагогов звуковой школы, которые я считаю дурными; для самого важного отдела чтения, того, которое производилось учениками дома для личного интереса, он употреблял именно мои книги — «Азбуку» и «Ясную Поляну». Эти две книги были им постоянно даваемы ученикам на дом. Опять повторяю, что и на это я совершенно согласен, но надо признать это
Четвертая и самая главная ошибка в устройстве школ было их соседство из двери в дверь и то, что дети вместе ходили в школу и уходили из нее. Многие ученики даже жили вместе на одних квартирах. Невыгодное влияние соседства и сближение учеников состояло в том, что ученики г. Протопопова научились от учеников г. Морозова моему
1L Толстой
О народном образовании
295
• пособу складывания и, по моему убеждению, благодаря этому знанию ныучились читать у г. Протопопова. Все мальчики школы г. Протопопова-умеют складывать на слух и умели это делать с первых же дней, научившись этому от учеников Морозова. На экзамене мы видели, как они называли буквы — бе, ре и т. д. Способ складывания на слух так цегок, что в моих прежних школах меньшой брат ученика всегда приходит в школу уже со знанием складов, которому он научился на слух от брата. В нынешнем году в Яснополянской школе хозяйский мальчик 6 лет, считавшийся слишком молодым для учения, лежал на палатях во время учения и после нескольких уроков слез и стал хвастаться, что он все знает, и действительно знал. Так и ученики г. Протопопова, перебегая через школу, возвращаясь вместе домой, научились складывать; и в классе г. Протопопова складывали собственно по моему способу и, только удовлетворяя требованиям г. Протопопова, называли бе — бъ, в сущности же читали по буквослагательному способу. Должен сказать, что г. Протопопов с чрезвычайной добросовестностью требовал от учеников, чтобы они забывали бе и называли бъ, и ученики старались делать то, что велит учитель. Я сам видел в классе г. Протопопова, как мальчик, давно прочтя слово груша и зная, что оно состоит из ге-ре-у-ше-а, бился и не мог выговорить гъ-ръ, чего требовал учитель. Итак, вследствие соседства школ, по моему мнению, ученики г. Протопопова выучились не благодаря звуковому методу, но скорее несмотря на него. Этот взаимный невольный обман, состоящий в том, что ученики выучиваются в сущности по буквослагательному, более естественному и легкому способу, а в угоду учителю притворяются, что они учатся по звуковому, был замечаем мною не раз во многих школах, в которых предписывается звуковой способ. Все опытные люди, наблюдавшие самый ход дела обучения грамоте в народных школах, как-то инспекторы, члены училищных советов, подтверждают, что в большинстве школ, где введен звуковой способ, он ведется только номинально, в.сущности же дети обучаются по буквослагательному, называя согласные бы, вы, ды и т. д. Только этому взаимному обману можно приписать и то, что в обществах городских, где грамотность распространена, звуковой способ дает лучшие результаты, чем в деревнях.
В городах, где дети знают буквы и склады, переучиваясь по звуковому, они учатся собственно по буквослагательному, но приучаются откидывать ненужное при складах уки, еди или е.
В последнем заседании комитета, на котором я был, у меня спрашивали, что я разумею под словами, что мой способ народен. Вот это самое. Я разумею то, что учитель с добросовестным усилием старается выучить детей русской грамоте по немецкому способу и против своей воли учит их по народному способу и что ученики выучиваются ему бессознательно.
Таковы были ошибки в учреждении школ для испытания. Но, несмотря на самые противоречивые суждения, выраженные членами эк
Л. Н. Толстой
29€
заменационной комиссии о результатах испытания, мне кажется, что результат испытания совершенно ясен, если рассматривать только тех учеников, которые могли учиться, т. е. трех старших в той и другой школе. Определяя по знанию, я вижу, что старшие ученики г. Протопопова умеют читать и писать по-русски и больше ничего. Ученики школы г. Морозова умеют также читать по-русски (по-моему, лучше), но, кроме того, знают нумерацию, сложение, вычитание и отчасти умножение и деление и еще читают по-славянски. Следовательно, знают гораздо больше. Определяя же по времени, я вижу, что ученики г. Мо? розова знали то, что знают теперь ученики г. Протопопова (я говорю про трех), через две недели после начатия учейия, и справедливость этого могут подтвердить все посещавшие школы и видевшие, что три старшие ученика г. Морозова уже после двух недель читали так же, как теперь читают ученики г. Протопопова. Остальное время было употреблено г. Морозовым на славянский язык, арифметику и на те медленные шаги в улучшении чтения и письма, которые не могли быть заметны на экзамене. .
Итак, ученики г. Морозова знают гораздо более того, что знают ученики г. Протопопова, и менее, чем в половину того времени, которое было употреблено г. Протопоповым, знали то, что знают ученики г. Протопопова. Вот, по моему мнению, ясный и очевидный результат испытания, доказывающий, что способ, по которому учил г. Морозов, несмотря на те ошибки, на которые я указал, что способ этот вдвое легче и быстрее, чем звуковой способ.
Если же рассматривать и меньших учеников, то и относительно их общий результат испытания будет тот, что все, без исключения, ученики г. Морозова умеют читать по складам, писать, и знают цифры и нумерацию; ученики же г. Протопопова знают читать и писать, и больше ничего. И то из меньших учеников г. Протопопова надо исключить двоих, которые не знают даже и читать.
Но мы слышали в прошлом заседании, и услышим от всякого педагога звукового метода, и прочтем во всяком руководстве педагогов этой школы, что обучение грамоте ничего не значит, что главное дело — развитие. f
Я думаю, что каждому из нас не раз приходилось сталкиваться с безобразными, бессмысленными явлениями и находить за этими явлениями какое-нибудь выставляемое такое важное начало, осеняющее эти явления, что в молодых и даже в зрелых летах мы начинали сомневаться: правда ли, что эти явления безобразны? Не мы ли ошибаемся? И, не будучи в силах убедиться ни в том, что безобразные явления хороши, ни в том, что покровительство важного начала незаконно или что это начало есть только слово, мы оставались в отношении этого явления в раздвоенном нерешительном состоянии. В таком положении я был и, думаю, находятся многие из нас в отношении осеняющего педагогию начала развития в соединении его с грамотой. Но народное образование слишком близко моему сердцу, я им слишком много зани
I. Н. Толстой О народном образовании 297
мался, чтобы долго оставаться в нерешительности. Безобразные явления мнимого развития я не мог назвать хорошими, и в том, что развитие ученика дурно, я тоже не мог убедиться, и потому я стал доискиваться, чтб такое это развитие. Считаю не лишним сообщить те выводы, к которым я был приведен изучением этого дела. Для определения того, чтб подразумевается под этим словом развитие, возьму руководства г. Бунакова и г. Евтушевского4 как сочинения новые, соединяющие в себе все выводы немецкой педагогии, назначенные для руководства учителей в народных школах и избранные сторонниками звукового способа как руководства в их школе. Рассуждая о том, на чем должен быть основан выбор того или другого способа обучения грамоте, г. Бунаков говорит: «Нет, суждение о методе обучения на таких близоруких и шатких основаниях (т. е. на опыте) будет слишком сомнительно. Только теоретическая подкладка, основанная на изучении человеческой природы, может сделать суждения в этой сфере прочными, не зависящими от разных случайностей и в значительной степени гарантированными от грубых ошибок. Поэтому для окончательного выбора лучшего способа обучения грамоте следует остановиться прежде всего на теоретической почве, на основании предыдущих рассуждений, общие условия которой дают тому или другому способу действительное право называться удовлетворительным с педагогической точки зрения. Вот эти условия: 1) Он должен быть способом, развивающим умственные силы ребенка, чтобы учение грамоте достигалось вместе с развитием и укреплением мышления. 2) Он должен вносить в обучение личный интерес ребенка, подвигая дело этим интересом, а не притупляющим насилием. 3) Он должен представлять собой процесс самообучения, возбуждая, поддерживая и направляя самодеятельность ребенка. 4) Он должен основываться на впечатлениях слуха, как того чувства, которое служит для восприятия языка. 5) Он должен соединять анализ с синтезом, начиная разложением сложного целого на простые части и переходя к сложению простых начал в сложное целое»*.
Итак, вот на чем должна быть основана метода обучения. Замечу, не для противоречия, но для простоты и ясности, что два последних положения совершенно излишни. Ибо без соединения анализа с синтезом не может быть не только никакого учения, но никакой деятельности мысли. И всякое учение, кроме учения глухонемых, основывается на слухе. Эти два условия поставлены только для красоты и путаницы слога, обыкновенной в педагогических рассуждениях, и потому не имеют значения; но три первые с первого взгляда представляются совершенно справедливыми, как программа. И всякий, конечно, пожелает узнать, чем обеспечивается то, что способ этот будет развивать, что он будет вносить личный интерес ученика и будет представлять процесс самообучения. Но на вопросы, почему этот способ соединяет
Семья и школа. 1872. Т. II. «Родной язык, как предмет обучения» и пр. — Н. Бунаков, с. 35.
Л. Н. Толстой
298
все эти качества, не только в книгах гг. Бунакова и Евтушевского, но и во всех педагогических сочинениях основателей этой школы педагогии вы не найдете никакого ответа, кроме туманных рассуждений в том роде, что всякое учение должно основываться на соединении анализа с синтезом и непременно на слухе и т. п.; или же найдете, как у г. Евтушевского, рассуждения о том, как в человеке образуются впечатления, ощущения, представления и понятия; найдете правило, что. нужно исходить от предмета и доводить сознание ученика до мысли, а не исходить от мысли, не имеющей в сознании его точки прикрепления, и т. п. За такими рассуждениями следует всегда тот вывод, что поэтому предлагаемый г. педагогом прием дает то исключительное, настоящее развитие, которое и требовалось. Г. Бунаков после выписанного определения, чем должен быть хороший способ, излагает, как надо учить детей, и, изложив все эти приемы, по моему убеждению и опыту ведущие к совершенно противоположным развитию целям, прямо и решительно говорит: «С точки зрения выставленных выше основных положений для оценки удовлетворительности способов обучения грамоте, способ, только что изложенный нами в общих чертах представляет следующие выпуклые качества и особенности: 1) Как способ звуковой, он сохраняет всецело характеристические особенности всякого звукового способа; исходит из впечатлений слуха, с первого раза устанавливая правильное отношение к языку, и потом уже присоединяет к ним впечатление зрения, таким образом явно различая звук, материал и букву, его изображение. 2) Как способ, соединяющий чтение с письмом, он начинает с разложения и переходит к сложению, соединяя анализ с синтезом. 3) Как способ, переходящий к изучению слов и звуков от изучения предметов, он идет естественным путем, способствует правильному образованию представлений и понятий и действует развивающим образом на все стороны детской природы: побуждает детей к наблюдательности, к группировке наблюдений, к словесной передаче их, развивает внешние чувства, ум, воображение, память, дар слова, сосредоточенность, самодеятельность, привычку работать в обществе, уважение к порядку. 4) Как способ, дающий посильную работу всем душевным силам ребенка, он вносит в обучение личный интерес, возбуждая в детях охоту и любовь к учению и обращая его в процесс самообучения»*. Точно то же самое делает и г. Ев-тушевский; но почему все это так, остается непонятным для того, кто ищет действительных резонов и не запугивается словами психология, дидактика, методика, эвристика и т. п. Советую всем тем, которые не имеют склонности к философии и потому не имеют охоты проверить сами все эти выводы педагогов, советую не смущаться этими словами и верить, что все, что неясно, не может быть основанием чего-нибудь, тем более такого важного и простого дела, как народное образование. Все педагоги этой школы, в особенности немцы, основатели ее,
‘Бунаков, с. 41.
1 И. Толстой
О народном образовании
299
исходят из той ложной мысли, что те самые философские вопросы, которые оставались вопросами для всех философов, от Платона до Канта, разрешены ими окончательно. Разрешены так окончательно, что процесс приобретения человеком впечатлений, ощущений, представ-иений, понятий, умозаключений разобран ими до мельчайших подробностей, что составные части того, чтб мы называем душой или сущно-. стью человека, анализированы ими, подразделены на части, и так основательно, что уже на этом твердом знании безошибочно может строиться наука педагогии. Фантазия эта так странна, что не считаю нужным опровергать ее, тем более что я уже это сделал в своих прежних педагогических статьях. Скажу только что те философские рассуждения, которые педагоги этой школы кладут в основу своей теории, не только не абсолютно верны, не только не имеют ничего общего с действительной философией, но даже и не имеют никакого ясного, определенного выражения, с которым большинство педагогов было бы единомысленно.
Но может быть, самая теория педагогов новой школы, хотя и неудачно ссылается на философию, имеет сама в себе достоинства? И потому рассмотрим, в чем она состоит. Г. Бунаков говорит: «Надо сообщить этим маленьким дикарям (т. е. ученикам) главные порядки школьного обучения и провести в их сознание такие начальные понятия, с которыми придется сталкиваться на первых же порах, на первых уроках рисования, чтения, письма и всякого элементарного обучения, как-то правая и левая сторона, вправо — влево, вверх — вниз, рядом — подле — около, вперед — назад, вблизи — вдали, перед — за, над — под, скоро — медленно, тихо — громко и т. д. Как ни просты эти понятия, но мне из практики известно, что даже городские дети из зажиточных семейств нередко приходят в элементарную школу, не различая правой и левой стороны. Полагаю, что нет надобности распространяться, как необходимо выяснение таких понятий для сельских детей, и всякий, имевший дело с сельской школой, знает это не хуже меня»*.
И. г. Евтушевский говорит: «Не вдаваясь в широкую область спорного вопроса о врожденных способностях человека, мы видим только, что ребенок не может иметь врожденных представлений и понятий о предметах реальных — их нужно образовать, и от искусства образования их со стороны воспитателя и учителя зависит как их правильность, так и прочность. В уходе за развитием души ребенка нужно быть гораздо осторожнее, нежели в уходе за его телом. Если пища для тела и различные телесные упражнения подбираются как по количеству, так и по качеству, сообразно с возрастанием человека, тем более нужно быть осторожным в выборе пищи и упражнений для ума. Раз положенное дурно основание будет шатко поддерживать все, на нем укрепляющееся»**.
‘ Б у н а к о в, с. 18.
Евтушевский. Методика арифметики, с. 8.
Л. Н. Толстой
300
Г. Бунаков советует сообщать понятия так: «Учитель может начать разговор по своему личному усмотрению: иной спросит каждого ученика об имени, другой о том, что делается на дворе, третий о том, кто откуда пришел, где живет, что делает дома, — потом уже переходит к главному предмету. Где же ты теперь сидишь? Зачем ты сюда пришел? Что мы будем делать в этой комнате? Да, мы будем в этой комнате учиться — назовем же ее учебной комнатой. Посмотрите все, что у вас под ногами, внизу. Посмотрите, но не говорите. Скажет тот, кому я велю. Скажи, что ты видишь внизу, под ногами? Повторите все, чтб мы узнали и сказали об этой комнате: в какой комнате мы сидим? Каки$ части комнаты? Что есть на стенах? Что стоит на полу?
«Учитель с первого раза устанавливает необходимый для успешности дела порядок: чтобы все прочие слушали и могли повторить как слова учителя, так и слова товарищей; чтобы желание отвечать, когда учитель обращается с вопросом ко всем, заявляли поднятием левой руки; чтобы выговаривали слова не скороговоркой и не растягивая, громко, отчетливо и правильно; причем учитель дает им живой пример своим громким, правильным, отчетливым говором, наделе показывая различие между тихо и громко, отчетливо и правильно, медленно и скоро. Учитель наблюдает, чтобы в работе принимали участие все дети, заставляя отвечать и повторять чужие ответы то одного, то другого, то весь класс — хором, а преимущественно поднимая вялых, рассеянных, шаловливых: первых своими учащенными вопросами он должен оживлять, вторых — заставлять сосредоточиваться на предмете общей работы, третьих — сдерживать. На первое время требуется, чтобы дети отвечали полными ответами, т. е. повторяющими вопрос: мы сидели в классной комнате (а не кратко: в комнате); вверху, над головой, я вижу потолок; на левой стене я вижу три окна и т. п.»*
Г. Евтушевский советует так начинать те уроки для изучения чисел от 1 до 10, которых должно быть 120 и которые должны продолжаться целый год. «О дин. Показывая ученикам кубик, учитель спрашивает: «Сколько у меня кубиков?» А взяв в другую руку несколько кубиков, спрашивает: «А здесь сколько?» — «Много, несколько».
«Назовите здесь в классе такой предмет один, которых есть несколько. — Скамья, окно, стена, тетрадь, карандаш, грифель, ученик и пр. — Назовите такой предмет, который в классе только один. — Классная доска, печь, дверь, потолок, пол, образ, учитель и пр. — Если этот кубик я спрячу в карман, то сколько кубиков будет у меня в руке? ~~ 11и одного. — А сколько я должен снова положить кубиков в руку, чтобы их было там столько же, как и прежде? — Один. — Как понимать, когда говорят: «Однажды Петя упал? Сколько раз Петя упал? Падал ли он еще когда-нибудь? Отчего же сказано «однажды»? Потому, что говорится только об одном этом случае, а о другом не го-
Б у п а к о в, с. 18 и 19.
i H. Толстой
О народном образовании
301
корится. Возьмите ваши доски (или тетради). Проведите одну черту такой величины (учитель чертит на классной доске линию в вершок или в два вершка или показывает на линейке такую длину). Сотрите ее. Сколько черточек осталось? — Ни одной. Начертите несколько таких черточек. Придумывать какие-либо еще другие упражнения для знакомства детей с числом один было бы неестественно. Достаточно возбудить в них то представление о единице, которое они, без сомнения, имели и до начала обучения в школе»*.
Далее у г. Бунакова идут упражнения о доске и т. д. и у г. Евтушевского — о числе 4 с разложением. Прежде чем рассматривать самую теорию передачи понятий, невольно представляется вопрос: не ошибается ли вся эта теория в самой своей задаче? Справедливо ли определено то состояние педагогического материала, с которым предстоит иметь дело? Первое, что бросается в глаза при этом, — это то странное отношение к каким-то воображаемым детям, к таким, которых я по крайней мере не видал в Российской империи. Беседы эти, и те сведения, которые они сообщают, относятся до детей ниже двух лет, ибо двухлетние дети знают уже все то, что в них сообщается. По требованиям же ответов относятся до попугаев. Всякий ученик 6, 7, 8, 9 лет ничего не поймет из этих вопросов именно потому, что он все это знает и не может понять, о чем говорят. Такие требования бесед показывают или совершенное незнание, или нежелание знать той степени развития, на которой находятся ученики. Может быть, дети готентотов, негров, может быть, иные немецкие дети могут не знать того, чтб им сообщают в таких беседах, но русские дети, кроме блаженных, все, приходя в школу, знают не только, чтб вниз, чтб вверх, чтб лавка, чтб стол, чтб два, чтб один и т. п., но, по моему опыту, крестьянские дети, посылаемые родителями в школу, все умеют хорошо и правильно выражать мысли, умеют понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знают считать до 20 и более: играя в бабки, считают парами, шесте-рами и знают, сколько бабок и сколько пар в шестере. Очень часто приходившие ко мне в школу ученики приносили с собой задачу гусей и разъясняли ее. Но даже если и допустить, что дети не имеют таких понятий, которые хотят им посредством бесед сообщить педагоги, я не нахожу, чтобы избираемые ими средства были правильны.
Г. Бунаков, например, написал книгу для чтения, ту самую, которою пользовался г. Протопопов. Книга эта вместе с беседами должна содействовать обучению детей языку. Пересматривая эту книгу, я нашел, что вся она там, где не выписки из других книг есть ряд сплошных ошибок против языка. Тут есть слова косари вместо косцов, тогда как косарь есть или орудие, или продавец кос; лиска, не унизительное Елизавета, а уменьшительное лиса. Тут есть неизвестные слова: пекарка, истопка. Тут есть выражения: что речка катится по полю, что люди веселятся всячески, как умеют, что пекарь и сапожник и т. д. суть люди труда, что глотка — часть рта и т. п.
Е в т у ш е вс кий, с. 121.
Л. Н. Толстой
302
Относительно языка тоже совершенное незнание его я нахожу и у г. Евтушевского в его задачах. «Продавец за яблоко спрашивает (вместо: просит за яблоко) 3 копейки, а девочка имеет» и т. д. Или: «У крестьянина 3 лошади; он запряг их в возы, в каждый воз по одной, и поехал в поле за сеном. На скольких возах привез он сено с поля?» Во-первых, в живой речи употребляется форма воза, а не возы; а во-вторых, мальчик будет непременно искать загадку в том, как это крестьянин ухитрился на возах привезти сено. А между тем г. Евтушевский посредством задач хочет образовывать понятия. Преже всего надо бы позаботиться о том, чтобы орудие передачи понятий, т. е. язык был бы правилен.
Сказанное касается формы, в которой передается развитие. Посмотрим на самое содержание. Г. Бунаков предписывает делать вопросы: где можно видеть кошек? Где сороку? Где песок? Где осу и суслика? Чем покрыты суслик, сорока и кошка и какие части их тела? (Суслик — любимое животное новой педагогики, вероятно, потому, что этого слова не знает ни один крестьянский мальчик в средине России*).
«Само собой разумеется, что детям учитель не всегда ставит прямо эти вопросы, составляющие задуманную им программу урока; чаще к решению вопроса программы приходится подвести маленьких и малоразвитых учеников рядом наводящих вопросов, обращая их внимание на ту сторону предмета, которая виднее в данную минуту, или побуждая их припомнить что-либо из прежних наблюдений. Так, учитель может не прямо предложить вопрос, где можно видеть осу; а, обращаясь к тому или другому ученику, спрашивать, видал ли он осу, где ее видал и потом уже, сводя показания нескольких, составить ответ на первый вопрос своей программы. Отвечая на вопросы учителя, дети нередко будут присоединять разные замечания, не идущие прямо к делу. Речь идет, например, о том, какие части сороки, — иной прибавит совсем некстати, что сорока скачет, другой — что она смешно стрекочет, третий — что она вещи крадет, — пусть прибавляют и высказывают все, что пробудилось в их памяти и воображении, — дело учителя сосредоточить их внимание согласно с программой, а эти заметки и прибавления детей он принимает к сведению для разработки прочих частей программы. Рассматривая новый предмет, дети возвращаются при каждом удобном случае к предметам, уже рассмотренным. Так, когда они заметили, что сорока покрыта перьями, учитель спрашивает: «А суслик тоже покрыт перьями? Чем он покрыт? А курица чем покрыта? А лошадь? А ящерица?» Когда они заметили, что у сороки две ноги, учитель спрашивает: «А у собаки сколько ног? А у лисицы? А у курицы? А у осы? Каких еще животных знаете с двумя ногами? С четырьмя? С шестью?»
Невольно представляется вопрос: знают или не знают дети всё то, что им так хорошо рассказывается в этой беседе? Если ученики всё это
Б у н а к о в, с. 22.
i H Толстой
О народном образовании
303
шают, то, к слову, на улице, или дома, там, где не нужно поднимать иевой руки, верно умеют все сказать более красивым и русским языком, чем им велят это тут сделать; никак не скажут, что лошадь покрыта шерстью; если так, то для чего им приказано повторять эти ответы так, как их сделал учитель? Если же они не знают этого (чего, кроме любимого суслика, нельзя допустить), то является вопрос: чем будет учитель руководствоваться в так важно называемой программе вопросов — наукой ли зоологии, или логикой; или наукой красноречия? Если же никакой из наук, а только желанием разговаривать о видимом в предметах, то видимого в предметах так много и так оно разнообразно, что необходима путеводная нить, о чем говорить, а при наглядном обучении нет и не может быть этой нити.
Все знания человеческие только затем и подразделены, чтобы можно было их удобнее собирать, приводить в связь и передавать, и эти подразделения называются науками. Говорить же о предметах вне научных разграничений можно что хотите и всякий вздор, как мы это и видим. Во всяком случае результат беседы будет тот, что детям или велят выучить слова учителя о суслике, или свои слова переделать, поместить в известном порядке (и порядке не всегда правильном), запомнить и повторить. От этого в руководствах этого рода вообще все^ упражнения развития, с одной стороны, страдают совершенной произвольностью, с другой стороны — излишеством. Например, кажется, единственная историйка в уроках г. Бунакова, не выписанная из других книг, следующая: *
«Мужик жаловался охотнику на свое горе: лисица утащила у него двух кур и одну утку; она ничуть не боится дворняжки Щеголя, который сидит на цепи и всю ночь лает-заливается; ставил он западню с куском жареного мяса, — утром, по свежим следам на снегу, видно, что рыжая плутовка разгуливала около дома, а в западню не попадается. Охотник выслушал рассказ мужика и сказал: ладно! Теперь мы посмотрим, кто кого перехитрит! Весь день охотник проходил с ружьем и собакою, все по следам лисы, чтобы вызнать, откуда она пробирается ко двору. Днем плутовка спит себе в норе, ничего не знает, тут-то и надо пристроиться: на пути ее охотник выкопал яму, покрыл ее сверху досками, землей и снегом; в нескольких шагах выложил кусок мяса палой лошади. Вечером он с заряженным ружьем засел в свою засаду, приладился так, чтобы все видеть и стрелять было удобно, — засел и ждет. Стемнело. Месяц выплыл. Осторожно, оглядываясь и прислушиваясь, вылезает лисичка из норы, подняла нос и нюхает. Она тотчас же почуяла запах лошадиного мяса, бежит мелкой рысцой к тому месту и вдруг стала, настороживши уши: видит, хитрая, что появилась какая-то насыпь, которой не было еще вчера. Эта насыпь, видимо, смущает ее и заставляет призадуматься; она делает большой обход, нюхает, прислушивается, садится и долго смотрит на мясо издали, так, что стрелять по ней нашему охотнику никак нельзя — далеко. Думала, думала лисица — и вдруг во всю прыть перебежала между мясом
Л. Н. Толстой
304
и насыпью. Наш охотник остерегся, не выстрелил. Он сообразил, что плутовка пытает, не сидит ли кто за этой насыпью: выстрели он по бегущей лисице, вероятно, промахнулся бы, и не видать бы ему плутовки, как своих ушей. Теперь же лисица успокоилась, насыпь не страшит ее больше: бодро, шагом подходит она к мясу и ест его с полным удовольствием. А охотник осторожно прицелился, не торопясь, чтобы промаха не было. Бац!..Лисица подпрыгнула от боли и упала мертвая»*.
Тут все произвольно: произвольно то, что лисица у мужика зимой могла утащить утку, что мужики ставят западни на лисиц, что лисица спит днем в норе, тогда как лисица спит только по ночам; произвольна для чего-то выкопанная зимою яма, покрытая досками, из которой не делается никакого употребления; произвольно, что лисица ест лошадиное мясо, чего она никогда не делает; произвольна мнимая хитрость лисы, пробегающей мимо охотника; произвольна насыпь и охотник, не стреляющий, чтобы не промахнуться, т. е. всё от начала до конца вздор, в котором каждый крестьянский мальчик мог бы уличить составителя историйки, если бы ему позволялось говорить без поднятия руки.
Потом целый ряд мнимых упражнений в уроках Н. Бунакова составлен из того, что спрашивается: «Кто печет? Кто рубит? Кто стреляет?» — и ученик должен говорить: пекарь, дровосек и стрелок, тогда как он может отвечать так же справедливо, что печет баба, рубит топор, а стреляет учитель, если у него есть ружье (уроки Бунакова, книжка III, с. 10). Произвольно также, что глотка есть часть рта, и т. п.
Остальные все упражнения, как, например: «Утки летают, а собаки?» или: «Липа и береза — деревья, а лошадь?», совершенно излишние. Кроме того, нужно заметить, что если этого рода беседы с учениками действительно ведутся как беседы (чего никогда не бывает), т. е. если ученикам позволяют говорить и спрашивать, то учитель, избирая предметы простые (они самые трудные), на каждом шагу становится в тупик: отчасти от незнания (так, г. Протопопов спрашивал у г. Морозова, как называется часть колеса, надеваемая на ось, когда он детям объяснял колесо), отчасти от того, что ain Narr kann mehr fragen, als zehn Weise antworten5.
В преподавании арифметики, основанном на том же педагогическом начале, происходит совершенно то же самое. Точно так же или сообщается ученикам то, что они знают, или совершенно произвольно сообщаются им ни на чем не основанные комбинации известного рода. Выписанный урок и все уроки до 10-го суть только сообщение того, что все и всякие дети знают. Если они часто не ответят на такого рода вопросы, это происходит только оттого, что вопрос иногда сам по себе (как возы) дурно выражен или дурно выражен относительно детей. За-
Уроки чтения Н. Бунакова, III книжка.
I i. Толстой
О народном образовании
365
груднение, которое находят дети в ответе на такого рода вопросы, происходит от того самого, от чего редкий ребенок сразу ответит на «опрос: у Ноя было 3 сына: Сим, Хам и Иафет; кто их был отец? Затруднение тут не математическое, а синтаксическое, зависящее от того, что в изложении задачи и в вопросе не одно и то же подлежащее; когда же к синтаксическому затруднению примешивается еще неумение составителя задач выражаться по-русски, то ученику становится очень трудно; но трудность уже вовсе не математическая. Пусть кто-нибудь сразу поймет следующую задачу г. Евтушевского: «У одного мальчика было 4 ореха, у другого 5. Второй отдал первому все свои орехи, а этот отдал третьему 3 ореха, а остальные роздал поровну трем другим товарищам. Сколько орехов получил каждый из последних?» Скажите эту задачу так: «У мальчика было 4 ореха. Ему дали еще 5. Он отдал 3 ореха, а остальные хочет раздать трем товарищам. По скольку он может дать каждому?» Пятилетний мальчик решит ее, потому что задачи нет никакой, а затруднение может встретиться только или в дурной постановке вопроса, или в недостатке памяти. И это-то синтаксическое затруднение, преодолеваемое детьми посредством долгих и трудных упражнений, служит поводом учителю думать, что, уча детей тому, что они знают, он их учит чему-нибудь. Совершенно так же произвольно в арифметике сообщаются детям комбинации и разложение чисел по известному приему и порядку, имеющему свое основание только в фантазии учителя. Г. Евтушевский пишет:
«1) Образование числа. На верхней планке доски учитель ставит три кубика вместе — III. Сколько здесь кубиков? Потом приставляет четвертый кубик. А теперь сколько? — IIIL Как же составляются четыре кубика из трех и одного? — Нужно к трем кубикам прибавить, приставить один кубик.
2) Разложение на слагаемые. Как можно составить четыре кубика? Или: как четыре кубика можно разложить? — Четыре кубика можно разложить на два и два: II. II. Четыре кубика можно составить из одного, одного, одного и еще одного, или взять четыре раза по одному кубику: I. I. I. I. Четыре кубика можно разложить на три и один: III. I. Можно составить из одного, одного и двух: 1.1 и И. Можно ли еще как-нибудь иначе разложить четыре кубика? Ученики убеждаются, что никакого другого, отличного от этих, разложения быть не может. Если ученики станут еще разлагать четыре кубика таким образом: один, два и один, или: два, один и один, или: один и три, то учителю легко показать им, что эти разложения составляют повторение уже имеющихся разложений, только в другом порядке. Всякий раз по указании нового приема разложения, предложенного учениками, учитель на одной из планок доски выставляет кубики в том виде, как они изображены здесь. Таким образом, в нашем случае на верхней планке будут стоять четыре кубика вместе, на второй — два и два, на третьей — четыре кубика раздельно, на некотором расстоянии один от другого, на четвертой — три и один и на пятой — один, один и два.
Л. Н. Толстой
306
3) Разложение в порядке. Весьма может случиться, что дети сразу укажут разложение числа на слагаемые в порядке, но и тогда третье упражнение нельзя считать лишним. Для установления порядка в разложении предлагаются классу такие вопросы: вот вы составили четыре кубика из двоек, из отдельных кубиков и из троек, в каком порядке лучше поставить нам кубики на доске? — С чего начать разложение четырех кубиков? С разложения на отдельные кубики. — Как составить четыре кубика из отдельных кубиков? Надо взять четыре раза по одному. — Как составить четыре кубика из двоек, из пар? Нужно взять две двойки: два раза по два кубика; две пары кубиков. — Как потом разлагать четыре кубика? Можно составить из троек: для этого взять три и один, или один и три. — Выясняется ученикам, что последнее разложение, т. е. 1 + 1 + 2, не подходит под принятый порядок и есть видоизменение одного из первых трех»*.
Почему этого последнего разложения не допускает г. Евтушев-ский? Почему должен быть тот порядок, который указан г. Евтушев-ским? Все это дело одного произвола и фантазии. В сущности, для всякого мыслящего человека понятно, что есть только одно основание всякого сложения и разложения и всей математики. Вот основание: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4ит. д., то самое, чему выучиваются дети всегда дома и что в просторечии называется: уметь считать до 10, до 20 и т. д. Этот процесс известен всякому ученику, и, какое бы разложение ни делал г. Евтушевский, всякое объясняется одним этим. Мальчик, умеющий считать до 4, уже рассматривает 4 как одно целое, и также 3, и также 2, и также 1. Следовательно, ему известно, что 4 произошло из последовательного приложения по одной. Также известно, что 4 произошло из приложения два раза по 1 к 2, так как ему известно, что два раза один есть два. Чему же тут учатся дети? Или тому, чтб они знают, или тому процессу счета, который по фантазии учителя должен быть ими заучен. На днях мне случилось быть свидетелем урока математики по методу Грубе. У ученика было спрошено: «Сколько будет 8 и 7?» Он заторопился и сказал: 16. Сосед его также поторопился и, не подняв левой руки, сказал: 8 и 8 — будет 16, а без одного — 15. Учитель строго остановил сказавшего это и заставил первого спрошенного прикладывать сначала к 8 по одному, пока он не дойдет до 15, хотя мальчик этот давно уже знал, что он ошибся. В школе этой проходилось число 15, а 16 должно было быть неизвестно.
Я боюсь, что многие, читая или слушая все эти мои длинные опровержения приемов наглядного обучения и счета по Грубе, скажут: да про что же тут говорить? Разве не очевидно, что все это есть бессмыслица, которую не стоит критиковать? К чему подбирать ошибки и промахи каких-то Бунакова и Евтушевского и критиковать то, что ниже всякой критики? Я сам так думал, пока не был наведен на наблю-
Евтушевский В. Методика арифметики, 3-е, изд. 1873. С. 128.
I И. Толстой
О народном образовании
307
дсние того, что делается в педагогическом мире, и не убедился, что гг. Бунаков и Евтушевский не какие-нибудь, а авторитеты в нашей педагогии, и что то, что они предписывают, уже исполняется в наших школах. По захолустьям уже можно найти учителей, в особенности учительниц, которые, разложив перед собой руководства гг. Евтушевского и Бунакова, прямо по ним спрашивают, сколько будет одно перо и одно перо и чем покрыта курица. Да, все это было бы смешно, если бы это был только вымысел теоретика, а не указание для практического дела, и указание, которому уже следуют некоторые, и если бы это дело не касалось одного из самых важных людских дел в жизни — воспитания детей. Мне было смешно, когда я читал это как теоретические фантазии; но когда я узнал и увидал, что это делают над детьми, мне стало и жалко и стыдно. В теоретическом отношении, не говоря о том, что они ошибочно определяют цели учения, педагоги этой школы делают ту существенную ошибку, что они отступают от условий всякого преподавания, будет ли преподавание на высшей или на низшей ступени науки, в университете или в народной школе. Существенные условия всякого преподавания состоят в том, что из бесчисленного количества разнородных явлений избираются однородные явления, и законы этих явлений сообщаются учащимся. Так, при обучении языку (грамоте) сообщаются ученикам законы слова, в математике — законы чисел. Обучение языку состоит в сообщении законов разложения и обратного сложения речений, слов, слогов, звуков, и законы эти составляют предмет обучения. Обучение математике состоит в сообщении законов сложения и разложения чисел (но прошу заметить, не в процессе сложения и разложения чисел, а в сообщении законов этого сложения и разложения). Так, первый закон состоит в том, что можно рассматривать собрание единиц, как единицу другого разряда — то самое, что делает всякий ребенок, говоря: 2 и 1 = 3. Он рассматривает 2 как некоторую единицу. На этом законе основываются следующие законы нумерации, потом сложения и всей математики. Но произвольные разговоры об осе, лиске и т. п. или задачи в пределах 10, разложения на все манеры не могут составлять предмета обучения, так как они, во-первых, выступают из пределов предмета и, во-вторых, не трактуют о законах его.
Таким мне представляется дело с теоретической стороны; но теоретическая критика часто может ошибаться, и поэтому постараюсь сверить мои выводы с практическими данными. На экзамене г. Протопопов дал нам образец практических результатов как наглядного обучения, так и математики по методу Грубе. Одному из старших мальчиков было сказано: «Положи руку под книгу», чтобы показать, что он обучен понятиям на и под, и умный мальчик, который знал, что на и под (я уверен), еще будучи трех лет, положил руку на книгу, когда ему сказали: положи под книгу. Такие примеры я постоянно видел, и они яснее всего показывают, как не нужно, чуждо, совестно, мне хочется сказать, это наглядное обучение русских детей. Русский ребенок не мо
Л. Н. Толстой
308
жет и не хочет верить (он имеет слишком большое уважение к учителю и себе), чтобы его серьезно спрашивали, потолок внизу или наверху или сколько у него ног. В арифметике мы тоже видели, что ученики г. Протопопова, не знавшие даже писать цифр и упражнявшиеся во все время учения только в умственном счислении до 10, в продолжение получаса не переставали врать на самые разные манеры на вопросы, которые им задавал учитель в пределе чисел до 10. Стало быть, обучение умственному счислению ни к чему не повело, и трудность синтаксическая, состоящая в распутывании вопроса, дурно поставленного, осталась для них такой же, какой и была. Итак, практические результаты бывшего экзамена не подтвердили полезности развития. Но я хочу быть вполне точным и добросовестным. Может быть, процесс развития, сначала ограничивающийся не столько изучением, сколько анализом того, что уже знают ученики, потом приносит результаты. Может быть, сначала учитель, посредством анализа овладевая умом учеников, впоследствии уже твердо и легко ведет их дальше и из тесной области описания стола и счета 2 и 1 ведет их в действительную область знания, в которой ученики не ограничиваются учением того, что знают, но узнают уже и новое, и узнают это новое новым, более легким, разумным способом. Это предположение подтверждается и тем, что все немецкие педагоги и последователи их, в том числе и г. Бунаков, прямо говорят, что наглядное обучение должно служить как бы вступлением к родиноведению и естествоведению. Но мы тщетно бы стали искать в руководстве г. Бунакова, каким образом преподавать это родиноведение, если подразумевать под этим словом какие-нибудь действительные знания, а не описания избы и сеней, того, что знают дети. Г. Бунаков, на 200-й странице объяснив, как надо учить тому, где потолок и где печка, здесь очень кратко говорит: «Теперь следовало бы перейти к третьей ступени наглядного обучения, содержание которой было определено мною так: «Изучение края, уезда, губернии, всего отечества, с его естественными произведениями и населением, в общих чертах, как очерк отечествоведения и начало естествознания, с преобладанием чтения, которое, опираясь на непосредственные наблюдения двух первых ступеней, расширяет умственный кругозор учащихся, сферу их представлений и понятий». Уже из этого определения видно, что здесь наглядность является дополнением к объяснительному чтению и рассказу учителя, следовательно, и речь о занятиях третьего года более относится к рассмотрению второго занятия, входящего в состав учебного предмета, который называется родным языком, — объяснительного чтения.
Обращаемся к третьему году, к объяснительному чтению, но там не находим ровно ничего, указывающего на то, как передавать новые сведения, исключая того, что хорошо читать такие-то и такие-то книги и при чтении делать такие-то вопросы. Вопросы весьма странные (для меня по крайней мере), как, например, сравнение статьи о воде Ушинского и статьи о воде Аксакова и требование от учеников, чтобы они
I i Го.7 стой
О народном образовании
309
объяснили, что Аксаков рассматривает воду как явление природы, а Ушинский — как вещество, и т. д. Стало быть, встречаем то же самое навязывание ученикам взглядов, подразделений (большей частью неверных) учителя, а ни одного слова, ни одного намека на то, каким же способом передаются какие-нибудь новые знания.
Неизвестно, что будет преподаваться: естественная история, география ли? Ничего нет, кроме чтения с вопросами, вроде тех, которые я привел. По другой стороне обучения слову — грамматике и правописанию — точно так же тщетно бы мы стали искать какого-нибудь нового приема обучения, основанного на предшествовавшем развитии. Все та же старая грамматика Перевлесского, начинающаяся с философских определений и потом с синтаксического разбора, служит основанием всех новых грамматических руководств, и руководства г. Бунакова.
В математике тоже тщетно бы стали мы искать, на той ее ступени, где начинается действительное обучение математике, чего-нибудь нового, облегченного, основанного на всем предшествовавшем развитии 2 годовых уроков до 20. Там, где действительно в арифметике встречаются трудности, где ученику надо объяснять предмет с разных сторон, как-то при нумерации, при сложении, при вычитании, при делении, при делении и умножении дробей, не находишь и тени чего-нибудь облегченного, какого-нибудь нового объяснения, а есть только выписки из старых арифметик.
Характер этого преподавания остается везде один и тот же. Все внимание обращается на то, чтобы учить тому, что ученик знает. А так как ученик знает то, чему его учат, и легко, по желанию учителя, передает в том и в другом порядке то, что от него требуется, то учителю кажется, что он чему-то учит и успехи учеников большие, и учитель, не обращая никакого внимания на то, чтб составляет самую трудность учения, т. е. учить новому, преспокойно толчется на одном месте. От этого происходит, что наша педагогическая литература завалена руководствами для наглядного обучения, для предметных уроков, руководствами, как вести детские сады (одно из самых безобразных порождений новой педагогии) картинами, книгами для чтения, в которых повторяются все те же и те же статьи о лисице, о тетереве, те же стихи, для чего-то написанные прозой, в разных перемещениях и с разными объяснениями; но у нас нет ни одной новой статьи для детского чтения, ни одной грамматики русской, ни славянской, ни славянского лексикона, ни арифметики, ни географии, ни истории для народных школ. Все силы поглощены на руководства к обучению детей тому, чему не нужно и нельзя учить детей в школе, чему все дети учатся из жизни. И понятно, что книги этого рода могут являться без конца. Ибо грамматика, арифметика может быть одна, но упражнений и рассуждений вроде тех, которые я приводил из Бунакова и порядков разложения чисел из Евтушевского, может быть бесчисленное количество. Педагогика находится в том же положении, в каком бы находилась наука
Л. Н. Толстой
310
о том, как должно ходить человеку; и люди стали бы искать правил, как учить детей ходить, предписывая им сокращать тот мускул, вытянуть другой и т. д. Такое положение новой педагогии прямо вытекает из двух ее основных положений: 1) что цель школы есть развитие, а не наука и 2) что развитие и средства достижения ее могут быть определены теоретически. Из этого последовательно вытекало то жалкое и часто смешное положение, в котором находится школьное дело. Силы тратятся напрасно: народ, в настоящую минуту жаждущий образования, как иссохшая трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его вместо хлеба получает камень и находится в недоумении: он ли ошибался, ожидая образования как блага, или что-нибудь не так в том, чтб ему предлагают? Что дело стоит так, не может быть ни малейшего сомнения для всякого человека, который узнает нынешнюю теорию школьного дела и знает действительное состояние его среди народа. Но невольно представляется вопрос: каким образом дело стало в такое странное положение? Каким образом люди честные, образованные, искренно любящие свое дело и желающие добра, каковыми я считаю огромное большинство моих оппонентов, могли стать в такое странное положение и так глубоко заблудиться?
Вопрос этот занимал меня, и я постараюсь сообщить те ответы, которые я нашел на него. На это было много причин. Самая естественная причина, приведшая педагогику на тот ложный путь, на котором она находится, есть критика старого, критика только для критики, без постановки новых начал вместо тех, которые критиковались. Всем известно, что критика есть легкое дело и что она бывает совершенно бесплодна и часто вредна, если рядом с осуждением чего бы то ни было не указывают те начала, на основании которых осуждается. Если говорится, что это дурно потому, что мне не нравится, или потому, что все говорят, что это дурно, или даже потому, что это действительно дурно, но если я не знаю, как должно быть хорошо, то эта критика будет всегда бесполезна и вредна. Воззрения педагогов новой школы основаны прежде всего на критике прежних приемов. Даже теперь, когда, казалось бы, уже лежачего не бьют, в каждом руководстве, в каждой беседе мы читаем и слышим, что вредно читать без понимания, что нельзя заучивать определение числа и действий над числами, что бессмысленное заучивание вредно, что знать действия с тысячами, не умея считать 2+3, вредно и т. п. Главная исходная точка есть критика старых приемов и придумывание новых, сколь возможно более противоположных старым, но отнюдь не постановка новых оснований педагогики, из которых могли бы вытекать новые приемы.
Критиковать употреблявшийся способ обучения грамоте посредством заучивания-целых страниц псалтыря и обучения арифметике посредством учения наизусть, что есть число, и т. п., очень легко. Замечу, во-первых, что теперь и не нужно нападать на эти приемы, что едва ли есть еще такие учителя, которые отстаивали бы их, и, во-вторых, что если, критикуя такие явления в печати и здесь в заседаниях (как я
L H. Толстой О народном образовании 311
заметил), хотели дать почувствовать, что я защитник старинного способа обучения, то это происходило только от того, что мои возражатели, по молодости лет вероятно, не знали, что чуть не 20 лет тому назад я, сколько и^ел умения и силы, боролся с этими старыми приемами педагогии и со/^ействовал их уничтожению.
Итак, былр найдено, что старые приемы обучения никуда не годятся, и, не поставив никаких новых основ, стали искать новых приемов. Я потому говорю: не поставив новых основ, что единственные прочные основы педагогии есть только две: 1) определение критерия того, чему нужно учить, и 2) критерия того, как нужно учить, т. е. определение того, что избранные предметы суть наинужнейшие, и того, что избранный способ есть наилучший. Никто даже не обратил внимания на эти основы, а каждая школа в оправдание свое подделала себе известные квазифилософские, оправдывающие ее рассуждения. Но именно эта теоретическая подкладка, как нечаянно совершенно верно выразился г. Бунаков, не может считаться основой. Ибо точно такая же теоретическая подкладка была и у старого способа обучения.
Действительный же насущный вопрос педагогии, который 15 лет тому назад я тщетно пытался поставить во всей его значительности, вопрос: почем знать, чему и как учить? остался даже не затронутым. Вследствие этого произошло то, что как скоро стало очевидно, что старый способ не годится, не стали отыскивать, почему и как узнать, какой будет лучше способ, а тотчас же стали искать другой, самый противоположный старому. Поступили так же, как бы поступил человек, у которого к зиме в доме оказалось очень холодно, и он, не поза-ботясь о том, почему холодно и как пособить горю, пошел бы отыскивать другой дом, который был бы как можно менее похож на прежний. Я был тогда за границей и помню везде встречавшихся мне тогда скитавшихся по Европе послов, разыскивающих новую веру, т. е. чиновников министерства, изучавших немецкую педагогию.
Мы избрали приемы обучения ближайших соседей наших, немцев, во-первых, потому, что мы всегда особенно склонны подражать немцам; во-вторых, потому, что это был способ самый сложный и хитрый, а уж если брать чужое, то, разумеется, самое последнее — модное и хитрое; а в-третьих, в особенности потому, что эти приемы были более всего противоположны нашим старым приемам. Итак, новые приемы взяты у немцев, и не одни, а с теоретической подкладкой, т. е. квази-философским оправданием этих приемов. И теоретическая подкладка эта оказала и оказывает большие услуги. Как скоро родители или просто здравомыслящие люди, занимающиеся делом образования, выражают сомнение в том, что в самом ли деле хороши эти приемы, им говорят: а знаменитый Песталоцци, а Дистервег, а Денцель, а Вурст, а методика, эвристика, дидактика, концентризм? — и смельчаки махают рукой и говорят: «Ну, бог с ними. Они лучше знают». В этих немецких приемах была еще и та большая выгода для учителей (причина, по ко торой за эти приемы особенно горячо держатся), что при них учителю
Л. Н. Толстой { 312
/
/
не нужно много старания, не нужно дальше и дальше учиться, не нужно работать над собой и над приемами обучения. Большую часть времени по этой методе учитель учит тому, что дети знают, да кроме того, учит по руководству, и ему легко. И бессознательно Jno врожденной человеческой слабости, учитель дорожит этой легкостью. Весьма приятно, с твердым убеждением, что я учу и делаю дел 6 важное и самое современное, рассказывать детям из книжки про суслика или про то, что у лошади 4 ноги, или переставлять кубики по 2 и по 3 и спрашивать, сколько будет 2 и 2; но если бы потребовалось,вместо суслика рассказать или прочесть что-нибудь точно занимательное, дать основания грамматики, географии, священной истории й 4 правил, то учитель сейчас бы был приведен к тому, чтобы поработать над собой, перечитать многое, освежить свои знания.
Итак, окритикован старый прием, взят у немцев другой. Способ этот так чужд нашему русскому, не педантическому складу ума, уродства его так ярко бросаются в глаза, что, казалось бы, способ этот никак не может привиться в России, а, между прочим, он прилагается, хотя и в малых размерах, но прилагается и даже дает в некотором отношении результаты иногда лучше, чем старый церковный способ. Это происходит оттого, что так как способ взят у нас (и в Германии первоначально вытек) из критики старого приема, то в этом способе действительно откинуты все недостатки старого, хотя именно в крайнем противоположении старому, доведенном с особенным, свойственным немцам педантизмом до последней крайности, проявились новые недостатки, едва ли не большие, чем прежние. Прежде учили грамоте у нас, присоединяя к согласному звуку ненужные длинные прибавки буки-уки, въди-ъди, у немцев es, ет, de, се и т. д., т. е. присоединяя гласную к согласному звуку то сзади, то спереди, и в этом лежало затруднение. Теперь впали в другую противоположность и хотят называть согласный звук без присоединения гласной, что, очевидно, невозможно. В грамматике Ушинского (Ушинский — родоначальник у нас звуковой методы) и во всех звуковых руководствах при изложении грамматики согласные звуки определяются так: тот звук, который нельзя выговорить отдельно*. И этому-то самому звуку учат прежде всего ученика. Когда я делал замечание, что нельзя выговорить отдельно бъ, а выходит почти всегда бы, мне говорили, что это происходит оттого, что не все это умеют, что надо большое искусство, чтобМ выговорить согласный звук. И я сам видел, как г. Протопопов, когда ученик, по моим понятиям, выговорил совершенно удовлетворительно коротко бъ. поправлял его раз десять до тех пор, пока он оторвал, сколько можно. И с этих то бъ, съ, с тех звуков, которых нельзя выговорить, как определяет Ушинский, или для выговора которых нужна особенная виртуозность, — с этих звуков начинают учение грамоте по педантическим немецким руководствам.
«Родное слово», год третий.
1. Н. Толстой
О народном образовании
313
Прежде учили наизусть без смысла склады (это было дурно); в крайнюю противоположность этому новая манера предписывает совсем не отделять складов, что решительно невозможно в длинном слове и что в действительности никогда не исполняется. Всякий учитель по звуковому способу чувствует необходимость дать ученику отдохнуть на одной части слова и выговарить ее отдельно. Это делал и г. Протопопов, но ни за что не сознается в этом, потому что это было бы признание в складах. Прежде читали непонятный для детей по слишком высокому и глубокому смыслу псалтырь (что было дурно); в противоположность этому заставляют читать не имеющие уже никакого содержания фразы и заставляют объяснять всякое понятное слово или заучивать непонятное. В старой школе учитель ничего не говорил с учениками; теперь предписано учителю говорить с учениками чтб попало, или то, чтб они знают, или то, чего не нужно знать. В математике прежде заучивали определение действий, теперь и самих действий уже не делают, так как только на 3-й год, по Евтушевскому, приступают к нумерации и предполагают, что нужно учить детей в продолжение целого года считать до 10. Прежде заставляли учеников делать действия с отвлеченными большими числами, не обращая внимания на другую сторону математики, распутывание задачи (составление уравнения). Теперь учат распутыванию задач, составлению уравнений на малых числах прежде, чем ученики знают еще нумерацию и обращение с действиями. Тогда как всякому учителю опыт показывает, что трудность составления уравнений или распутывание задач преодолевается только общим, не школьным, а жизненным развитием. Было замечено, что совершенно справедливо, что нет лучшего пособия для ученика, когда он затрудняется постановкой задачи с большими числами, как то, чтобы дать ему точно такую же задачу на малых числах. Ученик, из жизни научившийся решать ощупью задачи с малыми числами, сознает процесс решения и этот процесс переносит на задачу с большими числами. Заметив это, новые педагоги стараются обучать только распутыванию задач на малых числах, т. е. тому самому, что не может быть предметом обучения, а есть дело жизни. В преподавании грамматики новая школа осталась так же последовательна своей исходной точке — критике старого и усвоению самого противоположного приема. Прежде заучивали наизусть определение частей речи и от этимологии переходили к синтаксису; теперь начинают не только с синтаксиса, но и с логики, которую пытаются передать детям. По грамматике г. Бунакова, которая есть сокращение грамматики Перевлесского6, даже с выборами тех же примеров, изучение грамматики начинается с разбора синтаксического, столь трудного и, скажу даже, шаткого в русском языке, не подчиняющегося вполне классическим формам синтаксиса. Так что в общем новая школа отстранила некоторые недостатки, из которых главные — лишний прибавок к согласной и заучивание наизусть определений, и в этом имеет преимущество перед старым способом и дает в чтении и письме иногда лучшие результаты, но зато вне-
Л. Н. Толстой
314
ела новые недостатки, состоящие в том, что содержание чтения есть самое бессмысленное, и в том, что арифметика как учение уже совершенно не преподается.
В практике (ссылаясь в этом на всех инспекторов училищ, на всех членов училищных советов, посещавших училища, на всех учителей), в практике, в массе школ, где предписывается эта немецкая метода, совершается, за редкими исключениями вот что. Дети учатся не по звуковому, а по буквослагательному способу, называют вместо бъ согласную бы, вы и разделяют слова на склады. Наглядное обучение совсем опускается, арифметика вовсе нейдет, и читать детям совершенно нечего. Учителя, бессознательно для самих себя, отступают от требований теоретических и подделываются под требования народа. Эти практические результаты, везде повторяющиеся, казалось, могли доказать неверность самого метода; но в среде педагогов, тех, которые пишут руководства и предписывают правила, сущестует такое полное незнание и нежелание знать народ и его требования, что отношение действительности к этим приемам нисколько не нарушает хода их дела. Трудно представить себе то воззрение на народ, которое существует в этом мире педагогов и из которого вытек их метод и все дальнейшие приемы обучения,. Г. Бунаков с необыкновенной наивностью, в доказательство того, как необходимо наглядное обучение и развитие для детей в русской школе, приводит слова Песталоцци: «Пусть кто-нибудь, живший среди простого народа, — говорит он, — опровергнет мои слова, что ничего нет труднее, как передать какое-либо понятие этим существам. Да этому никто и не противоречит. Швейцарские священники подтверждают, что, когда народ приходит к ним для обучения, он не понимает, что ему говорят, а священники не понимают, чтб им говорит народ. Городские жители, переселяющиеся в деревню, изумляются неспособности туземцев говорить; проходят годы, пока деревенская прислуга научается объясняться с хозяевами». Это-то отнбшение простолюдина в Швейцарии к образованному сословию полагается основанием такого же отношения у нас.
Полагаю излишним распространяться о том, чтб всякому известно, что во всей Германии народ говорит особенным языком, называемым платдейч, и что в немецкой Швейцарии этот платдейч особенно далек от немецкого языка, а что в России, напротив, мы часто говорим дурным языком, а народ всегда хорошим и что в России будет гораздо вернее, если слова Песталоцци сказать от лица мужиков, говорящих об учителях. Мужик и крестьянский мальчик скажут совершенно справедливо, что весьма трудно понимать, что говорят эти существа, подразумевая учителей. Незнание народа так полно в этом мире педагогов, что они смело говорят, будто в крестьянскую школу приходят дикари, и потому смело учат их тому, чтб вниз, что вверх,что классная доска стоит на подставке и под нею лоточек. Они не знают того, что если бы ученики спрашивали учителя, то очень много бы оказалось вещей, которых не знает учитель, что если, например, стереть краску с доски, то
L Ы. Толстой
О народном образовании
315
всякий почти мальчик скажет, из какого дерева эта доска: еловая, липовая или осиновая, чего не скажет учитель; что про кошку и курицу мальчик расскажет всегда лучше учителя, потому что он наблюдал их больше учителя; что вместо задачи о возах мальчик знает задачи: о воронах, о скотине,о гусях. (О воронах: летело стадо ворон и стояли дубы, если сядет по две вороны, ворон недостанет, сядет по одной — дуба недостанет. Сколько ворон, сколько дубов? О скотине: на 100 рублей купить 100 скотин: телят по полтине, коров по 3 рубля, быков по 10 рублей. Сколько быков, коров и телят?) Педагоги немецкой школы и не подозревают той сметливости, того настоящего жизненного развития, того отвращения от всякой фальши, той готовой насмешки над всем фальшивым, которые так присущи русскому крестьянскому мальчику, и только потому так смело (как я сам видел) под огнем 40 пар умных детских глаз на посмешище им выделывают свои штуки. Только от этого настоящий учитель, знающий народ, как бы строго ему не предписывали учить крестьянских детей тому, что низ, что верх и что 2 и 3 будет 5, ни один настоящий учитель, знающий тех учеников, с которыми он имеет дело, не будет в состоянии этого делать.
Итак, главные причины, по которым мы впали в такое странное заблуждение, суть: 1) незнание народа, 2) невольно подкупающая легкость учения тому, чтб знают ученики, 3) склонность наша к заимствованию от немцев и 4) критика старого без постандвки новых основ. Эта последняя причина привела педагогов новой школы к тому, что, несмотря на крайнее различие по внешности нового способа от старого, он совершенно тожествен ему по своим основаниям и потому по приемам обучения и по результатам. При том и при другом способе существенная основа состоит в том, что обучающий твердо и несомненно знает, чему и как нужно обучать, и это свое знание не почерпает из требований народа и из опыта, но раз навсегда теоретически решил, что именно тому и так нужно учить, и так учит. Педагог старинной школы, которую я для краткости назову церковной, знает твердо и несомненно, что надо учить по часовнику и псалтырю, заучивая наизусть, и не допускает никаких изменений в своих приемах; точно так же учитель новой немецкой школы знает твердо и несомненно, что надо учить по Бунакову и Евтушевскому, начинать со слов ус и оса, спрашивать о том, что наверху, что внизу, и рассказывать о любимом суслике, и не допускает никаких изменений в своих приемах. Оба основываются на твердом убеждении, что они знают наилучшие приемы. Из одинаковости основ вытекает и дельнейшее сходство. Учитель церковной грамоты, если вы ему скажете, что по его способу продолжительно и с трудом учатся дети читать и писать, ответит вам, что дело не в чтении и письме, а в божественном учении, под которым подразумевается изучение церковных книг. То же самое скажет вам и учитель русской грамоты по немецкому способу. Он скажет (все говорят и пишут это), что дело не в быстроте приобретения искусства чтения, писания и счета, а в развитии. Оба кладут цель обучения в чем-то независимом от чте
Л. Н. Толстой
316
ния, письма и счета, т. е. науки, а в чем-то другом — несомненно нужном.
Сходство это продолжается до мельчайших подробностей. Как в том, так и в другом способе всякое учение до школы, всякое приобретенное знание вне школы не принимается во внимание: все поступающие ученики считаются одинаково незнающими и всех заставляют учиться сначала. Если в церковную школу поступает мальчик, знающий буквы или склады: а, бе, его переучивают сначала по буки-аз— ба. То же самое делается и в немецкой школе, и г. Протопопов прилагал большие усилия, чтобы переучить мальчиков в своей школе, с бе на бъ и жаловался мне, что это стоит ему большого труда.
Точно так же, как в той, так и в другой школе случается, что некоторым детям не задается грамота. (Ссылаясь на всех бывших учителей школы, шедших по моему способу, что в моих школах не было ни разу ни одного подобного случая.) Мы видели, что из 7 учеников г. Протопопова один оказался такой, которому грамота в науку не пошла.
Точно так же как в том, так и в другом способе механическая сторона обучения преобладет над умственной. Как в церковных, так и в этих школах ученики отличаются хорошим почерком и выговором при чтении, совершенно точным, т. е. не так, как говорится, а так, как пишется. Точно так же как при том, так и при другом способе в школе царствует постоянный внешний порядок и дети находятся под постоянным страхом и могут быть руководимы только при величайшей строгости. Г. Королев7 упомянул вскользь о том, что при звуковом обучении не пренебрегаются колотушки. Я видел это в школах немецкой манеры и полагаю, что без колотушек даже невозможно обойтись в новой немецкой школе, так как она точно так же, как и церковная школа, учит, не спрашиваясь о том, что интересно знать ученику, а учит тому, что, по убеждению учителя, кажется нужным, и потому школа эта может основываться только на принуждении. А принуждение достигается с детьми обыкновенно побоями. Церковная школа и новая немецкая, исходя из одинаковых основ и приходя к одинаковым результатам, совершенно схожи. Но если бы выбирать из двух, я бы выбрал все-таки церковную. Недостатки одинаковы, но на стороне церковной школы 1000-летняя привычка и авторитет церкви, имеющий такую силу в народе.
Окончив разбор и критику немецкой школы, я считаю нужным ввиду высказанного мною, что критика тогда только плодотворна, когда она, осуждая, указывает на то, чем бы должно было быть то, чтб дурно, я считаю нужным сказать о тех основах обучения, которые я считаю законными и на которых основываю свой метод обучения.
Для того чтобы высказать, в чем я полагаю эти несомненные основы свякой педагогической деятельности, я должен повторяться, т. е. повторять то, что высказано было мною 15 лет тому назад в издававшемся мною педагогическом журнале «Ясная Поляна». Повторение это не будет скучно для педагогов новой школы, так как писанное
1 Н. Толстой
О народном образовании
317
мною тогда не то что забыто, но никогда и не было принято во внимание педагогами, а между тем я продолжаю думать, что только то, что высказано было мною тогда, могло поставить педагогику как теорию на твердую почву. 15 лет тому назад, когда я взялся за дело народного образования, без всяких предвзятых теорий и взглядов на дело, с одним только желанием прямо, непосредственно содействовать этому делу, будучи учителем в своей школе, я тотчас же столкнулся с двумя вопросами:
1) чему нужно учить? 2) как нужно учить?
В то время, как и теперь, существовало величайшее разноречие в ответах на эти вопросы.
Я знаю, что некоторым педагогам, заключенным в своем узком теоретическом кружке, кажется, что только и света, что из окошка, и что разноречия никакого уже нет.
Я прошу тех, которые так думают, заметить, что им только так кажется, точно так же, как это кажется в кружках, им противоположных. Во всей же массе людей, заинтересованных образованием, существует, как и прежде существовало, величайшее разноречие. В то время, как и теперь, одни, отвечая на вопрос чему надо учить?, говорили, что кроме грамоты самые полезные для первоначальной школы знания суть знания естественные; другие, как и теперь, говорили, что это не нужно и даже вредно; так же, как и теперь, одни предлагали историю, географию, Другие отрицали их необходимость; одни предлагали славянский язык и грамматику, закон божий, другие находили и это излишним и приписывали главную важность развитию. По вопросу как учить? было и есть еще большее разногласие. Предлагались и предлагаются самые противоположные один другому приемы обучения грамоте и арифметике.
В книжных лавках рядом продавались самоучители по буки-аз—ба, уроки Бунакова, карточки Золотова, «Азбуки» г-жи Дараган8, и все имели своих сторонников. Встретившись в этими вопросами и не найдя на них никакого ответа в русской литературе, я обратился к европейской. Прочтя то, что было написано об этом предмете, познакомившись лично с так называемыми лучшими представителями педагогической науки в Европе, я нигде не только не нашел какого-нибудь ответа на занимавший меня вопрос, но убедился, что вопроса этого для педагогии как науки даже и не существует, что каждый педагог известной школы твердо верит, что те' приемы, которые он употребляет, суть наилучшие, потому что они основаны на абсолютной истине, и что относиться к ним критически было бы бесполезно. Между прочим, потому ли, что, как я сказал, я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий, или потому, что я взялся за это дело, не издалека предписывая законы, как надо учить, а сам стал школьным учителем в глухой деревенской народной школе, я не мог отказаться от мысли, что необходимо должен существовать критериум, по которому решается вопрос чему и как лучше учить? Учить ли наизусть псалтырь
Л. Н. Толстой
318
или классификацию организмов? Учить ли по звуковой, переведенной с немецкого азбуке или по часовнику? В решении этих вопросов мне помогли некоторый педагогический такт, которым я одарен, и в особенности то близкое и страстное отношение, в которое я стал к делу. Вступив сразу в самые близкие, непосредственные отношения с теми 40 маленькими мужичками, которые составляли мою школу (я их называю маленькими мужичками потому, что я нашел в них те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого/ которым и вообще отличается русский мужик), увидав эту восприимчивость, открытость к приобретению тех знаний, в которых они нуждались, я тотчас же почувствовал, что старинный церковный способ обучения уже отжил свой век и не годится для них. И я стал испытывать другие предлагаемые приемы обучения; но так как принуждение при обучении и по убеждению моему, и по характеру мне противно, я не принуждал, и как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал другое. Из этих опытов оказалось для меня и для тех учителей, которые вместе со мною в Ясной Поляне и других школах на тех же основаниях свободы занимались преподаванием, что почти всё то, что пишется в педагогическом мире для школ, отделяется неизмеримой пучиной от действительности и что из предлагаемых методов многие приемы, как, например, наглядное обучение, естественные науки, звуковые приемы и другие, вызывают отвращение и насмешку и не принимаются учениками. Мы стали отыскивать то содержание и те приемы, которые охотно воспринимались учениками, и напали на то, что составляет мой метод обучения. Но этот метод становился наряду со всеми другими методами, и вопрос о том, почему он лучше других, оставался точно так же нерешенным. Следовательно, вопрос о том, в чем состоит критериум того, чему и как должно учить, получал для меня еще большее значение; только решив его, я мог быть уверен, что то, чему и как я учил, не было ни вредно, ни бесполезно. Вопрос этот как тогда, так и теперь представляется мне краеугольным камнем всей педагогии, и разрешению этого вопроса я посвятил издание педагогического журнала «Ясная Поляна». В нескольких статьях (мне очень приятно было слышать цитаты из них именно потому, что я не отрекаюсь теперь от высказанного тогда) я старался поставить этот вопрос во всей его значительности и, сколько умел, старался разрешить его. В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже и противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я со своим вопросом: почем вы знаете, чему и как учить? — был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть в собрании турецких пашей, обсуждающих вопрос о том, как бы побольше с народа собрать
I.H. Толстой
О народном образовании
319
податей, предложил бы им следующее: «Гг., чтобы знать, с кого сколько податей, надо разобрать вопрос: на чем основано наше право взимания?» Очевидно, все паши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос. Но обойти вопрос нельзя. 15 лет тому назад на него не обратили внимание, и педагоги каждой школы, уверенные, что все остальные врут, а они правы, преспокойно предписывали свои законы, основывая свои положения на философии весьма сомнительного свойства, которую они подкладывали под свои теорийки.
А между прочим, вопрос этот совсем не так труден, если мы только совершенно отрешимся от предвзятых теорий. Я пытался разъяснить и разрешить этот вопрос и, не повторяя тех доводов, которые желающий может прочесть в статье, которую приводил г. Рохманинов, я выскажу результаты, к которым я был приведен. «Единственный критериум педагогии есть свобода, единственный метод есть опыт». И я после 15 лет ни на волос не изменил своего мнения, но считаю нужным с большей определенностью изложить то, что я разумею под этими словами относительно не только вообще образования, но и частного вопроса — народного образования в первоначальной школе. Лет 100 тому назад ни в Европе, ни у нас вопрос о том, чему и как учить, не мог иметь места. Образование было неразрывно связано с религией. Учиться грамоте — значило учиться священному писанию. В магометанских населениях до сих пор существует еще во всей силе эта связь между грамотой и религией. Учиться — значит учить Коран и потому арабский язык. Но как скоро критериумом того, чему нужно учить, перестала быть религия и школа стала не зависима от нее, вопрос этот должен был явиться. Но он не явился потому, что школа не вдруг, а незаметными шагами освобождалась от зависимости от религии. Теперь всеми признано, и совершенно справедливо, по моему мнению, что религия не может служить ни содержанием, ни указанием метода образования, но что образование имеет своим основанием другие требования. В чем же состоят эти требования, на чем они основаны? Для того чтобы эти основания были несомненны, необходимо: или чтобы они философски, несомненно, были доказаны, или чтобы по крайней мере все образованные люди были в них согласны. Так ли это? В том, что в философии не найдены те основы, на которых может строиться определение того, чему нужно учить, не может быть никакого сомнения, тем более что самое дело это не есть отвлеченное, а практическое, зависящее от бесчисленных жизненных условий. Еще менее можно найти эти основы в общем согласии всех людей, занимающихся этим делом, в согласии, которое бы мы могли принять за практическое основание, как выражение здравого смысла всех. Не только в деле народного, но и в деле высшего образования мы видим полнейшее разногласие между лучшими представителями образования, как, например, в вопросе о классицизме и реализме. И несмотря на отсутствие основ, мы видим, однако, что образование идет своим путем и в общей массе
Л. Н. Толстой
320
руководствуется только одним принципом, именно свободой. Рядом существуют классическая и реальная школы, из которых каждая готова считать себя единственной настоящей школой, и обе удовлетворяют потребности, так как родители отдают своих детей и в ту, и в другую.
В народной школе точно так же право это определять то, чему надо учиться, с какой бы стороны мы ни рассматривали этот вопрос, принадлежит народу, т. е. или самим ученикам, или родителям, посылающим детей в школу, и потому ответ на вопрос, чему учить детей в народной школе, мы можем получить только от народа. Но мы скажем, может быть, что нам, высокообразованным людям, не следует покоряться требованиям грубого народа, нам надо учить народ, чего ему желать. Так думают многие, но на это могу сказать только одно: дайте твердое, несомненное основание, почему то или другое избрано вами; покажите мне такое общество, в котором бы не было двух диаметрально противоположных воззрений на образование между высокообразованными, где бы не повторялось постоянно, что если попало образование в руки духовенства — народ образовывают в одном духе, если образование в руках прогрессистов — народ образовывают в другом духе; покажите мне такое общество, в котором бы этого не было, и я соглашусь с вами. До тех же пор, пока этого нет, нет другого крите-риума, как свобода учащегося, причем на место учащихся детей в деле народной школы становятся их родители, т. е. требования народа. Требования эти не только определенны, совершенно ясны, везде по всей России одинаковы, но они так разумны и так широки, что включают в себя все те самые разнородные требования людей, спорящих о том, чему нужно учить народ. Требования эти следующие: знание русской и славянской грамоты и счет. Народ везде одинаково, и несомненно, и исключительно определяет для своего образования эту программу и всегда и везде ею удовлетворяется — всякие же естественные истории, географии и истории (кроме священной), всякое наглядное обучение народ везде и всегда считает бесполезными пустяками. Программа замечательна не одним единомыслием и твердой определенностью, но, по моему мнению, широтой своих требований и верностью взгляда. Народ допускает две области знания, самые точные и не подверженные колебаниям от различных взглядов, — языки и математику, а все остальное считает пустяками. Я думаю, что народ совершенно прав. Во-первых, потому, что в этих знаниях не может быть полузнания, фальши, которых он терпеть не может. Во-вторых, потому, что область обоих этих знаний огромна. Русская и славянская грамота и счет, т. е. знание одного мертвого и своего живого языка с их этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и арифметика, т. е. основание всей математики, составляют программу знаний, которыми, к несчастью, обладают очень редкие люди из образованного сословия. В-третьих, народ прав потому, что по этой его программе он будет обучаться в первоначальной школе только тому, что откроет ему все даль-
1 L Толстой
О народном образовании
321
нейшие пути знания, ибо очевидно, что основательное знание двух языков и их форм и, сверх того, знание арифметики открывают вполне пути к самостоятельному приобретению всех других знаний. Народ, как будто чувствуя тот ложный прием, с которым к нему относятся, когда ему предлагают неправильные, несвязные отрывки винегрета разных знаний, отталкивает от себя эту ложь и говорит: «Мне одно нужно знать, церковный и свой язык и законы чисел, а те знания, если они понадобятся мне, я сам возьму». Итак, если допустить критери-умом того, чему учить, свободу, то программа народных училищ до тех пор, пока народ не заявил новых требований, ясно и твердо определяется. Славянский, русский язык и арифметика до высшей возможной степени, и ничего, кроме этого. Это есть определение пределов программы народной школы, при котором, однако же, никак нельзя сказать, чтобы требовалось ведение этих трех предметов равномерно. При такой программе, конечно, желательно бы было достижение и равномерных успехов по всем трем предметам; но нельзя сказать, чтобы преобладание одного предмета над другим было бы вредно. Задача состоит только в том, чтобы не выходить из пределов программы. Может случиться, что по требованиям родителей, и в особенности по знаниям учителя, выдастся особенно один предмет: у церковнослужителя — славянский язык, у учителя из уездного училища — или русский язык, или арифметика; во всех этих случаях требования народа будут удовлетворены, и преподавание не отступит от своего основного кри1 териума.
Вторая сторона вопроса — как учить, т. е. как узнать, какой метод наилучший, точно так же осталась и остается нерешенной.
Как в первой стороне вопроса чему учить! — предположение, что на основании рассуждений можно основывать программу учения, приводит к противоречащим одна другой школам, точно то же можно видеть и в вопросе как учить! Возьмем самую первую ступень обучения грамоте. Один утверждает, что легче всего по карточкам; другой — по бъ, въ; третий — Корфу9; четвертый — по бе, ее, ге и т. п. На последнем заседании кто-то из гг. членов говорил, что келейницы-девушки выучивают читать по буки-аз—ба в шесть недель. И каждый учитель, убежденный в превосходстве своего способа, .доказывает это превосходство или тем, что он скорее других выучивает, или рассуждениями вроде тех, которые приводят г. Бунаков и немецкие педагоги. В настоящее время, когда есть сотни приемов, надо же точно знать, чем руководствоваться при выборе. Ни теория, ни рассуждения, ни даже самые результаты учения не могут вполне показать этого.
Образование, учение рассматриваются обыкновенно отвлеченно, т. е. рассматривается вопрос о том, как наилучшим и наилегчайшим способом произвести над известным субъектом (один ли это ребенок, или масса детей) известное действие обучения. Взгляд этот совершенно ложен. Всякое образование и учение не может быть рассматриваемо иначе, как известное отношение двух лиц или двух совокупно
JI. H. Толстой
322
стей лиц, имеющих целью образование или обучение. Это определение, более общее, чем другие определения, в особенности относится к народному образованию, в котором дело идет об образовании огромного количества лиц и при котором не может быть речи об идеальном образовании. Вообще при народном образовании нельзя ставить вопрос так: как дать наилучшее образование? Все равно, как нельзя при вопросе о питании народа ставить вопрос: как испечь самый питательный и лучший хлеб? А надо ставить вопрос: как при данных людях, желающих учиться и желающих учить, устроить наилучшее отношение? Или: как из данной решетной муки сделать наилучший хлеб? Следовательно, вопрос как учить? какой наилучший метод? есть вопрос о том, какое отношение между учащим и учащимся будет наилучшее.
Никто, вероятно, не станет спорить, что наилучшее отношение между учителем и учениками есть отношение естественности; что про: тивоположное естественному отношению есть отношение принудив тельности. Если это так, то мерило всех методов состоит в большей или меньшей естественности отношений и потому в меньшем или большем принуждении при учении. Чем с меньшим принуждением учатся дети, тем метод лучше; чем с большим, тем хуже. Я очень рад, что мне не приходится доказывать этой очевидной истины. Все согласны, что, так же как при гигиене не может быть полезно употребление каких-нибудь кушаний, лекарств, упражнений, возбуждающих отвращение или боль, так и при учении не может быть необходимости принуждать детей заучивать что-нибудь им скучное и противное, и что если необходимость заставляет принуждать детей, то это доказывает только несовершенство метода. Всякий учивший детей, вероятно, замечал, что, чем хуже сам учитель знает предмет, которому он учит, чем меньше он его любит, тем ему нужнее строгость и принуждение; напротив, чем больше учитель знает и любит предмет, тем естественнее и свободнее его преподавание. В той мысли, что для успешного обучения нужно не принуждение, а возбуждение интереса ученика, согласны все педагоги противной мне школы. Разница между нами только та, что это положение о том, что учение должно возбуждать интерес ребенка, у них затеряно в числе других, противоречащих этому положений о развитии, в котором они уверены и к которому принуждают; тогда как я возбуждение интереса в ученике, наивозможнейшее облегчение и потому непринужденность и естественность учения считаю основным и единственным мерилом хорошего и дурного учения.
Всякое движение вперед педагогики, если мы внимательно рассмотрим историю этого дела, состоит только в большем и большем приближении к естественности отношений между учителем и учениками, в меньшей принудительности и в большей облегченности учения.
Мне делали в старину и теперь, знаю, сделают возражение, состоящее в том, как найти эту границу свободы, которая должна быть до»-пускаема в школе. На это отвечу, что граница этой свободы сама собой определяется учителем, его знанием, его способностью руково
I' II. Толстой
О народном образовании
323
дить школой; что свобода эта не может быть предписываема; мера этой свободы есть только результат большего или меньшего знания и таланта учителя. Свобода это не есть правило, но она служит поверкой при сравнении школ между собой и поверкой при сравнении новых приемов, вводимых в школьное обучение. Та школа, в которой меньше принуждения, лучше той, в которой больше принуждения. Тот прием, который при своем введении в школу не требует усиления дисциплины, хорош; тот же, который требует большей строгости, наверное дурен. Возьмите, например, более или менее свободную школу, такую, каковы мои школы, и попробуйте начать в ней беседы о столе и потолке или переставлять кубики, посмотрите, какая каша сделается в школе и как почувствуется необходимость строгостью привести учеников в порядок; попробуйте рассказывать им занимательно историю, или задавать задачи, или заставьте одного писать на доске, а других поправлять за ним ошибки, и спустите всех с лавок, увидите, что все будут заняты, шал детей не будет, и не нужно будет усиливать строгость, и смело можно сказать, что прием хорош.
В своих педагогических статьях я изложил теоретические причины, по которым я нахожу, что только свобода выбора со стороны учащихся того, чему и как учить, может быть основой всякого обучения;. на практике же сначала в довольно больших, потом и довольно тесных размерах я постоянно прилагал эти правила к ведомым мною школам, и результаты всегда были очень хороши как для учителей, для учеников, так и для выработки новых приемов, что я смело говорю, так как сотни посетителей перебывали в Яснополянской школе и видели и знали ее [признаюсь, мне было смешно слышать, как г. Протопопов хотел заподозрить г. Морозова (и меня, вероятно) в том, что мы, чтобы спасти свой способ от поражения, подделали обученного мальчика].
Для учителей последствия такого отношения к ученикам были те, что учителя не считали наилучшим тот метод, который знали, а старались узнать другие методы, старались сближаться с другими учителями, чтобы узнавать их приемы, испытывали новые приемы и, главное, постоянно учились сами. Учитель никогда не позволял себе думать, что в неуспехе виноваты ученики — их леность, шаловливость, тупоумие, глухота, косноязычие, а твердо знал, что в неуспехе виноват только он, и на каждый недостаток ученика или учеников учитель старался отыскать средство. Для учеников последствия были те, что они охотно учились, всегда просили учителей о зимних вечерних классах и были совершенно свободны в классе, что, по моему убеждению и опыту, есть главное условие успешного хода учения. Между учителями и учениками всегда устанавливались дружеские, естественные отношения, при которых только и возможно учителю узнать вполне своих учеников. Если бы определять по внешнему, первому впечатлению школы различие между церковной, немецкой и моей, то главное различие будет такое: в церковной школе слышно особенное, неесте
JI. H. Толстсш
324
ственно-однообразное кричание всех учеников и изредка строгие крики учителя; в немецкой слышен один голос учителя и изредка робкие голоса учеников; в моей слышны громкие голоса учителей и учеников почти вместе.
Для приемов обучения последствия были те, что ни один прием обучения не принимался и не откидывался потому, что он нравился или не нравился, а только потому, усваивался или не усваивался он учениками без принуждения. Но кроме тех хороших результатов, которые всегда безошибочно получались от приложения моего способа, мною самим и всеми (более 20) учителями, которые учили по моему способу (безошибочно я говорю в том смысле, что ни разу у нас не было ни одного ученика, которому бы не далась грамота, как у г. Протопопова), кроме этих результатов, приложение тех начал, о которых я говорил, делало то, что за все эти 15 лет все различные видоизменения, которым подчинялся мой прием обучения, не только не отдалили его от требований народа, но только более и более сближали с ним. Народ, по крайней мере у нас, знает самый способ, и судит о нем, и предпочитает его церковному, чего я не могу сказать о звуковом.
Ученики, как это было в школе г. Протопопова и как это постоянно повторяется в школах, выучиваются ему сами, вне школы. Я имею два примера матерей, которые сами выучили по этому способу детей. Учителя, переходившие в мои школы из тех, в которых требовалось обучение по звуковому способу или где обучение шло по церковному, сейчас, испытав мой способ, по собственному произволу бросали прежний, хотя я никогда этого не требовал и не требую. Учителя, не знающие никакого способа, и даже полуграмотные люди выучиваются моему способу в день или два пребывания в школе. Приемы обучения так просты и естественны для учителей, что для изучения их не требуется особенного подготовления и что из не кончивших курс семинаристов у меня выходили прекрасные учителя, как сам г. Морозов, учившийся в Москве и поступивший ко мне не окончившим курс в семинарии, плохо грамотным молодым человеком. В школах, веденных по моему методу, учитель не может оставаться неподвижным в знаниях, каким он бывает и должен быть в звуковой школе. Учитель по новой немецкой манере, если он хочет идти вперед и совершенствоваться, должен следить за педагогической литературой, т. е. читать все новые выдумки о разговорах про суслика и о перестановке кубиков. Не думаю, чтобы это подвинуло его в личном образовании. Напротив того, в моей школе, так как предметы преподавания, язык и математика требуют положительного знания, всякий учитель, подвигая учеников вперед, чувствует потребность самому учиться, что постоянно и повторялось со всеми бывшими у меня учителями.
Кроме того, и самые приемы обучения, так как они не раз навсегда закреплены, а стремятся к достижению наилегчайших и наипростейших приемов, видоизменяются и улучшаются по указаниям, которые учитель отыскивает в отношениях учащихся к его преподаванию.
Н. 'Голстой
О народном образовании
325
Совсем противоположное этому я вижу в том, что, к несчастью, творится в школах немецкой манеры, которые искусственно вводятся у нас в последнее время. Непризнание того, что,.прежде чем решить, чему и как учить, надо решить вопрос, почему мы можем это узнать, привело педагогов в совершеннейший разлад с действительностью, и та пучина, которая чувствовалась 15 лет тому назад между теорией и практикой, теперь дошла до последних пределов. Теперь, когда народ со всех сторон просит образования, а педагогика еще дальше ушла в личные фантазии, раздвоение это дошло до поражающего безобразия.
Этот разлад между требованиями педагогики и действительностью обнаруживается особенно резко в последнее время, не только в самом деле обучения, но и в другой очень важной стороне школьного дела, именно в деле администрации школ. Для того чтобы показать, в каком положении находилось, находится и могло бы находиться это дело, я буду говорить о Крапивенском уезде Тульской губернии, в котором живу, который знаю и который по своему положению составляет тип большинства уездов средней России.
В 1862 г. в участке в 10 000 душ, когда я был посредником, было открыто 14 школ, кроме того, существовало школ 10 в том же участке у причетников и во дворах между дворниками. В других трех участках уезда, сколько мне известно, существовало школ 15 больших и 30 мелких у причетников и дворников. Не говоря ни о количестве учащихся, которых было, я полагаю, в общем не менее того, которое числится теперь, ни о самом учении, которое было частью плохо, частью хорошо, но в общем не хуже теперешнего, я скажу о том, как и на чем тогда было основано это дело. Школы все тогда, за самым малым исключением, были основаны на свободном договоре учителя или с родителями учеников, платившими помесячно за учение, или на уговоре учителя со всем обществом крестьян, плативших огульно за всех. Такое отношение между родителями или обществами и учителями встречается и теперь еще в некоторых, очень редких местах нашего уезда и вообще губернии. Всякий согласится, что, оставив в стороне вопрос о качестве учения, такое отношение учителя к родителям и крестьянам есть самое справедливое, натуральное и желательное. Но с введением положения 1864 г. это отношение уничтожилось и все более и более уничтожается. И всякий, знающий это дело в действительности, заметит, что с уничтожением этого отношения народ все менее и менее принимает участие в деле своего образования, что и весьма естественно. В некоторых земствах даже сбор крестьян на школы обращен в земский сбор, и жалованье, назначение учителей, размещение школ — все это делается совершенно независимо от тех, для кого это делается (в теории крестьяне, без сомнения, суть члены земства, но в практике этим посредственным путем они не имеют уже никакого влияния на свои школы). Чтобы это было справедливо, вероятно, никто не станет утверждать, но скажут; безграмотные крестьяне не могут судить, что хорошо, что дурно, и мы должны устроить для них, как мы знаем. Но почем мы
Л. Н. Толстой
326
знаем? Твердо ли мы знаем, все ли мы одного мнения, как устроить? И не выходит ли иногда очень дурно, так как мы устраивали иногда гораздо хуже, чем как они сами устраивали? Так что по отношению к административной стороне школьного дела мне приходится опять поставить, на том же основании свободы, третий вопрос: почему мы знаем, как лучше устраивать школы, распределять их? На этот вопрос немецкая педагогия дает совершенно последовательный для своей системы ответ. Она знает, какая наилучшая школа, она составила себе ясный, определенный идеал до малейших подробностей, до здания, лавок, часов учения и т. д., и дает ответ: школа должна быть такая-то, по этому образцу, она одна хорошая, а все другие вредны. Я знаю, что, хотя желание Генриха IV дать суп с курицей каждому французу было неосуществимо, нельзя было сказать, что желание это ложно. Но совсем в другое положение становится дело, когда этот суп еще очень сомнительного свойства и не есть суп с курицей, но непитательная болтушка. А между тем так называемая наука педагогика в этом деле неразрывно связана с властью; и в Германии, и у нас предписываются такие-то идеальные одноклассные, двухклассные и т. д. училища; и педагогическая, и административная власть знать не хочет того, как народ желал бы сам устроить свое образование. Посмотрим же, как в действительности отразился на школьном деле такой взгляд на народное образование.
Начиная с 1862 г. в народе у нас все больше и больше стала укрепляться мысль о том, что нужна грамота (образование); с разных сторон, у церковнослужителей, у наемных учителей, при обществах учреждались школы. Дурные или хорошие школы, но они были самородные и вырастали прямо из потребности народа; с введением Положения 1864 г. настроение это еще усилилось, и в 1870 г. в Крапивенском уезде по отчетам было до 60 школ. С тех пор как в заведование школьного дела стали влипать более и более чиновники министерства и члены земств, в Крапивенском уезде закрыто 40 школ и запрещено открывать новые школы низшего разбора. Я знаю, что те, которые закрыли школы, утверждают, что школы эти существовали только номинально и были очень дурны; но я не могу верить этому потому, что из трех деревень: Троены, Ломинцова и Ясной Поляны — мне известны хорошо обученные грамоте ученики, а школы эти закрыты. Я знаю тоже, что многим покажется непонятным, что такое значит: воспрещено открывать, школы. Это значит то, что на основании циркуляра министерства просвещения о том, чтобы не допускать учителей ненадежных (что, вероятно, относилось к нигилистам), училищный совет наложил запрещение на мелкие школы, у дьячков, солдат и т. п., которые крестьяне сами открывали и которые, вероятно, не подходят под мысль циркуляра. Но существуют зато 20 школ с учителями, которые предполагаются хорошими, потому что получают по 200 рублей серебром жалованья; и земством разосланы книги Ушинского, и школы эти называются одноклассными, в них учат по программе и
J I. Голстой
О народном образовании
327
учат круглый год, т. е. и летом, за исключением июля и августа.
Отрешившись от вопроса о самом качестве прежних школ, посмотрим на административную их сторону и сравним с этой стороны, что было, с тем, что делается теперь. В административной внешней стороне школьного дела есть 5 главных предметов, так тесно связанных с самим школьным делом, что от хорошего или дурного их устройства зависят в большой степени успех и распространение народного образования. Эти 5 предметов следующие: 1) школьное помещение; 2) распределение времени учения; 3) распределение школ по местностям; 4) выбор учителя и 5) главное, материальные средства — вознаграждение учителей.
По вопросу о помещении — народ, когда он сам для себя устраивает школу, редко затрудняется, и, если общество богато и есть какое-нибудь общественное строение, хлебный магазин, опустевший кабак, общество отделывает его; если нет, оно покупает, иногда даже у помещика, иногда и само строит. Если общество небогато и невелико, то оно нанимает помещение у мужика или даже устанавливает черед, так что учитель переходит из избы в избу. Если общество, как оно большей частью делает, избирает учителем кого-нибудь из своей среды, дворового, солдата, церковнослужителя, то школа помещается в доме этих лиц, и общество берет на себя только отопление. Во всяком случае мне никогда не приходилось слышать, чтобы вопрос о помещении школы когда-нибудь затруднял общество и чтобы не только половина всей суммы, назначенной на учение, тратилась, как это делается училищными советами, на постройки, но даже чтобы тратилась V6 или V10 часть всей суммы. Так или иначе устраивались крестьянские общества, но вопрос о помещении никогда не считался затруднительным. Только под влиянием высшего начальства встречаются примеры того, что общества строят каменные дома под железо для школ. Крестьяне полагают, что школа не в строении, а в учителе и что школа не должна быть постоянным учреждением, а как скоро выучатся родители, то следующее поколение и без школы будет грамотное. Земско-министерское же ведомство везде предполагает — так как для него вся задача состоит в том, чтобы ревизовать и классифицировать, — что главное основание школы есть здание, что школа есть устройство перманентное, и потому, сколько мне известно, тратит теперь около половины денег на постройки, и пустые школы записывает в списки школ 3-го разряда. В Крапивенском земстве из 2000 рублей на постройки тратится 700 рублей. Земско-министерское ведомство не может признать того, чтобы учитель (тот учитель, образованный педагог, который предполагается для народа) мог унизиться до того, чтобы, как портной, ходить из избы в избу или учить в курной избе. Но народ ничего не предполагает, а знает только то, что на свои денежки он может нанимать кого хочет, и если хозяева-наниматели живут в курных избах, то и наемнику-учителю не пристало этим брезгать.
По второму вопросу, о распределении школьного времени, народ
Л. Н. Толстой
328
всегда и везде неизменно заявляет одно требование: это то, чтобы учение шло только зимою.
Везде одинаково родители с весны перестают посылать своих детей, и дети, остающиеся в школе, около V4 или V5 части — мелкота или дети богатых родителей, ходят неохотно. Когда народ сам нанимает учителя, он всегда нанимает его помесячно на зимние месяцы. Земско-министерское ведомство предполагает, что как в учебных заведениях заведено 2 месяца вакации, то так же должно быть и в одноклассном сельском училище. С точки зрения земско-министерской это совершенно резонно: дети не забудут учения, учитель обеспечен на весь год и ревизорам удобно летом ездить по школам; но народ этого ничего не знает, а здравый смысл его говорит ему, что зимою дети спят по 10 часов, поэтому головы их свежи, что зимою забав и работ для детей нет и если зимою учить подольше, захватывая вечера, на что нужно в зиму в Р/2 рубля лампу и на столько же керосина, то учения будет довольно. Не говоря уже о том, что летом всякий мальчик мужику нужен и что летом идет ему жизненное учение, которое важнее школьного. Народ говорит, что за год платить нам учителю не за что, лучше мы прибавим ему за зимние месяцы, ему будет лестнее. И мы скорее найдем учителя за 25 рублей в месяц на семь месяцев, чем за 12 рублей в месяц на весь год. А на лето учитель наймется в другое место.
По третьему вопросу, о распределении школ по местностям, распоряжения народа в особенности отличаются от распоряжения училищного совета. Во-первых, распределение школ, т. е. больше или меньше их распространено в известной местности, всегда (когда народ сам распоряжается) зависит от всего характера населения. Где народ больше занимается промыслом, ходит на заработки, где ближе к городам, где ему нужнее грамота, там и больше школ; где местность более глухая, земледельческая, там их меньше. Во-вторых, когда народ сам распоряжается, он распределяет школы так, чтобы каждый родитель имел возможность пользоваться школой за свои деньги, т. е. посылать в нее своих детей. Крестьяне маленьких, неотдаленных деревень, в 40—30 душ, каких наберется большая половина всего населения, предпочитают иметь дешевенького учителя у себя в деревне, чем дорогого в центре волости, куда их дети не могут ходить и ездить. От этого распределения школ самые школы, устраиваемые крестьянами, правда, отдаляются от требуемого образца школы, но зато получают самые разнообразные формы, подделывающиеся повсюду к местным условиям. Тут церковнослужитель учит из соседней деревни 8 мальчиков в своей квартире по 50 копеек в месяц. Тут маленькая деревня наняла солдата за 8 рублей в зиму, и он ходит по дворам. Здесь богатый дворник нанял к своим детям учителя за 5 рублей и харчи, и соседние крестьяне пристроились к ним, приплачивая учителю по 2 рубля за мальчика. Там большая деревня, или тесно сидящая волость собрала по 15 копеек с души и с 1200 душ наняла учителя за 180 рублей в зиму. Там священник учит, получая в вознаграждение иногда деньги, иногда по
11. Толстой
О народном образовании
329
мощь работой, иногда и то и другое. Главное различие в этом отношении взгляда крестьян от взгляда земства состоит в том, что крестьяне но местным условиям, более или менее им выгодным, устраивают лучшего или худшего качества школы, но так, что нет ни одной местности, которая бы так или иначе не могла устроить у себя учение, тогда как при земском устройстве большая половина населения остается вне всякой возможности в каком бы то ни было дальнем будущем восполь-юваться образованием. В отношении мелких деревень, составляющих везде половину населения, земско-министерское ведомство действует весьма решительно. Оно говорит: мы учреждаем школу там, где есть помещение и где крестьяне с волости собрали столько денег, чтобы держать учителя в 200 рублей. Мы добавляем от земства сколько недостает, и школа вносится в списки, а деревни, которые отдалены от школы, могут возить своих детей, если хотят. Разумеется, крестьяне не возят, потому что далеко, а платят. Так, в Ясенецкой волости все платят за 3 школы, но пользуются школами 3 деревни в 450 душ, а всех душ 3000, так что пользуется школами У7 населения, а платят все. В Чермошенской волости 900 душ и есть школа, но в школе учатся только до 30 учеников, так как все деревни волости разбросаны. На 900 душ должно быть около 400 учащихся. А между прочим, и в Ясенецкой, и в Чермошенской волости дело распределения школ уже считается удовлетворительно поконченным.
По отношению к выбору учителя народ тоже руководствуется совершенно другими взглядами, чем земство. Народ, избирая учителя, по-своему смотрит и ценит его достоинства как учителя. Если учитель побывал в околотке, и народ знает, какие были результаты его учения, он ценит его по этим результатам как хорошего или дурного учителя; но помимо учительских качеств народ смотрит на то, чтобы учитель был человек, близкий к мужику, умеющий понимать его жизнь и говорить русским языком, и потому всегда предпочтет сельского городскому учителю. Но при этом народ не имеет никаких пристрастий или антипатий к какому бы то ни было классу: дворянин, чиновник, мещанин, солдат, дьячок, священник — все равно, только бы был человек простой и русский. Поэтому крестьяне и не имеют никакого повода исключать церковнослужителей из учителей, как это делают земства. Земства выбирают учителей из чужих людей, выписывают из городов, народ же приискивает их в своей среде. Главное же различие в этом отношении между взглядом обществ и земства состоит в том, что у земства есть один тип — учитель, слушавший педагогические курсы, кончивший курс семинарии или училища, в 200 рублей. У народа, который не исключает и этого учителя и ценит его, если он хорош, есть градации всех возможных учителей. Кроме того, у большей части училищных советов есть определенные любимые типы учителей, и большей частью типы, чуждые народу и чуждые народа, и есть нелюбимые типы. Так, очевидно, любимый тип многих уездов Тульской губернии есть учительницы. Нелюбимый же тип есть церковнослужители, и во
Л. Н. Толстой
330
всем Тульском уезде и Крапивенском нет ни одной школы с учителем из духовных лиц, что в административном отношении очень замечательно. В Крапивенском уезде 50 приходов. Церковнослужители суть самые дешевые учителя, так как имеют оседлость и большей частью могут учить в своем доме с помощью жены, дочерей, и они-то, как нарочно, все обойдены, как будто они самые вредные люди.
По отношению к вознаграждению учителей отличие взгляда народа от взгляда земства уже почти все высказано в предыдущем. Оно состоит: 1) в том, что народ берет себе учителя по средствам и признает и знает по опыту, что учителя есть на все цены: от двух пудов муки в месяц до 30 рублей в месяц; 2) что учителя надо вознаграждать только за зимние месяцы, те, в которые может быть учение; 3) что народ как в устройстве помещения, так и при вознаграждении учителя всегда умеет найти дешевый путь вознаграждения: он дает муку, сено, подводы, яйца и различные мелочи, незаметные для мира, но улучшающие положение учителя; 4) главное то, что учителю платят и прибавляют — или родители учеников помесячно, или все общество, пользующееся выгодами школы, а не незаинтересованная прямо в этом деле администрация.
Земско-министерское ведомство в этом отношении и не может поступать иначе, как оно поступает. Норма жалованья для образцового учителя дана, следовательно, нужно собрать как бы то ни было эти средства. Например, предполагается обществом учредить школу, волость дает известное количество копеек с души. Земство соображает, сколько прибавить. Нет требований других школ — оно дает больше, иногда вдвое того, что дало общество; иногда, если все деньги распределены, дает меньше или вовсе отказывает. Так, в Крапивенском уезде есть общество, дающее 90 рублей, и земство к ним приплачивает 300 рублей на школу с помощником; и есть другое общество, дающее 250 рублей, а земство приплачивает 50 рублей, и третье общество, которое предлагает 56 рублей, и земство отказывает ему в прибавке и в открытии школы, так как этих денег недостаточно для нормальной школы, а деньги уже распределены. Итак, главные различия в административном отношении взгляда народа и земства следующие: 1) земство обращает большое внимание на помещение и тратит на него большие деньги; народ обходит эти затруднения домашними экономическими средствами и смотрит на школы грамотности как на преходящие, временные учреждения; 2) земско-министерское ведомство требует учения круглый год, за исключением июля и августа, и нигде не вводит вечерних классов; народ требует учения только зимою и любит вечерние классы; 3) земско-министерское ведомство имеет определенный тип учителей, ниже которого оно не признает школы, и имеет отвращение к церковникам и вообще местным грамотеям; народ никакой нормы не признает и избирает учителей преимущественно из жителей местных; 4) земско-министерское ведомство распределяет школы случайно, т. е. руководствуясь тем только, чтобы могло составиться нормальное учи-
’ Н. Толстой
О народном образовании
331
пище, и не заботится о той большей половине населения, которая при >том распределении остается вне школьного образования; народ не признает не только определенной внешней формы школы, а самыми разнообразными путями приобретает себе на всякие средства учителей, устраивает школы худшие и дешевые на маленькие средства, хорошие и дорогие на большие средства и при этом преимущественно обращает внимание на то, чтобы все местности пользовались на свои деньги учением; 5) земско-министерское ведомство определяет одну меру вознаграждения, довольно высокую, и произвольно увеличивает прибавку от земства; народ требует наивозможнейшей экономии и распределяет вознаграждение так, чтобы оно платилось прямо теми, чьи дети учатся.
Кажется, излишне распространяться о том, в какой мере ясно выражается в этих требованиях здравый смысл народа, в противоположность тому искусственному устройству, в которое при самом его нарождении уже пытаются заковать дело народного образования. Но, кроме этого, чувство справделивости невольно возмущается против такого порядка вещей. Посмотрите, что собственно делается. Народ почувствовал потребность образования и начал действовать к достижнию своей цели. Кроме всех налогов, которые он платит, он наложил сам на себя налог для образования, т. е. стал нанимать учителей. Что же мы сделали? «А, ты платишь еще, — сказали мы. — Постой же, ты глуп, груб. Давай деньги, мы тебе устроим это лучше».
Народ отдал деньги (как я говорил, во многих земствах сбор на училища прямо обратили в налог). Взяли деньги и устроили ему образование.
Я не повторяю о том, что устроено образование искусственное, но как устроили самое дело? В Крапивенском уезде 40 000 душ, считая и девочек, по последней ревизии. На 40 000 душ, по таблице Буняков-ского «распределения 10 000 православного населения по возрастам за 1862 год», мужского пола от 6 до 14 лет должно быть 1834, женского пола — 1989; итого 3823 на 10 000. По моим же наблюдениям — более этого, вероятно, от прибыли населения, так что среднее число учащегося населения смело можно положить в 4000. В школе средним числом бывает в больших центрах 60 учащихся, в малых же центрах — от 10 до 25. Для того чтобы все учились, нужны школы в большей половине населения в малых центрах по 10,15 и 20 учеников, так что норма училища, по моему мнению, не более 30 человек. Сколько же нужно училищ на 16 000? 16 000 делим на 30=530 училищ. Положим, что хотя при отрытии школ поступят все ученики от 7- до 15-летнего возраста, но что не все они будут ходить в продолжение всех 8 лет; скинем со счетов V4 часть, т. е. 130 училищ и, следовательно, 4200 учащихся. Положим, школ 400. Устроено только 20 училищ. Земство дает 2000 рублей, прибавило 1000, стало 3000. С крестьян собирается — с некоторых по 15 копеек с души, около 4000. На постройки училищ идет 700 рублей, на педагогические курсы в один год издержано 1200 рублей. Но поло
Л. 11. Толстой 332
жим, что земство будет действовать совершенно просто и разумно, не тратя на курсы и другие пустяки; положим, что со всех крестьян будет собирать по 15 копеек нового училищного налога; какая же будущность этого дела? С крестьян 6000, с земства 3000, итого 9000. Положим, что прибавится еще 10 школ. 9000 рублей только в обрез достанет на поддержание этих школ, и то только в том случае, если училищный совет будет действовать в высшей степени разумно и экономно. Следовательно, при земской администрации 30 школ на 40 000 душ есть высший предел того, до чего может достигнуть распространение школьного дела в уезде. И этого предела может достигнуть школьное дело только в том случае, если все крестьяне наложат на себя налог в 15 копеек с души, что весьма сомнительно, если распоряжение этими деньгами будет в руках не крестьян, а земства, я не говорю о возможной со стороны земства прибавке к 3000 рублей, потому что и эта прибавка в 3000 рублей частью лежит на тех же крестьянах, с другой стороны, ничем не обеспечена и составляет совершенно случайное средство. Итак, чтобы привести дело народного образования в то положение, в котором оно должно быть, т. е. чтобы на 40 000 душ было 400 училищ и чтобы школы не были игрушкой, а отвечали на действительную потребность народа, нет другого выхода, как наложить на крестьян не 15 копеек, а 3 рубля с души, с тем чтобы составилась та необходимая сумма в 300 рублей на училище. Да и тогда я не вижу причины, почему устроилось бы столько школ, сколько нужно. Разве мы не видим, что теперь, когда самое простое арифметическое вычисление показывает, что одно средство для успевания школ есть упрощение приемов, простота, дешевизна устройства школы, педагоги, как будто на пари, выдумывают, как бы потруднее, посложнее, подороже (и не могу не прибавить — похуже) придумать обучение? У гг. Бунакова и Евтушен-ского я насчитал на 300 рублей учебных пособий, по их понятию совершенно необходимых для устройства первоначальной школы. А в педагогических кружках только и речи, чтобы готовить в семинариях учителей, таких усовершенствованных, что его и за 400 рублей не наймешь в деревню. На том пути усовершенствований, на каком стоит педагогия, для меня совершенно очевидно, что если бы собрали с уезда 120 ()()() рублей, педагоги нашли бы им место и в 20 училищах, с подвинчивающимися столами, семинариями для учителей и т. п. Разве мы не видели, что в Крапивенском уезде закрыли 40 школ, и те, которые закрыли, вполне уверены, что они подвинули этим школьное дело, так как у них теперь 20 школ хороших? И замечательнее всего, что те, кто заявляет эти требования, нимало не заботятся ни о том, нужно ли это тому народу, для которого они все это готовят, ни еще менее, кто за это будет платить? Но земства так затуманены всеми этими требованиями, что не видят простого расчета и простой справедливости. Точно человек попросил бы меня купить для него в городе 2 пуда муки на месяц, а я бы на этот рубль купил ему коробочку вонючих конфет и еще упрекал бы его в невежестве за то, что он недоволен.
' И Tujcsob О народном образовании 333
Следуя своему правилу, что критика должна указывать на то, каким должно быть то, что нехорошо, постараюсь указать на то, как должно бы быть устроено школьное дело, для того чтобы оно не было игрушкой и имело будущность. Ответ — тот же, как и на первые два вопроса, — свобода. Нужно предоставить народу свободу устраивать свои школы, как он хочет, и вмешиваться в самое дело устройства школ как можно меньше. Только при таком взгляде на дело уничтожатся тотчас главные препятствия к распространению школ, которые казались непреодолимыми. Главные препятствия — недостаточность средств и невозможность увеличить их. На первое народ отвечает тем, что он употребляет всевозможные меры, чтобы школы обходились дешево; на второе народ отвечает, что средства всегда найдутся, был бы он сам хозяин, а только на заведение того, чего ему не нужно, прибавлять средств он не согласен. Существенное различие взгляда народа и взгляда земско-министерского ведомства состоит в следующем: 1) по мнению народа, нет никакой одной определенной нормы и формы школы, вне и ниже которой школа уже не признаваема, как это предполагает земско-министерское ведомство; школа может быть всякая: и самая лучшая, дорогая, и самая плохенькая, дешевая; но и в самой плохенькой можно научиться грамоте и пользоваться ею, и как на богатый приход назначают получше попа и церковь строят побогаче, так и на богатое село можно получше устроить школу, а на бедное — похуже; но как молиться можно одинаково и в богатом, и в бедном приходе, так точно и учиться; 2) народ считает для своего образования первым необходимым условием равномерное, во всем одинаковое развитие образования, хотя в самой низшей степени, а потом уже предполагает дальнейшее, опять же равномерное поднятие образования. Земско-же-министсрское ведомство как будто считает нужным дать некоторым счастливцам избранным, ’/?(> всех, образование как образчик того, как оно хорошо; 3) различие го, что земско-министерское ведомство, или нс умея, или нарочно не желая считать, подняло все школьное дело на такую высокую, дорогую, совсем чуждую народу ступень, что при той высокой цене, в которую обходится образование, не предвидится никакого выхода из этого положения и число учащихся никогда не может увеличиться; народ же, умея считать и заинтересованный в этом счете, вероятно, уже давно сделал тот расчет, про который я говорил, и ясно как день видит, что эти дорогие школы, обходящиеся рублей по 400 на каждую, хотя, может быть, и хороши, но не те, какие ему нужны, и всеми средствами старается уменьшить расходы своих школ.
Как же поступить, что же делать земствам теперь для того, чтобы дело это не было игрушкой и забавой, а имело будущность? Сообразоваться с требованиями народа и сколь возможно более удешевлять, освобождать формы школы й предоставлять обществам наибольшую власть в устройстве школ.
Для этого нужно, чтобы земства отказались совершенно от распре
Л. Н. Толстой
334
деления сборов на училища и распределения училищ по местностям, а предоставили бы это распределение самим крестьянам. Определение платы учителю, наем, покупка или постройка дома, выбор места и самого учителя — все это должно быть вполне предоставлено крестьянам. Земство, т. е. училищный совет, должно только просить общества сообщить ему о том, где и на каких основаниях устроены училища, и не с тем, чтобы, узнав, запрещать эти школы, как это делается теперь, но с тем, чтобы, узнав про условия существования училища, прибавлять (если условия эти согласны с требованиями совета) от земства в пособие основавшемуся училищу известную, раз определенную долю того, сколько училище стоит обществу: половину, треть, четверть, смотря по количеству училищ и средствам и желанию земства. Так, например, одна деревня в 20 душ нанимает прохожего на зиму за 2 рубля в месяц учить ребят. Училищный совет, т. е. доверенное от него лицо, о котором скажу после, получив о том сведение, выписывает прохожего к себе, расспрашивает его, что он знает, как учит, и, если только прохожий хоть немного грамотен и ничего зловредного не представляет, назначает ему в прибавку ту долю, которая определена земством: половину, или треть, или четверть. Точно так же училищный совет поступает и в отношении священно-церковнослужителя, нанятого обществом за 5 рублей в месяц, или учителя, нанятого за 15 рублей в месяц. Само собою разумеется, что так поступает училищный совет в отношении тех учителей, которых общества нанимают сами; но если общества обращаются к училищному совету, то он рекомендует им учителей на тех же условиях. Но при этом земство не должно забывать, что учителя не должны быть, как теперь, только в 200 рублей; училищный совет должен быть адресной конторой для учителей всякого рода и всяких цен, от 1 рубля до 30 рублей в месяц. На постройки училищный совет ничего не тратит и ничего не прибавляет, так как это один из самых непроизводительных расходов. Но земство не должно брезгать, как это делается теперь, дешевыми учителями в 2, 3,4, 5 рублей в месяц и помещениями в курных избах или переходными помещениями по дворам. Земство должно помнить, что первообраз училища, тот идеал, к которому должно стремиться, не есть каменный дом, железом крытый, с досками и партами, какие мы видим в образцовых училищах, а та самая изба, в которой мужик живет, с теми лавками и столами, на которых он обедает, и не учитель в сюртуке и учительница в шиньоне, а учитель в кафтане и рубахе или паневе и платке на голове, и не с сотней учеников, а с 5, 6 до 10. Земство не должно иметь пристрастий или антипатий к известным типам учителей, как это делается теперь. Теперь, например, в Тульском земстве есть пристрастие к типу учительниц из гимназий и духовных училищ, и большая часть училищ в Тульском уезде заведуется ими. В Крапивенском уезде есть странная антипатия к учителям из духовенства, так что на уезд, в котором до 50 приходов, нет ни одного учителя из церковнослужителей. Земство при предложении учителей должно руководствоваться двумя главными со-
i j. Толстой О народном образовании 335
обряжениями: во-первых, чтобы учитель был как можно дешевле; во-вторых, чтобы по своему воспитанию как можно ближе стоял к народу. Только благодаря противоположному взгляду на дело можно объяснить себе то, например, непонятное явление, что в Крапивенском уезде (почти то же во всей губернии и в большинстве губерний) есть 50 приходов и 20 школ, и на все 20 школ нет ни одного учителя священно-или церковнослужителя, тогда как нет прихода, в котором бы не нашлись священник или дьякон, дьячок, их дочери, жены, которые не взяли бы на себя охотно учительское занятие за вчетверо меньшую плату, чем могут взять учителя или учительницы, из города приезжающие в деревню. Но мне скажут: каковы же будут эти школы с богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками? И какой возможен контроль над такими бесформенными школами? На это отвечу, во-первых, что учителя эти: богомолки, солдаты и дьячки — совсем не так совершенно дурны, как это вообще думают. В моей школьной практике я имел дело часто с учениками этих школ, и некоторые из них знали читать бегло и писать красиво и очень скоро бросали дурные привычки, вынесенные из этих школ. Мы все знаем грамотных мужиков, выученных в таких школах, и нельзя сказать, чтобы грамота эта была бесполезна или вредна. Во-вторых, отвечу, что учителя этого разбора бывают особенно дурны потому, что они совершенно заброшены в глуши и учат без всякой помощи и наставлений, и что теперь нет ни одного человека из старых учителей, который бы не сказал вам с сожалением, что он не знает новых приемов и учился сам на медные деньги, и что весьма многие из них, в особенности церковнослужители из молодых, весьма охотно готовы учиться новым приемам. Эти учителя не должны прямо быть отвергаемы как абсолютно негодные. Между ними есть и худшие и лучшие (и я видел из них очень способных). Их нужно сравнивать, выбирать лучших, поощрять, сводить их с другими, лучшими учителями и учить их, что очень возможно и в чем именно должно состоять дело училищного совета.
Но как же контролировать их, следить за ними, учить их, если их расплодятся сотни по уезду? По моему мнению, дело земства и училищного совета должно состоять только в том, чтобы следить за педагогической стороной дела, и это весьма возможно, если будут приняты следующие меры: в каждом земстве, если оно взяло на себя обязанность распространения или содействия народному образованию, должно быть одно лицо, — будет ли то бесплатный член училищного совета, или человек на жалованье не менее 1000 рублей, нанятый земством, — одно лицо, заведующее педагогической стороной дела в уезде. Лицо это должно иметь общее свежее образование в пределах гимназического курса, т. е. основательно знать русский и отчасти славянский язык, основательно знать арифметику и алгебру и быть учителем, т. е. знать практику педагогического дела. Лицо это должно быть свежеобразованное, потому что я замечал, что очень часто сведения
Л. И. Толстой
336
человека, давно кончившего курс даже в университете, не освежавшего свое образование, бывают недостаточны не только для руководства учителей, но даже и для экзамена в сельской школе. Лицо это непременно должно быть учителем в той же самой местности, для того чтобы в требованиях своих и наставлениях оно постоянно имело в виду тот педагогический материал, с которым имеют дело другие учителя, и поддерживало'в себе то живое отношение к действительности, которое есть главное средство против заблуждений и ошибок. Если такое земство не имеет такого человека и не хочет нанять такого, то, по моим понятиям, такому земству делать решительно нечего относительно народного образования, кроме как давать деньги, потому что всякое вмешательство в административную часть дела (что делается теперь) только вредно.
Этот член земства или нанятый земством образованный человек должен иметь лучшую в уезде образцовую школу с помощником. Кроме ведения этой школы и применения в ней всех новых приемов учения главный учитель этот должен следить за остальными школами. Школа эта не должна быть образцовой в том смысле, чтобы он вводил в ней всякие кубики, и картины, и всякую глупость, которую выдумают немцы, но в том смысле, что в этой школе он над теми же самыми крестьянскими детьми, из которых состоят другие школы, делает опыты наипростейших приемов, таких, которые бы могли быть усвоены большей частью учителей — дьячков, солдат, составляющих большинство в школах. Так как при том устройстве, которое я предлагаю, несомненно, образуются в больших центрах большие достаточные школы (как я думаю, в отношении 1 к 20 всех других школ) и в этих больших школах будут учителя на степени образования кончивших курс духовных семинаристов, то главный учитель объезжает все эти большие школы, собирает к себе этих учителей по воскресеньям, указывает им недостатки, предлагает новые приемы, дает советы и книги для их собственного образования и приглашает их по воскресеньям в свою школу. Библиотека главного учителя должна состоять из нескольких экземпляров Библии, славянской и русской грамматики, арифметики и алгебры. Главный учитель, насколько у него есть времени, объезжает и мелкие школы и приглашает к себе их учителей; но обязанность следить за мелкими учителями возлагается на старших учителей, которые точно так же объезжают, каждый в своем округе, эти школы и приглашают учителей к себе в воскресенье и в будни. Земство или ила гн г учи гелям на разъезды, или при своей приплате к тому, что дают общества, выговаривает от общества подводы для разъездов, (ьезды учи гелей и посещение учителями школ равных и лучших есть одно из главных условий для успешного хода дела, и потому на организацию этих, съездов земство должно обратить особенное внимание и не жалеть расходов. Кроме того, в больших школах, где будет более 50 учеников, вместо помощников, которые теперь есть в школах, должны из учеников и учениц выбираться более способные
'I Толстой
О народном образовании
337
к учительской должности и быть помощниками по 2, по 3. Этим помощникам назначается жалованье от 50 копеек до 1 рубля в месяц, и учитель отдельно занимается с ними по вечерам, с тем чтобы они не отставали от других. Эти помощники, выбранные из лучших, должны । оставлять будущих учителей для замены низших в мелких школах. < амо собой разумеется, что организация этих съездов учителей мелких и больших школ, и объезды старшего учителя, и образование учителей из помощников — учеников — могут сложиться самыми разнообразными способами; но дело в том, что наблюдение над каким бы то ни было большим количеством школ (хотя бы оно дошло до нормы одной школы на 100 душ) таким образом возможно. При таком устройстве учителя как больших, так и малых школ будут постоянно чувствовать, что труды их оцениваются, что они не зарылись в глушь деревни осз выхода, что у них есть товарищи руководители и что как в деле обучения, так в личном своем дальнейшем образовании и улучшении своего положения у них есть пути и выходы. При таком устройстве богомолец или дьячок, который способен учиться, сам будет учиться; тот же, который не способен или не хочет учиться, будет заменен другими. Время учения должно быть, как того желают все мужики, 7 месяцев 1имы, и потому жалованье должно определяться помесячно. При таком устройстве, не говоря о быстроте и равномерности распространения образования, выгоды будут состоять в том, что школы оснуются по тем центрам, где необходимость в них чувствуется народом, где они самородно и потому прочно основываются. Там, где характер народа требует образования, там оно будет прочно. Посмотрите: в городах, между дворниками, зажиточными крестьянами, так или иначе, но дети выучатся грамоте и никогда не забудут; а в глухой местности, как мы часто видим, помещик оснует школу, дети выучатся прекрасно, но через 10 лет все забыто, и население такое же безграмотное, как и было прежде. Поэтому-то особенно дороги те центры, большие или малые, где самородно зарождаются школы. Там, где такая школа зародилась, как бы плоха она ни была, она пустит корни, и раньше или позже население будет грамотно. И поэтому надо дорожить этими ростками, а не делать, как сплошь да рядом, — не запрещать потому, что школа не по нашему вкусу, т. е. не убивать росток и не втыкать искусственно в другом месте ветку, которая не пойдет. Только при таком устройстве, без учреждения дорогих и искусственных семинарий, выбранные — лучшие из среды учеников и учениц и образованные в самих школах — составят тот контингент народных дешевых учителей, который заменят солдат дьячков и будут вполне удовлетворять всем требованиям народа и образованного сословия. Главная выгода такого устройства та, что только такое устройство даст будущность развитию народного образования, т. е. выведет нас из того тупого переулка, в который зашли земства, благодаря дорогим школам и отсутствию новых источников для увеличения их чи ела. Только когда народ сам будет избирать центры для школ, сам вы бирать учителей, определять размер вознаграждения и непосрсд
Л. Н. Толстой
338
ственно пользоваться выгодой школы, только тогда он и прибавит средств на школу, если это понадобится. Я знаю общества, которые платили по 50 копеек с души на школу в своей деревне. Но платить на школу с волости по 15 копеек уже трудно заставить крестьянина, когда не все пользуются школой. На весь уезд, на земство крестьяне не прибавят и копейки, потому что чувствуют, что не будут пользоваться выгодами за свои деньги. Только при таком устройстве очень скоро найдутся те средства для хорошего содержания и всех школ, по одной на 100 душ, которые, кажется, так невозможно найти при теперешнем устройстве. Кроме того, при том устройстве, которое я предлагаю, интересы крестьянских обществ и земства, как представителя интеллигенции местности будут неразрывно связаны. Земство дает, положим, третью часть того, что дают крестьяне. Давая эти деньги, оно, очевидно, тем или другим путем будет заботиться о том, чтобы деньги не пошли тунью, и, следовательно, следить и за теми деньгами, две трети которых даны крестьянским обществом. Земство, выдавая деньги, знает также, что общество действительно хочет школы, так как оно дало деньги. Крестьянское общество видит, что земство дает свою часть, и потому верит и признает право земства следить за ходом учения. И вместе с тем наглядно видит то различие, которое существует между школой, содержащейся на более дешевые и содержащейся на более дорогие средства, и избирает ту, какая ему нужна или возможна по его средствам.
Возьму опять известный мне Крапивенский уезд, для того чтобы показать, какое различие от существующего может дать предлагаемое устройство. Что при разрешении народу открывать школы, где и какие он хочет, явится тотчас же вновь очень много школ, для меня не может быть никакого сомнения. Я убежден, что в Крапивенском уезде, в котором находится 50 приходов, в каждом приходе всегда будет школа, так как приходы всегда центры населений и так как из всех церковнослужителей всегда найдется один, который способен учить, имеет к этому и охоту и найдет выгоду. Кроме церковнослужительских, вероятно, откроются те 40 школ, которые были закрыты (или вернее, 30, так как в числе закрытых были церковнослужительские), и вновь откроется школ весьма много, так что с существующими 20 школами не в долгом времени явится количество, не далекое от 400.
Поверят или не поверят мне в этом, я предположу, что в Крапивенском уезде при передаче этого дела в руки народа вновь открылось 380 школ, итого будет 400 школ, и постараюсь определить, возможно ли существование этих 400 школ, т. е. почти в 20 раз больше того, что есть, при тех же условиях, которые я предполагал при рассмотрении существующего порядка.
Предполагая, что все крестьяне платят по 15 копеек с души и земство дает 3000 рублей, собирается 9000 рублей, которых только достает на 30 школ при прежнем устройстве. При новом же устройстве.
Полагаю, что осталось из старых нераздельными 10 школ; пола-
.t Голстой
О народном образовании
339
» но, учителю в этих больших школах по 20 рублей в месяц, на семь 1ИМНИХ месяцев — 1400 рублей.
Полагаю, что при каждом приходе основалась школа с платой по 5 рублей в месяц, на 50 школ — 1750 рублей.
Полагаю, что остальных 340 — дешевых, по 2 рубля в месяц; по 15 рублей на школу, на 340 школ — 5100 рублей. Итого на 400 школ вый-u г жалованья 8250 рублей. На училищные пособия и разъезды * н гается 750 рублей.
Цифры жалованья учителям поставлены мною не произвольно; но юрогим учителям — дороже, чем они получают теперь помесячно круглый год. Точно так же и церковнослужителям столько, сколько в большинстве случаев берут они за обучение. Школы же дешевые, по ' рубля в месяц, положены мною гораздо дороже, чем нанимают кре-< гьяне в действительности, так что этот расчет может быть смело принят. При этом расчете составляется и то ядро старших учителей из 10 дорогих и 10 или более церковнослужителей. Очевидно, что только при этом расчете школьное дело становится на степень серьезного и возможного дела и имеет ясную и определенную будущность.
Вижу, что, желая сначала только восстановить сказанное мною в ыседании комитета грамотности, я не написал многого того, что говорил, и написал еще больше того, чтб не говорил. Но дело не в том, что я сказал именно в то-то время и в том-то месте, а в том, что я имею высказать. Я рад случаю потому, что занятия мои не позволяют мне гратить время на одну из самых праздных людских деятельностей, на полемику.
Если высказанное мною теперь не убедит никого, значцт, я не умел выразить то, что хотел, и переспоривать никого не желаю. Я знаю, что нет безнадежнее глухих, как те, которые не хотят слышать. Я знаю, как это бывает с хозяевами. Новая молотилка куплена дорого, поставлена, пустили молотить. Молотит дурно, как ни подвинчивай доску, нечисто молотит, и зерно идет в солому. Но хоть и убыток, хоть и ясный расчет бросить молотилку и молотить иначе, но деньги потрачены, молотилка налажена, «пускай молотит», говорит хозяин. То же будет и с этим делом. Я знаю, еще долго будут процветать наглядные обучения, и кубики, и пуговки вместо арифметики, и шипение, и сика-ние для обучения букв, и 20 школ немецких дорогих вместо нужных 400 дешевых народных. Но я тоже твердо знаю, что здравый смысл русского народа не позволит ему принять эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения.
Народ, главное заинтересованное лицо и судья, и ухом не ведет теперь, слушая наши более или менее остроумные предположения о том, какими манерами лучше приготовить для него духовное кушанье образования; ему все равно, потому что он твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, и как к стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его.
Л. Н. Толстой
34(
Правила для педагогических курсов, учрежденных графом Л. Н. Толстым в сельце Ясной Поляне Крапивенского уезда Тульской губернии для приготовления народных учителей
1875
Глава I. Общие положения
1. Педагогические курсы для приготовления народных учителей учреждаются графом Л. Н. Толстым в сельце Ясной Поляне Тульской губернии Крапивенского уезда.
2. Цель педагогических курсов — доставить педагогическое образование молодым людям всех сословий, преимущественно крестьянского, православного исповедования, желающим посвятить себя учительской деятельности в народных школах (Тульской губернии).
3. Для практических упражнений воспитанников педагогических курсов в преподавании при означенных курсах существует народное училище.
4. Педагогические курсы (и народное училище) содержатся на иждивении графа Л. Н. Толстого и суть заведения открытая.
5. (В педагогических курсах состоит... человек учащихся.) Количество учащихся не может быть определено в точности, но предполагается не менее 50.
6. Педагогические курсы состоят из (трех) двух классов; курс учения в них (трех) двухгодичный, по одному году в каждом классе. (Впрочем) для (некоторых) более же способных воспитанников он может быть сокращен по усмотрению учредителя курсов; (но воспитанникам, оказавшимся через три года учения не вполне приготовленными для самостоятельной учительской деятельности, дозволяется оставаться в заведении еще один год).
7. Педагогические курсы непосредственно подчиняются попечителю Московского учебного округа.
Глава II. Состав педагогических курсов для приготовления народных учителей
9. Педагогические курсы и народное при них училище состоят под непосредственным управлением графа Л. Н. Толстого.
10. (Граф Л. II. Толстой имеет бдительный надзор за воспитанниками в нраве гвепном отношении не только в стенах заведения, но и вне их, по мерс возможности.)
11. В конце года граф Л. Н. Толстой представляет Попечителю учебного округа отчет о состоянии своего заведения.
12. При педагогических курсах состоят: один законоучитель, учителя остальных предметов — числом по усмотрению учредителя курсов и учитель народного училища.
И То ктой
Правила для педагогических курсов...
341
13. Учителя избираются и назначаются графом Л. Н. Толстым. Законоучитель — по предварительному соглашению с епархиальным начальством, из лиц духовного звания, имеющих на то право по воспитанию; остальные учителя из лиц, по своему образованию удовлетворяющих требованиям от преподавателей педагогических курсов.
14. Преподаватели обязаны: а) с целью чисто педагогической, насколько им позволяет время, присутствовать на уроках один другого; б) кроме преподавания своих предметов руководить воспитанников в их практических занятиях в народном училище и помогать им в учебных занятиях вне классов; в) содействовать графу Л. Н. Толстому в нравственном надзоре за воспитанниками и вне стен заведения.
15. В случае болезни или отсутствия одного из преподавателей исполнение его обязанностей по распоряжению учредителя принимают на себя, насколько это возможно, прочие наличные преподаватели.
16. В случае болезни или отсутствия графа Л. Н. Толстого один из преподавателей по его назначению заступает его место.
17. По мере надобности граф Л. Н. Толстой собирает учащихся для совещания по разным делам, касающимся до заведения. Таковы: а) прием желающих поступить в педагогические курсы и снабжение их по окончании курса учения свидетельствами об этом; б) определение наград и наказаний; в) увольнение из заведения воспитанников неблагонадежных, особенно в нравственном отношении; г) устройство учебной части педагогических курсов и народного при них училища; утверждение программ и способов преподавания; выбор учебников и руководств из числа одобренных м-вом нар. просвещения и духовным ведомством; распределение учебных предметов и уроков между учащими; д) назначение к выписке книг для учеников и для фундаментальной библиотеки и е) изыкание всех мер вообще, которые могут служить к благоустройству и успехам заведения в учебно-воспитательном, административном и хозяйственном отношении.
18. В педагогические курсы принимаются молодые люди не моложе 16 лет.
19. Общий прием в педагогические курсы бывает один раз в год, перед началом учебного курса; но частные приемы, по усмотрению учредителя, могут быть и в течение года с тем, чтобы желающие поступить в педагогические курсы по своим познаниям и развитию подходили под уровень того класса, в который они желают поступить.
20. Желающие поступить на педагогические курсы должны лично явиться к графу Л. Н. Толстому и представить ему кроме метрического свидетельства о рождении и крещении: А. Лица податного состояния: 1) паспорт или вид на жительство и согласие общества и 2) свидетельство от своего приходского священника или от лица, известного графу, о добром поведении, если проситель лично известен учредителю курсов, или училищное свидетельство о своих познаниях и добром поведении, если проситель обучался в народном училище. Б. Лица же других сословий: свидетельство о своих познаниях и о добром поведении от
Л. HL Толстой
342
тех заведений, где воспитывались, или от лиц, известных учредителю курсов, если лично ему неизвестны.
21. Все, желающие поступить в первый класс педагогических курсов, подвергаются испытанию по тем предметам, которые составляют курс народных училищ, причем обращается преимущественно внимание не на механическую бойкость ответов, но на понимание и способность соображений.
Примечание. Курс народных училищ определен программами, приложенными к правилам для выдачи свидетельств о знании курса начальных училищ лицом, желающим при отбывании воинской повинности воспользоваться льготой, определенной п. 4 ст. 56 Устава о воинской повинности.
22. Воспитанники педагогических курсов освобождаются на все время пребывания своего в заведении от лежащих на них повинностей, в том числе и военной.
23. Образ жизни воспитанников педагогических курсов определяется учредителем сих курсов.
24. Воспитанники, окончившие курс в заведении графа Л. Н. Толстого, не получают свидетельства от заведения на звание народного учителя, но приобретают это звание узаконенным порядком.
Впрочем, они могут быть допускаемы инспекторами народных училищ к учительским знаниям в сих училищах, если инспекторы найдут их к тому способными.
Глава III. Учебно-воспитательная часть
25. Педагогические курсы состоят из З'классов: младшего, (среднего) и старшего, с годовым курсом в каждом.
26. (Курс младшего и среднего классов теоретический.) Воспитанники (на нем только учатся; курс старшего класса теоретико-практический; воспитанники этого класса) не только учатся сами, но и постепенно под руководством своих учителей упражняются в преподавании в состоящем при курсах народном училище.
27. Учение на педагогических курсах начинается с 15 сентября и продолжается до 1 мая. В воскресенье, праздничные и табельные дни воспитанники свободны от уроков. Учения не бывает во время рождества Христова с 24 декабря по 7 января, с пятницы масляной до понедельника 1-й недели великого поста и с субботы вербной до понедельника Фоминой недели. На страстной неделе воспитанники говеют.
28. На рождественские святки, страстную и светлую недели и на летние каникулы с 1 мая по 15 сентября воспитанники могут быть увольняемы к родителям и родственникам.
29. Предметы преподавания на педагогических курсах определены в плане этих курсов, представленном г. попечителю.
30. Практические занятия учеников (старшего класса) в народном училище совпадают по времени с их теоретическими занятиями на пе
Н. ]ОЛСТОЙ
Правила для педагогических курсов...
343
дагогических курсах; поэтому в первых воспитанники обыкновенно принимают участие только поочередно, небольшими партиями, от 2 до 4 человек, за исключением двух часов в неделю, когда они все обязаны участвовать в этих занятиях.
31. В народном училище, состоящем при педагогических курсах, преподают те же предметы, как в каждом народном училище, т. е. закон божий, чтение и письмо по-русски, славянское чтение, арифметику и пение.
32. Для каждого класса педагогических курсов назначается в неделю по 30 часовых уроков; в том числе 2 часа в младшем и по 3 часа в старшем назначаются на собственно практические занятия учеников (старшего класса) в народном училище, под руководством или самого учредителя курсов или одного из учителей по его указанию. (Ученики народного училища занимаются 20 часов в неделю.)
33. Число уроков по каждому предмету показано в нижеследующей таблице. Изменения в ней делаются графом Л. Н. Толстым под условием общего согласия на то учащих. Сокращение же или увеличение числа недельных уроков делается только по разрешению г. попечителя учебного округа.
34. Кроме показанных в таблице уроков для воспитанников педагогических курсов могут быть назначаемы общее чтение и беседы по предметам их курса. (Таблица числа недельных уроков на педагогических курсах и народном при них училище).
Предметы На педагогических курсах В народном училище
Младший класс Средний класс Старший класс
Закон божий 4 » 3 —
Арифметика 6 » 3 —
Русский язык 6 » 6 — .
География — » 2 —
История — » 2
Геометрия линейная 2 » 2
Черчение землемер — » 2
Пение 2 » 6
Алгебра — » 6
Практические занятия 2 » 2
Чистописание 6 » —
30 32
Л. Н. Толстой
344
О жизни
Вступление
Представим себе человека, которого единственным средством к жизнй была бы мельница. Человек этот — сын и внук мельника и по преданию твердо знает, как надо во всех частях ее обращаться с мельницей, чтобы она хорошо молола. Человек этот, не зная механики, прилаживал, как умел, все части мельницы так, чтобы размол был спорый, хороший, и человек жил и кормился.
Но случилось этому человеку раздуматься над устройством мельницы, услыхать кое-какие неясные толки о механике, и он стал наблюдать, чтб от чего вертится.
И от порхлицы до жернова, от жернова до вала, от вала до колеса, от колеса до заставок, плотины и воды дошел до того, что ясно понял, что все дело в плотине и в реке. И человек так обрадовался этому открытию, что, вместо того чтобы, по-прежнему сличая качество выходящей муки, опускать и поднимать жернова, ковать их, натягивать и ослаблять ремень, стал изучать реку. И мельница его совсем разладилась. Стали мельнику говорить, что он не то делает. Он спорил и продолжал рассуждать о реке. И так много и долго работал над этим, так горячо и много спорил с теми, которые показывали ему неправильности его приема мысли, что под конец и сам убедился в том, что река и есть самая мельница.
На все доказательства неправильности его рассуждений такой мельник будет отвечать: никакая мельница не мелет без воды; следовательно, чтобы знать мельницу, надо знать, как пускать воду, надо знать силу ее движения и откуда она берется, следовательно, чтобы знать мельницу, надо познать реку.
Логически мельник неопровержим в своем рассуждении. Единственное средство вывести его из его заблуждения состоит в том, чтобы показать ему, что в каждом рассуждении не столько важно само рассуждение, сколько занимаемое рассуждением место, т. е. что, для того чтобы плодотворно мыслить, необходимо знать, о чем прежде надо мыслить и о чем после; показать ему, что разумная деятельность отличается от безумной только тем, что разумная деятельность распределяет свои рассуждения по порядку их важности: какое рассуждение должно быть 1-м, 2-м, 3-м, 10-м и т. д. Безумная же деятельность состоит в рассуждениях без этого порядка. Нужно показать ему и то, что определение jтого порядка не случайно, а зависит от той цели, для которой и прозводятся рассуждения.
Цель всех рассуждений и устанавливает порядок, в котором должны располагаться отдельные рассуждения, для того чтобы быть разумными.
И рассуждение, не связанное с общей целью всех рассуждений, безумно, как бы оно ни было логично.
Цель мельника в том, чтобы у него был хороший размол, и эта-то
I IL Толстой
О жизни
345
цель, если он не будет упускать ее из вида, определит для него несомненный порядок и последовательность его рассуждений о жерновах, о колесе, плотине и о реке.
Без этого же отношения к цели рассуждений, рассуждения мельника, как бы они ни были красивы и логичны, сами в себе будут неправильны и, главное, праздны; будут подобны рассуждениям Кифы Мо-кеевича, рассуждавшего о том, какой толщины должна бы быть скорлупа слонового яйца, если бы слоны выводились из яиц как птицы. И таковы, по моему мнению, рассуждения нашей современной науки о жизни.
Жизнь есть та мельница, которую хочет исследовать человек. Мельница нужна для того, чтобы она хорошо молола, жизнь нужна только затем, чтобы она была хорошая. И эту цель исследования человек не может покидать ни на одно мгновение безнаказанно. Если он покинет ее, то его рассуждения неизбежно потеряют свое место и сделаются подобны рассуждениям Кифы Мокеевича о том, какой нужен порох, чтобы пробить скорлупу слоновых яиц.
Исследует человек жизнь только для того, чтобы она была лучше. Так и исследовали жизнь люди, подвигающие вперед человечество на пути знания. Но рядом с этими истинными учителями и благодетелями человечества всегда были и теперь есть рассудители, покидающие цель рассуждения и вместо нее разбирающие вопрос о том, отчего происходит жизнь, отчего вертится мельница. Одни утверждают, что от воды; другие, что от устройства. Спор разгорается, и предмет рассуждения отодвигается все дальше и дальше и совершенно заменяется чуждыми предметами.
Есть старинная шутка о споре жидовина с христианином. Рассказывается, как христианин, отвечая на запутанные тонкости жидовина, ударил его ладонью по плеши так, что щелкануло, и задал вопрос: от чего щелкануло — от ладони или от плеши? И спор о вере заменился новым неразрешимым вопросом.
Что-то подобное с древнейших времен рядом с истинным знанием людей происходит и по отношению к вопросу о жизни.
С древнейших времен известны рассуждения о том, отчего происходит жизнь — от невещественного начала или от различных комбинаций материи. И рассуждения эти продолжаются до сих пор, так что не предвидится им никакого конца, именно потому, что цель всех рассуждений оставлена и рассуждается о жизни независимо от ее цели и под словом жизнь разумеют уж не жизнь, а то, отчего она происходит, или то, что ей сопутствует...
...Слово «жизнь» очень коротко и очень ясно, и всякий понимает, что оно значит. Но именно потому, что все понимают, чтб оно значит, мы и обязаны употреблять его всегда в этом понятном всем значении. Ведь слово это понятно всем не потому, что оно очень точно определено другими словами и понятиями, а, напротив, потому, что слово это означает основное понятие, из которого выводятся многие, если не все
Л. Н. Толстой
346
другие понятия, и поэтому, для того чтобы делать выводы из этого понятия, мы обязаны прежде всего принимать это понятие в его центральном, бесспорном для всех значении. А это-то самое, мне кажется, и было упущено спорящими сторонами по отношению к понятию жизни. Случилось то, что основное понятие жизни, взятое вначале не в его центральном значении, вследствие споров о нем все более и более удаляясь от основного, всеми признаваемого центрального значения потеряло наконец свой основной смысл и получило другое, не соответствующее ему значение. Сделалось то, что самый центр, из которого описывали фигуры, оставлен и перенесен в новую точку.
Спорят о том, есть ли жизнь в клеточке или в протоплазме или еще ниже, в неорганической материи. Но прежде чем спорить, надо спросить себя: имеем ли мы право приписывать понятие жизни клеточке?
Какими бы исследованиями и наблюдениями ни занимался человек, для выражения своих наблюдений он обязан под каждым словом разуметь то, что всеми одинаково бесспорно разумеется, а не какое-либо такое понятие, которое ему нужно, но никак не сходится с основным, всем известным понятием. Если можно слово «жизнь» употреблять так, что оно обозначает безразлично: и свойство всего предмета, и совсем другие свойства всех составных частей его, как это делается с клеточкой и животным, состоящим из клеточек, то можно также употреблять и другие слова, можно, например, говорить, что так как все мысли из слов, а слова из букв, а буквы из черточек, то рисование черточек есть то же, что изложение мыслей, и потому черточки можно назвать мыслями.
Самое обычное явление, например, в научном мире — слышать и читать рассуждения о происхождении жизни из игры физических, механических сил.
Да едва ли не большинство научных людей держится этого... за-труднюясь, как сказать... мнения не мнения, парадокса не парадокса, а скорее шутки или загадки.
Утверждается, что жизнь происходит от игры физических и механических сил, тех физических сил, которые мы назвали физическими и механическими только в противоположность понятию жизни.
Очевидно, что неправильно прилагаемое к чуждым ему понятиям слово «жизнь», уклоняясь далее и далее от своего основного значения, в этом значении удалилось от своего центра до того, что жизнь предполагается уже гам, где, по нашему понятию, жизни и быть не может. Утверждается подобное тому, что есть такой круг или шар, в котором центр вне его периферии.
В самом деле, жизнь, которую я не могу себе представить иначе, как стремлением от зла к благу, происходит в той области, где я не могу видеть ни блага, ни зла. Очевидно, что центр понятия жизни переставлен совсем. Мало того, следя за исследованиями об этом чем-то, называемом жизнью, я вижу даже, что исследования эти и не касаются почти никаких известных мне понятий. Я вижу целый ряд новых поня
I IL Толстой
О жизни
347
тий и слов, имеющих свое условное значение в научном языке, но не имеющих ничего общего с существующими понятиями.
Известное мне понятие жизни понимается не так, как все понимают его, и выводные из него понятия тоже не сходятся с обычными понятиями, а являются новые, условные понятия, получающие соответствующие выдуманные названия.
Человеческий язык вытесняется все более и более из научных исследований, и вместо слова, средства выражения существующих предметов и понятий, воцаряется научный воляпюк, отличающийся от настоящего воляпюка только тем, что настоящий воляпюк общими словами называет существующие предметы и понятия, а научный — несуществующими словами называет несуществующие понятия.
Единственное средство умственного общения людей есть слово, и, для того чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. Если же можно употреблять слова как попало и под словами разуметь, что нам вздумается, то лучше уж не говорить, а показывать все знаками.
Я согласен, что определять законы мира из одних выводов разума без опыта и наблюдения есть путь ложный и ненаучный, т. е. не могущий дать истинного знания; но если изучать явления мира опытом и наблюдениями и вместе с тем руководствоваться в этих опытах и наблюдениях понятиями не основными, общими всем, а условными и описывать результаты этих опытов словами, которым можно приписывать различное значение, то не будет ли еще хуже? Самая лучшая аптека принесет величайший вред, если ярлыки на банках будут наклеиваться не по содержанию, а как удобнее аптекарю.
Но мне скажут: наука и не ставит себе задачей исследования всей совокупности жизни (включая в нее волю, желание блага и душевный мир); она только делает отвлечение от понятия жизни тех явлений, которые подлежат ее опытным исследованиям.
Вот это было бы прекрасно и законно. Но мы знаем, что это совсем не так в представлении людей науки нашего времени. Если бы было прежде всего признано понятие жизни в его центральном значении, в том, в котором все его понимают, и потом было бы ясно определено, что наука, сделав от этого понятия отвлечение всех сторон его, кроме одной, подлежащей внешнему наблюдению, рассматривает явления с одной этой стороны, для которой она имеет свойственные ей методы исследования, тогда бы было прекрасно и было бы совсем другое дело: тогда и место, которое заняла бы наука, и результаты, к которым бы мы приходили на основании науки, были бы совсем другие. Надо говорить то, что есть, а не скрывать того, что мы все знаем. Разве мы не знаем, что большинство опытно-научных исследователей жизни вполне уверены, что они изучают не одну только сторону жизни, а всю жизнь.
Астрономия, механика, физика, химия и все другие науки вместе и
JI. Н. Толстой
348
каждая порознь разрабатывают каждая подлежащую ей сторону жизни, не приходя ни к каким результатам о жизни вообще. Только во времена своей дикости, т. е. неясности, неопределенности, некоторые науки эти пытались со своей точки зрения охватить все явления жизни и путались, сами выдумывая новые понятия и слова. Так это было с астрономией, когда она была астрологией, так было и с химией, когда она была алхимией. То же происходит и теперь с той опытной эволюционной наукой, которая, рассматривая одну сторону или некоторые стороны жизни, заявляет притязания на изучение всей жизни.
Люди с таким ложным взглядом на свою науку никак не хотят признать того, что их исследованиям подлежат только некоторые стороны жизни, йо утверждают, что вся жизнь со всеми ее явлениями будет исследована ими путем внешнего опыта. «Если, — говорят они, — психика (они любят это неопределенное слово своего воляпюка) неизвестна еще нам, то она будет нам известна». Исследуя одну или несколько сторон жизненных явлений, мы узнаем все стороны, т. е., другими словами, что если очень долго и усердно смотреть на предмет с одной стороны, то мы увидим предмет со всех сторон и даже из середины.
Как ни удивительно такое странное учение, объяснимое только фанатизмом суеверия, оно существует и, как всякое дикое фанатическое учение, производит свое гибельное влияние, направляя деятельность человеческой мысли на путь ложный и праздный. Гибнут добросовестные труженики, посвящающие свою жизнь на изучение почти ненужного, гибнут материальные силы людей, направляясь туда, куда не нужно, гибнут молодые поколения, направляемые на самую праздную деятельность Киф Мокеевичей, возведенную на степень высшего служения человечеству.
Говорят обыкновенно: наука изучает жизнь со всех сторон. Да в том-то и дело, что у всякого предмета столько же сторон, сколько радиусов в шаре, т. е. без числа, и что нельзя изучать со всех сторон, а надо знать, с какой стороны важнее, нужнее и с которой менее важно и менее нужно. Как нельзя подойти к предмету сразу со всех сторон, так нельзя сразу и со всех сторон изучать явления жизни. И волей-неволей устанавливается последовательность. Вот в ней-то и все дело. Последовательность же эта дается только разумением жизни.
Только правильное разумение жизни дает должное значение и направление науке вообще и каждой науке в особенности, распределяя их по важности их значения относительно жизни. Если же разумение жизни не таково, каким оно вложено во всех нас, то и самая наука будет ложная.
Не то, что мы назовем наукой, определит жизнь, а наше понятие о жизни определи г то, что следует признать наукой. И потому, для того чтобы наука была наукой, должен быть прежде решен вопрос о том, что есть наука и что не наука, а для этого должно быть уяснено понятие о жизни.
L H Толстой
О жизни
349
Скажу откровенно всю свою мысль: мы все знаем основной догмат веры этой ложной опытной науки.
Существует материя и ее энергия. Энергия движет, движение механическое переходит в молекулярное, выражается теплом, электричеством, нервной, мозговой деятельностью. И все, без исключения, явления жизни объясняются отношениями энергий. Все так красиво, просто, ясно и, главное, удобно. Так что, если нет всего того, чего нам так хочется и что так упрощает нашу жизнь, то все это надо как-нибудь выдумать.
И вот вся моя дерзкая мысль: главная доля энергии, страстности деятельности опытной науки зиждется на желании выдумать все то, что нужно для подтверждения столь удобного представления.
Во всей деятельности этой науки видишь не столько желание исследовать явления жизни, сколько одну, всегда присущую заботу доказать справедливость своего основного догмата. Что потрачено сил на попытки объяснений происхождения органического из неорганического и психической деятельности из процессов организма? Не переходит органическое в неорганическое; поищем на дне моря — найдем штуку, которую назовем ядром, монерой.
И там нет; будем верить, что найдется, тем более что к нашим услугам целая бесконечность веков, куда мы можем спихивать все, что должно бы быть по нашей вере, но чего нет в действительности.
То же и с переходом из органической деятельности в психическую. Нет еще? Но мы верим, что будет, и все усилия ума употребляем на то, чтобы доказать хоть возможность этого.
Споры о том, что не касается жизни, именно о том, отчего происходит жизнь: анимизм ли это, витализм ли, или понятие еще особой какой силы, скрыли от людей главный вопрос жизни — тот вопрос, без которого понятие жизни теряет свой смысл, и привели понемногу людей науки — тех, которые должны вести других, — в положение человека, который идет и даже очень торопится, но забыл, куда именно.
Но, может быть, я и умышленно стараюсь не видеть тех огромных результатов, которые дает наука в теперешнем ее направлении? Но ведь никакие результаты не могут исправить ложного направления. Допустим невозможное — то, что всё, что желает познать теперешняя наука о жизни, о чем утверждает (хотя и сама не веря в это), что все это будет открыто: допустим, что все открыто, все ясно как день. Ясно, как из неорганической материи зарождается через приспособление органическое; ясно, как физические энергии переходят в чувства, волю, мысль, и все это известно не только гимназистам, но и деревенским школьникам.
Мне известно, что такие-то мысли и чувства происходят от таких-то движений. Ну, и что ж? Могу ли я или не могу руководить этими движениями, чтобы возбуждать в себе такие или другие мысли? Вопрос о том, какие мне надо возбуждать в себе и других мысли и чувства, остается не только нерешенным, но даже незатронутым.
Л. Н. Голстон
350
Знаю я, что люди науки не затрудняются отвечать на этот вопрос. Решение этого вопроса им кажется очень просто, как просто всегда кажется решение трудного вопроса тому человеку, который не понимает его. Решение вопроса о том, как устроить жизнь, когда она в нашей власти, для людей науки кажется очень просто. Они говорят: устроить так, чтобы люди могли удовлетворять своим потребностям; наука выработает средства, во-первых, для того, чтобы правильно распределять удовлетворение потребностей, а во-вторых, средства производить так много и легко, что все потребности легко будут удовлетворены, и люди тогда будут счастливы.
Если же спросишь, что называется потребностью и где пределы потребностей, то на это также просто отвечают: наука — на то наука, чтобы распределить потребности на физические, умственные, эстетические, даже нравственные и ясно определить, какие потребности и в какой мере законны и какие и в какой мере незаконны.
Она со временем определит это. Если же спросить, чем руководствоваться в определении незаконности потребностей, то на это смело отвечают: изучением потребностей. Но слово потребность имеет только два значения: или условие существования, а условий существования каждого предмета бесчисленное количество, и потому все условия не могут быть изучены, или требование блага живым существом,, познаваемое и определяемое только сознанием и потому еще менее могущее быть изученным опытной наукой.
Есть такое учреждение, корпорация, собрание, что ли, людей или умов, которое непогрешимо и называется наука. Оно все это определит со временем.
Разве не очевидно, что такое решение вопроса есть только перефразированное царство мессии, в котором роль мессии играет наука, а что для того, чтобы объяснение такое объясняло что-нибудь, необходимо верить в догматы науки так же бесконтрольно, как верят евреи в мессию, что и делают правоверные науки, с тою только разницей, что правоверному еврею, представляющему себе в мессии посланника божия. можно верить в то, что он все своей властью устроит отлично; для прав верного же науки по существу дела нельзя верить в то, чтобы посредством внешнего изучения потребностей можно было решить главный и единственный вопрос о жизни.
I iaiia I
Основное противоречие человеческой жизни
Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага. Не чувствует человек желания себе блага — он и не чувствует себя живущим. Человек не может себе представить жизни без желания себе блага. Жить для каждого человека все равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага — все равно, что жить.
Н. 1ОЛСТОЙ
О жизни
351
Жизнь чувствует человек только в себе, в своей личности, и потому сначала человеку представляется, что благо, которого он желает, есть олаго только его личности. Ему сначала кажется, что живет, истинно живет только он один. Жизнь других существ представляется ему совсем не такой, как своя, — она представляется ему только подобием жизни; жизнь других существ человек только наблюдает и только из наблюдений узнает, что они живут. Про жизнь других существ человек знает, когда хочет думать о них, но про себя он знает, ни на секунду не может перестать знать, что он живет, и потому настоящей жизнью представляется каждому человеку только своя жизнь. Жизнь других существ, окружающих его, представляется ему только одним из условий его существования. Если он не желает зла другим, то только потому, что вид страдания других нарушает его благо. Если он желает добра другим, то совсем не так, как себе, — не для того, чтобы было хорошо тому, кому он желает добра, а только для того, чтобы благо других существ увеличивало благо его жизни. Важно и нужно человеку только благо в той жизни, которую он чувствует своей, т. е. свое благо.
И вот, стремясь к достижению этого своего блага, человек замечает, что благо это зависит от других существ. И, наблюдая и рассматривая эти другие существа, человек видит, что все они, и люди, и даже животные, имеют точно такое же представление о жизни, как и он. Каждое из этих существ точно так же, как и он, чувствует только свою жизнь и свое благо, считает только свою жизнь важной и настоящей, а жизнь всех других существ только средством для своего блага. Человек видит, что каждое из живых существ точно так же, как и он, должно быть готово для своего маленького блага лишить большего блага и даже жизни все другие существа, а в том числе и его, так рассуждающего человека. И, поняв это, человек невольно делает то соображение, что если это так, — а он знает, что это несомненно так, — то не одно и не десяток существ, а все бесчисленные существа мира, для достижения каждое своей цели, всякую минуту готовы уничтожить его самого — того, для которого одного и существует жизнь. И, поняв это, человек видит, что его личное благо, в котором одном он понимает жизнь, не только не может быть легко прйобретено им, но, наверное, будет отнято от него.
Чем дальше человек живет, тем больше рассуждение это подтверждается опытом, и человек видит, что жизнь мира, в которой он участвует, составленная из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую, не только не может быть для него благом, но будет, наверное, великим злом.
Но мало того: если даже человек и поставлен в такие выгодные условия, что он может успешно бороться с другими личностями, не боясь за свою, очень скоро и разум и опыт показывают ему, что даже те подобия блага, которые он урывает из жизни в виде наслаждений личности, не блага, а как будто только образчики блага, данные ему
Л. Н. Толстой
352
только для того, чтобы он еще живее чувствовал страдания, всегда связанные с наслаждениями. Чем дольше живет человек, тем яснее он видит, что наслаждений все становится меньше и меньше, а скуки, пресыщения, трудов, страданий все больше и больше. Но мало и этого: начиная испытывать ослабление сил и болезни и глядя на болезни и старость, смерть других людей, он замечает еще и то, что и самое его существование, в котором одном он чувствует настоящую, полную жизнь, каждым часом, каждым движением приближается к ослаблению, старости, смерти; что жизнь его, кроме того, что она подвержена тысячам случайностей уничтожения от других борющихся с ним существ и все увеличивающимся страданиям, по самому свойству своему есть только неперестающее приближение к смерти, к тому состоянию, в котором вместе с жизнью личности наверное уничтожится всякая возможность какого бы то ни было блага личности. Человек видит, что он, его личность — то, в чем одном он чувствует жизнь, только и делает, что борется с тем, с чем нельзя бороться, — со всем миром; что он ищет наслаждений, которые дают только подобия блага и всегда кончаются страданиями, и хочет удержать жизнь, которую нельзя удержать. Человек видит, что он сам, сама его личность — то, для чего одного он желает блага и жизни, — не может иметь ни блага, ни жизни. А то, чтб он желает иметь: благо и жизнь, имеют только те чуждые ему существа, которых он не чувствует и не может чувствовать и про существование которых он знать и не может и не хочет.
То, что для него важнее всего и что одно нужно ему, что —ему кажется, — одно живет по-настоящему, его личность, то гибнет, то будет кости, черви — не он; а то, что для него не нужно, не важно, что он не чувствует живущим, весь этот мир борющихся и сменяющихся существ, то и есть настоящая жизнь, то останется и будет жить вечно. Так что та единственно чувствуемая человеком жизнь, для которой происходит вся его деятельность, оказывается чем-то обманчивым и невозможным, а жизнь вне его, нелюбимая, не чувствуемая им, неизвестная ему, и есть единая настоящая жизнь.
То, чего он не чувствует, то только и имеет те свойства, которые он один желал бы иметь. И это не то — что так представляется человеку в дурные минуты его унылого настроения — это не представление, которое можно не иметь, а это, напротив, такая очевидная, несомненная истина, что если мысль эта сама хоть раз придет человеку или другие хоть раз растолкуют ему се, то он никогда уж не отделается от нее, ничем не выжжет ее из своего сознания.
1 И. Толстой
О жизни
353
Глава II
Противоречие жизни сознцно человечеством с древнейших времен. Просветители человечества открывали людям определения жизни, разрешающие это внутреннее противоречие, но фарисеи и книжники скрывают их от людей
Единственная представлющаяся сначала человеку цель жизни есть благо его личности, но блага для личности не может быть; если бы и было в жизни нечто, похожее на благо, то жизнь, в которой одной возможно благо, жизнь личности, каждым движением, каждым дыханием неудержимо влечется к страданиям, к злу, к смерти, к уничтожению.
И это так очевидно и так ясно, что всякий мыслящий человек, и молодой и старый, и образованный и необразованный, всякий видит это. Рассуждение это так просто и естественно, что оно представляется всякому человеку разумному и с древнейших времен было известно человечеству.
«Жизнь человека, как личности, стремящейся только к своему благу, среди бесконечного числа таких же личностей, уничтожающих друг друга и самих уничтожающихся, есть зло и бессмыслица, и жизнь истинная не может быть такою».
С древнейших времен сказал себе это человек, и это внутреннее противоречие жизни человека с необычайной силой и ясностью было выражено и индийскими, и китайскими, и египетскими, и греческими, и еврейскими мудрецами, и с древнейших времен разум человека был направлен на познание такого блага человека, которое не уничтожалось бы борьбой существ между собою, страданиями и смертью. В большем и большем уяснении этого несомненного, ненарушимого борьбой, страданиями и смертью блага человека и состоит все движение вперед человечества с тех пор, как мы знаем его жизнь.
С самых древних времен и в самых различных народах великие учителя человечества открывали людям все более и более ясные определения жизни, разрешающие ее внутреннее противоречие, и указывали им истинное благо и истинную жизнь, свойственные людям. А так как положение в мире всех людей одинаково и потому одинаково для всякого человека противоречие его стремления к своему личному благу и сознания невозможности его, то одинаковы, по существу, и все определения истинного блага и потому истинной жизни, открытые людям величайшими умами человечества.
«Жизнь — это распространение того света, который для блага людей сошел в них с неба», — сказал Конфуций за 600 лет до Р. X.
«Жизнь — это странствование и совершенствование душ, достигающих все большего и большего блага», — сказали брамины того же времени. «Жизнь — это отречение от себя для достижения блаженной нирваны», — сказал Будда, современник Конфуция. «Жизнь — это
Л. Н. Толстой
354
путь смирения и унижения для достижения блага», — сказал Лаодзы, тоже современник Конфуция. «Жизнь — это то, что вдунул бог в ноздри человека, для того, чтобы он, исполняя его закон, получил благо», — говорит еврейская мудрость. «Жизнь — это подчинение разуму, дающее благо человеку, — сказали стоики. «Жизнь — это любовь к богу и ближнему, дающая благо человеку», — сказал Христос, включая в свое определение все предшествующие.
Таковы определения жизни, которые за тысячи лет до нас, указывая людям вместо ложного и невозможного блага личности действительное, неуничтожимое благо, разрешают противоречие человеческой жизни и дают ей разумный смысл. Можно не соглашаться с этими определениями жизни, можно предполагать, что определения эти могут быть выражены точнее и яснее, но нельзя не видеть того, что определения эти таковы, что признание их, уничтожая противоречие жизни и заменяя стремление к недостижимому благу личности другим стремлением — к неуничтожаемому страданиями и смертью благу, дает жизни разумный смысл. Нельзя не видеть и того, что определения эти, будучи теоретически верны, подтверждаются и опытом жизни и что миллионы людей, признававшие и признающие такие определения жизни, на деле показывали и показывают возможность замены стремления к благу личности другим стремлением к благу такому, которое не нарушается страданиями и смертью.
Но кроме тех людей, которые понимали и понимают определения жизни, открытые людям великими просветителями человечества, и живут ими, всегда было и есть огромное большинство людей, которые в известный период жизни, а иногда во всю свою жизнь жили и живут одной животной жизнью, не только не понимая тех определений, которые служат разрешением противоречия человеческой жизни, но не видя даже и того противоречия ее, которое они разрешают. И всегда были и теперь есть среди этих людей еще такие люди, которые вследствие своего внешнего исключительного положения и сами, не понимая смысла человеческой жизни, учили и учат других людей жизни, которой они не понимают: тому, что жизнь человеческая есть не что иное, как личное существование.
1 акие ложные учители существовали во все времена и существуют и в наше время. Одни исповедуют на словах учения тех просветителей человечества, в преданиях которых они воспитаны, но, не понимая их разумного смысла, обращают эти учения в сверхъестественные откровения о прошедшей у будущей жизни людей и требуют только исполнения обрядов. Это учение фарисеев в самом широком смысле, т. е. людей, учащих тому, что сама в себе неразумная жизнь может быть исправлена верой в другую жизнь, приобретаемую исполнением внешних обрядов.
Другие, нс признающие возможности никакой другой жизни, кроме видимой, отрицают всякие чудеса и все сверхъестественное и смело утверждают, что жизнь человека есть не чтб иное, как его животное
i H. Толстой
О жизни
355
существование от рождения и до смерти. Это учение книжников — людей, учащих тому, что в жизни человека, как животного, и нет ничего неразумного.
И те и другие лжеучители, несмотря на то что учения и тех и других основаны на одном и том же грубом непонимании основного противоречия человеческой жизни, всегда враждовали и враждуют между собой. О$а учения эти царствуют в нашем мире и, враждуя друг с другом, наполняют мир своими спорами, — этими самыми спорами скрывая от людей те определения жизни, открывающие путь к истинному благу людей, которые уже за тысячи лет даны человечеству.
Фарисеи, не понимая того определения жизни, которое дано людям теми учителями, в преданиях которых они воспитаны, заменяют его своими лжетолкованиями о будущей жизни и вместе с тем стараются скрыть от людей определения жизни других просветителей человечества, выставляя их перед своими учениками в самом их грубом и жестоком извращении, полагая тем поддержать исключительный авторитет того учения, на котором они основывают свои толкования*.
Книжники же, и не подозревая в фарисейских учениях тех разумных основ, на которых они возникли, прямо отрицают всякие учения о будущей жизни и смело утверждают, что все эти учения не имеют никакого основания, а суть только остатки грубых обычаев невежества и что движение вперед человечества состоит в том, чтобы не задавать себе никаких вопросов о жизни, выходящих за пределы животного существования человека.
Глава Ш
Заблуждения книжников
И удивительное дело! То, что все учения великих умов человечества так поражали людей своим величием, что грубые люди придавали им большей частью сверхъестественный характер и признавали основателей их полубогами, — то самое, что служит главным признаком значительности этих учений, — это самое обстоятельство и служит для книжников лучшим, как им кажется, доказательством неправильности и отсталости этих учений. То, что незначительные учения Аристотеля, Бэкона, Конта и других оставались и остаются всегда достоянием малого числа их читателей и почитателей и по своей ложности никогда не могли влиять на массы и потому не подверглись суеверным искажениям и наростам, этот-то признак незначительности их признается доказательством их истинности. Учения же браминов, Будды, Зоро
* Единство разумного смысла определений жизни других просветителей человечества не представляется им лучшим доказательством истинности их учения, так как оно подрывает доверие к тем неразумным лжетолкованиям, которыми они заменяют сущность учения.
Л. Н. Толстой
356
астра, Лаодзы, Конфуция, Исайи, Христа считаются суевериями и заблуждениями только потому, что эти учения переворачивали жизнь миллионов.
То, что по этим суевериям жили и живут миллиарды людей, потому что даже и в искаженном виде они дают людям ответы на вопросы об истинном благе жизни, то, что учения эти не только разделяются, но служат основой мышления лучших людей всех веков, а то теории, признаваемые книжниками, разделяются только ими самими, всегда оспариваются и не живут иногда и десятков лет, и забываются так же быстро, как возникают, не смущает их нисколько.
Ни в чем с такой яркостью не выражается то ложное направление знания, которому следует современное общество, как то место, которое занимают в этом обществе учения тех великих учителей жизни, по которым жило и образовывалось и продолжает жить и образовываться человечество. В календарях значится, в отделе статистических сведений, что вер, исповедуемых теперь обитателями земного шара, — 1000. В числе этих вер предполагаются буддизм, брамаизм, конфуцианство, таосизм и христианство. Вер 1000, и люди нашего времени совершенно искренно верят в это. Вер 1000, все они вздор — что же их изучать? И люди нашего времени за стыд считают, если они не знают последних изречений мудрости Спенсера, Гельмгольца и других, но о браминах, Будде, Конфуции, Менции, Лаодзы, Эпиктете, Исайи иногда знают имена, а иногда и того не знают. Им и в голову не приходит, что вер, исповедуемых в наше время, вовсе не тысяча, а только три: китайская, индийская и еврейско-христианская (со своим отростком магометанством), и что книги этих вер можно купить за 5 рублей и прочесть в две недели, и что в этих книгах, по которым жило и теперь живет все человечество, за исключением 0,07 почти неизвестных нам, заключена вся мудрость человеческая, все то, что сделало человечество таким, какое оно есть. Но мало того, что толпа не знает этих учений, — ученые не знают их, если это не из специальность; философы по профессии не считают нужным заглядывать в эти книги. Да и зачем изучать тех людей, которые разрешали сознаваемое разумным человеком противоречие его жизни и определяли истинное благо и жизнь людей? Книжники, не понимая того противоречия, которое составляет начало разумной жизни, смело утверждают, что так как они его не видят, то противоречия и нет никакого, и что жизнь человека есть только его животное существование.
Зрячие понимают и определяют то, что видят перед собой; слепой тыкает перед собою палкой и утверждает, что и нет ничего, кроме того, что показывает ему ощупь палки.
; Толстой
О жизни
357
Глава IV
Учение книжников под понятие всей жизни человека подставляет видимые явления его животного существования и из них делает выводы о цели его жизни
«Жизнь — это то, что делается в живом существе со времени его рождения и до смерти. Родится человек, собака, лошадь, у каждого свое особенное тело, и вот живет это особенное его тело, а потом умрет; тело разложится, пойдет в другие существа, а того прежнего существа не будет. Была жизнь, и кончилась жизнь; бьется сердце, дышат легкие, тело не разлагается, значит, жив человек, собака, лошадь; перестало биться сердце, кончилось дыхание, стало разлагаться тело, — значит, умер, и нет жизни. Жизнь и есть то, что происходит в теле человека, так же как и животного, в промежуток времени между рождением и смертью. Что может быть яснее?» Так смотрели и всегда смотрят на жизнь самые грубые, невежественные люди, едва выходящие из животного состояния. И вот в наше время учение книжников, называющее себя наукой, признает это самое грубое первобытное представление о жизни единым истинным. Пользуясь всеми теми орудиями внешнего знания, которые приобрело человечество, ложное учение это систематически хочет вести назад людей в тот мрак невежества, из которого с таким напряжением и трудом оно выбивалось столько тысяч лет.
Жизнь мы не можем определить в своем сознании, говорит это учение. Мы заблуждаемся, рассматривая ее в себе. То понятие о благе, стремление к которому в нашем сознании составляет нашу жизнь, есть обманчивый призрак, и жизнь нельзя понимать в этом сознании. Чтобы понять жизнь, надо только наблюдать ее проявления, как движение вещества. Только из этих наблюдений и выведенных из них законов мы найдем и закон самой жизни, и закон жизни человека*.
* Наука настоящая, знающая свое место и потому свой предмет, скромная и потому могущественная, никогда не говорила и не говорит этого. Наука физики говорит о законах и отношениях сил, не задаваясь вопросом о том, что есть сила, и не пытаясь объяснять сущность силы. Наука химии говорит об отношениях вещества, не задаваясь вопросом о том, что есть вещество, и не пытаясь определять его сущности. Наука биологии говорит о формах жизни, не задаваясь вопросом о том, что есть жизнь, и не пытаясь определять ее сущности. И сила, и вещество, и жизнь принимаются истинными науками не как предметы изучения, а как взятые за аксиомы из другой области знания точки опоры, на которых строится здание каждой отдельной науки. Так смотрит на предмет истинная наука, и эта наука не может иметь вредного, обращающего к невежеству, влияния на толпу. Но не так смотрит на предмет ложное мудрствование науки. «И вещество, и силу, и жизнь мы изучаем; а если мы изучаем их, то мы можем и познать их», — говорят они, не соображая того, что они изучают не вещество, не силу, не жизщ>, а только отношения и формы их.
Л. Н. Толстой
358
И вот ложное учение, подставив под понятие всей жизни человека, известной ему в его сознании, видимую часть ее — животное существование, начинает изучать эти видимые явления сначала в животном человеке, потом в животных вообще, потом в растениях, потом в веществе, постоянно утверждая при этом, что изучаются не некоторые проявления, а сама жизнь. Наблюдения так сложны, так многообразны, так запутанны, так много времени и усилия тратится на них, что люди понемногу забывают о первоначальной ошибке признания части предмета за весь предмет и под конец вполне убеждаются, что изучение видимых свойств вещества, растений и животных и есть изучение самой жизни, той жизни, которая познается человеком только в его сознании.
Совершается нечто подобное тому, что делает показывающий что-нибудь на тени и желающий поддержать то заблуждение, в котором находятся его зрители.
«Не смотрите никуда, — говорит показывающий, — кроме как на ту сторону, где появляются отражения, и главное, не глядите на самый предмет: ведь предмета и нет, а есть только отражение его».
Это самое и делает потворствующая грубой толпе ложная наука книжников нашего времени, рассматривая жизнь без главного определения ее, стремления к благу, открытого только в сознании человека*. Исходя прямо из определения жизни независимо от стремления к благу, ложная наука наблюдает цели живых существ и, находя в них цели, чуждые человеку, навязывает их ему.
Целью живых существ представляется при этом внешнем наблюдении сохранение своей личности, сохранение своего вида, воспроизведение себе подобных и борьба за существование, и эта самая воображаемая цель жизни навязывается и человеку.
Ложная наука, взявшая за исходную точку отсталое представление о жизни, при котором не видно то противоречие жизни человеческой, которое составляет главное ее свойство, — эта мнимая наука в своих последних выводах приходит к тому, чего требует грубое большинство человечества, — к признанию возможности блага одной личной жизни, к признанию для человека благом одного животного существования.
Ложная наука идет дальше даже требований грубой толпы, которым она хочет найти объяснение, — она приходит к утверждению того, что с первого проблеска своего отвергает разумное сознание человека, приходит к выводам о том, что жизнь человека, как и всякого животного, состоит в борьбе за существование личности, рода и вида.
См. прибаиленние первое в конце книги: О ложном определении жизни.
I. И. Толстой
О жи^ни
359
Глава V
Лжеучения фарисеев и книжников не дают ни объяснений смысла настоящей жизни, ни руководства в ней; единственным руководством жизни является инерция жизни, не имеющая разумного объяснения
«Жизнь определять нечего: всякий ее знает, вот и всё, и давайте жить», — говорят в своем заблуждении люди, поддерживаемые ложными учениями. И не зная, что такое жизнь и ее благо, им кажется, что они живут, как может казаться человеку, несомому по волнам без всякого направления, что он плывет туда, куда ему надобно и хочется.
Родится ребенок в нужде или роскоши и получает воспитание фарисейское или книжническое. Для ребенка, для юноши не существует еще противоречия жизни и вопроса о ней, и потому ни объяснение фарисеев, ни объяснение книжников не нужны ему и не могут руководить его жизнью. Он учится одним примером людей, живущих вокруг него, и пример этот, и фарисеев и книжников, одинаков: и те и другие живут только для блага личной жизни и тому же поучают и его.
Если родители его в нужде, он узнает от них, что цель жизни — приобретение побольше хлеба и денег и как можно меньше работы, для того чтобы животной личности было как можно лучше. Если он родился в роскоши, он узнает, что цель жизни — богатство и почести, чтобы как можно приятнее и веселее проводить время.
Все знания, которые приобретает бедный, нужны для него только ради того, чтобы улучшить благосостояние своей личности. Все знания науки и искусств, которые приобретает богатый, несмотря на все высокие слова о значении науки и искусств, нужны ему только для того, чтобы побороть скуку и провести приятно время. Чем дольше живет и тот и другой, тем сильнее и сильнее всасывается в них царствующий взгляд людей мира. Они вступают в брак, заводятся семьей, и жадность к приобретению благ животной жизни усиливается оправданием семьи: борьба с другими ожесточается и устанавливается (инерция) привычка жизни только для блага личности.
Если и западет тому или другому, бедному или богатому, сомнение в разумности такой жизни, если тому и другому представится вопрос о том, зачем эта бесцельная борьба за свое существование, которое будут продолжать мои дети, или зачем эта обманчивая погоня за наслаждениями, которые кончаются страданиями для меня и для моих детей, то нет почти никакого вероятия, чтобы он узнал те определения жизни, которые давным-давно даны были человечеству его великими учителями, находившимися, за тысячи лет до него, в том же положении. Учения фарисеев и книжников так плотно заслоняют их, что редкому удается увидать их. Одни — фарисеи — на вопрос о том: «Зачем эта бедственная жизнь?» — отвечают: «Жизнь бедственна и всегда была и должна быть такой; благо жизни не в ее настоящем, а в ее прошедшем — до жизни и будущем — после жизни». И браминские, и буддийс
Л. Н. Толстой
360
кие, и таасийские, и еврейские, и христианские фарисеи говорят всегда одно и то же. Жизнь — настоящая — зло, и объяснение этого зла — в прошедшем — в появлении мира и человека; исправление же существующего зла — в будущем, за гробом. Все, что может сделать человек для приобретения блага, не в этой, но в будущей жизни, — это верить в то учение, которое мы преподаем вам, исполнять обряды, которые мы предписываем.
И сомневающийся, видя на жизни всех людей, живущих для личного блага, и на жизни самих фарисеев, живущих для того же, неправду этого объяснения, не углубляясь в смысл их ответа, прямо не верит им и обращается к книжникам. «Все учения о другой какой-то жизни, чем та, какую мы видим в животной, есть плод невежества, — говорят книжники. — Все твои сомнения в разумности твоей жизни суть праздные мечтания. Жизнь миров, земли, человека, животного, растения имеет свои законы, и мы изучаем их, мы исследуем происхождение миров и человека, животных и растений, и всего вещества; мы исследуем и то, что ожидает миры, как остынет Солнце и т. п., и что было и будет с человеком и со всяким животным и растением. Мы можем показать и доказать, что все так было и будет, как мы говорим; наши исследования, кроме того, содействуют улучшению благосостояния человека. О жизни же твоей, с твоим стремлением к благу, мы ничего тебе сказать не можем, кроме того, что ты и без нас знаешь: живешь, так и живи как получше».
И сомневающийся, не получив на свой вопрос никакого ответа ни от тех, ни от других, остается, как и был прежде, без всякого руководства в жизни, кроме побуждений своей личности.
Одни из сомневаюшихся, по рассуждению Паскаля, сказав себе: «А что как правда все то, чем пугают фарисеи за неисполнение их предписаний?», исполняют в свободное время все предписания фарисеев (потери не будет, а выгода может быть большая), а другие, соглашаясь с книжниками, прямо отрицают всякую другую жизнь и всякие религиозные обряды и говорят себе: «Не я один, а все так жили и живут, — что будет, то будет». И это различие не дает ни тем, ни другим никакого преимущества: и те и другие остаются без всякого объяснения смысла их настоящей жизни.
А жить надо.
Жизнь человеческая есть ряд поступков от вставанья до постели; каждый день человек должен не переставая выбирать из сотни возможных для него поступков те, которые он сделает. Ни учение фарисеев, объясняющее тайны небесной жизни, ни учение книжников, ис-следуь щес происхождение миров и человека и делающее заключение о будущей судьбе их, не дает такого руководства поступков. А без руководства в выборе своих поступков человек не может жить. И вот тут-то человек волей-неволей подчиняется уже не рассуждению, а тому внешнему руководству жизни, которое всегда существовало и существует в каждом обществе людей.
11. Толстой
О жизни
361
Руководство это не имеет никакого разумного объяснения, но оного и движет огромным большинством поступков всех людей. Руководство это есть привычка жизни обществ людей, тем сильнее властвующая над людьми, чем меньше у людей понимания смысла своей жизни. Руководство это не может быть определенно выражено, потому что слагается оно из самых разнообразных, по времени и месту, дел и поступков. Это свечки на дощечках родителей для китайцев; это паломничество к известным местам магометанина, известное количество молитвенных слов для индейца; это верность своему знамени и честь мундира для военного, дуэль для светского человека, кровомщение для горца; это известные кушанья в известные дни, известного рода воспитание своих детей; это визиты, известное убранство жилищ, известные празднования похорон, родин, свадеб. Это бесчисленное количество дел и поступков, наполняющих всю жизнь. Это то, что называется приличием, обычаем, а чаще всего долгом и даже священным долгом.
И вот этому-то руководству помимо объяснений жизни фарисеев и книжников и подчиняется большинство людей. Везде вокруг себя с детства человек видит людей, с полной уверенностью и внешней торжественностью исполняющих эти дела, и, не имея никакого разумного объяснения своей жизни, человек не только начинает делать такие же дела> но этим делам старается приписать разумный смысл. Ему хочется верить, что люди, делающие эти дела, имеют объяснение того, для чего и почему они делают то, что делают. И он начинает убеждать себя, что дела эти имеют разумный смысл и что объяснение их смысла если и не вполне известно ему, то известно другим людям. Но большинство других людей, не имея также разумного объяснения жизни, находятся совершенно в том же положении, как и он. Они делают эти дела только потому, что им кажется, что другие, имея объяснение этих дел, требуют их от них. И так, невольно обманывая друг друга, люди все больше и больше не только привыкают делать дела, не имеющие разумного объяснения, но привыкают приписывать этим делам какой-то таинственный, не понятный для них самих смысл. И чем меньше они понимают смысл исполняемых ими дел, чем сомнительнее для них самих эти дела, тем больше приписывают они им важности и тем с большей торжественностью исполняют их. И богатый и бедный исполняют то, что делают вокруг них другие, и дела эти называют своим долгом, священным долгом, успокаивая себя тем, что то, что делается так давно, таким большим количеством людей и так высоко ценится ими, не может не быть настоящим делом жизни. И до глубокой старости, до смерти доживают люди, стараясь уверить себя, что если они сами не знают, зачем они живут, то это знают другие — те самые, которые точно так же мало знают это, как и те, которые на них полагаются.
Приходят в существование, родятся, вырастают новые люди и, глядя на эту сутолоку существования, называемую жизнью, в которой принимают участие старые, седые, почтенные, окружаемые уважением люди, уверяются, что эта-то безумная толкотня и есть жизнь и
Л. Н. Толстой
другой никакой нет, и уходят, потолкавшись у дверей ее. Так, не видавший никогда собрания человек, увидав теснящуюся, шумящую, оживленную толпу у входа и решив, что это и есть самое собрание, потолкавшись у дверей, уходит домой с помятыми боками и с полной уверенностью, что он был в собрании.
Прорезываем горы, облетаем мир; электричество, микроскопы, телефоны, войны, парламент, филантропия, борьба партий, университеты, ученые общества, музеи... это ли не жизнь?
Вся сложная, кипучая деятельность людей с их торговлей, войнами, путями сообщения, наукой, искусствами есть большей частью только давка обезумевшей толпы у дверей жизни.
Глава VI
Раздвоение сознания в людях нашего мира
«Но истинно, истинно, говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас сына Божия и, услышав, оживут». И время это приходит. Сколько бы ни уверял себя человек и сколько бы ни уверяли его в этом другие, что жизнь может быть благой и разумной только за гробом, или что одна личная жизнь может быть благой и разумной, — человек не может верить в это. Человек имеет в глубине души своей неизгладимое требование того, чтобы жизнь его была благом и имела разумный смысл, а жизнь, не имеющая перед собой никакой другой цели, кроме загробной жизни или невозможного блага личности, есть зло и бессмыслица.
«Жить для будущей жизни?» — говорит себе человек. Но если та жизнь, тот единственный образчик жизни, который я знаю, — моя теперешняя жизнь — должна быть бессмысленной, то это не только не утверждает меня в возможности другой, разумной жизни, но, напротив, убеждает меня в том, что жизнь по существу своему бессмысленна, что никакой другой, кроме бессмысленной жизни, и быть не может.
Жить для себя? Но ведь моя жизнь личная есть зло и бессмыслица. Жить для своей семьи? Для своей общины? Отечества, человечества даже? Но если жизнь моей личности бедственна и бессмысленна, то так же бессмысленна и жизнь всякой другой человеческой личности, и потому бесконечное количество собранных вместе бессмысленных и неразумных личностей не составят и одной блаженной и разумной жизни. Жить самому, нс зная зачем, делая то, что делают другие? Да ведь я знаю, что другие, так же как и я, не знают сами, зачем они делают то, что делают.
Приходит время, когда разумное сознание перерастает ложные учения, и человек останавливается посреди жизни й требует объяснения.
Только редкий человек, не имеющий сношений с людьми других образов жизни, и только человек, постоянно занятый напряженной борьбой с природой для поддержания своего телесного существования, мо
11. Толстой
О жизни
363
жет верить в то, что исполнение тех бессмысленных дел, которые он называет своим долгом, может быть свойственным ему долгом его жизни.
Наступает время и наступило уже, когда обман, выдающий отрицание — на словах — этой жизни, для приготовления себе будущей, и признание одного личного животного существования за жизнь и так называемого долга за дело жизни, — когда обман этот становится ясным для большинства людей, и только забитые нуждой и отупевшие от похотливой жизни люди могут еще существовать, не чувствуя бессмысленности и бедственности своего существования.
Чаще и чаще просыпаются люди к разумному сознанию, оживают в гробах своих, — и основное противоречие человеческой жизни, несмотря на все усилия людей скрыть его от себя, со страшной силой и ясностью становится перед большинством людей.
«Вся жизнь моя есть желание себе блага, — говорит себе человек пробудившийся, — разум же мой говорит мне, что блага этого для меня быть не может и, что бы я ни делал, чего бы ни достигал, все кончится одним и тем же: страданиями и смертью, уничтожением. Я хочу блага, я хочу жизни, я хочу разумного смысла, а во мне и во всем меня окружающем — зло, смерть, бессмыслица. Как быть? Как жить? Что делать?» И ответа нет.
Человек оглядывается вокруг себя и ищет ответа на свой вопрос и не находит его. Он найдет вокруг себя учения, которые ответят ему на вопросы, которых он и не делает себе, но ответа на вопрос, который он ставит себе, нет в окружающем мире. Есть одна суета людей, делающих, сами не зная зачем, дела, которые другие делают, сами не зная зачем.
Все живут, как будто и не сознавая бедственности своего положения и бессмысленности своей деятельности. «Или они безумны, или я, — говорит себе проснувшийся человек. — Но все не могут быть безумны, стало быть, безумен-то я. Но нет, то разумное я, которое говорит мне это, не может быть безумно. Пускай оно будет одно против всего мира, но я не могу не верить ему».
И человек сознает себя одним во всем мире с теми страшными вопросами, которые разрывают его душу. А жить надо.
Одно я, его личность, велит ему жить.
А другое я, его разум, говорит: «Жить нельзя».
Человек чувствует, что он раздвоился. И это раздвоение мучительно раздирает душу его.
И причиной этого раздвоения и страдания ему кажется его разум.
Разум, та высшая способность человека, необходимая для его жизни, которая дает ему, нагому, беспомощному человеку, среди разрушающих его сил природы, и средства к существованию й средства к наслаждению, — эта-то способность отравляет его жизнь.
Во всем окружающем мире, среди живых существ, свойственные этим существам способности нужны им, общи всем им и содействуют
Л. Н. Толстой
364
их благу. Растения, насекомые, животные, подчиняясь своему закону, живут блаженной, радостной, спокойной жизнью. И вдруг в человеке это высшее свойство его природы производит в нем такое мучительное состояние, что часто — все чаще и чаще в последнее время — человек разрубает гордиев узел своей жизни, убивает себя, только бы избавиться от доведенного в наше время до последней степени напряжения мучительного внутреннего противоречия, производимого разумным сознанием.
Глава VH
Раздвоение сознания происходит от смешения жизни животного с жизнью человеческой
Человеку кажется, что пробудившееся в нем разумное сознание разрывает и останавливает его жизнь только потому, что он признает своей жизнью то, что не было, не есть и не могло быть его жизнью.
Воспитавшись и выросши в ложных учениях нашего мира, утвердивших его в уверенности, что жизнь его есть не что иное, как его личное существование, начавшееся с его рождением, человеку кажется, что он жил, когда был младенцем, ребенком; потом ему кажется, что он не переставая жил, будучи юношей и возмужалым человеком. Он жил, как ему кажется, очень давно, и все время не переставая жил, и вот вдруг дожил до того времени, когда ему стало несомненно ясно, что жить так, как он жил прежде, нельзя и что жизнь его останавливается и разрывается.
Ложное учение утвердило его в мысли, что жизнь его есть период времени от рождения до смерти; и, глядя на видимую жизнь животных, он смешал представление о видимой жизни с своим сознанием и совершенно уверился в том, что эта видимая им жизнь и есть его жизнь.
Пробудившееся в нем разумное сознание, заявив такие требования, которые неудовлетворимы для жизни животной, указывает ему ошибочность его представления о жизни; но въевшееся в него ложное учение мешает ему признать свою ошибку: он не может отказаться от своего представления о жизни как животном существовании и ему кажется, что жизнь его остановилась от пробуждения разумного сознания. Но то, что он называет своей жизнью, то, что ему кажется остановившимся, никогда и нс существовало. То, что он называет своей жи-зныЪ, его существование от рождения, никогда и не было его жизнью; представление его о том, что он жил все время от рождения и до настоящей минуты, есть обман сознания, подобный обману сознания при сновидениях: до пробуждения не было никаких сновидений, они все сложились в момент пробуждения. До пробуждения разумного сознания не было никакой жизни, представление о прошедшей жизни сложилось при пробуждении разумного сознания.
Человек жил как животное во время ребячества и ничего не знал о
: К 'Ifысп*й Ожиши 365
жизни. Если бы человек прожил десять месяцев, он бы ничего не знал ни о своей, ни о какой бы то ни было жизни; так же мало знал бы о жизни, как и тогда, когда бы он умер в утробе матери. И не только младенец, но и неразумный взрослый, и совершенный идиот не могут знать про то, что они живут и живут другие существа. И потому они и не имеют человеческой жизни.
Жизнь человеческая начинается только с проявления разумного сознания — того самого, которое открывает человеку одновременно и свою жизнь, и в настоящем и в прошедшем, и жизнь других личностей, и все, неизбежно вытекающее из отношений этих личностей, страдания и смерть, — то самое, что производит в нем отрицание блага личной жизни и противоречие, которое, ему кажется, останавливает его жизнь.
Человек хочет определять свою жизнь временем, как он определяет видимое им существование вне себя, и вдруг в нем пробуждается жизнь, не совпадающая с временем его плотского рождения, и он не хочет верить тому, что то, что не определяется временем, может быть жизнью. Но сколько бы ни искал человек во времени той точки, с которой бы он мог считать начало своей разумной жизни, он никогда не найдет ее*.
В своих воспоминаниях он никогда не найдет этой точки, этого начала разумного сознания. Ему представляется, что разумное сознание всегда было в нем. Если же он и находит нечто подобное началу этого сознания, то он находит его уже никак не в своем плотском рождении, а в Области, не имеющей ничего общего с этим плотским рождением. Он сознает свое разумное происхождение вовсе не таким, каким ему видится его плотское рождение. Спрашивая себя о происхождении своего разумного сознания, человек никогда не представляет себе, чтобы он, как разумное существо, был сын своего отца, матери и внук своих дедов и бабок, родившихся в таком-то году, а он сознает себя всегда не то, что сыном, но слитым в одно с сознанием самых чуждых ему по времени и месту разумных существ, живших иногда за тысячи
* Нет ничего обыкновеннее, как слышать рассуждения о зарождении и развитии жизни человеческой и жизни вообще во времени. Людям, рассуждающим так, кажется, что они стоят на самой твердой почве действительности, а между тем нет ничего фантастичнее рассуждений о развитии жизни во времени. Рассуждения эти подобны тому, что бы делал человек, который, желая измерять линию, не откладывал бы меру от той одной известной ему точки, на которой он стоит, а на бесконечной линии брал бы на различных от себя неопределенных расстояниях воображаемые точки и от них бы измерял пространство от себя. Разве не то же самое делают люди, рассуждая о зарождении и развитии жизни в человеке? В самом деле, где взять на этой бесконечной линии, каковой представляется развитие — из прошедшего — жизни человека, ту произвольную точку, с которой можно начать фантастическую историю развития этой жизни? В рождении или зарождении ребенка, или его родителей, или еще дальше — в первобытном животном и протоплазме, в первом оторвавшемся от солнца куске? Ведь все рассуждения эти будут самые произвольные фантазии — измерения без меры.
Л. Н. Толстой
366
лет и на другом конце света. В разумном сознании своем человек не видит даже никакого происхождения себя, а сознает свое вневременное и внепространственное слияние с другими разумными сознаниями, так что они входят в него и он в них. Это-то пробудившееся в человеке разумное сознание и останавливает как будто то подобие жизни, которое заблудшие люди считают жизнью: заблудшим людям кажется, что жизнь их останавливается именно тогда, когда она пробуждается.
Глава VIII
Раздвоения и противоречия нет, оно является только при ложном учении
Только ложное учение о человеческой жизни, как о существовании животного от рождения до смерти, в котором воспитываются и поддерживаются люди, производит то мучительное состояние раздвоения, в которое вступают люди при обнаружении в них их разумного сознания.
Человеку, находящемуся в этом заблуждении, кажется, что жизнь раздваивается в нем.
Человек знает, что жизнь его одна, а чувствует их две. Человек, перекрутив два пальца и между ними катая шарик, знает, что шарик один, но чувствует их два. Нечто подобное происходит с человеком, усвоившим ложное представление о жизни.
Разум человека ложно направлен. Его научили признавать жизнью одно свое плотское личное существование, которое не может быть жизнью.
С таким ложным представлением о воображаемой жизни он взглянул на жизнь и увидел их две — ту, которую он воображал себе, и ту, которая действительно есть.
Такому человеку кажется, что отрицание разумным сознанием блага личного существования и требование другого блага есть нечто болезненное и неестественное.
Но для человека, как разумного существа, отрицание возможности личного блага и жизни есть неизбежное последствие условий личной жизни и свойства разумного сознания, соединенного с нею. Отрицание блага и жизни личности есть для разумного существа такое же естественное свойство его жизни, как для птицы летать на крыльях, а не бегать ногами. Если неопсрившийся птенец бегает ногами, то это не доказывает того, чтобы ему несвойственно было летать. Если мы вне себя видим людей с непробудившимся сознанием, полагающих свою жизнь в благе личности, то это не доказывает того, чтобы человеку было несвойственно жить разумной жизнью. Пробуждение человека к его истинной, свойственной ему жизни происходит в нашем мире с таким болезненным напряжением только оттого, что ложное учение мира старается убедить людей в том, что призрак жизни есть сама жизнь и что проявление истинной жизни есть нарушение ее.
м ист ой
О жи нш
367
С людьми в нашем мире, вступающими в истинную жизнь, случается нечто подобное тому, что бы было с девушкой, от которой пыли бы скрыты свойства женщины. Почувствовав признаки половой «релости, такая девушка приняла бы то состояние, которое призывает се к будущей семейной жизни, с обязанностями и радостями матери, за болезненное и неестественное состояние, которое привело бы ее в отчаяние.
Подобное же отчаяние испытывают люди нашего мира при первых признаках пробуждения к истинной человеческой жизни.
Человек, в котором проснулось разумное сознание, но который вместе с тем понимает свою жизнь только как личную, находится в том же мучительном состоянии, в котором находилось бы животное, которое, признав своей жизнью движение вещества, не признавало бы своего закона личности, а только видело бы свою жизнь в подчинении себя законам вещества, которые совершаются и без его усилия. Такое животное испытывало бы мучительное внутреннее противоречие и раздвоение. Подчиняя себя одним законам вещества, оно видело бы свою жизнь в том, чтобы лежать и дышать, но личность требовала бы от него другого: кормления себя, продолжения рода, — и тогда животному казалось бы, что оно испытывает раздвоение и противоречие. «Жизнь, — думало бы оно, — в том, чтобы подчиняться законам тяжести, т. е. не двигаться, лежать и подчиняться происходящим в теле химическим процессам, а вот я делаю это, а еще надо двигаться, питаться, искать самца или самку».
Животное страдало бы и видело бы в этом состоянии мучительное противоречие и раздвоение. То же происходит и с человеком, наученным признавать низший закон своей жизни, животную личность, законом своей жизни. Высший закон жизни, закон его разумного сознания, требует от него другого; вся же окружающая жизнь и ложные учения удерживают его в обманчивом сознании, и он чувствует противоречие и раздвоение.
Но как животному для того, чтобы перестать страдать, нужно признавать своим законом не низший закон вещества, а закон своей личности, и исполняя его, пользоваться законами вещества для удовлетворения целей своей личности, так точно и человеку стоит признать свою жизнь не в низшем законе личности, а в высшем законе, включающем первый закон, — в законе, открытом ему в его разумном сознании, — и уничтожится противоречие, и личность будет свободно подчиняться разумному сознанию и будет служить ему.
Глава IX
Рождение истинной жизни в человеке
Рассматривая во времени, наблюдая проявление жизни в человеческом существе, мы видим, что истинная жизнь всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, когда жизнь эта обнару
Л. Н. Толстой
368
живается. Обнаружение истинной жизни состоит в том, что животная личность влечет человека к своему благу, разумное же сознание показывает ему невозможность личного блага и указывает какое-то другое благо. Человек вглядывается в это, в отдалении указываемое ему, благо и, не в силах видеть его, сначала не верит этому благу и возвращается назад к личному благу; но разумное сознание, которое указывает так неопределенно свое благо, так несомненно и убедительно показывает невозможность личного блага, что человек опять отказывается от личного блага и опять вглядывается в это новое, указываемое ему благо. Разумное благо не видно, но личное благо так несомненно уничтожено, что продолжать личное существование невозможно, и в человеке начинает устанавливаться новое отношение его животного к разумному сознанию. Человек начинает рожаться к истинной человеческой жизни.
Происходит нечто подобное тому, что происходит в вещественном мире при всяком рождении. Плод родится не потому, что он хочет родиться, что ему лучше родиться и что он знает, что хорошо родиться, а потому, что он созрел, а ему нельзя продолжать прежнее существование; он должен отдаться новой жизни не столько потому, что новая жизнь зовет его, сколько потому, что уничтожена возможность прежнего существования.
Разумное сознание, незаметно вырастая в его личности, дорастает до того, что жизнь в личности становится невозможной.
Происходит совершенно то же, что происходит при зарождении всего. То же уничтожение зерна, прежней формы жизни, и проявление нового ростка; та же кажущаяся борьба прежней формы разлагающегося зерна и увеличение ростка, и то же питание ростка на счет разлагающегося зерна. Различие для нас рождения разумного сознания от видимого нами плотского зарождения в том, что, тогда как в плотском рождении мы видим во времени и пространстве, из чего и как и когда и что рождается из зародыша, знаем, что зерно есть плод, что из зерна при известных условиях выйдет растение, что на нем будет цвет и потом плод такой же, как зерно (в глазах наших совершается весь круговорот жизни), — рост разумного сознания мы не видим во времени, не видим круговорота его. Не видим же мы роста разумного сознания и круговорота его потому, что мы сами совершаем его: наша жизнь есть не что иное, как это рождение того невидимого нам существа, которое рождается в нас, и потому-то мы никак не можем видеть его.
Мы не можем видеть рождения этого нового существа, нового отношения разумного сознания к животному, так же как зерно не может видеть роста своего стебля. Когда разумное сознание выходит из своего скрытого состояния и обнаруживается для нас самих, нам кажется, что мы испытываем противоречие. Ио противоречия нет никакого, как нет его в прорастающем зерне. В прорастающем зерне мы видим только, что жизнь, бывшая прежде в оболочке зерна, теперь уже в ростке его. Точно так же и в человеке с проснувшимся разумным
Н. Толстой
О жизни
369
сознанием нет никакого противоречия, а есть только рождение нового существа, нового отношения разумного сознания к животному.
Если человек существует, не зная, что другие личности живут, не зная, что наслаждения не удовлетворяют его, что он умрет, — он не знает даже и того, что он живет, и в нем нет противоречия.
Если же человек увидал, что другие личности — такие же, как и он, что страдания угрожают ему, что существование его есть медленная смерть: если его разумное сотнание стало разлагать существование его личности, он уже не может ставить свою жизнь в этой разлагающейся личности, а неизбежно должен полагать ее в той новой жизни, которая открывается ему. И опять нет противоречия, как нет противоречия в зерне, пустившем уже росток и потому разлагающемся.
Глава X
Разум есть тот сознаваемый человеком закон, по которому должна совершаться его жизнь
Истинная жизнь человека, проявляющаяся в отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности. Отрицание же блага животной личности начинается тогда, когда пробуждается разумное сознание.
Но что же такое это разумное сознание? Евангелие Иоанна начинается тем, что Слово, Logos (Логос — Разум, Мудрость, Слово), есть начало, и что в нем всё и от него всё; и что потому разум — то, что определяет всё остальное, — ничем не может быть определяем.
Разум не может быть определяем, да нам и незачем определять его, потому что мы все не только знаем его, но только разум один и знаем. Общаясь друг с другом, мы вперед уверены — больше, чем во всем другом, — в одинаковой обязательности для всех нас общего этого разума. Мы убеждены, что разум и есть та единственная основа, которая соединяет всех нас, живущих, в одно. Разум мы знаем вернее и прежде всего, так что все, что мы знаем в мире, мы знаем только потому, что это познаваемое нами сходится с законами этого разума, несомненно известными нам. Мы знаем, и нам нельзя не знать разума. Нельзя, потому что разум — это тот закон, по которому должны жить неизбежно разумные существа — люди. Разум для человека — тот закон, по которому совершается его жизнь, — такой же закон, как и тот закон для животного, по которому оно питается и плодится, как и тот закон для растения, по которому растет, цветет трава, дерево, как и тот закон для небесного тела, по которому движутся Земля и светила. И закон, который мы знаем в себе как закон нашей жизни, есть тот же закон, по которому совершаются и все внешние явления мира, только с той разницей, что в себе мы знаем этот закон как то, что мы сами должны совершать, во внешних же явлениях — как то, что совершается по этому закону без нашего участия. Всё, что мы знаем о мире, есть только ви
JI. H. Зол стой
37(
димое нами, вне нас совершающееся в небесных телах, в животных, в растениях, во всем мире, подчинение разуму. Во внешнем мире мы видим это подчинение закону разума; в себе же мы знаем этот закон как то, что сами должны совершать.
Обычное заблуждение о жизни состоит в том, что подчинение нашего животного тела своему закону, совершаемое не нами! но только видимое нами, принимается за жизнь человеческую, тогда как этот закон нашего животного тела, с которым связано наше разумное сознание, исполняется в нашем животном теле так же бессознательно для нас, как он исполняется в дереве, в кристалле, в небесном теле. Но закон нашей жизни — подчинение нашего животного тела разуму — есть тот закон, который мы нигде не видим, не можем видеть, потому что он не совершился еще, но совершается нами в нашей жизни. В исполнении этого закона, в подчинении своего животного закону разума для достижения блага и состоит наша жизнь. Не понимая того, что благо и жизнь наша состоят в подчинении своей животной личности закону разума, и принимая благо и существование своей животной личности за всю нашу жизнь, и отказываясь от предназначенной нам работы жизни, мы лишаем себя истинного нашего блага и истинной нашей жизни и на место ее подставляем то видимое нам существование нашей животной деятельности, которое совершается независимо от нас и потому не может быть нашей жизнью.
Глава Xj
Ложное направление знания
Заблуждение, что видимый нами, на нашей животной личности совершающийся, закон и есть закон нашей жизни, есть старинное заблуждение, в которое всегда впадали и впадают люди. Заблуждение это, скрывая от людей главный предмет их познания, подчинение животной личности разуму для достижения блага жизни, ставит на место его изучение существования людей независимо от блага жизни.
Вместо того чтобы изучать тот закон, которому, для достижения своего блага, должна быть подчинена животная личность человека, и, только познав этот закон, на основании его изучать все остальные явления мира, ложное познание направляет свои усилия на изучение только блага и существования животной личности человека, без всякого отношения к главному предмету знания — подчинению этой животной личности человека закону разума для достижения блага истинной жизни.
Ложное познание, не имея в виду этого главного предмета знания, направляет свои силы на изучение животного существования прошедших и современных людей и на изучение условий существования человека вообще, как животного. Ему представляется, что из этих изучений может быть найдено и руководство для блага жизни человеческой.
Ложное знание рассуждает так: люди существуют и существовали до нас; посмотрим, как они существовали, какие происходили во вре-
(L Толстой
О жизни
371
мсни и пространстве изменения в их существовании, куда направляется эти изменения. Из этих исторических изменений их существования мы найдем закон их жизни.
Не имея в виду главной цели знания — изучения того разумного закона, которому для его блага должна подчиняться личность человека, гак называемые ученые этого разряда самой целью, которую они ставят для своего изучения, изрекают приговор о тщете своего изучения. В самом деле: если существование людей изменяется только вследствие общих законов их животного существования, то изучение тех законов, которым оно и так подчиняется, совершенно бесполезно и праздно. Знают или не знают люди о законе изменения их существования, закон этот совершается точно так же, как совершается изменение в жизни кротов и бобров вследствие тех условий, в которых они находятся. Если же для человека возможно знание того разумного закона, которому должна быть подчинена его жизнь, то очевидно, что познание этого закона разума он нигде не может почерпнуть, кроме как там, где он и открыт ему: в своем разумном сознании. И потому, сколько бы ни изучали люди того, как существовали люди как животные, они никогда не узнают о существовании человека ничего такого, чего само собой не происходило бы в людях и без этого знания; и никогда, сколько бы они ни изучали животного существования человека, не узнают они того закона, которому для блага его жизни должно быть подчинено это животное существование человека.
Это один разряд праздных людских рассуждений о жизни, называемых историческими и политическими науками.
Другой разряд особенно распространенных в наше время рассуждений, при которых уже совершенно теряется из виду единственный предмет познания, такой: рассматривая человека как предмет наблюдения, мы видим, говорят ученые, что он так же питается, растет, плодится, стареется и умирает, как и всякое животное; но некоторые явления — психические (так они называют их) — мешают точности наблюдений, представляют слишком большую сложность, и потому, чтобы лучше понять человека, будем рассматривать его жизнь сперва в более простых проявлениях, подобных тем, которые мы видим в лишенных этой психической деятельности животных и растениях. Для этого мы будем рассматривать жизнь животных и растений вообще. Рассматривая же животных и растения, мы видим, что во всех них проявляются общие всем им еще более простые законы вещества. А так как законы животных проще, чем законы жизни человека, а законы растений еще проще, а законы вещества еще проще, то и исследования надо основывать на самом простом — на законах вещества. Мы видим, что то, что происходит в растении и животном, то происходит точно так же и в человеке, говорят они, а потому мы заключаем, что все то, что происходит в человеке, и объяснится нам из того, что происходит в самом простом, видимом нам и подлежащем нашим опытам мертвом веществе, тем более что все особенности деятельности человека находятся в по
JI. H. Толстой
372
стоянной зависимости от сил, действующих в веществе. Всякое измейе-ние вещества, составляющего тело человека, изменяет и нарушает всю его деятельность. А потому, заключают они, законы вещества суть причины деятельности человека. Соображение же о том, что в человеке есть нечто такое, чего мы не видим ни в животных, ни в растениях, ни в мертвом веществе, и что это-то нечто и есть единственный предмет познания, без которого бесполезно всякое другое, не смущает их.
Не приходит им в голову, что если изменение вещества в теле человека нарушает его деятельность, то это доказывает только то, что изменение вещества есть одна из причин, нарушающих деятельность человека, но никак не то, что движение вещества есть причина деятельности человека. Точно так же, как вред вынутая земли из-под корней растения доказывает, что земля может быть и не быть везде, а не то, что растение есть только произведение земли. И они изучают в человеке то, что происходит и в мертвом веществе, и в растении, и в животном, предполагая, что уяснение законов явлений, сопутствующих жизни человека, может уяснить им самую жизнь человека.
Чтобы понять жизнь человека, т. е. тот закон, которому для блага человека должна быть подчинена его животная личность, люди рассматривают: или историческое существование, но не жизнь человека, или несознаваемое человеком, но только видимое ему подчинение и животного, и растения, и вещества разным законам, т. е. делают то же, что бы делали люди, изучающие положение неизвестных им предметов для того, чтобы найти ту неизвестную цель, которой им нужно следовать.
Совершенно справедливо то, что знание видимого нам проявления существования людей в истории может быть поучительно для нас; что точно так же может быть поучительно для нас и изучение законов животной личности человека и других животных, и поучительно изучение тех законов, которым подчиняется само вещество. Изучение всего этого важно для человека, показывая ему, как в отражении, то, что необходимо совершается в его жизни; но очевидно, что знание того, что уже совершается и видимо нами, как бы оно ни было полно, не может дать нам главного знания, которое нужно нам, — знания того закона, которому должна для нашего блага быть подчинена наша животная личность. Знание совершающихся законов поучительно для нас, но только тогда, когда мы признаем тот закон разума, которому должна быть подчинена наша животная личность, а не тогда, когда этот закон вовсе не признается.
Как бы хорошо дерево ни изучило (если бы оно могло изучать) все те химические и физические,явления, которые происходят в нем, оно из этих наблюдений и знаний никак не могло бы вывести для себя необходимости собирать соки и распределять их на рост ствола, листа, цветка и плода.
Точно так же и человек, как бы он хорошо ни знал закон, управля
Н Толстой
О жизни
373
ющий его животной личностью, и те законы, которые управляют веществом, эти законы не дадут ему ни малейшего указания на то, как ему поступить с тем куском хлеба, который у него в руках: отдать ли его жене, чужому, собаке, или самому съесть его, — защищать этот кусок хлеба или отдать тому, кто его просит. А жизнь человеческая только и состоит в решении этих и подобных вопросов.
Изучение законов, управляющих существованием животных, растений и веществ, не только полезно, но необходимо для уяснения закона жизни человека, но только тогда, когда изучение это имеет целью главный предмет познания человеческого: уяснение закона разума.
При предположении же о том, что жизнь человека есть только его животное существование, и что благо, указываемое разумным сознанием, невозможно, и что закон разума есть только призрак, такое изучение делается не только праздным, но и губительным, закрывая от человека его единственный предмет познания и поддержания его в том заблуждении, что, исследуя отражение предмета, он может познать и предмет. Такое изучение подобно тому, что бы делал человек, внимательно изучая все изменения и движения тени живого существа, предполагая, что причина движения живого существа заключается в изменениях и движениях его тени.
Глава XII
Причина ложного знания есть ложная перспектива, в которой представляются предметы
Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем, сказал Конфуций. Ложное же — в том, чтобы думать, что мы знаем то, чего не знаем, и не знаем того, что знаем; и нельзя дать более точного определения того ложного познания, которое царствует среди нас. Ложным знанием нашего времени предполагается, что мы знаем то, чего мы не можем знать, и что мы не можем знать того, что одно только мы и знаем. Человеку с ложным знанием представляется, что он знает все то, что является ему в пространстве и времени, и что он не знает того, что известно ему в его разумном сознании.
Такому человеку представляется, что благо вообще и его благо есть самый непознаваемый для него предмет. Почти столь же непознаваемым предметом представляется ему его разум, его разумное сознание; несколько более познаваемым, предметом представляется ему он сам как животное; еще более познаваемыми предметами представляются ему животные и растения, и наиболее познаваемым представляется ему мертвое, бесконечно распространенное вещество.
Нечто подобное происходит со зрением человека. Человек всегда бессознательно направляет свое зрение преимущественно на предмс-
Л. Н. Толстой
374
ты, наиболее отдаленные и потому кажущиеся ему самыми простыми по цвету и очертаниям: на небо, горизонт, далекие поля, леса. Предметы эти представляются тем более определенными и простыми, чем более они удалены, и, наоборот, чем ближе предмет, тем сложнее его очертания и цвет.
Если бы человек не умел определять расстояние предметов, не смотрел бы, располагая предметы в перспективе, а признавал бы большую простоту и определенность очертаний и цвета предмета большей степенью видимости, то самым простым и видимым для такого человека представлялось бы бесконечное небо, потом уже менее видимыми предметами представлялись бы для него сложные очертания горизонта, потом еще менее видимыми представлялись бы ему еще более сложные по цветам и очертаниям дома, деревья, потом еще менее видимым представлялась бы ему своя движущаяся пред глазами рука, и самым невидимым представлялся бы ему свет.
Разве не то же самое и с ложным познанием человека? То, что несомненно известно ему, — его разумное сознание — кажется ему непознаваемым, потому что оно не просто, а то, что несомненно непостижимо для него — безграничное и вечное вещество, — то и кажется ему самым познаваемым, потому что оно по отдалению своему от него кажется ему просто.
Ведь это как раз наоборот. Прежде всего и несомненнее всего всякий человек может знать и знает то благо, к которому он стремится; потом так же несомненно он знает тот разум, который указывает ему это благо, потом уже он знает свое животное, подчиненное этому разуму, и потом уже видит, но не знает все другие явления, пред став ля-юпдоеся ему в пространстве и времени.
J Только человеку с ложным представлением о жизни кажется, что он знает предметы тем лучше, чем точнее они определяются пространством и временем; в действительности же мы знаем вполне только то, что не определяется ни пространством, ни временем, благо и закон разума. Внешние же предметы мы знаем тем менее, чем менее в познании участвует наше сознание, вследствие чего предмет определяется только своим местом в пространстве и времени. И потому, чем исключительнее предмет определяется пространством и временем, тем он менее познаваем для человека (понятен человеку).
Истинное знание человека кончается познанием своей личности, своего животного. Это свое животное, стремящееся к благу и подчиненное закону разума, человек знает совершенно особенно от знания всего того, что не есть его личность. Он действительно знает себя в этом животном, и знает себя не потому, что он есть нечто пространственное и временное (напротив: себя, как временное и пространственное проявление, он никогда познать не может), а потому, что он есть нечто, долженствующее для своего блага быть подчиненным закону разума. Он знает себя в этом животном как нечто независимое от вре
. ''нсюй О жизни 375
мени и пространства. Когда он спрашивает себя о своем месте во времени и пространстве, то ему прежде всего представляется, что он стоит посредине бесконечного в обе стороны времени и что он центр шара, поверхность которого везде и нигде. И этого-то самого, вневременного и внепространственного себя, человек и знает действительно, и на этом своем я кончается его действительное знание. Все, что находится пне этого своего я, человек не знает, но может только наблюдать и определять внешним условным образом.
Отрешившись на время от знания самого себя как разумного центра, стремящегося к благу, т. е. вневременного и внепространственного существа, человек может на время условно допустить, что он есть часть видимого мира, проявляющаяся и в пространстве, и во времени. Рассматривая себя так, в пространстве и во времени, в связи с другими существами, человек соединяет свое истинное внутреннее знание самого себя с внешним наблюдением себя и получает о себе представление как о человеке вообще, подобном всем другим людям; по этому условному знанию себя человек получает и о других людях некоторое внешнее представление, но не знает их.
Невозможность для человека истинного знания людей происходит уже и оттого, что таких людей он видит не одного, а сотни, тысячи, и знает, что есть, и были, и будут такие люди, которых он никогда не видал и не увидит.
За людьми еще дальше от себя человек видит в пространстве и времени животных, отличающихся от людей и друг от друга. Существа эти были бы совершенно непонятны для него, если бы он не имел знания о человеке вообще; но, имея это знание и отвлекая от понятия человека его разумное сознание, он получает и о животных некоторое представление, но представление это еще менее для него похоже на знание, чем его представление о людях вообще. Животных самых разнообразных он видит уже огромное количество, и, чем больше их количество, тем, очевидно, менее возможно для него познание их.
Далее от себя он видит растения, и еще увеличивается распространенность в мире этих явлений, и еще невозможнее для него знание их.
Еще далее от себя, за животными и растениями, в пространстве и времени, человек видит неживые тела и уже мало или совсем не различающиеся формы вещества. Вещество он понимает уже меньше всего. Познание форм вещества для него уже совсем безразлично, и он не только не знает его, но он только воображает себе его, тем более что вещество уже представляется ему в пространстве и времени бесконечным.
Л. Н. Толстой
3'6
Глава XIII
Познаваемость предметов увеличивается не вследствие проявления их в пространстве и времени, а вследствие единства закона, которому подчиняемся мы и те предметы, которые мы изучаем
Что может быть понятнее: собаке больно; теленок ласков — он меня любит; птица радуется, лошадь боится, добрый человек, злое животное? И все эти самые важные понятные слова не определяются пространством и временем; напротив: чем непонятнее нам закон, которому подчиняется явление, тем точнее определяется явление временем и пространством. Кто скажет, что понимает тот закон тяготения, по которому происходит движение Земли, Луны и Солнца? А затмение солнца самым точным образом определено пространством и временем.
Вполне знаем мы только нашу жизнь, наше стремление к благу и разум, указывающий нам это благо. Следующее по достоверности знание есть знание нашей животной личности, стремящейся к благу и подчиненной закону разума. В знании нашей животной личности уже являются пространственные и временные условия, видимые, осязаемые, наблюдаемые, но недоступные нашему пониманию. Следующее за этим по достоверности знание есть знание таких же животных личностей, как и мы, в которых мы узнаем общее с нами стремление к благу и общее с нами разумное сознание. Насколько жизнь этих личностей сближается с законами нашей жизни, стремления к благу и подчинения закону разума, настолько мы знаем их; насколько она проявляется в пространственных и временных условиях, настолько мы не знаем их. И так знаем мы больше всего людей. Следующее по достоверности знание есть наше знание животных, в которых мы видим личность, подобно нашей стремящуюся к благу, но уже чуть узнаем подобие нашего разумного сознания и с которыми мы уже не можем общаться этим разумным сознанием. Вслед за животными мы видим растения, в которых мы уже с трудом узнаем подобную нам личность, стремящуюся к благу. Существа эти и представляются нам преимущественно временными и пространственными явлениями и потому еще менее доступны нашему знанию.
Мы знаем их только потому, что в них видим личность, подобную нашей животной личности, которая, так же как и наша, стремится к благу и подчиняет проявляющемуся в ней закону разума вещество в условиях пространства и времени.
Еще менее доступны нашему знанию предметы безличные, вещественные; в них мы уже не находим подобия нашей личности, не видим вовсе стремления к благу, а видим одни временные и пространственные проявления законов разума, которым они подчиняются.
Истинность нашего знания не зависит от наблюдаемости предметов в пространстве и времени, а напротив; чем наблюдаемее проявление
1 И. Толстой О жизни 377
предмета в пространстве и времени, тем менее оно понятно для нас.
Наше знание о мире вытекает из сознания нашего стремления к пл агу и необходимости для достижения этого блага подчинения нашего животного разуму. Если мы знаем жизнь животного, то только потому, что мы в животном видим стремление к благу и необходимость подчинения закону разума, который в нем представляется законом организма.
Если мы знаем вещество, то мы знаем его только потому, что, несмотря на то что благо его нам непонятно, мы все-таки видим в нем то же явление, как и в себе, — необходимость подчинения закону разума, управляющего им.
Познание чего бы то ни было для нас есть перенесение на другие предметы нашего знания о том, что жизнь есть стремление к благу, достигаемое подчинением закону разума.
Не себя мы можем познавать из законов, управляющих животными, но животных мы познаем только из того закона, который знаем в себе. И тем менее можем познавать себя из законов своей жизни, перенесенных на явления вещества.
Все, что знает человек о внешнем мире, он знает только потому, что знает себя и в себе находит три различных отношения к миру: одно отношение своего разумного сознания, другое отношение своего животного и третье отношение вещества, входящего в тело его животного. Он знает в себе эти три различных отношения, и потому всё, что он видит в мире, располагается перед ним всегда в перспективе трех отдельных друг от друга планов: 1) разумные существа; 2) животные и растения и 3) неживое вещество.
Человек всегда видит эти три разряда предметов в мире, потому что он сам в себе заключает эти три предмета познания. Он знает себя: 1) как разумное сознание, подчиняющее животное; 2) как животное, подчиненное разумному сознанию, и 3) как вещество, подчиненное животному.
Не из познаний законов вещества, как это думают, мы можем познавать закон организмов, и нс из познания закона организмов мы можем познавать себя, как разумное сознание, но наоборот. Прежде всего мы можем и нам нужно познать самих себя, т. е. тот закон разума, которому для нашего блага должна быть подчинена наша личность, и тогда только нам можно и нужно познать и закон своей животной личности и подобных ей личностей, и, еще в большем отдалении от себя, законы вещества.
Нужно нам знать, и мы знаем только себя. Мир животных — для нас уже отражение того, что мы знаем в себе. Мир вещественный уже есть как бы отражение от отражения.
Нам кажутся особенно ясными законы вещества потому только, что они для нас однообразны; однообразны же они для нас потому, что особенно далеки от сознаваемого нами закона нашей жизни.
Законы организмов кажутся нам проще закона нашей жизни тоже
Л. Н. Толстой
378
от своего удаления от нас. Но и в них мы только наблюдаем законы, 4 не знаем их, как мы знаем закон нашего разумного сознания, который должен быть нами исполняем.
Ни то, ни другое существование мы не знаем, а только видим, наблюдаем вне себя. Только закон нашего разумного сознания мы знаем несомненно, потому что он нужен для нашего блага, потому что мы живем этим сознанием; не видим же его потому, что не имеем той высшей точки, с которой бы могли наблюдать его.
Только если б были существа высшие, подчиняющие наше разумное сознание так же, как наше разумное сознание подчиняет себе нашу животную личность и как животная личность (организм) подчиняет себе вещество, эти высшие существа могли бы видеть нашу разумную жизнь так, как мы видим свое животное существование и существование вещества.
Жизнь человеческая представляется неразрывно связанной с двумя видами существования, которые она включает в себя: существование животных и растений (организмов) и существование вещества.
Жизнь свою истинную человек делает сам, сам проживает ее; но в тех двух видах существования, связанных с его жизнью, человек не может принимать участия. Тело и вещество, его составляющее, существуют сами собой.
Эти виды существования представляются человеку как бы предшествовавшими, прожитыми жизнями, включенными в его жизнь, как бы воспоминаниями о прежних жизнях.
В истинной жизни человека эти два вида существования представляют для него орудие и материал его работы, но не самую работу его.
Человеку полезно изучать и материал, и орудие своей работы. Чем лучше он познает их, тем лучше он будет в состоянии работать. Изучение этих включенных в его жизнь видов существования — своего животного и вещества, составляющего животное, показывает человеку, как бы в отражении, общий закон всего существующего — подчинение закону разума и тем утверждает его в необходимости подчинения своего животного своему закону, но не может и не должен человек смешивать материал и орудие своей работы с самой своей работой.
Сколько бы ни изучал человек жизнь видимую, осязаемую, наблюдаемую им в себе и других, жизнь, совершающуюся без его усилий, жизнь эта всегда останется для него тайной; он никогда из этих наблюдений нс поймет эту нс сознаваемую им жизнь и наблюдениями над этой таинственной, всегда скрывающейся от него в бесконечность пространства и времени жизнью никак не осветит свою истинную жизнь, открытую ему в его сознании и состоящую в подчинении его совершенно особенной от всех и самой известной ему животной личности совершенно особенному и самому известному ему закону разума, для достижения своего совершенно особенного и самого известного ему блага.
1 П. Толстой
О жизни
379
Глава XIV
Истинная жизнь человеческая не есть то, что происходит в пространстве и времени
Жизнь человека знает в себе как стремление к благу, достижимому подчинением своей животной личности закону разума.
Иной жизни человеческой он не знает и знать не может. Ведь животное человек признает только тогда живым, когда вещество, составляющее его, подчинено не только своим законам, но и высшему закону организма.
Есть в известном совокуплении вещества подчинение высшему закону организма — мы признаем в этом совокуплении вещества жизнь; нет, не начиналось или кончилось это подчинение — и нет уже того, что отделяет это вещество от всего остального вещества, в котором действуют одни законы механические, химические, физические, — и мы не признаем в нем жизни животного.
Точно так же и подобных нам людей, и самих себя мы тогда только признаем живыми, когда наша животная личность кроме подчинения своему закону организма подчинена еще высшему закону разумного сознания.
Как скоро нет этого подчинения личности закону разума, как скоро в человеке действует один закон личности, подчиняющий себе вещество, составляющее его, мы не знаем и не видим человеческой жизни ни в других, ни в себе, как не видим жизни животной в веществе, подчиняющемся только своим законам.
Как бы ни были сильны и быстры движения человека в бреду, в сумасшествии или в агонии, в пьянстве, в порыве страсти даже, мы не признаем человека живым, не относимся к нему как к живому человеку и признаем в нем только возможность жизни. Но как бы слаб и неподвижен ни был человек, если мы видим, что животная личность его подчинена разуму, то мы признаем его живым и так и относимся к нему.
Жизнь человеческую мы не можем понимать иначе, как подчинение животной личности закону разума.
Жизнь эта обнаруживается во времени и пространстве, но определяется не временными и пространственными условиями, а только степенью подчинения животной личности разуму. Определять жизнь временными и пространственными условиями — это все равно, что опред-лять высоту предмета его длиной и шириной.
Движение в высоту предмета, движущегося вместе с тем и в плоскости, будет точным подобием отношения истинной жизни человеческой к жизни животной личности или жизни истинной к жизни временной и пространственной. Движение предмета кверху не зависит и не может ни увеличиться, ни уменьшиться от его движения в плоскости. То же и с определением жизни человеческой. Жизнь истинная проявляется
Л. Н. Толстой
380
всегда в личности, но не зависит, не может ни увеличиться, ни уменьшиться от такого или другого существования личности.
Временные и пространственные условия, в которых находится*животная личность человека, не могут влиять на жизнь истинную, состоящую в подчинении животной личности разумному сознанию.
Вне власти человека, желающего жить, уничтожить, остановить пространственное и временное движение своего существования; но истинная жизнь его есть достижение блага подчинением разуму, независимо от этих видимых пространственных и временных движений. В этом-то большем и большем достижении блага через подчинение разуму только и состоит то, что составляет жизнь человеческую. Нет этого увеличения в подчинении — и жизнь человеческая идет по двум видимым направлениям пространства и времени и есть одно существование. Есть это движение в высоту, это большее и большее подчинение разуму, — и между двумя силами и одной устанавливается отношение и совершается большее или меньшее движение по равнодействующей, поднимающей существование человека в область жизни.
Силы пространственные и временные — силы определенные, конечные, несовместимые с понятием жизни; сила же стремления к благу через подчинение разуму есть сила, поднимающая в высоту, — сама сила жизни, для которой нет ни временных, ни пространственных пределов.
Человеку представляется, что жизнь его останавливается и раздваивается, но эти задержки и колебания суть только обман сознания (подобный обману внешних чувств). Задержек и колебаний истинной жизни нет и не может быть: они только нам кажутся при ложном взгляде на жизнь.
Человек начинает жить истинной жизнью, т. е. поднимается на некоторую высоту над жизнью животной и с этой высоты видит призрачность своего животного существования, неизбежно кончающегося смертью, видит, что существование его в плоскости обрывается со всех сторон пропастями, и, не признавая, что этот подъем в высоту и есть сама жизнь, ужасается перед тем, что он увидал с высоты. Вместо того чтобы, признав силу, поднимающую его в высоту, своей жизнью, идти по открывшемуся ему направлению, он ужасается перед тем, что открылось ему с высоты, и нарочно спускается вниз, ложится как можно ниже, чтобы не видать обрывов, открывающихся ему. Но сила разумного сознания опять поднимает его, опять он видит, опять ужасается и, чтобы не видеть, опять припадает к земле. И это продолжается до тех пор, пока он не признает наконец, что для того, чтобы спастись от ужаса перед увлекающим его движением погибельной жизни, ему надо понять, что его движение в плоскости — его пространственное и временное существование — не есть его жизнь, а что жизнь его только в движении в высоту, что только в подчинении его личности закону разума и заключается возможность блага и жизни. Ему надо понять, что у него есть крылья, поднимающие его над бездной, что, если бы не было этих крыльев, он никогда и не поднимался бы в высоту и не видал
1 L Толстой
О жизни
381
иы бездны. Ему надо поверить в свои крылья и лететь туда, куда они влекут его.
Только от этого недостатка веры и происходят те кажущиеся странными сначала явления колебания истинной жизни, остановки ее и раздвоения сознания.
Только человеку, понимающему свою жизнь в животном существовании, определяемом пространством и временем, кажется, что разумное сознание проявлялось временами в животном существовании. И глядя так на проявление в себе разумного сознания, человек спрашивает себя, когда и при каких условиях проявлялось в нем его разумное сознание. Но сколько бы ни исследовал человек свое прошедшее, он никогда не найдет этих времен проявления разумного сознания: ему всегда представляется, что его или никогда не было, или оно всегда было. Если ему кажется, что были промежутки разумного сознания, то только потому, что жизнь разумного сознания он не признает жизнью. Понимая свою жизнь только как животное существование, определяемое пространственными и временными условиями, человек и пробуждение и деятельность разумного сознания хочет измерять той же меркой — он спрашивает себя: когда, сколько времени, в каких условиях я находился в обладании разумным сознанием? Но промежутки между пробуждениями разумной жизни существуют только для человека, понимающего свою жизнь как жизнь животной личности. Для человека же, понимающего свою жизнь в том, в чем она и есть, в деятельности разумного сознания, не может быть этих промежутков.
Разумная жизнь есть. Она одна есть. Промежутки времени одной минуты или 50 000 лет безразличны для нее, потому что для нее нет времени. Жизнь человека истинная — та, из которой он составляет себе понятие о всякой другой жизни, — есть стремление к благу, достигаемому подчинением своей личности закону разума. Ни разум, ни степень подчинения ему не определяются ни пространством, ни временем. Истинная жизнь человеческая происходит вне пространства и времени.
Глава XV
Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой
Жизнь есть стремление к благу. Стремление к благу есть жизнь. Так понимали, понимают и всегда будут понимать жизнь все люди. И потому жизнь человека есть стремление к человеческому благу, а стремление к человеческому благу и есть жизнь человеческая. Толпа, люди не мыслящие, понимает благо человека в благе его животной личности.
Ложная наука, исключая понятие блага из определения жизни, понимает жизнь в животном существовании и потому благо жизни видит только в животном благе и сходится с заблуждением толпы.
В том и другом случае заблуждение происходит от смешения лично
Л. Н. Толстой
382
сти, индивидуальности, как называет наука, с разумным сознанием. Разумное сознание включает в себя личность. Личность же не включает в себя разумное сознание. Личность есть свойство животного и человека как животного. Разумное сознание есть свойство одного человека.
Животное может жить только для своего тела — ничто не мешает ему жить так; оно удовлетворяет своей личности и бессознательно служит своему роду и не знает того, что оно есть личность; но разумный человек не может жить только для своего тела. Он не может жить так потому, что он знает, что он личность, а потому знает, что и другие существа — такие же личности, как и он, знает все то, что должно происходить от отношений этих личностей.
Если бы человек стремился только к благу своей личности, любил только себя, свою личность, то он не знал бы, что другие существа любят также себя, как не знают этого животные; но если человек знает, что он личность, стремящаяся к тому же, к чему стремятся и все окружающие его личности, он не может уже стремиться к тому благу, которое видно как зло, его разумному сознанию, и жизнь его не может уже быть в стремлении к благу личности. Человеку только кажется иногда, что его стремление к благу имеет предметом удовлетворение требований животной личности. Обман этот происходит вследствие того, что человек принимает то, что он видит происходящим в своем животном, за цель деятельности своего разумного сознания. Происходит нечто подобное тому, что бы делал человек, руководясь в бдящем состоянии тем, что он видит во сне.
И тогда-то, если этот обман поддерживается ложными учениями, и происходит в человеке смешение личности с разумным сознанием.
Но разумное сознание всегда показывает человеку, что удовлетворение требований его животной личности не может быть его благом, а потому и его жизнью, и неудержимо влечет его к тому благу и потому к той жизни, которая свойственна ему и не умещается в его животной личности.
Обыкновенно думают и говорят, что отречение от блага личности есть подвиг, достоинство человека. Отречение от блага личности не достоинство, не подвиг, а неизбежное условие жизни человека. В то же время как человек сознает себя личностью, отделенной от всего мира, он познает и другие личности отделенными от всего мира, и их связь между собою, и призрачность блага своей личности, и одну действительность блага только такого, которое могло бы удовлетворять его разумное сознание.
Для животного деятельность, не имеющая своей целью благо личности, а прямо противоположная этому благу, есть отрицание жизни, но для человека это как раз наоборот. Деятельность человека, направленная на достижение только блага личности, есть полное отрицание жизни человеческой.
Для животного, не имеющего разумного сознания, показывающего
4, Голстой
О жизни
383
ему бедственность и конечность его существования, благо личности и вытекающее из него продолжение рода личности есть высшая цель жизни. Для человека же личность есть только та ступень существования, с которой открывается ему истинное благо его жизни, не совпадающее с благом его личности.
Сознание личности для человека не жизнь, но тот предел, с которого начинается его жизнь, состоящая все в большем и большем достижении свойственного ему блага, независимого от блага животной личности.
По ходячему представлению о жизни, жизнь человеческая есть кусок времени от рождения и до смерти его животного. Но это не есть жизнь человеческая; это только существование человека как животной личности. Жизнь же человеческая есть нечто, только проявляющееся в животном существовании, точно так же, как жизнь органическая есть нечто, только проявляющееся в существовании вещества.
Человеку прежде всего представляются видимые цели его личности целями его жизни. Цели эти видимы и потому кажутся понятными.
Цели же, указываемые ему его разумным сознанием, кажутся непонятными, потому что они невидимы. И человеку сначала страшно отказаться от видимого и отдаться невидимому.
Человеку, извращенному ложными учениями мира, требования животного, которые исполняются сами собой и видимы и на себе и на других кажутся просты и ясны, новые же невидимые требования разумного сознания представляются противоположными; удовлетворение их, которое не делается само собой, а которое надо совершать самому, кажется чем-то сложным и неясным. Страшно и жутко отречься от видимого представления о жизни и отдаться невидимому сознанию ее, как страшно и жутко было бы ребенку рожаться, если бы он мог чувствовать свое рождение, но делать нечего, когда очевидно, что видимое представление влечет к смерти, а невидимое сознание одно дает жизнь.
Глава XVI
Животная личность есть орудие жизни
Никакие рассуждения ведь не могут скрыть от человека той очевидной, несомненной истины, что личное существование его есть нечто непрестанно погибающее, стремящееся к смерти и что потому в его животной личности не может быть жизни.
Не может не видеть человек, что существование его личности от рождения и детства до старости и смерти есть не что иное, как постоянная трата и умаление этой животной личности, кончающееся неизбежной смертью; и потому сознание своей жизни в личности, включающей в себя желание увеличения и неистребимости личности, не может не быть неперестающим противоречием и страданием, не может не быть злом, тогда как единственный смысл его жизни есть стремление к благу.
Л. Н. Толстой
384
В чем бы ни состояло истинное благо человека, для него неизбежно отречение его от блага животной личности.
Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой. Если он не совершается свободно, выражаясь в подчинении разумному сознанию, то он совершается в каждом человеке насильно при плотской смерти его животного, когда он от тяжести страданий желает одного: избавиться от мучительного сознания погибающей личности и перейти в'другой вид существования.
Вступление в жизнь и жизнь человека подобно тому, что совершается с лошадью, которую хозяин выводит из конюшни и впрягает. Лошади, выходящей из конюшни и увидавшей свет и почуявшей свободу, кажется, что в этой-то свободе и жизнь, но ее впрягают и трогают. Она чует за собой тяжесть, и, если она думает, что жизнь ее в том, чтобы бегать на свободе, она начинает биться, падает, убивается иногда. Но если она не убьется, ей только два выхода: или она пойдет и повезет и увидит, что тяжесть не велика и езда не мука, а радость, или отобьется от рук, и тогда хозяин сведет ее на рушильное колесо, привяжет арканом к стене, колесо завертится под ней, и она будет ходить в темноте на одном месте, страдая, но ее силы не пропадут даром: она сделает свою невольную работу, и закон исполнится и на ней. Разница будет только в том, что первая будет работать радостно, а вторая невольно и мучительно.
«Но для чего же эта личность, от блага которой я, человек, должен отречься, чтобы получить жизнь?» — говорят люди, признающие свое животное существование жизнью.
Для чего дано человеку это сознание личности, противящейся проявлению истинной его жизни? На вопрос этот можно ответить подобным же вопросом, который могло бы сделать животное, стремящееся к своим целям сохранения своей жизни и рода.
«Зачем, — спросило бы оно, — это вещество и его законы — механические, физические, химические и другие, с которыми я должно бороться, чтобы достигнуть своих целей?» — «Если мое призвание, — сказало бы животное, — есть осуществление жизни животного, то зачем все эти преграды, которые я должно одолевать?»
Нам ясно, что вся материя и ее законы, с которыми борется животное и которое она подчиняет себе для существования личности животного, суть не преграды, а средства для достижения им своих целей. Только переработкой материи и посредством ее законов животное и живет. Точно то же и в жизни человека. Животная личность, в которой застает себя человек и которую он призван подчинять своему разумному сознанию, есть не преграда, но средство, которым он достигает цели своего блага: животная личность для человека есть то орудие, которым он работает. Животная личность для человека — это лопата, которая дана разумному существу для того, чтобы ею копать и, копая, тупить ее и точить, тратить, а не отчищать и хранить. Это талант, данный ему для прироста, а не для хранения. «И кто хочет жизнь
$ I. Толстой
О жизни
385
свою сберечь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь свою ради Меня, гот обретет ее».
В этих словах сказано, что сберечь нельзя то, что должно погибнуть и не переставая погибает, а что, только отрекаясь от того, что погибнет и должно погибнуть, от нашей животной личности, мы получаем нашу истинную жизнь, которая не погибает и не может погибнуть. Сказано то, что истинная жизнь наша начинается только тогда, когда мы перестаем считать жизнью то, что не было и не могло быть для нас жизнью, — наше животное существование. Сказано то, что тот, кто будет беречь лопату, которая есть у него для приготовления себе пищи, поддерживающей жизнь, тот, сберегши лопату, потеряет пищу и жизнь.
Глава XVII
Рождение духом
«Должно вам родиться снова», — сказал Христос. Не то чтобы человеку кто-нибудь велел родиться, но человек неизбежно приведен к этому. Чтобы иметь жизнь, ему нужно вновь родиться в этом существовании — разумным сознанием.
Человеку дано разумное сознание с тем, чтобы он положил жизнь в том благе, которое открывается ему его разумным сознанием. Тот, кто в этом благе положил жизнь, тот имеет жизнь; тот же, кто не полагает в нем жизни, а полагает ее в благе животной личности, тот этим самым лишает себя жизни. В этом состоит определение жизни, данное Христом.
Люди, признающие жизнью свое стремление к благу личности, слышат эти слова и не то, что не признают, а не понимают, не могут понимать их. Им кажутся эти слова или ничего не значащими, или значащими очень мало, означающими некоторое напущенное на себя сентиментальное и мистическое, так они любят называть, настроение. Они не могут понимать значения этих слов, выражающих объяснение недоступного им состояния, как не могло бы сухое, непроросшее семя понимать состояния семени отсыревшего и уже наклюнувшегося. Для сухих зерен то солнце, которое в словах этих светит на рождающееся к жизни семя, есть только незначащая случайность — несколько большее тепло и свет, но для наклюнувшегося семени оно есть причина рождения к жизни. Точно так же для людей, не доживших еще до внутреннего противоречия животной личности и разумного сознания, свет солнца разума есть только незначащая случайность, сентиментальные, мистические слова. Солнце приводит к жизни только тех, в ком зародилась уже жизнь.
О том же, как зарождается она, почему, когда, где, не только в человеке, но и в животном и растении, никто никогда не узнал. О зарождении ее в человеке Христос сказал, что никто этого не знает и не может знать.
Л. Н [олсгсй
386
И в самом деле: что же может знать человек о том, как зарождается* в нем жизнь? Жизнь есть свет человеков, жизнь есть жизнь, начало всего; как же может знать человек о том, как она зарождается? Зарождается и погибает для человека то, что не живет, то, что проявляется в пространстве и времени. Жизнь же истинная есть, и потому она для человека не может ни зарождаться, ни погибать.
Глава XVIII
Чего требует разумное сознание
Да, разумное сознание несомненно, неопровержимо говорит человеку, что при том устройстве мира, которое он видит из своей личности, ему, его личности, блага быть не может. Жизнь его есть желание блага себе, именно себе, и он видит, что благо это невозможно. Но странное1 дело: несмотря на то что он видит несомненно, что благо это невозможно ему, он все-таки живет одним желанием этого невозможного блага — блага только себе.
Человек с проснувшимся (только проснувшимся), но не подчинившим еще себе животную личность разумным сознанием если он не убивает себя, то живет только для того, чтобы осуществить это невозможное благо: живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже все существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо, чтобы ему было наслаждение, для него не было страданий и не было смерти.
Удивительное дело: несмотря на то что и опыт свой, и наблюдение жизни всех окружающих, и разум несомненно показывают каждому человеку недостижимость этого, показывают ему, что невозможно заставить другие живые существа перестать любить самих себя, а любить только его, несмотря на это, жизнь каждого человека только в том, чтобы богатством, властью, почестями, славой, лестью, обманом, как-нибудь, но заставить другие существа жить не для себя, а для него одного, заставить все существа любить не самих себя, а его одного.
Люди делали и делают все, что могут, для этой цели и вместе с тем видят, что они делают невозможное. «Жизнь моя есть стремление к благу, — говорит себе человек. — Благо возможно для меня только, когда все будут любить меня больше, чем самих себя, а все существа любят только себя, стало быть, все, что я делаю для того, чтобы их заставить любить меня, бесполезно. Бесполезно, а другого ничего я делать не могу».
Проходят века: люди узнают расстояние от светил, определяют их вес, узнают состав Солнца и звезд, а вопрос о том, как согласить требования личного блага с жизнью мира, исключающего возможность этого блага, остается для большинства людей таким же нерешенным вопросом, каким он был для людей 5000 лет назад.
Разумное сознание говорит каждому человеку: да, ты можешь
I H. Толстой
О жизни
387
иметь благо, но только если все будут любить тебя больше себя. И то же разумное сознание показывает человеку, что этого быть не может, потому что они все любят только себя. И потому единственное благо, которое открывается человеку разумным сознанием, им же опять и закрывается.
Проходят века, и загадка о благе жизни человека остается для большинства людей той же неразрешимой загадкой. А между тем загадка разгадана уже давным-давно. И всем тем, которые узнают разгадку, всегда удивительным кажется, как они сами не разгадали ее, кажется, что они давно уже знали, но только забыли ее: так просто и само собою напрашивается разрешение загадки, казавшейся столь трудной среди ложных учений нашего мира.
Ты хочешь, чтобы все жили для тебя, чтобы все любили тебя больше себя? Есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Это такое положение, при котором все существа жили бы для блага других и любили бы других больше себя. Тогда только ты и все существа любимы бы были всеми, и ты в числе их получил бы то самое благо, которого ты желаешь. Если же благо возможно тебе только тогда, когда все существа любили бы других более себя, то и ты, живое существо, должен любить другие существа более себя.
Только при этом условии возможны благо и жизнь человека, и только при этом условии уничтожается и то, что отравляло жизнь человека, — уничтожается борьба существ, мучительность страданий и страх смерти.
В самом деле, что составляло невозможность блага личного существования? Во-первых, борьба ищущих личного блага существ между собой; во-вторых, обман наслаждения, приводящий к трате жизни, к пресыщению, к страданиям, и, в-третьих, смерть. Но стоит допустить мысленно, что человек может заменить стремление к благу своей личности стремлением к благу других существ, чтобы уничтожилась невозможность блага и благо представлялось бы достижимым человеку. Глядя на мир из своего представления о жизни как стремления к личному благу, человек видел в мире неразумную борьбу существ, губящих друг друга. Но стоит человеку признать свою жизнь в стремлении к благу других, чтобы увидать в мире совсем другое: увидать рядом со случайными явлениями борьбы существ постоянное взаимное служение друг другу этих существ, служение, без которого немыслимо существование мира.
Стоит допустить это, и вся прежняя безумная деятельность, направленная на недостижимое благо личности, заменяется другой деятельностью, согласной с законом мира и направленной к достижению наибольшего возможного блага своего и всего мира.
Другая причина бедственности личной жизни и невозможности блага для человека была обманчивость наслаждений личности, тратящих жизнь, приводящих к пресыщению и страданиям. Стоит человеку
Л. Н. Толстой
388
признать свою жизнь в стремлении к благу других, и уничтожается обманчивая жажда наслаждений; праздная же и мучительная деятельность, направленная на наполнение бездонной бочки животной личности, заменяется согласной с законами разума деятельностью поддержания жизни других существ, необходимой для его блага, и мучительность личного страдания, уничтожающего деятельность жизни, заменяется чувством сострадания к другим, вызывающим несомненно плодотворную и самую радостную деятельность.
Третья причина бедственности личной жизни была страх смерти. Стоит человеку признать свою жизнь не в благе своей животной личности, а в благе других существ, и пугало смерти навсегда исчезает из глаз его.
Ведь страх смерти происходит только от страха потерять благо жизни с ее плотской смертью. Если же бы человек мог полагать свое благо в благе других существ, т. е. любил бы их больше себя, то смерть не представлялась бы ему тем прекращением блага и жизни, каким она представляется человеку, живущему только для себя. Смерть для человека, живущего для других, не могла бы представляться ему уничтожением блага и жизни, потому что благо и жизнь других существ не только не уничтожаются жизнью человека, служащего им, но очень часто увеличиваются и усиливаются жертвой его жизни.
Глава XIX
Подтверждение требований разумного сознания
«Но это не жизнь, — отвечает возмущенное заблудшее человеческое сознание. — Это отречение от жизни, самоубийство». —Ничего этого не знаю, отвечает разумное сознание, знаю, что такова жизнь человека и другой нет и быть не может. Знаю более того, — знаю, что такая жизнь есть жизнь и благо и для человека, и для всего мира. Знаю, что при прежнем взгляде на мир жизнь моя и всего существующего была злом и бессмыслицей; при этом же взгляде она является осуществлением того закона разума, который вложен в человека. Знаю, что наибольшее, до бесконечности могущее быть увеличиваемым, благо жизни каждого существа может быть достигнуто только этим законом служения каждого всем и потому всех каждому.
«Но если это и может быть законом мыслимым, это не есть закон действительности», — отвечает возмущенное заблудшее сознание человека. «Теперь другие не любят меня больше себя, и потому и я не могу любить их больше себя и для них лишаться наслаждений и подвергаться страданиям. Мне дела нет до закона разума; я себе хочу наслаждений и себе хочу избавления от страданий. Но теперь существует борьба существ между собою, и, если я один не буду бороться, другие задавят меня. Мне все равно, каким путем мысленно достигается наи
Н. Толстой
О жизни
389
большее благополучие всех, мне нужно теперь наибольшее мое действительное благо», — говорит ложное сознание.
— Ничего не знаю про это, — отвечает разумное сознание. — Знаю только, что то, что ты называешь своими наслаждениями, только тогда будет благом для тебя, когда ты не сам будешь брать, а другие будут давать их тебе, и только тогда твои наслаждения будут делаться излишеством и страданиями, какими они делаются теперь, когда ты сам для себя будешь ухватывать их. Только тогда ты избавишься и от действительных страданий, когда другие будут тебя избавлять от них, а не ты сам, как теперь, когда из страха воображаемых страданий ты лишаешь себя самой жизни.
Знаю, что жизнь личности, жизнь такая, при которой необходимо, чтобы все любили меня одного и я любил бы только себя, и при которой я мог бы получить как можно больше наслаждений и избавиться от страданий и смерти, есть величайшее и неперестающее страдание. Чем больше я буду либить себя и бороться с другими, тем больше будут ненавидеть меня и тем злее бороться со мной; чем больше я буду ограждаться от страданий, тем они будут мучительнее; чем больше я буду ограждаться от смерти, тем она будет страшнее.
Знаю, что, что бы ни делал человек, он не получит блага до тех пор, пока не будет жить сообразно закону своей жизни. Закон же его жизни не есть борьба, а, напротив, взаимное служение существ друг другу.
«Но я знаю жизнь только в своей личности. Мне невозможно полагать свою жизнь в благе других существ».
— Ничего не знаю этого, — говорит разумное сознание, — знаю только то, что моя жизнь и жизнь мира, представлявшиеся мне прежде злой бессмыслицей, представляются мне теперь одним разумным целым, живущим и стремящимся к одному и тому же благу, чрез подчинение одному и тому же закону разума, который я знаю в себе.
«А мне невозможно это!» — говорит заблудшее сознание, и вместе с тем нет человека, который не делал бы этого самого невозможного, в этом самом невозможном не полагал бы лучшего блага своей жизни.
«Невозможно полагать свое благо в благе других существ», а между тем нет человека, который бы не знал состояния, при котором благо существ вне его становилось его благом. «Невозможно полагать благо в трудах и страданиях для другого», а стоит человеку отдаться этому чувству сострадания — и наслаждения личности теряют для него смысл, и сила жизни его переходит в труды и страдания для блага других, и страдания и труды становятся для него благом. «Невозможно жертвовать своей жизнью для блага других», а стоит человеку познать это чувство — и смерть не только не видна и не страшна ему, но представляется высшим доступным ему благом.
Разумный человек не может не видеть, что если допустить мысленно возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, кто жизнь его вместо прежнего неразумия ее и
Л. Н. Толстой
390
бедственности становится разумной и благой. Он не может не видеть и того, что при допущении такого же понимания жизни и в других людях и существах жизнь всего мира вместо прежде представлявшихся безумия и жестокости становится тем высшим разумным благом, которого только может желать человек, — вместо прежней бессмысленности и бесцельности получает для него разумный смысл: целью жизни мира представляется такому человеку бесконечное просветление и единение существ мира, к которому идет жизнь и в котором сначала люди, а потом и все существа, более и более подчиняясь закону разума, будут понимать (то, что дано понимать теперь одному человеку), что благо жизни достигается не стремлением каждого существа к своему личному благу, а стремлением, согласно с законом разума, каждого существа к благу всех других.
Но мало того: допустив только возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, человек не может не видеть и того, что это-то самое постепенное, большее и большее отречение его личности и перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества и тех живых существ, которые ближе к человеку. Человек не может не видеть в истории, что движение общей жизни не в усилении и увеличении борьбы существ между собою, а, напротив, в уменьшении несогласия и в ослаблении борьбы; что движение жизни только в том, что мир из вражды и несогласия через подчинение разуму приходит все более к согласию и единству. Допустив это, человек не может не видеть, что люди, поедавшие друг друга, перестают поедать; убивавшие пленных и своих детей, перестают их убивать; что военные, гордившиеся убийством, перестают этим гордиться; учреждавшие рабство, уничтожают его; что люди, убивавшие животных, начинают приручать их и меньше убивать; начинают питаться вместо тела животных их яйцами и молоком; начинают и в мире растений уменьшать их уничтожение. Человек видит, что лучшие люди человечества осуждают поиски за наслаждениями, призывают людей к воздержности, а самые лучшие люди, восхваляемые потомством, показывают примеры жертвы своим существованием для блага других. Человек видит, что то самое, чтб он допустил только по требованиям разума, то самое и совершается действительно в мире и подтверждается прошедшей жизнью человечества.
Но мало и этого: еще сильнее и убедительнее, чем разум и история, это самое, совсем из другого как будто источника, показывает человеку стремление его сердца, влекущее его, как к непосредственному благу, к той самой деятельности, которую указывает ему его разум и которая в сердце его выражается любовью.
'h' icit'ii О жизни
Глава XX
Требование личности кажется несовместным с требованием разумного сознания
И разум, и рассуждение, и история, и внутреннее чувство — все, казалось бы, убеждает человека в справедливости такого понимания жизни; но человеку, воспитанному в учении мира, все-таки кажется, что удовлетворение требований его разумного сознания и его чувства не может быть законом его жизни.
«Не бороться с другими за свое личное благо, не искать наслаждений, не предотвращать страдания и не бояться смерти! Да это невозможно, да это отречение от всей жизни! И как же я отрекусь от личности, когда я чувствую требования моей личности и разумом познаю законность этих требований?» — говорят с полной уверенностью образованные люди нашего мира.
И замечательное явление. Люди рабочие, простые, мало упражнявшие свой рассудок, почти никогда не отстаивают требований личности и всегда чувствуют в себе требования, противоположные требованиям личности; но полное отрицание требований разумного сознания и, главное, опровержение законности этих требований и отстаивание прав личности встречается только между людьми богатыми, утонченными, с развитым рассудком.
Человек развитый, изнеженный, праздный всегда будет доказывать, что личность имеет свои неотъемлемые права. Человек же голодающий не будет доказывать, что человеку нужно есть, — он знает, что все это знают и что этого ни доказать, ни опровергнуть нельзя: он только будет есть.
Происходит это от того, что человек простой, так называемый необразованный, всю жизнь свою работавший телом, не извратил свой разум и удержал его во всей чистоте и силе.
Человек же, всю жизнь свою мысливший не только о ничтожных, пустячных предметах, но и о таких предметах, о которых несвойственно думать человеку, извратил свой разум: разум не свободен у него. Разум занят не свойственным ему делом, обдумыванием своих потребностей личности, развитием, увеличением их и придумыванием средств их удовлетворения.
«Но я чувствую требования моей личности, и потому эти требования и законны», — говорят так называемые образованные люди, воспитанные мирским учением.
И нельзя им не чувствовать требований своей личности. Вся жизнь этих людей направлена на мнимое увеличение блага личности. Благо же личности представляется им в удовлетворении потребностей. Потребностями же личности они называют все те условия существования личности, на которые они направили свой разум. Потребности же сознанные — такие, на которые направлен разум, — всегда вследствие этого сознания разрастаются до бесконечных пределов. Удовлетворе
Л. Н. Толстой
392
ние же этих разросшихся потребностей заслоняет от них требование их истинной жизни.
Так называемая наука об обществе в основу своих исследований ставит учение о потребностях человека, забывая то неудобное для этого учения обстоятельство, что потребностей у всякого человека или нет никаких, как их нет у человека, убивающего себя или морящего голодом, или, буквально, их бесчисленное количество.
Потребностей существования животного человека столько, сколько сторон этого существования, а сторон столько же, сколько радиусов в шаре. Потребности пищи, питья, дыхания, упражнения всех мускулов и нервов; потребности труда, отдыха, удовольствия, семейной жизни; потребности науки, искусства, религии, разнообразия их. Потребности, во всех этих отношениях, ребенка, юноши, мужа, старца, девушки, женщины, старухи; потребности китайца, парижанина, русского, лапландца. Потребности, соответствующие привычкам пород, болезням...
Можно перечислять до конца дней, не перечислив всего, в чем могут состоять потребности личного существования человека. Потребностями могут быть все условия существования, а условий существования бесчисленное множество.
Потребностями называют, однако, только те условия, которые сознаны. Но сознанные условия, как только они сознаны, теряют свое настоящее значение и получают все то преувеличенное значение, которое дает им направленный на них разум, и заслоняют собой истинную жизнь.
То, что называют потребностями, т. е. условия животного существования человека, можно сравнить с бесчисленными способными раздуваться шариками, из которых бы было составлено какое-нибудь тело. Все шарики равны одни с другими и имеют себе место и не стеснены, пока они не раздуваются, и все потребности равны и имеют место и не ощущаются болезненно, пока они не сознаны. Но стоит начать раздувать шарик, и он может быть раздут так, что займет больше места, чем все остальные, стеснит другие и сам будет стеснен. То же и с потребностями: стоит направить на одну из них разумное сознание, и эта сознанная потребность занимает всю жизнь и заставляет страдать все существо человека.
Глава XXI
Требуется не отречение от личности, а подчинение ее разумному сознанию
Да, утверждение о том, что человек не чувствует требований своего разумного сознания, а чувствует одни потребности личности, есть не что иное, как утверждение того, что наши животные похоти, на усиление которых мы употребили весь наш разум, владеют нами и скрыли от нас нашу истинную человеческую жизнь. Сорная трава разросшихся пороков задавила ростки истинной жизни.
i L Толстой
О жизни
393
Да как же и не быть этому в нашем мире, когда прямо признавалось it признается теми, которые считаются учителями других, что высшее < овершенство отдельного человека есть всестороннее развитие утонченных потребностей его личности, что благо масс в том, чтобы у них »>ыло много потребностей и они могли бы удовлетворять их, что благо пюдей состоит в удовлетворении их потребностей.
Как же могут люди, воспитанные в таком учении, не утверждать гого, что требований разумного сознания они не чувствуют, а чувствуют одни потребности личности? Да как же им и чувствовать требования разума, когда весь разум их без остатка ушел на усиление их похотей, и как им отречься от требований своих похотей, когда эти похоти поглотили всю их жизнь?
«Отречение от личности невозможно», — говорят обыкновенно эти люди, нарочно стараясь извратить вопрос и вместо понятия подчинения личности закону разума подставляя понятие отречения от нее.
«Это противоестественно, — говорят они, — и потому невозможно». Да никто не говорит об отречении от личности. Личность для разумного человека есть то же, что дыхание, кровообращение для животной личности. Как животной личности отречься от кровообращения? Про это и говорить нельзя. Так же нельзя говорить разумному человеку и об отречении от личности. Личность для разумного человека есть такое же необходимое условие его животной личности.
Личность, как животная личность, и не может заявлять и не зявляет никаких требований. Требования эти заявляет ложно направленный разум — разум, направленный не на руководство жизнью, не на освещение ее, а на раздутие похотей личности.
Требования животной личности всегда удовлетворимы. Не может человек говорить, что я буду есть или во что оденусь? Все эти потребности обеспечены человеку так же, как птице и цветку, если он живет разумной жизнью. И в действительности, кто, думающий человек, может верить, чтобы он мог уменьшить бедственность своего существования обеспечением своей личности?
Бедственность существования человека происходит не от того, что он — личность, а от того, что он признает существование своей личности жизнью и благом. Только тогда являются противоречие, раздвоение и страдание человека.
Страдания человека начинаются только тогда, когда он употребляет силу своего разума на усиление и увеличение до бесконечных пределов разрастающихся требований личности для того, чтобы скрыть от себя требования разума.
Отрекаться нельзя и не нужно отрекаться от личности, как и от всех тех условий, в которых существует человек; но можно и должно не признавать эти условия самой жизнью. Можно и должно пользоваться данными условиями жизни, но нельзя и не должно смотреть на эти условия как на цель жизни. Не отречься от личности, а отречься от блага личности и перестать признавать личность жизнью: вот что
j'l H. KviCIOH
39<
должно сделать человеку для того, чтобы возвратиться к единству, и для того, чтобы то благо, стремление к которому составляет его жизнь, было доступно ему.
С древнейших времен учение о том, что признание своей жизни в личности есть уничтожение жизни и что отречение от блага личности есть единственный путь достижения жизни, было проповедуемо великими учителями человечества.
«Да, но это что же? Это буддизм? — говорят на это обыкновенно люди нашего времени. — Это нирвана, это стояние на столбу!» И когда они сказали это, людям нашего времени кажется, что они самым успешным образом опровергли то, что все очень хорошо знают и чего скрыть ни от кого нельзя: что жизнь личная бедственна и не имеет никакого смысла.
«Это буддизм, нирвана», — говорят они, и им кажется, что этими словами они опровергли все то, что признавалось и признается миллиардами людей и что каждый из нас в глубине души знает очень хорошо, именно что жизнь для целей личности губительна и бессмысленна и что если есть какой-нибудь выход из этой губительности и бессмысленности, то выход этот несомненно ведет через отречение от блага личности.
То, что так понимала и понимает жизнь большая половина человечества, то, что величайшие умы понимали жизнь так же, то, что никак нельзя ее понимать иначе, нисколько не смущает их. Они так уверены в том, что все вопросы жизни если не разрешаются самым удовлетворительным образом, то устраняются телефонами, оперетками, бактериологией, электрическим светом, робуритом и т. п., что мысль об отречении от блага жизни личной представляется им только отголоском древнего невежества.
А между тем несчастные не подозревают того, что самый грубый-индеец, стоящий годы на одной ноге во имя только отречения от блага личности для нирваны, без всякого сравнения более живой человек, чем они, озверевшие люди нашего современного, европейского общества, летающие по всему миру по железным дорогам и при электрическом свете показывающие и по телеграфам и телефонам разглашающие всему свету свое скотское состояние. Индеец этот понял то, что в жизни личности и жизни разумной есть противоречие, и разрешает его, как умеет; люди же нашего образованного мира не только не поняли этого противоречия, но даже и не верят тому, что оно есть. Положение о том, что жизнь человеческая не есть существование личности человека, добытое тысячелетним духовным трудом всего человечества, -- положение это для человека (не животного) стало в нравственном мире не только такой же, но гораздо более несомненной и несокрушимой истиной, чем вращение Земли и законы тяготения. Всякий мыслящий человек, ученый, невежда, старик, ребенок понимает и знает это; скрыто это только от самых диких людей в Африке и в Австралии и о г одичавших обеспеченных людей в европейских городах и
* I. Толстой
О жизни
395
» голицах. Истина эта стала достоянием человечества, и если человече-» гво не возвращается назад в своих побочных знаниях механики, алге-мры, астрономии, тем более в основном и главном знании определения своей жизни, оно не может идти назад. Забыть и стереть с сознания человечества то, что оно вынесло из своей жизни многих тысячелетий, — уяснение тщеты, бессмысленности и бедственности личной жизни — невозможно. Попытки восстановления допотопного дикого взгляда на жизнь как на личное существование, которыми занята так называемая наука нашего европейского мира, только очевиднее показывают рост разумного сознания человечества, показывают до очевидности, как выросло уже человечество из своего детского платья. И философские теории самоуничтожения, и практика разрастающихся в страшной пропорции самоубийств показывают невозможность возвращения человечества к пережитой ступени сознания.
Жизнь как личное существование отжита человечеством, и вернуться к ней нельзя, и забыть то, что личное существование человека не имеет смысла, невозможно. Что бы мы ни писали, ни говорили, ни открывали, как бы ни усовершенствовали нашу личную жизнь, отрицание возможности блага личности остается непоколебимой истиной для всякого разумного человека нашего времени.
«А все-таки вертится». Дело не в том, чтобы опровергать положения Галилея и Коперника и придумывать новые Птоломеевы круги — их уж нельзя придумать, а дело в том, чтобы идти дальше, делать дальнейшие выводы из того положения, которое вошло уже в общее сознание человечества. То же и с положением о невозможности блага личности, высказанным и браминами, и Буддой, и Лаодзы, и Соломоном, и стоиками, и всеми истинными мыслителями человечества. Не скрывать от себя надо это положение и не обходить его всеми способами, а смело и явно признать его и делать из него дальнейшие выводы.
Глава XXII
Чувство любви есть проявление деятельности личности, подчиненной разумному сознанию
Жить для целей личности разумному существу нельзя. Нельзя потому, что все пути заказаны ему; все цели, к которым влечется животная личность человека, — все явно недостижимы. Разумное сознание указывает другие цели, и цели эти не только достижимы, но дают полное удовлетворение разумному сознанию человека; сначала, однако, под влиянием ложного учения мира человеку представляется, что цели эти противоположны его личности.
Как ни старается человек, воспитанный в нашем мире, с развитыми, преувеличенными похотями личности, признать себя в своем разумном я, он не чувствует в этом я стремления к жизни, которое он чувствует в своей животной личности. Разумное я как будто созерцает
Л. Н. Толстой
396?
жизнь, но не живет само и не имеет влечения к жизни. Разумное я не чувствует стремления к жизни, а животное я должно страдать, и потому остается одно — избавиться от жизни.
Так недобросовестно разрешают вопрос отрицательные философы нашего времени (Шопенгауэр, Гартман), отрицающие жизнь и все-таки остающиеся в ней, вместо того чтобы воспользоваться возможностью выйти из нее. И так добросовестно разрешают этот вопрос самоубийцы, выходя из жизни, не представляющей для них ничего, кроме зла.
Самоубийство представляется им единственным выходом из неразумия человеческой жизни нашего времени.
Рассуждение пессимистической философии и самых обыкновенных самоубийц такое: есть животное я, в котором есть влечение к жизни. Это я с своим влечением не может быть удовлетворено; есть другое я, разумное, в котором нет никакого влечения к жизни, которое только критически созерцает всю ложную жизнерадостность и страстность i животного я и отрицает ее всю. 1
Отдайся я первому — я вижу, что живу безумно и иду к бедствиям, * все глубже и глубже погружаясь в них. Отдайся я второму, разумному я, — во мне не остается влечения к жизни. Я вижу, что жить для одного того, для чего мне хочется жить, для счастья личности, нелепо и невозможно. Для разумного же сознания и можно бы жить, да незачем и не ч хочется. Служить тому началу, от которого я исшел, — богу. Зачем? ' У бога, если он есть, и без меня найдутся служители. А мне зачем? Смотреть на всю эту игру жизни можно, пока не скучно. А скучно, можно уйти, убить себя. Так я и делаю.
Вот то противоречивое представление жизни, до которого дожило человечество еще до Соломона, до Будды и к которому хотят возвратить его ложные учители нашего времени.
Требования личности доведены до крайних пределов неразумия. Проснувшийся разум отрицает их. Но требования личности так разрослись, так загромоздили сознание человека, что ему кажется, что разум отрицает всю жизнь. Ему кажется то, чтб если откинуть из своего сознания жизни все то, что отрицает его разум, то ничего не останется. Он не видит уже того, что остается. Остаток, тот остаток, в котором есть жизнь, ему кажется ничем.
Но свет во тьме светит, и тьма не может объять его.
Учение истины знает эту дилемму — или безумное существование, или отречение от него — и разрешает ее.
Учение, которое всегда и называлось учением о благе, учение истины, указало людям, что вместо того обманчивого блага, которого они ищут для животной личности, они не то, что могут получить когда-то, где-то, но всегда имеют сейчас, здесь, неотъемлемое от них, действительное благо, всегда доступное им.
Благо это не есть нечто, только выведенное из рассуждения, не есть что-то такое, что надо отыскивать где-то, не есть благо, обещан
Я. Голстой
О жизни
397
ное где-то и когда-то, а есть то самое знакомое человеку благо, к которому непосредственно влечется каждая неразвращенная душа человеческая.
Все люди с самых первых детских лет знают, что кроме блага животной личности есть еще одно, лучшее благо жизни, которое не только независимо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бывает тем больше, чем больше отречение от блага животной личности.
Чувство это, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это есть любовь.
Жизнь есть деятельность животной личности, подчиненной закону разума. Разум есть тот закон, которому для своего блага должна быть подчинена животная личность человека. Любовь есть единственная разумная деятельность человека.
Животная личность влечется к благу; разум указывает человеку обманчивость личного блага и оставляет один путь. Деятельность на этом пути есть любовь.
Животная личность человека требует блага, разумное сознание показывает человеку бедственность всех борющихся между собою существ, показывает ему, что блага для его животной личности быть не может, показывает ему, что единственное благо, возможное ему, было бы такое, при котором не было бы ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, пресыщения им, не было бы предвидения и ужаса смерти.
И вот, как ключ, сделанный только к этому замку, человек в душе своей находит чувство, которое дает ему то самое благо, на которое, как на единственно возможное, указывает ему разум. И чувство это не только разрешает прежнее противоречие жизни, но как бы в этом противоречии и находит возможность своего проявления.
Животные личности для своих целей хотят воспользоваться личностью человека. А чувство любви влечет его к тому, чтобы отдать свое существование на пользу других существ.
Животная личность страдает. И эти-то страдания и облегчение их и составляют главный предмет деятельности любви. Животная личность, стремясь к благу, стремится каждым дыханием к величайшему злу — к смерти, предвидение которой нарушало всякое благо личности. А чувство любви не только уничтожает этот страх, но влечет человека к последней жертве своего плотского существования для блага других.
Л. Н. Толстой
398
Глава XXIII
Проявление чувства любви невозможно для людей, не понимающих смысла своей жизни
Всякий человек знает, что в чувстве любви есть что-то особенное, способное разрешать все противоречия жизни и давать человеку то полное благо, в стремлении к которому состоит его жизнь. «Но ведь это чувство, которое приходит только изредка, продолжается недолго, и последствием его бывают еще худшие страдания», — говорят люди, не разумеющие жизни.
Людям этим любовь представляется не тем единственным законным проявлением жизни, каким она представляется для разумного сознания, а только одной из тысячей разных случайностей, бывающих в жизни, представляется одним из тех тысячей разнообразных настроений, в которых бывает человек во время своего существования: бывает, что человек щеголяет, бывает, что увлечен наукой или искусством, бывает, что увлечен службой, честолюбием, приобретением, бывает, что он любит кого-нибудь. Настроение любви представляется людям, не разумеющим жизни, — не сущностью жизни человеческой, но случайным настроением — таким же независимым от его воли, как и все другие, которым подвергается человек во время своей жизни. Даже можно часто прочесть и услыхать суждения о том, что любовь есть некоторое неправильное, нарушающее правильное течение жизни, мучительное настроение. Нечто подобное тому, что должно казаться сове, когда восходит солнце.
Чувствуется, правда, и этими людьми то, что в состоянии любви есть что-то особенное, более важное, чем во всех других настроениях. Но, не понимая жизни, люди эти не могут и понимать любви, и состояние любви представляется им таким же бедственным и таким же обманчивым, как и все другие состояния.
Любить?.. Но кого же? На время не стоит труда, А вечно любить невозможно...
Слова эти точно выражают смутное сознание людей, что в любви — спасение от бедствий жизни и единственное нечто, похожее на истинное благо, и вместе с тем признание в том, что для людей, не понимающих жизни, любовь не может быть якорем спасения. Любить некого, и всякая любовь проходит. И потому любовь могла бы быть благом только тогда, когда было, бы кого любить и был бы тот, кого можно любить вечно. А так как этого нет, то и нет спасения в любви, и любовь такой же обман и такое же страдание, как и все остальное.
И так, и не иначе, как так, могут понимать любовь люди, учащие и сами научаемые тому, что жизнь есть не что иное, как животное существование.
О
Для таких людей любовь даже не соответствует тому понятию, которое мы все невольно соединяем с словом любовь. Она не есть деятельность добрая, дающая благо любящему и любимому. Любовь очень часто в представлении людей, признающих жизнь в животной личности, — то самое чувство, вследствие которого для блага своего ребенка одна мать отнимает у другого голодного ребенка молоко его матери и страдает от беспокойства за успех кормления; то чувство, по которому отец, мучая себя, отнимает последний кусок хлеба у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей; это то чувство, по которому любящий женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее; то чувство, по которому бывает даже, что человек из любви насильничает женщину; это то чувство, по которому люди одного товарищества наносят вред другим, чтобы отстоять своих; это то чувство, по которому человек мучает сам себя над любимым занятием и этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям; это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому отечеству и устилают поля убитыми и ранеными, своими и чужими.
Но мало и этого, деятельность любви для людей, признающих жизнь в благе животной личности, представляет такие затруднения, что проявления ее становятся не только мучительными, но часто и невозможными. «Надо не рассуждать о любви, — говорят обыкновенно люди, не понимающие жизни, — а предаваться тому непосредственному чувству предпочтения, пристрастия к людям, которое испытываешь, и это-то и есть настоящая любовь».
Они правы, что нельзя рассуждать о любви, что всякое рассуждение о любви уничтожает любовь. Но дело в том, что не рассуждать о любви могут только те люди, которые уже употребили свой разум на понимание жизни и отреклись от блага личной жизни; те же люди, которые не поняли жизни и существуют для блага животной личности, не могут не рассуждать. Им необходимо рассуждать, чтобы предаваться тому чувству, которое они называют любовью. Всякое проявление этого чувства невозможно для них без рассуждения, без разрешения неразрешимых вопросов.
В самом деле, люди предпочитают своего ребенка, своих друзей, свою жену, своих детей, свое отечество всяким другим детям, женам, друзьям, отечествам и называют это чувство любовью.
Любить вообще значит желать делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. И вот я люблю своего ребенка, свою жену, свое отечество, т. е. желаю блага своему ребенку, жене, отечеству больше, чем другим детям, женам и отечествам. Никогда не бывает и не может быть, чтобы я любил только своего ребенка, или жену, или только отечество. Всякий человек любит вместе и ребенка, и жену, и детей, и отечество, и людей вообще. Между тем условия блага, которого он по своей любви желает различным любимым существам, так связаны между собой, что всякая любовная де
Л. Н. Толстой
40(5
ятельность человека для одного из любимых существ не только мешает его деятельности для других, но бывает в ущерб другим.
И вот являются вопросы: во имя какой любви и как действовать? Во имя какой любви жертвовать другой любовью, кого любить больше и кому делать больше добра — жене или детям, жене и детям или друзьям? Как служить любимому отечеству, не нарушая любовь к жене, детям и друзьям? Как, наконец, решать вопросы о том, насколько можно мне жертвовать и моей личностью, нужной для служения другим? Насколько мне можно заботиться о себе для того, чтобы я мог, любя других, служить им? Все эти вопросы кажутся очень простыми для людей, не пытавшихся дать себе отчета в том чувстве, которое они называют любовью; но они не только не просты, они совершенно неразрешимы.
И недаром законник поставил Христу этот самый вопрос: кто ближний? Отвечать на эти вопросы кажется очень легко только людям, забывающим настоящие условия жизни человеческой.
Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они бы могли любить одних избранных людей; тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинной любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это. Он должен знать, что всякое плотское благо получается одним существом только в ущерб другому.
Сколько бы ни уверяли людей суеверия религиозные и научные о таком будущем золотом веке, в котором всего всем будет довольно, разумный человек видит и знает, что закон его временного и пространственного существования есть борьба всех против каждого, каждого против каждого и против всех.
В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни. Человек, если он любит хотя и избранных, он никогда не любит только одного. Всякий человек любит и мать, и жену, и ребенка, и друзей, и отечество, и даже всех людей. И любовь не есть только слово (как все согласны в этом), но есть деятельность, направленная на благо других. Деятельность же эта не происходит в каком-нибудь определенном порядке, так что сначала заявляются человеку требования его самой сильной любви, потом менее сильной и т. д. Требования любви заявляются беспрестанно все вместе, без всякого порядка. Сейчас пришел голодный старик, которого я немножко люблю, и просит еды, которую я берегу на ужин мною любимым детям; как мне взвесить требования сейчасной, менее сильной любви с будущими требованиями более сильной любви?
Эти самые вопросы и были поставлены законником Христу: Кто ближний? В самом деле, как решить, кому нужно служить и в какой
: I. Голе» ой
О жизни
401
мере: людям или отечеству? Отечеству или своим приятелям? Своим приятелям или своей жене? Своей жене или своему отцу? Своему отцу или своим детям? Своим детям или самому себе? (Чтобы быть в состоянии служить другим, когда это понадобится.)
Ведь всё это требования любви, и все они переплетены между собою, так что удовлетворение требованиям одних лишает человека возможности удовлетворять другие. Если же я допущу, что озябшего ребенка можно не одеть, потому что моим детям когда-нибудь понадобится то платье, которого у меня просят, то я могу не отдаваться и другим требованиям любви во имя моих будущих детей.
Точно то же и по отношению к любви к отечеству, избранным занятиям и ко всем людям. Если человек может отказывать требованиям самой малой любви настоящего во имя требования самой большой любви будущего, то разве не ясно, что такой человек, если бы он всеми силами и желал этого, никогда не будет в состоянии взвесить, на сколько он может отказывать требованиям настоящего во имя будущего, и потому, не будучи в силах решить этого вопроса, всегда выберет то проявление любви, которое будет приятно для него, т. е. будет действовать не во имя любви, а во имя своей личности. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви во имя другого, будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других и никого не любит кроме себя одного.
Любви в будущем не бывает; любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви.
Происходит то же, что при представлении о жизни людей, не имеющих жизни. Если бы люди были животные и не имели бы разума, они бы и существовали как животные, не рассуждали бы о жизни; и животное существование их было бы законное и счастливое. То же и с любовью: если бы люди были животные без разума, то они любили бы тех, кого любят: своих волчат, свое стадо, и не знали бы, что они любят своих волчат и свое стадо, и не знали бы того, что другие волки любят своих волчат и другие стада своих товарищей по стаду, и любовь их была бы — та любовь и та жизнь, которая возможна на той степени сознания, на которой они находятся.
Но люди — разумные существа и не могут не видеть, что другие существа имеют такую же любовь к своим и что потому эти чувства любви должны прийти в столкновение и произвести нечто не благое, а совершенно противное понятию любви.
Если же люди употребляют свой разум на то, чтобы оправдывать и усиливать то животное, неблагое чувство, которое они называют любовью, придавая этому чувству уродливые размеры, то это чувство становится не только не добрым, но делает из человека — давно известная истина — самое злое и ужасное животное. Происходит то, что сказано в Евангелии: «Если свет, который в тебе, — тьма, то какова
JI. H. Толстой
402
же тьма?» Если бы в человеке не было ничего, кроме любви к себе и к своим детям, не было бы и 0,99 того зла, которое есть теперь между людьми. 0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека.
То, что люди, не понимающие жизни, называют любовью, — это только известные предпочтения одних условий блага своей личности другим. Когда человек, не понимающий жизни, говорит, что он любит свою жену, или ребенка, или друга, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены, ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни.
Предпочтения эти относятся к любви так же, как существование относится к жизни. И как людьми, не понимающими жизни, жизнью называется существование, так этими же людьми любовью называется предпочтение одних условий личного существования другим.
Чувства эти — предпочтения к известным существам, как, например, к своим детям или даже к известным занятиям, например к науке, к искусствам, мы называем тоже любовью; но такие чувства предпочтения, бесконечно разнообразные, составляют всю сложность видимой, осязаемой животной жизни людей и не могут быть называемы любовью, потому что они не имеют главного признака любви — деятельности, имеющей и целью, и последствием благо.
Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности. Страстность предпочтения одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не делает добра людям или производит еще большее зло. И потому приносит величайшее зло миру и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которая есть не что иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим.
Глава XXIV
Истинная любовь есть последствие отречения от блага личности
Любовь истинная становится возможной только при отречении от блага животной личности.
Возможность истинной любви начинается только тогда, когда человек понял, что нет для него блага его животной личности. Только тогда все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола дичка животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как он и сам
Jj. Il /10JC ll)li (} ЖН '.Jin -r! G
сказал это. Он сказал, что он, его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается.
Только тот, кто не только понял, но жизнью познал то, что «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее», только кто понял, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, только тот познает истинную любовь.
«И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Если вы любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас».
Не вследствие любви к отцу, к сыну, к жене, к друзьям, к добрым и милым людям, как это обыкновенно думают, люди отрекаются от личности, а только вследствие сознания тщеты существования личности, сознания невозможности ее блага, и потому вследствие отречения от жизни личности познает человек истинную любовь и может истинно любить отца, сына, жену, детей и друзей.
Любовь есть предпочтение других существ себе — своей животной личности.
Забвение ближайших интересов личности для достижения отдаленных целей той же личности, как это бывает при так называемой любви, не выросшей на самоотречении, есть только предпочтение одних существ другим для своего личного блага. Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть истинным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям.
Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности. Как часто приходится слышать слова: «Мне ведь все равно, мне ничего не нужно», и вместе с этими словами видеть нелю-бовное отношение к людям. Но пусть попробует всякий человек хоть раз, в минуту недоброжелательности к людям, искренно, от души сказать себе: «Мне все равно, мне ничего не нужно», и только, хоть на время, ничего не желать для себя, и всякий человек этим простым внутренним опытом познает, как тотчас же, по мере искренности его отречения, падет всякое недоброжелательство и каким потоком хлынет из его сердца запертое до тех пор благоволение ко всем людям.
В самом деле, любовь есть предпочтение других существ себе — ведь мы все так понимаем и иначе не можем понимать любовь. Величина любви есть величина дроби, которой числитель, мои пристрастия, симпатии к другим, — не в моей власти; знаменатель же, моя любовь к себе, может быть увеличен и уменьшен мною до бесконечности,
Л. Н. Толстой
404
по мере того значения, которое я придам своей животной личности. Суждения же нашего мира о любви, о степенях ее — это суждения о величине дробей по одним числителям, без соображения о их знаменателях.
Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям. Только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям — своим или чужим. И только такая любовь дает истинное благо жизни и разрешает кажущееся противоречие животного и разумного сознания.
Любовь, не имеющая в основе своей отречения от личности и, вследствие его, благоволения ко всем людям, есть только жизнь животная и подвержена тем же и еще большим бедствиям и еще большему неразумию, чем жизнь без этой мнимой любви. Чувство пристрастия, называемое любовью, не только не устраняет борьбы существ, не освобождает личность от погони за наслаждениями и не спасает от смерти, но только больше еще затемняет жизнь, ожесточает борьбу, усиливает жадность к наслаждениям для себя и для другого и увеличивает ужас перед смертью за себя и за другого.
Человек, который жизнь свою полагает в существовании животной личности, не может любить, потому что любовь должна представляться ему деятельностью прямо противоположной его жизни. Жизнь такого человека только в благе животного существования, а любовь прежде всего требует жертвы этого блага. Если бы даже человек, не понимающий жизни, и захотел искренно отдаться деятельности любви, он не будет в состоянии этого сделать до тех пор, пока он не поймет жизни и не изменит все свое отношение к ней. Человек, положивший свою жизнь в благе животной личности, всю жизнь свою увеличивает средства своего животного блага, приобретая богатства и сохраняя их, заставляет других служить его животному благу и распределяет эти блага между теми лицами, которые были более нужны для блага его личности. Как же ему отдать свою жизнь, когда жизнь его еще поддерживается не им самим, а другими людьми? И еще труднее ему выбрать, кому из предпочитаемых им людей передать накопленные им блага и кому служить.
Чтобы быть в состоянии отдавать свою жизнь, ему надо прежде отдать тот излишек, который он берет у других для блага своей жизни, и потом еще сделать невозможное: решить, кому из людей служить своей жизнью. Прежде чем он будет в состоянии любить, т. е., жертвуя собою, делать благо, ему надо перестать ненавидеть, т. е. делать зло, и перестать предпочитать одних людей другим для блага своей личности.
Только для человека, не признающего блага в жизни личной и потому не заботящегося об этом ложном благе и чрез это освободившего в себе свойственное человеку благоволение ко всем людям, возможна деятельность любви, всегда удовлетворяющая его и других. Благо
Л. Н. Толстой
О жизни
405
жизни такого человека в любви, как благо растения в свете, и потому, как ничем не закрытое, растение не может спрашивать и не спрашивает, в какую сторону ему расти и хорош ли свет, не подождать ли ему другого, лучшего, а берет тот единый свет, который есть в мире, и тянется к нему, — так и отрекшийся от блага личности человек не рассуждает о том, что ему отдать из отнятого от других людей и каким любимым существам и нет ли какой еще лучшей любви, чем та, которая заявляет требования, а отдает себя, свое существование той любви, которая доступна ему и есть перед ним. Только такая любовь дает полное удовлетворение разумной природе человека.
Глава XXV
Любовь есть единая и полная деятельность истинной жизни
И нет иной любви, как той, чтобы положить душу свою за други свои. Любовь — только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек отдает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое тело для любимого предмета, отдает ему свою жизнь — только это мы признаем все любовью и только в такой любви мы все находим благо, награду любви. И только тем, что есть такая любовь в людях, только тем и стоит мир. Мать, кормящая ребенка, прямо отдает себя, свое тело в пищу детям, которые без этого не были бы живы. И это — любовь. Так же точно отдает себя, свое тело в пищу другому всякий работник для блага других, изнашивающий свое тело в работе и приближающий себя к смерти. И такая любовь возможна только для того человека, у которого между возможностью жертвы собой и теми существами, которых он любит, не стоит никакой преграды для жертвы. Мать, отдавшая кормилице своего ребенка, не может его любить; человек, приобретающий и сохраняющий свои деньги, не может любить.
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза... Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем сердца наши... Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви».
Только такая любовь дает истинную жизнь людям.
«Возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».
JI. Fl. 'Голстой
406
Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», — сказал Христу законник. И на это Иисус сказал: «Правильно ты отвечал, так и поступай, т. е. люби бога и ближнего и будешь жить».
Любовь истинная есть самая жизнь. «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев, — говорит ученик Христа. — Не любящий брата пребывает в смерти». Жив только тот, кто любит.
Любовь, по учению Христа, есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная. И мы все знаем это. Любовь не есть вывод разума, не есть последствие известной деятельности; а это есть сама радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас и которую мы все знаем в себе с самых первых воспоминаний детства до тех пор, пока ложные учения мира не засорили ее в нашей душе и не лишили нас возможности испытывать ее.
Любовь — это не есть пристрастие к тому, что увеличивает временное благо личности человека, как любовь к избранным лицам или предметам, а то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности.
Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного — чтоб всем было хорошо, чтоб все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человека.
Любовь эта, в которой только и есть жиЗнь, проявляется в душе человека, как чуть заметный, нежный росток среди похожих на нее грубых ростков сорных трав, различных похотей человека, которые мы называем любовью. Сначала людям и самому человеку кажется, что этот росток — тот, из которого должно вырастать то дерево, в котором будут укрываться птицы, — и все другие ростки всё одно и то же. Люди даже предпочитают сначала ростки сорных трав, которые растут быстрее, и единственный росток жизни глохнет и замирает; но еще хуже то, что еще чаще бывает: люди слышали, что в числе этих ростков есть один настоящий, жизненный, называемый любовью, и они вместо него, топча его, начинают воспитывать другой росток сорной травы, называя его любовью. Но что еще хуже: люди грубыми руками ухватывают самый росток и кричат: «Вот он, мы нашли его, мы теперь знаем его, возрастим его. Любовь! Любовь! Высшее чувство, вот оно!», и люди начинают пересаживать его, исправлять его и захватывают, заминают его так, что росток умирает не расцветши, и те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сентиментальность. Ро
'L H. Толстом
О жи ши
407
сток любви, при проявлении своем нежный, не терпящий прикосновения, могуществен только при своем разроете. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одного — того, чтобы ничто не скрывало от него солнца разума, которое одно возращает его.
Глава XXVI
Старания людей, направленные на невозможное улучшение своего существования, лишают их возможности единой истинной жизни
Только познание призрачности и обманчивости животного существования и освобождение в себе единственной истинной жизни любви дает человеку благо. И что же делают люди для достижения этого блага? Люди, существование которых состоит в медленном уничтожении личности и приближении к неизбежной смерти этой личности и которые не могут не знать этого, все время своего существования всячески стараются, только тем и заняты, чтобы утверждать эту гибнущую личность, удовлетворять ее похотям и тем лишать себя возможности единственного блага жизни — любви.
Деятельность людей, не понимающих жизни, во все время их существования направлена на борьбу за свое существование, на приобретение наслаждений, избавление себя от страданий и удаление от себя неизбежной смерти.
Но увеличение наслаждений увеличивает напряженность борьбы, чувствительность к страданиям и приближает смерть. Чтобы скрыть от себя приближение смерти — одно средство: еще увеличивать наслаждения. Но увеличение наслаждений доходит до своего предела, наслаждения не могут быть увеличены, переходят в страдания, и остается одна чувствительность к страданиям и ужас все ближе и ближе среди одних страданий надвигающейся смерти. И является ложный круг: одно — причина другого и одно усиливает другое. Главный ужас жизни людей, не понимающих жизни, в том, что то, что ими считается наслаждениями (все наслаждения богатой жизни), будучи такими, что они не могут быть равномерно распределены между всеми людьми, должны быть отнимаемы у других, должны быть приобретаемы насилием, злом, уничтожающим возможность того благоволения к людям, из которого вырастает любовь. Так что наслаждения всегда прямо противоположны любви, и чем сильнее, тем противоположнее. Так что, чем сильнее, напряженнее деятельность для достижения наслаждений, тем невозможнее становится единственно доступное человеку благо — любовь.
Жизнь понимается не так, как она сознается разумным сознанием — как невидимое, но несомненное подчинение в каждое мгновение настоящего своего животного закону разума, освобождающее свой
Л. Н. Толстой
408
ственное человеку благоволение ко всем людям и вытекающую из него деятельность любви, а только как плотское существование в продолжение известного промежутка времени, в определенных и устраиваемых нами, исключающих возможность благоволения ко всем людям, условиях.
Людям мирского учения, направившим свой разум на устройство известных условий существования, кажется, что увеличение блага жизни происходит от лучшего внешнего устройства своего существования. Лучшее же внешнее устройство их существования зависит от большего насилия над людьми, прямо противоположного любви. Так что, чем лучше их устройство, тем меньше у них остается возможности любви, возможности жизни.
Употребив свой разум не на то, чтобы понять одинаково для всех людей равное нолю благо животного существования, люди этот ноль признали величиной, которая может уменьшаться и увеличиваться, и на мнимое это увеличение, умножение ноля употребляют весь остающийся у них без приложения разум.
Люди не видят того, что ничто, ноль, на что бы он ни был помножен, остается тем же, равным всякому другому — нолем, не видят, что существование животной личности всякого человека одинаково бедственно и не может быть никакими внешними условиями сделано счастливым. Люди не хотят видеть того, что ни одно существование, как плотское существование, не может быть счастливее другого, что это такой же закон, как тот, по которому на поверхности озера нигде нельзя поднять воду выше данного общего уровня. Люди, извратившие свой разум, не видят этого и употребляют свой извращенный разум на это невозможное дело, и в этом невозможном поднимании воды в разных местах на поверхности озера — вроде того, что делают купающиеся дети, называя это варить пиво, — проходит все их существование.
Им кажется, что существования людей бывают более и менее хорошие, счастливые; существование бедного работника или больного человека, говорят они, дурное, несчастливое; существование богача или здорового человека хорошее, счастливое; и они все силы разума своего напрягают на то, чтобы избежать дурного, несчастливого, бедного и болезненного существования и устроить себе хорошее, богатое и здоровое, счастливое.
Вырабатываются поколениями приемы устройства и поддержания этих разных, самых счастливых жизней, и программы этих воображаемых лучших, как они называют свое животное существование, жизней передаются по наследству. Люди одни перед другими стараются как можно лучше поддержать ту счастливую жизнь, которую они наследовали от устройства родителей, или сделать себе новую, еще более счастливую жизнь. Людям кажется, что, поддерживая свое унаследованное устройство существования или устраивая себе новое, лучшее по их представлению, они что-то делают.
И поддерживая друг друга в этом обмане, люди часто до того ис
Л. Н. Толстой
О жизни
409
кренно убеждаются в том, что в этом безумном толчении воды, бессмысленность которого очевидна для них самих, и состоит жизнь, так убеждаются в этом, что с презрением отворачиваются от призыва к настоящей жизни, который они не переставая слышат: и в учении истины, и в примерах жизни живых людей, и в своем заглохшем сердце, в котором никогда не заглушается до конца голос разума и любви.
Совершается удивительное дело. Люди, огромное количество людей, имеющих возможность разумной и любовной жизни/находятся в положении тех баранов, которых вытаскивают из горящего дома, а они, вообразив, что их хотят бросить в огонь, все силы свои употребляют на борьбу с теми, которые хотят спасти их.
Из страха перед смертью люди не хотят выходить из нее, из страха перед страданиями люди мучают себя и лишают себя единственно возможных для них блага и жизни...
...Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотой и мраком; но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни.
Глава XXVIII
Плотская смерть уничтожает пространственное тело и временное сознание, но не может уничтожить того, что составляет основу жизни: особенное отношение к миру каждого существа
Но и люди, не видящие жизни, если бы они только подходили ближе к тем привидениям, которые пугают их, и ощупывали бы их, увидали бы, что и для них привидение — только привидение, а не действительность.
Страх смерти всегда происходит в людях оттого, что они страшатся потерять при плотской смерти свое собственное я, которое — они чувствуют — составляет их жизнь. Я умру, тело разложится, и уничтожится мое я. Я же это мое есть то, что жило в моем теле столько-то лет.
Люди дорожат этим своим я; и полагая, что это я совпадает с их плотской жизнью, делают заключение о том, что оно должно уничтожиться с уничтожением их плотской жизни.
Заключение это самое обычное, и редко кому приходит в голову усомниться в нем, а между тем заключение это совершенно произвольно. Люди, и те, которые считают себя материалистами, и те, которые считают себя спиритуалистами, так привыкли к представлению о том, что их я есть то их сознание своего тела, которое жило столько-то лет, что им и не приходит в голову проверить справедливость такого утверждения.
Я жил 59 лет, и во все это время я сознавал себя собою в своем теле.
JI. H. Толстой
4И
и это-то сознание себя собою, мне кажется, и была моя жизнь. Но ведь это только кажется мне. Я жил ни 59 лет, ни 59 000 лет, ни 59 секунд. Ни мое тело, ни время его существования нисколько не определяют жизни моего я. Если я в каждую минуту жизни спрошу себя в своем сознании, что я такое, я отвечу: нечто думающее и чувствующее, т. е. относящееся к миру своим совершенно особенным образом. Только это я сознаю своим я, и больше ничего. О том, когда и где я родился, когда и где я начал так чувствовать и думать, как я теперь думаю и чувствую, я решительно ничего не сознаю. Мое сознание говорит мне только: я есмь; я есмь с тем моим отношением к миру, в котором я нахожусь теперь. О своем рождении, о своем детстве, о многих периодах юности, о средних годах, об очень недавнем времени я часто ничего не помню. Если же я и помню кое-что или мне напоминают кое-что из моего прошедшего, то я помню и вспоминаю это почти так же, как то, что мне рассказывают про других. Так на каком же основании я утверждаю, что во все время моего существования я был все один я? Тела ведь моего одного никакого не было и нет: тело мое все было и есть беспрестанно текущее вещество — через что-то невещественное и невидимое, признающее это протекающее через него тело своим. Тело мое все десятки раз переменилось: ничего не осталось старого; и мышцы, и внутренности, и кости, и мозг — все переменилось.
Тело мое одно только потому, что есть что-то невещественное, которое признает все это переменяющееся тело одним и своим. Невещественное это есть то, что мы называем сознанием: оно одно держит все тело вместе и признает его одним и своим. Без этого сознания себя отдельным от всего остального я бы ничего не знал ни о своей, ни о всякой другой жизни. И потому при первом рассуждении кажется, что основа всего — сознание должно бы быть постоянное. Но и это несправедливо: и сознание не постоянно. В продолжение всей жизни и теперь повторяется явление сна, которое кажется нам очень простым потому, что мы все спим каждый день, но которое решительно непостижимо, если признавать то, чего нельзя не признавать, что во время сна иногда совершенно прекращается сознание.
Каждые сутки, во время полного сна, сознание обрывается совершенно и потом опять возобновляется. А между тем это-то сознание есть единственная основа, держащая все тело вместе и признающая его своим. Казалось бы, что при прекращении сознания должно бы и распадаться тело, и терять свою отдельность; но этого не бывает ни в естественном, ни в искусственном сне.
Но мало того, что сознание, держащее все тело вместе, периодически обрывается, и тело не распадается, сознание это, кроме того, еще и изменяется так же, как и тело. Как нет ничего общего в веществе моего тела, каким оно было десять лет назад и тепершним, как не было одного тела, так и не было во мне одного сознания. Мое сознание трехлетним ребенком и теперешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь и 30 лет тому назад. Сознания нет одного,
IH. Голоси
О жизни
411
а есть ряд последовательных сознаний, которые можно дробить до бесконечности.
Так что и то сознание, которое держит все тело вместе и признает его своим, не есть что-нибудь одно, а есть нечто прерывающееся и переменяющееся. Сознания, одного сознания самого себя, как мы обыкновенно представляем себе, нет в человеке, так же как нет одного тела. Нет в человеке ни одного и того же тела, ни одного того, что отделяет это тело от всего другого, нет сознания постоянно одного, во всю жизнь одного человека, а есть только ряд последовательных сознаний, чем-то связанных между собой, — и человек все-таки чувствует себя собою.
Тело наше не есть одно, и то, что признает это переменяющееся тело одним и нашим, не сплошное во времени, а есть только ряд переменяющихся сознаний, и мы уже очень много раз теряли и свое тело, и эти сознания; теряем тело постоянно и сознание теряем всякий день, когда засыпаем, и всякий день и час чувствуем в себе изменения этого сознания и нисколько не боимся этого. Стало быть, если есть какое-нибудь такое наше я, которое мы боимся потерять при смерти, то это я должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-либо пругом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно.
Что же такое это нечто, связывающее в одно все последовательные во времени сознания? Что такое это-то самое коренное и особенное мое я, не слагающееся из существования моего тела и ряда происходящих в нем сознаний, но то основное я, на которое, как на стержень, нанизываются одно за другим различные, последовательные во времени сознания? Вопрос кажется очень глубоким и премудрым, а между тем нет того ребенка, который не знал бы на него ответа и не высказывал бы этого ответа 20 раз на день. «А я люблю это, а не люблю этого». Слова эти очень просты, а между тем в них-то и разрешение вопроса о том, в чем то особенное я, которое связывает в одно все сознания. Это-то я, которое любит это, а не любит этого. Почему один любит это, а не любит этого, этого никто не знает, а, между прочим, это самое и есть то, что составляет основу жизни каждого человека, это-то и есть то, что связывает в одно все различные по времени состояния сознания каждого отдельного человека. Внешний мир действует на всех людей одинаково, но впечатления людей, поставленных даже в совершенно тожественные условия, до бесконечности разнообразны и по числу получаемых и могущих быть дробимыми до бесконечности впечатлений, и по силе их. Из впечатлений этих слагается ряд последовательных сознаний каждого человека. Связываются же все эти последовательные сознания только потому, почему и в настоящем одни впечатления действуют, а другие не действуют на его сознание. Действуют же или не действуют на человека известные впечатления только потому, что он больше или меньше любит это, а не любит этого.
Только вследствие этой большей или меньшей степени любви и
Л. Н. Толстой
412
складывается в человеке известный ряд таких, а не иных сознаний. Так что только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое — и есть то особенное и основное я человека, в котором собираются в одно все разбросанные, прерывающиеся сознания. Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то не видимого и не познаваемого нами прошедшего.
Это особенное свойство человека в большей или меньшей степени любить одно и не любить другое обыкновенно называют характером. И под словом этим часто разумеется особенность свойств каждого отдельного человека, образующаяся вследствие известных условий места и времени. Но это несправедливо. Основное свойство человека более или менее любить одно и не любить другое не происходит от пространственных и временных условий, но, напротив, пространственные и временные условия действуют или не действуют на человека только потому, что человек, входя в мир, уже имеет весьма определенное свойство любить одно и не любить другое. Только от этого и происходит то, что люди, рожденные и воспитанные в совершенно одинаковых пространственных и временных условиях, представляют часто самую резкую противоположность своего внутреннего я.
То, что соединяет в одно все разрозненные сознания, соединяющиеся в свою очередь в одно наше тело, есть нечто весьма определенное, хотя и независимое от пространственных и временных условий, и вносится нами в мир из области внепространственной и вневременной; это-то нечто, состоящее в моем известном, исключительном отношении к миру, и есть мое настоящее и действительное я. Себя я разумею как это основное свойство и других людей, если я знаю их, то знаю только, как особенные какие-то отношения к миру. Входя в серьезное душевное общение с людьми, ведь никто из нас не руководствуется их внешними признаками, а каждый из нас старается проникнуть в их сущность, т. е. познать, каково их отношение к миру, что и в какой степени они любят и не любят.
Каждое отдельное животное: лошадь, собаку, корову, если я знаю их и имею с ними серьезное душевное общение, я знаю не по внешним признакам, а по тому особенному отношению к миру, в котором стоит каждое из них, — по тому, что каждое из них и в какой степени любит и не любит. Если я знаю особые различные породы животных, то, строго говоря, я знаю их не столько по внешним признакам, сколько по тому, что каждая из них — лев, рыба, паук — представляет общее особенное отношение к миру. Все львы вообще любят одно, и все рыбы — другое, и все пауки — третье; только потому, что они любят разное, они и разделяются в моем представлении как различные живые существа.
То же, что я еще не различаю в каждом из этих существ его особенного отношения к миру, не доказывает того, чтобы его не было, а только то, что то особенное отношение к миру, которое составляет
Л. Н. Толстой
Что такое искусство?
413
жизнь одного отдельного паука, удалено от того отношения к миру, в котором нахожусь я, и что потому я еще не понял его, как понял Сильвио Пеллико своего отдельного паука.
Основа всего того, что я знаю о себе и о всем мире, есть то особенное отношение к миру, в котором я нахожусь и вследствие которого я вижу другие существа, находящиеся в своем особенном отношении к миру. Мое же особенное отношение к миру установилось не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом последовательных во времени сознаний.
И потому может уничтожиться мое тело, связанное в одно моим временным сознанием, может уничтожиться и самое мое временное сознание, но не может уничтожиться то мое особенное отношение к миру, составляющее мое особенное я, из которого создалось для меня все, что есть. Оно не может уничтожиться, потому что оно только и есть. Если бы его не было, я бы не знал ряда своих последовательных сознаний, не знал бы своего тела, не знал бы своей и никакой другой жизни. И потому уничтожение тела и сознания не может служить признаком уничтожения моего особенного отношения к миру, которое началось и возникло не в этой жизни...
Что такое искусство?
IV
Что же выходит из всех этих высказанных в науке эстетики определений красоты? Если не считать совершенно неточных и не покрывающих понятия искусства определений красоты, полагающих ее то в полезности, то в целесообразности, то в симметрии, то в порядке, то в пропорциональности, то в гладкости, то в гармонии частей, то в единстве в разнообразии, то в различных соединениях этих начал, если не считать этих неудовлетворительных попыток объективных определений — все эстетические определения красоты сводятся к двум основным воззрениям: первое — то, что красота есть нечто существующее само по себе, одно из проявлений абсолютно совершенного — идеи, духа, воли, бога, и другое —: то, что красота есть известного рода получаемое нами удовольствие, не имеющее цели личной выгоды.
Первое определение было принято Фихте, Шеллингом, Гегелем, Шопенгауэром и философствующими французами: Cousin, Jouffroy, Ravaisson и др., не называя второстепенных философов-эстетиков. Этого же объективно-мистического определения красоты придерживается и большая половина образованных людей нашего времени. Это очень распространенное, особенно среди людей прежнего поколения, понимание красоты.
Второе понимание красоты, как известного рода получаемого нами удовольствия, не имеющего целью личной выгоды, распространено преимущественно между английскими эстетиками и разделяется дру
JI. II. Толстой
414
гой половиной, преимущественно более молодой, нашего общества.
Так что существует, как это и не может быть иначе, только два определения красоты: одно — объективное, мистическое, сливающее это понятие с высшим совершенством, с богом, определение фантастическое и ничем не обоснованное; другое, напротив, очень простое и понятное, субъективное, считающее красотой то, что нравится (к слову нравится я не прибавлю: «без цели, выгоды», потому что слово нравится подразумевает само собой это отсутствие соображений о выго-де).
С одной стороны, красота понимается как нечто мистическое и очень возвышенное, но, к сожалению, очень неопределенное и потому включающее в себя и философию, и религию, и самую жизнь, как это происходит у Шеллинга и Гегеля и у немецких и французских их последователей; или, с другой стороны, как оно и должно быть признано, по определению Канта и его последователей, красота есть только получаемое нами особого рода бескорыстное наслаждение. И тогда понятие красоты, хотя и кажется очень ясным, к сожалению также неточно, потому что расширяется в другую сторону, а именно включает в себя и наслаждения от питья, еды, ощущения нежной кожи и т. п., как это признается у Гюйо, Кралика и др.
Правда, что, следя за развитием в эстетике учения о красоте, можно заметить, что сначала, со времени основания науки эстетики, преобладает метафизическое определение красоты, а что чем ближе к нашему времени, тем более и более выясняется опытное, в последнее время принимающее физиологический характер определение, так что встречаются даже такие эстетики, как Veron и Sully, пытающиеся совершенно обойтись без понятия красоты. Но такие эстетики имеют очень мало успеха, и в большинстве как публики, так и художников и ученых твердо держится понятие красоты так, как оно определяется в большинстве эстетик, т. е. или как нечто мистическое или метафизическое, или как особого рода наслаждение.
Что же такое, в сущности, это понятие красоты, которого так упорно для определения искусства держатся люди нашего круга и времени?
Красотой в смысле субъективном мы называем то, что доставляет нам известного рода наслаждение. В объективном же смысле красотой мы называем нечто обсолютно совершенное, вне нас существующее. Но так как узнаем мы вне нас существующее абсолютно совершенное и признаем его таковым только потому, что получаем от проявления этого абсолютно совершенного известного рода наслаждение, то объективное определение есть не что иное, как только иначе выраженное субъективное. В сущности, и то и другое понимание красоты сводится к получаемому нами известного рода наслаждению, т. е. что мы признаем красотой то, что нам нравится, не вызывая в нас вожделения. Казалось бы, при таком положении дела естественно было бы науке об искусстве не довольствоваться определением искусства, основанным
JI. Н. Толстой
Что такое искусство?
415
на красоте, т. е. на том, что нравится, и искать общего, приложимого ко всем произведениям искусства определения, на основании которого можно бы было решать принадлежность или непринадлежность предметов к искусству. Но как может видеть читатель из приведенных мною выписок из эстетик и еще яснее из самих эстетических сочинений, если он потрудится прочитать их, такого определения нет. Все попытки определить абсолютную красоту саму в себе, как подражание природе, как целесообразность, как соответствие частей, симметрию, гармонию, единство в разнообразии и др., или ничего не определяют, или определяют только некоторые черты некоторых произведений искусства и далеко не покрывают всего того, что все люди всегда считали и теперь считают искусством.
Объективного определения красоты нет; существующие же определения, как метафизическое, так и опытное, сводятся к субъективному определению и, как ни странно сказать, к тому, что искусством считается то, что проявляет красоту; красота же есть то, что нравится (не возбуждая вожделения). Многие эстетики чувствовали недостаточность и шаткость такого определения и, чтобы обосновать его, спрашивали себя, почему — что нравится, и вопрос о красоте переводили на вопрос о вкусе, как это делали Гутчисон, Вольтер, Дидро и другие. Но все попытки определения того, что есть вкус, как может видеть читатель и из истории эстетики, и из опыта, не могут привести ни к чему, и объяснения того, почему одно нравится одному и не нравится другому и наоборот, нет и не может быть. Так что вся существующая эстетика состоит не в том, чего можно бы ждать от умственной деятельности, называющей себя наукой, именно в том, чтоб определить свойства и законы искусства или прекрасного, если оно есть содержание искусства, или свойства вкуса, если вкус решает вопрос об искусстве и о достоинстве его, и потом на основании этих законов признавать искусством те произведения, которые подходят под эти законы, и откидывать те, которые не подходят под них, а состоит в том, чтобы, раз признав известный род произведений хорошими, потому что они нам нравятся, составить такую теорию искусства, по которой все произведения, которые нравятся известному кругу людей, вошли бы в эту теорию. Существует художественный канон, по которому в нашем кругу любимые произведения признаются искусством (Фидиас, Софокл, Гомер, Тициан, Рафаэль, Бах, Бетховен, Дант, Шекспир, Гёте и др.), и эстетические суждения должны быть таковы, чтобы захватить все эти произведения. Суждения о достоинстве и значении искусства, основанные не на известных законах, по которым мы считаем то или другое хорошим или дурным, а на том, совпадает ли оно с установленным нами каноном искусства, встречаются беспрепятственно в эстетической литературе. Читаю на днях очень недурную книгу Фолькельта. Рассуждая о требованиях нравственного в произведениях искусства, автор прямо говорит, что предъявление требований нравственного к искусству неправильно, и в доказательство этого приводит то, что если
Л. Н. Толстой
416
бы допустить это требование, то «Ромео и Джульетта» Шекспира и «Вильгельм Мейстер» Гёте не подошли бы под определение хорошего искусства. А так как и то и другое входят в канон искусства, то требование это несправедливо. И потому надо найти такое определение искусства, при котором эти произведения подошли бы под него, и вмесго требования нравственного Фолькельт ставит основой искусства требование значительного (Bedeutungsvolles).
Все существующие эстетики составлены по этому плану. Вместо того чтобы дать определение истинного искусства и потом, судя по тому, подходит или не подходит произведение под это определение, судить о том, что есть и что не есть искусство, известный ряд произведений, почему-либо нравящихся людям известного круга, признается искусством, и определение искусства придумывается такое, которое покрывало бы все эти произведения. Замечательное подтверждение этого приема я встретил недавно еще в очень хорошей книге «История искусства XIX века» Мутера. Приступая к описанию прерафаэлитов, декадентов и символистов, уже принятых в канон искусства, он не только не решается осудить это направление, но усердно старается расширить свою раму так, чтобы включить в нее прерафаэлитов, и декадентов, и симврлистов, представляющих ему законной реакцией против крайностей натурализма. Какие бы ни были безумства в искусстве, раз они приняты среди высших классов нашего общества, тотчас же вырабатывается теория, объясняющая и узаконяющая эти безумства, как будто никогда не было в истории эпох, в которые в известных, исключительных кругах людей не было принимаемо и одобряемо ложное, безобразное, бессмысленное искусство, не оставившее никаких следов и совершенно забытое впоследствии. А до какой степени может дойти бессмысленность и безобразие искусства, особенно когда оно знает, что оно считается, как в наше время, непогрешимым, мы видим по тому, что делается теперь в искусстве нашего круга.
Так что теория искусства, основанная на красоте и изложенная в эстетиках и в смутных чертах исповедуемая публикой, есть не что иное, как признание хорошим того, что нравилось и нравится нам, т. е. известному кругу людей.
Для того чтобы определить какую-либо человеческую деятельность, надо понять смысл и значение ее. Для того же, чтобы понять смысл и значение какой-либо человеческой деятельности, необходимо прежде всего рассматривать эту деятельность саму в себе, в зависимости от ее причин и последствий, а не по отношению только того удовольствия, которое мы от нее получаем.
Если же мы признаем, что цель какой-либо деятельности есть только наше наслаждение, и только поэтому наслаждению определяем ее, то, очевидно, определение это будет ложно. Это самое и произошло в определении искусства. Ведь, разбирая вопрос о пище, никому в голову не придет видеть значение пищи в том наслаждении, которое мы получаем от принятия ее. Всякий понимает, что удовлетворение
I.H. Толстой
Что такое искусство?
417
нашего вкуса никак не может служить основанием определения достоинства пищи и что поэтому мы никакого права не имеем предполагать, что те обеды с каенским перцем, лимбургским сыром, алкоголем и т. п., к которым мы привыкли и которые нам нравятся, составляют самую лучшую человеческую пищу.
Точно так же и красота, или то, что нам нравится, никак не может служить основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство.
Видеть цель и назначение искусства в получаемом нами от него наслаждении — все равно что приписывать, как это делают люди, стоящие на самой низшей степени нравственного развития (дикие, например), цель и значение пищи в наслаждении, получаемом от принятия ее.
Точно так же, как люди, считающие, что цель и назначение пищи есть наслаждение, не могут узнать настоящего смысла еды, так и люди, считающие целью искусства наслаждение, не могут узнать его смысла и назначения, потому что они приписывают деятельности, имеющей свой смысл в связи с другими явлениями жизни, ложную и исключительную цель наслаждения. Люди поняли, что смысл еды есть питание тела, только тогда, когда они перестали считать целью этой деятельности наслаждение. То же и с искусством. Люди поймут смысл искусства только тогда, когда перестанут считать целью этой деятельности красоту, т. е. наслаждение. Признание целью искусства красоты или известного рода наслаждения, получаемого от искусства, не только не содействует определению того, что есть искусство, но, напротив, переводя вопрос в область совершенно чуждую искусству — в метафизические, психологические, физиологические и даже исторические рассуждения о том, почему такое-то произведение нравится одним, а такое не нравится или нравится другим, делает это определение невозможным.
И как рассуждение о том, почему один любит грушу, а другой мясо, никак не содействует определению того, в чем состоит сущность питания, так и решение вопросов о вкусе в искусстве (к которому невольно сводятся рассуждения об искусстве) не только не содействует уяснению того, в чем состоит та особенная человеческая деятельность, которую мы называем искусством, но делает это уяснение совершенно невозможным.
На вопрос о том, что такое то искусство, в жертву которому приносятся труды миллионов людей, самые жизни людские и даже нравственность, мы получили из существующих эстетик ответы, которые все сводятся к тому, что цель искусства есть красота, красота же познается наслаждением, получаемым от нее, и что наслаждение искусством есть хорошее и важное дело. То есть что наслаждение хорошо потому, что оно наслаждение. Так что то, что считается определением искусства, вовсе и не есть определение искусства, а есть только уловка
Л. Н. Толстой
41£
для оправдания как тех жертв, которые приносятся людьми во имя этого воображаемого искусства, так и эгоистического наслаждения и безнравственности существующего искусства. И потому-то, как ни странно это сказать, несмотря на горы книг, написанных об искусстве, точного определения искусства до сих пор не было сделано. Причиною этому то, что в основу понятия искусства положено понятие красоты.
V
Что же такое искусство, если окинуть путающее все дело понятие красоты?
Последние и наиболее понятные определения искусства, независимые от понятия красоты, будут следующие: искусство есть возникшая еще в животном царстве от полового чувства и от склонности к игре деятельность (Шиллер, Дарвин, Спенсер), сопровождаемая приятным раздражением нервной энергии (Грант-Аллен). Это будет определение физиолого-эволюционное. Или: искусство есть проявление вовне, посредством линий, красок, жестов, звуков, слов, эмоций, испытываемых человеком (Veron). Это будет определение опытное. По самым последним определениям Sully, искусство будет «the production of some permanent object or passing action, which is fitted not only to supply an active enjoyment to the producer, but to convey a pleasurable impression to a number of spectators or listeners quite apart from any personal advantage to be derived from»1.
Несмотря на преимущество этих определений перед определениями метафизическими, основанными на понятии красоты, определения эти все-таки далеко не точны.
Первое определение физиолого-эволюционное неточно потому, что оно говорит не о самой деятельности, составляющей сущность искусства, а о происхождении искусства.
Определение же по физиологическому воздействию на организм человека неточно потому, что под его определение могут быть подведены многие другие деятельности человека, как это и происходит в новых эстетиках, в которых к искусству причисляют приготовление красивых одежд и приятных духов и даже кушаний.
Определение опытное, полагающее искусство в проявлении эмоций, неточно потому, что человек может проявить посредством линий, красок, звуков, слов свои эмоции и не действовать этим проявлением на других, и тогда это проявление не будет искусством.
• Третье же определение Sully неточно потому, что под производство предметов, доставляющих удовольствие производящему и приятное впечатление зрителям или слушателям без выгоды для них, может быть подведено показывание фокусов, гимнастических упражнений и другие деятельности, которые не составляют искусства, и, наоборот, многие предметы, впечатление от которых получается неприятное,
Л. Н Галетой
Ч <о такое искусство?
419
как, например, мрачная, жестокая сцена в поэтическом описании или на театре, составляют несомненные произведения искусства.
Неточность всех этих определений происходит от того, что во всех этих определениях, так же как и в определениях метафизических, целью искусства ставится получаемое от него наслаждение, а не назначение его в жизни человека и человечества.
Для того чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой.
Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним, прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное впечатление.
Как слово, передающее мысли, и опыты людей, служит средством единения людей, так точно действует и искусство. Особенность же этого средства общения, отличающая его от общения посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои мысли, искусством же люди передают друг другу свои чувства.
Деятельность искусства основана на том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство.
Самый простой пример: человек смеется — и другому человеку становится весело; плачет — человеку, слышащему этот плач, становится грустно; человек горячится, раздражается, а другой, глядя на него, приходит в то же состояние. Человек высказывает своими движениями, звуками голоса бодрость, решительность или, напротив, уныние, спокойствие, — и настроение это передается другим. Человек страдает, выражая стонами и корчами свое страдание, — и страдание это передается другим; человек высказывает свое чувство восхищения, благоговения, страха, уважения к известным предметам, лицам, явлениям, — и другие люди заражаются, испытывают те же чувства восхищения, благоговения, страха, уважения к тем же предметам, лицам, явлениям.
Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства.
Если человек заражает другого и других прямо непосредственно своим видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого человека зевать, когда ему самому зевается, или смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или плачет, или страдать, когда сам страдает, то это еще не есть искусство.
Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать дру
Л. Н. Толстой
420
гим людям испытанное йм чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его.
Так, самый простой случай: мальчик, испытавший, положим, страх от встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того чтобы вызвать в других испытанное им чувство, изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п. Все это, если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает слушателей и заставляет их пережить все, что и пережил рассказчик, есть искусство. Если мальчик и не видал волка, но часто боялся его и, желая вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство в слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка, то это тоже искусство. Точно так же будет искусство то, когда человек, испытав в действительности или в воображении ужас страдания или прелесть наслаждения, изобразил на полотне или мраморе эти чувства так, что другие заразились ими. И точно так же будет искусство, если человек испытал или вообразил себе чувство веселья, радости, грусти, отчаяния, бодрости, уныния и переходы этих чувств одного в другое и изобразил звуками эти чувства так, что слушатели заражаются ими и переживают их так же, как он переживал их.
Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства. Чувство самоотречения и покорности судьбе или богу, передаваемое драмой; или восторга влюбленных, описываемое в романе; или чувство сладострастия, изображенное на картине; или бодрости, передаваемой торжественным маршем в музыке; или веселья, вызываемого пляской; или комизма, вызываемого смешным анекдотом; или чувство тишины, передаваемое вечерним пейзажем или убаюкивающей песней, — все это искусство.
Как только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытывал сочинитель, это и есть искусство.
Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.
Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть
Л. Н. Толстой
Что такое искусство?
421
производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах.
Как благодаря способности человека понимать мысли, выраженные словами, всякий человек может узнать все то, что в области мысли сделало для него все человечество, может в настоящем, благодаря способности понимать4 чужие мысли, стать участником деятельности других людей, и сам, благодаря этой способности, может передать усвоенные от других и свои, возникшие в нем, мысли современникам и потомкам; так точно и благодаря способности человека заражаться посредством искусства чувствами других людей ему делается доступно в области чувства все то, что пережило до него человечество, делаются доступны чувства, испытываемые современниками, чувства, пережитые другими людьми тысячи лет тому назад, и делается возможной передача своих чувств другим людям.
Не будь у людей способности воспринимать все те переданные словами мысли, которые были передуманы прежде жившими людьми, и передавать другим свои мысли, люди были бы подобны зверям или Каспару Гаузеру.
Не будь другой способности человека — заражаться искусством, люди едва ли бы не были еще более дикими и, главное, разрозненными и враждебными.
И потому деятельность искусства есть деятельность очень важная, столь же важная, как и деятельность речи, и столь же распространенная.
Как слово действует на нас не только проповедями, речами и книгами, а всеми теми речами, которыми мы передаем друг другу наши мысли и опыты, так и искусство, в обширном смысле слова, проникает всю нашу жизнь, и мы только некоторые проявления этого искусства называем искусством в тесном смысле этого слова.
Мы привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках, здания, статуи, поэмы, романы... Но все это есть только самая малая доля того искусства, которым мы в жизни общаемся между собой. Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни, шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежд, утвари до церковных служб, торжественных шествий. Все это деятельность искусства. Так что называем мы искусством в тесном смысле этого слова не всю деятельность людскую, передающую чувства, а только такую, которую мы почему-нибудь выделяем из всей этой деятельности и которой придаем особенное значение.
Такое особенное значение придавали всегда все люди той части этой деятельности, которая передавала чувства, вытекающие из религиозного сознания людей, и эту-то малую часть всего искусства называли искусством в полном смысле этого слова.
Л. Н. Толстой
422
Так смотрели на искусство люди древности: Сократ, Платон, Аристотель. Так же смотрели на искусство и пророки еврейские, и древние христиане; так же понималось оно и понимается магометанами и так же понимается религиозными людьми народа в наше время.
Некоторые учители человечества, как Платон в своей «Республике», и первые христиане, и строгие магометане, и буддисты часто даже отрицали всякое искусство.
Люди, смотрящие так на искусство в противоположность нынешнему взгляду, по которому считается всякое искусство хорошим, как скоро оно доставляет наслаждение, считали и считают, что искусство, в противоположность слову, которое можно не слушать, до такой степени опасно тем, что оно заражает людей против их воли, что человечество гораздо меньше потеряет, если всякое искусство будет изгнано, чем если будет допущено какое бы то ни было искусство.
Такие люди, отрицавшие всякое искусство, очевидно, были не правы, потому что отрицали то, чего нельзя отрицать, — одно из необходимых средств общения, без которого не могло бы жить человечество. Но не менее не правы люди нашего европейского цивилизованного общества, круга и времени, допуская всякое искусство, лишь бы только оно служило красоте, т. е. доставляло людям удовольствие.
Прежде боялись, как бы в число предметов искусства не попали предметы, развращающие людей, и запрещали его всё. Теперь же только боятся, как бы не лишиться какого-нибудь наслаждения, даваемого искусством, и покровительствуют всякому. И я думаю, что последнее заблуждение гораздо грубее первого и что последствия его гораздо вреднее.
XV
...В нашем обществе искусство до такой степени извратилось, что не только искусство дурное стало считаться хорошим, но потерялось и самое понятие о том, что есть искусство, так что для того, чтобы говорить об искусстве нашего общества, нужно прежде всего выделить настоящее искусство от поддельного.
Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный — заразительность искусства. Если человек без всякой деятельности с своей стороны и без всякого изменения своего положения, прочтя, услыхав, увидав произведение другого человека, испытывает состояние души, которое соединяет его с этим человеком и другими, так же как и он, воспринимающими предмет искусства людьми, то предмет, вызвавший такое состояние, есть предмет искусства. Как бы ни был поэтичен, похож на настоящий, эффектен или занимателен предмет, он не предмет искусства, если он не вызывает в человеке того, совершенно особенного от всех других чувства радости, единения душевного с другим (автором) и с другими (с слушателями или зрителями), воспринимающими то же художественное произведение.
Л.IL Iолстои
Что такое искусство?
423
Правда, что признак этот внутренний и что люди, забывшие про действие, производимое настоящим искусством, и ожидающие от искусства чего-то совсем другого, — а таких среди нашего общества огромное большинство — могут думать, что то чувство развлечения и некоторого возбуждения, которые они испытывают при подделках под искусство, и есть эстетическое чувство, и хотя людей этих разубедить нельзя, так же как нельзя разубедить больного дальтонизмом в том, что зеленый цвет не есть красный, тем не менее признак этот для людей с неизвращенным и неатрофированным относительно искусства чувством остается вполне определенным и ясно отличающим чувство, производимое искусством, от всякого другого.
Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим, и что все то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить. Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства.
Испытывает человек это чувство, заражается тем состоянием души, в котором находится автор, и чувствует свое слияние с другими людьми, то предмет, вызывающий это состояние, есть искусство; нет этого заражения, нет слияния с автором и с воспринимающими произведение, — и нет искусства. Но мало того, что заразительность есть несомненный признак искусства, степень заразительности есть и единственное мерило достоинства искусства.
Чем сильнее заражение, тем. лучше искусство как искусство, не говоря о его содержании, т. е. независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает.
Искусство же становится более или менее заразительно вследствие трех условий: 1) вследствие большей или меньшей особенности того чувства, которое передается; 2) вследствие большей или меньшей ясности передачи этого чувства и 3) вследствие искренности художника, т. е. большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает.
Чем особеннее передаваемое чувство, тем оно сильнее действует на воспринимающего. Воспринимающий испытывает тем большее наслаждение, чем особеннее то состояние души, в которое он переносится, и потому тем охотнее и сильнее сливается с ним.
Ясность же выражения чувства содействует заразительности, потому что, в сознании своем сливаясь с автором, воспринимающий тем более удовлетворен, чем яснее выражено то чувство, которое, как ему
Л. Н. Толстой
424
кажется, он уже давно знает и испытывает и которому теперь только нашел выражение.
Более же всего увеличивается степень заразительности искусства степенью искренности художника. Как только зритель, слушатель, читатель чувствует, что художник сам заражается своим произведением и пишет, поет, играет для себя, а не только для того, чтобы воздействовать на других, такое душевное состояние художника заражает воспринимающего, и наоборот: как только зритель, читатель, слушатель чувствует, что автор не для своего удовлетворения, а для него, для воспринимающего пишет, поет, играет и не чувствует сам того, что хочет выразить, так является отпор, и самое особенное, новое чувство, и самая искусная техника не только не производят никакого впечатления, но отталкивают.
Я говорю о трех условиях заразительности и достоинства искусства, в сущности же условие есть только одно последнее, то, чтобы художник испытывал внутреннюю потребность выразить передаваемое им чувство. Условие это заключает в себя первое, потому что если художник искренен, то он выскажет чувство так, как он воспринял его. А так как каждый человек не похож на другого, то и чувство это будет особенно для всякого другого, и тем особеннее, чем глубже зачерпнет художник, чем оно будет задушевнее, искреннее. Эта же искренность заставит художника и найти ясное выражение того чувства, которое он " хочет передать.
Поэтому-то это третье условие — искренность — есть самое важное из трех. Условие это всегда присутствует в народном искусстве, вследствие чего так сильно и действует оно, и почти сплошь отсутствует в нашем искусстве высших классов, непрерывно изготовляемом художниками для своих личных, корыстных или тщеславных целей.
Таковы три условия, присутствие которых отделяет искусство от подделок под него и вместе с тем определяет достоинство всякого произведения искусства независимо от его содержания.
Отсутствие одного из этих условий делает то, что произведение уже не принадлежит к искусству, а к подделкам под него. Если произведение не передает индивидуальной особенности чувства художника и-по-тому не особенно, если оно непонятно выражено или если оно не произошло от внутренней потребности автора, оно не есть произведение искусства. Если же, хотя бы и в самой малой степени, присутствуют все три условия, то произведение, хотя бы и слабое, есть произведение искусства.
Присутствие же в различных степенях трех условий: особенности, ясноети и искренности — определяет достоинство предметов искусства как искусства независимо от его содержания. Все произведения искусства распределяются в своем достоинстве по присутствию в большей или меньшей степени того, другого или третьего из этих условий. В одном преобладает особенность передаваемого чувства, в другом — ясность выражения, в третьем — искренность, в четвертом — искрен
Л. Н. Толстой
Что такое искусство?
425
ность и особенность, но недостаток ясности, в пятом — особенность и ясность, но меньше искренности и т. д. во всех возможных степенях и сочетаниях.
Так отделяется искусство от неискусства и определяется достоинство искусства как искусства независимо от его содержания, т. е. независимо от того, передает ли оно хорошие или дурные чувства.
Но чем определяется хорошее и дурное по содержанию искусство?
XVI
Чем определяется хорошее и дурное по содержанию искусство?
Искусство вместе с речью есть одно из орудий общения, а потому и прогресса, т. е. движения вперед человечества к совершенству. Речь делает возможным для людей последних живущих поколений знать все то, что узнавали опытом и размышлением предшествующие поколения и лучшие передовые люди современности; искусство делает возможным для людей последних живущих поколений испытывать все те чувства, которые до них испытывали люди и в настоящее время испытывают лучшие передовые люди. И как происходит эволюция знаний, т. е. более истинные нужные знания вытесняют и заменяют знания ошибочные и ненужные, так точно происходит эволюция чувств посредством искусства, вытесняя чувства низшие, менее добрые и менее нужные для блага людей более добрыми, более нужными для этого блага. В этом назначение искусства. И потому по содержанию своему искусство тем лучше, чем более исполняет оно это назначение, и тем хуже, чем менее оно исполняет его.
Оценка же чувств, т. е. признание тех или других чувств более или менее добрыми, т. е. нужными для блага людей, совершается религиозным сознанием известного времени.
В каждое данное историческое время и в каждом обществе людей существует высшее, до которого только дошли люди этого общества, понимание смысла жизни, определяющее высшее благо, к которому стремится это общество. Понимание это есть религиозное сознание известного времени и общества. Религиозное сознание это бывает всегда ясно выражено некоторыми передовыми людьми общества и более или менее живо чувствуемо всеми. Такое религиозное сознание, соответствующее своему выражению, всегда есть в каждом обществе. Если нам кажется, что в обществе нет религиозного сознания, то это кажется нам не оттого, что его действительно нет, но оттого, что мы не хотим видеть его. А не хотим мы часто видеть его оттого, что оно обличает нашу жизнь, не согласную с ним.
Религиозное сознание в обществе все равно что направление текущей реки. Если река течет, то есть направление, по которому она течет. Если общество живет, то есть религиозное сознание, которое указывает то направление, по которому более или менее сознательно стремятся все люди этого общества.
Л. П. Толпой
426
И потому религиозное сознание всегда было и есть в каждом обществе. И соответственно этому религиозному сознанию всегда и оценивались чувства, передаваемые искусством. Только на основании этого религиозного сознания своего времени всегда выделялось из всей бесконечно разнообразной области искусства то, которое передает чувства, осуществляющие в жизни религиозное сознание данного времени. И такое искусство всегда высоко ценилось и поощрялось; искусство же, передающее чувства, вытекающие из религиозного сознания прежнего времени, отсталое, пережитое уже, всегда осуждалось и презиралось. Остальное же все искусство, передающее все самые разнообразные чувства, посредством которых люди общаются между собой, не осуждалось и допускалось, если только оно не передавало чувств, противных религиозному сознанию...
Если в человечестве совершается прогресс, т. е. движение вперед, то неизбежно должен быть указатель направления этого движения. И таким указателем всегда были религии. Вся история показывает, что прогресс человечества совершался не иначе, как при руководстве религии. Если же прогресс человечества не может совершаться без руководительства религии — а прогресс совершается всегда, следовательно, совершается и в наше время, — то должна быть и религия нашего времени. Так что, нравится это так называемым образованным людям нашего времени или не нравится, они должны признать существование религии, не религии культа — католической, протестантской и др., а религиозного сознания как необходимого руководителя прогресса и в наше время. Если же среди нас есть религиозное сознание, то на основании этого религиозного сознания должно быть расцениваемо и наше искусство; и точно так, и всегда и везде, должно быть выделено из всего безразличного искусства, сознано, высоко ценимо и поощряемо и искусство, передающее чувства, вытекающие из религиозного сознания нашего времени, и осуждаемо и презираемо искусство, противное этому сознанию, и не выделяемо и не поощряемо все остальное безразличное искусство.
Религиозное сознание нашего времени в самом общем практическом приложении его есть сознание того, что наше благо, и материалы ное и духовное, и отдельное и общее, и временное и вечное, заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой. Сознание это выражено не только Христом и всеми лучшими людьми прошедшего времени и не только повторяется в самых разнообразных формах и с самых разнообразных сторон лучшими людьми нашего времени, но и служит уже руководящей нитью всей сложной работы человечества, состоящей, с одной стороны, в уничтожении физических и нравственных преград, мешающих единению людей, и, с другой стороны, в установлении тех общих всем людям начал, которые могут и должны соединять людей в одно всемирное братство. На основании этого-то сознания мы и должны расценивать все явления нашей жизни и между ними и наше искусство, выделяя из всей его об
Л. Н. Толстой Что такое искусство? 427
ласти то, которое передает чувства, вытекающие из этого религиозного сознания, высоко ценя и поощряя это искусство и отрицая то, которое противно этому сознанию, и не приписывая остальному искусству того значения, которое ему не свойственно.
Главная ошибка, которую сделали люди высших классов времени так называемого Возрождения, — ошибка, которую мы продолжаем теперь, — состояла не в том, что они перестали ценить и приписывать значение религиозному искусству (люди того времени и не могли приписывать ему значения, потому что, так же как и люди высших классов нашего времени, они не могли верить в то, что считалось большинством за религию), но в том, что на место этого отсутствующего религиозного искусства они поставили искусство ничтожное, имеющее целью только наслаждение людей, т. е. стали выделять, ценить и поощрять как религиозное искусство то, что ни в коем случае не заслуживало этой оценки и поощрения.
Один отец церкви говорил, что главное горе людей не в том, что они не знают бога, а в том, что они на место бога поставили то, что не есть бог. То же и с искусством. Главная беда людей высших классов нашего времени еще не в том, что у них нет религиозного искусства, но в том, что они на место высшего религиозного искусства, выделенного из всего остального как особенно важное и ценное, выделили самое ничтожное, большей частью вредное искусство, имеющее целью наслаждение некоторых и потому по одной исключительности уже противное тому христианскому началу всемирного единения, которое составляет религиозное сознание нашего времени. На место религиозного искусства поставлено пустое и часто развратное искусство, и этим скрыта от людей потребность в том истинном религиозном искусстве, которое должно быть в жизни для того, чтобы улучшить ее...
Искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойство соединять людей. Всякое искусство делает то, что люди, воспринимающие чувство, переданное художником, соединяются душой, во-первых, с художником и, во-вторых, со всеми людьми, получившими то же впечатление...
Соединяют же всех людей только два рода чувств: чувства, вытекающие из сознания сыновности богу и братства людей, и чувства самые простые — житейские, но такие, которые доступны всем, без исключения, людям, как чувства веселья, умиления, бодрости, спокойствия и т. п. Только эти два рода чувств составляют предмет хорошего по содержанию искусства нашего времени.
И действие, производимое этими двумя кажущимися столь различными между собою родами искусства, — одно и то же. Чувства, вытекающие из сознания сыновности богу и братства людей, как чувства твердости в истине, преданности воле бога, самоотвержения, уважения к человеку и любви к нему, вытекающие из христианского религиозного сознания, и чувства самые простые — умиленное или веселое настроение от песни, или от забавной и понятной всем людям шутки, или
Л. Н. Толстой
428
трогательного рассказа, или рисунка, или куколки — производят одно и то же действие — любовное единение людей. Бывает, что люди, находясь вместе, если не враждебны, то чужды друг другу по своим настроениям и чувствам, и вдруг или рассказ, или представление, или картина, даже здание и чаще всего музыка, как электрической искрой, соединяет всех этих людей, и все эти люди вместо прежней разрозненности, часто даже враждебности чувствуют единение и любовь друг к другу. Всякий радуется тому, что другой испытывает то же, что и он, радуется тому общению, которое установилось не только между ним и всеми присутствующими, но и между всеми теперь живущими людьми, которые получат то же впечатление; мало того, чувствуется таинственная радость загробного общения со всеми людьми прошедшего, которые испытывали то же чувство, и людьми будущего, которые испытают его. Вот это-то действие производит одинаково как то искусство, которое передает чувства любви к богу и ближнему, так и житейское искусство, передающее самые простые, общие всем людям, чувства.
Различие расценки искусства нашего времени от прежнего состоит, главное, в том, что искусство нашего времени, т. е. христианское искусство, основываясь на религиозном сознании, требующем единения людей, исключает из области хорошего по содержанию искусства все то, что передает чувства исключительные, не соединяющие, а разъединяющие людей, относя такое искусство к разряду дурного по содержанию искусства, а, напротив, включает в область хорошего по содержанию искусства отдел не признаваемого прежде заслуживающим выделения и уважения искусства всемирного, передающего хотя и самые незначительные, простые чувства, но такие, которые доступны всем, без исключения, людям и которые потому соединяют их.
Такое искусство не может не признаваться хорошим в наше время потому, что оно достигает той самой цели, которую ставит человечеству религиозное христианское сознание нашего времени.
Христианское искусство или вызывает в людях те чувства, которые через любовь к богу и ближнему влекут их ко все большему и большему единению, делают их готовыми и способными к такому единению, или же вызывает в них те чувства, которые показывают им tq, что они уже соединены единством радостей и горести житейских. И потому христианское искусство нашего времени может быть и есть двух родов: 1) искусство, передающее чувства, вытекающие из религиозного сознания положения человека в мире, по отношению к богу и ближнему, — искусство религиозное, и 2) искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, — искусство всемирное. Только эти два рода искусства могут считаться хорошим искусством в наше время.
Первый род религиозного искусства, передающего как чувства положительные — любви к богу и ближнему, так и отрицательные — негодования, ужаса перед нарушением любви, проявляется преимуще
JI. Н. Толстой
Что такое искусство?
429
ственно в форме слова и отчасти в живописи и ваянии; второй же род — всемирного искусства, передающий чувства, доступные всем, проявляется и в слове, и в живописи, и в ваянии, и в танцах, и в архитектуре, и преимущественно в музыке...
Каким бы ни был предмет, выдаваемый за произведение искусства, и как бы он ни был восхваляем людьми, для того чтобы узнать его достоинство, необходимо приложить к нему вопрос о том, принадлежит ли предмет к настоящему искусству или подделкам под него. Признав же на основании признака заразительности хотя бы и малого кружка людей известный предмет принадлежащим к области искусства, нужно на основании признака общедоступности решить следующий за этим вопрос: принадлежит ли это произведение к дурному, противному религиозному сознанию нашего времени исключительному искусству, или к христианскому, соединяющему людей, искусству? Признав же предмет принадлежащим к настоящему христианскому искусству, надо уже на основании того, передает ли произведение чувства, вытекающие из любви к богу и ближнему, или только простые чувства, соединяющие всех людей, отнести его к тому или другому: религиозному или житейскому всемирному искусству.
Только на основании этой проверки мы будем иметь возможность выделять из всей массы того, что в нашем обществе выдается за искусство, те предметы, которые составляют действительную, важную, нужную духовную пищу, от всего вредного и бесполезного искусства и подобия его, окружающего нас. Только на основании такой проверки мы будем в состоянии избавиться от губительных последствий вредного искусства и воспользоваться тем благодетельным и необходимым для духовной жизни человека и человечества воздействием истинного и хорошего искусства, которое составляет его назначение.
XVII
Искусство есть один из двух органов прогресса человечества. Через слово человек общается мыслью, через образы искусства он общается чувством со всеми людьми не только настоящего, но прошедшего и будущего. Человечеству свойственно пользоваться этими обоими органами общения, а потому извращение хотя бы одного из них не может не оказать вредных последствий для того общества, в котором совершилось такое извращение. И последствия эти должны быть двояки: во-первых, отсутствие в обществе той деятельности, которая должна быть исполняема органом, и, во-вторых, вредная деятельность извращенного органа; и эти самые последствия и оказались в нашем обществе. Орган искусства был извращен, и потому общество высших классов было лишено в значительной мере той деятельности, которую должен был исполнить этот огран. Распространившиеся в нашем обществе в огромных размерах, с одной стороны, подделки под искусство, служащие только увеселению и развращению людей, а с другой — произведения ничтожного, исключительного искусства, ценимого как
Л H. Толстой
высшее, извратили в большинстве людей нашего общества способность заражаться истинными произведениями искусства и тем лишили их возможности познать те высшие чувства, до которых дожило человечество и которые могут быть переданы людям только искусством.
Все лучшее, сделанное в искусстве человечеством, остается для людей, лишившихся способности заражаться искусством, чуждым и заменяется фальшивыми подделками под искусство или ничтожным искусством, принимаемым ими за настоящее...
В среде высших классов вследствие потери способности заражаться произведениями искусства люди растут, воспитываются и живут без смягчающего, удобряющего действия искусства и потому не только не двигаются к совершенству, не добреют, но, напротив, при высоком развитии внешних средств, становятся все дичее, грубее и жесточе.
Таково последствие отсутствия деятельности необходимого органа искусства в нашем обществе. Последствия же извращенной деятельности этого органа еще вреднее, и их много.
...Посмотрите внимательно на причины невежества народных масс, и увидите, что главная причина никак не в недостатке школ и библиотек, как мы привыкли думать, а в тех суевериях, как церковных, так и патриотических, которыми они пропитаны и которые не переставая производятся всеми средствами искусства. Для церковных суеверий — поэзией молитв, гимнов, живописью и ваянием икон, статуй, пением, органами, музыкой и архитектурой и даже драматическим искусством в церковном служении. Для патриотических суеверий — стихотворениями, рассказами, которые передаются еще в школах; музыкой, пением, торжественными шествиями, встречами, воинственными картинами, памятниками.
Не будь этой постоянной деятельности всех отраслей искусства на поддержание церковного и патриотического одурения и озлобления народа, народные массы уже давно достигли бы истинного просвещения. Но не одно церковное и патриотическое развращение совершается искусством.
Искусство же служит в наше время главной причиной развращение людей в важнейшем вопросе общественной жизни — в половых отношениях. Все мы знаем это и по себе, а отцы и матери еще по своим детям, какие страшные душевные и телесные страдания, какие напрасные граты сил переживают люди только из-за распущенности половой похоти.
С тех пор как стоит мир, со времен троянской войны, возникшей из-за половой распущенности, и до самоубийств и убийств влюбленных, о которых печатается почти в каждой газете, большая доля страданий человеческого рода происходит от этой распущенности.
И что же? Все искусство, и настоящее, и поддельное, за самыми редкими исключениями, посвящено только тому, чтобы описывать, изображать, разжигать всякого рода половую любовь, во всех ее видах. Только вспомнить все те романы с раздирающими похоть описани
Л. Н. Толстей
Л то такое ис местно'.’
431
ями любви и самыми утонченными, и самыми грубыми, которыми переполнена литература нашего общества; все те картины и статуи, изображающие обнаженное женское тело, и всякие гадости, которые переходят на иллюстрации и рекламные объявления; только вспомнить все те пакостные оперы, оперетки, песни, романсы, которыми кишит наш мир, — и невольно кажется, что существующее искусство имеет только одну определенную цель как молено более широкое распространение разврата.
Таковы хотя не все, но самые верные последствия того извращения искусства, которое совершилось в нашем обществе. Так что то, что называется искусством в нашем обществе, не только не содействует движению вперед человечества, но едва ли не более всего другого мешает осуществлению добра в нашей жизни.
И потому тот вопрос, который невольно представляется всякому свободному от деятельности искусства человеку и потому не связанному интересом с существующим искусством, — вопрос, который поставлен мною в начале этого писания, о том, справедливо ли то, чтобы тому, что мы называем искусством, составляющим достояние только малой части общества, приносились те жертвы и трудами людскими, и жизнями человеческими, и нравственностью, которые ему приносятся, получает естественный ответ: нет, несправедливо и не должно быть. Так отвечает и здравый смысл, и неизвращенное нравственное чувство. Не только не должно быть, не только не должно приносить какие-либо жертвы тому, что среди нас признается искусством, но напротив, все усилия людей, желающих жить хорошо, должны быть направлены на то, чтобы уничтожить это искусство, потому что оно есть одно из самых жестоких зол, удручающих наше человечество. Так что если бы был поставлен вопрос о том, что лучше нашему христианскому миру: лишиться ли всего того, что теперь считается искусством, вместе с ложным, и всего хорошего, что есть в нем, или продолжать поощрять или допускать то искусство, которое есть теперь, то я думаю, что всякий разумный и нравственный человек опять решил бы вопрос так же, как решил его Платон для своей республики и решали все церковные христианские и магометанские учители человечества, т. е. сказал бы: «Лучше пускай не было бы никакого искусства, чем продолжалось бы то развращенное искусство или подобие его, которое есть теперь». К счастью, вопрос этот не стоит ни перед каким человеком, и никому не приходится решать его в том или другом смысле. Все, что может сделать человек и можем и должны сделать мы, так называемые люди образованные, поставленные своим положением в возможность понимать значение явлений нашей жизни, — это то, чтобы понять то заблуждение, в котором мы находимся, и не упорствовать в нем, а искать из него выход...
Настоящее искусство не нуждается в украшениях, как жена любящего мужа. Поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено.
Л. Н. Толстой
43?
Причина появления настоящего искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство, как для матери причина полового зачатия есть любовь. Причина поддельного искусства есть корысть, точно так же как и проституция.
Последствие истинного искусства есть внесенное новое чувство в обиход жизни, как последствие любви жены есть рождение нового человека в жизнь. Последствие поддельного искусства есть развращение человека, ненасытность удовольствий, ослабление духовных сил человека.
Вот это должны понять люди нашего времени и круга, чтобы избавиться от заливающего нас грязного потока этого развратного, блудного искусства.
XIX
Говорят про искусство будущего, подразумевая под искусством будущего особенно утонченное новое искусство, которое будто бы должно выработаться из искусства одного класса общества, которое теперь считается высшим искусством. Но такого нового искусства будущего не может быть и не будет. Наше исключительное искусство высших классов христианского мира пришло к тупику. По тому пути, по которому оно шло, ему дальше идти некуда. Искусство это, раз отступив от главного требования искусства (того, чтобы оно было руководимо религиозным сознанием), становясь все более и более исключительным и потому все более и более извращаясь, сошло на нет. Искусство будущего — то, которое действительно будет, — не будет продолжением теперешнего искусства, а возникнет на совершенно других, новых основах, не имеющих ничего общего с теми, которыми руководится теперешнее наше искусство высших классов.
Искусство будущего, т. е. та часть искусства, которая будет выделяема из всего искусства, распространенного между людьми, будет состоять не из передачи чувств, доступных только некоторым людям богатых классов, как это происходит теперь, а будет только тем искусством, которое осуществляет высшее религиозное сознание людей нашего времени. Искусством будут считаться только те произведенияГ, которые будут передавать чувства, влекущие людей к братскому единению, или такие общечеловеческие чувства, которые будут способны соединять всех людей. Только это искусство будет выделяемо, допускаемо, одобряемо, распространяемо. Искусство же, передающее чувства, вытекающие из отсталого, пережитого людьми, религиозного учения: искусство церковное, патриотическое, сладострастное, передающее чувство суеверного страха, гордости, тщеславия, восхищения перед героями, искусство, возбуждающее исключительную любовь к своему народу или чувственность, будет считаться дурным, вредным искусством и будет осуждаться и презираться общественным мнением. Все же остальное искусство, передающее чувства, доступные только
L H Толсн»й
Что га кое искусство?
433
некоторым людям, будет считаться неважным и не будет ни осуждаться, ни одобряться. И ценителем искусства, вообще, не будет, как это происходит теперь, отдельный класс богатых людей, а весь народ; так что, для того чтобы произведение было признано хорошим, было одобряемо и распространяемо, оно должно будет удовлетворять требованиям не некоторых, находящихся в одинаковых и часто неестественных условий людей, а требованиям всех людей, больших масс людей, находящихся в естественных трудовых условиях.
И художниками, производящими искусство, будут тоже не так, как теперь, только те редкие, выбранные из малой части всего народа, люди богатых классов или близких к ним, а все те даровитые люди из всего народа, которые окажутся способными и склонными к художественной деятельности.
Деятельность художественная будет тогда доступна для всех людей. Доступна же сделается эта деятельность людям из всего, народа потому, что, во-первых, в искусстве будущего не только не будет требоваться та сложная техника, которая обезображивает произведения искусства нашего времени и требует большого напряжения и траты времени, но будет требоваться, напротив, ясность, простота и краткость — те условия, которые приобретаются не механическими упражнениями, а воспитанием вкуса. Во-вторых, доступна сделается художественная деятельность всем людям из народа, потому что вместо теперешних профессиональных школ, доступных только некоторым людям, все будут в первоначальных народных школах обучаться музыке и живописи (пению и рисованию) наравне с грамотой, так чтобы всякий человек, получив первые основания живописи и музыки, чувствуя способность и призвание к какому-либо из искусств, мог бы усовершенствоваться в нем, и, в-третьих, потому, что все силы, которые теперь тратятся на ложное искусство, будут употреблены на распространение истинного искусства среди всего народа.
Думают, что если не будет специальных художественных школ, то техника искусства ослабеет. Она несомненно ослабеет, если под техникой разуметь те усложнения искусства, которые теперь считаются достоинством; но если под техникой разуметь ясность, красоту и немно-госложность, сжатость произведений искусства, то техника не только не ослабеет, как это показывает все народное искусство, но в сотни раз усовершенствуется, если даже не будет и профессиональных школ и если бы даже и в народных школах не преподавались основания рисования и музыки. Она усовершенствуется потому, что все гениальные художники, теперь скрытые в народе, сделаются участниками искусства и дадут, не нуждаясь, как теперь, сложного технического обучения и имея образцы истинного искусства, новые образцы настоящего искусства, которые будут, как всегда, лучшей школой техники для художников. Всякий истинный художник и теперь учится не в школе, а в жизни, на образцах великих мастеров; тогда же, когда участниками искусства будут самые даровитые люди из всего народа и образцов этих
Л. Н. Толстой
434
будет больше, и образцы эти будут доступнее, то обучение в школе, которого лишится будущий художник, в сотни раз вознаградится тем обучением, которое художник будет получать от многочисленных образцов распространенного в обществе хорошего искусства.
Таково будет одно различие искусства будущего от теперешнего. Другое различие будет то, что искусство будущего не будет производиться профессиональными художниками, получающими за свое искусство вознаграждение и уже ничем другим не занимающимися, как только своим искусством. Искусство будущего будет производиться всеми людьми из народа, которые будут заниматься им тогда, когда они будут чувствовать потребность в такой деятельности.
В нашем обществе думают, что художник лучше будет работать, больше сделает, если он материально будет обеспечен. Мнение это доказало бы еще раз с полной очевидностью, если бы это нужно было еще доказывать, что то, что среди нас считается искусством, не есть искусство, а только подобие его. Совершенно справедливо то, что для производства сапог или булок очень выгодно разделение труда, что сапожник или булочник, которому не нужно самому себе готовить обед и дрова, наделает больше сапог и булок, чем если бы он сам должен был заботиться об обеде и дровах. Но искусство не есть мастерство, а передача испытанного художником чувства. Чувство же может родиться в человеке только тогда, когда он живет всеми сторонами естественной, свойственной людям жизни. И потому-то обеспечение художников в их материальных нуждах есть самое губительное для производительности художника условие, так как освобождает художника от свойственных всем людям условий борьбы с природой для поддержания своей и других людей жизни и тем лишает его случая и возможности испытывать самые важные и свойственные людям чувства. Нет более губительного положения для производительности художника, как положение полной обеспеченности и роскоши, в которых в нашем обществе обыкновенно находится художник.
Художник будущего будет жить обычной жизнью людей, зарабатывая свое существование каким-либо трудом. Плоды же той высшей духовной силы, которая проходит через него, он будет стремиться отдать наибольшему количеству людей возникших в нем чувств — его радость и награда. Художник будущего не поймет даже, как может художник, главная радость которого состоит в наибольшем распространении своего произведения, отдавать свои произведения только за известную плату.
До тех нор пока нс будут высланы торговцы из храма, храм искусства не будет храмом. Искусство будущего изгонит их.
И потому содержание искусства будущего, как я представляю его себе, будст соверешенно не похоже на теперешнее. Содержание искусства будущего будет составлять не выражение исключительных чувств: тщеславия, тоски, пресыщенности и сладострастия во всех возможных видах, доступных и интересных только людям, освободившим
Л. Н. Толстой
Что такое искусство?
435
себя насилием от свойственного людям труда, а будет составлять выражение чувств, испытываемых человеком, живущим свойственной всем людям жизнью и вытекающих из религиозного сознания нашего времени, или чувств, доступных всем людям, без исключения.
Людям нашего круга, не знающим и не могущим или не хотящим знать тех чувств, которые должны составлять содержание искусства будущего, кажется, что такое содержание в сравнении с теми тонкостями исключительного искусства, которым они заняты теперь, очень бедно. «Что можно выразить нового в области христианских чувств любви к ближнему? Чувства же, доступные всем людям, так ничтожны и однообразны», — думают они. А между тем истинно новыми чувствами в наше время могут быть только чувства религиозные, христианские, и чувства, доступные всем. Чувства, вытекающие из религиозного сознания нашего времени, чувства христианские, бесконечно новы и разнообразны; только не в том смысле, как это думают некоторые, чтобы изображать Христа и евангельские эпизоды или в новой форме повторять христианские истины единения, братства, равенства, любви, а в том смысле, что все самые старые, обычные и со всех сторон изведанные явления жизни вызывают самые новые, неожиданные и трогательные чувства, как только человек с христианской точки зрения относится к этим явлениям.
Что может быть старее отношения супругов, родителей к детям, детей к родителям, отношения людей к соотечественникам, иноплеменным, к нападению, обороне, к собственности, к земле, к животным? Но как только человек относится к этим явлениям с христианской точки зрения, так тотчас же возникают бесконечно разнообразные, самые новые, самые сложные и трогательные чувства.
Точно так же не суживается, а расширяется область содержания и того искусства будущего, которое передает чувства житейские, самые простые, всем доступные. В прежнем нашем искусстве считалось достойным передачи в искусстве только выражение чувств, свойственных людям известного исключительного положения, и то только при условии передачи их самым утонченным, недоступным большинству людей, способом; вся же та огромная область народного детского искусства: шутки, пословицы, загадки, песни, пляски, детские забавы, подражания — не признавалась достойным предметом искусства.
Художник будущего будет понимать, что сочинить сказочку, песенку, которая тронет, прибаутку, загадку, которая забавит, шутку, которая насмешит, нарисовать картинку, которая будет радовать десятки поколений или миллионы детей и взрослых, несравненно важнее и плодотворнее, чем сочинить роман, симфонию или нарисовать картину, которые развлекут на короткое время несколько людей богатых классов и навеки будут забыты. Область же этого искусства простых, доступных всем чувств огромна и почти еще не тронута.
Так что искусство будущего не только не обеднеет, а, напротив, бесконечно обогатится содержанием. Точно так же и форма искусетва
будущего не только не будет ниже теперешней формы искусства, но будет без всякого сравнения выше ее, выше не в смысле утонченной и усложненной техники, а в смысле умения кратко, просто и ясно передать без всего лишнего то чувство, которое испытал и хочет передать художник:
Помню, я раз, говоря с знаменитым астрономом, читавшим публичные лекции о спектральном анализе звезд Млечного Пути, сказал ему, как хорошо бы было, если бы он, со своим знанием и мастерством читать, прочел бы публичную лекцию по космографии только о самых знакомых движениях Земли, так как, наверное, среди слушателей его лекций о спектральном анализе звезд Млечного Пути очень много людей, особенно женщин, таких, которые не знают хорошенько того, отчего бывают день и ночь, зима и лето. Умный астроном, улыбаясь, ответил мне: «Да, это хорошо бы было, но это очень трудно. Читать о спектральном анализе Млечного Пути гораздо легче».
То же и в искусстве: написать поэму в стихах из времен Клеопатры, или картину Нерона, сжигающего Рим, или симфонию в духе Брамса и Рихарда Штрауса, или оперу в духе Вагнера гораздо легче, чем рассказать простую историю без чего-либо лишнего и вместе с тем так, чтобы она передала чувство рассказчика, или нарисовать карандашом картинку, которая бы тронула или насмешила зрителя, или написать четыре такта простой ясной мелодии, без всякого аккомпанемента, которая передала бы настроение и запомнилась слушателями.
«Невозможно нам теперь, с нашим развитием, вернуться к первобытности, — говорят художники нашего времени. — Невозможно нам писать теперь такие истории, как история Иосифа Прекрасного, как Одиссея; тесать такие статуи, как Венера Милосская; сочинять такую музыку, как народные песни».
И действительно, художникам нашего времени это невозможно, но не художнику будущего, который не будет знать всего разврата технических усовершенствований, скрывающих отсутствие содержания, и который, будучи непрофессиональным художником и не получая вознаграждения за свою деятельность, будет производить искусство только тогда, когда будет чувствовать к этому неудержимую внутреннюю потребность.
Так совершенно отлично от того, что теперь считается искусством, будет искусство будущего и по содержанию, и по форме. Содержанием искусства будущего будут только чувства, влекущие людей к единению или в настоящем соединяющие их; форма же искусства будет такая, которая была бы доступна всем людям. И потому идеалом совершенства будущего будет не исключительность чувства, доступного только некоторым, а, напротив, всеобщность его. И не громоздкость, неясность и сложность формы, как это считается теперь, а, напротив, краткость, ясность и простота выражения. И только тогда, когда искусство будет таково, будст оно не забавлять и развращать людей, как это делается теперь, требуя затрат на это их лучших сил, а будет тем, чем оно
I юд’-еч 'Lo’\ikoi ikucciku’.’ 43”'
должно быть, — орудием перенесения религиозного, христианского, сознания из области разума и рассудка в область чувства, приближая этим людей на деле, в самой жизни, к тому совершенству и единению, которое им указывает религиозное сознание.
XX
Заключение
Я сделал, как умел, занимавшую меня 15 лет работу о близком мне предмете — искусстве. Говоря, что предмет этот 15 лет занимал меня, я не хочу сказать того, чтобы я 15 лет писал это сочинение, а только то, что 15 лет тому назад я начал писать об искусстве, думая, что, взявшись за эту работу, тотчас же без отрыва окончу ее; но оказалось, что мысли мои об этом предмете были тогда еще настолько неясны, что я не мог удовлетворительно для себя изложить их. С тех пор я не переставая думал об этом предмете и раз шесть или семь принимался писать, но всякий раз, написав довольно много, чувствовал себя не в состоянии довести дело до конца и оставлял работу. Теперь я кончил эту работу, и, как ни плохо я ее сделал, я надеюсь на то, что основная мысль моя о том ложном пути, на котором стало и по которому идет искусство нашего общества, и о причине этого, и о том, в чем состоит истинное назначение искусства, верна и что поэтому труд мой, хотя и далеко не полный, требующий многих и многих разъяснений и добавлений, не пропадет даром и искусство рано или поздно сойдет с того ложного пути, на котором оно стоит. Но для того чтобы это было и чтобы искусство приняло новое направление, нужно, чтобы другая, столь же важная духовная человеческая деятельность — наука, в тесной зависимости от которой всегда находится искусство, — точно так же, как и искусство, также сошла с того ложного пути, на котором она находится.
Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может правильно действовать.
Наука истинная изучает и вводит в сознание людей те истины, знания, которые людьми известного времени и общества считаются самыми важными. Искусство же переводит эти истины из области знания в область чувства. И потому если путь, по которому идет наука, ложен, то так же ложен будет и путь искусства. Наука и искусство подобны тем баркам с завозным якорем, так называемым машинам, которые прежде ходили по рекам. Наука, как те лодки, которые завозят вперед и закидывают якоря, приготавливает то движение, направление которого дано религией, искусство же, как тот ворот, который работает на барке, подтягивая барку к якорю, совершает самое движение. И потому ложная деятельность науки неизбежно влечет за собой столь же ложную деятельность искусства.
Л. Н. Толстой
438
Как искусство вообще есть передача всякого рода чувств, но искусством, в тесном смысле этого слова, мы называем только то, которое передает чувства, признаваемые нами важными, так и наука вообще есть передача всех возможных знаний, но наукой в тесном смысле этого слова мы называем только ту, которая передает знания, признаваемые нами важными.
Определяет же для людей степень важности как чувств, передаваемых искусством, так и знаний, передаваемых наукой, религиозное сознание известного времени и общества, т. е. общее понимание людьми этого времени и общества назначения их жизни.
То, что более всего содействует исполнению этого назначения, то изучается более всего и считается главной наукой; то, что менее, то менее и считается менее важной наукой; то, что совсем не содействует исполнению назначения человеческой жизни, то вовсе не изучается, или если и изучается, то это изучение не считается наукой. Так это было всегда, так должно быть и теперь, потому что такое свойство человеческого знания и человеческой жизни. Но наука высших классов нашего времени, не только не признавая никакой религии, но считая всякую религию только суеверием, не могла и не может сделать этого.
И потому люди науки нашего времени утверждают, что они равномерно изучают все, но так как всего слишком много (все — это бесконечное количество предметов) и равномерно изучать все нельзя, то это только утверждается в теории; в действительности же изучается не все и далеко не равномерно, а только то, что, с одной стороны, нужнее, а с другой — приятнее тем людям, которые занимаются наукой. Нужнее же всего людям науки, принадлежащим к высшим классам, удержать тот порядок, при котором эти классы пользуются своими преимуществами; приятнее же то, что удовлетворяет праздной любознательности, не требует больших умственных усилий и может быть практически применяемо.
И потому один отдел наук, включающий в себя богословие, философию, примененную к существующему порядку, такую же историю и политическую экономию, занимается преимущественно тем, чтобы доказывать то, что существующий строй жизни есть тот самый, который должен быть, который произошел и продолжает существовать по неизменным, не подлежащим человеческой воле законам, и что поэтому всякая попытка нарушения его незаконна и бесполезна. Другой же отдел — науки опытной, включающей в себя математику, астрономию, химию, физику, ботанику и все естественные науки, занимается только тем, что не имеет прямого отношения к жизни человеческой, что любопытно и из чего могут быть сделаны выгодные для жизни людей высших классов приложения. Для оправдания же того выбора предметов изучения, которое сделали люди науки нашего времени соответственно своему положению, они придумали, совершенно подобно теории искусства для искусства, теорию науки для науки.
Как по теории искусства для искусства выходит, что занятие всеми
Л.Н Толс ой
Что такое искусство?
439
теми предметами, которые нам нравятся, есть искусство, так и по теории науки для науки изучение предметов, которые нас интересуют, есть наука.
Так что одна часть науки, вместо изучения того, как должны жить люди, чтобы исполнить свое назначение, доказывает законность и неизменность дурного и ложного существующего строя жизни; другая же — опытная наука — занимается вопросами простой любознательности или техническими усовершенствованиями.
Первый отдел наук вреден не только тем, что он запутывает понятия людей и дает ложные решения, но еще тем, что он существует и занимает место, которое должна бы занять истинная наука. Он вреден тем, что всякому человеку, для того чтобы приступить к изучению важнейших вопросов жизни, необходимо прежде решения их еще опровергать те веками нагроможденные и всеми силами изобретательности ума поддерживаемые постройки лжи по каждому из самых существенных вопросов жизни.
Второй же отдел — тот самый, которым так особенно гордится современная наука и который многими считается единственной настоящей наукой, — вреден тем, что отвлекает внимание людей от предметов действительно важных к предметам ничтожным, и, кроме того, прямо вреден тем, что при том ложном порядке вещей, который оправдывается и поддерживается первым отделом наук, большая часть технических приобретений этого отдела опытной науки обращается не на пользу, а на вред человечеству.
Ведь только людям, посвятившим на это изучение свою жизнь, кажется, что все те открытия, которые делаются в области естественных наук, суть дела очень важные и полезные. Но это кажется этим людям только потому, что они не глядят вокруг себя и не видят того, что действительно важно. Стоит им только оторваться от того психологического микроскопа, под которым они рассматривают изучаемые предметы, и взглянуть вокруг себя, чтобы увидать, как ничтожны все, доставляющие им такую наивную гордость, знания, — не говорю уже о воображаемой геометрии, спектральном анализе Млечного Л ути, форме атомов, размерах черепов людей каменного периода и т. п. пустяках, но даже и знания о микроорганизмах, X-лучах и т. п., в сравнении с теми знаниями, которые мы забросили и отдали на извращение профессорам богословия, юриспруденции, политической экономии, финансовой науки и др. Стоит нам только оглянуться вокруг себя, и мы увидим, что свойственная настоящей науке деятельность не есть изучение того, что случайно заинтересовало нас, а того, как должна быть учреждена жизнь человеческая, — те вопросы религии, нравственности, общественной жизни, без разрешения которых все наши познания природы вредны или ничтожны.
Мы очень радуемся и гордимся тем, что наша наука дает нам возможность воспользоваться энергией водопада и заставить эту силу работать на фабриках, или тому, что мы пробили туннели в горах, и т, п.
Ji. H. Толстой
440
Но горе в том, что эту силу водопада мы заставляем работать не на пользу людей, а для обогащения капиталистов, производящих предметы роскоши или орудия человекоистребления. Тот же динамит, которым мы рвем горы, чтобы пробивать в них туннели, мы употребляем для войны, от которой мы не только не хотим отказаться, но которую считаем необходимой и к которой не переставая готовимся.
Если же мы теперь умеем привить предохранительный дифтерит, найти Х-лучами иголку в теле, выправить горб, вылечить сифилис, делать удивительные операции и т. п., то и этими приобретениями, будь они даже неоспоримы, мы не стали бы гордиться, если бы мы вполне понимали действительное назначение настоящей науки. Если бы хоть 1/10 тех сил, которые тратятся теперь на предметы простого любопытства и практического применения, тратились на истинную науку, учреждающую жизнь людей, то у большей половины теперь больных людей не было бы тех болезней, от которых вылечивается крошечная часть в клиниках и больницах; не было бы воспитанных на фабриках худосочных, горбатых детей, не было бы, как теперь, смертности 50 процентов детей, не было бы вырождения целых поколений, не было бы проституции, не было бы сифилиса, не было бы убийства сотен тысяч на войнах, не было бы тех ужасов безумия и страдания, которые теперешняя наука считает необходимым условием человеческой жизни. Мы так извратили понятие науки, что людям нашего времени странно кажется упоминание о таких науках, которые сделали бы то, чтобы не было смертности детей, не было проституции, сифилиса, не было бы вырождения целых поколений и массового убийства людей. Нам кажется, что наука только тогда наука, когда человек в лаборатории переливает из склянки в склянку жидкости, разлагает спектр, режет лягушек и морских свинок, разводит на особенном научном жаргоне смутные, самому ему полупонятные теологические, философские, исторические, юридические, политико-экономические кружева условных фраз, имеющих целью показать, что то, что есть, то и должно быть. Но ведь наука, настоящая наука, — такая наука, которая действительно заслуживала бы то уважение, которого теперь требуют себе люди одной, наименее важной части науки, вовсе не в этом, — настоящая наука в том, чтобы узнать, чему должно и чему не должно верить, — узнать, как должно и как не должно учредить совокупную жизнь людей: как учредить половые отношения, как воспитывать детей, как пользоваться землей, как возделывать ее самому без угнетения других людей, как относиться к иноземцам, как относиться к животным и многое другое, важное для жизни людей. Такова всегда была истинная наука, и таковой она должна быть. И такая наука зарождается в наше время; но, с одной стороны, такая истинная наука отрицается и опровергается всеми теми учеными, которые защищают существующий строй жизни; с другой стороны, она считается пустой и ненужной, ненаучной наукой теми, которые заняты науками опытными.
.'I H. Толстой
Что такое искусо во?
-! И
Являются, например, сочинения и проповеди, доказывающие устарелость и нелепость религиозного фанатизма, необходимость установления разумного, соответствующего времени, религиозного миросозерцания, а многие теологи заняты тем, чтобы опровергнуть эти сочинения и опять снова и снова изощрять свой ум для поддержания и оправдания давно отживших суеверий. Или является проповедь о том, что одна из главных причин бедствий народа есть безземельность пролетариата, существующая на Западе. Казалось бы, наука, настоящая наука должна бы приветствовать такую проповедь и разрабатывать дальнейшие выводы из этого положения. Но наука нашего времени не делает ничего подобного: напротив, политическая экономия доказывает обратное, а именно что земельная собственность, как и всякая другая, должна все более сосредоточиваться в руках малого числа владельцев, как это, например, утверждают современные марксисты. Точно так же, казалось бы, дело настоящей науки доказывать неразумность и невыгоду войны, смертной казни, или бесчеловечность и губительность проституции, или бессмысленность, вред и безнравственность употребления наркотиков и животной пищи, или неразумность, зловредность и отсталость патриотического фанатизма. И такие сочинения есть, но все они считаются ненаучными. Научными же считаются или такие сочинения, которые доказывают, что все эти явления должны быть, или такие, которые занимаются вопросами праздной любознательности, не имеющими никакого отношения к человеческой жизни.
Поразительно ясно видно уклонение науки нашего времени от ее истинного назначения по тем идеалам, которые ставят себе некоторые люди науки и которые не отрицаются и признаются большинством ученых.
Идеалы эти не только высказываются в глупых модных книжках, описывающих мир через 1000, 3000 лет, но и социологами, считающими себя серьезными учеными. Идеалы эти состоят в том, что пища, вместо того чтобы добываться земледелием и скотоводством из земли, будет готовиться в лабораториях химическим путем и что труд человеческий будет почти весь заменен утилизированными силами природы.
Человек не будет, как теперь, съедать яйцо, снесенное воспитанной им курицей, или хлеб, выращенный на своем поле, или яблоко с дерева, которое он воспитал годами и которое цвело и зрело на его глазах, а будет есть вкусную, питательную пищу, которая будет готовиться в лабораториях совокупными трудами многих людей, в которых и он будет принимать маленькое участие.
Трудиться же человеку почти не будет надобности, так что все люди будут в состоянии предаваться той самой праздности, которой теперь предаются высшие властвующие классы.
Ничто очевиднее этих идеалов не показывает того, до какой степени наука нашего времени отклонилась от истинного пути.
Л. Н. Толстой
442
Люди нашего времени, огромное большинство людей не имеют хорошего и достаточного питания (точно то же относится и к жилищу, и к одежде, и всем первым потребностям). Кроме того, это же огромное большинство людей вынуждено во вред своему благосостоянию сверхсильно непрестанно работать. И то и другое бедствие очень легко устраняется уничтожением взаимной борьбы, роскоши, неправильного распределения богатств, вообще уничтожением ложного, вредного порядка вещей и установлением разумной жизни людей. Наука же считает, что существующий порядок вещей неизменен, как движение светил, и что поэтому задача науки не в уяснении ложности этого порядка и установлении нового, разумного строя жизни, а в том, чтобы при этом существующем порядке накормить всех людей и дать им возможность быть столь же праздными, как праздны теперь властвующие классы, живущие развращенной жизнью.
При этом забывается, что питание хлебом, овощами, плодами, выращиваемыми своими трудами на земле, есть самое приятное и здоровое, легкое и естественное питание и что труды упражнений своих мускулов есть такое же необходимое условие жизни, как окисление крови посредством дыхания.
Придумывать средства для того, чтобы люди при том ложном распределении собственности и труда могли хорошо питаться посредством химического приготовления пищи и могли заставить вместо себя работать силы природы, все равно что придумывать средство накачивания кислорода в легкие человека, находящегося в запертом помещении с дурным воздухом, когда для этого только нужно перестать держать этого человека в запертом помещении.
Лаборатория для выработки пищи устроена в мире растений и животных такая, лучше которой не устроят никакие профессора, и для пользования плодами в этой лаборатории и для участия в ней человеку нужно только отдаваться всегда радостной потребности труда, без которого жизнь человека мучительна. И вот люди науки нашего века, вместо того чтобы все силы свои употребить на устранение того, что препятствует человеку пользоваться этими уготованными для него благами, признают то положение, при котором человек лишен этих благ, неизменнным и, вместо того чтобы устроить жизнь людей так, чтобы они могли радостно работать, питаться от земли, придумывают средства сделать его искусственным уродом. Все равно как вместо того, чтобы вывести человека из заперти на чистый воздух, придумывать средства, как бы накачать в него кислорода сколько нужно и сделать так, чтобы он мог жить не дома, а в душном подвале.
Не могли бы существовать такие ложные идеалы, если б наука не стояла на ложном пути.
А между тем чувства, передаваемые искусством, зарождаются на основании данных науки.
Какие же может вызвать чувства такая, стоящая на ложном пути, наука? Один отдел этой науки вызывает чувства отсталые, пережитые
! Н I ОЛСТ0Й
Что такое искусство?
443
человечеством и для нашего времени дурные и исключительные. Другой же отдел, занимаясь изучением предметов, не имеющих отношения к жизни человеческой по самому существу своему, не может служить основой искусству.
Так что искусство нашего времени, для того чтобы быть искусством, должно само, помимо науки, прокладывать себе путь или пользоваться указаниями непризнанной науки, отрицаемой ортодоксальной частью науки. Это самое и делает искусство, когда оно хоть отчасти исполняет свое назначение.
Надо надеяться, что та работа, попытку которой я сделал об искусстве, будет сделана и о науке, что будет указана людям неверность теории науки для науки, и будет ясно показана необходимость признания христианского учения в истинном его значении, и что на основании этого учения будет сделана переоценка всех тех знаний, которыми мы владеем и так гордимся, будет показана второстепенность и ничтожность знаний опытных и первостепенность и важность знаний религиозных, нравственных и общественных, и что знания эти не будут, как теперь, предоставлены руководительству одних высших классов, а будут составлять главный предмет всех тех свободных и любящих истину людей, которые, не всегда в согласии с высшими классами, но вразрез с ними, двигали истинную науку жизни.
Науки же математические, астрономические, физические, химические и биологические, так же как технические и врачебные, будут изучаемы только в той мере, в которой они будут содействовать освобождению людей от религиозных, юридических и общественных обманов или будут служить благу всех людей, а не одного класса.
Только тогда наука перестанет быть тем, чем она есть теперь: с одной стороны, системой софизмов, нужных для поддержания отжившего строя жизни, с другой стороны, бесформенной кучей всяких, большей частью мало или вовсе ни на что не нужных знаний, а будет стройным органическим целым, имеющим определенное, понятное всем людям и разумное назначение, а именно вводить в сознание людей те истины, которые вытекают из религиозного сознания нашего времени. И только тогда и искусство, всегда зависящее от науки, будет тем, чем оно может и должно быть, — столь же важным, как и наука, органом жизни и прогресса человечества.
Искусство не есть наслаждение, утешение или забава; искусство есть великое дело. Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство. В наше время общее религиозное сознание людей есть сознание братства людей и блага их во взаимном единении. Истинная наука должна указать различные образцы приложения этого сознания к жизни. Искусство должно переводить это сознание в чувство.
Задача искусства огромна: искусство, настоящее искусство, с помощью науки руководимое религией, должно сделать то, чтобы то мирное сожительство людей, которое соблюдается теперь внешними
Л Н. Толпой
л 44
мерами — судами, полицией, благотворительными учреждениями, инспекциями работ ит. п., достигалось свободной и радостной деятельностью людей. Искусство должно устранять насилие.
И только искусство может сделать это.
Все то, что теперь, независимо от страха насилия и наказания, делает возможной совокупную жизнь людей (а в наше время уже огромная доля порядка жизни основана на этом), все это сделано искусством. Если искусством могли быть переданы обычаи так-то обращаться с религиозными предметами, так-то с родителями, с детьми, с женами, с родными, с чужими, с иноземцами, так-то относиться к старшим, к высшим, так-то к страдающим, так-то к врагам, к животным — и это соблюдается поколениями миллионов людей не только без малейшего насилия, но так, что этого ничем нельзя поколебать, кроме как искусством, — то тем же искусством могут быть вызваны и другие, ближе соответствующие религиозному сознанию нашего времени обычаи. Если искусством могло быть передано чувство благоговения к иконе, к причастию, к лицу короля, стыд пред изменой товариществу, преданность знамени, необходимость мести за оскорбление, потребность жертвы своих трудов для постройки и украшения храмов, обязанности защиты своей чести или славы отечества, то то же искусство может вызвать и благоговение к достоинству каждого человека, к жизни каждого животного, может вызвать стыд перед роскошью, перед насилием, перед местью, перед пользованием для своего удовольствия предметами, которые составляют необходимое для других людей; может заставить людей свободно и радостно, не замечая этого, жертвовать собою для служения людям.
Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей. Вызывая в людях, при воображаемых условиях, чувства братства и любви, религиозное искусство приучит людей в действительности, при тех же условиях, испытывать те же чувства, проложит в душах людей те рельсы, по которым естественно пойдут поступки жизни людей, воспитанных искусством. Соединяя же всех самых различных людей в одном чувстве щ уничтожая разделение, всенародное искусство воспитает людей к единению, покажет им не рассуждением, но самой жизнью радость всеобщего единения вне преград, поставленных жизнью.
Назначение искусства в наше время — в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собою, и установить на место царствующего теперь насилия то царство божие, т. е. любви, которое представляется всем нам высшей целью жизни человечества.
Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей.
I H. Золетой
Из письма И И. Бирюкову, май 1901 i.
4 к4'
Из письма II. И. Бирюкову, май 1901 г.
(О свободной школе)
...Дети находятся всегда — и тем больше, чем моложе — в том состоянии, которое врачи называют первой степенью гипноза. И учатся, и воспитываются дети только благодаря этому их состоянию. (Эта их способность к внушению отдает их в полную власть старших, и потому нельзя быть достаточно внимательным к тому, что и как мы внушаем им.) Так что учатся и воспитываются люди всегда только через внушение, совершающееся двояко: сознательно и бессознательно. Всё, чему мы обучаем детей, от молитв и басен до танцев и музыки, — всё это сознательное внушение; всё то, чему независимо от нашего желания подражают дети, в особенности в нашей жизни, в наших поступках, есть бессознательное внушение. Сознательное внушение — это обучение, образование, бессознательное — это пример, воспитание в тесном смысле, или, как я назову это, просвещение. На первое в нашем обществе направлены все усилия, второе же невольно, вследствие того, что наша жизнь дурна, находится в пренебрежении. Люди, воспитатели или — самое обыкновенное — скрывают жизнь и вообще жизнь взрослых от детей, ставя их в исключительные условия (корпуса, институты, пансионы и т. п.), или переводят то, что должно происходить бессознательно, в область сознательного: предписывают нравственные жизненные правила, при которых необходимо прибавлять: «Fais се que je dis, mais ne fais pas ce que je fais»1. От этого происходит то, что в нашем обществе так несоответственно далеко ушло образование, и так не только отстало, но отсутствует истинное воспитание, или просвещение. Если где оно и есть, то только в бедных рабочих семьях. А между тем из двух сторон воздействия на детей, бессознательного и сознательного, без всякого сравнения важнее и для отдельных личностей и для общества людей первое, т. е. бессознательное нравственное просвещение.
Живет какая-нибудь семья rentier2, землевладельца, чиновника, даже художника, писателя буржуазной жизнью, живет, не пьянствует, не распутничает, не бранясь, не обижая людей, и хочет дать нравственное воспитание детям. Но это так же невозможно, как невозможно выучить детей новому языку, не говоря на этом языке и не показывая им книг, написанных на этом языке. Дети будут слушать правила о нравственности, об уважении к людям, но бессознательно будут не только подражать, но и усвоять себе, как правило, то, что одни люди призваны чистить сапоги и платье, носить воду и нечистоты, готовить кушанье, а другие пачкать платье, горницы, есть кушанья и т. п. Если только серьезно понимать религиозную основу жизни — братство людей, то нельзя не видеть, что люди, живущие на деньги, отобранные от других, и заставляющие этих других за эти деньги служить себе, живут
Л. Н. Толстой
446
безнравственной жизнью, и никакие проповеди их не избавят их детей от бессознательного безнравственного внушения, которое или останется в них на всю жизнь, извращая все их суждения о явлениях жизни, или с великими усилиями и трудом будет после многих страданий и ошибок разрушено ими. Я говорю это не для вас, потому что, сколько я знаю, вы свободны от этого зла, и в этом отношении жизнь ваша может произвести на детей только нравственное внушение. То же, что вы далеко не все делаете сами и пользуетесь за деньги услугами других людей, не может вредно действовать на детей, если они видят, что ваше стремление не в том, чтобы сложить с своих плеч на других труд, нужный для вашей жизни, а наоборот.
Итак, воспитание, бессознательное внушение, есть самое важное. Для того же, чтобы оно было хорошее, нравственное, нужно — странно сказать, — чтобы вся жизнь воспитателя была хорошая. Что назвать хорошей жизнью? — спросят. Степени хорошества есть безграничные, но одна есть общая и главная черта хорошей жизни: это стремление к совершенствованию в любви. Вот это самое если есть в воспитателях и если этим заразятся дети, то воспитание будет не дурное.
Для того чтобы воспитание детей было успешно, надо, чтобы воспитывающие люди не переставая воспитывали себя, помогали бы друг другу все более и более осуществлять то, к чему стремятся. Средств же для этого, кроме главного внутреннего — работы каждого человека над своей душой (для меня с помощью уединения и молитвы) — может быть очень много. Надо искать их, обдумывать, прилагать, обсуждать. Я думаю, что критицизм, который употребляется у перфекционистов, — хорошее средство. Хорошо, я думаю тоже, в известные дни собираться и сообщать друг другу средства борьбы с своими слабостями, свои или из книг рецепты совершенствования. Хорошо, думаю, отыскивать самых несчастных людей, отталкивающих физически или нравственно, и пытаться служить им. Хорошо, думаю, пытаться сходиться с врагами, ненавидящими нас. Это я пишу наобум, au courant de la plume3, но думаю, что это целая и важнейшая область науки воспитания себя для воздействия на детей. Только бы мы сознали важность этой стороны воспитания, и мы бы разработали ее.
Это намеки на одну сторону дела — воспитание. Теперь об образовании. Об образовании я думаю вот что: наука, учение есть не что иное, как передача того, что думали самые умные люди. Умные же люди думали всегда в трех разных направлениях, приемах мысли, думали: 1) философски, религиозно о значении своей жизни — религия и философия; 2) опытно, делая выводы из известным образом обставленных наблюдений, — естественные науки: механика, физика, химия, физиология; 3) думали математически, делая выводы из положений своей мысли, - математика и математические науки.
Все эти три рода наук — настоящие науки. Нельзя подделаться под знание их, и не может быть полузнания — знаешь или не знаешь. Все
Л. Н. Толстой
Из письма П. И. Бирюкову, май 1901 г.
447
эти три рода наук космополитичны — все они не только не разъединяют, но соединяют людей. Все они доступны всем людям и удовлетворяют критерию братства людей.
Науки же богословские, юридические и специально исторические, русские, французские суть не науки, или науки вредные, и должны быть исключены. Но кроме того, что существуют три отрасли наук, существуют и три способа передачи этих знаний (пожалуйста, не думайте, что я подгоняю к трем; мне хотелось, чтобы было четыре или десять, но вышло по три).
Первый способ передачи — самый обычный — слова. Но слова на
разных языках, и потому является еще наука — языки, опять соответствующая критерию братства людей (может быть, и нужно преподава-
ние эсперанто, если бы было время и ученики желали бы). Второй спо
соб — это пластическое искусство,
рисование и лепка,
наука о том,
как
для глаза передать то, что знаешь, другому. И третий способ — музы
ка, пение — наука, как передать свое настроение, чувство.
Кроме этих шести отраслей преподавания должен быть введен еще седьмой: преподавание мастерства, и опять соответствующее критерию братства, т. е. такое, которое всем нужно, — слесарное, малярное, плотничное, швейное...
Так что преподавание распадается на семь предметов.
Какую часть времени употребить на каждый, кроме обязательного труда для своего обслуживания, решит склонность каждого ученика.
Мне представляется так: преподаватели для себя распределяют часы, но ученики вольны приходить или нет. Как ни странно это кажется нам, так уродливо поставившим образование, полная свобода обучения, т. е. чтобы ученик, ученица сами бы приходили учиться, когда хотят, есть conditio sine qua non4 всякого плодотворного обучения, так же как conditio sine qua nono питания есть то, чтобы питающемуся хотелось есть. Разница только в том, что в материальных делах вред отступления от свободы сейчас же проявляется — сейчас же будет рвота или расстройство желудка; в духовных же вредные последствия проявятся не так скоро, может быть, через года {^Только при полной свободе мЪжно вести лучших учеников до тех пределов, до которых они могут дойти, а не задерживать их ради слабых, а эти лучшие ученики — самые нужные. Только при свободе можно избежать обычного явления: вызывание отвращения к предметам, которые в свое время и свободно были бы любимы. Только при свободе возможно узнать, к какой специальности какой ученик имеет склонность, только свобода не нарушает воспитательного влияния!А то я буду говорить ученику, что не надо в жизни насилия, а над ним буду совершать самое тяжелое умственное насилие. Знаю я, что это трудно, но что же делать, когда поймешь, что всякое отступление от свободы губительно для самого дела образования. Да и не так трудно, когда твердо решишься не делать глупого. Я думаю, что надо так: а) от 2 до 3 дает уроки математики, т. е. учения тому, что хотят знать ученики в этой области; в) от 3
JI. H To четой
148
до 5 — рисованию, и т. д. Вы скажете: а самые маленькие? Самые маленькие, если ведутся правильно, сами всегда просятся и любят аккуратность, т. е. подчиняются гипнозу подражания: вчера был после обеда урок, и нынче он после обеда желает урока...
Вообще, грубо представляется мне распределение времени и предметов так. Всех часов бдения — 16. Половину из них полагаю, с перемежками отдыха, игры (чем моложе, тем длиннее), на воспитание, в тесном смысле — просвещение, т. е. на работу для себя, семьи и других: чистить, носить, варить, рубить и т. п.
Другую половину отдаю учению. Предоставляю ему избирать из 7 предметов то, к чему его тянет.
...Прибавлю еще о рисовании и музыке... Обучение на фортепьяно есть резкий признак ложно поставленного воспитания. Как в рисовании, так и в музыке дети должны быть обучаемы, пользуясь самыми всегда доступными средствами (в рисовании — мелом, углем, карандашом; в музыке — своей глоткой уметь передавать то, что они видят или слышат). Это начало. Если бы после — что очень жалко — для исключительных оказалось особенное дарование, тогда можно учиться писать масляными красками или играть на дорогих инструментах.
Для обучения этой элементарной грамоте рисовальной и музыкальной я знаю, что есть хорошие новые руководства.
Для обучения же языкам — чем больше, тем лучше — я думаю, вот каким ваших детей, по-моему, надо учить: французскому, немецкому непременно, английскому и эсперанто, если можно.
И учить надо, предлагая им читать знакомую по-русски книгу, стараясь понимать общий смысл, попутно обращая внимание на нужнейшие слова, корни слов и грамматические формы...
Пожалуйста, не судите строго это мое письмо, а примите его как попытку набросать программу программы...
Мысли о воспитании
(из писем и дневников 1895—1902 гг.)
О воспитании я думал очень много. Бывают вопросы, в которых приходишь к выводам сомнительным, и бывают вопросы, в которых выводы, к которым пришел, окончательные, и чувствуешь себя не в состоянии ни изменить их, ни прибавить к ним что-либо. Таковы выводы, к которым я пришел о воспитании. Они следующие.
Воспитание представляется ложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо самому жить? Потому что не
Н. Голегои
Мысли о воспитании
449
знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включалось бы в воспитание себя. Как одевать, как кормить, как класть спать, как учить детей? Точно так же, как себя. Если отец, мать одеваются, едят, спят умеренно и работают и учатся, то дети будут то же делать.
Qjea правила я бы дал для воспитания: самому не только жить хоро- ». шо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не F скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про ела-1 бые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, чтор есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляясь от своих недостатков, но даже не признавая их недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть этих недостатков в детях. В этом > вся трудность и вся борьба с детьми. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худший из всех не до-, статков — лицемерие родителей и теряют к ним уважение и интерес ко, всем их поучениям.^
Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление, и дети чутки и замечают его сейчас же, и отвращаются, и развращаются. Правда есть первое, главное условие действительности духовного влияния, и потому она есть первое условие воспитания. А чтобы не страшно было детям видеть всю правду своей и родителей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или по крайней мере менее дурной. И потому воспитание других включается в воспитание себя, и другого ничего не нужно.
* * *
Оба вопроса о воспитании и об отношении к людям сводятся в один вопрос, именно в последний: как относиться к людям не на словах только, а на деле. Если этот вопрос решен и жизнь отца идет по такому или другому решению, то в этой жизни отца и будет все воспитание детей. А если решение правильно, то отец и не введет соблазна в жизнь детей; если же нет, то будет обратное. Знание же, которое приобретут или не приобретут дети, — это дело второстепенное и ни в коем случае не важное. К чему будут способности у ребенка, тому он научится, хотя бы жил в захолустье.
* * *
Родители, живя развратно, невоздержанно в пище, праздно — в неуважении к людям — жизнью, всегда требуют от детей воздержания, деятельности, уважения к людям. Но язык жизни, примера далеко слышен и виден и ясен и большим, и малым, и своим, и иногородцам.
Л. Н. Толстой
450
* * *
Ведь дело в том, что, выгодно ли, невыгодно ли для внешнего успеха дела любовные (ненасильственное обращение с учениками), вы не можете обращаться иначе. Одно, что можно сказать наверное, — это то, что добро будит добро в сердцах людей и наверное производит это действие, хотя оно и не видно.
Одна такая драма, что вы уйдете от учеников, заплачете (если они узнают), — одна такая драма оставит в сердцах учеников большие, очень важные следы, чем сотни уроков.
* * *
^Человек всякий живет только затем, чтобы проявить свою индивидуальность.
Воспитание (современное) стирает eeQ
* * *
Ужасно смотреть на то, что богатые люди делают со своими детьми.
Когда он молод и глуп и страстен,его втянут в жизнь, которая ведется на шее других людей, приучат к этой жизни; а потом, когда он связан по рукам и по ногам соблазнами, не может жить иначе, как требуя для себя труда других, тогда откроют ему глаза (сами собой откроются глаза), и выбирайся, как знаешь: или стань мучеником, отказавшись от того, к чему привык и без чего не можешь жить, или будь лгуном.
* * *
Стоит заняться воспитанием, чтобы увидеть все свои прорехи. А увидав, начинаешь исправлять их. А исправлять самого себя и есть наи-\ лучшее средство воспитания своих и чужих детей и больших людей.
* * *
Для того чтобы воспитывать хорошо, надо жить хорошо перед теми, которых воспитываешь. А потому и в вопросе о половом общении надо быть, насколько можешь, чистым и правдивым: если считаешь половое общение грехом и живешь целомудренно, можно и должно проповедовать целомудрие детям. Если же стремишься к целомудрию, но не достигаешь его, так и надо говорить детям. Если же живешь нецеломудренно и не можешь и не хочешь жить иначе, то невольно будешь скрывать это от детей и не будешь им говорить про это. Так это и делают.
III. Толстой
О воспитании
451
* * *
Воспитание есть последствие жизни. Обыкновенно предполагается, что люди известного поколения знают, какими должны быть люди вообще, и потому могут их готовить к такому состоянию. Это совершенно несправедливо: люди, во-первых, не знают, какими должны быть люди, — могут в лучшем случае знать только идеал, к которому им свойственно стремиться; во-вторых, люди, воспитывающие сами, никогда не готовы, не воспитаны, а сами, если они не мертвы, движутся и воспитываются.
И потому все воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, т. е. самому двигаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, воспитывают их, и тем более на детей, с которыми они связаны.
ГБыть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание.
Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей, вроде того, что есть наша медицина — как, живя противно законами природы, все-таки быть здоровыми. Науки хитрые и пустые, никогда не достигающие своей цели.*]
О воспитании
(Ответ на письмо В. Ф. Булгакова)
Постараюсь исполнить ваше желание — ответить на ваши вопросы.
Очень может быть, что в моих статьях о воспитании и образовании, давнишних и последних, окажутся и противоречия, и неясности. Я просмотрел их и решил, что мне, да и вам, я думаю, будет легче, если я, не стараясь отстаивать прежде сказанное, прямо выскажу то, что теперь думаю об этих предметах.
Это для меня будет тем легче, что в последнее время эти самые предметы занимали меня.
Во-первых, скажу, что то разделение, которое я в своих тогдашних педагогических статьях делал между воспитанием и образованием, искусственно. И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно. И потому, не касаясь этого подразделения, буду говорить об одном образовании, о том, в чем, по моему мнению, заключаются недостатки существующих приемов образования, и каким оно, по моему мнению, должно быть, и почему именно таким, а не иным.
То, что свобода есть необходимое условие всякого истинного обра-j зования как для учащихся, так и для учащих, я признаю, как и прежде/ т. е. и угрозы наказаний и обещания наград (прав и т. п.), обусловливав
JI. H Толпой
452
ющие приобретение тех или иных знаний, не только не содействуют, но более всего мешают истинному образованию.
Думаю, что одна такая полная свобода, т. е. отсутствие принуждения и выгод как для обучаемых, так и для обучающих, избавила бы людей от большой доли тех зол, которые производит теперь принятое везде принудительное и корыстное образование. Отсутствие у боль-^шинства людей какого бы то ни было религиозного отношения к миру, |каких-либо твердых нравственных правил, ложный взгляд на науку, на ^общественное устройство, в особенности на религию, и все вытека-1ющие из этого губительные последствия — все это порождаемо в большей степени насильственными и корыстными приемами образования.
И потому,1цля того чтобы образование было плодотворным, т. е. > содействовалсгбьГдвижению человечества к все большему и большему I благу, нужно, чтобы образование было свободным. Для того же чтобы образование, будучи свободно как для учащих, так и для учащихся, не было собранием произвольно выбранных, ненужных, несвоевременно передаваемых и даже вредных знаний, нужно, чтобы у обучающихся, так же как и у обучаемых| было общее и тем и другим основание, вследствие которого избирались бы для изучения и для преподавания наиболее нужные для разумной жизни людей знания и изучались бы и преподавались в соответственных их важности размерах. Таким осно-/ ванием всегда было и не может быть не что другое, как одинаково сво-. бодно признаваемое всеми людьми общества, как обучающими, так и | обучающими^ понимание смысла и назначения человеческой жизни,
Так это было прежде, так это и есть теперь там, где люди соединены одним общим религиозным пониманием жизни и верят в него. Так это было и сотни лет тому назад в христианском мире, когда все люди, за малыми исключениями, верили в, церковную христианскую веру. Тогда у людей было твердое, общее всем основание для выбора предметов знания и распределения их, и потому не было никакой нужды в принудительном образовании.
Так это было сотни лет. Но в наше время такой общей большинству людей христианского мира веры уже нет; в наше время самое влиятельное сословие людей науки, руководящее общественным мнением, не признавая христианства в том виде, в котором оно преподается церквами, не верит уже ни в какую религию. Мало того, так называемые эти передовые люди нашего времени вполне уверены в том, что всякая религия есть нечто отсталое, пережитое, когда-то бывшее нужным человечеству, теперь же составляющее только препятствие для его прогресса, и старательно прямыми и обходными приемами уверяют в этом слепо верящее им молодое поколение, стремящееся к образованию. Так что в наше время и в нашем мире, при отсутствии какой бы то ни было общей большинству людей религии, ъ е. понимания смысла и назначения человеческой жизни, т. е. при отсутствии основы образования, невозможен какой бы то ни было определенный выбор
? I' \ к*' ои О {„мш
знаний и распределения их. Вследствие этого-то отсутствия всякой разумной основы, могущей руководить образованием, и, кроме того, вследствие возможности для людей заставлять молодые поколения обучаться тем предметам, которые им кажутся выгодными, и находится среди всех христианских народов образование в таком превратном и жалком, по моему мнению, положении.
Количество предметов знания бесконечно, и так же бесконечно то совершенство, до которого может быть доведено каждое знание.
Сравнить область знания можно с выходящими из центра сферы бесконечного количества радиусами, могущими до бесконечности быть удлиненными.
И потому совершенство в деле образования достигается не тем, чтобы учащиеся усвоили очень многое из случайно избранной области знания, а тем, чтобы, во-первых, из бесконечного количества знаний прежде всего были переданы учащимся знания о самых важных и нужных предметах, а во-вторых, тем, чтобы знания эти были доведены до относительно одинаковой степени, так чтобы преподаваемые знания, подобно одинаковой длины и одинаково равномерно друг от друга отделенным радиусам, определяющим сферу, составляли гармоничное целое.
Такой выбор знаний и такое распределение их быди возможны в европейском мире, пока люди верили в ту какую бы то ни было форму христианской религии, которая соединяла их. Теперь же, когда у большинства веры этой уже нет, вопрос о том, какие знания вообще полезны, какие могут быть вредны, какие нужны прежде, какие после и до какой степени должны быть доводимы те или другие, уже не имеет никакого основания для своего решения и решается как попало и совершенно произвольно теми людьми, которые имеют возможность насильственно передавать те или иные знания, — вопрос решается так, как это для них в данное время наиболее удобно и выгодно.
Вследствие этого-то и произошло в нашем обществе то удивительное явление, что, продолжая сравнение со сферой, в нашем обществе знания распределяются не только не равномерно, но в самых уродливых соотношениях; некоторые радиусы достигают самых больших размеров, другие же вовсе не обозначены. Так, например, люди приобретают знания о расстояниях, плотности, движениях на миллиарды верст от нас отстоящих звезд, о жизни микроскопических животных, о воображаемом происхождении организмов, о грамматике древних языков и тому подобном вздоре, а не имеют ни малейшего понятия о том, как живут и жили их братья — люди, не только отделенные от них морями и тысячами миль и веками, но и люди, живущие сейчас с ними рядом, в соседнем государстве: чем питаются, как одеваются, что работают, как женятся, воспитывают детей, каковы их обычаи, привычки и, главное, верования. Люди узнают в школах всё об Александре Македонском и Людовике XIV и его любовницах, знают о химическом составе тел, об электричестве, радии, о целых так называемых науках, о
Л. Н. Толстой
454
праве и теологии, подробно знают о повестях и романах, написанных разными, считающимися великими писателями и т. п., знают о совершенно ни на что не нужных и, скорее, вредных пустяках, а ничего не знают о том, как понимали и понимают смысл жизни и какие признавали и признают правила жизни миллиарды живших и живущих людей нехристианского мира, т. е. две трети всего человечества.
От этого-то и происходит в нашем мире то удивительное явление, что люди, считающиеся среди нас самыми образованными, суть, в сущности, люди самые невежественные, знающие множество того, что никому не нужно знать, и не знающие того, что прежде всего нужно знать всякому человеку. И мало того, что люди эти грубо невежественны, они еще и безнадежно невежественны, так как вполне уверены, что они очень ученые, образованные люди, т. е. знают все то, что, по их понятиям, нужно знать человеку.
Происходит это удивительное и печальное явление от того, что в нашем, называемом христианским, мире не только опущен, но отрицается тот главный предмет преподавания, без которого не может быть осмысленного приобретения каких бы то ни было знаний. Опущена и отрицается необходимость религиозного и нравственного преподавания, т. е. передачи молодым поколениям учащихся тех, с самых древних времен, данных мудрейшими людьми мира, ответов на неизбежно стоящие перед каждым человеком вопросы: первый — что я такое, какое отношение мое, моей отдельной жизни ко всему бесконечному миру; и второй — как мне сообразно с этим моим отношением к миру жить, что делать и чего не делать.
Ответы же на эти два вопроса — религиозное учение, общее всем людям, и вытекающее из него учение нравственности, тоже одинаковое для всех народов, ответы эти, долженствующие составлять главный предмет всякого образования, воспитания и обучения, отсутствуют совершенно в образовании христианских народов. И еще хуже, чем отсутствуют: заменяются в нашем обществе самым противным истинному религиозному и нравственному обучению собранием грубых суеверий и плохих софизмов, называемых законо^Божием.
В этом, я полагаю, главный недостаток существующих в нашем об- , ществе приемов образования. И потому думаю, чтобы в наше время образование было не вредно, каково оно теперь, в основу его должны непременно быть поставлены эти два самых главных и необходимых, отсутствующих в нашем образовании предмета: религиозное понимание и нравственное учение.
Об этом самом предмете я писал в составленном мною «Круге чтения» следующее:
«С тех пор, как существует человечество, всегда у всех народов являлись учителя, составлявшие науку о том, что нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех других людей.
/L II Толстой
О воспитании
455
Эта-то наука и служит руководящей нитью в определении значения всех других знаний.
Предметов наук бесчисленное количество; и без знания того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве предметов, и потому без этого знания все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной, а если праздной, то и вредной забавой».
«Единственное объяснение той безумной жизни, противной своему сознанию, которую ведут люди нашего времени, заключается именно в том, что молодые поколения обучаются бесчисленным самым сложным, трудным и ненужным предметам, не обучаются только тому, что одно нужно, — тому, в чем смысл человеческой жизни, чем она должна быть руководима и что думали об этом вопросе и как решили его мудрейшие люди всех времен и всего мира».
Скажут: «Нет такого общего большинству людей религиозного учения и учения нравственности». Но это неправда, во-первых, потому, что такие общие всему человечеству учения всегда были, и есть, и не могут не быть, потому что условия жизни всех людей во все времена и везде одни и те же, во-вторых, потому, что во все времена среди миллионов людей всегда мудрейшие из них отвечали людям на те главные жизненные вопросы, которые стоят перед человечеством.
Если некоторым людям нашего времени кажется, что таких учений не было и нет, то происходит это только оттого, что люди принимают те затемнения и извращения, которыми во всех учениях скрыты основные религиозные и нравственные истины, за самую сущность учений. Стоит только людям серьезно отнестись к вопросам жизни, и одна и та же — и религиозная и нравственная — истина во всех учениях, от Кришны, Будды, Конфуция и Христа, Магомета и новейших религиозных мыслителей, откроется им.
Только при таком разумном, религиозно-нравственном учении, поставленном в основу образования, может быть и разумное, и не вредное людям, а разумное образование. При отсутствии же такой разумной основы образования не может и быть ничего другого, как только то, что и есть теперь, — нагромождение пустых, случайных, ненужных знаний, называемых наукой, которые не только не полезны, но приносят величайший вред людям, скрывая от них необходимость одних нужных человеку знаний. Нравится нам это или не нравится, разумное образование возможно только при постановке в основу его учения о религии и нравственности...
И потому я полагаю, что [первое и главное знание, которое свойственно прежде всего передавать детям и учащимся взрослым, — это ответ на вечные и неизбежные вопросы, возникающие в душе каждого приходящего к сознанию человека. Первый: что я такое и каково мое отношение к бесконечному миру? И второй, вытекающий из первого: как мне жить, что считать всегда, при всех возможных условиях, хорошим и что всегда, и при всех возможных условиях, дурным?
Л. Н. Толстой
456
Ответы на эти вопросы всегда были и есть в душе каждого Человека; разъяснения же ответов на эти вопросы не могло не быть среди миллиардов прежде живших и миллионов живущих теперь людей. И они действительно есть в учениях религии и нравственности — не в религии и учении нравственности какого-либо одного народа известного места и времени, а в тех основах религиозных и нравственных учений, которые — одни и те же — высказаны всеми лучшими мыслителями мира, от Моисея, Сократа, Кришны, Эпиктета, Будды, Марка Аврелия, Конфуция, Христа, Иоанна-апостола, Магомета до Руссо, Канта, персидского Баба, индусского Вивекананды, Чаннинга, Эмерсона, Рес-кина, Сковороды и других.
И потому думаю, что до тех пор, пока эти два предмета не станут в основу образования, не может быть никакого разумного образования.
Что же касается дальнейших предметов знания, то думаю, что порядок их преподавания выясняется сам собой при признании основой всякого знания учения о религии и нравственности. Весьма вероятно, что при такой постановке дела первым после религии и нравственности предметом будет изучение жизни людей самых близких: своего народа, богатых, бедных классов, женщин, детей, их занятий, средств существования, обычаев, верования, миросозерцаний. После изучения жизни своего народа, думаю, что при правильной постановке дела образования столь же важным предметом будет изучение жизни других народов, более отдаленных, их религиозных верований, государственного устройства, нравов, обычаев.
Оба эти предмета, точно так же как религиозно-нравственное учение, совершенно отсутствуют в нашей педагогике и заменяются географией — изучением названий мест, рек, гор, городов — и историей, заключающейся в описании жизни и деятельности правителей и преимущественно их войн, завоеваний и освобождений от них.
Думаю, что при постановке в основу образования религии и нравственности изучение жизни себе подобных, т. е. людей, что называется этнографией, займет первое место и что точно так же, соответственно своей важности для разумной жизни, займут соответствующие места зоология, математика, физика, химия и другие знания.
Думаю так, но не берусь ничего утверждать о распределении зна-' ний. Утверждаю же я только одно: что без признания основным и главным предметом образования религии и нравственности не может быть никакого разумного распределения знаний, а потому и разумной и полезной для обучаемых передачи их.
При признании же основой образования религии и нравственности и при полной свободе образования все остальные знания распределяются так, как это им свойственно, сообразно тем условиям, в которых будет находиться то общество, в котором будут преподаваться и восприниматься знания.
И потому полагаю, что главная и единственная забота людей, занятых вопросами образования, может и должна состоять прежде всего в
h истой О Натке 45^
гом, чтобы выработать соответственное нашему времени религиозное и нравственное учение и, выработав таковое, поставить его во главе образования. В этом, по моему мнению, в наше время состоит первое и, пока оно не будет сделано, единственное дело не только образования, но и всей науки нашего времени, не той, которая вычисляет тяжесть той звезды, вокруг которой вращается Солнце, или исследует происхождение организмов за миллионы лет до нашего времени, или описывает жизни королей, полководцев, иди излагает софизмы теологии или юриспруденции, а той одной, которая есть точно наука, потому что действительно нужна людям. Нужна же людям потому, что, наилучшим образом отвечая на те, одни и те же, вопросы, которые везде и всегда ставит себе всякий разумный человек, вступающий в жизнь, она содействует благу как отдельного человека, так и всего человечества.
Вот все, что имел сказать. Буду рад, если что пригодится вам.
О науке
Ответ крестьянину
I
То, о чем вы пишете в вашем письме, так важно, и я так давно и много думал и думаю об этом самом, что мне хочется напоследях, зная, что мое время коротко, насколько сумею, ясно и правдиво высказать все, что я думаю об этом, самой первой важности, предмете.
Вы спрашиваете, что надо разуметь под наукой и образованием? Спрашиваете, не бывают ли наука или образование вредны, и, как образец того вреда, который бывает от того, что называется образованием, приводите пример того учителя, сына крестьянина, который стыдится выкормившего его отца и, когда отец этот привез ему свои деревенские гостинцы, попросил отца спрятаться на кухне, чтобы не оконфузить своим мужицким видом образованного сына перед бывшими у него гостями.
Может быть, пример этот и исключителен, но знаменателен, и стоит вдуматься в него, чтобы то, что у нас называется образованием, представилось в ином, чем оно представляется большинству, значении.
На другой день после получения вашего письма я провел вечер с дамой, директрисой гимназии, с довольно странным для дамы именем и отчеством — Акулиной Тарасовной. У дамы этой тонкие, белые, прекрасные руки с перстнями, шелковая, умеренно модная одежда и приятный вид усталой, умной, «образованной» женщины с либеральными идеями. Дама эта крестьянская заброшенная сиротка. Помещица случайно разжалобилась над именно этой сироткой, взяла ее воспитывать и дала ей «образование». И вот вместо Акульки, которую трепала бы
Л. Н. Толстой
458
за косы мать за то, что она, чертова де^ка, упустила телят в овсы, а потом вместо Акулины, которую сосватал бы Прохор Евстигнеев и бил бы в пьяном виде смертным боем, а потом вместо Акулины вдовы, которая, оставшись с пятью детьми, ходила бы с сумой и всем, как горькая редька, надоела своими слезами и причитаниями, а потом вместо ставшей из Акулины Тарасовной, которая, хотя и вырастила сына и отдала его в люди, все-таки живет впроголодь у зятя, терпя всякие обиды от брата невестки, вместо этой зачахлой, грязной, оборванной, утром и вечером умоляющей матушку казанскую царицу небесную, чтобы она прибрала ее, вместо этой Тарасовны, которая в тягость не только себе, но и всем тем, кто ее кормит, вместо этой Тарасовны теперь любезная, умная директриса, белыми руками сдающая карты, остроумно шутящая о персидских делах со старинным приятелем и сыном ее воспитателя и предпочитающая чай с лимоном, а не со сливками. И на вопрос: угодно ли ей ягод? — отвечающая: «Пожалуй, только немного. Мой милый доктор не велит, да уж очень хороши ягоды. Немножко, пожалуйста».
Расстояние между той и другой Тарасовной как от неба до земли. А отчего? Оттого, что Акульке дано было «образование».
Ее благодетельница не ошиблась в том, что нужно для того, чтобы доставить своей воспитаннице то, что считалось ею несомненным счастьем: она дала Акульке «образование». И образование сделало то, что Акулька стала дамой, т. е. из мужички, которой все говорят ты, стала госпожой, которой все говорят вы и которая сама говорит ты всем тем людям, которые кормят ее вместе со всеми теми, с кем она стоит теперь на равной ноге, т. е. из сословия подвластных и угнетенных перешла в сословие властвующих и угнетающих. То же на половину сделал и ваш учитель и желает сделать до конца. Но у него еще есть препятствия родства, которых не было у моей дамы.
II
За несколько уже лет не проходит дня, чтобы я не получил от двух до четырех писем с просьбами о том, чтобы я тем или иным способом помог ему или ей, если это пишет сам желающий учиться, или мать, просящая за детей, чтобы я помог детям или молодым людям учиться, окончить образование, удовлетворить, как они пишут, съедающую их с детства страсть к просвещению, т. е. помог бы им посредством диплома выйти из положения людей, обязательно тяжело трудящихся, в положение вашего учителя или моей дамы. Самое же странное, при этом я сказал бы смешное, если бы это не было так жалко и гадко, — это то, что эти люди, юноши, девушки, матери, всегда все объясняют свое желание получить образование тем, чтобы иметь возможность «служить народу, посвятить свою жизнь служению нашему несчастному народу».
Вроде того, как если бы один из многих людей, несущих общими си
LH. Толстой
О науке
459
лами тяжелое бревно, вышел бы из-под бревна и сел бы на него, в то время как другие несут его, объясняя свой поступок тем, что он делает это из желания служить несущим.
Все дело ведь очень просто.
Мы говорим, что в Индии существуют касты, а что у нас в христианском мире нет их. Но это неправда. У нас в христианском мире есть также немногие, но две до такой степени резко разделенные между собой касты, что едва ли возможна где-нибудь какая-либо большая разница и отдаленность между двумя разрядами людей, чем та, которая существует между людьми с отчищенными ногтями, вставными зубами, утонченными одеждами, кушаньями, убранствами жилищ, дорогими портнихами, людьми, расходующими, не говорю уже ежедневно сотни рублей, но 5, 3,1 рубля в день, и полуголыми, полуголодными, грязными, неотдыхающими, безграмотными и в вечной зависимости от нужды людьми, работающими по 16 часов в сутки за два рубля в неделю.
Отношений между этими двумя если не кастами, то разрядами людей, как и не может быть иначе, нет никаких, кроме повелений, наказаний и случайных для препровождения времени игрушечных благо-творений со стороны людей с вычищенными ногтями и покорного исполнения, выпрашивания и затаенной зависти и ненависти со стороны людей с мозолистыми грязными руками. Разница между кастами в Индии и этими двумя разрядами людей в христианском мире только та, что в Индии и законом и обычаем воспрещается переход из одной касты в другую, у нас же переходы эти из одного разряда в другой возможны и совершаются всегда одним и тем же средством.
Средство это есть только одно: образование. Только образование дает людям из рабочего народа возможность посредством поступления или в чиновники к правительству, или в служащие к капиталистам и землевладельцам выйти из своего сословия и сесть на шею его, участвуя с правительством, землевладельцами и капиталистами в отнятии от народа произведений его труда.
Если же люди из народа какими-либо, всегда недобрыми путями и помимо образования сумели обогатиться, то для полного их перехода в высшую касту нужно опять-таки образование.
Так что стремление к образованию людей рабочего сословия, вызываемое если не исключительно, то преимущественно желанием избавления себя от труда рабочего сословия, противно установившемуся мнению, не заключает в себе не только ничего похвального, но, напротив, есть в большей части случаев стремление очень нехорошее.
III
«Но если и допустить, что цель большинства людей из народа, стремящихся к образованию, не заключает в себе ничего похвального, — скажут люди, твердо верующие в благотворность науки, — образование
само по себе все-таки есть дело полезное, и желательно, чтобы как можно больше людей пользовались им».
Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на то самое, о чем вы спрашиваете: что такое то, что у нас называется образованием и наукой?
Так как образование есть только обладание теми знаниями, которые признаются наукой, то буду говорить только о науке.
Наука? Что такое наука? Наука, как это понималось всегда и понимается и теперь большинством людей, есть знание необходимейших и важнейших для жизни человеческой предметов знания.
Таким знанием, как это и не может быть иначе, было всегда, есть и теперь только одно: знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему богом, судьбой, законами природы — как хотите. Для того же, чтобы знать это, как наилучшим образом прожить свою жизнь в этом мире, надо прежде всего знать, что точно хорошо всегда и везде и всем людям и что точно дурно всегда и везде и всем людям, т. е. знать, что должно и чего не должно делать. В этом, и только в этом, всегда и была и продолжает быть истинная, настоящая наука.
Наука эта есть действительно наука, т. е. собрание знаний, которые не могут сами собой открыться человеку и которым надо учиться и которым учился и весь род человеческий. Наука эта во всем ее объеме состоит в том, чтобы знать все то, что за многие тысячи лет до нас думали и высказывали самые хорошие, мудрые люди из тех многих миллионов людей, живших прежде нас, о том, что надо и чего не надо делать каждому человеку для того, чтобы жизнь не для одного себя, но для всех людей была хорошей. И так как вопрос этот так же, как он стоит теперь перед нами, стоял всегда перед всеми людьми мира, то и во всех народах и с самых давних времен были люди, высказывавшие свои мысли о том, в чем должна состоять эта хорошая жизнь, т. е. что должны и чего не должны делать люди для своего блага. Такие люди были везде: в Индии были Кришна и Будда, в Китае — Конфуций и Лаотсе, в Греции и Риме — Сократ, Эпиктет, Марк Аврелий, в Па-,’ лестине — Христос, в Аравии — Магомет. Такие люди были и в средние века и в новое время, как в христианском, так и в магометанском, браминском, буддийском, конфуцианском мире. Так что знать то, что говорили в сущности почти всегда одно и то же все мудрые люди всех народов о том, как должны для их истинного блага жить люди по отношению ко всем главным условиям жизни человеческой, в этом, и только в этом, истинная настоящая наука. И науку эту необходимо знать каждому человеку для того, чтобы, пользуясь тем опытом, какой приобрели прежде жившие люди, не делать тех ошибок, которые они делали.
И вот знать все то, к чему одному и тому же пришли все эти мудрые люди, в этом, только в этом одном, истинная, настоящая наука.
IV
Наука о том, как надо жить людям для того, чтобы жизнь их была хорошая, касается многих, разных сторон жизни человеческой: учит тому, как относиться к обществу людей, среди которых живешь, как кормиться, как жениться, как воспитывать детей, как молиться, как учиться и многому другому. Так что наука эта в ее отношении к разным сторонам жизни человеческой может казаться и длинной, и многосложной, но главная основа науки та, из которой каждый человек может вывести ответы на все вопросы жизни, и коротка и проста и доступна всякому, как самому ученому, так и самому неученому человеку.
, Оно и не могло быть иначе. Все равно, есть ли бог или нет бога, не могло быть того, что мог бы узнать самую нужную для блага всякого человека науку только тот, кому не нужно самому кормиться, а кто может на чужие труды 12 лет учиться в разных учебных заведениях. Не могло быть этого, и нет этого: настоящая наука та, которую необходимо знать каждому, доступна и понятна каждому, потому что вся эта наука в главной основе своей, из которой каждый может вывести ее приложения к частным случаям, вся она сводится к тому, чтобы любить бога и ближнего, как говорил Христос. Любить бога, т. е. любить выше всего совершенство добра, и любить ближнего, т. е. любить всякого человека, как любишь себя. Так же высказывали истинную науку в этом самом ее простом виде еще прежде Христа и браминские, и буддийские, и китайские мудрецы, полагая ее в доброте, в любви, в том, чтобы, как сказал это китайский мудрец, делать другому то, чего себе хочешь.
Так что истинная, настоящая наука, нужная всем людям, и коротка, и проста, и понятна. И это не могло быть иначе, потому что, как прекрасно сказал это малороссийский мудрец Сковорода: бог, желая блага людям, сделал все ненужное людям трудным и легким все нужное им.
Такова истинная наука, но не такова та наука, которая в наше время в христианском мире считается и называется наукой. Наукой в наше время считается и называется, как ни странно это сказать, знание всего, всего на свете, кроме того одного, что нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошей жизнью.
Люди, занимающиеся теперь наукой и считающиеся учеными, изучают все на свете. И таких изучений, называемых наукой, такое огромное количество, что едва ли есть на свете такой человек, который не то чтобы знал все эти так называемые науки, но мог бы хотя перечислить их. Наук этих пропасть, с каждым днем появляются новые. И все эти науки, называемые самыми странными выдуманными греческими и латинскими словами, считаются одинаково важными и нужными, так что нет никакого указания на то, какие из этих наук должны считаться более, какие менее важными и какие поэтому
Л. Н. Толстой
462
должны изучаться прежде и какие после, какие более и какие менее нужны людям.
Не только нет такого указания, но люди, верующие в науку, до такой степени верят в нее, что не только не смущаются тем, что наука их не нужна, но, напротив, говорят, что самые важные и полезные науки — это те, которые не имеют никакого приложения к жизни, т. е. совершенно бесполезны. В этом, по их понятиям, вернейший признак значительности науки.
Понятно, что людям, так понимающим науку, все одинаково нужно. Они с одинаковым старанием и важностью исследуют вопрос о том, сколько Солнце весит и не сойдется ли оно с такой или такой звездой, и какие козявки где живут и как разводятся, и что от них может сделаться, и как Земля сделалась Землею, и как стали расти на ней травы, и какие на Земле есть звери, и птицы, и рыбы, и какие были прежде, и какой царь с каким воевал и на ком был женат, и кто когда какие складывал стихи и песни и сказки, и какие законы нужны, и почему нужны тюрьмы и виселицы, и как и чем заменить их, и из какого состава какие камни и какие металлы, и как и какие пары бывают и как остывают, и почему одна христианская церковная религия истинна, и как делать электрические двигатели и аэропланы и подводные лодки, и пр. 'и пр. и пр. И все это науки с самыми странными вычурными названиями, и всем этим с величайшей важностью передаваемым друг другу исследованиям конца нет и не может быть, потому что делу бывает начало и конец, а пустякам не может быть и нет конца. Не может быть конца, особенно когда занимаются этими, так называемыми науками люди, которые не сами кормятся, а которых кормят другие и которым поэтому от скуки больше и делать нечего, как заниматься какими бы то ни было забавами. Выдумывают эти люди всякие игры, гулянья, зрелища, театры, борьбы, ристалища, в том числе и то, что они называют наукой.
V
Знаю, что эти мои слова покажутся верующим в науку, а в науку теперь гораздо больше верующих, чем в церковь (и веру эту еще никто' не решался называть тем, что она есть в действительности, простым и очень грубым суеверием), таким страшным кощунством, что эти верующие не удостоят мои слова вниманием и даже не рассердятся, а только пожалеют о том старческом оглупении, которое явствует из таких суждений. Знаю, что так будут приняты эти мои суждения, но все-таки скажу все то, что думаю о том, что называется наукой, и постараюсь объяснить, почему думаю то, что думаю.
Как я уже сказал: перечислить все те предметы, изучение которых называется науками, нет никакой возможности, и потому, для того чтобы можно было судить о том, что называется науками, я постараюсь, распределив все знания, называемые науками, по тем целям, ко
Tojcnni 0‘uivkc 463
торые они преследуют, обсудить, насколько все знания эти соответствуют требованиям настоящей науки, а если и не соответствуют, то достигают ли хотя тех целей, которые ставят себе люди, занимающиеся ими. Знания, называемые науками, сами собой распределяются по преследуемым ими целям на три главных отдела.
Первый отдел — это науки естественные: биология во всех своих подразделениях, потом астрономия, математика и теоретические, т. е. неприкладные физика, химия и другие со всеми своими подразделениями. Второй отдел будут составлять науки прикладные: прикладные физика, химия, механика, технология, агрономия, медицина и другие, имеющие целью овладевание силами природы для облегчения труда людского. Третий отдел будут составлять все те многочисленные науки, цель которых — оправдание и утверждение существующего общественного устройства. Таковы все так называемые науки богословские, философские, исторические, юридические, политические.
Науки первого отдела: астрономия, математика, в особенности столь любимая и восхваляемая так называемыми образованными людьми биология и теория происхождения организмов и многие другие науки, ставящие целью своей одну любознательность, не могут быть признаны науками в точном смысле этого слова по двум причинам. Во-первых, потому, что все эти знания не отвечают основному требованию истинной науки: указания людям того, что они должны и чего не должны делать для того, чтобы жизнь их была хорошая. Во-вторых, не могут быть признаны науками еще и потому, что не удовлетворяют тем самым требованиям любознательности, которые ставят себе занимающиеся ими люди. Не удовлетворяют же все эти науки за исключением математики, требованиям любознательности потому, что, исследуя явления, происходящие в мире неодушевленном и в мире растительном и животном, науки эти строят все свои исследования на неверном положении о том, что все то, что представляется человеку известным образом, действительно существует так, как оно ему представляется. Положение же это о том, что мир действительно таков, каким он познается одним из бесчисленных существ мира — человеком, теми внешними чувствами: зрением, обонянием, слухом, вкусом, осязанием, которыми одарено это существо (человек), совершенно произвольно и неверно. Совершенно произвольно и неверно это положение потому, что для всякого существа, одаренного другими чувствами, как, например, для рака или микроскопического насекомого и для многих и многих как известных, так и неизвестных нам существ, мир будет совершенно иной. Так что первое положение, на котором основываются все выводы этих наук, положение о том, что мир в действительности таков, каким он представляется человеку, произвольно и неверно. А потому и все выводы из этого положения, основанного на данных внешних чувств одного из существ мира, человека, не содержат в себе ничего реального и не могут удовлетворить серьезной любознательности.
Л. Н Голстой
464
Но если и допустить, что мир действительно таков, каким он представляется одному из бесчисленных существ, живущих в мире, человеку, или то, что, не имея возможности познать мир, каков он в действительности, мы довольствуемся изучением того мира, который представляется человеку, то и тогда познание этого мира не может точно так же удовлетворить требованиям разумной любознательности. Не может удовлетворить потому, что все явления этого мира представляются человеку не иначе, как в бесконечном времени и бесконечном пространстве, и потому как причины, так и последствия каждого явления, а также и отношения каждого предмета к окружающим его предметам никогда не могут быть действительно постигнуты. Причины происхождения каждого явления, а также и последствия его теряются в бесконечном прошедшем и будущем времени. Точно так же отношение каких бы то ни было предметов к окружающим их предметам не может быть точно определено, так как всякий предмет не может быть представляем иначе, как веществом в пространстве, а вещественные предметы не могут быть мыслимы иначе, как по отношению к бесконечно великим и бесконечно малым предметам.
Человек произошел от низших животных, а низшие животные от кого? А сама Земля как произошла? А как произошло то, от чего произошла Земля? Где мне остановиться, когда я знаю, что по времени конца нет и не может быть ни вперед, ни назад. Или мне говорят, что Солнце во столько-то тысяч раз больше Земли. Но Солнце ничто в сравнении с звездами в Млечном Пути. А в человеке кровяные шарики, а в шариках молекулы, а в молекулах — что?
Так что хотя могут быть и забавны, и интересны для людей, свободных от необходимого для жизни труда, исследования так называемых естественных наук о происхождении миров или органической жизни, или о расстояниях и величине миров, или о жизни микроскопических организмов и т. п., исследования эти не могут иметь никакого значения для серьезного, мыслящего человека, так как составляют только праздную игру ума, и потому ни в каком случае не могут быть признаваемы науками.
Так это по отношению первого отдела так называемых наук.
Второй отдел, науки прикладные, т. е. различные знания о том, как наилегчайшим способом бороться с силами природы и как пользоваться ими для облегчения труда людского, еще менее, чем знания первого отдела, могут быть признаны наукой. Не могут такого рода знания быть признаны наукой потому, что свойство истинной науки, так же как и цель ее, есть всегда благо людей, все же эти прикладные науки, как физика, химия, механика, даже медицина и другие, могут так же часто служить вреду, как и пользе людей, как это и происходит теперь. Теперь, при капиталистическом устройстве жизни, успехи всех прикладных наук, физики, химии, механики и других, неизбежно только увеличивают власть богатых над порабощенными рабочими и усиливают ужасы и злодейства войн. И потому все прикладные знания
Л. Н. Толстой
О науке
465
могут быть признаны мастерствами или теориями различных мае-терств, но никак не наукой.
Остается третий разряд знаний, называемых наукой, — знаний, имеющих целью оправдание существующего устройства жизни. Знания эти не только не отвечают главному условию того, что составляет сущность науки, служению благу людей, но преследуют прямо обратную, вполне определенную цель — удержать большинство людей в рабстве меньшинства, употребляя для этого всякого рода софизмы, лжетолкования, обманы, мошенничества...
Думаю, что излишне говорить о том, что все эти знания, имеющие целью зло, а не благо человечества, не могут быть названы наукой.
VI
Гак что в наше время называется наукой не то, что всеми людьми признается истинным, разумным и нужным, а наоборот, признается истинным, разумным и нужным все то, что некоторыми людьми называется наукой.
И потому на ваш вопрос, вредна ли наука и в чем ее вред, ответ мой тот, что нет на свете ничего нужнее, благотворнее настоящей науки и, напротив, нет ничего вреднее тех пустяков, которые называются праздными людьми нашего мира науками.
Главная причина того зла, от которого теперь страдают люди,, причина того деления людей на властвующих и подвластных, на рабов и господ, и той ненависти и злодеяний, которые производят это деление, главная причина этого зла — лженаука. Только эта лженаука дает властвующим возможность властвовать и лишает подвластных возможности освободиться от своего порабощения. И те, которые властвуют (я разумею не одни правительства, а всю властвующую касту), знают это и хотя часто и бессознательно, но чутко, чтобы не выпустить власть из рук, следят за наукой и всеми силами поддерживают ту, так называемую науку, которая им на руку, и всячески заглушают, извращают ту истинную науку, которая может обличить их беззаконную, преступную жизнь.
Люди эти, составляющие правительство и властвующие классы, хорошо знают, что все дело в том, усвоится народом ложная или истинная наука, и потому учреждают и поддерживают, одобряют и поощряют все те пустые, ненужные рассуждения, исследования, праздные умствования, всякие теории разных мастерств, приспособлений к жизни и всякого рода юридические, богословские и философские софизмы, которые называются науками, настоящую же науку, науку о том, как жить доброй жизнью, признают «ненаучной», принадлежащей к чуждой науке области религии. Область же религии признается ими, у нас преимущественно правительством, в других христианских странах, Англии, Германии, Франции, Австрии, высшим обществом, не подлежащей обсуждению, и все данные религии, несмотря на явные.
Л. Н. Толстой
466
в них нелепости, выдаваемые за священные истины, признаются неизменно такими, какими они дошли до нас. В области наук считается необходимым исследование, проверка изучаемого, и, хотя сами по себе предметы лженауки ничтожны, т. е. исключено из нее все то, что касается серьезных нравственных вопросов жизни, в ней не допускается ничего нелепого, прямо противного здравому смыслу. Область же религии, к которой отнесены все серьезные жизненные, нравственные вопросы, вся переполнена бессмысленными чудесами, догматами, прямо противными здравому смыслу, часто даже и нравственному чувству, к устранению которых никто не смеет прикоснуться. И потому естественно, что люди «науки», с особенным уважением, подобострастием относясь к своим пустяшным занятиям и с снисходительным презрением к тому соединению глубоких и нужнейших истин о смысле и поведении жизни с нелепейшими чудесами и догматами, называемому религией, внушают такие же чувства и своим ученикам.
И выходит то, что люди из народа, ищущие просвещения, а их теперь миллионы, с первых шагов на пути своего просвещения находят перед собой только две дороги: религиозное, отсталое, закостенелое учение, признаваемое священной, непогрешимой истиной, не могущее уже удовлетворить их разумным требованиям, или те пустяки, называемые наукой, которые, как нечто почти священное, восхваляются людьми властвующего сословия. И люди из народа всегда почти подпадают обману и, избирая то, что называется наукой, забивают себе голову ненужными знаниями и теряют то свойственное уважение к важнейшему нравственному учению о жизни, которое, хотя в извращенном виде, они признавали в религиозных верованиях. А как только люди из народа вступают на этот путь, с ними делается то самое, чего и хотят властвующие классы: они, теряя понятие об истинной, настоящей науке, становятся покорными орудиями в руках властвующих классов для поддержания в рабстве своих собратьев.
Так что, как ни велик вред ложной науки, и в том, что она забивает головы людей самыми ненужными пустяками, и в том, что посредством прикладных знаний дает возможность властвующему классу усиливать свою власть над рабочим народом, и в том, что прямо обманывает людей из народа своими богословскими, квазифилософркими, юридическими, историческими и военно-патриотическими лжами, главный величайший вред того, что называется наукой, в той полной замене истинной науки о том, что должен делать человек для того, чтобы прожить свою жизнь наилучшим образом, заключавшейся хотя и в извращенном виде в религиозном учении, совершенно пустыми, ни на что ненужными или вредными знаниями.
Сначала кажется странным, как могло это случиться, как могло сделаться то, что то, что должно служить благу людей, стало главной причиной зла среди людей. Но стоит только вдуматься в те условия, при которых возникали и развивались те знания, которые называются наукой, чтобы вредоносность этой науки не только не представлялась
} I. Толстой
О на\ке
467
странной, но чтобы ясно было, что это и не могло быть иначе.
Ведь если бы то, что признается наукой, было произведением труда мысли всего человечества, то такая наука не могла бы быть вредной. Когда же то, что называется наукой, есть произведение людей, преступно незаконно живущих праздной, развратной жизнью на шее порабощенного народа, то не может такая наука не быть и ложной, и вредной. Если бы живущие грабежом разбойники или воровством воры составили свою науку, то наука их не могла бы быть не чем иным, как только знаниями о том, как наиудобнейшим способом грабить, обворовывать людей, какие нужно иметь для этого орудия и как наиприятнейшим образом пользоваться награбленным. То же и с наукой людей нашего властвующего сословия.
VII
«Но если и согласиться, что наука одного класса людей не может быть вся полезна для всех, все-таки такие знания, как физика, химия, астрономия, история, в особенности математика (кроме того, и искусство), сами по себе не могут не быть полезны людям и расширением их миросозерцания и своим практическим приложением», — скажут люди науки. «Если само по себе и нехорошо то, что были и есть люди, которым не надо самим кормиться, то все-таки все то, что сделали эти люди благодаря тем условиям, в которых они находились, не теряет от этого своей ценности».
Нет, не годится и эта оговорка для оправдания того, что у нас называется наукой.
Представим себе, что на острове живут тысячи семей, с трудом прокармливаясь земледельческим трудом, одна же семья владеет большей половиной острова и, пользуясь нуждой в земле остальных жителей, выстроила себе роскошный дом со всякими усовершенствованными приспособлениями, террасами, картинами, статуями, зеркалами, завела конюшни с дорогими лошадьми и всякого рода экипажами и автомобилями, вывела лучшей породы скот, развела фруктовые сады с теплицами, оранжереями, парк с беседками, прудами, фонтанами, теннисом и всякими играми. Что будет со всеми этими прекрасными самими по себе предметами после того, как власть этой одной семьи над своими владениями уничтожится и тысячи семей, которые до этого кормились впроголодь на своей земле и работали на владельцев половины острова, получат в свое распоряжение дома, конюшни, лошадей, экипажи, скот, парк со всеми своими фонтанами, теннисом, оранжереями и теплицами?
Как ни хороши и дом, и парк, и скот, и оранжереи, не могут все обитатели острова воспользоваться всем этим. Дом слишком велик даже для школы и будет слишком дорог своей поддержкой и отоплением, скот даже для породы слишком тяжел для плохих коров жителей, оранжереи, теплицы, беседки не нужны, так же как не нужны другие
Л. Н. Толстой
468
сосредоточенные в одном месте приспособления богатых владельцев. Всем жителям острова нужно совсем другое: нужны хорошие дороги, проведенная вода, отдельные сады, огороды, нужна только следующая ступень благосостояния для всех, не имеющая ничего общего с террасами, статуями, автомобилями, рысаками, оранжереями, цветниками, теннисами и фонтанами. Все эти сами по себе хорошие предметы: статуи, трюмо, оранжереи, рысаки, автомобили, как бы ни увеличивалось благосостояние людей острова, ни для них, ни для будущих поколений никогда не понадобятся. Увеличивающееся благосостояние всех людей, живущих общей жизнью, потребует совершенно других предметов.
То же и со знаниями, как теоретическими, так и прикладными, которые доведены в своем роде до большого совершенства людьми богатых сословий. Нет никакого основания предполагать, что те знания и те различные степени их развития среди людей, живущих вне каст одной общей для всех жизнью, будут те же самые, как и те, которые развились и развиваются среди немногих людей, живущих исключительной жизнью, не своими, а трудами других людей. Нет никакого основания предполагать, чтобы люди, живущие все одинаковой внекастовой жизнью, занялись бы когда-нибудь вопросами о происхождении организмов, о величине и составе звезд, о радии, о деятельности Александров Македонских и других, об основах церковного, уголовного и других подобных прав, об излечении болезней, происходящих от излишеств, и многими и многими другими знаниями, которые теперь считаются науками.
Трудно предположить даже и то, чтобы люди, живущие общей жизнью, занятые вопросами истинной науки о том, что надо делать каждому человеку, чтобы жить хорошо, переделали бы все дела этой науки так, чтобы могли когда-нибудь на досуге заняться и аэропланами, и тридцатиэтажными домами, и граммофонами, и взрывчатыми веществами, и подводными лодками, и всеми теми чудесами, которые даются теперь прикладными науками. Людям, занятым вопросами истинной науки, всегда будет слишком много своего нужного дела. Дело это будет в том, чтобы уяснить каждому человеку, что ему надо делать для того, чтобы не могло быть людей голодных или лишенных возможности пользоваться землей, на которой они родились, чтобы не было женщин, отдающих на поругание свое тело, чтобы не было соблазнов пьянства, алкоголя, опиума, табака, чтобы не было бы делений на враждебные народы, не было бы убийств на войнах людей чужих народов и своего народа на гильотинах и виселицах, не было бы религиозных обманов и др. Мало того, людям, занятым истинной наукой, надо будет уяснить, что надо делать каждому человеку для того, чтобы хорошо воспитывать детей, чтобы хорошо жить в семье, чтобы хорошо питаться, чтобы хорошо возделывать землю. Так много таких и много и много других важных вопросов будут стоять перед людьми, занятыми истинной наукой, что едва ли когда-нибудь будут они в состоянии и за
I. Н. Толстой
О науке
469
хотят заняться граммофонами, аэропланами, взрывчатыми веществами и подводными лодками.
Нет, не может быть в той науке, которая выросла на преступлении, на нарушении основного положения настоящей науки: хоть не любви, а уважения людей друг к другу и потому равенства их между собой, не могло в такой науке выработаться что-нибудь не то что полезное, но не вредное тому народу, на нарушении прав которого основывалась вся эта наука.
VIII
Ведь только забыть хоть на время то, к чему мы так привыкли, что мы уже не спрашиваем, хорошо ли это или дурно, и взглянуть на то, что делается с людьми под предлогом их обучения науке, т. е. самой нужной истине, чтобы ужаснуться на те преступления и нравственности, и здравого смысла, которые совершаются в этой области. Устраивают за большие деньги, собранные с народа, заведения, в которых одним людям разрешается, другим не разрешается учить и учиться. Определяется, чему и чему должны учиться люди и сколько времени и, главное, какое они за какое учение получат в виде диплома, дающего средства жить трудами других людей, вознаграждение.
Награждение и выгода за приобретение знаний!
Ведь это все равно, как если бы давали награждение людям за то, чтобы они ели приготовляемую для них пищу, и запрещали бы людям всякую другую, кроме этой, пищу.
Уже одно это обещание вознаграждения и запрещение есть свою, несомненно, доказывает, что пища дурная и что те, кто готовят ее, желают не накормить, а отравить Потребителей.
Разве не то же самое с тем, что у нас называется наукой? Люди властвующего класса хорошо знают, что живы они только до тех пор, пока царствует их ложная наука и скрыта настоящая, знают, что, только стань на то место, на котором стоит теперь ложная наука, истинная — и конец их царству. А конец их царству потому, что при истинной науке не найдут они уже себе помощников из народа, для того чтобы, как теперь, посредством этих помощников, всяких полицейских, чиновников, учителей, тюремщиков, а главное, солдат, держать народ в своей власти — держать в своей власти самым простым старинным способом: на награбленные с народа деньги набирать помощников из народа, с помощниками грабить народ и частью награбленных денег подкупать новых помощников.
Узнай люди народа истинную науку, и не будет у властвующих помощников.
И властвующие знают это и потому, не переставая, всеми возможными средствами, приманками, подкупами заманивают людей из народа к изучению ложной науки и всякого рода запрещениями и насилиями отпугивают от настоящей, истинной.
Л. Н. Толстой
470
Обман явный. Что же нужно делать людям, чтобы избавиться от него?
А только то, чтобы не поддаваться обману.
А не поддаваться обману значит родителям не посылать, как теперь, своих детей в устроенные высшими классами для их развращения школы, и взрослым юношам и девушкам, отрываясь от честного, нужного для жизни труда, не стремиться и не поступать в устроенные для их развращения учебные заведения.
Только перестань люди из народа поступать в правительственные школы, и сама собой не только уничтожится ложная, никому, кроме одного класса людей, не нужная лженаука, и сама собой же установится всем и всегда нужная и свойственная природе человека наука о том, как ему наилучшим образом перед своей совестью, перед богом прожить определенный каждому срок жизни. И такая истинная наука, как ни стараются те, кому она вредна, заглушить ее, не переставая существует, как и не может не существовать между людьми. Такая истинная наука, как она ни забита усилиями людей властвующих классов, проявляется в нашем мире и в разных религиозно-нравственных учениях, не признаваемых ложной наукой и называемых сектами, проявляется, хотя и в неполном и извращенном виде, в учениях коммунизма, социализма, анархизма и, главное, в личных словесных поучениях людей людям.
Только не верь люди в науку, вводимую насилием и наградами, и не обучайся ей, а держись только той одной свободной науки, которая учит только тому, что делать каждому человеку для того, чтобы прожить свой срок жизни, как это хочет от него бог, живущий в его сердце, и само собой уничтожится то деление людей на высших властвующих и низших подвластных, и большая доля тех бедствий, от которых теперь страдают люди.
А такая истинная и свободная, непокупаемая и непродаваемая наука, которой учатся люди не для дипломов, а только для того, чтобы познать истину, и которой обучают люди не за деньги, а только для того, чтобы людям-братьям передать то, что знают, такая наука всегда была и есть, и научиться этой науке можно всегда, не поступая за деньги в школы, гимназии, университеты и всякие курсы, и из устных поучений добрых и мудрых людей живущих и из таких же книжных поучений умерших великих мудрецов и святых людей древности.
Так вот мое мнение о том, что такое истинная наука и что такое ложная наука, в чем вред от нее и как от него избавиться.
I. Н. Толстой
Беседы с детьми по нравственным вопросам
471
Беседы с детьми по нравственным вопросам
Преподавать детям нравственность я пытался вот как: собрав выраженные разными мыслителями нравственные истины и изложив их доступным детям в возрасте около 10 лет языком, я разделил их на отделы и каждый день читал детям по одной мысли из одного очерка отдела и, прочтя, просил их повторить своими словами прочитанное, разъясняя непонятное и отвечая на вопросы, вызванные чтением.
• Отделов таких у меня составилось около 20. Я говорю около 20 потому, что я не вполне остановился на числе отделов — и то прибавлю, то убавлю их.
Главные отделы следующие: 1) Бог. 2) Жизнь в воле Бога. 3) Человек — сын Бога. 4) Разум. 5) Любовь. 6) Совершенствование. 7) Усилие. 8) Мысли. 9) Слова. 10) Поступки — дела. 11) Соблазны внутренние. 12) Соблазны внешние. 13) Смирение. 14) Самоотречение. 15) Непротивление. 16) Жизнь в настоящем. 17) Смерть. 18) Жизнь — благо. 19) Вера.
Таких нравственных истин набралось у меня более 700, так что если расположить их по дням, то на каждый день придется по 2.
Для образца выписываю по одной мысли из каждого отдела.
Из отдела 1-го
Услыхали раз рыбы в реке, что люди говорят: рыбам можно жить только в воде. И стали рыбы друг у друга спрашивать: что такое вода? И ни одна рыба в реке не могла сказать, что такое вода. Тогда умная, старая сказала, что есть в море премудрая рыба. Она все знает. Спросим ее: что такое вода? И вот поплыли рыбы в море к старой премудрой рыбе и спросили ее: как бы нам узнать, что такое вода? Премудрая рыба сказала: вы не знаете, что такое вода, потому что живете в воде. Узнаешь воду только тогда, когда выскочишь из нее и почуешь, что без нее жить нельзя. Только тогда поймешь, что мы водою живем и что без воды нет жизни.
То же и с людьми, если они думают, что не знают Бога. Мы живем в Боге и Богом, и только что уйдем от Бога, сейчас нам так же плохо, как рыбе без воды.
Из отдела 2-го
Когда на большой дороге грабят разбойники, то путешественник не выезжает один: он выжидает, не поедет ли кто-нибудь со стражей, присоединяется к нему и тогда уже не боится разбойников.
Так же поступает в своей жизни и разумный человек. Он говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту, как уберечься от всего этого? Какого дорожного товарища подождать, чтобы поехать в безопасности? За кем ехать следом: за тем или за другим? За богатым
Л. Н. Толстой
472
ли, за важным ли вельможей или за самим царем? Не уберегут ли они меня? Ведь и их грабят и убивают и они так же бедствуют, как и другие люди. Да еще и то может быть, что тот самый, с кем я поеду, нападет на меня и ограбит. Какого же мне найти себе верного дорожного товарища, такого товарища, чтобы он не напал на меня, а был мне всегда защитой? За кем мне идти следом? Один есть такой верный товарищ. Товарищ этот — Бог. За Ним надо идти, чтобы не попасть в беду. А что значит идти за Богом? Это значит желать того, что Он хочет, и не желать того, чего Он не хочет. А как достигнуть этого? Понять Его законы и следовать им».
Из отдела 3-го
Христос сказал, что каждый человек — сын Бога. Это значит то, что в каждом человеке живет дух Божий; по телу всякий человек сын своих родителей, по духу всякий человек сын Бога. Чем больше человек понимает в себе дух Божий, чем больше признает свою сыновность Богу, тем больше он приближается к Богу и к истинному благу.
Из отдела 4-го
Чем добрее бывает жизнь человека, тем больше бывает в нём разума. А чем разумнее человек, тем добрее бывает жизнь человека.
Для доброй жизни нужен свет разума. А для того, чтобы разум был светел, нужна добрая жизнь. Одно помогает другому. А потому, если разум не помогает доброй жизни, это не настоящий разум. И если жизнь не помогает разуму, то это не добрая жизнь.
Из отдела 5-го
Постарайся полюбить того, кого ты не любил, кто обидел тебя. И если это удастся тебе сделать, то тебе сейчас же станет очень хорошо и радостно на душе. Как свет ярче светит после темноты, так и на душе бывает особенно хорошо, когда вместо злобы и досады почувствуешь любовь к тому, кого не любил и кто обидел тебя.
Из отдела 6-го
Мы все знаем, что живем не так, как надо и как могли бы жить. И потому всегда надо помнить, что жизнь наша может и должна быть лучше.
Помнить это надо не затем, чтобы осуждать жизнь других людей и свою, не исправляя ее, а затем, чтобы стараться с каждым днем и часом становиться хоть немного лучше, исправляя себя.
В этом самое главное и самое радостное дело в жизни.
Из отдела 7-го
Бывает неприятно, когда тебя хвалят за то, чего ты не сделал, и так же неприятно, когда бранят за то, чего ты не заслужил. Но можно и в
JI. H. Толстой
Беседы с детьми по нравственным вопросам
473
напрасной похвале и в напрасной брани найти пользу. Если ты не сделал доброго дела и тебя хвалят за него, постарайся сделать то, за что тебя хвалят. А если тебя бранят за то, чего ты не сделал, то постарайся вперед не делать того, за что тебя бранят.
Из отдела 8-го
Как удилами во рту мы управляем конями и рулями управляем кораблями, так и языком мы управляем всем телом. Языком можно и осквернить, можно и освятить себя. И потому надо не говорить, что попало, а внимательно следить за своими словами.
Слово — великое дело. Как небольшой огонь может сжечь целые деревни, так и от одного слова может сделаться большое несчастье.
Из отдела 9-го
Для того чтобы не делать злых дел, надо удерживаться не только от самых дел, но и от злых разговоров. Для того же, чтобы удерживаться от злых дел и разговоров, надо научиться удерживаться от злых мыслей. Когда один думаешь сам с собой и придут недобрые мысли — обсуждаешь кого-нибудь, сердишься, вспомни, что нехорошо так думать, остановись и старайся думать о другом. Только тогда будешь в силах воздерживаться от злых дел, когда научишься воздерживаться от злых мыслей. Корень злых дел в дурных мыслях.
Из отдела 10-го
Китайского мудреца спросили: есть ли такое слово, которое дало бы счастье на всю жизнь?
Мудрец сказал: «Есть слово «шу»; смысл этого слова такой: чего мы не хотим, чтобы нас делали, не надо делать другим».
Когда же Христа спросили о главной заповеди закона, Он сказал: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки».
Китайский мудрец сказал, чтобы не делать другим того, чего себе не хочешь: не отступай от любви. А Христос сказал: не только не делай другому того, чего себе не хочешь, но делай другому то, чего себе хочешь, — поступай по любви.
Из отдела 11-го
Пословица говорит: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». «От трудов будешь горбат, а не будешь богат».
И пословица не мимо молвится. Большое богатство наживается не трудами, а грехами. От этого большое богатство — тяжесть, а не радость для хорошего человека. Не пропускает большое богатство людей в царство Божие.
Л. Н. Толстой
474
Из отдела 12-го
Надо не поддаваться тому, что делают другие, а жить своим умом. Не беда, если мы смеемся, сами не зная чему, когда другой человек смеется, и если, глядя на того, кто зевает, и сами зеваем, но плохо то, когда мы поддаемся злому чувству того человека, который злится на нас, обижает нас. Он злится, и мы злимся. А тут-то и дороже всего не поддаться злому чувству, а, напротив, добротой ответить на злобу. Если с злыми людьми будешь такой же, как они, то сделаешься скбро злым и с добрыми людьми.
Из отдела 13-го
В Евангелии сказано (Лука XVI, 15), что велико для людей, то мерзость перед Богом. Это надо всегда помнить, чтобы не ошибиться и не почитать великим и важным то, что мало и ничтожно. Это надо помнить, потому что люди всегда возвеличиваются, украшают то, про что они знают, что оно без прикрасы будет не замечено и признано дурным. Так устраивают всякие храмы, шествия с музыкой и флагами, богатыми одеждами. Надо не поддаваться этому блеску и знать и помнить, что все истинное и доброе не нуждается в украшениях и бывает просто и скромно.
Из отдела 14-го
Люди живут общими трудами всех. И чугун, и косы, и сошник, и сукно, и бумага, и спички, и свечи, и керосин, и тысячи других вещей, — все это труды людские. И потому, чтобы не отнимать у людей людского труда, надо, если мы пользуемся трудами людей, оплачивать за это своим.
Есть пословица, что если один человек живет не работая, то где-нибудь какой-нибудь человек от этого умирает с голоду.
Но как учесть, больше ли я беру, чем даю? Учесть нельзя, и потому, чтобы не быть вором и убийцей, лучше больше отдать, чем взять, и для этого как можно больше работать и как можно меньше брать от других людей.
Из отдела 15-го
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Учение это запрещает делать то, от чего умножается, а не прекращается зло в мире. Когда один человек нападает на другого, обижает его, он этим зажигает в другом чувство ненависти, кр-рень всякого зла. Что же надо сделать, чтобы потушить это чувство зла? Неужели сделать то самое, что вызвало это чувство зла, т. е. повторить дурное дело? Поступить так, значит вместо того, чтобы уничтожить зло, усилить его.
JI. H. Толстой
Беседы с детьми по нравственным вопросам
475
И потому непротивление злу злому есть единственное средство победить зло. Только оно одно убивает злое чувство и в том, кто сделал зло, и в том, кто понес его.
Из отдела 16-го
Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать его нынче. Смерть не разбирает того, сделал или не сделал человек то, что должен. Смерть никого и ничего не дожидается. У нее нет ни врагов, ни друзей. Дела человека, то, что он успел сделать, становятся его судьбой, хорошей или дурной. И потому для человека важнее всего в мире то, что он сейчас делает.
Из отдела 17-го
Человек видит, как все на свете — и растения, и животные — зарождается, растет, крепнет, плодится, а потом слабеет, портится, стареет и умирает. *
То же самое видит человек и над своим телом и, глядя на других людей, когда они умирают, знает и про свое тело, что оно состарится, испортится и умрет, как и все, что родится и живет на свете.
Но кроме того, что он видит на других существах и на людях, каждый человек знает в себе еще то, что не портится и не стареет, а напротив, что больше живет, то лучшеет и крепнет. Знает каждый человек в себе свою душу.
Что будет с душой, когда мы помрем, никто не может знать, Одно мы верно знаем — это то, что портится, преет и гниет только то, что телесно, а душа нетелесна, и потому с ней не может быть того, что с телом. И потому страшна смерть только тому, кто живет только телом.
Для того же, кто живет душою, нет смерти.
Из отдела 18-го
Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват, потому что Бог создал людей не для того, чтобы они были несчастны, а для их счастия. Несчастны бывают люди только тогда, когда они желают того, что не всегда могут иметь. Счастливы же тогда, когда желают того, что всегда могут иметь. Чего же люди не всегда могут иметь? И что могут всегда иметь, когда желают этого?
Не всегда могут люди иметь то, что не в их власти, то, что другие могут отнять у них. Всего этого люди не могут иметь всегда. Всегда же могут иметь люди только то, чего никто от них отнять не может.
Первое — это все блага мирские, богатство, почести, здоровье. Второе — это своя душа, свое желание во всем исполнять волю Бога. И Бог дал в нашу власть как раз то, что нам нужнее всего для нашего блага, потому что никто, никакие мирские блага не дают истинного
Л. Н. Толстой
47(
блага, а всегда только обманывают. Истинное же благо дает только исполнение воли Бога. Бог не враг нам, Он поступил с нами, как добрый Отец: Он не дал нам только того, что не может дать нам блага.
Из отдела 19-го
Во всех верах учение о том, как надо жить людям, одно и то же. Обряды разные, а вера одна.
Разумный человек видит то, что едино во всех верах, глупый же видит только то, что в них разное.
О наказаниях и насилии в воспитании
Из книги «Путь жизни»
* Наказание вредно нестолько потому, что оно озлобляет того, кого х наказывают, но еще и потому, что оно развращает того, кто наказы-?вает.
' Наказывать человека за его дурные дела все равно, что греть огонь. Всякий человек, сделавший дурное, уже наказан тем, что лишен спокойствия и мучится совестью. Если же он мучится совестью, то все наказания, которые могут наложить на него люди, не исправят его, а только озлобят.
Мы наказываем ребенка, чтобы отучить его от делания дурного, но самым наказанием мы внушаем ребенку то, что наказание может быть полезно и справедливо.
А едва ли какая-нибудь из тех дурных наклонностей, за которые мы наказываем ребенка, может быть так вредна для него, как та дурная наклонность, которую мы внушаем ему нашим наказанием его. «Меня наказывают, стало быть наказывать хорошо», — говорит себе ребенок, и при первом случае применяет это к делу. Надо знать и помнить, что желание наказывать есть желание мести, не свойственное разумному существу — человеку. Желание это свойственно только животной природе человека. И потому человеку надо стараться освобождаться от этого чувства, а никак не оправдывать его.
Учение о разумности наказания не только не содействовало и не содействует лучшему воспитанию детей, не содействует лучшему устройству общества и нравственности всех людей, верящих в наказание за гробом, но произвело и производит неисчислимые бедствия: оно ожесточает детей, ослабляет связь людей в обществе и развращает людей обещанием зла, лишая добродетель ее главной основы.
Учить людей можно тем, чтобы открывать им истину и показывать пример добра, а никак не тем, чтобы заставлять их силою делать то, ^что нам хочется.
Заставлять людей силой делать то, что мне кажется хорошим, это £ самое лучшее средство внушать им отвращение к тому, что мне ка-|жется хорошим.
I. Н. Толстой
Письма
477
Письма
Из письма А. А. Толстой
1861 г. Август (начало).
Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться, — это школа. Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом, в саду, под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так все заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа 3—4, и никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети, — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал.
Подумайте только, что (в продолжение) двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не были наказаны. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты — одна розовая, две голубые — заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам, кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т. д. По воскресеньям музей открывается для всех, и немец из Йены (который вышел славный юноша) делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пения четыре класса в неделю. Рисования шесть (опять немец), и очень хорошо. Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашают мужики. Учителей всех, кроме меня, три. И еще священник два раза в неделю. А вы все думаете, что я безбожник. И я еще учу священника, как учить.
Классы положены с 8 до 12 часов и с 3 до 6 часов, но всегда идут до 2 часов, потому что нельзя выгнать детей из школы — просят еще. Вечером же часто больше половины останется ночевать в саду, в шалаше. За обедом и ужином и после ужина мы — учителя — совещаемся. По субботам же читаем друг другу наши заметки и приготовляем к будущей неделе.
Журнал я думаю начать в сентябре. Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне [фр. текст.] со всех сторон.
Прощайте, дорогой друг, пишите мне, а я всегда буду неаккуратен.
Л. Толстой
Л. Н. Толстой
478
Б. Н. Чичерину v
1861 г. Октября 28, Ясная Поляна,
Дело, о котором я прошу тебя, первой важности для меня. Я желаю это внушить тебе прежде объяснения самого дела; для того чтобы, ежели только ты расположен что-нибудь сделать для меня и для общей пользы, употребил бы все, [что] от тебя зависит, для того чтобы исполнить мою просьбу.
В участке, где я посредником, весьма быстро приняли устав для школ, предложенный мною1. Устав основан на откупе, на который я беру школы, и на плате 50 коп. в месяц с ученика без различия волости, сословия и уезда. Три школы открыты2, потому что у меня были 3 образованных и честных человека, из которых двух я привез из Москвы. Еще школ 10 должны быть открыты. 3 уже готовы, и мне некем заместить их. Положение учителей следующее: я отвечаю за minimum 150 руб. серебром жалованья, ежели же учитель хочет взять содержание школы на себя, тогда условия выгоднее, это зависит от него. Тем более что успех зависит от него, и самый успех, популярность, может быть порядочное вознаграждение, потому что в каждом округе, где бывает до 30 учеников, может быть 50 и более, что составит 25 руб. в месяц. Притом могут быть еще другие выгодные условия. Вчера я поместил учителя, который будет жить на всем готовом, получать з а кондицию 100 руб. и 220 от школы. Кроме того, по воскресеньям все учителя собираются в Ясную Поляну для совещания по общему делу школ и журнала3. Само собой разумеется, что почти все журналы и библиотека моя к их услугам. Главное же — ежели ты пробежал мою программу, деятельность всякого учителя, порядочного человека, даст непременно материал для статей в журнале «Ясная Поляна». А статьи дают minimum 50 руб. за лист. Ради бога, ради бога, похлопочи об этом, поговори сам, ежели знаешь таких, сообщи Рачинским и Дмитриеву4, которые мне обещались. Совершенств не бывает, и я не требователен. Полуобразованный студент 2—3-го курса, не негодяй — вот всё, что я желаю. Я знаю, что из 10 выйдет 2 дельных, но для этого начать с 10. Ежели не будет студентов, я точно так же должен буду на риск брать из семинаристов, и тогда риск будет в 10 раз больше. Ежели найдутся такие, то посылай их ко мне5. Проезд стоит 10 руб. Я плачу за него. А ты дай эти деньги; ежели у тебя нет, то напиши, я вышлю. Душа моя, пожалуйста, пожелай это сделать, и я уверен, что ты успеешь.
Л. Толстой
I Ii Толстой
Письма
479
В. П. Боткину
1862 г. Января 26. Москва
Я издаю теперь 1-ю книжку своего журнала и в страшных хлопотах1. Описать вам, до какой степени я люблю и з н а ю свое дело, невозможно — да и рассказать бы я не мог. Надеюсь, что в литературе на меня поднимется гвалт страшный, и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану думать и чувствовать то же самое. У нас жизнь кипит. В Петербурге, Москве и Туле выборы, что твой парламент2; но меня с моей точки зрения — признаюсь — все это интересует очень мало. Покуда не будет большого равенства образования — не бывать и лучшему государственному устройству. Я смотрю из своей берлоги и думаю — ну-ка, кто кого! А кто кого, в сущности, совершенно все равно. Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно и, несмотря на то что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удается3. Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в отставку4. Существенное для меня сделано. В моем участке на 9000 душ в нынешнюю осень возникла 21 школа — и возникла совершенно свободно, устоит, несмотря ни на какие превратности. Прощайте, жму вашу руку и прошу на меня не серчать.
Л. Толстой
Н. Г. Чернышевскому
1862 г. Февраля 6. Москва.
Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел первый номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: «Да... «Детство» очень мило, но журнал?..»
А журнал и все дело составляют для меня все.
Ответьте мне в Тулу.
Л. Толстой
С. Н. Толстому /
1862 г. Августа 6. Ясная Поляна.
Я приехал недели две после твоего отъезда1. Маша же выехала из Вех в тот самый день, как ты выехал из Тулы. Она пробудет здесь до 17 августа. Кумыс чудес не делает, как и всякое лечение, но кашель мой прошел. Главное событие, случившееся у нас во время твоего от
Л. Н. Толстой
480
сутствия, — это посещение Ясной Поляны жандармами. Это было без меня, при Маше. Нарочно присланный из Петербурга полковник жандармский Дурново с исправником, становым и каким-то частным приставом подкатили с колоколами на 3 тройках. Все студенты были в Ясной: их арестовали во флигеле и стали обыскивать, потом пошли в мой кабинет, где жила Маша, перерыли там все, лазили в фотографию, в судно, в подвал, поднимали камни, ездили в Крыльцово и в Колпну, ездили в Никольское, все перерыли и, разумеется, ничего не нашли. Искали, главное, типографию, в которой я должен печатать воззвание. Должно быть, какой-нибудь Михаловский2 так удружил мне доносом. Я еще ничего не предпринял по этому случаю, но намерен написать письмо государю. Студенты, Машенька и тетенька перепугались страшно и прятали разные письма, которые не нужно было и нечего было прятать. Жандарм объявил, что ничего не нашел подозрительного; но ежели можно нагрянуть в дом, то завтра можно нагрянуть и сковать меня и тетеньку без всякой причины. Когда я узнал про все это по письму в Москве, мне это было только смешно, как и тебе, может быть, покажется, но чем дольше проходит времени, тем больше это злит и мучает. Остальное у нас все по-старому — тетенька, студенты, коростовое хозяйство и т. д. Школы не начинались. Журнал отстал на 2 месяца почти, но идет и подписка и хорошее о нем мнение...
Л. Толстой
С. А. Рачинскому
1862 г. Августа 7. Ясная Поляна,
Письмо ваше, любезнейший Сергей Александрович, одно из тех, которые я считаю наградой за свою неблагодарную (в смысле сочувствия публики) деятельность. Я и не рассчитываю на эти награды, но тем приятнее их получать. Вы прочли, поняли и кое с чем согласны1, большинство же говорит: «Это какой Толстой? не Алексей?2 не обер-прокурор?3 Ах да, «Детство». Он мило пишет», — и успокаиваются. Стою я на днях пошлю свои книжки4. Я его самого не знаю; но знаю его заведение, и все-таки оно самое интересное и, главное, единственное почти живое заведение из всех немецких школ. Остальные, вы знаете, как мертвы, совсем мертвы.
Что бы вы или ваша сестра5 написали мне в «Ясную Поляну» о жизни и разни гии вашей школы6. Оттенок школы под женской рукой очень Minepcveii; особенно в вашем семействе. Учителя в школах все студенты'. Все бывшие семинаристы (их было у меня шесть) не выдерживают больше года, запивают или зафранчиваются. Главное условие, по-моему необходимое для сельского учителя, — это уважение к той среде, nt которой его ученики, другое условие — сознание всей важности ответственности, которую берет на себя воспитатель. Ни того, ни другого не найдешь вне нашего образования (университетского
I 11. Толстой
Письма
481
т. п.). Как ни много недостатков в этом образовании, это выкупает ик; ежели же этого нет, то уж лучше-всего учитель мужик, дьячок и г. п., тот так тождествен в взгляде на жизнь, в верованиях, привычках с цстьми, с которыми имеет дело, что он невольно не воспитывает, а только учит. Или учитель совершенно свободный и уважающий свободу другого, или машина, посредством которой выучивают, чему там нужно. У меня И студентов, и все отличные учителя. Разумеется, наши совещания и журнал содействуют этому, но, право, сколько я ни шал студентов, такая славная молодежь, что во всех студенческих историях обвиняешь невольно не их. Разумеется, все зависит от направления. Дать известное направление, навести на более серьезный взгляд — есть цель моего журнала. На днях были у нас школьные сельские учителя, студенты не нашего кружка, и эти господа уверяли, что Библия есть сброд нелепостей, которые не нужно передавать ученикам, и что цель школы есть уничтожение суеверий. Меня не было, но все наши спорили против них. Вы говорите — не студентов. А я советую вам студентов, только с руководителем. Студенты, на мой взгляд, не имеют и не могут иметь направлений; они только люди, способные принять направление. Я рекомендовать не могу, я бы сам взял и поместил еще 10 студентов, которых ищу. Советую взять студента, и вы увиДите, как вся guasi-либеральная дребедень, яко воск от лица огня, растает от прикоснования с народом.
Душевно кланяюсь всем вашим и жму вашу руку.
Л. Толстой
7 августа
Я переврал ваше отчество, кажется, извините и поправьте8. Как ваше здоровье?
А. А. Толстой
1862 г, Августа 7. Ясная Поляна,
Я вам писал из Москвы; я знал все только по письму; теперь, чем дольше я в Ясной, тем больней и больней становится нанесенное оскорбление и невыносимее становится вся испорченная жизнь. Я пишу это письмо обдуманно, стараясь ничего не забыть и ничего не прибавить, с тем чтобы вы показали его разным разбойникам Потаповым и Долгоруким, которые умышленно сеют ненависть против правительства и роняют государя во мнении его подданных. Дела этого оставить я никак не хочу и н е м о г у. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька больна так, что не встанет. Народ смотрит на меня уж не как на честного человека, мнение, которое я заслужил годами, а как на преступника, поджигателя
Л. Н. Толстой
482
или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся. «Что, брат? попался! будет тебе толковать нам об честности, справедливости; самого чуть не заковали». О помещиках, что и говорить, это стон восторга. Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским, или А. Толстым1, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо государю? Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю имения, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду.
Но вот в чем дело, и смешно, и гадко, и зло берет. Вы знаете, что такое была для меня школа, с тех пор как я открыл ее, это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни. Я оторвался от нее для больного брата и, еще более усталый и ищущий труда и любви, вернулся домой и неожиданно получил назначение в посредники. У меня был журнал, была школа, я не посмел отказаться перед своей совестью и ввиду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники. Вопли против моего посредничества дошли и до вас2, но я просил два раза суда, и оба раза суд объявил, что я не только прав, но что и судить не в чем3; но не только перед их судом, перед своей совестью я знаю, особенно последнее время, что я смягчал, слишком смягчал закон в пользу дворян. В этот же год начались школы в участке. Я выписал студентов и кроме всех других занятий возился с ними. Все из 12, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив, что все согласились со мной, подчинились не столько моему влиянию, сколько влиянию среды и деятельности. Каждый приезжал с рукописями Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове и каждый, без исключения, через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал Евангелия читать на дом. Это факты, все 11 человек делали это без исключения и не по предписанию, а по убеждению. Я голову даю на отсечение, что во всей России в 1862 году не найдется такого 12-го студента.
Все это шло год — посредничество, школы, журнал, студенты и их школы, кроме домашних и семейных дел. И все это шло не только хорошо, но отлично. Я часто удивлялся себе, своему счастью и благодарил бога за то, что нашлось мне дело тихое, неслышное и поглощающее меня всею. К весне я ослабел, доктор велел мне ехать на кумыс. Я вышел в отставку и только желал удержать силы на продолжение дела школ и их отражения — журнала. Студенты все время [моего] отсутствия вели себя так же хорошо, как и при мне; на рабочую пору они закрыли школы и жили в Ясной с тетенькой. Сестра приехала из-за
j I ! 0:1 стой
Письма
483
Фаницы повидаться с нами и поместилась в моем кабинете. Меня кдали с дня на день. 6 июля с колокольчиками и вооруженными жандармами подскакали три тройки к Ясенскому дому. Судьи и властелины мои, от которых зависела моя судьба и судьба 75-летней тетеньки и сестры и 10 молодых людей, состояли из какого-то жандармского полковника Дурново, крапивенского исправника, станового и частного пристава Кобеляцкого, выгнанного из какой-то службы за то, что он мыл бит по лицу, и занимающего в Туле должность губернаторского Меркурия. Этот самый господин прочел все те письма, которые читал только я и та, которая их писала4, и мой дневник, который никто не читал. Они подъехали и тотчас же арестовали всех студентов. Тетенька выскочила мне навстречу — она думала, что это я, и с ней сделалась та болезнь, от которой она и теперь страдает. Студентов обыскали везде и ничего не нашли. Ежели бы могло быть что-нибудь забавно, то забавно то, что студенты тут же, в глазах жандармов, прятали в крапиву и жгли те невинные бумаги, которые им казались опасны. Все кажется опасным, когда вас наказывают без суда и без возможности оправдания. Так что ежели бы и было что-нибудь опасного, вредного, то все бы могло быть спрятано и уничтожено. Так что вся поездка в наших глазах не имеет другой цели, кроме оскорбления и показания того, что дамоклесов меч произвола, насилия и несправедливости всегда висит над каждым. Частный пристав и жандарм не преминули дать почувствовать это всем в доме: они делали поучения, угрожали тем, что возьмут, требовали себе есть и лошадям корму без платы. Вооруженные жандармы ходили, кричали, ругались под окнами сестры, как в завоеванном крае. Студентам не позволяли перейти из одного дома в другой, чтоб пить чай и обедать. Ходили в подвалы, в ватерклозет, в фотографию, в кладовые, в школы, в физический кабинет, требовали все ключи, хотели ломать и не показали никакой бумаги, на основании которой это делалось.Всего этого мало — пошли в мой кабинет, который был в то время спальней сестры, и перерыли все; частный пристав прочел все, что мне писано и что я писал с 16 лет. Не знаю, в какой степени он нашел все это интересным, но он позволил сестре выйти в гостиную и позволил ей лечь спать, когда пришел вечер, и то только после того, как его об этом попросили. Тут тоже происходили те же глупые, возмутительные сцены. Они читали и откладывали подозрительные письма и бумаги, а сестра и тетенька вне себя от испуга старались прятать самые невинные бумаги. Частному приставу показалось подозрительным письмо старого князя Дундукова-Корсако-ва5, и секретарь мой утащил это письмо из фуражки, куда оно было отложено. Разумеется, и тут ничего не найдено. Я уверен, что подозрительнее всего показалось то, что нет ничего запрещенного. Я твердо уверен, что ни один петербургский дворец в х/100 долю не оказался бы так невинен при обыске, как невинна оказалась Ясная Поляна. Мало этого, они поехали в другую мою, чернскую деревню, почитали бумаги покойного брата, которые я, как святыню, беру в руки, и уехали, с о-
Л. Н. Толстой
484
вершенно успокоив нас, что подозрительного ничего не нашли, и прочитав всем поучения и потребовав себе обедать.
Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то, верно бы, уже судился, как убийца.
Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами. Тетенька с этого дня стала хворать все хуже и хуже. Когда я приехал, она расплакалась и упала; она почти не может стоять теперь. Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу, что люди, знавшие меня, знавшие, что я презираю всякие тайные дела, заговоры, бегства ит. п., начинали верить.
Теперь уехали, позволили нам ходить из дома в дом, однако у студентов отобрали билеты и не выдают; но жизнь наша, и в особенности моя с тетенькой, совсем испорчена. Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют, а мы волей-неволей при каждом колокольчике думаем, что едут вести куда-нибудь. У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду минуты, когда все это разрешится чем-нибудь. Г-н жандарм постарался успокоить нас, что ежели что спрятано, то мы должны знать, что завтра, может быть, он опять явится нашим судьей и властелином вместе с частным приставом. Одно — ежели это делается без ведома государя, то надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей. Так жить невозможно. Ежели же все это так должно быть и государю представлено, что без этого нельзя, то надо уйти туда, где можно знать, что, ежели я не преступник, я могу прямо носить голову, или стараться разуверить государя, что без этого невозможно.
Простите, пожалуйста, может быть, я компрометирую вас этими письмами, но я надеюсь, что ваша дружба сильнее таких соображений и что вы во всяком случае скажете мне прямо ваше мнение обо всем этом и совет. Ежели вы со мной несогласны, может быть, я убежусь вашими доводами, а то по крайней мере оставлю вас в покое.
Прощайте, жму вашу руку и кланяюсь всем вашим, которые, признаюсь, мне все представляются в каком-то нехорошем свете; мне кажется, вы все виноваты.
Л. Толстой
А. А. Толстой
1863 г. Октября 17? Ясная Поляна.
Любезный друг Alexandrine. У меня лежит начатое на 4 страницах письмо к вам, но я его не пошлю. Я так потерял вас из вида, и так виноват перед вами, что я вас боюсь. Но угроза потерять в вас друга слишком страшна для меня. Вы узнаете мой почерк и мою подпись; но кто я теперь и что я, вы, верно, спросите себя. Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того,
f 11. Толстой
Письма
485
чтобы почувствовать свое счастие, мне надо подумать о том, чтобы ныло без него. Я не копаюсь в своем положении (grubeln1 оставлено) и и своих чувствах и только чувствую, а не думаю о своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа j та есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени2. Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю и то и другое, — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель в с е м и силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и [не] обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему.
Л. Толстой
А. А. Толстой
1865 г. Ноября 26...27. Ясная Поляна.
Сейчас получил ваше милое, доброе, ясное письмо1 и говорил себе: отвечу завтра; но не могу удержаться — не дают мне покоя все те мысли, которые пришли по случаю этого письма, и пишу сейчас же...
Соня удивилась тому, что вы так боитесь того, что вам предстоит, но я и не ждал иначе. Страшно — я это очень понимаю. Я воспитывал своих яснополянских мальчиков смело. Я знал, что каков бы я ни был, — наверное мое влияние для них будет лучше того, какому бы они могли подчиниться без меня; но здесь, я понимаю, что государыня могла и желала иметь наилучшую воспитательницу чуть не во всем свете. И вдруг эта самая лучшая воспитательница — я, Александра Андреевна Толстая. Я понимаю, что это страшно. Но вам бояться нечего, сколько я вас знаю и сколько ни стараюсь смотреть на вас самым непристрастным взглядом. И вот отчего, как мне кажется. Что вы умная, образованная и добрая женщина, это знают другие; я знаю то, что, кроме все го этого, вы, противно вашей предшественнице, не одна душа в cage, а в вас плоть и кровь — в вас были, есть и будут людские страсти. Приготавливаться, рассуждать, обдумывать вы будете и молиться будете, а действовать будете только по инстинкту и без колебания, без выбора, а потому, что вы не в состоянии будете поступить иначе. А такое человеческое страстное влияние полезно, воспитательно
Л. Н. Толстой
486
действует на человеческих детей, а разумное, логическое влияние действует вредно. Это мое убеждение не придуманное, а выжитое. В воспитании всегда, везде, у всех была и есть одна ошибка: хотят воспитывать разумом, одним разумом, как будто у ребенка только и есть один разум. И воспитывают один разум, а все остальное, то есть все главное, идет, как оно хочет. Обдумают систему воспитания разумом опять, и по ней хотят вести всё, не соображая того, что воспитатели сами люди и беспрестанно отступают от разума. В школах учителя сидят на кафедрах и не могут ошибаться. Воспитатели тоже становятся перед воспитанниками на кафедру и стараются быть непогрешимыми.
Но детрй не обманешь, они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, есть ли у нас совесть, и, к несчастию, за нашим стараньем выказаться только непогрешимо разумными, видят, что другого ничего нет.
Сделать ошибку перед ребенком, увлечься, сделать глупость, человеческую глупость, даже дурной поступок и покраснеть перед ребенком и сознаться гораздо воспитательнее действует, чем 100 раз заставить покраснеть перед собой ребенка и быть непогрешимым. Ребенок знает, что мы тверже, опытнее его и всегда сумеем удержать перед ним эту ореолу непогрешимости, но он знает, что для этого мало нужно, и он не ценит этой ловкости, а ценит краску стыда, которая выступила против моей воли на лицо и говорит ему про все самое тайное, хорошее в моей душе. Я помню, как передо мной покраснел раз Карл Иваныч2...
И дети смотрят на воспитателя не как на разум, а как на человека. Воспитатель есть первый ближайший человек, над которым они делают свои наблюдения и выводы, которые они потом прикладывают ко всему человечеству. И чем больше этот человек одарен человеческими страстями, тем богаче и плодотворнее эти наблюдения. И вы такой человек. В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович3 татуировался. Я жду того, что вас будет любить ваша воспитанница так же, как любят вас ваши друзья, и тогда все будет хорошо. У женщин есть одно только нравственное орудие вместо всего нашего мужского арсенала — это любовь. И этим только орудием успешно ведется женское воспитание. Будет оно у вас, то вы не будете ни учиться, ни думать, ни приготавливаться, — не будет, так вы откажетесь.
Вы охотница до моего сумбура; вот вам целые четыре страницы. Тетенька и Соня целуют вас, я вас ужасно люблю и желаю вам счастья и успеха. Не желая даже, я вперед радуюсь за ваше счастье в сознании действительного дела, — одного из лучших в жизни — которому вы отдались все.
Прощайте. До свидания, бог даст.
* H. Толстой
Письма
487
Н. Н. Страхову
1872 г. Марта 3. Ясная Поляна,
Как мне жалко, многоуважаемый Николай Николаевич, что мы так давно с вами замолчали. Я, кажется, виною этого. Получив ваше письмо1, мне так захотелось побеседовать с вами. И статей ваших не было до нынешней прекрасной о Дарвине2. Что вы делаете? О себе не могу написать, что я делаю, — слишком длинно. «Азбука» занимала и занимает меня, но не всего. Вот этот остаток-то и есть то, о чем не могу написать, а хотелось бы побеседовать3. «Азбука» моя кончена и печатается очень медленно и скверно у Риса, но я по своей привычке все мараю и переделываю по 20 раз. От этого я и не выслал в «Зарю». Между нами будь сказано — это обещание меня стесняет; а пользы для «Зари» не будет. Это так ничтожно, и оговорка, что из «Азбуки», уничтожит все, что даже могло бы значить имя. Если можно выхлопотать мне свободу — очень одолжите4.
Если будет какое-нибудь достоинство в статьях «Азбуки», то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка; а в журнале это странно и неприятно будет — точно недоконченное. Как в картинной галерее, какой бы ни было, рисунки карандашом без теней.
Жизнь наша в деревне та же. Прибавилось новое — только школа крестьянских детей, которая сама собой завелась. И всех нас с детьми моими очень занимает5.
Приезжал ко мне на днях один Александров, сотрудник «Семьи и школы», читал свои статьи, просил советов, указаний; и оставил мне неопределенное впечатление, или очень хороший и даровитый человек, или совсем дрянь. Когда будете писать мне, скажите, не слыхали ли, что это за человек?6
Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет...
Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я надеюсь.
Прощайте, крепко жму вам руку и жду хорошего длинного письма. Очень рад, что А. Н. Майков7 помнит меня. Это очень симпатический мне человек.
Гр, Л. Толстой
Л. Н. Толстой
488
Н. Н. Страхову
1872 г. Марта 22,25. Москва.
Вы меня задели за живое, любезный Николай Николаевич. Мне стало грустно после того, как я прочел1. Как и всегда, вы попали прямо на узел вопроса и указали его.
Вы правы, что у нас нет свободы для науки и литературы, но вы видите в этом беду, а я не вижу. Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал; а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать поскорее свои драгоценные мысли, стенографировать, или вспомнить, что и «Бедная Лиза»2 читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов и языка. И не потому, что так рассудил, а потому что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же и случился народный) влекут мечты невольные. Замечание Данилевского очень верно, особенно в отношении науки и литературы, так называемой, чо поэт, если он поэт, не может быть несвободен, находится ли он под выстрелами, или нет. Всякий человек так же свободен встать или не встать с постели без опасности в своей комнате, как и под выстрелами. Можно оставаться под выстрелами, можно уйти, можно защищаться, нападать. Под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить.
Вы заметьте одно: мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна и дрянна, как и наука и литература, а жизнь тверда и величава и идет своим путем, знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то попадают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно это туда ниже суть народное. «Бедная Лиза» выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже ее не прочтет, а песни, сказки, былины — все простое будут читать, пока будет русский язык.
Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элукубрациях3, а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу. I (ародность славянофилов и народность настоящая две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строи жизни и общины и братьев славян, каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное
JI. H. Толстой
Письма
489
и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в нашем.
Писать я почти не начинал да едва ли начну до зимы. Все время и силы мои заняты «Азбукой». Для «Зари» я написал совсем новую статью в «Азбуку» — «Кавказский пленник» и пришлю не позже как через неделю4. Я благодарю за предложение и прошу вас держать корректуру.
Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этой статье. Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших.
Я знаю, что меня будут ругать, боюсь, что и вы. Пожалуйста, ругайте смелее. Я вам верю, и потому ваши ругательства мне в пользу будут. Не говорю, чтоб я послушался, но они лягут тяжело на весах.
Ваш гр. Л. Толстой
Письмо это пролежало три дня. Я кончил статейку и посылаю ее завтра.
А. А. Толстой
1872 г. Апреля 6...8? Ясная Поляна.
Я живу хорошо, только старость начинает чувствоваться — хвораю часто и тороплюсь работать. Работы все больше и больше впереди. Если бы мне 20 лет тому назад сказали: придумай себе работу на 23 года, я бы все силы ума употребил и не придумал бы работы на три года. А теперь скажите мне, что я буду жйть в 10 лицах по 100 лет, и мы все не успеем всего переделать, что необходимо. «Азбука» моя печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется. Эта азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно. Как француз какой-то сказал: «La clarte est la politesse de ceux qui veulent enseigner, s’adressant au public»1. И что хуже всего, что за этот труд меня будут бранить, и вы — первая. В вашей среде вы наверно найдете мой язык vulgaire. А я не могу пренебречь мнением и вашей среды, потому что я пишу для всех. Образец того языка, каким я пишу, вы увидите, если захотите, в двух журналах, «Заре» и «Беседе», куда я, против воли, должен был дать две историйки из «Азбуки»2. Если вы их прочтете, напишите свое мнение.
Ваш Л. Толстой.
Л. Н. Толстой
490
Н. Н. Страхову
1872 г. Мая 19. Ясная Поляна.
Любезный Николай Николаевич!
Великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и т. д., но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое добро, вы сделаете. Вот в чем дело. Я давно кончил свою «Азбуку», отдал печатать, и в 4 месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видно, никогда не кончится. Зимою я всегда зарабатываюсь и летом кое-как оправляюсь, если не работаю. Теперь же корректуры, ожидание, вранье, поправки типографские и свои измучили меня и обещают мучить все лето. Я вздумал теперь взять это от Риса и печатать в Петербурге, где, говорят, больше типографий и они лучше. Возьметесь ли вы наблюдать за этой работой, т. е. приискать человека, который держал бы черновые корректуры за известную плату, и сами держать последние корректуры...
Только вам я бы мог поручить эту работу так, чтобы самому уже не видать ее. Вознаграждение вы определите сами такое, которое бы равнялось тому, что вы зарабатываете в хорошее время. Время, когда печатать, вы определите сами. Для меня чем скорее, тем лучше. Листов печатных будет около 50. Если вы согласитесь, то сделаете для меня такое одолжение, значения которого не могу вам описать...
Ваш Л. Толстой
А. А. Толстой
1872 г. Октября 26? Ясная Поляна.
Любезный друг Alexandrine!
Когда я писал (в особенности, когда посылал) мое последнее письмо1, я чувствовал, что я что-то делаю нехорошее, а когда получил ваш ответ2, мне удивительно стало, как я мог послать это письмо. От всей души прошу вас простить меня за то, что огорчил.
Хотел писать вам длинно, но перед отъездом в Москву3 написал целую кучу деловых писем и чувствую, что не напишу того, что хотелось вам написать. До другого раза. Это посылаю, чтоб облегчить немного свою совесть. Целую вашу руку.
Ваш Л. Толстой.
...Немножко в оправдание себя скажу вам еще то, что в последнее время, кончив свою «Азбуку», я начал писать ту большую [повесть] (я не люблю на иявать романом), о которой я давно мечтаю4. А когда на
JI. H. Толстой
Письма
491
чинает находить эта дурь, как прекрасно называл Пушкин, делаешься особенно ощутителен на грубость жизни. Представьте себе человека, в совершенной тишине и темноте прислушивающегося к шорохам и вглядывающегося в просветы мрака, которому вдруг под носом пустят вонючие бенгальские огни и сыграют на фальшивых трубах марш. Очень мучительно. Теперь я опять в тишине и темноте слушаю и гляжу, и если бы я мог описать сотую долю того, чтб я слышу и вижу. Это большое наслаждение. Вот я и расписался. Вы мне дали тему письма, на которую мне хочется писать. Дети мои. Вот они кто такие:
Старший белокурый, — не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но, когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен — математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche5 и рассеян. Самобытного в нем мало. Он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, это два различные мальчика.
Илья 3-й. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч и violent6, сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен — любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородинное и гречневую кашу, у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются.
Все непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает. Еще крошкой он подслушал, что беременная жена чувствовала движенье ребенка. Долго его любимая игра была то, чтобы подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать, улыбаясь: «это бебичка». Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая: «бебичка». Недавно, когда я писал истории в «Азбуку», он выдумал свою: «Один мальчик спросил: «Бог ходит ли ...?» Бог наказал его, и мальчик всю жизнь ходил ...»
Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником, Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя.
Летом мы ездили купаться: Сережа верхом, а Илью я сажал себе за седло.
Выхожу утром, оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно, сияет, Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. «Найди шляпу, а то я не возьму». Сережа бежит туда, сюда. Нет шляпы. «Нечего делать, без шляпы я не возьму тебя. Тебе урок, у тебя всегда все потеряно». Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду, будет ли от
Л. Н. Толстой
492
него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает об лошади. Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу — нет. Она догадывается, что ее брат, который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе. (Она угадала.) Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает. (Дорогой он потерял записку.) И начинает рыдать. Тут и Илья тоже, и я немножко.
Таня — 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее — возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная — иметь детей. На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе. Мы4 едем домой. «Таня спишь?» — «Нет». — «О чем ты думаешь?» — «Я думаю, как мы приедем, я спрошу у мамы, был ли Леля хорош, и как я ему дам, и тому дам, и как Сережа притворится, что он не рад, а будет очень рад». Она не очень умна. Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину,
4-й Лев. Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо.
Еще хорошенько не понимаю.
5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Эта будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.
6-й Петр-великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас, — не знаю. От этого я не люблю детей до 2—3 лет — не понимаю. Говорил ли я вам про странное замечание?
Есть два сорта мужчин — охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей — беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу. Поверьте своих знакомых.
Л. Н. Толстой
Письма
493
А. А. Толстой
1873 г. Января конец.,, февраля начало. Ясная Поляна.
Очень, очень благодарю, дорогой друг Alexandrine, за письмо ваше и за ходатайство о Бибикове1.
Письмо ваше о том, что вы читаете «Войну и мир» (хотелось бы притвориться, но не стану), было мне очень приятно, в особенности потому, что я теперь почти что пишу. И суждения ваших слушательниц я бы дорого дал, чтоб послушать. И вовсе не смеялся над тем суждением, которое вы мне передали, но очень радостно задумался над ним. О если б в том, что мне бог даст написать, только этих недостатков бы не было. Этих-то я, наверное, избегну; но не думайте, чтоб я неискренно говорил, — мне «Война и мир» теперь отвратительна вся. Мне на днях пришлось заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания2, и не могу вам выразить чувство раскаянья, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места! Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что, кроме этого, нет ничего.
«Азбуку» мою, пожалуй, не смотрите. Вы не учили маленьких детей, вы далеко стоите от народа и ничего не увидите в ней. Я же положил на нее труда и любви больше, чем на все, что я делал, и знаю, что это одно дело моей жизни важное. Ее оценят лет через 10 те дети, которые по ней выучатся.
Целую вашу руку. Не думаю, чтобы судьба привела меня в Петербург, хотя знаю, какая бы это была для меня радость. Передайте мою искреннюю дружбу вашим.
Издателям
(о методах обучения грамоте)
Прошу вас дать место в уважаемой вашей газете моему заявлению, относящемуся до изданных мною четырех книг под заглавием «Азбука».
Я прочел и слышал с разных сторон упреки моей «Азбуке» за то, что я, будто бы не зная или не хотя знать вводимого ныне повсеместно звукового способа, предлагаю в своей книге старый и трудный способ азов и складов.
В этом упреке есть очевидное недоразумение.
Звуковой способ мне не только хорошо известен, но едва ли не я первый привез его и испытал в России 12 лет тому назад, после своей поездки по Европе с целью педагогического изучения.
Испытывая тогда и несколько раз потом обучение грамоте по звуковому методу, я всякий раз приходил к одному выводу — что этот ме
JI. Н. Толстой
494
тод, кроме того, что противен духу русского языка и привычкам народа, кроме того, что требует особо составленных для него книг, и кроме огромной трудности его применения и многих других неудобств, о которых говорить здесь не место, не удобен для русских школ, что обучение по нем трудно и продолжительно и что метод этот может легко быть заменен другим.
Этот-то другой метод, состоящий в том, чтобы называть все согласные с гласной буквой е и складывать на слух, без книги, и был мною придуман еще 12 лет тому назад, употребляем мною лично во всех моих школах и, по собственному их выбору, всеми учителями школ, находившимися под моим руководством, и всегда с одинаковым успехом.
Этот-то прием я и предлагаю в своей «Азбуке». Он имеет только внешнее сходство со способом азов и складов, в чем легко убедится всякий, кто даст себе труд прочесть руководство для учителя в моей «Азбуке». Способ этот отличается от всех других известных мне приемов обучения грамоте особенно тем, что по нем ученики выучиваются грамоте гораздо скорее, чем по всякому другому: способный ученик выучивается в 3—4 урока, хотя медленно, но правильно читать, а неспособный — не более как в 10 уроков. Поэтому всех тех, которые утверждают, что звуковой способ есть самый лучший, быстрый и разумный, я прошу сделать только то, что я делал неоднократно, что я также предложил Московскому комитету грамотности сделать публично, т. е. сделать опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу.
Дело обучения грамоте есть дело почти практическое, и показать лучший и удобнейший прием обучения грамоте может только опыт, а не рассуждения, а потому всех тех, кого должно интересовать и интересует дело грамотности, я прошу до произнесения решения сделать опыт.
Самый процесс обучения грамоте есть одно из ничтожнейших дел во всей области народного образования, как я уже это высказал и в издаваемом мною журнале 12 лет тому назад, и в наставлении для учителя в изданной недавно «Азбуке», но и в этом ничтожном относительно деле для чего идти хитрым и трудным путем звукового способа, когда того же самого можно достигнуть проще и скорее?
Прошу принять уверения и пр.
Гр. Лев Толстой
С. Ясная Поляна. 1 июня 1873 года.
Л. Н. Толстой
Письма
495
С. А. Рачинскому 4
1877 г. Апреля 5. Ясная Поляна.
5 апреля 1877 г.
Вы не поверите, какую истинную и редкую радость мне доставило чудесное письмо ваше1, дорогой Сергей Александрович. Читая его, я переживал свои старые школьные времена, которые всегда останутся одним из самых дорогих, в особенности, чистых воспоминаний. Воображаю, каких вы наделали и наделаете чудес. Я у всех спрашиваю, для чего нужны школы. Обращаясь к вам, я могу иначе спросить: на чем основывается то наслаждение, та несомненная уверенность, что делаешь такое дело, которое не важнее всех других, но не менее важно, чем какое бы то ни было?
Я получал самые разнообразные ответы и никогда тот, который я себе давал и даю и который, мне кажется, вы дадите. Попробуйте ответить, не читая моего, не сойдемся ли мы.
Учить этих детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут, и не спасения, — они, может быть, лучше нас приплывут, — а такое орудие, посредством которого они пристанут к нашему берегу, если хотят. Я не мог и не могу войти в школу и в сношения с мальчиками, чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно.
Читая ваше письмо, мне ужасно захотелось побывать у вас и в вашей школе. Я очень тяжел на подъем и очень занят бываю, но мне этого очень хочется, и я вас очень люблю. Пожалуйста, напишите мне еще и про себя2.
Любящий вас
Л. Толстой
Н. Н. Страхову
(неотправленное)
1879 г. Ноября 19...22. Ясная Поляна.
Дорогой Николай Николаевич.
Вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите моим мнением, как я вашим, и потому скажу все, что думаю. Только прошу, не слушайте мо>их слов, как живого человека, с которым могут быть счеты, отношения, соревнования — возможность быть оскорбленным моими словами или польщенным, — смотрите как на сочувственный любовный отголосок души человеческой, страдав
Л. Н. Толстой
496
шей и страдающей, не скажу, не меньше, но свое. Чужое виднее. И мне вы ясны. Письмо ваше очень огорчило меня1. Я много перечувствовал и передумал о нем. По-моему, вы больны духовно. И ваша болезнь вот какая: в нас две природы — духовная и плотская. Есть люди, живущие одной плотью и не понимающие того, как можно центр тяжести свой переносить в духовную жизнь. Я называю переносить центр тяжести в духовную жизнь то, чтобы вся деятельность руководилась духовными целями. Есть люди, живущие плотью и понимающие — только понимающие духовную жизнь. Есть люди счастливые — наш народ, буддисты, помните, о которых вы говорили, которые до 50 лет живут полной плотской жизнью и потом вдруг переступают на другую ногу, духовную, и стоят на ней. Есть еще более счастливые, для которых творить волю отца есть истинный хлеб и истинное питье и которые смолоду стали на эту ногу духовную. Но есть такие несчастные, как мы с вами, у которых центр тяжести в середине и они разучились ходить и стоять. Все в том мире, в котором мы жили, так перепутано — все плотское так одето в духовный наряд, все духовное так облеплено плотским, что трудно разобрать. Я хуже вас и потому счастливее в этом горе. Во мне плотские страсти были сильны, и мне легче раскачнуться и разобрать, где то, где другое, но вы совсем спутаны. Вы хотите добра, а жалеете, что в вас мало зла; что в вас нет страстей. Вы хотите истины, а жалеете и как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного. Да что же хорошо, что дурно? Вы, очевидно, не знаете так, чтобы не бояться ошибиться, делая добро.
И вам писать свою жизнь нельзя2. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать. Если вы умели ходить прежде когда-нибудь в детстве, если другие ходят, то вы должны ходить, а если не ходите, то вы пьяны, больны, надо отрезвиться, лечиться. По тому пути, по которому вы идете, вы ни к чему не можете прийти, кроме как к отчаянию, стало быть, дорога не та и надо вернуться назад.
В учении Христа я нашел одну особенную черту, отличающую его от всех учений. Он учит, толкует, почему смысл нашей жизни тот, который он дает ей. Но притом всегда говорит, что надо исполнять то, что он говорит, и тогда увидишь, правда ли то, что он говорит. Или: свет дан миру, но они полюбили тьму, потому что дела их злы. Или: кто верит в сына человеческого, тот и будет делать дела божьи. Тут метафизический узел. И он не развязывается разумом, но всей жизнью.
Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела божии, исполняйте волю отца, и тогда вы увидите свет и поймете.
Признак истины не в разуме, а в истинности истины всей жизни. Переносите усиленно, сознательно свою жизнь на духовную, одну духовную сторону, и вы найдете покой душам вашим, и бремя пресыщения и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко.
’/Го.чстой Письма 497
Должно быть, не помню это. Я очень занят работой для себя, которой никогда не напечатаю.
Простите.
Л, Толстой
Ромену Роллану
(перевод с французского)
1887 г. Октября 3—4. Ясная Поляна.
Дорогой брат!
Я получил ваше первое письмо1. Оно тронуло мое сердце. Я читал его со слезами на глазах. Я намеревался отвечать на него, но не имел времени, тем более что — не говоря уже о трудности для меня писать по-французски — мне пришлось бы отвечать очень подробно на ваши вопросы, большая часть которых основана на недоразумении.
Вы спрашиваете: почему ручной труд является одним из существенных условий истинного счастья? Нужно ли добровольно лишать себя умственной деятельности, занятий науками и искусствами, которые кажутся вам не совместимыми с ручным трудом?
Я отвечал на эти вопросы, как умел, в книге, озаглавленной: «Так что же нам делать?», которая, как я слышал, была переведена на французский язык2. Я никогда не считал ручной труд самостоятельным принципом, а всегда считал его самым простым и естественным приложением нравственного принципа, таким приложением, которое прежде всего представляется уму всякого искреннего человека.
Ручной труд в нашем развращенном обществе (в обществе так называемых образованных людей) является обязательным для нас единственно потому, что главный недостаток этого общества состоял и до сих пор состоит в освобождении себя от этого труда и в пользовании, без всякой взаимности, трудом бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам древнего мира.
Первым доказательствам искренности людей, принадлежащих к этому обществу и исповедующих христианские, философские или гуманитарные принципы, является старание выйти, насколько возможно, из этого противоречия.
Самым простым и находящимся всегда под рукой способом для достижения этого является прежде всего ручной труд, обращенный на за-. боты о своей личности. Я никогда не поверю искренности христианских, философских и гуманитарных убеждений человека, который заставляет служанку выносить его ночной горшок.
Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как
Л. И. Толстой
4%
можно больше самому служить другим. Требовать от других как можно меньше и давать другим как можно больше.
Это правило, дающее нашему существованию разумный смысл и вытекающее из него счастье, разрешает также и все затруднения, в том числе и то, которое возникает перед вами: что остается на долю умственной деятельности, науки, искусства?
На основании этого правила я только тогда могу быть счастливым и удовлетворенным, когда я имею твердое убеждение, что моя деятельность полезна другим. (Удовлетворение тех, для которых я действую, является уже прибавкой, добавочным счастьем, на которое я не рассчитываю и которое не может влиять на выбор мною моих поступков). Мое твердое убеждение в том, что то, что я делаю, не есть нечто бесполезное и не есть зло, а есть благо для других, является поэтому главным условием моего счастья.
Вот это-то невольно и побуждает нравственного и искреннего человека предпочитать ручной труд труду научному и художественному. Книга, которую я пишу и для которой я нуждаюсь в труде наборщиков; симфония, которую я сочиняю и для которой я нуждаюсь в музыкантах; опыты, которые я произвожу и для которых я нуждаюсь в труде тех, которые делают наши лабораторные приборы; картина, которую я пишу и для которой я нуждаюсь в тех, которые делают краски и полотно, — все эти вещи могут быть полезны людям, но могут также быть, как это и бывает по большей части, совершенно бесполезными и даже вредными. И вот, пока я делаю все эти вещи, польза которых весьма сомнительна и для которых я должен еще заставлять работать других, меня со всех сторон окружает множество дел, которые нужно сделать, которые несомненно полезны другим и для которых мне не нужно ничьей помощи: понести тяжесть, чтобы помочь уставшему; обработать поле, хозяин которого заболел; перевязать рану. Но не будем говорить об этих бесчисленных делах, которые нас окружают, для которых не нужно ничьей помощи и которые доставляют непосредственное удовлетворение тем, для пользы которых вы их делаете. Посадить дерево, выкормить теленка, вычистить колодезь — вот дела, несомненно полезные другим и которые всякий искренний человек не может не предпочесть тем сомнительным занятиям, о которых в нашем мире проповедуют как о самом возвышенном и самом благородном человеческом призвании.
Призвание пророка есть высокое и благородное призвание. Но мы знаем, что представляют собой священники, считающие себя пророками единственно потому, что это им выгодно и что они имеют возможность выдавать себя за таковых.
Не тот пророк, который получает воспитание пророка, а тот, кто имеет внутреннее убеждение в том, что он есть пророк, должен им быть и не может не быть им. Такое убеждение редко и может быть доказано только теми жертвами, которые человек приносит своему призванию.
Л. Н. Толстой
Письмг!
499
То же самое относится к истинной науке и к истинному искусству. Какой-нибудь Люлли3, который на свой страх бросает службу на кухне, чтобы предаться игре на скрипке, приносимыми им жертвами доказывает свое призвание. Но ученик консерватории или студент, единственная обязанность которых изучать то, что им преподают, не имеют даже возможности доказать свое призвание: они просто пользуются положением, которое кажется им выгодным.
Ручной труд есть обязанность и счастье для всех; умственная деятельность есть деятельность исключительная, которая становится обязанностью и счастьем только для тех, кто имеет соответственное призвание, Призвание может быть указано и доказано только в том случае, когда ученый или художник жертвует своим спокойствием и своим благосостоянием, чтобы следовать своему призванию. Человек, который продолжает исполнять обязанность поддержания своего существования трудами рук своих и, несмотря на то, лишая себя отдыха и сна, находит возможность мыслить и производительно работать в умственной области, — этим доказывает свое призвание. Тот же, который освобождает себя от общей всем людям нравственной обязанности и, под предлогом своей склонности к наукам и искусствам, устраивает себе жизнь паразита, тот никогда не произведет ничего, кроме ложной науки и ложного искусства.
Произведения истинной науки и истинного искусства суть продукты приносимой человеком жертвы, а никак не тех или иных материальных выгод.
Но что станется с наукой и искусством? Сколько раз мне приходилось слышать этот вопрос от людей, которым не было никакого дела ни до наук, ни до искусств и которые не имели даже мало-мальски ясного представления о том, что такое науки и искусства! Можно было бы подумать, что эти люди ничем так не дорожат, как благом человечества, которое, по их понятиям, состоит в развитии того, что они называют науками и искусствами.
Но как это случилось, что нашлись люди столь безумные, что они отрицают полезность наук и искусств? Существуют ремесленники, существуют земледельцы. Никому не приходило на ум оспаривать их полезность, и никогда рабочему не придет в голову доказывать полезность своего труда. Он производит; его продукт необходим и представляет собой благо для других. Им пользуются, и никто не сомневается в его полезности; тем более никто ее не доказывает.
Деятели наук и искусств находятся в тех же самых условиях. Как же это случилось, что находятся люди, которые изо всех сил стараются доказать их полезность?
Дело в том, что истинные деятели наук и искусств не присваивают себе никаких прав; они отдают произведения своего труда; эти произведения оказываются полезными, и они нисколько не нуждаются в каких-либо правах и в доказательствах, подтверждающих их права. Но огромное большинство тех, которые называют себя учеными и худож
Л. Н. Толстой
500
никами, очень хорошо знают, что то, что они производят, не стоит того, что они потребляют, и вот единственная причина, почему они так усиленно стараются — подобно священникам всех времен — доказать, что их деятельность необходима для блага человечества.
Истинная наука и истинное искусство всегда существовали и всегда будут существовать, подобно всем другим видам человеческой деятельности, и невозможно и бесполезно оспаривать или доказывать их необходимость.
Ложная роль, которую играют в нашем обществе науки и искусства, происходит от того, что так называемые образованные люди, во главе с учеными и художниками составляют привилегированную касту, подобно священникам. И эта каста имеет все недостатки, свойственные всем кастам. Недостаток касты в том, что она позорит и унижает тот самый принцип, во имя которого она организовалась. Вместо истинной религии получается ложная религия. Вместо истинной науки — ложная наука. То же и по отношению к искусству. Недостаток касты в том, что она давит на массы и, сверх того, лишает их того самого, что предполагалось распространить между ними. А самый главный недостаток касты заключается в утешительном для ее членов противоречии того принципа, который они исповедуют, с их образом действия.
За исключением тех, которые защищают нелепый принцип науки для науки и искусства для искусства, сторонники цивилизации вынуждены утверждать, что наука и искусство представляют собой большое благо для человечества.
В чем заключается это благо? Каковы суть те признаки, по которым можно было бы отличить благо, добро от зла? Сторонники науки и искусства тщательно избегают ответа на эти вопросы. Они даже утверждают, что определение добра и красоты невозможно. «Добро вообще, — говорят они, — добро, красота, не может быть определено». Но они лгут. Во все времена человечество в своем поступательном движении только то и делало, что определяло добро и красоту. Добро определено много веков тому назад. Но это определение не нравится этим людям. Оно вскрывает ничтожество или даже вредные, противные добру и красоте последствия того, что они называют своими науками и своими искусствами. Добро и красота определены много веков тому назад. Брамины, мудрые буддисты, китайские, еврейские, египетские мудрецы, греческие стоики определили их, а Евангелие дало им самое точное определение.
Всё, что соединяет людей, есть добро и красота; всё, что разъединяет их, — зло и безобразие.
Всем известна эта формула. Она начертана в нашем сердце. Добро и красота для человечества есть то, что соединяет людей. Итак, если бы сторонники наук и искусств действительно имели в виду благо человечества, они знали бы, в чем состоит благо человека, и, зная это, они занимались бы только теми науками и теми искусствами, которые ве
Л. Н. Толстой
Письма
501
дут к этой цели. Не было бы юридических наук, военной науки, так как все эти науки не имеют другой цели, кроме багосостояния одних народов в ущерб другим. Если бы благо было действительно критери-умом наук и искусств, никогда изыскания точных наук, совершенно ничтожные по отношению к истинному благу человечества, не приобрели бы того значения, которое они имеют; и особенно не приобрели бы такого значения произведения наших искусств, едва лишь годные на то, чтобы рассеять скуку праздных людей.
Человеческая мудрость не заключается в познании вещей. Есть бесчисленное множество вещей, которых мы не можем знать. Не в том мудрость, чтобы знать как можно больше. Мудрость человеческая в познании того порядка, в котором полезно знать вещи; она состоит в умении распределять свои знания соответственно степени их важности.
Между тем из всех наук, которые человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра; и из всех искусств главнейшее есть искусство уметь избегать зла и творить добро с наименьшей по возможности затратой усилий. И вот оказывается, что между всеми искусствами и науками, имеющими притязание служить благу человечества, важнейшая из наук и важнейшее из искусств не только не существуют, но и исключены из списка наук и искусств.
То, что в нашем мире называют науками и искусствами, есть не что иное, как огромный “Humbug”4, великое суеверие, в которое мы обыкновенно впадаем, как скоро мы освобождаемся от старого, церковного суеверия. Чтобы ясно увидать путь, которому мы должны следовать, надо начать сначала, надо снять тот капюшон, в котором мне тепло, но который закрывает мои глаза. Искушение велико. Мы родимся, и затем, при помощи труда или, скорее, при помощи некоторой умственной ловкости, мы постепенно поднимаемся по ступенькам лестницы и оказываемся среди привилегированных, среди жрецов цивилизации и культуры, и надо иметь — как это надо и брамину, и католическому священнику — большую искренность и большую любовь к истине и к добру, чтобы усомниться в тех принципах, которым мы обязаны нашим выгодным положением. Но для серьезного человека, который, подобно вам, ставит себе вопрос жизни, нет выбора. Чтобы приобрести ясный взгляд на вещи, он должен освободиться от того суеверия, в котором он живет, хотя это суеверие ему и выгодно. Это — условие Sin qua non5. Бесполезно рассуждать с человеком, который упорно держится за известное верование, хотя бы только на одном каком-нибудь пункте.
Если его мысль не вполне свободна от всего предвзятого, сколько бы он ни рассуждал, он ни на шаг не приблизится к истине. Его предвзятое верование остановит и исказит все его рассуждения. Есть вера религиозная, есть и вера в нашу цивилизацию. Они совершенно сходны. Католик говорит: «Я могу рассуждать, но только в пределах того, чему меня учит наше писание и наше предание, обладающие полной,
JI. H. Толстой
502
неизменной истиной». Верующий в цивилизацию говорит: «Мое рассуждение останавливается перед данными цивилизации, науки и искусства. Наша наука представляет собой совокупность истинного человеческого знания. Если она еще не обладает всей истиной, то она будет обладать ею. Наше искусство с его классическими преданиями есть единственное истинное искусство». Католики говорят: «Существует вне человека одна вещь в себе, как говорят немцы: это церковь». Люди нашего мира говорят: «Существует вне человека одна вещь в себе: цивилизация». Нам легко видеть ошибки рассуждения религиозных суеверий, потому что мы не разделяем этих суеверий. Но верующий в какую-нибудь положительную религию, даже католик, вполне убежден в том, что есть только одна истинная религия, — именно та, которую он исповедует; и ему даже кажется, что истинность его религии может быть доказана рассуждением. Точно так же и для нас, верующих в цивилизацию: мы вполне убеждены в том, что существует только одна истинная цивилизация, — именно наша, и нам почти невозможно усмотреть недостаток логики во всех наших рассуждениях, которые стремятся доказать, что из всех времен и из всех народов только наше время и те несколько миллионов человек, которые живут на полуострове, называемом Европой, находятся в обладании истинной цивилизацией, состоящей из истинных наук и истинных искусств.
Чтобы познать истину жизни, которая столь проста, нет надобности в чем-нибудь пложительном, в какой-нибудь философии, в какой-нибудь глубокой науке; нужно только одно отрицательное свойство: не иметь суеверий.
Надо привести себя в состояние ребенка или Декарта и сказать себе: я ничего не знаю, ничему не верю и хочу только одного — познать истину жизни, которую мне нужно прожить.
И ответ уже дан века тому назад, и этот ответ прост и ясен.
Мое внутреннее чувство говорит мне, что мне нужно благо, счастье, для меня, для меня одного. Разум говорит мне: все люди, все существа желают того же самого. Все существа, ищущие, подобно мне, личного счастья, раздавят меня: ясно, что я не могу обладать тем счастьем, которого я желаю; а между тем в стремлении обладать счастьем, не стремиться к нему, это значит не жить.
Стало быть, я не могу жить?
Рассуждение говорит мне, что при таком устройстве мира, при котором все существа стремятся только к своему собственному благу, я — существо, желающее того же самого, — не могу достигнуть блага; я не могу жить. И однако, несмотря на это столь ясное рассуждение, мы живем, и мы стремимся к счастью, к благу. Мы говорим себе: я только в таком случае мог бы достигнуть блага, быть счастливым, если бы все другие существа любили меня более, чем они любят самих себя. Это вещь невозможная; но, несмотря на это, мы все живем; и вся наша деятельность, наше стремление к богатству, к славе, к власти есть не что иное, как попытка заставить других полюбить нас больше.
i . Н. Толстой Письме; 503
чем они любят самих себя. Богатство, слава, власть дают нам подобие такого порядка вещей; и мы почти довольны, мы по временам забываем, что это только подобие, а не действительность. Все существа любят самих себя больше, чем они любят нас, и счастье невозможно. Есть люди (и число их увеличивается со дня на день), которые, не будучи в состоянии разрешить это затруднение, застреливаются, говоря, что жизнь есть только один обман.
И, однако, решение задачи более чем просто и навязывается само собой. Я только тогда могу быть счастлив, если в этом мире будет существовать такое устройство, что все существа будут любить других больше, чем самих себя. Весь мир был бы счастлив, если бы все существа не любили бы самих себя, а любили бы других.
Я — существо человеческое, и разум открывает мне закон счастья всех существ. Я должен следовать закону моего разума, я должен любить других более, чем я люблю самого себя.
Стоит только человеку сделать это рассуждение, и сейчас жизнь представится ему в ином виде, чем раньше. Все существа истребляют друг друга; но все существа любят друг друга и помогают друг другу. Жизнь поддерживается не истреблением, но взаимным сочувствием существ, которое сказывается в моем сердце чувством любви. Как только я начал понимать ход вещей в этом мире, я увидал, что одно только начало взаимного сочувствия обусловливает собой прогресс человечества. Вся история есть не что иное, как все большее и большее уяснение и приложение этого единственного принципа солидарности всех существ. Рассуждение, таким образом, подтверждается опытом истории и личным опытом.
Но и помимо рассуждения человек находит в своем внутреннем чувстве самое убедительное доказательство истинности этого рассуждения. Наибольшее доступное человеку счастье, самое свободное, самое счастливое его состояние есть состояние самоотречения и любви. Разум открывает человеку единственно возможный путь счастья, и чувство устремляет его на этот путь.
Если мысли, которые я пытался вам передать, покажутся вам неясными, не судите их слишком строго. Я надеюсь, что вы когда-нибудь прочтете их в более ясном и более точном изложении.
Я хотел только дать вам понятие о моем взгляде на вещи.
Лев Толстой
JI. H. Толстой
504
М. Л. Толстому
<неотправленное>
1895 г. Октября 16—19. Ясная Поляна.
Пишу тебе, Миша, а не на словах говорю, то, что хочу передать тебе, потому что между нами, мною и тобой, в нашем личном общении установилась как бы какая-то непроницаемая преграда — стена, через которую нам нет никакой возможности общения. И оттого, что эта стена существует, мы всё дальше и дальше расходимся между собой, так что мы стали так далеки, что нам уж трудно понимать друг друга. Вот, чтобы сломать эту стену и передать тебе то очень важное, что я имею передать тебе и без чего тебе будет становиться все труднее и труднее жить, я и пишу тебе это письмо. Пожалуйста, внимательно прочти его и подумай об его содержании. Стоит того это сделать уж только потому, что я с трудом удерживаемыми слезами и умилением в сердце пишу его, стараясь высказать все то, что я мучительно перечувствовал и передумал многими бессонными ночами это последнее время. То, что я пишу здесь, относится и к Андрюше, и ко всем молодым людям, находящимся в твоем положении, хотя пиша имею перед собой одного тебя и с тою естественною любовью, которую я чувствую к тебе, обращаюсь к тебе одному. Не обращаюсь же я к Андрюше, потому что он уж слишком далеко ушел по тому губительному пути, по которому идешь и ты, и я менее надеюсь на то, чтобы он вполне понял меня и мои слова так же, как я их понимаю, и вник в их значение. Мы с вами похожи на двух людей, которые идут в разные стороны, встретились и разошлись, и чем дальше идут, тем больше расходятся, так что приходит время, когда они уже не могут или с трудом могут слышать друг друга. Ты еще, я надеюсь, на таком расстоянии от меня, что можешь еще услыхать мой голос, но Андрюша уже так далек, что меньше вероятия, чтобы он меня услышал. Но чем он дальше, тем ему нужнее услыхать, и потому кричу, сколько сил есть, кричу и ему, и не отчаиваюсь, чтобы он услыхал меня и вернулся или хоть бы остановился. Я сейчас написал и ему, но написал относящееся более к тому тяжелому положению, в котором он находится. Тебе же пишу, надеясь предупредить это положение.
Все молодые люди твоего возраста1, живущие в тех условиях, в которых ты живешь, все находятся в очень опасном положении. Опасность эта состоит в том, что в том возрасте, когда складываются привычки, которые останутся навсегда, как складки на бумаге, вы живете без всякой, без всякой нравственной, религиозной узды, не видя ничего, кроме тех неприятностей учения, к которому вас принуждают и от которого вы стараетесь так или иначе избавиться, и тех всех самых разнообразных удовлетворений похоти, которые вас привлекают со всех сторон и которые вы имеете возможность удовлетворять. Такое положение вам кажется совершенно естественным и не может каза
Л. Н. Толстой Письма 505
ться иным, и вы никак не виноваты, что оно кажется вам таковым, потому что в нем выросли, и в таком же положении находятся ваши товарищи, — но положение это совершенно исключительно и ужасно опасно. Ужасно опасно оно потому, что если поставить всю цель жизни, как она у вас, у молодых людей, когда похоти эти внове и особенно сильны, то непременно, по очень известному и несомненному закону, выйдет то, что для того, чтобы получать то удовольствие, которое привык получать от удовлетворения похоти: сладкой еды, катанья, игры, нарядов, музыки, надо будет все прибавлять и прибавлять предметы похоти, потому что похоть, раз уже удовлетворенная, в другой и третий раз не доставляет уже того наслаждения, и надо удовлетворять новые — более сильные. (Существует даже закон, по которому известно, что наслаждение увеличивается в арифметической прогрессии, тогда как средства для произведения этого наслаждения должны быть увеличены в квадратах.)
Так это всегда и идет: сначала ягоды, пряники, простые игрушки, потом конфеты, водицы, велосипеды, лошади, потом колбаса, сыр, вино, женщины. И так [как] из всех похотей самая сильная половая, выражающаяся в влюблении, ласках, онанизме и совокуплении, то всегда очень скоро доходит до этого, всегда одного и того же. И тут, когда эти наслаждения уже нельзя заменить чем-нибудь новым, более сильным, то начинается искусственное увеличение этого самого наслаждения посредством одурманения себя — вином, табаком, чувственной музыкой.
Это путь такой обычный, что по нем, за редкими исключениями, идут все молодые люди, и богатые и бедные, и если вовремя не останавливаются, то отправляются к настоящей жизни более или менее искалеченные или погибают совершенно, как погибли на моих глазах сотни молодых людей и как погибает на моих глазах Андрюша. Это опасность, предстоявшая и предстоящая теперь всем молодым людям, и богатым и бедным, но ясно, что эта опасность больше для людей богатых, к которым вы принадлежите, потому что они скорее могут удовлетворять свои похоти и потому скорее наскучить первыми и дойти скорее до конца: женщин и одурманения вином и чувственной музыкой; но опасность эта особенно велика именно в наше время, когда старые правила жизни, старые идеалы жизни разрушены для большинства вашего брата, а новые правила и новые идеалы не только не признаются общественным мнением, но, напротив, выставляются чем-то странным, смешным и даже вредным.
Я, как очень увлекающийся человек, прошел в моей юности через этот постепенный ход удовлетворения похоти, но у меня, как и у всех молодых людей нашего времени, были очень определенные правила и идеалы. Правила были очень глупые, аристократические, но они сдер-живали меня. Для меня, например, мысль о том, чтобы делать то, что вы делаете, — пить с мужиками и кучерами водку или перед людьми выказать свое пристрастие в крестьянской девушке, было так же нс-
Л. Н, Толстой
506
возможно, как украсть или убить. Идеалы же жизни были такие, при которых я должен был продолжать жизнь, которую вели отец и дед, т. е. составить себе видное и уважаемое общественное положение, и для этого должен был быть утонченно образован, как они, и так же мнимо благороден. Идеалы эти теперь кажутся мне дикими, вероятно и тебе тоже, но идеалы были во мне так тверды, что удерживали меня от многого и отвлекали от всего того, что мешало достижению их. Есть еще семьи наши дворянские, в которых еще живы такие идеалы и держат в узде молодых людей. Я думаю, и ты знаешь таких. Идеалы эти несвоевременные и должны разрушиться, и потому молодым людям, воспитанным под их влиянием, придется во многом разочароваться в жизни и пострадать, но воспитываться им лучше. Они не погибнут в цвету, как можете погибнуть вы, не имеющие никаких идеалов.
Ваше положение — и таких, как вы, очень много — очень страшно именно потому, что вы не признаете никаких ни правил, ни идеалов, и потому, как на рельсах, катитесь под крутую горку похотей и неизбежно вкатываетесь в вечно одно и то же болото, из которого почти нет выхода, — женщины и вино.
Спасение от вашего положения есть только одно: остановиться, опомниться, оглянуться и найти себе идеалы, т. е. то, чем хочешь быть, и жить так, чтобы достигнуть того, чем хочешь быть.
Ваше положение тем ужасно, что если вы честные люди, не лжете зачем-нибудь перед самими собой, то вы знаете, что прежние верования, те, которым вас учат в гимназиях под названием закона божия, есть бессмыслица, в которую никто не верит, знаете тоже, что те аристократические идеалы, по которым надо быть исключительным человеком, лучше, образованнее, утонченнее других для того, чтобы управлять толпою, знаете, что эти идеалы устарели и разбиты, видите, что все вокруг вас живут без всяких правил и идеалов, кроме того, чтобы жить как можно веселее. Если вы и слышите или видите, что есть какие-то люди, которые что-то исповедуют странное, ходят скверно одетые, едят дурно, не пьют, не курят, то по всему, что вы видите, слышите и читаете даже про них, вы убеждаетесь, что это какие-то чудаки, от которых, вы вперед решаете, что ничего нужного вам не узнать. И потому не интересуетесь ими. Так это для всех молодых людей нашего времени, для тебя же и Андрюши и всех наших уже несомненно решено, что вы везде можете искать решение вопросов, возникающих в вас, но только не среди темных2. Они чудаки, и всё. Во мне же вы видите писателя, который прекрасно написал бал, и скачки, и охоту, но который что-то странное и неинтересное говорит и пишет теперь и никак уже не укажет того, что нужно нам, простым молодым людям, делать. Вы, близкие мне, особенно тупы и жестоки в этом отношении. Вы — как люди, стоящие слишком близко к предмету и потому не видящие его, тогда как им только стоит протянуть руки, чтобы взять его.
Л. Н. Толстой
Письма
507
Вот это-то мне особенно больно, и вот это-то самое разъединение между нами — мною и всей молодежью — разъединение, искусственно устроенное врагами добра, и хотелось бы мне разрушить этим письмом. Толстовцы, темные, Поша, Чертков, чудаки, вегетарианство, оборвашки, религии, горшки носят: и готово и все решено. Решено, что все это фантазии, непрактичные, неприложимые вообще к жизни, годные для чудаков, но никак уже не для нас, для простых молодых людей, не хотящих ничем отличаться и хотящих жить, как все. Вот этот-то взгляд на то, что я исповедую, на то, на что я посвятил все свои силы и посвящу до конца своих дней, особенно мучительно мне.
Ведь исповедую и проповедую я то, что проповедую, не потому что это мне нравится, а потому что я знаю, что это одно может спасти людей, и именно вас, начинающих жить молодых людей, от тех несчастий, в которые вы наверняка лезете, и дать вам то истинное благо, которого вы сами желаете; только от того, что то, что я исповедую и проповедую, одно только практично и просто и легко среди тех фантастических, сложных и трудных, невозможных целей, которые вы ставите себе.
Ведь то, что не я один исповедую и проповедую, а то, что исповедовали и проповедовали Христос и все лучшие люди мира, состоит в том, чтобы указать вам бедствия вашей жизни, в которые вы, не видя их, лезете, как бабочки на огонь, и ваше предназначенное вам благо, которое вы, не зная, где оно, безжалостно губите и топчете ногами. Вы живете, не имея определенного направления жизни, кроме того, в которое влекут вас — нынче сюда, завтра туда — ваши похоти, а так нельзя жить. И вот то учение Христа, которое я исповедую, дает вам направление, указывает путь жизни, тот путь, по которому людям легко и радостно идти и всякое отклонение от которого наказывается страданиями. Дает же это учение это направление тем, что указывает смысл и цель жизни. А без этого жить нельзя, потому что это одно сдерживает жизнь похоти.
Ведь то, что мы называем идеалами, есть не что иное, как указание цели и смысла жизни. Пускай будет у человека идеал самый низкий — хоть приобретение богатства, и это будет сдерживать похотливую жизнь. Так же будет сдерживать похоть идеал честолюбия, славолюбия. Но вес эти идеалы могут быть разрушены, и потому нужен такой идеал, который бы не мог быть разрушен, и такой идеал дает нам смысл жизни, открываемый христианством.
Смысл этот в том, что жизнь наша не имеет цели в самой себе, цели, которая могла бы удовлетворить нас; цель ее вне нас и недоступна нам, и потому смысл жизни нашей в том, чтобы исполнить то, для чего она предназначена.
Для того же, чтобы узнать, для чего она предназначена, нам дан разум, свойст во, соединяющее нас всех, свойство, дающее возможность воспринимать все то, что открыто разумом тысячи лет тому назад давно не существующим [людям], и передавать то, что разум откроет
Л. Н. Толстой 508
нам, людям, которые будут жить тысячи и миллионы лет после нас. Следование тому, что открыто разумом, и составляет смысл жизни. И следование это составляет высшее благо, доступное человеку.
И такое следование тому, что открыто разумом, не только не неопределенно и необязательно, как это может показаться для тех, которые никогда не думали о значении разума, а, напротив, очень определенно и тотчас налагает на нас очень ясные и простые обязанности. Требования разума не суть требования твоего личного разума, обдумывающего явления мира, а суть требования всего человеческого разума, выраженные для нас в словах, правилах, учении, которое нам передается. Это не значит то, что мы должны принимать все то, что нам передается от древних, но то, что мы должны проверять своим разумом все, что передается нам, и то, что совпадает с нашим разумом, принимать и, приняв эти требования разума, руководствоваться ими в жизни.
Так, например, мне передают как нечто древнее и разумное то, что бог состоит из троицы, и Христос — бог и что надо причащаться и т. п. Разум мой не принимает этого, и я не ставлю эти требования в руководство своей жизни, но мне передают еще правила о том, что не надо делать другому того, что я не хочу, чтобы мне делали, или то, что все люди братья, что так как человек [не] может дать жизни, то он не должен отнимать ее, или что человек должен постоянно стремиться к совершенствованию и если согрешил, то не отчаиваться, а опять сначала исправляться и стараться не согрешить опять, или что для блага людей нужно, чтобы они любили друг друга и прощали бы друг другу, или что нужно жалеть страдающих и помогать им, или что для блага всех людей нужно, чтобы каждый мужчина любил, как жену, одну женщину и женщина одного мужчину, или что для блага и всех людей вместе и каждого отдельно нужно, чтобы каждый работал, а не поглощал труды других людей, или что для того, чтобы всем было хорошо, надо, чтобы каждый человек поступал так, что если бы всякий поступал так же, как и он, то счастье всех людей не уменьшалось бы, а увеличивалось, и т. п. требования древнего разума, будь они произведение китайской, индийской, древней или новой, немецкой или французской мудрости, я принимаю и ставлю их в руководство своей жизни, так как эти требования согласны с моим разумом. Такая проверка своим разумом требований древнего разума и принятие тех, которые согласны с моим разумом, и составляет то, что значит следовать требованиям разума. С тех пор как стоит мир, люди всё более и более накопляли эти указания разума, и теперь у нас есть эти очень определенные указания, следование которым избавляет нас от страданий и дает вам истинное благо. И вот эти-то указания разума христианского учения и есть то, что я исповедую и проповедую, и эти указания очень определенные и обязательные.
Сущность христианского учения состоит в том, что оно открывает человеку его истинное благо, состоящее в исполнении его назначения,
Л. И. Толстой
Письма
509
и указывает все то, что под видом радостей и удовольствий может нарушить это благо. Эти мнимые радости и удовольствия христианское учение называет ловушками — соблазнами и подробно определяет их, предостерегает от них, дает средства спасения от них и взамен их обещает кроме истинного блага, предназначенного человеку, такие еще большие радости и удовольствия [взамен тех], которые, уловляя его в соблазны, губят его.
Главный и основной соблазн, против которого предостерегает учение Христа, состоит в том, чтобы верить, что счастье состоит в удовлетворении похоти своей личности. Личность, животная личность, всегда будет искать удовлетворения своих похотей, но соблазн состоит в том, чтобы верить, что это удовлетворение доставит благо. И потому огромная разница в том, чтобы, чувствуя стремление к похоти, верить, что удовлетворение ее доставляет благо, и потому усиливать похоть; или, напротив, знать, что это удовлетворение удаляет от истинного блага, и потому ослаблять стремление.
Соблазн этот, если только человек даст ход своему разуму, ясно виден ему, так что, кроме того, что удовлетворение всякой похоти совершается в ущерб другим людям и потому с борьбой, всякое удовлетворение похоти влечет за собой потребность новой похоти, труднее удовлетворяемой, и так до конца, и потому для того, чтобы разум не открывал тщеты этого соблазна, к этому соблазну присоединяется другой, самый ужасный, состоящий в том, чтобы ослаблять свой разум, одурманивать его: табак, вино, музыка.
На этих двух главных соблазнах держатся все мелкие соблазны, которые улавливают людей и, лишая их истинного блага, мучают их.
Человеку дана радость пищи — вкуса, развивающегося от труда и воздержания. Корка черного хлеба съедается с большим наслаждением, если голоден, чем ананасы и трюфели, и человек устраивает себе жизнь так, что почти никогда не голоден, и пряной, жирной, искусственной пищей портит себе вкус и часто совсем лишается всякого удовольствия от еды и только страдает от пищеварения в больном желудке.
Человеку дано удовольствие упражнения своих мускулов в работе и радости отдыха, и он заставляет делать все за себя других, лишается этих радостей и теряет способность и умение работать.
Человеку дано счастье общения с людьми, дружбы, братства, и он вместо того, чтобы пользоваться им, выделяет себя из всех своей гордостью и ограничивает свое сближение с людьми маленькими кружком большей частью худших, таких же, как он, людей. Человеку дано огромное счастье семейной любви, и он растрачивает это счастье или онанизмом, или распутством.
Человеку дана высшая радость сознания себя разумным существом, и он, отступая от деятельности, приписываемой ему разумом, заглушает этот разум табаком, вином, суетой и опускается на степень неразумного животного.
Л. Н. Толстой
510
Таково то учение, которое я исповедую и проповедую и которое тебе и многим кажется чем-то фантастическим, туманным, странным и неприменимым. Учение это все состоит только в том, чтобы не делать глупостей и напрасно, без всякой пользы себе и другим, не губить в себе ту божественную силу, которая вложена в тебя, и не лишать себя того счастья, которое предназначено всем нам. Учение все состоит в том, чтобы верить своему разуму, блюсти его во всей чистоте и развивать его и, поступая так, получить благо истинное, вечное истинной жизни и, сверх того, гораздо в большей степени те самые радости, которые теперь привлекают тебя.
Ты хочешь радостей вкуса и придумываешь, что еще вкуснее и вкуснее поесть и вкус твой все притупляется, и ты лишаешься очень скоро самых лучших из этих удовольствий.
Ты хочешь удовольствия спокойствия, отдыха и перестаешь трудиться — и физически и умственно, и теряешь способность и умение работать, и оттого и не знаешь истинной радости отдыха после труда.
Ты хочешь отличаться от других, возвыситься чем-нибудь, чтобы привлечь к себе внимание других, и ты вместо внимания вызываешь к себе зависть и лишаешься братской любви, в которую ты мог бы вступить с ними.
Ты хочешь радостей половой любви и губишь в себе возможность этой любви тогда, когда наступает ее время.
Ты хочешь скрыть от себя несогласие твоего разума с твоей жизнью для того, чтобы не нарушилось твое наслаждение благами жизни, но, заглушая разум, ты разрушаешь его и разрушаешь этим все свои человеческие радости.
Человек есть соединение двух начал: животного, телесного, и разумного, духовного. Движение жизни совершается в животном существе, оно движет жизнь и свою и продолжает эту жизнь в дальнейших поколениях; разумное, духовное существо направляет это движение. Если нет разума в существовании, то жизнь идет в нас по предназначенному ему направлению, как в животном, в растении; но как скоро в животном появился разум, разум этот должен руководить жизнью, проявляя, образовывая какую-то другую жизнь, высшую, духовную. Если же разум направляется не на направление животной жизни, как это делают люди, впадающие в соблазны, так нарушаются правильные движения животной жизни.
Само собой разумеется, что заблуждения некоторых людей не могут нарушить течения жизни и что даже эти заблуждения нужны и приносят свои плоды в общей экономии жизни; но заблуждения эти погибельны для тех людей, которые отдаются им. Такие люди как непрорастающие семена, которые приносят деревья.
Для разумного существа, связанного с животной жизнью, есть только два пути: путь следования разуму, подчинения ему своей животной природы, путь радостный, дающий сознание жизни вечной и радости этой жизни, и путь подчинения разума животной природе, употреб
Л. Н. Толстой
Письма
511
ление его на достижение животных целей, путь гибельный, лишающий человека сознания вечной жизни и даже тех радостей, которые свойственны животному.
Все это я написал тебе затем, чтобы ты остановился и подумал и перестал бы думать, что если ты не видишь никакого смысла в жизни, кроме удовлетворения похоти, то это не оттого, что это так, а оттого, что ты в заблуждении, и что подле тебя, рядом с тобой, есть указание на то заблуждение, в котором ты живешь и в которое уходишь, и что тебе стоит только опомниться, чтобы увидать это.
Писал потому, главное, что мне ужасно, ужасно больно видеть, как ты и многие с тобой вместе гибнут, так страшно гибнут задаром, тогда как спасение так близко и так легко3.
Л. Т.
Письмо неизвестной от 5 марта 1894
(роль примера и подражания в воспитании)
Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем. Воздействовать же на сердце можно только гипнотизацией, которой так подлежат дети, — гипнотизацией, заразительностью примера. Ребенок увидит, что я раздражаюсь и оскорбляю людей, что я заставляю других делать то, что сам могу сделать, что я потворствую своей жадности, похотям, что я избегаю труда для других и ищу только удовольствия, что я горжусь и тщеславлюсь своим положением, говорю про других злое, говорю за глаза не то, чтб говорю в глаза, притворяюсь, что верю тому, во что не верю, и тысячи и тысячи таких поступков или поступков обратных: кротости, смирения, трудолюбия, самопожертвования, воздержания, правдивости, и заражается тем или другим во сто раз сильнее, чем самыми красноречивыми и разумными поучениями. И потому все или 0,999 воспитания сводится к примеру, к исправлению и совершенствованию своей жизни.
Так что то, с чего вы начали внутри себя, когда мечтали об идеале, т. е. о добре, достижение которого несомненно только в себе, — к тому самому вы приведены теперь при воспитании детей извне. То, чего вы хотели для себя, хорошенько не зная зачем, то теперь вам уже необходимо нужно для того, чтобы не развратить детей.
От воспитания обыкновенно требуют и слишком много, и слишком мало. Требовать того, чтобы воспитываемые выучились тому-то и тому-то, образовались — как мы разумеем образование, — это невозможно, так же невозможно и то, чтобы они сделались нравственными, как мы разумеем это слово. Но совершенно возможно то, чтобы не быть самому участником в развращении детей (и в этом не может помешать ни жене муж, ни мужу жена), а всею своею жизнью по мере сил своих воздействовать на них, заражая их примером добра.
Я думаю, что не только трудно, но невозможно хорошо воспитать
Л. Н. Голстон
512
детей, если сам дурен; и что воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогает столько, как дети. Как смешны требования людей, курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни, так же смешны требования людей научить их, как, продолжая вести жизнь ненравственную, можно было бы дать нравственное воспитание детям. Все воспитание состоит в большем и большем сознании своих ошибок и исправлении себя от них. А это может сделать всякий и во всех возможных условиях жизни. И это же есть и самое могущественное орудие, данное человеку для воздействия на других людей, в том числе и на своих детей, которые всегда невольно ближе всего к нам. Fais се que dois, advienne que pourra1 более всего относится к воспитанию.
А. И. Дворянскому
1899 г. Декабря 13. Москва.
Александр Иванович,
получив ваше письмо1, я тотчас же решил постараться наилучшим образом ответить на вопрос первой, самой первой важности, который вы мне ставите и который, не переставая, занимает меня, но разные причины до сих пор задерживали, и только теперь я могу исполнить ваше и мое желание.
С того самого времени — 20 лет тому назад, — как я ясно увидал, как должно и может счастливо жить человечество и как бессмысленно оно, мучая себя, губит поколения за поколениями, я все дальше и дальше отодвигал коренную причину этого безумия и этой погибели: сначала предоставлялось этой причиной ложное экономическое устройство, потом государственное насилие, поддерживающее это устройство; теперь же я пришел к убеждению, что основная причина всего — это ложное религиозное учение, передаваемое воспитанием.
Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви; мы не замечаем, но дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением. Ведь стоит только ясно понять то, что мы делаем, обучая детей так называемому закону божию, для того чтобы ужаснуться на страшное преступление, совершаемое таким обучением. Чистый, невинный, не обманутый еще и еще не обманывающий ребенок приходит к вам, к человеку, пожившему и обладающему или могущему обладать всем знанием, доступным в наше время человечеству, и спрашивает о тех основах, которыми должен человек руководиться в этой жизни. И что же мы отвечаем ему? Часто даже не отвечаем, а предваряем его вопросы так, чтобы у него уже был готов внушенный ответ, когда возникнет его во-
Л. Н. Гол стой Письма 513
прос. Мы отвечаем ему на эти вопросы грубой, несвязной, часто просто глупой и, главное, жестокой еврейской легендой, которую мы передаем ему или в подлиннике, или, еще хуже, своими словами. Мы рассказываем ему, внушая ему, что это святая истина, то, что, мы знаем, не могло быть и что не имеет для нас никакого смысла, что 6000 лет тому назад какое-то странное, дикое существо, которое мы называем богом, вздумало сотворить мир, сотворило его и человека, и что человек согрешил, злой бог наказал его и всех нас за это, потом выкупил у самого себя смертью своего сына, и что наше главное дело состоит в том, чтобы умилостивить этого бога и избавиться от тех страданий, на которые он обрек нас. Нам кажется, что это ничего и раже полезно ребенку, и мы с удовольствием слушаем, как он повторяет все эти ужасы, не соображая того страшного переворота, незаметного нам, потому что он духовный, который при этом совершается в душе ребенка. Мы думаем, что душа ребенка — чистая доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самсе высокое, неопределенное и не выразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям. И вдруг вместо этого ему говорят, что начало это есть не что иное, как какое-то личное самодурное и страшно злое существо — еврейский бог. У ребенка есть смутное и верное представление о цели этой жизни, которую он видит в счастье, достигаемом любовным общением людей. Вместо этого ему говорят, что общая цель жизни есть прихоть самодурного бога и что личная цель каждого человека — это избавление себя от заслуженных кем-то вечных наказаний, мучений, которые этот бог наложил на всех людей. У всякого ребенка есть и сознание того, что обязанности человека очень сложны и лежат в области нравственной. Ему говорят вместо этого, что обязанности его лежат преимущественно в слепой вере, в молитвах — произнесении известных слов в известное время, в глотании окрошки из вина и хлеба, которая должна представлять кровь и тело бога. Не говоря уже об иконах, чудесах, безнравственных рассказах Библии, передаваемых как образцы поступков, так же как и об евангельских чудесах и обо всем безнравственном значении, которое придано евангельской истории. Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь составил из цикла русских былин с Добрыней, Дюком и др. с прибавлением к ним Еруслана Лазаревича цельное учение и преподавал бы его детям как разумную историю. Нам кажется, что это неважно, а между тем то преподавание так называемого закона божия детям, которое совершается среди нас, есть самое ужасное преступление, которое можно только представить себе. Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в сравнении с этим преступлением.
Правительству, правящим, властвующим классам нужен этот обман, с ним неразрывно связана их власть, и потому правящие классы
JI. H. Толстой
514
всегда стоят за то, чтобы этот обман производился над детьми и поддерживался бы усиленной гипнотизацией над взрослыми; людям же, желающим не поддержания ложного общественного устройства, а, напротив, изменения его и, главное, желающим блага тем детям, с которыми они входят в общение, нужно всеми силами стараться избавить детей от этого ужасного обмана. И потому совершенное равнодушие детей к религиозным вопросам и отрицание всяких религиозных форм без всякой замены каким-либо положительным религиозным учением все-таки несравненно лучше еврейско-церковного обучения, хотя бы в самых усовершенствованных формах. Мне кажется, что для всякого человека, понявшего все значение передачи ложного учения за священную истину, не может быть и вопроса о том, что ему делать, хотя бы он и не имел никаких положительных религиозных убеждений, которые он бы мог передать ребенку. Если я знаю, что обман — обман, то ни при каких условиях я не могу говорить ребенку, наивно, доверчиво спрашивающему меня, что известный мне обман есть священная истина. Было бы лучше, если бы я мог ответить правдиво на все те вопросы, на которые так лживо отвечает церковь, но, если я и не могу этого, я все-таки не должен выдавать заведомую ложь за истину, несомненно зная, что от того; что я буду держаться истины, ничего, кроме хорошего, произойти не может. Да, кроме того, несправедливо то, чтобы человек не имел бы чего сказать ребенку, как положительную религиозную истину, которую он исповедует. Всякий искренний человек знает то хорошее, во имя чего он живет. Пускай он скажет это ребенку или пусть покажет это ему, и он сделает добро и наверное не повредит ребенку.
Я написал книжку, называемую «Христианское учение», в которой я хотел сказать как можно проще и яснее то, во что я верю. Книга эта вышла недоступною для детей, хотя я имел в виду именно детей, когда писал ее.
Если же бы мне нужно было сейчас передать ребенку сущность религиозного учения, которое я считаю истиной, я бы сказал ему, что мы пришли в этот мир и живем в нем не по своей воле, а по воле того, что мы называем богом, и что поэтому нам будет хорошо только тогда, когда мы будем исполнять эту волу. Воля же состоит в том, чтобы мы все были счастливы. Для того же, чтобы мы все были счастливы, есть только одно средство: надо, чтобы каждый поступал с другими так, как он желал бы, чтобы поступали с ним. На вопрос же о том, как произошел мир, что ожидает нас после смерти, я отвечал бы на первый признанием своего неведения и неправильности такого вопроса (во всем буддийском мире не существует этого вопроса); на второй же отвечал бы предположением о том, что воля призвавшего нас в эту жизнь для нашего блага ведет нас куда-то через смерть, вероятно, для той же цели.
Очень рад буду, если выраженные мною мысли пригодятся вам.
Лев Толстой
Комментарии
К публике
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна». 1862. № 1 (янв.).
Печатается по изданию: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928— 1958. Т. 8. С. 3. (Далее: Поли. собр. соч.).
Открытие данного сборника этой публикацией не случайно (первые педагогические работы Л. Н. Толстого относятся к марту 1860 г.). Обращаясь к читателям, Л. Н. Толстой приглашает всех желающих обсудить проблемы народного образования.
Педагогические заметки и материалы
Впервые опубликовано: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 377—381. Печатается по данному изданию.
Это первая педагогическая работа (черновой набросок). В сборник педагогических сочинений Л. Н. Толстого включается впервые.
Мысли, высказанные Л. Н. Толстым в данном отрывке, свидетельствуют о том, что он шел по пути материалистического переосмысления диалектики Гегеля, показав одновременно непродуктивность эмпирического подхода к мышлению.
Как приобщить ребенка к знаниям? Для этого, отвечает Л. И. Толстой, надо использовать универсальный метод мышления в науке как форму развития научных понятий от всеобщего, генетически исходного, единства многообразия к конкретному. При этом он признает необходимость активной познавательной деятельности учащихся по усвоению обобщений: «...наука состоит в руководстве к обобщениям, а не в передаче обобщений».
Кроме того, Л. Н. Толстой обращает внимание на исторический характер психического развития человека: «Человек в своем развитии должен пройти все фазы развития человечества».
1 Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии, т. е. движения против папы, за церковную реформу. Придавал большое значение развитию начальных школ как орудию религиозного влияния на народные массы.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — один из крупнейших французских мыслителей и педагогов XVIII в. Автор педагогического труда «Эмиль, или О воспитании».
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения. Основной дидактический принцип И. Г. Песталоцци — наглядное обучение. Он был сторонником трудового воспитания, выступал за соединение умственного обучения и физического труда детей.
О задачах педагогии
Впервые опубликовано: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 382—385. Печатается по этому изданию (статья названа составителем и автором комментария В. Ф. Саводником). В сборник педагогических сочинений включается впервые. Статья написана весной 1860 г. Примерно в это время, судя по дневниковым записям, Л. Н. Толстого волновал вопрос об «опытной» педагогике, в результате данный материал должен был стать основой целого трактата, книги по проблемам педагогики. По мнению Л. Н. Толстого, существующая история педагогики является, скорее, «историей образовательных теорий воспитания». Он выразил свою неудовлетворенность состоянием педагогической науки — «абстрактной», «эмпирической», сделав вывод о том, что общество нуждается в новом образовании.
Проект Устава учебных заведений
Впервые отрывок опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 386—391. Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые. Данный отрывок написан в первой половине марта 1860 г. Л. Н. Толстой подверг проект критическому
Комментарии
516
анализу и сделал ряд предложений об улучшении работы народных школ, подготовки учителей, о необходимости предоставления дополнительных средств школам. Кроме того, Л. Н. Толстой предложил создать общество элементарных школ, педагогический журнал при нем, изложил краткий устав такого общества.
Л. Н. Толстой считал, что предложенное в проекте разделение низших школ на три разряда (школы грамотности, низшие и высшие народные училища) неправильно и произвольно. По его мнению, программа и методика преподавания должны быть едиными, а обучение во всех типах элементарных школ должно осуществляться одним учителем с достаточно высокой квалификацией.
Резкое выступление Л. Н. Толстого против определения проектом цели народной школы как грамотности требует разъяснений. В своей фразе «Понятны споры в обществе и литера[туре] — полезна г[рамотность] или нет. Одни говорят — грамотность вредна, и правы, другие говорят — грамотность, подразумевая под ней элементарное] образование, полезна, и правы». Л. Н. Толстой намекает на те споры, дискуссии, которые велись западниками и славянофилами по вопросам просвещения и грамотности, в которых он сам принимал участие весной 1856 г.
В это время он познакомился со славянофилами: С. Т. Аксаковым, его сыновьями — Константином и Иваном Аксаковыми, А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, братьями Киреевскими. Славянофилы считали, что подлинное просвещение народа связано с русской сельской общиной, носительницей опыта и традиций народа, несмотря на то что народ не знает грамоты. Позицию славянофилов достаточно определенно выразил В. И. Даль в статье «Письмо к издателю А. И. Кошелеву», на эту статью впоследствии будет ссылаться Л. Н. Толстой. «Но разве просвещение и грамотность одно и то же? Грамотность только средство, которое можно употреблять и на пользу просвещения, и на противное — на затемнение. Можно просветить человека в значительной степени без грамоты, и может он с грамотой остаться самым непросвещенным невеждой да сверЯ того и негодяем. Грамотность сама по себе ничему не вразумит крестьянина, она скорее собьет его с толку. Перо легче сохи, вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, мироеды, а не в пахари; он склоняется не к труду, а к тунеядству», — писал Даль (Русская беседа. 1856. III. Смесь. С. 1—16). Видимо, Л. Н. Толстой в этот период, принимая участие в спорах, обдумывал и свою позицию. Ряд высказываний славянофилов ему, безусловно, импонировал. Так, славянофилы различали не просвещение и грамотность, а образованность книжную и жизненную. По их мнению, «знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умственного богатства, просвещение же истинное, сверх знания, заключает в себе развитие высших начал нравственных и духовных» (Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1880. С. 388). Славянофилы подчеркивали, что «сфера мысли и знания отчуждались... от почвы народной, «проникались» презрением к так называемой практике, т. е. к живому факту». Произошел разрыв между жизнью и знанием, между практикой и теорией, которым «особенно болеет наше время» (см.: Аксаков И. С. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1886. С. 266). Видимо, все это и привело к выводу о «невозможности» сельского чтения и о вреде грамотности для народа, сделанному В. И. Далем в его статье (см.: Попов В. Из встреч 50-х годов сб. Прометей, 12. М., 1980. С. 54).
Л. Н. Толстому могла импонировать мысль К. С. Аксакова о «необходимости собственной деятельности», «производительной силе ума», чтобы «знания лежали не как зерна на песке, но привели бы в движение почву и дали плоды» (там же, с. 55). Впоследствии Л. Н. Толстой в публицистической работе «Так что же нам делать?» вспомнит об этом времени и подвергнет специальному анализу проблему «отчуждения» науки и искусства.
Сельский учитель
Данный набросок статьи написан в 1860 г. (первая половина марта). Впервые опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 392—394. Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые. Здесь кратко излагаются мысли Л. Н. Толстого о том, что «образование есть потребность каждого человека», «потребность народа». Л. Н. Толстой анализируют также условия, которые могут способствовать изданию педагогического журнала.
Комментарии
517
Письмо Е. П. Ковалевскому
Впервые опубликовано П. И. Бирюковым в издании: Биография Льва Николаевича Толстого: В 4 т. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 218—220. Печатается: Поли. собр. соч. Т. 6. М., 1949. С. 328—332.
Егор Петрович Ковалевский — писатель и путешественник, брат министра народного просвещения. Л. Н. Толстой ставит вопрос о создании в России такой системы народного образования, которая учитывала бы исторические особенности жизни русского народа и не была слепком с западноевропейских систем, сложившихся в иных экономических и политических условиях. По его мнению, казенная народная школа с ее содержанием и методами работы вредна как для умственного, так и нравственного развития детей. Эта мысль Л. Н. Толстого последовательно проводилась им в критике официальной народной школы.
1 et tout le tremblement (фр.) — и всем опасением.
Письмо неизвестному о немецких школах
Полностью набросок впервые опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 399—401. Печатается по данному изданию.
Письмо написано между 13 и 18 апреля 1861 г., видимо, в период пребывания Л. Н. Толстого в Веймаре.
Л. Н. Толстой кратко высказывает критические мысли о состоянии педагогической науки и постановке народного образования в странах Западной Европы.
1 Heraus damit (лат.) — покажи.
2 Lautier-methode — звуковой метод.
3 la critique est aisee mais 1’art est difficile (фр.) — критика легка, но искусство трудно.
4 Фраза не закончена.
Вступление
Впервые отрывок опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 402—404. Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые.
Написано после возвращения из-за границы. Видимо, это начало статьи о новом подходе к определению целей народного образования.
1 Имеется в виду Дистервег Адольф (1790—1866) — известный немецкий педагог-демократ, последователь И. Г. Песталоцци. О Дистервеге в дневнике Л. Н. Толстого от 10 апреля 1861 г. имеется следующая запись: «Дистервег — умен, но холоден и не хочет верить и огорчен, что можно быть либеральнее и идти дальше его».
О значении народного образования
Впервые опубликовано: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 405. Рукопись не закончена. Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые.
Встреча Л. Н. Толстого с Прудоном состоялась в Брюсселе весной 1861 г.
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Пропагандировал мирное переустройство общества путем реформ, выступал против революционного преобразования общества, автор работ «Что такое собственность», «Система экономических противоречий» и др. В дневнике Л. Н. Толстого от 25 мая 1857 г. имеется следующая запись: «Читал логического матерьяльного Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бес-сильность ума, всегда выражающуюся односторонностью в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь, соединяющая в одно все эти взгляды, и есть единственный непогрешимый закон человечества». Следовательно, Прудон интересовал Л. Н. Толстого еще задолго до их встречи.
Комментарии
518
Объявление об издании «Ясной Поляны»
Написано в конце июля 1861 г. Причем в первоначальном тексте было указано, что журнал будет выходить с 1 октября 1861 г. Впервые напечатано в «Современной летописи», приложении к «Русскому вестнику» (1861, № 31). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 370—372.
Спустя некоторое время выяснилось, что журнал запаздывает с выходом в свет, в связи с чем Л. Н. Толстой вносит исправление, что «Ясная Поляна» начнет выходить с 1 января 1862 г.
Яснополянская школа и ее журнал, по мнению Л. Н. Толстого, должны были выявить новые приемы преподавания. Он решительно выступает за новый подход к делу образования народа, ставит вопрос о необходимости изучения опыта для становления науки педагогики. Опыт самого Л. Н. Толстого в качестве преподавателя и учителя Яснополянской школы стал для него орудием теоретического познания.
Журнал «Ясная Поляна» просуществовал только один год. На титульном листе его стояло: «Ясная Поляна», Москва. В типографии Каткова и К°. Издатель-редактор граф Л. Н. Толстой». В качестве эпиграфа к журналу Л. Н. Толстой вынес слова: «Думаешь подвинуть, а тебя самого толкают вперед».
Журнал выходил ежемесячно и состоял из двух выпусков: первого — «Ясная Поляна», школа, журнал педагогический» (форматом в ]/я долю листа) и второго — «Ясная Поляна», книжки для детей» (форматом в V16 долю листа), в котором публиковались рассказы. преимущественно Л. Н. Толстого, для детского чтения.
Последний номер журнала (декабрь 1862 г.) был разрешен цензурой к печати 22 марта 1863 г., после чего журнал прекратил свое существование. О прекращении выпуска журнала Л. Н. Толстой уведомил публику объявлением, которое было опубликовано в «Московских ведомостях» 17 января 1863 г. * -
Приводим текст этого объявления: «Убеждения наши, высказанные в первом номере журнала «Ясная Поляна», не только не изменились, но подтвердились и постоянно подтверждаются нашими, хотя и ограниченными, опытами и наблюдениями.
Несмотря на лестные отзывы о «Ясной Поляне», напечатанные почти во всех журналах, мы прекращаем издание «Ясной Поляны», потому что за первый год ее существования мы имели не более 400 подписчиков.
Мы не перестаем и не перестанем делать те педагогические опыты, которые составляли все содержание журнала, и выводить из них наши посильные наблюдения, а потому с 1863 г. мы будем издавать не срочное издание, а, по мере накопления материала, сборники как книжек, так и школы «Ясной Поляны», о которых при выходе их будет объявляться отдельно.
Подписавшимся на 1862 г. недоданные номера будут доставлены в непродолжительном времени». Л. Н. Толстой не возобновил издания педагогических статей.
О народном образовании
Сзатья как программная была помещена Л. Н. Толстым в первом номере журнала «Ясная Поляна» (1862, № 1 (янв.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 4—25.
В данной статье, как и во всех педагогических сочинениях, Л. Н. Толстой предстает перед нами как гражданин и патриот, размышляющий о судьбах России, ее прогрессе, о народном образовании и верящий в большие интеллектуальные и нравственные возможности детей из народа, их высшие творческие способности.
Будучи трезвым реалистом и человеком, мыслящим самостоятельно, свободным от преклонения перед западноевропейскими философами и педагогами, Л. Н. Толстой показал, что традиционное образование и воспитание, исходящее из «ложных» философско-этических и психологических посылок, строится вопреки закономерностям психического развития детей, а его содержание и форма не способствуют их умственному и нравственному развитию.
1 кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма. В. И. Ленин указывал, что «...основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим.. .».
Комментарии
519
Гегель Георг Фридрих (1770—1831) — немецкий философ-идеалист. Л. Н. Толстой в своих педагогических статьях резко критически относился к философии Гегеля, считая, что она не может служить основой педагогики.
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, который, как указывал В. И. Ленин, был «классическим представителем субъективного идеализма».
2 Платон (около 428—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. В своих трудах уделял большое внимание вопросам воспитания.
3 Шлейермахер Фридрих (1768—1834) — немецкий протестантский философ-теолог, пытавшийся дать философское обоснование религии.
4 Фрёбелъ Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, взгляды которого на воспитание детей дошкольного возраста критиковал Л. Н. Толстой.
5 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, которого К. Маркс считал родоначальником «английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени». Бэкон резко критиковал схоластику средневековья и требовал изучения природы не по книгам, а на фактах самой природы.
6 schulfrei — свободен от школьного учения.
7 patois, Mundart — местном наречии.
8 Гебель Иоганн Петер (1760—1826) — немецкий писатель, в произведениях которого описывается преимущественно жизнь крестьян.
9 verdummen (нем.) — одурять.
10 mecaniser 1’instruction (фр.) — механизировать обучение.
11 pupilte acheis (фр.) — обучение младших учеников старшими.
12 disparate (англ.) — несоответственность.
13 Kleinkinderbewahranstalt, infantschools, salles d’asile (нем.) — Дома призрения для малых детей, детские школы, приюты.
14 tenue des livres (фр.) — ведение книг.
15 Buchhaltung (нем.) — бухгалтерия.
16 salles d’asile (фр.) — приюты.
17 cercle vicieux — заколдованного круга.
По поводу передовой статьи
«Ясной Поляны»
Впервые отрывок опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 418—419 (название дано составителями). Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые.
Написан сразу же после выхода в свет первой книжки журнала «Ясная Поляна» 5 февраля 1862 г.
Исходя из конкретно-исторических условий пореформенной России, Л. Н. Толстой делает вывод, что пока необходимо для всех сословий образование, состоящее из языков и математики, т. е. тех учебных предметов, которые формируют две главные способности ума — «логическую» и «художественную». Как и в предыдущих работах, в этом отрывке содержатся резкие отзывы о школах грамотности.
4
О значении описаний школ и народных книг
Впервые опубликовано в первом номере журнала «Ясная Поляна» (1862, № 1 (янв.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 26—28.
Главная мысль статьи заключается в том, что, по мнению Л. Н. Толстого, в основу системы народного образования должно быть положено изучение потребностей народа и опыта свободно возникших народных школ. Его интересовали организация, финансирование, содержание и методы обучения, литература, которая используется для обучения, отношение крестьян к школам.
Комментарии
520
О методах обучения грамоте
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 2 (февр.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 126—146. Обращаясь к вопросу о методах обучения грамоте, Л. Н. Толстой акцентирует внимание на целях и задачах народной школы России. При этом он замечает, что первоначальное образование может быть «гораздо глубже грамотности. Грамота в таком виде, как просто умение читать и писать, — только одно из бесконечного числа орудий образования, притом мало значащих, так как нет народной литературы». «Народная школа должна отвечать на потребности народа», а выявить эти потребности можно только при изучении народных школ. Именно организацией таких народных школ занимался Л. Н. Толстой в это время в Крапивенском уезде Тульской губернии.
Различные методы обучения Л. Н. Толстой рассматривает в соответствии с главными задачами педагогического процесса.
Метод обучения грамоте, предложенный Л. Н. Толстым и названный им слуховым, был аналитико-синтетическим буквенным методом с элементами звукосложения.
Обучение чтению начиналось с ознакомления детей со всеми буквами, причем каждая согласная называлась с прибавлением гласной е (бе, ее, ге и т. д.). Затем учитель предлагал учащимся складывать и раскладывать слоги и слова на слух и письменно с помощью букв. После этого ученики переходили к чтению по книге и, как утверждал Л. Н. Толстой, быстро выучивались читать.
«Выступление Толстого в печати, — как об этом писал русский методист С. П. Редозу бов, — по вопросу о методе обучения грамоте имело, несомненно, большое значение для русской школы: в ней окончательно утверждается метод работы, включающий в себя и анализ и синтез. Толстой возражал против уродливых форм звукового метода; тем не менее, пропагандируя слуховой метод обучения грамоте, он тем самым способствовал проникновению звукового метода в русскую школу; в слуховом способе Толстого имеются элементы аналитико-синтетического звукового метода; к этому методу не подходили, однако, рекомендуемые им названия букв. Толстой предлагал называть согласные буквы при помощи присоединения к ним гласной е: бе, ле, ме, се, фе и т. д., в то время как сторонники звукового метода... предлагали называть их кратко: б, е, к, т, с, ф и т. д.».
Советский методист И. Н. Шапошников писал, что современники не поняли Л. Н. Толстого, полагая, что он придерживался буквослагательного метода. На самом деле Л. Н. Толстой обучал детей грамоте слуховым способом по типу те+у—ту, т. е. отказывался от выделения «чистых» звуков, считая, что полной чистоты их вообще нельзя достичь.
1 Золотов Василий Андреевич (1804—1882) — педагог, автор учебных пособий. Им написаны «История России в картинках», «Русская азбука с наставлением, как должно учить» и др. Своими литературными произведениями и практической работой много содействовал распространению в России наглядного обучения.
«Золотовская метода» представляет собой видоизменение звукового метода. Особенность метода состоит в применении таблиц, составленных В. Золотовым. Для обучения технике чтения В. Золотов предложил ряд таблиц, представляющих собой подбор фраз для упражнений на определенные слова.
2 Ланкастерская метода — система обучения младших учеников старшими под руководством учителя. Старшие ученики (мониторы), получив указания и письменные материалы от учителя, занимались с небольшими группами младших школьников. Система разработана и обоснована англичанами Э. Белль (1753—1832) и Д. Ланкастером (1778— 1838), ввиду чего она часто называется белль-ланкастерской системой взаимного обучения.
3 Lesen und schreiben, lire et ecrire, reading and writing (нем.) — читать и писать.
4 Скифы — собирательное имя степных народов, кочевавших в отдаленные времена на юге нашей страны, между Днепром и Доном.
5 Смарагдов Сергей Николаевич (1805—1871) — преподаватель истории и географии, адъюнкт-профессор Александровского лицея. Им написаны «Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений», «Руководство к познанию средней истории», «Руководство к познанию новой истории» и др.
Комментарии
6 Лаупгер-метода (Lautier methode) — звуковой метод обучения грамоте.
7 Buchstabiermethode (нем,.) — буквослагательный метод.
8 Fisch — рыба, Buch — книга.
9 Anschauungsunterricht (нем.) — наглядное обучение.
10 Ruhe und gehorsam! (нем.) — Тихо, слушаться!
11 федер — перо, фауст — кулак, шюрце — фартук, шахтелъ — коробка.
12 Denzel’s Entwurtj (нем.) — очерк Денцеля.
13 Die Hande jein zusammen! Ruhe und gehorsam (нем.) — Руки хорошенько сложить! Тихо, слушаться! *
14 Lautier-methode in Verbindung mit Anschauungsunterricht (нем.) — звуковой метод в соединении с наглядным обучением.
15 Lautieranschauungsunterrichtmethode (нем.) — звуковой метод с методом наглядного обучения.
16 Lesebuch (нем.) — книга для чтения.
О свободном возникновении и развитии школ в народе
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1962, № 2 (фсвр.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 147—477.
Статья является своеобразным историческим документом, свидетельствующим об открытии народных школ на средства волостных сходов после отмены крепостного права. Л. Н. Толстой в качестве мирового посредника четвертого участка Крапивенского уезда (утвержден сенатом 23 июня 1861 г.) содействовал этому, рекомендовал квалифицированных учителей. Л. Н. Толстой приводит выписки из волостных книг, журналов волостного правления, донесений волостных писарей, и перед читателями открывается картина трудностей, нехватки квалифицированных учителей, помещений, отказа крестьян платить за обучение и т. д.
Л. Н. Толстой открывал школы на основании выработанного им устава. Первоначальный текст устава не сохранился, но он с небольшими изменениями воспроизводился в различных публикациях. Краткую характеристику уставу дал Л. Н. Толстой в письме Б. Н. Чичерину от 28 октября 1861 г.: «В участке, где я посредником, весьма быстро приняли устав для школ, предложенный мною. Устав основан на откупе, на который я беру школы, и на плате 50 к. в месяц с ученика без различия волости, сословия и уезда... — Положение учителей следующее: я отвечаю за минимум 150 рублей серебром жалованья; ежели же учитель хочет взять содержание школы на себя, тогда условия выгодные, это зависит от него. Тем более что успех зависит от него, и самый успех, популярность может дать порядочное вознаграждение, потому что в каждом округе, где бывает до 30 учеников, может быть 50 и более, что составит 25 рублей в месяц» (наст, изд., с. 478.).
В «Архивных материалах для биографии Л. Н. Толстого» (Русская мысль. 1903. IX. С. 99—102) Д. И. Успенский приводит текст школьного устава, посланный Л. Н. Толстым «по начальству» в следующем виде.
«Устав сельских школ.
1. Для первоначального устройства школы общество делает сбор от 10 до 25 коп. серебром с тягла.
2. За право учения каждого мальчика или девочки назначается плата 80 коп. серебром в месяц.
3. Плата за учение вносится в первую половину месяца.
4. Родители могут отдавать детей на месяц и более, но никак не менее одного месяца.
5. Родители, желающие отдать детей на год, платят в год 4V2 рубля серебром или полтора рубля в треть.
6. Дети учатся закону божию, правильнЬ писать и читать гражданскую и церковную печать, считать на цифрах и счетах, линейному рисованию и церковному пению — там, где учитель будет иметь необходимость для того познания или священнослужители пожелают принять на себя эту обязанность.
7. Преподавание закона божия поручается местному священнику бесплатно, по распоряжению епархиального начальства, или за вознаграждение, какое назначит само общество.
Комментарии
522
8. Ежели в обществе 10 человек взрослых изъявит желание учиться, то два раза в неделю по вечерам в школе будет преподаваться закон божий, объяснение вопросов, которые будут делать учащиеся, и вообще чтение.
9. Плата как общественного сбора, так и учеников вносится учителю.
10. Учитель все расходы по содержанию школы принимает на себя, исключая постройки и отопление».
1 Имеется в виду Ломинцевская школа.
2 МВД — Министерство внутренних дел.
3 Anschauungsunterricht — наглядное обучение.
Проект общего плана устройства народных училищ
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 3 (март). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 178—210.
Данный проект был составлен на основе переработанного предыдущего «Проекта устава низших учебных заведений». Вопрос о реформе низшей школы был выделен из общего плана.
Замечания на «Проект общего плана устройства народных училищ» свидетельствуют о глубокой заинтересованности автора в развитии народного образования. Ряд замечаний о содержании и организации сделан Л. Н. Толстым с позиций, противоположных требованиям официальной педагогики.
1 de jure, но и de facto — не только по закону, но и на деле.
2 Веселовский Константин Степанович (1819—1901) — экономист, академик, специалист по статистике и политической экономии.
Записки ИРГО — Записки Императорского Российского Географического общества. Л. Н. Толстой имеет в виду статью К. С. Веселовского «О распределении населения по возрастам».
3 Tacito consensu — по молчаливому соглашению.
4 Ободовский Александр Григорьевич (Y196—1852) — географ, статистик и педагог, последователь И. Г. Песталоцци. Написал ряд учебников и учебных пособий по географии.
Берте Н. — автор «Краткой всеобщей истории в простых рассказах».
Ответ критикам
Впервые набросок опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 326. Название дано составителями. В сборник педагогических сочинений включается впервые. Написан не позже середины мая 1862 г.
1 «Время» — журнал, издавался братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими в 1861— 1863 гг. в Петербурге (статья о педагогической деятельности Л. Н. Толстого и его журнале в № 3 за 1862 г., с. 65—78); «Воспитание» — журнал для родителей и воспитателей, издавался А. Чумиковым (статья Ив. Глебова «Новый взгляд на народное образование» — 1862, № 4, с. 141—159); «Библиотека для чтения» — журнал, основанный в 1834 г. А. Ф. Смирдиным и О. И. Сенковским; в 1860—1863 гг. издавался под редакцией А. Ф. Писемского (статья К. Охочекомонного (Д. Ф. Щеглова) «Ближайшие средства для распространения образования в народе» — 1862, № 2, с. 9—19).
О языке народных книжек
Впервые набросок опубликован: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 427—431. Название дано составителями. Печатается по данному изданию. Написан вслед за отрывком «Ответ критикам» (май 1862 г.).
Л. Н. Толстой придавал исключительно важное значение содержанию народных книжек для детей, видел прямую зависимость между качеством литературы и развитием детей.
Комментарии
523
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862. № 1, 3, 4 (янв., март, апр.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 29—125.
Работая в Яснополянской школе, Л. Н. Толстой пытался реализовать свои теоретические положения, главными из которых были "опыт ✓ и «свобода».
Преподаватель Тульской гимназии Е. Марков, хорошо знакомый с работой Яснополянской школы, в которой он часто бывал, характеризуя поведение учащихся во время уроков, писал: «Все мальчики сами думают, сами добиваются, сами хотят научиться. Про-бужденность их духа, самостоятельность внутренней работы в голове мальчика — вот чем радует Яснополянская школа».
Дневник Яснополянской школы дает возможность познакомиться с методикой преподавания, различными педагогическими приемами, применявшимися Л. Н. Толстым для создания познавательной мотивации у детей: «Возбудить интерес, знать про то, как живет, жилось, слагалось и развивалось человечество в различных государствах, интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество...' Лучшим средством создания у детей положительного отношения к школе Л. И. Толстой считал «художественное чувство и патриотизм». Трехлетняя работа Л. Н. Толстого в Яснополянской школе остро поставила перед ним ряд вопросов о роли истории в воспитании и образовании детей и методах ее преподавания, а также о необходимости изменить преподавание географии. Его аргументы против традиционного преподавания географии, против сухих и сцучных учебников, по которым дети механически заучивали наизусть названия рек, гор и городов, заслуживают внимания.
1 Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) —русский поэт, талантливо отразивший в своих лирических стихах и песнях русскую природу и крестьянский быт.
2 Пальмерстон Генри Джон (1784—1865) — английский государственный деятель. Будучи в Лондоне, Л. Н. Толстой слушал выступления Пальмерстона в парламенте.
3 Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — литературовед, этнограф и собиратель русских сказок, автор «Поэтических воззрений славян на природу» и сборника «Русские народные сказки».
Худяков Иван Александрович (1842—-1876) — собиратель русских народных сказок и песен. В своей работе «Русская сказка» (1863) И. А. Худяков собрал сказки, пословицы, загадки, песни и прибаутки, отражающие взгляды народа на различные жизненные вопросы.
4 Далее Л. Н. Толстой приводит несколько сочинений учащихся Яснополянской школы на темы Старого и Нового заветов Библии и высказывается за широкое использование этой книги в учебной работе с детьми.
5 Ишимова Александра Осиповка (1806—1881) — детская писательница, автор книг «История Россшгв рассказах для детей», «Бабушкины уроки, или Русская история для маленьких детей».
Водовозов Василий Иванович (1825—1886) — видный русский педагог-общественник, автор «Книги для первоначального чтения», а также ряда работ по истории литературы и русской истории.
6 Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк и публицист.
7 Парлей — псевдоним американского педагога Гудрича (1793—1860). Упоминая Парлея, Л. Н. Толстой имеет в виду книгу «Рассказы американца Парлея о Европе, Азии, Африке и Америке» (пер. с англ. СПб., 1837).
8 Гракхи Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) — политические деятели Древнего Рима.
9 Гуттенберг Иоганн (1394—1468) — изобретатель книгопечатания.
10 Маколей Томас (1800—1859) — английский историк, автор труда «История Англии».
Тьерри Огюстен (1795—1856) — французский буржуазный историк.
11 Грубе Август Вильгельм (1816—1884) — немецкий педагог. Автор «Арифметики'», которую критиковал Л. Н. Толстой.
12 beaux аг.1» (нем.) — изящные искусства.
Комментарии
524
13 Repousse a I’unanimite (фр.) — отвергнуто единодушно.
14 a livre ouvert (фр.) — с листа, без подготовки.
15 Dictionnaire de musique (фр.) — музыкальный словарь.
Дневник Яснополянской школы за 1862 г.
Впервые опубликовано: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 455—486. Печатается в сокращении по данному изданию (приводятся записи в дневнике школы лишь за 26, 27 и 28 февраля 1862 г.). Возможно, идея «Дневника» (фиксирование отдельных педагогических наблюдений) возникла у Л. Н. Толстого в момент совместных обсуждений материалов с учителями на следующую неделю, о чем он упоминал в письме А. А. Толстой в середине августа 1861 г. В дневник вносили замечания все преподаватели. В данном отрывке приводятся записи Л. Н. Толстого, Г. Ф. Келлера, П. В. Морозова.
Л. Н. Толстой занимался математикой со старшим классом, иногда с младшим отделением, предлагал писать сочинения по собственному выбору и желанию учеников, знакомил детей с русской историей, участвовал в проведении химических опытов, беседовал с младшими детьми. Алгебру, геометрию, рисование и черчение преподавал Густав Федорович Келлер, которого Л. Н. Толстой пригласил на работу, находясь в Германии, и привез с собой в Россию. Петр Васильевич Морозов преподавал арифметику, русскую и священную историю, вел общие беседы с детьми. В Яснополянской школе в 1861—1862 гг. работал также Константин Иванович Пашковский, окончивший Тульскую духовную семинарию. В Яснополянской школе он преподавал закон божий. О составе старшего класса Яснополянской школы см.: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 523.
1 Es wurde die Seitenansicht des Shultishes gezeichnet (нем.) — Рисовали внешний вид школьного стола.
2 Ein Kaufman hat 600 A (rschin) Tuch (нем:) — У купца 600 аршин сукна..
3 Leichnung eines Quandrates in verschiedenen Laden mit Hinweisung auf die Perspective (нем.) — Рисование квадрата в различных положениях с указанием на перспективу.
Воспитание и образование
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 7 (июль). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 211—246.
Статья отражает дискуссию, развернувшуюся вокруг педагогической деятельности Л. Н. Толстого и его журнала. Теоретические взгляды писателя не согласовались с официальной постановкой обучения и воспитания в учебных заведениях России.
Л. Н. Толстой рассматривал образование «в обширном смысле», как «совокупность всех тех влияний, которые развивают человека», как форму, в которой осуществляется развитие человека. По его мнению, эта закономерность, объективно существующая, как и все процессы природы, адекватна понятию «присвоение». Такое образование, или «свободное образование», законно. Воспитание как насильственное воздействие на личность Л. Н. Толстой определял как незаконное явление, так как содержание и форма, которые соответствуют ему, приводят к формированию нежелательных привычек и черт характера.
В данной статье Л. Н. Толстой обосновал тезис о свободе в образовании и воспитании как необходимом условии осуществления сознательной целенаправленной деятельности человека. Большое внимание он уделил критическому анализу содержания образования в России: оторванности университетского образования от жизни, ограниченности используемых методов обучения, несовершенности системы оценки знаний. Решение таких вопросов, как соотношение науки и учебного предмета, зависимость уровня познавательной деятельности от характера усваиваемых знаний, актуально и для нашего времени.
Однако, критикуя многие недостатки университетов, Л. Н. Толстой в целом явно недооценивал их роль в культурном развитии России. В. И. Ленин в своей статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» указывал, что Л. Н. Толстой ошибался, утверждая, что «университеты
Комментарии •
готовят только «раздраженных, больных либералов», которые «совсем не нужны народу», «бесцельно оторваны от прежней среды», «не находят себе места в жизни» и т. п.».
В резкой критике Л. Н. Толстым различных учебных заведений (гимназий, институтов, университетов и др.) Московский цензурный комитет усмотрел попытку ниспровержения системы образования. Не осмеливаясь взять на себя ответственность за появление статьи Л. Н. Толстого в печати, 5 сентября 1862 г. цензурный комитет отправил ее на рассмотрение министра народного просвещения со следующим сопроводительным письмом: «В Московский цензурный комитет поступила на рассмотрение статья графа Толстого под заглавием «Образование и воспитание», предназначаемая к помещению в «Ясной Поляне». В статье своей автор противополагает образование воспитанию. Образование, по его мнению, есть совокупность всех тех явлений, которые развивают человека, дают ему новые сведения и более обширное миросозерцание, а воспитание состоит в принудительном, насильственном воздействии одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим. Предметом педагогики должно быть не воспитание, опирающееся на насилие и произвол, а одно образование, основанное на полной свободе. Автор ни за кем не признает права воспитания в принципе и только в виде уступки, утвердившейся веками и обычаем (предрассудком?), оставляет его за семьею, церковью и государством и, безусловно, отнимает его у общества. На этом основании, не касаясь прямо специальных заведений — семинарий, кадетских корпусов, училищ правоведения, автор, безусловно, отвергает все общественные воспитательно-образовательные заведения и женские институты, приходские и уездные училища, гимназии и университеты, так как заведения эти не только воспитывают в понятиях, противных массе народа, но и даже окончательно искажают молодых людей нравственно и вместо ожидаемой от них пользы служат школами разврата. Принимая во внимание, что автор статьи силится ниспровергнуть всю систему общественного образования, принятую не только в России, но и в целом мире, и что он не ограничивается одними теоретическими рассуждениями, но делает при них практические выводы в применении ко всем существующим учебным заведениям в России, — цензурный комитет имеет честь статью графа Толстого представить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства и просить в разрешении предписания.
Председатель комитета сенатор тайный советник М. Щербинин».
Министр народного просвещения Головин на отношении Московского цензурного комитета написал следующую резолюцию: «Отвечать, что из этой статьи следует исключить все, что порицает учебные заведения других ведомств, и оставить критику учреждений министерства народного просвещения, так как в университетах и гимназиях многие лица будут отвечать автору и объяснят, в чем он ошибается».
Из писем и дневников Л. Н. Толстого видно, что печатание этой статьи и переговоры с цензорами причинили ему много трудностей.
Об общественной деятельности на поприще народного образования
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 8 (авг.). Печатается в сокращении по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 247—300.
В статье Л. Н. Толстой критикует книги для учителей и учеников, рекомендованных Комитетом грамотности в 1861 г. Он обвинил членов комитета в незнании народа и его интересов. В ответ на эту статью председатель Петербургского комитета грамотности С. С. Лошкарев 25 января 1863 г. писал Л. Н. Толстому, что «...много немцев, которые едва ли и способны понимать русского мужика и его натуру и особенно детей его; но если бы и были способны понять, то не поймут, потому что не хотят ближе посмотреть. Они так убеждены в верности своих педагогических знаний, что даже и читать не хотят, что говорят им люди из опыта, изнутри России, занимающиеся обучением крестьянских детей. Я чувствую (хотя и не специалист) ежедневно наши ошибки».
В статье Л. Н. Толстой обращает также внимание на принцип наглядности в обучении, который, по его мнению, получил в зарубежной педагогике крайне уродливое применение на практике. Наглядное обучение проводилось в форме предметных уроков, на ко
Комментарии
526
торых детям показывались нередко уже давно известные им вещи и предметы, по поводу которых учитель предлагал ученикам множество скучных, а иногда и бессмысленных вопросов. Дети обязаны были выслушивать вопросы преподавателя и отвечать только так, как это предусматривалось конспектом урока учителя. Никакие отклонения от принятого методического шаблона не разрешались, активность и самодеятельность детей на таких уроках не поощрялись.
Русские методисты, сильно задетые критикой Л. Н. Толстого, в начале споров резко возражали ему, но впоследствии признали, что он был во многом прав. Его критика, писал Н. Ф. Бунаков, подействовала «...отрезвляющим образом на педагогов, увлекшихся немецкой методикой, забывших в своем крайнем увлечении требования народной жизни и невольно впадавших в крайность и преувеличения... Своим протестом во имя прав народной жизни граф Толстой принес немало пользы русской начальной школе, а своими книжками для чтения, полными правды и жизни, написанными самым простым, чисто народным поэтическим языком, он противодействовал вторжению в школу сухого и узкого утилитаризма...».
Отрицательно оценивая значение школы в формировании новых понятий, Л. Н. Толстой имел в виду современную ему догматическую практику обучения. В Яснополянской же школе Л. Н. Толстой серьезно работал именно над формированием первоначальных научных понятий, этим объяснялось его внимание к живому, образному изложению материала на уроках, в книжках для чтения (в приложениях к журналу «Ясная Поляна»), а позднее в «Азбуке» и «Новой азбуке».
1 object lessons (англ.) — предметные уроки.
2 Мы для краткости не обозначаем ответа полным предложением; для ученика это было обязательно.
Прогресс и определение образования
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 9 (сент.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 325—355.
Статья являлась ответом на выступление Е. Маркова в «Русском вестнике» (1862, № 5). Прогресс человечества Л. Н. Толстой связывал с совершенствованием человека, с новым подходом к пониманию целей и задач образования. В этой статье Л. Н. Толстой вводит определение так называемого «общего умственного закона, которым руководилась деятельность человека в образовании», «критериум правильности человеческой деятельности в образовании», который он называет «законом движения вперед образования». В свете современных достижений материалистической диалектики, как логики, так и теории познания и психологической науки, становится понятным, что Л. Н. Толстой использует этот «закон» для выражения понимания «деятельности образования», такого же объективного процесса, как и все другие процессы природы. Деятельность образования он определял как совокупность двух деятельностей: образовывающего и образовывающегося по достижению одной цели — стремления к равенству знаний.
Л. Н. Толстой убедительно показал, что достижение таких целей обучения и воспитания, как «усвоение и воспроизведение исторически значимых способностей», возможно и только возможно в обстановке взаимного доверия, творческой обстановки, деятельности на основе потребности к познанию и совершенствованию. К такому выводу побуждал его опыт работы с крестьянскими детьми в Яснополянской школе, глубокая вера в неисчерпаемые возможности человека, развитие его творческих способностей, которые находятся в прямой зависимости от содержания и характера обучения и воспитания.
Он выступал за тот прогресс, который приведет к «совершенствованию всех сторон человеческой жизни, или что взятые вместе последствия его влияния преобладают добрыми и полезными над дурными и вредными» во имя блага народа 9/10 всех живущих на Земле. Нельзя переоценить значение данной статьи Л. Н. Толстого для современного и будущего этапов развития человечества. С одной стороны, это глубокая.вера в силы и творческие потенции всех народов мира, с другой — глубокая озабоченность односторонним подходом к анализу таких сложных явлений, как прогресс и образование, который может оказаться тормозом на пути человечества к прогрессу и взаимопониманию.
Комментарии
Тезис Л. Н. Толстого, «что общего закона движения вперед человечества нет», «как то нам доказывают неподвижные восточные народы», использовался В. И. Лениным в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 102) для того, чтобы показать противоречивость мировоззрения писателя, явления «толстовщины» как идеологии «условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» (там же, с. 103). С современных позиций развития научного знания можно утверждать, что Л. Н. Толстой отрицал прямолинейную логику «от худшего к лучшему», понимая в то же время неизбежность поступательного общественного развития. В связи с этим интересно привести высказывание Л. Н. Толстого, записанное с его слов А. Б. Гольденвейзером в Ю10 г.: «Это грубое представление, будто что древнее, то лучше. Совершенно наоборот. Человечество идет вперед» (цит. по кн.: Лому-нов К. Лев Толстой в современном мире. М., 1975. С. 156). «Прогресс и определение образования» была одной из наиболее важных, по оценке самого Л. Н. Толстого, теоретических педагогических работ, в которой он сделал попытку применить диалектический метод анализа к таким сложным понятиям, как «прогресс» и «образование».
1 Марков Евгений Львович (1835—1903) — писатель и педагог, близкий знакомый Л. Н. Толстого.
2 Маколей Томас (1800—1859) — английский историк, автор труда «История Англии».
3 Боклъ Генри Томас (1821—1862) — английский историк. Отвергая идею божественного предопределения в истории, Г. Бокль объяснял историческое развитие влиянием естественных условий и человеческого разума.
4 Пальмерстон Генри Джон (1784—1865) — английский государственный деятель. Будучи в Лондоне. Л. Н. Толстой слушал выступления Пальмерстона в парламенте.
5 Л. Н. Толстой имеет в виду журналы, издававшиеся в 50—60-х гг.
Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?
Впервые опубликовано в журнале «Ясная Поляна» (1862, № 9 (сент.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 8. С. 301—324.
В данной статье Л. Н. Толстой стремился сформулировать важные положения о сущности процесса психического развития ребенка в ходе обучения и воспитания. По его мнению, задача педагога состоит в том, чтобы «давать материал» для организации собственной деятельности детей. При этом педагогические воздействия должны способствовать «гармонии развития», а не разрушать ее.
Работая в Яснополянской школе, Л. Н. Толстой уделял исключительно большое внимание детским сочинениям. Он считал, что развитие творческих способностей лучше всего достигается вовлечением детей в совместнее написание маленьких рассказов. Он по-разному подходил к решению этого вопроса. Оказалось, что сочинения на заданные темы, взятые из окружающей детей обстановки, в особенности описания простых предметов: хлева, избы, лавки, дерева и т. п., не удавались учащимся, зато они с большим интересом описывали события из жизни. Л. Н. Толстой показал своеобразные черты психологии детей, конкретность, образность их мышления, непосредственность и искренность в выражении своих мыслей и чувств.
Выделив так называемый «механизм дела», он в совместной с крестьянскими детьми деятельности постепенно передавал эти «стороны труда» детям до тех пор, пока и «самый процесс писания» они «взяли на себя».
Комментарии 528
Общие замечания для учителя
Впервые опубликовано в «Азбуке» Л. Н. Толстого (1872). Печатается по изданию: Поли, собр. соч. Т. 22. М., 1957. С. 190—195.
Рекомендации Л. Н. Толстого отражали реальный практический педагогический опыт писателя и коллектива учителей Яснополянской школы. Современному читателю следует учитывать, что кажущиеся сейчас аксиоматическими высказывания писателя были сделаны в период господства эмпирических теорий познания при объяснении сущности познавательных процессов и носили новаторский характер. Приводим три маленьких рассказа из «Азбуки» Л. Н. Толстого.
Ученый сын
Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал: «Нынче покос, возьми грабли и пойдем, пособи мне». А сыну не хотелось работать, он и говорит: «Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл; что такое грабли?» Только он пошел по двору, наступил на грабли, они его ударили в лоб, и говорит: «И что за дурак тут грабли бросил!»
Мужик и лошадь
Поехал мужик в город за овсом для лошади. Только что выехал из деревни, лошадь стала заворачивать назад к дому. Мужик ударил лошадь кнутом. Она пошла и думает про мужика: «Куда он, дурак, меня гонит; лучше бы домой». Не доезжая до города, мужик видит, что лошади тяжело по грязи, своротил на мостовую; а лошадь воротит прочь от мостовой. Мужик ударил кнутом и дернул лошадь; она пошла на мостовую и думает: «Зачем он меня повернул на мостовую, только копыта обломаешь. Тут под ногами жестко».
Мужик подъехал к лавке, купил овса и поехал домой. Когда приехал домой, дал лошади овса. Лошадь стала есть и думает: «Какие люди глупые! Только любят над нами умничать, а ума у них меньше нашего. О чем он хлопотал? Куда-то ездил и гонял меня. Сколько мы ни ездили, а вернулись же домой. Лучше бы с самого начала оставаться нам с ним дома; он бы сидел на печи, а я бы ела овес».
Как я перестал бояться слепых нищих
Когда я был маленький, меня пугали слепыми нищими, и я боялся их. Один раз я пришел домой, а на крыльце сидели двое слепых нищих. Я не знал, что мне делать; я боялся бежать назад и боялся пройти мимо них: я думал, что они схватят меня. Вдруг один из них (у него были белые, как молоко, глаза) поднялся, взял меня за руку и сказал: «Паренек! что же милостыньку?» Я вырвался от него и прибежал к матери. Она выслала со мною денег и хлеба. Нищие обрадовались хлебу, стали креститься и есть. Потом нищий с белыми глазами сказал: «Хлеб твой хороший — спаси бог». И он опять взял меня за руку и ощупал ее. Мне его стало жалко, и с тех пор я перестал бояться слепых нищих.
О народном образовании
Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1874, сент.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 17. М., 1936. С. 71—132.
Статья Л. Н. Толстого «О народном образовании» вызвала многочисленные отклики в педагогическом мире. В ней говорилось о важности специальной подготовки и широкого общего образования для народного учителя, о стремлении придавать обучению развивающий характер. Статья «побуждала всматриваться в народную жизнь, напоминая о том, что не народ существует для школы, а школа для народа».
Эту работу Л. Н. Толстой называл педагогической исповедью. Перед нами мыслитель, гражданин, патриот, глубоко верящий в то, что русский народ «в великом деле своего ум
Комментарии
529
ственного развития не сделает ложного шага и не примет того, что дурно». Статья важна в понимании системы дидактических взглядов Л. Н. Толстого, особый интерес представляют его высказывания о соотношении науки и учебного предмета, роли обобщения в формировании научных понятий.
1 Шатилов Иосиф Николаевич — председатель Московского комитета грамотности.
2 Протопопов М. А. — критик, обучал учащихся чтению по звуковому методу, вому методу.
3 Бунаков Николай Федорович (1837—1904) — русский педагог, автор ряда методических работ и учебников («Азбука и уроки чтения и письма», «В школе и дома», «Книжка-первинка», «Родной язык» и др.).
4 Евтушевский Василий Адрианович (1836—1888) — педагог-математик. Автор книги «Методика арифметики».
5 ein Narr kann mehr fragen, als Lehn Weise anfworten (нем.) — один дурак может задать столько вопросов, что и десять мудрецов не смогут ответить.
6 Перевлесский Петр Миронович — педагог, профессор русской словесности в Александровском лицее. Им составлен ряд методических пособий и учебников по русскому языку: «Предмётные уроки по Песталоцци», «Практическая русская грамматика» и др.
* 7 Королев Ф. Н. — московский педагог.
8 Дараган Анна Михайловна (1806—1855) — автор «Азбуки», изданной в 1845 г.
9 Корф Николай Александрович (1834—1883) — известный общественный деятель, педагог, много работавший в области народного образования. Им написан ряд учебников и руководств для народной школы: «Руководство к обучению грамоте по звуковому методу», «Наш друг» — книга для классного чтения в сельской школе и др.
Правила для педагогических курсов
Впервые опубликовано: Поли. собр. соч. Т. 17. С. 331—335. Печатается по данному изданию. В сборник педагогических сочинений включается впервые.
Осенью 1874 г. Л. Н. Толстой был избран членом училищного совета Крапивенской земской управы, он с большим энтузиазмом взялся за организацию и улучшение школьного дела в родных местах. По его предложению Крапивенский училищный совет в ноябре 1874 г. разослал духовенству во все волости Крапивенского уезда предложение о том, чтобы крестьяне открывали школы, и о замещении должности учителей молодыми грамотными крестьянами. О результатах этого начинания Л. Н. Толстой писал следующее:-«Школ с такими учителями около 20, и результаты их — некоторые существуют два с половиной месяца — необычайны. Приписать ли это близости учителя к ученику, добросовестности и серьезности отношения к делу учителей, но результаты учения в этих школах не хуже, а иногда лучше, чем в школах с учителями в 300 рублей жалованья, учащих по усовершенствованным способам. В четырех таких школах, открытых два с половиной месяца, все ученики (до 30) пишут, читают и знают сложение и вычитание» (Подлинник хранится в АТБ. Цит.: Поли. собр. соч. Т. 17. С. 711).
Правила для педагогических курсов,(1875 г.) были написаны Л. Н. Толстым для предполагавшейся учительской семинарии, своеобразного «университета в лаптях». Как считает Н. Н. Гусев, педагогические курсы не были организованы, несмотря на разрешение министерства просвещения из-за крайне равнодушного и формального отношения училищных советов и земских управ (только 5 уездных управ согласились послать на курсы 12 человек). Начинание Л. Н. Толстого по подготовке народных учителей из крестьянской среды так и не было осуществлено по вине дворян, игравших в земских учреждениях руководящую роль и не заинтересованных в создании деревенской интеллигенции.
О жизни
Философский и психологический трактат «О жизни» впервые был напечатан в московской типографии А. И. Мамонтова в 1888 г., издание было запрещено цензурой и уничтожено, уцелело три экземпляра.
В настоящем сборнике печатается с сокращениями по изданию: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 17. М., 1984. С. 7—135.
Комментарии
530
В сборник педагогических сочинений включается впервые.
В процессе своей педагогической деятельности Л. Н. Толстой пришел к выводу, что существует органическая взаимосвязь методологии наук о человеке и практики организации народного образования, т. е. характера решения вопроса о целях и задачах обучения и воспитания. По его мнению, отсутствие действительно научной теории личности отрицательно сказалось на развитии педагогической науки второй половины XIX в.
Утверждению концепции духовного нравственного человека, по мнению Л. Н. Толстого, мешали стереотипы мышления, к которым он относил различные варианты биосоциального детерминизма происхождения и фукционирования сознания, которые и поныне остаются наиболее актуальными в психологии.
Известно, что Л. Н. Толстой резко отрицательно относился к современной ему психологии и удивлялся, как можно понятие личности сводить к физиологии мозга и нервной системы, человеческой индивидуальности — к морфологии мозга и его функций, психики — к познавательным процессам.
В трактате Л. Н. Толстой стремился показать, что смысл и содержание жизни человека заключаются в формировании нравственного самосознания, в постоянном утверждении себя как нравственной личности.
Что такое искусство?
Впервые трактат опубликован в журнале «Вопросы философии и психологии» (гл. I— -V — в ноябре—декабре 1897 г., гл. VI—XX — за янв. — февр. 1898 г.) с большими цензурными изъятиями. Первое бесцензурное издание трактата вышло в 1898 г. в Лондоне на английском языке с предисловием Л. Н. Толстого. В настоящем издании печатается с сокращениями по изданию: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 30. М., 195Г С. 27—195.
В сборник педагогических сочинений включается впервые. Эстетические взгляды Л. Н. Толстого органически взаимосвязаны с пониманием им сущности человека, с разработкой концепции духовного нравственного человека.
Эстетические взгляды Л. Н. Толстого нашли отражение в педагогических статьях 60—70-х гг., в которых писатель поставил вопрос о необходимости создания высокохудожественной и доступной для народа литературы. Отрицая «ложное искусство господствующих классов», Л. Н. Толстой утверждает принципиально новую для своего времени эстетическую теорию. Цель истинного искусства, по мысли писателя, заключается в овладении людьми нравственным опытом человечества, в формировании нравственных чувств и отношений, что является и целью и условием полноценного психологического развития человека. Искусство как духовная культура человечества — это своеобразная деятельностная память человечества, на основе которой происходит его поступательное развитие. (Подробнее см. комментарий К. Н. Ломунова к статьям об искусстве и литературе: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 15. М., 1983. С. 374—417).
1 Воспроизведением некоторых предметов или преходящих действий, которое предназначено для того, чтобы вызвать не только наслаждение у художника, но и приятное впечатление у определенного числа зрителей или слушателей помимо личной выгоды, из этого извлекаемой.
Из письма П. И. Бирюкову, май 1901 г.
Впервые опубликовано: Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 4 т./ Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. Т. IV. М., 1912. С. 341—345. Печатается в сокращении по изданию: Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М., 1953 (заголовок «О свободной школе» был дан составителем упомянутого издания).
В письме Л.Н. Толстой указывает на необходимость устройства свободных школ, которые могли бы давать «образцы, попытки образцов» педагогической работы. Давая краткий набросок содержания работы таких школ, он просил П. И. Бирюкова сообщить свое мнение по этому вопросу. После получения его согласия служить делу устройства свободной школы Л. Н. Толстой написал это письмо, где весьма подробно развил свои мысли о характере и содержании работы свободных школ.
Отрывдк свидетельствует о неослабевающем внимании Л. Н. Толстого к вопросам наследования подрастающим поколением материальной и духовной культуры общества.
Комментарии
531
Наука, понимаемая Л. Н. Толстым как совокупная деятельностная память общества («о чем думали самые умные люди»), по его мнению, дает основание для выделения наиболее важных учебных предметов, связанных с тремя «приемами мысли», — философским и религиозным (о смысле жизни), опытным и математическим.
1 Fais се que je dis, mais ne fais pas ce que je fais (фр.). — Делай то, что я говорю, но не делай того, что я делаю (выражение католического духовенства).
2 rentier (фр.) — живущий на проценты с ценных бумаг.
3 au courant de la plume (фр.) — бегло.
4 conditio sine qua non (фр.) — непременное условие.
Мысли о воспитании
Печатается в сокращении по изданию: Л. Н. Толстой. Мысли о воспитании и обучении, собранные Владимиром Чертковым // Свободное слово. (Лондон). 1902. № 77.
О воспитании
Впервые опубликовано в журнале «Свободное воспитание» (1909, № 2 (нояб.). Печатается по изданию: Поли. собр. соч. Т. 38. М., 1936.
Содержание письма подтверждает наличие глубокой взаимосвязи между нравственно-эстетическим учением писателя и его педагогическими взглядами, исходящими из целостного мировоззрения.
При чтении письма следует учесть, что в это время уже произошел разрыв Л. Н. Толстого с официальной церковью: в ряде публицистических произведений он с позиций трудового народа подверг критике христианское учение, показал его классовую сущность.
Вспоминая о преподавании закона божьего в своей школе, Л. Н. Толстой в 1902 г. писал: «Когда я учил в школе, я еще не уяснил себе своего отношения к церковному учению, но, не приписывая ему важности, избегал говорить о нем с учениками, а читал с ними библейские истории и Евангелие, обращая преимущественно внимание на нравственное учение и отвечая всегда искренно на все вопросы, которые они задавали мне.
Если спрашивали о чудесах, я говорил, что не верю в них. Теперь же, много перемучившись в искании правды и руководства в жизни, я пришел к тому убеждению, что наше церковное учение есть бессовестная и вредная ложь и преподавание его детям есть величайшее преступление» (Л. Н. Толстой. Мысли о воспитании и обучении, собранные Владимиром Чертковым//Свободное слово. 1902. № 77. С. 36).
Стремясь ответить на вопрос, «какие знания справедливо и полезно передавать обучаемым», Л. Н. Толстой сделал попытку дать своеобразную классификацию наук и предметов школьного обучения. В черновом наброске, не вошедшем в печатный текст статьи «О воспитании», эта мысль была выражена следующим образом: «Все сводится к одному вопросу: какие знания справедливо и полезно передавать обучаемым?
В грубой форме, нисколько не настаивая на справедливости построения, допуская, что могут быть совсем другие, я по крайней мере представляю себе распределение знаний так: важно для меня не самое это распределение, а то, что для возможно правильного воспитания нужно, чтобы было это распределение, обнимающее все области знания в их взаимной зависимости.
Я представляю себе это так.
Один диаметр, первый, состоящий из двух радиусов, одного — религиозное воспитание смысла жизни, и другого, на противоположной стороне, — деятельность жизни, главное руководство ее. Перпендикуляр к этому диаметру: с одной стороны — естественные знания, с другой — философия, третий пересекающий диаметр: общественная жизнь и на другом конце — история, география, этнография, жизнь народов. Четвертый диаметр: на одном конце — словесность, искусство, на другом— математика» (Поли. собр. соч. Т. 38. М., 1936. С. 283—284).
В публикуемом тексте Л. Н. Толстой связывает проблемы содержания образования с уровнем и целями развития всех наук и выдвигает общеметодологический принцип наличия нравственных принципов развития всего совокупного научного знания.
Комментарии
532
О науке
Статья впервые опубликована с сокращениями в «Русских ведомостях» (1909, № 258) и в «Киевских вестях» (1909, № 300, 301, 302).
Полностью впервые опубликована в сб.: Л. Н. Толстой «О науке». М.: изд-во «Единение», 1917. С. 3—28.
В настоящем издании печатается по: Поли. собр. соч. Т. 38. М., 1936. С. 132—149, впервые включается в сборник педагогических сочинений.
Статья написана Л. Н. Толстым в первой половине июля 1909 г. как ответ на письмо симбирского крестьянина Ф. А. Абрамова, которое писатель получил в конце июня 1909 г.
Ф. А. Абрамов, организатор «Общины свободных христиан», обратился к Л. Н. Толстому с просьбой дать разъяснения по следующим вопросам: «1) Как вы смотрите на науку? 2) Что есть наука? 3) Видимые недостатки нашей науки. 4) Что дала нам наука? 5) Чего должно требовать от науки? 6) Какое нужно преобразование науки? 7) Как ученые должны относиться к темной массе и физическому труду? 8) Как нужно учить детей младшего возраста? 9) Что нужно для юношества?» (Цит по: Поли. собр. соч. Т. 38. С. 53G).
Л. Н. Толстой серьезно отнесся к ответу на письмо, работал над ним в период с 1 по 19 июля 1909 г., читал близким, обсуждал. Просьба крестьянина Ф. А. Абрамова соответствовала содержанию многолетних размышлений Л. Н. Толстого о нравственных принципах научного знания, о том, что наука есть сознание общества. От того, в каком состоянии наука, во многом зависит и содержание образования подрастающего поколения.
По мысли писателя, основой всякого образования должна стать наука жизни — «знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире... т. е. знать, что должно и чего не должно делать» (наст, изд., с. 460).
Л. Н. Толстой высказывает актуальные для педагогов мысли о том, что эти знания не могут сами открыться человеку, им «надо учиться» так же, как «учился весь род человеческий».
Л. Н. Толстой высказывает мысли о том, что путь приобщения каждого человека к нравственному опыту человечества должен быть адекватен тому пути, каким человечество создавало этот опыт, как отдельные выдающиеся люди прошлого, философы, мыслители, религиозные деятели решали задачи нравственных отношений к окружающей их действительности, труду, жизни, воспитанию й т. д. Эта наука, по мнению Л. Н. Толстого, должна быть понятна и доступна ученому и человеку из народа.
Беседы с детьми по нравственным вопросам
Впервые опубликовано в журнале «Свободное воспитание» в 1907 г. (ноябрь). Печатается по изданию: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 37. М., 1956. С. 31—38. Статья отражает опыт занятий писателя с мальчиками Ясной Поляны по вопросам смысла жизни (религии) и нравственности в 1907 г.
О наказаниях и насилии в воспитании
(отрывок из книги «Путь жизни»)
Философско-этическое произведение Л. Н. Толстого «Путь жизни» впервые опубликовано в 1911 г. издательством «Посредник» (30 отдельных книжек) с цензурными изъятиями. Впервые полностью опубликовано на русском языке в издании: Толстой Л. Н. Поли, собр. соч.: В 90 т. Т. 45. М., 1956. С. 13—496, по которому печатается данный отрывок.
Л. Н. Толстой написал «Путь жизни» в последний год жизни, мечтая, чтобы его труд стал настольной книгой миллионов читателей, повлиял на общее развитие истории. Книга «Путь жизни» возникла как продолжение созданных ранее сборников «На каждый день», «Круг чтения». Содержание книги должно было ответить на вопрос — как жить?
Работа над содержанием продолжалась до ухода писателя из Ясной Поляны. Все 30 книжек были прочитаны писателем в гранках и в свёрстанном виде. Такие книжки, как «О вере», «Душа», «Одна душа на всех», «Бог». «Любовь», были прочитаны трижды. Книга отражала опыт писателя использовать простые литературные формы. В замысел
Комментарии
533
Л. Н. Толстого входило еще более упростить содержание, «пропустить через пересказ крестьян и детей и взрослых», но смерть помешала выполнить это.
Письма
Эпистолярное наследие Л. Н. Толстого чрезвычайно велико. В Полном собрании сочинений было опубликовано свыше 10 000 писем.
Первое письмо было написано Л. Н. Толстым в 1840 г., когда ему было 12 лет, а последнее продиктовано 3 ноября 1910 г., незадолго до смерти. Эпистолярное наследие писателя уникально по своему духовному потенциалу и художественному уровню. Л. Н. Толстой обращался к форме письма, чтобы изложить свои впечатления о постановке народного образования в Западной Европе (письмо неизвестному), привлечь внимание общественности к проблемам содержания и методов обучения в народной школе (письмо Н. И. Шатилову — статья «О народном образовании»), подытожить свои педагогические искания в письме В. Ф. Булгакову «О воспитании». Эти письма-статьи включены в раздел «Педагогические сочинения». Впервые в сборник педагогических сочинений включаются письма Л. Н. Толстого, адресованные друзьям, в которых затрагиваются педагогические проблемы.
А. А. Толстой. 1861 г. Август (начало)
Графиня Толстая Александра Андреевна (1817—1903) была двоюродной теткой Л. Н. Толстого. Сохранилось 119 писем Л. Н. Толстого к ней и 66 писем ее к Л. Н. Толстому.
Б. Н. Чичерину. 1861 г. Октября 28
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк, философ-идеалист, в 1861— 1868 гг. профессор Московского университета.
1 Текст устава см.: наст, изд., с.
2 К тому времени были открыты Головеньковская, Житовская и Ломинцевская школы.
3 Учителя, работавшие в открытых Л. Н. Толстым школах, в большинстве своем являлись активными сотрудниками журнала «Ясная Поляна».
4 Л. Н. Толстой называет эти имена, потому что С. А. Рачинский был в то время адъюнктом Московского университета по кафедре физики и физической географии, а Ф. Д. Дмитриев — профессором истории того же университета.
5 Чичерин выполнил просьбу Л. Н. Толстого.
В. П. Боткину. 1862 г. Января 26.
Боткин Василий Петрович (1811/1812—1869) — писатель-публицист, литературный критик.
1 Журнал «Ясная Поляна». Цензурное разрешение было получено 18 января.
2 Речь идет о выборах дворянских уездных губернских предводителей.
3 Деятельность Л. Н. Толстого в качестве мирового посредника вызвала озлобление помещиков, так как во всех спорных случаях он защищал интересы крестьян.
4 12 февраля 1862 г. Л. Н. Толстой подал рапорт об отставке. Официальная отставка была получена 26 мая 1862 г.
С. Н. Толстому. 1862 г. Августа 6.
Толстой Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Л. Н. Толстого.
1 Л. Н. Толстой вернулся из Самары в Ясную Поляну 31 июля.
2 Л. Н. Толстой^подозревал крапивенского помещика-крепостника В. И. Михалов-
Комментарии
534
ского, недовольного его деятельностью мирового посредника и жаловавшегося на него мировому съезду. В действительности же тайное наблюдение со стороны III Отделения было установлено за Л. Н. Толстым с января 1862 г., и вызвано оно было его педагогической деятельностью и преподаванием в его школе студентов, находившихся под наблюдением полиции.
С. А. Рачинскому. 1862 г. Августа 7
Рачинский Сергей Александрович (1833—1902) — ботаник, профессор Московского университета, много сил посвятил популяризации теории естественного отбора и переводу на русский язык книги Ч. Дарвина «Происхождение видов». С. А. Рачинский увлекался литературой, музыкой, изобразительным искусством. С Л. Н. Толстым он сблизился в доме Сушковых, хозяйка которого Дарья Ивановна была сестрой известного поэта Ф. И. Тютчева. Рано уйдя в отставку, С. А. Рачинский стал сельским учителем в родовом имении Та-тева на Смоленщине, затем способствовал развитию народного образования в других селах Бельского уезда.
1 В своем письме от 22 мая 1862 г. С. А. Рачинский высказывал согласие с педагогическими взглядами, утверждаемыми в журнале «Ясная Поляна».
2 А. К. Толстой — писатель.
3 А. 77. Толстой — обер-прокурор Синода.
4 С. А. Рачинский передавал просьбу профессора Йенского университета Карла Стоя выслать ему вышедшие номера «Ясной Поляны».
5 В. А. Рачинская. С. А. Рачинский описывал школу для крестьянских детей, открытую его сестрой.
6 Эта просьба не была выполнена С. А. Рачинским.
7 С. А. Рачинский спрашивал Л. Н. Толстого: «Откуда, в каких слоях общества почерпаете вы своих учителей?»
8 Написав сначала «Сергей Алексеевич», Л. Н. Толстой затем собственноручно исправил отчество на «Александрович».
А. А. Толстой. 1812 г. Августа 7
Письмо написано по свежим впечатлениям об обыске в Ясной Поляне.
1 А. К. Толстой был товарищем детства Александра П, а в 1855—1861 гг. его флигель-адъютантом.
2 А. А. Толстая в письме от 22 авгута 1861 г. высказывала сожаление по поводу того, что помещики не любят Л. Н. Толстого, и советовала ему проявлять «любовь к ближнему без различия сословий».
3 Сведений об этих судебных разбирательствах не имеется.
4 Письма В. В. Арсеньевой.
5 Письма М. А. Дондукова-Корсакова сохранились.
А. А. Толстой. 1863 г. Октября 17
Л.Н. Толстой в конце письма характеризует то положение, которое сложилось в Яснополянской школе после его женитьбы и нового литературного замысла, что привело школу к закрытию.
1 Griibeln (нем.) — письмо неизвестно.
2 Замысел, который привел впоследствии к созданию романа «Война и мир».
А. А. Толстой. 1865 г. Ноября 26...27
1 Письмо от 23 ноября 1865 г.
2 Карлом Ивановичем Толстой называет своего гувернера немца Федора Ивановича Ресселя, изображенного в «Детстве» и «Отрочестве».
3 Ф. И. Толстой, прозванный Американцем за свое путешествие на Алеутские острова. Дальний родственник Л. Н. и А. А. Толстых.
Комментарии
535
Н. Н. Страхову. 1872 г. Марта 3
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — литературный критик, философ-идеалист, близкий друг Л. Н. Толстого.
1 Письмо неизвестно.
2 «Переворот в науке» (Заря. 1872. № 3) — статья, написанная Н. Н. Страховым в связи с выходом книги Ч. Дарвина «Происхождение человека» (СПб., 1871).
3 Намек на работу над романом из эпохи Петра I.
4 Л. Н. Толстой обещал дать в «Зарю» один из рассказов «Азбуки». В ответном письме от 10 марта Н. Н. Страхов писал, что редакция журнала не может отказаться от сотрудничества Л. Н. Толстого, так как уже объявлено подписчикам, что в журнале будет напечатан его рассказ.
5 В январе 1872 г. в Ясной Поляне были организованы занятия с крестьянскими детьми, которые проводились Л. Н. Толстым, его женой и старшими детьми.
6 Н. Н. Страхов не ответил на этот вопрос.
7 С поэтом А. Н. Майковым Л. Н. Толстой познакомился в Петербурге в 1855 г.
Н. Н. Страхову. 1872 г. Марта 22, 25
1 Письмо неизвестно.
2 Повесть Н. М. Карамзина.
3 Досужих вымыслах (от фр. ^lucubration).
4 «Кавказский пленник» был выслан Л. Н. Толстым лишь 28 марта и напечатан во втором номере журнала.
А. А. Толстой. 1872 г. Апреля 6—8
1 La clart£ est la politesse de ceux qui veulent enseigner, s’adressant au public (фр,) — ясность — это вежливость тех, кто обращается со словами наставления к публике.
2 «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет».
И. Н. Страхову. 1872 г. Мая 19
1 Если я сказал что-либо такое, что вас раздражало.
2 Письмо неизвестно.
А. А. Толстой. 1872 г. Октября 26
1 Письмо 242.
2 Письмо от 3 октября.
3 Л. Н. Толстой находился в Москве с 27 по 31 октября.
4 Роман из эпохи Петра I.
5 Gauche (фр.) — неуклюж.
6 Violent (фр.) — порывист.
А. А. Толстой. 1873 г. Января конец—февраля начало
1 В декабре 1872 г. Л. Н. Толстой просил А. А. Толстую помочь А. Н. Бибикову и его братьям в хлопотах по узаконению их положения, поскольку отец официально женился на их матери уже после рождения старших сыновей.
2 Л. Н. Толстой просматривал «Войну и мир» в связи с подготовкой Собрания своих сочинений ( 1873 г. — 8 томов).
Комментарии
536
С. А. Рачинскому. 1877 г. Апреля 5
1 Письмо от 20 марта 1877 г., в котором С. А. Рачинский описывал свои педагогические занятия в деревенской школе и выражал благодарность Л. Н. Толстому за его «Азбуки», «Книги для чтения»: «Поверьте, что в Ваших школьных книгах есть та же доля сверхъестественного, т. е. творчества... как и в лучших Ваших романах».
2 С. А. Рачинский в письме от 17—18 апреля 1877 г. ответил на вопрос, «для чего нужны школы».
Н. Н. Страхову. 1879 г. Ноября 19...22 (неотправленное)
1 Письмо-исповедь от 17 ноября с откровенным и беспощадным анализом собственной личности.
2 Н. Н. Страхов сообщал, что, «задумавши писать о своей жизни», он испытывает «большие трудности».
Р. Роллану. 1887 г. Октября 3—4
1 Это письмо Ромен Роллан, в то время ученик Высшей нормальной школы в Париже, написал 4 (16) апреля 1887 г. (ЛН, т. 75, кн. I, с. 73—75). Он задавал Л. Н. Толстому ряд вопросов о смысле жизни, о «проблемах искусства», интересовался «сутью учения». Не получив на него ответа, он в сентябре вторично написал Л. Н. Толстому (ЛН, т. 31— 32, с. 1008—1009).
2 Трактат «Так что же нам делать?» был в 1887 г. переведен на французский язык.
3 Жан Батист Люлли — французский композитор, который мальчиком служил поваренком в одном аристократическом семействе.
4 Humbug (лат.) — вздор, шарлатанство.
5 Sin qua non (лат.) — непременное.
Н. Л. Толстому. 1895. Октября 16—19 (неотправленное письмо)
1 Н. Л. Толстому было тогда 16 лет.
2 Темные — термин С. А. Толстой; так называла она единомышленников Толстого, не принадлежащих к их общественному кругу.
3 Письмо не было отправлено адресату, так как Л. Н. Толстой нашел, что оно «слишком рассуждающее». Взамен было послано другое — от 27—30 октября.
Письмо неизвестной от 5 марта 1894 г.
В данной публикации Л. Н. Толстой развивает близкие ему мысли о том, что воспитание детей есть прежде всего самосовершенствование.
1 Fais се que dois, advienne que pourra (фр.) — Делай, что дблжно, и пусть будет, что будет.
А. И. Дворянскому. 1899 г. Декабря 13
1 Л. Н. Толстой отвечает на письмо от 20 октября студента, уволенного из университета за участие в студенческих волнениях и ставшего учителем и воспитателем 12-летнего мальчика. Дворянского интересовала проблема религиозного воспитания его ученика.
Библиография
Педагогические сочинения Л. Н. Толстого
Педагогические сочинения / Вступ. ст. С. А. Венгерова; Очерк лед. деят. Л. Н. Толстого и библиогр. указ. А. Г. Фомина. СПб., 1911.
Педагогические сочинения / Вступ. ст. С. А. Венгерова; Очерк лед. деят. Л. Н. Толстого и библиогр. указ. А. Г. Фомина. СПб., 1912.
Педагогические произведения: Первый и второй периоды. М., 1914.
Педагогические сочинения / Под ред. II. А. Буланже. М., 1914.
Педагогические высказывания Л. Н. Толстого / Сост. Н. Н. Гусев. М., 1928.
Педагогические сочинения / Под общ. ред. Е. Н. Медынского, Н. А. Константинова, Н. Н. Гусева; Сост. и авт. вступ. ст. В. А. Вейкшан. М., 1948.
Педагогические сочинения / Сост. и авт. вступ. ст. В. А. Вейкшан. М., 1953.
О народном образовании // Ясная Поляна. 1862. № 1.
О значении описаний школ и народных книг И Ясная Поляна. 1862. № 1.
О методах обучения грамоте И Ясная Поляна. 1862. № 2.
О свободном возникновении и развитии школ в народе И Ясная Поляна. 1862. № 2-Проект общего плана устройства народных училищ // Ясная Поляна. 1862. № 3. Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы И Ясная Поляна. 1862. № 1, 2,3,4. Воспитание и образование И Ясная Поляна. 1862. № 7.
Об общественной деятельности на поприще народного образования // Ясная Поляна. 1862. № 8.
Прогресс и определение образования // Ясная Поляна. 1862. № 9.
Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? И Ясная Поляна. 1862. № 9 (сент.).
Азбука (кн. 1—4). СПб., 1872.
Общие замечания для учителя И Азбука. Кн. 1. СПб., 1872.
Арифметика. Дроби. Кн. XI. СПб., 1874.
Руководство для учителя. Кн. XII. СПб., 1874.
Новая Азбука. М., 1875.
Первая русская книга для чтения. М., 1875.
Вторая русская книга для чтения. М., 1875.
Третья русская книга для чтения. М., 1875.
Четвертая русская книга для чтения. М., 1875.
Грамматика для сельской школы. И Поли. собр. соч.: В 90 т: Т. 21. М., 1957. С. 412— 543.
О народном образовании // Отечественные записки. 1874. сент.
О воспитании // Свободное воспитание. 1909. № 2 (нояб.).
Письмо Е. П. Ковалевскому. 12 марта 1860 г.
Письмо П. И. Бирюкову (май 1901 г.) // Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. Т. IV. М., 1912.
Правила для педагогических курсов // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 17. М., 1936.
Литература о Л. Н. Толстом1
Ленин В. И. Л. Н. Толстой, Л. Н. Толстой и современное рабочее движение, Толстой и пролетарская борьба, Герои «оговорочки», Л. Н. Толстой и его эпоха И Поли. собр. соч. Т. 20. С. 19—24, 38—41, 70—71, 90—95, 100—104.
Алексаполъская В. Французские критики о педагогических взглядах Л. Н. Толстого И Вестник воспитания. 1891. № 6.
Ар-в (Арканов). Педагогические взгляды цаших журналов И Ясная Поляна. 1862. Кн. XII. Отд. III.
1 Включена только часть работ о Толстом-педагоге и несколько работ о Т олстом-художнике.
Библиография
538
- Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого // Изб. философ, труды. Т. I. М., 1969. С. 40—101.
Ашевский С. «Ясная Поляна» Льва Толстого в критике 60-х годов И Русская школа. 1913. №10, 11.
Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. I. Гл. VI, VII. 3-е изд., испр., доп. М.: Пг., 1923.
Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. III. Гл. XI, XVI. М.; Пг., 1923.
Бирюков П, И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. IV. Гл. IV, XI, XIV. М.; Пг., 1923.
Бобровская С. По поводу статьи Л. Толстого «О народном образовании» И Народная школа. 1875. № 2.
Бунаков Н. Письмо к редактору по поводу статьи Л. Толстого // Семья и школа. 1874. №10.
Вейкшан В. А. Л. Н. Толстой о свободном воспитании.
Вейкшан В. А. Л. Н. Толстой о воспитании и обучении. М., 1953.
Вейкшан В. А. Л. Н. Толстой — народный учитель. М., 1959.
Величкина В. М. Учебники прогрессивных педагогов для народной школы И Советская педагогика. 1987. № 12.
Ветлугин А. Толстой о мотивах и стимулах учения И Народное образование. 1978. №9.
Ветлугин А. Лев Толстой о народном учителе И Начальная школа. 1978. № 9.
Вентцелъ К. В чем основа воспитания и образования: (По поводу статьи Л. Толстого «О воспитании») // Русская школа. 1910. № 7—8.
Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы Василия Степановича Морозова. М., 1917.
Выготский Л. С. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка // Избр. психол. иссл. М., 1956. С. 51, 217—220, 319, 330.
Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. 2-е изд. М., 1967. С. 42—47, 55.
Глебов Ив. Новый взгляд на народное образование // Воспитание. 1862. № 4.
Годнее Д. Педагогические воззрения Л. Н. Толстого // Русская школа. 1907. №1,2
Годнее Д. Г К вопросу об эволюции педагогических взглядов Л. Н. Толстого // Учен, зап. Куйбышевского гос. пед. и учит, ин-та им. В. В. Куйбышева. 1938. Выл. 2.
Гэнчаров Н. К. Педагогические идеи и практика Л. Н. Толстого // Историко-педагогические очерки. М., 1963.
Гончаров И. К. Л. Н. Толстой — педагог-гуманист // Советская педагогика. 1978. №9.
Грунский Н. К. Педагогические взгляды Л. Н. Толстого. Юрьев (Тарту), 1914.
Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии (1828—1855). М., 1954.
Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии (1855—1869). М., 1957.
Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого (1828—1890). М., 1958.
Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого (1891—1910). М., 1960.
Днепров В. Д. Искусство человековедения. Л., 1985.
Досычева Е. Педагогика и поэтика в статье Л. Н. Толстого «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» И Просвещение. 1922. №2.
Дурылин С. Л. Н. Толстой как школьный учитель И Свободное воспитание. 1910— 1911. №6.
Дурылин С. Педагогика Л. Н. Толстого в оценке болгарского профессора И Свободное воспитание. 1910—1911. № 6.
Евтушевский В. Ответ на статью Л. Толстого «О народном образовании». СПб., 1874.
Библиография
539
Жук И. Г. Проблемы формирования эстетического потребностей в педагогической теории и практике Л. Н. Толстого И Тр. Новосиб. гос. пед. ин-та. 1973. Вып. 81.
Жук Й. Г. К вопросу формирования нравственных потребностей в педагогической теории Л. Н. Толстого//Тр. Новосиб. гос. пед. ин-та. 1974. Вып. 109.
Зайденшнур Э. И. Произведения народного творчества в педагогике Л. Н. Толстого // Яснополянский сборник. Тула, 1955.
Золотарев С. Дети в посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого И Русская школа. 1913. Кн. 11.
Илъминский Н. И. Ясная Поляна, или Новый метод школьного учения: По поводу статьи Протопопова «Ясная Поляна за март 1862 года» // Воспитание. 1862. '№ 8.
Кемниц Е. Педагогическое обозрение // Учитель. 1864. Т. IV. № 23—24.
Коноплев Н. К. Л. Н. Толстой о народном учителе // Советская педагогика. 1938. № 12.
Константинов Н. А. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой — педагог народной школы // Начальная школа. 1945. № 10—И.
Константинов Н. А. Педагогическая деятельность и взгляды Л. Н. Толстого // История педагогики. М., 1974.
Кревин Э. П. Педагогические идеи Л. Н. Толстого и Ж.-Ж. Руссо И Педагогический листок. 1913. № 3.
* Кросби Э. Л. Н. Толстой как школьный учитель: Пер. с англ. М., 1908.
Крупская Н. К. Л. Толстой в оценке французского педагога // Вопросы народного образования. М., 1923.
Крупская И. К. О Льве Толстом: Воспоминания И На путях к новой школе. 1928. № 9.
Леонов Л. М. Слово о Толстом И Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. М., 1961.
Ломунов К. Лев Толстой в современном мире // Современник. М., 1975.
Ломунов К. Н. Философская концепция жизни и человека в творчестве Л. Н. Толстого И Советско-японский симпозиум по литературоведению. М., 1983.
Лозинский Е. Новые мысли Льва Толстого о воспитании и образовании // Вестник воспитания. 1913. № 1.
Марков Е. Теория и практика Яснополянской школы: Педагогические заметки тульского учителя // Русский вестник. 1862. Т. XXXIX. № 5.
Марков Е. «Живая душа» в школе: Мысли и воспоминания старого педагога И Вестник Европы. 1900. № 2.
Медников Ф. О народном образовании гр. Л. Н. Толстого // Народная школа. 1875. Ml.
Медынский Е. Н. Педагогические идеи и деятельность Л. Н. Толстого // Очерки по истории педагогики. М., 1962.
Михайловский Н. К. Десница и шуйца Льва Толстого: Литературно-критические статьи. М., 1957.
Михайловский Н. К. Записки профана // Отечественные записки. 1875. № 1, 5, 6, 7.
Овсянников М. Ф. Социально-философские и эстетические взгляды Л. Н. Толстого // Вопросы философии. 1978. № 3.
Охочекоменный К. «Ясная Поляна», журнал педагогический, издаваемый Л. Толстым (№ 1) И Библиотека для чтения. 1862. № 3.
Петров А. К. Лев Николаевич Толстой // Педагогическая энциклопедия. Т. 4. М., 1968.
Писарев Д. Промахи незрелой мысли И Русское слово. 1864. № 12.
Протопопов С. «Ясная Поляна» за март 1862 г. И Воспитание. 1862. Т. XII. Кн. 8.
Протопопов С. По прочтении 4-й, 5-й и 6-й книжек журн. «Ясная Поляна» и нескольких книжек приложения к ним (1-й, 2-й, 5-й, 6-й и 7-й) // Воспитание. 1863. Т. XIII. Кн. 1.
ПыпинА. Н. Наши толки о народном воспитании И Современник. 1863. Т. XIV. № 1.
Равкин 3. И. Проблемы духовного развития личности ребенка в педагогическом наследии Л. Н. Толстого И Советская педагогика. 1978. № 9.
Радина К. Д., Малъковская Т. Н. Развитие творческой личности ребенка в педагогической системе Л. Н. Толстого И Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1970. Т. 377.
Сальников Ю. На гребне педагогических споров И Прометей. 1980. № 12.
Серебренников А. П. Л. Н. Толстой о курсах для подготовки народных учителей И Со-
Библиография
540
встская педагогика. 1938. № 12.
СиницкийЛ. Педагогические идеи Л. Н. Толстого И Вестник воспитания. 1910. № 9.
Смирнов В. 3. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Л. Н. Толстого И История педагогики. М., 1951.
Смирнов Н. Лев Толстой — редактор журнала «Ясная Поляна». Тула, 1972.
Спиридонов В. С. Л. Н. Толстой на суде цензуры и критики шестидесятых годов И Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1940. Т. IV. Вып. 2.
Степанец В. Л. Н. Толстой как педагог. Вильйо, 1912.
Страхов Н. Новая школа // Время. 1863. № 1.
Страхов Н. Обучение народа И Гражданин. 1874. № 48, 50.
Струминский В. Я. Л. Н. Толстой в истории русской педагогика И Советская педагогика. 1940. № 11—12.
Струминский В. Я. Журнал «Ясная Поляна» Л.Н. Толстого И Советская педагогика. 1942. №1,2.
Сыркина О. Е. Л. Н. Толстой и «Свободное воспитание» // Советская педагогика. 1938. № 12.
Толстой Илья. Мои воспоминания. М., 1914.
Толстых В. И. Таинство духовной жизни личности И Литературная учеба. 1982. № 4.
Толстых В. И. Человек человечества // С чего начинается личность. М. 1983.
Тулупов Н. В. Толстой как педагог. М., 1911.
Уткина Н. Ф. Проблемы науки и мировоззрения в творчестве Л. Н. Толстого И Вопросы философии. 1978. № 9.
Фомин А. Г. Памяти Толстого И Воспитание и обучение. 1911. № 1.
Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., 1978.
Чернышевский Н. Г. «Ясная Поляна» // Современник. 1862. Т. XCII. № 3.
Чехов Н. В. Лев Толстой и его учебные книги И Просвещение на Урале. 1928. № 7, 8.
Чехов Н. В. «Азбука» и «Книги для чтения» Л. Н. Толстого // Народный учитель. 1928. №9.
Чехов Н. В. Лев Толстой и его борьба за грамоту И За грамоту. 1928. № 9.
Чуприна И. В. Нравственно-философские искания Л. Толстого в 60-е и 70-е годы. Саратов, 1974.
Шацкий С. Толстой-педагог // Народный учитель. 1928. №9.
Э-г-м-т [Чумиков А. А.] Педагогические 'парадоксы (по поводу статьи Л. Толстого «Воспитание и образование») И Воспитание. 1862. Т. XII. Кн. 12.
Указатель имен
Абрамов Ф. А. 526
Августин 57
Аврелий М. 456, 460
Аквинский 253
Аксаков 308, 309
Аксаков И. С. 510
Аксаков К. С. 510
Александр Македонский 86, 186,213, 453, 468
Анненков П. В. 19
Антонович М. А. 221
Аристотель 56, 57, 59, 261, 355, 422
Арсеньева В. В. 527
Асмус В. Д. 22
Афанасьев А. Н. 152, 153, 157, 517
Бако 38
Бах И. 415
Белинский В. Г. 216, 221
Белль Э. 514
Берс С. А. (см.: То пегая С. А.)
Берте Н. 186, 516
Бетховен Л. 191, 192, 415
Биернадский 185
Бирюков П. И. 445, 524
Бокль Г. 222, 257, 264
Боткин В. П. 473, 527
Бортнянский Д. С. 200
Брамс И. 436
Буланже П. А. 17
Булгаков В. Д. 24
Булгаков В. Ф. 451, 526
Бунаков Н. Ф. 294, 297—302, 304, 306, 307—309, 314, 315, 317, 321, 520, 523
Бьюфон 132
Бэкон Ф.59,355, 513
Бюхнер 222
Вагнер 436
Вергилий М. 56
Веселовский К. С. 516
Водовозов В. И. 158, 169, 175, 517
Вольтер 415
Галилей Г. 395
Гартман 396
Гаузер К. 421
Гебель И. 60, 513
Гегель Г. 57, 248, 413, 414, 513 ‘
Гельмгольц Г. 356
Герцен А. И. 222, 476
Гёте И. 415, 416
Глебов И.516
Гнедич 157
Гоголь Н. В. 145, 154, 157, 160, 259, 481
Головин 519
Голохвостов ГГ Д. 15
Гомер 261, 415
Гончаров И. А. 9
Горький М. 17
Гракхи 186, 518
Грановский Т. К. 132
Грубе А. 185, 186, 243—245,247,306,307,
518
Гусев Н. Н. 14, 15, 523
Гуттенберг И. 186, 518
Гутчисон 415
Гюйо Ж. 414
Давыдов В. В. 28
Даль В. И. 260, 510
Данилевский 482
Данте А. 415
Дараган А. М. 317, 523
Дарвин Ч. 418
Дворянский А. И. 506, 530
Денцель 311
Державин Г. Р. 259
Дидро Д. 415
Дистервег А. 206, 311, 511
Днепров В. 17
Дондукова-Корсакова М. А. 527
Достоевский М. М. 516
Достоевский Ф. М. 516
Дурново И.Н. 477
Дюма А. 56
Евтушевский В. А. 297—302, 305—307,
309, 315, 523
Ергольская Г. А. 8
Ершов П. П. 86, 153
Жорж Занд (см.: Санд Ж.)
Золотов В. А. 74, 158, 317, 514
Ишимова А. О. 175, 517
Кант И. 19, 57, 59, 233, 299, 456, 512
Кайданов 186
Карамзин Н. М. 154, 157, 529
Келлер Г. Ф. 518
Ковалевский Е. П. 10, 46—49, 511
Кольцов А. В. 517
Конт О. 355
Коперник Н. 395
Королев Ф.Н. 523
Корф Н. А. 523
Крылов И. А. 158
Ланкастер Д. 514
Ленин В. И. 6, 8, 16, 521
Леонов Л. М. 31
Лермонтов М. Ю. 481
Указатель имен
542
Ломунов К. Н. 16, 17, 521
Лошкарев С. С. 519
Льюис 216, 222
Люлли Ж. 493
Лютер М. 38, 56,186, 216, 251, 252, 509
Майков А. Н. 481, 529
Маколей Т. 186, 216, 255, 518
Марков Е. Л. 11, 248, 250, 252, 253, 255, 256, 265—267, 270, 271, 517, 520, 521
Маркс К, 8, 23
Молешот 222
Морозов В. С. 15, 30, 293—296, 323, 324
Морозов П. В. 518
Мутер 416
Некрасов Н. А. 9
Ньютон 71
Ободовский А. Н. 9
Огарев Н. П. 222
Островский А. Н. 9
Охочекоменный К. 516
Пальмерстон Г. 258, 517
Паульсон 244
Пашковский К. И. 518
Перевлесский П. М. 236, 238, 241, 243,
313, 523
Перовский 476
Песталоцци И. 38, 39, 62, 84, 232—236, 243, 251, 311, 314, 509, 511, 516
Писарев Д. И. 222
Писемский А. Ф. 516
Платон 58, 59, 193, 299, 422, 431, 513
Плутарх 36
Погодин М. П. 169, 517
Протопопов М. А. 239—296, 301, 308,
312, 313, 316, 323, 324, 523
Прудон П. 40, 52, 511
Пушкин А. С. 152,153,157,191,192, 259, 481
Рафаэль 415
Рачинская В. А. 528
Рачинский С. А. 474, 489, 528, 530
Риль 39
Роллан Р. 491, 530
Руссо Ж.-Ж. 19, 38, 59, 233, 251, 252, 456, 509
Рылеев К. Ф. 222
Санд Ж. 158
Семенов Д. Д. 14
Сенковский О. И. 516
Сковорода Г. С. 456
Смарагдов С. Н. 77, 514
Смирдин А. Ф. 516
Смирнов Н. 11
Снегирев 158, 271
Сократ 261, 422, 456, 460
Соловьев 259
Софокл 415
Спенсер Э. 356, 418
Спиноза Б. 19
Страхов Н. Н. 481, 482, 484, 487, 489, 529, 530
Тацит 132, 186
Тициан В. 415
Толстая А. А. 12, 13, 471, 475, 478, 479, 483, 484, 487, 518, 527, 528—530
Толстая С. А. 12,14
Толстой А. К. 476, 528
Толстой А. П. 528
Толстой М. Л. 498
Толстой Н. Л. 530
Толстой С. Н. 473, 527
Толстой Ф. И. 529
Толстой В. И. 19
Тургенев И. С. 9, 259
Тьерри О.186,188, 518
Ушинский К. Д. 308, 312
Фейербах Л. 222
Фет А. А. 13
Фихте И. 19, 57, 413, 513
Фохт К. 134
Фрёбель Ф. 58, 513
Фурье Ж. 40
Хемницер И. И. 94
Хомяков А. С. 510
Худяков И.А. 152, 153, 157, 517
Цицерон 56
Чернышевский Н. Г. 9, 221, 473
Чертков В. 525
Чичерин Б. Н. 472, 527
Чумиков А. 516
Шапошников И. Н. 514
Шатилов И. Н. 293, 523, 526
Шекспир У. 253, 415, 416
Шеллинг Ф. 233, 413, 414
Шиллер И. 251, 418
Шлейермахер Ф. 58, 513
Шопенгауэр А. 396, 413
Штраус Р. 436
Щербинин М. 519
Энгельс Ф. 8, 23
Эпиктет 456, 460
Содержание От составителя 5
/ Лев Толстой как педагог 6
К публике 23^
/««•’Педагогические заметки и материалы С Зз)
задачах педагогии о/
' Проект устава учебных заведений ^40'
Сельский учитель 44
Письмо Е. П. Ковалевскому 46
[Письмо неизвестному о немецких школах] Вступление QoJ
О значении народного образования cSg
Объявление об издании «Ясной Поляны» народном образовании (Sty-
По поводу передовой статьи «Ясной Поляны»
4 О значении описаний школ и народных книг 72
О методах обучения грамоте 74
О свободном возникновении и развитии школ в народе 89
Проект общего плана устройства народных училищ 104
Ответ критикам 130
О языке народных книжек 130
' Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы СЦт'
v Дневник Яснополянской школы за 1862 г. 201
/ ^Воспитание и образование
Об общественной деятельности на поприще народного образования
Прогресс и определение образования 1
; Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у
/ нас или нам у крестьянских ребят? (27$
-А Общие замечания для учителя
О народном образовании ^92
Правила для педагогических курсов 340
А/)О жизни
Что такое искусство?
Из письма П. И. Бирюкову, май 1901 г.
«г Мысли о воспитании
О воспитании <
О науке
Беседы с детьми по нравственным вопросам Qmr
** О наказаниях и насилии в воспитании к д7б
Письма 477
Комментарии 515
Библиография 537
Указатель имен 541
Научное издание
Лев Николаевич Толстой
Педагогические сочинения
Составитель
Наталья Владимировна Вейкшан (Кудрявая)
Зав. редакцией Ю. В. Василькова
Редактор Е. А. Ляпидевская
Художник Е. И. Романов
Художественный редактор Е. В. Гаврилин
Технические редакторы Е. А. Ревич, С. Н. Жданова
Корректоры В. Н. Рейбекель, А. И. Сорнева t
ИБ № 1308
Сдано в набор 21.07.88. Подписано в печать 30.03.89.
Формат 60 x 907^. Бумага офс. № 2. Печать офсетная. Гарнитура тайме.
Усл. печ. л. 34,0 + 0,25 ф. Уч.-изд. л. 41,27 + 0,23 ф. Усл. кр.-отт. 41,27.
Тираж 40 000 экз. Зак. № 2374. Цена 2 р. 20 к.
Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
107847, Москва, Лефортовский пер., 8
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.